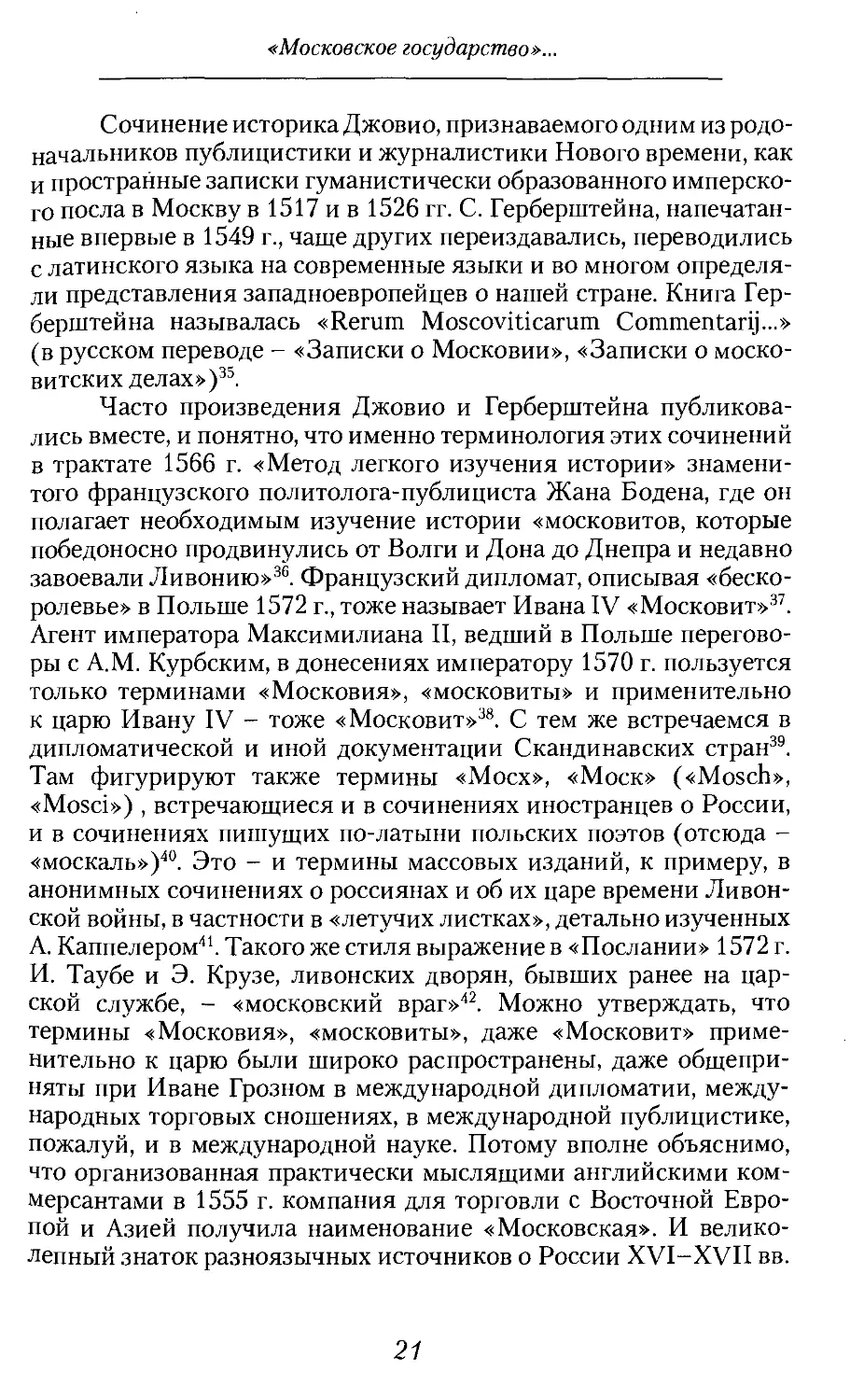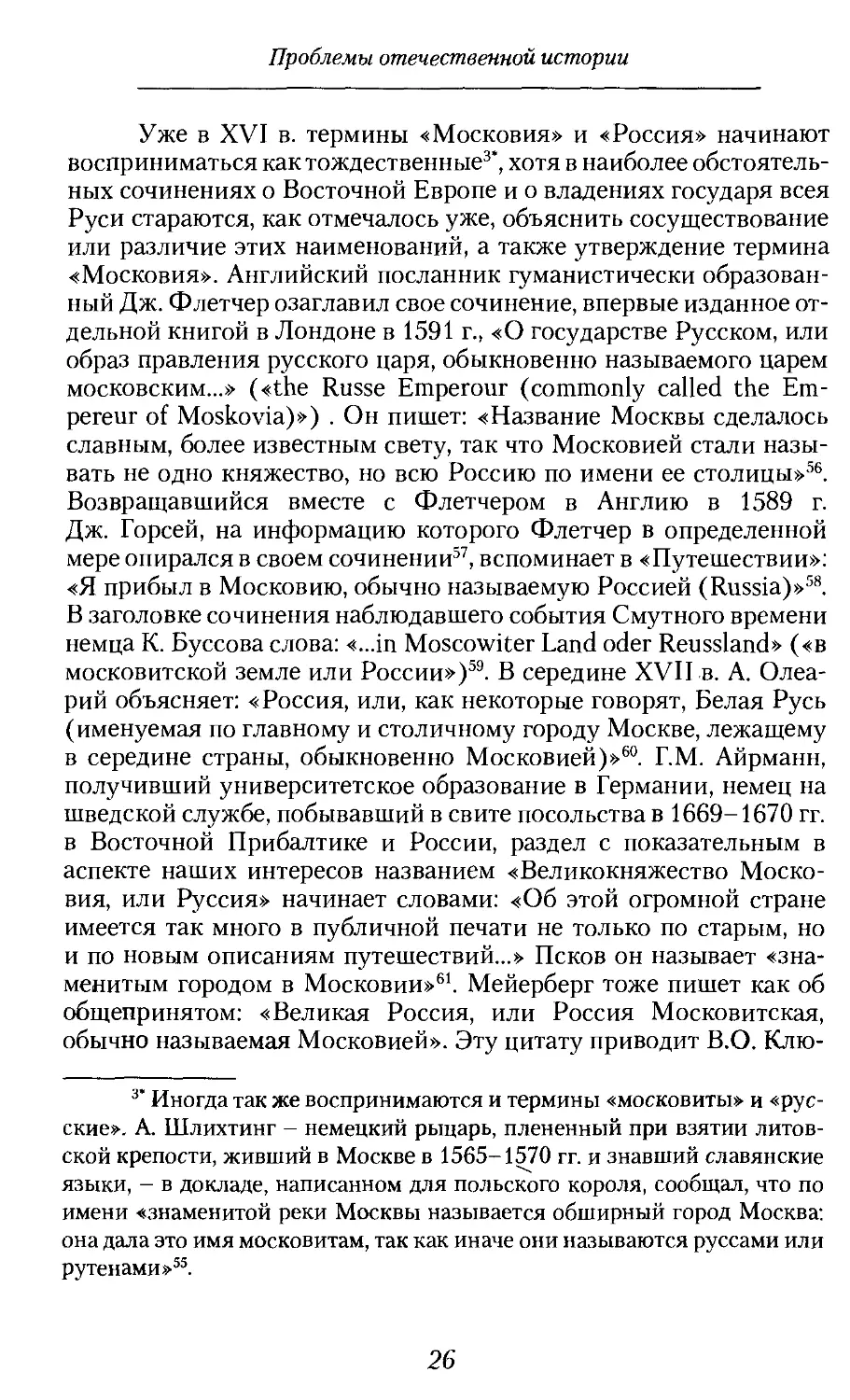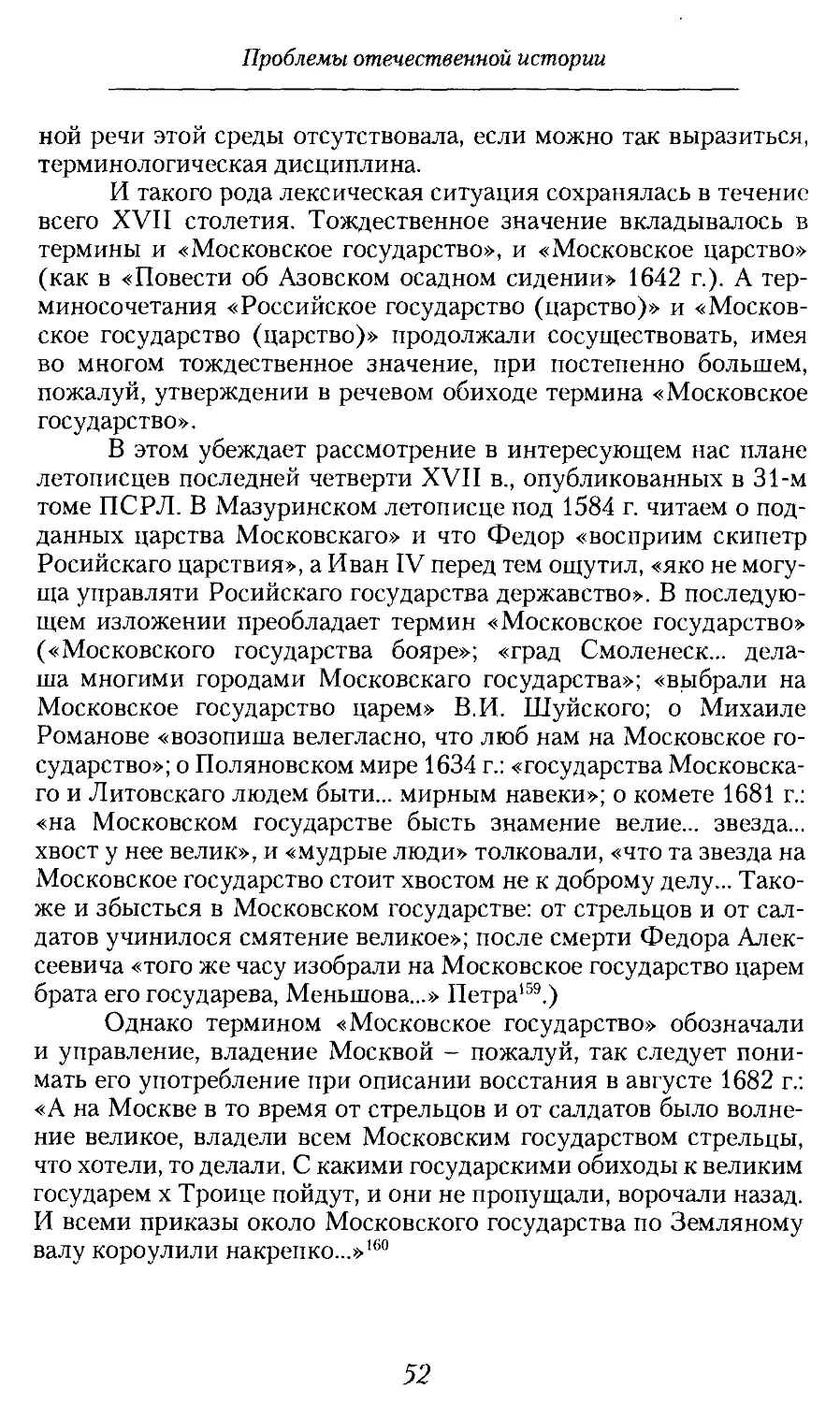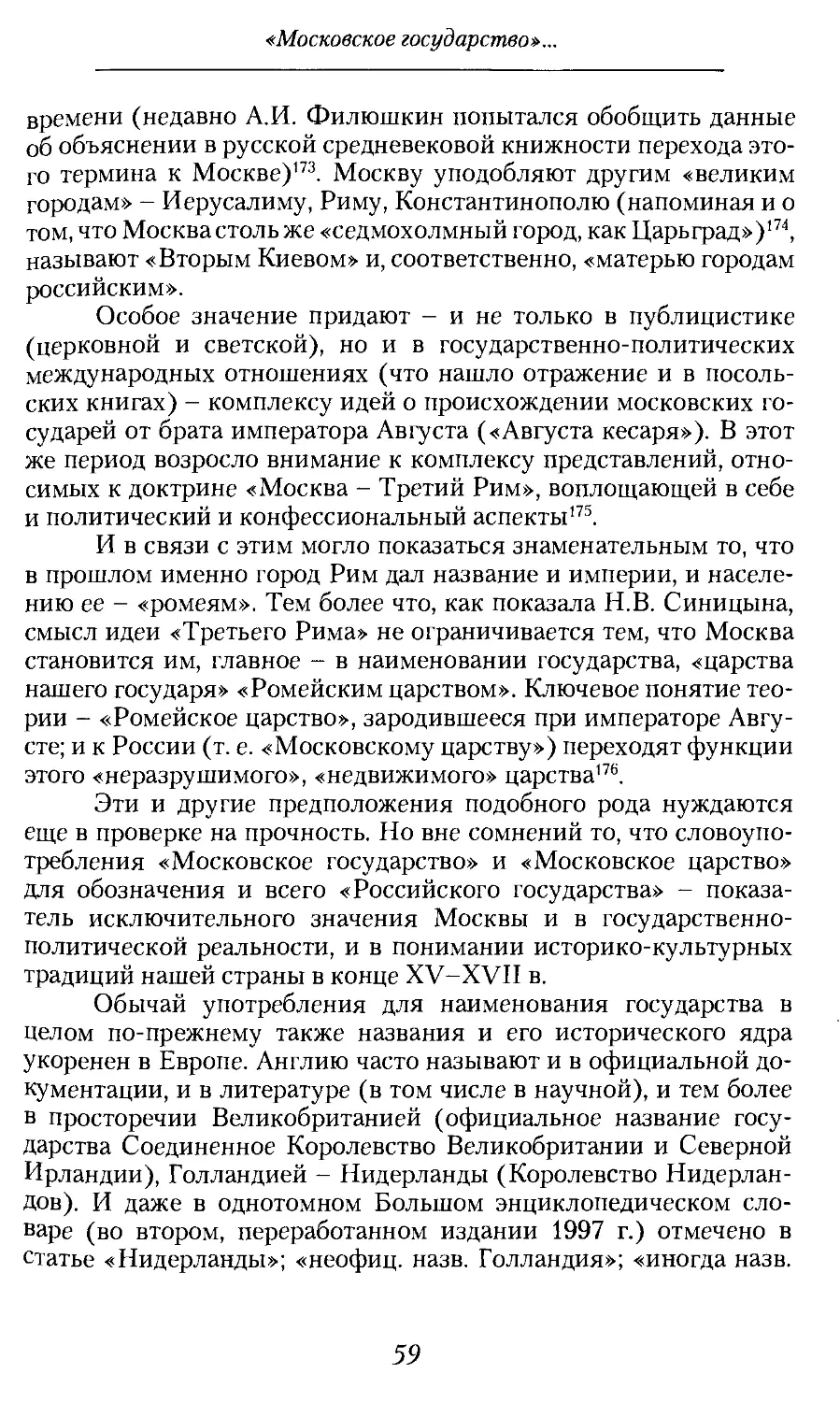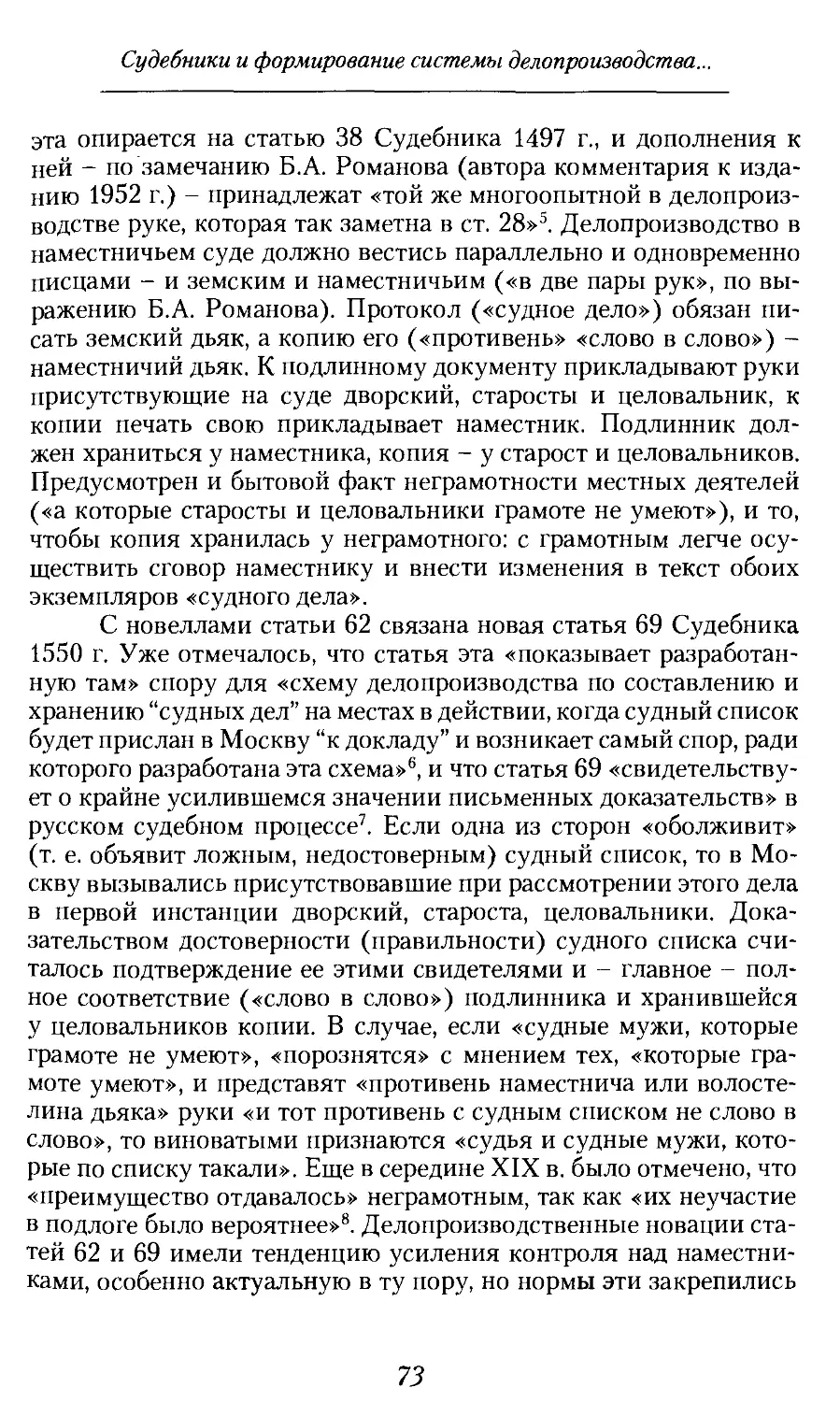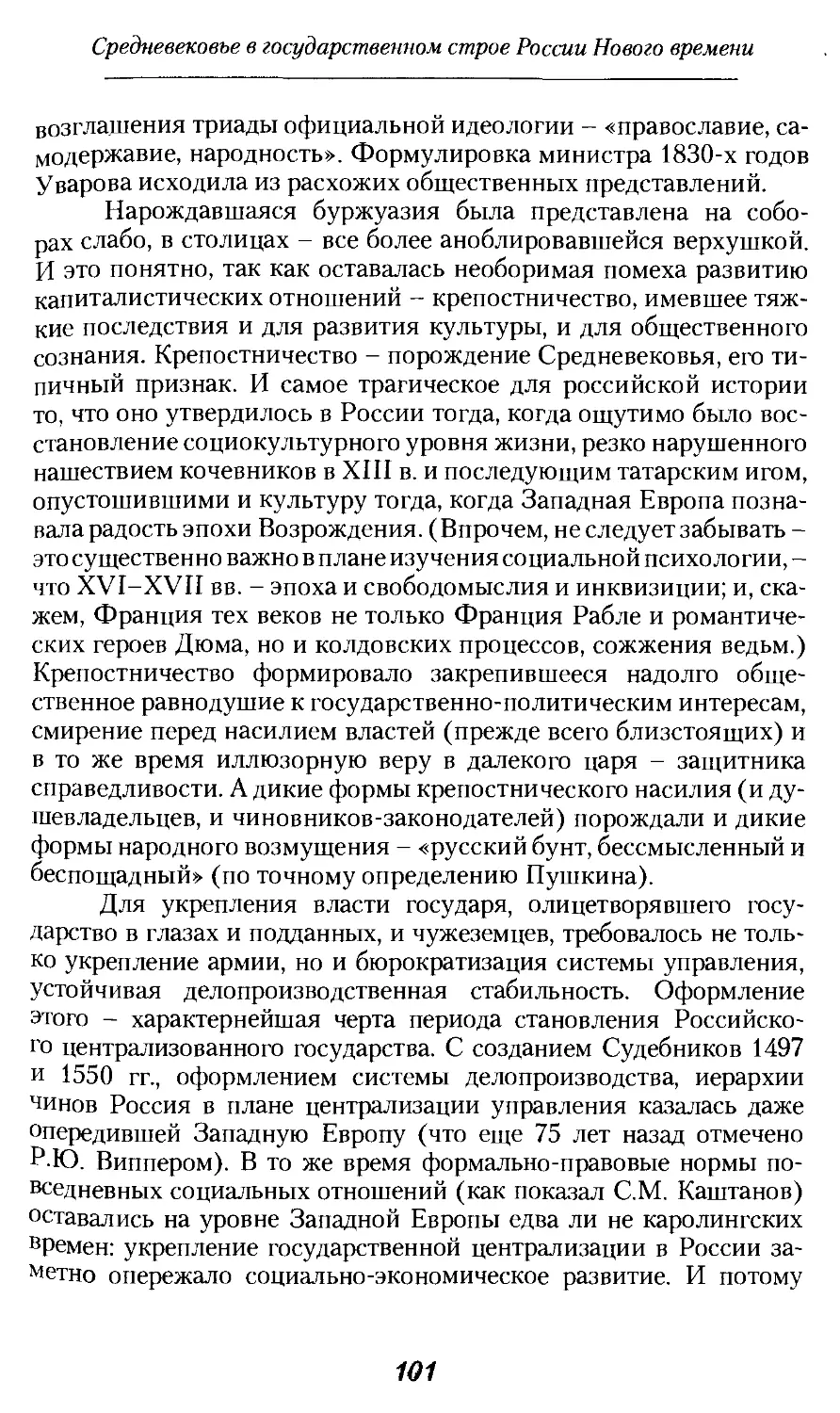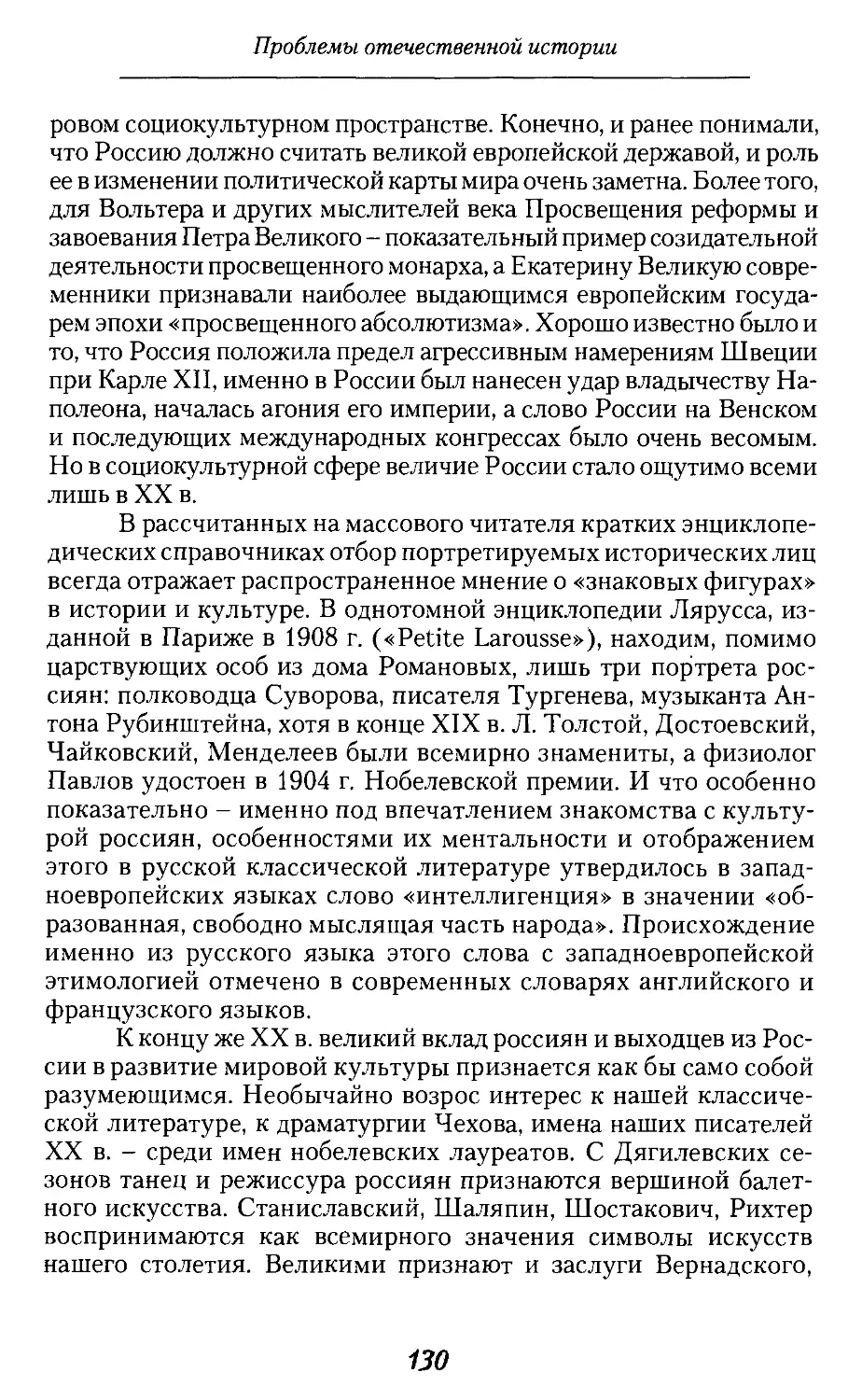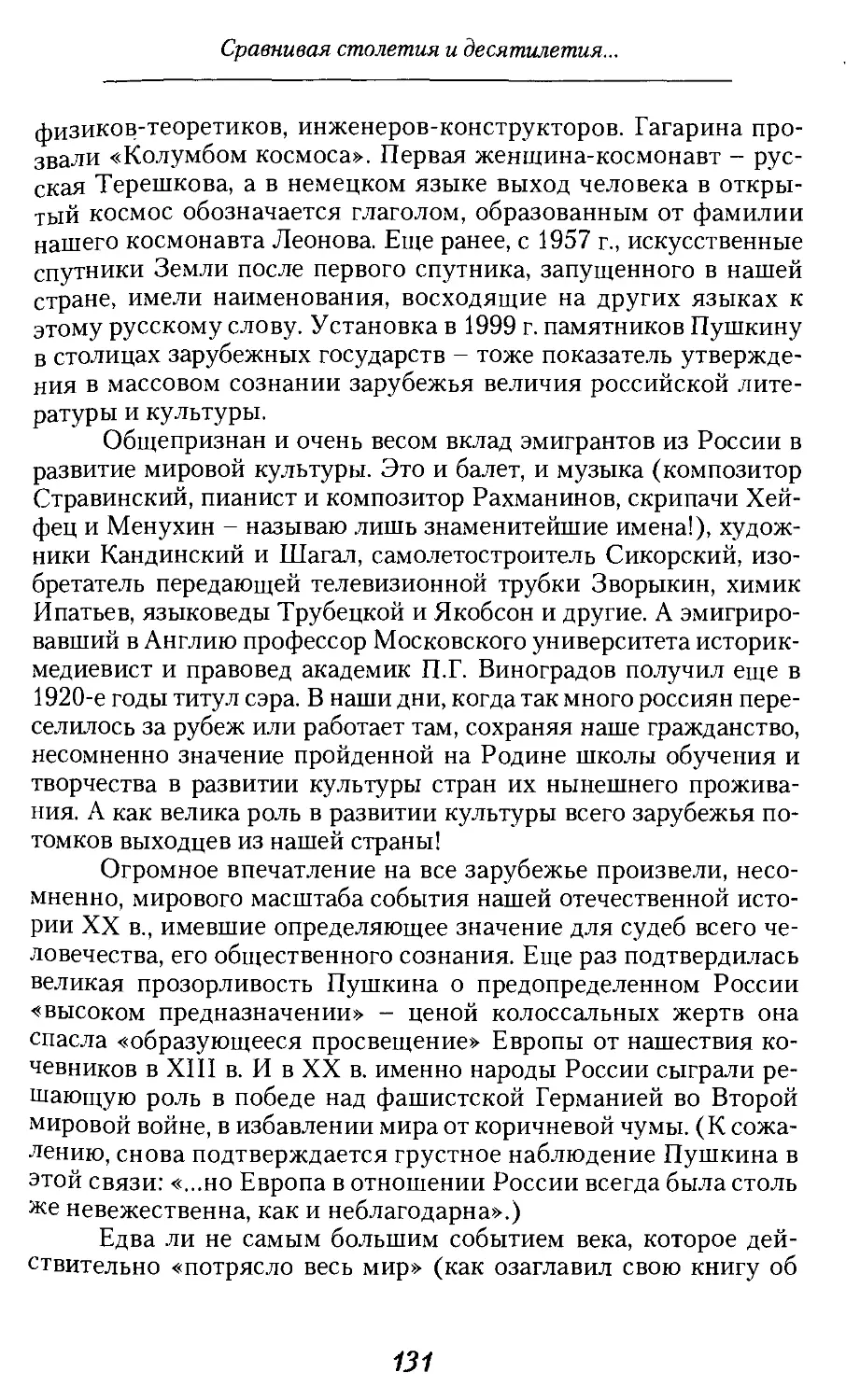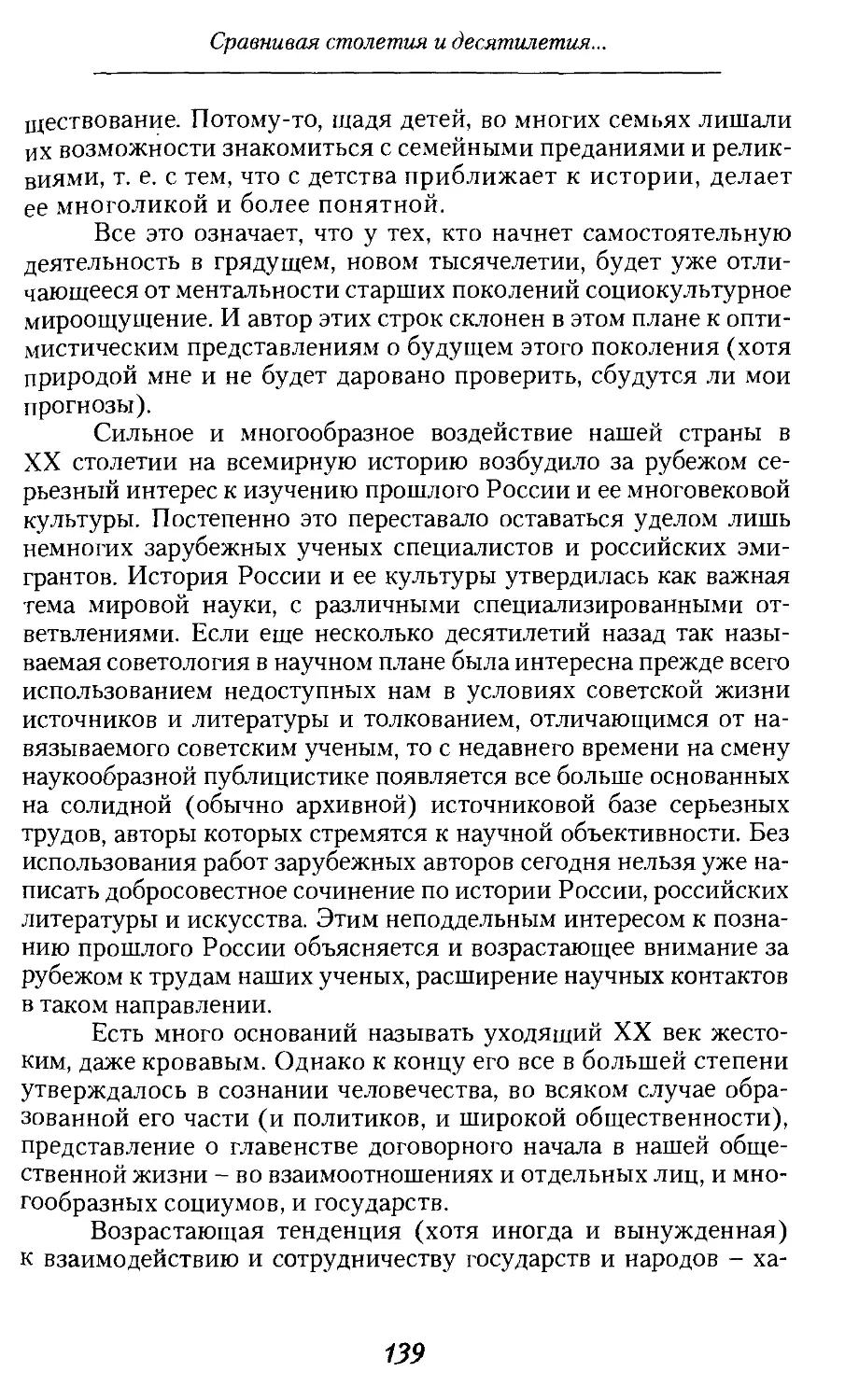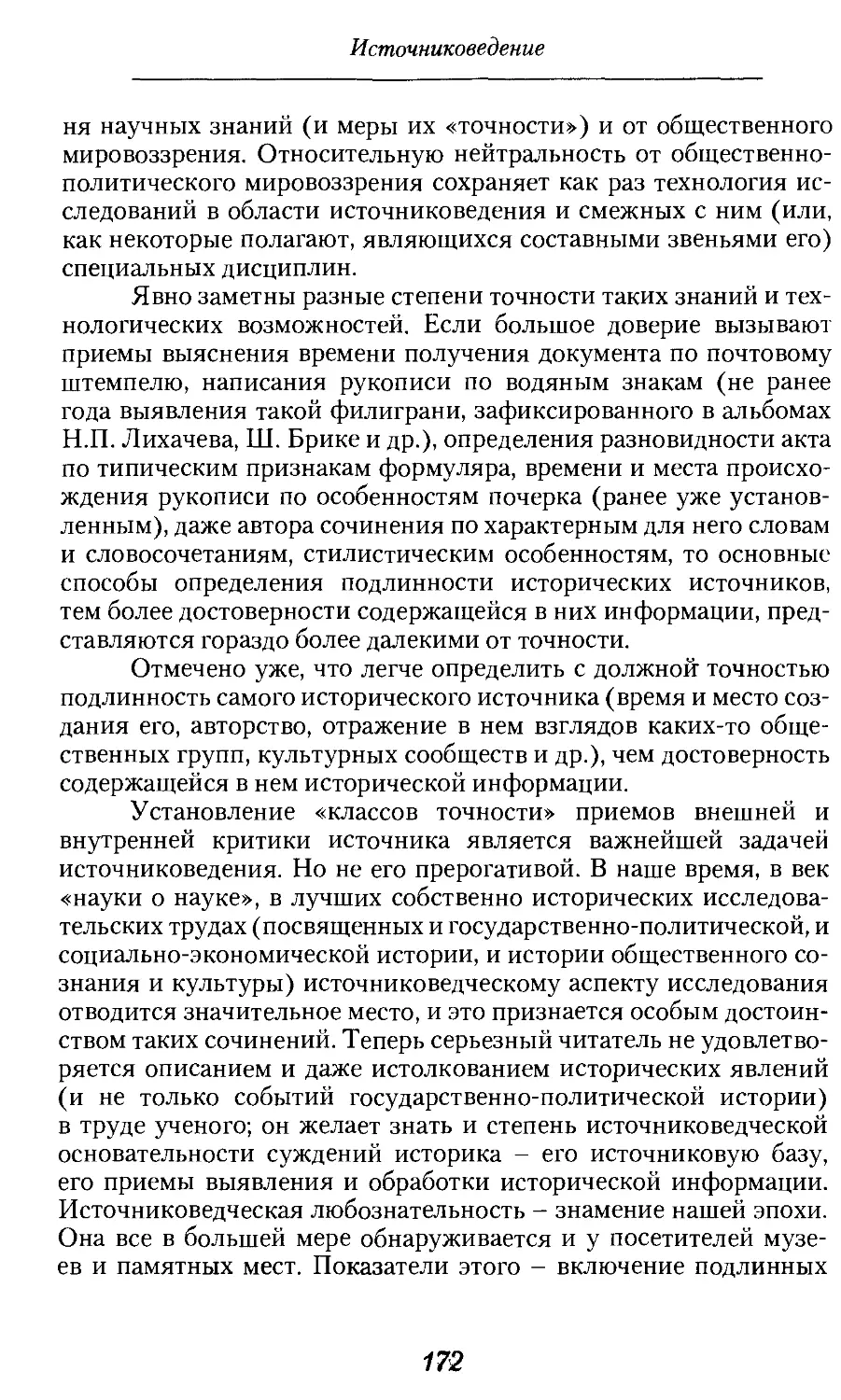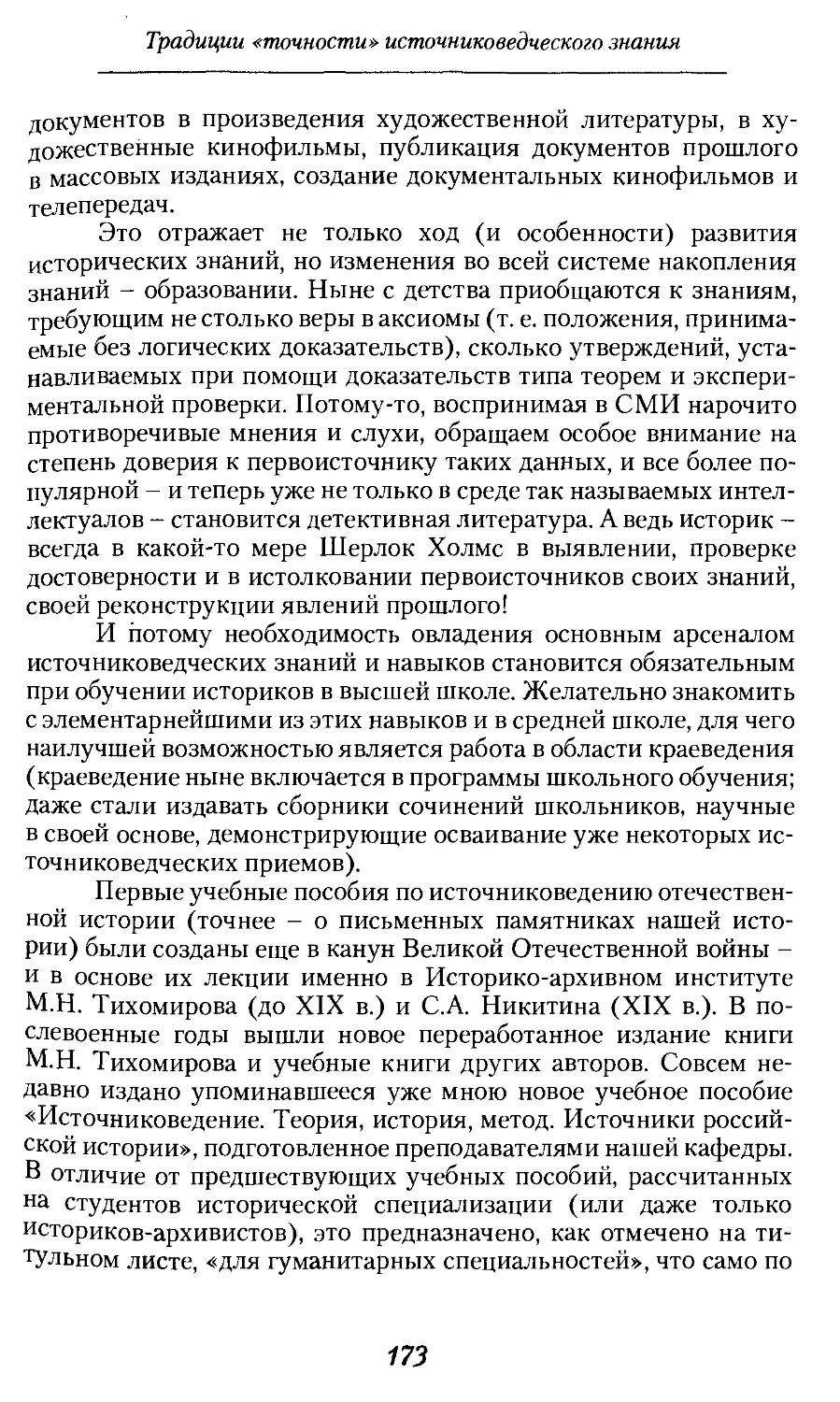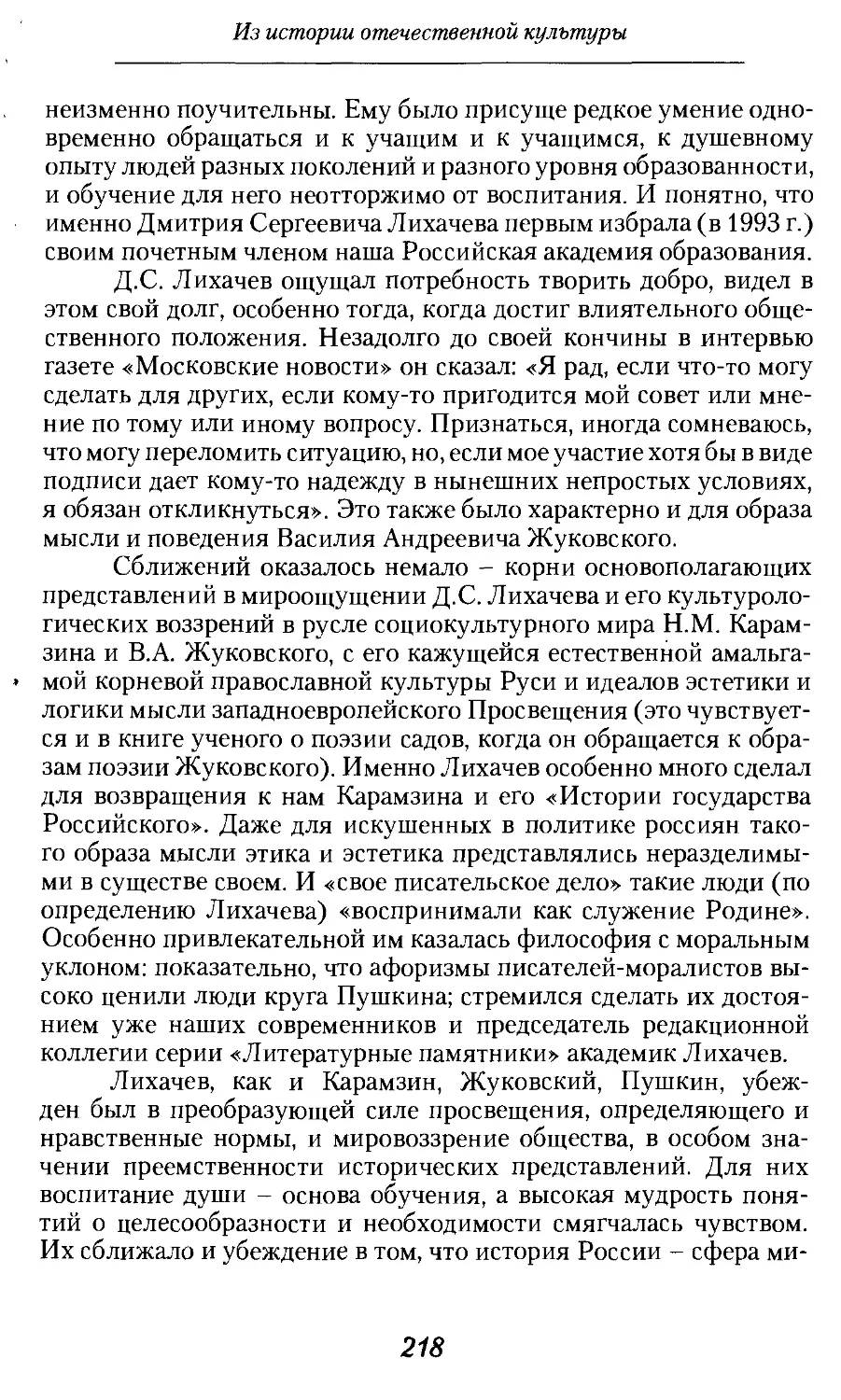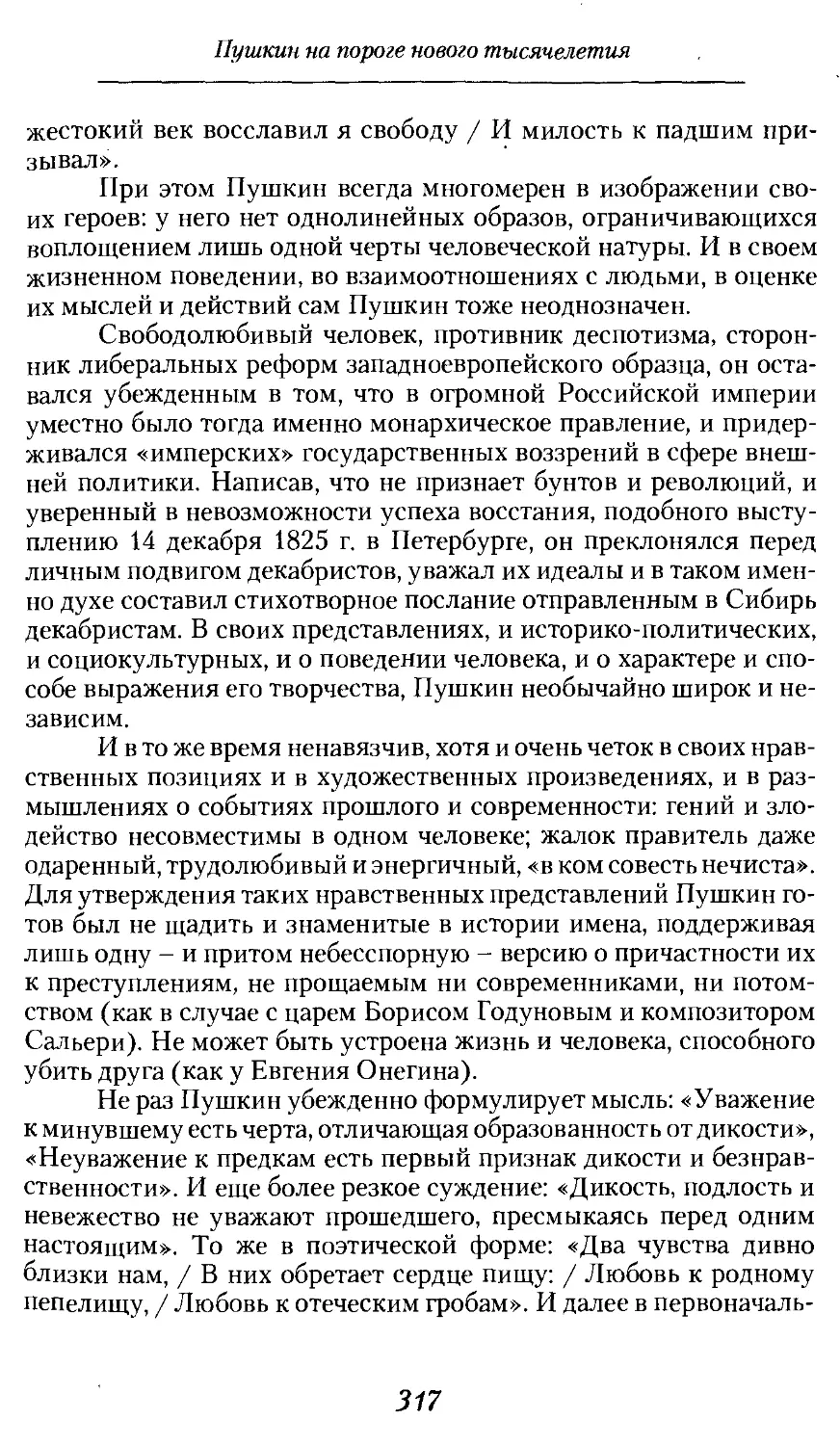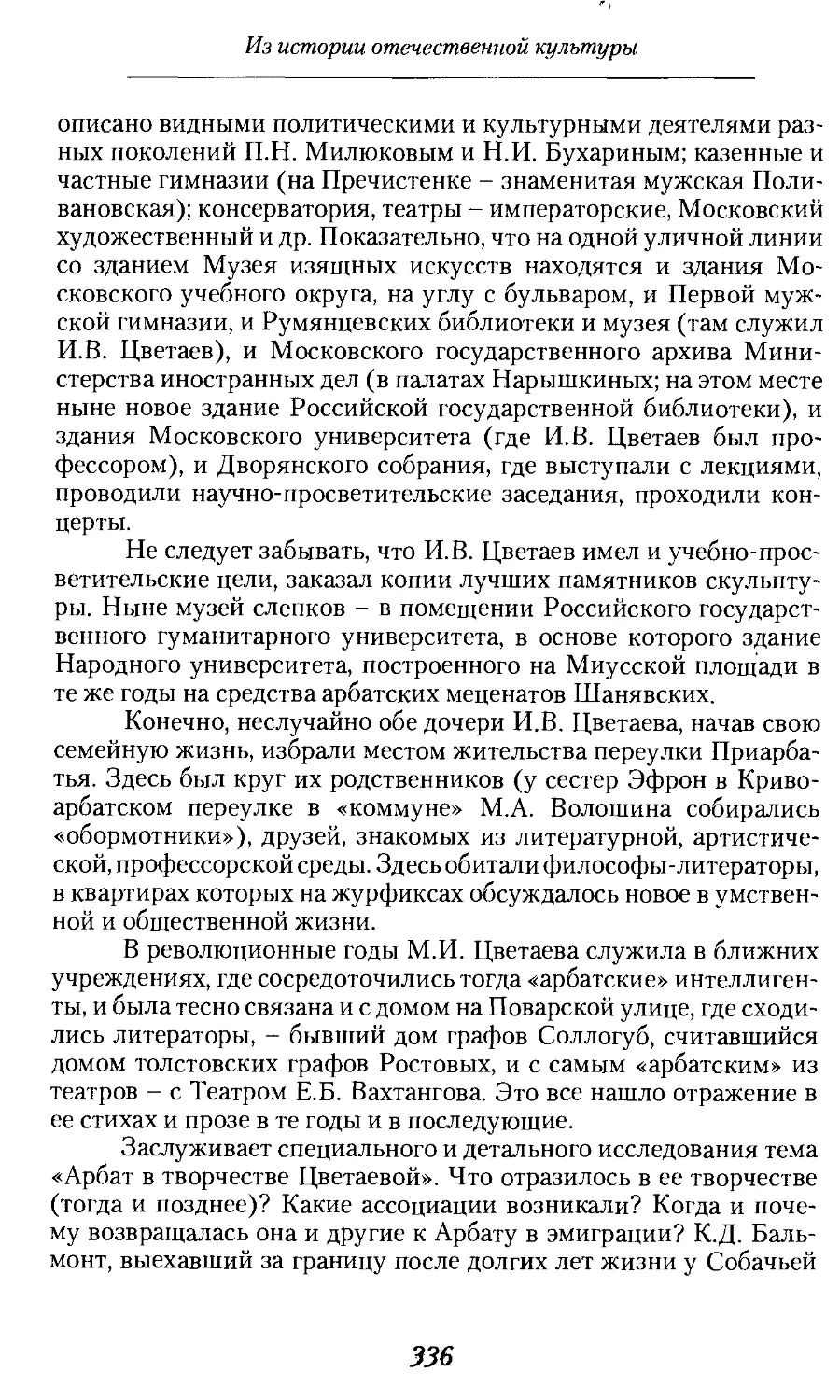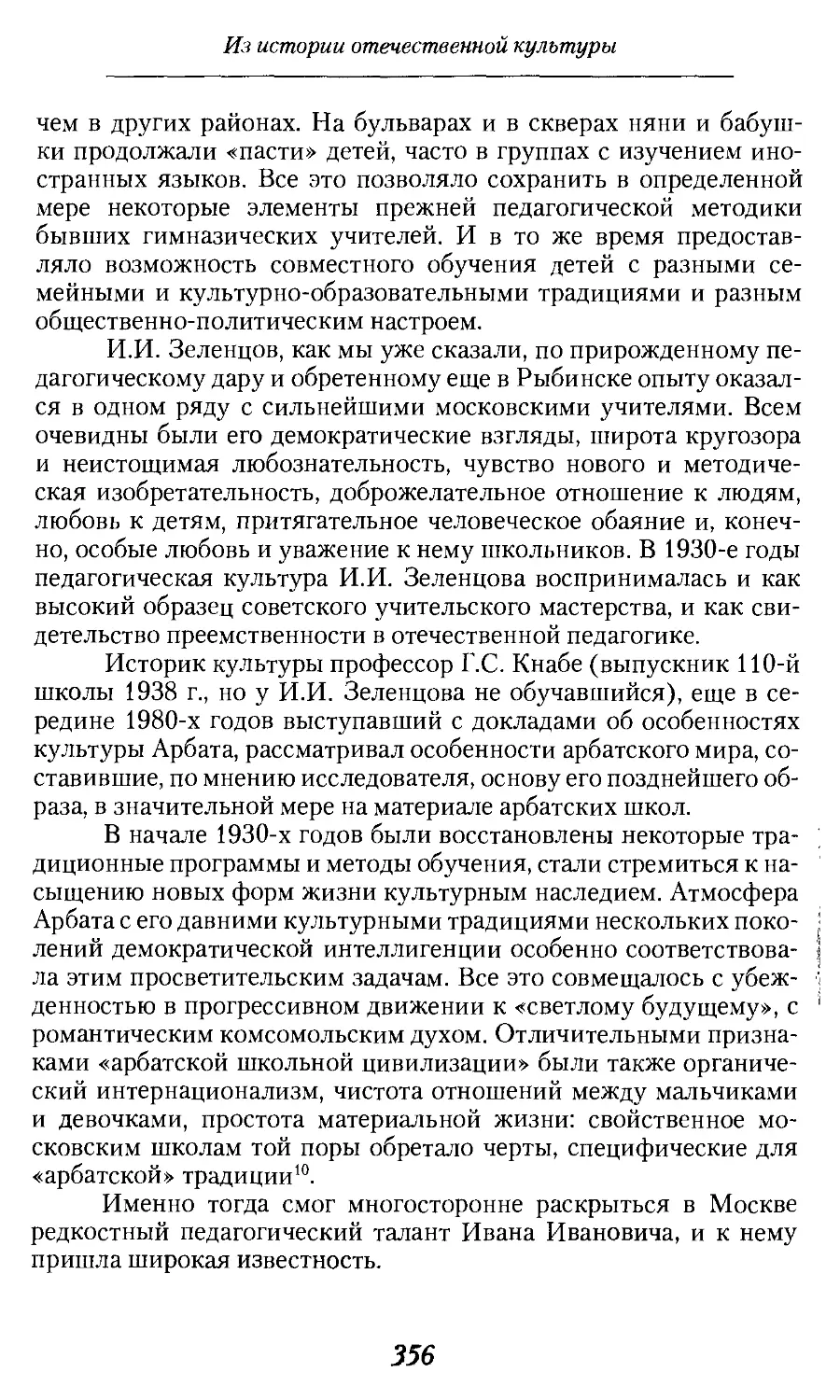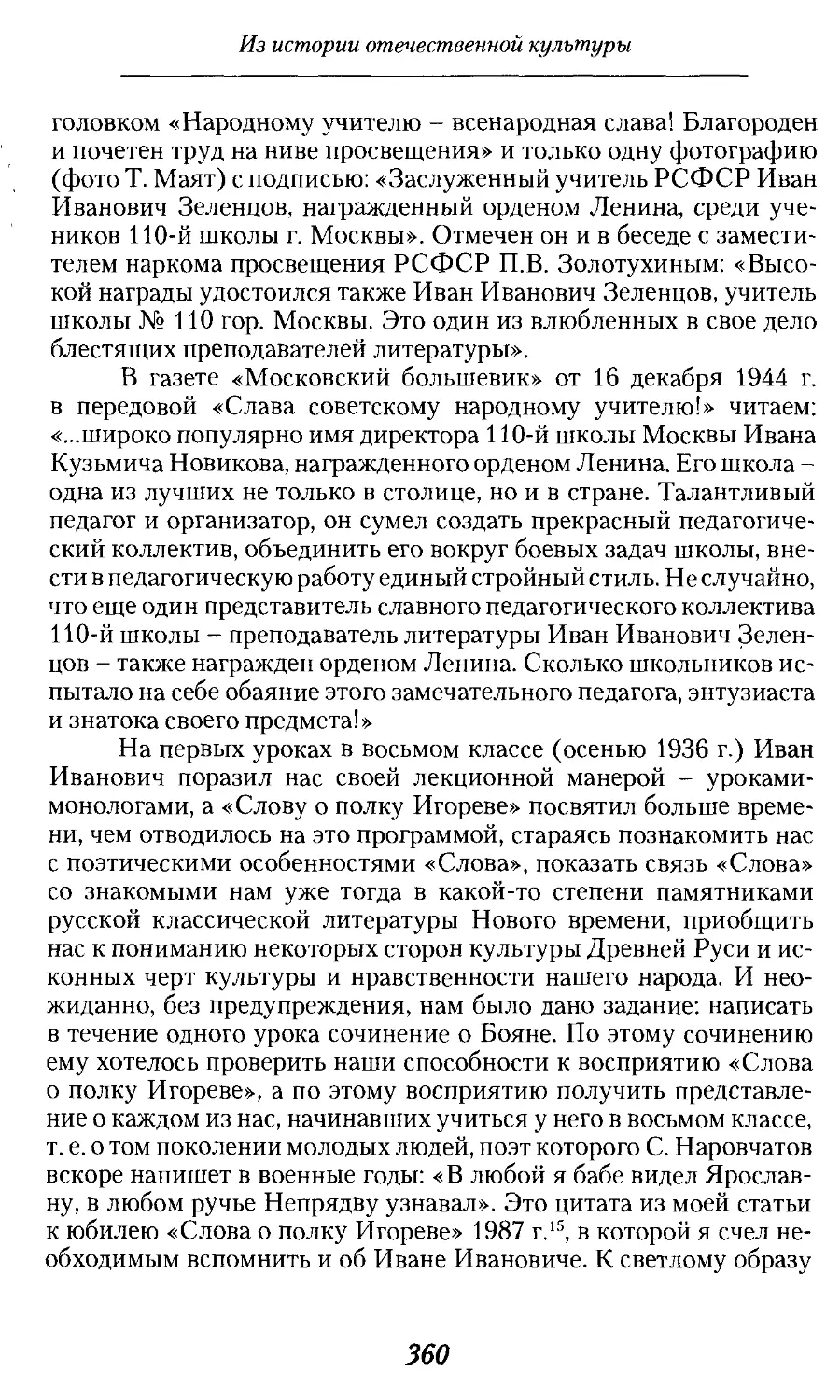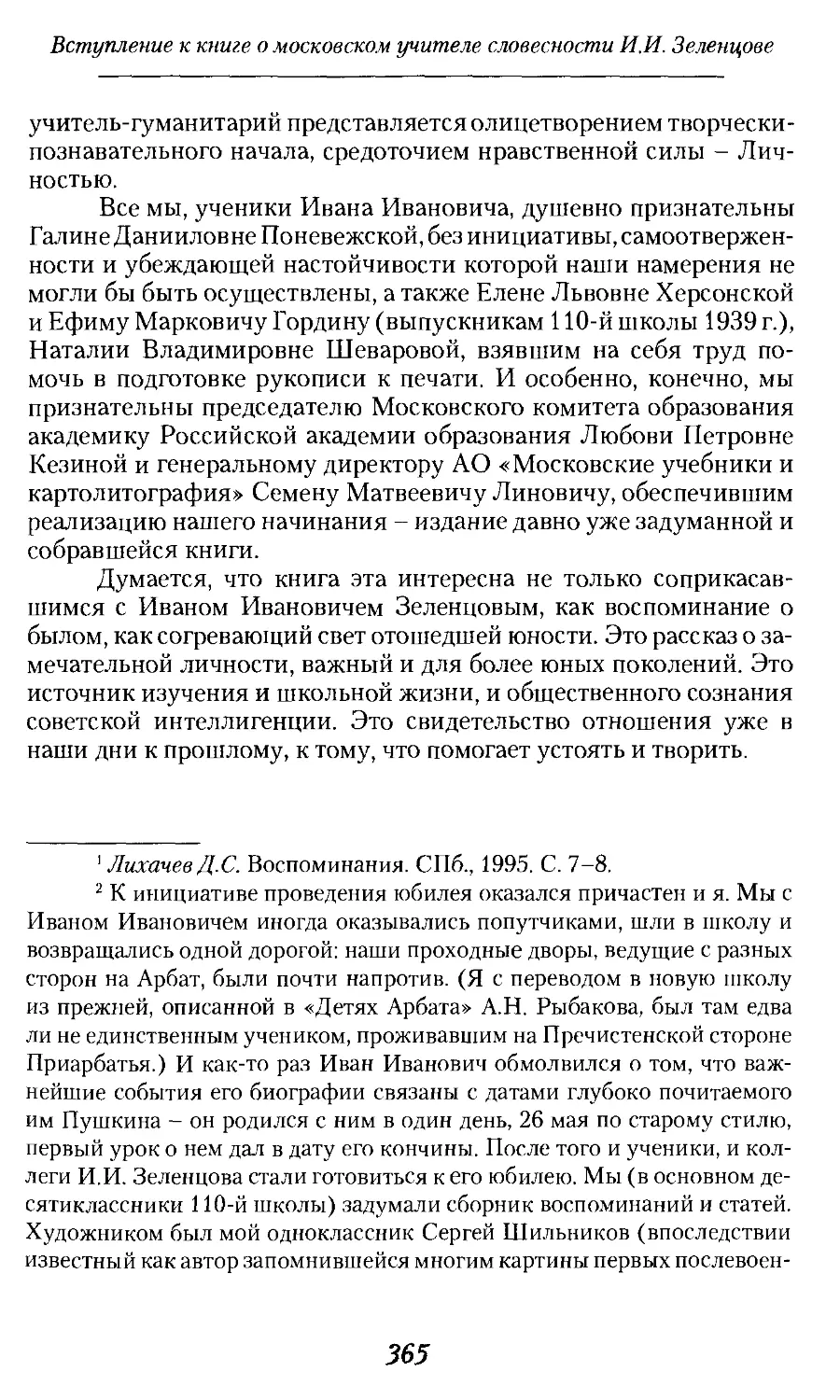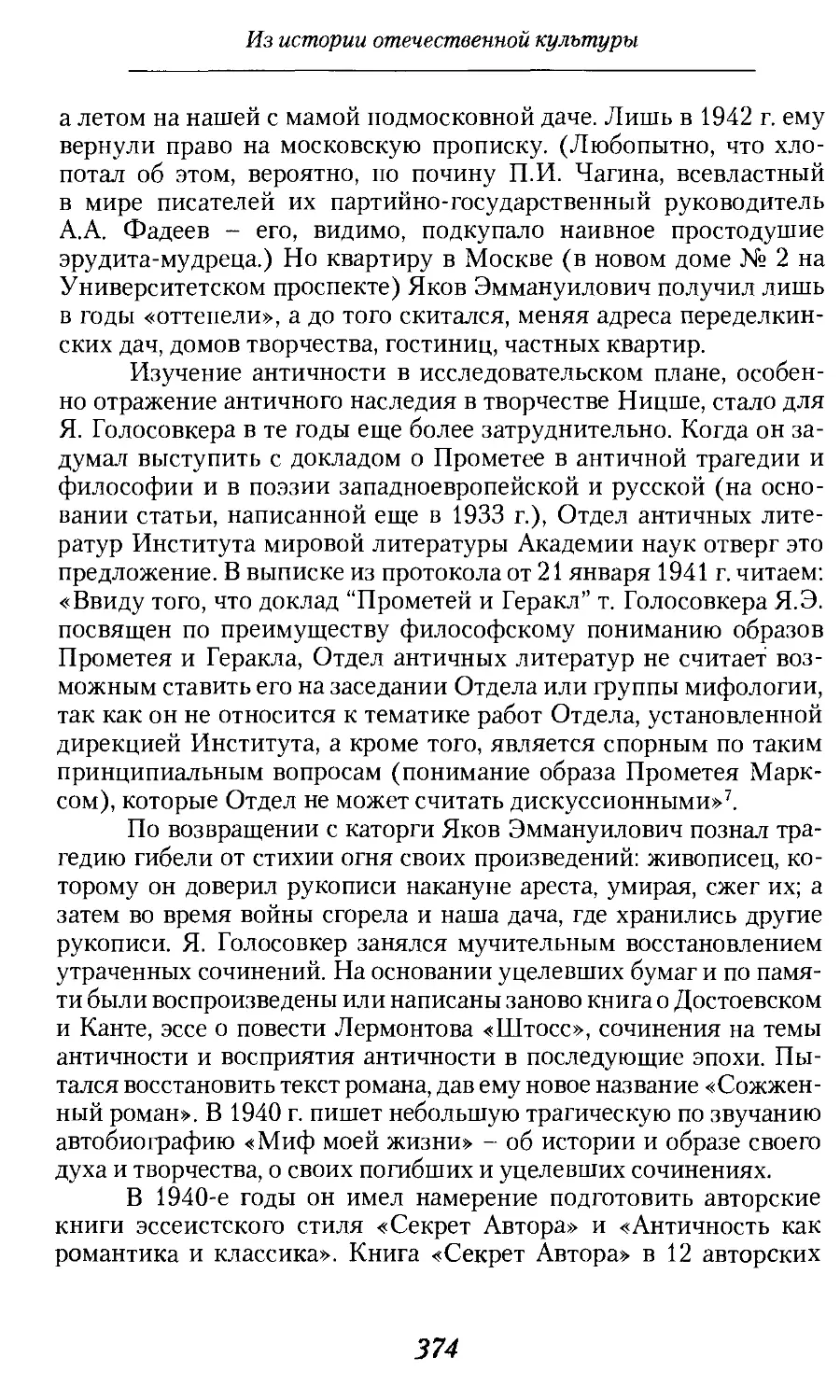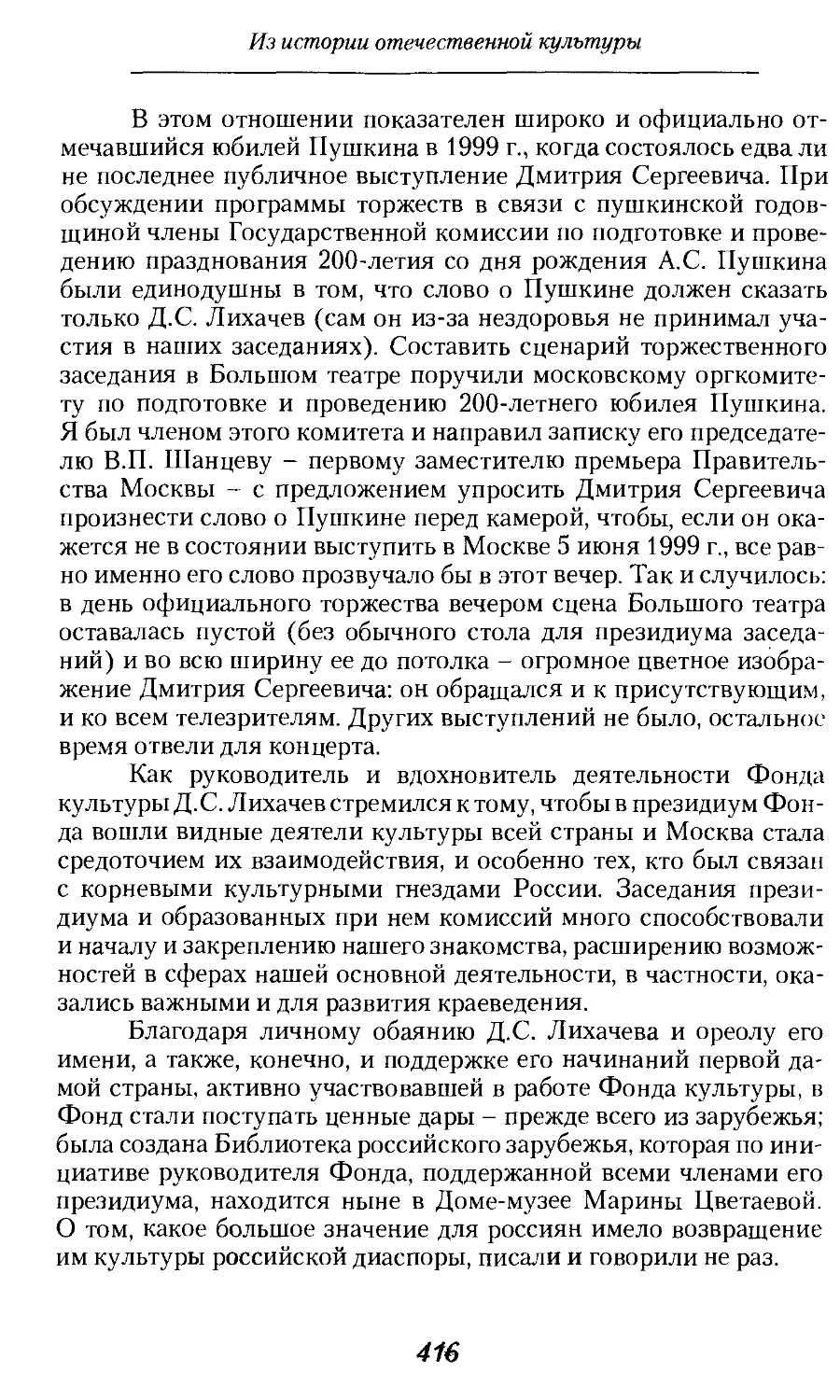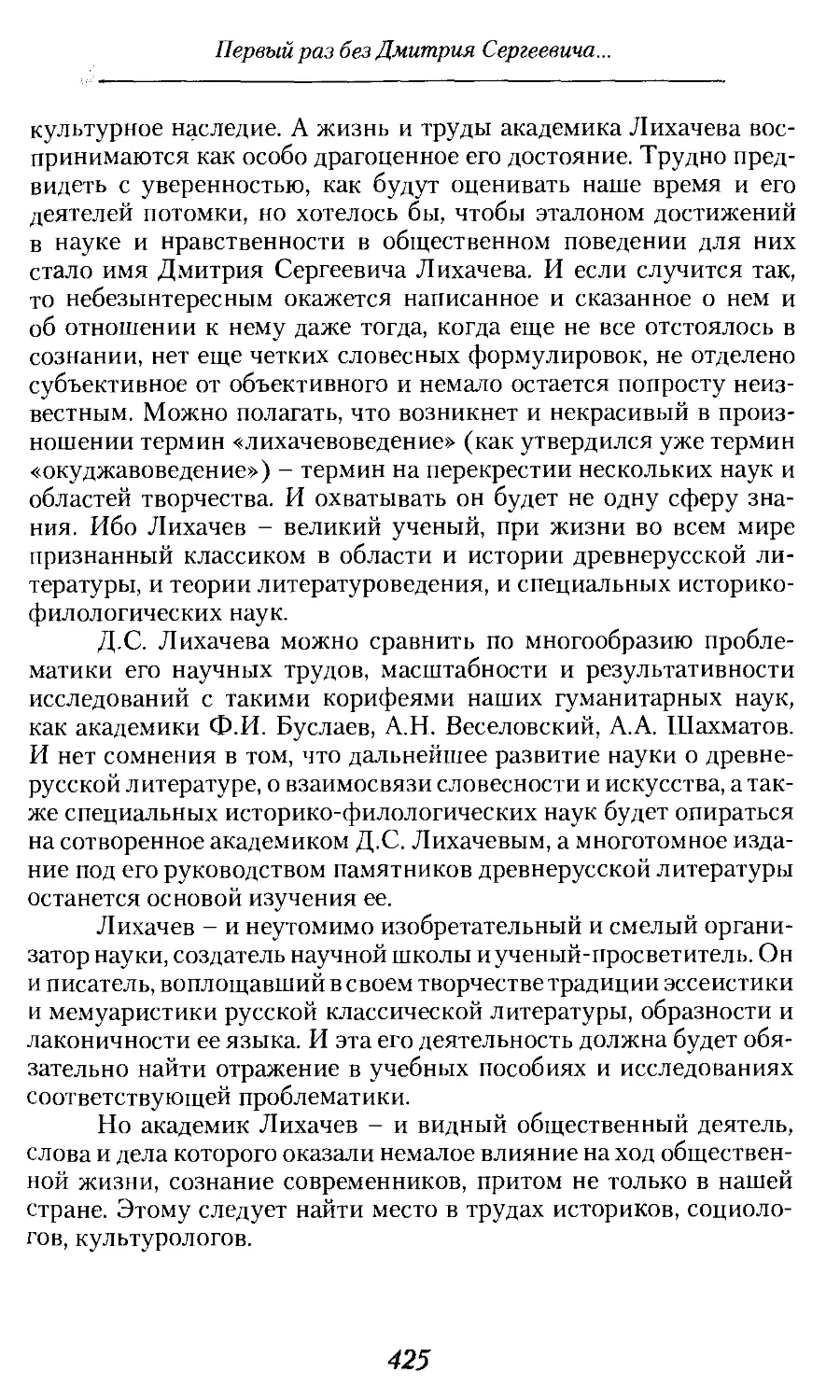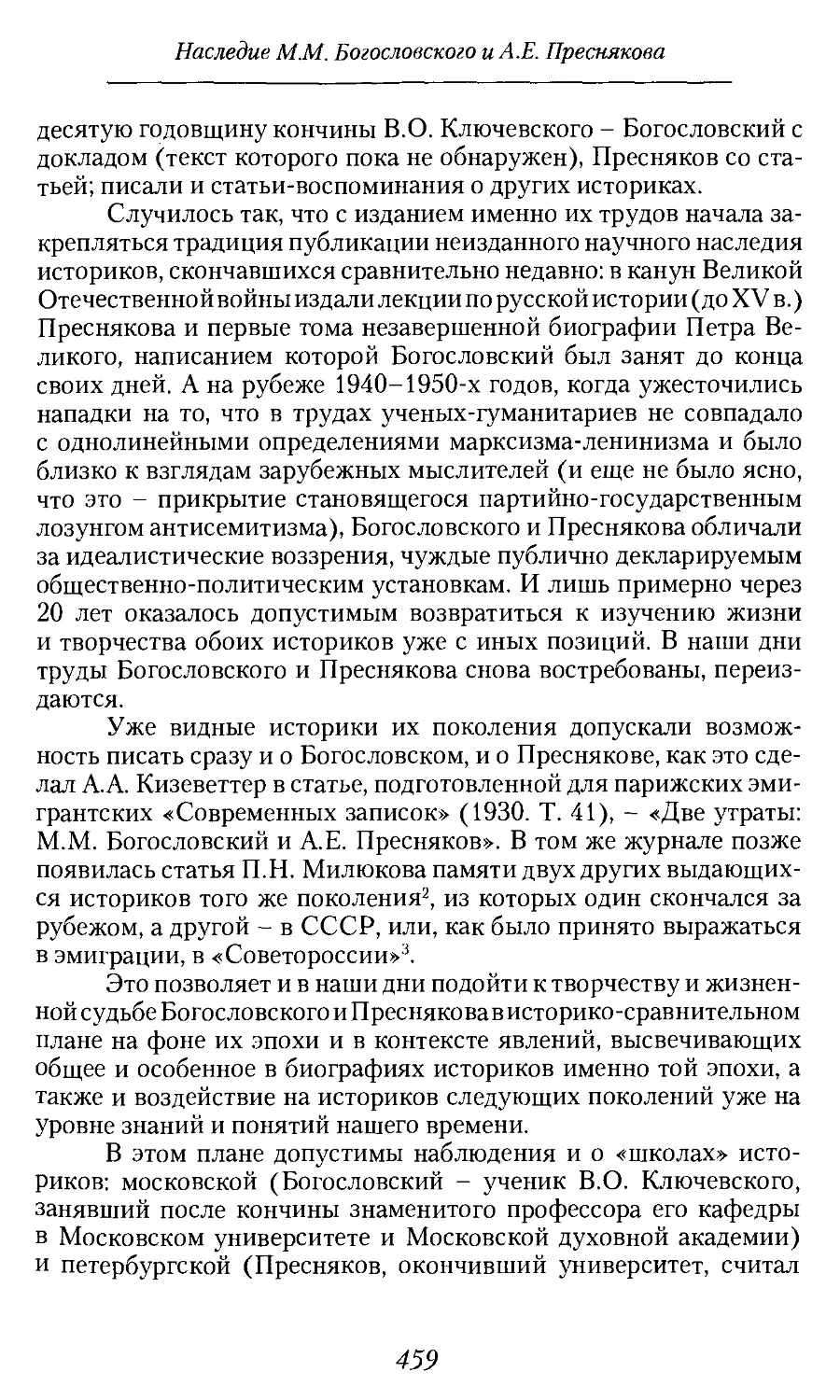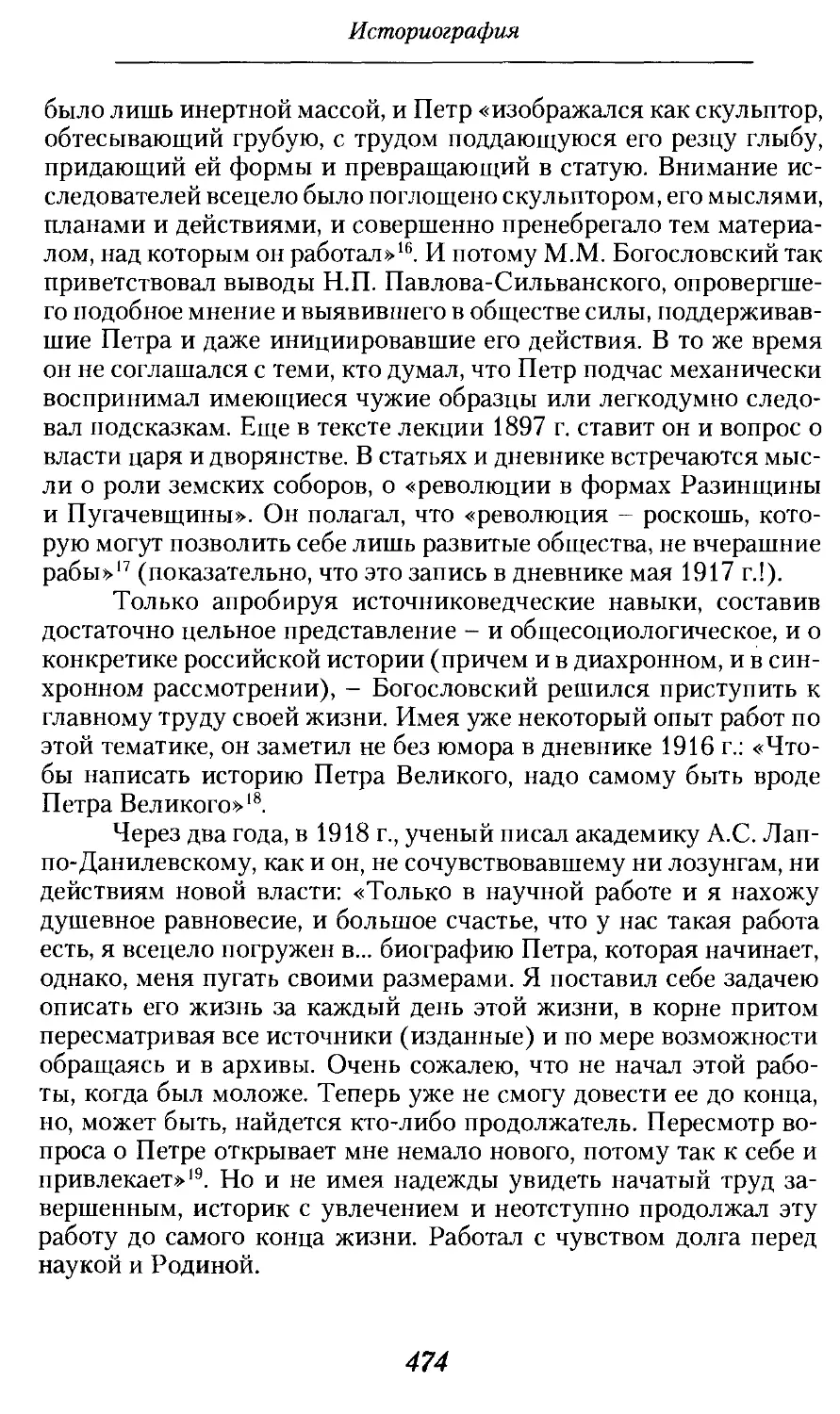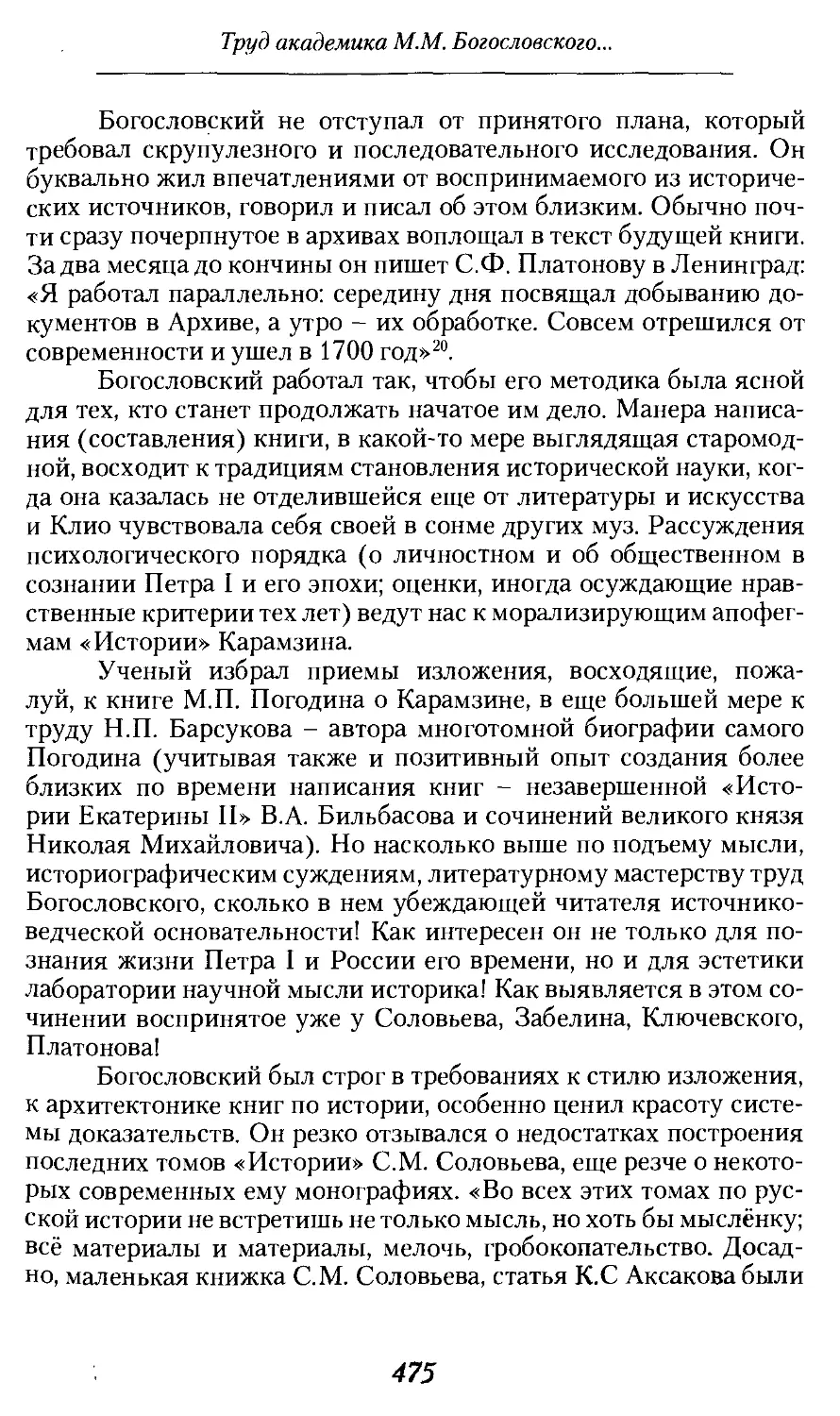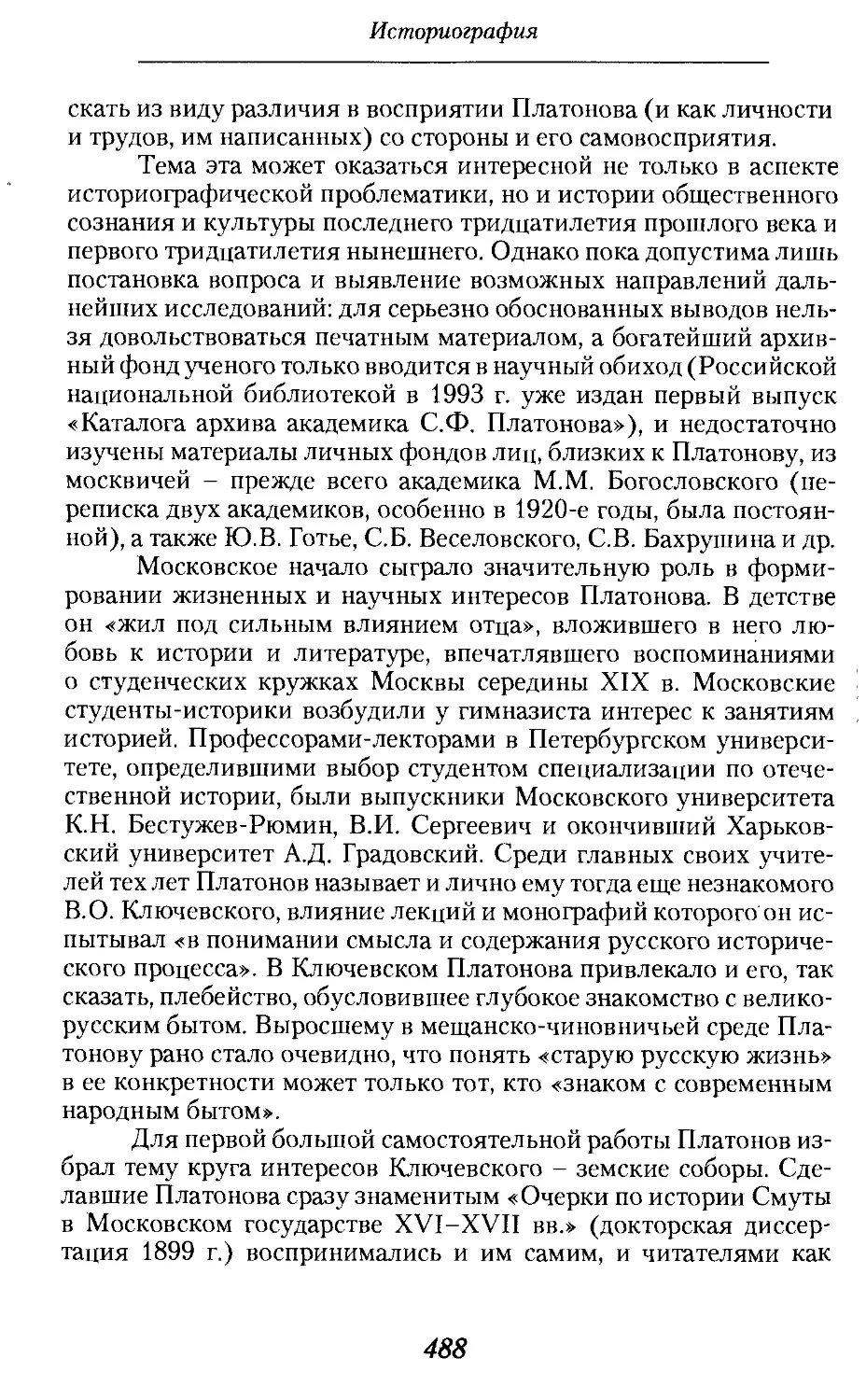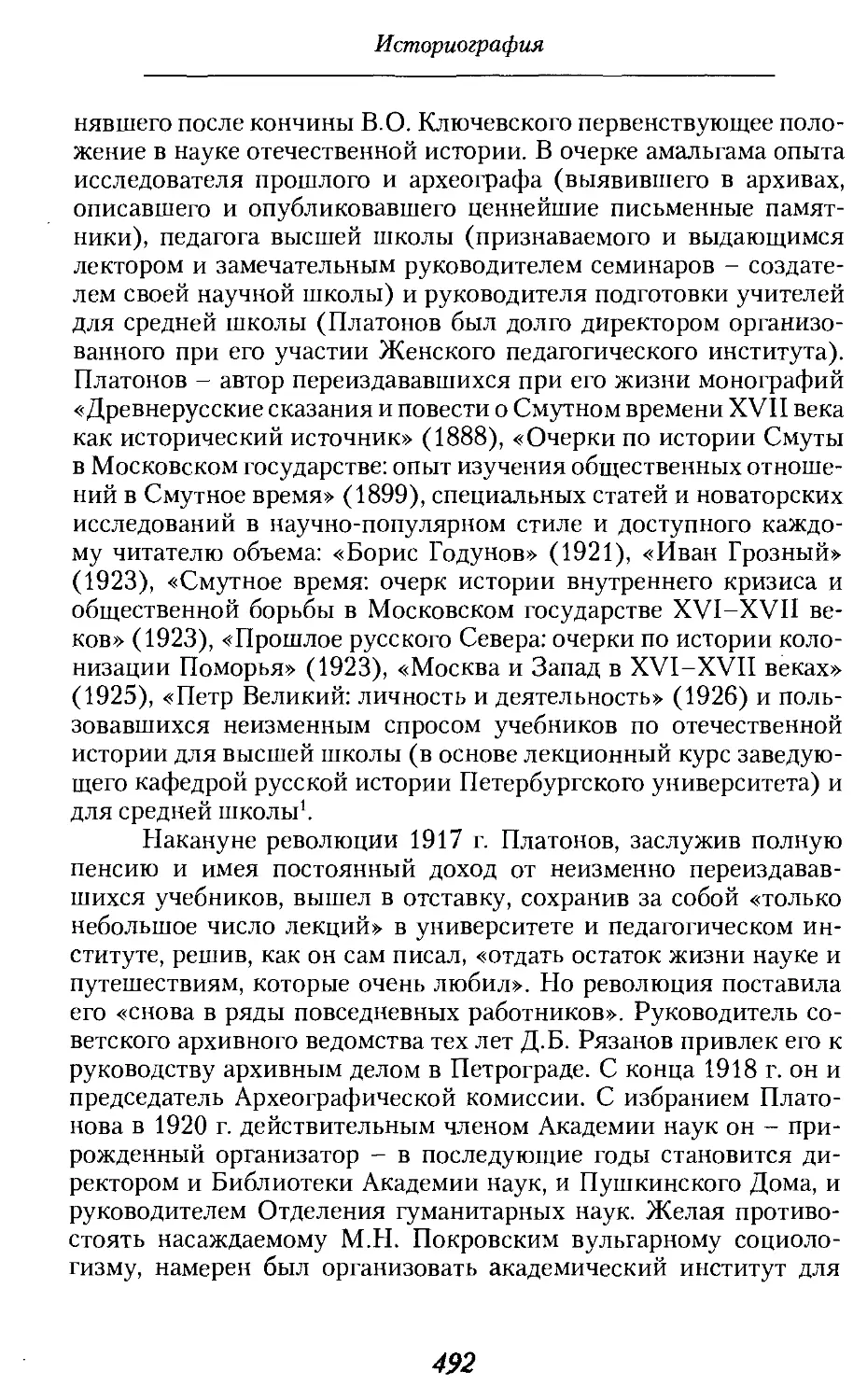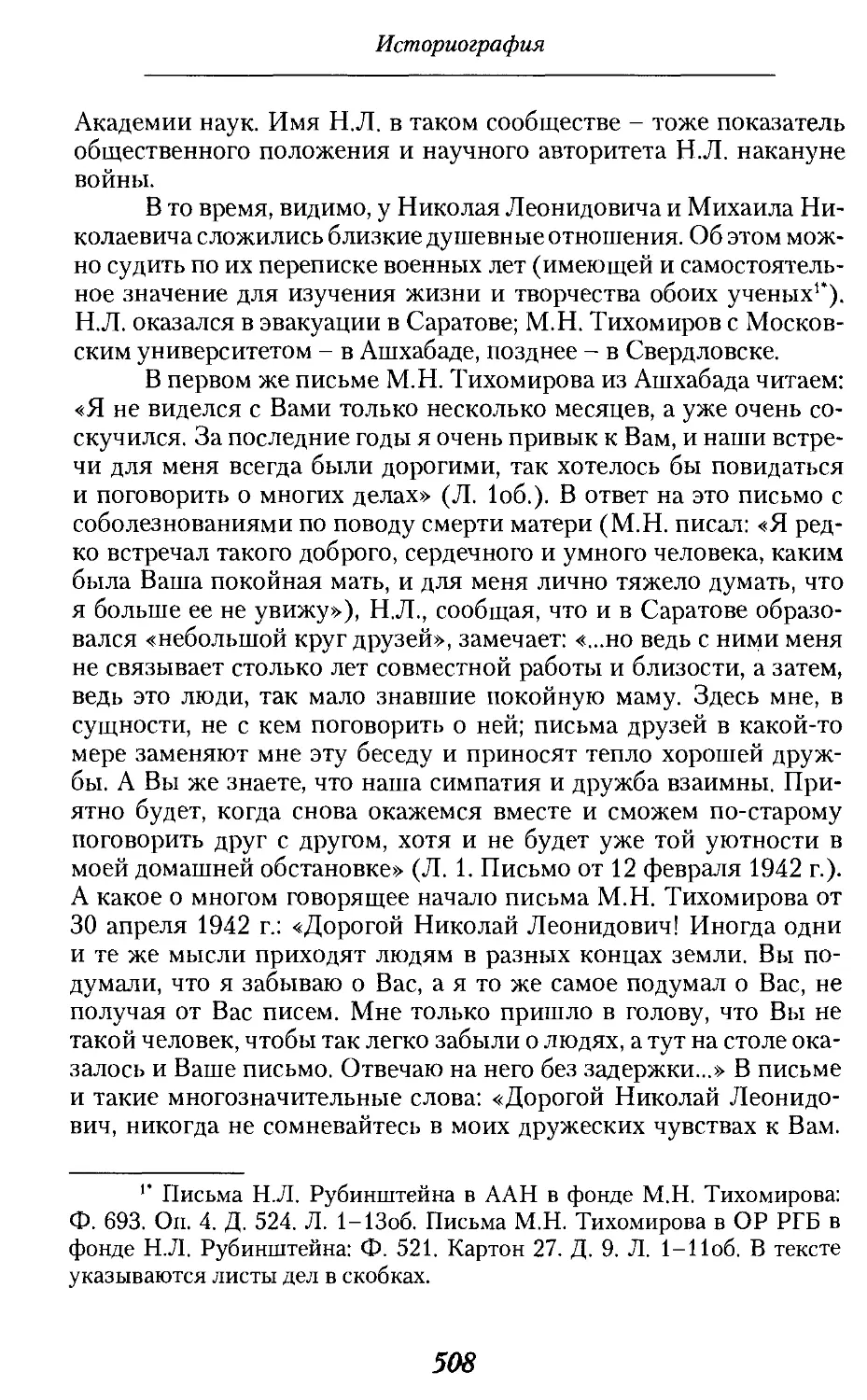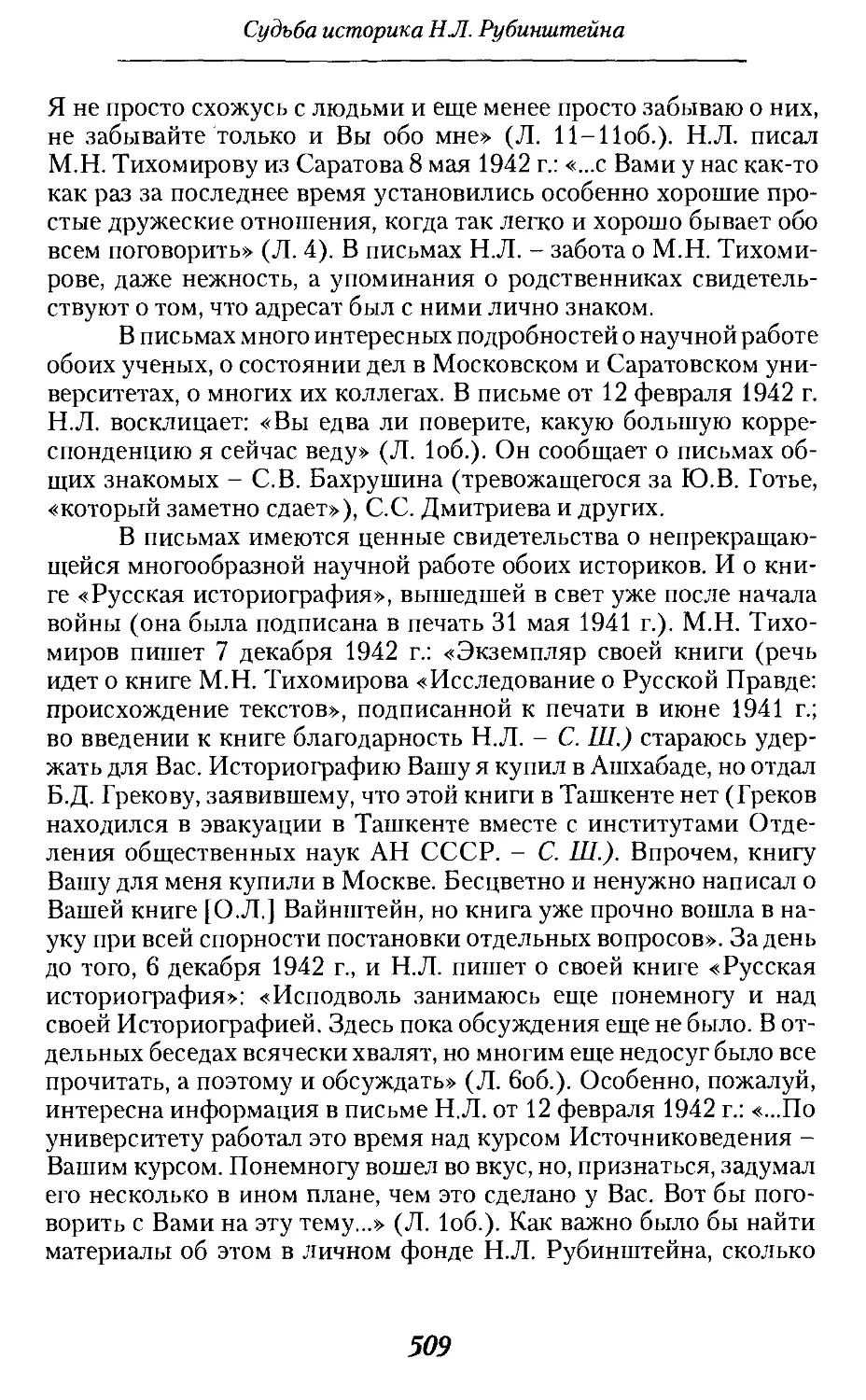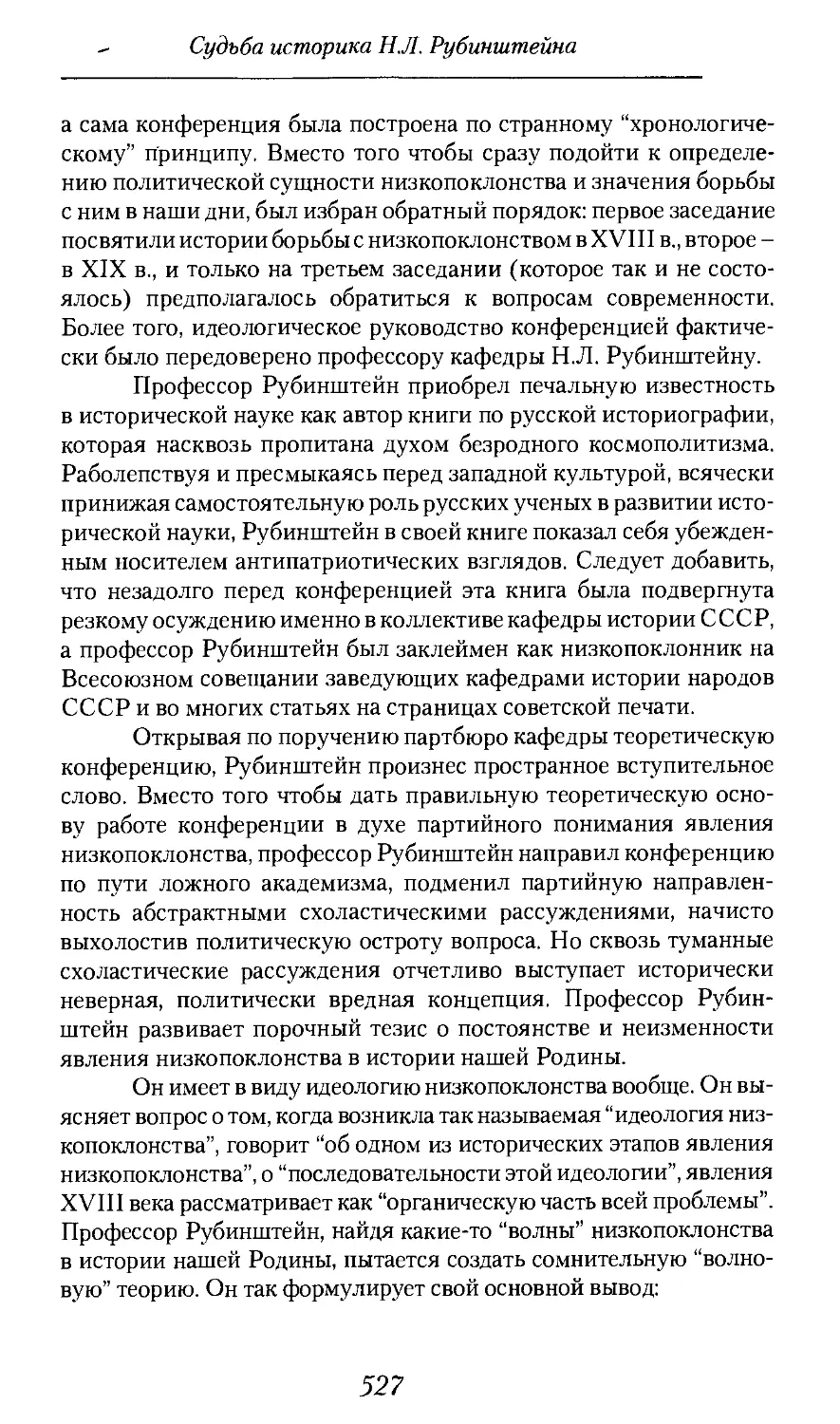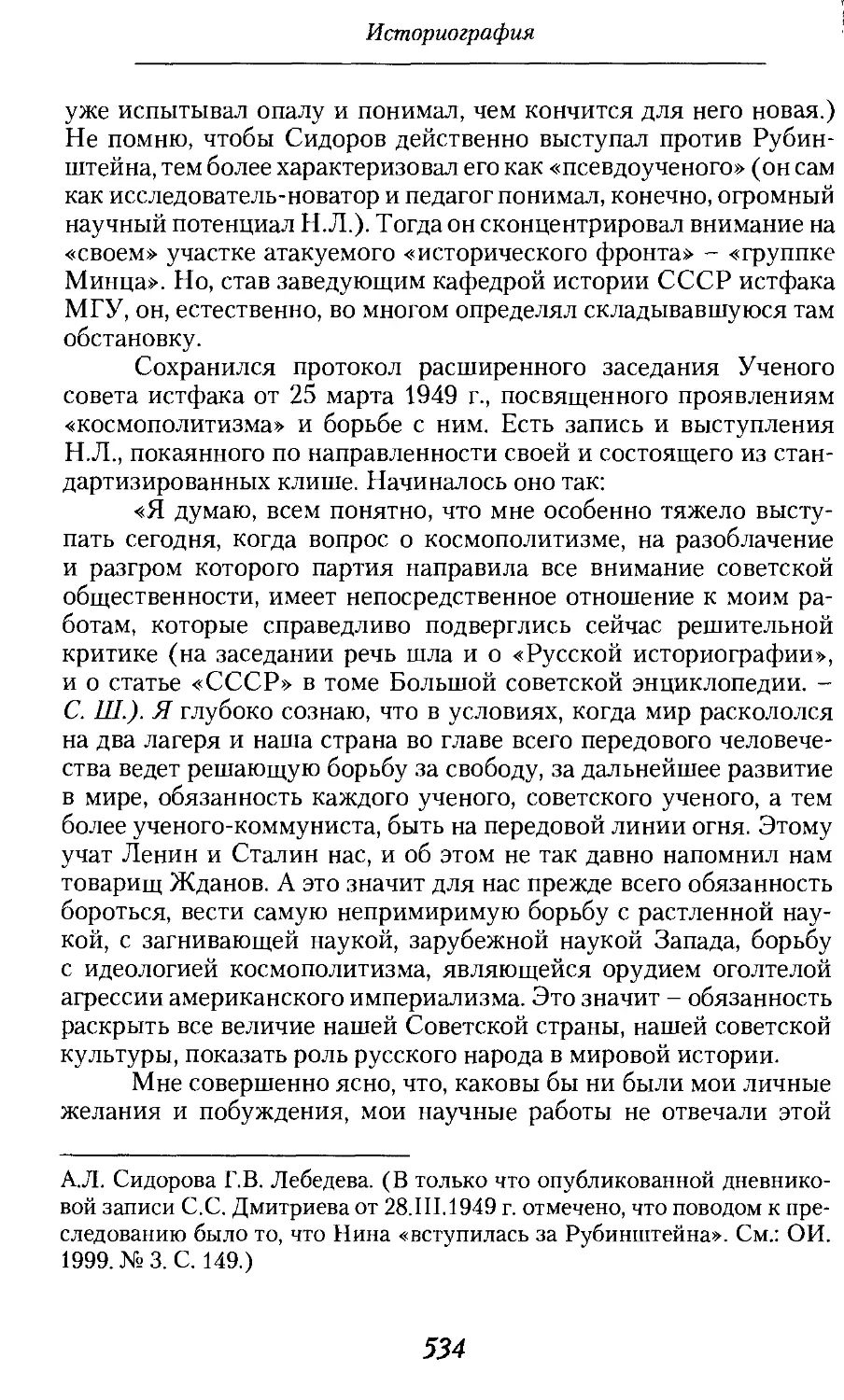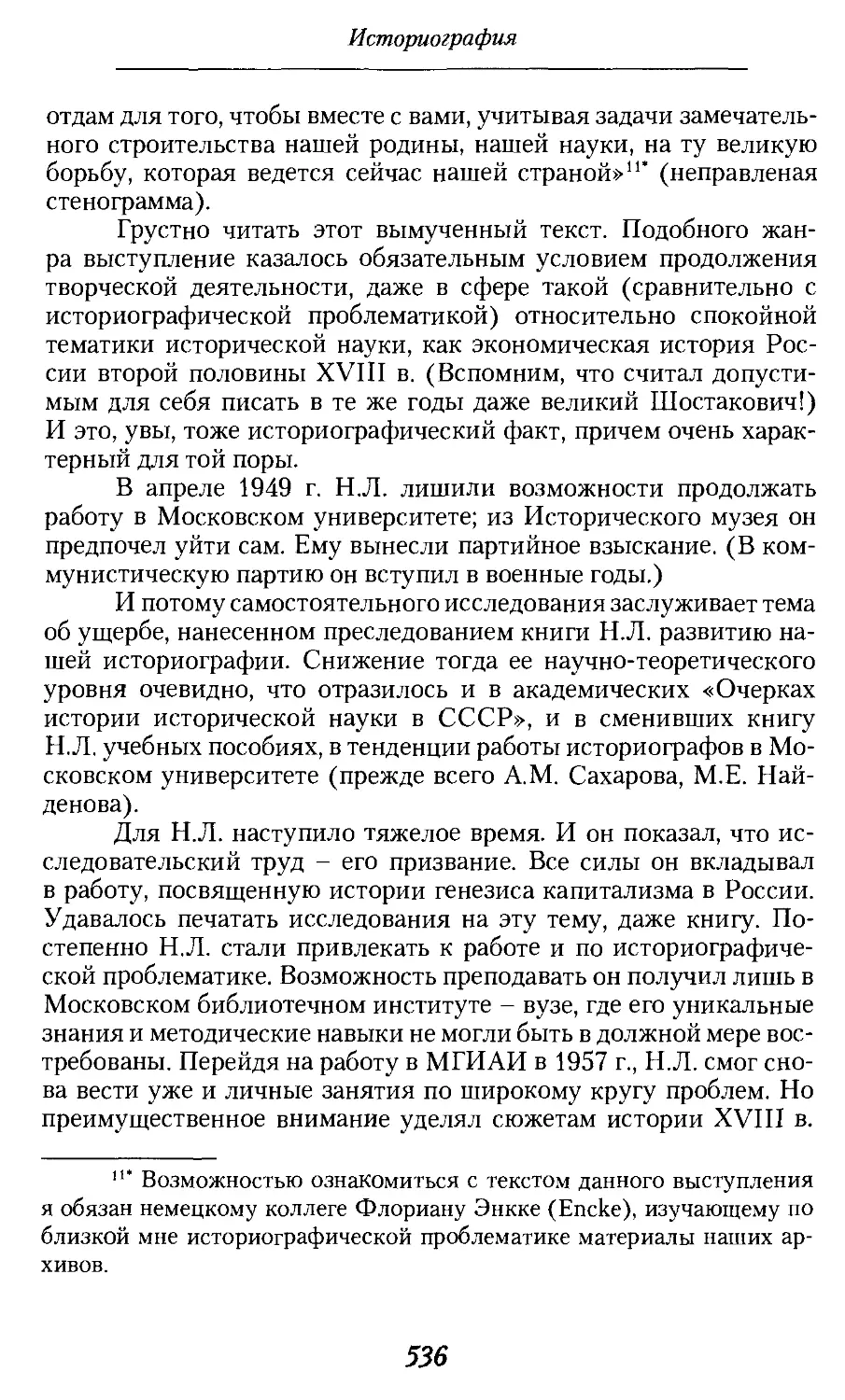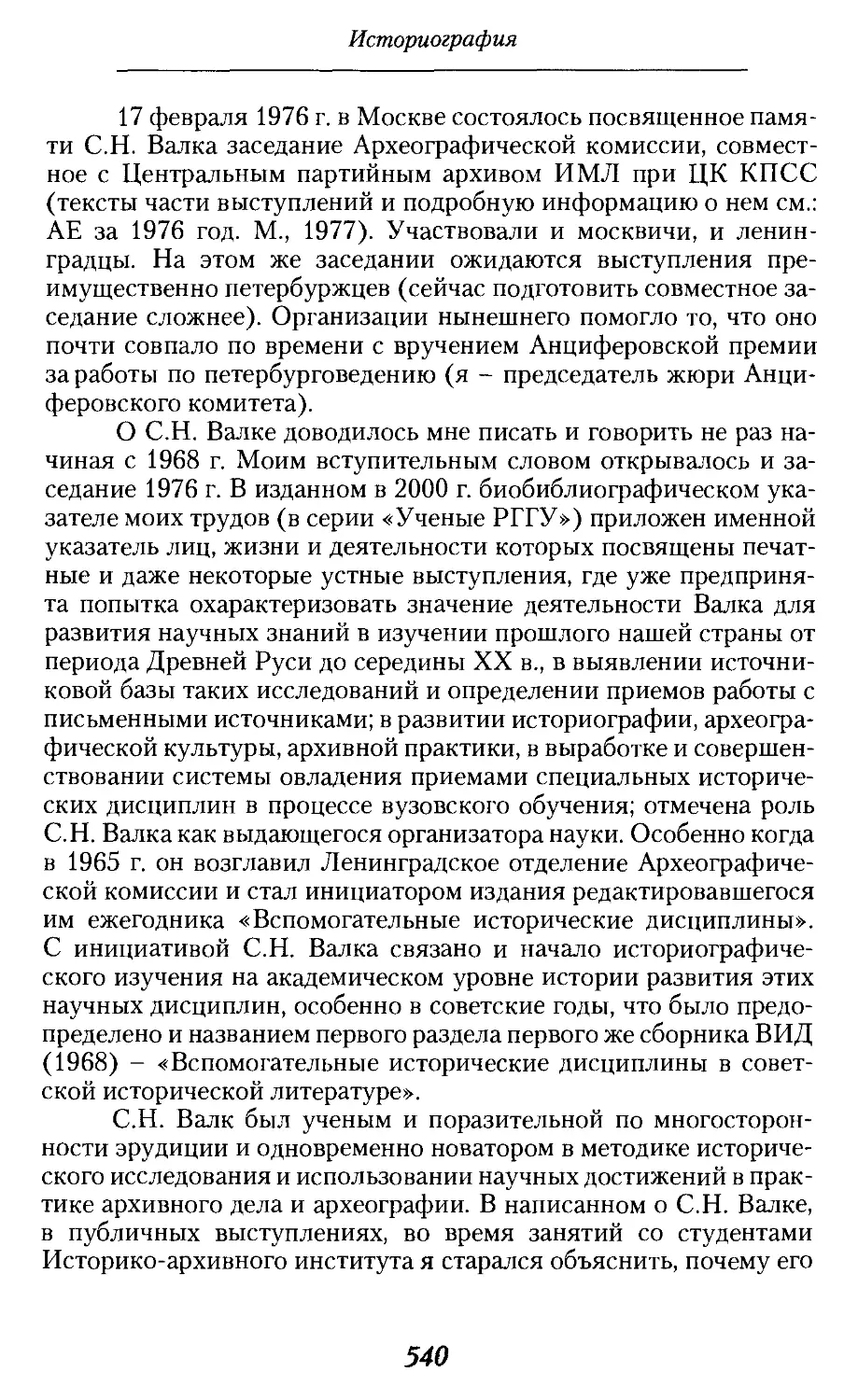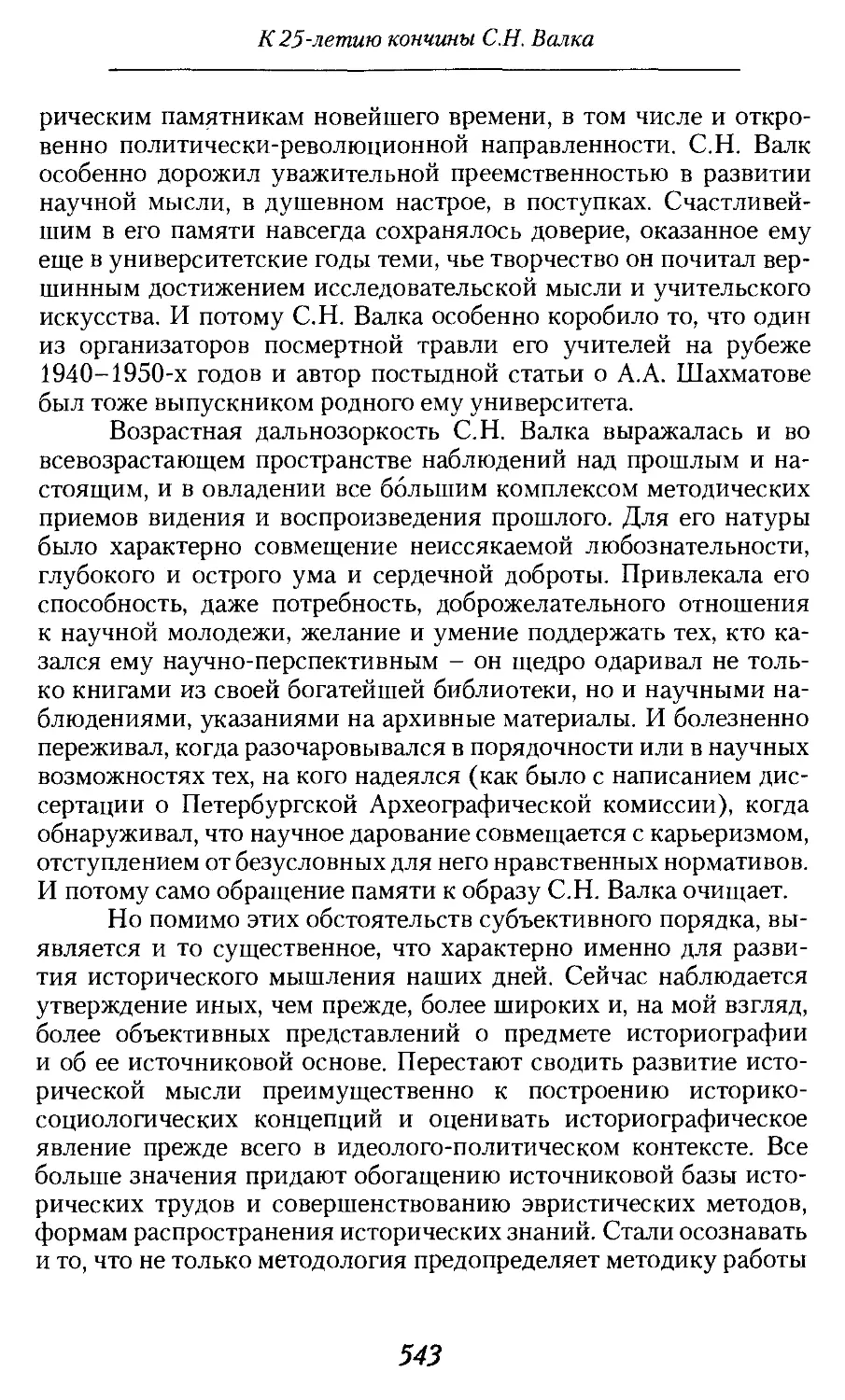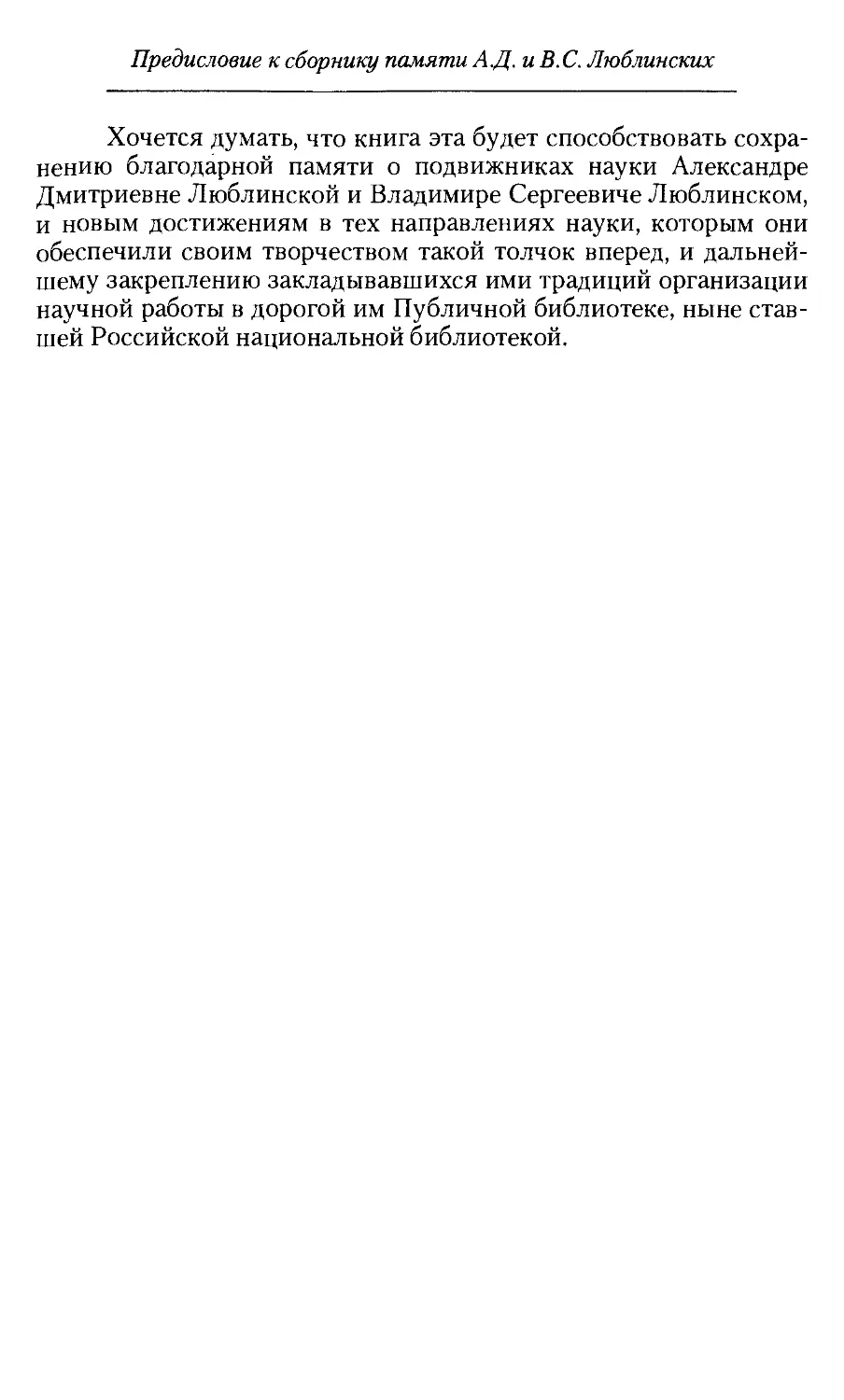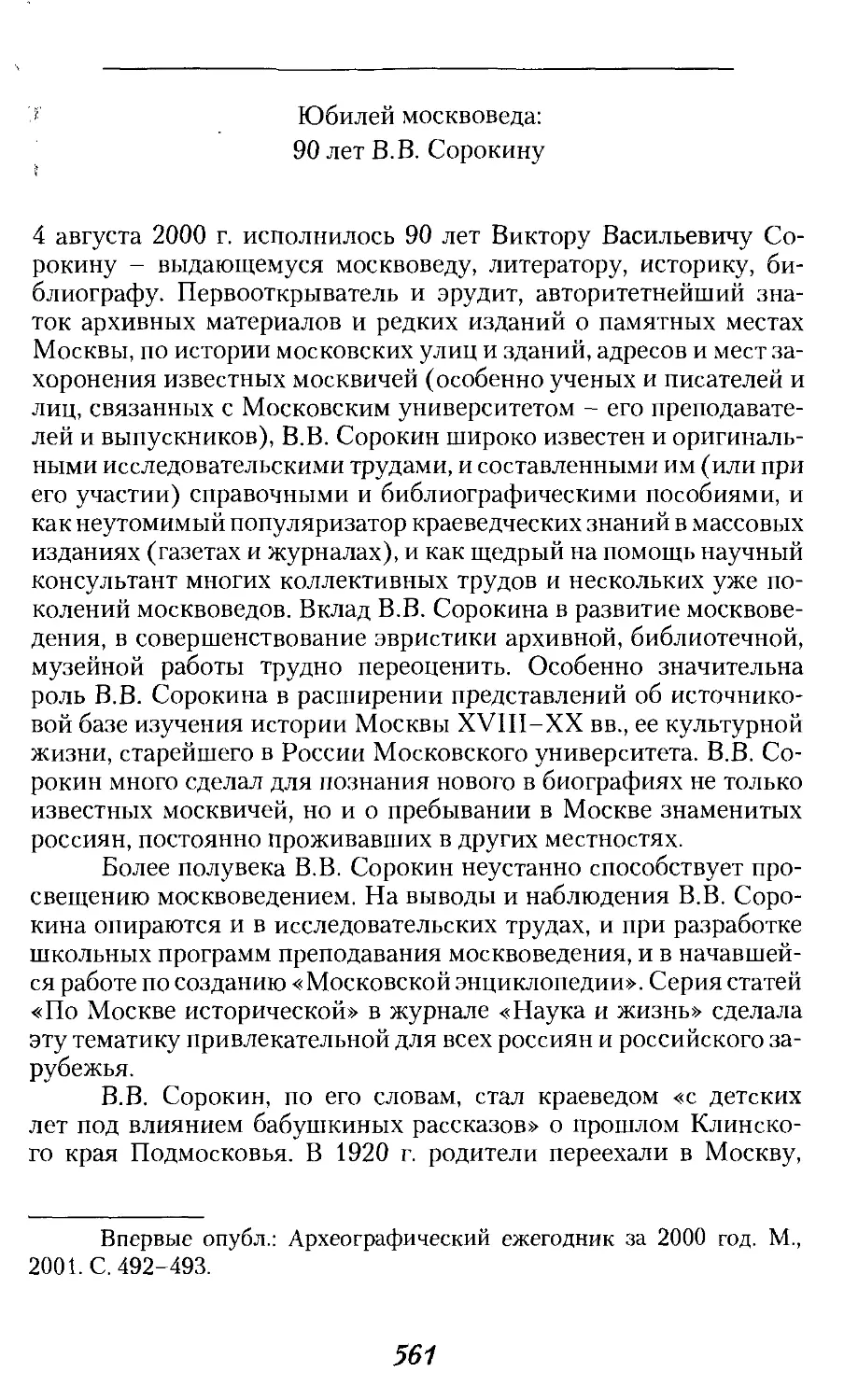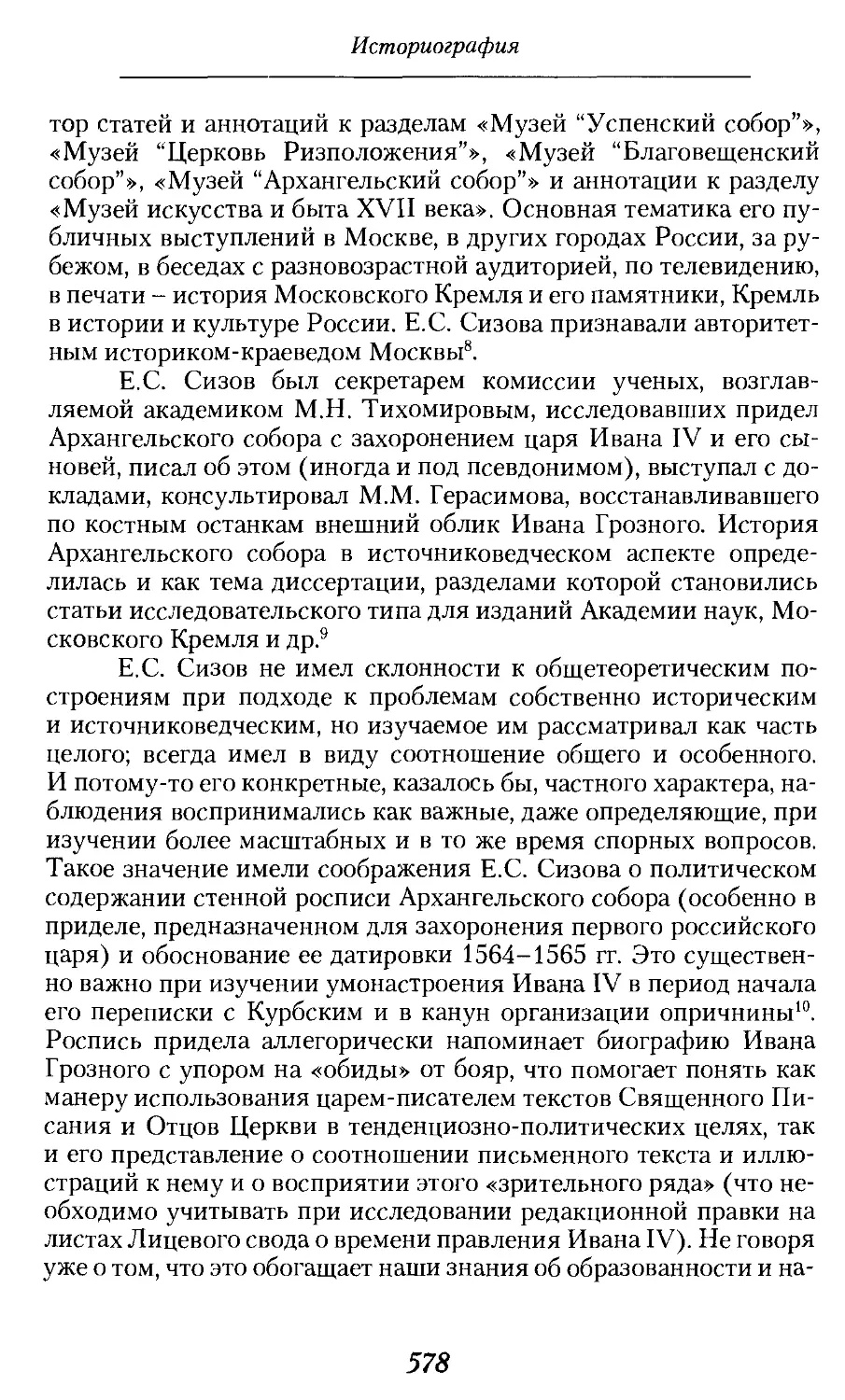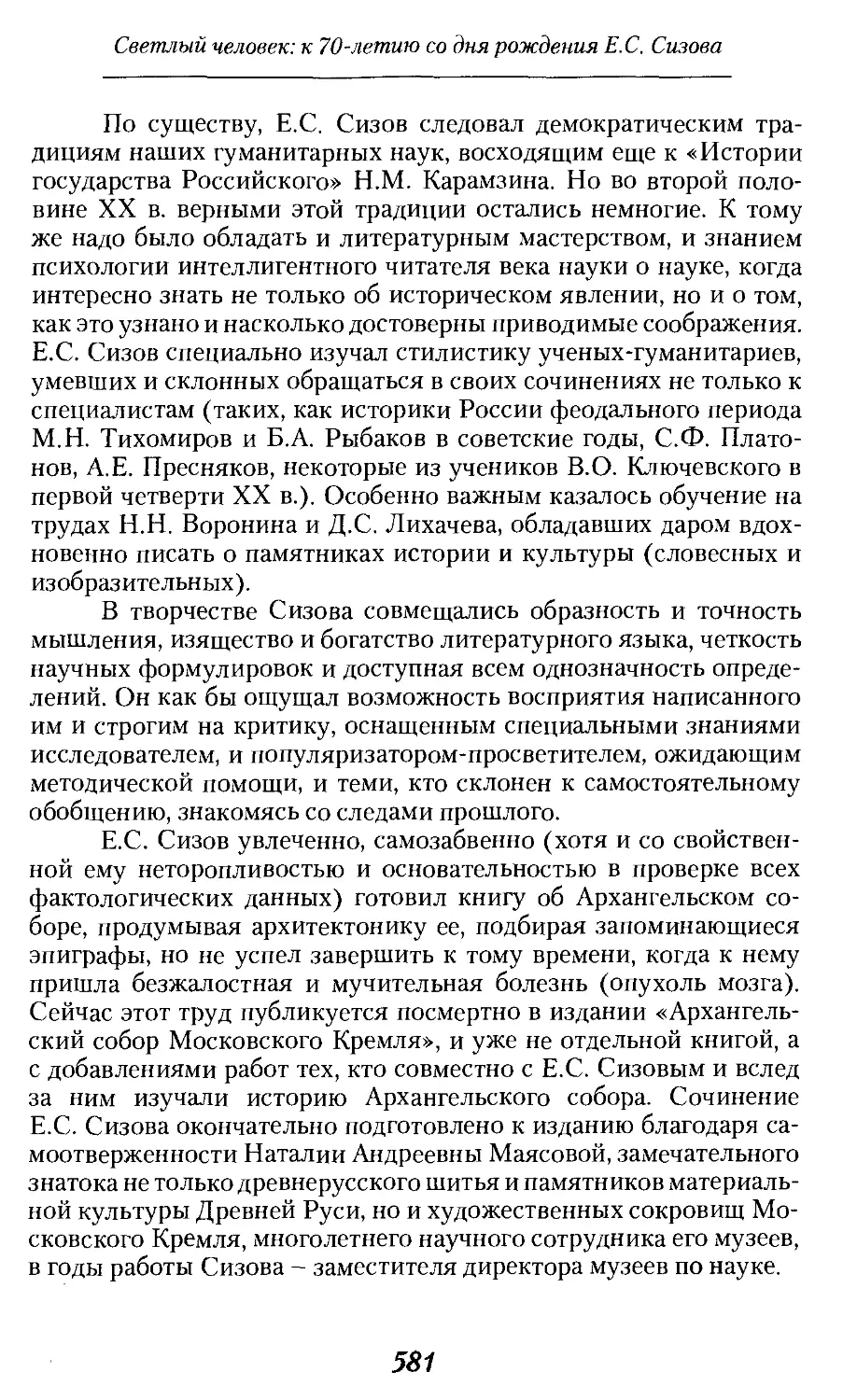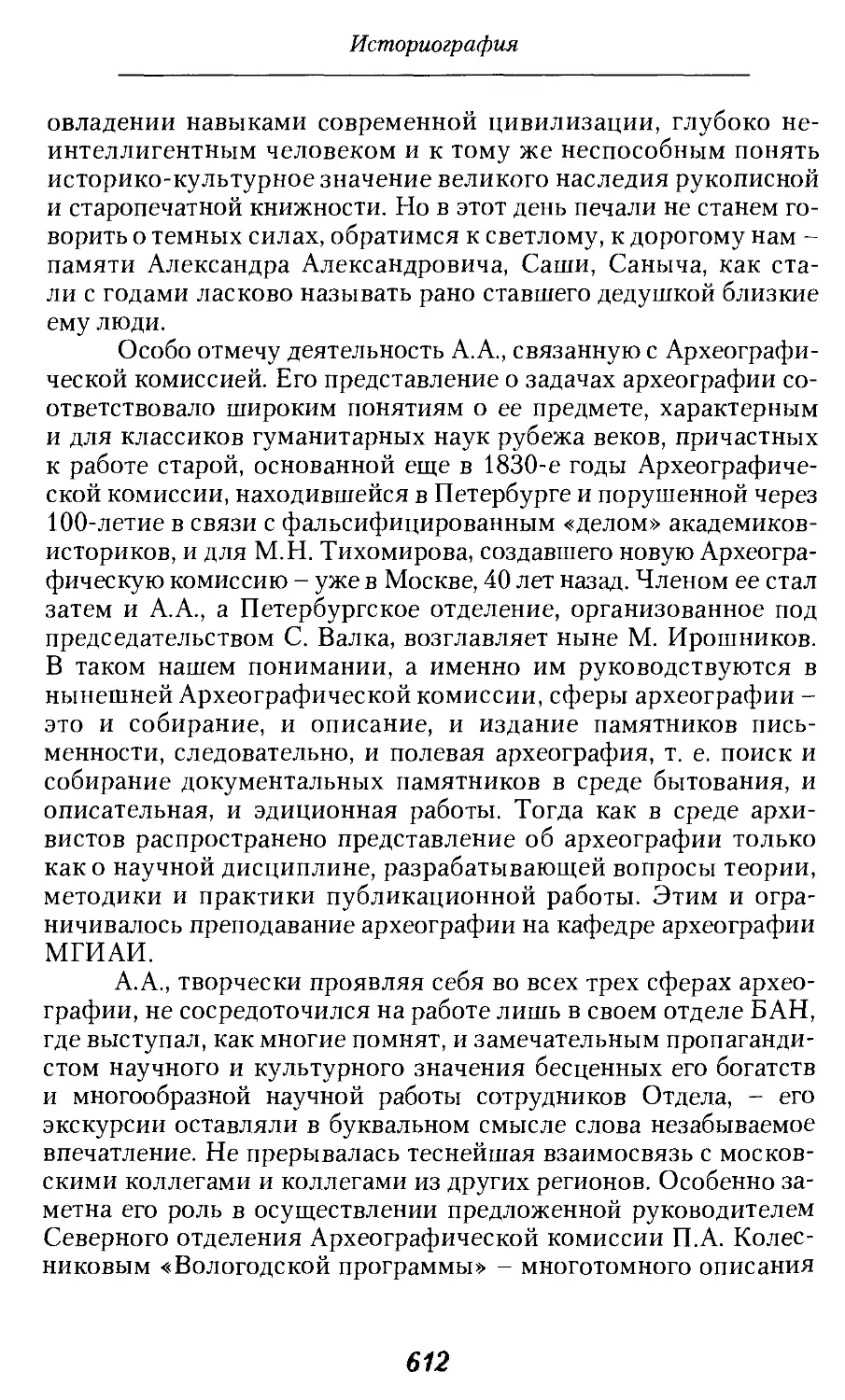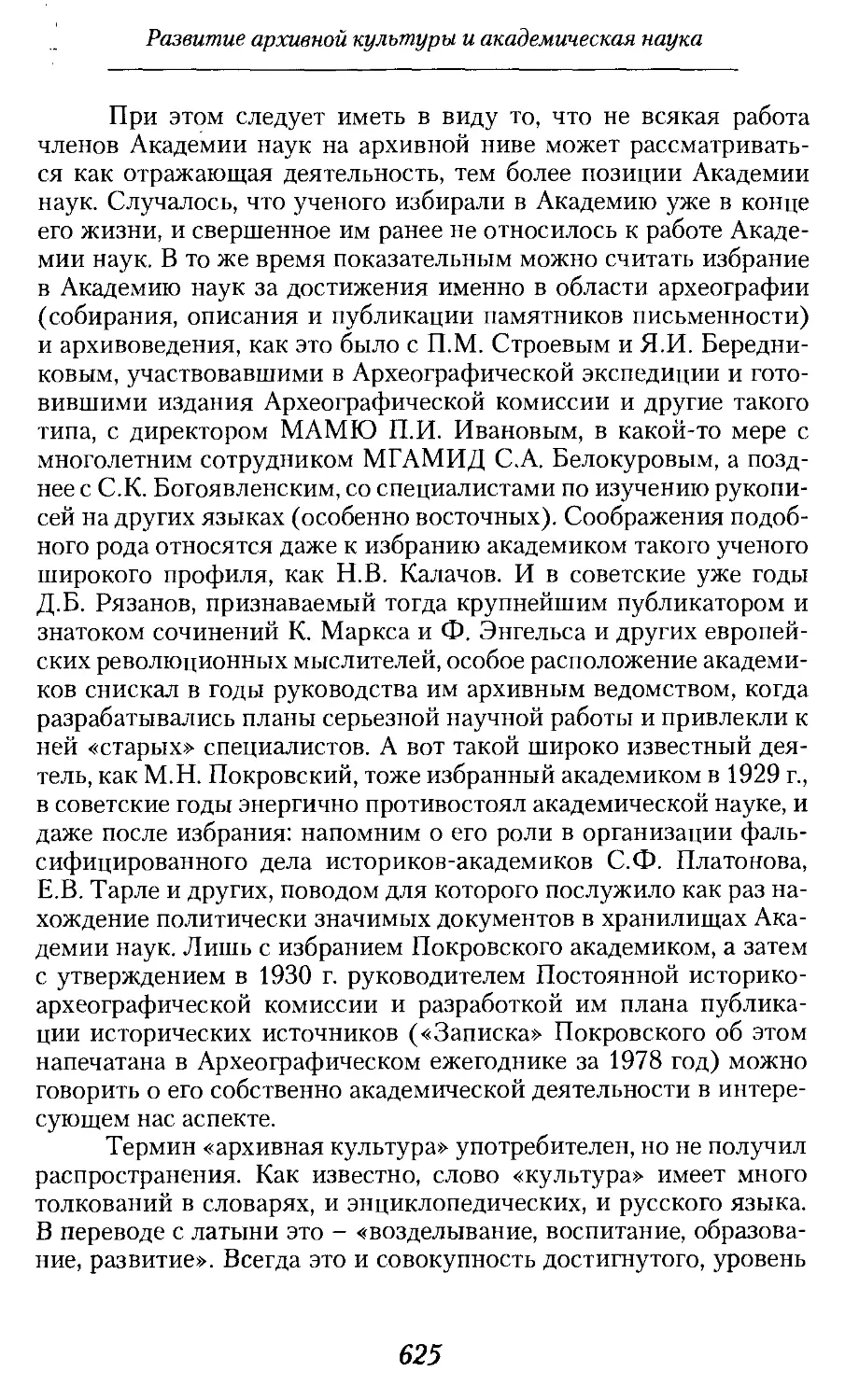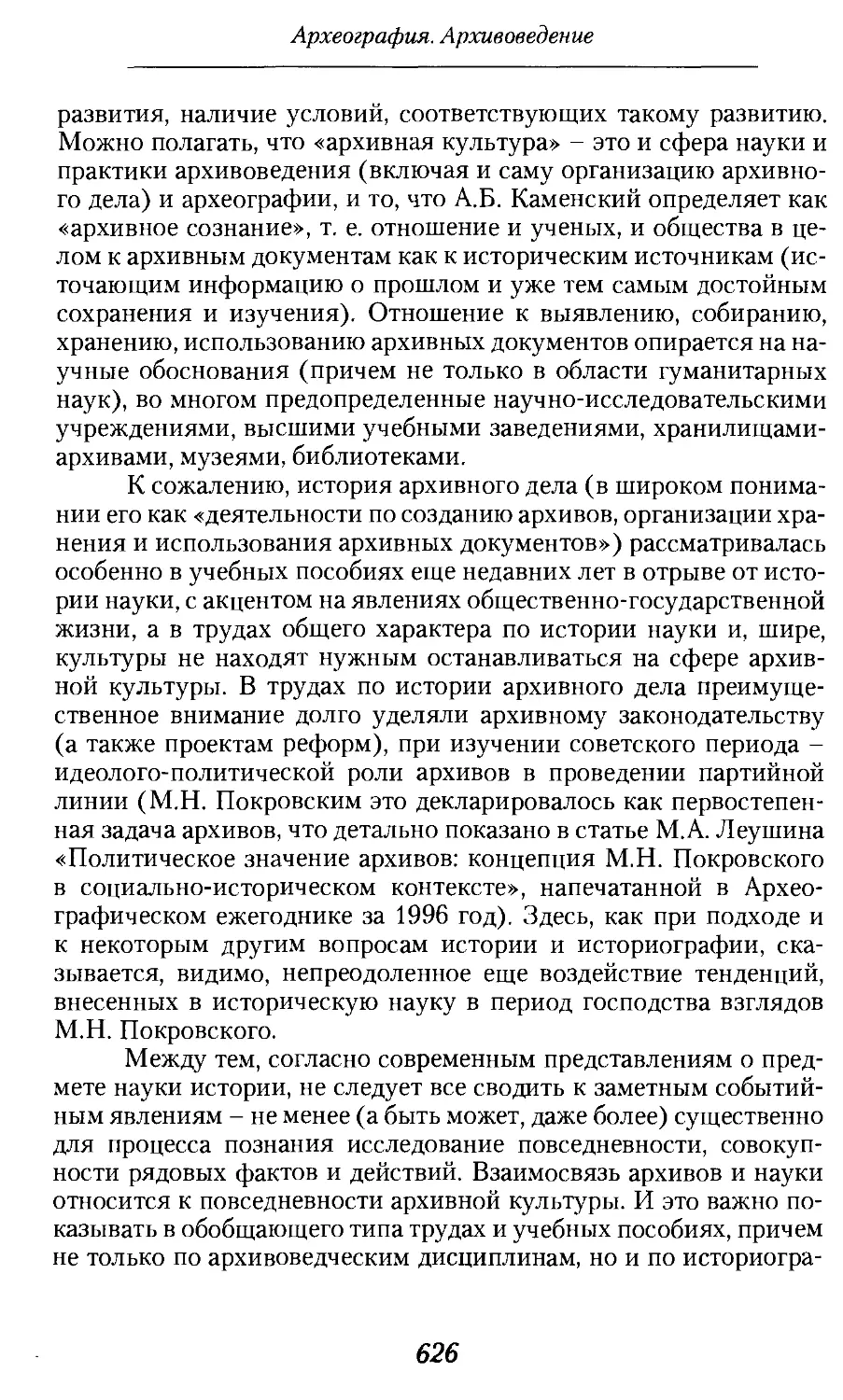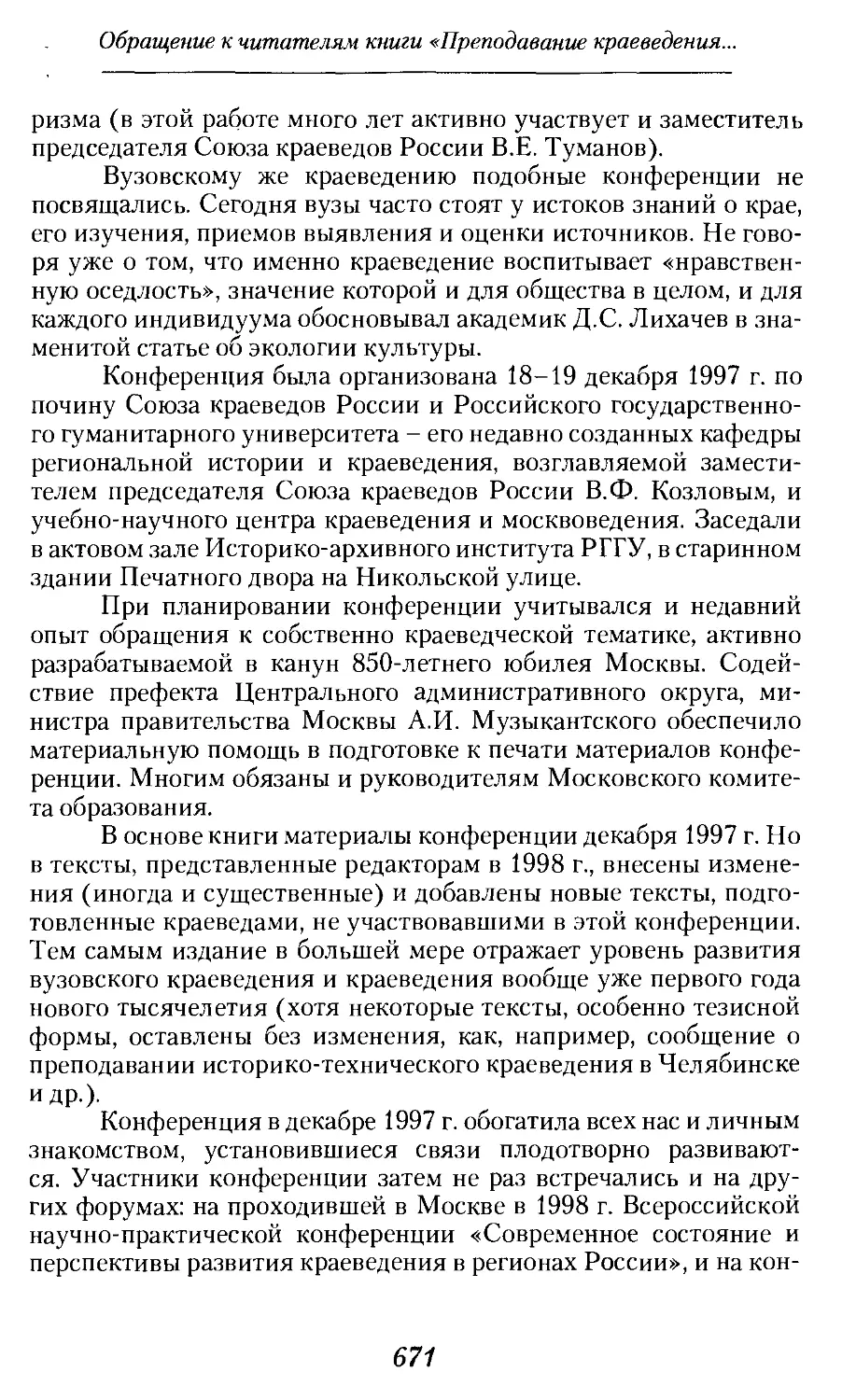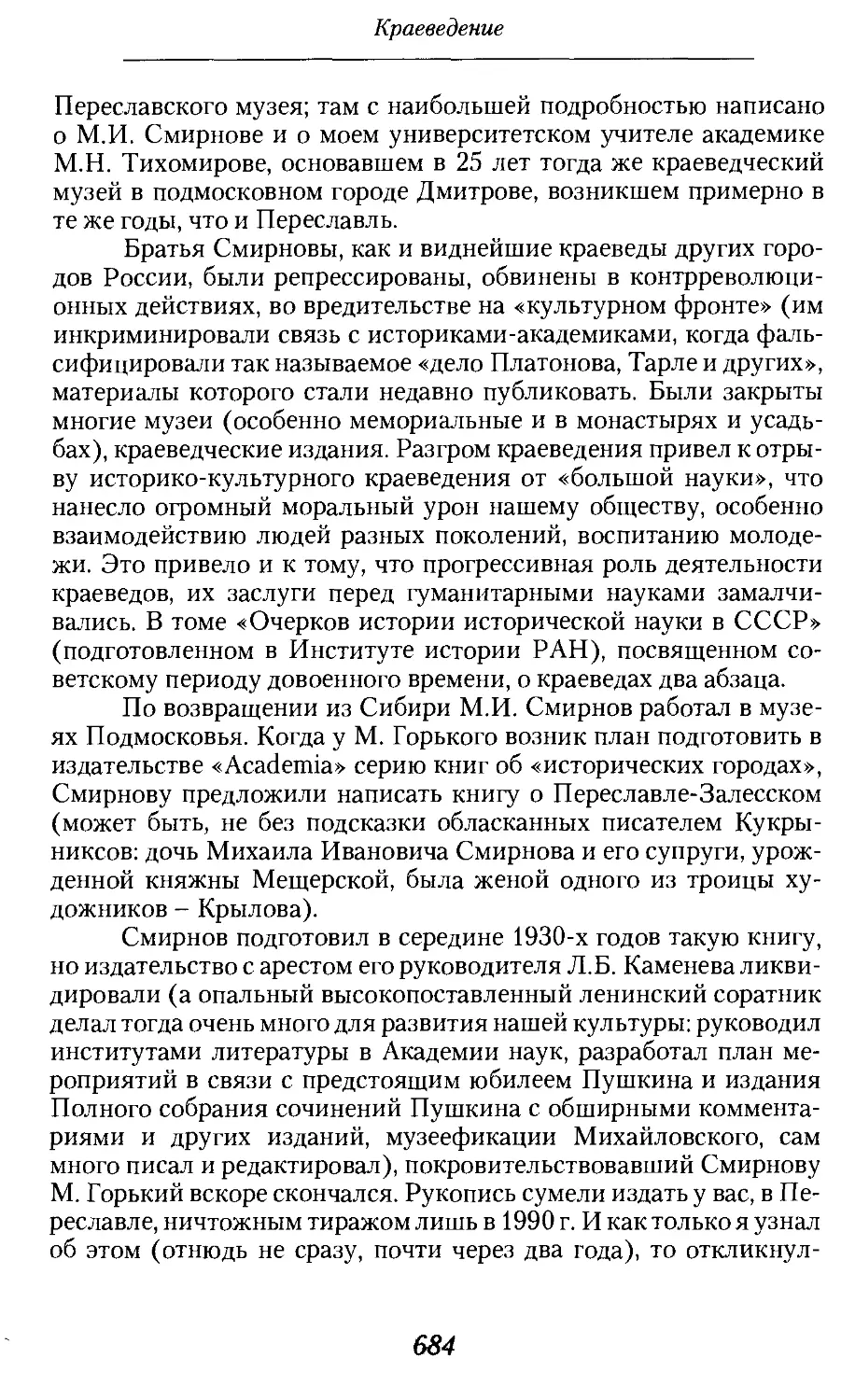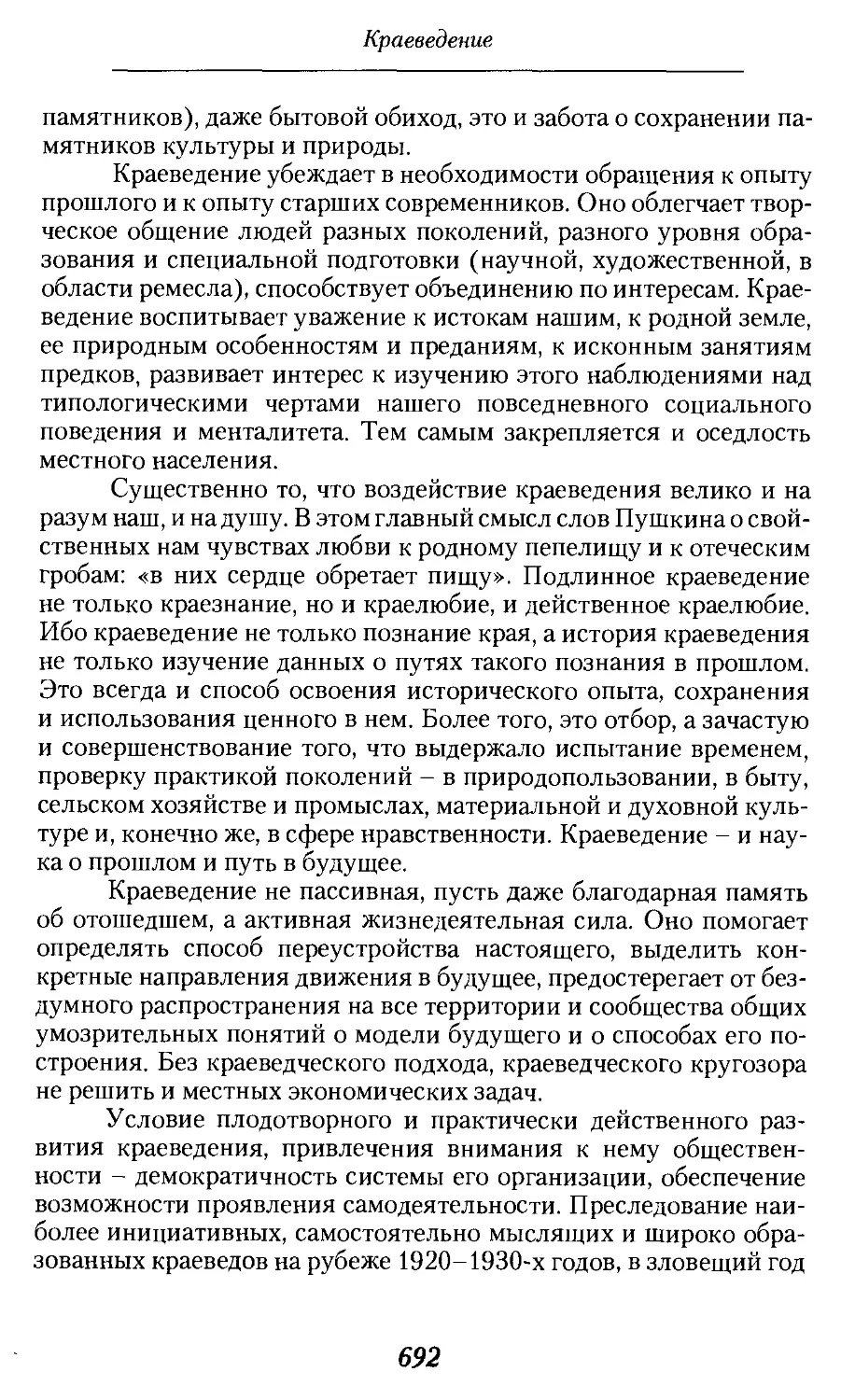Автор: Шмидт С.О.
Теги: историческая наука историография история российского государства история россии
ISBN: 978-5-7281-1312-6
Год: 2012
Текст
Российский государственный гуманитарный университет
С.О. ШМИДТ
Работы 1997-2001 годов
Москва
УДК 930(08)
ББК 63.3(2)я43
Ш73
Художник Михаил Гуров
На фронтисписе: С.О. Шмидт Фото Андрея Топычканова
ISBN 978-5-7281-1312-6
© Шмидт С.О., 2012
© Российский государственный гуманитарный университет, 2012
Содержание
Проблемы отечественной истории
«Московское государство»: к объяснению наименования Российского государства XVI-XVII столетий............ 11
Судебники и формирование системы делопроизводства в Российском государстве............................. 69
Документы внешних сношений и развитие культуры Руси допетровского времени................................ 76
Средневековье в государственном строе России Нового времени. 90
Декабристы в представлениях людей рубежа XX и XXI столетий..104
Сравнивая столетия и десятилетия..........................127
Источниковедение
Источниковедение в системе гуманитарных и естественных наук.148
К изучению источниковой базы трудов по исторической антропологии.........................................162
Традиции «точности» источниковедческого знания............164
Из истории отечественной культуры
Московский Кремль в культуре России.......................188
Первое издание «Слова о полку Игореве» в развитии культуры России ..........................198
Предисловие к книге «Василий Андреевич Жуковский -великий русский педагог».............................217
Московское детство Пушкина................................221
А.С. Пушкин и архивы......................................241
Пушкин и Пушкинский праздник в Москве 1880 г..............254
Классика отечественной археографии. О жизни и трудах Цявловских...........................................301
Пушкин на пороге нового тысячелетия.......................311
О книге Н. Полуниной и А. Фролова «Коллекционеры старой Москвы»........................327
Воспоминания П.И. Щукина. Из истории меценатства в России...329
М.С. Кузнецов - московский предприниматель и благотворитель.332
Цветаевы в культуре Арбата..................................334
Д.Б. Рязанов и российская интеллигенция.....................339
Вступление к книге о московском учителе словесности И. И. Зеленцове......................................350
О Якове Голосовкере.......................................369
Наследник российских просветителей В.Я. Лакшин............384
Булат Окуджава и «арбатство»..............................388
Основатель Музея А.С. Пушкина А.З. Крейн..................406
Издатель О.К. Дрейер......................................408
Д.С. Лихачев в культуре Москвы............................411
Роль Фонда культуры определялась союзом Д.С. Лихачева и Р.М. Горбачевой....................................419
Первый раз без Дмитрия Сергеевича.........................424
Историография
Е. А. Болховитинов и становление науки российской истории.432
О «жестокой летописи кн. Курбского».......................446
Наследие М.М. Богословского и А.Е. Преснякова.............457
Труд академика М.М. Богословского «Петр Великий: материалы для биографии».............................468
Жизнь и творчество историка С.Ф. Платонова в контексте проблемы «Петербург - Москва»........................487
Послесловие к репринтному изданию книги С.Ф. Платонова «Далекое прошлое Пушкинского уголка: Исторический очерк»...............................................491
Судьба историка Н.Л. Рубинштейна .........................496
К 25-летию кончины С.Н. Валка.............................539
Предисловие к сборнику памяти А.Д. и В. С. Люблинских.......545
Материалы академика Б. А. Рыбакова и о нем в архивном фонде академика М.Н. Тихомирова............................548
А.М. Разгон - историк музейного дела......................555
Юбилей москвоведа: 90 лет В.В. Сорокину...................561
М.Я. Геллер: штрихи к портрету............................564
Вспоминая В. И. Буганова..................................566
Светлый человек: к 70-летию со дня рождения Е.С. Сизова...573
70-летие академика В.Л. Янина...............................586
А.Л- Станиславский и традиции его кафедры..................589
Предисловие к книге А.Д. Зайцева «П.И. Бартенев и журнал “Русский архив”»....................................595
Книга А.А. Амосова «Лицевой летописный свод Ивана Грозного».597
Слово об А.А. Амосове......................................607
Археография. Архивоведение
Архивы Москвы: прошлое и настоящее.........................619
Развитие архивной культуры и академическая наука...........624
Архивы и историки-любители.................................648
О Каталоге личных архивных фондов отечественных историков .657
Юбилей Нины Андреевны Долдобановой.........................660
О книге В.Г. Бухерта «Архив Межевой канцелярии (1768-1918)».663
Краеведение
Региональная история в российской и зарубежной историографии: Вступительное слово..................................665
Обращение к читателям книги «Преподавание краеведения и москвоведения в высших учебных заведениях».........669
Краеведение в Историко-архивном институте ................673
Малые города России: проблемы истории и возрождения.......677
Современное состояние и перспективы развития краеведения в регионах России....................................688
Краеведение и региональная история в современной России....704
Вступительное слово на конференции «Малые города России: Малоярославец - проблемы истории и возрождения»......709
Обращение к участникам региональной научно-практической конференции «“Золотое десятилетие” иркутского краеведения: 1920-е годы».........................................715
Л.С. Кашихин - архивист, краевед..........................720
Именной указатель.........................................723
Ученикам моим по Историко-архивному институту, среди которых и самые близкие мне люди
«Московское государство»:
• к объяснению наименования Российского государства XVI-XVII столетий
В наши дни для обозначения государства, особенно его политики, нередко употребляют наименование столицы государства или даже расположенного там правительственного учреждения. И в таком контексте употребление слов «Москва», «Кремль» не является исключением. Но это, как правило, удел публицистики или узкоспециальной литературы, а не официальной документации. Встречается иногда применительно и к современным государствам словоупотребление «Германское (Российское, Французское...) государство». Однако сочетание в одном терми-ноопределении слова «государство» и наименования его столицы («Парижское, Берлинское, Мадридское... государство») не принято - так и не говорят, и не пишут.
Между тем в исторической литературе и в публицистике уже более полутора столетий признается общепринятым словосочетание «Московское государство» (а также «Московское царство»), Оно употребляется обычно как тождественное терминам «Российское государство» («Российское царство») и «Русское государство»; и в указателях к некоторым изданиям эти словосочетания рассматриваются как разные написания одного и того же термина, как, к примеру, в географических указателях к академическим изданиям VI и VII томов «Истории Российской» В.Н. Татищева под редакцией С.Н. Валка (Л., 1966; 1968); «Посланий Ивана Грозного» под редакцией В.П. Адриановой-Перетц (М., Л., 1951); «Московской хроники» К. Буссова (за 1584— 1612 гг.), перевод которой издан под редакцией И.И. Смирнова (М.; Л., 1961), исследования В.И. Саввы о Посольском приказе XVI в. (Дьяки и подьячие Посольского приказа XVI века: Справочник /
Впервые опубл.: «Московское государство»: к объяснению наименования Российского государства XVI XVII столетий // Шмидт С.О. Россия Ивана Грозного. М., 1999. С. 255-301.
Сост. В.И. Савва), изданного под редакцией автора настоящей статьи (М., 1983), в третьем томе серии «Российское законодательство Х-ХХ веков. Акты Земских соборов», подготовленном под редакцией А.Г. Манькова (М., 1985), и во многих других книгах, даже в томах Полного собрания русских летописей.
Словосочетание «Московское государство» находим в «Истории Российской» В.Н. Татищева, в IV ее части, с которой читатели ознакомились лишь в 1840-е годы. Излагая события 1535 г., историк пишет, что наместник Смоленска «многих детей боярских Московскаго государства да и смольян выслал из града против литовских людей», а рассказывая об установлении в 1610 г. Семибоярщины, замечает: «...все указы от себя посылали и челобитные им подавали тако: “Государем боляром Московского государства”». Впрочем, у Татищева в той же рукописи - словосочетания «Русскому государству», «Росиского государства», «царство Руское»1.
Встречается термин «Московское государство» и в «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина, причем не только в цитатах из исторических источников конца XVI - начала XVII в. (и из историко-публицистических сочинений,.и из документов внешних сношений), но и в авторском тексте: в VI томе историограф пишет, что Иван III «исчисляет... в титуле своем все особенные владения государства Московского»; обнаруживаем в авторском тексте «Истории» и словоупотребление «Московская держава» (т. VIII) при описании венчания Ивана IV на царство2.
Термин «Московское государство» - и в словаре А.С. Пушкина, пришедшего к постижению образа России XV-XVII вв. первоначально по томам «Истории» Карамзина. Правда, это словоупотребление в текстах, не напечатанных при его жизни. В письме П.А. Вяземскому из Михайловского от 13 июля 1825 г. Пушкин сообщает о заголовке, который намерен дать своему драматическому произведению, известному теперь под названием «Борис Годунов»: «Передо мною моя трагедия. Не могу вытерпеть, чтоб не выписать ее заглавия: Комедия о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и Гришке Отрепьеве писал раб божий Александр сын Сергеев Пушкин в лето 7333, на городище Воронине. Каково?»3 Того же примерно времени автограф Пушкина из коллекции А.Ф. Онегина (Отто). На верхней части листа читаем: «Комедия. О настоящей беде Моск. Госуд. О царе Борисе и о Гришке Отрепьеве...»4
В 1840-е годы «Московское государство» - уже распространенное словоупотребление публицистики, научных трудов и, можно полагать, устной речи. В.Г. Белинский предпочитал высокопарный и более эмоционально насыщенный термин «Московское царство» («...Московское княжество сделалось впоследствии Московским царством, а затем Российской империею»; «быстрая централизация Московского царства»; «идея самодержавного единства Московского царства в лице Иоанна III...»; «Московское царство, возникшее силою обстоятельств при Иоанне Калите и утвержденное гением Иоанна III, жило до Петра Великого» и др.)5. Вслед за Белинским терминосочетанием «Московское царство» пользовался Н.Г. Чернышевский6. Можно полагать, к восприятию именно их сочинений восходит определение молодого В.И. Ульянова «эпоха Московского царства» в неоднократно цитировавшемся положении его работы 1894 г. «Что такое “друзья народа” и как они воюют против социал-демократов?» о возникновении всероссийского рынка7. Профессор К.Д. Кавелин в изданном в 1847 г. труде «Взгляд на юридический быт Древней Руси», в основе которого курс лекций по истории русского права, читанный в Московском университете в середине 1840-х годов, употребляет (и не раз) термин «Московское государство», причем применительно и к первой половине XV в., и даже ранее. Напомнив об Иване Калите, он пишет: «Эта небольшая княжеская вотчина через столетие выросла в Московское государство», а о времени правления его сына Симеона говорит: «Вот каковы были первые зачатки будущего Московского государства, обнявшего всю Россию!»8 Едва ли не под воздействием мыслей Кавелина и Белинский в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» охарактеризовал Ивана Калиту и Симеона Гордого как «первоначальников силы Московского царства».
С.М. Соловьев широко пользуется термином «Московское государство», начиная с пятого тома многотомной «Истории России с древнейших времен», посвященного времени правления Ивана III и Василия III (изданного в 1855 г.). В предшествовавшем томе последняя глава о внутреннем состоянии русского общества в 1228-1462 гг. кончается фразой: «Общий ход русской истории до образования Московского государства». И вслед за тем «самостоятельные» «Русское государство» в Северо-Восточной Руси и «Московское государство» рассматриваются как тождественные понятия. Ивану III - по убеждению историка - «принадлежит почетное место среди собирателей Русской земли, среди образовате-
лей Московского государства». Комментаторы книги последнего издания «Истории» так отмечают: «Проблема Московского государства, его происхождения и закономерностей развития занимает главное место в общей исторической концепции С.М. Соловьева»9. С тех пор терминосочетание «Московское государство» прочно утверждается в общественном сознании (как и терминосочетание «Московская Русь») для обозначения Российского государства конца XV-XVII в. (обычно со времени правления Ивана III), «допетровской Руси»; тем самым уточняются и хронологические границы «московского периода» отечественной истории и истории российской государственности.
Такая терминология - в трудах Н.И. Костомарова, историков права М.Ф. Владимирского-Буданова и В.И. Сергеевича, основателя петербургской школы историков К.Н. Бестужева-Рюмина (в 1864 г. книге для народного чтения он дал название «О том, как росло Московское государство»), в заголовках подготовленных Русским историческим обществом изданий памятников дипломатических сношений (с Англией, с Польско-Литовским государством, со Швецией). В.О. Ключевский - глава школы московских историков - книге молодых лет дал название «Сказания иностранцев о Московском государстве». Этот термин -и в названиях разделов, и в тексте его знаменитого «Курса русской истории» и не раз переиздававшегося «Краткого пособия по русской истории». Он и в заголовках книг петербургских ученых -будущих академиков А.С. Лаппо-Данилевского («Организация прямого обложения в Московском государстве со времени смуты до эпохи преобразований». СПб., 1890) и С.Ф. Платонова («Очерки по истории смуты в Московском государстве XVI-XVII вв.». СПб., 1899). При этом словосочетания «Московское государство» и «Московская Русь» употреблялись, по существу, однозначно, как, к примеру, в названиях книг петербургского историка Н.Д. Чечулина («Города Московского государства в XVI в.». СПб., 1889) и московского историка Н.А. Рожкова («Сельское хозяйство Московской Руси в XVI в.». М., 1899). Термин «Московское государство» - в тексте обобщающего типа книг П.Н. Милюкова («Очерки по истории русской культуры») и Г.В. Плеханова («История русской общественной мысли»), в многочисленных работах историков права, в трудах по истории русской церкви, истории древнерусской литературы и древнерусского искусства, в названиях документальных публикаций и в текстах трудов по организации внешних сношений России (С.А. Белокурова,
В.И. Саввы, С.М. Середонина и др.). Перечень дореволюционных изданий, с термином «Московское государство» в заголовке, тем более в тексте, нетрудно продолжить.
Термин «Московское государство» имел широкое распространение и в первые советские десятилетия. Причем его встречаем и в трудах М.Н. Покровского (в прочитанном В.И. Лениным однотомнике «Русская история в самом сжатом очерке» и в других), и лиц его окружения, и в изданных тогда работах ученых старой школы - С.Ф. Платонова в Петрограде-Ленинграде, М.М. Богословского в Москве и их учеников; показательно, что и первый печатный труд Л.В. Черепнина - статья 1928 г. в седьмом томе Ученых записок Института истории РАН ИОН - имеет название «Из истории борьбы за крестьян в Московском государстве в начале XVII в.». Наименование «Московское государство» - в заголовках разделов книги 1933 г. «Материалы для библиографии по истории народов СССР. XVI-XVII вв.». В 1938 г. статьи «Московское государство» появились и в первом издании Большой советской энциклопедии (т. 40), и в Малой советской энциклопедии (т. 7). Это - термин и эмигрантской русскоязычной исторической литературы (в том числе обобщающих трудов по истории России Е.Ф. Шмурло, Г.В. Вернадского1*, С.Г. Пушкарева), и недавних зарубежных книг. Так, книга 1987 г. видного американского специалиста по истории России Р. Крамми (Сгшптеу) имеет название «The Formation of Moscovy. 1304-1613»11. Показателен и заголовок очерка Ж.-К. Роберти «L'image de la Moscovie dans 1'opinion franchise du XVII-e siecle» (1991) в книге «L'image de la Russie dans la France des XVIe et XVIIe siecles»12. Следовательно, и в трудах зарубежных ученых подразумевается тождественность терминов «Московия» и «Россия» в XVI-XVII столетиях.
И после издания с конца 1930-х годов стабильных учебников по отечественной истории для высшей и средней школы, где употребляется политоним «Русское государство», получивший *
•’ Любопытна в этом плане дневниковая запись (от 20 декабря 1965 г.) Г.В. Вернадского, которого в Нью-Хэвене (там ученый много лет был профессором Йельского университета) посетил молодой тогда еще историк Р. Крамми: «Теперь он с одним англичанином подготовляет новое издание главных известий англичан о Московии XVI в. - советовался со мною по этому поводу»10. В заголовке книги, вышедшей в 1968 г., названа не «Московия», а «Россия», но в первой же фразе Предисловия и на обложке-рекламе - термин «Muscovy».
широкое распространение в учебных программах и в учебнопопулярной литературе, продолжают выходить монографии, в заголовках которых - словосочетание «Московское государство». Пример тому - книги А.И. Яковлева «Холопство и холопы в Московском государстве XVII в.» (М., 1943) и А.А. Новосельского «Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII века» (М., 1948). В словаре С.Б. Веселовского термин «Московское государство» - и в заголовке дореволюционного исследования о сошном письме, и в трудах 1940-х годов о России времени Ивана Грозного. Термин «Московское государство» («Московская держава») сохранен в переизданиях в 1940-е годы книги Р.Ю. Виппера 1922 г. «Иван Грозный». В изданном посмертно, в 1958 г., исследовании В.Э. Грабаря «Материалы к истории литературы международного права в России (1647-1917)» очерк первый озаглавлен «Московское государство (XVII век)». Б.А. Рыбаков дал своей книге 1974 г. название «Русские карты Московии XV -начала XVI века». В книге 1978 г. лексикографа Ф.П. Сергеева о языке древнерусской дипломатии одна из глав имеет заголовок «Название дипломатического ведомства Московского государства»13; С.А. Елисеев в серии издательства «Молодая гвардия» «История отечества в романах, повестях, документах» изданный в 1986 г. том о XVI в. озаглавил «Московское государство». Подготовленная в серии «Россия в мемуарах дипломатов» под редакцией и со вступительной статьей Н.М. Рогожина книга 1991 г. имеет такой заголовок; «Проезжая по Московии (Россия XVI-XVII веков глазами дипломатов)». Примеры можно множить.
Термины «Московское государство», «Московская Русь», даже «Московская земля» воспринимались и как географическое (или историко-географическое) понятие, и как государственнополитическое, как политоним. С.М. Соловьев отмечает: «Можно сказать, что северо-восточная Россия, или Московское государство, для западноевропейских держав было открыто в одно время с Америкой»14. В другом месте он пишет о присоединении Малороссии в XVII в. «к России Великой, или Московскому государству». А.Е. Пресняков в книге 1918 г. «Московское царство» (в тексте которой не раз встречаются и термины «Московское государство», «Московская Русь») рассуждает: «Терминология грамот Ивана III колеблется в обозначении комплекса его владений. Понятие о великом княжении то суживается до пределов Московско-Владимирской области (Московского государства в тесном смысле слова, по обычному разумению XVI в.), то обнима
ет и Новгородский край: более широкое определение достигается употреблением термина “все великие княжения”»15.
Широкое бытование термина «Московское государство» в научной, публицистической и, главное, в учебной литературе объясняется тем, что он служил прежде всего для обозначения определенного периода истории России, когда на смену феодальной раздробленности пришло единое суверенное централизованное государство со столицей в Москве и в то же время еще не было реформ Петра I, повлекших за собой утверждение Российской империи со столицей в Петербурге, т. е. для обозначения допетровской Руси, государственности допетровского периода, отличающегося от последующего времени не только в социокультурном плане, но и системой организации управления, когда действовали приказы, боярская дума, земские соборы. Это лаконично, как и свойственно энциклопедическим справочникам, объяснено в статье первого издания БСЭ: «Принятое в история, работах название русского государства времен великих князей и царей московских (от конца 15 до 18 в.), предшествовавшего образованию Российской империи»16. Автор статьи - С. В. Бахрушин, позже занимавшийся изучением прошлого Москвы, редактор первого тома многотомной «Истории Москвы» (изданного в 1952 г.).
Эти представления восходят к широко распространенным историческим воззрениям Н.М. Карамзина. В 1818 г. читающая Россия познакомилась сразу с первыми восьмью томами его «Истории государства Российского», вскоре переведенной и на иностранные языки17. Первая глава шестого тома «Истории», озаглавленная «Государь державный великий князь Иоанн III Васильевич», начинается словами: «Отселе История наша приемлет достоинство истинно государственной, описывая уже не бессмысленные драки княжеские, а деяния царства, приобретающего независимость и величие. Разновластие исчезает вместе с нашим подданством; образуется держава сильная, как бы новая для Европы и Азии, которые, видя оную с удивлением, предлагают ей знаменитое место в их системе политической... Посольства великокняжеские спешат ко всем дворам знаменитым; посольства иноземные одно за другим являются в нашей столице... приветствуют монарха российского, славного победами и завоеваниями, от пределов Литвы и Новгорода до Сибири... Москва украшается великолепными зданиями». Иван III властвовал «для величия и славы россиян»18. Характерно, что уже в этом фрагменте текста встречаем, по существу, в одном значении слова (или произво
дные от них) «государство», «царство», «держава», «монархия» россиян.
Еще прежде, в 1811 г., те же мысли о ходе отечественной истории Карамзин сформулировал в «Записке о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях», предназначенной для крайне узкого круга лиц императорской фамилии. В «Записке» Карамзин не раз напоминал о «князьях московских», об их «глубокомысленной политике», о том, что создание централизованного государства в России - «великое творение князей московских»: «Князья московские учредили самодержавие. Отечество даровало его Романовым»19. И именно такие взгляды, опираясь на суждения историографа, на рубеже 1820-1830-х годов друг и почитатель Карамзина В.А. Жуковский - наставник наследника российского престола - внушал своему питомцу (в будущем Александру П)20.
В.О. Ключевский в разделе «Московское государство (1462-1598)», характеризуя «собирание Русской земли Москвою», отмечает его «ускоренный ход» со второй половины XV в., когда великорусская народность «соединилась под одной государственной властью», и «это сообщило новый характер Московскому княжеству»: «завершение территориального собирания северо-восточной Руси Москвой превратило Московское княжество в национальное великорусское государство и, таким образом, сообщило великому князю московскому значение национального великорусского государя»21. Та же мысль - в «Лекциях по русской истории» С.Ф. Платонова, неоднократно переиздававшихся: княжество московского великого князя «выросло в национальное государство Московское»22. А.Е. Пресняков в книге 1918 г. пишет: «Московия, выступившая в конце XV в. на европейском горизонте, в XVII в. входит в ряд европейских держав. Но это уже не то великорусское Московское государство. Великорусский центр -только опорный пункт для перестройки Московского царства в обширную империю»23.
Постепенно закрепляются иные взгляды на этнические характеристики этого явления и хронологические рамки процесса -подчеркивается то, что централизованное государство в России образовалось как многонациональное во главе с формирующимися в нацию тогда же великороссами, язык которых стал главенствующим и объединяющим жителей огромной государственной территории, и процесс оформления централизованного государства с едиными законами и системой управления был более дли
тельным и растянулся и на XVI в.24 Но ясно то, что наименования и «Московского государства», и «Русского государства», и «Российского государства» относили именно ко все более централизующемуся суверенному государству, обретающему значительную роль в международных отношениях и Европы и Азии.
Это отражает и отсутствие единообразия в наименовании своего государства в России XVI-XVII столетий. В вышедшей в 1995 г. книге последовательницы школы Ю.М. Лотмана М.Б. Плюхановой «Сюжеты и символы Московского царства» справедливо отмечается: «Наименования великорусского государства в XV-XVII вв. были многообразны и неустойчивы: Русь, Русия или Великая Русия, Россейская или Руская земля, Россей-ское, или Русское, или Московское царство, Московское государство и пр. Древнерусские книжники были далеки от терминологической определенности...»25
Бытование в XIX-XX вв. в литературе наименования «Московское государство» объяснялось не только учебнометодическим удобством, выделяющим в истории России словоупотреблением «Московское» этот период и его особенности, но и тем, что процесс образования централизованного государства в России историки во многом сводили к возвышению Москвы, во всяком случае связывали с ним (в чем можно было убедиться и по приведенным выше цитатам); хотя в оценке роли московских князей в этих событиях в дореволюционной литературе не было единообразия взглядов: это четко показано в книге М.А. Дьяконова об общественном и государственном строе Древней Руси, в разделе «Мнения о возникновении Московского государства»26.
Самое существенное для нашей темы то, что политоним «Московское государство» не является изобретением ученых. Историки опирались на терминологию исторических источников XVI-XVII вв. - и отечественных, и зарубежных. Это - терминология современников.
В западноевропейских памятниках письменности и географических картах первоначально более употребительным было наименование «Московия» и соответственно жителей ее -«московитами». Б.А. Рыбаков в упоминавшемся уже исследовании о картах дал емкое определение термина «Московия»: «Совокупность нескольких десятков русских княжеств, оказавшихся в короткий срок под властью Москвы»27.
Такие термины - и в заголовках западноевропейских сочинений о России и о россиянах вплоть до конца XVII столетия, при
чем написанных и теми, кто побывал в России, и теми, кто писал с чужих слов или опираясь на ранее изданное. Это теперь нетрудно проследить после выхода в США в 1995 г. книги Маршалла По об иностранных описаниях Московии28; и библиографический труд американского ученого дает основание именно такому заголовку его книги - и государственно-политическая и географо-этническая терминология. Впрочем, и она тоже - как и терминология русскоязычных источников - не отличается определенностью и устойчивостью: одновременно (и постепенно все в большей мере) фигурирует и термин «Россия» (или его модификации).
Термины «Московия» и «московиты», выявленные в зарубежной документации еще рубежа XV и XVI вв., - в заголовках трактатов голландского гуманиста Альберта Кампенского, состоявшего при папской курии (1523/24 г.), и немца Иоганна Фабри, советника австрийского эрцгерцога (1525 г.). В сочинении Фабри, основанном на рассказе возвращавшихся из Испании послов московского государя, утверждается: «...из-за того, что царский град всей области назван Москвой2’, они и сами приняли имя московитов»30. Однако земли, подвластные московским государям (т. е. северо-восточную часть бывшей территории Древнерусского (Киевского) государства), называли в XV^XVII вв. также и «Великой Русью» («Великой Росией»), и «Белой Русью» («Белой Росией»), Сведения об этом обобщены в опирающихся на разноязычные источники статьях А.В. Соловьева еще 1940-х годов31.
В книге 1525 г. знаменитого итальянского гуманиста Паоло Джовио (Джиовио) о посольстве Василия III к папе римскому основное обозначение владений «великого князя Московского» - «Московия» («Москховия - «Moschovia»). Сочинение это в значительной мере написано со слов посольского переводчика Дмитрия Герасимова - одного из самых образованных подданных московского государя32, информация которого, видимо, в основе и географической карты, составленной в 1525 г. Г. Аньезе и названной «Moscoviae tabula...»33. То же название этой территории и в другой недавно изученной карте того же времени34.
г" Венецианец А. Контарини, побывавший в России в 1476-1477 гг., называет г. Москву Московией29. (Его сочинение напечатано впервые в 1487 г.) Подобное встретим в сочинениях иностранцев и более позднего времени.
Сочинение историка Джовио, признаваемого одним из родоначальников публицистики и журналистики Нового времени, как и пространные записки гуманистически образованного имперского посла в Москву в 1517 и в 1526 гг. С. Герберштейна, напечатанные впервые в 1549 г., чаще других переиздавались, переводились с латинского языка на современные языки и во многом определяли представления западноевропейцев о нашей стране. Книга Герберштейна называлась «Rerum Moscoviticarum Commentary...» (в русском переводе - «Записки о Московии», «Записки о моско-витских делах»)35.
Часто произведения Джовио и Герберштейна публиковались вместе, и понятно, что именно терминология этих сочинений в трактате 1566 г. «Метод легкого изучения истории» знаменитого французского политолога-публициста Жана Бодена, где он полагает необходимым изучение истории «московитов, которые победоносно продвинулись от Волги и Дона до Днепра и недавно завоевали Ливонию»36. Французский дипломат, описывая «беско-ролевье» в Польше 1572 г., тоже называет Ивана IV «Московит»37. Агент императора Максимилиана II, ведший в Польше переговоры с А.М. Курбским, в донесениях императору 1570 г. пользуется только терминами «Московия», «московиты» и применительно к царю Ивану IV - тоже «Московит»38. С тем же встречаемся в дипломатической и иной документации Скандинавских стран39. Там фигурируют также термины «Мосх», «Моск» («Mosch», «Mosci»), встречающиеся и в сочинениях иностранцев о России, и в сочинениях пишущих по-латыни польских поэтов (отсюда -«москаль»)40. Это - и термины массовых изданий, к примеру, в анонимных сочинениях о россиянах и об их царе времени Ливонской войны, в частности в «летучих листках», детально изученных А. Каппелером41. Такого же стиля выражение в «Послании» 1572 г. И. Таубе и Э. Крузе, ливонских дворян, бывших ранее на царской службе, - «московский враг»42. Можно утверждать, что термины «Московия», «московиты», даже «Московит» применительно к царю были широко распространены, даже общеприняты при Иване Грозном в международной дипломатии, международных торговых сношениях, в международной публицистике, пожалуй, и в международной науке. Потому вполне объяснимо, что организованная практически мыслящими английскими коммерсантами в 1555 г. компания для торговли с Восточной Европой и Азией получила наименование «Московская». И великолепный знаток разноязычных источников о России XVI-XVII вв.
Ю.В. Готье, конечно, намеренно выбрал заголовком книги 1937 г. с переводами сочинений англичан о владениях Ивана Грозного такой - «Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке».
Герберштейн - автор наиболее обстоятельного труда о России, основанного и на визуальном знакомстве со страной, и на изучении едва ли не всей имевшейся к тому времени литературы, подразумевая под Россией территорию Древнерусского государства, писал: «Руссией владеют ныне три государя; большая ее часть принадлежит [великому] князю московскому, вторым является великий князь литовский, третьим - король польский, сейчас владеющий как Польшей, так и Литвой»43. В другом месте своего сочинения автор счел необходимым отметить: «Итак, город Московия (Moscowia), глава и столица Руссии, и самая область, и река, которая протекает по ней, носят одно и то же имя: на родном языке народа они называются Московой (Mosqua)»44. Следовательно, Герберштейн выделяет еще домен московского великого князя (хотя, как установил Е.Е. Замыс-ловский, он не во всем точен в определении границ Московского княжества)45. Герберштейн указывает и на то, что Иван III «стал величать себя монархом всей Руссии». Фактически Герберштейн «Московией» называет владения, подчиненные власти («dominium») московского государя, и московитами - только его подданных. Но в то же время он пишет о городе Москве как о «главе и столице» России, о Новгороде Великом как о «самом большом княжестве во всей Руссии»46, и под портретом Василия III - подпись: «Царь и государь русских» («Russorum rexet dominus sum»). M.H. Тихомиров замечает, что характер подписи от имени самого Василия III показывает, что это - латинский перевод русского текста, в котором сам Василий III называет себя русским, а не московским царем47. И потому, хотя у Гербер-штейна и обнаруживается стремление дать и историческое (исходя из происхождения наименований, соотношения прежних и нынешних наименований местностей и их обитателей), и современное политико-географическое истолкование терминов «Россия» («Руссия») и «Московия» и их различий, все же заметно и совмещение понятий, определяющих (уже в соответствии с нашими современными представлениями) термины «Российское государство» и «Московское государство».
В сочинениях менее образованных (тем более в меньшей мере научно подготовленных) иностранцев, писавших о России
XVI-XVII вв., подобная нечеткость заметна в еще большей степени - и нечеткость терминологии, и нечеткость знаний о пределах территории, подвластной московскому государю. К.Г. Лукомский в очерке 1922 г. «Московия в представлениях иностранцев XVI-XVII вв.» заметил, что Московия, по понятиям иностранцев, это не только центральная Россия, но и юг (с Киевом), и северный Архангельск, и Каспий, и Сибирь, и даже Кавказ - «все это, вместе взятое: границы не были четко очерчены48.
Эту очевидную нечеткость счел обязательным особо подчеркнуть еще в изданной в 1607 г. в Париже книге «Состояние Российской империи и великого княжества Московского» («Estat de 1'Empire de Russie et Grand Duche de Moscovie») капитан Жак Маржерет, несколько лет проведший в России. В «Предуведомлении читателю» сообщается, что «Российская империя представляет собой часть страны, которую издавна называли “Скифией”, и “скифами” еще и сегодня называют “татар, которые прежде были повелителями России”. Когда русские (Russes) сбросили иго татар и христианский мир кое-что узнал о них, они “стали называться московитами - по главному городу Москве, который носит княжеский титул”. И “ошибочно называть их московитами, а не русскими, как делаем не только мы, живущие в отдалении, но и более близкие их соседи. Сами они, когда их спрашивают, какой они нации (quelle nation), отвечают: Russac, то есть русские (qui veut dire Russes), а если их спрашивают: откуда, они отвечают: “из Москова, Москвы (is Moscova, de Mosco), Вологды, Рязани или других городов”. И должно знать, что есть две России (il е а deux Russies) - та, что носит титул империи, которую поляки называют Русь Белая (“la Russie blanche”), и другая - Русь Черная (“la Russie noire”), которой владеет королевство Польское”. Господином ее величает себя польский король, когда говорит “великий князь Литвы, Руссии, Пруссии и т. д.”. Об этом я хотел предуведомить читателя, чтобы он знал, что русские (“les Russes”), о которых здесь идет речь, это те, кого некогда называли скифами, а с некоторых пор ошибочно московитами (“Moscovites”), поскольку московитами могут называться жители всего лишь одного города; все равно как если бы всех французов стали называть парижанами по той причине, что Париж - столица королевства Франции; да и то с ббльшим основанием, поскольку Париж - столица с незапамятных времен, а Москва является ею не более ста или двухсот лет. И сокращенный титул “Царь, господарь и великий князь всея Руссия” можно толковать как “всех русских или всей Рус-
сии” (de tous les Russes, ou de toute la Russie), но не “московитов или Московии”. Чтобы отличать Черную Русь от иной, поляки все расположенное по ту сторону Днепра называют Русью Белой. А в сочинении этом говорится о Руси Белой, “ныне Московии (et maintenant Moscovie)”»49.
Сочинение Маржерета заинтересовало парижан, а знаменитый тогда автор универсальной «Истории своего времени» («Historia suis temporis») де Ту, главный хранитель королевской библиотеки, создавший именно в ту пору очерк по истории России, долго беседовал с Маржеретом50. В его очерке о России находим рассуждение о происхождении «руссов» и «московитов» (опирающееся на мнение Герберштейна), словоупотребление терминов и «Московия», и «московиты» и в то же время и наименования Россией всей Восточной Европы (об Иване III, который присоединил Новгород «к своей империи и унизил всех других князей России») и русскими - подданных царя Ивана IV51.
Употребление наименований «Московия», «московиты» для обозначения «России» и «русских» находим в заголовках (не говоря уже о текстах) многих, если не большинства, западноевропейских сочинений XVI и даже XVII вв. о современной им России (причем иногда в написании «Moshcovia», так как слово это пытались связать с наименованием полулегендарных «москов», «мосхов») .
Термины «Московия», «московиты» встречаются в трактате Михалона Литвина (видимо, это Венцеслав Николаевич, бывший многие годы латинским секретарем канцелярии Великого княжества Литовского52), в написанном Кл. Адамсом сочинении о плавании англичанина Р. Ченслора в 1553 г. и о его пребывании в России, в рассказе венецианца М. Фоскарини о России 1557 г., в записках англичанина А. Дженкинсона (1557), венецианца Ф. Тьеполо (1560), в сочинениях итальянского купца Р. Барбери-ни (побывавшего в России в 1565 г.), папского дипломата Ф. Руд-жиеро (1568), в знаменитых описаниях опричнины Ивана Грозного, составленных немцами А. Шлихтингом и Г. Штаденом, в труде французского космографа А. Теве (1575), в сборнике рассказов путешественников, подготовленном англичанином Р. Иденом (1577), в сочинениях итальянца на польской службе А. Гваньи-ни (1578), папского дипломата А. Поссевино, участника походов польского короля Стефана Батория Р. Гейденштейна (1584), православного архиерея Арсения Елассонского, побывавшего в России в 1589 г., имперского дипломата Н. Варкоча (1593), Геррита де
Веера, сопровождавшего голландца В. Баренца (1599), немецкого купца Х.Г. Пейрле (1606), прожившего несколько лет в России голландского коммерсанта И. Массы (сочинение его впервые издано в 1612 г.), англичанина Т. Чемберлена (1612), шведского дипломата П. Петрея (его произведение напечатано в 1615 г.).
Встречаются эти термины и в сочинениях середины и конца XVII в. (в том числе и в наиболее обстоятельных): голштинского дипломата А. Олеария (записки его изданы в 1647 г.), английского писателя и государственного деятеля, советника Кромвеля Джона Мильтона, имперского дипломата А. Мейерберга (1660-е годы), голландца Я. Стрейса, побывавшего в Восточной Европе на рубеже 1660-х и 1670-х годов, польского агента Я. Рейтенфель-ста (издавшего свое сочинение в 1680 г.), польского дипломата Б.Ф. Таннера (жившего в России в 1678 г.), саксонского дипломата Л. Рингубера (посетившего Россию в 1684 г.), итальянца Э. Цани (1680-е годы). И даже в 1698 г., в год Великого посольства в Европу, в Париже издали книгу побывавшего в России в 1689 г. де ля Невилля под названием «Любопытное новое известие о Московии...». В заголовке читаем и об «экспедиции московитов в Крым в 1689 г.». Любопытно, что хорошо знавший и Россию и россиян голландский ученый и государственный деятель Николай Витсен, тогда бургомистр Амстердама, сообщая великому немецкому ученому Лейбницу о недовольстве участников Великого посольства записками Невилля, называет их «московскими послами»53.
И карта России, составленная в 1706 г. французским географом Г. Делилем, имеет название «Carte de Moscovie». Консультантом Делиля признают русского дипломата А.А. Матвеева, ведшего в Париже переговоры о заключении торгового договора54. Матвеев был не только просвещенным деятелем, автором исторических сочинений, но и сыном главы Посольского приказа А.С. Матвеева, руководившего в начале 1670-х годов работой по подготовке официальных трудов по истории России и ее государей, и, следовательно, знатоком современной исторической государственно-политической терминологии. Наименование России Московией и россиян московитами, видимо, настолько укоренилось в сознании, что было в речевом обиходе и в годы правления Людовика XV. Напомним о пушкинской «Пиковой даме», об описании Пушкиным пребывания в молодые годы графини в Париже, когда «народ бегал за нею, чтоб увидеть la Venus moscovite» .
Уже в XVI в. термины «Московия» и «Россия» начинают восприниматься как тождественные3*, хотя в наиболее обстоятельных сочинениях о Восточной Европе и о владениях государя всея Руси стараются, как отмечалось уже, объяснить сосуществование или различие этих наименований, а также утверждение термина «Московия». Английский посланник гуманистически образованный Дж. Флетчер озаглавил свое сочинение, впервые изданное отдельной книгой в Лондоне в 1591 г., «О государстве Русском, или образ правления русского царя, обыкновенно называемого царем московским...» («the Russe Emperour (commonly called the Em-pereur of Moskovia)») . Он пишет: «Название Москвы сделалось славным, более известным свету, так что Московией стали называть не одно княжество, но всю Россию по имени ее столицы»56. Возвращавшийся вместе с Флетчером в Англию в 1589 г. Дж. Горсей, на информацию которого Флетчер в определенной мере опирался в своем сочинении57, вспоминает в «Путешествии»: «Я прибыл в Московию, обычно называемую Россией (Russia)»58. В заголовке сочинения наблюдавшего события Смутного времени немца К. Буссова слова: «...in Moscowiter Land oder Reussland» («в московитской земле или России»)59. В середине XVII в. А. Олеа-рий объясняет: «Россия, или, как некоторые говорят, Белая Русь (именуемая по главному и столичному городу Москве, лежащему в середине страны, обыкновенно Московией)»60. Г.М. Айрманн, получивший университетское образование в Германии, немец на шведской службе, побывавший в свите посольства в 1669-1670 гг. в Восточной Прибалтике и России, раздел с показательным в аспекте наших интересов названием «Великокняжество Московия, или Руссия» начинает словами: «Об этой огромной стране имеется так много в публичной печати не только по старым, но и по новым описаниям путешествий...» Псков он называет «знаменитым городом в Московии»61. Мейерберг тоже пишет как об общепринятом: «Великая Россия, или Россия Московитская, обычно называемая Московией». Эту цитату приводит В.О. Клю
3* Иногда так же воспринимаются и термины «московиты» и «русские». А. Шлихтинг - немецкий рыцарь, плененный при взятии литовской крепости, живший в Москве в 1565-1570 гг. и знавший славянские языки, - в докладе, написанном для польского короля, сообщал, что по имени «знаменитой реки Москвы называется обширный город Москва: она дала это имя московитам, так как иначе они называются руссами или рутенами»55.
чевский в «Сказаниях иностранцев о Московском государстве» и констатирует: «Московское государство в XVII веке было самым обширным из всех европейских государств»62.
Понимание под «Московией» государства московского государя особенно явственно заметно в написанном Антонио Поссевино, который был папским представителем в России в начале 1580-х годов. В трактате «Московия» термин этот объясняется в первой же фразе - «Владения великого князя Московского». Большие города - некогда центры самостоятельных государств, названия которых входят в царский титул, - воспринимаются Поссевино как города Московии; и не только Новгород, Тверь, Смоленск, но и Казань и Астрахань, т. е. все государство Ивана Грозного. Существенно и то, что Поссевино называет Московией это государство и в дипломатической переписке - в письмах, адресованных польскому королю, королеве, великому канцлеру, даже самому Ивану IV. Термин «Московия» - и в письмах канцлера Яна Замойского к Поссевино63.
А.Л. Хорошкевич обосновывала мнение, что название «Московия» в начале XVI в. стало господствующим в языке западноевропейцев под воздействием государственно-политических интересов Польско-Литовского государства и поддерживавшей его папской курии, и из Польши оно распространилось в Западную Европу. Это - тема опирающейся на многообразные источники статьи 1976 г. «Россия и Московия: Из истории политикогеографической терминологии»64. Повторив такой вывод в книге 1980 г., А.Л. Хорошкевич замечает: «В странах же Северной Европы, равно как и при дворе императора, сохранилось правильное этнографическое название - Руссии или России»65. Последнее утверждение, как нетрудно убедиться из предыдущего изложения, опровергается данными о наименовании владений («земли») московского государя во многих зарубежных сочинениях, появившихся отнюдь не только в Польско-Литовском государстве или в окружении папы римского. Замечание же, будто итальянцы, если «записывали сведения о Руси со слов русских же дипломатов», то «уточняли, что речь шла о Руси», а не о Московии, находится в противоречии с первыми же сочинениями о государстве Василия III (Джовио и Шабри), основанными как раз на рассказах российских дипломатов.
По мнению А.Л. Хорошкевич, «внутри бывшего Московского княжества» укрепилось «иное самоназвание», а «Московским государством» называли его в Литовском княжестве66. В работе
1993 г. «Символы русской государственности», написанной популярно и не имеющей научного аппарата, эти положения сформулированы так: «...в Вильнюсе Ивана III упорно именовали князем “Московским”, а страну - “Московским государством’’». Долго общаясь с польско-литовскими послами, эту терминологию усвоил и Иван Грозный, хотя официальным названием страны после его венчания на царство в 1547 г. стало «Российское царство»67. История возникновения и распространения терминов «Московское государство», «Московия», «московиты» не представляется, однако, столь однозначно простой.
Действительно, наименование «Русь» («Русия») имели и земли, подвластные тогда монарху Польско-Литовского государства, а титулатура его и позднее напоминала о том, что он «великий князь русский». (Этот титул воспроизводился и в российских посольских книгах.) Существенно и то, что эти земли, называвшиеся «русскими», - бывшие южные и западные земли Древнерусского государства XI столетия - стал рассматривать как свое наследственное владение московский великий князь, объявивший себя «государем всея Руси». Он настойчиво повторял, что «Русская земля от наших предков из старины наша отчина; вся Русская земля Божией волею наша отчина». В.О. Ключевский (а подобного содержания цитаты были в трудах и его знаменитых предшественников Карамзина и Соловьева) заключает: «Итак, вся Русская земля, а не одна только великорусская половина ее объявлена была вотчиной московского государя. Эта мысль об единстве Русской земли из исторического воспоминания теперь превращается в политическое притязание, которое Москва и спешила заявить как свое неотъемлемое право»68. Чтобы не было сомнений, дипломаты Ивана III на переговорах о подписании «вечного мира» с Великим княжеством Литовским в начале XVI в. заявляли: «Ано не то одно наша отчина, кои городы и волости ныне за нами: и вся Русская земля, Киев и Смоленск и иные городы... из старины, от наших прародителей наша отчина»69. Как отмечал К.В. Базилевич, в понятие «отчина» вкладывался и «этнографический и историко-политический смысл». В соответствии со средневековой патримониальной идеологией, не ведавшей различий между родовой собственностью-и государственной территорией, земли, принадлежавшие «прародителям», являются с историко-политической точки зрения «отчиной»70. Так пытались обосновать и освоение Среднего Поволжья, войну с Казанским ханством в середине XVI в.71
Но теперь «отчина» прародителей отождествляется уже и с понятием, которое мы называем этнографическим, «Русская земля»; это территория восточных славян, «держава словенского языка», как сформулируют в середине XVI в. составители Степенной книги72. Появится и версия, согласно которой литовские великие князья, под властью которых находились тогда многие земли Древнерусского государства XI в., в отличие от князей Рюриковичей, ведущих происхождение, мол, от самого Августа кесаря, потомки «служебника» одного из смоленских княжат или князей-изгоев, лишенных своей доли в Русской земле.
Имело, конечно, значение и то, что термин «Россия» («Ро-сия», «Росиа»), как убедительно показал М.Н. Тихомиров, распространяется в северо-восточной Руси уже с XVI в. Он «постепенно завоевывает себе место в официальных документах», и к концу XVI в. названия «Росия» и «Росийское царство» начинают входить в обиход в совершенно определенном смысле, обозначая всю совокупность земель, объединенных Российским централизованным государством. «Русский», замечает исследователь, становится синонимом определенной народности, «российский» означает принадлежность к определенному государству. М.Н. Тихомиров счел необходимым отметить, что «Россия» в документах XVI в. не однозначна с названием «Московское государство», хотя этот термин, более употребительный «у иностранцев», был в употреблении и в русских источниках XVI в. - официальных и неофициальных74.
Ясно, что те, кого непосредственно затрагивала политикоидеологическая концепция и внешнеполитическая программа московского государства, не могли оставаться безучастными к изменению титулатуры Московского государя, к наименованию его державы. В Польско-Литовском государстве не склонны были ни к признанию царского титула Ивана IV, ни к распространению в практике международных отношений официального наименования «Российское государство» («Российское царство»)4*. (И об этом имеется, как известно, обильная литература.)
4’ Соответственно настроениям и правителей, и читателей в Польско-Литовском государстве75 эмигрировавший туда боярин кн. А.М. Курбский дал заголовки и своим посланиям Ивану IV (во второй редакции Первого послания оно адресовано к великому князю московскому; Второе послание озаглавлено «Краткое отвещание Андрея Курбского на зело широкую епистолию князя великого московского»; Третье послание - «На вторую епистолию отвещание цареви великому
Несомненно, что вырабатывавшаяся с рубежа XV и XVI вв. - и прежде всего именно в Польско-Литовском государстве - терминология, запечатленная в памятниках письменности, оказывала влияние на терминологию и официальной документации, и сочинений гуманистов о Восточной Европе. Заметно и то, что авторы сочинений последующих лет в определенной мере придерживались становившейся традиционной терминологии предшествовавших сочинений (а также приема обращений к далекой истории в поиске исторических корней современных наименований земель и народов).
Однако этого было недостаточно. Некоторые авторы (особенно из стран Северной Европы) не слишком дорожили обязательностью следовать языковой традиции сочинений гуманистов, писавших о владениях московского государя. Им важнее казались термины, уточняющие самим названием государственнополитические реалии владений («доминиума») московского монарха и одновременно способствующие устранению неясностей в наименовании государств и земель Восточной Европы, - ведь в употреблении были наименования и «Россия» («Русия», «Русь»), и отдельно территорий бывшей Древней Руси - «Великая Русь», «Белая Русь» (эти термины обычно относили первоначально к одной и той же территории), и «Черная Русь».
При этом для иностранцев, особенно при организации государственно-политических отношений (да и при составлении историко-политических трактатов), первостепенное значение имело самоназвание государства, наименование владения государя подданными государя. А первичным наименованием государства, столь расширявшегося и укреплявшегося, было Московское княжество; и именно московский великий князь поглотил вла-
московскому...»)76, и знаменитому, написанному в мемуарном стиле, описанию жизни царя Ивана и России его времени - «История о великом князе Московском». Это было подчеркнуто нарочито и потому, что Иван Грозный во Втором послании Курбскому писал о «скифетрах Росийско-го царьствия», о «всей Руской земле», называя свои владения «Русью» («Яко же рекосте: “несть людей на Руси, некому стояти”, - ино ныне вас нет, а ныне кто предтвердыя грады Германские взимает?»), и подписал свою «грамоту» так, как принято оформлять окончание в официальных документах, отправляемых за рубеж: «Писана... лета 7086-го, государ-ствия нашего 43-го, а в царств наших: Росийского - 31-го, Казанского -25-го, Асторохансково - 24-го»77. —
дения других великих князей и обрел титул государя всея Руси. £го владение, названное по имени столицы, где был княжеский стол, дало наименование и всему государству, а сама столица княжества стала столицей возрастающего государства, средоточием его общественной и религиозной жизни, культуры и экономики, его международных политических и торговых связей.
Должно иметь в виду и словоупотребление и понимание термина «государство» в наши дни и в Древней Руси. «Государство» в современном понимании - это политическая организация общества с определенной формой правления (обычно монархия, республика); при этом государственное устройство может быть унитарным и федерацией. И «государством» в таком смысле, конечно, было уже Московское княжество со времени его образования.
В языке Древней Руси слово «государство» имело несколько значений, как и производные от него. Тогда слово «государство» означало и государство в принятом современном понимании; и страну под управлением государя; и территорию - страну, «землю» (словосочетания «Московская земля», «Московские земли» нередки и в посольских книгах, в описаниях летописцем событий внешнеполитической истории); и государствование, «го-сударствие», т. е. управление государством («царством»), шире -правление, царствование, а также владение «государя»78. В Словаре В.И. Даля при слове «государство» отмечено: «стар(инное) -государствование, власть, сан и управление государя»79. «Государствовати» означало управлять государством, быть «государем». Но заметно различие в значении слов «государство» (как «государствие») и «царство». Это четко выявляется в официальной документации внешних сношений - грамоты, отправляемые Иваном IV за рубеж, имели такую концовку: «Писана на нашем государстве дворе града Москвы - лета от создания мира» такого-то «государствия нашего» (т. е. от времени восшествия на великокняжеский престол государя всея Руси в 1533 г.) столько-то лет, «а царств наших» Российского (т. е. от времени венчания на царство в 1547 г.)... Казанского, Астраханского столько-то лет. Однако междуцарствие называли все-таки «безгосударным временем». Грамота кн. Д.М. Пожарского 1612 г. с призывом избрать царя имела такую концовку: «...чтоб нам в нынешнее злое время безгосударным не быть»80. Но слово «безгосударный» имело значение не только не имеющий государя, но и не имеющий владельца, т. е. неизвестно кому принадлежащий81.
Существовал и термин «безгосударство». О времени боярских усобиц в годы малолетства Ивана IV в 1539 г. говорили: «Промеж бояр великая рознь... в земле Руской великая мятеж и безгосударство»82. И почти через столетие, характеризуя годы польско-литовской интервенции, называли их «безгосударским временем»83. (Словоупотребление «безгосударство» вообще было, видимо, принято и в документах делопроизводства, и в литературных произведениях для обозначения событий так называемого Смутного времени.)
Расхожее понимание слов «государство», «государь» и производных от них самим Иваном IV становится очевидным и из его сочинений, в частности из посланий и «речей», записанных в посольских делах, и из рассказа официальной летописи о начале опричнины: в грамоте, присланной из Александровской слободы в Москву, царь писал об «убытках государьству его до его госу-дарьского возрасту», о своем «государьстве в его государьские несвершеные лета», о том, что он «оставил свое государьство», а затем согласился «свои государьства взяти и государьствы своими владети» и «учинити... на своем государьстве себе опришни-ну», «государьство же свое Московское, воинство, и суд, й управу, и всякие дела земские приказал ведати и делати бояром своим, которым велел быти в земских...»84. Следовательно, в данном словоупотреблении «государство Московское» означало и то, что в годы опричнины называли земщиной.
При этом в письменной речи Ивана IV допускалось и более широкое толкование слов «царствовать», «царство» в соответствии с библейскими текстами - как властвовать, владение. В Писании Стоглавому собору 1551 г. Иван IV употребляет такие слова для характеристики явлений, и предшествовавших его официальному венчанию на царство в 1547 г. (о раннем детстве -«мне сиротствующу, а царству вдовствующу. И тако боляре наши улучиша себе время; сами владеша всем царством самовластно»), и рубежа 1540 - 1550-х годов: «...начя же вкупе устрояти и управляти богом врученное ми царство». В Завещании (1570-е годы85) и молитва («...Твоя бо есть держава неприкладна, и царство безначалие и безконечно...»; «Глаголет господь: мною царие царствуют и сильнии пишут правду») с использованием слов «царство», «цари» в широком смысле, и обращение к слову «государство»: Иван IV призывает сыновей Ивана и Федора («всякому делу навыкайте... московскому пребыванию... и как которые чины ведутся здесь и в ыных государствах, и здешнее государство
с иными государствы что имеет... а чего сами не познаете, и вы не сами стате своими государствы владети и людьми»), а обращаясь к младшему, Федору, подчеркивает различие понятий «государство» и «удел» («держи сына моего Ивана в мое место отца своего... а будет благословит бог ему на государстве быти, а тебе на уделе, и ты б государства его под ним не подыскивал ...Иван сын государства не доступит, а ты удела своего ...А будет тебе... на государство учнут звати, и ты б отнюд того не делал... и ты б на его службу ходил...»)86.
Понимание под «государством» и «владения» и управления (т. е. «государствования») обнаруживаем в многообразных памятниках письменности, в том числе и в документации международных отношений московского правительства. Такой подход к подобной терминологии характерен для общественного сознания и зарубежных авторов той эпохи, что нашло отражение в терминологии и документов внешней политики, и сочинений о государствах Восточной Европы.
Особенно существенно то, что наименование «Московия» восходило к московской традиции, к московской документации, известной и за рубежом. Словоупотребления «Московское государство» и «московский государь», «Московское царство» и «московский царь», «Московская земля» были приняты во владениях московского монарха, государя всея Руси, т. е. в самой России, в XVI и особенно в XVII в. (Но, конечно, не в латинизированной транскрипции - «Московия».) Это подтверждается многообразными письменными источниками отечественного происхождения - и делопроизводственной документацией, и в еще большей мере памятниками публицистики.
Хотя проследить это далеко не просто. Терминосочетания «Московское государство» и «Московское царство» оказались не включенными в издающийся сейчас многотомный Словарь русского языка XI-XVII вв., а в указателях к академическим изданиям памятников письменности эти термины обычно, как отмечалось уже, не вычленяются из группы других, близких им. Так, в т. 31 Полного собрания русских летописей (ПСРЛ) с летописцами последней четверти XVII в., вышедшем в 1968 г. под редакцией В.И. Буганова, под словом «Русская» читаем: «Русская (Российская) земля, Русская держава, Русское, Российское, Московское гос[ударст]во, ц[арст]во, Россия, Россия Великая»; в т. 34 с летописцами середины XVI - первой половины XVII в., изданном в 1978 г. под редакцией В.И. Буганова и В.И. Корецкого, под сло
вом «Россия» обозначены также термины: «Московская земля, Московское государство, Российская держава, Русская земля, Русская страна»87.
Это - свидетельство не столько даже недостаточного внимания нас, ученых (и филологов и историков), к нюансам политикогеографической терминологии русского языка XI-XVII вв., сколько прежде всего несомненный показатель того, что современники (и те, кто писал, и те, к кому было обращено написанное) не придавали существенного значения такой расхожей терминологии; только в терминологии титула государя старались придерживаться официально установленных нормативов. В целом же политикогеографическая терминология оставалась долгое время настолько неустойчивой, что в одном и том же памятнике письменности обнаруживаем разные обозначения одного и того же явления (или пока еще кажущегося ученым таковым).
Словоупотребления в интересующей нас сфере терминологии еще не сведены в систему - тем более с учетом хронологической последовательности, местных особенностей и обстоятельств политической ситуации, литературно-проповеднической традиции. И поэтому наблюдения, а тем самым и выводы могут быть ’ лишь предварительного порядка.
Однако, если ограничиться обращением к наиболее известным изданиям исторических источников XVI-XVII вв., иногда даже к хрестоматийным примерам в буквальном смысле слова (т. е. к напечатанному в хрестоматиях по отечественной истории и истории древнерусской литературы), нетрудно заметить, что более широкое распространение термин «Московское государство» получает с утверждением власти Б.Ф. Годунова, т. е. в годы царствования Федора Ивановича. Но встречается он и в памятниках письменности более раннего времени, во всяком случае периода царствования Ивана Грозного.
Начнем обзор с документации внешних сношений. Эта терминология обнаруживается не только в переводах документов, составленных в Речи Посполитой (там употребляется и термин «Московское государство»), или в речи подданных польско-литовского государя, как, к примеру, давно цитируемые слова примаса католической церкви, в 1585 г. сравнивавшего положение в правительстве А.Ф. Адашева в молодые годы Ивана Грозного с положением Годунова при дворе царя Федора: «...а преж сего был у прежнего государя Алексей Адашев, и он государство Московское таково же правил»88. Любопытно отметить, что это цитата не
из посольских дел, а из Цесарских (посол к императору по пути обедал у гнезненского архиепископа).
Таковым было тогда словоупотребление и подданных царя Ивана, по крайней мере с 1560-х годов, причем это прослеживается по цитатам из посольских дел, давно введенным в широкий обиход. Так, в шестом томе «Истории» С.М. Соловьева - цитата из наказа гонцу в Польско-Литовское государство, которому велено было говорить о бегстве Курбского: «...езжали из государства и не в Курбского версту, да и те изменники государству Московскому не сделали ничего; божиим милосердием и государя нашего здоровьем Московское государство не без людей. Курбский государю нашему изменил, собакою потек, собацки и пропадет».
В 1573 г. термин «государство Московское» (так же как и «королевство Московское») фигурирует при ответах царя литовскому послу, в 1575 г. - при переговорах с послами императора о кандидатуре эрцгерцога для избрания польским королем (Иван IV желал при этом, чтобы «Литовское Великое княжество с Киевом было бы к нашему государству Московскому»89), В последующих томах «Истории» Соловьева при описании отношений с Польско-Литовским государством не раз встречаем цитаты из посольских дел со словоупотреблением «Московское государство». Некоторые еще прежде приводились в «Истории» Карамзина, а с конца XIX - начала XX в. - в трудах не одного ученого, как, к примеру, ответ послов царя Федора во время переговоров об избрании его на польский престол в 1587 г.: «Хотя бы и Рим старый и Рим новый, царствующий град Византия, начали прикладываться к нашему государю, то как ему можно свое государство Московское ниже какого-нибудь государства поставить?»90 Немало подобных словоупотреблений во фрагментах неопубликованных польских посольских дел последней четверти XVI в. в трудах В. Новодворского, Б.Н. Флори и других исследователей истории русско-польских отношений.
Но не нужно думать, что словоупотребление «Московское государство» имеется только в терминологии польских посольских книг. Это термин и посольских книг с документами сношений с другими государствами. Об этом тоже напоминает шестой том «Истории» Соловьева. Даже в столь часто цитируемом письме Ивана IV английской королеве Елизавете 1570 г., где, обвиняя ее в зависимости от «торговых мужиков», он пишет: «А ты пребываешь в своем девическом чину, как есть пошлая девица», почти сразу вслед за тем фраза: «А Московское государьство по-
каместа без аглинских товаров не скудно было»91. Любопытно в то же время, как передан разговор королевы и посла Ф. Писемского в 1582 г. Елизавета I спрашивает: «Земля Ваша Русская и государство Московское по-старому ли?..» Посол отвечает: «Земля наша и государство Московское, дай бог, по-старому, а люди у государя нашего в твердой руке...»92 Правда, С.М. Соловьев позволял себе передавать текст источника в какой-то мере и своими словами, даже при наличии кавычек.
С совершенной точностью (даже орфографии) передан текст посольских книг в издании «Путешествия русских послов XVI-XVII вв.» (1954) в серии «Литературные памятники». В статейном списке посольства в Швецию 1567 г. сообщается о том, что посол просил передать шведскому королю: «Нечто будет у него ссылка с некоторым недругом государя нашего, а хотя и учини т над нами которую хитрость, тем Московское государство безлюдно не будет»93. (Любопытно, что в том же 1567 г. сам Иван Грозный в документе тоже внешних сношений - в послании от имени боярина И.П. Федорова гетману Г. Ходкевичу - использует термин «Московское царство»: «Также и того не бывало, што Литве Москву судити; полно, пане, вам и ваше местьцо справовати, але не Московское царство»94.)
В списке посольства к турецкому султану 1570 г. неоднократно встречаем термин «московский государь», «московский»95. В списке посольства Ф.А. Писемского в Англию 1582 г. имеется такое выражение: «...и быти б государству Московскому с Анги-лейским государством с поможеньем всяким против всех своих недрузеи общим заодно»96. В статейном списке посольства в Англию Г.И. Микулина 1600-1601 гг. (возможно, составленном подьячим И. Зиновьевым) имеются словоупотребления «Аглинское государство», «Францовское государство», «Цесарское государство» («Цесарское государство от нашего государства далеко, и меж ими розошли многие государства»97.) В тексте, передающем «от королевы (Елизаветы I. - С. Ш.) речь», говорится о «государстве великого государя» Бориса Федоровича и о том, что он -«всеа Русии самодержец, богом избран, учинился на Московским государстве и на всех государствах Росийского царствия»98.
Особенно часто встречаются термины «Московское государство» и «государство» применительно к другим государствам в статейном списке посла 1667 г. во Францию П.И. Потемкина - следовательно, можно зафиксировать, по крайней мере, сто лет бытования такой терминологии в российской документации
внешних сношений. Там встречаем и термины «Францужское государство», «Наварское государство», «Ышпанское государство», «Персицкое государство», «ыные государства» («те товары из Французского государства повезут в Московское государство или в ыные государства...»). Написано и о «Московского государства купчинах», и о «судье Московского государства»99. Показательны там и такие терминосочетания: «великое Московское государство», «Великое государство Московское»100, послы «из великого Росийского царствия»101, «великие и преславные государства Росийского царствия».
В официальных документах внешних сношений, отправляемых в Англию, употребителен термин «Московское государство» и в первые годы после воцарения Михаила Федоровича, когда еще не вся территория, ранее подвластная московским государям, оказалась в их подчинении102, и в начале 1630-х годов. Так, в грамоте Михаила Федоровича Карлу I, датированной 16 декабря 1630 г., в рассуждении о событиях начала века читаем о «панов рад польских и литовских перед Московским государством многих неправдах и разоренье», и тут же напоминание о том, как король Яков I поздравлял «нас великого государя на наших великих государствах Росийского Царствия». В грамоте патриарха Филарета от марта 1632 г. речь идет о покупке англичанами хлеба «в Московском государстве» и о том, что «ныне в Московском государстве хлеб родился мало». В грамоте царя Михаила Карлу I от марта 1631 г. объявляется: «...у нас в Московском государстве многие рати; а к тому указали есмя наимовать ратных людей в вашем государстве шкоцкых немец и в ыных в розных государствах»; в письме патриарха Филарета Карлу I от октября 1632 г., начинающемся словами «на ваших великих государствах нашего Смирения приятное поздравление», речь идет - и с неоднократными повторениями - о пребывании «в Московском государстве» задержанного иностранца103. В посольской документации в конце XVI в. встречаем и терминосочетание «Московское царство». Дьяк А. Щелкалов, принимая в 1593 г. крымских гонцов, говорил о «государя нашего Московском царстве»104. Еще ранее, в 1588 г., в Посольской книге так переданы слова едущего в Москву константинопольского патриарха Иеремии: «Пошел к тебе, ко государю, слышали: к твоей государеве державе, в Московском царстве...» А в передаче содержания грамоты Вселенского собора 1590 г., утверждавшего в России патриарха, - знакомый термин «Московское государство»: «...да будет новопоставленный
патриарх Иев, и которые по нем будут в нашем великом Московском государстве, в царствующем граде Москве». Но тут же читаем: «И вперед поставлятися в нашем в великом Российском государстве патриархом от митрополитов и архиепископов, от епископов и всего освященного собора нашего Росийского царствия...», и далее о молитве «в нашем Росийском царстве»105. Подобное многообразие близких по значению терминов - одна из примет нарративных памятников конца XVI - первой четверти XVII в.
В Посольском приказе составляли и хранили описи находившихся там документов. Описи 1614, 1625, 1673 гг. опубликованы, и можно выяснить, как использовался термин «Московское государство» в архивном делопроизводстве. В описи Царского архива начала 1570-х годов не находим еще этого термина. Но в описи архива Посольского приказа 1614 г. встречаем его не один раз: в описании грамот бухарского хана Ивану IV «о торговых людях, чтоб повольно было ездить в Московское государство и назад из Московского государства», в описании грамоты дожа Венеции 1582 г. о том, что «он писал ко всем своим людем, чтоб не наимовались против Московского государства людей на войну». Там хранились и «запись договорная» 1609 г. гетмана Жолкевского «з бояры, как об-ралина Московское государство королевича Владислава», и «столп аглинской - 121-го и 122-го году» (т. е. столбец 1613-1614 гг. -С. Ш.) о приезде в Архангельск посла «от аглинского Якуба короля Московского государства к митрополитом, и ко всему освященному собору, и к бояром, и ко всем людем Российского царства» (показательно, что оба наименования - «Московское государство» и «Российское царство» - в одной статье архивного описания!). Любопытно, что в той же описи имеется и словонаписание «Московское царство», причем рядом с описанием грамот государям московским, где именно так назван «царь и великий князь Иван Васильевич всеа Руси»: «...книги, а в них писано начало, как пишетца к великим государем московским блаженные памяти к великому государю царю и великому князю Ивану Васильевичу всеа Русии, писаны грамоты от римского цесаря; и как писаны грамоты от московских государей к римским цесарем и в иные розные государства и из государств. Да в той же книге венчанье блаженные памяти царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии на царство Московское в 64-м году»106 (т. е. в 1555/56 г. -либо ошибка в дате, что более вероятно, либо указание на какое-то малоизвестное событие государственно-политической биографии Ивана Грозного).
Знакомясь с описями Посольского архива 1626 и 1673 гг., детально изученными В. И. Гальцовым, подготовившим их к печати под редакцией автора настоящей книги, убеждаемся в том, что терминосочетание «Московское государство» все прочнее утверждается в делопроизводственной терминологии. Оно - и в описании грамоты папы римского 1584 г., грамоты панов рады польского короля Стефана Батория, договора польских послов 1585 г. И отнюдь не только при описании сношений с Речью Посполитой и стоявшей за ее спиной папской курией, но и в «выписке из аглинских книг 91-го» (т. е. 1582/83 г. - С. III.) «сколь давно аглинским гостем велено приезжать в Московское государство», и даже в «выписке, как учинился на Московском государстве царь и великий князь Федор Иванович всеа Русии и в те поры посланы посланники государство ево обестить в розные государства»107 (в этой фразе характерное употребление слова «государство» в значении и утверждения во власти, и государства-страны). Постоянно словоупотребление «Московское государство» в описании документов новейшего времени - уже XVII столетия. При этом особенно интересно описание грамоты о венчании на царство Михаила Романова: названа и грамота 1613 г.: «...как обрали на Московское государство» его, и там же «чин царьского поставленья, как венчаютца на Росийские государства царьским венцом и диадимою цари и великие князи...». Термин «Росийские государства» и здесь, и в описании поставления патриарха в 1589 г.108 -во множественном числе. Очевидно, это все государства (т. е. и «царства» Казанское, Астраханское, Сибирское), упоминаемые в полном царском титуле.
В описи 1673 г. первым описан чин венчания «на превысочайший престол великого Росийского царствия царским венцом и диадимою», а затем «чин постановления на патриаршеский престол святейших патриархов в великом Росийском царстве», книга с гербами «Росийского государства» и «книга о избрании на превысочайший престол великих Росийских царств» Михаила Романова - это знаменитые лицевые рукописи начала 1670-х годов, подготовленные под руководством А. С. Матвеева109. Но там же читаем и такой текст: «В той же книге в конце написано венчание великого князя Ивана Васильевича всея Русии на царство Московское» в 1547 г., и в описании грамоты об избрании на Царство Михаила - словоупотребление «обрали на Московское Царство»110. О проезде имперских послов в 1600 г. (в Иран) и в 1672 г. (в Китай) написано одними и теми же словами - о «про
пуске через Московское государство»111. Россию и конца XV в., и конца XVI в. называли в годы правления царя Алексея Михайловича «Московским государством»: в описи узнаем о «книжице 6993-го году», т. е. 1484/85 г., упоминающей о полученной от Ивана III грамоте греком Юрием, отправленным в Венецию и в Рим «приговаривать в Московское государство лекарей, да пушечного и серебреного дела мастеров, да каменщиков добрых, чтоб которые умели церкви и полаты строить»112. Так же переводится и название упоминавшейся уже книги Гваньини о времени Ивана Грозного: «Кроника Александра Гвагнина на польском языке: описание Короне Польской и княжеству Литовскому и государству Московскому и части татаров»113.
По архивным описям известно, что в архиве Посольского приказа находились и картографические материалы - карты («чертежи») и «росписи» их. Составленный на их основании «в давних летех при прежних государях» «Большой чертеж» был в 1626 г. в архиве Разрядного приказа и уцелел во время страшного пожара того года. Карты эти не сохранились, но описания («росписи») карт и работы над ними содержат ценную информацию в интересующем нас плане. Вместо обветшавшего «Старого чертежа... всего Московского государства» поручено было, «приме-ряся к тому старому чертежу, в туе же меру сделать новый чертеж всему Московскому государству». Следовательно, и прежний -«старый» - чертеж, время составления которого относят обычно к XVI в. (это, видимо, тот самый «чертеж земли московской: наше царство из края в край», о котором идет речь в «Борисе Годунове» А.С. Пушкина - в сцене с царем и его детьми в царских палатах), и «новый» 1620-х годов имели название «чертеж всего Московского государства». И в поздней неофициальной редакции 1679 г. он назван «Чертеж всему Московскому государству». В «старом» чертеже были данные и о южных землях, и о Сибири, хотя сведения о ее территории не простирались далее р. Оби. Как явствует из предисловия к «Книге Большого чертежа», рассчитывали, что будет сделан чертеж Сибири по р. Енисею. Заголовок одной из редакций (а все рукописи внимательно изучены К.Н. Сербиной) -«описание всего Московского царства градом и рекам и дорогам чертеж»114. Таким образом, наименование «Московское государство» и в конце XVI в., и через столетие в этой официальной документации относили ко всей территории, подвластной царю.
Термин «Московское государство», безусловно, был употребителен в документации учреждений, не ограничивавших
свою деятельность сферой внешнеполитических отношений, военной службой. Применительно к явлениям преимущественно внутренней политики обнаруживаем такое терминосочетание в документации, введенной в научный обиход еще изданием в 1830-х годах Актов Археографической экспедиции (ААЭ): в первом томе напечатаны таможенные откупные грамоты времени царя Федора, где читаем о волостях, городах, людях, товарах «Московского государства» (правда, там речь идет о «людях» и «Московского государства», и «Ноугородские и Псковские земли»)115.
«Московское государство» - термин деловой письменности агитационного характера межгородской переписки начала 1611 г. и документации Первого ополчения, напечатанной во втором томе ААЭ. Грамота, отправленная из Смоленска, начинается обращением: «Господам братьям нашим всево Московского государства», и там не раз повторяется призыв действовать так, чтоб «литовские люди из всее земли Московские вышли...», «Московскою землею» не владели. Нижегородцы призывали «Московскому государьству помочь... докаместа Московского государьства и окрестных городех Литвы не овладела». В грамоте из Рязани, адресованной нижегородцам, лозунги: «Стаяти за Московское государьство - заодин», «За Московское государьство... стояли вместе». А воззвание москвичей начинается так: «Пишем мы к вам, православным крестьяном, общим всем народом Московского государьства...», и в его тексте слова - «вся нашедшая пагуба на все Московское государьство»116.
Н.Ф. Дробленкова показала фразеологическое сходство московской и смоленской грамот и вслед за С.Ф. Платоновым усматривает стилистическую близость их со школой письма в Троице-Сергиевом монастыре117, - следовательно, это терминология, свойственная речи (вероятно, не только письменной, но и устной) и посадской, и церковной среды. В то же время нельзя не отметить, что в грамоте, написанной в Казани, встречаем и такую формулировку: «Вся земля Казанского государьства», и вят-чане пишут в Пермь о грамоте, которую им «ис Казани бояря, и воеводы, и дияки, - и всего Казанского государьства прислали», а чуть выше упоминают, что целовали крест «бояре и воеводы, и дияки, и вся земля Казанского государьства» 118. А когда образовалось Первое ополчение П.П. Ляпунова, грамоту о «защите всей земли Московской» от И апреля 1611 г. послали от имени «всей земли» «Росийского Московского великого государства»119.
Объединение в одном терминосочетании определений «Российское» и «Московское» показательно для образа мысли тех лет.
«Всероссийская» значимость понятия «Московское государство» явственно ощущается в законодательных памятниках, напечатанных в книге «Законодательные акты Русского государства второй половины XVI - первой половины XVII века». В известном Уложении 1 февраля 1597 г. о холопстве общее положение формулируется так: «Московского государства всяким людем холопьи имена и на них крепости всякие записывати с ны-нешняго нового уложенья безсрочно». Но затем следует важное для нас разъяснение: в «ближних городах» крепости писать на год, а тем, «которые на государевых на далных службах, в Астрахани, и на Тереке, и на Сушне, и в Сибирских городех, и на Таре», -на три года120. Тем самым утверждается, что и окраинные города царских владений тоже относятся к территории «Московского государства». Указ 1601 г. о разрешении служилым людям вывоза крестьян содержит формулировки об этом пожаловании царя и его сына «во всем своем Московском государстве». В указах 1619, 1620, 1623 гг. читаем уже о «всех людях», «всем православном крестьянстве» «Московского государства», о приговоре, принятом царем по совету с патриархом, освященным собором, «и из бояры, и с окольничими, и со всеми людми нашего Московского государства». В другом указе 1623 г. - о собирании «со всего Московского государства» у духовенства грамот всех «прежних государей»; в Соборном приговоре 1649 г. - об отмене урочных лет для сыска беглых крестьян, со ссылкой на Соборное уложение, - говорится о «нашем Московском государстве»121.
В предисловии к Соборному уложению 1649 г. задача его составителей формулирована так: «...чтобы Московского государь-ства всяких чинов людем от болшаго до меншаго чину суд и ро-справа была во всяких делех всем ровна». В Уложении термин «Московское государство» обозначает наименование государства, кодексом законов которого является этот памятник права. В главе VII этот термин даже в заголовке - «О службе всяких ратных людей Московского государьства». Однако в том же предисловии читаем: «...указал государь то все Уложенье написать на список и закрепити тот список... людем Московского государьства и всех городов Росийского царства»122.
Терминосочетание «Московское государство» постоянно встречаем в документах, связанных с созывом и деятельностью земских соборов, но, правда, только в XVII столетии. В соборном
же определении об избрании царем Годунова в 1598 г. читаем о «всех государствах Росийского царствия» и о том, что стало «без-господарно Росийское царствие» и должно избрать «государя на царьство и великого княженья Московскаго и на все государьства Росийского царствия самодержца». Термин «Московское государство» встречается в приговоре 30 июня 1611 г. земского собора Первого ополчения, когда «Московского государства разных земель» люди под Москвой «выбрали всею Землею» правительство; в грамоте указывается на разорение «Московского государства»123. Окружная грамота кн. Д.М. Пожарского 1612 г. призывает «все городы Московского государства» прислать «для общего земского совета на Московское государство государя... выбирати»124.
Особенно интересна грамота собора февраля 1613 г. о наречении царем и великим князем всея Руси Михаила Романова, тем более что содержание и формулировки ее цитируются и во многих историко-литературных произведениях первой трети XVII в., а также и учеными в связи с рассмотрением вопроса о наименовании государства. В самом начале грамоты находим и словоупотребление «Российское царствие» (о молитвах святых заступников, «просиявших» там), и «Московское государство», и «Российское государство» («писали во все городы» его). Задача «земского совета» - «выбрати на Владимирское, и на Московское, и на Новгородское государства и царства Казанское, и Астраханское, и Сибирское, и на все великия Российский государства» «государя, царя и великого князя, всея Русии самодержца». Все «для государскаго обиранья в Московское государство, в царствующий град Москву на совет съехалися» и получили благословение «Московского государства и всех городов всего великаго Российскаго царствия» иерархов. Далее повторяются подобные же терминосочетания, но преобладает термин «Московское государство»125. Это и понятно, так как на «земском совете» присутствовали преимущественно те, кто жил на именно так называемой части территории огромного «Российского царствия». Но избран был Михаил Романов государем всего «Российского царствия», а не «лишь на Московское государство Российского царства», как полагает А.Л. Хорошкевич126.
В грамотах земских соборов и о земских соборах XVII в. -словоупотребление «Московское государство»; но наряду с ним и другие («Великое Российское государство», «Великие Российские государства», «Великое Российское царствие» в документах 1613, 1616 гг.). В грамотах о соборе 1619 г. излагается приговор
«со всеми людми Московскаго государства» и формулируется задача «устроить бы Московское государство, чтоб пришло все в достоинство». Согласно грамотам собора 1621 г. и собора 1639 г., «всяких чинов люди всего Московского государства» обсуждали вопросы о взаимоотношениях «государства Московского» с Польско-Литовским. В документе Земского собора 1642 г., рассматривавшего вопрос о судьбе Азова, читаем: «...турские люди хотят идти... в Московское государство войною» (впрочем, в документации того же собора находим и наименование «Всероссийское государство»), В документах Земского собора 1651 г. - такие выражения: «всякие люди Московского государства», «титлы Московского государства», «война на Московское государство»; в документе Земского собора 1653 г. - «Московскаго государства всякие чины», «титлы Московскаго государства»127.
Следовательно, для обозначения владения, «государства» «государя, царя и великого князя, всея Русии самодержца» не было устойчивой терминологии, обязательного единого термина (кроме, конечно, случаев написания титула государя в официальной документации), особенно в просторечии (как позднее и в фольклоре, где распространен был сказочный зачин - «В некотором царстве, в некотором государстве...»).
В то же время очевидно и то, что приводимые выше термины не во всем тождественны. Так, содержание термина «Московское государство» не поглощает содержание термина «Российское государство» (тем более - «Российские государства»). Под «Московским государством» (особенно под термином «все Московское государство») подразумеваются и все владения царя, т. е. в термин вкладывается «всероссийский» смысл; но иногда обнаруживается территориальная ограниченность термина (только «Московская земля») «Российское государство». А термин «царство» - особенно с оттенком официально-торжественным - шире термина «государство». (Как, впрочем, и в Словаре современного языка, особенно если привносится элемент метафоричности: «зеленое царство», «царство холода», «царство красоты и вкуса», «царство нищих и рабов», как в поэме «Русские женщины» у Н.А. Некрасова, и т. д.).
Такая недостаточная определенность государственно-политической лексики в России XVI-XVII столетий (или, быть может, неуясненности ее нюансировки учеными XX в.?) обнаруживается даже у практика делопроизводства Посольского приказа, видимо, знакомого и с литературой той поры, Григория Котоши-
хина. Написанное в Швеции его сочинение о России 1660-х годов начинается с объяснения того, как «в Российской земле началося царствование»: Иван IV завоевал Казанское, Астраханское и Сибирское «царствы», пленил их «царей, с их государствы и з землями» «и с того времяни учинился... над Московским государством, и над теми взятыми царствы, и над прежними княжествы царем и великим князем... всеа Русии». После его смерти «на Московском царстве учинился царем» Федор Иванович, который был «на Московском государстве зело тих и боголюбив... и некоторому велможу, зовомаго Борис Годунов, перваго конюшего боярина, учинил над государством своим во всяких делах правителем... и боярин, правивше государство неединолетно, обогатился зело...». Затем Годунов «на Московском царстве учинился царем», и вскоре «в Российском царстве начало быть в людях смятение», Дмитрий Самозванец («лживой царь») «достал Московское государство под свое владение и был царем... и в Российском государстве учал было заводить веру папижскую... царствовал неистинно». После того «на Московском царстве был» Василий Шуйский. Когда «учинился царем» Михаил Федорович, Филарет «при его царстве бысть на Московском государстве патриархом». Здесь же отмечено, что царевич Дмитрий, брат Алексея Михайловича, «уродился нравом» в «первого московского царя» Ивана Грозного.
Характеризуя деятельность Стрелецкого приказа, Котоши-хин замечает, что там собирают жалованье стрельцам «со всего Московского государства», а также и «Новгородского и Псковского государства и Казани, и Астарахани, и Сибири». В главе «О владетельстве царств и государств, и земель, и городов, которые под Российским царством лежат, и тех государств о воеводех» названы «Великий Новгород, царствы Казанское, Астараханское, Сибирское, государство Псковское, княжествы Смоленское, Полотцкое, и тех государств в первые городы посылаютца воеводы, но без указу» из Москвы они «великих дел делати и доконча-ти не смеют». Далее Котошихин разъясняет, что пишется «титла Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец не изстари» - и «Великою Росею прозвано Московское государство», а «Белая Росия - белорусцы, которые живут около Смоленска и Полотцка и в иных городех»128.
Таким образом, сочинение Котошихина тоже подтверждает то, что термин «Московское государство» употребляется для обозначения и всего государства, и части его, когда напоминали о том, что «Российское царство» состоит из разных «царств» и «госу
дарств». Но при этом именно Московское государство казалось главным в Российском царстве и настолько все определяющим, что царя и великого князя, «всея Русии самодержца» называли именно «московским царем».
Особенно показательно то, что знаменитый А.Л. Ордин-Нащокин, который был не только знатоком языка делопроизводства, но и одним из созидателей его официальной терминологии, однозначно употребляет в своих автобиографических материалах 1670-х годов терминосочетание «Московское царство» («царство Московское»)129.
Еще более заметно совмещение понятий «Московское» и «Российское» в словаре и фразеологии литературных памятников. Это отражает, по существу, и реалии государственно-политической жизни, и то, что в общем сознании не придавали слишком большого значения таким элементам государственно-политической терминологии. Жесткие нормативы терминологии вообще не были свойственны менталитету русского общества XVI-XVII вв., что, думается, в какой-то мере объясняет и характерное для той поры отсутствие единообразия в употреблении (не говоря уже о написании) даже распространенных терминов лексикона государственно-политической сферы жизни в сочинениях, дошедших до нас в разных редакциях (и даже списках одной редакции).
Это нетрудно обнаружить при сравнительном ознакомлении с памятниками конца XVI - первой трети XVII в. Даже если ограничиться наиболее известными - и прежде всего напечатанными в подготовленном С.Ф. Платоновым XIII томе «Русской исторической библиотеки» («Памятники древнерусской письменности, относящиеся к Смутному времени») и в книге «Конец XVI - начало XVII века» многотомного издания «Памятники литературы Древней Руси» (под редакцией Д.С. Лихачева и Л.А. Дмитриева).
Выявляется раннее вхождение в речевой оборот терминов «Московское царство» и «московский царь» - еще у Ивана Грозного и Курбского. В направленном от имени своего боярина послании великому гетману литовскому в 1567 г. Иван IV употребляет терминосочетание «Московское царство», а Курбский Третье свое послание (1579 г.) назвал «отвещанием цареви великому московскому» (оба факта были уже отмечены в предшествовавшем тексте).
Характерно, что и в словаре Ивана Грозного-писателя не было единообразия в наименовании подвластного ему государ
ства в посланиях Курбскому: «Росийское царство», «Росийское царствие», «Руское царствие», «Росийская земля» (правда, это не только в текстах, переписанных в XVII в., но и в подлинной документации XVI в., «Росийское царствие» в послании шведскому королю 1573 г.); «Российского царствия и иных многих государств и царств скифетродержатель...» в послании польскому королю 1581 г., но и «Московское государство» в послании английской королеве 1570 г. и «Московское царство» в послании 1567 г. в Польско-Литовское государство130.
То же наблюдается в лексике «Казанской истории» - произведения, созданного, видимо, в 1560-е годы, но редактировавшегося в конце XVI - начале XVII в. и повсеместно распространившегося131. Там встречаем и такой текст: «Изначала же и исперва едино царство и едино государьство, едина держава Руская»132 (что подчеркивается таким набором слов - различие или тождественность терминов? Не отражает ли это «условные литературные вкусы века», о чем писал более ста лет назад С.Ф. Платонов?133). Находим термин «Московское царство» в описании событий еще 1487 г.; о начале правления мальчика Ивана IV читаем: «...восприимник бысть по отце своем во всей Русьской земли державе великаго царьства Московскаго»; Казань «великому царьству Московскому... повинуяся»», Ивана IV называют «московским царем»134.
Интересен для наших наблюдений компилятивный летописец частного происхождения первой четверти XVII в., известный под названием Пискаревского (по имени владельца рукописи в XIX в.). Записи о событиях со второй половины XVI в. основаны на припоминаниях современника или даже впечатлениях очевидца москвича. По мнению М.Н. Тихомирова, здесь «живая, почти простонародная речь», слышен московский говор XVII в.135 В летописце постоянное употребление словосочетаний «Руская земля», «вся Руская земля» (но и «Немецкая земля», «Сибирская земля»), Рюрик - «первоначальник Руской земле», а царь Федор -«последнее светило Руской земле»136. Иван Грозный Семиона Бекбулатовича «сажал на царьство Московское», а сам звался «Иван Московский», и челобитные писали так же, и сделал это -как «говорили нецыи» - потому, что волхвы предсказывали, что «в том году будет... московскому царю смерть»137. Неоднократно встречаем и термин «Московское государство»: с Мнишками самозванец договаривается, «как он будет на Московском государьстве»; намеревались «все государьство Московское в одну веру
римскую всех привести», но рядом и о том, что Марине обещали дать «два великий государьства - Великий Новгород да Псков»; и Заруцкий хотел жениться на Марине «и сести на Московское государьство, и быти царем и великим князем»; К. Минин «почал советовати... с нижегородцы... како бы им пособити Московскому государьству»; туда начали съезжаться «со всего Московского государьства» и обсуждали, «ис каких чинов Московского государства» «на Московское государство царем не обирати»138. Но в «записи» Василия Шуйского, «на которой он крест целовал», читаем: «учинился... на отчине прародителей наших на Росийском государьстве царем и великим князем...», «будучи на престоле Росийского царствия», и вслед за тем: «...на Московское государство иного государя из иных государьств и ис своих никакова не хоте-ти и не искати»139. А в конце летописи в разделе, озаглавленном «Царьство государя и великого князя Михаила Федоровича всеа Руси», читаем; «во всем народе Руския земли глас глаголющь», «прияти скипетр Руския державы Московскаго государьства Михаилу Федоровичи)»140.
Небезынтересно отметить, что в повести о житии царя Федора Ивановича, написанной патриархом Иовом в годы царствования Бориса Годунова, нет словосочетаний «Московское царство» и «Московское государство» - там термины «великое Росийское государство», «Русийское государство», «Росийское царствие», «Росийская держава», «царский престол Великая Росия»141. Видимо, распространение терминов «Московское царство» и «Московское государство» в годы, когда у власти был Б.Ф. Годунов (с 1584 г. правитель государства при царе Федоре, затем царь), связано в большей мере с его деятельностью (или даже инициативой) и писарской практикой московских приказов, чем с деятельностью патриарха и духовенства из его окружения.
Написанная в начале 1611 г. агитационная повесть, оформленная как грамота-воззвание, призывающая к изгнанию интервентов и действительно по фразеологии своей близкая к документам межгородовой переписки накануне образования Первого ополчения (о котором речь шла выше), начинается словами: «Новая повесть о преславном Российском царстве и великом государстве Московском...» Повесть известна только по копии 1630-1640-х годов в сборнике, включающем и главы «Сказания» А. Палицына, составленного в Троице-Сергиевом монастыре, - значит, и к середине XVII в. троицким писцам совмещение терминов «Росийское царство» и «Московское государство», в схожем значении
в одном заголовке казалось вполне допустимым. Хотя в тексте «Повести» не употреблен термин «Московское государство» - там термины «наше Росийское государьство», «Росийское великое го-сударьство», «Росийское царство», «великое Росийское царство»; о Москве написано как о «матери градовом Росийского царства»142.
В созданном, по-видимому, в 1612 г. «Писании о преставлении и погребении князя Михаила Васильевича Шуйского, ре-комаго Скопина» встречаем словосочетания и «Московское государство», и «Московское царство»143. Тогда же сочинен «Плач о пленении и о конечном разорении превысокаго и пресветлейшаго Московьскаго государства», где читаем и о «врагах Московского царства», и в первой же фразе о «падении... превеликия России»144, заголовок псковской летописной повести - «О смятении и междоусобии и отступлении пскович от Московскаго государства...»145.
Хронограф 1617 г. начинается с напоминания о царе Федоре, он якобы «благословил... и приказал быти по себе на престоле Московскаго государьства Руськия земли» боярину Ф.Н. Романову, который «возприим скифетро Росийскаго царствия»; затем рассказывает о том, что Борис Годунов «престол царства великия державы Руськия возхити», что он совершил «во свое царство в Русийском государьстве» и как он имел «мысль от семени своего воцарствити на престол царства Русьскаго». И Бориса, как и Ивана IV, называют «царем московским». Рядом указано, что Борис Федорович «был на Московсьском государьстве... и по нем сяде на государьство Московское» сын его, который только «два месяца бысть на Московском государьстве». Самозванец стремился занять «престол Московьского государства», и ему помогали «доступа™ государьства Московскаго». О Василии IV написано, что он «царствовал» «на Московъском государстве». Показательно название главки «О болярском державъстве Московсъкаго государьства», когда после свержения Василия IV «прияша власть государьства Русьскаго седмь московских боляринов», которые помыслили «на Московъское государство литовъского королевича... призвати», «седмочисленыя же боляре Московъския державы и всю власть Русьския земли предаша в руце литовъских воевод». Кончается изложение описанием того, как призвали «на престол царствия Московьскаго государьства» Михаила Федоровича, который «приемлет богопорученное ему Московскаго государьства скифетродержание» и украшает опустошенное «преславное же и великое место и многонароднаго христианства селение, еже есть мати Русьским градовом Москву»146.
Среди произведений большего объема устойчивое употребление лишь одного термина «Московское государство» находим в знаменитом «Временнике» дьяка Ивана Тимофеева, где этот термин в заголовках даже двух главок: 4-й - «Богопустное на Московское государство ростригино беззаконное царство» и 10-й «О вдовстве Московского государства»147, и в недавно изученном Г.П. Ениным сочинении «Повесть о победах Московского государства»,48.
В «Сказании» Авраамия Палицына встречаем словоупотребления и «Росийское государство» («Росийская держава»), и «Московское государство» («Московская держава»), по существу как тождественные. И в то же время термин «Московское государство может означать и наименование одного из государств Российской державы. Особенно заметно это в описании избрания Михаила Романова на царство - самодержцем «на Московское государство» и над прочими государствы Росийская державы», когда он «восприим скипетр Росийская державы многих государств»149. То же обнаруживаем в тесно связанном с сочинением Палицына «Ином сказании» - «Московское царство», «Московское государство», «Московское государство и все государства Росийского царствия», но показательна концовка, где отмечается, что «царствова» Михаил Федорович «на Московском государьстве» и сын его Алексей «венчан... на царство Московского государьства»150.
Схожая нечеткость терминологии и в летописной книге, автором которой ранее считали кн. И.М. Катырева-Ростовского, а теперь кн. С.И. Шаховского151. Она начинается словами: «Царство Московское, его ж именуют от давных век Великая Росия»152. В тексте, по существу в тождественном значении, используются термины «Московское государство» и «Российское государство» (в частности, в близких по смыслу фразах: Иван IV царем «Ро-сийскаго государства прозвася», «царский род на Росийском государстве» пресекся, сын Б.Ф. Годунова заявил, что он «царь хочет быти Московскому государству» вместо отца своего), а о Василии Шуйском написано: «бысть царь Московскому государству и всей Великой Росии», в другой редакции: «Московскому государству и всеа Русии»153. То же наблюдаем и в употреблении терминов «Московское царство» и «Росийское царство» («скифетр Росийского царства», «о самозванце: и нача владетельно держати Росийское царство», и почти тут же «боляре же и началницы Московского царства», «царский корень ото Августа кесаря на Московском
царстве пресекаем»; ополчение отправляет послание «во все грады Московского царства...» об избрании «царя Московскому царству»)154.
Показательна лексическая и смысловая близость фрагментов текста об утверждении во власти Б.Ф. Годунова: «...утверди-ся рука Борисова на всем народе Росийского царства»; в другой редакции: «...утвердися рука Бориса оного на всенародном множестве Росийскаго царствия»; после венчания царским венцом «потом утвердися рука его на всем Московском царстве»; в другой редакции: «потом утвердися рука его на Всеросийския власти»155. Или такой текст: «...началников всего Московскаго Росийскаго царства и воевод... подручны себе учини». В заголовке читаем: «...о избрании на царствующих градъ Москву и на все Росийские государства царя Михаила Федоровича»156.
В «Книге глаголемой Новый летописец» начала 1630-х годов официального происхождения явное преобладание терминов «Московское царство» и «Московское государство» (даже в заголовках глав), но есть и термин «Росийское государство», и отмечено традиционно, что Михаила Федоровича (о котором написано: «...люб всем на Московское государство») избрали, «хотящу утвердити на Росийскомъ государстве благочестивый корень», «на Московское государство и на все Росийския царства»157. «Новый летописец» (где излагаются события с конца царствования Ивана Грозного до 1630 г.) составляли в окружении патриарха Филарета, видимо, по его же заданию, используя и предшествовавшие летописи, памятники литературно-исторической публицистики Смутного времени, документацию архивов Посольского и Разрядного приказов. Большинство исследователей полагают, что составитель был из среды духовенства. «Новый летописец» - одно из самых распространенных исторических сочинений допетровской эпохи158, и оно не только отражало, но и определяло лексику современников.
А. Палицын, С.И. Шаховской, а также, можно думать, и составитель «Нового летописца» - из круга литературно образованных лиц, деятельно участвовавших в общественной жизни. Они были несомненно знакомы и с памятниками письменности (причем и с литературными произведениями, включая историческую публицистику, и с делопроизводственной документацией), и с устной проповедью. Фразеология их сочинений - это лексика лиц и их социокультурного статуса, и тех, кого рассчитывали иметь читателями своих сочинений. Следовательно, в письмен
ной речи этой среды отсутствовала, если можно так выразиться, терминологическая дисциплина.
И такого рода лексическая ситуация сохранялась в течение всего XVII столетия. Тождественное значение вкладывалось в термины и «Московское государство», и «Московское царство» (как в «Повести об Азовском осадном сидении» 1642 г.). А тер-миносочетания «Российское государство (царство)» и «Московское государство (царство)» продолжали сосуществовать, имея во многом тождественное значение, при постепенно большем, пожалуй, утверждении в речевом обиходе термина «Московское государство».
В этом убеждает рассмотрение в интересующем нас плане летописцев последней четверти XVII в., опубликованных в 31-м томе ПСРЛ. В Мазуринском летописце под 1584 г. читаем о подданных царства Московскаго» и что Федор «восприим скипетр Росийскаго царствия», а Иван IV перед тем ощутил, «яко не могу-ща управляти Росийскаго государства державство». В последующем изложении преобладает термин «Московское государство» («Московского государства бояре»; «град Смоленеск... дела-ша многими городами Московскаго государства»; «выбрали на Московское государство царем» В.И. Шуйского; о Михаиле Романове «возопиша велегласно, что люб нам на Московское государство»; о Поляновском мире 1634 г.: «государства Московскаго и Литовскаго людем быти... мирным навеки»; о комете 1681 г.: «на Московском государстве бысть знамение велие... звезда... хвост у нее велик», и «мудрые люди» толковали, «что та звезда на Московское государство стоит хвостом не к доброму делу... Тако-же и збысться в Московском государстве: от стрельцов и от сал-датов учинилося смятение великое»; после смерти Федора Алексеевича «того же часу изобрали на Московское государство царем брата его государева, Меньшова...» Петра159.)
Однако термином «Московское государство» обозначали и управление, владение Москвой - пожалуй, так следует понимать его употребление при описании восстания в августе 1682 г.: «А на Москве в то время от стрельцов и от салдатов было волнение великое, владели всем Московским государством стрельцы, что хотели, то делали. С какими государскими обиходы к великим государем х Троице пойдут, и они не пропущали, ворочали назад. И всеми приказы около Московского государства по Земляному валу короулили накрепко...»160
Подобные же неустойчивость и многообразие терминологии обнаруживаем и в Летописце 1619-1690 гг.: Алексей Михайлович «восприятия царский престол Московскаго государства»; в 1667 г. - «всенародное сетование в Московском государстве» в период восстания С.Т. Разина, «во градех всея Росийския земли бысть всемирное сетование и мятеж», «донской казак Стенка Разин возмутил Московским государством и всею Росийскою землею со единомышленики своими... пришел ко Астраханскому государству»; Федор Алексеевич «восприя Московское царство»; в дни волнений 1682 г. возмутители стремились «в Московском государстве царев синглит обругати»; избрали «в Московском государстве... царствовати двум царем и самодержцем», но рядом о молитвах «святых, просиявших в государствах Великоросийско-го царствия»161. Однако опять-таки и совсем узкое значение места «государствования» в Москве (как о том же событии в Мазурин-ском летописце): в дни московского восстания лета 1682 г. «великим же государем шествующим тогда... в поход в село Коломенское; во дворе же царском, в Московском государстве, оставлен бысть по обычаю боярин князь Иоанн Андреевич Хованской ради сохранения царского дому». Быть может, в таком смысле должно истолковывать и термин сообщения о ярославце Ивашке Бизяеве, который повинился в том, что «хотел своровать, выжечь Московское государство и возмутить всем царством»162.
Возможно, что уже в XVII в. обнаруживается схожая ситуация и в лексике исторических песен, т. е. и устного народного творчества. В древнейших записях народных песен, сделанных англичанином Ричардом Джеймсом в 1619-1620 гг., фигурирует термин «Московское царство»: и в песне о нашествии крымских татар в 1572 г., и в песне о событиях совсем недавних - о возвращении патриарха Филарета из польского плена в 1619 г. (в этой песне уже усложненное определение: «царство Московское и вся земля Святорусская»163). Термин «Московское царство» - в песне о взятии Казани (где обретение Иваном IV титула царя объясняется тем, что он «снял» царские регалии казанского хана -«царя»; «и в то время князь воцарился / И насел на Московское Царство»164). Но в нескольких песнях фигурируют рядом наименования и «Московское», и «Российское» («к сильну царству Московскому, Государству Российскому» - в песне о Ермаке; «сильна царства Московского и великого государства Российского» - в песне о Скопине-Шуйском; «Посреде ль было Московского царства, / Середи было Российска государства» - в песне о взятии
Смоленска в 1654 г.)165, при этом показательно то, что собственно «царство» называется Московским.
Такое разнообразие лексики, обозначающей интересующие нас явления, понятия, термины государственно-политического (и одновременно и историко-географического) характера, почувствовал Пушкин, знакомый не только с трудами историков, но и с памятниками древнерусской письменности. Уже отмечено выше, что Пушкин воспользовался словосочетанием «Московское государство». Он мог его обнаружить и в «Истории» Карамзина, и в безусловно известной ему, изданной дважды Н.И. Новиковым так называемой «Летописи о многих мятежах», где даже в заголовке читаем: «О настоящей беде Московскому государству, о Гришке Отрепьеве»1SS. В тексте трагедии «Борис Годунов» нет словосочетания «Московское государство». Но в 23 сценах этой драмы немало терминов близкого значения5’.
И «Россия» («гробы почиющих властителей России» - IV, 20-21; «погибель иль венец мою главу в России ожидает» - XIII, 82-183; «Россия и Литва» - XXI, 3; X, 97) и «Русь» (о правлении царя Федора: «Русь при нем во славе безмятежной утешилась» -V, 131-132; «Литва и Русь, вы, братские знамена» .- XI, 26; «Святая Русь! Отечество!..» - XIV, 2; «Вот наша Русь... твоя Москва» - XIV, 24, 26, 30), и «русская держава» (XIII, 66). Самозванец называет себя «русским царевичем» (XIII, 194), но, обдумывая разговор с Мариной, воображает, «как назову московскою царицей» (XIII, 15), и Марина готова отдать «руку наследнику московского престола» (XII, 77); сам самозванец говорит о доблестях, «достойных московского престола» (XIII, 126), который и Вишневецкий, и Марина называют «троном московским» (XIII, 7, 208), а Курбский восклицает: «Сей добрый меч, слуга царей московских» (XIV, 9); а также передают слова Отрепьева: «буду царем на Москве» (VI, 12-13). Басманову предлагается от имени самозванца «первый сан по нем в Московском царстве» (XXI, 4) - небезлюбопытно, что такая фраза вложена в уста Пуш
5* При цитировании в скобках отмечается римскими цифрами порядковый номер сцены (автор оставил их без нумерации), арабскими цифрами - порядковый номер строчки, указанный в подготовленном к печати Г.О. Винокуром тексте трагедии в VII томе академического Полного собрания сочинений А.С. Пушкина, изданного в 1935 г. (Это - единственный вышедший из печати том таким образом подготовленного издания167.)
кина. Показательно представление о территории этого «царства», выраженное в словах царевича Федора, обращенных к отцу:
Чертеж земли московской: наше царство Из края в край. Вот видишь: тут Москва, Тут Новгород, тут Астрахань. Вот море, Вот пермские дремучие леса, А вот Сибирь. (X,18-22)
То есть «землей московской» Пушкину представлялась вся территория «царства» - и центральная, и окраинные земли, выделяемые в царском титуле как особые государственные образования.
Такого рода наблюдения, как и множество подобных о языке Пушкина, используют обычно для подтверждения общепринятого положения о необычайном богатстве словаря пушкинского языка, обилии словообразов, глубоком проникновении Пушкина в дух речи прошлых времен. И это признается, естественно, одной из достойных высокой оценки черт богатой творческой натуры Пушкина.
Не правомерно ли иметь подобный подход и к языку авторов XVI-XVII вв.? И, отметив очевидную близость языка «делового» и литературы той поры (это положение обосновано в трудах Д.С. Лихачева и других филологов), рассматривать многообразие терминов и неустойчивость норм словоупотребления политони-мов как признак богатства древнерусского языка. М.В. Ломоносов писал о «богатстве и сильной в изображениях краткости» нашего языка, восхищенно сравнивая его с другими языками, еще в середине XVIII в., т. е. до того, как сформировался талантом и усилиями Державина, Фонвизина, Карамзина, Крылова, Жуковского, Грибоедова и особенно, конечно, Пушкина язык великой русской классической литературы. Строгость формульных выражений, элементы жесткой систематики в употреблении терминов языка в государственно-политической сфере были привнесены позднее -в век рационализма, с взаимопроникновением корневых традиций (и языка, и обычаев общежития) и нормативов рецепции римского права в практику государственной и общественной жизни и в «деловой язык» и с распространением правил обязательной однознаковой повторяемости, характерных для школьного обучения. В языке же жителей Российского (Московского) государства XVI-XVII вв. - языке и нарративных источников, и «деловом» -логическое и эмоциональное оставались еще нераздельны, не была
еще закреплена осознанная терминосистема. Можно полагать, что немалое значение придавали метафоричности и воздействию «благозвучия» (тем паче что тогда - при недостаточном распространении грамотности - текст в большей мере воспринимался на слух). Все это отражает ситуацию в письменности того времени, когда единого письменного литературного языка с упорядоченной системой норм еще не было.
Изучение такой проблематики - и более углубленное, и в более широком плане, в частности в контексте семиотики культуры, - задача специальных исследований на стыке наук (и не только истории и филологии и смежных с ними вспомогательных научных дисциплин), опирающихся, конечно, на значительно более обильную источниковую базу.
Пока же можно констатировать, что терминосочетание «Московское государство» широко распространено в языке XVI-XVII вв. Оно было самоназванием и всего государства, и части Российского государства и имело даже значение «управление Москвой». И это было характерной чертой времени, когда не определилась еще обязательность норм словоупотребления, в частности для политонимов.
М.Н. Тихомиров в монографии 1962 г. «Россия в XVI столетии» в подглавке с показательным заголовком «Российское, или Русское, государство», отмечая, что «мы вправе говорить одинаково как о Русском, так и о Российском государстве», пишет: «Существовало также третье название - “Московское государство”. Оно употреблялось в официальных документах XVI в. Под этим названием, по преимуществу, знали Россию в западноевропейских странах... термин “Московское государство” существовал в XVI-XVII вв., так как позже окончательно утверждается название “Россия” и даже производные от него - “росс” и “россиянин”». И далее приводит примеры обозначения термином «Московское государство» и России, и лишь части ее и сосуществования обоих терминов168.
«Московское государство» - это термин определенной знаковой системы. Причем такой системы, которая не только отражала явления, но и формировала представление о них и о шкале общественных ценностей. Самоочевидно, что такое наименование государства определяло роль Москвы и в создании государства, и в современной жизни.
Московское великое княжество стало основой централизованного государства в России. Государем всея Руси сделался
московский великий князь, и именно он объявил себя наследником земель всея Руси, т. е. государственной территории своих предков, ведущих происхождение от Владимира Мономаха. Московское великое княжество, а не его столица Москва дало наименование централизующемуся государству. Но само-то княжество получило название, конечно, от Москвы.
Для утверждения в массовом сознании наименования «Московское государство» («Московское царство») имело значение, видимо, и то, что государь всея Руси после венчания на царство в 1547 г. именовался «царем и великим князем» в официальной документации (причем не только в делопроизводственной, но и в летописях). Он не только всегда оставался и «московским великим князем», но и ощущал себя таковым: Иван Грозный, разыгрывая спектакль передачи трона крещеному татарскому ханычу, объявил себя «князем московским»; «князем московским» именовал его, желая унизить, и нашедший приют в Польско-Литовском государстве беглый боярин князь Курбский6*. А о событии 1613 г. писали, что Михаила Романова избрали «на царствующий град Москву и на все Российское царство».
Еще существеннее то, что герб Москвы, герб московских великих князей, воспринимался и как герб России («Московии») в XVI в. иностранцами и в определенной мере и в самой России; в конце XVII в., в Титулярнике 1672 г., определение «московский» дано изображению двуглавого орла; в 1699 г. на печати Петра I на груди орла - эмблема Москвы. И Петр сделал объяснительную запись: «...ц. Иван Васильевич, когда монархию, от деда
6'В запечатленной А. Шлихтингом сцене «игры в царя» в 1567 г., когда Иван Грозный заставил заподозренного в измене конюшего боярина И.П. Федоровна надеть «свои одеяния» и сесть на трон, царь обращается к несчастному издевательски именно как к великому князю московскому («Ты имеешь то, чего искал, к чему стремился, чтобы быть великим князем Московии и занять мое место; вот ты ныне великий князь...»). Допустимо предположить, что такое словоупотребление связано и с тем, что именно Федоров управлял Москвой в отсутствие государя: Шлих-тинг называет его (причем дважды) «воеводой московским», которого царь «признавал более благоразумным среди других высших правителей всех и которого обычно даже оставлял вместо себя в городе Москве, всякий раз как ему приходилось отлучаться из-за военных действий»169. «Московский воевода» на языке XVI-XVII вв., как отмечалось уже, Управлял тем, что тоже называли «Московским государством» .
его собранную, паки утвердил и короновался, а княжеский герб в груди оного поставил». И позднее, как утверждает Н.А. Соболева, «Георгий Победоносец прежде всего воспринимался как часть герба Российской империи»170.
Не следует упускать из виду и то, что в Москве, до переноса столицы в новопостроенный Санкт-Петербург, не было особого высшего управляющего, им считался сам царь и великий князь. Царь Иван наставлял сыновей в завещании «навыкать» к «московскому пребыванию и житейскому всякому обиходу». А когда царь покидал столицу, «в обычае» было назначать кого-то из приближенных высокопоставленных лиц управлять ею, - и это тоже называлось «управлять Московским государством». Воздействовало на сознание и то, что именно Московский Кремль казался символом России и ее государственности. Облик замка, уникального по внешнему виду, резиденции государя и его правительства и одновременно первоиерарха, крепко запечатлевался.
Показателен титул патриарха - «Московский и всея Руси». Подобным образом титуловали и царя иностранные властители, в государствах которых была вера православного толка; имеретинский царь в 1649 г. обращался к Алексею Михайловичу как к «великому царю Московскому и всеа Русии» и поклонялся «царствию великие Москвы и всеа Русии»171. Утверждение патриаршества в столице, имеющего международный авторитет суверенного государства, заметно укрепляло представление о Москве как о надежде, даже средоточии, всемирного православия, его государственном центре.
Можно думать, что большее, чем прежде, распространение с конца XVI в. и в делопроизводстве, и в литературе словосочетаний «Московское государство» и особенно «Московское царство» связано и с учреждением в Москве патриаршества. Тем более что подготовка этой акции совпала по времени с попытками подчинить власти российского государя (или его наследника) Польско-Литовское государство, где православные, тоже называвшие себя русскими, были заметной частью населения (а для них владения государя всея Руси - «Московское господарство»). Знаменательно, что именно тогда получают все большее распространение на территории и государя всея Руси, и среди православных Польско-Литовского государства представления о «Святой Руси» («Святорусская земля», «царство»)172.
Москву с конца XV в. величают «Царственным градом», признают преемником «царствующих градов» предшествующего
времени (недавно А.И. Филюшкин попытался обобщить данные об объяснении в русской средневековой книжности перехода этого термина к Москве)’73. Москву уподобляют другим «великим городам» - Иерусалиму, Риму, Константинополю (напоминая и о том, что Москва столь же «седмохолмный город, как Царьград»)174, называют «Вторым Киевом» и, соответственно, «матерью городам российским».
Особое значение придают - и не только в публицистике (церковной и светской), но и в государственно-политических международных отношениях (что нашло отражение и в посольских книгах) - комплексу идей о происхождении московских государей от брата императора Августа («Августа кесаря»). В этот же период возросло внимание к комплексу представлений, относимых к доктрине «Москва - Третий Рим», воплощающей в себе и политический и конфессиональный аспекты175.
И в связи с этим могло показаться знаменательным то, что в прошлом именно город Рим дал название и империи, и населению ее - «ромеям». Тем более что, как показала Н.В. Синицына, смысл идеи «Третьего Рима» не ограничивается тем, что Москва становится им, главное - в наименовании государства, «царства нашего государя» «Ромейским царством». Ключевое понятие теории - «Ромейское царство», зародившееся при императоре Августе; и к России (т. е. «Московскому царству») переходят функции этого «неразрушимого», «недвижимого» царства176.
Эти и другие предположения подобного рода нуждаются еще в проверке на прочность. Но вне сомнений то, что словоупотребления «Московское государство» и «Московское царство» для обозначения и всего «Российского государства» - показатель исключительного значения Москвы и в государственнополитической реальности, и в понимании историко-культурных традиций нашей страны в конце XV-XVII в.
Обычай употребления для наименования государства в целом по-прежнему также названия и его исторического ядра укоренен в Европе. Англию часто называют и в официальной документации, и в литературе (в том числе в научной), и тем более в просторечии Великобританией (официальное название государства Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), Голландией - Нидерланды (Королевство Нидерландов). И даже в однотомном Большом энциклопедическом словаре (во втором, переработанном издании 1997 г.) отмечено в статье «Нидерланды»; «неофиц. назв. Голландия»; «иногда назв.
“А[нглия]” употребляется для обозначения Великобритании в целом».
И понимание такой роли Москвы в России сохранялось и тогда, когда она стала на время - по определению Пушкина -«порфироносною вдовою»: в Москве венчались на царство императоры, в Москве собралась Уложенная комиссия, возводились триумфальные арки в честь и память военных побед, основали первый широкого профиля университет. Карамзин в «Записке о московских достопамятностях», предназначенной прежде всего для лиц царской фамилии, счел необходимым написать в заключение: «...Москва будет всегда истинной столицею России. Там средоточие царства, всех движений торговли, промышленности, ума гражданского... Кто был в Москве, знает Россию»177. И, видимо, не случайно избрали тогда именно Кремль местом рождения первенца великого князя Николая Павловича - будущего Александра II. На таком понимании места Москвы в истории России воспитывались читатели «Истории» Карамзина. Самое раннее из известных нам сочинений Л.Н. Толстого - написанное мальчиком о значении Кремля в истории. Общественное понимание этого ясно выразил драматург А.Н. Островский - автор драм не только о современной жизни, но и из истории России XVI-XVII вв.: «...через Москву вливается в Россию великорусская сила, которая через Москву создала государство Российское».
В представлении и наших соотечественников, и иностранцев в XVI-XVII вв. Россия и Москва, российская государственность и власть в Москве казались не отделимыми друг от друга. Москва представлялась олицетворением России. Это отразилось и в языке того времени, в политонимах, обозначающих наименование государства. И к тому имелись исторические основания.
1 Татищев В.Н. История Российская. Л., 1966. Т. VI. С. 141, 339, 352,368, 161.
2 Карамзин Н.М. История государства Российского (репринт, воспр. 5-го изд. 1840-х гг.). М„ 1989. Т. VI. Кн. 2. Стб. 217; Т. VIII. Стб. 56.
3 Пушкин А.С. Поли. собр. соч.: В 10 т. 4-е изд. Л., 1979. Т. 10. С. 120.
4 См.: Фомичев С.А. Автограф из Пушкинского музея А.Ф. Онегина // Русское подвижничество: Сборник к 90-летию Д.С. Лихачева. М., 1996. С. 229.
5 Белинский В.Г. Поли. собр. соч. М„ 1995. Т. VII. С. 506-507 и др. См. также: Иллерицкий В.Е. Исторические взгляды В.Г. Белинского. М„ 1953. Гл. 7; Черепнин Л.В. Образование Русского централизованного государства в XIV-XV веках. М., 1960. С. 55 и сл.
6 Чернышевский Н.Г. Поли. собр. соч. М„ 1947. Т. III. С. 570-571.
7 См.: Ленин В.И. Поли. собр. соч. 5-е изд. М., 1964. Т. 1. С. 153.
8 Кавелин КД. Наш умственный строй: статьи по философии русской истории и культуры. М„ 1989. С. 45,46; Петров Ф.А. К.Д. Кавелин в Московском университете. М., 1997. С. 48-50.
9 Соловьев С.М. Соч.: В 18 кн. М., 1988. Кн. II. С. 438,439; 1989. Кн. III. С. 9 и сл., 717.
10 Вернадский Г.В. Русская историография. М., 1998. С. 433.
"B erry L.E., Crummey R.O., ed. Rude and barbarous Kingdom: Russia in the accounts of sixteenth century English voyagers. Madison; Milwauker; L„ 1968.
"2 Mervaud M„ Roberti I.-Ci. Une infinie brutalite; L'image de la Russie dans la France des XVI-e et XVII-e siecles. P, 1991.
13 Сергеев Ф.П. Формирование русского дипломатического языка, XI-XVII вв. Львов, 1978. С. 131.
14 Соловьев С.М. Соч. Кн. III. С. 131, 615.
15 Пресняков А.Е. Российские самодержцы. М„ 1990. С. 344.
16 Большая советская энциклопедия. 1-е изд. М., 1938. Т. 50. Стб. 451.
17 См. об этом: Шмидт С.О. «История государства Российского» Н.М. Карамзина в контексте истории мировой культуры // Всемирная история и Восток: Сб. к 70-летию С.Л. Тихвинского. М., 1989. С. 187— 202. Переизд. в кн.: Шмидт С.О. Путь историка: Избранные труды по источниковедению и историографии. М., 1997. С. 257-270.
18 Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. VI. Кн. 2. Стб. 5, 6.
19 Цит. по: Литературная учеба. 1988. № 4. С. 99,100, 102.
20 Шмидт С.О. Подвиг наставничества: В. А. Жуковский - наставник наследника царского престола // Русское подвижничество. С. 203 и сл.
21 Ключевский В.О. Краткое пособие по русской истории. 6-е изд. М„ 1908. С. 87-88.
22 Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. М., 1993. С. 196.
23 Пресняков А.Е. Российские самодержцы. С. 429.
2А Шмидт С.О., Гутнова Е.В., Исламов Т.М. Абсолютизм в странах Западной Европы и России: Опыт сравнительного изучения // Новая и новейшая история. 1985. № 3. С. 4; Шмидт С.О. У истоков российского абсолютизма. М., 1996. С. 441-443.
26 Плюханова М. Сюжеты и символы Московского царства. СПб., 1995. С. 7.
26 Дьяконов М.А. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси. 3-е изд. СПб., 1910. С. 205-211.
27 Рыбаков Б.А. Русские карты Московии XV - начала XVI века. М„ 1974. С. 7.
28 Рое М. Foreign Descriptions of Muscovy. An Analytic Bibliography of Primary and Secondary Sources. Columbus, Ohio, 1995.
29 См. об этом: Барбаро и Контарини о России: К истории италорусских связей в XV в. Л., 1971. С. 227, 229.
30 Россия в первой половине XVI в.: Взгляд из Европы / Сост. О.Ф. Кудрявцев. М„ 1997. С. 175.
31 Соловьев А. Великая, Малая и Белая Русь // Вопросы истории. 1947. № 7. С. 24-38.
32 Казакова Н.А. Дмитрий Герасимов (Митя Малый) // Словарь книжников и книжности Древней Руси: Вторая половина XIV-XVI в. Л., 1988. Ч. 1 (A-К). С. 195-196.
33 См. об этом: Рыбаков Б.А. Русские карты Московии XV - начала XVI века. С. 71.
•' 'Рыбаков Б. А. Новооткрытая карта Московии 1525 г.; Старков В.Ф. Описание карты 1525 г. // Отечественные архивы. 1994. № 4. С. 3-15.
35 Д'Амато Дж. Сочинения итальянцев о России конца XV-XVI века: Ист.-библиогр. очерк. 2-е изд., 1995. С. 80.
хШ мидт С.О. Восточная политика России накануне «Казанского взятия» // Международные отношения. Политика. Дипломатия, XVI-XX вв..- Сб. статей к 80-летию И.М. Майского. М., 1964. С. 540.
37 Цит. по: Флоря Б.Н. Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй половине XVI - начале XVII в. М„ 1978. С. 71.
38 Лурье Я.С. Донесения агента императора Максимилиана II аббата Цира о переговорах с А.М. Курбским в 1569 г.: По материалам ; Венского архива // Археографический ежегодник за 1957 год. М„ 1958. >' С. 461-466. :
39 Форстен Г.В. Балтийский вопрос в XVI и XVII столетиях (1544-1648). СПб., 1893. Т. 1: Борьба из-за Ливонии. С. 481, 489, 548, 593, 605, 614, 616, 617, 627, 647, 654, 655, 663, 668, 669, 686, 687, 707, 711, 712; Флоря Б.Н. Русско-польские отношения и Балтийский вопрос в конце XVI - начале XVII в. М., 1973. С. 25 и сл. :
40 Базылев Л. Россия в польско-латинской политической литературе XVI в. // Культурные связи народов Восточной Европы в XVI в. М„ 1976. С. 145.
^KappelerA. Ivan Grozny in Spiegel derauslandischen Druckschriften seiner Zeit. Ein Beitrag zur Geschichte des westlichen Russlandbildes. Frankfurt a/M., 1972.
42 Послание Иоганна Таубе и Элерта Крузе // Рус. ист. журн. Пг„ 1922. Кн. 8. С. 29.
43 Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988. С. 59.
44 Тамже. С. 129.
45 Замысловский Е.Е. Герберштейн и его историко-географические известия о России. СПб., 1884. С. 222.
№ Герберштейн С. Указ. соч. С. 66, 74, 147.
47 Тихомиров М.Н. О происхождении названия «Россия» // Тихомиров М.Н. Российское государство XV-XVII веков. М., 1973. С. 15 (впервые напечатано: Вопросы истории. 1953. № И. С. 93-96).
48 Лукомский Г.К. Московия в представлении иностранцев XVI-XVII вв.: Очерки П.Н. Апостола. Берлин, 1922. С. 9-10.
49 Россия начала XVII в.: Записки капитана Маржерета. М„ 1982. С. 49-50, 141-142 (пер. уточнен. - С. Ш.).
50 Там же. С. 7.
51 Эти слова в цитатах из сочинения де Ту, приведенных в кн.: Лимонов Ю.А. Культурные связи России с европейскими странами в XV-XVII веках. Л., 1978. С. 219, 223.
52 Литвин Михалон. О нравах татар, литовцев и москвитян. М., 1991. С. 15.
^Невилль. Записки о Московии. М„ 1996. С. 7, 8.
54 Рыбаков Б.А. Русские карты Московии. С. 87, 90-91.
55 Шлихтинг А. Новое известие о России времени Ивана Грозного. «Сказание» Альберта Шлихтинга. Л., 1934. С. 18.
56 Флетчер Дж. О государстве Русском. СПб., 1906. С. XVII, 1, 17.
57 Середонин С.М. Сочинение Джильса Флетчера «Of the Russe Commonwealth» как исторический источник. СПб., 1891. Введение.
№Г орсейДж. Записки о России, XVI - начало XVII в. М., 1990. С. 50.
59 Буссов К. Московская хроника. М.; Л., 1961. С. 68, 70; Рое М. Ор. cit. С. 146.
60 Россия глазами иностранцев. М., 1986. С. 319.
61 Левинсон Н.Р. Записки Айрмана о Прибалтике и Московии 1666-1670 гг. // Ист. зап. М„ 1945. Т. 17. С. 289, 307.
62 Ключевский В.О. Сказания иностранцев о Московском государстве. М„ 1991. С. 27.
63 Поссевино А. Исторические сочинения о России XVI в. М„ 1983. С. 114, 115, 135; 128, 130, 133, 139, 142, 144; 93, 96, 147; 120; 141 (послед. Цитат).
64 Хорошкевич А.Л. Россия и Московия: Из истории полит.-геогр. терминологии // Acta Baltico-Slavica. Bialystok, 1976. Т. 10. С. 47-57.
65 Хорошкевич А.Л. Русское государство в системе международных отношений конца XV - начала XVI в. М., 1980. С. 83-84.
66 Там же. С. 84 (примеч. 45).
67 Хорошкевич АЛ. Символы русской государственности. М., 1993. С. 40.
68 Ключевский В.О. Краткое пособие по русской истории. М., 1908. С. 88.
69 Цит. по: Сборник РИО. СПб., 1882. Т. 35. С. 460.
70 Базилевич К.В. Внешняя политика Русского централизованного государства, вторая половина XV века. М., 1952. С. 509, 540-541.
71 Шмидт С.О. Предпосылки и первые годы «Казанской войны» (1545-1549) // Труды МГИАИ. М„ 1954. Т. 6. С. 237-239.
72 ПСРЛ. СПб., 1908. Т. 21. 4.1. С. 63.
73 Флоря Б.Н. Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй половине XVI - начале XVII в. С. 17 и сл.
74 Тихомиров М.Н. Российское государство XV-XVII веков. С. 11-17.
75 Шмидт С.О. К истории переписки Курбского и Ивана Грозного // , Культурное наследие Древней Руси: Истоки. Становление. Традиции: Сб. к 70-летию Д.С. Лихачева. М., 1976. С. 147-148.
76 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979. С. 9, 101,106.
77 Там же. С. 103,105.
78 Словарь русского языка XI-XVII вв. М., 1977. Вып. 4. С. 108— 109.
79 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. 3-е изд. СПб.; М, 1903. Т. 1.Стб. 956.
80 Собрание государственных грамот и договоров. М., 1814. Ч. II. №281.
81 Словарь русского языка XI-XVII вв. М., 1975. Вып. 1. С. 103.
82 Акты исторические. СПб., 1841. Т. 1. С. 203.
83 Сыскное дело о ссоре межевых судей стольника кн. В. Ромодановского и В. Сукина 1635 г. // ЧОИДР. М., 1848. Кн. 7. С. 86.
84 ПСРЛ. СПб., 1904. Т. 13. С. 392-395.
85 Завещание обычно датировали 1572 г. Ныне имеются серьезные основания для датировки его 1577-1579 гг. См.: Юрганов АД. О дате написания завещания Ивана Грозного // ОИ. 1993. № 6. С. 125-141.
86 Послания Ивана Грозного. М.; Л., 1951. С. 523, 524, 525, 527.
87 ПСРЛ. М„ 1968. Т. 31. С. 259; М„ 1978. Т. 34. С. 299.
88 Памятники дипломатических сношений Древней России с державами иностранными. М., 1851. Т. 1. С. 933-934; Соловьев С.М. М„ 1989. Соч. Кн. IV. С. 201.
89 Там же. Кн. III. С. 561, 604, 605, 616, 696.
90 Там же. Кн. IV. С. 214; Дьяконов М.А. Власть московских государей: Очерки из истории политических идей Древней Руси до конца XVI века. СПб., 1889. С. 156.
91 Послания Ивана Грозного. С. 143; Соловьев С.М. Соч. Кн. III. С. 653.
92 Там же. Кн. III. С. 655.
93 Путешествия русских послов XVI-XVII вв. М.; Л., 1954. С. 19.
94 Послания Ивана Грозного. С. 276.
95 Путешествия русских послов XVI-XVII вв. С. 86-88.
96 Там же. С. 123.
97 Там же. С. 193.
98 Там же. С. 203.
"Тамже. С. 273.
100 Там же. С. 277,300, 304, 305.
101 Там же. С. 235, 277.
102 Посольская книга по связям России с Англией, 1613-1614. М., 1979. С. 35,44,45 и др.
т Konovalov S. Twenty Russian Royal Letters(1626-1634)//Oxford Slavonic Papers. 1958. Vol. VIII. P. 139, 143, 146, 152.
104 Дьяки и подьячие Посольского приказа в XVI веке / Сост. В.И. Савва. М, 1983. С. 223.
105 Посольская книга по связям России с Грецией (православными иерархами и монастырями) 1588-1592 гг. М., 1988. С. 22, 124-125.
106 Описи Царского архива XVI в. и архива Посольского приказа 1614 года. М., 1960. С. 96, 86, 95, 124,115 (послед, цитат).
107 Опись архива Посольского приказа 1626 года. М., 1977. С. 105, 107,360, 372.
108 Там же. С. 70, 69.
109 Опись архива Посольского приказа 1673 года. М., 1990. С. 27,28.
110 Там же. С. 107, 506.
111 Там же. С. 114,116.
112 Там же. С. 106-107.
113 Там же. С. 524.
114 Сербина К.Н. «Книга Большого чертежа» и ее редакции // Ист. зап. М., 1945. Т. 14. С. 133,134,140-142,143.
115 Акты Археографической экспедиции. СПб., 1836. Т. 1. С. 401, 404, 414, 447,452 (далее - ААЭ).
116 Грамоты перепеч. в кн.: Дробленкова Н.Ф. Новая повесть о пре-славном Российском царстве и современная ей агитационная патриотическая письменность. М.; Л., 1960. С. 230,233-234,227-228,235,228-229 (послед, цитат).
117 Там же. С. 75-76.
118 Там же. С. 221-222.
119 ААЭ. Т. 2. С. 315.
120 Законодательные акты Русского государства второй половины XVI - первой половины XVII века. Л., 1986. С. 64.
121 Там же. С. 94-96, 102, 111, 116, 117, 119, 135, 136, 202,225, 226, 229.
122 Соборное Уложение 1649 года. Текст. Коммент. Л., 1987. С. 17, 18, 162. (Термин «Московское государство» в предметнотерминологическом указателе к тексту, с. 420.)
123 Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 3. Акты Земских соборов. С. 37, 38, 43,44, 46.
124 Собрание государственных грамот и договоров. М., 1812. Ч. II. №281.
125 Акты, относящиеся к истории Земских соборов / Под ред. Ю.В. Готье. М., 1909. С. 15-18; Тихомиров М.Н. Российское государство XV-XVII веков. С. 14-17.
тХо рошкевич А.Л. Символы русской государственности. С. 40.
127 Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 3. С. 69; Акты, относящиеся к истории Земских соборов. С. 24, 26, 38, 51, 59, 60, 65, 67, 69.
Котошихин Г. О России в царствование Алексея Михайловича. 4-е изд. СПб., 1906. С. 1, 89,124,126.
129 Копреева Т.Н. «Ведомство желательным людем»: Из автобиографических материалов А.Л. Ордина-Нащокина // Археографический ежегодник за 1964 год. М., 1965. С. 345,347-349. См. также: С. 338, 339,340.
130 Послания Ивана Грозного. С. 9, 10, 71, 125, 127, 208, 209, 144, 213, 143 (послед, цитат).
131 Волкова Т.О. Казанская история //Словарь книжников и книжности Древней Руси, вторая половина XIV-XVI в. Ч. 1. (Казанская история. Автор Т.О. Волкова.) С. 450-458.
132 Казанская история. М.; Л., 1954. С. 54.
133 Платонов С.Ф. Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII века как исторический источник. 2-е. изд. СПб., 1913. С. 440.
134 Казанская история. С. 58, 73, 144, 173 и др.
135 ПСРЛ. М., 1978. Т. 34. С. 4; Тихомиров М.Н. Русское летописание. М, 1979. С. 232-246.
136 ПСРЛ. Т. 34. С. 192,194, 195,197,198, 200 и др.
137 Там же. С. 192.
138 Там же. С. 206, 208, 209, 211, 217, 218.
139 Тамже. С. 213.
140 Там же. С. 219.
141 ПСРЛ. СПб., 1910. Т. 14. С. 2,3,5-7,9,11,14,16,18.
142 ПЛДР. М„ 1987. С. 24,30,32, 56,546.
143 Там же. С. 64, 66.
144 Там же. С. 130, 142.
145 Там же. С. 146.
146 Там же. С. 318, 324, 328,330,348, 350,354,356.
147 РИБ. СПб., 1908. Т. XIII. Вып. 1. Стб. 268, 454.
148 Повесть о победах Московского государства. Л., 1982.
149 Сказание Авраамия Палицына. М.; Л., 1955. С. 231, 232, 235, 237, 238.
150 Иное сказание // Сокровища древнерусской литературы. Русское историческое повествование XVI-XVII веков. М., 1984. С. 88.
'5' Кукушкина М.Б. Семен Шаховской - автор повести о Смуте // Памятники культуры. Новые открытия: Ежегодник 1974. М., 1975. С. 75-78.
152 РИБ. Т. XIII. Вып. 1. Стб. 1, 67.
153 Там же. Стб. 3, 69; 16; 22, 96; 24,101.
154 Там же. Стб. 7, 47; 16, 89; 20, 45; 60,148 (послед, цитат).
155 Там же. Стб. 7, 75; 9, 78.
156 Там же. Стб. 73; 61, 149; 64,1.
157 ПСРЛ. СПб., 1910. Т. 14. С. 129.
158 Солодкин Я.Т. Летописец Новый // Словарь книжников и книжности Древней Руси XVII в. СПб., 1993. Ч. 2. С. 257-262.
159 ПСРЛ. М„ 1968. Т. 34. С. 143,145, 147,151, 157, 162, 173.
160 Тамже. С. 177.
161 Там же. С. 181,184-186, 188,199.
162 Там же. С. 201,202.
163 ПЛДР (Конец XVI - начало XVII века). С. 538, 539.
164 Исторические песни XIII-XVI веков. М.; Л., 1960. С. 96-97; Соколова В.К. Русские исторические песни XVI в. // Славянский фольклор. М., 1951. С. 19 и сл.
165 Русская историческая песня. Л., 1990 (Библиотека поэта. Малая серия. 4-е изд.). С. 106,129,133, 155.
'' 'Пушкин А.С. Поли. собр. соч. М., 1935. Т. 7: Драматические произведения. С. 466 (коммент. Г.О. Винокура к трагедии «Борис Годунов»).
167 Шмидт С.О. Г.О. Винокур и академическое издание пушкинского «Бориса Годунова» //Лит. обозрение. 1997. № 3. С. 65-77.
168 Тихомиров М.Н. Россия в XVI столетии. М., 1962. С. 25-27. Шлихтинг А. Указ. соч. С. 21-23.
170 Соболева Н.А. Старинные гербы российских городов. М„ 1985. С. 17-19. См. также: С. 32-33. Подробнее см.: СоболеваН.А. Герб Москвы: К вопросу о происхождении // ОИ. 1997. № 3. С. 3-22 (особ. С. 15, 17).
171 Посольство стольника Толочанова и дьяка Иевлева в Имеретию, 1650-1652. Тифлис, 1926. С. 4.
172 Schaeder Н. Moskau das dritte Rom: Studien fur Geschichte der po-litischen Theorien in der Slawischen Welt. Darmstadt, 1957. S. 117-128.
173 Филюшкин А.И. «Царствующий град Москва...» // Российская монархия; Вопросы истории и теории. Воронеж, 1998. С. 10-23.
174 Забелин И. История города Москвы. М., 1905. Ч. 1. С. 50-52.
175 Успенский Б.А. Избр. труды. 2-е изд. М., 1996. Т. 1: Семиотика истории, семиотика культуры. С. 83-123 (статья «Восприятие истории в Древней Руси и доктрина “Москва-Третий Рим”»).
176 Синицына Н.В. Учреждение патриаршества и «Третий Рим» // IV centenario dell' instituzione del patriacation Russia. 400-летие учреждения патриаршества в России. Roma, 1991. Р. 66; Она же. Два мира: Возможность взаимопонимания // Россия в первой половине XVI в.: Взгляд из Европы. М„ 1997. С. 47.
177 Цит. по: Наше наследие. 1991. № 6. С. 46.
В России в конце XV-XVI в. происходит процесс становления и укрепления централизованного государства. Показательной стороной его является создание Судебников 1497 и 1550 гг. И потому, размышляя над проблемами образования централизованного государства в России, опираются в той или иной мере и на Судебники, сопоставляют их с законодательными памятниками предшествовавшего времени. А те, кто специально изучал Судебники, рассматривали и законодательные памятники в целом, и отдельные нормы их в определенном соотношении с проблемой развития централизованного государства. Такая традиция -конечно, без употребления современной терминологии - восходит к творчеству историков и юристов еще первой половины XIX в.
При этом следует учитывать различие суждений о датировке процесса образования централизованного государства в России. Некоторые полагают, что он завершился уже в годы правления Ивана III; другие усматривают продолжение этого процесса и в годы правления Ивана Грозного, т. е. во второй половине XVI в. Автор, опираясь на солидную историографическую традицию, придерживается убеждения в том, что процесс образования и укрепления централизованного государства достаточно длительный, относится и к XVI в. Мнение это обосновывается в коллективном докладе «Абсолютизм в странах Западной Европы и в России: опыт сравнительного рассмотрения» на XVI Международном конгрессе историков в Штутгарте в 1985 г., более детально -в книге «У истоков российского абсолютизма» (М., 1996).
Оформление суверенного централизованного государства -это прежде всего сложение единой системы центральных и местных правительственных учреждений (выполняющих административные, военные, судебные, финансовые и другие функции) и законодательства. В области развития правовой мысли и практики - это взаимопроникновение государственного и обычного права: часть обычаев (иногда восходящих еще к периоду государственности
В основе статьи - доклад на Международной научной конференции «Судебник 1497 года в контексте истории российского и зарубежного права XI-XIX вв.». Москва, 16 декабря 1997 г.
Древней Руси) становится составной частью государственного права, а новые, вводимые государством нормативы начинают постепенно восприниматься обществом как обычное право.
При характеристике системы административного управления и суда в Российском государстве XVI-XVII вв. в трудах историков, правоведов, публицистов часто употребляются термин «бюрократия» и производные от него. Термин «бюрократия» чаще всего понимается в буквальном смысле слова - как «господство канцелярии»1. Господство канцелярии в системе управления (во всяком случае, центрального) выявляется в разных источниках второй половины XVI в. Употребляя знакомые им термины «Kanzlei», «Kanzler», об этом пишут иностранные наблюдатели (немец Штаден, итальянец Барберини, датчанин Ульфельдт, англичане и др.). Канцеляриями они называют приказы, а термин «приказ» в значении правительственного учреждения тогда стал постоянным в русском языке - в таком значении он употребляется и в Судебнике 1550 г. Термином «канцелярия» обозначают приказы и современные зарубежные ученые (к примеру, Л. Берри и Р. Крамми в словаре русских терминов, сопровождающем издание сочинений англичан о России XVI в. - 1968 г.). Служащих приказов (и вообще правительственных учреждений) в XVI в. называли «приказными людьми».
Господство канцелярии возможно только при определенной законом системе административного управления, должностных лицах, занятых в сфере этого управления, и определенной системе делопроизводства, с которой связана деятельность таких лиц. А это подразумевает выработку определенных правил составления, хранения и учета, обращения и использования документов. Лица, оказавшиеся в этой сфере государственно-общественных отношений (точнее сказать, допущенные туда) и владевшие соответствующими правилами делопроизводства, приобретают отличия, выделяющие их не только в обществе, но даже в среде его правящей верхушки. Обычно, с дальнейшим развитием аппарата государственного управления и сопутствующего ему бумаготворчества, они занимают фактически (хотя первоначально и не юридически) все более привилегированное положение в общественной иерархии, приобретают все более реальную власть над другими людьми.
«Делопроизводство» в Словаре русского языка С.И. Ожегова определено как «ведение канцелярских дел»; так же и в четырехтомном Словаре русского языка (изд. 1985 г.). В Словаре
архивных терминов (1982 г.) - более развернутое определение: совокупность работ по документированию (т. е. созданию документов), управленческой деятельности учреждений и по организации документов в них. В немецком языке это обозначается термином «Schriftgutverwaltung».
Отмечено уже, что «делопроизводственная документация» - понятие историческое. Потребность в документировании первоначально удовлетворяется без помощи «канцелярий». Орган, специально предназначенный для производства документов и обеспечения их функционирования, появляется тогда, когда общество не может уже существовать без фиксации обыденного в жизни, а не только чего-то исключительного. Это происходит обычно в период образования централизованного государства. В это-то время и складывается в России (и в центре, и на местах) приказная система делопроизводства, и делопроизводственная документация постепенно становится массовой документацией. С возникновением канцелярского делопроизводства как системы оно, подобно всякой другой системе, не только «обслуживает», но и «самообслуживается». И необходимость выполнения государственно-управленческих нужд приводит сразу же к резкому увеличению числа лиц, занятых в сфере делопроизводства, -к формированию общественной прослойки чиновничества и, соответственно, к иерархии внутри ее.
В третьей четверти XVI в. уже был основной набор разновидностей правительственной документации, характерный для делопроизводства Российского государства XVI-XVII вв. (Отличительные черты видов и разновидностей таких документов отмечены в учебных пособиях по источниковедению2.) В их наименованиях современниками не было первоначально четкости и устойчивости. Но постепенно закрепляются и определенные наименования, и особенности формуляров, и представления о документообороте (т. е. о движении документов с момента их создания или получения и до завершения исполнения или отправки), вырабатываются и формы хранения, учета и описания делопроизводственной документации.
В плане истории развития делопроизводства можно подойти и к Судебникам, хотя отдельные выводы и наблюдения такого рода остаются до сих пор необобщенными, и в данной работе лишь постановка вопроса. Сравнительное рассмотрение текстов Судебников 1497 и 1550 гг. убеждает в заметном возрастании роли дья-
чества в государственном управлении и общественной жизни. Это прослеживается при сравнении уже первых статей Судебников. А дьяки воспринимались тогда прежде всего как делопроизводители, их называли «писарями»3. В обоих Судебниках специально оговариваются правила оформления документов дьячьей «подписью» и вознаграждения за это дьяков и подьячих.
В Судебнике 1550 г. появились новые - по сравнению с Судебником 1497 г. - положения: о порядке составления, хранения, использования документов. Особенно показательна новая статья 284. Указывалось на необходимость документирования судебного дела («дьяку исцовы и ответчиковы речи велеть записати перед собою»), так же как и слов свидетелей («или о чем ся пошлют на послушество - велети то записывати перед собою ж»), и дьяку дела «держати у собя за своею печатью, доколе» «дело» не кончится. Черновые записи дьяки давали подьячим «начисто переписывати», а после того по составам столбца, жалобницы и «дела» дьяки обязаны были расписываться («руки прикладыва-ти»). Переписанный подьячим текст сверялся дьяком («дьяку те все дела справити самому») и удостоверялся им («да к тем делом дьаку руку свою приложить»). «Дела» эти дьяк обязан был держать «у собя»; подьячим запрещалось держать у себя «дела». Если такое обнаруживалось, подьячего били кнутом. В случае выявления «списка или дела» «за городом» (т. е. вне Кремля) или «на подворье» подьячего не только казнили «торговою казнью», но и предписывалось его «выкинута ис подьячих, и ни у кого ему в подьячих не быти». Наказывался и дьяк, но менее строго: он обязан был возместить истцу ущерб, причиненный похищением или обнародованием «дела» (судебного протокола). Закреплялось правило, согласно которому лишь заверенный дьяком документ имел юридическую силу.
В новой статье 29 о «делах», которые «судят бояре», тоже предписывалось «тот суд велети записывати пред собою». Истцы не должны были «у записки стояти». Если надобно было истца или ответчика «воспросити», его звали к себе, но затем полагалось «от записки отослать». С окончательным текстом истцов не знакомили - только «судей» («А как дело их дьак запишет, и того дела пред истцы не чести, а прочести его бояром»).
Делопроизводственного характера дополнения обнаруживаются и в статьях Судебника 1550 г., восходящих к Судебнику 1497 г. Статья 62 Судебника 1550 г. детально характеризует процедуру рассмотрения судебных дел наместниками. Статья
эта опирается на статью 38 Судебника 1497 г., и дополнения к ней - по замечанию Б.А. Романова (автора комментария к изданию 1952 г.) - принадлежат «той же многоопытной в делопроизводстве руке, которая так заметна в ст. 28»5. Делопроизводство в наместничьем суде должно вестись параллельно и одновременно писцами - и земским и наместничьим («в две пары рук», по выражению Б.А. Романова). Протокол («судное дело») обязан писать земский дьяк, а копию его («противень» «слово в слово») -наместничий дьяк. К подлинному документу прикладывают руки присутствующие на суде дворский, старосты и целовальник, к копии печать свою прикладывает наместник. Подлинник должен храниться у наместника, копия - у старост и целовальников. Предусмотрен и бытовой факт неграмотности местных деятелей («а которые старосты и целовальники грамоте не умеют»), и то, чтобы копия хранилась у неграмотного: с грамотным легче осуществить сговор наместнику и внести изменения в текст обоих экземпляров «судного дела».
С новеллами статьи 62 связана новая статья 69 Судебника 1550 г. Уже отмечалось, что статья эта «показывает разработанную там» спору для «схему делопроизводства по составлению и хранению “судных дел” на местах в действии, когда судный список будет прислан в Москву “к докладу” и возникает самый спор, ради которого разработана эта схема»6, и что статья 69 «свидетельствует о крайне усилившемся значении письменных доказательств» в русском судебном процессе7. Если одна из сторон «оболживит» (т. е. объявит ложным, недостоверным) судный список, то в Москву вызывались присутствовавшие при рассмотрении этого дела в первой инстанции дворский, староста, целовальники. Доказательством достоверности (правильности) судного списка считалось подтверждение ее этими свидетелями и - главное - полное соответствие («слово в слово») подлинника и хранившейся у целовальников копии. В случае, если «судные мужи, которые грамоте не умеют», «порознятся» с мнением тех, «которые грамоте умеют», и представят «противень наместнича или волосте-лина дьяка» руки «и тот противень с судным списком не слово в слово», то виноватыми признаются «судья и судные мужи, которые по списку такали». Еще в середине XIX в. было отмечено, что «преимущество отдавалось» неграмотным, так как «их неучастие в подлоге было вероятнее»8. Делопроизводственные новации статей 62 и 69 имели тенденцию усиления контроля над наместниками, особенно актуальную в ту пору, но нормы эти закрепились
вообще в системе судебного делопроизводства. Авторитетность этих решений 1550 г. демонстрировалась уже в Стоглаве 1551 г. со ссылкой на «царев Судебник»9.
Судебники играли немалую роль и во внедрении делопроизводственной терминологии в практику повседневности. Сравнивая словарь Судебников 1497 и 1550 гг., замечаем обогащение терминологии в «Цареве Судебнике». Показательно в этом плане употребление в статьях Судебников термина «грамота» и объяснительных, уточняющих к нему. Это прослеживается по Указателю слов к текстам Судебников по академическому изданию 1952 г. Обозначим при этом Судебник 1497 г. буквой С, Судебник 1550 г. - буквами ЦС («царев Судебник»); указываются только статьи (в некоторых статьях термин встречается несколько раз): Грамота - беглая: С-1, ЦС-3; бессудная: С-4, ЦС-5; вольная: ЦС—1; вопчая: ЦС—1; вотчинная: ЦС-1; губная: ЦС—1; докладная: ЦС-5; духовная: С-2, ЦС-3; жаловальная: ЦС-1; купчая: ЦС-1; льготная: ЦС-1; откупная: ЦС-1; отписная срочная: С-1, ЦС-1; отпускная: С-7, ЦС-4; полетная: С-1, ЦС-2; полная: С-1, ЦС-7; пошлинная: ЦС-1; правая: С-9, ЦС—11; приставная: С-4, ЦС-5; срочная: С-4, ЦС-5; тарханная: ЦС-1; уставная: С-2, ЦС-2. (При этом не учитываются термины оглавлений к Судебникам.) То же наблюдается в отношении термина «рука», означающего подпись (С-2, ЦС-5; дьячая рука: ЦС-2; поповская рука: ЦС-1), термина «список» (С-2, ЦС-7; бессудный список: С-1; докладной список: С-2, ЦС-2; обыскной список: ЦС-1; судный список: С-1, ЦС-3). В Судебниках конца XVI - начала XVII в. закрепление новой терминологии становится еще заметнее.
Более детальное - постатейное - изучение Судебников и особенно сопоставительное рассмотрение их с актами еще очевиднее выявят роль Судебников - и их нормативов, и их терминологии -в становлении и закреплении системы делопроизводства Российского государства. Но уже и сейчас очевидно, что Судебники могут восприниматься как источники изучения не только истории судопроизводства, но и истории делопроизводства.
1 Подробнее см.: Шмидт С.О. У истоков российского абсолютизма: Исследования социально-политической истории времени Ивана Грозного. М., 1996. См. особенно приложение II «О приказном делопроизводстве в России второй половины XVI в.». На это исследование автор и опирается в данной статье.
2 Источниковедение истории СССР / Под ред. И.Д. Ковальченко. М., 1973; Шмидт С.О., Князьков С.Е. Документы делопроизводства правительственных учреждений России XVI-XVII вв. М., 1985. С.О. Шмидтом написан текст учебного пособия, С.Е. Князьковым подобраны документальные приложения - «образцы» дел.
3 Подробнее см.: Шмидт С.О. У истоков российского абсолютизма. С. 302-379. Раздел «Писари русские».
4 Текст Судебников приводится по изданию: «Судебники XV-XVI веков» (М.; Л., 1952). В плане данной работы интересны не только комментарии к этому изданию, но и историко-правовой обзор к изданию «Памятники русского права. М., 1956. Вып. IV: Памятники русского права периода укрепления Русского централизованного государства. XV-XVII вв.».
5 Судебники XV-XVI веков. С. 252.
6 Там же. С. 268.
7 ПРП. Вып. IV. С. 310.
8 Судебники XV-XVI веков. С. 269 (ссылка на кп.-. Дмитриев Ф.М. История судебных инстанций и гражданского апелляционного судопроизводства от Судебника до учреждения о губерниях. М., 1859).
9ПРП. Вып. IV. С. 309-310.
В 1992 г. к ставшему традиционным Пушкинскому празднику в Музее А.С. Пушкина (тогда еще в выставочных залах дома в Денежном переулке) совместно с Архивом внешней политики Российской империи Министерства иностранных дел была подготовлена очень интересная и по существу новаторская выставка «Русские литераторы и российская дипломатия XVIII - первой трети XIX века». Меня попросили выступить при ее открытии: и это побудило к специальным занятиям такой проблематикой1, а затем и к детальному изучению темы «Пушкин в среде дипломатов».
На выставке, пожалуй, впервые с подобной убедительностью было показано, что линии развития российской дипломатии (и службы внешних сношений, и службы в архивах иностранных дел) и русской классической литературы, точнее сказать, биографии ее творцов как бы сопутствовали друг другу в этот период. Здесь имена литераторов и первого, и иных рядов. Славный ряд классиков нашей литературы начинает князь А.Д. Кантемир, ставший в 1730 - начале 1740-х годов высокопоставленным профессиональным дипломатом послом в Лондоне и Париже. Великий Грибоедов погиб в 1829 г., занимая высокий дипломатический пост. Да и у самого Пушкина единственным местом государственной службы была Коллегия иностранных дел, и круг дипломатов (и россиян, и иностранцев) был постоянной средой его общения, особенно в последние, петербургские, годы жизни. Это многажды отмечено в его дневниковых записях, а гибель Пушкина нашла отражение в переписке иностранных представителей в России, и дипломатический корпус был на его панихиде почти в полном составе.
Российские дипломаты в XVII - начале XIX в. - элитарная группа не только по служебному положению (а зачастую и богатству), но прежде всего по своей образованности и особенно заметной роли в культурной жизни России. А находясь за рубежами своей страны, они в определенной мере воспринимались как
Впервые опубл.: Восток - Россия - Запад: Исторические и культурологические исследования: К 70-летию академика Владимира Степановича Мясникова. М„ 2001. С. 73-83.
воплощение культуры России. Это и понятно, ибо дипломатия -прежде всего сфера культуры, культуры общения и взаимопонимания, культуры освоения знаний и применения их. Дипломатию и определяют (в мемуарах и художественной литературе, в публицистике, даже в методических пособиях и рекомендациях) как «искусство ведения переговоров» (а также их письменного фиксирования), «науку о внешних переговорах» (оба раза подчеркнуто мною. - С. Ш.), хотя в европейских языках (а следовательно, и в русском) уже к концу XVIII в. слово «дипломатия» обрело значение и терминологическое, обозначая государственную деятельность (службу) в области внешних сношений государства.
Но хорошо известно и то, что в современном разговорном языке слова «дипломат», «дипломатично» получили и переносный смысл. Такое двойное толкование обнаруживаем уже в словаре В.И. Даля, т. е. в третьей четверти XIX в.: «дипломатия» -наука о взаимных сношениях государей и государств вообще», «дипломат» как «служащий по дипломатической части» и в то же время как «человек тонкий, скрытный, изворотливый»2. Переносное значение этих слов (и производных от них) отмечено и в послевоенных лет четырехтомном Словаре русского языка (под редакцией А.П. Евгеньевой), и в кратком Словаре русского языка, составленном С.И. Ожеговым3. А в двухтомном Словаре синонимов русского языка с цитатами из сочинений писателей XIX в. (среди них и такие великие, как Л. Толстой и Чехов) и XX в. подчеркнуто, что в разговорном языке слова «дипломатичный» и «дипломатический» имеют тот же смысл, что и «политичный»4. Ясно, что подобное достаточно широкое понимание на каждодневном бытовом уровне (а также употребление применительно и к женщинам -«дипломатка») свидетельствует не только об укоренении слова в языковом обиходе, но и об утверждении его для обозначения определенного рода занятий с характерными профессиональными чертами (государственного и политического деятеля). Такие понятия о профессиональных особенностях могли появиться не ранее конца XVIII в., когда закрепились новая организация службы внешних сношений и система постоянных представительств государства (государя) за рубежом со специализацией их обязанностей и должностными (ранговыми) различиями (и отличиями).
Между тем эти историко-культурные представления восходят еще к допетровскому времени, когда специализация в сфере собственно дипломатической службы заметна была прежде всего
в организации делопроизводственной деятельности. И наблюдения эти могли относиться не столько к сановным главам дипломатических миссий, сколько к «функционерам» (если употреблять определение Ф. Броделя «1е fonctionnaire» для Западной Европы XVI в.), сопровождавшим их, и к чиновникам (дьякам, подьячим, толмачам-переводчикам) Посольского и других приказов России, которые обеспечивали делопроизводство в области внешних сношений Российского государства.
Это, безусловно, и сфера культуры. Причем та, которая в определенной мере - и тогда особенно - обусловливала представление разных народов о культуре других народов (стран) и их социальных (социокультурных) страт; а в недавнее время привлекла внимание исследователей, интересующихся проблемами имагологии и ее Источниковой базы.
Однако тема не выделена как самостоятельная исследовательская проблема даже в сводных обобщающего типа трудах о культуре Древней Руси, хотя к настоящему времени накоплено уже немало выводов и наблюдений и в источниках, и в научной литературе (причем в трудах не только историков, но и филологов, правоведов, географов, искусствоведов), позволяющих предполагать допустимость уже и ее монографического изучения, особенно по материалам периода, когда началось образование централизованного Российского государства и появляется возможность сопоставительного рассмотрения источников и российского, и зарубежного происхождения. (Основной массив таких сочинений иностранцев о России и относящейся к ним литературы отмечен в книге 1995 г. Маршалла По5.)
Данная статья предварительного и постановочного характера является попыткой напомнить лишь о некоторых источниках исторической информации в данном плане и наметить возможные направления дальнейшей работы. При этом автор, опираясь на свои прежние труды о значении развития делопроизводства в процессе становления централизованного государства в России (где имеются указания и на источники, и на литературу6), преимущественное внимание уделяет письменной делопроизводственной документации внешних сношений россиян.
В Древней Руси до зарождения письменности уже закрепилась практика дипломатических переговоров «через устные передачи послов». (Д.С. Лихачев о дипломатическом обычае передачи устных посольских речей и отражении этого в письменных, а также и в фольклорных памятниках писал в специальной статье
еще в 1946 г.7) Но в Византийской империи к тому времени уже разработали систему оформления письменных договоров и записей посольских «речей». И в договоре 911 г. отношения между Византией и Русью Олега решено было закрепить «писанием и клятвою твердою», «не точью просто словесем». (Это взаимопроникновение устного и письменного обычаев внешних - дипломатических - сношений прослежено в монографии А.Н. Сахарова 1980 г. «Дипломатия Древней Руси. IX - первая половина X в.».)
С появлением произведений письменности утверждалось и представление о них как о памятниках, достойных сбережения, связывающих прошлое с настоящим. Постепенно поняли и то, что должно сохранять не только тексты «священных писаний», но и памятники обыденной жизни - и публичной, и частной (прежде всего «духовные», т. е. завещательные, распоряжения).
Можно полагать, что представление об архиве как о собрании документов, имеющих важное значение и по прошествии долгого времени, оформилось на Руси не позднее X столетия. А с началом летописания осознали и то, что в сочинениях исторической тематики государственного значения должно воспроизводить и документы внешних сношений или пересказывать их содержание. Самые ранние свидетельства такого рода - договора «Руси с Греками», т. е. правителей древнерусских и византийских. Объединенные в «казну» документальных памятников (так можно пожалуй, называть, архивы той поры), они хранились среди особо ценимых вещей и в помещениях, наиболее защищенных от пожаров (нередко в подклетах каменных храмов). Но в большинстве своем не избежали гибели во время нашествия кочевников с Востока во второй четверти XIII в.
О достижениях в дипломатическом искусстве счел важным написать в конце XI в. и знаменитый князь Владимир Мономах в своем «Поучении сыновьям». Это самое раннее из известных на Руси назидательных сочинений мемуарного жанра включено тоже в официальную летопись «Повесть временных лет». Владимир Всеволодович напоминает о «мирах» с разными государями: «а миров заключил с половецкими князьями без одного двадцать, и при отце и без отца». Тексты договоров не дошли до потомков: о датах и содержании этих «миров» в летописях есть немногие -подчас случайные - упоминания. (С приемами выявления сведений о подобных дипломатических актах в летописном тексте знакомимся в наибольшей мере в трудах о взаимоотношениях междукняжеских и с половецкими ханами уже через столетие -
в последней четверти XII в. - по событиям, заинтересовавшим Б.А. Рыбакова при изучении «Слова о полку Игореве».)
По своей территории древнерусское государство - Древняя Русь (или Киевская Русь, как ее часто называют по стольному городу главного князя) - была в конце X - начале XII в. крупнейшим государством в Европе, с обширными международными связями (государственно-политическими, торговыми). М.Н. Тихомиров, характеризуя в статье 1950 г. роль Древней Руси во всемирной истории, особо выделил международный аспект и полагал необходимым дальнейшее изучение этой тематики, чему положили начало еще немцы-академики XVIII - первой половины XIX в.8 И странно, что В.Т. Пашуто в историографических разделах своей книги 1968 г. о внешней политике Древней Руси обошел молчанием (не преднамеренно ли?) постановочного типа работу М.Н. Тихомирова, напечатанную первоначально на украинском языке.
Понятно, что прежде всего постоянно заключали «ряды», «миры» (обычно после предварительных переговоров) с владетелями тех государств («княжеств», «земель»), на которые распадалась древнерусская держава, а также с непосредственными соседями на Востоке и Западе, т. е., как выразились бы сейчас, с ближним зарубежьем. Но многосторонние международные взаимосвязи, особенно в XI в., были и с дальним зарубежьем и нередко укреплялись династическими брачными союзами.
Упомянутый в «Поучении» отец Владимира Всеволод Ярославич, «дома седя, знал пять языков, оттого и честь от других стран». В той или иной мере он оказался в родстве со многими государями в ближних и дальних странах: мать его - жена Ярослава Мудрого - шведская принцесса; братья его отца были женаты на дочерях польского и датского королей; сестры Ярослава Мудрого замужем за чешским королем, венгерским королем, польским королем. Братья Всеволода Ярославича женаты были один - на племяннице папы римского и другой - германского императора, сестры - Ярославны - жены королей Франции, Венгрии, Норвегии. Сам Всеволод был женат на византийской принцессе; сын его Владимир Мономах был супругом Гиты - дочери английского короля Гаральда, разбитого в битве 1066 г. Вильгельмом Завоевателем, а дочь Евпраксия (за рубежом названная Адельгейдой) стала женой германского императора Генриха IV9, и о ее взаимоотношениях с супругом, публичном выступлении о развратном поведении императора на соборе в Италии много написано в за
рубежных источниках, так же как и о том, что она через Венгрию воротилась на Русь10, Узнав о смерти Генриха, Евпраксия 6 декабря 1106 г. постриглась в монахини, а 9 июля 1109 г. скончалась. В.Т. Пашуто именно в связи с этим замечает: «Наша летопись, сохранив только эти две последние даты, дает повод с ужасом думать о той хрупкой фактической основе, на которой возводим мы здание средневековой истории русской внешней политики»11. А эти почти тысячелетней давности фамильные связи князей Рюриковичей XI в., оказывается, привели к тому, что в XIX-XX вв. выявляются неожиданнейшие родственные сближения, охватывающие не один континент: как выяснили генеалоги США, среди потомков Анны Ярославны, королевы Франции, четыре президента США (по женской линии), и среди них Вашингтон и Линкольн, а также Уинстон Черчилль и Джон Рокфеллер12.
Для процедуры династического брака (и сватовства, и бракосочетания) обязательна деятельность посольств, и иногда длительная. Когда король Франции решил просить руки дочери Ярослава Мудрого, на Русь с миссией отправилось большое посольство во главе с ученым епископом и знатными вельможами. Из Парижа выехали в начале 1048 г., а возвратились из Киева уже с Анной Ярославной в 1049 г. Бракосочетание отпраздновали в Реймсе лишь в мае 1051 г.13 - можно полагать, что во Франции в это время находилось сопровождавшее княжну посольство ее соотечественников.
Посольства, как правило, становились и ареной ораторского умения, даже искусства (это отражено во многих произведениях фольклора и всемирной художественной литературы соответствующей тематики, вплоть, по крайней мере, до середины XVII в.), а иногда и школой писательских навыков, ибо оставляли деловые записи (о времени и месте событий и о содержании сказанного), которые постепенно стали перерабатываться в посольские отчеты. Кое-кто пробовал силы и в составлении «путевых записок» о «хожениях» («хождениях») первоначально, видимо, с паломническими целями. Но, как было тогда общепринято в Европе, у лиц из высшего духовенства эти поездки совмещались с выполнением и государственно-политических заданий. (Об этом - в обобщающего типа исследованиях Н.И. Прокофьева, подготовившего и издание записок русских путешественников XI-XV вв., и в недавней работе Е.И. Малето14.)
Естественно, что рассказы об увиденном за рубежом, встречах там становились достоянием и более широкого круга лиц:
впечатления эти находили отражение и в фольклоре, и в новациях языка (разговорного письменного). Широкий историкогеографический и историко-культурный кругозор авторов дошед- j ших до нас произведений древнерусской литературы той поры j очевиден, особенно в «Повести временных лет» и в таких шедеврах, как «Слово о полку Игореве», «Слово о погибели русской земли», «Слово Даниила Заточника»; распространяется и переводная литература исторической тематики.
Однако до нас дошла лишь ничтожная доля памятников письменности, возникших до нашествия с Востока кочевников во второй трети XIII в.: уцелели только немногие поздние копии того, что было написано на территории, опустошенной завоевателями. (Это убедительно прослеживается по подготовленному Археографической комиссией описанию рукописей XI—XIII вв. в первом томе « Сводного каталога славяно-русских рукописных книг», хранящихся в нашей стране.) Но совершенно очевидно, что письменность была распространена не только в северо-западных землях Древней Руси (менее затронутых нашествием) и грамотные люди писали не только на бересте. Более того, все увеличивающееся число найденных берестяных грамот (и не только в Великом Новгороде) убеждает в многообразии и репертуара, и разновидностей памятников письменности, а также и в возможностях сопоставительного изучения содержания памятников письменности на разной материальной основе и историками (прежде всего школой В.Л. Янина), и филологами (школой А.А. Зализняка).
Желательно, чтобы это стало стимулом и для попыток историков-медиевистов (т. е. специализирующихся на изучении документов Западной и Южной Европы) обнаружить в исследуемых ими источниках не только факты многообразных международных взаимоотношений Руси с другими государствами, но и выявить формы фиксации этого в зарубежных источниках и возможные отражения в несохранившейся документации. Если акты отечественного и зарубежного происхождения изучались сравнительно в социокультурном и даже в государственно-политическом аспектах уже давно (а в последние годы особенно результативно С.М. Каштановым), то документация внешних сношений не стала еще предметом компаративистской направленности штудий.
Хотя еще в досоветские годы привлекли внимание сходственные черты и церемониала, и посольского обряда средневековой Руси с Византией и с государствами (царствами, ханствами) Востока. В какой мере это отражалось в документации,
оформлявшей посольские сношения, выяснено недостаточно. Не усилилось ли воздействие иноземных образцов с учащением сношений с татаро-монголами в XIII-XV вв.; не привело ли к смешению элементов византийского и восточного церемониалов и к созданию своеобразной амальгамы, воспринимаемой уже западноевропейскими современниками как «восточный деспотизм» (или «цезаризм»)? Детальные наблюдения над системой делопроизводственной документации (системой и образования, и функционирования, и хранения и описания документов) могут привести к небезлюбопытным выводам.
Ко второй половине XV в., когда в годы правления Ивана III вырисовываются контуры великой Российской державы со все умножающимися международными связями - а в XVI-XVII вв. тема «Московия» и «московиты» обретает нарастающий интерес среди читающей публики за рубежами нашей страны - документация внешних сношений становится все более обильной, и, главное, в значительной своей части она сохранилась. С описания прежде всего такой документации (сберегаемой в наиболее безопасных для пожара помещениях) формировались приемы описания и терминология документов государственного архива - сначала Царского, при Иване Грозном, затем Посольского приказа (об этом в послевоенные годы - в трудах С.О. Шмидта, под редакцией которого изданы и основные современные описи архивных документов XVI-XVII вв., и А.А. Зимина; об описаниях Посольского архива в статьях В.И. Гальцова, у других авторов - уже о документах сношений с отдельными государствами). Н.М. Рогожин обобщил сведения о сохранившихся посольских книгах сношений со всеми государствами и подготовил издания некоторых посольских книг по связям и с Западом, и с Востоком.
Все яснее определяется многообразный массив посольской документации, особенности его и взаимосвязь развития собственно делопроизводства с совершенствованием делопроизводства в других российских учреждениях (прежде всего в Разрядном приказе), с информацией о зарубежном опыте бумажной «бюрократии», с распространением новаторских тенденций и в литературе, и в разговорном языке.
Становится очевидно, что с дипломатией как формой государственной деятельности в области внешних сношений, с выполнением собственно дипломатических служебных обязанностей во многом связано в конце XV-XVII в. и развитие нашего просвещения, и воплощение в устной речи и на письме основных идей вре
мени, новаторских тенденций. Причем заметно (особенно в XV-XVI вв.), что это связывается и на практике, и в общественном сознании не только с обиходом высших государственных учреждений («судом» государя и бояр) и Двора государя, но и высшего духовенства и купечества («гостей»). Это наблюдение относится и к самим россиянам, и к приезжающим в Россию с дипломатической миссией (или под видом дипломатов).
Это отразилось и в памятниках письменности - на их форме, в их содержании, в частности в статейных списках посольских книг. Статейные списки включали обязательно наказ посольству и отчет посольства, а затем все чаще и тексты важнейших документов - посольских грамот, переписки и пр. Отчет чаще всего состоял из последовательных ответов на пункты «наказа» и дневниковых записей о пути посольства (с указанием, где, когда были, что видели, с кем и о чем говорили и т. д.), встрече и приеме посольства, ходе и результатах дипломатических переговоров. Особое внимание придавалось вопросам этикета. Иногда - особенно с рубежа XVI-XVII вв. - помещались «вести» (копии или пересказ документов и «речей», визуальные наблюдения) о видных зарубежных деятелях и событиях, о взаимоотношениях государства, в котором находились, с другими государствами.
Дневниковые записи вел обычно дьяк (или подьячий), а посол правил («чернил»). Записи велено было составлять «тотчас подлинно, ничего не прибавляя и не убавливая». Затем (видимо, зачастую уже по возвращении посольства) дневник редактировался. Таким образом, отчет, переписанный в посольскую книгу, необязательно идентичен тому, который составлялся на месте (следовательно, в нем могли оказаться отступления от первоначального текста, иногда более правдиво отражавшего события).
Дипломатические документы - не только высокие образцы делопроизводственной документации (влиявшие на уровень такой документации в рамках всей государственной службы), но и ценные памятники языковой культуры, а иногда и литературного мастерства. И выглядят отнюдь не инородным телом в серии «Литературные памятники», где напечатана в 1954 г. книга «Путешествия русских послов XVI-XVII вв.», тексты статейных списков послов в Швецию, Турцию, Англию, Францию, а статья инициатора издания Д.С. Лихачева озаглавлена «Повести русских послов как памятники литературы». В ней настойчиво и убедительно проведена мысль о близости «литературного» и «делового» жанров, об особом значении «деловой письменности» для ли
тературы в первые века развития литературы, в период перехода от условности церковных жанров к постепенному накапливанию элементов реалистичности15.
Составленное в третьей четверти XV в. «Хождение за три моря» тверского купца Афанасия Никитина, во многом предвосхитившее форму составления статейных списков посольских книг, безусловно признается и выдающимся памятником литературы (показательно, что именно его изданием началась в 1948 г. престижная академическая серия «Литературные памятники»), В «Смиренного инока Фомы слове похвальном о благоверном великом князе Борисе Александровиче», написанном в Твери незадолго до того, в описании Ферраро-Флорентийского собора (особенно в изложении сказанного его участниками) тоже многое напоминает стиль изложения в посольских книгах, самые ранние из которых дошли от последней четверти XV в. Ознакомление с биографиями лиц, включенных в тома «Словаря книжников и книжности Древней Руси» (подготовленные в Пушкинском доме), выявляет участие немалого числа этих «книжников» в дипломатической деятельности или описание ее в сочинениях.
В посольские книги считали допустимым включать и переписку царя Ивана с оказавшимся в плену опричником Василием Грязным. Да и вообще значительная часть изданной в той же серии «Литературные памятники» книги «Послания Ивана Грозного» -это его послания за рубеж (королям, литовским магнатам, князю Курбскому). И такие сочинения издавна привлекают при изучении не только общественно-политических воззрений царственного литератора, но и его стилистики, языковых особенностей.
Труды Ф.П. Сергеева «Русская дипломатическая терминология XI-XVII вв.», «Русская терминология международного права XV-XVII вв.», «Формирование русского дипломатического языка XI-XVII вв.» (изданные в 1970-е годы) существенно обогатили наши представления и о международных (межъязыковых) взаимосвязях, и о культурном кругозоре россиян тех столетий. Посольские документы обильно используются (и, главное, цитируются) в трудах о древнерусских языке и литературе, не говоря уже о трудах по истории права (особенно уместно М.А. Дьяконовым), общественно-политической мысли, а начиная с «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина - в обобщающих трудах по отечественной истории. Преимущественно по российским посольским документам (с привлечением, конечно, и сочинений иностранцев) написана новаторская по существу и яркая по фор
ме книга Л.А. Юзефовича «Как в посольских обычаях ведется...» 1988 г. о российском посольском обычае конца XV - начала XVII в. (В ее основе - кандидатская диссертация, сделанная под моим руководством еще в конце 1970-х годов.)
Посольские книги - источник не только историко-культурных, государственно-политических, но и естественногеографических знаний. Некоторые посольские статейные списки отличались особой полнотой и информативной ценностью, прежде всего о странах, граничащих с Российским государством и не всегда доступных западноевропейцам. Содержащиеся в них данные сразу же привлекали внимание и иностранцев. Отчет о первой поездке русских в Китай - группы томских казаков во главе с Иваном Петлиным и Андреем Мадовым в 1618 г. - имеет название «Роспись Китайскому государству и Лобинскому и иным государствам жилым и кочевным, и улусам, и великой Оби, и рекам и дорогам». В.С. Мясников, специально исследовавший этот уникальный документ, отметил, что уже в XVII в. «благодаря содержащимся в нем сведениям первостепенной важности о самом Китае и сухопутной дороге в него через Сибирь и Монголию документ вскоре после его составления был опубликован на английском, немецком, французском, латинском, а несколько позже на шведском и голландском языках, неоднократно издавался русскими археографами и историками и наконец был переведен на китайский язык...»16. В архиве Посольского приказа, вобравшем в себя документы Царского архива середины XVI в., хранились материалы, используемые при составлении летописей, а также документы, к которым обращались для обоснования не только внешней, но и внутренней политики: Иван Грозный и его советники «смотрели яко в зерцало» в архивы прежних лет. Обнаруживается прямая зависимость официального летописания от написанного, сформулированного в посольских книгах (даже если ограничиться сравнением с теми цитатами и упоминаниями об участниках переговоров и их содержании, которые приведены в книгах В.И. Саввы о лицах, причастных к деятельности Посольского приказа в XVI в.)17.
Показательно то, что выдающейся образованностью и детальным знанием государственных порядков и обычаев российской жизни отличались не только лица, занимавшие особо заметное положение в дипломатическом ведомстве. Одним из зачинателей международной журналистики признают итальянского гуманиста первой половины XVI в. Паоло Джовио (в русском
переводе с латинского - Павел Иовий). Он составил приобретшее сразу популярность сочинение о России, источником которого послужил рассказ образованного русского посольского переводчика Дмитрия Герасимова, побывавшего в Италии в 1525 г. Впрочем, Дмитрий Герасимов известен и другими литературными трудами18. Но серьезную осведомленность о современном состоянии России, системе ее управления (а также и литературный дар) обнаружил и подьячий Посольского приказа Григорий Котошихин. Оказавшись в Швеции в 1660-е годы, он составил столь пространное и продуманное описание России времени царствования Алексея Михайловича, что оно до сих пор и переиздается, и комментируется в нашей стране и за рубежом (в Англии в 1960 г. вышло издание в английском переводе с лингвистическими комментариями). Понятно, что прежде всего лица, причастные к посольской службе, выступали основными информаторами иностранных авторов, писавших о своем пребывании в России, о ее прошлом и настоящем (начиная, во всяком случае, с сочинения С. Герберштей-на, особенно популярного в Европе XVI столетия)19.
И к составлению официальных летописей и исторических (точнее, историко-публицистических) сочинений, обосновывавших и исторические традиции российской политики и ее современные задачи, и к делу описания документов главного государственного архива имели прямое отношение самые высокопоставленные лица, связанные с дипломатической службой - в середине XVI в. Алексей Федорович Адашев и Иван Михайлович Висковатов, в третьей четверти XVII в. Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин, позднее Артамон Сергеевич Матвеев, игравший (как показал И.М. Кудрявцев20) инициирующую роль в «книгоиздательской» деятельности Посольского приказа. Сына своего даже в ссылке на Севере он стремился выучить греческому и латинскому языкам; и граф Андрей Артамонович Матвеев стал уже при Петре I крупнейшим российским дипломатом (послом в Голландии, Англии, Австрии) и видным историком и мемуаристом, как бы воплощая преемственность культуры Посольского приказа и культуры уже Петровской эпохи.
1 Дипломатический вестник. 1992. № 17/18. С. 60-61; Шмидт С.О. Русские литераторы и российская дипломатия // Международная жизнь. 1992. № 10. С. 111-117; Russian Men of Letters and Russian Diplomacy// International Affairs. 1992. № 11. P. 115-122.
2 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. СПб.; М„ 1903. Т. 1. Стб. 1085-1086.
3 Словарь русского языка / Под ред. А.П. Евгеньевой. М., 1985. Т. 1. С. 401; Словарь русского языка / Сост. С.И. Ожегов. 3-е изд. М., 1953. С. 141.
4 Словарь синонимов русского языка: В 2 т. / Гл. ред. А.П. Евгеньева. Т. 1.Л., 1970. С. 286.
5 Рое М. Foreign Descriptions of Muscovy. An Analytic Bibliography of Primary and Secondary Sources. Columbus, Ohio, 1995.
6 Шмидт C.O. Документация внешних сношений Российского государства // Шмидт С.О., Князьков С.Е. Документы делопроизводства правительственных учреждений России XVI-XVII вв. М., 1985. С. 59-65; Schmidt S.O. Les diaks dans la Russie de la seconde moitie du XVTsiecle // Histoire sociale, sensibi-lites collectives et mentalites. Melanges Robert Mandrou. P, 1985. P. 551-560; Idem. Der Geschaftsgang in den russischen Zentralamtern der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts // Forschungen zur Osteuropaischen Geschichte. Bd. 46. Berlin, 1992. S. 65-85; Он же. У истоков российского абсолютизма: исследование социально-политической истории времени Ивана Грозного. М., 1966 (раз.: «Писари русские». С. 302-329; «О приказном делопроизводстве в России второй половины XVI века». С. 439-446); Он же. Россия времени Ивана Грозного. М., 1999 (статьи: «Судебники и формирование системы делопроизводства в Российском государстве». С. 249-254; «Московское государство»: к объяснению наименования Российского государства XVI-XVII столетий. С. 255-301; «Посольские книги Российского государства XV-XVI столетий как памятник истории и культуры». С. 448-455).
7 Лихачев Д.С. Русский посольский обычай XI—XIII вв. // Исторические записки. Т. 18. М., 1946. С. 42-55.
8 Статья была опубликована в кн.: Пауков! записки 1нституту icTopil АН УРСР. Т. III. Кшв, 1950. С. 18-35. Перепечатана в книге избранных трудов М.Н. Тихомирова «Древняя Русь» (М., 1975. С. 22-41).
9 См.: Baumgarten N. de. Genealogies et manages occidentaux des Ru-rikides russes du Xе au XIIIе siecle. Roma, 1927.
,0 РозановС.П. Евпраксия-Адельгейда Всеволодовна( 1071-1109) // Известия АН СССР. Серия VII. Отделение гуманитарных наук. Л., 1929. №8. С. 617-646.
11 Пашуто В.Т. Внешняя политика Древней Руси. М., 1968. С. 127.
12 Your Family Tree. New York; London 929. P. 136,145,240,246 (Цит. по ст.: Быкова ЛА. Из истории развития генеалогии в США // Археографический ежегодник за 2000 год. М., 2001. С. 56-93).
13 Пашуто В.Т. Указ. соч. С. 132.
14 Малето Е.М. Русские средневековые хождения (издания и публикация) // Археографический ежегодник за 1999 год. М., 2000. С. 255-267.
15 Путешествия русских послов XVI-XVII вв. Статейные списки. М.;Л., 1954. С. 319.
16 Мясников В.С. «Разбойный» корабль на Амуре (К вопросу об открытии Татарского пролива) // Источниковедение и краеведение в культуре России: Сб. к 50-летию служения Сигурда Оттовича Шмидта Историко-архивному институту. М., 2000. С. 115.
17 Савва В.И. О Посольском приказе. Вып. 1. Харьков, 1917; Дьяки и подьячие Посольского приказа в XVI веке: Справочник / Сост. В.И. Савва. М„ 1983.
18 Дмитрий Герасимов (Митя Малый) // Словарь книжников и книжности древней Руси. Вторая половина XIV-XVI вв. Л., 1988. Ч. 1. С. 195-196.
19 Ляйш В. О ранних переводах «Московии» Сигизмунда Герберштейна // Источниковедение и краеведение в культуре России. С. 76-79.
20 Кудрявцев И.М. «Издательская» деятельность Посольского приказа (К истории русской рукописной книги во второй половине XVII века) // Книга: Исследования и материалы. Сб. 8. М., 1963. С. 179-244.
Понятие о взаимосвязи настоящего и прошлого России уже в начале XIX в. нашло отражение в историко-политологических построениях крупнейших мыслителей той поры Н.М. Карамзина и М.М. Сперанского - знатоков прошлого и настоящего и отечества, и европейского зарубежья. Карамзин поучающую Александра I записку-трактат «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» начал словами: «Настоящее бывает следствием прошедшего...», и попытался выявить те явления XVIII в. и Средневековья, которые могут рассматриваться как характерные (и даже обязательные) и для последующего времени, -назовем это «традиционалистской государственной практикой». С широким восприятием вышедшей вскоре многотомной «Истории государства Российского» Карамзина представления эти закрепились и официально (в частности, в идее сооружения памятника «Тысячелетие России» в 1862 г.), и получили распространение в учебной, художественной и публицистической литературе. На этом основан эффект пародирующей историографию сатиры Н. Щедрина в «Истории одного города», а на познании взаимосвязи времен - утверждение поэта, ставшего и историком, Александра Блока: «Два-три звена, и уж видны заветы темной старины...»
Обращено внимание на такие сочинения потому, что заголовок доклада подразумевает не только реликты Средневековья в реальной государственности, но и представления о корневых элементах исторического развития России, восходящих к Средневековью. При этом Средневековье рассматривается в данном аспекте не как ценностная категория (нечто менее передовое по сравнению с периодом Возрождения). Ко времени российского Средневековья отнесено время так называемого Московского царства - примерно с конца XV в. до правления Петра I. Для того тем больше оснований, что современники Карамзина и Пушкина (а в последующее десятилетие славянофилы и западники) видели
Текст доклада, подготовленного для пленарного заседания на конференции в Московском университете 29 мая 1997 г. Сокращенный вариант напечатан в кн.: Международная научная конференция «Государственное управление: история и современность (29-30 мая 1997)». М., 1998. С. 5-12.
в событиях начала XVIII в. существенный перелом в ходе исторического развития России, даже в ее общественном самосознании.
При этом следует иметь в виду уровень конкретных научных -и исторических и социологических - знаний той поры: в искони многонациональном государстве обращались тогда к прошлому лишь европейских стран, значительно меньших по территории и в большей мере единых по национальному и конфессиональному признаку, чем Россия, а о повседневности государственного управления и общественной жизни допетровской России научились извлекать сведения пока только из законодательных памятников и сочинений иностранцев: и актовые источники, и произведения древнерусской литературы (не говоря уже о данных археологии, этнографии, фольклористики) не вошли при жизни Карамзина в достаточно широкий научный обиход. Не разработаны были тогда даже основы исторической психологии; элементы обычного права (тем более в плане отражения социальной психологии давнего времени) с трудом еще вычленяли из общей системы правовых норм (и их наименований), а понятия, свойственные недавнему времени (и по языку), переносили и на далекие эпохи, применяя терминологию, отражающую достижения уже века рационализма.
В то же время в исторический текст Карамзиным вносились элементы политологии и нравственной философии (он и сам характеризовал себя: «историк-философ»). Еще для М.М. Щербатова это - раздельные сферы и даже, видимо, каждая со своей терминологией: сколько публицистического жара в его сочинениях о современности (в характеристике деятельности П.И. Шувалова, в рассуждениях о падении чести аристократии, в замечаниях на «Наказ» Екатерины II) и как намеренно фактологичен он в книгах своей «Истории Российской с древнейших времен», написанной тяжеловесным языком. И сколько литературно-художественной привлекательности в основном тексте «Истории» Карамзина, рассчитанной на внимание широкой публики, даже детское понимание! Это - результат и развития отечественной общественной и научной мысли (нашедшего отражение в обогащении литературного языка), и освоения опыта западноевропейской мысли (и ее философской и юридической терминологии) и литературы, и осознания всемирно-исторического значения событий недавней отечественной истории, для объяснения которого следовало искать далекие исторические корни. А после побед в 1812 и последующие годы это становилось потребностью и широкой общественности.
Так, к примеру, только недостаточной осведомленностью об особенностях сохранившейся Источниковой базы политической истории России середины XVI в. можно объяснить отрицание правительственного значения деятельности «Избранной рады» Ивана Грозного. Действительно, сведения об этом дошли до нас прежде всего в субъективных по характеристике лиц и событий страстных сочинениях Курбского и царя Ивана. Но совпадение данных об исключительном влиянии Адашева с Сильвестром и на царя, и на проводимую в те годы политику в написанном двумя непримиримыми противниками и рассчитанном на восприятие и достаточно широкого круга читателей, показательно. И после того уже по-иному относимся к несомненным следам правительственной активности этих лиц, обнаруживаемым в официальной документации (тем более что Адашев имел думский чин только окольничего, а Сильвестр и вовсе был священником), к воспоминаниям об этом и составителей летописей, и иностранцев. И еще в большей мере уясняется историческая реальность XVI в., если подойти к рассмотрению явления в сравнении с лучше (и дельнее) известными фактами из практики правительственной и придворной жизни последующих столетий. В то же время не следует довольствоваться при подобной историко-источниковедческой ситуации лишь суждениями публицистов и авторов мемуаров, даже если в сочинениях такого рода и наиболее ясно выражено восприятие роли «временников» в общественном мнении.
Формально институты высшей власти остаются традиционными, но правит реально часто не Боярская дума, а Ближняя дума государя, в которой отобранные государем «думцы» (т. е. члены Боярской думы), как правило, не составляют большинство. Большое влияние получают приближенные дьяки. Василий III совещался «сам третей у постели»; при возросшем Иване IV роль правительства играла «Избранная рада» - руководителя ее А. Адашева за рубежом называли «временником», в конце XVI в. с ним сравнивали по положению царского шурина Бориса Годунова, официально считавшегося «правителем» государства при Федоре Иоанновиче. А после того как Избранной радой были проведены реформы, определившие государственный строй на полтора столетия вперед, наступили годы опричнины, показавшей, что реформы 1550-х годов не поколебали устои безграничной власти царя; более того, даже закрепили нерасчлененность власти государственной и «государевой», возможности государя строить систему управления в обход обычного права и новых законодательных
нормативов. Это побуждало думать, что опричные порядки и есть типичное состояние самодержавного правления в России.
Потому-то идеолог «просвещенного абсолютизма» Н.М. Карамзин будет противопоставлять царя-самодержца, идеалом которого ему представляется Иван III, царю-«самовластцу» Ивану IV; а самодержавие XIX в. - не без влияния той же «Истории» Карамзина - постарается отречься от политического наследия грозного царя: ему не найдут места среди фигур памятника Тысячелетию России, его будет клеймить в своих художественных произведениях близкий к Александру II писатель А.К. Толстой.
Но и после XVI в., при Романовых, реальное положение в государственной и придворной иерархии определялось прежде всего степенью близости к особе монарха или к фавориту (исключение могло быть в экстремальных ситуациях - как у нелюбимого при царском дворе гениального Суворова в периоды военных действий). XVIII век - эпоха дворцовых переворотов (впрочем, как и в первый год XIX столетия). Известно множество свидетельств влияния тогда на дела государственного правления «случайных людей», т. е. находившихся «в случае» фаворитов-любовников... даже их родственников. Очень осведомленный современник Н.И. Панин заметил, что действовала «более сила персон, нежели власть мест государственных». Воздействие фаворитизма ощущалось и в сфере культурной жизни, где многое зависело от августейшего покровительства, вкусов и симпатий и монарха, и фаворита (и не всегда России везло на Иванов Шуваловых).
И в XIX в. слишком многое определялось воздействием на государя и правительственную политику лиц, особо приближенных к императору или даже к императорской фамилии - сначала членов так называемого Негласного комитета, затем Сперанского. Карамзин, составляя записку «О древней и новой России», исходил из такого порядка вещей и сам позднее, приблизившись к царской фамилии, использовал подобную практику для проведения в жизнь своих взглядов. Заметно огромное влияние высоких сановников, обусловленное отнюдь не только сферой, предопределенной их служебным положением: так, у Аракчеева при Александре I даже формально в подчинении находилось не только военное ведомство - у него сосредоточилась и документация недавно созданной Собственной Его императорского величества канцелярии (это выяснено П. Мустоненом), и «аракчеевщиной» называют государственно-общественный режим тех лет. Ближе к концу XIX столетия исключительно велико было влияние (во всяком случае,
в сфере внутренней политики, политики в области культуры) обер-прокурора Синода Победоносцева (напомним слова Блока: «Победоносцев над Россией / Простёр совиные крыла»).
Нетрудно убедиться в том, что и в XX столетии общественные представления о государственном строе России, пришедшие еще из Средневековья и воспринимаемые как исконные черты российской ментальности, остаются во многом характерными для общественного сознания россиян, что естественно при длительном сохранении в России основ и многих черт феодализма.
В этом плане можно рассматривать приближение к трону и необычайное влияние Распутина не только на царскую семью, но и на государственную политику, и надежды Ленина на легкость государственного переворота в пользу партии, сторонники которой не составляли большинства в обществе, и веру в преобразующую силу первых декретов советской власти, и сразу начавшийся формироваться культ Ленина и сформировавшийся и пагубный по своим последствиям культ Сталина...
Названия и функции новых общественных и государственных институтов воспринимались широким общественным сознанием в традициях привычного совмещения общинного уклада с державностью единовластца и публично провозглашенной соборностью. И не казалось нарушением привычных норм то, что высшими органами власти на самом деле являются не государственные, а партийные органы (от Политбюро и ЦК до парткомов), ни сакральный культ «великого вождя» и типичные для его правления фаворитизм и смена фаворитов, ни устранение путем революции сверху значительной части крестьянства в зловещий год «великого перелома» и полукрепостное состояние беспаспортных колхозников, ни назначение членов ЦИК, а затем выборы в Верховные советы без избирательной конкуренции (в послесталинские времена, когда страх быть посаженным уже несколько притупился, в ходу был анекдот: «Что такое социалистическая демократия? Это когда Адаму приводят Еву и говорят: “выбирай”!»), ни постоянное вмешательство (направляющее и карающее) в повседневность сферы культуры и науки, ни даже насильственное переселение народов (подобно тому, как действовали российские правители после покорения Великого Новгорода в конце XV в. и в начальный период опричнины).
Лишь в канун войны, чтобы поднять престиж государственности и для удобства общения на высшем правительственном уровне с другими государствами, И.В. Сталин, фактически еди-
невластный правитель страны, генеральный секретарь единственной в стране партии, стал официальным главой правительства. В первый год войны он напомнил и о традициях «великих предков», воплощавших идеалы дореволюционной России. В высказываниях Сталина об «ордене» коммунистов, о «царистских иллюзиях» народа, а после войны об опричнине и заслугах Ивана Грозного, даже, пожалуй, в стилистике его сочинений, близкой иногда к семинарской схоластике, - демонстративное обращение к Средневековью. Сознавал ли он, что реликты Средневековья обнаруживаются и в других проявлениях его деятельности, в государственном строе современной ему России? Возможно, что и понимал, хотя мог считать их свойственными не только давнему времени, так как подобные реликты заметны в государственной практике и в атрибутике и других тоталитаристских государств середины XX в. - и Европы, и Востока.
Ныне, когда в России взамен навязываемых вульгарно-социологических воззрений с непременным приматом классовой борьбы и экономики утверждается более широкое понимание общественных представлений, позволяющее видеть глубинные многовековые традиции в сфере культуры, нравственности, общественно-политического сознания, психологии футурологических воззрений, должно с большим, чем прежде, вниманием выявлять реликты средневековых образа мыслей и поведения (их светлые и темные стороны) на протяжении последующих столетий российской истории. Это поможет и определению того, что оказалось особенно долговечным - типологическим - для нашей психологии и культуры, для общественных представлений россиян.
Реликты Средневековья (воспринимаемые - подчас бездумно - как исконное начало общественной психологии) во многом и сейчас определяют реальное значение неформальной структуры власти, порождают зыбкость и непредвиденную изменчивость правового статуса высших учреждений и распределения полномочий внутри реально правящей элиты. В изучении «средневекового» в Новое и особенно в Новейшее время открываются интересные перспективы научного наблюдения, обобщающего и конкретного типа исследований для специалистов из разных областей гуманитарного знания. В этом докладе лишь постановка вопроса. Такой опыт истории, думается, может оказаться полезным при сегодняшнем выборе разумных технологий государственной политики. Политология - всегда и история.
Наши понятия об истории (особенно отечественной) и о взаимосвязи ее с современностью (т. е. о воздействии прошлого на настоящее и будущее, а настоящего на толкование прошлого) восходят к комплексу общественных представлений, сложившихся преимущественно в пушкинскую эпоху. Под словосочетанием «общественные представления» разумеется совокупность - именно совокупность! - элементов и общественного сознания и психологии. То, что стали общепринятыми выражения «Пушкин - это наше всё», «Пушкин - это Россия», объясняется не только признанием безмерного всеобъемлющего гения Пушкина, его мудрости, но и тем, что Пушкин воплотил в своих мыслях и творчестве то, что формировалось и закреплялось тогда как основа общественных представлений будущей России.
Уже на рубеже XVIII и XIX столетий в России (на основании и отечественного и зарубежного опыта истории общественной мысли) определилось отношение к значению в общественном развитии «революции» и «эволюции», к роли «революционных» действий облеченной властью личности. А это отражало и понимание всегда волнующих проблем: «личность и государство (государь)», «человек и общество».
Показательно изменение взглядов европейски образованных Радищева и Карамзина. Карамзин, всю жизнь остававшийся, с точки зрения правящих властей, либералом, приветствовал, полный радужных ожиданий, революцию во Франции, стремился в Париж; но, увидев в 1790 г. массовую революцию в действии, а затем узнав о практике революционного террора, стал убежденным сторонником эволюции применительно к России (тем более что на память ему приходили и впечатления о пугачевщине в родной Симбирской губернии). Карамзин уверен был в необходимости в России самодержавной власти, но осуждал действия «государя-самовластца». А уже после кончины Карамзина подобные же взгляды выражены в откровенно назидательной форме в политикопедагогических сочинениях (особенно в трудах по тематике отечественной истории) младшего друга Карамзина, преклонявшегося перед Историографом, В.А. Жуковского - главного наставника цесаревича (в будущем Александра II). Оба они мыслили, по существу, в сфере понятий о «просвещенном абсолютизме».
Это совмещалось с утопической надеждой на революционные возможности государей-преобразователей (таким представлялся образ Петра Великого и Вольтеру - властителю дум Европы второй половины XVIII в.), и значительно лучше осведомленно
му о прошлом России молодому Карамзину в «Письмах русского путешественника»); такое понимание перешло и к Пушкину. Более того, это совмещалось с убеждением в том, что «революция сверху» предотвращает угрозу «революции снизу». Сама эта вера унаследована из общественных представлений Средневековья, но облекли ее в модные, лозунгового типа суждения рационального века Просвещения, что и было доверчиво усвоено последующими поколениями как новое слово обществознания.
У некоторых это объединилось с упованием на очистительную силу массовой «народной» революции, способной перевернуть мир. И во имя этого оправдывалось насилие, ибо насилие, мол, - повивальная бабка истории, когда та беременна новым обществом. Полагали, что дух революции, осознание ее близких и далеких перспектив воплощены в немногих энергичных вождях, освоивших и законы общественного развития, и пути претворения в жизнь своих замыслов и уже по одному тому имеющих основание формулировать лозунги для общества и вести широкую общественность («массы») за собою. Они казались современникам выразителями мысли, духа «партий», объявленных носителями прогрессивного начала. Особо существенно то, что они и сами себе представлялись таковыми и требовали подтверждения этого другими, полагали себя вправе судить и карать не признающих это, в том числе - иногда и особенно - в среде своих же недавних сподвижников.
В начале XIX в. прочно закрепилось в сознании понятие об обязательности в такой огромной и многонациональной стране, как Россия, единой системы управления и самообороны и что достигается это эффективнее всего при наличии самодержавного единовластия (формулировка Карамзина: «Самодержавие - палладиум России»). При этом Карамзин осуждал все формы «самовластия» - и государя, и олигархов, и народа, опираясь в подобных суждениях на теорию Монтескье.
Однако, как выясняется, не только Монтескье имел предшественников (Бодена и других), но это отвечало и многовековым общественным представлениям россиян, запечатленным еще в средневековых памятниках - летописях и публицистике, в законодательстве и практике государственного правления и делопроизводства (т. е., памятуя о мольеровском персонаже, прозой говорили и до того, как узнали, что называется прозой). Подчеркивая и обосновывая такие положения, поддерживали еще и в XV-XVI вв. идеи преемственности власти (и истории)
великих князей от времен Древней Руси (со столицей в Киеве). Оформилось это и в предания о передаче древнерусским князьям регалий византийских императоров, в легенды о происхождении российских царей от римских императоров, в теорию «Москва -Третий Рим». В конечном счете это опиралось и на толкование библейских текстов и святоотеческих сочинений.
Для истории России (если обозначать термином «государство Российское», употребленным Карамзиным в заглавии своей «Истории», всю изначальную территорию страны его времени) характерно постоянное взаимодействие разных народов и различных историко-культурных традиций (и в мирных, и в военных условиях). И потому в организационных формах управления и общежития заметна своеобразная амальгама исконных славянских обычаев (совет князя - государя со старейшинами, а иногда со всеми «воями», и в то же время роль коллективного начала в организации общинной жизни и в сельской, и в городской местностях) и привнесенных соседями и завоевателями (в организации и «идеологическом» обосновании верховного властвования, в организации военных сил, сбора налогов, делопроизводства).
Из Византии и от восточных правителей пришли понятия " о деспотических привилегиях власти государя. Но поскольку это верхушечного плана явление не затрагивало образ жизни основной массы населения, то вполне могло совмещаться с сохранением там общинного строя. А это подводило к формированию представлений об особом, «соборном», начале российского общества вообще, и даже в структуре власти, что воплощалось в идее единения царя и народа - государя и общества. При этом помехой такому единению казались - или нарочито изображались соперниками -близкие к государю лица, даже боярство в целом. Задача удаления (или наказания) дурных советников государя становилась лозунгом и недовольных простолюдинов (особенно в дни народных «бунтов»). Но и государи (и лица их окружения) умело использовали такие настроения, придавая своим начинаниям (зачастую направленным на удовлетворение властолюбивых и корыстных намерений) видимость осуществления заботы о народе, даже реализации чаяний и требований самого народа, изображали их совместным деянием монарха и народа (особенно преуспел в этом самый жестокий и демагогичный из деспотов Иван Грозный).
Прибегали к таким приемам с тем большей убежденностью, что общинное сознание казалось действенным, и необходимым даже, на землях, которыми владели крепостники; оно объединя
ло в небезопасное сообщество и случайную толпу (и даже очень значительный круг лиц, как в первоначальных ватагах казаков). Эти привычные представления способствовали массовому объединению в периоды народных волнений - сборища вечевого типа таили и угрозу «бунта». Он возникал как «общинное» действие (или даже решение) и тогда, когда шли громить, сжигать барские усадьбы и дома городских богатеев, требуя их головы, и при образовании воинственных армий первых «вольных» казаков. Ни одна другая европейская страна не знала в XVII-XVIII вв. таких массовых народных восстаний.
Из письменности и преданий зарубежной культуры и практики управления - и византийской традиции, и, пожалуй, еще в большей степени от чингизидов - воспринято было представление о сакральности власти монарха, о том, что власть государя имеет божественное происхождение, воплощает власть и волю Бога. В этом тоже особенно преуспел высокообразованный по меркам того времени писатель Иван Грозный, сформулировавший основные положения идеологии «самодержавства» и необходимости самообороны царя от строптивых подданных. При этом он опирался и на исторические примеры (прежде всего из российской истории), и на Священное Писание (запечатленное в нем воспринималось тогда тоже как исторические реалии прошлого - «священная история»).
Под самодержавием («самодержавством») подразумевали в то время и в России и за ее рубежами правление, независимое и от обязательных (тем более наследственных) советников, и от чужеземной власти. Самодержавие понималось и как условие сохранения внешней независимости государства и особенно осуществления активной внешней политики. Именно военное дело, участие в войнах признавалось основным делом мужчин «благородного сословия»: это прослеживается и в зарубежной этимологии (слова «кавалер», «шевалье» - от «лошадь», «эксвайр» - от «щитоносец», «рыцарь» - от «риттер», «всадник»), и в сочинениях русских авторов XVI в. (И. Пересветова). Военные победы более всего -согласно общественным воззрениям - содействовали укреплению престижа монарха. Это явственно заметно на примере того же царя Ивана IV. Не отличавшийся ни полководческим искусством, ни личной храбростью, он стремился к славе полководца-победителя: устроил триумф по возвращении из Казани (столицы покоренного Казанского «царства»), публично повторив сцену царского венчания (имевшего место еще в 1547 г.) при встрече возвращав
шегося в Москву войска в 1553 г.; созданы были и огромная икона «Церковь воинствующая», где видим ангелов, вручающих Ивану IV короны покоренных «царств», и летописной формы «Казанская история», где победа изображалась апофеозом правления первого российского царя. Подобных традиционалистских взглядов придерживались государи и последующих столетий: государь должен был быть не только верховным главнокомандующим, но и представляться выдающимся военачальником. И если у Александра I хватило ума, поборов славолюбие, довериться Кутузову, то Николай II, не поступившись своей привилегией, способствовал росту неуважения не только к монарху, но и к монархии в целом и, в конечном счете, гибели династии Романовых (и падению затем династий Гогенцоллернов и Габсбургов).
Совмещение самодержавного деспотизма и общинных устоев повседневного обихода казалось естественным и верхам и низам общества. И, осознавая это, верховная власть культивировала внешнюю «соборность», делала вид, что привычные нормы человеческой жизни микромиров распространяются и на макромир властных структур. Это прослеживается по истории земских соборов (которые и замыслены были первоначально как противостояние возникавшим стихийно народным «вече», «миру» в 1547 г. в Москве и в других городах), и по программе деятельности соборов, и по форме ее - публичные декоративно-обличительные «речи» царя (что вообще характерно для такого лицедея, как Иван IV). Участниками заседаний земских соборов были прежде всего лица, вошедшие в их состав по должности, а прибывшие в Москву не избирались местными обывателями, а обязывались к тому властями и подчас тяготились этим. Только соборы, созывавшиеся в чрезвычайных обстоятельствах (в последний период Смутного времени), действовали не по инициативе и указаниям верховной власти, выполняя ее прерогативы. Привнесение в дальнейшем (в XVIII в., в начале XX в.) элементов демократизма в систему выборов и работы сословно-представительных учреждений России приводило в конце концов к прекращению верховной властью их деятельности1.
В то же время земские соборы имели немало близких черт с Освященным собором (т. е. собором духовенства), который всегда был их составной частью. Это отражало характерное для системы государственного управления в России единение высших светской и церковной властей, отступление от правила приводило к опале властолюбивых или строптивых иерархов. Это привычное состояние обеспечило признание в обществе естественным про
возглашения триады официальной идеологии - «православие, самодержавие, народность». Формулировка министра 1830-х годов Уварова исходила из расхожих общественных представлений.
Нарождавшаяся буржуазия была представлена на соборах слабо, в столицах - все более аноблировавшейся верхушкой. И это понятно, так как оставалась необоримая помеха развитию капиталистических отношений - крепостничество, имевшее тяжкие последствия и для развития культуры, и для общественного сознания. Крепостничество - порождение Средневековья, его типичный признак. И самое трагическое для российской истории то, что оно утвердилось в России тогда, когда ощутимо было восстановление социокультурного уровня жизни, резко нарушенного нашествием кочевников в XIII в. и последующим татарским игом, опустошившими и культуру тогда, когда Западная Европа познавала радость эпохи Возрождения. (Впрочем, не следует забывать -это существенно важно в плане изучения социальной психологии, -что XVI-XVII вв. - эпоха и свободомыслия и инквизиции; и, скажем, Франция тех веков не только Франция Рабле и романтических героев Дюма, но и колдовских процессов, сожжения ведьм.) Крепостничество формировало закрепившееся надолго общественное равнодушие к государственно-политическим интересам, смирение перед насилием властей (прежде всего близстоящих) и в то же время иллюзорную веру в далекого царя - защитника справедливости. А дикие формы крепостнического насилия (и ду-шевладельцев, и чиновников-законодателей) порождали и дикие формы народного возмущения - «русский бунт, бессмысленный и беспощадный» (по точному определению Пушкина).
Для укрепления власти государя, олицетворявшего государство в глазах и подданных, и чужеземцев, требовалось не только укрепление армии, но и бюрократизация системы управления, устойчивая делопроизводственная стабильность. Оформление этого - характернейшая черта периода становления Российского централизованного государства. С созданием Судебников 1497 и 1550 гг., оформлением системы делопроизводства, иерархии чинов Россия в плане централизации управления казалась даже опередившей Западную Европу (что еще 75 лет назад отмечено Р.Ю. Виппером). В то же время формально-правовые нормы повседневных социальных отношений (как показал С.М. Каштанов) оставались на уровне Западной Европы едва ли не каролингских времен: укрепление государственной централизации в России заметно опережало социально-экономическое развитие. И потому
форма правления в России (современная складывавшимся абсолютистским монархиям Западной Европы) гуманистически образованным европейцам больше напоминала восточный деспотизм. Да и в самой России - государстве европейского типа, где общественные представления имели в основе своей общие для всей Европы положения христианской морали, - примером подражания избирали турецкого султана Мухаммеда II («Магмет-салтан» Пересветова), а присвоение Иваном IV царского титула объясняли покорением восточных ханств, правителей которых искони называли царями. Даже о Василии III - отце грозного царя - имперский посол Герберштейн писал, что властью, которую он имеет над своими подданными, он далеко превосходит всех монархов целого мира. Сын Василия, Иван Грозный, считал всех подданных своими «холопами», и знатнейшие из них - потомки удельных князей -тоже именовали себя, обращаясь к царю, «холопишками». Все должны были казаться равно униженными перед всевластием государя.
Неизжитыми оказались черты государственно-общественного устройства, характерные еще для «старого» московского порядка с его личными привилегиями и временными льготами, и в XVIII столетии. Отмечая это, С.Ф. Платонов еще в конце XIX в. писал, что согласно «старым порядкам» «всякое лицо и всякая личная собственность рассматривались как орудие правительственной деятельности, употребляемое для служения государственному интересу... Все общество было построено на началах государственной крепости... В этом государственно-крепостном порядке была известна своеобразная справедливость; она выражалась во всеобщем равенстве перед государством, равенстве бесправия. И Петр Великий не только не изменил этому старому началу, но еще и подчеркнул его, самого себя называя неизменно слугой государства...»2
Обусловленные и этими обстоятельствами антинародные действия и самодержавцев, и правительства отмечали в первой половине XIX в. не только аристократы декабристского толка, но и придерживавшиеся значительно более умеренных взглядов. Так, М.А. Дмитриев (племянник задушевного друга Карамзина И.И. Дмитриева - поэта и министра) заметил, что «везде правительство установлено для народа, а у нас весь народ живет для правительства. Это такое уродство, какого не представляет история»3.
При внешне очевидном росте власти монарха, сопровождавшемся утратой привилегий наследственной аристократии, при сервилистски настроенном высшем духовенстве и слабости буржуазии (даже финансовой) развивались возможности возвы-
тения отдельных лиц (и даже групп лиц) лишь благодаря личному расположению государя. Приближение к государю, действия от имени государя «временников» (временщиков), фаворитизм -типичная черта средневековой системы управления, причем не только в верхних эшелонах власти. Процедуры управления характеризовались недостаточной расчлененностью «государственного» и «государева» и функций, обусловленных только должностным положением и вытекающих из характера взаимоотношений отдельных лиц с государем при принятии и реализации решений.
Влияние «временников» (разного масштаба деятельности и разного пола) на государственные дела, как правило, недостаточно отражено в делопроизводственной документации: «временникам» ни к чему было письменно обосновывать свои предложения, излагать свое мнение; они использовали личное общение с высокопоставленными лицами. И потому ограничиваться при выявлении фактов их деятельности только официальной документацией (особенно для XVI в., когда известно, какой урон потерпели архивы московских учреждений от губительных пожаров 1547, 1571, 1626 гг. и в период занятия Кремля польскими интервентами) с научной точки зрения некорректно. Нельзя судить о характере государственного правления, повседневном стиле его, опираясь только на нормы, запечатленные в законодательных документах или в тех, которые называем ныне подзаконными актами. На практике отнюдь не всегда следовали законодательным рекомендациям, обходя эти нормы, - и именно эта каждодневность отражена в массовой документации судебных дел (и инициативных документов, и распроссных речей, и приговоров), в публицистике, фольклоре, с XVII в. и в сатирической литературе. А с распространением идей просветителей нормы законодательные обретали нередко преимущественно декларативный характер. Должно учитывать и особенности ментальности той или иной эпохи: слухи, анекдоты, уцелевшие в памяти предания, ставшие устойчивыми представлениями, тоже многое открывают историку.
1 Подробнее см.: Шмидт С.О. У истоков российского абсолютизма. М., 1996 (раздел «Становление “Земских соборов”»).
2 Платонов С.Ф. Статьи по русской истории (1883-1912). 2-е изд. СПб., 1912. С. 241-242 (статья «Столетие кончины императрицы Екатерины II»),
3 Цит. по: Проскурин О.А. Дмитриев М.А. Русские писатели. 1800— 1917: Биогр. словарь. М„ 1992. Т. 2. С. 127.
Юбилейное заседание подразумевает и обращение мыслью к прошлому, и оценку этого прошлого с наших современных позиций. Историческое значение явления прошлого, запечатленного в памяти (особенно в массовом сознании), определяется не только восприятием его современниками тех лет, степенью воздействия на них, но и влиянием на последующие поколения, последствиями его. Ученые, изучающие события по прошествии времени, учитывают оба эти обстоятельства. В отличие от современников, они могут оказаться иногда и более осведомленными о подробностях происходившего и взаимосвязи их, особенно если первичным основным историческим источником была официальная информация судебных органов, когда и обвиняемые, и обвинители не склонны были (да и не имели в отведенное для следствия и суда время возможности) к воссозданию действительно полной и объективной картины события и к публичному оповещению об этом.
Декабристы, их жизнь и деятельность и значение этого в отечественной истории и культуре - тема, привлекавшая внимание и ученых (историков, литературоведов), и публицистов, общественных деятелей. Образ поведения декабристов и лиц их круга побуждал к творчеству в сферах художественной литературы, искусств. Библиографии изданной в России многообразной литературы (с включением данных о документальных публикациях) выходили отдельными книгами. Значителен объем написанного и эмигрантами после 1917 г. Вообще историографическая традиция «декабристоведения» начиналась в большей степени в среде политэмигрантов еще времени Николая I. Тогда же отчетливо выявилось противостояние взглядов официозных, навязываемых в России на самой вершине власти, и публикуемого в эмиграции (сочинения Н.И. Тургенева, издания и сочинения А.И. Герцена). Пожалуй, с этой именно темы утверждается свойственное российской общественно-исторической мысли противостояние в характеристике явлений современной (а затем и прежней) истории в отечественных изданиях и за пределами России. Начало положено было еще «Историей о великом князе Московском» Курб-
Впервые опубл.: Археографический ежегодник за 2000 год. М„ 2001. С. 8-21.
ского, написанной эмигрантом в Польско-Литовском государстве и распространенной в списках позднее и в Российском государстве; в годы сталинизма подобную же задачу поставил перед собой Троцкий.
«Декабристы» - уже полтора столетия заметная тема и российской археографии, начиная с зарубежных изданий Герцена (это едва ли не главная часть его собственно археографического наследия), и журналов, основанных в Москве П.И. Бартеневым («Русский архив») и в Петербурге М.И. Семевским («Русская старина»). Воспоминания декабристов - важная часть мемуарного наследия XIX в.; публикация и изучение его существенно способствовало разработке методики источниковедения мемуарной литературы. Основатель нашей Археографической комиссии М.Н. Тихомиров в первой же книге Археографического ежегодника (за 1957 год) счел нужным поместить статью И.А. Мироновой «Записки И.Д. Якушкина о движении декабристов». В АЕ за 1975 год (год 150-летия восстания декабристов) в разделе «Тихо-мировские чтения» напечатан доклад Р.Г. Эймонтовой «Источники по истории декабристов в советских изданиях». В той или иной мере тема «Декабристы» отражена и в других материалах ежегодников, причем не только собственно исторической, но и историографической тематики (о деятельности М.В. Нечкиной в области археографии и источниковедения в АЕ за 1971 год, о творчестве ленинградского историка А.Н. Шебунина в АЕ за 1999 год и др.).
Первоначально к «декабристам» относили только участников восстания 14 декабря 1825 г. в Петербурге и осужденных в 1826 г. участников тайных обществ. Их считали «заговорщиками», и показательно, что в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона при слове «Декабристы» (в томе 10) отсылка: см. «Заговор декабристов». Статья под таким заголовком помещена в 23-м томе, изданном в 1894 г. Затем «декабристами» стали называть лиц, привлеченных к следствию по делу о тайных обществах; появились выражения «декабристы без декабря», «декабристки» (статья под таким заголовком о женах осужденных на каторгу декабристов, добровольно последовавших за мужьями в Сибирь, есть в Советской исторической энциклопедии), «декабризм».
И осужденные в 1826 г., и «декабристы без декабря» постоянно фигурируют в многообразной литературе о Пушкине, ибо «декабризм» - это и «пушкинская эпоха»: и то, и другое определения уместны для обозначения умонастроений аристократической Молодежи тех лет. И начинать эту «эпоху» следует, по крайней
мере, с середины 1810-х годов. Потому, приурочив наше заседание именно к декабрю 2000 г., мы отмечаем, что это - годовщина «выступления» декабристов - публичного выступления в Петербурге с привлечением гвардейских воинских частей. Ибо история декабристов - это их жизнь и деятельность и до 1825-1826 гг. (даже до 1816 г. - времени образования «Союза спасения»), и в последующие годы после приговора 1826 г.
Декабристоведение зачиналось еще при жизни декабристов: стараниями и самих декабристов (в ходе следствия, как в развернутом мемуаре Никиты Муравьева, и особенно в их записках и воспоминаниях позднего времени), и высокопоставленных чиновников, близких к лицам, причастным к суду над «злоумышленниками». Рано возникли и устные предания, облеченные нередко в письменную форму, - на них воспитывалась молодежь поколения Герцена.
В связи со столетием событий декабря 1825 г. были подготовлены книги по историографии декабристов. К обзору все возрастающей литературы о декабристах возвращались и в последующие годы. Об основных направлениях литературы недавних лет узнаем из статьи А.Н. Цамутали «Декабристы и освободительное движение в России: некоторые вопросы историографии» в альманахе «14 декабря 1825 г.: источники, исследования, историография, библиография» (СПб., 1997. Вып. 1) и из ряда других работ. В том же издании, где помещена статья Цамутали, имеется богатая информацией статья С.Е. Эрлиха «Публикация письменного наследия декабристов и лиц, привлеченных к следствию по делу о тайных обществах (1803-1892)».
Однако в должной мере еще не охарактеризовано значение трудов по тематике «декабристоведение» для развития методики источниковедения и археографии, а также для изучения вопросов истории архивного дела, истории делопроизводства и государственных учреждений (в этом плане особенно интересна статья О.В. Эдельман об организации деятельности Следственного комитета по делу декабристов - во втором выпуске того же издания «14 декабря 1825 г.»). А ведь это существенно способствовало совершенствованию приемов выявления, описания, публикации, использования многих разновидностей исторических источников (переписки, мемуаров, публицистики, документов делопроизводства XIX в.) и сопоставительного их изучения. Все это становится особенно явственным при сравнении публикаций мемуаров в XIX в. и мемуаров и писем в недавних изданиях академическо
го типа или же в публикациях списков декабристов - прежних и подготовленного С.В. Мироненко биографического справочника «Декабристы» (М., 1988). Сопоставительное рассмотрение документальных публикаций и многообразной литературы по дека-бристоведению могло бы стать общей темой работы нескольких кафедр Историко-архивного института РГГУ (и прежде всего -семинарских занятий), важной не только для обучения студентов, но и для расширения научных знаний.
Самостоятельное значение имеет и рассмотрение дека-бристоведения в плане историографии и истории общественно-политического сознания. Его воздействие (иногда, может быть, даже не осознаваемое полностью самими авторами) на историческую мысль неизменно прослеживается. Особенно заметно это в литературе к юбилейным датам, и прежде всего в научно-популярной и в журнально-газетной публицистике, отражающей сиюминутную политическую конъюнктуру и зависимость или идеологическую ангажированность изданий. В такой работе помогло бы использование методики А.И. Володина, изучившего под этим углом зрения написанное о Герцене к 100-летию со дня рождения (статья «Юбилей А.И. Герцена 1912 г. и статья В.И. Ленина “Памяти Герцена”», напечатанная в томе 67 «Исторических записок»).
Не отмечено и то, что занятия декабристской тематикой, так же как и изучение всего, что связано с Пушкиным и лицами его круга, позволило ученым основательно изучать историю российской аристократии, а также генеалогию дворянства второй половины александровского царствования, и потому история верхов дворянства этих лет (как и стиля ампир в искусстве) исследована по архивным и музейным памятникам и освещена в литературе гораздо более детально, чем за предыдущие и последующие десятилетия. Этот опыт важен не только для интересующихся генеалогией. Некоторые возможные подходы к занятиям подобной тематикой отмечены в моей статье «Пушкин и архивы» (см.: Сборник докладов научно-практической конференции «Пушкинские материалы в архивах России». М., 1999. С. 9-20). Подход к сделанному в области декабристоведения и под таким методикоисториографическим углом зрения, хочется думать, найдет отражение в трудах историографов нового столетия. Тем более что это существенно облегчается информацией в статьях С.Е. Эрлиха и Других авторов во втором и третьем выпусках альманаха «14 декабря 1825 года» (СПб.; Кишинев, 2000).
Осмеливаюсь поделиться соображениями в плане проблематики «Представление о декабристах и изучении этой темы на рубеже XX и XXI веков», хотя и не являюсь специалистом в области декабристоведения. Это - соображения ученого, предметом занятий которого были и общие вопросы отечественной истории, и развития исторической мысли, и биографии великих современников декабристов - Карамзина, Жуковского, Пушкина. Если что-то может совпадать с суждениями, сформулированными другими авторами, заранее благодарю за указания такого рода и постараюсь сделать их гласными.
Декабристы (их образ мысли и поведение, события на Сенатской площади) уже к середине XIX в. воспринимались как знаковые явления, причем это обычно однозначные символы: преступники-бунтовщики против власти, «данной от Бога» (в книге Корфа), или прежде всего «первенцы свободы» - идеальные «революционеры» (как старались истолковать Герцена). Такой однозначности понимания способствовало и то, что источ-никовая база темы длительное время оставалась крайне бедной -ее можно было использовать для прямолинейных политологических рассуждений, но не собственно исторических. Более основательно стало возможным рассуждать о декабристах не ранее 1860-х годов, когда появились работы А.Н. Пыпина и других, характеризовавшиеся в советские годы как «либеральная легенда» (корни ее усматривают в сочинениях декабриста Н.И, Тургенева). Л.Н. Толстой уже с начала 1860-х годов работает над романом «Декабристы», оставшимся незавершенным, но приблизившим автора к теме эпопеи «Война и мир». Некрасов создает поэму «Дедушка» и цикл поэм «Русские женщины». Публикация воспоминаний декабристов и о них позволила рассматривать эти явления в контексте художественной литературы их времени - прежде всего «Горе от ума» Грибоедова и пушкинского «Евгения Онегина». «Декабристы» - из тех исторических явлений, на формирование представлений о которых в широкой общественной среде художественная литература оказала, пожалуй, большее воздействие, чем труды историков (то же наблюдаем и по отношению к «пугачевщине»). Тем более что для декабристов изначально историческими источниками были и литературные произведения -и самих декабристов, и их современников. При этом к «литературному творчеству» для первой половины XIX в. можно относить не только памятники художественной литературы (этим критерием руководствовались и составители биографического слова
ря «Русские писатели. 1800—1917», первый том которого издан в 1989 г.).
В литературе о становлении декабристов, формировании их убеждений справедливо указывают на влияние Отечественной войны 1812 г. и впечатлений времени заграничных походов, но недостаточно уделяют внимания взаимосвязям с явлениями отечественной истории последней четверти XVIII в. и начала XIX в. И вообще декабризм более рассматривается в связи с будущим России, чем с ее прошлым, тогда как и в мыслях, и в действиях декабристов отразилось восприятие не только Французской революции, победы над наполеоновской Францией и роли России в этом, но и изменений в общественном самосознании и мироощущении аристократической среды России недавних десятилетий.
Декабристы возрастали в обстановке реализации прав, дарованных Манифестом о вольности дворянства 1762 г. и закрепленных Жалованной грамотой дворянству 1785 г. (показательно, что именно в это время создаются в имениях усадебно-парковые ансамбли для длительного проживания главы семейства с домочадцами!), и победоносного утверждения России в ранге великой европейской державы. Это время и литературнофилософских мечтаний нравственной направленности, и убеждения в том, что «история прошлого есть поучение будущему» (как формулировал Герцен, характеризуя Карамзина-историка). Старший современник Карамзина Гёте утверждал: «Лучшее, что дает нам история, это - возбуждаемый ею энтузиазм». Декабристы воспитаны на чтении Плутарховых биографий (о чем сведения в следственных делах не одного декабриста) и в размышлениях о зарубежной истории последних столетий и особенно десятилетий. Но для конца XVIII - начала XIX в. характерен и подъем историко-патриотического сознания, интереса к прошлому своего Отечества. Это нашло отражение и в организации (при участии самой Екатерины II) системы воспитания отечественной историей, и в учебной литературе, и в нацеленных на восприятие Широкой публики произведениях художественной литературы, Искусства, в создании множества медалей исторической тематики (рассчитанных уже и на ознакомление иностранцев). Да и культ античных героев способствовал не только формированию представлений о чести, личном достоинстве, даже манере поведения (причем с самых юных лет: так, Никита Муравьев в детстве не считал возможным танцевать, объясняя матери: «...разве Аристид и Катон танцевали?»), но и понятий о долге благородного рос
сиянина - следовательно, и представлений о российском патриотизме.
После работ Ю.М. Лотмана очевидно, что образованные аристократы той поры старались в жизни походить на облюбованных ими литературных героев («москвич в гарольдовом плаще», как пушкинский Онегин) или на исторических персонажей и скорбели, если реальная действительность не допускала этого. Напомним опять пушкинское ощущение в стихотворении 1817-1820 гг. «К портрету Чаадаева»: «Рожден в оковах службы царской, / Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес, / А здесь он - офицер гусарский».
Ознакомившись воочию с результатами исторического развития стран Западной Европы (прежде всего в заграничных походах), будущие декабристы склонны были приложить свои знания и наблюдения к российской действительности, искали корни современных обстоятельств и все более убеждались в том, что помехой на пути к прогрессу являются крепостное право и форма правления. Тем самым стала осознаваться цель деятельности в мирные годы у привыкших к активным действиям офицеров. Самый старший и с наибольшим жизненным опытом декабрист князь С.Г. Волконский сформулировал ее позднее так: «Поставить Россию в гражданственности на уровень с Европой».
Показательно, что возбужденный впечатлениями войны и восприятием ее в обществе молодой Никита Муравьев, человек уже тогда редкостно образованный и ученый-мыслитель по призванию, сразу же приступает к описанию жизни и воинских подвигов Суворова. Все более осознавалась справедливость мысли М.В. Ломоносова, сформулированной во Вступлении к книге «Древняя Российская история», изданной еще в 1766 г.: «Всяк, кто увидит в Российских преданиях равные дела и Героев, Греческим и Римским подобных, унижать нас пред оными причины иметь не будет, но только вину полагать должен на бывший наш недостаток в искусстве, каковым Греческие и Латинские писатели своих Героев в полной славе предали вечности».
Этим объясняется и обостренный интерес к «Истории государства Российского» Карамзина - сначала к вышедшим одновременно восьми томам (где, казалось им попервоначалу, воспевается деспотизм), а затем особенно к девятому тому - о последних десятилетиях царствования Ивана Грозного. Там разъясняется различие «самодержавия» и «самовластия» и в книге, цензором которой был сам император, допускается негативная оценка царя-
тирана (тем более, как выразился декабрист В.И. Штейнгейль в мемуарах, «великого царя», прославленного и освоением Поволжья и Сибири, и Судебником и реформами 1550-х годов). Девятый том «Истории» побудил Рылеева к сочинению исторических «Дум» - первая была о Курбском. Однако следует иметь в виду то, что декабристы не были знакомы с письменным изложением мыслей Историографа о российской истории в XVIII - начале XIX в., так как записка «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» оставалась тогда им неизвестной.
Молодые аристократы мыслили преимущественно литературными ассоциациями. Обучением в пансионах, а затем службой с юных лет они были оторваны от непосредственного общения с простым народом. И в человеческих достоинствах вышедших из этой среды солдат могли убедиться, лишь когда вместе пришлось ощущать тяготы военных походов. Потому-то сравнительное рассмотрение каждодневной жизни зарубежных поселян и российских крепостных оказалось столь сильнодействующим. Это - радищевское ощущение, искренностью своей так напугавшее Екатерину II, что она посчитала вольнодумца-писателя «бунтовщиком, хуже Пугачева». Искренность декабристов покажется в 1826 г. особенно опасной и вступившему на престол Николаю I.
Иногда упускают из виду, что юные декабристы (во всяком случае, старшие из них) воспитывались в той аристократической среде, которая отображена в первых частях «Войны и мира». Неслучайно и то, что большинство декабристов не петербуржцы по воспитанию, а москвичи и провинциалы. А литературный мир Москвы с ее журналами и более обширным кругом читателей, университетом и архивом, памятниками российской старины в те годы отличался от петербургского, где преобладали преимущественно придворно-служебные интересы (в первой же главе романа Л. Толстого не без сарказма представленные изображением салона фрейлины Шерер). В Москве сформировались Карамзин, Жуковский, Грибоедов, образованнейшие из «архивных юношей» (служащих Московского архива Коллегии иностранных дел). Московское детство предопределило (ранее Лицея!) творчество Пушкина: влияние именно московских впечатлений (усиленное затем знакомством с «Историей» Карамзина) особенно выявилось в создании Пушкиным (еще до возвращения в Москву после 15-летнего перерыва) «Бориса Годунова». Впоследствии элементы нестоличности помогали декабристам в сибирской ссылке включиться в обиход жизни местных обывателей и в то же время вне
сти в нее светлое начало высокой нравственности и интеллектуальной культуры.
Корневая система декабризма многое объясняет в их взглядах и действиях. И «век Екатерины», и гнетущее аристократию правление Павла I (или, точнее сказать, такое его изображение, как и в набросках воспоминаний Пушкина), и «дней Александровых прекрасное начало» - все это имело место до активного включения в историческое действие молодых героев двенадцатого года. Вернемся к страницам «Войны и мира» - граф Лев Толстой не понаслышке знал, о чем думали и говорили его аристократические предки в 1805-1811 гг., и основательно штудировал все вышедшее к середине 1860-х годов о периоде кануна Отечественной войны. Герои Толстого - старшие братья большинства декабристов, которым в момент выступления в декабре 1825 г. было от 20 до 30 лет, или даже старше самих декабристов.
Из XVIII в. пришло понятие о «благородной дворянской гордости», которая «есть чувство собственного достоинства», и «тот дворянин, кто за многих один» (формулировка Карамзина из автобиографической повести «Рыцарь нашего времени»), и презрительное противопоставление таких аристократов «беспородным» сановникам новейшего времени с их «спесью и высокомерием» и одновременно прислужничеством перед попавшими «в случай» у государя. Еще более жестко сформулировал это Карамзин в записке-трактате 1811 г. «О древней и новой России», когда писал о правах и обязанностях наследственного дворянства, «столь же древнего, как и Россия»; среди таких, по его убеждению, монарх и должен «искать деятельных слуг отечественной пользы». Из подобных соображений исходил и Пушкин, размышляя о положении потомственного дворянства в России и его обязанностях «предстателя» за весь народ перед высшими властями. Уже тогда (или применительно к тому времени, но позднее - в начале XIX в.) формируется и ощущение «чести» - и личной, и корпоративной, предопределенной и общественным положением haute noblesse - это пушкинское определение можно перевести как «высшее дворянство», «высшее общество» (подробнее об этом в моем докладе об общественном самосознании noblesse russe на Международной конференции по истории русского дворянства в Париже в 1991 г.1).
Люди этого возраста основательно знакомы были еще до 1812 г. с литературой века Просвещения (Стендаля, побывавшего с армией Наполеона в Москве, поразило богатство иностранных
книг в домах знати), с трудами философов, социологов, с художественной литературой, пропагандировавшей идеи борьбы аристократов за освобождение народа от тирании (как драмы Альфьери, на которых воспитывалось поколение итальянских аристократов якобинского толка и позже карбонариев; достойным подражания героем казался шиллеровский маркиз Поза). В XVIII в. накопился опыт составления «прожектов» государственных преобразований и тайных заседаний масонских лож. В годы правления Екатерины II в аристократической среде распространились не только общественные воззрения масонов, но и рассуждения об устранении крепостного права, а в популярнейшей художественной литературе («Недоросль» Фонвизина, журналы Новикова) обличались язвы крепостничества. Однако Пушкин не раз возвращался к мысли о том, что именно Екатерина II унизила «дух дворянства», и сетовал на «отсутствие чести и честности в высшем классе народа»; унизительное прислужничество ее придворных осмеивает и Грибоедов. Культивированию «понятия о чести» («point d'honneur») соответствовал и своеобразный культ дуэли: показательно, что дуэлянт и «аристократ-революционер» подчас совмещались в одном лице.
Старшее поколение (поколение Карамзина) довольствовалось после непредсказуемых действий Павла I (впрочем, как выяснил первым с серьезной основательностью еще М.В. Клочков в книге 1916 г., зачастую более прогрессивной направленности, чем политические акции последних лет правления его матери) провозглашением возврата к тенденциям «просвещенного абсолютизма» Екатерины Великой. Более молодое с надеждой ожидало реализации того, что было задумано Интимным комитетом молодого императора - воспитанника швейцарского республиканца. И когда наступил период аракчеевщины и мистических настроений Александра I, победителям, низвергнувшим наполеоновскую империю и гордящимся тем, что они - «россияне», надеявшимся на внесение прогрессивных начал в российскую жизнь, теперь это было особенно невыносимым. И они нетерпимы в оценках того, что казалось «самовластием» или обосновывало его неизбежность, тем более необходимость. Потому-то «молодые якобинцы негодовали» (как писал позднее Пушкин), ознакомившись в первых томах «Истории» Карамзина с «размышлениями в пользу самодержавия», хотя они и были «красноречиво опровергнуты верным рассказом событий». Ибо, как заметил именно в этой связи Никита Муравьев, «...опыт всех народов и всех времен доказал, что власть
самодержавия равно гибельна для правительства и для общества. Все народы европейские достигают законов и свободы. Более всех их народ русский заслуживает то и другое».
Остается слабоизученным вопрос об употребительной именно в те годы историко-политической терминологии, о разном смысле, вкладываемом в общераспространенные термины тогда и в последующее время. Не всегда учитывается и то, что это период вхождения в русский язык (точнее сказать, язык русской литературы) иностранных слов, калькирования некоторых из них; и российское «гражданство» такие слова обретали подчас в беседе с типичным для тех лет смешением русского и иностранного (обычно французского) языков. Выявляется исключительное богатство именно русского языка с многообразием оттенков в словах, не отмеченным подобным различием (иногда существенным в основном понимании) в других языках. Так, во французском языке - языке и письма, и даже мысли для многих декабристов -не ощутима разница понятий «самодержавие» и «самовластие» (что отражено и в русско-французских словарях).
Большинство декабристов и Пушкин, как и Карамзин или вслед за ним, видели существенное различие в этих словах-терминах. Карамзин воспевал «самодержавие» («палладиум России») как единовластие, действующее в соответствии с установленными законами и само подчиняющееся силе этих законов. В его понимании это - общесословная, надклассовая сила (как мы выразились бы теперь), обеспечивающая нормальную деятельность государственного организма и облегчающая защиту от внешних врагов. «Мудрое», «истинное самодержавие», придерживающееся правил просвещения и нравственности, противопоставляется им «самовластию» - и отдельных правителей, и олигархии, и народа. Образцом самовластия государя, тягостного и для подданных, и для него самого, показано правление Ивана Грозного после 1560 г. в IX томе его «Истории», где есть и предостерегающие слова: «История злопамятнее народа!» Различие между «самовластием» и «самодержавием» уловил Пушкин, хотя и не сходился с Историографом в оценке деятельности Александра I. Карамзин противопоставляет его «правление самодержавное» «самовластию» царя Ивана (тем самым, впрочем, и предостерегая: «Жизнь тирана есть бедствие для человечества»), Пушкин же в послании «К Чаадаеву» применительно к российской действительности употребляет определение «самовластие». Как «самовластительный злодей» охарактеризован им и Наполеон в оде «Вольность».
Все декабристы были прежде всего противниками проявления всякого «самовластия» и почитали своим долгом противостояние ему.
Все эти образованные люди обращались к опыту истории, размышляя и о настоящем, и о будущем. Душе их было глубоко созвучно убеждение Карамзина в том, что «история питает нравственное чувство и праведным судом своим располагает к справедливости, которая утверждает наше благо и согласие общества».
И в духе примитивной вульгарной социологии времен навязывания взглядов М.Н. Покровского повторение тезиса, будто для отношения декабристов к «Истории государства Российского» особенно показательны негативной направленности замечания Никиты Муравьева при первом чтении только что вышедших восьми томов «Истории» и известная эпиграмма юного Пушкина: «В его “Истории” изящность, простота / Доказывают нам, без всякого пристрастья, Необходимость самовластья / И прелести кнута». Это некорректно в научно-методическом плане, ибо дошло немало суждений декабристов (и до декабря 1825 г., и более поздних) по прочтении IX и последующих томов с совершенно иной оценкой текста Карамзина. Это несправедливо, даже оскорбительно, и для памяти Пушкина, неоднократно совершенно в ином тоне писавшего о Карамзине («человеке высоком») и его «Истории». «Драгоценной для россиян памяти» Карамзина посвятил Пушкин («гением его вдохновенный») своего «Бориса Годунова». (Об этом подробнее в моей статье «Пушкин и Карамзин»2.)
Уже поколение просвещенных «отцов», с заинтересованным ожиданием встретившее Французскую революцию 1789 г., очень скоро, подобно Карамзину, стало испытывать страх перед «революционным террором» и народным «бунтом» (тем более что оставалось еще живым предание о «пугачевщине»). Это передалось и «детям», воспитанным к тому же зачастую покинувшими Францию эмигрантами: «союз ума и фурий» в годы революции во Франции - определение Пушкина в стихотворении «К вельможе». В цитированных уже Записках Волконского о целях декабристов подчеркивалось то, что, следуя «великим истинам, высказанным в начале Французской революции», должно избежать «увлечений, ввергнувших Францию в бездну безначалия», и показательное заключение: «Честь и слава многим павшим жертвам за святое дело свободы. Но строгий приговор тем, которые исказили великие истины эпохи». Народ, по их мнению, не дорос еще до
уровня общественного сознания, соответствующего революционному мировоззрению, и способен был лишь к разрушительному «бунташному» порыву. Так думал и Пушкин, когда позднее сформулировал: «Не приведи Бог видеть русский бунт - бессмысленный и беспощадный».
Важно подчеркнуть, что декабристы были далеки не только от народа, но и от воззрений основной массы душевладельцев-помещиков (изображенных в произведениях Гоголя 1830-1840-х годов, да и ранее в пушкинских «Повестях Белкина», и в современной декабристам драме «Горе от ума»). И декабристы предпочли действовать не вместе с народом, а за народ и во имя народа. А потому использовать и опыт дворцовых переворотов XVIII в., последний из которых (и таинственнее других подготовленный) был уже в начале нового столетия - 1 марта 1801 г.
Выступление 14 декабря 1825 г. - действие немногих потомственных аристократов и близких им лиц (а также верных им тоже немногих низших военнослужащих). И со стороны такое событие могло восприниматься как попытка военно-дворцового переворота (это сходство «по наружности» отмечал В.О. Ключевский), а декабристы - как последыши аристократов-заговорщиков прошлых лет. Тем более без осведомленности о том, что, в отличие от участников прежних дворцовых переворотов, целью которых были захват власти или ее удержание, декабристы думали не о достижении личной власти, пеклись не о своих личных интересах, а стремились освободить других от ига власти, улучшить их положение. Это - последнее в российской истории групповое выступление офицеров-аристократов и по форме напоминает то, что происходило в XVIII в., особенно в момент воцарения Екатерины I, а не приемы борьбы за власть в последующее время. (Хотя достаточно исторически образованные руководители октябрьского переворота 1917 г. в Петрограде могли в какой-то мере опираться и на знание ситуации в столице 92 года назад.)
В советской литературе основное внимание акцентировалось на том, что декабристы были предтечами российских революционеров последующих эпох. В научных трудах, в учебных пособиях, в популярной публицистике декабристы, соответственно ленинской характеристике 1912 г., - прежде всего первое поколение, «действовавшее в русской революции», разбудившее Герцена, тоже принадлежавшего к дворянским революционерам. Это восходит к герценовскому определению - «Молодые штурманы будущей бури».
И здесь обнаруживается, что односторонне истолковывают написанное Герценом в тех же сочинениях («О развитии революционных идей в России», «Былое и думы») и к тому же переносят понимание слова-термина «революция», свойственное нашему сознанию, на XIX в. В языке советских людей это - «коренной переворот» (так сформулировано и в «Словаре русского языка», и в «Словаре иностранных слов», изданных в недавние десятилетия). Тогда как в словаре В.И. Даля это и «переворот, внезапная перемена состоянья, порядка, отношений», и «смута, тревога, беспокойство», «возмущенье, мятеж, крамолы и насильственный переворот гражданского быта». «Революцией» в сочинениях на французском языке называли в XVIII в. и дворцовые перевороты (как 1762 г.), и другие перемены, и глобальные катаклизмы с подчеркиванием глобальности как особенности данной «революции» («Revolution du globe» Кювье, автора «теории катастроф»); и, соответственно, «революционным» действием, поступком «революционера» считалась причастность к любой из таких «революцией». Декабристы и люди пушкинской поры, да и Герцен, под «революцией» понимали отнюдь не обязательно коренной политический переворот, тем более социальный.
В кратком, рассчитанном на массового читателя однотомном «Большом энциклопедическом словаре» 1997 г. издания находим особенно жесткое определение: «Декабристы - русские дворянские революционеры, поднявшие в декабре 1825 г. восстание против самодержавия и крепостничества». При этом упомянуты и «первые организации в 1816-1821 гг.», и образованный в 1818 г. «Союз благоденствия», основной целью которого провозглашалось формирование «общественного мнения». Краткое определение - перепечатка первой, основной дефиниции из статьи «Декабристы» в пятом томе «Советской исторической энциклопедии», вышедшем в 1964 г.
Такое определение - и одностороннее, и модернизация в угоду общественному сознанию второй половины уже XX в. Сейчас, когда столь существенно расширилась источниковая база изучения жизни и деятельности декабристов (тем более «декабристов без декабря»), нетрудно убедиться в том, что декабристы не были едины в общественно-политических воззрениях. А у молодых офицеров, втянутых во внезапно образовавшийся водоворот неожиданно возникшей революционной ситуации, эти воззрения еще не успели сформироваться на достаточно продуманной основе -многое предопределялось понятием об обязанности совместной
поддержки дела «чести», даже случайностью местопребывания (напомним слова Пушкина «и я бы мог» у изображения виселицы с повешенными декабристами; и предание о зайце, перебежавшем дорогу уезжавшему из Михайловского поэту). Для молодых офицеров многое значила гордость дружбы со старшими, оказываемое им доверие, сам аффект причастности к героическим поступкам (опять как у Пушкина: «Есть упоение в бою, / У самой бездны на краю...»). Вспомним и восклицания участников событий декабря 1825 г., особенно декабристов-литераторов (о «славной смерти», «дышим свободою...»).
Большинство декабристов принадлежало к аристократической элите общества - haute noblesse. С некоторыми из них были знакомы в царской семье. Знакомыми декабристов были и члены Следственного комитета. В заседаниях литературного кружка «Арзамас» с середины 1810-х годов участвовали и будущие декабристы, и будущие сановники нового царствования (Николая I). Думается, что «декабристские» умонастроения - осознание необходимости тех или иных реформ и долга личного участия в осуществлении таких перемен - в той или иной мере были свойственны многим, тем более размышления о будущем России и своем достойном месте в желанном движении вперед. Это становилось темой разговоров и тех, кто был лишь косвенно причастен к деятельности наиболее активных из таких лиц. Болтовня грибоедовского Репетилова о регулярных кружковых заседаниях в Москве и обличительные речи Чацкого в таком, казалось бы, неподходящем для этого месте, как дом Фамусова, - типологические явления определенных годов, совпадающие по времени с собраниями в Петербурге, «витийством резким знаменитых», где и Пушкин «читал свои ноэли» (что отображено в дошедших фрагментах десятой главы «Евгения Онегина»), Все это не только неотделимо одно от другого, но и от более значительного пласта светского общества, чуждого всему, что не относится к придворноправительственной сфере.
И правильно, что к юбилею восстания декабристов на организованной в Выставочном зале федеральных архивов выставке «Россия. Выбор пути» (как и на обложке каталога) представлены материалы, отражающие не только деятельность самих декабристов. Показательно и то, что, избавляясь от навязанного в годы сталинизма использования лишь двух красок в изображении прошлого (по принципу «Кто не с нами, тот против нас»), стали в большей мере выявлять воздействие реформаторских предложе
ний декабристов на некоторые стороны правительственной деятельности и влияние увлечений преддекабристской молодости на практику администрирования сановников последующих десятилетий.
Собственно декабристы - это участники конспиративных обществ и организованных ими восстаний. Но к ним не следует подходить с такими критериями, как к партиям конца XIX-XX в. с их едиными (и даже обязательными) для всех уставными положениями (требованиями) и программой. У декабристов были разномыслия в вопросах тактики и различия в существенных элементах политических воззрений и футурологических построений. Общим для всех них был в большей мере образ личного поведения: храбрость и совестливость, чувство долга и самоуважение, склонность и способность к самопожертвованию. Для декабристов главное, самое важное - не одинаковость, общность политической идеологии и тактики, а общность представлений о моральном кодексе, «заповедях чести», которым они следовали всю жизнь, готовность во имя этого поступиться личным благополучием, материальным положением, служебной карьерой, даже жизнью.
Потому-то уже на начальном этапе ознакомления с историей декабристов их характеризовали (если пользоваться утвердившимися в современном сознании понятиями) и как «революционеров», и как «либералов», признавая их предтечами (даже родоначальниками) разных ветвей общественно-политического сознания. Подобный «расширительный» подход обнаруживается и в исследованиях недавних десятилетий (С.С. Ланды, В.В. Пугачева и др.). Особенно при характеристике взаимосвязей декабристов-литераторов с другими современными им литераторами. (То же проявилось по отношению к Герцену в литературе юбилейного для него 1912 г. - наследниками Герцена объявляли себя деятели, во многом не сходившиеся между собой в общественно-политических воззрениях.)
Видимо, самого Герцена можно признать родоначальником подхода к декабристам как именно к революционному наследию. Герцен выбрал название своего альманаха «Полярная звезда» для того, чтобы «показать... преемственность труда, внутреннюю связь и кровное родство» своей деятельности с заветами декабристов. Социалисты рубежа XIX и XX вв. не имели «кровного родства» с революционно настроенными потомственными аристократами, но тоже избрали слова из ответа декабриста Пушкину
эпиграфом своей газеты «Искра» и как бы утвердили в широком общественном сознании представление об истоках разгорающейся революции.
Обращение к памяти декабристов должно было облагородить движение в глазах общества. Хотя при сходстве целей (улучшение жизни людей) представление о путях достижения цели было принципиально различным. Для декабристов (во всяком случае, из «Северного общества») главное - нравственность в политике: подвизаясь «к поступку великому, не должно употребить низкие средства» (слова Рылеева). В начале XX в. для многих революционеров допустимым казался иезуитский подход: «цель оправдывает средства» - и характерны компромиссы не только с другими партийными группировками, но и с собственной совестью, а зачастую и жесткий однолинейный фанатизм. И если первоначально была «идеальная» цель без прямой связи с достижением (или закреплением) личной власти, то в годы государственного утверждения сталинизма это стало оправданием производства «самовластия» и путем к самовозвеличению. Нуждаясь в опоре на широкие массы общества, революционеры не склонны были предварительно воспитывать просвещением общественное сознание этих масс и провозгласили самый популистский, примитивный лозунг, восходящий к периоду рабовладельческой идеологии и воплощенный в доступных всем словах «Интернационала»: разрушить «старый мир до основания» для построения нового и заменить прежнюю власть своей новой властью («кто был ничем, тот станет всем»),
В советские годы проблемы истории декабризма рассматривались преимущественно в контексте политической истории, с акцентом на тактике декабристов и их политической идеологии (что наблюдалось и при подходе к их историческим воззрениям). Даже обратившись к многообразному и богатому материалу архива Н.М. Муравьева, автор едва ли не самой основательной по Источниковой базе и исследовательской методике монографии о декабристе («Декабрист Никита Муравьев». М., 1933), Н.М. Дружинин видел свою задачу в том, чтобы «на конкретной основе биографического материала проследить основные этапы эволюции декабристских организаций». Это - формулировка из книги академика Н.М. Дружинина «Воспоминания и мысли историка» (М., 1979. С. 42). И выводы советских ученых во многом обусловливались ленинской характеристикой декабристов. Такова была направленность и мобилизация источников.
Для обогащения источниковой базы декабристоведения сделано было за 70 лет - после 100-летнего юбилея восстания декабристов - очень много. Но зависимость работ о декабристах от историко-идеологических мифологем очевидна. И потому преобладали схематизм и социологизм (подчас вульгарный), а не личностный подход к личности же. Привлекательную для общественного сознания, а также для восприятия юных линию, восходящую к Пушкину и Герцену, к поэмам Некрасова, продолжали не столько в собственно научных по форме трудах, сколько в сочинениях художественной формы - вначале более всего Ю.Н. Тынянов (в романах о Кюхельбекере, Грибоедове, Пушкине), с 1970-х годов -Н.Я. Эйдельман (в беллетризированных биографиях декабристов Лунина, С. Муравьева-Апостола, Пущина). Но показательно и то, что авторы этих беллетристических произведений были высокого класса профессиональными учеными-гуманитариями; и одна из работ о творчестве Тынянова (Т. Хмельницкой) имеет характерный заголовок - «Исследовательский роман».
Среди традиционных по форме исследовательских работ вехой в декабристоведении стала статья Ю.М. Лотмана «Декабрист в повседневной жизни (Бытовое поведение как историкотипологическая категория)» в сборнике «Литературное наследие декабристов» (Л., 1975). Лотман осмелился сформулировать положение о том, что декабристская традиция в русской культуре не может рассматриваться по-прежнему в чисто идеологическом плане, не менее важен и «человеческий аспект» - традиции определенного типа «поведения». Напомнил Лотман и о том, что Л.Н. Толстого декабристы привлекали скорее личностями, чем идеями. «Именно в создании совершенно нового для России типа человека вклад их в русскую культуру оказался непреходящим, в своем приближении к норме, к идеалу напоминающий вклад Пушкина в русскую поэзию», - писал исследователь.
В этой связи Ю.М. Лотман отметил и особые обстоятельства, многое объясняющие в поведении и даже идеологической устремленности декабристов. Выделю наблюдение о том, что для декабристов «сама политическая организация облекается в форму непосредственно человеческой близости, дружбы, привязанности к человеку, а не только к его убеждениям» (включение декабристов «в прочные внеполитические связи», прежде всего родственные). Хотя трудно согласиться с тем, что неотделимое от облика декабриста чувство собственного достоинства базировалось на вере каждого в то, что он великий человек. Думается, точнее было
бы говорить о вере каждого в то, что он способен совершить великий подвиг, достойный войти в историю. Большинству декабристов (особенно из «Северного общества») были чужды культ личности, самолюбование: Пестель - глава и наиболее серьезный теоретик экстремистского направления в декабризме - в этом отношении скорее исключение, вызывавшее настороженность, даже неприязнь других декабристов; в отличие от них он рассчитывал, можно полагать, и на последующее руководящее участие в деятельности властных структур. В таких умонастроениях декабристов убеждают и их поведение на каторге, и тональность их мемуаров. Среди литературных героев им более всего близки маркиз Поза и, пожалуй, Дон-Кихот. Это не означает, конечно, что сами декабристы были людьми идеальными во всех отношениях: напротив, как у людей неравнодушных, у них были пристрастия и антипатии, и притом не всегда справедливые (что отражено и в следственных делах, и в мемуарах).
«Рыцарский» образ мысли и поведения, цельность «героической» личности особенно пленяли в декабристах схожего душевного настроя потомков, воспринимавших их жизненныйподвиг«чутьемкультурныхпреемниковпредшествую-щего исторического развития» (если использовать это определение Ю.М. Лотмана), - и сверстников Герцена, и петрашевцев, и народовольцев, готовых на жертвы ради «общего блага». Это повлияло и на современницу революционных народников, писательницу Э. Войнич, жившую в России в 1880-е годы в имении Веневитиновых с традициями декабристских времен: именно в таком духе она изобразила итальянских карбонариев; и потому-то роман «Овод» нашел родину в России.
И думается, правильно поступают те, кто в работах 1990-х годов акцентирует внимание на «моральном аспекте» политического действия декабристов: это отражено в книге С.А. Экштута «В поиске исторической альтернативы. Александр I. Его сподвижники. Декабристы» (М., 1994) и в статье Л.Б. Нарусовой «Нравственные уроки декабризма» (СПб., 1996). Изучая жизнь декабристов, нельзя ограничиваться временем их участия в тайных обществах. Свойства натуры декабристов еще в большей мере проявились в последующие годы и у декабристов, и у приехавших к ним жен.
Без рассмотрения жизни декабристов во всей ее протяженности трудно судить о человеческом характере декабристов, их нравственных устоях, основах мироощущения. Еще в 1978 г.
С.В. Житомирская верно указала «на проблемы мировоззрения декабризма как процесса, захватившего более полувека жизни русского общества»3. Цельность и благородство облика декабристов особенно высвечиваются при ознакомлении с их перепиской после 1825 г., с их сочинениями той поры, с их отношением друг к другу в тех условиях, с тем, что они сделали для распространения просвещения в Сибири. Нравственный критерий, чувства истинного христианина обнаруживаются и в отношении декабристов к тем, кто уклонился от исполнения намеченной программы действий (как С.П. Трубецкой) или отошел от них накануне восстания, даже уведомил об их планах государя (отношение Е.П. Оболенского к Я.И. Ростовцеву). В отличие от большинства «декабристов без декабря» осужденные декабристы оказались верны «заповедям чести» своей молодости, «декабризм» оставался их мироощущением даже при явном поправении общественно-политических воззрений и усиливавшейся религиозности (удерживавшей от общественной активности).
«Декабризм» интересно было бы детально рассмотреть в плане формировавшихся тогда представлений об интеллигенции и примечательных ее чертах. Теперь уже знаем, что это понятие, слово-термин появилось не в 1860-е годы, одновременно со словом «нигилизм» и как бы сопутствуя ему, как повторяли вслед за писателем П.Д. Боборыкиным (изобразившим себя его изобретателем): в лучшем для писателя варианте в 1860-е годы было второе рождение слова и явное закрепление его в русском языке. «Интеллигенция» - слово пушкинских времен, когда так называли европейски образованную аристократию. Именно в таком смысле слово «интеллигенция» употребил В.А. Жуковский, написав его по-русски в дневнике февраля 1836 г.: «...лучшее петербургское дворянство... которое у нас представляет всю русскую европейскую интеллигенцию». (Рассуждения об этом - в моих докладах и статьях.)4. Очень важно отметить, что для Жуковского понятие «интеллигенция» ассоциируется не только с принадлежностью к определенной социокультурной среде и с европейской образованностью, но и с нравственным поведением. Понятие «интеллигенция» для него изначально неотделимо от понятия «интеллигентность». И в статьях книги «Русская интеллигенция. История и судьба» (М., 1999) некоторые авторы (ссылаясь именно на эту интерпретацию текста Жуковского) рассуждают об интеллигенции как о социокультурной среде, о моральном облике и типе ее поведения уже в пушкинское время. Напомним, что
и Л.Н. Толстой в «Войне и мире» пишет о восприятии Пьером в салоне Шерер «всей интеллигенции Петербурга». «Интеллигентность», естественно совмещенная с европейской образованностью «интеллигенции», - характерная черта «декабризма», свойство натуры декабристов.
Главное в «декабризме» - его общечеловеческое начало «высокой» духовности мысли («дум высокое стремленье», как емко определил Пушкин в послании декабристам начала 1827 г.), предопределяющее образ поведения, а не политикоидеологическое выражение мировоззрения декабристов, тем более в попытках практических политических мероприятий. Это-то и сближало декабристов с современниками более консервативной политической ориентации, убежденными сторонниками эволюционного пути в общественном развитии, уповавшими преимущественно на воспитание человечества в целом, и тех, кто у руля правления, - просвещением и нравственным примером. А позднее сближало и с людьми другого века.
Декабристы, как и Карамзин, советовались и с умом, и с совестью (как сформулировано в записке «О древней и новой России», предназначенной воздействовать на императора Александра I). Это было жизненным кредо и друга Карамзина и Пушкина Жуковского, наставника наследника царского престола (будущего Александра II), смелого и убежденного ходатая за осужденных декабристов перед Николаем I, ибо самым важным было для этого великого поэта и педагога - «сохранение собственного достоинства» (интересна дневниковая запись 1828 г. после слов: «Надо быть или рабом владыки, или рабом долга...»). Декабрист А.Ф. Бриген и в Сибири преклонялся перед образом мысли и поведением Жуковского и послал дочери адресованное ему туда письмо Жуковского как «свадебный подарок», отметив, что «в нем полностью проявляются доброе сердце и прекрасная душа Жуковского»5. Такой настрой души писателей, формировавших общественное сознание россиян, обусловил и особое значение темы «совесть», «совестливость» в великой российской классической литературе, во многом объясняющей ее влияние на души и умы за рубежами России. Это было линией мысли и поведения тех, кто представляется нам и в недавнее время воплощением лучшего в российской интеллигенции. Д.С. Лихачев полагал, что ценнее всего в жизни -«доброта умная, целенаправленная» и «счастья достигнет тот, кто стремится сделать счастливыми других и способен хоть на время забыть о своих интересах, о себе». (Этим призывом «следовать пу
тями доброты» заканчиваются его «Письма о добром».) И А.Д. Сахаров велик прежде всего как личность, а не как политик или теоретик общественного развития. Велик более всего самоуважением и достоинством личного поведения.
Тенденция изобразить себя и своих единомышленников наследниками декабристов объясняется благородством этой исторической памяти, сакрализацией ее, а нечеткость общественно-политических позиций декабристов в целом (если мыслить политологическими - и особенно терминологическими - категориями более позднего времени) облегчает попытку сближения с ними разномыслящих потомков.
Герцен (возможно, опираясь на авторитет Пушкина) обосновал представление о высокой моральной пробе понятия декабристской традиции. Герцен подчеркивает это даже в большей мере, чем их революционность. Он знакомит с декабристами в предназначенном для зарубежного читателя сочинении, прежде всего характеризуя моральный пафос их мыслей и действий: «Вскоре после войны в общественном мнении обнаружилась большая перемена. Гвардейские и армейские офицеры, храбро подставлявшие грудь под неприятельские пули, были уже не так покорны, не так сговорчивы, как прежде. В обществе стали часто проявляться рыцарские чувства чести и личного достоинства, неведомые до тех пор русской аристократии плебейского происхождения, вознесенной над народом милостью государей»6. Знаменательны уже наименования первых декабристских обществ -«Союз спасения», «Союз благоденствия». Декабристы ощущали себя «избранными, обязанными сохранить и воплотить в практических делах миссию потомственной аристократии быть «предстателями» за других «на избранной чреде своей» (слова из пушкинского послания И.И. Пущину: «Мой первый друг, мой друг бесценный...»). Это становилось для них «новым служением Отечеству». И такие личностные черты «декабризма» обнаружились, пожалуй, в еще большей мере не в моменты восстаний, коллективных решений, стремления ощутить аффект соучастия, а после осуждения - в их достойнейшем поведении на каторге и в ссылке, о чем особенно подробно узнаем лишь с изданием сочинений декабристов и их переписки.
Думается, что на грани тысячелетий, через 175 лет после публичного выступления декабристов, переосмысливая опыт стремлений к общественно-политическим преобразованиям и реализации таких замыслов, декабристы нам дороги прежде всего
их душевной цельностью, нравственным подвигом, не «партийностью», а «личностным началом». А для ученых они особенно интересны не столько в плане проблематики политической истории и идеологии общественно-политической деятельности, сколько в плане истории ментальности. Вероятно, декабристоведение в дальнейшем будет развиваться на стыке собственно исторической науки (с ее специальными подразделениями) и социальной психологии.
1 Шмидт С.О. Общественное самосознание noblesse russe в XVI -первой трети XIX в. // Cahiers du Monde russe et sovietique. P., 1993. Vol. XXXIV (1-2). Janvier-juin.P. 11-31.
Перепечатано с сокращениями в кн.: Дворянское собрание: Историко-публицистический и литературно-художественный альманах. М„ 1996. №4. С. 113-125.
2 В кн.: Николай Михайлович Карамзин. Юбилей 1991 г.: Сб. научных трудов. М.: Изд. Государственного музея А.С. Пушкина, 1992. С. 73-91. См. также: Шмидт С.О. Н.М. Карамзин-историк // Венок Карамзину. М„ 1992. С. 23-33.
3 Житомирская С.В. Источниковедение декабризма: Некоторые нерешенные задачи // Сибирь и декабристы. Иркутск, 1978. Вып. 1. С. 31.
4 Шмидт С.О. К истории слова «интеллигенция» // Россия. Запад. Восток. Встречные течения: К 100-летию со дня рождения академика М.П. Алексеева. СПб., 1996. С. 409-417; Он же. Этапы «биографии» слова «интеллигенция» // Судьба российской интеллигенции: Материалы научной дискуссии 23 мая 1996 г. СПб., 1996. С. 45-56 и др.
5 Шмидт С.О. Подвиг наставничества. В.А. Жуковский - наставник наследника царского престола // Русское подвижничество (Сб. статей к 90-летию академика Д.С. Лихачева). М„ 1996. С. 187-221. Переиздано отдельной книгой: Шмидт С.О. Василий Андреевич Жуковский -великий русский педагог. М., 2000.48 с.
6 Герцен А.И. О развитии революционных идей в России // Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. VII. С. 194.
На рубеже годов всегда задумываемся над тем, каким был уходящий год - и для себя, и для ближних, и для дела, которым занят, и для России, мира. Что провожаем и что надеемся сохранить, чего ожидаем в будущем?.. Тем более размышляем об этом, когда меняются первые цифры столетия и тысячелетия. Для историка такие даты обычно воспринимаются как знаковые: это верстовые столбы привычной всем хронологии. И хотя в современном мире не прослеживается четкая веха в историческом развитии человечества, все равно возникают первичного порядка соображения историко-сравнительного характера.
При этом сознательно опираюсь прежде всего на данные, которые доступны и тем, кто не занимается специально изучением истории. Ибо основа культуры - память; представления историко-социологические (если употреблять научную терминологию) в основе нашего общественного мировоззрения; и именно исторический опыт предопределяет всю нашу деятельность. Из таких общепринятых понятий о значении исторического знания (или предания) и отношения к нему общества всегда исходят и при обращении к тому, что воспринимают как «священное писание», и в системе школьного преподавания. Изречению «Historia est magistra vitae» («История - наставница жизни») более 2 тыс. лет.
В статье - некоторые соображения о ходе и особенностях исторического процесса в последнее столетие, особенно в России, об изменениях понятий об истории, о взаимосвязях прошлого с настоящим. Именно о взаимосвязях, так как явления прошлого более полно высвечиваются, когда знаешь последствия ранее происходившего (позитивные и негативные). Вообще, оценивая явления прошлого, должно учитывать и то, как его воспринимали современники и чем оно оказалось для последующего времени; а если это явление культуры, то и востребованность в наши дни.
Главное, что становится очевидным при сравнении рубежа тысячелетий с тем, что было столетие назад, тем более в первый год жизни Пушкина, в 1800 г., - укрепляющееся осознание глобализации современной истории, даже ощущение причастности
Впервые опубл.: Сравнивая столетия и десятилетия // Россия на Рубеже XXI века: Оглядываясь на век минувший. М., 2001.
землян к существующему вне нашей планеты и, конечно, поразительные, не сравнимые с прежними технологические возможности познания всего этого и на научном уровне, и в обиходе повседневности. Даже само слово «земляне», ставшее обиходным название нашей планеты - «шарик», это понятия, появившиеся лишь во второй половине XX в.
XX век - время овладения умением передвигаться в наземном пространстве; причем перемещение человека с одной территории на другую (иногда и очень отдаленную) происходит с немыслимой ранее скоростью. Это внесло огромные изменения и в государственно-политическое (в том числе военное) взаимодействие народов и государств, и в повседневный опыт.
В XX же веке созданы международные организации государств (Лига наций, затем Организация Объединенных Наций), цель которых - международное сотрудничество. Не только главы государств постоянно бывают за рубежом, но и избранный в 1978 г. Папой римским Иоанн Павел II объездил почти весь мир. С середины XX в. утвердился порядок соучастия в совместных делах (в сферах политики, экономики и культуры) жителей всех континентов, с разным цветом кожи, функционируют многообразные объединения их; и высшие посты занимают в них отнюдь не всегда европейцы или жители США - их потомки.
Регулярно и опять-таки в разных частях планеты проходят всемирные выставки, спортивные олимпиады, международные фестивали, конгрессы, конкурсы, матчи. Знамением времени стал международный туризм. Характерная черта современной материальной и духовной культуры - более быстрое, чем прежде, и тоже повсеместное взаимопроникновение новейшего в сферах науки и техники, искусства и спорта, в бытовом обиходе (и вещей, и моды, и манеры поведения). Впервые такое широкое международное значение - на всех континентах и отнюдь не только в наиболее образованных слоях общества (как прежде) - обрел один язык - английский. Знание его стало необходимым условием для овладения многообразной информацией (особенно важной при использовании новейших технологий) и при обращении к видеозаписям, популярным в широкой среде, и прежде всего у молодежи.
Никогда ранее человечество в целом не обладало и столь широким географическим кругозором, обусловливающим в значительной мере многообразие социокультурной и исторической информации. Теперь благодаря телевидению (да еще цвет
ному) не склонные к чтению, даже неграмотные, могут составить впечатление (визуальное и на слух) буквально обо всем мире: о природе, быте и общественно-политической жизни, о культуре и памятниках истории и культуры. Это - пустыни и джунгли, обитающие в жарком климате слоны и пингвины Антарктиды; небоскребы современных городов и руины древних поселений; «Медный всадник» на берегу Невы и творения Микельанджело и Рафаэля в Ватикане, «Апостол» нашего первопечатника Ивана Федорова и космические аппараты; первобытный танец людей, не имеющих понятия о грамотности, футбольный матч и неистовство болельщиков на стадионе; раздумья вслух академиков и страсти, возбуждаемые избирательными кампаниями... Это позволяет и четче выявить наименее изученные места нашей планеты (а вовсе неизученных - как это было до советских экспедиций в Арктику 1930-х годов и международных экспедиций в Антарктиду в послевоенные годы - пожалуй, не осталось).
Едва ли не массовым становится и космический кругозор. Это утвердившееся с полета Гагарина убеждение в возможности освоения космоса, а у людей более образованных - представление о ноосфере, о зависимости многого, происходящего на земле, от активности солнца (данные об активности солнца со ссылками на соображения А.Л. Чижевского приведены в разделе об историческом времени в книге «История и ее методы», вышедшей под редакцией Ш. Самарана в парижской серии «Encyclopedic de la Pleiade» еще в 1961 г.), все более распространяется мнение о существовании внеземных цивилизаций и возможных контактах с ними.
Это побуждает к выявлению элементов глобального взаимодействия народов в прошлом: к гипотезам о прародине и древнейших взаимосвязях языковых общностей, о культурном взаимодействии еще до нашей эры жителей африканского побережья Средиземного моря и Южной Америки, приднепровских скифов и захороненных в курганах алтайского Пазырыка, не говоря уже о времени после первого из известных нам кругосветных путешествий - Магеллана. Добавляются и новые соображения о понимании «всемирности» истории в Средние века (в частности, у летописцев, составлявших «Повесть временных лет», «Лицевой летописный свод» и хронографы) и к объяснению бытования представлений о преемстве «царств» и богоизбранности народов (нашедших воплощение и в рассуждениях о «Третьем Риме»),
Существенно отметить то, что XX век - время осознания особо значительного места России и совершенного россиянами в ми
ровом социокультурном пространстве. Конечно, и ранее понимали, что Россию должно считать великой европейской державой, и роль ее в изменении политической карты мира очень заметна. Более того, для Вольтера и других мыслителей века Просвещения реформы и завоевания Петра Великого - показательный пример созидательной деятельности просвещенного монарха, а Екатерину Великую современники признавали наиболее выдающимся европейским государем эпохи «просвещенного абсолютизма». Хорошо известно было и то, что Россия положила предел агрессивным намерениям Швеции при Карле XII, именно в России был нанесен удар владычеству Наполеона, началась агония его империи, а слово России на Венском и последующих международных конгрессах было очень весомым. Но в социокультурной сфере величие России стало ощутимо всеми лишь в XX в.
В рассчитанных на массового читателя кратких энциклопедических справочниках отбор портретируемых исторических лиц всегда отражает распространенное мнение о «знаковых фигурах» в истории и культуре. В однотомной энциклопедии Лярусса, изданной в Париже в 1908 г. («Petite Larousse»), находим, помимо царствующих особ из дома Романовых, лишь три портрета россиян: полководца Суворова, писателя Тургенева, музыканта Антона Рубинштейна, хотя в конце XIX в. Л. Толстой, Достоевский, Чайковский, Менделеев были всемирно знамениты, а физиолог Павлов удостоен в 1904 г. Нобелевской премии. И что особенно показательно - именно под впечатлением знакомства с культурой россиян, особенностями их ментальности и отображением этого в русской классической литературе утвердилось в западноевропейских языках слово «интеллигенция» в значении «образованная, свободно мыслящая часть народа». Происхождение именно из русского языка этого слова с западноевропейской этимологией отмечено в современных словарях английского и французского языков.
К концу же XX в. великий вклад россиян и выходцев из России в развитие мировой культуры признается как бы само собой разумеющимся. Необычайно возрос интерес к нашей классической литературе, к драматургии Чехова, имена наших писателей XX в. - среди имен нобелевских лауреатов. С Дягилевских сезонов танец и режиссура россиян признаются вершиной балетного искусства. Станиславский, Шаляпин, Шостакович, Рихтер воспринимаются как всемирного значения символы искусств нашего столетия. Великими признают и заслуги Вернадского,
физиков-теоретиков, инженеров-конструкторов. Гагарина прозвали «Колумбом космоса». Первая женщина-космонавт - русская Терешкова, а в немецком языке выход человека в открытый космос обозначается глаголом, образованным от фамилии нашего космонавта Леонова. Еще ранее, с 1957 г., искусственные спутники Земли после первого спутника, запущенного в нашей стране, имели наименования, восходящие на других языках к этому русскому слову. Установка в 1999 г. памятников Пушкину в столицах зарубежных государств - тоже показатель утверждения в массовом сознании зарубежья величия российской литературы и культуры.
Общепризнан и очень весом вклад эмигрантов из России в развитие мировой культуры. Это и балет, и музыка (композитор Стравинский, пианист и композитор Рахманинов, скрипачи Хейфец и Менухин - называю лишь знаменитейшие имена!), художники Кандинский и Шагал, самолетостроитель Сикорский, изобретатель передающей телевизионной трубки Зворыкин, химик Ипатьев, языковеды Трубецкой и Якобсон и другие. А эмигрировавший в Англию профессор Московского университета историк-медиевист и правовед академик П.Г. Виноградов получил еще в 1920-е годы титул сэра. В наши дни, когда так много россиян переселилось за рубеж или работает там, сохраняя наше гражданство, несомненно значение пройденной на Родине школы обучения и творчества в развитии культуры стран их нынешнего проживания. А как велика роль в развитии культуры всего зарубежья потомков выходцев из нашей страны!
Огромное впечатление на все зарубежье произвели, несомненно, мирового масштаба события нашей отечественной истории XX в., имевшие определяющее значение для судеб всего человечества, его общественного сознания. Еще раз подтвердилась великая прозорливость Пушкина о предопределенном России «высоком предназначении» - ценой колоссальных жертв она спасла «образующееся просвещение» Европы от нашествия кочевников в XIII в. И в XX в. именно народы России сыграли решающую роль в победе над фашистской Германией во Второй мировой войне, в избавлении мира от коричневой чумы. (К сожалению, снова подтверждается грустное наблюдение Пушкина в этой связи: «...но Европа в отношении России всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна».)
Едва ли не самым большим событием века, которое действительно «потрясло весь мир» (как озаглавил свою книгу об
этих днях американский журналист Джон Рид), была Октябрьская революция 1917 г. Еще в начале XX в. Россия, каки Германия, поражала быстрым ростом экономического потенциала. С конца 1917 г. была декретирована программа грандиозных социально-экономических и политических преобразований, приведших к коренным изменениям и в экономике, и в общественном строе. Это вызвало особое внимание на всех континентах и у сторонников, и у противников этих тенденций, сделалось важнейшим фактором и международной политики, и общественной мысли. Государственная организация промышленности в СССР оказала влияние на систему организации капиталистического производства. Социальный эксперимент в Стране Советов, возбудивший надежды у эксплуатируемой части населения всего мира, заставил государственных деятелей и обслуживавших их ученых-идеологов внести изменения не только на словах (в демагогических целях), но и на практике в систему управления и взаимоотношений с малоимущими. Стало ясно, что спокойнее, да и выгоднее, сохраняя привилегии, управлять не нищими и вовсе бесправными, а менее обеспеченными и в то же время обладающими некоторыми правами и надеждой при трудолюбии и законопослушности переместиться на более высокие ступени общественной лестницы; тем более что необходимость овладения современной технологией (научной в своей основе) ведет к повышению общей образованности, а следовательно, и к ознакомлению с небезопасными для власть имущих общественными воззрениями.
В то же время если в XIX - начале XX в. для российских революционеров школой были сочинения и дела зарубежных мыслителей и активистов революционного движения, то после 1917 г. в зарубежье - на Западе и на Востоке - примером для революционно настроенных стали сочинения и практическая деятельность Ленина, Троцкого, Сталина.
Происходившее в России XX в. во многом предопределялось ее прошлым, когда сформировались устойчивые традиции менталитета россиян и их общественно-политического мировоззрения. Россия почти тысячелетие - страна по существу рабовладельческого строя и самодержавной власти, не ограниченной законодательно. Этому соответствовала массовая холопская идеология снизу доверху, нашедшая отражение в письменных памятниках, где даже первые бояре в обращениях к царю именовали себя холопишками. (Иногда противостоящими ей изображают вожаков массовых народных мятежей; однако они на самом деле
придерживались, при всем своем свободолюбии, тех же представлений, только склонны были при этом поменять местами верх и низ существующей общественной пирамиды.) Все это освящалось усвоенными извне государственно-правовыми понятиями об имперской державности, а затем и о строго бюрократическом характере системы управления и делопроизводства (воплощение ее - всесилие чиновников в сфере гражданской и военной службы). Тут изначально сказывалось влияние Византии, усиленное еще в XIII в. воздействием образа правления восточных правителей - «восточного деспотизма»; а такая амальгама особенно губительна для ростков либерализма западноевропейского образца. При Иване Грозном самодержавие, еще более утвердившееся благодаря поразившим современников завоеваниям в Поволжье, становится неограниченным самовластием (что ярко и убедительно показано в IX томе «Истории государства Российского» Карамзина, ставшей основой для изображения этой эпохи в художественной литературе, изобразительном искусстве, на сцене).
В странах западноевропейского абсолютизма его становлению и укреплению сопутствовало развитие капиталистических отношений. В России же государственно-политическая централизация опережала социоэкономическую: именно в это время законодательно закрепляется крепостное право, а коммерсанты не получают никаких политических привилегий, церковь оказывается в подчинении у светской власти. В то же время вхождение в состав государственной территории во второй половине XVI и XVII в. огромного массива земель к югу и особенно к востоку от московского центра обеспечивало возможность колонизации трудовым населением свободных земель без разрыва коренных национальных связей, не прибегая к приемам истребления аборигенов этих территорий, и образования на окраинах казачьих объединений, антикрепостнических по своему духу. В период, когда в Западной Европе был промежуток между буржуазными революциями в Англии и во Франции, в России имели место массовые казацко-крестьянские восстания (от Разина до Пугачева), а раскольничество с рубежа XVII и XVIII вв. оказалось совершенно чуждо воззрениям аристократии.
Только при неограниченной власти монарха и холопской идеологии даже высокопоставленных подданных можно было столь решительно провести преобразования, изменившие привычный жизненный обиход, как это сделал действительно ге
ниальный Петр Великий. Но они не затронули крепостническо-служилый менталитет россиян. Проявить инициативу в сфере коммерции, культуры, тем более политико-государственной могли лишь самые творчески одаренные и жизнестойкие. И достижения их тоже оказывались сразу на службе государству. «Везде правительство установлено для народа, а у нас весь народ живет для правительства. Это такое уродство, какого не представляет история», - написано было в середине XIX в., и не революционно настроенным мыслителем, а умеренным московским либералом, высокопоставленным чиновником и литератором М.А. Дмитриевым - любимым племянником экс-министра и друга Карамзина поэта И.И. Дмитриева. Наиболее активными сторонниками изменения такого режима у нас первоначально выступали совестливые благородные люди из среды высокообразованных аристократов. Положение изменилось только после падения крепостного права, но и тогда организаторами и главными действующими лицами в борьбе с властью были прежде всего интеллигенты. Большая их часть удовлетворилась результатами Февральской революции 1917 г., свергнувшей самодержавие.
Октябрьская революция и последующее «триумфальное шествие советской власти» - дело уже значительно менее образованных людей, большая часть которых в массе своей не имела осознанных идеалов и по существу довольствовалась примитивной формулой пролетарского гимна «Интернационал», объявленного государственным гимном: «...Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем...» построим новый, чтобы «кто был ничем», стал «всем».
Все более уясняется и то, что нашей стране предопределено было и всемирно-исторического масштаба «высокое предназначение», испытав на себе грандиозный социальный эксперимент, начатый в октябре 1917 г., предостеречь мир от опасной утопической веры в возможность решительным революционным путем изменить социокультурное мироощущение народа и законы социоэкономического развития человечества. В нашей стране действительно с невиданной быстротой ликвидировали массовую неграмотность и достигли на какое-то время самых вершин в сфере научно-технологической, обретя статус сверхдержавы. Но этому способствовали социокультурные изменения негативного свойства, шедшие вразрез с процессами мировой цивилизации XX в.: уничтожение барских усадеб (начавшееся еще, впрочем, в революцию 1905 г. и участившееся после февраля 1917 г.),
т. е. проявление (опять вспомним Пушкина) «русского бунта, бессмысленного и беспощадного», и уже официально организованное на рубеже 1920-1930-х годов уничтожение храмов, являвшихся воплощением не только идеологии господствовавших ранее классов, но и народных этических и эстетических представлений и понятий об их совмещенности. А затем - массовый террор и утрата народом прав, присущих цивилизованным государствам в уходящем столетии, жесткая централизация деспотического правления, когда стала невозможной инициативная деятельность и городских коммерсантов, и крестьянства, и лиц интеллигентских профессий и порушена была свойственная именно России «интеллигентность»*, кажущаяся столь притягательной зарубежной культуре. Термином «интеллигенция» стали обозначать «прослойку» общества, лиц, не занятых физическим трудом (подобно рабочему классу и крестьянству). Такой государственно-общественный строй (когда власть партии оказывалась выше власти и Советов, и центральных, и местных учреждений) оказался не слишком долговечным. Разрушение было стремительным, однако бюрократическая система сохранила устойчивость, как и в 1917 г. (снова, естественно, поменяв лозунговые цвета).
Оглядываясь на уходящий век в отечественной истории, можно выделить переломные в масштабе всемирной истории 1917 год, 1945 год Победы как годы наибольшего единодушия и гордости всех россиян, и 1929 год, год «великого перелома», как самый зловещий. Хотя это и продолжение грандиозной индустриализации страны, во многом обусловившей техническую оснащенность СССР в годы Великой Отечественной войны, но именно тогда и утвердился тоталитарный государственный строй, начался культ личности Сталина. Насильственная коллективизация стала пагубной для инициатив трудового крестьянства. Тогда же было массовое преследование священнослужителей, «спецов» из старой интеллигенции, даже лиц из партийной номенклатуры, идеалистически веривших в будущее социалистических преобразований. Политике нэпа, способствовавшей
Сближение в российской классической литературе понятий «интеллигенция» и «интеллигентность» (различие между которыми едва ли возможно передать в иностранных языках) сделало слово «интеллигенция» таким благородным и столь притягательным за рубежом и именно в такой совмещенности и было там первоначально воспринято.
эволюции социоэкономических отношений, приближающихся к общепринятым стандартам цивилизованных стран, был положен предел. Демонстративно принижается культурное наследие (закрывают музеи, уничтожаются памятники истории и культуры), хранители его обвиняются в антисоветской деятельности - это нанесло непоправимый удар историко-культурному краеведению, игравшему большую роль в общественной жизни и в культурном развитии провинции и в связях общественности с «большой» (академической и вузовской) наукой. Это повлияло и на формирование историографических представлений, тем более что издания краеведов 1920-х годов запрятали в спецхран. (Так, в IV томе «Очерков истории исторической науки в СССР», изданном в 1966 г., деятельность краеведов, важная для развития и особенно для распространения научных знаний, обойдена вниманием.) Фальсификация обвинений в «делах» академиков-историков (С.Ф. Платонова, Е.В. Тарле и др.), краеведов, экономистов-аграрников, инженеров-профессоров («дело Промпартии») может восприниматься как репетиция публичных судебных процессов середины 1930-х годов. Опускается «железный занавес» во взаимоотношениях с оказавшимися за рубежом россиянами и во взаимодействии с зарубежной культурой. Массовый террор и методы пропаганды середины 1930-х годов («37-й год») - прямое и естественное следствие событий времени «великого перелома».
Это способствовало удержанию в обществе холопской идеологии, освящавшейся авторитетом партийных установлений в духе «демократического централизма». Некоторому вольнолюбию и разномыслию 1920-х годов пришел конец. Даже в военные годы, в период массового героизма и самопожертвования, подлинности фронтовой дружбы, действовала система надзора и доносительства, оказывавшая влияние на молодое поколение комсомольских активистов. Потому не сразу ощутилось и воздействие судьбоносных для страны решений XX съезда партии 1956 г., а «оттепель» многим казалась недолговременной. Однако она породила «шестидесятников», без действенного участия которых не произошло бы «перестройки».
Как историк полагаю, что термин «эпоха перестройки» войдет в учебники грядущего века применительно к истории России после середины 1980-х годов. Однако дать оценочную характеристику этого многообразного явления вряд ли возможно его современникам. Современники пока больше испытывают на
самих себе все происходящие перемены, повторяя вслед за петербургским поэтом Александром Кушнером: «Времена не выбирают, в них живут и умирают».
И полезнее было бы удержаться от поспешных выводов, тем более от скороспелого осуждения. История нашей страны в предыдущие десятилетия XX в., казалось бы, должна была убедить в том, что не следует ни слишком ускорять темп исторического развития, ни рассчитывать сразу на заметные всем последствия реформ (или контрреформ). Однако многие политики и обслуживающие их идеологи с учеными степенями в области общественных наук по-прежнему не склонны думать о закономерностях исторического процесса и безответственно, в угоду сиюминутному нетерпению публики, намеренно (или по чьему-то наущению) сосредоточиваются на обличении негативного в нашей действительности и в действиях высшей власти. Тем более что это чаще всего не требует ни особого творческого напряжения, ни оригинальности суждений, ибо и так всем очевидно. И в то же время это внушает широкой публике чувство самоудовлетворения от осознания близости ее представлений к понятиям известных людей, формирующих и формулирующих общественное мнение «народа» (кормясь от СМИ и тех, у кого СМИ на содержании).
На самом деле только через несколько десятилетий, когда скажутся надолго ощутимые результаты творимого сегодня, историки и практики общественно-государственной деятельности и экономики смогут объективно охарактеризовать происходящее в сегодняшней России и определить, в какой мере можно было избежать всеми осознаваемых тягостных проявлений «дикого капитализма», а также волюнтаризма в решениях тех, кто был у власти; и вообще можно ли было ожидать иного от людей, изначально проникнутых именно советской ментальностью (даже при визуальном знакомстве с образом жизни за рубежом) и не обладающих к тому же опытом масштабной государственной деятельности.
Однако полагаю, что уже сейчас допустимо утверждать, что люди моего поколения явственно ощущают заметные перемены в нашей стране. Произошла существенная перестройка и в общественной жизни, и в общественном сознании; хотя оценивают это отнюдь не однозначно, и в массе своей мы оказались лишенными вожделенной обеспеченной старости; явно заметны отсутствовавшие еще 15 лет назад свобода выражения мыслей, общественно
политических предпочтений, религиозных воззрений, свобода коммерческой инициативы, свобода передвижения и общения с зарубежьем, восприятия его социокультурных нормативов, даже право скорого переселения за рубеж. Пришло к нам и иное, чем прежде, отношение к культурному наследию наших соотечественников, оказавшихся за границами советского государства - это культурное наследие возвращается россиянам. Исчезло и опирающееся на жесткие идеологические основы и публично декларируемое противостояние двух культур - нашей, так называемой социалистической, и зарубежной.
В сфере собственно исторических знаний это привело к появлению трудов (и исследований, и документальных публикаций, и полупублицистических сочинений) по проблематике, ранее недозволенной или иной, чем прежде, интерпретацией исторических явлений - более того, литература такого содержания стала на время даже преобладающей по числу изданий. Допустимым стало и откровенное разномыслие в подходе к историческим явлениям, в их истолковании и оценке. Прежде всего это выявилось в изучении истории России XIX, и особенно XX в.: вернули множество вычеркнутых прежде исторических имен и событий. Измёнился и облик учебных пособий, даже предназначенных школьникам.
Это способствовало и расширению тематики локальной истории, возрождению интереса к изучению ранее привилегированных классов; к истории усадеб, монастырей и храмов, дворянских и купеческих династий и меценатства, многообразных общественных объединений и проч. Возвратилось внимание и к генеалогии - науке о происхождении и родственных связях отдельных родов и лиц (и одновременно методике составления и обоснования родословий). Генеалогия, имевшая в дореволюционной России признанные во всем мире достижения, при изучении истории XIX-XX вв. была практически исключена из обихода советских ученых, хотя в других странах именно генеалогия -связующее звено «народной истории» и «большой науки». Главная задача генеалога - определение с возможной полнотой и в хронологической последовательности родственных связей, составление поколенных росписей, выяснение биографических данных. А это, как правило, оказывалось не всегда безопасным для советских граждан и их близких: таким путем могли выявиться родственники и за границей и среди тех, кого положено было клеймить как «врагов народа», а так недолго и испортить анкету, определявшую служебное положение, а иногда и само су
ществование. Потому-то, щадя детей, во многих семьях лишали их возможности знакомиться с семейными преданиями и реликвиями, т. е. с тем, что с детства приближает к истории, делает ее многоликой и более понятной.
Все это означает, что у тех, кто начнет самостоятельную деятельность в грядущем, новом тысячелетии, будет уже отличающееся от ментальности старших поколений социокультурное мироощущение. И автор этих строк склонен в этом плане к оптимистическим представлениям о будущем этого поколения (хотя природой мне и не будет даровано проверить, сбудутся ли мои прогнозы).
Сильное и многообразное воздействие нашей страны в XX столетии на всемирную историю возбудило за рубежом серьезный интерес к изучению прошлого России и ее многовековой культуры. Постепенно это переставало оставаться уделом лишь немногих зарубежных ученых специалистов и российских эмигрантов. История России и ее культуры утвердилась как важная тема мировой науки, с различными специализированными ответвлениями. Если еще несколько десятилетий назад так называемая советология в научном плане была интересна прежде всего использованием недоступных нам в условиях советской жизни источников и литературы и толкованием, отличающимся от навязываемого советским ученым, то с недавнего времени на смену наукообразной публицистике появляется все больше основанных на солидной (обычно архивной) источниковой базе серьезных трудов, авторы которых стремятся к научной объективности. Без использования работ зарубежных авторов сегодня нельзя уже написать добросовестное сочинение по истории России, российских литературы и искусства. Этим неподдельным интересом к познанию прошлого России объясняется и возрастающее внимание за рубежом к трудам наших ученых, расширение научных контактов в таком направлении.
Есть много оснований называть уходящий XX век жестоким, даже кровавым. Однако к концу его все в большей степени утверждалось в сознании человечества, во всяком случае образованной его части (и политиков, и широкой общественности), представление о главенстве договорного начала в нашей общественной жизни - во взаимоотношениях и отдельных лиц, и многообразных социумов, и государств.
Возрастающая тенденция (хотя иногда и вынужденная) к взаимодействию и сотрудничеству государств и народов - ха
рактерная черта современной цивилизации. Как правило, такие взгляды официально декларируются (разумеется, со ссылками не только на шкалу общечеловеческих ценностей, но и национальные историко-культурные традиции) органами государственной власти, особенно такими, общественная доктрина которых в лоне общехристианской морали.
Едва ли не самым значительным положительным итогом XX в. стало то, что в общественное сознание - причем и политиков, и широких масс - все заметнее внедряется понимание того, что при развитии современных технологий большие войны (особенно между великими державами) гибельны для судеб всего человечества и там не может быть победителей. И хотя людям по-прежнему присущ животный инстинкт обвинять и истреблять других, а лидерам-«вождям» - желание всеми средствами, не гнушаясь нарушением моральных табу, закреплять свою исключительную привилегированность, думается, что эти зверские ощущения будут, с распространением просвещения, постепенно сознательно подавляться - прежде всего из чувства самосохранения и стремления к продолжению своего рода. Воспитание и утверждение такого просвещенного образа мысли - одна из главных обязанностей интеллигенции. Классовый антагонизм сохраняется, но все уже понимают неосуществимость стремления к тому, чтобы поменять классы местами в установившейся социальной иерархии или вовсе истребить один из классов (уничтожить можно лишь прежние привилегии или сословные признаки). Соответственно, отмирает и тенденция социологов (а вслед за ними и политологов) свести ход истории преимущественно к классовой борьбе.
Более устойчивыми и потому небезопасными для будущего оказались национальные и расовые антагонизмы (в основе которых, видимо, не только социокультурное, но и психобиологическое начало). К тому же они опираются пока еще на издержки традиционной конфессиональной идеологии и предрассудки многовековых бытовых привычек, запечатленных и в устной речи, и в литературе.
Вообще в подходе и к прошлому, и к современности человечества нельзя, как становится все очевиднее, исходить из главенствующего фактора только рационального начала. Это тоже урок XX столетия, развития его науки, наблюдений над событиями и массового порядка, и поведением отдельных индивидуумов. Недаром все более возрастает роль социальной психологии
(и собственно исторической психологии) в исторических исследованиях, сформировалась отрасль науки - историческая антропология, и история повседневности (во всем ее многообразии) привлекает теперь внимание ученых едва ли не более, чем государственно-политическая или социально-экономическая история.
Убеждаемся и на примере явлений XX в. - века великих научно-технических открытий и, казалось бы, массового приобщения к культуре, - что психобиологическое начало сильно в тех массовых социопсихических проявлениях, возникающих в обществе на откровенно политически-идеологической почве (как официально провозглашенный и утверждавшийся в массовом сознании антисемитизм в фашистской Германии, разграбление и сожжение барских усадеб в революционные годы в России или подозрительность и система доносительства при сталинском режиме). Такое начало можно усматривать и в нынешней моде (а по существу в возрождении доверия) на экстрасенсов, колдунов, предсказателей и публичном рекламировании их деятельности.
Выясняется очень большая роль подсознания при определении не только вкусовых, но и идеологических предпочтений. У советских ученых были замечательные достижения в сфере и психологии, и физиологии (экспериментальной и теоретической), но они не встречали поощрения у властей; и историки, находясь в жестких рамках официальной научной идеологии, как правило, не решались привлекать эти выводы и наблюдения к объяснению исторических явлений. Прорыв, совершенный в 1960-е годы Б.Ф. Поршневым, оказался тогда еще недостаточным; с немалым опозданием пришли к нам идеи школы «Анналов», ареал их первоначально ограничивался лишь областью истории зарубежья. Между тем результаты углубляющегося осмысления этого комплекса явлений ныне все в большей мере используют в своей практике не только педагоги, но и политические деятели и публицисты, и иногда отнюдь не в благовидных целях.
Только социокультурными особенностями нельзя объяснить роль в общественной жизни возрастного фактора. «Бегут, меняясь, наши лета, меняя все, меняя нас», - осознавал гениальный Пушкин уже на пороге своего четвертого десятилетия. Опыт жизненных наблюдений (и визуальных, и из «книжного» знания), проб и ошибок приходит постепенно. У пожилых людей консерватизм обычно не бывает гибким, а в молодые годы преобладает сочувствие к интенсивным приемам общественного
переустройства, даже юношеский максимализм. Напомним об изменении с годами общественных взглядов, даже духа творчества Карамзина, Пушкина. Особенно показательно это у тех, кто был осужден в молодые годы по делу кружка Петрашевского в Петербурге, прежде всего у Достоевского.
И в XX в. убеждались в сохраняющемся выдающемся историческом значении личностных черт государственных деятелей и в недопустимости не учитывать это, в объяснении зарождения и развития заметных явлений государственно-политической истории, ограничиваясь социологической схемой. Именно это позволяет употреблять определение «эпоха Николая II» (или Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, Горбачева, Ельцина), независимо от отношения к стоящему у власти деятелю и оценки сделанного им. Личные черты такого стоящего у власти деятеля могут иметь и роковые последствия для истории его страны. Такова политика Сталина, совмещавшего в своей натуре подозрительность, коварство и жестокость с великим организаторским даром, сокрушительным примитивизмом действий, рассчитанных прежде всего на восприятие подсознанием, и возрастающим с годами убеждением в сакральности своей Власти.
Для историка особо интересно отношение Сталина к самой истории. Известно, что он, достигнув высшей власти, уделял немало внимания трактовке исторических событий - и близкого времени, и даже далекого прошлого, распространению (или, точнее выразиться, насаждению) определенных исторических представлений. Он и сам был обучен в вере в наставническую роль исторических примеров в духе традиции семинарского преподавания «священной истории», настраивающей к отбору назидательных образцов поведения и цитат для церковной проповеди. Это и в стиле педагогической мысли XIX в., придававшей именно истории первостепенное место в системе преподавания, особенно теми, кто призван принимать действенное участие в общественной жизни (что нашло отражение в наставнической деятельности образованнейшего и благороднейшего поэта Жуковского, когда он стал главным воспитателем наследника российского престола Александра Николаевича - будущего Александра II). После революции историческими примерами, напоминаниями имен и событий (и достойных подражания, и подлежащих осуждению) полагали необходимым воспитывать массовое общественное сознание, начиная с плана так называемой монументальной пропаганды.
Сталин тоже склонен был в своих выступлениях к историческим примерам-ассоциациям, сам определял тематику фильмов о прошлом, учитывал это при награждениях деятелей искусства, литературы, науки; участием в составлении замечаний об ошибках «школы Покровского» указал направленность преподавания истории и в средней, и в высшей школе. Пожалуй, только при Сталине исторические представления, публично выражаемые, были столь однозначными и история откровенно выглядела служанкой политики, отражавшей не только современные общественные настроения, но и сиюминутный политический заказ. (Это, впрочем, имело и по-своему положительное значение в историографии: лица, чувствовавшие призвание к занятиям именно историей и, естественно, как всякие подлинные ученые, стремившиеся к нахождению истины, предпочитали изучать далекие от современности и ее жгучих вопросов проблемы, где допустимо было сохранять хотя бы достойный нейтралитет в своих суждениях; это во многом предопределило наибольшие достижения в те годы в исследованиях древней и средневековой истории, в области археологии, источниковедения - там и в тех условиях создавались научные школы С.Н. Валка, Е.А. Космин-ского, А.И. Неусыхина, М.Н. Тихомирова и других).
Похоже на то, что и сам Сталин, в молодые годы не получивший серьезного образования и не познакомившийся с популярными тогда в сфере интеллигенции сочинениями философов и социологов, именно так подходил к фактам прошлого и старался буквально следовать образу действий лиц, казавшихся ему достойными подражания. Это прослеживается на примере сопоставления его деятельности с деяниями Ивана Грозного. О высокой оценке этого жестокого и подозрительного самовласт-ца Сталиным в 1940-е годы знаем в связи с судьбой фильма С. Эйзенштейна «Иван Грозный» (по постановлению руководящих партийных органов, воспоминаниям артиста Н. Черкасова о беседе со Сталиным) и постановкой драмы А. Толстого в Малом театре. Это - и явно импонировавшая Сталину прижизненная сакрализация первого царя, и убеждение в том, что, защищая себя («за себя есми стал»), он защищает Россию, и демагогические обращения к народу, и создание видимости его представительства (членами земского собора становились тогда по должности; при выборах в Верховные советы был только один кандидат). Закрепление высшего положения в стране не за государственными структурами, а за партией, сравнение партии со средне
вековыми орденами, отделение на бытовом уровне активистов партии от остальных граждан, даже переселения, не говоря уже о репрессиях лиц бывшего окружения, их близких и всех причастных к делам определенного учреждения, - все это откровенно напоминает опричную политику царя Ивана с опалами виднейших придворных, воевод и дьяков и массовыми казнями жителей городов и сел. Иваном IV была предпринята попытка переписывания истории времени своего правления с изменением положительных характеристик попавших в опалу деятелей на отрицательные и выпячиванием личных заслуг: уместно сравнение редактирования (если не при непосредственном участии царя, то по его заданию и с использованием его «посланий») официальной летописи и составления «Краткого курса истории ВКП(б)».
Подобно тем, кто придерживался теории «Москва - Третий Рим» в XVI-XVII вв., Сталин утверждал веру в то, что сотворенное им в СССР на века, как и провозглашенные им оценки современности и прошлого («иному не быти»). Историко-политическим взглядам Сталина и тактике его были близки воззрения Ивана Грозного (если он мог полагать, как свидетельствует Черкасов, что Смута рубежа XVI-XVII вв. произошла оттого, что царь Иван не решился - или не успел? - истребить некоторых бояр).
Все расширяющийся спектр наблюдения над различными явлениями прошлого и приемами их изучения позволил отойти от тенденции однозначного подхода к многообразным историческим явлениям. Больше красок появилось на палитре и при изображении их; и краски эти утрачивают чистоту бедной одноцветности. Все более заметны результаты достигнутого на стыке наук. Думается, что в этом залог дальнейшего плодотворного развития отечественной исторической науки, в частности источниковедения, обогащаемого представлением о том, что источником изучения историком могут быть не только памятники материальной и духовной культуры (т. е. результаты целенаправленной человеческой деятельности), но и все то, где можно обнаружить информацию, полезную для историка, что может источать историческую информацию: история и вокруг нас - и в обществе, и в природе, и в нас самих.
Источниковедение - наука об исторических источниках и методике их выявления, изучения и использования - определилось как особая отрасль науки именно в XX в. К концу его утвердилось и представление об источниковедении разных областей гуманитарного знания (археологическое источниковеде
ние, литературоведческое и т. д.) и мнение, что именно источниковедение в основе фундаментальных построений историков и, опираясь на данные смежных с ним специальных дисциплин, оно в наименьшей мере поддается воздействию конъюнктуры -и политико-идеологической, и философско-социологической. Уже с начала XX в. исторический источник стали рассматривать не только в плане хранения и извлечения информации, полезной для познания определенных исторических явлений, но и как самодостаточный феномен культуры. Подобный подход уже на грани с теорией познания. Такова направленность трудов российских академиков начала века - А.А. Шахматова о летописях и их значении при исследовании истории языка, культуры и в еще большей мере А.С. Лаппо-Данилевского о средневековых актах, памятниках общественно-политического сознания XVIII в. и особенно по проблемам методологии исторического знания. Труды эти опережали свое время, но стали импульсом для исследований выдающихся историков, филологов и даже экономистов. На рубеже 1940-1950-х годов творчество этих классиков науки подверглось тенденциозной вульгарной критике, когда во главу угла были поставлены их политические взгляды (кадетов). Усиление внимания к их научному наследию, подготовка изданий сочинений Лаппо-Данилевского (как, впрочем, и менее склонных к теоретическим штудиям выдающихся историков, его современников С.Ф. Платонова, М.М. Богословского и других) -симптоматический показатель произошедших в последние годы перемен в общественном сознании и в историографическом кругозоре россиян.
Это отражает и более глобальные изменения, характерные для нашего времени - века науки о науке. Ныне хотят получить ответы не только на вопросы: «Кто, что, где, когда и почему совершил? Каковы последовательность событий, характерные черты тех или иных явлений?», но и: «На основе чего получены эти знания и каким именно способом? Насколько достоверны и представительны (репрезентативны) первоисточники этих сведений, не переистолкованы ли они впоследствии?» Лаборатория исследовательского труда кажется не менее занимательной, чем описание явлений. Как отмечал академик Д.С. Лихачев: «Интеллигентный читатель интересуется теперь не только тем, что создано, но и как создано».
При этом заметно и все возрастающее взаимопроникновение методики гуманитарных и иных наук, использование
математических методов, что существенно расширило возможности исторических исследований и обогатило их выводы и наблюдения. Некоторым даже показалось это столбовой дорогой дальнейшего развития нашей науки. На самом деле обществоведение - всегда прежде всего человековедение. Приобщение к сфере математических знаний кажется очень привлекательным обращающимся к трудам историков лицам других профессий. И в этом тоже можно искать объяснение распространения доверчивого интереса у читающей публики к сочинениям академика А.П. Фоменко с изложением «новой хронологии» истории Древнего мира и Средневековья, к наукообразной видимости его системы «доказательств». Такие читатели относятся к многочисленному - увы! - разряду «образованщины» (по определению А.И. Солженицына), у них научные знания (и возможности восприятия и применения научной методики) ограничиваются лишь узкой областью их профессиональной специализации.
Для конца века показательно сближение наук гуманитарных и естественных, вызванное в значительной мере тем, что проблемы экологии - науки об отношении живых организмов и образуемых ими сообществ между собой и особенно с окружающей средой - выходят на первый план для всего человечества. Хватит ли для жизни человека сохраняющихся природных ресурсов? Можно ли их чем-либо заменить? Лозунг защиты природы от техногенных и антропогенных воздействий - знамение времени. Это вызвало и появление обществ, даже партий «зеленых», и возрастающий интерес ученых к развитию взаимодействия природы и общества в прошлом.
Эти новые знания, все увеличивающийся вал новых сведений о мире (и его истории тоже) побуждает с волнением задумываться над тем: способен ли человеческий организм выдерживать все возрастающую информационную нагрузку? Научимся ли извлекать из нее действительно нужное и с необходимой скоростью? И избавимся ли от помех «информационного шума»? Что из этого оставлять в базе образования - обязательного и специального? К этим остро обсуждаемым ныне проблемам привлекается все больше и внимание историков. Тем более что именно сейчас, «на сломе веков» (как называют наше время журналисты), наблюдаем новый подход к самим приемам выявления, извлечения и использования информации (и исторической тоже). Иным становится и первичное восприятие ее. Все предыдущие поколения историков и тех, кто проявлял интерес к истории, для кого пред
назначались труды историков, воспитаны были на убеждении в том, что главный источник знания - книга. Образование получали по преимуществу читая, мыслить учились в общении с книгой, возвращаясь к только что или ранее прочитанному, подчеркивая, выписывая кажущееся особо важным. Теперь «изобразительный ряд» зачастую заменяет слово или сопутствует ему, телеэкран вытесняет книгу уже в период начального обучения. Новые технологии сохранения и извлечения информации (в том числе и собственно исторического содержания) еще не во всем и явно не для всех согласуются с приемами обращения к книге, привычными, понятными в общении разных поколений.
Создание благоприятного соотношения многовековой книжной традиции освоения и развития культуры с современными достижениями образовательной технологии - одна из важнейших и волнующих проблем рубежа тысячелетий. От этого во многом зависит если не судьба культуры, то ее облик в будущем. Хочется думать, что потребность в познании прошлого и его взаимосвязей с настоящим в генофонде человечества, и об истории будут размышлять и в грядущем тысячелетии.
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ
Источниковедение в системе гуманитарных и естественных наук
Признателен за то, что мне выпала честь первым выступить в день вашего юбилея сразу вслед за ректором университета. Прежде всего, хочется поздравить вас и выразить признательность за вклад, внесенный факультетом в развитие науки и просвещения. Занятия, предопределяющиеся, так сказать, моим должностным положением, позволяют, пожалуй, с особой очевидностью ощущать это. Как профессор с пятидесятилетним стажем Московского историко-архивного института, на основе которого образовался первый в нашей стране Российский гуманитарный университет -РГГУ (возглавляемый Ю.Н. Афанасьевым), знаю о давних контактах этого института с вашим университетом: в Свердловске становились аспирантами наши выпускники, и едва ли не первым -мой дипломник С.Б. Филимонов, ныне доктор наук, профессор Симферопольского университета, общепризнанный специалист по истории отечественного краеведения. В Историко-архивном институте стажировались ваши студенты, а один из организаторов этой конференции - Дмитрий Редин - был и активным участником заседаний руководимого мною уже почти 50 лет научного студенческого кружка источниковедения. И самое важное: именно в вашем университете возникла кафедра архивоведения, во главе которой - хорошо известный в Москве профессор А.В. Черноухов.
Заметную роль в подъеме археографической работы в России сыграли археографы Урала, в первые годы - Уральское отделение Археографической комиссии РАН, председателем которой являюсь уже более тридцати лет. Очень результативными были университетские археографические экспедиции; создана первая в стране археографическая лаборатория; подготовлены выпуски Уральского археографического ежегодника под редакцией А.Г. Козлова, документальные публикации, докторские и кандидатские диссертации о традиционной культуре россиян, начиная с
Впервые опубл.: Источниковедение в системе гуманитарных и естественных наук // Историческая наука на рубеже веков: Ст. и материалы науч. конф. Екатеринбург, 2000. С. 4-12.
диссертации Р.Г. Пихои «Общественно-политическая мысль трудящихся Урала XVIII в.».
В связи с изучением этой проблематики я побывал первый раз в вашем городе, где состоялся международный семинар «Проблемы изучения и издания памятников письменности позднего Средневековья», в мае 1990 г. Это была демонстрация достижений нашей науки и прежде всего сделанного на Урале в 1970-1980-е годы. Встреча имела специфический и очень приятный международный резонанс и потому, что иностранцы были очарованы естественностью поведения молодых археографов У рала, их подкупающим гостеприимством. Эта была первая в Свердловске научная конференция с участием иностранцев; и не общавшиеся прежде с ними и, соответственно, не получавшие предостерегающих указаний об особенностях подобного общения молодые люди круга Р.Г. Пихои оставались самими собой, даже исполняли шутливый экспедиционный фольклор. На обратном пути в самолете иностранцы это особо отмечали.
Научная работа уральцев в плане изучения нашего культурного наследия, памятников письменности и фольклора, вещественных источников, реликтов в каждодневном поведении и в быту, привлекающих особое внимание и этнографов, многообразна и поучительна. И отрадно, что в ней все большее и научно результативное участие принимает молодежь, причем еще в студенческие годы, - это славная традиция вашего университета. Именно в Екатеринбурге развернута и столь масштабная программа изучения народной генеалогии и ее Источниковой базы (о чем писал вологодский профессор и руководитель Северного отделения Археографической комиссии П.А. Колесников). Проводимое А.Г. Мосиным исследование и его методика - пример для всей России; и выступления его с докладами в Пензе на Всероссийской конференции о культуре российской провинции, в Москве (и в Археографической комиссии, и перед молодежной аудиторией в Историко-архивном институте) вызвали не только признательный интерес, но и стремление следовать такому почину. Изучение своего рода, местности проживания предков - основа развития краеведения, распространения исторических знаний в среде широкой общественности.
На Урале и в Приуралье давние и всероссийски признанные краеведные традиции. Первым получил звание члена-корреспондента Академии наук в середине XVIII в. как раз краевед, автор трудов о Приуралье Петр Иванович Рынков, историк,
экономист, географ, писатель-просветитель. Для подъема научного уровня нашего краеведения и вовлечения в эту сферу деятельности местной интеллигенции на Урале и в Приуралье немало сделали еще в XIX в.; в советские годы, в первое «золотое» десятилетие нашего краеведения этому делу отдавали силы и писатель Бажов, и ученые в областях как естественных, так и гуманитарных наук. И сейчас, с возрождением краеведения после его разгрома на рубеже 1920-1930-х годов, Урал и Екатеринбург опять впереди - и в методике изучения своей истории (начиная от разработки тематики исторических игр до сложных приемов современной археографии и социальной психологии). И это тоже в сфере моих интересов - уже как председателя Союза краеведов России (кстати, оформившегося тоже на Урале, в Челябинске, в 1990 г.) и руководителя научной программы «Культура российской провинции XVIII-XX вв.». И понятно, что ученому моего возраста - а я стал студентом исторического факультета Московского университета в год основания вашего факультета - особенно приятно сознавать, что дорогие для меня и близкие моей душе занятия историей остаются притягательными и для тех, чье творчество развернется уже в следующем веке. А это, можно полагать, будет век возрастающего внимания к проблемам экологии и гуманитарных знаний.
Очень порадовало то, что такие весомые и добрые слова о важности гуманитарного знания и исторического образования нашел ректор вашего университета, не гуманитарий, а математик по своим профессиональным научным занятиям. Тем более что именно математик, и выдающийся математик, академик Фоменко привнес в наше время, прикрываясь видимостью наукообразности, противонаучное начало в изучение истории Древнего мира и Средних веков, намного укоротив историю и нашей Родины. И это - увы! - вызвало доверчивый интерес у читающей публики, у тех, кто принадлежит к разряду «образованщины», для которых возможности восприятия и применения научной методики ограничиваются лишь узкой областью их профессиональной специализации. Меня трудно обвинить в нелюбви к математикам: отец мой - основатель кафедры алгебры в Московском университете; его именем названа одна из теорем, и он до того, как его избрали академиком за заслуги в науке географии как организатора и руководителя экспедиций, осваивавших Арктику, был уже членом-корреспондентом Академии наук по отделению математики. По моему предложению была подготовлена статья о применении математико-статистических методов в исторических
исследованиях в готовившийся по моей инициативе и под моей редакцией сборник статей «Источниковедение. Теоретические и методические проблемы», изданный еще в 1969 г. И мне приходилось не раз писать и говорить о том, что все более возрастающее взаимопроникновение методик гуманитарных и иных наук, использование математических методов существенно расширили возможности исторических исследований, обогатили их выводы и наблюдения. Но данные, извлекаемые приемами математической науки, должно рассматривать в совокупности со всеми другими данными о прошлом, добытыми и иными путями, и выяснить источниковедческую основательность той базы (и прежде всего собственно исторической), на которую опираются эти сведения, и не упускать из виду то, что обществоведение есть прежде всего человековедение.
Опорой обществоведения являются исторические знания. Знания эти - в фундаменте и системы нашей информации, и системы нашего мышления; они занимают первенствующее положение в мире культуры. Ибо в основе всякого знания лежит исторический опыт - опыт наблюдений, отбора, способности усвоения, запоминания, воспроизведения. Это опыт и свой личный, и иной. Физиолог И.М. Сеченов полагал, что усваивать что-либо - это соединять продукты чужого опыта с показаниями собственного. А чужой опыт - это опыт не только современников, но и опыт прошлого, так как в основе культуры - память. Опираясь на все доступное нам многообразие такого опыта, на возникающие при этом ассоциации, ощущения, мы познаем отличительные черты явлений и их новизну, а тем самым и общее, и особенное.
Это определяет и сравнительный подход к явлениям и их оценке: больше или меньше? лучше или хуже? по-новому или как всегда? (потому-то, наверное, так прижился афоризм Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда»). Это относится к соображениям и о погоде, и об урожае, и о поведении человека и его внешнем облике, и о ценах, и о масштабах производства, и к оценкам произведений искусства, научного творчества, мастерства спортсменов (достижение, сохранение прежнего уровня или отставание?); к сферам и повседневности, и политики, и «высоких материй», к явлениям природы и общественной жизни.
Мы все и во всем исходим из нашего опыта - опыта личного и являющегося общим достоянием, опыта прошлого и современности, опыта познания, освоения и оценки бывшего до нас, навыков его использования. Историзм мышления, пусть даже в
самом примитивном виде, свойственен, таким образом, всем людям. Хотя это далеко не всеми осознается и тем более используется в собственно научных целях (познания прошлого, взаимосвязи прошлого и настоящего, воздействия прошлого на настоящее и последствий этого).
Особенно важно отметить, что собственно исторические представления в основе нашего общественного сознания, следовательно, и этических и эстетических представлений и всего того, что относится к сфере мифологии, религии, понятий о развитии научных знаний.
Понятно, что исторический опыт - это результат и испытанного, ощущавшегося нами самими, и увиденного и услышанного нами, т. е. тоже вызвавшего у нас непосредственные ощущения на стыке с физиологическими, но также и узнанного из литературы и путем ознакомления с памятниками истории и культуры. И чем образованнее человек, тем шире круг его ассоциаций, восходящих к художественной и научной литературе, произведениям искусства. Культурный кругозор в наше время - всегда и историко-культурный кругозор.
Это находит для всех очевидное отражение в разговорной (и литературной) речи. А язык - важнейшее средство человеческого общения, хранитель и передатчик социальной информации. Некоторые слова конкретно-исторического происхождения обрели значение терминов, слов-символов. Так, имя первооткрывателя Америки в конце XV в. Колумба стало восприниматься как символ первооткрывателя вообще: Ломоносов писал о «Колумбах рос-ских», осваивавших Северный Ледовитый океан; Пушкин назвал Колумбом историографа Карамзина, открывшего своей «Историей государства Российского» россиянам их прошлое. Колумбом космоса именуют Юрия Гагарина. «Опричниками» или «царскими опричниками», напоминая об эпохе Ивана Грозного, назвали в начале XX в. карателей революционных выступлений в России. «Вандалы» - наименование в середине I тысячелетия воинственных племенных объединений, уничтожавших в борьбе с Римской империей многие памятники античной культуры. Теперь слово «вандализм» стало обобщающего типа обозначением бессмысленного и жестокого уничтожения культурного наследия. Имя древнеримского покровителя культуры Мецената нарицательно трансформировалось в употребляемые ныне слова «меценат», «меценатство» и т. д. Наблюдается такого же рода воздействие на наши общественное сознание и язык слов и из сферы мифологии,
художественной литературы: «одиссея» обозначает странствия, причем обычно нелегкие; «ахиллесова пята» - уязвимое место; «Ментор» - имя учителя, наставника сына Одиссея Телемака: отсюда - «менторство», «менторский тон». Это пришло к нам из Древней Греции, от странствующего слепого песнотворца Гомера, которому приписывают авторство и «Илиады», и «Одиссеи». Или библейский Иуда в нашем языке - символ предателя (отсюда и «Иудушка Головлев» Салтыкова-Щедрина, и определение «Иудушка» применительно к политическим деятелям, и выражение «Иудин поцелуй»), «Митрофанушка» из фонвизинского «Недоросля» как символ ленивого и недоброго неуча. «Дон-Жуан» символ любовника, даже любовника-соблазнителя во многих произведениях мировой литературы («донжуанство» как склонность к любовным приключениям; отсюда - «донжуанский список» в биографии Пушкина); «принцесса на горошинке» из сказки Андерсена и др. В наши дни наблюдаем, какое распространение именно как термин-символ получает слово «папарацци». Так, по герою кинофильма, назвали журналиста-фотографа, преследовавшего в Париже автомобиль английской принцессы Дианы, что привело к ее гибели. И подобные примеры можно множить.
Следует иметь в виду, что именно исторические ( или точнее -историко-культурные) представления воплощают и взаимосвязь поколений, и типологию социокультурных понятий у различных социумов и этнических обществ. Причем исконно на всех социокультурных уровнях: и при обращении к научным знаниям, и при опоре на обычаи и устные предания. Носителем этого начала выступают и матери, призванные не только продолжать род человеческий, но и внушать ребенку первичные представления об историческом опыте. Напомним и об осуждающей направленности народного определения «Иван, не помнящий родства».
Таким образом, повторяю, осознание связи времен и развития явлений во времени, унаследованности многого и предопределенный этим собственно исторический подход к явлениям - в фундаменте самой системы нашего мышления. А это обусловливает потребность узнать, насколько основательны эти собственно исторические представления: достоверны ли? полны ли? отражают типичное или случайное? (в языке науки для этого употребляют термин «репрезентативность», т. е. представительность, показательность каких-либо наблюдений), каково их происхождение? как давно возникли, оформились? каковы приемы выявления, извлечения этих данных? проверки степени их состоятельности? как
оценивать их? в какой мере допустимо использовать в своей мыслительной конструкции или в практической деятельности? и т. д. При этом, конечно, подавляющее большинство людей специально не размышляет об этом, тем более не вдается в терминологические рассуждения, а действует автоматически, руководствуясь своим жизненным опытом (т. е., повторяю, опытом и личным, и современников, и предшественников). Это как бы само собой укоренилось в нашем образе мышления и в поведении, воспринимается как естественная составная нашего мыслительного инстинкта, нашего генофонда.
А ведь эти задачи схожи с теми, которые ставит себе историк при обращении к историческим источникам. Следовательно, историческому подходу во всем в той или иной мере сопутствует и собственно источниковедческий подход, хотя почти никто из использующих этот подход повседневно не подозревает о существовании науки «источниковедение» и понятия «исторический источник» в нашем научном толковании. Определенные элементы собственно источниковедения обнаруживаются при выявлении, извлечении, использовании и истолковании всякой информации. Особенно это заметно в процессе обучения чему-либо, следовательно, и обучения по программам средней школы, является приемом, а обычно и обязательной составной частью объяснений обучающего.
Между тем в практике обучения истории, и тем паче в методических установках программы преподавания истории, это зачастую в должной мере не подчеркивается (и - увы! - даже в программах вузовских). А без этого не вовлечь в творческие занятия тех, кто склонен к самостоятельной мысли, проявляет интерес к методической и теоретической проблематике, обнаруживает способность к исследовательской работе. Школьный предмет «история» воспринимается нередко как отличающийся от других предметов (скажем, физики, математики) тем, что при обучении истории следует запоминать, а при обучении математике - соображать. И обидно, что «история» кажется такой школьникам в тот период их жизни, когда формируется личность и направленность профессиональных интересов и имеющие намерение получить высшее образование задумываются над тем, в каком вузе им начать студенческую жизнь.
В школьные годы в наибольшей мере раскрываются возможности самостоятельного подхода к выявлению и использованию источниковой базы исторического знания в сфере краеведческой проблематики. Ознакомление с прошлым и настоящим
своего края более доступно и более наглядно сравнительно с иной исторической (тем более историко-культурной) тематикой - более широкой в пространственных и хронологических рамках, а подчас и в традициях культуры иного типа. Краеведческие наблюдения помогают сверять свои соображения с отмечаемыми другими, причем и сверстниками, и лицами старших поколений, и аборигенами, и новоприходцами для данной местности. Это наталкивает на самостоятельные наблюдения (могущие стать иногда и открытиями или, во всяком случае, новыми подтверждениями ранее установленного).
А в основе краеведческих соображений, позволяющих выявить и оценить местные особенности, прежде всего то, что отражает взаимосвязь общества и природы, их взаимовлияние. Именно это явственно ощущается и в краеведческих музеях, где обычно имеются две экспозиции: о природе края и о его истории (точнее - об общественной жизни в прошлом и в настоящем). И экскурсоводы, и учителя (и истории, и словесности, и географии, и биологии) объясняют взаимообусловленность развития природы и общества и характерные именно для данного региона черты этого взаимодействия, отражение их в памятниках истории и культуры, в повседневном быте. При этом исходят из положений педагогической практики, обоснованных в России для обучения детей еще К.Д. Ушинским и Д.Д. Семеновым, в книгах которого по «отечествоведению» содержались сведения и о природе края, и о его историческом прошлом и современных условиях социальной жизни, и об особенностях родной речи.
Однако в вузовских учебных пособиях по источниковедению обычно обойдены вниманием источники познания истории природного происхождения, а в учебных пособиях по истории (особенно Нового и Новейшего времени) обычно не находят места для рассмотрения вопроса о взаимосвязи общества и природы, о воздействии и в период развития цивилизации природы на социокультурную жизнь человека и о роли человека (антропогенных и техногенных воздействий) в изменении природных условий. Тем самым усложняется восприятие преемственности направлений школьного и вузовского обучения и затрудняется возможность обращения к классификации исторических источников, допускающей универсальность ее применения в областях и исследовательской, и музейно-просветительской, и учебной работы.
Общеизвестно, что первоосновой всякого исторического исследования и любой формы популяризации исторических знаний,
ознакомления с ними в учебных целях являются исторические источники. Словосочетание «исторический источник» допускает неоднозначное понимание и истолкование: источник исторической информации и источник исторического происхождения. В моих работах термин «исторический источник» употребляется в первом смысле (при этом подразумеваются источники содержательной исторической информации, а не механизмы получения ее, которые тоже можно рассматривать как источники исторических знаний). И чтобы стало еще яснее, можно пользоваться термином «памятник» для обозначения источников исторического происхождения, так как все они - память о человеческой деятельности, следы, памятники материальной и духовной культуры человека во всем ее многообразии (от уникальных вершинных достижений до бесчисленных образцов каждодневного обихода).
Так как интерес к истории, и даже к занятиям историей, свойственен не только специализирующимся в этой области знания, то важно, чтобы основные понятия о том, что такое «исторический источник», каковы критерии генеральной (т. е. общей для всех видов и разновидностей исторических источников и всех уровней источниковедения) классификации их и какова возможная источниковая база при интересе к той или иной исторической теме, были доступны и учащимся и опирались на единые логические принципы.
И потому целесообразно первоначально ограничиться самым общим определением: «исторический источник», в соответствии со смыслом слова «источник» (причем не только в русском языке, но и в других, где схожие термины - die Quelle, la source -переводятся иногда и как «ключ», «родник»), есть все то, что источает или может источать информацию, полезную для историка. Подобно тому, как говорят «источник света», «источник тепла», «источник знаний», а это - источник исторической информации.
И хотя существует несколько уровней источниковедения со своими задачами, методикой, возможностями, арсеналом терминологии и задачи прикладного источниковедения существенно отличаются от задач (и, соответственно, терминологии) теоретического источниковедения, желательно пользоваться в первую очередь понятиями и терминологией, общей для всякого источниковедения (т. е. всех его уровней), и только затем переходить к более усложненным понятиям, рассчитанным на специалистов (историков и других гуманитариев). И именно такие доступные и понятные всем определения (дефиниции) должны быть в учебных
изданиях, предназначенных учителям средней школы (а следовательно, и в учебных пособиях для подготовки учителей), тем более интересующимся историей школьникам. Такой следует быть и терминологии просветительской литературы, рассчитанной на посетителей музеев, экскурсантов.
И потому полагаю важным, обращаясь к школьникам и к так называемой широкой публике, придерживаться наиболее элементарных понятий и терминов (указывая при этом литературу, важную для специалистов, где пользуются более усложненной терминологией, а сам исторический источник рассматривают как продукт культуры, феномен культуры, результат мысленной конструкции исследователя и т. д.), т. е. ограничиться первичным признаком (и функцией) исторического источника. Думается, что это способствует и выработке навыка находить и использовать для соображений собственно историко-источниковедческого плана оптимального многообразия информацию, обнаруживаемую во всех сферах знания и житейских наблюдениях. Об этом приходилось не раз выступать и устно и в печати (некоторые из статей последних десятилетий объединены в книге 1997 г. «Путь историка: избранные труды по источниковедению историографии») и совсем недавно тоже - в связи с изданием РГГУ в 1999 г. учебного пособия «Источниковедение».
Лишь малая часть источников информации о прошлом создавалась с целью сохранения памяти о чем-то или ком-то. Вот примеры таких как бы запрограммированных исторических источников: специально отмеченные места захоронений, памятники (и памятные доски) в честь выдающихся событий или лиц; песни и предания о подвигах (или злодеяниях, несчастьях); сочинения, написанные не только в назидание современникам, но и для ознакомления потомков (от летописей до современных мемуаров); все труды собственно исторической тематики; разнообразный изобразительный материал вплоть до непритязательных фотоснимков «на память». Все остальные лишь позднее и именно историком воспринимаются как позывные истории.
Подавляющее большинство источников информации о прошлом стало восприниматься как таковое лишь по мере развития исторических знаний и интереса к изучению определенной исторической тематики. Так, если в начальный период развития науки истории преимущественное внимание уделяли государственнополитической истории, то с середины XIX в. специально разрабатывались вопросы социальной и экономической истории,
истории культуры; ныне во всем мире стараются выявить данные о повседневной жизни обычных людей, их быте, семейных отношениях, манере поведения. Соответственно, меняются понятия об источниковой базе исторической науки, о шкале информативной ценности отдельных разновидностей источников: следы ткани на черепках, свидетельства о земледелии оказываются в этом смысле более ценными иногда, чем художественные изделия из дорогих металлов, а данные о численности, возрасте, занятиях, миграции населения более привлекательными для ученых, чем запоминающиеся изречения политических ораторов. С углублением обоснований взаимосвязи развития общества и природы - особенно когда проблемы экологии вызывают во всем мире интерес и широкой общественности, и политиков - все яснее становится необходимость обращения к природным явлениям для познания социальных явлений и в прошлом, и в настоящем, и прогнозируя будущее; и все более важными и для историков представляются сведения о полезных ископаемых, климате, окружающем человека животном мире, об эпидемиях и среднем возрасте человеческой жизни в тот или иной период, о темпах и особенностях расширения сферы социально охваченной природы, изменении карты расселения людей - круг потенциальных исторических источников безграничен.
Потому-то историческим источником, т. е. источником конкретной информации о прошлом и настоящем (которое завтра тоже будет казаться прошлым) для историка, могут быть не только результаты целенаправленной деятельности человека (т. е. памятники материальной и духовной культуры), хотя именно такие источники собственно исторического происхождения составляют основной массив исторических источников и выявляются и изучаются методами именно исторических наук.
Историческими источниками становятся и природные явления (причем не только на Земле, но и в космосе), и биопсихофи-зические свойства самого человека, во многом предопределяющие и объясняющие деятельность и общества в целом, и отдельных социумов, и индивидов. Специалисты по истории первобытного общества (а ведь это наиболее длительный период в истории человечества!) относят к историческим источникам - даже в учебных пособиях (недавно считавшихся обязательными для всех исторических факультетов) - и явления природы. Кстати, такое представление опирается не только на житейский опыт человека (а следовательно, его здравый смысл), практику школьного пре
подавания (учитывающего и пути восприятия школьником новых знаний, явлений окружающего мира и узнанного из книг и современных средств массовой информации - ныне в первую очередь через зрительный ряд телевизионного экрана), но и восходит к традициям отечественной исторической науки. Географическому фактору отечественные историки, начиная с основателя вашего города, зодчего многих наук В.Н. Татищева, придавали большое (иногда даже ведущее) значение и в масштабных исторических построениях (особенно это было присуще С.М. Соловьеву), и в исследованиях конкретной тематики (прежде всего краеведческой); мастерами высокого класса в этих смежных областях научных знаний были профессора Историко-архивного института М.Н. Тихомиров, А.И. Андреев, В.К. Яцунский.
В распространенных классификациях исторических источников, ограничивающих их круг продуктами человеческой деятельности, не склонны учитывать даже те природные явления, которые являются результатом действий человека, т. е. естественно-географические источники собственно исторического происхождения: искусственно созданные водоемы, лесонасаждения, культивированные ландшафты, прирученные животные, выведенные человеком новые породы животных и виды растений и т. д. Совершенно очевидно, что это источники исторического происхождения, и необходимо найти им место и наименования в классификациях исторических источников (допустимы определения: «социоестественные», «геосоциальные» и «биосоциальные»). Они относятся к нашему культурному и природному наследию.
В целом весь массив источников исторической информации можно разделить на два класса: а) источники, являющиеся результатом целенаправленной социальной деятельности, и б) источники, существующие независимо от этой деятельности. Понятно, что интересы историка прежде всего сосредоточены на источниках первого класса, и именно при их изучении историк может использовать выработанный исторической и другими гуманитарными науками арсенал технологических исследовательских методик. Обращаясь к изучению информации второго класса, историк должен опираться уже на достижения естественных наук и доверять выводам специалистов в сфере этих наук. Лишь очень немногие историки в какой-то мере подготовлены к тому, чтобы самостоятельно пользоваться методикой и этих наук.
Однако без обращения к источникам неисторического происхождения не всегда возможно познать ход исторического про-
цесса, т. е. пути развития человеческого общества, во всем его многообразии. Следовательно, историческими источниками приходится признавать не только то, что отражает исторический процесс, но и то, что помогает и объясняет его особенности. Общество и природа неотделимы.
И в этом собственно источниковедчески-историческом плане допустимо как бы раздельно рассматривать проблемы воздействия природы на общество и общества на природу. Учитывая при этом, что взаимодействие общества и природы не оставалось неизменным: постепенно увеличивались и возможности использования человеком природных ресурсов и защиты его от природных бедствий и в то же время менялись формы и последствия воздействия человека на природу.
Еще в первой четверти XX в. А.Л. Чижевский установил закономерности, по своему характеру естественно-исторические, свидетельствующие о влиянии солнечной активности на общественную жизнь, - прежде всего - обусловленные этим природные катаклизмы (землетрясения, наводнения, эпидемии) и резкое общественное возбуждение, характерное для времени революционных ситуаций. На эти наблюдения ссылаются в обобщающего типа коллективном труде об истории и ее методах, изданном в Париже в 1961 г. в знаменитой серии «Энциклопедии Плеяды».
Примеры влияния на ход истории природных бедствий общеизвестны, так же как и значение их результатов для развития исторических знаний и методик исследований (именно раскопки погребенных в результате извержения вулкана Везувия Помпей и других городов позволили изучать повседневный образ жизни Римской империи).
Ясно и то, что основные занятия населения земледелием, скотоводством, рыболовством и т. д. предопределяются природой местности; и все это влияет на культурный кругозор, отражено в народных преданиях и поверьях. Природные условия (наличие водных путей, залежи полезных ископаемых и т. д.) многое объясняют и в государственно-политической истории. Географическая среда оказывает большое влияние на психологию, формирование трудовых и воинских навыков, обычаев и вкусовых предпочтений, от нее зависит календарь сельскохозяйственных работ. Природные особенности нашли заметное отражение в фольклоре, 6 устной речи, позднее - в художественной литературе и искусстве.
Все более ощутимы и результаты воздействия человека на природу. А теперь уже и пагубность и для самого человека много
го из того, что он сделал: сильно изменен облик природы (особенно в Европе и Северной Америке), истреблены многие животные и растения (напомним о «красных книгах»), истощены водные источники и залежи ископаемых, природа опасно загрязнена. О внесенных человеком изменениях в природу - причем особенно интенсивно и недальновидно в последние столетия - напоминают наши обычаи, наш язык и прежде всего топонимика, когда в названиях сохраняются утраченные природные особенности (например, улиц Садовых и Лесных там, где давно утвердилась губительная для природы урбанизация). А топонимика облегчила, к примеру, великому почвоведу Докучаеву составление карты распространения почв в Восточной Европе: наименования «Вишенки», «Дубки» и др. становились для ученого историческим ориентиром в его изысканиях.
Существенно важны для историка и сведения о биофизикопсихических свойствах людей - и больших сообществ, и отдельных личностей (государственных деятелей, писателей, художников и т. д.); их индивидуальные особенности (характер, состояние психики, врожденные физические аномалии) нередко помогают объяснению важных исторических обстоятельств.
Полезность, даже необходимость обращения историков к естественным наукам российские историки обосновали еще в середине XIX в. Знаменитый московский профессор Т.Н. Грановский писал: «История по необходимости должна выступить из круга наук филолого-юридических, в которых она долго была заключена, на обширное поприще естественных наук». Тем более это важно для источниковедения.
Источники познания истории выявляются не только в хранилищах памятников истории и культуры - архивах, музеях, библиотеках. Они и в окружающей нас среде - общественной и природной, в разговорной речи нашей, в нашем организме. История и вокруг нас, и в нас самих. И нужно овладеть умением и искусством обнаруживать и использовать такую историческую информацию. Это одна из главных и увлекательных задач ученых грядущего века. У вас, молодых, впереди интереснейшая творческая работа. Больших вам свершений и творческой радости.
Историческая антропология оформилась в устойчивое направление гуманитарной науки тогда, когда произошли определенные изменения и в общественно-историческом сознании, и в представлениях о предметах наук и их информационных возможностях.
Это - следствие прежде всего общесоциологических изменений, утверждения понятий о том, что историю нельзя сводить к государственно-политической, а государственно-политическую -к деятельности выдающихся личностей и событиям особо выдающегося значения, так же как историю культуры - к изучению создания и функционирования особенно выдающихся памятников культуры.
К пониманию роли народных масс в истории, к познанию важности исследования социально-экономических явлений в прошлом и значения не только духовной, но и материальной культуры стали приходить еще в XIX столетии. Тогда, же ощутимо развивается интерес и к изучению микроистории, к локальной истории, семейной истории, истории быта, фольклору. Без этого не смогла бы зародиться историческая антропология. Выявление ее предыстории - задача историографа. В России историографическим источником такой работы могут стать труды не только собственно историков, но и правоведов, этнографов, краеведов, а также и произведения, относимые обычно к сфере художественной литературы и публицистики.
Но лишь ко второй половине XX столетия утвердилось представление об особой важности истории повседневности не только для этнографического изучения отсталых народов, стали осознанными пути развития исторических знаний на стыках с другими гуманитарными науками и психологией, обнаружились линии взаимопроникновения гуманитарных и естественных наук.
Это и предопределило формирование самостоятельных задач исторической антропологии как науки о восприятии в разные эпохи и в разных социальных стратах окружающего мира
Впервые опубл.: К изучению источниковой базы трудов по исторической антропологии // Историческая антропология: место в системе социальных наук, источники и методы интерпретации: Тез. докл. и сообщений науч. конф. / Отв. ред. О.М. Медушевская. М., 1998. С. 31-32.
(и природы, и общества, причем и в настоящем, и прошлом) и самого человека, о своеобразии групповых поведенческих норм и их системы символов, о специфике психологических реакций (в том числе и таких, которые высвечивают сокрытое). Причем подобное сознание в той или иной мере обнаруживается на разных, конечно, уровнях (чаще еще не на теоретическом) в трудах и методологов исторической науки, и ее практиков-методистов (в частности, в программе и методике работы краеведов).
К выполнению подобных задач ученые были в определенной мере подготовлены изучением и комментированием разного типа исторических источников - и близкого времени, и отдаленных эпох. Выяснение роли исторического источниковедения в становлении исторической антропологии в целом и в творческой биографии ее классиков - важная задача историографа.
Не менее существенная задача - установление роли памятников художественной литературы (и науки об их изучении) и памятников изобразительного искусства (и науки об их изучении) в становлении источниковой базы исторической антропологии и ее методических основ.
Для Нового и Новейшего времени с распространением массовых исторических источников возможно уже в достаточно широком плане сравнительное изучение традиционных исторических источников и памятников художественной литературы (и публицистики) и выработка нормативов такого исследования. Это можно проследить, обращаясь к памятникам русской художественной литературы и изобразительного искусства XVIII-XX вв. и к современным средствам массовой информации.
Конференции, организуемые кафедрой источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ и проводимые обычно в дни зимних студенческих каникул, стали доброй традицией Российского государственного гуманитарного университета. Эта конференция посвящена приближающемуся 60-летию кафедры, и понятно, что должно обратить особое внимание на традиции и результаты деятельности кафедры. Мне говорить об этом тем более приятно, что в феврале 1999 г. исполняется 50 лет моей работы в Историко-архивном институте, и начинал я на кафедре, тогда возглавлявшейся А.И. Андреевым. В то же время уже более сорока лет имею местом основной работы Академию наук и в повседневных делах кафедры, даже в ее заседаниях, принимаю все меньшее участие и могу судить об этом как бы со стороны.
Деятельность кафедры, ее инициативы вызывают в последние годы все больший интерес не только в Москве, но и у специалистов других городов России, а также зарубежья. Благодаря действенной поддержке руководства РГГУ удалось организовать уже одиннадцатую представительную конференцию широкой и одновременно неизменно актуальной проблематики на стыке наук. Работа конференций находит отражение и воплощение в издании книг, где статьям с постановкой важных вопросов исторического познания (среди авторов, как правило, О.М. Медушевская, а также В. А. Муравьев) и преподавания специальных (или, как еще их называют, вспомогательных) исторических дисциплин сопутствуют исследования частной тематики. Там рядом с текстами докладов видных ученых старших поколений напечатаны и первые труды начинающих исследователей (аспирантов и даже студентов), и такие издания становятся для них путевкой в большую науку - это также давняя традиция кафедры, способствовавшей еще 40 лет назад публикации сборников статей участников кафедрального студенческого научного кружка источниковедения, приближающегося ныне уже к 50-летию своей деятельности; в сборниках опу-
Впервые опубл.: Традиции «точности» источниковедческого знания // Точное гуманитарное знание: традиции, проблемы, методы, результаты: Тез. докл. и сообщений науч. конф. Москва, 4-6 февр. 1999 г. / Отв. ред. В.А. Муравьев. М„ 1999. С. 23-32.)
бликованы первые печатные труды и нынешних преподавателей. Достойно характеризует кафедру и то, что почитают своим долгом сохранять память об ушедших из жизни преподавателях и их научном наследии. Положил почин этому заведовавший кафедрой в 1986-1990 гг. А.Л. Станиславский, начавший вместе с Л.Н. Про-стоволосовой изучать - с использованием преимущественно архивных материалов - историю кафедры. Об основателе кафедры А.Н. Сперанском подготовили работы и те, кто непосредственно учились у него (Е.И. Каменцева), и защищающий диплом в 1999 г. А.В. Мельников (статья его «Неизданная работа А.Н. Сперанского об исторической науке в Московском университете» напечатана в «Археографическом ежегоднике за 1997 год»). Чтениями памяти профессоров кафедры А.И. Андреева, В.К. Яцунского, Е.А. Луцкого, А.А. Зимина, А.Л. Станиславского, В.Б. Кобрина были некоторые из упомянутых уже ежегодных научных конференций.
Если ограничиться только сферой источниковедения, то отметим издание выдающегося научного значения книг по истории и теории отечественного и зарубежного источниковедения О.М. Медушевской (своеобразной формы: они одновременно и монографии, и учебные пособия), новаторского, яркого по подаче материала курса лекций по источниковедению истории советского общества В.В. Кабанова, книги С.М. Каштанова «Актовая археография», подготовленной в Академии наук, но в большой мере отражающей опыт преподавания в ИАИ. Эта монография -исследование международного класса, опирающееся на многолетние выводы и наблюдения отечественной и зарубежной науки, и в то же время - итог работы такой проблематики, начатой автором на нашей кафедре еще в студенческие годы (в изданном в 1997 г. Академией наук сборнике статей в честь члена-корреспондента РАН С.М. Каштанова «У источника» помещена и заметка моя -тогда доцента - для стенгазеты Историко-архивного института 1954 г., озаглавленная «Вместо диплома - диссертация»). Недавно издано подготовленное преподавателями кафедры И.Н. Данилевским, В.В. Кабановым, О.М. Медушевской, М.Ф. Румянцевой новаторское учебное пособие «Источниковедение». Под научным Руководством О.М. Медушевской готовится к печати научное наследие А.С. Лаппо-Данилевского, концепция которого лежит в основе этого учебного пособия, - полный текст «Методологии истории» (в личном фонде ученого выявлены ранее не публиковавшиеся материалы).
Как председатель Археографической комиссии РАН -научно-проблемного совета по археографии, архивоведению и
смежным историко-филологическим дисциплинам (немалое время координировавшего работу и в области источниковедения, и теперь - с реструктуризацией РАН и прекращением существования научного совета по историографии и источниковедению по постановлению Президиума РАН от 26 января 1999 г. - видимо, возобновляющего такого рода координацию) - имею основание утверждать, что кафедра занимает лидирующее положение в России в организации учебной и научной работы в этих областях знания (здесь особо ощутимо сделанное Е.И. Каменцевой, в частности Геральдический семинар, который действует при кафедре под ее научным руководством уже несколько лет) и в сфере соприкосновения теоретического источниковедения, историографии и теории познания истории. Показателями такого статуса кафедры в общественном мнении являются и участие ее преподавателей (от заведующего кафедрой до молодого еще Р.Б. Казакова) во многих научных конференциях и заседаниях в учреждениях Академии наук и архивных учреждениях, в других вузах и привлечение к преподаванию сотрудников Академии наук. Все это имеет немалое значение для развития современной исторической науки и утверждения в общественном сознании представления о заметном месте нашего первого в России гуманитарного университета в мире гуманитарных наук.
Полагал важным отметить все это и потому, что нынешней зимой в Издательском центре РГГУ подготовили к печати привлекательный по оформлению первый том «Русского исторического журнала». Это журнал Института русской истории РГГУ, запрограммировавшего научно-перспективные новаторские по духу исследования и начавшего публикацию материалов такой проблематики. В книге много интересного, свежего, нужного специалисту и в то же время могущего побудить к интенсивному научному творчеству молодежь. Там достаточно убедительно показана несостоятельность некоторых расхожих положений нашей исторической мысли, обосновывается значение науки истории теоретической направленности, справедливо отмечается забвение интереса к теории у специалистов, изучающих прошлое и настоящее России, формулируется представление о россиеведении (это более детально сделано во втором и третьем выпусках издающихся ИНИОН РАН проблемно-тематических сборников «Политическая наука» за 1997 г.).
И такой подход (независимо от согласия или несогласия с конкретными положениями о ходе российской истории и харак
теристикой отдельных ее явлений) следовало бы приветствовать, если бы не встретилось и то, что крайне настораживает. Даже если написано в публицистическом запале, имитируя стиль лихости изложения газеты «Московский комсомолец», даже если предположить, что соображения эти относятся лишь к ситуации прошедшего периода навязчивого господства догмы марксизма-ленинизма. В передовой статье Ю.С. Пивоварова и А.И. Фурсова «О нынешней ситуации и проблемах изучения русской истории (на путях к россиеведению)» читаем (с. 18): «Для части советских историков - это видно по работам - необязательность теоретизировать становилась элементом интеллектуального комфорта (как для лентяя отказ от утренней гимнастики), ведь значительно проще читать летописи, заниматься “исторической физикой”, объявив метафизику, теорию чем-то от лукавого. Бедняги! Они так и не поняли: как математика начинается там, где кончаются цифры (А. Эйнштейн), так и история как наука начинается там, где кончаются хроника, летопись. История по определению предполагает теорию, детеоретизация истории есть ее деисторизация, превращение во вспомогательную дисциплину вроде архивисти-ки, фалеристики или нумизматики. Последние - важные, нужные и уважаемые нами отрасли знания, но они не суть история ни как предмет, ни как дисциплина. Архивизация истории есть ее убийство как особой науки.
История как предмет - это общественные процессы во времени (прошлом, настоящем и будущем). История как дисциплина, и это принципиальное положение нашей научной программы, есть осмысление, объяснение и описание развития социальных субъектов и социальных систем различных типов, имеющихся в этих системах структур, процессов и явлений. Историю нельзя противопоставлять социальному знанию, следует говорить о социально-исторической науке».
Грустно читать такое в наши дни, хотя и небезлюбопытно как историографу, ибо напоминает (конечно, не словарем, явно отдающим образованностью конца нашего века) то, что писали адепты М.Н. Покровского 70 лет тому назад, когда в воинственном наступлении на традиционно-исторические представления провозгласили лозунг «С историей историю не сделать!» и вместо преподавания гражданской истории в средней школе было введено преподавание «обществоведения» (в рамках вульгаризаторской социологической схемы). Это привело к падению уровня и конкретных исторических знаний, и исторической мысли
в целом, незнанию даже элементарнейших приемов извлечения исторической информации, неуважению к памяти прошлого и повсеместному уничтожению памятников истории и культуры. Вспоминается фельетон И. Ильфа и Е. Петрова 1934 г. «Разговоры за чайным столом», где приведены ответы школьника, обучавшегося по принципам «школы» Покровского и Н.К. Крупской. На вопрос отца: «Кто была Екатерина Вторая?» тот отвечает: «Продукт» - «Как продукт?» - «Я сейчас вспомню, мы прорабатывали. Ага! Продукт эпохи нарастающего влияния торгового калита...» (Ильф И., Петров Е. Собр. соч. М., 1961. Т. 3. С. 34).
В статье обнаруживается смешение понятий о предметах «история» и «социология» и неосведомленность в истории развития источниковедения во взаимосвязи с теорией познания, что привело еще столетие назад к научным откровениям А.С. Лаппо-Данилевского и А.А. Шахматова, убедительно показавшего, что «читать летописи» отнюдь не просто. Незнакомы авторы, полагаю, и с современным состоянием отечественного источниковедения и, видимо, с изданиями кафедры РГГУ, о которых только что шла речь.
Уже давно признана обязательной формой работы историка - критика. Н.М. Карамзин декларировал это, обращаясь к широкому читателю, когда в «Письмах русского путешественника» утверждал, что «хорошей Российской историей» может быть только «писанная с философским умом, с критикой, с благородным красноречием». Задачей критики полагали (выражаясь языком современной науки) установление подлинности исторического источника и достоверности содержащейся в нем исторической информации.
Казалось бы, уже прочно утвердилось понимание того, что наука история - это комплекс наук, изучающих прошлое человечества, что в фундаменте исторических знаний лежит освоение Источниковой базы и методики изучения исторических источников. Все в большей мере становится очевидным многообразие форм научного знания и то, что в процессе развития научного знания теория и практика неотторжимо взаимосвязаны, а методология науки во многом предопределяется методикой. Потому-то в трудах по историографии отказываются от сведения истории исторической науки к рассмотрению лишь теоретической проблематики и концепций (широкомасштабных и широковещательных) и движения только общественно-политической мысли; и серьезное внимание уделяют тому, что порождено на стыках наук с исполь
зованием методики других научных дисциплин, приемам исследовательской работы (лаборатории), выявлению, изучению, публикации памятников истории. Укрепление творческих (а также и организационных) взаимосвязей собственно историков и архивистов - всемирная тенденция развития современной науки и общественного сознания. Странно, если у лиц, занимающих видное положение в иерархии исторической науки, иные представления о ее предмете и дисциплине.
Обидно будет, если, заприметив цитированные и подобные им хлесткие фразы, - как это было с указавшими мне на них молодыми людьми, только то в новом журнале и запомнившими (поскольку в наши дни СМИ направляют внимание преимущественно на «жареные факты», так же воспринимаются и научные тексты) -составят превратное представление о РГГУ и будут полагать: «Вот как думают в возникшем на основе Историко-архивного института афанасьевском университете, вот какова направленность его программы». И тем самым может быть нанесен урон престижу нашего университета. Как раз явным доказательством того, что отнюдь не подобные тенденции мышления «новоприходцев» определяют лицо РГГУ, является запланированная еще год назад наша научная конференция.
Конференция посвящена проблемам точности гуманитарного знания. А гарантом точности исторического знания в наибольшей мере является источниковедение. Источниковедение в основе «ремесла историка» (употребляю термин заголовка недо-писанной книги Марка Блока, героического ученого, имя которого носит Центр исторической антропологии РГГУ - один из соор-ганизаторов конференции). В годы господства социологической вульгаризации 1920-х годов именно источниковеды-архивисты и музейные работники сохранили традиции «ремесла» науки. С.Ф. Платонов даже намерен был образовать на базе возглавляемой им Археографической комиссии академический институт по русской археографии и источниковедению (что только усилило стремление Покровского расправиться с ним). И когда стало это возможно, А.Н. Сперанский и А.И. Андреев именно на нашей кафедре пытались следовать этой традиции, приобщать к ней молодых преподавателей, аспирантов и студентов.
В заголовке доклада слово «точность» в кавычках. Подобным образом выделяют либо прямую речь, цитаты, заглавия, либо слова, употребленные в ироническом или условном, несобственном смысле (так объясняется это в академическом четырехтом
ном Словаре русского языка). В заголовке обращается внимание на условность такого слововыражения в данном контексте. Тем самым уже подразумевается вопрос: можно ли применительно к источниковедческому знанию использовать это слово, это понятие в общепринятом значении? Ведь в языковом обиходе точными науками называют те, которые основаны на математике. А в технологии работы историка-источниковеда обращение к данным математики и к ее методам ограниченно. Немыслимо, как в естественных науках, провести эксперимент, тем более предсказать явление (вычислить его, как в астрономии). И все-таки применительно и к гуманитарным наукам употребляют слово «точность».
Язык науки требует четкости. Это условие взаимопонимания. А в нашем языке многие слова имеют не одно значение; да к тому же для русского языка характерна метафоричность. Следовательно, при использовании слова-понятия «точность» в источниковедческих и - шире - вообще в исторических трудах должно уяснить (и себе, и для читателей и слушателей), в каком из значений оно употребляется в данном контексте.
В составленном С.И. Ожеговым однотомном «Словаре русского языка» отмечено два основных значения слова «точный»: «1. Показывающий что-нибудь в полном соответствии с действительностью, с образцом, совершенно верный (“точные” перевод, приборы, время, часы). 2. Действующий как должно, как задано, аккуратный (“Точное попадание в цель”)». При объяснении слова «точность» первое - отсылка к слову «точный» и второе - степень точного соответствия чему-нибудь («Вычислить с точностью до одной сотой», «В точности - совершенно верно, точно»). К научным знаниям может относиться, видимо, только первое значение слова «точный», к действиям ученого - и второе. В более пространном четырехтомном академическом «Словаре русского языка» приведено уже больше значений слова «точный»: «1. Полностью соответствующий действительности, истине, подлинный, правильный, показывающий что-либо в полном соответствии с действительностью. 2. Полностью соответствующий какому-либо образцу и чему-нибудь заданному, установленному, требуемому. 3. Конкретный, определенный и исчерпывающий, предельно полный и верный, не приблизительный, не общий (“Точные” учет, ответ, адрес, инструкции). 4. Аккуратный, пунктуальный. 5. Совсем такой, как кто-либо, что-либо, совершенный, настоящий (близко к этому: “Точь-в-точь”)». И там же о значениях слова «точность»
(1. Свойства по прилагательному «точный» в первых четырех значениях и 2. Степень точного соответствия чему-либо) и истолкование выражения «в точности» - «совершенно точно, без всяких отклонений».
Существенно обратить внимание на то, какие значения слова «точность» указаны в современном однотомном Большом энциклопедическом словаре. В технике - это степень приближения истинного значения параметра процесса, вещества, предмета к его номинальному значению. При измерениях - это характеристика измерения, отражающая степень близости его результатов к истинному значению измеряемой величины. Введено даже понятие «классы точности» для характеристики средств измерений и в механике для характеристики точности изготовления деталей (для характеристики точности изготовления изделия, определяющей значение допусков, употребляется и термин «квалитет», происходящий от латинского слова «qualitas» - «качество»). Наблюдения над использованием понятия в каких-либо отраслях знаний (и теории, и практики) особенно важны при подходе к другим отраслям знания.
Таким образом, понятие «точность» в сфере научного знания определяет степень соответствия образцам и явлений и приемов их обнаружения и истолкования. В то же время - это и знак качества, показатель определенности, меры полноты, степени приближенности к номинальному (нарицаемому истинным) образцу. Следовательно, можем говорить и о точности определения и понимания исторического явления, и о точности методики (лаборатории) его выявления и изучения. Можно говорить о точности постановки вопроса, формулирования и наименования задач работы (здесь опираются и на правила логического мышления), определения адресата работы и степени приближения к возможностям его восприятия, о точности употребления терминологии, цитирования и т. д. Несомненно, что эти положения распространяются и на гуманитарные знания. Но понятия эти динамичны и изменяются с расширением знаний и о самом предмете изучения, и о приемах этого изучения.
Если цель всякой науки - максимальное приближение к познанию научной истины, то перед историком стоит обычно еще и дополнительная задача: определение значения (позитивного и негативного) изучаемого им явления и в ходе исторического процесса, и для современников историка. Однако шкала таких оценок не остается неизменной, изменяясь в зависимости от уров
ня научных знаний (и меры их «точности») и от общественного мировоззрения. Относительную нейтральность от общественно-политического мировоззрения сохраняет как раз технология исследований в области источниковедения и смежных с ним (или, как некоторые полагают, являющихся составными звеньями его) специальных дисциплин.
Явно заметны разные степени точности таких знаний и технологических возможностей. Если большое доверие вызывают приемы выяснения времени получения документа по почтовому штемпелю, написания рукописи по водяным знакам (не ранее года выявления такой филиграни, зафиксированного в альбомах Н.П. Лихачева, Ш. Брике и др.), определения разновидности акта по типическим признакам формуляра, времени и места происхождения рукописи по особенностям почерка (ранее уже установленным), даже автора сочинения по характерным для него словам и словосочетаниям, стилистическим особенностям, то основные способы определения подлинности исторических источников, тем более достоверности содержащейся в них информации, представляются гораздо более далекими от точности.
Отмечено уже, что легче определить с должной точностью подлинность самого исторического источника (время и место создания его, авторство, отражение в нем взглядов каких-то общественных групп, культурных сообществ и др.), чем достоверность содержащейся в нем исторической информации.
Установление «классов точности» приемов внешней и внутренней критики источника является важнейшей задачей источниковедения. Но не его прерогативой. В наше время, в век «науки о науке», в лучших собственно исторических исследовательских трудах (посвященных и государственно-политической, и социально-экономической истории, и истории общественного сознания и культуры) источниковедческому аспекту исследования отводится значительное место, и это признается особым достоинством таких сочинений. Теперь серьезный читатель не удовлетворяется описанием и даже истолкованием исторических явлений (и не только событий государственно-политической истории) в труде ученого; он желает знать и степень источниковедческой основательности суждений историка - его источниковую базу, его приемы выявления и обработки исторической информации. Источниковедческая любознательность - знамение нашей эпохи. Она все в большей мере обнаруживается и у посетителей музеев и памятных мест. Показатели этого - включение подлинных
документов в произведения художественной литературы, в художественные кинофильмы, публикация документов прошлого в массовых изданиях, создание документальных кинофильмов и телепередач.
Это отражает не только ход (и особенности) развития исторических знаний, но изменения во всей системе накопления знаний - образовании. Ныне с детства приобщаются к знаниям, требующим не столько веры в аксиомы (т. е. положения, принимаемые без логических доказательств), сколько утверждений, устанавливаемых при помощи доказательств типа теорем и экспериментальной проверки. Потому-то, воспринимая в СМИ нарочито противоречивые мнения и слухи, обращаем особое внимание на степень доверия к первоисточнику таких данных, и все более популярной - и теперь уже не только в среде так называемых интеллектуалов - становится детективная литература. А ведь историк -всегда в какой-то мере Шерлок Холмс в выявлении, проверке достоверности и в истолковании первоисточников своих знаний, своей реконструкции явлений прошлого!
И потому необходимость овладения основным арсеналом источниковедческих знаний и навыков становится обязательным при обучении историков в высшей школе. Желательно знакомить с элементарнейшими из этих навыков и в средней школе, для чего наилучшей возможностью является работа в области краеведения (краеведение ныне включается в программы школьного обучения; даже стали издавать сборники сочинений школьников, научные в своей основе, демонстрирующие осваивание уже некоторых источниковедческих приемов).
Первые учебные пособия по источниковедению отечественной истории (точнее - о письменных памятниках нашей истории) были созданы еще в канун Великой Отечественной войны -и в основе их лекции именно в Историко-архивном институте М.Н. Тихомирова (до XIX в.) и С.А. Никитина (XIX в.). В послевоенные годы вышли новое переработанное издание книги М.Н. Тихомирова и учебные книги других авторов. Совсем недавно издано упоминавшееся уже мною новое учебное пособие «Источниковедение. Теория, история, метод. Источники российской истории», подготовленное преподавателями нашей кафедры. В отличие от предшествующих учебных пособий, рассчитанных на студентов исторической специализации (или даже только историков-архивистов), это предназначено, как отмечено на титульном листе, «для гуманитарных специальностей», что само по
себе не может не радовать - интересующиеся историей, тем более склонные к самостоятельным занятиям историей, должны иметь представление и об источниковой базе истории, и о приемах обращения к историческим источникам (хотя бы только к письменным). На нескольких факультетах РГГУ занятия (лекции) по источниковедению проводятся в тесной взаимосвязи с занятиями по другим специальным дисциплинам, исторической библиографией и исторической эвристикой. Это - уже определенная система подготовки молодых специалистов-гуманитариев.
Учебник 1998 г. - новаторский и по построению (большой имеющий самостоятельное значение теоретический раздел и в дополнение к нему и в развитие сформулированных там положений -разделы с выборочными данными об источниках российской истории XI-XVII вв., XVIII - начала XX в. и советского периода), и по своим исходным данным (исторический источник рассматривается прежде всего как общий объект гуманитарных наук и «системносвязанный носитель информации в науках о человеке»).
В аннотации к изданию достаточно ясно определено понимание авторами своих задач. Учебник, по их мнению, должен отвечать «новому статусу источниковедения в современной эпистемологической ситуации, характеризуемой усилением поли-методологизма, стремлением к гуманитаризации исторического знания, усилением интеграционных процессов». Указывается на то, что «в основе концепции книги - теоретическое осмысление того факта, что исторический источник (продукт культуры, объективизированный результат деятельности человека) выступает как единый объект разнообразных гуманитарных наук при разнообразии их предмета... Источниковедение рассматривается как интегрирующая дисциплина в системе гуманитарных наук». При этом в книге не раз подчеркивается новаторство подхода к пониманию предмета «источниковедение» и определения «исторический источник».
Учебник подготовлен на уровне современных теорий исторического познания и вообще эпистемологии (этот термин - от греческого «эпистеме» - знание - получает ныне все большее распространение) с плодотворным использованием опыта изучения источников по всеобщей истории (причем не одной разновидности) и историографического опыта мировой исторической науки. Убедительно - и путем рассуждений общего характера, и на примере обращения к источникам разных периодов истории - показаны интегрирующая роль источниковедения в системе гумани
тарных знаний и возможности обращения к методикам смежных наук при изучении собственно источниковедческих (и - шире -исторических) проблем.
Во введении подчеркнуто, что «современный учебник должен не только сообщать необходимую сумму знаний, но и формировать способность самостоятельной работы», для чего необходимы «четкость методологических позиций при одновременном освещении принципиальных вопросов в других научных парадигмах», «усиленное внимание к методике и технике источниковедческого исследования», «историографичность изложения» (с. 8). В этой книге действительно сумели отойти от однолинейности прежних учебных пособий и в идеологическом, и в эпистемологическом планах, стараются познакомить с самим процессом развития источниковедческих знаний, показать расширение представлений о предмете «источниковедение».
В первой части книги впервые применительно и к проблематике источниковедения, и к изучению хода исторического процесса в целом столь продуктивно использованы в общем контексте труды российских мыслителей начала XX в. и зарубежных мыслителей недавних десятилетий. Этот раздел пособия, написанный О.М. Медушевской, стоило бы, несколько расширив, издать отдельной книгой - и не только для учебных целей (для учебных целей уже издавались в РГГУ книги О.М. Медушевской «Источниковедение. Теория, история и метод» в 1996 г. и О.М. Медушевской и М.Ф. Румянцевой «Методология истории» в 1997 г.). Это компактное изложение современных представлений о методологии истории. Такое пособие было бы полезным и интересным и преподавателям, и учащимся вузов гуманитарного профиля, и интересующимся современным состоянием исторической мысли, современной методикой исторического исследования.
В разделах об источниках российской истории тоже немало нового (и в обобщающем плане, и конкретных наблюдений), особенно в первой главе о летописании Древней Руси, а также в главах о переводной литературе Древней Руси, о законодательстве XVIII-XIX вв., об эссеистике. А раздел об источниках советского периода в значительной своей части является сокращенным вариантом нового по отбору материала и методике его изучения лекционного курса того же автора, с добавлениям главы об актах, но, к сожалению, с выключением данных о «малоизвестных и редкоупотребляемых» источниках («самиздат», художественная литера-гУРа, фольклор, слухи), новаторской по тематике.
Хотя в последних абзацах введения оговаривается «неравномерность изложения материала» и обосновывается, чем руководствовались при этом, все-таки остаются ощущение недоумения и некоторое чувство досады. Учебник нового типа с четкой теоретико-познавательной направленностью и вышедший солидным для наших дней тиражом мог бы стать основным пособием для вузов исторического профиля и студентов-гуманитариев, интересующихся отечественной историей. Однако в книге обойдены вниманием классы исторических источников, подчас наиболее востребованные потребителями исторических знаний - следовательно, придется обращаться к иным учебным пособиям. Для всех периодов отечественной истории -это многообразные сочинения иностранцев, хотя ссылки на них неизменно встречаются в литературе и о прошлом, и о настоящем. И если даже не упоминать о примечаниях к «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина, то с первой книги В.О. Ключевского уже сформировался постоянный интерес к таким памятникам истории и культуры. Думается, что это материал выигрышный и для рассуждений об особенностях восприятия и отображения исторических реалий в источниках, о понятиях психологии («мы» и «они»), для ознакомления с имагологией - результатами, по существу, источниковедческих наблюдений на стыке с этнологией. При характеристике летописей и публицистики заметна (особенно в сравнении с изложением данных об источниках XI—XIII вв.) скороговорка при ознакомлении с памятниками XVI-XVII вв. - ни в тексте, ни в списке литературы нет упоминаний о классическом труде С.Ф. Платонова «Древнерусские сказания и повести о Смутном времени как исторический источник». Обойден и наибольший массив источников о государственно-политической истории и о повседневности XVI-XVII вв. - делопроизводственная документация. И это при том, что именно в Историко-архивном институте еще в середине 1950-х годов отдельными книгами изданы превосходные учебные пособия А.Ц. Мерзона «Переписные и таможенные книги XV-XVII вв.» и «Таможенные книги XVII в.», ав 1985 г. тоже отдельной книгой напечатано пособие «Документы делопроизводства правительственных учреждений XVI-XVII вв.».
В разделах об источниках российской истории приводится историографический материал, помогающий составить представление о развитии и собственно источниковедческого знания, из недавних трудов обращено внимание действительно на важней
шие (по дипломатике С.М. Каштанова, о массовых источниках Б.Г. Литвака и Ю.Я. Рыбакова, о мемуарах А.Г. Тартаковского), отмечается наличие разных мнений среди здравствующих исследователей.
Тем более удивляет информация на страницах 211-212 о датировке Лицевого летописного свода. Автор почти дословно повторяет неосновательное утверждение Я. С. Лурье, опирающееся на выводы Б.М. Клосса о составлении рукописи и приписок не позднее 1576 г., не упоминая даже об исследованиях А.А. Амосова и других авторов, относящих, вслед за Н.П. Лихачевым, эту работу к более позднему времени. Амосов - единственный ученый, полистно изучивший филиграни всех листов огромного летописного свода. Правда, книга его «Лицевой летописный свод: комплексное кодикологическое исследование» издана одновременно с учебником, но статьи (а последняя, - написанная совместно с В.В. Морозовым, - не случайно имеет заголовок «Методика исследования или заданность выводов? Размышления по поводу датировки рукописей Лицевого летописного свода Ивана Грозного») печатались ранее, да и моя книга «Российское государство в середине XVI столетия» с половиной текста о Лицевом своде вышла в 1984 г., и специальное учебное пособие Я.Г. Солодкина «История позднего русского летописания», где объективно излагаются все точки зрения, издано в 1997 г. Вообще то, что относится к составлению Лицевого свода, недостаточно использовано именно в учебных целях. Ведь редактирование рукописи, излагающей события времени Ивана Грозного, - показательный пример «переписывания истории» - фальсификации изложения событий недавних лет и характеристики политических деятелей в соответствии с новой политической ситуацией, а установление Н.П. Лихачевым того факта, что Лицевой свод был создан не во второй половине XVII в. (как признавали до того ученые), а во время правления Ивана Грозного, - поучительный пример использования даты филиграней для датировки рукописи: недаром об этом читаем в учебниках таких опытных исследователей и педагогов, как М.Н. Тихомиров (по источниковедению) и Л.В. Черепнин (по палеографии).
Думается, что замечания эти относятся и к проблеме «точного гуманитарного знания» - к «точности» отбора учебного материала, «точности» представлений о кругозоре студентов, уже накопленных ими знаниях, а эти представления - необходимое предварительное условие при желании формировать самостоятельность мысли и технических приемов у молодежи.
И именно в этом плане у меня замечания (а в какой-то мере даже предостережения), адресованные читателю новой книги: в плане понятийно-терминологическом - о степени точности определений и предмета «источниковедение» и понятия «исторический источник», в плане историографическом - об истолковании взглядов других - притом современных - авторов, в плане собственно педагогическом - о задачах преподавания источниковедения и, соответственно, восприятия учебного материала.
Первая часть книги имеет предметом изложения по существу не «теорию, историю и метод источниковедения», а определение места всего этого, «методологии источниковедения» в теории исторического познания, в методологии истории. То есть автор идет тем же путем, которым шел А.С. Лаппо-Данилевский в своем пособии к лекциям, имевшем заголовок «Методология истории», но там лишь в части второй, озаглавленной «Методы исторического изучения», выделялся особый отдел «Методология источниковедения». В новой книге подчеркивается «взаимосвязь профессионально-прикладного и теоретико-познавательного подходов к произведению, их неразделимость» (с. 139), но акцент -на «теоретико-познавательных (эпистемологических) основаниях» источниковедения (с. 20).
Это - повторяю - впервые в источниковедческой литературе послереволюционных лет позволяет столь широко подойти к источниковедению в аспекте теории познания и междисциплинарных взаимосвязей с другими гуманитарными науками и дает новое, обогащенное представление о самой «структуре источниковедческого исследования». Однако корневая взаимосвязь с тем, что традиционно называют «источниковедением», не всегда выявляется в должной мере - даже в историографической 12-й главе второго раздела «Источниковедение российской реальности». А в главе 3 третьего раздела «Классификация исторических источников» не характеризуются различные варианты классификаций в современных учебных пособиях и посвященных теме трудах (хотя они названы в приложенной к книге библиографии). Между тем как О.М. Медушевской написана статья «О проблемах классификации исторических источников» (после выхода книги Л.Н. Пушкарева) в № 5 журнала «Советские архивы» за 1978 г., а один из авторов учебного пособия, В.В. Кабанов, счел необходимым ознакомить с этим даже в учебном курсе, посвященном только письменным источникам и лишь одного советского периода истории. Без сравнительного рассмотрения уже известных и
учащим и учащимся современных моделей классификации источников остаются не вполне понятными в их конкретном варианте (в плане именно классификации) «новые задачи исторической науки в условиях интеграции гуманитарного и естественнонаучного знания» (с. 150).
В совмещении (даже в смешении) представлений о предметах «теории познания», «методологии истории» и «теории источниковедения» имеется, казалось бы, определенная традиция. Такая нечеткость границ областей знания характерна была для тематики статей сборника «Источниковедение. Теоретические и методические проблемы», изданного 30 лет назад под моей редакцией, и это обосновывалось в обращении «От редколлегии». В статьях А.Я. Гуревича и В.С. Библера - поиски ответа на вопрос «Что такое исторический факт?», проблематике методологии истории была по существу в значительной мере посвящена и статья О.М. Меду-шевской. В то время, только прикрываясь не вполне понятным, но достаточно респектабельным - судя по наименованию кафедры, основанной академиком М.Н. Тихомировым на истфаке МГУ, -термином «источниковедение», можно было пытаться рассуждать о проблемах методологии истории, обращаться к новой зарубежной литературе, напоминать об идеях наших российских ученых начала века (прежде всего А.С. Лаппо-Данилевского). Однако это приметили, и в трапезниковском Отделе науки ЦК КПСС, с подачи преподавателей истфака МГУ, обязали редакцию журнала «Вопросы истории» (после заинтересованных положительных рецензий в отечественных и зарубежных периодических изданиях) через три года после выхода книги поместить отрицательную рецензию на нее, потому подготовленный к изданию той же направленности второй выпуск сборника статей не удалось довести до печати.
В наши дни положение изменилось: термин «методология истории» не сводится к изложению только взглядов теоретиков марксизма-ленинизма, и - главное - за прошедшие десятилетия сделано очень много в области знаний, которые тогда именовали «теоретическим источниковедением». Это прослеживается хотя бы по теоретико-историографическим работам И.Л. Беленького «Разработка проблем теоретического источниковедения в советской исторической науке (1960-1984): Аналитический обзор» (М., 1985) и его статье к юбилею О.М. Медушевской «Путь научного поиска», вышедшей в 1994 г. (Археографический ежегодник за 1992 г. М., 1994), и по статьям, напечатанным во второй
половине 1990-х годов в книгах материалов упоминавшихся уже конференций, организованных нашей кафедрой (иногда и при участии Археографической комиссии РАН). Проблематика теоретического источниковедения в новом учебном пособии кажется уже естественно встроенной в систему эпистемологии, но в то же время и вполне самодостаточной.
Ко времени выхода новой книги в свет уже сложилось обоснованное в учебниках по истории и по собственно источниковедению представление о самом предмете и задачах источниковедения. В однотомном Большом энциклопедическом словаре 1997 г. читаем такое определение: «...отрасль исторической науки, разрабатывающая теорию, методику и историю изучения и использования исторических источников (в основном письменных)». В данном мною определении в статье 1969 г. (перепечатанной в авторском сборнике, изданном в РГГУ в том же 1997 г., «Путь историка: Избранные труды по источниковедению и историографии») - это «наука об исторических источниках и приемах их выявления, изучения и использования в работе историков», т. е. об источниках полезной историку информации и о путях (каналах) получения подобной информации (с. 25). В вышедшем еще позднее курсе лекций В.В. Кабанова «Источниковедение истории советского общества» (М.: РГГУ, 1997) автор, «отвлекаясь от академической всеобъемлемости в определении сути и задач источниковедения... несколько упрощая проблему, особенно применительно к учебным целям», определяет эти задачи как «способ извлечь максимум достоверной информации из документа» (с. 11).
В новой книге, как это ни странно, не выделено более или менее развернутое определение предмета «источниковедение». Во введении (в целом нелегком для восприятия и написанном подчас слишком усложненным для студента языком) на странице 7 источниковедение обозначено (и то внутри фразы) как «наука об источниках»; на предыдущей странице написано об источниковедении как науке, «специально разрабатывающей эти проблемы», -а перед тем - набор сведений, которые должно почерпнуть из источников, и перечень приемов действия такого «специалиста». Думается, что недостаточная определенность дефиниции (ведь объяснение наименования науки только названием предмета ее изучения - это то же, что сказать «масло масляное»), устранение из дефиниции собственно методического аспекта - следствие тенденции нарочитого противопоставления «нового статуса» источниковедения его прежнему статусу.
Но ведь новым учебным пособием утверждается «новый статус» источниковедения не в сфере исторической науки, а в сфере теории познания (что, впрочем, и не ново, ибо об этом писал А.С. Лаппо-Данилевский, скончавшийся 80 лет назад; ново лишь употребление в учебной литературе такой тематики слова «эпистемология», отсутствовавшего в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона и в изданиях Большой советской энциклопедии) и в области междисциплинарных научных взаимосвязей.
Между тем этот декларируемый в учебнике статус источниковедения противопоставляется ныне распространенному пониманию и предмета источниковедения, и определения «исторический источник». Особенно жестко сформулировано такое противополагайте в статье М.Ф. Румянцевой, напечатанной к юбилею О.М. Медушевской в № 5 журнала «Отечественные архивы» за 1997 г. Там указывается, что «если в советской исторической науке господствовало (да и во многом продолжает удерживать позиции) определение: исторический источник - это все, откуда можно получить информацию о развитии человеческого общества», то в Историко-архивном институте «исторический источник рассматривается как произведение, созданное человеком в его деятельности, как продукт культуры (в широком понимании)». Далее подчеркиваются якобы вполне очевидные «различия этих двух подходов» к определению предмета источниковедения. В рамках первого понимания «лишь обозначается функция (служить в историческом познании) некоего неизвестного предмета или явления», в рамках второго акцент делается на понимании психологической и социальной природы исторического источника, которая и обусловливает его пригодность «для изучения фактов с историческим значением». Автор усматривает в этих различиях «глубокую методологическую основу» и далее рассуждает о разном понимании «объекта исторического познания» и «генерального метода» его (с. 39). Между тем в учебном пособии О.М. Медушевской 1985 г. «Источниковедение социалистических стран» оба определения сосуществуют (даже на той же странице 6) и отнюдь не противопоставлены одно другому. Этого «различия подходов» не выявляется и в упомянутых книгах О.М. Медушевской и М.Ф. Румянцевой 1996 и 1997 гг. В юбилейный пушкинский год, когда все цитируют А.С. Пушкина, вспоминаются его мудрые слова (в письме к К.Ф. Рылееву) о критике стихотворений В.А. Жуковского: «Зачем кусать нам грудь кормилицы нашей? Потому что зубки прорезались?..» (Пушкин А.С. Поли, собр. соч.: В 10 т. Л„ 1979. Т. 10. С. 94).
Совершенно очевидно, что М.Ф. Румянцева, обосновывая это надуманное противопоставление, не желает замечать, что существует несколько уровней источниковедения со своими задачами, методами, возможностями (об этом, в частности об обосновании предмета «теоретическое источниковедение», более или менее подробно написано в моей статье, открывающей сборник 1969 г.; И.Л. Беленький тоже пишет о «различных уровнях методологии»), В источниковедении всегда сохраняется функция информации о чем-то (если не о каком-то явлении, «историческом факте», то о самом историческом источнике как историческом факте), и в то же время всегда исходят из особенностей «природы» источника (хотя чаще всего об этом не упоминается). Показательно, что именно об этом читаем в первой же фразе введения к учебному пособию: «Получить информацию о человеке, обществе, государстве, о событиях, происходивших в разное время и в различных частях мира, можно, только опираясь на исторические источники» (с. 5).
Можно углублять понятие «исторический источник», тем более методику и методологию его изучения, интерпретации, но нет оснований отказываться от общепринятого и в то же время наиболее элементарного его понимания, особенно когда историческими изысканиями склонны заниматься все в большей мере лица, не имеющие специальной подготовки, не знакомые с тонкостями ученой терминологии. Ведь и слово «число» воспринимается всеми прежде всего как одно из основных понятий математики, употребительное в повседневной житейской практике, хотя это и мировоззренческое понятие, по-особому истолковываемое в философии, психологии, мистике.
Еще меньше оснований для противополагания того, о чем толкует М.Ф. Румянцева, представлениям традиционного источниковедения. Если сослаться на упоминавшийся уже сборник 1969 г., то там впервые после долгого перерыва (и Б.Г. Литваком, и Шмидтом) обращено внимание на значение истолкования и самого исторического источника, и подхода к его изучению А.С. Лаппо-Данилевским, и важность обращения к его методике, однако не на самом первом этапе источниковедческого поиска и вообще источниковедческой работы. Освоение арифметики, как правило, предшествует освоению алгебры (кстати, при этом и арифметику и алгебру обозначают даже в рассчитанных на всех учебных программах одним общим словом-термином «математика»).
Действительное же различие взглядов на исторический источник авторов введения к учебнику (как, впрочем, и многих других историков и источниковедов) со взглядами Шмидта состоит в том, что Шмидт к историческим источникам относит все то, что может источать (в соответствии со смыслом самого слова, причем на разных языках) информацию, полезную для историка, а не только памятники материальной и духовной культуры, результаты целенаправленной человеческой деятельности, т. е. источники собственно исторического происхождения (составляющие, безусловно, основной массив исторических источников и изучаемые методами, выработанными именно исторической и смежными с ней гуманитарными науками). Это природные явления (и земного, и космического плана) и биопсихофизические свойства самого человека, во многом предопределяющие и объясняющие его деятельность. Природа изначально определяла жизнь общества в целом и отдельных индивидуумов и развитие культуры. И в наши дни изучение взаимодействия природы и общества остается важным условием познания исторического процесса в целом и конкретно-исторических явлений. Но теперь все заметнее и ощутимее воздействие общества на природу (антропогенные и техногенные влияния) - недаром экологические проблемы, вопросы природопользования, загрязнения окружающей человека естественной среды становятся важнейшими не только для ученых, но и для политиков, государственных и общественных деятелей. Этнологи, специалисты по истории первобытного общества -самого длительного периода в истории человечества - относят явления природы к историческим источникам, к тому комплексу информации, которая помогает понимать и изучать историю (это отражено даже в выходящих массовыми изданиями учебных пособиях). Географическому фактору в исторической науке - в отечественной, начиная с В.Н. Татищева, особенно у С.М. Соловьева - всегда придавалось большое (подчас даже ведущее) значение и в масштабных исторических (и историко-социологических, и историко-экономических) построениях, и в исследованиях конкретно-исторической тематики; мастерами высокого класса в этих смежных областях научных знаний были профессора Историко-архивного института М.Н. Тихомиров, А.И. Андреев, В.К. Яцунский. Эти положения я обосновывал не раз и в печатных трудах, и в лекциях «Введение в специальность» для первокурсников Историко-архивного института. Именно в этом и - что особенно важно подчеркнуть - только в этом отличие от понимания
предмета исследования источниковедами, причисляющими себя к новой «источниковедческой школе Историко-архивного института».
Таким образом, «старая» школа Историко-архивного института (если можно так выразиться) - а это и преподающие на той же кафедре С.М. Каштанов, Шмидт, и, как убеждает его учебный курс, В.В. Кабанов - отнюдь не противостоит в своей преподавательской и авторской (научно-литературной) работе установкам, пропагандируемым в новом учебном пособии. В этом учебном пособии - новая программа преподавания источниковедения, а не новое понимание предмета «источниковедение».
Представление о предмете «источниковедение», точнее сказать - об объеме этого понятия, не оставалось неизменным, как и представление об историческом источнике. Постепенно исторический источник начинает интересовать ученого не только как средоточие информации об изучаемом им историческом явлении, а как своеобразное историко-культурное явление - свидетельство развития сознания, результат целенаправленной деятельности человека (а тем самым уже и объект изучения не только в сфере исторической науки).
Более того, исторический источник начинает восприниматься не только как посредник в процессе изучения, осмысления исследователем исторического факта, а как сам исторический факт. Это находит выражение в оформлении самостоятельных отраслей исторических (а по существу историко-источниковедческих) знаний - сначала дипломатики (объект изучения которой - исторические акты), затем летописеведения, мемуароведения и т. п. Там объектом становится не столько извлекаемая из исторических источников конкретно-историческая информация о каких-либо явлениях, сколько сам источник как историческое явление.
Очевидным становилось и то, что источниковедческое исследование лежит в основе фундаментальных, да и вообще всех серьезных исторических исследований. И авторитетнейшие историки и филологи, ссылаясь прежде всего на значение в процессе познания источниковедения, обосновывали целесообразность определения его как специальной (а не только вспомогательной исторической) научной дисциплины, тем более что источниковедение обозначали и как главную из этих дисциплин, а некоторые полагали, что дисциплины эти (палеография, метрология и др.) являются вспомогательными именно по отношению к источниковедению, или даже считали, что источниковедение является
«совокупностью», «суммой» этих дисциплин. Все эти привело к тому, что наша кафедра расширила первоначальное наименование и стала называться кафедрой источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин.
Но перестало ли при этом возросшем междисциплинарном значении источниковедение оставаться одновременно и вспомогательной исторической дисциплиной, т. е. вспомогательной наукой при собственно исторических исследованиях? Конечно нет. Оно сохраняет и свои первоначальные функции. Д.С. Лихачев еще в 1967 г., характеризуя работу о текстологии (История СССР. 1967. № 2), справедливо заметил, что «гуманитарные дисциплины в той или иной мере вспомогательные по отношению друг к другу и все они одновременно в какой-то мере суверенны».
Каждый историк (даже начинающий) обязан, приступив к изучению того или иного явления, определить прежде всего источник (или комплекс источников) информации об этом явлении, затем время создания этого источника, сохранился он полностью или во фрагментах, подлинный ли, достоверный ли и т. д., и т. п. И для этого необходимо обучать студентов знанию элементов внешней и внутренней критики источников (показательно, что в период «оттепели», когда стало возможно снова говорить о теории и методике источниковедения, А.Ц. Мерзон подготовил в МГИАИ пособие «Основные задачи критики исторических источников» и старался в разработанном им лекционном курсе источниковедения до XIX в. акцентировать внимание не на содержательной стороне источников, а на методике их изучения). Эта источниковедческая работа - обязательное предварительное условие добросовестно выполненного труда по истории, но работа эта воспринимается как вспомогательная при конструировании собственно исторических выводов, хотя в ней гарантия степени качества исследования в не меньшей мере, чем уровень основательности логических построений историка.
Ученые нередко довольствуются выявлением в историческом источнике (и проверкой, конечно) точной даты события, имен и численности его участников, места происшествия, цифровых данных об имуществе, размере земельных владений и т. д., установлением последовательности редакций памятника, его протографа, канцелярии, откуда вышел документ, и т. п., не ставя перед собой задачи размышления над психикой создателя и адресата документа, определения источника как феномена культуры («продукта культуры»); хотя у настоящих исследователей в
их профессионально-прикладном подходе к отбору источников, анализу их содержания, тем более к источниковедческому синтезу всегда (впрочем, часто и не вполне осознанно) присутствует и теоретико-познавательный подход. Ибо четкое деление науки на «чистое» и «прикладное» знание на самом деле вообще не имеет места: элементы теории всегда входят в «практику» и предварительным условием углубленного познания частного является познание общего (это раскавыченная цитата из моей статьи еще 1969 г.). Немало даже виднейших исследователей, которые, демонстрируя в своей работе изощреннейшие приемы источниковедческого исследования (и даже обучения им своих учеников), отнюдь не склонны были к теоретизированию, довольствуясь обоснованием методической практичности и научной плодотворности таких приемов. Если ограничиться именами преподававших в Историко-архивном институте, то это и Ю.В. Готье, и М.Н. Тихомиров, и Н.В. Устюгов, и Е. А. Луцкий, изболее молодых -А.А. Зимин. Мне уже доводилось (в статье памяти учителя в «Археографическом ежегоднике за 1965 год») вспоминать, как М.Н. Тихомиров реагировал 50 лет назад, прочитав одну из глав моей кандидатской диссертации (о времени Ивана Грозного). Он спросил меня: «Вы чей ученик? Михаила Николаевича Тихомирова или Михаила Николаевича Покровского?» - «Тихомирова», -ответил я, опешив. «Тогда почему у Вас столько социологических рассуждений?» На последней странице моей работы было написано: «А сие от ветра главы своея». Так же он относился и к теоретическим рассуждениям в области источниковедения. И А.А. Зимин счел нужным написать в воспоминаниях (недавно опубликованных в № 6 журнала «Отечественные архивы» за 1998 г.), что у него «не хватает данных для философского осмысления истории». И хотя именно М.Н. Тихомиров (как выяснил по архивным материалам С.В. Чирков) как раз в записке, адресованной в довоенные годы руководству Историко-архивного института, обосновывал наименование источниковедения «специальной» исторической дисциплиной, источниковедение представлялось ему наукой только исторической, а не на стыке с философией. В то же время названные мной выше и другие крупные историки очень много сделали для совершенствования методики и теоретического обоснования новаций конкретного источниковедения (в изучении отдельных разновидностей источников и др.).
И из таких расхожих представлений, так же как и из понятия об уровне подготовки студентов и их способностей к восприятию
материала, методологической направленности, следует исходить при подготовке учебных пособий и книг по источниковедению, рассчитанных на сравнительно широкую аудиторию. Чтобы развивать самостоятельную мысль, прививать вкус к приемам исследовательской технологии, тягу к ознакомлению с трудами по теории интересующего его предмета, должно показывать взаимосвязь нового с уже известным, возможности более углубленного познания скрытого при первоначальном взгляде и открывающегося только при использовании более совершенных методик изучения. Таким путем более сложное проникает в сознание и начинает казаться простым.
Те, кто имел особые способности и склонности к теоретическому мышлению и которым мы обязаны многим в становлении самих представлений о теоретическом источниковедении (его предмете, задачах, методе), при обращении к более широкой аудитории - даже и историков - придерживались распространенной доступной ей терминологии и акцентировали внимание на более простом, общепринятом. Именно в таком стиле написаны А.С. Лаппо-Данилевским «Очерк русской дипломатики частных актов», а М. Блоком «Апология истории, или Ремесло историка». Такой стиль изложения С.М. Каштанова не только в его учебном пособии «Русская дипломатика» (М., 1988), но и в недавно вышедшей монографии «Актовая археография» (М., 1998). Это тоже точность, точность представлений о возможностях восприятия тех, к кому обращаешься со своим словом. В новом учебном пособии по источниковедению этот опыт преподавания не всегда учитывается.
Но появление книги, такой новаторской по своим установкам - и научно-исследовательским, и учебным, безусловно радостное событие и для гуманитарных наук, и для высшей школы. Это несомненное свидетельство расширения современных представлений об источниковедении, осмысления его места в сфере междисциплинарных научных связей. Это и несомненный показатель высокого научного потенциала кафедры в канун ее 60-летия, ее всероссийского престижа.
ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Московский Кремль в культуре России
Понятно, что в период Московского царства именно Москва была центром развития культуры (и материальной, и духовной) и общественно-политической мысли все более расширяющегося государства. Но и в XVIII в., когда стали утверждаться в России научные знания и столицей образовавшейся и получившей мировое признание империи стал новый град Петров, сохранялось представление о Москве как о символе величия российской истории, воплощении отечественных традиций - и государственнополитических, и церковных (традиций российской державности и первенства в мире православия), и историко-культурных. А символом и святыней самой Москвы и средоточием ее государственнообщественной жизни издавна мыслился Кремль.
И после перенесения столицы в Петербург государи венчались на царство в Кремле, в Успенском соборе, остававшемся главным храмом России. И Уложенная комиссия собралась в Москве; и возглавившего самый массовый народный бунт Пугачева казнили не в официальной столице, а в Москве. В Москве образовали первый университет - и помещение его было рядом с Кремлем -сначала у Красной площади, позже за рекою Неглинкой, напротив Кремля; и, как отметил Пушкин, «просвещение любит город, где Шувалов основал университет по предначертанию Ломоносова»1. В Москве развернулась издательско-преподавательская деятельность, возникли первые журналы, предназначенные широкой публике, интересные и для читательниц, и для юношества. Здесь создавались и многотомные сочинения по истории России, вводящие в научный обиход многообразные архивные материалы. «В каком ты блеске ныне зрима, / Княжений знаменитых мать! / Москва, России дочь любима, / Где равную тебе сыскать?..» - восклицал в 1796 г. И.И. Дмитриев в стихотворении «Освобождение Москвы», строки которого стали первым из эпиграфов к седьмой -
Впервые опубл.: Материалы и исследования / Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль». М., 2003. Вып. 15: Кремли России. С. 24-30.
«московской» - главе пушкинского «Евгения Онегина», где назван и «старый Кремль».
Самый образованный россиянин рубежа XVIII и XIX вв., первый тогда писатель России Карамзин, готовивший себя к тому, чтобы стать и ее Историографом, в статье 1803 г. «Записки старого московского жителя» возглашал: «Кремль есть любопытнейшее место в России по своим богатым историческим воспоминаниям». И там же утверждал: «Кремлевская стена есть наш Палладиум»2. «Палладиум» - одно из любимых слов языка Карамзина, слово самого возвышенного значения. Таким это слово, не попадающее ныне в словари русского языка и иностранных слов, казалось и в конце XIX в. Согласно энциклопедии Брокгауза и Ефрона, слово «палладион» по-гречески или «палладиум» по латыни «употребляется для обозначения вообще всякого предмета, пред которым благоговеют, как перед приносящим могущество, славу и счастье».
События Отечественной войны 1812 г., когда происходившее в Москве определило - как и двести лет назад - судьбу России и даже всей Евразии и стало началом агонии могущественной империи Наполеона, положив предел его дальнейшим замыслам, еще более подняли значение Москвы и Кремля. Они воспринимались и как символ взаимосвязи прошлого и настоящего.
Это отражено и в написанной Карамзиным о Москве и Кремле в 1817 г. «Записке о московских достопамятностях», составленной для императрицы-матери Марии Федоровны, т. е. для царской семьи. Тогда Карамзин уже стал лучшим знатоком прошлого России, в печати находились первые восемь томов «Истории государства Российского», где изложение было доведено до середины правления Ивана Грозного. Описание достопамятностей Кремля завершается обобщающей характеристикой: «Кремль есть место великих исторических воспоминаний» - и указывается, что там возникло «единодержавие» и «изготовлялись средства победы и свободы» от ханского ига и «священные тени добродетельных предков изгнали Иоанна Грозного, когда он изменил добродетели. Кремль был душен для тирана!»; здесь избрали первого царя из Романовых и был «театр ужасов» и бунтов. Кремль и после Петра оставался «средоточием России»; «незабвенный» 1812 год -«славнейшие из всех воспоминаний Кремлевских стен для веков грядущих!». И в конце «Записки»: «В заключение скажем, что Москва будет всегда истинной столицею России. Там средоточие царства, всех движений торговли, промышленности, ума граждан
ского. Красивый, великолепный Петербург действует на государство в смысле просвещения слабее Москвы... Кто был в Москве, знает Россию»3.
Такое понимание исторической и социокультурной роли Москвы и исторической роли Кремля передалось и последующим поколениям, общеизвестно по произведениям Жуковского, Пушкина, Лермонтова, вошло в повседневное сознание. Жуковский в стихотворении на рождение великого князя Александра Николаевича, появившегося на свет в Кремле в 1818 г., особо отмечает это обстоятельство, называет Кремль и «вечным», и «державным» и, став воспитателем будущего Александра II, не раз напомнит ему об этом и в письмах, и в программе воспитания историей. Для Пушкина в 1830-е годы Москва - «первопрестольный град», «первопрестольная столица»4; она для него остается «сердцем России»5. Интересно, что Пушкин, знакомый, можно полагать, с «Запиской» Карамзина о московских достопамятностях, использует то же употребленное им слово «душно», характеризуя отношение Петра I к Кремлю, но с иным акцентом, чем это сделал Историограф, вспоминая грозного царя: «Петр I не любил Москву, где на каждом шагу встречал воспоминания мятежей, закоренелую старину и мрачное, упрямое сопротивление суеверия и предрассудков. Он оставил Кремль, где ему было не душно, но тесно - и на дальнем берегу Балтийского моря искал досуга, простора и свободы для своего гения, беспокойного и могучего»6. В варианте другого сочинения Пушкин делает важное наблюдение: «Петр Первый был нетерпелив. Став главою новых идей, он, может быть, дал слишком крутой оборот огромным колесам государства»7. Показательно для общественного сознания и детей из высшего общества той поры, что самое раннее из дошедших до нас сочинений Л.Н. Толстого - написанное одиннадцатилетним мальчиком сочинение «Кремль» - о его величии как символе России и ее прошлого.
Таким образом, представление о прошлом Кремля лежит в основе представлений россиян о своей истории, о вершинных событиях ее, о средоточии исторической славы. А представления о прошлом во многом предопределяют понятие о настоящем и о будущем. Ведь именно память - в основе культуры.
Если из многих определений культуры выбрать то общераспространенное, которое приведено и в однотомном Большом энциклопедическом словаре (изд. 1997 г.): «сфера духовной жизни людей», что включает в себя «предметные результаты деятельно
сти людей», «а также человеческие силы и способности, реализуемые в деятельности», и попытаться приложить это определение к явлениям истории Московского Кремля, то даже при первичной постановке вопроса можно отметить несколько важных и всем очевидных аспектов.
После возвращения Москве в 1918 г. статуса официальной столицы Кремль и в нашей стране, и за рубежом казался символом государственно-политического властвования, особенно при Сталине, жившем и работавшем в Кремле. Там было средоточие и государственной власти, и идеологического влияния, и воздействия на мировую политику, и потому в зарубежных изданиях постоянно читаем: «Кремль решил...», «в Кремле сказали...», «позиция Кремля». И по сей день в уже демократической России представления о власти Кремля, ее формах, возможностях оценки во многом определяют основы нашей политологической культуры, причем и в ее научных категориях и терминологии, и в повседневном, так сказать, обывательском понимании.
Отмечу и то, что восприятие кремлевской власти, явлений, происходивших в Кремле, изначально обусловило представление о России за рубежом еще в первых сочинениях иностранцев допетровской эпохи. Особенно детально (а подчас и с недоумением) описывали кремлевский обиход и в то же время «анекдоты русской жестокости», которую - как верно заметил Карамзин - «иностранцы любили изображать яркими красками»8.
И уже тогда по существу тождественный смысл обретали термины «Российское государство» и «Московское государство»9, а в плане государственно-политической терминологии (прежде всего в сфере публицистики) - понятия «Москва» и «Кремль».
Именно с Кремлем связаны и представления об организации государственного и церковного управления, о системе делопроизводства, т. е. о факторах государственно-политической культуры, причем в начальных ее вариантах. Кремль - это и деятельность Боярской думы, приказов, митрополитов и патриархов, земских и церковных соборов. Кремль - это и центр организации делопроизводства - и повседневного, и экстраординарного. Здесь закреплялись образцы делопроизводства, становившиеся обязательными для всего государства, и разновидности документов с присущими им формулярами, и внешняя форма документации: столбцы (свитки) с пометами дьяков, тетради, книги. В Кремле вырабатывались становившиеся общероссийскими законодатель-
ные нормы судопроизводства и деловодства, обобщенные в судебниках, а затем в Соборном уложении 1649 г.
В кремлевских приказах приобретали знания и практические навыки те дьяки и подьячие, которые информировали о России иностранцев - и переводчик с латинского и немецкого языков Дмитрий Герасимов, на основе бесед с которым в Риме в 1525 г. итальянец Паоло Джовио - зачинатель международной публицистики - составил сочинение о Московии, и те, кто сообщали сведения авторам наиболее подробных сочинений о Москве и России в XVI в. - Герберштейну, Штадену, Флетчеру, и подьячий Посольского приказа при царе Алексее Михайловиче Григорий Котошихин, подробно охарактеризовавший (попав в Швецию) систему управления в России. Усилиями и опытом этих «писарей» формировался язык деловой письменности, отраженный особенно образно в посольских книгах и ставший одной из основ литературного языка россиян.
В Кремле написаны многие публицистические сочинения и исторические летописи (и официальные, и частные). И недаром столь чуткий к восприятию исторических реалий Пушкин поселяет мудрого летописца Пимена в Пудовом монастыре. В Кремле составлялись и первые в России карты - и опять-таки Пушкин изображает царевича, рассматривавшего такую карту России в начале XVII в. В Кремле хранился и главный - Царский - государственный архив XVI в. с документацией всего времени правления московской династии, внешних сношений и современного делопроизводства в сфере внутренней политики. Там образовались затем и архивы приказов и сформировалась практика составления описей архивных дел, т. е. зарождалась элементарная археография. В Кремле были первые библиотеки и государя, и иерархов, и монастырей. По преданию, находилась и библиотека древних рукописей на греческом, латинском и еврейском языках. Даже если это и миф, то территориально его относили к Кремлю уже в XVI-XVII вв.
В Кремле формировались школы переписчиков рукописей и искусство каллиграфии. В Кремле создавались и лицевые летописи и другие иллюстрированные рукописи (где многократно изображен и Кремль). Все это значительные явления в истории развития книжности и изобразительного искусства. И первопечатником стал дьякон кремлевской церкви Иван Федоров.
Кремль оказался форумом, где развивалось ораторское искусство, он был своего рода школой диспутов (в годы правления
царя Ивана Грозного и с его участием). В XVII в. здесь были диспуты с раскольниками. Среди кремлевских иерархов - выдающиеся проповедники и писатели; и традиция эта характерна и для XVIII-XIX вв. - напомним о митрополитах Платоне и Филарете.
С Кремлем связывают рождение театра в Москве - началось с театрализованных представлений на евангельские сюжеты в Успенском соборе (еще в XVI в.). В 1670-е годы возник придворный театр. Особенно значительна роль кремлевских храмов в развитии музыкальной и певческой культуры России: на этот опыт опирались композиторы и певцы и в Новое время. В наши дни в рамках Международного фестиваля православной музыки проводятся конкурсы дьяконского и церковно-певческого искусства имени великого архидьякона начала XX в. Константина Розова.
Фрески и иконы кремлевских храмов воспринимались как образцы мастерами всей Руси. Здесь можно было познакомиться и с шедеврами византийской живописи. Особенно велико воздействие кремлевских сооружений на развитие архитектуры и градостроительного инженерного искусства России и, конечно же, архитектуры других российских кремлей с храмами как центрами их. Заметно влияние и кремлевских памятников зодчества XVIII-XX вв. на московскую и вообще российскую архитектуру их времени.
Кремль - центр развития художественного шитья и вышивки, ювелирного мастерства, переплетного дела, мастерства работы с деревом и металлом. Здесь не только создавались шедевры, но зачастую и образцы для повторения массовыми тиражами. В Кремле было и средоточие лучших памятников материальной культуры отечественного и зарубежного происхождения, особенно в приемных покоях царского дворца. В допетровскую эпоху бытовой обиход государей и лиц их окружения не отличался столь резко, как позднее, от обихода подданных, и такой знаток прошлого, как историк И.Е. Забелин, начал изучение быта XVI в. с быта проживавших в Кремле царей и цариц. Таким образом, роль Кремля в развитии духовной и материальной культуры России очень велика, так же как и в развитии представлений ученых последующих столетий о культуре XV-XVII вв.
В истории культуры России знаменательны и события, происходившие в Кремле, но не характерные для повседневности его культуры в XVIII - начале XX в. Так, именно сюда 8 сентября 1826 г. привезли из ссылки возвращенного волею нового импера
тора Николая I Пушкина. Беседа в Пудовом дворце продолжалась более часа, после чего Николай I объявил Блудову, что разговаривал с «умнейшим человеком в России», и представил Пушкина приближенным как «прощенного» и «своего» поэта. Это во многом обусловило и обязанности, и поведение Пушкина, и направленность последующего творчества поэта, да и линию его жизни.
Конечно, и в годы советской власти значение творимого в Кремле для истории культуры было очень велико - особенно когда в первые годы там обитали Ленин и его виднейшие сподвижники, а затем принимались постановления, которые можно назвать судьбоносными (независимо от знака их оценки), а после кончины Сталина происходили форумы деятелей науки, искусства, литературы, подводившие итоги свершенного и определявшие перспективы дальнейшего пути. А это были события иногда не только всесоюзного, позднее всероссийского, но и международного масштаба.
В плане тематики доклада выделил бы роль происходившего в Кремле в формировании советской системы законотворчества и делопроизводства. Это во многом определяло культуру и юридической, и политологической мысли, и форму организации ♦ управления в стране.
Особо важно отметить, и именно в сборнике, выпускаемом Музеями Кремля, роль кремлевского музея в развитии музейного дела в России, в сложении музеологических представлений и связанных с этим областей гуманитарных наук и искусств в XIX-XX вв.
Оружейная палата была первым историческим, точнее историко-художественным, музеем России. Она - прародительница других музеев нашей страны, и прежде всего Исторического. Здесь служил стоявший у истоков возникновения Исторического музея великий историк С.М. Соловьев. Профессор и ректор Московского университета, он также был директором Оружейной палаты и жил в доме Дворцовой конторы, как и писатель А.Ф. Вель-тман, который с начала 1840-х годов стал помощником директора, а затем директором Оружейной палаты и издал книги «Достопамятности Московского Кремля» (1843), «Московская Оружейная палата» (1844), исторические документы. При нем был приглашен работать туда юный И.Е. Забелин. Не пройдя университетской школы, он именно здесь сформировался и как непревзойденный знаток российских древностей, и как археограф, и как археолог. И к составлению фундаментальной истории Москвы, и к органи
зации научной работы в Историческом музее Забелин приступил уже после того, как подготовил огромной ценности и насыщенности не только фактологическими, но и научно-методическими наблюдениями книги о быте московских государей. В основе их -изучение и прошлого Кремля, и материалов, вещественных и документальных, находившихся в Кремле в соборах, дворцах, в Оружейной палате.
Неутомимы были в стремлении своем запечатлеть и внешний облик зданий Кремля, и их внутреннее убранство, и предметы, хранившиеся в музее Оружейной палаты, художник Ф.Г. Солнцев, а затем и мастера фотографии. В Кремле сформировалась школа изучения памятников древнего искусства и письменности Г.Д. Филимонова, определившая затем направленность трудов сотрудников Румянцевского музея. Здесь трудились и те, кто занимался изучением Кремля (как С.П. Бартенев, сын историка и археографа П.И. Бартенева) и прошлого Москвы в целом. Востоковед и нумизмат В. К. Трутовский выступил, в частности, на заседании общества «Старая Москва» с докладом о происхождении названия «Арбат» (от слова «рабад», означавшем на восточных языках «предместье»). А.И. Успенский - основатель Московского археологического института, преимущественно опираясь на документы хранилищ Кремля, создал фундаментальное исследование о царских иконописцах и живописцах. Работы в Кремле стали научной школой реставрации памятников архитектуры, искусства и материальной культуры. Со времен А.С. Уварова и И.Е. Забелина опыт работы в хранилищах Кремля и изучения памятников Кремля обогащал исследования и методику научной атрибуции сотрудников Исторического музея.
В годы советской власти ученые специалисты продолжали работу, но закрытый режим кремлевской жизни ограничивал их возможности и приток новых сил в сферу изучения кремлевских древностей. Тем не менее неизменно совершенствовалась практика научной реставрации, а изданный в 1954 г. фундаментальный сборник научных трудов «Государственная Оружейная палата Московского Кремля» может быть оценен как высокий образец исторических и искусствоведческих исследований. Значительным достижением музейного дела были подготовленные, но не опубликованные тогда справочные пособия и каталоги.
Но в те годы рассчитывать на возможность быстрого и регулярного приобщения к исследовательской работе по изучению памятников Кремля или хранившегося в Кремле не приходилось.
Вспоминаю, как в конце 1940-х годов, во время экскурсии, подаренной нам, преподавателям и аспирантам истфака МГУ, Б.А. Рыбаков - уже лауреат Сталинской премии - наскоро зарисовывал что-то в залах Оружейной палаты. Тем более признательны специалисты сотрудникам этого музея за то, что и в годы навязываемого М.Н. Покровским господства вульгарной социологии, и позднее развивалось здесь ученое ремесло - мастерство атрибутирования, описания, источниковедческого изучения памятников истории и культуры.
С середины 1950-х годов сделано очень много и в плане развития научных знаний, и в плане обогащения теории, методики и практики музейного дела, и в плане утверждения представления в России и за ее рубежами о Музеях Кремля не только как о сокровищнице памятников истории и культуры, но и как о выдающемся центре их изучения. Множество изданий, и сугубо специальных, и популярно-просветительских, множество выставок на Родине и за рубежом, много научных конференций с широким привлечением специалистов других музеев, академических институтов, вузов. Конференции эти радуют не только научными результатами, отраженными в изданиях их материалов, но и участием научной молодежи, и все в большей мере из числа сотрудников самого комплекса Музеев Кремля.
Все больше работ и историографического типа - об изучении прошлого самого Кремля и его памятников, коллекций его хранилищ и документов его архива. В этом убеждает богатство содержания двухтомного указателя литературы «Московский Кремль (1723-1987)». Часть этих данных я пытался обобщить еще в докладе 1985 г. «Роль музеев Московского Кремля в изучении отечественной истории и культуры» на Всесоюзной научной конференции «Стенам и башням Московского Кремля 500 лет»10. Радует, что сведения эти уже устаревают. •
Показатель такого ощутимого перспективного роста - под- 1 готовленное к печати издание по истории Архангельского собора. Главный хранитель Музеев Кремля Евгений Степанович Сизов, . рано ушедший от нас в 1980 г., мой ученик и друг, занят был в по- : следние годы жизни подготовкой к печати научно-популярной по ; форме, но по-настоящему исследовательской по существу книги ! об Архангельском соборе11. Очень хотелось увидеть напечатан- ным этот почти завершенный труд, и Наталья Андреевна Маясова все сделала для этого. Но теперь уже издается вместе с ним и сборник статей других авторов - о новых открытиях последних двух
десятилетий. Это лишь один, но характерный для современного научного уровня работы Музеев Кремля пример.
Таким образом, можно утверждать, что роль Музеев Московского Кремля в изучении прошлого России и памятников культуры очень значительна, а деятельность его сотрудников воспринимается ныне как показательный образец современной культуры музейного дела.
1 Пушкин А.С. Путешествие из Москвы в Петербург// Пушкин А.С. Поли. собр. соч. М., 1996. Т. 11. С. 247.
2 Карамзин Н.М. Записки старого московского жителя. М., 1986. С. 263.
3Там же. С. 314, 315, 321.
4 Пушкин А.С. Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов; Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем // Пушкин А.С. Поли. собр. соч. Т. 11. С. 206, 213.
5 Он же. Черновая редакция главы «Москва» // Там же. С. 482.
6 Он же. Путешествие из Москвы в Петербург //Там же. С. 239.
7 Он же. Вторая редакция сочинения «О ничтожестве литературы русской» // Там же. С. 501.
8 Карамзин Н.М. О тайной канцелярии // Карамзин Н.М. Записки старого московского жителя. С. 269-270.
9 Шмидт С.О. «Московское государство»: к объяснению наименования Российского государства XVI-XVII столетий // Шмидт С.О. Россия Ивана Грозного. М., 1999. С. 255-301.
10 См. об этом: Владимирская Н.С. Стенам и башням Московского Кремля 500 лет: Всесоюзная научная конференция // Советское искусствоведение. Вып. 22. М., 1986. С. 475-476.
11 См.: Шмидт С.О. Светлый человек: к семидесятилетию Е.С. Сизова //Археографический ежегодник за 2000 год. М„ 2001. С. 228-235.
Рукопись, открывшая миру «Слово о полку Игореве», выявлена была в конце XVIII в. в Ярославле; хранили ее тогда в Спасо-Ярославском монастыре, близ места нашего заседания. А ныне находящийся на этой территории Ярославский историкоархитектурный музей-заповедник стал одним из центров изучения великого литературного памятника и распространения знаний о нем. Издание двести лет назад «Слова о полку Игореве» сейчас может расцениваться как событие не только всероссийского, но и мирового значения.
И знаменательно, что посвященное юбилею наше торжественное заседание проходит именно в Ярославле, где так много делают для возвращения интереса к духовной культуре Руси.
Полагаю, однако, что ярославцы - патриоты своего города -не будут на меня в обиде, если публично скажу, что не признаю ; того, что «Слово о полку Игореве» якобы написано в Ярославле незадолго до 1791 г. монахом Иоилем, который в 1776 1787 гг. был архимандритом Спасо-Ярославского монастыря. У Ярославля и без того велика роль в развитии культуры России XVII-XVIII столетий: здесь еще в XVII в. была прославленная школа живописи и архитектуры, а церковь Ильи Пророка, и особенно ее фрески, признают одним из мировых шедевров изобразительных искусств. В послепетровское время здесь закреплялось представление об уникальной ансамблевости архитектуры XVII в. и классицизма XVIII в., а в годы губернаторства Мельгунова - и об ансамблевом оформлении в стране набережных многих рек; здесь сформировалось сценическое мастерство Федора Волкова - «отца русского театра» (как называл его Белинский), образовалась первая театральная труппа, ставшая основой постоянного театра в Петербурге, премьер которого ярославец И.А. Дмитревский стал и первым русским режиссером-педагогом, и первым актером, прославившимся и за рубежом. Напомним и о первых в XVIII в. провинциальных типографии и журнале.
Впервые опубл.: 200 лет первому изданию «Слова о полку Игореве»: Материалы юбилейных чтений по истории и культуре древней и новой России (Ярославль - Рыбинск. 27-29 августа 2000 г.). Ярославль, 2001. С. 11-22.
Именно в Ярославле состоялась в 1985 г. организованная несколькими учреждениями и общественными объединениями научная конференция о «Слове», приуроченная к восьмисотлетию события, послужившего поводом к его созданию. Моему докладу на ней при печатании материалов конференции редакторы дали заголовок: «Невозможно вспоминать о прошлом, не думая о настоящем и будущем». Согласившись по просьбе фактического многолетнего руководителя ВООПИК Н.К. Королькова выступить с докладом именно как член Президиума ВООПИК и руководитель его секции документальных памятников, понимал, как трудно сказать существенно новое о самом «Слове» (особенно если с докладами выступают академик Д.С. Лихачев и корифеи в изучении памятников истории и культуры Руси до нашествия кочевников, а я специалист по истории России уже времени Ивана Грозного в области источниковедения и историографии). И потому, стараясь найти не занятую исследователями нишу, сосредоточил внимание на том, что именно «Слово о полку Игореве» -и само создание «Слова», и его восприятие современниками и близкими к тому времени поколениями - стоит у истоков формирования представлений о памятниках истории как и о памятниках культуры, и об оценочно-эстетических критериях применительно к сочиненному о прошлом; а тем самым и вообще первичных наших понятий о комплексе общественных и научных представлений, которые ныне определяют как «памятниковедение».
Реальные события, отраженные в «Слове», - не крупного исторического масштаба, главный герой Игорь Святославич - не из выдающихся князей. И воспринималось это произведение не столько как источник исторической информации о конкретных явлениях (событиях, лицах) или напоминание об особо важном в прошлом, а прежде всего как уникальный памятник художественного мастерства - языкотворчества, образности поэтического видения, масштабности историко-географического кругозора, как эталонный образец художественного произведения героикоисторического содержания; тем более что к тому времени уже складывались устойчивые представления об эталонных образцах И в архитектуре и живописи, и для проповеди и летописи (что прослежено с выявлением и особо характерных повторов или зачастую попыток повторов и подражаний историками изобразительных искусств, литературы, языка).
Необходимость выступления в Ярославле в 1985 г. побудила меня - о чем вспоминаю теперь с признательностью судьбе за
так сложившиеся обстоятельства - к дальнейшим размышлениям о значении «Слова» в развитии культуры и роли его в восприятии Древней Руси в последующие времена, о месте «Слова» в жизни и творчестве Пушкина: труды такой тематики напечатаны и на русском, и на других языках1. И хотя для фиксирования этого в виде отдельной статьи не нашлось места в пятитомной «Энциклопедии “Слова о полку Игореве”», изданной под редакцией О.В. Творо-гова в 1995 г., наблюдения вошли в научный обиход. А мне эго помогло разглядеть ранее не отмеченное в историко-культурных представлениях людей Древней Руси и тех, кто познакомился со «Словом» после издания 1800 г.
Юбилей издания «Слова» может рассматриваться и как московский праздник культуры, ибо рукопись изучали в доме московского вельможи и ученого мецената, пригласившего к совместной работе московских знатоков памятников древнерусской письменности; впервые о рукописи сообщил самый знаменитый тогда московский писатель (Н.М. Карамзин); издали ее в Москве.
Как уроженец Москвы и историк Москвы, главный редактор однотомной энциклопедии «Москва» 1997 г., где напечатаны статьи о самом А.И. Мусине-Пушкине и об архитектурном ансамбле его усадьбы близ Богоявленского собора в Елохове, и начатой подготовки двухтомной «Московской энциклопедии», где в первом томе «Лица Москвы» намерены поместить статьи и об Алексее Ивановиче с портретом его, и о Мусиных-Пушкиных, выражаю глубокую признательность москвичей за все то, что делают в Ярославле для увековечения «Слова о полку Игореве» и в Рыбинске во славу фамилии Мусиных-Пушкиных.
В биографии «Слова о полку Игореве» три этапа: период, близкий ко времени его создания, когда конкретное содержание вызывало интерес к недавним событиям и тревожные ощущения; в последующие столетия «Слово» побуждало к литературнохудожественному подражанию и в стилистике, и в подходе к историческим явлениям с широким пространственным и временным кругозором (ведь «Слово» - памятник глубокой историко-философской мысли!). После издания «Слова» наступил период восприятия и оценки его в контексте развития и художественной литературы (отечественной, а затем и всемирной), и наших представлений об истории и культуре Древней Руси и в то же время в контексте развития научной мысли и специальных методик гуманитарных наук, тем более что сразу же раздались голоса скептиков, полагавших, что это имитация более позднего времени.
В первый период «Слово» исполнялось как героическая «песнь» (даже если изначально было написано или сразу же и записано), воспринималось прежде всего на слух. (Видный петербургский лингвист В.В. Колесов называет его «поющим Словом», полагая, что исполнение «Слова» могло сопровождаться музыкальным аккомпанементом.) В последующие века особое внимание «Слово о полку Игореве» привлекало в годы знаменательных событий государственной истории, обусловивших повышенный интерес к взаимосвязи времен и к памятникам культуры, ее отражавшим. Так было после впечатляющей победы на поле Куликовом, оцененной как «Мамаево побоище», когда «Слово» использовалось как образец автором «Задонщины».
Это - по определению Д.С. Лихачева - «эпоха крутого подъема, время разнообразного и напряженного творчества, время интенсивного сложения русской национальной культуры»2. Так было в конце XV - начале XVI в., в пору оформления централизованного государства в России, когда сочли необходимым сделать список «Слова», по которому готовили его издание в конце XVIII в. Небезлюбопытно, что список этот в рукописи из Северо-Западной Руси, ибо в период явственного усиления московской государственности и провозглашения именно московских государей наследниками международного величия государей Древней Руси на северо-западе Руси стремились представить носителями историко-культурных традиций Древней Руси Новгородскую и Псковскую земли.
То, что открытый в конце XVIII в. памятник культуры Древней Руси был тотчас же высоко оценен и как шедевр художественного творчества, и как важный исторический источник, объяснялось тем, что тогда - особенно после побед «екатерининских орлов» - общественная мысль образованных россиян была на взлете национального историко-культурного сознания, а историческая и филологическая науки в России приблизились уже к высокому уровню современных европейских знаний.
К тому времени были завершены многотомные труды В.Н. Татищева и М.М. Щербатова обо всей российской истории по начало XVII в. и созданы работы в области «местнографии»; самая значительная из них и совершенная по методике - «Историческое, географическое и экономическое описание Воронежской губернии» Е. Болховитинова - издана в тот же год, что и «Слово о полку Игореве». Имелся уже немалый опыт выявления исторических источников, их публикации и исследования (особенно
летописей), а описание старинных документов в Московской коллегии иностранных дел признавалось образцовым. Сохранению российских достопамятностей стали уделять внимание коллекционеры. Н.М. Карамзин уже погрузился в изучение памятников российской истории, готовясь стать «историографом Российской империи». Степень интереса и уважения к памятникам прошлого всегда и признак современного уровня культуры и общественного сознания.
Издание «Слова» 200 лет назад явилось событием, не только предопределившим многое в сфере развития науки, литературы, искусств, чему, собственно, и посвящен мой доклад, но и замечательным явлением в области, которую теперь характеризуем как научно-организационную.
Это едва ли не первый пример столь результативного творческого и организационного сотрудничества ученых (причем и историков, и филологов) с архивистами. (История этого содружества в течение не одного года детально рассмотрена в трудах В.П. Козлова.) Именно с тех пор берет начало практика совместной подготовки документальных публикаций сотрудниками хранилищ документов и исследователями (т. е., если употреблять терминологию наших дней, сотрудниками научно-исследовательских учреждений и вузов).
Традицией стало и то, что памятники древнерусской литературы изучают, описывают, готовят к публикации не только филологи, но и историки: среди занимавшихся изучением летописания и разработкой правил издания летописей самые знаменитые имена и филологов (А.А. Шахматов, Д.С. Лихачев), и историков (М.Н. Тихомиров, Б.А. Рыбаков), не говоря уже о многих других.
Первым исследователем и публикатором повестей о так называемом Смутном времени, введшим их в круг памятников литературы, был историк С.Ф. Платонов. Широко известную академическую серию «Литературные памятники» начали изданием в 1948 г. «Хождения за три моря» Афанасия Никитина: в книге текст, подготовленный к печати филологом В.П. Адриановой-Перетц, и статьи и комментарии историков. Такая практика изучения и издания нарративных памятников допетровского времени объясняется тем, что некоторые из них признаются памятниками и «исторической мысли», и «литературными».
Это и первый пример плодотворного творческого сотрудничества мецената и ученых, когда меценат не только обеспечивает издание материально, но и сам как ученый старается участвовать
в его подготовке. Такое случается нечасто. Граф Н.П. Румянцев необычайно много сделал как собиратель и хранитель памятников истории и культуры, обеспечивавший их публикацию, как организатор работы ученых, заинтересованно помогавший им, но сам не пробовал силы в области исторических исследований. А.И. Мусин-Пушкин же был и автором самостоятельных научных трудов, и соучастником коллективных начинаний. Как авторы научных трудов о памятниках древности (и словесных, и вещественных, и изобразительных) позднее выступали и другие меценаты: из титулованной аристократии граф С.Г. Строганов, супруги граф и графиня А.С. и П.С. Уваровы; на рубеже уже XIX и XX вв. в среде коммерсантов Андрей Александрович Титов из Ростова Великого - коллекционер, историк, археограф. Сейчас ярославским историком, редактором «Ярославской старины» Я.Е. Смирновым подготовлен библиографический указатель трудов Титова с очерком о его жизни и деятельности. Особенно велик вклад Титова и его тестя И.А. Вахрамеева в сохранение и изучение памятников истории и культуры Ярославского края.
Кажется, впервые публикация текста памятника предварялась и сообщением о памятнике в периодическом издании, рассчитанном на широкого читателя, тем более зарубежного: в октябрьском номере гамбургского журнала «Spectateur du Nord» за 1797 г. в статье «О русской литературе» Н.М. Карамзин сообщил о находке «Песни воинам Игоря» и высказал соображения, что напоминание о Бояне свидетельствует о том, что и до конца XII в. «в России были великие поэты, творения которых поглощены временем».
«Слово о полку Игореве» сразу же стало восприниматься как вершинное воплощение духа отечественной древности. В 1801 г., предпринимая издание иллюстрированной периодической серии «Пантеон российских авторов, или Собрание их портретов с замечаниями», Карамзин в самом начале книги поместил стилизованное изображение Бояна. Образность «Слова», его художественная стилистика и лексика (употребление заимствованных оттуда лексем и фразеологизмов) обнаруживаются уже в первое десятилетие XIX в. в произведениях выдающихся мастеров (начиная с самого прославленного тогда поэта Г.Р. Державина). В 1808 г. к возобновлению после пожара работы в Москве Петровского театра С.Н. Глинка написал «пролог с хорами и балетами» «Боян, русский песнопевец древних времен». Главный герой театрального Действия Боян изображен был на Олимпе в окружении муз и ан
тичных богов; в патриотических стихах его явно обнаруживалась оценка политических событий современности. Ю.М. Лотманом отмечено, что Боян «прочно и безоговорочно вошел в литературу раннего русского романтизма», стал «нарицательным именем, обозначающим древнерусских поэтов вообще».
Это показатель знакомства со «Словом о полку Игореве» и «широкой публики». Введение «Слова» изданием 1800 г. в обиход культуры имело большое значение для развития и науки, и литературы, и искусств, и воспитания историей. Сфера наук, в той или иной мере отражающая значение «Слова», тем более знакомство с ним, очень широка. Естественно, что первая публикация «Слова» сыграла заметную роль в развитии специальных историко-филологических научных дисциплин - археографии, текстологии, кодикологии, палеографии, книговедения. Потому-то и самый факт издания (и его подготовка, и его особенности) давно уже стал темой и историографических исследований в этих областях знания, и монографии (как у Л.А. Дмитриева), и многих статей и трудов более общего характера (как признаваемая классическим трудом книга Д.С. Лихачева «Текстология на материале русской литературы X-XVII вв.», обойденная почему-то в списке литературы, приложенном к статье «Первое издание “Слова”» в пятитомной энциклопедии о «Слове»), а затем и учебной литературы для вузов.
Сейчас нетрудно обнаружить недочеты первого издания, если подходить к нему с критериями сегодняшних знаний и методик. И странно, если было бы иначе: это значило бы, что наша наука не развивается и методика не совершенствовалась за 200 лет. Воспроизведение текста издания 1800 г. в большой книге 1805 г. А.С. Шишкова «Примечания на древнее сочинение, называемое “Ироическая песнь о походе на половцев, или Слово о полку Игоревом”» с дополнительными комментариями Шишкова послужило поводом для новых разысканий и лингвистического, и историко-литературного характера, способствуя тем самым изучению и популяризации памятника. После того издания «Слово», как правило, сопровождалось и лингвистическими, и историческими комментариями. Этот опыт помогал выработке норм так называемых академических изданий, т. е. по всем спискам, с указанием разночтений, предисловием (или статьями) о происхождении и местонахождении памятника, текстологическими соображениями, с комментариями, примечаниями. К «Слову о полку Игореве» обращались филологи разного профиля - и языковеды, и истори
ки литературы, и фольклористы, причем не только слависты, но и востоковеды (в 1970-е годы даже в газетах рассуждали о выводах О. Сулейменова - в его статьях и книге «Аз и Я», полагавшего, что изначальный текст «Слова» тюркский). «Слово» рассматривали в сравнении с памятниками и древнерусской литературы, и литературы других народов, с самыми выдающимися произведениями средневековой литературы и Западной Европы («Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах»), и на восточных языках («Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели). Интерес к «Слову» побудил Пушкина к ученым занятиям филолога - он готовился написать о памятнике в стиле знаменитого тогда исследования Шлецера о «Нестеровой летописи».
Среди писавших о «Слове» специально, не говоря уже о характеристиках, упоминаниях «Слова» в трудах более широкой тематики, имена едва ли не всех видных филологов-славистов начиная еще с первой половины XIX в. (А.Х. Востокова, С.П. Ше-вырева, И.И. Срезневского, Ф.И. Буслаева) до фундаментальных трудов по истории «русского литературного языка старшего периода» С.П. Обнорского (1930-1940-е годы), Л.А. Булаховского и других, - вплоть до наших дней.
Особенно много сделано было В.Н. Перетцом и его научной школой. В послевоенные годы изучение «Слова» - одна из ведущих тем научного творчества сотрудников обоих академических институтов - Пушкинского Дома и Института мировой литературы, ученых, группировавшихся вокруг В.П. Адриановой-Перетц, И.П. Еремина, Д.С. Лихачева в Ленинграде, Н.К. Гудзия в Москве. И ныне на нашей конференции выступают докладчики, приобщающие к дальнейшему изучению «Слова» и в научно-исследовательских учреждениях, и в высших учебных заведениях, и - что существенно важно - не только в обеих столицах российской культуры Москве и Петербурге или в столицах Украины и Беларуси, но и в провинциальных вузах и хранилищах памятников истории и культуры - музеях, библиотеках, архивах. О «Слове» писали ученые, отличавшиеся особым многообразием филологических интересов, А.Н. Веселовский и В.Ф. Миллер. Попытку ритмической и акцентной реконструкции «Слова» предпринял в 1909 г. Ф.Е. Корш - специалист по сравнительному и общему языкознанию, активно владевший многими языками. Крупнейшие Ученые, известные фундаментальными исследованиями широкой проблематики, полагали важным подготовить издание текста с комментариями, как А.А. Потебня в 1877 г., или в учебных целях,
как Н.С. Тихонравов в 1866 г., даже препарируя его (опуская «темные места» и систематизируя правописание), как Ф.И. Буслаев во много раз переиздававшейся «Русской хрестоматии». Буслаев же выполнил для обучения цесаревича прозаический перевод «Слова» с наивозможным сохранением художественных особенностей памятника. Такое творческое участие видных исследователей в организации процесса преподавания в высшей и средней школе способствовало и совершенствованию приемов педагогики.
Комментаторами «Слова» выступали и ученые в области естественных наук: биолог Н.В. Шарлемань объяснил фенологические приметы «Слова», доказал великолепную осведомленность автора о повадках животных и птиц, даже высказал гипотезу об авторе памятника, приписывая его самому князю Игорю Святославичу (что позднее поддержал писатель В. А. Чивилихин). Следует особо указать и на то, что едва ли можно назвать другой памятник отечественной литературы (во всяком случае до времени творчества Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского), в изучение которого внесли бы такой серьезный вклад и иностранные ученые (что четко прослеживается по «Энциклопедии “Слова о полку Игореве”»). А это имело немалое значение вообще для закрепления интереса к истории и культуре России в зарубежной научной литературе и в общественном мнении.
О «Слове о полку Игореве», конечно, много писали и историки. У Н.М. Карамзина только в книгах «Истории государства Российского» 17 выписок из древнерусского текста и перевод. Сразу же стал рассуждать о «Слове» и Евгений Болховитинов, с деятельностью которого связаны успехи специальных исторических дисциплин и «местнографии»: он не сомневался в древности «Слова», но первоначально полагал, что «это - памятник XIV или XV века». Показательно, что в работах собственно исторического содержания историки подходят к «Слову» и как к памятнику художественной литературы, используя приемы собственно филологической «критики» (Н.А. Полевой, М.П. Погодин, К.Н. Бестужев-Рюмин, Н.И. Костомаров, выступивший в 1870 г. с публичной лекцией о «Слове», отстаивая его подлинность). С.М. Соловьев обращается к «Слову» как к историческому источнику при характеристике времени, предшествовавшего вторжению кочевников. О «Слове», месте его происхождения (и, соответственно, отражении локальных историко-географических обстоятельств) писали Д.И. Багалей, М.С. Грушевский и другие историки рубежа XIX и XX вв. М.Д. Приселков в 1941 г. опубли
ковал именно в историческом журнале («Историк-марксист») статью «“Слово о полку Игореве” как исторический источник», а М.Н. Тихомиров намерен был выступить на Всемирном конгрессе славистов в 1965 г. с докладом об историко-географическом кругозоре автора «Слова» (это последняя по времени его заявка на тему доклада, сделанная незадолго до кончины, что не указано в статье о М.Н. Тихомирове в «Энциклопедии “Слова о полку Игореве”», так же как и то, что он возражал против приемов организации обсуждения гипотезы А.А. Зимина). Оказывается, младший любимый брат академика Борис Николаевич Тихомиров, начинавший путь в науку трудами краеведческой тематики, автор работ и о России XVI-XVII вв., и о советском периоде, павший жертвой репрессий в 1938 г., в анкете для поступления в аспирантуру Института истории РАНИОН в 1927 г. указал (как выяснил по архивным материалам А.В. Мельников) рукопись в два печатных листа «Стихотворная основа “Слова о полку Игореве”». Отмечавший в разговорах со мною особую талантливость погибшего Б.Н. Тихомирова А.В. Арциховский в своих работах показал соответствие реалий «Слова» наблюдениям археологов о предметах, бытовавших в период битвы Игоря Святославича.
Н.Н. Воронин рассматривал «Слово» в контексте образности памятников изобразительного искусства (особенно архитектуры и прикладного искусства) рубежа XII и XIII вв., выявив близость общественных воззрений их авторов. Не только широкого профиля филологом, но и историком-комментатором выступает зачастую и Д.С. Лихачев. Особенно много писал о «Слове», названных там лицах, связанных с ними событиях государственнополитической истории и истории летописания Б.А. Рыбаков. Это отражено и в заголовках некоторых его книг: «“Слово о полку Игореве” и его современники», «Русские летописцы и автор “Слова о полку Игореве”», «Петр Бориславич: поиск автора “Слова о полку Игореве”». Таким образом, историки использовали текст «Слова» и как источник изучения Древней Руси и -шире - Восточной Европы времени описываемых событий и в то же время комментировали текст памятника данными, извлеченными из других источников той же эпохи. В контексте развития литературы и искусств в период до татаро-монгольского нашествия рассматривали его и филологи, и искусствоведы.
Однако сразу же после первого издания «Слова» раздались голоса сомневавшихся в том, что это произведение современное или очень близкое по времени к изображенным там событиям.
Тотчас же возникло и противостояние тем, кого стали называть «скептиками». Но труды и такой направленности, как сейчас понимаем, способствовали дальнейшему росту исследовательского мастерства ученых и интересны для историографов в плане изучения развития методики работы историков и филологов и организации их совместных трудов. Небезлюбопытны эти факты и для изучающих историю общественного сознания, историко-культурных (а иногда и идеолого-политических) представлений, даже практику общественных отношений.
Прежде всего, возник вопрос о степени соответствия опубликованного списка «Слова» его первоначальному тексту. И не только потому, что с совершенствованием текстологической и собственно археографической культуры ученых со все большей очевидностью выявлялись вызывавшие недоверие элементы воспроизведения рукописи и в издании ее, и в копии, сделанной ранее для Екатерины II, а обратиться к самой рукописи после гибели ее в московский пожар 1812 г. было невозможно. В период ознакомления с рукописью и подготовки ее к печати не обрели еще навыков в филигранологии и не умели использовать как важный датирующий признак водяные знаки: потому-то и по сей день сохраняется разнобой мнений о времени создания опубликованной рукописи «Слова». А это важно знать и для определения возможных поновлений и изменений в тексте, характерных для той или иной эпохи, и собственно лингвистического плана (в произношении и написании слов), и показательных для стилистики письменности и уровня историко-культурной образованности, особенностей общественного сознания. Постепенно накапливаемый опыт сопоставительного рассмотрения памятников литературы Древней Руси убеждает в том, что поновления в тексте (не говоря уже о перестановках фрагментов и пропусках) - характернейшее явление для культуры письменности в Средние века. Это происходило чаще всего из-за непонимания словаря давних лет или написания собственных имен, неясности (для читателя через века) изложения и истолкования событий и т. д.
Но иногда были и поновления преднамеренные - из-за стилистической приверженности переписчика (или заказчика копии) или даже в угоду политико-идеологической тенденции. Понятие об авторском праве тогда еще не сформировалось (так же как и представление об индивидуальном авторском стиле), точности в воспроизведении прежнего текста почитали обязательным придерживаться только при переписке тех рукописей, которые вос
принимались как «священное писание». (И оттого-то исследование специфики поновлений в текстах средневековых рукописей, их происхождения, локальных и хронологически определяемых особенностей стало предметом специальных исследовательских штудий.) Это позволяет полагать, что и переписанный (или впервые записанный со слуха) текст сгоревшей рукописи не был аутентичным первоначальному тексту «Слова», и тому обнаруживалось все больше подтверждений, причем зачастую исследованиями ученых, убежденно относивших время создания памятника к концу XII в. Предполагали, что из текста были устранены более заметные прежде фольклорные воздействия, что он был обработан в книжно-литературном стиле последующих веков. И потому А.А. Шахматов не решался, признавая древность литературного памятника, обращаться к нему как к собственно лингвистическому источнику. На это указывал в середине 1960-х годов В.В. Виноградов. Некоторые историки в недавнее время пытались обосновать мысль о создании «Слова» в XIII в., через несколько десятилетий после похода князя Игоря, под впечатлением столкновений не с половцами, а уже с татаро-монголами, и усматривали в «Слове» аллюзии, понятные современникам битвы на реке Калке (гипотеза Д.Н. Алыпица) или Александра Невского (гипотеза Л.Н. Гумилева). Но объединяет этих ученых (начиная с Е. Болховитинова) то, что они рассматривают «Слово о полку Игореве» как памятник древнерусской литературы, причем до времени Ивана Грозного. И все эти размышления к тому же оставались, как правило (за исключением, пожалуй, суждений Л.Н. Гумилева, падкого на публичность), достоянием сравнительно узкого круга ученых. Широкую же известность и значительный общественный резонанс вызвали суждения тех, кто признавал «Слово» позднейшей имитацией, подделкой XVIII в., сделанной под впечатлением знакомства с мнимыми «поэмами Оссиана» 1760-х годов, тогда еще казавшимися подлинными и восторженно встреченными и в Западной Европе, и виднейшими литераторами и просвещенными людьми среди россиян, или даже в угоду государственно-историческим воззрениям современников Екатерины II.
Предположение, что «Слово» - имитация недавних лет, возникло, видимо, уже на рубеже XVIII и XIX вв., сразу же после статьи Карамзина, впервые возвестившего миру об этом памятнике культуры. В то же время показательно и то, что именно издание «Слова» в 1800 г. убедило едва ли не самого авторитетного тогда знатока источников по истории Древней Руси А.Л. Шлецера
в том, что «Слово» - «творение в поэтической прозе, древнее и даже подлинное». Пушкин писал позднее об этой рецензии 1801 г.: «Великий критик Шлецер, не видав “Песни о полку Игореве”, сомневался в ее подлинности, но, прочитав, объявил решительно, что он полагает ее подлинно древним произведением, и не почел даже за нужное приводить тому доказательства; так очевидна казалась ему истина!»
Собственно «скептиками» должно называть среди «критиков» «Слова» лишь тех, для кого «Слово» - поздняя фальсификация. Остальные, признавая «Слово» памятником Древней Руси, сомневались лишь в первоначальной датировке памятника (XII или XIII в.?) и в степени соответствия дошедшей рукописи первоначальному тексту памятника, а также в датировке этой копии или записи (XIV, XV, XVI вв.?). Среди скептиков называли и графа Н.П. Румянцева. Это могло быть и следствием (и отражением) соперничества знаменитых титулованных меценатов: они ревниво относились к успехам друг друга в сфере собирательской и научно-просветительской деятельности, и Румянцеву было отнюдь не неприятно отметить, что Мусин-Пушкин доверяет фальсификаторам рукописей и подбирает некомпетентных научных консультантов. Полагаю, что Румянцев не мог заподозрить участие самого Мусина-Пушкина в подделке и допустить, что аристократ по рождению, столь многим обязанный Екатерине II, способен представить императрице фальсифицированную рукопись, выдавая ее за драгоценный памятник древности; обнаружение подлога стало бы позором для фамильной чести и вельможных Мусиных-Пушкиных, и связанных с ними родством. Однако Румянцев, думается, опирался и на суждения знатоков старины, и молва могла ссылаться потому на мнение и его ученого «кружка». Напомним, однако, что самый научно подготовленный и даровитый из младших участников «кружка» К.Ф. Калайдович, изучавший язык «Слова», обнаружил уже в 1813 г. в рукописи псковского Апостола 1307 г. приписку, напоминающую фрагмент из «Слова».
Общественное внимание к вопросу о времени сочинения «Слова» обусловлено было и изменением отношения к познанию далекого прошлого россиян после победоносной войны с Наполеоном, особенно с появлением в 1818 г. первых восьми томов «Истории государства Российского» Карамзина, когда, по словам А.С. Пушкина, «все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она
была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка - Коломбом...»3. События и люди Древней Руси все в большей мере вследствие этого становились темой творчества в художественной литературе и в искусстве, т. е. в сферах, вызывающих интерес и широкой публики. Интерес к этому не ослабел и к середине 1820-х годов. Изучавший особенности ментальности и поведения высшего общества этих лет Л.Н. Толстой намерен был, готовясь писать роман о декабристах, сделать темой разговора в великосветском салоне в канун восстания выход в свет в 1824 г. X и XI томов «Истории» Карамзина, тех самых, к которым обращался «гением его вдохновленный» Пушкин, создавая трагедию «Борис Годунов»4. Известно и о публичном споре о времени создания «Слова» при посещении А.С. Пушкиным Московского университета 27 сентября 1832 г., когда, по воспоминаниям студента той поры писателя И.А. Гончарова, Пушкин «горячо отстаивал подлинность древнерусского эпоса, а Каченовский вонзал в него беспощадный аналитический нож».
Сомнения в древности «Слова» первоначально базировались на распространенном тогда представлении о «варварстве и невежестве» Древней Руси: в начале XIX в. еще не знали восхищающих нас памятников архитектуры, скульптуры, живописи, созданных до нашествия кочевников; не развита была археология, принесшая нам к концу нынешнего века убеждение в массовом распространении тогда писем на бересте; мало осведомлены были и о развитии древнерусской литературы. Да и общепринятым было отношение к периоду Средневековья как к «темным векам», унаследованное от гуманистов эпохи Возрождения. Иное мнение начало утверждаться вместе с идейным и художественным направлением - романтизмом, что следует иметь в виду и при объяснении восторженного отношения «публики» к «Истории» Карамзина, - и в Западной Европе, и в России популярнейшим писателем стал тогда Вальтер Скотт. В дальнейшем не соглашавшиеся с мнением «скептиков» опирались не только на все расширявшиеся знания о Древней Руси, ее культуре и о развитии древнерусской литературы, но и на углублявшиеся знания о науке и литературе XVIII в., уровне осведомленности в те годы об источниковой базе истории Руси ХП-ХШ вв. Убеждались в том, что до появления «Истории» Карамзина не было еще стольких сведений о князьях и междукняжеских отношениях в конце XII в. Незнакомы были и с памятниками древнерусской литературы
(или именно такими их списками), которые введены были в научный обиход лишь в XIX в. Не знали и древние слова на восточных языках, выявленные учеными позднее. Стали понимать и то, что для создания памятника такого художественного совершенства необходима определенная литературно-художественная традиция - ведь предшественниками Макферсона, вольно обрабатывавшего в середине XVIII в. кельтские народные предания, приписывая их Оссиану, были Шекспир, Мильтон, Свифт и другие выдающиеся писатели.
Снова «скептический» взгляд на «Слово» стал предметом серьезных научных дискуссий после работ французского слависта А. Мазона (в конце 1930-х годов), полагавшего, что сочинение это сфабриковано в окружении Мусина-Пушкина. Интересно отметить, что с обстоятельными возражениями сразу же выступили эмигранты из России (и старших поколений, и Р. Якобсон) и иностранные ученые и писатели. Это мобилизовало внимание к такой проблематике и советских исследователей, причем изучающих и культуру Древней Руси, и культуру XVIII в. Глубокий знаток этой эпохи Ю.М. Лотман в работе «“Слово о полку Игореве” и литературная традиция XVIII - начала XIX в.», используя многообразный материал, показал органическое несоответствие памятника представлениям россиян второй половины XVIII в.
В СССР проблема времени происхождения «Слова» приобрела общественный резонанс со второй половины 1960-х годов в связи с источниковедческого характера исследованиями видного историка А.А. Зимина, выявившего недостаточную убедительность некоторых положений, казавшихся традиционными в историографии изучения «Слова». Соображения ученого близки к взглядам Мазона: создателем блестящей имитации древнерусского памятника был, по его мнению, знаток и древнерусской письменности, и фольклора; таким он видит Иоиля Быковского. Труды Зимина стимулировали активный интерес к изучению и самого «Слова» (причем в контексте с другими памятниками культуры), и бытования и издания рукописи (в конце XVIII в.), и, соответственно, всего, что имело отношение к рукописям, хранившимся в Спасо-Ярославском монастыре.
Пятитомная «Энциклопедия “Слова о полку Игореве”» демонстрирует заметное возрастание с тех лет числа научных трудов и публицистических сочинений, в той или иной мере касающихся «Слова». И доклады пленарного заседания нашей конференции обобщают как раз преимущественно выводы и наблюдения ис
следователей «Слова» в последние десятилетия. Последователей А.А. Зимина, склонных продолжать конкретные историко-филологические исследования в заданном им направлении, оказалось немного. И историю обсуждения, тем более осуждения, этой концепции следует рассматривать скорее в плане политической истории и истории общественного сознания. Это - очевидный пример организации высшими партийными инстанциями противостояния неугодным суждениям ученого даже мировой известности. Потому и многие из тех, кто не согласен был с мнением Зимина, сходились в своем неприятии приемов обсуждения его труда и формулировок, однозначно негативно оценивающих -да еще зачастую с шовинистических позиций - сделанное им. Иным А.А. Зимин казался отверженным, даже «страдальцем» за идею. Это отражалось, конечно, на психике самого ученого, его физическом самочувствии. Теперь, по прошествии десятилетий, к построениям А.А. Зимина допустимо подходить и в контексте эпидемии пересмотра устоявшихся датировок исторических памятников. (В области изучения истории древнерусской литературы наиболее известны попытки американского историка Э. Кинана доказать, что сочинения Курбского и Ивана Грозного созданы в XVII в.) Здесь сфера деятельности историографа сближается с тем, чем занимается психология; и интересно не только творчество ученого, но и восприятие его сочинений другими специалистами и широкой публикой.
«Слово о полку Игореве» привлекало в исследовательском плане не только ученых-профессионалов. Напомним снова о великом примере Пушкина. В советские годы среди изучавших язык и исторические реалии «Слова» - поэт Н.Н. Асеев, актер Московского художественного театра И.М. Кудрявцев, статья которого напечатана в «Трудах Отдела древнерусской литературы» Пушкинского Дома. Известна их переписка о «Слове» с Д.С. Лихачевым: переписка с Асеевым опубликована, с Кудрявцевым готовится к печати в журнале «Отечественные архивы». Там в одном из писем (1948) Лихачев заметил: «Я всегда был убежден, что по-настоящему знают литературу не “литературоведы” (сухари, без чувства литературы - все, все без исключения), а читатели».
Понятно, что «Слово» очень много значило для передовых школьных учителей. В 1930-1940-е годы одним из самых видных московских педагогов-словесников был И.И. Зеленцов, преподававший в бывшей Флеровской мужской гимназии близ Никитских
ворот, ставшей школой имени Фр. Нансена (погибшим на войне учителям и ученикам ее поставлен широко известный памятник «Реквием-1941»), Он переехал в Москву в годы революции из Рыбинска. Сейчас издана книга воспоминаний и статей «“Ты, солнце святое, гори”, книга о московском учителе словесности Иване Ивановиче Зеленцове», с большим разделом о его домосковском периоде жизни, где напечатана статья краеведа Ю.И. Чубуковой «О чем рассказывают архивы города Рыбинска». У нашего любимого и, как осознаю сейчас, необычайно одаренного учителя была лекционная манера занятий. Начинал он со «Слова», и темой первого сочинения, которое нам было неожиданно предложено написать в течение одного урока, было сочинение о Бояне: так учитель хотел узнать способности начинавших учиться у него в восьмом классе. А это то поколение выпускников школ предвоенных лет, о котором вскоре напишет С. Наровчатов: «В любой я бабе видел Ярославну, / В любом ручье Непрядву узнавал». Знаменитый московский учитель-методист, а затем профессор педагогического института М.А. Рыбникова сделала даже серию рисунков к «Слову», которые демонстрировались на уроках (в том числе и «открытых уроках» для учителей) и посмертно были изданы.'
Уже с первого десятилетия XIX в. стали появляться переложения и переводы «Слова» (или его фрагментов) и широко известных тогда авторов, и любителей. Среди них и Карамзин, и Шишков, и Капнист, и отец княгини Зинаиды Волконской князь Белосельский-Белозерский. Жуковский передал свой перевод Пушкину, когда тот имел намерение подготовить исследование о «Слове» (возможно, что он сделал это и для того, чтобы отвлечь Пушкина от тяжелых мыслей в преддуэльные месяцы). Переводчиками были и выдающиеся поэты (Аполлон Майков, Мей, Бальмонт, Заболоцкий и другие), и ученые-филологи (это обычно прозаический перевод), среди них видные историки древнерусской литературы (А.С. Орлов, Н.К. Гудзий, Д.С. Лихачев и др.). В развитии показательного для нашей словесности переводческого мастерства велико значение и работы по переводу «Слова о полку Игореве». «Слово о полку Игореве» переведено на многие языки: поэтический и прозаические переводы, полностью и во фрагментах. Как переводчики подвизались и самые знаменитые писатели: на немецкий язык переводил Рильке, на английский - Набоков, на польский - Тувим, на украинский - Шевченко, Франко, Рыльский, на белорусский - Купала, на армянский - Туманян. Переводы и переложения «Слова» включаются в труды о русской и ми
ровой литературе (среди авторов которых очень известные: поляк А. Мицкевич, датчанин Брандес, итальянец Ло Гатто). Тем самым «Слово» приобщало к познанию и начального этапа развития литературы, великие творения которой признаны были на рубеже XIX и XX вв. вершинными в мировой литературе. Оно обогащало представления о Древней Руси, ее культуре. Тема «Воздействие “Слова о полку Игореве” на развитие художественной литературы и искусств» и отражение не только стилистики «Слова», но и его содержания в произведениях последующих веков может стать предметом специального историко-культурологического исследования. Ограничусь лишь наиболее известными именами: Державин, Херасков, Рылеев, Шевченко и другие в XIX в., Блок, Брюсов, Бунин, Волошин в досоветские годы, многие поэты советских лет.
Образы Бояна и Ярославны стали нарицательными, символами. Плач Ярославны известен в многочисленных переводах на русский и украинский языки. Ярославна - героиня стихотворений и поэм. В годы Великой Отечественной войны П.Г. Антокольский писал поэму «Ярославна». Ольга Берггольц в осажденном Ленинграде восклицала: «Так некогда, друга отправив в поход, / на подвиг тяжелый и славный, / рыдая глядела века напролет / со стен городских Ярославна. / Молила, чтоб ветер хоть голос домчал / до друга сквозь дебри и выси...» Образ этот вдохновил челябинскую поэтессу Л. Татьяничеву на стихотворение «Ярославна» о вечном ожидании мужа-воина («Сколько дней, сколько длинных столетий / я тебя, мой единственный, жду... / И тебя я, твоя Ярославна, / в славе подвигов ратных дождусь...»). Образ Ярославны и в творениях мастеров живописи, графики, росписи по фарфору. Ленинградский композитор Б.И. Тищенко - создатель (в 1974 г.) новаторского по музыке балета «Ярославна», а хореограф О. Виноградов, осуществляя его постановку, ввел в партитуру хор, исполняющий строки «Слова о полку Игореве».
Сюжет и герои «Слова» вдохновляли многих живописцев и графиков. Особенно широко известны гравюры В.А. Фаворского и иллюстрации палешанина И.И. Голикова, с 1980-х годов -гравюры Д.С. Бисти. К образам «Слова» обращались и художники эмиграции, причем не только к книжной иллюстрации - И. Билибин создал также два панно. Великая опера А.П. Бородина «Князь Игорь» - и красочные постановки ее, и исполнение арий певцами и симфонических фрагментов оркестрами - много способствовала популяризации «Слова о полку Игореве».
«Слово о полку Игореве» вошло в корневую систему нашей отечественной культуры и в представления за рубежом о нашей культуре. «Слово» - то великое наследие, с которым мы с гордостью и радостью вступаем в новое тысячелетие.
1 Шмидт С.О. «Слово о полку Игореве» и становление и развитие понятия о памятнике культуры // Памятники Отечества. 1986. №1. С. 152-161 (также в кн.: Шмидт С.О. Археография. Архивоведение. Па-мятниковедение. М., 1997. С. 144-163); Он же. «Слово о полку Игореве» и развитие понятия о памятнике культуры: К 800-летию «Слова» // Наука в СССР. 1986. № 6. С. 94-103 (то же на англ., исп., нем. яз.); Он же. «Слово о полку Игореве» в жизни Пушкина // Пушкинские чтения в Тарту: Тез. докл. науч, конф., 13-14 нояб. 1987 г. Таллин, 1987. С. 88-89; Он же. А.С. Пушкин о «Слове о полку Игореве» // Древности славян и Руси (Сборник к 80-летию Б.А. Рыбакова). М., 1988. С. 169-174 (также в кн.: Шмидт С.О. Путь историка: Избранные труды по источниковедению и историографии. М., 1997. С. 227-232); Он же. Перед дуэлью: «Слово о полку Игореве» - спутник последних месяцев поэта // Неделя. 1989. №23. 5-И июня.
2 Лихачев Д. С. Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифа-ния Премудрого (конец XIV - начало XV в.). М.; Л., 1962. С. 4.
3Пушкин А.С. Из автобиографических записок 1826 г. // Пушкин А.С. Поли. собр. соч. в одном томе. М., 1949. С. 1429.
4 Подробнее см.: Шмидт С.О. «История государства Российского» в культуре дореволюционной России // Карамзин Н.М. История государства Российского. М., 1988. Кн. 4. С. 39. (Сопроводительные статьи к репринтному воспроизведению пятого издания «Истории».)
Предисловие к книге «Василий Андреевич Жуковский -великий русский педагог»
Статья, выходящая ныне отдельным изданием, была написана в 1996 г. для юбилейного сборника к 90-летию академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. В него вошли статьи около пятидесяти российских и зарубежных авторов. Книга имела показательное название - «Русское подвижничество». Подвижническими были не только жизнь и творчество великого ученого, общественного деятеля, но и одно из направлений его многообразных творческих поисков - выявление благородных черт подвижничества в биографиях реальных исторических лиц и у литературных героев.
В том же 1996 г. в Пензе по почину Российской академии образования переиздали удивительную по мудрости и нравственной высоте небольшую книгу Дмитрия Сергеевича «Письма о добром» - высокий образец и светлой мысли, и русского литературного языка. Издание предваряло слово «О добром и прекрасном человеке» А.В. Петровского, в то время президента Российской академии образования; в конце книги - статья С.О. Шмидта «О жизни и деятельности Дмитрия Сергеевича Лихачева».
Как и другие сочинения Д.С. Лихачева, предназначенные для самого широкого - и прежде всего юного - читателя («Земля родная», «Заметки о русском»), эта книга - итог не только многолетних раздумий, опыта долгой жизни и глубокого освоения воспринятого в многовековой отечественной и мировой культуре, но и наблюдений, возникавших в общении с детьми. У Дмитрия Сергеевича выработалась особо доверительная манера обращения, простота запоминающегося и доступного слова, возбуждающего и мысль, и чувство.
Академик Д.С. Лихачев был прирожденным воспитателем и в овладении приемами исследовательского мастерства, и в приобщении к культурному и природному наследию, и в подходе к явлениям жизненной повседневности. Потому-то сочинения его
Впервые опубл.: Предисловие // Шмидт С.О. Василий Андреевич Жуковский - великий русский педагог. М., 2000.
Книга переиздана без изменений (но без иллюстраций) издательством БЛИЦ (СПб., 1999).
неизменно поучительны. Ему было присуще редкое умение одновременно обращаться и к учащим и к учащимся, к душевному опыту людей разных поколений и разного уровня образованности, и обучение для него неотторжимо от воспитания. И понятно, что именно Дмитрия Сергеевича Лихачева первым избрала (в 1993 г.) своим почетным членом наша Российская академия образования.
Д.С. Лихачев ощущал потребность творить добро, видел в этом свой долг, особенно тогда, когда достиг влиятельного общественного положения. Незадолго до своей кончины в интервью газете «Московские новости» он сказал: «Я рад, если что-то могу сделать для других, если кому-то пригодится мой совет или мнение по тому или иному вопросу. Признаться, иногда сомневаюсь, что могу переломить ситуацию, но, если мое участие хотя бы в виде подписи дает кому-то надежду в нынешних непростых условиях, я обязан откликнуться». Это также было характерно и для образа мысли и поведения Василия Андреевича Жуковского.
Сближений оказалось немало - корни основополагающих представлений в мироощущении Д.С. Лихачева и его культурологических воззрений в русле социокультурного мира Н.М. Карамзина и В.А. Жуковского, с его кажущейся естественной амальгамой корневой православной культуры Руси и идеалов эстетики и логики мысли западноевропейского Просвещения (это чувствуется и в книге ученого о поэзии садов, когда он обращается к образам поэзии Жуковского). Именно Лихачев особенно много сделал для возвращения к нам Карамзина и его «Истории государства Российского». Даже для искушенных в политике россиян такого образа мысли этика и эстетика представлялись неразделимыми в существе своем. И «свое писательское дело» такие люди (по определению Лихачева) «воспринимали как служение Родине». Особенно привлекательной им казалась философия с моральным уклоном: показательно, что афоризмы писателей-моралистов высоко ценили люди круга Пушкина; стремился сделать их достоянием уже наших современников и председатель редакционной коллегии серии «Литературные памятники» академик Лихачев.
Лихачев, как и Карамзин, Жуковский, Пушкин, убежден был в преобразующей силе просвещения, определяющего и нравственные нормы, и мировоззрение общества, в особом значении преемственности исторических представлений. Для них воспитание души - основа обучения, а высокая мудрость понятий о целесообразности и необходимости смягчалась чувством. Их сближало и убеждение в том, что история России - сфера ми
ровой истории (и, следовательно, должно учитывать и местные особенности, и общие закономерности исторического развития), а российская литература - часть всемирной. Они и стремились обогатить россиян достижениями мировой культуры и гордились ролью России во всемирной истории, вкладом россиян в мировую культуру. Запомнилось и то, что в служебном кабинете академика, выделенном ему в Пушкинском Доме, висели портреты Пушкина и Жуковского. Потому-то захотелось выступить в юбилейном сборнике, посвященном Д.С. Лихачеву, со статьей о подвиге В. А. Жуковского как наставника наследника российского престола, попытаться показать естественность и значение того, что в Жуковском совмещались и великий поэт, и великий педагог.
После написания представляемой статьи вышли из печати первый том полного академического собрания сочинений В.А. Жуковского, книга «В.А. Жуковский в воспоминаниях современников», переиздана монография академика А.Н. Веселовского «В.А. Жуковский: поэзия чувства и “сердечного воображения”». Были обнаружены и не попавшие в поле зрения исследователей выступления в годовщину смерти Жуковского в 1902 г.: тогда в аудиториях педагогов о Жуковском как педагоге говорили и видный московский историк М.М. Богословский, и выдающийся педагог-словесник А.Д. Алферов.
Использование этих и других материалов могло бы, конечно, обогатить статью 1996 г. Однако я не стал вносить в ее текст изменений, так как задача автора - не расширение собственных занятий по этой проблематике, а привлечение большего внимания к углубленному изучению темы «Жуковский-педагог». Это важно и для объективного познания истории отечественной и даже мировой педагогической мысли, и для понимания общественно-политических взглядов, философских воззрений современников Пушкина, более того - лиц самого близкого ему круга. Жуковский был не только глубоким мыслителем и наблюдательным психологом, но и изобретательным методистом, вырабатывавшим новаторские приемы обучения, освоение которых полезно и в современной преподавательской практике.
В связи с подготовкой первого академического издания сочинений Жуковского, введением в научный обиход его помет на прочитанных книгах, с появлением все большего числа научных трудов о его жизни и творчестве, о его взаимосвязях с известными современниками в России и за рубежом (наиболее интенсивно работают в этих направлениях ученые Томска и Петербурга),
с дальнейшим расширением наших представлений о многообразии Пушкинской эпохи и о путях развития педагогической мысли можно полагать, что учитель Пушкина в поэзии станет восприниматься и как великий педагог всемирно-исторического масштаба.
Василий Андреевич Жуковский был добрейшим и мудрым человеком, а это - самое счастливое, хотя и редкостное сочетание. И личность, и творчество Жуковского - в сокровищнице того ценного, что дарит Россия второго тысячелетия грядущему тысячелетию.
У истоков творчества Пушкина - московское детство, Москва и Подмосковье. Между тем распространено представление, будто Пушкин, когда «хотел оглянуться на начало жизни», «неизменно вспоминал только Лицей - детство он вычеркнул из жизни. Он был человек без детства». Эта цитата из много раз переиздававшейся книги 1980 г. выдающегося нашего культуролога-литературоведа Юрия Михайловича Лотмана «Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя (пособие для учащихся)»1. Эффектная формулировка излишне категорична. Суждение это осталось и недостаточно обоснованным, хотя оно не соответствует тем знаниям, которые можно было почерпнуть из первых биографий Пушкина, написанных еще младшими его современниками П.В. Анненковым1' и П.И. Бартеневым и уже тогда из наблюдений пушкиноведов последующих десятилетий об отражении детских, следовательно московских (или подмосковных), впечатлений в творчестве Пушкина.
Из «новой яркой биографии поэта» «вдруг выяснилось, что про целую треть жизни Пушкина почти нечего сказать. Всех раззадорил Ю.М. Лотман» - так объясняет свое побуждение к изысканиям о московском детстве Пушкина В.Д. Берестов. Это мнение Лотмана оспаривает и Н.Н. Скатов в главе «Детство» книги «Пушкин. Русский гений», вышедшей в 1987 г. Статьи
Впервые опубл.: Юность. 2001. № 12. С. 50-59. В основе статьи доклад «Московское детство Пушкина» на научной конференции «На пороге третьего тысячелетия. Пушкин: русский гений и духовные ценности человека», организованной 27 января 1999 г. в Актовом зале старого здания Московского университета Московским государственным университетом, Московской патриархией и Институтом мировой литературы Российской академии наук. Автор не имел возможности использовать данные, появившиеся в печати после завершения этой статьи. Среди работ этой тематики особенный интерес представляют: сборник статей «“Мое Захарово...”: Захаровский контекст в творчестве А.С. Пушкина» (М„ 1999) и статья В.С. Листова «На тихих берегах Москвы...» в его книге «Новое о Пушкине: история, литература, зодчество и другие искусства в творчестве поэта» (М., 2000. С. 14-23).
*’ П.В. Анненков отметил: «Мы встречаемся еще в детстве Пушкина с предметами, которые впоследствии будут оживлены его гением»2.
Берестова были объединены в издании, рассчитанном на массового читателя, - в книжечке «Ранняя любовь Пушкина» библиотеки «Огонек» (№ 32 за 1989 г.)2’. Подход автора к теме особо интересен и своеобразен тем, что Валентин Дмитриевич выступает и как ученый-историк, и в то же время как поэт, имеющий личный опыт познания источников творческого воздействия и характерных черт творческой памяти при обращении к впечатлениям детства, к тому же поэт, много писавший для детей, следовательно, ощущающий и особенности детского восприятия.
Действительно, Пушкин как писатель (а книга Лотмана имеет четко определяющий ее направленность подзаголовок «Биография писателя») состоялся лишь в лицейские годы. Тогда только его и стали воспринимать как поэта: он обрел аудиторию и был принят как свой в среде литераторов (в литературнообщественном объединении «Арзамасское братство» получает прозвище «Сверчок»), Именно тогда завязываются уже личные (а не по знакомству дяди и отца) близкие отношения с лицами мира литературы (с некоторыми - с Жуковским, Вяземским - на всю жизнь). Именно в лицейские годы закрепились и основы присущей Пушкину замечательной образованности и энциклопедической широты интересов, и убеждение в значении «дружества» (в XX уже столетии пленительный французский аристократ, и по душевному облику, и по фамильному происхождению, Сент-Экзюпери назовет его «роскошью человеческого общения»).
Соображения о начале писательского пути Пушкина именно в Лицее опираются на тексты и самого Пушкина - не только поэтические (в обращениях к лицеистам, даже в «Евгении Онегине»: «в садах Лицея... являться Муза стала мне»), но и прозаические. В 1830 г. в не завершенном и не опубликованном при жизни «Опровержении на критики» он писал и о своей «16-летней авторской жизни», о том, что начал «писать с 13-летнего возраста и печатать почти с того же времени». И авторитетнейший знаток и биографии, и текстов Пушкина Б.В. Томашевский, отмечая, что уже в стихах 1813 г. «чувствуется уверенность поэта, овладевшего техникой стихотворной речи», приходит к выводу: «По-видимому, именно написанное в возрасте 13 лет явилось чем-то поворотным, значительным, решившим судьбу поэта. Все же, что написано до
2‘ По книге В. Берестова «Ранняя любовь Пушкина» (М., 1989) подготовлена была посмертно статья «Детство. 1799-1811» для книги 1999 г. «Пушкин и Москва» (С. 91-106).
1813 г., в глазах Пушкина было лишено всякого значения». «Можно заключить, что действительно колыбелью юной поэзии Пушкина был Лицей. Об этом неоднократно говорил Пушкин в своих стихах, и это, по-видимому, не поэтический вымысел, а исторический факт. Именно Лицей в какой-то мере стимулировал литературные занятия Пушкина»3.
Но литературные занятия могли стать постоянными и столь результативными только тогда, когда образовался достаточный для этого запас жизненных впечатлений и знаний. А процесс накопления происходил, конечно, не только со времени поступления Пушкина в Лицей.
Следует не упускать из виду и то, что Пушкин создавал (это отмечено уже и пушкинистами) несколько идеализированный облик Лицея, уподобляя его античному прообразу. И тем самым светлые лицейские годы («луч лицейских ясных дней» - слова послания И.И. Пущину) как бы противополагались остальному и во времени (т. е. другим временам жизни поэта - и предыдущим, и последующим), и в пространстве даже («...нам целый мир чужбина, / Отечество нам Царское Село» - в стихотворении «19 октября»).
Еще существеннее то, что при изучении биографии важны не только самооценка и вообще оценка какого-либо момента или периода жизни, его положительного (так же как и отрицательного) заряда, а прежде всего степень запечатления, воздействия (зачастую и невольного) на душу и разум. Особенно в детстве, когда возникают первичные представления о добре и зле, о долге и зависимости от внешних обстоятельств (хотя обычно пока еще в ощущении, а не в осмыслении), когда формируются привычки и вкусы, репертуар наиболее привлекательных и доступных знаний и занятий.
Сейчас считается общепризнанным, что все мы «вышли из детства», что именно в ранние детские, младенческие годы закладываются основы и характера человека, и его отношения к людям и к окружающему миру, направленность его интересов, проявляются ощутимые задатки наклонностей и способностей. Глубокий знаток детской психологии и один из крупнейших современных педагогов, Ш. Амонашвили, уверен в том, что «величайшая эпоха в жизни ребенка» совершается до трехлетнего возраста, и это эпоха и нравственного возрастания. А в шесть лет «уже складываются образы, определяются вкусы», время кажется растянутым для ребенка, он устремлен в будущее.
Мы все, особенно люди почтенного возраста, можем по собственному жизненному опыту и при общении с близкими нам людьми убедиться в том, как надолго закрепляются в сознании нашем, в зрительной памяти, в памяти сердца впечатления первых 10-12-ти лет жизни: события, и лица, и ландшафты, и сказанное нам (или нами), и прочувствованное тогда (радости и обиды), и приметы повседневности, хотя это, как правило, явления не масштабного характера, и в оценке их теперь руководствуемся уже и последующим жизненным опытом - опытом увиденного, узнанного позднее. И нередко зароненное в душу в детские годы, запомнившееся десятилетия назад (слова, даты, обозначения на карте и тому подобное) всплывает через много лет в сознании и при совсем иных обстоятельствах. И конечно, для Пушкина, такого впечатлительного и памятливого, столь безмерно богатого мыслительными и зрительными ассоциациями, воспринятое в детстве не могло не играть формообразующую роль и человеческого характера, и литературного творчества. В творчестве классиков российской словесности немало следов отражения еще детских ощущений - примерно в те же годы у Лермонтова. Ограничимся произведениями тех, кто писал о московском детстве, а это Герцен и Огарев, Островский и Салтыков-Щедрин, Достоевский и Л. Толстой, Шмелев и Андрей Белый, Пастернак и Цветаева, ближе к нам Окуджава... Неужели Пушкин был обойден в этом?!
Пушкин утверждал: «Воспоминание - самая сильная способность души нашей»4. Пушкин уже «под старость молодости» (как он определял) был убежден, что душа живет воспоминаниями, а воспитание дается человеку «обстоятельствами его жизни и им самим - другого воспитания нет для существа, одаренного душою» (из письма А.А. Дельвигу, март 1821 г.)5. И, думается, осознавал огромное значение для становления личности детских впечатлений и воспитания в детстве. Такое осознание и в системе ментальности людей его круга, и в дорогих ему традициях русской литературы. Пожалуй, отчетливее всего это выражено в незавершенном произведении Н.М. Карамзина «Рыцарь нашего времени». В этой автобиографической повести Карамзин впервые в нашей литературе задумал рассказать историю своего сверстника, показать «связи вещей и случаев» в его биографии, роль чтения в «образовании ума и чувства». Там и запоминающаяся формулировка: «Первое воспитание едва ли не всегда решает судьбу и главные свойства человека». Из этого убеждения исходил и старший друг Пушкина и учитель в поэзии В.А. Жуковский, со
гласившись стать наставником наследника российского престола и определяя для себя задачи своей деятельности6. Таким убеждением руководствовался и сам Пушкин, столь рано приступив к написанию «Воспоминаний» (текст которых затем уничтожил). Из набросков плана «Воспоминаний» ясно, что автор намерен был рассказать и о самых ранних впечатлениях: землетрясение в Москве произошло тогда, когда Пушкин был трехлетним (и тогда же это было отмечено Карамзиным).
О московском детстве, отражении его в сочинениях Пушкина писали и упомянутые ранее, и другие авторы трудов о Пушкине. Суммируя выявленные уже данные и добавив к ним дополнительные соображения (о чем и пойдет речь далее), допустимо утверждать, что ко времени лицейского поприща, когда всем стал очевиден замечательный поэтический дар Пушкина, он уже имел плодотворный для поэтического развития значительный запас жизненных наблюдений и отличался редкой в таком возрасте начитанностью и целеустремленностью мысли, воплощавшей все в литературные образы. Об этом можно судить на основании не только воспоминаний (отраженных на бумаге после кончины Пушкина, когда старались, быть может и невольно, усмотреть в его детских поступках и высказываниях предпосылки блистательного поэтического будущего), но и написанного самим Пушкиным, и прежде всего о Москве, москвичах, явлениях московского обихода. А также и ненаписанного Пушкиным - что не менее показательно!
У Пушкина нет описаний материнской любви, общения ребенка с матерью, детства в семейном кругу. Не встретим в стихах и упоминаний ни о матери, ни об отце. Случайно ли это? Думается, что нет. Пушкин не знал в детстве радости родительского очага. Родители его были в большей мере людьми публичной жизни, а не домашней, семейной, хотя и читали детям вслух, разыгрывали с ними театральные сцены, видимо, и шарады. К тому же мать имела вспыльчивый характер, не любила и не умела заниматься организацией домашнего обихода (это была сфера деятельности бабушки поэта по матери Марии Алексеевны, к которой мальчик был очень привязан). А Пушкину свойственны были традиционные понятия и об уюте семейной жизни, и о родственных обязанностях: он любил старшую сестру, почитал необходимым проявлять заботу о младшем, по существу непутевом брате; полагал обязательным жениться в срок, а женившись, достойно выполнять обязанности главы семьи соответственно общепринятым понятиям и защищать семейную честь (что и привело его к роковому концу).
И сколько грусти и мудрости не по годам уже в письме Пушкина к брату 1820 г. о пребывании с семьей генерала Н.Н. Раевского на Кавказе и в Крыму: «...жизнь в кругу милого семейства; жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался»7. Тригор-ская приятельница Пушкина Н.Е. Вревская, вспоминая, как Пушкин ухаживал за умирающей матерью, пишет, что он «жаловался на судьбу», давшую ему лишь «такое короткое время пользоваться нежностью материнской, которой до того не знал»8.
Вероятно (это отметил еще П.В. Анненков), мать и любила будущего поэта меньше, чем других своих детей (видимо, в отличие от него, и более легких в общении, более понятных в своем поведении). Это отражено в воспоминаниях о стародворянской Москве Е.П. Яньковой - в знаменитых «Рассказах бабушки», записанных ее внуком Д.Д. Благово в 1850-х годах. Янькова была в дальнем родстве с Пушкиными (бабушка поэта Марья Алексеевна Ганнибал приходилась внучатой племянницей сестры ее мужа), они «между собой родством считались», были «знакомы», т. е. ездили друг к другу и «видались еще у Грибоедовых» (тоже дальних родственников Яньковой).
Старуха Янькова рассказывала: «В 1837 г., когда в феврале месяце пришло в Москву известие о печальной кончине славного сочинителя Пушкина, я тут припомнила о моем знакомстве с его бабушкой и со всею его семьею». Пушкины жили «в 1809 или 1810 г.» у Елохова моста3’, «нанимали там просторный и поместительный дом», кажется, у Бутурлиных. Янькова туда ездила с дочерьми «на танцевальные уроки, которые они брали с Пушкиной девочкой (т. е. Ольгой, сестрой поэта. - С. Ш.), с Грибоедовой (сестрой того, что в Персии потом убили)».
«Пушкины жили весело и открыто, и всем домом заведовала больше старуха Ганнибал, очень умная, дельная и рассудительная женщина; она умела вести дом как следует, и она также больше занималась и детьми: принимала к ним мамзелей и учителей и сама учила. Старший внук ее Саша был большой увалень и дикарь, кудрявый мальчик лет девяти или десяти, со смуглым личиком, не скажу, чтобы слишком приглядным, но с очень живыми глазами, из которых искры так и сыпались.
3’ Мемуаристка либо неточно указала место жительства семьи Пушкина, либо это временное место жительства, не выявленное собиравшими сведения об адресах семьи Пушкиных, отраженных в делопроизводственной документации.
Иногда мы приедем, а он сидит в зале в углу, огорожен кругом стульями: что-нибудь накуролесил и за это оштрафован; а иногда и он с другими пустится в плясы, да так как очень он был неловок, то над ним кто-нибудь посмеется, вот он весь покраснеет, губу надует, уйдет в свой угол, и во весь вечер его со стула никто тогда не стащит: значит, его за живое задели, и он обиделся, сидит одинешенек. Не раз про него говаривала Марья Алексеевна: “Не знаю, матушка, что выйдет из моего старшего внука: мальчик умен и охотник до книжек, а учится плохо, редко когда урок свой сдаст порядком; то его не расшевелишь, не прогонишь играть с детьми, то вдруг так развернется и расходится, что его ничем не уймешь; из одной крайности в другую бросается, нет у него средины. Бог знает, чем все это кончится, ежели он не переменится”. Бабушка, как видно, больше других его любила, но журила порядком: “Ведь экой шалун ты какой, помяни мое слово, не сносить тебе своей головы”.
Не знаю, каков он был потом, но тогда глядел рохлей и замарашкой, и за это ему тоже доставалось. Мальчик Грибоедов, несколькими годами постарше его4 **, и другие их товарищи были всегда так чисто, хорошо одеты, а на этом всегда было что-то и неопрятно, и сидело нескладно»9.
Воспоминания Яньковой очень информативны. Маленький Пушкин рос, очевидно, не совсем обычным ребенком и казался медленнее других развивавшимся и физически, и умственно, а затем неожиданно быстро изменившимся - в Лицее он сразу же выделился и живостью ума, и физической ловкостью. Не напоминает ли это известное нам о раннем детстве А. Эйнштейна: гениальный ученый долго не начинал говорить, а в возрасте уже четырех-пяти лет заговорил сразу фразами. Не показатель ли это особо интенсивного раннего развития творческих задатков (первоначально потому внешне и не проявляемых в общепринятых нормативах)?
«Рассказы бабушки» подтверждают выясняемое и по иным источникам (прежде всего воспоминаниям других лиц), и, главное, из сочинений самого Пушкина. В первой программе Записок, датируемой предположительно 1830 г., в кратком перечне «впечатлений» московского детства упоминаются «Первые неприятности», «Мои неприятные воспоминания», «Нестерпимое состояние»10, но согревала мальчика любовь бабушки. Можно по
4* Грибоедов родился в 1795 г. (или, по другим сведениям, даже в
1790 г.).
лагать и то, что не только в память бабушки, но и с пожеланием быть похожей на нее первой дочери Пушкина дано имя Мария.
Становится очевидным то, что Пушкин с самых ранних лет имел общение и с детьми, и с взрослыми круга старомосковской аристократии, мог наблюдать и слышать разговоры лиц и окружения родителей, и поколения бабушки. Не забудем при этом, что круг знакомых Пушкиных - это московская аристократия именно той поры, которая отображена в романе Л.Н. Толстого «Война и мир», где действие начинается в 1805 г. (таким было и заглавие романа в первом издании его начальной части).
Н.К. Телетова, исследовавшая женские линии в генеалогическом древе Пушкина, верно отметила: «Известно, что детские годы Пушкина определялись влиянием бабушки Марии Алексеевны в большей мере, чем чьим-либо иным. Она ввела внука в круг своей многочисленной московской родни, как бы расширив стены дома Пушкиных до пределов старой русской столицы»11. И вряд ли случайно то, что юный Пушкин сблизился в Лицее изначально с теми, кто возрос в московской знакомой уже ему среде. Видимо, имели значение и притягательность привычного обихода повседневного общения, и воспитание на схожих локальных впечатлениях. Показательно также и то, что именно москвич Михаил Яковлев стал «лицейским старостой», организовывал ежегодные праздники Лицея - это в традициях исконно московского гостеприимства и поддержания давних знакомств.
Возможно, что мальчика «возили по родственным обедам» (характеристику которых находим в седьмой главе «Евгения Онегина») и он сопровождал взрослых в дневных визитах: описание таких московских визитов с их бессодержательными разговорами и искусственностью поведения встречаем у Л.Н. Толстого (день рождения бабушки в «Детстве», «Натальин день» в доме Ростовых). Сходство тональности изображения и даже деталей в воспроизведении событий первого и четвертого десятилетий XIX в. позволяет думать, что, по мнению хорошо знавшего эту среду графа Толстого, за тридцать лет мало что изменилось в ритуале ее светского поведения, а также полагать, что в основе обоих описаний - врезавшиеся в сознание детские впечатления автора. Не возникало ли схожих ощущений и у мальчика Пушкина?
Безусловно, допускалось присутствие мальчика в гостиной и в кабинете родительского дома в часы прихода гостей - там-то он (судя по воспоминаниям) и поражал взрослых рано проявившейся склонностью к стихосложению и скоростью запоминания
стихов, находчивостью остроумия, быстротой и непосредственностью реакции на слова и поведение других, своенравием.
Для познания мира первичного пушкинского восприятия важно учитывать и то, что в этой аристократической среде блюли традиции гостеприимства родственного общения (которое признавали - по мнению и коренных москвичей, и приезжих, и Герцена и Белинского - характерной чертой московских нравов): почитали фамильные связи, высоко ценили родословные (даже более чем недавно возникшие роскошества людей «в случае»), любили напоминать об «исторических анекдотах» отошедших царствований. Обедневшие Пушкины по знатному происхождению и по родственной близости продолжали оставаться вхожими и в дома более богатых аристократов, даже титулованных вельмож. Выросший в схожих условиях князь П.А. Вяземский неизменно подчеркивал, что Пушкин - «родовой москвич».
В такой среде воспитывались сызмальства интерес к деятельности предков, гордость семейными преданиями; закреплялись еще в младенчестве генеалогические предрассудки. Полагают, что уважительный интерес Пушкина к собственной родословной пробудила бабушка Мария Алексеевна, и потому-то в неоконченной поэме 1832-1833 гг. «Езерский» он намеренно пишет об умершей бабушке в настоящем времени: «люблю», а не «любил» («Люблю от бабушки московской / Я слушать толки о родне...»). Впрочем, это может быть и литературным приемом, да еще с автобиографическим намеком, - указание на интерес автора к рассказам умных и памятливых старух-аристократок о преданиях и обычаях старины (как раз незадолго до того Пушкин расспрашивал дочь знаменитой княгини Е.Р. Дашковой о дворцовом перевороте 1762 г.).
В родственных связях (а возможно, и в богатстве фамильных воспоминаний) бабушка не уступала знаменитой рассказчице о прошлом Яньковой. По отцу она из Пушкиных, возводивших род от сподвижника Александра Невского, родоначальника известных на рубеже XVIII и XIX вв. фамилий Мусиных-Пушкиных, Бобрищевых-Пушкиных, Бутурлиных, Мятлевых, Кологривовых, Каменских и других. Мать ее - урожденная Ржевская. В XVIII в. Ржевские были в приближении и у Петра Великого, и у Екатерины Великой. Супруг ее - сын «арапа Петра Великого». Пушкин мог рано усвоить мысль о причастности его предков к значительным историческим событиям и о том, что их хорошо знали государи (и цари, и императоры) и приближали и карали «род Пушкиных мятежный». С годами Пушкин все более дорожил «историческими»
заслугами своих предков, подлинным аристократизмом своего происхождения («бояр старинных я потомок»)5*.
Особенно существенно то, что родители поэта и их ближайшее окружение принадлежали к той сравнительно небольшой прослойке московской аристократии, которая отличалась не только «французской образованностью», но и тягой к литературнохудожественным интересам. Дядя Василий Львович имел известность поэта, писавшего и на русском, и на французском языках, переводил на французский язык русские народные песни. Отец сочинял стихи на французском языке, мастерски читал французские драмы, особенно Мольера. В этом кругу изощрялись в каламбурах, эпиграммах, в искусстве рассказывать анекдоты. Общавшийся с семьей поэта дальний родственник камергер и генерал Алексей Михайлович Пушкин славился на всю Москву как актер-любитель - а это десятилетие особой моды на домашние театры, театрализованные шарады. В доме Пушкиных бывали литераторы - и самые знаменитые (Н.М. Карамзин, И.И. Дмитриев), и начинавшие путь в литературу (К.Н. Батюшков, В.А. Жуковский и другие). Пушкин имел с малых лет возможность слушать стихи в авторском исполнении, запоминать их «с голоса»6 * * *’. И к юному Пушкину относится наблюдение А.И. Герцена в связи с характеристикой роли Н.М. Карамзина в развитии русской литературы и исторической мысли: «То, что наши первые писатели были светскими людьми, является большим преимуществом рус
5* В 1825 г. Пушкин пишет другу А. А. Дельвигу из Михайловской ссылки об «избрании Романовых»: «Неблагодарные! Шесть Пушкиных подписали избирательную грамоту, а двое руку приложили за неумением писать! А я, грамотный потомок их, что я? где я?»12. И в объяснительном письме А.Х. Бенкендорфу по поводу стихотворения «Моя родословная» 1831 г. не без вызова сформулировано: «Признаюсь, я дорожу тем, что называют предрассудками... я чрезвычайно дорожу именем моих предков, этим единственным наследством, доставшимся мне от них»13. И в 1834 г. в автобиографических записях с гордостью замечает: «Имя предков моих встречается поминутно в нашей истории, не раз упоминается в томах “Истории государства Российского” Н.М. Карамзина (двадцать один раз!)»14.
6‘ Н.Н. Скатов справедливо заметил, что Пушкин с самого ранне-
го возраста «питался личными впечатлениями от своих литературных
предшественников - подобного дара детства потом уже не получит ни
один из русских поэтов и писателей»15.
ской литературы. Они ввели в нее известное изящество, присущее хорошему тону, воздержанность в словах, благородство образов, отличающее беседу людей воспитанных. Грубость и вульгарность, встречающиеся порой в немецкой литературе, никогда не проникали в русскую книгу»16. Не тогда ли уже начало формироваться у Пушкина представление об «аристократизме» русской изящной словесности, о писателях-аристократах (отраженное в написанном им в конце 1820-х - начале 1830-х годов)?
В допожарное время улицы и переулки бывшей Немецкой слободы, где первоначально обитали Пушкины, были средоточием мест жительства московских литераторов и профессоров. Отец поэта вспоминал, как мальчик с особым вниманием вслушивался в беседу Карамзина. Пушкин еще мальчиком, видимо, не чувствовал особого стеснения в общении с известными людьми, т. е. и в таком обществе оставался самим собой.
Мог он рано осознать и то, как высоко ценится искусство слова и в письменной, и в устной речи: и остроумного живого разговора в многолюдстве гостиной, и беседы в тиши кабинета, и, конечно же, в стихотворном языке. Убедился и в том, сколь жаркой бывает полемика о литературном языке, стиле изложения: тогда уже разгорался спор шишковистов и карамзинистов; и поводом для поездки дяди в Петербург (когда он отвез в Лицей мальчика Пушкина) было как раз стихотворение Василия Львовича, созданное в пылу такой полемики. Думается, что замечание П.А. Вяземского в статье 1836 г., напечатанной в пушкинском журнале «Современник», о «спорах в гостиных», о том, что «в разговорах русских гораздо более ума, нежели в журнальных статьях», и «вообще ум наш натуры изустной, а не письменной»17, восходит еще к московским детским впечатлениям и автора и Пушкина.
Имело значение и то, что среди гувернеров мальчика оказались склонные к стихотворчеству и рисованию, а эмигрант граф де Монфор был настоящим аристократом, поколение которого возрастало в атмосфере элегантных салонов французского века Просвещения. В семье Пушкиных своим стал эмигрант, писатель и художник граф Ксавье де Местр (брат знаменитого тогда философа-политолога и политического деятеля Жозефа де Местра). Он читал там свои сочинения; сохранилось его работы изображение Надежды Осиповны.
Пушкин рано познал и радость чтения, познакомившись с литературой на французском языке - с сочинениями и французских авторов, и переводными (античные писатели, писатели Но
вого времени). Быстро научился сам выбирать интересующую его книгу - безусловно, в библиотеке отца и, вероятно, в богатой новейшими парижскими изданиями библиотеке дяди; оказался допущенным и в знаменитую зарубежными раритетами библиотеку Д.П. Бутурлина, следовательно, мог и наблюдать (а быть может, уже и предвкушать?) ощущения библиофила. Книги с малых лет утвердились в жизни Пушкина. И не только как источник знания и наслаждения: он еще в Москве стал пробовать силы в сочинительстве (на французском языке) - и первоначально в сфере ассоциаций, воспринятых в книгах же.
Думается, что раннее усвоение богатств зарубежной литературы в какой-то мере предопределяло изначально компаративистский подход к отечественной литературе, которую он всегда рассматривал в сравнении с западноевропейской (и художественные произведения, и сочинения критиков) и как часть этой европейской литературы. Быть может, эта рано впитанная образованность в сфере зарубежной литературы и блистательное владение главным разговорным языком той эпохи делали общение с Пушкиным последующих десятилетий особенно привлекательным для иностранцев: Пушкин был и воспринимался человеком вершинной общеевропейской культуры (хотя никогда не выезжал за границы России)18.
Но Пушкин смог приобщиться рано и к иной культурной ориентации, и этому способствовали особенности его домашней жизни, даже ее неустроенность. Он душевно явно тяготел мальчиком к бабушке Марии Алексеевне и любимым им слугам - няне Арине Родионовне и ее зятю Никите Тимофеевичу Козлову, ставшему дядькой мальчика. А здесь господствовала русская стихия и разговорного языка, и общественно-исторических воззрений. Языком писем бабушки к внуку-лицеисту восхищался друг его и тоже поэт А.А. Дельвиг. Она же знакомила мальчика с семейными преданиями и, как и няня, с русским фольклором. Позже не раз воспетая Пушкиным в стихах Арина Родионовна, которую пристроила к детям, взамен умершей первой няни, высмотревшая ее в своих псковских владениях бабушка Мария Алексеевна, по словам сестры поэта, «мастерски говорила сказки, знала народные поверья и сыпала пословицами и поговорками». Никиту Козлова называли «доморощенным стихотворцем» за стихи на тему народных сказок19. Представление о помещичьей усадебной жизни в летние месяцы также связывалось у мальчика с народной культурой песен, хороводов, игр в бабушкином подмосковном Захарове.
Особенно существенно то, что освоение простонародного начала русского языка, приобщение к народной повседневной обиходности происходило в атмосфере сердечного тепла и заботливого внимания, а к этому всегда чувствительна детская душа. С бабушкой, с няней и дядькой мальчик чувствовал себя естественно, в их обществе ощущал себя свободным и счастливым. А «счастие, - как напишет он позднее, - есть лучший университет. Оно довершает воспитание души, способной к доброму и прекрасному»20. В воспитании души (а для такой творческой натуры это всегда и воспитание культуры) Пушкин мальчиком прошел воистину народный университет.
Должно учитывать и то воздействие, которое мог оказать на мальчика и Александр Иванович Беликов, приглашенный преподавать Закон Божий, русский язык и арифметику. Этот московский священник был и церковным писателем. Раннее освоение правил российской грамматики обнаруживается в сочинениях юного поэта, отмечено это было и при поступлении Пушкина в Лицей. Можно полагать, что Беликов знакомил своего ученика не только с текстами Священного Писания, но и с образцами русской проповеднической литературы. А это ведь время, когда московским митрополитом был знаменитый оратор Платон (Левшин), прославившийся и сочинениями, написанными для детей и их обучения. Знакомство со словарем и стилистикой такого рода литературы заметно в поэтических произведениях еще юного Пушкина. Слова из Священного Писания обнаруживаем на всем протяжении творческого пути Пушкина.
Показательны оценки знаний Пушкина при поступлении в Лицей. На приемных экзаменах (12 августа 1811 г.) «в грамматическом познании языков: российского - очень хорошо, французского - хорошо». Запись директора в «Памятной книге Лицея» (23 августа): «Ветрен и легкомыслен, искусен во французском языке и рисовании, в арифметике ленится и отстает»21.
Таким образом, мальчик приобщался одновременно к культуре двух языков, усваивая своеобразие каждого из них и в звуковой форме, и в приемах словесного выражения мысли (и устно, и письменно), - это обогащало его понятия о речевых (и, конечно же, поэтических) возможностях.
В то же время, несмотря на очевидные различия и в речи, и в каждодневном обиходе «образованного» общества и простонародья, мальчик улавливал у них общее и в вере и ее обрядности, и в бытовой повседневности, и даже в разговорном языке (особен
но у лиц бабушкиного круга). Толкователи сочинений Пушкина давно уже отметили, что в лицейских стихах «Сон» (1816) образ Музы передан в облике «мамушки», в котором слились и бабушка, и няня. Так формировалось понятие вообще о российской женщине, о народе православном, о «русской душе», что позднее выплеснется в запомнившиеся всем слова в «Евгении Онегине» -«Татьяна, русская душою...» (а затем, возможно не без влияния Пушкина, будет отображено в сцене русской пляски графинюшки Наташи в «Войне и мире»).
Взаимная любовь вызвала к жизни проникнутые сердечной теплотой образы няни и дядьки в литературных произведениях Пушкина, тем более что с ними он еще душевнее сблизился в последующие годы. А.П. Керн, наблюдавшая отношения Пушкина и Арины Родионовны в период ссылки поэта в Псковскую губернию, утверждала, что Пушкин «никого истинно не любил, кроме няни своей»22. Образа любящей матери нет ни в поэзии, ни в прозе Пушкина. Но особо выделена роль няни, «мамушки», в жизни его литературных героев - и Татьяны Лариной, и Дубровского (в «Дубровском» Егоровну тоже зовут Ориной), что, в свою очередь, могло оказать воздействие на молодого Л.Н. Толстого в изображении Саввишны в «Детстве». А прообразом верного и мудрого Савельича в «Капитанской дочке» признают Никиту Козлова, преданно любившего Пушкина, провожавшего его в последний путь, на кладбище Святогорского монастыря. К Пушкину рано пришло ощущение «простого величия простых людей», отмеченное Н.В. Гоголем как его характерная и привлекательная черта.
Дядьке Никите Козлову Пушкин в наибольшей степени обязан и основательным знакомством с Москвой и ее окрестностями, с уличным (особенно праздничным) обиходом москвичей. Мальчика, несомненно, водили гулять в Кремль. Он поднимался не раз на колокольню Ивана Великого, откуда можно было обозреть всю Москву (указания на это и у мемуаристов), бывал в храмах, монастырях, дворцах Кремля, в незадолго перед тем открывшемся музее в Оружейной палате. Знаком был с окраинами города, где располагались монастыри, взбирался на Воробьевы горы (а оттуда открывался запоминающийся вид на Кремль и Приарбатье). Недалеко от дома Пушкиных в последние годы его московского детства происходили Подновинские гулянья, привлекавшие и простонародье и господ. Это массовая народная культура в ее карнавальной форме.
Но, конечно, больше всего знаком был мальчик с соседними местностями. Пушкины в те годы не раз меняли места жительства. В составленной М.А. Цявловским «Летописи жизни и творчества А.С. Пушкина» указываются эти адреса. После кратковременного пребывания в Петербурге родители его с осени 1800 г. более чем на десять лет осели в Москве. Сначала это был район Чистых прудов и близ Красных Ворот: в конце 1801 - первой половине 1802 г. во владении князя Юсупова в Большом Харитоньевском переулке; в 1803 г. близ него, в 1803 г. тоже недалеко оттуда, в Малом Козловском переулке; в начале 1807 г. в Кривоарбатском переулке; с сентября 1807 г. на Поварской; с октября 1807 г. на Малой Бронной; с лета 1809 г. в Хлебном переулке; в конце года переезжают на Мясницкую улицу; летом недалеко оттуда в Рыбниковой переулке; с сентября 1810 г. в доме священника церкви Николы «что на курьих ножках». Это небольшой дом на углу Большой Молчановки и Борисоглебского переулка. Оттуда мальчик в июле 1811 г. выехал в Петербург23. Следовательно, Пушкин имел возможность визуально наблюдать социокультурные особенности различных частей Москвы.
Мальчиком Пушкин лучше всего был знаком с местностями, где по преимуществу проживало дворянство, - бывшей Немецкой слободой с близлежащими переулками и улицами и с районом Приарбатья. Именно в районе Приарбатья происходит и действие в московских главах «Войны и мира»: помнивший московское детство Л.Н. Толстой там поселяет и графов Ростовых, и князей Болконских, и графов Безуховых. В этих местностях Москвы небольшие усадьбы соседствовали с дворцового типа зданиями, окруженными садами, с флигелями и подсобными строениями. Немногие из них уцелели (особенно после пожара 1812 г.), но о внешнем облике таких вельможных домов знаем по рисункам знаменитого тогда архитектора М.Ф. Казакова, по описаниям и самих россиян, и иностранцев. Офицер занявшей Москву наполеоновской армии Анри Бейль (ставший позднее прославленным французским писателем Стендалем) был поражен многочисленностью дворцовых палат («от шестисот до восьмисот дворцов, подобных которым не было ни одного в Париже»), их внутренним убранством («самое полное удобство соединялось здесь с блистательным изяществом»), богатством книжных собраний («отличные книги: Бюффон, Вольтер, который имеется здесь повсюду»). Особенно много было таких владений на пути от дома, где жили Пушкины на Молчановке, к Кремлю. Сначала
вызывало восхищение окруженное колоннами деревянное здание театра на Арбатской площади (там, где ныне стоит памятник Гоголю) - это первый по времени создания шедевр молодого тогда еще архитектора К. Росси. Затем на Знаменке и в ближних переулках «чертоги» графов Апраксиных (в этом здании первоначально жил Бейль; об Апраксиных как раз ведут светский разговор визитеры дома Ростовых в Натальин день в «Войне и мире»; дворец этот, «ныне сильно перестроенный, в основе здания Министерства обороны), графов Бестужевых-Рюминых, графов Воронцовых, князей Вяземских и др. Более всего, конечно, поражал воображение дом Пашкова - красивейшее здание Москвы, на холме напротив Кремля, сохранившееся и поныне великое творение архитектора Баженова. Тогда близ дома был сад с прудами и диковинными птицами, играли музыканты, вечерами горели огни. Упоминание о решетках сада, всегда облепленных любопытствующими мальчишками, в «Воспоминаниях старого москвича» П.А. Вяземского (князь был старше Пушкина на семь лет, и дом его отца был близко -в Колымажном переулке). Еще в раннем детстве могли произвести запомнившееся впечатление палаты вельмож и сады в бывшей Немецкой слободе: дворцы Юсуповых, Бутурлиных, Мусиных-Пушкиных, даже более скромный, но украшенный мифологическими скульптурами сад у дома гостеприимного И.И. Дмитриева, воспетый В. А. Жуковским (дом этот - ныне на его месте дом № 12 в Большом Козловском переулке - сгорел в 1812 г.). В пушкинской программе автобиографии читаем: «Первые впечатления. Юсупов сад...»
Величие Кремля, его башен, храмов и близких к Кремлю вельможных дворцов и парков особенно явственно чувствовалось рядом и при сравнении с небольшими особняками усадеб Приар-батья. Такое зрительное ощущение отражено в первом масштабном стихотворении Пушкина «Воспоминания в Царском Селе» (1814) - первом сочинении, подписанном полным именем «Александр Пушкин», опубликованном (как и более ранние) в московском журнале «Российский музеум» и принесшем ему первую улыбку славы:
Края Москвы, края родные, Где на заре цветущих лет Часы беспечности я тратил золотые, Не зная горести и бед...
Где ты, краса Москвы стоглавой, Родимой прелесть стороны?
Где прежде взору град являлся величавый, Развалины теперь одни;
Москва, сколь русскому твой зрак унылый страшен! Исчезли здания вельможей и царей, Все пламень истребил.
Венцы затмились башен, Чертоги пали богачей. И там, где роскошь обитала В сенистых рощах и садах, Где мирт благоухал и липа трепетала, Там ныне угли, пепел, прах.
В часы безмолвные прекрасной, летней нощи Веселье шумное туда не полетит, Не блещут уж в огнях брега и светлы рощи: Все мертво, все молчит.
Утешься, мать градов России, Воззри на гибель Пришлеца...
В стихотворении этом ощущается воздействие воспринятого в период патриотического подъема месяцев Отечественной войны 1812 г., когда мысль Пушкина возвращалась к Москве, к ее исторической судьбе, авторитетных исторических и языковых символов, тиражированных в ту пору в стихах и в прозе. Но явственно чувствуются и живые впечатления очевидца, и утвердившееся в душе осознание «прелести» родимой стороны.
Необычайно развитая слуховая и зрительная память Пушкина-мальчика выявляется в полной мере в «Борисе Годунове». «Борис Годунов» - создание времени ссылки в Михайловское. Прошло уже 14 лет, как Пушкин покинул родной город. Но как ярко и точно изображена Москва, с каким знанием ее внешнего облика и быта! И так воспринята была драма и знатоками прошлого Москвы (первыми слушателями ее чтения в Москве осенью 1826 г.). Такое детальное знание Москвы, памятников ее старины Пушкин почерпнул не из «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина, бывшей основным источником сведений поэта об изображаемых им событиях (о чем он и сам писал не раз). Усвоенное в книгах «Истории» Карамзина, и в основном тексте, и в примечаниях, наложилось на детское еще восприятие Москвы24 и подмосковных Вязем. Пушкин мальчиком с верным дядькой своим Никитой видел и Новодевичий монастырь, не раз бывал в Кремле, на Красной площади.
А желание узнать побольше о Борисе Годунове и событиях Смутного времени могло зародиться еще в подмосковном Захарове: там не было своей церкви, и к обедне ездили в соседнее село Большие Вяземы, где Борисом Годуновым был построен монументальный двухъярусный храм, поныне особо упоминаемый в трудах по истории древнерусского искусства. Митрополит Платон в путевых записках 1804 г. отмечает, что «снаружи и во внутренностях ее вся древность соблюдена», даже в росписях «ничего не переменено из древнего». Указывает он и на то, что сохранялись вырезанные острым оружием слова, написанные по-польски, «имена польских панов», изображенные «цифирью» даты. Следовательно, мальчик получал уже тогда повторяющееся впечатление о храме начала XVII в. В пушкиноведческой литературе уже высказывалось предположение, что мог он слышать и предания о прудах, вырытых при Годунове, «воинских потехах» Лжедмитрия, о том, что именно там на пути были селения, названия которых повторяет в драме.
Близко и долго знавший Пушкина П.А. Вяземский, глубокий знаток московской жизни, утверждал: «Пушкин был... родовой москвич. Нет сомнения, что первым зародышем дарования своего... он обязан был окружающей его атмосфере, благоприятно проникнутой тогдашней московской жизнию...»25
В Лицей Пушкин приехал с немалым запасом разнообразных впечатлений - и визуальных, и от личного общения, и с почерпнутым из книг творческим заделом. Пущин, едва ли не самый близкий Пушкину из лицеистов («мой первый друг, мой друг бесценный», - обращался к нему поэт!), много размышлявший над феноменом «Пушкин» и к тому же один из самых лучших по образованности и успеваемости его соучеников, вспоминал: «Все мы видели, что Пушкин нас опередил, многое прочел, о чем мы и не слыхали, все, что читал, помнил...» - и объяснял: «Обстановка Пушкина в отцовском доме и у дяди, в кругу литераторов, помимо природных его дарований, ускорила его образование...»26 «Поэзия бывает исключительною страстию немногих родившихся поэтами: она объемлет и поглощает все наблюдения, все усилия, все впечатления их жизни...»27 Это пушкинское наблюдение, конечно же, относится и к нему самому в первую очередь, к его жизненным впечатлениям, а следовательно, и к детским в Москве и Подмосковье, когда начиналось формирование человека, Личности.
Таким образом, отнюдь не занижая значение Лицея в самоутверждении Пушкина как поэта, можно полагать, что и доли-
цейские ощущения - прочувствованное, увиденное, услышанное, вычитанное - стали одним из источников формирования и развития его дивного поэтического дара, обогащения его впечатлениями, находившими отражение и воплощение в творчестве. Зароненное в душу, задержавшееся в памяти в детские годы всплывало подчас позднее, при совсем иных обстоятельствах.
И Пушкин сам это сознавал. Воспоминания о Москве, о пережитом в Москве сопутствовали ему, его творчеству и позднее и выражены в его стихах - в стихотворении «Сон» (1816): «детских лет люблю воспоминание», и в «Евгении Онегине» в XXXVI строфе седьмой, «московской», главы окончательный вариант:
Как часто в горестной разлуке, В моей блуждающей судьбе, 1 Москва, я думал о тебе!
1 Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось! Как много в нем отозвалось!
Щ.
Варианты: «Москва! Как я любил тебя / Святая Родина моя»; «Москва! Как помнил я тебя...»; «Москва! Как жаждал я тебя»28.
Пушкин - москвич по рождению, первичному воспитанию, даже общественно-историческим воззрениям. В его творчестве, особенно 1830-х годов, ощутимо результативное совмещение московских и петербургских историко-культурных традиций (как ранее у Карамзина, Жуковского, братьев Тургеневых). Пушкин -составная часть культуры Москвы. И в последующие годы тоже. Даже во внешних проявлениях: первый памятник Пушкину воздвигнут в Москве. И Пушкинский праздник 1880 г. - первый всероссийский праздник литературы29. А ныне памятник Пушкину работы Опекушина стал таким же символом Москвы, как и Кремль.
1 Лотман ЮМ. Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя (пособие для учащихся). М„ 1980. С. 13.
2 Анненков П.В. Материалы для биографии А.С. Пушкина. М., 1985, Кн. 1. С. 5.
3 Томашевский Б.В. Пушкин. Кн. I. М.; Л„ 1956.
4Пушкин А.С. Поли. собр. соч.: В 10 т. Л., 1979. Т. VI. С. 431.
5 Там же. Т. X. С. 23.
6 См. об этом: Шмидт С.О. Василий Андреевич Жуковский - великий русский педагог. М., 2000 (Переиздание отдельной книжкой статьи: Подвиг наставничества. В.А. Жуковский - наставник Наследника российского престола// Русское подвижничество. [Сб. статей к 90-летию академика Д.С. Лихачева]. М., 1996. С. 187-221).
7 Пушкин А.С. Поли. собр. соч. Т. X. С. 18.
8 Вересаев В. Спутники Пушкина. М., 1937. Т. 1. С. 15.
9 Янъкова Е.П. Рассказы бабушки (из воспоминаний пяти поколений), записанные и собранные ее внуком Д. Благово. Л., 1988.
'° Пушкин А.С. Поли. собр. соч. Т. VIII. С. 54.
11 Телешова Н.К. Забытые родственные связи А.С. Пушкина. Л., 1981. С. 13.
'2 Пушкин А.С. Поли. собр. соч. Т. X. С. 117.
13 Там же. С. 303,663.
14 Там же. Т. VIII. С. 56, 376.
15 Скатов Н.П. Пушкин. Русский гений. М., 1999. С. 27.
16 Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. М„ 1956. Т. 7. С. 191.
17 Современник, литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным. М„ 1987. Т. 2. С. 289. (Факсимильное издание 1836 г.)
18 Об этом: Шмидт С.О. Русские литераторы и российская дипломатия // Международная жизнь. 1992. № 11. С. 115-117.
19 Черейский Л.А. Пушкин и его окружение. 2-е изд. П., 1989. С. 1989, 524.
20 Пушкин А.С. Поли. собр. соч. Т. X. С. 363.
21 Цявловский М.А. Летопись жизни и творчества А.С. Пушкина. 1799-1826. 2-е изд. Л, 1991. С. 40-41.
22 Черейский Л.А. Указ. соч. С. 524.
23 Цявловский М.А. Указ, соч.; Алексеев Е.В., Тюрикова И.К. Москвич Пушкин: Словарь-справочник. М„ 1999. С. 4.
24 Листов В.С. Москва XVI-XVII веков в трагедии «Борис Годунов» // Пушкин и Москва. М., 1999. С. 294-301.
25 Вяземский П.А. Стихотворения. Воспоминания. Записные книжки. М., 1988. С. 229.
26 Пушкин в воспоминаниях современников. СПб., 1998. Т. I. С. 633.
27 Пушкин А.С. Поли. собр. соч. Т. VII. С. 21.
№П ушкин А.С. Поли. собр. соч. М., 1995. Т. 6. С. 449-450.
29 См.: Шмидт С.О. Пушкин и Пушкинский праздник в Москве 1880 года // Пушкин и Москва. М., 1999. С. 330-374.
Тема «Пушкин и архивы» многоаспектна: архивы в жизни и творчестве Пушкина, пушкиниана в истории архивов; пушкиноведческая тематика и архивная наука - два взаимосвязанных комплекса проблем.
Архивы в жизни и творчестве Пушкина - это и представление Пушкина об архивах и архивистах: архивы как хранилища исторических документов; и средоточие работы по выявлению, описанию, изданию, изучению письменных исторических источников; и работа самого Пушкина в архивах при подготовке трудов по истории времени Петра Великого и восстания под предводительством Пугачева; и обращение к документам прошлого в связи с современной служебной документацией как чиновника Коллегии иностранных дел; и взаимоотношения Пушкина с чиновниками архивов, и особо - с причастными к деятельности Московского архива Коллегии иностранных дел (МАКИД) «архивными юношами», с учеными, изучающими архивные материалы; и понимание Пушкиным историко-культурного значения архивной документации.
Пушкиниана в истории архивов - это и собирание, выявление, изучение, публикация документальных памятников, помогающих познанию жизни и творчества Пушкина, а также и истории пушкиноведения, которое стало заметной сферой культуры на стыке наук (нескольких гуманитарных наук и их специальных дисциплин), литературы, искусств, книжного дела; это и значение такого рода многообразной деятельности сотрудников архивохранилищ (т. е. собственно архивов, музеев, рукописных отделов библиотек, научно-исследовательских учреждений, высших учебных заведений) и пользователей их материалов для развития не только пушкиноведения, но и архивного дела, археографической культуры, изучения истории архивов.
Некоторые из отмеченных аспектов привлекли уже серьезное внимание и основательно изучены, прежде всего наиважнейший из них - работа самого Пушкина в архивах, изучение и использование им архивных документов. Это - предмет и монографических исследований (особенно Г.П. Блоком, И.Л. Фейн-
Впервые опубл.: Пушкин и архивы // Пушкинские материалы в архивах России: Материалы науч.-практ. конф., 16 февраля 1999 г. М., 1999. С. 74-82.
бергом и Р.В. Овчинниковым). Все больше трудов об отношениях Пушкина и «архивных юношей», о контактах Пушкина с историками, изучавшими архивные материалы в научных целях, о соображениях Пушкина в связи с введением в научный оборот новых материалов или, напротив, о сожалении по поводу гибели важных для истории документальных свидетельств. Огромная работа проведена по выявлению автографов Пушкина и данных об их судьбе, местонахождении. Постоянно обнаруживаются новые архивные материалы, используемые при изучении жизни и творчества Пушкина, а также истории пушкиноведения. Гораздо менее освещенной остается проблема «Пушкинская тема в развитии архивной мысли».
Вне сомнений то, что следует подготовить серьезный обзор литературыпотеме «Пушкин иархивы». Нозадачаданнойстатьи-постановка вопросов, относящихся прежде всего к недостаточно еще изученным аспектам этой проблематики с целью вызвать больший интерес к конкретным исследованиям подобной направленности.
***
Понятие об употреблении Пушкиным слова «архив» и производных от него получаем, ознакомившись со «Словарем языка Пушкина»1.
Пушкин мог с ранних лет усвоить представление об архиве не только как о хранилище исторических документов, но и как об учреждении, где служат знакомые и родственники. С детства у Пушкина сложилось понимание того, что ценные исторические документы хранятся и в личных архивах: в аристократической среде, к которой Пушкин принадлежал по рождению и воспитанию, высоко ценили письменные свидетельства старинного родословия и роли предков в заметных исторических событиях. Осведомлен был Пушкин и о том, что в архивы приходится обращаться для выявления недавней и оформления современной документации (к документам о границах и размерах земельных владений, праве наследования и пр.).
После запрещения Павлом I зачисления на службу с раннего детства в гвардейские полки юных аристократов стали записывать на службу в МАКИД, где они не получали жалованья, но поднимались по лестнице чинов. Там были гнездовья аристократических отпрысков (это ярко и саркастически описано в мемуарах Ф.Ф. Вигеля и теперь детально изучено С.Р. Долговой и
особенно С.В. Чирковым)2. Туда пытались устраивать и тех достигших совершеннолетия аристократов, которые не имели намерения становиться офицерами. (Об этом есть упоминание в «Войне и мире» Л.Н. Толстого: в МАКИД устроил было своего сына Николая граф Ростов, но юноша предпочел, следуя примеру своего друга Б. Д рубецкого, военную службу.). О такого рода молодых служащих МАКИД напомнил и Пушкин в неоконченной повести «Рославлев», изображающей события кануна войны 1812 г.: брат дамы, от лица которой ведется рассказ, «двадцатидвухлетний малый», по ее словам, из «сословия тогдашних франтов», «считался в Иностранной коллегии и жил в Москве, танцуя и повесничая»3. МАКИД и его служащие, разговоры об этом - среди ранних впечатлений московской жизни Пушкина: там ранее служил переводчиком М.М. Сонцов, ставший мужем его тетки Елизаветы; лица круга его дяди Василия Львовича тоже начинали службу в МАКИД. Семья Пушкиных имела близкое знакомство с семьей Малиновских, а А.Ф. Малиновский был одним из руководителей МАКИД, затем его начальником. (Супруга его будет на свадьбе Пушкиных посаженной матерью со стороны невесты.) Брат его, видный дипломат и литератор В.Ф. Малиновский, - первый директор Царскосельского лицея, в семье которого лицеисты проводили немало времени (тем более что сын директора Иван тоже был лицеистом пушкинского курса). Сыном чиновника архива был и другой лицейский товарищ Пушкина - М.Л. Яковлев, в 1830-е годы «староста лицейский», хранитель архива лицейской жизни; у него на дому праздновались лицейские годовщины.
Еще в лицейские годы Пушкин сблизился с участниками кружка «Арзамас», введшими его в «большую литературу» и в круг виднейших тогда литераторов; многие из «арзамасцев» в юные годы числились по МАКИД: братья А.И. и Н.И. Тургеневы, Д.Н. Блудов, Д.В. Дашков, Ф.Ф. Вигель, С.П. Жихарев, даже генерал М.Ф. Орлов. В МАКИД началась служебная карьера и гусара, героя войны П.П. Каверина, которым Пушкин восхищался в конце 1810-х годов. Пушкин убеждается в том, какие это высокообразованные люди и как часто мысль их обращается к явлениям и древней, и недавней российской истории. Когда вышли сразу первые восемь томов труда Н.М. Карамзина «История государства Российского», люди круга Пушкина высоко оценили огромное значение «Примечаний». Пушкин писал позднее: «Он рассказывал со всею верностью историка, он везде ссылается
на источники - чего же более требовать было от него? Повторяю, что “История государства Российского” есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека»4. Значительная часть примечаний - либо цитаты из архивных источников, либо указания на них.
Думается, что лишь тогда Пушкин смог по-настоящему оценить научные труды А.Ф. Малиновского5, его сотрудников и «ученой дружины» (Н.П. Румянцева)6, собиравшей и изучавшей рукописи. Тем более что уважение к МАКИД стремился воспитать в общественном мнении и Карамзин: в «Записке о московских достопамятностях», составленной в 1817 г. «для некоторой Особы, ехавшей в Москву» (т. е. для персоны императорской фамилии), читаем: «...говоря о Москве, забудет ли историограф то место, где собраны все наши государственные хартии пяти веков, от XIII до XVIII? Архив Коллегии иностранных дел есть один из богатейших в Европе. Его начальники, от незабвенного Миллера до А.Ф. Малиновского, с величайшею ревностию, с неописанным трудом привели все бумаги в наилучший порядок, коему удивлялся император Иосиф, сказав: “Я прислал бы сюда наших венских архивистов”»7.
Осенью 1826 г., очутившись снова в Москве, возвращенный из ссылки Пушкин сближается с участниками философско-литературного кружка «Общество любомудрия». Большинство из этих молодых людей - служащие МАКИД, как и С.А. Соболевский, в квартире которого он поселился. Именно для их характеристики Пушкин употребляет в «Евгении Онегине» придуманное острословом Соболевским выражение «архивны юноши» (это понятие относится только к ним, а не вообще ко всем отпрыскам московской аристократии, причастным к службе в МАКИД, со злобою и завистью изображенным тогда же Булгариным в романе «Иван Выжигин»)8. О таких философствующих эрудитах Пушкин писал (правда, не без иронии) и в прозаических набросках, изображавших события уже конца 1820-х годов: «Эти люди одарены убийственной памятью, все знают и все читали, и стоит их только тронуть пальцем, чтобы из них полилась всемирная ученость»9. Эти слова, как установлено, относятся к В.П. Титову, в 1823-1828 гг. чиновнику МАКИД, впоследствии видному дипломату и председателю императорской Археографической комиссии10.
Для Пушкина 1820-1830-х годов архивы - это воплощение истории. Характеризуя значение появления в XVIII в.
«философов-историков» (именно так называл себя Карамзин), Пушкин находит показательную формулировку: «Вольтер первый пошел по новой дороге и внес светильник философии в темные архивы истории» (курсив мой. - С. Ш.)11. Архивы в понимании Пушкина не только государственные хранилища исторических источников, но и письменные документы личных архивов («архивы роя», «разобрал всю родословную героя»)12.
Можно утверждать, что Пушкин быстро обретал навыки работы с архивными документами. Быть может, помогало и то, что в программу обучения лицеистов входило ознакомление с документами современного делопроизводства тех лет. В 1816 г. директору лицея (тогда уже Е.А. Энгельгардту, сменившему скончавшегося В.Ф. Малиновского) разрешили, по его просьбе, выдать «дипломатические бумаги старых лет для приучения воспитанников к составлению из оных выписок».
Архивная документация оплодотворяла и его литературное творчество, находила отражение в художественных произведениях: самые очевидные и широко известные примеры - «История Пугачева» и «Капитанская дочка». И показательно то, что сочинение, опубликованное под заглавием «История Пугачевского бунта» в 1834 г., имело две части, из которых вторую составили приложения - документы, извлеченные из архивов.
Известны высказывания Пушкина о ценности неопубликованных документов, особенно если они связаны с выдающимися событиями и знаменитыми людьми. Наиболее часто обращаются к словам из статьи «Вольтер»: «Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства. Мы с любопытством рассматриваем автографы, хотя бы они были не что иное, как отрывок из расходной тетради или записка к портному об отсрочке платежа. Нас невольно поражает мысль, что рука, начертавшая эти смиренные цифры, эти незначащие слова, тем же самым почерком и, может быть, тем же самым пером написала и великие творения - предмет наших изучений и восторгов»13.
Пушкин понимал значение мемуаров, сетовал, если узнавал об их гибели. В дневниковой записи от декабря 1833 г. - сожаление об утрате мемуаров российских императриц: «Государыня (т. е. супруга Николая I Александра Федоровна. - С. Ш.) пишет свои записки... Дойдут ли они до потомства? Елисавета Алекс[еевна] писала свои, они были сожжены ее фрейлиною; Мария Фед[оровна] также. - Государь сжег их по ее приказанию. Какая потеря! Елис[авета] хотела завещать свои Записки Карам
зину (слыш[ал] от Каверины] Андр[еевны] (супруги Н.М. Карамзина. - С. Пушкин прилагал много усилий к тому, чтобы опубликовать карамзинскую «Записку о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях», и счел необходимым назвать в статье «О Татищеве» и те его сочинения, которые «пропали, но важны по предметам своим». (Правда, принадлежность Пушкину этой статьи, известной лишь в писарской копии, не доказана, но ее включают в издания пушкинских сочинений.) Небезлюбопытны в плане архивно-источниковедческой тематики и замечания Пушкина об обычае оставлять записи (в «Истории села Горюхина») на календарях и вообще на документации, отражающей повседневный обиход.
Пушкин побуждал к написанию воспоминаний друга своего П.В. Нащокина, продиктовав ему в 1830 г. начало этих «Записок»; в 1836 г. он подарил актеру М.С. Щепкину тетрадь для будущих «Записок» и вписал в нее начальные строки, чтобы тем заставить Щепкина продолжать их15. Пушкин неутомимо расспрашивал стариков, причастных к придворной жизни XVIII в., о событиях тех лет, о дворцовых переворотах (и дочь княгини Е.Р. Дашковой в Москве, и старуху Н.К. Загряжскую - дочь графа К. Г. Разумовского в Петербурге) и старался сохранить память об этом в своем дневнике или в «Table-talk».
Вероятно, не только на печатное слово, но и на «изустные предания», а возможно, и архивные разыскания опирался Пушкин, напоминая о событиях прошлого столетия в беседах на дипломатических раутах. Так, незадолго до гибели Пушкина, 6 января 1837 г., был «восхитительный вечер» у австрийского посла Фикельмона (жена его - внучка полководца Кутузова), о котором сообщает в письме А.И. Тургенев: «Там образовался маленький кружок, состоявший из послов Франции и Пруссии, Пушкина, П.А. Вяземского и автора письма. Разговор был разнообразный, блестящий и полный большого интереса... Пушкин рассказывал нам анекдоты, черты из жизни Петра I, Екатерины...»16. Записывал в свой дневник Пушкин и рассказанное иностранными дипломатами: там и запись испанского посланника - свидетеля переворота Наполеона Бонапарта 18 брюмера. Дневниковые записи можно рассматривать как заготовки для мемуаров. В беседе с А.Н. Вульфом в 1827 г. Пушкин говорил о своем намерении написать историю не только времени Петра I, но и совсем недавнего, причем «Александрову - пером Курбского», т. е. в духе его «Истории о великом князе Московском», и утверждал: «Непременно должно
описывать современные происшествия, чтобы могли на нас сослаться. Теперь уже можно писать и царствование Николая, и об 14-м декабря»17. Стремился Пушкин и «организовать» источники - записать то, что помнили современники Пугачева; старался встретиться с ними во время поездки в Оренбургский край, расспросить их родственников, знакомых (сохранились записанные Пушкиным устные рассказы, предания, песни). Таким образом, Пушкин оказывается среди предтеч тех, кто обосновывал важное значение «устной истории».
Эти наблюдения в сопоставлении с другими данными позволяют признать тему «Пушкин и архивная мысль» имеющей самостоятельный исследовательский интерес.
То же, думается, можно утверждать и о теме «Пушкиниана в истории архивов». Установлено, что среди русской литературы, посвященной великим русским писателям, пушкиниана -самая обильная и самая многообразная по проблематике. Значительная часть ее основывается на архивных материалах или является публикацией архивных документов. И именно обращение к изучению жизни и творчества Пушкина продемонстрировало новые возможности использования и сопоставительного изучения документов и из центральных, и из местных архивов, их фондов и учреждений, и общественных объединений, из личных архивов, ставших личными фондами государственных хранилищ и находящихся в частном владении. А желание сохранить память о Пушкине побудило П.И. Бартенева еще полтора столетия назад выработать систему организации воспоминаний -он сам и записывал воспоминания о Пушкине или обращался с просьбой написать такие воспоминания и публиковал эти материалы, прежде всего в основанном им журнале «Русский архив». Но не все и не полностью, а только то, что казалось ему «правдою», иногда давал на просмотр близкому знакомому Пушкина С.А. Соболевскому, знатоку исторических источников той поры М.Н. Лонгинову. «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его Друзей П.И. Бартеневым» изданы в 1925 г. М.А. Цявловским. Материалы эти использованы в составленной А.М. Гординым книге «П.И. Бартенев. Страницы жизни поэта. Воспоминания современников», изданной в 1992 г. Книгу предваряет статья «П.И. Бартенев - биограф Пушкина». Об этой деятельности Бартенева много подробностей в главе «Старейший из русских пушкиноведов» в книге А.Д. Зайцева «Петр Иванович Бартенев», вышедшей в 1989 г. Труд Зайцева переиздается в выходя
щей в 2000 г. книге избранных работ скончавшегося в 1997 г. историка’.
Применительно к освоению творческого наследия Пушкина огромное значение архивных материалов для обогащения нашей культуры особенно очевидно - большой массив сочиненного Пушкиным оставался не только ненапечатанным, но и неизвестным даже близким ему людям. Среди не опубликованного при жизни и ранние вольнолюбивые стихи, и стихи самого последнего периода, и такие объемные произведения, как «Медный всадник» и «Дубровский», не говоря уже о множестве фрагментов незавершенных сочинений, записей для себя. Естественно, что неопубликованными оставались и все автографы Пушкина, так сказать, делового назначения.
И лишь по прошествии 50 лет со дня кончины, когда стало возможным обратиться ко всему письменному его наследию, выяснилось, какого грандиозного масштаба и мыслителем, и моралистом, и политологом был Пушкин, и хотя он и величайший русский поэт, только поэтом называть его несправедливо. Многообразием литературных жанров и тематики, вызывавшей его интерес, Пушкин не уступал первому писателю России предшествовавшего периода Карамзину. Обращение к архивным материалам, прежде всего к написанному рукой самого Пушкина, позволило восстановить искаженное при печатании цензурой (и автоцензурой тоже). Все это обусловило возможность начала работы над действительно полным академического типа собранием сочинений Пушкина.
Подготовка изданий сочинений Пушкина, обращение к его творческой лаборатории стали школой формирования отечественной текстологии и выработки системы комментариев - языковедческих, литературоведческих, исторических. А изданный в канун Пушкинского юбилея в 1935 г. пробный том Полного собрания сочинений А. С. Пушкина - том седьмой «Драматические сочинения» - можно признать эталоном археографической культуры второй четверти XX в. Том этот, увы, вызвал неудовольствие Сталина, и последующие тома выходили лишь с краткими текстологическими комментариями18. В архивных фондах (и Пушкинского Дома, и издательства, и в личных фондах пушкинистов) имеются ценные материалы о подготовке еще нескольких томов
‘ См.: «Ты, солнце святое, гори!»: Книга о московском учителе словесности Иване Ивановиче Зеленцове. М.: Москвоведение; Московские учебники и картолитография, 2000.
по такому образцу. Некоторые из них опубликованы в книге избранных трудов М. А. Цявловского в 1962 г. Кархиву академического издания сочинений Пушкина за 1930-е годы обращаются и при подготовке современного Полного собрания сочинений, приуроченного уже к 200-летию со дня рождения Пушкина. Очень интересны и в то же время слабо изучены материалы личных архивов пушкинистов тех лет: там и соображения (с обоснованием или предварительного порядка) оригинального характера о творчестве Пушкина, о его биографии и о лицах его окружения, об источниках (мемуарах, публицистических, художественных, научных сочинениях, актах государственной власти), важных для познания пушкинской эпохи. (Некоторые из такого рода архивных документов использованы и в моей статье («Г.О. Винокур и академическое издание пушкинского “Бориса Годунова”»)19. Немало дает обращение к наследию Ю.Г. Оксмана.
Вероятно, нет в истории русских гуманитарных наук другого примера такого сближения наук филологических и исторических. И дело не только в том, что и историки много писали о Пушкине (от В.О. Ключевского до Н.Я. Эйдельмана и наших современников). Литературоведы, комментируя сочинения Пушкина, изучая его биографию, неизменно обращались к методике работы историков и существенно обогащали ее (самый известный, пожалуй, и блистательный пример - труды Ю.М. Лотмана).
Пушкинская тема имела (пока еще недостаточно оцененное) значение и собственно для исторической науки. Вследствие этого не замирала такая научная дисциплина, как генеалогия (хотя при другой тематике штудии о генеалогии дворянства XVIII-XIX вв. признавались в лучшем случае неактуальными). Выявлялись и систематизировались данные по истории аристократии первой трети XIX в., и не только той ее части, которая придерживалась свободолюбивых воззрений (декабристы и так называемые «декабристы без декабря»). Об аристократах - современниках графа (Л.Н. Тодетого) при многообразной литературе, ему посвященной, мы знаем гораздо меньше, чем о современниках Пушкина и Лермонтова. Так как эти великие писатели жили в среде аристократии, а Л. Толстой, хотя и изображал повседневный обиход жизни петербургской и московской аристократии (и не только в «Войне и мире» о начале XIX в. по историческим преданиям и печатным материалам, но и о современной ему - в «Анне Карениной» и «Воскресении»), но жил в имении, и лица эти не принадлежали к тем, которые могли бы заинтересовать биографа великого писате
ля. А.А. Ахматова глубоко права, утверждая, что лишь благодаря । Пушкину такие сановные и богатые люди, перед многими из кото- . рых трепетали современники, остались в истории; сейчас они интересны нам прежде всего их взаимоотношениями с Пушкиным, униженным тогда, по сравнению с ними, камер-юнкерским званием не по возрасту. (Напомним, что за камер-юнкера тогда приняли двадцатитрехлетнего Чацкого из «Горе от ума».) А «рукописи, дневники и письма начинают цениться, если там проявляется магическое слово “Пушкин”»20.
Это позволило сохранять и изучать и произведения изобразительного искусства (в частности, портретные миниатюры и акварели), совершенствовать искусство атрибутирования предметов повседневного барского обихода. Как много дает для изучения этого мира аристократии недавно изданный «Итинерарий» знакомых Пушкина, подготовленный М.А. и Т.Г. Цявловскими2’, книга Л.А. Черейского «Пушкин и его окружение», многочисленные исследования и популярные очерки о знакомствах Пушкина! Это удерживало и уважительный интерес к собиранию и изучению рукописных альбомов, домашних зарисовок той эпохи.
Несомненно очень велико значение личных фондов пушкинистов. Без обращения к ним нельзя написать историю пушкиноведения и определить его место в развитии науки, в сохранении науки, в сохранении культурных традиций. И очень отрадно, что все больше стали издавать не опубликованные при жизни труды пушкинистов: началось издание картотеки «Материалов к летописи жизни и творчества А.С. Пушкина» за 1826-1837 гг. - незавершенного коллективного труда, начатого по инициативе М.А. Цявловского и под его руководством. На очереди издание других неопубликованных трудов Цявловского. Готовится издание трудов Г.О. Винокура. Много важного для пушкиноведов и в переписке, дневниковых записях, документах издательского делопроизводства, в архивах, где отложились протоколы научных и редакционных заседаний. Именно такие документы показывают руководящую организационную роль Л. Б. Каменева в подготовке юбилея и особенно юбилейных изданий22. Он, даже арестованный после убийства С.М. Кирова, но первоначально сосланный в Сибирь, работал в 1935 г. над жизнеописанием Пушкина. Полезно было бы подготовить книгу «Обзор архивного наследия пушкинистов».
А каким кладезем являются архивы для узнавания того, кем был Пушкин для россиян - и для его младших современ
ников, и для последующих поколений, вплоть до наших дней! Здесь обнаруживаем написанное не для публикации, иногда предназначенное лишь самым близким людям, запечатленное в дневнике.
Из письма художника В.Д. Поленова сестре узнаем, каким светлым для него был Пушкинский праздник в Москве в июне 1880 г.: «Праздник был такой возвышенный, примирительный и вместе глубоко гражданский, что нельзя было не порадоваться», а из письма Ф.М. Достоевского жене сразу после произнесения им знаменитой речи - об экзальтации публики, вызванной этим выступлением23. Из дневника студента С.И. Вавилова (будущего академика-физика и президента Академии наук) о его преклонении перед Пушкиным: «Пушкину я верю, Пушкина я люблю... его фразы стали законом», о посещении им Святых гор, Михайловского, Тригорского24. Показательно признание выдающегося историка академика М.М. Богословского. У него были дружеские отношения с академиком С.Ф. Платоновым, он останавливался в его квартире, приезжая в Петроград (так же как Платонов в московской квартире Богословского). 3 марта 1924 г. он пишет Платонову из Москвы: «С каждым годом жизни все более и более люблю Пушкина и все Пушкинское. Отдыхая у Вас, с величайшим наслаждением перечитал некоторые его стихи, находя в них все новые и новые красоты, прежде незамеченные, потому ли, что их пропускаешь случайно, или потому, что для каждого возраста в нем открываются свои красоты, незаметные для возраста более молодого»25. Или написанное замечательным московским школьным учителем словесности (И.И. Зеленцовым завещательное письмо с просьбой прочитать у его гроба «Вакхическую песню» Пушкина и посвященное памяти Пушкина стихотворение А.В. Кольцова «Лес». Подготовленный учениками и издаваемый к 50-летию со дня его кончины сборник имеет заголовок: «Ты, солнце святое, гори. Книга о московском учителе словесности Иване Ивановиче Зеленцове», а эпиграфом сборника выбрали фразу из его письма девятикласснице: «Пусть солнце Пушкина осветит твой жизненный путь!»’ Выявление подобных свидетельств -одна из задач архивистов.
См.: Зайцев А.Д. Петр Иванович Бартенев и журнал «Русский архив». М.: Московские учебники и картолитография, 2001. Гл. III на с. 67-79; о Пушкине и на других страницах (см. «Именной указатель»).
Плодотворные творческие взаимовлияния и воздействия архивной науки и пушкиноведения очевидны. Знания такого рода обогащают наши представления и о проблеме «Архивы в культуре России».
1 Словарь языка Пушкина. М., 1956. Т. 1. С. 50.
2 Чирков С.В. Хохловский переулок, 7 // У Покровских ворот. М., 1997. Гл. «Дедушка русских архивов»; Долгова С.Р. Архивны юноши // Пушкин и Москва. М., 1999. С. 214-228.
3 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Л., 1978. Т. VI. С. 132.
4 Там же. Т. VIII. С. 50.
5 Долгова С.Р. Алексей Федорович Малиновский. Обозрение Москвы / Сост. С.Р. Долгова. М., 1992. С. 176-229.
6 См.: Козлов В.П. Российская археография конца XVIII - первой четверти XIX века. М., 1999.
7 Карамзин Н.М. Записки о московских достопамятностях // Наше наследие. 1991. № 6. С. 43. Подг. к печ. В.Ю. Афиани.
"Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л., 1980. С. 332-333.
9 Пушкин А.С. Указ. соч. Т. VI. С. 549.
10 Черейский ЛА. Пушкин и его окружение. Л., 1989. С. 435-436.
"П ушкин А.С. Указ. соч. Т. X. С. 76.
12 Там же. Т. IV. С. 248.
13 Там же. Т. IV. С. 280-281.
" Пушкин А.С. Дневники. Записки. СПб., 1995. С. 30.
15 Черейский Л.А. Указ. соч. С. 286, 507.
16 Последний год жизни Пушкина: Переписка. Воспоминания. Дневники / Сост. В.В. Кунин. М., 1988. С. 406.
17 Пушкин в воспоминаниях современников. Т. I. СПб., 1988. С. 423.
18 Бонди С.М. Об академическом издании сочинений Пушкина // Вопросы литературы. 1963. № 2.
19 Новое литературное обозрение. 1997. № 3. С. 65-77. Переиздано в кн.: Винокур Г.О. Собрание трудов. Комментарии к «Борису Годунову» А.С. Пушкина. М., 1999. С. 6-35.
20 Ахматова А.А. О Пушкине. Статьи и заметки. Л., 1977. С. 6.
21 Материалы к летописи жизни и творчества А.С. Пушкина. 1826-1837. Картотеки М.А. и Т.Г. Цявловских. Т. 1. Картотека итинерариев
лиц ближайшего пушкинского окружения. М., 1998. Эту первую книгу трехтомного издания предваряют статьи С.О. Шмидта «Классика отечественной археографии», Н.И. Михайловой «Пушкинисты Мстислав Александрович и Татьяна Григорьевна Цявловские»; Е.В. Гарбер «Судьба незавершенного труда: работа М.А. и Т.Г. Цявловских над “Летописью жизни и творчества А.С. Пушкина’’».
22 См. об этом в вышедшей позднее статье: Крылов В.В. Л.Б. Каменев - директор Пушкинского Дома (Штрихи к портрету) // Источниковедение и краеведение в культуре России. Сборник к 50-летию служения Сигурда Оттовича Шмидта Историко-архивному институту. М., 2000. С. 447-450.
23 Цит. по: Шмидт С.О. Пушкин и Пушкинский праздник в Москве 1880 года // Пушкин и Москва. М., 1999. С. 366, 372.
и Шмидт С.О. Арбат в истории и культуре России // Арбатский архив: Историко-краеведческий альманах. М., 1997. Вып. I. С. 108.
25 ОР РНБ. Ф. 585 (С.Ф. Платонов). On. 1. Д. 2324. Л. 6 об.
Тема «Пушкин и Москва» - это и Москва в биографии Пушкина, и Пушкин в биографии Москвы. И едва ли не самым знаменательным в этой биографии после пушкинского триумфа в Москве по возвращении из ссылки 1826 г. был ставший всероссийским Пушкинский праздник 1880 г. по случаю открытия памятника поэту в Москве. Это событие стало одной из самых замечательных вех в истории культуры и общественной жизни Москвы.
В.О. Ключевский в статье-речи к пятидесятилетию со дня гибели Пушкина «Евгений Онегин и его предки» в 1887 г. нашел очень точную формулировку: «Жизнь поэта - только первая часть его биографии; другую и более важную часть составляет посмертная история его поэзии»’. Это определение относится, конечно, ко всему творчеству Пушкина, не только к поэтическому.
Пушкин был возвращен из ссылки в сентябре 1826 г. И тогда уже было ощутимо, что к Пушкину приходит признание первого писателя России. Гибель Пушкина была воспринята как национальная трагедия и вызвала стихотворные отклики не только в Петербурге. Ныне более всего памятны стихи М.Ю. Лермонтова «Смерть Поэта», написанные в Петербурге в два приема в январе 1837 г., и сочиненное в Воронеже А.В. Кольцовым стихотворение «Лес».
В сентябре 1837 г. стихи памяти Пушкина «На смерть поэта» написал в ссылке в Пензенской губернии и Н.П. Огарев. Имя Пушкина, цитаты из пушкинских произведений - во многих сочинениях Герцена. Общественное значение произведений Пушкина охарактеризовано Герценом и в сочинении, адресованном зарубежному читателю, - в книге «О развитии революционных идей в России», вышедшей в 1851 г. на французском и немецком языках и вызвавшей немало откликов в зарубежной публицистике.
Первую биографию Пушкина написал московский знакомый Пушкина крупный историк Д.Н. Бантыш-Каменский, сын Н.Н. Бантыш-Каменского, многолетнего начальника Московского архива Коллегии иностранных дел, где позже служили сбли-
Впервые опубл.: Пушкин и Пушкинский праздник в Москве 1880 года // Пушкин и Москва / Сост., науч. ред. Н.И. Михайлова. М., 1999. С. 330-374.
зившиеся с Пушкиным «архивны юноши». Главное произведение Д.Н. БантыШ-Каменского - «Словарь достопамятных людей русской земли». В 1836 г. в Москве вышли пять его частей с 502 биографическими очерками, в 1847 г. дополнительно еще три части со 129 биографиями, и среди них биография Пушкина.
Ставший в 1841 г. академиком, историк М.П. Погодин устраивал у себя дома, в знаменитой Погодинской избе (она до сих пор сохранилась близ Девичьего поля), вплоть до своей кончины в 1875 г., своеобразные поминовения Пушкина в день его смерти: после всесемейной панихиды читали пушкинские сочинения, «передавали свои личные воспоминания». Это слова из письма присутствовавшего там П.И. Бартенева близкому другу Пушкина князю П.А. Вяземскому, который давно уже покинул Москву, но писал воспоминания и о Пушкине, и о Москве пушкинских времен.
Петр Иванович Бартенев - видный историк и археограф, основатель (1863) и бессменный редактор журнала «Русский архив», где публиковали материалы преимущественно по отечественной истории XVIII-XIX вв. и истории литературы того же времени, советчик Л.Н. Толстого при работе над художественными произведениями исторической тематики. Бартенев еще студентом Московского университета написал сочинение, в котором утверждал, что Пушкин - «поэт по преимуществу народный». Позднее Бартенев подготовил более 30 статей и публикаций, где впервые обнародовал тексты Пушкина и ввел в научный обиход множество материалов о Пушкине и его окружении. С начала 1850-х годов он стал расспрашивать людей, знавших Пушкина, записывал их рассказы и побуждал их писать воспоминания. Он познакомился с современниками Пушкина - П.В. Нащокиным, П.А. Вяземским, С.А. Соболевским, П.Я. Чаадаевым, В.Ф. Одоевским, А.О. Смирновой-Россет, А.Н. Раевским, лицеистами А.М. Горчаковым, М.А. Корфом, с детьми Пушкина. При этом он давал записанное на просмотр другим лицам, знавшим Пушкина, которые уточняли, дополняли или, напротив, опровергали данные. Такая методика «организации» источников по теме вошла в арсенал археографии - науки о выявлении, собирании, описании и публикации письменных памятников. Как правильно заметил автор книги о Бартеневе А.Д. Зайцев, «деятельность Бартенева по разысканию, собиранию и изданию пушкинских материалов представляла собой в истории отечественного пушкиноведения период, так сказать, первоначального накопления данных о жиз-
ни и творчестве Пушкина, их первоначального освоения: период не столько решения, сколько постановки многочисленных вопросов, изучение которых, продолжающееся и поныне, невозможно без тщательного учета всего сделанного в этой области Бартеневым»2.
Конечно, о жизни и творчестве Пушкина писали не только литературоведы и историки, создававшие новую отрасль научного знания - пушкиноведение, но в еще большей мере литературные критики. И показательно, что, когда на рубеже 1850-х годов провозглашалось превосходство «сатирического» направления (называвшегося «гоголевским») над «пушкинским», а молодежь поколения Д.И. Писарева («тогдашние торопившиеся люди», как определит их позднее в «Бесах» Ф.М. Достоевский) стала заявлять о своем неприятии Пушкина, о том, что Пушкин устарел, именно воспитавшийся в московской литературно-художественной среде Аполлон Григорьев провозгласил не раз повторявшиеся с тех пор слова: «Пушкин - наше все», «Концы всего в Пушкине», «Пушкин не умрет, а будет развертываться все больше и больше»3. Молодой еще тогда московский писатель Л.Н. Толстой, принятый в 1859 г. в члены Общества любителей российской словесности при Московском университете, в своей вступительной речи счел необходимым высказаться в защиту Пушкина4.
А москвичи-эмигранты Герцен и Огарев в середине 1850-х годов в Лондоне в Вольной русской типографии публиковали запрещенные на родине произведения Пушкина. Издания лондонской типографии оказывали немалое влияние на общественное мнение и проживавших в России и показывали, что даже в революционно настроенной среде не все склонны к нигилистическим построениям в отношении пушкинского наследия, в то же время они свидетельствовали и о том, сколь односторонней является характеристика Пушкина только как монархиста.
Творчество Пушкина все прочнее входит в обиход повседневной культуры: сочинения его в программах обучения всех средних и специальных учебных заведений, в хрестоматиях для классного чтения, все чаще и в репертуаре семейного чтения вслух, причем в многодетных семьях нередко чтецами выступали старшие дети. Раннее (и зачастую любовное) восприятие сочинений Пушкина оберегало от разрушительного воздействия однолинейно мыслящих «нигилистов».
Пушкин и официально признан высоким достоянием отечественной культуры, гордостью истории России (его фигура на
памятнике «Тысячелетие России», воздвигнутом в Великом Новгороде в 1862 г,). Имя его постепенно утверждается как знаковое, как символ русской культуры. Имя Пушкина все в большей мере используют и на поприще общественно-политической деятельности, изображая его наставником, призывая его в союзники в общественно-политической борьбе. Это стало особенно ощутимо в период подготовки Пушкинского праздника в Москве в 1880 г. и еще более в момент самого праздника.
Первым предложил воздвигнуть «национальный памятник поэту» друг его В.А. Жуковский в письме императору Николаю I сразу после гибели Пушкина. В середине 1850-х годов мысль об установке памятника была высказана служащими средних чинов Министерства иностранных дел, напомнившими о том, что и сам Пушкин был служащим Коллегии иностранных дел. Но осуществлением этого намерения мы обязаны выпускникам Царскосельского лицея. Готовясь отметить в 1861 г. пятидесятилетие Лицея (называвшегося с 1843 г. Александровским и переведенного в Петербург), они предложили объявить «повсеместно» подписку на памятник Пушкину.
Предложение поддержал родственник императора принц Петр Георгиевич Ольденбургский, бывший в то время попечителем Лицея. Сын любимой сестры Александра I Екатерины, покровительницы Н.М. Карамзина, передавшей брату-императору в 1811 г. его записку «О древней и новой России», он был близким другом Александра II. Известный попечительской деятельностью в сфере культуры, поклонник творчества Пушкина (он двадцатидвухлетним еще в 1834 г. перевел на французский язык только что изданную повесть Пушкина «Пиковая дама»), принц получил согласие Александра II на установку памятника. Первоначально предполагалось поставить памятник в Царском Селе, «в бывшем лицейском саду». О начале подписки на памятник газеты оповестили в начале 1861 г. и использовали для этого государственный аппарат. Но темпы подписки, заметные в начале 1860-х годов, постепенно снижались: это были годы влияния сторонников взглядов Д.И. Писарева, призывавшего к «низвержению» Пушкина и других литературных авторитетов прошлого, навязываемых, по их мнению, читающей публике.
На традиционном лицейском обеде 19 октября 1870 г. (встрече окончивших Царскосельский лицей) знаменитый филолог и педагог академик Я.К. Грот - лицеист VI курса, окончивший Лицей с золотой медалью в 1832 г., возобновил вопрос о памят
нике. Его поддержали другие лицеисты. Из них в феврале 1871 г. был создан комитет в составе семи человек (в их числе и лицеисты первого, пушкинского, выпуска М.А. Корф и Ф.Ф. Матюшкин), главой которого согласился быть принц Петр Ольденбургский. Возобновилась и подписка. Для братьев Гротов (младший, лицеист VII курса, принимал заметное участие в осуществлении реформ 1860-х годов, в 1870 г. он был членом Государственного совета) и лицеистов ранних выпусков Пушкин был символом «лицейского культа». Собираясь на обеды и вечера воспоминаний, они неизменно читали стихи Пушкина. Среди принимавших участие во встречах был и М.Е. Салтыков (переведенный в Лицей в 1838 г. из Московского дворянского института), уже широко известный как писатель Н. Щедрин.
В новом комитете полагали, что «избранием удобнейшего для памятника места обуславливается и самый успех подписки». И по предложению адмирала Ф.Ф. Матюшкина избрали местом его установки Москву. Думается, что Матюшкин, один из ближайших лицейских друзей Пушкина, проведший, как и он, детство в Москве, понимал (и учитывал) не только значение Пушкина для Москвы, но и значение Москвы для Пушкина. Я.К. Грот в «Историческом очерке сооружения памятника Пушкину» - докладе в зале Московской городской думы в первый день Пушкинского праздника - сказал: «Нельзя было не согласиться с Матюшкиным, что постановка памятника Пушкину в Москве, где беспрестанно толпятся, сменяясь, уроженцы всех стран России, особенно была бы способна придать ему значение вполне народного достояния».
По «всеподданнейшему докладу» принца Ольденбургского император, согласно с ходатайством комитета, 20 марта 1871 г. повелел, «чтобы памятник Пушкину поставлен был не в Царском Селе, как прежде указано было, а в Москве, месте рождения поэта, где монумент его получит вполне национальное значение».
(Не будем забывать того, что главным наставником-воспитателем царя в юные годы был друг Пушкина Жуковский, а словесность ему преподавал тоже друг Пушкина, которому тот посвятил «Евгения Онегина», П.А. Плетнев. Предполагалось серьезное знакомство цесаревича с русской литературой.)
Надлежало выбрать место в Москве, где «всего приличнее воздвигнуть памятник». Я.К. Грот в конце 1871 г. поехал в Москву «для совещания с наиболее интересующимися делом местными жителями»5. До этого Я.К. Грот вел переписку с П.И. Бартеневым
л о месте, пригодном для памятника, и о самом проекте. Изучая этот вопрос, нужно учитывать особенности взаимоотношений видных государственных и общественных деятелей столицы с московскими жителями и взаимоотношения группировок общественности в Москве. Большую роль играли личные взаимосвязи и симпатии. Существенным оказалось то, что старший из Гротов, академик Яков Карлович, приобретя в 1864 г. имение в Рязанской губернии, где стал проводить летние месяцы, по пути туда и обратно неизменно останавливался в Москве, поддерживая и расширяя свои знакомства с московскими литераторами и учеными. Он был тесно связан со Славянским благотворительным обществом в Москве и с его руководителями, а младший его брат Константин имел давнее знакомство с видными государственными и общественными деятелями, которым обязаны реформами 1860-х годов (князем В.А. Черкасским и другими).
Имело значение и то, что в Москве всем этим занялся Павел Иванович Миллер. Сын генерала суворовских времен, лицеист VI курса (как и Я.К. Грот), он боготворил Пушкина и почитал себя счастливым знакомством с ним в последние петербургские годы его жизни. В 1833-1844 гг. Миллер служил личным секретарем шефа жандармов А.Х. Бенкендорфа, через которого осуществлялся надзор царя за Пушкиным. Миллер - что выяснилось уже после его кончины (он умер в 1885 г.) - не только был адресатом писем Пушкина, но и помогал его друзьям сформировать сразу после его гибели правдивый комплекс документов о причине дуэли, сохранял у себя автографы Пушкина, изъятые из бумаг шефа жандармов, оставил воспоминания о встречах с Пушкиным, о его смерти. И при жизни поэта он оказывал ему немалые услуги, не давая хода опасным для него документам. Записку свою о гибели Пушкина (написанную не ранее 1852 г.) он начинает словами: «Некоторые подробности смерти Пушкина останутся навсегда интересными для тех, кто обожал его как поэта и любил как человека». Не сделав большой карьеры, Миллер вышел в отставку статским советником и камер-юнкером и поселился в Москве6.
Совещание конца 1871 г. с участием Я.К. Грота проходило в доме князя В.А. Черкасского, который в 1869-1870 гг. был московским городским головой и покинул этот пост из-за недовольства при дворе его заявлением о необходимости продолжения реформ: «простора мнению и печатному слову». Присутствовали новый городской голова купец-миллионер И.А. Лямин, М.П. Погодин и
П.И. Бартенев, общественные деятели, авторитетнейшие не только в Москве: М.Н. Катков - издатель газеты «Московские ведомости» и журнала «Русский вестник», начавший уже отходить от прежних либеральных позиций, идеологи славянофильства И.С. Аксаков (связанный не только с литературными, но и с финансовыми кругами), Ю.Ф. Самарин (видный историк и философ был в то время гласным Московской городской думы и Московского земского собрания) и П.И. Миллер (на которого, очевидно, и намерены были возложить организацию работ по оформлению подписки на памятник).
В 1872 г. комитет объявил восьмимесячный конкурс, предлагавший российским ваятелям представить модели обеих частей памятника - и статуи, и пьедестала. В марте 1873 г. в Петербурге выставили 15 моделей. Ни одну не признали удовлетворяющей требованиям и, отметив пять лучших работ, объявили новый конкурс. В марте 1874 г. были представлены уже 19 моделей. Троих отметили премией, а двум скульпторам предложили изготовить модели в увеличенном размере. В мае 1875 г. эксперты (среди них был художник И.Н. Крамской) и комитет признали лучшей работу Александра Михайловича Опекушина, изображавшую' фигуру размышляющего Пушкина на прогулке и лишенную каких-либо аллегорических украшений, полагая, что она соединяет «в себе с простотой, непринужденностью и спокойствием позы тип, наиболее подходящий к характеру наружности поэта». Конкурсы широко обсуждались в обществе - это отражено и в художественной литературе: в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина» (пятая глава седьмой части). Архитектором скульптор пригласил уроженца Москвы И.С. Богомолова. Бронзовую статую отлили на заводе в Петербурге. Подрядчиком каменных работ был И.С. Баринов. Как отмечено Я.К. Гротом, «наблюдение за работами и извещение комитета о ходе их» принял на себя постоянно живший в Москве П.И. Миллер.
В газетах было оповещено о возобновлении пожертвований, и они стали сообщать о постепенном приращении суммы, переданной новому комитету при начале его деятельности. В итоге ко времени открытия памятника даже остались деньги, которые по предложению Я.К. Грота использовали для учреждения Пушкинской премии Академии наук за сочинения по изящной словесности и изыскания по русскому языку и литературе (первое присуждение премии состоялось в день лицейской годовщины -19 октября 1882 г.).
А.М. Опекушин родился крепостным в Ярославской губернии. Учился в Академии художеств, был привлечен М.О. Микешиным к работе над многофигурными памятниками «Тысячелетие России» в Новгороде и Екатерины Великой в Петербурге. В 1872 г. Опекушин «за портретные статуи» получил звание академика. После Пушкинского праздника установлены его работы: в 1884 г. памятник Пушкину в Петербурге на Новой улице, примыкающей к Невскому проспекту, недалеко от Московского вокзала (фигура стоящего Пушкина со скрещенными на груди руками гораздо менее выразительна, чем фигура московского памятника); в 1899 г. памятник Лермонтову в Пятигорске; снесенные позднее памятники императорам в Москве - Александру II в Кремле, Александру III возле храма Христа Спасителя. Московский памятник Пушкину остался вершиной творчества Опекушина. В многотомной «Истории русского искусства» верно отмечено: памятник «так прочно вошел в наше сознание, что образ Пушкина уже невольно ассоциируется с произведением Опекушина»7.
К тому времени местом памятника уже определили Страстную площадь (ныне называемую Пушкинской). Предстояло сделать выбор между Тверским бульваром и территорией подле Страстного женского монастыря (в 1930-х годах постройки его были разобраны; ныне на этом месте сквер, куда в 1949-1950 гг. перенесли памятник Пушкину, и кинотеатр). Справедливо предпочли место в конце Тверского бульвара: монумент был виден еще в начале пути по самому любимому и парадному месту прогулок москвичей, и силуэт его по мере движения от Никитских ворот становился все отчетливее, формировал определенный настрой мысли. Расположение среди зелени бульвара придавало памятнику интимность, делало возможным побыть с Пушкиным наедине (этот стиль и подобное восприятие учитывал скульптор Н.А. Андреев, создавая к 1909 г. проект памятника Гоголю и планируя его расположение на той же бульварной линии, у Арбатской площади). Памятник не парадный, не рассчитанный на обозрение с большого расстояния, как знаменитые петербургские памятники Екатерине II в сквере, на фоне театра, и Медный всадник. И потому перенесенный на другое место, да еще на открытую площадку, в шуме людском, обтекаемый потоками машин, памятник Пушкину уже не во всем дает представление о первоначальном замысле.
Выбор Страстной площади свидетельствует и о знакомстве с биографией и творчеством Пушкина (Пушкин жил и бывал недалеко отсюда, это и описанная им дорога Лариных по приезде
в Москву в седьмой главе «Евгения Онегина»), и о несомненно благожелательном отношении к затеянному делу и светских, и церковных властей Москвы: Тверская - главная улица Москвы, дорога из Петербурга, вблизи резиденция генерал-губернатора (Тверская, дом 13, где и сейчас в перестроенном здании резиденция мэра Москвы), рядом Страстной монастырь, большой колокол которого в пасхальную ночь первым откликался на благовест большого Успенского колокола колокольни Ивана Великого в Кремле, давая тем сигнал к началу праздничного звона всех московских колоколен. Это встретило поддержку и московского генерал-губернатора князя В.А. Долгорукова, и митрополита Московского и Коломенского Иннокентия, и поныне одного из самых почитаемых православных пастырей, знаменитого просветителя алеутов и восточносибирских народов - тех самых «диких» тунгусов, о приобщении которых к российской словесности думал Пушкин, создавая стихотворение «Я памятник себе воздвиг...» (и слова эти - на пьедестале памятника).
Подготовка к открытию памятника Пушкину в Москве -значительная страница в истории и общественной жизни, и литературы и искусства, и науки и педагогики, и, конечно же, в истории Москвы. В Москве впервые воздвигался памятник не государственному деятелю или полководцу, но человеку, знаменитому свершенным им на ниве культуры, притом памятник, сооруженный по предложению общественности и в значительной мере на собранные пожертвования. Никогда подобное событие не вызывало столь широкого, всероссийского резонанса в печати. Важно и то, что благодаря открытию памятника Пушкину в Москве в те же начальные дни июня чествования памяти Пушкина состоялись в Петербурге (а также в Царском Селе) и в других городах Российской империи, хотя это и нельзя было приурочить к какой-либо юбилейной дате. Московский Пушкинский праздник стал всероссийским, и информация об этом событии (обычно достаточно пространная, с перепечаткой некоторых речей и материалов московских и петербургских газет) появилась в очень многих провинциальных периодических изданиях. Это возвышало и роль Пушкина, и роль Москвы в истории и развитии отечественной и мировой культуры.
Казалось бы, в желании осуществить этот замысел объединились все - и императорский двор, и министерства, и Академия наук, и высшие учебные заведения, и духовенство, и общественность разного толка, и пресса разных направлений. Но при этом
преследовались цели не только увековечения памяти великого человека, воспитания общественного сознания, особенно молодежи, Пушкиным, расширения сферы воздействия культуры на общество во всей огромной стране, но и борьбы общественно-политических («партийных») взглядов и тенденций.
Изучая эти явления, следует иметь в виду и обстоятельства общероссийской жизни, и то, что было характерно именно для московского общества тех лет. Рубеж 1870-1880-х годов - время революционной ситуации, беспримерной активности террористических организаций, обострения взаимоотношений в высших эшелонах власти, в правительственных и придворных группировках, противоборства столичной бюрократии и провинциальной общественности - земств, а также волнующей заинтересованности в судьбах южнославянских народов на Балканах. Московская общественность была тогда в своей значительной части оппозиционно настроена по отношению к правительству: в Москве осели (подобно «екатерининским орлам» на рубеже XVIII и XIX столетий) отставленные от дел реформаторы 1860-х годов и начали уже интенсивную общественную деятельность будущие идеологи - основатели кадетской партии (прежде всего «молодая профессура» университета). В то же время революционеры-террористы концентрировались уже в столице. В Москве же в большей мере, чем в чиновно-дворянском Петербурге, выявилась роль «купцов» (предпринимателей-фабрикантов, торговцев, банкиров, принадлежавших к купеческим гильдиям) в общественной жизни и становилось все заметнее их место в культурной элите города: уже с середины XIX в. можно говорить о династиях меценатов из среды московских капиталистов.
И московская общественность, и московские власти были заинтересованы в том, чтобы город первого в России университета оставался всероссийским средоточием общественной жизни и особенно сохранения и пропаганды историко-культурного наследия отечества. Это четко прослеживаемое направление деятельности московских властей в период правления Александра II - и губернатора, и городских голов, и городской думы - направление, поддерживаемое, видимо, и самим императором.
В 1861 г. в Москву из Петербурга перевели Румянцевский музей, ставший основой нынешней Российской государственной библиотеки. П.М. Третьяков поставил перед собою цель создать художественную национальную галерею. Возникшее в 1864 г. Московское археологическое общество начало организовывать все
российские археологические съезды (первый состоялся в 1869 г.). В 1870-х годах началось строительство Политехнического и Исторического музеев. В 1872 г. торжественно отмечали двухсотлетие со дня рождения Петра Великого. Именно Москва становилась средоточием Пушкинских торжеств.
Предполагалось приурочить открытие памятника в связи с восьмидесятилетием со дня рождения Пушкина в 1879 г. к лицейской годовщине 19 октября. Однако работы по сооружению памятника задержались, и датой его открытия утвердили день рождения Пушкина - 26 мая 1880 г.
Первоначально предполагали, что Пушкинские торжества будут напоминать те, которые устраивались Обществом любителей российской словесности (далее - ОЛРС) к другим юбилейным датам. Но постепенно представление о предстоящем Пушкинском празднестве обретало все большую масштабность. И склонилось к тому, чтобы праздник напоминал организацию больших торжеств в память великих писателей в странах Западной Европы, традиция которых восходит к организации шекспировского юбилея в 1769 г. в Англии, где главным устроителем был великий актер Дэвид Гаррик.
Избранная ОЛРС комиссия для организации торжеств начала свою деятельность с заседания 11 апреля 1880 г. Она состояла из девяти членов. Председателем ее избрали Л.И. Поливанова - педагога и историка литературы. Членом был председатель ОЛРС С.А. Юрьев, популярный в те годы литературный деятель, переводчик драм испанских авторов и Шекспира, публицист (редактор журнала «Беседа» в 1870-е годы, в 1880 г. основал журнал «Русская мысль»), мастер спичей и увлекательный собеседник. Он воспринимался как могиканин литературы и общественной мысли 1840-х годов, когда спорили славянофилы и западники. Терпимость и широта взглядов делали его симпатичным широкому кругу лиц. О Юрьеве писали, что он принадлежал к числу тех литературных деятелей, которые оказывают влияние на современников не столько литературной деятельностью, сколько личностью. Другие члены - П.И. Бартенев, директор Оружейной палаты Н.С. Чаев, секретарь ОЛРС, литератор и религиозный мыслитель Н.П. Аксаков, педагог и литератор П.Е. Басистов (в то время заведовал московскими думскими школами, много сделал для совершенствования их программ, особенно по русскому языку и литературе), поэт-переводчик и издатель юмористического журнала Ф.Б. Миллер (самый старший по возрасту) и его
сын Всеволод Федорович, уже признанный видным представителем московской этнографической школы, знаток древнерусских былин и «Слова о полку Игореве», востоковед и археолог, ставший впоследствии академиком. Он вместе с самым молодым членом комиссии М.М. Ковалевским издавал тогда «Критическое обозрение» - журнал научной критики и библиографии в области гуманитарных наук. Максим Максимович Ковалевский, крупнейший социолог, правовед, историк, тогда играл ведущую роль в группе так называемой молодой профессуры (биолог К.А. Тимирязев, физик А.Г. Столетов, экономисты А.И. Чупров и И.И. Янжул, юрист С.А. Муромцев и другие). Любопытно, что в 1880 г. Ковалевский жил в доме В.Ф. Миллера, домовладение которого по «Адрес-календарю» 1880 г. - «у св. Харитония что в Огородниках», т. е. в местности, где родился Пушкин.
Главным организатором подготовки к празднику, душой всего дела был Лев Иванович Поливанов (1838-1899) - педагог-просветитель, автор многочисленных, неоднократно переиздававшихся учебных пособий и хрестоматий и большой книги о В.А. Жуковском. Он подготовил комментированные издания сочинений русских классиков для школьного и семейного чтения (в 1887 г. - пятитомное издание сочинений Пушкина и статей о нем), переводил драмы Мольера, Корнеля и других французских писателей, организовал в 1870-е годы, шекспировский кружок, ставивший на сцене, иногда впервые в России, драмы английского драматурга. Выпускник Московского университета, он основал в 1868 г. совместно с группой педагогов первую частную мужскую гимназию, известную как Поливановская. В 1875 г. ее выпускники получили права окончивших государственную гимназию. Там он преподавал не только русский язык и словесность, но и латинский язык и другие предметы. Обладавший особым импровизационным даром («великий артист в обличье педагога»), высокий, стремительный, с горящими глазами и свисавшей до плеч гривой волос, он стал предметом обожания учеников (хотя есть и негативные отзывы в воспоминаниях главы первого Временного правительства князя Г.Е. Львова).
В Поливановской гимназии учились дети интеллигентных семей, аристократии, культурных коммерсантов и не только из Приарбатья, но и из более далеких кварталов - Валерий Брюсов добирался сюда с Цветного бульвара. В гимназии был культ Пушкина. Сам директор мастерски читал его стихи. Сын Л.Н. Толстого Лев писал сразу после кончины Поливанова: «Кто из нас не
помнит, с какой любовью, с каким пониманием Л.И., может быть, в сотый раз в жизни, но все с той же свежестью чувства читал перед нами какое-нибудь стихотворение Пушкина?» По словам Андрея Белого (Бориса Бугаева, сына профессора Московского университета), «его требования рассказать не от себя, а от Пушкина, по Пушкину были апелляцией к процессу вашего вживания в стиль Пушкина». Позднее Андрей Белый напишет: «Скажу с гордостью: я ученик класса словесности Поливанова, и как воспитанник “Бугаев”, и как “Андрей Белый”»8. Педагоги и ученики Поливановской гимназии участвовали в организации юбилейных мероприятий, а участники торжеств посещали гимназию. В день двадцатипятилетия гимназии в 1893 г. Поливанов отмечал, что «это дало возможность многим нашим воспитанникам быть особенно воодушевленными слушателями всех корифеев русской литературы недавнего времени».
Открытие памятника Пушкину было намечено на день его рождения. Таким образом, на подготовку праздника оставалось всего полтора месяца. Комиссия разработала детальную программу (в протоколах заседаний комиссии по нескольку десятков постановлений): устройство Пушкинской выставки, публичные заседания ОЛРС с выступлениями знаменитых современных писателей и ученых, литературно-музыкальные вечера при участии артистов императорских театров, петербургских и московских. Учитывалось и то, что ожидается торжественное собрание в университете. Ответственность за организацию музыкальной части взял на себя знаменитый пианист, основатель и директор Московской консерватории Н.Г. Рубинштейн; театральной части - И.В. Самарин, ведущий актер Малого театра, педагог-руководитель драматического отделения Московской консерватории; художественнодекоративной части - К.А. Трутовский, плодовитый живописец-жанрист, академик Академии художеств (тогда был инспектором Московского училища живописи, ваяния и зодчества).
Составлялись списки приглашаемых на торжества лиц, учреждений, общественных объединений, рассылались приглашения, откликались на многочисленные, со всех концов России, просьбы о присутствии на празднествах. Необходимо было обеспечить размещение лиц, приглашенных персонально, и депутатов от различных учреждений и организаций (почетным гостям предоставили бесплатные номера в лучших гостиницах). Средоточием этой деятельности стала Поливановская гимназия, где была квартира Поливанова: там получали входные билеты в храм
Страстного монастыря к заупокойной обедне, пропуска на Страстную площадь, билеты на утренние заседания (бесплатные), на литературно-музыкальные вечера, по желанию - и на подписной торжественный обед. Обязанностью Поливанова и его помощников сделалась колоссальная переписка. Некоторым зарубежным писателям от имени ОЛРС писал И.С. Тургенев, тоже введенный в состав юбилейной комиссии. Деятельное участие в подготовке праздника принимал писатель Алексей Феофилактович Писемский. На его адрес приходили письма писателей, желавших принять участие в торжествах. Туда же «почти каждый день» приезжали съехавшиеся в Москву многие «приятели и знакомые». Об этом мы узнаем из его письма от 20 мая 1880 г.: «Я лично весь поглощен предстоящим празднованием открытия памятника Пушкину. Это, положа руку на сердце, могу сказать, мой праздник, и такого уж еще у меня больше в жизни не повторится...» Подготовлены были к празднику изящные знамена белого, красного и синего цвета, обшитые золотой бахромой с золотыми кистями. Под знаменами укреплялись инициалы Пушкина - А. П., а по полотну серебряными буквами были изображены названия обществ и учреждений. С этими знаменами депутации должны были находиться на площади в день открытия памятника.
В Поливановской гимназии сосредоточивались и экспонаты готовящейся Пушкинской выставки. В короткий срок удалось собрать необычайно много. Это и произведения изобразительного искусства, и книги, и рукописи, и траурная карточка - пригласительный билет на похороны Пушкина, и вещественные мемории. В здание на Пречистенке доставили изображения Пушкина, его предков, родных, знакомых и самые знаменитые портреты - 1827 г. московской работы В.А. Тропинина, петербургской работы О.А. Кипренского, посмертную маску Пушкина, альбомы с рисунками и текстами, начертанными рукою Пушкина, автографы сочинений Пушкина, вещи, принадлежавшие Пушкину, перстень с изумрудом, оставленный В.И. Далю умиравшим на его руках Пушкиным (перстень дала дочь великого лексикографа), а кольцо с сердоликом, подаренное поэту графиней Е.К. Воронцовой и послужившее поводом к написанию стихотворения «Талисман», поступило на выставку от И.С. Тургенева. Там же были издания и переиздания сочинений Пушкина, иллюстрации к ним, изображения мест, где он бывал. Все это зафиксировано в сводной описи и нашло отражение в иллюстрированном альбоме, вышедшем в 1882 г. с предисловием и под редакцией Поливанова и с биографи
ческим очерком о Пушкине, составленным писателем А.А. Венк-стерном (Венкштерном), выпускником Поливановской гимназии. Ценность издания и в том, что часть экспонатов выставки не дошла до наших дней. А музейно-методическое значение выставки велико не только в плане пушкиноведения. Это один из первых опытов тематической выставки находящегося в частных собраниях. (При организации С.П. Дягилевым выставки русских портретов в 1905 г. в Петербурге опирались на опыт Поливанова и его сподвижников.)
С 25 по 28 мая предполагалось провести публичные заседания с выступлениями корифеев современной литературы. Уже известно было, кто из виднейших писателей примет личное участие в торжествах. Выступить пригласили И. А. Гончарова, Я.П. Полонского, М.Е. Салтыкова (Н. Щедрина), Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, А.А. Фета, Ф.М. Достоевского. Список приглашенных был опубликован в газетах. Гончаров не мог присутствовать из-за нездоровья, его трогательное письмо зачитали на торжествах.
Гончарова надеялись видеть почетным председателем на обеде 6 июня в Петербурге, но по болезни он вынужден был покинуть столицу и прислал письмо организаторам празднества, где разъяснил: «Не случись невзгоды со мною, я счел бы святою своей обязанностью, без всяких напоминаний, у подножия памятника в Москве, вместе с другими писателями, поклониться памяти нашего общего великого образца и учителя в искусстве, и моего особенно. Объясню последние два слова. Я по летам своим старше всех современных писателей; принадлежу к лучшей поре расцветания пушкинского гения, когда он так обаятельно действовал на общество, особенно на молодое поколение. Старики еще ворчали и косились на него, тогда как мы все падали на колени перед ним». И потом, когда Гончаров почувствовал себя писателем, «чувство к Пушкину оставалось то же».
Салтыков-Щедрин тоже не приехал из Петербурга. Но не только по нездоровью (он действительно был болен), но и из-за явного нежелания публично участвовать в выражении общественных позиций. Он, безусловно, понимал великое значение творчества Пушкина (и это зафиксировано в его сочинениях), но великий сатирик предчувствовал, что праздник в память поэта превратится в демонстрацию позиций общественных группировок. Самые видные представители их, Тургенев и Достоевский, не сходясь между собою во взглядах, не приемлют позиции его «Отечественных записок», где ведущую роль играл тогда
публицист-народник Н.К. Михайловский, и не вызывают симпатии у него самого. (Вскоре он назовет торжество «не Пушкинским, а Тургенева и Достоевского»9.)
Придерживавшийся совсем иных, более правых, общественных взглядов, Фет тоже отказался приехать, сославшись на нездоровье, но прислал стихи «К памятнику Пушкину», где отрицательно отнесся к общественному возбуждению, вызванному праздником, «где гам и теснота. / Где здравый смысл примолк, как сирота». Стихи не стали читать публично.
Сложнее обстояло дело с Л.Н. Толстым, для приглашения которого Тургенев специально ездил в Ясную Поляну в начале мая, но безуспешно. Толстой напомнил об этом в 1908 г., когда объяснил, почему не дает согласия на празднование собственного восьмидесятилетия. В предназначавшемся для публикации в газетах письме Толстой заявил: «Как ни дорог и мил мне был тогда Тургенев, как я ни дорожил и высоко ценил (и ценю) гений Пушкина, я отказывался; знал, что огорчал Тургенева, но не мог сделать иначе, потому что и тогда уже такого рода чествования мне представлялись чем-то неестественным и не скажу ложным, но не отвечающим моим душевным требованиям»10. Удалившемуся в ту пору от публичной жизни, сосредоточившемуся в Ясной Поляне на своих размышлениях великому писателю внутренне непреодолимо тяжелым казалось участие в Пушкинском празднике, обязывающее к подготовке публичного выступления, к общению с широкой публикой и прессой.
И дело в его душевном состоянии, а не в общественно-политической конъюнктуре, как старались объяснить это и публицисты - современники событий и некоторые литературоведы последующего времени. Ведь именно в эти годы Толстым формулируются основы его религиозно-нравственной философии, идеи отказа от принадлежности к тому сословному кругу, к которому принадлежали и он сам, и Пушкин. Это время создания таких произведений, как «Исповедь», «Исследование догматического богословия», «Соединение и перевод четырех Евангелий». Делиться волнующими его мыслями, публично демонстрировать состояние своей души перед участниками торжеств он не считал возможным, так же как отделаться общего характера приветственными, оценочного плана словоизлияниями. Скорее это знак уважения к Пушкину, нежелание вмешивать его бессмертное имя в рассуждения, касавшиеся общественных проблем сегодняшнего дня.
Уже готовились к перевозке материалов Пушкинской выставки в здание Дворянского собрания, рассылали приглашения, утверждали порядок дня заседаний и программы литературномузыкальных вечеров, как пришло известие о кончине тяжко болевшей императрицы Марии Александровны. Из Петербурга поступило высочайшее повеление отложить Пушкинские торжества. Согласно газетным сообщениям и слухам, предполагалось отодвинуть время открытия памятника (уже воздвигнутого на пьедестале и крытого полотнищем) до лицейской годовщины 19 октября или даже на год. Наступили волнительные дни, пока не установили близкую дату - 6 июня (18 июня по новому стилю). Таким образом, появилась возможность осуществить намеченную программу теми же силами.
В Москве собрались все дети Пушкина: Мария Александровна Гартунг - вдова генерал-майора, Александр Александрович - командир Нарвского гусарского полка, прославившийся как один из героев Русско-турецкой войны (впоследствии председатель Московского присутствия Опекунского совета), Григорий Александрович - статский советник в отставке, проживавший тогда в Михайловском, Наталия Александровна, своей красотою напоминавшая мать, она к тому времени имела титул графини Меренберг, была в морганатическом браке с немецким принцем, находившимся в родстве с английским королевским домом.
В Москву приехали и принц Петр Георгиевич Ольденбургский, академик Я.К. Грот, много лиц из Петербурга и других мест. Депутаций было 106 (включая московские), депутатов -244 человека. Среди них видные литераторы, ученые, музыканты, артисты, общественные деятели (большинство имен названо в книге «Венок на памятник Пушкину», с. 165-169). Живую заинтересованность в празднике проявляли широкая московская общественность, студенчество. Показательно поведение знаменитого ученого-биолога и прогрессивного общественного деятеля К.А. Тимирязева - профессора университета и Петровской земледельческой и лесной академии (ныне Сельскохозяйственная академия носит имя этого ученого). Как профессор академии, он перенес на другое время назначенный по расписанию экзамен по ботанике. Когда один из его коллег-профессоров возмутился, заявив, что это «совершенно постороннее дело, скорее имеющее значение удовольствия», Тимирязев парировал: «Было бы комично пускаться здесь в рассуждения о значении Пушкинского праздни
ка. [.. ] Я поступил так, как поступил бы каждый грамотный русский человек, который имел бы на то возможность».
Московское торжество открылось в два часа пополудни 5 июня публичным заседанием высочайше утвержденного комитета по сооружению памятника под председательством принца Ольденбургского в присутствии московского генерал-губернатора князя В.А. Долгорукова. Оно происходило в большом зале заседания Московской городской думы (тогда это был дворец Шереметевых на Воздвиженке, дом 6, ныне он во дворе здания бывшей Кремлевской больницы). В зале водрузили бюст Пушкина, декорированный цветами. Там находились члены комитета, родные Пушкина, высокопоставленные лица и московский городской голова Сергей Михайлович Третьяков - видный предприниматель, младший брат основателя Третьяковской галереи, крупнейшего в мире музея русского искусства, сам тоже коллекционер, особенно французской живописи XIX в., и «приглашенные лица обоего пола из именитых обывателей первопрестольной столицы».
Прием депутации происходил таким образом. Все депутаты собрались в соседнем зале, и член распорядительной городской комиссии вызывал их по имевшемуся у него списку. Фамилия распорядителя - Плевако. Видимо, это знаменитый московский адвокат и оратор Федор Никифорович Плевако, окончивший юридический факультет Московского университета и в молодые годы занимавшийся и научной работой. Приветствия были сначала от представителей дворянства. Это были: петербургский предводитель дворянства граф А.А. Бобринский, известный своими трудами по археологии юга России, впоследствии председатель императорской Археологической комиссии, вице-президент Академии художеств, видный политический деятель начала XX в.; московский предводитель дворянства; уездные предводители дворянства Московской губернии (от Московского уезда - в будущем крупный земский и политический деятель предреволюционных лет Д.Н. Шипов). Затем приветствовали от университетов, академий, научных обществ, специальных и средних учебных заведений: от ОЛРС - его председатель С.А. Юрьев, Л.И. Поливанов и В.Н. Кашперов, композитор, основатель Общества хорового пения (писавший на эту тему); от Общества истории древностей российских - его председатель знаменитый историк Москвы и археолог И.Е. Забелин; от московского Археологического общества -основатель и научный руководитель Исторического музея археолог граф А.С. Уваров и секретарь общества В.Е. Румянцев,
виднейший знаток начальной истории книгопечатания; от Общества любителей древней письменности - его основатель князь П.П. Вяземский, сын друга Пушкина, Павлуша, к которому поэт обращался со стихами. Используя богатый архив отца, он подготовил к печати в 1880 г. три книги о Пушкине с публикацией автографов Пушкина. От Московского общества испытателей природы выступил его председатель, старейший профессор-ботаник университета А.Г. Фишер фон Вальдгейм, который, вероятно, встречался с Пушкиным; от Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии - его президент профессор Г.Е. Щуровский, основатель московской геологической школы, составивший сводку данных о геологии Московского края, видный популяризатор научных знаний; от Математического общества - профессор университета Н.В. Бугаев, математик и философ, отец писателя Андрея Белого (родившегося в тот год); от Петербургского университета - виднейший исследователь истории российской словесности и академик Академии наук М.И. Сухомлинов и востоковед В.Д. Смирнов, автор ценных трудов по истории Крыма, Турции и взаимоотношений с ними России (он дожил до Октябрьской революции и много сделал для включения памятников на восточных языках в планы издательства «Всемирной литературы»); от Казанского университета -профессор-юрист С.М. Шпилевский, автор исследований по археологии и истории Казанского края; от Дерптского университета -профессор П.А. Висковатый, начавший уже тогда составление ставшего классическим исследования «М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество», автор либретто оперы Н.Г. Рубинштейна «Демон». От Публичной библиотеки в Петербурге делегатом был библиотекарь ее юридического отдела, видный писатель и философ Н.Н. Страхов; от Румянцевского музея - В.А. Дашков, этнограф, меценат, коллекционер, А.Е. Викторов, хранитель отдела рукописей и старопечатных книг музея, выдающийся исследователь этих памятников, Е.Ф. Корш - последний видный деятель из окружения молодого Герцена, литератор, издатель, один из руководителей музея, трудам которого мы обязаны систематизацией и описанием книжных фондов его библиотеки. Московскую духовную академию представляли крупнейший специалист по литургике (науки о христианском церковном богослужении, его песнопениях) и церковной археологии Восточной Европы И.Д. Мансветов и знаменитый позднее историк русской церкви и ее взаимоотношений с православным Востоком Н.Ф. Каптерев.
Показательно, что среди депутатов были профессора, особо проявившие себя как общественные деятели, авторы трудов, написанных и для средней школы: профессор университета математик А.Ю. Давидов, один из учредителей Московского математического общества, взявший на себя обязанности инспектора над частными учебными заведениями, автор много раз переиздававшихся школьных учебников «Элементарная геометрия», «Начальная алгебра», «Руководство по арифметике», «Геометрия для уездных училищ», «Начальная тригонометрия»; молодой тогда профессор В.Д. Шервинский, терапевт и патолог (был затем многолетним председателем Московского терапевтического общества, а уже в 1920-е годы организатором Института экспериментальной эндокринологии); профессор Петровской академии В.Т. Собичевский, крупнейший организатор работы лесных обществ, вузов и музеев по лесоводству. Известна и выдающаяся научная и общественная деятельность не названных в перечне депутатов - и упоминавшегося уже К.А. Тимирязева, и историка западноевропейской литературы Алексея Николаевича Веселовского (брата знаменитого филолога академика Александра Веселовского), в статьях того времени развивавшего мысль о том, что с Пушкиным русская литература утвердилась как часть мировой культуры.
Особое внимание обратили на себя две депутации, соединившиеся в одну: от Петербургского и Московского юридических обществ. Представителем от Петербурга был председатель Окружного суда, известный своими прогрессивными взглядами (в 1878 г. суд под его председательством вынес оправдательный приговор по делу Веры Засулич) знаменитый судебный оратор и писатель А.Ф. Кони (оставивший затем воспоминания о Пушкинском празднике) и от Москвы - Анна Михайловна Евреинова, председатель одного из отделений общества, первая из русских женщин, получившая за границей ученую степень доктора права (в Лейпцигском университете), известная своими научными трудами. «Появление дамы в качестве депутата от специального ученого общества - явление, во всяком случае, характерное», - отмечается в издании «Венок на памятник Пушкину». Среди депутатов от Московской консерватории были Н.Г. Рубинштейн, выдающийся композитор С.И. Танеев, Н.Д. Кашкин, друг и биограф П.И. Чайковского, музыковед, историк русской музыки, немало писавший о музыкальных произведениях на пушкинские сюжеты. От петербургских императорских театров (помимо тех, кто был участником концертов) прибыли Ф.А. Бурдин, известный автор
переводов и переделок иностранных пьес, друг А.Н. Островского, мастерски исполнявший характерные роли в его драмах, и популярный тогда актер и режиссер А.А. Нильский - первый постановщик трагедии А.К. Толстого «Смерть Ивана Грозного», написанной в духе исторических представлений Карамзина, столь близких Пушкину.
Из Петербурга (от Петербургской консерватории и Петербургского отделения Музыкального общества) приехали не только профессора П.А. Зиновьев - пианист, композитор, музыкальный критик (составивший в 1888 г. «Биографический словарь современных русских музыкальных деятелей».) и Л.В. Сакетти, впоследствии известный историк музыки, - но также и председатель Литфонда В.П. Гаевский, видный литературный критик и историк литературы, автор многих трудов о Пушкине (выпускник Лицея 1845 г., он с особым интересом изучал тему «Пушкин и Лицей»), Депутатом от артистов и музыкантов провинциальных театров был В.Н. Андреев-Бурлак, популярный актер, режиссер, писатель, в 1880 г. один из руководителей открытого актрисой А.А. Бренко первого в Москве частного театра, вскоре, по приезде в помещение близ памятника Пушкину, получившего название Пушкинского. Известный московский пейзажист А.А. Киселев был депутатом от Общества любителей художеств, а довершавший строительство храма Христа Спасителя помощник К.А. Тона А.И. Резанов - депутатом от Академии художеств, где он был ректором отделения архитектуры.
Представлялись депутаты от множества обществ: Московского общества университетских воспитанников, Московского юридического общества, Российского общества любителей садоводства, Московского общества для содействия русскому торговому мореходству, Русского общества акклиматизации животных и растений, правления Московского еврейского общества, Русского хорового общества, Общества распространителей технических знаний и др.
В заключение шли депутации от Литературного фонда, журналов, газет. Среди них был и старейший журналист А.А. Краевский, помогавший Пушкину в подготовке к печати журнала «Современник», и видный педагог и редактор педагогических журналов В.П. Острогорский, и знаменитый сотрудник журнала «Отечественные записки» Г.З. Елисеев, один из виднейших публицистов рубежа 1850-1860-х годов, и крупнейший писатель-народник Г.И. Успенский. Депутатами считались и вид
нейшие писатели и журналисты. Общество для пособий нуждающимся литераторам и ученым, так называемый Литфонд, представляли В.П. Гаевский, А. А. Краевский и такие знаменитые тогда писатели, как Д.В. Григорович и А.А. Потехин, и даже И.С. Тургенев. Ф.М. Достоевский был депутатом от Славянского благотворительного общества. Поэт, переводчик, автор переложенного на музыку А.С. Даргомыжским стихотворения «Он был титулярный советник», сатирик, писавший под псевдонимом «Гейне из Тамбова», П.И. Вейнберг (ставший затем почетным академиком) был депутатом от Петербургских женских курсов и гимназий ведомства императрицы Марии. Крупнейший очеркист-этнограф, очень много сделавший для изучения народного быта и фольклора, С.В. Максимов представлял «Ведомости Санкт-Петербургского градоначальства». Один из самых читаемых тогда литераторов, изображавших быт, писатель-юморист Н.А. Лейкин представлял «Петербургскую газету»; публицист и историк Г.А. Джаншиев (написавший позднее книги об «эпохе великих реформ» Александра II) - газету «Русские ведомости»; публицист и историк В.И. Михневич - петербургские «Новости» (его корреспонденции из Москвы 1880 г. выделялись полнотой информации); П.А. Гай-дебуров - газету «Неделя». Среди депутатов «Русского вестника» были широко известные тогда как публицисты профессор физики Н.А. Любимов, прозаик В.П. Клюшников. И.Ф. Василевский (выступавший под псевдонимом Буква), которого А.П. Чехов считал первым фельетонистом тех лет, представлял петербургские издания «Стрекоза» и «Молва» и одесский «Новороссийский телеграф». Не названный в числе депутатов зять А.А. Краевского В.А. Бильбасов числился корреспондентом фактически редактируемой им петербургской умеренно либеральной газеты «Голос», но был тогда уже и профессором всеобщей истории. Позднее он написал первые тома задуманного им биографического исследования «История Екатерины II». От газеты «Новое время» депутатами были А.С. Суворин и В.П. Буренин - именами этих широко известных журналистов завершается «Список депутатов от разных учреждений и обществ при открытии памятника Пушкину», напечатанный в книге «Венок на памятник Пушкину».
В этом списке далеко не все знаменитости, участвовавшие в празднествах. А мы знаем, что они присутствовали и на заседаниях, и на обеде, как, например, В.Д. Поленов, мастерскую которого посетил в те дни Тургенев. Художник подарил ему один из этюдов-вариантов широко известного жанрового пейзажа
«Московский дворик». Это все лица, о которых помещены статьи в многообразных энциклопедических и других справочных изданиях, в незавершенном пока многотомном биографическом словаре «Русские писатели. 1800-1917». Ознакомление с их жизнью и творчеством интересно в плане не только пушкиноведения, но и истории москвоведения, изучения истории.
Все говорили очень коротко. Потом Я.К. Грот ознакомил присутствовавших с приветствиями из России и из-за рубежа и сделал сообщение об истории создания памятника Пушкину.
В день открытия памятника, 6 июня, к десяти часам назначили съезд в Страстной монастырь. На площадь между монастырем и памятником допускались по билетам только принимавшие участие в торжестве. Дорога через монастырский двор в соборный храм была усыпана зеленью и живыми цветами. Обедню служил митрополит Московский Макарий (Булгаков), знаменитый ученый (академик с 1854 г.), богослов, оратор, автор классического труда многотомной «Истории русской церкви» (которую он сумел довести до середины XVII века). Митрополит начал словами: «И сотвори ему вечную память. Ныне светлый праздник русской поэзии и отечественного слова». Он подчеркнул, что мы «чествуем не только величайшего поэта, но и поэта нашего народа. [...] Мы воздвигли памятник нашему великому народному поэту потому, что еще прежде он сам воздвиг себе “памятник нерукотворный” в своих бессмертных созданиях, и в этом памятнике воздвиг памятник и для нас, для всей России, который никогда не потеряет для нее своей цены и к которому потом “не зарастет народная тропа”. К нему будут приходить отдаленные потомки, как приходим мы и как приходили современники». Кончил он пожеланием «от лица всей земли русской, да посылает ей Господь еще и еще гениальных людей и великих деятелей - не на литературном только, но и на всех поприщах общественного и государственного служения!» Речь митрополита Макария напечатали во многих московских, петербургских и провинциальных периодических изданиях, особенно церковных, в «Чтениях для солдат» и т. п.
Служба, молебствие и панихида длились около двух часов. В это время собирались депутаты и толпы народа. С раннего утра накрапывал дождик, но перед началом богослужения погода разъяснилась. Кругом памятника красовались гирлянды из зелени и на белых щитах названия пушкинских произведений. Депутации разместились у флагов (красных, белых, синих) с наименованием приславших их учреждений или обществ, публика - на амфитеа
трах, воздвигнутых вокруг памятника. У церкви Дмитрия Солун-ского (на углу Тверской, ближе к центру, там теперь высокий дом) соорудили эстраду, покрытую красным сукном, где должна была произойти церемония передачи памятника Москве. За канатами, в окнах и на крышах ближних домов - множество людей. При звуках гимна «Коль славен» (оркестром и хором дирижировал Н.Г. Рубинштейн) вступили на эстраду участники церемонии: члены Пушкинского комитета, московский генерал-губернатор, городской голова, высокопоставленные лица. Из Петербурга прибыли важные сановники Министерства народного просвещения, статс-секретарь А.А. Сабуров (он тоже закончил Александровский лицей), статс-секретарь Д.М. Сольский (их в начале XX в. изобразит в полной парадной форме И.Е. Репин на своей громадной картине «Заседание Государственного совета»), Ф.Д. Корнилов, лицеист, член, как и Грот, Пушкинского комитета. На эстраде - и родные Пушкина. Корнилов от имени комитета произнес несколько слов, основной смысл которых во фразе: «Ныне, представляя на суд России оконченный сооружением памятник, комитет счастлив, что вверяет охранение этого народного достояния заботливости городского управления древнепрестольной Москвы златоверхой».
Тотчас сняли веревки с пелены из парусины, окутывавшей памятник. Она заколебалась под ветром, спала сперва к ногам статуи, потом на землю. Писатель Г.И. Успенский, корреспонденции которого в журнале «Отечественные записки» о празднике имеют настороженно-критическую направленность, об этом моменте писал явно с душевным волнением: «...упала скрывавшая памятник поэта холстина, и перед всеми собравшимися на площади зрителями явился простой, умный, с внимательным, умным взором, образ Пушкина, и все, кто ни был тут, пережили не подлежащее описанию, поистине “чудное мгновение" горячей радости, осиявшей сердце всей толпы». А.Ф. Писемский писал об опекушинском Пушкине: «Он на пьедестале своем не окаменел, а как бы двинуться хочет...»
На пьедестале были высечены слова из стихотворения «Я памятник себе воздвиг...», но с подмененной уже при первом, посмертном, 1841 г., издании строчкой: вместо «Что в мой жестокий век восславил я свободу» тогда написали «Что прелестью живой стихов я был полезен». Пушкинский текст (впервые опубликованный П.И. Бартеневым в 1881 г.) появился на памятнике в 1937 г.
За первой минутой оцепенения грянуло «ура», долго перекатывавшееся по площади, овации. Вслед затем Корнилов прочел акт, подписанный присутствовавшими членами комитета принцем Ольденбургским, Гротом и им, о передаче памятника в ведение Москвы. Городской голова С.М. Третьяков благодарил от лица Московской городской думы, заявив: «Приняв памятник этот в свое владение, Москва будет хранить его как драгоценнейшее народное достояние, и да воодушевляет изображение великого поэта нас и грядущие поколения на все доброе, честное, славное!» Высокопоставленные лица и члены семьи Пушкина обошли памятник, и началось возложение венков, которых образовалась целая гора. Этот момент запечатлен в карандашных набросках корреспондента журнала «Всемирная иллюстрация» Николая Чехова - брата великого писателя, затем - в широко тиражированных рисунках других художников.
Г.И. Успенский, тонко чувствовавший воздействие памятников искусства (напомним его описание впечатлений от Венеры Милосской в парижском Лувре), так писал тогда о «том истинно новом и многозначительном, что внушала ему фигура Пушкина»: «Ново было именно это думающее доброе лицо, новое было торжество во имя человека, который и славен только работою своей мысли.... Эта дума, эта мысль, не сходящая с лица поэта, который удостоился быть увековеченным потому только, что “пробуждал чувства добрые”, - вот что ужасно ново, поучительно; а для народа, который непременно будет узнавать, за что и почему воздвигнут этот памятник, кто этот человек, что за достоинство “пробуждать добрые чувства” и т. д., для народа, который вчера еще смотрел на эту статую, как на идола, для него, если не сейчас, то впереди, статуя Пушкина будет иметь значение - без преувеличения - огромное...»
Участники церемониала торопились на торжественный акт в университет, а толпа кинулась разбирать на память листья и цветы с венков. Акт с двух часов пополудни начался в Большом зале университета в присутствии родных Пушкина и высокопоставленных лиц, представителей от всех депутаций. Хоры заняли студенты. Открывший заседание ректор университета Н.С. Тихонравов объявил об избрании университетом своими почетными членами академика Я.К. Грота (за разработку истории русской литературы XVIII-XIX вв.), П.В. Анненкова (за издание собрания сочинений Пушкина и собрание материалов для его биографии и о литературном движении 1830-1840-х гг.) и писателя И.С. Турге-
лева, «обогатившего русскую литературу великими художественными произведениями». Присутствующие рукоплесканиями одобрили это решение, приветствовали родных Пушкина. Очевидец Б.Н. Любимов вспоминал, как после слов ректора, что Пушкина особо трогало, когда потомков чествовали за заслуги предков, «весь совет профессоров, сидевших на эстраде, а за ними и вся зала, как один человек, встала со своих мест и, обратившись в сторону Пушкиных, разразилась долго несмолкавшими рукоплесканиями», и «Пушкины страшно смутились...».
Тихонравов в своей речи характеризовал роль Пушкина в развитии нашей литературы, взаимосвязь его творчества с предшественниками и писателями последующего времени («без него Гоголь не мог бы явиться»), особо отметив заслуги Белинского в оценке сделанного Пушкиным.
После него выступил преемник недавно скончавшегося С.М. Соловьева по кафедре русской истории В.О. Ключевский. Отметив, что Пушкин - «наиболее выразительный образ» истории своего времени, Ключевский попытался объяснить значение написанного им и для историографии. Он сознательно обошел сочинения с историческими сюжетами («Борис Годунов», «Полтава», «Медный всадник»), так как «эстетическое наслаждение оставляет здесь слишком мало места для исторической критики». Он сосредоточился на сочинениях, важных при познании истории XVIII - начала XIX в. («Арап Петра Великого», «Капитанская дочка», «Дубровский»), тем более что Пушкин «вырос среди живых преданий и свежих легенд XVIII века». Ключевский рассматривал пушкинских героев как «коллекцию художественно-исторических портретов», т. е. как типологические исторические образы, раскладывая их «по историческим витринам». «Пушкин был историком там, где не думал быть им», и в «Капитанской дочке» «больше истории, чем в “Истории Пугачевского бунта”, которая кажется длинным объяснительным примечанием к роману».
Для некоторых (особенно приезжих) выступление Ключевского было знакомством с великим историком-оратором. Его профессорский лекционный курс русской истории приходили слушать студенты других факультетов и сторонняя публика. Вот образчик характеристики князя Верейского из «Дубровского»: «Это - настоящее создание екатерининской эпохи, цветок, выросший на почве закона о вольности дворянства и обрызганный каплями росы вольтерьянского просвещения. ... Подобными
ему людьми до скуки переполняется русское общество с конца царствования Екатерины. За границей они растрачивали богатый дедовский и отцовский запас нервов и звонкой наличности и возвращались в Россию платить долги». Или о типологии образа Троекурова: «“Троекуровы” родились при Елизавете, процветали в столице, дурили по захолустьям при Екатерине II, но посеяны они еще при Аннах. Это - миниатюрные провинциальные пародии временщиков столицы, которых превосходно характеризовал граф Н. Панин, назвав “припадочными людьми”». Касается Ключевский и образа «недоросля» Гринева, и Онегина, который - «лицо столько же историческое, сколько поэтическое». И завершает выводом: «Пушкин - не мемуарист и не историк, но для историка большая находка, когда он между собой и мемуаристом встречает художника». В этой речи - и важная в научно-методологическом и учебном планах постановка вопроса о произведениях художественной литературы как источнике изучения изображаемой эпохи, причем в ее повседневности, а не в событийном плане, и завязь будущих блистательных эссе Ключевского «“Недоросль” Фонвизина. (Опыт исторического объяснения учебной пьесы)» и «Евгений Онегин и его предки». Итак, для некоторых ученых подготовка выступления в дни Пушкинского праздника стала стимулом для дальнейшей творческой деятельности.
О Пушкине и его отношении к зарубежной литературе говорил профессор по кафедре иностранной литературы Н.И. Стороженко, всемирно признанный шекспировед, а в Москве хорошо известный как хозяин гостеприимного салона, где собирались и маститые, и начинающие преподаватели университета и писатели. Торжественный акт окончился в четыре часа.
А в шестом часу приглашенные лица съехались уже в здание российского Благородного собрания (нынешний адрес: Охотный ряд, дом 2) на обед, устроенный московским городским обществом депутациям, прибывшим в Москву на открытие памятника Пушкину. Главными гостями были дети и внуки Пушкина. Присутствовали более 200 человек обоего пола (в числе гостей - московский гражданский губернатор В.С. Перфильев, близкий приятель Л.Н. Толстого, которого признают одним из прототипов Стивы Облонского в «Анне Карениной»), Принца Ольденбургского и московского генерал-губернатора в зале не было, и главные первые тосты произнес А.А. Сабуров. С.М. Третьяков высказал радость Москвы, получившей возможность приветствовать членов семьи Пушкина. Старший сын Пушкина Александр Александро
вич по полномочию всех своих родных выразил признательность москвичам за гостеприимство и радушие.
После того Иван Сергеевич Аксаков, видный публицист славянофильского направления, издатель и общественный деятель, зять великого поэта Ф.И. Тютчева, произнес речь о Пушкине как о поэте, познакомившем Европу с Россией, воплотившем «народность и просвещение» и объединившем именно в Москве представителей умственного развития России, закончив так: «От имени Москвы, по уполномочию ее представителей, подымаю бокал не в память от нас отшедшего, но во славу не умирающего, вечно живущего среди нас поэта!»
Вслед за Аксаковым встал влиятельный публицист и издатель, преподававший ранее в университете, Михаил Никифорович Катков (в 1867 г. Катков стал одним из основателей московского лицея цесаревича Николая, называемого обычно Катковским лицеем, - сохранившееся здание его на углу улицы Остоженки и Крымской площади). Идеолог либерализма 1850-1860-х годов, Катков постепенно все более эволюционировал вправо, и к тому времени либералы (и в Москве, и в Петербурге, и за рубежом) были его антагонистами. В изящной, продуманной речи, произнесенной тихим голосом, Катков говорил о примирении «партий», о настоящей минуте, особенно удобной для примирения, так как «на празднике Пушкина, перед его памятником, собрались лица разных мнений, быть может, несогласных, быть может, неприязненных. Верно, однако, то, что все собрались добровольно и, стало быть, с искренним желанием почтить дорогую всем память». Он кончил строфами «Вакхической песни» Пушкина. Но когда он протянул бокал, чтобы чокнуться с сидевшим напротив Тургеневым, тот прикрыл свой бокал рукой. Ему, многолетнему знакомому Каткова, популярнейший тогда издатель и публицист, отошедший от общих для них либеральных идей 1840-х годов, казался воплощением того, что препятствовало прогрессу. В письме к поэту А.А. Фету в 1874 г. он характеризовал Каткова как «самого гадкого и вредного человека на Руси», а Катков в изданиях своих не скупился поносить новые романы Тургенева11.
Об этом эпизоде тогда особенно много говорили и писали, отмечая и то, что устроители заседаний О Л PC демонстративно не послали Каткову пригласительного билета. Это убеждало в том, что почитание Пушкина оказывается недостаточным для пресечения общественно-политических распрей. Выступавший вслед за Катковым епископ Дмитровский и первый московский викарий
Амвросий (Ключарев) (основатель московского ежемесячного журнала «Душеспасительное чтение») говорил о потаенном желании Пушкина, чтобы русские менее подражали Западу, провозгласил тост за объединение русских в своих воззрениях.
Эффектно начал свою речь петербургский губернский предводитель дворянства граф А.А. Бобринский: «...легко говорится, когда предвидишь, что за сказанною речью последует несмолкаемое ура!» Он предложил «выпить за здоровье представителей великой Москвы, любезных наших хозяев!» Академик Я.К. Грот передал сожаление оставшихся в живых двух лицейских товарищей Пушкина - канцлера светлейшего князя А.М. Горчакова и С.Д. Комовского, что они не могут лично присутствовать на этом торжестве. Приехавший из столицы А.Н. Майков прочитал стихотворение, написанное ко дню открытия памятника. Он приветствовал Пушкина
...как предтечу
Тех чудес, что, может быть, Нам в расцвете нашем полном Суждено еще явить.
Предложил изящный тост за русскую литературу М.М. Ковалевский, несколько слов сказал В.Н. Кашперов, а преподаватель историко-филологического факультета Московского университета Н.П. Некрасов произнес речь о педагогической стороне деятельности Пушкина. В заключение С.М. Третьяков зачитал полученные телеграммы - среди них от городских голов больших городов.
Завершился день музыкальным и драматическим вечером в переполненном главном зале Благородного собрания. Под управлением Н.Г. Рубинштейна были исполнены увертюры к операм на пушкинские сюжеты - к «Руслану и Людмиле» М.И. Глинки и «Русалке» А.С. Даргомыжского. Была показана сцена вторая из «Скупого рыцаря» в исполнении И.В. Самарина и актеров Малого театра, прослушан отрывок из оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин». В роли Татьяны выступила М.И. Климентова, замечательная певица (супруга профессора-юриста С. А. Муромцева, в будущем председателя Первой государственной думы). Она была душой кружка молодой профессуры и часто исполняла в гостиных романсы на слова Пушкина. В вокальной части участвовали и солисты Мариинского театра: М.Д. Каменская, исполнительница главных партий меццо-сопрано, и И.А. Мельников, низкий бари
тон, знаменитый как исполнитель партий в операх на пушкинские сюжеты (Руслан, Мельник, Борис Годунов). Особое впечатление произвело то, что стихи Пушкина читали П.В. Анненков, Ф.М. Достоевский (монолог Пимена из «Бориса Годунова»), Д.В. Григорович, А.Н. Островский, А.Ф. Писемский, А.А, Потехин, И.С. Тургенев (на бис читал стихи 1835 г. «Последняя туча рассеянной бури...»).
В заключение был «апофеоз». На небольшой сцене стоял бюст Пушкина, окруженный зеленью и освещенный электричеством. Писатели и артисты, участники вечера, поочередно проходили мимо бюста и клали к подножию его венки под звуки торжественного марша. А в здании Политехнического музея в тот же день были народные чтения: рассказ о жизни Пушкина, отрывки из «Полтавы» с комментарием, хор певчих.
Второй день Пушкинского праздника открылся заседанием Общества любителей российской словесности, начавшимся в час дня в переполненном большом зале Благородного собрания. На авансцене - высокая кафедра, сзади ее - бюст Пушкина, вокруг него венки, кругом гирлянды из лавра. Перед сценой эстрада, покрытая красным сукном, где поместились все присутствовавшие члены ОЛРС. Первым взошел на кафедру председатель ОЛРС С.А. Юрьев. Его официальная речь отличалась изяществом стиля и содержала постановку важных проблем познания творчества Пушкина, отношения его к «седой старине» и реформам Петра Великого, восприятия нравственного идеала простого русского народа, со дна души которого он поднял образ старца Пимена, чувства «музыки народной и русской души» и через это - восприятия явлений зарубежной культуры, слияния общечеловеческого с природой русского духа в поэтическом синтезе. «Пушкин стоял на рубеже двух периодов развития русской жизни», когда государственная сила была поднята на высоту. Сказались результаты реформ Петра, но и ощущалась «ужасная бездна внутреннего нестроения». Далее цитировались призывные стихи об освобождении от крепостного ига с надеждой на приход «прекрасной зари» свободы просвещенной. Оратор перешел к «Борису Годунову», в котором «русский человек впервые явился в нашей литературе таким, каков он есть», а Пушкин с тех пор «погрузился в изучение русской жизни». «Изучаем ли мы Пушкина? - спрашивал Юрьев. -Не прикладываем ли к гиганту коротенькие мерки наших узких взглядов, страстные требования минуты? ... Да будет иначе! ... Не угашайте духа!» В этих кажущихся ныне общими словах - явный
отзвук настроений тех дней, когда имя Пушкина использовали (быть может, и не всегда осознанно) для выражения современных общественно-политических ощущений и установлений, и опасение того, что это выявится и в праздничные пушкинские дни.
Представитель Французской республики Луи Леже, профессор-славист, много сделавший для ознакомления Европы с языком, фольклором и литературой России и славянских народов, прочитал свой текст по-русски (хотя с сильным акцентом), чем пленил публику. Он сказал о возрастающей известности имени Пушкина во Франции сравнительно с именами других знаменитых писателей последнего столетия. Академик М.И. Сухомлинов попытался охарактеризовать взгляды Пушкина на поэзию, на долг и достоинство поэта, передать ощущение нравственного значения поэзии Пушкина для современника. Закончил он тем, что девизом русских университетов могут быть слова Пушкина: «На поприще ума нельзя нам отступать». Казанский профессор С.М. Шпи-левский в короткой красивой речи, напомнив о стихотворении «Я памятник себе воздвиг», заметил, что сближение центра России с окраиной, ознакомление их жителей с Пушкиным расширяет область его вечной славы.
Затем секретарь ОЛРС сообщил о письмах и телеграммах, пришедших от иностранных писателей (Б. Ауэрбаха, В. Гюго, А. Теннисона). На имя Тургенева из-за рубежа ОЛРС получило поздравление от берлинского профессора В. Ягича (в 1881 г. знаменитого слависта, хорвата по происхождению, изберут российским академиком). Пришли поздравления от общественных объединений славянских стран, а также от Киевского и Харьковского университетов, от учителей народных школ и др. После чего было прочитано переданное Леже письмо французского министра просвещения о награждении академическими отличиями Франции С.А. Юрьева, Н.С. Тихонравова и Н.Г. Рубинштейна.
Академик Я.К. Грот выступил, по существу, с докладом на тему «Личность Пушкина», где ставился вопрос об особенностях развития его психологии, о возрастных изменениях склонностей, отношения к общественно-политическим явлениям и к собственным обязанностям, об устойчивых душевных качествах и об изменении в его умонастроении в последние годы жизни. Поэт Я.П. Полонский прочитал стихотворение «На памятник Пушкину». Л.И. Поливанов сообщил перечень учреждений и лиц, принесших на заседание венки (их было 40): от обществ естествознания, любителей художеств и др., от военных гимназий, частных
гимназий (в том числе от преподавателей и воспитанников гимназии Поливанова), от редакций периодических изданий, от Московского архива Министерства иностранных дел и др.
Наконец, на кафедре появился Иван Сергеевич Тургенев. Когда в ОЛРС составляли план организации торжеств, вырабатывали программы публичных заседаний, то осознавали, что для широкой публики наиболее притягательны имена двух приезжих в Москву великих современных писателей - Тургенева и Достоевского. Учитывали, вероятно, и то, что юные годы их обоих, как и Пушкина, связаны с Москвой и они могут испытывать ностальгию, возникающую в связи и с безвременным уходом из жизни их великого старшего современника, и со встречей с городом детства. Знали и то, что у этих писателей, прижизненно признанных классиками, нет близких взаимоотношений, а общественно-политические и культурно-религиозные их взгляды несходны. Поэтому задумано было так, чтобы они выступили не в один день. И рассчитывали на то, что выступления именно Тургенева и Достоевского станут событием каждого из публичных заседаний.
Тургенев с начала 1860-х годов жил за границей, и не только из-за романа со знаменитой певицей Полиной Виардо (кстати, сочинившей музыку к 15 романсам на слова Пушкина), но и из-за неприятия политической и культурной атмосферы в России, приостановки политики реформ. Влияние на русское общество его новых сочинений уменьшалось (при том что именно Тургенев был самым популярным тогда русским автором на Западе). Однако в 1879 г., когда он на короткое время приехал в Россию (у него умер брат), Тургенев снова оказался в центре общественного внимания, возможно из-за нового политического кризиса, когда стали вызывать симпатии и его умеренно-либеральные взгляды, и сочувственное изображение в романе 1877 г. «Новь» революционеров-народников. В его честь устраивали заседания, обеды, встречи со студенческой молодежью, убеждали его возвратиться в Россию. Следя за событиями в России, он так формулировал свои представления: «Оттепель наступила сильная» 12 (распространившийся после повести 1956 г. И.Г. Эренбурга с таким названием термин восходит к Тургеневу). Тургенев желал, чтобы Пушкинский праздник стал в какой-то мере и повторением «либеральных демонстраций» предыдущего года, но более масштабным и с участием корифеев литературы. Об этой тенденции Тургенева и лиц его окружения (М.М. Ковалевский и другие), конечно, знали и те, кто придерживался иных позиций, прежде всего более
правых, близких к взглядам К.П. Победоносцева. А так называемая широкая публика ожидала в этой связи столкновения мнений в дни Пушкинских торжеств.
Речь Тургенева была посвящена и проблемам биографии Пушкина, и определению его места в мировой литературе и общественной жизни России (в прошлом, в настоящем и в будущем), и общественным проблемам современности. По существу, главной темой выступления была тема «Пушкин и современность», во всяком случае так казалось современникам, переживавшим в те дни ощущения, вызываемые тем, что политологи определяют словом «революционная ситуация».
Начал писатель со слов о значении сооружения памятника, собравшего всех любящих Пушкина, затем обосновал мысль, что только искусство дает физиономию народу и способно пережить сам народ. Характеризуя восприятие Пушкиным и западноевропейской культуры, и народного обихода, он утверждал, что «поэтический дар Пушкина освободился от подражания европейским образцам и не подделывался под народный», ибо второе так же бесплодно, как преклонение перед авторитетами. Сравнивая великого русского поэта с великими писателями Западной Европы, Тургенев ссылался на отличительную особенность Пушкина, отмеченную пропагандистом его творчества, французским писателем Мериме: «Ваша поэзия ищет прежде всего правды, а красота является сама собою». Иван Сергеевич подчеркнул, что на долю Пушкина выпало сразу две работы - установить язык и создать литературу.
Особое внимание Тургенев уделил объяснению того, почему последующие поколения охладели к так ценимому современниками Пушкину, объясняя это особенностями общественного развития. В период сосредоточения усилий на борьбе с крепостным правом было не до художественности, и поэтов стала вдохновлять муза мести и печали. Он подчеркнул (особенно в напечатанном позднее тексте) значение общественных взглядов Белинского и его роль в формировании оценки пушкинского наследия, сказал, что теперь, после реформ нового царствования, общество возвращается к Пушкину. Писатель закончил словами о памятнике: «Сияй же и гласи народу русскому о праве его называться великим народом! Пускай у памятника Пушкину остановится всякий и скажет, что ему он обязан свободой, свободой нравственной. Пускай сыновья народа будут сознательно произносить имя Пушкина, чтоб оно не было в устах пустым звуком и чтобы каждый,
читая на памятнике надпись “Пушкину”, думал, что она значит -“учителю”...»
После вызвавшей громкие аплодисменты впечатляющей речи Тургенева пресным показалось чтение писателем А.Ф. Писемским сообщения об отражении исторических взглядов Пушкина в «Капитанской дочке». Хотя это было новым словом в пушкиноведении, публика собралась не для размышлений научного плана.
В тот же день был парадный складчинный обед, устроенный ОЛРС. Обедало 223 человека. Обеденное меню украшала виньетка работы Трутовского со строками Пушкина:
• Подымем стаканы, содвинем их разом:
* * Да здравствуют музы, да здравствует разум!
Обед, в отличие от думского, был без обстановочной роскоши и высокопоставленных лиц. Из тех, кто не принадлежал к миру литературы, науки и искусства, были только специально приглашенный городской голова С.М. Третьяков и некоторые провинциальные депутаты от земств и дворянства. Но это было застолье интеллигенции, праздник беседы, напоминавший встречи 1840-х годов. Тосты были и общие, и частные - за императора, за семью Пушкиных, за живых еще лицейских товарищей Пушкина (им, по предложению П.В. Анненкова, послали телеграммы). С.А. Юрьев предложил тост за Францию, «первой провозгласившей всемирное братство и сделавшей первый шаг к нему», и за ее представителя. В ответ прозвучал тост профессора Леже. Потом были тосты за депутатов (Поливанов), за славянские общества (Гиляров-Платонов), в память усопших и за здоровье живущих товарищей Пушкина (Тургенев), за переводчиков Пушкина (Басистов), за скульптора Опекушина (Грот), за композитора М.П. Мусоргского - творца оперы «Борис Годунов» (Бурдин).
Особое впечатление произвел спич писателя Александра Николаевича Островского. Великий драматург произнес речь не меньшего значения, чем речи двух других великих писателей -Тургенева и Достоевского. Его рассуждения, не имевшие налета сиюминутных общественно-политических вожделений и антипатий, в наибольшей мере остаются востребованными и нашими современниками. Вероятно, мудрый писатель понимал, что слово для вечности уместнее было произнести не перед широкой публикой любопытствующих, а в среде собратьев по перу и «говорить не как человек ученый, а как человек убежденный»: «Мои убеждения слагались не для обнародования, а только про себя, так ска-
зать, для собственного употребления; при мне бы они и остались, если бы не подошел этот радостный праздник». Доверительное, без изысков формы слово Островского («от полноты обрадованной души») - это урок восприятия и Пушкина, и литературы вообще как учителей жизни и радости жизни.
«Первая заслуга великого поэта в том, - сформулировал Островский, - что через него умнеет все, что может поумнеть». Пушкин дает не только наслаждение от «форм для выражения мыслей и чувств», но и от «самой формулы мыслей и чувств»; «богатые результаты совершеннейшей умственной лаборатории делаются общим достоянием.... Поэт ведет за собой публику ... всякому хочется возвышенно мыслить и чувствовать вместе с ним».
«Пушкиным восхищались и умнели, восхищаются и умнеют». И наша литература обязана именно ему умственным ростом. Однако «этот прыжок был не так заметен» современникам Пушкина, которые, признавая его великим поэтом, считали своими учителями людей предшествовавшего ему поколения («он казался им еще молод и не довольно солиден»). А следующее за Пушкиным поколение, «воспитанное исключительно Пушкиным», уже ощущало это и осознавало, что русская литература, которую Пушкин «застал ... в период ее молодости», на одном человеке выросла на целое столетие. Пушкин «дал серьезность, поднял тон и значение литературы, воспитал вкус в публике, завоевал ее и подготовил для будущих литераторов, читателей и ценителей».
Еще более важным и значительным для развития нашей литературы Островский считал «другое благодеяние» Пушкина. До Пушкина «наша литература была подражательной» в выборе тематики и в следовании «условным приемам», и «прочное начало освобождению нашей мысли положено Пушкиным»: «он захотел быть оригинальным и был - был самим собой».
Как всякий великий писатель, он «оставил за собой школу последователей», Пушкин «завещал им искренность, самобытность, завещал каждому русскому писателю быть русским» и «раскрыл русскую душу». Желая России больше новых талантов, «русскому уму поболее развития, простора», Островский предложил тост за русскую литературу, которая пошла и идет по пути, указанному Пушкиным: «Выпьем весело за литературную семью Пушкина, за русских литераторов! Выпьем очень весело этот тост. Нынче на нашей улице праздник!»
В этой по-человечески очень искренней, одновременно глубокой и простодушной речи много ценных наблюдений соб
ственно историко-методологического порядка для историков литературы и культуры, и жаль, что эти мысли Островского редко приводятся в их трудах.
8 июня ознаменовалось вторым торжественным заседанием ОЛРС. Очевидец (Д.Н. Любимов) вспоминал, как выглядело Дворянское собрание в тот день: «Все места были заняты блестящею и нарядною публикою», «вход был по розданным даровым билетам», в зале же по особым приглашениям - родные Пушкина, почетные гости, представители литературы, науки, искусства и все, что было в Москве выдающегося, заметного, так называемая «вся Москва»; рядом с дворянством именитое купечество, владельцы мануфактур, адвокатский мир, а вокруг зала «целое море голов преимущественно учащейся молодежи, занимающее все пространство между колоннами, а также обширные хоры».
Заседание открылось речью Н.С. Чаева. В малосодержательной декламации с цитатами из произведений Пушкина и напоминаниями о фольклорных мотивах, о близости с Мицкевичем (который тоже зашел «в заповедную глубь славянского духа») основное внимание было уделено обоснованию мысли, что Пушкин - «богатырь», сумевший, благодаря исключительности своего дарования, внести народный российский элемент в офранцуженную свою среду и ее литературу для чтения (начиная с «Руслана и Людмилы»), Положение молодого Пушкина в литературе сравнивалось с положением воспетого им Гвидона, который без чьей-либо помощи в бочке «вышиб дно и вышел вон».
Наконец настало время выступления Федора Михайловича Достоевского, который находился тогда в зените прижизненной славы (это время печатания его итогового гениального произведения «Братья Карамазовы» и возрастающей популярности за рубежом). Речь его действительно по глубине содержания (и в то же время по политическому накалу), по оригинальности подхода к пушкинским образам, по ораторскому мастерству и, конечно же, по эмоциональному воздействию оказалась главным событием торжеств, начавшихся после открытия памятника. Это признали и сторонники, и противники взглядов писателя.
О самом памятнике Достоевский даже не упомянул (возможно, потому, что текст был подготовлен в Петербурге до того, когда у писателя могло сложиться впечатление о скульптурном воплощении образа Пушкина). Достоевский говорил о понимании Пушкиным России, о постижении русского человека через Пушкина, о месте Пушкина в русской и мировой литературе и,
конечно, о своем восприятии Пушкина. В речи его, пожалуй, еще в большей мере, чем у Тургенева, отражена тема «Пушкин и современность». Речь эта оказалась последним столь широкого общественного резонанса публичным выступлением великого писателя. Потому ее называют и «лебединой песней», и «завещанием» Достоевского. Во всем мире и поныне обращаются к ней при изучении творчества и Пушкина, и Достоевского.
Достоевский как бы подводил итоги своим раздумьям, так как не раз до этого обращался к творчеству Пушкина, к его образу мышления. В «Дневнике писателя» в 1876 г. он убежденно повторил суждение: «У нас все ведь от Пушкина», акцентируя внимание на «повороте к народу», беспримерном и удивительном в столь раннюю пору творческой деятельности Пушкина.
И в то же время его речь - это мысли о России в современном мире и о ее будущем. Начал писатель так: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление Русского духа, сказал Гоголь. Прибавляю от себя: и пророческое». Далее он развивает эту мысль, соответственно обосновывая периодизацию творчества Пушкина и высказывая соображения в плане трактовки пушкинских литературных героев, особенно Татьяны в ' «Евгении Онегине», которая и «русская женщина вообще», и воплощение «высшей гармонии духа». Открытием Пушкина явилось изображение «типа несчастного скитальца в родной земле» (Алеко в «Цыганах», Онегин). Это совершенно русский характер, но ему свойственны «мировые идеалы». Он ищет «всемирного счастья» в современных условиях в идеях социализма, в революционной деятельности. Достоевский видит у Пушкина указание на пути решения «проклятых вопросов». «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве», правда в тебе самом. Это - решение по народному разуму. Апофеозом такого смирения представлена Татьяна. «Никогда еще, - утверждал Достоевский, -ни один русский писатель, ни прежде, ни после него, не соединялся так задушевно и родственно с народом своим, как Пушкин». В последний период творчества Пушкина «засияли идеи всемирные, отразились поэтические образы других народов и воплотились их гении». По убеждению Достоевского, никто из великих гениев мировой литературы «не обладал такой способностью всемирной отзывчивости», проникновения в дух, своеобразие культуры других народов Запада и Востока, как Пушкин. И в этом его «национальная русская сила», его народность, причем «народ
ность в дальнейшем своем развитии», ибо «сила духа русской народности» - в стремлении ее «ко всемирности и всечеловечности», в братском («не мечом») стремлении «к воссоединению людей».
«Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, “всечеловека”, если хотите». Такова и «великая, общая гармония братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону!». Сам Достоевский сказал о том, что слова его могут казаться «восторженными, преувеличенными, фантастическими», но им «надлежало быть высказанными», и именно «в минуту чествования нашего гения, эту именно идею в художественной силе своей воплощавшего». Завершил Достоевский свое страстное слово так: «Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем». Это слово и о Пушкине, и о России, о ее прошлом и будущем.
Достоевского, внешне казавшегося нездоровым, встретили рукоплесканиями, долго не давали говорить и прерывали, по его словам, «решительно на каждой странице, а иногда и на каждой фразе громом рукоплесканий». Он сам отмечал, что «читал громко, с огнем». После окончания чтения, писал он, «зала была как в истерике ... я не скажу... про рев, про вопль восторга: люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть друг друга, а любить», «петербургские успехи мои ничто, нуль сравнительно с этим!». Полчаса не отпускали с эстрады: «гранд-дамы, студентки, государственные секретари, студенты - все это обнимало и целовало меня».
И это подтверждается прессой тех дней. Писали, что Достоевский производил впечатление «средневекового аскета-проповедника», фанатика, что «у экзальтированного собрания не хватало средств, чтобы выражать свой восторг, и оно просто металось по зале», «он победил, растрогал, увлек, примирил». Люди рыдали, даже падали в обморок. Писателя отвели в боковую комнату, чтобы избежать столпотворения. Г.И. Успенский, позднее резко отозвавшийся о направленности этой речи, под непосредственным впечатлением писал: «Он “смирнехонько” взошел на кафедру, и не прошло и пяти минут, как у него во власти были все сердца, все мысли, вся душа всякого, без различия, присутствовавшего на собрании. Говорил он просто, совершенно так, как бы разговаривал с знакомыми людьми.... Достоевскому поднесли лавровый венок, который он позднее отвез к памятнику Пушкину».
Когда немного успокоились, выступил с чтением стихотворения «Памятник Пушкину» Алексей Николаевич Плещеев, поэт, переводчик, любимый и в Москве, и Петербурге. Плещеев, как и Достоевский, был осужден к смертной казни, замененной в последний момент каторгой за участие в петербургском революционно настроенном кружке М.В. Петрашевского (кстати, окончившего, как и Пушкин, Лицей). Именно Плещеев послал Достоевскому из Москвы в 1849 г. копию письма В.Г. Белинского Н.В. Гоголю, а его стихотворение «Вперед! Без страха и сомненья...» было программным для петрашевцев. Плещеев прочитал трогательное стихотворение, полное чувства преклонения перед Пушкиным и свидетельствовавшее о верности автора идеалам молодых лет. Там были такие строки:
Все лучшие порывы посвятить
Отчизне ты зовешь нас из могилы;
В продажный век, век лжи и грубой силы Зовешь добру и истине служить.
Вот почему неизгладимый след
Тобой оставлен в памяти народной; Вот почему, возлюбленный поэт, Так дорог нам твой образ благородный!
Это прочувственное стихотворение с привычными образами и оценками оказалось особенно уместным, успокоительным после вызвавшей экзальтацию зала речи Достоевского. По требованию присутствовавших поэт прочел свое произведение вторично.
И.С. Аксаков, который должен был выступить следующим, произнес: «Я не могу говорить после речи Федора Михайловича Достоевского. Все, что я написал, есть только слабая вариация на некоторые темы этой гениальной речи», и охарактеризовал ее как «событие в нашей литературе», заметив, что если еще вчера могло казаться вопросом, «народный» ли, «национальный» ли поэт Пушкин, то теперь вопрос решен окончательно после «пророческих слов» Достоевского, и «собравшиеся здесь, какого образа мысли и какого бы направления они ни были ... все должны единодушно призвать Пушкина национальным поэтом». Так как Аксаков собирался говорить на тему, «отработанную Достоевским», то он выразил намерение ознакомить публику только с частью заготовленной речи. Публика же настоятельно требовала всей речи, что и было сделано.
Прежде всего Аксаков напомнил строки стихотворения 1837 г. «одного из лучших наших поэтов» Ф.И. Тютчева (биографию которого он составил): «Тебя, как первую любовь, / России сердце не забудет...», полагая, что формула эта - «верно схваченная, историческая черта отношений к Пушкину русского общества». Идеолог славянофильства уделил основное внимание «народности пушкинской поэзии», ее языка, «доведенного до изумительного совершенства», его образов (особенно няни - первом в русской литературе многогранном и уважительном изображении женщины из среды простонародья), его ощущению природы («никто до Пушкина не воспроизводил ни в стихах, ни в прозе нашей простой сельской природы с такою простотою истины и с такою теплотою сочувствия»), изображению «явлений русской бытовой жизни», ощущению современности «в исторической рамке, в пределах живой продолжающейся истории». Пушкин, по его словам, и «всемирный художник, и русский народный поэт». Закончил он, солидаризируясь с Достоевским, призывом «сподобиться наконец русской интеллигенции стать действительным высшим выражением русского народного духа и его всемирно-исторического призвания в человечестве!»
П.В. Анненков, развивая мысль Белинского о том, что впоследствии прибавятся новые черты в понимании Пушкина и влияние его на умы будет возрастать, подробнее обосновал тезис, что Пушкин был не только великим поэтом, но и высоконравственным человеком. Он высказал соображение о том, что мешало Пушкину продолжить историографическое служение России Карамзина и напечатать «Историю Петра Великого»: не обилие материала или недостаточность специальной ученой подготовки, а все более уяснявшееся представление о том, что преобразования гениального реформатора были страшной бурей, сметавшей на пути все, и совершались с помощью крутых и нравственно оскорбительных мер. И Пушкин был уже не в силах после «Медного всадника» создать апологетический труд о пращуре Николая I, как того требовал его царствующий правнук (такие положения развиты Анненковым и в статье «Общественные идеалы Пушкина» в журнале «Вестник Европы»),
С этим выступлением смыкаются по подходу к теме последующие речи ученых, но их серьезные и во многом оригинальные, ценные для науки суждения уже едва воспринимались так называемой широкой публикой. О таланте Пушкина как историка, особенно проявившемся и на профессиональном уровне в
«Истории Пугачевского бунта», говорил профессор Н.В. Калачов (знаменитый историк, избранный позднее академиком, видный участник подготовки реформ 1860-х годов; он возглавлял Московский архив Министерства юстиции и был инициатором образования губернских ученых архивных комиссий). П.И. Бартенев, редактор журнала «Русский архив» и едва ли не первый в те годы знаток документации о высшем обществе Пушкинской эпохи, постарался указать «те исторические явления, при которых взошло и сияло солнце русской поэзии». Он отмечал, что «великие писатели возникают обыкновенно во время возбуждения государственных сил».
«Главной струной в душе Пушкина всегда и до конца было чувство свободы, живая потребность независимости любой, народной и государственной». Отмечалось влияние «Истории» Карамзина, которая открыла Пушкину неиссякаемые источники своенародных вдохновений. «Имя Карамзина должно быть с благоговейной признательностью помянуто на Пушкинском празднике. Своим умиряющим влиянием он спас Пушкина от тесного заточения; своими наставлениями он указал на внутреннее совершенствование». Бартенев подчеркивает значение для творче-• ства поэта годов ссылки в Михайловское, когда тот приобщился к мудрости Священного Писания и к «прелести простонародной речи». Далее он характеризовал взаимоотношения Пушкина и Николая I, явно переоценивая положительное в них, даже благодарил царя от лица потомков, тем закладывая основы подобного же преувеличения в литературе последующих лет.
В заключение на кафедру взошел А.А. Потехин, известный тогда драматург и прозаик-бытописатель, проживавший в Петербурге. Указав на великое значение для литературы воздвигнутого Пушкину памятника, он отметил, что пушкинское творчество обычно признают синтезом мысли и чувства и воплощением русского самосознания. Продолжателем его, сосредоточившим творческие усилия на анализе явлений российской действительности, был Гоголь. Потехин предложил, чтобы дни всенародного чествования памяти Пушкина стали бы и началом всенародной подписки на памятник Гоголю: «да будет Москва пантеоном русской литературы, да воздвигнется памятник Гоголю в центре России, в Москве!» После поддержавших это предложение аплодисментов Потехин заявил, что выступает от имени всех собравшихся здесь литераторов. И когда публика стала расходиться, в боковых залах были положены листы для
подписки на памятник Гоголю. В течение нескольких минут они покрылись подписями.
Вслед за тем состоялся литературно-музыкальный концерт с той же программой, что и предыдущий, но с добавлениями: И.В. Самарин прочел «Сказку о рыбаке и рыбке», а знаменитый чтец (а также и историк русского театра) И.Ф. Горбунов исполнил сцену в корчме из «Бориса Годунова». Тургеневу на вечере поднесли такой же венок, как Достоевскому утром.
В двух залах здания Дворянского собрания была развернута подготовленная Л.И. Поливановым и его помощниками выставка, организованная ОЛРС. Она обогащала представления о Пушкине, о его родных, писателях-современниках, о России пушкинской эпохи, о распространении сочинений Пушкина и иллюстрациях к ним. Становилось очевидно, что скульптор Опекушин, вглядываясь в изображение Пушкина, в наибольшей степени пользовался портретом работы Кипренского и посмертно снятой маской. Альбом Пушкинской выставки был издан в 1882 г. Издание это, частично репринтно, воспроизведено в 1997 г.
Не только о Пушкинском празднике, но и о памятнике Пушкину писали и «с невского берега» (так озаглавил свое стихотворение популярный поэт некрасовской школы, мастер каламбуров и переводчик Д.Д. Минаев), и в других городах. Любопытно стихотворение «На памятник Пушкину» графа В.А. Соллогуба, прозаика (автора популярной с середины 1840-х годов повести «Тарантас», действие которой начинается в Москве, на той самой Собачьей площадке, где у Соболевского проживал Пушкин), мемуариста, близкого знакомого Пушкина в последние годы его жизни, даже приглашенного быть секундантом на несостоявшейся его дуэли с Дантесом в ноябре 1836 г.:
В столице, Пушкину любезной,
В Москве, в виду монастыря, Поднялся ныне лик железный Родного нам богатыря.
То Пушкин, наш поэт великий, Задумчиво явился нам И утешеньем и уликой
Наставшим смутным временам. Теперь, когда стремлений злоба Не знает, где искать добра -Проснись, поэзия! Пора, Чтоб Пушкин выступил из гроба!
Очень скоро после Пушкинского праздника издали книги, рассказывающие об этом событии. 1880 годом датирована напечатанная в Петербурге книга Ф. Б. в 354 страницы «Венок на памятник Пушкину». На титульном листе раскрыто в виде оглавления-аннотации содержание книги: «Пушкинские дни в Москве, Петербурге и провинции». Там по дням описано, что происходило в Москве 5-8 июня, в Петербурге 6 июня, панихида на могиле поэта 26 мая, чествования в Киеве, Одессе, Варшаве, Риге, Туле, Самаре, в селе Балаково, в Пскове, Царском Селе, Кишиневе, ! Орле, Тифлисе, приведены подробные сведения о напечатанном в j газетах и журналах, об открытии памятника и об итогах Пушкин- а ского празднества. Вот подзаголовки книги: «Адреса, телеграммы, ‘ приветствия, речи, чтения и стихи по поводу открытия памятника ;; Пушкину» (некоторые приведены полностью); «Отзывы печати 1 о значении Пушкинского торжества»; «Пушкинская выставка в Москве»; «Новые данные о Пушкине» (перепечатки из новейших изданий стихотворения «Моя родословная» по автографу, отрывков из «Дневника» Пушкина, воспоминаний о Пушкине). Здесь же помещен доклад Я.К. Грота «Исторический очерк сооружения памятника Пушкину». Ф. Б. - это Федор Ильич Булгаков, жур-• налист, историк литературы и искусства, переводчик, инициатор начинаний, важных для просвещения широкой публики.
В 1885 г. знаменитый библиограф В.И. Межов издал (тоже в Петербурге) отдельной книгой библиографический указатель «Открытие памятника А.С. Пушкину в Москве в 1880 году: сочинения и статьи, написанные по поводу этого торжества». Ознакомление даже только с двумя этими книгами убеждает в том, что ни прежде, ни позднее не было в дореволюционные годы праздника культуры, вызвавшего столь широкий интерес всей России, и Москва не становилась столь значительным средоточием культурных сил страны.
Средства массовой информации (в ту пору это только газеты и журналы) отмечали многословие и бессодержательность некоторых речей, излишек аплодисментов и поцелуев и, конечно же, с особым пристрастием - элементы противостояния. Это было воспринято как основная тональность теми, кто не присутствовал на торжествах, и даже нашло отражение в написанных много позднее мемуарах, как, к примеру, в воспоминаниях крупнейшего историка и политического деятеля П.Н. Милюкова. Он пишет об этом событии его студенческих лет: «Я был в эти дни в Пушкине (т. е. под Москвой. - С. Ш.) и намеренно не поехал на празднество. Я знал
по “Дневнику писателя”, что может сказать о Пушкине Достоевский (за исключением “всечеловечности” Пушкина), и не хотел присутствовать при его вероятном торжестве над Тургеневым»13.
А вот что писал сразу же после пушкинских дней в Москве живописец В.Д. Поленов, более стремившийся к приобщению к Пушкину, чем к наблюдениям над эффектами сиюминутных «партийных» столкновений, в письме сестре в Петербург. Он сообщает, что был «и на открытии монумента, и на обеде, и на заседаниях... Праздник был такой возвышенный, примирительный и вместе глубоко гражданский, что нельзя было не порадоваться»14.
Праздник 1880 г. в известной мере определил и характер последующих больших торжеств в дни пушкинских юбилеев - в 1887, 1899, 1937 годах15. (Юбилей 1924 г., в период навязывания вульгарных социологических воззрений, отмечался слабо.) И всякий раз это стимулировало развитие пушкиноведения, издание сочинений Пушкина, исследования его творчества и биографии, его окружения, «пушкинской эпохи», истории самого пушкиноведения. Это способствовало распространению представлений (или, точнее сказать, сведений) о Пушкине и его сочинениях среди широкой публики, в детской аудитории. Но это использовалось в своих целях и общественно-политическими силами, так как Пушкин - знаковая фигура, символ понятий о русской культуре, русском духе, о России вообще, и многообразное наследие Пушкина стараются приспособить для нужд современной идеологии. В 1937 г. это приняло и международный характер, ибо Пушкин был объявлен «своим» и идеологами партийно-советского государства, и различными группировками российской эмиграции. Но основную массу тех, кто говорит по-русски, кому снятся сны на русском языке, Пушкин объединяет, поскольку творчество его, слово и образ - в корневой культуре нашей и останутся как драгоценное наследие нашим потомкам.
И, конечно, Пушкин объединяет по-настоящему крупных писателей, ибо, как заметила именно в этой связи Марина Цветаева в статье «Поэт и время» (1932), рассуждая о том, что «Пушкин и Маяковский ... по существу, и не расходились»: «Враждуют низы, горы сходятся»; «Под небом места много всем - это лучше всего знают горы».
Опекушинский памятник Пушкину в представлении многих стал воплощением образа Пушкина, да и образа Москвы. Конечно, Москва - прежде всего Кремль, но и Пушкин - тоже во-
площение Москвы, как Медный всадник - воплощение и образа Петра Великого, и Петербурга. Такое ощущение возникало и у приезжих, и у москвичей. Это одно из сильнейших впечатлений детства жившей вблизи Марины Цветаевой, дочери профессора университета, инициатора создания и устроителя Музея изящных искусств, ныне Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
Пожелания выступавших в июне 1880 г. сбываются. К памятнику Пушкину обращаются и великие (и такие разные) поэты советской эпохи: Владимир Маяковский (в конце стихотворения 1924 г. «Юбилейное» - такая строчка: «На Тверском бульваре очень к вам привыкли») и Сергей Есенин (тоже в 1924 г.). Стихи Есенина, которому ныне тоже установлен памятник на Тверском бульваре, сейчас звучат провидчески:
Мечтая о могучем даре
Того, кто русской стал судьбой, Стою я на Тверском бульваре, Стою и говорю с тобой.
А я стою, как пред причастьем, И говорю в ответ тебе:
Я умер бы сейчас от счастья, Сподобленный такой судьбе.
Но, обреченный на гоненье, Еще я долго буду петь, Чтоб и мое степное пенье Сумело бронзой прозвенеть.
В военные годы поэты приходили к памятнику Пушкину. У памятника радовались, возвратившись с кровавых полей войны. Сколько стихотворений, посвященных памятнику Пушкину в послевоенные годы, и на скольких языках!16 А для оказавшихся в зарубежье россиян не только Пушкин, но и его знаменитый и любимый с детства московский памятник оставался символом России, русской культуры. М. Цветаева вспоминала детское восприятие «Памятника-Пушкина»: «Мне нравилось, что уходим мы или приходим, а он всегда стоит. ... Наших богов иногда, хоть редко, но переставляли. Наших богов, под Рождество и под Пасху, тряпкой обмахивали. Этого же мыли дожди и сушили ветра. Этот -всегда стоял».
Но памятник переставили. В Москве, едва ли не единственной из столиц, где в середине XX столетия порушили столько исторической ценности зданий, накапливался опыт разрушения и перестановки скульптурных монументов: подтащили из центра Красной площади к храму Василия Блаженного старейший в Москве памятник Минину и Пожарскому (мешал демонстрациям), а в ночь с 13 на 14 августа 1950 г. передвинули памятник Пушкину17. Об этом с грустью, как о «похоронах времени», тогда же написал стихи известный поэт и стиховед поколения Маяковского Георгий Шенгели (среди его драматических поэм 1920-х годов -«Пушкин в Кремле»),
Москвичи с памятником Пушкину знакомились «в том возрасте, когда гораздо слаще слушать чтение, чем читать самому». И как мудро заметил написавший это поэт Александр Твардовский, размышляя об освоении нами Пушкина: «Кто не обязан ему радостью приобщения на самой заре жизни к источнику, из которого потом пить всю жизнь! Но если Пушкин приходит к нам с детства, то мы по-настоящему приходим к нему лишь с годами». Почти то же сказал и другой благородный поэт - Булат Окуджава, и такое сходство суждений, конечно, неслучайно. Ибо по-прежнему через Пушкина «умнеет все, что может поумнеть».
1 Ключевский В.О. Собр. соч.: В 9 т. М., 1990. Т. 9. С. 85.
2 Зайцев АД. Петр Иванович Бартенев. М., 1989. С. 98 (концовка третьей главы, имеющей заголовок «Старейший из русских пушкиноведов»),
3 России сердце не забудет. Русские писатели А.С. Пушкину. М„ 1986. С. 132.
4 Толстой Л.Н. Поли. собр. соч.: В 90 т. М.; Л., 1928-1958. Т. 5. С. 271-272.
5 Венок на памятник Пушкину. СПб., 1880. С. 199-200.
6 Подробнее см.: Эйдельман НЯ. Десять автографов Пушкина из архива П.И. Миллера // Записки отдела рукописей Государственной библиотеки им. В.И. Ленина. М., 1972. Вып. 33. С. 280 и сл.
7 Об А.М. Опекушине и памятнике Пушкину его работы см.: Суслов М.И. Памятник Пушкину в Москве. М., 1968; Шмидт И.М. Александр Михайлович Опекушин // Русское искусство. М., 1971. Т. II; Он же. А.М. Опекушин. Жизнь и творчество. Ярославль, 1968; Крейн А.З. Рукотворный памятник. М., 1980.
8 Подробнее см.: Шмидт С.О. Арбат в истории и культуре России // Арбатский архив. М., 1997. Вып. 1. С. 105-106.
9 Подробнее в кн.: Левитт Маркус Ч. Литература и политика. Пушкинский праздник 1880 года. СПб., 1994 (пер. с англ.). С. 130 и сл.
10 Толстой Л.Н. Указ. соч. Т. 78. С. 105.
11 Подробнее в кн.: Левитт Маркус Ч. Указ. соч. Гл. 4 («Последняя трибуна Тургенева»).
12 Тургенев И.С. Поли. собр. соч. и писем: В 28 т. М.; Л., 1960-1968. Т. 12. С. 236.
13 Милюков П.Н. Воспоминания. М., 1991. С. 82.
14 Шмидт С.О. Указ. соч. С. 103.
15 Истории восприятия Пушкина в русской культуре, в частности юбилеям Пушкина, посвящена книга Е.И. Высочиной «Образ, бережно хранимый: жизнь Пушкина в памяти поколений», подготовленная как «Книга для учителя» издательством «Просвещение» в 1989 г.
1Й См.: России сердце не забудет. Русские писатели А.С. Пушкину; Крейн А.З. Указ. соч. С. 103 и сл.
17 См. об этом статью: Приходько В. «Вот взяли, Пушкин, Вас и переставили» // Газета «Центральный округ», совместное издание Правительства Москвы и газеты «Московская правда». 1998. № 1 (88). Февр.
л
Классика отечественной археографии О жизни и трудах Цявловских
«Летопись жизни и творчества А.С. Пушкина» - спутник жизни Мстислава Александровича и Татьяны Григорьевны Цявловских и памятник сотворенному супругами Цявловскими.
«Летопись» признается необходимым пособием для всех изучающих жизнь и творчество Пушкина. Это и своеобразный справочник по пушкиниане - и прижизненной (все напечатанное Пушкиным и все напечатанное о нем), и за 140 лет после его кончины. Книга обретает значение и ценного справочника о явлениях литературной и общественно-политической жизни времени Александра I и Николая I, Карамзина и Сперанского, декабристов -эпохи, которая, несмотря на заметные различия в формах управления и выражения общественного сознания в разные царствования, давно объединена в наших представлениях с именем Пушкина и воспринимается как Пушкинская эпоха.
Велико и, как думается, еще не вполне оценено значение «Летописи» как превосходного методического пособия в области специальных историко-филологических дисциплин, особенно археографии - науки о выявлении, собирании, описании и издании памятников письменности. Это - школа археографической культуры, источниковедческого ремесла. По этому изданию - и основному тексту, и предисловиям, примечаниям, указателям - можно вести семинарские занятия и историков, и филологов, не говоря уже об историках-архивистах. Поучительны методика отбора явлений, важных для темы, приемы датировки и сопоставления разных известий, проверки их точности, степени достоверности.
Конечно, в основе окончательно подготовленного к печати текста «Летописи» - труд коллектива авторов, начавших после доклада М. А. Цявловского в Институте мировой литературы в 1938 г. составлять для этой цели специальную картотеку. Деятельность этих лиц отмечена в предисловии Т.Г. Цявловской к первому изданию (уже после кончины М.А. Цявловского) «Летописи жизни и творчества А.С. Пушкина. 1799-1826», вышедшему в 1951 г. В период подготовки второго, исправленного и дополненного издания этой книги, увидевшего свет лишь в 1991 г., скончалась
Впервые опубл.: Классика отечественной археографии // Материалы к летописи жизни и творчества А.С. Пушкина: 1826-1837. М., 1998. Т. 1 / Подгот. текста Е.В. Гарбер; вступ. ст. С.О. Шмидта, Н.И. Михайлова, Е.В. Гарбер. С. 7-12.
(в 1978 г.) Т.Г. Цявловская; об участниках работы над материалами нового издания написано в предисловии к нему Я.Л. Левкович. И все-таки это прежде всего труд Цявловских: Мстислав Александрович был инициатором работы; на материал, уже собранный Цявловскими, на выработанную ими методику опирались в этой работе; Цявловские оставались не только ее руководителями, редакторами, но и основными исполнителями. Это - «Летопись», составленная Цявловскими.
История создания «Летописи» освещена в предисловии Т.Г. Цявловской к первому изданию ее первой части. Там названы издания близкого содержания и типа, которые служили образцом в работе, привлекались для сопоставительного рассмотрения их методики. Это - пример уважительного отношения к предшественникам и творческого восприятия сделанного ими. Но очевидно, что Цявловские не ограничивались обращением к этим изданиям. В «Летописи» выявляются и индивидуальные особенности творческой биографии Цявловских; и их широкое понимание Пушкина и литературы вообще в контексте эпохи; и их несравненная эрудиция в области отечественной и мировой художественной, литературоведческой, историко-биографической, справочной литературы.
Томас Манн отметил, что художнику достаточно заговорить о себе, чтобы заговорила эпоха. Но как же проникновенно нужно знать и эпоху, и художника слова, как глубоко и детально надо овладеть приемами научного поиска и истолкования исторических источников, чтобы явления Пушкинской эпохи, столь разнообразные и разномасштабные, оказались привлекшими внимание для объяснения обстоятельств повседневной жизни и творчества Пушкина! «Летопись» - результат напряженной, насыщенной восприятием многого творческой жизни Цявловских. Это - и биография Пушкина, и биография Цявловских.
М.А. Цявловский прошел школу историко-филологического факультета Московского университета. Здесь особое влияние на него оказал П.Н. Сакулин, в семинарии которого он работал по темам «Пушкин в николаевскую эпоху», позднее о байронизме Пушкина (результатом чего была статья «Пушкин и английский язык», напечатанная с одобрения самого академика А.А. Шахматова). Но университет даровитый и трудолюбивый студент окончил лишь в 1910 г., уже двадцатисемилетним. Человек яркого общественного темперамента, Цявловский принял участие в революционном движении 1905-1907 гг., был близок к боль-
шевикам, дружил с Ф.А. Артемом, Н.М. Лукиным, встречался с В.И. Лениным, в квартире его останавливался Н.Э. Бауман. Цяв-ловского арестовали (в тюрьме он составил словарь воровского жаргона), сослали на север1.
Еще до 1917 г. Цявловский, поддержанный авторитетом М.О. Гершензона, стал известен как видный знаток творчества Пушкина и пушкинианы. И поскольку в последующие годы значение его трудов в этой сфере науки и культуры все возрастало, то другие стороны творческой биографии Цявловского оказались как бы заслоненными. Между тем именно многогранность творческой деятельности ученого, широта его исследовательских интересов, основательность его трудов и иной тематики во многом обусловили возможность достижения вершин в пушкиноведении -как и у В.В. Виноградова и Г.О. Винокура!
В революционные годы Цявловский вместе с известным историком, публицистом, общественным деятелем С.П. Мельгуновым принимал участие в обследовании архивов, вошел в комиссию по разработке политических дел по г. Москве, энергично содействовал сохранению и упорядочению архивов Московского губернского жандармского управления и Охранного отделения, описанию и публикации находившихся там документальных материалов. Под их «общей редакцией» издан первый том «Материалов по истории общественного и революционного движения в России» - «Большевики. Документы по истории большевизма с 1903 по 1916 год бывшего Московского Охранного отделения». Книгу эту, напечатанную в московском издательстве «Задруга» еще по старой орфографии, как значится на титульном листе, «к печати приготовил и предисловием снабдил М.А. Цявловский». Книга вышла в свет в 1918 г. двумя изданиями. Предисловие к ней, содержащее «характеристику печатаемых документов», начинается словами: «Ни одна из “нелегальных” революционных организаций, ставивших своей целью ниспровержение существовавшего в России до марта 1917 г. политического строя, не вышла из “подполья” на арену открытой политической борьбы с таким шумом, с каким появились социал-демократы большевики... Что такое большевики, как “деятели настоящего”, теперь знает вся Россия, но кто они были вчера, каково их прошлое, известно лишь сравнительно небольшому кругу старых партийных эсдеков, а между тем узнать об их деятельности в “подполье” очень трудно, так как книг по истории большевизма на книжном рынке, можно сказать, совершенно нет. Печатаемые нами документы б. Моск. Охр.
Отд., конечно, не представляют собой такой истории, это скорее “летопись” важнейших событий за тринадцать лет (1903-1916 гг.) существования этой фракции РСДРП. Критически рассмотреть, насколько правдивы “сказанья” этой летописи, - задача будущих историков русской социал-демократии, мы же здесь считаем нужным остановиться на истории происхождения печатаемых документов и на самих “летописцах”»2. Цявловский характеризует разновидности документов, связанных с деятельностью «секретных сотрудников», приводит сведения о провокаторах, упоминаемых там (среди них и Роман Малиновский). Эти двенадцать человек, заключает ученый, «лишь небольшая часть “осведомителей”, работавших в РСДРП. “Опубликование полного списка таковых -дело будущего, будем думать недалекого...”»3. Этими словами заканчивает Цявловский предисловие, датированное 14 (1) февраля 1918 г.
В предваряющем книгу уведомлении «От редакции» сообщается, что серия первоначально будет включать «преимущественно неизданные материалы из архивов, двери которых открылись для исследователя русской общественности» с момента революции февраля 1917 г. В дальнейшем предполагается включать в серию и материалы, изданные уже в России и за рубежом, с тем чтобы по мере развития серии она стала бы собранием «основных источников для ознакомления с историей революционного и общественного движения в России». В объявлении о подписке на все издания указывалось содержание первых намеченных сборников: о цензурной политике самодержавия, о «Священной дружине» и правительственной политике М.Т. Лорис-Меликова, «Русская провокация», о «Ходынке», 1905 годе и др. Однако намерения эти оказалось невозможно осуществить, задуманное серийное издание было прекращено. Комиссия, созданная в марте 1917 г. Временным правительством, 19 апреля 1918 г. была распущена и вместо нее организован Архивно-политический отдел при СНК Москвы и Московской области. М.Н. Покровский - в тот период председатель Моссовета, но очень скоро сделавшийся и политическим руководителем Наркомпроса (с мая 1918 г.), и руководителем исторического фронта науки, - оценил издание как антисоветское. Мельгунову он писал: «...заведующие “Архивом политических дел” отнюдь не объективные ученые, преследующие задачу сохранения, приведения в порядок и научного издания исторических документов, а публицисты, резко враждебные Советской власти, смотрящие на “Архив” как на оружие в борьбе
с этой властью»4. Таким образом, поводом для прекращения дальнейшей работы архивного ведомства в таком направлении послужила не только публикация под редакцией историка Е.В. Тарле в Петрограде сборника документов (в двух частях) «Революционный трибунал в эпоху Великой Французской революции», отличавшегося тенденциозной подборкой материалов, разоблачающих революционный террор, но и опасение разоблачительных публикаций о современниках, готовящихся в Москве Мельгуновым и Цявловским.
Мельгунов после того продолжал активную антисоветскую деятельность, в 1922 г. был выслан из России и за рубежом стал и одним из первых историков российской революции, и одним из организаторов антибольшевистского фронта. Цявловский же, подобно Тарле и видному кадету, совместно с Мельгуновым издававшему с 1912 г. журнал «Голос минувшего» историку А. К. Дживелегову, сосредоточился отныне лишь на научной и научно-просветительской деятельности. Цявловский преподает в провинциальных (в Нижнем Новгороде, где родился, в Смоленске) и московских вузах, заведует архивами и библиотеками, одно время - библиотекой и архивом Российской книжной палаты.
Имея уже авторитет видного пушкиниста и библиографа, Цявловский все в большей мере обретает и высокий авторитет исследователя жизни и творчества Л.Н. Толстого. Он автор многих трудов такой тематики, в чем нетрудно убедиться, обратившись к томам подготовленной Книжной палатой «Библиографии литературы о Л.Н. Толстом». Он член Главной редакции 90-томного Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого; им подготовлено к печати семнадцать томов издания («Детство», «Отрочество», «Юность», «Война и мир» вместе с его учеником Г.А. Волковым, неоконченный роман «Декабристы», дневники и записные книжки, переписка). Друг великого писателя В.Г. Чертков говорил, что собрание сочинений будет прекрасно издано, «если там такие работники, как Мстислав Александрович, знаниями которого он всегда любуется». Цявловский был сотрудником Музея Толстого в Москве, в 1932-1936 гг. директором Музея-усадьбы Ясная Поляна. Он уговорил сестру жены писателя Т.А. Кузьминскую написать воспоминания «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне», которые были изданы в серии «Записи Прошлого»5.
Серия издательства Сабашниковых «Записи Прошлого», где Прошлое сознательно прописано с большой буквы, имела задачей «дать изображение развития русской культуры и картину жизни
и быта разных слоев русского народа в показаниях свидетелей и деятелей нашего прошлого». Книги серии, выходившей с 1925 г. под редакцией историка С.В. Бахрушина и М.А. Цявловского, имели большой успех. Предваренные предисловиями, снабженные примечаниями, указателями, они во многом предопределили стиль знаменитых книг издательства «Academia» времени, когда им руководил Л.Б. Каменев. Книги серии «Записи Прошлого» -значительная новация в сфере археографической культуры.
Цявловские сблизились с М.В. Сабашниковым; и замечательный издатель тепло охарактеризовал М.А. Цявловского в своих «Записках»: «...чужд всякого искательства и завистливости. Он давно лелеял мысль об издании собрания мемуаров о Пушкине. План издания был тщательно обдуман. Библиографические справки занесены на карточки. Тексты подобраны. Издательство наше готовилось предпринять издание и выдало даже Мстиславу Александровичу аванс. Но за безденежьем и за проведением издания в разрешаемый инстанциями “редплан” дело затянулось. Тем временем Вересаев, посещавший М.А. Цявловского как любитель Пушкина, одолжался карточками и библиотекой М.А. Цявловского. В результате вышла его книга “Пушкин в жизни”, выдержавшая много изданий и наградившая Вересаева дачей и прочими недосягаемыми по нынешнему времени простым смертным благами. Правда, Вересаев построил свою книгу по собственному плану, отличному от плана Цявловского»6.
Как явствует из воспоминаний Сабашникова, Цявловский и в годы вторжения в наше литературоведение вульгарной социологии и свертывания классической методики литературоведческого комментирования оставался верен своим научным принципам и лелеял замыслы осуществления больших начинаний по изданию материалов, имеющих отношение к биографии Пушкина. Когда представилась возможность более углубленно - и в то же время более традиционно - заняться пушкинской темой, Цявловский оказался едва ли не самым эрудированным в этом плане пушкинистом. Он был абсолютным авторитетом и для ленинградских ученых, где в Пушкинском Доме велась издавна основная работа по изучению пушкинского наследия (это прослеживается, в частности, по письмам ленинградских пушкинистов 1930-х годов Г.О. Винокуру)7.
Небезлюбопытна характеристика Цявловского в статье, посвященной ему, в 60-м томе Большой советской энциклопедии, вышедшем в свет в 1934 г. В становившемся с годами все более по-
литизированном издании читаем: «Являясь одним из выдающихся современных пушкинистов-текстологов, Ц. не поднимается в своих работах до марксистского литературоведения, сосредоточившись на подготовительном собирании материалов и их публикации» (стб. 800). Такая приверженность к тому, что Д.С. Лихачев определяет как «конкретное литературоведение», нежелание подделываться под навязываемые схемы, были особым достоинством М.А. Цявловского и как ученого, и как человека и обеспечили непреходящую ценность его трудам о Пушкине. М.А. Цявловский убежденно верил в особую роль культурных традиций (а к ним он относил и научные традиции) в сохранении России и сам был воплощением преемственности таких традиций - и в своей исследовательской работе, и во вдохновенных лекциях в вузах, и перед широкой аудиторией, и в организационно-просветительской деятельности.
С 1920-х годов сподвижником М.А. Цявловского в изучении пушкинского наследия стала Татьяна Григорьевна Зенгер (подписывавшая этой фамилией свои работы до 1947 г.). Она воспитывалась в атмосфере высокой гуманитарной культуры. Отец ее, Григорий Эдуардович Зенгер (1853-1919), был не только видным государственным деятелем в области просвещения (с 1900 г. -попечитель Варшавского учебного округа, с 1901 г. - товарищ министра народного просвещения, в 1902-1904 гг. - министр, с 1904 г. - сенатор), но и крупным ученым-филологом и поэтом-переводчиком. Убежденный сторонник классической системы среднего образования, читавший в университете лекции по древнеримской истории и словесности, автор трудов о сочинениях древнеримских поэтов и поражающих эрудицией комментариев к ним историко-литературного характера, переводчикна латинский язык в стихах и русских, и иностранных поэтов, член-корреспондент Российской академии наук. Живший идеалами своих любимых героев античности и в какой-то мере напоминавший в этом отношении декабристов, отмечавших в своих показаниях силу воздействия на них Плутарха и других античных авторов, Г.Э. Зенгер одним казался реакционным защитником старинных устоев, другим -человеком чистых душевных помыслов, не приспособленным к восприятию современной острой политической ситуации. Дочери его еще дома приобщались к многообразию мировой литературы и к вершинным достижениям мировой гуманитарной науки, к искусству научного комментирования, текстологии, библиографии, к миру лексикологии. «Крылатые слова» (а это гомеровское вы-
ражение стало в XIX в. термином языковедения и стилистики) на разных языках бытовали и в разговорной речи. Старшая сестра Т.Г. Цявловской Мария Григорьевна (1894-1980), вышедшая замуж за литературоведа, библиографа Николая Сергеевича Ашукина (1890-1972), известна как составитель не раз переиздававшейся с 1955 г. совместной книги супругов «Крылатые слова (Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения)». Т.Г. Цявловская стала позднее виднейшим знатоком рисунков Пушкина (и автором литературно-исторического комментария к ним), почерка Пушкина. Ею подготовлены к печати сочинения Пушкина, многие статьи о его произведениях, фактах его биографии, популярные работы о Пушкине и его эпохе8.
М.А. и Т.Г. Цявловские уже вместе посещали чтения «темных мест» у Пушкина, собеседования о творчестве и мировоззрении Пушкина, о «Пушкине сегодня», происходившие в начале 1930-х годов чаще всего в квартире писателя Г.И. Чулкова (д. 8 по Смоленскому бульвару). Там собирались В.В. Вересаев, Ю.Н. Верховский, И.А. Новиков, Л.П. Гроссман, актер МХАТа В.В. Лужский9. Сосредоточением всех занимавшихся Пушкиным стала квартира Цявловских в Новоконюшенном переулке, в доме 13, которую дружески определяли как «штаб пушкиноведения». Там велись и записи «:Вокруг Пушкина», сохранившиеся в трех толстых тетрадях. Первые страницы за 1925 год - рукою Мстислава Александровича, остальные - за 1928-1971 годы - рукою Татьяны Григорьевны; фиксировалось все связанное с именем Пушкина: о находках в хранилищах, о судьбе пушкинских рукописей и связанных с ним документов, о реликвиях и их истории, о свидетельствах мемуаристов, о современниках Пушкина, о художниках, его изображавших. (Некоторые фрагменты опубликованы в журнале «Наука и жизнь» в № 6 за 1971 год.) В этой квартире велась и основная работа по составлению «Летописи».
Издание материалов второй части «Летописи» с дополнениями (прежде всего картотеки о путешествиях лиц ближайшего пушкинского окружения) необходимо не только для дальнейшего изучения жизни и творчества Пушкина, но и для изучения развития нашего пушкиноведения, ставшего в нынешнем столетии значительным явлением научной и культурной жизни России.
Известно, что новое издание первой части «Летописи» было Т.Г. Цявловской существенно дополнено и исправлено - прежде всего путем привлечения данных из изданий, вышедших в свет после 1950 г. Внесением новых изменений в «Летопись» Т.Г. Цяв-
ловская занята была до последних своих дней. Интерес к изучению жизни и творчества Пушкина не ослабевает и, надо полагать, останется неизменно интенсивным. Тем самым будут обогащаться новыми сведениями и наши знания о Пушкине и его эпохе. И, соответственно, сведения, доступные в период научного творчества Цявловских, не могут не показаться неполными. Уверен, что после юбилея двухсотлетия со дня рождения великого россиянина такая неполнота станет ощущаться еще в большей мере. И этому должно только радоваться!
И потому издание материалов второй части «Летописи», подготовленных Цявловскими, тем более необходимо. Ознакомление с ними стимулирует дальнейшие труды по пушкиноведению и станет обязательным условием для составления «Летописи жизни и творчества А.С. Пушкина» - уже за 1826-1837 гг. - на уровне знаний рубежа тысячелетий. Освоение наследия Цявловских, их научной методики существенно обогащает наших современников, необычайно полезно научной молодежи. А их подвижнический труд вдохновляет на дальнейшую деятельность в том же направлении, становится эталоном научной ответственности и самоуважения, высоконравственного отношения к читателю. Издание -это память и Пушкину, и замечательным пушкинистам Мстиславу Александровичу и Татьяне Григорьевне Цявловским.
1 Цявловский М.А. - член РСДРП (Воспоминание о встрече с В.И. Лениным)/ПубликацияА.Д.Зайцева//Встречиспрошлым. Вып.5. М., 1984. С. 139-143.
2 Большевики. Документы по истории большевизма с 1903 г. по 1916 г. бывш. Московского Охранного отделения. 3-е изд. М„ 1918. Предисловие. С. 17.
3Там же. С. 49.
4 Емельянов Ю.Н. Вступительная статья к публикации работы С.П. Мельгунова «Осада Зимнего дворца» // Воспросы истории. 1993. № 1. С. 112; См. также фрагмент из письма М.Н. Покровского С.П. Мельгунову от 16 апреля 1918 г. // Советские архивы. 1968. № 8. С. 53-54 (Подг. Л.П. Балашова); Емельянов Ю.Н. С.П. Мельгунов в России и эмиграции. М„ 1998. С. 46-47.
3 Богаевская К.П. Слово о М. Цявловском // Пути в незнаемое. Сб. 22. С. 515.
6 Записки Михаила Васильевича Сабашникова. М.: Изд-во им. Сабашниковых. М., 1995. С. 504; Цявловский М. Записки пушкиниста. С. 545-546. ;
7 Шмидт С.О. Г.О. Винокур и академическое издание пушкинско- 1 го «Бориса Годунова» // Литературное обозрение. 1997. № 3. С. 65-77.
8 Богаевская К.П. Из воспоминаний. Т.Г. Цявловская // Литера- , турное новое обозрение. 1996. № 21. С. 112-120; По следу Пушкина: исполнилось 100 лет со дня рождения Татьяны Григорьевны Цявловской (Из писем 1967-1977 гг. Подг. К. Шилов) //Литературная газета. 1997. № 32. 6 авг.
9 Цявловский М. Записки пушкиниста. С. 546-547; Леонтьев Я.В. «...Ничто не может заменить религию» (Сокровенные письма Георгия Чулкова) // Звезда. 1995. № 3. С. 120.
Прежде всего хочется выразить признательность россиянина властям и общественности Бельгии и города Брюсселя. Пушкин для нас - олицетворение культуры и духа России; и радует, что наш праздник воспринимается как всемирный. Мне, уроженцу Москвы и историку Москвы, особенно дорога честь выступить в день открытия памятника Пушкину в Брюсселе и наименования его именем площади города, потому что именно первый на Родине памятник Пушкину, работы скульптора Опекушина, воздвигнутый в 1880 г. в центре Москвы (теперь это тоже Пушкинская площадь), стал ныне таким же символом нашего города, как и старинный Кремль.
Памятник в Брюсселе - не единственный памятник Пушкину за рубежом; открытие нескольких памятников имело место и в юбилейном пушкинском 1999-м году. Но Брюссель - город славных исторических и культурных традиций, средоточие общественно-политической жизни стран двух континентов. А в Москве к тому же особое отношение к культуре Бельгии. Здесь сердечно и заинтересованно встречали в 1913 г. Эмиля Верхарна, сочинения которого переводили виднейшие наши поэты. Московский художественный театр первым получил право постановки пьесы-сказки Мориса Метерлинка «Синяя птица». И эта постановка Станиславского для нескольких поколений московских детей начинает знакомство с театром. «Синяя птица» стала эмблемой первого в мире Московского детского музыкального театра, организованного в 1964 г. Наталией Сац. Актер и всемирно известный спортивный обозреватель Николай Озеров дал название своим мемуарам «За синей птицей». Среди самых любимых москвичами с юности книг - «Легенда об Уленшпигеле» Шарля де Костера: в Москве и театральный спектакль об этом. Мы помним, что всемирная слава к нашим молодым музыкантам в предвоенные годы пришла после побед на конкурсах под патронажем королевы Елизаветы. Для историков моего поколения еще в студенческие довоенные годы воспринимался как классик исторической науки Анри Пиренн. Недавно большой интерес вызвала выставка произведений Ренэ Магритта в Музее изобразительных искусств, а этой
' Текст выступления в зале Ратуши города Брюсселя в день открытия памятника Пушкину 30 сентября 1999 г.
осенью там экспонируется выставка произведений фламандской живописи.
Характеризуя, тем более оценивая явления прошлого, должно учитывать и то, как их воспринимали современники и чем они оказались для последующего времени; а если это явление культуры, то и востребованность в наши дни.
Пушкин при жизни был великим поэтом; с его именем российская изящная словесность вошла в ряд великих европейских литератур. Однако в самой России это не всеми было сразу осознано, а за рубежом стало очевидным лишь с распространением переводов сочиненного Пушкиным и особенно с появлением великих романов Тургенева, Льва Толстого, Достоевского, ставших школой для литературы Европы и Америки последних десятилетий XIX в. Творчество российских писателей - младших современников Пушкина - в лоне пушкинской литературной традиции, и сами великие классики уже не только русской, но и мировой литературы всегда отмечали это и видели именно в Пушкине родоначальника русской национальной литературы. Поль Валери, выступая на Пушкинском вечере в зале Плейель в Париже в 1937 г., верно подчеркнул: «Творчество Пушкина вызвало необыкновенный творческий расцвет всех искусств в России: литературы, музыки, живописи, скульптуры, театра, балета... Произошло событие необыкновенное: в течение одного века на дальней восточной окраине Европы создалась литература небывалого блеска и глубины, подчинившая своему влиянию литературу мировую. Факт беспримерный в истории человечества...»
Кончина Пушкина продемонстрировала, что российская словесность имеет уже широкую читающую публику. Первые в России журналы, рассчитанные на таких читателей и читательниц, стали выходить по почину Карамзина в конце XVIII - начале XIX в., но многие аристократы придворного круга, светская «чернь», продолжали читать лишь иностранную художественную литературу, и министр народного просвещения Уваров выговаривал журналисту, поместившему горестный некролог человека нечиновного. Однако никогда прежде не видели столько людей, особенно молодежи, пришедших проститься с умершим. Ясно выявилось и то, что сформировалась уже и дворянская интеллигенция, воспринявшая гибель Пушкина как трагедию России. И это не только лица, близкие по общественным воззрениям к осужденным за выступление против царя в 1825 г. хорошо знакомым Пушкину декабристам, но и придерживавшиеся более кон-
сервативных взглядов. А само слово «интеллигенция», как выяснилось, - из разговорного языка людей пушкинского круга. Оно в дневниковой записи 1836 г. ближайшего старшего друга Пушкина Жуковского. Появилось, следовательно, не в 1860-е годы (как принято указывать даже в энциклопедических словарях), а лишь широко распространилось тогда и затем - с расширением международного воздействия русской литературы - перешло оттуда в западноевропейские языки (происхождение его из России отмечено и в энциклопедии «Nouveau Larousse universelle» и в Оксфордском словаре английского языка). Жуковский употребил слово «интеллигенция» как социокультурный термин для обозначения европейски образованного столичного дворянина; в то же время он связывал это и с определенными образом мысли и поведением, т. е. с «интеллигентностью» в позднейшем смысле этого слова, а это уже и нравственная категория.
Сразу же вырвался из души и «рыдающий стих» (определение Вяземского) и давних друзей Жуковского и Вяземского, и петербургского офицера-аристократа Лермонтова (в авторе страстно-обличительного стихотворения «Смерть поэта» с надеждой увидели нового гениального поэта; но и он будет через четыре года двадцатисемилетним тоже сражен на дуэли), и мудрого лирика, подвизавшегося тогда на дипломатическом поприще Тютчева (охарактеризовавшего убийцу поэта как «цареубийцу» и уверенно сформулировавшего о Пушкине в будущем: «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет»), и молодого московского аристократа Огарева - друга и сподвижника Герцена, и поэта из народа воронежского мещанина Алексея Кольцова. В 1840-е годы властитель дум той поры литературный критик Белинский создал монументальный цикл статей о Пушкине, обосновав мысль, что «писать о Пушкине - значит писать о целой русской литературе»; и каждое новое поколение будет по-новому воспринимать Пушкина, но именно его произведения «будут образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство». А эмигрировавший в Западную Европу Герцен в книге «О развитии революционных идей в России», предназначенной для зарубежного читателя и изданной на французском и немецком языках, счел необходимым особо подчеркнуть общественное значение произведений Пушкина. Он же определил место Пушкина в контексте истории России Нового времени: «На призыв Петра цивилизоваться Россия ответила явлением Пушкина». В середине XIX в., когда общественное внимание сосредоточивалось на
критике язв крепостного права и его последствий, молодые литераторы («тогдашние торопившиеся люди», как их позднее назовет Достоевский) попытались было объявить устаревшими и взгляды Пушкина, и художественную форму их выражения, но суждения эти оказались скоротечными. И тогда же литератор Аполлон Григорьев провозгласил не раз повторявшиеся с тех пор слова: «Пушкин - наше все», «Концы всего в Пушкине», «Пушкин не умрет, а будет развертываться все больше и больше». И это стало особо ощутимо в Пушкинский праздник 1880 г. в связи с установкой в Москве памятника Пушкину.
В ту пору Пушкин стал уже знаковой фигурой русской литературы, российского общественного сознания, России. С этого времени в обычай вошло и сочинение речей о Пушкине виднейшими писателями, учеными, общественными деятелями. А с публикацией оставшегося в бумагах Пушкина (в завершенном виде или во фрагментах) стало заметно воздействие его и на развитие философии, эстетики, этики, политологии, хотя не вся многообразная литература обогащает наши представления о творчестве и биографии Пушкина: иногда эти представления тенденциозно сужены в угоду воззрениям (политическим - консервативным или революционным, религиозным или атеистическим, интернационалистским или националистическим и др.) авторов этих сочинений. Особо важно отметить, что произведения Пушкина - источник вдохновения для художников, музыкантов; крупнейшие композиторы сочиняли оперы, балеты, кантаты, романсы, музыку к кинофильмам пушкинской тематики: всемирно известны оперы «Руслан и Людмила» Глинки, «Русалка» и «Каменный гость» Даргомыжского, «Борис Годунов» Мусоргского (сцены из нее и на плафоне в Гранд-опера в Париже, выполненном Шагалом), «Евгений Онегин», «Мазепа», «Пиковая дама» Чайковского, «Сказка о царе Сал тане» и «Сказка о золотом петушке» Римского-Корсакова, «Алеко» Рахманинова. Пушкину посвящали стихи едва ли не все видные поэты России и в XX в. - Блок и Брюсов, Ахматова и Цветаева, Пастернак, Маяковский, Есенин, в послевоенные годы Твардовский, Окуджава; Ходасевич перед эмиграцией выразительно сказал о Пушкине: «Мы уславливаемся, каким именем нам аукаться, как нам перекликаться в надвигающемся мраке».
К нашему времени пушкиноведение (употребляют и термин «пушкинистика») стало особой сферой знания на стыке нескольких гуманитарных наук, литературы и искусств; и развитие его отражает уровень достижений и научной мысли, и общественного
сознания. Пушкинские годовщины становятся как бы смотрами сделанного в этих направлениях. Нынешний юбилей 200-летия со дня рождения Пушкина демонстрирует и все возрастающее международное признание гения Пушкина. Для граждан современной России он важен тем, что впервые после многих лет обращено столь большое внимание на сделанное в пушкиноведении зарубежными учеными-русистами, а также и российскими эмигрантами после революции 1917 г.
Вообще возвращение в лоно российской культуры творчества российской эмиграции, изучение его даже в школьных учебниках, утверждение с малолетства представлений о единой для планеты российской культуре (при всем разнообразии ее форм и идеолого-политических устремлений) - одно из самых благотворных достижений общественной жизни России последнего десятилетия и существенно важных для формирования общественного сознания людей грядущего столетия. А в корневой системе русскоязычной культуры, культуры тех, кто видит сны на русском языке, прежде всего Пушкин.
Конечно, Пушкин более близок и понятен россиянину. Так как в переводе почти невозможно передать красоту, точность и одновременно лаконичность его языка, глубину мысли, совмещенную с ироничностью. К тому же некоторые его сочинения, особенно великий роман в стихах «Евгений Онегин» насыщен приметами - реалиями повседневной жизни, наблюдениями о круге чтения именно тех лет, и для полноты восприятия в наши дни обращаемся уже к помощи ученого комментатора. Белинский считал «Евгений Онегин» «энциклопедией русской жизни». И действительно, для историка это первостепенной важности источник по истории дворянского общества - и петербургского, и московского, и провинциального. Но к творениям Пушкина так называемый широкий читатель тянется не из-за интереса к истории, как и к творениям других истинно великих писателей. Ведь для большинства читателей и зрителей спектаклей, фильмов воссозданная Шекспиром история Ромео и Джульетты - это не гибель молодых аристократов из-за устойчивых предрассудков Средневековья, а образец горячей, безмерной любви, когда жизнь после смерти любимого человека не представляется возможной.
Пушкин писал: «Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу. Климат, образ жизни, вера дают каждому народу особенную физиономию». В произведениях
его, особенно в прозаических, все это отражено. Но великий писатель не ограничивается изображением настоящего и прошлого России: место действия его произведений и другие страны (в так называемых маленьких трагедиях - Австрия, Англия, Германия, Испания), и он проникновенно изображает образ мыслей и действий их обитателей. Ибо главное для большинства произведений Пушкина - общечеловеческое, в той или иной мере волнующее всех мыслящих людей. Это - чувства и помыслы во всем их многообразии и противоречии; это и особенности восприятия мира («Тьмы низких истин нам дороже / Нас возвышающий обман»); и процесс творчества в его развитии и самовыражении («Вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно и объяснению оных»). Это - и взаимосвязь настоящего и прошлого, и вечные проблемы: человек и природа, человек и общество и особо его тревожившие -личность и власть, милость и правосудие. Высоко ценимая автором историческая драма «Борис Годунов» полна глубоких политологических и эстетических наблюдений не только над прошлым, но и настоящим.
Очень существенно и не всегда свойственно даже великим писателям то, что Пушкин неизменно добр (хотя и ироничен при этом), душевно гармоничен, ясен, вызывая в памяти светлые имена тоже рано покинувших этот мир Рафаэля и Моцарта. Никаких нарочитых стилистических или звуковых изощрений. Нет ни душевного надрыва, ни изнуряющего самокопательства.
Редкостное по естественности изначальное совмещение гармоничнейшей формы и душевного здоровья. Читая произведения Пушкина, можно испытывать грусть, печаль, но никогда не возникает мучительных ощущений. И наш великий поэт начала XX в. Александр Блок недаром начал свою речь «О назначении поэта» словами: «Наша память хранит с малолетства веселое имя: Пушкин», и в конце того же абзаца: «это легкое имя: Пушкин».
Это предопределялось и человеческой натурой Пушкина, и творческой установкой писателя. «Мне бы легко было написать то, чего хотели, но не надобно же пропускать такого случая, чтобы сделать добро», - говорил возвращенный из ссылки Пушкин, объясняя, почему он именно так (в 1826 г.) написал императору записку о народном воспитании. В этом убеждает и продуманная чеканная формулировка стихотворения «Я памятник себе воздвиг...», формулировка-самооценка: «И долго буду тем любезен я народу, / Что чувства добрые я лирой пробуждал, / Что в мой
жестокий век восславил я свободу / И милость к падшим призывал».
При этом Пушкин всегда многомерен в изображении своих героев: у него нет однолинейных образов, ограничивающихся воплощением лишь одной черты человеческой натуры. И в своем жизненном поведении, во взаимоотношениях с людьми, в оценке их мыслей и действий сам Пушкин тоже неоднозначен.
Свободолюбивый человек, противник деспотизма, сторонник либеральных реформ западноевропейского образца, он оставался убежденным в том, что в огромной Российской империи уместно было тогда именно монархическое правление, и придерживался «имперских» государственных воззрений в сфере внешней политики. Написав, что не признает бунтов и революций, и уверенный в невозможности успеха восстания, подобного выступлению 14 декабря 1825 г. в Петербурге, он преклонялся перед личным подвигом декабристов, уважал их идеалы и в таком именно духе составил стихотворное послание отправленным в Сибирь декабристам. В своих представлениях, и историко-политических, и социокультурных, и о поведении человека, и о характере и способе выражения его творчества, Пушкин необычайно широк и независим.
И в то же время ненавязчив, хотя и очень четок в своих нравственных позициях и в художественных произведениях, и в размышлениях о событиях прошлого и современности: гений и злодейство несовместимы в одном человеке; жалок правитель даже одаренный, трудолюбивый и энергичный, «в ком совесть нечиста». Для утверждения таких нравственных представлений Пушкин готов был не щадить и знаменитые в истории имена, поддерживая лишь одну - и притом небесспорную - версию о причастности их к преступлениям, не прощаемым ни современниками, ни потомством (как в случае с царем Борисом Годуновым и композитором Сальери). Не может быть устроена жизнь и человека, способного убить друга (как у Евгения Онегина).
Не раз Пушкин убежденно формулирует мысль: «Уважение к минувшему есть черта, отличающая образованность от дикости», «Неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности». И еще более резкое суждение: «Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим». То же в поэтической форме: «Два чувства дивно близки нам, / В них обретает сердце пищу: / Любовь к родному пепелищу, / Любовь к отеческим гробам». И далее в первоначаль-
ном варианте: «На них основано от века / По воле Бога самого / Самостоянье человека, / Залог величия его». Ощущение своих корней во времени и в пространстве, по Пушкину, говоря языком современной науки, - в основе генофонда душевного здоровья человека. И Пушкин возмущался теми «озлобленными людьми», которые не любят России и «стоят в оппозиции не к правительству, а к отечеству». Еще глубже Пушкин стал ощущать взаимосвязь времен, когда готовил себя к занятиям историей и как бы предвидел взгляд из будущего, думая о том, «чей высокий лик в грядущем поколеньи / Поэта приведет в восторг и умиленье» (Стихотворение «Полководец» 1835 г.).
Знаменитый русский драматург Александр Островский еще в 1880 г. верно заметил: «Кроме наслажденья, кроме форм для выражения мыслей и чувств поэт дает и самые формулы мыслей и чувств», и потому через Пушкина «умнеет все, что может поумнеть». Притом в сотворенном Пушкиным, как становится яснее с годами, есть тайна. И, как разъясняет писатель уже советского времени Андрей Платонов, она «в том, что за сочинениями - как будто ясными по форме и предельно глубокими, исчерпывающимися по смыслу - остается нечто большее, что пока еще не сказано. Мы видим море, но за ним предчувствуем океан». Показательно, что и Андре Жид писал о Пушкине, Рафаэле и Моцарте: «Прозрачная вода может быть бездонной».
Гоголь еще при жизни Пушкина написал (и опубликовал!): «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет...» Великий польский поэт Адам Мицкевич вторил ему: «Ни одной стране не дано дважды рождать человека со столь выдающимися и столь разнообразными способностями». Ясно, что Пушкин поражал близко знавших его исключительностью его дарований, его натуры. Жуковский, который был не только великим поэтом, но и великим педагогом (его сочинения наставника наследника престола, будущего Александра II, это - классика педагогической мысли), отметил: «Когда Пушкину было восемнадцать лет, он думал как тридцатилетний человек: ум его созрел гораздо раньше его характера». При этом в его умственном развитии, в его отношении к явлениям, в оценках их происходят очень быстрые изменения: «Бегут, меняясь, наши лета, / Меняя все, меняя нас», - писал сам Пушкин в 1830 г.
Пушкин удивлял всех и своей необычайной памятью: он с первого раза запоминал наизусть стихотворения других, и если
что забывал потом, то это считалось показателем неуместности данных строчки или слова. Память для него - побудитель к творчеству, к размышлениям: «Воспоминания - самая сильная способность души нашей».
Пушкин обладал даром глубокого и острого наблюдения, сразу схватывающего детали, многое объясняющие и датирующие (в окружающей повседневности и в прошлом), и умением вообразить в реальности воспринятое из литературы: всем памятно изображение снежного бурана в «Капитанской дочке». Пушкин был в степях Приуралья в сентябре, когда такого снега еще не могло быть, но прочитал в 1834 г. очерк С.Т. Аксакова «Буран» и привнес впечатления из этого растянутого изложения в свой лаконичный и эмоциональный рассказ.
Пушкин - блистательный собеседник, ярко остроумный, всесторонне эрудированный; его сравнивали со знаменитыми ораторами - его эпиграммы повсеместно распространялись. Пушкин был необычайно умен: неслучайно Николай I после первой же беседы с возвращенным из ссылки Пушкиным сказал, что «разговаривал с умнейшим человеком в России». При язвительном, подчас беспощадном острословии, быстроте впечатлительной реакции и пылкости характера Пушкин был доверчив и даже простодушен, почитая это и свойством поэта («как жизнь поэта, простодушна»), чужд лукавству, тем более искательству и интригам, и, как оказалось, неспособен противостоять коварству и злости интриганов. Пушкину особо свойственно было самоуважение. Он был человеком чести в восходящем к высокому рыцарскому идеалу понятии об этом. И самых высоких представлений и о положении, и о долге Поэта: «Поэт - ты царь», «Веленью Божию, о муза, будь послушна. / Обиды не страшась, не требуя венца, / Хвалу и клевету приемли равнодушно, / И не оспаривай глупца», «Слова поэта суть уже его дела».
Пушкина в обществе выделяло и необычное обаяние. Отмечали его ярко заметный темперамент и храбрость, чарующий серебристый смех. Некрасивый, но с выразительными синими глазами на смуглом лице, невысокий, но крепкий и изящный в движениях, Пушкин был, вероятно, и сексуально очень привлекателен.
Поражали его всесторонняя образованность в сфере гуманитарных знаний и детальная осведомленность о современных обстоятельствах общественно-политической жизни и России, и зарубежья. О широте интересов Пушкина убедительно свидетельствует написанное о множестве зарубежных авторов и любовно
собираемая библиотека, где была представлена основная литература по истории, классические произведения мировой литературы и новинки ее, включая сочинения писателей, более молодых по возрасту, чем Пушкин, особенно французских или в переводе на французский язык.
Обстоятельства биографии Пушкина и истории России тех лет способствовали и развитию его дарований, и раннему признанию их в обществе.
Пушкин с детства мог воспринимать и народную культуру, уходящую корнями в допетровскую Русь (прежде всего от бабушки по матери, богатый русский язык писем которой восхищал позднее товарищей Пушкина по лицею, от природно даровитых и любознательных дядьки-воспитателя и няни; и именно Пушкин потом первым в русской литературе создаст образы и няни в стихах и в прозе, и дядьки Савельича в «Капитанской дочке»), и атмосферу франкоязычной культуры родителей и лиц их круга. Существенно для развития его литературного дара то, что Пушкин изначально был билингвистичен: он рано усвоил особенности русской речи (отмеченные в рассуждениях о баснях Крылова), приобщился к чтению и осознал, что «чтение - лучшее учение», и мог познакомиться и с обширными библиотеками библиофилов, с собраниями не только изданий XVIII в., но и более раннего времени. (Напомню, что писатель Стендаль, бывший в Москве с армией Наполеона, был поражен изяществом дворцов знати и богатством их библиотек - везде и Вольтер, и Бюффон...) Пушкин получал впечатления и от московской старины, и от жизни в подмосковном имении бабушки. Затем продуманная система образования в Царскосельском лицее, близ Петербурга, обретение среди лицеистов близких и даровитых друзей, раннее, еще в лицейские годы, вхождение в круг литературного общества поклонников Карамзина «Арзамас» (среди этих высокоэрудированных и склонных к иронии тридцати-тридцатипятилетних людей и виднейшие литераторы, и будущие декабристы, и будущие министры Николая I). Пушкин вошел в литературу тогда, когда издали первые восемь томов «Истории государства Российского» Карамзина, где изложение событий доведено до середины XVI в., и узнали, что у россиян есть история, которой можно гордиться, и теперь, после побед над армией Наполеона, настала пора создания своей литературы, отражающей современную жизнь России. Надежда эта нашла воплощение прежде всего в творчестве Пушкина, поразительно многообразном и по жанрам, и по тематике.
Я выступаю в связи с открытием памятника Пушкину за рубежом и потому позволю себе сделать акцент на том, что именно благодаря творчеству Пушкина наша российская литература стала восприниматься в русле развития мировой литературы; Пушкин стремился к тому, чтобы и историю России рассматривали в контексте мировой истории, и российскую литературу как одну из ветвей древа мировой литературы. А это - традиции Карамзина и Жуковского, восходящие еще к середине XVIII в., к творчеству Ломоносова.
Размышляя в 1834 г. о судьбах России и российской словесности, Пушкин отметил в готовящейся к печати рукописи: «России определено было высокое предназначение... Ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы... Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией» - и добавил с грустью: «Но Европа в отношении к России всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна». Добавим, что в России был положен предел и владычеству Наполеона, необычайно велика роль России и в победе над фашистской Германией, в избавлении мира от коричневой чумы. В XX же столетии именно опыт утопического социального преобразования в нашей стране убеждает человечество в необходимости настороженного отношения к радикальнореволюционным социалистическим экспериментам. Мысль об особом предназначении России, спасшей в канун Возрождения европейскую христианскую цивилизацию, Пушкин повторил в письме Чаадаеву, написанном в знаменательный для него день 25-летней лицейской годовщины, 19 октября 1836 г., когда поэт, напоминая о победе, одержанной при Александре I над Наполеоном, писал о Руси «вознесенной ... им над миром изумленным». Именно в этом письме Пушкин, отмечая раздражение и оскорбление многим происходящим в современной ему России, страстно и убежденно формулирует: «...но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».
Пушкин, писатель, глубоко национальный по мироощущению, страстно любивший Россию и еще в первой прославившей его поэме «Руслан и Людмила» радостно восклицавший: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет», был в то же время глубоко восприимчив к иноземной культуре и ментальности (и это особо отмечал Достоевский в речи о Пушкине 1880 г., ставшей его лебединой песнью) и, употребляя современную терминологию,
интернационалистом по своим общественным воззрениям и даже литературным вкусам.
Он постоянно находился в общении со средой дипломатов -лиц, в то или иное время связанных с дипломатической службой или с архивами, находившимися в ведомстве Министерства иностранных дел, и сам был служащим именно этого учреждения. А дипломаты той поры, это - международная элита лиц высокой культуры; и Пушкин дорожил такой принадлежностью, тем более что его положение в этой среде явилось результатом сделанного им на литературном поприще, а не служебной карьеры. В дневниках Пушкина 1830-х гг. постоянны записи о разговорах с дипломатами, А. Тургенев за 20 дней до дуэли писал о «восхитительном вечере» у австрийского посланника (Фикельмона, женатого на внучке знаменитого полководца Кутузова), где в «маленьком кружке» (посланники Франции и Пруссии, Вяземский) Пушкин рассказывал о «жизни Петра I и Екатерины II». Иностранцы отмечают, что разговор Пушкина «занимателен и поучителен» благодаря глубоким знаниям и прошлого, и настоящего России. На панихиду по Пушкину не явились приближенные ко двору царедворцы («флигель-адъютанты», как писали обобщенно современники), но дипломатический корпус был представлен почти в полном составе. И в депешах послов значительное место уделено этому трагическому событию. На вопрос о службе Пушкин еще в 1829 г. ответил: «Я числюсь по России»; и роль Пушкина в приобщении Западной Европы к познанию России, к воспитанию уважения к культуре очень велика, хотя и недостаточно изучена.
Великий немецкий писатель Гёте (юбилей которого -250-летие со дня рождения - тоже в этом, 1999 г.) заметил: «Сейчас мы вступаем в эпоху всемирной литературы, и каждый должен теперь содействовать тому, чтобы ускорить появление этой эпохи». Пушкин тоже придерживался такого же убеждения. Об этом он не раз писал в своих сочинениях литературно-критического типа (в значительной части не опубликованных при жизни) и в художественных произведениях, прозаических и поэтических.
Показательны в этом плане последние стихотворения Пушкина - и по литературным первоисточникам, и по тематике, иногда и по стилистике. Они несомненные свидетельства того, что Пушкин жил тогда в мире образов мировой литературы и относил к ней уже и доступную ему российскую словесность, даже древнерусскую, ибо готовил труд о высокоценимом им «Слове о полку Игореве», в древности которого не сомневался, оспаривая мнение
скептиков. Еще более заметно это в размышлениях (в прозе) о зарубежной художественной, публицистической и исторической литературе.
Стихотворение «На выздоровление Лукулла» (направленное против министра Уварова) имеет подзаголовок «Подражание латинскому». Вскоре, в том же 1835 г., было написано «Подражание арабскому». Стихотворение, начинающееся словами «Когда владыка ассирийский», - переложение начала библейской книги «Юдифь»; сюжет необработанного отрывка «Не видала ли девица» заимствован из сербских песен Караджича. Отрывки из черновых тетрадей 1835 г. - перевод начальных стихов «Мазепы» Байрона, стихотворения Колриджа «Жалоба». В 1836 г. мотивы, навеянные Библией: «Мирская власть», «Напрасно я бегу к сионским высотам»; стихотворение «Отцы пустынники и девы непорочны» передает великопостную молитву Ефрема Сирина. Пушкин начинает перевод сатиры Ювенала и посвящает побудившему его к этому Козловскому такие стихи: «Ценитель умственных творений исполинских, / Друг бардов английских, любовник муз латинских, / Ты к мощной древности опять меня манишь». Он пишет подражание арабской песне, известной ему во французском переводе; начинает стихотворение под впечатлением французского романа Потоцкого «Рукопись, найденная в Сарагоссе» ...
В июле-августе созданы два важнейших стихотворения Пушкина для понимания его мироощущения и оценки им своего места в истории.
Стихотворение, едва ли не программное, подводящее итоги жизненным размышлениям, мудрое и ироничное, приведу полностью:
Не дорого ценю я громкие права, От коих не одна кружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги Мне в сладкой участи оспоривать налоги Или мешать царям друг с другом воевать; И мало горя мне, свободно ли печать Морочит олухов, иль чуткая цензура В журнальных замыслах стесняет балагура. Все это, видите ль, слова, СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА". Иные, лучшие, мне дороги права;
Иная, лучшая, потребна мне свобода:
’ Hamlet (Примеч. Пушкина).
Зависеть от царя, зависеть от народа -Не все ли нам равно? Бог с ними.
Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там, Дивясь божественным природы красотам, И пред созданьями искусств и вдохновенья Трепеща радостно в восторгах умиленья. Вот счастье! вот права...
В этих словах и идеал, и трагедия Пушкина последних лет, униженного младшим придворным званием не по возрасту (напомним, что в широко всем известном тогда «Горе от ума» Грибоедова за камер-юнкера принимают совсем молодого Чацкого) и не соответствующим знатному происхождению Пушкиных запретом выезжать за границу, где он с юности мечтал побывать, и вообще удаляться от двора без согласования, материальными затруднениями, светскими сплетнями и кознями. При подготовке к печати этого стихотворения из цензурных соображений в заголовке назван итальянский поэт Пиндемонте, а в рукописи еще и другой вариант - «Из Alfred Musset». Показательна и авторская сноска к цитате из Шекспира «Hamlet». Заметна близость настроения стихотворения с формулировкой в написанном за день до дуэли письме к герою войны 1812 г. генералу Толю: «Гений с одного взгляда открывает истину, а истина сильнее царя, говорит Священное писание».
Стихотворение, начинающееся словами «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» и называемое обычно «Памятник», намеренно сочинено в русле традиции всемирной литературы и имеет эпиграфом слова Горация. И самая последняя запись Пушкина перед дуэлью 27 января 1837 г. - письмо детской писательнице А. О. Ишим свой с просьбой перевести для издаваемого им журнала «Современник» стихотворения английского поэта Barry Cornwall. И здесь же замечание о книге Ишимовой, где пересказывается для детей «История» Карамзина: «Сегодня я нечаянно открыл Вашу “Историю в рассказах” и поневоле зачитался. Вот как надобно писать!», т. е. писать об отечественной истории - сфера занятий Пушкина последних лет.
В первом сообщении о кончине Пушкина («Солнце нашей поэзии закатилось!») подчеркивалось, что «Пушкин скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща!..». Этого мнения писателя князя В.Ф. Одоевского придерживались и другие знакомые Пушкина. Гоголь вспоминал, что Пушкин задумал написать роман о русской жизни, неотступно собирал материалы, говорил об этом «метко и умно». Достоевский речь о Пушкине закончил словами о том, что Пушкин умер «в полном расцвете своих сил». Можно полагать, что помимо замысла романа, а также стремления выступить продолжателем историографа Карамзина, написав многотомную историю Петра Великого, и подготовить труд о «Слове о полку Игореве», Пушкин имел намерение создать труд и о российской литературе на фоне мировой литературы.
Как выяснили ученые, и российские и зарубежные, особенно наш академик М.П. Алексеев, с именем Пушкина Западная Европа познакомилась еще при его жизни в начале 1820-х годов (в парижских изданиях), появились в печати и первые высокие оценки его места в литературе. В Англии его называют «русским Байроном», в Энциклопедическом словаре Брокгауза (издания 1830 г.) - «гениальным русским поэтом». В 1829 г. возвратившийся после поездки по странам Европы Чаадаев писал Пушкину: «Нет ни одной книжки (о России. - С. Ш.), в которой бы не шла о Вас речь». Молодой поэт Веневитинов видел в Пушкине поэта уже мирового масштаба и еще в стихотворении 1826 г. «К Пушкину» мечтал, чтобы великий старец Гёте, «к небу с песнию прощания / Стремя торжественный полет, / В восторге дивного мечтанья / Тебя, о Пушкин, назовет».
И действительно Гете передал Пушкину через Жуковского в 1827 г. перо, которым только что писал. Виднейший немецкий литературный критик Варнгаген фон Энзе выучился русскому языку и опубликовал обретшую всемирную известность статью о Пушкине (1838), где утверждал, что Пушкину «все одинаково известно; Юг и Север, Европа и Азия, дикость и утонченность, древность и современность; изображая разнороднейшее, изображает он тем отечественное». Знаменитый английский мыслитель Томас Карлейль писал, ознакомившись с этой статьей, автору: «Это гениальный русский; в первый раз постигаю я русских людей». Кстати, именно по «Евгению Онегину» учились русскому языку Маркс и Энгельс. Пушкина все больше переводят на западноевропейские языки. Среди переводчиков и такой крупный писатель, как Проспер Мериме: установлено, что одна из попу
лярнейших его повестей, «Кармен» (побудившая Бизе к созданию своей великой оперы), написана под заметным влиянием «Цыган» Пушкина. Известен и анекдот, правдивость которого подтверждается разными источниками, что в 1849 г. Ламартин в Париже пригласил к обеду избранный круг людей литературы и искусства -писателей Скриба и Мериме, живописца Делакруа, композитора Мейербера - и обратился к Мериме: «Вы знаток литератур на разных языках, есть ли современник, которого можно поставить рядом с великими гениями в Пантеоне искусства?» - «Знаю», -без запинки ответил Мериме. Гости насторожились, ожидая комплименты хозяину. «Кто же это?» - с поощрительной улыбкой спросил Ламартин. - «Русский Пушкин», - ответил Мериме.
Переводу Пушкина на иностранные языки, прежде всего французский, особо способствовал живший за границей великий русский прозаик Иван Тургенев, на слова Пушкина сочиняла музыку романсов его жена певица Полина Виардо, с творчеством Пушкина он знакомил Флобера, Золя, Мопассана, Гонкуров.
В дневнике братьев Гонкуров запись 1873 г. о Тургеневе: «Он говорит, что когда он грустен, плохо настроен, ему довольно двадцати стихов Пушкина, чтобы вывести его из уныния, ободрить и возбудить; они внушают ему то восторженное умиление, которого он не испытывает ни от каких великих или великодушных дел». Вероятно, Тургенев побудил Гонкуров к чтению Пушкина: в романе Эдмона Гонкура 1879 г. «Братья Земгано» в образе цыганки обнаруживается многое от пушкинской Земфиры из «Цыган».
Когда Пушкин сочинял «Памятник», он обращался лишь к обитателям России: «Слух обо мне пойдет по всей Руси Великой, / И назовет меня всяк сущий в ней язык», высказывая убеждение в том, что именно язык, культура объединяют в наибольшей мере народы многонационального государства. Пушкин осознавал, что в остальном мире российская литература еще мало известна. Но уверен был в том, что и зарубежные писатели сумеют оценить его поэтический подвиг, его мастерство и мудрость: «И славен буду я, доколь в подлунном мире, Жив будет хоть один пиит». Следовательно, речь идет уже о всей земле, о литературе всей нашей планеты.
Праздник в Брюсселе - открытие памятника и выставка, -так же как и пушкинские торжества 1999 г. в других местах за рубежами России, и издания сочинений Пушкина на многих языках подтверждают и это прозрение Пушкина.
О книге Н. Полуниной и А. Фролова «Коллекционеры старой Москвы»
Это первая книга о коллекционерах старой Москвы со второй половины XVII столетия до послереволюционных лет. Биографии собирателей и биографии коллекций - коллекций многообразных предметов и отечественного, и зарубежного происхождения.
Сто жизнеописаний лиц, одержимых страстью к коллекционированию, - вельмож и коммерсантов, ученых и художников, юристов и врачей, книгознатцев и любителей искусств, сподвижников просвещения и попечителей культуры, сформировавших в себе исследователя и поспешающих за модой. Очерки и о семи женщинах. Многоцветие характеров, различие устремлений, подчас смешение научного творчества и... тщеславия. Материал, интересный не только историку, но любопытный и психологу, социологу.
Имена разной степени известности в наши дни. Два закреплены в названиях музеев, постоянно возвращая памятью к их создателям - Третьякову и Бахрушину. Отдельным героям очерков посвящена значительная литература, и очерки лишь дополняют наши знания о таких знаменитых людях: о творческом облике Петра Великого и его сподвижника Брюса, об ученом-филологе Буслаеве, историке Забелине, экономисте Чаянове, о живописцах Викторе Васнецове, Верещагине, Нестерове. Имена государственных и общественных деятелей можно найти в энциклопедических словарях. Но немало и таких, чьи имена мы обнаруживаем только в специальных трудах, а то и вовсе в примечаниях к изданиям, посвященным их более известным современникам. Однако в свое время все эти фамилии были на слуху, о некоторых коллекциях говорила «вся Москва», воспринимая их как достопримечательность общественной жизни и культуры.
Возникают и обобщающего типа наблюдения социокультурного плана. Если на рубеже XVIII и XIX вв. наиболее видными коллекционерами были родовитые дворяне, то через столетие - фабриканты и банкиры («Москва купеческая»). Меняются
‘ Впервые опубл, без названия в кн.: Полунина Н., Фролов А. Коллекционеры старой Москвы: Иллюстрированный биографический словарь. М., 1997. С. 5- 6.
и понятия об объектах коллекционирования, их культурной значимости, материальной ценности: к рубежу XIX-XX вв. все большее внимание привлекают современнейшее изобразительное искусство (русское и зарубежное, особенно французское) и русская старина - бытовая повседневность барской усадебной культуры и обиход простолюдина.
Книга убеждает в том, что коллекционирование способствовало расширению представлений об источниках «отечествоведе-ния», «отчизнознания» (рассуждения группировавшихся подле коллекции графа А.И. Мусина-Пушкина стали школой формирования Карамзина как историка-источниковеда) и становлению отраслей специальных научных знаний, особенно в сферах книговедения и искусствознания и, конечно же, музееведения (атрибутирование и научное описание музейных предметов).
Невозможно представить себе и столичное просвещение без общественной деятельности иных коллекционеров. Между тем В.А. Дашкова - устроителя Русской этнографической выставки 1867 г. - нет в пятитомной энциклопедии «Отечественная история», а основателя подаренной городу Цветковской галереи с лучшим собранием рисунков русских мастеров - в двухтомном «Большом энциклопедическом словаре». И подобного рода факты, увы, не исключение.
Постепенно все больше коллекционеров стремилось к тому, чтобы их коллекции получали научное описание и были доступны для обозрения или даже изучения. Сберегая собрание от времени, т. е. от неизбежного рассеяния, его передавали в музеи, будь то Румянцевский или Исторический, или полагали в основу нового музейного собрания. Оказывается, что архитектор Е.Д. Тюрин еще в середине XIX в. мечтал об открытии общедоступной картинной галереи, а Бурышкин завещал свой дом и капитал на создание музея старой Москвы. Князь С.А. Щербатов, в свою очередь, хотел превратить свой дом на Новинском бульваре в «городской музей частных коллекций». Время, как мы знаем, распорядилось иначе.
Книга Н. Полуниной и А. Фролова рассчитана на широкого читателя, но благодаря системе указателей и библиографическим сведениям она становится и научным пособием и может быть особенно полезной в канун юбилея Москвы.
Это книга о москвичах, о московских достопамятностях, о культуре Москвы. О памяти давних времен и о том, что осталось нам, - ведь именно частные коллекции лежат в основе современных музейных собраний.
Книга эта выходит в год, когда празднуется 850-летие Москвы, которой посвящается большая часть страниц воспоминаний почетного гражданина города П.И. Щукина, и 125-летие со дня основания Исторического музея. В связи с юбилеем музея решено одному из залов присвоить имя Петра Ивановича Щукина.
Подготовка публикации Государственным историческим музеем воспоминаний П.И. Щукина показательна для нашего времени. Это и знак признательности к памяти того, кто обогатил сокровищницу музея даром выдающегося историко-культурного значения, и свидетельство нового подхода к оценке деятельности меценатов-предпринимателей, их роли в сохранении и пропаганде культурного наследия, в развитии отечественной культуры.
Вызвавшая благодарное внимание читателей книга Н.Г. Ду-мовой «Московские меценаты» (М., 1992) начинается очерком именно о П.И. Щукине, озаглавленным «Подарено Историческому музею». Петр Иванович не только собрал замечательную коллекцию памятников искусства и материальной культуры, рукописей и книг. Он построил специальное помещение - музей для хранения и экспонирования этих памятников, обеспечил возможность ознакомления с ними и издания «Щукинских сборников», в которых опубликованы многие из документов его собрания. Особенно поражало современников разнообразие и богатство его коллекции русских серебряных изделий и всего того, что имело отношение к Отечественной войне 1812 г. и, шире, России первой четверти XIX в. (там оказались и ценнейшие личные архивы декабристов).
Воспоминания П.И. Щукина своеобразны и по содержанию, и по форме. Это личные впечатления - то, что сохранила память автора (или сохранилось у автора в дневниковых записях и другой документации) об увиденном и услышанном, иногда и о преданиях более древнего времени, например о молодости почитаемого им отца. Все это относится к сфере жизни крайне узкой элитарной
Впервые опубл, без названия в кн.: Щукин П.И. Воспоминания. Из истории меценатства в России / Сост. Н.В. Горбушина; Отв. ред. С.О. Шмидт. М„ 1997. С. 5-7.
прослойки богатейшего европеизированного купечества - лишь то, что творилось внутри, или с чем (и с кем) непосредственно соприкасались лица, принадлежавшие к этой прослойке.
Причем отобраны факты преимущественно внешней жизни, с этнографо-географическими подробностями (много любопытного и во внешнем облике и быте Москвы и Подмосковья); особое внимание уделено повседневности, будничным разговорам коммерсантов-коллекционеров. Здесь почти нет следов размышлений на социальные темы, о душевных волнениях и переживаниях, как нет сведений и об интимной жизни автора и его близких.
К сожалению, не нашлось места и для напоминаний о том, каким образом мемуарист приобрел удивлявшие современников и вызывавшие их особое уважение серьезные познания в области искусствоведения, истории, библиографии, - о встречах с людьми мира науки, книжности. Ведь П.И. Щукин нередко встречался с научным руководителем Исторического музея И.Е. Забелиным, с привлеченными им к музейной работе более молодыми учеными. Однако и то, что имеется в воспоминаниях, существенно детализирует выводы и наблюдения автора историко-социологического труда «Москва купеческая» П.А. Бурышкина, принадлежавшего к той же узкой социальной прослойке, что и братья Щукины, и тоже коллекционера.
Непривычна и форма мемуаров. Отсутствует характерный для большинства таких памятников зачин, где объясняется, что побудило автора к написанию воспоминаний и именно в такое время, что ему кажется особо значительным на его жизненном пути. Подобный зачин обычно как бы предваряет направленность мемуаров (следовательно, и внимание их читателя) и декларирует авторский принцип отбора явлений прошлого, достойных сохранения в будущем. В то же время уже на первой странице приводится текст первоисточника информации - печатного приглашения, сообщающего о помолвке. Тем самым воспоминания Щукина обретают достоинство и своеобразие семейного архива; например, перепечатываются и письма знаменитого живописца В.В. Верещагина, не выявленные пока в подлиннике, и меню, и гостиничные счета...
Тираж прижизненного издания «выпусков» (частей «Воспоминаний») всего 50 экземпляров; это даже не для любителей-библиофилов, а для узкого круга знакомых, но одновременно все-таки и для главных книгохранилищ, т. е. более широкого круга
читателей, что, вероятно, и предопределяло отбор публикуемых фактов из запаса памяти или даже личного архива.
Мемуариста интересовали суждения предполагаемых читателей; он ожидал от них уточнений, дополнений, которые затем публиковал. Создается впечатление, что изданный текст еще не сами «Воспоминания» (с типичными образцами «мемуаров» европейски образованный П.И. Щукин был хорошо знаком), а как бы материалы к ним, и автор допускал возможность их дальнейшей доработки - и стилистической, и в плане содержания. Ведь умер П.И. Щукин от внезапной болезни (гнойный аппендицит) всего в 59 лет и, казалось, мог не торопиться с отшлифовкой своего автобиографического сочинения.
В то же время дата публикации - 1912 г. - вряд ли случайна. В этот год имя мемуариста было у многих на устах. Щукин стал одним из самых деятельных устроителей юбилейной выставки к 100-летию Отечественной войны. О его коллекционировании, о домах на Малой Грузинской улице, о даре Историческому музею узнали и лица, далекие от волновавших собирателя интересов. Отнюдь не чуждый тщеславия, П.И. Щукин (а московская молва не скупилась на анекдоты о том, что он не расставался с присвоенной ему после его дара музею парадной формой генерала) именно в этот год склонен был напомнить о себе.
В наши дни воспоминания хранителя Памяти и попечителя Культуры, выдающегося собирателя Петра Ивановича Щукина сами воспринимаются как ценный памятник Истории и Культуры. Это уникальный источник сведений и об образе жизни верхнего слоя просвещенного московского купечества второй половины XIX - начала XX столетия (давшего России Алексеевых, Бахрушиных, Мамонтовых, Морозовых, Найденовых, Рябушин-ских, Солдатенковых, Третьяковых, Якунчиковых), и по истории организации системы коллекционирования, причем не только в России, но и в Западной Европе, и по истории становления отечественного музейного дела.
Хочется поддержать инициативу Московского фонда куль-туры, организовавшего научно-практическую конференцию памяти Матвея Сидоровича Кузнецова. М.С. Кузнецов - один из самых видных предпринимателей и благотворителей г. Москвы рубежа XIX-XX столетий. Это знаковая фигура. Он - создатель «Товарищества фарфорового и фаянсового производства М.С. Кузнецова», монополии, воспринимавшей в сфере производства и искусства лучшие традиции отечественной культуры фарфорофаянсовой промышленности. Кузнецовские изделия создавались для избранных и для всех: они украшали и самые богатые дома, и изысканные салоны, и рестораны, и гостиницы, были распространенным, обязательным атрибутом повседневности россиян всех сословий. Имя Кузнецова с уважением произносилось на международных выставках, и оно также было известно покупателям бедных лавок. Изделия кузнецовских предприятий формировали эстетический вкус и представления о совмещении удобства и высокого качества продукции у миллионов потребителей. Тем более что производственная деятельность «Товарищества М.С. Кузнецова» территориально расширялась все больше, охватывая не только среднюю полосу России, но и Украину, и Прибалтику.
Наше современное фарфорофаянсовое производство во многом опирается на наследство «Товарищества М.С. Кузнецова»; и существенно важно то, что в программе конференции - выступления руководителей современных всемирно известных предприятий в Гжели, Дулеве, Вербилках, Конакове о продолжении кузнецовских традиций производства и об образцах кузнецовских изделий в фабричных музеях.
С именем М.С. Кузнецова связаны многие достижения промышленной архитектуры и возведение по проекту классика стиля модерн в архитектуре и дизайне Ф.О. Шехтеля торгового здания на Мясницкой улице, ставшего вскоре также местом проведения художественных выставок.
Впервые опубл, под названием «Предисловие» в кн.: М.С. Кузнецов - предприниматель и меценат в культуре второй половины XIX - начала XX века: Материалы научно-практической конференции. Москва, 29-30 ноября 2000 г. М., 2001. С. 3-4.
М.С. Кузнецов являлся видным общественным деятелем и благотворителем. Это слово подходит к определению его деятельности больше, чем слово «меценат» (от имени древнеримского вельможи, который был покровителем знаменитых поэтов) и тем более ставшее в настоящее время модным слово «спонсор» (т. е. финансовый гарант), и не потому, что оно русское (Кузнецов особенно много помогал старообрядцам), а потому, что фабрикант тратил силы и средства не столько на поддержку памятников истории и культуры и мастеров культуры, сколько на строительство жилья, больниц, школ, библиотек-читален для рабочих и служащих своих предприятий. Из слов иностранного происхождения тут более подошло бы слово «филантропия», а оно переводится на русский язык как «человеколюбие» (благотворительность, помощь нуждающимся). Причем сфера деятельности Кузнецова в таком направлении не ограничивалась своими предприятиями: он был членом и попечителем многих благотворительных обществ, гласным Московской городской думы.
Показательно то, что организатор конференции - Московский фонд культуры - размещается в доме-усадьбе М.С. Кузнецова, где он прожил около 40 лет, и хорошо, что на стене дома по проспекту Мира, 41 (бывшей Первой Мещанской улице) теперь будет охранная мемориальная доска.
Московский фонд культуры, возглавляемый народным художником России Антониной Яковлевной Степановой, ведет многообразную культурно-просветительскую работу. Отрадно, что в Фонде обратились к изучению московских историко-культурных традиций, ведь культура предпринимательства - это тоже существенная сфера культуры, а не только социально-экономической жизни. Хорошо и то, что в такую работу вовлекли учащуюся молодежь и предпринимателей, не ограничиваясь привычным кругом ученых (историков и искусствоведов) и краеведов-активистов Московского краеведческого общества.
Страницы истории деятельности М.С. Кузнецова - это те страницы московской жизни, которые внесли значительный вклад в историю и культуру всей России. Хочется, чтобы конференция и публикация ее материалов в год 90-летия со времени кончины М.С. Кузнецова побудили бы к дальнейшему ознакомлению с жизнью и творчеством замечательного благотворителя и к написанию книги о знаменитом москвиче, а Московский фонд культуры и наследники организационно-производственной деятельности М.С. Кузнецова обеспечили бы возможность такого издания.
Под Арбатом обычно понимается не только улица такого названия, но, как и 500 лет назад, когда впервые Арбат был упомянут в летописи (что и дало основание для празднования юбилея его 500-летия в 1993 г.), и Приарбатье с его улицами и переулочьем. Это межбульварье, между частью нынешнего Бульварного кольца и улицами на Садовом кольце, где прежде были бульвары Новинский, Смоленский, Зубовский, - от Тверской до Москвы-реки. Это территории полицейских частей дореволюционной Москвы Арбатской и Пречистенской (изначально разные стороны улицы Арбат были в разных частях) и примыкавших местностей Тверской части (ближе к Кремлю) и за Садовым кольцом (Плющиха с переулками).
Население здесь отличалось в XIX - начале XX в. социокультурной общностью. Это в основном регион частной жизни, причем преимущественно материально благополучных людей. Здесь не было до 1917 г. заводов, фабрик; мало было учреждений, казенных учебных заведений, но наибольшее в Москве число переулков и небольших храмов, частных учебных заведений и лечебниц. Это средоточие жизни московской интеллигенции, особенно профессуры, врачей, музыкантов. И потому Арбат к рубежу XX в. - не только историко-географическое понятие, но и знак культуры, один из символов отечественной культуры. Тогда и было пущено в обиход определение А. Белого «арбатцы».
Местность и Арбатской, и Пречистенской частей воспринималась и прирожденными «арбатцами», и приезжими как некое социокультурное единство (А.П. Чеховым, И.А. Буниным, Б.К. Зайцевым, А. Белым, позднее - Б.Л. Пастернаком), как средоточие усадебного дворянства, о чем писал П.А. Кропоткин, и интеллигенции, как средоточие «московской интеллигентской обывательщины», т. е. аборигенов - лиц интеллигентских профессий, по определению юриста и писателя Н.В. Давыдова, как средоточие «дворянско-интеллигентско-литературной Москвы» (определение Б.К. Зайцева)1.
Впервые опубл.: «...Все в груди слилось и спелось»: Пятая цветаевская международная научно-тематическая конференция (9-11 октября 1997 г.): Сб. докл. М„ 1998. С. 121-124.
Как уже отмечалось в ранее опубликованных работах автора, М.И. Цветаева в определении черт преемственности в российской культуре и места России в мировой культуре и общественной жизни, осмысливая ход общественно-политического развития России, во многом опиралась именно на арбатские впечатления, причем в написанном и до и после эмиграции.
Подобный подход оказывается характерным для литературы ее времени - и зарубежной (сравнить с сочинениями И.А. Бунина, Б.К. Зайцева, М.А. Осоргина), и советской (сравнить с сочинениями А. Белого, А.Н. Толстого, М.А. Булгакова, Б.Л. Пастернака, В.А. Луговского, даже И.А. Ильфа и Е. П. Петрова).
Думается, что профессор И.В. Цветаев, размышляя о месте для проектируемого им Музея изящных искусств, учитывал то обстоятельство, что Арбат имеет такой социокультурный облик, который позволяет полагать, что здесь сосредоточен главный контингент посетителей открывающегося музея - постоянно живущие, учащие, учащиеся. А. Белый уже тогда говорил и писал о специфике «арбатцев» и об особенностях менталитета «профессорских детей», о чем вспоминает и М. Цветаева. Тем более что Трехпрудный переулок, где жила семья Цветаевых, в Арбатской части, у ее границы с Тверской улицей, хотя Бронные улицы с их переулками не во всем отвечали утвердившимся понятиям об особенностях арбатского менталитета.
Близ места, где запланировали строить храм изящных искусств, находились не только самый большой храм Москвы -храм Христа Спасителя, но и хранилища памятников истории и культуры: главная библиотека Москвы (Румянцевская публичная библиотека), музеи Румянцевский, Исторический, Политехнический, Оружейная палата, Третьяковская галерея, частные собрания живописи. Еще недавно в фамильном особняке, совсем рядом с местом, выбранным для музея, можно было познакомиться с коллекцией князя М.А. Голицына, надеявшегося на учреждение в родной ему Москве Публичного музея; в начале XX в. вблизи были и Цветковская галерея, и собрания произведений зарубежного искусства Морозовых и братьев Щукиных (собрание С.И. Щукина почти рядом, в Большом Знаменском переулке; И.А. Морозов реконструировал для галереи свой особняк на Пречистенке, где позднее был Музей новой западной живописи). Возле - учебные заведения, высшие и средние: Московский университет и Высшие женские курсы; Первая мужская гимназия, учение в которой
описано видными политическими и культурными деятелями разных поколений П.Н. Милюковым и Н.И. Бухариным; казенные и частные гимназии (на Пречистенке - знаменитая мужская Поли-вановская); консерватория, театры - императорские, Московский художественный и др. Показательно, что на одной уличной линии со зданием Музея изящных искусств находятся и здания Московского учебного округа, на углу с бульваром, и Первой мужской гимназии, и Румянцевских библиотеки и музея (там служил И.В. Цветаев), и Московского государственного архива Министерства иностранных дел (в палатах Нарышкиных; на этом месте ныне новое здание Российской государственной библиотеки), и здания Московского университета (где И.В. Цветаев был профессором), и Дворянского собрания, где выступали с лекциями, проводили научно-просветительские заседания, проходили концерты.
Не следует забывать, что И.В. Цветаев имел и учебно-просветительские цели, заказал копии лучших памятников скульптуры. Ныне музей слепков - в помещении Российского государственного гуманитарного университета, в основе которого здание Народного университета, построенного на Миусской площади в те же годы на средства арбатских меценатов Шанявских.
Конечно, неслучайно обе дочери И.В. Цветаева, начав свою семейную жизнь, избрали местом жительства переулки Приарба-тья. Здесь был круг их родственников (у сестер Эфрон в Кривоарбатском переулке в «коммуне» М.А. Волошина собирались «обормотники»), друзей, знакомых из литературной, артистической, профессорской среды. Здесь обитали философы-литераторы, в квартирах которых на журфиксах обсуждалось новое в умственной и общественной жизни.
В революционные годы М.И. Цветаева служила в ближних учреждениях, где сосредоточились тогда «арбатские» интеллигенты, и была тесно связана и с домом на Поварской улице, где сходились литераторы, - бывший дом графов Соллогуб, считавшийся домом толстовских графов Ростовых, и с самым «арбатским» из театров - с Театром Е.В. Вахтангова. Это все нашло отражение в ее стихах и прозе в те годы и в последующие.
Заслуживает специального и детального исследования тема «Арбат в творчестве Цветаевой». Что отразилось в ее творчестве (тогда и позднее)? Какие ассоциации возникали? Когда и почему возвращалась она и другие к Арбату в эмиграции? К.Д. Бальмонт, выехавший за границу после долгих лет жизни у Собачьей
площадки, говорил об улице Пасси в Париже, где было особенно много российских эмигрантов: «Это парижский Арбат. Правда, похоже?» Для Б.К. Зайцева даже в последний год жизни Арбат олицетворял Москву2.
Особая и совершенно неразработанная тема - что дали Цветаевы культуре Арбата. А ведь это и выстроенный усилиями И.В. Цветаева музей, ставший одним из главных центров культуры Москвы, особенно учитывая декабрьские музыкальные вечера, публичные лекции, если можно так выразиться, в их «арбатском» варианте.
Это и творчество сестер Марины и Анастасии Цветаевых, так обогатившее не только нашу культуру, но и представления о Москве, ее прошлом. И это, конечно же, Дом Марины Цветаевой.
Дом Марины Цветаевой, сохраненный прежде всего благодаря подвижническим усилиям Надежды Ивановны Катаевой-Лыткиной, постепенно становится выдающимся средоточием московской культурной жизни. Здесь имеется уникальное собрание по истории культуры российского зарубежья, создававшееся в основном благодаря авторитету и участию академика Д.С. Лихачева. Именно доверяя ему, зарубежные жертвователи стали передавать свои коллекции или приобретать их для такой же передачи. Собрание стало уже научным центром (его хранитель В.В. Леонидов не раз писал об этом, есть его статья и в первом выпуске «Арбатского архива»). Здесь ведется силами сотрудников значительная научная и издательская работа. В хранилище постоянно видим занимающихся и из России, и из других стран. Усилиями Н.И. Катаевой-Лыткиной и Э.С. Красовской здесь регулярно собираются научные конференции широкой проблематики: не только возвращенная россиянам литература и искусство эмигрантов, но и советская; к примеру, почти один за другим - вечера памяти и Б. К. Зайцева, и М.Е. Кольцова. Здесь заседает возрожденное Общество любителей российской словесности, происходят интересные, всегда благородные по стилю (и бесплатные!) концерты лучших исполнителей. Теперь это один из самых заметных центров арбатской культурной жизни. И показательно, что вечер 12 сентября 1997 г. в Октябрьском зале бывшего Дворянского собрания «150 лет И.В. Цветаеву, 105 лет М.И. Цветаевой, 5 лет культурному центру Дому-музею М. Цветаевой» превратился в праздник нашей культуры.
1 Подробнее об этом в моей статье «Арбат в истории и культуре России». См.: Арбатский архив. М., 1997. Вып. 1. В определенной мере, причем именно в отношении Марины Цветаевой, то, что нашло отражение в заголовке настоящей статьи, уже было сделано в ранее напечатанном автором: Шмидт С.О. Два Арбата Марины Цветаевой // Творческий путь Марины Цветаевой: Первая Международная научно-тематическая конф. (7-10 сентября 1993 г.): Тез. докл. М., 1993. (Тезисы моего доклада 1993 г. перепечатаны в буклете, подготовленном Домом Марины Цветаевой. См.: Дом Марины Цветаевой Москве и Арбату. Улица Арбат: Поэты, писатели, артисты, художники, философы, музыканты. Вып. 1. М., 1993); Он же. Арбат в культуре российского зарубежья // Культурное наследие российской эмиграции. 1917-1940: В 2 кн. Кн. 2. М., 1994 (перепеч. в кн.: Шмидт С.О. Путь историка: Избранные труды по источниковедению и историографии. М., 1997).
2 Об этом см. в материалах о Б.К. Зайцеве: Арбатский архив. Вып. 1. М„ 1997. С. 315-325.
Деятельность Давида Борисовича Рязанова, которого при жизни в нашей стране и за рубежом называли создателем науки марк-соведения, имела определяющее значение и для становления советского архивного дела, и привлечения научной интеллигенции (особенно ученых-гуманитариев) на службу советской власти. Но после того как Рязанова в начале 1931 г. исключили из партии и лишили звания академика, а затем в январе 1938 г. расстреляли, фамилия его долгое время употреблялась только в негативном смысле (борьба с «рязановщиной» считалась в 1930-е годы одной из первоочередных задач на архивном «фронте»), еще чаще замалчивалась. Даже после XX съезда КПСС, когда в первой книге начавшего выходить журнала «История СССР» (№ 1 за 1957 г.) в статье о Ленинских премиях 1920-х годов напечатали абзац с положительной оценкой научных трудов Рязанова как первого из ученых-гуманитариев, получившего самую престижную тогда премию, на редколлегию (а я был заместителем главного редактора и организатором написания этой статьи Ю.С. Борисовым) поступила жалоба в ЦК. В советских изданиях об Октябрьской революции и рождении Советского государства и в 1980-е годы о Рязанове вспоминали обычно лишь в связи с неприятием им каких-либо положений, сформулированных В.И. Лениным. Статьи о Рязанове отсутствуют и в энциклопедии «Великая Октябрьская социалистическая революция» (3-е изд., дополненное, 1987), и в вышедшем под редакцией П.В. Волобуева биографическом словаре «Политические деятели России. 1917» (1993). В звании академика Рязанов был восстановлен позднее остальных - только в 1990 г.
И хотя о заслугах Рязанова впервые заговорили на рубеже 1960-1970-х годов (в 1989г. В.В. Крылов опубликовал биобиблиографию Рязанова в № 6 журнала «Советская библиография», появились статьи В.А. Смирновой, Я.Г. Рокитянского, В.Е. Корнеева и др.), жизнь и творчество выдающегося ученого и общественного деятеля и по сей день остаются недостаточно изученными, а воздействие его на развитие науки и общественного сознания недооцененным. Между тем исследования такой тематики важны для
Впервые опубл.: Д.Б. Рязанов - ученый, государственный и общественный деятель. М„ 2000. С. 20-30.
познания не только биографии Рязанова, но и особенностей общественно-политической жизни, менталитета его эпохи.
Рязанов - колоритнейшая и едва ли не наиболее самостоятельная фигура российской революции и первых лет советского строительства. Неординарность личности мыслителя-эрудита, «туземца высокой культуры» (по определению А.В. Луначарского) и общественного деятеля с неукротимым бойцовским характером ощущалась всеми; некоторым казалась и небезопасной. Советское государство провозгласило марксизм официальной идеологией, а освоение этого учения - важнейшей задачей общественных наук. И уже положение ни с кем не сравнимого знатока творческого наследия основоположников марксизма, подкрепленное к тому же близкими личными связями с зарубежными социалистами и российскими революционерами-эмигрантами (именно к Рязанову обращались по этим вопросам Ленин и его соратники), обусловили уникальное и влиятельное положение Рязанова в правящей иерархии, хотя Рязанов никогда не избирался членом ЦК и самый высокий его правительственный пост -член коллегии Наркомпроса. Это тот редкий случай в истории страны Советов, когда не только (или не столько) должность обусловливала значение человека в общественно-политической жизни. Это нашло отражение и в неординарности юбилейного сборника к 60-летию академика Рязанова: и в его названии «На боевом посту», и в статьях и выступлениях о юбиляре (где мало упоминали о сделанном им, а прежде всего подчеркивали уникальные черты его личности, особенности его культурного облика)1.
Сочинения Рязанова, научные труды и публицистика, документы, им подписанные, выступления на общественных форумах, статьи и воспоминания о Рязанове многие годы были исключены из научного обихода; Рязанов оказался отлученным и от историографии. И соображения по теме, заявленной в заголовке доклада, носят пока лишь предварительный характер и ограничиваются данными о взаимосвязях Рязанова со «спецами»-гуманитариями (преимущественно историками) Петрограда и Москвы, т. е. с интеллигенцией дореволюционной формации - «старой», «буржуазной» интеллигенцией, как ее обозначали в разоблачительных документах рубежа 1920-1930-х годов.
Выросший в многодетной семье набожного еврея-торговца (его настоящая фамилия Гольдендах) в Одессе - большом портовом городе широких международных связей и влияний, он
рано проникся традициями русской литературы и передовой общественной мысли и в советские годы в анкете в графе «национальность» писал: «Еврей по происхождению и русский по национальности»2. (Это характеризует его отношение к пресловутой анкете и представление о национальности как о социокультурной общности.) Показательно, что он избирает псевдоним «Николай Рязанов» по имени умного, образованного, блистательно владевшего секретами эзопова языка революционера-демократа, главного героя повести В.А. Слепцова «Трудное время», изданной в 1865 г. В томе Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, вышедшем в 1900 г., в статье С. А. Венгерова о Слепцове отмечено, что сочинение это «до сих пор остается в литературной памяти и в ряду повестей с общественною подкладкою занимает видное место». Рязанов был хорошо знаком и с русской литературой первой половины XIX в., стал первооткрывателем темы «К. Маркс и русские люди сороковых годов», до конца своих дней сохранял интерес к изучению литературы и общественной мысли времени Чернышевского и новейшей литературы. Тем самым имел достаточно полное представление о круге чтения современной ему российской интеллигенции (и на русском, и на иностранных языках), о ее культуре и общественно-политических настроениях. И очевидно сознавал и то, что в условиях революционных преобразований особо существенный для интеллигенции вопрос -судьба культурного наследия, его сохранение, отношение к нему. При этом под культурным наследием подразумевались не только памятники истории и культуры, но и живые хранители и продолжатели культурных традиций. Все это во многом предопределяло восприятие личности Рязанова - большевистского комиссара интеллигенцией Петрограда, а затем и Москвы.
Известно, что в марте 1918 г. Рязанов стал уполномоченным по реорганизации архивов Петрограда, а с лета 1918 г. возглавил Главное управление архивным делом (ГУАД) и отдел науки Нар-компроса. Любопытно, что этот лидер петроградских профсоюзов был назначен на такую должность «не большевистскими кругами», а по рекомендации лиц, «причастных к историческим и литературным кругам»: П.Е. Щеголева, отчасти В.И. Срезневского (организовавшего с начала XX в. в Отделе рукописей с помощью В.Д. Бонч-Бруевича хранение в библиотеке Академии наук нелегальных изданий и архивов революционных организаций, на что дал согласие академик А.А. Шахматов и о чем знал непременный секретарь Академии наук академик С.Ф. Ольденбург)3 - это от
мечено в протоколе заседания совета Союза российских архивных деятелей от 27 марта 1918 г.4
О деятельности Рязанова, руководителя отдела науки, об отношении его к людям науки как одного из руководителей профсоюзов, почти ничего не знаем. Известно, что Рязанов организовывал лекции видных ученых перед рабочими (следовательно, можно предполагать его участие в эпизодах, схожих с теми, которые запечатлены в кинофильме «Депутат Балтики»). Очевидно, что не без участия Рязанова организованы были взаимоотношения Академии наук и правительства, и не без его содействия получила поддержку работа краеведов, возглавленная в ту пору Академией наук и ее непременным секретарем С.Ф. Ольденбургом (а это была и сфера взаимодействия академических учреждений с провинциальной интеллигенцией). Научно-исследовательскую работу Рязанов считал «высшим типом просвещения», «высшим просвещением»5.
Однако эта сторона его многообразной деятельности остается пока совершенно неизученной ни по официальной документации, ни по личным архивам ученых. Судя по тому, как у него сложились взаимоотношения с историками, можно полагать, что роль Рязанова в привлечении на службу советской власти академиков и других «спецов» и использовании для ее нужд оставшегося от прежнего времени культурного наследия (а также живых носителей этих культурных традиций) была значительной, и неслучайно совпадение по времени6 его назначения на такую должность в Наркомпросе и соответствующей направленности высказываний Ленина.
Об отношении к Рязанову ученых Петрограда, особенно не-гуманитариев, в те годы пока судить нелегко. В недавно напечатанном впервые письме М. Горького В.И. Ленину (декабрь 1919 г.) имеется фраза: «Если Вы поручите кому-нибудь - человеку умному и серьезному, а не Рязанову, напр., - составить перечень открытий и работ научных за два года, - вас поразит обилие ценнейших фактов высокого практического значения» 7. Но отражает ли это взгляд самих ученых (или части их из бывших активных кадетов) или характер взаимоотношений М. Горького с Рязановым? Более всего известно теперь об отношении к Рязанову крупнейшего историка России С.Ф. Платонова, человека отнюдь не левых убеждений, приближенного в свое время к президенту Академии наук великому князю Константину Константиновичу. Платонов не раз писал и говорил, что благодаря сближению с Рязановым
«вошел в разумение свершившегося, признал власть и стал работать в Главархиве» (цитата из собственноручных показаний арестованного академика от апреля 1930 г.). Об этом «образованном, благородном и симпатичном человеке», заместителем которого по ГУАДу в Петербурге он стал в 1918 г., Платонов счел необходимым написать и в предназначенной для напечатания в Германии автобиографии8.
О дружбе с Рязановым Платонов рассказывал и близким ему ученикам. Оказавшийся за рубежом в годы Второй мировой войны историк Н.И. Ульянов вспоминает в очерке «С.Ф. Платонов», напечатанном в США в 1977 г.: «В одной из бесед довелось услышать любопытный рассказ о дружбе его с Д.Б. Рязановым. Возникла она в первый год революции, когда тот был назначен заведующим Центрархивом, а Платонов - его помощником. Темпераментный Рязанов, слывший “огнедышащим” большевиком, был всего лишь огнедышащим марксистом. С большевизмом у него обстояло не вполне благополучно, что и сказалось потом на его судьбе. Но и как марксист он создал себе уйму врагов. Рассказывали, что, когда какой-нибудь красный профессор распинался перед аудиторией, Рязанов трогал его за локоть: “Послушайте! Послушайте! Ведь вы же ни черта не понимаете в марксизме!” Сам он был ученый-марксовед, исследователь, и не этот ли ученый темперамент сблизил его с Платоновым? Когда-нибудь будут отмечены заслуги этих двух людей в деле спасения архивных ценностей России.
В тогдашнем Питере шел разгром дворцов и правительственных учреждений. В здании Сената, где помещался Цен-трархив, постоянно звонил телефон, извещавший об опасности, грозившей тому или иному учреждению. Надо было спешить на выручку. Приходили иной раз в последнюю минуту, когда драгоценный материал оказывался уже выброшенным на мостовую, полит керосином, и только спички не хватало, чтобы он запылал. Толпа обычно была глубоко убеждена в своих погромных правах и кричала: “Царские бумаги спасаете?!” Но натиска Рязанова, его грозного голоса не выдерживала и отступала.
“Кипяток”, - восхищался им Платонов. Поведал однажды о таком эпизоде: явилась к нему в слезах вдова расстрелянного царского министра юстиции Щегловитова. Ее нигде не принимали на работу. Просилась на службу в Центрархив. Платонов колебался. Как доложить большевику и еврею Рязанову просьбу вдовы создателя дела Бейлиса? К величайшему удивлению, последова
ло распоряжение: “Взять!” И вдова была устроена. Начавшаяся в Центрархиве дружба Рязанова и Платонова продолжалась весь остаток жизни Платонова...»9 В письме 1928 г., прося защиты от самоуправства чиновников Наркомпроса (руководимых М.Н. Покровским), академик Платонов подчеркивал, что Рязанов «чуток к охране достоинства в научной работе»10.
Знаменательно в этом плане и суждение Н.А. Бердяева, соприкасавшегося с Рязановым, видимо, в период работы в Хранилище частных архивов (Хранчасар) в Москве. (Это было место службы многих высокородных знатоков генеалогии и личных архивов и библиотек; и помещалось Хранчасар в бывшем особняке служившего там бывшего графа П.С. Шереметева11, привлеченного затем консультантом к работе Института К. Маркса и Ф. Энгельса.) Философ уже в эмиграции писал: «Тогда в Кремле еще были старые русские интеллигенты Каменев, Луначарский, Бухарин, Рязанов; и их отношение к представителям интеллигенции, писателям и ученым, не примкнувшим к коммунистам, было иным, чем у чекистов; у них было чувство стыдливости и неловкости в отношении к теснимой интеллигенции в России»12. Следует подчеркнуть знаменательную закономерность: именно эти действительно образованные, творчески одаренные, трудолюбивые и получавшие радость от самого процесса научной работы лидеры большевистской революции, когда Сталин их отодвинул от большой политики, отдали свои силы науке, ее организации и созданию индивидуальных исследовательских трудов (как уже прежде поступили активные участники революции 1905 г. А.А. Богданов и Н.А. Рожков). Для младших по возрасту из названных Бердяевым примером могла служить деятельность того же Рязанова, возвратившегося - уже на более широкой основе - к классическим формам научной работы историка, архивиста, археографа.
Такое уважительное отношение Рязанова к старой интеллигенции, привлечение стольких «спецов» к работе в системе архивов казалось подозрительным воинственным идеологам большевизма. И когда он находился в заграничной командировке, 26 августа 1920 г., «в связи с отъездом Д.Б. Рязанова из Москвы» обязанности заведующего Главархивом возложили на заместителя наркома просвещения М.Н. Покровского. Возможно, это отвечало и намерениям самого Рязанова, положившего тогда основные силы на организацию центра изучения марксизма в Социалистической академии. Однако допустимо предположить и то, что еще прежде 1931 г. здесь сошлись стремления и М.Н. Покровского, и
И.В. Сталина, желавших уменьшения власти и влияния на общество Рязанова. Во всяком случае, Покровский счел возможным (в выступлении на его чествовании в Центрархиве в связи с 60-летием со дня рождения 4 ноября 1928 г.) напомнить о том «головокружительном впечатлении», которое произвело на его заместителя В.В. Адоратского посещение московских архивов в 1920 г.: «Везде сидят не наши люди, и у них в руках наши бумаги, наши дела... Верное большевистское чутье т. Адоратского подсказало, что творится что-то неладное. В.В. Адоратский подошел к В.И. Ленину и стал говорить, что за безобразие происходит и нельзя ли этому положить конец, т. е. тому, что наши архивы находятся в руках чужих людей»13. Не следует упускать из виду и того, какое влияние оказывал Покровский в те годы на члена коллегии Нар-компроса Н.К. Крупскую (которая сама говорила об этом позднее, в 1932 г., на заседании памяти Покровского)14. Напомним и о том, что в 1931 г. именно Адоратский сменил Рязанова на посту директора Института К. Маркса и Ф. Энгельса и поставил свое имя как главного редактора на томах сочинений Маркса и Энгельса, готовившихся к печати Рязановым.
Имя Рязанова - организатора работы и создателя коллектива научно-исследовательского учреждения - должно стоять в одном ряду с именами крупнейших творцов системы научной работы тех лет, таких прославленных созидателей научных институтов, связавших с ними свою жизнь, как И.П. Павлов, А.Ф. Иоффе, Н.К. Кольцов, Н.И. Вавилов, Н.Я. Марр.
Институт К. Маркса и Ф. Энгельса не ограничивался задачами изучения жизни и сочинений основоположников марксизма, а также Г.В. Плеханова. Он скоро стал всемирно признанным центром исследования истории революционного движения, материалистической философии, политэкономии. Там образовались ценнейшая по подбору изданий библиотека, архив, музей. В музее организованы были и первые в России новаторские по замыслу большие выставки исторической тематики (посвященные Великой французской революции, Парижской коммуне), вызвавшие и международный резонанс15. Велась многообразная работа по изучению и подготовке к печати сочинений классиков философии, политэкономии, печатались периодические издания с документальными публикациями, исследовательскими статьями, богатыми информацией библиографическими разделами. Публикация и комментирование сочинений Маркса и Энгельса - высокие образцы археографической культуры и искусства текстологии (из
дания академического типа на языке подлинника и в переводе). Направляя работу сотрудников руководимого им института, Рязанов требовал высокого профессионализма, творческого освоения сделанного предшественниками, уважения к нему.
Это предопределяло и тематику, и стиль работы в ИМЭ. Рязанов приглашал к сотрудничеству лиц, европейски образованных, свободно владевших иностранными языками: только они могли быть квалифицированными переводчиками и комментаторами сочинений зарубежных мыслителей, выполнять необходимую работу в библиотеке, музее, архиве. Среди них оказались и отодвинутые от общественно-политической жизни бывшие меньшевики, а в музее и библиотеке - и потомки титулованных аристократов. Столь же серьезной и усидчивой работы директор требовал и от недоучек - выпускников Института красной профессуры, заявляя, что «для научной работы нет дофинских дорог». Это вызывало публичные выступления икапистов против «политической» линии Рязанова, доносы в ЦК.
Один из таких молодых сотрудников на съезде ВЛКСМ обвинил Рязанова в том, что среди переводчиков первого тома Полного собрания сочинений Маркса и Энгельса нет ни одного члена партии; говорил, что к переводческой работе привлечены в основном бывшие меньшевики - А.М. Деборин и другие. Рязанов с достоинством (и, конечно же, не обойдясь без издевки) отвечал с трибуны того же съезда: «...скажу с гордостью, мне удалось собрать ряд товарищей - я называю их товарищами, как называю товарищами и вас, хотя не все из вас входят в ряды партии. Мне удалось уговорить ряд товарищей не за страх, не за деньги, а за совесть работать в этом деле, упорно работать, добросовестнейшим образом работать за такое вознаграждение, за какое многие молодые люди никогда не будут работать»16.
Понятно, что при такой высокопрофессиональной требовательности к научной работе в отношениях Рязанова и «спецов» преобладало взаимное уважение. С Рязановым советовались, у него искали защиты историки старой школы, а он, в свою очередь, поддерживал (а скорее всего, и выдвинул?) идею организации в Академии наук Института методов исторического исследования на базе возглавляемой академиком Платоновым Археографической комиссии.
Когда решено было реформировать Академию наук, пополнив состав академиков коммунистами, наибольшее расположение академиков вызвала кандидатура Рязанова. И М.Н. По
кровский не без умысла подчеркнул, выступая на юбилейном заседании в честь Рязанова: «Мне кажется, я не нарушу никакой особенной тайны, если скажу, что Д.Б. был единственным нашим ученым, которого старая Ленинградская Академия наук соглашалась принять в свою среду раньше всяких наших общественных кампаний»17. Академики склонны были именно его избрать и вице-президентом. Во время предварительных выборов (7 марта 1929 г.) он прошел сразу (второй вице-президент, прежде уже занимавший такой пост, - лишь при четвертой баллотировке)18. Но в Политбюро этого не допустили, и Рязанов снял свою кандидатуру под предлогом болезни. Рязанов, поддержанный одновременно с ним избранными академиками Г.М. Кржижановским и Н.И. Бухариным, защитил от разгрома Отделение общественных наук на заседании Политбюро19. Академик В.И. Вернадский в письме сыну отмечал, что Рязанов «вел себя очень свободно и во многом правильно», «он и Бухарин после первой сессии решительно выступили против ломки АН»20.
Значение Рязанова в общественной жизни (причем не только в партийной среде) оставалось очень заметным. Рязанов становился все более неудобным властям после всего свершившегося в год «великого перелома». Демонстративная независимость его манеры поведения и высказываний, старомодная строптивость в духе социалистических партий рубежа веков, его «идейная неподкупность» (определение Л.Д. Троцкого) казались нетерпимыми с утверждением тоталитарного государственного режима и тоталитарной идеологии. Падение Рязанова и избранная форма публичной экзекуции обусловлены были не только отношением влиятельных ненавистников. Это отражало и существенные изменения общественно-политической обстановки. Связано это было с наступлением на «верхушку буржуазной интеллигенции», против «буржуазных спецов», провозглашенным в докладе Сталина на XVI партсъезде. Рязанов всей деятельностью своей противостоял такой партийной линии, и «спецы»-гуманитарии видели в нем своего защитника, если даже не союзника. Отражало это также изменение международной ориентации Советского Союза и зависимого от него Коминтерна: Сталин не склонен был теперь учитывать уникальные личные связи Рязанова с вождями II Интернационала и мог не обращать внимания на осуждение ими расправы с международно знаменитым марксистом. Это отражало и превращение официальной идеологии марксизма уже не в марксизм-ленинизм, а в сталинизм, в учение четырех «классиков»
марксизма-ленинизма, а Рязанов настороженно относился даже к тенденции изображать Ленина новым «классиком» марксизма.
В этом отношении, исключив Рязанова из Академии наук и Комакадемии, его приравняли к крупнейшим историкам, лишенным звания академика месяцем ранее, в феврале 1931 г., и тоже приговоренным к ссылке, - к С.Ф. Платонову, Н.П. Лихачеву, Е.В. Тарле, М.К. Любавскому, а также к академикам, оказавшимся в эмиграции. Обычно отмечали конкретные взаимосвязи преследования Рязанова и бывших социал-демократов (меньшевиков). Очевидно, имеются основания для определения такой конкретной взаимосвязи и с фальсифицированным в 1929-1931 гг. «академическим делом».
1 Подробнее см.: Шмидт С.О. К юбилею Д.Б. Рязанова // АЕ за 1995 г. М„ 1997.
1 Рокитанский Я.Г. Трагическая судьба академика Д.Б. Рязанова // Новая и новейшая история. 1992. № 2. С. 107.
3 «Справка» В.Д. Бонч-Бруевича о деятельности академика А.А. Шахматова / Подг. С.О. Шмидт // АЕ за 1970 г. М„ 1971. С. 375-377; Робинсон М.А. А.А. Шахматов и обыск в Библиотеке Академии наук в 1910 г. // Изв. Отделения литературы и языка АН СССР. Т. 33. Вып. 2. М„ 1974. С. 107-113.
4 Иванова Л.В. Из истории Союза российских архивных деятелей в 1917-1924 гг. // Проблемы истории русского общественного движения и исторической науки. М„ 1981. С. 198-199. Подробнее о Рязановее, орга-низаторе архивного дела, см.: Седельников В.О. Журнал «Исторический архив» и возникновение советской архивной периодики. 1918-1921 гг.// АЕ за 1979 г. М., 1981. С. 107-108; Он же. ЧК и архивы; Два эпизода из истории архивного дела в первые годы Советской власти // Звенья: Исторический альманах. М„ 1991. Вып. 1. С. 453; Шмидт С.О. «Золотое десятилетие» советского краеведения // Отечество; Краеведческий альманах. Вып. 1. М„ 1990. С. 16исл.; Он же. Краеведение и документальные памятники. Тверь, 1992. С. 27 и сл.; Он же. К истории архивного строительства в первые годы Советской власти. Проблемы архивоведения и истории архивных учреждений Л., 1970. С. 27-30; Он же. Вступительное слово (на Тихомировских чтениях, посвященных 60-летию декрета 1 июня 1918 г.) //АЕза 1978 г. М., 1979. С. 122-126; Он же. Привлечение интеллигенции к советскому архивному строительству // Интеллигенция и революция. XX век. М., 1985. С. 163-170.
5 Шестнадцатая конференция ВКП(б). Апрель 1929: Стенограф, отчет. М., 1962. С. 220.
6 См.: Федюкин С.А. Советская власть и буржуазные специалисты. М„ 1965.
7 Письма Горького к В.И. Ленину // Горький и его эпоха: Материалы и исследования. М., 1994. Вып. 3: Неизвестный Горький (К 125-летию со дня рождения). С. 32.
8 Академическое дело 1929-1931 гг. Вып. 1: Дело по обвинению академика С.Ф. Платонова. СПб., 1993. С. 60, 284 и др.; Автобиография была напечатана в: Zeitschriff fur Osteuropaische Geschichte. Bd. VII. Berlin; Leipzig; Konigsberg, 1933. № 4.
9 Новый журнал. Нью-Йорк, 1977. № 126. С. 193.
10 Неизвестные письма российских ученых двадцатых годов / Публ. Я.Г. Рокитянского // Вестник АН СССР. 1991. № 11. С. 96.
" См.: Быкова ЛА. Хранилище частных архивов (Хранчасар) в Москве 1919 г. // АЕ за 1993 г. М„ 1995. С. 289-308.
12 Цит. по: Сивцов В. Великий изгнанник (к 120-летию Н.Л. Бердяева) //Независимая газета. 1994. 18 марта.
13 Архивное дело. 1928. Вып. 4 (17). С. 74.
14 Вестник Коммунистической академии. 1932. № 4/5. С. 64-65.
15 Корнеев В.Е. Материалы ЦГАОР СССР о собирании и использовании в 20-е годы документов К. Маркса и Ф. Энгельса и международного революционного движения // АЕ за 1985 г. М., 1986; Голосовкер М. Парижская коммуна 1871 г. (Выставка) // Летописи марксизма. 1928. Вып. VII-VIII. С. 251-270.
16 VIII Всесоюзный съезд ВЛКСМ. 5-16 мая 1928: Стенограмма. М., 1928.
17 На боевом посту: Сборник к 60-летию Д.Б. Рязанова. М., 1930. С. 119.
1л Перченок Ф.Ф. Академия наук на «великом переломе» //Звенья: Исторический альманах. Вып. 1. М., 1991. С. 194.
п Шмидт С.О. Доклад С.Ф. Платонова о Н.М. Карамзине 1926 г. и противоборство историков // АЕ за 1992 г. М., 1994. С. 68-74.
20 Пять «вольных писем» В.И. Вернадского сыну (Русская наука в 1929 г.) // Минувшее. М., 1992. Т. 7. С. 434.
Широко известный в 1930-1940-е годы учитель российской словесности Иван Иванович Зеленцов (1879-1950) около 30 лет преподавал в школах на углу Столового переулка и на углу Мерзляковского переулка - в «арбатском» средоточии Москвы. Выдающийся педагог даже в годы тоталитарного режима сумел оказать большое плодотворное влияние на становление образа мыслей и поведение своих учеников. Обучение для него было неотделимо от нравственного воспитания. И образ Учителя, общение с ним остались в памяти сердца и, как выясняется, оказались в корневой основе деятельности тех, кто связал свою дальнейшую судьбу с преподаванием в средней и высшей школе, с наукой и искусством.
Название книги - «“Ты, солнце святое, гори!”: Книга о московском учителе словесности Иване Ивановиче Зеленцове». Метафорическая формула Пушкина, пожалуй, точнее всего определяет основную направленность и содержание книги - точнее даже, чем последующие слова заголовка. Ибо это книга не о жизни учителя словесности, а о восприятии его творчества, света, им излучаемого, через годы после его кончины. Для многих авторов школьные уроки его, беседы с ним стали уроками жизни; но осознание этого пришло позднее. И книга эта не столько о 1930-1940-х годах, сколько о впечатлениях тех лет по прошествии десятилетий.
Это размышления людей о своей юности, о том, что осталось с нами и по сей день. Ибо «душа моя, Элизиум теней, теней безмолвных, светлых и прекрасных...». Мудрый Тютчев осознал это еще тридцатитрехлетним. С годами бытие наше все в большей степени ощущается как бы в двух измерениях: в общении и с живущими, и с покинувшими нас. Наша мысль, ассоциации, даже сны не ограничиваются визуально воспринимаемым и наблюдаемым; с нами постоянно и наше прошлое. И воспоминания зачастую более согревают, чем настоящее.
Впервые опубл, под названием «О книге, ее героях, ее авторах» в кн.: «Ты, солнце святое, гори!»: Книга о московском учителе словесности Иване Ивановиче Зеленцове / Отв. ред. С.О. Шмидт; Сост.: Г.Д. Поневежская, С.О. Шмидт. М., 2000. С. 6-21; 2-е изд. М., 2002.
Память - основа и нравственности, и культуры, и мироощущения. И человек крепче хранит память благодарную, чем память злую; отрицательные воздействия чаще забываются. Это отметил в своих «Воспоминаниях» наш великий современник Дмитрий Сергеевич Лихачев, утверждая вслед за тем, что «интересы человека формируются, главным образом, в его детстве»1. Для большинства участников издания Иван Иванович - одно из самых сильных впечатлений юности, из тех, что формировали нас в период становления личности. Живое присутствие его сохранялось в душе, а это значит, что творчество продолжалось и после ухода творца.
Основа книги - воспоминания. Они отражают понимание прошедшего уже в последующие годы, когда утрачены свежесть и точность непосредственного восприятия, а мысль - в плену накопленного жизненного опыта, освоенного культурного наследия, выработавшейся постепенно шкалы ценностей. И, стремясь выявить взаимосвязи прошлого и настоящего, корни того, что кажется ныне дорогим, в той или иной мере мы невольно поддаемся и мифотворчеству.
А документальных прижизненных материалов об И.И. Зеленцове выявлено крайне мало. Личный архив его не сберегли. Не уцелел и машинописный сборник статей и воспоминаний коллег и учеников, подготовленный нами зимой 1938/39 г. к 60-летию Ивана Ивановича и 35-летию его педагогической деятельности2.
Записи «лекций» Ивана Ивановича, сохраненные ученицами, даже если допустить, что зафиксировано все почти дословно, не могут передать интонационный строй речи, манеру разговора, особое умение обращаться одновременно и ко всем, и к каждому.
Все это не позволяет с должной последовательностью и полнотой восстановить его творческую жизнь в Москве. Тем более что мы, естественно, многое не в силах были осмыслить в происходящем вокруг нас, да и в нас самих. Нравственный подвиг учителя нами был тогда еще непостижим, и, конечно, не нам, учащимся, было тогда оценивать (или даже просто отмечать) его педагогическое новаторство.
Мы почти ничего не знали и о домосковской жизни нашего учителя. Известно было, что он вырос в семье священнослужителя, в сельской местности, и ему с детства была близка среднерусская природа. А в Москве он оказался в годы революции. Но ни об учении его в духовных учебных заведениях, ни о подробностях преподавательской работы в рыбинских гимназиях, тем более об
участии в рыбинском религиозно-философском кружке нам не было известно.
Было у нас тогда и примитивнейшее представление о «темноте» провинциального существования, когда ничего не оставалось, как мечтать, подобно чеховским героиням, скорее перебраться в Москву. О своеобразии провинциальных культурных гнезд, о значении их для развития культуры, о наблюдении Н.М. Карамзина, что Россия произрастает провинцией, арбатские девочки и мальчики тех лет и не подозревали. Своеобразный «столицецентризм» понятий о прошлом и настоящем России подпитывался постоянно подтверждаемым ощущением того, что все определяющее судьбы России и нас самих исходит с небольшой территории Кремля и Старой площади, где располагались службы Центрального комитета Коммунистической партии и правительства, соседствующих со всемогущими службами Лубянки (ОГПУ, НКВД, МГБ): «начинается земля, как известно, от Кремля». Выводы и наблюдения докладчиков на организуемых ныне конференциях возглавляемого мною Научного совета по изучению культуры российской провинции даже в конце XX столетия воспринимаются как новаторские. Публикуемые в этой книге материалы участницы наших конференций Ю.И. Чубуковой3 как раз в русле этих новейших представлений.
Начинания рыбинской общественности, деятельность лиц, группировавшихся вокруг братьев князей Ухтомских (академик-физиолог Алексей Алексеевич - создатель учения о психологической доминанте) и просветителей братьев Золотаревых, известная далеко за пределами Рыбинска женская Мариинская гимназия (среди ее выпускниц - многолетний декан химического факультета Московского университета академик Александра Васильевна Новоселова) помогают понять, почему рыбинский гимназический учитель сумел выделиться даже среди учителей бывших элитарных столичных частных гимназий - женской Брюхоненко и мужской Флерова.
Документы о домосковском периоде жизни Ивана Ивановича много дают для более углубленного познания и московского периода педагогического творчества нашего Учителя. Становится ясно, что И.И. Зеленцов начал работать в Москве, имея уже опыт восприятия проповеднической культуры церковных учебных заведений, личного преподавания в женской и мужской гимназиях, просветительской работы в родительской среде, участия в деятельности научно-просветительских обществ.
В Москве И.И. Зеленцов поселился вместе с семьей другого педагога, Александра Адольфовича Боде (и до конца жизни жил там, в доме № 3 по Карманицкому переулку, в коммунальной квартире). Боде тоже был ранее преподавателем рыбинской мужской гимназии. Выпускник Московского университета, Боде преподавал русский язык и литературу, греческий и латинский языки4.
Когда и почему Зеленцовы перебрались в Москву, пока не уточнено5.
Известно, что учительствовать в Москве И.И. Зеленцов начал в 1918 г. в бывшей гимназии Марии Густавовны Брюхоненко, располагавшейся в том здании, где он преподавал и в последние годы жизни и где мы в конце 1950 г. прощались со своим Учителем. В 1930-1950-е годы это была уже 100-я школа, ставшая после введения раздельного обучения школой для девочек. Затем туда перевели и 110-ю школу, помещавшуюся прежде в здании бывшей Флеровской мужской гимназии в Мерзляковском переулке (переданном учебным заведениям Московской консерватории). Там, у стены нынешней 110-й школы в Столовом переулке, поставлен памятник не вернувшимся с войны выпускникам и учителям «Реквием 41-го». Так что нынешняя 110-я школа - наследница обеих гимназий: и мужской (Флерова, основанной в 1907 г.), и женской (Брюхоненко)6. Иван Иванович преподавал и в 100-й, и в 110-й школах.
Гимназия Брюхоненко, пользовавшаяся «всеми правами казенных гимназий Министерства народного просвещения» (как объяснено в справочном томе «Вся Москва»), в канун Первой мировой войны приглашала учителями и преподавателей высших учебных заведений. Среди учителей был тогда и Николай Владимирович Чехов - историк педагогики и методист преподавания русской словесности, с образованием Академии педагогических наук (в 1944 г.) ставший одним из первых ее действительных членов. Словесность преподавал Юрий Алексеевич Веселовский -литературовед и поэт-переводчик, автор многих книг и статей по истории русской и мировой литературы, книги по педагогике «Трагедия детской души». Историком был методист и популяризатор исторических знаний Василий Яковлевич Уланов, которому мы обязаны введением в обиход науки слова «краеведение». Врачом гимназии был будущий профессор Александр Михайлович Касаткин. По такому же принципу подбирали учителей и в соседней Флеровской гимназии, которая тоже пользовалась «всеми правами правительственных гимназий». Директор ее, ученый-географ,
также избранный в 1944 г. академиком Академии педагогических наук, Александр Сергеевич Барков обращал особое внимание (что и понятно в мужской гимназии) на подбор учителей по предметам негуманитарного цикла. Так, природоведение преподавали приват-доценты Московского университета Владимир Сергеевич Елпатьевский и Сергей Иванович Огнев, в дальнейшем автор классического многотомного труда «Звери СССР»7.
В школе, основанной Флеровым, изначально сформировался и особый стиль дружества учащихся, отмеченный в мемуарах первых ее выпускников, известных ученых - биолога И.В. Тимофеева-Ресовского, филолога А. А. Реформатского, актера Игоря Ильинского и других. В послереволюционные годы в обеих школах сохранялось многое от высоких традиций преподавания и остался специфический социокультурный состав учащихся.
Арбат, если под этим наименованием понимать и улицы, и переулки Приарбатья, т. е. территории дореволюционных Пречистенской и Арбатской полицейских частей, был средоточием московской интеллигенции - «московской интеллигентской обывательщины», по выражению близкого к Л.Н. Толстому юриста и общественного деятеля Н.В. Давыдова. (Понятно, что слово «обыватель» употреблено в его буквальном и тогда общепринятом понимании: «постоянный житель такой-то местности».) А еще ранее, особенно в послепожарный период первой половины XIX столетия, он был средоточием городских усадеб московского дворянства: князь-революционер П.А. Кропоткин характеризовал его как «Сен-Жерменское предместье» Москвы. «В старых переулках за Арбатом - совсем особый город», - отмечал Иван Бунин. О «мире Пречистенки и Арбата» писал и Борис Пастернак. Для Бориса Зайцева Арбат - это символ «дворянско-интеллигентско-литературной Москвы». Все это формировало представление об Арбате как о своеобразном культурном пространстве, об особом месте Арбата и «арбатцев» (слово Андрея Белого) в истории, общественной жизни и развитии культуры, о характерном именно для них образе поведения и мировосприятия. В наши дни вошло в речевой обиход перенятое у Булата Окуджавы понятие «арбатство».
С этой местностью связана и память о тех, кто прославил нашу отечественную культуру, начиная с самых великих - Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Герцена, Л. Толстого... Именник знаменитых арбатцев, перечень сочинений, там написанных, произведений искусств, там созданных, научных открытий, там сделанных,
обсуждений, там состоявшихся, могли бы составить энциклопедию - потому-то здесь и средоточие мемориальных музеев и памятных досок. Наконец, Арбат - это и заповедное поле русской литературы, где писатели поселяли своих героев8.
Уже со второй половины XIX в. начинает закрепляться представление о знаковой - московской, даже российской - функции Арбата в общественной жизни. Знаменитый городской пейзаж 1870-х годов В.Д. Поленова, изображающий сохранившуюся и поныне (и, кстати, ближайшую к дому Ивана Ивановича) церковь Спаса на Песках, имеет название «Московский дворик». Действие фильма 1960-х годов с обязывающим и привлекательным названием «Я шагаю по Москве» развертывается по другую сторону улицы Арбат, в Кривоарбатском переулке. А в современной популярной песенке есть слова: «За нами Россия, Москва и Арбат».
Арбат, удержавший - в отличие от других ближних старинных улиц - неизменным свое историческое имя, стал символом сохранения и преемственности культурно-нравственных традиций9.
Социокультурный феномен Арбата во многом объясняется тем, что Арбат был заповедником частной жизни - ни заводов и фабрик, ни правительственных учреждений; зато больше, чем в других районах (полицейских частях) Москвы, небольших церквей и переулков, частных учебных заведений и лечебниц, практикующих врачей и юристов.
Революционные события, конечно, изменили социально-экономический облик обитателей Арбата: немало богатых семей покинуло Россию или вынуждено было выехать из прежних квартир. Но среди новопоселенцев преобладали служащие - и ранее жившие в Москве, и приезжие из провинции. Прежних владельцев квартир «уплотняли», или они старались, если это удавалось, сами «уплотняться» себе подобными (по социокультурным характеристикам). Тем самым образовательный уровень Арбата, а следовательно, и арбатских детей продолжал оставаться сравнительно высоким. Арбат по-прежнему был ареалом прежде всего домашней жизни, а новые учреждения имели обычно культурно-просветительский или идеологический характер (на этой территории или у ее границ возникли Институт красной профессуры, Коммунистическая академия, Институт Маркса и Энгельса, Институт мировой литературы Академии наук, предтечи так называемых творческих союзов). В то же время здесь, в бывших особняках, оказалось средоточие посольств, а значит, и охраны этих зданий. И обстановка была менее криминальной,
чем в других районах. На бульварах и в скверах няни и бабушки продолжали «пасти» детей, часто в группах с изучением иностранных языков. Все это позволяло сохранить в определенной мере некоторые элементы прежней педагогической методики бывших гимназических учителей. И в то же время предоставляло возможность совместного обучения детей с разными семейными и культурно-образовательными традициями и разным общественно-политическим настроем.
И.И. Зеленцов, как мы уже сказали, по прирожденному педагогическому дару и обретенному еще в Рыбинске опыту оказался в одном ряду с сильнейшими московскими учителями. Всем очевидны были его демократические взгляды, широта кругозора и неистощимая любознательность, чувство нового и методическая изобретательность, доброжелательное отношение к людям, любовь к детям, притягательное человеческое обаяние и, конечно, особые любовь и уважение к нему школьников. В 1930-е годы педагогическая культура И.И. Зеленцова воспринималась и как высокий образец советского учительского мастерства, и как свидетельство преемственности в отечественной педагогике.
Историк культуры профессор Г.С. Кнабе (выпускник 110-й школы 1938 г., но у И.И. Зеленцова не обучавшийся), еще в середине 1980-х годов выступавший с докладами об особенностях культуры Арбата, рассматривал особенности арбатского мира, составившие, по мнению исследователя, основу его позднейшего образа, в значительной мере на материале арбатских школ.
В начале 1930-х годов были восстановлены некоторые традиционные программы и методы обучения, стали стремиться к насыщению новых форм жизни культурным наследием. Атмосфера Арбата с его давними культурными традициями нескольких поко- лений демократической интеллигенции особенно соответствова- j ла этим просветительским задачам. Все это совмещалось с убеж- : денностью в прогрессивном движении к «светлому будущему», с 1 романтическим комсомольским духом. Отличительными признаками «арбатской школьной цивилизации» были также органический интернационализм, чистота отношений между мальчиками и девочками, простота материальной жизни: свойственное московским школам той поры обретало черты, специфические для «арбатской» традиции10.
Именно тогда смог многосторонне раскрыться в Москве редкостный педагогический талант Ивана Ивановича, и к нему пришла широкая известность.
Этому способствовала обстановка в 10-й (позднее 110-й) школе. Бывшей Флеровской гимназии присвоили имя всемирно известного норвежского исследователя Арктики и общественного деятеля Фритьофа Нансена, организовавшего в годы Гражданской войны международную помощь голодающим Поволжья, избранного почетным членом Моссовета, а в 1922 г. удостоенного Нобелевской премии мира за гуманную деятельность. Портрет Нансена с его автографом висел на стене директорского кабинета, большой портрет маслом украшал актовый зал. Имя Нансена уже само по себе обращало внимание на школу, обязывало причастных к ней. Когда позднее школа стала носить имя знаменитого химика академика Н.Д. Зелинского, это, быть может, и подчеркивало высокий уровень химического образования в школе, но означало и утрату дорогих традиций.
В 1925 г. директором 110-й школы стал Иван Кузьмич Новиков (1891-1959), обретший известность как видный деятель советской педагогики. Он автор вышедшей двумя изданиями учебнометодической книги об организации учебно-воспитательной работы в школе. Едва ли не первым из педагогов-практиков он был избран в 1950 г. членом-корреспондентом Академии педагогических наук. Он и пригласил И.И. Зеленцова перейти на основную работу в школу.
Академик А.Д. Сахаров, учившийся в этой школе в пятом классе, вспоминал, что школа имела хороший химический кабинет и ее называли «школой с химическим уклоном» - там действительно успешно и нестандартно преподавал молодой выпускник этой же школы Борис Михайлович Вайнштейн (погиб на фронте в Великую Отечественную). Мемуарист отмечает, что директор «пользовался определенной самостоятельностью», вспоминает его «беседу на тему любви и дружбы, по тем временам нетривиальную», и еженедельный специальный урок «Газета»11. В пятом классе ученики ограничивались обзором прочитанного, но в старших классах вырабатывалась уже способность и противопоставлять разные мнения, и читать между строк.
Директору школы, его высоконравственному отношению к ученикам, родителей которых объявили «врагами народа», посвящен впечатляющий фильм кинодокументалиста Марины Голдовской «Дети Ивана Кузьмича» (1997 г.), созданный по сценарию выпускницы 110-й школы Майи Туровской. В фильме внимание сосредоточено на проблеме «директор школы и учащиеся». Для жизни и действенного функционирования школы не менее
важна проблема «директор и учащие». Только коллектив учителей по призванию, для которых педагогическая деятельность не служба, а служение, мог обеспечить сохранение школой столь долго престижа образцовой. Ради этого некоторым приходилось сдерживать амбиции, мириться с тем, что тот, кто способен действовать как лидер, в чем-то может быть и малоприятен. А лидер сознавал, что яркие индивидуальности нередко склонны к авторитарности, и, удерживая их в коллективе, приходится самому чем-то поступаться.
Мы еще в школьные годы знали, что знаменитые наши Иваны не слишком любят друг друга. Видимо, Иван Кузьмич все-таки ревниво относился к тому исключительно высокому и независимому положению, которое Иван Иванович занял в среде и учителей, и школьников, а быть может, и к недоступной ему манере взаимоотношений Зеленцова с учениками. И.К. Новиков был неизменно сдержан, оставался дистанцированным от нас. И.И. Зеленцов же мог и вспылить, повысить голос, выгнать из класса, но всегда ощущалось, что он переживает за нас. К беседе с Иваном Ивановичем тянулись: это и проводы (нередко групповые) домой, и душевный разговор после занятий вечером в затихшей школе, иногда без освещения, но при открытой двери класса (мы могли все видеть, но, естественно, не решались приближаться). Образ поведения Ивана Ивановича, его внешний облик также отвечали свойственной школьному возрасту потребности обожания. Причем его «обожали» не только девочки, но и мальчики, и в удовлетворении и демонстрации «обожания» мы иногда переходили границы разумного12.
Позднее мы поняли, что недолюбливала Ивана Кузьмича и Вера Акимовна Гусева, замечательная учительница математики13, прозванная за крохотный рост Молекулой. В дни войны она возглавила работу школьного интерната в эвакуации. Ее усилиям мы более всего обязаны установкой мемориальной доски (уже в бывшей 100-й школе, получившей ныне имя 110-й) и памятника павшим в Великую Отечественную войну - «Реквием 41-го».
Это работа выпускника школы скульптора Д.Ю. Митлян-ского (заслуженный работник культуры РФ остается для нас, как и в школьные годы, Нолей). Фигуры пяти его сверстников, хорошо памятных нам, и доска с именами погибших учителей и выпускников14. Памятник установили сначала во дворе школы. Но нашлись бессовестные и беспамятные, которые, глумясь, ломали штыки, отрывали буквы, и в 1993 г. памятник перенесли
на новое место, поставив на постамент у уличной стены школы (по Малому Ржевскому переулку). Когда отмечали 500-летие Арбата, Правительство Москвы поддержало материальным содействием установку только двух памятников - Пушкину в Пушкинском сквере у храма Спаса на Песках и восстановленного памятника «Реквием 41-го».
Учителя чувствовали себя членами и патриотами единого коллектива знаменитой школы, где культура общения признавалась высокой традицией. Несмотря на сложность своих взаимоотношений, они целенаправленно воспитывали эту культуру общения, поощряли близость, порожденную общностью работы, судьбы; потому-то, видимо, для нашей школы была характерна практика организации кружков по интересам, объединявших разновозрастных школьников (а на заседаниях руководимого И.И. Зеленцовым литературного кружка мы встречались и с выпускниками). Именно здесь (кажется, ранее, чем в других школах) утвердилась традиция ежегодных встреч выпускников (в последнюю субботу ноября). К результатам такого воспитания можно отнести и идею сооружения памятника, и реализацию ее совместно бывшими учителями и учениками школ № 100 и 110.
Возможно, что наличие одновременно нескольких незаурядных учителей, со своей независимой аурой у каждого, тоже определяло особенности школы. Теперь понятно, что существование двух полюсов притяжения в школе (да еще носившей имя надпартийного гуманиста) в период культа личности Сталина, когда в регионах, учреждениях формировались и утверждались малые культы, тоже оказалось существенным для нашего становления. Как и то, что личности эти как бы воплощали разные начала: Иван Кузьмич, масштабный и умелый организатор, сторонник четкой (в некотором роде даже показной) дисциплины, с ясно выраженной склонностью к теоретизированию и общественной направленностью действий, - рациональное начало, а Иван Иванович -эмоциональное, интимное начало. И это убеждало в необходимости, привлекательности и того и другого. Показательно то, что при первом массовом награждении учителей в 1944 г. «за успешную и самоотверженную работу по обучению и воспитанию детей в школах» были награждены орденами Ленина и И.И. Зеленцов, и И.К. Новиков. В.А. Гусева была награждена орденом Трудового Красного Знамени.
В газете «Комсомольская правда» от 16 декабря 1944 г. в связи с этим награждением поместили подборку материалов под за
головком «Народному учителю - всенародная слава! Благороден и почетен труд на ниве просвещения» и только одну фотографию (фото Т. Маят) с подписью: «Заслуженный учитель РСФСР Иван Иванович Зеленцов, награжденный орденом Ленина, среди учеников 110-й школы г. Москвы». Отмечен он и в беседе с заместителем наркома просвещения РСФСР П.В. Золотухиным: «Высокой награды удостоился также Иван Иванович Зеленцов, учитель школы № 110 гор. Москвы. Это один из влюбленных в свое дело блестящих преподавателей литературы».
В газете «Московский большевик» от 16 декабря 1944 г. в передовой «Слава советскому народному учителю!» читаем: «...широко популярно имя директора 110-й школы Москвы Ивана Кузьмича Новикова, награжденного орденом Ленина. Его школа -одна из лучших не только в столице, но и в стране. Талантливый педагог и организатор, он сумел создать прекрасный педагогический коллектив, объединить его вокруг боевых задач школы, внести в педагогическую работу единый стройный стиль. Не случайно, что еще один представитель славного педагогического коллектива 110-й школы - преподаватель литературы Иван Иванович Зеленцов - также награжден орденом Ленина. Сколько школьников испытало на себе обаяние этого замечательного педагога, энтузиаста и знатока своего предмета!»
На первых уроках в восьмом классе (осенью 1936 г.) Иван Иванович поразил нас своей лекционной манерой - уроками-монологами, а «Слову о полку Игореве» посвятил больше времени, чем отводилось на это программой, стараясь познакомить нас с поэтическими особенностями «Слова», показать связь «Слова» со знакомыми нам уже тогда в какой-то степени памятниками русской классической литературы Нового времени, приобщить нас к пониманию некоторых сторон культуры Древней Руси и исконных черт культуры и нравственности нашего народа. И неожиданно, без предупреждения, нам было дано задание: написать в течение одного урока сочинение о Бояне. По этому сочинению ему хотелось проверить наши способности к восприятию «Слова о полку Игореве», а по этому восприятию получить представление о каждом из нас, начинавших учиться у него в восьмом классе, т. е. о том поколении молодых людей, поэт которого С. Наровчатов вскоре напишет в военные годы: «В любой я бабе видел Ярославну, в любом ручье Непрядву узнавал». Это цитата из моей статьи к юбилею «Слова о полку Игореве» 1987 г.15, в которой я счел необходимым вспомнить и об Иване Ивановиче. К светлому образу
Ивана Ивановича я обращался не раз не только в беседах с моими учениками, но и в различных интервью16.
И родители, и сами учащиеся понимали, что Иван Иванович считает главным в обучении воспитание, что литература для него не столько образовательный предмет, сколько школа воспитания души и ума, что он стремился утвердить нас в потребности обращения к книге. К книге, а не вообще к печатному слову. Иван Иванович всегда имел в виду прежде всего непреходящие ценности. И великая литература представлялась ему и великой школой жизненных наблюдений и познания взаимосвязи с искусством, наукой. Он воспитывал Пушкиным, бесконечно любимым и почитаемым, хотел, говоря его же словами, «довести учащихся до Чайковского». «Пусть Солнце Пушкина осветит весь твой жизненный путь!» - это слова его новогоднего пожелания девятикласснице в первую послевоенную зиму. И арбатские девочки и мальчики были в ту пору аудиторией, способной воспринять намерения учителя, пойти за ним.
И.И. Зеленцов стремился одарить нас радостью приобщения к творчеству. Но учитель словесности придавал, конечно, соответственно большое значение и обучению нормам правописания. Однако не это было для него определяющим в оценке работы учащихся. Сохранилось сочинение девятиклассницы 1940 г. Инны Штейн о Тургеневе с многочисленными исправлениями красными чернилами, указанием «13/28» (т. е. 13 орфографических и 28 синтаксических ошибок) и с заключением карандашом: «Отлично (передан тон и стиль Тургенева). Очень плоха грамотность. И.З.». Дочь дипломата (потом преподавательница иностранного языка), она до того училась в зарубежных лицеях, где преподавание велось не на русском языке. В этой оценке и поучительное методическое мастерство И.И. Зеленцова, и его широкая душа. И как жаль, что и поныне господствует формалистски-примитивный, по существу бездушный, подход к сочинениям поступающих в вузы: это трагично для будущего науки и культуры, губит подчас судьбы абитуриентов, особенно из «глубинки» российской провинции.
Запечатлелись в памяти человеческие качества Ивана Ивановича, достоинство его поведения, любовь к ученикам. Как в период разгула борьбы с так называемым космополитизмом он отстаивал право учениц еврейской национальности на заслуженную высокую оценку их сочинений, как еще в 1930-х годах деликатно относился к детям «врагов народа» (и это был стиль поведения педагогов в 110-й школе, где не требовали от школьников публич
ного осуждения арестованных родственников). А как показателен рассказ выпускницы 100-й школы Марианны Узуновой (теперь она историк, доктор наук М.К. Трофимова): во время выпускного экзамена по литературе она, претендовавшая на медаль, дочь осужденного уже «врага народа», вдруг от волнения утратила способность писать и беспомощно смотрела на чистый лист бумаги. Ивана Ивановича это, конечно, взволновало уже на экзамене, а потом он умудрился сделать так, что выпускнице зачли сочинение. Такие рассказы становились школьными преданиями, доходили до младших учеников, воспитывали души.
Естественно, что почти все авторы этой книги писали и думали не только об Иване Ивановиче, но и о других своих учителях, о своих соучениках и родственниках, о своей школе, том феноменальном явлении, которое мы называем «арбатством». И потому понятно, что в книгу вошли и материалы, где об этом всем можно подчас узнать больше, чем об Иване Ивановиче.
В этой книге - и друг Зеленцова по учительскому труду с первых лет московского преподавания Надежда Сергеевна Барабошкина (работавшая еще до революции 1917 г. классной воспитательницей в гимназии Брюхоненко), которой Иван Иванович доверил завещательное распоряжение 1945 г., давшее заголовок нашему изданию. Ивану Ивановичу, чутко ощущавшему всегда связь времен, небезразлично было то, как станут поминать его, даже сам обряд похорон. Его завещание - пожелание прочитать у гроба «Вакхическую песню» Пушкина и стихи А. Кольцова и исполнять музыку Чайковского.
В книге об И.И. Зеленцове присутствуют и другие педагоги -конечно, упоминавшиеся уже И.К. Новиков и В.А. Гусева. Здесь и наблюдения: воспоминания о школьной и семейной жизни, о Москве 1920-х и последующих годов. Думается, что все это лишь обогатит и конкретизирует социокультурные представления о времени, когда жил Иван Иванович Зеленцов.
Инициатива фиксирования памяти об Иване Ивановиче Зеленцове, о влиянии его на своих питомцев и тогда, в годы школьного учения, и на последующую их жизнь зародилась у его учениц предпоследнего выпуска женской (100-й) школы Галины Данииловны Поневежской и ее подруг. Они и сами начали писать, и собрали сохранившиеся школьные записи и сочинения, дневники и письма - все, что было об учителе в печати. Затем стали обращаться к старшим выпускам, еще школы совместного обучения, 110-й школы. И мы, следуя их примеру, увлекли такой работой
выпускников 110-й, а также других выпускниц бывшей 100-й школы. А затем и рыбинского краеведа Ю.И. Чубукову, которая написала большой очерк об И.И. Зеленцове, опубликованный в газете, ввела его имя в ряд тех лиц, которыми Рыбинск достойно гордится17.
Ивану Ивановичу Зеленцову была посвящена и большая радиопередача «Слово об учителе» в рубрике «Вечера на улице Качалова» из Дома звукозаписи на Малой Никитской, приуроченная ко Дню учителя в 1994 г. В беседе вместе с режиссером и ведущей Марией Журавлевой участвовали Г.Д. Поневежская, Г.И. Фокина-Сольц, окончившие женскую школу в 1949 г., и учившиеся в прежней 110-й школе архитектор Б.С. Маркус, народный артист СССР профессор ВГИКА В. Баталов и С.О. Шмидт.
Постепенно сложилась книга и разновременного, и разнопланового материала. Ученицы И.И. Зеленцова по 100-й женской школе начали писать еще в период перестройки. Выпускники 110-й школы совместного обучения позднее. Это восприятие людей и более старшего возраста, а следовательно, и иного жизненного опыта, переживших и годы сталинского террора, и Великую Отечественную войну, и настроения середины 1990-х годов, когда более четко выразились изменения в отношении не только к настоящему, но и к прошлому. Выпускницы 100-й женской школы оставались взаимосвязанными между собой и по окончании школы. Идея составления записей о любимом школьном учителе возникла у них примерно в одно время, в 1990 г., когда намечен был и особый вопросник, предусматривающий тематику воспоминаний. Выпускники же 110-й (смешанной, а затем мужской) школы - люди разного возраста, к тому же писавшие воспоминания в разные годы и, как правило, мало знакомые друг с другом.
И потому при расположении материала в книге мы придерживаемся своеобразной хронологии - не по ходу жизни героя, а в зависимости от времени написания или «открытия» тех или иных материалов.
Сначала идут прижизненные публикации о знаменитом педагоге, ставшие экспонатами школьного музея. Это статья писательницы и педагога Фриды Вигдоровой 1944 г. (записавшей позднее ход фальсифицированного судебного разбирательства по «делу» поэта Иосифа Бродского), письма военных лет - прямые свидетельства любви и уважения к Ивану Ивановичу его учеников, не расстававшихся с образом дорогого им человека и на фронте.
Приведу здесь отрывок из стихотворения одного из его учеников, поэта Марка Соболя, опубликованного в «Комсомольской правде» 18 декабря 1948 г. и посвященного И. И. Зеленцову.
Я запомнил сквозь все пролетевшие сроки школьный класс, где дощатый некрашеный пол... Мой учитель вошел - и на первом уроке словно за руку взял - и повел, и повел... И повел через время, и версты, и беды удивительной речью, прямой и простой -к перевалу, где Пушкин встречал «Грибоеда», к перекрестку, где умер в тревоге Толстой.
Кончалось стихотворение словами:
Вот легко отворяются школьные двери. Встаньте, мальчики! Это Учитель идет.
Дальше в книге идет написанное ученицами 100-й женской школы 40-50 лет спустя. Сюда же присоединено написанное уже в 1998 г. выпускницами этой школы Н.К. Строевой и М.А. Эскиной. После - запечатленное в памяти 60-70 лет спустя: воспоминания двух учениц школы в Столовом переулке 1920-х годов и учившихся в 110-й школе в Мерзляковском переулке. Внутри этих разделов материалы - воспоминания, эссе, стихи - расположены в хронологической последовательности, в зависимости от года окончания школы авторами.
Ближе к концу книги - материалы о рыбинском периоде жизни И.И. Зеленцова, о становлении выдающегося педагога, выявленные в архивах кандидатом исторических наук Ю.И. Чубуко-вой, краеведом по призванию, вдохновенно занявшейся изучением подсказанной ей темы.
Затем помещено написанное теми, кто не испытал на себе воздействия И.И. Зеленцова-педагога, - статьи журналиста Т.С. Яковлевой о 110-й школе, доктора педагогических наук Б.З. Вульфова. Увлекся образом И.И. Зеленцова и молодой автор, нынешний преподаватель словесности в 110-й школе, Федор Викторович Романов. Их статьями и завершается книга.
Материалы книги неравноценны в информационнопознавательном плане: для многих авторов это первая проба пера в мемуарном жанре. Но в целом, думается, они помогают создать впечатление о московской школе и арбатских школьниках 1930-1940-х годов и о восприятии этих явлений по прошествии нескольких десятилетий. И объясняют, почему и по сей день нам всем особо дорога память о нашем Учителе Иване Ивановиче Зеленцове. Это убеждает и в том, какую роль в воспитании, в становлении человека играет гуманитарное образование. Особенно если
учитель-гуманитарий представляется олицетворением творчески-познавательного начала, средоточием нравственной силы - Личностью.
Все мы, ученики Ивана Ивановича, душевно признательны Галине Данииловне Поневежской, без инициативы, самоотверженности и убеждающей настойчивости которой наши намерения не могли бы быть осуществлены, а также Елене Львовне Херсонской и Ефиму Марковичу Гордину (выпускникам 110-й школы 1939 г.), Наталии Владимировне Шеваровой, взявшим на себя труд помочь в подготовке рукописи к печати. И особенно, конечно, мы признательны председателю Московского комитета образования академику Российской академии образования Любови Петровне Кезиной и генеральному директору АО «Московские учебники и картолитография» Семену Матвеевичу Линовичу, обеспечившим реализацию нашего начинания - издание давно уже задуманной и собравшейся книги.
Думается, что книга эта интересна не только соприкасавшимся с Иваном Ивановичем Зеленцовым, как воспоминание о былом, как согревающий свет отошедшей юности. Это рассказ о замечательной личности, важный и для более юных поколений. Это источник изучения и школьной жизни, и общественного сознания советской интеллигенции. Это свидетельство отношения уже в наши дни к прошлому, к тому, что помогает устоять и творить.
1 Лихачев Д.С. Воспоминания. СПб., 1995. С. 7-8.
2 К инициативе проведения юбилея оказался причастен и я. Мы с Иваном Ивановичем иногда оказывались попутчиками, шли в школу и возвращались одной дорогой: наши проходные дворы, ведущие с разных сторон на Арбат, были почти напротив. (Я с переводом в новую школу из прежней, описанной в «Детях Арбата» А.Н. Рыбакова, был там едва ли не единственным учеником, проживавшим на Пречистенской стороне Приарбатья.) И как-то раз Иван Иванович обмолвился о том, что важнейшие события его биографии связаны с датами глубоко почитаемого им Пушкина - он родился с ним в один день, 26 мая по старому стилю, первый урок о нем дал в дату его кончины. После того и ученики, и коллеги И.И. Зеленцова стали готовиться к его юбилею. Мы (в основном десятиклассники 110-й школы) задумали сборник воспоминаний и статей. Художником был мой одноклассник Сергей Шильников (впоследствии известный как автор запомнившейся многим картины первых послевоен
ных лет «Студенты», ныне профессор живописи Института им. В.И. Сурикова). Супруга Ивана Ивановича Вера Сергеевна согласилась дать нам фотографии. Писали статьи в этот машинописный сборник и учителя, и окончившие школу, и учившиеся в старших классах. В воспоминаниях Елены Любаревой (впоследствии историка литературы), Наталии Сытиной, Марка Гуревича описывался известный и по другим источникам эпизод, когда Иван Иванович предложил учащимся (видимо, 5-6-х классов) вырвать из тетради лист, посадить в середине развернутого листа чернильную кляксу и описать то, что это напоминает. (Говорят, что это был новаторский прием педагогики рубежа 1920-1930-х годов.) Помню, как брал интервью (первый опыт в моей жизни) у знакомого И.И. Зеленцову профессора-фольклориста Юрия Матвеевича Соколова, охотно откликнувшегося на нашу просьбу.
О праздновании сохранилась лаконичная запись в моем дневнике 1939 г.: «Был вечер Ивана Ивановича Зеленцова (35-летие педагогической деятельности). Масса народу, масса речей, подарков, аплодисментов. Меня выбрали в президиум, и я что-то говорил, поднося журнал...»
3 См. также: Чубукова Ю.И. Малая Родина в жизни братьев Золотаревых // Российская провинция XVIII-XX вв.: реалии культурной жизни: Материалы III Всероссийской научной конференции. Кн. 2. Пенза, 1997. С. 190-200.
4 А. А. Воде скончался в 1939 г. Некоторые полагают, что его стихи 1916 г. были использованы в начале Великой Отечественной войны при создании новой патриотической песни (Рабочие тетради «шаг за шагом». История. Советский Союз: годы испытаний. Великая Отечественная война. М., 1995. С. 56-57).
5 В книге «Вся Москва» за 1916 г. (т. е. составленной еще в 1915 г.) упомянута среди преподавателей Музыкально-драматического училища Московского филармонического общества (помещавшегося на Малой Кисловке) и Вера Сергеевна Зеленцова, супруга Ивана Ивановича (Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1916 г. М., 1916. С. 283). Преподавателями там были известные музыканты, певцы, деятели драматического театра. И можно предполагать, что к знакомству с этим кругом лиц был приобщен (тогда же или, что вероятнее, позднее) и супруг Веры Сергеевны. Быть может, супруги какое-то время были в разлуке?
6 О гимназии Брюхоненко см.: Садкович Н. Летопись одной московской школы // Историческая газета. 1997. № 9 (21). С. 11-14. О 110-й школе, бывшей Флеровской гимназии, см.: Арбатский архив. М., 1997. Вып. 1. С. 420-437.
7 Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1914 г. М., 1914. С. 425-426,429.
8 Это Москва и романов И.С. Тургенева, и повестей о детстве и «Войны и мира» Л.Н. Толстого, место действия многих произведений художественной, мемуарной, публицистической литературы XX в., и дореволюционного, и советского периодов (Андрея Белого, А.Н. Толстого, М. Булгакова, И. Ильфа и Е. Петрова, Б. Пастернака, Б. Окуджавы, Ю. Казакова, В. Луговского, А. Рыбакова, Б. Ямпольского и др.), и российского зарубежья (Б. Зайцева, М. Осоргина, И. Бунина, М. Цветаевой и других).
9 Подробнее см.: Шмидт С.О. Арбат в истории и культуре России // Арбатский архив. Вып. 1. С. 17-18,29-33,115-117; См. также: Шмидт С.О. Арбат в культуре российского зарубежья // Культурное наследие российской эмиграции. 1917-1940. М., 1994. Кн. 2. С. 470-478. Перепечатано в кн.: Шмидт С.О. Путь историка: избранные труды по источниковедению и историографии. М., 1997. С. 334-338.
10 Кнабе Г. С. Арбатская цивилизация и арбатский миф // Москва и «московский текст» русской культуры: Сб. статей. М„ 1998. С. 169-170.
11 Сахаров А. Воспоминания // Знамя. 1990. № 10. С. 23.
12 Вспоминается, как, уже десятиклассниками, после того как Иван Иванович, взволнованный своим юбилеем, оказался с сердечным заболеванием в клинике Вотчала, мы в день посещения, воспользовавшись принесенным из дому белым халатом, стремились проникнуть к нему в палату. В один день там побывало... 18 человек. Вреда от таких «мимолетных видений», вероятно, как теперь понимаю, было больше, чем пользы.
13 См.: Ребкало В.М. Обзор документов личного фонда учительницы В.А. Гусевой // 40 лет научному студенческому кружку источниковедения истории СССР: Сб. науч, статей. М., 1990. С. 11-17.
14 О памятнике см.: Брускова Е. Долгое эхо. М., 1986. С. 84-102; Яковлева Т. Памятник на школьном дворе // Куранты: Историкокраеведческий альманах. М. 1987. Вып. 2. С. 84-102.
15 Шмидт С.О. «Слово о полку Игореве» и становление и развитие понятия о памятнике культуры // Памятники Отечества. 1986. № 1 (13). С. 160. Перепечатано в кн.: Шмидт С.О. Археография. Архивоведение. Памятниковедение. М., 1997. С. 160.
16 «Знаменитая 110-я школа. Прекрасный учитель - Иван Иванович Зеленцов. Глядя на него, я постепенно понимаю, каким может быть одаренный гуманитарий» (из интервью 1988 г.); подготовку «сборника к 60-летию любовно почитаемого нами гениального (как я теперь все более осознаю) учителя словесности Ивана Ивановича Зеленцова» вспоминал и в интервью, напечатанном в книге 1994 г. (Мир источниковедения. М.; Пенза, 1994. С. 418). Напомнил об И.И. Зеленцове в заключительном слове на посвященной Мусиным-Пушкиным конференции в Рыбинске
в июле 1994 г., рассказав и о подготовленном его ученицами сборнике памяти учителя (Мусины-Пушкины в истории России: к 250-летию со дня рождения А.И. Мусина-Пушкина. Рыбинск, 1998. С. 363-364). О дорогом мне удивительного таланта педагоге и в изданиях 1997 г. - в альманахе «Арбатский архив». Вып. 1 (в статьях «Арбат в истории и культуре России» и в подборке материалов из готовившегося тогда к печати нашего издания - статьи А. Дубровина, Е. Милановского, Е. Щукина с заголовком «90-летие знаменитой арбатской школы»), и в специальном номере журнала «Мир образования», посвященном 850-летию Москвы (беседы о школьных годах) (Арбатский архив. Вып. 1. С. 111-112; Мир образования. 1997. № 7/8. С. 82-83).
17 Чубукова Ю. Преподаватель изящной словесности // Рыбинские известия. 1993.1 окт. (в рубрике «Рыбинск и рыбинцы»); Зеленцов Иван Иванович. Правьте на звезды... Рыбинский край в отечественной науке XIV-XX веков / Сост. Ю.И. Чубукова. Рыбинск, 1999. С. 50-59.
В рукописях сочинений и в дарственных надписях писателя и философа Якова Эммануиловича Голосовкера обычна подпись -Якоб Голосовкер. Он родился в Киеве 23 августа (4 сентября по новому стилю) 1890 г. Скончался в Москве 20 июля 1967 г. Могильный памятник его на кладбище подмосковного Переделкина напротив захоронения Бориса Пастернака.
Родители - дети коммерсантов («купцов первой гильдии»); отец - видный хирург. В интеллигентной еврейской семье была атмосфера европейской образованности российского склада. Летнее время брат и старшая сестра Маргарита, моя мать, проводили в имении деда по отцу близ знаменитой по Гоголю Диканьки либо в Швейцарии. Немецкий и французский языки с детства для них стали разговорными. Учился Я. Голосовкер в киевской Второй классической гимназии. Студентом историко-филологического факультета Киевского университета специализировался на изучении античности. Среди профессоров, оказавших на него влияние, выделял позднее классиков А.И. Сонли и В. Клингера (после Великой Отечественной войны между ним и жившим в Познани Клингером началась переписка) и философа А.Н. Гилярова. Еще в университете сблизился с молодым преподавателем философии Генрихом Ивановичем Якубанисом - автором работы о древнегреческом философе Эмпедокле (в 1994 г. труды Г. Якубаниса и Я. Голосовкера издадут в Киеве в одной книге)1. Я. Голосовкер впервые выступил в печати в 1913 г. и как ученый-классик (в журнале «Гермес»), и сборником стихов «Сад души моей».
В послереволюционное время перебрался в Москву, где уже жила его сестра. Оказался вовлеченным в сферу деятельности Наркомпроса - был организатором школьного образования (одно время даже руководил бывшей Медведниковской мужской гимназией в Староконюшенном переулке), участвовал в подготовке изданий мирового литературного наследия, был приближен не только В.Я. Брюсовым (надпись его на книге «Дружески на память об общей работе» датирована августом 1918 г.), но и наркомом А.В. Луначарским (имя его встречается в дневниках и воспоминаниях тех, кто был связан тогда с Наркоматом просвещения). *
Впервые опубл.: О Якобе Голосовкере // Голосовкер Я.Э. Засекреченный секрет: Философская проза. Томск, 1998. С. 4-14.
Затем уехал в Крым (куда перебралась любимая им женщина), где занялся организацией охраны памятников, участвовал в деятельности литературных обществ.
С созданием Высшего литературно-художественного института (Брюсовского института) для обучения литературному мастерству стал там преподавать. Выпускники вспоминали его лекции по античной мифологии2. По возвращении из Германии (где, пополняя подготовку ученого-классика, занимался под руководством У. Виламовица-Меллендорфа) преподавал на Высших литературных курсах, во 2-м МГУ и в других вузах вплоть до 1929 г.: читал лекции по истории и теории древнегреческой литературы, античной эстетике и философии.
Подобно своим учителям и особо почитаемому им Ф.Ф. Зелинскому Я. Голосовкер мыслил себя «классиком» в самом широком понимании этой ученой специальности, т. е. не только знатоком древнегреческого и латинского языков, но и литературы, философии, культуры античности в целом и античной проблематики в мировой культуре последующих эпох, переводчиком и комментатором древних текстов, сочинителем литературнохудожественных произведений на темы античности. Позднее он формулировал: «Античность не была для меня дверью, замыкающей меня в мире классической филологии; она всегда была для меня вернейшим путем для постижения самых сложных загадок жизни и культуры и особенно законов искусства и мысли... Я всегда старался удалить от глаз читателя филологическую кухню, предъявляя ему только смысл и образ античности как явлений вечно живых и волнующих душу моих современников... [Античность] стала для меня не только колодцем, из которого я вытягивал мои ведра с живой водой, не только моим путем в литературу, но и преддверием к моему последнему творческому синтезу» (имеется в виду его главный философский труд о логике античного мифа, о роли воображения в развитии культуры). (Слова эти приведены и в блистательно написанной и глубокой по мысли статье 1968 г. выдающегося византолога А.П. Каждана «Памяти Якова Эммануиловича Голосовкера». Автор не раз беседовал в нашем доме с Яковом Эммануиловичем; после кончины его вошел в комиссию по литературному наследию, знакомился с рукописями писателя.)
Для Я. Голосовкера и после революции 1917 г. оставался дорог мир идей, в основе которых были представления, сложившиеся еще прежде. Пафос «социалистического строительства» его мало трогал, а в философии он не принимал материализма в его
марксистском оформлении. (Ив памяти еще следы споров Якова Эммануиловича с моим отцом О.Ю. Шмидтом - убежденным материалистом о своих философских и научных воззрениях. Они были одноклассниками в последний период школьного учения, в один день получили золотые медали по окончании гимназии; через несколько лет почти одновременно отпустили бороды.) Немудрено, что оригинальные прозаические и поэтические произведения Я. Голосовкера казались редакторам тех лет обычно неактуальными. Еще менее он мог рассчитывать на публикацию своих трудов по античной философии или о Ницше, почитаемом им великим и особенно близким ему мыслителем (у него на столе стоял глиняный бюстик немецкого писателя и философа собственной работы), из-за их, как тогда выражались, идеалистической направленности. И потому он зарабатывал на жизнь преимущественно трудом переводчика с древнегреческого, латинского, немецкого языков. В этом плане работал с увлечением, изыскивая способы «передать словотворческое новшество» на другом языке (выражение А.В. Луначарского из отзыва на переведенный Я. Голосовкером текст Ницше)3. Он был убежден в том, что подлинный художественный перевод - факт современного литературного мастерства и современной художественной (а зачастую и научной) культуры.
Общаясь в 1920-е - первой половине 1930-х годов со многими литераторами и философами, Я. Голосовкер оставался вне литературно-партийной борьбы, любил тишину читального зала библиотек и одиноких прогулок, более всего дорожил возможностью самоуглубления. Это было - как писал он в 1940 г. в автобиографическом эссе «Миф моей жизни» - «самопожертвование во имя самовоплощения творческой воли»; «пожертвовал всем, за что борются люди; возможностью легкой славы, карьеры, комфортом, положением ...пожертвовал благоразумием и здравым смыслом трезвых людей», даже любовью. Любимая женщина была, по его словам, из тех созданий, которых в силу сложнейших обстоятельств надо было выкупить у людей. Такую женщину выкупают или золотом, или славой, у него не было ни того, ни другого. Смысл жизни Я. Голосовкер видел в духовном созидании4.
Зачастую он не был легок в общении, слишком занят своими мыслями, а представлялось со стороны, что самим собой, иногда казался нервно-возбужденным. Я. Голосовкер жил холостяком (ранняя смерть невесты в молодые годы чуть не довела его до самоубийства). Но отнюдь не был анахоретом; умел быть остроумным элегантным собеседником, увлекательным рассказ
чиком, сочинителем пародийных стихов, буриме. С юных лет занимался гимнастикой, по воспоминаниям судя, любил верховую езду; в 1930-е годы играл на бегах, дружил с чемпионом-жокеем А. Бондаревским (приходившимся ему родственником по матери). Среди его близких знакомых - и писатели старших поколений - Андрей Белый, И.А. Новиков, Ю.Н. Верховский, переводивший в те годы древнегреческих поэтов В.В. Вересаев, из более молодых - С.Д. Кржижановский, Ю.К. Олеша, С.В. Шервинский; свидетельства тому - надписи на книгах, сочинения самого Я. Голосовкера, ученые (литературоведы Н.К. Гудзий, Б.И. Ярхо, правовед Э.Э. Понтович). Из философов первоначально был близок с А.Ф. Лосевым, постоянно общался с Г.Г. Шпетом, до конца дней с В.Ф. Асмусом, дарившим ему свои труды с надписью «Другу-философу». В послевоенные годы чаще других общался с писателями В.И. Язвицким, возвратившимся из Китая В.Н. Ивановым, И.Л. Фейнбергом, К.Л. Зелинским и его сыном Владиком (его выступление на заседании, посвященном памяти Я. Голосовкера, проходившем в Центральном доме работников искусств под председательством Л.А. Озерова 15 апреля 1987 г., стало основой интересной статьи5). В последние перед болезнью годы жизни Яков Эммануилович, завершив свой главный философский труд, стал больше тянуться к людям, особенно к молодежи (и это правильно отметил В.К. Зелинский), но ему трудно было найти с ней общий язык.
Я. Голосовкер полагал накануне Великой Отечественной войны, что три незавершенных произведения были фазами его творческой жизни, «метаморфозами единого мифа» ее: произведение юности (1910/1913-1919 гг.) мистерия-трилогия «Великий романтик», роман-поэма зрелости (1925-1929 гг.) «Запись неистребимая» с прологом и с его первой частью «Видение отрекающегося», а «все обусловливающим, все завершающим и все раскрывающим было философское произведение» 1930-1936 гг. «Имагинативный абсолют». В первой части этого труда Голосовкер пытался рассмотреть на всем протяжении роль абсолюта и имагинации (воображения) в философии. Первая линия идет от Аристотеля; вторая, идущая от Гераклита, Эмпедокла, Платона, линия художественной философии, утверждающей «познавательную роль воображения», ближе Я. Голосовкеру. Его понимание философии - «философия как искусство». Во второй части постулируется его теория, основные законы природы и культуры - законы духа как высшего инстинкта. В трагической авто
биографии 1940 г., откуда приведены эти цитаты, отмечено, что к середине 1930-х годов это был «скорее труд предстоящий, чем выполненный»6.
Отдавая основные силы в 1920-е - первую половину 1930-х годов своим философским трудам и художественным произведениям, разрабатывая проблемы восприятия античности в Новое время, Я. Голосовкер размышлял и над проблемами новой русской и западной литературы и общественного сознания. В начале 1920-х годов выступал с докладом о Достоевском в московском отделении Вольной философской ассоциации, подготовил для журнала «Россия» эссе «Сократ и Ленин», подбирал материал по теме «Мои современники» (поэты-писатели). Готовил сочинения о произведениях Лермонтова, Л. Андреева.
Из классиков мировой литературы его особо привлекали поэты-философы. В 1920-е годы Голосовкер первым перевел на русский язык сочинения Гельдерлина - роман «Гиперион», трагедию «Смерть Эмпедокла» (изданную в 1931 г.). В 1935 г. в том же издательстве «Academia» вышла книга «Лирика древней Эллады в переводах русских поэтов», подготовленная Я. Голосов-кером, включавшая и его переводы. Перевел он и «Так говорил Заратустра» Ницше, сопроводил текст обширными комментариями. Анонсированная на 1934 г. издательством «Academia» в серии «Мастера стиля», книга тогда не увидела свет. В 1936 г. Я.Э. Голосовкер был арестован за связь с руководителем издательства, который должен был стать ответственным редактором книги. Им был опальный близкий сподвижник В.И. Ленина Л.Б. Каменев, расстрелянный вскоре после первого публичного процесса середины 1930-х годов.
С арестом прервана была работа и по составлению антологии «Античный мир в русской поэзии» (по начало XX в.), видимо, тоже для издательства «Academia». Предполагалось, что в первом томе, посвященном Древней Греции, будут разделы «Мифология», «Эллада», «Эллинизм», во втором томе - разделы «Рим», «Республика», «Империя». Сохранился высокозаинтересованный отзыв виднейшего знатока русской поэзии И.Н. Розанова о составе этой антологии; книгами его знаменитой библиотеки (ныне переданной вдовой ученого в Музей А.С. Пушкина) Яков Эммануилович пользовался при подготовке работы.
Три года Я.Э. Голосовкер провел на каторге под Воркутой. По возвращении получил «минус сто», был прописан в г. Александрове, но часть времени до войны сумел проводить в Москве,
а летом на нашей с мамой подмосковной даче. Лишь в 1942 г. ему вернули право на московскую прописку. (Любопытно, что хлопотал об этом, вероятно, по почину П.И. Чагина, всевластный в мире писателей их партийно-государственный руководитель А.А. Фадеев - его, видимо, подкупало наивное простодушие эрудита-мудреца.) Но квартиру в Москве (в новом доме № 2 на Университетском проспекте) Яков Эммануилович получил лишь в годы «оттепели», а до того скитался, меняя адреса переделкинских дач, домов творчества, гостиниц, частных квартир.
Изучение античности в исследовательском плане, особенно отражение античного наследия в творчестве Ницше, стало для Я. Голосовкера в те годы еще более затруднительно. Когда он задумал выступить с докладом о Прометее в античной трагедии и философии и в поэзии западноевропейской и русской (на основании статьи, написанной еще в 1933 г.), Отдел античных литератур Института мировой литературы Академии наук отверг это предложение. В выписке из протокола от 21 января 1941 г. читаем: «Ввиду того, что доклад “Прометей и Геракл” т. Голосовкера Я.Э. посвящен по преимуществу философскому пониманию образов Прометея и Геракла, Отдел античных литератур не считает возможным ставить его на заседании Отдела или группы мифологии, так как он не относится к тематике работ Отдела, установленной дирекцией Института, а кроме того, является спорным по таким принципиальным вопросам (понимание образа Прометея Марксом), которые Отдел не может считать дискуссионными»7.
По возвращении с каторги Яков Эммануилович познал трагедию гибели от стихии огня своих произведений: живописец, которому он доверил рукописи накануне ареста, умирая, сжег их; а затем во время войны сгорела и наша дача, где хранились другие рукописи. Я. Голосовкер занялся мучительным восстановлением утраченных сочинений. На основании уцелевших бумаг и по памяти были воспроизведены или написаны заново книга о Достоевском и Канте, эссе о повести Лермонтова «Штосс», сочинения на темы античности и восприятия античности в последующие эпохи. Пытался восстановить текст романа, дав ему новое название «Сожженный роман». В 1940 г. пишет небольшую трагическую по звучанию автобиографию «Миф моей жизни» - об истории и образе своего духа и творчества, о своих погибших и уцелевших сочинениях.
В 1940-е годы он имел намерение подготовить авторские книги эссеистского стиля «Секрет Автора» и «Античность как романтика и классика». Книга «Секрет Автора» в 12 авторских
листов должна была состоять из четырех разделов, а по существу самостоятельных произведений: секрет смысла или секрет черта (Достоевский и Кант); секрет сюжета («Штосс» - неоконченная повесть Лермонтова); секрет формы (мысль и стих в одах Горация); секрет интимного (эстетика и поэтика Гельдерлина - роман «Гиперион» и трагедия «Смерть Эмпедокла»). Книга «Античность как романтика и классика», в 14 с половиной авторских листов текста с комментариями, должна была состоять из трех разделов и включать 11 самостоятельных произведений. В первом разделе -сочинения об античной литературе и мышлении и «Античный мир в русской классической поэзии». Во втором - три работы о творчестве Гельдерлина, в третьем - только одно сочинение о «Штоссе» Лермонтова.
Работа над книгами не была завершена. Вероятно, заявка на их издание не встретила поддержки. Соображения о творчестве Гельдерлина нашли воплощение в статье «Поэтика и эстетика Гельдерлина» в «Вестнике истории мировой культуры» (№ 6 за 1961 г.), о творчестве Горация - в текстах, сопровождавших издание его переводов. Работа о Достоевском и Канте стала основой книги «Достоевский и Кант. Размышления читателя над романом “Братья Карамазовы” и трактатом Канта “Критика чистого разума”», вышедшей в издательстве Академии наук в 1963 г. по рекомендации и с предисловием Н.К. Гудзия. Книга вызвала немалый интерес и за рубежом; ее переиздавали и по-русски, и в переводе на японский язык (в 1968 г.). Эта далекая от традиционности книга обязана изданием в значительной мере поддержке академика Н.И. Конрада, пожелавшего познакомиться и с другими неизданными сочинениями Я.Э. Голосовкера и ставшего после его кончины председателем комиссии по литературному наследию Я.Э. Голосовкера.
В послевоенные годы Я. Голосовкер был известен главным образом своими трудами, связанными с культурой античности. Они обеспечивали ему и материальное существование - в стихотворении «Муза» (1947) он писал:
Не ищу чертогов: мне бы
Тихий уголок.
Где бы я при скромном хлебе Честно мыслить мог.
Изданы были книги его переводов: «Гораций. Избранные оды» (1948 г.), «Поэты-лирики Древней Эллады и Рима в перево
дах Я. Голосовкера» (1955, второе издание в 1963 г.) с научными комментариями и обоснованием принципов перевода: Голосовкер старался, чтобы в переводах его и подготовленных с его помощью «филологическая сторона» не преобладала над «литературнохудожественной».
В 1940-1950-е годы ведется работа над «Большой античной антологией». Это антология переводов древнегреческих и римских поэтов на русский язык, охватывающая почти полтора тысячелетия античной культуры и одновременно двести лет искусства перевода на русский язык - от Ломоносова до современников. Яков Эммануилович сумел привлечь к переводческой работе Б.Л. Пастернака и других поэтов. В период, когда бездомный Яков Эммануилович жил преимущественно на писательских дачах подмосковного Переделкина, создается (в середине 1940-х годов) Горацианский кружок, где под его началом занимались античной поэзией. Туда оказались вовлеченными С.П. Бобров, Ю.Н. Верховский, Б.Л. Пастернак (сохранились письма его к Я.Э. Голосовкеру по этому поводу, современные записи его), О. Румер, И.Л. Сельвинский, М. Столяров, А.А. Тарковский, В.И. Язвицкий8. В переплетенных томах машинописи около 2000 стихотворений (включая лирику, выявленную в драмах), написанных 135 античными поэтами в переводе 84 российских литераторов. Около 350 стихотворных переводов подготовлены к печати впервые. В машинописи 1860 страниц стихотворного текста (около 33 500 стихотворных строк) и еще 12 листов текста « Мифологического словаря», новаторская статья о ритмелодике, где обосновывается принцип перевода, основанный на теории благозвучия и чтения эллинского мелического стиха, теории, направленной против подстрочного буквалистского перевода слов, а не смысла.
Сохранилось немало положительных отзывов об этом монументальном труде - и академиков-антиковедов А.И. Белецкого (оценившего его как «литературно-культурный подвиг») и И.И. Толстого, и философа В.Ф. Асмуса, литературоведов, писателей. Однако взгляды Я. Голосовкера, отличавшиеся от общепринятых (на отбор материала, его систематизацию, истолкование, приемы перевода), вызывали противостояние в Институте мировой литературы и на филологическом факультете Московского университета. К такому мнению склонились и редакторы Гослитиздата, где подготовлена была уже корректура издания. Не помогло и вмешательство (в 1960 г. руководителя писательской организации и академика) К.А. Федина, «возмущенного»
этим делом9, - Якову Эммануиловичу уплатили полностью гонорар, но... труд его не напечатали.
Возобновил Яков Эммануилович попытки подготовить и антологию «Античный мир в русской поэзии». Сохранился рекомендательныйотзывакадемикаА.И.Белецкого 1944г. 1951 годом датирована его заявка в издательство на включение в план издания «Античные мотивы в русской поэзии 19 и 20 вв.», упоминавшая и об отзыве Д.Д. Благого.
А.П. Каждан отмечает, что «тяга к целостному воспроизведению прошлого» составляла суть поисков Я. Голосовкера, «поисков, в ходе которых он пришел к убеждению в невозможности путем серии логико-систематизирующих операций проникнуть в святая святых древнего общества... Порядок - заявлял он, - идеал аптекаря, а не исследователя; исследователь же наделен дивной способностью воспринимать мир “в его бесконечной динамической глубине”, в его противоречивой сложности и цельности. Так в упорядоченную систему классической филологии внедрялась фантазия - не как средство развлекательности и забавы, но как инструмент познания. Именно этот принцип лежит в основе книги «Сказания о титанах», выпущенной, по иронии судьбы, Детгизом; ученый смело экстраполирует, воссозданная им антитеза двух миров - титанов и олимпийских богов - далеко не в каждом слове может быть обоснована ссылками на бесспорные свидетельства источников, но зато мифологический мир греков обретает ту жизненную силу, ту диалектику, которая начисто вымыта из бесчисленных классификационных пособий и систематизированных пересказов эллинских легенд и преданий»10.
Регулярная работа над фундаментальным сочинением «Античная мифология как единый миф о богах и героях» началась в 1944 г. Первая часть, теоретическая, - «Логика античного мифа» и догомеровы варианты мифов о героях. Вторая - в форме повествований о «героических сказаниях» древних эллинов. Я. Голосовкер был убежден в том, что «эллинская мифология дошла до нас переработанной и сложившейся под углом зрения ревнителей Олимпийского пантеона». Консолидация эллинских племен и осознание себя единым народом потребовали такого единого пантеона. Мифология доолимпийских богов с их окружением исчезла, и образы доолимпийских богов, «обезображенные, предстали в виде темной силы перед лицом светлой силы - Олимпийцев... Позади этого принципа принижения мифологического образа лежит историческая судьба побежденных, истолкованная под углом
зрения победителей». В ходе исследовательской работы созрел замысел восстановить и выразить в литературно-художественной форме утраченные сказания, «отражающие самое раннее детство творческой мысли эллинов»11. Это слова «от автора» к написанной ритмической прозой книге «Сказания о титанах», дважды изданной Детгизом (1955, 1967), напечатавшим и примыкающую к ней по содержанию книгу «Сказания о кентавре Хироне» (1961).
Книгу традиционной научной формы, восстанавливавшую «из осколков предания», «отрывочных упоминаний и намеков» древнеэллинские сказания о мире титанов, у Я. Голосовкера не было надежды издать. Тратить время на диссертацию Яков Эммануилович не считал допустимым; присвоить ученую степень по совокупности написанного ему не предлагали. А не облеченному ученым званием отступнику от знакомого не приходилось рассчитывать на поддержку публикации его труда в научном издательстве. Художественное же произведение нашло читателя и в юношеской среде, и среди взрослых. К нему возвращаются: только в недавнее время было три переиздания в издательстве «Высшая школа» в сопровождении статей о книге и ее авторе. Сочинение это молодой читатель воспринимает в одном ряду с «Песней о Гайавате».
Главным своим философским трудом Я. Голосовкер признавал «Имагинативный абсолют» - сочинение о существе и механизме творческого мышления, о творчестве как феномене природном и историко-культурном. Он полагал, что «воображение -высший разум и что воображением познают непонятное уму». Именно воображение, по его убеждению, «спасает культуру от вакуума мира и дает ей одухотворенность. Поэтому торможение воображения, торможение его свободы познания и творчества всегда угрожает самой культуре вакуумом, пустотой. А это значит: угрожает заменой культуры техникой цивилизации, прикрываемой великими лозунгами человеческого оптимизма и самодовольства, а также сопровождаемой великой суетой в пустоте, за которой неминуемо следует ощущение бессмыслицы существования со всеми вытекающими отсюда следствиями: усталостью, поисками опьянения, скрытым страхом, нравственным безразличием и прочими продуктами цинизма и свирепости»12.
Философские сочинения изданы - и то далеко не в полном виде - лишь в 1987 г. под названием «Логика мифа». Издание подготовлено Н.В. Брагинской и Д.Н. Леоновым и сопровождено статьей Н.В. Брагинской «Об авторе и книге». В приложении
напечатан и отзыв о рукописи академика Н.И. Конрада, датированный январем 1968 г. Всемирно знаменитый ученый-гуманист и классик востоковедения увидел в Я. Голосовкере «одного из образованнейших и глубоких мыслителей нашего времени - своеобразного, неповторимого», книга которого «поражает и увлекает оригинальностью и глубиной мысли, художественностью ее выражения, остротой постановки проблемы». В парижском журнале «Символ» (№ 29, сентябрь 1993 г.) Н.В. Брагинская напечатала «Имагинативную эстетику» Я. Голосовкера, также сопроводив ее статьей. Еще ранее в журнале «Вопросы философии» (1989. № 2) появилась статья Н.В. Брагинской «Слово о Голосовкере» при публикации его произведений «Миф моей жизни» и «Интересное». Имя Я.Э. Голосовкера все в большей мере входит в сонм выдающихся оригинальных мыслителей нашего столетия. И, соответственно, обретает и статус Учителя мысли. Ибо - как он сам заметил - «все подлинные философы - учителя: даже, когда они не хотели ими быть и ненавидели учительство»13.
Оригинальные художественно-литературные сочинения Я.Э. Голосовкера также оставались ненапечатанными при его жизни (большая часть их не издана и поныне). Лишь в 1991 г. в № 7 московского журнала «Дружба народов» увидел свет «Сожженный роман» - видимо, основное прозаическое сочинение его. Публикация сопровождена статьями готовившей ее знатока архивных материалов Я. Голосовкера Нины Брагинской об истории создания этого произведения и литературоведа Мариэтты Чудаковой, сопоставляющей только еще вводимое в обиход культуры сочинение со знаменитым романом Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Но многое в судьбе рукописи (или рукописей) романа остается неясным (и это подчеркивается в статьях). Что было сожжено в конце 1930-х годов - цельное сочинение или фрагменты, наброски его? Какие первоначальные части текста уцелели и когда автор это обнаружил (найдя «утерянную главу», он знакомил с ней в 1950-е годы близких ему писателей - поэта Илью Сель-винского и других - не мистификация ли это?)? Пытался ли автор после 1940 г. восстановить сочинение целиком или только части его? Сохранялся ли при этом прежний замысел, или привнесено было новое (в частности, эпизод с сожжением рукописи)? Тут все наводит на размышления о фантасмагории нашего бытия. Слишком многое совпадает в жизни автора с действием произведения, порожденного его воображением: и рукописи были сожжены, и он сам окончил жизнь душевнобольным (страдавший от мании пре
следования), впрочем, как и особо любимые им писатели, сочинения которых переводил, - Гельдерлин и Ницше.
Но даже если произведение и подверглось переработке в 1950-е годы, в нем слишком явны приметы времени, характерные именно для конца 1920-х годов, и особенно для мировосприятия, круга ассоциаций, системы образности литераторов-интеллигентов, родившихсянарубеже двухпоследних десятилетий XIX в. Неслучайно сразу приходит на ум роман современника автора Булгакова «Мастер и Маргарита»...
Свидетельств о знакомстве Я.Э. Голосовкера и М.А. Булгакова нет, хотя они оба в юности жили в Киеве и в одни и те же годы обучались в соседних гимназиях. Но известно, что среди знакомых Булгакова был профессор Борис Исаакович Ярхо - знаток средневековой литературы, которого признают прототипом одного из героев ранней редакции романа Булгакова, впоследствии замененного Мастером. Я. Голосовкер был в очень близких отношениях с Ярхо, глубоко переживал его арест, даже пытался -по наивности - вызволить его. Когда по возвращении с каторги он какое-то время жил в нашей квартире, брат Б.И. Ярхо Григорий посещал его. Можно полагать, что Б.И. Ярхо знал о сюжете «Записи неистребимой» или даже читал этот текст. Поэтому соображения исследователя творчества Булгакова М.О. Чудаковой, не исключающей знакомства Булгакова с рукописью Я. Голосовкера «и инициирующего воздействия ее на поздние редакции романа» середины 1930-х годов, представляются небезосновательными. Но, вероятно, самое существенное то, что оба писателя жили в схожих сферах социокультурных интересов и наблюдали одну и ту же общественную и собственно литературную среду. Многое может разъясниться, если удастся обнаружить экземпляр рукописи, переданной Я.Э. Голосовкером (по его поздней записи) - видимо, на рубеже 1920-1930-х годов - двоюродному брату Иосифу Биллигу, жившему тогда за границей.
Небольшое произведение Я. Голосовкера не во всем соответствует общепринятому представлению о романе - сам он называл его иногда поэмой (впрочем, явно влиявший на его творчество Гоголь называл поэмой «Мертвые души»). Это художественнофилософское сочинение (местами даже публицистическое) и о себе, и о сумасшедшем доме, и о России периода утверждавшегося тоталитаризма. Здесь и о духе творчества (излюбленная автором идея о роли воображения), и о том, допустимо ли зло убивать злом, и об образе Ленина и крови Кремля, и ассоциации с Иису
сом «Двенадцати» Александра Блока, но в то время, когда пришло уже ощущение, что коммунистическая идея заменяет религию, экспроприируя идеалы человечества. Естественно полагать, что роман обращен был прежде всего к читателю-современнику. И в то время прозрения его вызвали бы особо сильное впечатление. Мы же с ним знакомимся на исходе века. Но - увы! - такова уж судьба настоящей русской литературы сталинской эпохи!
Предстоит еще уяснить место «Сожженного романа» в контексте и времени его создания (и воссоздания), и наших дней. Но и сейчас уже очевидно, что сочинение это очень своеобразно -и по форме, и содержанием, и по мировосприятию.
Впрочем, странным казалось - судя по литературе и бытовавшим анекдотам - и житейское поведение его автора, одержимого своими идеями, не ведавшего, что такое дипломатия в отношениях с людьми, вышестоящими на лестнице карьеры и прижизненной славы. Непонятной оставалась его неуступчивость.
Я.Э. Голосовкер сосредоточен был на своем творчестве, более всего дорожил своей свободой, независимостью духа. Необычна была и его внешность. Об этом образно писал академик Н.И. Конрад, много способствовавший изданию трудов Я. Голосовкера: «Все мы - писатели, ученые в меру образованны, в меру талантливы, но обыкновенны. Он же - ученый, писатель - необыкновенен. Как и его внешний облик: голова Маркса с глазами Тагора»14.
Признание к Якову Эммануиловичу Голосовкеру приходит лишь посмертно. Сочинения его переиздаются («Сказания о титанах», перевод трагедии Гельдерлина и статья об Эмпедокле, отдельные переводы), другие наконец дошли до читателя. Публикация эссе «Секрет автора («Штосс» М.Ю. Лермонтова)» в журнале «Русская литература», № 4 за 1991 г. сопровождена статьей, основанной на архивных материалах, со сведениями о жизни и творчестве Я.Э. Голосовкера, «Сожженный роман» переведен на немецкий, польский, французский языки. Французское издание 1991 г. тоже предварено моей статьей об авторе.
В 1995 г. издан и выполненный еще до середины 1930-х годов перевод великого творения Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра». Это писательский подвиг переводчика. Подготовивший издание выдающийся филолог А.В. Михайлов признал в статье «Вместо предисловия» перевод «необыкновенным и неповторимым... памятником мысли и стиля», конгениальным оригиналу: «сходство восприятий, мыслительных ходов, эстетических реак
ций - это родство и позволяет с уверенностью и с убежденностью следовать за каждым витком отпечатлевающейся в слове мысли, даже за каждым странным вывертом ее, и глубоко верить в образный строй книги и каждого ее отрывка, каждой фразы. Родство это простирается от малого до великого, от порывов чувства и той формы, какую они принимают, до целого - до того мифотворчества, в какое облекается все движение мысли»15.
Публикуются, как уже отмечалось, и философские труды Я. Голосовкера. В серии изданий сочинений классиков российской философии XX в. готовится полное издание подготовленного автором к печати текста «Имагинативного абсолюта». Статьи о Я.Э. Голосовкере появились в периодических изданиях, в энциклопедиях - и не только в дополнительном томе Краткой литературной энциклопедии (т. 9. М., 1978. Стб. 235), но и в недавних, в частности в специальных, справочниках по философии: в книге «Философы России XIX-XX столетий. Биографии, идеи, труды» (М., 1993. С. 50); «Русская философия. Малый энциклопедический словарь» (М., 1995. С. 137-138). Ссылки на его сочинения все чаще встречаются и в научной, и в популярной литературе. Томское издание - в русле этой доброй традиции культуры.'
До посмертного издания сочинений Я.Э. Голосовкер как оригинальный автор - употребляя его же выражение о Гельдерлине - «значился в примечаниях к истории литературы». Теперь можно уже говорить не только о теме «Я. Голосовкер о русской и мировой литературе и философии», но и «Я. Голосовкер в русской и мировой литературе и философской мысли».
1 Якубанис Генрих. Эмпедокл, Фридрих Гельдерлин, Смерть Эмпедокла. Киев: Синто, 1994. Опубликован перевод драмы, выполненный Я.Э. Голосовкером, и его статья об Эмпедокле по книге, изданной «Academia» в 1931 г.
2 См.: Брюсовский институт. Воспоминания Б.И. Пуришева // Археографический ежегодник за 1997 год. М.: Наука, 1997. С. 570.
3 Литературное наследство. Т. 82. М., 1970. С. 525.
4 Голосовкер Я.Э. Миф моей жизни (Автобиография) // Вопросы философии. 1989. № 2. С. 111.
5 Зелинский В. Между титаном и вепрем (Памяти Я.Э. Голосовкера) // Голосовкер Я. Сказания о титанах. М.: Высшая школа, 1993. С. 293-318.
6 Голосовкер Я.Э. Миф моей жизни. С. 114-115.
7 Шмидт С.О. О Якове Эммануиловиче Голосовкере // Русская литература. 1991. № 4. С. 7.
8 Брагинская Н. О Голосовкере // Голосовкер Я. Сказания о титанах. М„ 1993. С. 289. См. также: Встречи с прошлым. Вып. 8. М., 1996.
9 См. об этом: Воронков К. Страницы из дневника. М., 1977. С. 39.
'° Каждая А.П. Памяти Якова Эммануиловича Голосовкера(1890-1967) // Вестник древней истории. 1968. № 2. С. 224.
11 Напечатано в кн.: Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М.: Наука, 1987. С. 183.
12 Из статьи Я.Э. Голосовкера «Некоторые указания на мой метод» (апрель 1960 г., машинопись).
13 См. новеллу Л.Н. Мартынова «Поиски абсолюта» в кн.: Мартынов Л. Черты сходства. М.: Современник, 1982. С. 167-172. О Я.Э. Голосовкере последних лет жизни см. также статью В.К. Зелинского.
14 Русская литература. 1991. № 4. С. 70.
15 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Стихотворения. М.: Прогресс, 1994. С. 4-5.
Мы собрались в год юбилея журнала «Новый мир», его 75-летия, а пик славы журнала и его воздействия на общественное сознание -это время, когда редактором был Твардовский, пригласивший в редколлегию и потом своим первым заместителем Лакшина. 2000 год - это и год 30-летия с тех пор, когда журнал Твардовского перестал существовать. Для людей моего поколения «Новый мир» Твардовского едва ли не самое знаменательное и запомнившееся явление культуры и общественной жизни периода, наступившего после разоблачения культа личности. Деятельность именно Лакшина во многом определяла лицо «Нового мира» тех лет. И Твардовский, всемирно авторитетный литератор, любимый поэт россиян, особенно современников Великой Отечественной войны, прижизненно признанный классиком нашей литературы, пригласив Лакшина, имел основания для такого выбора. Великий поэт ведь был глубоким мыслителем в своих поэтических произведениях и автором интересных и оригинальных статей и устных выступлений о классиках нашей литературы прошлой и о современниках. А Лакшин как никто другой совмещал в себе, подобно Добролюбову, и литературного критика, и ученого историка литературы. И полагаю теперь, что они оба - и Твардовский, и Лакшин - ставили перед собой задачу не только формировать общественное сознание и самоуважение людей, но и возродить характерное для литературы русской в XIX в. уважение и интерес к толстым журналам.
Вспоминая Лакшина, должно, конечно, говорить о «Новом мире» и противостоять некоторым недостойным суждениям, обнародованным в дни юбилея журнала, и потому солидаризируюсь с выступлением В.А. Твардовской и в его пафосе, и в его горечи.
Но оставленное в памяти Лакшиным, внесенное им в нашу культуру и в нашу науку не ограничивается временем его работы в редакции «Нового мира». Он и был приглашен туда потому, что уже стал известным читающей публике выдающимся литературным критиком, автором книги «Толстой и Чехов» и многих статей, любимым преподавателем в Московском университете, а
Впервые опубл.: Наследник российских просветителей: Для Владимира Лакшина этика и эстетика были нерасторжимы // Кулиса НГ. 2000. № 4. 3 марта. С. 5.
после ухода из журнала более 20 лет издавал книгу за книгой, статью за статьей, и некоторые из этих трудов прочно закрепились в историографии литературоведения; стал редактором журнала «Иностранная литература», академиком Российской академии образования, приобщал к высокой культуре миллионы телезрителей. И только учитывая все это, можно в должной мере осознать и то, что стремился сделать Лакшин в «Новом мире», успел сделать, и понять то, что деятельность редколлегии «Нового мира» Твардовского, Лакшина и их сотоварищей привела к изменению понятий о роли журналов в нашей повседневности, в формировании нашего сознания. И следствия того были разные и отнюдь не однозначные; одним из них была и противостоящая направленности «Нового мира» и его откровенной тенденции возрождения лучших традиций российской интеллигенции деятельность коче-товского «Октября», а затем и иных изданий более близкого к нам времени.
«Новый мир» Твардовского не только привлек к участию в журнале прогрессивно мыслящих людей, но и даровитейших мастеров художественного слова. Сосредоточивая внимание на современной России, ее будущем, традициях культуры, которые следует передать этому будущему, «Новый мир» был по-пушкински отзывчив к явлениям мировой литературы, мировой истории, интернационален в широком смысле этого понятия. Отечественная литература и отечественная история мыслились как части всемирных явлений, обогащающие их и обогащаемые ими.
Лакшин - подлинный наследник российских просветителей, деятельность которых восходит еще к журналам Новикова. И здесь вспоминаются сеятели «разумного, доброго, вечного» -не только революционные демократы, но и Карамзин, и Пушкин до Белинского и Герцена, и Чехов на рубеже XIX и XX столетий.
Для Лакшина, как и для них, задачи эстетики и этики неотторжимы друг от друга. Он более других своих современников тяготел к традиции великих критиков, целью которых было воспитание общественного сознания и нравственности. У нас-увы! -укоренилось представление о том, что критиковать - значит находить недостатки, т. е. заниматься только критиканством. Между тем называвший себя сам критиком Белинский не только отмечал слабые стороны творчества Бенедиктова, но и первый написал цикл статей о Пушкине, восхищался Лермонтовым. Лакшин неизменно сохранял и собственное достоинство и старался со
хранить и поддержать достоинство русской литературы, русской культуры.
Лакшин действовал с убеждением в том, что его долг -приобщать к ценностям культуры и России, и мира, приобщать и взрослых, и юных. Он был Учителем и по дарованиям своим, и по вере своей в то, что просвещение - основа нравственности. Эта мысль, не раз формулированная и Карамзиным, и Пушкиным, была близка и понятна ему. И человек, глубоко современный по мироощущению и ясно чувствующий, что доходит быстрее и крепче до ума и души наших современников, особенно молодежи, Лакшин сразу же понял значение телевидения в формировании и поддержании наших эстетических и этических представлений. Он явился творцом подлинно научно-просветительского направления в телевидении и одновременно художественного. Полагаю, что ему тут помогали не только его знание истории театра и драматургии, но и общение со средой актеров, опыт и семейных наблюдений, и размышлений над зрительским восприятием. Вообще восприятие написанного и сказанного - одна из главных и волнующих тем лакшинского творчества, что отражено даже в заголовке его статей в «Новом мире» - «Писатель, читатель, критик». Педагогика для Лакшина - прежде всего воспитание, воспитание души и ума. И это тоже традиция великой русской литературы, отраженная даже в биографиях, в тематике произведений ее классиков: и Карамзина, Жуковского, Пушкина, и позднее Льва Толстого, Достоевского, Чехова.
Лакшин сумел остаться воплощением русской интеллигенции и, что гораздо труднее, совмещенности этого понятия с понятием «интеллигентность».
Слово «интеллигенция» западноевропейской лексики пришло в западные языки из литературы России. В Оксфордском словаре английского языка, во французском словаре «Лярусс» написано, что это «латински звучащее слово из России и означает свободно мыслящую часть человечества». И не могут перевести разницу в смысле слов «интеллигенция» и «интеллигентность».
Интеллигенция - образованность, интеллигентность - манера поведения, свойство мысли. Немногим это дано в совмещении.
Слово «интеллигенция» придумал и впервые написал не Боборыкин, а Жуковский еще в год рождения Боборыкина, в дневнике 1836 г. Это слово пушкинского круга. У меня об этом статьи 1990-х годов, и это мнение утвердилось в статьях сборника
«Русская интеллигенция. История и судьба», вышедшего в издательстве «Наука» в 1999 г.
Когда Пьера Безухова Толстой в «Войне и мире» приводит в салон фрейлины Анны Павловны Шерер, молодой человек полагает, что там собралась петербургская «интеллигенция», и он ожидает услышать умные речи, а вынужден слушать дебила князя Ипполита. То есть уже в середине прошлого века не смешивали понятия «интеллигенция» и «интеллигентность». Не всякий интеллигент по своему образованию и профессиональным занятиям интеллигентен. Разделение в реальности «интеллигенции» и «интеллигентности» все более ощутимо; и это едва ли не главная утрата нашей российской культуры, потеря ее драгоценной и привлекательнейшей особенности. И за рубежом это тоже понимают.
Когда несколько лет назад Нобелевский комитет решил пригласить двух россиян, воплощающих для них совмещение интеллигенции с интеллигентностью, они выбрали двух человек: Дмитрия Сергеевича Лихачева и Булата Шалвовича Окуджаву. И они были правы, потому что эти лица - воплощение такого совмещения. Вот к такого рода людям можно отнести и Владимира Яковлевича Лакшина.
Как историк понимаю, что ко всякому явлению прошлого следует подходить с двух позиций: какое значение оно имело для современников и как оно по своим последствиям оценивается потомками, а если это явление культуры, то в какой мере востребовано ими. Некоторые явления, оказывавшие заметное воздействие на современников, сильно волновавшие их, со временем утрачивают эту силу, особенно в наш быстротекущий век с его сменой событий и впечатлений.
И я рад, что сегодня мы снова собрались и что люди, которые по возрасту не могли общаться с Владимиром Яковлевичем, тем более не могли переживать те ущемления, которые были нанесены совести народа закрытием «Нового мира», что они здесь. Потому что нельзя говорить, что люди уходят из жизни. Они уходят из повседневности. Мы не можем с ними общаться. Они живут в нашей памяти. Но они те, которые заслужили, они остаются в жизни.
И радует, что в канун новых столетия и тысячелетия собравшиеся в этом зале ощущают себя современниками не Доренко или наукообразно искажающего наше прошлое Фоменко, а современниками Лакшина, имя которого будет достойно представлять наше время в будущем, перейдет в грядущее тысячелетие.
В массовом представлении - и в России, и за рубежом - творчество Окуджавы неотъемлемо от восприятия Арбата. И если не становление, то оформление мифа об Арбате, его месте в истории и культуре России связывают с именем и творчеством Булата Окуджавы. Им необычайно обаятельно изображен Арбат; его признают певцом Арбата. Любовь к Окуджаве распространяется и на Арбат; а любящие Арбат, те, кому дороги арбатские традиции, любят и Окуджаву, гордятся Окуджавой и тем, что он одарил Арбатом мир читателей и слушателей.
Когда отмечали 500-летие Арбата в 1993 г. (а я был заместителем председателя юбилейного комитета мэра Москвы Ю.М. Лужкова), не было ни одного заседания, ни одного плаката, ни одного пригласительного билета, ни одной газеты, где бы не цитировали строки Булата. Названо его имя и в приветствии Президента России, оглашенном 1 октября на торжественном вечере в Театре имени Вахтангова. Окуджава был деятельным членом юбилейного комитета, инициативным участником его заседаний. Он поддержал идею установить в юбилейные дни памятник Александру Сергеевичу в Пушкинском сквере-кружке близ храма Спаса на Песках (об этом месте он писал: «У Спаса на Кружке забыто наше детство»1) и восстановить памятник «Реквием, 1941» не вернувшимся с войны учащимся и учителям 110-й школы им. Ф. Нансена у Никитских ворот, а также подготовить историкокраеведческий альманах «Арбатский архив». И сам подобрал для первого выпуска альманаха тексты об Арбате и фотографии. Речи на больших собраниях он не произносил, но стихи читал и мог ощутить любовь и уважение разновозрастной аудитории. Булат Шалвович проявлял живой интерес к юбилею, к отражению этих событий в СМИ. Полагаю, что его растрогало и ему было дорого то, что арбатский юбилей явился и утверждением особого значения его имени в биографии Арбата и в историографии арбатской темы в истории и культуре. Поколение его сына могло это «в воздухе арбатском обнаружить» (о чем он мечтал в посвященном Ан-
Впервые опубл.: Творчество Булата Окуджавы в контексте культуры XX века: Материалы Первой международной конференции, посвященной 75-летию со дня рождения Булата Окуджавы, 19-21 ноября 1999 г.М., 2001. С. 16-22, 110-111.
тону стихотворении «Арбатское вдохновение, или Воспоминания о детстве»)2.
Последней книге самого избранного поэт дал заголовок «Чаепитие на Арбате», хотя к тому времени не жил там уже 60 лет. Когда в 1982 г. в США издавали книгу «Булат Окуджава. 65 песен»3 (стихи по-русски и в переводе на английский язык, ноты, черно-белые фотографии), на обложке поместили фотографию автора, сидящего на стуле посреди улицы Арбат, - показатель неотделимости Окуджавы от Арбата, его пейзажа и ментальности. И в фильме режиссера А. Берлина, смонтированном к юбилею 1993 г., Окуджава во дворе своего дома 43 на Арбате, где не один год собирались те, кому близко его творчество, и каждое 9 мая - это не только праздник Победы, но и день рождения Булата, с таким мужеством приближавшего на фронте День Победы: там слышны и гитары, и песни, и стихи Булата, и произведения, ему посвященные. Упоминавшийся альманах «Арбатский архив», членом редколлегии которого он согласился стать, подготовленный к печати при его жизни, начинается страницей со словами Булата «Ах, Арбат, мой Арбат...». В книге вслед за хроникальными материалами о юбилее 1993 г. (там же, конечно, и слова Булата, и его изображение) и статьей «Арбат в истории и культуре России» напечатана подборка написанного Окуджавой об Арбате -и стихи, и проза с авторским предисловием4. В предваряющей заметке «От редактора» сказано: «...Начиная такое продолжающееся издание, как “Арбатский архив”, нельзя не напечатать материал “Арбат Булата Окуджавы...”»
И прощались всенародно с Булатом Шалвовичем 18 июня 1997 г. на Арбате в Театре им. Вахтангова, где с «Песенки об Арбате» начинался звуковой ряд кассеты с песнями в авторском исполнении. А грустная траурная очередь провожавших в последний путь дорогого им человека и поэта текла в тот день, «как река», по Арбату. И в проникнутой подлинной печалью телеграмме Б.Н. Ельцина после слов «Он был духовным наставником...» читаем: «А сейчас умолк, и опустел Арбат, его Арбат». И памятник Булату Окуджаве намерены установить на Арбате.
Впредь прогулка по Арбату, знакомство с самой всемирно знаменитой улицей Москвы будет и встречей с Булатом Окуджавой, напоминанием о его творчестве, а для молодых людей грядущего столетия - и о симпатиях, вкусах, идеалах ушедших и уходящих поколений. И потому важно, чтобы памятник, конкурс на проект которого объявлен, отражал это и находился бы на до
стойном месте. Позволю себе остановиться прежде всего на этом актуальном и волнующем нас сегодня вопросе.
Нынешний Арбат, его внешний облик «офонаревшей» улицы, где среди множества торговых заведений меньше всего внимания отводится знакомству с книгами и памятниками искусства и истории, а фланирующая толпа и не помышляет об этом, вызывал горькое чувство у Булата: его обида, печаль и недоумение зафиксированы и в написанном им, и в устных выступлениях о днях, «когда в Москве еще Арбат существовал» (рефрен из стихотворения «Воспоминания о Дне Победы»5). И потому предлагаемое некоторыми место для памятника на углу улицы Арбат и Плотникова переулка представляется совершенно неподходящим для мемориала поэту Арбата.
Здесь, на небольшой площадке, памятник окажется среди потоков машин, и легковых, и грузовых. Хотя выезда на пешеходную улицу нет, но именно здесь въезды в два двора. В том, который ближе к дому Окуджавы, - средоточие транспорта, привозящего продукты в большой магазин (бывший «Диета») и в восточный ресторан, постоянное движение машин отделения милиции и, кроме того, еще строится здание с подземным гаражом. С другой стороны переулка - двор с небольшой свободной площадкой (образовавшейся на месте снесенного дома священника уничтоженной церкви Николы Плотника). Но там единственный подъезд машин к почтовому отделению, булочной, двум ресторанам и магазинам. Не говоря уж о том, что с обеих сторон переулка - многоквартирные дома (три больших корпуса дома 51 по улице Арбат хорошо известны по «Детям Арбата» А.Н. Рыбакова, а воздвигать памятник Окуджаве в ставшем ныне проходным дворе, описанном другим известным арбатским писателем, тоже вряд ли уместно).
Ссылка на то, что это место ближе других к дому 43 по Арбату, где прошло детство Булата, неубедительна. Воспетого им двора, не асфальтированного, с маленькими домиками и сараями, с зеленью деревьев и кустарников, скамьями, пространством для детских игр, больше нет - все застроено. Исчезли и посаженные Булатом деревца, о которых он вспоминает в стихотворении «Речитатив» («Тот самый двор, где я сажал березы, ...образцом дворов арбатских слыл; ...рай, замаскированный под двор»6). И собираться 9 мая теперь придется разве что в подворотне или под самыми окнами квартиры Булата. Потому достаточно будет напомнить о доме 43, укрепив там доску с указанием, что именно здесь в юные годы жил поэт Арбата.
Булату Окуджаве была несвойственна демонстративная публичность. При всем своем обаянии он был человеком сдержанным, даже замкнутым, никоим образом не навязывающим себя, тем более не помышляющим выделиться как-либо: манерой поведения, внешним обликом, одеждой. Его выделяло благородство скромности. Поэт он был душевной и глубокой мысли, вызывающей потребность раздумий наедине с самим собой или с близкими людьми. Записи его песен, особенно в негромком авторском звучании, не для площадей и улиц, не для больших сборищ, а для людей своего круга или тех, кто от этого становятся своими людьми. Памятник такому поэту должен отвечать подобным представлениям и вызывать подобные ощущения. У памятника должно быть удобно встречаться влюбленным, беседовать друзьям, слушать гитару, тихие пение и декламацию, а пожилым людям - возвращаться мыслями к прошлому. Должна быть обстановка, сближающая поколения («возьмемся за руки, друзья»7), доверительная атмосфера, уют. К памятнику, расположенному между дверями ресторанов, среди движущихся машин, и не захочется, и будет небезопасно подойти, а для скамеек место найдется лишь впритык к постаменту. Следует учитывать и то, что посещающие нынешний Арбат и влекомые людским потоком от Арбатской площади к Смоленской (или от Смоленской к Арбатской) будут воспринимать новый памятник как некий зрительный образ между двумя другими, уже на самой улице Арбат, - имитацией принцессы Турандот у Театра им. Вахтангова и четой молодоженов Пушкиных напротив Дома-квартиры Пушкина. Внешняя стилистика обоих памятников, быть может, и соответствует эстетике арбатских фонарей, но уж слишком далека от духовности Окуджавы, от образа его Арбата.
Убежденный в том, что памятник Булату Окуджаве в Москве может быть установлен только на Арбате, полагаю, что наиболее подходящее в нынешних условиях место - на углу Денежного переулка и улицы Арбат, у стены здания Министерства иностранных дел. Там есть пространство и для сквера, и даже для строительства небольшого здания, предназначенного для выставок. На другой стороне переулка - аптека и выставочный зал Музея-квартиры Пушкина. (Быть может, после строительства комплекса зданий музея между Пречистенкой и Гагаринским переулком в этом выставочном помещении найдут возможным экспонировать и материалы о жизни и творчестве Окуджавы, о восприятии его творчества современниками и потомками.) Здесь нет ни магазинов, ни
ресторанов, не ездят грузовые авто. Допустимо, как это было еще недавно, и закрыть движение машин по переулку в сторону Арбата. От этого места недалеко и до дома, где жил мальчиком Булат, и до школы, где он учился. Отсюда открывается Арбат вышедшим из метро. Рядом мемориальные квартиры Пушкина (в доме 53) и Андрея Белого (в доме 55); адом 51 - последний московский адрес Александра Блока. Напротив, на другой стороне улицы, - здание нового культурно-музыкального центра; а ближе к Садовым - арбатский «Макдоналдс», где, как правило, обходятся без алкоголя и бывает много детей. Таким образом, оказавшимся на Арбате со стороны Садового кольца это будет способствовать восприятию Арбата как улицы культурных традиций, т. е. такой, какой хотел представить родную ему улицу Окуджава.
О желательности установки арбатского памятника Булату Окуджаве именно на углу Денежного переулка, где и сейчас зеленый газон, я писал еще в 1997 г., до застройки двора, образ которого запечатлен Окуджавой, и до сооружения скульптурных памятников на арбатской мостовой. Теперь такое предложение, думается, обретает еще большую целесообразность. И потому почитаю долгом своим предупредить непродуманное решение о месте для памятника: памятнику Булату Окуджаве место там, где осталось больше сближений с особенно дорогим ему на Арбате, с тем, что породило и его представление об «арбатстве».
«Булат Окуджава и “арбатство”» для меня не только тема для размышлений и наблюдений историка и культуролога, но и память о личном общении с Булатом Шалвовичем. Мои соображения о представлениях Окуджавы об Арбате и «арбатстве», об изменении и обогащении этих представлений не ограничивались знакомством с творчеством Окуджавы и восприятием его другими (и прежде всего арбатцами, с их характерной арбатской ментальностью), но поверялись встречами и телефонными разговорами с Булатом Шалвовичем. Собственно, это и было главной сквозной линией нашего общения на протяжении всех лет знакомства, за исключением времени совместного пребывания - в течение примерно 10 или 12 дней - в писательском доме на Рижском взморье. В октябре отдыхающих на взморье немного, пляж пустой; и мы перед закатом едва ли не ежедневно гуляли, ходили по прибрежному песку. Тогда Окуджава для меня раскрылся, конечно, более глубоко: я убедился и в масштабности его личности, и в его простоте, внутреннем неприятии всякой рисовки, эффектного позирования; в его честной открытости и любознательности, но
и в его замкнутости в своем внутреннем мире, в неординарности восприятия им явлений: и общественного бытия, и культуры, и природы - и в способности выразить это в слове и одновременно в стремлении и умении найти для всего этого общедоступные формы. Общечеловеческое, традиционное даже, было ему дороже и ближе новаторской необычности, отдающей чуждой ему нарочитостью. Быть может, в этом отражались не только его душевный склад, естественность взаимосвязи с корневой культурой народа и литературные вкусы, но и опыт школьного учителя, желавшего и умевшего установить общность подхода к явлениям и их толкованию с теми, кого он образовывал. Естественно, что эти беседы и возможность видеть Булата в общении с другими - и в застолье, и с гитарой, и в рассуждениях на интеллектуальные темы - многое дали мне и в плане обогащения и углубления представлений о проблеме «арбатства», интересующей меня как исследователя и близкой душевно, и, конечно, для понимания того, что дало заголовок сегодняшнему сообщению: «Булат Окуджава и “арбатство”».
Наше личное знакомство, по существу, и началось с «арбатской» темы. В квартире писательского дома близ метро «Аэропорт», у переводчика Владимира Михайловича Россельса, знакомого мне близко еще с детских лет, собрались послушать новые песни Окуджавы в авторском исполнении. Были писатели - соседи по дому, Аксенов. Окуджаву тогда еще мало печатали. Ольга Владимировна, если не ошибаюсь, лишь незадолго до того стала его женой, и меня как выходца из профессорской среды посадили за столом рядом с ней, чтоб занять беседой, соответствующей понятиям об общности нашего социокультурного происхождения. До застолья же был общий разговор в другой комнате, и там выяснилось, что мы жили с Булатом в столь близко расположенных домах, что они ныне в одном проходном дворе. Но тогда наши дворы разделяли домишки и сараи, и с девочкой из его дома (как помнится, Таней Хейфец или Фейгус) я был знаком только потому, что учился с ней в одном классе, и мы, второклассники, даже вместе ходили на лыжах по мостовой нашего тихого тогда Кривоарбатского переулка. Когда Булат настроил гитару, он предупредил, что намерен исполнять только новое, малоизвестное. «Однако для вас, - сказал он, обратившись ко мне, - начну с “Песенки об Арбате”».
И потом нас тоже объединяли интерес и любовь к Арбату: мы встречались на заседаниях, «круглых столах», организуемых в связи с определением судьбы улицы Арбат и трагедией строитель
ства Нового Арбата, порушившего мир «арбатства» и исказившего внешний облик города великого прошлого и традиционной культуры. Это действительно «вставная челюсть» Москвы, безжалостно и насильственно внедренная в живое тело исторического города людьми, лишенными чувства исторической ответственности и эстетической добропорядочности. (И здесь, убежден, большая вина не государственных деятелей, а архитекторов и строителей, паразитирующих на бескультурье этих деятелей.)
Вскоре после нашего пребывания на Рижском взморье я встретил Булата, выходящего вместе со своим знакомым из переулка, где метро «Смоленская», на Арбат. В тот ноябрьский воскресный день выпал первый снег, и я вышел подышать, нагулять рабочий ритм. Булат предложил пройтись с ним до Арбатской площади. Он впервые увидел фонари, стал грустен и молчалив, только повторял: «Нет Арбата», «Ушел Арбат». На Арбатской площади стояла машина: он явно приезжал посмотреть (или показать) Арбат.
Потом участились встречи в канун юбилея Арбата. Когда я начал подготовку альманаха «Арбатский архив», Булат Шалвович сразу же согласился дать подборку своих произведений на арбатскую тему, сам отобрал фотографии. Принося это ко мне домой, смотрел мудро и грустно из окна нашей столовой на дом своего детства. Его предисловие для публикации в альманахе датировано августом 1993 г. Булат Шалвович, конечно, осознавал, что в таком издании, да еще в предъюбилейные дни, слова его обретут и историографическое значение, и декларативный смысл. Привожу полностью текст, напечатанный в альманахе: «Я много раз говорил о том, что Арбата больше нет. Я сетовал об этом. Действительно, его физическое существование так резко преобразилось, что ничего иного и не скажешь. И это, увы, не только мое мнение. Так думают многие арбатцы. Но, к счастью, Арбат стал символом еще задолго до своей физической гибели. Он продолжает им оставаться и до сих пор. Нельзя уничтожить историю, дух. Они продолжают существовать и подогревают и вдохновляют нас на деятельность. И то, что мы скорбим, засучиваем рукава, пытаясь уберечь свое прошлое, то есть самих себя, -разве это не признак того, что истинный Арбат уже прочно в нашей крови.
А стихи об Арбате, написанные еще тогда, когда он существовал, что ж, это ведь частица моей жизни тоже. Стихи, как и жизнь, невозможно переписать заново...»8
Конечно, творчество Окуджавы отнюдь не ограничивается тем, что связывают с Арбатом; и культурное пространство Арбата - это не только Окуджава и время Окуджавы. И в то же время тема «Окуджава и Арбат» (и тем более «Окуджава и “арбатство”») важна при изучении более широкого круга проблем истории и российской литературы, общественного сознания и истории Москвы, отношения к прошлому, историзма наших общественных идеалов.
При этом напомню, что под «арбатством» подразумеваем не только улицу с таким названием - «короткий коридор от ресторана “Прага” до Смоляги»9, т. е. от Арбатской до Смоленской площади (хотя в написанном и сказанном Булатом много именно об улице Арбат и утрате ею прежнего облика), - а местность Москвы с несколькими улицами и переулками межбульварья бывшей территории Арбатской и Пречистенской полицейских частей. Дух Арбата, «арбатство» более всего выявляется в арбатских переулках. Окуджава не раз подчеркивал, поясняя: «...примыкающие к улице Арбат, и есть Арбат»10.
С годами детства связано формирование наших воззрений, корневых этических и эстетических представлений. Главные впечатления детства Булата - арбатские. Арбат остался спутником его творческой жизни: и арбатские реалии, и сотворенное воображением по ассоциации с другими реалиями современности либо узнанным о прошлом из прочитанного и увиденного. Понятие об «арбатстве» появилось и тем более было сформулировано Булатом Шалвовичем не сразу: представления об Арбате не оставались неизменными, отражая происходившее и в образе творчества писателя, и в его житейской биографии. Вероятно, можно ожидать, что когда-либо напишут исследование об Арбате Окуджавы в стиле книги академика В.Н. Топорова «“Бедная Лиза” Карамзина. Опыт прочтения»11, где с привлечением многообразнейшего материала рассматривается и персонологический, личностный тип писателя. Но предварительным условием такой работы является ознакомление со всем «арбатским» у Окуджавы - и в синхронном, и в диа-хронном планах. Когда, при каких обстоятельствах было написано или сказано? По какому поводу? Сразу, импульсивно (в ответ на вопрос) или в результате шлифовки сочиненного? В связи с какими ассоциациями: культурно-историческими, литературными, житейскими? Как соотносилось запечатленное в стихах, художественной прозе, публицистике, устных выступлениях, ответах на записки? Как изменялись подходы и оценки? Как воспринима
лось это публикой и в какой мере такое восприятие осознавалось и учитывалось Окуджавой? Лишь тогда можно будет с должной основательностью определять место представлений об Арбате, его прошлом и настоящем в системе представлений Окуджавы о своей биографии, об эпохе и исторических традициях, о России и Москве, о процессе творчества, о поэзии, о мифах в жизни, в литературе и искусстве.
Думается, что это может быть сферой научных интересов не только историков литературы, хотя именно их наблюдения особенно важны при размышлениях о своеобразии и богатстве художественного языка Окуджавы, месте его произведений в мире отечественной и мировой поэзии. Я же, хотя и пытался размышлять об этом и в печати, и устно, позволю себе утверждать - и как историк, и как арбатец, всю жизнь проживший в одном и том же доме арбатского переулка, - только то, что входит в сферу моих профессиональных знаний: написанное и сказанное Окуджавой об Арбате - первостепенной ценности исторический источник. Это источник для изучения и прошлого, и настоящего Арбата, как в реальности, так и в мифах общественного сознания. Тут и существеннейшие для образа Арбата представления о нем как о символе, знаке культуры (или даже симбиозе социокультурных и исторических обозначений), и много деталей, важных для понимания характерных топографических и исторических особенностей этой местности, с конца XVIII в. почти на два столетия утвердившейся как оазис частной жизни: ни фабрик, ни государственных учреждений при особом изобилии переулков, небольших храмов, частных учебных и лечебных заведений; до начала XX в. не было и больших магазинов.
Вспоминая ставшее расхожим определение «Евгения Онегина» как энциклопедии российской жизни, можно сказать, что запечатленное Окуджавой - это энциклопедия арбатской жизни: и ее реалий, и ее восприятия. Это исторически достоверное отображение Арбата, причем в контексте взаимосвязи времен. Арбат Булата Окуджавы - река, текущая и в пространстве, и во времени. А словосочетание из «Песенки об Арбате» - «Ты течешь, как река. Странное название!»12 оказывается в нашей историко-культурной памяти столь же обязательной ассоциацией, как пушкинское «Невы державное теченье».
Для Окуджавы Арбат - и начало сознательного существования, и первые содружества; и возвращение к мирной жизни с праздником Победы; и ностальгия выселенного «арбатского эми
гранта», лишенного возможности ощущать прелесть юношеского романтического идеала («заледенела роза и облетела вся»13); и согревающая душу память о том, как зарождалась «мелодия простая, ...из сердца вырастая»14; и боль от торжества «оккупантов», «московских наших дураков», воплощающих ныне «надменную столицу»; и символ круговорота жизни нашей, как в стихотворении 1969 г. «Романс» (за которым позднее закрепилось название «Арбатский романс»): «Вы начали прогулку с арбатского двора, к нему-то все, как видно, и вернется»15, и в пронзительных словах «Арбатских напевов» (1982 г.), где о том, что «все кончается неумолимо. Миг последний печален и прост»; «Я тоскую, и плачу, и грежу по святым по арбатским местам»16.
Не будем забывать о том, что Арбат для Булата Окуджавы не только страна детства, малая Родина, память о теплоте заботы любящих взрослых и радостных открытиях мира, чудес природы, культуры, общественных отношений и, полагаю, красоты и глубины поэтических словосочетаний, а также и прошлое: довоенное (мирной жизни), до времени «большого террора», загубившего столько самых близких ему людей. И действительно, Арбат детских лет Окуджавы не знал публичной политической подозрительности (сопровождавшейся доносительством) и откровенно идеолого-политизированных антагонизмов (служивших нередко прикрытием внутриквартирных распрей из-за жилплощади). Годы арбатского детства Булата - время романтического строительства новой жизни самоотверженными и бескомпромиссными приверженцами идеи решительной перестройки общества, оказавшимися во второй половине 30-х годов, как и родители Булата Шалвовича, жертвами сталинского тоталитаризма, погибшими не на «той единственной гражданской»17, боготворить которую завещали сыну, а под обломками храма идеалов, порушенных самовластием. И тут уже факты личной биографии совмещались с общероссийскими, общемосковскими, даже общечеловеческими. Арбат - и реальности, и воображения - оказывался фокусом и символом всего этого.
Уже в «Песенке об Арбате» 1959 г. («Ах, Арбат, мой Арбат...») эти чувства, мысли и ассоциации нашли свое первичное обобщение (хотя сначала во многом еще, вероятно, и интуитивное). Эти всем известные стихи можно ставить в один ряд с общепризнанными шедеврами стихотворных произведений малых форм: с «Ангелом» Лермонтова, «Лорелеей» Гейне, «Незнакомкой» Блока - по редкой естественности совмещения глубины
мысли и художественной образности, по завораживающему обаянию музыкальности. В стихах 1959 г. и многозначительные обязывающие формулировки («мое призвание», «моя религия», «мое отечество»), и осознание пожизненной восторженно-болезненной любви («от любови твоей вовсе не излечишься», «ты - и радость моя, и моя беда») и единственности (среди «сорока тысяч других мостовых») и в то же время обычности («пешеходы твои - люди не великие»), столь близкой и необходимой душе Булата, не приемлющей эффектную и громкую исключительность. И здесь же программа для дальнейших размышлений о притягательном «странном названии», о сравнении с рекой, хотя и прозрачной, но полностью не познаваемой, и, главное, всегда текущей, изменяющейся, понимание этого («никогда до конца не пройти тебя!»18). Но конечные слова стихотворения ведь и о стремлении поэта до своего конца ощущать Арбат, познавать новое и более глубокое. Это звало к дальнейшим размышлениям и автора, и его читателей и слушателей.
Показательно, что повторяемое вслед за Окуджавой слово-понятие «арбатство» подсказано ему школьниками, как он сам это отмечает в стихотворении «Надпись на камне»19 («Пускай моя любовь как мир стара, - лишь ей одной служил и доверялся»), где и афористические формулы: «Я - дворянин с арбатского двора, своим двором введенный во дворянство» и «Арбатство, растворенное в крови, неистребимо, как сама природа». Но порождено представление об «арбатстве» освоением созданного самим Окуджавой, тем, что было воспринято от него о характерном и привлекательном в арбатском жизненном укладе, арбатском образе мысли, арбатской историко-культурной традиции, арбатском прошлом, чертах этого прошлого в современности.
Андрей Белый, родившийся на Арбате и воспроизведший в стихах и прозе Арбат рубежа веков и, подобно Булату, всю жизнь возвращавшийся мыслью к Арбату, тяготевший душой к улице своей юности, ввел в обиход слово «арбатцы». Но вкладывал в него лишь социотопографический смысл (что и почувствовала также «профессорское дитя» Марина Цветаева). Булат Окуджава утвердил в нашем сознании понятие «арбатство» уже и социокультурного смысла, и нравственного значения («арбатство, растворенное в крови»).
Это, пожалуй, самое дорогое и важное для самого Окуджавы и самое существенное для темы, обозначенной в заголовке сообщения. Однако, повторяю, сейчас становится все более оче
видным, что предварительным условием серьезных выводов в плане этой проблематики на перекрестии и истории литературы, и истории общественной жизни, и социальной психологии, и даже микрогеографии должна стать основательная работа по изучению всего литературного наследия Окуджавы: и художественных произведений, и публицистики, и переписки, и заметок для себя. Ибо тема «Арбат» сопутствовала всей жизни Булата Шалвовича и в том или ином виде отражена во всем многообразии его творчества. Хочется надеяться, что тема «Арбат» как символ и «арбатство» («истинный Арбат уже прочно в нашей крови») в жизни и творчестве Булата Окуджавы будут предметом и моих размышлений историка-исследователя и старожила-мемуариста. И уж безусловно, это интереснейшая и научно перспективная тема исследований в грядущем столетии.
Потому пока ограничусь лишь некоторыми замечаниями предварительного характера. Представление Окуджавы об Арбате как знаке культуры, как символе в плане типологии социокультурных явлений не оставалось неизменным. Оно отражало - причем и на внешне заметном, и на глубинном уровнях - путь развития его мироощущения и миропонимания, его историко-культурных представлений и пристрастий, изменения в направлениях его литературного творчества. Овладевая новым литературным мастерством, неизменно расширяя свой историко-культурный кругозор, проявляя тягу к новым формам или темам художественнолитературного творчества, писатель распространял эти новые знания и ощущения и на восприятие всего арбатского.
Изначальные детские представления об Арбате обогащались и усложнялись затем все время и новыми впечатлениями из житейского опыта, и от ознакомления с многообразным историко-культурным наследием. Представление об Арбате в культурологическом аспекте, можно полагать, на первом этапе приближалось к тому, которое охарактеризовано в новаторских культурологических исследованиях профессора Георгия Степановича Кнабе20.
Ученый сосредоточивает внимание преимущественно на ситуации первых советских десятилетий и исходит прежде всего из этих наблюдений, объясняя формирование особенностей культурного феномена «Арбат». Это помогает понять, как формировался первичный образ Арбата у юного Булата.
Но, думается, что если не изначально, то с той поры, когда вернувшийся после фронта молодой человек почувствовал себя
поэтом, и особенно в годы преподавания российской литературы (а значит, и нового приобщения к отечественному культурному наследию), а затем и все возрастающего интереса к истории России XIX столетия, Арбат все в большей мере воспринимался Окуджавой как воплощение взаимосвязи времен - взаимосвязи с ушедшей дореволюционной эпохой, ее культурой и повседневностью, с корневыми историко-культурными и нравственными традициями (и не только Арбата, но и Москвы, всей России). С годами именно подобное представление о «символе» Арбата закреплялось и привело к осознанию историко-культурного понятия и историко-нравственной категории «арбатство», к стремлению «уберечь свое прошлое».
Вероятно, можно проследить, опять-таки опираясь на всю совокупность материалов творческого наследия писателя, как соотносилось изменение представлений Окуджавы об Арбате с углублением его познания образа Пушкина, душевным сближением поэта и гражданина второй половины XX в. с Пушкиным. О Пушкине Булат Шалвович писал и говорил не раз, Пушкин для него все в большей мере становился началом всех начал в литературе, близким его душе человеком21.
Быть может, это стало особенно ощутимо, когда Окуджава обратился к созданию прозаических произведений о пушкинском времени, стремясь проникнуть в мир ментальности пушкинской эпохи, привлекавшей своей особой интеллигентностью и Александра Блока последних лет жизни (в речи «О назначении поэта» он говорил о ней как о «самой культурной эпохе XIX века»). Писатель фронтового поколения (и одновременно шестидесятник) оказался более других литераторов-современников в русле классической традиции великой российской литературы: и, как Блок, в историко-культурной (а также историко-нравственной) сфере, и даже в плане литературно-художественной стилистики -им обоим были чужды нарочито демонстративные стилистические изыски (и в словаре, и в ритмике стиха). В этом, кстати, одно из объяснений того, почему именно Окуджава, едва ли не единственный из поэтов-шестидесятников, оказался близок читателям сразу нескольких поколений, почему любовь и уважение к нему неизменно устойчивы. Его литературное творчество, как и созданный им образ Арбата, воплощали преемственность историконравственной традиции, традиции интеллигентности.
Это ощущали и за рубежом. Когда решено было пригласить на заседание Комитета по Нобелевской премии двух россиян, во
площающих представление об интеллигенции России (ведь само это слово латиноязычной этимологии пришло в западноевропейские языки из великой литературы России; русское происхождение его указано в словарях и английского, и французского языков), то пригласили из самого старшего поколения Дмитрия Сергеевича Лихачева и из поколения участников Второй мировой войны - Булата Шалвовича.
Показательно, что оба они очень понравились друг другу, очаровали один другого. Это запечатлено в надписи, которую оставил Лихачев на своей книге «Поэзия садов: к семантике садово-парковых стилей. Сад как текст» (2-е изд. 1991 г.): «Дорогому Булату Шалвовичу Окуджаве - самому замечательному, самому любимому, самому благородному - на добрую память о незабываемой встрече в Стокгольме и с поздравлением. Д. Лихачев». И характерная приписка: обращение-пояснение творца творцу, большого ученого большому поэту: «Это книга хобби, - не по специальности, а по сердечной склонности».
В представлениях об образе Окуджавы как бы совмещались представления о российской интеллигентности и об «арбатстве». Это было особенно дорого и понятно литераторам российской эмиграции, для которой символом России оставался Пушкин и которых не покидало ностальгическое чувство Арбата - «улицы Св. Николая», как ее называл Борис Зайцев, - средоточия «дворянско-интеллигентско-литературной» Москвы. И бывают же странные сближения22 (как провидчески отмечал Пушкин): Булат Шалвович умер вдали от Москвы, от России, но близ Парижа, в Кламаре, где жил более двух десятилетий Бердяев, где собирались постоянно думавшие о Москве и об Арбате россияне, где снились московские морозы и писали по-русски стихи о московских улицах в пасхальные дни.
Темы «Окуджава и “арбатство”», «Восприятие “арбатства” Окуджавы в России и за рубежом, сверстниками его и молодежью» очень многоплановы. Не сомневаюсь в том, что интерес к ним сохранится у писателей и ученых разных отраслей знания и в будущем столетии. Если Окуджава Арбатом «введен во дворянство», то Арбат введен Окуджавой в историю мировой литературы.
Выступление на «круглом столе» Первой международной конференции, посвященной 75-летию Булата Окуджавы
После спектакля «Путешествие дилетантов» в Театре Луны я уеду, поэтому позволю себе высказать искреннюю благодарность организаторам конференции. Благодарность не только человека, которому дорого творчество Окуджавы, но и историка-профессионала, всегда подходящего к явлениям в двух планах: что оно означает для сегодняшнего дня, для наших современников, и будет ли оно что-то означать для потомков, которые отберут из нашего времени то, что для них будет определять их день? Я думаю, что, хотя прошло совсем мало времени, уже можно сказать, что мы наблюдаем нечастое, даже уникальное явление, когда писатель, только что ушедший из жизни, воспринимается в ряду классической литературы, «переходящей» в следующее столетие. Это первое. И второе: Окуджава, по-видимому, - настолько многообразное явление, выходящее за рамки собственно литературы, что изучать нашу ментальность будут и по Окуджаве, хотя Окуджава и не типичен для нее, уникален. В этой связи, думается, нужно многое сделать, чтобы облегчить потомкам понимание его творчества. Жизнь так стремительна, и все так быстро меняется, что, пока живы современники Булата, нужно спешить подготовить документы о его времени и о нем самом во времени. Очень хорошо, что выйдет его том в «Библиотеке поэта». Важно застолбить в общественном сознании: Окуджава - это классика. Видимо, нужно исподволь, не рассчитывая на быструю удачу, начать готовить и собрание сочинений. Уже сейчас. «Уже сейчас» не значит, что его срочно нужно издавать. В наше время классическое, академическое собрание сочинений требует скрупулезного ознакомления с вариантами, выяснения касающихся произведения деталей, обширных комментариев. Должны быть люди, знающие быт эпохи, ее лексикон, знающие близко автора, которые могли бы сказать, почему использовано то или иное выражение... Если даже Пушкин сказал: «Бегут меняясь наши лета, / Меняя все, меняя нас», то Булат, больше живший, тем более изменялся! Мне кажется, что сейчас нужно хотя бы ксерокопировать все материалы, которые могли бы войти в тома, напоминающие «Литературное наследство». Ведь ответы Булата на записки, его выступления, письма и прочее, и прочее, полагаю, будут свидетельствовать о том, что благородство и достоинство оставались
и тогда, когда люди жили конъюнктурой. Это нечастый случай; опыт долгой жизни меня убеждает: я не могу назвать другого современника Булата, а значит, и моего (у нас три года разницы), который бы сохранял это внутреннее достоинство, не поддаваясь политическому идеологизированию. В то же время он очень остро реагировал на все общественные явления. И как, на что, в какой ситуации - могут объяснить близкие люди, ибо ученые домысливают, опираясь на какие-то модели, которые зачастую и не на русском материале даже или на материале другой эпохи, - от нашей историко-литературной образованности, от нашей идеологической ангажированности. Поэтому, пока живы близко знавшие Булата Шалвовича, надо прокомментировать этот многообразный материал. 50 лет я воспитываю историков-архивистов и понимаю, как необходим толковый обзор фондов. Наше, и даже более молодое, поколение, вероятно, не доживет до времени, когда будет полностью освоено наследие Окуджавы. Ценность нашей конференции, кроме всего прочего, в том, что прозвучали интересные доклады молодых, вселяющие надежду, что они будут заниматься творчеством Окуджавы десятилетия, которые им отведены на их творческую жизнь.
Теперь по поводу некоторых тем. К сожалению, мы бездумно восприняли, как само собой разумеющееся, что Окуджава -это прежде всего авторская песня. Окуджава не только большой поэт, но, к счастью, и музыкант, и прозаик. А прозаик Окуджава, по существу, в еще большей мере философ и мыслитель. Поэтому, вероятно, необходимо сопоставить «поэтического» и «прозаического» Окуджаву и выяснить, почему, в какое время он обращался к стихам, или к прозе, или одновременно к тому и другому. Это путь великой литературы. Двое самых великих - Пушкин и Лермонтов - так и поступали. Они были великие прозаики. С них начинается наша проза. Так поступил Гёте, т. е., понимаете, это суждено очень немногим, и если суждено, то усиливает масштаб их творчества, воздействия и на слушателей, и на читателей. Я снова возвращаюсь к Пушкину. Не только потому, что мы все, для кого пушкинский юбилей не просто возможность где-то поучаствовать, покрасоваться, а, уже достигнув возраста, перечитывать Пушкина с жизненным опытом и по-другому его воспринимать, мы все понимаем, что это действительно какая-то совершенно ни с чем не сравнимая гармония, широта интересов и нечто, притягивающее разные народы. У Окуджавы, который неизменно ссылался на Пушкина как на «первоначалие» для себя, говорил,
что сначала обращался к Пушкину потому, что так принято, а потом Пушкин стал ему по-человечески близок (Булат подчеркивал: и как великий поэт и очень близкий мне человек), близок даже привлекательной самоиронией, - у самого Булата творчество неотделимо от жизни. По-видимому, это нужно проследить и в аспекте развития мировой культуры, тем более что сейчас за рубежом в произведениях Пушкина замечают не только красоту слова, но и волнующие всех мировые проблемы. У Булата есть то, что всегда может заинтересовать, независимо от исторического комментария, - еще обыгранная в шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта» проблема соотношения лучших человеческих чувств и закона, который губит эти чувства. Но когда возвращаются к образам Ромео и Джульетты - и в театре, и в кино, - всех прежде всего интересует безмерная любовь: нет его - не может жить она, нет ее - не может жить он, Булат постиг именно эти, всех волнующие проблемы человеческих отношений. Видимо, на этом моменте следует акцентировать наше внимание. Поэтому мне внутренне ближе то, что говорил Александр Семенович Кушнер. Может, потому, что он, сам поэт, это особенно почувствовал. Птица не интересуется, в какой момент поет, она не может не петь, это ее врожденное свойство. Вот Булат имел это богатство.
И наконец, еще одно, что влияло на наше восприятие творчества и личности Окуджавы. На это вроде не обращали здесь внимания. Булат выступил в век телевидения и кино. Ведь тех великих, которых мы называли - даже Александра Блока, даже Маяковского, даже Есенина, видели лишь те, кто мог оказаться рядом. Их нельзя было показать всем по телевидению. А Булата стало можно. И конечно, просто мало было людей с таким большим обаянием. Когда мудрый Дмитрий Сергеевич Лихачев провел с Булатом несколько дней в Стокгольме, он был обворожен прежде всего личным обаянием Окуджавы, отражавшим его личность, - это же чувствуется! Мы вчера посмотрели эпизоды из разных фильмов с участием Булата: какие сдержанные движения, всё - в глазах, всё - в выражении лица; ни суетности нет, ни позы, всё настоящее - и сколько достоинства! Это внутреннее его богатство передавалось другим, действовало на всех: и на немцев, и на французов, и на шведов, которые, даже не понимая языка, чувствовали то, что он хотел выразить словом. Мне кажется, что, к счастью, наша конференция оказалась не совсем точно названной. Не «Творчество Булата Окуджавы в контексте культуры XX века», а, по крайней мере, в контексте культуры XIX и XX веков, в контек
сте отечественной и мировой культуры. И дай Бог, чтобы XXI век продолжал эту традицию.
1 Окуджава Б. Чаепитие на Арбате. Стихи разных лет. М„ 1996. С. 346.
2 Там же. С. 443-444.
3 Окуджава Б. 65 песен // Ann Arbor. 1982.
4 Окуджава Б. Нет задворок у Арбата // Арбатский архив. М., 1997. Вып. 1. С. 139-141; Он же. Ах, Арбат, мой Арбат, - ты мое отечество... ты мое призвание // Там же. С. 142-144.
5 Окуджава Б. Чаепитие на Арбате. С. 365.
6 Там же. С. 261,262.
’Там же. С. 16.
8 Арбатский архив. С. 126.
9 Окуджава Б. Чаепитие на Арбате. С. 262.
10 Об историко-культурном пространстве «Арбат» подробнее см. в моей статье в первом выпуске «Арбатского архива» (М., 1997).
11 Топоров В.Н. «Бедная Лиза» Карамзина. Опыт прочтения. М., 1995.
12 Там же. С. 82.
13 Там же. С. 378.
14 Там же. С. 481.
15 Окуджава Б. Чаепитие на Арбате. С. 254.
1,1 Там же. С. 376, 377.
*’Там же. С. 13.
18Там же. С. 82.
19 Там же. С. 375.
20 Об этих соображениях, сформулированных еще прежде в публичных выступлениях ученого, см. подробнее в его статье: Кнабе Г.С. Арбатская цивилизация и арбатский миф // Москва и «московский текст» русской культуры. М„ 1998.
21 См. нашу статью о культуре Арбата в «Арбатском архиве» (М., 1997).
22 Пушкин А.С. Поли. собр. соч.: В 10 т. 4-е изд. Л., 1978. Т. 7. С. 156.
12 ноября на 81-м году жизни скончался Александр Зиновьевич Крейн - авторитетнейший музейный работник России, организатор Музея А.С. Пушкина в Москве, неутомимый пропагандист музейной культуры.
Выпускник московской школы, по возвращении с фронта Отечественной войны Крейн ощутил острую потребность восстановить порушенные памятники, сохранять наше культурное наследие, воспитывать в уважении к нему молодежь. Работа в аппарате Министерства культуры позволила ему оценить многостороннюю деятельность музеев, их просветительскую роль в нашем обществе. Крейн мог убедиться, сколь благотворно воспитание Пушкиным, и полагал необходимым основать Музей Пушкина и в Москве, на родине поэта, где ему поставили первый памятник, открытие которого в 1880 г. стало первым Пушкинским праздником.
Но создать такой музей было очень трудно, так как все материалы грандиозной Пушкинской выставки 1937 г. в московском Историческом музее передали в Ленинград и они стали основой тамошнего Музея Пушкина. И все-таки в 1961 г. в Москве, на Пречистенке, в особняке пушкинских времен, открылся музей, первым директором которого стал Крейн, а затем был музеефици-рован и дом 53 на Арбате, где Пушкины поселились после свадьбы. Притягательная сила музеев была так велика, что туда стали передавать в дар предметы искусства и быта. В частности, вдова профессора И.Н. Розанова К.А. Марцишевская передала ценнейшую библиотеку русской поэзии. Крейн завел книгу даров, выставил ее в экспозиции, рассказывал о дарах и дарителях в печати. По существу, уже тогда начала складываться традиция передачи коллекций в дар государству как именных. Московский Музей Пушкина стал и средоточием научной работы его сотрудников, и местом научных заседаний, на которых выступали москвичи и гости столицы, и центром широкой просветительской деятельности. Здесь слушали чтецов, музыкантов, организовывали выставки, стала постоянной экспозиция детских рисунков, а позднее проходили обсуждения студенческих докладов, теперь и Пушкинские чтения для учителей.
Впервые опубл, под названием «Памяти А.З. Крейна»: Литературная газета. 2000. № 47 (5812). 22 -28нояб.
Крейн - автор книг и статей о Музее Пушкина, привлекательных по форме и поучительных для музейных работников, в среде которых он пользовался особым уважением. Он достойно представлял нашу страну в международных организациях. И после ухода с должности, несмотря на мучительную болезнь, находил силы для завершения книги об опыте своей музейной деятельности.
В год пушкинского юбилея остро ощущалось, как многим обязаны мы Крейну в представлениях о Пушкине и его времени, как обогатил он Москву присутствием Пушкина. И конечно, особая признательность ему от арбатцев, которым усилиями Крейна возвращен дом Пушкина на Арбате.
Созданный Крейном и его сподвижниками музей останется на века. Но важно, чтобы в грядущее столетие перешла и благодарная память о самом Александре Зиновьевиче, чтобы была издана книга его трудов и воспоминаний о нем. Это та страница современной культуры, которой должно гордиться и в будущем.
С Олегом Константиновичем Дрейером мы были на «ты», так как учились оба в 7-й школе; но особенно близки не были, домами не встречались. И потому мог со стороны наблюдать, как велик был авторитет его уже в годы юности.
В школе у нас не было сближающих интересов: я был моложе на несколько классов, а Олега помню уже как председателя учкома. 7-я школа (тогда Хамовнического района города Москвы) в доме 15 по Кривоарбатскому переулку помещалась в здании, специально построенном в предреволюционные годы для Образцовой женской гимназии. Там еще преподавали некоторые гимназические учителя, даже, кажется, продолжала жить начальница гимназии Н.П. Хвостова. Учились преимущественно дети служащих (что типично для Приарбатья тех лет), т. е. с детства приученные к чтению и легко воспринимавшие методику преподавания гимназического типа; в 1920-е годы там учились будущий президент Академии наук М.В. Келдыш и его одноклассник конструктор лунохода Г.Н. Бабакин, актер М. Названов, поэт Е.А. Долматовский, писатель А.Н. Рыбаков, избравший эту школу местом действия своих литературных произведений «Кортик» (преподавателя рисования и черчения Борфеда помнили и мы в середине 1930-х годов) и «Дети Арбата». Но среди учащихся были и дети, значительно более слабо подготовленные, - безотцовщина из густонаселенных домов 6 и 8 по Кривоарбатскому переулку, -объединившиеся затем в банды, ликвидированные в середине 1930-х годов. И у них были свои критерии в определении тех, кто мог быть признан авторитетным. И вот в этих непростых условиях именно Олег выделялся прежде всего своими выступлениями, присутствием в президиуме собраний, происходивших в актовом зале. Его отмечали и педагоги (в частности, особо запомнившаяся мне преподавательница литературы и русского языка Фаина Васильевна Китаева и преподаватель математики Елизавета Васильевна Воронова), и школьники. И явно не обижали обитатели домов, мимо которых должен был проходить живший в доме 3 по Кривоарбатскому переулку Олег, как не трогали и его младшего брата. Конечно, на всех не могло не подействовать свойствен-
' Впервые опубл, под названием «Авторитет Дрейера»: Олег Константинович Дрейер. М., 1998. С. 96-100.
ное Олегу особое обаяние; он вызывал уважение и у учащих, и у учащихся. И не тем только, что легко учился (в школе было немало отличников), складно говорил, отличался быстротой реагирования, с ответственностью относился и к делу, и к слову, обладал большим общественным темпераментом. А полагаю уже теперь, и заинтересованным уважением к другим и самоуважением, естественностью (да и независимостью) своего поведения. Именно Олега помнят и по сей день младшеклассники - мои сверстники.
Затем, конечно, не раз встречал Олега (наши дома в одном маленьком переулке), здоровались, с приязнью разговаривали и расставались до следующей такой же случайной встречи, но основные вехи биографий друг друга в те годы знали. И когда я перешел на основную работу в Академию наук, услышав однозначно положительные отзывы об О.К. Дрейере, не удивился.
Он тогда уже руководил Издательством восточной литературы и имел устойчивый авторитет человека, воплощающего высокую культуру издательского дела. К нему равно благоволили академики, очень разные по характеру, - Михаил Николаевич Тихомиров и Александр Андреевич Губер.
Когда с образованием Археографической комиссии М.Н. Тихомиров стал формировать ее штаты, он прислушивался к мнению О.К. Дрейера. И благодаря его рекомендации в штат Комиссии была принята обаятельная умница Ирина Евгеньевна Тамм, работавшая ранее в Издательстве восточной литературы. Она написала затем под научным руководством М.Н. Тихомирова диссертацию и подготовила позднее новаторского значения биобиблиографический указатель «Михаил Николаевич Тихомиров», изданный в 1996 г., уже после ее кончины (там была опубликована и статья о ее научной работе).
М.Н. Тихомиров устроил так, что именно в руководимом О.К. Дрейером издательстве вышла в 1960 г. первая подготовленная мною книга, титульным редактором которой он был - «Описи Царского архива XVI в. и архива Посольского приказа 1614 г.». В то время и я оказался приобщенным к редакторской деятельности как заместитель главного редактора созданного в 1956 г. журнала «История СССР» (ныне он называется «Отечественная история»), и знакомство с О.К. Дрейером возобновилось и на профессиональной основе. И какими полезными, умными, продуманными оказывались его советы и предостережения, даже оброненные как бы мимоходом.
В ту пору я понял и особо привлекательное свойство Дрейера-руководителя: высокий профессионализм, самоотдача делу, страстная увлеченность, смиряемая накопленным практическим опытом, сочетались с явно ощутимым доброжелательством, умением представить возможности исполнителя (и поддержать его, если он робок) и внушением уверенности в том, что в случае неприятности Дрейер не переложит вину на другого (доверяя и поручая кому-то, он брал ответственность за такой выбор). С ним было работать интересно, поучительно, надежно.
Он, младший по возрасту, был не менее авторитетен, чем знаменитые издательские «старики». И потому, когда я написал совсем недавно небольшую статью в связи с подготовкой к выходу первого номера нового журнала «Научная книга», назвал и Олега Константиновича в числе подвижников академического издательства, помогавших мне приобщаться к культуре издательского дела.
Дмитрий Сергеевич - петербуржец по рождению, воспитанию, манере поведения, пожалуй, даже по своему мировидению. Он преданно любил родной город и старался воспитать любовь и уважение к Петербургу у молодых поколений, много говорил и писал об этом, оставил воспоминания о Петербурге. Именно Л.С. Лихачева по праву первым удостоили высокого звания «Почетный гражданин Петербурга». Он досконально знал Петербург и его окрестности и историю их изучения, заинтересованно следил за всем новым в петербурговедении. Я мог убеждаться в этом и в самое недавнее время как председатель жюри по присуждению анциферовских премий за труды по петербурговедению.
Но Д.С. Лихачев хорошо знаком был и с прошлым и настоящим Москвы и много сделал для изучения ее истории, сохранения ее памятников культуры, утверждения роли Москвы в современном развитии культуры России и мира. Поэтому допустимы размышления и на темы «Д.С. Лихачев о культуре Москвы», «Москва в творческой биографии ученого» и «Д.С. Лихачев в культуре Москвы».
Московская проблематика ясно прослеживается при ознакомлении со списком печатных трудов академика Д.С. Лихачева, начиная с опубликованного еще в 1930 1940-е годы о русских летописях и культуре Руси XIV-XVI вв. Д.С. Лихачев - автор трудов (и книг, и статей) о литературе и искусстве, об общественном самосознании Московской Руси. Он инициатор, руководитель, а зачастую и непосредственный исполнитель академического типа публикаций «московской литературы», осуществленных сектором (отделом) древнерусской литературы Пушкинского Дома и для серийного издания «Литературные памятники» (там и фрагменты впервые вводимых в собственно литературный обиход статейных списков послов московского государя в книге 1954 г. «Путешествия русских послов XVI-XVII вв.»). Наблюдения над литературными произведениями московского происхождения и бытования в основе многих соображений в книгах «Текстология» и «Человек в литературе Древней Руси», в исследованиях о «предвозрождении» в России, об особенностях русского барокко,
Впервые опубл.: Д.С. Лихачев в культуре Моск-вы //Труды Отдела древнерусской литературы / РАН. Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом); отв. ред. О.В. Творогов. СПб., 2003. Т. 54. С. 37-43.
о «смеховом мире» Древней Руси. Темами специальных статей и научных докладов были творчество Андрея Рублева, миниатюры московских лицевых рукописей, градостроительная символика Успенского собора Московского Кремля, подвиг первопечатника Ивана Федорова. Д.С. Лихачев писал и о восприятии в Москве культурного наследия предшествовавшего времени (культуры Киевской Руси, Великого Новгорода, Владимиро-Суздальской Руси), и о значении созданного в Москве или воспринятого в московской общественной среде (как у Аввакума) для формирования общероссийских культурных традиций. Его вступительные слова предваряют «Изборник» - сборник произведений литературы Древней Руси в библиотеке «Всемирная литература» (статья «Первые семьсот лет русской литературы») и книги многотомни-ка «Памятники литературы Древней Руси» - там много ценного и о московской литературе. Д.С. Лихачев откликнулся рецензиями на книги по истории Москвы допетровского времени и об источниках изучения ее (о первом томе академической многотомной «Истории Москвы», монографии Л.В. Черепнина об архивах XIV-XVI вв.), редактировал книги такой тематики, даже написал краткий исторический очерк «Московский Кремль» в книгу для чтения «Юному художнику», в его трудах, и исследовательских, и популярных - запоминающиеся емкие характеристики литературы, искусства, общественного сознания Московской Руси. Но Д.С. Лихачев писал и о творивших в Москве классиках литературы XVIII-XX столетий - от Карамзина и Пушкина до Андрея Белого, Есенина, Пастернака, о московских издателях Сабашниковых, о художниках молодых поколений - Алексее Шмаринове, Наде Рушевой и, конечно же, о московских ученых в среде своих современников - не только о старших (Н.К. Гудзии, Н.И. Конраде) и сверстниках, но и о более молодых.
Понятно, что развитие гуманитарных наук в Москве и вообще распространение гуманитарных знаний стимулировалось и написанным Д.С. Лихачевым (или по его почину, под его руководством), проходившими с его участием научными конференциями. В Археографической комиссии (мною возглавляемой с конца 1960-х годов) это явственно ощущалось: и мне не раз приходилось писать об этом, причем в статьях и о Д.С. Лихачеве (в связи с его юбилеями в 1976, 1986, 1996 гг.)1, и в обзорно-обобщающих статьях о деятельности Археографической комиссии, тем более что Археографическая комиссия обязана академику Лихачеву и в организационном плане: именно после его доклада на заседании пре
зидиума Академии наук Комиссии существенно увеличили штат сотрудников, обеспечив возможность организации под ее руководством серьезной целенаправленной работы по подготовке всеми хранилищами страны Сводных каталогов и древних славянорусских рукописных книг (первый том издан в 1984 г., второй - в печати) и личных фондов отечественных историков (первый том об историках XVIII в. выходит в свет к новому году). Научные доклады академика в Москве объединяли интересы филологов и историков, искусствоведов и книговедов - знатоков и рукописной, и печатной книги, сотрудников музеев, архивов, библиотек. Академик Д.С. Лихачев обеспечил возможность регулярного издания созданного по его почину ежегодника «Памятники культуры. Новые открытия», материалы для которого собирались и редактировались в Москве. В Москве регулярно собиралась и редколлегия возглавляемого им (после кончины академика Н.И. Конрада) серийного издания «Литературные памятники». Совместная эта работа обогащала москвичей сближением с ленинградцами (петербуржцами). В Москве в декабре 1991 г. в Колонном зале бывшего Дворянского собрания отметили юбилей Н.М. Карамзина. Дмитрий Сергеевич был председателем юбилейного комитета (при заместителях москвичах), открыл заседание вступительным словом2, а еще прежде добился согласия на репринтное переиздание «Истории государства Российского» (по наиболее совершенному с указателями изданию 1840-х годов).
Д.С. Лихачев - постоянный участник коллективных трудов, готовившихся и издававшихся в Москве, автор статей в московских периодических и продолжающихся изданиях, в сборниках, посвященных московским ученым - и филологам, и историкам. В Москве издавали и книги самого ученого, и сборники статей в его честь к его юбилейным датам (прежде всего усилиями Научного совета Академии наук «История мировой культуры» и его неутомимого ученого секретаря Татьяны Борисовны Князевской); последний, изданный к 90-летию, имеет показательное название «Русское подвижничество». Научной конференцией в московском Доме ученых отмечали юбилей Д.С. Лихачева. Тенгиз Абуладзе счел возможным именно там ознакомить широкую аудиторию ученых-гуманитариев со своим фильмом «Покаяние».
Д.С. Лихачев заметно содействовал организации Музея древнерусского искусства им. Андрея Рублева и выступал совместно с московскими искусствоведами и историками (недавно
это прослежено в статьях Д.М. Абрамова об организации и становлении музея в двух выпусках «Вестника архивиста» за 2000 г.), много сделал для сохранения в Москве и в Подмосковье памяти о писателях XIX-XX вв. Без его энергичной поддержки не возник бы культурный центр «Дом-музей Марины Цветаевой».
Важной и научно перспективной была возможность участия москвичей в конференциях и заседаниях в Пушкинском Доме, в совместных с Археографической комиссией конференциях на базе Отдела рукописей Библиотеки Академии наук. В Пушкинском Доме благосклонно встречали и моих дипломников, впервые выступавших перед «академической» аудиторией (М.А. Робинсона и С.В. Чиркова на конференции памяти академика А.А. Шахматова в 1970 г.). В Пушкинском же Доме в 1996 г. на заседании памяти их однокурсника, тоже моего дипломника и аспиранта, ставшего уже доктором наук, Александра Александровича Амосова печаль объединила, при участии Дмитрия Сергеевича, петербуржцев, москвичей, сибиряков3.
Постоянным и благотворным стало общение москвичей с Д.С. Лихачевым и Зинаидой Александровной в периоды его пребывания в академическом санатории «Узкое». Там он, конечно, и неустанно работал и находил в тогда еще очень богатой библиотеке «Узкого» материалы для своих книг широкого и тематического, и хронологического диапазона - «Поэзия садов» и «Русское искусство от древности до авангарда». Вероятно, постепенно удастся собрать наблюдения Д.С. Лихачева об «интеллектуальной топографии» Москвы (как он сам это сделал применительно к Петербургу)4. Они выявляются и в напечатанном им и могут быть в его письмах, дарственных надписях на книгах, в беседах для телезрителей и радиослушателей. Одно такое его соображение из письма, мне адресованного, вошло уже в москвоведческую литературу5. В период, когда Д.С. Лихачев возглавлял Фонд культуры, он останавливался обычно в гостинице, носящей ныне название «Арбат», в Плотниковом переулке. Гостиница построена для руководителей зарубежных компартий; туда было трудно проникнуть, и телефонист коммутатора соединял с обитателем гостиницы только после его согласия. Поскольку академика, достигшего столь высокого влияния, стали одолевать просители, ему выбрали именно такую гостиницу. Мы в эти дни нередко гуляли по переулкам Приарбатья. Тогда еще сохранялся в какой-то мере «мир Пречистенки и Арбата» Бориса Пастернака, и понятным казалось замечание Бунина: «В старых переулках за Арбатом совсем осо
бый город...» Дмитрий Сергеевич, гостиница которого была расположена между местностями, где находились прежде квартиры Бердяева и Гершензона, а через дом ранее был особняк, где скончался старший сын Пушкина, как бы пытался уловить аромат этого заповедника русской литературы (тут жили и сами авторы, тут они поселяли и своих героев - от «Детства» и «Войны и мира» Л. Толстого и «Былого и дум» Герцена до произведений Б. Зайцева и Осоргина). И когда я прислал ему первый номер газеты «На Арбате» (сейчас она имеет название «Арбатские вести»), сразу же в письме от 30 марта 1995 г. пришел отклик: «...Очень тронула и газета “На Арбате” - в Петербурге любят Невский, гордятся им, но без той нежности, которую всегда ощущаешь у москвичей по отношению к Арбату. Невский слишком официален...» Его притягивали и москвичи, как бы излучавшие это «арбатство». На книге «Поэзия садов» в доме Булата Окуджавы в Переделкине - надпись очарованного встречей и знакомством в Стокгольме (куда их обоих, и только их как воплощение российской интеллигенции, пригласил Нобелевский комитет): «...самому замечательному, самому любимому, самому благородному, на добрую память о незабываемой встрече в Стокгольме...»
В московской телестудии Останкино состоялась первая длительная встреча (беседа с ответами на вопросы) с телезрителями всей страны. Но особенно действенной стала роль Д.С. Лихачева в развитии культуры и общественного сознания современной Москвы, когда он был повсеместно признан как выдающийся и влиятельный общественный деятель, т. е. с середины 1980-х годов. Дмитрий Сергеевич казался воплощением и подлинной интеллигентности, и достойного поведения публичного политика -мудрого без поспешности и склонности к внешне эффектным фразам и поступкам, доброжелательного и в помыслах, и в практической деятельности.
Уже приходилось писать и говорить о том, что это было полезно, даже необходимо для деятельной натуры Дмитрия Сергеевича. Сознание востребованности, тем более широкой общественностью, в пожилые годы особенно важно. И Д.С. Лихачев до последних дней своих оставался старейшиной нашей культуры -не только символом ее корневых нравственных устоев («нравственной вершиной», если пользоваться словоупотреблением самого Лихачева6) и освоения богатств творческого наследия, но и активным строителем современной культуры, формирующей сегодняшнее общественное сознание.
В этом отношении показателен широко и официально отмечавшийся юбилей Пушкина в 1999 г., когда состоялось едва ли не последнее публичное выступление Дмитрия Сергеевича. При обсуждении программы торжеств в связи с пушкинской годовщиной члены Государственной комиссии по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения А.С. Пушкина были единодушны в том, что слово о Пушкине должен сказать только Д.С. Лихачев (сам он из-за нездоровья не принимал участия в наших заседаниях). Составить сценарий торжественного заседания в Большом театре поручили московскому оргкомитету по подготовке и проведению 200-летнего юбилея Пушкина. Я был членом этого комитета и направил записку его председателю В.П. Шанцеву - первому заместителю премьера Правительства Москвы - с предложением упросить Дмитрия Сергеевича произнести слово о Пушкине перед камерой, чтобы, если он окажется не в состоянии выступить в Москве 5 июня 1999 г., все равно именно его слово прозвучало бы в этот вечер. Так и случилось: в день официального торжества вечером сцена Большого театра оставалась пустой (без обычного стола для президиума заседаний) и во всю ширину ее до потолка - огромное цветное изображение Дмитрия Сергеевича: он обращался и к присутствующим, и ко всем телезрителям. Других выступлений не было, остальное время отвели для концерта.
Как руководитель и вдохновитель деятельности Фонда культуры Д.С. Лихачев стремился к тому, чтобы в президиум Фонда вошли видные деятели культуры всей страны и Москва стала средоточием их взаимодействия, и особенно тех, кто был связан с корневыми культурными гнездами России. Заседания президиума и образованных при нем комиссий много способствовали и началу и закреплению нашего знакомства, расширению возможностей в сферах нашей основной деятельности, в частности, оказались важными и для развития краеведения.
Благодаря личному обаянию Д.С. Лихачева и ореолу его имени, а также, конечно, и поддержке его начинаний первой дамой страны, активно участвовавшей в работе Фонда культуры, в Фонд стали поступать ценные дары - прежде всего из зарубежья; была создана Библиотека российского зарубежья, которая по инициативе руководителя Фонда, поддержанной всеми членами его президиума, находится ныне в Доме-музее Марины Цветаевой. О том, какое большое значение для россиян имело возвращение им культуры российской диаспоры, писали и говорили не раз.
Меньше отмечали то, что личная деятельность и манера поведения Д.С. Лихачева в общении с самыми высокопоставленными лицами в государстве была тоже значительным фактом перестройки общественного сознания и общественной практики. Это напоминает о значении деятельности Карамзина в петербургский период его жизни и об оценке такого достойного поведения Жуковским, Пушкиным, Гоголем. Утвердившееся в сознании особое положение Д.С. Лихачева помогало и возрождению представлений о великой культуре Ленинграда-Петербурга не только в прошлом, но и в настоящем, а позднее и восприятию естественности восхождения на олимп политической жизни или взращенных в лоне ленинградской общественной жизни.
Личный вклад академика Д.С. Лихачева в развитие культуры Москвы очень весом. И, думается, не только преклонение перед жизненным подвигом Дмитрия Сергеевича, но и признательность за все, сделанное им для Москвы и москвичей, побудили мэра Москвы Ю.М. Лужкова приехать в день панихиды в Петербург и выступить у гроба. О кончине Д.С. Лихачева писали едва ли не все московские (нейтральные и городские) периодические издания. Девятиднев был отмечен статьей в газете «Вечерняя Москва» -«Наш великий современник», теле- и радиопередачами, 28 ноября 1999 г. был вечер памяти Дмитрия Сергеевича Лихачева в культурном центре «Дом-музей Марины Цветаевой», организованный вместе с Археографической комиссией РАН. Директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия при Министерстве культуры РФ Ю.А. Веденин сообщил тогда о присвоении институту имени Д.С. Лихачева.
Через год усилиями Надежды Ивановны Катаевой-Лыткиной и ее сотрудников издали книжечку «Вечер памяти Дмитрия Сергеевича Лихачева» с текстами выступлений: Н.И. Катаевой-Лыткиной, А.И. Музыкантского, С.О. Шмидта, А.В. Петровского, Д.В. Сарабьянова, Н.И. Михайловой, А.Д. Михайлова, А.Л. Гришунина, Ю.В. Веденина, В.П. Нерознака, Р.Н. Клейменовой, Ю.А. Бельчикова, Е.Ц. Чуковской, И.И. Ма-хаева. Пространная информация об этом заседании напечатана в Археографическом ежегоднике за 1999 г. Ею начинается раздел «Памяти академика Дмитрия Сергеевича Лихачева», где опубликованы статьи: С.О. Шмидта «Первый год без Дмитрия Сергеевича», В.Н. Топорова «Дмитрий Сергеевич Лихачев в контексте XX века», Д.В. Сарабьянова «Д.С. Лихачев и искусствознание», Н.Н. Покровского «Дмитрий Сергеевич Лихачев и начало сибир
ской археографии», Е.К. Ромодановской «О Дмитрии Сергеевиче Лихачеве. Воспоминания разных лет», Б.Ф. Егорова «Д.С. Лихачев и “Литературные памятники”», Аж. Биллингтона «О Дмитрии Сергеевиче Лихачеве».
Затем было заседание в Фонде культуры. Напечатали и мою статью «Роль Фонда культуры определялась союзом Д.С Лихачева и Р.М. Горбачевой» в сборнике ее памяти7.
Через год, 28 ноября 2000 г., в Доме-музее Марины Цветаевой снова собрались в память Дмитрия Сергеевича и знакомились с заготовками фильма, отобразившего беседу на даче Дмитрия Сергеевича с московской телеведущей Ларисой Кривцовой и министром Правительства Москвы А.И. Музыкантским.
Дмитрий Сергеевич Лихачев остается в культуре Москвы.
1 Литература об этом указана в статье С.О. Шмидта «Дмитрий Сергеевич Лихачев и Археографическая комиссия: К 90-летию со дня рождения ученого» (Археографический ежегодник за 1996 год. М., 1998. С. 214-216).
2 См.: Венок Карамзину. М., 1992 (Вступительное слово Д.С. Лихачева на с. 9-10).
3 См.: Археографический ежегодник за 1996 год. М„ 1998. С. 229 258.
4 Лихачев Д.С. Литература - Реальность - Литература (Статья «Заметки к интеллектуальной топографии Петербурга первой четверти двадцатого века (по воспоминаниям)») // Лихачев Д.С. Избранные работы. Т. 3. Л., 1981. С. 347-353.
5 Арбатский архив: Историко-краеведческий альманах. Вып. 1. М., 1997. С. 6.
6 Лихачев Д.С. Письма о добром. Пенза, 1996. С. 99.
7 Раиса: Памяти Раисы Максимовны Горбачевой: Воспоминания, дневники, интервью, статьи, письма, телеграммы. М., 2000. С. 108-112.
С Раисой Максимовной я познакомился лично только с организацией Фонда культуры. Но, конечно, благодаря СМИ имел уже представление о ее внешнем облике и манере держаться и знал о первых впечатлениях Дмитрия Сергеевича Лихачева от общения с ней.
Сначала поведение Раисы Максимовны я мог наблюдать как член правления Фонда культуры на достаточно многолюдных заседаниях, глядя из зала на сцену, где находились члены президиума. Она держалась тактично, никак не показывая особенность своего положения, хотя, конечно, не могла не заметить, что в моменты ее нечастых выступлений, даже реплик, наступала тишина внимания и выступавшие вслед за нею иногда ссылались на ее только что произнесенные слова, ссылались иногда и не к месту. Существенно было то, что она заинтересованно прислушивалась к тому, что говорили другие. У нее не было покровительственного тона, нередко обидного для других, и, что еще существеннее, не было дежурных фраз, общих слов, вопросы или замечания всегда носили деловой характер. Не позволяла она себе и разговаривать с другими в то время, когда выступали с трибуны. Видимо, такое умение держаться и искреннее внимание к обсуждаемым вопросам импонировали Лихачеву и облегчали председательствование Г.В. Мясникову, которому Дмитрий Сергеевич нередко передавал полномочия ведущего заседание.
Когда я стал членом президиума Фонда, то начал общаться уже с Раисой Максимовной на его деловых заседаниях и совместно участвовать в обсуждениях. Раиса Максимовна была активной участницей таких обсуждений, проявляла интерес даже к детальным вопросам и обращала внимание на формулировки решений, была деловита. Видимо, даже прилагала усилия к тому, чтобы не выглядеть дамой-патронессой в дни открытых заседаний с приглашением и представителей с мест, и прессы. Садилась она за общий стол: во главе стола оставались лишь Лихачев с Мясниковым, а во время обеда, который для членов президиума организо-
Впервые опубл.: Раиса: Воспоминания, дневники, интервью, статьи, письма, телеграммы. М„ 2001. С. 108-112.
вывали в комнате на втором этаже, садилась не обязательно рядом с академиком и участвовала в общих разговорах. Она не пыталась использовать привилегированное личное положение, навязывая свое мнение. Помнится, Раиса Максимовна склонна была к организации музея - выставочного зала с ориентацией на произведения, кажется, обязательно из всех национальных регионов и как будто могла рассчитывать на поддержку Мясникова. Но некоторые активные члены президиума придерживались иного мнения о назначении выставочного зала. Выяснив это, обсуждение вопроса решили продолжить на следующем заседании. Но когда и в этот раз часть присутствовавших с ее предложениями не согласилась, она не стала настаивать. И во время последующего обеда не было никаких симптомов ущемленного самолюбия, недовольства. Члены президиума и позднее позволяли себе вольномыслие, полагая это столь же допустимым, скажем, как на заседаниях руководимого Лихачевым в Пушкинском Доме Отдела древнерусской литературы, где, случалось, руководитель Отдела, почитаемый как ученый и любимый как человек, иногда оставался со своими суждениями в меньшинстве.
Обладая незаурядной наблюдательностью и тактом, первая дама государства не только проявляла деликатность, но, думается, осваивала и непривычную ей ранее манеру общения: как всякий преподаватель средней и высшей школы, она выработала привычку повторять особенно важную мысль - теми же или схожими словами, оттачивая и уточняя формулировку. А Лихачев и некоторые другие члены президиума улавливали главное с первого же захода. Убедившись в этом, Раиса Максимовна перестала следовать такому обычаю и стала говорить быстрее, отказавшись также от едва ли не обязательного для преподавателя чуть замедленного темпа речи.
Дмитрий Сергеевич, никогда не занимавший должности выше заведующего сектором академического института или председателя академической же редколлегии и академического научно-проблемного совета, не освоил в свое время клише бюрократического делопроизводства и идеологические штампы допустимых решений и формулировок и простодушно склонен был следовать здравому смыслу, опирающемуся на обычную житейскую мудрость, а то еще и на нравственные нормы многовековой давности. И это явно импонировало некоторым более молодым членам президиума из среды ученых, деятелей искусства. Чувствовалось, как воспитанная в сугубо партийно-советских традициях заседаний
парткомов и профкомов, Раиса Максимовна первоначально с некоторым недоумением воспринимала иной раз рассуждения и рекомендации почтенного академика-идеалиста. Но, поразмыслив по существу и убедившись (прежде всего благодаря своей женской интуиции) в бескорыстной направленности его намерений, а как правило, и в практической мудрости предложений, не только не останавливала его, но все в большей мере поддерживала и сам стиль подобного руководства (тем более что многоопытный Георг Васильевич Мясников знал, как в конечной редакции устранить формулировки, вызывающие особое недоумение).
Следует особо отметить общественное значение союза в руководстве Фондом культуры Раисы Максимовны и Дмитрия Сергеевича. Для людей, сформировавшихся в понятиях о советском менталитете, допускавшем лишь единомыслие и обязательное следование установкам свыше, идеи Лихачева не оказались бы столь результативными для развития и общественного сознания, и культуры, если бы не было у него взаимопонимания с Раисой Максимовной, ее поддержки, тем более что широко известно было, даже самым опасливым и несамостоятельным, о ее личном авторитете в высших сферах, о редкостной духовной близости четы Горбачевых. Роль Фонда культуры и в России, и за ее рубежами в основном определялась союзом Лихачева и Горбачевой.
Нужно было обладать особой душевной тонкостью, дальновидностью и в то же время смелостью, способностью противостоять стандартам, чтобы доверить именно Лихачеву руководство Фондом культуры. И пригласить его не для украшения Фонда импозантным и всем заметным «архитектурным излишеством», а доверить именно практическое руководство, обеспечить реальное право вмешиваться во все дела и формулировать в СМИ свои намерения и свое понимание способов использования и обогащения культурного наследия. Ведь незадолго до того Лихачев был опальным: в дни грандиозного празднования юбилея Академии наук в середине 1970-х годов он едва ли не единственный из академиков не был удостоен награждения орденом. Благодаря публичному - по телевидению - выступлению в защиту памятников и природы Ленинграда и его окрестностей он стал к тому же и невыездным, хотя признавался за рубежом самым выдающимся советским ученым-гуманитарием, больше, чем кто-либо другой, имел званий члена иностранных академий и степеней доктора зарубежных университетов. Ранее в партийных органах это считали знаком небезопасной для официальной идеологии,
особой близости чужим для нас взглядам, что и использовалось против ученого.
Раиса Максимовна уловила, что великий ученый-исследователь и мастер слова, напротив, особенно ценен тем, что мыслит в рамках не партийного догматизма, а в широкой сфере проблематики и нравственных ценностей мировой культуры, и, конечно, почувствовала, как велико личное обаяние Лихачева как человека, как притягательно для многих общение с ним - и в нашей стране, и за ее рубежами, и пожилых, и молодых. Поняла она и то, что этот убежденный интернационалист является прежде всего патриотом своей страны, отечественной культуры и стремится к тому, чтобы во всем мире получили представление о величии и особенностях нашей культуры, оценили ее, причем не только в великих творе- ' ниях гениев, но и в обычных ее проявлениях. Она могла убедиться в том, что именно Лихачев в большей мере, чем кто-либо из наших даже очень знаменитых современников, является продолжателем линии развития общественного сознания, восходящей еще к Новикову и Карамзину, Жуковскому и Пушкину, когда придается особое значение нравственным традициям и сохраняется вера в то, что просвещение - главный путь и к совершенству отдельной личности, и к переустройству мира. Думается, что это казалось привлекательным Раисе Максимовне в образе мысли и поведении Лихачева. Поверила она и в его добрые намерения, а он поверил ей. И во многом именно благодаря ей (притом что во взаимоотношениях у них не всегда было полное взаимопонимание) получил возможность на старости лет столь часто и эффективно публично обращаться к обществу, пытаться воспитывать его в желанном ему духе, на практике реализовать многие свои пожелания, воздействовать даже на чиновничий аппарат.
Благодаря ее поддержке удалось так скоро и широко осуществить сближение с зарубежной диаспорой, а затем и получить в дар от эмигрантов и их потомков сохраненные памятники нашей истории и культуры, создать Дом-музей Марины Цветаевой, передав туда на хранение полученные документальные памятники. Конечно, передавали, доверяя известному и уважаемому за рубежом личному авторитету Лихачева, его имени, и особенно ценили его личное участие в самом акте передач на Родину нашего наследия и публикации об этом в журнале того же названия. Но, несомненно, учитывали и то, что соучастие в такой деятельности Фонда культуры Раисы Максимовны обеспечивает уверенность в будущем этих дорогих реликвий. А такая деятельность в
ту пору существенно способствовала повороту в сознании многих: российской культуре возвратили то, что создано было в эмиграции, вернули отечественной истории многие славные имена, теперь они уже и в программах обучения в средней школе. Лично Раиса Максимовна много содействовала столь интенсивно развивавшейся деятельности по поддержке юных талантов - ныне акция «Новые имена» получила уже всемирное признание. Поддерживала она и возникновение самостоятельных программ Фонда культуры, в том числе по развитию краеведения, возглавляемую мною, а при новом руководстве Фонда лишенных возможности дальнейшей деятельности. Она способствовала творческой работе президиума Фонда, созданию атмосферы живого обмена мнениями. Ныне, с ликвидацией президиума Фонда, этого уже нет.
Исторические явления оценивают и по тому значению, которое они имели для современников (и, соответственно, по восприятию их современниками), и по тому, каково было их влияние на будущее. Полагаю, что с годами положительные последствия сделанного Фондом культуры в лихачевские времена и роль в этом Раисы Максимовны Горбачевой будут восприниматься все с большей очевидностью.
Сегодня, 28 ноября 1999 г., мы первый раз не можем поздравить Дмитрия Сергеевича с днем рождения: прошло менее двух месяцев со дня его похорон. Для тех, кому близок Дмитрий Сергеевич как человек, ощущение тяжкой утраты не пройдет. Более того, становится, пожалуй, еще более ощутимо, что он был важной частью не только нашего общественного бытия, нравственной доминантой его, но и личной жизни. И потому можно утверждать, что те, кто был осчастливлен общением с Дмитрием Сергеевичем, тем более одарен его благорасположением, навсегда сохранит его образ в своей душе. Нам это необходимо для поддержания и самих себя, и для того, чтобы достойно вести себя в наше нелегкое время.
Но мы понимаем, что наш долг - и не только в память великого старшего современника, но для того, чтобы передать достойнейшее в нашем культурно-нравственном наследии гражданам грядущего века, - рассказать о Лихачеве всем, кто лично не был с ним знаком, побудить их к чтению его трудов, восприятию его выступлений перед телеэкраном, одарить и XXI век академиком Лихачевым. Как историк рассчитываю и на то, что образ Лихачева, труды его будут убеждать в том, что следует с большим уважением относиться к своему прошлому, что понимание взаимосвязи времен - в основе развития культуры.
Это заседание проходит в гостеприимном Доме-музее Марины Цветаевой, возникшем во многом благодаря инициативной поддержке Дмитрия Сергеевича, ставшем ныне одним из заметных центров культурной и научной жизни Москвы, и особенно Приарбатья. Оно организовано музеем и проходит совместно с Археографической комиссией Российской академии наук, одна из главнейших задач которой - сохранять и изучать наше историко-
Впервые опубл.: Археографический ежегодник за 1999 год. М., 2000. С. 388-393. Это измененный и расширенный текст вступительного слова (на совместном заседании Археографической комиссии РАН и Дома-музея Марины Цветаевой, посвященном памяти Д.С. Лихачева); наиболее приближенный к выступлению текст - в сборнике материалов памяти Д.С. Лихачева, подготовленном к печати Домом-музеем Марины Цветаевой. (Вечер памяти Дмитрия Сергеевича Лихачева: Первые чтения. 28 ноября 1999 г. М., 2000. С. 15-30,61, 62, 69-72.)
культурное наследие. А жизнь и труды академика Лихачева воспринимаются как особо драгоценное его достояние. Трудно предвидеть с уверенностью, как будут оценивать наше время и его деятелей потомки, но хотелось бы, чтобы эталоном достижений в науке и нравственности в общественном поведении для них стало имя Дмитрия Сергеевича Лихачева. И если случится так, то небезынтересным окажется написанное и сказанное о нем и об отношении к нему даже тогда, когда еще не все отстоялось в сознании, нет еще четких словесных формулировок, не отделено субъективное от объективного и немало остается попросту неизвестным. Можно полагать, что возникнет и некрасивый в произношении термин «лихачевоведение» (как утвердился уже термин «окуджавоведение») - термин на перекрестии нескольких наук и областей творчества. И охватывать он будет не одну сферу знания. Ибо Лихачев - великий ученый, при жизни во всем мире признанный классиком в области и истории древнерусской литературы, и теории литературоведения, и специальных историко-филологических наук.
Д.С. Лихачева можно сравнить по многообразию проблематики его научных трудов, масштабности и результативности исследований с такими корифеями наших гуманитарных наук, как академики Ф.И. Буслаев, А.Н. Веселовский, А.А. Шахматов. И нет сомнения в том, что дальнейшее развитие науки о древнерусской литературе, о взаимосвязи словесности и искусства, а также специальных историко-филологических наук будет опираться на сотворенное академиком Д.С. Лихачевым, а многотомное издание под его руководством памятников древнерусской литературы останется основой изучения ее.
Лихачев - и неутомимо изобретательный и смелый организатор науки, создатель научной школы и ученый-просветитель. Он и писатель, воплощавший в своем творчестве традиции эссеистики и мемуаристики русской классической литературы, образности и лаконичности ее языка. И эта его деятельность должна будет обязательно найти отражение в учебных пособиях и исследованиях соответствующей проблематики.
Но академик Лихачев - и видный общественный деятель, слова и дела которого оказали немалое влияние на ход общественной жизни, сознание современников, притом не только в нашей стране. Этому следует найти место в трудах историков, социологов, культурологов.
Думаю, что редкостное творческое долголетие ученого, его способность и после 80- и даже 90-летия откликаться быстро и с привычными творческими ассоциациями и практическими рекомендациями на современнейшие явления науки и общественной жизни - явление исключительное; этот феномен может заинтересовать научную мысль ученых-медиков и других специалистов в области естественных наук.
В Археографических ежегодниках не раз публиковались статьи о деятельности академика Лихачева в сферах археографии, источниковедения, историко-филологических наук, о той помощи, которую он оказывал Археографической комиссии в ее работе. Приходилось мне писать об этом и в других изданиях, и в широкой прессе, опираясь подчас на архивные материалы - письма Дмитрия Сергеевича основателю и первому председателю Археографической комиссии академику М.Н. Тихомирову. Об этом круге научных тем повторяться не стану.
Так как мы собрались в Москве и приходящие на вечера в Дом-музей Цветаевой привыкли к тому, что москвоведение, культура Москвы - особенно частые темы разговора в этом зале, позволю себе привлечь внимание к теме «Дмитрий Сергеевич Лихачев и Москва»; об этом, хотя и коротко, уже напечатано в моей статье в газете «Вечерняя Москва» за 8 октября 1999 г. («Наш великий современник: сегодня - девять дней, как умер Дмитрий Сергеевич Лихачев»),
Дмитрий Сергеевич - петербуржец по рождению, воспитанию, манере поведения. Он преданно любил свой родной город и старался воспитать любовь и уважение к Петербургу у молодых поколений, много писал и говорил о Петербурге, оставил воспоминания о нем. Именно его по праву первым удостоили высокого звания «Почетный гражданин Петербурга». Он досконально знал и Петербург, и его окрестности, и историю их изучения и заинтересованно следил за всем новым в петербурговедении. Я мог убеждаться в этом и в самое недавнее время как председатель жюри по присуждению анциферовских премий за труды по петербурговедению.
Но Д.С. Лихачев хорошо знаком был с прошлым и настоящим Москвы и много сделал для изучения ее истории, сохранения ее памятников, утверждения роли Москвы в развитии культуры России и мира. В его трудах - и исследовательских, и популярных -запоминающиеся емкие характеристики литературы, искусства, общественного сознания Московской Руси. Он писал и о клас
сиках литературы конца XVII-XX в. (от Карамзина до Андрея Белого, Есенина, Пастернака), и об искусстве московского авангарда, и даже о рисунках Нади Рушевой. На протяжении многих лет он постоянно работал и отдыхал в Узком; в богатой тогда библиотеке санатория Академии наук он находил литературу и для своих книг «Поэзия садов» и «Русское искусство от древности до авангарда». В Москве с его участием (а часто и по его инициативе) проходили многие научные конференции об изучении древнерусской литературы, книжности, истории культуры, о современных проблемах культурологии. В Москве в декабре 1991 г. состоялось заседание, посвященное юбилею Н.М. Карамзина: Д.С. Лихачев возглавлял юбилейный комитет, произнес вступительное слово, добился репринтного переиздания «Истории государства Российского». В московском Доме ученых проходила и научная конференция, посвященная 80-летию академика, а в Научном совете по истории мировой культуры готовили сборники в его честь -последний, изданный к 90-летию, имеет показательное название «Русское подвижничество».
Как руководитель и вдохновитель деятельности Фонда культуры Д.С. Лихачев стремился к тому, чтобы в президиум Фонда вошли видные деятели культуры всей страны и Москва стала средоточием их взаимодействия. Благодаря его личному обаянию и ореолу его имени в Фонд стали поступать ценные дары - прежде всего из зарубежья, была создана Библиотека российского зарубежья, которая по инициативе председателя Фонда культуры, поддержанной всеми членами его президиума, находится ныне в Доме-музее Марины Цветаевой. Д.С. Лихачев - инициатор и таких заметных московских изданий, как ежегодник «Памятники культуры. Новые открытия», журнал «Наше наследие». Личный вклад академика Д.С. Лихачева в развитие культуры и науки Москвы очень весом. И думается, что не только преклонение перед жизненным подвигом Дмитрия Сергеевича, но и признательность за все сделанное им для Москвы и москвичей побудили мэра Москвы Ю.М. Лужкова приехать в день панихиды в Петербург и сказать душевное слово.
Д.С. Лихачев ощущал даже культурно-топографические особенности нашего города. В период, когда он возглавлял Фонд культуры, Д.С. Лихачев останавливался обычно в гостинице, ныне носящей название «Арбат», в Плотниковом переулке. Мы гуляли по переулкам Приарбатья, где ученый как бы впитывал аромат этого заповедника русской литературы и затем проникновенно
отметил в письме: «...в Петербурге любят Невский, гордятся им, но без этой нежности, которую всегда ощущаешь у москвичей по отношению к Арбату, Невский слишком официален...»
Дмитрий Сергеевич был и прирожденным воспитателем общественного сознания, формирующим представления о нравственности и культуре, об отношении к историко-культурному и природному наследию, о богатстве родного русского языка. Он придавал большое значение своей работе по написанию произведений для широкой аудитории, для детей, выступлениям на телевидении, по радио. Д.С. Лихачев - и великий педагог, потому именно его избрали первым почетным членом Российской академии образования. Думается, что это отражает и характерное для его личности: Дмитрий Сергеевич был добрым, нежным, уважающим сыном, мужем, отцом, дедушкой, прадедушкой. В общении с самыми близкими, родными людьми как бы вырабатывал особо доверительную манеру обращения, простоту запоминающегося и доступного слова.
В последнем телефонном разговоре со мною Дмитрий Сергеевич радовался новому, вышедшему этой осенью в Петербурге изданию его книги для молодых читателей «Письма о добром». Это перепечатка книги, изданной в Пензе в 1996 г. к 90-летию Д.С. Лихачева, с предисловием «О добром и прекрасном человеке» в ту пору президента Российской академии образования А.В. Петровского и моим послесловием «О жизни и деятельности Дмитрия Сергеевича Лихачева». Какой прекрасный подарок детям Петербурга! Необходимо, чтобы и московские дети и их родители обогатились подобным изданием.
«Мне бы легко было написать то, чего хотели, но не надобно же пропускать такого случая, чтобы сделать добро», - говорил возвращенный из ссылки Пушкин, объясняя, почему он именно так написал записку императору о народном воспитании. Этим же руководствовался и Д.С. Лихачев. Вот слова из его последней беседы с корреспондентом «Московских новостей» (1999 г., 5-11 октября. С. 13): «Я рад, если что-то могу сделать для других, если кому-то может пригодиться мой совет или мнение по тому или иному вопросу. Признаться, иногда сомневаюсь, что могу переломить ситуацию, но, если мое участие хотя бы в виде подписи дает кому-то надежду в нынешних непростых условиях, я обязан откликнуться».
Дмитрию Сергеевичу чуждо было равнодушие, хотя и он оставался подчас субъективным во вкусах и оценках. Известно,
какое значение имело его вмешательство в ход того или иного дела, какой вызывало общественный резонанс и как неблагоприятно иногда это отражалось на его личной судьбе (к примеру, после его выступления перед телезрителями в защиту Невского проспекта и парков в окрестностях Петербурга он вызвал гнев ленинградского партийного руководства и едва ли не единственный из академиков не был отмечен, когда было массовое награждение орденами в связи с 250-летием Академии наук). Сколько памятников культурного и природного наследия обязаны Дмитрию Сергеевичу своим сохранением, о скольких памятниках мы узнали именно благодаря ему! А как эффективно и своевременно было его участие и в общественной жизни (вплоть до недавнего обращения к Президенту России с советом принять участие в захоронении останков царской семьи в Петербурге).
Поведение, характер мышления, направленность культурных интересов Д.С. Лихачева обычно возводят к культуре начала столетия, т. е. к так называемому Серебряному веку. Полагаю, что справедливее было бы усматривать корни этого еще в начале XIX столетия, когда представлялись неотделимыми культура и нравственность и «свое писательское дело, по определению самого академика, авторы воспринимали как служение Родине». Деятельность Д.С. Лихачева в традициях Карамзина, Жуковского, Пушкина, убежденных в преобразующей силе просвещения, воспитывающего нравственное чувство и общественное мировоззрение, в особом значении преемственности исторических представлений. Для них воспитание души было основой обучения, и высокая мудрость всегда смягчалась чувством. Их сближало и убеждение в том, что российская история - сфера и мировой истории, а российская литература - часть всемирной. Им, истинным патриотам России, был глубоко чужд национал-шовинизм, и Д.С. Лихачев, автор книг и статей «о русском», и в творчестве своем, и как руководитель серийного издания «Литературные памятники» старался обеспечить знакомство россиян с литературой народов мира.
Убежденный в том, что «духовность - главная ценность», а «нравственность - основа культуры», он всегда жил «с думой о грядущем» (это все заголовки его сочинений). Д.С. Лихачев использовал свой авторитет для служения идее добра, при этом не поступаясь собственным достоинством, оставаясь в ладу с самим собой. Так воспринимался и Карамзин, который, по определению Гоголя, «показал, что писатель может быть у нас независим и почтен всеми равно, как именитейший гражданин в государстве».
С академиком Лихачевым прощались торжественно и официально. В зале Таврического дворца был даже воинский почетный караул. Некоторых это покоробило, и мне, как человеку близкому к Дмитрию Сергеевичу и к его семье, понятно, как это не вяжется с достоинством их неизменно скромного интеллигентного обихода жизни. Но как историк, знающий, что державность -в основе наших государственных представлений, я был удовлетворен тем, что высшие официальные почести воздаются наконец первому интеллигенту России, достойнейшему ее гражданину, никогда не занимавшему должности более высокой, чем заведующий отделом академического института. Также меня порадовало и то, что с возрождением высшего ордена Андрея Первозванного первым наградили Дмитрия Сергеевича.
О таком человеке неверно говорить, что он ушел из жизни. Он ушел из нашей повседневности; знавшие его лично навсегда утратили прелесть общения с ним. В наших душах и сердцах Дмитрий Сергеевич сохранится, конечно, навсегда. Но Лихачев должен остаться в жизни и грядущих поколений, и не только в истории науки. Сейчас уже решено готовить книгу его сочинений в серии «Литературные памятники», ибо Лихачев - классик русской эссеистики, мастер литературного портрета. Необходимо собирать материал и для томов издания типа «Научное наследие», включая материалы, важные и для изучения исследовательской лаборатории ученого, и теле- и радиопередач, и обязательно эпистолярное наследие, срочно выявляя письма у адресатов (или их наследников). А перевод теле- и кинофильмов с участием Лихачева на долговременную техническую основу - едва ли не самая первоочередная задача.
Дмитрий Сергеевич из тех немногих выдающихся людей последних десятилетий, кто владел утрачиваемым - увы! - искусством сочинения писем. Темой их были и научные проблемы, именно там обосновывались и формулировались и оригинальные научные суждения (как в переписке с поэтом Николаем Асеевым о «Слове о полку Игореве» или в письмах к академику М.Н. Тихомирову об изучении и издании лицевых, т. е. иллюстрированных, рукописей средневековой Руси и исследовании особенностей письма в различных скрипториях). Но там отражено существенное и в нашей государственно-политической истории, общественном обиходе повседневности, в развитии культуры. А доверительная манера Дмитрия Сергеевича, его заинтересованность в мнении собеседника побуждали и писавших ему к интересным размышлени
ям, воспоминаниям, важным для историка, социолога, психолога, культуролога. Потому целесообразно готовить к печати всю переписку (т. е. обеих сторон) или описание ее. Именно в комплексе: это особенно ценный памятник истории и культуры.
Написанное и сказанное Д.С. Лихачевым - дар, который передает уходящий век грядущему. Жизнь Дмитрия Сергеевича Лихачева, сотворенное им должны прочно войти в сознание как одна из опор корневой системы наших нравственности и культуры
ИСТОРИОГРАФИЯ
Е.А. Болховитинов и становление науки российской истории
Жизни и творчеству Е.А. Болховитинова в связи с 225-летием со дня его рождения в 1992-1993 гг. были посвящены русско-украинские чтения в Воронеже и Киеве (тезисы докладов и сообщений изданы в Воронеже в 1992 г.), а также научные чтения в Библиотеке РАН в Петербурге (информация о них помещена в «Археографическом ежегоднике» за 1992 г.). Эти конференции закрепили представление о выдающейся роли митрополита Евгения (Болховитинова) в истории отечественной культуры времен Державина, Карамзина и Пушкина.
Тематика данной конференции связана лишь с одной из областей многосторонней плодотворной деятельности знаменитого уроженца воронежского края. Но сделанное им в этой области во многом предопределило развитие краеведения не только в воронежском регионе, но и во всей нашей стране, обусловило понимание «местнографии» как предмета изучения и ее взаимосвязей с другими сферами знания и просветительской деятельности. И хотя нашей конференции можно дать название «Болховитинов и 200 лет воронежского краеведения» и изданный накануне отдельной книжкой краткий обзор А.Н. Акиныпина и ОТ. Ласун-ского имеет заголовок «Два века воронежского краеведения: люди, труды, события», рассматриваемая сегодня и здесь проблематика -всероссийского интереса. Как председатель Археографической комиссии Российской академии наук и Союза краеведов России выражаю глубокую признательность инициаторам и организаторам конференции. Это радующее нас ощутимое свидетельство жизненности болховитиновских традиций.
Показательно, что после всемирного масштаба празднования пушкинского юбилея (1999) в 2000 г. отмечаются как праздники национальной культуры 200-летие со времени первого издания «Слова о полку Игореве» (этому событию посвятили очень представительную научную конференцию в Ярославле и Рыбинске, с
Впервые опубл.: Е.А. Болховитинов и становление науки российской истории // Из истории воронежского края: Сб. ст. Воронеж, 2001. Вып. 9: С. 4-15.
участием и россиян, и гостей, приехавших из ближнего и дальнего зарубежья, мне оказали честь, пригласив выступить с заглавным докладом «Первое издание “Слова о полку Игореве” в развитии культуры России») и 200-летие издания краеведческого труда Болховитинова. Эти издания, как сейчас окончательно стало ясно, стоят у истоков многих достижений наших соотечественников в развитии специальных (или вспомогательных) научных дисциплин - и филологических, и исторических.
Обращение к круглым датам, возвращающее память к крупнейшим явлениям прошлого, всегда имеет знаковое значение для того времени, когда отмечается та или иная годовщина. Юбилейные торжества обычно показывают, что и когда выделяется и оценивается потомками из многообразия минувшей жизни, на какие события, личности, памятники культуры направлено внимание, что из ранее пропагандируемого (или изучаемого) теперь вызывает меньший интерес у властных структур, широкой общественности или ученых. Отбор и оценка явлений прошлого - всегда показатель современного общественного сознания, новейшего уровня историко-культурных представлений и научных знаний. О том же свидетельствует сам факт переиздания сочиненного и напечатанного в прежние эпохи.
Примечательно, что оба воспроизведения труда Болховитинова о Воронежской губернии (1912, 1992) осуществлены на «малой родине» автора. Следует обратить внимание и на даты переиздания. В канун Первой мировой войны наблюдался почти повсеместно заметный подъем краеведческой деятельности и организационно укреплялись взаимосвязи краеведения с «большой» академической наукой. Именно в ту пору утвердилось в разговорном языке и в лексиконе ученых и педагогов само слово «краеведение»: его еще нет ни в «Толковом словаре живого великорусского языка», составленном В.И. Далем, ни в «Энциклопедическом словаре», издававшемся Брокгаузом и Ефроном. Зато в незавершенном «Словаре русского языка», подготовленном Академией наук, в выпуске, вышедшем в 1916 г., уже находим «краеведение» (ранее употребительны были термины «родиноведение», «отече-ствоведение», «отечествознание»). Это свидетельствовало и об усилении интереса на местах к познанию прошлого и настоящего своего края. Воспитание краеведением входило в школьные учебные программы со своеобразным для каждой местности отбором материала. Развивалась экскурсионная практика. Все больше выходило изданий, посвященных местным памятникам истории
и культуры. Обращалось особое внимание на местные архивы и музеи.
Влиятельнейший в те годы академик А.С. Лаппо-Данилев-ский (ныне почитаемый как классик в области источниковедения и методологии истории, но еще в 1950-е годы шельмовавшийся в печати за свои общественно-политические взгляды и якобы идеалистические воззрения) выступил с докладом о деятельности губернских ученых комиссий за 1904-1911 гг. (изданв 1913г.). Вскоре было принято решение об организации под покровительством властей таких комиссий во всех губерниях. Сам А.С. Лаппо-Данилевский стал руководителем особой комиссии по сохранению местных архивных материалов при Русском историческом обществе,азатем,в 1917г., иСоюзароссийскихархивныхдеятелей, одной из главных задач которого было обеспечить выявление, сохранение и изучение документов по местной истории. Знаменательно, что в 1913 г. напечатана составленная академиком программа международного исторического конгресса в Петербурге, намеченного на 1918 г. Следовательно, Россия мыслилась мировым сообществом историков как одно из средоточий результативной научной работы. Во всем мире тогда усиливался интерес к так называемой локальной истории и определению ее места в общем процессе исторического познания. Такая тенденция подчеркивала отношение к деятельности краеведов как естественной составной части общей работы российских ученых. И неслучайно организацию краеведческой работы в 1920-е годы возглавил академик С.Ф. Ольденбург, близкий, со студенческих лет, друг скончавшегося в 1919 г. А.С. Лаппо-Данилевского. Подъем краеведения в начале XX в. во многом обусловил достижения его «золотого десятилетия», до 1929 г., когда в зловещий год «великого перелома» были порушены его основы, ликвидированы многие краеведческие объединения и музеи, обесценены в научном плане сохранившиеся музейные экспозиции, репрессированы подвижники-краеведы, а их издания запрятаны в спецхраны (о преследованиях воронежских краеведов содержится много данных в трудах А.Н. Акиньшина). Тем самым был нанесен непоправимый урон не только науке и просвещению, но и нравственному воспитанию молодежи, а также развитию культуры на местах.
Снова труд Болховитинова о Воронежской губернии был издан в 1992 г. усилиями всероссийски известного воронежского историка профессора В.П. Загоровского (в сборнике «Воронежский край XVIII века в описаниях современников»), А в 1995 г. пе
реиздан Свято-Троицкой Сергиевой лаврой выдающийся научносправочный труд митрополита Евгения «Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина Греко-Российской церкви» с приложением и некоторых других его работ. Переиздание трудов Болховитинова, и особенно юбилейные конференции его памяти, свидетельствуют о возвращении славного имени в лоно сегодняшней культуры. Одновременно это и показатель меняющегося в России отношения к роли церкви и вообще религиозного начала в общественной жизни и культуре, утверждающегося осознания высокой исторической и художественной ценности памятников истории и культуры церковного происхождения и предназначения. По-иному стали судить и о значении трудов ученых священнослужителей в развитии и распространении научных знаний в сфере гуманитарных наук, в частности археографии (об этом подробнее - в статье памяти выдающегося историка и археографа недавних десятилетий отца Иннокентия (Анатолия Ивановича Просвирнина) в № 6 журнала «Отечественные архивы» за 1994 г.; перепечатана в книге моих трудов «Археография. Архивоведение. Памятниковедение» (1997)). Изменилось и отношение к сфере краеведения, к краеведческой деятельности, к оценке научного потенциала краеведческих трудов.
В выдающейся для своей эпохи книге Н.К. Пиксанова «Областные культурные гнезда» (1928) особенно выделены материалы, относящиеся к воронежскому краю времен всероссийски известных поэтов Кольцова и Никитина. О Болховитинове и его окружении тогда, в пору набиравшего силу воинствующего атеизма, не положено было писать. Но и в моей книжке «Краеведение и документальные памятники» (1992) нет информации о трудах Болховитинова. Десять лет назад к восстановлению историографии краеведения только приступали. Ныне фонд литературы такой тематики - и не только статей, но и книг, причем и монографического типа - существенно расширился, благодаря, главным образом, усилиям провинциальных высших учебных заведений, музеев, архивов, библиотек. В этом видится отражение возрастающего во всем мире интереса к региональной и локальной истории, к «микроистории», к истории повседневности, а также к использованию в этом плане междисциплинарных связей и методик.
Нельзя попутно не отметить и все более изменяющееся наше представление о предмете «историография» (т. е. история исторической науки, исторической мысли, распространения исторических знаний). Теперь исследователи не ограничиваются вни
манием к политико-идеологическому контексту, к обоснованию концепций исторического процесса и в целом, и в конкретных его формах (в разные эпохи, на разных территориях, в различных сферах государственно-политической, социально-экономической и духовной жизни общества), для историографа считается важным введение в научный оборот новых фактов и методик выявления и изучения исторических источников. Соответственно, перестала быть «золушкой» и историография краеведения.
Уже в книге О.Г. Ласунского «Литературная прогулка по Воронежу» (1985), привлекательной и в методическом плане, поучительной отнюдь не только для воронежцев, отмечена деятельность Болховитинова как «просветителя-энциклопедиста», заслужившего своим «Описанием» 1800 г. «в наших глазах звание воронежского Колумба». Напомним, что в русской литературе XVIII в. «Колумб» - знаковое слово, символ первооткрывателя: Ломоносов характеризовал как «колумбов росских» тех, кто осваивал Северный Ледовитый океан, Пушкин, когда появились первые восемь томов «Истории государства Российского» Карамзина, писал: «Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка - Коломбом». И даже в недавнее время Юрия Гагарина стали называть «Колумбом космоса».
Рассматривать и особенно оценивать какое-либо историческое явление следует в контексте и той эпохи, и нашей (т. е. с применением сегодняшних историко-культурных знаний и представлений). При этом, конечно, необходимо избегать примитивного подхода с позднее выработанными критериями, тем более вульгарного идеолого-политического порядка. События минувшего нужно анализировать с учетом и степени новизны сравнительно с тем, что было прежде, и того значения, которое они имели для современников, и своего воздействия на будущее. А если речь идет о каком-либо сочинении, то важно и то, как оно востребовано потомками: ведь особо значимое нередко становится более очевидным по прошествии времени.
Исходя из этих соображений, постараюсь наметить возможности подхода к труду Болховитинова о Воронежской губернии и с точки зрения творческой биографии автора, и в плане историографии, т. е. развития научных исторических знаний и массовых исторических представлений. Важно показать, в какой мере «Описание» явилось результатом работы предшественников и самого Болховитинова и какое влияние оно оказало на творчество историков, и прежде всего краеведов, в XIX столетии.
Выход в свет исследования о Воронежской губернии совпал с принятием его автором монашества: Болховитинов покинул Воронеж и переехал в Петербург. К тому времени он уже в такой мере сотворил в себе разностороннего ученого-гуманитария, что сразу же смог войти в элитарную среду столичного общества.
Начальный период жизни и творчества Болховитинова основательно изучен в магистерской диссертации Е.Ф. Шмурло «Митрополит Евгений как ученый. Ранние годы жизни», изданной в виде книги (1888). Примечательно, что именно Болховитинову, вслед за Ломоносовым, была посвящена столь пространная монография, специально об одном ученом; в первоначальном, статейном, варианте труд Е.Ф. Шмурло имел заголовок, еще четче раскрывающий его направленность: «Евгений, митрополит киевский. Очерк развития его ученой деятельности в связи с биографией». В Казани была вскоре опубликована магистерская диссертация «Труды митрополита киевского Евгения Болховитинова по истории русской церкви» (1889), принадлежавшая перу Н.И. Полетаева, ставшего позднее известным церковно-школьным деятелем. Сосредоточившись на трудах Болховитинова соответствующей тематики, Н.И. Полетаев рассматривал их на фоне «разработки русской исторической науки в первой половине XIX века» (таково название одной из статей рано скончавшегося ученого).
Книга Е.Ф. Шмурло характерна для петербургской исторической школы К.Н. Бестужева-Рюмина с ее упором на источниковедение историографии, а не на осмысление историко-философских и особенно общественно-политических взглядов, как это было у выходцев из московской школы В.О. Ключевского, П.Н. Милюкова и М.Н. Покровского. К.Н. Бестужев-Рюмин в большой рецензии, подготовленной для журнала «Русский вестник», высоко оценил исследование своего ученика, отметил верность характеристики образа поведения Болховитинова: «Необходимость работы была присуща понятиям Евгения: труд не был для него делом внешним, посторонним, но был необходимым элементом его существования, без него не так легко бы дышалось и думалось. Труд был и отдых, и успокоение, и счастье».
Книга Шмурло, несправедливо обойденная пока вниманием историографов, на самом деле была одним из высших достижений российской историографии, библиографии и книговедения своего времени. Но впоследствии, особенно в послевоенные годы, когда Ю.М. Лотман стал детально исследовать все, что связано с Н.М, Карамзиным и его окружением, а в Пушкинском Доме
П.Н. Берков, а затем и более молодые ученые готовили сборники «XVIII век» и справочные издания о писателях XVIII в., в научный оборот был введен огромный новый материал, не известный еще в последней четверти XIX столетия. И теперь, размышляя о творчестве Болховитинова, должно учитывать результаты этих исследований и документальных публикаций. Существенно обогатились и наши представления о раннем этапе истории российской интеллигенции, что отражено, в частности, в сборнике статей 1999 г. «Русская интеллигенция: история и судьба», подготовленном Научным советом РАН по истории мировой культуры. Все это позволяет попытаться сформулировать некоторые выводы и наблюдения социокультурного характера.
В конце XVIII столетия интеллигенция формировалась и в обеих столицах, и в больших городах, прежде всего губернских. Всюду обитали те, кого позднее стали характеризовать как «читающую публику» (а также, конечно, в сельских усадьбах, где в определенное время года или даже постоянно жили лица этого круга). В среде тех, кого в наше время зачастую определяют как творческую интеллигенцию, т. е. работающих в сфере искусств, литературы, науки и преподавания, изначально были не только потомственные аристократы (их сравнительно много лишь среди писателей и, пожалуй, еще музыкантов, точнее сказать, композиторов), но и выходцы из сословий духовенства и купечества, а также иностранцы. Выдвинувшийся благодаря личным дарованиям, высокой образованности, живости характера сын священника Евфимий Алексеевич Болховитинов не был в ту пору исключением. И сближение лиц разных сословий происходило еще в годы учения, как у того же Болховитинова, посещавшего лекции в Московском университете во второй половине 1780-х годов, в период обучения в Славяно-греко-латинской академии.
Как знаем теперь, после издания в 1999 г. монографии С.С. Илизарова «Московская интеллигенция XVIII века» (начавшей серию «Деятели науки и просвещения Москвы XVIII-XX вв. в портретах и характеристиках»), Болховитинов оказался в Москве, когда там особенно интенсивно проявлялась умственная жизнь, обнаруживалось разнообразие просветительских устремлений, и молодежь, поддерживаемая знаменитыми уже лицами старших поколений, действительно овладевала богатствами мировой культуры.
В биографии Болховитинова существеннейшим оказалось и то, что он сблизился с кружком Н.И. Новикова, причем именно
тогда, когда к кружку относил себя и молодой Карамзин. Можно полагать, что труды Болховитинова (возможно, с дарственными надписями) находились в сгоревшей в 1812 г. личной библиотеке историографа: в «Истории государства Российского» о Болховитинове говорится с особым почтением как об «ученом архиепископе» (в примеч. 818 к IX т.); имеется там и указание на то, что Карамзин приводимыми «замечаниями» обязан «сочинителю» «Исторических разговоров о древностях Новгорода» (примеч. 360 к IV т.). В окружении Новикова Болховитинов мог серьезно познакомиться с современной иностранной литературой и обрести навыки переводчика: опять-таки путь формирования образованного писателя и ученого, схожий с тем, какой был у Карамзина и отразился в его творениях, от напечатанных еще в «Московском журнале» до многотомной «Истории». Сближает с Карамзиным Болховитинова и эпистолярный талант; причем в их письмах (как, впрочем, и в переписке Карамзина с И.И. Дмитриевым) обнаруживаются и живость восприятия, и острота суждений и характеристик, и широта общественных интересов, и литературные пристрастия, характерные для вкусов еще XVIII столетия.
Значительным фактором формирования личности Болховитинова стало близкое знакомство с виднейшим архивистом и археографом Н.Н. Бантыш-Каменским, который в те годы был известен как автор учебных пособий для будущих священнослужителей и как переводчик. Молодой Болховитинов смог приобщиться к радости архивных разысканий, получить представление о практической работе в архивохранилище, осознать значение архивов в развитии культуры и просвещения. Одним из руководителей Московского архива Коллегии иностранных дел был в те годы И.М. Стриттер (Штриттер), занимавшийся изучением истории России, публиковавший источники по отечественной истории и готовивший школьный учебник такой тематики. На его труды имеются ссылки в «Описании Воронежской губернии»; позже о нем появится статья в составленном Евгением «Словаре русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших о России».
В Москве Болховитинову были доступны и издания Академии наук - как материалы академических экспедиций, так и публикации источников по отечественной истории, а также описания отдельных территорий России, где были объединены географические, исторические и экономические сведения. Он мог знать и о трудах по местной истории и собирании материалов для
них. Сейчас, после исследований А.А. Севастьяновой, С.В. Чиркова и других, становится очевидным, что местная историография (правда, нередко еще в форме, приближавшейся к летописной) уже интенсивно развивалась, а для гербов городов, как установил С. С. Илизаров, представлялись обоснования исторического характера. И Болховитинов, и Карамзин, начав почти одновременно интенсивную деятельность историка, опирались на эти представления о расширяющемся круге лиц, интересующихся отечественной историей и пробующих силы в написании исторических сочинений.
Возвратившись из Москвы в Воронеж (1789), Болховитинов воплотил обретенные им опыт и впечатления в своих сочинениях и практической деятельности: создана первая в Воронеже типография; для семинарской библиотеки приобретены издания трудов зарубежных мыслителей; образовался кружок лиц, объединенных просветительски-литературными интересами. Болховитинов старался приложить силы к созданию трудов и по красноречию (незабываемым оставался образец писателя, оратора, педагога митрополита Платона), и по церковной истории, и по российской истории в целом. Можно полагать, что все это помогало Болховитинову в его занятиях местной историей, в осмыслении ее в контексте истории России, наконец, в познании самого процесса истории и его истолкования.
При этом Болховитинов чувствовал себя связанным с литературными (точнее даже - историко-церковными) интересами не только москвичей, но и петербуржцев, и первый его труд собственно воронежской тематики «Полное описание жизни Тихона, бывшего прежде епископа Кексгольмского и Ладожского и викария Новгородского, а потом Воронежского и Елецкого, собранное из устных преданий и записок очевидных свидетелей, с некоторыми историческими сведениями, касающимися до Новгородской и Воронежской епархии, и с описанием всех сочинений сего пастыря» напечатан в Петербурге (1796). В этом сочинении, затем переиз-давшемся при жизни автора с изменениями и дополнениями, обнаруживаются источниковедческие и археографические приемы, характерные для «Описания Воронежской губернии». Да и сама идея составления в таком виде описания губернии во многом предопределялась анкетой петербургского Вольного экономического общества и академическими рекомендациями для описаний российских земель, где, согласно традиции, ведущей еще к именам Татищева, Ломоносова, Миллера, объединялись сведения по
истории и географии, а затем и статистике. Учитывался, можно полагать, и возраставший в общественной среде интерес к прошлому своего Отечества; это тематически прослеживается и в художественной литературе (к примеру, в наиболее доходчивой ее области - драматургии), и в изобразительном искусстве.
Болховитинов был подготовлен к созданию своего «Описания» всем опытом российской науки и личным опытом ученого и писателя, а читатели обеих столиц и Воронежа (как и других больших городов Российской империи) были подготовлены к восприятию сочинений подобного типа и столь большого историкохронологического диапазона. Воронежский патриот Болховитинов был заинтересован в том, чтобы сведения о его родном крае оказались и в обобщающих справочных трудах о Российской империи. В статье «Биография Евгения, митрополита киевского», помещенной в «Словаре русских светских писателей» (М., 1845), читаем об «Описании Воронежской губернии»: «Вся сия книга размещена по разным азбучным статьям в “Географическом словаре Российского государства”, изданном в Москве с 1801-1809 гг., в коем включены сего же сочинителя многие статьи из древней Российской Географии и новые статьи о донских казаках».
Болховитинов, как и Карамзин, понимал потребность российских читателей в обобщающего типа трудах по отечественной истории, причем таких, которые могли бы служить и справочным пособием. Однако Болховитинов не обладал ни великим литературно-художественным дарованием Карамзина и его склонностью к психолого-политологическим рассуждениям, ни его известностью и свободой действий (Болховитинов был во многом скован обязанностями священнослужителя). Он рано определил для себя основные задачи и формы творческой деятельности историка: выявление, сохранение, введение в научный обиход Источниковой базы науки отечественной, особенно церковной, истории (включая историю литературы и вообще письменности), разработка самой методики исторического исследования и создания трудов научно-справочного назначения. «Я верю, - писал ученый, -что и мелочные замечания часто объясняют целую историю, ибо в натуре вещей мелочи сопровождают важности». По существу он и здесь близок к представлениям Карамзина, утверждавшего, что «малейшая черта древности дает повод к соображениям» и что «нельзя писать историю без доказательств». В «Предисловии» к своей «Истории» автор разъяснял: «Множество сделанных мною примечаний и выписок устрашает меня самого», но это - «тягост
ная жертва, приносимая достоверности, однако ж необходимая». Потому-то в его многотомной «Истории государства Российского» одна половина томов есть высокий образец беллетристики, рассчитанной на восприятие и юношеством, и теми, кто привык к чтению занимательных романов и драм, а другая половина - научный аппарат для специалистов и любознательных особ.
Но если Карамзин стремился к созданию определенных, правда, разномасштабных, исторических конструкций (вызывающих зачастую ассоциации с позднейшим временем, даже с нашей современностью), то Болховитинов сознательно избегал комбинирования фактов (с отступлениями от строгой хронологической последовательности) и декларировал еще в 1794 г.: «Сущность истории состоит в том, чтобы представить бытие и деяния сколько можно так, как они были, и в таком порядке, как они были». До конца жизни митрополит Евгений остался верен этим установкам. Такой подход к изучению истории и формулировке собственных выводов объясняется, надо полагать, не только свойствами натуры ученого, его добросовестностью, стремлением не делать заключения до тех пор, пока не обретена уверенность, что он овладел всем материалом, но и тем обстоятельством, что в период расцвета своей научной деятельности ему не приходилось преподавать: лекционная работа обязывает к тому, чтобы у слушателей оставалось достаточно цельное и законченное представление о предмете рассмотрения.
Болховитинов уже на титульном листе «Описания» посчитал необходимым акцентировать внимание на источниках своего сочинения, предлагая даже классификацию их: труды историков, архивные записи и устные сказания. Болховитиновское «Описание» - это и прошлое воронежского края, и энциклопедия современной жизни. В России не было до того краеведческого сочинения столь широкого по хронологии и многообразию тематики (в книге шла речь о географических особенностях местности, о политической и церковной истории, о видных чиновниках и иерархах, о ремесле и торговле, о памятниках истории и культуры). Это - вершинное достижение местнографии по источниковой базе. Привлечены летописи и акты, строительные книги, исповедальные росписи, монастырские описи, записи на предметах, записки путешественников, новейшие статистические сведения и др. «Описание Воронежской губернии» было выдающимся для тех лет образцом совмещения в научном труде приемов, характерных для нарративной истории, с арсеналом методик специаль
ных исторических дисциплин, экономической науки, географии. В этом плане заметно воздействие сочинения Болховитинова на развитие краеведения (причем не только воронежского), можно полагать, даже на подготовку Карамзиным его многотомной «Истории государства Российского».
П.Н. Милюков в обобщающей работе об отечественной историографии до появления на горизонте науки в 1840-е гг. К.Д. Кавелина и С.М. Соловьева, сосредоточив внимание на философско-публицистическом аспекте этой проблематики (что нашло отражение и в заголовке - «Главные течения русской исторической мысли»), явно недооценил возможность воздействия болховитиновского труда на Карамзина и его читателей. П.Н. Милюков не попытался сравнить «Описание» Болховитинова с выявленными уже к тому времени сочинениями по местной истории: Д.И. Карманова о Твери (оно сейчас детально изучено В.Н. Середой), П.И. Рычкова о Приуралье и Поволжье и В.В. Кре-стинина о Поморье. Он вообще обошел вниманием труды такой тематики и, задав вопрос: «Чем была русская историческая наука до выступления Карамзина?», ответил так: «Несколько знатных любителей, несколько иностранных профессоров и несколько учеников, отправленных академией за границу, - вот и весь наш populus historicorum конца прошлого столетия». Ныне, особенно после обобщающего исследования А.А. Севастьяновой о русской провинциальной историографии второй половины XVIII в., наши представления об «историографическом пространстве» России XVIII в. существенно расширились.
Безусловно, создание Болховитиновым произведений воронежского тематического цикла стало школой научного творчества для самого автора, который позднее посвятит себя многообразным исследованиям по истории других краев, где он будет иерархом. Болховитинов был неутомим в своем стремлении ознакомиться с сохранившимся письменным наследием. П.Н. Милюков, в целом недооценивший значение ученой деятельности Карамзина и Болховитинова для дальнейшего развития исторической науки, тем не менее удачно выразился, характеризуя сделанное иерархом после его назначения сначала викарием в Новгород, а затем архиереем в Вологду, Калугу, Псков, Киев: «Это была тоже своего рода археографическая экспедиция, продолжавшаяся всю жизнь и обогатившая русскую науку огромною массою открытий».
Многолетняя творческая деятельность ученого иерарха как исследователя и организатора науки (эту современную терми
нологию допустимо использовать, ибо к работе по выявлению, описанию и изучению памятников древности Болховитиновым привлекались и другие лица) получила широкое прижизненное признание со стороны академий и университетов. И это существенно повлияло на закрепление практики действенного участия в археографической работе выдающихся (и высокопоставленных) священнослужителей XIX-XX вв. Привычным стало их участие в краеведческой работе, что служило примером для рядовых священников (рекомендации по составлению церковно-приходских летописей). Должно выявить воздействие трудов Болховитинова на выработку научных программ не только для возникших позднее церковно-археологических обществ, но и для губернских статистических комитетов и даже Русского географического общества.
Особенно велики заслуги Болховитинова в формировании представления о «ремесле историка» в высоком понимании смысла этого словосочетания. Труды Болховитинова - и описания рукописей, и замечания о текстах и переводах древних памятников, и толкования фактов гражданской и церковной истории при сопоставительном рассмотрении разных источников, и, конечно же, знаменитые словари писателей «духовного чина» и «светских» -позволяют считать митрополита Евгения основоположником широкого комплексного использования методик специальных научных дисциплин, исторических и филологических, а также приемов «критики» исторических материалов. При этом он опирался на опыт изучения отечественной истории (особенно А.Л. Шлецером, основной труд которого, «Нестор», переводился под надзором Болховитинова) и, видимо, был знаком с трудами зарубежных авторов, изучавших и описывавших письменные памятники на древних языках (греческом, латинском). Еще в 1794 г. в «Рассуждении о знаниях, пособствующих исторической науке» сформулировано по существу понятие о «вспомогательных исторических дисциплинах», развившееся в дальнейшем и утвердившееся уже в XX в. в названиях учебных пособий, кафедры в Историко-архивном институте в Москве, академического ежегодника, основанного С.Н. Валком в Ленинграде. Болховитинов, как и Карамзин «Примечаниями» к своей «Истории государства Российского», показал, что предмет исторической науки - это не только рассказ о минувших событиях и их оценка, но и выявление, истолкование исторических источников, сама методика исторического исследования.
Ныне все более очевидно, что путь развития науки отечественной истории (а также распространения исторических и тем более историко-культурных знаний) имеет два русла - общероссийскую историю и местную. Общероссийская история - это история государственно-политическая, социоэкономическая, история культуры, общественного сознания, это в основном исто-риоописание, т. е. описание собственно исторических событий и фактов, деятельности «исторических лиц». Местная история - это совокупность данных о том или ином крае, регионе, т. е. совокупность не только собственно исторических, но и географических и иных сведений. К историоописанию применяли тогда термин «историография» (Карамзин, как известно, был «историографом Его Величества»; понятие об историографии как об истории исторической науки, исторической мысли - порождение языка недавних десятилетий), к местной истории - «местнография». У их истоков - фигуры Карамзина и Болховитинова, начавших путь в науку одновременно, сотрудничая в московских изданиях эпохи Новикова. Русла эти находятся не только во взаимозависимости, но и в плодотворном взаимодействии. И творчество замечательного воронежского уроженца и историка родного края изначально было олицетворением такого процесса развития науки отечественной истории.
Слова заголовка - пушкинские. Так воспринимал «Историю о великом князе Московском» князя Андрея Михайловича Курбского А.С. Пушкин в 1828 г., когда им уже был написан «Борис Годунов», где речь шла и о Курбском («Имя громко»; «казанский герой»; «великий ум! муж битвы и совета!»; «своих обид ожесточенный мститель»; «несчастный вождь»; «В науках он искал себе ограды, / Но мирный труд его не утешал: / Он юности своей отчизну помнил / И до конца по ней он тосковал»),
«История» Курбского - выдающийся памятник общественного сознания, литературы и языка Древней Руси и первостепенной важности источник для изучения России времени Ивана Грозного. Этому посвящена значительная по объему специальная литература, указанная в статье А.И. Гладкого и А.А. Цеханови-ча «Курбский Андрей Михайлович» в вышедшем в 1988 г. втором выпуске «Словаря книжников и книжности Древней Руси» (с. 501-503) и в изданной в 1998 г. книге В.В. Калугина «Андрей Курбский и Иван Грозный (Теоретические взгляды и литературная техника древнерусского писателя)» (с. 357-377), не говоря уже об упоминаниях и даже характеристиках «Истории» Курбского в многочисленных обобщающего типа трудах по отечественной истории, истории общественной мысли и древнерусской литературы.
Однако даже в трудах историков к знаменитому сочинению Курбского обращаются либо как к источнику фактологических сведений, либо как к отражению государственно-политических или религиозно-нравственных воззрений XVI в., и мало внимания уделено (и в написанных мною главах учебных пособий по историографии тоже1) рассмотрению его в плане развития собственно историографических представлений, т. е. понятий о задачах, источниках и приемах историописания. Цель этих заметок - побудить к исследованиям такой тематики и поделиться некоторыми постановочного характера соображениями предварительного порядка. При этом допустимо исходить из уже утвердившихся представлений о неоднородности «Истории» в стилистическом отношении, ее многожанровости и неодновременности создания *
Впервые опубл.: О «жестокой летописи кн. Курбского» // Проблемы истории, русской книжности, культуры и общественного сознания: Сб. науч. тр. / Отв. ред. Е.К. Ромодановская. Новосибирск, 2000. С. 406-615. (Археография и источниковедение Сибири; Вып. 20)
первичных вариантов ее частей. Можно полагать, что автор не считал это свое сочинение завершенным.
«История» Курбского - один из первых памятников исторической мысли, дающий возможность изучения индивидуального авторского начала в отечественном историописании, а также определения особенностей конструкции и языковой стилистики сочинений именно исторической тематики в сравнении с другими произведениями того же автора; тем более что в некоторых из этих сочинений - прежде всего в посланиях царю Ивану - немало общего с «Историей» в тематике, этическом подходе, эстетических стилевых нормативах, а иногда обнаруживается и текстуальная близость, даже тождественность. Это предполагает сравнительное исследование словаря и стилистики всех сочинений Курбского.
«История» Курбского, во всяком случае в частях о Казанской войне и начале Ливонской войны, составлена в стиле летописания. Сам автор это осознает, считает нужным отметить это и отослать читателя к пространным летописям - к «летописной книге Русской». С какими летописями был знаком автор «Истории»? Вероятнее всего, с «Летописцем начала царства великого князя Ивана Васильевича», но, возможно, и с другими. Следует сравнить совпадения и отличия в текстах Курбского и в официальной летописи, выяснить, не обнаруживаются ли указанные Курбским факты, отсутствующие в официальной летописи, в других сочинениях, прежде всего летописной формы. Вообще сравнительное исследование «Истории» Курбского и таких сочинений (составлявшихся при царском дворе, в окружении митрополита, монастырских, городских летописей, «Казанской истории», частных «летописчиков») в плане и лексики, и литературной стилистики, и приемов объяснения взаимосвязи исторических явлений, и их оценки помогло бы установлению общего и особенного, характерного именно для «Истории» Курбского в системе произведений летописного жанра во второй половине XVI столетия или даже на протяжении более длительного времени - с конца XV в. до второй четверти XVII в., что предусматривает изучение и синхронное, и диахронное.
Из «Летописца начала царства» могло быть заимствовано название сочинения Курбского (что объясняется обычно показательным лишь для позиции правителей Польско-Литовского государства непризнанием царского титула Ивана IV). И - главное -Курбский мог исходить и из очевидной тенденции придворного летописца показать значение инициатив Ивана IV для раз-
вития государственности и эффективности внешней политики. Но «История» Курбского, в еще большей мере акцентирующая внимание на фигуре грозного царя, была замыслена по своей политико-нравственной направленности как антипод официозного «Летописца начала царства». Это обусловило особенности, а одновременно - и нарочитое сходство в отборе исторических фактов. И потому интересно проследить различия и в этом отборе, и особенно в истолковании исторических явлений и их взаимосвязей.
Курбский не раз подчеркивал, что писал по памяти или со слов очевидцев, рассказчиков, - это должно было объяснять (и оправдывать!) неточности в его описании, неполноту, а возможно, и субъективность отбора фактов. Но обилие фактов и большая точность в их изложении (в датировке, последовательности событий, именах их участников) очевидны (хотя еще Н.Г. Устрялов, затем А.Н. Ясинский2 и более близкие к нам по времени историки выявили и неверность, и тенденциозность некоторых сообщений Курбского). Вряд ли Курбский мог обращаться в эмиграции к списку «летописной книги Русской», хотя не исключено, что в архиве польского короля и находилась такая рукопись, подобно тому как в Царском архиве времени Ивана IV - судя по описи его - имелись и «Летописец литовских князей», и перевод с «летописца польского», а в описи архива Посольского приказа 1614 г. названа и «книга в десть, летописец Полских и Литовских королевств»3. Трудно предположить, что Курбскому удалось вывезти за рубеж такую объемную рукопись, да и как она могла к нему попасть? Вероятно, это свидетельство того, что Курбский обладал такой же исключительной памятью, как и Иван Грозный: эту черту первого российского царя особо отмечали современники, что отражено и в царских посланиях, где цитаты обычно приводятся по памяти.
Но, быть может, Курбский и потому так освоил манеру работы летописца (и в отборе фактов, и в их литературном описании), что сам имел некоторый опыт летописания. Известно, что книгочеями и писателями были лица из окружения митрополита Макария (ученые даже употребляют, характеризуя их, обозначение «Академия XVI века»4). Схожие интересы, а возможно, и дарования были и у лиц из окружения молодого Ивана IV, и их, говоря словами Пушкина, как и Пимена, «Господь... книжному искусству вразумил». Особенно в пору деятельности «Избранной рады». Об Алексее Адашеве, причастном если не к написанию, то к редактированию летописи, это можно сказать наверняка.
Знаем и о том, что глава дипломатической службы думный дьяк И.М. Висковатый рассуждал, ссылаясь на тексты, о церковной живописи. Не причастен ли был к летописанию в молодые годы и Курбский? Не привлекли ли и его к составлению или обсуждению текста официальной летописи, где Казанскому взятию придавалось особое значение? Не поручили ли ему делать заготовки летописно-мемуарного характера о событиях, участником и очевидцем которых он был? Не был ли он допущен в «хранила царские», где находились и летописи прежних годов, и документация, используемая составителями летописей? Ведь это было связано и с повседневными государственными делами, особенно в сфере внешней политики, и сам царь смотрел в летописи как «в зерцало».
Курбский признавал «летописные» части своей «Истории» «краткой повестью» («...о нихъже по ряду писати сия краткая повесть не вместит»), «кратким писанием» («Сие конец краткого писания о Казанского великого града бусурманского взятию»), объяснял, что излагает не все подробно, т. е. так, как принято в официальной летописи («сие оставляю краткости ради истории, бо широце в летописной руской книзе о том писано»)5. Для этого времени уже типичны в летописании отмеченные Д.С. Лихачевым «признаки жанра исторических повестей, какие впоследствии, в эпоху “Смуты”, в изобилии станут появляться»6. Курбский освоил этот прием.
Несмотря на стилистическую неоднородность «Истории», включение в нее текстов, предназначавшихся, видимо, для пространного ответного послания царю Ивану7, сам Курбский относил свое сочинение к летописям, называл его «хроникой». Русские летописи (летописные «книги») для Курбского тождественны «хроникам» («кроникам»). При этом он, вероятно, опирался на знакомство и с иностранными образцами. (Показательное в этом плане словоупотребление Курбского приведено в исследовании Н. Дамерау8.)
Тем более существенно для понимания историко-литературного новаторства Курбского внесение им в, казалось бы, летописную по форме «Историю» откровенно подчеркнутых (и в начальной фразе-заголовке: «еже слышахом у достоверных и еже видехом очима нашима», и не раз в дальнейшем изложении со ссылками на «память») элементов мемуаристики. А также отмеченное автором сокращенное изложение и этой информации («сие сокращение вмещаючи»). Тут Курбский среди первых со
ставителей полумемуарных частных летописчиков - «летописцов въкратце» (подобных дошедшим до нас Постниковскому, Пискаревскому), которые решались запечатлеть сведения о казавшихся им «историческими» явлениях (лицах, событиях, повседневных обстоятельствах), воспринимавшихся ранее как недостойные внесения в книги памяти, предназначенные для потомства.
«История» Курбского - на стыке собственно исторического сочинения и мемуаров и к тому же может быть отнесена и к жанру публицистики, да еще памфлетного стиля. И потому может рассматриваться и как предтеча схожего типа сочинений Смутного времени и о Смуте, особенно тех, которые написаны публицистами-аристократами. И, вероятно, полезно было бы использовать приемы изучения этих сочинений (С.Ф. Платоновым и учеными последующих лет) и при подходе к «Истории» Курбского.
Столь заметный элемент мемуаристики в «Истории» Курбского побуждает к сопоставлению ее со знаменитым сочинением француза Ф. Комина, рубежа XV и XVI вв., тем более что его «Мемуары» написаны тоже не в один прием и воспринимались и как политический трактат. Напрашивается и сравнительное изучение взаимоотношения, противостояния в Восточной Европе Курбского и царя Ивана, а на западной окраине Европы, в Испании, - Антонио Переса и короля Филиппа II (это еще в 1840-х годах стало темой исследования знаменитого французского историка Ф.А. Минье), а также «Истории» Курбского и его посланий царю и «Relaciones» Переса (имея в виду и некоторые сближающие особенности развития абсолютизма в Испании и в России).
К «Истории» Курбского можно подходить и в контексте практики историописания в Польско-Литовском государстве. Ведь, обращаясь к читателям этого государства, автор должен был учитывать уровень их знаний о России и владения языком россиян (для текста «Истории» характерны разъяснения, переводы на польский язык не вполне понятных слов-«терминов»9), привычную для них форму изложения в сочинениях исторической тематики, в публицистике, и дать ссылки на известные уже сочинения. Курбский называет книгу С. Герберштейна о Московии (тогда широко распространенную и переведенную с латыни на новые языки10) и «Космографию» и пробует силы в риторических приемах, используемых гуманистами, воспитанными на произведениях классиков античной литературы.
Однако можно полагать, что Курбский, составляя «Историю», имел в виду, как и при сочинении посланий царю Ивану, и
российского читателя. Для российского читателя текст его «Истории» должен был стать и опровержением и комментарием официальной летописи, к тексту которой автор отсылает такого читателя. А комментарием к синодикам, составлявшимся по повелению богобоязненного царя, мог стать второй раздел его «Истории» -об убиенных Иваном Грозным лично или по его распоряжению.
Курбский рассчитывал на ознакомление с его «Историей» россиян, если не современников, то потомков, т. е. на «суд истории».
И это, видимо, осознавал и Иван Грозный, до которого не могла не дойти информация о подготовке такого обличающего его сочинения. Возможно, именно это послужило поводом для внесения правки в официальную лицевую летопись о годах его правления. Судя по водяным знакам, как показал тщательным исследованием всех листов рукописи А.А. Амосов11, это могло быть сделано не ранее конца 1570-х годов. И если в «Истории» Курбский во многом опирается на тексты своих посланий царю, то в лицевой летописи обнаруживается близость - иногда и текстуальная - с посланиями царя Ивана Курбскому12.
Если сосредоточение внимания на биографии Ивана IV в менее летописных по форме частях «Истории о великом князе Московском» Курбского знаменательно для России XVI в. с «пробуждением интереса к исторической личности» (проявления которого изучены Д.С. Лихачевым и в литературе, и в изобразительном искусстве13), то объяснение действий правителя психологическими мотивами, характерными чертами его натуры14 (прирожденными или унаследованными) и воздействием на него других (советников добрых или злых) выделяет Курбского-писателя среди современников, хотя он, как и они, привержен представлениям провиденциализма, истолковывающего ход истории как осуществление замысла Божия с обязательным возмездием (обычно воспитывающей направленности) за грехи. Не сказывается ли в этом, как и во внимании к частностям повседневной жизни, некоторое влияние взглядов европейских гуманистов (которые могли быть восприняты не обязательно из литературы, но и из устных бесед, начиная со времени близкого общения в Москве с Максимом Греком15)?
В то же время «Историю» Курбского следует изучать и в контексте российских традиций составления биографий, т. е. житийной литературы, усвоенной автором еще в период пребывания в России. В годы его юности заметно расширился пантеон россий
ских святых, а следовательно, сочиняли и их жития. В собственно летописной форме это нашло воплощение в Степенной книге, составлявшейся уже в годы, предшествовавшие его отъезду. И влияние такого стилистического воздействия заметно не только в пространном житии Феодорита («О преподобном Феодорите священномученике»), но и в житийного стиля описаниях мучений митрополита Филиппа, да, пожалуй, и И. Шереметева, князей Воротынских и Одоевских.
Но в век «идеализирующего биографизма» (определение Д.С. Лихачева16) Курбский сумел создать своеобразное «антижи-тие», «демонстрируя в “житии” Грозного прямо противоположные святому начала. Все начало жизнеописания Грозного - это “житие” по жанру, но перевернутое, как бы опрокинутое в зло», -отмечает Д.С. Лихачев17.
И эту особенность явственно ощутил А.С. Пушкин, характеризуя древнерусские летописи, к которым относил и «Историю» Курбского. Мы знаем теперь, что Пушкин идеализировал «простодушие», пленившее его в «наших старых летописях», воплощенное им в образе Пимена в «Борисе Годунове» и отразившееся, по его мнению, в «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина и в образе самого Историографа («трогательное добродушие древних летописцев, столь живо постигнутое Карамзиным и отраженное в его бессмертном создании»). Уже А.А. Шахматов (приводя, кстати, цитату из Пушкина) убедительно показал, что пером летописцев Киевской Руси водили политические пристрастия. Для XVI столетия (как выявляется многими исследованиями нашего века) это еще более очевидно. Но для нас существенно замечание Пушкина о том, что «озлобленная летопись кн. Курбского отличается от прочих летописей, как бурная жизнь Иоаннова изгнанника отличается от смиренной жизни безмятежных иноков». В вариантах текста этого письма издателю «Московского вестника»: «летопись озлобленного Иоаннова изгнанника», «жестокая летопись кн. Курбского»18. И действительно, это -«летопись» жестокости внутренней и внешней политики Ивана Грозного, беспощадная к первому российскому царю. Известно и о замысле Пушкина тех лет написать драму « Курбский»19. И еще более знаменательно то, что сам Пушкин, беседуя, заявил о своем намерении написать историю старшего современника Александра I -«Александрову пером Курбского»20.
Курбский, возлагая надежду на Божий суд и, опять же, подчеркивая это и в посланиях царю, и в «Истории», по существу, об
ращался к «суду истории», взывал к «историческому возмездию». И опять противостоял массированному прославлению первого российского царя и в литературе, и в изобразительном искусстве, поощряемому, даже культивируемому самим Иваном IV и очень заметному уже накануне отъезда Курбского из царских владений. Показательны слова «Истории» перед описанием казней: «...сие краткое сего ради произволихом написати, да не отнюд в забвение предут. Ибо того ради славные и нарочитые исправления великих мужей от мудрых человеков историями описав-шеся, да ревну-ють им грядущие роды, а презлых и лукавых пагубные и скверные дела того ради написаны, иже бы стреглись и соблюдались от них человецы, яко от смертоносных ядов или поветрия, не токмо телесного, но и душевного»21.
И расчет автора «Истории о великом князе Московском» оказался прозорливым. Уже в начале XVII в. характеристики, данные царю Ивану Курбским, устойчиво закрепились в сознании: так, в Хронографе второй редакции в качестве примера «совращения» доброго нрава на злой приведен Иван Грозный22. От XVII в. дошло немало списков «Истории», изучавшихся еще И.Г. Устряловым (первым издателем этого сочинения), Г.З. Кунцевичем (готовившим издание сочинений Курбского накануне Первой мировой войны), ближе к нашим дням - Ю.Д. Рыковым, К.И. Уваровым и другими. В 1652 г. был канонизирован митрополит Филипп, как бы набросок жития которого попытался написать в «Истории» Курбский. В XVII в. наблюдается сосуществование двух образов царя Ивана: восходящего к официальному изображению и другого, в традициях «Истории» Курбского. Петр Великий естественно способствовал возрождению памяти о славных делах первого российского царя; взятие Казани стало темой «Россиады» М.М. Хераскова.
Но в «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина, определившей почти на столетие круг исторических представлений и россиян и о России за рубежом, послужившей источником для множества произведений художественной литературы и искусства на исторические темы23 (от шедевров, начиная с пушкинского «Бориса Годунова», до ремесленных поделок, рассчитанных на невзыскательный или сиюминутный вкус24), повторяется обоснованная Курбским периодизация правления Ивана Грозного25, а оценки в IX томе деяний царя близки к суждениям князя Андрея Михайловича. Более того, опираясь преимущественно на «Историю» Курбского, Карамзин, относивший сам себя к историкам-
философам, конкретизирует особо важные для него соображения о различии «самодержавия» и «самовластия»26. В этом же направлении преподавалась по плану друга Карамзина В.А. Жуковского отечественная история (с явными элементами политологии) наследнику российского престола будущему Александру II27. Ивану Грозному не нашлось места среди фигур памятника Тысячелетию России, воздвигнутого в 1862 г. в Великом Новгороде, где имеются, однако, фигуры прославляемых Курбским Адашева и Сильвестра.
Ознакомление с «Историей» Курбского (со списками ее текста или в изложении - письменном или устном) оказалось важным для изображения личностей - прежде всего правителей -уже в начале XVII в. Можно сказать, что без «Истории великого князя Московского» Курбского не было бы и образа Бориса Годунова в некоторых обличающих его сочинениях. «История» Курбского способствовала формированию не только исторических представлений, но и социально-психологических, т. е. по существу нравственных.
И тогда, когда острота противостояния, вызвавшая публицистический поединок Курбского и Грозного-царя, отошла в прошлое, сочинение это более других, современных ему, казалось занимательным и поучительным для потомков. «История» Курбского привлекала своей нравственной направленностью, моральным пафосом автора (или, точнее сказать, ее субъективной моральной тенденциозностью). Если историю признавать наставницей жизни, то поучительность именно «Истории о великом князе Московском» Курбского самоочевидна.
Прежде всего в этом плане сказалось воздействие «Истории» Курбского на «Историю государства Российского» Н.М. Карамзина и труды других историков, ставивших перед собой цель создания поучительной истории. А это позволяет признать, что «История великого князя Московского», написанная А.М. Курбским еще во второй половине XVI столетия, - у истоков развития нашей историографии.
1 Историография истории СССР с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции / Под ред. В.Е. Илле-рицкого и И. А. Кудрявцева. М., 1961. С. 54—55; Историография истории СССР / Под ред. В.Е. Иллерицкого и И.Л. Кудрявцева. 2-е изд. М., 1971. С. 44-45.
2 Ясинский А.Н. Сочинения князя Курбского как исторический материал. Киев, 1889.
3 Описи Царского архива XVI века и архива Посольского приказа 1614 года / Под ред. С.О. Шмидта. М., 1960. С. 29, 41, 96.
4 См.: Будовниц И.У. Русская публицистика XVI века. М.; Л., 1947. С. 188.
5 Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М., 1986. С. 228, 258, 248.
6 Лихачев Д.С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л., 1947. С. 364.
7 Шмидт С.О. Россия Ивана Грозного. М., 1999. С. 384-386 (статья «К истории переписки Курбского и Ивана Грозного»).
8 Damerau N. Russisches und Westrussisches bei Kurbskij. Berlin, 1963. S. 73.
9 Шмидт С.О. Россия Ивана Грозного. С. 383-384.
10 Ляши В. (Walter Leitsch). О ранних переводах «Московии» Сигизмунда Гербенштейна // Источниковедение и краеведение в культуре России: Сб. к 50-летию служения Сигурда Оттовича Шмидта Историкоархивному институту. М., 2000. С. 76-79.
11 Амосов А.А. Лицевой летописный свод Ивана Грозного: Комплексное кодикологическое исследование. М., 1998. Об этой книге см. статью в кн.: Щмидт С.О. Россия Ивана Грозного. С. 456-464.
12 Шмидт С.О. Российское государство в середине XVI столетия: Царский архив и лицевые летописи времени Ивана Грозного. М., 1984 (Раздел «Царские летописи», особенно с. 202 и след.).
13 Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. М.; Л., 1958. С. 11.
14 Это особо отмечал в книге «Русская историография до XIX в.» (М., 1957, с. 97 и след.) Л.В. Черепнин.
15 DenisoffE. Une biographic de Maxime le Grec par Kurbski // Orien-talia Christiana Periodica. 1954. Vol. 20. P. 44-84; Покровский H.H. Новые данные о соборных судах 1525, 1531 и 1549 гг. над Максимом Греком и Исаком Собакой // Судные списки Максима Грека и Исака Собаки. М., 1971. С. 62 и след.
16 Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. Заголовок главы 6 (с. 107).
17 Лихачев Д.С. На пути к новому литературному сознанию // Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. С. 10-11.
18 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. Т. И (Критика и публицистика 1819-1834). М„ 1996. С. 68,340-341 (перепечатка изд. 1949 г.).
19 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. 2-е изд., перераб. Т. 17 (Рукой Пушкина). М., 1997. С. 214-215.
20 Разговоры Пушкина / Собр. С. Гессен, Б. Модзалевский. М., 1929. С. 94 (дневниковая запись А.Н. Вульфа сентября 1827 г.).
21 Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. С. 324.
22 См.: Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. С. 15.
23 Шмидт С.О. «История государства Российского» в культуре дореволюционной России // Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн. IV. М., 1988. С. 28-43 (сопроводительная статья к репринтному воспроизведению пятого издания «Истории» Карамзина 1842-1844 гг.). (Перепечатано в: Шмидт С.О. Путь историка: избранные труды по источниковедению и историографии. М., 1997.)
24 По теме «Курбский» см.: М. П-ский [М.П. Петровский]. Князь А.М. Курбский. Историко-библиографические заметки по поводу последнего издания его «Сказаний». Казань, 1873. С. 4.
25 Шмидт С.О. Россия Ивана Грозного. С. 347 (Статья «К изучению “Истории”» князя Курбского «О поучении попа Сильвестра»),
26 Шмидт С.О. Н.М. Карамзин - историк // Венок Карамзину. М., 1992. С. 29-30.
27 Шмидт С.О. Подвиг наставничества. В.А. Жуковский - наставник наследника царского престола // Русское подвижничество (Сборник статей к 90-летию Д.С. Лихачева). М., 1996. С. 205-213. Переиздано отдельной книгой: Шмидт С.О. Василий Андреевич Жуковский - великий русский педагог. М., 2000.
Заседание посвящено 70-летию со времени кончины выдающихся историков Михаила Михайловича Богословского, умершего в Москве 20 апреля 1929 г., и Александра Евгеньевича Преснякова, скончавшегося в Ленинграде 30 сентября 1929 г. Конечно, можно было бы жизни и творчеству каждого из этих историков посвятить особое заседание, тем более что значение сотворенного учеными для современной им культуры и для дальнейшего развития науки становится с годами все очевиднее. Но мы привыкли приурочивать поминания наших предшественников (на заседаниях и в сборниках печатных материалов) обычно к юбилейным датам, а год памятной даты на исходе. И в Археографической комиссии уже имеется опыт проведения научных заседаний типа конференции, посвященных сразу двум классикам нашей сферы научных знаний: так, в конце 1995 г. было юбилейное заседание к 175-летию со дня рождения С.М. Соловьева и И.Е. Забелина (см. АЕ за 1995 год). И это, оказывается, дает возможность, при сравнительно-историческом подходе, увидеть наше научное наследие в несколько необычном ракурсе и отметить дополнительные к прежде выявленным взаимосвязи с явлениями и современной им эпохи, и нашей.
Ныне все в большей мере закрепляются в сознании и исследователей, и учащих, и учащихся вузов, и широкой аудитории историков-краеведов понятия о предмете и задачах историографии, об источниковедении историографии, о круге историографических источников, пропагандировавшиеся в моих статьях и докладах с 1960-х годов1 и многими авторами в изданиях Археографической комиссии и особенно на страницах «Археографического ежегодника».
К исторической мысли перестали подходить преимущественно в политико-идеологическом плане (да еще с примитивно однозначным толкованием знаков «+» и «-»). Утверждается и представление о том, что предмет историографии, это не только исторические концепции или истолкование исторического процесса и оценка исторических событий и лиц, но и сама методика исторического исследования, приемы выявления исторической
Впервые опубл.: Вступительное слово [на конф., посвященной научному наследию историков М.М. Богословского и А.Е. Преснякова] // Археогр. ежегодник за 2000 г. М., 2001. С. 247-253.
информации и вся сфера творчества археографов, историков-архивистов, музейных работников. А историографическими источниками (иногда даже и первостепенного значения) следует признавать и напечатанные, и известные лишь по архивным материалам, а также завершенные труды и то, что относится к лаборатории исследователя, его творческой биографии, или помогает понять, как воспринималось научное творчество историков.
Соответственно отказываются от навязываемой прежде трактовки развития отечественной исторической науки в предреволюционный период как «кризиса» в разговорном толковании термина: «затруднительное, тяжелое положение» (как в Словаре русского языка С.И. Ожегова). Историческую мысль тех десятилетий стали рассматривать в контексте с более широким спектром явлений современной общественной жизни и культуры, и не только в области философии, социологии, а также литературы Серебряного века, но и формирующейся науки о науке; причем и в России, и за рубежом - потому-то обрело устойчивость представление о том, что методология А.С. Лаппо-Данилевского опережала мировую науку. Совсем иначе, в отличие от обобщающего или учебно-методического типа историографических сочинений советских лет, стали оценивать и труды историков, в 1920-е годы остававшихся на немарксистских позициях.
Творчество Богословского и Преснякова, безусловно, можно отнести к вершинным достижениям отечественной исторической науки первой трети XX столетия. Их обоих отличали широта исследовательских интересов (хронологический диапазон - от Древней Руси до близкого им времени), эрудиция европейской образованности, фундаментальность Источниковой базы исследований, взаимопроникновение в их трудах методик собственно исторического подхода (в традиционном понимании, восходящем еще к С.М. Соловьеву) и источниковедческого (показательно, что оба начинали путь в науку с источниковедческих работ: Богословский - о писцовых книгах XVI в., Пресняков - о летописях XVI в.), совмещение исследовательского труда с деятельностью преподавательской (оба очень внимательны к начинающим исследователям, создатели научных школ), организационной и просветительской. Оба имели при жизни высокий авторитет и в научной среде, и в более широких кругах интеллигенции. Оба ощущали вкус и к историографической тематике применительно к недавним десятилетиям, даже с социопсихологическим уклоном. Небезынтересно, что и тот и другой сочли нужным выступить публично в
десятую годовщину кончины В.О. Ключевского - Богословский с докладом (текст которого пока не обнаружен), Пресняков со статьей; писали и статьи-воспоминания о других историках.
Случилось так, что с изданием именно их трудов начала закрепляться традиция публикации неизданного научного наследия историков, скончавшихся сравнительно недавно: в канун Великой Отечественной войны издали лекции по русской истории (до XV в.) Преснякова и первые тома незавершенной биографии Петра Великого, написанием которой Богословский был занят до конца своих дней. А на рубеже 1940-1950-х годов, когда ужесточились нападки на то, что в трудах ученых-гуманитариев не совпадало с однолинейными определениями марксизма-ленинизма и было близко к взглядам зарубежных мыслителей (и еще не было ясно, что это - прикрытие становящегося партийно-государственным лозунгом антисемитизма), Богословского и Преснякова обличали за идеалистические воззрения, чуждые публично декларируемым общественно-политическим установкам. И лишь примерно через 20 лет оказалось допустимым возвратиться к изучению жизни и творчества обоих историков уже с иных позиций. В наши дни труды Богословского и Преснякова снова востребованы, переиздаются.
Уже видные историки их поколения допускали возможность писать сразу и о Богословском, и о Преснякове, как это сделал А.А. Кизеветтер в статье, подготовленной для парижских эмигрантских «Современных записок» (1930. Т. 41), - «Две утраты: М.М. Богословский и А.Е. Пресняков». В том же журнале позже появилась статья П.Н. Милюкова памяти двух других выдающихся историков того же поколения2, из которых один скончался за рубежом, а другой - в СССР, или, как было принято выражаться в эмиграции, в «Советороссии»3.
Это позволяет и в наши дни подойти к творчеству и жизненной судьбе Богословского и Пресняковависторико-сравнительном плане на фоне их эпохи и в контексте явлений, высвечивающих общее и особенное в биографиях историков именно той эпохи, а также и воздействие на историков следующих поколений уже на уровне знаний и понятий нашего времени.
В этом плане допустимы наблюдения и о «школах» историков; московской (Богословский - ученик В.О. Ключевского, занявший после кончины знаменитого профессора его кафедры в Московском университете и Московской духовной академии) и петербургской (Пресняков, окончивший университет, считал
себя учеником С.Ф. Платонова, под руководством которого написано сразу же изданное студенческое сочинение о Царственной книге, и А.С. Лаппо-Данилевского), их приметных чертах и взаимосвязях, об исследовательских пристрастиях и общественно-политических воззрениях дореволюционной профессуры, ее положении в советские годы (использование властными структурами, общественный статус, возможная тематика научной и иной работы, общественные настроения), о микроклимате мира ученых-гуманитариев. Выявляются и обстоятельства, объясняющие характерное для этого микроклимата - повседневности научной жизни тех лет, не всегда нашедшее доступное нам отражение в научных трудах, ознакомлением с которыми подчас ограничиваются историографы.
Обнаруживается и общее, существенно показательное для определенной социокультурной среды, и заметные отличительные особенности в личностном плане. Богословский консервативен и по образу мысли, и по образу поведения. Серьезный, с медлительной речью ясных формулировок, трудолюбивый и обстоятельный с юных лет (из тех, кого в мои юные годы называли прирожденным отличником). Проникнутый укоренившимися в сознании московскими традициями - традициями интеллигенции более разночинской, чем дворянской, с преобладанием священнослужителей, медиков, юристов, с соблюдением старозаветных ритуальных обычаев и в празднествах. Да и учился он в Пятой гимназии, особенно тесно связанной с университетом, куда поступали обычно дети профессоров. Приметлив на бытовые детали, которые в его сознании подчас обретали знак социологического наблюдения (близость подхода к явлениям в монографических исследованиях о России в конце XVII-XVIII в. и в воспоминаниях о Москве последней четверти XIX в. бросается в глаза). Поэтому-то Богословский оказался столь уместен как руководитель-консультант Комиссии по истории быта московской секции Государственной академии истории материальной культуры и в Историческом музее, с его многообразием памятников истории и культуры и приемов их использования для исследовательских и просветительских целей. При реорганизации Исторического музея и планировании новой экспозиции основывались на его докладе 1921 г. о термине «история быта», опиравшемся на разработки еще И.Е. Забелина.
Потому-то профессора Богословского признавали и лучшим руководителем именно семинарских занятий, подлинным наследником закрепившего такую практику П.Г. Виноградова.
М.Н. Тихомиров в статье 1955 г., рассчитывая на определенный круг читателей многотиражной газеты «Московский университет», счел необходимым особо подчеркнуть: «Замечательные просеминарские занятия по изучению Псковской Судной грамоты вел профессор М.М. Богословский. Вероятно, тогда-то и зародился у меня тот повышенный интерес к источниковедению, который я проявлял всю жизнь»4. В то же время Богословского не выделяли как лектора; ему, видимо, были несвойственны и привлекательный для аудитории импровизационный стиль с неожиданной образностью мыслительных построений, и система постановки вопросов и поиска ответов на них вместе со слушателями, и характерные для Ключевского художественность и намеренная - не без ядовитости - публицистичность.
Богословский до конца жизни оставался полон интереса к многообразной тематике, исторической и источниковедческой, и согласился в конце 1920-х годов возвратиться к занятиям молодых лет и возглавить подготовку академического издания «Русской Правды» по спискам московских хранилищ. Но упорно он не отклонялся от основной для себя тематики исследовательских занятий и способен был ставить перед собой задачу подготовки многотомного монографического труда.
Опыт подготовки этого труда - материалов для биографии Петра Великого - уникален для той эпохи и, пожалуй, даже нарочито в традициях главных великих классиков отечественной исторической науки Н.М. Карамзина и С.М. Соловьева с их грандиозными и в то же время четко определенными намерениями. И то, что Богословский и после революционных событий сосредоточивался на том же и даже, пожалуй, в еще большей мере, чем прежде (когда профессорская деятельность требовала внимания ко многим темам), - показатель самоуважения и, быть может, даже демонстративного следования принятым прежде системе научной работы и остающейся дорогой проблематике, а также и веры в то, что это важно для потомков и будет когда-нибудь ими оценено.
Подобно Платонову, Богословский убежденно и последовательно придерживался и восходящих к «Истории» Карамзина нравственных критериев в характеристике и оценке исторических событий, деятелей, что не только игнорировалось, но и отрицалось Покровским и сторонниками его взглядов. Это казалось чуждым и в последующие годы. И потому труд Богословского о Петре Великом издали с отступлениями от авторского текста. Это выявил А.В. Мельников, готовящий академическое издание исследования
Богословского согласно планам Археографической комиссии и издательской программе по московедению в издательстве «Наука». Об этом (со ссылкой на наблюдения Мельникова) была информация в моем докладе «Труд академика М.М. Богословского “Петр Великий”: Материалы для биографии» на конференции в ноябре 1998 г. «Петр Великий - реформатор России» и доклад на научной конференции в Екатеринбурге А.В. Мельникова, а также его статья5.
Богословский убежденно придерживался методики и методологии дореволюционной исторической науки (а это были общемировые стандарты, ибо именно в России запланирован был на 1918 г. Всемирный конгресс исторических наук). Он старался удержать эти методы в Институте истории РАНИОН, в научной работе сотрудников Исторического музея (а в первые годы советской власти и в архивном ведомстве). Богословский оставался лично близок к тем московским историкам с дореволюционным стажем, которым казались чуждыми «социалистические» преобразования (что отражено и в дневниковых записях некоторых из них - С.Б. Веселовского, Ю.В. Готье), а из петербуржцев - с С.Ф. Платоновым. Сейчас, исходя из критериев современных историографических оценок, можно констатировать, что главным образом благодаря авторитетному положению в Москве М.М. Богословского и Д.М. Петрушевского молодое поколение специализировавшихся в 1920-е годы по средневековой истории России и Западной Европы получало по-настоящему серьезную подготовку в сферах и источниковедения (с археографией), и историографии, позволившую им уже с середины 1930-х годов, после устранения «школы Покровского» (несмотря на тяготы тоталитарного режима сталинизма) создавать труды высокого исследовательского уровня и формировать научные школы с упором и на овладение традиционными основами «ремесла историка».
Пресняков по складу своего характера, потребности живо откликаться на общественные запросы, склонности к философско-социологической проблематике был ближе к другим ученикам Ключевского того же поколения - Н.А. Рожкову и А.А. Кизеветте-ру (так же как и Пресняков, увлекавшимся театром и писавшим об этом), лицам дружеского круга Богословского в 1890-е годы, когда они все трое готовились к сдаче магистерских экзаменов и писали диссертации6. И Кизеветтер, и Рожков (как и Пресняков) окончили гимназии в провинции и не имели, в отличие от Богословского, столь устойчивых корневых связей с обычаями именно мо
сковской культурной традиции. По общественно-политическим воззрениям кадет Кизеветтер, а тем более социал-демократ Рожков были значительно левее Богословского, не склонного к тому же вообще проявлять политическую активность ни в организационном плане (а Кизеветтер и Рожков были членами ЦК своих партий!), ни в публицистике.
После 1917 г. Пресняков активно стал участвовать в самом процессе преобразований, в отличие от Богословского и Платонова, главной заботой которых стало сбережение культурного наследия - памятников истории и культуры, и дорогих им, выверенных опытом, приемов их выявления и изучения. Сохранением культурной традиции был и привычный стиль их личных научных трудов (приемы исследования, формы выражения мысли и даже «старомодность» терминологии). Платонов, утративший возможность придерживаться таких правил в учебной работе и отошедший от преподавания, сосредоточился на организационной и научно-редакторской деятельности в учреждениях Академии наук. Пресняков же интенсивно вел преподавательскую работу в Ленинграде и в Москве, причем и в тех учреждениях, где профессора из «лагеря» Покровского вслед за ним клеймили Платонова как консерватора, продолжателя «реакционной» линии Карамзина в историографии. Покровский даже публично заявлял, что марксистская наука может числить Преснякова «на своем балансе».
Пресняков заинтересованно знакомился с социологическими и философскими воззрениями мыслителей-марксистов и близких к ним, старался осмыслить влияние классиков исторической науки XIX в. на последующее развитие российской историографии, вплоть до современности. Увлеченно занялся открывшейся после революции новой для него в исследовательском плане проблематикой политической истории России XIX в. Отказался от подготовки солидного объема исследований: его сочинения - это сравнительно небольшие книги (впрочем, как и у Платонова тех лет, и тоже блистательные по стилистике), но во многом новаторские по выводам, или статьи характера кратких обобщений, даже в форме постановки вопроса. И при этом с использованием словаря историков молодого поколения.
Теперь становится заметно, что Пресняков в большей мере, чем другие его сверстники, оказался предтечей тех университетских профессоров 1930-1940-х годов (а также и ученых Академии наук), которые, используя или даже декларируя марксистскую
методологию, воспитывали интерес к источниковедческой методике и историографическому знанию, к рассмотрению явлений отечественной истории в контексте мировой истории (и с применением научных приемов зарубежных медиевистов), т. е., как и Богословский в Москве, способствовал формированию навыков подлинного «ремесла историка». (Небезлюбопытно, что первым, кто направил мое внимание на необходимость ознакомления с монографиями и лекциями Преснякова, был в годы эвакуации гуманитарных институтов Академии наук в Ташкент И.И. Смирнов, считавшийся тогда среди ленинградских историков самым «правоверным» марксистским методологом, но затем проявивший себя и как источниковед в исследованиях России XV-XVIII вв.)
Сопоставительное рассмотрение биографических данных Богословского и Преснякова оказывается небезынтересным при изучении роли С.Ф. Платонова в научной и общественной жизни 1920-х годов. Платонов, член-корреспондент Академии наук с 1909 г., воспринимавшийся после кончины Ключевского как глава науки отечественной истории, действительным членом Академии наук стал лишь 3 апреля 1920 г. Хотя Платонов был близок с президентом Академии наук великим князем Константином Константиновичем (знаменитым поэтом «КР»), академики, группировавшиеся возле непременного секретаря Академии наук академика С.Ф. Ольденбурга, не склонны были допустить Платонова в академическую среду. О взаимной неприязни (иногда принимавшей даже публичные формы) обоих Сергеев Федоровичей было широко известно; это отражено в переписке современников, в дневниковых записях супруги Ольденбурга. Ситуация изменилась лишь к 1920 г., когда скончались близкие к Ольденбургу академики М.А. Дьяконов, А.С. Лаппо-Данилевский, заболел А.А. Шахматов, оказались вдали от Петрограда другие лица из окружения непременного секретаря (фактически по традиции, восходящей к прошлому Академии наук, дела по ее руководству вершили непременные секретари).
И С.Ф. Платонов, прирожденный организатор и властный администратор, сумел очень скоро утвердиться в Академии наук. Нарком просвещения А.В. Луначарский7 в записке В.И. Ленину в мае 1921 г. замечал: «Академик Платонов - ума палата. Сейчас, кажется, избран в президенты Академии...» Такое предположение, конечно, опиралось на какие-то слухи. Действительно, уже через восемь месяцев Платонов сумел укрепить Отделение исторических наук и филологии «своими людьми». 4 декабря избра
ли членами-корреспондентами ближайшего друга Платонова со студенческих лет археографа В.Г. Дружинина и непосредственных учеников Платонова по Петербургскому университету (где он заведовал ранее кафедрой) А.Е. Преснякова и по-домашнему близкого С.В. Рождественского, а из москвичей М.М. Богословского, с которым у Платонова все более закреплялись дружеские связи. Через четыре месяца, 2 апреля 1921 г., Богословского избрали уже действительным членом Академии наук. И на протяжении 1920-х годов Платонов и Богословский действовали в научноорганизационном плане единодушно и все более сближались: прибывая в Москву, Платонов останавливался в квартире Богословского, а Богословский в Петрограде-Ленинграде - в квартире Платонова. Платонов получал за Богословского его академическое жалованье. Их большая переписка, насыщенная интересными соображениями научного характера, многообразными подробностями академического обихода и современной общественной жизни, - важный памятник не только историографический, но и социокультурной истории. Сейчас в Археографической комиссии (по гранту РГНФ) их переписка подготовлена А.В. Мельниковым к печати. В то же в издание войдут письма Платонова разным лицам за 60 лет (с 1888 г.), подготовленные к публикации другим моим учеником, сотрудником РГАДА В.Г. Бухертом.
С Пресняковым же отношения у Платонова складывались непросто. Первый помощник Платонова по петроградским архивам при проведении архивной реформы и один из теоретиков этих архивных преобразований, он покинул вместе с Платоновым архивное ведомство, когда оно перешло от Д.Б. Рязанова, целенаправленно и настойчиво привлекавшего в такой работе дореволюционных «спецов», под начало М.Н. Покровского и его «комиссаров». Но Пресняков был долго близок с Лаппо-Данилевским и более молодыми участниками его знаменитого «Кружка» (в частности, с С.Н. Валком), продемонстрировал свои преклонение и преданность его памяти в удивительной по глубине мысли, психологическому настрою и сердечной теплоте книжечке «Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский» (1922, «Биографическая библиотека» издательства «Колос» в Петрограде). А главное, как отмечалось выше, Пресняков открыто отходил и от общественноисторических взглядов Платонова, и от позиций, занятых им в практической научно-организационной деятельности. И это сказалось на результатах выборов в действительные члены Академии наук в начале 1929 г.
О жизни и творчестве Богословского и Преснякова имеется уже немалая литература. Она указана в «Списке печатных трудов академика М.М. Богословского», составленном А.В. Мельниковым (АЕ за 1999 год. С. 320-335), и в статье С.В. Чиркова «Александр Евгеньевич Пресняков»8. Еще в АЕ за 1970 год - к 100-летию со дня рождения историка - Чирков опубликовал «Обзор архивного фонда А.Е. Преснякова» и «Список трудов А.Е. Преснякова». Помню, как радовался С.Н. Валк, знакомясь с кандидатской диссертацией Чиркова «А.Е. Пресняков как источниковед и археограф», и говорил мне об этом во время нашего последнего телефонного разговора. А сегодняшнее сообщение Чиркова - часть уже докторской диссертации «Археография в исторической науке России рубежа XIX-XX вв. (По материалам изучения древнерусских письменных источников)». Обращение к архивному наследию историков, а также к дневниковым записям, эпистолярному материалу существенно расширяет поле зрения историографа. И на нынешнем заседании преобладает внимание именно к таким историографическим источникам. Это в традициях и Археографической комиссии, и нашего «Археографического ежегодника».
1 Шмидт С.О. О методике выявления и изучения материалов по истории советской исторической науки // ТМГИАИ. М., 1965. Т. 22. С. 3-49; Он же. Путь историка: Избранные труды по источниковедению и историографии. М., 1997. Особенно статьи 1976 г. «Некоторые вопросы источниковедения историографии» (С. 119-129) и 1994 г. «Архивный документ как историографический источник» (С. 177-205).
2 Милюков П.И. Два русских историка (С.Ф. Платонов и А.А. Кизеветтер) // Современные записки. 1933. Т. 51. Статья вышла и на французском языке: Miljukov Р. Deux historiens russes S.E Platonov et A.A. Kize-vetter // Le Monde Slave (N.S.). P, 1933. T. 1. № 3. P. 454-464.
3 Такое определение употребляется, в частности, в статье: Маковский С. Московский художественный театр за границей // Жар-птица. Берлин, 1921. № 1. С. 20.
4 Цит. по: Новое о прошлом нашей страны: Памяти академика М.Н. Тихомирова. М., 1967. С. 7.
5 См.: Мельников А.В. К истории публикации труда академика М.М. Богословского «Петр Великий: Материалы для биографии» // Источниковедение и краеведение в культуре России: Сб. к 50-летию служения Сигурда Оттовича Шмидта Историко-архивному институту. М., 2000. С. 444-447.
6 Об этих дружеских отношениях см. в воспоминаниях Богословского о Рожкове (Ученые записки Института истории РАНИОН.М., 1928. Т. 5. С. 132 и след.) и в воспоминаниях Кизеветтера (Кизеветтер А.А. На рубеже двух столетий: Воспоминания 1881-1914. М., 1997. С. 198-201).
7 ЛН. М., 1971. Т. 80 (В.И. Ленин и А.В. Луначарский). С. 258.
8 Портреты историков: Время и судьбы / Сер. Summa culturologiae: В 2 т. Т. 1. Отечественная история. Иерусалим; М., 2000. С. 136-152.
Труд академика М.М. Богословского «Петр Великий: материалы для биографии»
Реформы Петра Великого, возрастание роли государства и превращение России в великую мировую державу, предписанная сверху европеизация образа жизни, сама необычная личность первого российского императора, манера его поведения произвели огромное впечатление на современников и в России, и за рубежом и накрепко остались в памяти потомков: ни о ком другом из российских монархов не сохранилось столько суждений (и притом разноречивых) в литературе и фольклоре, ни о каком другом российском государственном деятеле XVIII-XIX вв. не писали столь много за рубежом.
В XVIII столетии, в век Просвещения, Петр I мыслился не только преобразователем России, но и примером государя, который воплощает на практике идеалы политики просвещенного абсолютизма. Таков образ Петра I в середине XVIII в. и у нашего великого соотечественника М.В. Ломоносова, и у властителя дум западноевропейцев Вольтера. И умная Екатерина II для возвеличения себя сочла наилучшим воздвигнуть в центре основанной Петром новой столицы империи памятник ему - «Медный всадник», где выбито: «Петру Первому Екатерина Вторая» (Petro Primo Catharina Secunda), демонстрируя и перед россиянами, и перед всем миром, что именно она - достойная продолжательница его дела и потому тоже может быть названа великой. Н.М. Карамзину Петр I представлялся историческим героем, «которому нигде не было подобных»1. После резких преобразований и террора Французской революции изменилось отношение и к революционным мерам перестройки общества, и к методам действий Петра I. Тот же Карамзин уже в 1811 г. отмечает унижение Петром I родовитого дворянства и необоснованно решительные реформы России на западный лад: «...увидев Европу, захотел сделать Россию Голландией)»2. В изменении оценки деятельности Петра I и степени его новаторства сыграла свою роль и карамзинская многотомная «История государства Российского». Лишь с изданием этих
Впервые опубл.: Материалы и исследования / Гос. ист.-культ. музей-заповедник «Московский Кремль». М., 2001. Вып. 13. Петр Великий - реформатор России. С. 12-24.
книг убедились не только в значительности героических событий истории России допетровского времени, но стали понимать, что и преобразования Петра опирались на отечественные традиции. Победители наполеоновских армий могли усматривать начало величия России уже в далеком прошлом.
Ярчайшим выражением отношения общества к Петру I были сочинения А.С. Пушкина «Полтава», «Медный всадник» и другие. Пушкин готовил себя и к написанию истории Петра и его времени, выступая наследником Карамзина в историографии. Петр, его деятельность и ее последствия вызывали размышления декабристов и Чаадаева, оказывались в центре споров славянофилов и западников; рассуждения о Петре, сравнения с Петром I мы встречаем в сочинениях Белинского, Герцена и Огарева, Добролюбова и Чернышевского, в разного направления журналах 1850-1860-х годов, во многих научных трудах. Имя Петра I обрело знаковое значение символа. Как Колумбами называли и называют первооткрывателей (Ломоносов писал о «Колумбах росских», покорявших Северный Ледовитый океан, Пушкин - о том, что «древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка -Коломбом»3; уже в недавнее время Юрия Гагарина именовали «Колумбом космоса»), так с Петром I сравнивали строителей, зачинателей, преобразователей. Если снова обратиться к примеру историографа Карамзина, то знаменитый филолог И.И. Срезневский в лекциях по палеографии начала 1870-х годов образно формулировал: «Карамзин как исследователь былых судеб России был тем же, что Петр Великий как строитель судеб ее будущего: оба должны были не забыть ничего»4 - и далее характеризовал роль историка в развитии специальных (или вспомогательных) исторических наук - палеографии, нумизматики, хронологии, генеалогии и т. д.
Образ Петра I и представление о содеянном им прочно вошли в обиходную культуру. И в формировании этих массовых представлений произведения литературы и искусства играют едва ли не большую роль, чем издания исторических источников и труды историков. Напомним о «Медном всаднике» работы Э.-М. Фальконе и М. Колло, изваявшей голову императора, о картине Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея», о стремительном Петре, изображенном В.А. Серовым, о романе А.Н. Толстого «Петр Первый» и экранизации его - так внешность Петра I для большинства совпадает с фигурой Медного всадника (напоминая ширококостного Николая Симонова в фильме), а не с более близкой к сохра
нившейся «восковой персоне» новой скульптурой М. Шемякина в Петропавловской крепости.
Исторические труды о Петре I и его эпохе составлялись уже в XVIII в. Если первым в истории отечественной исторической мысли пространным сочинением, посвященным одному государственному деятелю, был публицистического стиля полупамфлет князя Курбского о его современнике Иване Грозном, то первым многотомным сочинением историко-биографического жанра, основанным к тому же на многообразной документации, были «Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам» (ч. 1-12) И.И. Голикова, изданные в Москве в 1788-1789 гг.
Особый общественный резонанс вызвали «Публичные чтения о Петре Великом» С.М. Соловьева в Москве в год празднования 200-летия со дня рождения царя-реформатора. Для истории Москвы и истории музеев России это знаменательный год, так как московские выставки 1872 г. положили начало и Историческому, и Политехническому музеям. С.М. Соловьев в речи, произнесенной в Московском университете в день рождения Петра I, так определил значение выставки: «Потомство празднует двухсотлетие дня рождения великого человека, и этот праздник есть праздник труда. Указанием на многообразные произведения труда человеческого, указанием на то, что делает наука для усиления труда, хотели мы справить поминки по Петре Великом в нашей старой Москве, обновленной, благодаря Петру, наукой и усилиями народного труда»5.
Значение свершавшегося в России при Петре I и под его воздействием, предпосылки и последствия Петровской реформы и активной внешней политики привлекали особое внимание историков и московской школы (С.М. Соловьева, В.О. Ключевского), и петербургской (К.Н. Бестужева-Рюмина, С.Ф. Платонова). В работах конца XIX - начала XX в., посвященных отечественной истории, постоянно наталкиваемся на соображения о том, как соотносится тот или иной изучаемый период и до, и после Петра I со временем петровских преобразований. Эпоха Петра Великого -как бы верстовой столб отечественной истории, граница, с которой история России, безусловно, и у нас на Родине, и за рубежом рассматривается как органическая часть всеобщей истории, оказывающая воздействие на ход всемирно-исторического процесса. О Петровской реформе и ее последствиях, о личности самого преобразователя писали и говорили и в канун революции 1917 г., и
после нее (к образу действий Петра I обращались В.И. Ленин и И.В. Сталин), пишут и говорят и в наше время и опять-таки в сравнительном плане по отношению к настоящему. В книге А.Н. Ме-душевского «Утверждение абсолютизма в России»6 абсолютистское государство рассматривается как фундамент и первый шаг на пути формирования тоталитарной системы, а Петр Великий - в ряду харизматических вождей прошлого и современности.
Замысел труда, о котором пойдет речь, складывался у Михаила Михайловича Богословского в предреволюционные годы. Работа последовательная и сосредоточенная началась, видимо, в период Первой мировой войны и потом уже оставалась главным делом ученого. В работе этой отразились и опыт науки тех лет, и общественные настроения.
Монографии книжного типа о М.М. Богословском пока нет. Но ему посвящена большая, основанная на использовании архивных материалов личного фонда ученого и других статья академика Л.В. Черепнина, написанная в 1973 г., видимо, как раздел задуманной им монографии «Школа В.О. Ключевского в русской историографии»7. О Богословском опубликованы также статья Т.Н. Черной, сопровождающая издание его научного наследия, и очерк Т.Н. Халиной8.
Родился М.М. Богословский в Москве в 1867 г., жил всегда близ Арбата, учился в Пятой мужской гимназии, где прежде учился В.С. Соловьев, а после него Н.М. Дружинин и Г.В. Вернадский. Гимназистом Богословский, подобно С.М. Соловьеву, был неизменно первым учеником. На историко-филологическом факультете Московского университета, как и некоторые другие ученики В.О. Ключевского, прошел школу основательной подготовки и по отечественной, и по всеобщей истории; был участником семинариев (тогда так произносили это слово) П.Г. Виноградова по всеобщей истории и писал позднее статьи и такой тематики. Был рекомендован к оставлению в университете для подготовки к профессорскому званию (т. е., говоря современным языком, в аспирантуру). Дипломное сочинение, написанное под руководством Ключевского, посвящено писцовым книгам, т. е. памятникам истории допетровского времени. Но когда ему предложили выбрать тему пробной лекции в 1897/98 учебном году, назвал такую - «Значение реформы Петра Великого в истории русского дворянства». Магистерская диссертация, защищенная в 1902 г., -«Областная реформа Петра Великого. Провинция 1719-1727 гг.». Литература о Петре I - тема и одного из его спецкурсов в универ
ситете. Петровскому времени особенно много места уделено в его общем лекционном курсе о России XVIII в. Изданная в 1904 г. небольшая книга имела название «Быт и нравы русского дворянства в первой половине XVIII в.»9.
Если в первой диссертации Богословского изучалась «самодержавно-бюрократическая монархия» XVIII в. (по его же определению), то темой защищенной в 1909 г. докторской диссертации стало исследование «самодержавно-земской монархии» предшествовавшего времени: конкретное содержание этого понятия раскрыто в двухтомной монографии о земском самоуправлении на русском Севере в XVII в.10, где мы видим и детальное ознакомление с историей общества в канун Петровских реформ, и выявление реальных предпосылок этих преобразований.
В 1912 г. напечатан его небольшой очерк «Петр Великий (опыт характеристики)»11, а в 1913 г. - уже пространная статья (хотя и популярная по форме изложения) «Император Петр I Алексеевич Великий»12. С конца 1912 г. Богословский начал готовить большую статью с библиографическим приложением о Петре I для многотомного Русского биографического словаря13.
Важно подчеркнуть то, что М.М. Богословский был историком очень широкого профиля. Он читал общие лекционные курсы русской истории (от древнейших времен и включая XIX век) и выступал в печати со статьями и очерками по разным ее периодам. Он деятельный участник обсуждений докладов разнообразной тематики на заседаниях научных обществ, знаток и комментатор источников и по истории Древней Руси (он считался непревзойденным руководителем семинариев по изучению Русской Правды, Псковской судной грамоты, судебников и др., что отмечают учившиеся у него столь непохожие один на другого академики Н.М. Дружинин, М.Н. Тихомиров, позже Л.В. Черепнин). Широта кругозора в отечественной и всеобщей истории помогали ему уяснить место и значение деятельности эпохи Петра I во всемирно-историческом контексте, а опыт работы со многими разновидностями исторических источников и архивной эвристики, свободное владение древними и новыми иностранными языками стало прочной базой для сложного по замыслу фундаментального исследования и о Петре Великом, и о России его времени.
В 1911 г. М.М. Богословский занял в Московском университете кафедру В.О. Ключевского, преподавал на Высших женских курсах и в Московской духовной академии. Не склонный ни к общественно-политической деятельности (в отличие от
А.А. Кизеветтера), ни к административной (как М.К. Любавский), он занимал накануне революции прочное ведущее место среди московских историков и был особенно уважаем виднейшими из петербургских коллег - А.С. Лаппо-Данилевским и С.Ф. Платоновым (с которым вскоре вошел в близкие дружеские отношения, отраженные в большой переписке, готовящейся сейчас к печати в Археографической комиссии). Платонов энергично содействовал избранию его в 1920 г. членом-корреспондентом Российской академии наук, а через год, в 1921 г., и академиком.
Консерватор по общественным воззрениям и по стилю жизни, Богословский был в то же время чуток к тому, что происходило в обществе (это явствует и из его дневника, и переписки). И понятно, что в период революционной ситуации его все более привлекало время реформ Петра I, а ставшие привычными занятия в хранилищах позволяли забываться в любимой исследовательской работе. Искренне и глубоко преданный научной работе, он даже после февраля 1917 г. был убежден: «Наука наукой останется и после испытанной встряски. Методы не поколебались общественными движениями. Наука - одна из твердых скал среди разбушевавшегося моря»14. Обстоятельства эти (уже отмеченные в литературе о Богословском) действительно имели немалое значение, побуждая ученого именно тогда приступить к такому обязывающему масштабному труду и продолжать его несмотря ни на что. Более того, ученый ощущал потребность в «годину унижения и бед» показывать «нашу славу в прошлом», полагая, что это «подействует нашему возрождению» (такого рода соображения прослежены в дневниковых записях 1915-1917 гг. сотрудниками ГИМ Е.В. Неберекутиной и Т.В. Софроновой, готовящими рукопись «Дневника» к печати15).
Но главное состояло в том, что Богословский при огромной требовательности к себе, при склонности к изучению всей совокупности фактов со всеми относящимися к ним деталями (что подчеркивали и ближайший его друг и муж его сестры С.К. Богоявленский, и С.Ф. Платонов) долго не чувствовал себя готовым к выполнению задачи написания подробной, буквально поденной биографии Петра Великого. Ведь для него биография Петра - это и личная жизнь и деятельность царя, и русское общество, и международные отношения того времени.
Не позднее 1909 г. он пришел к убеждению, что историки не правы, интересуясь «исключительно деятельностью самого царя-реформатора», полагая, что общество оставалось в стороне,
было лишь инертной массой, и Петр «изображался как скульптор, обтесывающий грубую, с трудом поддающуюся его резцу глыбу, придающий ей формы и превращающий в статую. Внимание исследователей всецело было поглощено скульптором, его мыслями, планами и действиями, и совершенно пренебрегало тем материалом, над которым он работал»16. И потому М.М. Богословский так приветствовал выводы Н.П. Павлова-Сильванского, опровергшего подобное мнение и выявившего в обществе силы, поддерживавшие Петра и даже инициировавшие его действия. В то же время он не соглашался с теми, кто думал, что Петр подчас механически воспринимал имеющиеся чужие образцы или легкодумно следовал подсказкам. Еще в тексте лекции 1897 г. ставит он и вопрос о власти царя и дворянстве. В статьях и дневнике встречаются мысли о роли земских соборов, о «революции в формах Разинщины и Пугачевщины». Он полагал, что «революция - роскошь, которую могут позволить себе лишь развитые общества, не вчерашние рабы»17 (показательно, что это запись в дневнике мая 1917 г.!).
Только апробируя источниковедческие навыки, составив достаточно цельное представление - и общесоциологическое, и о конкретике российской истории (причем и в диахронном, и в синхронном рассмотрении), - Богословский решился приступить к главному труду своей жизни. Имея уже некоторый опыт работ по этой тематике, он заметил не без юмора в дневнике 1916 г.: «Чтобы написать историю Петра Великого, надо самому быть вроде Петра Великого»18.
Через два года, в 1918 г., ученый писал академику А.С. Лап-по-Данилевскому, как и он, не сочувствовавшему ни лозунгам, ни действиям новой власти: «Только в научной работе и я нахожу душевное равновесие, и большое счастье, что у нас такая работа есть, я всецело погружен в... биографию Петра, которая начинает, однако, меня пугать своими размерами. Я поставил себе задачею описать его жизнь за каждый день этой жизни, в корне притом пересматривая все источники (изданные) и по мере возможности обращаясь и в архивы. Очень сожалею, что не начал этой работы, когда был моложе. Теперь уже не смогу довести ее до конца, но, может быть, найдется кто-либо продолжатель. Пересмотр вопроса о Петре открывает мне немало нового, потому так к себе и привлекает»19. Но и не имея надежды увидеть начатый труд завершенным, историк с увлечением и неотступно продолжал эту работу до самого конца жизни. Работал с чувством долга перед наукой и Родиной.
Богословский не отступал от принятого плана, который требовал скрупулезного и последовательного исследования. Он буквально жил впечатлениями от воспринимаемого из исторических источников, говорил и писал об этом близким. Обычно почти сразу почерпнутое в архивах воплощал в текст будущей книги. За два месяца до кончины он пишет С.Ф. Платонову в Ленинград: «Я работал параллельно: середину дня посвящал добыванию документов в Архиве, а утро - их обработке. Совсем отрешился от современности и ушел в 1700 год»20.
Богословский работал так, чтобы его методика была ясной для тех, кто станет продолжать начатое им дело. Манера написания (составления) книги, в какой-то мере выглядящая старомодной, восходит к традициям становления исторической науки, когда она казалась не отделившейся еще от литературы и искусства и Клио чувствовала себя своей в сонме других муз. Рассуждения психологического порядка (о личностном и об общественном в сознании Петра I и его эпохи; оценки, иногда осуждающие нравственные критерии тех лет) ведут нас к морализирующим апофегмам «Истории» Карамзина.
Ученый избрал приемы изложения, восходящие, пожалуй, к книге М.П. Погодина о Карамзине, в еще большей мере к труду Н.П. Барсукова - автора многотомной биографии самого Погодина (учитывая также и позитивный опыт создания более близких по времени написания книг - незавершенной «Истории Екатерины II» В.А. Бильбасова и сочинений великого князя Николая Михайловича). Но насколько выше по подъему мысли, историографическим суждениям, литературному мастерству труд Богословского, сколько в нем убеждающей читателя источниковедческой основательности! Как интересен он не только для познания жизни Петра I и России его времени, но и для эстетики лаборатории научной мысли историка! Как выявляется в этом сочинении воспринятое уже у Соловьева, Забелина, Ключевского, Платонова!
Богословский был строг в требованиях к стилю изложения, к архитектонике книг по истории, особенно ценил красоту системы доказательств. Он резко отзывался о недостатках построения последних томов «Истории» С.М. Соловьева, еще резче о некоторых современных ему монографиях. «Во всех этих томах по русской истории не встретишь не только мысль, но хоть бы мыслёнку; всё материалы и материалы, мелочь, гробокопательство. Досадно, маленькая книжка С.М. Соловьева, статья К.С Аксакова были
куда более значительны, чем теперешние фолианты, в которых печатаются груды сырья...» - записывал он в дневнике 1916 г., времени, когда утверждался в его сознании детальный план исследования о Петре Великом. В историческом труде, по мнению Богословского, должно ощущаться «размышление автора над добытыми материалами»21.
Не имея, при всей своей добросовестности, убеждения в том, что им охвачено все относящееся к эпохе Петра I и тем более в должной мере объяснено, Богословский дал своему исследованию название «Материалы для биографии», что опять-таки в духе трудов середины XIX в., когда не преобладало еще внимание к концептуальному изложению и к эффектным построениям, опирающимся на определенно подобранное изложение фактов, что было свойственно Ключевскому. Так, П.В. Анненков озаглавил свое сочинение «Материалы к биографии Александра Сергеевича Пушкина», академик П.С. Билярский - «Материалы для биографии Ломоносова». Слово «материалы» в заголовках трудов Я.К. Грота, П.П. Пекарского, М.И. Сухомлинова и других ученых тех годов - это и показатель представлений ученого о преемственности в развитии науки. Характерно и то, что если многие историки предпочитают ограничиваться ссылками лишь на издания недавних лет, то Богословский не раз возвращает читателя и к многотомной «Истории царствования Петра Великого» Н.Г. Устрялова, опубликованной еще в середине XIX в.
Богословскому были чужды и публицистическая направленность, и фактологическая громоздкость, и излишне наукообразные речевые обороты исторической литературы, и нарочитые красивости. Он стремился писать так, чтобы его труд был необходим ученому-специалисту и одновременно стал бы привлекательным и для широкой публики. И при этом воспринимался бы всеми прежде всего как основательное исследование. А «историческое исследование - это как бы некоторый фонарь - удивительный, прямо магический инструмент в руках историка: он обладает способностью освещать и как бы воскрешать далекое прошлое»22 -так заявлял ученый, обращаясь к коллегам-академикам на годовом собрании Академии наук в 1926 г.
К дореволюционному периоду относится лишь начальная стадия работы. Тогда, видимо, уяснились и основные принципы ее, которых автор неизменно придерживался, хотя в послереволюционные годы сознательно рушились традиционные представления и о ходе истории (М.Н. Покровским насаждалась социоло
гическая и обычно безликая вульгаризация в показе и объяснении событий прошлого), и о литературных традициях русского языка. Богословский, лишенный уже права как буржуазный «спец», не-марксист читать лекции в университете, но продолжавший вести большую исследовательскую, наставническую и организационную работу в Институте истории РАНИОН, в Историческом музее, в первое время и в архивном ведомстве (особенно пока во главе его стоял Д.Б. Рязанов), целенаправленно следовал дорогим ему традициям науки, даже не имея надежды увидеть напечатанным при жизни в таком духе написанный труд. Работал в охотку, не стесняя себя в изложении мысли - ни в содержании, ни в стилистике, что прослеживается по письмам к академику С.Ф. Платонову (где сообщал и о переписке «своего Левиафана, или, скорее, “чудища обла и так далее”»)23 и отражено в авторском предисловии.
Это была его основная работа как академика. Части ее М.М. Богословский печатал в академических и других схожего типа малотиражных изданиях (об этом узнаем из перечня печатных трудов историка)24. В 1920 г. издал в Москве научно-популярную книгу «Петр Великий и его реформа» (близкую к тексту прежних его трудов об этом времени). К юбилею 200-летия Академии наук подготовил доклад «Русское общество и наука при Петре Великом». Намерен был написать небольшую популярную книгу для серии издательства Брокгауза и Ефрона «Образы человечества», но замысел этот, очевидно, остался неосуществленным: в архиве ученого нет чего-либо напоминающего такое сочинение. Да и вряд ли, если бы имелся предназначенный для подобного издания текст Богословского, его друг академик Платонов издал бы в 1926 г. книгу схожего типа «Петр Великий: личность и деятельность».
«Предисловие» к труду датировано М.М. Богословским 15 августа 1925 г., когда уже, видимо, была завершена основная работа над первыми тремя томами «Материалов». «Предисловие» примечательно ощущением чувства собственного достоинства, верой в правоту своего дела. Начинается оно так: «Целью настоящего труда было дать, насколько возможно, более подробное описание жизни и деятельности Петра Великого. Для этого я старался собрать все те известия, которые сохранились о нем в разного рода памятниках. Свой рассказ я располагал по возможности в простейшем хронологическом порядке. Я старался, насколько позволяли источники, восстанавливать жизнь Петра день за днем, изображать ее так, как она протекала в действительности, наблю
дать совершенные им действия, разгадывать одушевлявшие и волновавшие его чувства, представлять себе воспринятые им ежедневные впечатления и следить за возникавшими у него идеями. Есть особая прелесть в том, чтобы следить за жизнью исторического деятеля, переживать ее вместе с ним, как бы воскрешая его. Есть не меньшая прелесть в том, чтобы, наблюдая эту отдельную жизнь, изучать и восстанавливать ту историческую обстановку, то есть те события и тот быт, среди которых эта жизнь протекала, с одной стороны, оказывая на них свое, и в настоящем случае могущественное, воздействие, с другой - в большей или меньшей мере испытывая на себе их влияние.
О Петре Великом написано, конечно, очень много. Два недостатка в этой огромной литературе всегда мне бросались в глаза: в области фактов - их не всегда критически твердо установленная достоверность, в области общих суждений - их не всегда достаточная обоснованность. Развиваясь под влиянием общих философских систем, наша историография иногда делала слишком поспешные и не опиравшиеся на факты обобщения, опережавшие разыскание и критику фактического материала. Мне хотелось собрать факты, достоверные факты, которые, будучи собраны в достаточном количестве, своим неоднократным повторением ведут к надежным общим суждениям. На своей дороге я встретил немало затруднений, главнейшим из которых было самое изложение фактов. Несравненно легче строить широкие обобщения, чем изложить даже простой, но критически проверенный факт так, чтобы за достоверность изложения можно было вполне поручиться. Чем обобщение шире, тем построить его легче...» Завершается «Предисловие» словами: «Невозможно предвидеть, когда этот мой труд по условиям типографского дела и по разным другим соображениям смог бы появиться в печатном виде, и появится ли вообще когда-нибудь. В том постоянстве, с которым я, однако, непрерывно вел эту работу за последние годы, меня поддерживал пример наших древних летописцев и книжных “списателей”, не отступавших перед мыслью, что труд их останется на долгие и долгие годы в единственном рукописном экземпляре»25.
И даже после того как на Богословского внезапно обрушилось тяжкое горе - через три дня после написания «Предисловия» утонул единственный сын-студент, - работа продолжалась. Более того, она стала с тех пор единственной отрадой, воспринималась, по существу, как долг, завещанный от Бога, как у пушкинского Пимена-летописца. Богословский сознательно загружал себя ра
ботой: писал на другие темы, воспоминания об учителях и коллегах, дал согласие на участие в академическом издании Русской Правды. (Эту инициативу Археографической комиссии, реализация которой была насильственно прервана в 1929 г., осуществляли потом под руководством Б.Д. Грекова только с середины 1930-х годов.) Но здоровье сдавало. В письме Платонову от 3 апреля 1929 г. Богословский сожалеет, «что приходится прерывать работу в Архиве и по накоплению материалов для дальнейшего»26.
Изложение событий в «Материалах для биографии» Богословский успел довести до лета 1700 г. Части рукописи (составившие при издании три первых тома) были перепечатаны при жизни ученого в трех экземплярах. Один он переслал в Библиотеку Академии наук в Ленинград (сообщая об этом в письмах к Платонову), другой передал в Библиотеку имени Ленина. Очевидно, третий экземпляр остался у него. Однако сейчас в личном фонде академика Богословского в Архиве Российской академии наук хранятся полный рукописный текст27 и машинописный экземпляр лишь первого тома28.
Из первого изданного тома узнаем о событиях до 9 марта 1697 г. В книге три раздела - «Детство», «Юность», «Азовские походы». Второй том, состоящий из двух частей, посвящен первому заграничному путешествию в марте 1697 - августе 1698 г.: часть первая - «Курляндия. Бранденбург. Голландия»; часть вторая - «Англия. Саксония. Вена. Польша». Том третий повествует о событиях 1698-1699 гг. Заголовки его частей: «Стрелецкий розыск», «Воронежское кораблестроение», «Городская реформа 1699 г.», «Карловицкий конгресс». Том четвертый - о событиях 1699-1700 гг. Заголовки частей: «Русско-датский союз», «Керченский поход», «Дипломатическая подготовка Северной войны», «Реформы и преобразовательные планы Петра 1699-1700 гг.», «Начало войны Дании и Польши со Швецией и приготовление Петра к Северной войне». В незавершенном томе пятом рассказывается только о посольстве Е.И. Украинцева в Константинополь в 1699-1700 гг.
Двадцатого апреля 1929 г. М.М. Богословский скончался. Похоронили его при большом стечении людей на Новодевичьем кладбище. Состоялись заседания памяти ученого. Извещения о смерти поместили в газетах. Но некролог напечатали только в Ученых записках Казанского университета за 1929 г.29 Другие некрологи в СССР - ни в Москве, ни в Ленинграде - не напечатали30. Близилось начало сфабрикованного ОГПУ так называемого
академического дела - дела академиков-историков (ленинградцев С.Ф. Платонова, Е.В. Тарле, Н.П. Лихачева; в Москве - М.К. Лю-бавского) и других видных ученых. В сценарии, реализовывать который стали с осени 1929 г., Богословскому отводилась роль главного сподвижника Платонова, руководителя московских «заговорщиков» (сейчас началось издание материалов следствия31, появилось немало работ, в той или иной мере характеризующих эту пагубную для гуманитарных наук и краеведения провокацию тоталитарного режима).
В архивах имеются материалы памяти ученого. Можно полагать, что намеревались издать сборник его памяти. А.В. Мельников подготовил для Археографических ежегодников некролог Богословского, написанный Платоновым32, очень теплый и уважительный (предназначавшийся, видимо, для академического официального издания), и другие материалы мемориального характера; среди них воспоминания С.В. Бахрушина, вскоре арестованного по «академическому делу».
Понятно, что имя Богословского после «академического дела» первоначально замалчивали. Когда обрушились на «школу Покровского» и вернули к научной деятельности коллег Богословского и Платонова (скончавшегося в январе 1933 г.), издали снова в 1937 г. платоновские «Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI-XVII вв.» и приступили к подготовке к печати труда Богословского о Петре Великом. Издание было подготовлено Натальей Аполлинариевной Баклановой, ученицей Богословского, пострадавшей до того за сотрудничество с ним, под редакцией профессора Владимира Ивановича Лебедева, тогда едва ли не единственного члена партии среди видных специалистов по периоду феодализма в России. Первый том издали в 1940 г., второй - в 1941 г., третий (очевидно, подготовленный еще до войны) - в 1946 г., четвертый и пятый - в 1948 г.33
Издание необычайно обогатило наши знания о Петре Великом и его времени. Книги насыщены интереснейшими, зачастую впервые вводимыми в научный обиход подробностями о быте и культуре в России и в зарубежье, о системе управления и делопроизводства, войнах и дипломатии той поры, о самом Петре и его окружении. Исследование отличает большое литературное мастерство. Оно является образцом и источниковедческого анализа (притом доступного и читателю-неспециалисту).
И естественно, что в наше время возникло желание переиздать эти книги, ставшие библиографической редкостью и остаю
щиеся и по сей день самой подробной и выверенной биографией Петра I и истории России последней четверти XVII столетия.
К подготовке нового издания был привлечен мой ученик, молодой сотрудник Археографической комиссии Российской академии наук Андрей Васильевич Мельников (это тема и его дипломной работы в Историко-архивном институте РГГУ, и докладов на научных конференциях). Оказалось, что и в Библиотеке Академии наук в Петербурге, и в Российской государственной библиотеке в Москве не обнаруживаются сейчас машинописные экземпляры труда Богословского. Тщательно ознакомившись с рукописями личного фонда Богословского в Архиве РАН, Мельников выяснил, что при издании 1940-х годов в авторский текст вносилась значительная конъюнктурная правка34 и там имеется даже особое архивное дело с машинописными текстами, не вошедшими в изданный в 1946 г. третий том35.
Изменен авторский заголовок труда (у Богословского «Петр Великий», в издании «Петр I»), опущен немецкий эпиграф, сокращена уже самая первая фраза. Было написано: «Петр Великий родился в Москве в Кремлевском дворце в ночь на четверг 30 мая 1672 г., на память преподобного Исаакия Далматского»36; в издании опущена последняя часть фразы о памяти Исаакия. И далее устраняются упоминания о церковных праздниках, изменяются наименования (вместо «Немецкая слобода» - «Иноземная слобода» и другие). И, что еще более существенно, устраняются иногда тексты с цитатами из источников и с размышлениями автора о степени их достоверности (особенно о сочинениях иностранцев). Внесены изменения в авторский литературный стиль, модернизирован язык.
Не включены в издаваемый текст замечания Богословского, неприятные для памяти Петра Великого, хотя и близкие к наблюдениям Пушкина о законах его, писанных кнутом. Например, осуждение обрезания бород как «грубой и до крайности резкой выходки человека, увлекшегося западноевропейской внешностью», модами и не находящего «своим выходкам преград»37, или такие фразы: «Человеческая жизнь ничего не стоила в то время, и человеческая личность не была ограждена никаким правом против грубой и безжалостной машины политического розыска. Ничего не стоило выхватить человека из его мирной житейской обстановки, подвергнуть его всем ужасам тогдашнего следствия и затем равнодушно по миновании надобности выбросить его труп из застенка»38. Такое в период сталинского террора публиковать не ре
шались. Так же как и сравнение в явно негативном плане с Иваном Грозным в те годы, когда «опричное войско» было охарактеризовано Сталиным как «прогрессивное»: «Царь, сидящий в кресле, любующийся истязаниями подданных, - эпизод, относящий нас ко времени Ивана Грозного»39. Не внесены в текст и рассуждения автора о совершенно необычном исполнении царем обязанностей палача: «И если он не мог удержаться от роли следователя, то по тому же самому он не мог не выступить и в роли палача»40.
Оказались ненапечатанными и соображения Богословского о том, что у Петра не сразу оформился в сознании план преобразований и вообще не было четко сложившегося представления об этом: «То, что мы будем потом называть общим и отвлеченным термином “реформа” Петра Великого, слагалось из таких отдельных повседневных явлений, наталкивавших, естественно, на перемены и преобразования. Не будем забывать, что перед Петром никогда не было общего, заранее обдуманного и соображенного плана реформы, общей идеи о реформе как таковой. Такое мышление не было вообще свойственно людям конца XVII и начала XVIII века, и оно навязано им учеными мыслителями XIX столетия»41.
Подобные историко-социологические наблюдения не соответствовали политико-социологическим закономерностям в поведении вождей, утверждавшимся И.В. Сталиным в его сочинениях, особенно в «Кратком курсе истории ВКП(б)» (о якобы ясной и четко прослеживаемой политической линии руководства партии Ленина-Сталина уже с начала XX в.). Опираясь на такой материал, можно даже попытаться написать статью о том, что именно опасались публиковать о Петре Великом современники «великого Сталина» (с наблюдениями социопсихологического порядка).
Совершенно очевидно, что труд Богословского был подготовлен так, чтобы он оказался угодным Сталину, заказавшему среди фильмов на исторические темы и фильм о Петре Первом.
Однако не будем торопиться осуждать готовивших труд Богословского к печати; тем более что издание сопровождалось ценным объяснительным словарем и указателями имен и географических названий. Поблагодарим за то, что они все-таки сумели сделать, вернув читателю имя выдающегося историка и познакомив с по-настоящему обстоятельным жизнеописанием Петра Первого. Не сделай они этого тогда, труд Богословского, даже с большего масштаба конъюнктурной правкой, мог бы в пе
риод появления статей разоблачительного характера о его сподвижниках в науке А.С. Лаппо-Данилевском, А.А. Шахматове и А.Е. Преснякове и вовсе не увидеть свет. Показательно, что в рецензии негативной направленности на сборник статей 1947 г. «Петр Великий», напечатанной в № 4 журнала «Вопросы истории» за 1948 г. (т. е. в год выхода в свет последних двух томов труда Богословского), напомнили и об этом издании: автора статьи «Эпоха Петра Великого в освещении советской исторической науки» профессора Б.Б. Кафенгауза упрекнули в том, что он не разобрал «принципиальные ошибки, содержащиеся в книгах М.М. Богословского и в предисловии к Ему тому “Петр I”, где автор откровенно высказывает реакционные взгляды». Замечания Богословского о том, что легче строить широкие обобщения, чем достоверно изложить факты, расценивались как «выпад против советской исторической науки, которая базируется на теории марксизма-ленинизма и требует, чтобы историки не только собирали факты, критически их проверяли, но и обязательно делали из них соответствующие обобщения и выводы». Отметили как «недостаток» редакторского предисловия (В.И. Лебедева) то, что автор его «устранился от подробного критического разбора идеалистической концепции М.М. Богословского»42.
Ясно, что, готовя новое издание исследования М.М. Богословского о Петре Великом, необходимо буквально построчно сверять напечатанный уже текст с авторской рукописью (или авторизованной машинописью, если ее удастся обнаружить). Такое издание готовят в Археографической комиссии РАН при материальной поддержке Правительства Москвы. Ведь написанное Богословским посвящено именно московскому периоду правления Петра, и в изложении его содержится много интереснейшего о Москве тех лет и о москвичах. Труд академика Богословского «Петр Великий: Материалы для биографии» намерено выпустить в свет издательство «Наука». Подготовка к печати этого издания началась в 1999 г., в год Пушкина, так ярко изобразившего Петра Великого, его время, его место в истории России.
Издание это важно не только для познания петровского времени, но и для истории нашей науки и общественного сознания. Труд академика М.М. Богословского - памятник и Петру Великому, и отечественной исторической мысли.
1 Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 253.
2 Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М., 1991. С. 35.
1 Ломоносов М.В. Поли. собр. соч. М.; Л., 1952. Т. 8. С. 703; Пушкин А.С. Сочинения: В 10 т. Л., 1978. Т. 8. С. 49.
4 Срезневский И.И. Славяно-русская палеография XI-XVI вв. Лекции, читанные в Императорском С.-Петербургском университете в 1865-1880 гг. СПб., 1885. С. 10 и след.
5 Цит. по: Цимбаев Н. Сергей Соловьев. М., 1990. С. 344.
6 См.: Медушевский А.Н. Утверждение абсолютизма в России. Сравнительное историческое исследование. М., 1994.
7 См.: ЧерепнинЛ.В. Отечественные историки XVIII-XXbb.: Сборник статей, выступлений, воспоминаний. М., 1984. С. 333.
8 См.: Богословский М.М. Историография, мемуаристика, эписто-лярия: Научное наследие. М., С. 17; Халина Т.И. Михаил Михайлович Богословский (1867-1929) // Историки России XVIII-XX веков. М., 1995. Вып. 2. С. 32-42. См. также: Она же. «В науке приятно быть и простым чернорабочим»: Михаил Михайлович Богословский // Историки России XVIII - начала XX века. М., 1996. С. 658-685.
9 См.: Богословский М.М. Областная реформа Петра Великого. Провинция 1719-1727 гг. М., 1902; Он же. Быт и нравы русского дворянства в первой половине XVIII в. М„ 1904 (2-е изд. М., 1918).
10 Богословский М.М. Земское самоуправление на русском Севере в XVII в. М„ 1909-1912. Т. 1-2.
11 Богословский М.М. Петр Великий (опыт характеристики) // Три века. Россия от Смуты до нашего времени: исторический сборник / Под ред. В.В. Каллаша. М„ 1912. Т. 3. С. 15-33.
12 Богословский М.М. Император Петр I Алексеевич Великий // Государи из дома Романовых. 1613-1913. Жизнеописания / Под ред. Н.Д. Чечулина. М., 1913. Т. 4. С. 148-300.
13 Подробнее см.: Мельников А.В. К истории замысла труда М.М. Богословского «Петр Великий. Материалы для биографии» // Историческая наука на рубеже веков: Статьи и материалы научной конференции, посвященной 60-летию исторического факультета Уральского государственного университета им. А.М. Горького. Екатеринбург, 2000.
14 Цит. по: Черепнин Л.В. Отечественные историки XVIII-XX вв. С. 115.
15 См.: Неберекутина Е.В., Софронова Т.В. Дневник М.М. Богословского // Археографический ежегодник за 2000 г. М., 2001.
16 Богословский М.М. Памяти [Н.П.] Павлова-Сильванского // Богословский М.М. Историография, мемуаристика, эпистолярия. С. 94.
17 Цит. по: Черепнин Л.В. Отечественные историки XVIII-XX вв. С. ИЗ.
18 Там же. С. 116.
19 Богословский М.М. Историография, мемуаристика, эпистолярия. С. 141-142.
20 ОР РНБ. Ф. 585 (С.Ф. Платонов). On. 1. Д. 2329. Л. Юоб. (сведениями этими обязан А.В. Мельникову).
21 Богословский М.М. Научное значение [работ] С.М. Соловьева // Богословский М.М. Историография, мемуаристика, эпистолярия. С. 21-22 (цит. по: Черепнин Л.В. Отечественные историки XVIII-XX вв. С. 121-122).
22 Богословский М.М. Русское общество и наука при Петре Великом: Речь академика М.М. Богословского в торжественном годовом собрании Академии Наук Союза Советских Социалистических Республик 2 февраля 1926 г. Л., 1926. С. 3.
23 ОР РНБ. Ф. 585. On. 1. Д. 2325. Л. 17об.
24 Наиболее полный «Список печатных трудов М.М. Богословского», подготовленный А.В. Мельниковым, см.: АЕ за 1999 г. М., 2000.
25 Богословский М.М. Петр I: Материалы для биографии. М., 1940. Т. 1.С. 10-11.
26 ОР РНБ. Ф. 585. On. 1. Д. 2329. Л. 16- 16об.
27 АРАН. Ф. 636 (М.М. Богословский). On. 1. Д. 4-8.
28 Там же. On. 1. Д. 4 а.
29 Сыромятников Б.И. Памяти М.М. Богословского. 1867— 20.IV.1929 // Ученые записки Казанского университета. Казань, 1929. Кн. 2. Отд. 5. С. 394-396.
30 За рубежом была опубликована статья: Кизеветтер А.А. Две утраты: М.М. Богословский и А.Е. Пресняков // Современные записки. Париж, 1930. Т. 41. С. 511-519.
31 См.: Академическое дело 1929-1931 гг. Вып. 1. СПб., 1993. Дело по обвинению академика С.Ф. Платонова. Вып. 2. Ч. 1, 2. СПб., 1998. Дело по обвинению академика Е.В. Тарле.
32 Платонов С.Ф. Неизданный некролог М.М. Богословскому / Подгот. А.В. Мельников // АЕ за 1998 г. М., 1999. С. 388-396.
33 Богословский М.М. Петр I. Материалы для биографии / Под ред. проф. В.И. Лебедева. М„ 1940. Т. 1. С. 3-435; М„ 1941. Т. 2. С. 3-624; М„ 1946. Т. 3. С. 3-502; М„ 1948. Т. 4. С. 3-515; М„ 1948. Т. 5. С. 3-316.
34 См.: Мельников А.В. К истории публикации труда академика М.М. Богословского «Петр Великий: Материалы для биографии» //
Источниковедение и краеведение в культуре России: Сборник к 50-летию служения Сигурда Оттовича Шмидта Историко-архивному институту. М., 2000. С. 444-447.
35 АРАН. Ф. 636. On. 1. Д. 36 («Акад. М.М. Богословский. Петр I. Том третий. Текст, не вошедший в издание 1946 г.»). Л. 1-65.
36 Богословский М.М. Петр I. Материалы для биографии. Т. 1. С. 13 (ср.: АРАН. Ф. 636. Он. 1. Д. 4. Л. 1 а-1).
37 АРАН. Ф. 636. Он. 1. Д. 6. Л. 8.
38 Там же. Л. 59.
39 Там же. Л. 139.
40 Там же. Л. 80.
41 Там же. Л. 165.
*2 Анпилогов Г. Рец. на кн.: «Петр Великий: Сборник статей под редакцией доктора исторических наук А.И. Андреева». Л., 1947. Вып. 1 // Вопросы истории. 1948. № 4. С. 122.
П.Н. Милюков в статье 1933 г. «Два русских историка (С.Ф. Платонов и А.А. Кизеветтер)» использует характерный со второй четверти XIX в. для русской публицистики прием сопоставительного рассмотрения «новой столицы» как «города чиновной бюрократии» и Москвы, где «на первом плане общественность», и отмечает, что «физиономии обеих столиц» отразились и «в направлениях научной мысли». Платонов изображен им как «столичная штучка» и «вождь петербургской школы» историков, хотя и указывается на существенное влияние на него В.О. Ключевского (при этом автор оговаривается, что «все эти характеристики, конечно, относятся к дореволюционному прошлому»).
Сам же Платонов в пространной «Автобиографии» 1928 г. (напечатанной впервые уже после появления статьи Милюкова) на первой же странице ее счел должным написать о своих связях с Москвой. Указывает он на то, что родители его - коренные москвичи и в Москве сосредоточена вся родня, и «не только происхождение, но и сознательная преданность Москве с ее святынями, историей и бытом делала моих родителей, а за ними и меня, именно великорусскими патриотами». В детские годы Платонов «чувствовал себя как бы на родине» именно в Москве, хотя «оседлость... была и не там». Становится очевидным, что проблему, сформулированную в заголовке, не следует рассматривать, ограничиваясь рамками традиционного «противоположения» Петербурга и Москвы XIX - начала XX в. Тем более что для мироощущения Платонова 1920-х годов немалое значение имело обретенное им в те годы положение в научно-общественной жизни Петрограда-Ленинграда, утратившего уже статус столицы.
Применительно к историку Платонову изучение этой проблематики допускает подход в нескольких планах: социо-культурологическом, собственно историографическом (в плане развития исторической науки и тематики исследований и самого Платонова, и его научной школы), личностных связей (с родственниками, коллегами, функционерами). При этом нельзя упу-
Впервые опубл.: Жизнь и творчество историка С.Ф. Платонова в контексте проблемы «Москва-Петербург» // Россия в IX-XX вв.: Проблемы истории, историографии и источниковедения: [Сб. ст. и докл. Вторых чтений, посвященных памяти А.А. Зимина] М., 1999. С. 533-537.
скать из виду различия в восприятии Платонова (и как личности и трудов, им написанных) со стороны и его самовосприятия.
Тема эта может оказаться интересной не только в аспекте историографической проблематики, но и истории общественного сознания и культуры последнего тридцатилетия прошлого века и первого тридцатилетия нынешнего. Однако пока допустима лишь постановка вопроса и выявление возможных направлений дальнейших исследований: для серьезно обоснованных выводов нельзя довольствоваться печатным материалом, а богатейший архивный фонд ученого только вводится в научный обиход (Российской национальной библиотекой в 1993 г. уже издан первый выпуск «Каталога архива академика С.Ф. Платонова»), и недостаточно изучены материалы личных фондов лиц, близких к Платонову, из москвичей - прежде всего академика М.М. Богословского (переписка двух академиков, особенно в 1920-е годы, была постоянной), а также Ю.В. Готье, С.Б. Веселовского, С.В. Бахрушина и др.
Московское начало сыграло значительную роль в формировании жизненных и научных интересов Платонова. В детстве он «жил под сильным влиянием отца», вложившего в него любовь к истории и литературе, впечатлявшего воспоминаниями о студенческих кружках Москвы середины XIX в. Московские студенты-историки возбудили у гимназиста интерес к занятиям историей. Профессорами-лекторами в Петербургском университете, определившими выбор студентом специализации по отечественной истории, были выпускники Московского университета К.Н. Бестужев-Рюмин, В.И. Сергеевич и окончивший Харьковский университет А.Д. Градовский. Среди главных своих учителей тех лет Платонов называет и лично ему тогда еще незнакомого В.О. Ключевского, влияние лекций и монографий которого он испытывал «в понимании смысла и содержания русского исторического процесса». В Ключевском Платонова привлекало и его, так сказать, плебейство, обусловившее глубокое знакомство с великорусским бытом. Выросшему в мещанско-чиновничьей среде Платонову рано стало очевидно, что понять «старую русскую жизнь» в ее конкретности может только тот, кто «знаком с современным народным бытом».
Для первой большой самостоятельной работы Платонов избрал тему круга интересов Ключевского - земские соборы. Сделавшие Платонова сразу знаменитым «Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI-XVII вв.» (докторская диссертация 1899 г.) воспринимались и им самим, и читателями как
продолжение традиций Ключевского (особенно докторской диссертации последнего о Боярской думе). Преемственность проявилась в «изучении общественного строя и сословных отношений» во взаимосвязи с основными явлениями социально-политической истории эпохи.
Характерно и то, что тематика основных исследований и самого Платонова, и его учеников по Петербургскому университету -период Московского царства, а не петербургский период российской истории, хотя, в отличие от Ключевского и его «школы», они остаются в русле государственно-политической истории и истории общественного сознания (мало касаясь до 1917 г. экономических факторов исторического процесса), обнаруживая особую склонность к источниковедческим штудиям и высокий класс подобных исследований. Здесь, несомненно, сказывались традиции «петербургской школы» Бестужева-Рюмина и В.Г. Васильевского и влияние трудов великих современников Платонова петербургских академиков А.С. Лаппо-Данилевского и А.А. Шахматова.
Любопытно и то, что положение Платонова в общественнонаучной среде Петербурга было своеобразным и напоминавшим положение Ключевского в Москве. В Москве именно университетская профессура во многом определяла общественную и особенно научную жизнь. В столице же на рубеже XIX и XX вв. были фактически две такие микросреды; и различие двух, находившихся рядом (на одной набережной), средоточий науки - Академии наук и университета (и вообще высших учебных заведений) было заметно ощутимо современниками. Платонов, как и Менделеев, не принимавшийся долгое время в ряды академической элиты, относился к иной, чем она, среде. Платонов был высокопоставленным чиновником системы образования и человеком, близким к президенту Академии наук - великому князю Константину Константиновичу, но он не принадлежал к академическому кругу: членом-корреспондентом Академии его избрали сравнительно поздно; в сборнике 1911 г. в его честь ни один петербургский академик-гуманитарий не участвовал (зато участвовали москвичи -С.Б. Веселовский, Ю.В. Готье, М.К. Любавский, А.И. Яковлев). И хотя Платонов лично придерживался сравнительно консервативных политических убеждений и не склонен был к участию в деятельности политических партий (в отличие от видных академиков-гуманитариев и близкого к ним В.И. Вернадского), его каждодневная публичная деятельность профессора и функционера в системе просвещения делала его, пожалуй, наиболее из
вестной фигурой среди историков в глазах петербургской интеллигенции. Этому способствовала и повсеместная всероссийская популярность его учебников для высшей и средней школы.
Это обретенное еще до 1917 г. общественное положение помогло ему после избрания в 1920 г. академиком утвердиться в общественном мнении как лидеру гуманитарных наук и организатору академической науки - он стал председателем Археографической комиссии, директором и Библиотеки Академии наук, и Пушкинского Дома, и, наконец, академиком-секретарем Отделения общественных наук.
Положение изменилось и в том смысле, что если до революционного 1917 г. средоточием оппозиции к официальной академической науке и ее властным структурам была Москва, то с переездом правительства в Москву оппозиционность в большей мере стала проявляться в Петрограде, где именно Платонов стал восприниматься как лидер профессуры, приверженной к давним традициям российских гуманитарных наук и чуждой социологической вульгаризации и нарочитого снижения научного уровня преподавания, насаждавшихся М.Н. Покровским. В 1920-е годы Платонов еще больше сблизился с московскими историками, вышедшими из «школы Ключевского». И не случайно по сценарию фальсифицированного «академического дела» 1929-1930 гг. именно Платонова изобразили главой общего заговора ленинградской и московской гуманитарной профессуры.
Первое переиздание труда академика Сергея Федоровича Платонова (1860-1933) «Далекое прошлое Пушкинского уголка: Исторический очерк» обогащает представление и о круге пушкиноведческих знаний (и это следует особо отметить в год Пушкинского юбилея), и о развитии отечественной исторической науки. Это книга о местности Псковского края, где жил, творил и похоронен Пушкин, о взаимосвязях окружавших его природных условий и общественной жизни, о социокультурном обиходе, который он застал, о предшествовавших временах, нашедших отражение в знакомых ему исторических преданиях, песнях, поговорках. Не забудем то, что в Михайловском, в августе 1824 - сентябре 1826 годы сосланный туда Пушкин создавал произведения и о явлениях современной жизни, и великую историческую драму «Борис Годунов».
Очерк С.Ф. Платонова - высокий пример сочинения по проблематике исторического краеведения, выполненного исследовательским методом и в то же время написанного в литературнохудожественной манере, привлекательной для широкой публики. Это образец умения извлекать и сопоставлять полезную историческую информацию и из наблюдений над явлениями природы, и из памятников материальной и духовной культуры, и из письменных источников - делопроизводственной документации (правительственной и местной, официальной и семейной), «путешественных описаний», дневников, переписки и воспоминаний, художественной литературы, прессы. В небольшого объема книге важные выводы и наблюдения об образе жизни и культуре и верхов общества (с экскурсами в генеалогию), и зависимого населения на протяжении веков и факты местной («уездной») истории рассматриваются и оцениваются в контексте всей отечественной истории (причем и социально-экономической, и государственнополитической).
Наконец, это - интересная, поучительная и пока еще слабо отмеченная в историографии страница творчества ученого, за-
Впервые опубл.: Послесловие к репринтному изданию // Платонов С.Ф. Далекое прошлое пушкинского уголка: К 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина. М., 1999. С. I-VII. [Репринт изд.1927 г.]
нявшего после кончины В.О. Ключевского первенствующее положение в науке отечественной истории. В очерке амальгама опыта исследователя прошлого и археографа (выявившего в архивах, описавшего и опубликовавшего ценнейшие письменные памятники), педагога высшей школы (признаваемого и выдающимся лектором и замечательным руководителем семинаров - создателем своей научной школы) и руководителя подготовки учителей для средней школы (Платонов был долго директором организованного при его участии Женского педагогического института). Платонов - автор переиздававшихся при его жизни монографий «Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII века как исторический источник» (1888), «Очерки по истории Смуты в Московском государстве: опыт изучения общественных отношений в Смутное время» (1899), специальных статей и новаторских исследований в научно-популярном стиле и доступного каждому читателю объема: «Борис Годунов» (1921), «Иван Грозный» (1923), «Смутное время: очерк истории внутреннего кризиса и общественной борьбы в Московском государстве XVI-XVII веков» (1923), «Прошлое русского Севера: очерки по истории колонизации Поморья» (1923), «Москва и Запад в XVI-XVII веках» (1925), «Петр Великий: личность и деятельность» (1926) и пользовавшихся неизменным спросом учебников по отечественной истории для высшей школы (в основе лекционный курс заведующего кафедрой русской истории Петербургского университета) и для средней школы1.
Накануне революции 1917 г. Платонов, заслужив полную пенсию и имея постоянный доход от неизменно переиздававшихся учебников, вышел в отставку, сохранив за собой «только небольшое число лекций» в университете и педагогическом институте, решив, как он сам писал, «отдать остаток жизни науке и путешествиям, которые очень любил». Но революция поставила его «снова в ряды повседневных работников». Руководитель советского архивного ведомства тех лет Д.Б. Рязанов привлек его к руководству архивным делом в Петрограде. С конца 1918 г. он и председатель Археографической комиссии. С избранием Платонова в 1920 г. действительным членом Академии наук он - прирожденный организатор - в последующие годы становится директором и Библиотеки Академии наук, и Пушкинского Дома, и руководителем Отделения гуманитарных наук. Желая противостоять насаждаемому М.Н. Покровским вульгарному социологизму, намерен был организовать академический институт для
подготовки документальных публикаций и развития источниковедения и смежных с ним специальных исторических наук2.
Платонов проявлял устойчивый интерес к проблематике краеведения, а в первое послереволюционное десятилетие (которое можно назвать «золотым десятилетием» нашего краеведения) тяга к таким занятиям усилилась, тем более что он принимал и организационное участие в изучении Петрограда и его окрестностей и русского Севера. При этом Платонов придерживался унаследованных еще от начала века понятий о предмете исторического краеведения, в отличие от историко-культурного уклона, характерного для знаменитых тогда ленинградских историков-краеведов И.М. Гревса и Н.П. Анциферова, уделявших особое внимание выявлению в прошлом и в настоящем того, что ныне называют «менталитетом». В этом плане Платонов ближе к московским историкам, тогда тоже немало сил отдававшим краеведению, - академику М.М. Богословскому, С.В. Бахрушину, их ученику М.Н. Тихомирову, подготовившему первую в ту пору книжку по истории города «Город Дмитров. От основания города до половины XIX века» (1925). Показательно напечатание очерка (что специально указано) за счет автора - очевидно, что это не плановая работа Академии наук и не связанная с деятельностью и Центрального бюро краеведения, возглавлявшегося академиком С.Ф. Ольденбургом - непременным секретарем Академии наук. У Платонова со своим тезкой были неприязненные отношения (о чем было широко известно в академических кругах).
Обращение к изучению прошлого пушкинских мест было близко и совместимо с деятельностью Платонова как директора (с 1925 г.) Пушкинского Дома: он публикует статью «Пушкин и Крым» (1928), редактирует издание писем Пушкина к Е.М. Хитрово (1927) и книжку М.Д. Беляева и А.А. Платонова «Последняя квартира Пушкина в ее прошлом и настоящем. 1837—1927» (1927), способствует передаче в Пушкинский Дом коллекции материалов Пушкина и о Пушкине (собранной в Париже А.Ф. Онегиным-Отто), выступает (в 1926 г.) с докладом к столетию со времени кончины писателя и историка Н.М. Карамзина, «драгоценной для россиян» памяти которого Пушкин, «гением его вдохновленный», посвятил своего «Бориса Годунова».
Многогранная плодотворная исследовательская и организаторская деятельность Платонова была насильственно прервана, когда против него и других историков дореволюционной формации (в Ленинграде и Москве) выдвинули сфабрикованное
обвинение в антисоветском монархическом заговоре, а видным краеведам приписали враждебные советской власти контакты с главой заговора Платоновым. Все эти лица были в конце 1929— 1930 г. арестованы (Платонов в январе 1930 г.). В 1931 г. Платонова исключили из состава Академии наук (вместе с академиками Н.П. Лихачевым, М.К. Любавским, Е.В. Тарле) и выслали в Самару, где он и скончался. Теперь все эти ученые полностью реабилитированы, началось издание материалов «Академического дела» 1929-1931 гг., первый выпуск («Дело по обвинению академика С.Ф. Платонова») вышел в 1993 г.
Переиздающаяся книга, напечатанная небольшим тиражом, вскоре оказалась запертой в спецхранах, стала библиографической редкостью и обойдена вниманием в трудах историографических и о методике краеведения. Между тем Платонов в этом очерке выступал предтечей тех ученых мира, которые рассуждают ныне о предмете «микроистория» и особенностях изучения «локальной истории».
Издание осуществляется по экземпляру, находившемуся в собрании историка Константина Васильевича Кудряшова (1885-1962) - доктора исторических наук, специалиста по исторической географии России, автора трудов широкого хронологического диапазона (и по истории степного Причерноморья ХП-ХШ вв., и о времени Александра I). Он окончил в 1911 г. Петербургский университет, в 1920-е годы преподавал в ленинградских вузах. Библиотеку ученого купил у его вдовы Ольги Михайловны академик Михаил Николаевич Тихомиров (1893-1965), которому она помогала в его работе, и затем передал в дар возрожденной по его инициативе (в 1956 г.) и под его председательством Археографической комиссии Академии наук (прекратившей существование вскоре после ареста Платонова и его сотрудников).
В последние годы переиздаются труды С.Ф. Платонова, появились книги и статьи о его жизни и творчестве (В.С. Браче-ва, В.А. Колобкова, А.Н. Фукса и других); в Археографической комиссии готовится академическое издание собрания сочинений i выдающегося историка. Востребованность его научного наследия j на рубеже новых столетия и тысячелетия очевидна. Имя академи- ! ка С.Ф. Платонова прочно закрепилось в плеяде имен классиков науки отечественной истории.
1 См.: Список трудов С.Ф. Платонова // Сборник статей по русской истории, посвященных С.Ф. Платонову. Петербург, 1922. С. VII-XII (составитель Б. Романов); Список печатных трудов академика С.Ф. Платонова (с 1923 г.) // Археографический ежегодник за 1993 год. М„ 1995. С. 319-320 (составитель В.А. Колобков).
2 О работе Платонова в послереволюционные годы см.: Шмидт С.О. Доклад С.Ф. Платонова о Н.М. Карамзине 1926 г. и противоборство историков // Археографический ежегодник за 1992 год. М., 1994. С. 39-76; Он же. Сергей Федорович Платонов (1860-1933) // Шмидт С.О. Путь историка: избранные труды по источниковедению и историографии. М„ 1997. С. 495-553.
Николай Леонидович Рубинштейн родился 11(23) декабря 1897 г. Заседание его памяти Археографическая комиссия проводила совместно с Государственным Историческим музеем, где Н.Л. как заместитель директора возглавлял научную работу в 1943-1949 гг., и с Историко-архивным институтом РГГУ, ставшим в 1957 г. последним местом его преподавательской деятельности.
В середине нашего столетия даже среди самых выдающихся советских историков России Н.Л. выделялся не только широтой и многообразием фундаментальных исследовательских интересов и редкостной образованностью (глубокие знания в области всеобщей, точнее сказать западноевропейской, истории, права, экономики, истории искусств и литературы), но и своеобразием творческой манеры: социолого-конструктивная направленность мысли и восприятие всякого исторического явления как части системы совмещались со склонностью к детальнейшему изучению отдельных фактов (или групп их) с применением многообразных эвристических методик специальных исторических дисциплин. При этом Рубинштейн - и крупнейший исследователь, и новатор-преподаватель, создатель научной школы, и неутомимо изобретательный организатор работы в сфере науки истории и музейного дела. Творческая деятельность Н.Л. - славная и поучительная страница в истории развития исторической мысли, а преследование этого благородного труженика, целью работы которого была общая польза, - один из убедительных показателей аморальности сталинского режима. Счастливо уцелев в годы массовых репрессий второй половины 1930-х годов, Н.Л. пал жертвой разнузданной борьбы с так называемым космополитизмом, что сказалось на его здоровье, лишило возможности созидания научной школы в Московском университете и в Историческом музее, стало помехой в завершении работы в плане обобщения новых наблюдений в сфере историографии и в выполнении замысла написать обобщающий труд по социоэкономической истории России второй половины XVIII в.
Впервые опубл.: Судьба историка Н.Л. Рубинштейна // Археогр. ежегодник за 1998 г. М„ 1999. С. 202-227.
Значение и того, что успел завершить ученый, очень велико, а личность Н.Л. оставила большой след в душе тех, кто с ним общался. Рубинштейну, пожалуй, первому из историков его поколения посвящен аналитический по мысли большой биографический очерк, основанный на изучении и архивного материала. Это статья его друга университетского профессора С.С. Дмитриева, напечатанная в 1964 г. с приложением списка печатных трудов Н.Л. в 72-м выпуске Ученых записок Горьковского университета (Нижний Новгород). Статья Дмитриева стала в те годы важным историографическим фактом и потому, что в определенной мере стимулировала появление статей других авторов в схожем стиле, но с еще большей, пожалуй, акцентировкой индивидуального отношения к своему герою, - об историках М.Н. Тихомирове в «Археографическом ежегоднике» за 1965 г. и А.Л. Сидорове в «Исторических записках» (Т. 80).
С.С. Дмитриев обратил внимание читателей на то, что имеет место смешение иногда двух историков с одинаковыми не только фамилиями, но и именами и отчествами. Это представляется тем более существенным, что другой Н.Л. Рубинштейн (1902-1952) -тоже доктор исторических наук, специалист по истории советской внешней политики - выступал в печати и по вопросам историографии: в 1920-е годы - о славянофилах, с апологетическими статьями о М.Н. Покровском, а в 1939 г. - с обличением того же Покровского (в журнале «Под знаменем марксизма». № 5). В статье того же журнала (№ 5 за 1924 г.) «М.Н. Покровский - историк России» он провозглашал: «Теперь мало кто заглядывает в работы Ключевского, забыт Платонов...», а нашему Н.Л. Рубинштейну мы обязаны подготовкой в 1930-е годы к печати курса лекций Ключевского, статьями об этом, поддержкой нового издания книги С.Ф. Платонова «Очерки Смуты в Московском государстве XVI-XVII вв.» (1937). В мои университетские годы, чтобы устранить возникающую путаницу, другому Н.Л. Рубинштейну дали прозвище «Генкин муж» (его супругой была известный историк профессор Э.Б. Генкина).
Материалы о Н.Л. печатались в сравнительно недавнее время и в Москве, и в Саратове, где он преподавал в годы эвакуации (в сентябре 1941 - октябре 1942 г. заведовал кафедрой истории народов СССР исторического факультета Саратовского университета; одно время был и деканом исторического факультета). В Археографических ежегодниках опубликованы статьи о Н.Л. (причем заказанные редакцией): в АЕ за 1985 год статья Н.В. Ко
валева «Материалы по социально-экономической истории России XVIII в. в рукописном наследии Н.Л. Рубинштейна»; в основе этого обзора материалов личного фонда Н.Л. в РГБ - работа моего дипломника по Историко-архивному институту, которая, к сожалению, не переросла в диссертацию, так как автор уехал тогда из Москвы. Но выявленное им убеждает в том, что можно и полезно издать книгу в той или иной мере подготовленных к печати трудов Н.Л. такой тематики, присоединив к ним напечатанные при жизни статьи. В АЕ за 1989 год опубликована статья старейшины нашего музееведения А.Б. Закс «Н.Л. Рубинштейн во главе научной работы Государственного Исторического музея (1943-1949 гг.): По материалам архива ГИМ и личным воспоминаниям». В 1988 г. в издательстве Саратовского университета вышла книга (правда, малотиражная) «Проблемы экономической истории и теории: Межвузовский научный сборник. Вып. 2, ч. 4», посвященная памяти Н.Л. Она предварена статьей В.В. Пугачева и В.А. Динеса «Николай Леонидович Рубинштейн и экономическая история» (С. 3-18), в которой предпринята попытка рассмотреть биографию историка и «контекст личности с обстановкой» (выражение знаменитого синолога академика В.М. Алексеева). Н.Л. посвящен и недавний очерк А.Н. Цамутали в издании 1997 г. Института российской истории РАН («Историческая наука России в XX веке»). Материалы юбилейной конференции, публикующиеся в настоящем томе «Археографического ежегодника», еще в большей степени обеспечат источниковую базу для написания книги об историке Н.Л. Рубинштейне; а такая книга важна для изучения не только истории исторической науки и распространения исторических знаний, но и общественной жизни нашей страны в советский период.
Очевидно, что при сочинении такой книги, как и других трудов о жизни и творчестве Н.Л. (а его жизненный путь - это прежде всего творческий путь), исходить нужно из последней опубликованной при его жизни статьи «О путях исторического исследования» в журнале «История СССР» за 1962 г. (№ 6). Она написана по предложению редколлегии журнала, задумавшей напечатать цикл статей о творческом опыте советских историков. Это документ и биографический, и собственно историографический. Из статьи о формировании исследователя и его творчестве, о тематике и методике работы ученого, преподавателя, организатора науки явствует, каким историографическим фактам Н.Л. придавал наибольшее значение, как он использовал разработанную им шка
лу ценностей историографических источников применительно к собственной научной биографии, что он полагал необходимым подчеркнуть, от изложения чего в той или иной мере уклонился и почему. Статью эту интересно сравнить с другими, схожего содержания, причем не только с напечатанными примерно тогда же в том же журнале, но и с иными, в частности с автобиографической запиской С.Ф. Платонова 1920-х годов. Тем самым выясняется, какими критериями (и в какое время) руководствуются крупные и высокообразованные историки при определении кажущихся им значительными историографических фактов, осмысливая особенности своего жизненного пути на карте развития исторической науки. Полагаю, что у Н.Л. подход к отдельным разновидностям историографических фактов формировался постепенно в процессе все более углубленной разработки историографической проблематики. Статью «О путях исторического исследования» рекомендовал бы как обязательную литературу при подготовке студентов к экзаменам и по историографии, и по источниковедению, а аспирантов - к сдаче кандидатского минимума. Думается, что и автор рассчитывал на поучительные размышления молодого читателя.
В статье сформулированы положения, объясняющие многое в творческой биографии самого Н.Л. - и в его личной научной работе, и в его методике преподавателя и научного руководителя. Н.Л. убежден был в том, что «теоретическое изучение вопроса и разработка конкретного фактического материала должны идти рука об руку: не может быть плодотворного накопления фактических данных без предварительного выяснения для себя основных теоретических посылок, без последовательного параллельного анализа и научной систематизации уже собранных данных»1. Убежден он был и в том, что «серьезное конкретно-историческое изучение всегда включает его историографическое осмысление»2.
В статье Н.Л. использовал свободу высказаться о том, каким требованиям должна отвечать работа историографа. Это было внутренне необходимо сделать Н.Л. и потому, что его вынудили достаточно жестко идеологизированно и политизированно сформулировать представления о подходе к занятиям историографией в статье «Основные проблемы построения русской историографии», напечатанной в журнале «Вопросы истории» за 1948 г. (№ 2), и раньше ему не предоставляли возможности печатного ответа тем, кто намеренно необъективно выступал против его книги «Русская историография» в 1948—1949 гг. В статье 1962 г.
заметны элементы и самооценки, и оценки-предостережения трудов некоторых из тех лиц, кто возомнил себя историографом после разгрома книги Рубинштейна. Н.Л. писал: «Историографическая тема - не только конкретно-историческая, но требует также особо серьезной методологической и философско-исторической трактовки. Историографическое изучение требует наличия соответствующих исторических знаний в области той тематики, которой занимался изучаемый историк. Историограф должен обладать определенной исторической научной компетентностью, а это означает требование научной зрелости от избирающего историографическую тематику»3.
Позволю себе поделиться некоторыми дополнительными соображениями сравнительно с тем, что писал Н.Л. о себе и что узнаем из статей, ему посвященных, сведениями из переписки Н.Л. с М.Н. Тихомировым, а также памятными впечатлениями (и документацией) очевидца «проработки» Рубинштейна.
Вероятно, все-таки не в должной мере выделяют счастливую способность Н.Л. претворять в целенаправленное творчество именно историка все воспринимаемое им. Это творчество обогащали и книги, и общение с людьми, и ознакомление с культурным и природным наследием, а наблюдения над явлениями всеобщей истории всегда вели к сопоставлениям и ассоциациям из изучаемой им отечественной истории. Это свойство умственной природы Н.Л. можно было наблюдать и во время научных заседаний, в публичных докладах, в беседе. Иногда оно было необычайно заразительным. К обычной информации на уровне новостей-сплетен Н.Л. оставался безучастен: у него не возникало вслед за тем интересных ему самому творческих ассоциаций - и в его обществе, тем более в его доме, разговоры на такие темы не имели места. Но наблюдения над подобными явлениями, над обусловленными ими поступками людей оседали, конечно, в сознании Н.Л., как и опыт размышлений философов и писателей о темном в человеческой натуре. И он с мудрым достоинством, не опускаясь ни до перепалки, ни до унизительного и неискреннего покаяния, оставаясь неизменно воспитанным, претерпевал то, что выпало на его долю с конца 1940-х годов, сказанное и сделанное теми, кто еще совсем недавно старался демонстрировать совершенно иное отношение к влиятельному тогда деятелю науки. Конечно, и опыт истории, и опыт личного существования при тоталитарном режиме Н.Л. многому научили. Но и это не могло изменить столь привлекательного в своей основе - особенно у человека такой
интенсивной умственной работы и столь высокого интеллекта -доброжелательного отношения к людям. Он сохранял и прежнее простодушие, и доверчивость.
Не отмечены пока и особенности вхождения Н.Л. в среду влиятельных московских историков. Он переехал в Москву в период резкого обострения взаимоотношений историков и неприкрытого партийного вмешательства в повседневность исторической науки. Слышны были отзвуки «академического дела», когда арестовали видных ученых «старой школы» и их учеников, а труды этих историков публично шельмовались. Арестован и лишен звания академика был и Д.Б. Рязанов, целенаправленно старавшийся привлечь «спецов» к строительству «социалистической» культуры. Назревали серьезные конфликты и в среде воинствующих выпускников Института красной профессуры, особенно в связи с усиливавшейся болезнью М.Н. Покровского. Немало предопределялось тогда давними еще личностными связями (по Московскому университету и РАНИОНу, Институту красной профессуры). Отсутствие у одессита Н.Л. таких прилипчивых многолетних контактов, пожалуй, облегчило его положение. А познакомившись с ним, нетрудно было почувствовать, что по своему характеру Н.Л. не склонен к участию в групповых конфликтах.
В то же время он, один из немногих молодых историков, имел уже научное имя, и выступления его на конференции историков-марксистов 1928 г. выделялись и эрудицией, и серьезностью. Он сразу же воспринимался как чуждый интриганства и искательства (и потому уже в определенной мере не опасный), как трудолюбивый и ответственно относящийся к взятым на себя деловым обязанностям серьезный специалист по отечественной истории (причем по феодальному ее периоду, оголенному после ареста московских профессоров) и в области относительно политически нейтральных специальных исторических дисциплин. Известно было, что в конце 1920-х годов Н.Л. импонировала теоретическая активность Покровского, но себя он не запятнал разоблачительными выступлениями против ученых «старой школы» поколения своих университетских учителей. Внутренняя порядочность Н.Л. была очевидна. Это обусловило отсутствие сопротивления (причем в несходных по взглядам и имеющимся уже традициям группировках историков) восхождению Н.Л. по ступеням научной карьеры.
Но еще существеннее, видимо, то, что Н.Л. в большей мере, чем кому-либо из историков России его поколения, присущи
были склонность и способность к теоретическим построениям (причем со стремлением глубже овладеть прежде всего теорией марксизма-ленинизма), и в то же время основательность исследовательской методики, даже навыки ученого-эрудита классического образца. Тогда стал уже проникать в работу историков (и в исследования, и в преподавательскую деятельность, и особенно в публичные выступления - и печатные и устные), так сказать, цитатный марксизм. Довольствовались набором цитат из трудов тех, кого величали классиками марксизма-ленинизма (или в просторечии просто «классиками»), которые в обязательном порядке фигурировали в написанном и сказанном историками. В основном это были цитаты конкретно-исторического содержания (как, скажем, молодого В.И. Ульянова о «всероссийском рынке» или, позднее, И.В. Сталина об особенностях образования в России централизованных государств), но иногда и более широкого плана (о значении классовой борьбы, революции, о влиянии экономики на политику, идеологию и др.). Считалось, что это и есть овладение марксизмом, и знаменитый наш пожилой историк В.И. Пичета, когда его принимали в партию на историческом факультете МГУ, наивно заявил, что он знает все, что Маркс и Ленин написали о феодализме. Дискуссии сводились зачастую тоже к толкованию известного уже набора цитат, достаточно хорошо известных, так как страницы с ними включали в обязательный список литературы по кандидатскому минимуму.
Рубинштейна отличало то, что он вдумчиво и последовательно изучал все наследие «классиков», обнаруживал там то, что еще не входило в обиход историков, старался рассматривать написанное «классиками» в контексте развития исторической (а также философской, экономической) мысли, вообще общественного сознания, причем в масштабе не только отечественной, но и мировой истории. Другие ученые такого обычно избегали, или им было это недоступно. В наши аспирантские годы подобный подход Н.Л. к трудам «классиков» (как и близкий по методике подход Е.А. Кос-минского, С.Д. Сказкина, Б.Ф. Поршнева) казался некоторым из нас особенно привлекательным, наталкивал на самостоятельную работу в том же направлении. И в этом отношении Н.Л. был одним из главных моих университетских учителей, хотя непосредственно под его руководством ни одной работы не готовил.
Потому-то лишь Н.Л. мог взвалить на себя труд написать и книгу по историографии, и обобщающую работу по истории нашей страны (для Большой советской энциклопедии). Именно
его консультациями дорожили ученые в смежных областях науки. Помню, как его пригласили в середине 1940-х годов выступить в Институте мировой литературы Академии наук с докладом об особенностях развития и основах периодизации нашей истории и с каким интересом - с участием видных литературоведов - обсуждался этот доклад.
Не будем сейчас останавливаться на том, что Н.Л. старался освоить и даже пропагандировать историко-футурологическую концепцию, оказавшуюся утопией. И он, и многие другие честные люди верили в то, что наступает новая эра, тем более люди его поколения, воочию видевшие грандиозные социокультурные изменения в окружающем их обществе и знакомые с историкотеоретическими обоснованиями этих изменений. Н.Л. стремился осмыслить официальные общественные теории (прежде всего относящиеся к объяснению прошлого) и определить и для себя самого, и для других их исторические корни и место в перспективном развитии общественного сознания, научного мышления. Он полагал, что марксизм-ленинизм - это непрерывное движение; и именно эту цитату из раннего сочинения К. Маркса и Ф. Энгельса Н.Л. счел важным привести в предисловии к «Русской историографии»: «Мы называем коммунизмом действительное движение, которое устраняет теперешнее состояние»4. Показательно, что это единственная цитата «классиков» в предисловии и что позднее и за рубежом, и в нашей стране с обращения именно к трудам молодых основоположников марксизма началось сопоставительно-критическое рассмотрение основных положений учения Маркса и Энгельса и утвердившейся затем догматики марксизма-ленинизма, особенно в его сталинском варианте, застолбленном в «Кратком курсе истории коммунистической партии». Н.Л. отнюдь не ограничивался использованием облегчающих существование ученого-гуманитария всем известных цитат. И это настораживало тех, кто привык лишь к бездумному повторению указанного свыше или давно общепринятого.
Думается, что Н.Л. руководствовался представлением о тесной связи учения марксизма с планетарным развитием общественного сознания и науки, опираясь при этом и на суждения самих Маркса, Энгельса и Ленина, и на обилие ссылок в их сочинениях на труды предшественников. Взаимосвязь развития научной и общественной мысли в России и в остальном мире и преемственность как естественную основу этого развития Н.Л. понимал еще в большей мере, размышляя над ходом развития исторической на
уки, отнюдь не всегда столь новаторской, как написанное классиками марксизма. Не мог это не ощутить Н.Л. и по своему личному исследовательскому опыту: к началу 1930-х годов он был автором исследований по истории и Древней Руси, и XVH-XIX вв., и по социоэкономической, и по общественно-политической проблематике и обдуманно выявлял и обрабатывал архивный материал для широкого плана исследований о России периода генезиса капитализма. Он опирался на традиции предшественников не только в технологии исследования, но и при истолковании исторических явлений.
О степени готовности к написанию обобщающего труда по русской историографии (при тех требованиях, которые предъявлял к историографу сам Н.Л.) и настрое ученого в ту пору в определенной мере свидетельствует его библиографическая и редакторская работа - подбор вышедших книг (и тематика их, и авторы) в Соцэкгизе, где в 1933-1939 гг. он был редактором в исторической редакции, а до того, в 1931-1933 гг., работал в Научно-исследовательском институте иностранной библиографии ОГИЗа (где руководил группой истории). Показательна статья «Иностранная периодика по истории России и СССР (Материалы института иностранной библиографии Огиза)» в № 1(29) журнала «Историк-марксист» за 1933 г., отличающаяся и историографической направленностью.
Даже в журнале, издававшемся Обществом историков-марксистов и Институтом истории Коммунистической академии, где на титульном листе сохранилось в траурной рамке имя «отв. ред.» М.Н. Покровского, Н.Л., предварив статью составленной в соответствующем стиле преамбулой и прибегая время от времени к принятому в таких изданиях лексикону, поместил материал, содержащий серьезную информацию, знакомящую со взглядами, явно не совпадающими с марксистскими. Так, достаточно подробно излагая основные установки статьи немецкого ученого Лева о влиянии изящной словесности на русское социальное движение в XIX в., Н.Л. сообщает: «Некрасов представляет для Лева корни народничества. Морализующая оценка народничества как “крестового похода” интеллигенции расценивается как “подмена эстетического момента этическим”». В подтверждение приводится тезис Канта: «Объективное стремление к идеальной цели без личной заинтересованности есть эстетическое стремление». Писарев понимается автором как основоположник русского марксизма: «Элементы писаревского нигилизма составляют основу комму
низма». В заключение автор пускается в рассуждения об Октябрьской революции. Она, по его мнению, направлена против интеллигенции. Она - та же «пугачевщина, обязанная успехом только организаторскому гению Ленина и неспособности к практическому действию интеллигенции, воспитанной на литературе...». Добавляет и то, что авторские «рассуждения приправляются цитатами из Ленина, конечно, соответственно истолкованными»5.
Н.Л. знакомил и с трудами эмигрантов, напоминая об именах даже видных и антисоветски настроенных лиц, отдававших по-прежнему много сил политической деятельности, - со статьями А.Ф. Керенского и С.П. Мельгунова, с рецензией, характеризующей новое, существенно дополненное издание труда П.Н. Милюкова «Очерки по истории русской культуры». Образованнейший Н.Л. осознавал, естественно, что у российского читателя давний опыт и понимания по намекам, и чтения между строк. И когда, излагая враждебные взгляды, только констатируют этот факт, избегая привычных в подобных случаях резких эпитетов, то это тоже о многом говорит. А Н.Л., сообщая о том, что в журнале «Zeitschrift fur osteuropaische Geschichte» «не раз сталкиваемся с антимарксистскими и антисоветскими выпадами», так информирует о статье одного из его редакторов, Р. Заломона, о положении в исторической науке России: «Статья посвящена двум историографическим работам: 1) изданию ЛОКА (Ленинградского отделения Комакадемии. - С. Ш.) “Классовый враг на историческом фронте. Тарле и Платонов и их школы” (доклады Зайделя и Цвибака) и 2) книге С. Пионтковского “Буржуазная историческая наука в России”. Статья полна резких нападок на ведущуюся в СССР борьбу с буржуазной историографией, перемешанных с прямой издевкой над советскими историками», и чуть далее: «Кстати сказать, в иностранной исторической прессе мы совершенно не находим откликов на смерть Покровского; буржуазные исторические журналы проводили его в могилу враждебным молчанием»6. Показательно и то, что Н.Л., предвосхищая уже наши представления последних лет, под историографией истории своего Отечества понимал не только «русскую историографию», т. е. составную часть российской исторической науки, но и то, что написано о России и за ее рубежами. Небезлюбопытен и заголовок статьи. Очевидно, что Н.Л. не считал допустимым и дореволюционную Россию называть «СССР». Между тем с созданием новых школьных и вузовских учебников с середины 1930-х годов утвердилось на долгое время именно такое словоупотребление, и даже один из секторов
Института истории Академии наук имел странное название «сектор истории СССР периода феодализма».
И выбор русской историографии темой обобщающего труда, да еще предназначенного для учебных целей, конечно, свидетельствует о сознательном же его противостоянии нигилистической тенденции Покровского и его окружения по отношению к историографическому наследию, и особенно к видным историкам предшествовавших лет. Это обусловило в определенной мере и нарочитое внимание к «портретированию» и к насыщению ее библиографическими данными о жизни и творчестве историков. Величие внутреннего обязательства, взятого на себя Н.Л., и в том, что он не имел предшественников в построении книги такого содержания: не было еще более или менее устойчивой традиции и в изложении (и в истолковании) историографического материала. Создатели вузовского учебника по отечественной истории до XIX в. (в числе которых был тот же Н.Л., автор раздела о XVII в.) позволили себе во многом опереться на учебники С.Ф. Платонова (и не только в построении книги, но и в содержательной ее части: материалы из учебника Платонова, кстати, как раз в то время, в 1937 г., издали для слушателей Высшей школы партийных про- ; пагандистов). А Н.Л., работая над книгой «Русская историография», и М.Н. Тихомиров, готовивший в ту же пору учебник по ‘ источниковедению отечественной истории, не имели аналогов. Их книги новаторские - и по основному содержанию, и в учебнометодическом плане.
М.Н. Тихомиров сумел в своем учебном пособии сообщить данные и о неопубликованных исторических источниках, ввести в научный оборот цитаты из них. Н.Л. же ограничился только напечатанными историографическими источниками и именно такой труд представил затем для защиты как докторскую диссертацию. Видимо, при подготовке книги Н.Л. сознательно не привлекал архивный материал. Знаток архивной эвристики и систематизации архивных выписок для использования не только им самим, но и учениками, Н.Л., конечно, понимал важность архивных материалов и для изучения историографии. Более того, именно он способствовал тогда же как редактор подготовке к печати не изданных ранее лекций А.Е. Преснякова по истории Древней Руси, а затем стал инициатором издания неопубликованной части труда И.Е. Забелина по истории Москвы и написал об этом специальную работу. Но в отборе материала для основного изложения в учебном пособии полагал допустимым ограничиться лишь тем,
что сразу же могло в свое время оказывать воздействие на достаточно широкий круг читателей. Отражало это также уровень развития в ту пору и историографии, и источниковедения. В учебном пособии «Историография истории СССР» (1961), в подготовке которого принимал участие не только Н.Л., но и еще шесть преподавателей МГИАИ, этот вопрос по-прежнему даже не ставился, как и в академических «Очерках истории исторической науки в СССР». Становление источниковедения историографии в значительной мере происходило в МГИАИ, и силами не только преподавателей, но и аспирантов и студентов, и я горжусь той ролью, которую сыграл в этом научный кружок источниковедения (с 1960-х годов).
В конце «Введения» к книге «Русская историография» читаем: «У М.Н. Покровского в конечном итоге пропадает историческая наука как целое и ее развитие; все сведено к антагонизму двух исторических концепций. И если подлинная задача марксистского анализа - раскрыть классовую ограниченность пройденного этапа для преодоления этой ограниченности, но вместе с тем для освоения и развития его положительных достижений, то у М.Н. Покровского фактически выпала последняя основная задача марксистской историографии»7. В этих стилистически усложненных формулировках (быть может, нарочито усложненных?), по существу, декларируется и основная задача книги: внушить представление о преемственном развитии науки русской истории как «целого», подчиненного закономерностям и гносеологического порядка, воспитать уважение современников к трудам и дореволюционных предшественников, направить их мысль на овладение этим наследием, и прежде всего исследовательской технологией. Понятно, что это не могло не импонировать М.Н. Тихомирову и другим ученым, сформировавшимся в русле старых университетских традиций.
Утверждение Н.Л. оппонентом докторской диссертации М.Н. Тихомирова о Русской Правде знаменательно и вряд ли могло иметь место без согласия (если не инициативы) самого диссертанта. Другие два оппонента - учитель Тихомирова по Петербургскому коммерческому училищу Б.Д. Греков и «определяющий учитель» диссертанта (по его же выражению) в Московском университете С.В. Бахрушин. Греков в то время был уже академиком, директором Института истории СССР; Бахрушин - руководитель подразделения этого института, занимающегося проблематикой истории России периода феодализма, член-корреспондент
Академии наук. Имя Н.Л. в таком сообществе - тоже показатель общественного положения и научного авторитета Н.Л. накануне войны.
В то время, видимо, у Николая Леонидовича и Михаила Николаевича сложились близкие душевные отношения. Об этом можно судить по их переписке военных лет (имеющей и самостоятельное значение для изучения жизни и творчества обоих ученых1*). Н.Л. оказался в эвакуации в Саратове; М.Н. Тихомиров с Московским университетом - в Ашхабаде, позднее - в Свердловске.
В первом же письме М.Н. Тихомирова из Ашхабада читаем: «Я не виделся с Вами только несколько месяцев, а уже очень соскучился. За последние годы я очень привык к Вам, и наши встречи для меня всегда были дорогими, так хотелось бы повидаться и поговорить о многих делах» (Л. 1об.). В ответ на это письмо с соболезнованиями по поводу смерти матери (М.Н. писал: «Я редко встречал такого доброго, сердечного и умного человека, каким была Ваша покойная мать, и для меня лично тяжело думать, что я больше ее не увижу»), Н.Л., сообщая, что и в Саратове образовался «небольшой круг друзей», замечает: «...но ведь с ними меня не связывает столько лет совместной работы и близости, а затем, ведь это люди, так мало знавшие покойную маму. Здесь мне, в сущности, не с кем поговорить о ней; письма друзей в какой-то мере заменяют мне эту беседу и приносят тепло хорошей дружбы. А Вы же знаете, что наша симпатия и дружба взаимны. Приятно будет, когда снова окажемся вместе и сможем по-старому поговорить друг с другом, хотя и не будет уже той уютности в моей домашней обстановке» (Л. 1. Письмо от 12 февраля 1942 г.). А какое о многом говорящее начало письма М.Н. Тихомирова от 30 апреля 1942 г.: «Дорогой Николай Леонидович! Иногда одни и те же мысли приходят людям в разных концах земли. Вы подумали, что я забываю о Вас, а я то же самое подумал о Вас, не получая от Вас писем. Мне только пришло в голову, что Вы не такой человек, чтобы так легко забыли о людях, а тут на столе оказалось и Ваше письмо. Отвечаю на него без задержки...» В письме и такие многозначительные слова: «Дорогой Николай Леонидович, никогда не сомневайтесь в моих дружеских чувствах к Вам.
*’ Письма Н.Л. Рубинштейна в ААН в фонде М.Н. Тихомирова: Ф. 693. Он. 4. Д. 524. Л. 1—13об. Письма М.Н. Тихомирова в ОР РГБ в фонде Н.Л. Рубинштейна: Ф. 521. Картон 27. Д. 9. Л. 1-11об. В тексте указываются листы дел в скобках.
Я не просто схожусь с людьми и еще менее просто забываю о них, не забывайте только и Вы обо мне» (Л. 11-Поб.). Н.Л. писал М.Н. Тихомирову из Саратова 8 мая 1942 г.: «...с Вами у нас как-то как раз за последнее время установились особенно хорошие простые дружеские отношения, когда так легко и хорошо бывает обо всем поговорить» (Л. 4). В письмах Н.Л. - забота о М.Н. Тихомирове, даже нежность, а упоминания о родственниках свидетельствуют о том, что адресат был с ними лично знаком.
В письмах много интересных подробностей о научной работе обоих ученых, о состоянии дел в Московском и Саратовском университетах, о многих их коллегах. В письме от 12 февраля 1942 г. Н.Л. восклицает: «Вы едва ли поверите, какую большую корреспонденцию я сейчас веду» (Л. 1об.). Он сообщает о письмах общих знакомых - С.В. Бахрушина (тревожащегося за Ю.В. Готье, «который заметно сдает»), С.С. Дмитриева и других.
В письмах имеются ценные свидетельства о непрекращаю-щейся многообразной научной работе обоих историков. И о книге «Русская историография», вышедшей в свет уже после начала войны (она была подписана в печать 31 мая 1941 г.). М.Н. Тихомиров пишет 7 декабря 1942 г.: «Экземпляр своей книги (речь идет о книге М.Н. Тихомирова «Исследование о Русской Правде: происхождение текстов», подписанной к печати в июне 1941 г.; во введении к книге благодарность Н.Л. - С. Ш.) стараюсь удержать для Вас. Историографию Вашу я купил в Ашхабаде, но отдал Б.Д. Грекову, заявившему, что этой книги в Ташкенте нет (Греков находился в эвакуации в Ташкенте вместе с институтами Отделения общественных наук АН СССР. - С. Ш.). Впрочем, книгу Вашу для меня купили в Москве. Бесцветно и ненужно написал о Вашей книге [О.Л.] Вайнштейн, но книга уже прочно вошла в науку при всей спорности постановки отдельных вопросов». Задень до того, 6 декабря 1942 г., и Н.Л. пишет о своей книге «Русская историография»: «Исподволь занимаюсь еще понемногу и над своей Историографией. Здесь пока обсуждения еще не было. В отдельных беседах всячески хвалят, но многим еще недосуг было все прочитать, а поэтому и обсуждать» (Л. боб.). Особенно, пожалуй, интересна информация в письме Н.Л. от 12 февраля 1942 г.: «...По университету работал это время над курсом Источниковедения -Вашим курсом. Понемногу вошел во вкус, но, признаться, задумал его несколько в ином плане, чем это сделано у Вас. Вот бы поговорить с Вами на эту тему...» (Л. 1об.). Как важно было бы найти материалы об этом в личном фонде Н.Л. Рубинштейна, сколько
нового мы могли бы узнать о творческой лаборатории Н.Л., о методике его педагогической работы, а возможно, и о самой проблематике источниковедения! И как мешает отсутствие доступа к документам этого фонда и других фондов ОР РГБ изучению жизни и творчества Н.Л. Рубинштейна!
М.Н. Тихомиров сообщает о себе в письме от 22 марта 1942 г.: «Помогаю в работе местным архивным работникам по описанию архива (дело интересное и во многом поучительное), кроме того, немного пишу на старинную свою тему о древнерусском городе. Мне помнится, что этой темой интересуетесь и Вы, но думаю, что и параллельные наши работы мешать друг другу не будут, слишком серьезной и важной является эта тема. Сейчас пишу доклад об Александре Невском к 700-летию (5 апреля) Ледового побоища» (Л. 7). И о том же в письме от 30 апреля 1942 г.: «Здесь я работаю также в архиве, готовим с начальником архива описание его фондов. Самый интересный из них - это фонд Канцелярии начальника Закаспийской области. Я готовлю и большую статью об организации Закаспийской области. Это звучит неожиданно, но там в архиве я нашел прямо удивительные документы. Эти пыльные бумаги как-то прямо переносят в другой мир, и часы работы в архиве стали для меня опять источником наслаждения, точно мне 20 лет, когда я разбирал псковские материалы». В этом же письме доверительное признание, явно рассчитанное на понимание адресата: «...я хорошо знаю, что мои вкусы к рукописям, источникам, архивам стоят как-то одиноко» (Л. 11-11об.).
В письме от 10 апреля 1942 г. имеются свидетельства напряженной творческой научной работы Н.Л.: помимо лекций в двух вузах, «сделал несколько научных докладов. Сдал в печать брошюру о полководческом искусстве Суворова; когда выйдет, пришлю. Договорились более или менее о брошюре на тему “Возникновение народного ополчения в нач. XVII в.”. Здесь у меня получилось, кажется, кое-что новое и интересное, сдавать рассчитываю в июне. По этому очерку мне особенно интересно и ценно будет Ваше суждение. Время от времени приходится печатать статьи в газете. Завтра и я выступаю с публичным докладом о Ледовом побоище на объединенном заседании Ленингр. и Сарат. унив-тов. Кроме того, писал уже Вам, что в этом году пришлось позаняться источниковедением, и сложился ряд мыслей по этой теме. Об этом, надеюсь, поговорим уже лично. Страшно тянет назад в Москву...» (Л. 13об.). В письме от 16 декабря 1942 г. упоминается брошюра «Полководческое искусство Суворова», издан-
нал в Саратове в 1942 г.: «Мою книгу выслали Вам сейчас почтой. В Ташкенте я послал ее Бахрушину и Готье, а Грекову, признаться, не послал: считаю, что его личное поведение в отношении меня за последние годы не давало для этого никаких оснований, и к тому же он, не раз даже обращавшийся ко мне за моими оттисками, ни разу не счел нужным передать мне оттиски своих работ. Делать же это, только исходя из его официального положения, я не считал нужным» (Л. 9об.). (Эти слова небезлюбопытны для характеристики личности и самого Н.Л.)
В письмах Н.Л. - интересная информация об истфаке МГУ. Его сначала пригласили на должность заведующего кафедрой музееведения. (И.И. Минц не проявлял никакой заинтересованности в отношении работы Н.Л. на возглавляемой им кафедре истории СССР.) Но когда Н.Л. стал его заместителем по кафедре, то сразу же начал предпринимать усилия для организации научной работы преподавателей (прежде всего издания научных трудов) и изменения системы подготовки аспирантов, «...я, как Вы знаете, не умею быть пассивным», - рассказывал об этом Н.Л. в декабре 1942 г. (Л. 6).
Познакомился я с Н.Л., да, наверное, и впервые увидел его пятикурсником, в 1943 г. Тогда он был заместителем заведующего кафедрой истории СССР исторического факультета Московского университета. Завкафедрой И.И. Минц делами ее (кроме представительства и изредка председательствования на заседаниях) не занимался. Ведущую роль играли Н.Л. и С.В. Бахрушин, какие-то административные функции выполняли Г.Н. Анпилогов и П.П. Епифанов. Н.Л. сознательно вносил в работу аспирантуры начало творческого и умно организованного труда и поощряемой самодеятельности.
На заседаниях и в беседах он не показывал, как думать и формулировать мысль, в виде назидательного, тем более откровенно демонстрируемого приема. У него это просто получалось как бы само собой; и для способных становилось поучительным. Подкупала и его неизменная заинтересованность в творческом общении с собеседником. Он не только напрягал и обогащал ум собеседника, но, казалось, и сам подпитывался этой беседой и возбужденно, со стройной логичностью начинал размышлять в заданном темой направлении, щедро подсказывал новые ходы, пути поисков, варианты решений - при этом обычно упоминая и о литературе, и о первоисточниках, и даже их изданиях и явно не задумываясь над тем, осознает ли впоследствии собеседник, что
Н.Л. является соавтором рождающихся в тот момент идей (а это чаще всего были идеи диссертации, статьи более молодого или даже начинающего историка). И напротив, именно в форме совета, рекомендации давал он указания о методах составления и использования научно-справочного аппарата, о приемах исследовательской технологии.
Была продуманная, требовавшая немалого труда для реализации система сдачи кандидатского минимума (по трем периодам -феодализм, капитализм, история советского общества, при научном кураторстве еще двух руководителей - специалистов по другим периодам истории, с подготовкой письменных материалов). Были и заседания только аспирантов с участием лишь немногих преподавателей (иногда посвященные обсуждению теоретических вопросов). Некоторых аспирантов, как и студентов его спецсеминара (по истории России второй половины XVIII в.), Н.Л. приглашал в Исторический музей и домой, в огромную перегороженную комнату большой коммунальной квартиры в д. 1 по Телеграфному переулку. После демонстрации 1 мая и 7 ноября там собиралось (а-ля фуршет) особенно много народу. Всегда оказывались насыщенными историко-культурными ассоциациями и свежим восприятием взаимосвязи прошлого и настоящего и случайные, незапланированные встречи на выставках, в концертных залах, в театре, на заседаниях, однажды летом и на Рижском взморье (там выяснилось, что Н.Л., одессит по рождению, хороший гребец).
Н.Л. был лишен ораторского дара, дикция у него была плохая, а словарь его был зачастую пересыщен специальными терминами. Не склонен Н.Л. был и к публичным остротам, тем более к анекдотам (что отличало речь И.И. Минца). Слово его было обращено к заинтересованному слушателю. Оно привлекало уважительным отношением к воспринимающим, стройностью и в то же время поисковой направленностью мысли, основательностью системы доказательств. Для решивших всерьез отдать силы настоящему изучению истории лекции Н.Л. - и еще в большей степени его семинары -становились школой формирования научного мышления.
Нет впечатляющих эффектов и в напечатанном Н.Л. - все написано деловито, и материал распределен так, чтоб удобнее располагался в памяти с пониманием явлений в развитии и во взаимосвязи с другими, а также яркого и особенного в этих явлениях (умело подобраны цитаты из источников, особенно историографических), чтоб создавалось представление и об Источниковой базе изучаемой проблемы. А не о проблемном Н.Л. писать не мог:
ограничение историка собственно фактологическими задачами ему, видимо, было не только неинтересно, но и непонятно. Во всех его трудах, больших и малых, постановка вопроса, попытка объяснить невыясненное, оспорить распространенное мнение; и всегда знакомство с ними побуждает мысль к напряжению, даже в учебной литературе. Несклонность, да, пожалуй, и неприспособленность Н.Л. к рассчитанным на эффект публичным выступлениям, устным или письменным, не сделали его имя знаменитым в более широкой среде, чем общество историков, музейных работников. Знаменитые российские историки, как правило, были и писателями.
Но сейчас, на рубеже нового века, оглядываясь на путь движения науки истории за столетие, убеждаемся, что вклад Н.Л. в развитие этой науки - один из самых значительных. Из историков середины века он был историком особенно широкого исследовательского диапазона, достойным наследником в этом плане традиций А.С. Лаппо-Данилевского, А.Е. Преснякова, Ю.В. Готье.
В программе заседания, посвященного памяти Н.Л., основное внимание сосредоточено на творчестве Рубинштейна-историографа. Это, пожалуй, и понятно. Его «Русская историография» по прошествии десятилетий воспринимается как вершинный показатель уровня развития исторической науки довоенных лет, как классический труд. Да только Н.Л., на мой взгляд, и можно признать классиком в изучении российской историографии. При этом должно подчеркнуть и то, что это - классический образец и учебного пособия (правда, рассчитанного на обращение к нему сильного студента). Видимо, это соответствует понятиям и самого Н.Л. при подходе к характеристике деятельности историка в контексте эпохи и выявлению историографом главного в его творчестве. В предисловии к «Русской историографии» Н.Л. заметил: «...перед историком встает сложная и ответственная задача - определить конкретную историческую обусловленность рассматриваемых научных концепций, принадлежность изучаемого историка к определенному историческому периоду, определенной общественной среде. Деятельность историка протекает на значительном отрезке времени, но каждый историк имеет определенный период научной зрелости, когда оформляется его научное миросозерцание, - и это есть тот период, который представлен данным историком в общем развитии исторической мысли»8. Н.Л. -автор «Русской историографии» - отвечает таким историографическим критериям.
Но велико значение и раннего исследования Н.Л. о Древней Руси - он прежде Б.Д. Грекова и независимо от него показал развитие феодализма в этот период. Доселе недостаточно оценено сделанное Н.Л. и для изучения истории России второй половины XVIII в., и социально-экономической истории (это проблематика самостоятельной работы и тех, кто относится к научной школе Н.Л.), и государственно-политической (именно Н.Л. первым из советских историков обосновал значение для дальнейшего развития России свершавшегося в годы правления Елизаветы Петровны). Н.Л. предполагал широкое по замыслу исследование, посвященное и сельскому хозяйству, и промышленности, и торговле, притом во взаимосвязи с явлениями общественно-политической истории. Существенно и то, что этот труд приобретал самостоятельное значение и в развитии источниковедения и архивной эвристики. (Это становится очевидным при ознакомлении с упоминавшейся статьей И.В. Ковалева.) Последний, незавершенный, фундаментальный труд Н.Л. - редкий в истории науки пример совмещения теоретического исследования историко-экономической проблематики и источниковедческих синтеза и анализа, основанных на сопоставительном изучении многообразных (и по разновидностям, и по локальному признаку) источников. Пожалуй, Н.Л. - единственный из крупных историков, который совмещал в такой степени работу исследователя и преподавателя с музейной.
К сфере историографии при широком - на мой взгляд, единственно верном - понимании ее предмета изучения следует отнести и преследование «Русской историографии» Н.Л. Рубинштейна, хотя оно может рассматриваться и как эпизод общественной жизни. Это тема особого изучения, причем в источниковедческом плане и, конечно, при опоре на становящиеся ныне доступными архивные материалы. В данной статье ограничусь пока в основном материалами печатными и из моего личного архива.
Событие это, тесно взаимосвязанное с другими явлениями общественной и собственно научной жизни тех лет, доселе не рассмотрено в должной мере именно в таком контексте. Здесь многое переплетается, остается неизученным, и сводить дело только к проявлению антисемитизма - примитивный подход: под таким лозунгом Н.Л. добивали уже позднее, по прошествии месяцев, как и его братьев, старший из которых - чл.-кор. АН психолог С.Л. Рубинштейн.
Ведь в те годы проявлялись не только великодержавные патриотические настроения, столь импонировавшие широкой
общественности после великой победы в войне, но и тенденция неприятия зарубежной культуры, притом не только в ее гуманитарно-либеральном аспекте, но и в сфере естественных и даже точных наук. Организованные по указанию партийного руководства разоблачительные обсуждения творчества видных и наиболее современных по формам его выражения ученых, деятелей искусства и литературы отражали интересы не только партийногосударственной верхушки, но и тех «полуобразованцев», которые, достигнув заметного положения в сфере науки и культуры, таким путем рассчитывали удержать свое влияние.
В гуманитарных науках, по существу, имел место возврат к представлениям о «фронтах» борьбы, характерным для рубежа 1920-1930-х годов, когда особенно ожесточились противостояния М.Н. Покровского и его «школы» и со специалистами «старой школы» и с теми, кто, как Д.Б. Рязанов, готов был действенно сотрудничать с ними. Продолжая, естественно, вслед за Сталиным, публично поносить «ошибки» Покровского, они следовали на самом деле его узкоклассовым взглядам на отношение к научному наследию. (Вообще, как уже установлено, для Сталина и его сподвижников характерно было: взяв на вооружение лозунги противников, особенно Троцкого, использовать их для борьбы с этими противниками.)
Организацию обсуждения книги Н.Л. «Русская историография» следует рассматривать в сопоставлении с другими публичными спектаклями-экзекуциями такого типа, когда организаторы соревновались в том, на каком поле культуры - музыки, литературы, естественных наук, философии, истории и др. - это пройдет выразительнее и выигрышнее для непосредственных руководителей и активистов такого «действия». Ну и, конечно, учитывались и другие проявления насаждаемой сверху тенденции определения особенностей и места советской культуры тех лет в развивающейся мировой культуре (что предопределяло и установление нормативов отношения к культурному наследию).
И именно Н.Л. с его широтой научных и общественных воззрений, с его убеждением в том, что отечественная культура -часть мировой культуры (и воспринимающая и обогащающая ее), а марксизм - вечно живое учение - тоже относится к сфере мировой культуры, более других подходил для того, чтобы его творчество стало предметом специального обсуждения в таком духе. Здесь исходили и из давних понятий о космополитизме, отмеченных как «неправильные» еще в статье о космолитизме в энцикло
педии Брокгауза и Ефрона (1895): «Весьма часто К. берется лишь в отрицательном смысле как простое отсутствие патриотизма или привязанности к своему народу...»9
Конечно, нетрудно было уловить и демонстративно положительное отношение автора «Русской историографии» к труду дореволюционных историков и их учеников. И тем самым выступления против книги Н.Л. смыкались с начатой тогда же пропагандой негативного отношения к сделанному русскими историками начала XX в. и примитивными (а подчас и недобросовестными) попытками объяснить их научно-методические взгляды фактами общественно-политической биографии (постыдные статьи об А.А. Шахматове, А.С. Лаппо-Данилевском, А.Е. Преснякове). Не стоит упускать из виду и особые частные обстоятельства: тягостную общественную атмосферу, сложившуюся тогда на историческом факультете МГУ, позволявшую проявить вредоносную активность лицам, чуждым представлений о подлинной интеллигентности, нравственном достоинстве и самоуважении (а также и о столь необходимой настоящему историку способности представить, как может выглядеть его сегодняшнее поведение по прошествии времени, когда станут ему давать «историческую» оценку).
В складывании обстоятельств каждой конкретной ситуации тогда имели очень большое (зачастую даже первостепенное) значение личностные факторы: характер и индивидуальные интересы (особенно карьеристские, самоохранительные) отдельных лиц, групповые вкусы, особенности степеней зависимости и проч., т. е. то, что нелегко уловить в письменной документации тех лет. И потому, пожалуй, важны воспоминания, несмотря на всю их субъективность и ошибки памяти. И не следует автоматически (согласно складывающейся уже к нашему времени схеме) переносить данные формального порядка (к примеру, о должностном положении или прежнем месте службы, родственных связях и т. д.) на харак-1 теристику, тем более оценку индивидуальных действий тех или1 иных лиц в данной конкретной ситуации.
Можно полагать, что решение избрать на историческом «фронте» объектом критики именно «Русскую историографию» Н.Л. было принято в вышестоящих партийных инстанциях. И поручили это первоначально журналу «Вопросы истории» - печатному органу Института истории Академии наук, но издающемуся издательством «Правда». Формально можно было исходить и из того, что вышедшая уже в начале войны книга по обстоятельствам времени не стала предметом серьезных обсуждений и рецензий,
а ныне интерес к этой проблематике возрос и существенно изменились установки в подходе к изучению явлений отечественной истории и развития общественной мысли.
Хитроумная редколлегия, во главе которой стоял многоопытный вице-президент Академии наук В.П. Волгин и где фактически направлял все дела И.А. Кудрявцев, высокообразованный историк и функционер партийно-научной журналистики2’, для того чтобы продемонстрировать новаторство в реализации схем подобных обсуждений, а быть может, и смягчить ожидаемый удар и по Н.Л., и по нашей исторической науке в целом, надумала начать обсуждение вопроса о содержании и построении курса русской историографии со статьи самого автора книги «Русская историография». В сноске «От редакции» к статье уведомляли об этом. И статью Н.Л. сразу же сопроводили статьей «Русская историография XVIII века» члена редколлегии журнала М.Н. Тихомирова (тогда уже члена-корреспондента АН СССР).
В самом начале статьи М.Н. Тихомирова отмечено: «Нет никакого сомнения, что труд Н.Л. Рубинштейна восполнил большой пробел в нашей исторической литературе и в настоящее время является единственным пособием по русской историографии, правда, несколько громоздким для занятий в высших учебных заведениях (41,5 печатного листа), но во всяком случае, достаточно полным. Автор проделал громадную работу и свел воедино обширный и разнообразный материал, изучил почти всю основную литературу, относящуюся к русской историографии, и таким образом оказал немалую пользу нашей исторической науке. Книга Н.Л. Рубинштейна вышла в 1941 г. и по обстоятельствам военного времени осталась вне критического рассмотрения. Между тем в ней имеются такие положения, которые представляются не только спорными, но и прямо неверными, в первую очередь в оценке историографии XVIII века...» А завершается статья так: «Стремление повсюду видеть заимствования, послушное следование западноевропейским идеям заставило Н.Л. Рубинштейна дать, по существу, неправильную характеристику наших историков XVIII века. Мы позволили себе остановиться на некоторых вопросах, которые представляются нам неправильно разрешенными в
2' Позднее И.А. Кудрявцев много сделал для улучшения преподавания отечественной истории и историографии в МГИАИ. См.: Мельник А.Н. Творческие материалы личного фонда И.А. Кудрявцева// АЕ за 1984 год. М„ 1986. С. 286-290.
книге Н.Л. Рубинштейна. Целью нашей критики отнюдь не является огульное охаивание громадной работы, проделанной автором, за которым остается заслуга написания первой “Русской историографии” с древнейшего времени вплоть до наших дней. Однако нам кажется, что трактовка русской историографии XVIII в. сделана в книге Н.Л. Рубинштейна в значительной мере неправильно, с чем согласен и автор (имеется в виду статья Н.Л. в том же номере журнала. - С. Ш.). В новом издании книги Н.Л. Рубинштейна раздел историографии XVIII в. должен быть коренным образом переработан»10.
Как выяснилось довольно скоро, эти журнальные статьи не спасли ни Н.Л., ни редколлегию, которую вскоре заменили новой. Но это придало определенное своеобразие публичному обсуждению книги.
Некоторые полагали, что рассмотрение книги Н.Л. - это прежде всего выявление имеющихся в издании 1941 г. несоответствий изменившимся к концу 1940-х годов политикоидеологическим установкам и что допустимо обсуждение на научной основе, облегчающее переработку или даже переиздание этого труда. Так восприняли первоначальную задачу критики работ историков, когда обнаружились «недостаточное» освоение элементов марксизма-ленинизма (т. е. того, что именно в данный момент выпячивалось в этой теории как особенно актуальное), «пережитки» концепций немарксистской науки (в таком случае обычно говорили о «буржуазном объективизме» или некритическом отношении к «буржуазному наследию»), что подразумевает тем самым возможность и признания ошибок, и даже исправления их самим «ошибающимся». Такая направленность очевидна при обсуждении учебника М.Н. Тихомирова и С.С. Дмитриева «История СССР» (обсуждению на заседании исторического факультета МГУ 26 октября 1948 г., в котором «примучили» принимать участие и аспирантов М.Н. Тихомирова11, предшествовали статьи в периодической печати). То, что «критика» профессоров-историков ограничивается выявлением по сложившейся уже традиции элементов «буржуазного объективизма» и что следует им помочь избавляться от унаследованных еще от своих учителей недостатков, полагал и В.В. Дорошенко3'.
3’ Фронтовик-коммунист, талантливейший и любимый университетский аспирант видного историка западноевропейского Средневековья профессора А.И. Неусыхина, выступил примерно в ту же пору публично
И М.Н. Тихомиров поверил в то, что именно так и будет. Иначе он не допустил бы в своей статье в «Вопросах истории» излишне резких по форме выражений, что, видимо, отразилось и на их взаимоотношениях с Н.Л. В личном фонде академика М.Н. Тихомирова имеются два письма Н.Л. послевоенных лет. В открытке, присланной с Рижского взморья 30 июля 1947 г., есть обращение «Дорогой Михаил Николаевич», радость по поводу того, что появился сигнальный экземпляр книги «Древняя Москва», забота об отдыхе М.Н. Тихомирова (который много бывает в городе «по делам деканата»), привет «Георгию Андреевичу (Новицкому. -С. Ш.) и товарищам по факультету». В письме же от 22 марта 1954 г., хотя и подписанном, так же как и открытка 1947 г., -«Дружески жму руку», обращение «Глубокоуважаемый Михаил Николаевич» и все сводится к деловой просьбе о напечатании статьи об историке С.М. Соловьеве в журнале «Вопросы истории». (Возможно, что письмо и адресовано было М.Н. Тихомирову как академику-секретарю Отделения исторических наук АН СССР.) Это - статья, написанная для «Очерков истории исторической науки в СССР» (главным редактором первого тома был М.Н. Тихомиров, по инициативе или, во всяком случае, с одобрения которого Н.Л. предложили выступить снова в печати по историографической проблематике). Н.Л. полагал, что «Очерки» не выйдут в 1954 г., и в связи с намерением редакции журнала публиковать статьи «о наиболее видных русских буржуазных историках» просил М.Н. Тихомирова, если нет «против этого возражений», передать статью в редакцию с замечаниями, которые он постарается «учесть при окончательном оформлении». Заканчивается письмо так: «Если же Вы считаете ее публикацию в журнале неудобной, то очень прошу поручить отослать мне прилагаемый текст». Статья не была напечатана в журнале, возможно, потому, что книгу «Очерков» уже в 1954 г. сдали в набор. Но поздравительная телеграмма 1953 г. в связи с избранием М.Н. Тихомирова академиком написана с душевным подъемом: «Дорогой Михаил Николаевич! Несказанно рад вашему заслуженному избранию, открывающе-
с критикой его трудов, что глубоко огорчило потрясенного этим учителя. После этого Дорошенко добровольно перешел на работу из МГУ в Ригу, в университет и в академический институт, не мог никогда избавиться психологически от нанесенной самому себе душевной травмы, тем более что в своих выдающихся работах по истории Прибалтики он был продолжателем и пропагандистом научной методики Неусыхина.
му новые возможности вашей неиссякаемой творческой энергии. Желаю здоровья, сил, многих лет творческой работы, крепко жму руку и обнимаю. Рубинштейн»12.
Память о взаимоотношениях с Н.Л., видимо, и согревала, и в то же время саднила душу М.Н. Тихомирова. И потому во время нашего последнего свидания летом 1965 г. в Кремлевской больнице, когда я упомянул о С.Н. Валке, Михаил Николаевич вдруг заговорил на тему, никогда не поднимавшуюся ранее в разговорах со мной, о том, что бывают по-настоящему по-христиански добрые люди, заботящиеся об общем деле независимо от взаимоотношений с участниками этого общего дела, и вспомнил в этой связи с сердечной теплотой Н.Л. (о котором до того давно со мной не говорил).
Обсуждение книги «Русская историография» состоялось на Всесоюзном совещании заведующих кафедрами истории СССР университетов и педвузов, проходившем в марте 1948 г. в клубе Московского университета. Возможно, что оно было задумано как одно из заседаний малой формы, напоминающих обсуждение книги Г.Ф. Александрова по истории философии и идеологической направленностью, и организацией. Интересной для историографа особенностью было то, что накануне была опубликована в журнале «Вопросы истории» (№ 2) статья самого Н.Л. «Основные проблемы построения русской историографии». Н.Л. указывал первым на многообразные существенные «недостатки» (причем без унизительных попыток объяснительных оправданий) книги и на те моменты, на которые следует обратить внимание в дальнейшей работе по этой проблематике. В заключение статьи Н.Л. заметил: «На примере своей собственной книги мы хотели показать, какие выводы следуют для историков из философской дискуссии. Указанные выводы и специальное выступление А.А. Жданова определяют те задачи, которые стоят перед коллективом советских историков в настоящее время в деле создания марксистско-ленинского труда по русской историографии»13.
Были напечатаны на машинке и тезисы его доклада «Задачи и пути перестройки курса русской историографии». Доклада такой тематики на кафедре не припоминаю. Быть может, тезисы были приготовлены к совещанию. По содержанию они близки к тому, что Н.Л. говорил в конце совещания14. (Вступительного слова Н.Л. на совещании не дали; и это само по себе уже было показательно.) Воспроизводимый полностью текст - более двух страниц машинописи через один интервал на папиросной бумаге - инте
ресен для понимания того положения, в которое был поставлен тогда Н.Л., и общественного микроклимата начала 1948 г.
Задачи и пути перестройки курса русской историографии.
Тезисы доклада
1. Философская дискуссия и специальное выступление тов. Жданова заострили внимание всех работников идеологического фронта на требовании настоящей партийности в науке, на задачах последовательной реализации принципов диалектического и исторического материализма. Работники идеологического фронта получили за последние годы также ряд других руководящих указаний принципиального значения от нашей партии, которые должны лечь в основу всей нашей научной работы.
Из этих указаний партии вытекают для нас следующие основные положения.
а) Вся наша работа должна быть борьбой за марксистско-ленинскую науку. Это означает в области историографии требование раскрытия в ходе конкретного развития исторической науки процесса преодоления дворянско-буржуазных идеалистических концепций и последовательного утверждения подлинно научного, материалистического, наконец марксистско-ленинского понимания истории.
б) Наша идеологическая работа должна быть проникнута идеей советского патриотизма. Это требует от нас серьезного раскрытия действительного развития русской национальной науки и ее достижений и соответственно борьбы с низкопоклонством дворянско-буржуазной науки перед западными влияниями, превращавшими русскую науку в простое отражение западноевропейской науки.
в) Наконец, историография должна сама служить развитию исторической науки и ее движению вперед, т. е. должна рассматривать конкретное развитие исторического знания и познания прошлого с точки зрения его приближения к марксистско-ленинскому подлинно научному пониманию исторического развития. Именно в этом заключается целеустремленность и целенаправленность историографии, ленинская партийность в науке, противостоящая объективистскому, нейтральному подходу к науке.
2. Моя работа «Русская историография», появившаяся в 1941 г. и явившаяся первым опытом советского курса русской историографии, не преодолела до конца буржуазных традиций
в историографии и в ряде отношений не может удовлетворить тем требованиям, которые мы обязаны предъявить сейчас к марксистско-ленинской работе по русской историографии.
3. Хотя в основу ее положены связь развития исторической науки со сменой общественных формаций, определение социально-экономических основ и классовой природы исторических теорий и направлений, но самая смена их рассматривается скорее в плане эволюционном. Книга не дала последовательного показа борьбы исторических идей как проявления классовой борьбы в идеологии и как движущего начала исторического развития.
Так, в частности, в курсе не получила должного освещения историческая концепция революционных демократов середины XIX в. в их борьбе с буржуазной историографией. Не развернуто значение борьбы марксизма с народничеством для развития исторической науки.
4. В работе не развернут показ действительных достижений русской исторической науки в ее общем конкретном развитии, не показаны ее мощный подъем и всестороннее развитие на протяжении XIX и XX вв., в результате чего не создается должного представления о достижениях русской науки и ее общенаучном значении.
В связи с этим в ряде случаев неправомерно выдвигается ряд чужеземных влияний, не показан критический характер их использования и преодоления, являющихся на деле движением науки вперед. Такова трактовка влияния Нибура на критическое направление в русской историографии, немецкой философии на Соловьева, западных социологических теорий на русскую мелкобуржуазную историографию второй половины XIX в. и др.
Отсутствие последовательной линии в этом вопросе привело к неправильному определению действительного места в русской историографии таких историков, как Миллер, Эверс, Шлецер, и к необоснованному включению в историографический обзор таких авторов, как Байер, Фишер и некоторые другие историки-иностранцы, не имеющие отношения к развитию русской исторической науки.
5. Моя работа «Русская историография» не выделила вопроса о конкретных итогах каждого отдельного исторического этапа, которые должны быть раскрыты в системе позитивной разработки основных конкретных проблем, поставленных в порядок дня на каждом данном этапе. В результате она не помогает
до конца вскрыть сущность развернувшейся борьбы и определить свое отношение к этим вопросам в духе той партийной принципиальности, которую Ленин всегда противопоставлял буржуазному объективизму.
6. Наконец, в книге отсутствует раздел советской историографии, который не был еще разработан в то время. Разработка этого раздела должна вместе с тем создать необходимую перспективу для настоящей марксистско-ленинской оценки пройденного пути исторической науки.
7. В свете изложенных положений должны быть определены основные задачи и пути перестройки курса «Русской историографии».
8. Необходима прежде всего четкая периодизация развития русской исторической науки, а именно:
а) феодальный (или летописный) период русской историографии до конца XVII в.,
б) превращение исторического знания в науку - дворянский период исторической науки (XVIII в.),
в) развитие буржуазной исторической науки (дореформенный период),
г) кризис буржуазного идеализма и борьба за материалистическое понимание истории (2-я половина XIX в.),
д) кризис буржуазной науки в целом и оформление марксистско-ленинского направления в русской историографии (начало XX в.),
е) советский период русской историографии.
9. В каждом периоде должны быть последовательно рассмешены:
а) общественное развитие данного периода как определяющее начало идеологической борьбы,
б) общее развитие исторической науки (исторические знания на данном этапе),
в) рост научного мировоззрения: борьба школ и направлений за передовую историческую науку,
г) конкретные итоги исторического изучения: основные проблемы и их конкретное разрешение.
10. В изучении XVIII в. должна быть отчетливо выделена основная линия развития, обращенная к разрешению основных вопросов русского исторического процесса и представленная Татищевым, Ломоносовым, Щербатовым, Болтиным. Необходимо, далее, выделить нарождение новой буржуазной струи в истори
ческой науке, представленной Крестининым, Новиковым, Чулковым.
11. Развитие исторической науки в первой половине XIX в. раскрывается в борьбе новой, буржуазной исторической науки с дворянской. (Критическое направление и Карамзин, историческая школа и русский романтизм.) В то же время середина века отмечена выступлением русских революционных просветителей и их борьбой за новое социальное направление в историографии.
12. Для второй половины XIX в. (так называемый пореформенный период) характерно дальнейшее развитие этой борьбы, переходящее непосредственно в борьбу за материалистическое направление в исторической науке. Она сказывается и в кризисе буржуазного идеализма, в развитии позитивистских учений и их быстром разложении, наконец, в материализме революционных демократов, сменяющемся в последней четверти XIX в. борьбой за марксистско-ленинскую науку.
13. Два последних периода русской историографии представляют историю победы марксистско-ленинской исторической науки в России, которая опирается на бессмертные труды Ленина и Сталина.
• Н. Рубинштейн
Заместитель министра высшего образования, открывая заседание, сказал: «Чем обстоятельней будет рассмотрена эта книга, тем больше оснований будет рассчитывать на то, что проф. Н.Л. Рубинштейн напишет новое, полноценное учебное пособие по русской историографии, основанное на марксистско-ленинской методологии, насыщенное богатым научным материалом». Он призывал не ограничиваться разбором книги, ставить более широкие вопросы, закончив пожеланием: «Пусть наше совещание явится началом всесторонней, глубокой критики и самокритики на историческом фронте, своеобразным смотром научных и преподавательских сил в области истории».
Но уже выступавший первым проф. И.К. Додонов (из Ташкента) использовал, характеризуя книгу Н.Л., только одну краску -черную. Он отверг данное Н.Л. определение предмета историографии, акцентировал внимание на том, что историческая наука -«составная часть идеологии, при этом наиболее воинствующая», что «русская историческая наука сугубо партийная наука»» и «ее развитие тесно связано с классовой борьбой». И по существу в
противовес мнению замминистра заявил, «что речь может идти не о новом, улучшенном издании книги Н.Л. Рубинштейна, а о том, чтобы заново написать “Русскую историографию” на совершенно иных принципиальных основах»15. Именно такой подход отвечал намерениям властных структур и предопределил основную тональность последующих выступлений. (Додонов был особо отмечен, вскоре переведен на работу в Москву и, несмотря на малую коммуникабельность, назначен заместителем директора Института истории АН СССР. Трудолюбивый и даже образованный, но совершенно однолинейно мыслящий историк, он стал позднее одним из авторов коллективных трудов по историографии, выступая в духе лекций М.Н. Покровского «Борьба классов и русская историческая наука».)
И случилось так, что большинство выступавших, обличая Н.Л. и ссылаясь на последние партийные документы, характеризуя книгу Н.Л. и предлагая внести новое в изучение русской историографии и построение ее учебного курса, как правило, повторяли мысли самого Н.Л., но обычно без ссылок на его статью. Некоторые выступления были примитивными по уровню; новое проскальзывало лишь тогда, когда говорили о сюжетах своей личной работы (т. е. по ограниченной временными или тематическими рамками проблематике16). Выступавших либо обязали высказаться, либо они хотели таким образом обратить внимание на себя, на свое стремление очищать марксистско-ленинскую науку от плевел. Жалко и в то же время зловеще выглядело выступление И.И. Мордвишина из пединститута г. Иваново, напечатавшего перед тем письмо о книге Н.Л. и получившего слово только седьмым; он обижался на то, что публично не оценили его инициативу, не выделили его роль: сработал симптом Бобчинского и Добчинско-го, боровшихся за то, чтоб было известно, кто первым сказал «э».
Н.Л. тоже был на сцене (но, если память не изменяет, не за столом президиума, а сбоку стола). Он пытался было сказать, что уже сам - и совсем недавно - отмечал то, в чем его укоряют, и понимает, в каком направлении должна идти его дальнейшая работа, но его обрывали и продолжали «учить», опираясь на формулировки самого же Рубинштейна. Сначала он что-то записывал, вскидывал голову при особо крепких выражениях, недоуменно разводил руками, но затем, как-то сразу махнув рукой, затих и, уже ничего не записывая, сидел грустно и тихо, не глядя в зал: понял, что обсуждение превращается в осуждение. Но заключительное слово ему дали.
Н.Л. остался работать и на кафедре МГУ, и в Историческом музее и даже продолжал размышлять (конечно, в свойственном ему научном аспекте) о том, что становилось особенно актуальным отнюдь не только для историографов, - о проблеме низкопоклонства перед культурой других народов как явлении общественного сознания. Более того, наивно продолжал вовлекать в сферу своей мысли кафедральную молодежь. Так родилась идея организации аспирантской теоретической конференции, реализация которой оказалась роковой для Н.Л. и, полагаю теперь, для исторического факультета МГУ. Тем более что это совпало с пиком «разоблачений» театральных критиков, борьбы с «безродным космополитизмом». О событиях той поры и их уроках недавно образно писал академикЮ.А. Поляков в статье-воспоминаниях «Весна 1949 года» в журнале «Вопросы истории» за 1996 г. (№ 8).
Впечатление от общественной атмосферы на истфаке можно получить, ознакомившись с книгой воспоминаний вдовы любимого и самого близкого ученика Н.Л. Авраама Моисеевича Разгона Е.З. Ардашниковой17, где много написано и о Н.Л., а также с многотиражной газетой «Московский университет» того времени18.
В номере № 15/16 от 14 марта 1949 г. на странице второй имеется подборка материалов о кафедре истории народов СССР истфака под общей шапкой «Разоблачить до конца буржуазных космополитов». «Буржуазными космополитами» объявлялись прежде всего Н.Л. Рубинштейн, академик Исаак Израилевич Минц, профессор Израиль Менделевич Разгон, читавший лекционный курс по истории советского общества. Больше всего внимание уделялось Н.Л. Статья о Н.Л., озаглавленная «Об одной “теоретической конференции”», имеет подпись «А. Кара-Мурза, М. Найденов, аспиранты кафедры истории народов СССР». Остальные материалы - хроникальные, без подписи. Приводим эту статью полностью.
«Кафедрой истории народов СССР было принято решение о проведении теоретической конференции, посвященной жгучему политическому вопросу - борьбе с низкопоклонством перед Западом. Имелось в виду, что коллектив кафедры, глубоко вскрыв корни, политическую сущность, конкретные проявления низкопоклонства, поможет вооружить работников идеологического фронта мощным теоретическим оружием для беспощадной борьбы с буржуазной идеологией.
Однако конференция пошла по неправильному пути. Состав докладчиков на конференции был ограничен только аспирантами,
а сама конференция была построена по странному “хронологическому” принципу. Вместо того чтобы сразу подойти к определению политической сущности низкопоклонства и значения борьбы с ним в наши дни, был избран обратный порядок: первое заседание посвятили истории борьбы с низкопоклонством в XVIII в., второе -в XIX в., и только на третьем заседании (которое так и не состоялось) предполагалось обратиться к вопросам современности. Более того, идеологическое руководство конференцией фактически было передоверено профессору кафедры Н.Л. Рубинштейну.
Профессор Рубинштейн приобрел печальную известность в исторической науке как автор книги по русской историографии, которая насквозь пропитана духом безродного космополитизма. Раболепствуя и пресмыкаясь перед западной культурой, всячески принижая самостоятельную роль русских ученых в развитии исторической науки, Рубинштейн в своей книге показал себя убежденным носителем антипатриотических взглядов. Следует добавить, что незадолго перед конференцией эта книга была подвергнута резкому осуждению именно в коллективе кафедры истории СССР, а профессор Рубинштейн был заклеймен как низкопоклонник на Всесоюзном совещании заведующих кафедрами истории народов СССР и во многих статьях на страницах советской печати.
Открывая по поручению партбюро кафедры теоретическую конференцию, Рубинштейн произнес пространное вступительное слово. Вместо того чтобы дать правильную теоретическую основу работе конференции в духе партийного понимания явления низкопоклонства, профессор Рубинштейн направил конференцию по пути ложного академизма, подменил партийную направленность абстрактными схоластическими рассуждениями, начисто выхолостив политическую остроту вопроса. Но сквозь туманные схоластические рассуждения отчетливо выступает исторически неверная, политически вредная концепция. Профессор Рубинштейн развивает порочный тезис о постоянстве и неизменности явления низкопоклонства в истории нашей Родины.
Он имеет в виду идеологию низкопоклонства вообще. Он выясняет вопрос о том, когда возникла так называемая “идеология низкопоклонства”, говорит “об одном из исторических этапов явления низкопоклонства”, о “последовательности этой идеологии”, явления XVIII века рассматривает как “органическую часть всей проблемы”. Профессор Рубинштейн, найдя какие-то “волны” низкопоклонства в истории нашей Родины, пытается создать сомнительную “волновую” теорию. Он так формулирует свой основной вывод:
“Низкопоклонство в различное время и в разные эпохи имеет одинаковую основу, одинаковую политическую сущность” (!?)
Профессор Рубинштейн пытался дать теоретическое обоснование закономерности современного низкопоклонства, извращая историю нашей Родины. Для этого он объединил различные по своей природе проявления низкопоклонства перед Западом общими, надуманными чертами и свойствами, от чего нынешняя борьба партии против космополитов и антипатриотов выглядит как один из многих этапов извечной борьбы с неким постоянным явлением, издавна присущим русскому народу, как какая-то хроническая болезнь. В угоду этой концепции профессор Рубинштейн не остановился перед гнусной фальсификацией прошлого и настоящего, стараясь обратить русскую историю против русского народа.
Надуманная и вредная, насквозь космополитичная схема профессора Рубинштейна находится в полном противоречии с действительностью и прямыми указаниями партии. Она демобилизует советских людей в момент острой борьбы с космополитизмом и низкопоклонством и смазывает всю политическую остроту этой борьбы. Профессор Рубинштейн утверждает: “Если в современности мы можем говорить об известных пережитках, остатках буржуазного сознания в наших условиях, то для других периодов это явление было значительным и значимым. Именно эти периоды и должны привлечь наше особое внимание”.
Развивая свою порочную концепцию, Рубинштейн договорился до полного искажения сущности космополитизма, полностью извращая враждебную деятельность космополитов. Он заявил: “Низкопоклонство тесно связано с желанием уйти от современной действительности, от закономерностей ее развития, от движения жизни вперед, уйти и увести от нее сознание современника...”
Вся нелепость и вредность этого утверждения предельно ясна. Для каждого очевидно, что низкопоклонники и космополиты не только не уходят от действительности, но, наоборот, всю свою деятельность подчиняют целям борьбы с нашей социалистической действительностью. Безродный космополит профессор Рубинштейн открыто выступил адвокатом космополитов и антипатриотов, против которых направлена борьба всего идеологического фронта.
Подобрав надуманные черты якобы единого по своей сущности во все времена низкопоклонства, Рубинштейн не только смазывает политическое значение этого вреднейшего явления со
временности, но мельчит, умаляет значение той борьбы, которую ведет с ним партия.
Так, не желая различать времени, масштабов, политического значения этой борьбы, верный своему тезису о “вечности” низкопоклонства, космополит Рубинштейн смазывает значение борьбы большевистской партии за построение коммунизма.
Своим очередным выступлением профессор Рубинштейн еще раз показал, что он не только не разоружился после разоблачения его порочной книги, но еще более ярко обнаружил свои вредные взгляды. Более того, на этой теоретической конференции Рубинштейн выступил открытым заступником презренных космополитов и антипатриотов.
Партийное бюро кафедры допустило ошибку, фактически устранившись от руководства конференцией и перепоручив его такому воинствующему космополиту, как профессор Рубинштейн. В период, когда партия развертывала ожесточенную борьбу с безродным космополитизмом, коллектив кафедры истории СССР в течение 9 месяцев занимался мышиной возней вокруг частных тем из далекого прошлого в полном отрыве от современности и задач сегодняшнего дня. Политически вредное выступление профессора Рубинштейна не встретило должного отпора на двух заседаниях теоретической конференции. Никто из докладчиков и выступавших, проявляя своеобразное низкопоклонство перед авторитетом, не попытался разобраться в этой концепции. Она была принята на веру и послужила “теоретическим” базисом для последующих выступлений и даже встретила одобрение ряда коммунистов. Некоторые товарищи, ссылаясь на “исчерпывающую теоретическую полноту” вступительного слова, отказались от самостоятельной разработки вопроса. Коммунист тов. Шмидт, пресмыкаясь перед мнимым авторитетом лжеученого, заявил, что “общие рассуждения Николая Леонидовича, которые мы слышали, мне кажется, в основном настолько правильны4’, что я не буду выходить за рамки более или менее конкретного доклада”.
Теперь перед партийной организацией истфака стоит задача - глубоко вскрыть политические ошибки конференции и принять все меры для ликвидации ее вредных последствий».
4’ Видимо, не без влияния доклада Н.Л. и своих размышлений той поры я предложил позднее, в 1950 г., первому моему дипломнику в МГИАИ Виктору Ивановичу Буганову тему «Борьба с западным влиянием в сатирических журналах Н.И. Новикова» (Мир источниковедения. М.; Пенза, 1994. С. 377).
Этот мерзопакостный документ, несомненно, следует признать историографическим источником, причем содержащим достаточно многообразную информацию и об общей тенденции партийно-исторической мысли, и о стилистике и терминологии «разоблачительных» выступлений историков МГУ.
Пресловутой конференции уделено внимание и в других газетных материалах. В хроникальной статье «За большевистскую партийность в исторической науке: с собрания партийной организации исторического факультета» сообщается, что на собрании 3 марта «Тт. А. Кара-Мурза и М. Найденов подвергли резкой критике политическую направленность теоретической конференции аспирантов кафедры истории СССР. Партийное бюро кафедры фактически передоверило руководство конференцией профессору Н.Л. Рубинштейну, автору идеалистической, пронизанной духом низкопоклонства и космополитизма книги “Русская историография”. Своим политически ошибочным и вредным вступительным словом профессор Рубинштейн направил всю конференцию на ложный путь, придав ей небоевой, по существу антипатриотический характер. В своем выступлении на партийном собрании профессор Рубинштейн пытался опорочить партийную критику своих ошибок и смазать политически вредную сущность своей антипатриотической деятельности». В заметке о двухдневном, 7 и 8 марта, отчетно-выборном партийном собрании на кафедре истории СССР тоже читаем о том, что ряд товарищей «еще раз заклеймили непартийное выступление проф. Рубинштейна на теоретической конференции аспирантов», но большее внимание там уделено «осуществлению своих антинародных целей» Минцем и его приспешниками», «группкой Минца», занимающейся проблемами истории советского общества. Рядом и сообщение под заголовком «Своевременное выступление» о выходе номера стенгазеты истфака «Историк-марксист», в котором под шапкой «Разгромить до конца космополитов-антипатриотов в исторической науке» напечатали и статью Н. Новиковой, озаглавленную «Когда за дело берутся прожектеры», «об организации пресловутой “теоретической” конференции по истории низкопоклонства». Такова была общественная атмосфера на историческом факультете5’.
5" Как показательный для общественной атмосферы тех месяцев на память приходит еще один эпизод. Люди моего поколения помнят несколько экзальтированную истфаковскую машинистку Анну Ивановну, с декольте не по возрасту и странноватой прической. Вдруг она,
Меня тогда именно эта история непосредственно не коснулась. Объяснялось это тем, что те же Найденов и Кара-Мурза поспешили со мной расправиться еще прежде - в конце 1948 г., поставив на партбюро вопрос о том, что я не представил в срок кандидатскую диссертацию. (В период аспирантуры я серьезно заболел, лишен был возможности заниматься в ленинградских архивах, поэтому пришлось изменить тему диссертации, которая -не без влияния как раз знакомства с Н.Л. и его трудами - была посвящена реформам П.И. Шувалова, и вернуться к более изученному XVI в. и написать диссертацию вместе со сбором дополнительного материала буквально в девять месяцев; накопленные же при исследовании архивов елизаветинского времени материалы стали предметом нескольких статей последующих десятилетий* 6*.) Партбюро истфака вынесло мне взыскание, но М.Т. Белявский (в то время секретарь партбюро) сделал так, что вопрос был не сразу передан на рассмотрение партсобрания, и ко времени партсобрания я смог положить в кабинет кафедры переплетенную диссертацию. (И тут с благодарностью вспоминаю друзей по университету, которые помогли мне в считывании машинописного текста, переплетении рукописи и пр.) Несмотря на «обличения» Найденова и С.И. Антоновой, за выговор проголосовало девять человек, и президиум партсобрания вынужден был удовлетвориться обсуждением, признанным поучительным для других аспирантов. Имело значение, конечно, и то, что в защиту Шмидта выступили коммунисты-фронтовики студенческой группы, где я был пропагандистом. Возвращаться снова к Шмидту партбюро было неловко. А когда обратились в Историко-архивный институт, преподавателем которого я стал 1 февраля 1949 г. (но, кажется, еще
столкнувшись со мной в факультетском коридоре, стала меня целовать. И когда я в недоумении отшатнулся, объяснила, что «в благодарность». Оказывается, она видела, как в день «осуждения» Н.Л. на партсобрании я на глазах у всех, стоя в центре зала, несколько минут разговаривал с ним во время перерыва. А дело обстояло так: когда мы поздоровались за руку и на мгновение оказались рядом, то все стали нас обходить, и мы не могли сдвинуться с места, обтекаемые на расстоянии отворачивавшимися в сторону участниками собрания.
6* Некоторые статьи такой тематики объединены теперь в книге: Шмидт С.О. Общественное самосознание российского благородного сословия: XVII - первая треть XIX века. М., 2002.
не успел встать на партучет), то проректор А.Д. Никонов «послал их подальше». Вообще именно Никонову7’ я обязан устройством на работу в МГИАИ (в МГУ меня намерены были направить в Томский университет), а в МГИАИ во время кампании борьбы с «буржуазным объективизмом», когда устранили от работы А.И. Андреева, вынудили покинуть институт Черепнина (он был замечательным лектором)8’, выдвигали обвинения и про
7’ А.Д. Никонов на истфаке в свое время сдерживал особенно ретивых сторонников крайней партийной линии. И хотя он в духе других про-работчиков выступал по поводу деятельности профессора И.С. Званича, повседневность общественной жизни кафедры новой истории мы не знали, а на фоне остальных он выделялся склонностью к сохранению приличий. И потому, подчеркивая то, что Никонов в военные годы служил в Смерше, не следует на основании этого делать однозначный вывод о его общественной позиции и манере поведения. В Смерш направляли людей разного типа. Там служил и А.С. Черняев (что тоже норовят подчеркнуть), который и тогда, и позднее (когда занимал видный пост в Отделе науки ЦК, курируя работу историков) проявлял доброжелательность и неизменную порядочность. (Это обнаруживается и в его воспоминаниях, где он показал себя и талантливым писателем, и мыслителем-мемуаристом, и честным человеком.) Суждение об историке (да и вообще о человеке) только на основании формальных анкетных данных - как раз пережиток историографических подходов сталинских времен.
8' Совершенно безосновательно утверждение В.Д. Назарова в очерке о Л.В. Черепнине в книге «Историки России XVIII-XX веков» (М., 1995. Вып. 2. С. 149), будто «Черепнин вынужден был покинуть Историко-архивный институт... в связи с ^прекращающимися нападками А.И. Андреева и многих других ученых - ревнителей “последовательно классовых оценок” в исторической науке». А.И. Цамутали справедливо отметил это в рецензии на издание в журнале «Отечественная история» (1997. № 2. С. 186). Напротив, именно Андреев был главным объектом ревнителей последовательно классовых оценок и держался при этом с большим достоинством. Подробно об этом см.: Простоволосова Л.Н., Станиславский А.Л. Мы учим советских людей, а не древних греков (Из истории вузовской исторической науки конца 30-40-х годов) // ИСССР. 1989. № 6. С. 92-104. Л.В. Черепнина же, на всю жизнь запуганного арестом и последующими страданиями в начале 1930-х годов, вынудили выступить и против А.И. Андреева как ученика и последователя А.С. Лаппо-Данилевского, и против Н.Л. Рубинштейна как автора статьи об отечественной истории в Большой советской энциклопедии. См.: ВИ. 1949. №6. С. 100-107.
тив Яцунского, в то время не было столь заметных элементов характерного для истфака МГУ откровенного антисемитизма. Даже в те месяцы, когда власти распаляли антисемитские настроения, обстановка в МГИАИ существенно отличалась от истфаковской9’. Все познается в сравнении.
В очерке Г.В. Костырченко «Идеологические чистки второй половины 40-х годов: псевдопатриоты против псевдокосмополитов» во втором томе книги «Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал», изданной в 1997 г. РГГУ под общей редакцией Ю.Н. Афанасьева, показано, к каким аморальным поступкам приводили в момент резкого партийногосударственного давления инстинкт самосохранения, опасение лишиться занимаемого положения или стремление к большой власти (а возможно, и страстность общественного темперамента) даже по-настоящему высоко даровитых и храбрых на поле военного боя людей, таких как А.А. Фадеев и К.М. Симонов, когда они тоже оказались действенно включенными в борьбу с «космополитами». Так же повел себя и талантливый историк и педагог-наставник, основатель научной школы историков, впервые серьезно и смело занявшийся изучением истории России периода империализма А.Л. Сидоров10*. (Быть может, это объясняется также тем, что он
9* Цитаделью мракобесия МГИАИ стал было в годы «трапезни-ковщины». Но сталинские времена уже прошли, и приходилось довольствоваться письмами-доносами в вышестоящие инстанции и избавлением от неугодных преподавателей. Но эти преподаватели устраивались на новую работу и, как правило, в престижные учреждения (Институт истории АН СССР, Университет дружбы народов, Московский государственный институт международных отношений и др.). Ошельмованные же на истфаке МГУ в 1949 г. обычно не могли найти работу в Москве. Подробнее о событиях в МГИАИ на рубеже 1940-1950-х годов и в 1970-е годы см. в тексте беседы с А.В. Кузьминым в издаваемом РГГУ альманахе «ИстФакт»: «Я всегда был верен ИАИ, не мыслил себя вне ИАИ, общения с моими учениками - прежними и нынешними...» (в печати).
|0* Это выглядело странно и потому, что среди близких учеников А.Л. Сидорова были М.Я. Гефтер, А.Я. Аврех и другие. И когда в начале того же 1949 г. повесилась в Иванове, в общежитии пединститута (где ее «проработкой» верховодил уже упоминавшийся Мордвишин) преподававшая там Нина Исааковна Разумовская - самая талантливая студентка и позже аспирантка моего выпуска истфака (травля совпала с трудными обстоятельствами и ее личной жизни), то в организации кремирования ее в Москве и материального его обеспечения более всех помогала жена
уже испытывал опалу и понимал, чем кончится для него новая.) Не помню, чтобы Сидоров действенно выступал против Рубинштейна, тем более характеризовал его как «псевдоученого» (он сам как исследователь-новатор и педагог понимал, конечно, огромный научный потенциал Н.Л.). Тогда он сконцентрировал внимание на «своем» участке атакуемого «исторического фронта» - «группке Минца». Но, став заведующим кафедрой истории СССР истфака МГУ, он, естественно, во многом определял складывавшуюся там обстановку.
Сохранился протокол расширенного заседания Ученого совета истфака от 25 марта 1949 г., посвященного проявлениям «космополитизма» и борьбе с ним. Есть запись и выступления Н.Л., покаянного по направленности своей и состоящего из стандартизированных клише. Начиналось оно так:
«Я думаю, всем понятно, что мне особенно тяжело выступать сегодня, когда вопрос о космополитизме, на разоблачение и разгром которого партия направила все внимание советской общественности, имеет непосредственное отношение к моим работам, которые справедливо подверглись сейчас решительной критике (на заседании речь шла и о «Русской историографии», и о статье «СССР» в томе Большой советской энциклопедии. -С. Ш.). Я глубоко сознаю, что в условиях, когда мир раскололся на два лагеря и наша страна во главе всего передового человечества ведет решающую борьбу за свободу, за дальнейшее развитие в мире, обязанность каждого ученого, советского ученого, а тем более ученого-коммуниста, быть на передовой линии огня. Этому учат Ленин и Сталин нас, и об этом не так давно напомнил нам товарищ Жданов. А это значит для нас прежде всего обязанность бороться, вести самую непримиримую борьбу с растленной наукой, с загнивающей наукой, зарубежной наукой Запада, борьбу с идеологией космополитизма, являющейся орудием оголтелой агрессии американского империализма. Это значит - обязанность раскрыть все величие нашей Советской страны, нашей советской культуры, показать роль русского народа в мировой истории.
Мне совершенно ясно, что, каковы бы ни были мои личные желания и побуждения, мои научные работы не отвечали этой
А.Л. Сидорова Г.В. Лебедева. (В только что опубликованной дневниковой записи С.С. Дмитриева от 28.III.1949 г. отмечено, что поводом к преследованию было то, что Нина «вступилась за Рубинштейна». См.: ОИ. 1999. № 3. С. 149.)
большой принципиальной задаче. А это значит, что в своей работе я отошел от основных принципов марксизма-ленинизма, нарушил ленинские требования непримиримой большевистской партийности в науке и в результате оказался в плену у буржуазного объективизма, допустил грубейшие космополитические ошибки. Крайне тяжелое это сознание для советского ученого...»
Далее коротко сказано о некоторых выступавших до него, конкретном характере, «недостатках» трудов Н.Л., хотя он и позволил себе попытаться как-то оправдать свою методику: «Мне казалось, что я противопоставил материализм и марксизм буржуазному идеализму, но именно противопоставил, а не показал борьбу, не показал, как в борьбе создалась действительная наша наука, наша советская наука». Н.Л. решительно возражал лишь против отнесения его к «группе», даже к ученикам И.И. Минца: «Я не могу в результате не поставить вопрос и о том: откуда, как получились эти ошибки у меня? Здесь, правда, высказывание профессора Сидорова давало объяснение, что это результат развития идей, идущих от Минца, что я выступал учеником Минца, что я отнесен к группе Минца. Я должен это решительно отвергнуть. Я никогда с Минцем в своей научной работе не был связан, и, я думаю, работники кафедры знают, что я нисколько не соприкасался с Минцем в своей научной работе. Я не могу смотреть на Минца как на теоретика нашей науки, мне чужда и далека была такая постановка вопроса и в той статье, о которой говорил профессор Сидоров...» (речь идет об историографическом разделе в энциклопедической статье. - С. Ш.). Свои «ошибки» Н.Л. объяснял тем, что «пошел за... буржуазной историографической литературой». Свое выступление он завершил словами:
«И передо мной, перед ученым, который подводит такие итоги, возникает вопрос: как ему преодолеть эти ошибки, может ли он выйти из них и пойти правильным путем, путем марксистско-ленинской работы, путем советского ученого? И мне кажется, мне думается, мне хочется верить, что в моей научной работе, в моей исследовательской работе, в частности, за последнее время, было кое-что такое, что говорило о том, что я в этом направлении веду свою работу, в моих исследованиях есть шаги вперед (очень мало). И я понимаю, что долг, лежащий на многих моих работах, очень велик и очень тяжел. Но с помощью большого коллектива советских ученых-историков я эту работу по исправлению ошибок сумею сделать и дать такие работы, которые требует от нас советская родина, наш советский народ. Я уверен, что я все силы
отдам для того, чтобы вместе с вами, учитывая задачи замечательного строительства нашей родины, нашей науки, на ту великую борьбу, которая ведется сейчас нашей страной»11’ (неправленая стенограмма).
Грустно читать этот вымученный текст. Подобного жанра выступление казалось обязательным условием продолжения творческой деятельности, даже в сфере такой (сравнительно с историографической проблематикой) относительно спокойной тематики исторической науки, как экономическая история России второй половины XVIII в. (Вспомним, что считал допустимым для себя писать в те же годы даже великий Шостакович!) И это, увы, тоже историографический факт, причем очень характерный для той поры.
В апреле 1949 г. Н.Л. лишили возможности продолжать работу в Московском университете; из Исторического музея он предпочел уйти сам. Ему вынесли партийное взыскание. (В коммунистическую партию он вступил в военные годы.)
И потому самостоятельного исследования заслуживает тема об ущербе, нанесенном преследованием книги Н.Л. развитию нашей историографии. Снижение тогда ее научно-теоретического уровня очевидно, что отразилось и в академических «Очерках истории исторической науки в СССР», и в сменивших книгу Н.Л. учебных пособиях, в тенденции работы историографов в Московском университете (прежде всего А.М. Сахарова, М.Е. Найденова).
Для Н.Л. наступило тяжелое время. И он показал, что исследовательский труд - его призвание. Все силы он вкладывал в работу, посвященную истории генезиса капитализма в России. Удавалось печатать исследования на эту тему, даже книгу. Постепенно Н.Л. стали привлекать к работе и по историографической проблематике. Возможность преподавать он получил лишь в Московском библиотечном институте - вузе, где его уникальные знания и методические навыки не могли быть в должной мере востребованы. Перейдя на работу в МГИАИ в 1957 г., Н.Л. смог снова вести уже и личные занятия по широкому кругу проблем. Но преимущественное внимание уделял сюжетам истории XVIII в. *
н’ Возможностью ознакомиться с текстом данного выступления я обязан немецкому коллеге Флориану Энкке (Encke), изучающему по близкой мне историографической проблематике материалы наших архивов.
и дал заявку на подготовку в МГИАИ книги «Источники по социально-экономической истории России XVIII века», которую надеялся завершить в 1960 г. В авторской аннотации отмечено, что «изучение источников сопровождается выяснением основных архивных фондов и состояния их научной разработки»19. Но из-за всего перенесенного силы Н.Л. иссякали. После инфаркта (август 1958 г.) Н.Л. через год вышел на пенсию. Скончался Н.Л. Рубинштейн в одночасье - 26 января 1963 г.
Прощались с Н.Л. в актовом зале Историко-архивного института, в помещении, где теперь отмечалось 100-летие со дня его рождения. Вообще к Историко-архивному институту стягиваются нити, напоминающие о разных периодах жизни Н.Л. Гимназический учитель в Одессе, которому он особенно обязан утверждением интереса к серьезным занятиям историей, И.Л. Маяковский основал здесь кафедру теории и практики архивного дела. На кафедре, где стал работать Н.Л., среди преподавателей оказались тогда и двое активных участников проработки книги Н.Л. «Русская историография» в 1948 г. - И.К. Додонов и В.Е. Иллерицкий, упоминавшийся уже И.А. Кудрявцев и Шмидт: на рубеже 1950-1960-х годов мы все вместе готовили в Историко-архивном институте новое учебное пособие по отечественной историографии до 1917 г. В книге, изданной в 1961 г., из 30 глав 9 написаны Н.Л. Так не всегда объяснимые связи и совпадения становятся фактами не только биографии, но и историографии. Время и в данном случае все ставит на свои места.
Если исходить из принципов распределения материала в книге «Русская историграфия» 1941 г., то характеристике творчества Н.Л. и его значения для развития нашей исторической науки должна быть отведена в подобного типа обобщающем труде специальная, персональная, глава. Сделаем же так, чтобы имя Николая Леонидовича Рубинштейна заняло достойное его выдающееся место в будущих трудах по российской историографии и написанное им продолжало обогащать нашу современную науку.
1ИСССР. 1962. № 6. С. 96-97.
2Тамже. С. 101.
3 Там же. С. ИЗ.
4 Рубинштейн Н.Л. Русская историография. М., 1941. С. 5.
5 Историк-марксист. 1933. № 1(29). С. 143.
6 Там же. С. 141.
7 Рубинштейн Н.Л. Указ. соч. С. 4.
8 Там же.
9 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1895. С. 379. Кн. 31.
“ВИ. 1948. №2. С. 94,99.
11 См.: Аврех А.Я. Обсуждение учебника истории // Вести. МГУ. Сер. обществ, наук. 1949. № 4. С. 101-109.
12 АРАН. Ф. 693. Оп. 4. Д. 524. Л. 10, 12,13-13об.
13 ВИ. 1948. № 2. С. 93.
14 Ватинов А. Обсуждение книги Н.Л. Рубинштейна «Русская историография» // ВИ. 1948. № 6. С. 135.
“Там же. С. 126-127.
“См. там же. С. 126-135.
17 Ардашникова Е. Не только личное: повесть о жизни А.М. Разгона-воина, ставшего ученым, рассказанная его женой. М., 1998 (особенно гл. IV).
18 Там же.
19 См. об этом: Ковалев И.В. Материалы по социально-экономической истории России XVIII в. в рукописном наследии Н.Л. Рубинштейна // АЕ за 1985 год. М„ 1986. С. 289.
Традиционные для Археографической комиссии Тихомиров-ские чтения в 2000 г. посвящены памяти Сигизмунда Натановича Валка, скончавшегося 25 лет назад, 5 февраля 1975 г., на 88-м году жизни. Тематика ежегодных (с 1968 г.) Тихомировских чтений, приуроченных ко времени, близкому к дню рождения академика М.Н. Тихомирова, возродившего в 1956 г. Археографическую комиссию, - актуальные проблемы развития археографии, архивоведения и специальных исторических дисциплин и важнейшее в историографическом наследии в этих сферах научного знания.
Посвящение нынешних Тихомировских чтений памяти С.Н. Валка не только показатель уважения и любви к нему тех, кто был знаком с ученым, учился у него в университете, работал вместе или даже под его руководством в академических учреждениях, вузах, хранилищах памятников истории и культуры. Причем наблюдаем едва ли не уникальное явление, побуждающее вспомнить о примере академика Д.С. Лихачева, когда ученый, живший в Петербурге, любивший прежде всего Петербург, воспитавший школу ученых-петербуржцев, воспринимался как свой, как дорогой и уважаемый учитель и коллега не только в Петербурге, и не только историками. В сборнике «Исследования по отечественному источниковедению» (СПб., 1964), подготовленном к его 75-летию, много статей и московских историков разных поколений, почтить труд историка полагали своей приятной обязанностью и виднейшие филологи В.П. Адрианова-Перетц, М.П. Алексеев, П.Н. Берков, Д.С. Лихачев, В.И. Малышев.
Внимание к содеянному С.Н. Валком тех, кто по возрасту не мог быть лично знаком с Сигизмундом Натановичем, объясняется прежде всего тем, что современный уровень археографии, архивоведения и специальных исторических дисциплин (а координация работы в этих областях знаний - одна из главных задач Археографической комиссии как научного проблемного совета РАН) во многом предопределен деятельностью именно С.Н. Валка, и в то же время его научное наследие остается еще недостаточно изученным.
Впервые опубл.: Вступительное слово [на Тихомировских чтениях 2000 г.: К 25-летию кончины С.Н. Валка] // Археогр. ежегодник за 2000 г. М., 2001. С. 301-305.
17 февраля 1976 г. в Москве состоялось посвященное памяти С.Н. Валка заседание Археографической комиссии, совместное с Центральным партийным архивом ИМЛ при ЦК КПСС (тексты части выступлений и подробную информацию о нем см.: АЕ за 1976 год. М., 1977). Участвовали и москвичи, и ленинградцы. На этом же заседании ожидаются выступления преимущественно петербуржцев (сейчас подготовить совместное заседание сложнее). Организации нынешнего помогло то, что оно почти совпало по времени с вручением Анциферовской премии за работы по петербурговедению (я - председатель жюри Анци-феровского комитета).
О С.Н. Валке доводилось мне писать и говорить не раз начиная с 1968 г. Моим вступительным словом открывалось и заседание 1976 г. В изданном в 2000 г. биобиблиографическом указателе моих трудов (в серии «Ученые РГГУ») приложен именной указатель лиц, жизни и деятельности которых посвящены печатные и даже некоторые устные выступления, где уже предпринята попытка охарактеризовать значение деятельности Валка для развития научных знаний в изучении прошлого нашей страны от периода Древней Руси до середины XX в., в выявлении Источниковой базы таких исследований и определении приемов работы с письменными источниками; в развитии историографии, археографической культуры, архивной практики, в выработке и совершенствовании системы овладения приемами специальных исторических дисциплин в процессе вузовского обучения; отмечена роль С.Н. Валка как выдающегося организатора науки. Особенно когда в 1965 г. он возглавил Ленинградское отделение Археографической комиссии и стал инициатором издания редактировавшегося им ежегодника «Вспомогательные исторические дисциплины». С инициативой С.Н. Валка связано и начало историографического изучения на академическом уровне истории развития этих научных дисциплин, особенно в советские годы, что было предопределено и названием первого раздела первого же сборника ВИД (1968) - «Вспомогательные исторические дисциплины в советской исторической литературе».
С.Н. Валк был ученым и поразительной по многосторонности эрудиции и одновременно новатором в методике исторического исследования и использовании научных достижений в практике архивного дела и археографии. В написанном о С.Н. Валке, в публичных выступлениях, во время занятий со студентами Историко-архивного института я старался объяснить, почему его
признавали высшим авторитетом в археографии, архивоведении, источниковедении и смежных вспомогательных (специальных) исторических научных дисциплинах. Именно к нему применимо определение «классик исторической науки». Пытался, конечно, охарактеризовать С.Н. Валка и как мыслителя широкого профиля, и человека разносторонних культурных запросов, глубокой душевности, опираясь при этом и на его сочинения (прежде всего «историографические портреты»), и на личные воспоминания (а я был осчастливлен с середины 1960-х годов близостью с Сигизмундом Натановичем).
За последние четверть века еще в большей мере утвердилось представление о выдающемся вкладе совершенного С.Н. Валком в развитии исторических знаний. Это обусловлено, конечно, изданием и первой книги его научного наследия «Избранные труды по археографии» (М., 1991), и работ о нем. К книге 1991 г. приложен «Перечень печатных работ, посвященных жизни и научной деятельности С.Н. Валка» (к сожалению, в нем глухо передана информация о том, что напечатано в АЕ за 1976 год, без указания авторов статей и хроникального сообщения). Подготовлена к печати и вторая книга научного наследия с трудами преимущественно по проблематике источниковедения и историографии. В последние годы напечатаны и другие материалы о С.Н. Валке, и написанное самим С.Н. Валком. Целесообразно было бы и в новой книге сочинений ученого поместить библиографическую информацию такого же типа, как в книге 1991 г.
После издания второй книги трудов С.Н. Валка1 и материалов нашего заседания (которые намерены напечатать в АЕ за 2000 год) следовало бы обеспечить возможность подготовки книги «Сигизмунд Натанович Валк: Биобиблиографический указатель», подобно изданной о М.Н. Тихомирове в 1996 г. Но так как последнему справочному изданию предшествовала публикация описания рукописного наследия М.Н. Тихомирова (Труды Архива Академии наук СССР. М., 1974. Вып. 25), то стоило бы использовать опыт издания «Материалов для биографии академика А.С. Лаппо-Данилевского» (1929), где сосредоточены сведения и об архиве ученого. Составление собственно биобиблиографического указателя могла бы взять на себя Археографическая комиссия, поскольку у ее научного сотрудника А.В. Мельникова имеются уже навыки подготовки биобиблиографий историков; председатель Археографической комиссии готов написать статью о жизни и творчестве С.Н. Валка. Но обзор архивных мате
риалов могут сделать только лица, причастные к Архиву Санкт-Петербургского филиала Института истории РАН, куда передан личный архив ученого. В Москве постараемся выявить сохраняющиеся в наших хранилищах деловую и эпистолярную документацию.
Понятно, что для большинства присутствующих здесь лиц пенсионных лет заседание наше - возвращение мыслью к дорогому в прошлом, и сама возможность обращения на «ты», как десятилетия назад, вызывает теплотворный ностальгический настрой. С.Н. Валк был долгожителем и в многостороннем своем творчестве. Научно-педагогическая школа С.Н. Валка действовала более 50 лет. Воздействие ее ощутимо и поныне; ибо, хотя мы все познакомились с С.Н. Валком в высшей школе или даже по окончании ее, дело не ограничивалось обучением: образ жизни Сигизмунда Натановича оказывал на взрослых уже людей и воспитательное действие. Приобщение к этому опыту сближало поколения и в размышлении о том, кто и почему остается надолго учителем и наставником.
Воспоминания о С.Н. Валке, конечно, добавляют в копилку знаний об исторической науке, организации преподавания, охране и изучении памятников письменности в первые три четверти уходящего столетия. Но ученый был и замечательным методистом исследовательской работы с документальными памятниками. И не менее существенно осознание того, в какой мере использованы в нашей научной практике его выводы и наблюдения.
Творчество С.Н. Валка и его жизненное поведение - высший показатель достоинства «ремесла историка», в том смысле этого понятия, который заложен в названии знаменитого сочинения Марка Блока «Апология истории». В научных трудах С.Н. Валка не замечаем ни пресмыкательства, ни приспособленчества, ни политической конъюнктуры, тем более очернительства -нет ни общепринятых тогда идеологических ярлыков, даже дежурных цитат из классиков марксизма-ленинизма. Редчайшее явление в советской гуманитарной науке, еще выше поднимающее С.Н. Валка в глазах младших современников и потомков!
С.Н. Валк убежденно стремился поддерживать высокий уровень мастерства исторического исследования, не отступая от тех правил изучения, истолкования, публикации исторических источников, которые сам воспринял от А.С. Лаппо-Данилевского, А.А. Шахматова, А.Е. Преснякова. Более того, старался распространить представление о таких критериях при подходе и к исто
рическим памятникам новейшего времени, в том числе и откровенно политически-революционной направленности. С.Н. Валк особенно дорожил уважительной преемственностью в развитии научной мысли, в душевном настрое, в поступках. Счастливейшим в его памяти навсегда сохранялось доверие, оказанное ему еще в университетские годы теми, чье творчество он почитал вершинным достижением исследовательской мысли и учительского искусства. И потому С.Н. Валка особенно коробило то, что один из организаторов посмертной травли его учителей на рубеже 1940-1950-х годов и автор постыдной статьи о А.А. Шахматове был тоже выпускником родного ему университета.
Возрастная дальнозоркость С.Н. Валка выражалась и во всевозрастающем пространстве наблюдений над прошлым и настоящим, и в овладении все большим комплексом методических приемов видения и воспроизведения прошлого. Для его натуры было характерно совмещение неиссякаемой любознательности, глубокого и острого ума и сердечной доброты. Привлекала его способность, даже потребность, доброжелательного отношения к научной молодежи, желание и умение поддержать тех, кто казался ему научно-перспективным - он щедро одаривал не только книгами из своей богатейшей библиотеки, но и научными наблюдениями, указаниями на архивные материалы. И болезненно переживал, когда разочаровывался в порядочности или в научных возможностях тех, на кого надеялся (как было с написанием диссертации о Петербургской Археографической комиссии), когда обнаруживал, что научное дарование совмещается с карьеризмом, отступлением от безусловных для него нравственных нормативов. И потому само обращение памяти к образу С.Н. Валка очищает.
Но помимо этих обстоятельств субъективного порядка, выявляется и то существенное, что характерно именно для развития исторического мышления наших дней. Сейчас наблюдается утверждение иных, чем прежде, более широких и, на мой взгляд, более объективных представлений о предмете историографии и об ее Источниковой основе. Перестают сводить развитие исторической мысли преимущественно к построению историкосоциологических концепций и оценивать историографическое явление прежде всего в идеолого-политическом контексте. Все больше значения придают обогащению Источниковой базы исторических трудов и совершенствованию эвристических методов, формам распространения исторических знаний. Стали осознавать и то, что не только методология предопределяет методику работы
историка, но и сама методика во многом воздействует на методологию, а технология исследовательского труда, даже исторической тематики, политически нейтральна.
К важным историографическим источникам относят теперь не только монографии, но и статьи, доклады, лекции, документальные публикации, а также и архивные материалы (включая и переписку историков, воспоминания их самих и о них). Именно в этом направлении заметна целенаправленная деятельность Археографической комиссии, нашедшая отражение и в подготовке «Каталога личных архивных фондов отечественных историков» (Вып. 1. XVIII в. М., 2001), в публикации в обоих ежегодниках («Археографический ежегодник» и «Вспомогательные исторические дисциплины») и других изданиях материалов такой тематики, и в организации научных конференций, посвященных отдельным историкам и изучению их научного наследия (и прежде всего, оставшегося неопубликованным).
Изучение жизни и творчества С.Н. Валка, его воздействия на науку, современную ему и последующего времени, выявление материалов об этом и организация новой документации (воспоминаний) интересны не только в плане историографической проблематики, но и исследования ментальности XX столетия. Ибо С.Н. Валк был, по определению Д.С. Лихачева, «типичным петербургским интеллигентом», «истым петербургским интеллигентом» и казался нам воплощением преемственности и российских научных традиций, и нравственно-культурных традиций российской интеллигенции.
1 Валк С.Н. Избранные труды по историографии и источниковедению: Научное наследие. СПб., 2000.
Предисловие к сборнику памяти А.Д. и В.С. Люблинских
Александра Дмитриевна Люблинская и Владимир Сергеевич Люблинский формировались как исследователи работой в Публичной библиотеке и изучая сокровища Публичной библиотеки; они воспитаны Публичной библиотекой. Но они и прославили Публичную библиотеку и как средоточие ценнейших рукописей и старопечатных книг, и как центр многосторонней новаторской исследовательской работы в области изучения зарубежного Средневековья, специальных исторических дисциплин, книговедения.
В Публичной библиотеке Александра Дмитриевна и Владимир Сергеевич, продолжая традиции своих университетских учителей, особенно Ольги Антоновны Добиаш-Рождественской, создавали свои научные школы, приобретшие мировое признание. Они ориентировались прежде всего на хранимые здесь рукописные и книжные богатства и на научный потенциал сотрудников библиотеки. Воплощали в своей деятельности и плодотворную взаимосвязь Публичной библиотеки с Петербургским университетом и с учреждениями Академии наук. Более всего сделано общими усилиями для изучения французских средневековых рукописей и рукописного наследия и библиотеки Вольтера, распространения знаний об этом и на Родине, и за рубежами ее. И потому естественно и знаменательно, что сборник в память этих деятелей науки и культуры подготовлен и издается именно в Публичной библиотеке.
Авторский состав участников издания соответствует принципам деятельности Александры Дмитриевны и Владимира Сергеевича с обязательным вовлечением в творческую работу ученых и других учреждений (причем не только своего родного города) и разных поколений. И Александра Дмитриевна, и Владимир Сергеевич были не только смелыми исследователями-новаторами и в то же время непревзойденными эрудитами классического образца, подлинными мастерами научного ремесла, совмещали многоплановую по проблематике исследовательскую работу
Впервые опубл.: Предисловие // Западноевропейская культура в рукописях и книгах Российской национальной библиотеки: [Сб. ст. памяти А.Д. и В.С. Люблинских]. СПб., 2001. С. 6-7.
с преподавательской, а также инициативными и энергичными организаторами науки и издательской деятельности. Они были убеждены в особой важности исследований на грани наук, в стимулирующем действии научных конференций, в значительной роли коллективных трудов в развитии научных знаний на современном этапе.
Это книга и о научном наследии ученых и педагогов, с попыткой оценить свершенное ими, и о перспективах исследования в тех направлениях науки, к которым они привлекли внимание коллег и особенно научной молодежи. Книга свидетельствует о том, что живительная мысль Александры Дмитриевны и Владимира Сергеевича и поныне оплодотворяет работу их младших коллег и вдохновляет уже учеников этих коллег. Творческое наследие -это не только написанное самим ученым, но и сотворенное под воздействием сделанного им. Это и продолжение его труда. «Чтоб свеча не погасла» - мудрый завет древней грамоты любили повторять такие разные по стилю мышления и манере поведения историки, но и равно заинтересованно неутомимые в формировании научных школ, как академики А.С. Лаппо-Данилевский и М.Н. Тихомиров.
Это книга и об общественном сознании и нравственном достоинстве лучших представителей петербургской интеллигенции, убежденно сохранявшей в трудные годы идеологического диктата представления о первостепенной ценности традиций преемственности в науке и культуре и долге ученых воспитывать именно в этом духе молодых. Лучшим способом такого воспитательного воздействия становилось собственное жизненное поведение, ощущаемое всеми самоуважение и заинтересованное внимание к самостоятельной мысли других. Общение с Александрой Дмитриевной и Владимиром Сергеевичем становилось школой не только научного... образования, но и воспитания личности. Манера их мысли и взаимоотношений друг с другом и с окружающими их людьми отражена в публикуемом эпистолярном наследии и в воспоминаниях. Тем самым издаваемая книга может восприниматься и как памятник изучения науки о Средневековье и о сфере специальных научных дисциплин, и как источник по истории интеллигенции середины XX столетия.
При любом подходе к этому изданию оно является книгой и о вчерашнем, и о сегодняшнем днях нашей культуры и общественной жизни. Ведь отношение к культурному наследию - всегда показатель и уровня развития современной культуры.
Хочется думать, что книга эта будет способствовать сохранению благодарной памяти о подвижниках науки Александре Дмитриевне Люблинской и Владимире Сергеевиче Люблинском, и новым достижениям в тех направлениях науки, которым они обеспечили своим творчеством такой толчок вперед, и дальнейшему закреплению закладывавшихся ими традиций организации научной работы в дорогой им Публичной библиотеке, ныне ставшей Российской национальной библиотекой.
Непреходящее значение научно-исследовательской и научно-организационной, преподавательской и просветительской деятельности Бориса Александровича Рыбакова общепризнано. Книги о Б.А. Рыбакове выходили в 1968 и 1978 гг. в серии «Материалы для биобиблиографии ученых СССР»; список печатных трудов с 1978 г. напечатан в Археографическом ежегоднике за 1993 год (С. 321-323). Сборники в честь прославленного академика изданы к 60-летию, 70-летию и 80-летию со дня его рождения. Мне довелось иметь честь публикации статей в этих сборниках. Приходилось писать и о жизни и творчестве историка в изданиях 1976 г.1 и 1989 г.2 Эта статья предназначается для издания в честь 90-летия. Роль Б.А. Рыбакова в развитии науки и просвещения так значительна, что интерес и для историографа, и для историка общественной жизни могут представлять не только исследовательские труды, принесшие ученому мировую известность, но и другие следы его неутомимой и многообразной работы.
Некоторые материалы такого рода имелись и у академика М.Н. Тихомирова (1893-1965) и теперь являются документами его личного фонда (фонд 693 Архива РАН). В книгу «Рукописное наследие академика М.Н. Тихомирова в Архиве Академии наук СССР (далее - АРАН). Научное описание» (М., 1974) (далее -«Описание») составитель И.П. Староверова включила данные о М.Н. Тихомирове, выявленные и в других фондах, причем не только АРАН, но и иных хранилищ. Автор статьи опирается на указатель к описанию И.П. Староверовой. Можно полагать, что свидетельства об отношении М.Н. Тихомирова к деятельности Б.А. Рыбакова, о взаимоотношениях ученых обнаружатся и в других единицах хранения фонда 693. Выявленные уже материалы, связанные с именем Б.А. Рыбакова, любопытны и тем, что дополняют представления и о деятельности Михаила Николаевича Тихомирова.
Ученые познакомились еще в период совместной работы в Историческом музее. Позднее М.Н. Тихомиров был официальным
Впервые опубл.: Материалы академика Б.А. Рыбакова и о нем в архивном фонде академика М.Н. Тихомирова // Культура славян и Русь: Сб. к 90-летию акад. Б.А. Рыбакова. М„ 1998. С. 48-52.
оппонентом докторской диссертации Б.А. Рыбакова (1942), поддерживал его кандидатуру в члены-корреспонденты Академии наук, обменивался с ним письмами, а Б.А. Рыбаков принял на себя обязанность организации проводов М.Н. Тихомирова в последний путь, выступал у гроба его3 и позднее на заседании его памяти4.
Сохранилась неправленая стенограмма выступления М.Н. Тихомирова на заседании Ученого совета Института истории АН СССР 17 сентября 1953 г. связи с выдвижением кандидатуры Б.А. Рыбакова в члены-корреспонденты Академии наук.
М.Н. Тихомиров предупреждает, что постарается «сказать как можно короче, потому что кандидатура в сущности бесспорная». Отмечает, что работы Б.А. Рыбакова «широко известны. Крупнейшая из них “Ремесло в древней Руси” представляет собой работу во многом замечательную, надо прямо сказать, новаторскую, подобных которой мы заграничных работ не имеем на эту же тему. Потому что впервые соединено громадное знание археологического материала с таким же колоссальным знанием истории. Эта работа заслужила Сталинскую премию. Она показывает, как надо работать над таким сложным вопросом, как ремесло». Выступавший заметил далее, что Б.А. Рыбакову «принадлежит множество статей, в том числе и обобщающего характера», и он «является таким человеком, который постоянно борется со всякого рода порочными теориями». Закончил М.Н. Тихомиров словами: «Считаю, что вопрос ясен»5.
20 мая 1954 г. датирован отзыв Б.А. Рыбакова на рукопись книги М.Н. Тихомирова «Крестьянские и городские восстания на Руси в XI-XHI вв.». Б.А. Рыбаков написал: «Капитальная работа М.Н. Тихомирова является первой работой, специально посвященной классовой борьбе в феодальной Руси. До сих пор появлялись только отдельные небольшие статьи по частным вопросам или производилось самое суммарное рассмотрение этой важнейшей проблемы в общих трудах и учебниках.
Труд М.Н. Тихомирова написан увлекательно и общедоступно; это - пример в высшей степени удачного сочетания глубокой научности с простотой и ясностью изложения, делающей это исследование доступным широким массам советской интеллигенции.
Впервые акад. Тихомиров отказался от приведения во всех случаях подлинных текстов на древнерусском языке и дал точные и красочные переводы. Это также способствует расширению круга читателей книги и заставляет обращать большее внимание на
содержание приводимых цитат, тогда как при прежних приемах цитации усвоение смысла затруднялось для широкого круга читателей наличием устаревших языковых форм.
Во всей книге сказывается колоссальная эрудиция автора, приводящего множество новых и по-новому осмысленных фактов, привлеченных из самых разнородных источников.
Рецензируемая работа, помимо ее научных достоинств, является ярким литературным произведением, правдиво и образно воскрешающим все многообразие древнерусской жизни и в деревне, и в городе, и в боярской усадьбе».
Автор, по мнению рецензента, «не отрывает классовую борьбу от исторического процесса в целом и тщательно анализирует производительные силы Древней Руси и положение крестьянства». Книга, по мнению Б.А. Рыбакова, «должна быть напечатана большим тиражом».
Имеются и постраничные замечания «по частным вопросам», носящие «чисто редакционный характер». Возле двух из пяти замечаний рукою М.Н. Тихомирова вставлен знак +. Особенно интересно и показательно замечание в связи с описанием двора Ратибора, где «говорится о крыше, крытой соломой». Б.А. Рыбаков указывает: «Археологические данные (раскопки на Вщиже) говорят о наличии земляной подсыпки над потолком; поэтому глагол “прокопаша” относится к такого рода покрытиям, а не к соломе». Б.А. Рыбакову показалось также «недостаточно убедительным» «предположение о тождестве Микулы Селяниновича и Ждана-Николая из Вышгорода»6.
В письме, адресованном в Таллин (в 1954 г.) В.А. Тарасову, предпринявшему попытку написать прозаическое художественное произведение на тему древнерусской истории, М.Н. Тихомиров призывает адресата «отнестись более осторожно к критике», чем это сделано в ответе его Б.А. Рыбакову, и также не считает возможным написание художественного произведения на выработанном В.А. Тарасовым «языке для изображения» речи IX-X вв. М.Н. Тихомиров добавляет при этом: «Не согласен с Вами и в том, что при современном языке “утратит историчность звучания речи”. “Русалка” Пушкина написана современным ему языком, но “историчность звучания речи” не потеряна. Важно сохранить меру и не засорить язык словами новейшего происхождения; выдумывать же свои речения никому не рекомендуется, ведь современный русский язык богат старыми словами для выражения любой мысли древнего времени»7.
В фонде М.Н. Тихомирова имеется датированный 8 марта 1962 г. ответ председателя исполкома облсовета Владимирской области на письмо с просьбой сохранить Козлов вал в городе Владимире. Письмо подписали академики И.Г. Петровский, М.Н. Тихомиров, Б.А. Рыбаков, член-корреспондент АН СССР А.В. Арци-ховский и профессор Н.Н. Воронин. В связи с получением письма предусматривалось сохранение этого памятника крепостного зодчества XII в. и перенос задуманного строительства в сторону Московской улицы.
Письма Б.А. Рыбакова объединены в дело 528 по 4-й описи фонда М.Н. Тихомирова (ф. 693). Это всего И листов (если листом считать и телеграммы, и небольшие записки). Их крайние даты 24 октября 1953 - 27 июня 1964 г.; несколько без дат. В «Описании» И.П. Староверовой это дело значится под № 1734.
М.Н. Тихомиров сохранял написанное Борисом Александровичем - и поздравительные телеграммы, и деловые документы (появление которых обусловливалось служебным положением их обоих), и записки, переданные во время заседаний (как правило, с интересной - иногда уникальной - научной информацией).
Поздравляя 24 октября 1953 г. М.Н. Тихомирова с избранием академиком и академиком-секретарем Отделения истории, членом президиума Академии наук, Б.А. Рыбаков пишет: «Надеюсь, что Вы сохраните время и для любимой науки». 1 июня 1963 г. от имени «всего коллектива московских археологов» горячо поздравляет «глубочайшего знатока Древней Руси» с высокой наградой (М.Н. Тихомиров в связи с 70-летием был награжден орденом Ленина). Кончается телеграмма словами: «Ждем новых книг».
К М.Н. Тихомирову как к академику-секретарю Отделения обращается член-корреспондент АН Б.А. Рыбаков 8 декабря 1953 г. с просьбой оказать содействие в освобождении от должности проректора МГУ по гуманитарным факультетам, чтобы выполнять возложенные Академией наук поручения - руководство институтом и редактирование тома «Очерков истории СССР».
27 июня 1963 г. датирована сопроводительная записка к посылаемому М.Н. Тихомирову макету 1-го тома первой серии многотомной «Истории СССР». «Очень важно получить Ваши замечания по существу и по форме», - пишет Б.А. Рыбаков.
Деловые записки без дат относятся к середине 1960-х и отражают характер работы по подготовке многотомной «Истории СССР». Б.А. Рыбаков был главным редактором томов по отече
ственной истории до 1917 г. Интересна записка БА. Рыбакова, возможно составленная во время заседания: «Михаил Николаевич! Было бы идеально, если бы Вы (именно Вы) написали к своему (т. е. второму тому, посвященному периоду с середины XIII в. до XVII в. - С. Ш.) Введение на 1 лист: 1) Общая картина феод, государств (Русь, Кавказ, Азия); 2) Два слова о нашествии и его роли; 3) Общий взгляд на 3-4 страницах о XV-XVI вв. Сокращать Ваш том никак нельзя: там и так русский читатель будет жалеть о краткости изложения истории XVI-XVII вв....»
Видимо, в близкое время была передана записка М.Н. Тихомирову (с надписью на обороте трети свернутого листа: «М.Н. Тихомирову») о том, что, учитывая его пожелание, редколлегия не будет собираться для обсуждения многотомного издания «Истории СССР» (возможно, только второго тома. - С. Ш.) во время общего собрания АН СССР, и заседание переносится на март.
В недатированной записке на сложенном вдвое листе с указанием адресата - «М.Н. Тихомирову» (составленной тоже, видимо, во время заседания) с обращением «Дорогой Михаил Николаевич!» такие сведения: «Что касается летописи, то я по уши влез в попытки реконструкции первоначального текста Нестора. Но печатать это можно только как проект (подчеркнуто автором. -С. Ш.) реконструкции в виде статьи с приложением». Это отмечено как § 1; § 2 посвящен подготовке книг по истории русской культуры. Б.А. Рыбаков сообщает, что этим занимались по линии МГУ И.Г. Петровский и А.В. Арциховский, и он предложил им «продолжить тематику» «Истории культуры» ИИМК, «т. е. начать с XIII века»; и объясняет, что Институт археологии «не поднимет продолжение этого издания, т. к. нужна кооперация историков, литературоведов, искусствоведов». А в конце подражание памятникам древней письменности: «а что до твоего здоровья, государь мой, то скорблю о скорбАхъ твоихъ и желаю пребывать въ добромъ здрава»8.
Известно, что М.Н. Тихомиров был мастером пародийных сочинений в стиле документов допетровской эпохи. Б.А. Рыбаков заметил, выступая на заседании его памяти в 1966 г.: «Можно собрать еще один том его сочинений, который не предназначался для печати: это шутливые челобитные, его переписка во время заседаний, когда он стилем древнерусского дьяка излагал события современности, давал острые, всегда остроумные характеристики современников»9. Памятники творчества М.Н. Тихомирова такого жанра уже привлекли внимание историков10. Такая «историко
литературная» игра была в обычае у поколения учителей Б.А. Рыбакова. Видимо, не чужд ей и сам Борис Александрович.
Недатированная записка (вероятно, тоже составленная в момент заседания) посвящена соображениям о «новгородской хронологии» Б.А. Колчина: «Выяснилось, что пожары он распределил неверно, что вислые печати (даже княжеские) он приравнял к почтовым маркам, которые выбрасываются немедленно по получении письма». Б.А. Рыбаков, выявляя «палеографические детали», относит грамоту мальчика Онфима к 1263 г.
Во время другого заседания передана записка на плохой бумаге, видимо, взятой со стола заседания (тоже недатированная), такого содержания: «Как исключительно интересны открытия румынского профессора Богдана! Кажется, там не только салтово-маяцкая руническая письменность, но и какой-то новый вариант письменности». Рукой М.Н. Тихомирова написано: «Б.А. Рыбаков об открытии Богдана».
Особенно замечательна записка (свернутый полулист), тоже не датированная, посланная также, видимо, на заседании: «Михаил Николаевич! На будущий год, наряду с Черниговом, я буду раскапывать Любечь. Это - великолепное городище, настоящий феодальный замок и, кажется, очень ранний - IX-X вв. Там чувствуется раннее развитие ремесла. Рядом с “замком” - бугром обширный посад XI-XII вв. Пробные раскопки там велись и дали очень интересные результаты. М.б. проблема возникновения феодализма на таких городках легче разрешима» (оба раза подчеркнуто автором. - С. Ш.)». Записку можно предположительно датировать первой половиной 1960-х годов1 11.
Некоторые записки Б.А. Рыбакова, сохраненные М.Н. Тихомировым, как можно убедиться, по-настоящему интересны для историографа, отражая моменты творческой биографии Бориса Александровича. Они показательны и для творческих взаимоотношений обоих знатоков истории и культуры Древней Руси и славянства.
1 Шмидт С. О. Лауреат Ленинской премии академик Б. А. Рыбаков / / Преподавание истории в школе. 1976. № 4. С. 29-33.
2 Шмидт С.О. К 80-летию академика Б.А. Рыбакова // Археографический ежегодник за 1988 год. М., 1989. С. 131-133. Перепеч. в кн.: Шмидт С.О. Археография. Архивоведение. Памятниковедение. М., 1997. С. 193-197.
3 АЕ за 1965 год. М„ 1966. С. 377.
4 Рыбаков Б.А. Михаил Николаевич Тихомиров // АЕ за 1965 год. С. 3-6.
5 АРАН. Ф. 1577. Оп. 2. Д. 312. Л. 105-106 (по описанию № 381).
6 АРАН. Ф. 693. On. 1. Д. 289.
7 АРАН. Ф. 457. Оп. 1-54. Д. 381. Л. 53 (рядом и ответ Б.А. Рыбакова).
8 АРАН. Ф. 693. Оп. 4. Д. 528. Л. 1, 2.
9 Рыбаков БЛ. Указ. соч. С. 3.
10 Шмидт С.О. Памяти учителя (Материалы к научной биографии М.Н. Тихомирова) // АЕ за 1965 год. М., 1966. С. 29 (перепечатано в кн.: Шмидт С.О. Путь историка: избранные труды по источниковедению и историографии. М„ 1997. С. 345-379); Он же. С.В. Бахрушин и М.Н. Тихомиров (по архивным материалам) // Проблемы социально-экономической истории феодальной России. М., 1984. С. 72-73 (перепечатано в кн.: Шмидт С.О. Путь историка. С. 425-436); Он же. К изучению литературно-художественного наследия М.Н. Тихомирова // АЕ за 1990 год. М., 1991. С. 210-214; ЧистяковаЕ.В. Михаил Николаевич Тихомиров. М., 1987. С. 30-31 и др.; Янин В.Л. В гостях у археологов (Из литературного творчества М.Н. Тихомирова) // АЕ за 1993 год. М., 1994. С. 57-69.
11 АРАН. Ф. 693. Оп. 4. Д. 528. Л. 8.
Деятельность Авраама Моисеевича Разгона, историка и музееведа, получила международное признание. Он представлял свою страну в международных объединениях специалистов музейного дела, был участником и руководителем подготовки международных изданий по музееведению. Особенно велик его вклад в изучение истории музейного дела.
Докторская диссертация А.М. Разгона «Исторические музеи в России (1861-1917)» посвящена именно этой теме. Диссертацию он защищал в 1973 г. в Саратовском университете; официальными оппонентами были И.Д. Ковальченко, М.Т. Белявский и Г.Г. Мезенцева, а мне довелось познакомиться с ней в качестве рецензента ВАКа. Это исследование не вышло отдельной книгой, но его части (об охране исторических памятников в дореволюционной России, о Российском Историческом музее, археологических, этнографических, военных музеях и др.), опубликованные в виде статей, прочно вошли в научный обиход, а основные выводы и наблюдения суммированы в автореферате диссертации.
Задуманный в конце 1940-х годов обобщающий труд по истории музейного дела (проспект которого был подготовлен под руководством Г.Л. Малицкого) оказался неосуществленным, и диссертация А.М. Разгона стала первым монографическим исследованием, специально посвященным историческим музеям, истории музейного дела, формированию и развитию музееведческих представлений в дореволюционной России.
Труд такого типа и масштаба мог быть подготовлен только потому, что А.М. Разгон уже имел большой опыт работы в области музееведения и его истории, творчески освоил опыт научной школы профессора Н.Л. Рубинштейна - выдающегося историка1, историографа, музееведа. Авраам Моисеевич был не только учеником, но и другом Николая Леонидовича2, а Рубинштейн стал домашним человеком в семье Разгона3.
К тому времени А.М. Разгон уже был известен как автор исследования об исторических музеях и охране памятников в Рос-
Впервые опубл.: Научное наследие А.М. Разгона и актуальные проблемы развития музееведения: Чтения к 70-летию со дня рождения А.М. Разгона: Тезисы докладов. М„ 1990. С. 10-15.
сии с начала XVIII в. до 1861 г. и обобщающих статей о музеях в «Советской исторической энциклопедии». Он основательно знал и историю России второй половины XVIII в.4 - периода, когда формировались представления о значении коллекций памятников истории и культуры, о важности охраны таких памятников и возможностях использования их в просветительских и научных целях, и понимал взаимосвязь этих факторов развития культуры с явлениями социально-экономической истории (изучавшейся им детально по первоисточникам) и политической истории.
В то же время А.М. Разгон основательно изучил и историю музейного дела в советские годы. Все это позволило ему определить значение сделанного в области музейного дела в эпоху капитализма, особенности, характерные для тех лет по сравнению с предыдущим и с последующим временем, понять (и показать), какие традиции дореволюционного музейного дела могли быть использованы в советском культурном строительстве.
История музеев рассматривается А.М. Разгоном как составная часть развития науки и культуры и в тесной взаимосвязи с другими явлениями общественной жизни и ее антагонизмами. При этом отечественная культура воспринимается не в отрыве от зарубежной, но с учетом возможностей освоения и зарубежного опыта.
И тематика исследований, и приемы выявления историографических источников и определения историографических фактов в русле более широких историографических представлений, сформировавшихся к середине 1960-х годов5 в результате перемен в общественном сознании после XX съезда КПСС, нашли отражение, в частности, в дискуссиях по историографии и источниковедению отечественной истории и о самом предмете «историография» (так же как и о предмете «источниковедение») в журналах «История СССР», «Вопросы истории», «Вопросы истории КПСС», «Исторический архив». Выделение ученым трудов о музеях и их истории, самой музееведческой деятельности как существенных историографических фактов имеет самостоятельное значение (хотя в их оценке Разгон не освободился еще от распространенного в то время политизирующего подхода к проблемам методологии, даже к методике исторических трудов).
Монография Разгона важна и в плане определения возможной Источниковой базы исследований по истории музеев и музейного дела. Это многообразные письменные источники - и печатные, и архивные (как правило, впервые вводимые в круг широких
научных знаний), и визуальные наблюдения над материалами музейных коллекций. Особое внимание уделялось тому, что сосредоточивалось обычно лишь в архиве самих музеев или учреждений и общественных организаций, в ведении которых они находились, а также в личных фондах лиц, причастных к музейной работе. Именно там обнаруживаем много ценного о предыстории организации музеев, о повседневности музейной жизни, о круге взаимосвязей музеев, о значении музеев в общественной жизни и в творческой биографии отдельных деятелей науки и культуры, о роли видных ученых в организации и работе некоторых музеев. Работа А.М. Разгона написана на стыке историографии и источниковедения, истории культуры и истории общественного сознания. Тем самым расширяются и возможные сферы взаимодействия музееведения с этими сферами знания.
Впервые с такой полнотой прослежена борьба различных общественных тенденций в развитии музейного дела в России. Особое внимание, соответственно духу времени, уделено роли деятелей освободительного и революционного движения в области выявления, собирания и охраны памятников истории и культуры, организации музеев, пропаганды исторических знаний в музейной практике (прежде всего в районах, где находились политические ссыльные). Охарактеризована в этом плане и роль В.И. Ленина и его соратников в собирании и изучении материалов по истории русской революции (большевистский революционный музей в Женеве и др.). Это предопределяет понимание роли ветеранов революционного движения в организации музейной архивной работы уже в советские годы (С.И. Мицкевича, М.С. Ольминского, Д.Б. Рязанова, П.Ф. Куделли и др.).
А.М. Разгоном обобщены данные не только по истории организации музейного дела и музееведения (в частности, о методике музейной работы, развитии музееведческой мысли в плане систематизации, описания, экспозиции музейных предметов), но и показаны взаимосвязь этих явлений с движением исторической мысли, их роль в развитии исторической науки и распространении исторических знаний и в истории культуры и общественного движения (рассматриваются научные, образовательные, общественно-воспитательные, просветительские функции музеев).
Выявлено значение музеев как источниковой базы исторической науки и понимание этого современниками. Особенно ясно определяются взаимосвязи развития музейного дела и ар
хеологии, этнографии, специальных исторических дисциплин. Это важно и в аспекте изучения истории высшего образования в России (без музейных собраний не могли бы возникнуть соответствующие кафедры). Немалое значение имела деятельность рукописных подразделений музеев и библиотек для развития архивоведения и книговедения, археологии, специальных историко-филологических дисциплин.
Наблюдения А.М. Разгона по истории музейного дела существенны для исследования истории краеведения - и как общественного движения, и как сферы научной деятельности. Музеи на местах возникали в результате многосторонней и зачастую подвижнической деятельности краеведов (среди которых были и богатые меценаты, и рядовые интеллигенты: учителя, священники, статистики, врачи, офицеры и др.), они оставались центрами местной культуры (тесно взаимодействующими с учеными архивными комиссиями, статистическими комитетами, различными обществами). После 1917 г. эти музеи, как правило, в тесной взаимосвязи с архивами стали средоточием развития краеведения в его «золотое десятилетие», а организаторы и руководители дореволюционных музеев были активнейшими краеведами 1920-х годов, способствовали сохранению и развитию традиционных народных промыслов6. В музеях интересовались не только обществом (его прошлым и настоящим), но и природой. Это способствовало становлению и закреплению элементов и навыков экологической культуры.
В трудах А.М. Разгона по истории музеев (особенно, так сказать, специализированных - археологических, этнографических, военных, а также местных) содержится множество ранее неизвестных или неучтенных фактов о памятниках истории и культуры, их описании, изучении, охране. И тем самым труды эти приобретают характер необходимого справочного пособия. И не только по истории различных сфер нашей науки и культуры, но и при подготовке «Свода памятников истории и культуры», «Каталога личных фондов отечественных историков», путеводителей по музеям и архивам и других изданий сводного характера. А данные эти важны, конечно, для подготовки новых работ по истории музеев, краеведению, биографических очерков о краеведах.
Занимаясь историей музейного дела, А.М. Разгон, естественно, в той или иной мере соприкасался с многообразными проблемами музееведения и внес значительный вклад в развитие теории и практики музейного дела, в формирование методики его
преподавания в высшей школе, в становление его терминологии (об этом шла речь в докладах на научных чтениях памяти А.М. Разгона в 1990 г.)7.
Те, кто были лично знакомы с А.М. Разгоном (а я его помню еще со времен истфака МГУ 1940-х годов), понимают, что важным фактором достигнутого в сфере музейной мысли и организации работы в области музееведения были привлекательные личные качества Авраама Моисеевича: его доброжелательное и уважительное отношение к людям, трудолюбие, организованность и долг личной ответственности, заинтересованность в результатах общей работы без мелочного выпячивания своей роли и навязывания своих взглядов, умение возбудить и поддержать творческое вдохновение других (причем и старших, и младших по возрасту) и, конечно же, большое личное обаяние. Его не только уважали, но и любили.
Роль А.М. Разгона - и его печатных трудов и докладов, и его лекций в вузах, и его руководящего участия в работе научных коллективов и редакционных коллегий - в закреплении творческих взаимосвязей (нарушенных после разгрома краеведения на рубеже 1920-1930-х годов) музейного дела и «большой» - академической и вузовской - науки очень заметна. И это, несомненно, должно быть отражено в обобщающих трудах по истории нашей науки и культуры.
1 О Н.Л. Рубинштейне см.: Дмитриев С.С. Памяти Николая Леонидовича Рубинштейна//История СССР. 1963. № 3. С. 239-242 (нас. 242-244 список печатных трудов); Он же. К истории советской исторической науки. Историк Н.Л. Рубинштейн (1897-1963) //Учен. зап. Горьковского гос. ун-та. Серия ист.-филол. Горький, 1964. Вып. 72. С. 415-478; Ковалев И.В. Материалы по социально-экономической истории России XVIII в. в рукописном наследии Н.Л. Рубинштейна // АЕ за 1985 г. М., 1986. С. 285-289; Закс А.Б. Рубинштейн во главе научной работы Государственного Исторического музея (1943—1949 гг.) (По материалам НВА ГИМ и личным воспоминаниям) // АЕ за 1989 г. М., 1990. С. 124-133; в АЕ за 1998 г. (М., 1999) в разделе «К 100-летию со дня рождения Николая Леонидовича Рубинштейна» (С. 202-238) статьи С.О. Шмидта (где указана и новейшая литература), В.А. Муравьева, О.М. Медушевской, М.В. Катагощиной.
2 Полякова У.М., Рубинштейн Е.И. А.М. Разгон - выпускник МГУ, ученик профессора Н.Л. Рубинштейна // Научное наследие А.М. Разгона... С. 3-6.
3 Ардашникова Е.З. Не только личное. Повесть о жизни А.М. Разгона-воина, ставшего ученым, рассказанная его женой. М., 1998 (см. главу IV «МГУ. Встреча с Н.Л. Рубинштейном»).
4 Список печатных трудов А.М. Разгона / Сост. Э.С. Угрюмова // АЕ за 1990 г. М., 1992. С. 270-274; Угрюмова Э.С. Обзор библиографии А.М. Разгона // Научное наследие А.М. Разгона... С. 38-40; Белозерова И.В. Обзор личного архива А.М. Разгона (1920-1989) из собрания отдела письменных источников Государственного Исторического музея // Научное наследие А.М. Разгона... С. 36-38.
5 Нечкина М.В. История истории (Некоторые методологические вопросы истории исторической науки) // История и историки. Историография истории СССР: Сб. статей. М., 1965. С. 6-28; Шмидт С.О. О методике выявления и изучения материалов по истории советской исторической науки // Труды МГИАИ. М., 1965. Т. 22. С. 3-49.
6 Шмидт С.О. Краеведение и документальные памятники. Тверь, 1992.
7 См.: Научное наследие А.М. Разгона... (Тезисы выступлений Д.А. Равикович, К.М. Газаловой, К.Г. Левыкина, Т.Г. Игумновой, А.Б. Закс, Н.П. Финягиной, В.Л. Егорова).
4 августа 2000 г. исполнилось 90 лет Виктору Васильевичу Сорокину - выдающемуся москвоведу, литератору, историку, библиографу. Первооткрыватель и эрудит, авторитетнейший знаток архивных материалов и редких изданий о памятных местах Москвы, по истории московских улиц и зданий, адресов и мест захоронения известных москвичей (особенно ученых и писателей и лиц, связанных с Московским университетом - его преподавателей и выпускников), В.В. Сорокин широко известен и оригинальными исследовательскими трудами, и составленными им (или при его участии) справочными и библиографическими пособиями, и как неутомимый популяризатор краеведческих знаний в массовых изданиях (газетах и журналах), и как щедрый на помощь научный консультант многих коллективных трудов и нескольких уже поколений москвоведов. Вклад В.В. Сорокина в развитие москвове-дения, в совершенствование эвристики архивной, библиотечной, музейной работы трудно переоценить. Особенно значительна роль В.В. Сорокина в расширении представлений об источниковой базе изучения истории Москвы XVIII-XX вв., ее культурной жизни, старейшего в России Московского университета. В.В. Сорокин много сделал для познания нового в биографиях не только известных москвичей, но и о пребывании в Москве знаменитых россиян, постоянно проживавших в других местностях.
Более полувека В.В. Сорокин неустанно способствует просвещению москвоведением. На выводы и наблюдения В.В. Сорокина опираются и в исследовательских трудах, и при разработке школьных программ преподавания москвоведения, и в начавшейся работе по созданию «Московской энциклопедии». Серия статей «По Москве исторической» в журнале «Наука и жизнь» сделала эту тематику привлекательной для всех россиян и российского зарубежья.
В.В. Сорокин, по его словам, стал краеведом «с детских лет под влиянием бабушкиных рассказов» о прошлом Клинско-го края Подмосковья. В 1920 г. родители переехали в Москву,
Впервые опубл.: Археографический ежегодник за 2000 год. М., 2001. С. 492-493.
где он окончил школу-девятилетку с библиотечным уклоном, а затем, уже работая, учился на библиотечных курсах и литературно-критическом отделении Литературного института имени М. Горького. В 1929 г., став сотрудником Научной библиотеки Московского университета, он вскоре выявил в фондах ее рисунки дома поэта и вельможи И.И. Дмитриева на Спиридоновке, установив авторство архитектора А.Л. Витберга. Руководитель комиссии «Старая Москва» П.Н. Миллер предложил юноше выступить с докладом на ее заседании, но назначенное на февраль 1930 г. 465-е заседание не состоялось, так как это общество краеведов было закрыто. (И знаменательно, что, когда возобновилась деятельность комиссии «Старая Москва», на первом же ее заседании, через 60 лет, 12 февраля 1990 г., был заслушан доклад В.В. Сорокина о юных годах Д.И. Фонвизина: именно Виктор Васильевич воплощал живую связь времен в традиции москвоведения!)
Оказалась неизданной и книга В.В. Сорокина «Студенческие годы Михаила Лермонтова по архиву Московского университета», запланированная к 100-летию со дня гибели Лермонтова. Бомба попала в здание, где находилась типография, уничтожила и рукопись, и отпечатанные листы. (Вообще трагической была судьба не только гениального писателя, но и изданий, ему посвященных: бомба - но уже в Ленинграде - в том же 1941 г., попав в склад на Гостином дворе, уничтожила и почти весь тираж - а это 10 000 экземпляров! - новаторской по замыслу большой книги-альбома «М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество», подготовленной в секторе художественной иллюстрации Института мировой литературы Академии наук под руководством М.Э. Голосовкер.)
За долгие годы своей плодотворной деятельности В.В. Сорокин выявил много уникальных данных по истории московских домов - об их архитекторах, владельцах, жителях, о захоронениях на московских кладбищах. Созданные им картотека и фонотека сами по себе являются ценнейшим памятником истории и культуры. И естественно, что именно В.В. Сорокин одним из первых стал почетным членом Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
Когда Л.В. Иванова и я стали готовить рассчитанное на несколько выпусков издание с очерками о краеведах Москвы, решили не ограничиваться очерками об ушедших из жизни, но и обратиться с просьбой написать автобиографию к виднейшим из здравствующих москвоведов. И первой была помещена живо написанная, с благодарным напоминанием о многих именах, статья
В.В. Сорокина «Для того, чтобы спасти» (в книге «Краеведы Москвы». М., 1991. Вып. 1. С. 270-283). К статье приложен «Список работ В.В. Сорокина» (С. 283-287). К радости нашей, список этот с тех пор существенно пополнился, что нашло отражение и в справочнике «Москвоведы», изданном Мосгорархивом в 1996 г. Виктор Васильевич трудится неутомимо и с увлечением. Быть может, этот азарт поиска в архивах и библиотеках унаследован от предков, страстных и умелых охотников и птицеловов, поставлявших певчих птиц в трактиры и жилые дома? В последнее время В.В. Сорокин старается суммировать накопленные им данные о местах жительства и захоронения лиц пушкинского круга.
15 сентября 2000 г. в непринужденной обстановке дружеского застолья юбиляра тепло приветствовали в Управлении охраны и использования памятников истории и культуры города Москвы. Собрались и выступали историки и архитекторы, руководители и сотрудники библиотек, архивов, музеев, преподаватели ставшего ему родным Московского университета и других вузов Москвы, москвоведы всех поколений. Благодарили за огромный вклад в изучение прошлого Москвы и ее культуры, за неизменную помощь, неутомимое сотрудничество. Все от души желали Виктору Васильевичу бодрости, радости творческих свершений.
Знаменитого историка-политолога и публициста Михаила Геллера, по новому осмысливавшего ход истории России XX в., освободившего многих своими трудами - книгами и статьями - от десятилетиями навязываемых представлений об этом, видел в Париже один раз - в декабре 1991 г. А знал и помнил Мишу Геллера - милого, обаятельного студента исторического факультета Московского университета последних военных лет, казавшегося очень научно перспективным ученым и профессорам и студентам.
Во второй половине 1943 г. мы вдвоем слушали интересный специальный курс профессора Георгия Андреевича Новицкого о Ливонской войне (жаль, что текст его - а он был и с цитатами из первоисточников и литературы на разных языках - остался ненапечатанным). Так как слушателей было только двое, то мы оба после лекции, беседуя, ходили обычно по Большой Никитской улице (тогда она носила имя Герцена) и ближним переулкам. Говорили о многом, с живым интересом и откровенно. Миша сразу вызывал доверие, привлекал светлостью ума, неординарностью и в то же время серьезностью суждений, манерой разговора, благожелательного и иронично-остроумного. Рассуждали и о тематике истории России времени Ивана Грозного - я был уже дипломником, писал работу о реформаторе Алексее Адашеве и делился соображениями не только о явлениях четырехсотлетней давности и особенностях источниковой базы их изучения, но и теми аллюзиями, которые они вызывали. Миша, как понимаю теперь, тогда убежденно овладевал созданными медиевистами приемами высокого мастерства исторического исследования («ремесла историка», как определял Марк Блок) и осмысливал основные линии взаимосвязи прошлого и настоящего России.
Зимой 1944/45 г., когда я уже стал аспирантом М.Н. Тихомирова, на историческом факультете университета задумали возродить научное студенческое общество. К идее его образования были причастны еще в предвоенные месяцы в ту пору несколько профессоров (С.В. Бахрушин, С.Д. Сказкин, А.В. Арциховский, С.П. Толстой) и студентов, среди них и один второкурсник -Шмидт (выступили инициаторами такого образования в многотиражной газете «Московский университет», об этом напомнили
Впервые опубл.: Штрихи к биографии // Вместо мемуаров: Памяти М.Я. Геллера. М„ 2000. С. 56-58.
позднее в книге «Московский университет в Великой Отечественной войне»). Среди присоединившихся в послевоенную зиму к нам, аспирантам, прежде всего к моему другу Борису Попову (автору диссертации и трудов об историке Гиббоне, прижизненно более известному как специалист по истории международного рабочего движения новейшего времени), был и М. Геллер. Именно он, пользовавшийся немалым авторитетом в студенческой среде, вовлек в это начинание и Женю Хигрипу, ставшую вскоре или тогда же его супругой, и других студентов. Слово М. Геллера на заседаниях организационного характера и при обсуждении докладов отличали заинтересованность, эрудиция, благожелательность и в то же время убедительность критических замечаний. Затем, расставшись с историческим факультетом, о Мише и Жене только слышал.
И по-настоящему обрадовался, увидев М. Геллера в аудитории Славянского института в Париже, предоставленной для моего доклада о судьбах краеведения в первые десятилетия советской власти. Я тогда был участником и докладчиком международной конференции, посвященной истории российского дворянства. М. Геллер, конечно, за прошедшие десятилетия внешне изменился, обрел более солидный вид, некоторую медлительность в движениях, мудрым и грустным стал взгляд. Но та же заинтересованно-благожелательная умная улыбка, та же притягательность. Он выступил по теме доклада, и сразу стало очевидно, с каким уважением прислушиваются к сказанному им. После обсуждения в помещении института и на улице у нас состоялся разговор, вызванный и тем, что М. Геллер принес мне в подарок свои книги. Он не мог из-за каких-то ранее обусловленных дел задерживаться, я должен был скоро (чуть ли не на следующий день) покинуть Париж. И мы говорили не столько «о жизни» вообще, о переменах, принесенных началом перестройки, сколько о том, как сложились наши биографии историков. И приятно было ощущать взаимную душевную симпатию, уважение к труду друг друга.
Тем, кто был знаком с М. Геллером, всегда будет согревать душу память о привлекательной улыбке. А когда появится солидное, опирающееся на многообразные историографические источники объективное исследование по истории исторической мысли второй половины XX в., имя Михаила Яковлевича Геллера утвердится как одно из самых достойных среди историков России.
22 сентября 1998 г.
Грустно и в то же время приятно присутствовать на таком заседании. Грустно, что человек еще молодой, - а тот, кто был учителем, понимает, насколько моложе его был Виктор Иванович, - ушел из жизни. Но не часто бывает, чтобы творческий путь ученого оставлял такой след в науке и такой след в сердцах. Жизнь наша стремительна, борьба за выживание науки отнимает очень много сил, и тем не менее те образы, которые остаются, это, видимо, образы тех, без кого современная наука не может двигаться вперед. Без памяти о них, без обращения к их трудам, к их опыту, мы не можем выжить. Ибо выживать мы можем только тогда, когда убедим других, что наша наука необходима и что ее высокий уровень нужно поддерживать. Поэтому мы должны благодарить руководство Института, руководство Центра, что таким способом продолжена жизнь Виктора Ивановича.
Конечно, и для Калерии Цереновны, и для других близких Виктор Иванович Буганов не только ученый, и то, что он сделал в науке, - это, может быть, даже не главное в их взаимоотношениях. Но для большинства - это, конечно, человек науки, человек организаторского опыта, следы деятельности которого сохраняются в нашей сегодняшней жизни. Мы имеем опыт обогащения памятью; и мне как председателю Археографической комиссии об этом легче говорить, так как есть опыт Тихомировских чтений, проводимых с 1968 г. (когда исполнилось 3 года со дня кончины основателя комиссии и 75 лет со дня его рождения) и посвященных жизни и творчеству Михаила Николаевича Тихомирова и тем проблемам, реализации которых в науке он отдал свою жизнь. Я думаю, что такой путь - это лучший путь сохранения памяти и о Викторе Ивановиче, прямом и непосредственном ученике и продолжателе как раз дела Михаила Николаевича Тихомирова.
Вероятно, из всех здесь присутствующих я дольше всего знал Виктора Ивановича. Мы познакомились в 1950 г. Я был начинающий преподаватель Историко-архивного института, кажется даже еще не доцент, и Виктор Буганов остался в памяти, ну,
Впервые опубл.: Исследования по источниковедению истории России (до 1917 г.): Сборник статей памяти В.И. Буганова. М., 2001. С. 13-19. Доклад прочитан автором на Чтениях памяти В.И. Буганова в октябре 1997 г.
во-первых, потому, что он был очень хорош собой, поэтому выделялся, хотя на этом курсе был (некоторые помнят) такой красавец, как Михаил Афанасьевич Пережогин. Этот курс был вообще блестящим: Борис Григорьевич Литвак, Юлия Викторовна Андрюшайтите, Светлана Арамовна Левина и Юрий Александрович Тихонов, здесь присутствующий, Илья Андреевич Булыгин и Валентин Федорович Кутьев. На курсе были объединены участники войны и школьники. И среди них выделиться так, чтобы как-то показаться сильным, было очень непросто. Потому что вернувшиеся с фронта так изголодались по настоящей мысли, что по-настоящему серьезно занимались и уже примерно на второй год восстановили механику быстрого освоения знаний и быстрой реализации их во что-то существенное. Школьники были довольно сильными соперниками. Виктор проявил себя скоро, вошел в кружок Николая Владимировича Устюгова, стал даже старостой кружка, и в общем он на меня вышел, а не я на него. Тогда это были первые мои дипломники, и вот он пришел ко мне. Конечно, поддаться его обаянию было очень просто, но ведь обаятельная внешность еще не означает, что можно что-то делать.
Буганов сразу же обнаружил упорство, трудолюбие и, несмотря на явное самолюбие, умение и желание учить самого себя. Я познакомился с Виктором Бугановым еще с другой стороны. Я быстро понял, что он в своей семье первый человек, ставший интеллигентом, человек, который не вырос в окружении книг, стоящих на полках. А вот, скажем, мои первые детские впечатления: мне не дают вынимать книги с книжных полок; естественно, что в нашем доме это было тогда главное и сейчас осталось главным богатством. У него этого не было, и он достиг всего сам. У нас в институте был прелестный руководитель библиотеки, его некоторые, наверное, помнят, - Глеб Вадимович Тронин. Я посмотрел абонемент студента Буганова и поразился, как много, как целенаправленно и как широко охватывая тематику он читал. Он читал не только классику. Он брал книги по истории музыки, которой он очень увлекался (даже начал собирать пластинки), он брал книги по истории искусства, причем не только русского, но и зарубежного. Он брал мемуары, он брал книги, конечно, и по истории. Понимаете, человек поставил перед собой задачу самообразования: он намерен был идти в науку и понимал, что ему нужен тот широкий кругозор, который позволит ему гораздо легче ориентироваться в многообразии возможных объектов, которые ему встретятся.
Это не частый пример. Причем, вероятно, даже изменение руководителя - он ушел от того, с кем сначала работал, - и выбор еще только начинавшего тогда Шмидта тоже этим в какой-то мере определялись. Ему хотелось какой-то более широкой тематики. И я заставил его переделывать диплом, довести до требуемых источниковедческих кондиций. Но Виктор не был активистом-комсомольцем; и с его аспирантурой было не так просто, потому что тогда была довольно жесткая норма на выдвижение аспирантов. И боролись и абитуриенты, и их руководители. И вот тут Анна Сергеевна Рослова, директор института, помогла - она очень хотела привлечь в Ученый совет института Михаила Николаевича Тихомирова, что украсило бы институт. Михаил Николаевич к Анне Сергеевне очень хорошо относился, знал ее давно по историческому факультету МГУ. Она была, действительно, человек большой души, хотя ученый совсем никакой, но из тех партийных работников, которые искренне хотели, чтобы наука двигалась вперед, и которые с искренним уважением относились к труду ученых. Михаил Николаевич дал согласие, но сказал: «Вы знаете, ну что я буду ученым украшением? Надо, чтобы у меня было что-то в институте, лекции мне читать трудно, я читаю у себя в университете, а вот дайте мне аспиранта». Естественно, аспирантом должен был быть кто-то из выпускников института, потому что ученики Михаила Николаевича шли либо в университет, где он состоял профессором, либо в Академию наук, где он был уже членом-корреспондентом. И я тогда решился подсказать ему Буганова; но подсказать Михаилу Николаевичу кандидатуру - сложное дело, потому что Михаил Николаевич (а Владимир Андреевич Кучкин знает это не меньше меня) - человек не самого простого характера, ему нужно было, чтобы человек ему подошел и чтобы он мог поверить в него.
Я помню даже, как произошло их знакомство. Это было у метро «Кропоткинская». Мы поговорили, сидя на бульваре; Тихомиров потом назначил свидание. Я понял, что и на Тихомирова личное обаяние Буганова оказало воздействие. Конечно, он очень хорошо держался, сдержанно, показал свою воспитанность. Михаил Николаевич его вызвал, и у них был какой-то разговор. Михаил Николаевич сказал: «Я согласен». У меня на следующий день экзамен на первом курсе. В это время заседает комиссия, дающая рекомендации в аспирантуру. Я посылаю записку Анне Сергеевне: «Михаил Николаевич Тихомиров согласился быть членом Ученого совета и согласен руководить аспирантом, если
ему рекомендуют в аспирантуру Буганова». Там уже в списке десять человек есть. Но кого-то выкинули, и Буганов оказался тем десятым, кого рекомендовали в аспирантуру. И он стал первым аспирантом, единственным аспирантом Тихомирова по Историкоархивному институту.
Тут уже начинаются свои отношения, но я чувствую, что на меня Тихомиров косится. Виктор Иванович стал себя хуже вести, чем он ожидал. Он ему дал необычайно трудную тему: разрядные книги. Эту тему никто не разрабатывал в таком плане, ну, вероятно, после Милюкова, в течение почти пятидесяти или шестидесяти лет. И вот в какой-то момент то, что шло хорошо, вдруг стало меньше удовлетворять руководителя: то ли Буганов отвлекся, то ли что-то не то делал, зарабатывая, что тоже было необходимо. Михаил Николаевич мне пожаловался. Я передал, конечно, сейчас же Виктору. Нужно было еще найти его (он жил за городом, телефона не было), чтобы он ко мне пришел. Беседа с научным руководителем была очень серьезная. Виктор говорил, что вот так вообще его не «пороли». Но, видимо, эта «порка» оказалась столь позитивной, что после этого Буганов ставился в пример: вот Буганов же понимает, а вот вы старше его, а не понимаете то, что мы вам говорим. То есть он, так сказать, выполнял больше, чем, может быть, даже мы, старшее поколение, могли.
В результате Михаил Николаевич оставил его при себе. А это главное, чего мне и хотелось. И он ему сначала доверил работу, которая была, конечно, гораздо больше, чем диссертационная тема, и притом иная тематика, чем в дипломе. И тем, кто знает труды Виктора Ивановича о разрядных книгах, известно, сколько наработок осталось у него и для дальнейших исследований. Потому что у него чуть ли не до десятка статей по материалам, не вошедшим в его монографию. Но порученная работа приучила и к изучению летописания. Михаил Николаевич ему доверил подготовку издания летописей - дело, которое сам лелеял, он искал людей, которые могут стать продолжателями его дела. И в итоге Виктор Иванович стал руководителем Летописной группы и человеком, который направлял к этому многих, уже более молодых, чем он. Этого всего добился он сам, потому что летописи он фактически не изучал в архивном институте вообще, как и разрядные книги он не изучал.
Он был, конечно, очень способный, трудоспособный, но он любил трудиться. И не потому что он был лишен возможности других удовольствий, ведь радость общения с ним испытали мно
гие. Но это был красивый, сильный, крепкий мужчина, который, любя жизнь, в то же время не может себя чувствовать нормально вне труда. И то, что сейчас здесь мы видим на книжной выставке, - это не все, что сделано; поражает, что это сумел написать и издать один человек. И тут, конечно, нужно сказать не только о его способностях, не только о том, что он продолжал держать в то трудное время линию, утверждавшую основы источниковедческой работы, т. е. те настоящие тихомировские традиции, которые в нашем институте в то время отнюдь не всеми поддерживались. Но и о том, как он проявил себя, как только обнаружилась возможность реализации присущего ему организаторского таланта. Он сделал необычайно много для того, чтобы продолжить это дело Тихомирова. Великие старики вспоминали Симеона Гордого, академики - и Лаппо-Данилевский, и Тихомиров, не сговариваясь друг с другом, - всегда повторяли: «Чтобы свеча не погасла». Вот это он продолжал. Потому что, конечно, продолжать издание летописей, даже при поддержке Бориса Александровича Рыбакова, авторитет которого очень велик, трудно. Ведь авторитет авторитетом, но кто-то должен летописи готовить к печати, их могут не выкинуть из плана, посчитавшись с мнением академика Рыбакова, но если их не будут готовить два-три года, то скажут «все». Он умел заставить полюбить и хорошо делать эту сложную трудоемкую работу. И потому его вклад как человека, убежденно боровшегося за источниковую базу наших исторических знаний, очень велик.
И не только о России периода феодализма, на выставке это хорошо видно. Ведь Буганов занимался историографией, источниковедением ленинских трудов, причем трудов сложных, социально-экономической тематики, постепенно дорос до трудов по Новому времени (диплом, кстати, был по XVIII в., журналам Новикова). И это тоже очень привлекает, и не случайно он сначала стал членом-корреспондентом Российской академии образования, а потом и Академии наук. Он обладал тоже редким свойством уметь не только писать для исследователей как исследователь, но и писать для широкого круга читателей, не снижая научного уровня, что очень нужно именно для исторического образования, знакомя со школой своей работы. Это не всем дано.
В будущем году Виктору Ивановичу 70 лет исполнится, в это время, если мы доживем, будем, вероятно, его отмечать. Я не уверен, что обязательно должны быть ежегодные Бугановские чтения, но, конечно, к 70-летию чтения не могут не быть. Мне хо
телось бы пожелать, чтобы то, что здесь будут сегодня говорить, успеть издать к 70-летию, чтобы это был сборник памяти Виктора Ивановича Буганова, основой которого будут сегодняшние доклады. Чтобы не ограничиться только тем, что было на конференции, хотя, может быть, в части научной и ограничиться, потому что здесь очень продуманная программа (от периода летописного до сегодняшнего дня). Но чтобы еще обратиться к тем, кто по каким-то причинам не мог присутствовать или не мог даже быть в Москве, с просьбой написать о Викторе Ивановиче. Обратиться к П. Бушковичу и к некоторым другим иностранным коллегам, потому что его хорошо знали за рубежом, он много раз там бывал. Чтоб у нас был раздел воспоминаний. Может быть, найдут и письма, которые допустимо сейчас публиковать, если даже очень хвалебные, то сейчас уже это можно делать. Может быть, стоит даже опубликовать отзывы того же Михаила Николаевича, которые у него сохранились, отзывы его оппонентов, чтобы была и такая часть, посвященная, так сказать, «бугановиане». Желательно, чтобы были фотографии, потому что жалко лишить тех, кто его не знал, возможности познакомиться с внешним обликом Буганова. Это было бы, по-моему, данью нашей памяти человеку, которому присутствующие очень многим обязаны и который фактически в значительной степени определил, по крайней мере до конца этого столетия и тысячелетия, деятельность организованного при нем Центра, сумевшего собрать нас на эту конференцию.
Что касается хроники заседания, то было бы хорошо, чтобы не только Археографический ежегодник, который обязан и готов поместить эти материалы (желательно, чтобы кто-то и об этом написал, это будет как раз 98-й год, к 70-летию). Я, пользуясь присутствием здесь главного редактора журнала «Отечественные архивы», членом редколлегии которого до конца жизни оставался Виктор Иванович, предложу: может быть, хронику нашего заседания поместить там? Буганов, конечно, как человек умный, понимал, что тяжко болен, может быть, он отгонял эту мысль, не желая делиться с другими, и у него появилась потребность писать о других. Очень волновался, поместим ли мы статью о А.Г. Манькове, которую он написал для нашего Ежегодника. Написав уже обо мне раньше, он все время хотел написать статью о Шмидте. Я говорил ему, что неудобно, особенно в «Историческом архиве», в «Отечественных архивах», где член редколлегии... «Нет, нет, я должен это сделать». Потом стало невозможно возражать, и я подсказал в соавторы А.Н. Медушевского... Я думаю, что
если мы напишем о нем и вспомним, то это тоже будет в традиции последних лет его жизни, когда у него была личная потребность поделиться очень добрыми мыслями о людях, которым в какой-то мере чувствовал себя обязанным или которые ему что-то дали для его научной жизни. Вот этим я хотел бы закончить выступление и поблагодарить еще раз, уже от лица Археографической комиссии, тех, кто сумел организовать сегодняшнее заседание.
Евгений Степанович Сизов - из первых и самых близких мне учеников по Московскому государственному историко-архивному институту. Его чарующее обаяние, чистота души и ума пленяли и товарищей по научному студенческому кружку источниковедения отечественной истории МГИАИ (где его выбрали старостой), и людей моего домашнего круга. В статье «Историк и источнико-вед Евгений Степанович Сизов» его друг С.М. Каштанов (ныне член-корреспондент РАН, всемирно известный специалист по актовому источниковедению и истории допетровской Руси) писал: «Бесконечно грустно и обидно, что так рано ушел из жизни редкий по своим душевным качествам человек, доброжелательный по натуре, талантливый, блестяще ведший исследования в новом направлении источниковедения, любимый всеми окружающими - семьей, друзьями, коллегами, учителями и учениками»1. Когда в 2000 г. отмечалось 50-летие Кружка источниковедения, перепечатали образчики Жениного юмора и сочиненное о Сизове в 1950-е годы, и «старики» Кружка вспоминали о нем с особой сердечностью2. Женя Сизов - тепло моей памяти. Его фотография институтских времен (в неизменной и, вероятно, единственной тогда синей спортивной куртке) у письменного стола воспроизведена в последнем сборнике, изданном к моему юбилею. Перед глазами или как бы на слуху и некоторые эпизоды нашего общения (быть может, и потому, что именно Женя первым из учеников еще в студенческие годы стал своим в нашем доме). И даже будучи уже многоопытным историком и историографом, не могу отделить восприятие научного творчества Сизова (очень близкого моим научным интересам и по тематике, и по методике) от восприятия его личности.
Женя родился 13 марта 1930 г. В семье его все были музыкальны, но не обнаруживался интерес к гуманитарным знаниям, однако сама старейшая и красивейшая из московских больниц (Первая градская, бывшая Голицынская, где он жил в школьные годы) и ее местоположение внушали представления об устойчивости корневых традиций - и этических, и эстетических. В этом
Впервые опубл.: Археогр. ежегодник за 2000 г. М., 2001. С. 228-235.
уголке Москвы многое могло побудить пытливого и приметливого юношу задуматься над вопросами о взаимодействии общества и природы, о взаимосвязи исторических эпох и разных стилей в искусстве и градостроительстве, о путях выявления следов прежней жизни. Здесь, пожалуй, особенно заметно для Москвы тех лет, совмещались красота уцелевших памятников классической архитектуры и парка Нескучного сада близ Москвы-реки и ускоренное строительство новых зданий, патриархальный мещанский уклад жизни в домах с палисадниками и в бывших трактирах для извозчиков и помпезная основательность многоквартирного Дома академиков, новации созданного еще в 1920-е годы «комбината» массовой советской культуры - Центрального парка культуры и отдыха и начало прокладки большой транспортной магистрали международного стиля - Ленинского проспекта.
Исторические размышления изначально казались привлекательными; однако был большой интерес и к химии, и любитель гимнастики горнист пионерского отряда Женя Сизов задумал поступать в военное училище, но медкомиссия не пропустила его по здоровью. Избранный им в конце концов Историко-архивный институт, как скоро выяснилось, отвечал его призванию, тем более что тяга к гуманитарным знаниям отличала Женю уже в школьные годы (как вспоминал в разговоре со мной одноклассник Сизова, видный литературовед и публицист Вадим Валерианович Кожинов). В администрации института он встретил позднее и юную Розу, только начинавшую служебную карьеру, что предопределило его счастливую семейную жизнь.
Обратил я внимание на первокурсника Сизова уже весной 1949 г., в первую мою экзаменационную сессию в вузе (с которым связал с тех пор свою преподавательскую судьбу). Он попросил разрешения досрочно сдать экзамен по отечественной истории, так как торопился уехать работать вожатым в пионерлагерь. Таких «досрочников» было несколько человек, симпатичный и стеснительный юноша в белой рубашке с закатанными рукавами явно выделялся среди них самостоятельностью своего ответа и знанием дополнительной литературы. Видимо, и я ему приглянулся чем-то, так как с началом работы под моим руководством зимой 1949/50 учебного года научного студенческого Кружка источниковедения Женя стал участвовать в его заседаниях, правда, нерегулярно (на фотографии 13 апреля 1950 г., признаваемой датой отсчета при праздновании кружковых юбилеев, его, как, впрочем, и С.М. Каштанова, нет).
Вскоре он сблизился с младшекурсниками тех лет (Вандой Белецкой, Львом Дьяконицыным, Сергеем Каштановым, Галиной Тарле, Игорем Фесуненко, Владимиром Кабузаном, Алексеем Курносовым, Андреем Пшеничным и другими), составившими ядро Кружка, - так зарождались кружковая дружба и кружковый юмор. В цитированной уже статье сборника, подготовленного к 30-летию Кружка, С.М. Каштанов отмечал: «Исключительна роль Жени в истории Кружка. Он был душой многих наших начинаний тех времен, когда в Кружке еще не было “стариков”. Женя являлся вторым (после С.А. Левиной) старостой Кружка. Сколько вдохновения внес он в жизнь нашего коллектива еще не “зрелых” тогда ис-точниковедов! Вспоминаются его стихи, баллады, импровизации, которые он исполнял, аккомпанируя себе на гитаре. Как сочетались в них лиризм, юмор, теплота, такт! В сплочении кружковцев, сохранившемся затем на многие годы, Женя сыграл первенствующую роль...»3 Показателен ответ самого Е. Сизова на вопрос анкеты к 25-летию Кружка: «Годы работы в Кружке. Впечатления об этом?» - «С 1950 года. Впечатления бывают от чего-то привнесенного извне, а то, что совместно вынашивалось, рождалось, создавалось коллективно и было тем, без чего нельзя, - навсегда остается любимым детищем»4. Е.С. Сизов был объединяющим началом для «стариков»-кружковцев и по окончании МГИАИ. Не раз выступал и на Кружке с сообщениями о своих работах по истории Кремля, организовывал посещения музеев Кремля. Когда отмечали присуждение мне докторской степени в июне 1965 г. и в Дом архитектора пригласили около ста человек (из них треть кружковцев), именно Женя оформил «эмблемами» столы для гостей. На столе, предназначенном для молодежи, была расшифровка аббревиатуры НСО (Научное студенческое общество) - «Наш Сигурд Оттович»5. А когда наступило время танцев, как хороши они были с Розой и как великолепно и в то же время артистично он разрешал Розе, сразу же признанной первой красавицей среди собравшихся, танцевать с другими кавалерами, преимущественно уже старшего возраста...
Е.С. Сизов всегда был занят тем, что называют общественной работой; но, трудолюбивый и скромный, не тянулся к видным должностям, публичным выступлениям, красованию в президиумах собраний. Он стал казначеем студенческого профкома, первым помощником тоже любимого всеми председателя профкома В.И. Кострикина (Василий Иванович был позднее проректором МГИАИ, а затем ученым секретарем Института истории СССР
Академии наук). Он - и увлеченный участник драмкружка, которым руководила в ту пору Ксения Маринина (известная ныне многим и по телепередачам). В драмкружке была и Татьяна Петровна Коржихина (увы, покойная), ставшая затем профессором МГИАИ и автором важнейших учебных пособий и исследований по истории государственных учреждений советского периода. Роль Бальзаминова он сыграл самозабвенно, на уровне хорошего профессионального актера.
Одновременно он способен был с полной отдачей заниматься сбором материалов для дипломного сочинения. Тема работы была подсказана завкафедрой истории СССР профессором А.А. Новосельским в русле проблематики, интересовавшей его и Н.В. Устюгова, - «Заемные кабалы Керетской волости Соловецкой вотчины как источник по истории крестьян этой вотчины на рубеже XVII-XVIII вв.». Дипломное сочинение рекомендовали к печати, а статьи такой же тематики напечатали в Трудах МГИАИ6. Помнится, что перед заседанием кафедры Женя зашел за мной и, когда начали обедать, от волнения отказался что-либо есть. Няня моя, Франциска Александровна, относившаяся к нему с любовной симпатией, вдруг, повысив голос, решительно сказала: «Это что еще такое? Сейчас же есть, а то не будет сил защищаться!», - и Женя вынужден был давиться котлетой. Позже он, один или с Розой, регулярно демонстрировали у нас дома и на даче Франциске Александровне «этапы» роста их сына Андрея. Занятый больше с ней, чем со мной, мальчик, естественно, не запомнил моего имени. И памятен такой эпизод, когда Андрюша уже научился снимать телефонную трубку. Я как-то позвонил Сизовым, он, взяв трубку, произнес: «Кто спрашивает?» Услышав труднопроизносимое и непонятное ему сочетание слов «Сигурд Оттович», чистым громким голосом провозгласил: «Папа, тебя какой-то глупый дядя просит». Смущенный Женя подошел к телефону, и я сразу же услышал басовитый рев, показывающий, что мама начала воспитывать сына наиболее запоминающимся способом...
Дипломное сочинение показало, что у Е.С. Сизова есть и склонности, и незаурядные способности к самостоятельной научно-исследовательской работе. Но поступлению его сразу же в аспирантуру воспрепятствовали тогда в партбюро МГИАИ. И, как убеждался не раз, незаслуженные пакости и в этом случае дали возможность проявиться затем благотворным последствиям: уже в 1956 г. Е.С. Сизов начал работать в Государственных музеях Московского Кремля, ас 1975 г. стал уже главным храни
телем. Его разносторонняя, почти четвертьвековая деятельность заметно способствовала расширению и распространению знаний и о памятниках Кремля, и о научной работе Музеев Кремля.
Е.С. Сизов оказался как бы предназначен для работы такого вида. При его редкостном трудолюбии, организованности, аккуратности, памяти на детали он быстро овладел опытом технологии хранения памятников культуры и все в большей мере становился всесторонним их знатоком. Исследовательская жилка и навыки культуры архивиста обеспечивали высокий уровень описания им памятников, а подход к исследованию исторических источников методами комплексного источниковедения, вероятно, в определенной мере предопределялся и проблематикой Кружка источниковедения. Научно-исследовательская работа в московских музеях, причем многопрофильная, восходит еще к традициям «могикан» музейного дела середины XIX в., которые были одновременно и замечательными собирателями, хранителями, знатоками памятников истории и культуры, и разносторонними их исследователями. Но Е.С. Сизов, при его общественном темпераменте и доброжелательстве, был еще и прирожденным просветителем и пропагандистом научных знаний. Ему свойственна была скрупулезная добросовестность во всем: и во взаимоотношениях с людьми, и в научных исследованиях. Не позволял себе он и примитивизации, обращаясь к «широкой публике». К сказанному и написанному Е.С. Сизовым знавшие его относились с неизменным доверием. В своих научных трудах он стремился опереться на наивозможно прочную источниковую базу, тщательно выясняя все, что сделано его предшественниками, уделял особое внимание полноте научного аппарата. При этом он обладал и даром художественно-эмоционального восприятия прошлого. Источником познания этого прошлого для Е.С. Сизова в не меньшей мере, чем памятники письменности, становились и произведения изобразительного искусства, старинные предметы, природное наследие. И он умел такое ощущение передать и читателям, и слушателям лекций и объяснений экскурсовода.
Именно в Музеях Кремля определилась тематика и его научно-популярной (просветительско-описательной), и его научно-исследовательской деятельности7. Совместно с И.С. Не-нарокомовой Е.С. Сизов подготовил книгу «Художественные сокровища Государственных музеев Московского Кремля» (два издания - 1975 и 1978 гг.), богато иллюстрированную, с емкими и информационно насыщенными описаниями. Е.С. Сизов - ав
тор статей и аннотаций к разделам «Музей “Успенский собор”», «Музей “Церковь Ризположения”», «Музей “Благовещенский собор”», «Музей “Архангельский собор”» и аннотации к разделу «Музей искусства и быта XVII века». Основная тематика его публичных выступлений в Москве, в других городах России, за рубежом, в беседах с разновозрастной аудиторией, по телевидению, в печати - история Московского Кремля и его памятники, Кремль в истории и культуре России. Е.С. Сизова признавали авторитетным историком-краеведом Москвы8.
Е.С. Сизов был секретарем комиссии ученых, возглавляемой академиком М.Н. Тихомировым, исследовавших придел Архангельского собора с захоронением царя Ивана IV и его сыновей, писал об этом (иногда и под псевдонимом), выступал с докладами, консультировал М.М. Герасимова, восстанавливавшего по костным останкам внешний облик Ивана Грозного. История Архангельского собора в источниковедческом аспекте определилась и как тема диссертации, разделами которой становились статьи исследовательского типа для изданий Академии наук, Московского Кремля и др.9
Е.С. Сизов не имел склонности к общетеоретическим построениям при подходе к проблемам собственно историческим и источниковедческим, но изучаемое им рассматривал как часть целого; всегда имел в виду соотношение общего и особенного. И потому-то его конкретные, казалось бы, частного характера, наблюдения воспринимались как важные, даже определяющие, при изучении более масштабных и в то же время спорных вопросов. Такое значение имели соображения Е.С. Сизова о политическом содержании стенной росписи Архангельского собора (особенно в приделе, предназначенном для захоронения первого российского царя) и обоснование ее датировки 1564-1565 гг. Это существенно важно при изучении умонастроения Ивана IV в период начала его переписки с Курбским и в канун организации опричнины10. Роспись придела аллегорически напоминает биографию Ивана Грозного с упором на «обиды» от бояр, что помогает понять как манеру использования царем-писателем текстов Священного Писания и Отцов Церкви в тенденциозно-политических целях, так и его представление о соотношении письменного текста и иллюстраций к нему и о восприятии этого «зрительного ряда» (что необходимо учитывать при исследовании редакционной правки на листах Лицевого свода о времени правления Ивана IV). Не говоря уже о том, что это обогащает наши знания об образованности и на
читанности царя Ивана, о рукописях его библиотеки (или лиц его окружения - митрополитов Макария и Афанасия, Сильвестра, А. Адашева, Висковатого и др.).
Установление того, что о захоронении в Архангельском соборе Василия, сына князя Владимира Андреевича Старицкого, не могло быть написано прежде 1574 г. - важнейшее датирующее свидетельство: рукопись этой части Лицевого свода не могла быть окончательно оформлена ранее этого года. Е.С. Сизов произвел и палеографический анализ интересовавших его листов Шумилов-ского тома Лицевого свода и датирует эти листы - и по филиграням, и по содержанию - временем от 1574 до 1581 г., когда в соборе был погребен царевич Иван Иванович (о нем в летописном сказании «О положении мощей великих князей и удельных в Архангеле» нет упоминания).
Это подтверждает датировку Лицевого свода, обоснованную еще более ста лет назад по филиграням Н.П. Лихачевым и характеризуемую как образец палеографического исследования в учебных пособиях академиков М.Н. Тихомирова (по источниковедению) и Л.В. Черепнина (по палеографии). Распространившиеся с середины XX в. суждения о составлении дошедших до нас рукописей Лицевого свода, посвященных времени правления Ивана IV, уже в 1560-е годы (о которых упоминает в своей статье и Е.С. Сизов) основаны не на соображениях палеографического порядка, а на тенденциозной направленности редакционной правки, характерной для сочинений царя якобы лишь в 1560-х годах. Тщательное полистное изучение всех рукописей Лицевого летописного свода А. А. Амосовым11 убедительно показало, что завершающий этап работы над Лицевым сводом был не ранее конца 1570-х годов, и ошибочным является утверждение Б.М. Клосса, полагавшего (без учета наблюдений Е.С. Сизова над почерком писца и стилем миниатюриста Шумиловского тома, терминологии той поры, практики переписки и издания книг), что работу над Сводом завершили к 1576 г. (хотя, к сожалению, мнение Б.М. Клосса как единственно достоверное навязано редактором такому солидному изданию, как «Словарь книжников и книжности Древней Руси»)12.
После обобщающего характера статьи 1964 г. «Датировка росписи Архангельского собора Московского Кремля и историческая основа некоторых ее сюжетов» и особенно книги «“Воображены подобия князей” (Стенопись Архангельского собора Московского Кремля)» (М., 1969) в серии «Публикация одно
го памятника» Е.С. Сизов задумал подготовить монографическое исследование об Архангельском соборе. В дарственной надписи подаренного мне сборника «Древнерусское искусство. XVII век» (М., 1964), где напечатали его статью, есть и такие слова: «...Мое маленькое участие в сборнике зарождает во мне большую надежду на будущее...»
Изначально мыслилось: подход к этой теме должен быть в тесной взаимосвязи проблематики исследований и методики собственно исторического, искусствоведческого и историографического и даже литературоведческого планов, причем автор не ограничивался XVI и XVII столетиями. Ему хотелось показать, как «в лицах раскрывается история России» и в живописных образах воплощаются идеи и о преемственности в историческом развитии государственности (Киевская Русь - Владимиро-Суздальская Русь - Московская Русь, позднее - Московское государство времени Ивана Грозного и Российское государство при Алексее Михайловиче), и о значении «утверждения централизованной власти». Формирование идеологии живописного замысла исследовалось во взаимосвязи с другими историко-культурными начинаниями середины XVI в. в сфере государственной и церковной деятельности, с созданием памятников письменности (и нарративных, и делопроизводственных), изобразительного искусства, градостроительства, возрождением Кремля после страшного пожара 1547 г. Ученый стремился освоить обильную и многообразную литературу столь широкой тематики, устанавливая элементы преемственности в современных ему трудах от сочинений современников Карамзина, Буслаева и Забелина и то, что сближало в советские годы специалистов разного профиля (историков, филологов, искусствоведов) в изучении истории и культуры допетровской Руси, особенно XVI в.
Однако широкие историко-культурологические обобщения выдающихся старших его современников интересны были ему не только своими выводами и наблюдениями (общего, особенно компаративистского, и частного характера) и исследовательской методикой, но и приемами литературно-художественного воплощения этих взглядов. Ибо постепенно Е.С. Сизов утвердился в мысли: попытаться написать книгу, исследовательскую в своей основе (где все подтверждается ссылками на архивные материалы, литературу или визуальные наблюдения), популярную по форме, обязательную для ученого-специалиста и привлекательную для широкой публики.
По существу, Е.С. Сизов следовал демократическим традициям наших гуманитарных наук, восходящим еще к «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина. Но во второй половине XX в. верными этой традиции остались немногие. К тому же надо было обладать и литературным мастерством, и знанием психологии интеллигентного читателя века науки о науке, когда интересно знать не только об историческом явлении, но и о том, как это узнано и насколько достоверны приводимые соображения. Е.С. Сизов специально изучал стилистику ученых-гуманитариев, умевших и склонных обращаться в своих сочинениях не только к специалистам (таких, как историки России феодального периода М.Н. Тихомиров и Б.А. Рыбаков в советские годы, С.Ф. Платонов, А.Е. Пресняков, некоторые из учеников В.О. Ключевского в первой четверти XX в.). Особенно важным казалось обучение на трудах Н.Н. Воронина и Д.С. Лихачева, обладавших даром вдохновенно писать о памятниках истории и культуры (словесных и изобразительных).
В творчестве Сизова совмещались образность и точность мышления, изящество и богатство литературного языка, четкость научных формулировок и доступная всем однозначность определений. Он как бы ощущал возможность восприятия написанного им и строгим на критику, оснащенным специальными знаниями исследователем, и популяризатором-просветителем, ожидающим методической помощи, и теми, кто склонен к самостоятельному обобщению, знакомясь со следами прошлого.
Е.С. Сизов увлеченно, самозабвенно (хотя и со свойственной ему неторопливостью и основательностью в проверке всех фактологических данных) готовил книгу об Архангельском соборе, продумывая архитектонику ее, подбирая запоминающиеся эпиграфы, но не успел завершить к тому времени, когда к нему пришла безжалостная и мучительная болезнь (опухоль мозга). Сейчас этот труд публикуется посмертно в издании «Архангельский собор Московского Кремля», и уже не отдельной книгой, а с добавлениями работ тех, кто совместно с Е.С. Сизовым и вслед за ним изучали историю Архангельского собора. Сочинение Е.С. Сизова окончательно подготовлено к изданию благодаря самоотверженности Наталии Андреевны Маясовой, замечательного знатока не только древнерусского шитья и памятников материальной культуры Древней Руси, но и художественных сокровищ Московского Кремля, многолетнего научного сотрудника его музеев, в годы работы Сизова - заместителя директора музеев по науке.
Впервые издающийся труд Е.С. Сизова «Храм Архангела Михаила на Соборной площади в Кремле», можно полагать, будет оценен как высокий образец исторического сочинения, одновременно и исследовательского, и научно-популярного. К этой книге, обобщившей и знания литературы об истории и культуре Руси XVI-XVII вв., и данные об основных научных открытиях самого автора, будут обращаться не только все, кто интересуется прошлым Московского Кремля и его памятниками истории и культуры, но и те, кто захочет узнать о развитии исторической мысли и общественного сознания россиян 1970-х годов. В то время именно труды Е.С. Сизова побудили во многом к дальнейшему всестороннему изучению темы «Архангельский собор».
Уже будучи больным, Евгений Степанович задумал воплотить в научную статью и свои соображения о «возрасте» Оружейной палаты Московского Кремля, советовался со мною; я поддержал его намерения - и потому, что эти соображения были оригинальны и основательны, и чтобы отвлечь его от мыслей об ухудшающемся самочувствии. В 1972 г. отмечали 425-летие Оружейной палаты конференцией в музеях Кремля, насыщенной интересными научными докладами. Среди выступавших были Е.С. Сизов и я. Мы все исходили из представления о том, что Оружейная палата впервые упомянута в летописном описании пожара 1547 г„ т. е. руководствовались тем же принципом, что и при установлении даты для юбилея Москвы (впервые упомянутой ровно за 400 лет до того), хотя, конечно, понимали, что как угостить обедом можно только в построенном уже граде, пожар охватывает лишь уже существующее здание.
И только Е.С. Сизов в дальнейшей работе, при его особой способности к медленному пристальному чтению летописного текста, заметил то, на что ранее не обращали внимания. В летопис-чике, опубликованном М.Н. Тихомировым в 1940 г., текст которого затем был переиздан в томе избранных трудов ученого «Русское летописание», Оружейная палата упоминается под 1537 г. как «набережная оружейная палата». И так как в летописях нет упоминания о возведении каменных дворцовых помещений в 1510-1530 гг., то очевидно, что палата эта была частью нового дворцового ансамбля, строительство которого завершили в 1508 г.
Евгению Степановичу оказалось уже не по силам готовить статью для печати. В переданных мне его супругой заготовках статьи были несвойственные ему обрывы и повторы. И я решил, опираясь на эти материалы и, конечно, на текст напечатан
ного М.Н. Тихомировым летописчика, подготовить заметку для рубрики «Неизвестное об известном» газеты «Известия». 6 мая 1978 г. на последней странице газеты появилась небольшая статья «Сколько лет Оружейной палате?», где рассказывалось о том, как Е.С. Сизов установил дату первого упоминания Оружейной палаты и построения ее первого здания. В это время Евгений Степанович вышел из больницы после операции, оставившей большой шрам на голове, и находился дома. Он мог тогда еще ходить. Обрадовавшись, купил много экземпляров газеты и попросил зайти к нему. Оставшись один дома и двигаясь уже замедленно, пытался проявить и присущее ему кулинарное мастерство и, хотя грустное выражение не покидало его лицо, казался обретшим какую-то надежду. Это было наше последнее свидание в домашней обстановке.
Через недолгое время он опять оказался в Кунцевской больнице, и когда я посещал его, то убеждался, как он все менее становился похож на себя. Держался Евгений Степанович мужественно и благородно - он никогда не навязывал себя людям, не навязывал он другим и свою болезнь. Улыбка была той же чарующей, даже когда голова была обвязана бинтами, но бесконечно грустной и всепонимающей и всепрощающей. Несмотря на то что Роза Васильевна и врачи предпринимали все возможное и невозможное, в ночь на 1 мая 1979 г. Евгения Степановича не стало. Редко какие похороны и поминки были выражением столь искреннего и всеобщего горя. Ощущалась всеми большая невосполнимая человеческая утрата. Этого светлого человека и сейчас нам так недостает.
1 Источниковедение и историография. Специальные исторические дисциплины: Сб. статей. М., 1980. С. 189.
2 Кружку источниковедения - пятьдесят лет. М., 2000. С. 45, 50, 62, 92-95, 96, 101, 104; Каштанов С.М. Пятьдесят лет в строю // Источниковедение и краеведение в культуре России: Сборник к 50-летию служения Сигурда Оттовича Шмидта Историко-архивному институту. М„ 2000. С. 493.
3 Источниковедение и историография: Специальные исторические дисциплины. С. 189.
4 Кружку источниковедения - пятьдесят лет. С. 50, 62. См. также: Шмидт С.О. Путь историка: Избранные труды по источниковедению и историографии. М., 1997. С. 421 (статья 1980 г. «Наш кружок»).
5 Мир источниковедения: Сборник в честь Сигурда Оттовича Шмидта. М.; Пенза, 1994. С. 365.
6 Сизов Е.С. Заемные кабалы Керетской волости Соловецкой вотчины как источник по истории крестьян на рубеже XVII-XVIII вв. // ТМГИАИ. М., 1957. Т. 10. С. 391-394; Он же. Организация труда на северных слюдяных копях на рубеже XVII и XVIII вв. (По материалам Керетской волости Соловецкого монастыря) // Там же. М., 1961. Т. 16. С. 389-395.
7 Памяти Е.С. Сизова (1930-1979) // Государственные музеи Московского Кремля: Материалы и исследования. М., 1984. Вып. IV: Произведения русского и зарубежного искусства XV - нач. XVIII в. С. 247-248.
8 Иванова Л.В. Сизов Евгений Степанович // Историки и краеведы Москвы: Некрополь. М., 1996. С. 139.
9 Сизов Е.С. Новые материалы по Архангельскому собору Московского Кремля. Когда был построен Архангельский собор? // Архитектурное наследство. М., 1963. Вып. 15. С. 176-177; Он же. Датировка росписи Архангельского собора Московского Кремля и историческая основа некоторых ее сюжетов // Древнерусское искусство: XVII век. М., 1964. С. 160-174; Он же. Русские исторические деятели в росписях Архангельского собора и памятники письменности XVI в. // ТОДРЛ. М.; Л., 1966. Т. XXII. С. 265-276; Он же. О происхождении Покровского придела Архангельского собора в Москве // Сов. археология. 1969. № 1. С. 243-250; Он же. Граффити в усыпальнице Архангельского собора // АЕ за 1968 г. М., 1970. С. 119-126; Он же. К реконструкции интерьера Архангельского собора XVI века // Московский Кремль - древнейшая сокровищница памятников истории и искусства: Тез. науч, конф., посвящ. 425-ле-тию Оружейной палаты (22-24 ноября 1972 г.). М., 1972. С. 35-38; Он же. Еще раз о трех «неизвестных» гробницах Архангельского собора // Материалы и исследования / Государственные музеи Московского Кремля. М., 1973. Вып. 1. С. 86-4; Он же. К вопросу о датировке Шуми-ловского тома Лицевого летописного свода XVI в. // Проблемы палеографии и кодикологии в СССР. М., 1974. С. 126-140; Он же. К атрибуции княжеского цикла в росписях Архангельского собора // Материалы и исследования / Государственные музеи Московского Кремля. М., 1976. Вып. 2. С. 62-97. Прил. 1. Расположение надгробных «портретов» князей в росписях Архангельского собора XVII в. С. 85; 2. Сводная таблица гробниц и надгробных изображений в росписях Архангельского собора XVII в. С. 87-97; См. также по именному указателю в кн.: Московский Кремль: Указатель литературы (1723-1987). М., 1998. Ч. II. Московский Кремль - уникальное собрание памятников истории и культуры;
См. список работ Е.С. Сизова в кн.: Архангельский собор Московского Кремля. М„ 2002.
10 См.: Шмидт С.О. Становление российского самодержавства. М., 1973. С. 240; Он же. У истоков российского абсолютизма. М., 1996. С. 263; Он же. Россия Ивана Грозного (Сб. статей). М., 1999. С. 153 (лекция в Париже 1965 г. «Издание и изучение советскими учеными источников по истории России XVI века (в послевоенные годы)»); С. 199 (статья 1969 г. «Таинственный XVI век»); С. 366 (статья 1976 г. «Об адресатах первого послания Ивана Грозного князю Курбскому»); С. 417 (статья 1978 г. «Исследование Н.Н. Зарубина “Библиотека Ивана Грозного и его книги’’»). Он же. Российское государство в середине XVI столетия: Царский архив и лицевые летописи времени Ивана Грозного. М., 1984. С. 133.
" Амосов А.А. Лицевой летописный свод Ивана Грозного. Комплексное кодикологическое исследование. М., 1998.
12 Словарь книжников и книжности Древней Руси: Вторая половина XIV-XVI в. Л., 1989.4. 2. Л-Я. Статьи Б.М. Клосса «Летописный свод Лицевой» и «Царственная книга».
Валентину Лаврентьевичу Янину, крупнейшему отечественному историку, многостороннему исследователю, профессору, создателю научной школы, выдающемуся организатору науки и блистательному ее пропагандисту, неутомимому защитнику памятников истории и культуры, всемирно известному ученому и общественному деятелю, 6 февраля 1999 г. исполнилось 70 лет.
Свершенное академиком В.Л. Яниным получило наивысшее для ученого-гуманитария его поколения признание: В.Л. Янин - лауреат Ленинской и Государственых премий, премии Ломоносова первой степени, Демидовской премии за достижения в области гуманитарных наук. Он первым удостоен высшей награды Академии наук за труды по истории - золотой медали С.М. Соловьева. Янин - почетный гражданин Великого Новгорода, член президиума Российской академии наук (по избранию), председатель Совета Российского гуманитарного научного фонда, заслуженный профессор родного ему Московского университета, где преподает с 1954 г. и с 1978 г. возглавляет кафедру археологии исторического факультета. Он - главный редактор энциклопедии «Отечественная история: история России с древнейших времен до 1917 г.», председатель серийного издания «Университетская библиотека», член многих государственных и общественных советов, экспертных комиссий и редакционных коллегий. Отрадно, что В.Л. Янин является членом бюро и нашей Археографической комиссии, членом редколлегии ежегодника «Вспомогательные исторические дисциплины» и «Сводного каталога славянорусских рукописных книг» .
В 1997 г., к 45-летию научного творчества В.Л. Янина и 50-летию изучения археологии Новгорода возглавляемой им не одно десятилетие Новгородской археологической экспедицией, издали биобиблиографический указатель «Валентин Лаврентьевич Янин», включающий огромное число авторских номинаций и перечень диссертаций, написанных под руководством ученого. Сейчас с особой приятностью и удивлением можно убедиться в том, что сведения этого научно-справочного издания, тщательно составленного П.Г. Гайдуковым, кажутся уже устаревшими,
Впервые опубл.: Археогр. ежегодник за 1999 г. М., 2000. С. 171-172.
так как в последующее время вышло в свет еще немало трудов Янина.
Среди них четыре книги: «Актовые печати Древней Руси. X-XV вв.» (третий том в соавторстве с П.Г. Гайдуковым), «Новгород и Литва. Пограничные ситуации XIII-XV вв.», «Планы Новгорода Великого XVII-XVIII вв.», новое, существенно расширенное издание очень популярной среди читателей и разного возраста и разной степени подготовки книги «Я послал тебе бересту». В этой увлекательной по форме изложения книге читателя вводят в самую лабораторию исследовательского труда, источниковедческих изысканий ученого-эрудита. В печати очередной том комментированного издания новгородских берестяных грамот.
Исследования В.Л. Янина (как и приемы его преподавания) изначально на стыке наук. Во второй половине XX в. крупнейшие научные достижения - обычно именно на стыке наук. В научном творчестве Янина - на стыке не только традиционной (по проблематике и методике) истории с археологией, но и с географией, филологией, специальными историческими дисциплинами. Блестящий археолог-практик, академик Янин таким путем существенно обогащает и методику археологических раскопок, и описания археологических предметов.
В.Л. Янин обосновывал представления о предмете «комплексное источниковедение» (книга его 1977 г., в основе которой лекционный курс, следовательно, имеющая и учебное значение, имела заголовок «Очерки комплексного источниковедения: Средневековый Новгород») и продемонстрировал возможности такого подхода при разностороннем и по темам, и по особенностям разных классов источников изучении прошлого Новгородской земли и вообще российского Средневековья.
В то же время это - и методологические рекомендации исследователям иной проблематики, очень важные и для краеведения. Такое источниковедческое новаторство характерно и для руководимых Яниным коллективных работ по истории и городской (он - ответственный редактор изданий о русском городе и о городах Подмосковья), и аграрной (несколько лет В.Л. Янин был председателем Межреспубликанского симпозиума по аграрной истории Восточной Европы), и по истории культуры. В.Л. Янин -автор особо ценных и в методическом плане специальных солидных исследований о денежной системе Древней Руси, о летописях, по сфрагистике, о берестяных грамотах, средневековых актах, планах и картах, о топографии некрополя Софийского собора,
даже об исторических памятниках недавнего времени - граммофонных пластинках и их описании (и здесь он один из первопроходцев!), об историографических источниках (он ответственный редактор собрания сочинений Ключевского, публикатор трудов Н.П. Лихачева, автор статей об историках XX в.), не говоря о том, что описание и публикация берестяных грамот (а открытие их Новгородской экспедицией едва ли не наиважнейшее для изучения Средневековья событие в истории археологии в нашем столетии!) - на стыке и археологии и археографии. С докладом «О взаимосвязи археографии и археологии» В.Л. Янин выступил на Первой всесоюзной конференции по полевой археографии в 1976 г.
Мы горды тем, что В.Л. Янин принимает доброе и постоянное творческое участие в работе Археографической комиссии: выступает с докладами на ее заседаниях и организуемых ею конференциях, публикует статьи в ее изданиях, помогает в осуществлении ее начинаний. В.Л. Янин писал и об организаторе Археографической комиссии и основателе Археографического ежегодника академике Михаиле Николаевиче Тихомирове.
Многосторонняя исследовательская, культурно-просветительская, общественная деятельность В.Л. Янина существенно способствует закреплению в сознании представлений о значении специальных исторических дисциплин и памятниковедения в развитии культуры, распространению подлинно исторических знаний, воспитанию историей, а «история - наука нравственная» (это заглавие статьи академика 1988 г. в журнале, рассчитанном на массового читателя). Поэтому имя Янина известно не только ученым нашей страны и зарубежья, но и так называемой широкой публике. Имя его - один из символов славы современной российской науки.
Пожелаем же Валентину Лаврентьевичу здоровья и новых больших творческих свершений.
Александр Лазаревич Станиславский - выпускник Московского государственного историко-архивного института 1962 г. по кафедре вспомогательных исторических дисциплин - стал с октября 1980 г. преподавателем этой кафедры, с декабря 1986 г. по день кончины 27 января 1990 г. был заведующим своей родной кафедрой.
В годы, когда А.Л. Станиславский возглавлял кафедру, с приходом в МГИАИ ректором Ю.Н. Афанасьева существенно изменилась и общественно-идеологическая атмосфера в вузе и заметно возросло его значение в общественной жизни Москвы и всей страны. Ощущались все более очевидно и научный потенциал МГИАИ, и плодотворность его взаимосвязей с академической наукой. Все это позволило именно МГИАИ стать основой для создания первого в России гуманитарного университета - РГГУ.
Интенсивная работа кафедры и сама направленность ее деятельности способствовали реализации тех общевузовского масштаба начинаний, которые намечал ректор, - ведь в эти годы в стенах МГИАИ выступали не только видные общественные деятели, с именами которых связывают начавшуюся тогда «перестройку», но и крупные ученые (причем и советские, и из зарубежья). Расширены были и возможности привлечения к преподаванию (по совместительству) таких ученых.
А.Л. Станиславский смог приступить к преподавательской работе, достигнув уже сорокалетия, но она оказалась таким же его призванием, как и научно-исследовательская. Это определялось и его натурой, и воспринятым к тому времени опытом. А.Л. Станиславский был не только разносторонне образованным человеком с тягой и к художественной литературе, и к таким умственным упражнениям, как шахматная игра, но ему присуща была и подлинная интеллигентность, т. е. представление о неотделимости образованности от нравственного начала, убеждение в допустимости разномыслия и неизменно требовательный профессионализм в выполнении своей работы. Не менее существенно то, что ему присущи были и самоуважение, и уважительное, доброже-
Впервые опубл.: Историк во времени: Третьи Зиминские чтения: Доклады и сообщения науч. конф. М„ 2000. С. 120-125.
дательное отношение к людям, а также особо притягательная в педагоге черта - способность не навязывать свое мнение, а убеждать образом своего мышления, своим поведением. В его представлении образование - это всегда и воспитание, воспитание и других, и самовоспитание. Он почитал первой обязанностью учителя в высшей школе способствовать профессиональной самостоятельности студента, поощрять развитие его творческих навыков.
А.Л. Станиславский приступил к преподавательской работе, а затем и к организации ее в руководимом им кафедральном коллективе, имея уже большой опыт научно-исследовательской деятельности в ее традиционных формах написания научных трудов и подготовки к этому путем выявления первоисточников и литературы в архивохранилищах и библиотеках, а также архивной и музейной деятельности, причем не только хранительской и научно-описательской, но и просветительско-пропагандистской. Это давало ему возможность определить приемы извлечения исторической информации из исторических источников разных типов (не только словесных - прежде всего письменных, но и изобразительных, вещественных), сопоставительного изучения ее и проверки этой методики и результатов наблюдений в разнокалиберной аудитории (в среде и ученых специалистов, и широкой публики, в частности у экскурсантов музея-панорамы «Бородинская битва», где он служил в 1962-1964 гг.). А опыт практической работы в архивах (сначала в одном из институтов Академии медицинских наук, а затем, в 1967-1980 гг., в Архиве Академии наук) позволил ему уяснить линии соприкосновения и взаимоиспользо-вания архивных и археографических знаний и специальных исторических дисциплин (и в комплексе, реализуемом обычно в сфере источниковедения, и каждой в отдельности), убедиться наяву во взаимопроникновении археографии и источниковедения, приобщиться к тематике источниковедения историографии.
Очень существенно то, что в Архиве Академии наук А.Л. Станиславский приобрел опыт описания личных фондов ученых и подготовки к печати их незавершенных трудов, опыт ознакомления с творческой лабораторией ученого. Это способствовало обогащению и совершенствованию его личной научной методики, а позднее и методики работы его учеников. Думается, что это убеждало его и в том, что архивные материалы являются не менее важными историографическими источниками, чем печатные, особенно при изучении жизни и творчества историка, деятельности сообщества ученых (или педагогов).
Показательно, что, когдаА.Л. Станиславский счел необходимым обратиться к изучению истории своей кафедры, он опирался прежде всего на архивные материалы. Эта работа (выполненная совместно с Л.Н. Простоволосовой) имела не только собственно историографическое значение, хотя может быть признана образцом исследования по истории одной кафедры, определявшего и взаимосвязь ее деятельности с общественно-политической жизнью, и значение этой деятельности для развития науки и педагогической мысли в соответствующей отрасли знания и формирования молодой поросли специалистов. Доклад о судьбах кафедры на Ученом совете МГИАИ 13 сентября 1989 г. произвел огромное впечатление, но это был последний доклад его...
Обращение к архивным и иным источникам по истории МГИАИ было внутренне необходимо и самому А.Л. Станиславскому для формирования понятия о стиле работы учителя в высшей школе. С какой цепкой внимательностью он присматривался к обнаруживаемому в архивах материалу о педагогических наблюдениях его предшественников, можно судить и по последней по времени написания его статье, напечатанной в сборнике статей «Мир источниковедения». Полагаю, что такому памятливому мыслителю, как А.Л. Станиславский, помогало и воспринятое в молодые годы в научном студенческом кружке источниковедения, где приобрел он друзей на всю жизнь (кстати, за пятьдесят лет деятельности кружка лишь одно заседание прошло без моего личного участия и руководства, и заменял меня тогда по моей просьбе именно А.Л. Станиславский).
А.Л. Станиславский сумел определить лучшее и наиболее перспективное в традициях кафедры на протяжении всех лет ее существования и явно особо выделял традиции, восходящие к А.И. Андрееву, долгое время замалчивавшиеся или тенденциозно негативно оценивавшиеся, и постарался даже в какой-то мере восстановить саму атмосферу кафедральной и повседневной жизни тех лет, хорошо памятную мне, начинавшему именно на этой кафедре в феврале 1949 г. свое служение Историкоархивному институту. То была пора и новаторских по замыслу и постановке вопросов публичных заседаний, и обсуждений научных докладов членов кафедры и аспирантов, и планирования и реализации изданий сборников трудов, и творческого участия молодежи в жизни кафедры, и кафедральных посиделок преподавателей, и бесед с Александром Игнатьевичем, проживавшим тогда в здании ИАИ.
И А.Н. Сперанский и особенно А.И. Андреев стремились приобщить к преподавательской работе на кафедре ученых широкого спектра научных интересов и наиболее видных специалистов в области отдельных исторических дисциплин и сделать так, чтобы разнородные (и по масштабу, и по специфике) знания совмещались в программе подготовки научной молодежи. Заботились они целенаправленно и о воспроизводстве преподавательских кадров на кафедре, и, конечно, об укреплении престижа кафедры, причем не только в рамках своего вуза. А.И, Андреев был инициатором создания учебных пособий по вспомогательным историческим дисциплинам и в то же время научных конференций историографо-методологической направленности, обращаясь к классическому научному наследию - от П.М. Строева до А.С. Лаппо-Данилевского. Преемственность представлялась ему основой прогресса и в исторических науках, так же как и своевременное освоение международного опыта.
Много и умело заботился о престиже кафедры позднее и профессор Е.А. Луцкий, заведовавший кафедрой в 1960-1976 гг., способствовавший повышению уровня преподавания источниковедения и смежных с ним дисциплин при ознакомлении с историей Нового и особенно новейшего времени, усвоению основ исторической библиографии, обеспечивший О.М. Медушевской возможность углубленных занятий в области теории и методики отечественного и зарубежного источниковедения. Но Е.А. Луцкий не был специалистом по феодальному периоду истории, при изучении которого выработаны наиболее совершенные приемы методики в области издавна развивавшихся вспомогательных дисциплин - дипломатики, палеографии, метрологии, хронологии, генеалогии и других, и, главное, вынужден был в годы, когда ИАН руководили С.Н. Мурашов и М.С. Селезнев и он стал цитаделью однолинейных идеологических просталинских воззрений возглавляемого С.П. Трапезниковым Отдела науки ЦК КПСС, занять оборонительную позицию, что и позволило сохранить кафедру (и состав ее, и достоинство) в это тягостное для института время.
А.Л. Станиславскому никогда ранее не приходилось руководить как администратору каким-либо коллективом. Но организованность и четкость в работе, целеустремленное неутомимое трудолюбие, долг ответственности и заботы о времени, и своем и других, чувство собственного достоинства в сношениях с вышестоящими и в то же время отсутствие тщеславной самолюбивой
мелочности и, конечно же, естественная интеллигентность, тонкий юмор и такт способствовали укреплению на кафедре атмосферы и деловитости, и уюта. Особо уважительное и дружественное отношение к А.Л. Станиславскому в кругах и академических и в среде историков-архивистов облегчило утверждение кафедры, к руководству которой он приступил, в системе общемосковских, общероссийских и даже международных научных начинаний.
А.Л. Станиславскому обязаны приглашением на постоянную преподавательскую работу (по совместительству) С.М. Каштанова, уже тогда приобретшего мировую известность как специалист и в области традиционных вспомогательных исторических дисциплин. И теперь именно на кафедре формируется научная школа Каштанова. Это показательно и для нравственного облика заведующего кафедрой. На кафедре тогда работал Шмидт, продолжавший руководить (правда, в меньшем объеме, чем прежде) работой студентов и аспирантов и по тематике истории России XVI-XVII вв., и источниковедения этого периода истории. Теперь еще появляется Каштанов, занятый проблематикой, еще более близкой личным научным интересам Станиславского, это не может не привести к уменьшению возможностей отбора для себя научной молодежи, особо интересующейся такой проблематикой. Более того, когда в МГИАИ перешел на основную работу В. Б. Кобрин, тоже видный специалист в том же русле научной деятельности, проявивший себя как великолепный лектор, читавший курс отечественной истории периода феодализма, он оказался профессором не кафедры отечественной истории, а на кафедре Станиславского. И тот обеспечил Кобрину оптимальные условия для работы и ввел в домашность кафедральной повседневной атмосферы.
Строй души А.Л. Станиславского проявился и в организации Первых чтений памяти А.А. Зимина в 1990 г. А.Л. Станиславский был дипломником А.А. Зимина и многое, конечно, воспринял от своего эрудированного и даровитого учителя. Но отношения у них сложились непростые, так как мнение А.А. Зимина о позднем создании «Слова о полку Игореве» казалось ему недостаточно основательным; и научным руководителем кандидатской диссертации его стал В.И. Буганов, бывший ранее дипломником С.О. Шмидта и аспирантом М.Н. Тихомирова. А.Л. Станиславский не позволял себе переносить личные симпатии или антипатии на оценки научного творчества и считал вполне допустимым несогласие близких к нему лиц с его научными взглядами.
Интересы кафедры, престиж ее, и научный, и моральный, были для него выше субъективного, личного. Он, если можно так выразиться, был душевно объективен, а это свойство только высокой души, человека доброго сердца и больших внутренних обязательств в отношении науки.
Именно при Станиславском руководимая им кафедра стала действенным организатором, а затем и инициатором научных конференций широкого профиля: в 1987 г. конференции, посвященной 300-летию Славяно-греко-латинской академии, в начале 1988 г. первой в нашей стране межвузовской конференции по генеалогии «Генеалогия. Источники. Проблемы. Методы исследования». С первых Зиминских чтений 1990 г. закрепилась традиция организации кафедрой (иногда совместно с подразделениями Академии наук) ежегодных межвузовских научных конференций (всероссийских или даже международных) по многообразной актуальной проблематике источниковедения и смежных с ним вспомогательных (специальных) исторических дисциплин и методологии истории. С именем А.Л. Станиславского связывается и традиция посвящать такие конференции памяти профессоров кафедры. Памяти самого Александра Лазаревича были посвящены чтения в феврале 1991 г. - научная конференция «Реализм исторического мышления. Проблемы отечественной истории периода феодализма». Широкая проблематика и наименование конференции отражали многообразие творческих историко-философских интересов ученого.
Посмертное издание монографии А.Л. Станиславского «Гражданская война в России XVII в.: Казачество на переломе истории» и других трудов историка (в том числе учебного пособия по истории кафедры), в подготовке которых к печати много сил отдала жена и верный друг его Светлана Петровна Мордови-на (тоже выпускница МГИАИ, кандидат исторических наук), статей о жизни и творчестве его, отдельной книгой в серии «Ученые РГГУ» биобиблиографического указателя «Александр Лазаревич Станиславский» надолго ввели имя этого выдающегося исследователя и педагога в историю науки.
Деятельность А.Л. Станиславского - руководителя кафедры - высокий образец изучения, освоения и развития лучших традиций кафедры. Ныне уже сама его деятельность - в основе традиций кафедры. Будем же достойны этого.
Предисловие к книге А.Д. Зайцева «П.И. Бартенев и журнал “Русский архив”»
Андрей Дмитриевич Зайцев, скончавшийся в ночь на 8 марта 1997 г. на сорок седьмом году жизни, обладал редкой человеческой притягательностью. Он был умен, изящно остроумен, обаятелен и доброжелателен. Его отличали одаренность исследователя и литератора, необычайное трудолюбие, организованность и высокое чувство ответственности. Андрея Дмитриевича любили, и ему доверяли. Внезапная его кончина ощущалась как большая потеря и для науки, и для близко знавших его.
А.Д. Зайцев был зачинателем всестороннего изучения многообразной деятельности историка и археографа П.И. Бартенева, основателя и бессменного редактора ежемесячного исторического журнала «Русский архив», автора трудов о России времен Романовых, публикатора исторических источников и их описаний, организатора написания мемуаров о значительных событиях государственно-политического характера, о знаменитых людях, о повседневности, один из основоположников пушкиноведения.
А.Д. Зайцев в своем исследовании опирался не только на изданное Бартеневым, но прежде всего на архивные материалы (это и огромный архив самого Бартенева, и личные архивы, архивы учреждений и общественных объединений). Тем самым впервые определялось большое значение архивной документации при исследовании истории памятников печати - периодических изданий. «Русский архив» предстал перед нами в контексте истории развития общественной мысли, науки (и исторических наук, и литературоведения), журналистики, книговедения. Конкретные наблюдения, основанные на сопоставительном рассмотрении архивных и печатных материалов, привели исследователя к постановке важных вопросов в области источниковедения, историографии, истории публицистики, археографии и книжного дела.
Близкие А.Д. Зайцеву люди знали, сколько из замыслен-ного, частично подготовленного к публикации осталось незавершенным: и работа по прежней тематике, связанной с изучением наследия Бартенева и его издания: и работа о роли журнальных публикаций в развитии археографической мысли. А.Д. Зайцев планировал создать и труд о месте энциклопедических изданий в
Впервые опубл.: Предисловие // Зайцев А.Д. Петр Иванович Бартенев и журнал «Русский архив». М., 2001. С. 3-4.
развитии культуры, а также научного и общественного сознания россиян и, кроме того, об Источниковой базе таких исследований.
Редактор по призванию, А.Д. Зайцев и в РГАЛИ был главной движущей силой при подготовке сборников «Встречи с прошлым», а также других изданий, и особенно в издательстве «Большая советская энциклопедия» (ныне «Большая российская энциклопедия»), где Андрей Дмитриевич был заведующим редакцией «Отечественная история» и стал вести основную работу по подготовке нового типа энциклопедии «Отечественная история с древнейших времен до 1917 года». Историк-эрудит, обладавший и врожденным литературным вкусом, А.Д. Зайцев щедро отдавал свои силы подготовке к печати статей других авторов. Может быть, поэтому у него не оставалось ни времени, ни сил, чтобы довести до печати глубокие по наблюдениям и блестящие по форме свои устные выступления на различных научных форумах.
На посвященном памяти Андрея Дмитриевича Зайцева заседании Археографической комиссии РАН (членом которой он состоял) совместно с РГАЛИ и издательством «Большая российская энциклопедия» решено было подготовить к печати сборник трудов историка по проблематике истории общественного сознания в журналистике XIX - начала XX в.
В сборник этот включены: книга «Петр Иванович Бартенев», вышедшая в 1989 г. и высоко оцененная в посвященных изданию рецензиях и во многих других трудах близкой тематики, подготовленный к изданию Указатель материалов журнала «Русский архив» за 1909-1917 гг., а также статьи, как ранее издававшиеся, так и публикуемые впервые.
Андрей Дмитриевич Зайцев - и уроженец, и историк Москвы, поэтому симптоматично, что первое издание его книги о П.И. Бартеневе вышло в серии издательства «Московский рабочий» - «История Москвы. Портреты и судьбы». Об А.Д. Зайцеве-москвоведе напечатана статья в однотомной энциклопедии «Москва», а издание трудов ученого-историка включено в план изданий по москвоведению. Работы А.Д. Зайцева существенно обогащают наши представления о Москве XIX - начала XX в. Но помимо этого исследования А.Д. Зайцева много дают и при изучении общественного сознания и публицистики России последних двух веков, и при ознакомлении с методикой источниковедения, исторического и литературоведческого.
Творческая жизнь Андрея Дмитриевича Зайцева - достойная признательности и современников и потомков страница истории гуманитарных наук и книжного дела в Москве.
В основу монографии Александра Александровича Амосова положена диссертация «Лицевой летописный свод Ивана Грозного. Опыт комплексного историковедческого исследования», представленная на соискание ученой степени доктора исторических наук Ученому совету Санкт-Петербургского отделения Института российской истории Академии наук. Диссертация была успешно защищена 17 декабря 1991 г. Оппонентами выступили крупные ученые-специалисты: член-корреспондент Академии наук Л.А. Дмитриев, заведующий Отделом древнерусской литературы Пушкинского Дома, широко известный литературовед и текстолог (теперь, увы, покойный), Ю.Г. Алексеев, виднейший знаток истории эпохи Российского централизованного государства, Р.Г. Пихоя, создатель уральской школы археографов. Такой подбор оппонентов - филолог, историк, археограф - показателен, так как новаторское и в то же время фундаментальное исследование А.А. Амосова на стыке направлений гуманитарных наук - отечественной истории, истории древнерусской литературы, истории изобразительного искусства, историографии, книговедения и комплекса специальных исторических (или даже историко-филологических дисциплин - источниковедения, археографии, текстологии, кодикологии, палеографии, филигранологии). И А.А. Амосов показал блестящее владение методикой всех этих научных дисциплин, обеспечившее столь результативное исследование именно в русле комплексного источниковедения, традиции которого восходят к трудам Н.П. Лихачева, А.А. Шахматова, А.С. Лаппо-Данилевского, В.Н. Щепкина на рубеже XIX и XX столетий, М.Н. Тихомирова, А.В. Арциховского, Л.В. Черепнина, Д.С. Лихачева, В.Л. Янина в более близкое к нам время. И потому труды А.А. Амосова стали вехой не только в изучении древнерусских рукописей с миниатюрами и истории летописания,
Впервые опубл.: Амосов А.А. Лицевой летописный свод Ивана Грозного: Комплексное кодикологическое исследование. М., 1998. С. 3-10. Переиздано в кн.: Шмидтп С.О. Россия Ивана Грозного. М., 1999. С. 456-464 под названием: «О книге А.А. Амосова “Лицевой летописный свод Ивана Грозного: Комплексное кодикологическое исследование”».
но и в развитии исследований в сфере нескольких специальных дисциплин. Более того, укрепили представление о правильности суждений тех исследователей (академиков М.Н. Тихомирова, Д.С. Лихачева и других), которые полагают, что фундаментальной основой науки являются как раз специальные историко-филологические дисциплины.
Ко времени написания диссертации, тем более подготовки ее к изданию, А.А. Амосов имел уже серьезный опыт исследовательского творчества, нашедшего воплощение во многих печатных трудах и научных докладах, где собственно историческая проблематика тоже естественно совмещалась с источниковедческой, археографической. Только по теме диссертации было тогда опубликовано 24 статьи. Защита диссертации воспринималась как радостное событие нашей научной жизни. Принимал не без гордости поздравления и я, так как А.А. Амосов первым получил докторскую степень из тех, кто был и моим дипломником, и моим аспирантом, но также и потому, что на странице 30 автореферата диссертации можно было прочитать: «Рассмотрение возможных временных границ заключительного этапа работы над рукописями Лицевого свода приводит к убеждению, что из всех возможных и высказывавшихся мнений только мнения Н.П. Лихачева и С.О. Шмидта подтверждаются объективными показаниями знаков бумаги».
А.А. Амосов родился 10 сентября 1948 г. в селе Черевково Архангельской области. Фамилия Амосовых несколько столетий встречается в источниках по истории Поморья; некоторые лица из этого разветвленного рода играли заметную роль в местной общественной жизни; А.А. Амосов, видимо, из потомственного крестьянского клана. Отец его, инвалид войны, работал в леспромхозе, мать - учительница биологии и химии в сельской школе, которую сын окончил с золотой медалью. Сызмальства он оказался в пространстве культуры, где продолжали жизнь старинные традиции письменности, изобразительного искусства, фольклора; его родные места притягивали и археографов. Юноша возрастал в атмосфере уважения к исторической памяти. И показательно, что перечень его печатных трудов начинается статьями о родном крае в местных газетах. В Московском государственном историкоархивном институте, куда поступил в 1966 г., А.А. Амосов сразу же обнаружил особую тягу к изучению методики исторического исследования, самих приемов исторического познания. Круг интересов его и в учебных занятиях, и в научном студенческом
кружке источниковедения (с которым сразу сроднился и не терял связи всю жизнь) оказался очень широким - становилось очевидно, что ему в радость и творить исторические конструкции, и отдавать силы мельчайшим скрупулезным наблюдениям. Неутолимая любознательность, научная основательность в подходе к прошлому и поразительное трудолюбие студента, разносторонность его устремлений и уникальная память, появление уже тогда печатных трудов, основанных на архивных изысканиях, убеждали преподавателей в том, что это человек с незаурядным научным будущим. Подкупали, конечно, и учащих и учащихся и глубокая порядочность А.А. Амосова, и присущее ему чувство собственного достоинства, неспособность к искательству и неприятие его у других, то, что ему чужды и сплетни, и завистливое злословие.
Темой дипломной работы была избрана такая, где совмещались увлеченность историей родного края и новаторская методика современного комплексного знания - «Источники по истории монастырского землевладения на Севере (Методика выявления и анализа)». Это во многом предопределит и тему кандидатской диссертации (защищенной в Ленинградском отделении Института истории АН СССР в 1975 г.) - «Архивы двинских монастырей: очерки по истории организации и складывания архивов духовных корпораций». В этой насыщенной конкретными наблюдениями монографии много нового и об источниковедении истории архивного дела на первом этапе его развития, и об основных элементах «практической археографии» XVI-XVIII вв., и значении ее для формирования науки археографии, т. е. науки о выявлении, описании и публикации письменных памятников.
Кандидатскую диссертацию А.А. Амосов защищал уже сотрудником Отдела рукописной и редкой книги Библиотеки Академии наук, освоив значительные элементы практики археографической работы этого выдающегося тогда центра изучения письменной культуры Древней Руси и имея опыт научного общения с сотрудниками и Ленинградского отделения Института истории (где он был аспирантом и работали еще С.Н. Валк и его ученики), и Пушкинского Дома, где многосторонняя археографическая деятельность научных школ В.П. Адриановой-Перетц и Д.С. Лихачева оказалась богаторезультативной. Такая творческая амальгама научных школ Москвы и Ленинграда была особенно плодотворной для тянущегося к освоению историографического наследия и в то же время неутомимого в исследовательской изобретательности молодого историка.
В Библиотеке А.А. Амосов очень много сделал для дальнейшего изучения этого богатейшего собрания памятников письменности в плане и описания рукописей, выработки методики составления информации о них, исследования происхождения и содержания этих памятников, публикации и самих памятников и сведений о них, данных об обращении к ним других ученых, и для пропаганды этого культурного наследия и достижений его освоения в среде широкой общественности. Отдел и БАН в целом стали для него домом родным, предметом гордости и заботы, и именно противостояние стремлению чуждого всему этому нового директора Библиотеки порушить научные и нравственные традиции деятельности всемирно известного Отдела рукописей и фактическое отторжение от любимых занятий в БАН, вызвавшее самоотдачу общественно-административной деятельности в Государственной думе, а затем издательской деятельности, истощило физические силы и нервные возможности А.А. Амосова и приблизило его ранний трагический конец.
Работая в БАН, ставший членом Археографической комиссии Академии наук А.А. Амосов был в Ленинграде-Петербурге связующим звеном с Археографической комиссией, с проводимой по ее инициативе и под ее руководством многими хранилищами страны работой по подготовке Сводного каталога славяно-русских рукописных книг (по XVI в. включительно), каталога личных фондов историков, организации археографических экспедиций в полевых условиях (сам почти ежегодно возглавлял - и удачно -такие экспедиции, участвовал во всесоюзных, всероссийских, региональных конференциях и семинарах такой проблематики), во многом способствовал объединению усилий специалистов в области филигранологии (на Первом всесоюзном совещании по филигранологии в 1987 г. в Москве выступил с докладом о задачах и перспективах ее развития). Ему в значительной мере обязаны и реализацией замысленной замечательным вологодским ученым П.А. Колесниковым уникальной программы многотомного описания письменных памятников (от древности до наших дней), хранящихся в музеях Вологодской области; он - и автор статей методико-историографического характера о «Вологодской программе» ’.Ив нашем Отечестве, и за рубежом А.А. Амосов обрел прочную репутацию высокого авторитета в области изучения рукописной и старопечатной книги, выдающегося знатока специальных научных дисциплин сферы и источниковедения, и связанных с ним археографии и книговедения.
Заслуга прежде всего А.А. Амосова - издание БАН в 1982 г. книги под моей редакцией «Библиотека Ивана Грозного: реконструкция и библиографическое описание». В книге напечатана работа погибшего в дни Ленинградской блокады Н.Н. Зарубина, пытавшегося реконструировать личную библиотеку царя Ивана и определить его круг чтения и подготовившего критический обзор всей литературы о библиотеке московских государей с бесценными античными рукописями. А.А. Амосов не только комментировал исследование Н.Н. Зарубина, но и обратил особое внимание на не рассматривавшиеся автором в этой связи рукописи книг Лицевого свода и публицистику и не менее детально, чем его предшественник, охарактеризовал всю литературу 1940-1980-х годов о библиотеке московских государей (причем не только статью М.Н. Тихомирова, публикации которой в 1960 г. мы обязаны возрождением веры в существование библиотеки античных рукописей, и специальных ученых штудий, но и множества популярных работ, даже газетных статей). Книга эта и по сей день -наиболее солидная сводка данных и об источниках XVI-XVIII вв. о библиотеке и литературе, этому посвященной. Н а книгу было немало откликов и в нашей стране, и за рубежом; в Италии в 1998 г. вышло ее сокращенное издание. Тема нашего последнего телефонного разговора за несколько дней до его внезапной кончины -подготовка А.А. Амосовым дополнений о литературе 1980-1990-х годов.
А.А. Амосов принимал деятельное участие в подготовке факсимильного издания, под редакцией М.В. Кукушкиной, хранящейся в БАН древнейшей иллюстрированной русской летописи, названной по имени ее давнего владельца Радзивиловской. Издание, осуществленное наконец при особых усилиях издательства «Глаголь» в 1994 г., стало событием в истории и науки, и книжного дела. А.А. Амосов - один из тех, кто описывал миниатюры рукописи.
Всеобогащающийся исследовательский и научно-просветительский опыт, результативная проба своих сил в разных специальных историко-филологических дисциплинах, владение инструментарием современнейшей научной технологии и, конечно же, энциклопедическая образованность в областях знаний о культуре и общественном сознании, ментальности Древней Руси позволили А.А. Амосову приступить к подготовке поистине фундаментального труда о летописном Лицевом своде Ивана Грозного. Этот колоссального объема памятник исторической мысли -
история и всемирная и отечественная, от древнейших времен до современности - воспринимается как выдающееся произведение письменности и изобразительного искусства. Научная литература, ему посвященная, обильна и противоречива; наибольшие разногласия вызывал вопрос о времени заключительной работы составителей Лицевого свода и редактирования известий о событиях правления самого Ивана Грозного.
Избрать такую тему для диссертации мог человек истинного мужества и чистой души: ведь большинство ученых, с мнением которых о датировке Лицевого свода и приписок к нему А.А. Амосов не склонен был соглашаться, это здравствующие доктора наук, имеющие немалый авторитет в научном мире. Знакомя еще в 1982 г. со своей моделью «прочтения» истории создания описания времени Ивана Грозного в Лицевом своде, он осознавал, что это «требует пересмотра (и порой кардинального) некоторых уже прочно устоявшихся в отечественной источниковедческой и исторической литературе представлений» и объяснял: «Целью исторической науки, как и любой науки, является стремление к познанию истинной природы изучаемых явлений и событий; в этой цели мы и видим нравственное оправдание изложенных соображений. Подтвердить или опровергнуть нашу модель прочтения можно лишь на основании обстоятельного и всеобъемлющего исследования последних томов Лицевого свода...»2
В этом «обстоятельном и всеобъемлющем исследовании» Лицевого свода А.А. Амосовым трудно сказать даже, что больше поражает: масштабность и ответственность поставленных задач или условие выполнения главной задачи - скрупулезность полистных наблюдений. Ведь это почти 10 000 листов, на которых более 16 000 миниатюр! А.А. Амосов подчеркивал, что предметом его исследования является «внешняя сторона памятника», материальный носитель текста и изображений - бумага и структура создававшихся тогда рукописей (летописный свод дошел до нас с большими утратами; сохранившиеся листы оказались частично перепутанными), а также способы кодирования образной информации в миниатюрах. То есть первоочередное внимание уделялось тому, что обычно оставалось вне поля зрения большинства его предшественников, сосредоточенных, как правило, лишь на содержательной стороне памятника (и текста, и миниатюр), на его исторической информативности и уже по одному тому ограничивающихся логической, в той или иной мере всегда субъективной, системой доказательств. Занятия такого рода относятся к
проблематике кодикологии, сравнительно недавно оформившейся специальной историко-филологической дисциплины, изучающей историю изготовления, состав и судьбу рукописной книги (от латинского слова «codex» - книга; родительный падеж - «codicis») . И при издании диссертации именно это слово вошло в заголовок монографии. А.А. Амосов не считал возможным использовать отдельные элементы внешней критики источников «без предварительного изучения всех ее составляющих» 3.
А.А. Амосов впервые после Н.П. Лихачева изучал одновременно все рукописи, составляющие основной корпус Лицевого свода и даже близкие к нему по происхождению и манере исполнения, и главное внимание, вслед за Н.П. Лихачевым, уделил методике датирования рукописей по показаниям водяных знаков -филиграней, учитывая при этом все варианты и разновидности филиграней (Н.П. Лихачев ограничивался иногда установлением видов их, не отмечая другие варианты). Учитывал А.А. Амосов и накопленный опыт наблюдения о возможной залежности используемой бумаги (здесь особое значение имеют труды В.Н. и М.В. Щепкиных).
История создания Лицевого свода прослеживается А.А. Амосовым на основе последовательного изменения филиграней по методике, разработанной автором. Принципиально новым является и раздел книги, посвященный анализу формальных признаков миниатюр и выявлению семантики изобразительного языка Средневековья. Столетней давности исследование Н.П. Лихачева о филигранях Лицевого свода вернуло памятник, относимый тогда учеными к XVII в., к последним годам царствования Ивана Грозного. Выводы Н.П. Лихачева сразу же признаны были образцовыми (прежде всего, великим его современником академиком А.А. Шахматовым) и вошли позднее как классический пример в учебники академиков М.Н. Тихомирова по источниковедению (1940, 1962 гг.), Л.В. Черепнина по палеографии (1956 г.), в книгу академика Д.С. Лихачева о текстологии (2-е издание в 1983 г.)4.
Тем не менее в послевоенные годы стали появляться работы - и притом одна интереснее другой и по живости изложения, и по остроте постановки вопросов, - которые обосновывали отнесение приписок на листах Лицевого свода о событиях времени Ивана Грозного к более ранним годам его правления. Опирались при этом не на датировку филиграней, а на обстоятельства государственно-политической истории и на памятники политической публицистики. Выявление в Лицевом своде и одном из
изданий Печатного двора Александровской слободы однотипной бумаги казалось основанием использования наблюдений и над филигранями для более ранней датировки завершения работы над Лицевым сводом. Это мнение даже представлено как единственное (по существу, навязано) в статье «Летописный свод Лицевой» в словаре книжников и книжности Древней Руси5, хотя это и в противоречии с историографометодическими принципами выдающегося значения справочника, обычно демонстрирующего наличие разных взглядов на происхождение и датировку литературных памятников.
Выводы А.А. Амосова о датировке и составных частях Лицевого свода - на уровне конструкций точных наук, да и основаны они на технологиях, применяемых в этих науках. В точных науках в подобных ситуациях обычно ищут взамен прежних объяснений, оказавшихся не во всем обоснованными, новые, соответствующие новому знанию. Совершенно очевидно, что рано или поздно придется так поступить и ученым-гуманитариям, продолжая изучение летописного Лицевого свода.
Это налагает особые обязательства на ученых, занятых исследованием эпохи Ивана Грозного. Государь этот правил более 50 лет, и личность его наложила заметный отпечаток и на историю его времени, и на толкование исторических событий современниками и потомками. Это ясно ощущается и в приписках к своду, изменяющих и трактовку, и оценку событий недавнего времени. Но если периодам правления Избранной рады и опричнины посвящены многие книги и статьи, то последние годы жизни Ивана Грозного по-прежнему остаются слабоизученными, хотя Р.Г. Скрынников в своей известной книге «Иван Грозный» эффектно озаглавил страницы о событиях тех лет «Последний кризис». Источники, датируемые концом 1570 - началом 1580-х годов, не сопоставлены еще одни с другими с должной детальностью, как не сопоставлены данные и серьезных исследований о начале освоения Сибири, о завершении Ливонской войны, попытках ограничения монастырского землевладения, о симптомах правовым путем оформить полное закрепощение крестьян, о сменяющихся брачных намерениях царя-вдовца и о сватовстве к девице, родственной английскому королевскому дому. Напомним и о приходивших именно тогда к царю мыслях о бегстве за рубеж, и о нечаянном убийстве сына-наследника. О пересмотре оценок событий и лиц прошлого, о страхе приближающегося конца свидетельствует и составленный в 1580-е годы. Синодик - ведь
это показатель отношения и к прошлому, и к настоящему, и к будущему. Во взаимосвязи с этими и другими, пока еще менее исследованными, явлениями тех лет, прежде всего отраженными и в литературных памятниках, следует искать взаимосвязи с приписками к лицевым летописям.
Об этом задумывался и сам А.А. Амосов, глубокий знаток источников (особенно нарративных), современных созданию и редактированию Лицевого свода. Но полагал недопустимым в монографии с так им самим определенными задачами и методикой исследования выходить за пределы того, что дают «объективные данные, полученные из самого оригинала изучаемого памятника»6. Самоуважение и душевное целомудрие, характерные для его личности, отразились и в его исследовании.
Книга издается посмертно. Александр Александрович скончался от сердечного приступа у себя дома, в Петербурге, 15 апреля 1996 г. Книга подготовлена к печати его другом и сотоварищем по «Вологодской программе» В.В. Морозовым, старшим научным сотрудником Археографической комиссии в Москве, автором серьезных исследований и о Лицевом своде.
Внезапная кончина необычайно одаренного и высокоэрудированного ученого, человека светлой души и большого обаяния глубоко опечалила многих. В мае 1996 г. в Пушкинском Доме состоялось заседание памяти А.А. Амосова, где говорили о нем, вспоминали его коллеги из Москвы, Петербурга, Новосибирска и других городов России. Материалы этого заседания и перечень печатных трудов А.А. Амосова напечатаны в Археографическом ежегоднике за 1996 г. Незабвенный Александр Александрович Амосов обладал счастливым даром восприятия и воспроизводства культуры и воплощал в своей творческой деятельности корневые простонародные культурные традиции и традиции веков научной культуры Москвы и Петербурга.
1 Шмидт С.О. Об авторах этой книги // Памятники письменности в музеях Вологодской области. Ч. 4. Вып. 3. Вологда, 1998. С. 3-5.
2 Амосов А.А. Датировка и кодикологическая структура «Истории Грозного» в Лицевом летописном своде (Заметки о бумаге так называемой Царственной книги) // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. XIII. Л., 1982. С. 192.
3 Там же. С. 158.
4 Памяти Н.П. Лихачева посвящен т. XXVI продолжающегося издания «Вспомогательные исторические дисциплины», вышедший в 1998 г., уже после кончины А.А. Амосова. В открывающей книгу статье охарактеризована и публикуемая ныне его монография {Шмидт С.О. К 60-летию со дня кончины академика Н.П. Лихачева (Об изданиях последних лет). С. 16-17).
5 Клосс Б.М. Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вторая половина XV-XVI в. Ч. 2. Л-Я. Л., 1989. С. 30-32.
6 Вспомогательные исторические дисциплины. Т. XIII. С. 193.
Нас всех объединили в этом собрании скорбь, любовь и уважение к скоропостижно скончавшемуся 15 апреля 1996 г. Александру Александровичу Амосову. Ибо даже те, кому не был близок Александр Александрович, кто не был одарен радостью общения с ним, даже те, кто не сходился с ним в общественно-политических воззрениях, во взглядах на понимание научной проблематики, не могли не почувствовать, каким он обладал редким даром восприятия и воспроизводства культуры.
Это был действительно историк волею Божией, исследователь прошлого нашей страны, нашего историко-культурного российского наследия. В нем как-то очень сказывалось, без столь распространившегося сейчас гадкого в своей основе шовинизма, огромное уважение к корневой культуре российского народа. Он воспринимал ее непосредственно. Она ему казалась как бы сызмальства само собой разумеющейся, и он приехал в Москву уже с этими высокими критериями подхода ко всем явлениям. Потому что Русский Север, не знавший крепостного права, где сохранились былины, старинные мотивы письменности и иконописи, деревянная скульптура, давние поморские обычаи далеких походов, порождал смелых и упорных трудолюбивых самородков. Самые великие известны всему миру - Ломоносов, Шубин, знаем и о подвигах освоения Арктики в советские годы капитаном Ворониным и другими. Самородки последних столетий формировались в атмосфере освоения продолжающей свое развитие древнейшей, восходящей еще к эпохе великих киевских князей Владимиров культурной традиции в ее первоначальном, наиболее чистом виде и в то же время в общении с зарубежной культурой, новой технической цивилизацией, приходившей сначала из-за моря. Это и глубинная корневая традиция уважения к исторической памяти, к памятникам истории и культуры, и прежде всего ближайшего окружения своего.
А.А. приехал в Москву и, в отличие от студентов по общежитию на знаменитой Стромынке (где некогда возрос историк И.Е. Забелин, а в предвоенные годы обитали автор «Бригантины» со товарищи), сразу же заимел газетные статьи краеведной
Впервые опубл.: Слово об А.А. Амосове // Археогр. ежегодник за 1996 г. М„ 1998. С. 229-236.
тематики. Очень существенно то, что уже юношей он проявил себя как исследователь; и начал с познания своего родного края, точнее даже, с изучения источников познания близкого историко-географического окружения. Первокурсника сразу же отметили и учащиеся и учащие. Когда появляется такой красивый, хорошо сложенный молодой человек, то прежде всего это обращает на себя внимание. Но Саша сразу выделился и своим творческим началом. Он был абсолютный отличник, не мог учиться иначе, у него иначе и не получалось. Показательно для его натуры и то, что прикосновение и интерес к огромному городу, где культура и цивилизованность зачастую лишь видимость, оставили А.А. по-прежнему «чистым». Он прежде всего усваивал в урбанистической культуре то, что относилось к подлинной культуре, всегда нравственной в своей корневой основе.
Ему повезло и в том отношении, что в общежитии (присутствующий здесь Владимир Семенович Соболев, тоже доктор исторических наук, жил с ним в одной комнате) были парни из трудовых семей, выбравшие сознательно свою профессию. Один был, правда, из семьи высших провинциальных чиноначальников, да к тому же старше по возрасту, с армейским опытом, недюжинным практицизмом, и поначалу как бы подавлял юнцов, но тяга к научному знанию, стремление определить свое место в сфере творческой деятельности были определяющими в среде, которую избрал для себя А.А. еще на младших курсах. Сосед по комнате Сергей Чирков в ту пору, пожалуй, был более других близок ему четкой направленностью научно-исследовательских интересов и академической основательностью в работе. Чирков стал новым старостой студенческого научного кружка источниковедения, Амосов - секретарем кружка, и оба - его историографами, много способствовавшими изданию сборников к 20-летию кружка. Кружковцами, а затем и моими аспирантами были и другие его соседи по общежитию: оба Валерия - Гальцов и Туманов. В кружке и в общежитии завязалась и обусловленная близостью интересов дружба не только с однокурсниками. Светлый ум, облик души, поразительная память Саши Амосова уже тогда определяли его место в студенческой среде; всеобщее уважение вызывали его неутомимое трудолюбие, увлеченность научным творчеством, широта научных интересов и, конечно, неизменная порядочность, неспособность к искательству и неприятие его у других, как и злословия и сплетен. Единодушны в высоких оценках даро
витого студента были и преподаватели. Уже на втором-третьем курсах стало ясно, что он кандидат на аспирантское место. Но он был прописан в общежитии и женился к тому же по любви на обитательнице общежития. Аспирантские места тогда предоставлялись лишь москвичам, а не имеющим постоянной прописки в Москве - только целевым назначением. Археографической комиссии президиум Академии наук выделял единицы, но в данном случае следовало искать согласие использовать их вне Москвы. Я рекомендовал принять А.А. аспирантом не только по душевной привязанности, но с убежденной уверенностью в том, что именно такие, как он, определят будущее нашей науки, и я, не только как его научный руководитель, но прежде всего как председатель одного из научно-проблемных советов Академии наук, обязан обеспечить научное будущее и ему, и специальным историческим дисциплинам. Ольга Дмитриевна, которая оставалась еще студенткой, проявила полное понимание, готова была к разлукам. Глубоко признателен руководителям ЛОИИ, ленинградцам, не усомнившимся в моих заверениях, принявшим выпускника московского вуза в аспирантуру, а затем помогшим его трудоустройству в БАН. С тех пор как Ольга Дмитриевна стала сотрудником ЦГИАЛ, семья Амосовых обосновалась в Петербурге, и несомненно, все это пошло на пользу его хранилищам, науке и культуре. А.А. сделался убежденным патриотом петербургских научно-просветительских традиций, а затем и воплощением действенной верности им.
Ранний восход исследователя проявился и в выборе тематики самостоятельной работы. Опережая даже самых способных однокурсников, он рано обнаружил особый интерес к самой методике исследования, к приемам исторического познания, к первоисточникам его и методам выявления и обработки этих данных: каким путем изучено? какова степень приближения к исторической истине? какова степень полноты и типичность изучаемого? Соответственно, он рано ощутил призвание к занятиям специальными историко-филологическими дисциплинами, почувствовал особый вкус к этому, оставаясь в то же время всегда и историком в традиционном понимании его назначения и формы деятельности - ему в радость было и творить конструкции, и мельчайшие скрупулезные наблюдения. И что существеннее всего - эти направления творчества взаимно обогащали друг друга. Пожалуй, никто из студентов тех лет столь рано и в такой мере не напоминал в плане естественного совмещения
собственно исторических штудий и работы в сфере специальных дисциплин ученых такого редкого типа, как Тихомиров, Черепнин, Дмитрий Сергеевич Лихачев, из более молодых -Зимин, Каштанов.
Рано проявилось и учительско-просветительское призвание, это заметно было и по его выступлениям на заседаниях кружка, в беседах, спорах, происходивших в моем присутствии, а также и в умелых имитациях и стиля, и внешней формы документов старины.
Так предопределился выбор для дипломного сочинения темы, где все это сочеталось уже и с краеведными интересами А.А. Само название дипломной работы показательно - «Источники по истории монастырского землевладения на Севере (методика выявления и анализа)». Части дипломного сочинения были опубликованы, а само оно может рассматриваться и как подготовительная основа диссертации об архивах северодвинских монастырей, где обосновывались общего характера положения об организации и складывании архивов духовных корпораций, и о «практической археографии» XVI-XVIII вв., ее значении для формирования науки археографии (а это было новаторством в истории науки!). Кандидатская диссертация, части которой печатались не только в академических изданиях, признана была высоким достижением и собственно истории, и источниковедения, и археографии, и истории архивного дела, и кодикологии, и текстологии - причем в сферах не только исторических наук, но и филологических. Подобная направленность и широта научных интересов, неутолимая тяга к новым знаниям и к просвещению знаниями других, безмерное трудолюбие, личное обаяние в собственно человеческом общении, неприхотливое восприятие бытовых сложностей делали А.А. особенно полезным сотрудником такого организационного подразделения, одновременно и научного и хранительского профиля, как Отдел редкой и рукописной книги БАН и его археографических экспедиций.
А.А., имевший явно ощутимое призвание к исследовательскому труду и к преподавательской деятельности, сразу же обнаружил не меньшее дарование и в сферах описательской и хранительской работы, а также и экспозиционной, научноконсультативной, экскурсионной, характерных для большого хранилища памятников истории и культуры. Быстро войти в русло интересов коллектива помогли А.А., полагаю, свойствен
ные и самому А.А., и сотрудникам Отдела тех лет отношение к своей деятельности в БАН не только как к личной работе, но и как к общественному служению. Имело значение, думается, и то, что руководитель Отдела Маргарита Владимировна Кукушкина сама заинтересованно занималась проблемой, особенно близкой душе уроженца Северного Поморья, - изучением библиотек северных монастырей. Он оказался вовлеченным и в подготовку уникального издания Радзивиловской летописи, наконец осуществленного благодаря руководителям издательства «Глаголь» .
БАН для А.А. очень скоро стала домом родным, что налагало и внутреннюю обязанность заботиться о ней, поддерживать ее престиж, умножать ее славу. Это были годы, когда в отношении к рукописному наследию в БАН успешно развивались традиции, восходящие еще к академикам А.А. Шахматову, Н.К. Никольскому, С.Ф. Платонову. Установились теснейшие творческие взаимосвязи с Археографической комиссией АН, особенно закрепленные в связи с подготовкой по почину академика М.Н. Тихомирова каталога славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. Именно Ленинград был средоточием деятельности такого же направления по изучению рукописей и на древнегреческом, латинском, восточных языках. Здесь проводились научные конференции: международные, всесоюзные, всероссийские, готовились издания их материалов. Конференции вызывали живой интерес и широкой общественности, отклики в специальных изданиях историко-филологического профиля (советских и зарубежных) и в широкой прессе - обязательно в ленинградских газетах. Именно БАН стала центром объединения сил ленинградских учреждений Академии наук, Ленинградского университета, других ленинградских хранилищ документальных памятников, и их совместная работа велась в тесном контакте со специалистами из Москвы и других городов, а издания выходили с грифом БАН. Теперь я как председатель Археографической комиссии и как москвич тяжело переживаю произошедшее в недавние годы падение уровня научной и особенно научно-организационной работы БАН в знакомой мне сфере и уровня нравственности. Не сомневаюсь в том, что при составлении истории БАН в будущем отметят и творческую роль А.А., и то, как нынешний директор БАН убивал это творческое начало и оказался, при всей своей формальной образованности или, точнее сказать,
овладении навыками современной цивилизации, глубоко неинтеллигентным человеком и к тому же неспособным понять историко-культурное значение великого наследия рукописной и старопечатной книжности. Но в этот день печали не станем говорить о темных силах, обратимся к светлому, к дорогому нам -памяти Александра Александровича, Саши, Саныча, как стали с годами ласково называть рано ставшего дедушкой близкие ему люди.
Особо отмечу деятельность А. А., связанную с Археографической комиссией. Его представление о задачах археографии соответствовало широким понятиям о ее предмете, характерным и для классиков гуманитарных наук рубежа веков, причастных к работе старой, основанной еще в 1830-е годы Археографической комиссии, находившейся в Петербурге и порушенной через 100-летие в связи с фальсифицированным «делом» академиков-историков, и для М.Н. Тихомирова, создавшего новую Археографическую комиссию - уже в Москве, 40 лет назад. Членом ее стал затем и А.А., а Петербургское отделение, организованное под председательством С. Валка, возглавляет ныне М. Ирошников. В таком нашем понимании, а именно им руководствуются в нынешней Археографической комиссии, сферы археографии -это и собирание, и описание, и издание памятников письменности, следовательно, и полевая археография, т. е. поиск и собирание документальных памятников в среде бытования, и описательная, и эдиционная работы. Тогда как в среде архивистов распространено представление об археографии только как о научной дисциплине, разрабатывающей вопросы теории, методики и практики публикационной работы. Этим и ограничивалось преподавание археографии на кафедре археографии МГИАИ.
А.А., творчески проявляя себя во всех трех сферах археографии, не сосредоточился на работе лишь в своем отделе БАН, где выступал, как многие помнят, и замечательным пропагандистом научного и культурного значения бесценных его богатств и многообразной научной работы сотрудников Отдела, - его экскурсии оставляли в буквальном смысле слова незабываемое впечатление. Не прерывалась теснейшая взаимосвязь с московскими коллегами и коллегами из других регионов. Особенно заметна его роль в осуществлении предложенной руководителем Северного отделения Археографической комиссии П.А. Колесниковым «Вологодской программы» - многотомного описания
документальных памятников всех музеев Вологодской области. Именно его усилиями в работу включились и более молодые специалисты из Москвы; он не только готовил к печати, редактировал тома серии, но и писал статьи о «Вологодской программе», о выдающемся подвижнике культуры Петре Андреевиче Колесникове. А.А. по-настоящему был любим вологжанами.
В близком контакте он работал с археографами и других центров современной археографии, особенно полевой - Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и др., с отцом Иннокентием (Просвирниным) в издательстве «Московская патриархия», с археографами балканских стран, с историками искусств Российского института искусствознания. А.А. - желанный и деятельный участник научных конференций многообразной тематики: славистики, археографии, книговедения, истории искусств, и собственно исторической, и, конечно, специальных историко-филологических наук, особенно филигра-нологии. На Первом Всесоюзном совещании по филигранологии в мае 1987 г. (материалы которого напечатаны БАН) именно А.А. выступил с докладом о «нерешенных проблемах филигранологии», т. е. о задачах и перспективах ее развития. Широта исследовательской тематики А.А. поразительна!
С увлечением А.А. и преподавал. Жаль, что преподавание было недолгим: у него был особый дар общения с молодежью, ощущавшей не только его дарование, эрудицию, но и способность к самоотдаче. Можно было наблюдать это не раз и на заседаниях кружка источниковедения, где он присутствовал, приезжая из Ленинграда уже кандидатом и даже доктором наук.
Любовно сделанная экспозиция печатных трудов А.А. показывает, что при всей симпатии к нему и уважении к содеянному им мы все-таки в должной мере не представляли масштабности содеянного и редкостного многообразия его научных интересов. А ведь в изданиях лишь в малой степени отражены его достижения в области полевой археографии, и еще меньше - живое участие в научных конференциях, определявшее и лицо таких форумов, а во многом и перспективы дальнейшего развития соответствующих отраслей знания!
Книга «Библиотека Ивана Грозного», подготовленная в основном А.А., показала с особой наглядностью его в лучшем смысле традиционализм, т. е. творческое продолжение труда достойных предшественников, и его огромную эрудицию в сферах и рукописной, и печатной книжности, столь необходимые
книговеду. Эта книга тоже была издана БАН в 1982 г., в лучшие ее времена, сейчас переиздается в Италии, предложено подготовить новое, дополненное, издание. За несколько дней до его внезапной кончины у нас был телефонный разговор именно об этом: А.А. дал согласие на составление дополнений к своей статье «Вопрос о библиотеке в литературе последних лет» и к спискам источников и литературы.
Еще более показательна и поучительна работа А.А. по изучению Лицевого свода: это энциклопедичность знаний в области истории и искусствознания и едва ли не всех специальных историко-филологических наук, и образец комплексного источниковедческого исследования, а подлинное источниковедение всегда на стыке наук! Трудно сказать, что более поражает -широта и масштабность подхода или скрупулезность полистных наблюдений, одержимость трудолюбия и внутренняя обязанность ознакомиться со всеми листами огромной многотомной ныне летописи! В отличие от тех, кто обращался к спекулятивной методике датировки рукописи, основанной на выборочных данных и установлении умозрительным путем возможных сопоставлений с фактами государственно-политической истории, А.А. вслед за Н.П. Лихачевым опирался прежде всего на наиболее достоверно датируемые формальные признаки-филиграни, подтвердил, развил и уточнил выводы Н.П. Лихачева. Сделано много и для изучения миниатюр, причем не только содержательной их информации, так сказать, повествовательного характера, но и информационного потенциала цветовой гаммы миниатюр. Труд этот - высокого класса историографическое исследование, важное для познания современной методики источниковедения историографии и историографии источниковедения и других специальных наук как истории, так и литературоведения. (Подтверждение тому, что первым оппонентом докторской диссертации выступал виднейший литературовед и кодиколог Л.А. Дмитриев.)
Творчество А.А. Амосова безусловно в русле традиций именно российской культуры, совестливой великой российской литературы, для которых характерен своеобразный синтез элементов народной культуры носителей культурно-нравственной традиции, повседневных вкусов и обычаев (у А.А. прежде всего как потомка не испытавшего крепостного гнета наследия Северного Поморья) и европеизированной культуры образованной части общества. При этом у А.А. заметно воздействие и обо
их средоточий отечественной и мировой культуры - Москвы и Ленинграда-Петербурга. Ведь для развития культуры России, и особенно высоких, привлекательных для всего мира достижений в гуманитарной сфере, существенно важным, во многом определяющим было то, что в России уже почти 300 лет не один, а два средоточия культурных взаимосвязей и влияний, отнюдь не во всем сходных по самому образу жизни и стилю мысли. Это допускает для россиян (да и в зарубежье) выбор и соревнование и в то же время помогает легче сохранять независимые от этих центров местные особенности культурных гнезд России. В научном творчестве А.А. счастливо обнаруживается многоцветная амальгама научных школ и Москвы, и Петербурга.
Творческая деятельность А.А. - и в русле просветительских традиций отечественной науки. А.А. был изобретателен в замыслах организации научных конференций, подготовки справочно-методических, исследовательских, научно-популярных изданий, публикации памятников письменности. Именно он стал как бы полномочным представителем хранилищ Ленинграда-Петербурга в организации коллективных начинаний, связанных с подготовкой Сводного каталога славянорусских рукописных книг и с формами организации археографических экспедиций (в частности, региональных встреч в разных городах России), составления издания методологических рекомендаций.
Такая работа тем более соответствовала его натуре, что он, корнями личной биографии связанный с культурой российской провинции, был убежден в том, что провинция не только хранитель традиций нашей культуры, но и действенный двигатель ее сегодняшнего развития, вызывая тем самым особое доверие у подвижников этой культуры и в Вологде, в окружении П.А. Колесникова, и в Сибири (у академика Н.Н. Покровского и других), и на Урале, и в Сыктывкаре, и в иных регионах. Он стремился к тому, чтобы издания памятников древнерусской культурно-нравственной традиции имелись в должном числе не только в Москве и Петербурге, чтобы великое культурное наследие Древней Руси сохранялось в нашей современной культуре, обогащало ее. Здесь он неутомимый и убежденный продолжатель дела Карамзина, Буслаева, Срезневского, Шахматова, Перетца и более близких к нему по времени Адриановой-Перетц, Тихомирова, Воронина, присутствующего на нашем заседании Дмитрия Сергеевича Лихачева, подчеркнуто напоми
нающего об этом и заголовками книг своих избранных трудов «Прошлое будущему», «Великое наследие: Классические про-изведедния литературы Древней Руси».
При этом А.А. как истинного книголюба и книгознатца особенно радовали достижения и нашего типографского искусства, не говоря уже о таком шедевре, как издание Радзивиловской летописи - цветного факсимильного воспроизведения оригинала и текста, и исследования, описания миниатюр. Этим изданием он исключительно гордился как истинный патриот Библиотеки Академии наук - хранительницы бесценного памятника. И только отклонениями от нормальной психики можно объяснить то, что такую же гордость не испытывает нынешний директор Библиотеки, мелочно воспринимающий прежде всего то, что его имя не упомянуто в ряду тех, кто обеспечил своим трудом это издание. Мелочность славолюбца горько отразилась на судьбе научного коллектива сотрудников Отдела рукописной и редкой книги, стала препятствием развития историко-филологических наук и осуществления начинаний, связанных с деятельностью Археографической комиссии (прежде всего подготовки Сводного каталога), остается темным пятном в истории культуры и общественной жизни.
А.А. явно рассчитывал на возможность осуществления своих замыслов и, конечно, прежде всего в БАН и при поддержке БАН, тем более что в ставшей ему родной Библиотеке утверждалось заинтересованно-уважительное отношение к его деятельности. Все видели, как он всей душой, не считаясь со временем и имевшимися у него силами, отдавался делу, в которое верил. Но обстановка в БАН стала меняться; директор последних лет ценит только то, что обязано его инициативе или способствует его личному престижу, а в сфере, которой занимался А.А., он, естественно, не чувствовал себя специалистом, не мог разобраться ни в том, что делается, ни в перспективах творимого его подчиненными. Для дела всегда пагубно, когда в многопрофильной работе у руководства стоит человек неширокого кругозора. Сначала А.А. вступил в борьбу за будущее своих начинаний, затем стал противостоять директору, возможно, не всегда обращаясь лишь к дозволенным средствам, и уж во всяком случае недооценив ни силу, ни практический деловой опыт, ни глубину самоуверенного цинизма его противника.
А.А. фактически ушел из Библиотеки, объясняя сам себе и уверяя других, что это от увлечения государственно
политическими начинаниями. Говорят, что и в этой области им сделано немало полезного, в частности и для развития библиотечного дела и просвещения. Но А.А. был лишен привычного и необходимого ему труда в любимой сфере творчества, где уже проверил свои силы, где с его мнением считались виднейшие специалисты, признававшие его равным. Он меньше печатал научных работ, стал менее обязательным в выполнении сроков научной и научно-организационной работы, в меньшей мере приобщался к питательной среде научного сообщества. Думаю, что и эти обстоятельства, особенно после того как возможность активного и самостоятельного участия его в каждодневной политической жизни стала ограниченной в связи с непереизбранием в Государственную думу депутата, помощником которого он был, сказались на мироощущении и вместе с накопившимся колоссальным утомлением привели к такому фатальному исходу.
И особенно горестно, что это случилось тогда, когда А.А. снова готов был окунуться в занятия наукой и издательской деятельностью - именно об этом шел разговор с ним по телефону, когда он позвонил мне перед отъездом в Питер и договаривался об осуществлении совместных планов и о времени встречи у меня дома: говорили о новом издании книги о библиотеке Ивана Грозного, о необходимости скорее подготовить к печати его докторскую диссертацию и книги «близкой проблематики» (тут была инициатива с моей стороны), и о планах издательства «Глаголъ», в том числе и о моей книге статей «Россия Ивана Грозного», выходящей по его почину. А.А. подготовил в приложение к ней библиографию моих трудов, намерен был написать и статью «От редактора» (она указана в составленном им оглавлении). Говорил, что статья готова, но, зная манеру работы А.А., допустимо предполагать и то, что в его уме был уже наговорен текст, но он мог остаться и непере-несенным на бумагу.
Внезапная кончина Александра Александровича всех ошеломила. Он не жаловался на болезни. Я узнал об этом, придя в Археографическую комиссию и увидев печально осунувшиеся лица сотрудников. Для меня это - потеря одного из самых близких и дорогих учеников, не говоря уже о необычайной талантливости его, об утрате, понесенной всей нашей наукой археографии. Ужасно тягостно и то, что это случилось в день моего рождения (потому и удивился, что не было от него поздрави
тельного звонка), когда мои ученики обычно вспоминали друг друга, собирались вместе, справляли юбилеи и кружка (датой его основания считается 13 апреля), и его руководителя, и всегда с Сашей, который, как помнят многие, особенно самозабвенно умел запевать «Многая лета...». Теперь день этот становится и днем памяти, совмещения в душе живых и ушедших, которых у человека моих лет все больше, мудрые поэты еще в молодые годы осознали, что душа наша - элизиум теней. В предисловии к книге, редактором которой был А.А., постарался написать об этом в дополнении, посвятил издание его светлой памяти.
Известно, что кончина Александра Александровича Амосова поразила многих, что отражено в какой-то мере в письмах, телеграммах, звонках, словах на поминках. Об этом напомнит нам сейчас председательствующий.
Наш долг сделать так, чтобы память о свершенном этим светлым человеком и очень даровитым большим ученым в максимально возможной мере сохранялась бы и у наших потомков.
АРХЕОГРАФИЯ. АРХИВОВЕДЕНИЕ
Архивы Москвы: прошлое и настоящее
I.
Тихомировские чтения, проводимые ежегодно с 1968 г. ♦ Археографической комиссией, традиционно посвящены либо жизни и творчеству первого председателя комиссии академика 1 М.Н. Тихомирова, либо актуальным, широкого общественного звучания проблемам археографии и смежных с ней научных дисциплин. Естественно, что чтения 1997 г. посвящаются юбилею Москвы. Прошлому Москвы и истории его изучения, документальной базе москвоведения целиком посвящен и «Археографический ежегодник за 1997 год». Это можно рассматривать и как практическое осуществление собственно тихомировских традиций, ибо М.Н. Тихомиров - и уроженец Москвы, преданно любивший свой город, и неутомимый исследователь прошлого Москвы, и непревзойденный знаток материалов московских хранилищ. Он очень много сделал не только для выявления, описания, использования документальных богатств московских музеев и архивов, но и для охраны недвижимых московских памятников истории и культуры.
Общепризнана великая роль Москвы в культуре России. Это заметно и при изучении культуры архивного дела и истории развития археографии, архивоведения и смежных областей научного знания и практической деятельности. В Москве составлены самые ранние из известных нам описей архивных документов (описи Царского архива второй половины XVI в. и архивов Посольского и других приказов XVII в.), в Москве имелся значительный опыт использования таких документов при составлении летописей, посольских книг, делопроизводственной документации Разрядного, Поместного и других приказов, сочинений исторической тематики. Московский архив Коллегии иностранных дел в XVIII в. ставил перед собой уже научные задачи; и во главе его находился образо-
Впервые опубл.: Археогр. ежегодник за 1997 г. М„ 1997. С. 233-235; под названием «Вступительное слово (на Тихомировских чтениях 1997 г.)».
ваннейший историк и археограф той поры академик Г.Ф. Миллер. Из московских архивов черпали материалы издатели «Древней Российской вивлиофики» и авторы первых, сводного характера, обобщающих сочинений по истории России с древнейших времен, особенно великий писатель и историограф Н.М. Карамзин, который счел необходимым, подготовив уже к печати первые восемь томов своей «Истории государства Российского», отметить в «Записке о московских достопамятностях»: «Говоря о Москве, забудет ли историограф то место, где собраны все наши государственные хартии пяти веков, от XIII до XVIII? Архив Коллегии иностранных дел есть один из богатейших в Европе. Его начальники, от незабвенного Миллера до А.Ф. Малиновского, с величайшею ревностию, с неописанным трудом привели все бумаги в наилучший порядок, коему удивлялся император Иосиф, сказав: “Я прислал бы сюда наших венских архивистов”. Там любопытные читают древнейшие грамоты новгородские и московские, хартию Максимилианову, в которой уже отец Иоанна Грозного назван императором, письма славной английской королевы Елизаветы и проч. Там же можно видеть и портреты наших первых царей».
С этим архивом связано явление, очень интересное для понимания общественных представлений времени Карамзина. Реформы Петра Великого создали такую общественную атмосферу, что занятия наукой не казались недостойными даже для вельмож. В области исторических наук показательные примеры: Татищев, «птенец Петров» и родственник императрицы Анны Иоанновны; во второй половине XVIII в. - Рюрикович князь Щербатов, видный придворный Елагин; интересующиеся историей группировались вокруг меценатов-коллекционеров графов Мусина-Пушкина и Румянцева. Этим объясняется и новое социокультурное явление начала XIX в.: образованная аристократическая молодежь Москвы отнюдь не считала зазорным для себя службу в Московском архиве Коллегии иностранных дел, т. е. работу с историческими документами. «Архивные юноши» были тогда в чести не менее, чем гвардейские офицеры времен Екатерины II. Отражение того находим и в литературе тех лет, прежде всего у Пушкина. Некоторые «архивные юноши» оставили позднее немалый след в истории литературы, науки, просвещения. (Подробнее об этом рассуждения в моей статье 1992 г. «Русские литераторы и российская дипломатия», опубликованной в журнале «Международная жизнь».)
Оказавшая огромное воздействие на умы первых читателей и определившая на долгое время основной комплекс представле
ний не только об отечественной истории допетровской эпохи, но и о характере исторических знаний вообще, «История» Карамзина поражала богатством и многообразием примечаний и существенно способствовала формированию понятий о научном аппарате исторических сочинений, о роли архивных документов в работе историка. Первые девять томов «Истории» Карамзиным созданы в Москве (или в подмосковном Остафьеве), последующие три хотя и в Петербурге (или в Царском Селе), но в основном на фундаменте московских архивных материалов.
Документы московских архивов еще в XVIII в. начали публиковать в научных изданиях (конечно, на уровне научного опыта тех лет). Они стали основой и издания « Собрания государственных грамот и договоров» в начале XIX в., а затем и многообразного актового материала и нарративных памятников российской истории допетровского периода. Издание их - школа становления отечественной археографии, причем и эдиционной, и описательной (еще со времени работы в архиве Коллегии иностранных дел Миллера и Н.Н. Бантыш-Каменского). В Москве образовался в середине XIX в. и Московский архив Министерства юстиции, ставший Источниковой базой изучения социально-экономической (а в значительной мере также и государственно-политической) истории России.
Тем самым определяются направления нынешних собственно историко-архивоведческих исследований: архивы Москвы (в целом и отдельные архивохранилища) и развитие исторической науки; архивы Москвы и развитие архивоведческой и археографической культуры и как особая тема - роль сотрудников архивов в развитии этих обоих направлений. (Иногда эта роль была очень значительна и плодотворна, каку Н.В. Калачова.) В последние годы в этом плане проводятся интенсивные исследования сотрудниками РГАДА Л.И. Шохиным (о МАМЮ), В.Г. Бухертом (о Межевом архиве, а теперь уже и о МГАМИД) и другими историками. Научно-перспективная работа велась и в хранилищах иного типа -в Оружейной палате (еще И.Е. Забелиным в середине XIX в.), в Румянцевском музее, в Историческом музее - там особенно много было сделано для описания, изучения и издания документальных памятников, имеющих и литературно-художественное значение, а также материалов личных фондов. При этом творчески воспринимался опыт и петербургских хранилищ - Публичной библиотеки и Библиотеки Академии наук.
Вехой в развитии архивного дела и взаимосвязей его с «большой наукой» стали события революционных лет: образование Союза российских архивных деятелей и после октября 1917 г. образование Управления архивным делом во главе с Д.Б. Рязановым, которому мы в наибольшей степени обязаны привлечением к практической архивной деятельности виднейших ученых и их учеников и подготовкой с их помощью декретов об архивах.
С начала 1920-х годов за Москвой укрепляется положение ведущего для всей страны центра архивно-организационной и архивно-методической деятельности, а с образованием в Москве Историко-архивного института - и учебно-научной деятельности. И именно в Москве предопределялись и достоинства и недостатки в основных сферах такой деятельности. В Москве устанавливалась и возможная степень вовлечения в такую работу крупных ученых из других городов. Так, по инициативе московских научно-партийных учреждений в 1920-е годы был привлечен для консультации выдающийся ленинградский археограф С.Н. Валк (воспринимаемый ныне как классик археографии и источниковедения), ему уже в 1960-е гг. предложил М.Н. Тихомиров возглавить первое из отделений Археографической комиссии -Ленинградское, но из Москвы шла и инициатива недостойной критики Валка в годы массовой борьбы с так называемыми космополитами и - увы! - позднее.
Об истории архивов Москвы в прошлые века, об организации архивного дела и развитии археографии в Москве, о деятельности главных московских архивов и архивного ведомства в целом, о Московском историко-архивном институте и московских ученых-архивистах и особенно о документальных богатствах хранилищ Москвы в Археографическом ежегоднике напечатано очень много материалов. Этому посвящались и Тихомировские чтения, и другие научные конференции, организуемые Археографической комиссией (зачастую совместные с архивными учреждениями). Потому сочли целесообразным не повторять ранее напечатанного и сказанного, а ограничиться напоминанием об этом в обзорном сообщении ученого секретаря Комиссии В.А. Черных; тем более что, как известно, материалы Тихомировских чтений публикуются всегда в специальном разделе Археографического ежегодника под таким названием, а нынешние являются своего рода юбилейными - тридцатыми.
На нынешних чтениях основное внимание уделяется ранее слабо освещенным на страницах Ежегодника начальным периодам
работы главных архивов дореволюционной Москвы - МГАМИД и МАМЮ. И поскольку ведущим центральным государственным архивам, находящимся в Москве, так же как и Архиву Академии наук, хранилищам Исторического музея и Государственной Российской библиотеки, уже посвящались специальные доклады и статьи, полагали целесообразным уделить особое внимание Мос-горархиву, его истории и сегодняшнему дню. Это объясняется и тем, что именно в Мосгорархиве особенно много сделано в связи с подготовкой к юбилею Москвы.
Плодотворная взаимосвязь архивной культуры и академической науки представляется самоочевидной. И такая взаимосвязь прослеживается уже с XVIII в. Однако проблема эта остается недостаточно изученной, слабо отраженной в учебных пособиях по истории архивного дела и археографии. Тема доклада - характеристика форм такой взаимосвязи (а иногда и противостояния) в предыдущее время, хотя сделать это можно пока лишь в общих чертах.
И начать целесообразно и удобно с уточнения понятий, с терминологии. Академическая деятельность - это деятельность и учреждений Академии наук, и членов Академии наук - действительных членов и членов-корреспондентов, а с организацией после революции 1917 г. системы научно-исследовательских институтов и позже и научно-проблемных советов - и их сотрудников.
В плане нашей темы - это и прямые взаимосвязи и взаимовлияния и, так сказать, направляющее воздействие на деятельность архивов (в частности, расположенных не в Петербурге, где более 200 лет находилась Академия наук и проживали академики). Деятельность Академии наук обычно воспринималась как выражение (и отражение) отношения высших властных структур к тем или иным явлениям в сферах науки (пожалуй, единственное отклонение от этой линии имело место лишь в первые послереволюционные годы). Это и методика, воспринятая из опыта Академии наук: так называемый академический тип изданий памятников письменности - и собственно исторических (или филологических) источников и сочинений классиков литературы и науки; само собой разумеется, это и история хранилищ документальных памятников в системе учреждений Академии наук. Конечно, это и воздействие других хранилищ документальных памятников, Историкоархивного института, методики архивной работы на деятельность Академии наук и ее сотрудников.
В основе доклад того же названия на пленарном заседании науч.-практ. конф, в ИАИ РГГУ «Архивы России на службе личности, общества, государства: к 80-летию Государственной архивной службы». 27 октября 1998 г.
При этом следует иметь в виду то, что не всякая работа членов Академии наук на архивной ниве может рассматриваться как отражающая деятельность, тем более позиции Академии наук. Случалось, что ученого избирали в Академию уже в конце его жизни, и свершенное им ранее не относилось к работе Академии наук. В то же время показательным можно считать избрание в Академию наук за достижения именно в области археографии (собирания, описания и публикации памятников письменности) и архивоведения, как это было с П.М. Строевым и Я.И. Бередни-ковым, участвовавшими в Археографической экспедиции и готовившими издания Археографической комиссии и другие такого типа, с директором МАМЮ П.И. Ивановым, в какой-то мере с многолетним сотрудником МГАМИД С.А. Белокуровым, а позднее с С.К. Богоявленским, со специалистами по изучению рукописей на других языках (особенно восточных). Соображения подобного рода относятся даже к избранию академиком такого ученого широкого профиля, как И.В. Калачов. И в советские уже годы Д.Б. Рязанов, признаваемый тогда крупнейшим публикатором и знатоком сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса и других европейских революционных мыслителей, особое расположение академиков снискал в годы руководства им архивным ведомством, когда разрабатывались планы серьезной научной работы и привлекли к ней «старых» специалистов. А вот такой широко известный деятель, как М.Н. Покровский, тоже избранный академиком в 1929 г., в советские годы энергично противостоял академической науке, и даже после избрания: напомним о его роли в организации фальсифицированного дела историков-академиков С.Ф. Платонова, Е.В. Тарле и других, поводом для которого послужило как раз нахождение политически значимых документов в хранилищах Академии наук. Лишь с избранием Покровского академиком, а затем с утверждением в 1930 г. руководителем Постоянной историкоархеографической комиссии и разработкой им плана публикации исторических источников («Записка» Покровского об этом напечатана в Археографическом ежегоднике за 1978 год) можно говорить о его собственно академической деятельности в интересующем нас аспекте.
Термин «архивная культура» употребителен, но не получил распространения. Как известно, слово «культура» имеет много толкований в словарях, и энциклопедических, и русского языка. В переводе с латыни это - «возделывание, воспитание, образование, развитие». Всегда это и совокупность достигнутого, уровень
развития, наличие условий, соответствующих такому развитию. Можно полагать, что «архивная культура» - это и сфера науки и практики архивоведения (включая и саму организацию архивного дела) и археографии, и то, что А.Б. Каменский определяет как «архивное сознание», т. е. отношение и ученых, и общества в целом к архивным документам как к историческим источникам (источающим информацию о прошлом и уже тем самым достойным сохранения и изучения). Отношение к выявлению, собиранию, хранению, использованию архивных документов опирается на научные обоснования (причем не только в области гуманитарных наук), во многом предопределенные научно-исследовательскими учреждениями, высшими учебными заведениями, хранилищами-архивами, музеями, библиотеками.
К сожалению, история архивного дела (в широком понимании его как «деятельности по созданию архивов, организации хранения и использования архивных документов») рассматривалась особенно в учебных пособиях еще недавних лет в отрыве от истории науки, с акцентом на явлениях общественно-государственной жизни, а в трудах общего характера по истории науки и, шире, культуры не находят нужным останавливаться на сфере архивной культуры. В трудах по истории архивного дела преимущественное внимание долго уделяли архивному законодательству (а также проектам реформ), при изучении советского периода -идеолого-политической роли архивов в проведении партийной линии (М.Н. Покровским это декларировалось как первостепенная задача архивов, что детально показано в статье М.А. Леушина «Политическое значение архивов: концепция М.Н. Покровского в социально-историческом контексте», напечатанной в Археографическом ежегоднике за 1996 год). Здесь, как при подходе и к некоторым другим вопросам истории и историографии, сказывается, видимо, непреодоленное еще воздействие тенденций, внесенных в историческую науку в период господства взглядов М.Н. Покровского.
Между тем, согласно современным представлениям о предмете науки истории, не следует все сводить к заметным событийным явлениям - не менее (а быть может, даже более) существенно для процесса познания исследование повседневности, совокупности рядовых фактов и действий. Взаимосвязь архивов и науки относится к повседневности архивной культуры. И это важно показывать в обобщающего типа трудах и учебных пособиях, причем не только по архивоведческим дисциплинам, но и по историогра
фии. Освобождение от прежних навязчивых представлений стало заметно лишь в последние годы. Положительный пример нового подхода - книга сотрудника РГАДА В.Г. Бухерта по истории Межевого архива «Архив Межевой канцелярии (1768-1918 гг.)», изданная РГГУ в 1997 г., изучение истории МАМЮ Л.И. Шохиным.
Можно привести много запоминающихся наблюдений ученых об их тяге и любви к работе в хранилищах документов, о значении приобщения к архивам для научного творчества, слов признательности архивариусам за содействие работе ученых. Об этом не раз писали в книгах и статьях. Не менее существенно выявить данные об отношении сотрудников хранилищ к тому, что сделано учеными из Академии наук и университетов для выявления и использования Источниковой базы архивов, для развития теории и методики архивного дела и археографии. Архивная мысль, тем более архивная культура, - сфера творчества не только сотрудников хранилищ.
Проблема взаимосвязи архивов и науки привлекает докладчика уже более 30 лет. Это и одно из главных направлений моей работы с учениками (аспирантами и студентами по Историкоархивному институту). Именно этой проблематике были посвящены и первые доклады, с которыми выступал как председатель Археографической комиссии Академии наук на конференциях архивистов. Конференции организованы были в Москве и Ленинграде в связи с 50-летием декрета об архивах. Доклады стали основой статей «Советские историки и архивы» и «К истории архивного строительства в первые годы советской власти», напечатанных в 1968-1970 гг. Не раз возвращался к этой проблематике в статьях и устных выступлениях последующих лет, частично объединенных в 1997 г. в изданной РГГУ книге избранных моих трудов «Археография. Архивоведение. Памятниковедение». Об этом можно прочитать и в некоторых статьях, объединенных в другой книге, тоже изданной РГГУ в 1997 г. «Путь историка: избранные труды по источниковедению и историографии»; об этом в той или иной мере шла речь и в выступлениях на недавних конференциях архивистов. В этом выступлении внимание сосредоточено на том, что связано именно с Академией наук.
Знаменательно, что в одном и том же 1724 г. был создан первый в России исторический архив «Генеральный архив старых государственных дел» (затем известный как МГАМИД) и по указу Петра Великого основана Российская академия наук, которая первоначально так и называлась.
К деятельности Академии наук XVIII в. восходят собирание и публикация памятников письменности, причем масштабные по тому времени. Напомним об указах Петра I об обнаруживаемых «раритетах», к разряду которых относили и памятники истории и культуры, о распоряжении Петра I снять копию с увиденной им в Кенигсбергской библиотеке иллюминованной летописи. После кончины императора копию Радзивиловской летописи передали Академии наук, куда по требованию президента Академии наук поступил в 1758 г. и подлинник. Радзивиловскую (Кенигсбергскую) летопись издали в 1767 г. под заглавием «Библиотека Российская историческая, древние летописи». Академией наук изданы были и Никоновская летопись, Русская Правда, Судебник 1550 г. и другие памятники истории Древней Руси. В Академии наук сосредоточивались подлинные рукописи на разных языках, здесь зарождалось и востоковедение. Выявлялись материалы, важные одновременно и для истории, и для географии (и, добавим, употребляя современную терминологию, и социологии, и экономики). Пропагандировали и за рубежом данные об источниках познания прошлого и настоящего России (особенно велико значение напечатанного А.Ф. Бюшингом, жившим некоторое время в Петербурге).
Академические анкеты, рассылаемые с середины XVIII в. на места (в создании и разработке содержания анкет заметна роль М.В. Ломоносова), определяли во многом направление научной деятельности академических экспедиций, целью которых было исследование природы, хозяйства и населения. В анкетах внимание уделялось выявлению и описанию памятников истории и культуры, вопросам хранения и изучения памятников письменности. Деятельность Академии наук содействовала развитию и поощрению местной историографии, краеведения. Показательно, что самым первым членом-корреспондентом Академии стал в 1759 г. знаток Приуралья П.И. Рычков, затем архангелородец В.В. Крестинин.
Показательна и долголетняя деятельность академика Г.Ф. Миллера (в интересующем нас плане изученная А.Б. Каменским). Миллер одновременно и историк традиционного типа, и краевед, и практик, методист архивного дела и организатор науки и научных изданий. Участвуя в 1733-1743 гг. в академической экспедиции в Сибирь, Миллер обследовал архивы более 20 городов, собрал огромную коллекцию копий документов, ставших основой изучения не только прошлого Сибири и освоения ее русскими (и прежде всего в его исследованиях), но и источником уникаль
ных сведений о деятельности государственных учреждений и делопроизводстве в Москве XVI-XVII вв. В 1748 г. он был назначен историографом. Переехавшему в Москву и с 1766 г. возглавившему Московский архив Коллегии иностранных дел, Миллеру обязаны организацией там научной работы. Миллер обследовал хранилища Московской губернии и стал тем самым предтечей участников археографических экспедиций XIX в. Лишь после Миллера, обратившегося к архивным материалам прежнего делопроизводства, к архивным документам, стали подходить не с утилитарных, а с научных позиций. Заслуги Миллера и в подготовке изданий ценных памятников истории (Судебник 1550 г., Степенная книга, Письма Петра I и др.) и историографии («История Российская» В.Н. Татищева); он помогал в подборе материалов историку М.М. Щербатову, для многотомной «Древней российской вив-лиофики» Н.И. Новикова, выявлял данные для «Географического лексикона Российского государства», для сводных трудов по истории дворянства, приказов и др. Под руководством Миллера начал работу в Архиве Н.Н. Бантыш-Каменский, сменивший его затем на посту директора, сделавший уже в 1780-1784 гг. описание дел «о сношениях Российского и Польского дворов». Это положило начало составлению описания сношений России и с другими государствами (с конца XV в.), которые позднее использовал при подготовке «Истории государства Российского» Н.М. Карамзин (знакомый с описаниями актов и другими справочниками архива).
И в «Записке о московских достопамятностях» 1817 г. он имел основание утверждать: «Говоря о Москве, забудет ли историограф то место, где собраны все наши государственные хартии пяти веков, от XIII до XVIII? Архив Коллегии иностранных дел есть один из богатейших в Европе. Его начальники, от незабвенного Миллера до А.Ф. Малиновского, с величайшею ревностию, с неописанным трудом привели все бумаги в наилучший порядок, коему удивлялся император Иосиф, сказав: “Я прислал бы сюда наших венских архивистов...”». Далее упоминается о нахождении в архиве документов и московских и новгородских, грамот иностранных государей, портретов царствующих особ. Обращение внимания (первым писателем России) в кратком путеводителе (к тому же предназначенном для матери императора Марии Федоровны) на архив как особо важную «достопамятность» Москвы, конечно, тоже имело значение для утверждения представлений об архивной культуре как существенной составной части общероссийских науки и культуры.
Именно в Академии наук развернулась работа в области текстологии памятников Древней Руси (отметим прежде всего труд Шлецера о летописании) по изучению сочинений иностранных авторов о допетровской России (обычно в сравнении с историческими источниками отечественного происхождения). Там же первоначально сосредоточивалась работа и по изучению населения России и его быта в новейшее время; эти знания относили в ту пору к области статистики (труды академиков К.Ф. Германа, А.К. Шторха, позднее К.И. Арсеньева, специалистов в области естественных наук академиков И.И. Лепехина, Н.Я. Озерецков-ского и других).
С Академией наук взаимосвязана деятельность учрежденной в 1783 г. Российской академии, задачей которой была (по примеру Парижской академии) разработка русского языка и словесности, составление российского словаря, российской грамматики. Первоначально директором ее была княгиня Е.Р. Дашкова, к тому времени занимавшая пост и директора Академии наук. В 1840 г. Российскую академию присоединили к Академии наук в виде новообразованного Отделения русского языка и словесности. Членами Российской академии были ученые, писатели, меценаты, подвизавшиеся на научном поприще (как А.И. Мусин-Пушкин); среди ее членов Карамзин, Жуковский, Пушкин.
Н.М. Карамзин, созидая свою многотомную «Историю государства Российского», опирался во многом на сделанное в Академии наук, знакомил со своим сочинением членов Российской академии. И труд его, особенно примечания, существенно содействовал движению вперед архивоведения, археографии, специальных исторических дисциплин, привлечению еще большего внимания Академии наук к архивным изысканиям и публикации исторических источников. А архивисты, особенно А.Ф. Малиновский, не только помогали историографу, обеспечивая архивной документацией источниковую базу его «Истории» и делясь своими соображениями о содержании и происхождении документов (об этом много сведений в исследованиях В.П. Козлова), но и немало способствовали развитию специальных научных дисциплин -палеографии, текстологии, генеалогии, геральдики, сфрагистики, а также тех, которые ныне именуют историей государственных учреждений, исторической географией и, конечно, источниковедением.
Особенно заметно такое плодотворное для науки взаимодействие при рассмотрении истории возникновения и деятельно
сти Археографической экспедиции и организованной вследствие того Археографической комиссии, что счел нужным подчеркнуть последний председатель прежней Археографической комиссии академик С.Ф. Платонов в докладе 1928 г. к столетию Экспедиции, впервые опубликованном в Археографическом ежегоднике за 1996 год.
П.М. Строев, имевший уже опыт участия в организованных «кружком» Н.П. Румянцева экспедициях по монастырским библиотекам близ Москвы, основательно ознакомился с опытом и научными результатами экспедиций Академии наук («венец ее славы», по его определению) и системой изучения и популяризации выявленных и собранных экспедициями материалов (ибо, как выразился академик В.М. Севергин, «единой из обязанностей академика есть собранные наукой сведения распространять в Российском государстве»). Полагая, что «Академия наук в особенности обязана обратиться к продолжению оных ученых путешествий», Строев (член-корреспондент с 1826 г.) и адресовал в 1828 г. свой проект организации Археографической экспедиции именно президенту Академии наук С.С. Уварову. Новизна предложения Строева: постепенный охват таким экспедиционным исследованием всей России. Академия наук поддержала надежду Строева «стать в ряду знаменитых членов-путешественников Академии». Экспедиция 1829 1832 гг. обследовала около 200 хранилищ в 12 губерниях и дала сведения не только о множестве летописей (что первоначально мыслилось ее главной задачей), но и об огромном богатстве актового материала. Найденные ею документальные памятники обусловили путь развития науки последующих десятилетий - и истории, и права, даже филологии. Достижения этих наук в послекарамзинский период объясняются введением в научный обиход нового и многообразного массива исторических источников отнюдь не в меньшей мере, чем освоением новейших представлений философов и социологов. Существенное обогащение Источниковой базы обеспечило возможность использования новейшей источниковедческой методики, сравнительного изучения нормативных и актовых источников. Академик Д.С. Лихачев в статье 1970 г. «Достоевский в поисках реального и достоверного» писал о воздействии новой методики извлечения исторической информации, «приемов источниковедческого исследования» на художественную литературу и практику реформированного судопроизводства.
Именно в трудах ученых археография сомкнулась с источниковедением, и науки эти стали все более и более обогащать одна
другую. Особенно это проявилось в деятельности организованной в 1834 г. Императорской археографической комиссии, где всегда играли ведущую роль члены Академии и работа в которой становилась научной школой для многих будущих членов Академии наук. Там сразу же начали готовить к печати и тома Полного собрания русских летописей, и серийные издания актов допетровского времени. Главными редакторами были академики Я.И. Передников, С.М. Строев, который на протяжении десятилетий занимался описанием памятников письменности. Другой академик, филолог А.Х. Востоков, подготовил образцовое по тем временам описание рукописей Румянцевского музея; под его же редакцией изданы и два тома «Актов исторических, относящихся к России, извлеченных из иностранных архивов и библиотек».
Описание рукописей и их публикация (особенно с комментариями) историком или филологом почитались таким научным трудом, за который ученого удостаивали избрания в Академию наук. А академики, ставшие членами Академии за свои исследования традиционного типа (монографии и статьи), обычно немало усилий отдавали и археографической работе. Напомним о публикации академиками А.Ф. Бычковым летописей и «Писем и бумаг Петра Великого», материалов из истории Академии наук в XVIII в. П.С. Билярским, А.А. Куником, П.П. Пекарским, М.И. Сухомлиновым, сочинений Державина и Екатерины II Н.Я. Гротом, Пушкина Л.Н. Майковым, Гоголя Н.С. Тихонравовым, публикации иллюминованных рукописей Ф.И. Буслаевым, памятников по истории Византии В. Г. Васильевским, народов Востока М.И. Броссе, В.Н. Розеном и другими. Эта традиция перешла и в XX век, продолжалась А.С. Лаппо-Данилевским, С.Ф. Платоновым, А.А. Шахматовым и другими. В.С. Иконников в монументальном незавершенном труде «Опыт русской историографии» привел данные по истории разыскания, описания, публикации исторических источников, по истории архивов, утверждая представление об истории архивов и археографии как составных частях предмета «историография».
В РАН установилась система премий на капитал, оставленный жертвователями, и первые премии, Демидовская (1831 — 1865 гг.) и Уваровская (с 1855 г.), выделяли среди «отличнейших сочинений» и труды архивно-археографической тематики. Сами труды и пространные отзывы на них видных ученых становились вкладом не только в развитие историко-филологических наук, но и их специальных научных дисциплин. Среди первых Демидов
ских премий награды за издание Н.Г. Устряловым «Сказаний современников о Дмитрие Самозванце» и «Сказаний князя Курбского». Позднее премии получили: труд руководителя МАМЮ П.И. Иванова «Описание государственного архива старых дел», книга А.Б. Лакиера о российских дворянских гербах, обозрение дневника генерала Гордона (М.Ф. Поссельт), публикация материалов по «истории возмущения Стеньки Разина» (А.Н. Попов) и др. Труды такого типа и среди удостоенных Уваровской премии, присуждаемой за сочинения многообразной тематики в области всех гуманитарных наук и художественной литературы.
Крупнейшие историки были одновременно и первооткрывателями ценных документальных памятников, и авторами трудов, написанных на основании их изучения, и руководителями хранилищ таких памятников: С.М. Соловьев - директор Оружейной палаты, И.Е. Забелин, прошедший школу хранения, описания и изучения памятников в Оружейной палате, стал научным руководителем Исторического музея, где создали и отдел письменных памятников. Забелин и собирал коллекцию, и подбирал сотрудников; среди них будущие член-корреспондент В.Н. Щепкин, разработавший систему описания иллюминованных рукописей, автор учебника по палеографии, и будущий академик М.Н. Сперанский, автор и многих описаний рукописей (в середине 1920-х годов он обучал этому мастерству М.Н. Тихомирова). В рукописных отделах музеев и библиотек сотрудниками и руководителями были видные ученые, избранные в Академию наук: в Румянцевском музее - А.Х. Востоков, в Публичной библиотеке - отец и сын А. и И.А. Бычковы, в библиотеке Академии наук - Н.К. Никольский (составленной им картотеке памятников древнерусской литературы посвящено немало статей), В.И. Срезневский, А.А. Шахматов. Великий филолог способствовал сосредоточению в его хранилище и документации новейшего времени, в том числе изданий революционного направления - Герцена, народовольцев, социал-демократов. Организатором поступления большевистских изданий был В.Д. Бонч-Бруевич (с согласия В.И. Ленина: об этом в «Справке В.Д. Бонч-Бруевича о деятельности академика А.А. Шахматова», напечатанной в Археографическом ежегоднике за 1970 год). Академик Н.П. Лихачев был замечательным знатоком водяных знаков (автором каталога их, диссертации на такую тему), печатей, иллюминованных рукописей и изучал это особенно сосредоточенно в своем собрании, ставшем после революции 1917 г. первым в мире Музеем палеографии. Описания и издания
источников на восточных языках, на древнегреческом и латинском языках, предпринятые членами Академии наук, получали международное признание.
Наиболее яркое воплощение творческой взаимосвязи архивов и университетской и академической науки - многообразная деятельность Н.В. Калачова (о котором как об историке-архивисте И.В. Маяковский напечатал статью еще в 1948 г.). Калачов преподавал историю права в Московском университете, служил в Петербурге в Археографической комиссии, организовал археографическую экспедицию в центральные губернии и публиковал выявленные ею исторические источники, работал библиотекарем в МГАМИД, с 1865 г. 20 лет был управляющим МАМЮ. Ему обязаны строительством здания МАМЮ, ставшего основой архивного городка на Девичьем поле, и организацией научной работы, привлечением к этой службе начинающих исследователей, подготовкой томов описания документов МАМЮ, формированием стиля обозрения архивных документов с обширными выдержками из них (после смерти Калачова в том же направлении действовал Н.А. Попов, получивший его должность уже после избрания членом-корреспондентом Академии наук). Калачов поставил вопрос об архивной реформе, предлагал создать исторические архивы в губерниях. Он - инициатор организации губернских ученых архивных комиссий (ГУАК), автор трудов по истории, методике, теории архивного дела, инициатор учреждения высшего учебного заведения для подготовки ученых-архивистов (Археологического института в Петербурге), в 1877 г. высказал идею об образовании вуза схожего типа в Москве. Для пропаганды своих идей и намерений в области архивного дела он использовал трибуну археологических съездов, привлекая тем самым внимание к проблемам архивной культуры и в столицах, и широкой общественности на местах. (Археологические съезды, в которых участвовали обычно и виднейшие ученые, становились с тех пор - как показала Н.В. Бржостовская - трибуной обсуждения архивоведческой проблематики). Калачов и видный публикатор исторических источников (от Русской Правды до Нового времени), организатор изданий, в которых сосуществовали и научные статьи, и научные публикации. Став академиком (1883 г.), он выступил в собрании Академии наук с докладом о Боярской думе, характеризуя уцелевшую ее документацию и упрекая недавно защитившего докторскую диссертацию В.О. Ключевского (обретшего тем самым большую славу не только лектора, но и исследователя) в невнима
нии его к архивному материалу. Вклад Н.В. Калачова в развитие архивной культуры в широком понимании трудно переоценить.
Калачов в своих начинаниях мог уже опереться на опыт работы губернских статистических комитетов, возникших в середине 1830-х годов, широко развернувшуюся деятельность основанного в 1845 г. Географического общества, работавшего под эгидой Академии наук (первым руководителем его был мореплаватель и географ Ф.П. Литке, с 1829 г. член-корреспондент Академии наук, а в 1864-1882 гг. ее президент; его заместителем был академик К.И. Арсеньев). Из четырех отделений Обхцества два имели прямое отношение к истории и архивной документации - статистики России и этнографии; и среди их сотрудников немало видных ученых, гуманитариев, членов Академии наук. В изданиях общества содержалась информация о разнообразной современной документации; еще больше ее отложилось в архиве (анкеты и др.). Там и подготовительные материалы для обобщающего типа справочно-описательных изданий пятитомного « Географически -статистического словаря Российской империи», подготовленного П.П. Семеновым-Тянь-Шанским, и многотомного издания «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества», предпринятого под руководством его же и академика В.И. Ламанского. С Академией наук тесно связана и деятельность Археологической комиссии (образованной в 1859 г.), Русского и Московского археологических обществ. Ознакомление с фондами этих учреждений (а обзор их имеется в изданном в 1979 г. «Кратком справочнике по научно-отраслевым и мемориальным архивам АН СССР») немало дает и для представления о системе организации там архивной работы, в совершенствовании методики которой заметен значительный вклад членов Академии наук.
Безусловна постоянная и крепкая взаимосвязь Академии наук с Археографической комиссией, и потому вхождение Комиссии после революции в число учреждений Академии наук казалось естественным. В значении деятельности Комиссии для развития методики описания и публикации исторических источников, методики архивоведения можно убедиться, ознакомившись со сводного типа библиографическими изданиями 1980-х годов «Библиографический указатель изданий Археографической комиссии. 1836—1936 гг.» (Л., 1983) и «Летопись занятий Археографической комиссии. 1861-1928 гг. Указатель содержания» (Л., 1987).
Существенно то, что видные профессора университетов были членами Академии наук. Они целенаправленно ориенти
ровали своих учеников, особенно диссертантов, на изучение архивных материалов; нередко ученики эти составляли описания таких материалов, готовили их научную публикацию. Это характерно для исторических школ и петербургской (К.Н. Бестужева-Рюмина, С.Ф. Платонова, А.С. Лаппо-Данилевского), и московской (С.М. Соловьева, В.О. Ключевского), киевской (В.Б. Антоновича), филологов (языковедов, литературоведов) в Москве (Ф.И. Буслаева, Н.С. Тихонравова), Петербурге, Киеве (В.Н. Перетца). Ученики таких профессоров продолжали их традиции (М.М. Богословский в Москве, М.В. Довнар-Запольский в Киеве). Археографическая работа становилась традиционной для научных школ историков и филологов. Создатели таких школ А.А. Шахматов, А.С. Лаппо-Данилевский, С.Ф. Платонов привлекали своих учеников к разработке и правил издания источников и осуществления их на практике. Роли видных историков (В.О. Ключевского, А.Е. Преснякова и других) в развитии археографии посвящены помещенные в Археографических ежегодниках статьи С.В. Чиркова, изучающего (во многом опираясь и на архивный материал) проблемы взаимодействия и взаимовлияния археографии и источниковедения в конце XIX - начале XX в.
Показательна в этом плане деятельность академика А.С. Лаппо-Данилевского. Автор исторических трудов широкой тематики (от скифов до Нового времени), крупнейший методолог исторической науки обосновывал понимание источниковедения как системного учения об источниках и методике выявления в них исторической информации. Он - видный организатор науки, участник отечественных и международных объединений историков, создатель научной школы, неутомимо разрабатывавший вместе со своими учениками приемы описания, публикации, изучения исторических источников (особенно актовых в руководимом им семинаре). В Академии наук он наблюдал и за продолжавшимися изданиями документальных памятников («Письма и бумаги Петра Великого»), и инициировал новые документальные издания (серийного «Памятники Русского законодательства», «Россия и Италия», сочинений М.М. Сперанского, сборников грамот Коллегии экономики), разрабатывал планы издания архивных документов XVI-XVIII вв. и выработки правил их публикации. Академик изучал обстановку архивного дела за рубежом и работу ГУАК, публикуя регулярно обзорно-методические доклады о деятельности ГУАК, ав 1917 г. он - председатель Межведомственного совещания о положении ГУАК; в Русском историческом обществе (воз
главляемом даровитым и увлеченным такой работой историком великим князем Николаем Михайловичем и постоянно контактирующим с Академией наук) он был секретарем комиссии по сохранению местных архивных материалов. Немудрено, что именно его избрали председателем созданного в 1917 г. Союза российских архивных деятелей (СОРАД). Сделанное Лаппо-Данилевским в сфере археографии привлекает уже внимание историков (это тема незавершенного исследования С.Н. Валка, о котором статья А.И. Копанева в IX книге ежегодника «Вспомогательные исторические дисциплины», статей С.В. Чиркова и А.А. Александрова в Археографическом ежегоднике за 1994 год, публикации В.Д. Еса-кова в № 12 Вестника РАН за 1997 год), однако в трудах по истории архивного дела деятельность великого историка пока еще обойдена. А она должна стать темой специального рассмотрения.
В деятельности СОРАД особенно явственно ощутимо плодотворное сотрудничество работников хранилищ, Академии наук, университетов. Совместно вырабатывали программу архивной реформы централизаторской направленности с учетом местных потребностей (здесь особо пригодилось знакомство с опытом организации деятельности ГУАК и научных обществ) и предпринимались усилия для сохранения и передачи на государственное хранение частных собраний, покинутых владельцами, и архивов ликвидированных учреждений. После Октябрьской революции и последовавшей затем политики национализации необходимость сохранения архивного наследия еще больше сплотила архивистов СОРАД, и намерения их встретили поддержку назначенного руководителем архивного ведомства Д.Б. Рязанова (об огромной положительной роли его в архивном строительстве и о привлечении к этому делу «спецов»-историков подробнее в статье о Рязанове в Археографическом ежегоднике за 1995 год).
Совместно сотрудниками хранилищ, учеными Академии наук и университетов велась и работа по подготовке декрета, юбилей которого отмечает наша конференция, и последующих декретов, связанных с организацией архивного дела в стране (это прослежено и в моих упоминавшихся ранее статьях конца 1960-х годов, специально по Москве - в статье В.Н. Шумилова). Фонды хранилищ (в том числе Библиотеки Академии наук и Пушкинского Дома, где архивом ведал Б.Л. Модзалевский) в те годы необычайно обогатились, и тем самым были спасены ценнейшие источники для изучения истории и культуры. Особое положение Академии наук - ее как бы экстерриториальность, независимость
от МВД в царские времена, научный и нравственный авторитет знаменитых академиков - обусловили то, что именно в учреждения Академии наук сдавали документы новейшего времени, имевшие общественно-политическую ценность (разгромленных царских органов политического надзора, архивы партий и политических деятелей); через 10 лет это оказалось губительным, послужило поводом для фальсифицированного «дела академиков».
Развернулась невиданного масштаба научно-описательная деятельность: подготовка научных изданий (документов и периодических изданий с историко-архивной проблематикой) и разработка правил изданий исторических источников. Организованы были архивные курсы в Петрограде и в Москве, где к преподаванию привлекли виднейших ученых (среди них и академиков В.В. Бартольда, М.А. Дьяконова, А.С. Лаппо-Данилевского, С.Ф. Платонова, А.И. Соболевского, многих будущих академиков и членов-корреспондентов: С.В. Бахрушина, С.Б. Веселовского, ГО.В. Готье, О.А. Добиаш-Рождественскую, Д.Н. Егорова, Е.А. Косминского, Н.П. Лихачева, М.К. Любавского, А.В. Ореш-никова, А.Е. Преснякова Е.В. Тарле, А.И. Яковлева).
Занимающих видное положение в ученом мире историков вовлекли и в практическую работу по руководству архивным делом: в Петрограде С.Ф. Платонова (который стал заместителем Рязанова), А.Е. Преснякова, Е.В. Тарле, С.В. Рождественского, в Москве М.К. Любавского, М.М. Богословского, С.Б. Веселовского, В.И. Пичету и других. Служба в архиве становилась научной школой и для молодых тогда ученых, ставших впоследствии выдающимися историками, Н.М. Дружинина (описавшего это в своих мемуарах), С.Н. Валка, В.И. Шункова.
Эта многообразная деятельность отражена в «Летописи архивной жизни», напечатанной в первой книге журнала «Исторический архив», изданной Главным управлением архивного дела в Петрограде в 1919 г. Об этом узнаем и из статьи А.Е. Преснякова «Реформа архивного дела» в пятой книге «Русского исторического журнала» (1919 г.). Знаменательным внешним показателем отношения правительства к организации архивного дела была передача архивному ведомству помещения бывших Сената и Синода в Петрограде.
В эти же годы возникло множество новых хранилищ - музеев, библиотек, архивов. И они становились средоточием местной культурной жизни и базой для невиданного прежде подъема краеведческой работы. Эта краеведческая работа велась под ру
ководством Академии наук, причем не только методическом, но и организационном: главой Центрального бюро краеведения был непременный секретарь Академии наук С.Ф. Ольденбург, его заместителями - тоже академики Н.Я. Марр и А.Е. Ферсман. А.В. Луначарский сформулировал даже на конференции краеведов 1921 г. положение «об общественной работе под руководством специалистов», а Ольденбург в статье 1927 г. «Положение нашей науки среди науки мировой» особо отмечал, что в послереволюционные годы краеведение сделалось «лозунгом новых подходов к работе». В подготовленный Академией наук сборник статей «Общественные науки СССР. 1917-1927» включена и специальная статья «Краеведение», написанная тем же Ольденбургом.
Линию сотрудничества со старой интеллигенцией (и художественной, и научной) и заботы о сохранении и использовании историко-культурного наследия старался проводить нарком просвещения А.В. Луначарский, поддерживаемый Н.И. Троцкой (возглавлявшей музейный отдел Наркомпроса). Иную позицию занимал первый заместитель наркома и политический руководитель Наркомпроса М.Н. Покровский, к мнению которого склонялась обычно и Н.К. Крупская. Линия Луначарского, а в архивном деле Рязанова, бывшего первое время заместителем наркома, способствовала привлечению к культурному строительству тех, кого называли буржуазными интеллигентами - «спецов», и даже наиболее квалифицированных из них (о такой роли Рязанова С.Ф. Платонов счел необходимым написать в своей автобиографии, предназначенной для зарубежного издания, и даже повторить на следствии в тюрьме в 1930 г.). Луначарский в секретной записке, составленной по заданию В.И. Ленина в марте 1921 г., писал, характеризуя ученого: «Академик Платонов - ума палата... историк правых убеждений. Несмотря на это, стал работать с нами, сначала управлял архивом Наркомпроса, потом был привлечен Рязановым в качестве своего помощника по управлению архивами в Петрограде, а сейчас управляет ими более или менее единолично под общим контролем М.Н. Покровского, держится в высшей степени лояльно и корректно» (документ напечатан в 80-м томе «Литературного наследства»).
Из дневников ГО.В. Готье, статей памяти А.С. Лаппо-Данилевского и А.А. Шахматова, и многих других современных событиям источников известно о болезненном восприятии академической элитой и профессурой действий и лозунгов советской власти. Но такое отношение, как у Рязанова и Луначарского, по-
буждало если не к активному сотрудничеству с этой властью, то по крайней мере к нейтралитету. И это позволяло «спецам»-гу-манитариям действенно отдавать силы охране и изучению культурного наследия, работая в архивах, музеях, библиотеках. Эта работа была именно в то время особенно важна, так как их отторгали от привычной преподавательской деятельности в университетах. (Подробнее об этом в моей книге «Краеведение и документальные памятники», изданной в 1992 г. архивным отделом администрации Тверской области.)
Настроение определенной части петроградской научной элиты в 1918 г. можно уяснить по выступлениям на открытии Петроградских архивных курсов 31 августа 1918 г. С.Ф. Платонов начал свою речь так: «Общий процесс разрушения, в котором не намечается еще процесс созидания, как это ни странно, животворящим образом отразился на архивном деле». Заместитель его по руководству петроградскими архивами А.Е. Пресняков завершил свой доклад «Исторические источники и подлинные документы в научной работе» словами: «Рациональная постановка архивного дела уже сама по себе является мощным стимулом всевозможных успехов развития исторической науки. Ученые-архивисты держат в руках ключи от богатейших сокровищ, назначение которых оплодотворять науку и обусловливать основные этапы познания прошлого. Сложная и ответственная задача лежит на тех, кто берет на себя нелегкую работу архивиста: она требует серьезной разносторонней научной подготовки, большой любви, а иногда и прямо самоотверженного отношения к делу».
Ю.В. Готье имел основания полагать в 1921 г., что развитие исторической науки «тесно связано с превращением наших архивов в научные лаборатории». А М.М. Богословский, возглавлявший научно-теоретический отдел Главархива, составил докладную записку с призывом к научному исследованию архивных материалов самими сотрудниками центральных хранилищ, которые должны стать средоточиями подготовки диссертаций, особенно когда с уничтожением ученых степеней эта практика прекратилась в университетах («Записка», формулирующая и другие задачи научной разработки архивных материалов, сейчас подготовлена к печати А. В. Мельниковым). Видные ученые печатали статьи архивовед -ческой тематики, выступали с докладами на конференциях архивистов; ученики Лаппо-Данилевского после его кончины (1919 г.) собирались на заседаниях «кружка имени Лаппо-Данилевского» для обсуждения вопросов архивной терминологии, что нашло от
ражение в последующих докладах такой тематики А.И. Андреева на конференциях архивных деятелей. Много интересного в развитии архивной мысли в конце 1910 - начале 1920-х годов выявлено (прежде всего В.Н. Автократовым) при сопоставительном изучении опубликованных и архивных материалов (в частности, в фонде самого Главархива).
Это годы и серьезных архивных реформ, и творческого обращения к богатым традициям отечественной и мировой науки. Положительное значение того, что было сделано в области архивного дела и, соответственно, для развития архивной культуры в первые годы советской власти, позволяет считать это время «золотым периодом» в истории отечественных архивов, во всяком случае в истории творческих контактов архивов и академической науки, причем начиная с весны 1917 г.; подобно тому как первое послереволюционное десятилетие краеведения было его «золотым десятилетием» (это предложенное мною определение утверждается уже в историко-краеведческой литературе).
Между тем в трудах по истории архивного дела долгое время создавалась искаженная картина истории архивного дела этого периода, выделялись главным образом негативные моменты во взаимоотношениях архивов и академической науки. И иной взгляд, изложенный мною в докладах конца 1960-х годов (положения эти были развиты затем в других работах), воспринимался как противоречащий принятым тогда представлениям, хотя сразу же был печатно поддержан академиком Н.М. Дружининым (на с. 330-331 Археографического ежегодника за 1969 год) и С.Н. Валком (в его рецензию с положительной оценкой такого мнения требовали внести изменения; С.Н. Валк отозвал ее из редакции журнала, и ее напечатали посмертно в том же журнале «Отечественные архивы» лишь в 1992 г.). Теперь, особенно после исследований В.О. Седельникова и других историков более молодых поколений, положение изменилось, и в новейшем учебном пособии Т.Н. Хорхординой уже иная, чем прежде, характеристика истории архивного дела в первые советские годы и сделанного СОРАД. Но предстоит еще большая работа в плане более углубленного исследования этих вопросов и определения места такой проблематики в трудах общеисториографического профиля, где эта тема, по существу, даже не затрагивается.
С приходом к руководству Главархивом осенью 1920 г. М.Н. Покровского и его ставленников происходят постепенно существенные изменения в ходе архивного строительства и кон
такты архивов и академической науки становятся год от года менее благоприятными. Это уже ощущалось на I Всероссийской конференции архивных деятелей, проходившей в Москве в сентябре 1921 г., в которой еще участвовали и «спецы», приглашенные на работу Рязановым. И ученые это почувствовали: академик М.М. Богословский в докладе «Научная разработка архивных материалов» счел нужным предупредить, что «архивы остаются без исследователей, и если не прийти на помощь, то исследовательская работа совсем прекратится». Новые руководители Главархива (заместитель Покровского В.А. Адоратский позднее тоже станет академиком, но годы его службы в архивном ведомстве никак нельзя отнести к сфере академической науки) удалили от непосредственной службы в системе архивов «старых специалистов» (сначала в Петрограде, затем в Москве), сократили возможности научно-исследовательской работы архивов и особенно самих архивистов (сотрудников архивных учреждений), изучение многих проблем (прежде всего по истории эпохи феодализма) объявили неактуальным. Начинаются чистки - увольняют ученых специалистов (это рассмотрено в трудах О.Н. Копыловой, В.Е. Корнеева, О.В. Пеки, А.П. Пшеничного и других). Т.Н. Хорхордина имела все основания озаглавить посвященный периоду 1920-1928 гг. раздел своей книги «История Отечества и архивы: 1917-1980 гг.» «Политизация архивов».
В большей мере контакт с академической наукой сохранялся в хранилищах, не подведомственных Главархиву, - помимо Института К. Маркса и Ф. Энгельса, возглавляемого Рязановым, в Библиотеке имени В.И. Ленина, где директором был В.И. Невский, в Музее революции, которым руководил С. И. Мицкевич.
Платонов, ставший в конце 1918 г. первым избранным председателем Археографической комиссии, а в середине 1920-х годов директором и Библиотеки Академии наук и Пушкинского Дома, старался продолжать традиционную архивную и археографическую работу, существенно важную для развития всей архивной культуры (о деятельности Археографической комиссии в 1917— 1931 гг. сведения в статье Л.В. Ивановой). Было намерение подготовить академическое издание Русской Правды. М.М. Богословскому в 1928 г. предложили обследовать московские хранилища. Платонов стремится (поддержанный избранным в академики Рязановым) основать в системе Академии наук на базе Археографической комиссии особый «научно-исследовательский институт по русской историографии и источниковедению» как центр по
технике исторического исследования, независимый от идеологических воздействий.
Покровский решительно воспрепятствовал этому, как и продолжению традиционного типа исследований, основанных на архивных изысканиях в РАНИОН, где ведущую роль в подготовке специалистов по отечественной истории играл М.М. Богословский. (О противостоянии Покровского и Платонова подробности в моей статье в Археографическом ежегоднике за 1992 год.)
Большой урон развитию исторической науки, контактам ее с архивами, развитию историко-культурного краеведения (базой которого были в значительной мере местные хранилища памятников культуры - архивы и музеи) нанесли в зловещий год «великого перелома», когда начались организованные преследования историков академической школы (так называемое «дело академиков») и краеведов. Вскоре разгромили и Институт К. Маркса и Ф. Энгельса, руководимый Рязановым, с которым связаны были ученые специалисты по всеобщей истории. И характерно для умонастроения и поведения этих преданных своему делу историков, что С.Ф. Платонов в написанной в тюрьме в апреле 1930 г. «Записке» счел возможным сформулировать такую мысль: «...будучи не только историком-исследователем, но и историком-техником (издателем текстов и археографом), я находил и нахожу исключительность Покровского и его школы вредной для роста у нас исторической науки и желал бы, чтобы подготовка молодых археографов была свободна от этой исключительности», а высланный в Новосибирск член-корреспондент С.К. Богоявленский разрабатывал там новую методику описания архивных материалов.
Обличительная критика так называемой школы Покровского дала возможность оставшимся в живых «спецам» возвратиться к привычной работе; но наступил террор середины 1930-х годов, пагубно отразившийся на судьбе и нашей культуры. Возрождение интереса к гражданской истории, восстановление исторического образования в вузах все же вело к восстановлению и больших, чем в предыдущее десятилетие, взаимосвязей академической науки с архивами. Это выражалось в деятельности учреждений, руководимых академиком Б.Д. Грековым, в подготовке там академического типа (по всем спискам и редакциям, с комментариями) публикаций исторических источников: самое высокое достижение - издание Русской Правды. План работы академического Историкоархивного института 1930/34 г. (во главе его был С.Г. Томсинский,
вскоре арестованный), опубликованный в первом сборнике «Проблемы источниковедения», вышедшем в 1933 г., явно составлен в надежде на такие творческие контакты. Руководитель Архива Академии наук Г.А. Князев составил пособие «Теория и техника архивного дела», изданное в 1935 г. архивным ведомством с подзаголовком «Опыт систематического руководства». Ученых Академии наук привлекают к преподаванию в Московском государственном историко-архивном институте: там еще до войны читал лекции академик Ю.В. Готье, лекции М.Н. Тихомирова и С.А. Никитина стали основой первых учебников по источниковедению отечественной истории. В последующие годы в МГИАИ преподавали С.Б. Веселовский (который вел и занятия по технике исторического исследования), А.Н. Сперанский, А.И. Андреев, А.А Новосельский, Н.В. Устюгов, Л.В. Черепнин, В.К. Яцунский, позднее А.А. Зимин и другие.
Даже во время войны, в 1943 г., в Главархиве на совещании докладчиками выступали члены Академии наук; сотрудников Академии приглашают к редактированию и научных публикаций, и путеводителей по архивам. Более того, в 1944 г. предпринята была попытка учреждения «в целях осуществления руководства, планирования и объединения всей работы по изданию документальных материалов» Государственной археографической комиссии под председательством академика А.Я. Вышинского (в то время злодей этот занимал высокие государственные посты) при заместителях - директоре Института истории Академии наук Б.Д. Грекове и начальнике Главархива И.И. Никитинском. Однако предложение это, дававшее особые преимущества НКВД (при котором находился тогда Главархив) и ущемлявшее права ИМЭЛ при ЦК ВКП(б), не было принято (об этом в статье В.А. Черных в Археографическом ежегоднике за 1991 год).
Сотрудниками Академии наук в 1940-е годы создавались труды, имевшие и существеннейшее методическое значение для развития архивоведения, археографии и примыкающих к ним специальных дисциплин - книга С.Н. Валка «Советская археография» (1948), монография Л.В. Черепнина о феодальных архивах, изучение русских средневековых актов И.А. Голубцовым, декретов советской власти (С.Н. Валком, Е.А. Луцким и др.), источников по истории Сибири А.И. Андреевым и др.
В институтах Академии наук готовили серьезного научного значения документальные публикации, естественно, опиравшиеся на материалы хранилищ, но обычно не как совместные рабо
ты с этими хранилищами (например, публикации памятников древнерусской литературы сотрудниками Пушкинского Дома). Постепенно с изданием серий документальных памятников определенной тематики контакты закреплялись и организационным порядком (создание совместных редколлегий, научные конференции в архивах и др.). И существенно, что руководителями таких серийных изданий становились ученые Академии наук, и уже имеются статьи, фиксирующие их действенное участие в выработке методики и выявления архивных материалов и самой публикации их: статьи Э.С. Паиной о Н.М. Дружинине как руководителе работы по подготовке издания «Крестьянское движение XIX века», Ю.А. Ахапкина и А.С. Покровского о роли С.Н. Валка в издании законодательных актов советской власти - в Археографических ежегодниках за 1971 и 1972 гг., статьи (обычно приуроченные к юбилеям) и о других видных историках и филологах, характеризующие именно археографически-архивоведческий аспект их научного творчества.
Когда наступил период в нашей жизни, называемый зачастую оттепелью, обнаруживается все большее сближение между хранилищами и учреждениями Академии наук, их сотрудниками. Журнал «Исторический архив», начавший выходить в 1955 г., -совместное издание: его издавал Институт истории Академии наук при участии Главархива и Института марксизма-ленинизма. Там сотрудники учреждений Академии наук (Б.Г. Литвак и др.) печатали статьи и по методике археографической и архивной работы, а доклад - статью общего характера о публикации исторических источников для Международного конгресса историков в Риме подготовили сотрудники Академии наук А.А. Новосельский и В.И. Шунков.
Неслучайно, конечно, именно тогда по почину академика М.Н. Тихомирова, имевшего большой опыт археографической (описания и публикации исторических источников) и даже архивно-организационной работы (он несколько лет был заведующим отделом рукописей Исторического музея), возрождается в 1956 г. Археографическая комиссия Академии наук, затем создаются ее отделения (первое в Ленинграде во главе с С.Н. Валком). Начинают выходить ежегодные издания «Археографический ежегодник», позднее и «Вспомогательные исторические дисциплины», где немалое место уделяется проблемам истории, теории и методике археографии и архивоведения, и постоянными авторами становятся сотрудники архивов.
Благодаря М.Н. Тихомирову возобновляется издание Полного собрания русских летописей; он главный редактор изданий и других исторических источников, автор доклада о деятельности РГАДА и архивов - его предшественников. Осуществляет и описание своего богатого собрания рукописей - «Тихомиров-ского собрания» (главным сотрудником его был Н.Н. Покровский, ныне академик), которое еще при жизни передает в дар Сибирскому отделению Академии наук в Новосибирск, для того чтобы и там повышался уровень архивной культуры. Его инициативе мы обязаны и «археографическому открытию Сибири» -организации первых поисковых археографических экспедиций в Сибирь, которые, как и деятельность неутомимого сотрудника Пушкинского Дома В.И. Малышева на Европейском Севере, вызвали новый подъем полевой археографии уже в масштабах всей страны.
Можно привести немало примеров творческого сотрудничества, причем в каждодневной практической работе историков (изучающих и далекое прошлое, и близкое к нам) и архивистов. То же относится и к филологам - среди них академик Д.С. Лихачев, книги которого по текстологии - кладезь полезного для всех, кто занят описанием и публикацией архивных текстов.
Последние десятилетия - время по существу постоянного взаимодействия архивов и академической науки, время и совместных начинаний, и, если можно так сказать, взаимопомощи. Это выражается в каждодневной работе академических сотрудников в хранилищах и их участии в деятельности хранилищ (прежде всего публикаторской) и их ученых советов, в организации совместных конференций, в участии сотрудников Академии наук в конференциях, организуемых архивными учреждениями, в заседаниях, инициированных архивистами, в редколлегиях таких изданий, как «Отечественные архивы», «Исторический архив» и др. Внешним признанием такой близости является и то, что нынешний руководитель Росархива избран членом-корреспондентом Академии наук, а председателем Общества историков-архивистов и ранее был член-корреспондент РАН, а теперь член-корреспондент, директор Института всеобщей истории РАН’. Личная приязнь только укрепляет научные взаимодействия.
Имеется в виду А.О. Чубарьян, ныне действительный член РАН. До него председателем Общества был член-корреспондент РАН Я.Н. Щапов.
Но самое существенное то, что видные ученые в своих трудах опираются на архивную практику и сами обогащают практику и архивоведения, и археографии. Ограничусь двумя примерами, но новейшими. Академией наук изданы в 1998 г. книги монографического типа, адресованные и архивистам. Это труд литературоведа А.Л. Гришунина «Исследовательский аспект текстологии» об опыте изучения и подготовки изданий сочинений писателей нового времени и книга члена-корреспондента РАН, руководителя подразделения в Институте российской истории С.М. Каштанова «Актовая археография», где ставится вопрос об актовой археографии как о специальной отрасли знаний, анализируется отечественный и зарубежный опыт публикации средневековых актов, уделяется особое внимание спорным вопросам передачи текста, составлению легенд, описанию водяных знаков и печатей, даются методические рекомендации по изданию таких актов.
Изучение научного наследия - условие дальнейшего развития науки. Потому так важно переиздание трудов, обретших значение классических: публикация в одной книге избранных трудов С.Н. Валка по археографии (в 1991 г.) не только дань уважения к памяти патриарха нашей археографии и источниковедения, оно облегчает нашу сегодняшнюю работу. Потому важны - и тоже отнюдь не только в плане создания объективной и достаточно подробной истории археографии и архивоведения - диссертации и статьи о видных историках, бывших и археографами, и архивистами. Изучение творческого содружества сотрудников хранилищ и научных учреждений должно быть одной из ведущих линий трудов и по истории архивного дела и археографии, и по истории исторической науки. В наши дни оно все более ощущается как добрая традиция; и представление об этом обогащает наши понятия о развитии архивной культуры и о месте ее в общественной жизни.
Становится все очевиднее то, что к концу XX столетия произошли заметные изменения и в проблематике занятий историей, и в среде тех, кого эти занятия особенно привлекают. Историки уже не довольствуются преимущественным вниманием к проблемам государственно-политической истории (такой интерес был преобладающим по крайней мере до середины XIX в.), к социально-экономической истории, к истории культуры и памят-никоведению. Ныне существенно значимыми представляются и вопросы по изучению повседневности, быта обычных («рядовых») людей, микроистории. И круг занимающихся историей уже не ограничивается лицами со специальной подготовкой (преподавателями, аспирантами, студентами высших учебных заведений соответствующего профиля, сотрудниками научно-исследовательских учреждений, архивов, музеев, библиотек), становится все шире.
Сочинения, ценные для историка-исследователя наблюдениями (а подчас и выводами более весомого значения), печатают не только в изданиях, специально предназначенных для ученых, -даже на газетных полосах. Приятно, что оригинальные по теме и исполнению статьи опубликованы в сборниках работ школьников: так, в Петербурге в 1997 г. имели место уже VII историкокраеведческие чтения школьников. Доклады или их фрагменты напечатаны в шести выпусках сборника «Наследники великого города», причем немало статей сборников основаны и на архивных данных.
Добросовестный исследователь обязан теперь учитывать труды и историков-любителей, в историографических обзорах не ограничиваться упоминанием имен лишь ученых, избравших гуманитарные науки своей основной профессией.
Это должно радовать архивистов, свидетельствуя о востребованности сделанного ими для собирания, описания, публикации, использования документальных материалов, но одновременно налагает на сотрудников хранилищ обязанность облегчить историкам-любителям доступ к информации, имеющейся в доверенных архивистам документальных памятниках.
Архивы и историки-любители // Междунар. науч. конф. «Историки и архивисты: сотрудничество в сохранении и познании прошлого в интересах настоящего и будущего». 27-28 ноября 1997 г. Москва: Материалы конф. М., 1998. С. 85-93.
Особо возрастает стремление ознакомиться с прошлым своей «малой Родины» - с местностью рождения, обитания, с местными достопамятностями, а также со сведениями о своих родных и о том, что имеет отношение к своей биографии. Следовательно, более всего это проявляется в развитии локальной истории и генеалогии.
В России общепринято слово «краеведение». Это - и наука, и научно-популяризаторская деятельность определенной проблематики, прошлое и настоящее какого-либо края (чаще всего своего родного), определенной местности (от деревни, небольшого города, даже улицы, храма, усадьбы, фабрики, учебного заведения, парка и т. д., и т. п. до крупного региона) во всем многообразии тематики. Краеведческое знание - комплексное знание: историческое (шире - историко-культурное, даже историко-литературное, историко-экономическое) и географическое одновременно (и потому-то особенно важное в плане приобщения и к экологической культуре). Краеведение - и форма общественной деятельности, причем такой, к которой причастны не только ученые-специалисты, но и значительно более широкий круг лиц (разного сословного положения, разной степени образованности, разного возраста), преимущественно местных жителей. Краеведение - не только краезнание, но всегда и краелюбие.
За рубежами бывшего СССР все возрастающий интерес к локальной истории и народной генеалогии явственно обнаружился уже к середине XX в., особенно в небольших государствах с давними историко-культурными традициями: там приверженность к сохранению кажущихся приятно старомодными элементов, традиционной местной культуры как бы противостоит обезличению новейшей эпохи высокоразвитой индустриализации (тем более что «лица необщее выраженье» кажется особенно привлекательным в век распространения туризма).
С недавнего времени такой интерес все более ощутим и в России, особенно в постсоветской. Ранее, при тоталитарном режиме, местная «самодеятельность» обычно пресекалась; направленность научной работы исходила от указаний учреждений, расположенных в центре столицы, - Кремля, Центрального комитета Коммунистической партии на Старой площади и Лубянки (так в просторечии именовали ЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ, здания которых были вблизи улицы и площади такого названия, получивших затем имя строителя советской карательной системы Дзержинского). Освобождаются и от страха обнаружить при генеалогиче
ских изысканиях «неудобных» родичей (осужденных как «враги народа» или находившихся за рубежом), что становилось небезопасным и для изыскателя, и для его близких. Постепенно это приводит к явственно намечающемуся возрождению историко-культурного краеведения, загнанного с укреплением тоталитарного режима в подполье.
«Золотым десятилетием» развития краеведения было первое десятилетие после революционных событий 1917 г. Тогда объединились усилия многих прежде всего для спасения оказавшихся без хозяев памятников истории и культуры и организации передачи их на государственное хранение. Тогда образовалось множество обществ, архивов, библиотек, музеев (с отделами письменных памятников), научными руководителями которых были, как правило, краеведы. Пожалуй, впервые в такой мере объединялись стремления и усилия местной интеллигенции и московских и петроградских специалистов из Академии наук, вузов, хранилищ. Работой Центрального бюро краеведения и его изданиями руководил непременный секретарь Академии наук академик С.Ф. Ольденбург. Краеведческим трудам придавали столь большое значение, что статья о развитии краеведения была помещена в сборнике о достижениях Академии наук, изданном к десятилетию событий 1917 г. В те годы виднейших ученых-гуманитариев лишили возможности читать лекции в высших учебных заведениях, где все однозначно подчинили делу пропаганды новой официальной марксистско-ленинской идеологии, и они, по почину Д.Б. Рязанова (первого руководителя советского архивного ведомства, опытного архивиста и археографа, получившего международное признание за изучение и издание творческого наследия К. Маркса и Ф. Энгельса), были привлечены к работе в архивах. К сотрудничеству в музеях и библиотеках подобных же специалистов привлекли нарком просвещения А.В. Луначарский, руководитель музейного отдела Наркомпроса Н.И. Троцкая. Никогда прежде специалисты столь высокого класса не разрабатывали проблемы архивного и музейного дела выявления, собирания, атрибутирования, описания, использования в научных и просветительских целях документальных памятников. Этим заняты были тогда и их ученики - ученые, прославившие затем отечественную историческую науку (С.Н. Валк, Н.Д. Дружинин, М.Н. Тихомиров, С.Н. Чернов, В.И. Шунков и другие). Архивные материалы широко использовались и для трудов краеведческой тематики, а в краеведческих изданиях заметное место занимали
сочинения и историков-любителей. (Подробная информация об этом в книге С.Б. Филимонова «Краеведение и документальные памятники (1917-1929 гг.)», изданной в 1989 г.) Убеждаемся в том, что достоинство «ремесла» историка поддержано было в годы господства вульгаризаторской школы М.Н. Покровского в значительной мере благодаря работе сотрудников архивов и музеев.
Но на рубеже 1920-1930-х годов историко-культурное краеведение подверглось сокрушительному разгрому: многие краеведы были арестованы или отстранены от любимого ими дела, издания их прикрыты; прекратили существование многие музеи (особенно в усадьбах, монастырях), были порушены музейные экспозиции. Выдвинули обвинение о политической связи краеведов с видными историками (академиками С.Ф. Платоновым, Е.В. Тарле, М.К. Любавским и др.), которых осудили по фальсифицированному делу о монархическом заговоре. (Ныне материалы «академического дела» 1929-1931 гг. издаются; первый выпуск «Дело по обвинению академика С.Ф. Платонова» опубликован в 1993 г. в С.-Петербурге.) С утверждением тоталитарного сталинского режима и историко-культурному краеведению, и науке архивного и музейного дела был нанесен существеннейший ущерб, велик был и нравственный урон - краеведение перестало быть формой общественной деятельности. (Подробности обо всем этом в книге С.О. Шмидта «Краеведение и документальные памятники». Тверь, 1992.)
Понятно, что это не могло не затормозить надолго не только развитие генеалогии, но и изучение повседневности и в прошлом, и в настоящее время. Напечатанное позднее по такой проблематике - в основном достижения последних десяти-пяти лет, времени, которое называют перестроечным. И потому-то те вопросы, которые встают перед архивистами других стран, где историки-любители - постоянные «сидельцы» читальных залов хранилищ, становятся особенно актуальными и для россиян конца нашего столетия, когда происходит пересмотр общественных ценностей, общегосударственное перестает преобладать над личным и официальная идеология утрачивает первенствующее значение.
Соответственно, привлекло внимание и наследие краеведения «золотого десятилетия» и предшествовавшая ему деятельность краеведческого типа общественных организаций и государственных учреждений (губернских ученых архивных
комиссий, губернских статистических комитетов и др.)- Издаются труды, им посвященные, данные о личных фондах краеведов включаются в готовящийся Археографической комиссией Российской академии наук Каталог личных фондов отечественных историков, в томах Археографических ежегодников, в журнале «Отечественные архивы» и в других изданиях печатают статьи о творческом наследии и жизни краеведов. Много делают на местах: издают сочинения тех, кто был отстранен в 1929-1931 гг. от краеведения - вышли в свет работа знаменитого переславского краеведа М.И. Смирнова о Переславле-Залесском (подготовленная еще по рекомендации М. Горького), статьи его младшего брата костромского краеведа В.И. Смирнова. Постоянно появляются давние труды краеведов на страницах недавно возникших продолжающихся изданий «Пензенский временник любителей старины», «Костромская старина», «Тверская старина», «Ярославская старина» и др. Институтом российской истории Академии наук издана книга С. В. Журавлева об организации работы по истории фабрик и заводов в 1930-е годы (опирающаяся прежде всего на архивный материал). Немало и диссертаций по истории краеведения (особенно в Историко-архивном институте). Работу в таком направлении, несомненно, следует продолжить. Сейчас это облегчается организационными возможностями. Еще в 1990 г. образован Союз краеведов России; недавно в Российском государственном гуманитарном университете (это широкого профиля учебное заведение образовано на базе Московского государственного историко-архивного института) созданы и Центр краеведения и москвоведения, и кафедра региональной истории и краеведения, а в Российской академии образования - при президиуме ее - Научный совет по краеведению. Их общими усилиями организуется в декабре 1997 г. научно-практическая конференция по преподаванию краеведения в высшей школе. В конце ноября были проведены IV Всероссийские педагогические чтения, специально посвященные проблемам краеведения в жизни средней школы. Преподавание краеведения стало обязательным школьным предметом, начиная с младших классов. В Москве совет по москвоведению возглавляет первый вице-мэр и готовятся учебники для разновозрастных школьников, которые правительство Москвы намерено бесплатно предоставить всем учащимся.
Ясно, что это все приведет в архивы еще больше историков-любителей или, во всяком случае, лиц, не имеющих серьезного
опыта работы в хранилищах документов, прежде всего школьных педагогов.
Каким путем, какими способами удовлетворить потребности любителей истории, обращающихся к архивной документации? Да еще зачастую по проблематике, представляющейся сугубо «частной» и недостаточно связанной с большими проблемами, разрабатывающимися в научно-исследовательских и вузовских центрах и отраженных в совместной с ними работе государственных хранилищ?
Интерес к обращению к архивной документации, казалось бы, следует только приветствовать. Ведь историк-архивист по призванию, любящий свое дело и «свои» документы, менее всего напоминает собаку на сене. Он заинтересован в их использовании, но... в использовании умелом и добросовестном, чтобы не выдавались за истину случайные, выхваченные, не сопоставленные с иными факты. Тем более что поверхностное использование архивных материалов, воплощенное в печатном слове (да еще со ссылкой на архивную единицу хранения), может и прикрыть тему, создать видимость ее достаточной изученности.
И здесь возникает немало трудностей. Особенно учитывая то, что среди историков-любителей лица разного уровня научной подготовки. Вероятно, в конечном счете следовало бы закрепить практику обязательной подготовки к такой работе еще в годы обучения для проявляющих особое влечение к тому, даже в средней школе, как это делается в Петербурге, Пензе, Твери и некоторых других городах. И уж, безусловно, закрепить практику обязательного обучения основам архивного дела в педагогических и других вузах, готовящих школьных учителей, ибо учителя (особенно в небольших городах, поселках, селах) чаще других и сами увлеченно занимаются краеведением, и призваны руководить школьниками, имеющими к тому склонность. Причем основы эти должны преподаваться на всех факультетах таких вузов (разумеется, конечно, в большем объеме на гуманитарных и географическом). Вероятно, стоило бы ввести краеведческие факультативы и в иных вузах -технических, медицинских и пр. Скажем, для агронома может представлять практический интерес возможность получения информации о сельскохозяйственном опыте той или иной местности. Не говоря уже о том, что к архивным материалам непременно обращаются все занимающиеся - в целях и исследовательских, и учебных - историей своего учебного заведения, деятельностью его преподавателей и выпускников.
Конечно, необходимо подготовить соответствующего профиля учебные пособия и поддерживать местную инициативу в подготовке подобных пособий (а такая инициатива, к радости нашей, имеет место - причем от Карелии до Сибири и Дальнего Востока!). В готовящееся новое издание учебного пособия «Документальные памятники», впервые вышедшего в 1988 г., еще в 1991 г. (когда предполагалось новое издание по всесоюзной тогда учебной программе), добавили большую главу (более пяти листов) о краеведении и документальных памятниках.
Должно распространять опыт Московского городского архива, некоторых областных архивов, издающих сборники документов, приспособив это и к учебным программам школьников (что сделано, к примеру, в Твери). Словом, действеннее включиться в научно-популяризаторскую и просветительскую работу на архивной ниве, руководству Росархива и областных архивов поощрять особо отличившихся на этом поприще сотрудников архивов.
Важно оказание содействия тем, кто намерен привести в порядок свой архив (личный или семейный), тем более, опираясь на его материалы, писать воспоминания. Это облегчит и последующую работу архивистов в случае, если архив попадет затем в государственное хранилище (а об этом тоже следует заботиться). Сейчас интерес к материалам личных фондов и личного происхождения все усиливается: документы такого происхождения (особенно мемуары и письма) постоянно публикуют в журналах широкого профиля, в газетах. В газете «Первое сентября», становящейся все более привлекательной не только для учителей, но и для более широкой читательской среды, появился особый раздел «Домашний архив», материалы к которому подбирает известный журналист Д.Г. Шеваров (уже прежде немало сделавший в этом направлении на страницах газеты «Комсомольская правда»). Еще в 1970—1980-е годы выпускали методические пособия по сохранению семейных архивов и организации работы по созданию воспоминаний. Такой раздел есть и в упоминавшейся учебной книге «Документальные памятники: выявление, учет, использование» 1988 г. Особое внимание следовало бы обратить на помощь мемуаристам, обращающимся в архив для проверки и пополнения своих воспоминаний.
Но необходимо не только привлечь внимание к архивным документам, приохотить к знакомству с ними, но и облегчить архивный поиск, разработать соответствующие приемы архивной
эвристики. Причем для лиц разного уровня подготовки. Не следует упускать из виду то, что среди историков-любителей нередко встречаются такие, которые хорошо разбираются в новейшей информационной технологии и являются специалистами высокого класса в других («своих») сферах научного знания. И для таких людей интересна не только возможность получения новой исторической информации, но завлекательна сама методика обнаружения, извлечения, истолкования этой информации - не только кто, что, где, когда, почему сделал? Но и как это узнано? Насколько представительны эти данные?
Следовательно, нужно знакомить и с системой собственно справочников, и с системой их составления, подготовить апробированные перечни печатных и неизданных справочников об архивных документах, а также о других справочных изданиях, обязательно отсылая к общего типа изданиям вроде «Справочники по истории дореволюционной России» под редакцией П.А. Зай-ончковского и более частной тематики. Такие рекомендательные списки должны быть в читальных залах архивов, причем на открытом доступе. Еще лучше, конечно, если будут сами издания и различные энциклопедические и иные словари. Должно рекомендовать сведения и о базе данных более широкого профиля (например, во ВНИИДАД).
Существенно важно знакомить с деятельностью тех, кто прежде занимался такой или схожей тематикой. Имена краеведов стали обязательно включаться в местные энциклопедии. Мосгорархив издал полезнейшие справочники о живых и о покойных москвоведах: «Историки и краеведы Москвы. Некрополь: Биобиблиографический справочник» (М., 1993), «Москвоведы. Справочник о краеведах, обществах и научных учреждениях» (М., 1996). Пример, достойный подражания!
Необходимо строго следить за тем, чтобы были содержательные данные на листе использования: не только фамилия, но и цель работы. И рекомендовать впервые обращающимся к архивным документам выяснить, кто это делал до них, опубликовал ли что-либо.
Это важно и потому, что станет препятствием для изображения себя некоторыми как «первооткрывателей» и станет предостережением для скорых на перо литераторов, склонных к эксплуатации выигрышной темы, оправдывающих недостатки написанного ими невозможностью якобы получить больше сведений и в печатных сочинениях, и в архивах о том, о чем они попы
тались побыстрее напечатать. Вероятно, полезно было бы завести в хранилищах библиографические перечни изданного (хотя бы в последнее десятилетие) на основании документов этого хранилища - и документальные публикации (даже во фрагментах) и статьи (обязательно включая газетные), и книги.
Возрастающий интерес к богатствам архивов - это залог возрастания роли архивов в формировании общественного сознания, исторической памяти народа.
Работа по подготовке Каталога личных фондов отечественных историков началась в Археографической комиссии еще в 1970-е годы. Целесообразность такого начинания обусловлена несколькими обстоятельствами, и прежде всего уровнем развития исследований в сферах историографии, источниковедения, архивного дела и археографии.
К тому времени стало утверждаться более широкое и опирающееся на многообразную источниковую базу представление о предмете и задачах историографии и определилось понятие об источниковедении историографии. В трудах по истории исторической мысли перестали делать акцент преимущественно на исторических концепциях и общественно-политических воззрениях историков. Большое внимание стали уделять методике исторических трудов, введению в научный обиход новых исторических источников, истории исторических дисциплин, формам распространения исторических знаний, роли в развитии науки преподавания истории, деятельности хранилищ памятников истории (архивов, библиотек, музеев), научных обществ, широкой прессы, значению воспитания историей в формировании общественного сознания.
Стало очевидным, что историю исторической науки, особенно в ее «повседневности» (столь привлекательной со второй половины XX в. для ученых-гуманитариев разных областей знания), нельзя изучать, рассматривая лишь вершинные явления, имена и сочинения, получившие затем статус «классических». Поняли и то, что недопустимо ограничиваться только печатными материалами: неизменно велико было влияние вузовской науки (именно там складывались обычно научные школы), различного типа форумов (от заседаний местных научных обществ до международных), а становление и характерные черты научного творчества ученого отнюдь не полностью отражены в изданных его трудах: и не все напечатано, и лаборатория исследовательского труда раскрывается в большой мере в материалах его научного архива, а также в его переписке, дневниковых записях, даже в делопроизводственной документации (заявки на издания, сообщения о
Впервые опубл.: О Каталоге личных архивных фондов отечественных историков /'/ Каталог личных архивных фондов отечественных историков / Сост. В.Ю. Афиани и др. М., 2001. Вып. 1: XVIII в. С. 3-5.
научных докладах и пр.) в архивах учреждений, обществ, других лиц, с которыми он был связан.
Материалы личного фонда ученого облегчают не только уяснение научных и общественных позиций фондообразователя (причем в их изменениях), но и структуры его социального бытия.
Постепенно описание личных фондов и отложившихся там материалов по истории науки и культуры стало занимать все большее место в научной деятельности хранилищ документов, опубликованных ими научно-справочных изданиях. Начали выходить даже книги с описанием материалов одного историка (как, например, «Рукописное наследие академика М.Н. Тихомирова в Архиве Академии наук СССР. Научное описание», представляющее собой 25-й выпуск Трудов Архива Академии наук, вышедший из печати в 1974 г.). Статьи с описанием фондов историков (и их частей), рукописей отдельных трудов, переписки, дневников, воспоминаний с того времени неизменно появляются в продолжающихся изданиях («Археографический ежегодник», «Вспомогательные исторические дисциплины», «История и историки», в местных изданиях), в исторических и архивоведческих журналах.
Имело значение и то, что в Археографической комиссии Академии наук постепенно накапливался положительный опыт организации коллективной работы многих хранилищ по выявлению и описанию архивных материалов и выработке методических рекомендаций такого плана. Особенно полезен был опыт начатой по инициативе и под руководством возродившего Археографическую комиссию ее первого председателя академика М.Н. Тихомирова работы по созданию Сводного каталога славяно-русских рукописных книг периода Средневековья, хранящихся в нашей стране (описание рукописей XI—XIII вв. издано в 1984 г.; в печати находится первая часть описания рукописей XIV в.).
В Археографической комиссии подготовкой Каталога личных фондов заняты были кандидаты исторических наук В.Ю. Афиани и М.П. Мироненко, в последние годы к этой работе подключилась кандидат исторических наук Т.В. Лохина. Работу свою они могли плодотворно выполнять только при поддержке и соучастии многих хранилищ. И всем сотрудничавшим с Археографической комиссией в этом деле глубокая признательность. Это и наш общий труд и важное общее дело.
Первые результаты работы были зафиксированы в опубликованном в 1984 г. Предварительном списке для Каталога (с указанием фамилии, имени и отечества историка, дат его жиз
ни, наименования хранилищ, где находятся фонды, номера фонда, в ряде случаев количества единиц хранения в фонде). К настоящему времени число имен историков, сведениями о фондах которых располагают в Археографической комиссии, существенно пополнилось.
Тома издания Каталога личных фондов отечественных историков решено готовить, руководствуясь хронологическим принципом. Первый том - об историках XVIII в. Второй том будет включать описания фондов историков, живших в первой половине XIX в.
Хочется думать, что наша работа побудит к составлению каталогов личных фондов историков в отдельных регионах (и прежде всего фондов краеведов), и в отдельных хранилищах. К такой работе можно подключать и специализирующихся студентов гуманитарных факультетов высших учебных заведений. Многолетний опыт подготовки курсовых и дипломных работ, и даже кандидатских диссертаций, в Историко-архивном институте Российского государственного гуманитарного университета убеждает в научной результативности такой работы.
Каталог личных фондов отечественных историков - это справочник комплексного типа, включающий кроме сведений об архивных фондах (их объем, аннотации состава и содержания) биографические и библиографические данные. Справочник призван способствовать обогащению Источниковой базы науки (причем не только собственно историографии), использованию этих архивных материалов в исследованиях различных направлений, усилению интереса к личным фондам вообще и совершенствованию методики их выявления и описания.
Ныне заметен все возрастающий интерес к проблемам экологии и гуманитарных знаний, повсеместно возрождается краеведение. И можно полагать, что многолетняя, переходящая в следующий век работа по подготовке Каталога личных фондов отечественных историков будет востребована и в грядущем тысячелетии.
Для многих «Археографический ежегодник» и образ Нины Андреевны неразделимы. В Предисловии уже ко второй книге -«Археографическому ежегоднику за 1958 год» его ответственный редактор академик М.Н. Тихомиров отметил, что «общее наблюдение за изданием вела Н.А. Долдобанова». С оформлением в 1968 г. редакционной коллегии «Археографического ежегодника» Н.А. Долдобанова постоянный ее член и ответственный секретарь.
По окончании школы с золотой медалью в г. Курске Н.А. Вахер начала учиться на историческом факультете Московского университета и специализировалась по кафедре этнографии. После ознакомления с дипломным сочинением выпускницы о певческих праздниках и национальной одежде эстонцев во второй половине XIX в. ей предложили стать аспиранткой кафедры. Но обстоятельства сложились так, что она по рекомендации Агнессы Ивановны Пинт, старшего референта Отделения исторических наук АН СССР, преподававшей студентам истфака эстонский язык, начала работать референтом этого Отделения (еще в то время, когда во главе него был академик Б.Д. Греков). Таким образом, грядет и еще один юбилей - 50 лет плодотворной преданной деятельности Нины Андреевны в системе учреждений Отделения истории Академии наук.
М.Н. Тихомиров, став академиком-секретарем Отделения, не мог не обратить внимания на улыбчивую красавицу с большой русой косой. Но скоро он убедился и в том, что в Нине Андреевне счастливо совмещаются и замечательные человеческие качества (ум и доброжелательность, такт, склонность к юмору, скромность и одновременно высокоразвитое чувство собственного достоинства), и замечательная деловитость: самоотдача делу, большая работоспособность, организованность и четкость, чувство и личной, и общественной ответственности. Он сразу уловил, что недавно вошедшая в коллектив молодая женщина пользуется доверием и всеобщим уважением, вызывает симпатию и сотрудников аппарата Отделения, и связанных с ним ученых.
Впервые опубл.: Юбилей Нины Андреевны Долдобановой // Ар-хеогр. ежегодник за 1999 г. М., 2000. С. 373-375.
И когда Михаил Николаевич осознал, что именно возрожденная по его почину Археографическая комиссия становится впредь главным полем его научно-организационной деятельности, то пригласил Нину Андреевну перейти на основную работу туда и поручил ей наладить подготовку к печати создаваемого им нового продолжающегося издания - «Археографического ежегодника». И она приняла участие в подготовке первой книги этого издания на последнем этапе.
Задачей ежегодника тогда, по замыслу М.Н. Тихомирова, было «помочь дальнейшему развитию советской археографии и источниковедения» (так сформулировано в Предисловии к первому АЕ за 1957 год). Основатель Археографической комиссии и «Археографического ежегодника» стремился приблизить археографию и архивоведение к источниковедению, поднять их научный уровень в ту пору, когда в архивных учреждениях и вузе ограничивались методикой прикладных приемов, а за теорию и методологию выдавали вульгарно политизированную идеологию, когда выявление, изучение и публикация исторических документов Нового и особенно новейшего времени искусственно отлучали от плодотворного опыта исследования источников более ранних периодов истории и смежных с историческими филологических научных дисциплин. М.Н. Тихомиров изначально старался обеспечить возможность публикации и ранее созданных трудов ученых старших поколений (иногда уже и посмертно) и вовлечь в интенсивную творческую деятельность, наряду с известными уже специалистами, научную молодежь. Изначально были установлены и разделы ежегодника: «Статьи и сообщения»; «Обзоры, описания, библиография»; «Публикации»; «Хроника».
Вся основная работа по подготовке книг ежегодника велась в самой Комиссии: сбор и организация материала (в том числе хроникального), проверка точности фактологических и справочнобиблиографических данных и редактирование. Обязанностью Нины Андреевны стали, помимо того, и «внешние сношения» с Отделением истории и институтами, дающими рекомендацию книги к печати, с издательством. Но главная работа велась, конечно, с авторами. Это требовало и эрудиции, и уверенной четкости (в требованиях к оформлению рукописи, ее научного аппарата), и долготерпения, и большого такта. А так как среди авторов, особенно с конца 1960-х годов, было немало только начинающих печататься в научных изданиях и провинциалов, не всегда знакомых с правилами столичных издательств, то Нине Андреевне приходи
лось вырабатывать и проявлять и педагогическое мастерство - и сколько ныне уже известных историков глубоко признательны ей за науку!
С 1968 г. в подготовке материалов «Археографического ежегодника» участвует и Юлия Викторовна Андрюшайтите, столь же самоотверженно, как и Нина Андреевна, относящаяся к своей работе, - редактор материалов по XX в. Этот счастливый для издания тандем определяет ритм и качество работы и остальных лиц, причастных к «Археографическому ежегоднику», и стиль взаимоотношений с авторами и с издательством. Умеют сделать даже так, что неоднократные нарушения планов, ритма и сроков работы новациями, предлагаемыми ответственным редактором, не отражаются на качестве подготовки нашего издания.
Сейчас сдается в производство (благодаря материальной поддержке Российского гуманитарного научного фонда) подготовленный Ниной Андреевной библиографический указатель всех «Археографических ежегодников» и других продолжающихся изданий региональных отделений Археографической комиссии (включая издающийся Санкт-Петербургским отделением ежегодник «Вспомогательные исторические дисциплины») - около 100 книг. За основу работы взята роспись материалов по оглавлению. Иногда включаются и элементы аннотации. В издании имеются указатели имен и авторов, подготовивших материалы, и лиц, упомянутых в заголовках этих материалов. Это ценное библиографическое пособие, необходимое всем, кто занимается проблемами археографии, архивоведения, источниковедения, историографии, да и, конечно, собственно отечественной истории. Можно с уверенностью полагать, что за книгой «Библиографический указатель продолжающихся изданий Археографической комиссии и РАН и ее отделений» укоренится в обиходном языке и библиотекарей, и читателей наименование «Указатель Долдобановой». Именно из этого издания читатели грядущего времени будут в первую очередь узнавать сведения о сделанном нашей Комиссией в последние десятилетия уходящего века.
Нина Андреевна много способствовала созданию атмосферы доброжелательства и творчества в повседневной работе Археографической комиссии, поэтому собравшиеся там в день юбилея -25 ноября 1999 г. - сотрудники и друзья Комиссии с особой теплотой приветствовали ее, от души желая ей здоровья и новых добрых свершений.
О книге В.Г. Бухерта «Архив Межевой канцелярии (1768-1918)»
Межевой архив - архив Межевой канцелярии - в последние 150 лет существования Российской империи был средоточием документации, к которой особенно часто обращались землевладельцы, и в его работе как бы объединялись функции и действующего архива, и исторического. Уже с XIX в. ценную информацию стали черпать из его документации и исследователи.
В настоящее время Межевой архив - составная часть крупнейшего хранилища отечественных документов дореволюционных лет - Российского государственного архива древних актов (РГАДА). Автор книги уже много лет является заведующим архивохранилищем фондов межевых учреждений РГАДА. И отрадно, что книгу о знаменитом хранилище написал практик-архивист этого учреждения.
На мой взгляд, книга В.Г. Бухерта совмещает информационный потенциал научно-справочного издания, необходимого для исследователей, и достоинства учебного пособия. Пожалуй, впервые в сочинении, посвященном одному архивохранилищу, с такой основательностью, опираясь и на архивный, и на печатный материал, показаны основные линии развития хранилища документов в учреждении научного типа, сферы деятельности архивистов (комплектование, создание справочного аппарата, различные направления использования документации - как для справок, так и для исследовательских трудов), их личный вклад в развитие исторической науки и архивного дела, роль документальных материалов архива в науке отечественной истории и отношение ученых читателей (среди которых довольно много знаменитых имен) к этой архивной информации.
Приятно, что автор, выпускник Московского государственного историко-архивного института, защитив диссертацию по этой проблематике и подготовив к печати на основе ее учебное пособие, продолжает столь же добросовестно и продуктивно исследовательскую работу по материалам и фондам Межевого архива и
Впервые опубл, под названием «От редактора»: Бухерт В.Г. Архив Межевой канцелярии (1768-1918) / Отв. ред. С.О. Шмидт. М., 1997. С. 5-6.
другим, особенно личным, фондам. Статьи и подготовленные им документальные публикации регулярно появляются в печати.
Хочется пожелать, чтобы эта книга воспринималась как начало серии учебных пособий о важнейших наших архивах, подготовленных совместными усилиями сотрудников этих хранилищ и Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета.
КРАЕВЕДЕНИЕ
Региональная история в российской и зарубежной историографии: Вступительное слово
Тематика международной конференции «Региональная история в российской и зарубежной историографии» представляется особо актуальной в наши дни. В России все более ощутима роль провинции не только в социополитической, но и в культурной сфере, что вызывает повышенное внимание к проблемам региональной истории. Существенно то, что это отвечает и возрастающему во всем мире интересу к изучению повседневности -не исключительных явлений государственно-политической истории или истории культуры, а характерных для познания жизненного обихода обычных людей в обычных обстоятельствах, а также воздействия социоэтнических, геополитических, историко-культурных и других факторов на эту повседневность, предопределяющего во многом взаимосвязи общего и особенного в истории.
Регионалистика выделилась как междисциплинарная научная и просветительская деятельность на стыке науки гуманитарного и иных профилей, со своей спецификой Источниковой базы и вариантностями исторических и историографических традиций (неодинаковых не только на разных континентах, но даже в пределах границ одного государства). Регионалистика признается ныне важной и для познания прошлого и настоящего и для прогнозирования будущего. К выводам и наблюдениям ее прибегают историки, этнологи, социологи, экономисты, правоведы, политологи, филологи, архитекторы, географы, специалисты других профессий. Тем более важно учитывать местный опыт в огромной нашей стране с ее разнообразием и естественно-географических условий, и историко-культурных традиций, в государстве и многонациональном, и многоконфессиональном, при заметных миграциях населения. Это предостережет от попыток распространить
Впервые опубл.: Вступительное слово // Региональная история в российской и зарубежной историографии: Тез. докл. междунар. науч, конф. 1-4 июня 1999 г. / Отв. ред. А.А. Севастьянова. Рязань, 1999. Ч. 1.
характерное для одного региона на все регионы как в прошлом, так и в настоящем. Не забудем то, что отнюдь не все регионы России испытали тяжесть крепостного права, что не все культурные гнезда имели базой своей дворянские усадьбы; что колонизация и миграции играли особую роль в России; что с проникновением новых технологий исчезают типичные черты многовекового культурного обихода, этнической особенности, что развитие социоэ-кономическое не во всех регионах было синхронным. Развитие некоторых регионов предопределяет возможность иноземного воздействия определенной направленности; географические особенности местности влияют на формирование и эстетических воззрений (как, к примеру, у Есенина) и т. д.
Регионал истика - это комплекс научных и практических знаний, более широких (и в то же время менее конкретизированных), чем в краеведении, причем и о современном состоянии региона. Предмет регионалистики не ограничивается региональной историей, включая и то, что относится к сфере политологии, хотя регио-налистика опирается на краеведение и во многом смыкается с ним. Под краеведением понимаем науку и научно-популяризаторскую деятельность определенной проблематики: прошлое и настоящее какого-либо края, определенной местности (от деревни, небольшого города, усадьбы, монастыря, улицы, фабрики, учебного заведения и т. д. до крупного региона) во всем многообразии тематики. Краеведение всегда комплексное знание, одновременно историческое (историко-культурное, историко-экономическое, историко-литературное и проч.) и географическое. Краеведение таким путем познается во всем его многообразии и специфике региональной (под регионом подразумевается часть территории, отличающаяся от других совокупностью относительно устойчивых особенностей - экономических, политических, культурно-исторических, национальных и др.) или локальной (т. е. местной, свойственной данному месту с его достопамятностями, не выходящими за пределы этой местности). Краеведение - это и форма общественной деятельности, причем такой, к которой причастны не только ученые специалисты, но и значительно больший круг лиц, преимущественно местных жителей. К нему приобщаются и школьники (тут особо заметна плодотворная работа по программе Центра детского и юношеского туризма), сейчас повсеместно появились учебные пособия по краеведению своего региона или города (в Москве -по москвоведению). Не тождественны и понятия «региональная история» и «краеведение». Региональная история - это и история
отдельных регионов, и их взаимоотношения между собой и столицами, и организация территориальной структуры государства и управления ею. Потому-то кафедре недавно организованной в Историко-архивном институте Российского государственного гуманитарного университета, возглавляемой В.Ф. Козловым, дали наименование «Кафедра региональной истории и краеведения». Тем более не стоит региональную историю сводить к провинциальной истории. Слово «провинциальный» нередко воспринимается как ценностная категория. Чтобы устранить возможные недоразумения, научной программе Академии наук, Министерства культуры и Союза краеведов России дали название «Культура российской провинции». Слово «провинция» понимается так, как в словаре Даля: «жить в провинции» значит «жить не в столице». И достижения культуры могут быть в провинциальной местности у Лобачевского, Циолковского, Мичурина, Короленко; к провинции относятся и Ясная Поляна, и Михайловское, и Болдино. И изучение истории и культуры российской провинции - несомненно среди важнейших задач и региональной истории, и краеведения. Задачи возрождаемого историко-культурного краеведения многообразны; об этом, как и о состоянии современного краеведения и его историографии, недавно я высказывался подробно (в статье «Без краеведения нет России!» в № 1 журнала «Мир библиографии» за 1999 год; перед тем - в интервью «Краеведение - наука о прошлом и путь в будущее» в 4-м выпуске исторического журнала «Ярославская старина», в 1997 г.). Подчеркну снова только то, что первоочередной задачей является освоение наследия краеведов прошлого, особенно послереволюционного «золотого десятилетия» нашего краеведения. Это и до сих пор не вполне оцененная часть и нашей историографии, и истории общественного сознания, общественной жизни, культуры. И начинать следует с XVIII в. (этому по существу посвящена докторская диссертация А.А. Севастьяновой). Выявление такого наследия, подготовка справочных и библиографических изданий о краеведах и их объединениях, издания библиотек, архивов, музеев и вузов важны, и Археографическая комиссия РАН, где имеется опыт составления каталогов, готова помочь и в методическом, и в организационном плане.
Думается, что в определении перспектив дальнейшей работы поможет то, что собрались мы именно в Рязани. Рязань - и один из славных «исторических городов» России, и давно известна как заметный центр краеведческой работы. Среди учрежден
ных в 1884 г. первых четырех губернских ученых архивных комиссий одна была рязанской. Деятельность отличалась издательской активностью и многообразием тематики: не только археография, источниковедение, но археология, нумизматика, материалы о некрополях, биографии местных деятелей, труды по истории самой ГУАК и ее изданий. Председатель ГУАК предреволюционных лет С.Д. Яхонтов стал одним из самых известных в первые советские годы организаторов охраны и изучения историко-культурного наследия и оставил уникальные по богатству информации мемуары. В Рязани и после разгрома историко-культурного краеведения в зловещий для нашей страны год «великого перелома» все-таки находились люди, сберегавшие памятники и традиции краеведческой работы (и в области школьного краеведения, и при изучении древностей Рязанского края, и в работе мемориальных музеев), а когда краеведческое движение стало возрождаться, совместными усилиями сотрудников хранилищ, вузовских и школьных преподавателей, любителей патриотов старины Рязанского края сделано очень много. Существенно и то, что издаются и современные труды о Рязанском крае и истории его изучения, и творческое наследие краеведов. Вообще приятно признать, что книжечка моя 1992 г. «Краеведение и документальные памятники» (изданная в Твери) в историографической своей части оказывается устаревшей - столько появилось новой литературы о прошлом краеведения (от Дальнего Востока и Восточной Сибири до Петрозаводска и Белгорода). Возникла реальная перспектива подготовки академического типа истории краеведения.
На нашей конференции желательно обсудить широкий круг проблем, проблем регионалистики в целом. Важно было бы поставить вопрос о преподавании ее основ в вузах не только гуманитарного профиля. Убежден, что это необходимо во всех вузах, так же как и желательна подготовка более частной тематики факультативных курсов (по региональной истории, о памятниках истории и культуры края, по истории местного краеведения и др.). То же стоило бы сделать темой публичных лекций в хранилищах памятников культуры, в вузах, школах (и для учащихся, и для их родных, так как люди старших поколений не получили подобной подготовки). Региональный аспект необходим не только в школьном, но и в вузовском преподавании.
Обращение к читателям книги «Преподавание краеведения и москвоведения в высших учебных заведениях»
Возвращение краеведения - один из заметных показателей изменений нашей общественной жизни в последние десятилетия: краеведению был нанесен особенно ощутимый урон в зловещий период «великого перелома» в 1929-1931 гг. - прекратили существование многие добровольные краеведческие общества, объединявшие интеллигенцию и приобщавшие к научным знаниям и просветительской деятельности широкий круг лиц. Тогда репрессировали виднейших краеведов, закрыли многие музеи или создали новые экспозиции вульгарно-социологической направленности, упрятали в спецхраны краеведческую литературу первых советских лет. Прерваны были столь плодотворные творческие связи краеведения и академической науки. Окончилась пора существования краеведения и как общественного движения, и как сферы «большой» науки (академической и вузовской)!
Это нанесло нравственный урон обществу, воспитанию историко-культурного сознания молодежи, развитию научных знаний, особенно в провинции. Статьям о краеведении не нашлось места в советских энциклопедиях. Не нашлось места для информации о сделанном краеведами в советские годы ни в академических «Очерках истории исторической науки в СССР» (1960), ни в учебных пособиях по историографии.
Элементы историко-культурного краеведения оставались лишь в программах школьного обучения и подготовки учителей средней школы. И мы должны быть признательны тем, кто сумел и в тех условиях поддержать традиции краеведческой культуры в библиотеках, музеях, архивах, тем более в вузах, и воспитания краеведческих навыков у учителей. Даже в педагогических институтах не умели приохотить студентов к знаниям краеведения. Особая хвала тем, кто умел делать это целенаправленно и в те годы, -вологодскому профессору П.А. Колесникову, создателю школы краеведов-исследователей, археографов, педагогов, в Твери профессору А.Н. Вертинскому и архивисту М.А. Ильину и другим.
Впервые опубл.: Обращение к читателям // Преподавание краеведения и москвоведения в высших учебных заведениях: Сб. / Сост. С.О.Шмидт, В.Ф. Козлов. М„ 2001. С. 7-10.
Возвращение краеведения, оформившееся и в воссоздании всероссийской общественной организации Союза краеведов России, в создании многих местных общественных объединений, отражает более масштабные перемены в нашем общественном сознании и в окружающем нас ближнем мире общественно-политической жизни.
Это - свидетельства и демократизации нашего общественного строя, и усиления роли провинции в развитии государственности и культуры. Местные власти не действуют уже лишь в ожидании указаний из Москвы и все больше ценят местные традиции и социокультурные взаимосвязи. Губернаторы и мэры все больше прислушиваются к мнению знатоков и патриотов своего края и доверяют их рекомендациям. А без поддержки губернаторов и мэров, а теперь уже и местных просвещенных коммерсантов не было бы материальной базы для развертывания краеведческой работы: музеев, выставок, конференций, подготовки изданий, школьных конкурсов. Признательны мы, конечно, и столичным фондам -государственным и частным, оказывающим помощь в нашей деятельности. И это стало повсеместным явлением «от Москвы до самых до окраин».
Изданная в 1992 г. моя книжечка «Краеведение и документальные памятники», где впервые была предпринята попытка обобщить данные и о вычеркивавшемся из истории (как это было принято в годы тоталитарного режима) «золотом десятилетии» краеведения, к радости моей, кажется уже устаревшей - столько выявилось новых сведений и по истории краеведения, и о подвижниках его, и об интенсивном росте краеведческой культуры в последние годы. Впору готовить новое, существенно дополненное издание этой книжки, и, главное, имеется уже основа для написания академического типа обобщающего труда по истории краеведения (и методики краеведческой работы и развития краеведения в отдельных регионах) и свода библиографических данных.
Накапливающийся опыт преподавания краеведения в вузах и отсутствие - в отличие от школьного краеведения, т. е. воспитания краеведением в средней школе, - общепринятых (или хотя бы обсужденных) методических установок побудили к организации первой всероссийской научно-практической конференции «Преподавание краеведения и москвоведения в высших учебных заведениях». Проблемы школьного краеведения регулярно обсуждаются на различных конференциях, в том числе и по почину Министерства образования и Центра детского и юношеского ту
ризма (в этой работе много лет активно участвует и заместитель председателя Союза краеведов России В.Е. Туманов).
Вузовскому же краеведению подобные конференции не посвящались. Сегодня вузы часто стоят у истоков знаний о крае, его изучения, приемов выявления и оценки источников. Не говоря уже о том, что именно краеведение воспитывает «нравственную оседлость», значение которой и для общества в целом, и для каждого индивидуума обосновывал академик Д.С. Лихачев в знаменитой статье об экологии культуры.
Конференция была организована 18-19 декабря 1997 г. по почину Союза краеведов России и Российского государственного гуманитарного университета - его недавно созданных кафедры региональной истории и краеведения, возглавляемой заместителем председателя Союза краеведов России В.Ф. Козловым, и учебно-научного центра краеведения и москвоведения. Заседали в актовом зале Историко-архивного института РГГУ, в старинном здании Печатного двора на Никольской улице.
При планировании конференции учитывался и недавний опыт обращения к собственно краеведческой тематике, активно разрабатываемой в канун 850-летнего юбилея Москвы. Содействие префекта Центрального административного округа, министра правительства Москвы А.И. Музыкантского обеспечило материальную помощь в подготовке к печати материалов конференции. Многим обязаны и руководителям Московского комитета образования.
В основе книги материалы конференции декабря 1997 г. Но в тексты, представленные редакторам в 1998 г., внесены изменения (иногда и существенные) и добавлены новые тексты, подготовленные краеведами, не участвовавшими в этой конференции. Тем самым издание в большей мере отражает уровень развития вузовского краеведения и краеведения вообще уже первого года нового тысячелетия (хотя некоторые тексты, особенно тезисной формы, оставлены без изменения, как, например, сообщение о преподавании историко-технического краеведения в Челябинске и др.).
Конференция в декабре 1997 г. обогатила всех нас и личным знакомством, установившиеся связи плодотворно развиваются. Участники конференции затем не раз встречались и на других форумах: на проходившей в Москве в 1998 г. Всероссийской научно-практической конференции «Современное состояние и перспективы развития краеведения в регионах России», и на кон-
ференциях по проблематике «Культура российской провинции» в Пензе (в 2000 и 2001 гг.), и на международных конференциях по проблемам региональной истории (в Рязани и Петербурге), и на конференциях более локальной тематики - в Белгороде, Воронеже, Томске, Переславле-Залесском. Постоянными становятся встречи - раз или два в месяц - по пятницам в том же актовом зале Историко-архивного института с представлением новых изданий по москвоведению, а теперь уже и по краеведению других регионов Европейской России.
Все более убеждаемся в широком развертывании краеведческой работы и издательской деятельности в сфере краеведения на рубеже столетий. О возрастающем интересе к истории краеведения не только в России, но и за ее рубежами и усиливающейся тяге к краеведческим знаниям молодежи школьного возраста свидетельствуют факты самого недавнего времени: в знаменитом парижском университете Сорбонна по инициативе проректора профессора Ф. Конта и за счет приглашающей стороны в мае 2000 г. была организована международная конференция «Краеведение в России: истоки, проблемы, возрождение», в которой пригласили принять участие и некоторых авторов статей этого сборника. Именно местная история, так же как история своей семьи, оказалась самой привлекательной темой для школьников, участвовавших во всероссийских конкурсах исследовательских работ по истории. В конкурсе «Человек в истории. Россия - XX век», организуемом при содействии общества «Мемориал», активные участники - Союз краеведов России и Историко-архивный институт РГГУ.
Краеведение становится все более заметным фактором развития современной культуры, объединяет поколения, формирует интерес к творческой работе и навыки ее у школьной и вузовской молодежи. Думается, что публикуемые материалы будут способствовать дальнейшему развитию краеведения и закреплению уважения к таким занятиям в широкой общественной среде.
Создание на основе Московского государственного историкоархивного института первого в стране гуманитарного университета - РГГУ - значительно расширило возможности изучения исторических явлений на стыках наук и обращения к новым методическим приемам международного класса. Это предопределило и характер занятий в сфере региональной истории и краеведения.
Усиливающийся повсеместно интерес к такой проблематике объясняется обстоятельствами общественной жизни России (возрастание роли провинции и, соответственно, внимания к особенностям и прошлому регионов, к локальной истории) и ходом развития современных социальных наук во всем мире (большее внимание к социокультурной проблематике, к истории повседневности, к микроистории, чем к государственнополитической истории; образование новых направлений исторического изучения на стыках наук, причем не только гуманитарных, но иногда и естественных).
В МГИАИ уже был накоплен значительный опыт выявления и изучения источников, используемых в трудах по локальной истории и истории повседневности. Это были преимущественно источники по феодальному периоду отечественной истории, отдельные их виды и разновидности по делопроизводству и по истории отдельных владений - светских и церковных, местностей, сообществ. С изменением общественно-политического микроклимата, явно ощутимым в МГИАИ, а тем более в РГГУ, и воспринимавшимся и со стороны как одно из средоточий начавшейся перестройки, больше внимания стали уделять явлениям Новой и особенно новейшей истории, возвращая народу вычеркивавшиеся при советской власти имена, события прошлого, даже общественные категории.
Результативны были уже и ранние работы по истории краеведения: на Второй Всесоюзной конференции по историческому краеведению в г. Пензе (1989 г.) заметное место заняли доклады выпускников МГИАИ недавних лет. Это же обнаружилось и на
Впервые опубл, без названия: Афанасьев Ю.Н. Universitas humana: Гуманитарный университет третьего тысячелетия. М., 2000. С. 389 -392.
всероссийской конференции «Российская провинция XVIII-XX вв.: реалии культурной жизни», состоявшейся также в Пензе в 1995 г. Краеведческая тематика закрепилась и в исследованиях по источниковедению историографии: интенсивно изучались архивные материалы - личные фонды краеведов, фонды краеведческих обществ, издания, материалы о репрессиях, которым подверглись краеведы в конце «золотого десятилетия» краеведения на рубеже 1920-1930-х годов.
Именно на пленарном заседании проходившей в РГГУ в апреле 1992 г. всероссийской конференции «Гуманитарная подготовка студентов негуманитарных вузов и специалистов гуманитарного профиля» был заслушан доклад «Краеведение в гуманитарной подготовке студентов». РГГУ постепенно становился методическим центром преподавания краеведения, работающим в тесном творческом контакте с Союзом краеведов России и Научно-проблемным советом Российской академии наук - Археографической комиссией, имевшей и ранее с ИДИ тесные взаимосвязи.
Все это привело к созданию в РГГУ (прежде всего на базе факультета архивного дела Историко-архивного института) в 1997 г. научного центра по историческому краеведению и москво-ведению и кафедры региональной истории и краеведения. Работа их связана с программами других кафедр и даже факультетов и не ограничивается преподавательской деятельностью и личной научной работой преподавателей. Постоянное внимание уделяется широкой совместной работе с вузами, хранилищами памятников истории и культуры (музеями, архивами, библиотеками), научными учреждениями, общественными объединениями Москвы и других городов, развитию взаимосвязей с организациями, причастными к преподаванию краеведения в средней школе (где оно стало, как правило, обязательным предметом).
В конце 1997 г. в Историко-архивном институте была проведена Межвузовская всероссийская конференция по преподаванию краеведения в высшей школе. Регулярно проходят всероссийские же конференции с участием как преподавателей, так и учащихся, организованные совместно с Центром детско-юношеского туризма Министерства образования. Кафедра сыграла ведущую роль в организации съезда Союза краеведов России и всероссийской научно-практической конференции «Современное состояние и перспективы развития краеведения в регионах России» в декабре 1998 г. (она проходила в Институте природного и культурного
наследия Министерства культуры, с которым также имеется тесный и плодотворный контакт). А еще ранее, в октябре 1998 г., - в организации международной научно-методической конференции «Малые города России: проблемы истории и возрождения» в Переславле-Залесском. Большая часть материалов этих конференций издана.
Особое значение приобрело участие преподавателей РГГУ в разработке проблематики москвоведения и его преподавания в средней школе. В помещении Историко-архивного института на Никольской улице, 15, проходят не только научные и научно-практические конференции (обычно организованные совместно с Мосгорархивом, Департаментом образования правительства Москвы, общественными объединениями), но и ставшие регулярными открытые вечерние заседания, на которых в присутствии авторов и издателей обсуждаются новинки краеведческой, и прежде всего москвоведческой, литературы. Участие РГГУ в разработке концепции развития и совершенствования курса москвоведения в средних учебных заведениях г. Москвы отмечено присуждением в 1999 г. премии Правительства Российской Федерации в области образования руководителю Центра исторического краеведения и москвоведения С.О. Шмидту и заведующему кафедрой региональной истории и краеведения В.Ф. Козлову.
Очевидна своевременность узаконения особой специальности краеведческого уклона «Музейное дело и охрана памятников» на кафедре региональной истории и краеведения. Кафедра могла бы действенно включиться в работу по составлению учебных пособий и методических рекомендаций такой проблематики и для других вузов, и прежде всего провинциальных, где серьезное внимание уделяется ныне краеведческой тематике и изучению культуры российской провинции, причем делается это на стыке с такими обретающими все большее значение в вузовском обучении областями знания, как историческая психология, социология, памятниковедение, историческая география. На самой же кафедре целесообразнее всего было бы сосредоточиться на обучении специалистов для работы с документальными памятниками, находящимися в музейных собраниях.
Подготовке специалистов такого профиля помогут и опыт обучения историков-архивистов, и результативные работы кафедры источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин, уже более десяти лет организующей межвузовские научные конференции (всероссийские и даже международные) по источ
никоведению и смежным с ним научным дисциплинам, и Российско-французский центр исторической антропологии им. Марка Блока, и наличие в РГГУ новейшей технически оснащенной методики выявления, сохранения и передачи исторической информации, и, главное, характерная для программ обучения в РГГУ система междисциплинарных научных связей.
Конференция наша посвящена проблеме так называемых малых городов России. Уже и название ее - «Малые города России: проблемы истории и возрождения» - подразумевает особое внимание к размышлениям о значении исторических традиций для развития города в настоящем и будущем, к воспитанию у молодежи уважения и интереса к прошлому своего края и к возможностям использования опыта прошлого для познания настоящего и строительства будущего. Опыт прошлого - это не только историческое развитие края, но история его познавания, это прежде всего история краеведческой деятельности.
Под краеведением понимают сферу научной и просветительской работы, а также и общественную деятельность. Причем такую, к которой причастны не только ученые-специалисты и педагоги, но и значительно более широкий круг лиц, преимущественно местных жителей. Круг интересов краеведа - прошлое и настоящее какого-либо края, определенной местности, от крупного региона до отдельного села, улицы, храма, фабрики, учебного заведения и т. д. во всем многообразии тем. С этим тесно связано и изучение истории отдельных родов (семей, «фамилий»). Краеведческое (или краеведное, как чаще писали в 1920-е годы) знание -знание комплексное: историческое (историко-культурное, даже историко-литературное, историко-экономическое) и естественногеографическое одновременно. Методика краеведения опирается на междисциплинарные научные связи и учитывает выводы и научных теорий, и первичных наблюдений житейской практики. Это метод познания от частного к общему, от простого к сложному, выявления особенного в общем. Интерес к тому, что ближе и доступнее, - основа интереса ко всему остальному. Это помогает составить общие представления о мире, о взаимосвязях явлений и времен, общества и природы. Краеведение - это школа и методики мышления (освоения взаимосвязи аналитического и синтетического методов), школа воспитания культурой. А основа культуры -память: поэтому можно особо говорить о воспитании историей.
Впервые опубл.:Вступительное слово // Малые города России: Проблемы истории и возрождения: Материалы междунар. науч.-метод. конф. 16-17 октября 1998 г., г. Переславль-Залесский. М., 1998. С. 7-17.
Все это предопределяет важность и полезность вовлечения в краеведение молодежи еще в годы школьного учения. Краеведение убеждает в необходимости обращения к опыту прошлого и в то же время облегчает творческое общение людей разного возраста, разного уровня образования и специальной подготовки (научной или художественной, в области ремесла). Краеведение не только познание края, но и способ сохранения и совершенствования того, что выдержало испытание временем, проверку практикой поколений - в быту, природопользовании, сельском хозяйстве и промыслах, материальной и духовной культуре, конечно же, в сфере нравственности.
Изначальный смысл слова «краеведение» подразумевает не просто знания о чем-то, но и путь к овладению ими, и распространение их. И краеведение не ограничивается областью научных знаний и их применения. Это и область искусства и литературы, приемы ремесла и природопользования, забота о сохранении (и реставрации) культурного и природного наследия.
Конференция наша широкотемная, но участвуют в ней преимущественно историки и специалисты по памятниковедению. И она призвана помочь нам утвердиться в своих размышениях об общем и особенном в истории края (место явлений истории края в общероссийском историческом процессе; местные особенности и их обусловленность; критерии для определения и оценки культурного и природного наследия, выявления памятников общероссийского и местного значения), об Источниковой базе изучения культурного и природного наследия, о взаимосвязи развития общества и природы, помочь в овладении новейшими приемами добывания таких знаний (а также данных о развитии этих знаний) и обучения подобным знаниям.
Конференция наша научно перспективная и в то же время опирающаяся на традицию. В огромной стране нашей, даже в одной только ее европейской части (равной по территории нескольким крупным западноевропейским государствам), много «малых городов», т. е. таких, население которых не перевалило за 500 тысяч и которые не являются административными центрами (области, края, национальной республики). При выборе места проведения конференции подобной тематики необходимо иметь в виду по крайней мере три обстоятельства. Это должен быть город, интересный и другим своей историей, своей природой, значение которого в историко-культурном развитии России общероссийского масштаба. Это должен быть город, где имеются достойные
специального ознакомления традиции краеведческой деятельности. И это должен быть такой город, сегодняшние руководители которого понимают футурологическое значение исторических традиций и стараются материально поддержать тех, кто бережет и развивает эти традиции и новые начинания такого плана, для которых перспективы дальнейшего роста своего города предопределяются и пониманием значения взаимосвязи времен, творческого использования и местного, и более широкомасштабного исторического опыта.
Конференция наша является научно-методической. Следовательно, должна быть полезной не только там, где нас гостеприимно принимают, и общение с приезжими уже само по себе обогащает местных жителей, но и для этих приезжих, предоставляя им возможность не только обменяться опытом между собой путем устных выступлений (пусть даже с демонстрацией изданий, методических приемов и т. д.), но и ознакомиться с практикой работы в том месте, где мы собрались. И в институте «Открытое общество», финансируя нашу конференцию, конечно, особо учитывали это, утверждая местом проведения именно Переславль.
Знаменательно, что дата проведения конференции приурочена к 130-летию со дня рождения основателя местного историкохудожественного краеведческого музея и местного научнопросветительского общества Михаила Ивановича Смирнова, которого можно признать одним из классиков нашего краеведения. (Наиболее распространенное представление о слове «классик», имеющем несколько значений, - деятель, являющийся образцом в данной области.) И потому, когда стал возвращаться интерес к памятниковедению и краеведению первого советского десятилетия, я сумел убедить включить написанную мною статью о Смирнове в Советскую историческую энциклопедию (том этот вышел в 1971 г.). Многообразная творческая деятельность М.И. Смирнова поучительна и сегодня.
Переславль - древний выдающийся центр культуры Древней Руси, о чем напоминают и уцелевший замечательный храм, заложенный еще Юрием Долгоруким, и ярчайший памятник литературы, современной «Слову о полку Игореве», - сочинение Даниила Заточника, и древний летописец, и один из государственно-политических центров Руси XII—XIII столетий. В Переславле создан и едва ли не самый молодой университет нынешней европейской России - таковы славные хронологические границы историко-культурного пути Переславля-Залесского.
Все знают, что с Переславлем связывают и имя прославленного героя истории Древней Руси Александра Невского, канонизированного Православной Церковью. Неслучайно здесь великий режиссер Эйзенштейн (а 1998 год - это и год Эйзенштейна) снимал часть своего всемирно знаменитого фильма «Александр Невский». Здесь возводили великолепные в архитектурном плане монастыри. Сейчас мы можем говорить о том, что они сыграли большую роль в развитии духовной и материальной культуры России. Здесь зачиналась Россия и как морская держава, здесь находится всем известный ботик Петра I. С Переславлем связаны имена и выдающихся деятелей культуры XX столетия. Здесь работал академик Академии художеств Кардовский - и дом его утвердился в сознании как школа для обучения художников России на протяжении многих десятилетий. Напомню и имя такого выдающегося писателя, как М.М. Пришвин, воспевшего действительно дивное Плещееве озеро. Таким образом, ассоциации с Переславлем возникают, когда думаем о значительных событиях нашей истории и о людях, всероссийски известных.
Для меня лично значимо и то, что здесь провел детские и юношеские годы очень близкий мне ученик по Московскому историко-архивному институту Юрий Яковлевич Рыбаков, приехав в гости к которому впервые я и познакомился с Переславлем. Здесь он с золотой медалью окончил школу. В институте в 1950-е годы был сталинским стипендиатом (тогда это считалось высшей наградой студенту), старостой моего студенческого научного кружка источниковедения, действующего уже около 50 лет, работы его печатали и в сборниках статей кружковцев, и в научных изданиях еще в студенческие годы (как и старосты кружка уже рубежа 1970-1980-х годов, участника нашей конференции В.Ф. Козлова). Ю.Я. Рыбаков, прошедший научную школу выдающегося историка-экономиста В.К. Яцунского, сформировался в крупного историка, автора монографий по источниковедению отечественной истории XIX в., написанных им тогда, когда он был уже сотрудником Института истории Академии наук. К сожалению, мне пришлось писать и некролог Юрию Яковлевичу в «Археографическом ежегоднике». Полагаю, что в книгах о Переславле следует рассказывать об этом светлом человеке.
В Переславле многое напоминает о славных традициях 1920-1930-х годов, которые можно характеризовать как «золотое десятилетие» нашего краеведения. После революции 1917 г. чуткие к общественным нуждам образованные люди готовы были
положить силы на охрану и спасение оказавшихся бесхозными памятников культуры, обеспечив их переход под надзор государственных хранилищ - музеев, библиотек, архивов. Даже те, кто не принимал лозунги социалистических преобразований, почитали своим долгом поддерживать культурные традиции, способствовать приобщению к культуре широких слоев народа. Средоточием такой активизирующей деятельности стали краеведческие объединения. И переславское оказалось одним из самых заметных, признавалось руководителями краеведов и в Москве, и в Петрограде-Ленинграде особо научно-перспективным.
М.И. Смирнов - уроженец села Брембола близ Переславля, где отец его был священником и составлял местную церковноприходскую летопись. Церковно-приходские летописи, составление которых стало повсеместным с последних десятилетий XIX в., - интереснейшее и еще слабо изученное явление народной историографии, важное в плане ознакомления и с общественным сознанием эпохи, и с уровнем памятниковедения тех лет; это ценный источник информации о повседневной сельской жизни. И поэтому я специально выступил с докладом о сельских церковно-приходских летописях как историко-краеведческом материале на II Всесоюзной конференции по историческому краеведению в Пензе в 1989 г. (доклад напечатан в издании трудов конференции в 1993 г. и переиздан в книге моих избранных трудов «Путь историка» в 1997 г.). Историк-самородок приохотил к подобным занятиям и сыновей, учившихся затем в духовных учебных заведениях. Один из братьев, Сергей, стал профессором Московской духовной академии, младший, Василий, - всероссийски известным костромским краеведом (дочь его, музейный работник в Сергиевом Посаде, Татьяна Васильевна приехала на нашу конференцию). История талантливой семьи Смирновых интересна и в плане исследования вопроса о роли сельского духовенства в формировании российской интеллигенции, в частности той ее группы, которая отдавала свои силы учебно-просветительской деятельности.
Обучался М.И. Смирнов во Владимирской семинарии, но не стал священнослужителем, остался верен впечатляющему увлечению детства, ведь летопись составлялась его отцом в местности, столь богатой историческими достопримечательностями и преданиями! И приобрел известность трудами по истории Владимирского и Нижегородского краев, еще в 1911 г. напечатал книгу «Переславль-Залесский. Его прошлое и настоящее», которая, по
утверждению такого видного историка, как Ю.В. Готье, написана «с громадной любовью к делу» и дает «почти исчерпывающие сведения о прошлом родного края». Возвратился он в Переславль уже немолодым человеком, в период революции, и сразу сумел вовлечь в краеведную деятельность переславскую общественность, приохотить к ней учащихся, закрепить творческие контакты с краеведами России, с крупными учеными Академии наук и университетов. Переславские краеведческий музей и общество воспринимались как всероссийские центры и научные лаборатории краеведческой деятельности. В 1929 г. самый знаменитый тогда историк академик С.Ф. Платонов так писал в отзыве (составленном, по-видимому, им как председателем секции научных работников Всероссийского союза работников просвещения для Центральной комиссии по улучшению быта ученых - ЦЕКУБУ): «В лице М.И. Смирнова мы имели образцового по методам научно традиционным русского историка, и прежде всего исключительно знатока прошлого Переславского края». (Отзыв опубликован в «Археографическом еженедельнике» за 1993 год).
М.И. Смирнов неутомимо вел многообразную научную, просветительскую, организационную работу, которую, по словам Ю.В. Готье, признавали «блистательным примером для всех работников в области краеведения». Он рассматривал исторические явления в теснейшей взаимосвязи с естественно-географическими, старался выявить значение местных явлений в общеисторическом процессе. Он автор и исследований, и популярных сочинений, и библиографических справочников. Уже в 1921-1922 гг. издал такие солидные труды, как «Переславщина. Источники и материалы для краеведения, их систематизация и обзор». Два раздела - «Природоведение» и «Обществоведение» - имеют дробное деление на подразделы: библиографический указатель литературы о Переславском крае, аналитический обзор уже сделанного (преимущественно на основе упомянутой литературы) и детальная формулировка задач дальнейшего исследования; и еще материалы для библиографического словаря уроженцев и деятелей края. Вслед за этим напечатал краткий краеведный очерк о Переславль-Залесском уезде. Ученый разрабатывал вопросы исторической географии и топонимики, этнографии и фольклора, истории ремесел и ведения сельского хозяйства, истории культуры и политической истории (ио времени Петра Великого, и о декабристах и революционных настроениях начала XX в., о Ленине, о современном быте), составлял анкеты - в 1919 г. краткую анкету по родиноведению
«Познай самого себя», в 1929 г. - пространную: «Хулиганство, его род и вред, причиняемый им». У него и труды источниковедческого типа: указатель актов (рукописных и изданных) Переславского края XVIII в.; собрание старинных песен и современных частушек; о керамике неолита и об орудиях сельского хозяйства XX в.; и труды историографической тематики: «Наставление к изучению местной историко-географической номенклатуры» и «Справка о переславских архивах». Смирнов стал, по существу, классиком краеведческой работы и в ее научно-литературной форме, и в музейной (собрание, описание, изучение музейных материалов, построение экспозиции, организация всех видов популяризаторской деятельности), и в просветительской. Научная, просветительская, организаторская деятельность братьев М.И. и В.И. Смирновых -вершина достижений российского краеведения.
Краеведение в первое десятилетие советской власти стало заметной формой не только просветительской, но и научной деятельности. У руководства им стояли академики. В книге, посвященной работе Академии наук за десять лет советского строя, был очерк о развитии краеведения, написанный академиком С.Ф. Ольденбургом - непременным секретарем Академии наук (т. е. фактическим руководителем ее каждодневной деятельности), который возглавлял и Центральное бюро краеведения, и редакции периодических краеведческих изданий. Заместителями председателя ЦБК были тоже академики Н.Я. Марр (гуманитарий) и А.Е. Ферсман (геолог). Никогда ни прежде, ни после не было столь близкого и продуктивного взаимодействия краеведения и так называемой большой науки - академической и университетской, и никогда больше краеведение не становилось столь научно-перспективной школой для молодых исследователей. Никогда краеведение не играло столь заметной роли в общественной жизни российской провинции - оно становилось и общественным движением.
И это казалось небезопасным для утверждавшегося тоталитарного режима; и краеведы - знатоки особенностей развития материальной и духовной культуры, истории и природы своего края, убежденные сторонники учета этих особенностей при планировании дальнейшего развития жизни местного общества - пострадали одними из первых в уже зловещий год «великого перелома».
Об этом написано во многих моих статьях, подробнее всего -в книжке 1992 г. «Краеведение и документальные памятники», которую передаю в библиотеки Переславского университета и
Переславского музея; там с наибольшей подробностью написано о М.И. Смирнове и о моем университетском учителе академике М.Н. Тихомирове, основавшем в 25 лет тогда же краеведческий музей в подмосковном городе Дмитрове, возникшем примерно в те же годы, что и Переславль.
Братья Смирновы, как и виднейшие краеведы других городов России, были репрессированы, обвинены в контрреволюционных действиях, во вредительстве на «культурном фронте» (им инкриминировали связь с историками-академиками, когда фальсифицировали так называемое «дело Платонова, Тарле и других», материалы которого стали недавно публиковать. Были закрыты многие музеи (особенно мемориальные и в монастырях и усадьбах), краеведческие издания. Разгром краеведения привел к отрыву историко-культурного краеведения от «большой науки», что нанесло огромный моральный урон нашему обществу, особенно взаимодействию людей разных поколений, воспитанию молодежи. Это привело и к тому, что прогрессивная роль деятельности краеведов, их заслуги перед гуманитарными науками замалчивались. В томе «Очерков истории исторической науки в СССР» (подготовленном в Институте истории РАН), посвященном советскому периоду довоенного времени, о краеведах два абзаца.
По возвращении из Сибири М.И. Смирнов работал в музеях Подмосковья. Когда у М. Горького возник план подготовить в издательстве «Academia» серию книг об «исторических городах», Смирнову предложили написать книгу о Переславле-Залесском (может быть, не без подсказки обласканных писателем Кукры-никсов: дочь Михаила Ивановича Смирнова и его супруги, урожденной княжны Мещерской, была женой одного из троицы художников - Крылова).
Смирнов подготовил в середине 1930-х годов такую книгу, но издательство с арестом его руководителя Л.Б. Каменева ликвидировали (а опальный высокопоставленный ленинский соратник делал тогда очень много для развития нашей культуры: руководил институтами литературы в Академии наук, разработал план мероприятий в связи с предстоящим юбилеем Пушкина и издания Полного собрания сочинений Пушкина с обширными комментариями и других изданий, музеефикации Михайловского, сам много писал и редактировал), покровительствовавший Смирнову М. Горький вскоре скончался. Рукопись сумели издать у вас, в Переславле, ничтожным тиражом лишь в 1990 г. И как только я узнал об этом (отнюдь не сразу, почти через два года), то откликнул
ся благодарственной рецензией в № 2 журнала «Отечественные архивы» за 1993 г., хотя и отметил очевидные археографические несовершенства этой публикации. Еще ранее руководил работой по изучению архива М.И. Смирнова с моим студентом Сергеем Борисовичем Филимоновым. Его статья об этом и список опубликованных работ Смирнова напечатаны в «Археографическом ежегоднике» за 1971 год. Ныне мой дипломник той поры, доктор исторических наук, профессор Симферопольского университета, автор многих трудов по истории краеведения «золотого десятилетия», академик Крымской академии наук - участник нашей конференции, приобретающей тем самым уже и международный характер. И это методически важно, так как в подходе к прошлому и настоящему «малых городов» России и Украины много близкого, а издание многотомной «Истории городов и сел Украины» облегчает нашим украинским коллегам работу в этом направлении.
Я намеренно уделил столько внимания творчеству М.И. Смирнова. И объяснение этому находим в формулировках упомянутой уже рецензии на издание книги его в Переславле: «Возвращение краеведческого наследия - важная и благородная задача наших современников. Без освоения этого богатства немыслимо создание объективных историографических представлений о развитии исторической мысли и общественного сознания в первые десятилетия после революции. Многое из сделанного краеведами тех лет необходимо творчески освоить для его дальнейшего формирования сегодня. Наконец, наш нравственный долг - напомнить о тех подвижниках-краелюбах, которые видели свое призвание в сохранении памяти о родном крае, его людях и понимании значения связи времен».
И, полагаю, выражением этого может стать обращение нашей конференции к органам власти с предложением присвоить имя Михаила Ивановича Смирнова основанному им музею в городе Переславле.
Ознакомление с краеведческим наследием - одно из существенных условий дальнейшего развития и совершенствования работы современных краеведов и приобщения в той или иной мере к доступным им формам краеведческой деятельности молодежи -вузовской, даже школьной. И очень отрадно, что в зале много студентов. Это показатель дальновидности тех, кто организует учебно-воспитательную работу в вашем молодом университете.
Наша конференция собрала здесь заинтересованных специалистов из разных городов. Проблематика ее интересна не
только переславцам. И, судя по программе, имеется возможность получить информацию о широком спектре проблем истории и современного развития малых городов. Следует поблагодарить составителей программы конференции - а это и наши переславские коллеги, и заведующий недавно организованной кафедрой региональной истории и краеведения Российского государственного гуманитарного университета. Этот первый в России гуманитарный университет возник на базе Московского государственного историко-архивного института, который, сохранив наименование Историко-архивного института, стал ныне архивным факультетом университета (кафедра находится в здании на Никольской улице в доме 15, где учились и ее первый заведующий Владимир Фотиевич Козлов, и так деятельно участвующий в организации конференции Александр Александрович Черёмин).
Безусловно, собственно возрождение малых городов не может не опираться на достижения в развитии краеведения, на возрождение краеведения. Желательно, чтобы оно в будущем обрело то положение в общественной жизни, которое имело в годы своего «золотого десятилетия». Некоторые конкретные соображения такого плана я высказывал в беседе с главным редактором «Ярославской старины», тоже Смирновым, но Ярославом Евгеньевичем, и беседа опубликована в четвертом выпуске этого исторического журнала, вышедшем в конце 1997 г. Уже сам заголовок публикации показателен: «Краеведение - наука о прошлом и путь в будущее».
Я полагаю, что заметный в различных регионах нашей страны (особенно в Зауралье и в Европейской России) интерес к краеведению объясняется не только неистребимой тягой к познанию родного края, не только тем, что именно со знакомства с близким по месту формируются первичные представления об общем и особенном и о взаимосвязи общества и природы, но и изменениями в нашей общественной жизни, ставшими всем очевидными с недавнего времени.
Демократизация нашей общественной жизни существенно повысила роль провинции в обществе, в выявлении своеобразия в развитии культуры. Деятельность в родном краю становится более привлекательной, чем прежде. Исчезает тягость воздействия столичных органов власти. Перестало быть обязательным равнение на столицу. Для дальнейшего роста творческой самостоятельности достаточно теперь поощрения местного руководства и местного общества. Появились и возможности более углубленного и всестороннего изучения прошлого. Снят запрет на упоминание ранее
вычеркивавшихся из отечественной истории имен, общественных образований, событий. Возродился интерес к семейной истории (а за рубежом повсюду именно она - основа развития краеведения), к генеалогическим изысканиям: уже не надо страшиться того, что среди вновь обретенных родственников окажутся те, кого называли прежде врагами народа, или пребывающие за рубежом.
Правда, это породило и поток дилетантских сочинений и безответственных утверждений, основанных на использовании лишь немногих данных. Но это тоже должно побудить истинных краеведов противостоять таким неблаговидным действиям и добиваться выявления исторической правды. И более опытные специалисты обязаны передавать навыки своего источниковедческого и научно-популяризаторского мастерства менее опытным, но также тянущимся к краеведным знаниям.
Краеведение в наши дни отвечает и задачам исторической науки (где преимущественное внимание уделяют ныне изучению повседневности, исторической психологии, междисциплинарным научным исследованиям), и общественным потребностям.
Конечно, проблема «малые города России» значительно шире, чем собственно краеведческая проблематика. Это сфера и социологии, и культурологии, и географии, и экономики, и междисциплинарных научных разработок. На нашей конференции из-за специфики подготовки и научных интересов ее участников ограничиваемся краеведением и тематикой, с ним непосредственно связанной. Но, полагаем, что рассматриваемые нами вопросы важны и для тех, кто в ином или в более глобальном плане подходит к проблеме малого города. И очень заинтересованы в том, чтобы такие специалисты контактировали с нами в своей деятельности, особенно в канун грядущего столетия, когда проблемы экологии (а им уделяют всегда особое внимание краеведы) станут едва ли не самыми главными в размышлениях о будущем краеведения.
В декабре 1998 г. в рамках предстоящего съезда Союза краеведы России намерены провести научно-практическую конференцию, посвященную современному состоянию и перспективам развития краеведения. Краеведение в регионах на пороге XXI века -основная тема конференции «Роль краеведения в развитии и оформлении культурного образа жизни». Хочется надеяться, что наша конференция будет содействовать тому, чтобы представление о краеведении ассоциировалось все больше в сознании людей с понятием о современном культурном образе жизни.
Современное состояние и перспективы развития краеведения в регионах России
Радостно, что снова удалось собраться краеведам всей России.
Наш учредительный съезд состоялся еще в пору существования Советского Союза, в 1990 г. Давно утвержден и устав Союза краеведов России, и необходимо внести в него изменения, соответствующие сегодняшнему дню. Мы все знаем, какие события произошли за это время, и понимаем, как усложняется организация деятельности научно-общественных организаций (а именно таковым является Союз краеведов России), не получающих государственных дотаций. И, организуя это представительное собрание краеведов, мы старались найти и линии совместной деятельности с другими заинтересованными в развитии краеведения общественными объединениями и учреждениям, и пути возможной экономии средств.
Очень помогло то, что наше собрание удалось совместить с представительной конференцией, посвященной 80-летию создания государственной системы детско-юношеского туризма в России (организованной прежде всего Центром детско-юношеского туризма Министерства общего и профессионального образования РФ), и мы признательны за это Ю.С. Константинову и его сотрудникам. Такое содружество вполне объяснимо, так как после разгрома историко-культурного краеведения в конце 1920 -начале 1930-х годов только энтузиасты школьного краеведения сумели сохранить хотя бы некоторые элементы культурнопросветительских традиций краеведения предшествующих десятилетий и использовать их затем в развертывающемся массовом движении юных следопытов истории, направляемом Минпросом РФ, а также в те годы и ЦК ВЛКСМ.
Юбилей возглавляемого Ю.С. Константиновым Центра туризма - это действительно славный юбилей, значение которого велико не только для учащих и учащихся России, но и других государств, входивших ранее в состав СССР, ибо именно здесь утверждалась на практике перспективная методика многообразной краеведческой работы молодежи и с молодежью.
Впервые опубл.: Вступительное слово // Современное состояние и перспективы развития краеведения в регионах России: Материалы все-рос. науч.-практ. конф., Москва, 10-11 декабря 1998 г. М., 1999. С. 7-18.
Съезд краеведов совмещается с научной конференцией «Современное состояние и перспективы развития краеведения в регионах России». Основное ее направление - роль краеведения в развитии и оформлении культурного образа регионов.
Конференция будет проходить в помещении Российского НИИ культурного и природного наследия, при большом и ощутимом содействии его директора Ю.А. Веденина и его сотрудников, за что мы тоже признательны. НИИ этот работает в тесном контакте с Российской академией наук, где научно-методическое руководство осуществляет Отделение истории РАН, так же как и в отношении возглавляемой мною Археографической комиссии РАН.
Нам бы не удалось организовать конференцию и обеспечить подготовку публикации ее материалов без финансовой поддержки тех, кто осознает значение проводимой нами работы и для настоящего, и для будущего России. Такую поддержку оказало Министерство культуры РФ и лично Н.Л. Дементьева, а еще ранее министерство вместе с администрацией Пензенской области помогло в организации большой, представительной всероссийской конференции 1995 г. «Российская провинция XVIII-XX веков: реалии культурной жизни». Труды ее изданы в Пензе в двух книгах при поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Существенную помощь оказало нам правительство Москвы и лично министр и префект Центрального округа А.И. Музыкантский, а также фонд «Открытое общество», способствующий реализации немалого числа культурно-просветительских начинаний, в том числе конференции в Переславле-Залесском в октябре 1998 г. «Малые города России: проблемы истории и возрождения» и публикации ее материалов. Всем этим попечителям краеведения выражаем нашу глубокую признательность.
Определение программы конференции, установление связи с краеведами, приглашенными к участию в конференции, - это работа кафедры региональной истории и краеведения Российского государственного гуманитарного университета, возглавляемой председателем Московского краеведческого общества В.Ф. Козловым. Недавно созданная кафедра сумела организовать в декабре 1997 г. первую всероссийскую конференцию по проблематике преподавания исторического краеведения в вузах и теперь вместе с Научным центром краеведения и москвоведения в Историкоархивном институте РГГУ проводит регулярно в здании института (дом 15 по Никольской улице) заседания, где обсужда
ются издания такой тематики, прежде всего москвоведческие1. Там же вошло в обычай собирать и юных участников всероссийских конференций туристско-краеведческого движения «Отечество» и их руководителей. В этих конференциях, организуемых Центром детско-юношеского туризма России с участием и руководящих сотрудников Министерства образования и активистов Союза краеведов России, особо заметна роль заместителя председателя СКР В.Е. Туманова.
За истекшее время укрепилось в сознании общественности представление о сфере краеведения и о предмете краеведения как учебной (да и научной) дисциплины, для которого старались, используя накопленный уже опыт, найти формулировки в период встреч краеведов в начале 1990-х годов. Это сделано и в моем обращении «Краеведам России», напечатанном в первом выпуске «Вестника Союза краеведов России», и более пространно - в посвященной истории краеведения моей книжке «Краеведение и документальные памятники», изданной в Твери в 1992 г. Представления эти хотя и широкие, но, полагаю, достаточно четкие. Позволю снова вернуться к этим формулировкам для того, чтобы яснее стало, чем руководствовался совет СКР в сферах современного краеведения и во все более развертывающейся работе по истории краеведения и определения его места в общественной жизни и в развитии науки и культуры2.
Круг интересов краеведа - прошлое и настоящее какого-либо края, определенной местности - от малого города, деревни, даже улицы, фабрики, усадьбы, храма, учебного заведения и до крупного региона во всем многообразии тем. Краеведческое (или краеведное, как чаще писали в 1920-е годы) знание - знание комплексное: историческое (шире - историко-культурное, даже историко-литературное, историко-экономическое) и географическое одновременно, знание о взаимодействии людей и окружающей общественной среды и природы.
Постепенно, с закреплением многообразных форм краеведческой работы, определились особые отрасли краеведения (историческое, литературное, географическое и др.), краеведческой деятельности (например, школьное краеведение). Но при этом основными задачами краеведа остаются просветительская, научная, памятникоохранительная (охрана памятников истории, культуры и природы). В наше время под краеведением чаще всего понимают и сферу научной и просветительской работы, и общественную деятельность, причем такую, к которой причастны от
нюдь не только ученые-специалисты, но и значительно более широкий круг лиц, преимущественно местных жителей.
Краеведение - не просто знания о чем-то, но и путь к постижению этих знаний и распространение их. Методика краеведения опирается на научные основы (и, что важно подчеркнуть, на междисциплинарные научные связи), но учитывает и выводы научных теорий и первичные наблюдения обычной житейской практики.
Краеведение - это метод познания от частного к общему, от простого к сложному, выявления особенного и общего. Интерес к тому, что ближе всего, - основа интереса ко всему остальному. Это помогает составить общие представления о мире и обществе, о взаимосвязях явлений и времен. Следовательно, краеведение -это школа познания и методики мышления (освоения взаимосвязи аналитического и синтетического методов), школа воспитания культурой. А основа культуры - память: поэтому можно говорить о воспитании историей. Краеведение - это и школа .понимания значения исторического опыта, и школа становления представлений о взаимосвязи общества и природы, о взаимосвязи в природе, и в то же время - о взаимосвязи сфер знаний, наук. Поэтому особенно важно и полезно вовлечение в краеведение молодежи еще в школьные годы - годы формирования общих понятий и зарождения интеллектуальных интересов и эмоциональных привязанностей.
Научный подход к краеведению - не только обращение в такой работе к современным научным приемам, но и представление о том, что само краеведение является частным по отношению к целому, к более общему, познаваемому таким путем, и во всем многообразии, и в своей специфике - региональной (под регионом обычно подразумевают часть территории, отличающейся от других областей совокупностью относительно устойчивых особенностей - экономико-географических, культурно-исторических, национальных и др.) и локальной (т. е. местной, свойственной данному месту, не выходящей за определенные границы). Тем самым малая родина воспринимается как часть всей Родины, а повседневное, обычное - как достойное специального изучения, без чего немыслимо прийти к основательным выводам и о прошлом, и о настоящем, о ходе исторического развития.
Не следует, однако, ограничивать краеведение областью научных знаний и их применения. Это - и область искусств и литературы, приемы ремесла (и отнюдь не только в плане реставрации
памятников), даже бытовой обиход, это и забота о сохранении памятников культуры и природы.
Краеведение убеждает в необходимости обращения к опыту прошлого и к опыту старших современников. Оно облегчает творческое общение людей разных поколений, разного уровня образования и специальной подготовки (научной, художественной, в области ремесла), способствует объединению по интересам. Краеведение воспитывает уважение к истокам нашим, к родной земле, ее природным особенностям и преданиям, к исконным занятиям предков, развивает интерес к изучению этого наблюдениями над типологическими чертами нашего повседневного социального поведения и менталитета. Тем самым закрепляется и оседлость местного населения.
Существенно то, что воздействие краеведения велико и на разум наш, и на душу. В этом главный смысл слов Пушкина о свойственных нам чувствах любви к родному пепелищу и к отеческим гробам: «в них сердце обретает пищу». Подлинное краеведение не только краезнание, но и краелюбие, и действенное краелюбие. Ибо краеведение не только познание края, а история краеведения не только изучение данных о путях такого познания в прошлом. Это всегда и способ освоения исторического опыта, сохранения и использования ценного в нем. Более того, это отбор, а зачастую и совершенствование того, что выдержало испытание временем, проверку практикой поколений - в природопользовании, в быту, сельском хозяйстве и промыслах, материальной и духовной культуре и, конечно же, в сфере нравственности. Краеведение - и наука о прошлом и путь в будущее.
Краеведение не пассивная, пусть даже благодарная память об отошедшем, а активная жизнедеятельная сила. Оно помогает определять способ переустройства настоящего, выделить конкретные направления движения в будущее, предостерегает от бездумного распространения на все территории и сообщества общих умозрительных понятий о модели будущего и о способах его построения. Без краеведческого подхода, краеведческого кругозора не решить и местных экономических задач.
Условие плодотворного и практически действенного развития краеведения, привлечения внимания к нему общественности - демократичность системы его организации, обеспечение возможности проявления самодеятельности. Преследование наиболее инициативных, самостоятельно мыслящих и широко образованных краеведов на рубеже 1920-1930-х годов, в зловещий год
«великого перелома» (когда их деятельность связали с фальсифицированным «делом» о монархическом заговоре академиков-историков), попытка насильственного массового привлечения к краеведению по признаку социального происхождения привели лишь к резкому спаду краеведческого движения и к отрыву краеведения от «большой науки» (академической и университетской). Администрирование в краеведении противопоказано, так же как и жесткое навязывание тематики и форм организации работы.
Однако условием успеха работы, в которой участвуют в той или иной мере немало лиц, является определенная научно-методическая координация их деятельности, ясное представление о ее программе, возможностях и путях ее осуществления. В век науки о науке необходимо стараться овладеть современной научной методикой, строго придерживаться апробированных практикой приемов: скажем, реставрации памятников или способов записи воспоминаний (с использованием современных технических средств), так же как и принятых в музеях и архивах правил фиксирования находок и описания музейных предметов, документальных памятников. Должно иметь возможность доступа к нужной современнейшей информации (и о предмете изучения, и об истории его изучения) и, конечно же, к библиографической информации.
В упоминавшемся уже первом (и единственном) номере «Вестника Союза краеведов России» (составленном В.Е. Тумановым) помещен и фрагмент беседы с академиком Д.С. Лихачевым 1987 г. «Учит земля родная». Первые слова там такие: «Любовь к родному краю, знание его истории - основа, на которой только и может осуществляться рост духовной культуры всего общества. Культура как растение: у нее не только ветви, но и корни. Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался именно с корней». Там и призыв ученого: «Краеведение должно стать обязательным предметом в каждой школе. В каких классах, в какой форме, нужно еще подумать. Но в любом случае краеведение должно быть очень живым предметом... Преподавать краеведение, руководить этой работой нельзя на дилетантском, любительском уровне. Необходимо развитие теории краеведения, разработка учебных программ -достаточно гибких, чтобы они могли применяться в каждой местности. Теория краеведения должна быть предметом изучения в гуманитарных и педагогических вузах...»
Ныне мы можем говорить о том, что краеведение повсеместно стало предметом школьной программы, и сделано немало для
обоснования методики преподавания краеведения в средней и в высшей школе, развития теории краеведения. А в области изучения истории краеведения появилось столько новых трудов, а также переизданий прежних, что приходится признать заметную устарелость моей книжки 1992 г. в этой ее части, и очень приятно, что выявились новые или основательно забытые еще 10 лет назад имена краеведов и сведения об их замыслах и свершениях. Очевидно, стоит, если хватит сил, подумать о новом, дополненном издании книжки, уже с заголовком «Очерк истории исторического краеведения в России».
Подъем интереса к краеведению в наше непростое время объясняется обстоятельствами общественно-политической жизни и социокультурными устремлениями, обусловленными именно этим, а также характерным для гуманитарных наук во всем мире усилением интереса к изучению повседневности и в прошлом, и в настоящем, к проблемам исторической антропологии, социальной психологии, микроистории.
Процессы демократизации нашего общественно-политического строя и возрастания самостоятельной роли российской провинции взаимообусловлены. Все заметнее становится роль провинции и в области развития культуры - именно там, а не в атмосфере подражающей зарубежной моде столичной тусовки продолжается рост того, что восходит к корневым основам культуры России - и русского народа, и других народов нашей многонациональной и многоконфессиональной страны. Голос провинции определяет ход событий общественно-политической жизни страны: на смену четко осознаваемой вертикали с определяющим всё руководством в центре Москвы (вспомним слова: «Начинается земля, как известно, от Кремля») - горизонталь. И людям моего возраста бросается в глаза изменение направленности действий ведущих местных руководителей: ранее стремились к переводу с повышением в Москву (секретари обкомов партии становились завотделами ЦК, а то и кандидатами в члены Политбюро, министрами), теперь уже это редкость - они стараются закрепить свое положение в своем же крае (в губернаторских креслах не случайно стараются обосноваться и те, кому не удалось достигнуть столичных вершин всероссийской власти или удержаться на них). Наиболее дальновидные, образованные и действительно привязанные к своей малой родине осознают и используют общественное значение краеведения, воплощение в нем связей традиций с будущим и оказывают серьезное (иногда при этом и демонстратив
но публичное) содействие работе краеведов, подготовке трудов краеведной тематики (и исследовательского типа - монографий и сборников, энциклопедий), организации научных конференций (и региональных, и всероссийских), воспитанию юных краеведением, памятникоохранной деятельности. И тут заметно значение субъективного фактора - не всем краям повезло с просвещенным, умным губернатором и знающими цену краеведению руководителями департаментов культуры и образования.
Конечно, возрождение ошельмованного 70 лет назад историко-культурного краеведения, обвиненного в идеализации старины и неспособности реализовать жестко однолинейные идеологические установки, могло иметь место только с изменением микроклимата наших общественных наук и всей нашей общественной жизни, с изменением оценок прошлого и происходящего в мире вокруг нас.
В течение десятилетий господствовало однозначное, обязательное для всех возрастных групп и социальных слоев, для всех регионов огромной страны отношение к историческим традициям, представление о том, что достойно благодарной памяти потомков, поучительно для юных: это прежде всего традиции революционные, избирательно - трудовые и боевые, из сферы культуры только то, что допустимо было характеризовать как прогрессивное в понимании, соответствующем сегодняшним идеологическим установкам. Исключение вынуждены были делать лишь в отношении самых знаменитых «исторических лиц», но в освещении их жизни и творчества акцент был на том, что можно было оценить как «передовое» (и опять-таки с позиции наших дней). И о скольком оставались в неведении не только наши ученики, но и мы сами!
Со времени начала перестройки (а как бы мы ни относились к этому явлению, факт его несомненен и последствия очевидны, особенно для пожилых людей) произошли принципиальные изменения в общественном сознании, в кругозоре исторического видения. Появилась возможность неоднозначного подхода и к настоящему, и к прошлому. Допустимым стало многоплановое (и в то же время избирательное) отношение к традициям. И сразу на исторической карте краев наших появилось множество событий, которые раньше замалчивались, имения, монастыри и храмы, частные коллекции, издания и рукописи, о которых прежде не упоминали, «всплыли» имена основателей больниц и школ из среды помещиков и коммерсантов, общественных и политиче
ских деятелей, жертв репрессий сталинских времен. Сделанное россиянами за рубежом, в эмиграции, начало восприниматься как относящееся к сфере российской культуры - тем более что стал возможен доступ к материалам ранее закрытых архивов и так называемых спецхранов в библиотеках.
Это позволило возобновить изучение кладбищ, составление описаний некрополей: такой тематике посвящены научные конференции, книги - и недавно написанные, и остававшиеся в рукописи (вышла в свет подготовленная еще в канун революционных событий 1917 г. трогательная и привлекательная по форме книга краеведа из подмосковного Раменского А.Т. Саладина о московских кладбищах).
Это привело к возрождению «фамильного краеведения», изучающего свою «фамилию» (род, семью), свое родовое место жительства (селение, улицу, дом). Оно во всем мире является основой первичного интереса к краеведческим изысканиям, обеспечивая уважение и к личным архивам, коллекциям, к изучению некрополей, объединяя в общем интересе разные поколения. Это явление стало за рубежом столь распространено, что на недавней международной конференции архивистов в Москве я взял темой доклада «Архивы и историки-любители». Понятно, что это способствовало и восстановлению общественного престижа генеалогии - науки о происхождении и родственных связях отдельных родов и лиц, имевшей в дореволюционные годы общепризнанные достижения. Ведь главная задача всякой научной работы - стремление к установлению истины. В плане генеалогии -это выявление всех родственников, их родственных взаимосвязей, биографических данных об этих лицах. Это оказывалось не всегда безопасным для советских граждан и их близких - могли обнаружиться родственники и за границей, и среди тех, кого положено было клеймить как «врагов народа», могло выявиться происхождение, далекое от пролетарского.
Переиздаются прежние труды по генеалогии, возобновлена в больших масштабах работа по изучению дворянских фамилий (в методическом аспекте она не прекращалась, так как исследовались генеалогические сюжеты допетровской эпохи, а последующих веков в виде исключения (о родстве некоторых особо прославленных соотечественников-аристократов - Пушкина, Л. Толстого, немногих других). Иногда это оказывается впрямую связано и с краеведением (например, международная научная конференция 1994 г. в Рыбинске, труды которой изданы в книге
«Мусины-Пушкины в истории России» издательством «Рыбинское подворье» в 1998 г.)3. Стали изучать и историю династий предпринимателей, разрабатывать методику, так сказать, народной генеалогии, т. е. изучения родословия крестьян и рабочих. Этой проблематике посвящены последние книги патриарха археографии Северной Руси П.А. Колесникова, изданные в Вологде, -«Родословие Вологодской деревни» (1990) и «Путешествия в родословия» (1997). Это стало темой методически новаторского фундаментального исследования А.Х. Мосина (в Екатеринбурге). В различных местных изданиях появляется все больше работ (и специально методических, и фактологических) такой тематики, программа «Моя родословная» делается одной из самых привлекательных тем школьного краеведения.
Вероятно, следует содействовать тому, чтобы работа по такой тематике имела своим результатом и побуждение к созданию воспоминаний (написанию их или составлению с использованием приемов «устной истории»), упорядочению и сохранению личных архивов (а затем и передаче их на государственное хранение). И в такой деятельности, несомненно, важны рекомендации вышедшего в издательстве «Высшая школа» еще в 1988 г. учебного пособия «Документальные памятники: выявление, учет, использование»: там имеются соответствующие главы, а также большой, с практическими указаниями, раздел о школьном краеведении, Написанный В.Е. Тумановым. Несмотря на явные идеологические клише, обязательные для того времени, книга может быть очень полезной и сегодня.
Программа «Моя родословная» имеет не только особое воспитательное значение для закрепления семейных традиций и взаимосвязей, нравственных начал, но и научно-учебное значение, так как показывает на доступном примере соотношение общего и особенного в историческом процессе, микроистории и макроистории и дает представление об элементах комплексного источниковедения (обращение к письменным источникам, устным преданиям и разговорной речи, вещественным источникам, изобразительным, прежде всего к старым фотографиям, к поведенческим источникам) и о взаимодействии природы и общества, обусловленности образа жизни, занятий человека, его вкусов природными условиями.
В 1992 г. в первом выпуске «Вестника СКР» можно было ознакомиться с долговременной комплексной программой «Краеведение», рассчитанной на привлечение внимания и учащейся молодежи, и их учителей. Там данные и о направлениях
организационно-методической работы (возможности которой, конечно, существенно сократились в современных условиях), и о целевых программах, нашедших уже тогда конкретные формы осуществления в различных регионах. И приятно, что программы эти в той или иной мере остаются в арсенале краеведения наших дней: «Теория и история краеведения», «Природное наследие», «Общественные музеи», «Школьное краеведение», «Культурные гнезда России», «Земляки», «Летописание», «Исторический некрополь России», «Исчезнувшие памятники России», «850-летие Москвы», «Великая Отечественная война».
Труднее всего складывается судьба программы «Общественные музеи». Их было создано немало, особенно в средних школах. И там оказались в экспозиции или в запаснике, если пользоваться музейной терминологией, материалы не только местного происхождения, но собранные в походах по местам трудовой и боевой славы, прежде всего по периоду Великой Отечественной войны. Судьба таких собраний очень тревожит: в части школ к ним утрачен интерес, энтузиасты-подвижники тех лет, когда формировались коллекции, отошли от подобной работы или даже ушли из жизни. Государственные хранилища не всегда предпринимают усилия для учета и сохранности собранного. Роль краеведов в этом деле особенно и более всего ответственна в средней школе, где небрежение к тому, что осталось от организованных ранее музеев, не только противоречит воспитательным задачам школьного обучения, но по существу насаждает историческое беспамятство и безнравственность. Между тем при несомненном возрастании во всем мире тяги к гуманитарным знаниям, к тому, что входит в сферу памятниковедения, занятия в школьных музеях могли бы стать и школой обретения некоторых профессиональных навыков. Причем целесообразно было бы в больших городах иногда и объединять собрания в коллекциях нескольких школ в одной школе, становящейся центром и учебных занятий (по программе истории, литературы, краеведения, конечно же), и первичной профессиональной подготовки склонных к овладению специальными гуманитарными знаниями. И если там есть и памятники материальной культуры, то и с традиционными для своего края ремеслами.
В этой связи целесообразно было бы создавать в провинции особые лицеи с программой обычной школы (или приближающейся к ней) для овладения исконными местными художественными традициями высокого класса ремесленного производства, лицеи
не для детей наиболее обеспеченных родителей, а для растущих в обычных трудовых семьях города и сельской местности. Это может быть иконопись и изготовление народных музыкальных инструментов, изделий из металла, дерева, глины, кожи, тканей, соломы, вышивание и плетение кружев, обучение искусных строителей, садовников и т. п. В программе должно предусматриваться преподавание в расширенном объеме краеведения и, конечно, тех знаний, которые включаются в представление об экологии культуры (в соответствии с понятием, введенным в научный обиход Д.С. Лихачевым) и свойственного технике века компьютеризации и современным художественным вкусам.
Хотя никогда прежде СМИ не играли столь значительной роли в нашей повседневности, как сейчас, привычная информация о сфере научной жизни и культуры, тем более о деятельности научно-общественных объединений, утратила свою стабильность, стала неполной и нерегулярной (СМИ основное внимание сосредоточивают на том, что вызвано сиюминутными политическими или коммерческими интересами). В СКР вся работа ведется на общественных началах, так как после смены руководства в Фонде культуре, при Н.С. Михалкове, нам перестали оказывать какое-либо материальное содействие. И мы утратили возможность получать регулярно сведения о формах и результатах деятельности краеведов на местах, не можем теперь опереться, как это было прежде, и на поступающую организованным порядком информацию о новых изданиях такой-то тематики. И потому можно лишь в самых общих чертах и исходя также из воспринимаемого лично (на месте командировки, при встречах в Москве, при знакомстве с местными изданиями) пытаться охарактеризовать развитие краеведения в последние годы и отметить его тенденции. Допускаю, что отдельные явления, достойные специального внимания и детальное знакомство с которыми особенно полезно при обмене опытом с другими регионами страны, остаются руководству СКР при неналаженной информации пока еще недостаточно известными и, соответственно, недостаточно оцененными. Прошу не сетовать на нас за это и тем более не обижаться.
Существенно обогатилась библиотека трудов по истории краеведения. Если для краеведения еще недавно не находилось места в обобщающих работах и по истории исторической науки, и по истории культуры и общественного сознания пореформенной и особенно советской России, и деятельности краеведов Почти не уделяли внимания в обобщающих работах по истории
края, то теперь наблюдается совершенно иная ситуация: изъятые из спецхрана сочинения краеведов «золотого десятилетия» (т. е. первого послереволюционного периода, до 1929-1930-х годов, когда историко-культурное краеведение объявили антисоветским и «гробокопательным») обильно цитируются, изучаются, переиздаются, в Петербурге даже учреждена премия имени Н.П. Анциферова за труды по петербурговедению. В Переславле-Залесском проводятся Смирновские чтения (в память М.И. Смирнова). Многообразная деятельность краеведов и в провинции, и в Москве становится все чаще предметом исследования диссертантов в Москве, Туле, Вятке, Костроме, Омске, Кемерове и других городах. История краеведения - тема многих книг (в Оренбурге, Нижнем Новгороде и др.), статей в сборниках трудов вузов, музеев, библиотек, архивов, научных конференций. И это связывают с проблематикой современного краеведения. Существенно важны и справочно-библиографические издания - и центральных библиотек (прежде всего Российской национальной в Петербурге, и Государственной публичной исторической в Москве), и местных.
Вероятно, вслед за москвичами, подготовившими уже три выпуска очерков «Краеведы Москвы» (с достаточно пространными биографическими статьями, сопровожденными библиографическими сведениями), книги «Историки и краеведы Москвы. Некрополь. Библиографический справочник» и «Москвоведы. Справочник о краеведах, общественных и научных учреждениях», стоит готовить издания подобного плана и в других регионах, подумать и о работе над «Словарем краеведов России» и академического типа изданием по истории краеведения. «Словарь» может стать одним из направлений совместной работы кафедры региональной истории и краеведения РГГУ и Археографической комиссии с привлечением к ней студенческой молодежи (в Историко-архивном институте был опыт составления справочника «Архивисты России», о чем можно узнать из статьи Н.Н. Митрофанова в «Археографическом ежегоднике» за 1990 год) и, конечно же, специалистов из провинциальных вузов и хранилищ - музеев, архивов, библиотек. Полагаю, что опираться можно и на методику, выработанную при подготовке в Археографической комиссии Каталога личных фондов отечественных историков.
Несомненны достижения в области преподавания краеведения в средней школе - подготовлены не только учебники, книги для чтения (типа хрестоматий), сборники документов (как в
Тверской области по инициативе М.А. Ильина, виднейшего архивиста и историка-краеведа, напечатавшего и много трудов такой тематики). В Калуге была проведена организованная СКР вместе с Министерством образования всероссийская конференция по школьному краеведению. Вопросы эти обсуждаются на ежегодных встречах, организуемых Центром детско-юношеского туризма и в его изданиях. Вышли в свет учебные пособия по методике школьного краеведения специалиста РАО А.Е. Сейненского и на местах - Р.Р. Мунирова «Краеведение в школе: системный подход» (Уфа, 1997) и др. В РАО создан Научный совет по краеведению, и ныне накоплен значительный опыт работы учащих и учащихся для обобщений и рекомендаций. Особенно существенно то, что стали издавать научного характера труды школьников-краеведов (здесь поучительный опыт Петербурга). Желательно целенаправленно выявлять таких юных любителей истории (так, как это делают математики, музыканты, спортсмены), облегчать им поступление на гуманитарные факультеты вузов.
Думается, что следует приложить больше усилий для организации факультативов краеведческой тематики в вузах, не только педагогического и гуманитарного профиля. В вузах технических, медицинских, сельскохозяйственных, не говоря уже об архитектурных, это может быть лекционный курс (а для желающих -и семинар) с акцентом на профилирующих дисциплинах (история техники, медицины и пр. в данном крае, история самого вуза, биографии известных деятелей в сфере будущей профессии и в то же время история края, города в целом). Особенно это важно для тех, кто хочет себя посвятить работе в области физической культуры. Проблемы эти обсуждались в декабре 1997 г. на конференции, посвященной преподаванию краеведения в вузах - правда, с большим акцентом, естественно, на традиционных формах работы в университетах, педагогических вузах и вузах более широкого профиля. А там есть что перенять другим вузам - например, организация конференций по краеведению с участием и преподавателей, и студентов (как в Белгороде), или многообразная деятельность профессора Д.В. Кацюбы и других краеведов в Кемерове, издания по истории областных городов в Вологодском крае (где было подготовлено единственное пока в России описание памятников письменности, хранящихся в музеях области, и справочники не только о погибших в военные годы уроженцах края, но и об умерших в местных госпиталях и др.). Ныне появились кафедры, имеющие название «Кафедра отечественной истории и краеведе
ния», разрабатываются во многих вузах проблемы использования краеведческого материала в преподавании курса «История Отечества» (такой заголовок и учебного пособия, изданного в 1996 г. в С.-Петербургском университете).
Целесообразно обсуждать в собственно методическом или широком культурологическом контексте проблемы, относящиеся ко всем аспектам краеведения - к сферам научной, учебной, просветительской, памятникоохранительной, к краеведению историческому, литературному, географическому и т. д.
Несомненно, объединяющим и ученых, и любителей широкого круга интересов и возможностей являются проблемы истории «культурных гнезд», культуры российской провинции XVIII-XX вв. (это тематика трех конференций и трех книг их материалов), истории усадеб (это тематика и конференций, и книг, подготовленных возрожденным Обществом истории русской усадьбы, возглавляемым Л.В. Ивановой), памятниковедения (тематики, равно близкой и историкам искусств, и собственно историкам, и археологам) или региональные, но более широкого территориального охвата (Центральная Россия, Поморье, Поволжье, Зауралье и др.). В дальнейшем развитии краеведения могут играть немалую роль и комплексной тематики краеведческие издания; в какой-то мере эти функции выполняют продолжающиеся издания «Тверская старина», «Ярославская старина» (в № 4 которой за 1997 г. помещена и моя пространная беседа по проблематике современного краеведения - «Краеведение - наука о прошлом и путь в будущее»), «Костромская старина», недавно возникшие издания в больших и маленьких городах. Важно, что в изданиях этих публикуются и источники по истории края.
Для привлечения интереса к краеведению делается многое местными авторами и издателями. В так называемых исторических городах, т. е. тех, в прошлом которых - известные события, имена, о чем напоминают и сохранившиеся памятники истории и культуры, имеем высокие образцы новаторских изданий, основанные на многолетних изысканиях, и притом увлекательные по форме изложения: книги В.Н. Бочкова о Костроме, О.Г. Ласунского о Воронеже, А.Е. Венедиктова о Волхове и др., книги о знаменитых местных уроженцах и жителях.
Эти издания выполняют сразу две задачи: воспитывают гордость за свой край, любознательность у местных жителей и обогащают знанием о крае и его достопамятностях иногородних. Такие издания - причем разного внешнего вида, от подарочных, богато
иллюстрированных, до карманных, типа путеводителя - являются визитной карточкой города и показателем степени внимания, уделяемого пропаганде изучения прошлого и настоящего своего края его властными структурами. Отношение к культуре прошлого -верный показатель сегодняшнего уровня культуры. Мы встречаемся на этой конференции для того прежде всего, чтобы лучше познакомиться друг с другом, с опытом работы краеведов России, найти пути для более оперативного освоения положительного в этом опыте. Некоторые из нас недавно были на небольшой конференции, созванной фондом «Открытое общество» в Петербурге, и могли узнать о плодотворной работе и вузов, и Дворца творчества юных, и хранилищ города на Неве. Полагаю, что не только москвоведы обогатятся общением с приехавшими на нашу конференцию, но и гости Москвы извлекут ценное для себя из работы москвоведов.
Мы надеемся издать материалы нашей конференции, так же как и конференции конца 1998 г., и поместить там тексты тех, кто не имел возможности выступить в эти дни. Уверен, что выступления на конференции, обсуждение и публикация этих материалов помогут нам уяснить наиболее перспективные направления дальнейшей деятельности краеведов России.
^ельнмуг/кГЛ. Историке-краеведческие встречинаНикольской// Вестник архивиста. 1999. № 1 (49). С. 126-129.
2 См. об этом также: Шмидт С.О. Без краеведения нет России // Мир библиографии. 1999. № 1. С. 2-11.
3 Подробнее: Шмидт С.О. Заключительное слово // Мусины-Пушкины в истории России. Рыбинск, 1998. С. 359.
Этот семинар по тематике и задачам примыкает к научным конференциям последних лет (международным и российским). Они были посвящены проблемам региональной истории и вообще ре-гионологии, историко-культурному краеведению и его историографии, преподаванию краеведения в высшей и средней школе, истории культуры российской провинции, прошлому и настоящему малых городов. Региональные конференции близкой тематики проходили как в Европейской России, так и в Зауралье (в Омске, Иркутске и других городах). В подготовке многих из них принимал участие Союз краеведов России.
Проблематика этих конференций представляется особенно актуальной для современной России, где становится все более ощутимой роль провинции в социополитической и культурной сферах, возрастает интерес к местным историко-культурным традициям. Сами эти традиции, после перемен в общественной жизни России, начавшихся в середине 1980-х годов, воспринимаются в гораздо более широкой перспективе, вне прежних идеологизированных схем, предопределявших отбор явлений, достойных внимания историка, и их оценку. В лоно отечественной культуры официально возвращена культура российского зарубежья (данные о которой включаются сейчас даже в школьные учебники), в гуманитарных исследованиях используют методологию и методики, еще недавно казавшиеся неприемлемыми законодателям идеологии коммунистического строительства.
Проблематика эта отвечает возрастающему во всем мире вниманию к изучению региональных культур и их взаимовлияний, повседневности (в современной жизни и в прошлом), менталитета (больших сообществ и малых общественных групп), воздействия на жизненный обиход естественно-географических, социоэтниче-ских, геополитических, историко-культурных факторов. Это углубляет познание общего и особенного в истории, помогает оценке в локальном и в общеисторическом аспектах памятников истории и культуры, предполагает исследование на междисциплинарном научном уровне (причем не только гуманитарных наук), обраще-
Впервые опубл.: Краеведение и региональная история в современной России // Методология региональных исторических исследований: Материалы междунар. семинара. Санкт-Петербург, 19-20 июня 2000 г. / Сост. А. Кобак и др. СПб., 2000. С. 11-15.
ние к многообразию историко-сравнительной методики, к опыту региональных, краеведческих, историко-антропологических исследований в других странах. Показательным примером такого интереса было проведение в мае 2000 г. в Париже по инициативе Сорбонны международной конференции «Краеведение в России (1890-1990): Истоки, проблемы, возрождение» (где часть докладов французских коллег была посвящена этнологической проблематике).
Это способствует возрождению - уже на новой научнотехнологической основе и на уровне современных международных коммуникаций - лучших отечественных краеведческих традиций научной и просветительской деятельности. Деятельность эта, которая развивалась в академических научных учреждениях, высших учебных заведениях, в хранилищах памятников истории и культуры (музеях, библиотеках, архивах, общественных объединениях), была порушена в зловещие для судеб нашей страны годы «великого перелома» (1929-1931) и в период массовых репрессий.
Знаменательно, что международный семинар 2000 г. проходит в историческом помещении Мраморного дворца в Санкт-Петербурге. Дворец, построенный во второй половине XVIII в. по проекту Ринальди, - и выдающийся памятник архитектуры, формирующий благородный облик набережной Невы, и напоминание о славных традициях нашего краеведения, его плодотворных взаимосвязях с академической наукой. Владельцем дворца был в XIX в. брат Александра II великий князь Константин Николаевич, поддерживавший многообразные инициативы Русского географического общества по изучению регионов России. Позже здесь обитал его сын - великий князь Константин Константинович, президент Академии наук (известный как поэт К.Р.), немало содействовавший сближению Академии с провинциальными университетами, а также с учреждениями и обществами, занятыми изучением местного края.
В послереволюционные годы в Мраморном дворце помещалось Центральное бюро краеведения (ЦБК), возглавляемое непременным секретарем Академии наук академиком С.Ф. Ольденбургом, где велась широкая научная и общественная деятельность, готовились конференции и издания краеведов. Здесь же работала Государственная академия истории материальной культуры (ГАИМК) во главе с академиком Н.Я. Марром (одновременно и заместителем Ольденбурга по ЦКБ), проводившая большую ра
боту по археологическому изучению территории страны, исследованию начальных этапов истории народов нашего многонационального государства. Краеведы, олицетворявшие культурные традиции российской провинции, их общества и объединения, созданные ими музеи и издания, оказались среди первых жертв тоталитарного режима сталинского времени.
Сделанное краеведами тогда, в «золотое десятилетие», имело большое общественное и научно-педагогическое значение. Более 50 лет об этом умалчивали. Изучение наследия краеведов первых десятилетий XX в., использование его в работе историков началось сравнительно недавно. Литература об этом особенно обогатилась в самые последние годы (приятно констатировать, что моя обобщающая книжка 1992 г. «Краеведение и документальные памятники» кажется теперь далекой от полноты в ее фактологической части). Становится все более очевидным, что вклад историков-краеведов в развитие российской историографии значителен: некоторые из них оказались предтечами современных направлений мировой науки (исторической антропологии, микроистории) и ее методик (полевых исследований, «устной истории» и др.).
Для такой огромной страны, как Россия, с ее разнообразием природных условий, историко-культурных традиций, национально-конфессиональными особенностями, массовыми миграциями населения, проблематика региональной истории (и регионологии в целом) и краеведения особенно тесно взаимосвязаны. Они имеют общую первичную научную базу (источнико-вую и историографическую): материалы академических анкет и академических экспедиций XVIII в., первые попытки составления уже в XVIII в. местных историй (т. е. истории своей местности, сочиненной аборигенами). На это опирались и в обобщающих исторических трудах (начиная с «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина), и в разнообразных по тематике исследованиях Русского географического общества, губернских статистических комитетов, позднее - губернских ученых архивных комиссий, провинциальных научных обществ, пропагандировавших изучение культурного и природного наследия своего края, формировавших представления о памятниковедении, о роли музеев и выставок в развитии научных и прикладных знаний. Этим стали руководствоваться и педагоги, приобщавшие учеников к познанию «ро-диноведения», «отчизноведения» - того комплекса сведений о взаимосвязи природы и общества, которым ныне занимается экология. Общеизвестно, что выявление и осмысление общего и осо
бенного лежит в основе формирования всяких знаний не только на научном, но и на бытовом уровне. Потому именно краеведческие (т. е. опирающиеся на локальную информацию) представления находятся у истоков понятий о комплексных знаниях, о методах познания от частного к общему, от простого к сложному, а в сфере науки и преподавания - у истоков междисциплинарных научных знаний, понимания взаимосвязи наук. Существенно и показательно, что преподавание краеведения становится обязательным в программах средней школы, укрепляет творческое взаимодействие ученых и школьных учителей. Это тоже возрождение добрых традиций начальных десятилетий XX в.
В наши дни регионология (или регионолистика) утвердилась как междисциплинарная научная и просветительская деятельность на стыке наук гуманитарного и иного профилей. Она признается важной не только для познания настоящего и прошлого, но и для прогнозирования будущего. Регионология - это комплекс более широких (и в то же время менее конкретизированных) знаний, чем краеведение, включающих современное состояние региона и сферу политологии.
Под регионом подразумевают обычно часть территории, отличающуюся от других совокупностью относительно устойчивых особенностей -- географических, социоэкономических, исторических (как историко-культурных, таки историко-политических). Региональная история - это не только история отдельных регионов, но и история их взаимоотношений со столицами и другими регионами, организация территориальной структуры государства и управления ею. Это (как и во всякой сфере научного знания и педагогики) методология и методика исследований региональной проблематики, а также приемы распространения этих научных навыков в широкой общественной среде и в программах школьного обучения. Поэтому особенно важен и перспективен в научно-методическом плане международный обмен опытом работы в области регионологии.
Под краеведением понимают не только науку, изучающую развитие и современное состояние конкретных региональных сообществ и территорий, но и научно-популяризаторскую и просветительскую работу определенной тематики: о прошлом и настоящем какого-либо края (обычно своего родного - малой родины) и его памятников. Объектом интереса краеведа может быть местность разного пространственного масштаба и культурноисторического значения -- от большой территории до маленького
города, деревни, усадьбы, монастыря, улицы, фабрики, учебного или лечебного заведения, а также история жизни своих родных и близких в данной местности, взаимосвязь местных жителей (особенно известных) с другими регионами. Такая краеведческая работа привлекает специалистов и любителей (некоторые из них становятся большими знатоками и края, и литературы об этом крае), в нее втягивается школьная молодежь. В этой работе объединяются по интересам люди разного возраста, разного социокультурного статуса, разного уровня специальной (научной) подготовки. Занятие краеведением по зову души - всегда краелюбие. Люди хотят больше знать о своем крае, улучшить в нем условия жизни, сделать дорогие им знания достоянием не только местных жителей. Степень развития краеведения - один из показателей уровня культуры края, микроклимата его общественной жизни. Знакомство с региональным самосознанием и региональной историей существенно для понимания менталитета страны, особенно отличающейся своеобразием различных местностей.
Краеведение и регионология во многом способствуют формированию нашего собственного сознания, наших знаний о закономерностях и особенностях развития природы и общества в их взаимосвязи. Элементы этих представлений лежат в основе наших знаний в области источниковедения, историографии, истории культуры, не говоря уже о памятниковедении. Потому важно, чтобы методология и методика такого рода знаний и деятельности соответствовали современному уровню научных и технологических представлений.
Вступительное слово на конференции «Малые города России: Малоярославец -проблемы истории и возрождения»
Очень рад, что в городе Малоярославце впервые происходит столь значительное событие не только для его жителей, но и других жителей Калужской области и даже Москвы. Наша научно-практическая конференция имеет название «Малые города России: Малоярославец - проблемы истории и возрождения». Это подразумевает особое внимание к размышлениям о значении исторических традиций для развития города в настоящем и будущем, к воспитанию у молодежи уважения и интереса к прошлому своего края и к возможностям использования опыта прошлого для познания настоящего и строительства будущего.
Большая всероссийская конференция с подобным названием, но посвященная проблемам истории и развития малых городов России в целом, состоялась в октябре 1998 г. в г. Переславль-Залесском и вызвала заметный интерес, имела резонанс среди научной общественности и всех интересующихся краеведением.
В последние годы в России значительно повысился интерес к краеведческой деятельности. Слово «краеведение» общеупотребительно. Однако толкование его и в языке науки, и в просторечии неоднозначно. В настоящее время краеведение - это и наука и научно-популяризаторская, просветительская деятельность определенной проблематики: прошлое и настоящее какого-либо края (чаще всего родного), определенной местности - небольшого города, иногда улицы, деревни, учебного заведения и т. д. - во всем многообразии тематики. Краеведение - это и форма общественной деятельности, причем такой, к которой причастны не только ученые-специалисты, но и значительно более широкий круг лиц, преимущественно местных жителей. Краеведение сегодня, по определению академика Д.С. Лихачева, является «самым массовым видом науки».
Методика краеведения опирается на междисциплинарные научные связи, учитывает не только выводы научных теорий, но
4 Впервые опубл.: Вступительное слово // Малоярославец: Про-блемы истории и возрождения: Материалы науч. конф. Малоярославец, 2001. С. 5-10
и первичные наблюдения обычной житейской практики. Краеведческое (или, как писали в 1920-е годы, краеведное знание) -знание комплексное: историческое (шире - историко-культурное, историко-литературное и историко-экономическое) и географическое одновременно.
Краеведение - это школа познания и методики мышления (освоение взаимосвязи аналитического и синтетического методов), школа воспитания культурой. Основу всякой культуры составляет память, следовательно, можно говорить о воспитании историей. Краеведение - это и школа становления и закрепления представлений о взаимосвязях природы и общества, о взаимосвязи наук. Все это предопределяет важность и полезность вовлечения в краеведение молодежи, школьников. Краеведение убеждает в необходимости обращения к опыту прошлого и в то же время облегчает творческое общение людей разного возраста, разного уровня образования и разных специальностей (художников, ученых, технических работников и др.).
Краеведение возбуждает интерес и воспитывает уважение к истокам нашим, к родной земле, ее природным особенностям и историческим преданиям, к исконным занятиям предков. Его воздействие велико и на разум наш, и на душу. В этом-то главный смысл слов Пушкина о любви к отеческим гробам и к родному пепелищу: «в них обретает сердце пищу». Подлинное краеведение -всегда краелюбие.
И наконец, краеведение - не только познание края, а история краеведения - не только изучение данных о путях такого познания в прошлом, но это всегда и способ освоения и сохранения исторического опыта. Более того, это отбор, а зачастую и совершенствование того, что выдержало испытание временем, проверку практикой поколений - в быту, природопользовании, сельском хозяйстве и промыслах, материальной и духовной культуре и, конечно же, в сфере нравственности, это и необходимая составляющая для определения способов переустройства настоящего. Краеведение помогает выделить конкретные направления, движения в будущее, предостерегает от механического распространения на все территории и все сообщества общих умозрительных понятий о модели будущего и о способах его построения. Именно поэтому конференция в Малоярославце в настоящий момент, когда на таком высоком уровне, как мы слышали от главы администрации города Геннадия Семеновича Крючкова, принято решение о праздновании его 600-летия, имеет особое значение.
Знаменательно, что конференция проходит именно в рамках подготовки к празднованию юбилея города. Это показывает, что руководители Малоярославца понимают футурологическое значение исторических традиций и стараются поддержать усилия тех, кто бережет и развивает эти традиции, и новые начинания такого плана, для которых перспективы дальнейшего роста своего города предопределяются и пониманием значения взаимосвязи времен, творческого использования и местного, и более широкомасштабного исторического опыта.
Но важно отметить и то, что при наличии задач, рассчитанных на перспективу, конференция наша опирается в то же время на традицию. Это уже не первая конференция такой тематики, проводимая при участии Союза краеведов России, и всегда при выборе места проведения имелись в виду три важных обстоятельства. Кроме отмеченной выше активности местной администрации (здесь нужно сказать еще и о важности организационной деятельности, которую взяли на себя директор и сотрудники малоярославецкого Музея 1812 года), это всегда должна быть местность, интересная своей историей, своей природой не только для местных жителей, но и для приезжающих сюда гостей, город, значение которого в историко-культурном развитии России общероссийского масштаба. Это должен быть город, где имеются и достойные специального ознакомления традиции краеведческой деятельности.
Все эти обстоятельства, безусловно, можно отметить, когда речь идет о городе Малоярославце. История Малоярославца - это история и уникального по исторической роли и одновременно типичного малого города среднеевропейской части России. Самой заметной страницей в истории города был 1812 год, когда в дни Отечественной войны здесь во многом были обусловлены не только победоносный для россиян исход войны, но и печальный для Наполеона финал его завоевательной политики, падение его империи. И понятно, что эта тематика наиболее популярна и в работах краеведов, и в исследовательских трудах, в той или иной мере относящихся к Малоярославцу. Но серьезный интерес представляет и ранний период истории края, особенно роль в социокультурной истории недалеко расположенного Боровского Пафнутьева монастыря, его взаимосвязи с Малоярославцем. В Малоярославецком уезде, в селе Любицах, родился в 1818 г. крупнейший знаток древних церковнославянских памятников письменности, ставший членом-корреспондентом Академии наук Амфилохий, в миру Па
вел Иванович Сергиевский, умерший в 1893 г. епископом Углиц-ким. Деятельность краеведов 1920-х годов, открытие в городе в 1939 г. Музея 1812 года, вновь оцененная историками1 книга А.Е. Дмитриева о Малоярославце и, что особенно радует, издаваемые с середины 1990-х годов материалы конференций, организованных Музеем 1812 года, - свидетельства добрых и, хочется думать, прочных традиций исторического краеведения. Лучшим подтверждением сказанного является нынешняя конференция, организованная по инициативе малоярославчан, заинтересованных в изучении истории родного края.
Судя по программе, конференция собрала здесь заинтересованных специалистов и просто любителей родного края, благодаря чему имеется возможность получить информацию о широком спектре проблем. И следует поблагодарить за это составителей программы конференции - а это и работники Музея 1812 года, и заведующий недавно организованной кафедрой региональной истории и краеведения Российского государственного гуманитарного университета. Этот первый в России гуманитарный университет возник на базе Московского государственного историко-архивного института, который, сохранив наименование Историко-архивного института, стал ныне архивным факультетом университета (кафедра находится в здании на Никольской улице в доме 15, где учились и ее первый заведующий Владимир Фотие-вич Козлов, и являющийся ныне главным редактором Малоярославецкой городской газеты Сергей Владимирович Поздняков, и так деятельно участвовавшая в организации конференции Лада Вадимовна Митрошенкова). Особое значение имеет участие в ней специалистов такого уровня, как Сергей Михайлович Каштанов -член-корреспондент Института Российской истории Академии наук, тоже выпускник Историко-архивного института и международно признанный специалист в области изучения российского Средневековья. Это говорит об интересе, который вызывает у специалистов история Малоярославца.
Конференция наша является научно-практической. Следовательно, она должна быть полезна не только малоярославчанам и жителям Калужского региона, хотя общение с приезжими уже само по себе обогащает местных жителей, но и для этих приезжих, которым предоставляется возможность не только обменяться опытом путем устных выступлений, но и ознакомиться с практикой работы местных учреждений культуры, прежде всего музеев Малоярославца.
Безусловно, собственно возрождение малых городов не может не опираться на достижения в развитии краеведения, на идею возрождения краеведения. Желательно, чтобы оно в будущем обрело то положение в общественной жизни, которое имело в 1920-е годы, в годы своего «золотого десятилетия».
Полагаю, что заметный в последнее время в различных регионах нашей страны интерес к краеведению объясняется не только неистребимой тягой к познанию родного края, не только тем, что именно со знакомства с близким по месту формируются первичные представления и об общем, и об особенном, о взаимосвязи общества и природы. Но, что важно подчеркнуть, и изменениями в нашей общественной жизни, ставшими теперь всем очевидными.
Демократизация нашей общественной жизни существенно повысила роль провинции в обществе, в выявлении своеобразия в развитии культуры. Научная и общественная деятельность в родном краю становится более привлекательной, чем прежде. И, как мы успели заметить, в Малоярославце это чувствуется особенно хорошо. Наличие в городе столь современного, прекрасного района, со зданиями, выстроенными по лучшим образцам европейского уровня, в сочетании с сохраненной стариной и красотой природы позволяет надеяться на дальнейшее возрождение и процветание маленького города с большой историей. Исчезает тягость воздействия центральных органов власти. Для дальнейшего роста творческой самостоятельности достаточно теперь поощрения местного руководства и местного общества. Появились возможности более углубленного изучения прошлого. Снят запрет на упоминание ранее вычеркивавшихся из отечественной истории имен, общественных образований, событий, возродился интерес к семейной истории, к генеалогическим изысканиям: уже не надо страшиться того, что среди вновь обретенных родственников окажутся те, кого называли прежде врагами народа, или пребывающие за рубежом.
Правда, это породило и поток дилетантских сочинений и безответственных утверждений, основанных на использовании лишь немногих данных. Но это тоже должно побудить истинных краеведов противостоять таким неблаговидным действиям и добиваться выявления исторической правды. И более опытные специалисты обязаны передавать навыки своего источниковедческого и научно-популяризаторского мастерства менее опытным, но также тянущимся к краеведным знаниям.
Краеведение в наши дни отвечает и современным задачам исторической науки, где преимущественное внимание уделяют ныне изучению повседневности, исторической психологии, междисциплинарным научным исследованиям. Вызывает возрастающий интерес и историография краеведения. Показательно, что в университете Сорбонна во Франции в 2000 г. по инициативе парижан состоялась международная конференция «Краеведение в России за сто лет», участвовать в которой пригласили и участников нынешней конференции Козлова В.Ф. и Шмидта С.О.
Хочется надеяться, что наша конференция будет содействовать тому, чтобы представление о краеведении в сознании людей все больше ассоциировалось с понятием и о связи времен, и о современном культурном образе жизни.
Обращение к участникам региональной научно-практической конференции «“Золотое десятилетие” иркутского краеведения:
1920-е годы»
Очень признателен организаторам конференции - Иркутскому гуманитарному научному фонду, Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке, Иркутскому областному краеведческому музею - за радушное приглашение участвовать в научно-практической конференции «“Золотое десятилетие” иркутского краеведения: 1920-е годы», посвященной 75-летию первого Восточно-Сибирского краеведческого съезда.
Иркутск, «из всех сибирских городов самый лучший», по определению А.П. Чехова, более двух столетий является средоточием культуры Восточной Сибири и ее взаимосвязи со всей Россией и с народами Дальнего Востока. Восточная Сибирь - это регион и огромного пространства, и большого разнообразия природных и социокультурных (особенно национальных) явлений. Изучение истории восточносибирского и собственно иркутского краеведения интересно и поучительно и в плане рассмотрения развития отечественного краеведения в целом, и в плане исследования закономерностей и особенностей развития региональной культуры.
Становление краеведения во всех регионах нашей страны зависело от сочетания определенных благоприятных обстоятельств: наличия образованных людей, заинтересованных в познании своего края, его природы, истории культуры; поддержки местных властей (и светских, и церковных) и местных состоятельных людей. А если к краеведению оказывались причастны лица, обладающие и научными знаниями, тем более научной репутацией, то они могли обеспечить плодотворные взаимосвязи с научными и учебно-методическими центрами в обеих столицах. Тем самым можно было с большей основательностью выявлять и объяснять соотношение общего и особенного в своем крае и определять обретающее всероссийское или даже всемирное значение в природном и культурном наследии.
Впервые опубл.: К участникам региональной научно-практической конференции «“Золотое десятилетие” иркутского краеведения: 1920-е годы» // Иркутское краеведение 20-х: взгляд сквозь годы: Материалы региональной науч.-практ. конф. Иркутск, 11-13 января 2000 г. / Отв. ред. Д.Я. Майдачевский. Иркутск, 2000. Ч. 1. С. 7-12.
Если под краеведением подразумевать не только сферу просвещения и науки, но и сферу общественной жизни, то показательно, что у истоков иркутского краеведения стояли такие деятели, как выдающийся в первой трети XIX в. ученый в области региональной истории сибиревед П.А. Словцов, самый крупный по масштабу мысли и образованности государственный деятель и правовед М.М. Сперанский, традициям которого следовали и знаменитый Муравьев-Амурский и Корсаков. В Иркутске сформировался и великий церковный деятель - просветитель народов Севера Иннокентий. Именно в Восточной Сибири особенно продуктивно оказались использованными интеллектуальные силы оказавшихся здесь революционно настроенных лиц: и декабристов, и петрашевцев, и народников, и социал-демократов. На территории, не знавшей помещичьего землевладения, основанного на крепостном труде, особо заметной оказалась роль просвещенных коммерсантов. Они привлекали к изучению Сибири и видных специалистов из Европейской России (как знаменитый А.М. Сибиряков - историка М.И. Семевского).
Именно в Иркутске уже в 1851 г. было организовано отделение Русского географического общества. С работой Восточно-Сибирского отделения этого общества связано освоение Дальнего Востока, Арктики, изучение быта нерусских народов Зауралья, деятельность таких выдающихся ученых, как Г. Н. Потанин, А.П. Щапов, Н.М. Ядринцев, Д.А. Клеменц, В.Г. Богораз-Тан в области общественных наук, П.А. Кропоткин, И.Д. Черсский, В.А. Обручев и другие в области естественных наук.
Расцвет краеведения в первое послереволюционное десятилетие обусловлен был и изменениями в общественной жизни (появившимися возможностями приобщения к культуре самых широких слоев населения, притом с детских лет, и стремлением лучшей части «старой интеллигенции» сохранить, а то и приумножить культурное наследие), и особенностями развития науки в стране (возникновение новых провинциальных очагов культуры; резкое сокращение взаимодействия с зарубежной наукой; постепенное утверждение полнейшей материальной, административной и идеологической зависимости от центральных правительственных - и советских, и особенно партийных учреждений), и, конечно, местными традициями краеведческой деятельности.
Местные краеведы (организовывавшие тогда музеи, библиотеки, высшие учебные заведения, научные общества, издававшие свои труды) и группировавшиеся подле Центрального бюро крае
ведения, возглавлявшегося тогда непременным секретарем Академии наук С.Ф. Ольденбургом, верили в большое общественное значение научно-просветительской и памятникоохранительной работы краеведов, высоко оценивали его усиливавшиеся взаимосвязи с «большой наукой» (академической и вузовской). Для тех интеллигентов, которые не склонны были поддерживать идеи социалистических преобразований, это давало возможность продолжать свое служение идеалам культуры (и в то же время облегчить материально свое существование). А советская власть видела в этом возможность использовать «спецов» в советском культурном строительстве. (Такие воззрения воплощал нарком просвещения А.В. Луначарский.) И в той или иной мере так продолжалось до зловещего года «великого перелома», хотя симптомы набиравшего силу тоталитаризма проявлялись в сфере краеведения уже со второй половины 1920-х годов. И понятно, почему именно краеведческие объединения и историко-культурное краеведение в целом (с его восходящими еще ко временам земств тенденциям культуртрегерства и относительной самостоятельности) оказались среди первых жертв сталинского террора.
Первый Восточно-Сибирский краеведческий съезд фокусировал внимание на достижениях краеведов Восточной Сибири и всей страны. В подготовленном в конце 1920-х годов справочнике «Алфавитный список научных работников», проживающих вне Москвы и Ленинграда, помещенные в приложении (на с. 765) сведения об Иркутске, его научных учреждениях, вузах, научнообщественных объединениях, особенно многообразны в сравнении с данными о других губернских центрах. Насыщена ценной информацией и статья хроникального типа, посвященная 75-летию Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества, опубликованная в журнале «Краеведение» (1926. Т. 3). Журнал «Сибирская живая старина» был тогда одним из лучших провинциальных продолжающихся изданий.
Творческие достижения в краеведении определялись в те годы во многом основанием Иркутского университета и его взаимосвязями с учеными Москвы и Ленинграда. В университете имелась возможность вести краеведческую работу, междисциплинарную в своей научной основе, силами специалистов всесоюзной известности. Это этнограф Б.Э. Петри («Опыт преподава-• ния основ географии на краеведческом материале»), фольклорист ‘ М.К. Азадовский, литературовед и историк культуры М.П. Алексеев, по местным собраниям подготовивший исследование
«Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и писателей» (тексты, обширные исследования и комментарии). Книга, изданная, правда, лишь в 1932 г., стала и методическим образцом для схожего содержания трудов по другим регионам. И потому понятно, что именно с Иркутском связано становление творчества таких разносторонних ученых, трудившихся на стыках наук, как М.М. Герасимов, Г.Ф. Дебец, А.П. Окладников.
Сейчас наблюдается возрастание внимания и ученых, и общественности к истории краеведения, особенно его «золотого десятилетия». В Зауралье в этом направлении работают все интенсивнее. Отрадно, что такая тематика все более привлекает авторов диссертаций. Это внушает убеждение в том, что рулевые науки грядущего столетия сумеют использовать не только опыт своих предшественников в сфере краеведения, но и воспитать уважение общественности к краеведам-подвижникам 1920-х годов. Это обеспечивает возможность написания региональных историографических трудов по краеведению, а затем всерьез приступить к подготовке академического издания по истории краеведения по всей России и, главное, библиографии по такой тематике. Показательно, в частности, для Иркутска, что автор важной для краеведения докторской диссертации на грани исторических и естественных наук А.В. Дулов - составитель книги «Памятники истории и культуры Иркутска» (1993).
Повсеместное введение занятий по краеведению в средней школе - знамение происшедших в недавнее время перемен в обществе. И к краеведению историческому подходят иначе, чем в десятилетия, следовавшие за разгромом краеведения. Углубилось понимание взаимосвязи развития природы и общества: исключенный после издания «Краткого курса истории Коммунистической партии» из влияющих на ход исторического процесса естественно-географический фактор снова возвращает себе место в общеисторических представлениях. А это очень важно тогда, когда становится ясно, что важнейшей проблемой XXI в. будет проблема экологии, и можно надеяться на великие открытия на стыке гуманитарных и естественных наук.
Существенно и то, что при краеведческом подходе используются в широком объеме все данные о крае - о событиях и людях, а не выборочно, как прежде. Потому-то возрождается фактически недозволенная долгие годы генеалогия - теперь можно не скрывать сведений о родственниках, находившихся за рубежом или объявлявшихся врагами народа. А семейная история цементирует
местную историю. Многообразие краеведческой тематики в наши дни отражено и в периодических изданиях типа очень привлекательной «Земли Иркутской».
Мои соображения о некоторых итогах и перспективах развития краеведения на современном этапе изложены в недавно опубликованном вступительном докладе на Всероссийской научно-практической конференции (декабрь 1998 г.), где было избрано новое руководство Союза краеведов России («Современное состояние и перспективы развития краеведения в регионах России: Материалы конференции». 1999) и в значительной мере опирающейся на этот доклад статье «Без краеведения нет России» (Мир библиографии. 1999. № 1). В статьях первых заместителей председателя Союза краеведов России В.Ф. Козлова и В.Е. Туманова, опубликованных в материалах этой же конференции, немало конкретных данных о предстоящей работе краеведов. Она осуществляется ныне в тесном контакте Союза краеведов России и Российского государственного гуманитарного университета, его Центра краеведения и москвоведения и кафедры региональной истории и краеведения. И мы все надеемся на дальнейшие все более укрепляющиеся контакты с краеведами регионов.
Программа настоящей конференции содержит важнейшие комплексы конкретной тематики по истории краеведения «золотого десятилетия». Издание материалов конференции - важное дело для развития историографии краеведения всей России, особенно - современного краеведения.
Дальнейших вам всем свершений!
В Перми издана небольшая малотиражная книжка памяти архивиста-краеведа Л.С. Кашихина. Издание доброе, полезное и, полагаю, поучительное для других регионов России, ибо очень важно и для нас самих и для будущего, для воспитания историей и формирования историков удерживать в памяти имена тех, кто считал своим призванием сохранение памяти о прошлом.
Леон Сергеевич Кашихин (1932-1997) родился в Тюменской области, детские годы провел в Уржуме, где получил специальность зоотехника, любил и хорошо знал природу Северной Руси, реально представлял ее воздействие на ход общественной жизни. Учился в Московском историко-архивном институте. Трудолюбием, серьезностью и, конечно, большими способностями обращал на себя внимание преподавателей и вызывал искренние симпатии у студентов.
В книжке написано, что он был «одним из самых способных учеников ... С.О. Шмидта». Л.С. Кашихин не был моим дипломником, но прошел семинар первого курса, стал активным участником студенческого научного кружка источниковедения, бывал у меня дома, и если считал себя моим учеником, то я этим могу только гордиться.
Имея рекомендацию в аспирантуру, Л.С. Кашихин уехал на работу в Тобольск, в 1963 г. перебрался в Пермь. Когда я бывал в этом городе, то с радостью встречался с ним, Н.Д. Аленчиковой и другими выпускниками МГИАИ, пользовался его гостеприимством в архиве: делал на пишущей машинке (тогда не было ксерокса) выписки из документов, заказывал ему статьи для изданий Археографической комиссии, радовался тому, как глубоко осведомлен он о материалах архива, с какими увлеченностью и целеустремленностью выявляет сведения об общественно-политической истории XVIII-XX вв., видных деятелях Прикамья. Он одним из первых в стране занялся изучением местных краеведческих традиций, вернул исторической науке имена, вычеркнутые после разгрома исторического краеведения в зловещем 1929 г.
Впервые опубл.: Наш Леон: Сб. док. и материалов, посвященных памяти Кашихина Леона Сергеевича / Сост. В. С. Колбас. Пермь, 1998.
Л.С. Кашихин подготовил рекомендации по комплектованию государственных хранилищ материалами личных архивов и организации работы краеведа-историка. Методические рекомендации по обработке личных фондов («В помощь краеведам»), изданные отдельной книжкой в 1975 г., не раз характеризовались мною в статьях и докладах (в том числе на международных форумах) как пример высокого творческого потенциала наших архивистов в провинции, рекомендовались как образец в методических указаниях Археографической комиссии и в учебном пособии 1988 г. «Документальные памятники». Он создал в Госархиве Пермской области отдел личных фондов, но когда в 1984 г. его попытались заставить заниматься перестановкой фондов по тематическому признаку, он предпочел покинуть архив, перейдя на работу в Пермское специальное научно-реставрационное управление (ПСНРУ). Он был убежден в необходимости приобщения широкой общественности к архивной культуре, передачи на государственное хранение личных фондов, столь незаменимых при изучении повседневности (чему сейчас во всем мире придают особое значение), а подчас содержащих документы и более заметного исторического звучания.
Л.С. Кашихин выявил ценные материалы об исследователе Русской Америки К.Т. Хлебникове, историке Урала В.Н. Шишон-ко, музейном деятеле П.Н. Серебренникове и о многих других, прославивших Прикамье, об архитекторах и памятниках архитектуры, считал своим долгом печатать и документальные публикации, и статьи в широкой прессе, выступать с докладами. В 1995 г., отвечая на вопрос анкеты, Л.С. Кашихин писал: «Основные темы краеведческих исследований можно разделить на два направления: производственное и личное. К первому относятся темы, разрабатывавшиеся за эти годы в ГА-ПО (история революционного движения, Лениниана, индустриализация, коллективизация, культурная революция в Прикамье и др.) и в ПСНРУ (история архитектуры, планировки и застройки исторических населенных мест Пермской области, отдельных памятников истории и культуры). Ко второму направлению отношу архивные изыскания и публикации о выдающихся деятелях Прикамья». Л.С. Кашихин занимался любимым делом с полной самоотдачей и неизменно с научной основательностью (даже в многочисленных газетных статьях). У этого нечестолюбивого человека просто не оставалось времени на подготовку диссертации, но скольким диссертантам
он помог не только советом, но и предоставлением выявленных им архивных материалов!
Жизнь и творчество Л.С. Кашихина показывают, как велика может быть в российской провинции роль историка и краеведа. Он явился продолжателем славных традиций уральского краеведения, сумел личным примером и ощутимыми результатами своих неутомимых разысканий привлечь к работе и сверстников, и молодежь - усилиями таких людей краеведение начинает возрождаться и как общественное движение. Память о Леоне Сергеевиче Кашихине, даровитом и душевно щедром знатоке и пропагандисте архивных богатств, должна сохраняться в трудах и по истории архивного дела, и по истории краеведения.
I
А
Абрамов Д.М. 414
Аврех А.Я. 533
Адашев А.Ф. 87,92, 579
Адоратский В.В. 345, 642
Адрианова-Перетц В.П. И, 202, 205,539,599,615
Айрманн Г.М. 26
Акиныпин А.Н. 432,434
Аксаков И.С. 260, 281, 292, 293
Аксаков Н.П. 264
Александров Г.Ф. 520
Алексеев В.М. 498
Алексеев М.П. 325, 539, 717
Алексеев Ю.Г. 597
Альшиц Д.Н. 209
Андреев А.И. 159, 164, 165, 169, 183,591,592,644
Андреев Н.А. 261
Андреев-Бурлак В.Н. 274
Анненков П.В. 221, 278, 283, 287, 293, 476
Анпилогов Г.Н. 511
Антокольский П.Г. 215
Антонова С.И. 531
Анциферов Н.П. 493, 700
Амосов А.А. 177, 451, 579, 597-605, 607-618
Арциховский А.В. 207, 551, 552, 564, 597
Асеев Н.Н. 213
Афанасьев Ю.Н. 148, 533, 589
Афиани В.Ю. 252, 658
? Ахматова А.А. 250, 314
Б
Бабакин Г.Н. 408
Багалей Д.И. 206
Базилевич К. В. 28
Бантыш-Каменский Д.Н. 254, 255
Бантыш-Каменский Н.Н. 254, 439, 621, 629
Баринов И.С. 260
Барсуков Н.П. 475
Бартенев П.И. 105, 195, 221, 247, 255, 258, 260, 264, 277, 294,595, 596
Бартенев С.П. 195
Басистов П.Е. 264, 287
Баталов В. 363
Батюшков К.Н. 230
Бахрушин С.В. 17, 306, 327, 480, 488, 493,507,509,511,564
Бейль Анри 235, 320
Беленький И.Л. 179, 182
Белинский В.Г. 13, 198, 229, 279, 286, 292,293,315, 385, 469
Белокуров С.А. 14, 625
Бельчиков Ю.А. 417
Белый А. 224, 266, 334, 335, 354, 372,393, 398, 412, 427
Белявский М.Т. 531, 555
Беляев М.Д. 493
Бенкендорф А.Х.230,259
Бердяев Н.А. 344, 415
Берестов В.Д. 221
Берков П.Н. 539
Бестужев-Рюмин К.Н. 14, 206, 437, 470, 488, 489, 636
Библер В.С. 179
Бильбасов В.А. 275, 457
Билярский П.С. 476, 632
Бисти Д.С. 215
Благово Д.Д. 226
Блок А. 90, 94, 215, 314, 316, 381, 392,397,404
Блок Г.П. 241
БлудовД.Н. 194, 243
Боборыкин П.Д. 123, 386
Бобринский А.А. 271, 282
Богданов А.А. 344
Богомолов И.С. 260
Богословский М.М. 15, 145, 219, 251, 457-467, 468-485, 493, 636, 640, 643
Боде А.А. 353
Болховитинов Е.А. 201, 206, 209, 432-445
Бонч-Бруевич В.Д. 341, 633
Борисов Ю.С. 339
Брачев В.С. 494
Бренко А.А. 274
Бриген А.Ф. 124
Брюсов В. 215, 265, 314
Бугаев Н.В. 272
Буганов В.И. 33, 529, 566-572, 593
Булаховский Л.А. 205
Булгаков М.А. 335,379,380
Бунин И.А. 215, 334, 335, 354
Бурдин Ф.А. 273, 287
Буренин В.П. 275
Бурышкин П.А. 330
Буслаев Ф.И. 205, 206, 425, 615, 632, 636
Буссов К. И, 26
Бухарин Н.И.336,347
Бухерт В.Г. 465, 621, 663, 664
В
Вавилов Н.И. 345
Вавилов С.И. 251
Валк С.Н. И, 143, 444, 465, 466, 539-544,599, 612,622,638,641, 644, 647, 650
Василевский И.Ф. 275
Василий III 13, 20, 22, 27,102
Вахер Н.А. 660
Вахрамеев И.А. 203
Вахтангов Е.Б. 336
Веденин Ю.А. 417, 689
Вейнберг П.И. 275
Вельтман А.Ф. 194
Венгеров С.А. 341
Венкстерн А.А. 268
Вересаев В.В. 306, 308, 372
Верещагин В.В. 327, 330
Вернадский Г.В. 15, 471
Вернадский В.И. 130, 347, 471, 489
Веселовский А.Н. 205, 273, 425
Веселовский С.Б. 16, 462, 488, 489, 638
Вигель Ф.Ф. 242, 243
Викторов А.Е. 272
Виноградов В.В. 209, 303
Виноградов П.Г. 131, 460
Винокур Г.О. 54, 250,303,306
Виппер Р.Ю. 16,101
Висковатый П.А. 272, 449, 579
Владимирский-Буданов М.Ф. 14
Волгин В.П. 517
Волкова Т.О.
Волконский С.Г., кн. 110,115
Волобуев П.В. 339
Володин А.И. 107
Волошин М.А. 215, 336
Вольтер 96,130, 235,320
Воронин Н.Н. 207, 551, 581
Воронцова Е.К., граф 267
Востоков А.Х. 205, 633
Вревская Н.Е. 226
Вульф А.Н. 246
Вульфов Б.З. 364
Высочина Е.И. 300
Вяземский П.А. 12, 229, 231, 236, 238,246,255,313
Г
Гаевский В.П. 274, 275
Гагарин Ю.А. 129, 131, 152, 436, 469
Гайдебуров П.А. 275
Гайдуков П.Г. 586, 587
Гальцов В.И. 39, 83
Гарбер Е.В. 253
Ге Н.П. 469
Геллер М.Я. 564, 565
Генкина Э.Б. 497
Герасимов М.М. 578, 718
Герберштейн С. 21, 22, 87,102,192, 450
Гершензон М.О. 303, 415
Герцен А.И. 104-109, 116, 117, 119, 121,122,125, 224, 229, 230, 254. 256,272,313, 354, 385,415, 469
Гефтер М.Я. 533
Гёте Н.В. 109, 322,323, 325
Глинка С.Н. 203
Гоголь Н.В. 116, 234, 236, 261, 290, 292, 294, 325,354, 369, 429
Борис Годунов 34, 43,45, 48, 49, 50, 51,92, 238,317
Голиков И.И. 215,470
Голицын М.А., кн. 335
Голосовкер М.Э. 369-383, 562
Гончаров И.А. 211, 268
Горбачев М.С. 142
Горбачева Р.М. 419-423.
Гордин А.М. 247
Горчаков А.М. 255, 282
Готье Ю.В. 22, 186, 462, 488, 509, 511,513, 638-640, 682
Грабарь В.Э. 16
Греков Б.Д. 479, 507, 544, 511, 644, 660
Грибоедов А.С. 55, 76,108,111,113, 121,227
Григорович Д.В. 275, 283
Гришунин А.Л. 417, 647
Грот Я.К. 257-260, 270, 276, 278, 282, 284, 287, 296, 476, 632
Грушевский М.С. 206
Гудзий Н.К. 205, 214, 372, 412
Гумилев Л.Н. 209
Гуревич А.Я. 179
Гусева В.А. 358,359, 363
д
Давидов А.Ю. 273
Давыдов Н.В. 334, 354
Даль В.И.31,77, 117,267, 433
Данилевский И.Н. 165
Даргомыжский А.С. 275, 282,314
Дашков Д.В. 243, 273
Дашкова Е.Р., кн. 229, 246, 630
Деборин А.М. 346
Дельвиг А.А. 224, 230, 2302
Державин Г.Р. 55, 203, 215, 432
Джаншиев Г.А. 275
Джовио П. 20, 86,192
Динес В.А. 498
Дмитриев А.Е. 712
Дмитриев И.И. 102, 134, 188, 230,
236, 439, 562
Дмитриев Л.А. 46, 204, 597, 614
Дмитриев С.С. 497, 518
Дмитревский И.А. 198
Додонов И.К. 524, 537
Долгова С.Р. 242
Долгоруков В.А. 262, 272
Долдобанова Н.А. 660-662
Долматовский Е.А. 408
Дорошенко В.В. 518
Достоевский Ф.М. 130, 142, 206, 224, 251, 256, 268, 269, 275, 283, 285, 287, 289 291, 312, 375, 386
Дрейер О.К. 408-410
Дробленкова Н.Ф.41
Дружинин Н.М. 120, 471, 472, 638, 641, 645
Дружинин В.Г. 465
Думова Н.Г. 325
Дьяконов М.А. 19, 85, 464
Е
Евгеньева А.П. 47
Егоров Б.Ф. 418
Елисеев Г.З. 274
Елисеев С. А. 16
Ельцин Б.Н. 142,389
Енин Г.П. 50
Епифанов П.П. 511
Еремин И.П. 205
Ж
Жихарев С.П. 243
Жуковский В. А. 18,55,96,111,123, 124,142,181,190,214,218-220, 224, 230, 236, 239, 257, 258, 265, 313,318, 325,386,429, 454
3
Забелин И.Е. 193-195, 271, 327, 330, 457,460, 607,621,633
Загоровский В.П. 434
Загряжская Н.К. 246
Зайцев А.Д. 247, 255, 309, 334, 595, 596
Закс А.Б. 498
Зализняк А.А. 82
Зарубин Н.Н.601
Зеленцов И.И. 213, 214, 248, 251, 350-365
Зимин А.А. 83, 165, 186, 207, 212, 213, 593, 644
Зиновьев П.А. 274
Золотухин П.В. 360
И
Иван Калита 13
Иван III 12-14,16,17,22,24,28,40, 47, 69, 83, 93
Иван IV Грозный 11, 21, 22,24,27-30, 32, 34, 35, 38, 45-47, 49, 50, 52, 53, 57, 69, 83, 85, 86, 92, 95, 99-102, 111, 114, 133, 143, 144, 152,177, 186,189,193, 199, 209, 213, 446-454, 468-483, 544, 578, 580, 601-603, 604
Иванова Л.В. 562, 702, 584, 702
Илизаров С. С. 438, 440
Иллерицкий В.Е. 537
Ильин М.А. 668, 701
Ильф И.А. 168,335
Иоффе А.Ф. 345
Исламов Т.М. 61
К
Кабанов В.В. 165, 178, 180, 184
Кавелин К.Д. 13, 443
Казаков М.Ф. 235
Казаков Р.Б. 166
Казакова Н.А.
Калайдович К.Ф.210
Калачов Н.В. 294, 621, 625, 634, 635
Каменев Л.Б. 250, 306, 373
Каменская М.Д. 282
Каменцева Е.И. 165, 166
Кантемир А.Д., кн. 76
Карамзин Н.М. 12, 17, 18, 28, 35, 54, 55, 60, 85, 90, 91, 93, 97, 98, 109-124,133,134,142,152,168, 176,189-191,200,202,203,206, 209-211, 214,218,225,230,237, 239, 243, 244, 248,257, 274,293, 294, 301, 320, 324, 328, 352, 385, 386, 412,413, 427,429,432, 436, 437, 441, 442, 444, 445, 452, 454, 461, 463,468, 493, 620, 629, 706
Карманов Д.И. 443
Катаева-Лыткина Н.И. 337, 417
Катагощина М.В. 559
Катков М.Н. 260, 281
Катырев-Ростовский И.М. 50
Кашихин Л.С. 720-722
Кашкин Н.Д. 273
Кашперов В.Н. 271, 282
Каштанов С.М. 82, 101, 165, 177, 184, 187, 573-575, 593, 647, 712
Кафенгауз Б.Б. 483
Керенский А.Ф. 505
I Керн А.П. 234
Кизеветтер А.А. 459,463, 473,487
Кипренский О. А. 267, 295
Киров С.М. 250
Киселев А.А. 274
Клейменова Р.Н. 417
Климентова М.И. 282
Клосс Б.М. 177, 579
Клочков М.В. ИЗ
Ключевский В.0.14,18,26,28,116, 176, 249, 254, 279, 437, 459, 464, 470, 472, 487-489, 636
Клюшников В.П. 275
Кнабе Г.С. 356, 399
Кобрин В. Б. 165, 593
Ковалев И.В. 497,498,514
Ковалевский М.М. 265,282, 285
Ковальченко И.Д. 555
Козлов В.П. 202
Козлов В.Ф. 667, 671, 686, 689, 712, 714,719
Колесников П.А. 149, 600, 612, 613, 669, 697
Колесов В.В. 201
Колобков В.А. 494
Кольцов А. В. 251, 254, 313, 362
Кольцов М.Е.337
Кольцов Н.К. 345
Комовский С.Д. 282
Кони А.Ф. 273
Конрад Н.И. 375, 379, 380, 412,412
Корецкий В.И. 33
Корнеев В.Е. 339
Корнилов Ф.Д. 277, 278
Корольков Н.К. 199
Корф М.А. 108, 255, 258
Корш Е.Ф. 272
Косминский Е.А. 143, 502
Костомаров Н.И. 14, 206
Кострикин В.И. 575
Костырченко Г.В. 533
Краевский А.А. 274, 275
Крамми Р. 15
Красовская Э.С. 337
Крейн А.З. 290, 300, 406,407
Крестинин В.В. 443, 628
Кржижановский Г.М. 347
Кропоткин П.А. 334, 354, 716
Крупская Н.К. 168, 345, 639
Крылов И.А. 55
Крылов В.В. 253, 339
Кудрявцев И.А. 517, 537
Кудрявцев И.М. 87, 213
Кузнецов М.С. 332, 333
Кузьмин А.В. 533
Кукушкина М.В. 601, 610
Кунин В.В. 252
Курбский А.М. 21,29,46,47,54,57, 85, 92, 104, 111, 213, 446, 447-455, 578
Кутузов М.И. 100, 246, 323
Кюхельбекер В.К. 121
Л
Лакшин В.Я. 384-387
Лаппо-Данилевский А.С. 14, 145, 165,168,178,179,181,182, 187, 434, 458,460, 464,465, 473,474, 483,513, 516, 532, 542, 546, 592, 636
Ласунский О.Г. 432, 436, 702
Лебедев В.И. 483
Лебедев Г. В. 534
Левыкин К.Г.
Лейкин Н.А. 275
Леонидов В.В. 337
Лермонтов М.Ю. 190, 224, 249,254, 261,313, 354, 373, 375, 403
Листов В.С. 221
Литвак Б.Г. 177, 182, 567
Лихачев Д.С. 46,55,78, 84,124,145, 185, 199, 201,204, 205, 207,213, 214, 217-219,337,348,351,387, 401,404,411-431,449,452,539, 544, 597, 598, 709
Лихачев Н.П. 172, 177, 480, 494, 579, 588, 597, 598, 603, 614, 633
Ломоносов М.В. 55, 110, 152, 188, 440, 468, 607, 628
Лонгинов М.Н. 247
Лотман Ю.М. 19,110,121,122,204, 212,222, 249,437
Луговский В.А. 23, 335
Лужков Ю.М. 388, 417,427
Лукомский К.Г. 23
Луначарский А.В. 340, 369, 371, 464, 639
Лурье Я.С. 177
Луцкий Е.А. 165, 186, 592
Львов Г.Е. 265
Любавский М.К. 348, 489, 494,
638
Любимов Н.А. 275
Люблинская А.Д. 545-547
Люблинский В.С. 545-547
Лямин И.А. 259
М
Майков А.Н. 214, 282
Малиновский А.Ф. 243, 244, 620,
629
Малиновский В.Ф. 243, 245
Малицкий Г.Л. 555
Малышев В. И. 539
Мансветов И.Д. 272
Маньков А.Г. 12, 571
Малето Е.И. 81
Маркус Б. С. 363
Марр Н.Я. 345, 639, 683, 705 '
Марцишевская К.А. 406
Матвеев А.А. 25, 87
Матвеев А.С. 25, 39, 87
Матюшкин Ф.Ф. 258
Махаев И.И. 417
Маяковский И. В. 634
Медушевская О.М. 164, 165, 175,
178, 179, 181
Медушевский А.Н. 571
Мерзон А.Ц. 176,185
Межов В.И. 296
Мезенцева Г.Г. 555
Мельгунов С.П. 198,303-305,505
Мельников А.В. 165, 207, 461, 465, 466, 480, 481,541,640
Микешин М.О. 261
Миллер В.Ф. 205, 265
Миллер Г.Ф. 620, 628, 629
Миллер П.И. 259, 260
Миллер П.Н. 562
Милюков П.Н. 14, 296, 336, 437,
443, 459, 487, 505
Минаев Д.Д. 295
Минц И.И. 511-513,535
Миронова И.А. 105
Митлянский Д.Ю. 358
Митрофанов Н.Н. 700
Михайлов А.Д. 417
Михайлова Н.И. 253, 417
Михайловский Н.К. 269
Михневич В.И. 275
Мордвишин И.И. 525
Морозов В.В. 177, 605
Морозов И.А. 335
Музыкантский А.И. 417, 418, 671,
689
Муниров Р.Р. 701
Муравьев В. А. 164
Муравьев Н.М. 106, 109, 110, ИЗ,
115, 120
Муромцев С. А. 265, 286
Мусин-Пушкин А.И. 200, 203, 210,
212,620, 630
Мусоргский М.П. 287, 314
Мясников В.С. 76, 86
Мясников Г.В. 419
Н
Найденов М.Е. 530, 531,536
Нарусова Л.Б. 122
Нащокин П.В. 246, 255
Неберекутина Е.В. 473
Некрасов Н.А. 44, 108, 121
Некрасов Н.П. 282
Ненарокомова И.С. 577
Нерознак В.П. 417
Неусыхин А.И. 143, 518, 519
Нечкина М.В. 105
Никитин С.А. 173, 644
Никонов А.Д. 532
Нильский А.А. 274
Новиков Н.И. 54, 438,439, 629
Новиков И.К. 357-360, 362
Новосельский А.А. 16, 576, 645
О
Оболенский Е.П. 123
Обручев В.А. 716
Овчинников Р.В.242
Огарев Н.П. 224, 254, 256, 313, 469
Одоевский В.Ф.255, 325
Ожегов С.И. 70, 77, 170, 458
Оксман Ю.Г. 249
Окуджава Б.Ш. 314, 354, 387-405, 415
Ольденбург С.Ф. 341,342,434,464, 493, 639, 650, 681,705,717
Ольминский М.С. 557
Онегин А.Ф. 12, 493
Опекушин А.М. 239, 260, 261, 287,
295
Ордин-Нащокин А.Л. 46, 87
Орлов А.С. 214
Орлов М.Ф. 243
Осоргин М.А. 415
Островский А.Н. 60, 224, 274, 287,
288
Острогорский В.П. 274
Отрепьев Григорий 12, 54
П
Павлов И.П. 130, 345
Павлов-Сильванский Н.П. 474
Панин Н.И. 93, 280
Пастернак Б.Л. 224, 314, 334, 354, 369, 376,412,414, 427
Пашуто В.Т. 80, 81
Пекарский П.П.476, 632
Перетц В.Н. 205, 615, 636
Перфильев В.С. 280
Пестель П.И. 122
Петрашевский М.В. 142, 292
Петров Е.П. 168,335
Петровский А.В. 217,417,428
Петрушевский Д.М. 462
Петр I Великий 13, 17, 57, 87, 90, 96, 102, 130, 134, 189, 190, 241, 264, 283,325, 327,459,461,462, 468-483, 627-629
Пивоваров Ю.С. 167
Пиксанов Н.К. 435
Писарев Д.И. 256, 257
Писемский А.Ф. 267, 277, 283, 287
Пичета В.И. 638
Платонов А.А. 318
Платонов С.Ф. 14,15,18,41,46,47, 102,136, 145,169, 176,202,251, 342-344,348,450,460,462-465, 470,474,475,477,479,480,487, 488, 490, 491-495, 497-499, 506,611,625, 639
Плетнев П.А. 258
Плеханов Г.В. 14,345
Плещеев А.Н. 292
Плюханова М.В. 19
Победоносцев К.П. 94, 286
Погодин М.П. 206, 255, 259, 475
Пожарский Д.М. 31, 43
Покровский М.Н. 15,115,167-169, 186,196,304,344-347,437,465, 476,490, 492,497,501, 504,515, 625, 626, 639
Полевой Н.А. 206
Поленов В.Д. 251, 275, 297,354
Полетаев Н.И. 437
Поливанов Л.И. 264, 265-268, 271, 284, 295
Полонский Я.П. 268, 284
Поляков Ю.А. 526
Поневежская Г.Д. 362, 365
Поршнев Б.Ф. 141, 502
Потебня А.А. 205
Потехин А.А. 275, 283, 294
Пресняков А.Е. 16, 457-467, 483, 513,516, 542,581,638
Приселков М.Д. 206
Прокофьев Н.И. 81
ПростоволосоваЛ.Н. 165, 591
Пугачев В.В. 119, 498
Пушкарев С. Г. 15
Пушкарев Л.Н. 178
Пушкин А.С. 12, 25, 40, 54, 55, 60, 76, 90, 96, 97, 101, 105, 107, 108, 110-119,121,124,127,131,135, 141,142, 152, 153,181, 188,190, 192,194, 200, 205, 210, 211, 214, 218-239, 241-299, 301-309, 311 -326,350,354,385,386,400, 402, 403,406,407,412,417, 429, 432,436,446,452,469,491,493, 620
Пущин И.И. 121,125,223
Пыпин А.Н. 108
Р
Равикович Д.А.
Радищев А.Н. 96
Раевский Н.Н. 226
Разгон А.М. 526, 555-560
Разумовский К.Г., гр. 246
Репин И.Е. 277
Реформатский А.А. 354
Римский-Корсаков 314
Роберти Ж.-К. 15
Робинсон М.А. 414
Рогожин Н.М. 16, 83
Рожков Н.А. 14,344
Розанов И.Н. 373,406
Рокитянский Я.Г. 339
Романов Б.А. 73
Романов Ф.В. 364
Ромодановская Е.К. 418
Ростовцев Я.И. 123
Рубинштейн А. 130
Рубинштейн Н.Г. 266,272,273,277, 282,284 .
Рубинштейн Н.Л. 496-538, 555
Румянцев Н.П., гр. 203, 210, 244,
631
Румянцева М.Ф. 165, 175, 181,
182
Рыбаков А.Н. 390,408
Рыбаков Б.А. 16, 19, 80, 196, 202, 206, 548-554, 581
Рыбаков Ю.Я. 177, 680
Рыбников М.А.
Рылеев К.Ф. 111, 120, 181,215
Рычков П.И 443, 628.
Рязанов Д.Б. 339-348, 465, 477, 492, 501,557,625, 650
С
Сабуров А.А. 277, 280
Савва В.И. 11, 15,86
Сакетти Л.В. 274
Саладин А.Т. 696
Салтыков М.Е. 90, 153, 224, 258, 268
Самарин И.В. 266, 282, 295
Самарин Ю.Ф. 260
Сарабьянов Д.В. 417
Сахаров А.Д. 125, 357
Сахаров А.М. 536
Сахаров А.Н. 79
Севастьянова А.А. 440, 443, 667
Селезнев М.С. 592
Семевский М.И. 105,716
Сербина К.Н. 40
Сергеев Ф.П. 16,85
Сергеевич В.И. 14, 488
Середа В.Н. 443
Середонин С.М. 15
Серов В.А. 469
Сеченов И.М.151
Сидоров А.Л. 497, 533-535
Сизов Е.С. 196, 573-587
Симеон Гордый 13
Симонов К.М. 533
Синицына Н.В. 59
Сказкин С.Д. 502,564
Скатов Н.Н. 221,230
Скрынников Р.Г. 604
Слепцов В.А. 341
Смирнов В.Д. 272
Смирнов И.И. 11, 464
Смирнов Я.Е. 203
Смирнова В.А. 339
Смирнова-Россет А.О. 255
Собичевский В.Т. 273
Соболева Н.А. 58
Соболевский С.А. 244, 247, 255
Солженицын А.И. 146
Солнцев Ф.Г. 195
Соловьев А.В. 20
Соловьев С.М. 13, 14, 16, 28, 35, 36, 159, 183, 194, 206, 279, 443,457, 458,461,470, 471,475, 633
Соллогуб В.А., гр. 295
Солодкин Я. Г. 177
Сольский Д.М.277
Сонцов М.М. 243
Сорокин В.В. 561-563
Софронова Т.В. 473
Сперанский А.Н.165,169, 592
Сперанский М.М. 90, 93, 716
Срезневский В. И. 341
Срезневский И.И. 205, 469, 615, 632, 633
Сталин И.В. 94, 95, 132, 135, 142-144, 191,194, 248,344, 345, 347, 471,482,502
Станиславский А.Л. 130, 165, 589-594
Столетов А.Г. 265
Стороженко Н.И. 280
Страхов Н.Н. 272
Стриттер И.М. (Штриттер) 439
Строева Н.К. 364
Строев П.М. 592, 625, 631, 632
Строганов С. Г., гр. 203
Суворин А.С. 275
Суворов А.В. 110, 130
Сухомлинов М.И. 272, 284, 476, 632
Т
Тарле Е.В. 136, 305, 348, 480, 494, 625, 638, 651
Тартаковский А.Г. 177
Татищев В.Н. И, 12, 159, 183, 201, 620, 629
Творогов О.В. 200
Телетова Н.К. 228
Тимирязев К.А. 265, 270, 273
Тимофеев-Ресовский И.В. 354
Титов В.П. 244
Тихомиров Б.Н. 207
Тихомиров М.Н. 22, 29, 47, 56, 80, 105,143,159,173, 177,179,183, 186, 202, 207,409,426,430,461, 472,493,494,497,500,506-510, 517-519, 541, 546, 548-554, 566, 581-583, 618
Тихонравов Н.С. 206, 278, 279, 284, 636
Тищенко Б.И. 215
Толстой А.К. 93,143, 274
Толстой Л.Н. 60, 77, 108, 111, 112, 121,124,130,190,206,211,228, 234, 235, 243, 249, 255, 256, 265, 268, 269, 280, 305, 312, 354, 415
Томашевский Б.В. 222
Тон К.А. 274
Топоров В.Н. 395, 417
Третьяков П.М.263, 327
Тропинин В.А.267
Трофимова М.К. 362
Троцкий Л.Д. 132,347, 639
Требецкой С.П. 123
Трутовский В.К. 195
Трутовский К.А. 265
Туманов В.Е. 671, 690, 693, 697, 719
Тургенев А.И. 243, 246
Тургенев И.С. 130, 267-269, 275, 278,281,283,285-287,290,312, 326
Тургенев Н.И. 104, 108, 243
Тынянов Ю.Н. 121
Тюрин Е.Д. 328
Тютчев Ф.И. 281, 293,313,350
У
Уваров А.С., гр. 101, 195, 203, 271
Уварова П.С. 203
Ульянов В.И. (Ленин) 13, 15, 94, 107,132,142,194,303, 339,340, 342, 345,464,471, 502, 503,557, 639
Ульянов Н.И. 343
Успенский А.И. 195
Успенский Г.И. 274, 277, 278, 291
Устрялов Н.Г. 448, 453,476
Устюгов Н.В. 186, 576, 644
Ушинский К.Д. 155
Ф
Фаворский В. А. 215
Фадеев А.А. 374
Фейнберг И.Л. 241,372
Фет А. А. 268,269, 281
Филимонов Г.Д. 195
Филюшкин А.И. 59
Флоря Б.Н. 35
Фокина-Сольц Г.И. 363
Фоменко А.П. 146,150
Фонвизин Д.И. 55,113, 280,562
Фукс А.Н. 494
Фурсов А.Н. 167
X
Халина Т.Н. 471
Хвостов Н.П. 408
Хорошкевич А.Л. 27,43
Хрущев Н.С. 142
ц
Цамутали А.Н. 106, 498, 532
Цветаев И.В. 336, 337
Цветаева М.И. 224, 297, 298, 314, 335, 336, 357-398
Цявловский М.А. 235, 247, 249, 250, 302, 303-310
Цявловская Т.Г. 250,301-310
Ч
Чаадаев П.Я. 255, 321,325
Чаев Н.С. 364, 289
Чайковский П.И. 130, 273, 282,
314, 362
Черейский Л.А. 250
Черепнин Л.В. 15, 177, 412, 471,
472, 532, 597, 603, 644
Черкасский В. А., кн. 259
Черная Т.И. 471
Чернышевский Н.Г. 13, 341, 469
Черных В.А. 622, 644
Черсский И.Д. 716
Чехов А.П. 77, 130, 275, 334, 385,
715
Чечулин Н.Д. 14
Чижевский А.Л. 129, 160
Чивилихин В.А. 206
Чирков С.В. 186, 243, 414, 440, 464,
Чубарьян А.О. 646
Чубукова Ю.И. 214, 352, 363, 364, 380
Чулков Г.И. 308,310
Чупров А.И. 265
III
Шаляпин Ф.И. 130
Шанцев В.П. 416
Шарлемань Н.В. 206
Шахматов А.А. 145, 168, 202, 209, 302, 341,414, 425,464,483,489, 516,542, 543,597, 603, 611, 632, 639
Шебунин А.Н. 105
Шевырев С.П. 205
Шервинский В.Д. 273
Шереметев П.С., гр. 344
Шехтель Ф.О. 332
Шипов Д.Н. 271
Шишков А.С. 204
Шишонко В.Н. 721
Шлецер А.Л. 205, 209, 210, 444
Шмурло Е.Ф. 15,437
Шостакович Д. И. 130, 536
Шохин Л.И. 627
Штейнгейль В.И. 111
Шувалов П.И. 91, 188, 531
Шуйский В.И. 45, 48, 50, 52
щ
Щеголев П.Е. 341
Щепкин В.Н. 603, 633
Щепкин М.В. 603
Щепкин М.С. 246
Щербатов М.М., кн. 91, 201, 629
Щербатов С.А., кн. 328
Щукин П.И. 329-331
Щуровский Г.Е. 272
э
Эдельман О.В. 106
Эйдельман Н.Я. 121, 249
Эйзенштейн С.А. 143,690
Эймонтова Р.Г. 105
Энгельгардт Е.А. 245
Эрлих С.Е. 106,107
Эскина М.А. 364
Ю
Я
Яковлев А.И. 16, 489
Яковлев М.Л. 228, 243
Яковлева Т.С. 364
Якушкин И.Д. 105
Янжул И.И. 265
Янин В.Л. 82, 586-588, 597
Янькова Е.П. 226, 229
Яцунский В.К. 159, 165, 183, 644,
680
Юзефович Л.А. 86
Юрьев С.А. 264, 271, 283, 284, 287
Contents
The Issues of Russian History
“Muscovy”: explaining the title of the 16th-17th centuries' Russia................................................ 11
Law codes and establishing the record management system in Russia............................................. 69
The records of external relations and the development of culture in pre-Peter Russia........................ 76
The mediaeval in the political system of Russia of Modern Age. 90
The Decembrists as imagined by people living at the turn of the 20th and 21st centuries........................104
Comparing centuries and decades.............................127
Source Studies
Source studies in the system of humanities and sciences.......148
Studying the source base for research in historical anthropology... 162
The traditions of ‘accuracy’ of source study expertise........164
From the History of russian Culture
The Moscow Kremlin in Russian culture.......................188
The first edition of the Tale of Igor’s Campaign in the development of Russian culture.................198
The foreword to Vasily Andreevich Zhukovsky - the great Russian educator..............................................217
Pushkin’s Moscow childhood..................................221
A.S. Pushkin and archives...................................241
Pushkin and the Pushkin festival in Moscow in 1880..........254
The Classics of Russian archaeography (on the Tsyavlovskys’ life and research).........................................301
Pushkin at the turn of the new millennium.....................311
On N. Polunina and A. Frolov’s book The Collectors of old Moscow...........................................327
P.I. Shchukin’s reminiscences. From the history of patronage of arts in Russia.......................................329
M.S. Kuznetsov, a Moscow entrepreneur and philanthropist......332
The Tsvetayevs in the culture of Arbat........................334
D.B. Ryazanov and Russian intelligentsia......................339
The introduction to a book about the Moscow teacher of literature 1.1. Zelentsov............................350
On Yakov Golosovker...........................................369
The legatee of Russian enlighteners V.Ya. Lakshin.............384
Bulat Okydzhava and ‘Arbatism’................................388
The founder of A.S. Pushkin Museum A.Z. Krein.................406
The publisher O.K. Dreier.....................................408
D.S. Likhachev in Moscow culture..............................411
The role of the Culture Foundation was determined by the union of D.S. Likhachev and R.M. Gorbacheva.........419
First time without Dmitry Likhachev...........................424
’ Historiography
E.A. Bolkhovitinov and the establishment of Russian historiography...............................432
On “the cruel chronicle of Prince Kurbsky”....................446
M.M. Bogoslovsky and A.E. Presnyakov’s heritage...............457
The academician M.M. Bogoslovsky’s work Peter the Great: materials fora biography................................468
Life and creative work of the historiographer S.F. Platonov in the context of the “Moscow-St. Petersburg” issue.....487
The epilogue to the reprint edition of S.F. Platonov’s Far Past of Pushkin's Place: a Historical Sketch.................491
The historiographer N.L. Rubenstein’s fate ...................496
Fot the 25th anniversary of S.N. Valk’s demise................539
The foreword to the collection in memoriam of A.D. and V.S. Lyublinsky.............................545
The materials of and about the academician B.A. Rybakov in the archive holdings of the academician
M.N. Tikhomirov.........................................548
A.M. Razgon, the historian of museology.......................555
The anniversary of Moscow history expert. V.V. Sorokin turns 90...................................561
M.Ya. Geller: delineating his portrait..........................564 .
Remembering V.I. Buganov........................................566’
A serene person: the 70th anniversary of E.S. Sizov’s birth.....573
70th anniversary of the academician V.L. Yanin’s birth..........586
A.L. Stanislavsky and the traditions of his department..........589
The foreword to A.D. Zaitsev’s book P.I. Bartenev
and Russky arkhiv magazine..............................595
A. A. Amosov’s Illuminated Annalistic Corpus of Ivan the Terrible............................................597
A word on A. A. Amosov........................................607
Archaeography. Archival Science
Moscow’s archives; the past and present.......................619
The evolution of archival culture and academic studies..........624
On the Catalogue of personal archives of Russian historians.....648
The anniversary of Nina Andreevna Doldobanova ................657
On the V.G. Bukhert’s Archive of Boundary Registry
(1768-1918).............................................660
Archives and lay historians...................................663
Local History Studies
Regional History in Russian and Foreign Historiography. A Foreword..............................................665
The address to the readers of Teaching local studies and Moscow history studies in higher education institutions........669
Local history studies at the Institute for History and Archives.673
Little towns in Russia: the problems of history and revival.....677
The modern-day state and prospects of local history studies
in Russian regions........................................688
Local history studies and regional history in modern-day Russia...704 The introductory speech at the conference “The little towns
of Russia: Maloyaroslavets - the problems of history and revival”................................................709
The address to the participants of the regional academic
and practical conference “The Golden Decade
of Irkutsk local history studies: the 1920s”..............715
L.S. Kashikhin, the archivist and local history specialist......720
Name index......................................................723
Schmidt S.O.
After 75: the papers of 1997-2001
This collection celebrates the 90th birthday anniversary of Sigurd Ottovich Schmidt, the honorary professor of RSUH. It includes articles written and published in 1997-2001. Thematically the collection is related to the main trends of S.O. Schmidt’s work at RSUH. The reader is offered several special and cross-disciplinary studies in Russian history, historiography and source studies.
The book is intended for specialists, university and college lecturers, museum and library staff and a wide readership.
Шмидт С.О.
Ш73 После 75: Работы 1997-2001 годов. М.: РГГУ, 2012. 734 с.
ISBN 978-5-7281-1312-6
Сборник приурочен к 90-летию почетного профессора РГГУ Сигурда Оттовича Шмидта. В него вошли статьи, написанные и опубликованные в 1997-2001 гг. Тематически сборник связан с основными направлениями работы С.О. Шмидта в РГГУ. Вниманию читателей предлагаются специальные и междисциплинарные исследования в отечественной истории, историографии, источниковедении.
Для специалистов, преподавателей вузов, сотрудников музеев и библиотек и широкого круга читателей.
УДК 930(08)
ББК 63.3(2)я43
Научное издание
Шмидт Сигурд Оттович После 75
Работы 1997-2001 годов
Редактор Л.П. Бурцева Художественный редактор М.К. Гуров Корректор ОН. Картамышева Компьютерная верстка А.Ю. Ефимова
Подписано в печать 22.03.2012.
Формат 60х90'/16.
Усл. печ. л. 46,5. Уч.-изд. л. 47,0. Тираж 500 экз. Заказ № 394
Издательский центр Российского государственного гуманитарного университета 125993, Москва, Миусская пл., 6 8-499-973-42-06
Отпечатано в ППП «Типография «Наука» 121099, Москва, Шубинский пер., 6