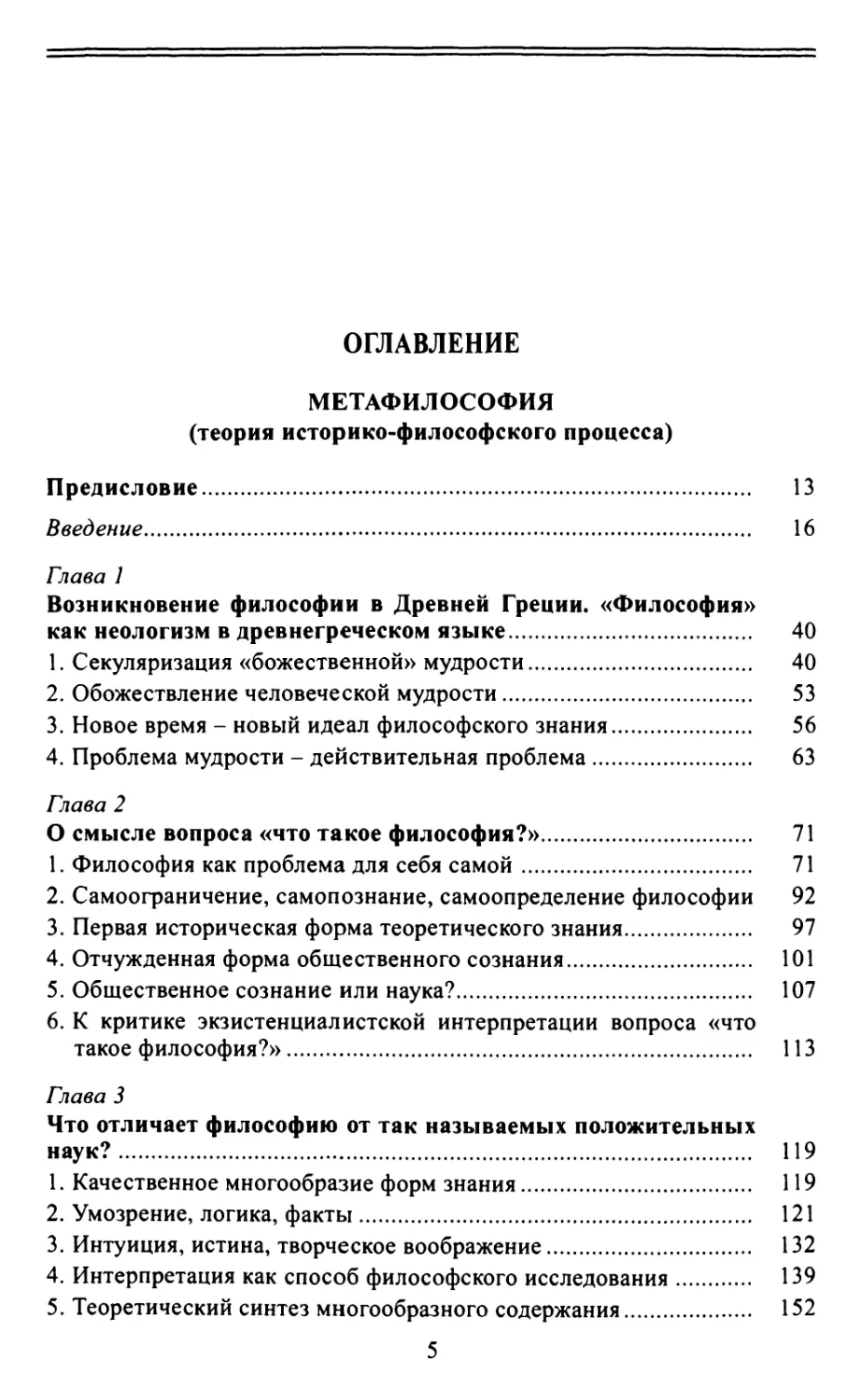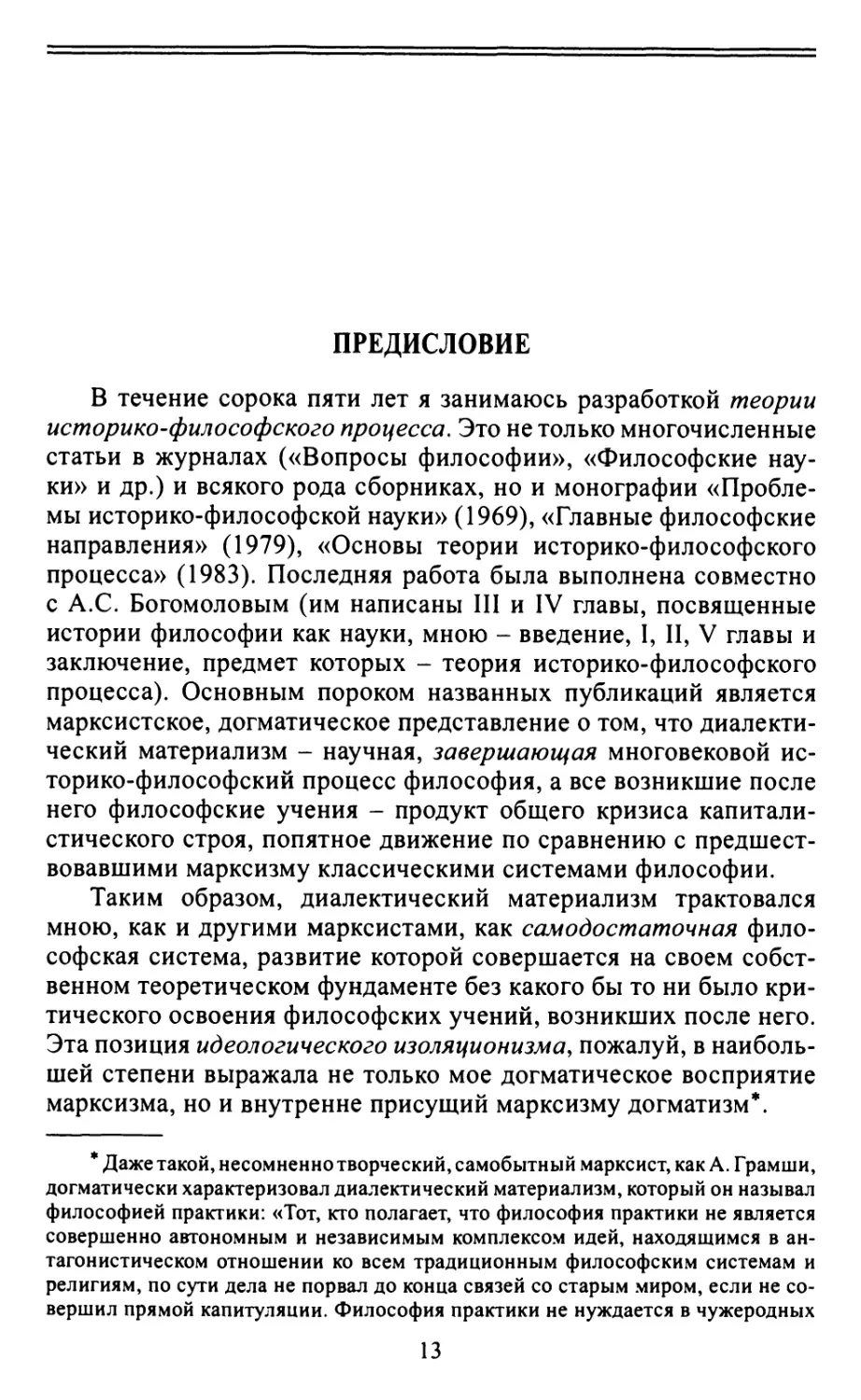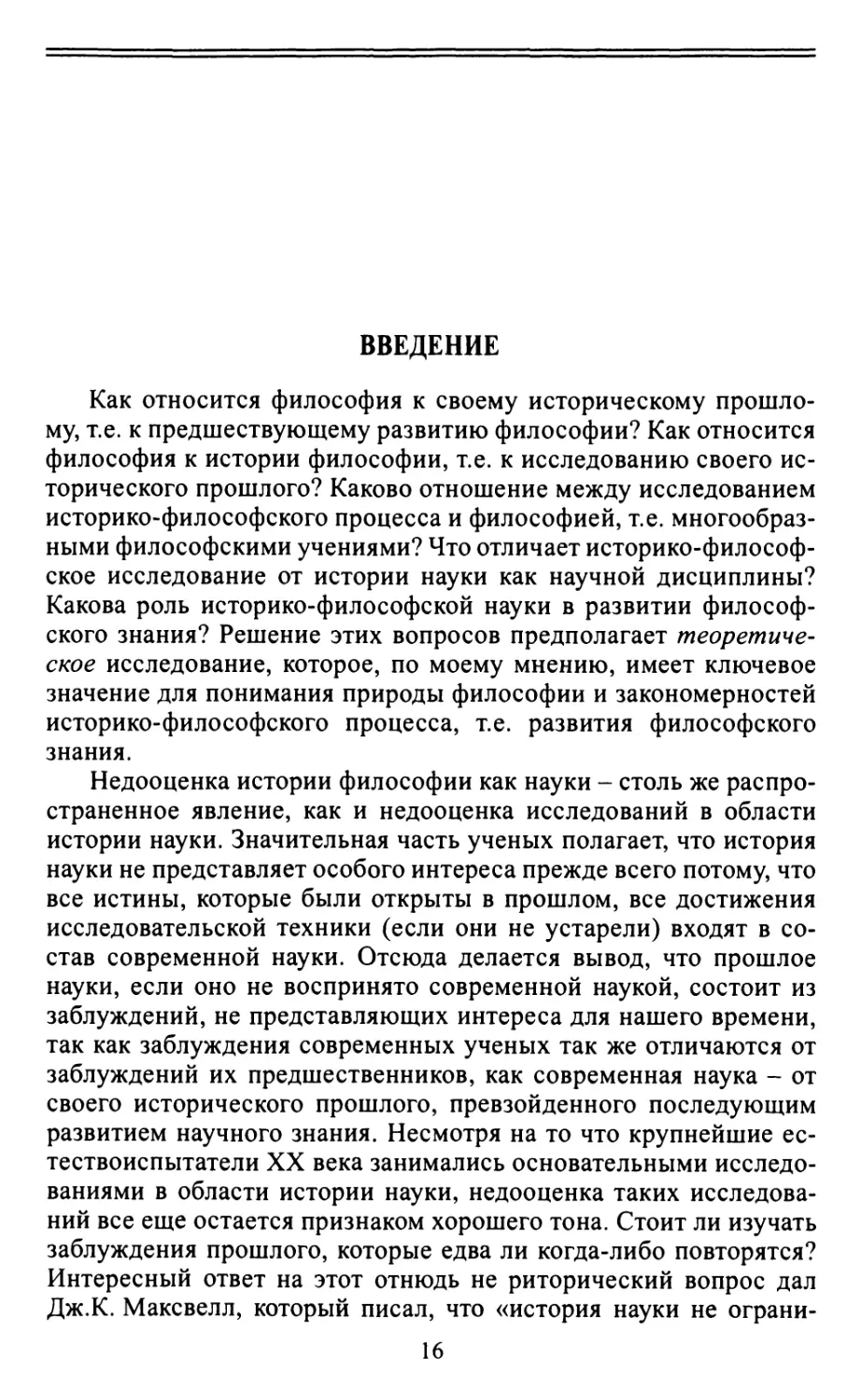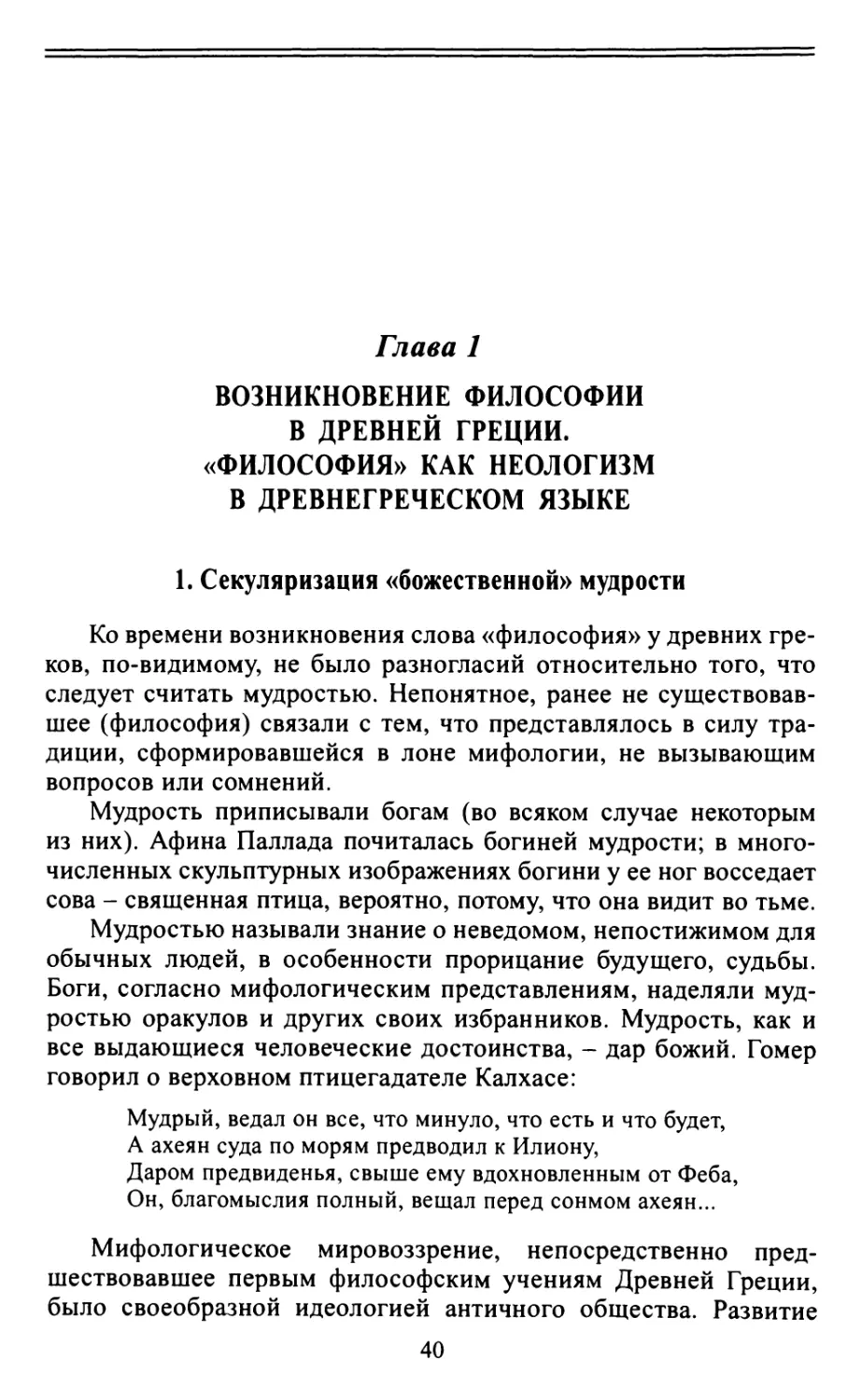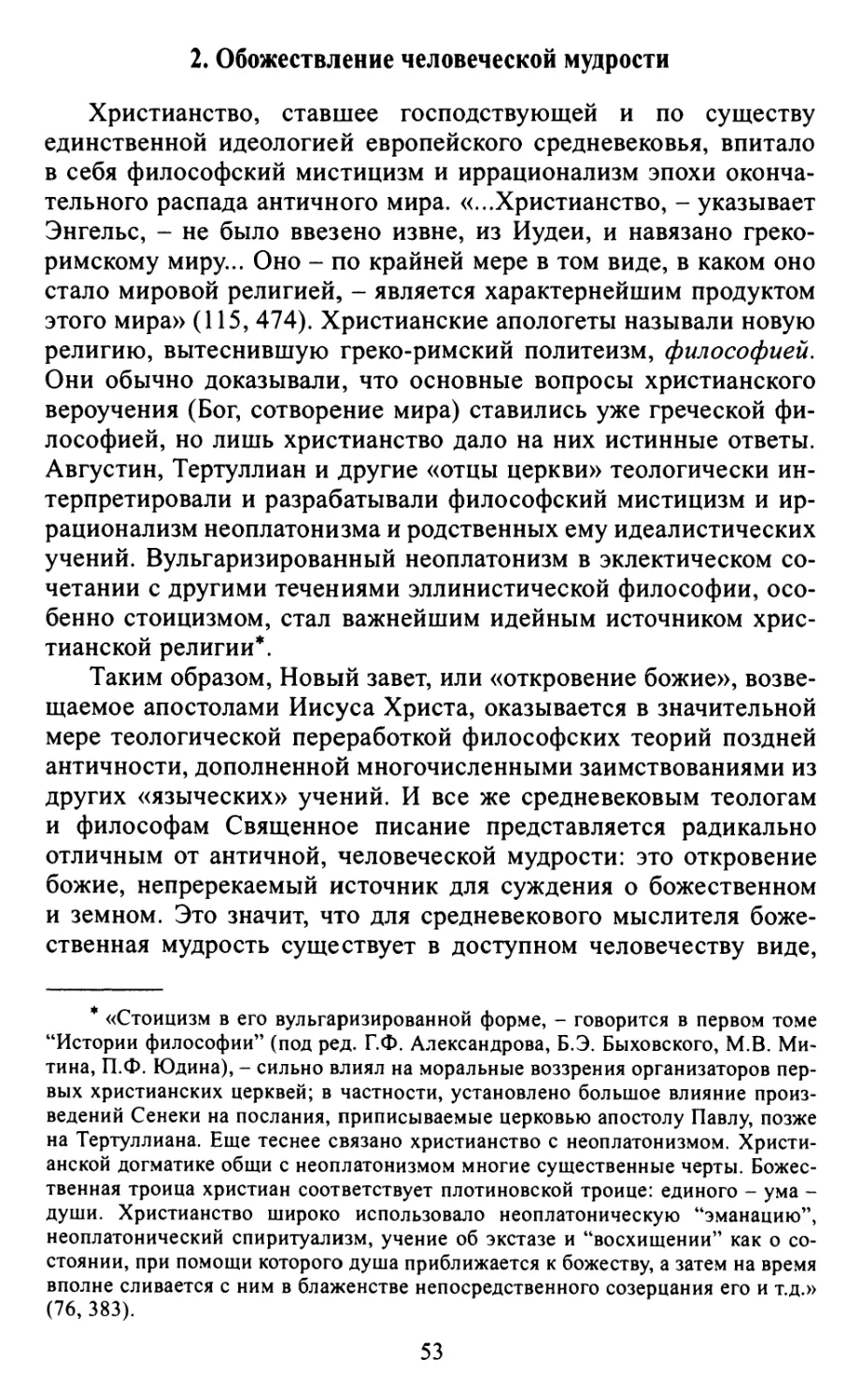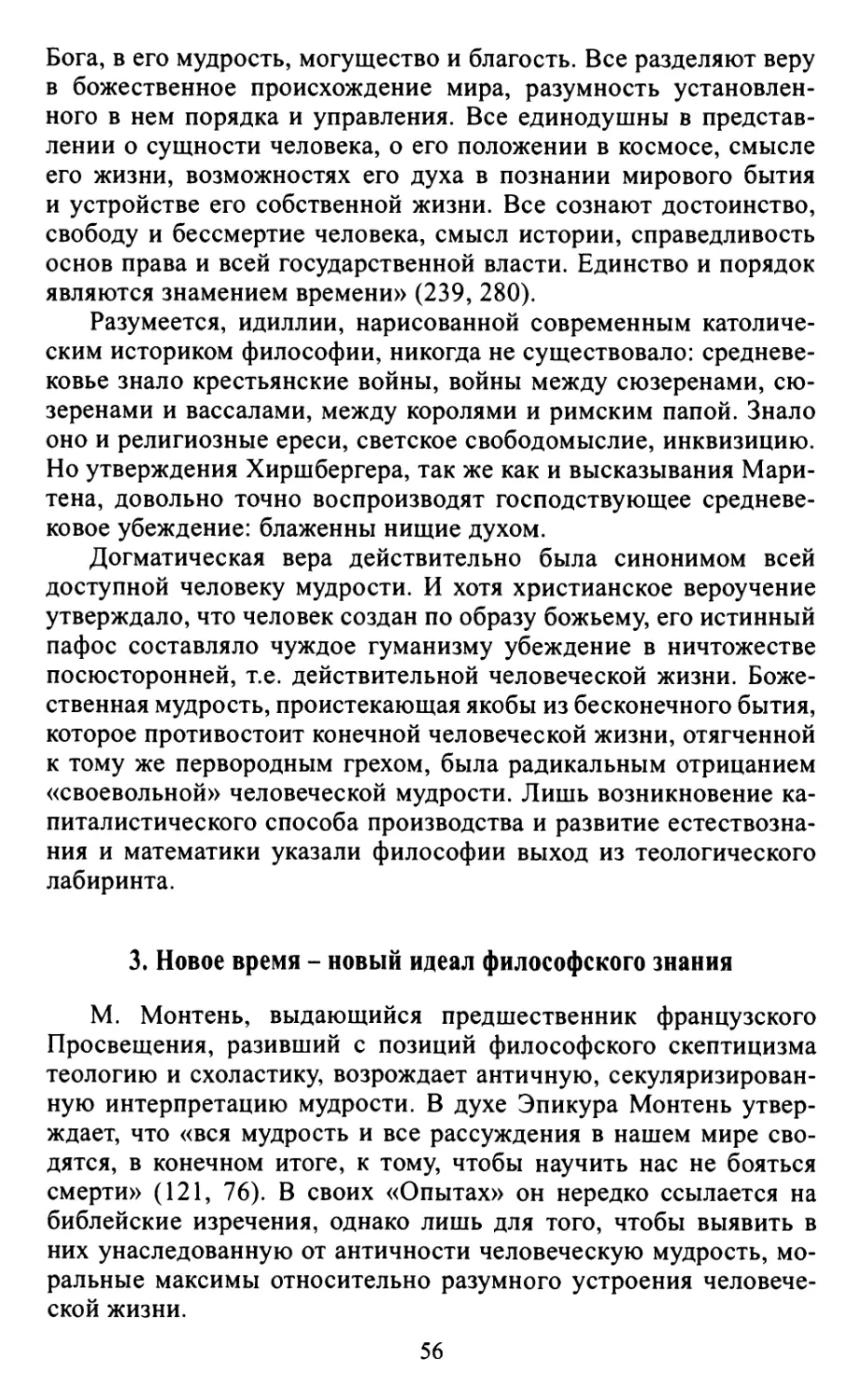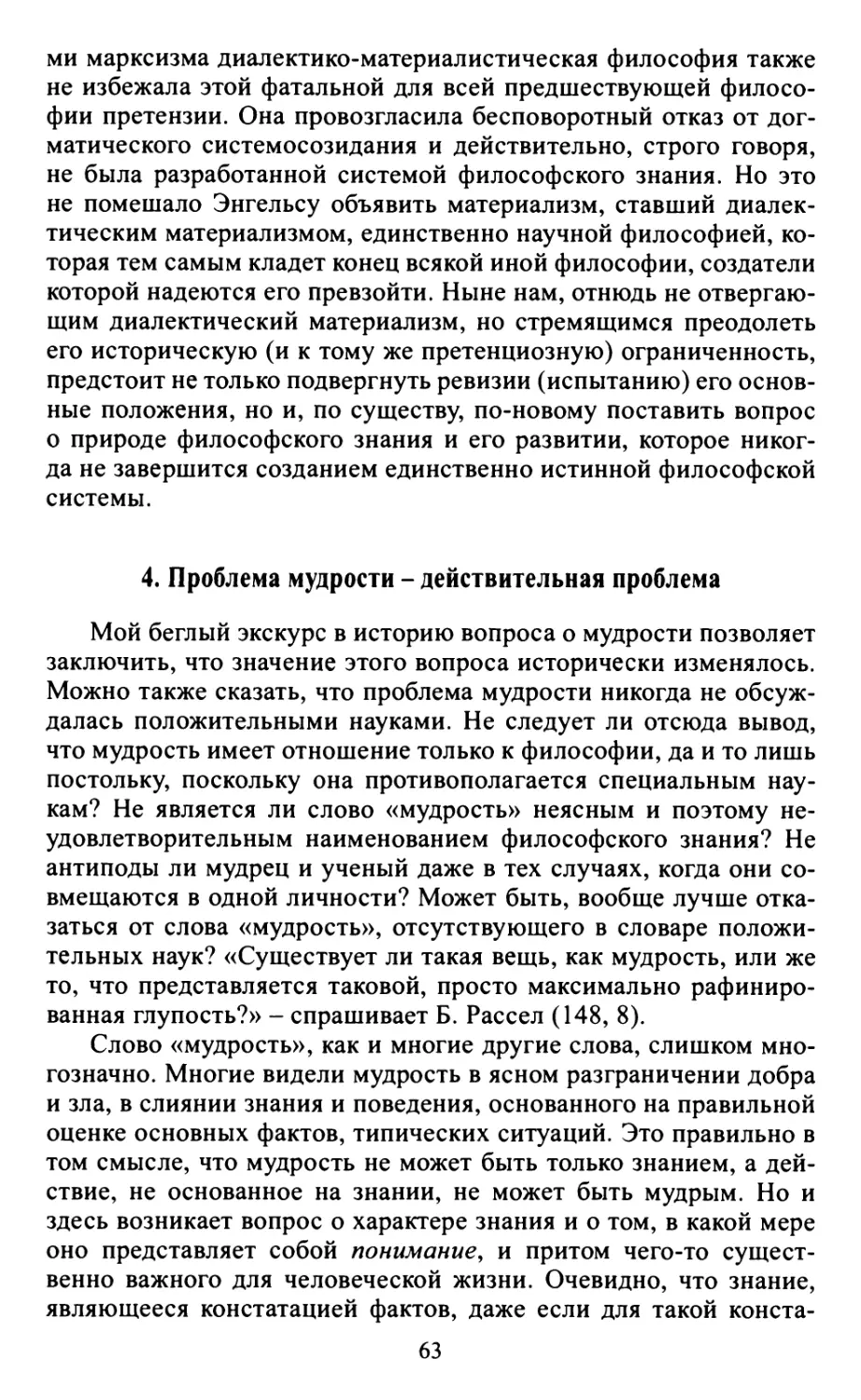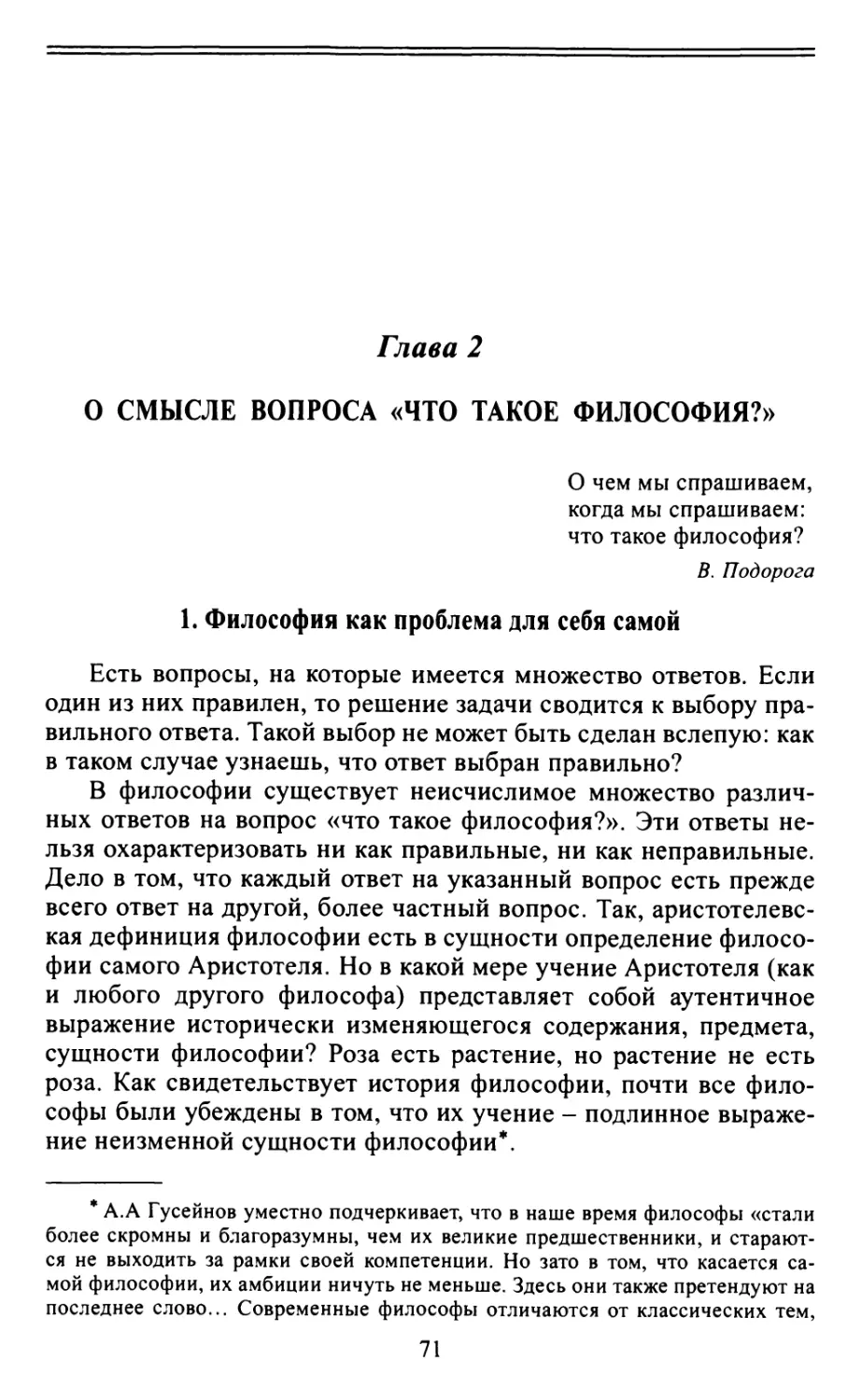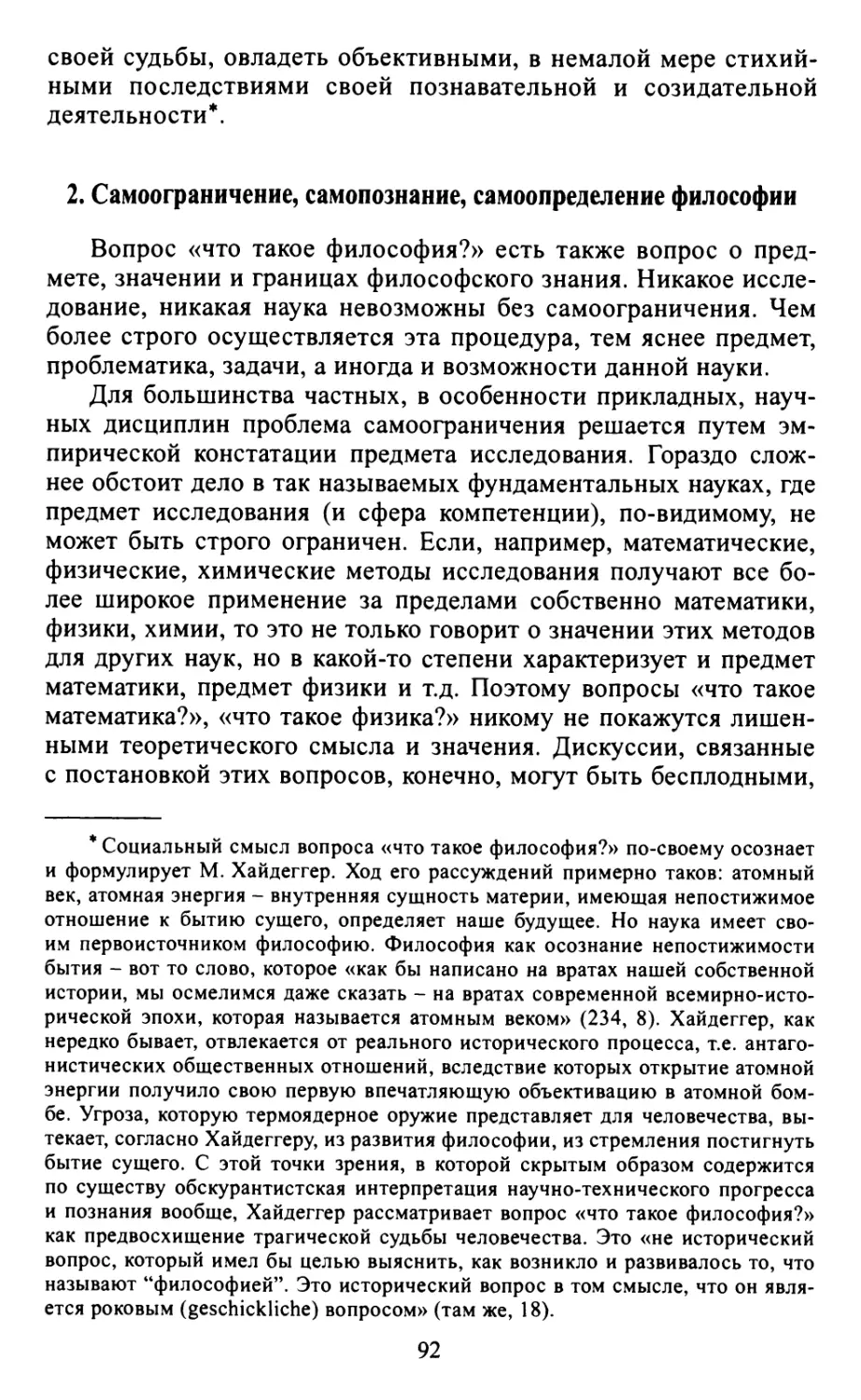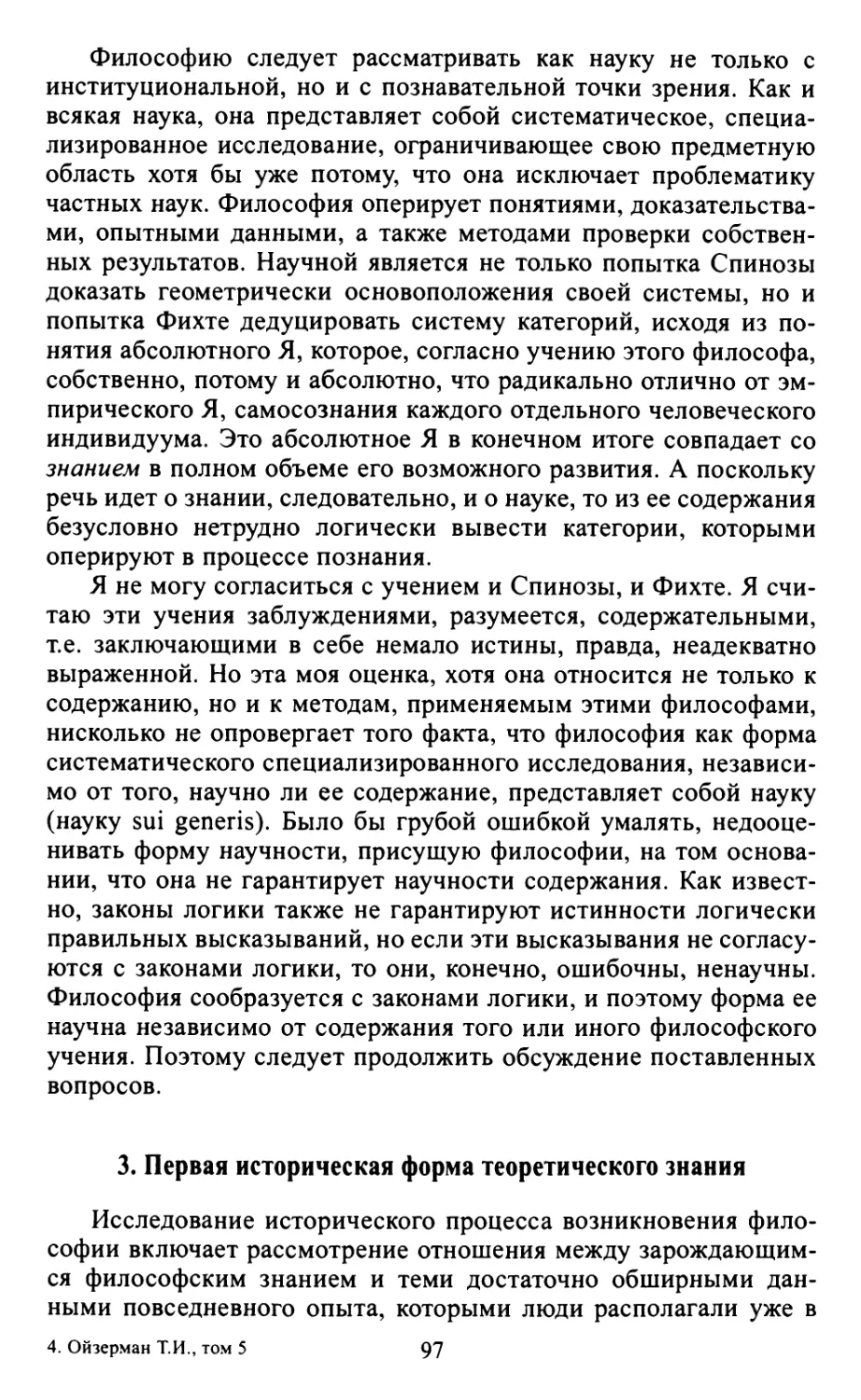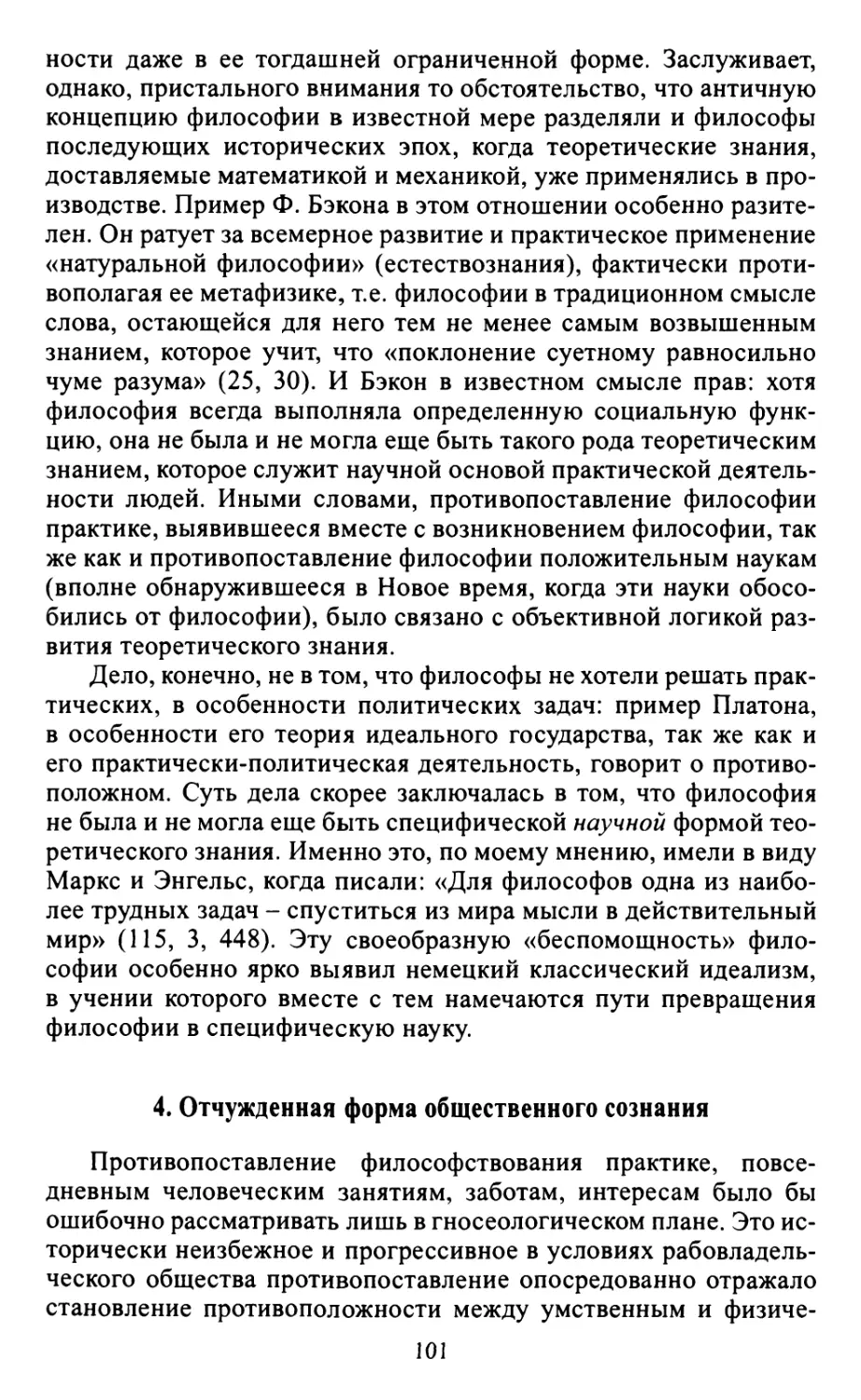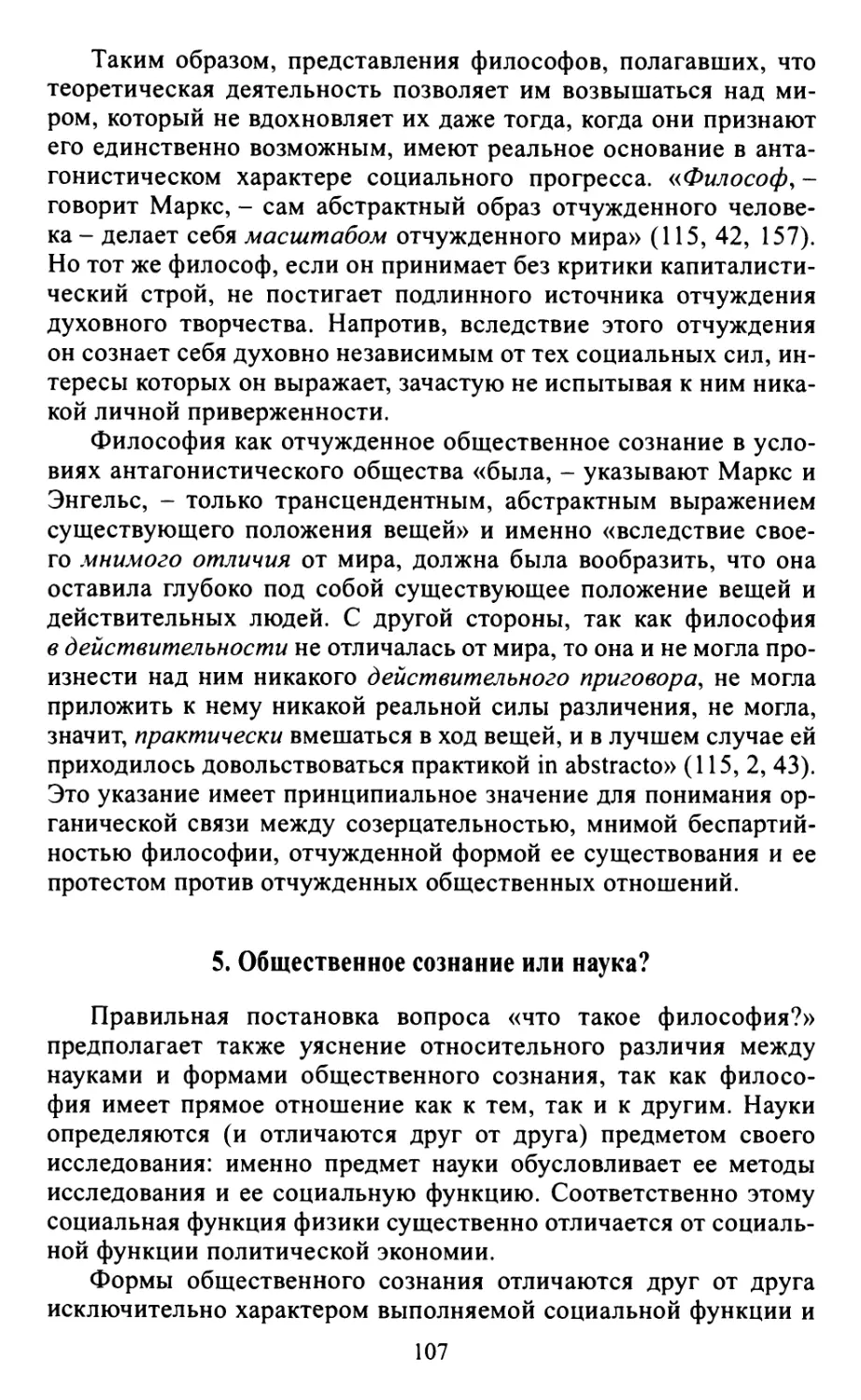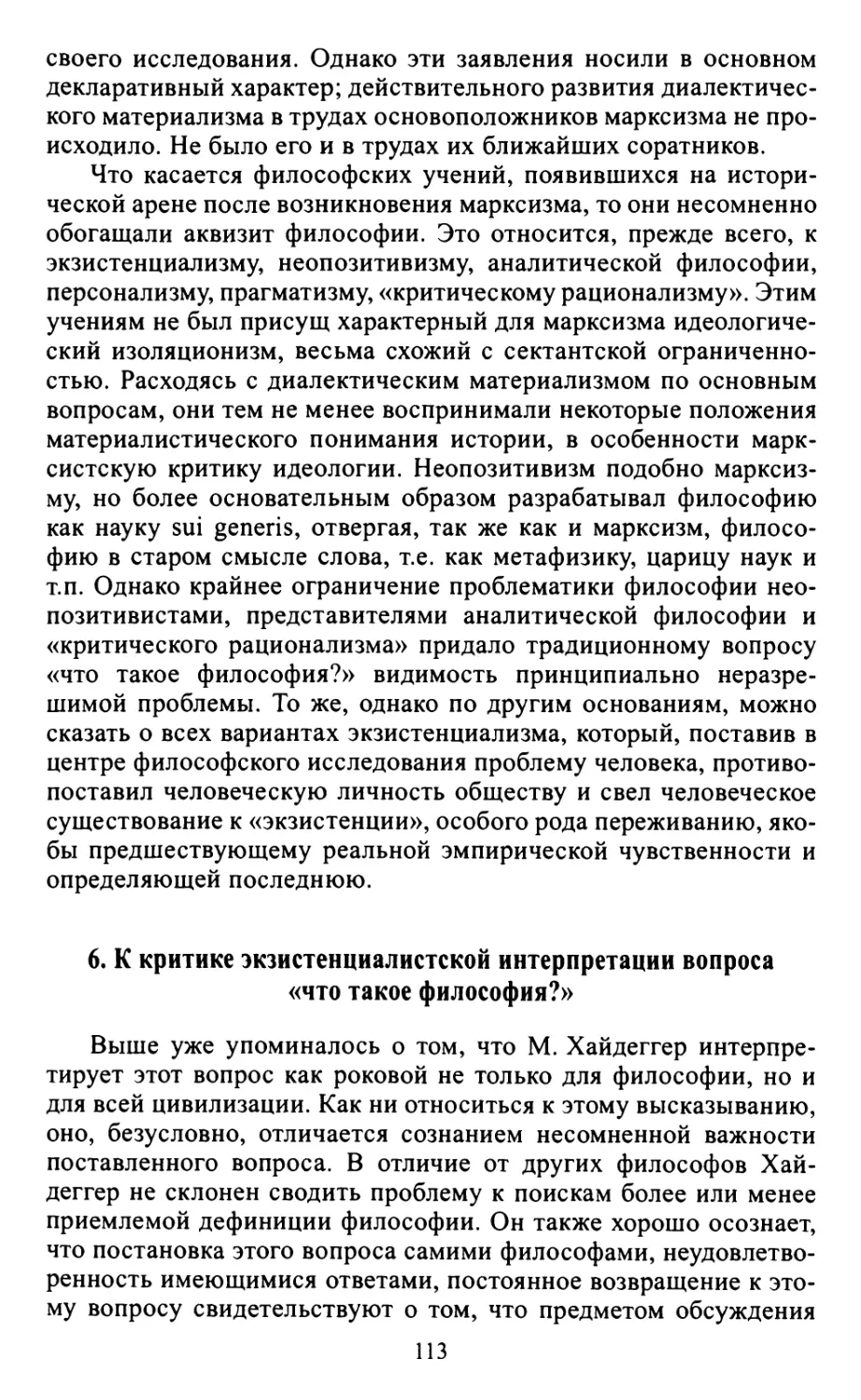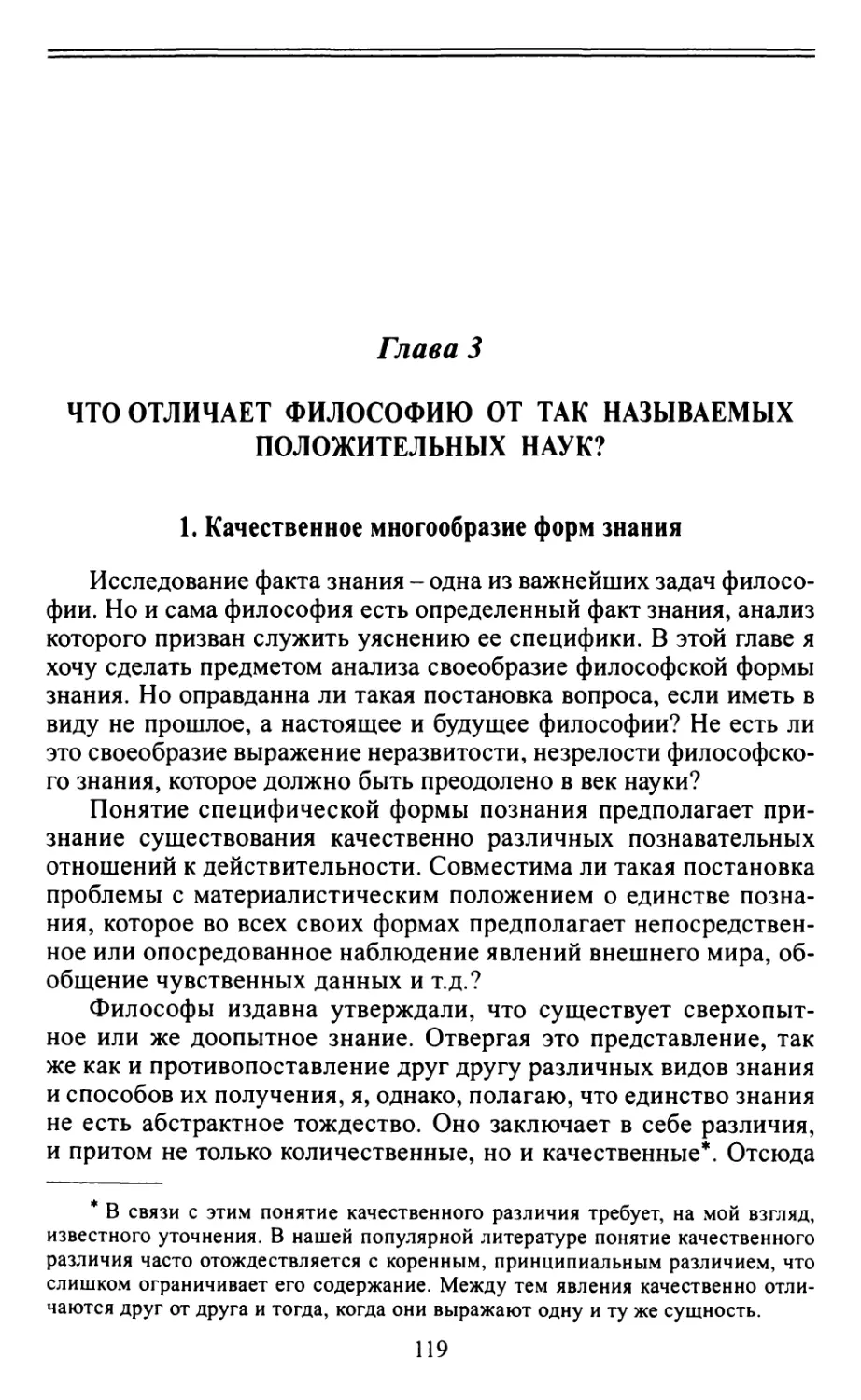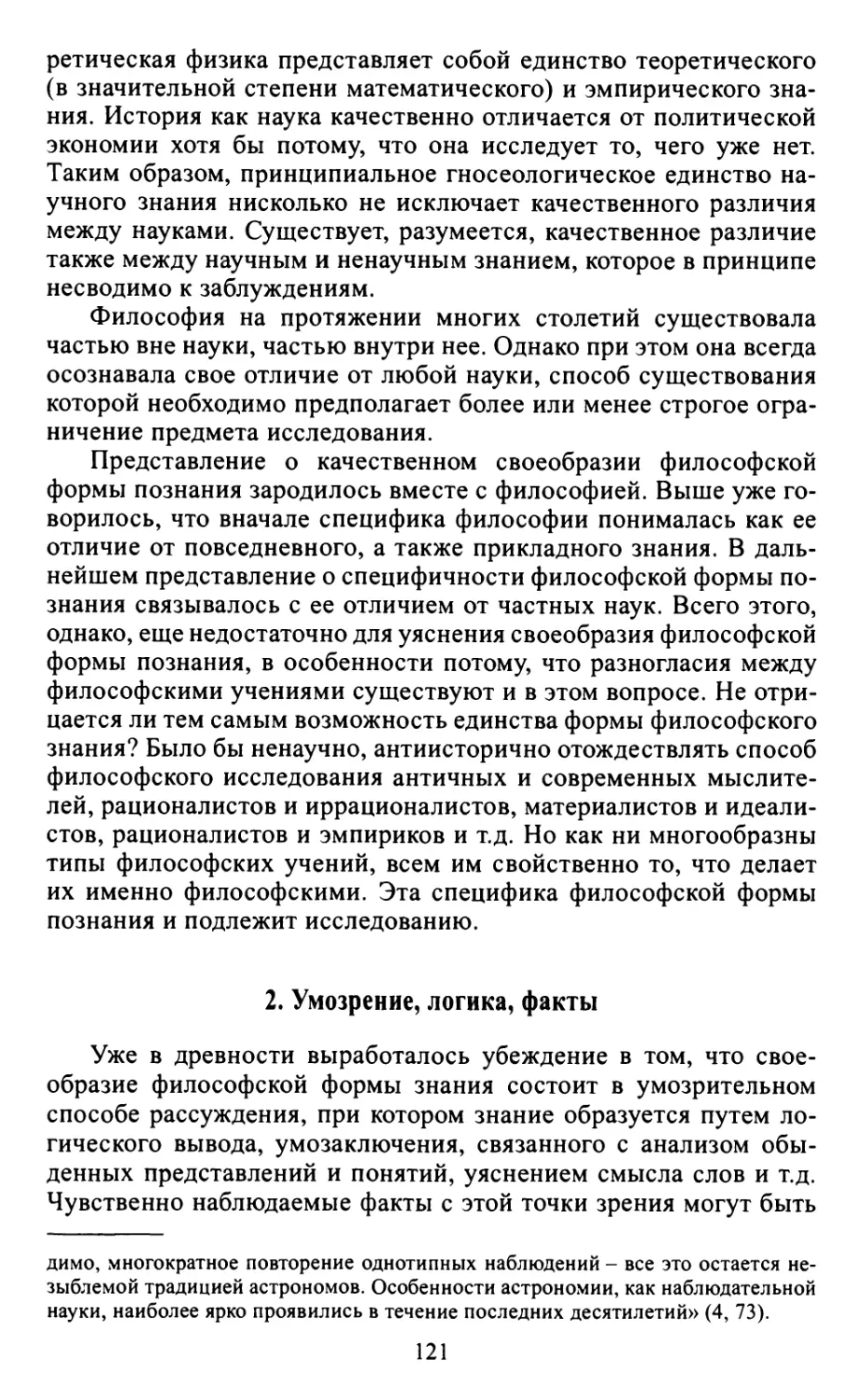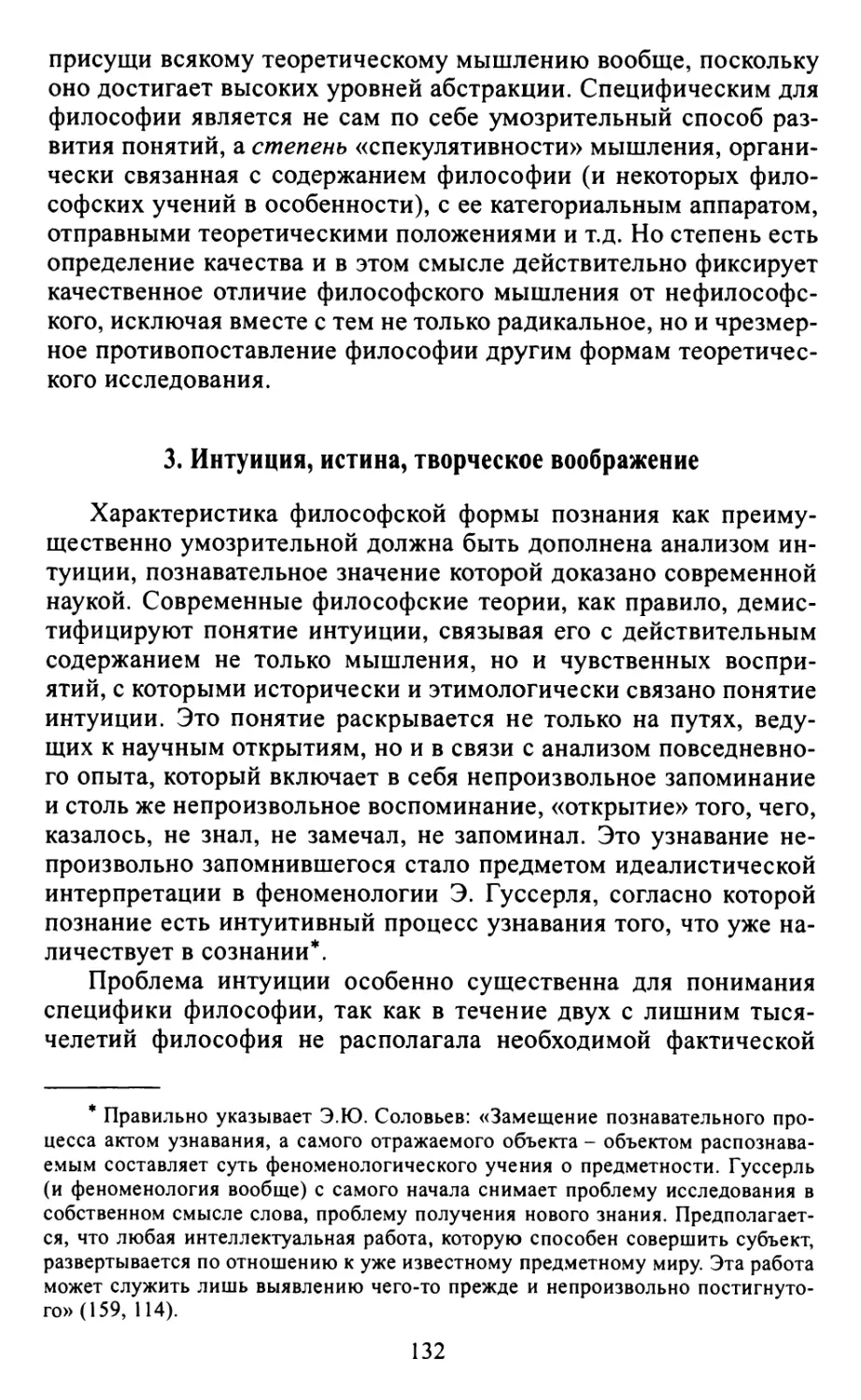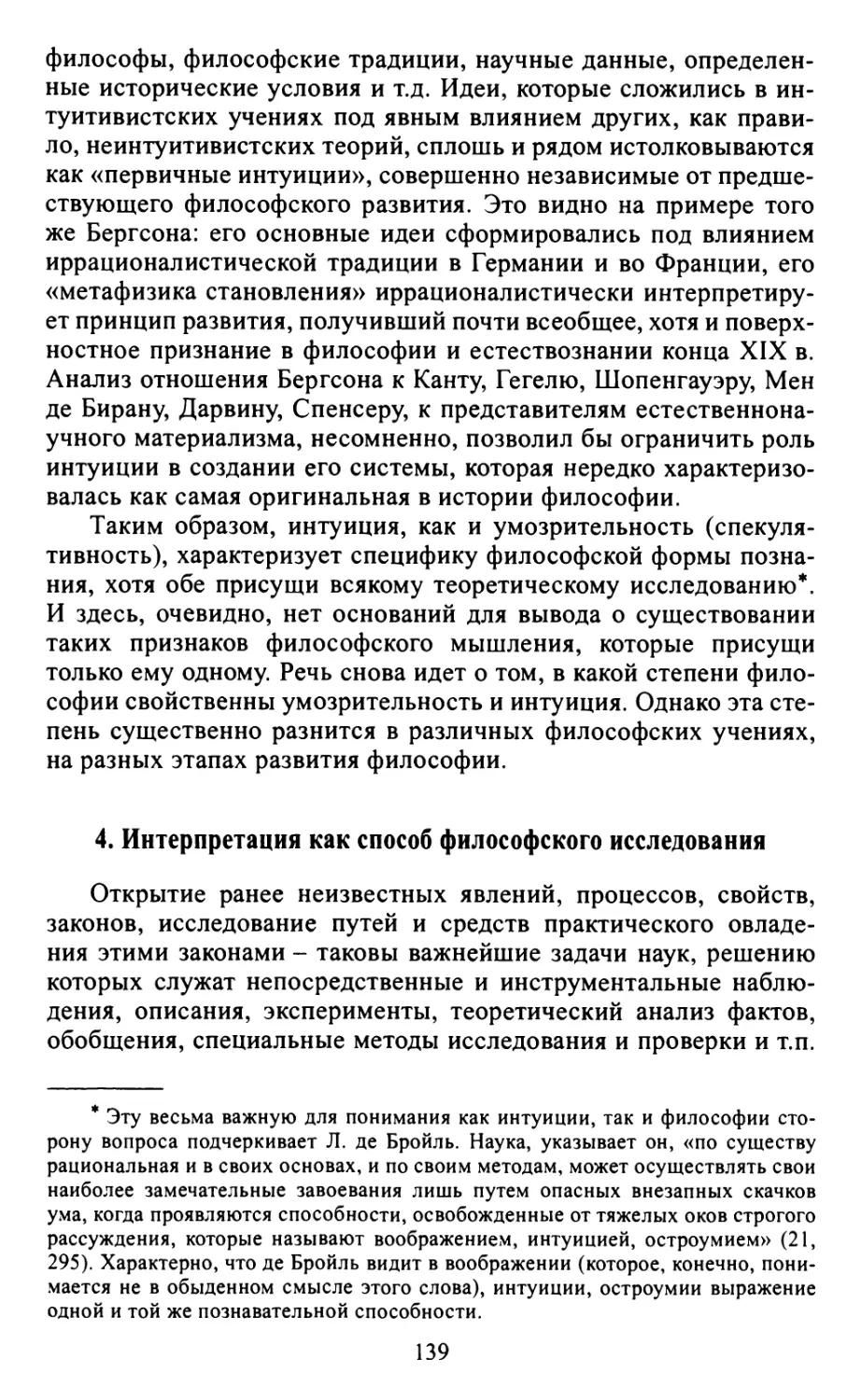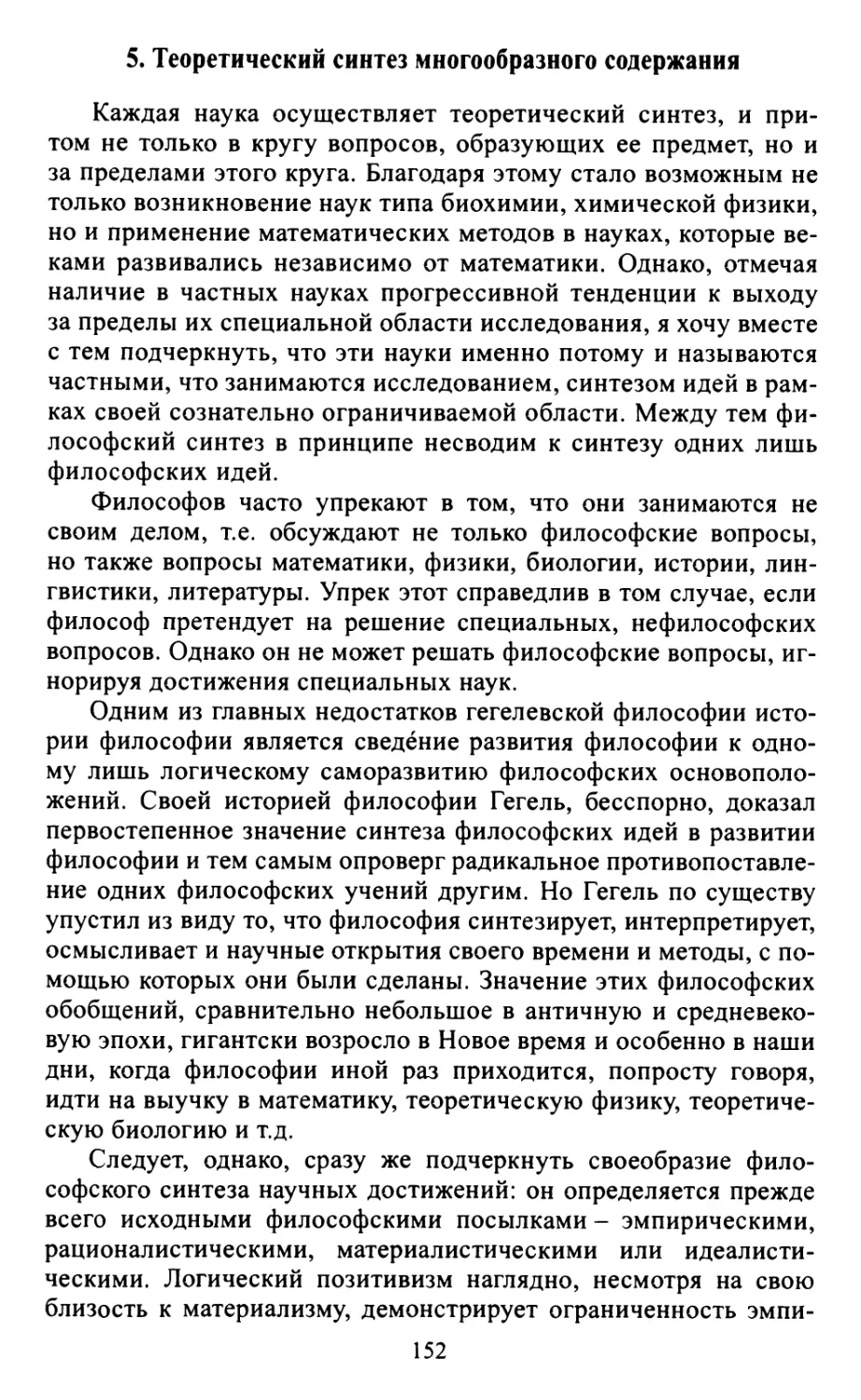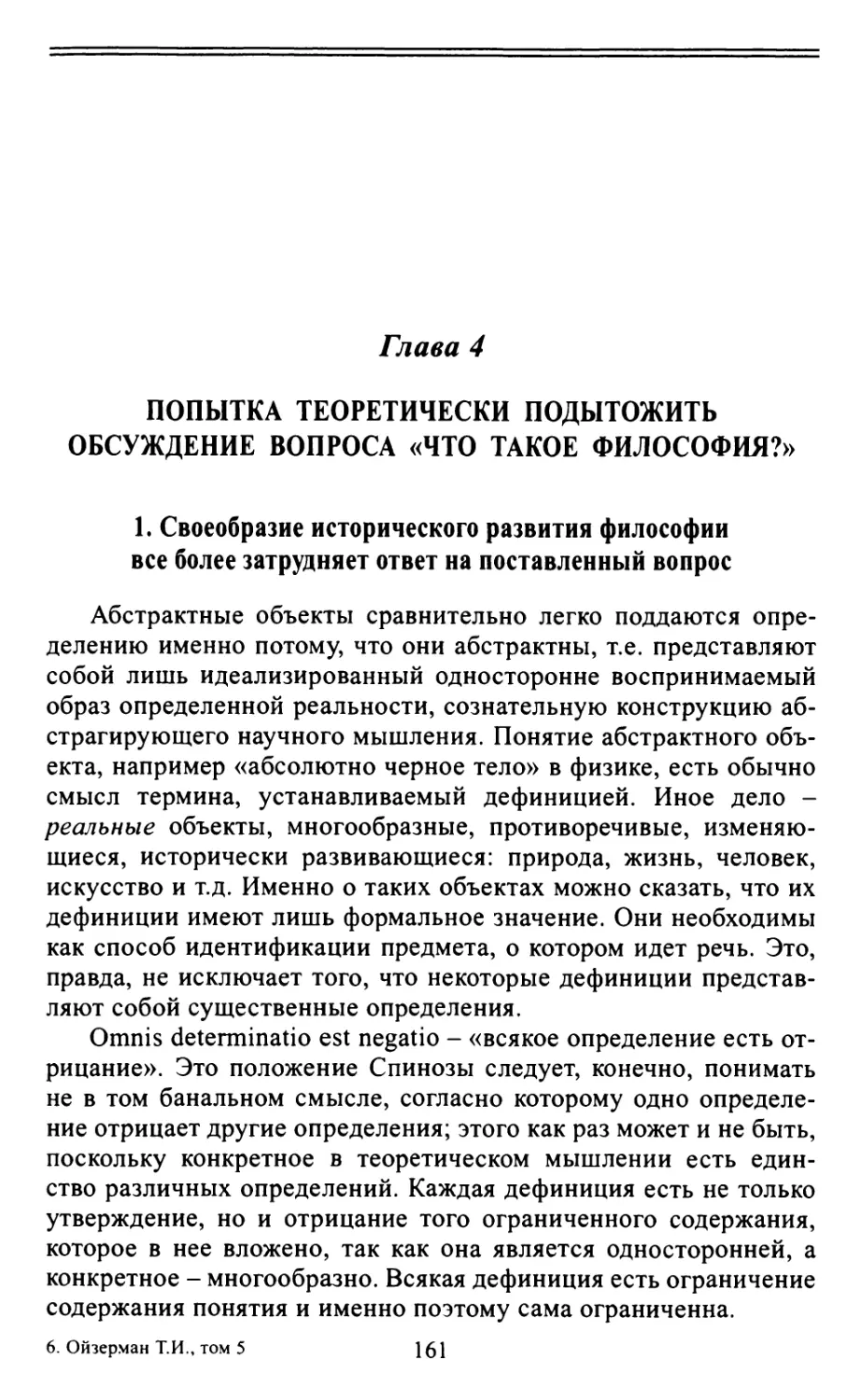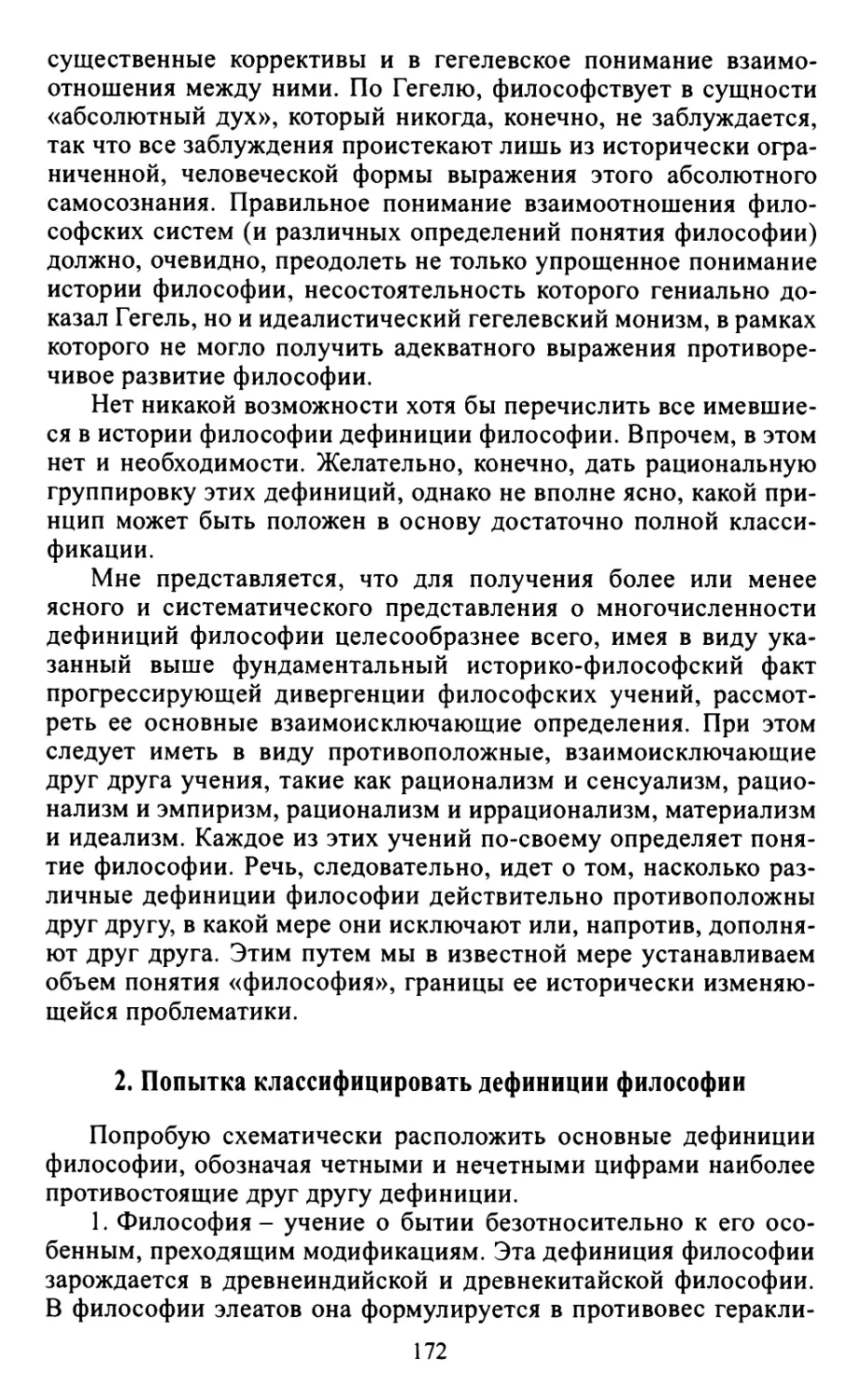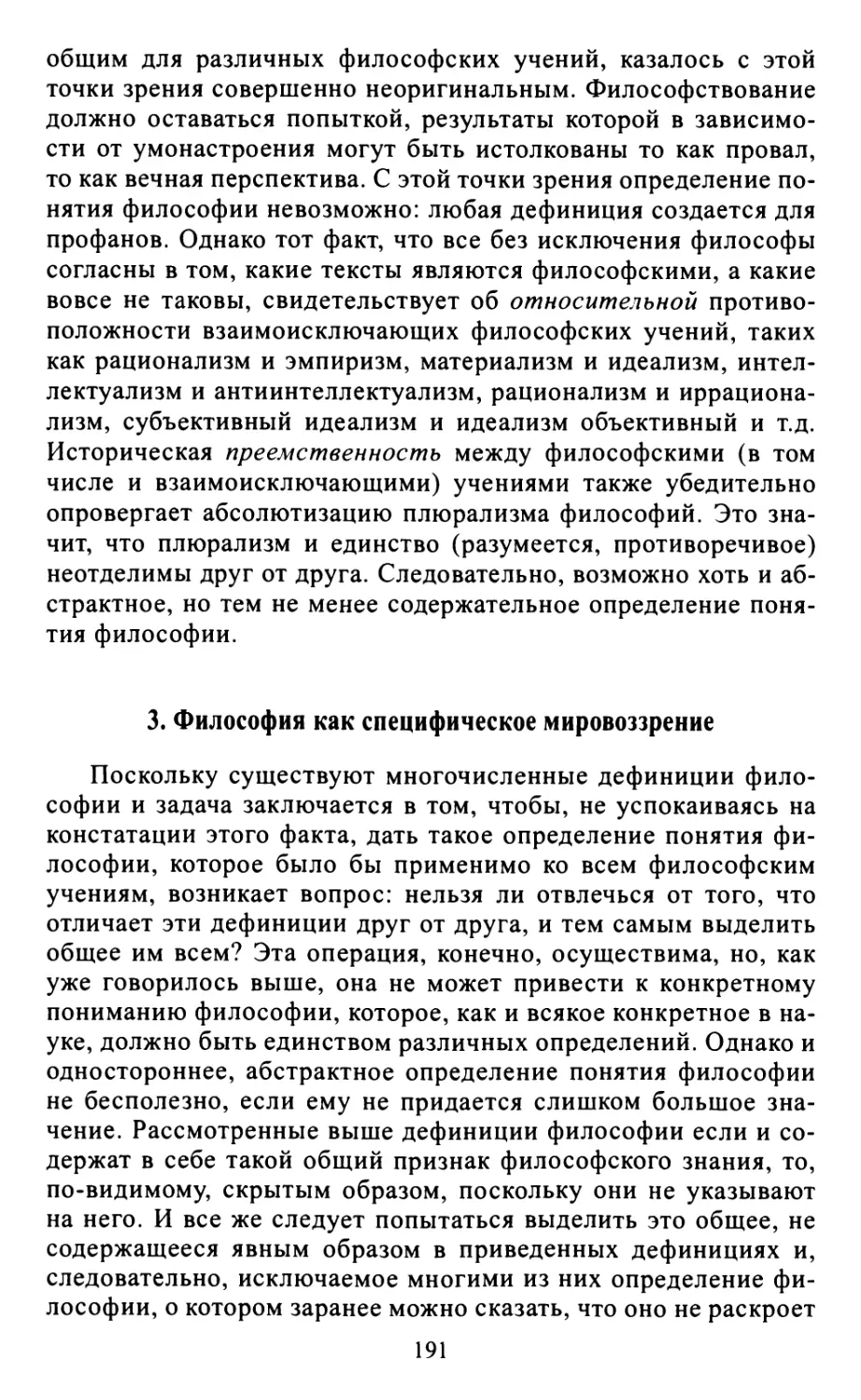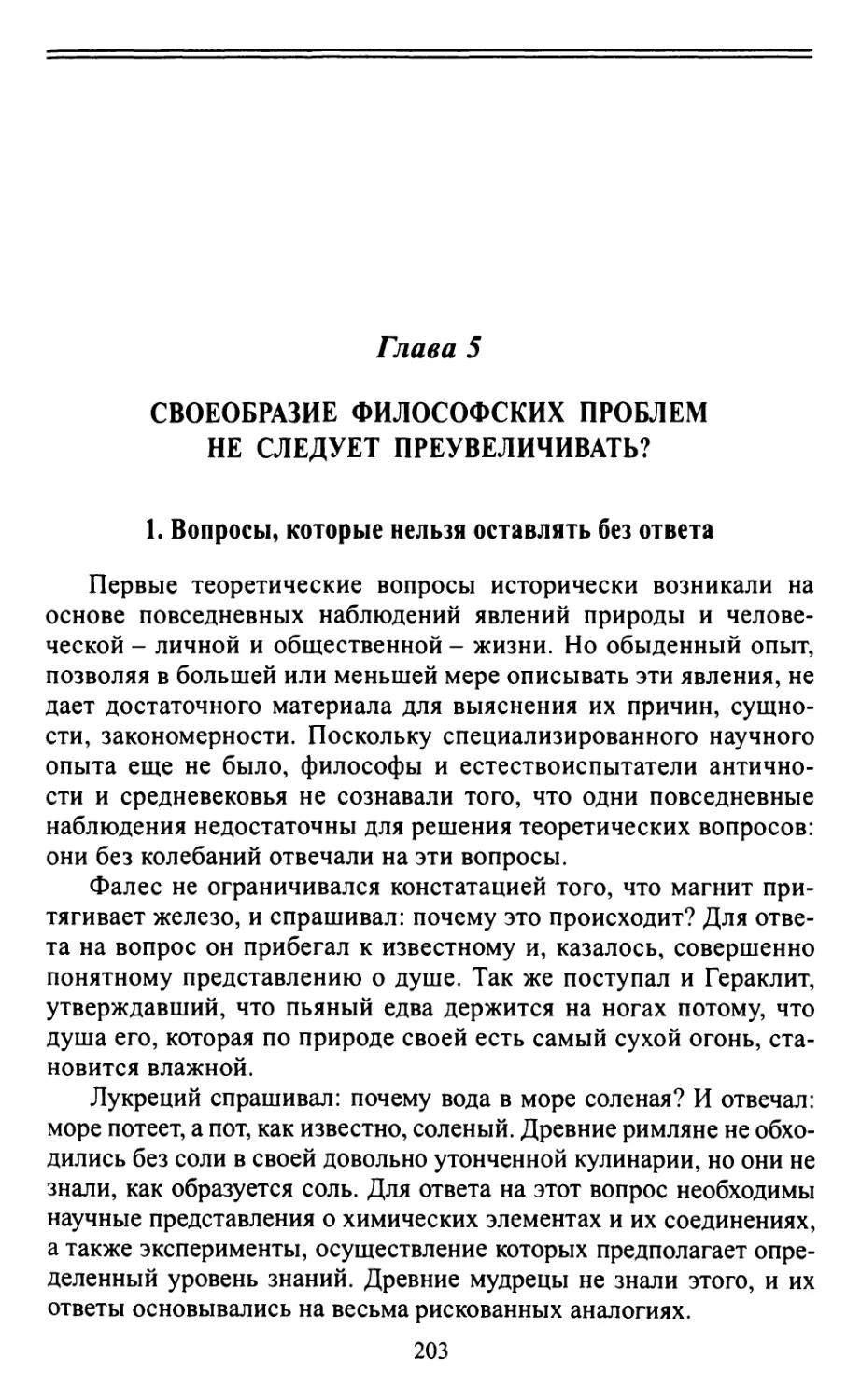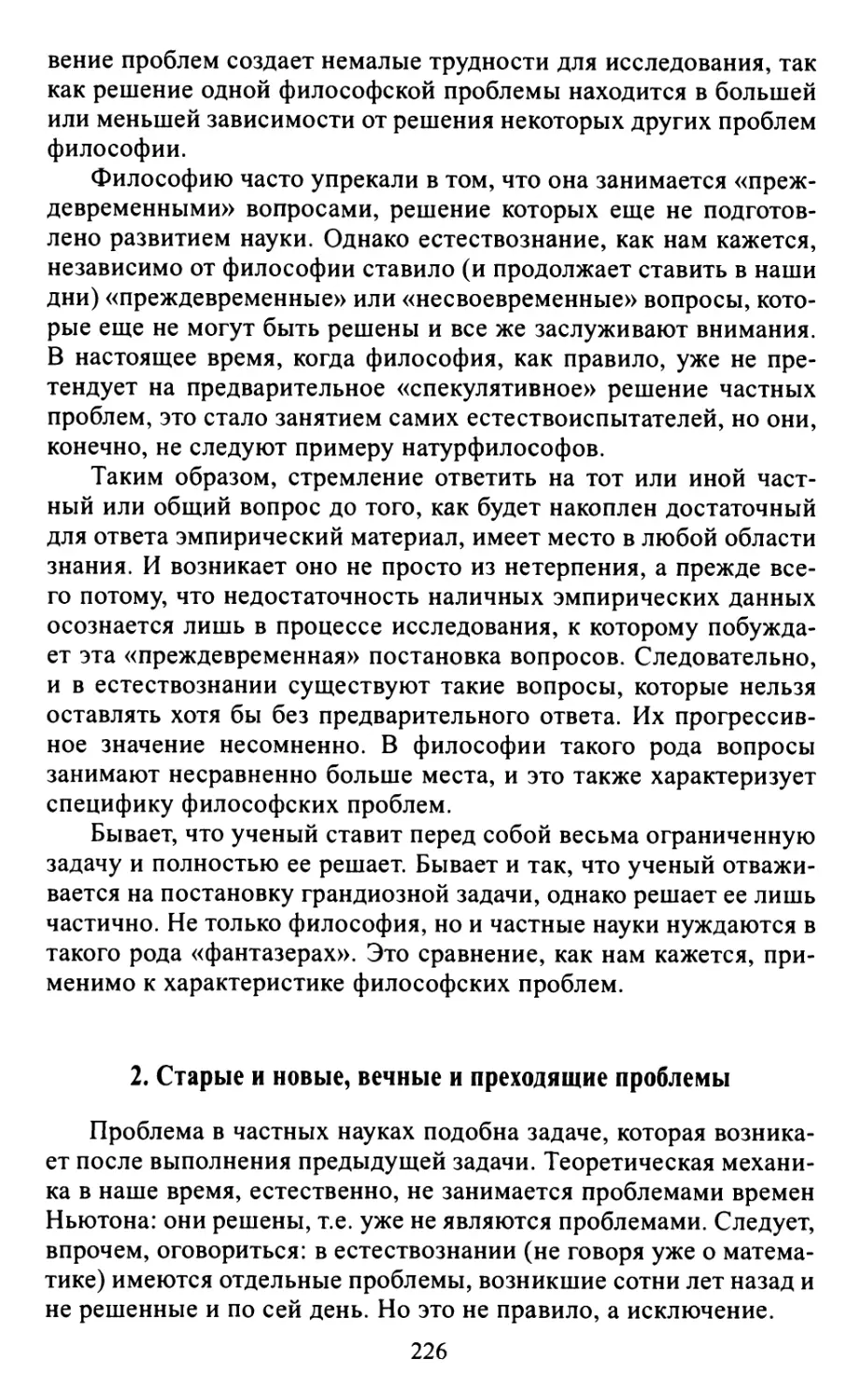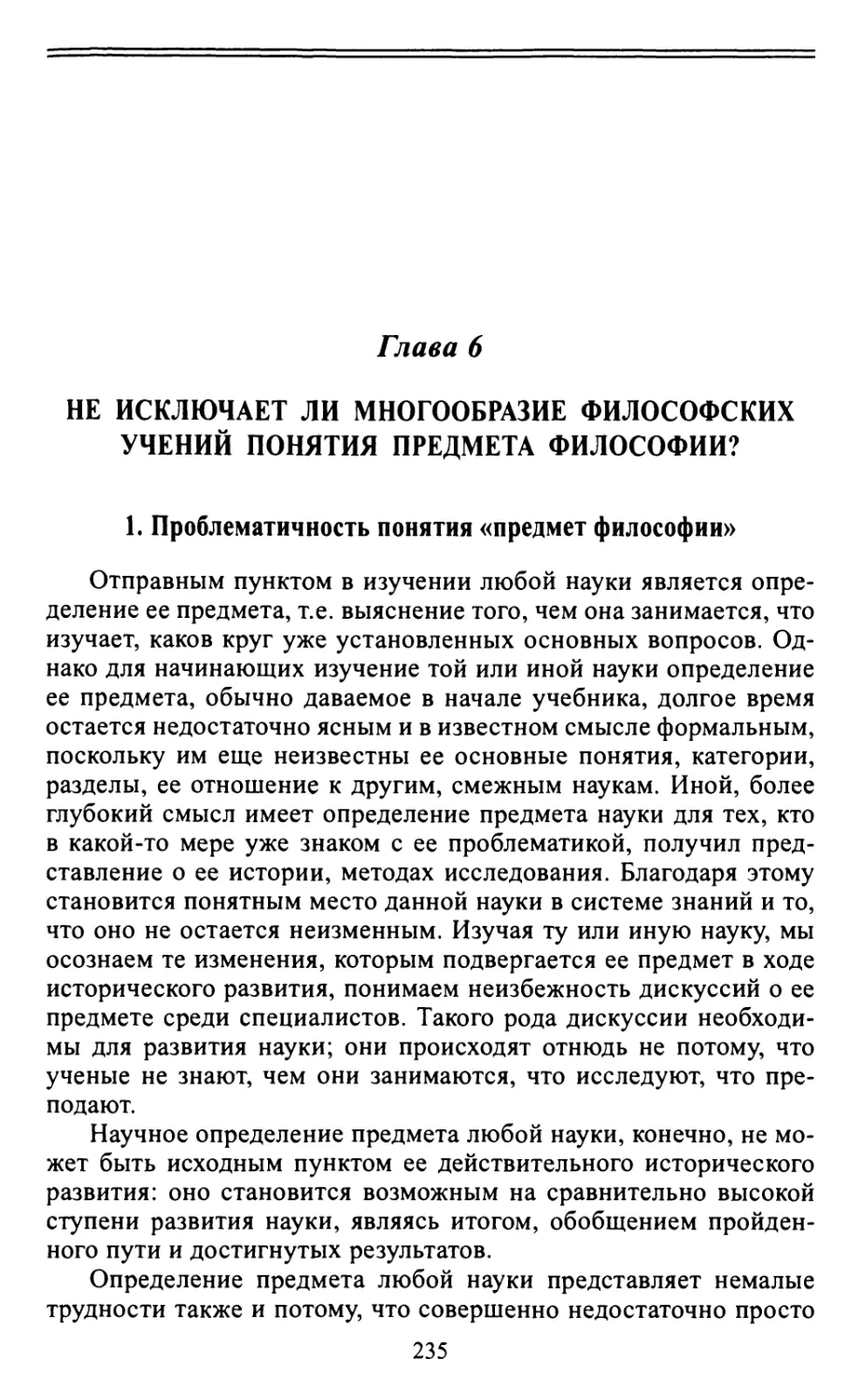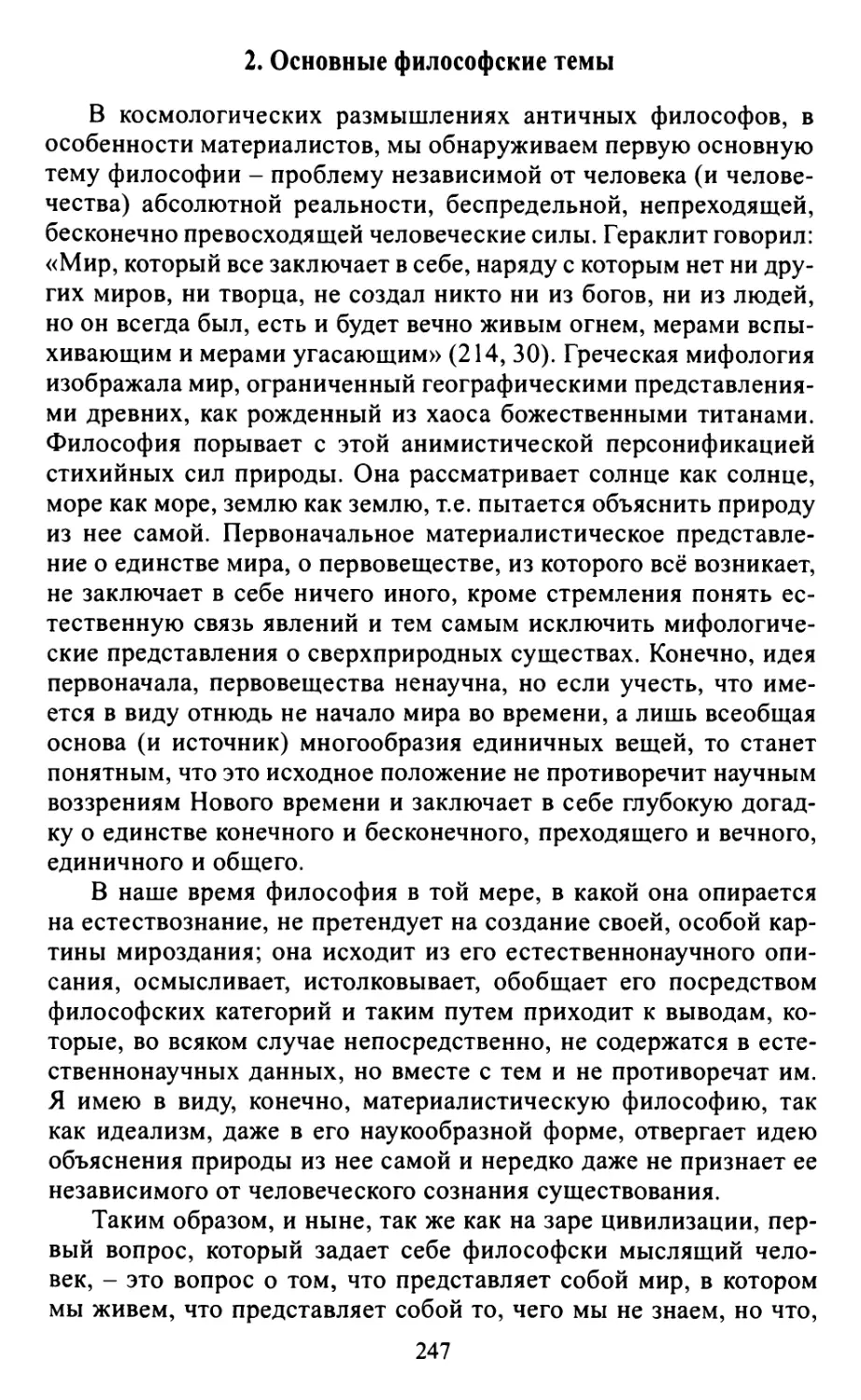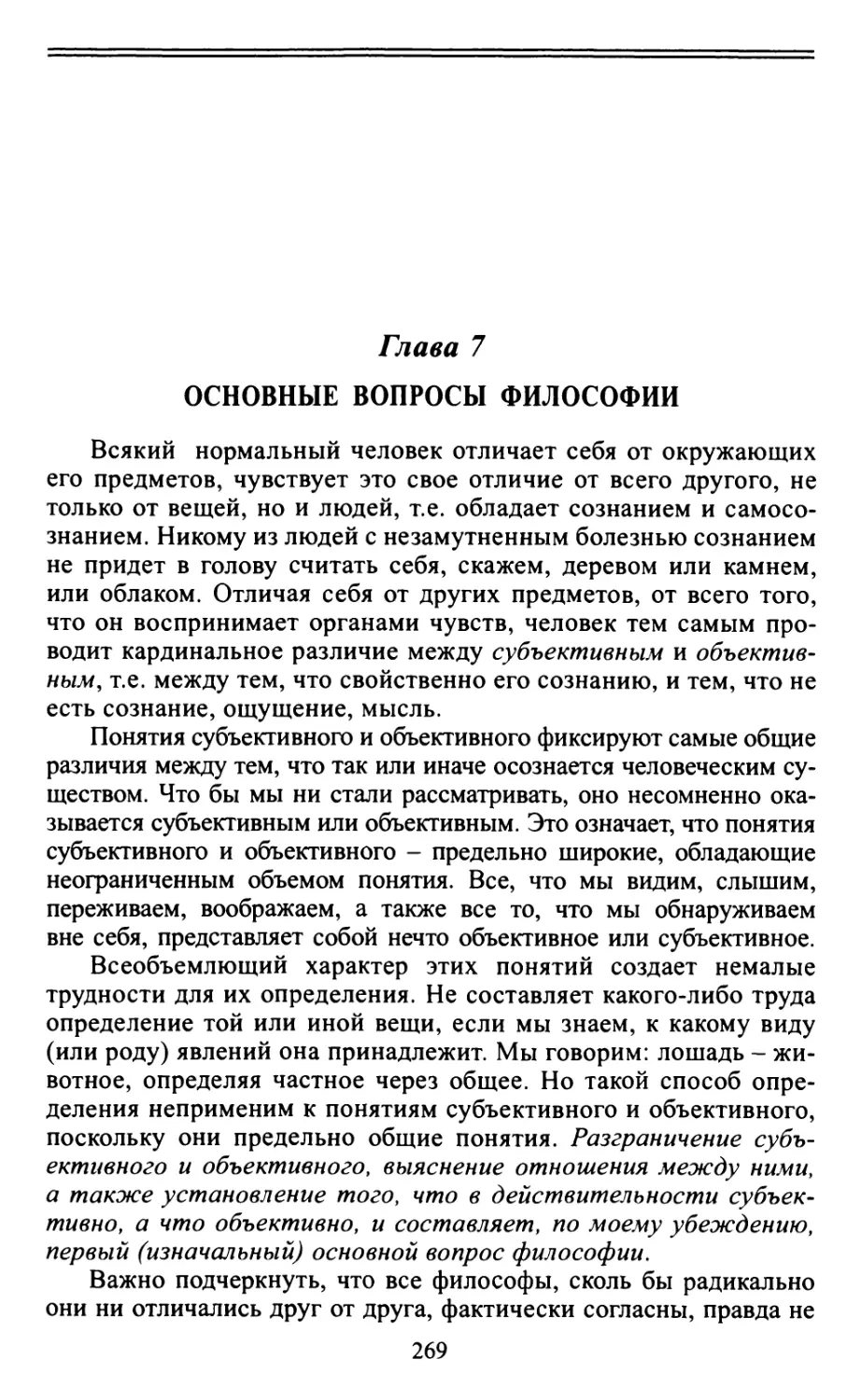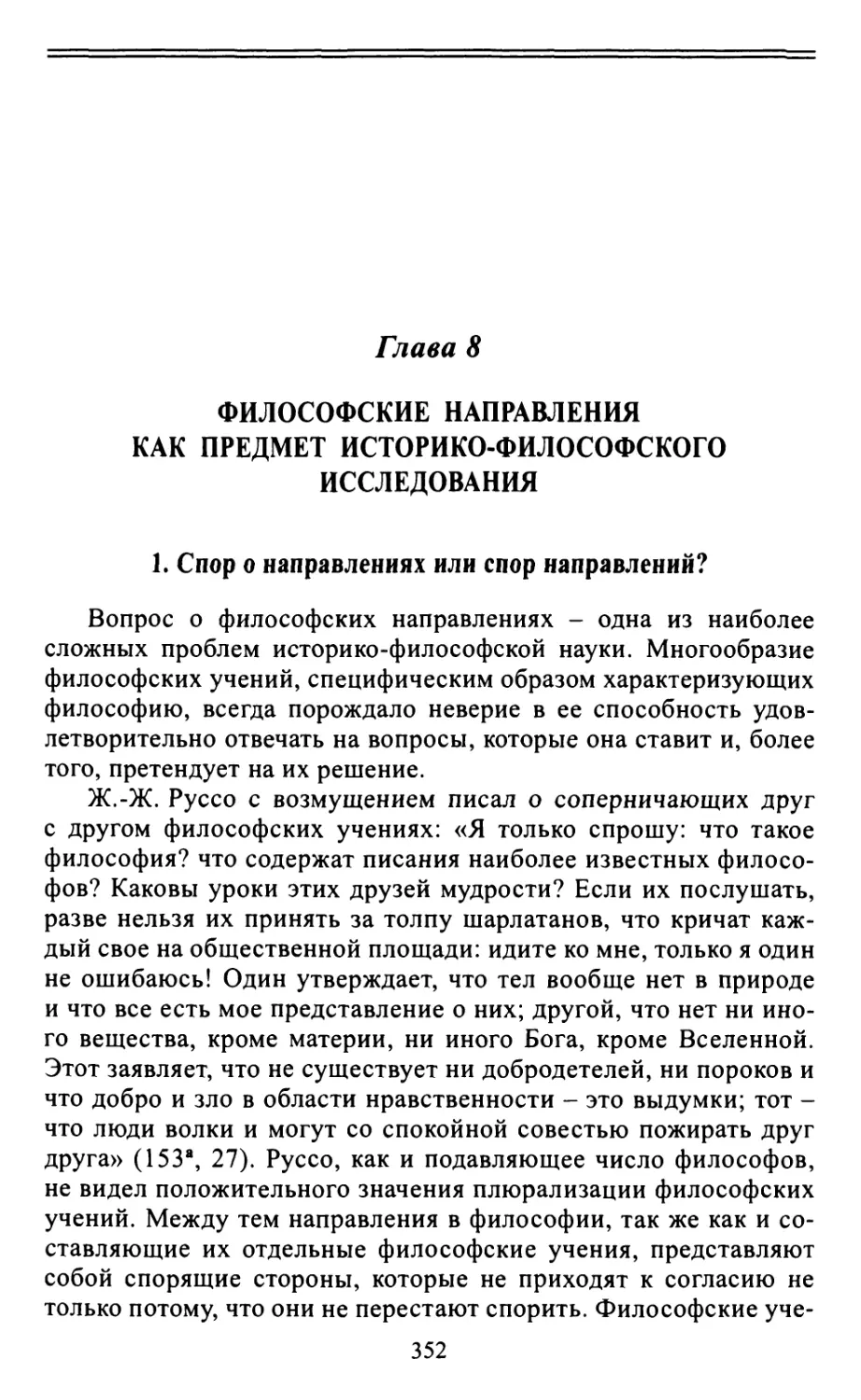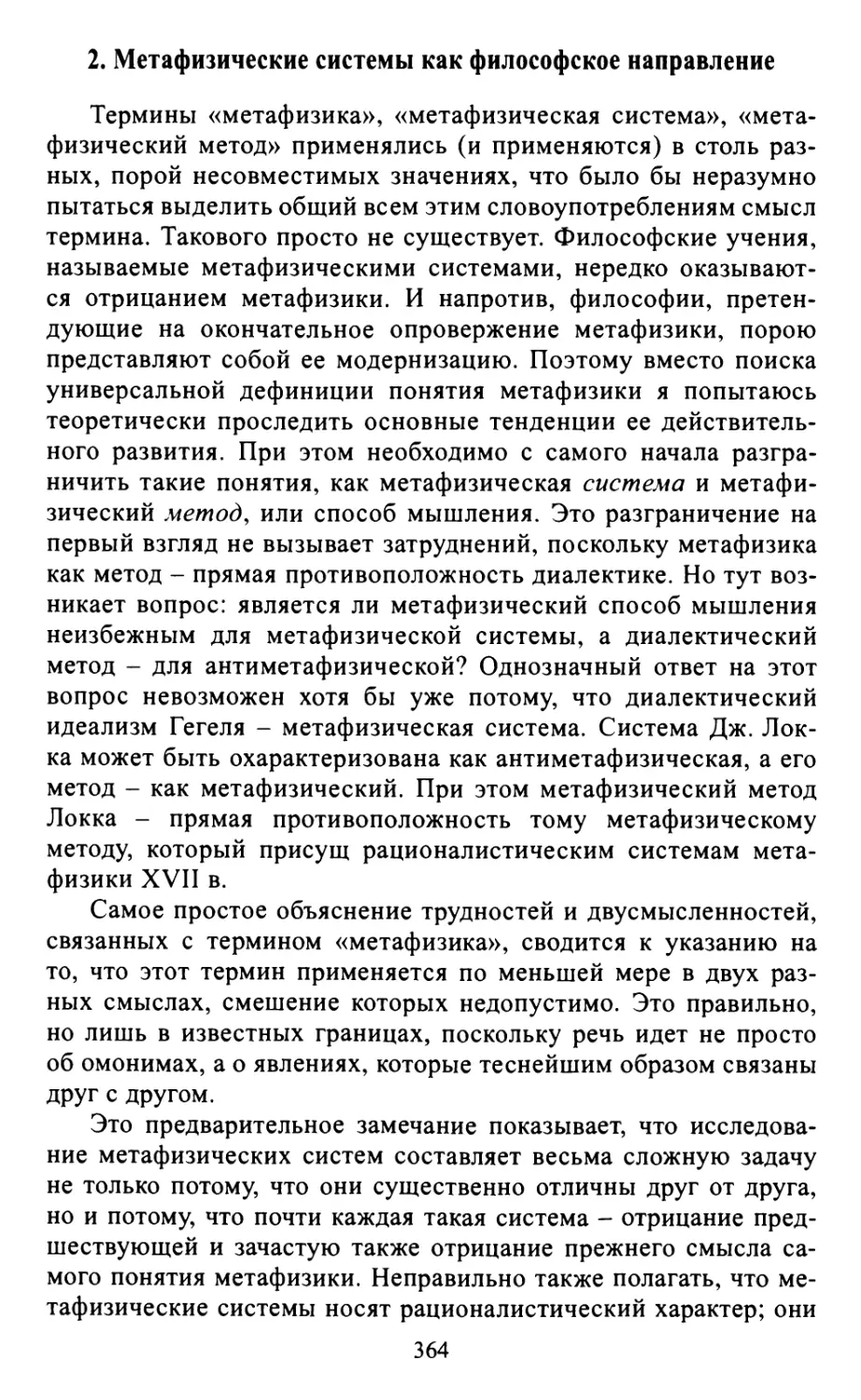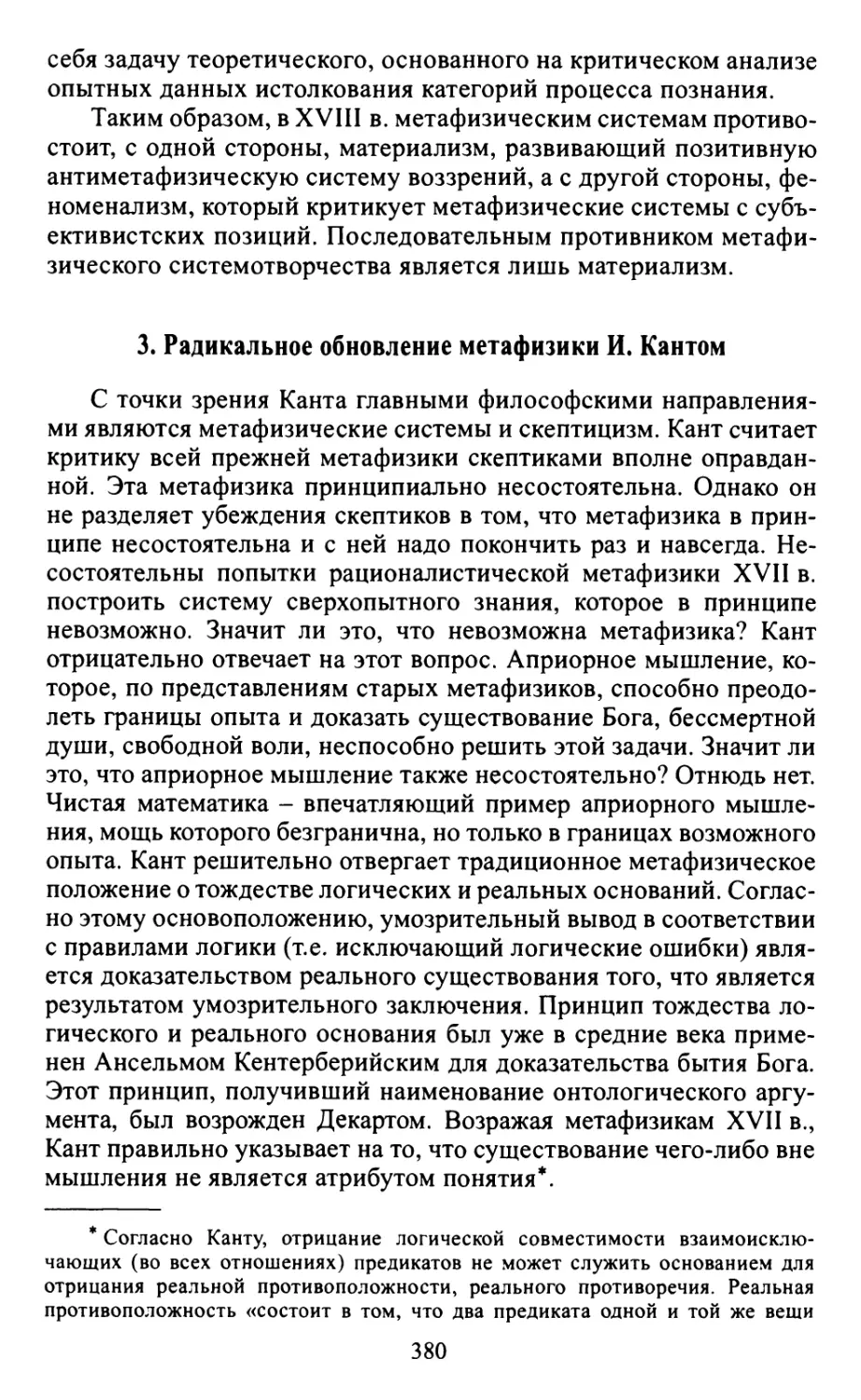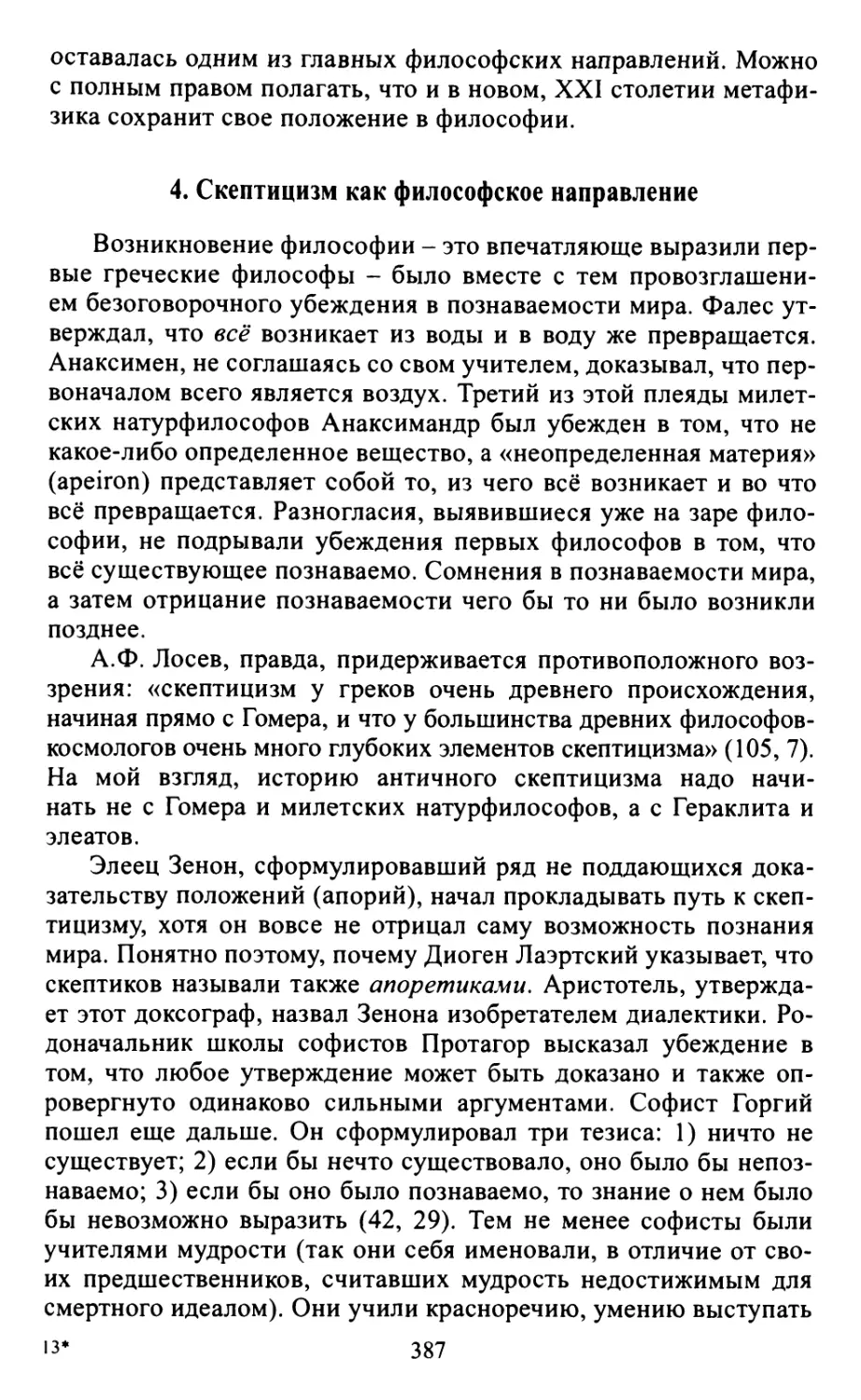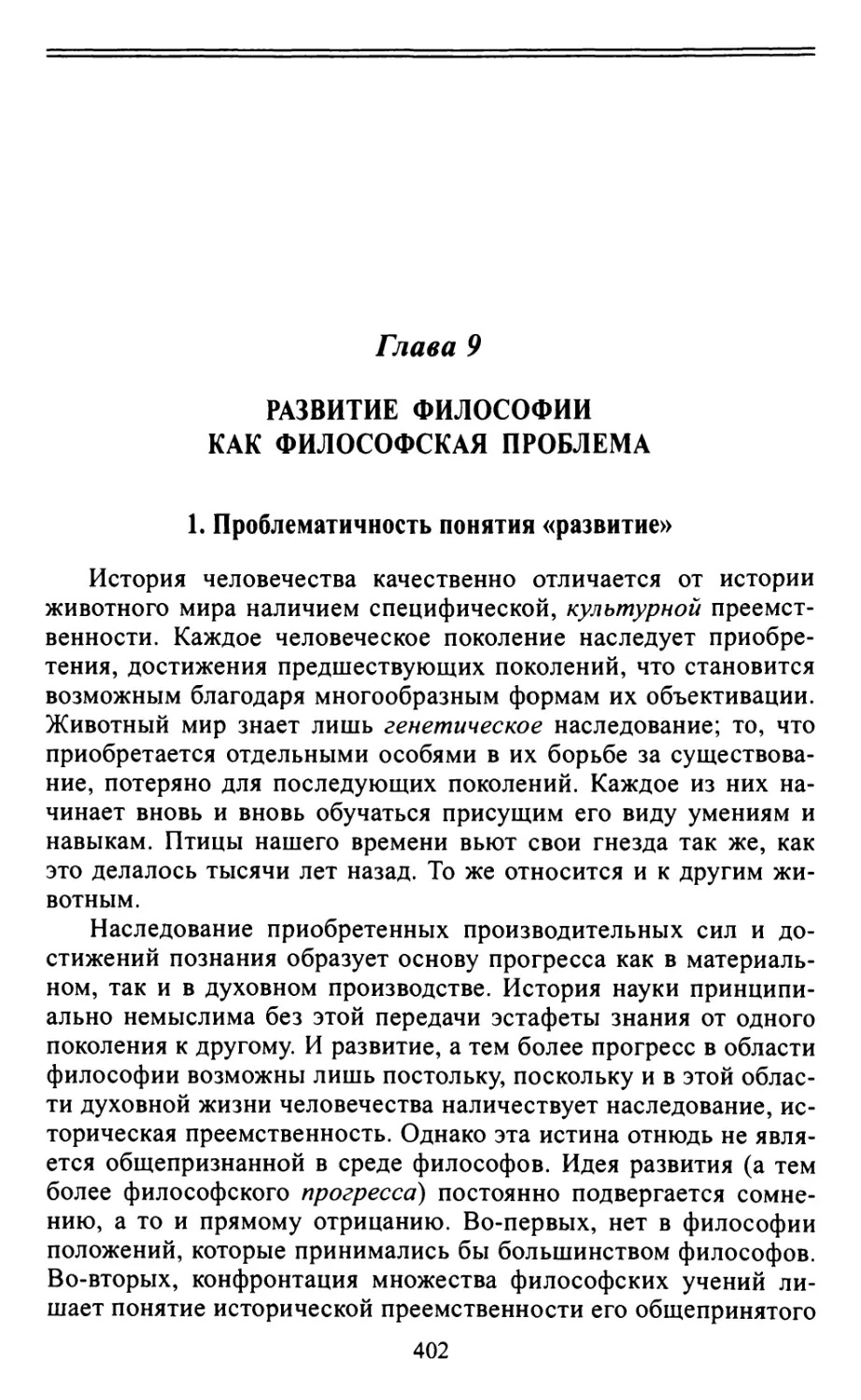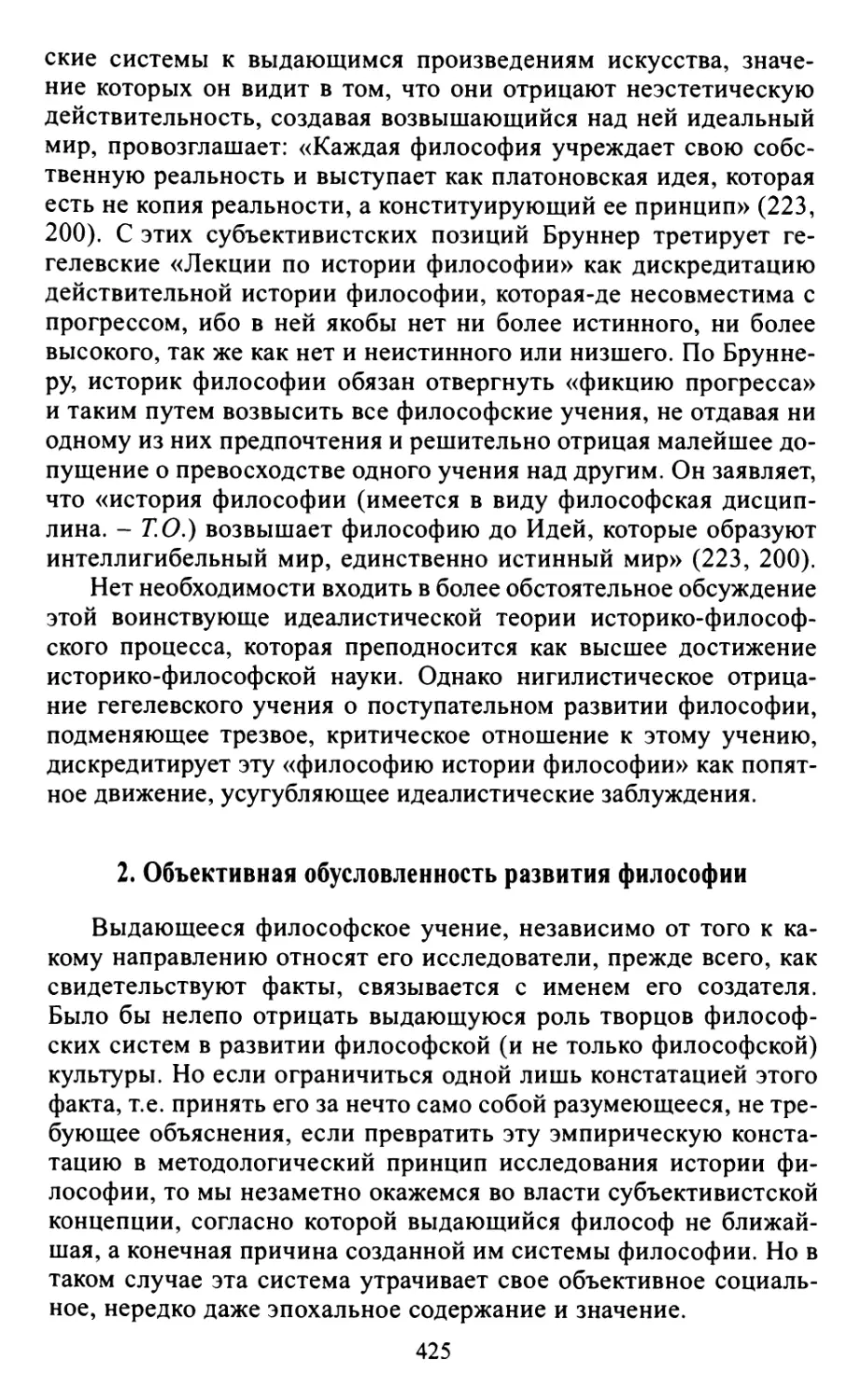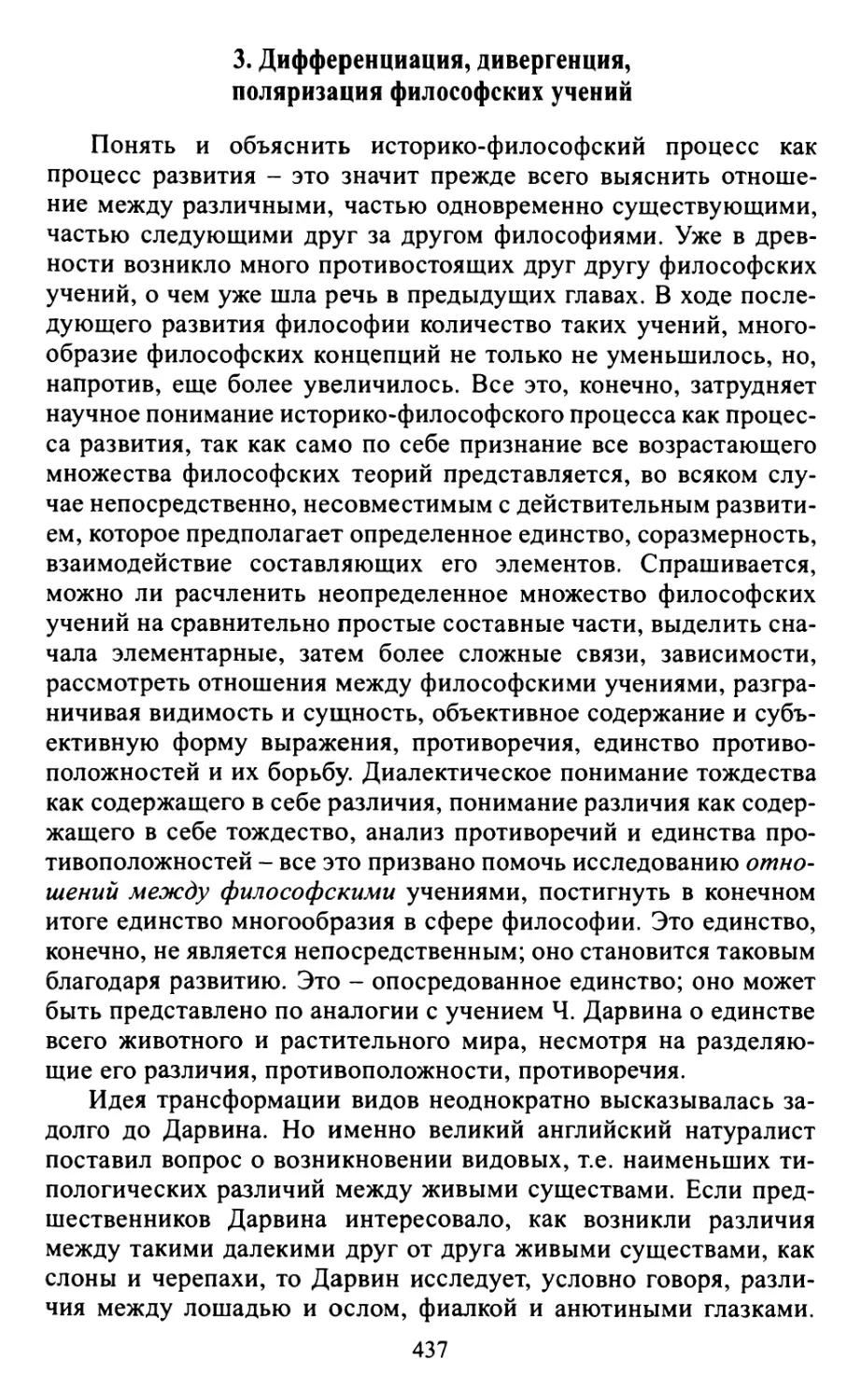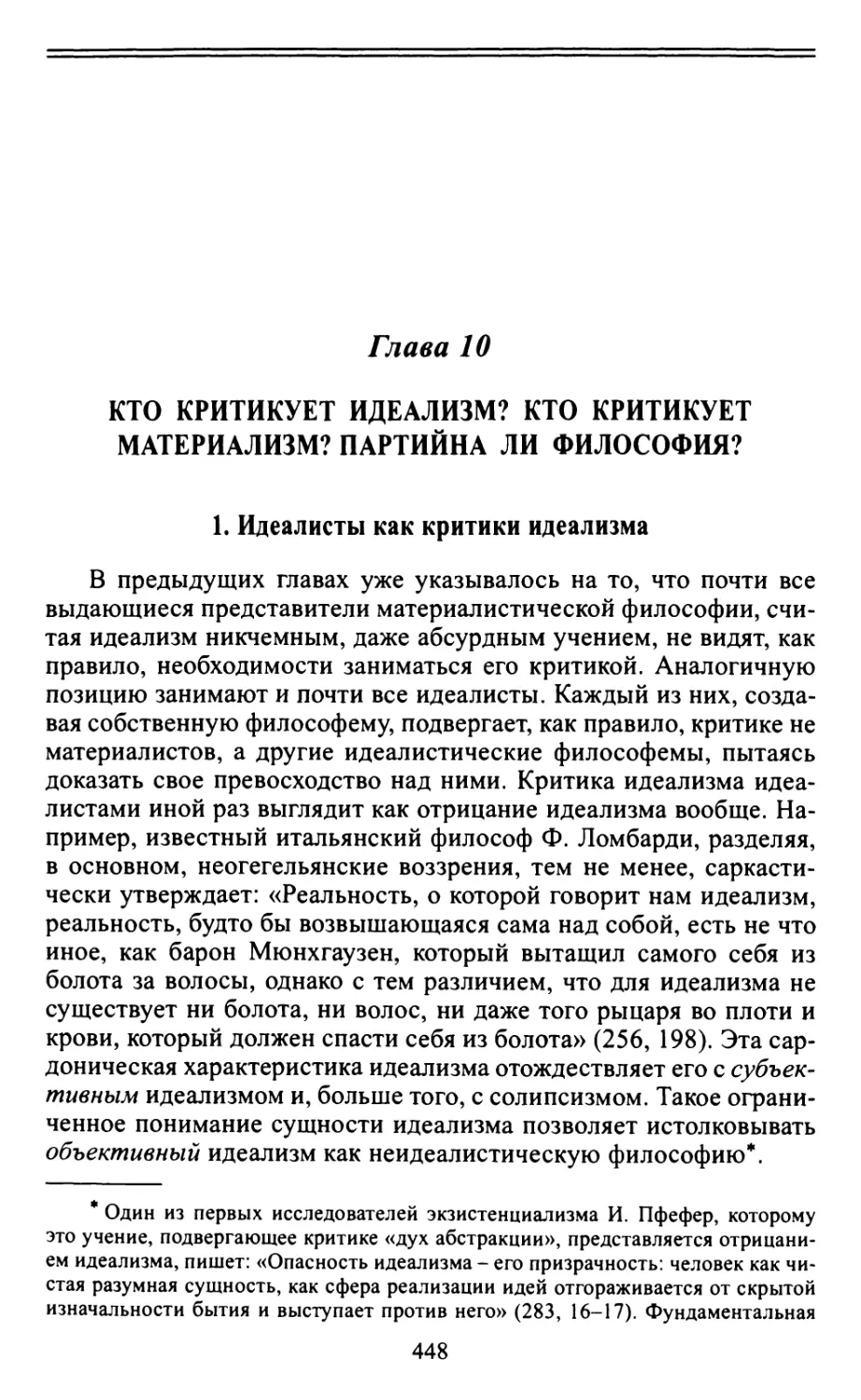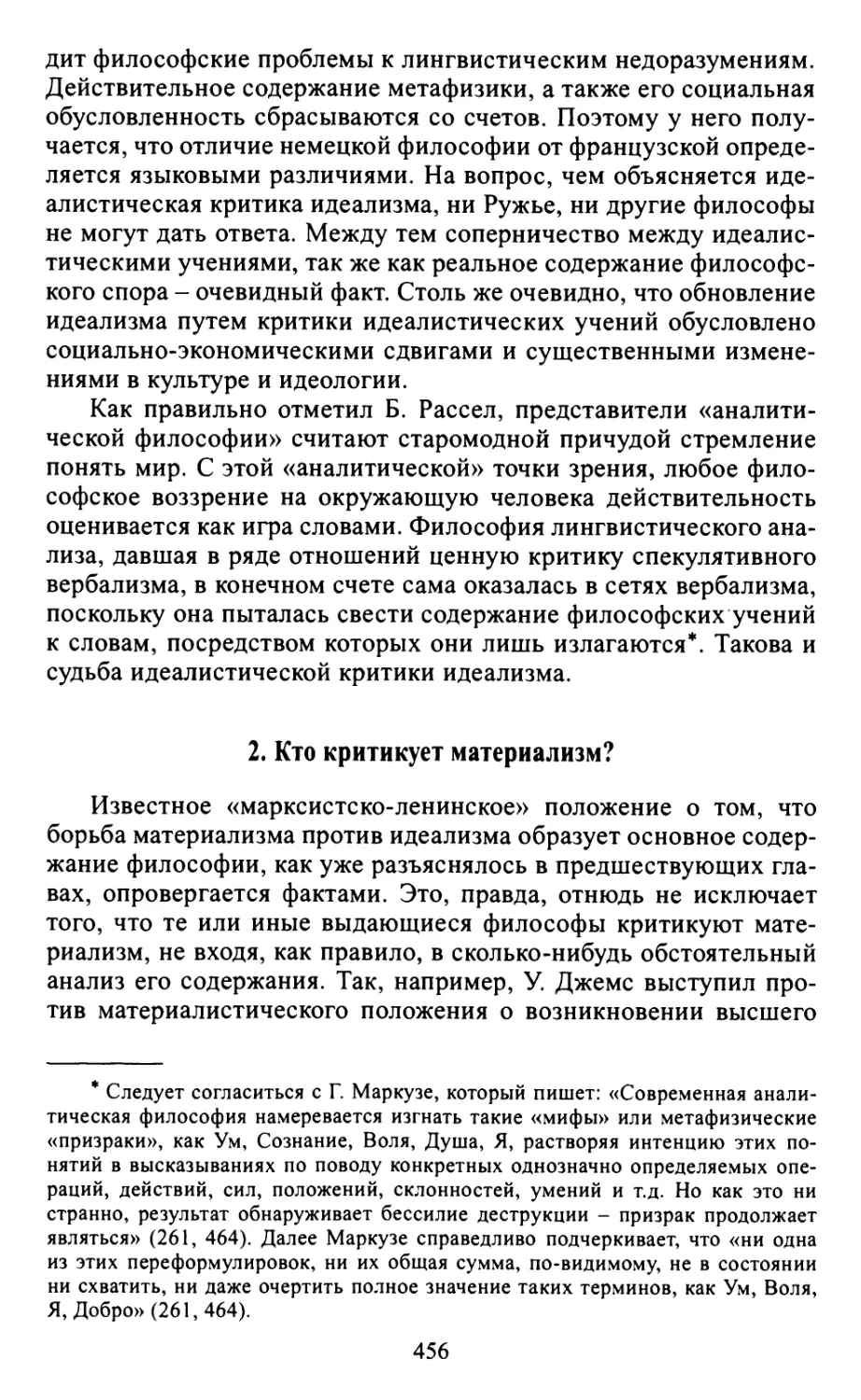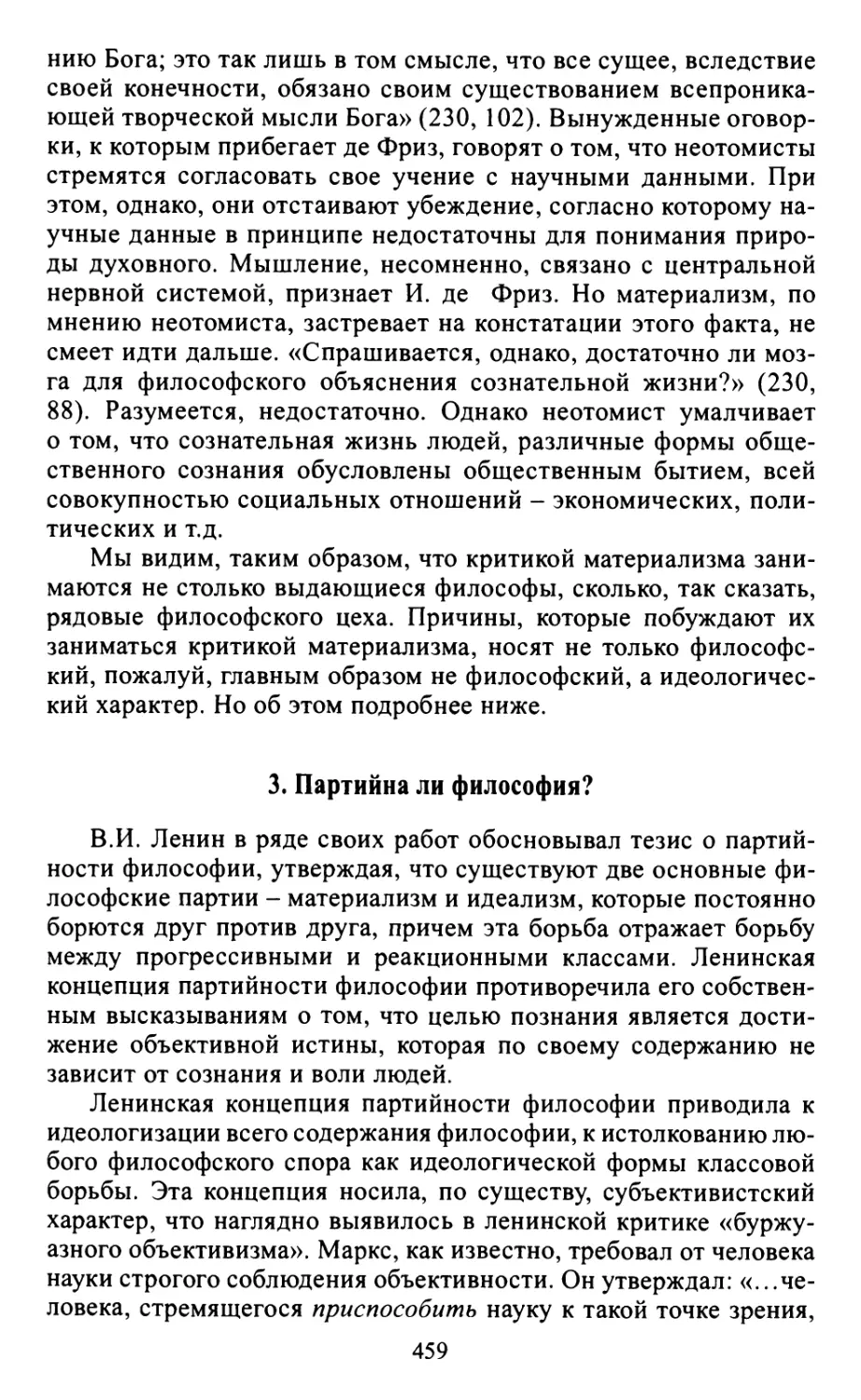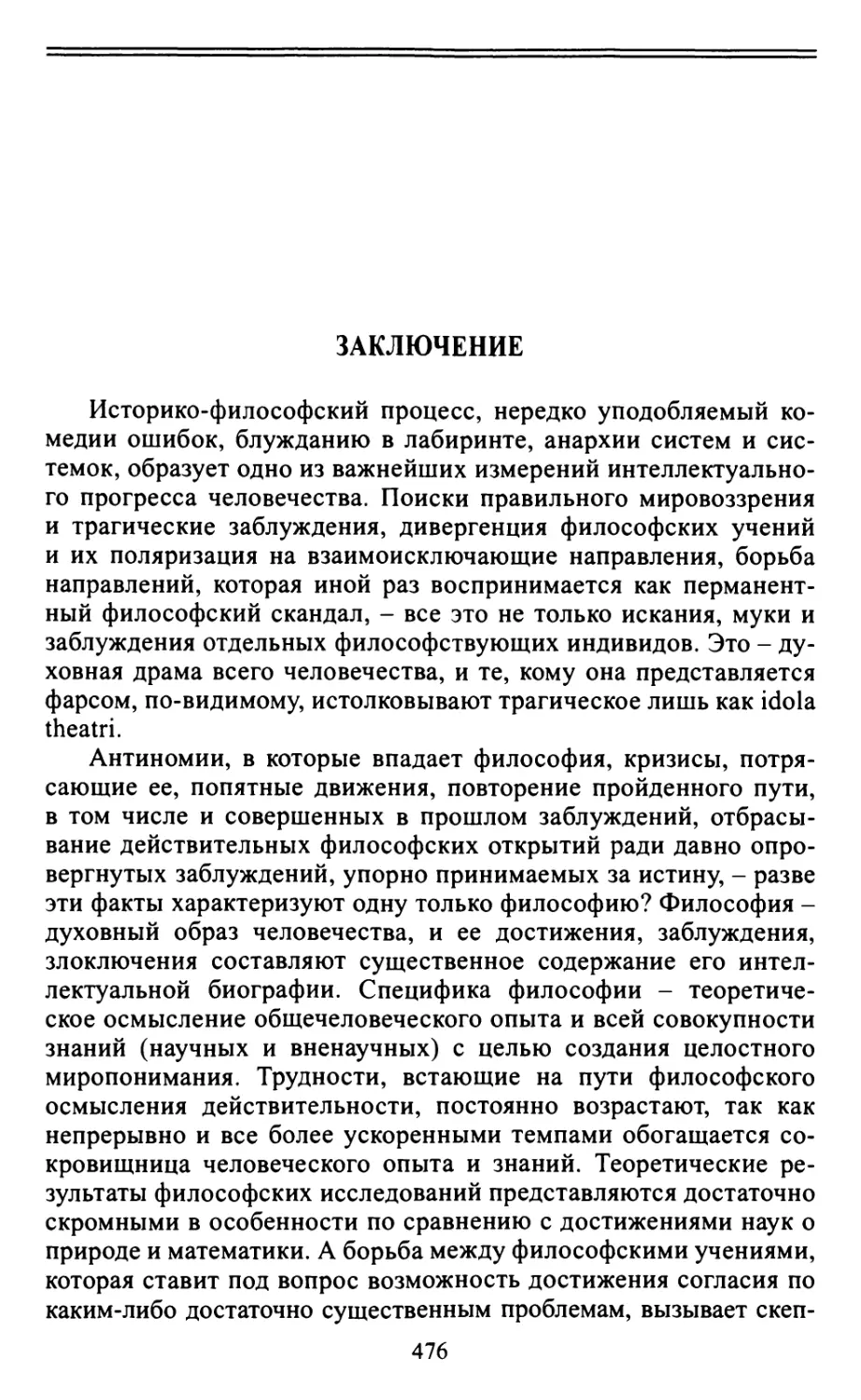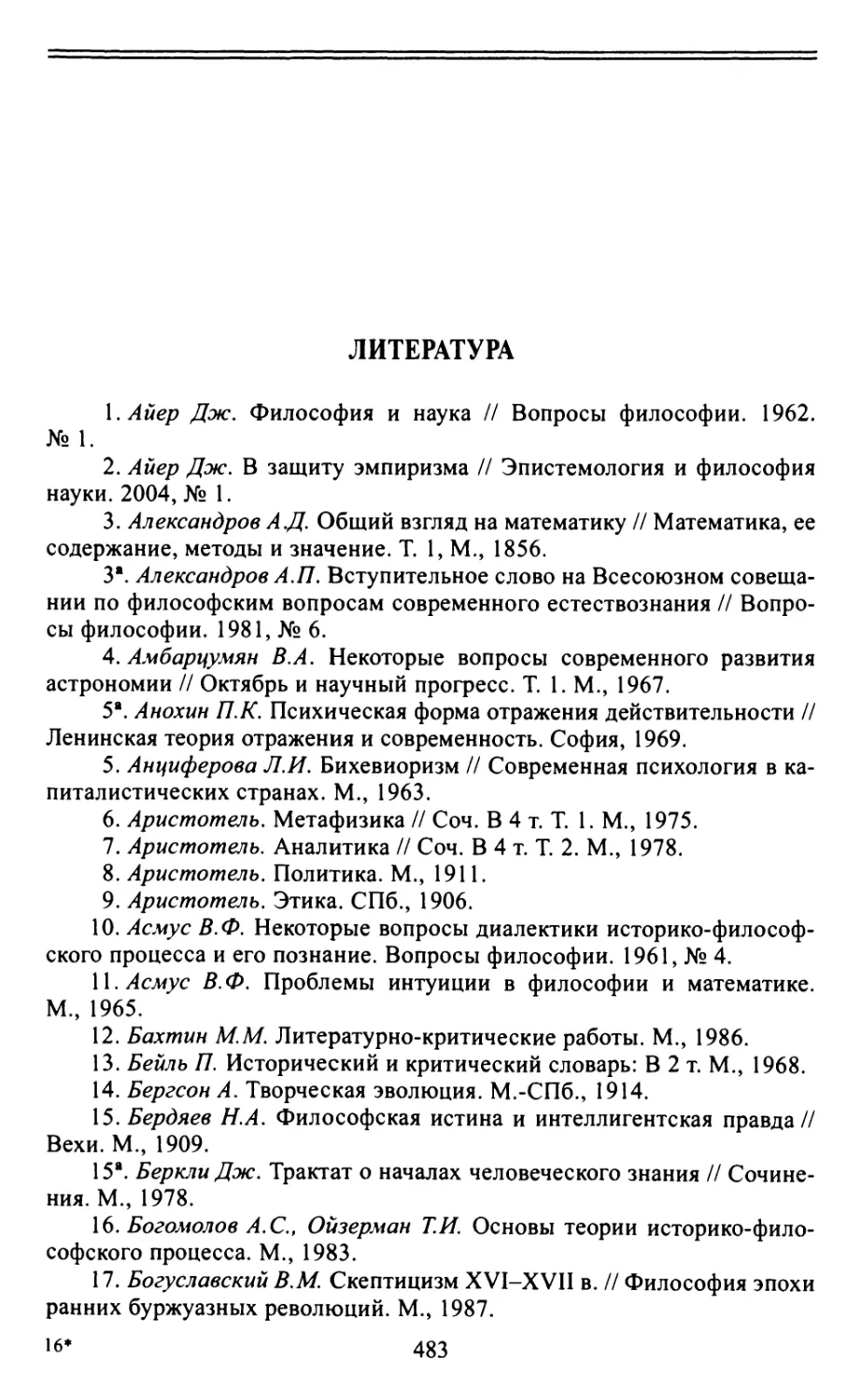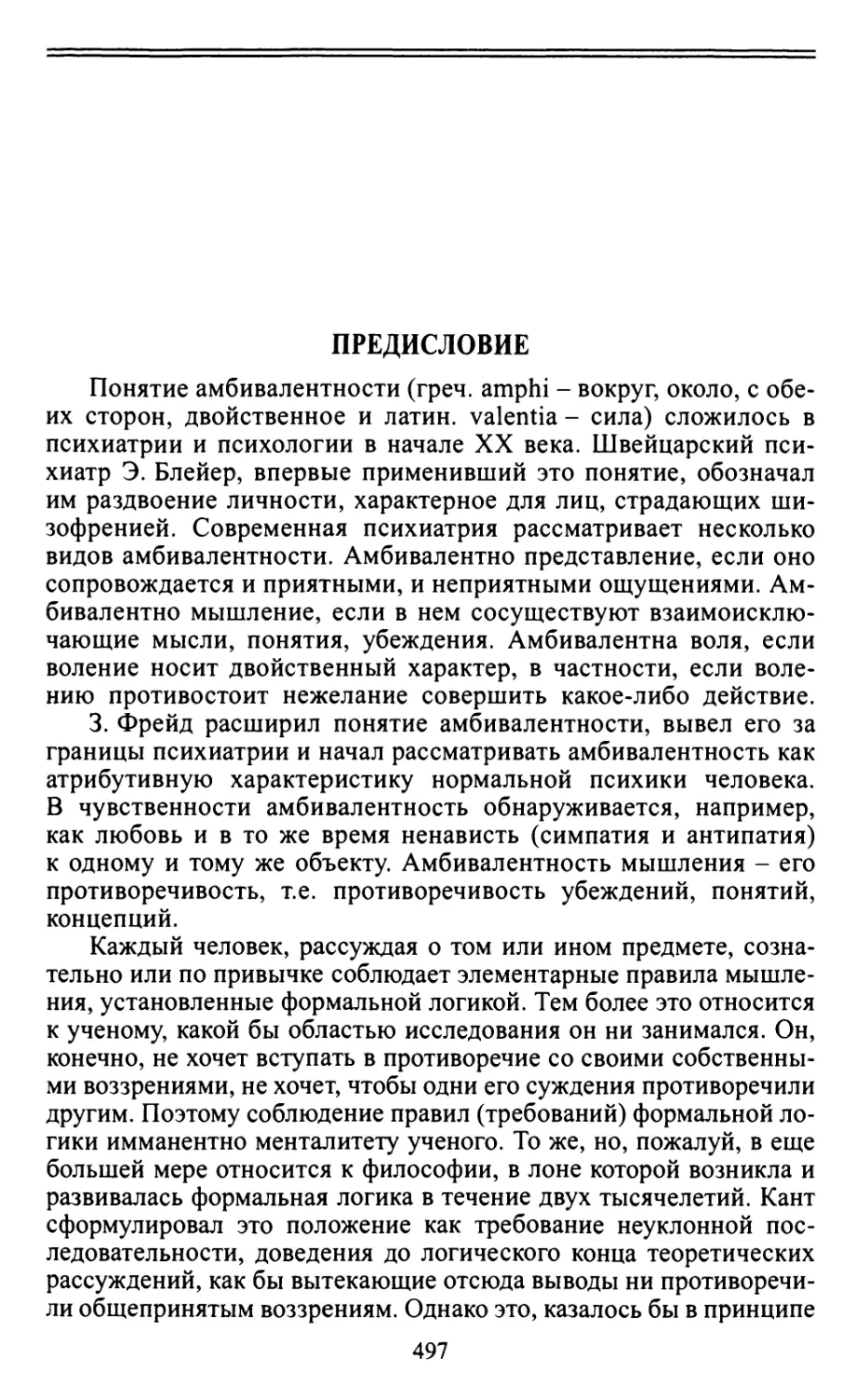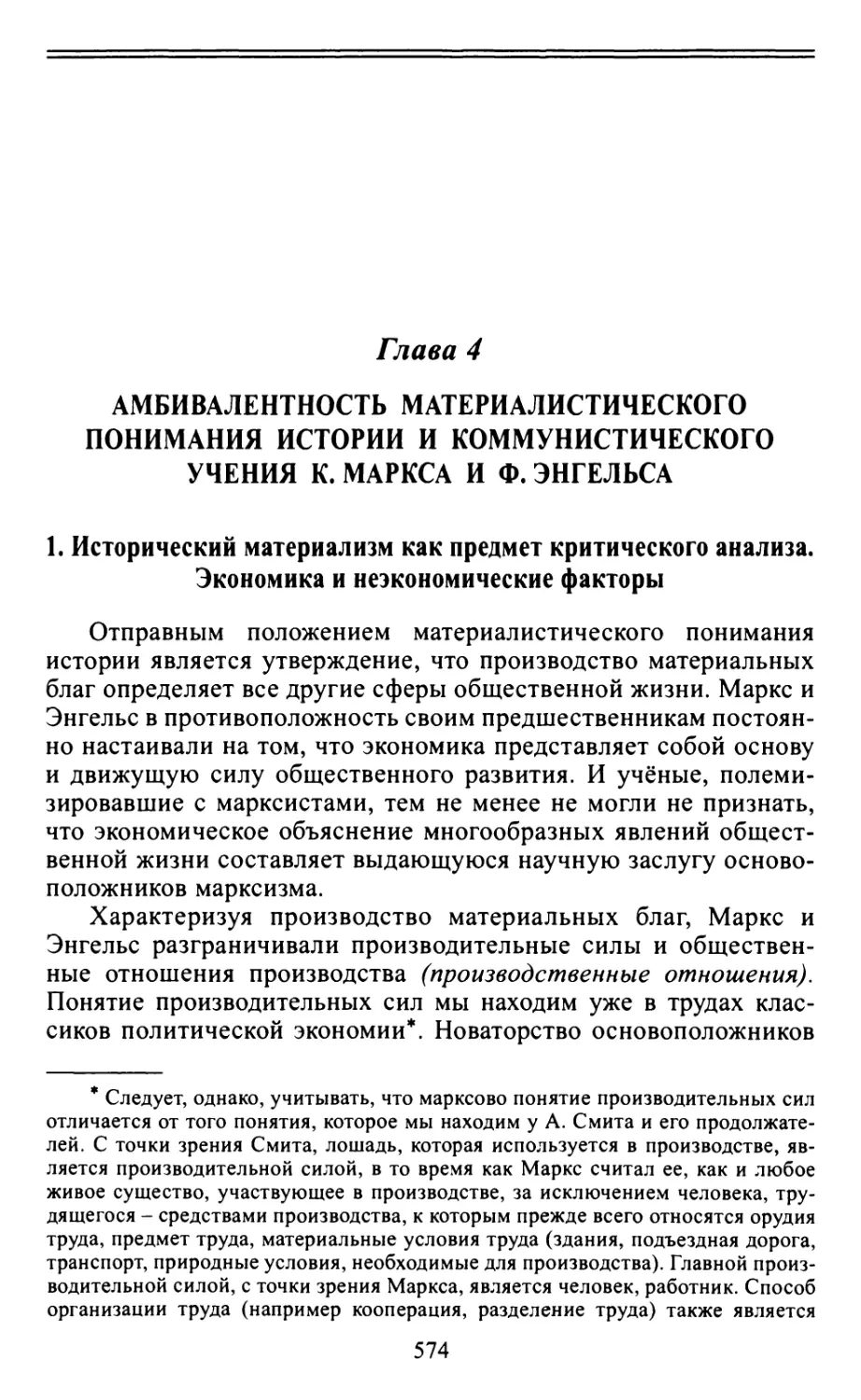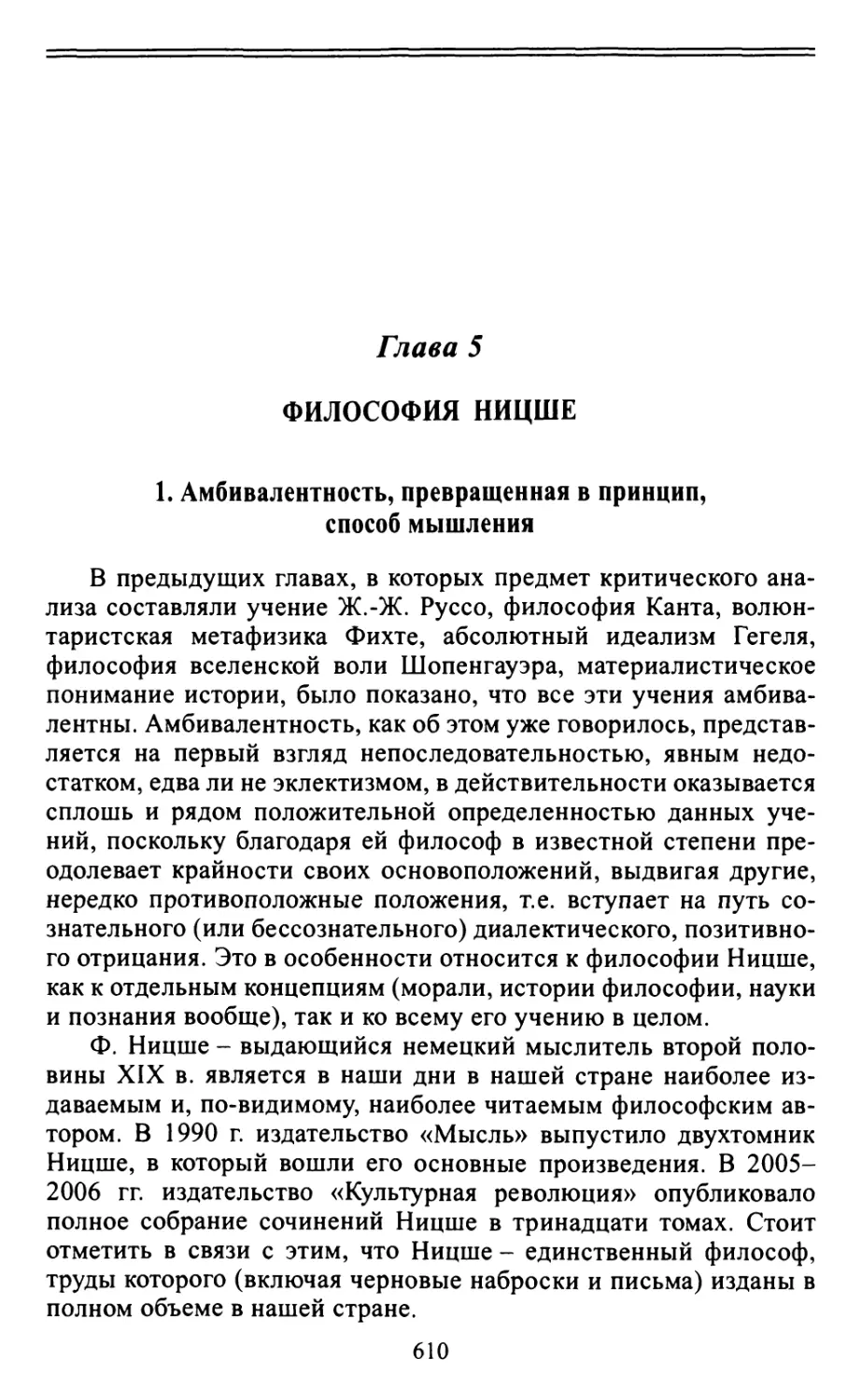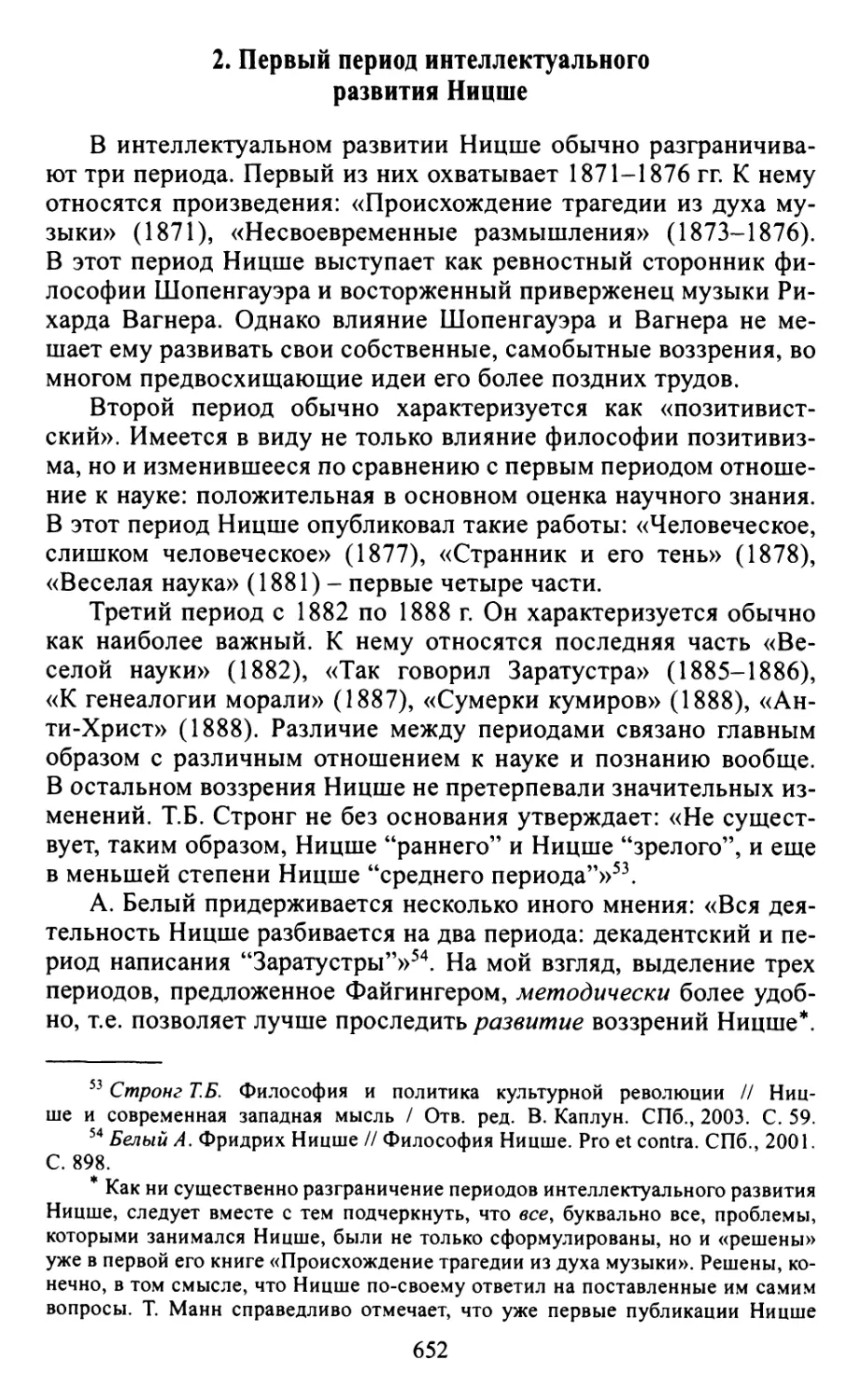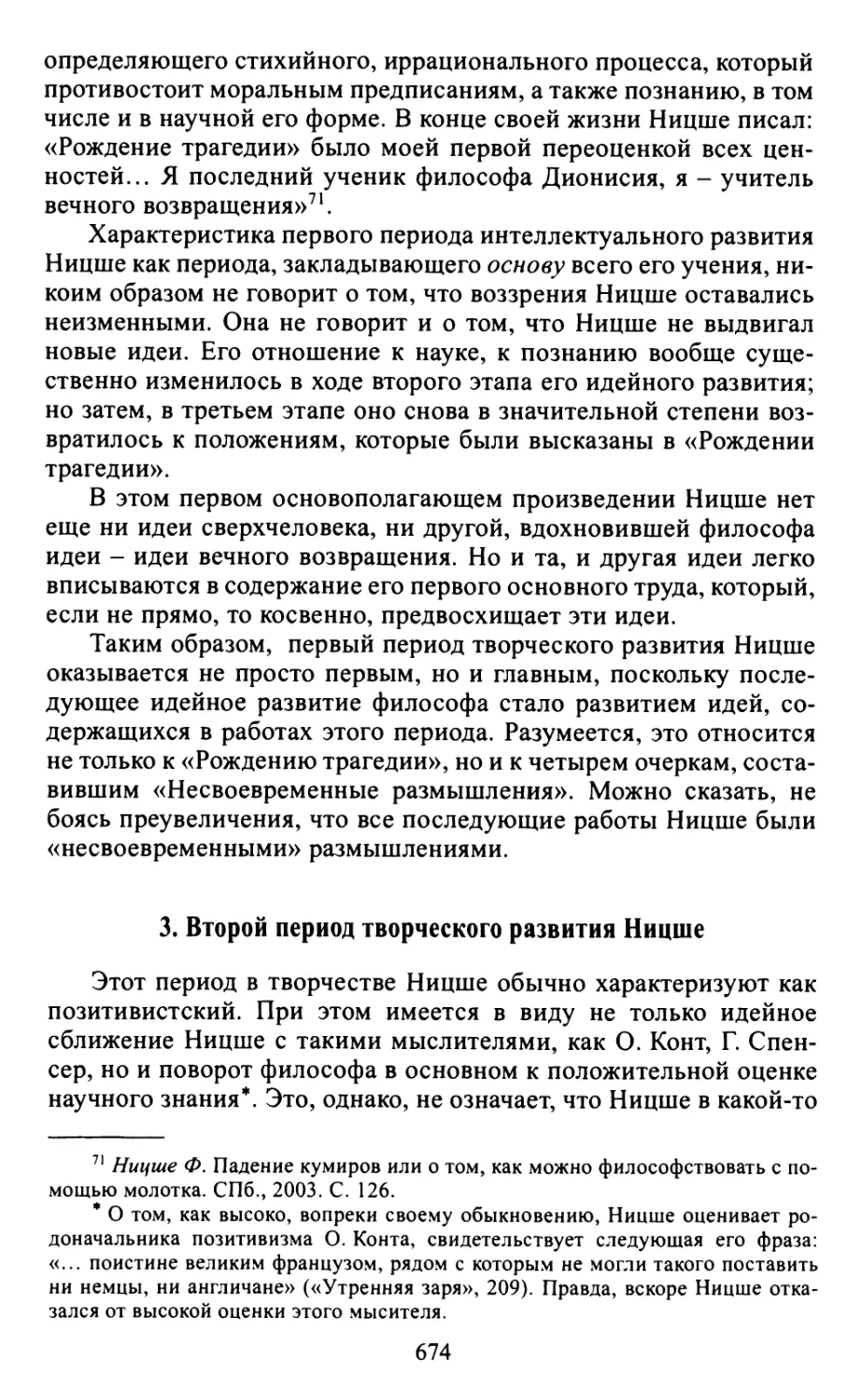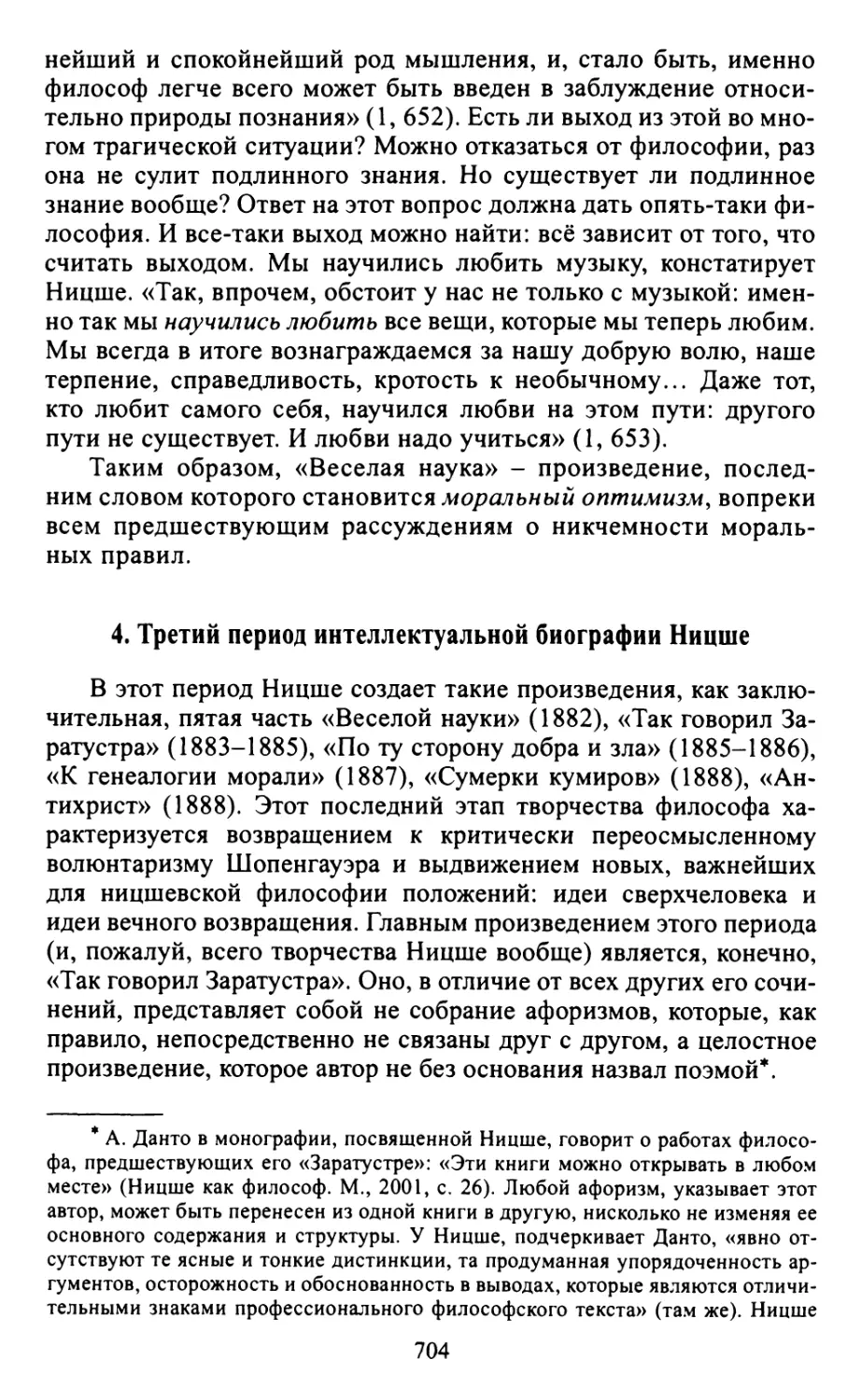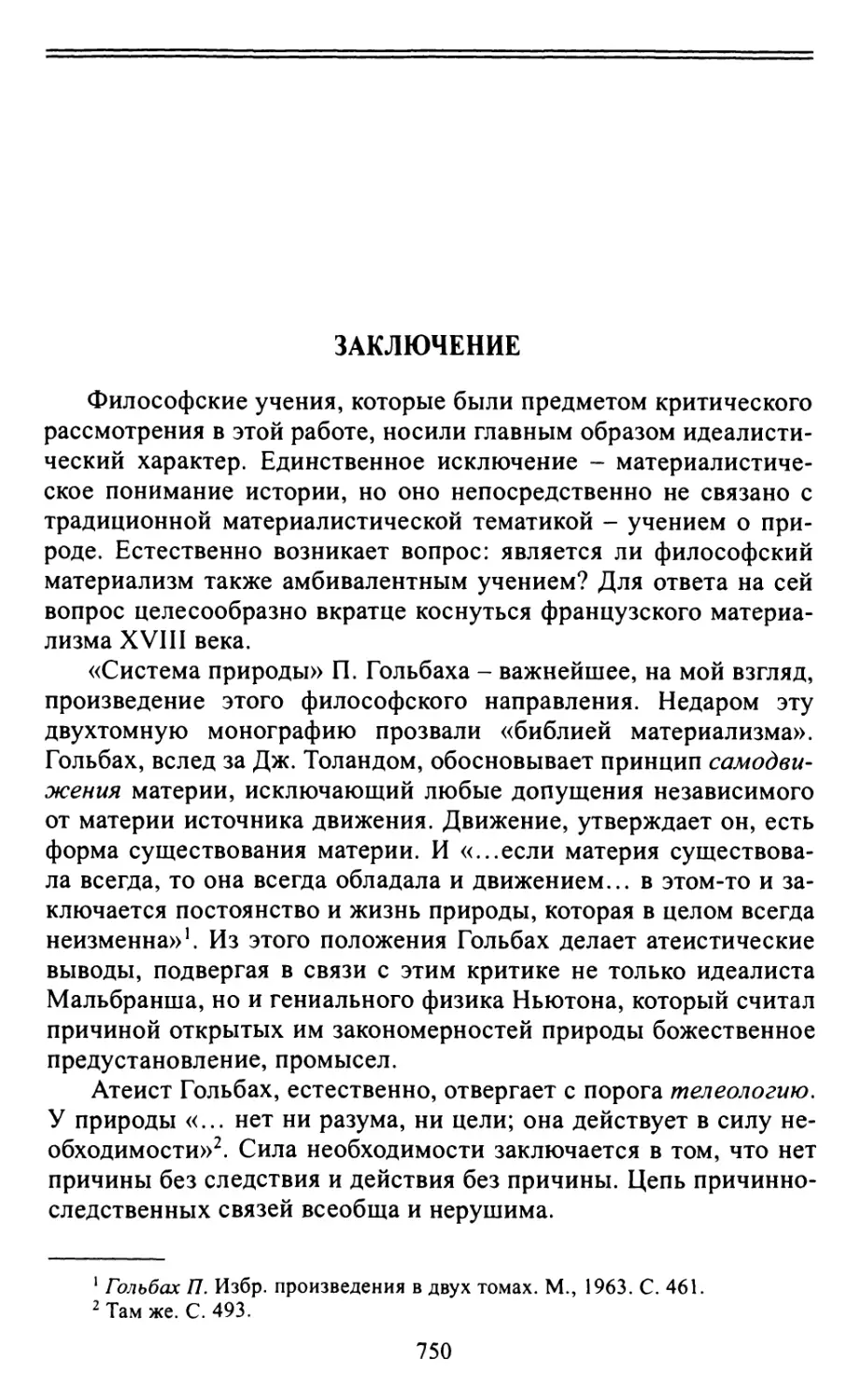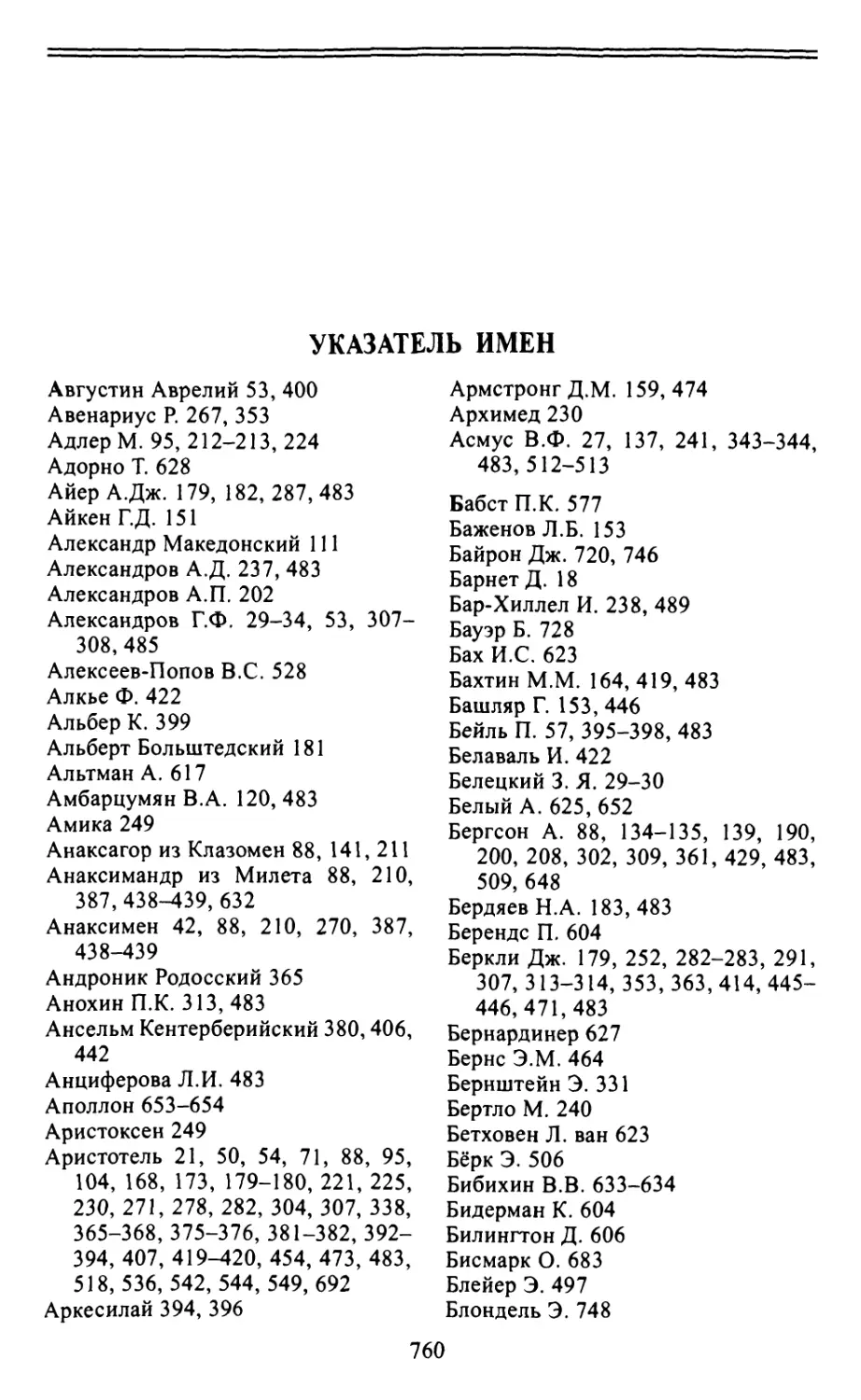Текст
Т. И. ОИЗЕРМАН
Избранные труды
В пяти томах
МОСКВА НАУКА 2014
Т. И. ОИЗЕРМАН
Избранные труды
Том пятый
Метафилософия
*
Амбивалентность
философии
МОСКВА НАУКА 2014
Составитель И.Т. КАСАВИН
Ойзерман Т.И.
Избранные труды : В 5 т. / Т.И. Ойзерман ; [сост. И.Т. Касавин] ;
Ин-т философии РАН. - М. : Наука, 2014 - . ISBN 978-5-02-038498-9.
Т. 5. Mетафилософия : (Теория историко-философского процесса) ;
Амбивалентность философии. - 2014. - 767 с. - ISBN 978-5-02-038503-0
(в пер.).
В настоящий том включены две работы, посвященные теории философии. В них
предпринята попытка ответить на вопросы, что такое философия, в чем ее отличие от
естественнонаучного знания и в чем ее специфика, партийна ли философия и т.д. Ответы
на эти и подобные вопросы давались разными философами и философскими школами и
направлениями, начиная с ранних греческих философов и до наших дней, о чем
достаточно подробно излагается в настоящей работе. Еще одна проблема теории философии -
амбивалентность философии, которая на первый взгляд представляется ее недостатком, на
деле же плодотворна, так как благодаря ей философские положения становятся все более
содержательными.
Для философов, преподавателей, студентов и аспирантов философских факультетов,
всех интересующихся историей философии.
По сети «Академкнига»
ISBN 978-5-02-038498-9 © Ойзерман Т.И., 2014
ISBN 978-5-02-038503-0 (Т. 5) © Касавин И.Т., составление, 2014
© Институт философии РАН, 2014
© Редакционно-издательское
оформление. Издательство «Наука», 2014
ОГЛАВЛЕНИЕ
МЕТАФИЛОСОФИЯ
(теория историко-философского процесса)
Предисловие 13
Введение 16
Глава 1
Возникновение философии в Древней Греции. «Философия»
как неологизм в древнегреческом языке 40
1. Секуляризация «божественной» мудрости 40
2. Обожествление человеческой мудрости 53
3. Новое время - новый идеал философского знания 56
4. Проблема мудрости - действительная проблема 63
Глава 2
О смысле вопроса «что такое философия?» 71
1. Философия как проблема для себя самой 71
2. Самоограничение, самопознание, самоопределение философии 92
3. Первая историческая форма теоретического знания 97
4. Отчужденная форма общественного сознания 101
5. Общественное сознание или наука? 107
6. К критике экзистенциалистской интерпретации вопроса «что
такое философия?» 113
Глава 3
Что отличает философию от так называемых положительных
наук? 119
1. Качественное многообразие форм знания 119
2. Умозрение, логика, факты 121
3. Интуиция, истина, творческое воображение 132
4. Интерпретация как способ философского исследования 139
5. Теоретический синтез многообразного содержания 152
5
Глава 4
Попытка теоретически подытожить обсуждение вопроса «что
такое философия?» 161
1. Своеобразие исторического развития философии все более
затрудняет ответ на поставленный вопрос 161
2. Попытка классифицировать дефиниции философии 172
3. Философия как специфическое мировоззрение 191
Глава 5
Своеобразие философских проблем не следует преувеличивать? 203
1. Вопросы, которые нельзя оставлять без ответа 203
2. Старые и новые, вечные и преходящие проблемы 226
Глава 6
Не исключает ли многообразие философских учений понятия
предмета философии? 235
1. Проблематичность понятия «предмет философии» 235
2. Основные философские темы 247
Глава 7
Основные вопросы философии 269
Глава 8
Философские направления как предмет историко-философского
исследования 352
1. Спор о направлениях или спор направлений? 352
2. Метафизические системы как философское направление 364
3. Радикальное обновление метафизики И. Кантом 380
4. Скептицизм как философское направление 387
Глава 9
Развитие философии как философская проблема 402
1. Проблематичность понятия «развитие» 402
2. Объективная обусловленность развития философии 425
3. Дифференциация, дивергенция, поляризация философских
учений 437
Глава 10
Кто критикует идеализм? Кто критикует материализм? Партийна
ли философия? 448
1. Идеалисты как критики идеализма 448
2. Кто критикует материализм? 456
3. Партийна ли философия? 459
Заключение 476
Литература 483
6
АМБИВАЛЕНТНОСТЬ ФИЛОСОФИИ
Предисловие 497
Глава 1
Плодотворная противоречивость философско-исторических и
общественно-политических воззрений (Социальная философия
Жан-Жака Руссо) 505
Глава 2
Амбивалентность великих философских учений (К характеристике
философских систем Канта и Гегеля) 529
Глава 3
Амбивалентность философской критики (Фихте и Шопенгауэр) 554
Глава 4
Амбивалентность материалистического понимания истории и
коммунистического учения К. Маркса и Ф. Энгельса 574
Глава 5
Философия Ф. Ницше 610
1. Амбивалентность, превращенная в принцип, способ мышления 610
2. Первый период интеллектуального развития Ницше 652
3. Второй период творческого развития Ницше 674
4. Третий период интеллектуальной биографии Ницше 704
Заключение 750
Указатель имен 760
CONTENTS
METAPFILOSOPHY
Preface 13
Introduction 16
Chapter 1
The origin of philosophy. Philosophy as neologism in the ancient greek
language 40
1. The Secularization of «Divine» Wisdom 40
2. The Deification of Human Wisdom 53
3. A New Age and a New Ideal of Philosophical Knowledge 56
4. The Problem of Wisdom as Real Problem 63
Chapter 2
The meaning of the question «What is Philosophy?» 71
1. Philosophy as a Problem for Itself. 71
2. How Philosophy Delimits, Cognizes and Determines Itself 92
3. The First Historical Form of Theoretical Knowledge 97
4. The Alienated Form of Social Consciousness 101
5. Social Consciousness or Science? 107
6. Criticism of the Existentialist Interpretation of the Question «What
is Philosophy?» 113
Chapter 3
What Distinguishes Philosophy from the So-Called Positive
Sciences? 119
1. Qualitative Diversity of Knowledge 119
2. Speculation, Logic, Facts 121
3. Intuition, Truth, Creative Imagination 132
4. Interpretation as a Mode of Philosophical Inquiry 139
5. A Theoretical Synthesis of divers Content 152
8
Chapter 4
Attempt to Sum Up the Discussion a Propos the Question «What is
Philosophy?» 161
1. The Difficulties of Defining Philosophy due to the Peculiar Nature
of its Historical Development 161
2. An Attempt to Classify the Definitions of Philosophy 172
3. Philosophy as a Specific Worldview 191
Chapter 5
The Peculiarity of Philosophical Problems is not to be exaggerated 203
1. Questions That Cannot Be Left Unanswered 203
2. Problems, Old and New, Eternal and Transient 226
Chapter 6
Does Multiplicity of Philosophical Theories Exclude the Subject-
Matter of Philosophy? 235
1. The Subject-Matter of Philosophy as a Problem 235
2. Fundamental Philosophical Themes 247
Chapter 7
Fundamental Questions of Philosophy 269
Chapter 8
Philosophical Trends as an Object of Philosophical Research 352
1. A Dispute about Trends or a Dispute of Trends? 352
2. Metaphysical Systems as Philosophical Trend 364
3. A Radical Renovation of Metaphysic by Kant 380
4. Skepticism as a Philosophical Trend 387
Chapter 9
The Development of Philosophy as a Philosophical Problem 402
1. The Problematic Nature of the Notion of Philosophy 402
2. The Objective Conditionality of Philosophical Development 425
3. The Differentiation, Divergence, Polarization of philosophical
Teachings 437
Chapter 10
Who Critiques Idealism? Who Critiques Materialism? Is Philosophy
Party Spirit? 448
Conclusion 476
Literature 483
9
AMBIVALENCE OF PHILOSOPHY
Preface 497
Chapter I
Fruitfulness Contradictoriness of philosophico-historical and social-
political Teachings 505
Chapter 2
Ambivalence of the great philosophical Teachings (Kant and Hegel) 529
Chapter 3
Ambivalence of the philosophical Critique (Fichte and Schopenhauer) 554
Chapter 4
Ambivalence of the Marxist materialistic Understanding of History
and communist Teaching 574
Chapter 5
Philosophy of F. Nietzsche 610
1. Ambivalence turned into Principle, mode of Thinking 610
2. The first Period of Nietzsche's intellectual Development 652
3. The second Period of Nietzsche's intellectual Development 674
4. The third Period of Nietzsche's intellectual Biography 704
Conclusion 750
Name Index 760
МЕТАФИЛОСОФИЯ
(теория историко-философского
процесса)
ПРЕДИСЛОВИЕ
В течение сорока пяти лет я занимаюсь разработкой теории
историко-философского процесса. Это не только многочисленные
статьи в журналах («Вопросы философии», «Философские
науки» и др.) и всякого рода сборниках, но и монографии
«Проблемы историко-философской науки» (1969), «Главные философские
направления» (1979), «Основы теории историко-философского
процесса» (1983). Последняя работа была выполнена совместно
с A.C. Богомоловым (им написаны III и IV главы, посвященные
истории философии как науки, мною - введение, I, II, V главы и
заключение, предмет которых - теория историко-философского
процесса). Основным пороком названных публикаций является
марксистское, догматическое представление о том, что
диалектический материализм - научная, завершающая многовековой
историко-философский процесс философия, а все возникшие после
него философские учения - продукт общего кризиса
капиталистического строя, попятное движение по сравнению с
предшествовавшими марксизму классическими системами философии.
Таким образом, диалектический материализм трактовался
мною, как и другими марксистами, как самодостаточная
философская система, развитие которой совершается на своем
собственном теоретическом фундаменте без какого бы то ни было
критического освоения философских учений, возникших после него.
Эта позиция идеологического изоляционизма, пожалуй, в
наибольшей степени выражала не только мое догматическое восприятие
марксизма, но и внутренне присущий марксизму догматизм*.
* Даже такой, несомненно творческий, самобытный марксист, как А. Грамши,
догматически характеризовал диалектический материализм, который он называл
философией практики: «Тот, кто полагает, что философия практики не является
совершенно автономным и независимым комплексом идей, находящимся в
антагонистическом отношении ко всем традиционным философским системам и
религиям, по сути дела не порвал до конца связей со старым миром, если не
совершил прямой капитуляции. Философия практики не нуждается в чужеродных
13
Одним из основных проявлений моего (и марксистского
вообще) догматического понимания историко-философского
процесса было непоколебимое убеждение в том, что существование
неопределенного множества взаимоисключающих философских
учений, их перманентная конфронтация является исторически
преходящим процессом. Эту иллюзию разделяли, впрочем, и все
философские предшественники марксизма. Каждый из них
полагал, что созданная им система философии является не только
высшей, но и последней философией, разрешившей проблемы,
над которыми бились все предшественники. Ни одному из этих
великих философов не приходило в голову, что разнообразие
философских учений, многообразие их проблематики является
убедительным выражением постоянно умножающегося идейного
богатства философии, что ее многоликость - ее modus vivendi,
громадное значение которого невозможно переоценить. Правда,
Гегель сделал плодотворную попытку покончить с этой, как
некоторые выражались, анархией философских систем. Представить
взаимоисключающие философемы как логические (и
исторические) ступени развития философии. Но он глубоко заблуждался,
пытаясь доказать, что во все времена философия оставалась одной
и той же, а различия между философскими системами
представляют собой внутренне присущие развивающемуся философскому
самосознанию саморазличения, т.е. являются различиями внутри
ее фундаментального тождества. И подобно своим
предшественникам Гегель, фатально заблуждаясь, полагал, что созданная им
энциклопедическая система философии завершает многовековое
философское развитие. Вслед за Гегелем это заблуждение
разделяли и основоположники марксизма, имея, конечно, в виду не
систему Гегеля, а свою набросанную ими лишь в общих чертах и
подпорках, она сама сильна и богата новыми истинами, старый мир
обращается к ней, чтобы пополнить свой арсенал более современным и эффективным
оружием. Это означает, что философия практики выступает в роли гегемона по
отношению к традиционной культуре, однако последняя еще сохраняя силу, а
главное, будучи более утонченной и вылощенной, пытается реагировать так
же, как побежденная Греция, намереваясь в конце концов победить
неотесанного римского победителя» (60, 293). Несколько выше Грамши выражает свою
изоляционистскую философскую позицию еще резче: философия практики «не
нуждается в дополнениях извне», она «содержит в себе основные элементы для
того, чтобы не только построить целостное и полное мировоззрение, целостную
философию и теорию естественных наук, но и сделаться животворным началом
всесторонней организации общества, то есть стать цельной и всеобъемлющей
цивилизацией» (там же, с. 292). Эти догматические высказывания тем более
удивительны, что Грамши в ряде вопросов фактически разделял философские
воззрения близкого к неогегельянству Б. Кроче.
14
страдающую всякого рода противоречиями, пробелами,
заблуждениями диалектико-материалистическую философию.
Это новое, принципиально новое понимание многообразия
философских учений я изложил в монографии «Философия как
история философии» (1999 г.). Однако в настоящее время, ни на
шаг не отступая от положений, сформулированных в этой
книге, я хорошо сознаю, что они нуждаются в более обстоятельном
теоретическом обосновании. Это и составляет основную задачу
настоящей монографии.
Прежде чем приступить к работе над этой монографией, я, не
торопясь и, конечно, весьма критически, перечитал мои прежние
исследования историко-философского процесса, в первую
очередь «Проблемы историко-философской науки», «Главные
философские направления» и «Основы теории
историко-философского процесса». Догматические марксистские установки и выводы,
как стало мне ясно, являются не более чем установками и
выводами, в то время как фактическое содержание этих работ составляет
конкретное историко-философское исследование, хотя далеко не
всегда свободное от этих догм, но, в основном, являющееся
вполне пригодным для дальнейшего развития материалом, разумеется,
нуждающимся в весьма существенной доработке.
Монография «Проблемы историко-философской науки» была
переведена на семь иностранных языков (английский, арабский,
венгерский, греческий, немецкий, португальский, французский).
Я указываю на этот факт с тем, чтобы показать, что ее важнейшее
содержание составляют отнюдь не догматические марксистские
установки и выводы, вследствие чего она и вызвала интерес
зарубежной философской общественности. Две другие монографии,
названные выше, тоже были переведены на иностранные языки.
Все это убедило меня в том, что их конкретное содержание можно
и должно рассматривать как материал для использования в этой
новой монографии, которая, надеюсь, станет итогом всех
предшествующих моих исследований основных черт
историко-философского процесса.
Заключая это предисловие, я хочу выразить мою искреннюю
благодарность младшему научному сотруднику Института
философии РАН Инге Алексеевне Лаврентьевой, которая не только
отпечатала рукопись этой книги на компьютере, но и помогла мне
своими замечаниями.
ВВЕДЕНИЕ
Как относится философия к своему историческому
прошлому, т.е. к предшествующему развитию философии? Как относится
философия к истории философии, т.е. к исследованию своего
исторического прошлого? Каково отношение между исследованием
историко-философского процесса и философией, т.е.
многообразными философскими учениями? Что отличает
историко-философское исследование от истории науки как научной дисциплины?
Какова роль историко-философской науки в развитии
философского знания? Решение этих вопросов предполагает
теоретическое исследование, которое, по моему мнению, имеет ключевое
значение для понимания природы философии и закономерностей
историко-философского процесса, т.е. развития философского
знания.
Недооценка истории философии как науки - столь же
распространенное явление, как и недооценка исследований в области
истории науки. Значительная часть ученых полагает, что история
науки не представляет особого интереса прежде всего потому, что
все истины, которые были открыты в прошлом, все достижения
исследовательской техники (если они не устарели) входят в
состав современной науки. Отсюда делается вывод, что прошлое
науки, если оно не воспринято современной наукой, состоит из
заблуждений, не представляющих интереса для нашего времени,
так как заблуждения современных ученых так же отличаются от
заблуждений их предшественников, как современная наука - от
своего исторического прошлого, превзойденного последующим
развитием научного знания. Несмотря на то что крупнейшие
естествоиспытатели XX века занимались основательными
исследованиями в области истории науки, недооценка таких
исследований все еще остается признаком хорошего тона. Стоит ли изучать
заблуждения прошлого, которые едва ли когда-либо повторятся?
Интересный ответ на этот отнюдь не риторический вопрос дал
Дж.К. Максвелл, который писал, что «история науки не ограни-
16
чивается перечислением успешных исследований. Она должна
сказать нам о безуспешных исследованиях и объяснить, почему
некоторые из самых способных людей не смогли найти ключа
знания и как репутация других дала лишь большую опору
ошибкам, в которые они впали» (117, 39).
Противопоставление научного исследования историко-науч-
ному, так же как и противопоставление философского
исследования историко-философскому, в немалой степени связано с
убеждением, что история науки (а также история философии) говорит
об уже известных вещах и, следовательно, не приводит к
открытию неизвестного. Такое убеждение имеет оправдание лишь
постольку, поскольку история науки (или история философии)
носит эмпирически-описательный характер. Я же имею в виду
теоретическое исследование исторического процесса развития
научных (и философских) знаний: как и всякое исследование, оно
приводит к результатам, которые ранее не могли быть известны.
Историко-философский процесс существенно отличается от
развития науки, что объясняется отличием философии от любой
специальной области научного исследования. В философии
постоянно существует множество принципиально несовместимых
теорий; развитие философии характеризуется прогрессирующей
дивергенцией философских учений, их поляризацией, которая
приобретает радикальный характер вследствие необходимой и
неизбежной конфронтации противоположных, как правило,
исключающих друг друга философских учений. Именно поэтому
история философии как наука занимает особо важное место в
философском исследовании (и образовании), чего не скажешь об
истории той или иной отдельной науки, сколь ни велико ее значение
для научного познания и образования.
Науки нашего времени занимаются главным образом
предметами, само существование которых было неизвестно
прошлому. Ныне имеется множество научных дисциплин (в том числе
и в области фундаментальных исследований), которых вообще
не было в прошлом; их не могло быть даже полвека тому назад.
Между тем проблемы, которыми занимается философия
современной эпохи, в известной мере и в определенном смысле были
также проблемами предшествующей философии. Это значит, что
многие из основных философских проблем возникают уже на
заре цивилизации. К этому вопросу я еще вернусь далее. Здесь
же достаточно подчеркнуть, что значительная часть
фундаментальных вопросов философии возникает вместе с самой
философией, и это специфическим образом характеризует философское
знание. Следовательно, историк философии, обращаясь к прош-
17
лому, рассматривает проблемы, в известной мере сохранившие свое
значение и для последующей истории человечества. Разумеется,
современная постановка этих проблем, так же как и их решение,
существенно отличается от предшествующих. Это отличие и
выявляется историко-философским исследованием, которое
вскрывает тем самым диалектически-противоречивое единство
философского знания - существенный интеллектуальный аспект не
менее противоречивого единства истории человечества.
Я говорю об истории философии как единстве
исторического и теоретического исследования. Необходимо, однако,
конкретизировать эту постановку вопроса, поскольку многие историки
философии пессимистически оценивают возможности и
перспективы своих исследований. Сошлюсь на видного исследователя
древнегреческой философии Д. Барнета. «Никто, - пишет он, -
никогда не преуспеет в исследовании истории философии, так
как философские учения, подобно произведениям искусства, -
вещи сугубо индивидуальные. Фактически таковым было
убеждение Платона в том, что вообще ни одна философская истина не
может быть сообщена в письменной форме; только путем особого
рода непосредственного контакта одна душа зажигает пламя
(истины. - Т.О.) в другой» (209, 1). Что же в таком случае остается
делать историку философии? Он должен, по мнению Барнета,
рассказать об эпохе, условиях, в которых творил философ, об
обстоятельствах его личной жизни, о тех философах, с которыми он
общался, об учениях, оказавших на него влияние, о теориях,
против которых он выступал, о том, как создавались произведения
философа, как воспринимались они современниками и т.д.
Историко-философское исследование, полагает Барнет, призвано
выполнять лишь вспомогательные функции. Соответственно этому
оно должно быть сугубо эмпирическим, по возможности
исключающим любые теоретические воззрения исследователя. Однако
Барнет, вероятно, не сознавая этого, выражает вполне
определенное теоретическое понимание философии. Иначе, впрочем, и
быть не может. Невозможно эмпирически, просто «исторически»
изучать, излагать историю философии, не руководствуясь
определенной, достаточно широкой, подвижной шкалой ценностей,
почерпнутых из самой истории философии, истории познания и
исторического развития человечества вообще. Даже применение
понятия развития к истории философии предполагает
определенные теоретические посылки, в частности признание того, что в
философии имеют место необратимые изменения,
преобразования, прогресс. По моему убеждению, которое я надеюсь
обосновать в этой работе, теоретическое осмысление историко-фило-
18
софского процесса необходимо для любого исследования в этой
области, как бы ни были ограничены его задачи.
Историко-философские исследования весьма разнообразны
по своим «жанрам». Существуют работы, посвященные
развитию философской мысли отдельных народов, есть исследования
развития философии во всемирно-историческом масштабе, в
которых философская мысль отдельных народов выступает как
один из этапов развития философии. Особой формой историко-
философского исследования являются труды, посвященные
истории гносеологии, онтологии, диалектики, натурфилософии,
этики, отдельным философским направлениям, течениям, школам,
философам и т.д. Перед каждым из этих типов
историко-философского исследования стоят специфические задачи, но все они
в равной мере предполагают решение теоретических проблем.
Так, проблема противоречия в истории философии как тема
специального исследования, по моему мнению, не может быть
удовлетворительно решена, если у исследователя отсутствуют
необходимые научные представления о качественном своеобразии
философских проблем. Больше того, чтобы проследить развитие
понятия противоречия в истории философии, необходимо иметь
более или менее отчетливое представление о специфических
особенностях философской формы познания действительности, об
идеологической функции философии, о гносеологических и
классовых корнях различных философских подходов к решению этой
проблемы.
Предмет историко-философского исследования - философия,
проблемы историко-философской науки - философские
проблемы. Эти положения являются вполне очевидными, но вопреки
Цицерону, утверждавшему, что доказательство лишь умаляет
очевидность, я полагаю, что они все же требуют доказательства,
теоретического обоснования, чему и посвящена в значительной
своей части настоящая монография. Здесь же, в рамках введения,
я ограничусь лишь указанием на то, что, конечно, не всякое
историко-философское исследование является философским.
Философское исследование историко-философского процесса
предполагает его теоретическую интерпретацию, что, впрочем, уже
ясно из предшествующего изложения.
Нет такого философского вопроса, которым не занималась бы
историко-философская наука, хотя ни одно философское учение
не охватывает всех философских вопросов. Кроме того,
историко-философская наука имеет дело и с такими проблемами,
которые не входят в предмет философии. Это исторические проблемы
философского знания: его возникновение, развитие, социальная
19
обусловленность, гносеологические корни и т.п. И тем не
менее историко-философская наука, по моему убеждению, не есть
«стыковая» научная дисциплина: ее источник не «скрещивание»
истории и философии, двух относительно независимых друг от
друга областей знания, а объективно обусловленный
исторический процесс развития философского знания, его критическое
осмысление и, пожалуй, самосознание.
Проблемы истории философии возникают не потому, что они
выходят за пределы компетенции и философии и истории. Как и
все философские проблемы, они формируются на основе
повседневного и исторического опыта всего человечества, особенно в
процессе познания - научного и философского. Историк
философии, несомненно, должен быть историком в полном смысле этого
слова. Но как ни велико значение скрупулезного, отвечающего
всем строгим требованиям исторической науки исследования
социальных условий, породивших определенное философское
учение, главная задача историка философии заключается в том,
чтобы это учение понять, критически осмыслить, выявить его связь
с другими философскими учениями, обусловленную
общественно-историческим процессом. С этой точки зрения
историко-философская наука является специфическим способом философского
исследования, философией философии, или метафилософией. Ее
задача состоит, в частности, в том, чтобы открывать в
философских учениях заключенные в них имплицитным образом
выдающиеся идеи, гениальные прозрения, предвосхищения будущего
знания, которые, однако, не были высказаны эксплицитно самими
создателями философских систем.
Историко-философское исследование, поскольку оно
является теоретическим обобщением определенного исторического
процесса познания, призвано служить развитию теории
познания. Все это убедительно говорит о том, что действительным
теоретическим основанием историко-философской науки может
быть лишь научная теория историко-философского процесса. Эта
теория, как и каждое философское учение вообще,
предполагает определенную позицию, которую, условно говоря, можно
назвать партийной, но, конечно, не в политическом смысле слова.
Существуют, следовательно, различные теории
историко-философского процесса - эмпирические, рационалистические, ирра-
ционалистические, материалистические, идеалистические,
позитивистские и т.д.
Попытка найти «абсолютную», т.е. независимую от
определенных философских убеждений, систему отсчета столь же
несостоятельна в истории философии, как и в физике: нетрудно уви-
20
деть в ней межеумочную претензию на «беспартийность», которая
так же невозможна, как невозможно отсутствие собственной
точки зрения у подлинного мыслителя. Адепты «беспартийности» по
существу исключают из рассмотрения тот очевиднейший факт,
что историки философии по-разному оценивают одни и те же
учения не потому, что они недостаточно основательно изучают
источники и все связанные с ними факты, отклоняются в сторону
от требований, предъявляемых к научному исследованию
историографией, источниковедением. Суть дела гораздо глубже.
Всякое изложение не есть дословное повторение
написанного тем или иным философом, а есть по меньшей мере пересказ
написанного собственными словами. Но кто из серьезных
исследователей исторического процесса развития философии может
ограничиться только пересказом, который очень далек от
понимания? Понимание и интерпретация неотделимы друг от друга,
поэтому исследователь истории философии может стремиться
лишь к научно-объективному познанию изучаемого предмета, что
совершенно несовместимо с отказом от определенной
теоретической позиции. Вот почему требование оставаться невозмутимо
бесстрастным в истории философии означает лишь предложение
не соглашаться с самим собой, со своей теоретической совестью.
Наука невозможна без критериев научности, а в философии и
истории философии по этому вопросу, как известно, нет
единодушия. Историко-философская наука и призвана разрабатывать
критерии оценки философских учений исходя из критического
обобщения всемирного историко-философского процесса.
Разумеется, эти критерии (и связанные с ними способы
исследования) могут оказаться совершенно неудовлетворительными,
если историк философии занимает сектантскую философскую
позицию и полагает, например, что один лишь Фома Аквинский
создал систему абсолютных философских истин, в то время как его
великие предшественники (исключая разве что «язычника»
Аристотеля, которого комментировал «ангельский доктор») блуждали
в потемках, а философы более позднего времени просто сошли с
единственно верного пути, проложенного для них
«сверхъестественным философом», «святым разума» и т.д. и т.п.
Диалектический материализм и материалистическое
понимание истории, освобожденные от догматической зашореннос-
ти и сектантского отношения к философским учениям,
появившимся на исторической арене после его возникновения, могут
стать, на мой взгляд, адекватной теоретической основой
исследования историко-философского процесса, во-первых, потому, что
они высоко оценивают предшествующие философские учения и,
21
следовательно, свободны от идеологического изоляционизма и
фракционности, и, во-вторых, эти философские теории
марксизма теоретически подытоживают развитие философии, т.е.
трактуют свои основные положения как выводы, почерпнутые из этого
исторического процесса. Иное дело, что освобождение
диалектического материализма и материалистического понимания
истории от догматической зашоренности еще далеко не завершено, не
говоря уже о том, что эти учения были совершенно недостаточно
разработаны основоположниками марксизма и во многом носят
фрагментарный, эскизный характер.
Важно, однако, указать, что Маркс и Энгельс критиковали не
только вульгарный, но и метафизический, механистический
материализм, а также антропологический материализм Фейербаха, что
они высоко оценивали гениальные идеи, содержащиеся в
идеалистических учениях Платона, Аристотеля, Лейбница, Руссо, Гегеля.
Они принципиально отвергали идею раз навсегда законченной
философской системы (абсолютной науки, по выражению Маркса).
Они осознавали, осмысливали свои нерешенные задачи и,
подвергая критике своих идейных противников, признавали, что их
философская теория ограничена рамками достигнутого знания, не
только философского, но и общенаучного. Таким образом,
значение диалектического и исторического материализма для научной
истории философии заключается вовсе не в том, что он предлагает
истории философии готовые решения и оценки, а в том, что
исследование развития философии направляется на верный путь.
Таковы некоторые весьма важные, по моему убеждению,
выводы, которые имеют мировоззренческое значение для историко-
философской науки. Эта наука, поскольку она применяет,
употребляя выражение Энгельса, «логический метод», сама является
философской теорией. Она исследует специфику философии как
формы познания, основные типы философских систем,
структуру, проблематику, развитие философии, ее отношение к другим
формам общественного сознания и методам познания, природу
философского спора, изменение предмета философии,
становление научно-философского знания, отвечая тем самым на вопрос о
природе философского знания.
Существует довольно распространенное убеждение, что
интерес к специфике философии, философское исследование
философского знания, является чем-то вроде надуманной
исследовательской задачи. Философ-де должен заниматься проблемами,
которые призвана решать философия, подобно тому как
естествоиспытатель занимается изучением природы, а не исследованием
того, что представляет собой естествознание. Эту точку зрения
22
наиболее четко выразил лидер «критического рационализма»
K.P. Поппер, который писал, что «функция ученого или философа
должна состоять в решении научных и философских проблем, а
не в разговоре о том, что он или другие ученые делают или могут
делать. Даже безуспешная попытка решить научную или
философскую проблему, если эта попытка является добросовестной,
представляется мне более важной, чем любая дискуссия по
вопросу "что такое наука?" или "что такое философия?"» (281, 124).
Поппер не ставит вопроса, когда и почему ученые, философы
начинают обсуждать вопрос о предмете, специфике, основаниях
научного или философского знания. Он не считает нужным
обращаться к истории наук, которая дает достаточно много материала
для ответа на этот вопрос. Известно, например, что
возникновение теории множеств было связано с исследованием оснований
математического знания. Понятие «физическая реальность»,
непосредственно связанное с исследованием сущности
физического знания, возникло в ходе осмысления той революции в физике,
которая началась в конце XIX - первой половине XX в. Теория
относительности и квантовая механика, которые по-новому
решают коренные проблемы физики, несомненно, также представляют
собой переосмысление, углубление, развитие методологических
оснований и самого понятия этой науки.
Не касаясь причин, которые вынуждали многих выдающихся
ученых заниматься исследованием оснований своей науки,
Поппер заявляет, что подобные исследования предполагают «наивную
веру в то, что имеется такого рода сущность, как "философия"
или, возможно, "философская деятельность", и что она обладает
определенным характером, или "природой". Вера в то, что
существуют такие вещи, как физика, или биология, или археология, и
что эти "науки" (studies) или "дисциплины" могут быть
разграничены указанием на предмет их исследования, я полагаю, восходит
к тому времени, когда верили, что предпосылку теории
составляет дефиниция ее предмета» (Ibid., 281).
Под предлогом критики эссенциализма Поппер пытается
доказать, что понятие науки предполагает не определенный предмет
исследования, а подлежащие исследованию проблемы. При этом
он не сознает, что тем самым включается в дискуссию о
понятии науки, т.е. занимается тем делом, необходимость которого он
отрицал. Статья, которую я цитирую, называется «Природа
философских проблем и их корни в науке». Поппер, правда,
заявляет, что он неохотно взялся за эту тему. Тем не менее совершенно
очевидно, что при всей своей антипатии к эссенциализму Поппер
не может избежать анализа методологических вопросов филосо-
23
фии, т.е. философского исследования философского знания. Эти
вопросы неизбежны, так как они возникают вследствие развития
философии и перманентной конфронтации идей и учений,
характеризующих историко-философский процесс.
Значение этих на первый взгляд элементарных вопросов
становится очевидным для всякого, кто хотя бы в общей форме
представляет себе отличие философии от специальных (частных) наук и
спрашивает себя, почему существовали и существуют поныне
разные философии, между тем как не существует разных, т.е.
принципиально несовместимых друг с другом, математик или физик.
Речь, конечно, идет не о дефиниции, имеющей
преимущественно формальное значение, а о критическом обобщении
развития философии, которое в немалой степени определяет ее
социальный статус, научный престиж и позволяет научно осмысливать
и в какой-то мере решать вопросы, которые ставились
философией в прошлом и стоят перед ней в настоящее время. Существует
не просто основной вопрос философии, как утверждал Энгельс,
но основные вопросы философии, которые никак нельзя свести
к одному-единственному. Существуют также основные вопросы
историко-философской науки. Однако главный из них, учитывая
многообразие философских систем и отсутствие согласия между
выдающимися философами относительно определения понятия
философии, сводится все же к вопросу: что такое философия!
Правда, этот вопрос может быть сформулирован и несколько
иначе, как это делает A.A. Гусейнов: в чем заключается назначение
философии? (169, 88). Все другие основные вопросы истории
философии как науки органически связаны с этим
первоочередным вопросом, который большинством философов
воспринимается как проблема, т.е. подлежащая разрешению
исследовательская задача. Отсюда, как мне кажется, непреложно следует вывод:
важнейшая проблема историко-философской науки - проблема
философии. Понять этот удивительный феномен духовной
жизни общества, истории умственного развития человечества,
постигнуть эту специфическую форму познания и самопознания, ее
необходимость, неустранимость, вскрыть потенциальные
возможности философии и пути их реализации - настоятельная
необходимость не только для историков философии, но и для всех
тех, кому вопрос о смысле его собственной жизни не кажется
лишенным всякого смысла*.
* Можно согласиться с известным французским философом Э. Вейлем,
который писал: «Люди были, остаются и останутся философами, пока они
ставят вопросы о смысле своей жизни, о смысле мира. Они забудут философию,
вернее, не будут больше философствовать, если поверят, что они постигли этот
смысл, или станут сомневаться в том, что он существует» (303, 238).
24
Странная судьба у философии! Синоним науки в древнем
мире, она стремится добиться признания в качестве науки в
Новое, особенно в новейшее время. Что за незадача! И в чем причины
этого, по мнению многих, незавидного положения? В том ли, что
философия, учитывая ее возраст, отстала от своих более молодых
товарищей и марафонский бег ей уже не по силам? А может быть,
ларчик открывается просто: то, что было наукой в древности, по
самой своей природе не может быть наукой в наше время? Ведь
говорил же Ф. Бэкон, что древние - это дети, тогда как люди
Нового времени вступают в совершеннолетие. Но едва ли понятие
совершеннолетия может быть безоговорочно применено к
человеческому роду на любой стадии его развития. У человечества
всегда все впереди. Есть, правда, еще одно объяснение этой
деликатной ситуации, предложенное в качестве гипотезы В. Виндель-
бандом: не оказалась ли философия в положении шекспировского
короля Лира, который роздал все свое имущество дочерям, а сам
оказался выброшенным на улицу за ненадобностью.
Итак, философии приходится добиваться гражданских прав
в республике ученых, хотя формально ее никто этих прав не
лишал. Это ее внутренняя потребность, которую она осознает пред
лицом любой другой науки, как бы ни была ограничена ее
компетенция.
Гражданские права философии оспариваются, во-первых,
обыденным сознанием, во-вторых, отдельными представителями
частных наук, в-третьих, некоторыми философами. Что касается
аргументов обыденного здравомыслия, то они сводятся к
утверждению, что философия не внушает доверия, так как она не
всегда считается с так называемым здравым рассудком. В прошлом
многие представители положительных наук солидаризировались
с этим обыденным воззрением, но теперь, после ряда
революционных переворотов в науках о природе и в предвидении новых
научных революций, они склонны скорее соглашаться с Энгельсом,
писавшим, что «здравый человеческий рассудок, весьма
почтенный спутник в четырех стенах своего домашнего обихода,
переживает самые удивительные приключения, лишь только он
отважится выйти на широкий простор исследования» (115, 20, 21).
Некоторые представители частных наук упрекают
философию в том, что она не может ответить на задаваемые ей вопросы
и, хуже того, отвечает на вопросы вопросами, на которые частные
науки при всей своей основательности не могут дать ответа. Это
действительно каверзные вопросы (кто бы ни ставил их -
философия или частные науки), но в защиту философии можно
сказать, что если она не дает ответа на поставленный вопрос, то и
25
тот, кто его задает, не может на него ответить. Если же философия
вместо ответа сама задает вопрос, то следует спросить, является
ли этот вопрос хорошо сформулированным. В таком случае она
уже кое-что дает.
Однако самые опасные враги философии находятся в ее
собственном стане. Это прежде всего те неопозитивисты, которые
объявили все исторически сложившиеся философские проблемы
мнимыми, в действительности не существующими
проблемами. Историко-философский процесс изображался этими
философствующими противниками философии как история
перманентных заблуждений, причем они не замечали даже того, что
заблуждения великих философов - великие заблуждения.
Неопозитивистский поход против философии завершился банальным
поражением: они сами вынуждены были признать
неустранимость «метафизических» (философских) проблем. Так
называемые псевдопроблемы оказались действительными проблемами, к
которым неопозитивизм не нашел никакого позитивного подхода.
Разрушение философии, рассматриваемое неопозитивистами в
качестве первоочередной задачи, обернулось крахом
неопозитивистского философствования. В борьбе между неопозитивизмом
и философией победу одержала философия. При этом еще раз
обнаружилось, что отрицание философии в той мере, в какой оно
теоретически аргументировано, является в конечном счете
обоснованием нового философского учения. Только профаны могут
заниматься отрицанием философии, не высказывая при этом
каких-либо философских воззрений. Но такое бессодержательное
отрицание философии оказывается совершенно мнимым. Это
воистину заколдованный круг, из которого невозможно выйти. Но в
него зато можно войти.
Неопозитивисты приобрели в известной мере заслуженное
влияние своими специальными логическими исследованиями,
которые не имеют прямого отношения к их субъективистскому
и агностическому философскому учению. Кризис
неопозитивизма во многом объяснялся осознанием этого ставшего очевидным
факта. Против неопозитивизма, в защиту философии выступили
естествоиспытатели, в том числе и те, которые некоторое время
находились под его влиянием. Это весьма важное обстоятельство,
так как неопозитивизм в отличие от других идеалистических
учений, как правильно отмечает академик И.Г. Петровский, «в
значительной мере паразитирует также и на самих достижениях
современной науки» (134,45). Выступления А. Эйнштейна, М. Планка,
Л. де Бройля, М. Борна и других выдающихся
естествоиспытателей с критикой неопозитивистского скептицизма, с обоснованием
26
материалистических (и по существу диалектических) воззрений
убедительно доказали, что философия жизненно необходима
теоретическому естествознанию. Актуальность философской
проблематики была засвидетельствована, таким образом,
нефилософами, которые стали заниматься философскими исследованиями
и внесли немалый вклад в развитие философской мысли. Это,
естественно, открывает многообещающие перспективы и перед
историко-философским исследованием.
В СССР в течение ряда десятилетий, по меньшей мере до
разоблачения так называемого «культа личности» (И.В. Сталина),
отсутствовали условия для творческой работы в области
философии. Преподаватели философии в вузах пересказывали
высказывания Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина по философским
вопросам или связанным с философией вопросами, иллюстрировали
эти высказывания примерами из естествознания и исторической
науки, постоянно повторяя, как этого требовали директивы ЦК
КПСС, что философия марксизма есть единственно научная
философия, а все возникшие после нее философские учения
никчемны, так как они отражают «загнивание» «умирающего»
капитализма. Об идейном уровне этого преподавания можно судить хотя
бы по такому факту: учащимся почти каждодневно вбивалась в
голову ленинская тирада: «Учение Маркса всесильно, потому что
оно верно». Мне кажется, что ни одному из тогдашних
преподавателей философии не приходило в голову, что эта фраза Ленина
явно противоречит материалистическому пониманию истории,
т.е. носит идеалистический характер, ибо не может быть
всесильной (всемогущей) научной теории. Сакрализация марксизма,
несмотря на его воинствующий атеизм, наглядно выразилась в этой
настойчиво и без должного осмысления повторявшейся фразе.
Правда, несмотря на безраздельное господство «марксистско-
ленинской» идеологии, были все-таки отдельные, действительно
научные философские исследования главным образом по истории
философии, логике, философским вопросам естествознания.
Достаточно назвать хотя бы такие монографии проф. В.Ф. Асмуса,
как «Диалектика Канта» и «Очерки истории диалектики в новой
философии», вышедшие в свет в 20-х гг. Однако Асмус и
немногие подобные ему философы были, конечно, исключением. Для
лидера советской философии 20-х гг. акад. A.M. Деборина Асмус,
беспартийный ученый, представлялся, по существу, буржуазным
философом. Впрочем, лидерство Деборина, ученика Г.В.
Плеханова, продолжалось недолго. Он и его соратники были
«разоблачены» И.В. Сталиным как «меныдевиствующие идеалисты».
Большинство учеников и соратников Деборина были арестованы,
27
заклеймены как «враги народа» и исчезли навсегда. Его самого,
правда, не тронули; он тихо доживал свой век, не выступая в
печати по философским вопросам.
На смену «деборинцам» пришли питомцы ИКП
(Института красной профессуры), выпускники которого получали
ученое звание профессора без защиты диссертации, хотя бы и
кандидатской. Таковы были новые лидеры «философского фронта»
М.Б. Митин (избранный в 1939 г. в действительные члены
Академии наук СССР), П.Ф. Юдин, ставший в том же году членом-
корреспондентом АН СССР. Своей главной задачей они считали,
с одной стороны, разоблачение всяких, действительных или
мнимых, отступлений от «марксизма-ленинизма», а с другой -
теоретическую разработку философского наследия Ленина, которое
именовалось ленинским этапом развития философии марксизма,
высшей ступенью, достигнутой диалектическим и историческим
материализмом. Но никаких действительных серьезных
исследований в этой области в печати не появилось. Публиковались в
основном панегирики.
В 1938 г., в год, когда развязанный Сталиным «большой
террор» достиг своей кульминации, вышел в свет учебник «История
ВКП(б). Краткий курс», содержавший небольшой, написанный
самим Сталиным раздел: «О диалектическом и историческом
материализме». В популярной и порядком упрощенной форме в нем
разъяснялись «основные черты материализма», «основные черты
диалектики», а также главные положения материалистического
понимания истории.
Нетрудно понять, что после опубликования этой
немедленно объявленной «классической» работы была радикально
перестроена не только пропаганда (именно пропаганда)
марксистской философии, но и ее преподавание в высших учебных
заведениях. Его свели к более или менее обстоятельному
комментированию пресловутых «основных черт». Изучение
истории философии рассматривалось лишь как «введение», к тому
же достаточно краткое, к основному лекционному курсу об
«основных чертах».
Вскоре, однако, грянула Великая Отечественная война.
Теперь уже никому, даже профессиональным философам (вернее,
преподавателям ее) не было дела до философии. Скажу о себе,
поскольку я уже накануне войны был кандидатом философских
наук и начал свою преподавательскую деятельность на
философском факультете (она была недолгой, так как 8 июля 1941 г.
я был призван в Красную Армию). Надо было во что бы то ни
стало устоять против массированного натиска немецко-фашист-
28
ских войск, устоять, а затем перейти в контрнаступление, чтобы
не только изгнать врага за пределы Родины, но и добить его в
его собственном логове. Мы победили, ибо у нас не было иного
выхода в этой схватке не на жизнь, а на смерть.
В 1943 г., в разгар войны вышел в свет третий том
«Истории философии» под титульной редакцией известных советских
философов Г.Ф. Александрова, Б.Э. Быховского, М.Б. Митина,
П.Ф. Юдина. Этот том был посвящен немецкой классической
философии. И ничем не замечательный проф. З.Я. Белецкий (тоже
питомец Института красной профессуры, получивший звание
профессора без защиты какой-либо диссертации) почувствовал своим,
явно нефилософским нутром, что здесь можно хорошо нажиться.
Он написал письмо И.В. Сталину, в котором утверждал, что
авторы третьего тома «Истории философии» восхваляют немецкую
философию конца XVIII - начала XIX в., несмотря на то что она
является не чем иным как идейным источником ... германского
фашизма. Письмо дошло до Сталина, он вызвал к себе Г.Ф.
Александрова (начальника отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б))
и ознакомил его с ним. Александров пытался убедить «отца
народов», что Белецкий - человек не сведущий в философии, что
положительная оценка немецкой классической философии дана не
только в сочинениях Маркса и Энгельса, но и в гениальных трудах
Ленина и товарища Сталина. Последний, выслушав
Александрова, заметил, что Белецкий, возможно, не блещет глубоким знанием
философии, но политическое чутье у него несомненно имеется.
Инициатива Белецкого была одобрена свыше и вскоре состоялось
постановление ЦК партии, «вскрывающее» недостатки и ошибки
в освещении немецкой классической философии в третьем томе
«Истории философии». В постановлении не пересматривалась
марксистская оценка философии Гегеля, однако настойчиво
указывалось на реакционные черты его социально-политических
воззрений. Было также решено лишить авторов этого тома ранее
присужденной им Сталинской премии.
Выступление Белецкого, по-видимому, послужило поводом
также и для последующего пересмотра марксистской
характеристики философии Гегеля, что и было сделано Сталиным. Вызвав
к себе нескольких философов, занимавших высокие партийные
посты, он задал им каверзный вопрос: что представляет собой
философия Гегеля? Начальники, умудренные жизненным опытом,
стыдливо потупили взоры. И Сталин торжественно провозгласил:
философия Гегеля есть аристократическая реакция на
Французскую революцию и французский материализм. Эта
формулировка не была опубликована, но ее довели до всех преподавателей
29
философии, что вынудило их искать в философии Гегеля то, чего
в ней не было.
Наконец, в 1945 г. после победоносного завершения Великой
Отечественной войны советские люди приступили к
восстановлению разрушенного фашистскими варварами народного хозяйства.
Надеялись, конечно, и на то, что теперь, наконец, будет
покончено с практикой репрессий и всякого рода идеологических
преследований. Но «мудрый» Сталин думал иначе. Он понимал, что
советские воины, побывавшие в Германии и других европейских
странах, наверняка усомнились бы в навязывавшемся партийной
пропагандой представлении об обнищании трудящихся в
капиталистических странах. Необходимо, следовательно, решил вождь,
объявить войну низкопоклонству перед иностранщиной.
Соответственно этому указанию организовали широкую кампанию
борьбы против космополитизма. И граждане СССР тут же постигли,
что борьба против «врагов народа» не будет прекращена.
З.Я. Белецкий, инициировавший своим письмом Сталину
упомянутое выше постановление ЦК ВКП(б), решил, как и подобает
большевику, не успокаиваться на достигнутом. Он вновь
настрочил письмо Сталину - на этот раз с критикой опубликованного
Г.Ф. Александровым учебника «История западноевропейской
философии». Учебник был весьма посредственным, но Белецкий
узрел в нем не его действительные недостатки, а так называемый
буржуазный объективизм, отсутствие непримиримой партийной
позиции и опять же преклонение перед немецкой классической
философией. Сталин и на этот раз внял голосу Белецкого, тем
более что он, как выяснилось позже, был недоволен тем, что
Александров, не испросив его разрешения, организовал свое
избрание в академики (заместители Александрова - П.Н. Федосеев,
М.Т. Иовчук, B.C. Кружков, по его же указанию, были избраны в
члены-корреспонденты АН СССР). ЦК КПСС предложил
Институту философии АН СССР провести широкую дискуссию по
книге Александрова. Дискуссию провели, но под руководством
заместителей Александрова. Однако это была обычная дискуссия,
а не партийное мероприятие, призванное разоблачить, осудить,
заклеймить и т.д. ЦК КПСС выразил неудовлетворенность
итогами дискуссии и поручил секретарю ЦК КПСС A.A. Жданову
организовать дискуссию по-партийному, по-боевому. Так и
организовали.
Дискуссия началась 16 июня 1947 г. и продолжалась 10 дней.
Председательствующий A.A. Жданов предоставил первое слово
никому среди читающих философскую литературу не
известному кандидату философских наук М.В. Эмдину, который, впрочем,
30
хорошо понимал, что и как надо говорить. Он заявил, что нам
нужен «большевистский учебник по истории философии», чтобы
вытеснить «всех этих фалькельбергов, виндельбандов и прочих,
которые фальсифицируют историю философии». Конкретизируя
сей многозначительный тезис, Эмдин утверждал: «Мы можем и
должны ставить своей задачей, чтобы наши студенты и
слушатели изучали историю философии по трудам Маркса и Энгельса,
Ленина и Сталина. В качестве пособия к этому должен служить
большевистский учебник истории философии» (34, 6).
Эмдин, конечно, не разъяснял, как можно изучать историю
философии по трудам названных им мыслителей, которые касались
этой духовной сферы лишь от случая к случаю. Его главная идея
состояла в том, что «марксизм-ленинизм» является единственно
научной теоретической основой критического изучения
философии прошлого, а также современной немарксистской философии,
которую нужно не столько изучать, сколько разоблачать.
«Основной порок книги т. Александрова, - продолжал Эмдин, - состоит
в том, что в ней нарушен принцип ленинско-сталинской
партийности в философии, причем часто этот принцип нарушен по всем
линиям» (34, 7). М.В. Эмдин втолковывал Александрову, что
интересы пролетариата выражает только марксизм-ленинизм, а «все
другие философские системы выражали лишь интересы тех или
иных прослоек эксплуататорских классов...». Тем более это
относится к немарксистской философии XX в., о которой можно
сказать только одно: «все современные реакционные школы
буржуазной философии питаются отбросами реакционных
философских систем прошлого...» (34, 10).
М.В. Эмдин оказался вполне осведомленным относительно
сталинской оценки социального смысла философии Гегеля. Он
критиковал Александрова за то, что в его учебнике Кант, Фихте,
Шеллинг и Гегель характеризуются как передовые представители
немецкой буржуазии, а гегелевский диалектический метод
именуется прогрессивным. Но ведь книга Александрова вышла в свет
до того, как Сталин преподнес миру свое неожиданное (вероятно,
и для него самого) открытие. Игнорируя это банальное
обстоятельство, Эмдин заявил: «Известна партийная оценка немецкой
идеалистической философии как аристократической реакции на
французский материализм и французскую революцию» (34, 8).
Эмдин также обвинял Александрова в том, что он касается
ленинской книги «Материализм и эмпириокритицизм» лишь в
связи с критикой субъективного идеализма. «Только этим
ограничивается оценка этого великого из великих трудов ленинского
гения». Оратор сдерживает свое возмущение этаким едва ли не
31
преступным отношением к «великому из великих». Однако это
возмущение все же прорывается в его характеристике стилистики
обсуждаемой книги. «Даже язык т. Александрова никчемный,
пустой, либеральный язык буржуазного объективиста, профессора»
(34, 10).
Не забывает Эмдин и о задаче воспитания советского и
вместе с тем национального патриотизма, которому, по его словам,
должно служить изложение истории философии. «Можно было
показать, как Тимирязев своими трудами опроверг теологию
Канта...», - заявляет он. О каких трудах Тимирязева, о какой
теологии Канта идет речь, понять, конечно, невозможно. Но
Александров, подчеркивает оратор, вообще не придал должного
значения русской философии, хотя следовало бы «показать, что
в целом ряде важнейших вопросов русские философы -
революционные демократы - поднялись выше западноевропейских
философов...» (34, 12). Какие важнейшие вопросы имеются в
виду, каких западноевропейских философов превзошли русские
революционные демократы, которые, кстати сказать, не уделяли
большого внимания философии, конечно, умалчивается.
Нетрудно понять, каков основной смысл речи оратора. Об
этом говорится, так сказать, без обиняков. Александров
«приводит болтовню философов-реакционеров» (т.е., по-видимому,
цитирует этих негодников). «Тем самым, - заявляет Эмдин, -
объективно т. Александров обеляет этих реакционных
мыслителей-идеалистов» (34, 11).
Я столь подробно остановился на выступлении Эмдина
потому, что оно, как ни удивительно на первый взгляд, предвосхитило
(возможно даже предопределило) содержание речи последующих
ораторов, в том числе и таких известных в стране философов, как
Б. Кедров, М. Митин, П. Юдин, М. Каммари. Правда, Кедров и
Каммари хоть и робко, но все же указывали на то, что
«гениальная» оценка философии Гегеля товарищем Сталиным, не
отменяет его прежних оценок этой философии, так же как и оценок
Маркса, Энгельса и Ленина. Иными словами, Кедров и
Каммари осмеливались подчеркнуть, что диалектика Гегеля не лишена
«рационального зерна», а последнее, очевидно, не относится к
содержанию реакционной гегелевской системы.
Единственным участником дискуссии, осмеливавшимся,
вопреки хору единодушных ораторов, высказать свое собственное,
отличное от них мнение, был старый коммунист, член РСДРП с
1898 г. М.В. Серебряков. Он прежде всего возразил тем коллегам,
которые обвиняли Александрова в том, что он поддался
буржуазному объективизму, что ему не хватает настоящего партийного
32
отношения к философии, классового анализа реакционных
идеалистических бредней. По этому поводу Серебряков заявил:
«Георгий Федорович Александров великолепно понимает, что каждая
философия есть партийная философия, что она имеет классовый
характер. Подобные фразы в зубах навязли и всем
давным-давно известны. Говорить о них нет никакого смысла потому, что
здесь дело в ином» (34, 98). Представляю себе, как эта четкая,
недвусмысленная формулировка ошеломила предшествующих
ораторов, которые в основном-то и говорили о недостатке
партийности, об отсутствии в книге должного классового анализа.
Некоторые из выступавших после Серебрякова ораторов не
упускали возможности покритиковать его вольнодумство и вновь
обратиться к вопросу о партийности философии и т.д.
Отмечу также и тот, бросившийся в глаза факт, что
Серебряков называл автора книги не просто «т. Александров», а так, как
обычно обращаются к коллеге, т.е. по имени и отчеству. Это, к
счастью, не вызвало критических замечаний.
Указывая на отдельные недостатки, присущие обсуждаемому
учебнику, Серебряков со всей определенностью говорил: «Я не
знаю, какую другую книгу, кроме книги т. Александрова, можно
было бы рекомендовать в качестве популярного учебника... ибо
книга т. Александрова - это лучшее, что у нас есть. Из этого надо
исходить. А что касается недостатков, они общи всем нам; мы
должны критиковать эти свои недостатки» (34, 101). Никто из
выступавших после Серебрякова не нашел аргументов против этой
констатации, которая была не столько похвалой обсуждаемой
книге, сколько признанием плачевного состояния дел на нашем,
как тогда выражались, философском фронте.
Серебряков фактически оспаривал общее мнение насчет
реакционности философии Гегеля. Если она действительно
реакционна, то почему из нее вырастали наиболее либеральные,
демократические и даже радикальные воззрения и течения
второй трети XIX века? Если гегелевская философия была в самом
деле реакционной, то «чем объяснить, что пиетисты, ортодоксы,
романтики и всякие ханжи, в частности крупные теологи своего
времени, например, Толук, Блэк, Ницш, Эрдман, Гиршель и т.д.,
ополчились рьяно на Гегеля?» (34, 102-103). Никто из
выступавших после Серебрякова не попытался ответить на эти разумно
поставленные вопросы. А Серебряков не ограничился одной
лишь постановкой вопросов. Он сам дал на них ответ,
сославшись на младогегельянцев, которые делали из философии Гегеля
революционные и атеистические выводы. «Младогегельянцы до
1842 года были наиболее радикальными и даже революционными
2. Ойзерман Т.И., том 5
33
в тогдашней Германии, если не считать, конечно, Маркса и
Энгельса, которые их опередили» (34, 103)*. Серебряков тактично
умолчал о том, что основоположники марксизма сами были
младогегельянцами в 1840-1843 гг.
На седьмом, предпоследнем заседании выступил A.A.
Жданов. В его докладе была сделана попытка определить предмет
историко-философской науки. «Научная история философии,
следовательно, является историей зарождения, возникновения и
развития научного материалистического мировоззрения и его
законов. Поскольку материализм вырос и развился в борьбе с
идеалистическими течениями, история философии есть также история
борьбы материализма с идеализмом» (34, 257). Наиболее
существенно в этом определении то, что идеалистическая философия
считается достойной рассмотрения лишь постольку, поскольку
против нее выступает материализм. Отсюда следует, что если то
или иное идеалистическое учение не было подвергнуто
материалистической атаке, то оно не заслуживает рассмотрения в
исследовании и преподавании философии. Нетрудно, следовательно,
заключить, что идеалистическая философия сама по себе не стоит
внимания исследователя или преподавателя философии. Едва ли
надо доказывать, что такое понимание предмета и задач
историко-философской науки крайне обедняет ее. А между тем это, так
сказать, теоретическое определение того, чем должны заниматься
историки философии, было вместе с тем и партийной
директивой. Впрочем, смею подчеркнуть, что советские преподаватели
истории философии, нисколько не возражая высокому
партийному начальнику, прочитавшему кем-то написанный для него
доклад по вопросам, которые его никогда не интересовали,
игнорировали эту в принципе неосуществимую директиву. Достаточно
пролистать программы по истории философии, подготовленные
на философском факультете МГУ уже после сей знаменательной
дискуссии.
В анализе недостатков книги Г.Ф. Александрова A.A.
Жданов подытожил высказывания выступавших до него участников
* Там же, с. 103. Резкие возражения вызвало следующее утверждение
Серебрякова: «Если сравнить, как решали основные религиозные вопросы
французские материалисты, надо сказать, что младогегельянцы стояли на несколько
голов выше французских материалистов» (там же, с. 102). Те, кто оспаривал это
положение, никак не хотели признать засвидетельствованного историей факта:
некоторые идеалисты были атеистами. Примитивное воззрение, которое
высказывалось многими выступавшими, сводилось к тому, что материалисты всегда
являются атеистами, а идеалисты обосновывают религиозное мировоззрение.
О том, что некоторые выдающиеся материалисты были религиозными людьми,
как видно из их сочинений, конечно, умалчивалось.
34
дискуссии. Он подчеркнул, что история философии обязательно
должна включать в себя историю русской философии, а также
историю философии марксизма. Поскольку выступавшие в
дискуссии зачастую касались философии Гегеля, A.A. Жданов
решил внести и в этот вопрос полную ясность: «... представляется
странным имевший здесь место спор о Гегеле. Участники этого
спора ломятся в открытую дверь. Вопрос о Гегеле давно решен.
Ставить его вновь нет никаких оснований...» (34, 268).
Выражаясь в стиле А. Жданова, представляется странным утверждение,
что в ходе дискуссии имел место «спор о Гегеле». Никакого
спора, к сожалению, не было. Все были солидарны со сталинской
оценкой этой философии и лишь некоторые, как уже говорилось
выше, робко старались подчеркнуть, что эта принципиально
новая оценка Гегеля не отменяет других оценок, имеющихся, как
тогда выражались, в трудах «классиков марксизма-ленинизма»*.
Еще более странным является утверждение A.A. Жданова о
том, что вопрос о Гегеле «давно решен». А разве Сталин давно
(нет, напротив, недавно) пересмотрел радикальнейшим образом
марксистскую оценку философии Гегеля? Конечно, называть
новую, предложенную Сталиным формулировку радикальным
пересмотром прежних марксистских оценок философии Гегеля
было бы неуместно, даже опасно для жизни. Но разве не опасно
(или, по меньшей мере, неуместно) было игнорировать тот факт,
что Сталин по-новому отнесся к этому, казалось бы, давно
решенному марксистскому вопросу? Разумеется, никто не посмел
сделать по этому поводу критическое замечание в адрес секретаря
ЦК КПСС.
Наиболее интересным в докладе Жданова была
характеристика состояния философии в стране. В области философии «не
чувствуется ни боевого духа, ни большевистских темпов». Институт
философии АН СССР, призванный быть философским центром
страны, «представляет довольно безотрадную картину». То, что
именуют «философским фронтом», напоминает скорее «тихую
заводь или бивуак где-то далеко от поля сражения». Рисуя эту
действительно безотрадную картину, A.A. Жданов, по-видимому, не
задумывался о том, что в таком же примерно положении находятся
в СССР и все другие общественные и гуманитарные науки. И
причина такого бедственного положения, которую, конечно, никогда
не признал бы докладчик, была одна: идеологический,
репрессивный прессинг верховного партийного руководства и всех строго
подчиненных ему партийных и государственных инстанций.
*Если согласиться с таким выражением, то надо признать, что Маркс
и Энгельс также были «классиками марксизма-ленинизма».
2*
35
Разумеется, и «низовые» руководители в немалой степени были
ответственны за плачевное состояние дел на «философском
фронте». Об этом смело и откровенно сказал рядовой сотрудник
Института философии З.А. Каменский. В представленном им тексте
выступления (выступить ему не пришлось вследствие
прекращения дискуссии, но текст был опубликован) он прямо ставит вопрос
об этих «низовых» причинах бедственного положения в советской
философии. «Одной из причин этого являются бюрократические
и протекционистские пороки в организации нашей работы... Эти
пороки - одна из форм той групповщины, которая, как мы теперь
установили, отличала руководство философской наукой, одна
из форм зажима критики и творческой инициативы,
осуществлявшейся руководителями философской науки» (34, 375).
З.А. Каменский указал на то, что, хотя Институт философии
весьма мало публикует научных работ, большая часть
исследований, выполненных его сотрудниками, не выходит в свет. И
причины этого не в том, что эти работы не заслуживают опубликования,
а в опасении руководителей института, опасении, которое
«зачастую превращается у них в мистический страх перед ошибками,
которые - не дай Бог! - ни рецензент, ни сами они не заметили.
Этот страх увеличивается пропорционально оригинальности и
новизне работы, попавшей им в руки» (34, 376). Публикуются в
основном работы самих руководителей, которые нередко
отличаются невысоким научным уровнем. Но об этом никогда не
говорят, да и работы этих руководящих товарищей не обсуждаются
до их отправления в печать. Такие работы едва ли были бы
опубликованы, если бы их представили рядовые научные
сотрудники. Причины этого в том, что «среди философов отсутствовала
критика - невзирая на лица. Так уж повелось, что наша критика
не есть нелицеприятная, строгая, беспристрастная, что работы
наших руководящих философов либо не рецензируются совсем,
либо расхваливаются» (34, 377).
Наши руководители, продолжал Каменский, часто
выступают против абстрактности в работах по философии, против так
называемого академизма. Под флагом борьбы против этих, по
существу, мнимых недостатков выхолащивается действительно
научное содержание представляемых к печати рукописей. «Боязнь
академизма и абстрактности приводит подчас к забвению того,
что является предметом философии, т.е. фактической
ликвидации философской науки, как это случилось во времена
господства школы Покровского с исторической наукой» (34, 378).
З.А. Каменский, заключая свои соображения, подчеркивал:
«необходимо широко демократизировать нашу научную жизнь,
развязать и поддерживать творческую и критическую инициативу
36
работников философской науки центра и периферии, преодолеть
бюрократические и протекционистские методы руководства
научной и издательской деятельностью» (34, 382). Он весьма
наивно полагал, что можно демократизировать научную жизнь в
условиях СССР. Опасное заблуждение, которое ему не простили.
Через несколько месяцев он был освобожден от работы в
Институте философии АН СССР.
Со времени описываемой дискуссии прошло более 60 лет.
Сейчас она представляется чем-то одновременно чудовищным и
смешным. Трудно понять, почему образованные и отнюдь не
глупые люди, выступавшие в ходе дискуссии, высказывали нелепые
мысли о Гегеле, новейшей западноевропейской философии, да и
о марксизме. Гротескный характер этой дискуссии мог бы быть
описан сатирическим пером Оруэлла, но у него перед глазами
была еще более потрясающая своей нелепостью система
общественных отношений.
Сталина и сталинщины давно уже нет, хотя ее пережитки все
еще дают о себе знать. Философия, как и другие гуманитарные
науки, освободившись от репрессивного идеологического
прессинга, развивается настолько свободно, насколько это возможно
после семидесятилетнего пребывания в тупике. Институт
философии Российской академии наук выпускает в свет ежегодно
несколько десятков монографий. «Вопросы философии» публикуют
не только работы отечественных авторов, но и статьи зарубежных,
буржуазных (в том числе и антисоветских) авторов. Кроме него
выходят в свет еще несколько философских журналов. «Новая
философская энциклопедия», изданная Институтом философии,
радикально отлична от философской энциклопедии,
издававшейся в 60-х гг. В ней нет статей, посвященных М.И. Калинину,
Т. Живкову, Хо Ши Мину и другим партийным персонажам. Речь
в ней идет о действительных философах и действительных
философских понятиях, учениях и т.д.
Философский факультет МГУ, философские факультеты
Санкт-Петербургского, Екатеринбургского университетов не
только успешно готовят новую смену преподавателей философии
и научных работников, но и систематически публикуют учебники
и исследовательские работы.
Само собой разумеется, что и ныне в нашей философской
работе немало недостатков, а также заблуждений. Это относится,
конечно, и к истории философии. Унаследованный от марксизма
воинствующий догматизм хотя и осужден, далеко еще не
вполне преодолен. Я это чувствую и в самом себе. Тем не менее я
37
решился взяться за эту, во всяком случае по замыслу,
неординарную тематику.
Я вижу стоящую передо мной задачу не столько в том,
чтобы по мере моих сил решать философские проблемы, сколько в
том, чтобы ставить, осмысливать, анализировать эти проблемы,
независимо от того, смогу ли я сам в настоящее время их решить.
Догматическое извращение сути философии нередко проявляется
в том, что вопросы, которые ставятся философией,
рассматриваются как нечто несравненно менее существенное, чем ответы,
которые она дает на них. Догматически мыслившие
преподаватели диалектического и исторического материализма представляли
себе дело так, что это учение уже ответило на все вопросы,
которые были поставлены в прошлом, а теперь остается ждать, когда
наука и практика поставят новые вопросы, на которые они тотчас
получат ответ. В действительности же дело обстоит таким
образом, что далеко не все вопросы, поставленные предшествующим
развитием философии, могут быть решены в настоящее время.
И кроме того, философия не просто ожидает вопросов извне -
она сама ставит вопросы, причем задает их не только самой себе,
но и наукам, как и любой сфере сознательной человеческой
деятельности. Если мне удастся, хотя бы в небольшой мере,
поставить такие вопросы, которые по разным причинам выпадали из
поля зрения, вопросы, заслуживающие обсуждения независимо
от того, можем ли мы ответить на них в настоящее время, то,
значит, данная работа была не напрасной.
Диалектический и исторический материализм в течение семи
с лишним десятилетий существования советской власти
превратился в систему догматических положений. Нерешенные вопросы
объявлялись раз и навсегда решенными, не подлежащими
обсуждению, а тем более критическому рассмотрению. Между тем эти
вопросы, о которых далее будет речь, не надо оставлять в тени;
напротив, к ним надо привлекать пристальное внимание
исследователей. И историк философии, поскольку он хоть и критически,
но все же положительно относится к диалектическому и
историческому материализму, своими специальными исследованиями,
естественно, пытается не просто осветить историческое прошлое
философии, но и способствовать решению ее современных
проблем или хотя бы правильной, творческой их постановке.
Я вполне допускаю, что мои выводы являются спорными, хотя
я, конечно, старался всемерно их обосновать. Но я также полагаю,
что некоторые положения, прочно вошедшие в наши учебные
пособия по философии и представляющиеся, очевидно вследствие
частого повторения, совершенно бесспорными, отнюдь не
таковы, т.е. также подлежат обсуждению.
38
В наших философских журналах некоторая, обычно
незначительная, часть статей когда-то публиковалась с редакционным
примечанием: «В порядке обсуждения». Это наводило на мысль,
будто бы все остальные статьи не предназначаются для
обсуждения. Но если в них высказываются общеизвестные истины, то
стоит ли их печатать в специальном журнале, задача которого -
публикация исследований? Любое исследование в отличие от
научно-популярной работы издается в порядке обсуждения, т.е.
именно для того, чтобы его обсуждали. С этой точки зрения я
рассматриваю и эту мою монографию, в которой, как мне кажется,
я занимаюсь вопросами, заслуживающими научного обсуждения.
Глава 1
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ.
«ФИЛОСОФИЯ» КАК НЕОЛОГИЗМ
В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ
1. Секуляризация «божественной» мудрости
Ко времени возникновения слова «философия» у древних
греков, по-видимому, не было разногласий относительно того, что
следует считать мудростью. Непонятное, ранее не
существовавшее (философия) связали с тем, что представлялось в силу
традиции, сформировавшейся в лоне мифологии, не вызывающим
вопросов или сомнений.
Мудрость приписывали богам (во всяком случае некоторым
из них). Афина Паллада почиталась богиней мудрости; в
многочисленных скульптурных изображениях богини у ее ног восседает
сова - священная птица, вероятно, потому, что она видит во тьме.
Мудростью называли знание о неведомом, непостижимом для
обычных людей, в особенности прорицание будущего, судьбы.
Боги, согласно мифологическим представлениям, наделяли
мудростью оракулов и других своих избранников. Мудрость, как и
все выдающиеся человеческие достоинства, - дар божий. Гомер
говорил о верховном птицегадателе Калхасе:
Мудрый, ведал он все, что минуло, что есть и что будет,
А ахеян суда по морям предводил к Илиону,
Даром предвиденья, свыше ему вдохновленным от Феба,
Он, благомыслия полный, вещал перед сонмом ахеян...
Мифологическое мировоззрение, непосредственно
предшествовавшее первым философским учениям Древней Греции,
было своеобразной идеологией античного общества. Развитие
40
мифологии, ее превращение в «художественную религию»,
формирование теогонических, космогонических, космологических
представлений, которые впоследствии натуралистически
интерпретировались первыми греческими мыслителями, отражало
основные ступени развития доклассового общества. В этом
обществе индивид еще не обладал собственными мировоззренческими
представлениями. Здесь не могло еще быть философии, ибо, как
правильно замечает А.Ф. Лосев, «мыслил тут именно род, ставил
себе цели род, а индивидууму было необязательно мыслить, ибо
род есть стихия жизни, а стихия жизни действует в индивидууме
тоже стихийно-жизненно, т.е. инстинктивно, не как сознательная
и расчлененная мысль» (105, 107).
Возникновение античной философии относится к периоду
формирования классового общества. Мифология все еще
остается господствующей формой общественного сознания. Первые
философы, собственно, потому и являются философами, что они
вступают в конфликт с традиционным мифологическим
мировоззрением. Это, впрочем, не означает, что они полностью
порывают с ним. Нельзя, однако, согласиться с Ф.М. Корнфордом,
известным исследователем античной философии, полагающим, что
«единственное различие между воззрениями Анаксимандра и Ге-
сиода состоит в том, что то, что для философа было теорией, для
поэта составляло предмет веры» (213, 46). Корнфорд не
учитывает, по моему мнению, того существенного обстоятельства, что
первые древнегреческие философы были преимущественно
материалистами, пусть и наивными, что они являются также
первыми естествоиспытателями. Поэтому первые философские учения
отличаются от мифов не только по форме, но и по содержанию.
А.Н. Чанышев в своих исследованиях, посвященных
историческому процессу возникновения философии, справедливо выделяет
предфилософию как систему воззрений, выражающих переход от
мифологии к собственно философии. Предфилософия, которую
он называет протофилософией (удачный, на мой взгляд, выбор
термина), характеризуется им как сочетание, нерасчлененный
конгломерат зачатков научного знания, искусства (поэзии прежде
всего) и, конечно, мифологии, которая, по-видимому,
доминировала в этом духовном образовании. Что же касается первых
философов, появившихся в Китае, Индии, Греции, то это уже
начавшийся процесс преодоления мифологии, который в наиболее
ясной форме выступает в Древней Греции (183, 33—39).
A.B. Лебедев в своей фундаментальной работе «Фрагменты
ранних греческих философов» посвящает целый раздел «Пред-
философской традиции», в котором приводятся фрагменты из
41
«Илиады» и «Одиссеи» Гомера, а также из сочинений Гесиода,
Орфея, Мусея, Эпименида и других поэтов - предшественников
первых греческих философов. Поэтические фрагменты являются
вместе с тем и мифологемами (175, 38-81).
Пока мифология владела сознанием людей, у них не
возникало вопроса «что такое мудрость?». Мифология отвечала на этот
вопрос, как и на многие другие, самым недвусмысленным
образом. Возникновение философии означает постепенный переход
от мифов к самостоятельному, независимому от внешнего
авторитета размышлению человека о мире, о человеческой судьбе*.
Появились люди, поражавшие других своей способностью
рассуждать о вещах, о которых никто не задумывался или которые
не смели поставить под вопрос. Этих людей, вероятно, сначала
называли безумцами. Сами же они стали называть себя
философами, т.е. любящими мудрость. Сначала появились философы,
затем слово «философ», а еще позже и слово «философия».
Фалес утверждал, что все существующее произошло из воды,
хотя каждый грек знал, что водою сыт не будешь. Согласно Анак-
симену, не только все вещи, но и боги возникают из воздуха.
Космос, как учил Гераклит, породил и смертных и бессмертных.
Представление о космосе - упорядоченном целом Вселенной, -
по-видимому, противополагалось мифологическому
представлению об изначальности хаоса. Понятие космоса, так же как и
другие философские идеи этой эпохи, - революционный акт,
посредством которого утверждалось самостоятельное, критическое,
в принципе уже независимое от мифологической традиции
мышление. Суммируя изложенное, можно сказать, что возникновение
философии является революцией в общественном сознании
античного общества. Отстаивая это убеждение, мы не можем
согласиться с А.Ф. Лосевым, полагающим, что вся древнегреческая
философия - «абстрактно-всеобще обработанная мифология» (105,
358). Не отрицая того, что при переходе от родового общества к
рабовладельческой формации миф превращается в свою противо-
* Этот исторический процесс основательно исследован В. Нестле в его
труде «От мифа к логосу», получившем широкую известность. Современные
исследователи-идеалисты, как правило, смазывают различие между мифологией
и философией. Показателен в этом смысле доклад Э. Топича «Общие основы
мифического и философского мышления», в котором философия, редуцируемая
к метафизическому системотворчеству, характеризуется как модернизированная
мифология. Доклад этот был сделан на состоявшемся в Западном Берлине
коллоквиуме «Философия и миф». Другой участник этого коллоквиума, К. Хюбнер,
вообще отрицал возможность разграничения между мифологией и наукой. «Но
если никакое теоретическое разграничение между мифическими и научными
формами мышления невозможно, - вопрошал он, - то что же дает людям
основания переходить от мифа к науке?» (240, 90).
42
положность, А.Ф. Лосев интерпретирует этот процесс как
изменение формы мифа. Древнегреческие философы, утверждает он,
начали «заново конструировать миф, конструировать его
средствами разума...» (105, 105). Эту же родственную приведенным
выше взглядам Корнфорда точку зрения разделяет A.B. Потёмкин
(144, 117, 127), полемизируя в связи с этим с положениями,
высказанными мною в монографии «Проблемы
историко-философской науки».
Я не знаю, действительно ли верили современники первых
греческих философов в то, что Млечный Путь - разбрызганное
молоко Геры. Но когда Демокрит заявил, что Млечный Путь есть
не что иное, как скопление звезд, это, по-видимому,
воспринималось большинством как святотатство. Анаксагор, утверждавший,
что Солнце - громадная каменная масса, навлек на себя
преследования.
То, что учения первых греческих философов были еще не
свободны от элементов мифологии, не должно заслонять их
основной, антимифологической направленности. Миф, говорил Гегель,
есть выражение «бессилия мысли, которая не умеет упрочиться
самостоятельно и, таким образом, еще не есть свободная мысль»
(42, 131). Развитие философии означало прогрессирующее
отмежевание от мифологии, в том числе и от мифологического
представления о сверхчеловеческом первоисточнике мудрости.
Именно поэтому, писал Гегель, «место оракула теперь заняло
собственное самосознание каждого мыслящего человека» (42, 77).
Весьма показательно, что убежденный идеалист Гегель
решительно противопоставляет мифологии философию (и науку), между
тем как философы, о которых шла речь выше, утверждают, что
они покончили с идеализмом, стирая противоположность между
научным знанием и фантастическими образами мифологии.
Трудно сказать, кто первый назвал себя философом.
Вероятно, это был Пифагор. По словам Диогена Лаэртского, флиунтский
тиран Леонт спросил Пифагора, кто он такой. Пифагор ответил:
«Философ». Слово это было незнакомо Леонту, и Пифагор
объяснил ему смысл неологизма. «Жизнь, - говорил он, - подобна
игрищам: иные приходят на них состязаться, иные - торговать,
а самые счастливые - смотреть; так и в жизни иные, подобные
рабам, рождаются жадными до славы и наживы, между тем как
философы - до единой только истины» (70, VIII, 1, 8).
Из этого сообщения явствует, что Пифагор трактует мудрость
как нечто свойственное избранным людям. Правда, согласно
другим источникам, Пифагор утверждал, будто мудрость присуща
лишь богам: смертные могут быть только философами, т.е. любя-
43
щими мудрость. По-видимому, у Пифагора лишь намечается
тенденция к секуляризации «божественной» мудрости.
Таким образом, возникновение древнегреческой философии
есть вместе с тем и формирование убеждения, что мудрость как
идеал знания (и поведения), без которого человеческая жизнь не
является подлинной, достойной и, так сказать, растрачивается
впустую, может быть приобретена собственными усилиями
человека. Это значит, что источник мудрости не вера, а познание
и стремление к моральному совершенствованию.
Противоположность веры и знания выявляется, таким образом, у самых истоков
философии*.
Древнегреческая история повествует о семи мудрецах,
благодаря которым создавались первые государства - полисы.
Некоторые из них, по-видимому, легендарные фигуры. Но Солон,
например, вполне реальный исторический деятель, с реформами
которого связано становление Афинского государства. Пифагор,
для которого история Греции была отнюдь не отдаленным
прошлым, имел, очевидно, более или менее ясное представление
о тех действительно существовавших исторических деятелях
(к ним, между прочим, относили и Фалеса), которых позднее
назвали мудрецами.
Гераклит утверждал, что «мудрость состоит в том, чтобы
говорить истину и, прислушиваясь к [голосу] природы, поступать
согласно с ней» (214, 112). Это, конечно, относится не к богам,
которым не к чему прислушиваться, а только к человеку. Но,
признавая существование человеческой мудрости, Гераклит
подчеркивал, что она ничтожна в сравнении с мудростью бессмертных:
«Мудрейший из людей по сравнению с богом кажется обезьяной
и по мудрости, и по красоте, и во всем прочем» (214, 83). Это
разграничение между человеческой и божественной мудростью
заключает в себе, как нам кажется, нечто большее, чем
традиционное, почерпнутое из мифологии убеждение, - признание
* В мифологии мудрость - это нечто само собой разумеющееся. В
философии мудрость уже не просто слово, а понятие, которое должно быть
осмыслено, определено. Отсюда идут гносеологические корни спора, в котором
философия сама для себя становится проблемой. Самым глубоким источником
этого спора является общественный прогресс, противопоставляющий вере,
религии знание, науку. Как правильно замечает Ю.П. Францев, «факты
показывают, что в истории человечества философская мысль возникает тогда, когда
уже накопились знания, которые приходят в конфликт с традиционными
верованиями. Религиозные представления основаны на вере. Философская мысль,
как бы слабо она ни была развита, основывается на знаниях,
противопоставляемых слепой вере. Рождение философской мысли - это начало борьбы знания
против веры» (174, 501).
44
(конечно, еще смутное и неадекватно выраженное)
принципиальной невозможности абсолютного знания*.
Итак, стремящемуся к мудрости надлежит поступать
сообразно природе вещей. Конкретизируя эту мысль, Гераклит указывал,
что необходимо следовать всеобщему. Но что такое всеобщее?
Это огонь, природа которого заключается в постоянном
становлении. Это логос - абсолютная необходимость, судьба, которая
то отождествляется с вечным огнем, то отграничивается от него.
Всеобщее бесконечно многообразно, оно пребывает во всем, все
порождает и все уничтожает. Ничто не может отклониться от
всеобщего. Люди же не понимают всеобщего, не признают его
безграничной мощи даже тогда, когда слышат о нем из уст
философа, ибо их невежество представляется им «собственным
пониманием». И Гераклит с горечью замечает: «Большинство людей
не понимают того, что им встречается, да и по обучении не
разумеют, но самим им кажется, [будто они знают]» (214, В 17).
Мудрость, следовательно, предполагает прежде всего
понимание того, с чем встречается большинство людей, что в общем
известно им, т.е. того, что они видят, слышат, знают и все же не
постигают. Это представление о мудрости органически связано с
эпохой формирования философии, когда не было еще
специальных научных дисциплин, открывающих путем особого
исследования непосредственно не наблюдаемые явления и отношения
между ними. Поэтому философ имел возможность судить лишь
о том, что наблюдали все, - о земле, солнце, звездах, растениях,
животных, дне, ночи, холоде, тепле, воде, воздухе, огне и т.д.
Философ рассуждал обо всем, что происходит в человеческой жизни
и что известно всем, - о рождении, детстве, юности, старости,
смерти, несчастье и счастье, любви, ненависти и т.д.
Неудивительно поэтому, что в первых философских сочинениях древних
греков, а также китайских, индийских философов
«первоначалами» считались всем известные чувственно воспринимаемые
вещества, которым тем не менее приписывались совершенно
особенные, «субстанциальные» свойства, представления о которых
* Это наивно-диалектическое понимание природы знания было утеряно в
последующие века созидателями метафизических систем абсолютного знания,
возможно, под влиянием бурных успехов математики и естествознания Нового
времени, которые, казалось, приближались к тому, чтобы исчерпывающим
образом познать все существующее. Идея всемогущества человеческого разума
целиком принадлежит Новому времени. Древние греки были далеки от подобных
представлений. Предельным выражением древнегреческой мудрости является
сократовское убеждение: «я знаю, что я ничего не знаю». С этой точки зрения
Платон, убежденный в том, что его душа так долго пребывала в
трансцендентном царстве идей, что это позволяет ему описать его, уже не является
продолжателем сократовской концепции мудрости.
45
также черпались из повседневного опыта: теплое и холодное,
любовь и ненависть, мужское и женское детородные начала и т.д.
Мудрость, или, точнее, стремление к ней, с точки зрения
первых философов, заключается в том, чтобы обо всех известных
людям вещах судить, исходя из признания их общей непреходящей
основы. Постижение всеобщего открывает человеческому уму
вечное, бесконечное, единое в неисчислимом множестве преходящих,
конечных, разнообразных вещей. Вот почему не всякое знание
(например, знание единичного) есть мудрость. Многознание, говорил
Гераклит, не прибавляет мудрости. Путь мудрости, который никто
не проходит целиком, - познание самого могущественного в мире
и поэтому самого важного для нашей, человеческой жизни.
По Гераклиту, важнейшее, могущественнейшее, неизбежное
есть всеобщее изменение, исчезновение всего возникшего,
взаимопревращение противоположностей, их тождество в вечном
горении, из которого возникают и земля, и воздух, и душа, и все другое.
Это вездесущее единство бесконечного многообразия, совпадение
противоположностей и стремится познать философ как высшую
истину, указывающую правильный путь в жизни: пренебрежение
к преходящим вещам, познание относительности всех благ, всех
различий и противоположностей, постижение всеобъемлющего,
всеопределяющего. Хотя любовь к мудрости отграничивается от
принципиально недостижимой мудрости, все же эта любовь и
приобретаемое благодаря ей знание трактуются как нечто причастное
абсолютной мудрости и в этом смысле как относительная
(главным образом в смысле своей неполноты) мудрость.
Гераклитовская концепция идеала человеческого знания и
поведения окрашена аристократизмом и пессимизмом. Однако за
вычетом этих особенностей «плачущего философа», так же как и
его диалектики, которая не является специфическим признаком
философского мышления, эта концепция мудрости обнаруживает
некоторые особенности, которые не только в античности, но и в
последующие эпохи обычно рассматривались как присущие
только философскому знанию и философскому отношению к миру.
Древняя Греция, где впервые сформировалась концепция
философии как любви к мудрости (относительной,
человеческой мудрости), стала родиной и существенно иного понимания
смысла и назначения философии, которое оказало значительное
влияние на ее последующее развитие. Мы имеем в виду
софистов. Слово «софист» имеет общую корневую основу со словами
«софия» (мудрость), «софос» (мудрец) и означает также «мастер»,
«художник». Софисты впервые в истории философии выступили
как учители мудрости, отвергнув тем самым то понимание фило-
46
софии, которое восходит к Пифагору. Софисты были первыми
энциклопедистами древности. Они занимались математикой,
астрономией, физикой, грамматикой, но не столько как исследователи,
сколько как преподаватели, и притом берущие плату за обучение.
Они стали основоположниками риторики и считали важнейшей
задачей обучения научить свободного гражданина государства-
полиса рассуждать, убеждать, опровергать, доказывать, короче
говоря, отстаивать свои интересы силой слова.
Мудрость софисты отождествляли со знанием, умением,
способностью доказывать то, что считаешь необходимым,
правильным, добродетельным, выгодным и т.д.* Такого рода знание и
умение было необходимо гражданину Афин для участия в собраниях,
судебных заседаниях, дискуссиях, торговых сделках и т.д. Своей
деятельностью в качестве преподавателей красноречия, своими
теориями, в которых опровергались казавшиеся непоколебимыми
истины и обосновывались порой совершенно необычные
воззрения, софисты способствовали развитию логического мышления,
гибкости понятий, позволяющей соединять и даже отождествлять
как будто бы самые несовместимые вещи. Логическая
доказуемость считалась основным свойством истины. Универсальная
гибкость понятий, впервые проявившаяся в философии софистов,
носила ярко выраженный субъективный характер: доказать
значило убедить, уговорить. По-видимому, они думали, что доказать
можно все что угодно, и это-то и сделало впоследствии такие
слова, как «софист», «софизм», «софистика», оскорбительными для
всякого ученого.
Софисты обычно подчеркивали субъективность,
относительность чувственных данных, суждений и основанных на них
умозаключений. Они первыми осознали ту простую для нашего времени
истину, что доводы можно найти для всего. Эта истина
истолковывалась ими частью в духе философского скептицизма и
абсолютного релятивизма, частью в смысле признания возможной
истинности противоречащих друг другу восприятий, представлений,
суждений. Короче говоря, софисты учили мышлению, которое, не
связывая себя никакими запретами, принимает только допущения,
* Платон, излагая воззрения Протагора, вкладывает в его уста сравнение
мудрецов с врачами и земледельцами, а также с политиками, которые «делают
так, чтобы не дурное, а достойное представлялось гражданам справедливым...»
(138, 167 с). Это понимание мудрости как мирского знания вступает в конфликт
с предшествующими представлениями о мудрости. Однако софисты лишь
доводят до логического конца ту антимифологическую концепцию человеческой
мудрости, которая зарождается вместе с философией и является первой
попыткой осознать ее специфическое содержание и назначение.
47
необходимые человеку для достижения поставленной им цели.
Они стремились сделать обыденные представления и понятия
разносторонними, преодолеть их жестко фиксированную
повседневным словоупотреблением несовместимость. На этом пути
некоторые софисты приходили к выводу о том, что противоположность
добра и зла относительна, доказывали иллюзорность религиозных
убеждений, несостоятельность общепринятого в то время мнения
о природной противоположности между свободными и рабами.
Одни из софистов были идеологами рабовладельческой
демократии, другие - ее противниками, но все они понимали
философию как мирскую мудрость, знание, искусство рассуждать, с
помощью которого образованный человек всегда способен
превзойти необразованного, невежественного.
Софисты впервые попытались полностью секуляризировать
мудрость, сделать ее доступной каждому, кто приобретет
соответствующее образование. Однако эта демократическая
тенденция учения софистов сочеталась с упрощением задач философии,
с забвением того, что философия стремится постигнуть самое
существенное, наиболее общее во всем, что существует, самое
важное в человеческой и для человеческой жизни. Именно эти
основные черты учения софистов и были подвергнуты резкой критике
Сократом и затем Платоном, который вновь поставил философию
на недосягаемый для массы людей пьедестал*. Платон доказывал,
* В диалоге «Апология Сократа» Платон устами Сократа излагает то
понимание мудрости, которое высказывалось уже первыми греческими философами.
Стремясь научиться мудрости, рассказывает Сократ, он прежде всего искал ее у
государственных деятелей. После беседы с одним из них Сократ пришел к
выводу: «...этого-то человека я мудрее, потому что мы с ним, пожалуй, оба ничего
хорошего и дельного не знаем, но он, не зная, воображает, будто что-то знает,
а я если уж не знаю, то и не воображаю» (137, 21 d). Обратившись к поэтам,
Сократ увидел, что «не благодаря мудрости могут они творить то, что творят, но
благодаря некоей природной способности, как бы в исступлении, подобно
гадателям и прорицателям; ведь и эти тоже говорят много хорошего, но совсем не
знают того, о чем говорят» (там же, 22 с). Наконец, Сократ обратился к простым
людям - ремесленникам. «В самом деле они умели делать то, чего я не умел, и
в этом были мудрее меня», - заключил он. Однако «оттого что они были
хорошими мастерами, каждый из них считал себя самым мудрым также и во всем
прочем, даже в самых важных вопросах, и это заблуждение заслоняло собою ту
мудрость, какая у них была...» (там же, 22 d). Таким образом, не отвергая
полностью мирскую мудрость, достижимость которой обосновывалась софистами,
Сократ стремится доказать, что человеческая мудрость несовершенна, смешана
с невежеством и поэтому несравнима с божественной, абсолютной мудростью.
Поэтому в «Протагоре» Сократ определяет человеческую мудрость как
возвышение личности над собственной ограниченностью: «Быть ниже самого себя -
это не что иное, как невежество, а быть выше самого себя - не что иное, как
мудрость» (138, 358 с).
48
что ни истинное знание, ни подлинная добродетель не могут быть
приобретены извне, путем обучения, которое в лучшем случае
помогает выявить заключающееся в душе человека, но не
осознанное им знание, приобретенное благодаря пребыванию души
в потустороннем мире. Таким образом, Платон восстанавливает
то проникнутое интеллектуальным аристократизмом понимание
философии как свойственной лишь избранным натурам любви к
мудрости ради нее самой, которое вполне выявилось уже в период
возникновения древнегреческой философии. По его учению,
мудрость заключается в постижении непреходящей трансцендентной
действительности, царства идей, и в первую очередь абсолютно
справедливого, абсолютно истинного, абсолютно прекрасного, в
рассмотрении с этой сверхчувственной позиции всех природных
вещей и человеческих дел.
Поскольку Платон стремится создать систему абсолютного
знания (и это существенно отличает его от Сократа), постольку
он отходит от первоначального представления о философии как
любви (стремлении) к недосягаемому идеалу знания и жизни.
Его критика мирской мудрости софистов оказывается в конечном
счете лишь отрицанием земной, посюсторонней основы
мудрости. Подобно софистам, он стремится быть учителем мудрости,
хотя и оговаривается, что мудрости нельзя обучить тех, чьи души
изначально не приобщились к ней. Учение Платона выступает
как система мудрости, причем не только в теоретическом, но и в
практическом отношении.
Платоновский идеал государства и есть учение о мудром
устроении общества, обеспечивающем полное воплощение
абсолютно справедливого, абсолютно истинного и абсолютно
прекрасного, благодаря чему навечно устанавливается такой общественный
строй, где каждый будет занимать положенное ему место:
ремесленника или земледельца, стража или правителя-философа.
Теоретическим основанием этой утопии, отразившей кризис
Афинского государства, является представление о достигнутой
мудрости, которое радикально отличает Платона от его
предшественников и от последующих мыслителей античного мира*.
* В отличие от Платона его гениальный современник Демокрит понимает
мудрость как познание внутренней сущности, единства природы и как
правильное истолкование должного в человеческой жизни. По словам Демокрита, «от
мышления происходят три следующие способности: хорошо рассуждать,
хорошо говорить и действовать как должно» (214, В 2). С демокритовской
концепцией мудрости связано и его представление о соблюдении меры: «Прекрасна
надлежащая мера во всем» (Ibid. В 102). Мирская мудрость Демокрита,
политическим идеалом которого является рабовладельческая демократия, одинаково
чужда как оракульской философии Платона, так и субъективизму софистов.
49
Исходный пункт учения Аристотеля - критика платоновского
учения об идеях - означает и пересмотр платоновской концепции
мудрости как знания о трансцендентном. Аристотель
реабилитирует чувственно воспринимаемую действительность и стремится
объяснить качественное многообразие материального мира
исходя из представления о присущих вещам формах, которые в
большинстве своем являются предметом чувственного восприятия.
Правда, наряду с чувственно воспринимаемыми формами
Аристотель допускает также «форму форм», перводвигатель,
поскольку он не видит иных путей для понимания мира как целого.
Однако идеализм Аристотеля существенно отличается от идеализма
Платона, который трактует философию как восхождение от
посюстороннего к потустороннему. Аристотель, напротив, считает
задачей философии исследование основных причин, оснований,
форм природы. В этом видит он подлинную мудрость, осуждая
софистику, которая, по его словам, есть «только мнимая мудрость...»
(6, 100413, 20). Мудрость, по Аристотелю, тождественна знанию,
однако не единичных вещей, а сущего как такового. В области
этики Аристотелево понимание мудрости предвосхищает
философию эллинистической эпохи. «Мудрец, - говорит он, - должен
искать не наслаждений, а отсутствия страданий» (6, VII В 12).
Аристотель, правда, называет перводвигатель Богом, но это
утверждение предвосхищает не христианскую теологию, а
деистические воззрения Нового времени. Бог не рассматривается
Аристотелем как предмет философского исследования.
Теологами он именует Гесиода и других поэтов - предшественников
древнегреческих философов, которые, исходя из мифологии,
создавали теогонические и космогонические учения, объясняя,
например, бессмертие богов тем, что они вкушают нектар и
амброзию. Такое объяснение, иронически замечает Аристотель,
возможно, было убедительно для них самих, но оно «выше
нашего понимания» (6, 1000 а 15). Теология, с точки зрения
Аристотеля, собственно, не наука о Боге (или богах), а «первая
философия», предмет которой составляют первопричины и их
основания.
Проблема мудрости вновь выдвигается па первый план и по
существу становится основной темой философского
размышления в учениях эпохи разложения античного общества - в
стоицизме, скептицизме, эпикуреизме. Мудрость для представителей
этих учений не столько идеал знания, сколько правильный образ
жизни, освобождающий личность от страданий, которые могут
быть предотвращены, и от излишеств, влекущих за собой
страдания. Зарождение этих воззрений можно проследить уже у пер-
50
вых греческих философов, однако у них главным все же является
убеждение, что познание само в себе заключает свою цель.
Только эллинистическая философия впервые провозглашает принцип:
знание само по себе не имеет ценности, оно необходимо лишь
постольку, поскольку учит нас правильно жить*. Счастье, которое,
по Эпикуру, составляет цель человеческой жизни, может быть
обретено путем ограничения потребностей и отказа от тех
наслаждений, последствия которых плачевны. Главное в счастье -
невозмутимая безмятежность, атараксия, отрешенность от мира.
«С точки зрения Эпикура, - замечает Маркс в своей докторской
диссертации, - не существует никакого блага, которое находилось
бы для человека вне его; единственное благо, которым он
обладает по отношению к миру, есть отрицательное движение,
заключающееся в том, чтобы быть свободным от мира» (116, 143). Но
чтобы освободиться от мира, необходимо побороть страх перед
богами, а также страх перед смертью. Для этого, собственно, и
нужна натурфилософия, в особенности если она может доказать,
что не существует в мире такой силы, которая могла бы
нарушить спокойную самоудовлетворенность мудрого. Философия
природы с этой точки зрения носит служебный характер: она
предваряет и обосновывает своеобразную «философию жизни»,
которая в конечном счете сводится к этике. Мудрость, таким
образом, служит «прикладной» цели; философия как учение о
мудром устроении личной жизни интерпретируется как
интеллектуальная терапия. Эпикур говорит: «Пусты слова того философа,
которыми не врачуется никакое страдание человека. Как от
медицины нет никакой пользы, если она не изгоняет болезней из
тела, так и от философии, если она не изгоняет болезни души...»
(107,221).
Древнегреческий стоицизм, рассматривая философию как
«упражнение в мудрости», подчеркивает, так же как и эпикуреизм,
практическое в высшем смысле этого слова значение
философствования, поскольку оно призвано научить человека «жить
сообразно природе». При этом стоицизм исходит из представления о
предетерминированности всего существующего, в силу чего тре-
* Такое понимание цели познания, философии, мудрости в особенности
характерно, по мнению С. Чаттерджи и Д. Датты, для всех систем
древнеиндийской философии: все они «рассматривают философию как практическую
необходимость и развивают ее как руководство к достижению наилучшей
жизни. Цель философской мудрости не в простом удовлетворении
интеллектуальной любознательности, а главным образом в достижении лучшей жизни,
освещаемой дальновидностью, предвидением, глубокой проницательностью» (182,
18).
51
бование жить сообразно природе предполагает, с одной стороны,
познание природы, а с другой - безусловное подчинение
природной необходимости. Человек ничего не может изменить в
предустановленном порядке вещей. Философ, или мудрец, и есть
человек, постигший неизбежное, сознательно подчинившийся ему,
отказывающийся от чувственных наслаждений ради того, чтобы
наслаждаться добродетелью, которая обретается через познание
сущности вещей и благодаря победе разума над страстями.
Древнегреческий скептицизм при всем своем отличии от
эпикуреизма и стоицизма также сводит мудрость к обретению
интеллектуальной невозмутимости, возвышающей над всеми
людскими треволнениями. Диоген Лаэртский, ссылаясь на Посидония,
рассказывает, что однажды Пиррон находился на корабле во
время бури и, «когда спутники его впали в уныние, он оставался
спокоен и ободрял их, показывая на корабельного поросенка,
который ел себе и ел, и говоря, что такой бестревожности и должен
держаться мудрец» (70, 68).
Нам представляется, что эта эволюция в понимании мудрости
(и тем самым также философии) отражает разложение античного
полиса и того социального уклада, благодаря которому свободные
активно участвовали в жизни своего государства-города. Человек
чувствует, что почва уходит у него из-под ног. Его мудрость -
иллюзорное убеждение, будто можно жить в обществе и быть
свободным от него.
Древнегреческая философия зарождается как мощное
интеллектуальное движение к знанию в его наиболее всеобъемлющей
теоретической форме. Она завершается как стремление обрести
успокоение в обществе, раздираемом антагонистическими
противоречиями. Кризис не исключает, однако, рациональных идей
в учениях эллинистической эпохи, которые ставят вопрос о
примате практического разума над теоретическим и впервые
подвергают систематической критике наивно-рационалистическую
концепцию знания ради знания, неожиданные трагические
последствия которой выявились в эпоху капитализма. «Греческая
философия, - говорит Маркс, - начинается с семи мудрецов, к
которым принадлежит ионийский натурфилософ Фалес, и она
оканчивается первой попыткой выразить в понятиях образ
мудреца» (115, 53).
Последующая история греческой и греко-римской
философии - история ее трансформации в религиозно-мистические
учения неопифагореизма, неоплатонизма, позднего стоицизма -
связана уже со становлением христианства, которое положило конец
мирской мудрости античных философов.
52
2. Обожествление человеческой мудрости
Христианство, ставшее господствующей и по существу
единственной идеологией европейского средневековья, впитало
в себя философский мистицизм и иррационализм эпохи
окончательного распада античного мира. «...Христианство, - указывает
Энгельс, - не было ввезено извне, из Иудеи, и навязано греко-
римскому миру... Оно - по крайней мере в том виде, в каком оно
стало мировой религией, - является характернейшим продуктом
этого мира» (115, 474). Христианские апологеты называли новую
религию, вытеснившую греко-римский политеизм, философией.
Они обычно доказывали, что основные вопросы христианского
вероучения (Бог, сотворение мира) ставились уже греческой
философией, но лишь христианство дало на них истинные ответы.
Августин, Тертуллиан и другие «отцы церкви» теологически
интерпретировали и разрабатывали философский мистицизм и
иррационализм неоплатонизма и родственных ему идеалистических
учений. Вульгаризированный неоплатонизм в эклектическом
сочетании с другими течениями эллинистической философии,
особенно стоицизмом, стал важнейшим идейным источником
христианской религии*.
Таким образом, Новый завет, или «откровение божие»,
возвещаемое апостолами Иисуса Христа, оказывается в значительной
мере теологической переработкой философских теорий поздней
античности, дополненной многочисленными заимствованиями из
других «языческих» учений. И все же средневековым теологам
и философам Священное писание представляется радикально
отличным от античной, человеческой мудрости: это откровение
божие, непререкаемый источник для суждения о божественном
и земном. Это значит, что для средневекового мыслителя
божественная мудрость существует в доступном человечеству виде,
* «Стоицизм в его вульгаризированной форме, - говорится в первом томе
"Истории философии" (под ред. Г.Ф. Александрова, Б.Э. Быховского, М.В.
Митина, П.Ф. Юдина), - сильно влиял на моральные воззрения организаторов
первых христианских церквей; в частности, установлено большое влияние
произведений Сенеки на послания, приписываемые церковью апостолу Павлу, позже
на Тертуллиана. Еще теснее связано христианство с неоплатонизмом.
Христианской догматике общи с неоплатонизмом многие существенные черты.
Божественная троица христиан соответствует плотиновской троице: единого - ума -
души. Христианство широко использовало неоплатоническую "эманацию",
неоплатонический спиритуализм, учение об экстазе и "восхищении" как о
состоянии, при помощи которого душа приближается к божеству, а затем на время
вполне сливается с ним в блаженстве непосредственного созерцания его и т.д.»
(76, 383).
53
т.е. изложена в священных книгах. Задача заключается лишь в
том, чтобы правильно ее понять, истолковать.
Теология является метафилософией европейского
средневековья. Теология, учит Фома Аквинский, нисходит от
божественного к земному, в то время как философия стремится подняться
от земного, обусловленного, к божественному, абсолютному.
Философия располагает лишь истинами разума, теология же
изрекает сверхразумные, хотя и не противоразумные, истины, источник
которых - божественный разум. Философия неизбежно
становится служанкой богословия. Любовь к мудрости преобразуется в
интеллектуализированное религиозное чувство. Метафизическая
мудрость может быть лишь истолкованием теологической
мудрости, которая в свою очередь является истолкованием
божественной мудрости, аутентично изложенной в Библии. Философ не
может поэтому прийти к новым, неожиданным для себя выводам:
выводы даны заранее, остается лишь проложить к ним
логический путь, т.е. оправдать христианские догматы перед обыденным
здравомыслием, которое не смеет не верить в чудеса (и в
сверхъестественное вообще), но все же не представляет себе, как все это
возможно*.
Древнегреческая мудрость, говорит Ж. Маритен,
ограничена человеческими масштабами. «Это, собственно, философская
мудрость, которая претендует не на то, чтобы спасти нас путем
единения с Богом, но лишь на то, чтобы вести нас по пути
рационального сознания универсума» (263, 30-31). Религия, как мы
видели, не вдохновляла древнегреческую философию, и
размышления о Боге занимали в ней незначительное место даже в тех
случаях, когда она утверждала, что божественная мудрость
бесконечно превосходит человеческую.
* Следует отметить, впрочем, что некоторые выдающиеся средневековые
мыслители, чуждые христианству, несравненно более свободно и независимо
истолковывали философскую мудрость, приближаясь в этом отношении к
Аристотелю, последователями которого они являлись. Так, Ибн Сина утверждал:
«Мудрость, на наш взгляд, бывает двоякой. Во-первых, это совершенное знание.
Совершенное знание в отношении понятия таково, что познает вещь
посредством сущности и определения, а в отношении суждения таково, что является
достоверным суждением обо всех причинах тех вещей, которые имеют причины.
Во-вторых, это совершенное действие. Это совершенство состоит в том, что все,
необходимое для его бытия, и все, необходимое для его сохранения, существует,
и существует в той мере, в какой это достойно его сущности, включая также
все, что служит для украшения и пользы, а не только является необходимым»
(75, 152-153). Мы видим, что человеческая мудрость оценивается здесь как
возможное совершенное знание. И лишь ниже Ибн Сина в духе средневековой
традиции, ссылаясь на Коран, говорит о божественной мудрости, которая постигает
все вещи из самой себя, так как она же их создает (75, 153).
54
Разумеется, Маритена не удовлетворяет «светская» мудрость
древнегреческих философов. Такое толкование мудрости,
правильно замечает он, тяготеет к научному пониманию
действительности. Между тем истинная мудрость, пишет Маритен, есть
мудрость спасения, мудрость святых. К этому представлению о
мудрости приближались, по его мнению, философы Древнего
Востока, поскольку они понимали мудрость как восхождение
человека от земного к божественному. Однако подлинная мудрость,
по Маритену, заключена лишь в христианстве и порожденных им
формах ортодоксальной средневековой теологической и
философской мысли. «Мудрость Ветхого завета, - утверждает
неотомист, - говорит нам, что наша личность существует по сути лишь
в смирении и может быть спасена лишь благодаря божественной
личности... эта сверхприродная мудрость есть мудрость, которая
снисходит» (263, 30-31).
Маритен, мыслитель XX в., насквозь проникнут духом
средневековой теологии и философии. В возвращении к
средневековому образу мысли (имеется в виду, конечно, господствующая
идеология христианского средневековья) он видит выход из
буржуазного, поправшего средневековую религиозность, образа
жизни. «История, - говорит Маритен, - есть невообразимая драма
между личностями и противостоящими друг другу свободами,
между вечностью божественной личности и нашими
сотворенными личностями... Если мы хотим преодолеть кошмар банального
существования нарицательного имени man, при котором условия
современного мира подавляют воображение каждого из нас, если
мы хотим разбудить самих себя и свою экзистенциальность, стоит
в свободное время читать М. Хайдеггера, но мы сделаем гораздо
лучше, если просто станем читать Библию» (263, 30-31). Маритен
высоко оценивает положение Фомы Аквината о трех родах
мудрости: божественной (откровение божие), теологической и
метафизической (последняя, разумеется, занимает низшее место в
иерархии). Неудивительно поэтому, что он осуждает аверроизм,
который, по его определению, был «попыткой отделить
философскую мудрость от мудрости теологической» (263, 56). Таким
образом, неотомистская концепция мудрости непосредственно вводит
нас в круг господствовавших в западноевропейском феодальном
обществе философских и теологических представлений.
Неотомист Хиршбергер рисует средневековое общество как
постоянно пребывающее в сознании бесконечной божественной
мудрости, проявляющейся во всем: в устроении природы,
общества и т.д. «Как никогда, ни в какой другой период духовной
истории Запада, весь мир здесь живет, преисполненный веры в бытие
55
Бога, в его мудрость, могущество и благость. Все разделяют веру
в божественное происхождение мира, разумность
установленного в нем порядка и управления. Все единодушны в
представлении о сущности человека, о его положении в космосе, смысле
его жизни, возможностях его духа в познании мирового бытия
и устройстве его собственной жизни. Все сознают достоинство,
свободу и бессмертие человека, смысл истории, справедливость
основ права и всей государственной власти. Единство и порядок
являются знамением времени» (239, 280).
Разумеется, идиллии, нарисованной современным
католическим историком философии, никогда не существовало:
средневековье знало крестьянские войны, войны между сюзеренами,
сюзеренами и вассалами, между королями и римским папой. Знало
оно и религиозные ереси, светское свободомыслие, инквизицию.
Но утверждения Хиршбергера, так же как и высказывания Мари-
тена, довольно точно воспроизводят господствующее
средневековое убеждение: блаженны нищие духом.
Догматическая вера действительно была синонимом всей
доступной человеку мудрости. И хотя христианское вероучение
утверждало, что человек создан по образу божьему, его истинный
пафос составляло чуждое гуманизму убеждение в ничтожестве
посюсторонней, т.е. действительной человеческой жизни.
Божественная мудрость, проистекающая якобы из бесконечного бытия,
которое противостоит конечной человеческой жизни, отягченной
к тому же первородным грехом, была радикальным отрицанием
«своевольной» человеческой мудрости. Лишь возникновение
капиталистического способа производства и развитие
естествознания и математики указали философии выход из теологического
лабиринта.
3. Новое время - новый идеал философского знания
М. Монтень, выдающийся предшественник французского
Просвещения, разивший с позиций философского скептицизма
теологию и схоластику, возрождает античную,
секуляризированную интерпретацию мудрости. В духе Эпикура Монтень
утверждает, что «вся мудрость и все рассуждения в нашем мире
сводятся, в конечном итоге, к тому, чтобы научить нас не бояться
смерти» (121, 76). В своих «Опытах» он нередко ссылается на
библейские изречения, однако лишь для того, чтобы выявить в
них унаследованную от античности человеческую мудрость,
моральные максимы относительно разумного устроения
человеческой жизни.
56
П. Бейль, другой замечательный представитель буржуазного
свободомыслия, истолковывает мудрость как мужественное
стремление идти до конца в познании истины, бесстрашную готовность
отбрасывать заблуждения и предрассудки, непоколебимое
сознание того, что для разума нет ничего запретного. «Разуму, -
говорит он, - вполне приличествует охотиться за чем угодно. Но
нужно, чтобы сам разум не был ущербным. Необходимо соглашаться
лишь с добрыми и прекрасными мыслями и лишь сообразно им
поступать, что бы ни говорили все окружающие. В обоих
отношениях мудрец равно показывает свое мужество» (13, 95).
Основоположники философии Нового времени Ф. Бэкон и
Р. Декарт идут еще дальше, поскольку они не только отвергают
средневековую идеологию, но и обосновывают новый идеал
знания - научность. Наука понимается как достоверное и
систематическое знание, почерпнутое из естественного, а не
сверхъестественного источника, т.е. путем изучения «великой книги природы»,
открытой для опыта и размышления всех людей. Новое время,
замечает в связи с этим Маритен, характеризуется «конфликтом
между мудростью и науками и победой науки над мудростью»
(263, 56).
Бэкон осмеивает «себялюбивую мудрость» схоластов,
которая, как он говорит, отнюдь не безобидна, а, напротив, явно
вредна обществу. «Себялюбивая мудрость гнусна во всех видах
своих. Это мудрость крыс, покидающих дом, которому суждено
завалиться; мудрость лисы, выгоняющей барсука из вырытой им
норы; мудрость крокодила, проливающего слезы перед тем, как
пожрать свою жертву» (25, 404). Но существует, по-видимому, не
одна только себялюбивая мудрость? Бэкон не отрицает этого, как
не отрицает он и божественной мудрости, но все значение
«естественной философии» заключается, по его убеждению, в
методически, рационально построенном исследовании законов природы
для умножения человеческих изобретений, которые несравненно
больше способны обеспечить благоденствие человечества, чем
все жемчужины древнегреческой мудрости. «Мудрость греков, -
говорит Бэкон, - была профессорская и расточалась в спорах,
а этот род мудрости в наибольшей степени противен
исследованию истины» (25, 35-36).
С точки зрения Декарта, мудрость не есть особый тип знания,
отличный от всякого иного и доступный лишь немногим: «...все
знания в целом являются не чем иным, как человеческой
мудростью, остающейся всегда одинаковой, как бы ни были
разнообразны те предметы, к которым она применяется...» (65, 79). Это
новое понимание мудрости полностью соответствует духу науки
57
Нового времени, которая на место созерцательного рассмотрения
привычной, постоянно наблюдаемой действительности ставит
активное исследование, открытие нового, эксперимент, строгое
доказательство, проверку достигнутых научных результатов.
Декарт - один из основоположников не только философии, но
также математики и естествознания Нового времени. Поэтому и
мудрость, согласно его учению, означает не только «благоразумие
в делах», но также и «совершенное знание всего того, что может
познать человек...» (65, 412). Совершенное знание - знание
достоверное, его предпосылки, твердо установленные
самоочевидные истины, отличаются такой степенью ясности и
отчетливости, которая полностью исключает всякие сомнения. Определяя
философию как любовь к мудрости, а последнюю - как знание
«истин о важнейших предметах» (65), Декарт - подлинный
представитель молодой, прогрессивной буржуазии - убежден в том,
что «люди, более всего занимающиеся философией, часто
менее мудры и не столь правильно пользуются своим рассудком,
как те, кто никогда не посвящал себя этому занятию...» (там же,
413). Никакие оговорки относительно того, что вполне мудр один
лишь Бог, ибо только ему свойственно совершенное знание
всего сущего, не могут ослабить революционного смысла основного
философского требования Декарта - требования научности,
которое, как он постоянно подчеркивал, может быть реализовано
лишь путем самостоятельного критического исследования,
основу которого составляют опыт и «естественный свет» (lumen
naturale) человеческого разума. Существуют, говорит Декарт,
четыре способа достижения мудрости, или научного, истинного
знания: постижение самоочевидных истин; чувственный опыт;
знание, получаемое из общения с другими людьми; чтение
хороших книг. Что же касается божественного откровения, то «оно
не постепенно, а разом поднимает нас до безошибочной веры»
(там же, 414). Это заявление звучит скорее иронически, чем
благочестиво, в особенности если учесть, что, по Декарту, мудрость
не вера, а знание, которое приобретается не в один присест.
Б. Спиноза возрождает эпикурейскую концепцию мудрости,
однако на новой, рационалистической основе, предполагающей
научное, доказательное исследование внешней природы и
человеческой сущности. Эпикур полагал, что философское
объяснение явлений природы должно быть согласовано с чувственными
восприятиями, которые не подлежат сомнению вследствие
своей непосредственности. Спиноза, в отличие от Эпикура, считает
подлинным источником истины не чувства, а независимый от них
разум. Вслед за Галилеем и Декартом Спиноза, полностью оце-
58
нив мировоззренческое значение открытого Николаем
Коперником противоречия между чувственной видимостью и сущностью
явлений, обосновывает необходимость строго логического
(геометрического) доказательства философских положений. С точки
зрения Эпикура, небесные явления в отличие от земных
допускают самые различные объяснения, лишь бы они не противоречили
чувственным восприятиям. Все эти объяснения разумны, если
они способствуют достижению спокойствия души. В
противоположность Эпикуру Спиноза доказывает, что и земное и небесное
должны быть объясняемы однозначно: необходимость повсюду
одна и та же, она носит абсолютный характер.
Мудрость, согласно Спинозе, есть познание всеобщей
необходимости и сообразующееся с нею действие. Поэтому мудрость не
только знание, но и свобода, которая есть господство над самим
собой. Спиноза говорит: «Дело мудреца пользоваться вещами и,
насколько возможно, наслаждаться ими (но не до отвращения,
ибо это уже не есть наслаждение). Мудрецу следует, говорю я,
поддерживать и восстановлять себя умеренной и приятной пищей
и питьем, а также благовониями, красотой зеленеющих растений,
красивой одеждой, музыкой, играми и упражнениями, театром и
другими подобными вещами, которыми каждый может
пользоваться без всякого вреда другому» (161, 560). Как далеко это от
средневекового идеала мудрости!
Спинозовское представление о философе-мудреце обычно
истолковывается так, будто бы мудрец - это отшельник,
погруженный в размышления и чуждый простым человеческим
радостям. В этом есть доля истины, но не следует ее преувеличивать,
особенно если учесть, что в XVII в. ученые были
немногочисленными представителями впервые выделившегося в
профессиональное занятие познания. Мудрость для Спинозы - это прежде
всего интеллектуальная культура, неразрывно связанная с
теоретическим знанием.
В рационалистическом учении Г.В. Лейбница мудрость
истолковывается как «совершенная наука». Правда, такой наукой
Лейбниц считает метафизику, спекулятивную систему «истин
разума», которая противопоставляется эмпирическому научному
знанию, «истинам факта». Идеалистическая интерпретация
принципа научности, рационалистическое «обоснование»
теологических представлений, противопоставление физике метафизики -
все это, конечно, было уступкой господствовавшей феодальной
идеологии. И все же наука, значение которой Лейбниц оценивал
не только как философ, но и как гениальный математик,
является, с его точки зрения, адекватным выражением мудрости. Наука
59
непререкаема; это убеждение разделяют не только материалисты,
но и прогрессивные представители идеалистической философии.
С этих позиций ставят они традиционный философский вопрос о
природе мудрости.
Конечно, понятие науки существовало и в средневековой
схоластике. Даже мистики далеко не всегда отбрасывали это понятие.
Однако наука Нового времени - действительная наука - создает
принципиально новое понятие научности, которое вынуждены
принимать, хотя и не без оговорок, и идеалисты, во всяком случае
те из них, которые являются прогрессивными мыслителями. Что
же касается материалистов, то они - энтузиасты научного
исследования природы.
«Система природы» Гольбаха - энциклопедия философской
мудрости французского материализма XVIII в. Цель этой книги,
говорит Гольбах, - освободить человека из пут невежества,
легковерия, обмана и самообмана, вернуть его к природе, от которой
уводят его религия, умозрительные системы и постыдный культ
заблуждения, указать ему верную дорогу к счастью. Люди
нуждаются в истине больше, чем в хлебе насущном, - таково одно из
основных убеждений философов-новаторов. Люди обманываются
лишь тогда, когда отворачиваются от природы, не хотят считаться
с ее законами, пренебрегают опытом - единственным источником
знания. «Когда люди отказываются руководствоваться опытом и
отрекаются от разума, разгул их воображения растет с каждым
днем; они с радостью углубляются в пучину заблуждения; они
поздравляют себя со своими мнимыми открытиями и успехами,
в то время как в действительности все больший мрак окутывает
их мысль» (57, 137). Вернуться к природе - значит отвергнуть
существование сверхприродного, сверхъестественного, покончить
с химерами, составляющими, согласно Гольбаху, содержание
всех религий. Нет ничего, кроме природы. Она не абстрактное
бытие, а бесконечное целое, бесконечное многообразие явлений.
Человек - высшее произведение природы, и, лишь поступая
согласно ее законам, он достигает своих целей. Добродетель, разум,
истина не спиритуалистические «сущности». Это детища
природы, и только они заслуживают преклонения. И, обращаясь к ним,
Гольбах восклицает: «Внушите мужество человеку, придайте ему
энергию; пусть он осмелится наконец любить и уважать себя;
пусть он осознает свое достоинство; пусть он осмелится
освободиться; пусть он будет счастливым и свободным; пусть он
будет рабом только ваших законов; пусть он улучшает свою судьбу;
пусть он любит своих ближних; пусть он наслаждается сам и дает
наслаждаться другим» (57, 684).
60
Мудрость, согласно этому учению, не должна быть
бесстрастным созерцанием существующего. Ее назначение - быть
воительницей, разоблачать раболепное преклонение перед стариной,
тиранию, невежество и леность, насаждать истину, человечность и
счастье, содействовать разумному преобразованию человеческой
жизни. Страстный революционный протест против феодального
гнета придает французскому материализму новые, качественно
отличающие его от всей предшествующей философии черты.
Это получает свое выражение в самом определении философии.
Гельвеций говорит: «Философия, как это доказывает этимология
самого слова, состоит в любви к мудрости и в поисках истины. Но
всякая любовь есть страсть» (54, 179).
Немецкий классический идеализм, несмотря на свою
противоположность французскому материализму, в сущности
воодушевлен теми же гуманистическими идеалами, которые
обосновываются Гольбахом, Гельвецием и их соратниками. Категорический
императив Канта оказывается при ближайшем рассмотрении
идеалистически-априористическим истолкованием этики
разумного себялюбия. Несмотря на противопоставление практического
разума разуму теоретическому, постулирование необходимости
«практического» выхода за пределы опыта и допущение
теологических догматов в качестве требований нравственного сознания,
Кант непоколебимо убежден в том, что лишь наука составляет
основу мудрости. Именно в «Критике практического разума»
формулируется вывод: «...наука (критически исследуемая и
методически поставленная) - это узкие ворота, которые ведут к учению
мудрости, если под этим понимают не только то, что делают, но
и то, что должно служить путеводной нитью для учителей, чтобы
верно и четко проложить дорогу к мудрости...» (81, 501).
Непосредственный последователь Канта И.Г. Фихте идет в
этом направлении еще дальше. Для него философия - наукоуче-
ние. Субъективно-идеалистическое истолкование факта знания и
предмета познания заключает в себе глубокое противоречие,
которое, однако, выражает реальную противоречивость отношения
между теорией и практикой. Наука, по Фихте, не только высший
тип знания, но и безграничная мощь человечества. И философия
может сохранить свое ведущее место в интеллектуальной
жизни человечества лишь постольку, поскольку ее понимание мира
становится научным и обосновывает принципы всякого научного
знания вообще. С этой точки зрения традиционное толкование
философии как любви к мудрости оказывается несостоятельным, ибо
философия, как и всякое научное знание, должна носить
системный характер. Наукоучение, говорит Фихте, «оставляет спокойно
61
всякую другую философию быть тем, чем ей угодно: страстью к
мудрости, мудростью, мировою мудростью, жизненною
мудростью и какие еще там бывают мудрости» (172, 34). Это не
отрицание мудрости, а отрицание претензий философии на
сверхнаучное знание, отрицание, которое, однако, вступает в конфликт с
идеалистическим конструированием системы законченного,
абсолютного философского знания.
Философия Гегеля - новый шаг вперед на пути от донаучной
философской мудрости к научно обоснованному философскому
знанию, которое понимается им как диалектическое снятие этой
мудрости - ее отрицание и сохранение. Гегель видит научную
задачу своего времени в возвышении философии до уровня науки.
В «Феноменологии духа» он саркастически осмеивает
романтическое философствование, сторонники которого мнят себя
пророками, осененными свыше. Приверженцы такого рода философии
занимаются не исследованием, а вещанием. Они «воображают,
будто, обволакивая туманом самосознание и отрекаясь от
рассудка, они суть те посвященные, коим Бог ниспосылает мудрость во
сне; то, что они таким образом на деле получают и переживают
во сне, есть поэтому также сновидения» (44, 5). Гегель имеет в
виду Шеллинга, Якоби и других философов, тяготеющих к
иррационализму. В противовес им он доказывает, что истина по
природе своей не может быть непосредственным знанием. Она носит
опосредованный характер, развивается, обогащается, выявляет
свойственные ей противоречия. Задача философа - проникнуть в
имманентный ритм развивающегося понятия, избегая
вмешательства в это движение «по произволу и с прежде приобретенной
мудростью...» (44, 32). Речь идет о диалектическом методе,
диалектическом движении философского знания, преодолевающего
свою традиционную метафизическую ограниченность,
догматизм, абсолютизацию достигнутых результатов.
В предисловии к «Феноменологии духа» Гегель писал:
«Истинной формой, в которой существует истина, может быть лишь
научная система ее. Моим намерением было - способствовать
приближению философии к форме науки - к той цели,
достигнув которой, она могла бы отказаться от своего имени любви к
знанию и быть действительным знанием» (44, 32).
Энциклопедия философских наук Гегеля и была такого рода попыткой,
обреченной на провал вследствие ограниченного понимания научной
системы знаний как раз навсегда завершенного целого. Этой
абсолютизации исторически ограниченного философского знания
нельзя было избежать не только вследствие идеалистического
характера гегелевской философии. И созданная основоположника-
62
ми марксизма диалектико-материалистическая философия также
не избежала этой фатальной для всей предшествующей
философии претензии. Она провозгласила бесповоротный отказ от
догматического системосозидания и действительно, строго говоря,
не была разработанной системой философского знания. Но это
не помешало Энгельсу объявить материализм, ставший
диалектическим материализмом, единственно научной философией,
которая тем самым кладет конец всякой иной философии, создатели
которой надеются его превзойти. Ныне нам, отнюдь не
отвергающим диалектический материализм, но стремящимся преодолеть
его историческую (и к тому же претенциозную) ограниченность,
предстоит не только подвергнуть ревизии (испытанию) его
основные положения, но и, по существу, по-новому поставить вопрос
о природе философского знания и его развитии, которое
никогда не завершится созданием единственно истинной философской
системы.
4. Проблема мудрости - действительная проблема
Мой беглый экскурс в историю вопроса о мудрости позволяет
заключить, что значение этого вопроса исторически изменялось.
Можно также сказать, что проблема мудрости никогда не
обсуждалась положительными науками. Не следует ли отсюда вывод,
что мудрость имеет отношение только к философии, да и то лишь
постольку, поскольку она противополагается специальным
наукам? Не является ли слово «мудрость» неясным и поэтому
неудовлетворительным наименованием философского знания? Не
антиподы ли мудрец и ученый даже в тех случаях, когда они
совмещаются в одной личности? Может быть, вообще лучше
отказаться от слова «мудрость», отсутствующего в словаре
положительных наук? «Существует ли такая вещь, как мудрость, или же
то, что представляется таковой, просто максимально
рафинированная глупость?» - спрашивает Б. Рассел (148, 8).
Слово «мудрость», как и многие другие слова, слишком
многозначно. Многие видели мудрость в ясном разграничении добра
и зла, в слиянии знания и поведения, основанного на правильной
оценке основных фактов, типических ситуаций. Это правильно в
том смысле, что мудрость не может быть только знанием, а
действие, не основанное на знании, не может быть мудрым. Но и
здесь возникает вопрос о характере знания и о том, в какой мере
оно представляет собой понимание, и притом чего-то
существенно важного для человеческой жизни. Очевидно, что знание,
являющееся констатацией фактов, даже если для такой конста-
63
тации требуется большая исследовательская работа, еще далеко
от мудрости, которая проявляется скорее как вывод, заключение,
обобщение. Но и обобщение причастно мудрости разве только
тогда, когда оно содержит оценку, способную стать руководством в
решении сложных вопросов теории и практической жизни.
Мудростью часто и, по-видимому, не без основания называли
понимание, соблюдение меры в поведении, в делах, ибо всякая
крайность нехороша. И это, конечно, верно, если сознание меры
не становится половинчатой умеренностью, страхом перед
радикальным решением, когда оно оказывается необходимым.
Часто считают мудростью осознание собственных
заблуждений. Против этого, конечно, не приходится возражать, так как не
ошибается лишь тот, кто ничего не делает, если не считать
ошибкой само ничегонеделание. Но мудрый, по-видимому, отличается
от человека, лишенного мудрости, тем, что он не так уж часто
ошибается или во всяком случае умеет избегать больших,
непоправимых ошибок. Может быть, поэтому многие видели мудрость
в осторожности, неторопливости, осмотрительности. Однако эти
качества, положительные сами по себе, легко могут превратиться
в недостатки: нерешительность, медлительность, бездеятельность.
Обыденное словоупотребление указывает, что от слова
«мудрость» происходит и «мудрствование», т.е. нечто
противоположное. Мудрить, мудрствовать - значит поступать
неразумно: хитрить, выдумывать что-то ненужное, умничать, проявлять
неоправданную самонадеянность и т.д. Создатели весьма
впечатляющего образа Козьмы Пруткова замечательно высмеяли
пошловатую мудрость, проявляющуюся, казалось бы, во вполне
разумных, не вызывающих возражений сентенциях: «смотри в
корень», «бди» и т.д. Народная мудрость зачастую проявляется в
насмешке над мудрствующими, изобретающими мудреные штуки,
в то время как существует простое и разумное решение вопроса.
Говоря о человеке как о разумном существе, мы указываем на
его видовую характеристику. Называя его умным или
талантливым, мы тем самым выделяем его как обладающего качествами,
свойственными не всем. Мудрость свойственна не всем людям,
и вместе с тем она, по-видимому, близка к общечеловеческому
знанию, потенциально свойственному каждому. Мудрость
существует в народных пословицах, поговорках, хотя в них бытует и
лжемудрость, и рабское сознание. Но ведь из всех живых существ
один только человек, именно потому, что он обладает разумом,
может быть неразумным. Не указывает ли это на противоречие,
содержащееся в мудрости и ставящее ее иной раз под вопрос?
«Человек, - справедливо замечает Э. Вейль, - разумное сущест-
64
во, но это не суждение, подобное утверждениям науки, а проект,
нацеленный на преобразование мира, или устранение его
пороков, на выражение наиболее высоких стремлений, наиболее
человеческого в человеке» (302, 11). Однако тут же, совершенно в
духе стоицизма и в явном противоречии с вышесказанным, Вейль
присовокупляет, что человек, когда он объявляет себя разумным,
«не говорит о факте и не претендует на то, чтобы говорить о
факте, но выражает последнее желание, желание быть свободным, но
не от потребности (он никогда не будет свободен от нее, и она не
более стесняет его, чем стесняет она животное), а от желания»
(302, И).
Я утверждаю, что мудрость не пустое слово, не название для
явления, которого не существует. Я полагаю, что мудрость
существует не только в философии; убеждение, что только
философствование ведет к мудрости, - одна из главных иллюзий
философии на всем протяжении ее многовековой истории. Мудрость
приобретается многообразными путями, проявляется в
различных сферах знания и деятельности.
Когда Н. Бор говорил о том, что новый фундаментальный
теоретический синтез в современной физике требует совершенно
новых, «сумасшедших» идей, т.е. идей, по-видимому,
несовместимых с некоторыми утвердившимися в науке истинами, это была
в высшей степени разумная, или, говоря иными словами, мудрая
постановка жизненно важного для дальнейшего развития
естествознания вопроса*.
Утопические социалисты проклинали капитализм как
величайшее моральное зло и извращение человеческой природы,
осуждали эксплуатацию человека человеком как несовместимую
с человечностью и справедливостью. Маркс и Энгельс, не менее
страстно разоблачавшие капиталистический строй, считали
несостоятельной попытку вывести необходимость
социалистического преобразования общества из морализирующей критики
капитализма. Этот мир вопреки иллюзии Лейбница не лучший из
возможных миров, и плохое общественное устройство не
рушится просто вследствие своих моральных недостатков; возможно,
что именно аморализм был одной из тех сил, благодаря которым
* Эта идея Бора в известной мере была предвосхищена английским
материалистом Дж. Пристли, писавшим, что выдающиеся естествоиспытатели,
«предоставляя свободу своему воображению, допускают сочетание самых далеких
друг от друга идей. И хотя многие из этих идей впоследствии окажутся дикими
и фантастическими, другие из них могут повести к величайшим и
капитальнейшим открытиям. Между тем очень осторожные, робкие, трезвые и медленно
мыслящие люди никогда не дойдут до этих открытий» (145, 265).
3. Ойзерман Т.И., том 5
65
утвердилось буржуазное общество. Необходимость перехода от
капитализма к социализму Маркс и Энгельс пытались
теоретически обосновать путем исследования процессов обобществления
средств производства, происходящих в ходе капиталистического
развития, посредством выявления антагонистических
противоречий между пролетариатом и классом капиталистов. Справедливо
утверждая вслед за своими предшественниками - утопическими
социалистами (и коммунистами), что капиталистический способ
производства не вечен, носит преходящий характер, они
глубоко заблуждались, утверждая, что социалистический
общественный строй - единственно возможная альтернатива капитализму.
Но альтернатива, согласно смыслу этого понятия, не существует
в единственном числе. Выходит, таким образом, что и по
отношению к великим мыслителям применима известная пословица:
на всякого мудреца довольно простоты. Этого, увы, не понимали
Маркс и Энгельс, которые пророчествовали: в обществе
будущего не будет не только классовых, но и национальных различий,
не будет товарного производства, денег, а государство просто
отомрет. Им не приходило в голову, что предвидение
отдаленного будущего человечества принципиально невозможно. Но если
невозможно предвидение отдаленного будущего человечества, то
не значит ли это, что мудрость также невозможна? На мой взгляд,
современное понимание мудрости принципиально отлично от
того, как понимали ее в древности.
Мудрость существует, ибо существуют великие, жизненно
важные для человечества (и для каждого отдельного человека)
вопросы; эти вопросы осознаются, формулируются и не могут
остаться без ответа. Пусть эти ответы и не являются
окончательными решениями, они все же (если это мудрые ответы)
способствуют более правильному пониманию проблем, а тем самым и
решению, которое рано или поздно станет возможным.
Философы, противопоставлявшие мудрость науке, всегда
заблуждались. Это заблуждение повторяют и многие современные
философы иррационалистического толка. Нельзя, например,
согласиться с В. Эрлихом, утверждающим, что философия,
«собственно, должна означать мудрость, следовательно, особенное
знание, которое совершенно не совпадает с научным знанием,
достижимым для каждого (достижимым, если имеется необходимое
время и образование)» (221, 17). Никакое знание не должно
противопоставляться науке. Не существует сверхнаучного знания.
Существует, однако, донаучное и ненаучное знание, и
противопоставление мудрости науке делает ее таковой. Значит ли это, что
мудрость должна стать наукой или постепенно приближаться к
66
научному знанию? Никоим образом! Наука есть система понятий,
значение которых органически связано с предметом данной
науки. Мудрость не есть система понятий; специфика мудрости не
может быть определена путем указания на предмет исследования.
У нее, по-видимому, нет такового просто потому, что она не есть
исследование, хотя, конечно, она есть понимание. Это понимание
в наше время основывается на данных науки, но не только на них.
Не меньшее значение имеет для мудрости повседневный и
исторический опыт.
Мудрость не есть идеал знания, так как не всякое знание,
мыслимое в идеале, становится мудростью. Идеально точное и
полное познание какой-либо физической структуры не имеет
ничего общего с мудростью, что, конечно, ни в малейшей мере не
умаляет ценности этого физического знания. Но мудрость не есть
недосягаемый идеал. Рационализм Нового времени, пытавшийся
создать «совершенную науку» мудрости, явно не сознавал, что
абсолютный идеал - бессодержательное понятие. Идеалы
историчны: они порождаются общественным развитием, которое
затем превосходит их в своем поступательном движении. Идеал
знания, идеал общественного устройства как
конкретно-исторические идеалы вполне осуществимы, и именно поэтому к ним
неприменимо понятие абсолютного совершенства. Да и существует
ли такое понятие? По моему мнению, это ненаучное понятие.
Ж. Маритен, пожалуй, «последовательнее» Лейбница, когда
он утверждает, что совершенная наука невозможна, а
совершенная мудрость имеет место лишь в Священном писании. Но это
воззрение имеет смысл лишь для религиозных людей, да и то
лишь для тех, которые видят в Библии «откровение божие», а не
исторический документ. Философия, поскольку она мыслит
понятиями, не может основываться на вере.
Философия начинает с размышлений о мудрости. В наши дни
проблема мудрости сохраняет значение философской проблемы.
Но было бы, очевидно, неправильно полагать, что философия
сводится к исследованию или постижению мудрости. Так
утверждает, например, Ж. Пиаже: «Осмысленный синтез верований
и условий знания, каковы бы они ни были, есть то, что мы
называем "мудростью", и таков, как нам кажется, предмет
философии» (274, 281).
Я не могу согласиться с этим определением мудрости и
предмета философии. Мудрость можно рассматривать как
специфический вид знания, но «осмысленный синтез верований» может
быть назван мудростью разве что применительно к далекому
прошлому, когда еще не существовало научного знания.
з*
67
Одной из специфических особенностей философии является
то, что всеобщее и необходимое значение ее положений
постоянно находится в процессе становления и развития. Характеризует
ли это мудрость? Очевидно, нет. Тем не менее первоначальный
смысл слова «философия» сохраняет свою значимость и в наши
дни. Речь идет о возможности человеческой мудрости, но также и
о том, что мы никогда не будем переполнены ею.
Некоторые современные философы религиозного склада
утверждают, что мудрость деградировала, превратившись в науку,
а на смену искусству пришла техника. Я полагаю, что эти
мыслители неправильно представляют себе и науку и технику. Конечно,
мудрость не состоит в познании структуры ДНК, а искусство -
не поточное производство автомобилей. Однако в современных
открытиях науки и достижениях техники все более выявляется
новая основа и для мудрости, и для искусства.
Мудрость не станет наукой, так же как наука - мудростью.
Философия, как бы высоко она ни оценивала мудрость, не
должна отождествлять себя с нею. Философия может и должна
стремиться к научному обоснованию своих положений. Этот вывод,
однако, не имеет ничего общего с позитивистским третированием
стремления к мудрости как метафизической претензии.
Стоит отметить, что борьба неопозитивизма против
«метафизики» самым неожиданным образом привела сторонников этого
учения к признанию неустранимости «метафизических»
(философских) проблем. Этот примечательный факт следует
рассматривать как свидетельство того, что проблема мудрости сохраняет
свое значение в философии, подобно тому как в обществе не
снимается с обсуждения вопрос о разумном устроении человеческой
жизни. Можно согласиться с Б. Расселом, который при всех своих
колебаниях в оценке содержания и значения философии в
конечном итоге заявляет, что существуют такие общие вопросы, на
которые нельзя получить ответа в лаборатории, из чего, однако, не
следует, что их надо отдать на откуп теологам. Этими вопросами
призвана заниматься философия. «Разделен ли мир на дух и
материю, а если да, то что такое дух и что такое материя? Подчинен
ли дух материи или он обладает независимыми способностями?
Имеет ли вселенная какое-либо единство или цель? Развивается
ли вселенная по направлению к некоторой цели? Действительно
ли существуют законы природы или мы просто верим в них
благодаря лишь присущей нам склонности к порядку? Является ли
человек тем, чем он кажется астроному, - крошечным комочком
смеси углерода и воды, бессильно копошащимся на маленькой и
второстепенной планете? Или же человек является тем, чем он
68
представлялся Гамлету? А может быть, он является и тем и
другим одновременно? Существуют ли возвышенный и низменный
образы жизни или же все образы жизни являются только тщетой?
Если же существует образ жизни, который является
возвышенным, то в чем он состоит и как мы его можем достичь? Нужно
ли добру быть вечным, чтобы заслуживать высокой оценки, или
же к добру нужно стремиться, даже если вселенная неотвратимо
движется к гибели?.. Исследовать эти вопросы, если не отвечать
на них, - дело философии» (148, 7-8).
Я не буду касаться того, как формулирует Рассел основные
философские вопросы и какие из этих вопросов он опускает в
своем перечне. Мне представляется, что эти вопросы в
значительной своей части сформулированы так, что правильный ответ на
них по существу немыслим. Правильнее, на мой взгляд, полагать,
что философские вопросы могут быть правильно поставлены и в
известной мере решены лишь путем теоретического осмысления
достижений науки и практики. Философия, с этой точки зрения,
немыслима вне наук о природе и обществе. Традиционное
представление, бытовавшее в течение многих столетий, а именно что
философия - царица наук (трудно понять, почему этого
представления придерживался диалектический материалист Г.В.
Плеханов), следует выбросить за борт как предрассудок, несмотря на
то что в него верили и многие гениальные представители
философии прошлых веков.
Нельзя не отметить трезвую, действительно
приближающуюся к мудрости теоретическую позицию Б. Рассела. Стремление
избежать догматизма теологов и догматизма вообще приводит
Рассела к скептицизму и умеренному пессимизму, в котором он
видит единственно достойную философа (и ученого вообще)
мировоззренческую позицию. Теоретическое выражение этой
позиции таково: «Неуверенность перед лицом живых надежд и страхов
мучительна, но она должна сохраняться, если мы хотим жить без
поддержки утешающих басен. Нехорошо и то и другое: забывать
задаваемые философией вопросы и убеждать себя, что мы нашли
бесспорные ответы на них. Учить тому, как жить без уверенности
и в то же время не быть парализованным нерешительностью, -
это, пожалуй, главное, что может сделать философия в наш век для
тех, кто занимается ею» (там же, 8-9). По-видимому, есть
немало людей, которые в этих словах готовы увидеть последнее слово
мудрости, хотя мне представляется несомненным, что невозможно
принимать какие-либо значительные решения без уверенности и
без того, чтобы не оказаться скованным той самой
нерешительностью, которую справедливо порицает английский философ.
69
Я рассмотрел различные толкования слова «мудрость» в связи
с возникновением и развитием философии. Памятуя указанную
выше многозначность этого слова, по-видимому, было бы разумно
отказаться от определения понятия мудрости. Ведь бесчисленные
значения слова «мудрость», которые образовались исторически,
но сохраняются и в наши дни и поэтому не могут быть
сброшены со счета, сделали бы всякое такое определение
неудовлетворительным с историко-философской точки зрения. Однако даже
перечисление значений этого слова и констатация того, что эти
значения в какой-то мере перекликаются друг с другом, так или
иначе подводят к понятию. Не претендуя на дефиницию, я все же
хочу рассматривать мудрость как факт, а не призрак, как факт,
который может быть осмыслен, описан, идентифицирован. В таком
случае мудрость может быть понята как обобщение
многообразного знания и опыта человечества, обобщение, фиксирующее
некоторые принципы познания, оценки, поведения, действия. Это,
конечно, слишком общая характеристика, но она все же помогает
перейти от первоначального значения слова «философия» к
рассмотрению специфики философского знания.
Глава 2
О СМЫСЛЕ ВОПРОСА «ЧТО ТАКОЕ ФИЛОСОФИЯ?»
О чем мы спрашиваем,
когда мы спрашиваем:
что такое философия?
В. Подорога
1. Философия как проблема для себя самой
Есть вопросы, на которые имеется множество ответов. Если
один из них правилен, то решение задачи сводится к выбору
правильного ответа. Такой выбор не может быть сделан вслепую: как
в таком случае узнаешь, что ответ выбран правильно?
В философии существует неисчислимое множество
различных ответов на вопрос «что такое философия?». Эти ответы
нельзя охарактеризовать ни как правильные, ни как неправильные.
Дело в том, что каждый ответ на указанный вопрос есть прежде
всего ответ на другой, более частный вопрос. Так,
аристотелевская дефиниция философии есть в сущности определение
философии самого Аристотеля. Но в какой мере учение Аристотеля (как
и любого другого философа) представляет собой аутентичное
выражение исторически изменяющегося содержания, предмета,
сущности философии? Роза есть растение, но растение не есть
роза. Как свидетельствует история философии, почти все
философы были убеждены в том, что их учение - подлинное
выражение неизменной сущности философии*.
* А.А Гусейнов уместно подчеркивает, что в наше время философы «стали
более скромны и благоразумны, чем их великие предшественники, и
стараются не выходить за рамки своей компетенции. Но зато в том, что касается
самой философии, их амбиции ничуть не меньше. Здесь они также претендуют на
последнее слово... Современные философы отличаются от классических тем,
71
Таким образом, если имеется множество ответов на вопрос
«что такое философия?», то его решение не может быть сведено
к выбору наиболее правильного из ответов. Необходимо
исследовать это специфическое множество. При этом, вероятно,
обнаружится, что как вопрос, так и многочисленные ответы на него
вынуждают нас обратиться к той многообразной действительности,
которую философия осмысливает. И тогда для ответа на вопрос,
который вследствие своего слишком частого повторения
начинает вызывать досаду даже у философов, окажется необходимым не
столько сопоставление уже имеющихся ответов, сколько
исследование отношения философского сознания к повседневному и
историческому опыту людей, к так называемым частным наукам,
к социальным потребностям и интересам, ибо лишь исследование
этого исторически изменяющегося отношения может объяснить
как фундаментальный характер самого вопроса, так и
несовместимость различных ответов на него.
Когда задают вопрос «что такое консистенция?», то речь,
по-видимому, идет о смысле термина. Когда спрашивают: «Что
это такое?», то обычно указывают на предмет, вызвавший
вопрос, и тогда ответ не составляет труда, если, конечно, мы имеем
представление о данном предмете.
Конечно, вопрос «что это такое?» может носить и
риторический характер, но тогда он выражает скорее эмоциональное
состояние вопрошающего и поэтому едва ли нуждается в
ответе. В некоторых случаях вопрос «что это такое?» относится к
явлению, которое обнаружено, но еще не изучено. В той мере,
в какой это явление наблюдаемо, ответом на вопрос может
служить его дескриптивная характеристика. Если же она невозможна
или не дает ничего существенного, то вопрос остается открытым:
мы просто не располагаем необходимыми эмпирическими
данными для удовлетворительного ответа.
Совершенно иначе обстоит дело в философии. Смысл
вопроса «что такое философия?», по-видимому, связан со смыслом всех
философских вопросов вообще, а также с положением, в котором
что они не берутся отвечать на все вопросы, а не тем, что они отказываются от
претензий на последнюю философскую истину. И тот факт, что диалектический
материализм не смог обернуть свое содержание на самого себя и превратился в
догму, не было случайностью и ошибкой. В каком-то смысле без такой догма-
тизации философия вообще невозможна... Философия строит свое здание "под
ключ"» (63, 51). Тезис о том, что философия немыслима без догматической
претензии на «последнее слово», представляется мне достаточно спорным. Верно
лишь то, что каждая новая философская система заключает в себе убеждение,
что она решила задачи, которые оказались не по плечу ее предшественникам.
72
находилась философия на протяжении тысячелетий, с ситуацией,
которую она в известной мере переживает еще и теперь.
Конечно, вопрос «что такое философия?», как и всякий
вопрос, может быть выражением той слабой заинтересованности,
которая сплошь и рядом удовлетворяется любым определенным
ответом. Так, например, турист спрашивает о случайно попавшем
в поле его зрения сооружении. Ему отвечают, он записывает
название и движется дальше, к новым названиям. Именно с таким
полубезразличием нередко задается этот вопрос образованным
человеком, которого философия интересует главным образом
потому, что о ней говорят. Некоторые образованные люди хотят
иметь краткие ответы на все вопросы, которые обычно
затрагиваются в беседах между ними: им просто не хочется оказываться
в неловком положении. Но когда вопрос «что такое философия?»
ставят перед собой сами философы, то не приходится
сомневаться в том, что они спрашивают о смысле своей собственной
интеллектуальной жизни и даже о том, имеется ли такой смысл.
Вот почему постановка интересующего нас вопроса самими
философами в значительной мере означает сознание необходимости
оправдать существование философии, доказать ее
действительный raison d'être. Значит, имеются сомнения в правомерности и
состоятельности если не философии вообще, то во всяком случае
большинства ранее или ныне существующих ее разновидностей.
Очевидно, необходимо исследование происхождения видовых
различий между философиями. То, что они исторически
возникли, доказано фактами. Но не являются ли эти различия
непреходящими? Пока не доказано противоположное, вопрос «что такое
философия?» звучит иной раз примерно так же, как знаменитый
вопрос Понтия Пилата «что есть истина?». Не представляет
особой трудности ответить на вопросы: «что такое философия
Шеллинга?», «что такое философия Ницше?», «что такое философия
Сартра?» - не потому, что это простые вопросы, а потому, что
их содержание может быть строго фиксировано. Между тем,
чтобы ответить на вопрос «что такое философия?», необходимо
отвлечься от того, что отличает Шеллинга, Ницше, Сартра и многих
других философов друг от друга. Но что остается после такого
отвлечения, исключающего отличие одной философии от другой?
Абстрактное тождество? Но оно лишь момент конкретного
тождества, существенность которого находится в прямом отношении
к существенности заключающегося в нем различия.
Существование множества несовместимых друг с другом
философий весьма осложняет ответ на вопрос «что такое
философия?». Но это же обстоятельство свидетельствует о том, что
73
трудность ответа на такой вопрос тем больше, чем больше
фактических данных для его решения. Философы в отличие от
неспециалистов в философии располагают этими фактическими
данными. Поэтому-то вопрос «что такое философия?»
представляется им особенно трудным. Таким образом, вопрос «что такое
философия?» совершенно по-разному звучит для учащихся,
приступающих к изучению философии, и для самих философов,
которые задают вопрос самим себе и понимают, что ответ нельзя
просто вычитать из книжки.
Некоторых образованных людей, рассматривающих
философию как слишком серьезное (и утомительное) занятие, чтобы
отдавать ему часы досуга, но вместе с тем недостаточно серьезное,
чтобы отводить для него рабочее время, болезненно раздражает
то, что многие представления, убеждения, понятия, истины,
никогда не вызывавшие у них каких-либо сомнений, оказываются
довольно неясными, сомнительными, шаткими, как только они
становятся предметом квалифицированного философского
обсуждения. Им кажется, что их обманули, лишив бездумной
уверенности в том, что представлялось им столь очевидным. Между тем в
истории философии, где каждый выдающийся мыслитель, вместо
того чтобы возводить следующий этаж, начинает вновь
закладывать фундамент, в сущности нет таких представлений, понятий,
истин, которые не вызывали бы возражений: здесь вопросы,
объявленные решенными (а нередко в какой-то мере действительно
решенные), постоянно снова становятся проблемами. Не потому
ли вопрос «что такое философия?» обсуждается в философии со
времени ее возникновения и до наших дней?
Все выдающиеся философские учения отрицают друг
друга - это эмпирический факт, из которого исходит
историко-философская наука. Такое отрицание может быть абстрактным или же
конкретным, но именно оно, отрицание, характеризует каждую
философскую систему, а следовательно, и специфику философии,
несмотря на то что непосредственно оно указывает лишь на
отличие одних философских систем от других. Эти на первый взгляд
«антагонистические» отношения философских учений друг к
другу постоянно ставили под вопрос идею единства философского
знания. Но если существуют лишь философии, а не философия,
то не теряет ли всякий смысл вопрос «что такое философия?».
Возможна ли в таком случае философия как наука? Значение этих
вопросов исторически возрастало вместе с усиливающейся
дивергенцией философских систем. А то обстоятельство, что
философские системы далекого прошлого постоянно возрождаются и
развиваются на новый лад, придает еще большую остроту этим
74
вопросам, поскольку вследствие этого друг другу противостоят
не только философские учения данной исторической эпохи, но и
все когда-либо существовавшие философии.
В философии не существует однозначного определения
понятий, в том числе и понятия философии. Известно, что Л.
Фейербах неоднократно заявлял: моя философия вовсе не философия.
Но никому не приходит в голову утверждать, что Фейербах не
философ. Диалектический материализм, несмотря на свое идейное
родство с диалектическим идеализмом Гегеля и
антропологическим материализмом Фейербаха, выступает как отрицание
философии в старом смысле слова: отрицание философствования,
противопоставляющего себя положительным наукам и практике.
Тем не менее эта «старая» философия продолжает существовать,
создает новые системы и системки. Это не значит, что
отрицание старой философии не состоялось; диалектический
материализм есть не только отрицание предшествующей философии. Он
выступает также как отрицание всех философских учений,
возникших после него. Это неоправданное, в сущности, априорное
отрицание обрекает философию марксизма на догматизацию
собственных положений. Без преодоления этих пороков философии
марксизма ее дальнейшее, действительно творческое развитие
принципиально невозможно.
В положительных науках истина обычно всегда побеждает
заблуждение в течение сравнительно легко обозримого
исторического периода, необходимого для ее осмысления, дополнительных
проверок, новых подтверждений и т.д. Историко-философский
процесс не знает такой закономерности. Невозможно сказать,
сколько потребуется времени для того, чтобы философская
истина восторжествовала над заблуждением: некоторые философские
истины, установленные сотни лет назад, до сих пор еще не
пробили толщи философских (и не только философских)
предрассудков. Причины этого кроются не столько в философии, сколько в
исторически определенных социально-экономических условиях,
которые находятся в процессе изменения, развития. Но факт
остается фактом, и именно в нем заключается не философский, но
заслуживающий самого пристального внимания источник
вопроса «что такое философия?».
Может показаться, что несовместимость большинства
выдающихся философских учений друг с другом, несовместимость
различных интерпретаций самого понятия философии делают
весьма затруднительным отграничение философских вопросов от
нефилософских. Между тем философы, принадлежащие к
радикально противоположным направлениям, обычно согласны друг
с другом в том, какие вопросы являются философскими, а какие
75
не являются таковыми. Никому из них не придет в голову считать
Ламарка философом потому, что он написал «Философию
зоологии», хотя в этом произведении рассматриваются и
философские вопросы. И не только философы, но и просто искушенные в
философии читатели вполне отличают философские идеи от
нефилософских. Больше того, читая нефилософское произведение,
скажем поэму или роман, они без особого труда обнаруживают в
них философские идеи, а изучая некоторые работы, называемые
философскими, они с уверенностью заявляют, что в них
отсутствуют философские мысли*. Этот неоспоримый факт, значение
которого, как правило, недооценивалось философами, в
особенности выдающимися, свидетельство того, что несмотря на
существование взаимоисключающих философских учений существует
некоторое вполне определенное (хотя и весьма трудно
поддающееся определению) единство этих учений, единство
философского знания, противоречивое единство, единство
противоположностей. Отсюда вытекает вывод: дефиниция понятия философии
не только возможна, но и необходима, хотя она, конечно, будет
весьма абстрактной, поскольку, формулируя такую дефиницию,
приходится абстрагироваться от того, что отличает одни
философские учения от других. Но абстрактное вовсе не означает
неверное, ведь истина в той мере, в какой она конкретна,
представляет собой единство многообразных абстрактных истин.
В монографии «Основы теории историко-философского
процесса» я так формулирую абстрактное определение понятия
философии: «Философия есть система убеждений, образующих
общее теоретическое мировоззрение, которое осмысливает,
критически анализирует, обобщает научные знания, повседневную
практику, исторический опыт, исследует многообразие присущих
природе и обществу форм всеобщности, разрабатывая на этой
основе принципы познания, оценки, поведения и практической
деятельности вообще, с которыми люди в различные
исторические эпохи связывают коренные жизненные интересы» (16, 62)**.
* Однако и это согласие между философами также нередко ставится под
вопрос. Так, В.А. Зуктин, приверженец так называемой аналитической философии,
утверждает вполне в духе Витгенштейна: «Что есть, например, общего между
Платоном, Хайдеггером и Карнапом? Я полагаю, по меньшей мере, фамильное
сходство» (298, XVI). Термином «фамильное сходство» Витгенштейн объяснял
свое отрицание логической корректности любых теоретических обобщений, в
том числе и таких общепринятых понятий, как «растение», «животное».
** В.А. Лекторский и B.C. Швырев также указывают на значение философии
как мировоззрения: «Философия всегда выполняла и должна выполнять
мировоззренческую функцию, которую не берут и не могут взять на себя ни отдельные
конкретные науки, ни совокупность конкретно-научного знания вообще» (103, 21).
76
Я хорошо осознаю, что с таким определением философии многие
не согласятся. Во-первых, немалая часть философов считает, что
философия лишь тогда достойна этого наименования, когда она
представляет собой систему доказанных, обоснованных истин, а
не просто убеждений. Во-вторых, далеко не все философы
согласны с тем, что философия есть мировоззрение', многие из них
считают философию системным исследованием, самопознанием,
самосознанием.
Позволю себе все же обосновать правомерность предложенной
мною дефиниции понятия философии. Термин «мировоззрение»
широко вошел как в научный оборот, так и в повседневное
словоупотребление. М. Борн, выдающийся физик-теоретик, вспоминая
о Гильберте и Минковском, отмечал: «На меня произвело
глубокое впечатление мировоззрение этих двух великих математиков»
(19, 6). Система Н. Коперника, противопоставленная
геоцентрической системе Птолемея, воспринятой христианским
вероучением, обычно называется (и не без оснований) гелиоцентрическим
мировоззрением в противоположность геоцентрическому
мировоззрению. В естествознании XVII-XVIII вв. господствовало, по
общему признанию, механистическое мировоззрение. Известный
астроном И.С. Шкловский подчеркивает, что «при всей огромной
роли астрономии в истории развития земной технологии она
имела и имеет решающее значение для формирования
мировоззрения. В наши дни мировоззренческое значение астрономии
особенно велико» (185а, 61)*.
Гегель пользуется понятием «теоретическое
мировоззрение» для определения идейно-эстетической позиции художника
(49, 192)**. Мировоззрение в связи с этим трактуется как
интеллектуальный центр тяжести духовной жизни человека,
направляющий многообразие переживаний, настроений, убеждений,
мнений, намерений.
В повседневной жизни и зачастую также в искусстве, науке,
политике говорят, например, об оптимистическом мировоззрении,
которое, естественно, противоположно пессимизму, именуемому
также пессимистическим мировоззрением. Пессимизм теорети-
* Можно не согласиться с тем, что астрономия играет решающую роль в
формировании мировоззрения. Решающая роль, конечно, принадлежит
общественному бытию, т.е. реальному процессу жизни общества (См.: Вопросы
философии. М., 1959. №5. С. 65).
** Эта точка зрения является развитием положений И. Канта, который в своей
«Критике способности суждения» впервые ввел в философский оборот термин
«мировоззрение». И.Г. Фихте воспользовался этим термином в работе «Критика
всякого откровения», в котором религиозному мировоззрению
противопоставляется рационалистическое, по существу, иррелигиозное мировоззрение.
77
чески обосновывал А. Шопенгауэр. В философии XX в.
пессимистическое мировоззрение теоретически обосновывал А. Камю,
сравнивая человеческую жизнь с бесплодной, бессмысленной
работой мифологического Сизифа.
К сожалению, до сих пор не создана научно обоснованная
типология мировоззрений. Те попытки, которые имели место
(Г. Гомперс, В. Дильтей), неудовлетворительны, так как для них
характерно принижение научного (главным образом,
естественно-научного) мировоззрения вплоть до отрицания возможности
такового. Так, для Дильтея исходным в определении понятия
мировоззрения является иррационалистическая концепция жизни, в
соответствии с которой мировоззрение определяется как
субъективное осознание чувства жизни, духовного состояния
личности, формы которого исторически изменяются, образуя тем самым
важнейшее содержание каждой эпохи всемирной истории.
Дильтей разграничивал поэтическое, метафизическое и
позитивистское мировоззрения, не выделяя фундаментальной
противоположности науки и религии, научного и религиозного мировоззрений.
Научное мировоззрение он сводил к позитивистской ориентации,
которой противопоставлялось метафизическое видение мира.
Развитие дильтеевской концепции мировоззрения мы
находим в современном экзистенциализме, который в ряде отношений
выступает как новейший, субъективистский вариант «философии
жизни». К. Ясперс, например, утверждает: «Говоря о
мировоззрении, мы мыслим силы и идеи, которые во всех случаях являются
в человеке изначальными, тотальными. Субъективно
мировоззрение выступает как переживание, сила, образ мыслей, а
объективно - как предметно оформленный мир» (247, 1).
Таким образом, существуют различные типы мировоззрений.
Мировоззрение естествоиспытателей носит, как правило,
научный характер, если оно систематизирует обобщения,
складывающиеся в науках о природе. Важнейшее мировоззренческое
основоположение естествознания - объяснять природу из нее самой,
отвергая ссылки на сверхъестественное, - сыграло громадную
роль в развитии не только естествознания, но и наук об обществе.
Однако далеко не все мировоззренческие обобщения наук о
природе применимы в обществоведении. Известно, что попытки
перенесения дарвинизма в социологию приводили к антинаучным
мировоззренческим выводам. Только учитывая существование
различных типов мировоззрений, можно понять
несостоятельность субъективистской интерпретации этого духовного
феномена и неправомерность абстрактной постановки вопроса: является
ли мировоззрение научной или же, напротив, ненаучной систе-
78
мой взглядов? Существование качественно различных, в том
числе и несовместимых друг с другом, типов мировоззрений делает
такую постановку вопроса просто несуразной.
Можно выделить три относительно независимых друг от
друга принципа разграничения мировоззрений. Первый из них я бы
назвал эпистемологическим, поскольку имеются в виду научные,
ненаучные и антинаучные виды мировоззрений. Второй принцип
разграничения носит предметный характер: речь идет о
реальности - природной или социальной - которая получает свое
обобщенное выражение в естественно-научном или
социально-политическом мировоззрении. Третий принцип следует определить
как универсальный и синтетический, равно относящийся как к
природе, так и к обществу. Таким мировоззрением являются, во-
первых, религия и, во-вторых, философия.
Энгельс, обосновывая марксистское отрицание философии в
старом смысле слова, назвал диалектический материализм
«просто мировоззрением». Однако просто мировоззрения, конечно, не
существует, так как существует мифологическое, религиозное,
естественно-научное мировоззрение, социальное мировоззрение,
мировоззрение обыденного, повседневного опыта и, конечно,
философское мировоззрение, короче говоря, философия, точнее,
философии.
Принципиальное значение разграничения разных типов
мировоззрений (несмотря на то что они обычно не существуют,
так сказать, в чистом виде) представляется необходимостью,
не подлежащей сомнению. Естественно возникает вопрос, как
определить понятие мировоззрения? В «Философской
энциклопедии» мировоззрение определяется как «обобщенная система
взглядов на мир в целом, на место отдельных явлений в мире и
на свое собственное место в нем, понимание и оценка человеком
смысла его деятельности и судеб человечества, совокупность
научных, философских, политических, правовых, нравственных,
религиозных, эстетических убеждений и идеалов людей» (168,
454). Достоинство этого определения состоит в указании на то,
что мировоззрение складывается из убеждений, а не просто из
знаний, как это нередко утверждается. В одних случаях это
научные, в других - религиозные, в третьих - нравственные
убеждения и т.д. Понятие убеждения охватывает различного типа
воззрения: научные и ненаучные, теоретические и
нетеоретические. Убеждения могут быть действительными или же мнимыми
знаниями, например, одной лишь субъективной уверенностью,
лишенной объективной основы, верованием, не опирающимся
на факты.
79
Недостаток приведенного определения заключается в том, что
оно сваливает в одну кучу то, что в реально существующих
мировоззрениях оказывается несовместимым, т.е. присущие
различным типам мировоззрений специфические черты.
Мировоззрение, согласно этому определению, есть «совокупность научных,
философских, политических, правовых, нравственных,
религиозных, эстетических убеждений и идеалов людей». Но такой
совокупности нет ни в каком мировоззрении. Научное мировоззрение
противостоит религиозному, социально-политическое
мировоззрение не обязательно является научным, философским, а тем
более эстетическим. Таким образом, это «энциклопедическое»
мировоззрение, поскольку оно включает в себя все
многообразие возможных способов духовного освоения мира, оказывается
слишком универсальным, всеобъемлющим по своему
содержанию. Это обстоятельство важно подчеркнуть, поскольку
мировоззрение не является достоянием одних лишь образованных людей
(в данном случае даже высокообразованных); оно имеется
фактически у каждого взрослого человека, но отнюдь не как коррелят
универсального знания. Поэтому, чтобы определить факт
мировоззрения как он существует в действительной жизни, надо
отказаться от попыток объединить воедино все черты, присущие всем
видам мировоззрений.
Автор цитируемой статьи в известной мере и сам чувствует
недостаток предложенного им определения, поскольку вслед за
приведенной выше цитатой он предлагает разграничить
мировоззрение в широком и узком смысле слова. Этим самым, в
сущности, признается, что мировоззрение в широком смысле слова есть
не более, чем абстрактное понятие о мировоззрениях вообще.
Фактически же существующими мировоззрениями считаются
мировоззрения в узком смысле слова, к которым автор относит
философию, религию, социально-политическое мировоззрение
и т.д. Между тем философия, так же как и религия, меньше всего
может быть названа мировоззрением в узком смысле слова.
Выше уже подчеркивалось, что любое мировоззрение
складывается m убеждений. Термин «убеждение» имеет гражданские
права не только в религии, где он совпадает по содержанию с
верой, не только в философии или социально-политическом
мировоззрении, но также в точных науках, где ученый излагает свои
убеждения не как суждения вкуса, а как научные выводы,
почерпнутые из фактов и подтверждаемые последними. А. Эйнштейн, в
частности, утверждал, что существуют основополагающие
научные убеждения, без которых невозможна
научно-исследовательская работа. «Основой всей научной работы служит убеждение,
80
что мир представляет собой упорядоченную и познаваемую
сущность» (191, 142).
Подчеркивая значение мировоззрения во всех сферах
человеческой деятельности, я не могу обойти молчанием попытки
перечеркнуть его значение, с которыми мы сталкиваемся в различных
позитивистских философиях. Так, неопозитивисты
провозгласили программу очищения науки от «метафизики», разновидностью
которой они считали всякое мировоззрение. Идея разработки,
обоснования научного мировоззрения третировалась
неопозитивистами как пагубное стремление подкрепить научными
аргументами ненаучную систему взглядов.
К сожалению, необходимость поставить под сомнение
понятие мировоззрения ставил и такой чуждый любым
разновидностям позитивизма талантливый русский философ, как П.В. Коп-
нин. «Современная наука, - писал он, - постепенно заменяет это
многозначное слово (т.е. мировоззрение. -Т.О.) другими строго
определенными терминами. Мир - понятие философии и науки
периода их возникновения, когда еще не существовало других,
более зрелых понятий астрономии, физики, философии» (92, 10).
К сожалению, П.В. Копнин не указал «других, более зрелых
понятий», которые могли бы заменить действительно многозначный
термин «мир». Не указал он и тех новых «строго определенных»
терминов, которыми можно было бы заменить термин
«мировоззрение». И это не случайно. Ученые не предлагают упразднить
понятие мировоззрения или заменить его каким-либо другим
понятием. Можно с полным основанием констатировать понятие
мировоззрения в науках о природе, где оно оказывает
существенную помощь в анализе допущений и методологических оснований
научного поиска*. Что же касается несомненной многозначности
термина «мировоззрение», то это, на мой взгляд, отнюдь не
является его недостатком. История науки показывает, что ее наиболее
содержательные понятия неизбежно оказываются
многозначными, в чем диалектически проявляется закономерность процесса
познания. Можно, конечно, заменить термин «мировоззрение»
несколькими другими названиями, обозначающими разные вещи,
к которым имеет отношение этот термин. Однако такая
искусственная операция (мне она представляется едва ли возможной)
означала бы еще большее усложнение проблемы мировоззрения.
* Не случайно, например, то обстоятельство, что XVI Всемирный
философский конгресс (Дюссельдорф, 1978) был посвящен теме «Философия и
мировоззренческие проблемы современной науки». Активными участниками этого
конгресса наряду с философами были и естествоиспытатели, в том числе и
нобелевские лауреаты.
81
Предложение отказаться от термина или же от самого понятия
«мировоззрение» оставляет в тени весьма существенное
обстоятельство: тысячелетия существует религиозное мировоззрение.
Является ли религия единственно возможным мировоззрением?
Если это так (а к этому, по-видимому, склонялся П.В. Копнин),
то мировоззрение оказывается, в сущности, религиозным
мировоззрением, делом веры, а не знания. Поэтому любая попытка
лишить мировоззрение научного или философского статуса
является, если не прямо, то косвенно, признанием того, что только
религия может быть объяснением мирового целого.
Понятие мировоззрения представляется П.В. Копнину
устаревшим, так как само слово «мир» является, с его точки зрения,
лишенным определенного, конкретного содержания. В
особенности это относится к представлению о мире как некоем целом.
Высказанная П.В. Копниным точка зрения была довольно
распространена в советской марксистской литературе. Ее
придерживался, например, такой авторитетный ее представитель, как
Б.М. Кедров. В полемике с ним я привел одно положение из
классического учебника физики Л. Ландау и Е. Лифшица,
положение, которое вынудило его по меньшей мере частично
пересмотреть свое воззрение. Эти выдающиеся теоретики-физики
писали: «В общей теории относительности мир как целое (курсив
мой. - Т.О.) должен рассматриваться не как замкнутая система, а
как система, находящаяся в переменном гравитационном поле; в
связи с этим применение закона возрастающей энтропии не
приводит к выводу о необходимости статистического равновесия» (99,
46). Но то, что относится к общей теории относительности,
по-видимому, применимо и к другим фундаментальным теориям.
Значит, мир как целое не спекулятивная абстракция натурфилософов,
а особый, я бы сказал опосредованный предмет научного
исследования. Мир как целое не есть нечто трансцендентное,
запредельное по отношению к любому достигнутому знанию. Отрицание
принципиальной (всегда, разумеется, исторически ограниченной)
познаваемости мира как целого - глубокомысленная на первый
взгляд точка зрения - оказывается при ближайшем рассмотрении
поверхностно-эмпиристской. Ведь именно ревностные
приверженцы одностороннего эмпиризма всегда утверждали, что мы
познаем лишь конечное, бесконечное же совершенно непознаваемо.
Само собой разумеется, что познание мира как целого всегда
относится к определенным «разрезам» универсума, а не просто
ко всей мыслимой совокупности наличных и возможных
явлений. Если, например, все состоит из атомов, из образующих
атомы элементарных частиц, то, значит, атомная физика изучает
82
мир как целое, хотя она не изучает психических процессов,
общественной жизни и т.д.
Я согласен с СТ. Мелюхиным, который писал: «Тот факт,
что никакая наука не может дать законченного понимания мира
в целом, еще отнюдь не означает, что в наших представлениях не
может быть никакой достоверной информации о свойствах всего
материального мира и что невозможно содержательное
мировоззрение» (113, 144).
Ясно также и то, что философию интересует не только мир как
целое. Философия, в особенности материалистическая
философия, вполне солидаризируется с естествознанием, которое еще на
заре Нового времени характеризовало вселенную как бесконечное
множество миров. Современное естествознание вносит в понятие
мира далеко идущую дифференциацию. Макромир и микромир,
атомный и субатомный, мир видимый и невидимый, но отнюдь не
трансцендентный. Мир животных, мир растений, мир
неодушевленных вещей и духовный мир человека, т.е. мир искусства, мир
науки, мир повседневного опыта. Таким образом, мировоззрение
имеет дело не просто с миром, а с мирами, из которых
складывается единый и вместе с тем бесконечно многообразный мир. В этом
смысле каждый из нас живет во многих мирах и все они
посюсторонние миры, даже если это мир прошлого, которого уже нет,
или мир будущего, которого еще нет. И осознавая многозначность,
и я бы также сказал многозначительность слова «мир», которая,
насколько мне известно, выявляется в языках всех народов, мы,
так сказать, ad oculos осознаем полновесное значение понятия
мировоззрения и несостоятельность всех попыток дискредитировать
это понятие и противопоставить ему научное знание.
Боюсь, что это обстоятельное обсуждение вопроса о
мировоззрении и тем самым о философии, т.е. философском
мировоззрении прервало последовательное изложение вопроса об отличии
философского знания от нефилософского. Однако эту
последовательность изложения нетрудно восстановить.
Итак, философское от нефилософского отличить, пожалуй,
легче, чем химическое от физического. Отличительные
признаки философских рассуждений почти всегда налицо, так как
отрицательное определение философии (т.е. указание на то, что не
есть философия) обычно не составляет труда. Но специфика
философии по-прежнему остается проблемой. Поэтому вопрос «что
такое философия?» следует отнести к числу основных
философских вопросов: он обсуждается не теми, кто не знает философии, а
теми, кто ее обстоятельно изучал и для кого философия - предмет
исследования. Это, следовательно, вопрос, который ставится не
столько другим, сколько самому себе. Постановка этого вопроса -
83
свидетельство развития самосознания философии, необходимое
проявление ее самокритичности.
Надеюсь, теперь ясно, что философия существеннейшим
образом отличается от других систем знания, в частности, также и
тем, что она постоянно вопрошает саму себя о своей
собственной сущности, предмете, назначении. Эта специфическая
особенность философии вполне выявилась уже в Древней Греции, когда
Сократ провозгласил в качестве философского кредо изречение
дельфийского оракула «познай самого себя». Как
свидетельствуют платоновские диалоги, эта задача постоянно сводилась к
обсуждению смысла и назначения философии.
Гегель указывал, что сократические школы, непосредственно
последовавшие призыву Сократа «познай самого себя»,
исследуют «отношение мышления к бытию», пытаясь вскрыть
субъективную сторону человеческого знания, вследствие чего
«предметом философии является сама философия как познающая наука»
(42, 87). Развитие философии в Новое время еще более
впечатляюще показало, что самопознание философии, превращение
философии в предмет специального философского исследования
составляет conditio sine qua non ее плодотворного развития. И тем
не менее каждый философ обосновывает свое собственное
понимание предмета философии, поскольку он создает свою
собственную философскую систему. Наглядный пример этому Гегель,
который утверждал: «... если в других науках предметом
мышления является пространство, число и т.д., то философия должна
сделать предметом мышления само мышление» (45,102).
Отвлекаясь от гегелевского идеализма, в рамках которого мышление
интерпретируется как субстанция-субъект, следует подчеркнуть,
что мышление трактуется Гегелем не просто как функция мозга,
а как содержательное мышление, знание, которое находится в
процессе развития, обогащения, прогресса. Это значит, что Гегель
истолковывает мышление как феномен культуры, можно сказать
даже больше - как квинтэссенцию культуры.
Я сослался в данном случае на гегелевскую концепцию
предмета философии в связи с тем, что своеобразным, разумеется,
материалистическим примером такого культурологического
понимания предмета философии является концепция B.C. Степина,
систематически изложенная в фундаментальном труде
«Теоретическое знание». Рассматривая философию как «теоретическое
ядро мировоззрения», B.C. Степин продолжает: «Осуществляя
рефлексию над универсалиями культуры, она выявляет их и
выражает в логически-понятийной форме как философские
категории. Оперируя с ними как с особыми идеальными объектами,
84
философия способна сконструировать новые смыслы, а значит и
новые категориальные структуры» (164,195).
Существует множество дефиниций понятия культуры. Одни
исследователи понимают культуру как рациональное
преобразование людьми природной среды обитания человечества; другие
видят в культуре достижения науки, техники, искусства; третьи
характеризуют культуру как исторически развивающуюся
социальную природу человека и ее объективации в рамках
существующей иерархии ценностей. Эти положения, конечно, не
исчерпывают понятия культуры, они лишь отражают ее многообразие,
ее «субстанциальное» значение в границах истории человечества
и индивидуального развития человеческого индивидуума. Это и
дает, как я полагаю, основание B.C. Степину определять
философию как рефлексию о культуре. «Культура, - подчеркивает он, -
хранит, транслирует, генерирует программы деятельности,
поведения и общения, которые составляют социально-исторический
опыт» (там же, 268).
Само собой разумеется, что философия как рефлексия о
культуре представляет собой неотъемлемое содержание культуры.
Поэтому она и характеризуется автором как самосознание
культуры, т.е. осознание, осмысление, выражение в понятиях,
категориях ее, в сущности, необозримого содержания, постижение
которого всегда ограничено как объективными историческими
условиями, так и неизбежной субъективностью человека,
выступающего в качестве философа. Этим, но, конечно, не только этим, в
известной мере объясняется множество философских учений,
которое непреходяще и образует modus essendi философии как
специфической формы познания. Этот тезис я обосновываю в
посвященной теории историко-философского процесса монографии
«Философия как история философии»*.
Философия как феномен культуры является вместе с тем ее
духовной потенцией и, если можно так выразиться, ее движущей
силой. «Философское познание, - подчеркивает B.C. Степин, -
выступает как особое самосознание культуры, которое активно
воздействует на ее развитие. Генерируя теоретическое ядро
нового мировоззрения, философия тем самым вводит новые представ-
* «Философия, в отличие от любой другой науки, каков бы ни был
исторический уровень ее развития, существует, так сказать, лишь во множественном
числе. Иначе говоря, философия существует только как философии, т.е.
неопределенное множество различных, противостоящих друг другу философских
систем... Такой она была уже в первое столетие своего исторического бытия; такой
она осталась и в наше время, и нет оснований полагать, что когда-нибудь в
будущем философия утратит свою многоликость, которая, как я убежден, является
ее специфической сущностной определенностью» (129, 5).
85
ления о желательном образе жизни, который предлагает
человечеству. Обосновывая эти представления в качестве ценностей,
она функционирует как идеология. Но вместе с тем и как ее
постоянная интенция на выработку новых категориальных смыслов,
постановка и решение проблем, многие из которых на данном
этапе социального развития оправданы преимущественно
имманентным теоретическим развитием философии, сближающим ее
со способами научного мышления» (там же, 284).
Привлекательность предложенной B.C. Степиным
дефиниции понятия философии несомненна. Но может ли эта дефиниция
стать общепринятой среди философов? Конечно, нет, ибо
плюрализм философий и соответственно этому плюрализм определений
философии исключает такую ситуацию. Так, например, близкий к
экзистенциализму X. Ортега-и-Гассет утверждает, что подлинный
предмет философского поиска - универсум. «Универсум - это
название объекта проблемы, для исследования которого родилась
философия. Но этот объект, Универсум, настолько необычен, так
глубоко отличается от всех остальных, что, конечно же, требует
от философа совершенно иного подхода, чем в других научных
дисциплинах» (271, 86). И далее испанский философ
присовокупляет: «Универсум сам по себе, по своей структуре непроницаем
для мысли, ибо иррационален» (там же, 91). Совершенно
очевидно, что такое представление о предмете философии как, в
сущности, непознаваемом «объекте» совершенно чуждо пониманию
философии как самосознания культуры.
М. Шлик - один из главных представителей
неопозитивизма, глава знаменитого «Венского кружка», следующим образом
истолковывает предмет, вернее даже назначение философии. «В
настоящее время мы видим в философии - и это важнейшая
черта поворота, совершившегося в ней, - не систему результатов
познания, а систему действий. Философия - это деятельность,
посредством которой утверждается или объясняется смысл
высказывания. Философия объясняет высказывания, а науки их
верифицируют» (295, 8). Нет необходимости доказывать, что такое,
предельно зауженное понимание предмета и задачи философии
не имеет ничего общего с тем, что далеко не без оснований может
быть названо самосознанием культуры*.
* Теоретическая позиция М. Шлика получает систематическое развитие в
статье, опубликованной Р. Карнапом, Г. Ганном и О. Нейратом - «Научное
понимание - "Венский кружок"». В ней, в частности, утверждается: «...новое
научное мировоззрение не выдвигает собственных "философских положений", а
только проясняет смысл предложения, точнее, предложения эмпирической
науки...» (Познание (Erkenntnis). 1930,т. 1, с. 73 /Пер. с нем. А.Л. Никифорова). И
далее: «...ясно следующее: не существует никакой философии как основопола-
86
Еще более ограничивает и тем самым обедняет понятие
философии родоначальник так называемой лингвистической, или
аналитической, философии Л. Витгенштейн: «Философия есть
борьба против помрачения нашего разума посредством языка»
(305, 47). Ранний Витгенштейн видел задачу философии в
критическом анализе научных терминов (именно терминов, а не
понятий). В своих поздних трудах Витгенштейн провозглашал
основной задачей философии критический анализ терминов обыденного
языка, повседневного словоупотребления. Сведение философии
к этой частной, хотя и правомерной исследовательской задаче,
фактически порывало с великой философской традицией,
соответственно которой философия трактовалась как специфическое
(именно философское) мировоззрение, качественно отличное от
религиозного, а также естественно-научного мировоззрения,
мифологии и обыденного здравомыслия. Тот факт, что
аналитическая философия, несмотря на решительное выступление против
нее Б. Рассела, К. Поппера, занимает господствующее положение
в современной Англии, свидетельствует, по моему убеждению, о
крайне одностороннем понимании философии в этой стране,
давшей в свое время миру таких великих философов, как Ф. Бэкон,
Дж. Локк и Д. Юм.
Известный французский историк философии и теоретик
историко-философского процесса А. Гуйе пытается доказать, что
подлинное содержание каждой философской системы -
выражение неповторимой творческой индивидуальности
философствующего индивида, способ интеллектуального самоутверждения.
«С нашей точки зрения, - подчеркивает Гуйе, - ни один "изм" не
порождает другой "изм". Если бы Барух (Спиноза. -Т.О.) умер в
детстве, не было бы спинозизма» (225, 20). Получается, что
философская система, в том числе и имеющая эпохальное
значение, - не более, чем индивидуальное, по существу субъективное
гающей или универсальной науки наряду или над различными областями
опытной науки, не существует иного способа содержательного знания, кроме опыта;
не существует мира идей, который находился бы над опытом или по ту
сторону опыта» (там же). «Представители научного миропонимания решительно
стоят на почве простого человеческого опыта. Они уверенно работают над тем,
чтобы убрать с дороги тысячелетний метафизический и теоретический хлам...»
(там же). «В прошлые времена такая позиция называлась материализмом, но с
тех пор, преодолев определенные ущербные формы, развился современный
эмпиризм, который обрел свою прочную основу в научном понимании» (там же,
с. 74). Это заявление, как и декларация М. Шлика, несмотря на неправомерное
ограничение проблематики и задач философии, несомненно, является
выдающимся и прогрессивным событием в философии прошлого века, знаменующем
реальное сближение философии и наук о природе.
87
мировосприятие. Развивая эту субъективистскую точку зрения,
Гуйе утверждает: «Картезианство, мальбраншизм, контизм, берг-
сонианство отсылают нас к тому, что мыслили Рене Декарт,
Николай Мальбранш, Огюст Конт, Анри Бергсон» (там же). Такое
понимание смысла и содержания философских систем бесконечно
далеко от их действительного культурно-исторического значения
в интеллектуальной биографии человечества.
Естественно возникает вопрос: в какой мере обоснованная
B.C. Степиным дефиниция понятия философии относится к
многообразию противостоящих друг другу философских учений. Для
ответа на этот вопрос необходимо, на мой взгляд,
типологическое разграничение философских учений. Натурфилософские
учения первых древнегреческих философов (Фалеса, Анаксимандра,
Анаксимена, Гераклита, Парменида, Эмпедокла, Анаксагора), так
же как натурфилософия Древнего Китая и Древней Индии, едва
ли могут рассматриваться как самосознание культуры, хотя само
их появление на исторической арене - великое
культурно-историческое событие. Но уже воззрения Сократа, философия
Платона и в особенности энциклопедическая система Аристотеля,
безусловно, представляют собой самосознание культуры своего
времени и притом такого рода самосознание, познавательное
значение которого сохраняется в немалой мере и для всего
последующего развития культуры.
Выдающийся историк науки А. Койре справедливо отмечает:
«Труд Аристотеля образует подлинную энциклопедию
человеческого знания... Неудивительно поэтому, что в эпоху развитого
средневековья, ослепленного и подавленного этой массой
знания, этим действительно незаурядным интеллектом, Аристотель
становится представителем истины, вершиной и совершенством
человеческой природы» (250, 18-19).
Что же касается китайских и индийских философских учений
более позднего времени, то я не берусь оценивать их отношение
к культуре современной им эпохи, так как не занимался их
исследованием. То же я, пожалуй, должен сказать о европейской
средневековой философии, хотя с ней я, правда, более знаком. Что
же касается западноевропейской и русской философии Нового и
новейшего времени, то она несомненно выступает как
самосознание культуры. Достаточно указать на английский материализм
XVII в. (Ф. Бэкон, Дж. Локк, Т. Гоббс), рационализм Р. Декарта,
французское просвещение XVIII в. (Вольтер, Ламетри, Гольбах,
Гельвеций и в особенности Д. Дидро и Ж.-Ж. Руссо), философию
Лейбница, немецкую философию от Канта до Гегеля и Фейербаха
включительно, философию марксизма и некоторые философские
88
течения XX столетия, чтобы эвристическое значение
предложенной B.C. Степиным дефиниции понятия философии стало
достаточно очевидным.
Теория историко-философского процесса, которой я посвятил
несколько исследований* и также составляет предмет данной
монографии, к сожалению, не привлекает достаточного внимания в
нашей отечественной литературе, в то время как в Западной
Европе «философия истории философии» получила значительное
и плодотворное развитие. И мне, естественно, доставляет
глубокое удовлетворение тот факт, что теория историко-философского
процесса благодаря исследованию B.C. Степина, посвященному
анализу природы теоретического знания, обогащена новым
весьма содержательным философским обобщением.
Прав был Ф. Шеллинг, утверждавший, что «идея философии
сама является результатом философии, которая как бесконечная
наука одновременно есть и наука о самой себе» (294, 661).
Конечно, философия оказывается «наукой о самой себе» не потому,
что она «бесконечная наука», которая охватывает все. Суть дела,
которую правильно выразил Шеллинг, заключается в том, что
идея философии - результат ее исторического развития и
противоречивое содержание этой идеи - отражение действительных
противоречий развития философии и всего того, что определяет
и содержание и форму этого развития.
В работе «Трансцендентальный идеализм» Шеллинг
подчеркивает: «...что такое философия - является до сих пор
нерешенным вопросом, ответ на который может получиться лишь в
результате самой философии» (185, 37). Этот ответ, полагал
Шеллинг, есть вместе с тем разрешение всех тех проблем, которыми
занимается философия. Следовательно, этот ответ не сводится к
одной лишь дефиниции понятия философии; он непосредственно
связан со всем содержанием философского учения. Это видно и
у самого Шеллинга, поскольку он считает предметом философии
«не бытие, а знание» (там же).
Не следует, однако, полагать, что каждый раз, когда философ
ставит вопрос «что такое философия?», содержание вопроса
остается неизменным и речь идет лишь о его неудовлетворенности
имеющимися ответами. На самом деле фактическую предпосылку
постановки этого вопроса философами составляет не стремление
к совершенной дефиниции, а новая философская проблематика,
которая противопоставляется старой, провозглашается имеющей
* Ойзерман Т.И. Проблемы историко-философской науки. М., 1969, 1983;
Богомолов A.C., Ойзерман Т.И. Основы теории историко-философского
процесса. М., 1983; Ойзерман Т.И. Философия как история философии. М., 1999.
89
несравненно более важное значение и в сущности определяющей
понятие философии.
Когда И.Г. Фихте решительно заявляет, что «вряд ли
найдется и полдюжины таких, которые знали бы, что такое собственно
философия...» (172, 3), то он, конечно, имеет в виду философские
проблемы, выдвигаемые его собственной философией, и
которые, по его мнению, превращают философию в подлинную науку,
способную служить делу разумного переустройства
общественной жизни. Первой задачей философского исследования Фихте
объявляет решение вопроса: в чем заключается назначение
человека вообще? Последней (т.е. завершающей) задачей всякого
философского исследования является решение вопроса,
«каково назначение ученого, или - что то же самое, как выяснится в
свое время, - назначение высшего, самого истинного человека...»
(171, 59). Это понимание философии как науки о человеке и
понимание человека как существа, наиболее адекватно
реализующего в науке имманентную действительности и субстанциальную
разумность, означает, с точки зрения Фихте, что философия есть
наукоучение, т.е. решение вопросов, поставленных еще Кантом.
Совершенно очевидно, что это новое понимание смысла и задач
философии есть вместе с тем и новая постановка вопроса «что
такое философия?».
Таким образом, обсуждение вопроса «что такое философия?»
постоянно выявляет обогащающееся содержание философии,
обновление ее проблематики историческим опытом человечества.
Благодаря этому обсуждаемый вопрос сохраняет свое значение в
течение веков. В наши дни он приобретает особую актуальность,
так как человечество овладело могущественными силами
природы, и это вследствие противоречивого характера общественных
отношений оказывается не только благом, но и небывалой
угрозой самому существованию человечества.
Современный научно-технический прогресс, значение
которого в исторической перспективе развития человечества трудно
переоценить, вновь и вновь поднимает старые, но вечно новые
вопросы о смысле человеческой жизни и «смысле истории», о
природе человека, его отношении к внешнему миру и к
самому себе, о его ответственности, свободе воли и объективной
детерминированности, о неподдающихся предвидению
отдаленных последствиях прогресса и т.д. Те, кто утверждает, что
философия есть исторически изживший себя способ
осмысления эмпирической действительности, объявляют тем самым
все эти смысложизненные вопросы псевдопроблемами. Такая
якобы свободная от мировоззренческого пристрастия установка
90
характерна не только для позитивистского и
структуралистского философствования, но и для технократического мышления;
как, впрочем, и для всего сциентизма, нередко оказывается
косвенной апологией «традиционных», т.е. капиталистических,
отношений. Что же касается мыслителей, осознающих
действительное значение этих философских (и не только философских)
вопросов, мыслителей, отдающих свои силы их решению, то
они рано или поздно приходят к пониманию исторической
необходимости радикальной постановки коренных социальных
проблем. Для них вопрос «что такое философия?» в известной
мере совпадает с проблемой рационального переустройства
общественной жизни.
Научно-техническая революция, ее разительные
достижения, перспективы, противоречия, ее социальные последствия
порождают новые философские проблемы. Современный
философский иррационализм пессимистически оценивает
«чудовищные» научно-технические достижения наших дней*.
Философские иеремиады по поводу «конца технической цивилизации»,
«конца прогресса», неизбежности всемирно-исторической
катастрофы оказываются теснейшим образом связанными с
вопросом «что такое философия?», ибо речь идет об оценке
человеческого разума, науки. Таким образом, вопрос, который в своей
первоначальной форме возникает из эмпирической констатации
множества несовместимых друг с другом философских систем
(и в этом своем качестве представляет интерес главным образом
для философов), в наше время перерастает в вопрос об
исторических судьбах человечества и тем самым становится
социальной проблемой, волнующей каждого мыслящего человека. Речь
идет уже о том, в какой мере человечество способно понять само
себя, управлять своим собственным развитием, стать хозяином
*Ж. Матисс в монографии «Универсальная бессвязность» утверждает:
«Мир - свидетельство трансцендентальной бессвязности. Можно длительное
время предаваться иллюзиям, верить, что мир гармонично сбалансирован,
управляем точными и простыми законами. Но благодаря более полной и точной
информации он оказывается основательно беспорядочным, полным
анархической активности во всех отношениях. Рассматриваемый глобально он выступает
как куча гетерогенных сущностей, подобных в результате брожению
смешанных феноменов, которые комбинируются, искажают друг друга, друг другу
противоречат. И социальный мир не отличается от спектакля физической
природы. Смутные, беспорядочные явления, антагонистические, деструктивные, хотя
иногда они подобны интенционально направленным... человек, пожалуй,
наиболее потрясающий (le plus frappant) экземпляр интимной бессвязности
природы» (258, VI—VII, IX). Однако подзаголовок цитируемой монографии гласит:
«Логика реального и законы природы».
91
своей судьбы, овладеть объективными, в немалой мере
стихийными последствиями своей познавательной и созидательной
деятельности*.
2. Самоограничение, самопознание, самоопределение философии
Вопрос «что такое философия?» есть также вопрос о
предмете, значении и границах философского знания. Никакое
исследование, никакая наука невозможны без самоограничения. Чем
более строго осуществляется эта процедура, тем яснее предмет,
проблематика, задачи, а иногда и возможности данной науки.
Для большинства частных, в особенности прикладных,
научных дисциплин проблема самоограничения решается путем
эмпирической констатации предмета исследования. Гораздо
сложнее обстоит дело в так называемых фундаментальных науках, где
предмет исследования (и сфера компетенции), по-видимому, не
может быть строго ограничен. Если, например, математические,
физические, химические методы исследования получают все
более широкое применение за пределами собственно математики,
физики, химии, то это не только говорит о значении этих методов
для других наук, но в какой-то степени характеризует и предмет
математики, предмет физики и т.д. Поэтому вопросы «что такое
математика?», «что такое физика?» никому не покажутся
лишенными теоретического смысла и значения. Дискуссии, связанные
с постановкой этих вопросов, конечно, могут быть бесплодными,
* Социальный смысл вопроса «что такое философия?» по-своему осознает
и формулирует М. Хайдеггер. Ход его рассуждений примерно таков: атомный
век, атомная энергия - внутренняя сущность материи, имеющая непостижимое
отношение к бытию сущего, определяет наше будущее. Но наука имеет
своим первоисточником философию. Философия как осознание непостижимости
бытия - вот то слово, которое «как бы написано на вратах нашей собственной
истории, мы осмелимся даже сказать - на вратах современной
всемирно-исторической эпохи, которая называется атомным веком» (234, 8). Хайдеггер, как
нередко бывает, отвлекается от реального исторического процесса, т.е.
антагонистических общественных отношений, вследствие которых открытие атомной
энергии получило свою первую впечатляющую объективацию в атомной
бомбе. Угроза, которую термоядерное оружие представляет для человечества,
вытекает, согласно Хайдеггеру, из развития философии, из стремления постигнуть
бытие сущего. С этой точки зрения, в которой скрытым образом содержится
по существу обскурантистская интерпретация научно-технического прогресса
и познания вообще, Хайдеггер рассматривает вопрос «что такое философия?»
как предвосхищение трагической судьбы человечества. Это «не исторический
вопрос, который имел бы целью выяснить, как возникло и развивалось то, что
называют "философией". Это исторический вопрос в том смысле, что он
является роковым (geschickliche) вопросом» (там же, 18).
92
если сводятся к обсуждению одних лишь дефиниций, но они,
несомненно, результативны, когда речь идет о новых проблемах,
открытиях, методах, которые изменяют проблематику данной науки,
ломают устаревшие представления.
Б. Рассел не без основания писал в ту пору, когда сам был
выдающимся математиком: «...один из главных триумфов новейшей
математики заключается в открытии, в чем действительно
состоит математика...» (146, 83). Это звучит парадоксально: выходит,
что математики еще сравнительно недавно не знали, что такое
математика? И это не мешало им совершать великие открытия?
Я убежден, что на эти вопросы нельзя дать однозначного,
безоговорочного ответа. Знали, конечно, но в пределах, которые были
гигантски раздвинуты новейшими открытиями, вследствие чего
прежние представления о предмете этой науки стали
неудовлетворительными, закрывающими дальнейшие перспективы ее
развития.
То обстоятельство, что математики по-разному отвечают на
вопрос «что такое математика?», видимо, не очень их беспокоит.
Открытия, сделанные одними математиками, принимаются
другими независимо от разногласий в определении понятия
математики. В философии же, где нет единодушия в ответе на вопрос
«что такое философия?», разногласия обнаруживаются по всем
обсуждаемым вопросам. Вопрос о сущности философии,
следовательно, превращается в проблему, и, ставя ее, философы
вынуждены объяснять причину кардинальных разногласий в
определении науки (или области знания), относительно которой все
участники спора согласны, что они занимаются именно этой
наукой, этой областью знания*.
Все философы, несмотря на принципиально различные
философские воззрения, тем не менее согласны друг с другом в
том, что вопрос о предмете философии существенно отличается
по своему характеру от вопроса о предмете какой-либо частной
науки. Ограничение предмета исследования в философии также
отлично от аналогичного процесса в любой другой науке:
философия тем-то и отличается от частных наук, что она не может
ограничить себя частными вопросами.
* «Почему, - спрашивает Г. Риккерт, - философы так много говорят о
понятии своей науки, вместо того чтобы, подобно другим ученым, заниматься
разработкой подлежащих им проблем? Даже в определении предмета своей науки
они все еще не пришли к соглашению» (150, 19). Риккерт, конечно, дает свое
решение этого вопроса, с которым не соглашаются другие философы не потому,
что не согласны с его дефиницией предмета философии, а потому, что они
придерживаются иных философских воззрений.
93
Самоограничение, осуществляемое в философии,
заключается прежде всего в исключении из ее состава известного
круга вопросов, именно тех, которыми занимаются частные науки.
Однако это исключение происходит не по воле философов, а в
результате развития частных наук. Философия освобождается от
частных вопросов (и тем самым ограничивает себя)
исторически, на протяжении более чем двух тысячелетий. Значит ли это,
что философия, поскольку она занималась частными вопросами,
не была философией? Очевидно, нет. Философия оставалась
философией и тогда, когда она пыталась решить вопросы, ставшие
впоследствии специальными проблемами физики, химии и т.д.
В наше время философия и частные науки в основном завершили
процесс разграничения своих владений. Философия не
занимается специальными проблемами, но решения этих проблем,
даваемые математикой, физикой, химией и другими науками, имеют
для нее величайшее значение: без этих решений философия не
может познать самое себя и самоопределиться.
Таким образом, вопрос «что такое философия?», который
в прошлом вставал вследствие того, что философия и частные
науки недостаточно размежевались друг с другом, ныне встает
также и потому, что это размежевание уже произошло. Процессы
дифференциации и интеграции научных знаний непосредственно
ставят философские вопросы, усиливают потребность не только в
освоении философией научных достижений, но и в философском
исследовании структуры научного знания. Философия может
справиться с этой задачей в той мере, в какой она сама становится
специфической наукой.
В силу этого вопрос, является ли философия наукой, может
ли она быть таковой, представляет собой один из вариантов
вопроса «что такое философия?». Существует убеждение, что наука
лишь постольку является наукой, поскольку она занимается
частными вопросами. С этой точки зрения философия не может быть
признана наукой. Наука, однако, характеризуется не только своим
«частным» предметом, но и способом - научным способом -
исследования. В этом отношении философия может и должна быть
наукой. Разработка философии как специфической науки - задача,
которую, зачастую, отвергают современные философы. Тем не
менее немалая часть ее представителей по-своему осознает
жизненно важное значение этой задачи. Понятно поэтому полное тревоги
признание престарелого Д. Дьюи в его последней
университетской лекции: «В настоящее время самым важным вопросом в
философии является вопрос "что такое философия сама по себе? какова
природа и функция философских занятий?"» (219, VII).
94
M. Хайдеггер, которому чужда философия прагматизма и,
следовательно, волнующие Дьюи вопросы, тем не менее так же,
как и американский философ, ищет ответ на вопрос, что же такое
философия? В беседе с корреспондентом французского журнала
«L'Express» в 1969 г. он подчеркивает: «Вот уже шестьдесят лет я
пытаюсь понять, что такое философия...». При этом он не
утверждает, что его попытки увенчались успехом.
Современные философы обычно считают, что понятие
философии не поддается определению, поскольку существуют
взаимоисключающие философские учения, каждое из которых
предлагает свою дефиницию понятия философии, которая принципиально
неприемлема с точки зрения других философских учений.
Однако невозможность ответа на вопрос «что такое философия?»
отнюдь не лишает его смысла. Пожалуй, одни только неотомисты
(да и то лишь в меру своей ортодоксальности) не затрудняют себя
обстоятельным рассмотрением этого вопроса, предлагая вместо
ответа довольно банальные дефиниции. Так, Р. Жоливе
определяет философию как «естественную (в отличие от теологии. - Т.О.)
науку о первых причинах вещей и их основаниях» (248, 145).
Разумеется, эта дефиниция принадлежит не Жоливе, а Аристотелю,
у которого ее заимствовал Фома Аквинский. Не приходится
доказывать, что она неприменима к большинству философских
учений прошлого и настоящего, поскольку они прямо или косвенно
отрицают возможность или необходимость метафизических
систем классического типа.
Правда, другие философы, даже если они придерживаются
конфессиональных установок, вполне сознают, что вопрос «что
такое философия?» представляет основополагающую
философскую проблему. Об этом свидетельствует, например, книга М.
Адлера «Положение философии», на которой мы специально
остановимся ниже, а также работа Х.Ф. Мора «Философия сегодня», в
которой автор заявляет: «Всегда было трудно определить, что мы
понимаем под словом "философия", однако в течение двадцатого
столетия трудности определения "философии" так возросли, что
они представляются почти непреодолимыми» (266, 2).
Дж. Хатчинсон, философски обосновывающий
протестантизм, пытается доказать, что решение вопроса «что такое
философия?» дается лишь религией. «Составной частью философии, -
пишет он, - является постановка вопроса: что такое философия?
каковы ее методы? какова ее функция в человеческой жизни?»
(242, 10). Однако, полагает Хатчинсон, философия не может
ответить на этот вопрос, впрочем как и на другие. «Философские
проблемы никогда не получали решения: в лучшем случае они
95
прояснялись, в худшем - затемнялись» (там же, 21). Здесь-то, по
мнению Хатчинсона, религия приходит на помощь философии,
ибо она в сущности занимается теми же вопросами: «Отношение
между философией и религией может быть суммировано таким
образом, что все философии имеют религиозное основание и все
религии имеют философский смысл» (там же, 28-29).
Если Мора высказывает довольно типичное для современного
философа неверие в возможность преодоления якобы
безысходного плюрализма философских систем, то Хатчинсон, надеясь
решить эту задачу путем превращения философии в служанку
религии, еще более рельефно выражает умонастроение духовного
кризиса, проявляющееся в самой постановке буржуазными
философами вопроса о сущности и смысле философии.
С моей точки зрения, ответ на вопрос «что такое
философия?» предполагает исследование генезиса и развития
философского знания, конфронтации философских направлений,
изменения предмета, проблематики философии, ее
взаимоотношения с частными науками, ее идеологической функции и т.д.
Важно, таким образом, понять, что речь в сущности идет не об
одном вопросе, а о целой совокупности вопросов, содержание
которых не оставалось неизменным на протяжении истории.
Ставя вопрос, в каком смысле понятие науки применимо к
философии, нельзя не учитывать в высшей степени
существенные различия между науками (например, между математикой и
историографией). Поэтому я вправе спросить: что такое наука
вообще? Формально наука может быть определена как некое
институционализированное учение, которое изучают в учебных
заведениях. Студенты университета посещают лекции,
участвуют в семинарах, сдают экзамены, получают
соответствующие оценки. Лекции читают профессора и доценты; последние
обычно ведут также семинары. Обучение завершается
государственным экзаменом, успешно сдавшие его студенты получают
соответствующие дипломы, аттестующие их как специалистов
в определенной области.
Институциональное определение науки весьма важно для ее
существования в обществе. Однако оно совершенно
недостаточно для понимания ее познавательного значения. Необходимо,
следовательно, определить, что отличает научное познание от
ненаучного. С моей точки зрения, наука может быть определена как
систематическое специализированное исследование,
ограниченное определенной областью, исследование, применяющее
понятия, доказательства, специальные методы достижения и проверки
своих результатов.
96
Философию следует рассматривать как науку не только с
институциональной, но и с познавательной точки зрения. Как и
всякая наука, она представляет собой систематическое,
специализированное исследование, ограничивающее свою предметную
область хотя бы уже потому, что она исключает проблематику
частных наук. Философия оперирует понятиями,
доказательствами, опытными данными, а также методами проверки
собственных результатов. Научной является не только попытка Спинозы
доказать геометрически основоположения своей системы, но и
попытка Фихте дедуцировать систему категорий, исходя из
понятия абсолютного Я, которое, согласно учению этого философа,
собственно, потому и абсолютно, что радикально отлично от
эмпирического Я, самосознания каждого отдельного человеческого
индивидуума. Это абсолютное Я в конечном итоге совпадает со
знанием в полном объеме его возможного развития. А поскольку
речь идет о знании, следовательно, и о науке, то из ее содержания
безусловно нетрудно логически вывести категории, которыми
оперируют в процессе познания.
Я не могу согласиться с учением и Спинозы, и Фихте. Я
считаю эти учения заблуждениями, разумеется, содержательными,
т.е. заключающими в себе немало истины, правда, неадекватно
выраженной. Но эта моя оценка, хотя она относится не только к
содержанию, но и к методам, применяемым этими философами,
нисколько не опровергает того факта, что философия как форма
систематического специализированного исследования,
независимо от того, научно ли ее содержание, представляет собой науку
(науку sui generis). Было бы грубой ошибкой умалять,
недооценивать форму научности, присущую философии, на том
основании, что она не гарантирует научности содержания. Как
известно, законы логики также не гарантируют истинности логически
правильных высказываний, но если эти высказывания не
согласуются с законами логики, то они, конечно, ошибочны, ненаучны.
Философия сообразуется с законами логики, и поэтому форма ее
научна независимо от содержания того или иного философского
учения. Поэтому следует продолжить обсуждение поставленных
вопросов.
3. Первая историческая форма теоретического знания
Исследование исторического процесса возникновения
философии включает рассмотрение отношения между
зарождающимся философским знанием и теми достаточно обширными
данными повседневного опыта, которыми люди располагали уже в
4. Ойзерман Т.И., том 5
97
древности. Это отношение с самого начала становится
противопоставлением философствования как стремления к одной лишь
истине не только мифологии, но и тем человеческим занятиям,
которые преследуют практические цели. Причиной этого
противопоставления было, на мой взгляд, исчезновение
первоначального непосредственного единства между знаниями и
практической деятельностью, т.е. возникновение теоретического знания,
которое по самой своей природе относительно независимо от
практической деятельности.
Возникновение теоретического знания как в прошлом, так и
в настоящем возможно лишь постольку, поскольку имеется эта
относительная независимость знания от повседневной практики.
Геометрия, судя по этимологии этого слова, исторически
возникла как землемерие, но теоретическим знанием она становится
лишь тогда, когда перестает быть землемерием.
В наше время относительная независимость теории от
практики значительно возросла по сравнению с прошлым, и это
обстоятельство, как мне кажется, позволяет современному
естествознанию основывать новые отрасли промышленного производства,
начало которым положили исследования, не преследовавшие
каких-либо практических целей, и открытия, не имевшие
прикладного значения. Единство научного теоретического знания и
практики является опосредствованным единством, предполагающим
наличие многочисленных промежуточных звеньев как в сфере
научного творчества, так и в практической деятельности.
Именно отсутствие непосредственного единства между теоретическим
знанием и практической деятельностью обусловливает
необходимость внедрения достижений теоретического знания в
производство, общественную практику вообще*.
* В «отрешенности» теоретика от непосредственных практических задач не
следует видеть безразличия к этим задачам. Это скорее форма сосредоточения
внимания, интеллектуальных интересов, усилий, без чего ни наука, ни
философия не способны достигнуть выдающихся, значительно опережающих текущую
практику результатов. Биолог, изучающий нервную систему дождевого червя
или биохимическую эволюцию цветковых растений, непосредственно
вдохновляется стремлением к знанию, а не представлением о пользе, которая
может быть из него извлечена. Следует также иметь в виду, что некоторые теории
(к философии это относится в первую очередь) имеют большое значение не
столько для практики, сколько для развития других теорий, имеющих к ней
прямое отношение. Развивающееся разделение труда неизбежно ведет к тому, что
одни ученые занимаются «чистой» теорией, а другие разрабатывают,
конкретизируют абстрактные теоретические положения, выявляют пути их применения на
практике, что, конечно, также предполагает теоретическое исследование,
открытие определенных закономерностей, а не просто непосредственное практическое
применение абстрактных теоретических положений, что вообще невозможно.
98
Древняя Греция не знала узкой специализации в сфере науки.
Не следует, однако, полагать, что философия в эту эпоху была
единственной, всеобъемлющей наукой. Геродот и Фукидид не
были философами. Не были философами и некоторые
выдающиеся математики и естествоиспытатели Древней Греции.
Однако нефилософские исследования этой эпохи носили в основном
эмпирический характер. Философы были по существу
единственными представителями теоретического знания, и притом на
такой исторической стадии, которая исключает возможность его
систематического применения в производстве и в других сферах
практической деятельности. Эффективная связь теории и
практики, а тем более их сложное, противоречивое единство являются
продуктом исторического развития и теории и практики,
взаимодействия между ними. Это в известной мере объясняет, почему
для первых философов познание (разумеется, теоретическое)
представлялось чем-то не имеющим никакого отношения к
практической (в том числе и социальной) деятельности, почему
философия осознавалась ими лишь как стремление к знанию ради
знания. Практическая (не только производственная, но и
политическая) деятельность людей того времени, конечно, не могла
еще основываться на теоретическом знании. И философия -
самая абстрактная из всех форм теоретического знания - наглядно
выражала эти объективные особенности исторического процесса
становления теоретического знания.
В платоновском «Теэтете» Сократ разъясняет, что знание
отдельных предметов и искусств еще не есть знание само по себе.
Он даже полагает, что тот, кто не знает, что такое знание вообще,
не имеет понятия ни о сапожном, ни о каком-либо другом
мастерстве. Следовательно, можно быть ремесленником, не имея
понятия о ремесле, т.е. обладая лишь известным умением, сноровкой.
Философа же, по Сократу, интересует знание ради него самого,
знание как таковое, безотносительно к его возможному
применению. Поэтому философия коренится в чистой любознательности:
она начинается с удивления, с вопрошания, с рассуждения, цель
которого - истина, а не практическая польза.
Сократ, устами которого выражает свои убеждения Платон,
не то что пренебрежительно относится к знаниям ремесленников,
земледельцев или же к тем знаниям и умениям, которые
необходимы для участия в общественных делах. Он просто утверждает,
что все это ничего не дает философии. В противоположность
софистам, которые учили философии как умению мыслить,
говорить, убеждать, необходимому для участия в общественных
делах, Сократ заявляет, что те, кто действительно чувствует в себе
4*
99
призвание к философии, «с ранней юности не знают дороги ни
на агору, ни в суд, ни в Совет, ни в любое другое общественное
собрание. Законов и постановлений, устных и письменных, они
в глаза не видали и слыхом не слыхали. Они не стремятся
вступить в товарищества для получения должностей, сходки и пиры и
ночные шествия с флейтистками даже и во сне им не могут
присниться. Хорошего ли рода кто из граждан или дурного, у кого
какие неприятности из-за родителей, от мужей или от жен - все
это более скрыто от такого человека, чем, сколько, по пословице,
мер воды в море. Ему не известно даже, что он этого не знает. Ибо
воздерживается он от этого вовсе не ради почета, но дело обстоит
так, что одно лишь тело его пребывает и обитает в городе, разум
же, пренебрегши всем этим как пустым и ничтожным, парит над
всем, как у Пиндара, меря просторы земли, спускаясь под
землю и воспаряя выше небесных светил, всюду испытывая природу
любой вещи в целом и не опускаясь до того, что находится
близко» (139, 173 d, е).
Философ, согласно Платону, излагающему в данном случае
убеждение, в основном сформировавшееся уже в ионийской
натурфилософии, настолько далек от всего, что повседневно
занимает, волнует людей, что его неосведомленность в
общеизвестных вещах создает ему славу бестолкового человека. На брань он
не умеет ответить бранью, «потому что по своей беспечности не
знает ни за кем ничего дурного и в растерянности своей кажется
смешным... Славословия тиранам или царям он слушает так, как
если бы хвалили пастухов... Когда же наш философ слышит, что
кто-то прикупил тысячу плетров или же приобрел еще более
удивительные сокровища, то для него, привыкшего обозревать всю
землю, это - самая малость» (139, 174 cd е)*.
Можно было бы привести аналогичные высказывания и
других древнегреческих философов. Но в этом нет необходимости
для уяснения той очевидной истины, что в древности
теоретическое знание еще не могло быть основой практической деятель-
* М. Лауэ видел в этой созерцательности древнегреческой философии воо-
душевленность теоретическим исследованием, сохраняющую свое значение и
для современного естествознания. «Я сомневаюсь... в том, - писал он, -
посвятил ли бы я себя целиком чистой науке, если бы не пришел в тесное
соприкосновение с греческой культурой и греческим языком, что возможно только
в классической гимназии. Если оставить в стороне исключения, то именно у
греков можно научиться подлинной радости чистого познания» (100, 167).
Можно не соглашаться с Лауэ в оценке классического образования и современного
значения древнегреческой культуры, но совершенно очевидно, что рассуждения
греческих философов о природе философии отражают условия, в которых
возникает и развивается научно-теоретическое знание вообще.
100
ности даже в ее тогдашней ограниченной форме. Заслуживает,
однако, пристального внимания то обстоятельство, что античную
концепцию философии в известной мере разделяли и философы
последующих исторических эпох, когда теоретические знания,
доставляемые математикой и механикой, уже применялись в
производстве. Пример Ф. Бэкона в этом отношении особенно
разителен. Он ратует за всемерное развитие и практическое применение
«натуральной философии» (естествознания), фактически
противополагая ее метафизике, т.е. философии в традиционном смысле
слова, остающейся для него тем не менее самым возвышенным
знанием, которое учит, что «поклонение суетному равносильно
чуме разума» (25, 30). И Бэкон в известном смысле прав: хотя
философия всегда выполняла определенную социальную
функцию, она не была и не могла еще быть такого рода теоретическим
знанием, которое служит научной основой практической
деятельности людей. Иными словами, противопоставление философии
практике, выявившееся вместе с возникновением философии, так
же как и противопоставление философии положительным наукам
(вполне обнаружившееся в Новое время, когда эти науки
обособились от философии), было связано с объективной логикой
развития теоретического знания.
Дело, конечно, не в том, что философы не хотели решать
практических, в особенности политических задач: пример Платона,
в особенности его теория идеального государства, так же как и
его практически-политическая деятельность, говорит о
противоположном. Суть дела скорее заключалась в том, что философия
не была и не могла еще быть специфической научной формой
теоретического знания. Именно это, по моему мнению, имели в виду
Маркс и Энгельс, когда писали: «Для философов одна из
наиболее трудных задач - спуститься из мира мысли в действительный
мир» (115, 3, 448). Эту своеобразную «беспомощность»
философии особенно ярко выявил немецкий классический идеализм,
в учении которого вместе с тем намечаются пути превращения
философии в специфическую науку.
4. Отчужденная форма общественного сознания
Противопоставление философствования практике,
повседневным человеческим занятиям, заботам, интересам было бы
ошибочно рассматривать лишь в гносеологическом плане. Это
исторически неизбежное и прогрессивное в условиях
рабовладельческого общества противопоставление опосредованно отражало
становление противоположности между умственным и физиче-
101
ским трудом, противоречие между свободными и рабами, труд
которых в ходе развития античного общества постепенно вытеснял
труд мелких собственников, вследствие чего производственную
деятельность стали считать недостойным свободного человека,
рабским занятием. Занятия теорией были делом свободного
человека, в частности, и потому, что они не являлись еще, строго
говоря, трудом, а тем более трудом производительным. Умственный
труд в этой своей наиболее развитой, т.е. теоретической, форме
возникает не как труд, а как свобода от него, как субъективная
потребность, а не вынужденное занятие. Однако некоторые
особенности этой первоначальной теоретической деятельности,
вероятно, выражают специфические признаки теоретического
исследования вообще, выявившиеся в последующие эпохи.
Переход от рабовладельческого к феодальному
общественному строю не изменяет существенным образом отношения между
умственным и физическим трудом, но духовная диктатура церкви
разрушает сложившийся в античную эпоху культ теоретического
созерцания действительности. Весьма показательно, что Фома
Аквинский называет жажду знания суетной и преходящей
потребностью, противопоставляя ей религиозное смирение,
благоговейную устремленность к божественному. Буржуазная философия,
антиклерикальная в силу присущего ей антифеодального пафоса,
возрождает античное представление о философии как науке
разума, учение о разумной человеческой жизни, предполагающее ее
мировоззренческое осмысление. Создатели метафизических
систем XVII в. обосновывают характерное для античности
убеждение о независимости философии от практической жизни, -
убеждение, которое в действительности отражает лишь независимость
практической жизни от философии.
Большинство идеалистов противопоставляют «чистую»
теорию эмпирии, фиксируя в известной мере действительное
положение вещей и возводя его в непреходящий принцип философского
знания и философского отношения к действительности.
Некоторые идеалисты, а также материалисты, напротив, осуждают это
противопоставление философии эмпирическому знанию,
пропагандируют союз философии с естествознанием, непосредственно
выражая новые тенденции развития теоретического знания,
стимулируемые потребностями капиталистического производства.
Противопоставление философии эмпирическому знанию
лишь одна сторона медали. Другой ее стороной, как я уже
подчеркивал, является философское «возвышение» над
повседневной практической жизнью с ее ограниченными интересами,
заботами, опасениями. Этот интеллектуальный аристократизм вполне
102
понятен у представителей наиболее образованной части
господствующего класса рабовладельческого общества. Он находит
также свою питательную почву в феодальном обществе, в частности
в христианской интерпретации посюстороннего, бренного мира,
«суеты сует и всяческой суеты». Но почему интеллектуальный
аристократизм становится одной из основных философских
традиций, которая без труда прослеживается в развитии
буржуазной философии даже в ту историческую эпоху, когда она
активно вторгается в общественно-политическое движение, поднимая
знамя борьбы против феодального строя и его идеологии? Может
ли это быть объяснено недостаточным развитием философской
теории? Это, пожалуй, лишь одна из причин. Главное же, по
моему мнению, заключается в том, что «созерцательность»
философии, ее мнимая беспартийность обусловлены самим положением
господствующих классов антагонистического общества, для
которых социальный status quo не исторически преходящая стадия
развития общества, а «естественное» условие цивилизации.
Характерно, что идеологи предреволюционной буржуазии
осознавали необходимость уничтожения феодального строя как
необходимость восстановления естественных человеческих отношений
и осуществления требований чистого разума, противостоящего
своекорыстной «партийности» и партикуляризму
господствующих феодальных сословий.
Таким образом, мнимая беспартийность философии есть
такой же объективный факт, как и всякая видимость, которая,
как известно, противоречит сущности, но вместе с тем
выражает существенное противоречие. В этом своем качестве мнимая
беспартийность как существенная характеристика исторически
определенного философского знания заслуживает специального
исследования. Философия на протяжении почти всего своего
существования, по существу, разделяет эту иллюзию и, так сказать,
живет этой видимостью. С этой точки зрения становится
понятным, что философия марксизма, сознающая и открыто
провозглашающая свою партийность, рассматривающая партийность как
конституирующую определенность философии, осуществила
революционный разрыв с освященной тысячелетиями философской
традицией. Но этот разрыв выявил вместе с тем социальную
сущность философствования. Между тем критики марксизма
увидели в открытии социальной сущности философии... отречение от
философии. Этот примечательный факт указывает не только на
историческую ограниченность этой философской позиции: он
характеризует противоречия исторического процесса развития
философского познания.
103
Противопоставление философского сознания обыденной,
чуждой возвышенным устремлениям жизни заключает в себе еще
один существенный социальный элемент и побудительный мотив
философствования, на который обычно не указывают в
специальных историко-философских исследованиях. В этом
противопоставлении своеобразно отражается возникновение и стихийное
развитие некоторых антагонистических противоречий классового
общества, нередко ужасающих, и представителей
господствующих классов. Следовательно, противопоставление философии
исторически определенной практике рабовладельческого,
феодального и капиталистического строя должно быть рассмотрено и с
позитивной стороны. Сошлемся для разъяснения этого положения
на известную легенду о Фалесе, рассказанную Платоном. Когда
Фалес, «наблюдая небесные светила и заглядевшись наверх, упал
в колодец, то какая-то фракиянка, миловидная и бойкая служанка,
посмеялась над ним, что-де он стремится знать, что на небе, того
же, что рядом и под ногами, не замечает» (139, 174 а). Но Фалес,
как известно, действительно был способен познавать отдаленное:
он, например, предсказал затмение солнца. Ему не были также
чужды практические занятия, как рассказывает об этом
Аристотель: «Когда Фалеса попрекали его бедностью, так как-де занятия
философией никакого барыша не приносят, то, рассказывают,
Фалес, предвидя, на основании астрономических данных, богатый
урожай оливок, еще до истечения зимы раздал накопленную им
небольшую сумму денег в задаток владельцам всех маслобоен в
Милете и на Хиосе; маслобойни Фалес законтрактовал дешево,
так как никто с ним не конкурировал. Когда наступило время
сбора оливок, начался одновременно внезапный спрос со стороны
многих лиц на маслобойни. Фалес стал тогда отдавать на откуп
законтрактованные им маслобойни за ту цену, за какую желал.
Набрав таким образом много денег, Фалес доказал тем самым,
что и философам при желании разбогатеть не трудно, только не
это дело составляет предмет их интересов» (8, 1258 b - 1959 а).
Фалес не стал, впрочем, продолжать столь удачно начатую
предпринимательскую деятельность, а, забросив ее, вновь отдался
философствованию, как оно толковалось тогда, т.е. познанию ради
познания, хотя астрономия и геометрия (они были тогда
составными частями философии) имели также и прикладное значение.
Известно, что Фалес руководил работами по сооружению
канала и решал некоторые другие задачи, имевшие
непосредственное практическое значение. Но философствование, согласно
античной традиции, возвышается над всеми этими житейскими
занятиями, в особенности же над своекорыстием, жаждой богат-
104
ства, так как сущность философии - неустанное стремление к
идеалу знания и подлинной человеческой жизни.
Рассказ о Фалесе стоит рассмотреть с точки зрения
важнейших социальных событий того времени, которые стали
предметом исследования в работе Энгельса «Происхождение семьи,
частной собственности и государства». Разложение
древнегреческого рода под влиянием развивающихся товарно-денежных
отношений вызвало закабаление массы населения, преимущественно
мелких крестьян, немногими богатеями, которым бедняки были
вынуждены отдавать пять шестых ежегодного урожая в качестве
арендной платы или в счет долга за заложенные земельные
участки. Если этого оказывалось недостаточным для погашения долга,
то «должник вынужден был продавать своих детей в рабство в
чужие страны, чтобы расплатиться с кредитором. Продажа детей
отцом - таков был первый плод отцовского права и моногамии!
А если кровопийца все еще не был удовлетворен, он мог продать
в рабство и самого должника. Такова была светлая заря
цивилизации у афинского народа» (115, 21, 112).
Реформа Солона заключалась в уничтожении закладных на
земельные участки и запрещении таких долговых обязательств,
которые ставили бы должника в рабскую зависимость от кредитора.
Солон не был выразителем интересов неимущих классов Аттики.
Мотивы, которыми руководствовался этот представитель родовой
аристократии, по-видимому, коренились в свойственном родовой
общине сознании единства всех ее членов. Но это единство было
несовместимо с частной собственностью и товарно-денежными
отношениями, возникновение которых развило в людях самые
низменные побуждения и страсти в ущерб всем остальным задаткам.
«Низкая алчность была движущей силой цивилизации с ее первого
до сегодняшнего дня...» (там же, 176). Впоследствии эта
ненасытная жажда наживы идеализировалась некоторыми учеными,
экономистами, чего, конечно, не могло быть в античную эпоху. Почти
все античные философы резко осуждают стяжательство, хотя
большинство из них оправдывает рабство, как бы сознавая, что оно
составляет (разумеется, лишь для этой эпохи) единственно
возможную основу цивилизации, а тем самым и философии*. Осуждение
* Эта внутренняя связь между возникновением философии и
возникновением цивилизации нередко отмечается философами. Так, Д. Дьюи утверждает,
что «не существует различия, которое можно было бы считать специфическим,
между философией и ее ролью в истории цивилизации. Дать правильную
характеристику и определить единственную в своем роде функцию цивилизации -
значит определить саму философию» (219, 6). Дьюи, правда, отождествляет
философию и цивилизацию, что, конечно, является весьма односторонним
воззрением как на цивилизацию, так и на философию.
105
страсти к наживе античными философами, по-видимому,
объясняется тем, что товарно-денежные отношения не стали еще
господствующими. Они становятся таковыми в эпоху утверждения
капитализма.
Однако буржуазные философы XVH-XIX вв. были далеки от
того, чтобы петь дифирамбы стяжательству. Они также
осуждают его, но уже не потому, что товарно-денежные отношения еще
не стали господствующими, а, напротив, потому, что капитализм
сводит все общественные отношения к одному-единственному -
чистогану. Гегель называет гражданское общество (bürgerliche
Gesellschaft) царством нужды и рассудка. Это не уступка
феодальной идеологии, а осознание унизительного положения
философии в царстве капитала, где она существует лишь как
разновидность непроизводительного труда.
Маркс указывал, что капитализм враждебен некоторым
формам духовной деятельности. Удивительно ли, что и эти формы
духовной деятельности, несмотря на то что объективно они
выражают потребности капиталистического развития, критически
противостоят его наиболее уродливым проявлениям? Когда Гегель
писал, что «отвращение к волнениям непосредственных страстей
в действительности побуждает приступить к философскому
рассмотрению» (48, 422), он искреннейшим образом выражал свое
отношение к повседневной капиталистической
действительности, хотя буржуазно-демократические преобразования
представлялись ему завершением всемирно-исторического прогресса.
Не следует думать, что философы прогрессивной буржуазии
вдохновлялись теми же мотивами, что и
капиталисты-предприниматели. Буржуазная философия (так же как и искусство),
поскольку она не становится явной апологетикой капитализма,
стремится возвыситься над буржуазной повседневностью и в известном
смысле действительно возвышается над нею*.
* Социальный статус теоретического естествознания в течение
длительного времени не столь уж существенно отличался от положения философии.
Он радикально изменяется, когда оно вместе с техническими науками
становится самой могущественной духовной потенцией технического прогресса.
И все же естествоиспытатель-теоретик постоянно ощущает свое отчуждение в
мире капиталистического бизнеса. Характерны в этом отношении рассуждения
А. Эйнштейна о причинах, которые приводят людей в храм научного творчества.
Причины эти, конечно, разнообразны, но одна из главных среди них - «желание
уйти от будничной жизни с ее мучительной жестокостью и безутешной
пустотой, уйти от извечно меняющихся собственных прихотей. Эта причина толкает
людей с тонкими душевными струнами от личных переживаний в мир
объективного видения и понимания» (115, 42, 39-40). Не правда ли, это напоминает
приведенное выше высказывание Гегеля?
106
Таким образом, представления философов, полагавших, что
теоретическая деятельность позволяет им возвышаться над
миром, который не вдохновляет их даже тогда, когда они признают
его единственно возможным, имеют реальное основание в
антагонистическом характере социального прогресса. «Философ, -
говорит Маркс, - сам абстрактный образ отчужденного
человека- делает себя масштабом отчужденного мира» (115, 42, 157).
Но тот же философ, если он принимает без критики
капиталистический строй, не постигает подлинного источника отчуждения
духовного творчества. Напротив, вследствие этого отчуждения
он сознает себя духовно независимым от тех социальных сил,
интересы которых он выражает, зачастую не испытывая к ним
никакой личной приверженности.
Философия как отчужденное общественное сознание в
условиях антагонистического общества «была, - указывают Маркс и
Энгельс, - только трансцендентным, абстрактным выражением
существующего положения вещей» и именно «вследствие
своего мнимого отличия от мира, должна была вообразить, что она
оставила глубоко под собой существующее положение вещей и
действительных людей. С другой стороны, так как философия
в действительности не отличалась от мира, то она и не могла
произнести над ним никакого действительного приговора, не могла
приложить к нему никакой реальной силы различения, не могла,
значит, практически вмешаться в ход вещей, и в лучшем случае ей
приходилось довольствоваться практикой in abstracto» (115, 2, 43).
Это указание имеет принципиальное значение для понимания
органической связи между созерцательностью, мнимой
беспартийностью философии, отчужденной формой ее существования и ее
протестом против отчужденных общественных отношений.
5. Общественное сознание или наука?
Правильная постановка вопроса «что такое философия?»
предполагает также уяснение относительного различия между
науками и формами общественного сознания, так как
философия имеет прямое отношение как к тем, так и к другим. Науки
определяются (и отличаются друг от друга) предметом своего
исследования: именно предмет науки обусловливает ее методы
исследования и ее социальную функцию. Соответственно этому
социальная функция физики существенно отличается от
социальной функции политической экономии.
Формы общественного сознания отличаются друг от друга
исключительно характером выполняемой социальной функции и
107
определяются им. Едва ли необходимо доказывать, что у искусства
своя социальная функция, у религии - своя, причем это
различие функций не может быть объяснено предметом исследования,
во-первых, потому, что искусство и религия не занимаются
исследованием, во-вторых, потому, что их специфика не определяется
каким бы то ни было объектом. «Сознание (das Bewußtsein), -
говорят Маркс и Энгельс, - никогда не может быть чем-либо иным,
как осознанным бытием (das bewußte Sein), а бытие людей есть
реальный процесс их жизни» (115, 3, 25). Это положение в равной
мере относится и к общественному и к индивидуальному
сознанию. Осознание бытия существенно отличается от исследования
бытия - природы и общества. Осознание существует до всякого
исследования и от него не зависит. То, что результаты
исследования осознаются, становятся содержанием сознания, не стирает
качественного различия между наукой (исследованием) и
сознанием. Общественное сознание, например нравственность, не имеет
предмета исследования. Предмет исследования есть у этики: это
и есть нравственность.
Общественное сознание, отражая общественное бытие, не
есть еще познание общественного бытия: для этого необходимо
его исследование, которое не всегда имело место и, конечно, не
всегда достигало своей цели. Познание общественного бытия, как
и всякое познание, беспредельно. Что же касается общественного
сознания, то оно в рамках исторически определенного
общественного бытия получает относительно завершенную форму,
которая существенно изменяется не вследствие прогрессирующего
процесса познания, а прежде всего благодаря коренным
социально-экономическим преобразованиям. Разумеется, общественное
сознание, став предметом научного исследования, при известных
исторических условиях может превратиться в научно
обоснованное сознание, что, однако, не исключает его специфики. Этот
вопрос еще предстоит сделать предметом рассмотрения в связи с
анализом идеологической функции философии.
Не следует, конечно, чрезмерно противополагать друг другу
сознание и знание. Осознание общественного бытия содержит в
себе и знание о нем, но это еще не научное знание, поскольку
в нем не разграничены объективное содержание и субъективные
представления. Ясно и то, что знание, полученное в результате
исследования, также становится содержанием сознания. Но это
диалектическое единство сознания и знания не стирает
существенного различия между ними.
В науке не только объективная действительность - природная
или социальная - но и ее отражение подвергается анализу, кото-
108
рый отделяет истинное от неистинного; последнее также
отражает действительность, хотя и неадекватным образом. Поэтому
наука есть особого рода отражение, которое с помощью
определенных методов исследования и проверки образует своеобразный
теоретический фильтр, чего, по-видимому, нельзя сказать о
формах общественного сознания, если, как об этом уже было сказано
выше, они не становятся специфическими научными формами
осознания общественного бытия.
Положение, которое философия занимает в истории
интеллектуального развития человечества, в немалой степени
определяется тем, что она является и формой общественного сознания,
и исследованием; в этом последнем отношении она в
принципе может быть подобна любой другой науке. Как форма
общественного сознания философия выполняла (и выполняет) свою
социальную функцию, анализ которой, естественно, не выявляет
предмета ее исследования. В этом своем качестве, т.е. как форма
общественного сознания, она впервые стала предметом научного
исследования лишь благодаря марксизму. До Маркса философы
не выделяли философию как форму общественного сознания.
Да и само понятие общественного сознания было впервые
сформулировано Марксом. Философы - предшественники Маркса -
трактовали философию преимущественно как сверхнаучное
знание, независимое от исторически определенных общественных
отношений. Отсюда и иллюзия «беспартийности» философии,
имеющая не только экономические, по и теоретические корни.
Понятие общественного сознания было выработано марксизмом,
историческим материализмом, вычленившим общественное
бытие как специальный объект научно-философского исследования.
Благодаря этому исследование развития философии стало
преодолением специфических философских иллюзий, закрывавших
путь к пониманию философией своей собственной сущности.
Впервые история философии была понята в ее отношении к
социальным потребностям, социально-экономическим процессам,
классовой борьбе. Материалистическое понимание истории
стало научно-теоретической основой для самосознания философии,
критически подытоживающей свое развитие.
Понятие развития в той мере, в какой оно характеризуется
одними только общими признаками, присущими всякому
процессу развития, очевидно, неприменимо к историко-философскому
процессу. Развитие философии настолько своеобразно, что
одностороннее представление об этом своеобразии нередко приводило
историков философии к фактическому отрицанию развития
философии. Исследование специфики развития философских идей -
109
особая, в высшей степени сложная задача, которая не может быть
решена в рамках одной сколь угодно обширной монографии.
Однако общее представление об этом процессе, безусловно,
необходимо для ответа на поставленный мною вопрос.
Философия, выражаясь парадоксально, исторически возникла
как донаучная форма научного знания. В течение веков
философия считалась главной наукой или во всяком случае
главенствовала в умственной истории человечества. Однако развитие частных
наук и специальная разработка понятия научности показали, что
это понятие неприменимо к философии, этой, так сказать, матери
всех наук. История науки обнаруживает ясную картину
постоянного прогресса. В истории философии такое поступательное
развитие знания может быть выявлено лишь путем специального
исследования, необходимые теоретические предпосылки которого,
как правило, отвергаются большинством философских учений.
Не входя в более обстоятельное рассмотрение этого вопроса,
я полагаю, что специфика исторического развития философии
может быть определена как становление-развитие, т.е. такое
поступательное движение, в котором постоянно происходит
возвращение к исходным теоретическим позициям, но вместе с тем и
продвижение вперед, формирующее предпосылки для
превращения философии в специфическую науку. Однако эти
предпосылки могут быть реализованы лишь при такого рода исторических
условиях, которые складываются независимо от работы
философов (я имею в виду социально-экономические условия,
накопление исторического опыта, развитие наук о природе и обществе).
Становление - единство процессов возникновения и
уничтожения, переход от одного состояния к другому, необходимый
момент развития. Гегелевское понимание становления
характеризуется прежде всего признанием его обратимости; развитие же есть
такого рода изменение, которое является необратимым. Правда,
Гегель абсолютизировал обратимость, присущую становлению,
так как он рассматривает абстракции «чистого бытия» и
«ничто», которые, согласно его учению, непрерывно переходят друг
в друга. Но тот же Гегель доказывал, что результат этого
взаимопревращения - возникновение определенного бытия, признавая
тем самым, что обратимость становления не абсолютна, а
относительна.
Непоследовательность гегелевского понимания становления
может быть преодолена, если рассматривать этот процесс как
переход от одного качественного состояния к другому, вследствие
которого пределы возможной обратимости становления
ограничены его содержанием и условиями.
110
Становление, понимаемое как необходимый момент развития,
не есть процесс, совершающийся в минимальное время.
Становление классового общества, феодального, а также
капиталистического общественного строя совершалось в течение ряда столетий. Еще
более длительны процессы становления в неживой и живой
природе, охватывающие, как известно, миллионы лет. По аналогии это
же можно сказать о философии, в особенности потому, что для нее
характерно наличие качественно различных, в том числе и
взаимоисключающих друг друга учений. Исследование выявляет на всех
этапах развития философии сосуществование и борьбу верований
и знаний, научных убеждений и предрассудков, действительных
открытий и необоснованных, порой фантастических
представлений. В процессе становления-развития философии постоянно
имеют место попятные движения, невозможные в развитии научного
знания, где одна и та же ошибка не повторяется дважды, по
крайней мере в прежнем виде. В философии же нередко все начинается
как бы сначала, хотя, конечно, эти повторные движения вперед от
пункта, уже превзойденного развитием философии, ограничивают
пределы возвращения к старому, «произвол» становления.
Прогресс философии постепенно ограничивает пределы обратимости,
но никогда не устраняет ее полностью: в этой обратимости есть и
позитивный момент, а именно возвращение к старым вопросам на
основе новых данных науки и исторического опыта.
Философы и историки философии, как правило, не понимали
специфики историко-философского процесса и роли становления
в развитии философских знаний. Их собственные философские
учения представлялись им, так сказать, возникшими в их
головах. Эти философы созидали законченные системы
философского знания, которые тем быстрее разрушались последующим
развитием, чем более они обретали форму законченной системы
философских знаний.
Империя Александра Македонского распалась вскоре после
смерти ее основателя: борьба диад охов была лишь неизбежным
проявлением ее внутренней слабости. Философские «империи»
разваливаются тем быстрее, чем более обширные сферы
действительности они «завоевывают», не имея действительных
познавательных средств, чтобы закрепиться на этих «территориях».
Скептицизм (в различных формах - от античного скептицизма до
юмизма и позитивизма XIX-XX вв.) - исторически неизбежное
отступление философии от якобы завоеванных ею позиций,
отступление, которое совершается, так сказать, в полном порядке,
но обычно не сопровождается пониманием действительных
причин поражения философии.
111
Таким образом, развитие философии происходит не путем
непосредственного перехода от одних завоеваний к другим:
философия постоянно разнообразится во времени, т.е. по-разному
стремится решать свою еще не вполне ясно осознанную задачу.
Философия исторически нащупывает свой предмет и постоянно
отклоняется от него, хотя развитие положительных наук
постепенно и неуклонно определяет границы философского
исследования, которые спекулятивный идеализм пытался установить
априорно.
Прогресс, достигаемый в философии в ходе ее
исторического развития, резюмируется не только позитивно, т.е. как
теоретические положения, сохраняющие свое значение, несмотря на
то что они оспариваются или отвергаются их противниками, но
и в форме умножающихся, расчлененных, дифференцированных
постановок вопросов, которые открывают новые проблемы и
направления исследования, выявляют трудности и возможности их
преодоления, обнаруживают недостаточность или
несостоятельность прежних решений (что, однако, не исключает повторения
попыток возвратиться на этот уже дискредитированный
развитием философии путь). В этих попятных движениях, упорном
отстаивании преодоленных заблуждений нередко находят свое
философское выражение политические стремления реакционных и
консервативных классов, а также непоследовательность
прогрессивных сил.
Создание диалектического материализма было попыткой
обосновать возможность и необходимость
научно-философского мировоззрения. Однако эта попытка не могла быть успешной
вследствие идейного (и идеологического) изоляционизма
марксизма, который отвергал с порога все возникшие после него
философские учения, игнорируя поставленные ими новые проблемы,
новые методологические подходы, новые философские темы. Тем
не менее основоположники марксизма справедливо указывали на
своеобразие философских проблем, большинство из которых
никогда не «закрывается», так как новые научные данные, новый
исторический опыт позволяют постоянно обогащать постановку
философских проблем, которые считались решенными
вследствие заблуждений философов. Маркс и Энгельс подчеркивали,
что созданное ими материалистическое понимание истории,
выступая как отрицание философии в ее традиционном понимании,
не отбрасывает вместе с тем прежних завоеваний философской
мысли и, осваивая новые «территории», совершенствует методы
теоретического исследования, учитывая достижения наук о
природе и обществе и благодаря этому глубже проникая в предмет
112
своего исследования. Однако эти заявления носили в основном
декларативный характер; действительного развития
диалектического материализма в трудах основоположников марксизма не
происходило. Не было его и в трудах их ближайших соратников.
Что касается философских учений, появившихся на
исторической арене после возникновения марксизма, то они несомненно
обогащали аквизит философии. Это относится, прежде всего, к
экзистенциализму, неопозитивизму, аналитической философии,
персонализму, прагматизму, «критическому рационализму». Этим
учениям не был присущ характерный для марксизма
идеологический изоляционизм, весьма схожий с сектантской
ограниченностью. Расходясь с диалектическим материализмом по основным
вопросам, они тем не менее воспринимали некоторые положения
материалистического понимания истории, в особенности
марксистскую критику идеологии. Неопозитивизм подобно
марксизму, но более основательным образом разрабатывал философию
как науку sui generis, отвергая, так же как и марксизм,
философию в старом смысле слова, т.е. как метафизику, царицу наук и
т.п. Однако крайнее ограничение проблематики философии
неопозитивистами, представителями аналитической философии и
«критического рационализма» придало традиционному вопросу
«что такое философия?» видимость принципиально
неразрешимой проблемы. То же, однако по другим основаниям, можно
сказать о всех вариантах экзистенциализма, который, поставив в
центре философского исследования проблему человека,
противопоставил человеческую личность обществу и свел человеческое
существование к «экзистенции», особого рода переживанию,
якобы предшествующему реальной эмпирической чувственности и
определяющей последнюю.
6. К критике экзистенциалистской интерпретации вопроса
«что такое философия?»
Выше уже упоминалось о том, что М. Хайдеггер
интерпретирует этот вопрос как роковой не только для философии, но и
для всей цивилизации. Как ни относиться к этому высказыванию,
оно, безусловно, отличается сознанием несомненной важности
поставленного вопроса. В отличие от других философов
Хайдеггер не склонен сводить проблему к поискам более или менее
приемлемой дефиниции философии. Он также хорошо осознает,
что постановка этого вопроса самими философами,
неудовлетворенность имеющимися ответами, постоянное возвращение к
этому вопросу свидетельствуют о том, что предметом обсуждения
ИЗ
является не просто отличие философии от нефилософии; речь
идет о происхождении и сущности философского знания, о
статусе философии и даже больше того - о самом ее существовании.
Следовательно, если этот вопрос «не должен остаться предметом
светской беседы, то, очевидно, философия как философия
должна стать для нас проблемой. Так ли это? А если так, то в какой
мере философия является для нас проблемой?» (234, 19).
Хайдеггер выступает против односторонне
рационалистического толкования философии как науки разума, которое
обосновывалось принципиальным противопоставлением разума
рассудку (немецкий классический идеализм). Несостоятельность
такого понимания философии Хайдеггер видит в том, что оно
предполагает как нечто само собой разумеющееся то, что
именуется разумом. Он пытается размежеваться и с теми, кто склонен
видеть в философии особого рода иррациональное знание: ведь
для вычленения сферы иррационального также необходимо
принять за масштаб разум. Но это-то как раз и составляет проблему.
Ведь никто еще не постиг, что такое разум. Своей ли властью он
сделался «господином философии»? По какому праву? Откуда
он его получил? Возможно, то, что мы называем разумом, само
формировалось философией в ходе ее более чем двухтысячелет-
ней истории. В таком случае не разум - источник философии,
а философия - источник разума. А так как история философии
есть история ее блуждания в поисках истины, то не разум ли
именно и есть это блуждание, проще говоря, заблуждение
человеческого мышления? Не есть ли поэтому мышление нечто
принципиально отличное от разума? Не является ли разум
деградирующей формой мышления?
Хайдеггер пытается возвыситься как над рационализмом, так
и над иррационализмом, однако его фатально тянет к последнему.
Это проявляется не столько в критике рационалистического
культа разума, в которой немало правильного, сколько в явно антиин-
теллектуалистской концепции неопределимого иррационального
бытия. Пытаясь обнаружить истоки этой концепции в учении
первых греческих философов, Хайдеггер предлагает вернуться к
тому первоначальному древнегреческому определению
философии, с которого в известном смысле начинается и ее
существование. «Греческое слово как греческое слово указывает нам путь»
(234, 7).
Хайдеггер подчеркивает, что определение философии как
любви к мудрости имеет в виду отнюдь не любовь. «Чувства, даже
самые прекрасные, не имеют ничего общего с философией. Как
говорят, чувства - это нечто иррациональное» (там же). Что же
114
имеет в виду это первоначальное определение? По-видимому, не
столько любовь, сколько мудрость как недосягаемый объект этой
любви. Но Хайдеггер говорит о «логосе», который есть и слово,
и судьба, и всеопределяющее бытие. Греческое слово, поскольку
оно «логос», указывает, по его мнению, на то, что человек,
человеческое сознание еще не противостояли бытию, а существовали
в нем самом, сами были бытием. Слово, понимаемое как «логос»,
означает, согласно Хайдеггеру, что еще не существует
противоположности между субъектом, сознанием и бытием, разрыва,
якобы определившего всю историю западной философии, науки и
цивилизации в целом. Отсюда следует вывод, что философия -
это сознавали первые греческие философы, но сознавали
непосредственно и поэтому в сущности были не философами, а чем-то
большим - есть соответствие человеческого существования
бытию как скрытой основе всего сущего, являющегося,
предметного. «Ответ на вопрос "что такое философия?" состоит в том, что
мы приходим в соответствие с тем, на что философия направлена.
А это бытие сущего» (234, 33).
Человек, по Хайдеггеру, в сущности всегда и везде пребывает
в соответствии с бытием, но не сознает этого, так как
непосредственно находится во власти сущего - предметов, которые его
окружают, безличных человеческих отношений - и не слышит
поэтому зова бытия. Философия есть попытка человека
вернуться к самому себе, к изначальному бытию, сознательное
установление соответствия своего существования с бытием, реализация
человеческой экзистенциальной сущности.
Если в древнегреческой философии, согласно Хайдеггеру,
сущность языка непосредственно раскрывалась как «логос», то
последующая философия утеряла эту первичную интуицию
бытия и современный человек может приблизиться к нему, лишь
постоянно возвращаясь к древнегреческому источнику
философии. «Специально усвоенное и развертывающееся соответствие,
которое соответствует требованию бытия сущего, есть
философия. Мы учимся постигать, что такое философия, когда мы
узнаем, как, каким образом философия существует. Она существует
как способ соответствия - такого соответствия, которое
созвучно с голосом бытия сущего. Это соответствие (Ent-sprechen) есть
провозглашение (ein Sprechen). Оно находится на службе языка»
(234, 43^4).
Философия есть, с этой точки зрения, постоянное вопроша-
ние о бытии сущего, стремление человека найти путь к своему
бытию, которое вместе с тем есть бытие вообще, попытка
координировать с ним свое существование. Это не более чем вопро-
115
шание, не более чем попытка, ибо бытие непостижимо.
Непостижимо и то бытие, которое есть мы сами; самое большее, чего
может достигнуть философия, да и то если она проникнется
истинной (экзистенциалистской) настроенностью, - это осознать,
что бытие есть, что оно есть бытие всего сущего. Ни мышление,
ни язык, ни другие интеллектуальные акты не могут пробиться к
бытию, они застревают в сущем, и, только сознавая, что это всего
лишь сущее, мы, внимая «голосу бытия», следуем его зову.
Нетрудно понять, что «бытие» в философском лексиконе Хай-
деггера - это все та же кантовская непознаваемая «вещь в себе».
Однако в противоположность Канту Хайдеггер полагает, что
философия лишь постольку имеет смысл, поскольку она
отворачивается от познаваемого сущего и пытается осознать (не познать,
что невозможно) присутствие непознаваемого бытия сущего,
постигая тем самым, что сущее именно потому, что оно сущее,
не есть бытие.
Таким образом, Хайдеггер философски обосновывает,
освящает отчуждение философии от науки - основную тенденцию
иррационалистического философствования*. Науки
интерпретируются им как преуспевающее и самодовольное познание
сущего, которое не есть бытие и само по себе лишено смысла. Науки,
следовательно, - это бегство от бытия в сущее, боязливое
отрицание бытия, самообман. Философия радикально
противоположна науке, если, конечно, она следует категорическому императиву
«фундаментальной онтологии» Хайдеггера. У нее нет предмета в
том смысле, в каком им обладают науки, так как ее предмет -
бытие, которым нельзя обладать: мы сами ему принадлежим. Бытие
неопределимо. Неопределима и философия. Она есть не знание, а
сознание, притом сугубо индивидуальное, ибо общественное
сознание целиком пребывает в безличном, отчужденном от бытия
сущем.
Философия, утверждает Хайдеггер, должна отказаться от
позитивного исследования какой-либо реальности: она есть отрица-
* «Наука, - утверждает Хайдеггер, - не мыслит. Она не мыслит, так как она
по способу своего подхода и по применяемым ею вспомогательным средствам
никогда не может мыслить - мыслить именно так, как это делает мыслитель. То,
что наука не может мыслить, есть не недостаток, а преимущество. Благодаря
этому обеспечивается возможность исследования любой предметной области и
пребывание в ней. Наука не мыслит. Это суждение является для обыденного
сознания недопустимым. Но вопреки этому мы сохраним за этим суждением его
недопустимый характер» (237, 7). Хайдеггер явно мистифицирует мышление,
истолковывая его как «трансцендирование» и тем самым исключая его из науки.
В действительности рассуждения Хайдеггера отражают тот факт, что наукам
чуждо иррационалистическое философствование.
116
ние жизненного смысла всякой познаваемой реальности и любой
теории (науки), которая ее изучает. Философствование не
преодолевает отчуждения человеческой личности: оно призвано лишь
преодолеть иллюзорное представление, будто бы это отчуждение
может быть преодолено. Это «решение» вопроса о сущности
философии, как нетрудно понять, оказывается изложением
экзистенциалистской философии. Впрочем, если отвлечься от
характерной для Хайдеггера иррационалистической интерпретации
бытия, те выводы, к которым он приходит, в основном
совпадают с общими для всех консерваторов убеждениями: человеческая
жизнь не может быть существенным образом изменена,
социальный прогресс не более чем видимость, и сознание этого,
предполагающее отречение от научно-технических «суеверий» нашего
времени, - высшее достижение философии. Это значит, что ирра-
ционалистическое философствование живописуется как
окончательное решение искомой изначальной задачи философии.
Я обрисовал многозначительную попытку Хайдеггера
осмыслить вопрос «что такое философия?». Известно, что Хайдеггер
рассматривает свою «фундаментальную онтологию» как
радикальный разрыв со всей предшествующей (точнее, начинающейся
с Сократа) философской традицией. Между тем хайдеггеровское
рассмотрение вопроса «что такое философия?» показывает, что он
полностью остается в тенетах его спекулятивно-идеалистической
постановки. Он не рассматривает конкретно развитие философии,
ее место в общественной жизни, отношение к частным наукам. То
обстоятельство, что философия возникает как теоретическое
знание в своей донаучной форме, а затем противостоит
обособившимся от нее (или сложившимся независимо от нее) частным
наукам, абсолютизируется Хайдеггером, который просто отметает
тот факт, что противостоящее частным наукам философское
знание отнюдь не независимо от них. Рассуждая о непостижимости
бытия сущего и подводя, таким образом, онтологическую основу
под это противопоставление философии научному знанию,
Хайдеггер игнорирует общественное бытие, существенным образом
определяющее философию. Для этого мыслителя золотой век
философии находится в прошлом, а современная задача философии
заключается в том, чтобы приблизиться к ее древнегреческому
истоку*. Начало философии рассматривается как высший пункт
* Отсюда понятно, почему Хайдеггер, подобно некоторым другим
современным философам, обосновывает миф о смерти философии. «Философия, -
пишет он, - достигла предела своих возможностей после того, как
перевертывание метафизики было осуществлено Карлом Марксом. Философия приходит
к своему концу. Поскольку, однако, философское мышление не оставляет своих
117
«бытийного понимания» именно потому, что «понимание»
противопоставляется знанию, исследованию. Исследование предметно,
«понимание» же есть совершенно особенное постижение сущего,
проистекающее из «изначального понимания», априорного,
предшествующего восприятиям внешних предметов, которые,
согласно Хайдеггеру, представляют собой нечто производное,
сформированное специфически человеческим способом познания и
существования. И, повторяя ошибки большинства философов
прошлого, Хайдеггер истолковывает определения,
характеризующие его философию, как универсальную дефиницию всякой
философии.
Абстрактность, антиисторизм, идеализм, органическое
непонимание роли рационализма, эмпиризма, материализма в
философском развитии, иллюзия беспартийности философии,
романтическая идеализация ее отчуждения - все эти давно изжившие
себя характеристики спекулятивного философствования я нахожу
у Хайдеггера в обновленном с помощью феноменологии виде.
Несостоятельность хайдеггеровской попытки понимания
обусловлена экзистенциалистским идеалистическим истолкованием
истории, природы, человека, познания.
Современный материализм, которому еще надлежит придать
подлинно диалектический характер, призван демистифицировать
проблему философии и решать ее, исследуя действительные
философские вопросы, которые поставлены философией и науками,
историей человечества и современным историческим опытом.
попыток, оно достигает лишь эпигонских ренессансов и их разновидностей»
(235, 63). Нетрудно понять, что действительный факт - кризис идеалистической
философии - интерпретируется Хайдеггером как всеобщая деградация
философии. Более обстоятельному критическому анализу этой концепции посвящена
моя работа «Критика буржуазной концепции смерти философии» (М., 1980).
Глава 3
ЧТО ОТЛИЧАЕТ ФИЛОСОФИЮ ОТ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ НАУК?
1. Качественное многообразие форм знания
Исследование факта знания - одна из важнейших задач
философии. Но и сама философия есть определенный факт знания, анализ
которого призван служить уяснению ее специфики. В этой главе я
хочу сделать предметом анализа своеобразие философской формы
знания. Но оправданна ли такая постановка вопроса, если иметь в
виду не прошлое, а настоящее и будущее философии? Не есть ли
это своеобразие выражение неразвитости, незрелости
философского знания, которое должно быть преодолено в век науки?
Понятие специфической формы познания предполагает
признание существования качественно различных познавательных
отношений к действительности. Совместима ли такая постановка
проблемы с материалистическим положением о единстве
познания, которое во всех своих формах предполагает
непосредственное или опосредованное наблюдение явлений внешнего мира,
обобщение чувственных данных и т.д.?
Философы издавна утверждали, что существует
сверхопытное или же доопытное знание. Отвергая это представление, так
же как и противопоставление друг другу различных видов знания
и способов их получения, я, однако, полагаю, что единство знания
не есть абстрактное тождество. Оно заключает в себе различия,
и притом не только количественные, но и качественные*. Отсюда
В связи с этим понятие качественного различия требует, на мой взгляд,
известного уточнения. В нашей популярной литературе понятие качественного
различия часто отождествляется с коренным, принципиальным различием, что
слишком ограничивает его содержание. Между тем явления качественно
отличаются друг от друга и тогда, когда они выражают одну и ту же сущность.
119
вытекает не только правомерность, но и необходимость
постановки вопроса о качественном своеобразии философской формы
познания.
Психология познания разграничивает чувственные
восприятия и мышление как качественно различные ступени познания.
Чувственные данные осмысливаются, синтезируются
мышлением. Однако чувственные восприятия - не только материал для
мышления, они обладают и некоторым самостоятельным
значением. Зрительные, слуховые, тактильные образы, переживания -
определенные реакции человека представляют собой
специфическую форму знания о внешнем мире, о самом человеке, который
видит, слышит, переживает, о других людях, к которым данный
индивид относится отнюдь не теоретически.
Чувственное отражение внешнего мира не есть научное
знание, но оно и не должно обязательно перерабатываться в научное
знание. Каждый из нас имеет определенные представления о
своих знакомых, близких, о самом себе. Это знание, в котором
перемешаны восприятия и воспоминания, истины, иллюзии, мнения,
переживания, заблуждения, очевидно, утеряло бы свое значение,
если бы оно приняло теоретический характер. Это обыденное
знание, охватывающее не только более или менее субъективные
представления одного человека о другом, но и многие
представления о вещах, которые нам известны, поскольку мы их
достаточно часто воспринимаем, пользуемся ими и т.д.
Теория познания, которую следует отличать от психологии
познания, имеющей обычно дело с отдельными познающими
индивидами, проводит качественное различие между
эмпирическим и теоретическим знанием. Это различие принципиально
несводимо к разграничению между чувственными восприятиями
и мышлением: эмпирические факты устанавливаются и
теоретическим путем. Правильно отмечает В.А. Лекторский: «Как
эмпирическое, так и теоретическое знание предполагают логическую,
рациональную опосредованность и, бесспорно, относятся к
рациональной ступени познания» (102, 45).
Математика никоим образом не может быть отнесена к
эмпирическому знанию, из чего, конечно, не следует, что она не имеет
отношения к чувственно воспринимаемому миру. Астрономия - в
значительной мере математическая дисциплина, но в ней
первостепенное место занимает инструментальное наблюдение,
которое можно назвать научно-исследовательской практикой*. Тео-
* «Астрономия, - говорит В.А. Амбарцумян, - как и в прежние времена,
продолжает оставаться главным образом наблюдательной наукой. Терпеливое
собирание фактов, постоянное стремление к точности наблюдений, если необхо-
120
ретическая физика представляет собой единство теоретического
(в значительной степени математического) и эмпирического
знания. История как наука качественно отличается от политической
экономии хотя бы потому, что она исследует то, чего уже нет.
Таким образом, принципиальное гносеологическое единство
научного знания нисколько не исключает качественного различия
между науками. Существует, разумеется, качественное различие
также между научным и ненаучным знанием, которое в принципе
несводимо к заблуждениям.
Философия на протяжении многих столетий существовала
частью вне науки, частью внутри нее. Однако при этом она всегда
осознавала свое отличие от любой науки, способ существования
которой необходимо предполагает более или менее строгое
ограничение предмета исследования.
Представление о качественном своеобразии философской
формы познания зародилось вместе с философией. Выше уже
говорилось, что вначале специфика философии понималась как ее
отличие от повседневного, а также прикладного знания. В
дальнейшем представление о специфичности философской формы
познания связывалось с ее отличием от частных наук. Всего этого,
однако, еще недостаточно для уяснения своеобразия философской
формы познания, в особенности потому, что разногласия между
философскими учениями существуют и в этом вопросе. Не
отрицается ли тем самым возможность единства формы философского
знания? Было бы ненаучно, антиисторично отождествлять способ
философского исследования античных и современных
мыслителей, рационалистов и иррационалистов, материалистов и
идеалистов, рационалистов и эмпириков и т.д. Но как ни многообразны
типы философских учений, всем им свойственно то, что делает
их именно философскими. Эта специфика философской формы
познания и подлежит исследованию.
2. Умозрение, логика, факты
Уже в древности выработалось убеждение в том, что
своеобразие философской формы знания состоит в умозрительном
способе рассуждения, при котором знание образуется путем
логического вывода, умозаключения, связанного с анализом
обыденных представлений и понятий, уяснением смысла слов и т.д.
Чувственно наблюдаемые факты с этой точки зрения могут быть
димо, многократное повторение однотипных наблюдений - все это остается
незыблемой традицией астрономов. Особенности астрономии, как наблюдательной
науки, наиболее ярко проявились в течение последних десятилетий» (4, 73).
121
предметом объяснения, подтверждением вывода, но никак не
критерием его истинности.
Это воззрение идеалистически обосновывал Платон. Так, в
«Федоне» утверждается, что душа лучше всего мыслит, когда ее
не тревожат «ни слух, ни зрение, ни боль, ни удовольствие, когда,
распростившись с телом, она останется одна, или почти одна, и
устремится к [подлинному] бытию, прекратив и пресекши,
насколько это возможно, общение с телом» (140, 65 cd). Специфику
философского знания Платон выводит, исходя из представления
о сверхчувственном предмете философии. Поскольку философия
не есть эмпирическое исследование наблюдаемого, это
понимание умозрительности, несмотря на его идеалистический
характер, заключает в себе немало рационального.
Мыслящий человек, говорит Платон, приближается к каждой
вещи (насколько это возможно) силой одного только разума.
Одному лишь «чистому» мышлению открывается подлинное бытие
или хотя бы его часть. Гносеология Платона - теория
воспоминания, согласно которой познание становится возможным лишь
благодаря тому, что душа человека отворачивается от чувственно
воспринимаемых вещей, забывает о своей пленной земной
жизни, чтобы, сосредоточившись, погрузиться в самое себя и именно
в себе обнаружить то знание, которое невозможно приобрести в
чувственно воспринимаемом мире. Поэтому Платон призывает
заткнуть уши и закрыть глаза; только оторвавшись от земного,
природного, душа возвращается к себе самой из мира
отчужденного существования. И тогда перед душой встают не вещи, а идеи
вещей, которые она созерцала до своего падения, т.е. воплощения
в человеческое тело. Обыденному представлению (каждый
знает, что значит вспоминать) Платон придает спиритуалистический
смысл: в процессе воспоминания душа приобщается к своему
трансцендентному первоисточнику. Итальянский
философ-экзистенциалист Э. Кастелли соглашается с Платоном, утверждая,
что платонизм «есть именно категорическое утверждение
невозможности познания за пределами воспоминания, именно
утверждение возможности сведения непознанного к познанному»
(211, 8). Идеалистически-рационалистическое истолкование
философского познания Платон обосновывал также
онтологическими допущениями: существование души до рождения
человеческого индивида, ее независимость от тела, бессмертие. Все эти
положения умозрительно «доказывались», с одной стороны, с
помощью принципов, которые считались самоочевидными, с
другой - путем апелляции к обыденному опыту и здравому смыслу.
В том же «Федоне» платоновский Сократ, сославшись на миф,
согласно которому души людей существуют до их рождения,
122
а после их смерти попадают в подземное царство, пытается
логически вывести тезис о бессмертии души. Он исходит из
абстрактного положения, которое ему и его собеседникам представляется
самоочевидным: противоположное возникает из
противоположного. Так, если нечто становится больше, то прежде оно было
меньше; если же, наоборот, нечто уменьшается, значит, до
этого оно было большим. Но если противоположное возникает из
противоположного, то «живущие возникли из мертвых ничуть не
иначе, чем мертвые - из живых» (140, 72 а).
Эти рассуждения, напоминающие «доказательства»,
применявшиеся софистами, Платон подкреплял другими, не менее
умозрительными. Если тезис о существовании души до рождения
человека «доказывался» истолкованием познания как
воспоминания (душа вспоминает то, что человек не запоминал, не знал,
вернее, не знал, что знает, следовательно, это знание было
приобретено до ее вселения в человеческое тело), то
«доказательство» существования души и после смерти индивидуума
получается путем логического развития ранее высказанного положения
о противоположностях: хотя все противоположное возникает из
противоположного, сама противоположность не может быть
противоположна себе самой. Значит, и душа не может стать чем-то
себе противоположным, т.е. безжизненным или, скажем,
видимым, претерпевающим изменения, уничтожающимся*.
Платон подверг критике материалистическое представление о
душе как о гармонии образующих тело частей, гармонии, которую
сравнивали с хорошо настроенным музыкальным инструментом.
Но музыкальный инструмент, говорил Платон, может быть лучше
или хуже настроен, тогда как душа не может быть в большей или
меньшей степени душой. Если бы душа была настроенностью
телесных частей, то порочная душа была бы ненастроенностью,
т.е. не обладала бы качеством души**.
* A.A. Гусейнов подчеркивает такие, даваемые Платоном, характеристики
души: «Душа обрекается на земное существование на срок по крайней мере в
10 тысяч лет (ибо она не может окрылиться раньше) и лишь в редких случаях на
3 тысячи лет, если за это время она трижды изберет образ жизни мудреца.
Падение души на землю оказывается в то же время "грехопадением", рождение
человека - торжеством зла. Правда, это не абсолютная победа зла, душа сохраняет
возможность, опираясь на силы разума, вернуться на небосвод, но тем не менее
теперь с вхождением в тело, борьба разума с вожделением происходит на новом,
более низком и менее благоприятном для разума уровне» (62, 131).
** Критика идеализма Платона не должна затмевать того существенного
обстоятельства, что именно Платон систематически обосновывал эссенциализм,
учение о противоположности между явлениями и их сущностью, т.е. тем, что
не выступает непосредственно в явлении и может быть открыто лишь на пути
123
В наши дни даже идеалисты обычно отвергают столь
прямолинейные заключения. Если они и высказывают подобного рода
положения, то лишь как допущения, не претендуя на их
доказательство. Однако умозрительность не следует отождествлять с ее
идеалистической интерпретацией: атомистика Демокрита также
была плодом умозрительного рассуждения. Сущность
умозрительности - логический процесс, который с необходимостью
выводит за пределы наличных опытных данных. Наивность,
ошибочность рассуждений Платона разоблачается логикой,
указывающей на неясность, неопределенность тех положений,
которые принимаются им за исходные, самоочевидные истины. Но
вопрос о смысле, правомерности, значении умозрительного
способа рассуждения тем самым не снимается с обсуждения.
Исторически философское умозрение формировалось в тесной связи
с успехами математики, среди видных представителей которой
было немало учеников Платона. Это обстоятельство имеет в виду
В. Стеклов, говоря, что «именно математика всегда являлась и
является источником философии, что она создала философию и
может быть названа "матерью философии"» (163, 31). Можно не
соглашаться с категоричностью этого заявления, но ясно, что оно
констатирует реальное, хотя отнюдь не одностороннее
отношение. Показательны с этой точки зрения метафизические системы
XVII в., создатели которых были убеждены в том, что
рассуждение, построенное по принципам математики, выводит нас за
пределы всякого возможного опыта.
Рационалисты утверждали, что математика- единственная
строго научная форма всякого теоретического знания. Кант,
полагавший, что «учение о природе будет содержать науку в
собственном смысле лишь в той мере, в какой может быть применена в
нем математика» (82, 59), решительно отрицал возможность
математизации философского способа исследования. Это вытекало
не из недооценки математики, а из более ясного, чем у
рационалистов XVII в., представления о специфике философии.
познания, исследования. Н. Мотрошилова, А. Огурцов, М. Туровский, А.
Потемкин в статье, опубликованной в «Философской энциклопедии», делают
следующее ценное замечание: «Сущность вещей в самом деле идеально
"удваивается" в знании, воспаряя все дальше от непосредственного чувственного образа
предмета и от конкретной деятельности. Объективно это значит, что всеобщий
закон природы, немыслимый вне ее развития, сам не является вещью среди
вещей. Причина, источник движения, закон воспринимаются уже не только как
непосредственно слитая с данным особым движением "форма" его, но как
отвлеченный от телесного движения идеальный принцип. Он лишь проявляется через
материальное движение, но с некоторой особой материальной не отождествим»
(120,403). Это положение позволяет глубже понять философию Платона,
заключающиеся в ней рациональные идеи.
124
Философские определения, указывал Кант, существенно
отличаются от математических дефиниций. Философские
определения «осуществляются только в виде экспозиции данных нам
понятий, а математические - в виде конструирования
первоначально созданных понятий; первые осуществляются лишь
аналитически, путем расчленения (завершенность которого не обладает
аподиктической достоверностью), а вторые - синтетически;
следовательно, математические дефиниции создают само понятие,
а философские - только объясняют его» (80, 611)*.
С точки зрения Канта, дефиниции в точном смысле этого
слова возможны лишь в математике. Математические дефиниции по
природе своей не могут быть ошибочными, так как любое
математическое понятие, собственно, и задается лишь дефиницией,
т.е. содержит в себе именно то, что вложено в него определением.
Поэтому в математике нет спора о дефинициях**. И так как
математические дефиниции не могут быть неистинными, то именно
поэтому лишь в математике возможны аксиомы.
Правда, поскольку философия разъясняет применяемые ею
понятия, она не обходится без дефиниций. Но если математика
начинает с дефиниций (ибо до них не может быть никакого
понятия), то в философии дефиниции должны лишь завершать
исследование. Это соображение, конечно, не относится к изложению
философии, которое, как и всякое изложение, существенно
отличается от исследования, результат которого невозможно
предвидеть заранее.
Утверждая, что способ, каким философия приходит к своим
выводам, качественно отличается от математического, Кант
пытался гносеологически обосновать возможность и необходимость
* То, что Кант именует экспозицией понятий, Г. Рейхенбах называет их
экспликацией, делая те же выводы, что и Кант, почти через двести лет после него:
«Экспликация никогда не может быть строго корректной как раз по той причине,
что экспликанд представляет собой неточное понятие, и мы никогда не можем
сказать, полностью ли соответствует экспликанс его свойствам» (149, 40).
** Это воззрение Канта на природу математических определений устарело.
Дефиниции множества, которые давались основателем теории множеств Г.
Кантором, а также Э. Борелем, Н. Бурбаки и другими математиками,
свидетельствуют о том, что и в математике возможны споры о дефинициях. «Во всяком
случае, - отмечается в одном из современных пособий по математике, - следует
отметить, что, какие бы трудности ни возникали при определении понятия
множества, само это понятие являлось и является мощным средством при изучении
и уточнении категории рассматриваемых объектов (математика) или словесно
описываемой области (логика)» (94а, 10). Очевидно лишь то, что и в
современной математике трудности определения понятий принципиально несравнимы с
теми трудностями, которые имеют место в философии, и в этом смысле
соображения, высказанные Кантом, не потеряли известного значения.
125
специфически философского умозрения. Это умозрение исходит,
по учению Канта, из факта, вопрошает, как этот факт возможен,
и вскрывает условия, делающие его возможным. Математика,
полагал Кант, состоит из синтетических суждений, обладающих
безусловной всеобщностью и необходимостью. Ему в сущности
не приходило в голову доказывать это положение: оно
представлялось ему самоочевидным, нуждающимся разве только в
пояснениях. Речь поэтому идет лишь о том, что делает возможным
этот факт. И Кант отвечает: априорные чувственные созерцания:
пространство и время.
В «Критике практического разума» Кант исходит из факта
существования нравственности. «Как возможна нравственность?» -
спрашивает он. При этом, однако, имеется в виду не реальное,
ограниченное нравственное сознание, а некая безусловная,
чистая нравственность. Условием ее возможности, полагает Кант,
является независимый от чувственности, априорный
категорический императив, следование которому, предполагающее наличие
свободной воли, и есть подлинная нравственность.
В действительности то, что Кант считал фактом, отнюдь не
было таковым. Видимость факта, которая, конечно, также есть
факт, он принимал за сущность. Геометрия Евклида
представлялась ему единственно возможной. Исходя из этого «факта», он и
пришел к выводу об априорности пространства и времени*.
Гегель подверг критике кантовское понимание
философского умозрения именно потому, что Кант не считал необходимым
логическое выведение того, что фиксируется как факт.
Философия, по Гегелю, не столько исходит из фактов, сколько приходит к
ним. Поскольку философия есть мышление, она исходит из него
и стремится постигнуть содержание мышления (содержание
науки) как продукт его собственного развития. Таким образом,
гегелевский панлогизм онтологически обосновывает традиционное
убеждение, что философия способна средствами одного разума,
«чистым мышлением» приходить к открытиям, принципиально
недоступным эмпирическому знанию. Кант, как известно, отверг
эту рационалистическую иллюзию. Гегель восстановил ее на
* Именно поэтому создание неевклидовой геометрии вынудило даже
неокантианцев отказаться от трансцендентальной эстетики Канта. Благодаря
неевклидовой геометрии, как указывал А.Н. Колмогоров, была «преодолена вера в
незыблемость освященных тысячелетним развитием математики аксиом, была
понята возможность создания существенно новых математических теорий
путем правильно выполненной абстракции от налагавшихся ранее ограничений,
не имеющих внутренней логической необходимости, и, наконец, было
обнаружено, что подобная абстрактная теория может получить со временем все более
широкие, вполне конкретные применения» (91, 476).
126
основе диалектического идеализма, который понимает
отношение чувственное-рациональное как противоречие, отрицание,
снятие отрицания. Философия, писал Гегель, «имеет своим
исходным пунктом опыт, непосредственное и рассуждающее
сознание. Возбужденное опытом как раздражителем, мышление
ведет себя в дальнейшем так, что поднимается выше
естественного, чувственного и рассуждающего сознания в свою
собственную, чистую, лишенную примесей стихию...» (45, 96). Однако это
первоначальное отрицание чувственного опыта, согласно Гегелю,
еще совершенно абстрактно, вследствие чего таким же
абстрактным оказывается и первоначальное философское представление
о всеобщей сущности чувственно воспринимаемых явлений.
Философия снимает это абстрактное отрицание и обращается уже
не к повседневному опыту людей, а ко всей совокупности
данных частных наук. Но и это не может удовлетворить философию,
так как частные науки синтезируют лишь эмпирические данные,
а такой синтез не выводит за пределы возможного опыта.
Неудовлетворенность познанием эмпирически данного, случайного, по
убеждению Гегеля, содержания является тем стимулом, который
помогает философскому мышлению вырваться из ограниченной
эмпирией всеобщности и «принуждает его к развитию из
самого себя», что, однако, определяется «необходимостью самого
предмета» (45, 97). Речь идет, конечно, не о реальном предмете,
а о предмете, сведенном к понятию.
Гегель противопоставляет философское мышление
естественнонаучному, так как последнее якобы имеет дело с
отчужденным образом абсолютного. Это противопоставление, отражавшее
реальное отношение между двумя рассматриваемыми типами
мышления, нашло выражение в учении о философии как чистом,
свободном от всякого эмпирического содержания мышлении.
По учению Гегеля, способность философии постигать
абсолютное соразмерна ее способности диалектически отрицать
эмпирическое как внешнее, отчужденное выражение абсолютной
реальности. Последняя постигается чистым мышлением потому,
что сама «обнаруживает себя как простота самотождественного
мышления и вместе с тем как деятельность, состоящая в том, что
мышление противопоставляет себя самому себе для того, чтобы
быть для себя и в этом другом все же быть лишь у себя самого»
(45, 103). Вот почему мышление, по Гегелю, автономно,
независимо от чувственно воспринимаемой действительности, а значит,
и от опыта, в котором эта «внешняя» действительность получает
свое якобы отчужденное выражение. Философское мышление
подобно трансфеноменальной действительности «абсолютной
127
идеи»: она есть его сущность. Поэтому философское мышление
«находится у самого себя, соотносится с самим собой и имеет
своим предметом само себя» (45, 135). В этом, утверждает
Гегель, и заключается сущность философии как специфической и
вместе с тем высшей формы познания, образующей духовный
центр всех наук, науку наук, или абсолютную науку, которая одна
только имеет своим предметом истину, какова она есть в себе и
для себя.
Не приходится доказывать, что несостоятельность
исходного философского положения Гегеля - тождество бытия и
мышления - делает несостоятельной гегелевскую концепцию
логического процесса познания. Диалектика перехода от чувственного
к рациональному, от эмпирического к теоретическому и обратно
фактически ускользает от Гегеля. Идеализм помешал ему увидеть,
что мышление основывается на эмпирических данных даже тогда,
когда вступает в противоречие с ними. И все же Гегель во многом
прав. Теоретическое знание действительно несводимо к
многообразию эмпирических данных. Согласование с чувственными
данными не может быть принципом теоретического мышления, так
как эти данные сами подлежат критическому анализу. Чувственные
данные есть то, чем располагают отдельные индивидуумы, наука
же - достояние всего человечества. Теоретическое мышление
владеет таким богатством эмпирических данных, которые недоступны
отдельным индивидам. На основе всей исторически
развивающейся общественной практики, ее подытоживания возрастает
относительная независимость теоретического мышления от
эмпирических данных, которыми располагают и могут обладать не только
отдельные индивиды, но и все человечество. Это проявляется в
великих научных открытиях, далеко выходящих за пределы
наличного опыта, не только предваряющих, но и делающих возможными
дальнейшие наблюдения, которые подтвердят эти открытия.
Гегель открыл и вместе с тем мистифицировал реальный,
исторический процесс развития теоретического познания, мощь
которого непосредственно не зависит от количества находящихся
в его распоряжении эмпирических данных. Гегель изобразил этот
процесс как выход за пределы всякого возможного опыта,
переход от физической к трансфизической реальности, к тем самым
ноуменам, которые Кант интерпретировал лишь как идеи
чистого разума, поставив под вопрос их объективное существование.
В этом пункте Гегель, вставший на путь отождествления веры и
знания, оказался позади Канта.
Гегель вскрыл противоположность теоретического и
эмпирического знания, но он абсолютизировал эту противоположность.
128
Он заблуждался не потому, что считал эту противоположность
неограниченной; она и в самом деле неограниченна, но лишь
потенциально.
Гениальность гегелевского учения о мощи мышления, о роли
логического процесса в открытии фактов, закономерностей,
несмотря на панлогистскую интерпретацию мышления, особенно
очевидна в наши дни. Современное «умозрительное»
теоретическое мышление, особенно в математике и физике, привело к
открытиям, неопровержимо засвидетельствовавшим
прогрессирующую относительную независимость теории от эмпирических
данных. При этом обнаружилось, что то свободное (в
диалектическом смысле, т.е. также и необходимое) движение теоретического
познания, которое Гегель считал атрибутивной определенностью
философствования, образует существенную характеристику
теоретического мышления вообще, поскольку оно достигает
достаточно высокой ступени развития.
Противопоставляя философское познание, в особенности в
его диалектической форме, нефилософскому (преимущественно
эмпирическому), Гегель писал: «Истинное познание предмета
должно быть, напротив, таким, чтобы он сам определял себя из
самого себя, а не получал свои предикаты извне» (45, 136-137).
Это положение - яркий пример мистификации совершенно
правильной, более того, гениальной мысли относительно природы
теоретического мышления, которое не просто описывает
наблюдаемые в исследуемом предмете свойства, но логически выводит
их, открывая тем самым их взаимозависимость, выявляя
непосредственно не наблюдаемое, сводя видимость к сущности, с тем
чтобы затем объяснить необходимость этой видимости,
прослеживая движение, изменение предмета, благодаря которым
возникают эмпирически фиксируемые свойства. Необходимость такого
«спекулятивного» исследования, которая в наши дни очевидна во
всех областях теоретического знания, впервые выявилась в
философии, поскольку она больше, чем какая-либо другая наука,
занимается анализом понятий. В этом рациональное зерно на первый
взгляд совершенно мистической идеи Гегеля о самодвижении
понятия. А это в свою очередь позволяет лучше понять природу
философского «спекулятивного» мышления, которое Гегель
понимал именно как самодвижение понятия.
Я рассмотрел некоторые моменты, характеризующие
умозрительность философии, сознательно ссылаясь на тех философов-
идеалистов, в учении которых эта умозрительность достигла
наибольшего развития и вместе с тем стала формой мистификации
действительности. В итоге обнаруживаются некоторые коренные
5. Ойзерман Т.И., том 5 129
особенности и тенденции развития теоретического (в том числе и
естественнонаучного) знания. Путь умозрения, в известной мере
отрывающегося от фактов, конечно, очень рискованный путь, на
котором неудачи постигают на каждом шагу, а открытия
оказываются счастливой находкой. И все же именно на этот путь
необходимо вступает теоретическое исследование, не страшась
опасности превратиться в пустое сочинительство. Этим путем идет
философия, в этом специфика философского познания.
Французские материалисты XVIII в. в отличие от идеалистов
не противопоставляли философское знание научному: они
ратовали за союз философии с естествознанием. При этом их учение
далеко выходило за пределы естественнонаучных данных своего
времени. Такой выход за границы фактически известного
неизбежно оказывался лишь догадкой, гипотезой и нередко, конечно,
заблуждением. Но именно на этом, как мы уже сказали,
рискованном пути материалистическая философия XVIII в. сделала свое
величайшее открытие - открытие самодвижения материи. Идея
самодвижения материи не могла быть эмпирически доказана в
XVIII в., это было предвосхищение будущего знания, а такого
рода предвосхищение, пожалуй, еще более трудная задача, чем
предвидение будущих событий. Эта идея явно не
согласовывалась с механистическим пониманием движения, но она
соответствовала духу естествознания, которое все более уверенно
становилось на путь объяснения природы из нее самой. Философы,
выдвигавшие и обосновывавшие эту идею, следовали тем самым
одному из принципов теоретического, в особенности
философского, мышления, заключающемуся в умозрительном забегании
вперед, абсолютно необходимом для развития познания.
Атеизм в философии возник как вера в возможность
объяснения всех природных явлений природными же причинами. Но у
теологов было еще меньше данных для обоснования религиозной
веры. Атеистическое мышление может быть названо
бесстрашным, но такова вообще безотносительно к атеизму любая
философская система, поскольку она, не считаясь с общепринятыми
воззрениями, вооружившись логикой, прорывается в неведомое.
И как поразительна уверенность каждого из выдающихся
философов в том, что он открывает великую истину, несмотря на то
что его предшественники явно заблуждались. Поистине, как
говорил Гераклит, характер человека - его демон.
Когда мы говорим об умозрительности какой-либо
естественнонаучной теории, мы сознаем, что эта теория рано или поздно
будет подтверждена или опровергнута опытом, экспериментом.
Философия несравненно более умозрительна, чем теоретическое
130
естествознание, но у нее нет возможности апеллировать к
будущим экспериментам или наблюдениям. Что же в таком случае
ставит границы спекулятивному произволу философа, которого
не страшат никакие отдельные факты, поскольку они не могут ни
подтвердить, ни опровергнуть его концепции? Логика? Да,
конечно, философ считается с логикой: она главное его оружие. Однако
логический вывод возможен только из посылок, которые в самой
логике не содержатся. Логика не дает критерия истины, к которой
стремится философ, как и всякий ученый. Я полагаю, что значение
(и в известной мере истинность) философских положений
выявляется благодаря их применимости в различных науках и
практической деятельности. Философские положения можно
рассматривать как своеобразные теоретические рекомендации. Если эти
рекомендации вооружают науки в их охоте за истиной, вооружают
практическую, преобразовательную деятельность людей, то они
получают благодаря этому возможность реальной верификации.
Речь, следовательно, идет не о том, что философские положения
истинны, поскольку они «работают»*. Суть дела в ином:
поскольку философские положения включаются в многообразие
человеческой деятельности, постольку они могут опосредованно
проверяться, корректироваться. Это позволяет установить еще одну
важную характеристику философского мышления. Философские
положения, даже в том случае, когда они неистинны, обладают (в
большей или меньшей степени) скрытым или явным смыслом,
который обнаруживается, когда эти положения применяются. Так,
например, скрытый смысл современного философского
иррационализма обнаруживается в характерной для него апологии
«иррациональной» (например, капиталистической) действительности.
Гегелевская диалектика заключает в себе великую истину,
вполне выявленную историей. Философский иррационализм -
величайшее заблуждение, которое, однако, отражает
определенную историческую действительность и поэтому отнюдь не
лишено смысла. В истории науки также имеют немалое и нередко
положительное значение некоторые идеи, которые, как затем
выясняется, отнюдь не были истинами, хотя и считались таковыми.
Таким образом, рассмотренные нами особенности философского
мышления в известной мере (и в разные исторические периоды)
* Прагматизм, отождествляющий истинное с полезным во всех смыслах
этого слова, осуществляет широко задуманную программу девальвации
истинного. «Значение (Meaning), - писал Д. Дьюи, - обладает большим объемом и
большей ценностью, чем истина, и философия занимается скорее значением,
чем истиной» (219, 131). Было бы, однако, заблуждением не видеть
содержащейся в этом положении частицы истины.
5*
131
присущи всякому теоретическому мышлению вообще, поскольку
оно достигает высоких уровней абстракции. Специфическим для
философии является не сам по себе умозрительный способ
развития понятий, а степень «спекулятивности» мышления,
органически связанная с содержанием философии (и некоторых
философских учений в особенности), с ее категориальным аппаратом,
отправными теоретическими положениями и т.д. Но степень есть
определение качества и в этом смысле действительно фиксирует
качественное отличие философского мышления от
нефилософского, исключая вместе с тем не только радикальное, но и
чрезмерное противопоставление философии другим формам
теоретического исследования.
3. Интуиция, истина, творческое воображение
Характеристика философской формы познания как
преимущественно умозрительной должна быть дополнена анализом
интуиции, познавательное значение которой доказано современной
наукой. Современные философские теории, как правило,
демистифицируют понятие интуиции, связывая его с действительным
содержанием не только мышления, но и чувственных
восприятий, с которыми исторически и этимологически связано понятие
интуиции. Это понятие раскрывается не только на путях,
ведущих к научным открытиям, но и в связи с анализом
повседневного опыта, который включает в себя непроизвольное запоминание
и столь же непроизвольное воспоминание, «открытие» того, чего,
казалось, не знал, не замечал, не запоминал. Это узнавание
непроизвольно запомнившегося стало предметом идеалистической
интерпретации в феноменологии Э. Гуссерля, согласно которой
познание есть интуитивный процесс узнавания того, что уже
наличествует в сознании*.
Проблема интуиции особенно существенна для понимания
специфики философии, так как в течение двух с лишним
тысячелетий философия не располагала необходимой фактической
* Правильно указывает Э.Ю. Соловьев: «Замещение познавательного
процесса актом узнавания, а самого отражаемого объекта - объектом
распознаваемым составляет суть феноменологического учения о предметности. Гуссерль
(и феноменология вообще) с самого начала снимает проблему исследования в
собственном смысле слова, проблему получения нового знания.
Предполагается, что любая интеллектуальная работа, которую способен совершить субъект,
развертывается по отношению к уже известному предметному миру. Эта работа
может служить лишь выявлению чего-то прежде и непроизвольно
постигнутого» (159, 114).
132
основой для тех предельно широких теоретических обобщений,
которые составляют ее задачу. А так как философия не может не
отвечать на вопросы, которые встают перед нею, то ей оставалось
выбирать одно из двух: гносеологический скептицизм или же
признание высокой познавательной ценности философских
гипотез, которые неизбежно связаны с догадками, интуитивным
убеждением, воображением, постулированием и т.д. Философские
гипотезы никогда не были предположениями, т.е. высказываниями,
за истинность которых никто не ручается. Напротив, они всегда
выступали как убеждения, психологически абсолютно
несовместимые с представлениями об их лишь возможной истинности.
Философы не применяли формулы «мне кажется», их
утверждения носили безапелляционный характер. Гносеологически такие
убеждения должны быть, по-видимому, поняты как интуиции,
если, конечно, не связывать с этим словом лишь
непосредственное постижение истины.
Интуитивные утверждения философов в зависимости от
исторических условий, уровня развития науки и культуры
проявлялись по-разному: то как основанное на чувственном созерцании
действительности убеждение, то как мистическое, императивно
провозглашаемое «озарение», то как принятие за исходный пункт
рассуждения «самоочевидных» положений и т.д. Однако во всех
случаях философы, сознательно или бессознательно, опирались
на интуицию. Впрочем, не следует представлять дело так, будто
бы интуиция была органом одной лишь философии. Она играла
(и продолжает играть) значительную роль и в естествознании*.
Философы-интуитивисты, в известной мере осознав эту
особенность развития философии, абсолютизировали ее, не замечая
того, что интуиция сама требует критического исследования и
оценки. Они утверждали, что философские положения
принципиально отличаются от нефилософских своим интуитивным
происхождением.
А. Эйнштейн, анализируя происхождение физических теорий, указывает,
что никакой логический путь не ведет непосредственно от наблюдений к
основным принципам теории. Высшим долгом физиков, говорит он, «является поиск
тех общих элементарных законов, из которых путем чистой дедукции можно
получить картину мира. К этим законам ведет не логический путь, а только
основанная на проникновении в суть опыта интуиция» (191, 40). Мне
представляется, что это замечание Эйнштейна не имеет ничего общего с концепцией
интуиции как алогического процесса. Речь идет лишь о том, что интуитивный
вывод есть не заключение, вытекающее из серии умозаключений, а
своеобразный прерыв непрерывности в теоретическом исследовании, диалектический
скачок, предполагающий накопление опыта, знаний, что при наличии упорного
исследовательского поиска и творческого воображения приводит к
интуитивному выводу.
133
Высокая оценка познавательного значения интуиции
рационалистами, а также некоторыми эмпиристами XVII в. (Д. Локк)
не означала, как известно, умаления значения логики: идеалом
рационализма был математический метод. Поэтому было бы
грубой ошибкой считать рационалистов интуитивистами. При таком
подходе всякое признание познавательного значения интуиции
означало бы переход на позиции интуитивизма.
Интуитивизм - иррационалистическое учение,
интерпретирующее интуицию как алогический акт постижения
иррациональной реальности. А. Бергсон считал выдающейся заслугой Канта
доказательство невозможности интеллектуальной интуиции. Но
отсюда, согласно Бергсону, следовало то, до чего не додумался
Кант: единственно возможная интуиция - интуиция
сверхинтеллектуальная; она-то и образует основу собственно философского
видения мира. Интеллект, говорил Бергсон, по своему
происхождению и функции сугубо практичен: его дело - «руководить
нашими действиями. В действиях же нас интересует их результат,
а на средства мы обращаем мало внимания, лишь бы была
достигнута цель» (14, 276). Подчеркивая связь интеллекта с
предметным, материальным миром, который, по Бергсону, безжизнен,
статичен, французский интуитивист доказывал, что изначальная
действительность есть чистая длительность, становление,
продуктами которой являются и материя и интеллект. Именно эту
нематериальную длительность, метафизическое время и постигает
философская интуиция.
Интуитивизм, следовательно, заключается не только в
определенном истолковании процесса познания, но и в
субъективистском стирании качественного различия между знанием и его
предметом. Это особенно очевидно на примере учения Б. Кроче,
который интерпретирует предметы как интуиции, т.е. отрицает их
независимое от познающего субъекта существование: «Что такое
познание через понятие? Это - познание отношений между
вещами; вещи же суть интуиции» (94, 26). Я подчеркиваю этот
онтологический аспект интуитивистского идеализма, чтобы стало еще
более очевидным, что признание и высокая оценка
познавательного значения интуиции не имеют ничего общего ни с
интуитивизмом, ни с идеализмом вообще.
Бергсон полагал, что основу всякой великой философской
системы образует «первичная интуиция», которую философ
пытается затем выразить как систему выводов. Однако интуитивное
видение мира логически невыразимо адекватным образом, оно
есть «нечто простое, бесконечно простое, столь необыкновенно
простое, что философу никогда не удавалось высказать его. И вот
134
почему он говорил всю свою жизнь. Он не мог сформулировать
того, что он имел в уме, так, чтобы не испытать потом
повелительной потребности исправить свою формулу, а затем исправить
само исправление» (207, 1347).
Заблуждение Бергсона заключается вовсе не в том, что он
считает «первичными интуициями» исходные положения
философских систем. Он заблуждается, истолковывая интуицию как
иррациональное постижение иррационального, т.е. принципиально
исключая иной, неинтуитивный путь к исходному философскому
положению, так же как и возможность его адекватного
логического (теоретического) выражения, доказательства, разъяснения.
В действительной истории философии дело обстояло
несравненно сложнее. Когда Фалес заявил, что все происходит из воды, он
ссылался на факты (об этом говорит, например, Аристотель), но
этого было недостаточно. На помощь фактам и аргументам
пришла интуиция, которую правильнее было бы вопреки Бергсону
называть не первичной, а вторичной, так как основу ее образуют
опыт, знания. Однако и фактов, и знаний было явно недостаточно
для обоснования основного философского убеждения.
Недостаточность эмпирических и теоретических данных -
вещь очевидная не только при изучении античной философии.
Философия стремится познать формы всеобщности универсума,
между тем как данные, которыми она располагает, всегда
исторически ограниченны и в этом смысле недостаточны. Ясно также и
то, что синтез эмпирических и вообще научных знаний никогда
не может быть завершен. Это-то и придает философской
(впрочем, как и естественнонаучной) концепции целого, всеобщего,
бесконечного, непреходящего характер своеобразной гипотезы,
которая и в тех случаях, когда она действительно синтезирует
научные данные своего времени, постоянно требует
корректирования, развития в свете новых научных открытий.
Философ в отличие от естествоиспытателя не может
отказаться от размышлений о всеобщем, бесконечном, непреходящем,
целом и т.д. Если даже он отказывается от «метафизики» и
сознательно ограничивает свое исследование одними, например,
гносеологическими проблемами, перед ним и в этой области
возникает задача теоретического синтеза, формулирования выводов,
имеющих всеобщее и необходимое значение, хотя этот синтез и
эти выводы не могут основываться на всей полноте необходимых
для них эмпирических данных. При ближайшем рассмотрении
оказывается, что эта трудность имеет место во всех разделах
теоретического знания, поскольку индукция всегда остается
неполной и всеобщность закона, формулируемого естествознанием,
135
не столько доказывается теоретически, сколько фактически
подтверждается. Но теоретически мыслимы и такие факты, которые
не подтвердят этого закона. Естествоиспытателя это не
беспокоит, поскольку налицо неограниченное количество явлений,
протекающих согласно данному закону, всеобщность которого
качественно ограниченна, а в случае необходимости может быть
ограничена и в количественном отношении*. Иное дело в
философии, поскольку она стремится к познанию наиболее общего,
наименее ограниченного как в количественном, так и в
качественном отношении.
Продуктивная способность воображения, которую Кант
считал основополагающей в процессе познания, во всяком случае
в философии играет первостепенную роль, если, конечно, эта
способность истолковывается материалистически, а не как
априорное конструирование любой эмпирической целостности.
Кант отрицал возможность интеллектуальной интуиции, которая
представлялась ему рационалистической иллюзией относительно
способности «чистого» разума к знанию, выходящему за
пределы всякого возможного опыта. В этом смысле интеллектуальная
интуиция действительно невозможна. Однако понятие
интеллектуальной интуиции не обязательно истолковывать в духе
рационализма XVII в., против которого справедливо выступал Кант.
Современная наука позволяет научно исследовать интуицию как
неотъемлемый элемент творческого воображения ученого -
воображения, основу которого составляют факты, знания, пытливое
исследование**.
Противоположность между диалектико-материалистическим
воззрением и интуитивизмом заключается, таким образом, вовсе
не в том, что второй признает, а первый отрицает существование
* Н. Бор отмечает позитивное научное значение этого обстоятельства в связи
с анализом философской интерпретации квантовой теории: «...в науке и раньше
случалось, что новые открытия приводили к установлению существенных
ограничений для понятий, которые до тех пор считались не допускающими
исключений. В таких случаях нас вознаграждает приобретение более широкого кругозора
и более широких возможностей устанавливать связь между явлениями, которые
прежде могли казаться даже противоречащими друг другу» (18, 18).
«Если научное мышление считать "логичным" и "рациональным"
(разумным) лишь постольку, поскольку оно совершается в строгом согласии с
аксиомами, постулатами, и теоремами формально-математической логики, - глубоко
верно замечает H.H. Семенов, - то фактически совершающееся научное
мышление неизбежно начинает казаться иррациональным (неразумным). Наука же
начинает вообще представляться каким-то сумасшедшим домом, в котором
соблюдается только внешний порядок с помощью санитаров-логиков, но никак не
живущими в нем, которые только и мечтают, как бы этот порядок нарушить»
(156,62).
136
интуиции. «Как факт знания каждый вид интуиции -
непререкаемая реальность, существующая в сфере познания для всех
познающих, - справедливо замечает В.Ф. Асмус. - Но как теория
фактов знания каждая теория интуиции есть теория философская:
идеалистическая или материалистическая, метафизическая или
диалектическая» (11, 6). Проблема, следовательно, заключается
не в признании или отрицании интуиции, а в выяснении того, как
возможно такого рода отражение действительности, как
относится оно к имеющемуся в распоряжении познающего индивида
опыту, знаниям? Если Ньютон, как рассказывает легенда, обратив
внимание на падение яблока, «вдруг» пришел к открытию закона
всемирного тяготения, то эта интуиция, очевидно, предполагала
длительное продумывание определенного круга проблем,
размышление над открытым Галилеем законом, согласно которому
ускорение падающего тела не зависит от его природы или
скорости и является постоянным. Таким образом, проблема
заключается в правильной интерпретации всегда обнаруживающегося в
истории познания факта интуиции, в применении к этой
познавательной способности научных, критических приемов
исследования и проверки*.
Истолкование интуиции как непосредственного
усмотрения истины, которого придерживаются и рационалисты XVII в.,
и иррационалисты-интуитивисты, совершенно несостоятельно,
так как история естествознания и философии дает необозримое
множество примеров ошибочных интуиции. «Надежда на так
называемую интуицию слишком часто вводила в заблуждение», -
правильно замечает Г. Рейхенбах (149, 31). М. Бунге, подвергнув
убедительной критике некоторые философские концепции
интуиции, конкретно рассматривает различные виды интуиции,
проявляющиеся в чувственном восприятии, воображении, «ускоренном
* В. Стеклов, как мне представляется, весьма остроумно подметил один из
элементов интуиции - способность обнаруживать закономерность, наблюдая
отдельные случаи ее проявления, т.е. способность делать правильные выводы,
основываясь на неполной индукции: «На качающуюся люстру Пизанского
собора глядели десятки тысяч людей, но никто из них, за исключением Галилея,
и не воображал, что отсюда можно вывести какой-то общий закон колебания
маятника. Галилею же было достаточно одного этого наблюдения, чтобы создать
закон (конечно, приближенный) так называемого изохронизма, справедливого
для какого угодно маятника» (163, 106). Разумеется, это замечание далеко не
исчерпывает логической (и психологической) природы интуиции, но его
философское значение заключается в том, что оно связывает интуицию с отражением
объективной реальности и указывает на гносеологические корни ошибочных
интуиции, которых немало было не только в философии, но и в
естествознании.
137
умозаключении», оценке и т.д. Нельзя не согласиться с выводом
Бунге: «Разнообразные формы интуиции имеют сходство с
другими формами познания и рассуждения в том, что их надо кон-
тролироватъ, если хотят, чтобы они были полезны. Плодотворна
интеллектуальная интуиция, стоящая между чувственной
интуицией и чистым разумом. Однако, предоставленная самой себе,
она остается бесплодной...» (22, 150).
Итак, нет ничего обманчивее убеждения в том, что интуиция
никогда не обманывает. Эту истину косвенно признают и сами
интуитивисты, так как каждый из них убежден в том, что
именно он в отличие от других философов (в том числе и
интуитивистов) монопольно владеет интуитивно постигнутой истиной.
Утверждение, что интуиция является специфическим органоном
философии, означает признание принципиальной невозможности
научного обоснования философских положений. Но интуиция, на
мой взгляд, занимает в философии не больше места, чем в
теоретическом естествознании, художественном творчестве или
изобретательстве. Однако, может быть, имеет смысл говорить о
специфической, философской интуиции, подобно тому как говорят
о своеобразии интуиции художника? Было бы нелепо отрицать
своеобразие философской формы познания, однако нет
оснований сводить ее к своеобразию философской интуиции. Анализ
философских учений подсказывает вывод, что относительное
единство философской формы знания заключает в себе
существенные различия, противоположности, противоречия. Если одни
из философов, во всяком случае субъективно, исходят из
интуитивных убеждений, то другие, напротив, принимают в качестве
отправного пункта установленные наукой или повседневным
опытом факты.
Психология философского творчества, несмотря на
многочисленные когнитивные исследования, - совершенно
неисследованная область, и те разрозненные данные, которыми мы обладаем
(например, рассказы самих философов о формировании их идей),
не дают достаточного основания для допущения существования
особой, философской интуиции. Этого допущения требуют
интуитивисты, ссылаясь на свое философское творчество, но если даже
принять их заявления за свидетельства, то и в этом случае
придется допустить лишь особую роль интуиции в их собственном
философском творчестве. Но ведь не все философы являются
интуитивистами; большинство из них - противники интуитивизма.
Научный анализ свидетельств философов-интуитивистов,
как бы ни были они чистосердечны, показывает, что они явно
недооценивают то влияние, которое оказали на них другие
138
философы, философские традиции, научные данные,
определенные исторические условия и т.д. Идеи, которые сложились в ин-
туитивистских учениях под явным влиянием других, как
правило, неинтуитивистских теорий, сплошь и рядом истолковываются
как «первичные интуиции», совершенно независимые от
предшествующего философского развития. Это видно на примере того
же Бергсона: его основные идеи сформировались под влиянием
иррационалистической традиции в Германии и во Франции, его
«метафизика становления» иррационалистически
интерпретирует принцип развития, получивший почти всеобщее, хотя и
поверхностное признание в философии и естествознании конца XIX в.
Анализ отношения Бергсона к Канту, Гегелю, Шопенгауэру, Мен
де Бирану, Дарвину, Спенсеру, к представителям
естественнонаучного материализма, несомненно, позволил бы ограничить роль
интуиции в создании его системы, которая нередко
характеризовалась как самая оригинальная в истории философии.
Таким образом, интуиция, как и умозрительность
(спекулятивность), характеризует специфику философской формы
познания, хотя обе присущи всякому теоретическому исследованию*.
И здесь, очевидно, нет оснований для вывода о существовании
таких признаков философского мышления, которые присущи
только ему одному. Речь снова идет о том, в какой степени
философии свойственны умозрительность и интуиция. Однако эта
степень существенно разнится в различных философских учениях,
на разных этапах развития философии.
4. Интерпретация как способ философского исследования
Открытие ранее неизвестных явлений, процессов, свойств,
законов, исследование путей и средств практического
овладения этими законами - таковы важнейшие задачи наук, решению
которых служат непосредственные и инструментальные
наблюдения, описания, эксперименты, теоретический анализ фактов,
обобщения, специальные методы исследования и проверки и т.п.
* Эту весьма важную для понимания как интуиции, так и философии
сторону вопроса подчеркивает Л. де Бройль. Наука, указывает он, «по существу
рациональная и в своих основах, и по своим методам, может осуществлять свои
наиболее замечательные завоевания лишь путем опасных внезапных скачков
ума, когда проявляются способности, освобожденные от тяжелых оков строгого
рассуждения, которые называют воображением, интуицией, остроумием» (21,
295). Характерно, что де Бройль видит в воображении (которое, конечно,
понимается не в обыденном смысле этого слова), интуиции, остроумии выражение
одной и той же познавательной способности.
139
Философии не дано какой-либо экспериментальной техники,
инструментальных средств наблюдения, химических реактивов и
многого другого; все это призвана заменить сила абстракции.
В распоряжении философа находятся факты, которые
почерпнуты им из собственного опыта или установлены научными
исследованиями. Химик непосредственно общается с вещами,
философу служит материалом главным образом знание о вещах,
почерпнутое из наук и других источников. Таким образом,
философия, во всяком случае в той форме, в какой она
существует в эпоху сложившихся и получивших многообразное развитие
частных наук, имеет дело с более или менее готовыми,
обработанными фактическими данными, которыми ее снабжают наука и
практика, с определенными явлениями материальной и духовной
жизни общества, которые она стремится понять в их единстве,
теоретически обобщить, интегрально истолковать,
мировоззренчески осмыслить. Значит ли это, что в философии по существу
невозможны открытия? Нет, конечно, это не так. Суть дела
заключается в том, что основу философских открытий образует уже
имеющееся знание, которое анализируется, оценивается, короче
говоря, интерпретируется философией.
Интерпретации принадлежит большая роль во всех
теоретических исследованиях. Сошлюсь на такое выдающееся научное
достижение, как открытие Нептуна французским ученым Леве-
рье. Интерпретируя установленные астрономами факты, Леверье
доказал существование не известной до этого планеты и указал
ее «местонахождение». Интерпретация, таким образом,
выступила как метод исследования. Разумеется, чтобы интерпретировать
факты так, как это сделал Леверье, необходимо было,
по-видимому, убеждение относительно возможного существования в нашей
Солнечной системе по меньшей мере еще одной планеты.
В наше время интерпретация как метод научного
исследования занимает в естествознании несравненно больше места, чем
в прошлом. Это объясняется прежде всего тем, что науки вышли
далеко за границы повседневного опыта. «То, что вы видите в
сильный микроскоп, созерцаете через телескоп, спектроскоп или
воспринимаете посредством того или иного электронного
усилительного устройства, - все это требует интерпретации», - пишет
М. Борн (20, 25). Роль интерпретации в науках возрастает также
благодаря развитию теоретических исследований, применению
математических методов и т.д. Современная наука придала
понятию интерпретации различные специальные значения. В связи с
этим В.А. Штофф пишет: «Можно указать на троякого рода
интерпретацию, которая осуществляется в научном познании: 1) интер-
140
претация формальных знаковых логико-математических систем;
2) интерпретация уравнений математического естествознания и
3) интерпретация как истолкование наблюдений, полученных
экспериментальных данных, установленных научных фактов» (190,
169). Эта классификация видов интерпретаций не претендует на
исчерпывающую полноту, поскольку автор имеет в виду главным
образом математику, логику и естествознание. Тем не менее она
подтверждает мысль о возрастании роли интерпретации в науке.
Почему же мы ставим вопрос об особом месте интерпретации в
философии? Да просто потому, что в любой частной науке
интерпретация является одним из методов исследования, между тем как для
философии, которая не занимается, так сказать, добычей фактов,
сырого материала знания, она имеет особенно большое, возможно
даже решающее значение. Как справедливо отмечает В.В.
Миронов, «философия выступает как наиболее свободная и бесконечная
по сути интерпретация. Не выходя за рамки заданного смыслового
пространства, она все время как бы приумножает его смыслы,
выполняя своеобразную смыслообразующую функцию» (118, 99).
В прошлом философы нередко обогащали науки о природе
великими открытиями. Это было возможно потому, что
размежевание между философией и частными науками носило
ограниченный характер. Декарт и Лейбниц были не только великими
философами, но и гениальными математиками и
естествоиспытателями. Естествознание носило преимущественно
эмпирический характер, а его теоретическими проблемами занималась
философия (натурфилософия), которая предвосхищала или даже
формулировала в спекулятивной форме некоторые
выдающиеся естественнонаучные открытия. К примеру, атомистика была
порождением античной натурфилософии и в течение полутора
тысячелетий принималась естествоиспытателями в том виде, в
каком ее обосновывали Левкипп, Демокрит и их римский
продолжатель Лукреций Кар. Открытие молекулярной структуры
материи также следует считать заслугой древнегреческой философии.
Об этом говорит учение о гомеомериях Анаксагора.
Натурфилософия Шеллинга также предвосхитила выдающееся
естественнонаучное открытие: именно под ее непосредственным влиянием
датский физик X. Эрстед открыл электромагнитную индукцию.
Однако в Новое время развитие теоретического естествознания
лишило натурфилософию ее прежнего значения; она не могла
уже предвосхищать открытия естествознания, которое далеко
вышло за пределы доступного философии повседневного опыта.
Натурфилософия, хотя она продолжает существовать и в наши
дни, давно стала историческим анахронизмом.
141
Таким образом, развитие специальных наук о природе и
специфических методов естественнонаучного исследования уменьшало
роль философии в открытии новых явлений и закономерностей
природы, но увеличивало вместе с тем значение философской
интерпретации естественнонаучных открытий, необходимой как для
естествознания, так и для самой философии. Эта интерпретация
все более теряет свой прежний онтологический характер, все
более становится преимущественно гносеологической. Такого рода
истолкование является не просто философским компендиумом
естественнонаучных открытий, а их гносеологическим
осмыслением. Примером такой философской интерпретации достижений
физики и математики могут служить известные работы П. Дюге-
ма, X. Динглера, А. Пуанкаре, Э. Маха, В. Оствальда. Как видно
из этого перечня, философской интерпретацией научных
достижений занимался такой выдающийся математик, как А. Пуанкаре,
а также выдающийся физик Э. Мах. Можно также сказать, что и
такие великие естествоиспытатели, как А. Эйнштейн и М. Планк,
немало сделали в деле философской интерпретации
естественнонаучных открытий.
Всякая интерпретация исходит из фактов или из того, что
считается фактом. Главное в ней - объяснить эти факты (или то, что
принимается за факты), выявить их отношение к другим фактам,
дать оценку связанным с ними представлениям, в случае
необходимости пересмотреть их, сделать новые выводы. Особенность
той или иной философии заключается не только в том, какие
факты (или допущения) она принимает за исходное, но и в том, какое
она придает им значение, как интерпретирует их. «Природные
явления, религиозные ритуалы, исторические факты, научные
открытия, литературные сюжеты, философские идеи, поступки
людей, реалии повседневности - все это, - справедливо отмечает
E.H. Ищенко, - требует интерпретации. Постепенное
расширение поля рефлексии относительно интерпретации - безусловно
историческая заслуга герменевтики» (78, 64). Если сопоставить
философию Фомы Аквинского и систему Гегеля, то можно
констатировать, что оба философа исходят из убеждения в
существовании абсолютного, божественного разума. Но как существенны
различия между их учениями. «Князь схоластики» считает
божественный разум находящимся вне мира, бесконечно
превосходящим мир. Гегель же утверждает, что божественный разум не
существует вне мира, ибо есть его сущность, так же как и сущность
человеческого разума. Поэтому божественное и человеческое не
столь уж далеки друг от друга. Эти противоположные (в рамках
идеалистической философии) учения показывают, насколько
142
существенна роль интерпретации в философии. В данном случае
можно сказать даже больше: ведь исходные положения у
обоих мыслителей не факты, а допущения, представляющие собой
определенную, а именно теологическую, интерпретацию мира,
которая у Гегеля наполняется не столько теологическим,
сколько историческим, историко-философским и вообще фактическим
содержанием, как это видно из его «Науки логики», «Философии
истории» и других произведений.
Любое определение понятия, если оно, конечно, не является
единственно возможным (а это в большинстве случаев исключено,
так как конкретное в науке - единство различных определений),
представляет собой интерпретацию, которая дополняется другой
интерпретацией, т.е. другим определением. Поэтому различные
интерпретации могут не только исключать, но и дополнять друг
друга, хотя и в этом случае они, как правило, не просто
суммируются, а учитываются в синтезирующем их теоретическом выводе*.
Интерпретация неотделима от теоретического исследования в
любой его форме, так как оно никогда не может быть одной лишь
констатацией фактов, т.е. всегда предполагает определенные
допущения, теоретические посылки, выводы и т.п. Логические
позитивисты, разрабатывая принцип верификации, пытались вычленить
«протокольные высказывания» как чистые констатации
наблюдаемого, которые в этом своем качестве могут быть критерием
истинности эмпирических предложений. Эта попытка не
увенчалась успехом, и логические позитивисты вынуждены были
признать, что констатация не исключает интерпретации, поскольку,
* Л. Яноши указывает, что в естествознании возможны различные, но
одинаково правомерные (очевидно, при данном уровне знаний) интерпретации
отдельных явлений: «Интерпретация Эйнштейном опыта Майкельсона-Морли и
подобных экспериментов с точки зрения логики не является единственно
возможной. До Эйнштейна Лоренц и независимо от него Фицджеральд...
предполагали существование эфира. Они считали также, что электромагнитные явления
относительно эфира описываются уравнениями Максвелла... Интерпретация
Лоренца-Фицджеральда математически нисколько не отличается от
интерпретации Эйнштейна; мы можем стоять на точке зрения либо Эйнштейна, либо
Лоренца-Фицджеральда и получим одинаковые ответы на все те физические
вопросы, которые мы сейчас можем считать экспериментально решенными» (194, 99).
В философии, в отличие от физики, такого рода существенно различные и вместе
с тем одинаково правомерные интерпретации, очевидно, невозможны. Поэтому
различные интерпретации являются здесь выражением различных направлений
и всегда находятся в полемическом отношении друг к другу. Тем не менее было
бы неверным полагать, что противоположные философские интерпретации
всегда относятся друг к другу как истина и заблуждение: истина нередко
выявляется тогда, когда отказываются от обеих противоположных интерпретаций. Так,
научное понимание исторической необходимости предполагает решительный
отказ и от фатализма, и от волюнтаризма.
143
констатируя нечто, мы вычленяем его из наличной совокупности
фактов, соотносим его с ними и т.д. Б. Рассел утверждал, что
теория относительности сводит различие между гелиоцентрической
и геоцентрической системами к различным видам
интерпретации одного и того же факта: «...если пространство только
относительно, то и разница между утверждениями "Земля
вращается" и "небо вращается" только в словах: оба этих утверждения
представляют собой лишь способы описания одного и того же
явления» (147, 55). Нельзя, конечно, согласиться с
превращением констатации в интерпретацию, но очевидно также и то, что
констатация как познавательная процедура не исключает явных
или скрытых допущений и соответственно этому различных
интерпретаций. Некоторые современные философы говорят в связи
с этим о «теоретической нагруженности» эмпирических
высказываний и даже констатации.
Всякая интерпретация означает применение имеющихся в
нашем распоряжении знаний к фактам, которые мы стремимся
изучить. Мы говорим о применении знания, а не истин, так как это
не одно и то же. Система Птолемея не была истинной, но она
суммировала определенные наблюдения, заключала в себе некоторые
истинные представления и была для своего времени научной,
позволяла объяснять, предсказывать определенные астрономические
явления. В философии особенно важно избегать смешения знания
и истины. Самое доскональное знание ошибочных положений,
которые в разное время высказывались естествоиспытателями или
философами и принимались за истины, не дает знания истины.
Правда, познание заблуждений способствует и познанию истины.
Знание как теоретическое основание интерпретации может
быть лишь знанием того, что утверждали некоторые ученые и что
подтвердилось, подтвердится или, напротив, будет опровергнуто
в будущем. Демокритовская концепция абсолютно плотных,
неделимых атомов и абсолютной пустоты, служившая теоретическим
основанием интерпретации мира, именно потому, что она
содержала в себе элементы истины, ограничивала возможности
объяснения качественного многообразия явлений. Однако во времена
Демокрита ни констатация, ни объяснение бесконечного
качественного многообразия явлений природы были еще невозможны.
Интерпретация находится в зависимости не только от
характера знаний (в первую очередь от содержащейся в них
объективной истины), но и от их объема. Древнегреческие философы,
располагая весьма ограниченным запасом теоретических знаний
(значительная часть которых к тому же заключала в себе лишь
элементы истины), пытались дать интегральную, т.е. философ-
144
скую, интерпретацию действительности. Это явное
несоответствие между теоретическим основанием интерпретации и самой
интерпретацией неизбежно приводило к наивным, ошибочным,
порой фантастическим выводам.
Развитие науки непрерывно увеличивает объем знаний, а
научные методы исследования и проверки обеспечивают все более
полное и точное установление объективных истин. Тем не менее
возможности интерпретации всегда ограничены наличным
знанием, и дальнейшее увеличение его объема закономерно
изменяет содержание интерпретации и ее форму. Это относится к любой
науке, но в наибольшей мере к философии, которая ставит задачу
интерпретации не отдельных явлений, а их многообразных
совокупностей, основных форм существующего и самого знания о
нем. Не удивительно поэтому, что в философии постоянно
наличествовали разные, в том числе и взаимоисключающие,
интерпретации природы, материи, сознания, общества. С этой точки
зрения заблуждения философов представляют собой
неправильные интерпретации действительных фактов, причем нередко их
исходные положения также оказываются не констатацией, а лишь
интерпретацией фактов. Это, впрочем, нисколько не
оправдывает неверия в возможность достижения истины в философии,
поскольку философская интерпретация, как и любая иная форма
знания, в конечном итоге подтверждается или опровергается
совокупностью данных науки и практики.
В естествознании попытка интерпретировать те или иные
факты с позиций определенной теории периодически выявляет
необходимость создания новой теории или существенного
изменения старой. В философии, положения которой не могут быть
непосредственно доказаны или опровергнуты экспериментами,
отдельными фактами, такой необходимости не существует.
Однако накопление фактов, умножение естественнонаучных
открытий, выдающиеся исторические события вынуждают философию
изменять свою интерпретацию действительности. Если развитие
классической механики привело к возникновению
механистического материализма, то успешное исследование немеханических
форм движения материи показало недостаточность
механистического истолкования природы. Развитие естественнонаучных
знаний о природе психики привело к тому, что большинство
идеалистов отказалось от прежнего наивного взгляда на отношение
души и тела. В наше время едва ли найдется такой идеалист,
который стал бы отрицать, что мышление есть функция мозга.
Исследование исторического процесса изменения, развития
философской интерпретации природы, общества, человека, позна-
145
ния - одна из важнейших задач историко-философской науки.
Благодаря такого рода исследованию преодолевается видимость
постоянного движения философии от одного заблуждения к
другому, выявляется своеобразие поступательного развития
философского знания и философской аргументации, плодотворное
влияние специальных наук на философию.
В западноевропейской философии XIX в. в связи с
попытками восстановить и по-новому обосновать противопоставление
философии наукам все чаще и чаще обнаруживается
стремление дискредитировать познавательное значение интерпретации.
С точки зрения В. Дильтея, интерпретация есть специфически
естественнонаучный способ исследования, который дает лишь
вероятностное знание. Дильтей выступает против
«объяснительной психологии», которая, как он полагает, экстраполирует в
сферу психического естественнонаучные приемы (исследование
каузальных отношений, выдвижение гипотез), между тем как
душевная жизнь в отличие от внешней природы дана нам
непосредственно и поэтому постигается интуитивно. «Природу, -
писал Дильтей, - мы объясняем, душевную жизнь мы постигаем»
(69, 8). Интерпретации, объяснению Дильтей противополагал
описание содержания сознания, открытое для непосредственного
понимания: «...методическое преимущество психологии в том,
что душевная связь дана ей непосредственно, живо, в виде
переживаемой действительности» (там же, 17).
Принцип интуитивистской описательной, исключающей
интерпретацию психологии Дильтей считал основой «философии
жизни», в которой он видел итог всего исторического развития
философии - ее превращение в основную науку о человеческом
духе. Непосредственное описание душевного состояния является,
согласно Дильтею, в отличие от интерпретации, якобы
отсылающей нас от известного к неизвестному, пониманием. Эту в основе
своей иррационалистическую концепцию философского знания
Дильтей называл герменевтикой, придав новое значение термину,
применявшемуся в классической филологии, а частью и в
философии (Шлейермахер) для характеристики методов интерпрета
ции мифов, памятников древней литературы, искусства и т.д.*
* Правильно замечает по этому поводу Л.В. Скворцов: «Дильтеевская
интерпретация "понимания" как переживания психологического подтекста
философских учений прошлого исключала возможность их научного анализа,
предполагающего не только осмысление того или иного учения, но и его оценку с
точки зрения адекватности. Тем самым Дильтей лишает историю философии
ее объективной основы» (158, 75). Таким образом, Дильтей отрицает значение
интерпретации в философии, субъективистски интерпретируя «понимание».
146
Экзистенциалистская герменевтика Хайдеггера - дальнейшее
развитие дильтеевской концепции, ее переработка в духе
феноменологии Гуссерля, отмежевавшегося от психологизма и
противопоставившего объяснению феноменов сознания их
«эйдетическое», сущностное видение. Интерпретация, полагает Хайдеггер,
всегда субъективна, так как мерилом в ней выступает
интерпретирующий субъект. «Понимание» же, согласно Хайдеггеру,
корреспондирует с бытием, поэтому с самого начала, уже в своей
дорефлексивной форме, оно есть «бытийное понимание». Однако
Хайдеггеру, как известно, не удалось вскрыть объективное
содержание «понимания», учение о котором оказывается в конечном
счете иррационалистической и явно субъективистской
интерпретацией познавательного процесса и его предмета*.
Таким образом, иррационалистическая критика
интерпретации сводится в основном к отрицанию сущностного
познавательного значения естествознания, которое трактуется как
принципиальное непонимание бытия. Но поскольку экзистенциализм
ограничивает философию исследованием «человеческой
реальности», пытаясь через нее пробиться к якобы непостижимому
бытию в себе, он в еще большей мере, чем другие
идеалистические учения, культивирует субъективистскую интерпретацию
существующего.
Итак, философия не отказывается от интерпретации даже
тогда, когда объявляет ей войну. Природа философии такова, что
она не может не выражать свое отношение к фундаментальным
реальностям, имеющим для человека существенное значение: к
явлениям природы, личной и общественной жизни, к науке,
искусству, религии. А это отношение, поскольку оно носит
теоретический характер, не обходится без интерпретации.
Гносеологический анализ интерпретации как специфического
способа познавательной деятельности показывает, что главное в
ней - не выражение субъективного отношения мыслящего
субъекта к определенным фактам, а исследовательский поиск связи
наблюдаемых явлений друг с другом и с другими явлениями,
существование которых признается или предполагается на
основании имеющихся данных. В этом смысле можно сказать, что
Я отнюдь не собираюсь целиком отвергать положение Хайдеггера о
субъективном характере интерпретации, которое подтверждается самим фактом
существования экзистенциалистской и вообще идеалистической философии.
Объективная интерпретация явлений природы, основанная на рассмотрении их в
том виде, как они существуют вне и независимо от сознания, признание
объективного содержания представлений, понятий, теорий возможны лишь с позиций
естествознания и материалистической философии.
147
интерпретировать - значит связывать. Разумеется, это
«связывание» может быть субъективным, недостаточно обоснованным и,
напротив, объективным, обоснованным. Но и в том и в другом
случае интерпретация одного факта (или знания о нем)
возможна лишь тогда, когда имеется другой факт (и соответствующее
знание), когда целое расчленяется на части и рассматривается
отношение между ними. А так как сущность явлений - это прежде
всего их внутренняя взаимосвязь, то и интерпретация
оказывается способом познания сущности явлений.
Закономерной формой развития философии является
изменение интерпретации философских положений, понятий,
категорий. Наглядный пример этого - изменение, развитие понятия
детерминизма и непосредственно связанной с ним категории
причинности. В XVIII в. естествоиспытатели утверждали, что
каждое явление, событие, если оно описано с достаточной
полнотой, есть следствие одной определенной причины.
Детерминизм абсолютизировался, ибо представление о многообразии
причин, порождающих то или иное явление, было ему
совершенно чуждо. Это однозначное представление о
причинно-следственных отношениях было преодолено лишь в XX в. сначала в
естествознании, а затем в науках об обществе и человеке.
Показательно в этом отношении заявление одного из выдающихся
теоретиков медицины И.В. Давыдовского, который цитирует
естествоиспытателя Вернадского: «С естественно-научной точки
зрения, слово "Причина" слишком неопределенно и, пожалуй,
неуместно» (128, 163).
Вместе с понятием причинности, которое утратило свой
однозначный характер, изменилось и понятие необходимости.
Случайность была понята как не менее существенное отношение
природных явлений, чем необходимость. А что касается понятия
исторической необходимости, как социального процесса, то оно в
настоящее время уже не отождествляется с неизбежностью и
рассматривается как субъект-объектное отношение, объективность
которого отнюдь не абсолютна. Все это стало возможным
благодаря накоплению знаний о единстве и взаимообусловленности
явлений, умножению данных наук о природе и обществе.
Философия древности, как правило, еще не знает понятия
объективной необходимости, ее представления на этот счет явно
не свободны от мифологических образов. Средневековое
представление о необходимости- в основном теологическая
интерпретация, и притом не столько эмпирически констатируемых
процессов, сколько соответствующих христианских догматов. Лишь
в Новое время сначала в астрономии, а затем в других науках о
148
природе формируется понятие физической необходимости,
которому философия (главным образом материалистическая) придает
универсальное значение.
История философии показывает, как одни и те же положения
вследствие различной интерпретации получают
противоположный смысл и значение. Сошлемся для примера на
фундаментальное положение о непримиримой противоположности между
научным знанием и религиозной верой. Это положение
обосновывают, с одной стороны, материалисты, а с другой - мистики,
иррационалисты, философствующие теологи протестантизма, в
особенности неоортодоксы.
Не приходится разъяснять, почему материалист утверждает,
что наука и религия - непримиримые противоположности. Но
почему с ним соглашается религиозный иррационалист? Потому
что, с его точки зрения, науке абсолютно недоступны великие
истины религиозного откровения. Поэтому-то между религией
и наукой налицо абсолютная противоположность, в которой
находит свое выражение бесконечность, отделяющая человека от
Бога. Таким образом, непримиримо враждебные друг другу
мировоззрения констатируют один и тот же факт, интерпретируя
его, разумеется, противоположным образом. В одном случае вере
противопоставляется знание, а в другом - знанию вера.
Неоортодоксальные протестантские теологи, доводя до
предела противопоставление веры знанию, приходят к утверждению
о том, что мы не знаем, существует ли Бог, не знаем, во что мы
верим, но мы верим в существование божие, верим в его
абсолютную справедливость и т.д. В отличие от материалистов, с
одной стороны, и протестантских теологов - с другой,
католические теологи и философы томистского направления стремятся
доказать, что наука и религия в сущности не противоречат друг
другу и поэтому естествознание может и должно обосновывать
христианские догматы, которые сверхразумны, поскольку
источником их является Бог, но не противоразумны, так как Бог есть
абсолютный разум. Логические позитивисты при всей своей
чуждости проблематике томизма, в сущности, принимают тезис
об относительной противоположности между знанием и верой,
поскольку они склонны сводить научные знания к особого рода
верованиям. Некоторые из них, правда, утверждают, что между
наукой и религией, которая относится к эмоциональной сфере,
нет ничего общего. Отсюда делается вывод, что именно поэтому
религия неопровержима: опровержимы лишь научные теории.
Таким образом, несомненный факт принципиальной
противоположности науки и религии интерпретируется самым различным
149
образом, и это составляет существеннейшее содержание
некоторых философских учений.
Содержание философских понятий, как указывалось выше,
исторически изменяется, вследствие чего одним и тем же
термином зачастую обозначаются явления, не имеющие ничего общего
друг с другом. И когда экзистенциалист заявляет, что дома,
деревья, горы и Бог не обладают существованием, мы не можем
опровергнуть его простой ссылкой на указанное в толковом
словаре значение слова «существование». Мы анализируем то
особенное значение, которое экзистенциализм придал этому слову,
показываем несостоятельность субъективистской интерпретации
«существования», вскрываем связь «человеческой реальности» с
независимо от нее существующей действительностью.
Философские положения, рассматриваемые вне реального
исторического и теоретического контекста (который всегда
подразумевается, когда они высказываются компетентными
людьми), представляются просто банальностью. Люди сами делают
свою историю. В наши дни это положение представляется
тривиальным. Но достаточно вспомнить, что оно было впервые
выдвинуто в противовес теологической концепции
предопределения, чтобы стало понятно его действительное научное значение.
Стоит вспомнить, что на смену провиденциализму пришла
натуралистическая концепция предетерминации, которой
придерживались не только идеалисты, но и материалисты. Последние,
однако, утверждали, что люди сами делают историю. Но как это
возможно, если внешняя природа, природа самого человека,
результаты деятельности предшествующих поколений людей
независимы от ныне живущих поколений? Материалисты в
течение многих столетий не сумели дать обоснованный ответ на этот
вопрос.
С точки зрения материалистического понимания истории ни
внешняя природа, ни природа человека не являются
определяющей силой общественного развития. В процессе общественного
производства люди преобразуют внешнюю природу, а тем самым
и свою собственную природу. Развитие производительных сил в
конечном счете определяет характер общественных отношений и
образ жизни людей. Но производительные силы - это сами люди
и созданные ими средства производства. Следовательно, люди
сами творят свою историю, но творят ее не по произволу, а в
соответствии с тем уровнем производительных сил, который
каждое новое поколение получает в наследство от предшествующих
поколений. И чем больше каждое новое поколение людей
участвует в развитии производительных сил, т.е. чем значительнее его
150
вклад в материальную основу жизни общества, тем в большей
мере оно само создает условия, которые определяют его
общественное бытие, тем более свободно созидает оно свое настоящее
и будущее. Таким образом, положение «люди сами творят свою
историю» становится подлинно научным лишь благодаря
материалистическому пониманию истории.
Маркс говорил: «Философы лишь различным образом
интерпретировали мир, но дело заключается в том, чтобы изменить
его» (115, 3, 4). Это ставшее знаменитым положение не может не
вызвать возражений прежде всего потому, что оно неправильно
истолковывает роль философии (и философов) в истории
человечества, изображая деятельность философов (и соответственно,
роль философии) как не участвующую в изменении мира и,
прежде всего, общественных отношений. В действительности роль
философии в изменении общества совершенно очевидна любому
беспристрастному исследователю. Французское Просвещение
XVIII в. непосредственно предшествовало Великой французской
революции, идеологически подготовило и способствовало этому
социальному перевороту. Оно было, в сущности, духовной
революцией, которая сделала необходимой революцию социальную
и политическую. Немецкая классическая философия
осуществила философскую революцию в Германии, которая также
подготовила буржуазно-демократическую революцию в этой стране.
Только упрощенное понимание материалистического понимания
истории не способно признать эти неоспоримые исторические
факты*.
Это не значит, конечно, что философия не занималась
интерпретацией существующего. Разумеется, и это также входило
в ее задачу, которая, однако, не сводилась к одной лишь
интерпретации, далеко не исчерпывающей познавательный
процесс, в котором активно участвует философия. Понятен
поэтому упрек одного из критиков марксизма Г.Д. Айкена, который
писал: «Философская проблема, говорит Маркс, состоит не в
том, чтобы понять мир, а в том, чтобы его изменить» (197, 185).
Между тем, важнейшая задача философии как раз и состоит в
том, чтобы понять, объяснить, правильно интерпретировать
существующее и тем самым способствовать его целесообразному
изменению.
* Глубоко прав B.C. Степин, указывая, что духовная жизнь общества,
«взятая во всем многообразии ее проявлений... определяет воспроизводство и
изменения многочисленных структур социальной жизни, аналогично тому, как
генетический код и его мутации определяют структуру живого и изменения его
организации» (165, 37).
151
5. Теоретический синтез многообразного содержания
Каждая наука осуществляет теоретический синтез, и
притом не только в кругу вопросов, образующих ее предмет, но и
за пределами этого круга. Благодаря этому стало возможным не
только возникновение наук типа биохимии, химической физики,
но и применение математических методов в науках, которые
веками развивались независимо от математики. Однако, отмечая
наличие в частных науках прогрессивной тенденции к выходу
за пределы их специальной области исследования, я хочу вместе
с тем подчеркнуть, что эти науки именно потому и называются
частными, что занимаются исследованием, синтезом идей в
рамках своей сознательно ограничиваемой области. Между тем
философский синтез в принципе несводим к синтезу одних лишь
философских идей.
Философов часто упрекают в том, что они занимаются не
своим делом, т.е. обсуждают не только философские вопросы,
но также вопросы математики, физики, биологии, истории,
лингвистики, литературы. Упрек этот справедлив в том случае, если
философ претендует на решение специальных, нефилософских
вопросов. Однако он не может решать философские вопросы,
игнорируя достижения специальных наук.
Одним из главных недостатков гегелевской философии
истории философии является сведение развития философии к
одному лишь логическому саморазвитию философских
основоположений. Своей историей философии Гегель, бесспорно, доказал
первостепенное значение синтеза философских идей в развитии
философии и тем самым опроверг радикальное
противопоставление одних философских учений другим. Но Гегель по существу
упустил из виду то, что философия синтезирует, интерпретирует,
осмысливает и научные открытия своего времени и методы, с
помощью которых они были сделаны. Значение этих философских
обобщений, сравнительно небольшое в античную и
средневековую эпохи, гигантски возросло в Новое время и особенно в наши
дни, когда философии иной раз приходится, попросту говоря,
идти на выучку в математику, теоретическую физику,
теоретическую биологию и т.д.
Следует, однако, сразу же подчеркнуть своеобразие
философского синтеза научных достижений: он определяется прежде
всего исходными философскими посылками - эмпирическими,
рационалистическими, материалистическими или
идеалистическими. Логический позитивизм наглядно, несмотря на свою
близость к материализму, демонстрирует ограниченность эмпи-
152
ристского философского осмысления и обобщения достижений
науки. Современная аналитическая философия в Англии и США
также тяготеет к эмпиристскому теоретическому обобщению
естественнонаучных данных и достижений математики. Примером
рационалистического осмысления и обобщения новейшего
естествознания является философия Г. Башляра. Он пишет: «Между
повседневным и научным познанием выявляется перед нами столь
явный разрыв, как будто эти два типа познания не могут
сообразоваться с одной и той же философией. Эмпиризм - философия,
которая соответствует повседневному познанию. В нем эмпиризм
находит свой корень, свои доказательства, свое развитие.
Научное познание солидарно с рационализмом... Рационализм связан
с наукой, он требует научных целей» (206, 224). Башляр называет
свою философию «рационалистическим материализмом», но
несмотря на его согласие с отправными, онтологическими
положениями материализма его эпистемология проникнута
идеалистическими идеями субъективистского харктера.
Что касается материалистического, вернее, диалектико-мате-
риалистического осмысления и обобщения новейших
достижений естествознания и математики, то оно представлено главным
образом в исследованиях российских философов (B.C. Степин,
Л.Б. Баженов, В. Сачков, ПА. Свечников, В.А. Печенев,Е.А. Мам-
чур, Г.И. Рузавин, М.В. Степаненко).
Обсуждая вопрос об отношении философии к наукам о
природе и обществе, следует, конечно, учитывать многообразие
качественно различных философских учений, которые по-разному
относятся к эмпиризму, сенсуализму, рационализму, метафизике,
материализму, идеализму и т.д. Не трудно понять, что
возможности философского обобщения научных открытий весьма
ограниченны для идеалистических и метафизических учений. Но и
в этом случае, несмотря на извращение действительного
смысла научных открытий, постоянно обнаруживается стремление
осмыслить эти открытия, выразить свое отношение к ним,
оценить их, хотя бы даже негативно.
Философия не может существовать без этого критически
осмысливающего и по-своему подытоживающего отношения не
только к предшествующей философии, но и к науке своего
времени. В наше время, когда наука вошла в повседневный обиход,
проникла в обыденное сознание, произвела переворот в
производстве и потреблении, не только материальном, но и духовном,
это особенно очевидно. Достаточно вспомнить, какое влияние на
развитие философской мысли оказали теория относительности,
квантовая механика, изобретение атомной бомбы, кибернетика,
153
научно-техническая революция. Современный философский
иррационализм, противопоставляющий себя науке и третирующий
ее как систему безличных знаний, значение которых якобы не
зависит от их истинности, тем не менее постоянно занимается
рассмотрением достижений естествознания, истолковывая их в
субъективистском духе*.
Но философия осмысливает, обобщает не только научные
знания; не менее существенно для ее самоопределения
осмысление исторического опыта человечества и повседневного
опыта отдельного человеческого индивида (одним из них является
и сам философ). Исторические события, в особенности события
переживаемой философом эпохи, формируют его умонастроение,
определяют его отношение к философской традиции, а также
к проблемам, которые сами по себе не являются философскими,
но возбуждают философские интересы, подсказывают новые
философские идеи или ведут к возрождению и переработке старых
философских идей, которые, казалось, уже канули в прошлое.
В дальнейшем я специально рассмотрю философию как
общественное сознание исторически определенной эпохи. Такого
рода исследования, которые можно было бы назвать социологией
философии, обычно играют вспомогательную роль в историко-
философских работах. На мой взгляд, они заслуживают гораздо
большего внимания, так как дают возможность
конкретно-исторически оценить роль философии, выявить изменение ее
проблематики, ее социальный пафос, партийную позицию. Пока же
ограничусь указанием на то, что анализ определенного
исторического опыта позволяет вскрыть генезис философских концепций,
которые на первый взгляд представляются лишь логическим
развитием предшествующих учений.
Диалектика Гегеля, конечно, не может быть понята вне
истории диалектики от Гераклита до Канта, Фихте, Шеллинга. Но чем
* X. Ортега-и-Гасет в книге «Что такое философия» характеризует
последние шестьдесят лет XIX в. как самые неблагоприятные для философии: «Это
была резко выраженная антифилософская эпоха» (271, 28). Причиной упадка
философии в этот период Ортега считает «империализм физики», «террор
лабораторий», короче говоря, выдающиеся достижения естествознания. Однако,
утверждает Ортега, дальнейший ход событий показал, что естественнонаучное
знание является конвенциональным, постоянно удаляющимся от познания
сокровенной сущности универсума и человеческой жизни. Физика не смогла стать
метафизикой, и метафизическая потребность осталась неудовлетворенной.
Разочарование в мировоззренческих результатах естествознания и вызвало, по
мнению Ортеги, возрождение философии в XX в. (там же, 62-63). Эта концепция,
которую разделяют не только философы-иррационалисты, - типичный пример
идеалистической интерпретации новейших достижений естествознания.
154
объяснить этот скачок в развитии диалектического
миропонимания, который знаменует собой гегелевская философия?
Достижениями естествознания конца XVIII - начала XIX в.? В них,
конечно, уже обнаруживались гениальные диалектические догадки, но
Гегель, судя по его характеристике естествознания, недооценивал
их. Я полагаю, что диалектика Гегеля, несводимая к одному лишь
исследованию взаимосвязи категорий, была вдохновлена эпохой
буржуазных революций, которые разрушали веками устоявшиеся
в Европе феодальные отношения и тот казавшийся искони
неизменным и даже естественным образ жизни, в котором романтики
узрели первоначальное и утерянное затем единство личности и
бытия.
Выше уже говорилось о том, что философия
критически осмысливает, анализирует, синтезирует повседневный опыт
человека*. Разумеется, и естествознание в известной мере
основывается на повседневном опыте. Классическая физика, отмечал
СИ. Вавилов, «выросла из обыденного опыта и наблюдений,
отвечающих привычным человеческим масштабам размеров,
времен и скоростей» (29, 29). Однако значение повседневного опыта
для естественных наук уменьшается по мере их развития.
Этого не скажешь о философии. Тематика повседневного опыта не
вытесняется из философии развитием частных наук, которые,
создавая непривычную для обыденного сознания картину мира,
вынуждают философию по-новому оценивать данные
повседневного опыта.
Судьба человеческого существа, его переживания и
устремления - короче, его жизнь и смерть всегда составляют одну из
важнейших философских тем. Забвение этой гуманистической
проблематики, характерное для неопозитивизма, справедливо
оценивается как односторонний сциентизм. Философская
несостоятельность сциентизма заключается не в ориентации на
проблемы, порождаемые развитием наук, а в игнорировании
проблемы человека, которая в Новое время, и особенно в современную
эпоху, стала центральной философской проблемой.
Первые древнегреческие философы занимались, правда,
преимущественно космологическими проблемами. Однако
существеннейшим для характеристики их учений является то, что они,
исходя из повседневного опыта, критически оценивали обыден-
* Это положение, впервые обоснованное философским материализмом в
XX столетии, принимается и многими идеалистами. Так, американский
философ-идеалист Ньюэл заявляет: «...философия должна начинать, принимая в
качестве отправного пункта присущее обыденному здравомыслию (common sense
view) видение мира» (270, 131).
155
ные представления, разрабатывая отличные от них воззрения.
Эти философы ссылались на те элементы повседневного опыта,
которые могли быть истолкованы как подтверждение их
воззрений; к чему-либо другому они апеллировать не могли.
В Новое время, когда не непосредственный жизненный опыт,
а достижения математики и небесной механики стали отправным
пунктом философских размышлений, вопросы о сущности
человека, его положении в мире, его назначении постоянно
завершают, казалось бы, весьма далекие от них метафизические системы.
Эти вопросы в значительной мере определяют не только
содержание, но и специфическую форму философского знания.
Таким образом, поскольку философия синтезирует,
критически анализирует, интерпретирует многообразные типы
человеческого знания и опыта, не только способ постановки философских
проблем, но и способы их решения также характеризуются
синтетичностью. Качественно различные типы знания, которые не
могут быть сведены к одному лишь научному отражению
действительности, сливаются в философии в единое целое, причем
на разных этапах ее развития преобладает то один, то другой тип
знания. Но философия всегда остается теоретическим знанием.
Иное дело, что теоретическое знание не всегда носит научный
характер, т.е. теория и наука отнюдь не одно и то же. Научное
знание может носить теоретический или эмпирический характер,
философское знание в принципе не может быть эмпирическим,
что не только не ставит под вопрос существование эмпиристской
философии как философской теории опытного знания. Но не это,
конечно, главное в нем: философия, развиваясь как теоретическое
знание, может быть ненаучной и даже антинаучной.
Таким образом, разграничение теоретического и научно-
теоретического знания, которого мы, зачастую, не находим у
большинства историков философии, приближает нас к уяснению
специфики философии даже тогда, когда она, как, например, в
средние века, в значительной мере сливалась с теологией,
которая, хотя и называлась наукой, в сущности, не была ею.
В. Дильтей в статье «Сущность философии», указывая на
несводимость к единству содержания многообразных
философских учений, подчеркивает, что общим им всем является принцип
научности, требование общеобязательности знания.
«Философия, - пишет он, ссылаясь при этом на древнегреческих
философов, - означает стремление к знанию - знанию в его строжайшей
форме - науке» (216, 348). Основной признак научности состоит,
по Дильтею, в сведении всех допущений к законным логическим
основаниям. Дильтей не проводит различия между наукой и тео-
156
рией - всякая теория, поскольку она находится в согласии с
требованиями логики, представляется ему научной. Отсюда следует
явно несостоятельный вывод: все философские учения стремятся
реализовать идеал научного знания. Между тем история
философии говорит совсем о другом: все философы стремятся
теоретически доказать, обосновать, вывести свои положения из
определенных посылок, все они пытаются последовательно провести
принятый ими принцип. Что же касается идеала научного знания,
то он, конечно, существовал не во все времена и даже в наши дни
отвергается значительной частью философов.
Дильтей стремился примирить рационализм с
иррационализмом. Но иррационализм находится в открытой оппозиции к
науке и, следовательно, отвергает идеал научного знания. Дильтей
противопоставлял наукам о природе иррационалистически
толкуемые «науки о духе». Современный иррационализм
обосновывает свое отрицание мировоззренческого значения наук о
природе системой продуманных, однако явно ненаучных аргументов*.
Таким образом, проведение демаркационной линии между
теоретическим синтезом и синтезом научным, который, конечно, также
носит теоретический характер, имеет принципиальное значение.
Теоретическое знание существовало в двух основных формах:
философской и научной. Это обстоятельство игнорируется теми,
кто не видит, что идеализм, как бы ни была совершенна его
теоретическая форма, неизбежно вступает в конфликт с науками о
природе.
В. Виндельбанд еще более решительно, чем Дильтей,
стремится доказать, что значение философии на протяжении всей
истории человечества заключается в постоянно одушевляющем ее
пафосе научности, важнейшим признаком которого является-де
стремление к знанию ради знания. Когда Виндельбанд
утверждает, что история греческой философии есть история зарождения
науки, то это не вызывает возражений. Но он явно заблуждается,
распространяя этот вывод на всю последующую историю фило-
* Иррационализм давно уже стремится придать своим антинаучным
положениям отнюдь не противоречащую наукам форму. Так, например, Мюллер-
Фраенфельс утверждает, что «иррациональное не следует считать хаосом и
непознаваемостью» (268, V). Развивая этот тезис, цитируемый автор приходит к
заключению: «мы, разумеется, пытаемся постигнуть иррациональное не как
хаос, а определить его как положительно оформленный и оформляющий
мировой принцип» (там же, 492). Этот принцип далее определяется как
«иррациональный порядок» (там же), который вполне совместим с предустановленной
гармонией и прочими теологическими постулатами. Эта попытка примирить
иррационалистическое философствование с научным (а также теологическим)
мировоззрением выявляет имманентную несостоятельность иррационализма.
157
софии. «История названия "философия", - пишет он, - есть
история культурного значения науки. Когда научная мысль
утверждает себя в качестве самостоятельного стремления к познанию
ради самого знания, она получает название философии; когда
затем единая наука разделяется на свои ветви, философия есть
последнее, заключительное, обобщающее познание мира. Когда
научная мысль опять низводится на степень средства к
этическому воспитанию или религиозному созерцанию, философия
превращается в науку о жизни или в формулировку религиозных
убеждений. Но как только научная жизнь снова освобождается,
философия также приобретает вновь характер самостоятельного
познания мира, и, когда она начинает отказываться от
разрешения этой задачи, она преобразует самое себя в теорию науки»
(32, 16-17).
Я далек от того, чтобы недооценивать роль философии в
развитии наук, так же как и роль наук в развитии философии. И Вин-
дельбанд правильно подмечает известное соответствие,
обнаруживающееся в изменениях, которые претерпевают и философия
и науки в ходе всемирной истории. Но, как типичный
представитель идеалистической историографии, он не замечает
громадной роли, которую играют в истории философии и науки
нефилософские факторы - социально-экономическое, политическое
развитие человечества. Для него единственной движущей силой
и философии и науки оказывается любознательность. Так же как
и Дильтей, Виндельбанд крайне расширительно толкует понятие
науки, считая, например, что в средние века она была средством
этического воспитания и религиозного созерцания.
Предпосылкой такого рода интерпретации науки является отмеченный выше
отказ от разграничения теории и науки. Между тем понятие
теории несравненно шире по своему объему, чем понятие науки.
Именно поэтому не всякая теория - научная теория. Научность
теории определяется не столько ее формой, сколько содержанием.
И это весьма важно иметь в виду при изучении бесчисленных
философских теорий, сменявших друг друга на протяжении веков.
Идеализм, как правило, чужд науке, ему доступна лишь форма
научности, но не ее предметное содержание.
Может показаться, что разграничение теоретического и
научно-теоретического знания, несомненно существенное для
понимания большинства философских учений (в особенности
идеалистической философии), теряет свой смысл в применении к
современному материализму, который, покончив с противопо-
лаганием философии положительным наукам и практике,
полностью приемлет и стремится на деле применить исторически
158
сложившиеся в науке принципы научности*. Однако, поскольку
сохраняется различие между философией и частными науками,
т.е. специфической формой существования научного знания,
указанное разграничение полностью относится и к философии,
претендующей на диалектическое переосмысление
материалистической традиции.
Всякая наука предполагает сознательное вычленение
определенного круга объектов из бесконечного многообразия явлений
природы или общества. Прогрессирующее ограничение предмета
исследования - характерная тенденция развития наук, которые
постоянно осуществляют разделение предмета своего
исследования на части, что происходит благодаря новым научным
открытиям, порождает новые научные дисциплины и поэтому становится
одним из условий научного прогресса. И хотя круг объектов
научного познания непрерывно расширяется, научные исследования
становятся все более специализированными, несмотря на
непрерывную интеграцию научных знаний.
Современный материализм может и должен ограничить
предмет своего исследования лишь путем исключения из него тех
вопросов, которые не являются собственно философскими. Такое
ограничение носит в основном методологический и
гносеологический характер, так как философия в отличие от частных наук
не может ограничить себя какой-либо частью природы, общества
или процесса познания.
Принцип предельного ограничения предмета философии,
провозглашаемый некоторыми, преимущественно позитивист-
* Говоря о современном материализме, я имею в виду не только
диалектический материализм, но и ту материалистическую философию, которая
именует себя "научным материализмом". Один из главных ее представителей -
Д.М. Армстронг. Он пишет: "Что такое человек? Одно, очевидно, должно быть
сказано, что он есть определенного рода материальный объект. Телесные
функции человека в гораздо более сложной и интересной форме, чем любой
другой известный материальный объект, естественный или искусственный.
Поэтому возникает вопрос: есть ли человек нечто иное, чем его материальное тело?
Можем ли мы дать описание человека в чисто физических терминах?" (198, 1).
Отрицая, что человек есть нечто иное, чем его материальное тело, Армстронг
полагает, что полное описание человека в физических терминах не только
возможно, но и необходимо. Он отвергает бихевиористское сведение сознания,
мышления к поведению, но понятие духовного считает необходимым свести к
свойствам специфической, высокоорганизованной материи человеческого тела.
"Некоторые теории о духе (mind) и теле пытаются свести тело к духу или к
некоторым свойствам духа... В противоположность этим менталистским теориям
мы - представители менталистской теории стремимся свести духовное к телу
или некоторым свойствам тела» (Ibid., 5). Я полагаю, что эта точка зрения не
имеет ничего общего с так называемым вульгарным материализмом.
159
скими, учениями, противоречит самой сущности философии, ее
мировоззренческой функции. Этот принцип, предполагающий
превращение философии в частную науку, является, так сказать,
в принципе ненаучным. Частные науки, как бы ни отличались они
друг от друга по предмету и методам исследования, едины в том
отношении, что являются именно частными науками, а это
характеризует как предмет, так и методы исследования. В этом смысле
философия существенно отличается от любой науки тем, что не
может быть частной наукой. И это также характеризует не только
ее содержание, но и ту форму познания, которую я называю
философской.
Таким образом, рассмотрение философии как специфической
формы познания приводит меня к выводу, что особенности
философского мышления не являются исключительным
достоянием философии. Они в той или иной степени присущи
научно-теоретическому мышлению вообще. Эти особенности в неравной
мере присущи философским учениям, они проявляются как
позитивным, так и негативным образом. Анализ философской формы
мышления доказывает несостоятельность радикального
противопоставления философии наукам, возможность специфически
научной формы философского знания.
Глава 4
ПОПЫТКА ТЕОРЕТИЧЕСКИ ПОДЫТОЖИТЬ
ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСА «ЧТО ТАКОЕ ФИЛОСОФИЯ?»
1. Своеобразие исторического развития философии
все более затрудняет ответ на поставленный вопрос
Абстрактные объекты сравнительно легко поддаются
определению именно потому, что они абстрактны, т.е. представляют
собой лишь идеализированный односторонне воспринимаемый
образ определенной реальности, сознательную конструкцию
абстрагирующего научного мышления. Понятие абстрактного
объекта, например «абсолютно черное тело» в физике, есть обычно
смысл термина, устанавливаемый дефиницией. Иное дело -
реальные объекты, многообразные, противоречивые,
изменяющиеся, исторически развивающиеся: природа, жизнь, человек,
искусство и т.д. Именно о таких объектах можно сказать, что их
дефиниции имеют лишь формальное значение. Они необходимы
как способ идентификации предмета, о котором идет речь. Это,
правда, не исключает того, что некоторые дефиниции
представляют собой существенные определения.
Omnis determinatio est negatio - «всякое определение есть
отрицание». Это положение Спинозы следует, конечно, понимать
не в том банальном смысле, согласно которому одно
определение отрицает другие определения; этого как раз может и не быть,
поскольку конкретное в теоретическом мышлении есть
единство различных определений. Каждая дефиниция есть не только
утверждение, но и отрицание того ограниченного содержания,
которое в нее вложено, так как она является односторонней, а
конкретное - многообразно. Всякая дефиниция есть ограничение
содержания понятия и именно поэтому сама ограниченна.
6. Ойзерман Т.И., том 5 161
Конкретные и, следовательно, многосторонние объекты могут
быть определены лишь логически конкретным образом, а
логически конкретное образуется путем обоснованного перехода от
одного определения к другому, результатом чего становится система
определений. С этой точки зрения существование необозримого
множества дефиниций философии не представляется чем-то
исключительным, непонятным или дискредитирующим
философию. Проблема заключается в другом: может ли это множество
дефиниций философии быть приведено в единство? А если это
невозможно, то как конкретно определить понятие философии
(конкретное - единство различных определений), учитывая
сложившуюся в течение тысячелетий и сохранившуюся (а
возможно, и углубившуюся) в нашу эпоху дивергенцию философских
учений, систем, течений, концепций, закономерным следствием
которой является плюрализм определений понятия философии?
Следует при этом не только иметь в виду, но и должным
образом оценить исторически происходившее изменение смысла,
проблематики и предмета философии, как и самого слова
«философия». Но при всех расхождениях относительно ее понятия
философия оставалась философией, т.е. отличалась от
всякого иного теоретического знания и по форме, и по содержанию.
А если это так, то не создается ли тем самым возможность
научного синтеза различных определений понятия философии? Если
этот синтез возможен, то во всяком случае с теоретических
позиций, исключающих эклектизм, и лишь в результате строгого
критического анализа, отбора, переработки различных дефиниций
понятия философии. Единство различных определений может
быть содержательным, конкретным единством лишь при условии
выявления действительных тенденций развития философии,
прогресса философского знания, диалектически
отрицающего его предшествующие, менее развитые формы. Этот синтез,
точнее, критическая переработка предполагает, следовательно,
специальное историко-философское исследование. Такое
исследование во многом выходит за рамки этой работы, поэтому
я ограничусь лишь постановкой проблемы и предварительным
анализом возможностей синтеза различных определений, имея
в виду, что каждое из них не берется готовым из истории
философии, а в сущности вырабатывается заново из имевшихся в
прошлом определений.
В. Виндельбанд, высказав убеждение, что любая попытка
синтезировать бесчисленные дефиниции философии «была бы
делом совершенно безнадежным», объясняет несостоятельность
такого рода попытки (от которой, впрочем, он не отказывается
162
полностью) тем, что «общности названия "философии" не
соответствует никакое логически определимое единство ее
сущности» (31, 19). Однако значение слова «философия» изменялось,
по-видимому, не случайно; в тех же случаях, когда это слово
применялось произвольно, случайно приданное ему значение,
вероятно, было забыто. То, что название «философия» прилагалось к
самым различным, казалось бы, совершенно чуждым философии
формам знания, возможно, не только затрудняет, но в некоторых
отношениях также и облегчает понимание философии и ее роли в
духовном развитии человечества*. Сущность философии, как
писал В. Дильтей, «оказалась чрезвычайно подвижной, изменчивой:
выдвижение все новых и новых задач, приспособление к
условиям культуры; то она (философия. - Т.О.) углубляется в проблемы
как ценные, то отвергает их вновь; на одной ступени познания ей
представляются разрешимыми такие вопросы, которые она,
однако, затем оставляет как неразрешимые» (69а, 365). Сложность
понятия философии усугубляется еще и тем обстоятельством,
что ее лексикон не только постоянно обновляется, но изменяется
также смысл применяемых ею терминов. Декарт, например,
озаглавил свой главный труд «Рассуждение о методе», не придавая
слову «рассуждение» значения философской категории, т.е.
понимая его в обыденном смысле. Также поступил и Ж.-Ж. Руссо,
опубликовавший «Рассуждение о происхождении неравенства».
Однако в XX в. некоторые философы, в первую очередь так
называемые постмодернисты, превратили слово «рассуждение»
(по-французски - discourse) в философскую категорию
первостепенно значения. По словам М. Фуко, Фрейд и Маркс
«установили некую бесконечную возможность дискурсов» (180, 31).
Следуя, так сказать, за этими мыслителями, не подозревавшими,
что они открыли (установили), Фуко продолжает: «Возможно
настало время изучать дискурсы уже не только в том, что касается
их экспрессивной ценности или их формальных трансформаций,
но и с точки зрения модальности их существования...» (180, 39).
Далее у Фуко речь идет о «дискурсивных сообществах», функцией
которых является «сохранять или производить дискурсы, но так,
чтобы обеспечивать их обращение в закрытом пространстве»
(180, 71). Рассуждения (дискурсы) Фуко о дискурсах,
по-видимому, ставят эпистемологически важную проблему, которая, однако,
* Е. Гранстрем, анализируя славянские рукописи XIV в., отмечает, что
изобретателя славянской азбуки Кирилла называли философом. Философами
называли также Феофана Грека, митрополита Климента Смолятича и других видных
ученых того времени. Это, несомненно, указывает на место философии в
системе культурных ценностей (см. 61, 49).
6*
163
в его монографии совершенно недостаточно раскрыта. Несколько
большую ясность вносит в этот вопрос монография И.Т. Касавина
«Текст. Дискурс. Контекст.» В ней прежде всего подчеркивается:
«Существует множество "теорий" и "дефиниций" дискурса.
Самое общее, мягкое и общепринятое из них идентифицирует
дискурс с аргументативной коммуникацией» (87, 351). Не
удовлетворяясь этим общим определением, Касавин его конкретизирует: «Я
буду понимать дискурс как неоконченный живой текст, взятый в
его непосредственной включенности в акт коммуникации, в ходе
его взаимодействия с контекстом» (там же, 312). Разграничивая
виды дискурсов (политический, научный, художественный,
религиозный, моральный), Касавин утверждает: «Основной целью
дискурса является не что иное, как координация деятельности
людей в обществе» (там же, 367). Дискурс, таким образом,
выступает как многогранное действие языка, посредством которого
осуществляются разнообразные формы общения между членами
общества. При этом язык выполняет не только функцию средства
общения, поскольку он представляет собой активное,
самодеятельное самовыражение личности. Об этой роли языка писали
уже Т. Гоббс, Дж. Локк, В. Гумбольдт и другие мыслители.
Понятие дискурса теоретически подытоживает как философские, так и
лингвистические исследования этой специфически человеческой
формы общения.
Необходимой формой выражения (или осуществления)
дискурса в эпоху цивилизации является текст, который, таким
образом, также обретает статус философской категории. А.
Шопенгауэр как-то сказал полушутя: «Первые сорок лет нашей жизни
составляют текст, а дальнейшие тридцать - комментарии к этому
тексту». Но Шопенгауэр придавал этому высказыванию скорее
метафорический, чем философский смысл. Новое осмысление
понятия «текст» появилось лишь в XX веке. Я имею в виду не
только структуралистов и постмодернистов, но и более широкий
круг мыслителей. Укажу, в частности, на выдающегося
литературоведа и философа М.М. Бахтина, который пишет: «Там, где
человек изучается вне текста и независимо от него, там уже не
гуманитарные науки (анатомия и физиология человека и др.)...
Человеческий поступок есть потенциальный текст и может быть
понят (как человеческий поступок, а не физическое действие)
только в диалогическом контексте своего времени (как
реплика, как смысловая позиция, как система мотивов» (12, 477-478).
Таким образом, не только текст, но и контекст, а также диалог
(диалогическая позиция) приобретают значение философских
категорий.
164
При характеристике экзистенциализма уже шла речь о том, что
эта философия преобразует термин «существование», превращая
его в понятие, специфически определяющее человеческую
личность. Поэтому Хайдеггер, например, утверждает, что Бог есть,
но он не существует, ибо существование - человеческое, только
человеческое переживание. Такая трактовка существования
придает ему если и не онтологическое, то, пользуясь выражением
того же Хайдеггера, онтическое существование.
Понятие личности, естественно, занимает центральное
место в философии Нового времени. Не только персонализм,
философское течение, сложившееся в тридцатых годах прошлого века,
превращает понятие личности в философскую категорию,
которой придается почти субстанциальное значение. Понятно
поэтому заявление лидера французского персонализма Э. Мунье:
«...личность является не ячейкой общества, а вершиной, с
которой берут начало все пути, ведущие в мир» (122, 12). Но Мунье не
противопоставляет личность обществу, напротив, он
подчеркивает, что лишь вовлечение (engagement) позволяет личности
реализовать свои способности и цели. «Человек является человеком
только благодаря вовлечению», - утверждает философ, однако
тут же уточняет: «Но если человека не интересует ничто другое,
кроме вовлечения, он превращается в раба» (там же, 43).
Вовлечение, следовательно, также, по меньшей мере для персонализма,
становится философской категорией.
Личность, согласно Мунье, формируется благодаря
преодолению себя. «Принцип преодоления является силой, тесно
соединяющей принцип интериоризации и принцип экстериоризации
и не дающей интеориоризации превратиться в субъективизм,
а экстериоризации - в вещизм» (там же, 85).
Термины, которые применяет в цитируемом положении
Мунье, наличествуют и в некоторых других философских учениях.
Это обстоятельство придает им значение категорий.
Ж. Делёз и Ф. Гваттари в работе «Что такое философия?»
утверждают, что философом является лишь тот, кто создает,
придумывает новые концепты. При этом они настаивают на том, что
концепты (т.е. не просто понятия, но и концепции) наличествуют
только в философии, науки не имеют с ними дела. Таким образом,
история философии рассматривается как умножение концептов,
т.е. введение в философский дискурс новых категорий,
характеризуемых как принципиально отличные от понятий, которыми
оперируют науки. Разумеется, далеко не все философы нашего
времени разделяют это воззрение, которое, однако, характеризует
тенденцию, превалирующую в современной философии.
165
Однако многоликость, изменчивость понятия философии
должна быть рассмотрена и с позитивной стороны, тем более что
в этом непрерывном процессе изменения выявляется и
сохраняется основное содержание философии*. Однако трудности,
встающие на пути определения понятия философии, не могут быть
сведены к противоречию между непреходящим и преходящим в
философии, так как непреходящее исторически складывается из
преходящего и противоположность между тем и другим
относительна. Если бы сущность философии сводилась к тому, что
тождественно во всех философских учениях, то это была бы
абстрактная, бедная сущность, скорее даже видимость сущности. Между
тем действительная сущность многогранна: это и тождество, и
различие, и противоречие и т.д. Если с этой точки зрения
оценивать сущность философии, то самое общее для всех
философских учений, сохраняющееся в философии на протяжении
тысячелетий, окажется всего менее характеризующим философию в ее
развитой форме. Исторически преходящие проблемы философии
нельзя рассматривать как незначительные. Более того,
отграничение того, что в прошлом именовалось (или действительно было)
философией, от того, что и в настоящее время остается
философией, хотя и не является особенно трудной задачей, имеет смысл
лишь постольку, поскольку при этом выясняется оправданность
применения слова «философия» к вопросам, ныне уже не
относящимся к философии.
Общепризнано, что предмет философии в ходе истории
подвергался изменению. Проблемы, которые до известного времени
находились в исключительном ведении философии, постепенно
становились предметом исследования частных наук. Значит ли
это, что проблемы, которые «покинули» философию, в сущности
и не были философскими проблемами, а рассматривались филосо-
* Ссылаясь на этот факт, Дильтей ставит перед собой задачу вычленить
непреходящее содержание философии: «Необходимо определить не то, что здесь
или теперь считается философией, а то, что постоянно и всегда образует ее
содержание» (216, 364). Что же образует непреходящее в философии? Дильтей
отвечает: «Всегда мы в ней замечаем одну и ту же тенденцию к универсальности,
к обоснованию, то же стремление духа к постижению данного мира в целом.
И постоянно в ней борются метафизическое тяготение к проникновению в ядро
этого целого с позитивистским требованием общезначимости ее знания» (216,
365). Противоречие между преходящим и непреходящим в содержании
философии является, по Дильтею, источником многообразия философских учений,
их несовместимости друг с другом. Отсюда и трудности определения понятия
философии, ибо такое определение, чтобы быть всеобщим, должно фиксировать
ее непреходящее содержание и, следовательно, игнорировать преходящее, хотя
последнее существенно как исторически определенная форма философии,
порожденная самой жизнью.
166
фией просто потому, что до поры до времени им не было найдено
другого места? Я не придерживаюсь этого убеждения, хотя
вполне понимаю недовольство философов, протестовавших против
применения слова «философия» к вопросам, которые, во всяком
случае к началу XIX в., уже не относились к философии. Гегель,
имея в виду ньютоновские «Математические начала натуральной
философии», подчеркивал, что Ньютон называл свою физику
философией природы. «У англичан, - иронизировал Гегель, -
название философии еще и по настоящее время сохранило этот смысл,
и Ньютона продолжают там прославлять как великого
философа. Даже в прейскурантах изготовителей инструментов, которые
не вносятся в особую рубрику магнетических или электрических
аппаратов, термометры, барометры и т.д. называются
философскими инструментами» (45, 92)*. Это обстоятельство особенно
возмущало Гегеля, так как единственным инструментом
философии он считал спекулятивное мышление.
Гегель указывал и на то, что созданная Гуго Гроцием теория
права получила название философии международного
государственного права, что политическую экономию в Англии также
называют философией. В качестве курьеза Гегель приводит
название английского журнала: «Анналы философии, или химии,
минералогии, механики, естественной истории, сельского
хозяйства и искусства». Науки, которые в данном случае называются
философскими, правильнее называть, замечает Гегель,
эмпирическими науками. Но почему же они называются философскими?
Неужели это лишь неправильное словоупотребление, возникшее
на почве средневековой университетской традиции, согласно
которой естественные науки относились к компетенции
философского факультета? Может показаться, что Гегель не видит иного
основания для подобного применения слова «философия», хотя
он в сущности указывает на эти основания, отмечая, что в Новое
время, когда сложились науки, исследующие многообразный
эмпирический материал, «философией стали называть всякое
знание, предметом которого является познание устойчивой меры и
всеобщего в море эмпирических единичностей, изучение необхо-
* Б.П. Вейнберг в предисловии к «Математическим началам натуральной
философии» Ньютона указывает, что Английская академия наук - Королевское
общество для улучшения естественного знания - возникла в 1662 г. из
«Невидимой, или Философской, коллегии», основанной в 1645 г. Королевское общество
издает «Философские записки» («Philosophical Transactions»), в которых
печатаются исследования по всем разделам естествознания, еще и поныне
называемого «натуральной философией». Ньютон при избрании его в члены Королевского
общества заявил, что он готов приложить все усилия «для успеха философских
знаний» (127, 15).
167
димости, закона в кажущемся беспорядке бесконечного
множества случайностей...» (41,91).
На мой взгляд, это замечание вносит ясность в вопрос о
причинах расширительного употребления слова «философия»,
распространенного еще в XVIII-XIX вв. Я уже указывал выше, что
философия исторически формируется и в течение ряда столетий
развивается как первая и по существу единственная форма
теоретического знания. Для Аристотеля, например, не существовало
иной теории, кроме философии; геометрию и физику он считал
разделами философии, отличая от них то, что впоследствии стали
называть метафизикой как «первую философию». В Новое время,
когда не только математика, физика, но и биология, и
правоведение, и другие науки отделяются от философии, они в течение
длительного периода все еще называются философскими,
поскольку занимаются теоретическими обобщениями, а не просто
описывают наблюдаемые факты. Не поэтому ли К. Линней
назвал созданную им классификацию растений «Философией
ботаники»? Именно об этой работе, по словам профессора ботаники
С. Станкова, в свое время Руссо говорил, что «эта книга -
наиболее философская из всех, какие он знает» (162, 20)*. А ведь Руссо
был философом в более строгом смысле этого слова, чем Линней,
хотя и у Линнея мы находим глубокие философские идеи.
Я упоминал уже о «Философии зоологии» Ламарка; не
случайно, что такое название получило произведение, в котором
излагается теория эволюции. По-видимому, Ламарк хорошо
осознавал, что развиваемая им гипотеза, хотя и основывается на
определенных эмпирических данных, далеко выходит за пределы
доступного наблюдению. Кроме того, для объяснения некоторых
наблюдаемых фактов, например относительной
целесообразности в живых организмах, Ламарк постоянно обращался к
арсеналу философских понятий.
В отличие от своего выдающегося французского
предшественника Ч. Дарвин располагал несравненно более обширным
эмпирическим материалом для обоснования эволюционного учения.
Вопреки существовавшей в Англии традиции он не называет свой
труд философским, а прямо указывает в его названии на
специальный предмет своего исследования - происхождение видовых
различий. В учении Дарвина биология окончательно обособля-
* Стоит отметить, что современник Линнея Р. Бойль свои исследования,
посвященные разложению селитры, опубликовал под названием «Опыты
использования химических экспериментов в качестве иллюстраций понятий
корпускулярной философии» и уже в начале XIX в. Д. Дальтон назвал свой
основополагающий труд «Новой системой химической философии».
168
ется от философии как теоретическая дисциплина; до этого она
отделялась от нее лишь своей эмпирической, по преимуществу
описательной частью.
Нельзя отделять название «философия» от того, что прежде
(на протяжении многих столетий) называлось философией, лишь на
том основании, что частные науки, выделившись из философии или
сложившись иными путями, сделали объектом своего специального
исследования то, что было предметом лишь философского
размышления. И если многие ныне независимые от философии научные
дисциплины в прошлом были разделами философии, то это
выявляет, по моему мнению, значение философии не только для прошлого.
Во всяком случае в поисках научного определения понятия
философии мы не можем оставить без внимания это существенное
обстоятельство, характеризующее исторические судьбы философии.
Некоторые исследователи позитивистского толка, ссылаясь на
то, что многие научные дисциплины именовались философскими
до тех пор, пока они находились в процессе становления, делают
вывод, что исследование становится собственно научным лишь
постольку, поскольку оно отмежевывается от философии. При этом,
однако, упускается из виду, что отделившиеся от философии и
сложившиеся как специальные области исследования частные науки
занимаются не просто теми же проблемами, которыми в прошлом
занималась философия, а более специальными вопросами. Такого
рода вопросы могли ставиться философией лишь в самой общей,
предваряющей специальное исследование форме. Но в таком
обобщенном виде эти вопросы обычно сохраняют свое философское
содержание и значение и для нашего времени.
Нельзя, следовательно, сказать, что космологические,
физические, биологические проблемы вовсе исключаются из
содержания философии после того, как они становятся предметом
специального изучения. Напротив, благодаря результатам, достигнутым
частными науками, эти проблемы приобретают для философии
новое значение, поскольку результаты научных исследований не
просто интерпретируются, ассимилируются философией, но
открывают перед ней новые горизонты, возможности, проблемы*.
* Эта высокая оценка познавательного значения философии не должна
вести к противопоставлению философии «ограниченным», частным наукам, к
истолкованию философии как «науки наук». Поэтому нельзя согласиться с
выдающимся французским историком философии М. Геру, который в своем
докладе на XIV всемирном философском конгрессе (Вена, 1968) утверждал: «Разве
философия, достойная этого имени, не должна стремиться, возвысившись над
всеми конечными точками зрения, постичь бесконечно бесконечную
бесконечность универсума? Не должна ли она, следовательно, освободиться от всего, что
замыкает ее в кругу человеческого?... Не должна ли подлинная философия быть
169
Таким образом, ограничение понятия философии ее
современной проблематикой не может быть основой для дефиниции
философии, поскольку нас как философов (и историков
философии) интересует не только то, чем стала философия в результате
своего развития, но и то, чем она была на протяжении всей своей
истории. Это не значит, что мы хотим, так сказать, окольным
путем вернуться к отвергнутой нами идее о неизменной сущности
философии. Наша задача заключается скорее в том, чтобы
вычленить те довольно многочисленные, по нашему мнению,
специфические признаки философии, которые позволяют понять
философию в ее развитии. Анализ различных дефиниций философии
непосредственно служит этой цели. Эмпирически
констатируемой основой их многообразия является не одно лишь
расхождение во мнениях относительно одного и того же предмета, а
реальное многообразие философских учений, поскольку именно это
обстоятельство отличает развитие философии от развития любой
другой отрасли знаний.
Античный скептицизм впервые высказал убеждение в том,
что существование несовместимых друг с другом философских
учений, во-первых, неизбежно и, во-вторых, неустранимо.
Однако не только скептики, но и чуждые их воззрениям философы
обычно придерживаются представления, согласно которому
многообразие философских учений есть результат блужданий
философского мышления в поисках истины, которая в отличие от
заблуждений не существует во множественном числе. При этом,
однако, блуждания философии рассматриваются как ее
злоключения, свидетельствующие о ее неспособности стать наукой.
Некоторые из философов Нового времени пытались выявить
элементы истины в разных философских учениях, т.е. позитивно
оценить их разнообразие, но эти попытки, как правило, носили
эклектический характер. Гегель в своей критике философского
скептицизма, в воззрениях которого на философию он
обнаруживает предрассудки обыденного сознания, доказывал, что не
следует преувеличивать различия между философскими учениями,
так как сущность философии всегда одна и та же и все бесчис-
философией космической? Таким образом, в необъятности бесконечно
бесконечных астрономических пространств и времен она восстановит подлинный облик
человечества, живущего на ничтожно малой планете в течение бесконечно малого
периода времени по сравнению с миллиардами столетий, на протяжении которых
зарождаются и гибнут миллиарды звезд. Эта философия считала бы
смехотворным замыкать в несколько веков человеческой истории разум всей философии и,
более того, разум всякой вещи, не говоря уже о попытке видеть в этом
реализацию Абсолютного и глубокую основу всеобщей системы Природы» (226, 10).
170
ленные различия (и противоположности) философских
воззрений существуют в недрах фундаментального тождества в силу
его диалектической природы. «Как бы философские системы ни
были различны, их различия все же не так велики, как различие,
например, между белым и сладким, зеленым и шероховатым; они
совпадают друг с другом в том отношении, что все они являются
философскими учениями, а это именно и есть то, что упускается
из виду людьми, берущими их как изолированные положения»
(42, 398). Такая констатация абстрактной общности, т.е.
философского характера всех философских учений, конечно, немного
дает. Но Гегель идет гораздо дальше в своем учении о
диалектическом единстве философских учений, составляющем
теоретическую основу его историко-философской концепции: он видит
в них развивающиеся во времени ступени, принципы одной и той
же многообразной по своему содержанию энциклопедической
философии, которая получает свое окончательное завершение
в его философской системе.
Гегель явно преувеличивал момент тождества и преуменьшал
момент различия (противоречия) в отношении философских
учений друг к другу. Заблуждения философов возникают, по
Гегелю, только вследствие абсолютизации момента всеобщей истины
(абсолютного знания), которую являет миру каждая философская
система. При этом Гегель не считает необходимым исследовать
причины этой абсолютизации, несмотря на то что она трактуется
как закономерность.
Развитие философии изображается Гегелем в общем как
гармонический процесс поступательного движения знания, в
котором «последнее по времени философское учение есть результат
всех предшествующих философских учений и должно поэтому
содержать в себе принципы всех их...» (45, 99). Между тем
действительное отношение любого философского учения к
предшествующим системам несравненно сложнее: преемственность,
прогресс, развитие философии путем критического освоения
предыдущих достижений философского знания не исключают
непримиримой противоположности философских направлений,
несовместимости философских учений, так как эти учения
отражают различные исторические ситуации, потребности, интересы,
по-разному относятся к науке, религии и т.д. Отношение
преемственности между философскими учениями не есть отношение
детерминации: философия, как и любая форма общественного
сознания, обусловлена в конечном счете общественным бытием.
Отвергая чрезмерное противопоставление философских
учений друг другу, характерное для скептицизма, следует также внести
171
существенные коррективы и в гегелевское понимание
взаимоотношения между ними. По Гегелю, философствует в сущности
«абсолютный дух», который никогда, конечно, не заблуждается,
так что все заблуждения проистекают лишь из исторически
ограниченной, человеческой формы выражения этого абсолютного
самосознания. Правильное понимание взаимоотношения
философских систем (и различных определений понятия философии)
должно, очевидно, преодолеть не только упрощенное понимание
истории философии, несостоятельность которого гениально
доказал Гегель, но и идеалистический гегелевский монизм, в рамках
которого не могло получить адекватного выражения
противоречивое развитие философии.
Нет никакой возможности хотя бы перечислить все
имевшиеся в истории философии дефиниции философии. Впрочем, в этом
нет и необходимости. Желательно, конечно, дать рациональную
группировку этих дефиниций, однако не вполне ясно, какой
принцип может быть положен в основу достаточно полной
классификации.
Мне представляется, что для получения более или менее
ясного и систематического представления о многочисленности
дефиниций философии целесообразнее всего, имея в виду
указанный выше фундаментальный историко-философский факт
прогрессирующей дивергенции философских учений,
рассмотреть ее основные взаимоисключающие определения. При этом
следует иметь в виду противоположные, взаимоисключающие
друг друга учения, такие как рационализм и сенсуализм,
рационализм и эмпиризм, рационализм и иррационализм, материализм
и идеализм. Каждое из этих учений по-своему определяет
понятие философии. Речь, следовательно, идет о том, насколько
различные дефиниции философии действительно противоположны
друг другу, в какой мере они исключают или, напротив,
дополняют друг друга. Этим путем мы в известной мере устанавливаем
объем понятия «философия», границы ее исторически
изменяющейся проблематики.
2. Попытка классифицировать дефиниции философии
Попробую схематически расположить основные дефиниции
философии, обозначая четными и нечетными цифрами наиболее
противостоящие друг другу дефиниции.
1. Философия - учение о бытии безотносительно к его
особенным, преходящим модификациям. Эта дефиниция философии
зарождается в древнеиндийской и древнекитайской философии.
В философии элеатов она формулируется в противовес геракли-
172
товскому пониманию философии как учения о вечном
становлении. Аристотель определяет философию как учение о сущем
самом по себе или о сущности всего существующего: «И вопрос,
который издревле ставился и ныне и постоянно ставится и
доставляет затруднения, - вопрос о том, что такое сущее, - это
вопрос о том, что такое сущность» (6, 1028 b 5).
Метафизические системы средневековья и Нового времени
также определяют философию как учение о бытии,
независимом от предметного, чувственно воспринимаемого мира. Бог
с этой точки зрения есть Бытие с большой буквы. В
современной западноевропейской философии эта дефиниция философии
принимается неотомистами, значительной частью христианских
спиритуалистов, экзистенциалистами, следовательно, и теми
философами, которые претендуют на окончательное
ниспровержение метафизических систем. «В то время как научное
познание, - заявляет Ясперс, - идет к отдельным предметам, о
которых необходимо знать во всяком случае каждому, в философии
речь идет о целостности бытия» (244, 10). Хайдеггер определяет
философию как осознание первоначального дорефлективного
«бытийного понимания», постоянно подчеркивая, что главное в
философии, поскольку она преодолевает заблуждения
метафизики, составляет особый (феноменологический,
герменевтический) способ мыслящего отношения к бытию: «Философия есть
универсальная феноменологическая онтология, которая,
исходя из герменевтики "тут-бытия" (Dasein), как аналитика
экзистенции укрепила конец путеводной нити всего философского
вопрошания там, откуда оно возникает и куда затем приходит»
(233,436).
Если идеалисты обычно истолковывают бытие как
«сверхчувственную» реальность, то материализм демистифицирует
понятие бытия, характеризуя его как чувственно
воспринимаемую действительность, природу. Т. Гоббс сводит предмет
философии к учению о телах, придавая тем самым понятиям
бытия, субстанции черты реально-наблюдаемого, измеримого
и отвергая существование бестелесного. Бытие, природа,
материя отождествляются; духовное рассматривается как свойство
бытия.
Л. Фейербах, подвергая критике гегелевскую концепцию
абстрактного «чистого» бытия, писал: «Человек под бытием, если
он в этом отдает себе полный отчет, разумеет наличность, для
себя бытие, реальность, существование, действительность,
объективность. Все эти определения или названия с различных
точек зрения выражают то же самое. Ведь абстрактное бытие,
бытие без действительности, без объективности, без реальности,
173
без для себя бытия, есть, разумеется, ничто, но в этом ничто
я выражаю только ничтожность этой моей абстракции»
(170а, 172).
Рассмотрение бытия как предмета философии означает, как
правило, убеждение, что задачей философии является изучение
мира как целого. Противоположность материализма и идеализма
проявляется в таком случае в понимании целостности, единства
мира, так как само по себе признание единства мира не есть еще
выражение материалистической или идеалистической позиции.
Даже положение «бытие первично, сознание вторично» вполне
совместимо с идеалистической системой взглядов, если, конечно,
бытие интерпретируется как особая духовная действительность*.
2. Философия есть учение не о бытии, а о познании, или
нравственности, или счастье, или о человеке вообще. Такого рода
определения философии появляются уже в древности и
постоянно конкурируют с противоположными им дефинициями
философии как метафизики или онтологии. В индийской философии
Будда исключает из философии такие вопросы: вечен ли мир, или
он имеет начало во времени? Ограничен ли мир в пространстве,
или он бесконечен? Тождественна ли душа телу, или она отлична
от него? (188, 112). Эти и некоторые другие вопросы он объявляет
неразрешимыми, но вместе с тем и несущественными для
решения главной проблемы - избавления человека от страданий.
В Новое время в связи с развитием наук о природе
тенденция к исключению из философии онтологической проблематики
непосредственно сливается с агностицизмом и субъективизмом.
Д. Юм поставил под вопрос существование объективной,
независимой от сознания реальности и тем самым ограничил сферу
философского исследования рассмотрением психической, в
первую очередь познавательной, деятельности. При этом речь шла
не о познании вообще, а об изучении человека, о самопознании,
в котором Юм видел единственный путь преодоления вековых
заблуждений философии и средство разумного устроения
человеческой жизни.
* Так, с точки зрения так называемой аналитической философии, бытие (не
понятие бытия, а бытие как таковое) есть содержание языка. Таково, в
частности, убеждение Ж. Готье, высказанное в его докладе на XIV всемирном
философском конгрессе: «Бытие существует только в языке и посредством языка...
Реальное есть язык, который дает простор взаимной игре познания и его мира»
(224, 331). Эта субъективистская точка зрения впервые была сформулирована
Л. Витгенштейном в его «Логико-философском трактате»: «Границы моего
языка означают границы моего мира» (33, 80). Философия лингвистического
анализа, утверждающая, что она решила проблемы, поставленные неопозитивизмом,
в конечном счете повторила пройденный им путь заблуждений.
174
Кант, который в отличие от Юма признавал существование
независимой от познающего субъекта реальности, тем не менее
исключал из философии проблему бытия, считая, что понятие
бытия излишне, поскольку мы имеем понятие существования.
При этом философия понималась не столько как учение о
существующем, сколько как учение о познании, об абсолютных
границах всякого возможного знания. Эти границы, по Канту,
обусловлены самим механизмом познания, его априорными
формами, которые применимы лишь к чувственным данным, но не к
трансцендентной «вещи в себе». Поэтому «метафизика природы»
в системе Канта не учение о независимой от познающего
субъекта реальности, а исследование основополагающих принципов
естественнонаучного знания. Идеи, которые составляют предмет
собственно философского исследования (психологическая,
космологическая, теологическая), носят априорный характер, т.е.
не являются результатом познания, а предшествуют ему.
Исследование этих идей должно быть сведено к гносеологическому
анализу их происхождения в человеческом разуме. Утверждать
же, что этим идеям соответствует нечто, существующее вне и
независимо от сознания, мы не вправе, хотя ничто не мешает
нам допустить существование такого рода реальности, т.е.
верить в ее существование. Так же как и Юм, Кант считал второй
важнейшей темой философии нравственность (практический
разум), исследование которой призвано доказать, с одной стороны,
автономию нравственного сознания, а с другой - необходимость
постулировать существование Бога, бессмертия души, свободы
воли независимо от того, существуют ли в действительности эти
ноумены*.
Определение философии как учения о познании развивается
также и позитивистами. Они доказывают необходимость
сведения философии к гносеологии, ссылаясь на то, что все другие
возможные объекты познания стали предметом специальных наук и
философии не остается ничего иного, кроме исследования самой
науки, факта знания. Наряду с этим утверждением,
констатирующим действительные тенденции развития познания, определение
философии как знания о знании обосновывается также
аргументами агностицизма, согласно которому независимая от сознания
реальность, если она и существует, принципиально непознаваема.
Как ни далек Кант от Эпикура и его сторонников в философии Нового
времени, он, подобно этим мыслителям, настаивает на примате «практической»
(моральной) философии. «Какая польза от философии, - пишет Кант, - если она
не направляет средства обучения людей на достижение истинного блага?» (249,
628).
175
В этом смысле Г. Спенсер писал: «...раз философия выдает себя
за онтологию - она ложна» (160, 3). И далее: «Давая
определению философии самую простую и ясную форму, мы скажем:
знание низшего порядка есть знание необъединенное; наука -
знание отчасти объединенное; философия - знание вполне
объединенное» (там же, 6). Эта дефиниция заключает в себе и
представление о том, что философия, отказываясь от исследования
непознаваемого бытия, наряду с изучением структуры знания
осуществляет синтез всего содержащегося в частных науках
знания. В ходе последующей эволюции позитивизма происходит
еще более радикальное ограничение понятия философии
гносеологической проблематикой. Так, для Э. Маха философия -
психология познания. Логический позитивизм, возникший в первой
трети XX в. сводит исследование процесса познания к анализу
его языковой формы.
3. Философия есть учение о всем существующем, а не об
особой сфере действительности или познания. Так, у Гегеля
философская система есть энциклопедия философских наук,
трактующая и вопросы, которые составляют предмет частных наук,
однако же со своей особой, недоступной им спекулятивной
позиции. «Философию, - писал Гегель, - можно предварительно
определить вообще как мыслящее рассмотрение предметов».
При этом имеется в виду, что «философия есть особый способ
мышления, такой способ мышления, благодаря которому оно
становится познанием, и при этом познанием в понятиях...» (45, 85).
Это, однако, означает, что философия изучает не просто все, а
скорее то, что существует во всем, как составляющее его
всеобщую сущность. Гегеля не удовлетворяет определение
философии как учения о бытии, поскольку последнее всегда
понималось как отличное от мышления. Но мышление, по Гегелю,
есть также бытие и - больше того - субстанция-субъект, т.е.
творческая, развивающаяся сущность мира. Бытие Гегель
трактует как первую ступень саморазвития «абсолютной идеи», т.е.
как непосредственное, чувственно воспринимаемое,
отчужденное выражение абсолютного. Бытие не только не исчерпывает
существующего, оно также не есть то, что философия открывает
в существующем как субстанциальное, составляющее главный
предмет ее исследования.
Л. Фейербах при всей своей непримиримости к идеализму
Гегеля также определяет философию как учение о
существующем. «Философия есть познание того, что есть. Высший закон,
высшая задача философии заключается в том, чтобы помыслить
вещи и сущности так, познать их такими, каковы они есть»
176
(170a, 122). Совершенно очевидно, что эта дефиниция философии
направлена против гегелевского и всякого иного идеализма,
который, как разъясняет Фейербах, мистифицирует то, что есть,
пытается мыслить вещи и сущности не такими, каковы они в
действительности. Материалист Фейербах определяет философию как
познание существующего в его самодовлеющей объективности и
поэтому как объективное по своему содержанию знание. Однако
эта дефиниция философии не отграничивает предмет философии
от предмета частных наук.
4. Философия есть учение о том, что реально не
существует, что противостоит всякой реальности и любому знанию о ней
как ее мерило, ценностный масштаб, значение которого ни в
малейшей мере не умаляется тем, что он, как идеал, не обладает
наличным бытием. Философия, пишет Виндельбанд, есть
«критическая наука об общеобязательных ценностях» (32, 23).
Абсолютные нормы как критерии оцеынки всего существующего
лишь мыслятся, имеют значение, так что допущение их
реальности «есть уже дело личной веры, а не научного познания» (там
же, 44). Если Платон считал абсолютное благо, абсолютно
истинное, абсолютно прекрасное трансцендентными
реальностями, то представители неокантианства занимают более
реалистические позиции. Однако это «реализм» явно субъективистского
толка.
Феноменология Гуссерля определяет философию как
учение, которое выносит за скобки, принципиально исключает из
рассмотрения внешний мир и то, что считается знанием о нем,
т.е. научные данные. Философия, трактуемая как интуитивное
«сущностное видение», отвергает также признание
необходимого существования постигаемых ею в сознании человека (но
независимых от этого сознания) идеальных сущностей,
смыслов, значений. Понятие существования предполагает время, а
значит, и временное бытие и поэтому неприменимо к
идеальному бытию, которое вневременно и не может быть
интерпретировано как факт. «Созерцание, - говорит Гуссерль, - созерцает
сущность, как сущностное бытие, и не созерцает и не полагает
ни в каком смысле существование. Согласно этому, созерцание
сущности не является познанием matter of fact, не заключает
в себе и тени какого-либо утверждения относительно
индивидуального (скажем, естественного) существования» (64, 29).
Таким образом, истинное противопоставляется существующему,
и философия отказывается от изучения существующих объектов
познания, чтобы правильно оценить их с точки зрения высших
ценностей и подлинных сущностей, природа которых необходимо
177
исключает наличное, эмпирическое по своим характеристикам
существование*.
5. Философия есть теория, т.е. система представлений,
понятий, знаний и способов их получения, относящихся к
определенной действительности (или ко всему существующему) как
предмету своего исследования. Это значит, что философия обладает
своим специфическим кругом вопросов, вследствие чего она
приходит к выводам, которые не могут быть сделаны вне философии.
Это определение философии вполне согласуется с теми
дефинициями, согласно которым философия есть учение о бытии, или
о всем существующем, или лишь о познании, о ценностях,
фактически не существующих. Следовательно, нет необходимости
иллюстрировать эту дефиницию, так как она принимается почти
всеми философами, как бы они ни расходились друг с другом в
своих определениях понятия, сущности, предмета философии.
Мы могли бы вообще не приводить этого определения, поскольку
оно представляется чем-то само собой разумеющимся. Но дело в
том, что существует и противоположная дефиниция философии,
т.е. отрицание возможности философии как теории, осуждение
тех философий, которые разрабатываются как теории и поэтому
будто бы не соответствуют своему назначению.
6. Философия не теория, а своеобразная интеллектуальная
деятельность, имеющая функциональное назначение, но не предмет
исследования. Эта дефиниция философии - результат
неопозитивистской интерпретации философии. Неопозитивизм отвергает
исторически сложившиеся философские проблемы как мнимые,
но не заменяет их новыми проблемами, а требует от философии,
чтобы она превратилась из теории в метод анализа научных или
обыденных предложений. Предвосхищение этого определения
философии мы находим у ближайшего предшественника
неопозитивизма Г. Корнелиуса, который характеризует философию как
«стремление к последней ясности, к окончательному объяснению»
(93, 11)**, чуждое положительным наукам. Однако классическая
* Н.В. Мотрошилова, посвятившая феноменологии фундаментальное
исследование, отмечает, что «вопрос о существовании-несуществовании вещей
внешнего мира в феноменологии как бы выведен за скобки благодаря феноменологической
редукции, позволяющей перейти к сознанию - в конце концов сознанию
"чистому"- как полю феноменологического анализа» (119, 233). Нетрудно понять, что
при таком исключении реального, чувственно воспринимаемого мира из сферы
исследования понятие «жизненного мира» (Lebenswelt), на котором упорно
настаивал поздний Гуссерль, лишается действительного жизненного содержания.
** Впрочем, это «функциональное» определение философии наметилось
уже у основоположника американского прагматизма Ч.С. Пирса,
опубликовавшего в 1878 г. статью «Как сделать наши мысли ясными». Однако Пирс не
178
формулировка принадлежит Витгенштейну: «Цель философии -
логическое прояснение мыслей. Философия не теория, а
деятельность. Философская работа состоит по существу из разъяснений.
Результат философии- не некоторое количество "философских
предложений", а прояснение предложений. Философия должна
прояснять и строго разграничивать мысли, которые без этого
являются как бы темными и расплывчатыми»*. В дальнейшем
Витгенштейн пошел еще дальше в отрицании философии как теории и
попытался свести ее к определенной логической процедуре
анализа языка, в котором он видел не только источник всех философских
заблуждений, но и источник самих философских проблем.
«Философия, - писал Витгенштейн, - есть борьба против помрачения
нашего разума посредством нашего языка» (305, 47).
Представители философии лингвистического анализа в
Англии довели до логического конца идею Витгенштейна о
необходимости превратить философию в критический анализ языка с
целью изгнания из обыденного и научного словоупотребления
таящейся в них «метафизики». Сравнение философии с
«интеллектуальным полицейским», функция которого заключается лишь в
том, чтобы не допускать запрещенного, довольно удачно
характеризует действительную функцию, по меньшей мере,
эвристическую**. Само собой разумеется, что вопреки своим утверждениям
сделал вывода о том, что у философии нет своего предмета изучения, в силу
чего она должна быть не теорией, а лишь методом. Этот вывод сделал его
непосредственный последователь В. Джемс, который писал, что прагматизм «только
метод» (67, 37). Джемс утверждал, что этот метод давно известен философам:
«В прагматическом методе нет ничего абсолютно нового. Сократ был
приверженцем его. Аристотель методически пользовался им. С помощью его Локк,
Беркли и Юм сделали многие ценные приобретения для истины» (там же, 37).
Оригинальность прагматизма, согласно Джемсу, заключается в том, что он
освободил этот метод от всякого рода теорий, с которыми его постоянно связывали.
* По-видимому, это определение философии вдохновило организатора
и одного из виднейших представителей Венского кружка М. Шлика, который
определял философию как действие: «В настоящее время мы видим в
философии - и это важнейшая черта великого переворота в ней - не систему
результатов познания, а систему действий. Философия - это деятельность,
посредством которой утверждается или объясняется смысл высказывания. Философия
объясняет высказывания, а науки их верифицируют (проверяют)» (295, 8). Не
трудно увидеть, что это определение (и понимание) философии представляет
собой, по выражению Б. Быховского, одну из крайних форм «распредмечивания
философии», в котором наглядно выявляет себя кризис позитивистского
философствования.
** Это сравнение принадлежит А. Айеру, который в статье «Венский
кружок» утверждает, что наука дает нам знание о мире и философия не может
состязаться с нею на этом поприще. «Но что же в этом случае делать
философу? Ему остается только одно - действовать как своего рода интеллектуальный
179
философия лингвистического анализа является не только
методом, но и вполне определенной, идеалистически-агностической
теорией.
7. Философия есть наука, во всяком случае она может и
должна быть таковой. Это положение, строго говоря, нельзя считать
одной из дефиниций философии, так как оно содержится во
многих дефинициях философии (как науки о бытии, науки о познании
и т.д.). Но его следует выделить, так как, согласно
противоположному воззрению, специфическим признаком философии является
именно то, что она не наука. Считать философию наукой -
значит рассматривать ее как систему взаимосвязанных,
обоснованных понятий, логически упорядоченных согласно определенным
принципам. Такое определение философии возникло уже в
Древней Греции, где философия была синонимом науки. Аристотель
полагал, что наука вообще имеет место лишь постольку,
поскольку мы познаем причину известной вещи, познаем, что именно эта
причина есть причина этой вещи. «Предмет знания и знание
отличаются от предмета мнения и от мнения, ибо знание направлено
на общее и основывается на необходимых [положениях];
необходимое же есть то, что не может быть иначе» (7, 88 b 30). Понятие
знания, как это видно из контекста, означает науку.
«Аналитика» Аристотеля не только логический трактат, но
и развернутая концепция науки, которая понимается как
определенная структура знания, и притом не всякого знания, а
относящегося к необходимому ряду явлений. Отличие науки от мнения
Аристотель удачно иллюстрирует таким примером: «Нелепо,
конечно, сказать, например, что мнение, будто диагональ
соизмерима [со стороной квадрата], истинно» (7, 89 а 30).
Р. Декарт, место которого в истории науки, по-видимому, так
же значительно, как и его роль в философии, полагал, что наукой
в первую очередь является именно философия: «Ведь эта наука
должна содержать в себе первые начала человеческого разума и
простирать свои задачи на извлечение истин относительно любой
вещи» (65, 91).
Т. Гоббс, несмотря на свою враждебность учению
Аристотеля, разъясняет понятие философии в духе натурфилософии
полицейский, следящий за тем, чтобы никто не перешел границу, не вступил в
сферу метафизики» (2, 78-79). Английский неопозитивист Э. Геллнер,
выступающий, так же как и Б. Рассел, против философии лингвистического
анализа, справедливо замечает по поводу претензий представителей этого учения на
окончательное преодоление метафизики: «Широкая публика часто полагает, что
лингвистическая философия - это нападение на метафизику. Но метафизика
служит здесь только для отвлечения внимания. На самом же деле это нападение
на мышление» (52 , 257).
180
этого мыслителя: «Философия есть познание, достигаемое по-
средством правильного рассуждения (recta ratiocinatio) и
объясняющее действия, или явления, из известных нам причин, или
производящих оснований, и, наоборот, возможные производящие
основания - из известных нам действий» (55, 52).
Хотя философия трактовалась как наука и в средние века
(Альберт Болынтедтский называл ее, например, scientia universalis),
понятие науки, зародившееся в древности, получает
систематическое развитие лишь в Новое время в связи с выдающимися
достижениями математики и теоретической механики, формирующими
идеал научного знания, который вдохновляет всех выдающихся
философов этой эпохи. Даже противопоставление философии
другим наукам как некоей науки наук, как правило, исходит из
требований строгой научности, которые, по мнению философов,
не могут быть адекватно реализованы в частных науках. Не
удивительно поэтому, что наряду с этим противопоставлением,
историческим оправданием которого является неразвитость
теоретического естествознания, в прогрессивных философских учениях
Нового времени постоянно наличествует сознание того, что
философия не стала еще подлинной наукой, так же как и убеждение
в том, что она может и должна быть таковой. Поэтому вопрос,
что же необходимо для того, чтобы философия стала подлинной
наукой, постоянно обсуждается многими философами.
В «Критике чистого разума» Кант, как известно, ставит
вопрос, который является ключевым для всей его системы:
возможна ли метафизика как наука, при каких условиях эта возможность
может быть реализована, т.е. в каком смысле философия может
быть наукой? Говоря о несостоятельности всех прежних попыток
создания научной философии, Кант замечает: «В этом смысле
философия есть только идея возможной науки, которая нигде не
дана in concreto, но к которой мы пытаемся приблизиться
различными путями» (80, 684).
Кант полагал, что созданием «критической философии» он
решил задачу превращения философии в строгую науку. Фихте
видел решение этой задачи в разработанном им «Наукоучении»,
Гегель - в «Науке логики», в «Энциклопедии философских наук».
В философии второй половины XIX - первой половины XX в.
идея научной философии идеалистически интерпретировалась
неокантианцами, пытавшимися создать «научный идеализм»,
позитивизмом, феноменологией, которая представлялась ее
основоположнику Гуссерлю «строгой наукой». Все это и дает мне
основание рассматривать определение философии как науки в
качестве одной из важнейших ее дефиниций.
181
8. Философия не есть наука, не может и не должна быть
наукой. Это определение (и понимание) философии впервые было
высказано античным скептицизмом, который, однако, не
стремился к ниспровержению идеала научного знания, но просто
утверждал, что этот идеал, во всяком случае для философии,
неосуществим. Такое скептическое отношение к идее научной
философии впоследствии выражалось и другими философскими
учениями, в настоящее же время оно представлено, с одной
стороны, неопозитивизмом, а с другой - иррационалистическими
учениями.
Неопозитивизм (логический позитивизм) рассматривает
«философские предложения» как принципиально неверифицируемые
и логически недоказуемые. Когда Поппер выдвинул и старался
всесторонне обосновать положение, согласно которому
важнейшие теоретические положения естествознания также
принципиально неверифицируемы (конечно, в неопозитивистском смысле
этого слова), и противопоставил верифицируемости фальсифи-
цируемость (опровергаемость) как атрибутивный признак любой
научной теории, имеющей дело с фактами, это не привело к
пересмотру неопозитивистского определения философии как
принципиальной ненауки. Так, А. Айер в статье «Философия и
наука» утверждает, что философию едва ли можно считать наукой,
поскольку ее положения принципиально не поддаются научной
проверке. «У философов, - говорит Айер, - есть свои теории, но
эти теории не дают им возможности делать предсказания; они не
могут быть доказаны и не могут быть опровергнуты на опыте, как
это имеет место в научных теориях» (1, 96).
Если неопозитивизм, несмотря на свойственные ему элементы
субъективизма и агностицизма, трактует науку как аутентичную
форму познания явлений и соответственно этому критикует
философию как совокупность ненаучных положений, то философский
иррационализм, соглашаясь с неопозитивистской формулой
«философия не наука», истолковывает эту формулу как выражение
превосходства философии над наукой. Наука-де принципиально
не способна расшифровать иррациональную действительность и
постоянно удаляется от нее именно вследствие своих
достижений, представляющих собой напрасные попытки
рационализировать иррациональное, выразить в понятиях невыразимое,
представить внутренне хаотическую реальность как упорядоченное
царство закономерностей. Такое противопоставление философии
научному знанию вполне выявилось уже в иррационалистичес-
кой философии конца XIX в. «Философия, понимаемая как синтез
наук, - писал Э. Бутру, - или становится исключительно научной,
182
и тогда не может быть называема философией, или же остается
философской, и в этом случае она антинаучна» (208, 203).
Иррационализм религиозного толка упрекает науку в ирре-
лигиозности, в безразличии к «таинству» мироздания и
человеческой души. Философия с этой точки зрения возвышается над
наукой своей близостью к трансцендентному, религиозностью
умонастроения. «Философия, - утверждал, например, Н.
Бердяев, - есть один из путей объективирования мистики; высшей же
и полной формой такого объективирования может быть лишь
положительная религия» (15, 21).
Католический экзистенциалист Г. Марсель утверждает, что
идея научной философии противоречит природе философии,
которая никогда не владеет истиной, но всегда ищет ее, сознавая,
что даже открытая истина в сущности невыразима. Выразимы
лишь «партикулярные истины» науки, так как они безличны: их
ценность и их безличность неотделимы друг от друга. В этой
партикулярное™, безличности, интерсубъективности научных истин
«корень сциентизма, понимаемого как деградация истинной
науки» (262, 16). С этой точки зрения можно, конечно, утверждать,
что только философия является истинной наукой, и тем самым
соглашаться с дефиницией философии как особого рода науки.
Однако в таком случае очевидно, что «истинная наука», никем
еще не созданная, оказывается отрицанием реальной науки со
всеми ее действительными достижениями.
Истина и бытие, с точки зрения Марселя, тождественны и
равно непостижимы: ни то, ни другое не может принадлежать
человеку. Философия есть «метафизическое беспокойство»,
поиск человеческой личностью своего собственного центра.
Поэтому «единственная метафизическая проблема - это проблема "что
есть я?"» (ibid., 21).
Определение философии как науки, так же как и отрицание
того, что философия является или может, должна быть наукой,
имеет важнейшее значение для понимания объективного,
исторически складывающегося отношения между философией и
наукой, которое в немалой степени определяет значение философии.
В этом смысле между логическими дефинициями и исторической,
объективной обусловленностью философии обнаруживается
реальная связь, которая заслуживает специального исследования,
так как, возможно, она прольет свет на эволюцию философских
дефиниций.
9. Философия есть мировоззрение, обладающее
специфическими особенностями, отличающими его от других типов
мировоззрений. Эта дефиниция, так же как и две предыдущие, является
183
частичной, т.е. входит в состав более развернутых определений
понятия философии, но значение ее от этого не уменьшается.
Иными словами, спор о том, является ли, может ли философия
быть мировоззрением, играл и продолжает играть огромную роль
в развитии философии, несмотря на то что понятие
мировоззрения по-разному интерпретируется философами: одни признают
возможность научного мировоззрения, другие отрицают ее.
Существуют рационалистические, иррационалистические,
волюнтаристские, субъективистские, сциентистские и тому подобные
определения понятия мировоззрения.
В. Дильтей в созданной им типологии мировоззрений
проводит различие между религиозным, поэтическим и
«метафизическим» мировоззрением: все эти типы мировоззрений имеют
своим источником не знание, а волю, жизненную позицию,
историческую ситуацию, которые противопоставляются
теоретическому, научному знанию как якобы не выражающему сущности
духовной жизни человека. Мировоззрение характеризуется как
специфически человеческое знание, как будто существует какое-
либо иное, нечеловеческое знание. Смысл такого истолкования
мировоззрения заключается в отрицании существенности его
объективного содержания, в подчеркивании личностных, будто
бы независимых от знания характеристик всякого мировоззрения.
Дальнейшим развитием идей Дильтея является психология
мировоззрений Ясперса, которая еще более усиливает иррационали-
стическую окраску этого понятия. «Когда мы говорим о
мировоззрениях, - пишет Ясперс, - мы мыслим силы и идеи, во всяком
случае последнее и тотальное, относящееся к человеку, как
субъективное вроде переживания и силы убеждения, так и
объективное вроде предметно оформленного мира» (247, 1).
10. Философия не есть мировоззрение либо потому, что она
является наукой, а мировоззрение не носит научного характера,
либо потому, что мировоззрение суммирует научные данные, а
философия питается из собственного источника и не видит в
науке масштаба для себя. Отрицание философии как мировоззрения
обосновывается, таким образом, самыми различными
аргументами: оно имеет место как у тех, кто принимает идею научной
философии, так и у тех, кто ее отвергает.
Если учесть, что слово «мировоззрение» возникло в
сущности лишь в Новое время, а стало широко применяться в
философии только во второй половине XIX в., то станет понятным, что
в большинстве философских учений прошлого вопрос об
отношении философии к мировоззрению не ставился явным образом.
К этому надо прибавить, что в некоторых современных евро-
184
пейских языках фактически нет слова «мировоззрение»,
вследствие чего в философских работах, написанных
по-французски или по-английски, нередко употребляется немецкое слово
Weltanschauung*. Однако отрицание мировоззренческого
характера философии, конечно, не может быть объяснено этими
филологическими фактами. У одних это отрицание основано на
признании мировоззренческой прерогативы одной лишь религии,
у других оно оправдывается предельным сужением задач
философии и принципиальным отрицанием возможности мировоззрения
в качестве научно-теоретического синтеза. Эволюция
неопозитивизма своеобразно сочетает обе эти тенденции. В своем первом
программном коллективном выступлении члены Венского
кружка объявили о том, что они заняты созданием научного
мировоззрения**. В дальнейшем они отказались от этой задачи, объявили
мировоззрение делом веры, вдохновляемой эмоциональными
мотивами, а задачу философии свели к разработке логического
синтаксиса науки и т.п.
Таким образом, дефиниции, согласно которым философия
есть особого типа мировоззрение, так же как и противоположные
им дефиниции, имеют существенное значение, поскольку
делают предметом теоретического анализа отношение «философия -
мировоззрение», которое не менее существенно, чем отношение
«философия - наука».
Прежде чем перейти к анализу приведенных выше дефиниций
философии, я хочу подчеркнуть, что все они, если даже умножить
их количество, не дают полного представления о практически
необозримом многообразии исключающих друг друга понятий
философии. Было бы небесполезно (во всяком случае
небезынтересно) составить словарь дефиниций философии. Но и этот лексикон
не исчерпал бы многообразия этих дефиниций, поскольку, как
мы уже показали, имеется множество различных интерпретаций
одних и тех же дефиниций, причем каждая такая интерпретация
оказывается по существу новой дефиницией. Рационалист Гегель
и иррационалист Шопенгауэр понимали философию как учение
* На французский язык слово «мировоззрение» обычно переводится как
conception du monde, на английский - world view, на итальянский - concezione
del mondo. Эти переводы в недостаточной мере передают смысл слова
«мировоззрение». Не удивительно поэтому, что в американском Философском словаре
Д.Д. Ренса мы не находим слова world view, но зато находим вместо него
немецкое Weltanschauung. В фундаментальном французском «Vocabulaire critique et
technique de la philosophie», изданном A. Лаландом (Париж, 1956, издание
седьмое), нет слова conception du monde, впрочем, как и немецкого Weltanschauung.
** Wissenschaftliche Weltanschauung. Der Wiener Kreis. Veröffentlichungen des
Vereins Ernst Mach. Wien, 1929.
185
о духовной сущности мира, но мировой разум в гегелевской
философии и мировая воля в философии Шопенгауэра
представляют собой существенно различные и в определенном отношении
явно несовместимые определения субстанциального. Конечно,
эти существенные различия выявляются, коль скоро дефиниции
становятся предметом анализа, но все же тот факт, что
несовместимые философские учения могут в одних и тех же терминах
определять понятие философии, в известной мере затушевывает
различия между этими учениями.
Хотя я ограничился приведением лишь некоторых основных
дефиниций философии, этого достаточно для вывода о том, что
синтезировать все определения принципиально невозможно. Но
отсюда не следует, что все они во всех отношениях исключают
друг друга*. Определения, которые мы обозначили нечетными
цифрами, нередко дополняют друг друга и поэтому могут быть в
известной мере согласованы. Имеются же, например, философы,
которые определяют философию как теорию, особого рода науку,
науку о бытии или даже о всем существующем.
Дефиниции, обозначенные четными цифрами, также в
какой-то мере могут быть сведены воедино. Ведь те, кто
отрицает философию как учение о бытии или существующем вообще,
сводя философию к гносеологическому анализу, специфическому
* В. Дильтей, ссылаясь на гегелевскую теорию историко-философского
процесса, но истолковывая ее в духе исторического релятивизма, полагает, что
все определения понятия философии в сущности равноценны, так как каждое
из них выражает определенную историческую ступень ее развития и
самосознания: «Каждое из определений являлось лишь одним из моментов понятия
ее сущности. Каждое из них было лишь выражением той точки зрения,
которую философия занимала в определенный момент своего развития... Каждое из
определений очерчивает особый круг явлений для философии и исключает из
него другие явления, обозначаемые названием "философия". Великие
противоположности воззрений, каждое из которых с одинаковой силой
противодействует другому, получают свое выражение в определениях философии. Каждое
из них отстаивает себя. И спор мог бы быть улажен лишь тогда, когда удалось
бы найти какую-нибудь точку зрения, возвышающуюся над всеми партиями»
(216, 363). В действительности дело обстоит, конечно, не так. Различные
определения понятия философии представляют не только исторические ступени ее
развития, но и различия, в том числе и противоположность между
одновременно существующими философскими учениями. Эти дефиниции нельзя признать
равноправными, так же как и представляемые ими учения, поскольку
философия развивается и тем самым преодолевает определенные системы взглядов и
соответствующие им дефиниции философии. И безусловно, невозможно дать
такую дефиницию философии, которая бы возвышалась «над всеми партиями».
Многопартийность - характернейшая особенность философии. Констатация
этого факта опровергает марксистское положение о наличии в философии двух
основных партий - материализма и идеализма.
186
способу анализа формы знания, естественно, склонны
рассматривать ее не как предметное знание, а значит, и не как науку,
мировоззрение, теорию, располагающую своим собственным кругом
вопросов. Можно сказать даже больше: многие противостоящие
друг другу определения (обозначенные нами четными и
нечетными цифрами) нередко сочетались друг с другом. Кроме
философов, которые утверждали, что философия - учение о бытии, и
их противников, доказывавших, что философия возможна лишь
как теория познания, немало было и таких философов, которые
отвергали обе противоположные дефиниции как односторонние и
считали, что философия - учение о бытии и познании. Гегель
исходил из признания единства, тождества бытия и познания
(мышления). Фейербах, материалистически переворачивая гегелевское
положение, доказывал единство познания и бытия, несводимого
к познанию. Поэтому, конечно, ошибался К. Фишер, утверждая,
что коренной поворот, произведенный Кантом в философии,
заключался в том, что он сделал предметом философского
исследования не бытие, а познание. Признавая, что Кант принципиально
по-новому ставит гносеологические проблемы, нельзя, конечно,
выпускать из виду то, что исследование познания в его
философии оказывается вместе с тем учением о бытии, которое
характеризуется, с одной стороны, как мир познаваемых явлений
(природа), а с другой - как мир «вещей в себе».
Как бы ни ограничивал тот или иной философ понятие
философии, исключая из него те или иные коренные проблемы, он
вынужден если не прямо, то косвенно отвечать на исключенные им
вопросы. То же следует сказать и о позитивистах, которые
исключают из философии проблему объективной реальности. На деле
же они в своем анализе познания или даже одной только его
логической или эмпирической формы приходят к субъективистской
интерпретации объективной действительности. Следовательно,
та или иная дефиниция философии лишь формально исключает
некоторые коренные философские проблемы, так как по
существу их невозможно исключить из философии.
История философии показывает, что исключение тех или
иных коренных философских вопросов из понятия философии
есть просто передвижение их на задний план, т.е. выдвижение на
авансцену иных вопросов, ответ на которые, оказывается, прямо
или косвенно, ответом на эти «элиминированные» проблемы.
Приведенные дефиниции отличаются друг от друга тем, что
они принимают в состав философии, и тем, что они исключают
из нее, а также интерпретацией формы философского знания
(теория, наука, метод, мировоззрение и т.д.). Но так как основные
187
философские вопросы в сущности невозможно исключить, они
лишь формально исключаются из состава той или иной
дефиниции. Именно поэтому дефиниции философии не только весьма
неполно выражают ее содержание, но иной раз также вводят в
обман относительно этого содержания. В лучшем случае эти
дефиниции указывают на превалирующие стороны содержания
философского учения, выражая мнение его создателя относительно
того, что в его учении следует считать главным. В этом смысле,
например, бергсонианское, прагматистское понятия философии
есть прежде всего определения именно бергсонианской, прагма-
тистской философии, хотя создатели этих дефиниций пытались
дать понятие философии вообще. Потому-то эти дефиниции так
же мало могут быть согласованы друг с другом, как и эти учения.
Но если даже они будут сведены воедино, то это окажется лишь
синтезом дефиниций, а не учений, которые они представляют. За
ограниченным многообразием определений понятия философии
скрывается неограниченное многообразие философских учений,
несовместимость которых не может быть преодолена и там, где у
них обнаруживаются общие воззрения по некоторым вопросам.
Конечно, и в естествознании имеются взаимоисключающие
теории, однако здесь они существуют как расхождения в
определенных вопросах, что предполагает общность воззрений по
другим вопросам, которые не составляют предмета спора. Точнее
говоря, взаимоисключающие теории в естествознании, поскольку
они получают хотя бы частичное подтверждение, представляют
собой лишь гипотезы, не исключающие единодушия оппонентов
по вопросам, которые считаются уже решенными. Только в
философии налицо расхождение по всей линии между
противостоящими друг другу философскими учениями. При этом
взаимоисключающие философские концепции зачастую бывают в равной
мере ошибочными, хотя, конечно, возможно и иное: одна из этих
концепций приближается к объективной истине, а другая (или
другие), напротив, удаляется от нее.
Истина в философии не пользуется единодушным
признанием, что объясняется многими причинами, в том числе и
гносеологическими: эта истина не может быть верифицирована
экспериментально или каким-либо другим сравнительно простым
путем. Это и есть та специфическая для истории философии
ситуация, которая исключается, во всяком случае как нечто
типичное, для естествознания, а тем более для прикладных наук.
Значит ли это, что понятие философии не может быть вообще
определено сколько-нибудь содержательным образом? Я
полагаю, что это действительно так, если мы не идем дальше конста-
188
тации эмпирически очевидного многообразия несовместимых
друг с другом философских систем. Однако, если не
ограничиваться этой констатацией, если признать, что многообразие
философских учений непреходяще, что оно составляет, вопреки
убеждению классиков философии, не подлежащее преодолению
содержание развития философии, ее перманентное обновление
и ее все умножающееся идейное богатство, то выявляется
возможность, пусть абстрактного, но все же содержательного
определения философии. Необходимо понять, что прогрессирующая
дивергенция философских учений - высшее проявление
свободного философского творчества, которое вовсе не означает, что
философы подобны писателям, каждый из которых создает свой
роман, стремясь его сделать наименее похожим на другие
произведения подобного рода.
Не приходится доказывать, что с таким подходом к
определению понятия философии не могут согласиться те, кто
принципиально исключает возможность философии как науки sui generis,
а следовательно, и возможность развития ее путем совместной
работы специалистов, подобно тому как это происходит во всех
науках.
Таким образом, научное определение понятия философии
нуждается в теоретических предпосылках, которые в полной
мере принимаются лишь немногими философами. Многие из них
по-прежнему утверждают, что хотя признание исторически
преходящего характера плюрализма философских учений не имеет
ничего общего с отрицанием его исторической необходимости и
прогрессивного значения, пора наконец положить конец этому
«скандальному» историческому процессу. С точки зрения этих
философов прогрессирующая дивергенция философских
воззрений, поляризация философии на непримиримо противоположные
системы взглядов сыграла свою положительную роль: она была
необходима, поскольку человечество должно было развить и
исчерпать все возможные философские гипотезы для того, чтобы
принять ту из них, которая в наибольшей мере подтверждается
опытом, практикой, научными данными. Такова, в частности, и
точка зрения основоположников марксизма и их последователей,
утверждающих, что они покончили с плюрализацией
философских учений, создав научно-философское мировоззрение. Эту
точку зрения, оказавшуюся на поверку всего лишь субъективным
убеждением, необходимо решительно отвергнуть. С моей точки
зрения, прав оказался поэт Ф. Шиллер:
Будьте врагами! Пока помышлять о союзе вам рано.
Только на разных путях правду обрящете вы.
189
Правда, и Шиллер не был уверен в том, что плюрализм
философских учений носит безусловно непреходящий характер.
Подобно классикам философии, полагавшим, что созданная ими
система завершает развитие философии, он также был убежден
в том, что в философии, поскольку она развивается, а не
просто разнообразится во времени, происходит преодоление
исторически неизбежных заблуждений и приближение к достоверному
философскому знанию. Поэтому, полагал он, разделяя воззрения
классиков философии, многообразие несовместимых
философских воззрений теряет свое историческое оправдание, ибо
благодаря развитию философии сложились условия, в силу которых
философия не будет уже сочинением того или иного мыслителя,
а станет особого рода исследованием во многом аналогичным
тем, которыми занимаются, скажем, естествоиспытатели. В XX в.
такое убеждение высказывал А. Бергсон, писавший о
необходимости создания философии нового типа, такой философии,
которая разрабатывалась бы коллективами ученых на протяжении
ряда поколений: «В отличие от систем, в собственном смысле
слова, из которых каждая является творением какого-нибудь
гения и представляется нам как нечто цельное, что мы можем
принять или отвергнуть, эта философия может составиться только
путем коллективного и последовательного усилия многих
мыслителей, а также и многих наблюдателей, дополняющих,
исправляющих, поддерживающих друг друга» (14, VIII). Это не что
иное, как признание необходимости философии как науки sui
generis, признание, явно не согласующееся с положениями
философии Бергсона. Ведь он был убежден, что философия оставляет
прошлому пестрое многообразие несовместимых философских
учений, т.е. дает окончательное решение философских проблем.
И тем не менее он не порывал с воззрением, согласно которому
философствование есть такого рода познавательное устремление,
которое вознаграждается известным интеллектуальным
удовлетворением, но не теми плодами, которые называются истинами.
Но наряду с этим многообразие философских учений
представлялось ему очаровывающим душу лабиринтом, из которого хотят
выбраться лишь те, кто не любит философии или переоценивает
свою философскую потенцию. Ариадниной нити не существует,
да и едва ли она нужна. Философия никогда не станет продуктом
коллективного труда, наукой, т.е. не изменит самой себе, и,
следовательно, навсегда останется царством абсолютно суверенных
философских систем, подобных лейбницевскому миру монад,
с тем, однако, отличием, что в нем не может быть координации,
субординации, предустановленной гармонии. То, что является
190
общим для различных философских учений, казалось с этой
точки зрения совершенно неоригинальным. Философствование
должно оставаться попыткой, результаты которой в
зависимости от умонастроения могут быть истолкованы то как провал,
то как вечная перспектива. С этой точки зрения определение
понятия философии невозможно: любая дефиниция создается для
профанов. Однако тот факт, что все без исключения философы
согласны в том, какие тексты являются философскими, а какие
вовсе не таковы, свидетельствует об относительной
противоположности взаимоисключающих философских учений, таких
как рационализм и эмпиризм, материализм и идеализм,
интеллектуализм и антиинтеллектуализм, рационализм и
иррационализм, субъективный идеализм и идеализм объективный и т.д.
Историческая преемственность между философскими (в том
числе и взаимоисключающими) учениями также убедительно
опровергает абсолютизацию плюрализма философий. Это
значит, что плюрализм и единство (разумеется, противоречивое)
неотделимы друг от друга. Следовательно, возможно хоть и
абстрактное, но тем не менее содержательное определение
понятия философии.
3. Философия как специфическое мировоззрение
Поскольку существуют многочисленные дефиниции
философии и задача заключается в том, чтобы, не успокаиваясь на
констатации этого факта, дать такое определение понятия
философии, которое было бы применимо ко всем философским
учениям, возникает вопрос: нельзя ли отвлечься от того, что
отличает эти дефиниции друг от друга, и тем самым выделить
общее им всем? Эта операция, конечно, осуществима, но, как
уже говорилось выше, она не может привести к конкретному
пониманию философии, которое, как и всякое конкретное в
науке, должно быть единством различных определений. Однако и
одностороннее, абстрактное определение понятия философии
не бесполезно, если ему не придается слишком большое
значение. Рассмотренные выше дефиниции философии если и
содержат в себе такой общий признак философского знания, то,
по-видимому, скрытым образом, поскольку они не указывают
на него. И все же следует попытаться выделить это общее, не
содержащееся явным образом в приведенных дефинициях и,
следовательно, исключаемое многими из них определение
философии, о котором заранее можно сказать, что оно не раскроет
191
всей специфичности философии, но, возможно, укажет путь к
выявлению таковой*.
Я полагаю, что такой общей, но еще не специфической
дефиницией философии является ее определение как мировоззрения.
То обстоятельство, что не всякое мировоззрение является
философией, в данном случае несущественно, так как речь еще не идет о
differentia specifica философии. Из приведенных выше дефиниций
философии следует, что значительная часть философов не
считает философию мировоззрением. Вопрос, следовательно, стоит
так: если, например, представители философии
лингвистического анализа утверждают, что философия не есть мировоззрение,
является ли их собственная философия мировоззрением? На этот
вопрос возможен, по моему мнению, лишь один, утвердительный
ответ. Не трудно показать, что философы-аналитики, несмотря на
то что они ограничивают задачи философии исследованием
языка, по сути дела высказывают свои убеждения по всем коренным
проблемам научного знания, общественной жизни, этики,
политики и т.д., т.е. анализ языка является способом трактовки весьма
широкого круга вопросов. То же следует сказать о
феноменологии Гуссерля и других философских учениях, согласно которым
философия не есть мировоззрение.
Отрицание философии как мировоззрения оказывается
весьма противоречивой теоретической позицией. В одних случаях
мировоззрение объявляется «метафизикой», в других -
субъективной установкой, в третьих - системой верований. Но если это
так, значит, мировоззрение существует и спор может быть лишь
о том, как относится к нему философия. С моей точки зрения,
все философские учения носят мировоззренческий характер, так
как никакое ограничение философской проблематики не
позволяет избежать ответа на более общие философские вопросы даже в
том случае, если эти вопросы не осознаются.
* Нельзя согласиться с К. Штейнбухом, который полагает, что
определение понятия философии не имеет существенного значения. «Философия,—
говорит он, - существует тысячелетия, а общепризнанного определения для нее
нет. Точно так же не существует такого точного определения ни для математики,
ни для физики и техники. Однако ни одна из этих дисциплин серьезно от этого
не страдала» (189, 372). Штейнбух, по моему мнению, не учитывает того, что
научное определение той или иной науки (т.е. указание на ее предмет, метод,
теоретические основания) становится возможным и необходимым лишь на
известной, сравнительно высокой ступени ее развития. Именно на этой ступени
отказ от определения уже тормозит развитие науки. Отсутствие общепринятой
дефиниции предмета той или иной науки никоим образом не говорит о том, что
имеющиеся дефиниции бессодержательны, лишены смысла. Что же касается
отсутствия «общепринятого» определения философии, то этот факт, конечно,
объясняется прежде всего конфронтацией философских направлений.
192
Всякая философия - мировоззрение, хотя мировоззрение,
как указывалось выше, не обязательно философия: существуют
религиозное мировоззрение, атеистическое мировоззрение и т.д.
Многозначность понятия «мировоззрение» постоянно
выявляется как в научном, так и в обыденном словоупотреблении.
Говорят о гелиоцентрическом мировоззрении в противоположность
геоцентрическому, и в этом глубокий смысл, если представить
себе революцию в сознании людей, вызванную великим
открытием Коперника. Мировоззрение может быть механистическим,
метафизическим, оптимистическим, пессимистическим и т.д. Мы
говорим о феодальном, буржуазном, коммунистическом
мировоззрениях. Указывая на многозначность понятия «мировоззрение»,
я далек от того, чтобы поставить под сомнение его научную
значимость; напротив, я хочу тем самым ее подчеркнуть.
Определение понятия мировоззрения, как и понятия природы,
жизни, человека, представляет значительные трудности, которые,
однако, не должны создавать впечатления, будто, не имея этого
определения, мы не знаем, о чем, собственно, идет речь. Речь идет
об основных человеческих убеждениях относительно природы,
личной и общественной жизни, - убеждениях, которые играют
интегрирующую, ориентирующую роль в познании, поведении,
творчестве, совместной практической деятельности людей. В
зависимости от характера убеждений (религиозные,
естественнонаучные, эстетические, социально-политические, философские)
различаются типы мировоззрений, которые, впрочем, связаны
друг с другом и нередко так или иначе (иной раз не без вопиющих
противоречий) сливаются воедино. Ориентирующая функция
мировоззрения предполагает определенные представления
(научные или ненаучные) о «местонахождении» человека среди
природных и социальных явлений. Эти представления способствуют
уяснению возможных путей движения, выбору определенного
направления, соответствующего интересам, потребностям людей.
Ориентирующая функция мировоззрения возможна благодаря
его интегрирующей функции, т.е. такого рода обобщению знания,
опыта, потребностей, которое позволяет намечать сравнительно
отдаленные цели, обосновывать определенные
общественно-политические, нравственные, научные идеалы, критерии и т.д.
Таким образом, мировоззрение, какова бы ни была его форма,
обосновывает принципы: этические, философские,
естественнонаучные, социологические, политические и т.д. Эти принципы
заслуживают специального рассмотрения, однако и без него ясно,
как велика их роль, например, в исследовательской работе.
Сошлемся на естествоиспытателей, которые обычно скупы в своих
7. Ойзерман Т.И., том 5
193
высказываниях о роли философского мировоззрения. М. Планк в
докладе «Физика в борьбе за мировоззрение» говорил:
«Мировоззрение исследователя всегда соучаствует в определении
направления его работы» (276, 285).
В наши дни это убеждение материалистически мыслившего
Планка стало достоянием большинства
естествоиспытателей-теоретиков*. Великие открытия естествознания настолько
революционизировали понимание природы, что вопрос о мировоззрении
стал жизненно важным в первую очередь для самих
естествоиспытателей. Это изменило отношение естествоиспытателей к
философии.
Современные естествоиспытатели буквально тянутся к
философии. Пренебрежительное отношение к философии сохранилось
главным образом у тех представителей естествознания, которые
не занимают передовых позиций в своей собственной науке.
Разительный поворот естествоиспытателей к философии
(особенно бросающийся в глаза в тех странах, где
индифферентное отношение к философии по инерции сохранялось еще
полвека назад), как известно, оказал влияние даже на неопозитивистов,
часть которых отреклась от философского нигилизма и стала
признавать первостепенное значение философского
мировоззрения для естествознания. Так, Ф. Франк утверждает, что самые
выдающиеся естествоиспытатели всегда «усиленно подчеркивали,
что тесная связь между наукой и философией неизбежна» (173,
41). Он разделяет убеждение Л. де Бройля в том, что разобщение
науки и философии, имевшее место в XIX в., «принесло вред как
философам, так и ученым» (там же). Оставаясь, однако, на
позициях идеализма, Франк объявляет, что «всякая физическая теория
опровергает материализм» (там же, 297). При этом он
отмежевывается от идеализма, выдавая свою философию за нечто третье.
Философия особенно необходима науке в периоды
революционных переворотов, когда пересматриваются ее основные
понятия. Пример Ньютона и Дарвина, Эйнштейна и Бора доказывает,
* Академик М.А. Марков в опубликованной в 1947 г. статье «О природе
физического знания» отмечал: «многие зарубежные физики, очень авторитетные в
своей области, считают, что современная физика развивается в направлении от
материализма к идеализму». Констатируя эту тенденцию, М.А. Марков пишет:
«Поэтому на новом этапе развития науки возникает тот же прежний вопрос:
"Подтверждает ли современная физика идеализм?"» (114, 12). Марков
обстоятельно анализирует основные черты квантовой механики, изменившееся в связи
с ней понятие физической реальности и приходит к выводу: «Современная
физика, как мы видим, не дает никаких физических аргументов в пользу
идеализма» (114, 37). Шестьдесят с лишним лет, прошедших после опубликования этой
важной статьи, полностью подтверждают выводы выдающегося физика.
194
по мнению Франка, что «большие успехи в науках заключались
в разрушении разделяющих философию и науку перегородок, а
невнимание к значению и обоснованию наук преобладает только
в периоды застоя» (там же)*.
Правда, Франк, оставаясь неопозитивистом, т.е. устраняя
проблему объективной реальности и ее познания, говорит не о
необходимости философского мировоззрения, а о «философии
науки». Но его философия науки, впрочем, как и всякая
философия, неизбежно оказывается определенным мировоззрением.
Мировоззрение - понятие более широкое, чем философия.
Называя философию мировоззрением, не умножаем ли мы
трудности, встающие на пути научного определения понятия
философии? Ведь если философия - мировоззрение, то уж во всяком
случае мировоззрение sui generis, особое, иными словами,
философское мировоззрение. Получается нечто вроде логического
круга. Но выход из него увидеть нетрудно: необходимо выявить
специфические черты того типа мировоззрения, который может
быть назван философией. Итак, в чем же заключается
своеобразие философского мировоззрения? В отличие от стихийно
складывающегося религиозного мировоззрения философия всегда
есть теоретически обосновываемое мировоззрение. Но и
естественнонаучное, например механистическое, мировоззрение
также теоретически обосновывалось. То же относится, скажем,
к буржуазному мировоззрению. Существуют, следовательно,
различные виды теоретически обосновываемых
мировоззрений. Особенность философского мировоззрения состоит прежде
всего в том, что оно представляет собой общее теоретическое
мировоззрение, обосновываемое посредством основных,
общенаучных, наиболее общих категорий. Учитывая сказанное выше
о специфике философской формы познания, можно заключить,
что философское мировоззрение представляет собой
теоретический синтез наиболее общих взглядов на природу, общество,
человека, познание, синтез, включающий в себя оценку всего того,
что составляет содержание этих общих взглядов, оценку не
только гносеологическую, но также этическую, социальную и т.д.
* В своей «Философии науки» Франк цитирует Энгельса, говорившего о
том, что философия мстит естествоиспытателям, которые пренебрегают ею.
В другом месте он, не ссылаясь на Энгельса, в сущности повторяет его слова:
«Это может показаться парадоксальным, но уклонение от изучения
философских вопросов очень часто делало выпускников высшей школы пленниками
устаревших философских взглядов» (173,51). Такое признание одного из
лидеров неопозитивизма весьма симптоматично. Оно свидетельствует о том, что
тяготение современных естествоиспытателей к философии есть стремление к
философски обоснованному и систематически развитому мировоззрению.
Т
195
Философское мировоззрение не есть, следовательно, такое
обобщение, которое просто суммирует имеющиеся данные с
наибольшей полнотой; отношение, оценка являются важнейшими
признаками философского обобщения, так как философ выделяет
то, что считает наиболее важным в имеющемся знании, самым
важным для человека.
Значение оценочного отношения для философского
мировоззрения не трудно показать хотя бы путем сравнения
экзистенциализма с классической философией. Многовековая философская
традиция, зарождение которой мы отметили уже в античном
обществе, утверждала, что философия, поднимаясь над обыденным
сознанием и тем самым над личными субъективными
человеческими оценками, мнениями, рассматривает все существующее с
точки зрения вечности, т.е. с позиций всеобщего человеческого
разума, который возвышается над антропологической
ограниченностью отдельных человеческих индивидов. Экзистенциализм,
как известно, отверг эту философскую установку, провозгласив,
что человеческое Я лишь потому является человеческим, что оно
конечно. Экзистенциалистское философствование есть
рассмотрение мира с точки зрения преходящего человеческого
существования, сознающего свою абсолютную противоположность
непреходящему «бытию в себе». Экзистенциалистское Я радикально
противоположно абсолютному фихтевскому Я, которое не знает
смерти, непреодолимой озабоченности своим бытием в мире,
страха и т.д. Эта мировоззренческая оценочная установка
выражает специфику экзистенциализма.
Философское мировоззрение имеет, таким образом, как бы
два отправных пункта: с одной стороны, мир как все то, что
существует вне и независимо от человека, а с другой стороны,
самого человека, который не существует вне мира и рассматривает
его как внешний мир лишь потому, что отличает его от себя в
качестве независимо от него существующей действительности,
сознавая вместе с тем самого себя частью этого мира, и притом
особой частью, которая мыслит, переживает, сознает, что мир в
отличие от нее бесконечен, вечен, неуничтожим и т.д. Из этого
отношения человека к миру и формируется та коренная
особенность философского мировоззрения, которую можно определить
как биполярность. Речь идет не только об объективном, но также
и о субъективном отношении: одни придают преимущественное
значение первому, другие - второму.
Отношение человека к природе, к обществу - отношение
гносеологическое, этическое, физическое, биологическое,
социальное - все это философско-мировоззренческие вопросы. Отношения
«человек-природа», «человек-общество» заключают в себе момент
196
противопоставления, поскольку человек в качестве индивида
отличается как от природы, так и от общества или человечества. Но
поскольку это отношение анализируется, в нем выявляется не только
это отличие, но и связанное с ним тождество, т.е. природное в
человеке, социальное в человеке. Психофизическая проблема из
специальной, естественнонаучной становится философской проблемой,
поскольку вопрос об отношении духовное - материальное
приобретает универсальное значение. С другой стороны, проблема
познаваемости мира именно потому является
философски-мировоззренческим вопросом, что она ставится в наиболее общей форме
(речь идет не о познаваемости тех или иных конкретных явлений -
этот вопрос лишен философского смысла, даже если признать, что
какое-либо из этих явлений невозможно познать), а также потому,
конечно, что речь идет о человеке: может ли человек,
человечество, познать мир? Одни философы, отвечая на этот вопрос, имеют в
виду отдельного человеческого индивида и делают
соответствующие мировоззренческие выводы, другие, напротив, говорят о
человечестве, познавательная деятельность которого не ограничена
определенными временными рамками. При такой постановке
вопроса получаются, естественно, иные выводы.
Мы видим, таким образом, что философия как особого рода
мировоззрение в равной мере есть концепция мира и концепция
человека, знание о том и другом и особый способ обобщения
этого знания, имеющий значение социальной, моральной,
теоретической ориентации в мире вне нас и в нашем собственном
мире, выражение осмысленного отношения к действительности и
теоретического обоснования этого отношения, что проявляется в
человеческих решениях, поведении, духовном самоопределении.
Философское мировоззрение есть прежде всего постановка
вопросов, осознаваемых как главные вопросы. Вопросы эти
возникают не только из научных исследований, но также из
индивидуального и общественно-исторического опыта, на что уже
указывалось выше. Они могут быть названы главными, поскольку,
ставя эти вопросы, философия приступает к обсуждению того,
что существенно важно для всего человечества. Таковы,
например, знаменитые вопросы «Критики чистого разума», решение
которых, по Канту, составляет истинное призвание философии:
« 1. Что я могу знать?
2. Что я должен делать?
3. На что я могу надеяться?» (80, 661)*.
* В своей «Логике» Кант дополняет этот перечень вопросов четвертым,
обобщающим вопросом: «Что такое человек?» Это дополнение не всегда
учитывается в популярных изложениях философии Канта.
197
Эти вопросы выражают природу философского
мировоззрения, но, конечно, не исчерпывают его содержания. Отвечая на эти
вопросы, Кант тем самым ставит новые. Вопросы порождают
вопросы, и, поскольку все они осознаются как имеющие значение
и для отдельного человеческого индивида, и для всего
человечества, причем не только для его настоящего, но и для будущего,
постольку они сохраняют свое философское, мировоззренческое
значение.
То, что философия как мировоззрение заключает в себе
критерии оценки, применимые к неограниченно широкому кругу
фактов и знаний, нередко интерпретировалось идеалистами как
абсолютная противоположность идеального реальному. Так, Рик-
керт стремится обосновать абсолютную значимость идеалов и
критериев ценности всего существующего путем постулирования
царства ценностей, которое не обладает статусом бытия, но имеет
безусловное значение в мире явлений и поэтому принадлежит к
миру, хотя и не может быть определено как существующее.
Соответственно мировоззрение определяется им как единство знания
о бытии и сознания абсолютных ценностей, или норм. «Мы
понимаем под мировоззрением, - говорит Риккерт, - действительно
нечто большее, нежели простое знание причин, породивших нас
и весь остальной мир; нам мало объяснения причинной
необходимости мира, мы хотим также, чтобы "миросозерцание"
помогло нам понять, как это часто приходится слышать, "смысл" нашей
жизни, значение нашего "я" в мире» (150, 25)*.
Разумеется, ошибка Риккерта заключается не в том, что он
требует от мировоззрения чего-то большего, чем «простое знание
причин», а именно разъяснения места человека в мире.
Мировоззрение действительно представляет собой единство знания и
оценки, но все дело в том, что критерии оценки, нормы
ценности вопреки убеждениям Платона, Канта, неокантианцев и других
идеалистов не абсолютны, а историчны, т.е. изменяются,
развиваются. Антиисторическое истолкование критериев оценки
знания противопоставляет его бытию, лишает его действительного
существования, что, впрочем, сознают и неокантианцы, полагая,
* Для неокантианского, впрочем, как и для иррационалистического,
понимания философского мировоззрения характерно отрицание его связи с науками
о природе. Понятны поэтому упреки Ф. Ланге в адрес материалистов,
разрабатывающих философию на основе естествознания: «Уже одно намерение
построить философское мировоззрение исключительно на основании естественных
наук в настоящее время должно быть обозначено как философская
поверхностность самого дурного сорта» (98, 84). Ланге явно упрощает вопрос о
теоретических основах материалистического мировоззрения, сводя его содержание к
простому обобщению естественнонаучных данных.
198
что небытие не лишает абсолютную ценность ее безусловного
значения. При этом, однако, упускается из виду, что само
представление об абсолютных ценностях, абсолютном идеале
исторически возникло и содержание его исторически изменялось.
Достаточно хотя бы сравнить платоновский идеал справедливого
с кантовским или неокантианским. Таким образом, абсолютные
ценности теряют приписываемое им вневременное значение,
становятся историческими ценностями, которым тем не менее
придается безусловное, внеисторическое значение. Но это означает
лишь попытку увековечить исторически определенные оценки и
критерии оценок, а тем самым увековечить также их реальную
социально-экономическую основу.
Историко-философское исследование, выявляя исторически
относительный характер знания и оценок, образующих
мировоззрение, вместе с тем исключает субъективистское принижение
роли мировоззрения, так как оно вскрывает его объективное
содержание, тенденции его развития. Поэтому философия как
мировоззрение есть прежде всего формулирование теоретических
позиций, с которых осуществляется оценка значения знания,
опыта, действия, исторического события. Философский анализ и есть
соответственно этому рассмотрение явлений на основе
теоретически обобщенной истории познания и общественной практики.
Философию интересует то знание и то значение знания или
явления, которое не ограничено рамками какой-либо специальной
области человеческой деятельности и, следовательно, пригодно к
более или менее неограниченному применению. То или иное
научное положение приобретает мировоззренческое значение лишь
постольку, поскольку выявляется возможность его применения
за пределами специальной области знания, в которой оно было
сформулировано и применено, т.е. поскольку оно превращается
в принцип, значимый для всего знания, всей человеческой
деятельности. Конечно, последующее развитие науки и философии,
если оно ограничивает возможности применения этого знания за
пределами специальной области, ограничивает тем самым и его
мировоззренческое значение. Но это ограничение есть вместе с
тем и конкретизация, обогащение содержания теоретического
положения.
Механистическое объяснение явлений природы приобрело
мировоззренческое значение, когда оно было вынесено за
пределы механики и естествознания вообще. Р. Декарт,
рассматривавший животных как особого рода машины, Т. Гоббс, заявивший,
что человеческое сердце есть насос, Ж.О. Ламетри,
утверждавший, что не только животное, но и человек представляет собой
199
машину, превратили механическое объяснение явлений в фило-
софско-мировоззренческий принцип. Маркс указывал, что у
Демокрита атомистика - естественнонаучная теория, у Эпикура же
благодаря ее применению к объяснению человеческого поведения
она становится философской.
Разумеется, универсализация тех или иных положений и даже
принципов частной науки, т.е. превращение их в философско-
мировоззренческие, может вызвать законные возражения: ведь
ясно, что абсолютизация принципов механики не могла
привести к научному пониманию немеханических явлений, в
особенности человеческой - индивидуальной и общественной - жизни.
Это, конечно, так, но следует учесть и то, что механистическое
мировоззрение, вытеснившее теологическое, а также
гилозоистическое представления о мире, было громадным шагом вперед в
развитии познания. В этом его историческое оправдание.
Преодоление механицизма естествознанием и философией не
означало замены его новым односторонним воззрением на
природу явлений. Прогресс науки все более исключает такого рода
необоснованную универсализацию принципов, границы
применения которых выявляются благодаря развитию смежных наук.
Эволюционная теория Дарвина вызвала яростные нападки не
столько специалистов-биологов, сколько теологов и философов-
идеалистов, так как она отвергала телеологическое объяснение
жизненных процессов и благодаря этому стала основой
материалистического отрицания всякой телеологии вообще.
Мировоззренческие выводы из естественнонаучных открытий
нередко делаются и самими естествоиспытателями. Бывает и так,
что философы выступают против мировоззренческого
осмысления научных открытий, поскольку эти открытия вступают в
конфликт с их мировоззрением. Так, некоторые идеалисты
доказывали, что теория развития, разработанная Дарвином, не
имеет значения за пределами биологии, отрицая тем самым
универсальное познавательное значение принципа развития. А. Бергсон,
как известно, пытался опровергнуть теорию относительности,
исходя не из естественнонаучных, а из мировоззренческих
соображений. Несостоятельность его аргументации стала очевидной
вследствие того, что он исходил из своего, идеалистического
понимания времени.
Одни и те же естественнонаучные открытия по-разному
осмысливаются, интерпретируются различными философскими
учениями. Так, из учения Дарвина некоторые философы
выводили лженаучную концепцию социал-дарвинизма. Философское
мировоззрение никогда не является суммированием, простым
200
обобщением данных естествознания и наук об обществе, оно
представляет собой своеобразную интегральную
интерпретацию этих данных с определенных философских (например,
материалистических или идеалистических, рационалистических или
иррационалистических) позиций.
Характеристика философского мировоззрения была бы
недостаточной, если не учесть его эмоциональной
наполненности, обусловленной его социальным, практическим основанием,
многообразными устремлениями, потребностями,
убеждениями, надеждами людей. Если учесть переживание людьми их
отношения к окружающему миру и к самим себе, то философское
мировоззрение не сможет ограничиться анализом, осмыслением
теоретической стороны этого отношения. Личностный характер
человеческих эмоций находит обобщенное выражение в любом
философском мировоззрении. Поэтому философы не только
обсуждают те или иные вопросы, объясняют, интерпретируют
определенные явления, процессы - они отрицают одни воззрения и
утверждают другие, осуждают одно и защищают другое, короче
говоря, чувствуют, борются, надеются, верят и т.д. И это
относится не просто к личности философа, взятой независимо от его
учения, но и к самому учению, в котором человеческие страсти
преобразуются в специфическую философскую форму, но, конечно,
не исчезают. Следовательно, философское мировоззрение
немыслимо без социально-эмоционального подтекста. Это
обстоятельство не может препятствовать критическому подытожению
научных данных, которое позволяет делать выводы, непосредственно
не содержащиеся ни в одной из частных наук.
Разумеется, критический характер философского
мировоззрения заключается не в том, что оно корректирует положения
специальных наук: для этого философия не располагает
необходимыми специальными средствами. Философское
мировоззрение, теоретически подытоживая историю познания и его
перспективы, предотвращает тем самым абсолютизацию тех выводов, к
которым приходят науки на каждом данном исторически
ограниченном этапе своего развития. Любая частная наука в силу
неизбежной и благотворной для нее специализации ограничивает
свой кругозор. Но такое ограничение не должно становиться
самоизоляцией, так как изучаемый данной наукой фрагмент
действительности есть часть целого, известным образом это целое
выражающая. В этом смысле, как правильно отмечает П.В. Коп-
нин, «любая наука так или иначе рассматривает мир в целом» (92,
11). Объект специального исследования следует рассматривать,
учитывая его связь с целым, которая осознается исследователем
201
как связь изучаемого им предмета с объектами исследования
других наук. Никто не может быть специалистом во всех областях
знания, да это и не нужно. Но что действительно необходимо для
любой частной науки - это сознание исторических горизонтов,
перспектив, методологических предпосылок научного знания на
том уровне, которого оно уже достигло. Это-то и призвано дать
ученому научно-философское мировоззрение, создание которого,
как доказало развитие марксизма, предполагает полное
преодоление метафизического противопоставления философии частным
наукам и общественной практике. «Философы, - справедливо
подчеркивает А.П. Александров, - не могут считать, что чисто
умозрительным путем они могут создать систему мировоззрения.
Точно так же естествоиспытатели без глубокого обдумывания
философской стороны своих проблем не могут надеяться на то, что
они создадут нечто фундаментальное» (За, 27).
Противоречие между всеобъемлющим характером
человеческого познания и его необходимым осуществлением в
специальной научной форме, противоречие между специализацией и
тенденцией к интеграции научного знания - вот что делает
абсолютно необходимым философское обоснование мировоззрения,
которое вырастает из науки и общественной практики, но в то
же время является, как правило, критикой практики и нередко -
критикой науки.
Глава 5
СВОЕОБРАЗИЕ ФИЛОСОФСКИХ ПРОБЛЕМ
НЕ СЛЕДУЕТ ПРЕУВЕЛИЧИВАТЬ?
1. Вопросы, которые нельзя оставлять без ответа
Первые теоретические вопросы исторически возникали на
основе повседневных наблюдений явлений природы и
человеческой - личной и общественной - жизни. Но обыденный опыт,
позволяя в большей или меньшей мере описывать эти явления, не
дает достаточного материала для выяснения их причин,
сущности, закономерности. Поскольку специализированного научного
опыта еще не было, философы и естествоиспытатели
античности и средневековья не сознавали того, что одни повседневные
наблюдения недостаточны для решения теоретических вопросов:
они без колебаний отвечали на эти вопросы.
Фалес не ограничивался констатацией того, что магнит
притягивает железо, и спрашивал: почему это происходит? Для
ответа на вопрос он прибегал к известному и, казалось, совершенно
понятному представлению о душе. Так же поступал и Гераклит,
утверждавший, что пьяный едва держится на ногах потому, что
душа его, которая по природе своей есть самый сухой огонь,
становится влажной.
Лукреций спрашивал: почему вода в море соленая? И отвечал:
море потеет, а пот, как известно, соленый. Древние римляне не
обходились без соли в своей довольно утонченной кулинарии, но они не
знали, как образуется соль. Для ответа на этот вопрос необходимы
научные представления о химических элементах и их соединениях,
а также эксперименты, осуществление которых предполагает
определенный уровень знаний. Древние мудрецы не знали этого, и их
ответы основывались на весьма рискованных аналогиях.
203
Современному человеку трудно понять, почему мыслители
древности и средневековья считали свои по меньшей мере
недостаточно обоснованные предположения твердо
установленными истинами. Ведь они уже различали мнения и истины, но
каждый, по-видимому, полагал, что мнения исходят от других, от
«толпы».
Платон говорил: «... когда человека о чем-нибудь спрашивают,
он сам может дать правильный ответ на любой вопрос - при
условии, что вопрос задан правильно» (140, 73 а). Можно согласиться
с тем, что наводящие вопросы скрытым образом содержат в себе
ответ. Но Платон ведь говорит об ответе на любой вопрос, между
тем как правильная постановка любого вопроса предполагает
наличие некоторых знаний по любому вопросу, т.е. она попросту
невозможна. Он, следовательно, не разграничивал педагогические
вопросы, которые ставятся относительно известного уже
содержания знания, и вопросы исследовательские, постановка
которых в лучшем случае может лишь ориентировать относительно
еще неизвестного, непознанного.
Формирование специальных научных дисциплин неотделимо
от развития особых методов наблюдения, исследования,
проверки, благодаря которым ученый открывает недоступные
обыденному опыту явления и отношения между ними. По мере
развития частных наук сама постановка теоретических вопросов все в
большей степени становится таким же результатом исследования,
как и ответы на эти вопросы, т.е. теряет форму
непосредственности. Поэтому специальные теоретические вопросы возникают
только в голове ученого, и лишь для него они представляют
непосредственный интерес. Здесь, как и в других сферах научной
деятельности, неизбежно сказываются последствия общественного
разделения труда.
Итак, если частные научные дисциплины в ходе своего
развития все более удаляются от непосредственного (обыденного)
опыта, то философия всегда тесно связана с ним, а значит, и с теми
вопросами, которые им порождаются. Это относится не только
к материалистическим учениям, но и к самым абстрактным
идеалистическим теориям, которые, как кажется на первый взгляд,
весьма далеки от жизни*.
* Ортега-и-Гасет, который с позиций идеалистической «философии жизни»
полемизирует с «духом абстракции», вполне резонно замечает:
«Обыкновенные люди думают, что очень легко оторваться от реальности, в то время как это
поистине самая трудная вещь на свете. Легко сказать о вещи или нарисовать
вещь, которая полностью лишена смысла, то есть непознаваема, ибо для
этого достаточно поставить слова одно за другим, без какой-либо взаимной связи,
204
Обыденный опыт говорит нам о многих чрезвычайно важных
вещах, в частности о том, что люди рождаются и умирают,
засыпают и пробуждаются, переживают радости и горести,
по-разному относятся друг к другу, любят и ненавидят, стремятся добиться
различных целей, стареют, болеют и т.д. Было бы наивно
полагать, будто эти факты, объяснить которые стремились уже
первые философы, не представляют интереса для философии наших
дней. Эти факты стали, правда, предметом специального
научного исследования. Но они интересуют всех и поэтому не могут не
приковывать внимание философов. Обыденный опыт - вненауч-
ное знание, значение которого обычно недооценивается не только
естествоиспытателями, но и многими философами. Между тем
вненаучное знание не сводится лишь к жизненному опыту
человека. Широчайшей сферой вненаучного знания является
искусство, в особенности художественная литература, которая сверх
своей эстетической ценности содержит глубочайшее знание
человеческой жизни; такого рода знание не может быть почерпнуто
ни в одной из наук о человеке и обществе*.
Философию прежде всего интересует то, что известно всем,
но что тем не менее остается непознанным, непонятным.
Человек, начиная рассуждать об известном, но непознанном,
превращает в проблему то, что до этого ему представлялось ясным
главным образом потому, что он о нем не задумывался. Каждый
знает, что от лошадей рождаются лошади, из вишневой косточки
вырастает вишневое дерево и т.д. Античный философ, исходя из
подобных, известных каждому фактов, приходил к обобщениям:
подобное возникает из подобного, все порождается
определенными началами («семенами вещей»), из ничего ничего не возникает.
Эти абстрактные положения - выводы из обыденного опыта, хотя
их и отличает такая широта обобщения, которая не может быть
оправдана ограниченными эмпирическими данными.
как это делали дадаисты, или нарисовать беспорядочные линии. Но чтобы быть
в состоянии сконструировать нечто не являющееся копией "естественного"
и тем не менее обладающее каким-то содержанием, необходима самая
утонченная одаренность» (271, 457). Эти слова- своеобразная апология идеализма,
который отвергает идею отражения действительности, создавая спекулятивные
конструкции, отнюдь не лишенные определенного смысла.
* И.Т. Касавин отмечает в качестве достижения создание в конце 80-х гг.
в Институте философии РАН исследовательской группы «Анализ вненаучного
знания». В связи с этим он пишет: «Даже в либерализированной атмосфере
академического института было не так просто отстоять в то время мысль о
равноценности науки и вненаучного знания в контексте теоретико-познавательного
анализа. Надо отдать должное руководству института и сектора теории
познания в том, что в конце концов идея институализации такого исследования была
принята» (86, 3).
205
Античный атомистический материализм, опираясь на данные
обыденного опыта, решительно выходит за его пределы.
Спекулятивные представления атомистов об абсолютно плотных атомах и
абсолютной пустоте служат для объяснения таких фиксируемых
обыденным опытом фактов, как движение тел, различия
удельного веса веществ и т.п. В связи с этим СИ. Вавилов замечает:
«Естественнее всего думать, что атомизм древних являлся не
какой-то поразительной догадкой, угадыванием будущих судеб
науки, а качественной формулировкой, вытекавшей почти неизбежно
и однозначно из повседневных наблюдений» (28, 45).
Мы видим, что первых философов интересуют всем
известные вещи, к которым настолько привыкли, что они уже не
возбуждают вопросов. И то, что философия начинается с
теоретического рассмотрения мира, открытого для всех, - великий шаг в
интеллектуальном развитии человечества, ибо до этого
окружающий человека мир терялся в тумане фантастических
представлений. В этом смысле философия открывает мир, который все
видят, воспринимают, но еще не сознают как подлинно реальное по
сравнению с ирреальным, о котором столь уверенно повествует
мифология.
Люди на каждом шагу сталкиваются с явлениями, которые
им хорошо известны, но от понимания которых они настолько
далеки, что даже не догадываются об этом. Эти привычно
наблюдаемые явления можно сравнить с восприятиями, которые
не доходят до порога сознания. Но вот человек задумывается о
знакомом, привычном, близком. Почему? Почему огонь жжет, а
лед холодит? Почему брошенный камень возвращается на
землю? Человек начинает философствовать потому, что известное,
близкое становится вдруг загадочным и эту загадку он пытается
разрешить. Его, например, интересует, чем отличается
сновидение от яви? Этого вопроса не возникает у нефилософа, который
абсолютно убежден в том, что никогда не спутает того, что ему
приснилось, с тем, что было наяву. Едва ли философу не хватает
такого убеждения, но он требует, чтобы оно было обоснованным,
чтобы различие между этими явлениями было установлено не на
основе личных впечатлений, а исходя из определенного критерия
реальности. Эти соображения позволяют сделать вывод
относительно сущности философствования: она состоит в проблема-
тизации известного. Но сущность, как известно, многообразна,
и это самым непосредственным образом относится к сущности
философии.
В произведениях многих философов древности и Нового
времени мы находим разъяснение таких психических состояний,
206
как радость, горе, сострадание, гнев, уныние, надежда, гордость,
презрение и т.д., несмотря на то что каждый человек, не
занимаясь философией, легко отличает эти состояния друг от друга. Но
философ стремится вскрыть внутреннюю связь между
различными психическими состояниями. Он, например, выделяет чувства
удовольствия и неудовольствия, которые рассматриваются им как
основные аффекты. Он пытается свести многообразие аффектов к
различным модификациям удовольствия или неудовольствия, т.е.
вскрыть формы всеобщности, присущие чувственности, выявить
единство всех ее проявлений, оценить этически, исходя из
представления о том, что составляет наибольшее благо для человека
каждый из этих аффектов и тем самым обосновать определенный
нравственный идеал.
Согласно древнегреческой мифологии, души умерших
опускаются в подземное царство Аид, где каждая из них получает
награду или наказание за свои земные дела. Античных философов
это утверждение не удовлетворяет именно потому, что оно только
утверждение, и притом безапелляционное. Даже те из них,
которые согласны с ним, остаются неудовлетворенными, так как
всякое утверждение относительно неочевидных вещей должно быть
обосновано. Необходимость обоснования непосредственно
осознается в форме вопросов. Что такое душа? Чем отличается она
от тела? Возможно ли независимое от тела существование души?
Существовала ли душа до рождения человека? Будет ли она
существовать после его смерти? Почему? Чем отличается смерть от
жизни? Является ли смерть абсолютным злом? Или, может быть,
она вообще есть не зло, а благо? Следует ли страшиться смерти?
Как избавиться от этого страха? Все эти вопросы возникают из
повседневного опыта, как только начинают его анализировать и
тем самым отличать от мифологического рассказа,
исключающего постановку вопросов, на которые человек хочет ответить сам.
А раз человек сам отвечает на вопросы, и притом на такие
вопросы, которые не ставились до него или которые он ставит
по-новому, он тем самым становится философом. И тогда оказывается,
что, исходя из обыденного опыта и сформировавшихся на его
основе представлений, он приходит к выводам, которые
противоречат этим представлениям. Это противоречие должно быть
разрешено. Таков императив мышления. Но обыденный опыт слишком
ограничен. Необходимо обратиться к историческому опыту -
опыту всего человечества, бесчисленные поколения которого
передают друг другу накопленные знания. Необходимо обратиться
к частным наукам: каждая из них в своей, правда ограниченной,
области добывает объективные истины. История философии сви-
207
детельствует, однако, о том, что философы редко отваживались на
этот решительный шаг.
Мы видим, таким образом, что философия никогда не
теряет интереса к свидетельствам обыденного опыта, к вопросам,
которые им порождаются. Это своеобразие философии,
проливающее свет на происхождение значительной части
философских проблем, превратно истолковывается идеализмом. Я
рассмотрю некоторые идеалистические интерпретации сущности
философских проблем, так как это поможет осознать их
специфику.
А. Бергсон, явно мистифицируя нерасторжимое единство
познания и жизни, которую он превращает в сущность всего
существующего, утверждает, что основные философские вопросы
принципиально неразрешимы чуждыми непосредственной жизни
научными методами. Неспособность науки решать философские
проблемы вытекает-де из природы мышления, которое может
представить себе движение лишь как сумму состояний покоя, ибо
«механизм нашего обыденного познания имеет
кинематографический характер» (14, 293-294), а наука в принципе ничем не
отличается от обыденного познания. «Современная наука,— говорит
он,— как и древняя, пользуется кинематографическим методом.
Она не может поступать иначе: всякая наука подчинена этому
закону» (там же, 273). Бергсон, писавший эти строки в начале
XX века, не догадывался, что развитие кинематографической
техники и применение ее в биологии, физике, астрономии и других
науках откроет невиданные возможности для познания процессов
движения, изменения, роста.
Экзистенциализм, фиксируя постоянную близость философии
к «человеческой реальности», пытается доказать, что
философские проблемы в отличие от научных всегда имеют личностный
смысл. Указывая на тенденцию науки превращать все наличное в
предмет специального исследования, на прогрессирующую
дифференциацию научных знаний, на их технологическое значение,
экзистенциализм утверждает, что научные проблемы относятся
лишь к вещам, в то время как философские обращены к бытию,
которое не может стать предметом научного исследования
именно потому, что оно лишено формы предметности.
То, что изучает наука, находится-де вне человеческой
экзистенции, между тем как философия, по словам Ясперса,
«вопрошает о бытии, которое познается благодаря тому, что сам я есть»
(246, 324). Наука якобы не способна указать смысл жизни или
ответить на вопрос о собственном смысле; ей чужды такие
проблемы, как Бог, свобода, долженствование. Г. Марсель, развивая
208
тот же мотив, утверждает, что наука занимается проблемами,
а философия - тайнами.
Если вдуматься в экзистенциалистскую трактовку специфики
философских проблем, то становится ясным, что
экзистенциализм мистифицирует не только связь философии с обыденным
опытом, но и характерные особенности проблематики идеализма
и философской проблематики вообще. Разумеется, многие
философские проблемы, особенно в той форме, в какой они ставятся
идеализмом (и, в частности, экзистенциализмом), действительно
чужды науке. Но одно дело - констатировать этот факт, а другое -
возводить его в норму для всей философии.
Экзистенциализм превращает философские проблемы в
непостижимые тайны. Такое бывало и в предшествующей
философии. Апории Зенона, античный скептицизм, по существу,
означали отрицание возможности решения философских проблем. По
Канту, проблемы чистого теоретического разума теоретически
неразрешимы. Поэтому превращение философской проблемы в
антиномию означает достижение предела, за которым уже
невозможно теоретическое исследование. Положение Н. Гартмана о
неподдающемся решению остатке, сохраняющемся во всякой
философской проблеме, является смягченным вариантом этой идеи
Канта.
Экзистенциализм по-новому интерпретирует старое
положение о неразрешимости философских проблем. Исследование
философской проблемы, с точки зрения экзистенциалистов,
заключается лишь в том, чтобы сделать ее «открытой» сознанию,
т.е. осмыслить ее непреходящий смысл. В этой открытости
философской проблемы, исключающей всякую претензию на ее
разрешение, заключается ее экзистенциальная истина, т.е. истина для
человека, но отнюдь не объективная, «безличная» истина. Наука
же решает проблемы, «закрывая» их, сдавая в архив, теряя к ним
интерес. Это вполне оправданно, поскольку наука не имеет дела
с «человеческой реальностью». Даже тогда, когда она исследует
человека, ее предметом оказывается нечто вещное. Сущность
философии, с точки зрения экзистенциализма, заключается поэтому
не в ответах на поставленные вопросы, а в самом способе вопро-
шания. Близкий к экзистенциализму П. Рикёр категорически
заявляет: «Великий философ - это тот, кто открывает новый способ
спрашивать» (288, 78).
Не трудно увидеть, что экзистенциализм абсолютизирует
одну из реальных особенностей философских проблем: они
первоначально осознаются как вопросы, которые мыслитель ставит
действительности и, следовательно, самому себе. Историческое
209
начало философии существенно не своими утверждениями или
констатациями, а теми вопросами, которые в них содержатся.
Когда Фалес утверждает, что все происходит из воды и в воду же
обращается, то самым интересным в этом убеждении оказывается
вопрос: не есть ли все чувственно воспринимаемое
многообразие вещей лишь способ существования определенной, но вместе
с тем всеобщей вещи?*
Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит отвечают на тот же
самый вопрос. Оригинальность этих мыслителей не в том, что один
берет за первоначальное «неопределенную материю», другой -
воздух, третий - огонь, а в том, что, развивая поставленный Фа-
лесом вопрос, они спрашивают: какими свойствами должно
обладать это одно, чтобы из него могло возникнуть многое? Элеаты
отрицают, что чувственно воспринимаемое многообразие могло
возникнуть из одного или многих чувственно воспринимаемых
первоначал. Их основное убеждение можно сформулировать как
вопрос: не возникает ли чувственно воспринимаемое из того,
что не воспринимается чувствами и не обладает свойствами
чувственно воспринимаемых вещей?
В. Гейзенберг указывает, что естествоиспытателя в
философии «интересуют прежде всего постановки вопросов и только во
вторую очередь ответы. Постановки вопросов кажутся ему весьма
ценными, если они оказываются плодотворными в развитии
человеческого мышления. Ответы же в большинстве случаев носят
преходящий характер, они теряют в ходе времени свое значение
благодаря расширению наших знаний о фактах» (50, 61). В
подтверждение своей мысли Гейзенберг ссылается прежде всего на
Демокрита и Платона, подчеркивая, что для современной теории
элементарных частиц постановки вопросов, имевшиеся в
учениях этих философов, сохранили выдающееся значение, в то время
как их ответы утеряли свою ценность. Гейзенберг совершенно
прав, полагая, что философские проблемы перерастают по
своему значению те исторически ограниченные их решения, которые
давались философами и (добавим от себя) также
естествоиспытателями. Однако ближайшее рассмотрение этих поставленных в
далеком прошлом вопросов показывает, что они сохранили свое
значение для нашего времени, поскольку их конкретизировали,
Не следует, однако, полагать, что ответ, который дает Фалес на
поставленный им вопрос, не представляет, разумеется с исторической точки зрения,
научного интереса. «Положение, что все возникло из воды, - пишет Б. Рассел, -
следует рассматривать в качестве научной гипотезы, а отнюдь не в качестве
абсурдной гипотезы. Двадцать лет назад взгляд, что все состоит из водорода,
который составляет две трети воды, был признанной точкой зрения» (148, 44).
210
развивали, а это было возможно потому, что на них так или иначе
отвечали.
Было бы наивно ожидать не только от философов древности,
но и от философов XVII-XVIII вв. научных ответов на вопросы,
которые они поставили. В этих учениях замечательно другое:
Анаксагор высказал гениальную догадку о молекулярной структуре
материи, Левкипп и Демокрит создали атомистическую гипотезу.
История алхимии, так же как и история античной и средневековой
философии, оставила будущим поколениям исследователей
ответы, которые имеют значение главным образом как вопросы. Но
то, что экзистенциалисты выдают за вечный закон развития
философии, в действительности характеризует лишь определенные
эпохи становления философского, а также естественнонаучного
знания. Это не вечная судьба, а конкретная история философских
проблем, которая позволяет проследить развитие не одних лишь
вопросов, но также и ответов. Глубоко заблуждается поэтому
Э. Шпрангер, когда заявляет: «Никто не получает в философии
ответа, который был бы умнее, чем поставленный им вопрос»
(297, 563). В одной исторической ситуации вопросы, которые
ставит философия, существеннее, чем ответы, которые она на них
дает, в другой исторической ситуации - иная картина.
Экзистенциалистская девальвация философских ответов есть
возрождение скептического истолкования результатов
философского развития, необоснованное распространение тенденций,
неизбежных для определенных этапов развития философии, на
природу философского знания вообще. Экзистенциалистская
философия ограничивает свою задачу скрупулезным анализом
вопросов. И это понятно, поскольку экзистенциализм отрицает
значение научных данных для ответа на философские вопросы.
Экзистенциалисты, например, утверждают, что проблема
человека стала особенно острой и ответы на составляющие ее вопросы -
более затруднительными именно потому, что в наши дни десятки
наук изучают человека. При этом они явно не учитывают того,
что многообразие научных данных о человеке усложняет задачу
их философского обобщения, хотя и создает действительную
основу для ее решения.
Констатация того факта, что философские проблемы
первоначально формируются на основе повседневного опыта людей,
становится его искажением, когда обыденный опыт объявляется
единственным источником философских проблем. Такова, в
частности, позиция неотомизма, который, обосновывая культ
«ангельского доктора», затушевывает историческую ограниченность
научных представлений его эпохи.
211
Американский неотомист M. Адлер утверждает, что
философия, философские проблемы связаны «лишь с обыденным
опытом человечества, который один и тот же у всех людей,
повсеместно и во все времена» (196, 171). Из положения о неизменном для
всех времен и народов «ядре обыденного опыта» Адлер
заключает, что проблемы философии не имеют отношения к
проблемам науки и решение их не зависит от уровня научных знаний.
Несостоятельность этого вывода обнаруживается прежде всего в
самой попытке абсолютно противопоставить друг другу
обыденный и научный опыт. Обыденный опыт, по Адлеру, приобретается
лишь бессознательно и непроизвольно. «Это опыт, которым мы
располагаем непосредственно благодаря тому, что обладаем
сознанием, благодаря нашим чувствам и их действиям, благодаря
сознанию наших внутренних переживаний и состояний, но без
постановки каких-либо вопросов, без попытки проверить какие-
либо предположения, теории или выводы, без того, чтобы сделать
хотя бы единственное произвольное усилие для наблюдения чего-
либо» (там же, 103).
Адлер в сущности противопоставляет обыденный опыт не
только научному знанию, но и знанию вообще, поскольку
обыденное сознание не входит, по его мнению, в обыденный опыт, а
представляет собой его истолкование. Он полагает, что
обыденный опыт ничего не утверждает и ничего не отрицает: «Он не
является ни истинным, ни ложным; он просто таков, каков он есть»
(там же, 102). Это значит, что обыденный опыт принципиально
неопровержим, так как опровержимы лишь утверждения или
отрицания, между тем как обыденный опыт есть совокупность
стихийно складывающихся впечатлений, переживаний вследствие
того, что человеческий индивид ест, пьет, спит, пробуждается,
воспринимает смену времен года, дня и ночи, различает живое и
мертвое, покой и движение, холод и тепло и т.д. Предельно
ограничивая сферу обыденного опыта, исключая из него те элементы,
которые связаны с развитием общества, его материальной и
духовной культурой, с трудовой деятельностью людей, Адлер
превращает этот упрощенно толкуемый опыт в единственный объект
философского осмысления. Выходит, что все философы во все
времена располагали одним и тем же материалом и отличались
друг от друга лишь тем, что по-разному его истолковывали.
Не трудно понять, что допущение неизменного человеческого
опыта предполагает также признание неизменной природы
человека. Один миф призван подкрепить другой, но в
действительности он лишь разоблачает его. Разумеется, не существует
неизменного «немого», т.е. ничего не утверждающего, обыденного опыта,
212
так же как не существует неизменной человеческой природы.
Обыденный опыт, значение которого в процессе формирования
философской проблематики очевидно, исторически развивается,
обогащается благодаря производству, познанию, науке, так что
даже те элементарные факты, которые фиксируются сознанием
людей всех времен, воспринимаются по-разному и вследствие
этого играют различную роль. По-разному, например,
воспринимали люди родового общества, древней Греции, христианского
средневековья, эпохи Возрождения стихийные силы природы,
непосредственное социальное окружение, рождение человека, его
смерть и т.д. Адлер может, конечно, сказать, что оценка тех или
иных явлений не входит в обыденный опыт и является уже его
истолкованием. Но такое возражение не выдерживает критики, ибо
речь идет не о теоретических концепциях, а о том, как в разные
эпохи люди воспринимали, переживали одни и те же события.
Вопреки Адлеру обыденный опыт никогда не бывает «просто таков,
каков он есть», т.е. он всегда так или иначе окрашен независимо
от его истолкования.
Адлер отказывается от рассмотрения жизненного опыта людей
во всем его многообразии, от учета того, что отличает
обыденный опыт одного народа от другого, одной исторической эпохи от
другой. Все содержание обыденного опыта сводится к узко
толкуемому индивидуальному опыту, т.е. совершенно игнорируется
опыт общественный, исторический. Таким образом, философская
проблематика, так сказать, заперта в клетку неизменного и
ограниченного обыденного опыта. Путем такого жесткого ограничения
возможностей философии ей отказывают в праве судить о
вопросах, которые выходят за пределы обыденного опыта. «Древние, -
пишет Адлер, - не сознавали того, что некоторые вопросы таковы,
что их решение превосходит возможности всего человеческого
исследования... Если мы хотим, чтобы люди когда-либо приобрели
знание об этих вещах, то оно должно прийти к ним путем
божественного откровения и сверхъестественной веры» (там же, 24).
Следующий вывод, который навязывается неотомистским
ограничением философии сферой метафизически толкуемого
обыденного опыта, также очевиден: философия ничего не может
получить от науки. Неотомизм игнорирует философские
проблемы, поставленные науками, хотя он не прочь воспользоваться
научными данными для «подтверждения» теологических
заключений. Таким образом, неотомистское толкование своеобразия
философских проблем увековечивает противопоставление
философии наукам под флагом обеспечения «автономии» философии,
т.е. ее права проповедовать антинаучные воззрения.
213
И экзистенциализм, и неотомизм антиисторически подходят
к решению вопроса о специфике философских проблем. Между
тем в истории философских проблем необходимо различать по
меньшей мере несколько периодов. Было время, когда
философия предвосхищала проблемы специальных наук, которые еще
не успели сформироваться. Характер философских проблем
существенно изменился в эпоху, когда сложились частные науки и
возникло противопоставление философии этим наукам. Именно в
этой связи рационалистическая метафизика выдвинула проблему
сверхопытного, по существу сверхнаучного знания. Впрочем, в
этой постановке вопроса наличествует вполне реальная
потребность преодоления узкого эмпиризма, которая в философии была
осознана раньше, чем в естествознании. Метафизическая
проблема сверхопытного знания возникла на почве развития науки
Нового времени.
Проблемы происхождения знания, соотношения
рационального и чувственного, теории и практики, доказательства,
логического вывода, критерия истины и теоретического исследования
вообще - все эти проблемы философии XVII в. формировались
под влиянием математики, механики и экспериментального
естествознания. Их исследование оплодотворяло не только
философию, но и частные науки.
Итак, сведение философских проблем к одному лишь
обыденному опыту несостоятельно. Не только гносеологическая, но и
онтологическая проблематика философии выходит за пределы этого
опыта. Философские проблемы как по своему происхождению,
так и по содержанию органически связаны со всей
многообразной исторической, в особенности духовной, деятельностью
человечества. Одни философские проблемы непосредственно связаны
с развитием специального научного знания, другие -
опосредованно. Даже философские проблемы, отражающие содержание
человеческой субъективности, существенно преобразуются под
влиянием специальных наук.
Существуют, конечно, и такие философские проблемы,
которые несовместимы с научным подходом к исследованию. Но они,
как правило, несовместимы и со свидетельствами обыденного
опыта. Вот почему программное заявление логического
позитивизма о том, что философские проблемы, собственно, не
являются проблемами, так как они лишь мнимые вопросы, исчезающие в
свете логико-семантического анализа, оказалось одним из
наиболее пагубных заблуждений философии. Логические позитивисты
пренебрегали необходимостью типологического анализа
проблематики философии. Они не сумели выявить рациональное в той
214
постановке проблем, которая отличала спекулятивное
философствование.
Разумеется, в философии существовали (и существуют) не
только проблемы, но и псевдопроблемы. Средневековая
схоластическая философия, в особенности там, где она изощряется
ради обоснования христианских догматов, выдумывает немало
мнимых проблем. Оставляя в стороне такие схоластические
«проблемы», которые не являются философскими (способен ли Бог
создать такой камень, который он не сможет поднять?), мы можем
привести в качестве примера такой псевдопроблемы вопрос о
сотворении мира Богом из ничего. Нам представляется, что признак
псевдопроблемы - необоснованность всех предполагаемых ею
понятий и допущений. Никем не доказано, что было время, когда
мира не было. Абсолютное возникновение - представление,
которое нельзя подтвердить хотя бы одним примером. Тем не менее
теолог ставит вопрос не просто об абсолютном возникновении,
но и о сотворении (личностном акте, предполагающем
существование творца) и притом из ничего. Но что такое ничто! Если оно
существует, значит, оно - нечто.
Неопозитивисты, превратив понятие псевдопроблемы в
универсальное средство борьбы против «метафизики» философии,
не сумели дать сколько-нибудь удовлетворительного
определения этого понятия. Они слишком расширительно истолковывали
понятие псевдопроблемы, не отличая ее от ложно поставленной,
мистифицированной, но в сущности вполне реальной проблемы.
Большинство философских проблем, которые неопозитивистам
(и не только им) представляются псевдопроблемами, в
действительности являются лишь ложно поставленными проблемами.
Проблема первопричины, по моему мнению, является типичной
псевдопроблемой, так как понятие причины и следствия
относится к отдельным явлениям, группам явлений, но лишено смысла
по отношению к вселенной как целому. Однако проблема
предустановленной гармонии, поставленная Лейбницем,
представляется мне неправильно сформулированной реальной проблемой
единства духовного и материального, единства мира как целого.
Столь же реальной, хотя и ложно сформулированной, является
проблема врожденных идей, которая казалась Д. Локку и другим
приверженцам эмпиризма лишенной смысла. Правильно
указывает М. Мамардашвили: «...в положении идеалистического
рационализма XVII века о "врожденности идей" на деле отразился
тот факт, что у научного знания, взятого как отдельный элемент
("идея"), обнаруживаются не только свойства, порождаемые
наличием существующего вне сознания отдельного объекта этого
215
знания, но и свойства, порождаемые в нем связью с другими
знаниями и с общей системой мышления. Это фактический предмет
и источник приведенного рационалистического тезиса,
реальная проблема теории врожденных идей, скрывшаяся за
историческим контекстом их своеобразного освоения и выражения»
(111, 62). Не существует формального признака, который
позволил бы принципиально отграничить псевдопроблему от
ложно сформулированной проблемы: лишь действительное развитие
познания и специальное исследование может дать конкретный
ответ относительно любой отдельной проблемы,
псевдопроблемы или ложно поставленной проблемы. Неопозитивисты явно
облегчили себе задачу, объявив все исторически сложившиеся
философские проблемы просто несуществующими. Как
замечает Ж. Пиаже, «ничто не позволяет окончательно определить
проблему как научную или метафизическую» (274, 60). Априорное
противопоставление научных проблем философским
ограничивает возможности науки в решении вопросов, которые неправильно
формулируются вследствие недостатка информации или по
другим причинам. Наука, говорит Пиаже, способна решить любые
проблемы, т.е. она «существенным образом "открыта" и
сохраняет свободу охватывать все новые и новые проблемы, которые она
хочет или может решить, в той мере, в какой она находит методы
для их трактовки» (274, 59)*. Мы, следовательно, не вправе с
порога отвергать проблемы, поставленные идеализмом, лишь
потому, что они неизбежно мистифицируются: необходимо
расшифровывать эти проблемы. Вопреки вульгарной критике идеализма
к этому в немалой мере сводятся задачи научного исследования
идеалистической философии.
Взаимоотношение действительных, мнимых и ложно
сформулированных проблем отражает, правда далеко не непосредственно,
противоположность между научной и антинаучной постановкой
теоретических проблем. Было бы величайшим упрощенчеством
представлять дело так, будто действительными проблемами
занимается лишь материалистическая философия. Как ни враждебны
друг другу материализм и идеализм, эти противоположности
диалектичны, поскольку материализм и идеализм обсуждают обыч-
* История специальных наук, так же как философия, знает свои
псевдопроблемы и ложно поставленные вопросы, причем и в этой области нельзя указать
формального признака, отделяющего один тип проблем от других. Проблемы
надо исследовать и лишь после этого определять, чего они стоят и какое
содержание выражают. «Не существует, - говорит М. Планк, - критерия для того,
чтобы a priori решить, является ли поставленная проблема, с точки зрения физика,
имеющей смысл или не имеющей смысла» (276, 222).
216
но одни и те же вопросы. Из этого, впрочем, не следует делать
вывод, будто вопросы сами по себе нейтральны,
безотносительны к их возможным решениям. Философские вопросы - это не
просто предложения, заканчивающиеся вопросительным знаком;
они могут быть утверждениями и отрицаниями, они не
свободны от определенных допущений и зачастую представляют собой
предположительную формулировку определенного принципа,
который требует своего обоснования. Противоположность между
рационализмом и эмпиризмом, экзистенциализмом и феномено-
логизмом, интеллектуализмом и иррационализмом,
материализмом и идеализмом, так же как и противоположность между
рационализмом и эмпиризмом (как и другими, противостоящими
друг другу философскими учениями) проявляется не только в
разных ответах на общие для всех философских теорий
вопросы, но и в существовании специфических для каждого
философского направления проблем, которым, как правило, придают
второстепенное значение другие философские направления или
даже просто игнорируют их. И то, что в рамках одного
философского направления третируется как псевдопроблема, составляет
сплошь и рядом важнейшую проблему для другого
философского направления. Достаточно указать хотя бы на тот факт, что
одни философские учения отвергают метафизику, третируют ее
как псевдоучение, в то время как другие философские учения
представляют собой обстоятельное обоснование и изложение
метафизики.
Чрезмерное противопоставление философских проблем
проблемам науки столь же несостоятельно, как и игнорирование
качественного различия между ними, о чем уже говорилось выше.
Это различие обусловлено не столько спецификой философских
проблем, сколько объемом заключающегося в них содержания.
Оптимум всеобщности - качественная характеристика, если,
конечно, речь идет не только о той или иной истине, имеющей
всеобщее и необходимое значение, но и о природе истины
вообще, о законах природы или общества как формах всеобщности.
Что такое истина? Что такое знание? Что такое закон? Что такое
материя? Что такое человек? Что такое мир? Сама форма этих
вопросов отлична от вопросов, которые обычно встают перед
физиком, химиком и любым представителем частных наук. Для
химика такие вопросы, как, например, «что такое металл?», «что
такое металлоид?», «что такое элемент?», имеют, по-видимому,
второстепенное значение, так как в первую очередь его
интересуют особенные свойства каждого отдельного металла, металлоида,
элемента или их соединения. Вопрос типа «что такое...?», конеч-
217
но, не лишен смысла в химии или другой частной науке, но в
философии он имеет первостепенное значение.
Форма философских вопросов, как и всякая форма, выражает
своеобразие их содержания. Дидро говорит, что физик откажется
от вопроса «для чего?» и займется лишь вопросом «как?» (68,
128). Вопрос «для чего?», особенно в натурфилософии,
предполагает телеологическую установку, и физик, сознательно или
стихийно стоящий на позициях материализма, отбрасывает ее.
По-видимому, физик в отличие от философа больше
интересуется вопросом «как?», чем вопросом «почему?». Философию же не
удовлетворяет знание того, как совершаются известные
процессы, она спрашивает: почему они совершаются так, а не иначе?
Философ, например, спрашивает не только «познаваем ли мир?»
или «как мы познаем мир?», но и «почему он познаваем?»,
«почему мы его познаем?».
Позитивизм еще в прошлом веке объявил вопрос «почему?»
непозволительным, метафизическим, принципиально
неразрешимым. Между тем история науки свидетельствует, что в любой
специальной области исследования этот вопрос при известных
условиях приобретает глубокий научный смысл. Ньютон не
объяснял, почему тела притягиваются друг к другу, вовсе не потому,
что он считал это праздным делом: он хорошо сознавал, что для
ответа на этот вопрос наука еще не располагает необходимыми
данными*. Современная физика также не считает этот вопрос
псевдопроблемой, хотя в его решении она не пошла дальше
гипотез, которые так не нравились Ньютону.
Естествоиспытатель ставит вопрос «почему?» прежде всего в
связи с конкретными наблюдениями или экспериментами, и это
отличает естественнонаучную форму постановки данного
вопроса от философской. Так, после того как знаменитый эксперимент
Майкельсона не дал ожидавшихся результатов, естественно,
возник вопрос, почему это произошло. Эйнштейн ответил на этот
вопрос так: эфира не существует, а скорость света постоянна, т.е.
не может увеличиться в результате сложения скоростей. Были и
другие ответы на это «почему?», так как обычно сама форма
вопроса допускает многообразие ответов.
Когда естествоиспытатель предлагает определенную
гипотезу, которая подтверждается некоторыми фактами, а затем обна-
* «Причину же этих свойств силы тяготения я до сих пор не мог вывести
из явлений, гипотез же я не измышляю. Все же, что не выводится из явлений,
должно называться гипотезою, гипотезам же... не место в экспериментальной
философии» (127, 42). Следует, впрочем, отметить, что Ньютон все же
«измышлял» гипотезы: достаточно указать на его корпускулярную теорию света.
218
руживается, что другие факты ей противоречат, вновь возникает
вопрос «почему?». Такова, например, была ситуация в физике,
когда обнаружилось, что одни факты свидетельствуют о волновой, а
другие о корпускулярной природе света. Ответ на это «почему?»
дал де Бройль, доказавший, что электрон обладает корпускуляр-
но-волновой природой.
Следует, впрочем, отметить, что вопрос «почему?» встает
перед естествоиспытателем не только в частной, но и в более
общей, мировоззренческой форме. «Наука, - указывает М.В.
Келдыш, - еще очень мало сделала для выяснения таких грандиозных
проблем, как зарождение жизни на Земле, как основы
организации живой материи; мы не знаем, как появилась живая материя
и почему было неизбежно то развитие, которое она получила»
(90, 31). В данном случае мы видим, что вопросы «как?» и
«почему?» оказываются равноправными*. Разграничивая эти вопросы,
не следует считать их принципиально несовместимыми.
Объявить всякое «почему?» запрещенной формой вопроса -
значит стать на позиции агностицизма, как это, собственно, и
сделал позитивизм. Иное дело, что философии понадобились
тысячелетия, чтобы понять значительность этого вопроса.
Смысл вопроса «почему?» становится еще более очевидным,
когда мы переходим от естествознания к обществоведению.
Природные процессы, если они не преобразованы общественным
производством, совершаются стихийно, независимо от человечества.
Общественно-исторический процесс, напротив, даже в своей
стихийной форме есть результат совокупной деятельности людей.
Исследователь общественной жизни не вправе рассматривать
исторические события, экономические или политические факты, не
ставя вопроса «почему?». Разумеется, некоторые историки,
экономисты, социологи ограничивают свою задачу установлением,
описанием фактов, хода событий и т.д. И тогда игнорирование
вопроса «почему?» нередко становится отказом от критического
анализа и оценки социальных явлений.
Философ в меньшей мере, чем какой-либо другой
представитель гуманитарных наук, может отказываться от вопроса «по-
* К. Поппер поступает последовательно, когда отбрасывает вместе с
вопросом «почему?» и вопрос «как?», объявляя их одинаково бессмысленными
для теоретического естествознания: «Вопросы об истоке суть "как" и "почему".
С точки зрения теоретической они не имеют значения и представляют собой
лишь специфически исторический интерес» (280, 142). В наши дни
естествоиспытатели, как правило, хорошо осознают, что неопозитивизм устанавливает
табу для науки, которая в лице своих лучших представителей никогда не
признавала никаких запретов для исследования.
219
чему». Лучше даже сказать, что он никогда не может от него
отказаться. Это не значит, конечно, что такой постановкой вопроса
философ застраховывает себя от некритического отношения к
социальной действительности: существенна не только форма
вопроса, но и вкладываемое в него содержание, не говоря уже о
содержании ответа. Так, рассуждая о частной собственности,
философ именно потому, что он философ, не может уйти (и обычно
не уходит) от вопроса, почему она существует. И если он не
расчленяет, не конкретизирует этого вопроса, а просто утверждает,
что частная собственность на средства производства существует
потому, что такова человеческая природа, то он, в отличие от
других буржуазных ученых, является апологетом капитализма. Но
представим себе философа, который расчленяет, осмысливает,
конкретизирует саму постановку вопроса: тождественна ли
частная собственность с присвоением человеком вещества природы
вообще? Чем отличается собственность на средства производства
от собственности на другие вещи, например, предметы
личного потребления? Существовали ли в истории человечества иные
формы собственности, или понятия «частная собственность» и
«собственность вообще» - синонимы? Является ли природа
человека неизменной? Не трудно понять, что такая постановка
вопроса «почему?» выявляет многообразие его возможного
содержания. Не следует, однако, думать, что правильная постановка
вопроса зависит просто от желания мыслителя: она предполагает
как определенный уровень познания, так и некоторые
социальные предпосылки.
Итак, вопрос «почему» может носить содержательный или
же, напротив, бессодержательный характер. Нет ничего легче,
чем сопровождать любое утверждение или отрицание
глубокомысленным «почему?», не затрагивающим сущности того
вопроса, факта, предмета, о котором что-либо высказывается. Такого
рода вопрошание превращается в детское занятие, в нечто
подобное игре и не имеет ничего общего с сутью философского
вопроса. И дети, постоянно спрашивающие «почему?», и взрослые,
которые подражают детям или остаются на уровне развития детей,
не становятся благодаря этому философами. Народная мудрость
справедливо высмеивает это настойчивое, бездумное «почемука-
нье» как занятие, не требующее умственного напряжения. И если
позитивисты пытались иной раз свести философские вопросы к
детскому «почему?», то это указывает лишь на то, что в своей
шумной полемике против эссенциализма, якобы
реставрирующего средневековые представления о скрытых (т.е. принципиально
ненаблюдаемых) качествах, они проглядели сущность философ-
220
ских вопросов и те существенные отношения в самой
действительности, к которым они относятся*.
Анализ формы философского вопроса выявляет
специфическое, несводимое к предмету частных наук содержание. Иными
словами, не тот или иной способ формулировки проблемы делает
ее философской, а ее содержание. Поэтому и нефилософы, когда
им приходится заниматься этими проблемами, тоже
философствуют. Это показывает, что не существует математического,
физического, химического решения философских проблем, хотя
математика, физика, химия и другие науки участвуют в их решении.
И все же на вопросы «что такое закон?», «что такое истина?»,
«какова природа наиболее общих закономерностей?», «почему
мир познаваем?», «почему сознание так или иначе воспроизводит
в своих представлениях независимую от него реальность?», как и
на все другие философские вопросы, не может ответить ни одна
частная наука потому, что они относятся к содержанию всех наук.
Поэтому, отвергая метафизическое положение о сверхнаучности
философских проблем, мы утверждаем тем самым лишь то, что
они могут быть решены на пути к научному знанию. А это
означает, что обсуждение философских проблем должно основываться
* Следует, впрочем, подчеркнуть, что детское «почему?» отнюдь не всегда
беспредметно. Оно заключает в себе то непосредственное отношение к
окружающим явлениям, которое свободно от обычно не обоснованного убеждения
большинства взрослых, что эти привычные, примелькавшиеся в сознании
факты не представляют интереса и достаточно уже известны, чтобы уделять им
внимание, тем более что у каждого есть свое дело, каждому не хватает времени, мы
уже не дети и т.д. Платон и Аристотель считали удивление началом философии.
При этом имелось в виду не то чувство изумления, которое вызывается в нашем
сознании необычным, никогда не виданным, неожиданным, а удивление перед
тем, что было известно, привычно, никогда удивления не вызывало. М. Планк
рассматривал способность удивляться как начало теоретического подхода к
явлениям: «...не потому взрослый человек разучился удивляться, что он разгадал
чудесную загадку, а потому, что он привык к законам своей картины мира. Но
почему существуют именно эти, а не другие законы, остается для взрослого
таким же удивительным и необъяснимым, как и для ребенка. Кто не понимает
этого обстоятельства, не осознает его глубокого значения, кто зашел так далеко,
что ничему больше не удивляется, тот показывает тем самым лишь то, что он
разучился основательно размышлять» (277, 12). М. Планк не считает,
следовательно, бессмысленным вопрос почему. Он считает людей, не задумывающихся над
подобного рода, т.е. философскими вопросами, неспособными основательно
размышлять. Не удивительно поэтому, что детское «почему?» представляется
Планку значительным, и в сущности не просто детским. «Действительно, -
пишет он, - перед лицом неизмеримо богатой, постоянно обновляющейся
природы человек, как бы ни был велик прогресс научного познания, остается всегда
удивляющимся ребенком и должен быть постоянно готов к новым
неожиданностям» (Ibid, 111).
221
на всей совокупности научных данных. Однако такого рода
исследованием, во всяком случае непосредственно, занимается именно
философия: это-то, собственно, и составляет ее задачу.
Разумеется, такая методологическая установка характеризует главным
образом материалистическую, а также рационалистическую
позицию. Однако ее разделяют и некоторые идеалисты. Достаточно
указать хотя бы на Канта, который характеризовал математику и
теоретическую механику как образец для философского
исследования.
Таким образом, действительно существуют вопросы,
исследованием которых занимается только философия, но не без помощи
всех других наук. Эти вопросы и являются собственно
философскими проблемами. Это на первый взгляд самоочевидное
положение (зачем в ином случае философия?) требует, однако,
разъяснения, поскольку проблемы, веками считавшиеся философскими,
постоянно переходили в ведение частных наук и благодаря этому
получали научное разрешение*. Ближайший анализ такого рода
проблем показывает, что это были частные вопросы, которые
изучались философией, поскольку еще не было соответствующей
специальной науки. Поэтому вопросы, которыми философия
занималась в течение почти двух тысячелетий, могут быть
разделены на два основных вида. Это, во-первых, наиболее общие
вопросы, которые возникали, развивались, получали определенное
решение на протяжении всей истории философии. Во-вторых, это
* К. Штейнбух, сочетающий в своем мировоззрении естественнонаучный
материализм с элементами позитивистской трактовки познания, полагает, что
одни и те же вопросы сначала изучаются философией, а затем получают
решение в специальных науках. Явно не отличая проблем, отпочковавшихся от
философии вследствие развития частных наук, от тех философских вопросов,
которые по самой природе своей не могут быть предметом частной науки, Штейнбух
приходит к ошибочному выводу: «История науки знает много примеров того,
как те или иные проблемы долгое время оставались объектом философских
умозрений, но затем оказались предметом исследования в точных науках.
Типичным примером является атомистическая концепция строения материи... Как
только проблема впервые подвергается исследованию методами точных наук,
становится ясно, что эта форма ее изучения обладает решительным
преимуществом по сравнению с донаучной, и взгляд назад рождает чувство превосходства
или смущения» (189, 21-22). Иллюзия, которую Штейнбух черпает из
позитивистского рассмотрения истории философии и науки, заключается в убеждении,
что рано или поздно все философские вопросы станут предметом исследования
частных наук. Эта иллюзия основывается на представлении, что философские
проблемы не имеют специфического содержания, что они отличаются от тех
проблем, которые уже выделились из философии, лишь своей донаучной
постановкой, исключающей возможность их научного решения. Это смягченная
форма неопозитивистской редукции философских проблем к псевдопроблемам.
222
частные вопросы, о которых говорилось выше; они постепенно
отпочковывались от философии.
Завершающийся в наше время процесс выделения из
философии вопросов, которые становятся предметом исследования
частных наук, способствует дальнейшему развитию и
обогащению собственно философской проблематики или, иными
словами, тому, что вопросы, исследуемые философией, становятся все
более философскими, т.е. такими, которые по природе своей не
могут быть решены в рамках какой-либо существующей или
мыслимой частной научной дисциплины. Вследствие этого
изменяется взаимоотношение между философией и частными науками:
философия уже не занимается предварительной подготовкой
вопросов, которые затем переходят в ведение частных наук. Вместо
функции спекулятивного предвосхищения научной постановки
вопросов философия в той мере, в какой она занимается
проблематикой частных наук (а это далеко не исчерпывает ее предмета),
выполняет функцию мировоззренческого осмысления,
обобщения, сравнительного анализа научных открытий и методов
исследования, задачу теоретической разработки методологических
проблем науки. Это изменение соотношения между философией
и частными науками в равной мере плодотворно как для
философии, так и для частных наук. И то, что философия XX в. не
занималась спекулятивным предвосхищением открытий, сделанных
теорией относительности, квантовой механикой, кибернетикой,
что эти открытия были такой же неожиданностью для
философов, как и для подавляющей части всех ученых, объясняется, на
наш взгляд, изменением характера философских проблем и
соответственно этому самой функции философии.
Положение о существовании видовых различий внутри
философской проблематики может вызвать возражения, на которых
следует специально остановиться. Первое возражение: не
являются ли общие и особенно наиболее общие философские
вопросы в сущности неправильно сформулированными проблемами,
так как каждый общий вопрос может и должен быть расчленен
на составляющие его частные вопросы? А если это так, то
существуют ли вообще собственно философские вопросы или же они
существуют лишь постольку, поскольку общие вопросы еще не
осмыслены, не расчленены?
Действительно, любой общий, в том числе и философский,
вопрос может быть расчленен на отдельные частные вопросы.
Однако философский вопрос тем-то и отличается от других,
нефилософских общих вопросов, что он сохраняет свой смысл
и значение и после этого разделения на частные вопросы, и
даже после решения этих частных вопросов соответствующими
223
науками. Больше того, значение философского вопроса
возрастает именно благодаря его расчленению на множество
специальных, частных вопросов, после решения которых вновь осознается
значение общего, философского вопроса.
Так, например, проблема бесконечности, несомненно,
получает все более определенное философское содержание вследствие
того, что различными сторонами этой проблемы успешно
занимаются математика, физика и другие науки. Актуальность
философского вопроса о природе человека, как уже подчеркивалось выше,
стала еще более несомненной благодаря тому, что антропология,
психология, физиология, история и другие науки исследовали его
в том или ином ракурсе.
Второе возражение. То, что частные вопросы могут быть
отвлечены от общих, очевидно. Но в какой мере общие вопросы
могут быть отвлечены от частных? Ведь значительная часть
общих, философских вопросов представляет собой те же частные,
но относимые к неограниченной сфере исследования вопросы.
Не являются ли в этом случае и философские и нефилософские
проблемы лишь двумя сторонами одной медали?
Такие вопросы, как отношение общественного сознания к
общественному бытию, отношение теоретического знания к
чувственным данным, проблема человека, проблема бесконечности,
неизбежно становятся предметом специального научного
исследования, оставаясь вместе с тем важнейшими философскими
проблемами, решение которых философией в значительной мере
обусловлено достижениями частных наук. М. Адлер называет эти
вопросы «смешанными», полагая, что в отличие от собственно
философских вопросов они решаются объединенными усилиями
философии и частных наук. Но все дело в том, что, за
исключением псевдопроблем, не существует чисто философских вопросов,
содержание и решение которых были бы независимы от данных,
предоставляемых частными науками. И кроме того, вопросы,
называемые Адлером смешанными, оказываются в предлагаемой
им классификации философских проблем третьестепенными*.
* Первостепенными (first order) философскими вопросами являются, по
Адлеру, «вопросы о том, что есть и что происходит в мире или что должен делать
человек, к чему он должен стремиться...», второстепенными - «вопросы о том,
как мы познаем то, что есть и что происходит в мире, или то, к чему должны
стремиться люди, и как мы мыслим или говорим об этом» (196, 43). Это
определение главных и второстепенных философских проблем излагается как
аксиоматически очевидное, ибо сначала мы должны иметь представление о мире для
того, чтобы оценивать это представление. Поэтому, заявляет Адлер, метафизика
первична по отношению к эпистемологии (Ibid., 45). Однако ошибка Адлера
заключается в том, что он отвлекается от развития философии, в ходе которого
224
В действительности же (если не стоять на позициях
спекулятивно-идеалистической метафизики) это философские проблемы
первостепенной важности.
Таким образом, частные вопросы, которыми в прошлом
занималась философия, выходят из ее ведения и решаются
частными науками. Те же вопросы, которыми занимаются и философия,
и частные науки, очевидно, являются одновременно и общими и
частными. Психология, антропология, история, медицина,
биология по-разному изучают человека. Философия же, обобщая
достижения этих наук, осмысливая общественную практику,
историю человечества, ставит проблему человека в наиболее общей
форме. Речь идет о природе человека и о ее изменении,
совершающемся в ходе истории, о соотношении индивидуального и
общественного, антропологического и социального, о материальной и
духовной жизни общества, наиболее общих законах
социального развития, закономерностях практической деятельности
человека, познания, художественного освоения мира и т.д. В рамках
философии ни один из этих вопросов не является частным, и все
они лишь различные аспекты одного и того же вопроса,
переходящие друг в друга. Так, вопрос о соотношении
индивидуального и социального, который носит специальный характер в
психологии, в философии не может быть решен без исследования
всех перечисленных выше вопросов. Эта взаимообусловленность
философских проблем, их исторически выявляющееся единство
существенно отличают последние от вопросов любой частной
науки, где каждый вопрос связан лишь с некоторой частью
других вопросов, но, конечно, не со всеми вопросами данной науки.
Развитие специализации внутри каждой науки свидетельствует о
возрастающей относительной независимости рассматриваемых
ею вопросов. Иная ситуация в философии, где взаимопроникно-
в различные исторические периоды разные проблемы приобретают
первостепенное, доминирующее значение. В античной философии до Сократа
центральное место занимали космологические вопросы. У Аристотеля «первой
философией» является то, что его комментаторы затем называли метафизикой, вопросы
же теории познания занимают по отношению к ней подчиненное положение.
Но было бы явным антиисторизмом распространять это соотношение проблем,
сложившееся в античной философии и принятое средневековой схоластикой,
следовавшей главным образом за Аристотелем, на все дальнейшее развитие
философии. Стремление раз и навсегда определить, какие философские вопросы
являются самыми важными, а какие имеют второстепенное значение, исходит
из идеалистической и религиозной концепции philosophia perennis и игнорирует
связь философии с определенными историческими потребностями и
социальными проблемами. Последнее обстоятельство, например, определило тот факт,
что в философии марксизма важнейшее место заняло материалистическое
понимание истории.
8. Ойзерман Т.И., том 5
225
вение проблем создает немалые трудности для исследования, так
как решение одной философской проблемы находится в большей
или меньшей зависимости от решения некоторых других проблем
философии.
Философию часто упрекали в том, что она занимается
«преждевременными» вопросами, решение которых еще не
подготовлено развитием науки. Однако естествознание, как нам кажется,
независимо от философии ставило (и продолжает ставить в наши
дни) «преждевременные» или «несвоевременные» вопросы,
которые еще не могут быть решены и все же заслуживают внимания.
В настоящее время, когда философия, как правило, уже не
претендует на предварительное «спекулятивное» решение частных
проблем, это стало занятием самих естествоиспытателей, но они,
конечно, не следуют примеру натурфилософов.
Таким образом, стремление ответить на тот или иной
частный или общий вопрос до того, как будет накоплен достаточный
для ответа эмпирический материал, имеет место в любой области
знания. И возникает оно не просто из нетерпения, а прежде
всего потому, что недостаточность наличных эмпирических данных
осознается лишь в процессе исследования, к которому
побуждает эта «преждевременная» постановка вопросов. Следовательно,
и в естествознании существуют такие вопросы, которые нельзя
оставлять хотя бы без предварительного ответа. Их
прогрессивное значение несомненно. В философии такого рода вопросы
занимают несравненно больше места, и это также характеризует
специфику философских проблем.
Бывает, что ученый ставит перед собой весьма ограниченную
задачу и полностью ее решает. Бывает и так, что ученый
отваживается на постановку грандиозной задачи, однако решает ее лишь
частично. Не только философия, но и частные науки нуждаются в
такого рода «фантазерах». Это сравнение, как нам кажется,
применимо к характеристике философских проблем.
2. Старые и новые, вечные и преходящие проблемы
Проблема в частных науках подобна задаче, которая
возникает после выполнения предыдущей задачи. Теоретическая
механика в наше время, естественно, не занимается проблемами времен
Ньютона: они решены, т.е. уже не являются проблемами. Следует,
впрочем, оговориться: в естествознании (не говоря уже о
математике) имеются отдельные проблемы, возникшие сотни лет назад и
не решенные и по сей день. Но это не правило, а исключение.
226
История научного знания есть история возникновения и
развития сотен (а затем и тысяч) специальных научных дисциплин,
и у каждой из них свои проблемы, которые, как правило, не
существовали до возникновения этой научной дисциплины. Сама
возможность создания новых научных дисциплин предполагает
изобретение новых технических средств инструментального
наблюдения, новой экспериментальной техники, открытие таких
объектов исследования, о существовании которых ранее просто
не подозревали.
Развитие научного познания совершается через
сознательную, целенаправленную деятельность исследователей, но оно не
свободно от элемента стихийности в том смысле, что
принципиально невозможно уже в настоящее время располагать будущим
знанием, а следовательно, и знать те проблемы, которые в связи
с этим возникнут. Непознанное далеко не всегда наличествует как
нечто известное. Ученый, поскольку он выходит за пределы
наблюдаемого, сплошь и рядом не знает, чего он не знает. Прогресс
познания заключается также и в выявлении непознанного, что
позволяет наносить на карту возможного знания белые пятна,
которых там раньше не было. Каждое из этих белых пятен - проблема.
Это значит, что проблемы любой науки фиксируют непознанное,
выявившееся в результате познания.
История специальной научной дисциплины позволяет с
большей или меньшей точностью установить хронологию ее проблем.
То обстоятельство, что некоторые вопросы, которыми
занимается, например, современная астрофизика или биология, были
поставлены сотни лет назад, не меняет общей картины, так как они
ставились тогда не астрофизикой и биологией, а философией и
были тогда философскими проблемами.
Философские проблемы качественно отличаются от проблем
любой частной науки, так как в своей первоначальной форме они
обычно выступали как донаучные догадки, предвосхищения.
Можно, конечно, говорить и о донаучной форме постановки
некоторых естественнонаучных проблем, но это, как уже указывалось
выше, относится к истории философии, а не к истории
естествознания. Этот факт был превратно истолкован О. Контом как
свидетельство принципиально донаучного характера всякой
философской постановки проблемы. В действительности указанный
факт говорит о другом: развитие философии имело место и тогда,
когда еще не было специальных наук. Значительная часть
философских проблем возникла в эту донаучную историческую эпоху.
Делать отсюда вывод, что они обречены навсегда оставаться
донаучной формой постановки вопросов, - значит не видеть того,
227
что философские проблемы не только возникают, но и
развиваются. Игнорирование этого обстоятельства неизбежно приводит
к метафизической концепции неизменных философских проблем.
«Философы всех времен и народов занимаются одними и теми
же проблемами», - говорит Г. Шмидт, автор известного на Западе
Философского словаря (186, 611). Таково традиционное
воззрение, неразрывно связанное с идеалистическим
противопоставлением философии общественно-историческому процессу, наукам,
практике. Это воззрение, как и данное противопоставление, не
просто фантазия идеалиста, а отражение объективной видимости
исторического процесса; оно требует поэтому научного анализа.
Кант считал основные философские проблемы априорными,
т.е. изначально присущими разуму, составляющими его
специфическое содержание. Но то, что для отдельного индивида априорно,
для предшествующей его появлению на свет истории
человечества апостериорно. Кант не придавал значения развитию
философии; он находил основные философские проблемы (и притом в
готовом виде) уже у Платона и вслед за ним называл их идеями,
однако же идеями человеческого разума, что, конечно,
противоречит платонизму. Кант, следовательно, существенно
видоизменил постановку проблем, которые он находил у Платона, не
говоря уже о том, что он обогатил философию новыми проблемами,
чуждыми платонизму, так как они были связаны с развитием
естествознания Нового времени. Этот пример позволяет уточнить
понятие непреходящей философской проблемы, которое обычно
некритически применяется многими философами.
Проблема единства мира, проблема человека, проблема
свободы, как и многие другие философские вопросы, действительно
могут быть в известном смысле слова названы вечными
проблемами. Процесс познания мира беспределен, и понятие единства
мира никогда не станет окончательно завершенным, не
подлежащим дальнейшему изменению, развитию. Пока существует
человечество, проблема человека будет сохранять свою актуальность
и любое ее решение останется таким же незавершенным, как и
история человечества. Даже дефиниция человека как существа,
отличного от всех других существ, всегда будет оставаться
проблемой, так как именно человек дает эти дефиниции самому себе
и он, по-видимому, всегда будет так поступать. Мы,
следовательно, вправе называть некоторые основные философские проблемы
вечными в том смысле, что они всегда сохраняют свое значение
для человека, человечества, истории познания. В каждую новую
эпоху постановка этих проблем не просто продолжение
существующей традиции, но и выявление перспективы.
228
Вечных проблем не существует в том смысле, в каком
толкует их метафизик или агностик; нет проблем, независимых от
истории; нет неизменных проблем, содержание которых остается
одним и тем же вопреки изменениям, совершающимся в истории;
нет проблем, которые исключают возможность хотя бы
частичного их решения. Последний момент я хотел бы особенно
подчеркнуть, так как проблема единства мира, проблема человека
и все прочие непреходящие проблемы получают свое решение в
каждую эпоху в соответствии с уровнем достигнутых знаний и
характером социальных преобразований. Последующее развитие
есть вместе с тем развитие вечных проблем и их исторически
определенных (и неизбежно ограниченных) решений. Вечные
проблемы имеют свою историю, они не только изменяются, но
и трансформируются. Следует, однако, уточнить то, что
именуется философским решением проблемы. Это не более, чем ответ
на поставленный вопрос. Разумеется, этот ответ есть результат
осмысления, анализа проблемы, иначе говоря исследования. Но
вместе с тем этот ответ не является ни бесспорным, ни тем более
окончательным, который закрывал бы проблему, сдавал бы ее в
архив. В этом смысле решение философской проблемы
кардинально отличается от того, что именуется решением проблемы в
естествознании или математике. Можно даже сказать, что
решение проблемы в философии является таковым только в рамках,
в контексте той философской системы, в которой оно дано. За
пределами этой философии, т.е. в контексте другого
философского учения, оно не является решением проблемы и поэтому,
как правило, подвергается критике, отвергается. Тем не менее
это отвергнутое решение проблемы сохраняется в философии
как содержательная попытка, как точка зрения или концепция,
которая обогащает философию, расширяет ее смысловое поле.
Оно, следовательно, должно быть оценено как определенное
достижение.
Чтобы понять специфику философских проблем, необходимо
в полной мере учесть их историческую трансформацию, в ходе
которой наряду с проблемами, сохраняющими непреходящее
значение, возникают и исчезают преходящие философские
проблемы. Так, в древнекитайском учении о «дао», в «логосе»
Гераклита без труда выявляется первоначальная, наивная, не вполне
отмежевавшаяся от мифологии постановка вопроса о всеобщем
законе, который управляет всем существующим. Речь идет об
одном-единственном законе - об абсолютной необходимости,
господствующей над всем. Нет речи о различных типах
взаимосвязи, которые образуют разные законы. Насколько отличается
229
это наивное представление от веры в судьбу? Оно отличается от
нее, например, у Гераклита в той мере (еще недостаточно
исследованной в историко-философской литературе), в какой «логос»
совпадает с природным процессом, огнем. В таком случае он
становится имманентным природе законом, а не чем-то извне
господствующим над ней. Но существует ли один закон для всего?
В этом заключается историческая (и преходящая) определенность
данной проблемы.
Развитие научных представлений о законе связано с
открытием особенных законов различных сфер существующего. Закон
Архимеда может быть хорошим примером, иллюстрирующим
становление научного понятия закона. Частные науки доказывают
своими открытиями, что имеется множество законов,
управляющих различными явлениями, что эти законы находятся в
определенных отношениях друг к другу (одни, например, являются
более общими и включают в себя менее общие), но нет одного
закона для всех явлений. Достижения частных наук показывают
несостоятельность наивного представления об одном всеобщем
законе, но они же и создают основу для новой, философской
постановки вопроса о природе законов, об отличии законов
общественного развития от законов природы и т.д.
Мне представляется, что проблема одного закона является
исторически преходящей проблемой философии, несмотря на то
что она постоянно возрождается в философии Нового и
новейшего времени. Ш. Ренувье, например, ставил Закон (закон с
большой буквы) на место субстанции, противопоставляя его научно
описываемой действительности и обновляя таким путем
дискредитировавшую себя метафизику с ее учением о сверхопытной,
сверхприродной реальности. Я, однако, не считаю, что
проблема единственного закона является псевдопроблемой, так как она
содержит в себе (уже в первоначальной, наивной формулировке)
идею фундаментальных законов природы, таких, например, как
закон всемирного тяготения, открытый Ньютоном.
Разумеется, не все проблемы, которые в известном смысле
являются вечными, существуют в философии на всех этапах ее
развития. Я уже указывал на то, что античная философия не знала
идеи социального прогресса. Не знала ее и средневековая
философия. Эта проблема смогла завоевать свое место в философии
лишь тогда, когда расширенное воспроизводство стало
господствующей тенденцией общественного развития.
Античная философия вплоть до эпохи эллинизма фактически
не занималась проблемой свободы - одной из важнейших
философских проблем. Аристотель проводит различие между произ-
230
вольными и непроизвольными человеческими действиями, но не
входит в рассмотрение проблемы по существу.
Проблема отчуждения, занимающая центральное место в
немецкой классической философии, не играет значительной роли у
ее предшественников. Правда, зародыши идеи отчуждения можно
обнаружить в учении Платона о душе, томящейся в человеческом
теле, в платоновской концепции вещей как искаженных образов
трансцендентных идей, в неоплатонистской теории эманации,
в схоластической интерпретации легенды о первородном грехе
и т.д. По существу же идея отчуждения - продукт Нового
времени. В теориях естественного права XVII-XVIII вв. речь идет
об отчуждении в пользу государства естественного права всех на
всё. Но здесь, собственно, нет еще проблемы отчуждения в ее
философском аспекте, так как суть вопроса сводится к правовому,
благодетельному для каждого человеческого индивида
ограничению его произвола, неотделимого от чуждого цивилизации
«естественного» состояния.
В учении Фихте понятие отчуждения применяется для
анализа отношения противоположностей Я и не-Я: абсолютный
субъект порождает противостоящую ему реальность, которая вместе
с тем составляет необходимое условие его деятельности.
Онтологический и гносеологический аспекты понятия отчуждения еще
не выражают его важнейшего, социального содержания. Лишь у
Гегеля в связи с анализом общественного развития выявляется
реальное историческое содержание проблемы отчуждения, но
оно тут же мистифицируется вследствие идеалистического
отождествления отчуждения с диалектическим процессом вообще.
Фейербах отвергает идеалистическую универсализацию
понятия отчуждения, ограничивая сферу применения этого понятия
религиозным и спекулятивно-идеалистическим философским
сознанием. Киркегор, подвергая иррационалистической критике
гегелевский панлогизм, истолковывает проблему отчуждения как
проблему бренности человеческого, отягченного греховностью,
изначальной виновностью, своеволием существования перед
лицом бесконечно далекого и непостижимого Бога. Эта
субъективистская концепция отчуждения находит свое дальнейшее
развитие в экзистенциализме.
Принципиально новую постановку проблемы отчуждения
выдвигает Маркс в «Экономическо-философских рукописях
1844 года». Он подвергает всесторонней критике спекулятивно-
идеалистическую и антропологическую концепции отчуждения,
обогащает данную проблему конкретным историческим,
экономическим, политическим содержанием, выявляет материальные
231
истоки отчуждения, пытается доказать его исторически
преходящий характер.
Я весьма бегло и схематично затронул историю проблемы
отчуждения, значение которой в философских учениях XIX-XX вв.
трудно переоценить, чтобы на этом примере показать
становление новой философской проблемы*. Она формируется
фактически лишь в Новое время; ее значение в особенности возрастает
в современную эпоху, когда кризис капиталистической
цивилизации выявляет историческую необходимость преодоления
многообразных форм отчуждения человека. Вопреки традиционным
историко-философским воззрениям я полагаю, что ключ к
пониманию сущности философских проблем дает лишь анализ их
возникновения, развития и преобразования в другие проблемы.
Было бы упрощенчеством не видеть того, что под одним и тем же
наименованием проблемы скрываются порой совершенно разные
вопросы.
Конечно, если истолковывать эмбриональную форму
существования философских проблем в духе преформизма, то не трудно
сделать вывод, что уже древнегреческие философы ставили все
современные проблемы философии. Однако достаточно сравнить
обсуждение формально одних и тех же вопросов в философии
разных эпох, чтобы стало ясно, что это в сущности разные
вопросы. Так, рассуждения древнегреческих философов о душе как
особо тонкой материи формально могут быть рассматриваемы в
качестве первой постановки вопроса об отношении духовного к
материальному. В действительности же здесь едва лишь
намечается разграничение духовного и материального. То же можно
сказать о многих других философских проблемах.
Метафизической концепции неизменных философских
проблем некоторые современные философы противопоставляют
историко-философский релятивизм, вообще не усматривая в
философии непреходящих проблем: у каждого великого философа,
полагают они, свои собственные проблемы, это-то и придает
непреходящее значение его учению. Самым решительным
защитником этой интерпретации истории философских проблем является
уже цитировавшийся выше П. Рикёр, провозгласивший задачей
историка философии «непосредственно атаковать идею вечных
проблем, неизменных проблем» (288, 61). Рикёр изображает
непреходящие проблемы как неизменные. Это, на мой взгляд,
упрощенная постановка вопроса.
* Проблема отчуждения специально рассматривается мною в следующих
работах: «Формирование философии марксизма» (М., 1962, второе издание -
1974, третье - 1983) и «Erfremdung als historische Kategorie». Berlin, 1965.
232
Отправной пункт историко-философской концепции Рикё-
ра - представление о философии как специфическом выражении
неповторимой экзистенциальной оригинальности философского
гения*. Всякая попытка типизировать, классифицировать
философские вопросы представляет собой с этой точки зрения
непонимание принципиального отличия философии от всякого
научного знания, в котором ответы якобы несравненно существеннее,
чем вопросы, и представляют собой тем большую ценность, чем
меньше они выражают индивидуальность исследователя.
Философия же - царство осмысливающей себя человеческой
субъективности, которая отказывается от формулы «я обладаю истиной»
ради убеждения «я надеюсь быть в истине». Поэтому
действительный исток каждой выдающейся философской системы
образует убеждение: «Если мое существование имеет смысл, если
оно не напрасно, значит, я занимаю такое место в бытии, которое
является приглашением поставить вопрос, какой никто не может
поставить на моем месте» (288, 65). Было бы смешно отрицать
величие философа, впервые поставившего новый вопрос. Но
почему мы должны отрицать величие философа, решающего уже
поставленные до него вопросы? Да просто потому, что, согласно
современной западноевропейской «философии истории
философии» (одним из сторонников которой является Рикёр),
философия никогда не решает вопросов, она лишь ставит их.
Суть этой концепции заключается не просто в признании
неразрешимости философских проблем. Современная «философия
истории философии», формулируя новые критерии ценности
философского знания, также стремится поставить вопросы, которые
никто до нее не ставил. И главный из них гласит: не являются
ли философские проблемы такого рода вопросами, которые
следует не решать, а лишь обсуждать, выяснять, осмысливать? Не
является ли сама попытка решить философский вопрос
забвением специфики философских проблем, смешением их с проблемами
науки? В науке возможно обладание знанием, но оно относится
лишь к вещам. Философии же, имеющей дело с духовным,
остается лишь надежда на пребывание в истине. Эти положения Рикёра
напоминают рассуждения верующего, не смеющего поверить
* Относительно мнения о неповторимом своеобразии философских учений
Гегель справедливо замечает: «Своеобразное в философии, именно потому что
оно своеобразно, может принадлежать только форме, а не содержанию
системы. Если бы своеобразие действительно составляло сущность философии, то
она бы не была философией» (238, 41-42). Гегель, таким образом, подчеркивает
единство философского знания, в противоположность тем философам, которые
претендовали на создание учений, не имеющих ничего общего с
предшествующими.
233
в возможность постижения божественной мудрости, которая
являет себя в Священном писании и все же остается
непостижимой*. Но философия не теологическая мудрость. Она ставит и по-
своему решает проблемы, и если эти решения в будущем требуют
развития или пересмотра, это их вовсе не дискредитирует.
Подытоживая рассмотрение вопроса, мы приходим к
выводу, что качественное отличие проблем философии от проблем
частных наук относительно, впрочем, как и всякое различие.
Метафизическое абсолютизирование этого различия приводит к
несостоятельным концепциям неизменных или же, напротив,
лишенных интерсубъективного содержания философских проблем:
и та и другая концепции одинаково односторонни, они
игнорируют многообразие философской проблематики и ее развитие.
Философские проблемы, как я уже указывал, первоначально
формируются на почве повседневного опыта людей. В
дальнейшем благодаря развитию наук и теоретическому осмыслению
истории человечества философская проблематика существенно
изменяется и обогащается: возникают и развиваются философские
проблемы наук о природе и обществе. Многие философы
игнорируют или по меньшей мере недооценивают эту тенденцию или же
истолковывают ее в духе нигилистического отрицания
собственно философских проблем. Правильное понимание природы
философских проблем, очевидно, принципиально невозможно для
тех, кто видит между науками и философией пропасть и к тому
же не стремится ее перешагнуть.
Такая модификация сократовского я знаю, что ничего не знаю
получает свое специальное обоснование в работе М. Мерло-Понти «Похвала
философии», где говорится: «То, что делает философ, представляет собой движение,
которое постоянно приводит от знания к невежеству, от невежества к знанию и
своеобразному покою в этом движении...» (265, 11). Не трудно понять, что эта
концепция философии умаляет роль и значение философии в культурном
развитии человечества.
Глава 6
НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ЛИ МНОГООБРАЗИЕ ФИЛОСОФСКИХ
УЧЕНИЙ ПОНЯТИЯ ПРЕДМЕТА ФИЛОСОФИИ?
1. Проблематичность понятия «предмет философии»
Отправным пунктом в изучении любой науки является
определение ее предмета, т.е. выяснение того, чем она занимается, что
изучает, каков круг уже установленных основных вопросов.
Однако для начинающих изучение той или иной науки определение
ее предмета, обычно даваемое в начале учебника, долгое время
остается недостаточно ясным и в известном смысле формальным,
поскольку им еще неизвестны ее основные понятия, категории,
разделы, ее отношение к другим, смежным наукам. Иной, более
глубокий смысл имеет определение предмета науки для тех, кто
в какой-то мере уже знаком с ее проблематикой, получил
представление о ее истории, методах исследования. Благодаря этому
становится понятным место данной науки в системе знаний и то,
что оно не остается неизменным. Изучая ту или иную науку, мы
осознаем те изменения, которым подвергается ее предмет в ходе
исторического развития, понимаем неизбежность дискуссий о ее
предмете среди специалистов. Такого рода дискуссии
необходимы для развития науки; они происходят отнюдь не потому, что
ученые не знают, чем они занимаются, что исследуют, что
преподают.
Научное определение предмета любой науки, конечно, не
может быть исходным пунктом ее действительного исторического
развития: оно становится возможным на сравнительно высокой
ступени развития науки, являясь итогом, обобщением
пройденного пути и достигнутых результатов.
Определение предмета любой науки представляет немалые
трудности также и потому, что совершенно недостаточно просто
235
указать на объекты, которые она изучает; необходимо объяснить,
на каком основании именно эти объекты вычленены как предмет
данной науки. Необходимо, далее, определить эти выделенные
в особую область исследования объекты как качественно
отличные от других, которые поэтому исключаются из ведения данной
науки*. Однако эти указания, объяснения, определения объектов
исследования, составляющих предмет данной науки, не
должны ограничивать возможностей ее развития, обнаруживающего
такие объекты, которые не имелись в виду и тем не менее,
поскольку они открыты, должны быть включены в предмет науки,
даже если принятое определение предмета науки исключает эти
объекты. В таком случае приходится пересматривать это
определение в интересах дальнейшего развития науки. Иными
словами, определение предмета науки должно быть открытым,
учитывающим перспективы ее развития, т.е. оно призвано не просто
фиксировать то, что уже изучено, но и указывать вероятные
направления исследования. Поэтому любое определение
предмета науки носит приблизительный характер и должно оставаться
таковым, поскольку круг вопросов, которые она изучает,
изменяется. Границы изменения предмета науки определяются ее
спецификой, местом в системе научных знаний, общественными
потребностями.
Если взять, например, такую науку, как биология, то лет сто
пятьдесят назад можно было указать непосредственно
констатируемые объекты ее исследования - животные и растения.
Соответственно этому биология состояла из двух основных научных
дисциплин: зоологии и ботаники. Каждая из них распадалась на
подчиненные дисциплины, предмет которых также фиксировался
без особого труда: орнитология, энтомология, ихтиология,
анатомия, морфология и т.д. Последующее развитие биологии вызвало к
жизни новые научные дисциплины. Изучение микроскопического
строения растений привело к выделению физиологии растений.
Далее возникла эволюционная теория (дарвинизм), а затем
генетика. Новые способы наблюдения сделали возможным развитие
* Существенное значение определения объектов исследования,
составляющих предмет науки, обнаруживается даже в эмпирических по своему основному
содержанию науках, которые не столько определяют, сколько просто фиксируют
предмет своего исследования. Например, П.Н. Пилатов указывает, что
выделение такого объекта исследования, как степи, представляет немалые трудности,
так как исследователи отнюдь не единодушны в определении того, что они
называют степями, и соответственно этому по-разному определяют площади,
занимаемые степями в стране. Так, одни исследователи считали, что степи в СССР
занимали 4 млн кв. км, другие же полагают, что они составляют 1,6 млн кв. км
(135,31-41).
236
микробиологии. Применение химических и физических методов
к исследованию биологических процессов заложило основы
биологической химии, биологической физики, молекулярной
биологии, бионики и т.д. В настоящее время биологию, по-видимому,
правильнее было бы определять не просто как науку, а как
систему наук, каждая из которых имеет свой специфический предмет.
Это не исключает единства биологического знания, но указывает
на относительную самостоятельность важнейших разделов
биологии, на ее, если можно так выразиться, многопредметность.
Конечно, биология может быть определена и как комплексная наука;
суть дела не в терминах, а в осознании факта дифференциации,
расчленения предмета биологии. По-видимому, такая
многосторонность предмета исследования характеризует современный
этап развития многих наук. С этой точки зрения правильно было
бы говорить о составных частях предмета каждой получившей
значительное развитие науки.
В отличие от биологии математика исследует объекты,
наличие которых не может быть зафиксировано непосредственно,
так как это, собственно, не предметы, а их идеализированные
пространственные формы и количественные отношения.
Подобно логике, математика отвлекается от содержания, и это
отвлечение, оправданное спецификой изучаемых ею отношений,
имеющих всеобщее и необходимое значение, составляет основную
предпосылку ее существования в качестве науки, которая, не
прибегая к наблюдению, опыту, эксперименту, чисто логическим
путем приходит к новым выводам, открытиям. «Предмет
математики, - указывает А.Д. Александров, - составляет те формы
и отношения действительности, которые объективно обладают
такой степенью безразличия к содержанию, что могут быть от
него полностью отвлечены и определены в общем виде с такой
ясностью и точностью, с сохранением такого богатства связей,
чтобы служить основанием для чисто логического развития
теории» (3, 68).
Как известно, тот факт, что математика берет формы и
отношения в чистом виде, нашел свое философское обоснование в
учении И. Канта об априорном познании. Априорное
понимается Кантом, во-первых, как всеобщее и необходимое, во-вторых,
как определяющее эмпирические объекты познания, в-третьих,
как субъективное. Всеобщность и необходимость понятий,
представлений (например, пространства и времени) действительно не
может быть результатом индуктивного умозаключения.
Эмпирические объекты познания несомненно согласуются с законами,
понятиями науки. Иное дело, что эти законы и научные понятия
237
получены наукой благодаря исследованию эмпирических
объектов. Поэтому они субъективны лишь по форме, но отнюдь не по
содержанию. Правда, это не относится к чистой математике,
которая не занимается исследованием эмпирических объектов. И тем
не менее эти объекты согласуются с выводами математики. Это и
стало основанием кантовского учения об априорном познании*.
Следует также отметить, что умозрительный (спекулятивный)
характер математики, так же как и неограниченные возможности
ее применения в других науках, приводил некоторых философов
и математиков к выводу, что математика не имеет определенного
предмета изучения, а представляет собой лишь универсальный
метод исследования. Так, К. Поппер утверждал, что «чистая
математика и логика, состоящие из доказательств, не дают нам
информации о мире, но лишь разрабатывают средства его
описания» (279, 13).
Я затронул вопрос о некоторых особенностях предмета
исследования в биологии и математике лишь с тем, чтобы облегчить
подход к рассмотрению того, что изучает философия. С одной
стороны, объекты философского исследования могут быть
зафиксированы примерно с такой же эмпирической определенностью,
как и объекты биологии: природа, общество, человек, познание.
С другой стороны, философия, как об этом свидетельствует ее
история, имеет дело с идеализированными формами
действительности, абстрактными объектами, категориями, относительно
которых далеко не всегда можно сказать, что они фиксируют
объективно существующее. Я имею в виду не абстрактные объекты
вроде идеального газа в физике, а, например, монады Лейбница,
мировую волю Шопенгауэра, абсолютное тождество Шеллинга.
Материалист, несомненно, скажет, что все это - мнимые объекты.
Но их нельзя просто отбросить, так как они представляют собой
интерпретации (в данном случае идеалистические) объективной
реальности, фактически существующего. Следовательно, эти
* Представление об априорном характере математики нуждается, по
меньшей мере, в существенном уточнении, поскольку язык математики, как всякий
язык вообще, заключает в себе латентную неопределенность. Можно
согласиться с А. Френкелем и И. Бар-Хиллелем, которые на основе специального
логико-математического исследования приходят к следующему выводу: «...любому
языку присуща некоторая неопределенность, любой язык чреват
недоразумениями, причем это относится даже к символическому языку (поскольку
математические и логические знаки в своей интерпретации опираются на обычный
язык). Следовательно, математический язык двусмыслен и недостаточен;
математическая мысль, будучи сама по себе строгой и однозначной, может оказаться
неясной и ошибочной при передаче от одного лица к другому при помощи речи
или письма» (177, 256).
238
мнимые объекты не бессодержательны, они лишь
мистифицируют действительный предмет философского исследования, от
которого не может уйти никакой идеализм.
Таким образом, предмет философского исследования не
просто констатируется, а выявляется в результате
историко-философского исследования. Поэтому недостаточно останавливаться
на разграничении эмпирически констатируемых, абстрактных и
мнимых объектов философского исследования: гносеологически
все они связаны друг с другом. Природа, поскольку она
становится предметом философского рассмотрения, не есть лишь
эмпирически данное. Философия разрабатывает системы категорий,
с помощью которых она осмысливает, обобщает многообразие
человеческих знаний о природе. Таковы категории субстанции,
материи, движения, пространства, времени, единства, сущности,
явления, закона, необходимости и т.д. Предмет философского
исследования выступает вследствие этого как система категорий.
Различие между конкретными и абстрактными объектами
исследования в философии есть различие между теоретически-
абстрактным и теоретически-конкретным. Любые объекты
существуют для философии в логически обобщенном виде, так как
философия изучает специфические формы всеобщности:
специфические в том смысле, что речь обычно идет о наиболее общих
определениях природы, общества, познания, человека и т.д.
Категории - научные абстракции, наиболее общие понятия, которые
в различных философских учениях имеют далеко не одинаковое
значение. Достаточно сравнить натуралистическое понимание
ощущений как отражжения предметов внешнего мира с
субъективистским положением Э. Маха об ощущениях как «элементах»
действительности. Категории, однако, не просто формы мысли,
но и абстрактное, обобщающее отражение существенных сторон
объективной действительности, где независимо от мышления
существуют причинность, необходимость, закономерность,
сущность и т.д.
Есть философские учения, которые истолковывают
категорию сущности как бессодержательную фикцию. С точки зрения
Витгенштейна, имеется только логическая необходимость (33,
94). Философский материализм в течение ряда столетий отрицал
действительное существование случайности. Современный
иррационализм считает понятие закономерности «научным
предрассудком». Экзистенциализм отбрасывает большинство
общенаучных, а также принимаемых философскими учениями категорий,
заменяя их такими понятиями, как страх, забота, абсурд и т.п.,
причем каждому из этих понятий придается отличное от обще-
239
принятого смысловое значение. Таким образом, рассмотрение
предмета философии как системы категорий не выявляет общего
для всех философских учений предмета исследования, хотя и
указывает на существенные общие черты этого предмета.
Характеризуя предмет философии как конкретное в
действительности, которое становится абстрактным в философском
умозрении, как конкретное в философии, которое может стать таковым
лишь благодаря синтезу различных определений, категорий, я
прихожу к выводу, что эти конкретно-абстрактные объекты
философского исследования, поскольку они далеко не всегда являются
действительными, независимыми от сознания объектами,
следует понимать прежде всего как проблемы в том смысле, в каком об
этом шла речь в предыдущей главе*. Этот вывод представляется
неизбежным, поскольку при анализе любого философского
учения общее представление о предмете философии совершенно
недостаточно для выявления предмета именно этого учения. С этой
точки зрения предмет философии - совокупность проблем,
формирующихся на основе обыденного и исторического,
индивидуального и общечеловеческого опыта, науки и практики. Ни одна
философская система не охватывает всех этих проблем; даже те
из них, которые носят энциклопедический характер, неизбежно
ограничивают себя известным кругом вопросов, исключая из рас-
* Не трудно показать, что в любой науке предмет исследования,
поскольку он вычленен из совокупности других предметов и привлек внимание
исследователя, осознается посредством серии вопросов, на которые исследователь
пытается дать ответ. Так, в начале XIX в. Ф. Вёлер, придя к убеждению, что
органические вещества представляют собой соединения химических
элементов, существующих в неживой природе, поставил вопрос, нельзя ли
искусственно создать органическое вещество из тех элементов, которые обнаруживаются
в нем химическим анализом. Ответом на данный вопрос был синтез
мочевины. Пример этот взят мною в условном смысле, т.е. я вовсе не хочу сказать,
что Вёлер именно так поставил вопрос; я просто хочу выявить логику
открытия, поскольку оно было сделано не случайно. Характеристика предмета науки
(и философии) как ее проблематики не содержит, по моему мнению, ни грана
субъективизма, хотя она подчеркивает субъективную сторону научного
исследования, заключающуюся в том, что ученый сам определяет предмет
исследовательского поиска, ограничивает или расширяет его и т.д. Этот момент в
особенности важно подчеркнуть потому, что познавательная деятельность включает
постановку задач и поэтому не может быть сведена к исследованию того, что
просто дано извне. Н.М. Жаворонков в статье «Неорганическая химия и новые
материалы» приводит слова выдающегося химика XIX в. М. Бертло: «Химия сама
себе создает предмет своего исследования. Эта творческая способность, почти
приближающая ее к искусству, отличает ее от описательного естествознания...»
(73, 139). В наши дни эти слова могут быть отнесены и к некоторым другим
наукам, прямо или опосредованно участвующим в преобразовании природной
среды обитания человечества.
240
смотрения некоторые проблемы, игравшие значительную роль в
предшествующей философии, выдвигая новые проблемы и
придавая порой особенно большое значение таким вопросам (или
одному из них), которым ранее не уделяли большого внимания.
Те же философские учения, которые не претендуют на энцикло-
педичность или принципиально отвергают возможность
энциклопедических философских систем, обычно выдвигают на первый
план одну из философских проблем, подчиняя ей остальные или
даже отвергая их, т.е. избирая сравнительно узкую философскую
тематику: проблема истины у В. Джемса, проблема человеческого
индивида в философской антропологии, проблема языка в
современной английской аналитической философии и т.д. Однако в
рамках этой основной (и ограниченной) темы всегда обычно
совершается попытка рассмотреть, правда под определенным углом
зрения и, как правило, односторонне, всю или почти всю
философскую проблематику. Поэтому ограничение философской
проблематики оказывается лишь способом решения
неограниченного круга философских вопросов. Это ограничение, или, иными
словами, отбор проблем философом существенным образом
характеризует и направленность создаваемого им учения. Впрочем,
в любой науке ученый вынужден ограничивать себя
определенными проблемами, но в философии это связано прежде всего не
со специализацией, а с основной мировоззренческой установкой.
То, что философские учения отличаются друг от друга не
только тем, как они решают определенные вопросы, но и тем,
какие вопросы они ставят, имеет глубокие исторические причины.
Философские проблемы не даны одновременно в любую эпоху:
они формируются, развиваются, преобразуются в ходе развития
общества, философии, наук. В.Ф. Асмус правильно указывает на
неравномерность развития философской проблематики: «В
различных странах на различных этапах их истории у различных
философов мы не найдем одного и того же круга вопросов и
идентичной, одинаково обстоятельной их разработки» (10, 118).
Неравномерность возникновения, развития определенных
философских проблем не зависит от произвола мыслителей,
которые, выбирая те или иные проблемы или открывая новые
проблемы, выражают тем самым потребности времени, уровень
достигнутых знаний и т.д. Это указывает, следовательно, на
объективную обусловленность изменения предмета философии.
Разумеется, изменяется предмет не одной только философии,
но и любой науки, поскольку она развивается. Ясно и то, что
не всякое новое открытие означает изменение предмета науки.
В данном случае мы имеем в виду коренные изменения в ее про-
241
блематике, охватывающие весь или почти весь круг (систему)
основных вопросов науки и соответственно этому также и ее
методы исследования. Убедительным примером изменения предмета
науки является введение в математику переменной величины в
связи с созданием аналитической геометрии, а также
дифференциального и интегрального исчислений. Это стало поворотным
пунктом в развитии математики, поскольку до этого математика
была наукой о постоянных величинах*. Другой, не менее
очевидный пример - революция в физике, вызванная открытием
радиоактивности, электрона, созданием специальной теории
относительности и т.д.
Изменение предмета науки в ходе ее исторического
развития, естественно, создает особые трудности для его определения.
В связи с этим нередко возникают недоуменные вопросы: ведь
объекты исследования науки, скажем физики, не изменились за
время ее существования? Но изучала ли раньше физика
микромир, элементарные частицы и т.п.? Все это стало предметом
исследования физики в результате ее развития. Прогрессирующее
познание природы выявляет новые, неизвестные ранее объекты
исследования, результатом чего и становится изменение
предмета данной науки. Следовательно, сама наука участвует в процессе
изменения предмета своего исследования, который в таком
случае необходимо понимать не только как нечто объективное,
существующее независимо от науки, но и как круг, систему основных
вопросов, которыми наука занимается, - последнее органически
связано с первым. Значит, изменение предмета науки - особого
рода познавательный, объективно обусловленный процесс,
совершающийся в ходе исследования объективной действительности.
В этом смысле предмет науки должен быть понимаем не просто
как существующее безотносительно к познанию, а как единство
познания и объективной реальности.
Итак, изменение предмета исследования не есть нечто
присущее одной лишь философии. Налицо общая закономерность
развития научного знания. Но развитие философии качественно
отличается от аналогичного процесса в физике, биологии,
математике. В философии, как известно, происходит не только изме-
* Дальнейшее развитие математики также связано с изменением ее
предмета. На это указывает А.Н. Колмогоров: «...как в результате внутренних
потребностей математики, так и новых запросов естествознания круг количественных
отношений и пространственных форм, изучаемых математикой, чрезвычайно
расширяется: в него входят отношения, существующие между элементами
произвольной группы, векторами, операторами в функциональных пространствах,
все разнообразие форм пространств любого числа измерений и т.п.» (91, 476).
242
нение предмета исследования, но и постоянный спор о том, что
является (или должно быть) этим предметом, поиски предмета
исследования, различные, порой радикально противоположные
представления об этом предмете.
История философии не знает, пожалуй, ни одного
выдающегося философа, который не рассматривал бы свое учение как
революцию в философии. Необходимо, конечно, отличать
действительные философские революции от деклараций на эту тему, т.е.
объективное содержание историко-философского процесса от его
субъективной формы выражения. Философия эпохи ранних
буржуазных революций есть, несомненно, революция в философии.
Французское Просвещение XVIII в. и немецкую классическую
философию также можно охарактеризовать как философские
революции. Иное дело - «революция в философии», о которой,
например, говорят английские логические позитивисты в
коллективной работе, названной этими словами. Это скорее дворцовый
переворот в истории позитивизма. Тем не менее остается
очевидным, что соотношение непрерывности и прерывности в
историко-философском процессе качественно иное, чем в истории
частных наук. Поэтому, отмечая специфику философской формы
знания, своеобразие философских проблем, значительная часть
которых в том или ином виде рассматривается всеми
философскими теориями, общую всем философским учениям
мировоззренческую определенность, я полагаю, что вывод о единстве
предмета философского исследования во все исторические
времена неправомерен. Наличие общих проблем в древнегреческой
философии, в философии Нового времени, в современную эпоху
отнюдь не указывает на единый предмет философии.
Строго говоря, такого единства предмета исследования нет и
в истории частных наук, поскольку изменение их предмета в
течение столетий неизбежно влечет за собой такого рода
качественные различия, которые свидетельствуют о том, что предмет
исследования не остался прежним, что прежний предмет исследования
перестал быть таковым. В ином случае изменение предмета
исследования ограничивается неправомерно узкими рамками,
между тем как возникновение новых разделов в любой частной науке,
умножение новых объектов исследования как раз и говорит о том,
что предмет исследования стал другим. Конечно, не абсолютно
другим, так как сохраняется связь с предшествующим развитием
знания. Но эту связь нельзя истолковывать как единство предмета
исследования, так как наука перешла к новому кругу вопросов,
которых она не ставила, не решала в прошлом.
243
Выше шла речь о том, что каждое философское учение
представляет собой специфическое мировоззрение, и в этом
заключается объективное единство философского знания, которое в
принципе не зависит от того, что значительная часть философов не
считает свою философию (и философию вообще)
мировоззрением. Естественно, возникает вопрос: не применим ли этот
методологический подход (разграничение объективного содержания
и субъективной формы выражения) и к рассмотрению предмета
философии? Не является ли предмет исследования во всех
философских учениях вопреки убеждениям философов в основе своей
одним и тем же?
Я полагаю, что на этот вопрос можно ответить лишь
отрицательно, так как предмет исследования, объекты изучения
сознательно избираются исследователем в рамках той области
знания, в которой он работает. Поскольку философия не занимается
частными проблемами, всякое ограничение предмета
философского исследования, если это не просто новая интерпретация уже
имеющегося предмета исследования, неизбежно оказывается
(в большей или меньшей степени) выходом за установленные
философом границы.
Самое скрупулезное исследование прагматизма,
персонализма, философской антропологии и многих других философских
учений никоим образом не приведет к заключению о тождестве
предмета исследования. Нельзя поэтому согласиться с автором
статьи «Философия» в «Философском словаре» (под редакцией
М.М. Розенталя и П.Ф. Юдина), утверждающим, что
философия - «наука о всеобщих закономерностях, которым подчинены
как бытие (т.е. природа и общество), так и мышление человека,
процесс познания». Во-первых, далеко не ко всякой философии
применимо понятие науки. Во-вторых, подавляющее
большинство философских учений не признавало и не признает
существования общих для природы, общества, познания закономерностей.
В-третьих, значительная часть философских учений Нового и
новейшего времени относят изучение законов к компетенции
естествознания. В-четвертых, большинство идеалистических учений
отличает «бытие» от природы и общества. В-пятых, агностицизм
вообще отрицает возможность познания объективной реальности
и тем самым ставит под вопрос существование законов природы
и общества, о которых идет речь в приведенной дефиниции. Эта
дефиниция, конечно, неприменима к берклианству, юмизму,
иррационализму, интуитивизму; было бы неразумно утверждать, что
представители этих учений вопреки своим убеждениям изучают
всеобщие законы бытия и познания.
244
Автор рассматриваемой дефиниции исходил из
утвердившегося в советской философии догматического понятия о предмете
диалектического материализма и, несколько изменив его,
распространил на все философские учения. Такая экстраполяция,
стирающая качественные различия между различными
философскими учениями, исходит из допущения единства предмета
философии на всем протяжении ее развития. Но не обедняется ли в
таком случае понятие развития философии?
Здесь уместно коснуться того, что именуется предметом
диалектического материализма. Этот предмет: наиболее общие
законы развития природы, общества и мышления. Эта общепринятая
среди марксистов формулировка означает признание тождества
наиболее общих законов развития природы, общества и
мышления. Правда, тождество понимается диалектически, т.е. как
содержащее в себе различия и притом достаточно существенные.
Следовательно, признается, что наиболее общие законы развития
общества существенно отличаются от наиболее общих законов
развития природы. То же относится и к мышлению (точнее,
познанию): наиболее общие законы развития познания существенно
отличны от аналогичных законов природы и общества. Но
можно ли удовлетвориться этим объяснением? Нет, поскольку оно не
касается постулата о наиболее общих законах развития. Именно
постулата, так как это положение никак не подтверждается
науками о природе, обществе, человеке. Наиболее общие законы
открыла физика. Таков закон всемирного тяготения. Но он, хотя
и действует повсеместно, отнюдь не является наиболее общим
законом общественного развития или мышления, не является он и
законом развития познания.
Кроме того, открытый Ньютоном закон не есть закон
развития. Спрашивается, какой науке принадлежит заслуга и честь
открытия наиболее общих законов всего и вся? Философии? Но
она не открывает законов, тем более абсолютных. Короче говоря,
определение предмета диалектического материализма ошибочно,
иллюзорно. Это не значит, конечно, что не существует
диалектического отношения между количеством и качеством,
противоречия, внутренне присущего некоторым явлениям, процессам.
Существует и отрицание отрицания, но отнюдь не как наиболее
общий закон развития всего сущего. Вообще понятие закона едва
ли применимо к диалектическим процессам. Ведь это понятие,
как свидетельствуют наука и практика, выражает те сущностные
отношения, которые не только являются формой всеобщности,
но также определяют, детерминируют характер, течение тех или
иных процессов. Можно ли сказать, что «закон» отрицания отри-
245
цания, на который ссылался Маркс в связи с историческим
исследованием первоначального накопления капитала, определял этот
процесс? Никоим образом, как настойчиво подчеркивал Энгельс,
отметая утверждения Е. Дюринга будто, по Марксу, закон
отрицания отрицания определял сей исторический процесс. И Энгельс
в данном случае был прав, так как «законы диалектики» ничего
не определяют, не детерминируют; это мнимые законы, которые
в реальном мире не существуют. В природе, обществе, познании
существуют многообразные диалектические процессы, которые,
во-первых, не носят всеохватывающего характера и, во-вторых,
далеко не всегда представляют собой процессы развития.
Как видно из предшествующего изложения, я - приверженец
диалектического материализма, но отнюдь не как учения о
наиболее общих законах развития природы, общества и мышления.
В этом смысле я могу называть себя критическим
диалектическим материалистом. Свое критическое отношение к пресловутым
законам диалектики, которые Маркс и Энгельс переняли у Гегеля,
я высказал публично почти четверть века тому назад на
совещании в журнале «Вопросы философии». Цитирую по журнальной
публикации: «Мне представляется в высшей степени важным
правильное понимание "статуса" законов диалектики. Некоторые
исследователи склонны их трактовать как особый верховный класс
законов, которому подчиняются "простые", открываемые
специальными науками законы. Такой иерархии законов в
действительности не существует. Допущение такого рода субординации
означало бы возрождение традиционного противопоставления
философии нефилософскому исследованию, столь характерного
для идеалистического философствования» (37, 33).
Я несколько отклонился от темы этого раздела, но такое
отклонение, полагаю, будет способствовать уяснению далеко не
ясного вопроса о предмете философии.
Положение о качественном изменении предмета философии
в процессе ее развития предполагает, поскольку философия при
всех своих трансформациях остается философией, признание не
только специфики философской формы познания, но и
специфики объективного содержания различных философских учений.
Последнее обстоятельство, характеризующее проблематику
философии, позволяет выявить границы изменения ее предмета и то
общее, что характеризует предмет исследования в разных
философских теориях. Это общее может быть определено как основные
темы философии, исследование которых призвано предотвратить
чрезмерное противопоставление предметного содержания одних
философских учений другим.
246
2. Основные философские темы
В космологических размышлениях античных философов, в
особенности материалистов, мы обнаруживаем первую основную
тему философии - проблему независимой от человека (и
человечества) абсолютной реальности, беспредельной, непреходящей,
бесконечно превосходящей человеческие силы. Гераклит говорил:
«Мир, который все заключает в себе, наряду с которым нет ни
других миров, ни творца, не создал никто ни из богов, ни из людей,
но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерами
вспыхивающим и мерами угасающим» (214, 30). Греческая мифология
изображала мир, ограниченный географическими
представлениями древних, как рожденный из хаоса божественными титанами.
Философия порывает с этой анимистической персонификацией
стихийных сил природы. Она рассматривает солнце как солнце,
море как море, землю как землю, т.е. пытается объяснить природу
из нее самой. Первоначальное материалистическое
представление о единстве мира, о первовеществе, из которого всё возникает,
не заключает в себе ничего иного, кроме стремления понять
естественную связь явлений и тем самым исключить
мифологические представления о сверхприродных существах. Конечно, идея
первоначала, первовещества ненаучна, но если учесть, что
имеется в виду отнюдь не начало мира во времени, а лишь всеобщая
основа (и источник) многообразия единичных вещей, то станет
понятным, что это исходное положение не противоречит научным
воззрениям Нового времени и заключает в себе глубокую
догадку о единстве конечного и бесконечного, преходящего и вечного,
единичного и общего.
В наше время философия в той мере, в какой она опирается
на естествознание, не претендует на создание своей, особой
картины мироздания; она исходит из его естественнонаучного
описания, осмысливает, истолковывает, обобщает его посредством
философских категорий и таким путем приходит к выводам,
которые, во всяком случае непосредственно, не содержатся в
естественнонаучных данных, но вместе с тем и не противоречат им.
Я имею в виду, конечно, материалистическую философию, так
как идеализм, даже в его наукообразной форме, отвергает идею
объяснения природы из нее самой и нередко даже не признает ее
независимого от человеческого сознания существования.
Таким образом, и ныне, так же как на заре цивилизации,
первый вопрос, который задает себе философски мыслящий
человек, - это вопрос о том, что представляет собой мир, в котором
мы живем, что представляет собой то, чего мы не знаем, но что,
247
безусловно, существует, если, конечно, не придерживаться
воззрения, согласно которому существует лишь то, что нами уже
познано? Есть ли это, неизвестное, еще не познанное, но
существующее, нечто более или менее подобное тому существующему,
которое нам известно, или же оно столь радикально отличается от
него и приобретенные нами знания ничего или почти ничего не
дают для его постижения?
Уже в античной философии мы находим множество ответов на
эти и другие аналогичные вопросы. Одни философы исходят из
чувственно воспринимаемой картины мира и в этом отношении
едва ли отличаются от естествоиспытателей Нового времени,
которые, однако, располагают несравненно более обширными
данными наблюдения и благодаря развитию теоретического знания
критически их анализируют. Другие философы, не
удовлетворяясь чувственно воспринимаемой картиной мира, заняты поиском
того, что не воспринимается чувствами, но может быть открыто
на основании чувственных данных путем умозаключений. Так
возникают вопросы о первоначале, элементах, гомеомериях,
атомах, о сущности чувственно воспринимаемого мира вообще, идея
множественности миров, бесконечности и единства Вселенной и
т.д. Так, материалисты, рассматривая первовещество или
элементы как чувственно данное, приходят к этому выводу путем
умозаключений, так как свойства определенного чувственно данного
вещества не указывают на то, что оно первично или образует
непременную составную часть всего существующего. Необходимо
выделить это вещество из многообразия чувственно данных
явлений и обосновать его особую роль в природе. Именно в связи
с попытками классификации чувственно воспринимаемых
явлений, установления отношений сходства и различия, координации
и субординации между ними формируются основные
категориальные характеристики объективной действительности: бытие,
становление, тождество и различие, единичное и общее, единое
и многое, сущность и явление, необходимость и случайность,
содержание и форма, материя и т.д. Философские категории
выражены словами естественного языка, которые постепенно
обрастают смысловыми значениями, выходящими за пределы
обыденного словоупотребления. Так, слово «бытие» в учении Парменида
получает значение категории, поскольку оно относится уже не ко
всему, что существует, а лишь к тому, что кардинально отличается
от чувственно воспринимаемой реальности.
Философские учения античности, отклоняющиеся от
первоначального стихийного материализма, истолковывают
чувственно не воспринимаемое, общее, существенное как радикально
248
противоположное чувственно данному, подготавливая тем самым
почву для спиритуалистического учения о двоякой природе
существующего: посюсторонней и трансцендентной. Идее единства
бесконечного многообразия явлений природы, которая в своей
первоначальной форме является синонимом
материалистического мировоззрения, идеализм Платона противопоставляет учение
о принципиальной противоположности чувственной и
чувственно не воспринимаемой, но теоретически мыслимой реальности.
При этом чувственно воспринимаемая действительность
истолковывается как порождение высшей, трансцендентной,
бестелесной реальности. Так возникает идея принципиальной
противоположности общего и единичного, материального и идеального,
идеалистическая девальвация чувственно воспринимаемой
реальности как неистинной, неподлинной, хотя и существующей.
Гносеологически такая постановка вопроса представляет собой
метафизическое противопоставление теоретического знания
эмпирическому, понятий - чувственным данным, слов -
единичным предметам. Высшее в процессе познания истолковывается
онтологически, и на место наивной, не претендующей на
теоретическое осмысление мира мифологии встает теоретически
обосновываемое идеалистическое мифотворчество. Это особенно
очевидно именно на примере учения Платона, который не только
воспроизводит античные мифы, но и широко пользуется ими для
подкрепления идеалистической концепции мироздания. Таким
образом, уже в древности выявляется противоположность таких
философских воззрений на природу, мир в целом, как материализм и
идеализм. Диоген Лаэртский пишет: «Аристоксен рассказывает в
своих исторических мемуарах о том, что у Платона было
намерение сжечь все сочинения Демокрита, которые он вообще где-либо
мог достать. Однако пифагорейцы Амика и Клиний удержали его
от этого как от бесполезного мероприятия, поскольку книги уже
повсюду были распространены среди публики. Ясно следующее:
Платон, упоминая почти о всех древних философах, нигде не
говорит о Демокрите, даже там, где он должен был бы привести
против него какие-либо возражения. Очевидно, это объясняется
тем, что он сознавал, что ему пришлось бы иметь дело с самым
лучшим из всех философов» (70, IX, 40). Этот рассказ, вероятнее
всего, легенда. Но легенда, как нередко бывает в истории,
косвенным образом указывает на факт: идеалист, отрицательно относясь
к материалистической философии, не считает нужным заняться
ее критикой. Также поступают материалисты. Осуждая идеализм
как нелепое, по их убеждению, учение, они не считают нужным
заниматься критикой нелепости.
249
Великой идеей, унаследованной философией последующих
эпох от античности, является идея субстанции, которая
представляет собой собирательное понятие, включающее в себя наряду
с обыденным представлением о необходимости того, на чем все
«держится», и научный принцип объяснения мира из него самого,
и принцип единства всего многообразия существующего, и идею
единства общего, особенного и единичного, и представление о
всеобщей необходимости, причинности и т.д. «Логическая идея
субстанции, - пишет Э. Кассирер, - стоит вообще во главе
научного рассмотрения мира; исторически она представляет межу,
отделяющую научное исследование от мифа... Попытка вывести
многообразие чувственной действительности из одного единого
первовещества содержит в себе некоторое универсальное
требование, которое - как бы ни несовершенно было на первых порах
его исполнение - является характерным выражением для нового
способа мышления и новой постановки вопросов» (88, 199).
Правильно подчеркивая значение проблемы субстанции, образующей
центральный пункт первой основной, «космической» темы
философии, Кассирер, подобно Канту, истолковывает субстанцию
лишь как понятие, с помощью которого познающий субъект
конструирует мир из чувственных данных. Проблема мира,
существующего вне и независимо от человеческого сознания, мира,
необозримого, неисчерпаемого, стихийного, хотя и
закономерного, подменяется проблемой единства человеческого знания. Это
характерное для неокантианства умаление объективной
действительности - забвение важнейшего философского обобщения
античной эпохи.
Европейское средневековье, господствующая идея которого -
христианское представление о всемогущем творце конечного, т.е.
ограниченного во времени и пространстве мира, не могло внести
существенного вклада в философское учение о субстанции, так
как религиозные постулаты исключали первоначальное,
подлежащее дальнейшему развитию содержание проблемы.
Схоластическая идея множества сотворенных Богом субстанций сводила
понятие субстанции к эмпирическому представлению о качественно
неизменных формах, родовых сущностях, веществах. Не
случайно поэтому антифеодальная философия эпохи ранних
буржуазных революций противопоставляет схоластической концепции
контингентности мира великую идею субстанциальности
природы. Эта идея обосновывается по существу уже
натурфилософией Декарта, несмотря на дуалистический характер его системы.
В материалистических учениях XVII-XVIII вв. картезианская
тенденция получает свое дальнейшее плодотворное развитие.
250
Схоластическая идея контингентности мира, неразрывно
связанная с креационизмом, с представлением о пространственно-
временной ограниченности природы, была дискредитирована
гелиоцентрическим мировоззрением, опрокинувшим ту
привычную, согласующуюся с обыденным опытом картину мира,
которая к тому же подкреплялась библейской легендой. Земля
предстала перед человеком не как центр конечной Вселенной, а
как одна из планет в одной из бесчисленных солнечных систем.
Система Коперника и те выводы, которые были сделаны из нее
Дж. Бруно и другими философами, открыли человеческому взору
физическую бесконечность материального мира и вместе с тем
новое мерило для оценки совершающихся на Земле процессов*.
Это превращение вопроса о бесконечности, ранее встававшего
перед философами главным образом в связи с математическими
понятиями натурального ряда чисел, бесконечной делимости,
означало, во всяком случае для материалистического (а
следовательно, и для естественнонаучного) мировоззрения, слияние
проблемы субстанции с проблемой субстанциальности природы,
материи, т.е. возвращение, правда на новой, научно обогащенной
теоретической основе, к античным представлениям о
беспредельном космосе, который существует вечно и вечно порождает
бесконечное многообразие явлений.
От туманных представлений о первоначале и абстрактных,
по существу тавтологических положений (вроде знаменитого «из
ничего ничего не возникает») материалистическая философия
Нового времени в борьбе против теологии все более
приближается благодаря мировоззренческому осмыслению открытий
естествознания к научной постановке проблемы объективной
реальности.
Спинозовское понятие субстанции-природы как причины
самой себя открывает величественную перспективу
диалектического познания материального единства мира. Но субстанции
Спинозы не хватает движения, активности. Лейбниц наделяет
субстанцию силой, он фактически превращает ее в силу, но
идеалистически противопоставляет ее якобы пассивной материи и, не
отваживаясь порвать с теологической интерпретацией
мироздания, возрождает идею плюрализма субстанций, которая влечет за
собой допущение предустановленной гармонии.
Этот философский смысл гелиоцентрического учения правильно
подчеркивает М.А. Дынник: «Отправным пунктом, внутренней тайной и конечной
целью мировоззрения Джордано Бруно был новый человек - человек
Возрождения, увидевший на исходе средневековой ночи свет восходящего солнца и
устремивший свой взор в беспредельность Вселенной» (71, 79).
251
Критика понятия субстанции Локком нацелена против
спиритуалистического представления о трансцендентной сущности
чувственно воспринимаемых вещей. Локк отвергает
умозрительное, рационалистическое представление о сверхчувственной
субстанции, ибо все реальное, утверждает он, может быть
зафиксировано на основании свидетельских показаний органов чувств,
наблюдений и экспериментов. Продолжатели Локка, являющиеся
более последовательными материалистами, сводят понятие
субстанции к понятию материи и, развивая идеи Спинозы,
формулируют важнейшее положение о самодвижении материи (Д. Толанд,
французские материалисты XVIII в.).
Представители идеалистического сенсуализма
(феноменализма), напротив, отбрасывают категорию субстанции, как это
делает, например, Д. Беркли, который, с одной стороны, растворяет
материальный мир в ощущениях человека, а с другой -
пытается найти абсолютную основу и причину этого мира ощущений
в Боге. Объективный идеализм Гегеля на место непостижимой,
нигде не обнаруживаемой сверхприродной сущности пытается
поставить «мировой разум», якобы внутренне присущий
природе и выявляющий себя в конечном счете в человеке, истории
человечества. По учению Гегеля, субстанция есть всеобъемлющее
диалектическое единство субъекта и объекта, абсолютное
мышление, образующее и природу и человека, единство
противоположностей, всеобщий процесс движения, изменения, развития.
Поэтому, говорит Гегель, субстанцию следует рассматривать не
только как начало, но и как результат развития действительности.
Эта спекулятивная концепция - идеалистически-диалектическое
истолкование всеобщности и существенности процесса
развития, который трактуется, таким образом, как субстанциальный
процесс. Понятие субстанции применяется Гегелем не только к
природе, но и к обществу, в котором Гегель пытается выявить
субстанциальные различия и их единство. Гегель, подчеркивая
присущее субстанции творческое начало, говорит о субстанции-
субъекте. Но эта субстанция, как абсолют, как нечто отличное от
природы, от материи и внутренне присущего ей движения,
формы которого качественно отличны друг от друга, есть
абстракция, порожденная метафизической системой, абстракция,
несостоятельность которой особенно очевидна в свете современного
физического учения об атомной энергии. Однако не только
идеалистическое, но и материалистическое (спинозистское)
понимание субстанции подлежит диалектическому преодолению. То, что
именовалось субстанцией, не есть какая-то особая, абсолютная
сущность, неизменная основа многообразной, изменяющейся
252
действительности. Формы движения материи (а это и есть сама
материя), как бы они ни были отличны друг от друга, переходят
одна в другую, находятся в постоянном взаимодействии. Налицо,
таким образом, материальное единство мира, или, говоря
иными словами, материальное единство мира субстанциально, т.е.
не ограничено во времени и пространстве, следовательно,
вечно, абсолютно, всеобъемлюще. Это также значит, что не только
материалистическая философия, но и совокупные данные науки
и практики доказывают, что у явлений природы и общества нет
двойного - посюстороннего и потустороннего - существования,
что нет ничего вне мира, т.е. под ним или над ним, как нет ничего
и внутри мира, принципиально отличного от тех материальных
процессов, которые познаются и преобразуются человечеством.
Конечно, познание мира как целого, хотя и постоянно
совершается, остается тем не менее задачей, которая не может быть решена
раз и навсегда. Проблема остается открытой для
прогрессирующего познания, однако благодаря достижениям последнего она
уже навсегда закрыта для идеалистической мистификации.
Естествознание подтверждает материалистический тезис о
единстве мира, в то время как идеализм отбрасывает идею
единства мира вообще, противопоставляя ей плюрализм, игнорируя то
обстоятельство, что последний вполне совместим с философским
представлением о единстве мира. Но В. Джемс, наиболее
известный представитель философии прагматизма начала XX в., называя
проблему единого и многого центральной в философии, полагает,
что все мыслимые аспекты философского монизма, практически
оправдывающие себя в известных пределах, не могут быть
теоретически обоснованы. Критикуя объективный идеализм
рационалистического толка, Джемс приписывает его воззрения
натурализму. «Единство мира, как его обыкновенно понимают, - пишет
он, - представляет собой возвышенный, но лишенный всякого
содержания принцип» (67, 103). Однако плюрализм Джемса,
противополагаемый концепции «монизированного бытия», не
заключает в себе никакого положительного, подтверждаемого науками
содержания. Это лишь отрицание монизма, которое трактуется
как отказ от догмы и предоставление свободы научному
исследованию и... религии. Неопозитивистский гносеологический
плюрализм ничего не прибавляет к этой концепции.
Такова первая основная философская тема. Попытки
некоторых современных идеалистов исключить эту тему из философии
как якобы устаревшую, нефилософскую отвергаются наиболее
дальновидными философами-идеалистами. «Со времени
Коперника, - подчеркивает Б. Рассел, - стало очевидным, что человек
253
не имеет космического значения, которое он ранее высокомерно
приписывал себе. И тот, кто не сумел ассимилировать этот факт,
не имеет права называть свою философию научной» (290, 788).
Философия возникает вместе с представлением о космосе, и эта
космическая тема, модифицируясь от одной эпохи истории
человечества к другой, сохраняет свое первостепенное значение.
Развитие философско-космологических идей закономерно ведет
к формированию второй основной темы философии - проблемы
субъекта. Уже Протагор утверждал, что человек есть мера всех
вещей, полагая, что, как бы ни отличались друг от друга
восприятия различных индивидов, все они указывают на
существование того, что содержится в чувственном восприятии. Поэтому,
согласно Протагору, мед и сладок и горек: больной желтухой
воспринимает мед как горький, следовательно, он обнаруживает в
нем горечь, которой не замечает здоровый человек.
Протагор, по-видимому, не противопоставлял (во всяком
случае абсолютно) субъект объекту, хотя и рассматривал
чувственное сознание как критерий реальности. В этом сознании не
отмечалось никакого субъективного содержания, однако признание
человека мерой вещей является такого рода посылкой, которая
заключает в себе возможность субъективистского истолкования
действительности. Эта возможность впоследствии реализуется
различными идеалистическими учениями.
Космология древних греков не могла получить конкретной
разработки из-за отсутствия необходимых для этого
эмпирических данных, а также потому, что не было еще развитого
гносеологического и логического анализа понятий, благодаря которому
эта проблема могла бы быть систематически расчленена с целью
исследования различных ее аспектов. Разногласия между
древними натурфилософами, так же как и их убеждения относительно
того, что представляет собой первоматерия, или основные
элементы, носили в известном смысле субъективный характер, т.е.
проистекали скорее из предположений, чем из знаний,
подтверждаемых фактами. По-видимому, в этом следует искать
гносеологические истоки того поворота в развитии древнегреческой
философской мысли, который связан с движением софистов и, далее, с
деятельностью Сократа и его последователей.
Уже софисты отказываются от космологической
проблематики, так как их интересует лишь то, что непосредственно связано с
жизнью человеческого индивида. Сократ, осуждая
применявшиеся софистами методы рассуждения и доказательства, по существу
продолжает и углубляет этот уже определившийся в учении
софистов поворот от космологии к проблеме человека. Он утверждал,
254
что космос непостижим и любителю мудрости следует осознать,
что важнейшим для человека является самопознание. Впрочем,
это противопоставление задаче познания внешнего мира задачи
самопознания оказывается при ближайшем рассмотрении
дальнейшим развитием той же интеллектуальной потребности,
которая породила философскую космологию. Если натурфилософы
стремились развить независимое от мифологии воззрение на
вселенную, то софисты и Сократ разрабатывают независимое от
мифологии учение о человеке.
Относительно учения Сократа Гегель замечает, что в нем
«субъект взял на себя акт принятия решения» (42, 69). Это и есть
философское выражение антимифологической тенденции,
порожденной развитием античного общества.
Для Сократа главными являются вопросы о природе
человеческого существа (душа и тело, жизнь и смерть, смысл жизни,
назначение человека), о природе знания, истины, справедливости.
Правда, Сократа не интересует человек как индивид, отличный
от других индивидов, человек с его субъективной стороны. Он
рассматривает сущность человека не как телесную, чувственную,
индивидуализированную сущность. Человеческая сущность, по
его учению, как оно изложено Платоном, бестелесна,
бессмертна, а тело человека только сковывающая душу оболочка, которая
распадается вместе со смертью индивида, освобождая тем
самым нетленную душу. Но что составляет сущность души, если
она внутренне чужда телесному бытию человека? На этот вопрос
обстоятельно отвечает Платон: знание о потустороннем мире
идей, откуда человеческая душа пришла в этот чуждый ей мир
чувственных вещей. Человеческие души отличаются друг от
друга объемом знания о трансцендентном; другим отличиям Платон
не придает существенного значения, так как считает их
производными от знания. Знание отрывается от реального, чувственно
воспринимаемого мира, явления которого в лучшем случае лишь
помогают душе вспомнить то, что она изначально знает.
Идеалистически-интеллектуалистская концепция субъекта
последовательно проводится Платоном не только в учении о
знании и его происхождении, но также в эстетике и теории эмоций.
От прекрасного в его телесной, преходящей форме к прекрасной
душе, а от нее - к трансцендентной идее прекрасного - таков
путь эстетического познания. С этой концепцией прекрасного
органически связана и попытка Платона вскрыть трансцендентную
сущность любви как чувства, устремленного на абсолютно
прекрасное, которое несовместимо с влечением к индивидуальному,
единичному. Прекрасное как достойное любви, говорит Платон,
255
предстает «не в виде какого-то лица, рук или иной части тела,
не в виде какой-то речи или знания, не в чем-то другом, будь то
животное, Земля, небо или еще что-нибудь, а само по себе, всегда
в самом себе единообразное; все же другие разновидности
прекрасного причастны к нему таким образом, что они возникают
и гибнут, а его не становится ни больше ни меньше и никаких
воздействий оно не испытывает» (141, 211 ab).
Античная философия, поставив вопрос о субъекте, не
выделяет еще с достаточной определенностью человеческой
субъективности, вернее, не противопоставляет субъективного
объективному. Этому подходу соответствует и характерное для нее
словоупотребление: субъектом называют носителя определенных
качеств, субстрат, субстанцию, а также подлежащее в суждении.
Субъект, следовательно, то, что в Новое время стали называть
объектом. Это накладывает свою печать на постановку проблемы
человека, специфические особенности которого
истолковываются как особенные свойства некоторого объекта.
Средневековая европейская философия придерживается этого
же словоупотребления, выходя, однако, за границы античного
понимания личности, приписывая ей свободу воли, которая обычно
истолковывается как своеволие, т.е. отклонение от
установленного Богом порядка. Это негативная характеристика человеческой
субъективности, вполне соответствующая средневековому
пониманию человека как существа, тяготеющего ко злу вследствие
своей телесной природы, первородного греха и т.д.
Новая постановка вопроса о субъекте возникает в философии
эпохи ранних буржуазных революций. Декарт провозглашает
человеческий разум непогрешимым судьей в вопросах истины и
заблуждения, ибо разум и есть способность ясного и отчетливого
представления вещей, исключающая всякое сомнение.
Заблуждения, по Декарту, имеют своей причиной свободную и потому
независимую от разума волю, которая предпочитает желанное
истинному. Это близкое к концепции Дунса Скота воззрение на
волю служит Декарту для возвеличения человеческого разума, с
которого, таким образом, снимается ответственность за
заблуждения. Разум не признает никаких авторитетов; он доверяет лишь
самому себе, своей интуиции, открывающей аксиоматические
истины - основу всякого выводного знания, идеал которого
составляет математика. Первой такой абсолютной аксиоматической
истиной является тезис: «я мыслю, следовательно, существую».
Все остальное должно быть поставлено под сомнение, во всяком
случае до тех пор, пока его существование не будет логически
доказано исходя из первой интуитивной посылки.
256
Декарт возвеличивает критически мыслящую личность как
субъект познания, но его представления о моральной природе
человека не свободны от средневековых предубеждений: основой
нравственности он считает религию, так как независимость воли
от разума делает ее неспособной подчиняться его авторитету.
Воле нужен иной авторитет: религия, добрые традиции,
установленный государством порядок.
В противоположность рационалистической концепции
человека, которая расценивает чувственность, аффекты как низшее,
чуть ли не животное проявление сущности человека,
материалистическая философия XVII и особенно XVIII в. разрабатывает
учение о субъекте, исходя из сенсуалистического положения о
происхождении знаний и всей эмоциональной жизни человека из
чувственных восприятий внешнего мира. Механистический
материализм трактует человека как одно из тел природы,
подчиненное ее законам. Это представление о природной, «естественной»
сущности человека, необходимо обусловленной окружающей
действительностью, является гуманистической реабилитацией
чувственной человеческой жизни, которую осуждала религия и
явно недооценивал рационализм XVII в.
Ламетри в отличие от Спинозы, отвергая
противопоставление разумного чувственному, доказывает, что чувственная жизнь
может и должна быть многообразной и полнокровной, но в то же
время разумной, или естественной. «Я не морализирую, не
проповедую, не декламирую, я только объясняю», - говорит
Ламетри (96, 313). И разъясняет, что «человек - это машина, которой
властно управляет безусловный фатализм» (97, 474). Ламетри
весьма далек от того, чтобы оплакивать горестную судьбу
человека. Напротив, он полагает, что детерминируемый своими
чувствами человек может быть счастливым, ибо его собственный
рассудок также участвует в этой детерминации как
существенный фактор. Поэтому человек не просто машина, а «заводящая
сама себя машина, живое олицетворение беспрерывного
движения» (там же, 81).
Дидро, который решительно не согласен с Ламетри по ряду
вопросов и утверждает вопреки своему предшественнику, что
«человек не машина» (68, 91), тем не менее не может отказаться
от механистических аналогий: «Мы - инструменты, одаренные
способностью ощущать и памятью» (там же, 149). Дидро,
конечно, имеет в виду музыкальный инструмент: он сравнивает
человека с фортепиано, по клавишам которого ударяет природа.
В историко-философских исследованиях совершенно
недостаточно, по моему мнению, показано, что центральной проблемой
9. Ойзерман Т.И., том 5 257
механистического материализма является проблема
человеческого субъекта. Сущность философского механицизма не может быть
сведена к механическому объяснению природы: этим занималось
естествознание. Материалистическая философия, развивая его
методологические принципы, непосредственно применяет их к
человеку, обществу. У Спинозы учение о природе представляет
собой лишь введение в систему, изложение ее основ, в то время
как главное содержание системы составляет проблема человека
и его свободы, которой посвящены три четверти «Этики». Гоббс
также считает главной своей задачей разработку учения о
человеке (гражданине) и обществе. Гносеологическое по своему
основному содержанию учение Локка есть прежде всего учение о
человеческой чувственности, в которой философ видит не только
основу всех знаний, но и источник нравственности.
Может показаться, что в философии Гольбаха, наиболее
полно изложенной в «Системе природы», проблема человека
занимает второстепенное место. Однако стоит напомнить, что
собственно учение о природе составляет содержание лишь первых
пяти глав первой части произведения. Остальные двенадцать глав
первой части, так же как и вся вторая часть, посвящены
природе человека, критике религии, которую он, как это и характерно
для многих материалистов, рассматривает как систему
предрассудков, деформирующих человеческую природу. Что же касается
других сочинений Гольбаха, то все они представляют собой
анализ социальных проблем, обоснование идеалов гуманизма.
Можно сказать, что природа интересует французских материалистов
как непосредственная основа человеческой жизни, чувственная
достоверность, изучение которой, как полагают они, опровергает
религиозную картину мира.
Французский материализм XVIII в. - идеология
революционной буржуазии, антифеодальный, гуманистический пафос
которой определяет его философскую проблематику. Именно поэтому
важнейшим вопросом учения французских материалистов
является вопрос об интересах людей, в постановке которого они делают
шаг вперед по сравнению с материалистами XVII в.,
характеризовавшими человека по аналогии с природным телом,
испытывающим воздействия извне и реагирующим на них. У французских
материалистов человек обладает своим интересом, который он
призван реализовать без ущерба для общественного блага.
Интерес как осознанная потребность и стремление
осуществить сознательно поставленные цели, которые как закон
определяют деятельность человека, детерминация, включающая в себя,
таким образом, саму человеческую деятельность, обусловленную
258
не только прошлым и настоящим, но и будущим, - все это
принципиально отличает человека от любого животного как субъект
деятельности, деятельный, по определению, субъект. Однако в
учении французского материализма нет еще сознания того, что
единство человеческого рода и отличие от животного не
исчерпывает человеческой сущности. Сущность человека не сводится к
абстрактному тождеству всех человеческих индивидов; она
предполагает необходимое отличие человека от человека,
человеческую личность, индивидуальность.
Материалисты XVIII в., обосновывавшие вопреки
теологическому мировоззрению безусловную всеобщность естественной
каузальной связи всех явлений природы и общества,
недооценивали, упускали из виду субъективность человеческой
деятельности, деятельную субъективность познания и нравственного
поведения, которая не укладывалась в рамки интерпретируемого
детерминизма. «Отсюда и произошло, - указывал Маркс, - что
деятельная сторона, в противоположность материализму,
развивалась идеализмом, но только абстрактно, так как идеализм,
конечно, не знает действительной, чувственной деятельности как
таковой» (115, 2, 1). Это замечание в особенности следует
отнести к немецкому классическому идеализму, важнейшим
достижением которого является диалектика.
Трансцендентальный субъект, формы деятельности которого
субъективны, но вместе с тем интерсубъективны, поскольку они
необходимо присущи каждому человеческому индивиду, -
центральное понятие философии Канта. Объективные формы
всеобщности, наличествующие в природе и трактовавшиеся
естествознанием как нечто данное, само собой разумеющееся, не подлежащее
исследованию, интерпретируются Кантом как априорные формы
созерцания (пространство, время) и мышления (количество,
качество, причинность и т.д.). Познание природы с этой точки зрения
есть априорный синтез чувственных данных, образующий мир
явлений, по ту сторону которого остается объективное, само по
себе существующее и поэтому принципиально непознаваемое.
Субъективистская интерпретация природы, которая
характеризуется как «картина», создаваемая познанием, - величайшее
заблуждение Канта. Нельзя, однако, не видеть в нем
постановки в высшей степени важной гносеологической проблемы:
объективные формы всеобщности должны быть также поняты как
субъективные формы познавательного процесса. Кант превратил
эти объективные формы всеобщности в субъективные,
гносеологические, но тем самым, совершенно независимо от своих
намерений, поставил задачу исследования категорий как необходимых
9*
259
логических форм познавательного процесса. Последующее
развитие немецкого классического идеализма выявляет эти
интенции «критической философии», исследует изменение категорий,
раскрывая тем самым деятельную роль субъекта в сложном и по
существу творческом процессе познания.
Один из первых советских исследователей философии
Канта, В. Сережников, правильно связывает кантовскую концепцию
активности познания с социально-экономическими
преобразованиями эпохи буржуазных революций: «Теория познания Канта
есть философское выражение того исторического факта, что
личность нового времени уже не довольствуется пассивной ролью
среди окружающего мира, она становится в высшей степени
активной. Теория Канта есть признание и гордое утверждение того,
что человек, как чувствующее и мыслящее существо, неизбежно
обусловливает собою все то, что может являться ему как
действительность. Человек господствует над миром, - вот что хотел
сказать Кант своей философией» (157, 9).
Та же деятельная сила субъекта составляет, по Канту,
важнейшее содержание нравственности, возможной лишь как
следование моральному закону, который человек (трансцендентальный
субъект, человечество) дает самому себе. Религия не есть
основа нравственности. Человек может быть нравственным не
потому, что он религиозен, он становится религиозным, так как ему
присуще нравственное сознание. Нравственное сознание
автономно, т.е. независимо от всего другого, в том числе от чувства,
интереса, религии. Оно подчиняется лишь самому себе,
прислушивается лишь к собственному голосу, определяется своей
априорной формой - категорическим императивом, которому оно
следует, поскольку оно действительно нравственно.
Потенциальная моральная мощь человека превосходит его познавательные
способности. Если для Декарта интеллектуальным идеалом
человечества является теоретический разум - ясное и отчетливое
мышление, которое способно постигнуть все существующее, то
для Канта единственно возможный идеал - практический разум
(чистое нравственное сознание), свободно подчиняющийся
моральному закону. Поэтому высшее назначение философии,
говорит Кант, - научить человека, «каким надо быть, чтобы быть
человеком» (79, 206).
И.Г. Фихте - непосредственный продолжатель Канта -
стремится преодолеть противоречие между кантианством и
классическим рационализмом. Идея субстанциальности субъекта -
центральный пункт его учения. Принимая за исходное кантовскую
трансцендентальную апперцепцию, он вопреки Канту истол-
260
ковывает априорное сознание человеком своего Я как
интеллектуальную интуицию, посредством которой в самосознании
эмпирического субъекта обнаруживается абсолютное Я -
мистифицированное выражение неограниченной теоретической и
практической мощи человечества в полном объеме его возможного
исторического развития. Потенциальная бесконечность
превращается в бесконечность актуальную, реализующую себя по мере
того, как человеческие индивиды и их целесообразное
соединение (общество) осознают свое всемогущее Я, в котором
тождественны разум и воля, т.е. воля разумна, а разум не только знание,
но и универсальная практическая, все созидающая деятельность.
Картезианский непогрешимый разум осуществляется в
абсолютном фихтевском субъекте, который создает всю отличную от
Я действительность (не-Я) как необходимое условие и материал
для своего творчества. Непознаваемая кантовская «вещь в себе»
отбрасывается, и человечество, по учению Фихте, творит не
только мир явлений, но и весь универсум, а благодаря этому также
самого себя. Подлинным предметом философии оказывается с этой
точки зрения абсолютное Я- ее исходный пункт и ее завершение,
благодаря которому философия трактуется как наука о принципах
всякого знания и творчества, наукоучение.
Гегель перерабатывает субъективно-идеалистическое учение
Фихте в систему объективного диалектического идеализма.
Субстанция несводима к абсолютному Я, последнее есть результат
развития субстанции - субстанция, ставшая субъектом.
Абсолютный субъект сливается с идеалистически интерпретируемой
субстанцией Спинозы, и субстанциальность природы («абсолютной
идеи») развивается в субстанциальность человечества
(«абсолютный дух»).
И Кант, и Фихте, и Гегель возвышают человеческий индивид
посредством сведения индивидуального к социальному.
Эмпирический человеческий субъект растворяется в своей родовой
сущности. Социальное содержание - все богатство истории
человечества - обогащает индивидуальное развитие. «Субъективный
дух» (антропология, феноменология, психология) представляет
собой, по Гегелю, лишь низшую ступень развития человеческой
сущности. Более высокой ступенью является государство, а
высшей и последней ступенью человеческого развития-
«абсолютный дух»: искусство, религия, философия (последняя, по Гегелю,
включает в себя и философски истолкованные науки).
Немецкий классический идеализм стремится понять
социальный прогресс как развитие человеческой личности, однако
он неизбежно обедняет реальное содержание человеческой дея-
261
тельности, сводя его к самосознанию, мышлению.
Индивидуальное отождествляется с социальным, а различие внутри этого
тождества интерпретируется как подлежащее диалектическому
снятию. Отношения индивидов друг к другу оказываются лишь
средствами осуществления общечеловеческой цели, т.е. сами по
себе, просто как человеческие отношения они лишаются
самостоятельного значения. Конечное самосознание индивида
теряется в бесконечном самосознании человечества, которое в свою
очередь низводится к самовыражению рационалистически
интерпретируемого божественного бытия. Природное, в том числе и
«природная» сущность человека, представляется Гегелю
отчужденным, неадекватным своей подлинной, т.е. духовной, сущности
бытием.
Л. Фейербах не без основания полагал, что его философская
антропология представляет собой материалистический вывод из
истории немецкого классического идеализма. Он обстоятельно
исследует эволюцию спекулятивно-идеалистического понимания
духовного, которая, по его мнению, неизбежно приводит к
выводу, что реальностью того, что первоначально рассматривалось
как Бог, а затем как исторически развивающийся мировой разум,
является человек, и только человек. Философский анализ
сущности христианства убеждает Фейербаха в том, что религия,
которую французские материалисты считали несовместимой с
«естественными» человеческими чувствами и здравым рассудком,
представляет собой отчужденное бытие чувственной сущности
человека. Источник этого противоречивого удвоения
человеческого существа - не чувственность сама по себе, а страдающая,
не находящая своего пути к счастью человеческая сущность.
Человек является для Фейербаха отправным пунктом для
понимания всего существующего в обществе, как бы оно ни
противоречило человеческому чувству и разуму. Больше того, Фейербах
полагает, что через постижение человеческой сущности
постигается и природа, так как именно в человеке - своем высшем
творении - природа воспринимает и понимает саму себя.
Превращая философию в философскую антропологию, Фейербах, таким
образом, подытоживает стремления своих предшественников-
материалистов понять единство человека и природы, отвергая
сверхприродное и сверхчеловеческое как химеры отчужденного
человеческого сознания. Но единство человека и природы есть
общественное производство, действительное значение которого
выявляется лишь его историческим развитием. А материализм,
ограниченный материалистическим рассмотрением одной лишь
природы, не находит решения поставленной им проблемы.
262
Я бегло очертил две основные философские темы,
рассмотрение которых подводит к третьей основной теме философии -
отношению «субъект-объект». Г.В. Плеханов считает, что
противоположность между материализмом и идеализмом определяется
различным подходом к решению проблемы субъекта и объекта:
«Кто отправляется от объекта, у того создается, если только он
имеет способность и отвагу мыслить последовательно, одна из
разновидностей материалистического миросозерцания. Кому
точкой отправления служит субъект, тот оказывается опять-таки,
если он не боится идти до конца, идеалистом того или другого
оттенка» (142, 3, 615). Это, на мой взгляд, одностороннее
воззрение. Рационалистическое, иррационалистическое, интуити-
вистское понимание отношения субъекта и объекта не сводятся
к такому подходу.
Проблема субъекта-объекта не только онтологическая, но
также и гносеологическая проблема. В этом своем качестве она
получает наибольшее развитие, начиная с середины XIX в.,
когда в философии повсеместно осознается необходимость
гносеологического обоснования онтологических предпосылок.
Философское учение о практике также является гносеологическим
развитием проблемы субъект-объектной реальности. Философия
с этой точки зрения представляет собой движение познающего
мышления от объекта (материальной действительности) к
субъекту, понимаемому как производное, или же, напротив, от
субъекта, истолковываемого как духовное, к его противоположности -
материальному.
Классики философии XIX в. обычно сознавали неизбежность
этой альтернативы. Так, например, Шеллинг считал, что для
философии, систематически развивающей свои положения,
существуют лишь два возможных пути. «Либо за первичное принимается
объективное, и спрашивается, как привходит сюда
субъективное, долженствующее согласоваться с первым» (185, 12).
«Но можно, - писал далее Шеллинг, - также субъективное
брать за первичное, и тогда задача сведется к выяснению того,
откуда берется согласующаяся с этой первичностью
объективность» (там же, 14). Несмотря на ясное сознание коренной
противоположности этих двух подходов, Шеллинг пытался
согласовать их друг с другом и преодолеть тем самым антитезу
материализма и идеализма. В своей натурфилософии он восходит
от объекта, понимаемого как абсолютное тождество
субъективного и объективного (бессознательное состояние мирового духа),
к субъекту - человеческому интеллекту. В «Системе
трансцендентального идеализма» Шеллинг избирает противоположный,
263
но также идеалистический подход: принимая за отправное
человеческое Я, субъективность, он пытается объяснить генезис
объективного в человеческом знании.
Гегель, отвергнув шеллингианскую идею первоначального
абсолютного тождества субъекта и объекта, доказывал, что
тождество бытия и мышления, постулируемое в качестве отправного
пункта системы, заключает в себе в силу своей диалектической
природы различие между субъектом и объектом. Абсолютное
мышление, образующее всеобщую сущность всего
существующего, есть в силу этого мышление о мышлении: оно,
следовательно, в равной мере есть и субъект и объект. Таким образом,
Гегель, как и Шеллинг, исключал альтернативу: или субъект, или
объект должны быть приняты за исходное. Действительность
истолковывалась им как субъект-объект. Однако и субъект и объект
понимаются в конечном счете как духовное. Между тем субъект-
объектная реальность не есть спекулятивно-идеалистическая
конструкция, лишенная реального объективного содержания.
Общественная жизнь есть единство субъективного и
объективного; объективная историческая необходимость предполагает
деятельность людей, она есть единство опредмеченной человеческой
деятельности и живой, объективирующейся деятельности людей.
Экстериоризация человеческой деятельности и интериоризация
объективной реальности - это и есть основное содержание
общественной практики. Общественное производство - определяющая
основа всемирной истории - есть результат трудовой
деятельности многих поколений людей, наследуемый каждым новым
поколением. Здесь единство субъективного и объективного
представляет собой также и основное социоприродное отношение.
Материалистическое понимание истории разрабатывает
третью основную и важнейшую, по-моему, тему философии -
проблему субъект-объектной реальности. Созерцательность
материализма во многом определялась тем, что он, разрабатывая
тему первичной, субстанциальной реальности, придавал лишь
второстепенное значение производной, создаваемой
человечеством «второй природе» - человеческой объективной реальности,
которая детерминирует духовную жизнь общества, субъективную
реальность.
Несостоятельность идеализма, гипостазирующего
субъективную реальность, со всей очевидностью сказывается в том, что
субъективное, духовное отрывается от своей материальной почвы,
превращается в самодовлеющую действительность, т.е.
мистифицируется. Это особенно характерно для новейшей идеалистической
философии (феноменологии, экзистенциализма, персонализма),
264
разрабатывающей «онтологию субъекта», основной предпосылкой
которой является исключение из рассмотрения внешнего мира, с
тем чтобы доказать, что все богатство духовного мира человека и
человечества представляет собой независимую от природы и
общества, саму себя определяющую «истинную» реальность.
Исторический материализм как учение о создаваемой человечеством
материальной и духовной действительности преодолевает
недостатки предшествующей материалистической философии,
вскрывает несостоятельность идеалистической абсолютизации
субъективного, которая в конечном счете умаляет его значение, так как
выхолащивает его реальное жизненное содержание.
Таким образом, историко-философский процесс открывает
вникающему в него исследователю исторически изменяющиеся
границы предмета философии, различные его аспекты, которые
становятся предметом отдельных философских учений.
Основные философские темы выявляются уже в первую эпоху
существования философии, однако соотношение между ними
исторически изменяется. Космологическая тема, как правило, преобладает
в философских учениях древности, тогда как исследование
субъект-объектной реальности есть в основном дело Нового и
новейшего времени. По существу лишь диалектический идеализм
делает основным предметом философского исследования
единство субъективного и объективного*. И только
материалистическое понимание истории действительно рационально постигает
реальное материальное и духовное содержание этого единства,
развитие субъект-объектной реальности как социальный
процесс, исследование которого составляет основу для понимания
как объективной реальности, так и реальности субъективной.
Само собой разумеется, что основные темы философии могут
быть правильно поняты и оценены лишь при учете многообразия
их интерпретаций, на котором в значительной мере
основываются различия между философскими учениями. Вследствие этих
интерпретаций, исторически связанных с различным уровнем
исследования, основные философские темы варьируются,
дифференцируются, распадаются на многочисленные «подтемы».
* М. Бур и Г. Иррлиц, имея в виду главным образом немецкий
классический идеализм, отмечают: «Проблема субъекта-объекта была понята
классической буржуазной философией во всей ее важности. Социально-исторической
предпосылкой этого является возникновение, становление и развитие
капиталистического способа производства. В этом способе производства
естественными и социальными отношениями, с одной стороны, как будто руководит
человек, но, с другой - они не поддаются исчислению и уяснению. Это
противоречие вовсе не только мыслительное, оно коренится в социальной
реальности» (23, 51-52).
265
В конечном счете все эти вариации основных философских тем
обусловлены развитием самого философского знания и
конфронтацией разных направлений в философии.
Г. Риккерт различает два основных способа
философствования - объективирующий и субъективирующий.
Объективирующая философия исходит из понятия мира, существующего
безотносительно к человеку, и рассматривает все субъективное,
в том числе и психическое, как содержащееся в мире,
подчиненное его закономерностям. Не трудно понять, что
объективирующей философией, якобы игнорирующей проблему субъекта,
является, по Риккерту, в первую очередь материализм. Впрочем,
Риккерт относит к объективирующей философии также
пантеизм, называемый им панпсихизмом (речь в сущности идет об
объективном идеализме, который представляется Риккерту
наивным с точки зрения неокантианского «научного идеализма»).
Риккерт полагает, что объективирование, вполне оправданное в
естествознании, ничего не дает философии, важнейшим
содержанием которой должна быть аксиологическая проблематика.
«Только субъективизм, - утверждает он, - действительно дает
нам единое понятие о мире, такое, которое уясняет нам наше
отношение к миру, между тем как объективизм только
обостряет мировую проблему, бесконечно углубляя пропасть между
жизнью и наукой» (150, 27). Не трудно заметить, что
неокантианское противопоставление объективирования и
субъективирования исходит из представления, что объект и субъект являются
логическими конструкциями познающего мышления,
преобразующего посредством своих априорных форм единственную
доступную человеку реальность - беспорядочный поток
ощущений. Познание упорядочивает этот поток, формирует из него
мир, т.е. определенную конструкцию, так как с точки зрения
неокантианцев, в ином качестве мира как предмета познания и
деятельности не существует. Поэтому-то субъективирование,
или субъективистская интерпретация чувственно
воспринимаемой действительности, и характеризуется как такой способ
философствования, который окончательно устраняет иллюзии
наивного реализма. На деле же здесь совершается подмена одних
иллюзий другими.
Единственно правильной постановкой проблемы является,
на мой взгляд, признание диалектического единства субъекта и
объекта. Это единство многообразно. Субъективное (человек,
сознание, самосознание, познание) заключает в себе объективное
содержание, поскольку оно «отражает» объективную реальность.
Существование субъективного - объективный, независимый от
266
сознания человека факт. Следовательно, и противоположность
субъективного и объективного относительна.
Диалектический материализм разграничивает качественно
различные формы объективного и соответственно этому
трактует многообразие субъект-объектной реальности. Объективное
есть прежде всего независимая от субъекта действительность, и
то, что для субъекта она существует лишь постольку, поскольку
существует он сам, не есть, конечно, условие ее собственного
существования. Объект как гносеологическая категория
предполагает вычленение в процессе познания определенных фрагментов
объективной реальности. Поскольку это вычленение
осуществляется познающим субъектом, объект выступает как содержание
процесса познания. Но он существует и в самой объективной
реальности, но не безотносительно к познавательной
деятельности. Здесь нет никакой «принципиальной координации», о
которой говорил Авенариус; лишь картина познаваемой реальности,
т.е. уровень развития познания находится в зависимости от
человечества. Однако и эта зависимость - не субъективное, а
объективное отношение, поскольку познание обусловлено не только
субъективной человеческой деятельностью, но и независимыми
от нее историческими условиями, которые как благоприятствуют,
так и ограничивают познание.
Объективное существует и в субъекте, и не просто в том
смысле, что человек - его биологические, антропологические,
социальные характеристики - существуют и безотносительно к его
сознанию. Существует и гносеологически объективное - объективная
истина, закономерности чувственного и логического «отражения»
внешнего мира.
Человек не только познает, но и преобразует природную
среду обитания. Созданное человеком в природе есть объективная
реальность, подчиненная законам природы. Здесь, однако,
имеет место и двойное подчинение, поскольку человек
конструирует машины, здания, создает новые вещества и, следовательно,
управляет объективными процессами, сущность которых
независима от его сознания и воли. Производительные силы
общества представляют собой преобразованные общественным
трудом стихийные силы природы, ставшие человеческими силами,
т.е. силами субъекта общественно-исторического процесса.
Объективное в общественно-историческом процессе есть
результат объективации деятельности сменяющих друг друга
поколений людей. Эта объективность специфична: социальные
условия, определяющие развитие общества (производительные
силы и производственные отношения), создаются людьми на
267
протяжении истории человечества. Это - новое онтологическое
отношение между субъектом и объектом, которого не существует
в природе: здесь субъективное и объективное образуют единство
противоположностей, которые превращаются друг в друга.
Итак, не считая возможным признание единого для всех
когда-либо существовавших философских учений предмета
исследования, я тем не менее вычленяю предметную область
философии, которая исторически изменяется в границах, определяемых
спецификой философского знания. Ни одна из основных
философских тем не может быть устранена или полностью
изолирована от других. Но одни философские учения разрабатывают
преимущественно проблемы универсума, бытия, другие, напротив,
сводят предмет философии к исследованию субъекта,
субъективного, третьи - к отношению «субъект-объект». Но все основные
философские темы одинаково существенны и органически
связаны друг с другом.
Глава 7
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ
Всякий нормальный человек отличает себя от окружающих
его предметов, чувствует это свое отличие от всего другого, не
только от вещей, но и людей, т.е. обладает сознанием и
самосознанием. Никому из людей с незамутненным болезнью сознанием
не придет в голову считать себя, скажем, деревом или камнем,
или облаком. Отличая себя от других предметов, от всего того,
что он воспринимает органами чувств, человек тем самым
проводит кардинальное различие между субъективным и
объективным, т.е. между тем, что свойственно его сознанию, и тем, что не
есть сознание, ощущение, мысль.
Понятия субъективного и объективного фиксируют самые общие
различия между тем, что так или иначе осознается человеческим
существом. Что бы мы ни стали рассматривать, оно несомненно
оказывается субъективным или объективным. Это означает, что понятия
субъективного и объективного - предельно широкие, обладающие
неограниченным объемом понятия. Все, что мы видим, слышим,
переживаем, воображаем, а также все то, что мы обнаруживаем
вне себя, представляет собой нечто объективное или субъективное.
Всеобъемлющий характер этих понятий создает немалые
трудности для их определения. Не составляет какого-либо труда
определение той или иной вещи, если мы знаем, к какому виду
(или роду) явлений она принадлежит. Мы говорим: лошадь -
животное, определяя частное через общее. Но такой способ
определения неприменим к понятиям субъективного и объективного,
поскольку они предельно общие понятия. Разграничение
субъективного и объективного, выяснение отношения между ними,
а также установление того, что в действительности
субъективно, а что объективно, и составляет, по моему убеждению,
первый (изначальный) основной вопрос философии.
Важно подчеркнуть, что все философы, сколь бы радикально
они ни отличались друг от друга, фактически согласны, правда не
269
без оговорок, друг с другом в том, что реальное или ирреальное
укладывается в дихотомию субъективного и объективного*. Если они
и расходятся друг с другом, то главным образом по вопросу: что
считать субъективным, а что - объективным. Философский спор
идет не по вопросу - существует ли субъективное и объективное,
а о том, как рассматривать, понимать то и другое и, в особенности,
каково отношение между ними. Именно в этой плоскости
возникает второй, по моему мнению, производный вопрос, который
Энгельс, впрочем, не без существенных оговорок, именует главным,
основным вопросом философии. Он пишет: «Великий вопрос всей,
в особенности новейшей (курсив мой. - Т.О.) философии есть
вопрос об отношении мышления к бытию». Далее, с целью
конкретизации данного тезиса, Энгельс присовокупляет: «Высший вопрос
всей философии, вопрос об отношении мышления к бытию, духа
к природе, имеет свои корни, стало быть, не в меньшей степени,
чем всякая религия, в ограниченных и невежественных
представлениях людей периода дикости. Но он мог быть поставлен со всей
резкостью, мог приобрести все свое значение лишь после того, как
население Европы пробудилось от долгой зимней спячки
христианского средневековья. Вопрос об отношении мышления к бытию,
о том, что является первичным: дух или природа, - это вопрос,
игравший, впрочем, большую роль в средневековой схоластике,
вопреки церкви принял более острую форму: создан ли мир Богом или
он существует от века» (115, 21, 282-283).
Из этого пояснения явствует, что данный вопрос Энгельс
непосредственно связывает, с одной стороны, с религиозным
сознанием, а с другой, - с европейской философией, имея в виду
частью схоластические учения, но в особенности философию
Нового времени**. Все это свидетельствует о том, что сей вопрос
* Я говорю «фактически согласны друг с другом», несмотря на то, что
имеются философы, провозглашающие своей задачей ликвидацию отношения
субъект-объект, утверждающие, что это различение является совершенно не
нужным для решения философских проблем. Я имею в виду прежде всего
постмодернистское философствование, которое на деле, конечно, разграничивает
субъективное и объективное, но тем не менее убеждено в том, что оно обходится
без этого разграничения.
** Правильно отмечает Г.В. Плеханов: «...было время, когда вопрос этот не
возникал перед философами. Это было в первый период развития
древнегреческой философии. Так, например, Фалес учил, что вода есть то первоначальное
вещество, из которого все происходит и в которое все возвращается. Но при
этом он не спрашивал себя: а как же относится сознание к этому основному
веществу? Не спрашивал об этом и Анаксимен, считавший основным веществом
не воду, а воздух» (142, 3, 614). Плеханов при этом все же разделял убеждение
Энгельса в том, что вопрос об отношении духовного к материальному есть
действительно высший вопрос всей философии.
270
следует считать вторым, а не первым основным философским
вопросом.
У древнегреческих натурфилософов, Аристотеля, стоиков,
эпикурейцев, скептиков этот вопрос почти невозможно
нащупать. У Платона, правда, есть учение о бессмертии человеческой
души, но нет речи о первичности духа по отношению к материи,
существование которой представлялось ему эфемерным. Следует
вообще подчеркнуть, что духовное, душа далеко не сразу стали
пониматься как нечто нематериальное. Правда, уже в мифологии,
а затем и в первых философских сочинениях, не только в Европе,
но также в Китае и Индии, душа представлялась бестелесной, т.е.
отличной от тела. Однако сохранившиеся тексты сочинений
древних философов показывают, что бестелесность тогда понималась
как отсутствие определенной физической формы, подобно тому
как такая форма отсутствует у воздуха, воды и т.п. Поэтому дух,
душа представлялись каким-то особенным, чрезвычайно тонким
веществом. Такая точка зрения обосновывалась и
древнегреческими натурфилософами. Спиритуалистическое представление
о душе как нематериальной сущности появляется лишь (это уже
отмечалось выше) только у Платона.
Конечно, представление о различии между живым и мертвым
существом сложилось очень рано на основе повседневного
опыта, но оно было весьма расплывчатым вследствие того, что грани
между тем и другим осознавались лишь в очень узких пределах.
Первобытный человек, по-видимому, судил об окружающих
вещах по аналогии с собой, перенося собственные, осознаваемые
им способности на многие природные явления. Привычка мерить
на свой аршин была первой эвристической установкой, из
которой проистекало очеловечивание (а затем, наверное, и
одушевление) почти всего, что составляло среду обитания первобытных.
Неживое могло представляться подобным живому, что, конечно,
предполагало весьма расширительное понимание жизни. В
рамках такого, организмического мировосприятия не могло
возникнуть представление, что одно (скажем, тело или душа) является
первичным, изначальным, а другое - вторичным, производным.
Философский гилозоизм, возникший на заре цивилизации,
постоянно возрождался и в новое время в той или иной форме.
Таким образом, вопрос об отношении сознания (духа) к
материи мог быть сознательно поставлен лишь тогда, когда развитие
абстрагирующего мышления достигло сравнительно высокой
исторической ступени. Этот вопрос, вернее, проблема со всей
очевидностью выступает с появлением монотеистической религии,
в первую очередь христианства. В языческих религиях представ-
271
ление о духе (вернее о духах), конечно, существовало, но
духовное еще не противопоставлялось материальному, вещному. Стало
быть, сама возможность философского противопоставления духа
и материи предполагает в качестве своего исторического
предусловия становление цивилизации, возникновение общественного
разделения труда и, что особенно существенно,
противоположность между умственным и физическим трудом. «С этого
момента, - пишут Маркс и Энгельс, - сознание может
действительно вообразить, что оно нечто иное, чем сознание существующей
практики... с этого момента сознание в состоянии
эмансипироваться от мира и перейти к образованию "чистой" теории,
теологии, философии, морали и т.д.» (115, 3, 30). Такова предыстория
того, что Энгельс именует высшим вопросом философии.
Надо сказать, что в советских философских работах «высший»
вопрос философии понимался и излагался в духе
господствовавшего в СССР крайне догматизированного марксизма. Достаточно
указать хотя бы на то, что сей вопрос характеризовался как
предмет всех (или почти всех) философских учений и, следовательно,
как подлежащая решению, но все еще не вполне решенная
проблема. Так, A.B. Потемкин подвергал критике тех марксистов (в
частности, меня), которые полагали, что вопрос о предмете
философии и основной философский вопрос хотя и перекрещиваются
друг с другом, все же разные вопросы, решительно утверждал:
«Указание на тот факт, что вопрос об отношении мышления к
бытию и есть великий основной вопрос всей философии, является
последовательно научным общим определением предмета
философии с момента ее возникновения» (144, 302).
A.B. Потемкин был не очень известным ученым в среде
советских философов. Другое дело П.В. Копнин, работавший в 60-х гг.
директором Института философии Украинской Академии наук, а
с 1967 г. ставший директором Института философии АН СССР.
К его, как правило интересным, нередко даже смелым
высказываниям прислушивались все преподаватели философии, и не только
они. Но и Копнина не обошла догматическая экзальтация.
«Основной вопрос философии, - писал он, - всегда был предметом
философии, но в различные исторические периоды он выступал
в разных формах и занимал разное место в философии. Когда
философия была системой взглядов на мир, понятий о явлениях и
закономерностях их движения и не было еще дифференциации
научного знания, тогда основной вопрос действительно был
только одной из проблем, которыми она занималась» (92, 14).
В настоящее время, когда отечественная философия
избавляется от догматического истолкования марксизма, несостоятель-
272
ность отождествления того, что именовалось «высшим вопросом
философии», с предметом философского исследования, не
требует обстоятельного разъяснения. И тот, кто полагает, что все
проблемы, встающие перед философией в различные исторические
эпохи, представляют собой лишь вариации на одну и ту же тему,
вольно или невольно игнорирует фактическое содержание и
развитие философии, изменение предмета философских
исследований, обновление их проблематики. Утверждать, что все философы
во все времена бились над решением одного и того же вопроса,
что этот вопрос все еще не разрешен, поскольку и в наши дни
остается предметом философского исследования, - значит
поддакивать тем хулителям философии, которые не устают утверждать,
что она вообще не решает ни одного вопроса, не выдвигает
новых вопросов и не имеет поэтому ничего общего ни с науками,
ни с реальными проблемами жизни общества.
Сведение предмета философии к одному, сколь угодно
важному вопросу означает забвение существенного отличия
философских учений друг от друга по их содержанию, которое
непосредственно связано с предметом исследования. У разных философий
предмет исследования в принципе не может быть одним и тем
же: есть в нем и общее с другими философскими учениями, есть,
разумеется, и отличающееся, своеобразное. К тому же любая
сколько-нибудь разработанная философская система
складывается m ряда разделов, философских дисциплин: онтологии,
гносеологии, натурфилософии, философии истории, этики, эстетики.
И каждая философская дисциплина имеет собственный предмет
исследования. Следовательно, философское учение как система
определенных дисциплин характеризуется комплексным,
многослойным предметом исследования. Достаточно, например,
сопоставить философию О. Конта и его продолжателей с
антропологическим материализмом Л. Фейербаха или каким-либо другим,
наугад выбранным учением («критическая онтология» Н. Гарт-
мана, персонализм и т.д.), дабы убедиться, что у каждого из этих
учений наличествует свой, особенный круг вопросов, своя
тематика, что, впрочем, не исключает и общих с другими
философиями проблем, которые, однако, оказываются на втором плане,
т.е не характеризуют специфическим образом данное
философское учение.
Удивительно, как мы, околдованные марксистскими
формулировками, не видели того простого факта, что у многих
философов нет сколько-нибудь заметных признаков признания
«основного» философского вопроса. Правда, в некоторых случаях,
когда этот факт все-таки признавался нами, мы находили выход
273
из этой «опасной» ситуации, утверждая, что данный философ
не осознает, что в действительности составляет основной вопрос
его философии. Так, например, Ф. Ницше, полемизируя с
рационализмом, категорически утверждал: «Духовный мир вообще не
существует» (125, 91). Фактически, он вовсе не отрицал
существования духовного, в частности, мышления или чувственности. Он
отрицал лишь существование духовного мира, влагая в это Слово
свое собственное довольно субъективное представление. Но
Ничего похожего на обсуждение вопроса о первичности и вторич^ости
духовного или материального у него, конечно, не найдешь.
У. Джемс пытался доказать, что сознание (и духовное вообще)
не более, чем иллюзия, которая проистекает из того, что вещи не
только существуют, но также различаются и познаются человеком.
Имеются, таким образом, вещи и свидетели того, что вещи
Наличествуют. То же, что именуют сознанием, скажем, сознанием
цвета или запаха, не заключает в себе ничего, кроме цвета и запаха.
Отсюда и следовал парадоксальный вывод: сознания не
существует. «Субстанция эта, - писал Джемс, - фиктивна, тогда как м|,1Сли,
пребывающие в конкретном, вполне реальны. Но мысли,
пребывающие в конкретном, сделаны из той же материи, что и вещи;> (67,
127). Что же за «материя», из которой «сделаны» и вещи, и м^сли?
Это, конечно, не материя, как ее понимают естествоиспытатели,
хотя Джемс называет ее также веществом и даже первовещесТвом.
Послушаем его самого: «...если допустить существование Одного
только первоначального вещества или мировой материи,
вещества, объемлющего собою все, и если назвать это вещество "чистым
опытом", то легко объяснить познавание как особый вид
взаимоотношения, в который входят различные элементы чистого Опыта.
Само это отношение представляет собой часть чистого опыта; один
"член" его становится субъектом или носителем познания,
Познающим» (67, 104). Нет ни малейшего сомнения в том, что Джемс -
идеалист. Но ясно и то, что для него материя в том смысле, в
каком он ее понимает, не является чем-то вторичным, производным.
А. Робэк, последователь Джемса, также считает «частый
опыт» материальным. По его мнению, бихевиоризм есть
«философская позиция, примененная к вопросам психологии. Эта
позиция должна быть признана позицией материализма»*. Как же
Во второй половине прошлого века концепция Джемса разделялась также
английскими философами, которые склонялись к бихевиористской психологии
и субъективистски истолковывали кибернетическое моделирование умственных
процессов. Так, сторонники философии лингвистического анализа пре<цлагали
отказаться от таких понятий, как «сознание», «мышление», «чувственнее
восприятие», «субъективное» и, конечно, «объективное», заменив все эти, сак они
274
совмещается отрицание сознания (и духовного вообще) с
идеализмом? Если иметь в виду не те идеалистические учения, которые
исходят из постулата о первичности духовного и вторичности
материального, то все объясняется просто. Все человеческое знание
сводится к человеческим, субъективным реакциям на внешние
раздражения; объективное содержание наших представлений тем
самым исключается. Целесообразность человеческого
поведения, предполагающая адекватные ответные реакции на
воздействия извне, характеризуется как деятельность, не заключающая
в себе какого-либо знания о внешнем мире. Образы предметов
внешнего мира, имеющиеся в сознании человека, трактуются как
физиологические состояния, а не субъективное воспроизведение
тех или иных фрагментов действительности. Поскольку знание
отождествляется с поведением (т.е. совокупностью действий), то
это становится основанием для вывода, что понятие объективной
реальности имеет смысл постольку, поскольку признается
существование сознания. Если же сознания не существует, то не может
быть речи и о реальности независимой от сознания.
Может показаться, что классики философии в отличие от
философов новейшего времени, более или менее четко ставили
сформулированный Энгельсом «высший» философский вопрос.
Но этого нет у Ф. Бэкона, а также у Т. Гоббса, по учению которого
в мире существуют только тела. Гоббс не считал, по-видимому,
нужным объяснения насчет существования мышления, которое
он вовсе не отрицал.
Дж. Локк также не ставит вопроса о первичности материи
(или духа). У всех этих философов можно, конечно, путем
скрупулезного, если можно так выразиться, микроанализа выявить их
представление (далеко не всегда последовательное) об
отношении между духовным и материальным. Но суть дела в том, что это
отношение не находится в фокусе их исследовательской работы,
а оказывается где-то на едва различной окраине. Это, конечно,
не значит, что не было философов, придававших осмыслению
отношения духовное-материальное главенствующего значения.
Мы находим таких философов прежде всего в европейском
средневековье. Исследователь философии этой эпохи Г. Эйкен харак-
полагали, ненаучные, обыденные представления, или «псевдопонятия»
описанием соответствующих действий и процессов, совершающихся в нервной
системе. Эта точка зрения систематически изложена в книге Дж. Райла «Понятие
сознания». А. Флю - приверженец Райла - утверждает, что эта работа, так же как
и «Философские исследования» Витгенштейна, должна быть признана
«выдающимся вкладом в материалистическую философию» (229, ПО). Напрашивается
вывод, что понятия материализма и идеализма применялись безотносительно к
тому, что Энгельс именовал высшим вопросом всей философии.
275
теризует схоластический идеализм как чуждый «грубым»
натуралистическим представлениям, которым противопоставляются
«возвышенные» идеи. Поэтому Эйкен утверждает:
«Руководящей мыслью философии было, очевидно, стремление привести
множественность явлений к одной-единственной первопричине,
а последнюю постепенно освободить от всего вещественного и
представить ее как нематериальное существо» (197, 34). Но
схоластика, чего как раз не учитывал Эйкен, была не столько
философией, сколько теологией. Философия же в отличие от теологии
ставит своей задачей объяснение природных и социальных
явлений естественными причинами. Поэтому идеалист Лейбниц
считал сверхъестественное противоречащим не только законам
природы, но и разуму, а следовательно, вообще не существующим.
Возражая некоторым оппонентам-идеалистам, он утверждал, что
«ощущение и мышление не есть нечто неестественное для
материи» (100а, 67) и если они присущи какому-либо материальному
телу, значит, надо допустить внутри него наличие
нематериальной субстанции. Было бы сверхъестественным, рассуждал далее
Лейбниц, если бы человек как духовная сущность был бы
смертным, т.е. разделял бы судьбу своего бренного тела.
Следовательно, «души бессмертны естественным образом» и «было бы чудом,
если бы они не были бессмертными» (100а, 68).
С точки зрения Лейбница, духовное и материальное находятся
в единстве, вследствие чего не возникает вопроса: не производно
ли материальное? Правда, материальное (телесное), по учению
этого философа, преходяще, в то время как духовное
непреходяще. Однако монады (духовные атомы) не существуют сами по
себе, вне материи. Вне и независимо от материи пребывает лишь
монада монад, т.е. Бог.
В философии Канта материя трактуется как явление,
возникающее вследствие воздействия сверхчувственных «вещей в себе»
на нашу чувственность, в результате чего и образуется
представление, именуемое материей. Это, конечно, субъективистская
интерпретация материального, предполагающая в качестве своего
условия и ближайшей причины чувственность (духовное).
У Фихте - непосредственного продолжателя Канта -
абсолютное Я полагает не-Я, т.е. отличную от него, объективную
реальность. Однако, по Фихте, это не совершающийся во времени
процесс, так как абсолютное Я без не-Я не существует, т.е. просто
невозможно. Здесь, стало быть, нет того, что было раньше
(первичное), и того, что возникло позже (вторичное). Это же следует
сказать и о философии Шеллинга, принцип которой - абсолютное
тождество материального и духовного. Гегель в этом отношении
276
оказывается продолжателем Шеллинга: отправное положение его
философии — тождество бытия и мышления. Мышление не
существует без бытия; бытие не существует без мышления. Однако
бытие, согласно философии Гегеля, есть в конечном итоге
также мышление, хотя и лишенное самосознания. Мышление
истолковывается Гегелем не столько как человеческое мышление, но
как сверхчеловеческая субстанциальная реальность.
Человеческая психика, стало быть, мистифицируется, но абсолютное
самодостаточное мышление находится в единстве с внешним миром -
с природой, обществом и человеческой духовностью. Все эти
формы инобытия «абсолютной идеи», или вселенского разума
играют роль своеобразного трамплина, с помощью которого
гегелевский идеализм прорывается в абсолютный интеллектуальный
вакуум, где, как прекрасно говорится у Гёте:
«Ты ничего не сыщешь, ни единой
Опоры, чтоб на ней покоить взор.
Один сквозной, беспочвенный простор».
Итак, нет и не может быть согласия между выдающимися
философами относительно того, какой вопрос (вернее, проблема)
имеет главенствующее значение. В каждой философской системе
наличествует свое, собственное понимание того, что следует
считать важнейшим философским вопросом. А поскольку различия
между философскими системами весьма и весьма существенны,
то это же относится и к пониманию того, что признается главным,
важнейшим вопросом философии.
Энгельс констатировал противоположность между
материалистическим и идеалистическим ответами на вопрос об
отношении мышления к бытию. В нашей марксистской философской
литературе эта противоположность характеризовалась как
борьба материализма и идеализма, двух основных партий в истории
философии. В этом отношении мы бездумно следовали за
Лениным, который в «Материализме и идеализме» посвятил этой
«борьбе» отдельный параграф: «Партии в философии и
философские безголовицы». Безголовицами, а также «безмозглыми»
Ленин называет, как нетрудно понять, идеалистов. Он также
именовал известных русских философов-идеалистов урядниками на
философской кафедре, а идеалистическую философию клеймил
как утонченную поповщину, или фидеизм, не вдумываясь в
действительное, вполне определенное значение этого термина.
Касаясь начавшегося на исходе XIX в. методологического кризиса в
физике, Ленин писал: «...мы проследили борьбу материализма
и идеализма» (104, 5, 356). Можно ли согласиться с этим
утверждением? На мой взгляд, нет, так как действительный историко-
277
философский процесс показывает, что наиболее выдающиеся
представители материализма, отвергая идеализм, не считали, как
правило, необходимым заняться его основательным критическим
анализом. Отдельные критические замечания в адрес идеалистов,
разумеется, не являются редкостью в сочинениях материалистов,
но какой-либо систематической критики идеалистической
философии я не нахожу в материалистической философии. Правда,
ниже я остановлюсь на единственном в своем роде факте:
критических замечаниях Гоббса в адрес Декарта. Но и эти замечания не
касались основ идеализма вообще.
Полагаю, что эти мои утверждения вызовут не то что
недоумение, но даже возмущение у догматических приверженцев
диалектического материализма, поэтому я хочу подтвердить их фактами.
Ф. Бэкон, один из основоположников философии Нового
времени, утверждал, что сочинения Платона и Аристотеля дошли до
его современников, в отличие от сочинений Фалеса, Анаксагора,
Демокрита и других античных философов, разве только потому,
что легковесное не тонет в потоке времени. Бэкон, отвергая
учения Платона и Аристотеля, не считает нужным заняться
критическим разбором их воззрений.
Более внимателен по отношению к этим гениальным
греческим идеалистам был его продолжатель Т. Гоббс. Но и он
ограничивается отдельными критическими репликами. Останавливаясь
на учении Аристотеля о категориях, он замечает: «Я думаю, что
Аристотель дошел до своей произвольной классификации слов
только потому, что не добрался до самих вещей» (55, 78). Нет у
Гоббса никакой критики аристотелевской концепции материи и
формы. Последняя, как известно, понималась Аристотелем как
определяющая материю и, разумеется, как нематериальная. Гоббс
не согласен с аристотелевской характеристикой муравьев и пчел
как общественных существ и, более того, граждан их
специфического «государства». У муравьев и пчел, указывает он, нет
сознания, а потому нет и государства, которое возникает в
результате соглашения между людьми.
Гоббс возражает Аристотелю и по другому, более важному
вопросу, решительно отвергая убеждение Стагирита, что одни люди
по природе созданы для власти, а другие - для услужения. Он
отвергает и тезис Аристотеля о том, что рабы являются рабами
вследствие своей природы. Со всеми этими аргументами Гоббса
нельзя не согласиться, но ясно и то, что они не имеют прямого
отношения к критике идеализма Аристотеля.
Несравненно больший интерес представляют «Возражения на
"Размышления" Декарта и ответы последнего». Этот своеобраз-
278
ный диспут между двумя великими философами - единственный
в своем роде в истории философии.
Гоббс выдвигает против Декарта 16 возражений и Декарт
кратко отвечает на каждое. Прежде всего, Гоббс пытается
доказать несостоятельность исходного положения философии
Декарта: я мыслю, следовательно существую. Гоббс заявляет: «...я мог
бы сказать: я есмь нечто прогуливающееся, следовательно, я есмь
прогулка» (55,414). Этот недостаточно убедительный аргумент он
дополняет подчеркиванием своей материалистической позиции:
«...мы не можем отделить мышление от мыслящей материи...
предположение о материальности мыслящей субстанции
кажется мне более правильным, чем другое предположение, а именно,
согласно которому она нематериальна» (55, 415). Декарт
отвечает Гоббсу, подчеркивая, что тезис о материальности мыслящей
субстанции логически несостоятелен. «Нет никакого сомнения, -
указывает он, - что мышление невозможно без мыслящей
субстанции, как невозможна никакая деятельность, или акциденция
без субстанции» (там же, 417). Но субстанция, полагает Декарт
в соответствии со своей дуалистической философской системой,
может быть как материальной, так и нематериальной.
Важнейший пункт расхождений между Гоббсом и Декартом, как
и следовало полагать, вопрос о Боге. Гоббс утверждает: «...мне
кажется, что мы не имеем никакой идеи Бога» (там же, 421). Идеей
он называет образ, представление, которое возникает в
человеческом сознании вследствие воздействия на него предметов
внешнего мира. С таким пониманием термина «идея» Декарт
категорически не согласен: «Под словом идея [Гоббс] хочет подразумевать
исключительно отображение материальных вещей в том виде, как
они запечетляются в нашем телесном воображении. Приняв такую
предпосылку, он может легко доказать, что невозможна собственно
никакая идея ангела или Бога». Отметая это упрощенное понимание
термина «идея», Декарт поясняет: «под идеей мною
подразумевается все то, что непосредственно постигает ум» (55,422)*.
* Возражая Декарту, Гоббс поясняет: «Я уже несколько раз высказывал
мысль, что мы не имеем ни идеи Бога, ни идеи души; я прибавлю теперь: мы не
имеем также идеи субстанции. Ибо мы познаем субстанцию, которая
представляет собой материю, являющуюся основой акциденций и изменений только путем
умозаключения; но мы не имеем о ней никакого представления, никакой идеи»
(55,426). На это возражение Декарт отвечает: «.. .идеей я называю как то, до чего
мы доходим с помощью разума, так и то, что мы познаем каким-либо другим
образом» (55, 426). В другом месте он присовокупляет: «...под идеей я понимаю
все, что составляет форму какого-либо познавательного акта» (55, 429). Такой
формой может быть не только чувственное восприятие, но и понятие,
образованное путем обобщения или полученное как результат умозаключения.
279
По учению Декарта, идея Бога, так же как и идея души,
являются врожденными идеями. Это значит, что они - не
результат познавательных актов, а изначально присутствуют в
сознании. Гоббс, естественно, не принимает такого тезиса. Идеи могут
быть лишь идеями воспринимаемых нашими чувствами
предметов внешнего мира: «не существует врожденных идей, ибо то, что
врожденно, должно быть всегда налицо» (55, 428). В связи с этим
Декарт, отвечая своему критику, поясняет: «... говоря, что какая-
нибудь идея врожденна нам, мы не хотим сказать тем самым,
будто она постоянно находится в поле нашего зрения. В этом смысле
у нас нет вообще ни одной врожденной идеи. Под врожденностью
идей мы понимаем лишь то, что у нас есть способность вызвать
их» (55, 429).
Гоббс вновь и вновь настаивает на том, что идеи Бога и души
лишены основы в наших восприятиях внешнего мира. Так, идея
души возникает вследствие того, что живое существо находится
в движении, обладает ощущениями. Для объяснения этих фактов
мы пользуемся словом «душа», которое лишено всякого смысла,
если отвлечься от чувственных восприятий внешнего мира.
Декарт парирует эти критические соображения одной фразой: «Если
идея Бога дана нам, а такая идея, бесспорно, существует, - то все
это возражение становится беспредметным» (55, 424).
Гоббс снова возвращается к вопросу о Боге, пытаясь привлечь
на свою сторону, в частности, один из догматов христианства. «Не
было доказано, что мы имеем идею Бога. Точно так же и
христианская религия требует от нас признания догмата
непостижимости Бога, т.е. того, что совпадает с моей мыслью, а именно с
мыслью, что не существует идеи Бога. Следовательно, существование
Бога не доказано, а еще менее доказано наличие акта творения»
(55, 430). Однако аргументация, выставляющая Декарта
отступником от догмата христианства, нисколько не смущает
последнего. «Когда говорим, что Бог непостижим, - заявляет Декарт, - то
это направлено против попытки получить о нем адекватное
понятие, полностью исчерпывающее его» (55, 430).
Гоббс оспаривает также тезис Декарта о свободе воли,
который в его философском учении служит объяснением причин
заблуждения: разум, коль скоро он свободен от давления
чувственности, не подвержен заблуждениям, так как строго соблюдает
правила логики; источником заблуждений является воля, которая
предпочитает желаемое истине. И Декарт отвергает возражение
Гоббса, ссылаясь на присущее каждому индивидууму
самосознание: «... вряд ли найдется хоть один человек, который наблюдая
то, что происходит в нем самом, не убедился бы, что добровольно
и свободно есть одно и то же» (55, 431).
280
Гоббс не может согласиться и с декартовским пониманием
критерия истины. Ясность и отчетливость, указывает он,
свойственны зачастую и весьма субъективным представлениям,
оказывающимся на поверку заблуждениями. Гоббс мог бы и дополнить
этот аргумент требованием формулировать критерий ясности и
отчетливости представлений и понятий. Такого критерия,
конечно, не существует. Ясно, однако, то, что Гоббс недооценивает
историческое и методологическое значение требования
ясности и отчетливости всех претендующих на истинность суждений,
провозглашенное Декартом в противовес схоластам и
мистикам. Понятны поэтому ссылки Декарта на «свет разума» (lumen
naturale) - понятие, унаследованное от схоластики, которое он
противопоставляет схоластической казуистике: «... всякий знает,
что под светом разума следует понимать ясность познания,
которой, может быть, действительно обладают не все воображающие,
что обладают ею, но которую все же можно отличить от мнения,
упорно высказываемого без ясного сознания его истинности»
(55, 432). Этот ответ показывает, что Декарт вполне осознавал,
что ясность представлений того или иного субъекта может носить
лишь видимость их истинности.
С точки зрения Гоббса существование внешнего,
независимого от сознания мира доказывается нашими органами чувств,
воспринимающими существующие вне нас предметы. Гоббс, конечно,
заблуждается, считая чувственные восприятия доказательствами.
Чувственные восприятия могут лишь свидетельствовать о
воспринимаемых ими предметах и тем самым о внешнем мире.
Свидетельства же, как известно, требуют подтверждений и
доказательства. Декарт в принципе не согласен с Гоббсом, так как он, будучи
рационалистом, считает все чувственные восприятия смутными,
лишенными ясности и отчетливости. Придавая решающее
значение в сфере познания разуму, мышлению, Декарт, тем не менее,
отдает себе отчет в том, что мышление вовсе не может служить
доказательством существования независимой от него реальности.
Понятно поэтому почему и здесь обращение к Богу оказывается
главным аргументом. Бог, утверждает Декарт, не может быть
обманщиком. Поэтому свидетельства человеческих органов чувств
не обманывают нас. Этот вывод противоречит
рационалистическому пониманию чувственности, но Декарт полагает, что при
определенных условиях показаниям органов чувств нельзя не доверять*.
* «Для моего заключения, - пишет в связи с этим Декарт, - вовсе не
необходима предпосылка, что мы ни в коем случае не можем ошибаться. Я,
напротив, определенно признаю, что мы часто ошибаемся. Речь идет лишь о том, что
мы не можем ошибаться в тех случаях, когда такая ошибка свидетельствовала
281
Я столь подробно остановился на дискуссии между Гоббсом
и Декартом, во-первых, вследствие ее уникального характера и,
во-вторых, потому что это, на мой взгляд, единственный случай,
когда выдающийся представитель материализма критикует
основательным образом выдающегося представителя идеализма.
Теперь я перехожу к французским материалистам XVIII в. -
наиболее воинствующим материалистам, которые открыто,
настойчиво проповедуют атеизм и разоблачают клерикализм. В их
произведениях многократно упоминаются Платон, Аристотель, Декарт,
Мальбранш, Беркли, Юм и некоторые другие идеалисты, однако,
критические замечания в адрес этих идеалистов встречаются очень
редко. Убежден, что материалисты считали гораздо более важным
делом критику религии, а не критику идеалистической философии.
В.И. Ленин указывает, что Дидро «отмечает сходство посылок
идеалиста Беркли и сенсуалиста Кондильяка» (104, 28), выражая
вместе с тем свое отрицательное отношение к берклевскому
субъективному идеализму, который Дидро, однако, не считает
необходимым подвергнуть сколько-нибудь обстоятельной критике. Такова
же позиция и других французских материалистов.
П. Гольбах в своей «Системе природы», прозванной
«библией материализма», упоминает неоднократно Платона, но лишь в
одном месте этого объемистого труда выражает свое неприятие
«бредней Платона», который характеризуется как «великий
творец призраков». В связи с этим Гольбах замечает: «... если
философия состоит в познании природы, то платоновское учение
совершенно не заслуживает этого наименования» (57, 452).
Страницей ниже Гольбах замечает: «Пифагор и Платон были просто
восторженными и, может быть, недобросовестными теологами»
(57, 453). Этими фразами, едва ли свидетельствующими об
основательном знакомстве с учениями названных философов, и
ограничивается его материалистическая критика идеализма.
О философии Декарта говорится также скупо и, увы, не вполне
правильно. «Система спиритуализма в том виде, как она принята
теперь, обязана всеми мнимыми доказательствами своей
истинности Декарту» (57, 136). Правда, в другом месте Декарт и Лейбниц
бы о желании Бога обмануть нас. Такое предположение противоречило бы идее
Бога» (55, 435). Это положение противопоставляется также утверждению Гоб-
бса, что обман в некоторых случаях оказывается благом. Так, врачи, «вводящие
в заблуждение больных ради их собственной пользы, равно как и отцы,
обманывающее своих сынов ради их же блага, не совершают этим никакого греха»
(55, 435). Следовательно, и Бог, если признают его существование, мог бы
обманывать людей ради их блага. Этот аргумент Гоббса никак не вызывает
возражений Декарта, хотя он, конечно, не может согласиться с ним.
282
упоминаются как философы, убежденные в существовании
врожденных идей и пытающиеся представить логические
доказательства бытия Бога (57, 434). Несколько ниже, в главе, названной
«Разбор доказательств бытия божьего Декартом, Мальбраншем,
Ньютоном и т.д.», приводится одно из высказываний Декарта,
после чего Гольбах уделяет почти две страницы критике декартовского
«доказательства». Аргументация Гольбаха аналогична изложенной
выше аргументации Гоббса. «Мы ответили Декарту, - пишет
Гольбах, - что неправомерно заключать о существовании какой-нибудь
вещи на основании обладания ее идеей: наше воображение
доставляет нам идею сфинкса или гиппогрифа, но отсюда вовсе не
следует, что эти вещи существуют в действительности» (57,464).
Последующие критические замечания Гольбаха, в сущности, не касаются
идеализма Декарта (или дуализма), так как сводятся к
утверждению, что «Декарт не только не установил бытие божие на прочных
основаниях, но, наоборот, совершенно разрушил его основания»
(57, 466).
Поскольку Декарта Гольбах называет величайшим
мыслителем, возродившим во Франции философию, то остается
непонятным, почему материалистической критике его идеалистических
воззрений уделено столь незначительное место. Такое отношение
к идеалистической философии является по существу легковесно-
пренебрежительным. Гольбах, очевидно, не видит в ней
заслуживающего пристального внимания противника. Поэтому о
субъективном идеализме Беркли он говорит не только лапидарно, но и
презрительно: «Что сказать о философах вроде Беркли, который
старается доказать нам, будто все в этом мире лишь иллюзия и
химеры, будто весь мир существует лишь в нас самих и в нашем
воображении и который при помощи софизмов неразрешимых
для всех сторонников учения о духовности души, делает
проблематичным существование всех вещей» (57, 184-185)*.
Коротко об отношении Гельвеция к идеализму. Он часто
ссылается на Платона, имея в виду его высказывания, не имеющие
* При этом Гольбах совершенно игнорирует объективно-идеалистическую
тенденцию философии Беркли, согласно которой вещи существуют, поскольку
они воспринимаются не только человеком, но и Богом. Поэтому Беркли
выражает недоумение по поводу того, что некоторые философы «хотя и признают, что
все телесные вещи воспринимаются Богом, тем не менее приписывают
абсолютно самостоятельное существование, отличное от их бытия, воспринимаемого
какой бы то ни было душой...» (15а, 303). Такое воззрение, строго говоря, не
является субъективным идеализмом или во всяком случае должно быть признано
половинчатым субъективным идеализмом. Впрочем, ошибку Гольбаха
разделяют почти все философы (и историки философии) последующего времени даже
тогда, когда они признают родственность берклеанства философии Платона.
283
непосредственного отношения к идеализму. Однако он также
осуждает учения Платона и Пифагора, характеризуя их как
«непонятный жаргон, который переходил от египетских жрецов к
Пифагору, а от Пифагора к Платону, а от Платона к нам». Сей
непонятный жаргон характеризует, по словам Гельвеция,
метафизику. «Всякая метафизика, не основанная на наблюдениях,
состоит лишь в искусстве злоупотреблять словами». Таким образом,
Гельвеций осуждает все-таки не всякую метафизику, относя к ней
и античную атомистику. Он проницательно отмечает
противоположность учений Платона и Демокрита. «Эти два рода
метафизики я сравниваю с двумя различными философскими системами -
Демокрита и Платона. Первый постепенно поднимается от земли
к небу, второй постепенно снижается с неба на землю. Система
Платона покоится на облаках; дыхание разума уже отчасти
разогнало эти облака, а с ними развеяло и систему» (54, 161). Это -
единственное критическое замечание Гельвеция об идеализме
Платона. О других идеалистах, за исключением Декарта, он не
считает нужным говорить. Относительно же исходного
положения философии Декарта он замечает: «мои ощущения - а не мои
мысли, как это утверждает Декарт, - доказывают мне
существование моей души» (54, 74). По-видимому, Гельвеций, как и другие
материалисты его эпохи, не видит смысла в основательном споре
с идеалистами, учения которых они оценивают как никчемные.
Единственным материалистом, который предпринял, пусть
и не очень глубокую, но зато довольно обстоятельную критику
идеализма, был Л. Фейербах. У него нет, правда,
систематического критического анализа какой-либо идеалистической системы;
он предпочитает афористические характеристики, направленные
главным образом против немецкого классического идеализма.
«Кантовская философия, - пишет он, - есть противоречие между
субъектом и объектом, сущностью и существованием,
мышлением и бытием» (170а, 166). Фихте характеризуется Фейербахом как
теистический идеалист, Гегель - как пантеистический идеалист.
Главный объект фейербаховской критики - абсолютный
идеализм Гегеля. Фейербах и сам был сначала гегельянцем. Поэтому
критика учения Гегеля, когда он перешел на позиции
материализма, стала для него, так сказать, личной потребностью. В своем
трехтомном историко-философском исследовании он признается:
«Благодаря Гегелю я осознал самого себя, осознал мир. Он стал
моим вторым отцом...» (170ь, 373). Однако этот фрагмент своего
исследования, названный «Отношение к Гегелю», Фейербах
заканчивает фразой: «Инстинкт привел меня к Гегелю, инстинкт
освободил меня от Гегеля» (170ь, 389).
284
Историко-философские исследования Фейербаха в
основном относятся к периоду становления его материалистического
мировоззрения. Материалистическая критика идеализма,
философии Гегеля прежде всего, обрела значительный размах после
выхода в свет его монографии «Сущность христианства» (1841).
А в следующих за этой книгой работах он обосновывает
необходимость реформы философии, подвергая основательной критике
идеализм. «Тайна философии Гегеля, - утверждает Фейербах, -
сводится к тому, что он в философии отрицает теологию и снова
посредством теологии отрицает философию. Начало и конец
образует теология...» (170б, 165). Фейербах стремится доказать, что
гегелевский идеализм является в конечном счете утонченной,
философски обосновываемой теологической доктриной.
«Абсолютный идеализм есть не что иное, как реализованный божественный
ум лейбницевского теизма» (170б, 146). Такая оценка философии
Гегеля одностороння и, следовательно, неудовлетворительна, так
как она лишь указывает на превалирующие особенности всякой
(или почти всякой) системы объективного идеализма. Из поля
зрения Фейербаха выпадает теория развития или как
специфическая характеристика гегелевской философии, диалектический
метод, диалектическая логика.
Маркс и Энгельс, правда, утверждали в своей ранней
работе «Святое семейство», что Фейербах превзошел гегелевскую
диалектику. В действительности дело обстояло не так (это
вскоре признали и основоположники марксизма). Фейербах в своем
представлении о диалектике возвращается к ее античной форме,
которая сводилась главным образом к искусству аргументации
(это, конечно, не относится к Гераклиту и Зенону Элейскому).
Фейербах писал: «Истинная диалектика не есть монолог
одинокого мыслителя с самим собой, это разговор между Я и Ты» (170б,
203). Слово «истинная» указывает на то, что Фейербах
противопоставляет гегелевской диалектике ее античную, возможно,
сократовскую форму. Он не комментирует приведенного афоризма,
по-видимому, потому, что проблематика диалектики не
представляет для него интереса.
Фейербаховская критика идеализма Гегеля страдает
очевидной непоследовательностью. С одной стороны, Фейербах
утверждает, что логика Гегеля есть не что иное, как теология,
превращенная в логику. С другой стороны, он полагает, что
материалистическая переработка системы Гегеля не столь уж
сложное дело. «Достаточно повсюду подставить ПРЕДИКАТ на место
СУБЪЕКТА и СУБЪЕКТ на место ПРЕДИКАТА, т.е. перевернуть
спекулятивную философию, и мы получим истину в ее неприкры-
285
том, чистом, явном виде» (170а, 115). Фейербах, следовательно,
предлагает истолковать гегелевскую теорию субстанциального
мышления как теорию человеческого мышления, и вся задача
будет, таким образом, решена. Конечно, это ошибочное заключение.
Можно сказать, что Фейербах предвосхищает Энгельса, который,
также заблуждаясь, утверждал, что диалектический идеализм
Гегеля есть перевернутый, поставленный на голову материализм.
То же, как известно, утверждали Маркс и Энгельс о гегелевской
диалектике: ее надо перевернуть, поставить с головы на ноги.
И это тоже, конечно, заблуждение. Заблуждение не просто потому,
что у гегелевской диалектики нет ни ног, ни головы, а потому, что
задача материалистической проработки этой диалектики
несравненно сложнее хотя бы уже потому, что она предполагает
диалектическое отрицание пресловутых законов диалектики, которые в
отличие от законов, открываемых науками, были провозглашены
абсолютно всеобщими, т.е. определяющими движение и развитие
всего и вся: природы, общества и мышления. Но таких законов,
как уже указывалось выше, не существует. Идея всеобъемлющих
законов есть не что иное как традиционное противопоставление
философии наукам в качестве науки наук.
Я остановился на двух, пожалуй, единственных в истории
философии примерах материалистической критики идеализма. Оба
они отвергают бытовавшее в отечественной марксистской
литературе представление о борьбе материализма против идеализма как
основном содержании историко-философского процесса.
Спорадические отрицательные оценки материалистами идеализма - это
еще не борьба и даже не философский спор. Это, скорее, там и
сям разбросанные критические ремарки, свидетельствующие не
о борьбе, а о взаимном отчуждении.
Отношение идеалистов к материалистам также было далеко
от того, что именуется борьбой. Если взять, к примеру, «Kant
Lexikon», составленный Р. Эйслером, то станет ясно, что в
сочинениях этого великого философа имеются лишь отдельные
упоминания (разумеется, весьма отрицательные) о материализме.
Никакого намека на критический анализ каких-либо
материалистических положений. Такая же картина и в составленном Г. Глок-
нером «Hegel-Lexikon». В нем указывается, что Гегель несколько
раз упоминает материализм, сопровождая эти упоминания весьма
краткими и весьма отрицательными оценками. Конечно, в том,
что материалисты ограничивались отдельными критическими
замечаниями в адрес идеализма, а идеалисты считали
ненужным обосновывать свои возражения материалистам, нет ничего
хорошего. Основательная критика идеализма, если бы она имела
286
место в сочинениях материалистов, пошла бы на пользу как
материализму, так и идеализму. Подтверждением этого может служить
та критика идеализма Гегеля, которую предпринял Фейербах. Но
он - исключение среди материалистов.
Несомненно, что столь же полезной для материализма была
бы обоснованная критика его ограниченности идеалистами. Но
чего не было, того не было. Не надо приписывать истории
материализма (и истории идеализма) тех достоинств, которыми они
не отличались.
Как это ни удивительно, на первый взгляд, настоящая
борьба постоянно происходила не между материалистами и
идеалистами, а между разными идеалистическими учениями, которые
неустанно опровергали, а то и просто шельмовали друг друга.
За примерами не приходится далеко ходить. Известный
неопозитивист А. Айер в докладе на XVIII Всемирном философском
конгрессе критиковал некоторые идеалистические философские
учения в самой резкой, пожалуй, даже не принятой между
коллегами форме: «Я хотел бы подчеркнуть, что предложения,
составляющие основу содержания такого произведения, как "явление
и реальность" Брэдли (английский неогегельянец. - Т.О.),
являются бессмысленными в буквальном значении этого слова, и что
таковыми являются большинство трудов Гегеля, не говоря уже об
излияниях таких современных шарлатанов, как Хайдеггер и Де-
ррида. Не может вызвать ничего, кроме досады, тот факт, что
несусветный вздор, которым наполнены их сочинения, приобретает
популярность в этой стране среди тех, кто по наивности
принимает темноту за признак глубины...» (2, 192).
Историко-философский анализ показывает, что идеалисты
несравненно чаще, чем их философские антиподы, занимались
философской критикой, в частности, критикой материализма.
Правда, это относится не к философам, именуемым классиками,
а к менее значительным представителям философского
сообщества, в первую очередь к профессорам. Такие, так сказать,
присяжные идеалисты в условиях буржуазного общества изображают
философский материализм узколобым эмпиризмом,
неспособным постигнуть глубины человеческого духа. И. Ленц, например,
утверждает: «Подобно тому как в духовном онтогенетическом
развитии ребенка первый интерес обращается к внешней
природе и притом к вопросу, из чего сделаны вещи, также обстоит
дело в филогенетическом развитии человечества. Обращались к
чувственно данному, осязаемому с вопросом о веществе,
материальной причине» (255, 36). Идеалист, как мы видим, готов
снисходительно признать материализм исторически оправданным в
287
далеком прошлом человечества, но материализм Нового времени
третируется им как интеллектуальный инфантилизм.
Более интересной представляется мне критика материализма
Ф. Паульсеном. «Материализм, - пишет он, - в сущности есть не
что иное, как возведение физики в абсолют путем устранения
духовного, т.е. якобы сведения духовного к физиологическим
процессам или просто случайным "эпифеноменам движений"» (133,
418). Физикой Паульсен именует все науки о природе и
человеке. Поэтому он считает материалистическое сведение духовного
к физиологическому также физической интерпретацией
природного. Материализму с этой точки зрения не хватает
метафизического воззрения на мир. Поэтому Паульсен заключает, что
материализм процветает «на низинах духовной жизни» (133, 418). То
же относится и к естествознанию. Такая негативистская позиция
дискредитирует (что невдомек ординарному профессору)
идеалистическую философию.
Идеалисты нередко критикуют материализм как
механистическое мировоззрение, применяющее принципы механики к
явлениям, которыми механика не занимается. При этом обычно
игнорируется тот факт, что материалисты Нового времени уделяли
немалое внимание проблеме человека, которая далеко выходит за
границы механики. Достаточно указать на сочинения Гоббса или
«Систему природы» Гольбаха, большая часть которой посвящена
человеку, обществу*. При всей ограниченности механистически-
материалистической трактовки проблемы человека материализм
и в этой области превосходит спекулятивную метафизику.
Аргументы идеализма против материализма довольно многообразны.
Одни упрекают материалистов в слишком высокой оценке опыта,
другие, напротив, считают, что он, недооценивая опыт, находится
во власти умозрительных понятий, к которым прежде всего
относят понятие материи.
Парадоксальной особенностью
субъективно-идеалистической критики материализма является апелляция к повседневному
опыту людей, которому якобы противоречат материалистические
воззрения. Объективные идеалисты отвергают такого рода кри-
* Ф. Ланге, посвятивший истории материализма двухтомную монографию,
подчеркивает, что проблема человека находится в центре внимания
материалистов Нового времени. «Через всю историю материализма проходит та
характерная черта, что интерес к космическим вопросам постепенно ослабевает,
между тем как вопросы антропологические вызывают все более страстные споры»
(98, 184). На мой взгляд, нельзя согласиться с тем, что интерес к проблемам
человеческой жизни возрастал за счет упадка интереса к философскому
осмыслению внешнего мира.
288
тику материализма, приписывая последнему забвение
специфики философской формы познания. При этом обнаруживается, что
и тот, и другой идеализм одинаково далеки от правильного
понимания отношения между повседневным опытом и наукой: они
не видят, в чем они согласны, а в чем, напротив, противоречат
друг другу. Повседневный, в значительной мере непроизвольно
формирующийся опыт человека свидетельствует о том, что его
источник - внешний мир, воспринимаемый человеческими
органами чувств. Предметы нашей среды обитания нередко
оказывают сопротивление нашим действиям, с чем приходится считаться,
чтобы правильно ориентироваться в ней, пользоваться
предметами, добиваться своих целей и т.д. Повседневный опыт вовсе не
утверждает, что всё существующее вне нас воспринимается
нашими чувствами. Напротив, из содержания самого опыта,
обогащающегося в процессе жизни человека, следует, что множество
ранее неизвестных ему явлений становятся известными,
наблюдаемыми. То, что эти явления существовали и тогда, когда они
не воспринимались нами, в этом для повседневного опыта нет
ни малейшего сомнения. Поэтому повседневный опыт открыт для
всего неизвестного, непознанного.
Естествознание в прошлом и в известной степени также в
настоящее время исходит из постоянно подтверждаемых жизнью
констатации, содержащихся в обыденном опыте. Значит ли это,
что материалисты и естествоиспытатели некритически
относятся к этому опыту, как нередко утверждают идеалисты? Конечно,
нет. Материалисты, опираясь на повседневный опыт, вместе с тем
критически относятся к нему. Яркий пример тому
материалистический тезис о субъективности так называемых вторичных
качеств материи. Это воззрение обосновывали Гоббс, Локк и другие
материалисты. Что же касается науки, то она нередко вступает в
конфликт с повседневным опытом, однако научный спор с ним
относится, как правило, к тем вопросам, в решении которых он
не имеет права решающего голоса. Так, например, с точки зрения
обыденного опыта, распространение света происходит
«мгновенно». Таково же было и убеждение физиков до тех пор, пока им не
удалось измерить скорость распространения света.
Наука вносит коррективы в повседневный опыт, но они не
затрагивают его основного мировоззренческого убеждения.
Нередко наука ставит под сомнение существование того или иного
явления, представление о котором укоренилось в повседневном
опыте. Научное исследование может доказать, что такого явления
не существует, причем это доказательство обычно устанавливает
существование другого явления, которое было совершенно неиз-
10. Ойзерман Т.И., том 5
289
вестно обыденному опыту. Наука открыла множество
недоступных повседневному опыту явлений и тем самым не только
подтвердила истинность материалистического понятия «объективная
реальность», но и гигантски расширила объем этого понятия.
С точки зрения специального научного исследования данные
обыденного опыта представляют собой свидетельства, которые,
как и любые свидетельства, требуют сопоставления с другими
свидетельствами, проверки, подтверждения. Но то же следует
сказать и о фактах, установленных путем научного исследования, т.е.
тех фактах, о которых ничего не знает повседневный, неизбежно
ограниченный опыт. И тем не менее ученые постоянно
сопоставляют эти открытые исследованием «сверхопытные» факты с теми
«грубыми» данными, которыми располагает повседневный опыт.
Это, конечно, не значит, что повседневный опыт может служить
критерием истинности научных представлений. Суть дела,
скорее, в том, что научное понимание фактов, недоступных
повседневному опыту, достигается обычно тогда, когда удается найти
те ступени, которые ведут от специальных результатов научного
исследования к повседневному опыту. Имеется достаточно много
условий, когда, как указывает В. Гейзенберг, «возможность
описания на обычном языке является критерием того, какая степень
понимания достигнута в соответствующей области» (51, 141).
Обычный язык - язык повседневного опыта - постоянно
подтверждает материалистическое миропонимание. Повседневный
опыт, стало быть, «работает» в науке и тогда, когда она имеет
дело с недоступными ему объектами. Идеализм, который в
течение многих веков занимался дискредитацией повседневного
опыта, все чаще и чаще оказывается вынужденным пересматривать
свои прежние воззрения. Парадоксальной особенностью
новейшей идеалистической критики материализма становится
апелляция к повседневному опыту и науке. Обе эти формы знания
интерпретируются в таком случае как несовместимые с
материализмом, с его понятием объективной реальности и ее отражением
в сознании и познании. Так, Г.Б. Эктон, которого Ф. Хайек
называет самым выдающимся мыслителем XX в., заявляет, что
материализм, признавая в отличие от феноменализма «реальность
материальных субстанций за пределами чувственного опыта,
допускает тем самым возможность Бога, что также преступает
границы (transcends) возможного опыта. Феноменализм исключает
Бога, но оказывается тем самым разновидностью идеализма.
Материализм исключает феноменализм, но лишь за счет признания
Бога» (цит. по: 165, 23). Выходит, согласно Эктону, что нет более
последовательной антитеологической философии, чем идеализм
290
феноменалистского толка, т.е. субъективный идеализм. Конечно,
если дойти до солипсизма, то можно объявить эту философскую
позицию самым последовательным атеизмом. Но субъективные
идеалисты утверждают, что они не солипсисты. Солипсистов
действительно не существует. Поэтому
субъективно-идеалистическая интерпретация вещного мира, как показал пример Д.
Беркли и многих других сторонников феноменализма, вполне
сочетается с теологическими выводами.
Идеализм обвиняет материалистическую философию в том,
что она редуцирует духовное к материальному. Выше уже шла
речь о недостатках материализма, который сплошь и рядом
сводит сознание к его физиологической основе, игнорируя
общественный характер сознания и несводимость духовной жизни
общества к физиологическим основам сознания. Однако это не
оправдывает идеалистическую критику принципа редукции,
который, конечно, не надо абсолютизировать. Идеалистические
попытки рассматривать жизнь, в особенности психические явления,
как процессы, которые лишь внешним образом связаны с физико-
химическими закономерностями, но никак не детерминируются
ими, принципиально несостоятельны.
Успехи химии, биохимии, молекулярной биологии, генетики,
кибернетики и синергетики, проливающие свет на общие
закономерности целесообразного поведения живых систем, - все это
полностью опровергло идеалистическую концепцию
абсолютной несводимости сознания, мышления к физиологическим
процессам. Между тем именно эта концепция образует в настоящее
время один из основных антиматериалистических аргументов
идеализма. Ведь после того как теологические и спекулятивно-
метафизические положения о сверхприродной субстанциальной
действительности получили отставку, идеализм все чаще
прибегает к косвенному обоснованию своих исходных положений. На
место прямого утверждения о первичности духовного сплошь и
рядом ставится отрицательный аргумент: духовное абсолютно
несводимо к материальному.
Идеализм никогда не занимался конкретным
гносеологическим исследованием процедуры редукции. Он также не
исследовал вопроса об отношении этой познавательной процедуры к
объективным процессам. Описывает ли она в какой-то мере эти
процессы или же является чисто формальным,
инструментальным приемом? Сведение мышления к его материальной основе
толковалось идеализмом крайне упрощенно, т.е. как отрицание
специфичности, а иной раз даже реальности духовного.
Соответственно этому и материализм характеризовался как теория, при-
10*
291
знающая реальность одной лишь материи, материального.
Между тем теоретическая процедура сведения никогда не устраняет
реальности того, что сводится. По-видимому, ничто не может
быть безостаточно сведено к чему-либо другому. В этом
отношении особенно показателен крах редукционистских попыток,
предпринимавшихся логическим позитивизмом. В конечном
итоге его лидеры, как добросовестные исследователи, вынуждены
были признать, что теоретическое, несмотря на свое
эмпирическое происхождение, несводимо, во всяком случае полностью,
к чувственным данным. Но это не умаляет методологического
значения процедуры сведения в научном исследовании, хотя и
ограничивает возможности сведения определенными рамками, в
особенности спецификой изучаемых явлений, уровнем и
своеобразием их развития и т.д. Одно дело - сведение к определенным
материальным процессам и отношениям такого присущего всему
живому свойства, как раздражимость, другое - редукция
теоретического мышления к эмпирическим истокам. Но что составляет
основу теоретического мышления, кроме эмпирических данных?
У него по меньшей мере три основы: физиологический процесс,
социальная практика, объективная реальность как объект
мышления. Отсюда понятно, с какими трудностями сталкивается
научная попытка свести (разумеется, в известных границах) духовные
образования к материальным, скажем, экономическим
отношениям. Эти трудности представляются идеализму буквально
спасительными. Сведение как операция, осуществляемая теорией,
возможно лишь постольку, поскольку наличествует единство того,
что сводится, с тем, к чему сводится. Единство психического и
физиологического, идеального и реального, субъективного и
объективного позволяет сводить одно к другому, но границу этого
сведения составляет процесс развития, в результате которого
возникли психическое, субъективное, идеальное. Развитие
необратимо, и поэтому граница возможного сведения неустранима,
подобно тому как диалектика противоположностей (в том числе и
их взаимопревращение) постоянно воспроизводит различие
между ними. Сознание, как продукт высокоорганизованной материи,
функция человеческого мозга не может быть сведено к его
физиологическому функционированию. Но это как раз и доказывает,
вопреки идеалистической аргументации, вторичность сознания,
а тем более духовного, которое также не сводимо к сознанию.
Получается, что один из аргументов идеализма оборачивается
против него самого: невозможность полного сведения
духовного к материальному (если, конечно, эта невозможность
конкретно осмысливается и сопоставляется с тем, что все же возможно
292
и действительно имеет место - единство сознания и его
материальной основы, вследствие чего психические процессы
обусловлены физиологическими, биохимическими и иными
закономерностями) свидетельствует в пользу материалистического, в
особенности диалектико-материалистического понимания.
Отрицательные аргументы идеализма в последнем счете
оказываются столь же маломощными, как и его «положительные»
аргументы. Впрочем, не следует преувеличивать различия
между теми и другими. Ведь идеалистический тезис об аморфности,
инертности материи в сущности был отрицательным аргументом,
опиравшимся главным образом на отсутствие позитивных знаний
о внутренне присущей материи энергии. Современные идеалисты
уже не повторяют этот тезис. Они скорее готовы признать, что
материи внутренне присуща некая нематериальная сила, атомная
энергия, которую они пытаются интерпретировать как нечто
отличное от материи.
Еще каких-нибудь сто лет назад идеализм выступал с
требованием признать, осознать, полностью оценить изначальную
реальность и абсолютную суверенность духовного, понять его как
действительность, возвышающуюся над всем существующим в
пространстве и времени. Идеалисты обвиняли материалистов в
непростительном принижении духовного, разумного, идеального.
Материализм, утверждали они, умерщвляет разум, душу, трактуя
их как нечто рождающееся и умирающее вместе с человеческой
плотью. Разум, душа, доказывали идеалисты, не знает смерти,
ибо они не имеют отношения к тем индивидуальным
особенностям человеческой личности, которые присущи только ей. Мозг,
заявляли они, является разве только седалищем разума, души,
которые в принципе независимы от каких-то мозговых извилин,
наличия фосфора в тканях мозга и т.д.
Разумеется, идеализм упрощал, принижал
материалистическое понимание духовного или, точнее говоря, считал наиболее
адекватным выражением этого философского учения вульгарный
материализм, который действительно отождествлял мышление с
материальным, физиологическим процессом. Но так называемые
вульгарные материалисты, строго говоря, были не философами, а
популяризаторами естествознания, как об этом свидетельствуют
книги Л. Бюхнера, М. Молешотта, К. Фогта. Фейербах, выступая
против идеализма, отмежевывался вместе с тем от вульгарного
материализма.
Таким образом, материализм Нового времени не следует
рассматривать как учение, которому оказалась совершенно
недоступна специфика духовного. Он внес существенный вклад
293
в понимание духовного критикой его мистификации, своей
теорией аффектов и учением о познавательном значении
чувственной деятельности. Этот материализм доказал, что
идеалистическое представление о мировом разуме, мировой душе, мировой
воле, которые отрываются идеализмом от человека, означает
выхолащивание их реального содержания, своеобразия,
субъективности. Не случайно поэтому материалистическая критика
спекулятивной метафизики вылилась в реабилитацию человеческой
чувственности и человека вообще.
Фейербах правильно ухватил суть основного
идеалистического тезиса: разумное не может возникнуть из неразумного,
целесообразное из стихийного материального процесса, высшее - из
низшего, духовное - из материального. Этот аргумент, которому
неотомизм (официозная католическая философия) придает
фундаментальное значение, является в сущности традиционным в
истории идеализма. Он представляет собой онтологическое
истолкование той особенности процесса познания, которую Маркс
определил следующим афоризмом: анатомия человека - ключ к
анатомии обезьяны. Но из этой истины никто не делает вывода,
что обезьяна произошла от человека. Между тем идеализм
избирает по сути дела этот ложный путь умозаключений. Вопреки
фактам, свидетельствующим, что переход от высшего к низшему
происходит лишь в процессе разложения высшего, Гегель
утверждал, что высший организм служит «масштабом и первообразом
для менее развитых» (45, 518)*. С этой точки зрения, констатация
целесообразного устройства (или целесообразного
приспособления к среде) в той или иной области флоры и фауны
интерпретируется как обнаружение высшей духовной инстанции,
устанавливающей телеологические отношения.
В наши дни естествознание вынуждает идеализм
перестраиваться, пересматривать в большей или меньшей мере
традиционные концепции, иногда даже отказываться от них. Вследствие
этого в современной идеалистической философии выявляются
три превалирующие тенденции. Первая - стремление преобра-
* Через сто лет после Гегеля этот же аргумент был повторен прагматизмом.
У. Джемс выступил против материалистического положения о возникновении
высшего из низшего, несмотря на то что оно приобрело общенаучное
признание и значение. Для материализма, писал Джемс, характерно стремление
«объяснять высшие явления низшими и ставить судьбы мира в зависимость от его
слепых частей и слепых сил» (67, 60-61). С точки зрения «радикального
эмпиризма» Джемса «слепые», т.е. неодушевленные процессы природы обусловлены
«высшими явлениями», такими, как сознание и воля. Поскольку речь идет о
человеческом сознании и воле, это воззрение носит субъективно-идеалистический
характер.
294
зовать в духе требований современной науки традиционную
онтологическую и натурфилософскую тематику. Эта тенденция
находит свое отчетливое выражение в неотомистской философии.
Вторая тенденция связана с отрицанием онтологии и
возможности философского учения о внешнем мире. Наиболее ярким
выражением этой тенденции является, с одной стороны, философия
лингвистического анализа (именуемая обычно аналитической
философией), а с другой - экзистенциализм. Третья тенденция
представляет собой сведение проблематики философии к
философской антропологии. Приведу некоторые примеры.
Неотомисты, естественно, не могут отказаться от тезиса о
субстанциальности души, от догмата о сотворении каждой
человеческой души Богом. И все же они перестраивают свое учение
о душе, включая в него признание некоторых установленных
наукой фактов. Последние подтверждают лишь
материалистическое учение о психическом, но неотомисты истолковывают их как
вполне совместимые с идеализмом. Так, X. Сарагуэта Бенгоэчаа,
выступая на XVI всемирном философском конгрессе в Мехико,
говорил: «Процессы, совершающиеся в моем теле,
обусловливают, с одной стороны, процессы, совершающиеся в моем сознании,
а, с другой стороны, они в то же время определяются сознанием».
Сознание и физиологические процессы образуют с этой точки
зрения коррелятивное отношение. Тем не менее неотомист
сохраняет традиционную формулу: «душа - субстанциальная форма
живого, организованного тела», дополняя ее вынужденным
признанием: нервная система «обусловливает, в свою очередь,
протекание умственной деятельности». Эти оговорки иллюстрируют
попытки неотомизма смягчить свою спиритуалистическую
концепцию, «согласовать» ее с давно установленными наукой
фактами. Согласование, конечно, чисто вербальное, ибо не может быть
действительного понимания психического, если философский
материализм отвергается за то, что он якобы «не признает
наличия души, поскольку отрицает раздельность сознания и
организма, утверждает сводимость умственных, психических явлений к
телесным или физиологическим».
Идеалистическое признание научных данных вполне
сочетается с положением о независимости основоположений идеализма
от научного знания. «Согласование» с наукой заключается лишь
в идеалистической интерпретации научных данных. Вот почему,
«соглашаясь» с естествознанием, утверждающим, что материя в
своем развитии порождает такую специфическую форму своего
бытия, как жизнь, неотомист оговаривается: если это угодно Богу.
При таком подходе возникновение жизни, сознания, мышления
295
толкуется как доказательство всемогущества божьего. «Бог дал
материи необходимые возможности для того, чтобы
поставленная в специальные условия организации, температуры и т.п. ...
она могла бы стать живой», - заявляет неотомист Ф. Лелотт
(254а, 15). Выше приводилось одно из основоположений
идеализма: высшее не может возникнуть из низшего. Неотомизм уточняет
эту формулу: высшее может возникнуть из низшего по велению
божьему.
Когда Дуне Скотт утверждал, что материя приобретает
способность мыслить, если так хочет Бог, это утверждение
средневекового философа прокладывало дорогу материализму. Но
времена изменились, и в XX в. неотомисты хватаются за этот аргумент
для спасения идеализма.
В отличие от неотомизма логические позитивисты сводят
онтологические проблемы к логическим, семантическим и т.п.
Многие из них полагают, что вопрос об отношении духовного к
материальному - вовсе не философский вопрос, а проблема
физиологии, которая и решает эту психофизическую проблему. Фи-
лософия-де не располагает методами исследования, имеющимися
у частных наук, и поэтому не может заниматься онтологическими
проблемами. При этом сваливаются в одну кучу: общий вопрос
об отношении духовного к материальному и исследование
многообразных, качественно отличающихся друг от друга форм и
уровней развития психического, что предполагает также
исследование физиологии высшей нервной деятельности, в том числе
и ее патологических состояний*.
Идеализм оспаривает тот факт, что материалистическая
философия, опираясь на специальные научные исследования,
осмысливая их, делает выводы для себя и вместе с тем стимулирует эти
исследования без претензий на предвосхищение их конечных ре-
* Э. Кассирер чисто гносеологически истолковывает онтологический
тезис рационалистического идеализма: «Положение, что бытие есть "продукт"
мышления, не заключает никакого указания на какое-либо физическое или
метафизическое причинное отношение, а означает лишь чисто функциональное
отношение, иерархическое отношение в значимости определенных суждений»
(88, 385). Иными словами, Кассирер предлагает считать онтологический
вопрос, предполагающий альтернативные ответы, всего лишь суждением,
определяющим категорию «бытие», а не само бытие, относительно которого, коль
скоро оно мыслится находящимся вне мышления, не может быть никакого
знания. Мыслимое бытие, или категория «бытие» создается, по Кассиреру, только
мышлением. Этот неокантианский аргумент является, конечно, субъективно-
идеалистическим. Объективная реальность, с этой точки зрения, предполагает
существование человеческого сознания, ибо иначе нельзя утверждать, что она
существует независимо от него. Таким образом, субъективно-идеалистическая
аргументация оказывается на деле утонченной софистикой.
296
зультатов. Это в особенности относится к материализму Нового
времени. Поль Гольбах писал в «Системе природы», что физика,
медицина, агрономия, одним словом все полезные науки, плохо
развиваются, топчутся на месте из-за недостатка опытных
знаний и вследствие господства отживших традиций,
придерживаясь которых, ученые предпочитают идти проторенными путями
вместо того, чтобы пролагать новые дороги и путем настойчивых
экспериментов вырывать из природы ее тайны. Таким образом,
французский материалист XVIII в., признающий основой своего
мировоззрения научные данные, вместе с тем критикует
естествознание своего времени за его преклонение перед авторитетами
и обремененность устарелыми представлениями. Эта
материалистическая позиция не утратила актуальности и в наше время.
Г.В. Плеханов цитирует неокантианца Ф. Ланге,
утверждавшего, что для материалиста «всегда останется непреодолимым
препятствием объяснить, как из вещественного движения может
получиться сознательное ощущение». Нетрудно понять, что
Ланге требует от материализма решения проблемы, находящейся в
ведении специальных наук. Отвечая на такого рода аргументы,
материалист не преминет подчеркнуть, что идеализм не способен
объяснить происхождения ощущений, а его рассуждения о «вто-
ричности» материи ничем не подтверждаются. Не умаляя
значения этого контраргумента, следует все же указать на отличие
точки зрения философского материализма от
естественнонаучного подхода. Это и делает Плеханов: «материалисты никогда не
обещали дать ответ на этот вопрос. Они только утверждают, что
... помимо субстанции, обладающей протяжением, нет никакой
другой мыслящей субстанции и что, подобно движению,
сознание есть функция материи» (142, 3, 632).
Таким образом, материалистическое понимание отношения
духовное-материальное указывает, разумеется, в самой общей
форме действительное направление плодотворного
специального исследования, в то время как идеалистическая интерпретация
этого отношения не только ничего не дает науке, но и толкает ее
на ложный путь. Что касается неопозитивизма и других
субъективистских учений, противопоставляющих естествознание
«умозрительной» онтологии (или «натурфилософии») материализма,
то они не замечают (или игнорируют) философское содержание
и значение вопроса, который они с такой легкостью объявляют
только (и исключительно) естественнонаучным.
Экзистенциализм в отличие от других идеалистических
учений полагает, что все объекты возможного познания (существуют
ли они или только представляются существующими), поскольку
297
они обсуждаются безотносительно к экзистированию
человеческой личности, должны быть исключены из философии.
Философия вообще не есть знание об объектах, и материализм, если
его интересует лишь независимая от человеческой
субъективности реальность, в сущности изменяет философии. С
экзистенциалистской точки зрения имеется особая, отнюдь не
сверхчувственная и все же принципиально недоступная науке реальность, так
же как и соответствующее ей особое знание, которое теряет свою
подлинность, свое смысловое значение, как только оно обретает
научное выражение. Эта реальность - душевная жизнь
индивидуума, способного вчувствоваться в нее, и знание о ней,
неотделимое от самого переживания жизни, радикально отличается в
силу своей непосредственности, субъективности от всякого
научного знания. Наука ищет причины наблюдаемых фактов,
объясняет известное посредством допущения другого, неизвестного.
Если применить такой подход к человеческой душевной жизни,
он создаст видимость объяснения ее проявлений, но в сущности
ничего не дает для ее понимания. Более того, научный подход
устраняет ее абсолютное отличие от всех объектов науки, так как
она в принципе не может быть объектом.
Итак, экзистенциализм утверждает, что глубинная
душевная человеческая жизнь, именуемая экзистенцией, постигается
только философией, вернее, только экзистенциализмом, который
осмысливает само переживание жизни, не выходя за его пределы.
Материализм, утверждают экзистенциалисты, трактует эту
научно невыразимую субъективность в духе науки, анализирует ее
отношение к внешнему миру, не замечая ее самодовлеющего
характера. Материализм, утверждают экзистенциалисты, есть
отрицание человеческой личности, т.е. экзистенциии, а следовательно,
и свободы воли, самодетерминации, неповторимости
человеческой самости. Материализм объявляется философией
отчуждения, специфической формой отчуждения личности, порождаемой
материальным производством, научно-техническим прогрессом,
сциентизмом. При этом экзистенциалисты не додумываются до
вопроса: как вообще возможна человеческая субъективность без
того прочного фундамента, который создается развитием
общественного производства, общественных отношений и благодаря
этому также развитию человеческих способностей.
Экзистенциалисты меньше всего способны понять историю человечества. Это,
впрочем, вовсе не означает, что в экзистенциалистской критике
материализма нет никакой частицы истины. Выше уже шла речь
о том, что материализм недостаточно оценил человеческую
субъективность, духовную жизнь индивида и общества. И материа-
298
диетическое понимание истории, обосновывающее
первенствующее значение производительных сил, экономических отношений
недостаточно (мягко выражаясь) исследует зависимость
последних от неэкономических, в том числе духовных факторов*.
В. Дильтей, один из творцов «философии жизни» и, стало
быть, также предшественник современного экзистенциализма,
вопреки последнему признает, что материализм в его развитых
формах является гуманистической философией.
«Натуралистический идеал, каким на исходе длинного культурного развития его
выразил Людвиг Фейербах, идеал свободного человека,
узнающего в Боге, бессмертии и в сверхчувственном мире призраки своих
стремлений и желаний, оказал мощное влияние на политические
идеалы, на литературу и поэзию» (69, 166). Это вынужденное
признание весьма симптоматично. Многие идеалисты, если не
прямо, то косвенно признают, что противопоставление духовной
жизни личности ее телесной, чувственной жизни оказывается
безосновательным. Экзистенциализм, правда, в известной мере
освобождается от этого в сущности чуждого гуманизму
дуализма души и тела. Но нельзя освободиться от пороков
идеализма, не отказываясь от его основных положений. И одряхлевшее
идеалистическое противопоставление духовного материальному
оживает в экзистенциалистском противополагании
субъективности «бездушной» объективности, безосновательно
отождествляемой со сферой отчуждения. Субъективистская нетерпимость
к объективному в конечном счете оказывается нетерпимостью к
«простому» человеку, который не сознает или не признает, что
его внутренняя самость абсолютно свободна. Экзистенциалист,
бесспорно, вполне осознает, что эта свобода бессильна перед
лицом неумолимой, эмпирической необходимости, с которой она
не желает считаться. Реализация свободы оказывается поэтому
поражением. Но иного пути нет, утверждает экзистенциалист.
В этом смысле борьба экзистенциализма против фатализма в
высшей степени непоследовательна и в сущности бесперспективна.
Правильно отмечает B.C. Степин, внося коррективы в обычное
изложение марксистского, материалистического понимания истории: «Духовная жизнь
общества, взятая во всем многообразии ее проявления и понятая предельно
широко как состояние и развитие культуры, пронизывает все без исключения
сферы человеческого бытия. Она определяет воспроизводство и изменения
многочисленных структур социальной жизни, аналогично тому, как генетический
код и его мутации определяют структуру живого и изменения его организма»
(Степин B.C. Маркс и тенденции современного цивилизационного развития//
Карл Маркс и современная философия. М., 1999, с. 37). С точки зрения
догматического марксизма это положение является недопустимой уступкой идеализму,
в то время как на деле оно адекватным образом характеризует основное
содержание материалистического понимания истории.
299
Следует, однако, подчеркнуть, что в настоящее время
идеализм все более перестраивается и поэтому также пересматривает
свои аргументы против материализма. Еще в недалеком прошлом
материалистов обвиняли в том, что они придерживаются
повседневного опыта, некритически относятся к науке, не постигают
истинного смысла религии, чужды подлинной человеческой
субъективности. Пересматривая эти обвинения, идеализм пытается
освоить в своих собственных интересах ту точку зрения, которую
он подвергал критике. Однако «освоение» оказывается на деле
идеалистическим истолкованием повседневного опыта и науки,
новой попыткой примирения знания и веры.
Слабость идеалистической критики материализма в главном
и решающем, разумеется, не исключает наличия в ней
рациональных элементов, которые историко-философская наука не вправе
игнорировать. Идеалистическая критика механистического
материализма XVII-XVIII вв. действительно указывала на его
ограниченность, хотя этой критике явно не хватало понимания
исторической прогрессивности механистической картины мира, в том
числе и человеческого существа.
Идеализм не без основания упрекал материализм в том, что
тот отрицает существование целесообразных отношений в
природе. Правильно отмечает И.Т. Фролов: «Исторически дело
сложилось таким образом, что проблема целесообразности в
позитивном плане обсуждалась в основном в рамках идеалистических
философских концепций, тогда как материализм - в его
механистической форме - по большей части лишь негативно
реагировал на имеющуюся телеологическую трактовку этой проблемы,
не рассматривая порой по существу стоящие за ней объективные
факты» (179, 36-37).
Недостатки, которые идеализм обнаруживал в
материалистической философии, преодолевались ею в ходе последующего
развития. Учение, которое идеалисты считали вполне
опровергнутым, становилось все более обоснованным. Это стало одной
из причин кризиса идеализма в XX в. Аргументы, которые он
направлял против материализма, в конечном счете обращались
против него самого. Так, идеализм, обвинявший материалистическую
философию в признании одного только посюстороннего мира, в
некритическом доверии к чувственным восприятиям, вынужден
был частью отказаться от этих обвинений, частью обставлять
их многочисленными оговорками, поскольку достижения науки
и умножающийся опыт человечества постоянно подтверждали
материалистическую «ересь». Отсюда и то, отмечавшееся уже
мною парадоксальное и вместе с тем закономерное «отречение»
300
идеализма от идеализма, которое оказывается лишь изменением
формы идеализма. Это позволяет считать современный идеализм
утопической попыткой создания антиматериалистической
системы взглядов, свободной от пороков идеализма*.
Признавая так или иначе, в особенности посредством
предельного ограничения действительного содержания понятия
идеализма, что идеалистическое философствование во многом
оказалось несостоятельным, сторонники современного
идеализма ищут новые пути обоснования своего мировоззрения. Так,
например, на первый план выдвигают такой аргумент: идеализм -
не единственная альтернатива материализму. Более серьезными,
перспективными противниками материализма одни объявляют
спиритуализм, другие - реализм. Оба эти учения, разумеется,
считаются принципиально отличными от идеализма. Между тем
спиритуализм в своих основных чертах совпадает с объективным
идеализмом; это - одна из его ипостасей. В известном смысле
слова объективный идеализм вообще есть спиритуалистическое
мировоззрение. Однако этой его основной определенности
нередко противостоит пантеистическая тенденция, сглаживающая
спиритуалистическое противопоставление духовного материаль-
* Сошлюсь на примеры, показывающие, как современный идеализм
пытается извлечь уроки из материалистической критики его основоположений.
Ф. Ломбарди, один из современных неогегельянцев, обрушивает на идеализм
такую сардоническую тираду: «Реальность, о которой говорит нам идеализм,
будто бы возвышающаяся сама над собой, есть не что иное, как барон
Мюнхгаузен, который вытащил себя самого из болота за волосы, однако с тем различием,
что для идеализма не существует ни болота, ни волос, ни даже того рыцаря во
плоти и крови, который должен спасти себя из болота» (256, 198). Эта
бичующая характеристика отождествляет идеализм с субъективным идеализмом и,
больше того, с солипсизмом. Такое ограниченное понимание сущности
идеализма позволяет истолковывать объективный идеализм как
неидеалистическую философию. При этом за различием между основными разновидностями
идеализма скрадывается тождество их отправного пункта - субстанциализация
сознания, духовного в той или иной форме. Другой пример. Один из первых
исследователей экзистенциализма И. Пфефер, которому экзистенциализм,
подвергающий радикальной критике «дух абстракции», представляется отрицанием
идеализма, пишет: «Опасность идеализма - его призрачность: человек, как
чистая разумная сущность, как сфера реализации идеи отгораживается от скрытой
изначальности своего бытия и выступает против него» (283, 16-17).
Фундаментальная изначальность человеческого существования, о которой говорит
экзистенциализм, не есть, конечно, отрицание идеализма. Подчеркивая смертность
человека, субъективность индивидуального переживания, экзистенциализм
отрицает лишь рационалистический идеализм, противопоставляя ему иррациона-
листическую форму идеализма, согласно которой существование в
специфически человеческом смысле слова возможно лишь в посюстороннем мире. Таким
образом, идеализм никогда не возвышается до критического понимания своей
собственной сущности.
301
ному. Попытки отделить спиритуализм от идеализма сводятся в
конечном счете к отрицанию этой пантеистической тенденции.
Что касается реализма, то его представителями себя считают
философы самой различной ориентации: неотомисты,
неореалисты, «критические реалисты», сторонники «критической
онтологии» Н. Гартмана. О них речь пойдет ниже. Укажу лишь на то,
что неотомистский реализм, отмежевывающийся от идеализма,
признает, что чувственно воспринимаемая реальность
существует безотносительно к сознанию человека; ее первопричиной,
однако, объявляется божественный разум. А.Г. Егоров справедливо
замечает о лидере томизма XX века: «Маритэн признает
реальность внешнего мира. Но сейчас же добавляет, что окружающий
нас мир независим лишь от человека, но всецело зависит от...
Бога» (167, 12).
Если идеалистические аргументы против материализма
дискредитируются прогрессивным развитием познания, то
материалистическая критика идеализма все более подкрепляется и
обогащается этим прогрессивным процессом. Борьба между
различными идеалистическими течениями все более обостряется
вследствие материалистической критики идеализма. Идеализм
эволюционирует от откровенного супранатурализма и
родственного теологии философствования к идеалистическому освоению
натурализма и иррелигиозным по форме учениям. Но эта
тенденция постоянно наталкивается на сопротивление в собственном
лагере. Вследствие этого идеализм постоянно поворачивается
вспять, т.е. возвращается от иррелигиозности к
супранатурализму. Поэтому идеалистическая философия каждой исторической
эпохи представляет собой картину своеобразного круговорота,
различные этапы которого получают преломление в отдельных
идеалистических системах. В зависимости от
культурно-исторических условий идеализм перемещает логические акценты,
изменяет подход к проблемам, по-разному формулируя свои
постулаты и выводы. То он выступает с претензией на подлинно научное
знание, назидательно указывая науке на ее недостаточную
научность. То он, осуждая научный взгляд на мир как точку зрения
видимости, претендует на сверхнаучное знание. Показательна в
этом отношении дискуссия между А. Бергсоном и А.
Эйнштейном. Бергсон пытался опровергнуть понятие времени в теории
относительности. Эйнштейн отвечал ему, что его представление о
времени не поддается естественнонаучному пониманию.
Претензия Бергсона на познание особой, будто бы недоступной науке
области существующего оказалась несостоятельной, как и все
предшествующие попытки развивать философию как «науку наук».
302
В настоящее время претензия идеализма на создание системы
знаний, противостоящей наукам, превратилась в анахронизм, ибо
науки познают не только то, что было объявлено непостижимым,
но и открывают такие «диковинные» явления, существование
которых не могло предвосхитить самое изощренное воображение.
Однако идеализму нельзя отказать в поразительной
изобретательности. На всем протяжении XX в. идеализм, выступающий
под флагом позитивной философии, выдвигал задачу создания
научного философского метода и даже вносил определенный
положительный вклад в эпистемологию. Но в отличие от
логического позитивизма другие философские учения, напротив,
стремились доказать, что науки ничего не могут дать ни философии,
ни искусству, а признание философией существующих критериев
научности означает фактически отречение от философии. Как
ни различны, пожалуй, даже противоположны эти учения, они
заключают в себе нечто общее: явное (или неявное)
противопоставление научной картине мира философии, неизбежную форму
которой образует замкнутая система. Может показаться, что
замкнутость, «законченность» философской системы связана лишь
с антидиалектическим пониманием систематичности знания, а
значит не имеет ничего общего с идеалистическим
мировоззрением. К тому же претензия на создание завершенной системы
знания была в течение ряда веков свойственна также
материалистической философии и естествознанию. Однако речь в данном
случае идет не просто о тенденции, которая сталкивается с
противоположной, частично нейтрализующей ее тенденцией, а об
основной, определяющей особенности построения философского
учения, которая, как нетрудно доказать, неотделима от сущности
идеализма. Фихте и Гегель были диалектиками, но они создали
замкнутые, завершенные системы якобы окончательного
философского знания, противопоставляя тем самым философию
всегда незавершенной «конечной» науке.
Идеалистическая недооценка научного знания, какие бы
формы выражения она ни принимала, неотвратимо влечет за собой
противопоставление философии («абсолютной науки») частным,
«относительным» наукам. Это характеризует не только
рационалистическую метафизику, но и идеалистический эмпиризм.
Вспомним утверждение Э. Маха о том, что «элементы» всего
существующего составляют ощущения. Если даже отвлечься от
субъективистской интерпретации ощущений, то и в этом случае
(поскольку сохраняется утверждение, что элементы всего
существующего воспринимаются чувственно) налицо абсолютизация
эмпиризма, который в силу этого противопоставляется науке,
303
критически анализирующей чувственные данные. Не
удивительно поэтому, что Э. Мах, выдающийся физик, руководствуясь
своей философской теорией, отрицал существование атомов и
молекул, о которых ничего не говорят ощущения.
Современная идеалистическая философия обычно сознает,
что ее превосходство над первоначальным, облаченным в
мифологические формы идеализмом так же как и независимость от него
весьма и весьма относительны. Сопоставляя новейшие
идеалистические системы с учениями Платона и Аристотеля,
современные философы-идеалисты нередко приходят к заключению, что
ни классики идеализма, ни их продолжатели не выдвинули
принципиально новых проблем и не преодолели заблуждений этих
великих мыслителей. Это заключение категорическим образом
сформулировал Уайтхед, заявивший, что вся история философии
является лишь суммой добавлений и примечаний к учению
Платона. Что выражает это утверждение, которое несомненно
является преувеличением? С одной стороны, оно действительно
характеризует отношение большинства европейских идеалистических
учений к философии Платона, а с другой, - кризис идеализма,
которому не удалось справиться с противоречиями,
обнаружившимися уже в первой выдающейся идеалистической системе.
Весьма показательно, что редукция историко-философского процесса
к постоянному возрождению платонизма непосредственно
связана с отрицанием прогресса в философии. «Философское
мышление, - заявляет К. Ясперс, - не есть прогрессивный по своему
характеру процесс. Мы, разумеется, пошли дальше
древнегреческого врача Гиппократа. Однако мы едва ли можем сказать, что
пошли дальше Платона» (244, 10).
Таким образом, идеалисты наших дней (хотя они сплошь и
рядом не считают себя идеалистами) утверждают, что философия
не способна возвыситься над своим прошлым. Показательна в
этом отношении позиция К. Ясперса, который истолковывает все
философские учения как разновидности платонизма: «... с
историко-философской точки зрения философия представляет собой
платонизм» (244, 281). Крюгер рассуждает о философии вообще,
игнорируя существование материализма, который, конечно, не
примыкает к философии Платона и уже в древности выступил
как ее отрицание.
Некоторые философы обосновывают приведенный тезис,
анализируя современные философские учения, обусловленные
историческими обстоятельствами, которых не могло быть в
эпоху Платона. Так, Кун, ученик Хайдеггера, стремится доказать,
что Платон был родоначальником экзистенциализма. Как уче-
304
ник Сократа Платон показал, пишет Кун, что человек,
потрясенный падением нравов и законов, унаследованных от предков, а
также тем, что чувственно воспринимаемый мир нельзя понять
из него самого, ставит вопрос о подлинном бытии как основе
всего сущего. Выразим это более современным языком: вопрос
о бытии есть вместе с тем вопрос о смысле бытия. Кун,
несомненно, модернизирует, осовременивает Платона, в особенности
когда он пытается выразить «современным», точнее,
экзистенциалистским языком своеобразие его философской позиции. Но не
указывает ли такая интерпретация учения Платона на то, что
модернизация платонизма образует один из основных источников
современной (в том числе экзистенциалистской)
идеалистической философии?
Идеализм действительно не может возвыситься над своим
историческим прошлым. Поэтому каждая новая историческая
эпоха все более углубляет противоположность между идеализмом и
наукой, которой чуждо преклонение перед научными
достижениями своего исторического прошлого. Материализм же, как и
наука, органически связан с настоящим и устремлен в будущее.
Высокая оценка достижений предшествующей материалистической
философии нисколько не мешает представителям современного
материализма ясно сознавать пороки и заблуждения своих
предшественников. Идеализм есть отчужденная форма философского
освоения действительности, материализм - отрицание этой
философской формы отчуждения*.
Каковы же итоги? Материализм, который третируется
подавляющей частью современных философов-идеалистов как
наивное, давно опровергнутое учение, несовместимое с высокой
философской культурой, фактически победил своего утончен-
* Констатация кризиса идеализма не должна приводить к упрощенному
представлению о сущности этого философского учения, представлению,
которое, увы, все еще бытует в нашей популярной литературе. «Рассуждения
идеалистов, - пишет автор одной из брошюр, - приводят к выводу, что единственный
человек, существующий на свете, - это я, а все остальные люди и природа - это
лишь мои ощущения. Ясно, что человека, утверждающего, что только он один
существует на свете, едва ли можно признать нормальным. Слушать его
бесполезно» (17, 13). Заблуждение цитируемого автора не только в том, что он сводит
все идеалистические учения к солипсизму, который, строго говоря, не
существует как сколько-нибудь определенное философское учение. Солипсизм есть
лишь логический вывод, который вытекает из основной посылки субъективного
идеализма, но ни один представитель этого учения такого вывода, конечно, не
делает. Второе заблуждение этого автора в том, что он игнорирует
существование объективного идеализма. Но хуже всего то, что для него идеализм -
психическая аномалия. К чему в таком случае критика идеализма? Разве серьезные
люди спорят с помешанными.
305
ного противника. Я говорю фактически, так как на поверхности
современного буржуазного общества по-прежнему господствует
идеализм, правда, не признающий себя таковым.
Материализм несомненно одержал верх над идеалистической
концепцией вторичности природы. Идеалистическое учение о
зависимости чувственно воспринимаемой действительности от
способа ее восприятия потерпело поражение в своем
противостоянии материалистической теории познания.
Материалистическое понимание истории вскрыло несостоятельность
идеалистического толкования исторического процесса. И что, конечно, не
менее важно: материализм, можно сказать, окончательно победил
в естествознании, где ему противостояли (а частью противостоят
и в настоящее время) различные агностические концепции,
абсолютный релятивизм, а иной раз и теории
спекулятивно-метафизического толка, которые проповедуются некоторыми
философствующими естествоиспытателями.
Главный вывод, подытоживающий предшествующее
изложение, можно сформулировать так: то, что материалисты почти не
критиковали идеализм, а выдающиеся представители идеализма
считали ненужной полемику с материализмом, отделываясь
краткими уничижительными оценками, не заключает в себе ничего
хорошего. Критика материализма «второстепенными»
представителями идеалистического философствования как раз и
свидетельствует о том, что классики идеализма, по существу, игнорировали
материализм, считая его неподлинной философией. Между тем,
основательная критика материализма, если бы она
наличествовала в сочинениях выдающихся идеалистов, несомненно, пошла
бы на пользу как материализму, так и идеализму. Столь же
полезной обоим противостоящим друг другу направлениям была бы
критика идеалистической философии выдающимися
представителями материализма. Но чего не было, того и не было.
Историю философии не следует выдумывать; не надо приписывать
историко-философскому процессу тех достоинств, которыми он
не отличается. Та критика идеалистической философии, которая
изложена на предшествующих страницах, есть критика с
позиций современного диалектического материализма, философского
направления, которое в отличие от предшествующих
материалистических учений впервые в истории систематически занималось
критикой идеализма. Но нельзя не признать, что эта критика, как
правило, носила упрощенный, нигилистический характер. Лишь
после крушения СССР и упразднения идеологической доктрины
так называемого марксизма-ленинизма диалектико-материалис-
тическая критика идеалистической философии основывается на
306
обстоятельном ее изучении и стремлении постигнуть объективное
содержание идеалистических заблуждений, т.е. то содержание,
которого сплошь и рядом недоставало диалектическому материализму,
пребывавшему все годы существования Советской власти в
состоянии автаркии, самоудовлетворенности и идейного изоляционизма.
A.A. Жданов в докладе на дискуссии, состоявшейся в 1947 г.
согласно решению ЦК КПСС по книге Г.Ф. Александрова
«История западноевропейской философии», утверждал, что историко-
философский процесс представляет собой развитие
материализма в борьбе с идеализмом. В свете изложенного выше становится
ясно, что такой борьбы почти не было. Отдельные критические
замечания в адрес материализма или идеализма не надо выдавать
за настоящую идейную борьбу. Нет также оснований утверждать,
что историко-философский процесс представляет собой
развитие материализма в борьбе с идеализмом, хотя идеалисты
гораздо чаще, чем материалисты, выражали свое отрицательное
отношение к противоположному философскому направлению. Самым
примечательным в этом историко-философском процессе, как это
ни удивительно, является борьба идеалистов с теми идеалистами,
которые придерживаются иных воззрений. Аристотель в своей
«Метафизике» спокойно излагает воззрения
натурфилософов-материалистов, сопровождая это изложение скупыми критическими
замечаниями. Но теорию трансцендентных идей Платона он
подвергает весьма обстоятельной критике. Борьба идеалистов
против других идеалистов, обосновывающих иную систему
идеалистических воззрений, особенно характерна для Нового времени.
Так, Беркли обрушивается на весьма благочестивого Мальбран-
ша. «Он, - пишет Беркли, - основывается на абстрактных общих
идеях, которые я совершенно отвергаю. Он признает абсолютный
внешний мир, который я отрицаю. Он утверждает, что наши
чувства нас обманывают и мы не знаем действительной природы или
истинных форм и фигур протяженного бытия; обо всем этом я
держусь прямо противоположного мнения. Так что не
существует принципов более фундаментально противоположных, чем его
и мои» (15а, 305). Разумеется, эту берклевскую критику системы
Мальбранша нет оснований расценивать как борьбу идеализма
против самой сути идеализма. Суть дела совсем в другом. Беркли
как представитель идеалистического эмпиризма ведет войну
против рационалистического идеализма Мальбранша. Если и может
здесь идти речь о борьбе (правильнее, на мой взгляд, говорить о
философском споре), то это лишь борьба между двумя
разновидностями идеализма, которая ни в малейшей степени не
покушается на его основы.
307
Антитеза материализма и идеализма даже тогда, когда она
принимает бескомпромиссный характер, не является борьбой, так
как противники обычно игнорируют друг друга, считая сплошь и
рядом ненужным сколько-нибудь основательный анализ
воззрений противной стороны. И совершенно иное дело отношение
одних идеалистических учений к другим. Это действительная
борьба, обстоятельный разбор оснований, аргументов противника,
иногда даже отрицание общности исходных посылок идеализма.
И эта борьба, точнее взаимная критика, конечно, плодотворна:
заблуждения идеализма становятся более содержательными,
заключающими в себе новые идеи, обогащающие философию.
Материалисты же, как правило, не критикуют друг друга, их учения
отличаются друг от друга главным образом в частностях,
принципиальные разногласия отсутствуют, вследствие чего история
материализма не блещет разнообразием воззрений,
методологических подходов. Единственное исключение - диалектический
материализм, который не только подверг критике
предшествующие материалистические учения, но и воспринял, в какой-то
степени переработав, диалектику идеалиста Гегеля.
В свете этих соображений становится понятной
несостоятельность господствовавшей в марксистской литературе концепции,
согласно которой материализм всегда прогрессивное
мировоззрение, выражающее интересы революционных или по меньшей мере
прогрессивных классов, в то время как идеализм - реакционное
или в лучшем случае консервативное мировоззрение классов,
отстаивающих отжившие социальные порядки, противящихся
исторически необходимым социальным переменам. Эта концепция
настойчиво декларировалась во время дискуссии по
упоминавшейся уже книге Г.Ф. Александрова и прочно вошла в советские
учебники как не подлежащая сомнению аксиома. И надо признать
бесспорной заслугой П.В. Копнина, который вопреки этому
ложному, догматическому убеждению, не считаясь с так называемой
общепринятой точкой зрения, решительно утверждал:
«Идеалистическая система может быть шагом вперед в развитии
философского знания по сравнению с предшествующим материализмом и
играть реакционную роль в идейной жизни общества и, наоборот,
не иметь никакого значения в поступательном движении
философской мысли и оказывать прогрессивное воздействие на
общественную жизнь страны» (92, 111).
Выше уже шла речь о том, что вопрос об отношении
мышления к бытию отнюдь не во всех философских учениях
является действительно основным. Л. Ляховецкий и В. Тюхтин в статье
«Основной вопрос философии», опубликованной в «Философс-
308
кой энциклопедии», так характеризуют учения Гельвеция, Руссо
и Ф. Бэкона: «...Гельвеций считал главным вопросом философии
вопрос о сущности человеческого счастья, Руссо - вопрос о
социальном неравенстве и путях его преодоления, Бэкон - вопрос
о расширении могущества человека над природой посредством
изобретений и т.д.» (168,172)*. В «Новой философской
энциклопедии», опубликованной в 2001 г. под редакцией B.C. Степина,
A.A. Гусейнова, Г.Ю. Семигина, статьи «основной вопрос
философии» вообще нет. Это - свидетельство того, что наличие такого
вопроса вообще поставлено под вопрос. В статье «Философия»,
помещенной в четвертом томе этой энциклопедии, об основном
философском вопросе вообще не упоминается. Вместо него в ней
говорится о проблематике философии. «Проблематика человека
и мира, субъекта и объекта, сознания и бытия является
центральной в философских учениях. Но каждая эпоха и каждая
культура вкладывает в эти категории свой смысл, проводит
по-своему границу между субъектом и объектом, сознанием и бытием»
(130, 198).
Фихте, в отличие от других идеалистов, категорически
утверждал, что нет ничего вторичного, производного: «Одно из двух
должно быть устранено: дух или природа; объединение их
совершенно невозможно. Их мнимое объединение есть частью
лицемерие, частью ложь, частью навязанная внутренним чувством
непоследовательность» (172, 32). Эта категорическая формулировка,
прекрасно характеризующая не только учение, но и личность
философа, по существу исключает отношение между мышлением и
бытием.
Интуитивистская философия А. Бергсона принимает в
качестве отправного пункта и основной категории понятие
длительности. Длительность не что иное как время, которое может
пониматься и материалистически, и идеалистически. Бергсон
идеалист и поэтому противопоставляет длительность
физическому времени, а также материи и... разуму. Следовательно, он
далек от тезиса о первичности мышления и вторичности бытия.
И мышлению, и бытию Бергсон противополагает время, интер-
* Русский материалист Д.И. Писарев полагал, что главная проблема
философии «состоит в том, чтобы разрешить навсегда неизбежный вопрос о
голодных и раздетых людях; вне этого вопроса нет решительно ничего, о чем бы
стоило заботиться, размышлять и хлопотать» (132, 125). Совершенно очевидно, что
здесь имеется в виду не отправное положение философии, а ее высшая задача,
которая определяется с революционно-демократических позиций. Правда,
Писарев больше литературовед, публицист, чем философ. Но это обстоятельство
нисколько не умаляет его понимания высшего вопроса (и задачи) философии.
309
претируемое как сверхприродная сила, «жизненный порыв» (élan),
вечное становление, продуктом распада которого оказываются,
с одной стороны, материя, а с другой - неразрывно связанный
с ней человеческий интеллект. Конечно, скрупулезный анализ
основоположения системы Бергсона может выявить в нем нечто
аналогичное «высшему вопросу всей философии». Но аналогия
указывает на сходство, не более.
М. Шакка, известный представитель итальянского
христианского спиритуализма, исходя из тезиса о первичности бытия,
следующим образом обосновывает идеалистически-теологическую
систему воззрений: «Бытие первично, лишь бытие есть первое.
Сказать, что оно есть "прежде", так же как сказать, что бытие есть
принцип, было бы не точно. Бытие есть присутствие; оно есть,
оно само себя полагает: нет ничего "до" и "после" бытия. До и
после можно вообразить ничто, т.е. отсутствие бытия, однако
такое предположение возможно постольку, поскольку бытие есть.
Ничто не есть отрицание бытия, так как оно мыслимо благодаря
бытию... Это отсутствие, являющееся следствием присутствия,
мы именуем небытием: называть его "ничто" - заблуждение. Все,
что существует "диалектично": это присутствие и отсутствие
бытия, но отсутствие обусловлено присутствием» (292, 15-16).
Далее Шакка противопоставляет бытие, с одной стороны, субъекту,
с другой - объекту. Он ополчается против идеализма
(субъективного), который сводит объект к субъекту, против материализма,
якобы редуцирующего субъект к объекту. Бытие превозносится
над всеми качественными различиями и в конечном счете над
самой реальностью: «реальное не есть бытие, и бытие не есть
реальное» (292, 19). Реальное объявляется одной из
производных форм бытия, бытия с большой буквы, которое трактуется как
сверхэмпирическая, транссубъективная действительность, в
конечном счете как Бог.
Нельзя не отметить, что в этом казуистическом рассуждении
бытие понимается как духовное, вопреки предложенной
Энгельсом формулировке. Так обычно понимают бытие многие
идеалисты, не говоря уже о средневековых схоластах. Следовательно,
тезис - бытие первично, мышление - вторично отнюдь не
обязательно формулирует материалистическое основоположение.
Идеализм еще более многообразен, чем материализм. Он
далеко не всегда принимает в качестве первоначала мышление, как
это делает Гегель. Одни идеалисты исходят из представления о
некоем мировом разуме (или душе), другие утверждают, что
первоначало - вселенская воля, третьи придают такое же значение
бессознательному, но отнюдь не материальному.
310
Ф. Ницше на свой лад формулирует «основной» вопрос
философии: «Мне, например, кажется, что самый главный вопрос
для всякой философии является в том, насколько вещи обладают
неизменными качествами и формами, чтобы затем, дав ответ на
этот вопрос, с беззаветной храбростью отдаться
совершенствованию той стороны мира, которая будет признана изменчивой»
(124,91).
Замечательный французский писатель и философ А. Камю
убежден, что основной вопрос философии - проблема
самоубийства. «Стоит ли жизнь того, чтобы жить, или она не стоит
этого - судить об этом - значит отвечать на фундаментальный
вопрос философии» (210, 15). Это положение не имеет ничего
общего с тем, что в марксистской литературе именуется основным
философским вопросом*. Не следует недооценивать вопрос,
поставленный А. Камю, хотя бы потому, что он вполне вписывается в
определенную философскую традицию, начало которой
положили мыслители Древнего Востока и философы эллинистической
эпохи. Отчуждение человеческой деятельности, продукта этой
деятельности, отчуждение природы закономерно порождает эту
проблему и наполняет ее глубоким смыслом. Но это не
перелицованная форма пресловутого «высшего вопроса всей философии»,
поскольку речь идет об отношении человека не вообще к бытию,
а к своему существованию. Правильнее сказать, что это основной
вопрос философии самого Камю. Я утверждаю, что и в каждом
выдающемся философском учении есть свой основной вопрос.
К. Поппер в предисловии к английскому изданию своей
«Логики научного открытия» (1959) пишет: «Я, однако, полагаю, что
существует по меньшей мере одна философская проблема,
которая интересует всех мыслящих людей. Это - проблема
космологии, проблема понимания мира, включая понимание нас самих и
наше знание, относящееся к миру» (282,15). Доклад Поппера на
* Известный сербский философ Г. Петрович вполне уместно замечает, что
основной вопрос философии, как он понимался Энгельсом, Плехановым и
Лениным, лишен всякого смысла. Однако не все, что имеет смысл, является в силу
этого основополагающим». Эта довольно общая мысль дополняется
соображением онтологического характера: разделение на материю и дух не есть
основополагающее деление мира, в котором мы живем. Это, правда, основополагающее
деление в самом человеке. Как же может в таком случае вопрос об отношении
материи и духа быть основным вопросом философии. Действительно,
отношение «духовное-материальное» не есть изначальное, первичное отношение. Оно
предполагает, с материалистической точки зрения, возникновение духовного,
которое не есть свойство материи в любом ее состоянии. Это положение
Петровича, как мне представляется, указывает на уязвимый пункт обсуждаемой
формулировки Энгельса.
311
XIV всемирном философском конгрессе (Вена, 1968)
свидетельствует о том, что именно эту проблему он и считает основным
вопросом философии.
Таким образом, нет одного, общего всем философским
учениям основного философского вопроса. Существует вообще немало
основных философских вопросов. А так как у каждого
выдающегося философа имеется собственный ответ на вопрос «что такое
философия?», то соответственно этому он и определяет предмет
своего исследования и тем самым формулирует то, что считает
основным философским вопросом.
Энгельс, характеризуя именуемое им «высшим вопросом всей
философии», указывает также, что этот вопрос «имеет еще и
другую сторону: как относятся наши мысли об окружающем нас мире
к самому этому миру? В состоянии ли наше мышление познавать
действительный мир, можем ли мы в наших представлениях о
действительном мире составлять верное отражение
действительности» (115, 21, 283). Такой вопрос занимает действительно
существенное место в философских учениях, но он вовсе не
составляет второй стороны так называемого основного философского
вопроса. Энгельс ведь признает, что и материалисты и
идеалисты, как правило, признают принципиальную познаваемость мира.
Следовательно, их ответ на этот вопрос не порождает
противоположности между этими философскими направлениями. Попытка
логически вывести положение о познаваемости или
непознаваемости мира из альтернативного решения вопроса об отношении
духовного к материальному явно несостоятельна*. Тем не менее
в нашей философской литературе, особенно в учебных
пособиях, неоднократно безапелляционно утверждалось, что только
материализм прямо или косвенно защищает противоположное
воззрение. Пример такого противоречащего
историко-философским фактам утверждения можно найти в одной из статей
сборника «О диалектическом материализме» (1953), где говорится:
«Если представители материализма исходят ( курсив мой. - Т.О.)
из признания познаваемости человеком материального мира, то
представители идеализма отрицают возможность такого
познания, они объявляют окружающий мир таинственным, недоступ-
* Такую попытку предпринял я в монографии «Главные философские
направления» (1971): «Существует, - писал я, - опосредованное единство
между первой и второй сторонами основного философского вопроса. Такого рода
единство не есть очевидность, констатируемая без исследования» (цитирую по
второму изданию монографии, вышедшему в 1984 г., с. 85-86). Попытка
доказательства этого тезиса, как мне стало ясно лет десять тому назад, совершенно
не удалась.
312
ным для человеческого познания, для науки». Это, с позволения
сказать, убеждение объяснялось не только некомпетентностью
автора статьи, но и тем, что он послушно следовал сталинской
статье «О диалектическом и историческом материализме», в
которой бездоказательно высказывается подобное суждение.
Впечатляющим примером идеалистического убеждения в
принципиальной познаваемости мира может быть абсолютный
идеализм Гегеля, в котором это убеждение логически связано с
основоположением его системы, т.е. с отождествлением бытия и
мышления. Поскольку бытие, по Гегелю, есть содержание
мышления, то осознание мышлением собственного содержания делает
бытие абсолютно познаваемым. Ничто поэтому не разгораживает
человеческое мышление и бытие, кроме единичности (и, значит,
ограниченности) каждого человеческого существа, которая
исторически преодолевается его родовой сущностью -
человечеством. И Гегель не без патетики провозглашает: «Скрытая сущность
Вселенной не обладает в себе силой, которая была бы в состоянии
оказать сопротивление дерзновению познания. Она должна перед
ним открыться, развернуть перед его глазами богатства и
глубины своей природы и дать ему наслаждаться ими» (45, 83).
Материалисты, как и большинство философов, обосновывают
принцип познаваемости мира. Познание обычно
интерпретируется материализмом как отражение действительности,
существующей безотносительно к процессу познания. Понятие отражения
не следует, правда, понимать буквально; оно представляет собой,
скорее метафору, которая нуждается в расшифровке. Тем не
менее современная физиология, выработавшая экспериментальные
методы исследования познавательной деятельности человека, в
основном подтверждает именно материалистическое понимание
познания как отражения внешнего мира в чувственных образах
и понятиях. Как показывает П.К. Анохин, исследование
информационных отношений в мире живых существ свидетельствует
о том, что «нервная система достигает поразительной
точности информации мозга о первоначальных воздействиях внешних
объектов» (5а, 116). И далее: «... теория информации показывает,
что любой отражаемый в нервной системе объект через ряд
перекодирований первичного сигнала на конечном этапе совершенно
точно отражает главнейшие, биологически важные параметры
отражаемого объекта» (5а, 118).
Идеалисты, конечно, оспаривают понимание познания как
отражения внешнего мира. Показательны в этом отношении
возражения Д. Беркли, согласно которым ощущения (он их назвал
идеями) не могут быть похожи на вещи, подобно тому как цвет
313
или фигура не могут походить ни на что иное, кроме другого
цвета или другой фигуры. Ощущения, по Беркли, не указывают на
существование вещей: они-то и есть вещи. Мы де не вправе
утверждать, что в вещах есть нечто отличное от того, что имеется в
ощущениях, поскольку этого отличия нет в ощущениях. Но если
все, что имеется в вещах, имеется и в ощущениях, то на каком
основании считают, будто существует нечто отличное от
ощущений. Однако субъективный идеалист Беркли не только признает,
но и обстоятельно обосновывает принцип познаваемости мира.
Аргументы Беркли - отнюдь не софистика. Они требуют по
меньшей мере уточнения материалистического понимания
познания как отражения внешнего мира. Ощущения как ощущения, т.е.
как психические феномены вовсе не похожи на вещи. Это,
разумеется, относится и к понятиям. Ощущения и понятия -
субъективные образы, но содержание их объективно, т.е. почерпнуто
извне из предметов, которые так или иначе в этих образах
воспроизводятся. Материализм не приписывает чувственному образу
предмета (или понятию, суммирующему признаки целого
класса предметов) физических, химических или иных свойств,
присущих отражаемым предметам. Образы предметов не обладают
присущими последним массой, окраской и т.п., хотя они
заключают в себе представление (знание) о всех этих свойствах.
Правильно отмечает известный болгарский философ Т. Павлов: «Цвета,
тона, запахи, линии, геометрические фигуры, величины и разные
отношения, когда они "входят" в сознание (точнее, в мир наших
идей), не перестают быть цветом, тоном, запахом, линией и пр.,
но уже теряют свое материальное бытие. Никакое сознание,
разумеется, никогда не пахнет розой. Но всякое сознание - это, между
прочим, сознание о благоухании розы, о запахе чеснока, которые
реально являются свойствами самих вещей (розы и чеснока), но
идеально входят в качестве составных элементов в содержание
наших идей-образов, т.е. в наш мир идей» (131, 172).
Итак, повторяю: признание или отрицание познаваемости
мира, вопреки утверждению Энгельса, не имеет ничего
общего с ответом на вопрос, что первично - материя или дух. Это
другой, не онтологический, а гносеологический основной вопрос.
И отрицание теории отражения также не есть отрицание
познаваемости мира. Неокантианец Э. Кассирер категорически заявляет:
«Наши ощущения и представления суть знаки, а не
отображения предметов. Ведь от образа мы требуем некоторого подобия с
отображаемым объектом, а в этом подобии мы здесь никогда не
можем быть уверены» (88, 394). Однако Кассирер нисколько не
ставит под вопрос принцип познаваемости мира. Аналогичную
314
точку зрения высказывал великий русский физиолог-материалист
И.М. Сеченов и основоположник марксизма в России Г.В.
Плеханов, но и тот и другой обосновывают безусловную познаваемость
всего существующего*.
Среди философов, отрицающих познаваемость мира, есть как
идеалисты, так и материалисты. Наиболее известны идеалисты
этого толка Д. Юм и И. Кант. Юм на свой лад продолжает
философию Беркли, но в отличие от него считает, что вопрос о том,
существует ли безотносительно к человеческому сознанию
объективная реальность, должен быть оставлен без ответа, так как
мы не в состоянии постигнуть ее существование, если она
действительно существует, так же как и не в состоянии доказать, что
ее нет. Юм утверждает, что мы знаем только свои восприятия и
воспроизводящие их впечатления и совершенно неспособны
выйти за их пределы. Отсюда делается вывод: «убеждение в
человеческой слепоте и слабости является результатом всей
философии» (193, 31).
Стоит отметить, что отрицание человеческой способности
познания привело идеалиста Юма к почти атеистическим
взглядам. Так, он осмелился заявить: «раз мы подвергаем сомнению
реальность внешнего мира, нам едва ли удастся найти аргументы,
с помощью которых можно будет доказать бытие Верховного
Существа...» (193, 80). По-видимому, поэтому П. Гольбах, Д. Дидро
и другие французские материалисты XVIII в. горячо
приветствовали Юма, когда он посетил Париж. То обстоятельство, что Юм
идеалист, не вызвало их критики или, возможно, просто осталось
незамеченным.
Вслед за Юмом, но независимо от него, И. Кант отрицал
познаваемость всего, что существует безотносительно к
человеческому сознанию. Такого рода реальность он называл «вещами в
себе», непознаваемость которых обусловлена тем, что они, по его
учению, существуют вне пространства и времени, которые Кант
трактовал как субъективные априорные чувственные созерцания,
обладающие, однако, вместе с тем эмпирической реальностью,
понятие которой остается во многом нерасшифрованным в его
учении. Познаваемы, по Канту, явления, так как они продуцируются
* Американский «критический реалист» Д.Б. Пратт так же как и Кассирер
отвергает теорию отражения, считая ее упрощенным изображением
действительного процесса познания. «Сознание, - пишет он, - не есть зеркало или
картинная галерея... Содержание сознания не нуждается в том, чтобы походить на
объекты, которые оно изображает» (283", 193). Однако и Пратт нисколько не
сомневается в познаваемости того, что существует независимо от
индивидуального сознания, хотя и не считает эту реальность материальной.
315
человеческой чувственностью, аффицируемой «вещами в себе»,
и становятся вследствие этого лишь представлениями,
субъективными образами, совокупность которых составляет картину
мира. Философия Канта сочетает признание безусловной
непознаваемости всего существующего безотносительно к
человеческому сознанию с систематическим, обстоятельным обоснованием
безграничной познаваемости природы, которая также трактуется
субъективистски, как система образов (явлений), продуцируемых
рассудком, синтезирующим посредством априорных категорий
ощущения. Понятно поэтому, почему Кант подвергал
основательной критике скептицизм, который вообще отрицает возможность
познания чего бы то ни было, предлагая всякому разумному
человеку воздерживаться от суждений по любому
теоретическому вопросу. Скептицизм как особое философское направление,
в корне отличное от материализма, идеализма, рационализма,
эмпиризма, интуитивизма, иррационализма и т.д., я рассмотрю в
следующей главе. Здесь же достаточно констатации: скептицизм
не отвечает на поставленный Энгельсом «высший» вопрос
философии, т.е. не считает материю (или дух) первичным, да и вообще
воздерживается от утверждений о существовании как
материального, так и идеального.
С кантовской точки зрения, чрезмерно ограничивающей
понятие скептицизма, а тем самым и задачу его преодоления,
сущность последнего сводится к отрицанию суждений, обладающих
строгой всеобщностью и необходимостью*. Кант упрекает Юма
в том, что он не признавал наряду с эмпирическими
синтетическими суждениями также синтетических суждений a priori,
которые, по убеждению кенигсбергского мыслителя, только и делают
возможным теоретическое познание. Эмпиризм, не
воспринимающий априорные категории рассудка, обречен, с этой точки зре-
* Скептик допускает, употребляя выражение Канта, лишь суждения
восприятия, т.е. простую констатацию наблюдаемого. Он может сказать «когда
солнце греет, камень становится теплым», но не смеет сказать, что «солнце
согревает камень», поскольку такое суждение предполагает признание и
применение принципа причинности. В противоположность скептикам Кант
утверждает, что категориальный синтез чувственных данных носит априорный характер,
поскольку обладает всеобщностью и необходимостью и, следовательно, имеет
объективное значение. Неизбежная неполнота эмпирической индукции
преодолевается, согласно Канту, новым, разработанным им априорным методом,
оправданием которого служит чистая математика и «чистое естествознание»
(теоретическая механика). Задача же философии состоит прежде всего в том, чтобы
исследовать этот факт знания и идя путем априоризма построить метафизику,
свободную от претензий на сверхопытное знание, т.е. познание
сверхчувственного, сверхприродного, трансцендентного.
316
ния, оставаться в тупике скептицизма. Но скептики своей
критикой априоризма рационалистов XVII в. дискредитировали его.
Кант, правда, согласен с этой критикой в том отношении, что
априорные суждения, вопреки рационалистическим убеждениям,
не выводят за границы опыта и без чувственных данных вообще
бессодержательны. В отличие от рационалистов XVII в. он
обосновывает необходимость не только эмпирического, но и
априорного познания явлений, т.е. чувственных данных.
Кант принципиально отличается от скептиков в том
отношении, что он признает достижимость истины, возможность
разграничения истины и заблуждения и, больше того, возможность
научно-теоретического познания. Познание явлений, учит он, не
ограничено никакими пределами, но это прогрессирующее
познание ни на йоту не приближает нас к познанию «вещей в себе»,
так как условие познания любого объекта образует его
зависимость от познавательного процесса; независимая же от познания
реальность абсолютно непознаваема.
Таким образом, Кант вопреки своему убеждению и несмотря
на весьма существенное отличие его философии от
скептицизма не вполне освободился от последнего. Подобно скептикам он
субъективистски истолковывает познание и признает нечто
безусловно непознаваемым, причем это нечто не какой-то бесконечно
отдаленный остаток, находящийся, так сказать, на дне бездонного
колодца, а все то, что вызывает ощущения, т.е. независимый от
познающего субъекта внешний, безотносительно к познанию
существующий мир. Но Кант создавал свое учение отнюдь не для
доказательства существования непознаваемых «вещей в себе»,
а для обоснования беспредельной познаваемости мира явлений
и возможности научного знания как системы теоретических
положений, которым присущи безусловная необходимость и
всеобщность. Однако его понимание теоретических положений науки
как обладающих абсолютной необходимостью и абсолютной
всеобщностью означало противопоставление опытным данным
априорных принципов, что приводило к дуализму явлений и
«вещей в себе», посюстороннего и потустороннего.
Я остановился на характеристике наиболее выдающихся
идеалистов XVIII в., отрицающих познаваемость объективного
мира. Но такую же философскую позицию, пожалуй, даже в более
усугубленной форме занимают и многие идеалисты XIX и XX вв.
Так, Ф. Ницше считал стремление к истине свидетельством
деградации субстанциальной «воли к власти». Знание он оценивал
лишь как способ приспособления к среде. Это ограниченное
воззрение подсказывало заключение: воля к власти больше нуждается
317
в иллюзиях, чем в истине. «Положим, мы хотим истины, - отчего
же лучше не лжи? Сомнения? Даже неведения?» (125, 241).
Какую же роль все же играет истина? На этот вопрос Ницше не дает
внятного ответа. Иногда он, правда, утверждает, что истина не
больше, чем иллюзия, так как этот кажущийся мир в сущности
единственно существующий и единственно возможный. В других
случаях Ницше видит в знании, истине фатальное испытание
человеческому бытию, угрозу и вызов: «... может быть, к основным
свойствам бытия относится даже и то, что полное знание его
грозит гибелью, так что сила ума измерялась бы, пожалуй, той долей
"истины", какую он может еще вынести...» (125, 271).
Трудно сказать, каковы социальные истоки
гносеологического (и не только гносеологического) пессимизма Ницше. Не
исключено, что он коренится в аристократическом страхе перед
Просвещением, распространением знаний в массах, которые
благодаря знаниям активнее выступают против «элиты», постигая
те основные истины, относительно которых их всегда держали в
неведении.
Ницшеанское иррационалистическое мировоззрение хотя и
противопоставляется христианству, как и всему европейскому
истеблишменту, в сущности примыкает к последнему, несмотря
на свою экстравагантную фразеологию. В этом отношении
философия Ницше мало чем отличается от многих идеалистических
учений XX столетия. Одна из отличительных особенностей этих
учений - отрицание необходимого соответствия между знаниями
и практическими достижениями человечества, например, в
сфере материального производства. С этой точки зрения, овладение
стихийными природными силами отнюдь не свидетельствует о
прогрессе познания и все более глубоком проникновении в
сущность явлений природы. «Мы имеем, - утверждает, к примеру,
известный американский философ Дж. Сантаяна, - нисколько
не лучшее представление о природе и жизни, чем имели наши
предки, но мы обладаем большими материальными ресурсами»
(167, 244). Чем же в таком случае объясняется умножение
материальных ресурсов человечества и основанная на познании законов
природы современная высокая технология? Иррационализм
нехотя допускает, что эти достижения связаны с познанием внешнего
мира, однако настаивает на том, что такого рода познание
преграждает путь к постижению глубинной сущности бытия.
Иррационализм, каковы бы ни были его формы,
провозглашает поход против «духа абстракции», свойственного научному
исследованию, которое восходит от непосредственно
наблюдаемого, известного к неизвестному, наблюдаемому лишь опосред-
318
ствованным образом благодаря сложнейшей аппаратуре, данные
которой становятся понятными лишь в результате расшифровки.
А это возможно только путем образования абстракций все более
высокого уровня, так как лишь из них складывается конкретное
понимание наблюдаемых процессов и их закономерностей.
Иррационализм, отрицая познаваемость мира, субъективистски
интерпретирует процесс научного познания как перманентное
удаление от действительности. Ученый-де далек от постижения этой
трагедии научного познания, в то время как философ-иррацио-
налист, свободный от интеллектуалистских иллюзий, постигает
знание как всего лишь осознанное незнание.
Псевдодиалектическое (в духе абсолютного релятивизма)
стирание противоположности между знанием и незнанием
наводит испанского экзистенциалиста X. Ортегу-и-Гассета на
довольно фривольное истолкование физики, которая характеризуется им
как особого рода поэзия, создающая своеобразный
«абстракционистский» мир: вселенная Ньютона, вселенная Эйнштейна,
вселенная Н. Бора. Мир физики, полагает Ортега, «обладает лишь
реальностью четвертой или пятой степени» (271, 81). Это значит,
что вероятность его существования соответственно меньше
вероятности существования «человеческой реальности» и ее
объективации. «Но вместе с тем, - продолжает Ортега, - я хотел бы еще
раз указать, что, несмотря ни на что, это действительность. Под
действительностью я понимаю все то, с чем я должен
считаться. В настоящее время я должен считаться с миром Эйнштейна и
де Бройля» (271, 81).
Для суеверного человека действительны лешие, домовые,
которые мерещатся ему в каждом темном углу. Можно, конечно,
сказать, что и лешие существуют, разумеется, только в воображении.
Стирая противоположность между субъективной и объективной
реальностью, Ортега-и-Гассет полагает, что здесь имеется
различие лишь в степенях. Отсюда заключение: физическая реальность
сомнительнее реальности воображаемой, которую отличает
несомненное наличие, правда, только в сознании того, кто
воображает. «Мы не знаем, - пишет он, - существует ли физический мир
(мир физики); мы не знаем также существует ли объективный
мир, т.е. мир, который был бы не миром отдельных
индивидуумов, а общим для всех людей миром» (271, 64). Эти высказывания
Ортеги-и-Гассета прокладывают путь от утверждения о
непознаваемости внешнего мира к субъективистскому убеждению, что
единственной не подлежащей сомнению реальностью являются
лишь переживания каждого отдельного человеческого существа.
Мы де не можем выпрыгнуть из самого себя и прорваться к тому,
319
что, возможно, представляет нечто иное, отличное от сознания.
Таково идеалистическое отрицание познаваемости мира, которое
принципиально, как я покажу ниже, отличается от аналогичной
гносеологической позиции материалистов.
Ж.-П. Сартр, который неоднократно высказывал свое согласие
с материалистическим пониманием истории, тем не менее
заявляет: «... чтобы познать бытие таким, каково оно есть, надо было
бы быть этим бытием» (291, 270). Но так как человеческое Я не
есть бытие (оно должно быть понято как не-бытие), то познание
бытия принципиально невозможно. Так обосновывается дуализм
сознания и бытия, т.е. миф об изначальной отчужденности
сознания от всего иного. Это преобразует на новый, иррелигиозный
лад христианскую концепцию о неподлинности земного
человеческого существования, которая находит свое адекватное
выражение в ламентациях о неподлинности познания и призрачности его
предмета. Отсюда и родственное ницшеанству отрицание радости
познания, которое связывается преимущественно с негативными
эмоциями и прежде всего со страхом, якобы приоткрывающим
покров Майи. Всевозможные оговорки относительно того, что
имеется в виду не обычный, вульгарный, унижающий
человеческую личность страх, ничего по существу не изменяют. «О чем
или о ком я могу фактически утверждать: "Это я знаю", - пишет
А. Камю, - Я могу чувствовать сердце во мне, и я заключаю из
этого, что оно существует. Я могу соприкасаться с миром и
также из этого заключать, что он существует. На этом, однако,
прекращается все мое знание: все остальное есть конструкция. Если
я пытаюсь ухватить, определить, подытожить в форме дефиниции
это Я, относительно которого я столь уверен, то оно ускользает от
меня, как вода между пальцами» (210, 34).
В чем же причина того, что даже самое близкое, несомненное
трактуется как, в сущности, непостижимое? Ответы на этот
вопрос у приверженцев иррационалистической концепции
непознаваемости мира многообразны. Экзистенциалист Камю говорит о
пропасти между субъектом и объектом, между Я и всем другим
вообще, между сознанием и самосознанием. «Пропасть между
несомненностью моего существования и содержанием, которое
я пытаюсь придать этой несомненности, никогда не может быть
преодолена. Я всегда останусь чужд самому себе. В психологии,
как и в логике, имеются истины, но нет истины» (210, 34).
Не нужно считать, что А. Камю на самом деле ужасает эта
безвыходная, по его словам, ситуация: ведь все то, что открыто,
установлено науками, ничего не значит для экзистирующей, т.е.
сознающей свою смертность, личности. «Вращается ли Земля
320
вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли, - все это в сущности
безразлично. Точнее можно сказать так: это пустячный вопрос»
(210, 16). Что же не пустяк? Только то, что человек смертен, что
жизнь лишена смысла, что абсурд есть фундаментальная
жизненная реальность.
Итак, познаваемое ничтожно, или ужасно: экзистенциалист
любит сгущать краски. Поэтому он приписывает величайшее
эвристическое значение лишенному эмпирических мотивов,
неизбывному, неотвратимому страху, превращая его в одну из
важнейших философских категорий, а науку считает чуть ли не
основным источником фатальных человеческих заблуждений,
гибельным в конечном счете путем так называемого прогресса.
Действительное познание, мягко выражаясь, если и не страшит
экзистенциалиста, то попросту безразлично ему. К.А. Тимирязев
задолго до появления на философской арене современного
экзистенциализма высмеял этот претенциозный «экстаз невежества,
бьющего себя в грудь, радостно причитая: "Не понимаю! Не
пойму! Никогда не пойму!"» (167а, 439). С некоторыми поправками
эта оценка может быть отнесена и к другим, явным или неявным,
иррационалистическим концепциям.
Логический позитивизм - философское учение, радикально
противоположное экзистенциализму, как и другим
иррационалистическим антисциентистским учениям. Членами «Венского
кружка» были математики, физики, социологи, осознававшие
необходмость философского исследования оснований научного и
всякого иного познания. Философская теория «Венского кружка»
представляет собой не столько результат творческой
деятельности одинокого философа, сколько результат коллективной
работы, чего никогда еще не было в прошлом. Осмысление научных
данных, стремление постигнуть логику научного исследования и
пути достижения достоверного научного знания - таковы задачи,
которые ставили члены «Венского кружка» и логические
позитивисты в других странах. Вопрос о том, что первично - материя
или мышление - не интересовал их, так же как и другие
аналогичные вопросы, которые они отбрасывали как псевдопроблемы,
порожденные метафизическим любомудрием. На протяжении
своего полувекового существования логический позитивизм
неоднократно видоизменял свои теоретические позиции, но всегда
считал своей основной задачей разработку философии науки, не
подвергая ни малейшему сомнению то, что она действительно
познает исследуемые ею объекты. Однако близкое юмизму
субъективистское истолкование научного познания всегда оставалось
общей идейной основой всех представителей этого философского
11. Ойзерман Т.И., том 5
321
течения. Как справедливо замечает канадский историк философии
Дж.О. Уиздом, логический позитивизм представляет собой «ме-
таонтологический негативизм, негативную онтологию,
основанную на скептической эпистемологии» (304а, 205). Однако
логические позитивисты, отстаивая свою идейную самостоятельность,
отмежевываются от скептицизма, как и от всех других
философских учений. Свою программу очищения философии от
«метафизики» они сводят к исключению из философии всех
«метафизических» предложений. Но отрицание псевдопредложений также
является, с их точки зрения, псевдопредложениями. Поэтому,
с этой точки зрения, одинаково несостоятельны такие, например,
взаимоисключающие предложения:
1. Материя первична, сознание вторично. 1а. Сознание
первично, материя вторична.
2. Существует реальность, независимая от сознания. 2а. Не
существует реальности, независимой от сознания.
3. Мир принципиально познаваем. За. Мир принципиально
непознаваем.
Даже утверждение типа «Я не знаю, существует или не
существует внешний мир» считается научно неосмысленным и
стало быть несостоятельным, ибо само понятие внешнего мира
считается псевдопонятием. Вопреки убеждению логических
позитивистов, эта теоретическая позиция аналогична
философскому скептицизму, основной императив которого сводится к
требованию воздерживаться от теоретических суждений. Правда,
логический позитивизм требует воздержания только от
«метафизических» суждений, но «метафизика» толкуется ими крайне
расширительно. Все их попытки установить демаркационную линию
между научными и «метафизическими» предложениями терпели
фиаско. Такое разграничение даже в естествознании оказалось им
по существу невозможным. В конечном итоге оказалось, что и
сама эта задача была превратно сформулирована, а понятие
метафизики оказалось в сущности псевдопонятием*.
Логические позитивисты отрицают и материализм, и
идеализм как «метафизические» теории. Эта позиция обычно
характеризовалась в нашей марксистской литературе как хитроумная
* Один из основателей «Венского кружка» В. Крафт вынужден был
признать, что под влиянием критики в собственной среде члены этой группы
философов вынуждены были отказаться от несостоятельного, по существу,
формалистического разграничения действительных и мнимых проблем в науке и
философии. «Атомизм, - писал он, - превратился из метафизической идеи в
естественнонаучную теорию. Он уже не витает в пустоте в виде догматических
конструкций, а находит прочное основание в опыте» (252, 71).
322
уловка. Однако логические позитивисты действительно не
являются идеалистами в онтологическом отношении. Их позиция
сплошь и рядом приближается к материализму. Это нетрудно
показать, просматривая издававшийся «Венским кружком» журнал
«Erkenntnis» (Познание), важнейшие публикации которого
недавно были изданы на русском языке. В статье «Научное познание» -
«Венский кружок», опубликованной Р. Карнапом, Г. Ганном и
О. Нейратом в 1929 г., провозглашается: «Представители
научного миропонимания решительно стоят на почве простого
человеческого опыта. Они уверенно работают над тем, чтобы убрать
с дороги тысячелетний метафизический и теологический хлам»
(84, 73). Конкретизируя свою философскую позицию, авторы
пишут: «В прежние времена такая позиция называлась
материализмом, но с тех пор, преодолев определенные ущербные формы,
развился современный эмпиризм, который обрел свою прочную
основу в научном миропонимании» (84, 74).
Р. Карнап в статье «Старая и новая логика» категорически
утверждает: «Материалистическая система соответствует точке
зрения естествознания, ибо в ней все понятия сводятся к
физическим понятиям, к понятиям единственной области, которая
обнаруживает всеобщие закономерности и делает возможным
интерсубъективное знание» (85, 117).
О. Нейрат в докладе «Единая наука и марксизм», с которым
он выступил в «Обществе Эрнста Маха», подчеркивал
материалистический характер не только своего философского понимания
природных явлений, но и философского понимания
общественной жизни. Он, в частности, утверждал: «Научное мировоззрение
создает систему взаимосвязанных формулировок закономерных
связей пространственно-временных процессов. Мы хотим
назвать это "единой наукой на материалистической основе"» (123а,
123). И далее: «Свободная от метафизики наука на
материалистической основе развивается повсеместно. В области социологии
она прежде всего представлена марксизмом. Марксистская
система принципиально контролируема и она может быть включена в
единую науку» (123а, 123).
Следует, конечно, иметь в виду, что материалистические
воззрения логических позитивистов весьма непоследовательны,
особенно в области теории познания. Однако открытое выступление
на стороне материализма в условиях капиталистического
общества, несомненно, является смелым вызовом застарелым
идеологическим предрассудкам.
Логические позитивисты - приверженцы философского
эмпиризма, именуемого нередко логическим эмпиризмом, поскольку
и* 323
он не распространяется на логико-математические предложения,
характеризуемые как аналитические и, более того,
тавтологические. С помощью такого ограничения эмпиризма они пытались
справиться с кантовским априоризмом, доказывающим
возможность суждений, обладающих строгой необходимостью и
неограниченной всеобщностью. Логические позитивисты, напротив,
утверждали, что такого рода суждения возможны лишь в логике и
математике, где они основываются не на фактах, а на соглашении
между учеными относительно терминов, их определения и
применения. Ни логика, ни математика, с этой точки зрения,
ничего действительно существующего не познают. Эта философская
концепция именуется конвенционализмом.
Если априорного не существует в познании, то все фактуаль-
ные суждения лишены строгой необходимости и безусловной
всеобщности. Значит, любое такое предложение, если оно
высказывается как обобщение неограниченного класса объектов, осуждается
как «метафизическое»: оно де не верифицируется (в
позитивистском понимании верификации, которое нередко вызывает
сомнение и среди неопозитивистов) и не доказывается логическим
путем. Если согласиться с этими утверждениями, то любое
положение естествознания, если оно, как, например, закон всемирного
тяготения, относится к неограниченному классу объектов, следует
считать «метафизическим», т.е. ложным. В таком случае, как
нетрудно понять, следует подвергнуть сомнению и положения типа -
«Все тела протяженны», «Все люди смертны» и т.д.
Логические позитивисты давно уже почувствовали, что они
предъявляют науке столь строгие требования, что их
выполнение сделало бы науку, возможно, более стерильной, но, конечно,
гораздо менее продуктивной. Науки о природе отвергли этот
неоправданный, основанный на отрыве теории от
научно-исследовательской практики эпистемологический ригоризм, и
логическим позитивистам пришлось после изнурительной дискуссии
отказаться от принципа верифицируемости, заменив его более
мягким принципом подтверждаемости, который, естественно, не
вызывает уже возражений. Однако и эта уступка естествознанию
(а тем самым и «метафизике») оказалась все же недостаточной
и в конечном счете эмпирические высказывания (подобно
логико-математическим предложениям) стали интерпретироваться
логическими позитивистами как в сущности конвенциональные,
т.е. основанные на правилах «игры», навязываемой естественным
(обыденным) или искусственным языком.
Крах принципа верифицируемости вызвал к жизни
противоположный ему (правда лишь на первый взгляд) принцип фальси-
324
фицируемости, сформулированный К. Поппером. Если раньше
эмпирические предложения считались научно осмысленными
и истинными лишь постольку, поскольку они «проверяемы»,
«подтверждаемы» (я заключаю эти слова в кавычки, чтобы
подчеркнуть ограниченность неопозитивистского понимания этих
процедур), то теперь те же высказывания приобретали статус
научности лишь в той мере, в какой они могли быть осмыслены как
в принципе опровержимые (фальсифицируемые). Поппер
утверждал: «Теория (имелась в виду система эмпирических
предложений. - Т.О.), которая не может быть опровергнута каким бы
то ни было мыслимым событием, ненаучна. Неопровержимость
есть не достоинство теории (как часто думают), а ее недостаток»
(279, 159)*.
Я не касаюсь той несомненной части истины, которая
заключается в этом экстравагантном, по видимости, утверждении.
Согласно Попперу, высказывание относительно неограниченного
количества фактов не может быть подтверждено никаким (сколь
угодно большим) конечным количеством фактов, но для его
опровержения достаточно всего лишь одного, не согласующегося
с ним факта. Та доля истины, которая наличествует в этом
тезисе, задолго до Поппера была сформулирована, правда, не столь
парадоксально, Ф. Бэконом в его теории индукции и роли
отрицательных данных в процессе индуктивного вывода. Бэкон в
отличие от Поппера не считал принципиально опровержимыми
открываемые наукой законы как формы всеобщности. И хотя
естествознание в точном смысле слова только лишь зарождалось
в его эпоху, он вполне допускал, что факты, противоречащие
той или иной научной теории, не обязательно опровергают ее,
но конечно, обязательно требуют внесения в нее исправлений,
уточнений, исключающих такое противоречие. Этого-то
фактически не признает Поппер, склоняющийся к абсолютному
релятивизму, следуя которому, неизбежно приходишь к заключению,
что всякое обобщение фактов рано или поздно должно быть
признано заблуждением, подлежащим исключению из аквизита
науки.
* Было бы ошибкой противопоставлять принцип фальсифицируемости
принципу верифицируемости как нечто его исключающее или отрицающее. Прав
И.С. Нарский, характеризующий принцип Поппера как один из вариантов
ослабленного принципа верификации. Вместо позитивной верификации Поппер
предложил негативную верификацию, «при которой верификации подлежат не
утвердительные, а отрицательные предложения» (123, 264). Разумеется, такое
мнимое отрицание неопозитивизма не могло устранить трудностей, с которыми
столкнулась эта «философия науки».
325
Поппер утверждает, что естествознание постоянно
формулирует бесчисленное количество фактуальных положений,
всеобщность которых не может быть подтверждена именно в силу их
всеобщности и фактуальности. Отказаться от них также
невозможно; без них невозможна наука. И все же признать их
истинность, хотя они подтверждаются новыми фактическими данными,
нельзя, ибо всеобщность эмпирических обобщений недоказуема.
Поппер игнорирует общеизвестную истину, что все (или
почти все) научные обобщения не высказываются как абсолютные
истины в последней инстанции. Напротив, они признаются
обычно приблизительными, не исключающими погрешностей и стало
быть истинами лишь в известных пределах. Вместо признания
того факта, что эмпирическим обобщениям внутренне присуща
интеллектуальная скромность, Поппер провозглашает, что всем
им суждено быть опровергнутыми. Следовательно, их нельзя
признать истинными предложениями. Бедные античные
скептики! Им даже в голову не приходило, что атрибутом научности
является обязательная опровергаемость.
Итак, по учению Поппера, научные положения,
формулируемые как обладающие неограниченной всеобщностью, -
необходимые и неизбежные заблуждения. (Поппер, вероятно, не
принял бы этого термина и сказал бы: опровержимые истины.) Эту
жемчужину философского юмора я, впрочем, обнаружил уже у
Ф. Ницше, который, не претендуя на создание философии науки,
писал: «... мы имеем полное право утверждать, что самые
неверные суждения, к которым a priori принадлежат синтетические,
в высшей степени необходимы для нас» (123б, 294). Ницше
говорил: для нас, Поппер уточняет: для науки.
Ницше не только доказывал необходимость ошибочных
общеутвердительных суждений. Он прямо, без какого-либо
педантизма, заявлял: «... во всякой теории немалую прелесть
составляет то, что она может быть опровергнута» (123б, 12). Поппер и
здесь уточняет: не прелесть, а научность теории заключается в
ее опровержимости. Я, само собой разумеется, не склонен
причислять Поппера к последователям Ницше. Бывают совпадения.
Бывает, наконец, и конгениальность. Конгениальность между
«критическим рационалистом», теоретиком строгой, неумолимой
научности и мыслителем, который третировал науку как
проявление духовного кризиса. Они сходятся в одном: в
субъективистской интерпретации науки и познания вообще.
Таким образом, «критический рационализм» К. Поппера и его
сторонников - новейшая разновидность философского
скептицизма. Он исходит из факта, давно установленного философией, но
326
ставшего общепринятым благодаря достижениям естествознания
прошлого столетия: наши знания, в том числе и самые
достоверные, точные, научные, носят относительный, приблизительный
характер. Исчерпывающее знание возможно лишь в форме
констатации отдельных, единичных фактов, которые, так сказать, уже
омертвели (не могут повториться), да и то, если эта констатация
удовлетворяет ограничивающим ее требованиям логики.
Разумеется, относительность, приблизительный характер
научных знаний не всегда осознавалась, признавалась, не всегда
осознается и признается теперь. Было время, когда математики не
сознавали, не знали, что геометрия Евклида неполно описывает
свойства пространства. Отсюда проистекало заблуждение
субъективистского характера - универсализация, абсолютизация
Евклидова пространства. Подобные заблуждения имеют место и в
настоящее время, так как осознание относительности того или иного
научного положения предполагает не только соответствующую
методологическую установку, но и конкретную характеристику
этой относительности в результате исследования. При этом
необходимо учитывать, что науки, несмотря на все свои выдающиеся
достижения, постоянно имеют дело с неизвестным, непознанным
и даже непознаваемым. Можно понять поэтому нобелевского
лауреата Р. Фейнмана, который заявляет: «...ученый обладает
огромным опытом сосуществования с неведомым, сомнением и
неопределенностью... Мы, ученые, к этому привыкли и считаем само
собой разумеющимся, что быть неуверенным в чем-то абсолютно
нормально, что вполне возможно жить и не знать» (170, 195).
Эпистемологический субъективизм - характернейшая черта
многих философских учений минувшего века - игнорирует
объективное содержание устанавливаемых науками истин,
истолковывает их просто как подтверждаемые опытом утверждения. Даже такой
умеренный представитель логического позитивизма, как Г. Рейхен-
бах, не приемлющий субъективистского отбрасывания
объективной реальности, интерпретирует физику вполне в духе
абсолютного релятивизма: «Современная физика, - пишет он, - не признает
правильными ни аксиомы Евклида, ни закон причинности, ни
закон сохранения массы» (286, 61). Некоторые естествоиспытатели
соглашаются с таким воззрением, но таких все же меньшинство»*.
* Так, например, видный английский астрофизик Г. Бонди пишет: «Не
прекращаются споры о том (я никогда не понимал этих споров и не участвовал в
них), имеет ли какое-нибудь отношение к науке слово "истина". Сам я склоняюсь
к тому, что наука никогда не имеет дела с истиной...(17а, 14). Не знаю,
является ли Бонди сторонником попперовского «критического рационализма», но он
фактически следует в его фарватере. В.Н. Садовский в предисловии к вышедшей
327
Большинство выдающихся ученых вполне разделяют убеждение
Л.Д. Ландау: «Всякая логически замкнутая теория, верность
которой была с известной степенью точности экспериментально
доказана, никогда не теряет своего значения, и всякая более точная
последующая теория охватывает ее как приближенный результат,
справедливый в некоторых частных случаях» (см. 31а, 62).
Из истории познания известно, что научные представления о
веществе, атомах, молекулах, пространстве, времени и т.д.
существенно изменялись. Это было обусловлено не изменением
указанных определенностей объективного мира, а развитием познания.
Отсутствие непосредственной связи между изменениями
объектов и изменением научных представлений о них заслуживает
специального эпистемологического исследования. Оно указывает на
специфические, все еще не постигнутые закономерности развития
познания, его перехода от одного уровня к другому, более
высокому. Гносеологический субъективизм интерпретирует изменение
научных представлений об объективном мире как свидетельство
их субъективности. Между тем эти представления субъективны
лишь в том смысле, что они всегда неполны, приблизительны, не
свободны также от погрешностей. Но это нисколько не исключает
наличия в них объективного содержания (или объективной
истины), что подтверждается всей научно-исследовательской (и не
только научно-исследовательской) практикой.
В течение двух тысячелетий разрабатывались гипотезы о
природе эфира, описывались некоторые якобы присущие ему
свойства, пока не было доказано, что никакого эфира не существует. Со
времени Левкиппа и Демокрита пустота истолковывалась как
абсолютная пустота, т.е. отсутствие всякого присутствия. В
настоящее время исследования вакуума доказывают, что он отнюдь не
бессодержателен. Философский субъективизм, ссылаясь на
эволюцию научных представлений, делает заключение, что объекты
этих представлений в лучшем случае обладают лишь
вероятностным существованием, т.е. вполне допустимо, что материя,
пространство, время и т.п. - не более, чем научные представления.
Наука, с этой точки зрения, не доказывает существования
объективной реальности, а история науки предлагает множество
картин мира, не всегда сопоставимых (а тем более согласных) друг с
другом. Стоит ли останавливаться на одной из этих картин, если
ее неизбежно сменит другая. Такова логика философского
субъективизма, которой не откажешь в некотором основании.
по-русски книге Поппера «Логика и рост научного знания» (М., 1983)
констатирует: «В "Логике научного исследования" Поппер вообще не пользуется словом
"истина"» (с. 20). К сожалению, такое негативистское отношение к понятию
истины не случайно, как в философии, так и в естествознании.
328
Да, история познания действительно представляет собой
также (я подчеркиваю «также», потому что новые научные
представления, как правило, не просто отменяют прежние, а дополняют
или преобразуют их) переход к новым представлениям, понятиям,
способам исследования. Однако недостаточно просто
констатировать факт изменения научного знания, ибо этот процесс
совершается в определенном направлении - в направлении все
большего приближения к объектам познания. Но субъективист начинает
протестовать: вы де не вправе говорить о приближении научных
представлений к объектам, так как в вашем распоряжении
имеются только представления, которые вы можете сравнивать опять
только с представлениями. Вы, продолжает далее
субъективист, можете, конечно, называть одни представления объектами,
а другие - их описанием, но это не поможет вам выйти за
пределы собственного сознания. Даже если теория подтверждается,
например, экспериментом, это де не доказывает, что объекты,
о которых идет речь, существуют сами по себе, безотносительно
к процессу познания: они, возможно, такие же результаты
познания, как и сама теория*.
Дж. Льюис - современный представитель так называемого
«научного материализма», учения, подвергающего критике все
другие разновидности материалистической философии,
отмечает, что еще средневековая инквизиция предлагала
субъективистскую оценку противоречащих Священному писанию
научных открытий. «Кардинал Белл армии пытался убедить Галилея
охарактеризовать планетарную теорию (т.е. систему
Коперника. - Т.О.) лишь как инструмент для вычисления, а не как
описание действительной вселенной» (108а, 86). Такова же точка
зрения современного гносеологического субъективизма, который,
сопоставляя разные теории по одному и тому же предмету
исследования, предлагает выбрать ту, которая удобнее, проще,
кажется более перспективной, избегая «метафизического» вопроса об
отношении этой теории к объектам, существование которых может
быть лишь содержанием наших представлений. Существуют ли эти
объекты сами по себе, безотносительно к познанию - праздный,
* Это основоположение субъективного идеализма в радикальной форме
еще в позапрошлом столетии выразил лидер так называемой «имманентной
философии» В. Шуппе: «Солнце, Луна, звезды и эта Земля с ее горными породами
и животным миром, с ее огнедышащими горами и т.п. - все это есть содержание
человеческого сознания». Объективно ли существует то, что наличествует в
сознании (разумеется, не все, но преимущественное его содержание), существует
ли оно независимо от сознания? Эти вопросы Шуппе (и, конечно, не только он)
считает неправильно сформулированными, «метафизическими», короче говоря,
историческим анахронизмом.
329
с точки зрения гносеологического субъективизма, вопрос, так как
на него не может быть ответа.
К счастью, естествоиспытатели, которые зачастую
индифферентны к философии, все же порой решительно осуждают
философский субъективизм. Так, М. Борн пишет: «... каждый прогресс
в образовании понятий физики, астрономии или химии все более
приближает нас к цели - исключить субъективное (курсив мой. -
710.) вообще. Разумеется, здесь речь идет не об акте познания,
который неотделим от субъекта, а о законченной картине природы, в
основу которой положена идея, что обычный мир существует
независимо от познания и не нарушается этим процессом» (19, 10).
Известно, что открытие внутренней структуры атома привело
некоторых философов к утверждению о дематериализации
вещества, поскольку электрон не обладает присущей «обычной» материи
механической массой. Преодоление
механистически-материалистического мировоззрения также способствовало если не отрицанию
существования материи, то такому пересмотру ее понятия, которое
привело, например, В. Оствальда к решению заменить понятие
материи якобы отличной от нее энергией. Все это в известной мере
подпитывало гносеологический субъективизм. М. Планк,
родоначальник квантовой механики, в статье «Смысл и границы точной
науки» убедительно показывает, что изменение научных
представлений о материи - свидетельство более глубокого познания
объективного мира, а вовсе не аргумент для тех, кто отрицает
субъективное содержание понятия материи, вещества и т.п. Научная картина
мира не может и не должна быть чем-то окончательным, но это
не значит, что новые научные положения обязательно
опровергают или вытесняют прежние. «Старая картина мира, следовательно,
сохраняется. Но теперь она является особым разделом более
полной и одновременно еще более единой картины мира. И это имеет
место во всех случаях, доступных нашему опыту» (277, 107)*.
* Уже цитировавшийся выше Г. Бонди утверждает, что теория тяготения
Ньютона, несмотря на ее бесчисленные подтверждения «в конце концов
оказалась опровергнутой. Несостоятельность теории была выяснена только тогда,
когда примерно через двести лет после ее появления удалось произвести
чрезвычайно точные и тонкие измерения» (17а, 11). Это утверждение, которое могло бы
рассматриваться как возражение приведенному высказыванию М. Планка,
вполне опровергается другим выдающимся физиком В. Вайскопфом, который
решительно противопоставляет понятие исторической преемственности в науке
вульгарному революционизму, считающему едва ли не главным признаком научного
прогресса опровержение предшествующих достижений науки. «Теория
относительности, - пишет он, - не устраняет механику Ньютона - орбиты спутников все
еще рассчитываются по ньютоновской теории, - она расширяет область
применения механики на случай высокой скорости и устанавливает общую значимость
одних и тех же концепций для механики и теории электричества» (29а, 53).
330
До сих пор речь шла об идеалистах или близких к идеализму
философских учениях, которые прямо или опосредованно,
полностью или отчасти отвергают принцип познаваемости мира и, как
правило, ставят под вопрос и признание существующей
безотносительно к сознанию человека объективной реальности,
внешнего мира. Однако принцип познаваемости мира ставится под
вопрос и некоторыми материалистами, в частности такими
воинствующими его представителями, как французские материалисты
XVIII в. Это обстоятельство справедливо подчеркивал Г.В.
Плеханов. В своей критике К. Шмидта и Э. Бернштейна,
призывавших социал-демократию обратиться к Канту для этического
обоснования социализма, выдающийся русский марксист ссылается
именно на этих философов, приводя убедительные выдержки из
их сочинений. Плеханов цитирует Ламеттри: «Природа движения
нам так же неизвестна, как и природа материи», - утверждает он
в работе «Человек-машина». В «Трактате о душе» утверждается:
«Сущность души человека и животных есть и всегда будет столь
же неизвестна, как сущность материи» (см. 142, 2, 337).
Плеханов также цитирует аналогичные высказывания
Гельвеция, комментируя их таким выводом: «... для Гельвеция то, что
в философии называют реальностью чувственного мира, было
только вероятностью» (142, 2, 338). Конечно, сомнения
материалистов в познаваемости материи внешнего мира существенно
отличаются от аналогичных воззрений идеалистов. Материалисты
нисколько не сомневаются в существовании материи как
объективной реальности. Существование объектов познания
безотносительно к субъекту познания также является, с их точки зрения,
непререкаемой истиной. И, конечно, среди материалистов нет
философов, убежденных в принципиальной непознаваемости
внешнего мира, в существовании какой бы то ни было реальности за
пределами пространства и времени. Но ясно, повторяю, также и
то, что отнюдь не вопрос о познаваемости (или непознаваемости)
внешнего мира образует водораздел между материалистическим
и идеалистическим направлениями в философии.
Во второй половине XIX в. известный английский биолог,
страстный последователь дарвинизма Т. Гексли ввел в научный
оборот термин «агностицизм». Он противопоставил
агностицизм не только забытому христианскому гностицизму, но и
теологии вообще, а также тем догматическим, по его убеждению,
научным теориям, которые исходят из убеждения, что все может
быть познано. Гексли утверждает, что агностицизм представляет
собой в действительности не исповедание веры, а метод,
сущность которого состоит в строгом применении одного принципа.
331
Позитивно этот принцип определяется как признание
истинным лишь того, что достаточно твердо установлено и поэтому
не вызывает каких-либо сомнений. Негативно суть этого
основоположения определяется как отказ признавать за истинное
то, что представляется не вполне доказанным или недостаточно
подтвержденным. Разумеется, агностицизм Гексли и согласных
с ним философов и естествоиспытателей заключается не
просто в требовании научной строгости, исключающей легковерие
и забвение критериев научности: эти требования приемлемы для
самых последовательных сторонников принципа познаваемости
мира. Существо агностицизма Гексли состоит в убеждении, что
научные методы исследования неприменимы не только к
объектам религиозной веры, но и к исследованию материи и силы, если
имеются в виду не отдельные материальные явления и
действующие в них силы, а то, что мыслится как общая сущность этих
явлений и сил. Гексли, следовательно, не только противопоставляет
религии науку, но и в самой науке пытается обнаружить
радикальную противоположность разума и веры и в связи с этим
обосновать существование в природе принципиально
непознаваемого, хотя и не трансцендентного. При этом он подвергает критике
представления о том, что в наших ощущениях более или менее
адекватно отражается то, что так или иначе воздействует на наши
органы чувств. Сенсуалистическая гносеология действительно
нуждается в критическом анализе, выявляющем свойственное ей
упрощенное представление об объективном содержании наших
чувственных образов. Но Гексли далек от такого анализа; он
склоняется к воззрениям Юма, не принимая вместе с тем его
радикальных, субъективистских теоретико-познавательных выводов.
Близкий к агностицизму Гексли физиолог Э. Дюбуа-Реймон
утверждал, что самое точное знание процессов,
совершающихся в мозгу и нервной системе человека, не позволяет познать их
сущность. В работе «О границах познания природы» (1873) этот
выдающийся ученый утверждал, что имеется семь
принципиально неразрешимых проблем: сущность материи и силы,
происхождение движения, возникновение жизни, целесообразность в
природе, возникновение ощущений и сознания, природа мышления и
речи, свобода воли. Его заключительный вывод гласил: Ignorabi-
mus (никогда не познаем).
Э. Геккель, не менее выдающийся естествоиспытатель, в
книге «Мировые загадки», вызвавшей бурю в университетском
общественном мнении, в известной мере показал, что
естествознание постепенно приближается к решению всех этих проблем,
а частью даже решает их. Однако и он также утверждал, что
332
существует нечто принципиально непознаваемое. «В конечном
итоге монистическая философия (так Геккель именовал свое
мировоззрение, открещиваясь от материализма. - Т.О.) знает
только одну всеобъемлющую загадку: "проблему субстанции "»
(51а, 79)*.
Энгельс называет Гексли и родственных ему мыслителей-
естествоиспытателей стыдливыми материалистами. Это меткое
определение позволяет отличать непоследовательный в
философском отношении естественнонаучный материализм от
философского скептицизма и кантовского идеализма. Ведь «стыдливый»
материалист-агностик в сущности признает разрешимыми все
конкретные научные проблемы. А то, что он называет
неразрешимыми загадками бытия, оказывается обычно неправильно
сформулированными проблемами, антидиалектическая постановка
которых закрывает путь к их решению.
В нашей отечественной марксистской литературе
господствовало ошибочное представление об агностицизме как реакционном
философском течении. В противовес агностикам утверждалось,
что существует лишь непознанное, а непознаваемого в принципе
не может быть. Несостоятельность такого представления
нетрудно доказать. Во-первых, непознаваемое существует как
исторически преходящая особенность процесса познания. Так, до
изобретения микроскопа было, конечно, непознаваемо существование
микробов и бактерий, не говоря уже о других вещах, которые
стали доступны человеческому глазу лишь благодаря микроскопу.
Следовательно, не только микробиология, физиология растений
* Геккель проповедовал также «монистическую религию», которая при
ближайшем рассмотрении оказывалась стыдливым атеизмом. «Наш чистый
монизм, - писал он, - не тождественен ни с теоретическим материализмом,
отрицающим дух и сводящим мир к сумме мертвых атомов, ни с теоретическим
спиритуализмом (недавно окрещенным Оствальдом энергетикой), отрицающим
материю и считающим мир пространственной группой энергий или
нематериальных сил природы» (51а, 83). На мой взгляд, позиция Т. Гексли и его
соратников была исторически прогрессивной. Понятно поэтому, почему известный
английский писатель Г.К. Честертон не без сокрушения утверждал: «... в наше
время и среди епископов многие стали агностиками» (184а, 71). Не следует
полагать, что эта оценка агностицизма определялась приверженностью
Честертона к томизму, к учению Фомы Аквинского прежде всего. Термин «агностицизм»
обозначал главным образом антиклерикальную мировоззренческую позицию.
А. Франс, осмеивавший теологов в романе «Восстание ангелов», говорит об
одном из персонажей: «Он был агностиком, как говорят в свете, чтобы не
употреблять наприятного слова "вольнодумец". И он открыто объявлял себя агностиком
вопреки доброму обычаю скрывать такие вещи. В наше время существует
столько способов верить и не верить, что грядущим историкам будет стоить немалого
труда разобраться в этой путанице».
333
и ряд других научных дисциплин возникли только благодаря
этому изобретению.
Ясно также и то, что еще в середине XIX в. физике было
недоступно познание структуры атома. Большинство физиков и
химиков были убеждены в том, что атомы представляют собой
последние «кирпичики» всего существующего. О
существовании таких элементарных частиц, как электрон, протон, никто из
них не подозревал. Но если бы и была высказана гипотеза о
существовании структурных частиц атома, ее невозможно было бы
проверить. Элементарные частицы оставались непознаваемыми
до тех пор, пока развитие научного знания и экспериментальной
техники не создало условий для их обнаружения и познания,
которое остается незавершенным и в настоящее время.
Однако существует не только исторически обусловленное
непознаваемое, но и то, что никогда не будет познано. Это,
конечно, не трансцендентные «вещи в себе», существование которых
недоказуемо даже по словам гениального творца
трансцендентального идеализма. Непознаваемо бесконечное, несмотря на то
что наука постоянно познает неисчислимое множество конечных
вещей, образующих бесконечное. В науке и по сей день
обсуждается и остается нерешенным вопрос: существует ли актуальная
(т.е. реальная) бесконечность или мы вправе допускать
существование лишь потенциальной бесконечности.
Непознаваем и мир в целом, хотя все, из чего он состоит, в
принципе познаваемо. Академик Б.М. Кедров, утверждая, что
необходимо устранять из философии туманные и двусмысленные
выражения, писал: «К их числу относится, на наш взгляд, и
бытующее у нас выражение о мире в целом как якобы
составляющем предмет философии, в том числе и марксистской» (89, 33).
Критике этого воззрения Кедров посвятил специальную статью.
Главное его возражение против критикуемого воззрения состоит
в том, что «мир в целом», естественно, включает в себя и
человека, его сознание, мышление. «Но тогда, - пишет он, - с порога
отбрасывается высший вопрос философии об отношении между
бытием (в данном случае - "миром в целом") и сознанием,
поскольку сознание уже включено в этот мир. Отсюда
получается, что философия, определенная через "мир в целом", лишена
своего высшего, основного вопроса» (89, 35). Оставляя в стороне
замечание о высшем философском вопросе, поскольку из
предшествующего изложения стало ясно, что имеется немало таких
вопросов (точнее, их существует неопределенное, постоянно
возрастающее множество, что, надеюсь, станет еще более ясным в
ходе последующего изложения), подчеркну: Кедров вполне при-
334
знает, что понятие мира как целого - не бессодержательная
абстракция, а отражение действительности. Более того, он
ссылается на П.В. Копнина, который в уже упоминавшейся мною книге
«Введение в марксистскую гносеологию» писал, что «любая
наука так или иначе рассматривает мир в целом» (92, 42).
Б.М. Кедров ссылается и на меня: «Член-корреспондент
АН СССР Т.Н. Ойзерман указал мне также на следующее
обстоятельство: Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшиц в своей книге
"Статистическая физика" (М., 1964, с. 164) писали, что в ОТО (общая теория
относительности. - Т.О.) как физической теории мир как целое
должен рассматриваться не как замкнутая система, а как система,
находящаяся в переменном гравитационном поле...» (89, 35).
Итак, науки изучают мир как целое. Кедров нисколько не
отрицает этого. Почему же он не дозволяет философии следовать
примеру наук, теоретически осмысливать и обобщать то, что
каждая наука исследует в своем ракурсе, т.е. более или менее
односторонне? Отвечая на этот вопрос, Кедров вновь и вновь ссылается
на недопустимость умаления «высшего», «основного»
философского вопроса. В том, что философы-марксисты ставят вопрос об
изучении мира в целом (разумеется, на основе данных,
почерпнутых из разных наук), он видит попытку «воскресить под видом
философии диалектического материализма старую-престарую
натурфилософию с объявлением "мира в целом" ее предметом»
(89, 42). С этим толкованием столь важного онтологического
вопроса никак нельзя согласиться*.
Не следует обходить молчанием еще одно догматическое
представление, господствовавшее в марксистской философской
литературе. Оно состояло в убеждении, что в философии существуют
лишь два основных направления - материализм и идеализм, а
поэтому любые попытки выйти за пределы этой противоположности
носят межеумочный, эклектический, не заслуживающий
внимания характер. Такого рода попытки характеризовались также как
неоправданное, необоснованное стремление отойти от
материализма, стремление, «маскируемое» также... критикой идеализма.
В действительности, как показывает историко-философский
процесс, поиски «третьего пути» (ни материализм, ни идеализм) не
были, конечно, уловкой каких-то не вполне добросовестных
ординарных профессоров. Достаточно указать на дуалистическую
* На мой взгляд, правильно возражает Кедрову СТ. Мелюхин: «Тот факт,
что никакая наука не может дать законченного понимания мира в целом, еще
отнюдь не означает, что в наших представлениях не может быть никакой
достоверной информации о свойствах всего материального мира и что невозможно
содержательное мировоззрение» (ИЗ, 144).
335
систему Р. Декарта, одного из величайших философов прошлого,
который, в основном, материалистически истолковывал
неорганическую природу, но духовное считал предметом идеалистически
ориентированной метафизики. Философский дуализм, не только
в его картезианском «исполнении», следует рассматривать не как
«эклектическую мешанину» (так его характеризовали советские
учебники по философии), а как фундаментальное направление,
теоретической основой которого является вполне оправданное
критическое отношение как к идеализму, так и материализму*.
Об оправданности критики идеализма едва ли необходимо
говорить. Этот вопрос частью уже прояснен предшествующим
изложением. Кроме того, я намерен вернуться к нему в
дальнейшем. Важнее сейчас обсудить вопрос об оправданности критики
материализма. Маркс критиковал предшествующий материализм
за присущую ему созерцательность. Она, как мне
представляется, состояла в том, что процесс познания трактовался этим
материализмом главным образом как результат воздействия предметов
внешнего мира на наши органы чувств, в то время как
важнейшим условием действительного познания внешнего мира
является воздействие человека на этот мир, материальное производство,
практика в самом широком смысле этого слова.
Энгельс подвергал критике предшествующий материализм
за присущее ему механистическое видение природы, а также за
«метафизичность», понимаемую как чуждый диалектике способ
исследования. Но ни Маркс, ни Энгельс, ни их последователи, в
том числе и советские философы, не указывали на то, что
диалектический материализм, характеризовавшийся как окончательное
преодоление существенных недостатков прежнего материализма,
подобно последнему отличается упрощенным пониманием
духовного, которое трактуется лишь как свойство (или продукт)
высокоорганизованной материи, функция мозга. Идеалисты
обвиняются поэтому в том, что они не признают этой азбучной истины.
Разумеется, суть дела совсем в другом. Духовное - это было хоро-
* Т.Н. Горнштейн в своей монографии, посвященной «критической
онтологии» Николая Гартмана, отмечает, что этот выдающийся философ XX в.
«решительно высказывается против монизма, защищает дуализм вневременного
идеального бытия и существующего во времени реального мира» (59, 56). Книга
Горнштейна - единственная в нашей литературе монография о философии
Гартмана. Между тем в западноевропейской философской литературе анализу
«Критической онтологии» уделяется значительное внимание. Горнштейн называет
монографии французского философа Ж. Валя, итальянца Б. Франческо, немца
Г. Мейера. Она указывает также, что воззрения Гартмана привлекают внимание
ряда физиков и биологов. Все это говорит о том, что философский дуализм
считают не межеумочным, а вполне самодостаточным учением.
336
шо известно основоположникам марксизма и их последователям -
не просто функция мозга; духовное - это знания, обретенные и
обретаемые человеком и человечеством как благодаря
повседневному опыту (вненаучное знание), так и благодаря развитию науки
и техники. Духовное - что также не менее важно - это искусство
(художественная литература, музыка, ваяние, живопись).
Наивно думать, что идеалисты Нового времени, считающие духовное
первичным по отношению к материальному, подвергали
сомнению прочно установленный факт: мышление и чувственность
невозможны без мозга. Идеалисты придавали первенствующую
роль всему богатству духовного, которое явно недооценивается
философским материализмом*.
Правда, нельзя не отметить, что указанный недостаток
философского материализма в известной мере преодолевается
материалистическим пониманием истории, согласно которому
общественное сознание, т.е. все формы духовного, которые следует
отличать от индивидуального сознания, хотя оно также носит
общественный характер, определяется, разумеется, не
человеческим мозгом, а общественным бытием, т.е. реальным,
многообразным процессом общественной жизни в полном объеме ее
исторического развития, наследующего все предшествующие
достижения духовной культуры человечества. Эта плодотворная
концепция, которую, строго говоря, нельзя назвать
монистически-материалистической (ведь реальный процесс жизни общества
есть не только материальный, но и духовный процесс), все еще
не получила своего адекватного воплощения в диалектико-мате-
риалистической философии. Однако за последние два
десятилетия ряд российских философов (B.C. Степин, В.А. Лекторский,
И.Т. Касавин, И.П. Меркулов, Л.А. Микешина и др.)
успешно разрабатывают неклассическую (вернее, постклассическую)
гносеологию, трактующую познание как социо-культурный
исторический процесс, т.е. своеобразную социологию познания,
которая, конечно, не имеет почти ничего общего с социологией
знания К. Мангейма, предмет которой - исследование идеологии
* Нейрофизиолог Дж. Экклз, лауреат Нобелевской премии, утверждает, что
существует неизбежная антиномия между «демократическим сообществом»
миллиардов клеток человеческого мозга и тем единством личности, которое
выявляется в опыте, в самосознании каждого человека. Эта антиномия,
полагает маститый исследователь, неразрешима средствами научного
исследования. И, как бы забывая о том, что естествоиспытатель не вправе апеллировать
к сверхприродному, Экклз приходит, выражаясь его собственными словами,
«к религиозному понятию души и к признанию ее творения Богом» (219ь, 43).
Антиномия, на которую указывает Экклз, действительно неразрешима в рамках
нейрофизиологии. Единство личности - социальный феномен.
337
как иллюзорного сознания. Тем не менее, стоит подчеркнуть, что
в этих весьма содержательных и в ряде отношений пионерских
исследованиях иной раз оказываются в тени механизмы
познания, его архитектоника, структура, методы.
Итак, то, что Энгельс называл главным философским
вопросом, оказалось, как видно из предшествующего изложения, тремя
существенно различными вопросами, а вовсе не двумя сторонами
одного и того же вопроса. Больше того, из предшествующего
изложения нетрудно придти к заключению, что в рамках все того же
«высшего» вопроса всей философии существует еще один, также
основной вопрос: признание (или непризнание) объективной
реальности, существующей (или несуществующей, по убеждению
некоторых философов) независимо от человеческого сознания
и воли, безотносительно к ним. Это - вопрос о так называемом
философском реализме, большинство представителей которого,
отвергая идеализм (прежде всего, конечно, субъективный
идеализм), не являются также материалистами, хотя сплошь и рядом
приближаются к материалистической постановке
теоретико-познавательной проблематики. Одним из первых таких реалистов
был английский философ Дж. Мур, оказавший значительное
влияние на формирование американского неореализма и его
оппонента - «критического реализма». На воззрениях Мура я
остановлюсь в связи с анализом философского реализма в Англии.
Т.И. Хилл, автор фундаментальной монографии,
посвященной новейшим гносеологическим теориям, уделяет значительное
место реалистическим философским учениям XX в. При этом
он подчеркивает, что реализм отнюдь не новейшая тенденция в
философии. Реалистом был, например, идеалист Аристотель.
Фома Аквинский, интерпретировавший учение Аристотеля,
также стоял на позициях философского реализма. Однако как особое
философское течение реализм сложился лишь в XVIII в.
благодаря философии «здравого смысла» Т. Рида и его
последователям. В XIX в. философию реализма разрабатывали И.Ф. Гербарт
и А. Мейнонг. Последний называл свое учение «теорией
предметов», строго разграничивая психические акты (чувственные
восприятия, суждения, убеждения) и предметы, к которым относятся
эти акты.
Особо важную роль в становлении этого направления сыграл,
по мнению Хилла, Ф. Брентано. «Отправляясь в одинаковой
степени от аристотелевски-томистской традиции и традиции
британского эмпиризма, Франц Брентано (1838-1917) восстал
против догматизма первой и субъективизма второй... Идеи, - учил
он, - всегда являются идеями чего-то, безразлично, реального
338
или нереального. Другими словами, они обладают тем, что
схоласты назвали интенциональностью» (181е, 98). Феноменология
Гуссерля во многом опиралась на идеи Брентано. Девиз Гуссерля
«Назад к вещам» (Zurück zu Sachen!) - развитие брентановского
понимания интенциональности.
В США во второй половине XIX в. сложилась группа
философов, именовавших себя неореалистами и опубликовавшая
наряду с другими сочинениями коллективный труд «Неореализм».
Р.Б. Пери (1876-1957) - родоначальник американского
неореализма - так сформулировал свое кредо: «Идеализм и реализм
относятся друг к другу так, что если идеализм ложен, то реализм
истинен» (см. 101)*. При этом он имел в виду не только
субъективный, но и объективный идеализм, полагая, что и то и другое
учения неразрывно связаны друг с другом.
Т.И. Хилл подчеркивает, что представители реализма
«противопоставили идеалистическому утверждению о том, что объект
познания либо по своим свойствам, либо по своему
существованию зависит от того, что познается, лозунг, согласно которому
объект познания независим от познающего субъекта и процесса
познания как в отношении своего существования, так и в
отношении своих свойств» (181*, 97). Полемизируя с идеализмом,
а также с некоторыми материалистами, Пери обосновывал тезис:
существуют независимо от познающего субъекта не только так
называемые первичные качества предметов, описываемые
теоретической механикой, но и их вторичные качества, объективность
которых отрицают Гоббс, Локк и другие материалисты. Он
солидаризировался, правда, не без существенных оговорок, с
материалистической теорией отражения, указывая вместе с тем и на то,
что предметы не обязательно таковы, какими мы их видим,
слышим, короче говоря, воспринимаем нашими органами чувств.
Продолжателем учения Пери выступил Э.Б. Холт (1873-1941),
который стремился радикализировать неореализм, т.е. полностью
отмежеваться не только от субъективного, но и от объективного
идеализма. Он считал, что обе разновидности идеализма, в
сущности, находятся в единстве. Отвергая представления идеалистов
* Далее Пери утверждал: «... предмет не является ни целым, ни частью
которого является сознание, ни единственной причиной или следствием сознания,
ни чем-то таким, из чего следует сознание, или чем-то, что исключительно
следует из сознания» (181а, 104). Это противопоставление сознания и предметов
как независимой от сознания, объективной реальности не всегда
последовательно проводилось неореалистами, которые нередко сближали эти
противоположности, стремясь обосновать монистическое философское мировоззрение. Эта
тенденция была подвергнута основательной критике американскими
«критическими реалистами». Но об этом ниже.
339
о мировом разуме или человеческом сознании как
субстанциальной реальности, он считал несостоятельной и материалистическое
понимание материи как абсолютного первоначала всего сущего.
Бытие, которое Холт понимал как всеобъемлющую реальность,
характеризовалось им как единство нейтральных элементов.
Т. Хилл так характеризует это основное убеждение Холта:
«Фундаментальное бытие состоит из простых элементов, образующих
все те комплексы, с которыми мы встречаемся в опыте. Эти
простые элементы являются не разумом, не материальными вещами,
а нейтральными сущностями, имеющими как психические, так
и материальные свойства» (181я, 108). Так же как и Пери, Холт
сторонник теории отражения, которую он истолковывает как
теорию, вскрывающую отношение частичного тождества между
образом и вещью. «Отображение всегда частично тождественно с
тем, что оно отображает...» (см. 18Г, 143).
Нет необходимости останавливаться на воззрениях
других американских неореалистов. Приведу лишь весьма
показательное высказывание Е.Г. Сполдинга, цитируемое Т. Хиллом:
«...процесс познания не видоизменяет, не создает и не оказывает
причинного воздействия на то, что познается, а также не
нуждается в какой бы то ни было лежащей в его основе сущности,
которая опосредовала бы отношения между процессом познания и его
объектом» (см. 181а, 122).
Представители «критического реализма», разделяя
неореалистические представления о независимости объектов познания
от познающего субъекта, обвиняли неореалистов в
неоправданном «монизме», заключавшемся, по их утверждениям, в
чрезмерном сближении отражения и отражаемого. Они указывали и
на то, что неореалисты не в состоянии обосновать понятие
истины как соответствия представлений субъекта с объектами.
В противовес неореалистическому «монизму» они разрабатывали
дуалистическое понимание отношения между представлениями
и их объектами, согласно которому непосредственное отношение
между теми и другими принципиально невозможно. Познание, с
этой точки зрения, несравнимо более сложный, опосредованный
процесс, так как представления как психические акты не имеют
ничего общего с объектами познания.
Первым и наиболее видным, по мнению Т. Хилла, критическим
реалистом является А.О. Лавджой, учение которого сводится, как
пишет Хилл, к следующим тезисам: 1) Некоторые из познаваемых
вещей расположены «в пространстве, внешнем по отношению к
телу воспринимающего субъекта (percipient)» 2) многие из них -
«несуществующие вещи, так как их либо уже нет, либо еще нет»;
340
3) некоторые из них таковы, «какими они остались бы не будучи
познанными», 4) восприятие личностью познаваемых предметов
включает в себя «восприятие других личностей такого же рода»
и 5) восприятие познаваемых вещей «может быть проверено в
другом опыте, помимо того, в котором они в данный момент
находятся перед нашими глазами» (181а, 138). Под этими тезисами, можно
полагать, подписался бы и материалист, хотя его не удовлетворило
бы отсутствие онтологической антитезы духовного и
материального (физического, по терминологии «критического реализма»).
Однако тот факт, что «критический реализм» занимается главным
образом исследованием познавательного процесса, конечно, не
может быть поставлен ему в вину, поскольку признание сознания
свойством мозга (т.е. первичность материального по отношению к
духовному) он справедливо не рассматривает как проблему: этот
факт давно уже установлен наукой.
Немалый интерес представляет и своеобразная философия
Дж. Сантаяны, которого Хилл характеризует как
платонического критического идеалиста. Эта характеристика основана на
том, что философ признает существование вечных сущностей.
Однако они не истолковываются Сантаяной как
трансцендентные идеи. Сантаяна отказывается от почти общепринятого в
философии разграничения сущности и явления. По его учению,
любая вещь, любое качество вещи следует считать сущностью
в том смысле, что нет порождаемого ею явления; она сама и
есть явление в силу чего сам термин «явление» становится
излишним. Он соответственно этому пишет: «сущность - это как
раз то качество, которое свойственно некоторой существующей
вещи, поскольку последняя остается тождественной с самой
собою» (167, 147).
Сантаяна занимается также вопросами диалектики, в которой
он видит верный путь для ограничения чрезмерных претензий
философского скептицизма. Задача диалектики состоит, с одной
стороны, в исследовании «царства сущностей», следовательно,
независимой от познания реальности, а с другой, - в
исследовании и применении форм, присущих мышлению.
В своем понимании истины Сантаяна подчеркивает ее
объективность. Хилл излагает это воззрение философа так:
«Истина как таковая не зависит от того, что может думать отдельный
человек. Она никогда не является ни частичной, ни преходящей,
ни зависящей от личности или духа. Она также не является
предметом правильного мнения, ибо мнения локализованы, а истина
нет» (181я, 152). Такая концепция истины, на первый взгляд,
совпадает с воззрением Платона, но Сантаяна отвергает допущение
341
какой бы то ни было трансцендентной реальности и это коренным
образом отличает его учение от платоновского идеализма.
Л.Б. Макеева в статье об американском критическом
реализме пишет: «Американских критических реалистов объединяло
убеждение в том, что любое восприятие включает три отдельных
ингридиента: акт восприятия, "непосредственно данное" и
воспринимаемый объект. Существование физических объектов не
зависит от того, воспринимаются они или нет, однако объекты не
могут быть непосредственно даны в восприятии, поэтому
субъект воспринимает "данное", служащее посредником между ним и
объектом... "Данное" в некотором смысле соответствует объекту,
но является не его копией, а знаком, указывающим на
присутствие объекта. Любое содержание сознания реалисты трактовали
как результат сложного взаимодействия субъекта и объекта...»
(110, 331). На мой взгляд, эта концепция познавательного
процесса вносит существенные коррективы в то понимание
отражения, которое разделяют большинство материалистов. В работе
В.И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» это
материалистическое воззрение излагается весьма упрощенным, я сказал
бы даже грубым, образом, так как ощущения уподобляются
копиям, фотографиям воспринимаемых объектов.
Особый интерес представляет критический рационализм
Р.В. Селларса, поскольку он выступает как представитель «научного
материализма» и утверждает, что «целостный акт восприятия с его
суждениями, категориями и различениями является наиболее
элементарной единицей в познании внешнего мира» (181я, 155),
который характеризуется понятиями физики. В связи с этим он отвергает
убеждение Сантаяны в тождественности явления и сущности.
Именно физика убедительно доказывает, что сущность отличается от
явлений, описываемых на основании показаний наших органов чувств.
Английская философия реализма представлена такими
выдающимися философами, как Дж.Э. Мур, Б. Рассел, Ч.Д. Броуд и
их продолжателями. Дж. Мур в статье «Опровержение
идеализма», опубликованной в 1903 г., считает, что идеализм,
поскольку он выдвигает тезис «esse est percipi», как это делал Беркли,
приводит к логически несостоятельному выводу, что свойства,
присущие миру, и свойства, по каким-либо причинам еще не
воспринимаемые, могут существовать лишь постольку, поскольку
они воспринимаются. Идеалист, разъясняет Мур, не сознает, что
опыт и его объекты противоположны друг другу, что, например,
желтый цвет и ощущение желтого цвета совершенно
различны. В монографии «Принципы этики» Мур вновь обращается
к этому примеру. Мы можем, пишет он, определить качество
342
«желтый», описывая «физический эквивалент "желтого"; мы
можем установить, какой вид световых волн должен воздействовать
на нормальный глаз, чтобы убедиться в неадекватности световых
волн тому, что мы подразумеваем под желтым цветом. Самих
волн мы не воспринимаем. Правда, мы никогда бы не смогли их
обнаружить, если бы не существовало различия между разными
цветовыми качествами» (122а, 67). И здесь Мур, в противовес
идеализму, утверждает, что физические факты существуют
безотносительно к фактам сознания.
Б. Рассел - наиболее известный и, пожалуй, самый
выдающийся представитель философии реализма. Развитие его
философских воззрений претерпело значительные изменения, которые
нелегко проследить по его произведениям. Но как это ни
удивительно, наиболее ясное представление о том, к какой системе
взглядов пришел, наконец, этот мыслитель, дает его «История
западной философии», в которой он не только критически
излагает философские учения, но и оценивает их, излагая вместе с тем
свои собственные воззрения. Прав В.Ф. Асмус, который в
послесловии к этой книге отмечает: «Книга Рассела - философское
самоопределение в форме историко-философского
повествования. Задачу философского самоотчета она выполняет в известном
смысле даже с большей разносторонностью, чем ее выполняют
труды Рассела, посвященные гносеологии и логике...» (148, 857).
Так, анализируя идеалистические теории, Рассел
противопоставляет им реалистическое убеждение в том, что безотносительно
к сознанию человека, независимо от него существует внешний,
объективный мир. Однако он не считает возможным
характеризовать его как материальный. В качестве одного из наиболее
вероятных ответов на вопрос о природе внешнего мира он
выдвигает понятие энергии, которая, согласно открытиям современной
физики, эквивалентна материи. «Энергия, - пишет он, - должна
была заменить материю в качестве некоего вечного начала. Но
энергия, в отличие от материи, не является рафинированным
выражением общераспространенного понятия "вещи", это просто
характерная особенность физического процесса. Энергию можно
при достаточной фантазии отождествить с Гераклитовым огнем,
но это горение, а не то, что горит. "Что горит" исчезло из
современной физики» (148, 66)*. Можно не соглашаться с этой точ-
* В последней главе этой работы Рассел несколько уточняет свое
отношение к понятию материи. «Философия и физика развили понятие "вещь" в
понятие "материальной субстанции" и считают, что материальная субстанция
состоит из очень малых частиц, существующих вечно. Эйнштейн заменил понятие
частицы событиями... Выбор между этими различными способами
произвольный, и не один из них теоретически не является предпочтительным» (148, 839).
343
кой зрения, оспаривать утверждение Рассела, что таковы выводы
современной физики, но ясно одно: энергия не понимается
Расселом идеалистически.
В.Ф. Асмус называет Рассела агностиком и скептиком. Это -
преувеличение. Некоторая доза скептицизма относительно
неспособности философии давать достоверные знания действительно
присуща Расселу, но она вполне оправданна. Достоверные, хотя
и приблизительные знания, которые также могут восприниматься
скептически, дает, по его убеждению, физика. В этом воззрении
нет ни грана скептицизма и агностицизма.
Философские воззрения Рассела хорошо изложены в
последней главе его историко-философской работы. Глава называется
«Философия логического анализа». Критически оценивая
воззрения Р. Карнапа и других его приверженцев, Рассел тем не менее
солидаризируется с его методологией. Из нее он, правда, делает
выводы, которых нет у представителей этого течения. «В то
время как физика делала материю менее материальной, психология
делала дух менее духовным... Таким образом, с двух
противоположных концов физики и психологи приближаются друг к
другу, что делает возможным концепцию "нейтрального монизма",
предложенную У. Джемсом, критиковавшим понятие "сознание".
Различие между духом и материей пришло в философию из
религии, хотя долгое время и казалось, что оно достаточно
обосновано. Я думаю, что дух и материя - это просто удобные способы
группирования событий. Я должен допустить, что одни
единичные события принадлежат только к материальной группе,
другие - к обеим группам и поэтому являются одновременно и
духовными и материальными» (148, 840). Я думаю, что с этим
высказыванием Рассела можно cum grano salis согласиться. Он
признает объективное существование материального, а психические
явления, неотделимые от физиологических, действительно
являются не только духовными. Что же касается происхождения
понятий «дух» и «материя», то здесь воззрение Рассела совпадает с
точкой зрения Энгельса, высказанной в связи с формулированием
«высшего вопроса всей философии».
Главное достоинство логического эмпиризма Рассел видит в
том, что он не претендует на создание системы окончательных
истин и всегда «в состоянии биться над каждой из своих проблем
в отдельности, вместо того чтобы изобретать одним махом
общую теорию всей вселенной. Его методы в этом отношении
сходны с методами науки» (148, 841).
Важно также отметить, что Рассел указывает на достаточно
широкий круг вопросов, которые в принципе не могут быть окон-
344
чательно, раз и навсегда решены. «Возьмем такие вопросы, как:
Что такое число? Что такое время и пространство? Что такое дух?
Что такое материя? Я не говорю, что мы можем здесь и сейчас
дать окончательный ответ на все эти очень старые вопросы, но я
утверждаю, что открыты методы, с помощью которых мы можем
(как в науке) последовательно приближаться к истине, причем
каждая новая стадия возникнет в результате
усовершенствования, а не отвергания предыдущей» (148, 842). Едва ли
необходимо здесь сколько-нибудь обстоятельно разъяснять, что Рассел
чрезмерно переоценивал значение логического эмпиризма. Книга
его вышла в свет в 1948 г.; с тех пор логический эмпиризм был
подвергнут основательной критике не только его противниками,
но и самими представителями этого учения. Достаточно хотя бы
назвать Г. Рейхенбаха и К. Гемпеля. Но рассмотрение этого
вопроса не входит в задачи моего исследования. Для меня достаточно
подчеркнуть, что Рассел после всех своих колебаний и оговорок
вполне признает, что вопрос о материи и духе - один из основных
философских вопросов, наряду с другими вопросами, которые
также заслуживают быть названы основными. Завершая разбор
ряда положений Рассела, стоит сослаться на его высказывание:
философы, разрабатывавшие логический эмпиризм, «изобрели
мощный метод, с помощью которого можно сделать философию
плодотворной» и в этом «заключается основная заслуга
философской школы, к которой я принадлежу» (148, 843).
Видным представителем философии реализма является
также С.Д. Броуд, которому издаваемая в США «Библиотека
живущих философов» посвятила весьма объемистый том, содержащий
его автобиографию, статьи о его философии и возражения Броуда
авторам этих статей. Броуд, как и другие английские философы
реализма, рассматривает познание как весьма сложный процесс
воспроизведения в чувственных образах и понятиях физических
объектов, независимость которых от познания - факт, постоянно
подтверждаемый науками о природе. Однако в отличие от
других представителей этого течения он допускает правомерность
не только эмпирических, но и априорных суждений, имея
прежде всего в виду математику и математический аппарат физики.
Он также не согласен с радикальным отрицанием спекулятивной
философии и полагает, что логический эмпиризм также не
может обойтись без умозрительных высказываний, основу которых
составляют правила логики. Как умеренный представитель
логического эмпиризма, он решительно заявляет, что конфликт
между наукой и религией не может быть основанием ни для отказа
от науки, ни для отказа от религии. «Мы должны или покинуть
345
натурализм или покинуть религию, или искать какой-то путь для
примирения обеих» (203, 718).
Ленин, по-видимому, совершенно превратно представлял
себе состояние философии начала XX в., утверждая, что
идеалисты отказываются называть себя идеалистами. Идеалистами
называли себя неокантианцы, создатели «имманентного»
идеализма (В. Шуппе, И. Ремке), творец философии
бессознательного первоначала Э. Гартман, немецкие философы К. Фишер,
Т. Циген, английские философы Д. Уорд, А. Фрейзер, Д. Хиббен,
сторонники «физического идеализма», которых критиковал
Ленин, известные русские философы С.Н. Булгаков, В.В. Лесевич,
Л.М. Лопатин - о всех этих идеалистах идет речь в
«Материализме и эмпириокритицизме» Ленина. Все это опровергает его, по
существу, голословное утверждение.
Основным вопросом философии является также вопрос об
источнике наших восприятий и понятий, о специфических
чертах человеческого знания. Этот вопрос не находится в какой-либо
связи со стародавним вопросом, что первично: материя или дух
(мышление, сознание, ощущение, воля, Бог). Таким образом,
выявляется еще один основной вопрос философии, который также
составляет проблему, которой занимаются философы-реалисты.
Наряду с гносеологическими реалистическими учениями
существует и метафизика реализма, наиболее выдающимся
представителем которого является Н. Гартман. Его философии
посвящена уже цитировавшаяся мной выше замечательная монография
Т.Н. Горнштейн. Я называю эту работу замечательной, ибо в те
годы, когда мы, советские философы, упражнялись в так
называемом разоблачении современной западноевропейской и
американской философии, награждая ее эпитетами, заимствованными из
ругательского ленинского лексикона, скромный питерский
ученый писала: «Положительным моментом в критике Гартманом
"гносеологизма" является признание первичности бытия по
отношению к сознанию» (59, 12).
Энгельс, как известно, утверждал (см. приведенную в
начале главы цитату), что отправным пунктом материализма
является признание первичности бытия и вторичности мышления, в то
время как идеализм, напротив, признает первичным мышление,
а вторичным бытие. Это, несомненно, ошибочное высказывание,
так как все создатели метафизических систем (а почти все они
идеалисты) утверждали, что бытие первично, и считали его
основным понятием и предметом своего учения. За примерами далеко
ходить не приходится. Первыми европейскими философами,
настаивавшими на первичности и идеальности бытия были элеаты,
346
в особенности Парменид. Правда, в их учении идеализм еще не
получил четкого выражения. Но уже в период средневековья, а
затем в Новое время идею первичности бытия отстаивали многие
создатели метафизических систем. Гельвеций утверждал, что как
материализм, так и идеализм принимают в качестве отправного
пункта понятие бытия, хотя истолковывают его
противоположным образом. «Эти два рода метафизики - Демокрита и Платона.
Первый постепенно поднимается от земли к небу, второй
постепенно снижается с неба на землю». Правда, нельзя согласиться с
Гельвецием в его оценке атомистики Демокрита как
метафизической системы.
Н. Гартман справедливо указывает, что философия в
принципе невозможна без онтологии и, стало быть, без понятия бытия.
Это полностью относится и к учениям, ориентирующимся
исключительно на гносеологическую проблематику: ведь познание
предполагает объект познания и тем самым нечто существующее,
бытие. Бытие, согласно учению Гартмана, многослойно, имеет
различные сферы (Dasein, Sosein, Existenz, Materielle, Ideelle).
Бытию изначально присущи различные способы бытия
(Seinsweise). Первичные сферы бытия - реальное и идеальное -
независимы от человеческого сознания. Это - «в себе бытие». Нет
высших и низших сфер бытия, так же как нет высшей и низшей
реальности. Вопрос о том, что первично - духовное или
материальное - устраняется. Есть одна только реальность, в которой
мы живем. Правда, Гартман утверждает вопреки первоначально
сформулированным тезисам, что материальные вещи - низший
слой реальности, так как ее высший слой - психическое,
интеллектуальное, духовное*. Материальное фактически упрощенно
понимается Гартманом, поскольку он сводит его просто к
веществу. Но мозг, центральная нервная система человека также
материальны, хотя их никак нельзя свести к веществу, понимаемому
обычно как неорганическая материя.
Разграничивая душевное и духовное бытие, так как первое
относится лишь к человеческому индивиду, в то время как второе -
способ общественного бытия, Гартман справедливо выступает
* Впрочем, это положение Гартмана может быть истолковано вполне
материалистически, так как духовное - высший продукт развития материи и
общественной жизни. И Фейербах нисколько не изменяет материализму, когда
пишет: «Конечно, дух есть высшее в человеке; он представляет собой элемент
благородства в человеческом роде, его отличие от животного; но то, что
является первым для человека, еще не есть поэтому естественно или от природы
первое. Наоборот, наивысшее, наисовершенное есть последнее, самое позднее»
(170б,663).
347
против сведения духовного к душевной жизни человека. Ошибка
такой редукции «та же, что и заблуждение биологизма и
материализма. Все эти измы не постигают слоистости (Schichtung)
реального мира; они насилуют феномены, поскольку игнорируют
границы между ступенями реального и стремятся упразднить их
закономерность ради конструируемого ими единства» (231, 190).
Материя характеризуется Гартманом как та сфера бытия,
которой присуща неопределенность, многообразие, недифференци-
рованность. Это в известной мере напоминает аристотелевское
понимание материи, согласно которому определенность материи
придают нематериальные формы. Тем не менее Гартман
утверждает, что духовное бытие не обладает самодостаточностью,
независимостью от материального. «Основной закон всего духовного
бытия состоит в том, что оно не может существовать как
свободно витающее, а встречается только покоящимся на другой основе
бытия. Так, персональный дух отдельной личности покоится на
духовной жизни, а она в свою очередь на телесно-органической
жизни; последняя основывается на неорганическом, физическом
бытии» (39, 126).
Признание, что мышление - функция материи, не
противоречит идеализму, который, как видно на примере Гегеля,
истолковывает мышление не только как свойственное человеку, но также
(пожалуй, даже прежде всего) как изначальную сверхприродную
стихию бытия, субстанцию-субъект. И приведенное положение
Гартмана, подчеркивающее единство духовного и материального,
не следует, конечно, считать признанием правильности
основоположения материализма. Духовное, по его учению, хоть и
«покоится» на материальном, но не возникает из него. Все сферы бытия
взаимодействуют друг с другом, но ни одна из них не порождает
другую. С этих позиций Гартман критикует не только
материализм, но и идеализм, который, как он пишет, считает субъект
сущим, а объект чем-то производным. Заблуждение материализма,
согласно его воззрению, состоит в абсолютизации объекта.
Необходимо понять относительность различия между субъектом и
объектом, а для этого следует разграничить эти понятия. Объект
есть то, что наличествует в бытии, но не как объект, а как
нечто, что выделено, вычленено познающим субъектом и тем
самым становится предметом познания. Поэтому субъект и объект
образуют коррелятивное единство: нет познающего субъекта без
объекта, но нет и объекта (познания) без субъекта.
Идеалистическое мировоззрение, полагает Гартман,
порождено скептицизмом. Весь послекантовский идеализм сводился,
по его убеждению, к бесплодной борьбе против объективности
348
«вещей в себе», отрицание существования которых лишено
каких бы то ни было оснований. Непознаваемое, несомненно,
существует. «Если имеется определенное, не поддающееся
описанию свойство или структура (Organisation) познания, именно того
действительного человеческого познания, которое мы только и
знаем, и если процесс, делающий возможным познание,
относится к определенной стороне сущего, но никак не относится к
другой его стороне, стало быть, в сущем наличествует нечто, которое
исключено из того, что может быть познано. Это - непознаваемое
для нас» (231, 172). В отличие от Канта Гартман не признает
абсолютно непознаваемых «вещей в себе». Его вполне приемлемая,
с моей точки зрения, концепция заключается в том, что при
определенных условиях (или на данном этапе развития наших знаний)
нечто (другого слова не подыщешь) в принципе не может быть
познано. Оно будет когда-нибудь познано, но всегда будет
наличествовать нечто не только непознанное, но и непознаваемое.
Подытоживая изложение реалистической метафизики Гартмана,
важно подчеркнуть ее основополагающую идею: гетерогенность
сфер бытия: «... в реальном мире гетерогенно существуют вещи,
живые существа, сознание, духовное, которые взаимодействуют,
подвергаются взаимному влиянию, определяют друг друга и частью
также борются друг с другом. Было бы невозможно, если бы они
существовали в разное время и в разной реальности» (231, 77).
Нет необходимости рассматривать далее учение Гартмана.
Важно лишь отметить, что оно, так же как и некоторые другие
философские системы его времени (достаточно упомянуть М. Шеле-
ра, М. Хайдеггера), формулируют еще один, новый основной
философский вопрос: эссенциализм или феноменализм? Признать
ли, что многообразие явлений исчерпывает все содержание
существующего, или же допустить существование находящихся за
явлениями, не обязательно трансцендентных, но определяющих
явления особого рода сущностей, субстратов, субстанций и т.п.?
Гегель, исходя из тезиса о диалектическом тождестве явления и
сущности, утверждал: сущность является, явление существенно.
Такая постановка проблемы имела немалое значение как
противовес истолкованию сущностей как трансцендентного,
непостижимого, сверхприродного и т.п. Однако ее недостаток состоял в
упрощении проблемы. Существуют достаточно глубоко сокрытые
сущности, которые не наблюдаются в явлениях. Их необходимо
открыть, экспериментально выделить их особенное
существование, чем и занимается, к примеру, физика элементарных частиц,
молекулярная биология, астрофизика и другие науки, в том числе
и социальные.
349
Я, конечно, не думаю, что указал на все основные
философские вопросы. Количество их умножается по мере развития
философии. Но и прошлое философии наглядно показывает, что
имеются и другие основные философские вопросы, о которых здесь
еще не было речи. Так, например, Кант в «Критике чистого
разума» формулирует следующие три вопроса, которые также нельзя
не признать основными: Что я могу знать? Что я должен делать?
На что я смею надеяться? В «Логике» он дополняет эти вопросы
четвертым, считая его наиболее важным: Что такое человек? Этот
вопрос является, по моему убеждению, как и по убеждению
Канта, самым-самым главным.
Сокровеннейший смысл философии, согласно Канту и
многим другим философам, состоит в ее гуманистическом призвании.
И ее высшее назначение, соответственно этому, - всемерно
способствовать интеллектуальному и нравственному самоопределению
личности, формировать ее теоретический и практический разум.
«Если существует наука, действительно нужная человеку, - писал
Кант, - то это та, которой я учу - а именно подобающим образом
занять указанное человеку место в мире - и из которой можно
научиться тому, каким быть, чтобы быть человеком» (79, 206).
Претенциозность кантовского способа изложения, правда, несколько
режет слух современного читателя, однако задача, которую
формулирует Кант, действительно величественна. Нет ничего выше
ее! Не удивительно поэтому, что даже такой страстный
противник идеализма, как Н.Г. Чернышевский, вполне в духе Канта
(и всей великой философской традиции вообще) обосновывал
необходимость «развивать человека в человеке» (184, 28).
Человек и человечность, как нетрудно понять, далеко не одно и то
же. Знаменитый афоризм М. Горького: «человек - это звучит
гордо» - может быть приемлем, но только с вопросительным знаком.
Таким образом, появляется еще один, первостепенной важности
основной философский вопрос.
Человековедение - важнейшая задача философии, которая
далеко выходит за пределы философской антропологии и даже
этики, как философских дисциплин, которые также ставят свои
основные вопросы, которые, разумеется, являются вместе с тем и
основными вопросами всей философии. То же относится и к
эстетике как особой философской дисциплине, философии культуры,
философии техники и т.д. и т.п.
Следует все же отметить, что несмотря на почти директивное
указание о том, что основным философским вопросом является
вопрос об отношении сознания к бытию, ряд советских
философов, не оспаривая формально сего указания, настойчиво убежда-
350
ли читателя в том, что важнейшей проблемой философии
является проблема человека*. Л. Ляховецкий и В. Тюхтин, авторы статьи
«Основной вопрос философии» в «Философской энциклопедии»
отмечали: «... Гельвеций считал главным вопросом философии
вопрос о сущности человеческого счастья, Руссо - вопрос о
социальном неравенстве и путях его преодоления, Бэкон - вопрос
о расширении могущества человека над природой посредством
изобретений и т.д.» (108ь, 172).
В заключение я хочу вновь подчеркнуть, что в философии,
как и в любой достаточно обширной области теоретического
исследования, наличествует много вопросов (вернее, проблем),
которые можно назвать основными, наиболее важными,
первостепенными и т.д. Количество такого рода проблем не уменьшается
в ходе развития философии, а напротив, увеличивается,
благодаря чему философия обретает вполне аналогичный науке статус.
И новейшие философские учения, появившиеся за вторую
половину прошлого века, впечатляюще говорят о том, что в
философии нарождаются новые основные вопросы и соответственно
этому существенно изменяется философский язык, т.е. возникают не
только новые понятия, но и слова, которые в прошлом
отсутствовали в философском лексиконе и были совершенно лишены
какого бы то ни было философского смысла.
* Укажу в связи с этим на монографии: БуеваЛ.П. Человек, деятельность,
обучение. М., 1979; Какабадзе З.М. Человек как философская проблема.
Тбилиси, 1970; Мысливченко А.Г. Человек как предмет философии. М., 1972; Гри-
горьян Б.Т. Философия о сущности человека. М., 1973; Его же: Человек: его
положение и призвание в современном мире. М., 1986. Стоит отметить, что
никто из официальных руководителей советского философского «фронта»
{Федосеев П.Н., Мишин М.Б. и др.) не решились подвергнуть осуждению эту
фактическую ревизию пресловутого положения Энгельса о «высшем вопросе
философии».
Глава 8
ФИЛОСОФСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
КАК ПРЕДМЕТ ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Спор о направлениях или спор направлений?
Вопрос о философских направлениях - одна из наиболее
сложных проблем историко-философской науки. Многообразие
философских учений, специфическим образом характеризующих
философию, всегда порождало неверие в ее способность
удовлетворительно отвечать на вопросы, которые она ставит и, более
того, претендует на их решение.
Ж.-Ж. Руссо с возмущением писал о соперничающих друг
с другом философских учениях: «Я только спрошу: что такое
философия? что содержат писания наиболее известных
философов? Каковы уроки этих друзей мудрости? Если их послушать,
разве нельзя их принять за толпу шарлатанов, что кричат
каждый свое на общественной площади: идите ко мне, только я один
не ошибаюсь! Один утверждает, что тел вообще нет в природе
и что все есть мое представление о них; другой, что нет ни
иного вещества, кроме материи, ни иного Бога, кроме Вселенной.
Этот заявляет, что не существует ни добродетелей, ни пороков и
что добро и зло в области нравственности - это выдумки; тот -
что люди волки и могут со спокойной совестью пожирать друг
друга» (153а, 27). Руссо, как и подавляющее число философов,
не видел положительного значения плюрализации философских
учений. Между тем направления в философии, так же как и
составляющие их отдельные философские учения, представляют
собой спорящие стороны, которые не приходят к согласию не
только потому, что они не перестают спорить. Философские уче-
352
ния, которые противостоят друг другу обычно как
непримиримые противники, отнюдь не похожи на тех старых профессоров,
которые спорят, несмотря на то что они, в сущности, согласны
друг с другом.
Перманентная конфронтация философских учений образует
внутренний ритм развития основных философских направлений.
Это не только спор между направлениями, но и спор внутри
направлений, между составляющими каждое из них философскими
учениями. Каждый выдающийся философ тем-то и отличается от
преподавателя, профессора философии, а также историка
философии, что он выступает с отрицанием того, что утверждали
другие философы. Если он в чем-то и согласен с кем-то из них, то это
относится к отдельным, частным вопросам. Это, однако, вовсе не
значит, что он не является продолжателем прежних учений;
противостояние, конфронтация нисколько не исключает
исторической преемственности.
Как уже шла об этом речь в предыдущих главах, философы,
размышляющие о взаимоисключающих философских системах,
весьма расходятся в оценке этого феномена, его сущности,
значении, перспективе. Иными словами, и в понимании философских
направлений обнаруживаются разные направления: их наличие
отражает тот же фундаментальный факт, который составляет
предмет моего исследования*.
Одни философы видят в многообразии философских
направлений, течений, учений свидетельство неспособности
философии стать наукой - наглядное доказательство того, что она и не
должна быть наукой: ведь не требуют же научности от искусства.
Зачем же требовать научности от философии, которая прежде
* С историко-философской точки зрения разграничение философских
направлений, течений, учений имеет принципиальное методологическое
значение. Рационализм, например, охватывает такие различные, противостоящие
друг другу философские учения, как системы Декарта, Лейбница, Спинозы.
Каждое из этих учений стало источником определенного философского
течения: картезианства, лейбницианства, спинозизма. Так, к философии Декарта
непосредственно примыкали, с одной стороны, материалист Леруа, а с другой -
существенно отличные друг от друга идеалистические учения Н. Мальбранша
и Гейлинкса (окказионализм). То же можно сказать о таком направлении, как
эмпирицизм. Его исповедуют и материалисты и идеалисты, с одной стороны,
Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк, а с другой -Д. Беркли, Д. Юм, Э. Мах, Р. Авенариус
и неопозитивисты. Направления и течения не просто объединяют различные
философские учения, но и выявляют, фиксируют общность их основоположений,
несмотря на явную конфронтацию между ними. Благодаря этому представление
о разброде, анархии философских систем уступает место более глубокому
представлению о противоречивом единстве философии на всех этапах ее развития.
12. Ойзерман Т.И., том 5
353
всего осмысливает, обобщает многообразие вненаучного знания,
повседневного опыта людей?
Есть и такие историки философии, которые изучают
философские учения, но отрицают существование направлений в
философии, поскольку не признают существенного сходства между
философскими учениями и поэтому не видят оснований, чтобы
считать их принадлежащими к какому бы то ни было
направлению. С их точки зрения, каждое философское учение уникально
и поэтому философские направления - иллюзия
классифицирующего мышления.
Относительно причин существования философских
направлений также имеются различные, порой взаимоисключающие
воззрения. Одни полагают, что философы пошли разными, хотя иной
раз и пересекающимися путями просто потому, что оказались
неспособными применить в своей области научные методы,
выработанные математикой и естествознанием. Другие, напротив, видят
причины прогрессирующего расхождения между философами
в самой природе философии, т.е. рассматривают центробежные
тенденции как необходимое условие существования философии.
Есть, конечно, и другие воззрения по данному вопросу, но они
менее существенны и поэтому о них можно умолчать.
Дж. Свифт, сатирические произведения которого полны
глубокого смысла, тем не менее был далек от позитивного
рассмотрения многообразия философских учений. Споры между
философами представлялись ему, автору знаменитого романа о
похождениях Гулливера в царстве лилипутов, чем-то
аналогичным сварам между лилипутами - тремексенами и слемексенами.
Тремексены провозглашали, что только высокие каблуки их
башмаков соответствуют традициям и государственному укладу Ли-
липутии, требуя, чтобы на государственные посты назначались
лишь те, кто предпочитает высокие каблуки низким. Слемексены,
напротив, утверждали, что лишь низкие каблуки
свидетельствуют об истинных добродетелях и достоинствах, которые должны
быть отмечены высоким доверием правительства.
Проблема направлений в философии может быть,
выражаясь фигурально, определена как проблема межвидовых и
внутривидовых различий. В этом смысле задача
историко-философской науки аналогична той задаче, которую в свое время решал
Дарвин - исследование происхождения видов. Ч. Дарвин считал,
что существующее в данное время множество видов животных
и растений образовалось вследствие развития, существенными
элементами которого была дивергенция внутривидовых
признаков, наследование, изменение наследственности, приспособление
354
к природным условиям, борьба за существование, естественный
отбор. Философские учения, течения, направления, а
следовательно, и различия между ними также являются продуктом
исторического развития, в котором первоначальные различия между
немногочисленными учениями становились все более глубокими
и существенными, вследствие чего возникали новые
философские концепции, теории, системы. Новые философские учения не
просто наследовали учения своих предшественников, они прежде
всего выступали против них, осуществляя соответствующий
отбор идей с точки зрения новых социальных условий, вызвавших
к жизни эти учения.
Разумеется, это сравнение историко-философского процесса
с картиной эволюции живых существ не более, чем аналогия. Но
аналогии имеют место не только в теоретических построениях,
но и в независимой от них действительности. В данном случае
они оказываются существенными отношениями подобия.
Понятие «философское направление» не обладает строго
фиксированным содержанием. Направлением нередко называют не
только общий для тех или иных философских учений круг
основных идей, но и некоторые области философского исследования,
например, гносеологию, онтологию, натурфилософию.
Направлениями часто считают и те философские учения, которые,
пережив свое время, возрождаются в новых исторических условиях.
В западно-европейской истории философии понятие
направления сплошь и рядом не обладает строго фиксированным
содержанием. Ф. Хайнеман, один из авторов (и издатель) обширной
монографии «Философия в XX веке», утверждает: «В
европейском культурном кругу выделяются четыре главных направления:
1) философия жизни; 2) феноменология; 3) онтология; 4)
экзистенциализм. В англосаксонском культурном кругу выступают на
первый план: 1) прагматизм; 2) инструментализм; 3) логический
позитивизм; 4) аналитические школы» (236, 268). Отмечу, прежде
всего, что Хайнеман придает основополагающее значение
различиям внутри идеализма. Он ничего не говорит о
материалистическом направлении, что, впрочем, понятно: материализм не
является главным направлением в указанном «культурном кругу»,
несмотря на то что в естествознании он становится убеждением
большинства исследователей. Однако недостаток предложенной
Хайнеманом классификации не только в этом. Отдельные учения
внутри прагматизма и логического позитивизма характеризуются
им как главные направления. Он, значит, не разграничивает
влиятельные философские учения и направления в философии.
12* 355
Можно было бы не придавать существенного значения этим,
на первый взгляд, терминологическим разногласиям. Но отказ от
разграничения таких понятий, как главное в ту или иную эпоху
направление и другие менее влиятельные направления,
неизбежно чреват серьезными заблуждениями историко-философского
характера.
Недооценка фундаментального вопроса о роли и значении
направлений в философии нередко проявляется в сведении
этого вопроса к вопросу о методической классификации, лишенной
философского содержания, т.е. более или менее комфортабельной
группировке философских учений в соответствии с
пропедевтической задачей. Так, в книге известного католического философа
и логика Ю. Бохеньского «Современная европейская философия»
называются шесть главных, по его убеждению, направлений:
эмпиризм, идеализм, «философия жизни», феноменология,
экзистенциализм, метафизика (200, 31). В этом перечне идеализм - одно из
шести направлений современной философии. Остальные
направления считаются неидеалистическими, что свидетельствует, мягко
говоря, о весьма своеобразном понимании сути идеализма.
Стоит обратить внимание и на то, что в перечне
Бохеньского не назван материализм. Это объясняется не тем, отмеченным
выше обстоятельством, что материализм занимает
незначительное место в философии Западной Европы и США. С точки
зрения Бохеньского, материализм - лишь одна из разновидностей
эмпиризма. Другими его разновидностями объявляются
неопозитивизм и неореализм. Эмпиризм характеризуется как
«философия материи», противоположность между материалистическим
и идеалистическим эмпиризмом игнорируется. Иначе, конечно,
и быть не может, если следовать предложенной Бохеньским
схеме, согласно которой идеализм принципиально отличается от
эмпиризма. Современные модернизированные формы идеализма
представляются ему преодолением идеализма. Это значит, что он
не видит идеализма в ... идеализме.
Кого же Бохеньский причисляет к идеалистам? Б. Кроче,
Л. Брюнсвика и неокантианцев. Доказывая, что их основные
положения «несомненно возвышаются над примитивным уровнем
материализма, позитивизма, психологизма, а также
теоретического и аксиологического субъективизма» (200, 98), Бохеньский
тем не менее считает идеализм направлением, которое уже
сошло с исторической арены; в большинстве европейских стран
«влияние идеализма сошло на нет приблизительно в 1925 году»
(200, 26). Оставим это утверждение на совести автора, правда,
уже покойного.
356
Оборотной стороной классификаторского подхода к
философии оказывается субъективистское (по преимуществу иррацио-
налистическое) отрицание существенности (а иногда и
существования) философских направлений, которые в этом случае
объявляются просто этикетками, придуманными профессорами
философии. Сторонниками этой концепции являются
представители французской школы «философии истории философии».
Подобно номиналистам они утверждают, что в философии
существуют лишь самобытные, самодостаточные уникальные системы.
Подвергая критике любую попытку классификации философских
учений как «вульгарное» истолкование историко-философского
процесса, адепты «философии истории философии» еще
решительнее, чем классификаторы, обосновывают свое понимание
философии как сообщества автономных, суверенных
философских систем. Если Бохеньский декретировал наличие в
современной философии шести главных направлений, то, с точки зрения
М. Геру и его сторонников, каждая философская система
представляет собой собственное, единственное в своем роде
направление, так как философия есть «учреждение посредством
философского мышления истинных реальностей» (227, 10). С этой
точки зрения все философские направления главные.
Следовательно, понятие главного философского направления фактически
лишается всякого смысла.
В действительности исследование историко-философского
процесса не имеет ничего общего ни с методологической
группировкой учений, ни с интронизацией каждого из них как
суверенной философской системы. Исследователь этого процесса
изучает, исследует объективно обусловленные, исторически
сложившиеся философские течения, направления, выделяя главные
из них там и тогда, где они сформировались. При этом он
выясняет отношения между противоположностями материализма и
идеализма, метафизическими системами и феноменализмом,
эмпиризмом и рационализмом, иррационализмом. Он изучает
философские школы, сложившиеся в рамках философских
направлений, как выдающиеся события в духовной истории человечества.
Исследование философских учений, школ, течений, направлений
позволяет выявить различную трактовку одних и тех же
«вековечных» проблем, возникновение новых проблем, короче говоря,
реальный процесс обогащения содержания философии.
Изучение своеобразия развития философии показывает, что
уже в древности вопросу о направлениях в философии
придавалось первостепенное значение. Так, Диоген Лаэртский
утверждал, что все философы разделяются на догматиков и скептиков.
357
«Догматики - это все те, которые рассуждают о предметах,
считая их постижимыми, скептики - это те, которые воздерживаются
от суждений, считая предметы непостижимыми» (70, 67). Почти
через две тысячи лет после греческого доксографа Кант также
писал о двух главных направлениях предшествующей философии с
той лишь разницей, что он несравненно глубже понимал и
догматизм и скептицизм. Обосновывая дуалистическую (в конечном
счете идеалистическую) систему философии, Кант обвиняет как
идеалистов, так и материалистов в том, что они принимают на
веру отправные положения своих учений, между тем как эти
исходные посылки подлежат критическому испытанию, проверке
на истинность.
Созданная Кантом «критическая философия» призвана была
преодолеть догматическую метафизику с ее претензией на
познание сверхопытной, сверхприродной реальности, примирив
противоположности рационализма и эмпиризма, обосновать
возможность создания философии как науки sui generis. Гегель,
доказавший закономерность развития философии, не придал
надлежащего значения противоречивости этого процесса, антитезе
философских направлений. Наличное бытие, - таков был ход его
мысли, - может быть физической, материальной реальностью, но
оно как для-себя-бытие, т.е. в сущности, всегда идеально.
Идеальное есть истина всего предметного, вещественного, единичного,
или, выражаясь по-гегелевски, конечного. «Эта идеальность
конечного, - писал Гегель, - есть основное положение философии,
и каждое подлинно философское учение есть поэтому идеализм»
(45, 236)*.
Классики философии обычно решительно противопоставляли
друг другу направления, которым они придавали главенствующее
значение. Этого нельзя сказать о философах, ставших их
продолжателями. В их учениях утонченность теоретической
аргументации вполне сочетается с примирением или игнорированием этих
противоположностей. Так, по Дильтею, философия равно
правомерна и в качестве претендующего на суверенность
метафизического мировоззрения и в качестве ориентирующейся на синтез
* Эта точка зрения впоследствии развивалась Ф. Паульсеном, который
пытался ее обосновать, исходя из религиозно-философского убеждения, согласно
которому мир есть воплощение разумной божественной воли. «Объективный
идеализм, - писал Паульсен, - основная форма философского миросозерцания»
(133, 418). Паульсен, таким образом, связывал высказанное Гегелем положение
с имплицитно содержавшейся в нем теологической посылкой, именно в этой
редукции основополагающего тезиса Гегеля и выявляется его действительный
смысл, который полностью раскрывается в гегелевской «Философии религии».
358
научных данных теории. Эту характеристику философии он
именовал ее двучленностью. Метафизически-иррационалистичес-
кая «жизненная» направленность философии и требование
научности представлялись Дильтею постоянно возрождающимися
в каждую новую историческую эпоху и, следовательно,
атрибутивной характеристикой философского познания. Дильтей видел
принципиальное отличие философских направлений от научных
(преимущественно естественнонаучных) воззрений в том, что
философия - аутентичное интеллектуальное переживание жизни,
в то время как науки занимаются вещами, которые не
переживаются, а просто изучаются ради какой-то, обычно практической,
цели, необходимой, но не заключающей в себе смысла жизни.
И конфронтация между философскими направлениями ни
одному из них не дает превосходства, так как каждое из них
выражает неизбежное для определенной исторической эпохи
жизненное чувство, не подлежащее оценке как истинное или ложное;
оно просто существует как сама жизнь. Именно вследствие
своей жизненности философия не может существовать как
обладающее внутренним единством, согласующееся в своих частях,
поступательно развивающееся знание. И Дильтей утверждает:
«... везде мы видим в хаотическом беспорядке беспредельное
многообразие философских систем» (69а, 119). Каждая
философская система претендует на общезначимость, и эта
претензия оправданна, поскольку философия - смысложизненное
выражение своей эпохи, эпохальный дух. Но с переходом к новой
исторической эпохе появляется на свет и новая философия,
претензии которой на общезначимость также оправданны. И смысл
философствования заключается как в осознании своей
исторической эпохи, так и в постижении того, что проблемы, которые
она выдвигает, анализирует, могут и должны быть осмыслены,
но отнюдь не решены. Философствование поэтому следует
рассматривать не как усвоение или познание истины, а как
самопостижение и тем самым обнаружение смысла той жизненной
ситуации, из которой вырастает каждое направление (или
способ) философствования*.
* «Философия, - пишет Дильтей, - должна не в мире, а в самом человеке
искать внутреннюю связь своего познания. Жизнь, прожитая людьми...
многообразие систем, которые стремятся постигнуть мировую связь, находится в
непосредственной (offenbaren) с жизнью; они - важнейшее и самое поучительное
творение последней, и так происходит становление исторического сознания,
которое разрушает своим трудом великие системы и должно быть способным
упразднить жесткие противоречия между претензией каждой философской
системы на всеобщую значимость и исторической анархией этих систем» (217, 84).
359
Историко-философский процесс является, с точки зрения
Дильтея, глубочайшим выражением спонтанности и не
поддающейся логическому выражению стихийности человеческой
жизни. Поэтому он есть не что иное, как «анархия
философских систем» (69а, 119). Дильтей отверг гегелевскую концепцию
поступательного развития философии. Философские учения,
утверждал он, равноценны как специфические жизненные
образования. Но вопреки этому утверждению он отдавал предпочтение
идеализму иррационалистического толка. «При
материалистическом понимании, - писал он, - нет места для восприятия мира
с точки зрения ценности и цели» (69, 163). Суть этого положения
сводится к тому, что смысл жизни и ее цель могут быть
выявлены лишь посредством анализа религиозного, мифологического,
поэтического и метафизического сознания. Правда, все эти
формы сознания лишь символически выражают «природу мирового
единства», ибо оно непознаваемо. Тем не менее, согласно Диль-
тею, объективный идеализм наиболее приближается к
адекватному выражению мистерии жизни (69а, 180).
Таким образом, по Дильтею, убеждения философов в
истинности своих взглядов - самообман, от которого невозможно
отрешиться. Истинность вообще не имеет прямого отношения к
философии. И хотя все существующие и возможные философские
учения заведомо неистинны, они все же обладают свойственной
истине притягательной силой, так как каждое из них имеет свой,
единственный в своем роде смысл, во всяком случае для тех, кто
находит его.
Сведение любой философской альтернативы к
противоположности между спекулятивной метафизикой, претендующей
на сверхопытное знание, и специализированной
преимущественно на эпистемологической проблематике теорией стало
излюбленной идеей неопозитивизма. Провозгласив кардинальной
задачей философии борьбу против метафизики, понятие
которой оставалось для них весьма неопределенным, позитивисты
считали метафизикой и объективный идеализм и
материалистическую философию, обнажая тем самым свою склонность к
субъективистскому истолкованию как познания, так и предмета
познания.
Одни из неопозитивистов признают в качестве главных
философских направлений, с одной стороны, свое собственное учение,
а с другой - спиритуализм, другие - эмпиризм и рационализм,
третьи - гносеологию и натурфилософию. В конечном итоге
эти, на первый взгляд, совершенно различные представления о
главных философских направлениях согласуются друг с другом
360
в отрицании как материализма, так и идеализма и в
характеристике своих воззрений как «философии науки», которая
принципиально отвергает задачу философского осмысления природной
и социальной действительности как лишенную научного смысла.
Тем не менее новейший логический позитивизм во многих
отношениях представляет собой научную систему взглядов на
познание, основанную на исследовании семантики, семиотики,
прагматики и применении математической логики.
Современный иррационалистический идеализм, несмотря на
радикальное отрицание позитивизма, в общем принимает
позитивистское представление о главных философских направлениях,
хотя совершенно по-иному оценивает их. Одни иррационалисты
говорят о противоположности метафизики и эмпиризма, выступая
в роли реформаторов традиционной метафизики или претендуя
на преодоление провозглашаемой ими антитезы, другие
интерпретируют метафизику как подлинный эмпиризм, сохраняющий
интимный контакт с жизнью.
Бергсонист Ж. Мэр, противопоставляя рационалистической
концепции бытия иррационалистическую метафизику
становления, определяет их взаимоотношение как противоположность
между идеализмом и эмпиризмом. «Философия, - пишет он, -
вынуждена выбирать между этими двумя установками (attitudes),
и следуя своему выбору, она становится идеалистической или
эмпиристской» (260, 19-20). Идеализм и эмпиризм,
подчеркивает Мэр в другом месте, - «две кардинальные тенденции, вокруг
которых группируются философские доктрины» (260, 29).
Разумеется, Мэр считает себя (как и своего учителя А. Бергсона)
противником идеализма, суть которого, по его мнению, заключается
в том, что он «доверяет свидетельствам чувств и данным
сознания лишь после их преломления сквозь призму идей и понятий»,
в то время как эмпиризм, вершиной которого провозглашается
интуитивизм Бергсона, «по меньшей мере в качестве
отправного пункта принимает внутренний или внешний опыт в том виде,
в каком он доставляется ему чувствами и сознанием» (260, 29).
Эмпиризм, таким образом, характеризуется как
непосредственное, чуждое умозрительных предпосылок, проникнутое доверием
и воодушевлением отношение к чувственно данному, осознание
его неисчерпаемого богатства и жизненной правды.
Какие же философские теории относятся к эмпиризму?
Ж. Мэр дает небезынтересный ответ на этот вопрос:
«материализм, позитивизм, некоторые эволюционные учения, прагматизм,
бергсонизм, несмотря на несходство и разногласия между ними,
входят в разряд эмпиристских философий» (260, 29). Это поло-
361
жение заключает в себе косвенное признание поляризации
эмпиризма на противоположности материализма и идеализма. Но Мэр
далек от признания этого факта, поскольку он противополагает
эмпиризм идеализму. С его точки зрения, бергсонизм ближе к
материализму, чем к идеализму. Нужно ли более красноречивое
свидетельство принципиальной несостоятельности этих
представлений о главных направлениях в философии?
Я рассмотрел основные, наиболее распространенные
представления о главных, взаимоисключающих направлениях в
философии. Однако наряду с «двухчленным» делением
философии есть немало попыток доказать несравненно большее
количество основных, главных философских направлений. Укажу
на одну из них, пожалуй, наиболее распространенную и не
лишенную оснований. Русский идеалист А.Н. Гиляров доказывал,
что главных направлений в философии четыре. Ход его
рассуждений был таков: философия, как бы далеко ни заходила она в
своих умозрительных заключениях, всегда исходит из
непосредственно данного. А таким для человека является сам человек, и
притом не человек вообще, а собственное человеческое
существование, воспринимаемое философствующим субъектом. Но
человек - и это также непосредственно очевидно - есть
телесное и духовное существо. Эти атрибутивные характеристики
человеческой сущности определяют, согласно Гилярову,
неизбежность четырех главных философских направлений. «Мы можем
постигнуть действительность либо из телесного начала, либо из
начала духовного, либо из того и другого в их обособленности,
либо из обоих, взятых в единстве. Первая точка зрения
называется материализмом, вторая - спиритуализмом, третья -
дуализмом, четвертая - монизмом. Никаких других философских
направлений нет и быть не может» (53, 3). По Гилярову, ни одно
из этих направлений не может решить своей задачи.
Материализм обнаруживает невозможность свести все существующее
к материи; идеализм - невозможность сведения
существующего к духу; дуализм не может объяснить взаимодействия между
духовным и материальным; монизм не способен доказать
постулируемое им единство духовного и материального.
Следовательно, ни одно из философских направлений не превосходит
другие; все они лишь попытки, обреченные на провал, так как
нет пути, приводящего от непосредственного к бытию как
таковому, от человеческого существования к абсолютному, которое
непостижимо.
Идеи Гилярова в известной мере предвосхитили
экзистенциалистскую (в частности, хайдегеровскую) «философию философии»,
362
которая интерпретирует философствование как стремление
человеческого сознания возвратиться из обезличенной сферы отчуждения
к самому себе. И хотя, по убеждению экзистенциалистов, это
стремление никогда не достигает своей цели, оно все же приближает
человеческую самость к подлинности бытия, проясняя и наполняя
глубоким смыслом наше понимание его фатальной непостижимости.
Итак, многообразие философских учений, течений,
направлений - предмет историко-философского исследования. Это
многообразие прежде всего характеризует идеалистические учения.
Достаточно сопоставить дуалистическую метафизику Декарта,
монадологию Лейбница, идеалистический эмпиризм Беркли,
иррационализм Мен де Бирана, субъективный идеализм Фихте,
философию тождества Шеллинга, чтобы стала очевидной мно-
голикость идеалистической философии и тем самым ее идейное
богатство, которое не сумели оценить материалисты. Однако и
материализм отнюдь не остается неизменным.
Материалистические учения Ф. Бэкона, Т. Гоббса, Д. Локка, Т. Толанда, Дж.
Пристли, П. Гольбаха, Д. Дидро, Л. Фейербаха качественно отличны
друг от друга. Основополагающий тезис Толанда и
французских материалистов XVIII в. о самодвижении материи стал
гениальным предвосхищением открытий естествознания середины
XIX в. Антропологический материализм Л. Фейербаха в отличие
от его предшественников-материалистов глубоко вскрыл
содержательность религиозного сознания. Диалектико-материалисти-
ческая философия Маркса и Энгельса наметила принципиально
новый путь развития материализма, в значительной степени
учитывающий достижения идеалистической философии, в
особенности системы Гегеля. Все это - свидетельство прогрессивного,
несмотря на все противоречия, развития философии, ее
перманентного обогащения новыми идеями. Уместно в связи с этим
сослаться на справедливое утверждение В.К. Чалояна, высказанное
свыше 40 лет тому назад, когда философия в СССР пребывала
под гнетом непреклонного догматизма: «Невозможно себе
представить развитие философии и без преемственной связи между
материализмом и идеализмом... Пусть не поймут нас превратно.
Здесь мы имеем в виду философские взгляды идеалистов во всем
их объеме как целые философские системы, а не сам принцип
идеализма, утверждающий первичность идеального» (184б, 34).
В настоящее время этот тезис, конечно, не встретит возражения,
ибо российская философия, свободная от идеологического
диктата, творчески развивается, преодолевая семидесятилетнюю
изоляцию от зарубежных философских учений, клеймившихся
как буржуазные, реакционные, антинаучные и т.д. и т.п.
363
2. Метафизические системы как философское направление
Термины «метафизика», «метафизическая система»,
«метафизический метод» применялись (и применяются) в столь
разных, порой несовместимых значениях, что было бы неразумно
пытаться выделить общий всем этим словоупотреблениям смысл
термина. Такового просто не существует. Философские учения,
называемые метафизическими системами, нередко
оказываются отрицанием метафизики. И напротив, философии,
претендующие на окончательное опровержение метафизики, порою
представляют собой ее модернизацию. Поэтому вместо поиска
универсальной дефиниции понятия метафизики я попытаюсь
теоретически проследить основные тенденции ее
действительного развития. При этом необходимо с самого начала
разграничить такие понятия, как метафизическая система и
метафизический метод, или способ мышления. Это разграничение на
первый взгляд не вызывает затруднений, поскольку метафизика
как метод - прямая противоположность диалектике. Но тут
возникает вопрос: является ли метафизический способ мышления
неизбежным для метафизической системы, а диалектический
метод - для антиметафизической? Однозначный ответ на этот
вопрос невозможен хотя бы уже потому, что диалектический
идеализм Гегеля - метафизическая система. Система Дж. Лок-
ка может быть охарактеризована как антиметафизическая, а его
метод - как метафизический. При этом метафизический метод
Локка - прямая противоположность тому метафизическому
методу, который присущ рационалистическим системам
метафизики XVII в.
Самое простое объяснение трудностей и двусмысленностей,
связанных с термином «метафизика», сводится к указанию на
то, что этот термин применяется по меньшей мере в двух
разных смыслах, смешение которых недопустимо. Это правильно,
но лишь в известных границах, поскольку речь идет не просто
об омонимах, а о явлениях, которые теснейшим образом связаны
друг с другом.
Это предварительное замечание показывает, что
исследование метафизических систем составляет весьма сложную задачу
не только потому, что они существенно отличны друг от друга,
но и потому, что почти каждая такая система - отрицание
предшествующей и зачастую также отрицание прежнего смысла
самого понятия метафизики. Неправильно также полагать, что
метафизические системы носят рационалистический характер; они
364
могут быть и иррационалистическим отрицанием таких систем*.
Метафизические системы - преимущественно идеалистические,
но не только идеалистические учения. Отсюда, однако, не
следует, что они равно охватывают и материализм и идеализм.
Отношение метафизических систем к этой противоположности -
опосредованное отношение, что еще более затрудняет задачу
исследователя.
Авторы учебных пособий обычно указывают на то, что
термин «метафизика» обязан своим происхождением исторической
случайности: комментатор Аристотеля Андроник Родосский,
классифицируя сочинения великого Стагирита, обозначил
словами me ta physica те из них, которые были расположены им
«после физики». В этом смысле название известного произведения
Аристотеля («Метафизика») возникло действительно случайно;
его нет еще в списке трудов Аристотеля, приводимом Диогеном
Лаэртским. По-видимому, то, что назвали «Метафизикой», - не
одна, а несколько работ Аристотеля, объединенных его
учениками и комментаторами.
Я не собираюсь оспаривать традиционное представление о
происхождении термина «метафизика», но хочу лишь
подчеркнуть, что он был применен Андроником Родосским к тем работам
Аристотеля, которые их автор относил к «первой философии»,
принципиально отличной от других, в большинстве своем
нефилософских (или не вполне философских) сочинений Стагирита.
Отмечу также, что префикс «мета», как отмечалось
исследователями философии Аристотеля, имеет в древнегреческом языке
несколько смыслов, поскольку он означает не только «после», но и
* Т. Лессинг, известный представитель иррационализма в Германии, в своей
книге «История как придание смысла чувственности» утверждает, что
историческая наука всего лишь видимость науки, так как истории не существует:
«Вообще не существует исторической действительности, кроме ее переживания»
(257, 15). В связи с этим Лессинг заявляет: «Я никогда не упрекал историков
(что ставит мне в вину Трёльч) в том, что их всемирная история является мифом.
Напротив! Я упрекаю их в том, что они не обладают силой создавать мифы. И в
том, что они поэтому хотят быть исследователями действительности. Они -
посредственные поэты» (257, 18). Тем не менее Лессинг утверждает, что история
необходима для жизни, правда, лишь как миф. «Лишь как миф история обладает
жизнью. Поскольку же жизнь может стать историческим знанием, она
умирает... История как миф есть человеческая жизнь. История как наука есть смерть
народов» (257, 93). Выступая как приверженец «философии жизни» Лессинг,
несмотря на свой явный иррационализм, отрицает иррационализм. «Жизнь ни
логична, ни алогична, ни рациональна, ни иррациональна; ни хороша, ни плоха,
ни здорова, ни больна, ни преисполнена ценности, ни лишена ценности» (257,
132). Если жизнь, по Лессингу, ни логична, ни алогична, то его философия
явственно алогична.
365
«над», «сверх», «выше». С этой точки зрения название
«метафизика» не так уж случайно: оно присвоено тем сочинениям
Аристотеля, в которых обсуждается вопрос о первооснове физических
(и всех природных) процессов*.
Нетрудно понять, что для содержательного применения
термина «метафизика» имелись основания не только в отношении
философии Аристотеля, но прежде всего учения Платона,
который впервые ввел в философию понятие трансцендентной, все
определяющей реальности и считал природу лишь смутным
образом трансцендентного мира идей, или архетипов.
Предшественникам Платона - элеатам принадлежит
определение бытия как изначальной реальности, неизменной,
радикально противоположной чувственно воспринимаемой,
эфемерной природе. Но только Платона можно считать первым творцом
метафизической системы. В этой системе противоположность
между интеллигибельным и чувственно воспринимаемым миром
интерпретируется как противоположность между духовным
(идеальным) и материальным (телесным), противоположность между
изначальным и производным, непреходящим и преходящим,
неизменным и изменяющимся, совершенством и несовершенством,
единством и множеством, общим и единичным, идеями и их
искаженными чувственными образами. Гносеология Платона как
самое радикальное отрицание значения чувственного опыта для
познания трансцендентной действительности - крайнее
выражение рационалистического противопоставления разума
чувственности, свидетельствам человеческих органов чувств. Пожалуй,
ни один из последующих метафизиков-рационалистов не заходил
так далеко, и это весьма существенно для понимания развития
метафизических систем, создатели которых, особенно в Новое
время, уже не могли не считаться с эмпирическими знаниями и
их теоретическим осмыслением и обобщением.
Учение Платона о врожденных идеях предвосхищает
гносеологическую проблематику последующей метафизики, прежде
всего учение об априорном познании. Однако важно отметить,
что никто из продолжателей Платона (если, конечно, иметь в виду
* Известный советский исследователь философии Аристотеля A.B. Кубиц-
кий указывает, что название «метафизика» стало общепризнанным со
времени редакции Андроника Родосского, который в своей классификации следовал
примеру александрийских каталогизаторов (см. 6, 264). Но то, что у последних
означало не более чем указание на расположение сочинений Аристотеля
(политических, этических, физических, биологических и тех, которые посвящены
«первой философии»), приобрело после Андроника Родосского неформальное
значение, т.е. стало применяться как понятие, указывающее на важнейшую
философскую проблематику.
366
выдающихся философов) не принимал целиком его
гносеологической концепции, согласно которой человек не познает ничего
существенного в своей действительной, т.е. посюсторонней жизни,
в мире, который он видит, слышит, осязает и, наконец, изменяет.
Это отступление от ортодоксального платонизма - закономерная
тенденция развития метафизических систем в новой социально-
исторической культурной среде.
Уже «Метафизика» Аристотеля, если можно так выразиться,
менее метафизична, чем система Платона. В этом смысле
можно сказать, что возникновение термина «метафизика»
действительно случайно связано с работами Аристотеля, поскольку уже
у его учителя Платона гораздо определеннее выражена
концепция метафизической реальности. Аристотель - идеалист, но он не
приемлет платоновского отрицания существенности чувственной
картины мира. Единичные материальные вещи преходящи, но
материя как общая всем им сущность не возникает и не
уничтожается; она вечна. Правда, материальные вещи, согласно
Аристотелю, не могут возникнуть (и соответственно быть объяснены)
только из материи. Материя представляет собой материал,
материальную причину вещей, а для того, чтобы вещь приобрела
определенность, т.е. стала чем-то отличающим ее от других вещей,
необходима форма, нечто отличное от материи, нематериальное,
которое формирует из неопределенной самой по себе материи ту
или иную определенную вещь. Шар, например, может быть
сделан из меди, мрамора, дерева и то, что его делает тем или другим,
и есть форма или формальная причина. Форма любой единичной
вещи неотделима от нее, но существует и форма всего сущего,
независимая от материи форма форм. Это - первичная форма,
которую Аристотель называет также Богом.
Движение единичных вещей есть нечто отличное от их
материальности и формы. Оно возможно лишь как следствие
воздействия на тела особого рода причины, которую Аристотель
называет действующей, вызывающей движение. Любое движение
имеет начало, но цепь вызвавших его причин не может быть
бесконечной. Существует, следовательно, первичная причина, пер-
водвигатель.
Наконец, имеется также конечная (целевая) причина,
поскольку вещи относятся друг к другу как средства, предполагающие
цели. При этом Аристотель имеет в виду не только
действительную целесообразность в мире живого, но и всякое действие
законов природы, которое представляется ему упорядочивающим и
поэтому целесообразным. Так, брошенный камень падает вниз,
так как на земле его «естественное место».
367
Аристотель в «Метафизике» постоянно возвращается к
поставленному Платоном вопросу о соотношении общего,
особенного и единичного, пытаясь объяснить их единство. «А человек,
лошадь и все, что подобным образом обозначает единичное, но
как общее обозначение - это не сущность, а некоторое целое,
составленное из вот этой формы и вот этой материи, взятых как
общее» (6, VII, 10, 1035 b 28-30). В другом месте Аристотель вновь
подчеркивает, что «нечто общее не существует отдельно, помимо
единичных вещей» (6, VII, 16 1040 b 27). Разумеется, эти
положения не являются еще решением трудного вопроса о природе
всеобщего, но они представляют собой обоснованное отрицание
платоновского понимания всеобщего как трансцендентных идей.
Вопрос об отношении общего (универсалий) и единичного
является одной из центральных тем в средневековой
западноевропейской философии. Сторонники платонизма утверждали, что
общее существует само по себе, безотносительно к единичному.
Эта концепция получила наименование реализма, поскольку она
обосновывала реальность общего, независимую от
существования единичных вещей. Противоположная концепция -
номинализм, напротив, обосновывала тезис: существуют лишь
единичные вещи, а то, что именуют общим, представляет собой лишь
наименование той или иной группы единичных вещей.
Противоположность между «реализмом» и номинализмом
предвосхищала антитезу идеализма и материализма в философии
Нового времени. Однако крайний «реализм» тяготел к пантеизму,
который, по существу, исключает признание сверхприродной или
надприродной реальности. Эта тенденция имеет место уже в
метафизической системе Иоанна Скотта Эриугены: христианский
Бог фактически истолковывается как универсальное бытие,
которое в силу своей всеобщности и целостности сливается с
посюсторонним миром. Ортодоксальная теология осуждала не только
номинализм, но и такого рода радикальный «реализм». Понятно
поэтому, почему Фома Аквинский отстаивает умеренный
«реализм», обосновывая его аргументами Аристотеля.
Характеристика метафизики как одного из главных
направлений в философии была бы недостаточной, если бы я обошел
молчанием противодействующие ей системы философии,
которые частью представляют собой преобразование метафизики,
а частью являлись ее материалистическими антиподами.
Философия Нового времени формирует свою программу в
соответствии с интересами поднимающейся буржуазии, с одной
стороны, и основными тенденциями наук о природе, - с другой.
Становление капиталистического уклада в недрах чуждого ему
368
феодального строя, необходимость компромисса с его
идеологией, настоятельные потребности общественного производства,
ориентировавшие ученых на исследование всего того, что так или
иначе вовлекалось в его сферу, - все это определяло
философствование этой эпохи в странах Западной Европы. Описание
различных минералов, металлов, классификация животных и растений
приобретали не только научное, но и практическое значение.
Накапливая фактические данные, разграничивая явления, которые в
предшествующие эпохи отождествлялись друг с другом (так,
например, многообразные по своим свойствам вещества сводились
к четырем «элементам» - земле, воде, воздуху и огню),
естествознание неизбежно должно было изолировать изучаемые
явления, рассматривая каждое в отдельности, само по себе,
отвлекаясь от их взаимосвязи, взаимодействия, значение которых частью
оставалось неизвестным, а частью еще не могло быть оценено
надлежащим образом. Ограниченность фактических данных
делала пока еще невозможным понимание всеобщности изменения
и развития, которая, конечно, не может быть непосредственно
наблюдаемой. Наивно диалектический подход к явлениям
природы, свойственный древнегреческим философам, ничего не давал
естествознанию на этой ступени его развития. Схоластический
метод утонченных дефиниций и дистинкций, лишенный
эмпирического содержания, был, конечно, еще более чужд
естествоиспытателям Нового времени. Не удивительно поэтому, что проблема
метода исследования приобретает, как правильно подчеркивает
Б.Э. Быховский, ключевое значение для естествознания и
философии. Р. Декарт и Ф. Бэкон, один - рационалист, другой - эм-
пирицист, в равной мере убеждены в том, что первейшая задача
философии - создание научного метода исследования*.
Бэкон считает таким методом индукцию, о необходимости
систематической разработки которой свидетельствует
«натуральная философия», т.е. естествознание. Разумеется, разработанный
Бэконом метод носит метафизический характер в гегелевском
смысле слова, так как игнорирует внутреннюю
взаимообусловленность явлений, их изменение, противоречивое развитие.
Однако метафизический метод Бэкона непримиримо враждебен тому
методу, который служил построению метафизических систем в
* «Декарт и Бэкон, - пишет Б.Э. Быховский, - сходятся в понимании
решающего значения метода для создания новой науки, и выработка этого метода -
антипода силлогистики - находится в центре их интересов. Декарт целиком
разделяет взгляды Бэкона на преимущества методического опыта, эксперимента
по сравнению с experementia vaga и на необходимость рациональной обработки
чувственных данных» (27, 60).
369
схоластической философии. Индуктивный метод, постоянно
подчеркивает Бэкон, требует осторожных обобщений и их
постоянных подтверждений новыми наблюдениями и экспериментами.
Мы, таким образом, убеждаемся, что понятие метафизического
метода следует применять по меньшей мере в двух смыслах.
Нет ничего легче, чем представить метафизический метод,
сформировавшийся в естествознании и философии Нового
времени, в качестве своеобразной методологической интерпретации
некоторых основных онтологических положений
предшествующей схоластической метафизики. Как известно, ее представители
отличали от эмпирического, определенного бытия неизменное,
сверхчувственное бытие. Изменчивость, возникновение и
уничтожение считались атрибутами всего «конечного»,
преходящего, свидетельствами его контингентности и несовершенства.
В отличие от этого спекулятивно-идеалистического
метафизического метода, метафизический метод естествоиспытателей и фи-
лософов-эмпиристов XVII в. вообще игнорировал
метафизическую (интеллигибельную) реальность и отрицал существенность
и всеобщность изменения именно в чувственно воспринимаемой
материальной действительности. Отрицал, конечно, не потому,
что приписывал эмпирической действительности совершенство,
а потому, что не видел в ней всех этих качеств.
Р. Декарт в отличие от Ф. Бэкона разрабатывает метод
теоретического (философского и естественнонаучного) исследования
исходя из математики и механики. Может показаться, что
картезианский метод, который также носит метафизический
характер, вполне соответствует задачам построения идеалистической
метафизической системы, тем более, что Декарт и стремился к
созданию таковой. Однако ближайшее рассмотрение «основных
правил метода», сформулированных Декартом, показывает, что
они теоретически подытоживают опыт научного исследования в
точных науках и мало пригодны для метафизического системо-
творчества.
Декарт - родоначальник рационалистической метафизики
XVII в., но его метод - научный (естественнонаучный) метод его
времени, и суть «картезианской революции» в философии
заключается в попытке создать научную метафизическую систему
средствами математики и механики.
Противоречие между идеалистической метафизикой и
материалистическим естествознанием Нового времени становится
имманентным противоречием учения Декарта, противоречием
между метафизикой и физикой. «В своей физике, - писали Маркс
и Энгельс, -Декарт наделил материю самостоятельной творче-
370
ской силой и механическое движение рассматривал как
проявление жизни материи. Он совершенно отделил свою физику от
своей метафизики. В границах его физики материя представляет
собой единственную субстанцию, единственное основание
бытия и познания» (115,2, 140). Это отрицание метафизики физикой
осуществляется в рамках метафизической системы и исходит из
ее основной посылки - абсолютной противоположности
духовного и материального. Но если в предшествующих метафизических
системах такого рода абсолютное противопоставление вытекало
из допущения трансцендентной реальности, радикально отличной
от чувственно воспринимаемого мира, то у Декарта и его
последователей оно логически следует из сведения духовного к
мышлению, а материального - к одному лишь протяжению. «Дух и
тело, субстанция мыслящая и субстанция протяжения, - два рода
существ, совершенно различных и прямо противоположных; что
присуще одной, не свойственно другой», - писал Н. Мальбранш,
разъясняя исходные основоположения системы Декарта (112, 51).
Такая постановка вопроса носит дуалистический характер, но она
не связана необходимым образом с допущением трансцендентной
реальности. Необходимое следствие этого постулата - отделение
физики от метафизики, которой тем не менее придается
первостепенное, главенствующее значение. Понятие метафизической
реальности освобождается от традиционно приписываемой ей
трансцендентности; оно истолковывается главным образом
гносеологически - как та сущностная определенность мира, которая
недоступна чувственным восприятиям. «Думать, что мы видим
тела такими, каковы они сами по себе, - предрассудок, ни на чем
не основанный», - категорически заявляет Мальбранш (112, 56)*.
Несомненно, что этот поворот от принципиально ненаучного
толкования метафизической реальности как сверхъестественной к
гносеологическому различению метафизического и
феноменального (несмотря на то что последнее не свободно от определенных
* Разумеется, это гносеологическое расчленение реальности не исключает
возможности онтологического противопоставления метафизической
действительности миру чувственно воспринимаемых явлений. В приведенном
положении Мальбранш в какой-то мере предвосхищает Канта, который именно путем
гносеологического разграничения пришел к онтологическому
противопоставлению познаваемого мира явлений непознаваемому миру «вещей в себе». То,
что Мальбранш уже стоял на пути, который в конечном счете привел к Канту,
вытекает не только из дуализма духа и материи, но также из других, более
частных положений вроде такого, например, тезиса: «... заблуждения чистого
разума могут быть обнаружены только путем рассмотрения природы самого разума
и идей, которые необходимы ему для познания предметов» (112, 286).
371
онтологических допущений) представляет собой отступление
метафизики перед враждебными ей в своей идейной направленности
естествознанием и материализмом. Метафизика эволюционирует,
она вынуждена в какой-то мере усваивать чуждые ей
естественнонаучные идеи хотя бы для того, чтобы «естественным» путем
и аргументами обыденного здравомыслия «доказывать» свои
относящиеся к призрачному сверхъестественному миру положения.
Этот кризис метафизической спекуляции вызван
антиспекулятивными воззрениями естествоиспытателей и материалистов.
Р. Декарту принадлежит попытка радикальной перестройки
метафизики, и эта попытка, как указывалось выше, привела к
философскому дуализму. Учение его непосредственного
продолжателя Б. Спинозы есть отрицание идеалистической метафизики,
но в рамках новой, созданной им метафизической системы.
Пантеистическое отождествление Бога с природой и
приписывание последней некоторых божественных атрибутов
оказывается в системе Спинозы по существу отрицанием всякой
трансцендентности. Спиноза, правда, не отвергает сверхчувственного;
он истолковывает его как недоступную опыту субстанциальность
природы, строгую упорядоченность, «разумность», всеобщую
закономерность единого, вездесущего и всемогущего
универсума. Отрицание случайности и свободы воли - оборотная сторона
этой концепции, согласно которой вечная, неизбежная
метафизическая действительность постоянно воспроизводит мир
преходящих конечных явлений, т.е. все многообразие природы. Однако и
метафизическая natura naturata (сотворенная природа)
составляют один и тот же неизменный посюсторонний мир.
Спиноза - непримиримый противник характерной для всех
предшествующих метафизических систем телеологической
интерпретации природы, которая приводит к теологическим
выводам. Одно из его сочинений посвящено критическому анализу
Библии. Он разграничивает мышление как атрибут субстанции
и человеческий интеллект: последний определяется как модус,
правда, бесконечный. Это разграничение призвано доказать не
только существование субстанциальной основы мышления
людей, но и тождество эмпирических оснований с основаниями
логическими, соответствие порядка идей и порядка вещей и,
следовательно, возможность логически доказать существование того,
что не постигается опытом. Обосновываемая Спинозой
универсальная закономерность всего сущего понимается как
естественная предетерминация.
Система Спинозы - революция в истории метафизических
систем, которые в предшествующие эпохи были идеалистическими
372
учениями. И вместе с тем эта система - наиболее впечатляющее
выражение внутренних противоречий, присущих
метафизическим системам. Спиноза попытался разрешить эти противоречия
материалистически. Но материализм, сохраняющий форму
метафизической системы, непоследователен хотя бы уже потому, что
допускает существование сверхчувственного. И это сказывается
в спинозистском понимании отношения
«духовное-материальное», в анализе отношения между субстанцией и модусами, в
крайнем ограничении познавательного значения чувственности
и, наконец, в самом отождествлении природы и Бога.
Амбивалентность системы Спинозы проистекает из этого сочетания
метафизической системы с материализмом, а не просто из пантеизма.
Налицо, таким образом, противоречие между объективным,
материалистическим содержанием системы Спинозы и ее
субъективной, религиозно-фразеологической формой изложения.
Спиноза едва ли осознавал материалистический и, в сущности,
атеистический характер своего учения. И это также внутренне
присущее его системе противоречие. Не удивительно поэтому,
что многие идеалисты считали его своим единомышленником,
а материалисты видели в нем своего идейного противника.
Важно подчеркнуть, что метафизические системы XVII в.
существовали отнюдь не на периферии научного знания, Декарт и
Лейбниц - крупнейшие метафизики этого века - гениальные
математики и естествоиспытатели. Спиноза, не сыгравший какой-либо
роли в развитии наук о природе, был в курсе всех их достижений,
а его переписка свидетельствует о том, что спинозизм был в
известной степени теоретическим подытоживанием достижений
естествознания. Это обнаруживается не только в понимании
принципиальной применимости математических методов за пределами
математики, но и в трактовке одной из важнейших
естественнонаучных (и философских) проблем эпохи - проблемы детерминизма.
Не умаляя исторического значения метафизических систем,
нельзя не сказать, что они в конечном счете оказались
прокрустовым ложем для развития наук о природе. Это относится и к
материалистической метафизике Спинозы, который утверждал, что
субстанция обладает бесконечным количеством атрибутов, но
человеку доступно познание лишь протяжения и мышления. И это
отнюдь не единственная уступка Спинозы теологическому
мировоззрению. Противники этого компромисса - Т. Гоббс, П. Гассен-
ди и другие материалисты. Их учения основываются на
утверждающемся в естествознании прогрессивном для того времени
механицизме, который был в сущности синонимом материализма
и единственной альтернативой теологическому мировоззрению.
373
Гоббс и Гассенди успешно доказывают, что допущение какой-
либо радикально отличной от поддающейся наблюдению
реальности, именуемой метафизической, лишено не только научных
оснований, но и противоречит повседневному опыту. Гассенди
противопоставляет идеализму метафизиков атомистический
материализм Эпикура, натурфилософия и этика которого враждебны
метафизическому умозрению. Атомы, конечно, не
воспринимаются нашими органами чувств, но они и не образуют
сверхчувственной реальности, так как их свойства аналогичны свойствам
чувственно воспринимаемых вещей, и они подчиняются законам
природы. Правда, Гассенди пытается примирить эпикуреизм с
христианским вероучением. Эта попытка - экзотерическая часть
его философии, поскольку догматы христианства не
обосновываются наукой, а принимаются как то, с чем хотя бы внешне должна
быть согласована философия аббата Гассенди.
Еще более непримиримую позицию по отношению к
метафизике занимает Гоббс. Его ссылки на догматы христианства, в
особенности на сочинения некоторых теологов (и те и другие, по его
убеждению, если не прямо, то косвенно подтверждают истинность
материализма) являются, по-видимому, не только хитроумным
облачением материалистического свободомыслия, но и
утонченным способом выявления вопиющих противоречий
христианского вероучения. И поскольку все, что существует, представляет
собой, по Гоббсу, не что иное как совокупность разного рода тел,
постольку вопрос о существовании мета-физической реальности
попросту отпадает. «Мир... телесен, иначе говоря, является
телом и имеет измерения величины, называемые длиной, шириной
и глубиной. Всякая часть тела является тоже телом и имеет те же
измерения, и, следовательно, телом является всякая часть
вселенной, а то, что не есть тело, не является частью вселенной.
Вселенная есть все, поэтому то, что не является ее частью, есть ничто и,
следовательно, нигде не существует» (55, 640). Это рассуждение
показывает, что Гоббс пользовался «геометрическим» методом,
хотя и не с таким искусством, как Спиноза.
Метафизику Гоббс называет псевдонаукой, оговариваясь,
правда, что он имеет в виду университетскую философию,
которой «отведена роль служанки католической теологии» (55, 639).
Эта философия, замечает Гоббс, считается основой всех других
наук, но в действительности она не является таковой,
поскольку ее содержание определяется авторитетом, между тем как
истинная философия «не зависит от авторов», т.е. доказывается, а
не навязывается извне. Гоббс осмеивает метафизику как чуждую
духу науки, противопоставляя ей геометрию, которую он назы-
374
вает подлинной философией. Он придает универсальное
значение геометрическому методу (истолковывая его весьма
расширительно), который делает возможным правильные выводы,
независимые от субъективности мыслителя.
Неспособность метафизики к строго логическому мышлению
объясняется Гоббсом присущим ей вербализмом, т.е.
стремлением подменить изучение реальных тел определением слов,
терминов, таких, например, как тело, время, место, материя, форма,
сущность, субъект, субстанция, акциденция, сила, акт, конечное,
бесконечное, количество, качество, страсть и т.д. Однако
метафизика не понимает природы языка, т.е. смысла знаков или имен,
которые даются вещам, отдельным свойствам вещей, а также
совокупностям знаков. Некоторые знаки, утверждает Гоббс, не
обозначают чего-либо действительно существующего. Любопытно
отметить, что одним из таких знаков Гоббс считает глагол «есть»,
который, как он пишет, не обозначает какой-либо вещи, а
представляет собой лишь логическую связку. «И если бы оказалось, -
утверждает он, - что имеется такой язык, в котором отсутствует
глагол, соответствующий глаголу est, или есть, или быть, то люди,
пользующиеся таким языком, были бы, однако, не менее
способны делать умозаключения, выводить следствия и рассуждать обо
всем, чем это делали греки и римляне. Однако, что стало бы с
такими наиболее часто употребляемыми метафизиками терминами,
как сущность, существенное, существо, которые произведены от
глагола есть, и со многими другими словами, зависящими от этих
терминов? Эти термины являются ведь не именами существующих
предметов, а лишь знаками, при помощи которых мы обозначаем,
что мы постигаем логическую связь между одним именем или
атрибутом и другим» (55, 641-642).
Прошу прощения за столь обширную выдержку из
«Левиафана», но она была необходима как бесспорное свидетельство
того, что неопозитивистская критика метафизики (в той мере, в
какой она попадает в цель) была в сущности предвосхищена
материалистом XVII в. Неопозитивисты, заимствовав по меньшей
мере частью свои семантические аргументы у материалиста Гоб-
бса, а также у Локка, обратили их в первую очередь против
материализма, отождествив его с метафизикой*. Однако вернемся к
* История метафизики, утверждает, например, французский логический
позитивист Л. Ружье, ни словом не упоминая о Гоббсе, представляет собой не что
иное, как игру вокруг слова «есть», превращенное в существительное «бытие»
и снабженное артиклем, имевшимся в греческом языке. Метафизика
Аристотеля, согласно этой версии, основана на передержке, которая была бы
невозможна, к примеру, в арабском языке. К слову сказать, Ружье не считает нужным
375
действительным противникам метафизики. Д. Локк - создатель
антиметафизической системы. Это звучит парадоксально, ведь
Локк принадлежит к главным создателям метафизического
метода. Впрочем, выше уже указывалось, что метафизический метод,
сложившийся в естествознании XVII-XVIII вв. как способ
эмпирического исследования, коренным образом отличался от
умозрительного метода метафизических систем, хотя последний также
носит антидиалектический характер.
Я не стану излагать систему Локка. Укажу лишь на главный
принцип ее построения - сенсуалистический, в основном
материалистический анализ понятий, характеризующий процесс
познания. Метод Локка представляет собой не столько выведение
новых понятий из чувственных данных, сколько способ редукции
имеющихся абстрактных понятий к их чувственному источнику,
если таковой имеется. Но нередко обнаруживается, что понятия,
составляющие теоретический арсенал метафизических систем,
не выдерживают такого испытания; они не выражают чего-либо
наличного в чувственных восприятиях, значит, они лишены
реального смысла и их надо отбросить. Другие термины, которым
метафизика придает основополагающее значение, обладают
весьма мизерным эмпирическим содержанием. Необходимо поэтому
пересмотреть их смысл и содержание. Метафизика, с точки
зрения Локка, оказалась следствием злоупотребления словами,
возможность которого таится в несовершенстве языка.
В своей классификации наук Локк выделяет «учение о
знаках», называя его семиотикой и логикой. «Задача логики, -
пишет он, - рассматривать природу знаков, которыми ум пользуется
для понимания вещей или для передачи своего знания другим...
Рассмотрение идей и слов, как великих орудий познания,
составляет не подлежащую пренебрежению часть в рассуждениях
того, кто обозревает человеческое познание во всем его объеме»
(104а, 695). Как видим, Локк, подобно Гоббсу, предугадал
некоторые важнейшие идеи логического позитивизма: редукцию
теоретических положений к чувственным данным, принцип
верификации, анализ словоупотребления. Но он, конечно, был далек от
логического позитивизма и его обоснование эмпиризма носило в
основном материалистический характер.
объяснить, почему же наиболее выдающимися последователями Аристотеля
в средние века были арабоязычные философы. Он просто заявляет: «Понятие
"быть", на котором основана вся онтология, - это лишенное содержания
понятие, которое не соответствует какому бы то ни было живому опыту» (289, 21 ).
Аргумент Гоббса используется, разумеется, против материализма, хотя
последний никогда не выступал как учение о бытии.
376
Сенсуализм Локка несмотря на ограниченность этой
гносеологической концепции, т.е. отсутствие понимания того, что
теоретические положения не сводимы полностью к чувственным
данным, исключал как метафизическое положение о врожденных
идеях, так и допущение сверхприродной реальности, хотя в этом
последнем вопросе Локк не является последовательным
материалистом, так как был, по-видимому, верующим человеком. Однако
критерий реальности, с его точки зрения, неотделим от
чувственного восприятия внешнего мира. Так, осязание, подчеркивал он,
постоянно вызывает в нас идею плотности. «Нет идеи, которую
мы получали бы от ощущения более постоянно, чем плотность»
(104а, 144). Понятие непроницаемости, которым пользуются
физики, лишь отрицательным образом выражает то же чувственное
содержание. Поэтому непроницаемость можно рассматривать как
следствие плотности.
Идея плотности больше, чем какая-либо другая идея, связана
с нашими представлениями о телах. Больше того, она образует
наиболее существенное содержание этих представлений.
Поэтому «ее можно найти или представить себе только в материи.
И хотя наши чувства достаточно велики для возбуждения, знают
ее только в массе материи, которая достаточно велика для
возбуждения в нас ощущения, но ум, получив однажды эту идею от
таких более крупных тел, воспринимаемых ощущением,
прослеживает ее дальше и рассматривает ее как форму, в мельчайших
частицах материи, какие только могут существовать, и находит ее
неразрывно связанной с телом, где бы оно ни находилось и каким
бы изменениям ни подвергалось» (104а, 145). Протестуя против
отрыва материи от чувственно воспринимаемых тел, против
тенденции противопоставлять то и другое или принимать названия
за вещи (т.е. превращать общие имена или даже имена имен в
сверхчувственные, а тем более трансцендентные сущности), Локк
доказывает, что понятие материи является составной частью
более общего, по его мнению, понятия тела. Слово «материя»
обозначает нечто плотное, однородное, в то время как термин «тело»
указывает наряду с этими качествами также на протяженность
и форму. Нетрудно заметить, что эти разграничения, связанные
с номинализмом (точнее, с его смягченной формой -
концептуализмом) Локка, ни в какой мере не затрагивают основ
материализма. Они направлены против метафизических систем, для
которых характерны «непонятные и невразумительные рассуждения
и споры о "первой материи"» (104а, 490). Локк выступает против
метафизической концепции объективности универсалий,
отстаивая материалистическое представление о множестве отдельных,
377
единичных материальных тел. С этой точки зрения следует
оценивать критикуемые Локком понятия субстанции, которые он
склонен относить к универсалиям, мысленным представлениям,
запутывающим проблему реальности.
Локк указывает, что слово «субстанция» применяется
философами к совершенно разным вещам «и к бесконечному
непостижимому Богу, и к конечному духу и к телу» (104*, 190). «Значит
ли это, что Бог, человеческий дух, тело лишь модификации
одной и той же субстанции? с этим, очевидно, никто не согласится.
В таком случае, по-видимому, следует полагать, что философы
применяют это название... в трех различных значениях» (104а,
191). Но и это лишено смысла, так как во избежание путаницы
целесообразно для обозначения разных вещей пользоваться
разными словами. Что же в таком случае остается от понятия
субстанции? Локк иногда высказывается в том смысле, что философия
может обойтись без этого термина: понятие тела полностью
покрывает то позитивное содержание, которое в некоторой степени
содержится в идее субстанции.
Историческое своеобразие и значение учений Гоббса, Локка и
их продолжателей в значительной степени определяется именно
отрицанием метафизических систем, критикой этой
специфической разновидности объективного идеализма. В рамках данного
исследования я не могу прослеживать различные исторические
этапы этой идейной конфронтации. Ограничусь указанием на то,
что продолжателями Гоббса и Локка в этом направлении были
английские материалисты-деисты (Дж. Толанд, Дж. Пристли, А.
Коллинз) и французские материалисты XVIII в., начиная с Ламетри.
Следует подчеркнуть, что непримиримость французских
материалистов к метафизическому системотворчеству не
помешала им положительно оценить связанные с ним действительные
завоевания философской мысли. Противоречия между
материалистическими и идеалистическими тенденциями в системах
Декарта и Спинозы были впервые систематически выявлены
именно французскими материалистами XVIII в. Физика Декарта стала
одним из идейных источников их учения. Значение
спинозистского учения о субстанции как самопричины (causa sui) сыграло
значительную роль в развитии понятия самодвижения материи в
учении этих материалистов. Естествоиспытатели смогли
обосновать эту идею лишь спустя столетие.
В отличие от материалистов XVII-XVIII вв. представители
идеалистического эмпиризма не видят в метафизических
системах ничего, кроме заблуждений и явной софистики. Это в
особенности относится к Д. Юму, который выступил против ме-
378
тафизического сочинительства уже после того, как оно было
подвергнуто основательнейшей критике английскими
материалистами. Метафизические системы, правда, еще оставались
ведущими философскими дисциплинами в университетах. С
позиций феноменализма и скептицизма Юм утверждал, что нет ни
субстанции, ни сущности, ни объективной необходимости, - все
это умозрительные конструкции. Не существует иной связи
между явлениями, кроме той, которая выявляется психологически,
субъективно, на основе ассоциаций по сходству, смежности и т.д.
Понятие материи истолковывается как иллюзорное
представление о сверхчувственном и отвергается как разновидность
схоластического умствования о мифической реальности. Причинность
также считается иллюзорным представлением о
последовательности наших представлений во времени, привычкой, верой в то,
что последующее есть следствие предыдущего. Но предыдущее
не может быть причиной только потому, что оно
предшествующее, правильно замечает Юм. Отношение причинности
предполагает обусловленность последующего предыдущим. Но всякая
связь в наши представления привносится сознанием, значит
никакой объективной причинности не существует и это отношение
имеет смысл лишь в границах психологии. Реальны лишь наши
ощущения, впечатления. Существует ли что-либо вне и
независимо от них, подлежит сомнению, т.е. на этот вопрос не может быть
ни положительного, ни отрицательного ответа. Таким образом,
феноменализм Юма склоняется к субъективному идеализму, но
его скептицизм есть воздержание от ответа на поставленный им
же вопрос. Правда, ответ все же дается: представление о
причинности не более, чем привычка.
Борьба юмизма (и феноменализма вообще) против
метафизики есть субъективистская критика как объективного идеализма,
так и материализма. Нельзя, однако, не признать, что
феноменализм выявляет действительную слабость эссенциализма -
философского учения, которое вместо того, чтобы объяснять мир
явлений из него самого, трактует все явления как реализацию
неких независимых от них сущностей. Такое
противопоставление умозрительно мыслимой сущности (а нередко и первосущ-
ности) - неотъемлемая особенность метафизических систем. Но
материализм, подвергая критике мистификацию сущности и
субстанции, не отбросил этих категорий, а стал разрабатывать их с
точки зрения учения о единстве мира, взаимодействия явлений
природы, причинности, необходимости, закономерности, как
существующих независимо от познающего субъекта. Иными
словами, материализм в противоположность феноменализму взял на
379
себя задачу теоретического, основанного на критическом анализе
опытных данных истолкования категорий процесса познания.
Таким образом, в XVIII в. метафизическим системам
противостоит, с одной стороны, материализм, развивающий позитивную
антиметафизическую систему воззрений, а с другой стороны,
феноменализм, который критикует метафизические системы с
субъективистских позиций. Последовательным противником
метафизического системотворчества является лишь материализм.
3. Радикальное обновление метафизики И. Кантом
С точки зрения Канта главными философскими
направлениями являются метафизические системы и скептицизм. Кант считает
критику всей прежней метафизики скептиками вполне
оправданной. Эта метафизика принципиально несостоятельна. Однако он
не разделяет убеждения скептиков в том, что метафизика в
принципе несостоятельна и с ней надо покончить раз и навсегда.
Несостоятельны попытки рационалистической метафизики XVII в.
построить систему сверхопытного знания, которое в принципе
невозможно. Значит ли это, что невозможна метафизика? Кант
отрицательно отвечает на этот вопрос. Априорное мышление,
которое, по представлениям старых метафизиков, способно
преодолеть границы опыта и доказать существование Бога, бессмертной
души, свободной воли, неспособно решить этой задачи. Значит ли
это, что априорное мышление также несостоятельно? Отнюдь нет.
Чистая математика - впечатляющий пример априорного
мышления, мощь которого безгранична, но только в границах возможного
опыта. Кант решительно отвергает традиционное метафизическое
положение о тождестве логических и реальных оснований.
Согласно этому основоположению, умозрительный вывод в соответствии
с правилами логики (т.е. исключающий логические ошибки)
является доказательством реального существования того, что является
результатом умозрительного заключения. Принцип тождества
логического и реального основания был уже в средние века
применен Ансельмом Кентерберийским для доказательства бытия Бога.
Этот принцип, получивший наименование онтологического
аргумента, был возрожден Декартом. Возражая метафизикам XVII в.,
Кант правильно указывает на то, что существование чего-либо вне
мышления не является атрибутом понятия*.
* Согласно Канту, отрицание логической совместимости
взаимоисключающих (во всех отношениях) предикатов не может служить основанием для
отрицания реальной противоположности, реального противоречия. Реальная
противоположность «состоит в том, что два предиката одной и той же веши
380
Несмотря на свою основательнейшую критику традиционной
метафизики Кант сохраняет понятие чистого, т.е. свободного от
давления чувственности разума. Этот разум в отличие от
рассудка, имеющего дело с явлениями, не познает каких-либо объектов,
но он приводит в единство многообразие знания, поставляемое
рассудком, его, так сказать, низшей инстанцией. Чистый разум
постоянно стремится преодолеть границы возможного опыта, но
это всегда остается не более чем попыткой, единственным
результатом которой являются идеи свободы, Бога, бессмертия души -
априорные идеи, которые не заключают в себе действительного
знания. Бог и индивидуальное бессмертие могут быть только
делом веры. Иное дело свобода (свобода воли прежде всего); о ее
существовании свидетельствуют наши поступки.
Метафизика, которая со времен Аристотеля считалась
учением о бытии, также отвергается Кантом. Отсюда вывод: термин
«бытие» совершенно излишний, он ничего не добавляет к слову
«существование», а своей мнимой многозначительностью лишь
запутывает рассудок. Вообще предмет метафизики следует
постигнуть по-новому. Она так же, как в прошлом, должна признавать
своей важнейшей задачей исследование вопроса о
существовании Бога и бессмертия, но не с целью доказать их существование,
а для обоснования веры в то, что они действительно существуют.
Эта вера глубоко коренится в человеческом естестве.
Однако не одни только эти традиционные темы составляют,
по Канту, предмет метафизики: она призвана заниматься
исследованием способности познания и сущностью нравственности.
Этика, которая до Канта считалась, по существу, второстепенной
философской дисциплиной, становится важнейшим предметом
метафизики, единственно возможным обоснованием веры в Бога
и бессмертие души. Философия, или метафизика, с точки зрения
Канта, делится на две основные части: метафизику природы и
метафизику нравственности, именуемую учением о «практическом
разуме». Этому последнему разделу метафизики принадлежит
примат над метафизикой природы, которая сводится к учению о
процессе познания, отвергая онтологию, которая уступает
место эпистемологии - теории научного познания, согласно которой
противоположны, но не по закону противоречия... Сила, движущая тело в одну
сторону, и равное стремление того же тела в противоположном направлении не
противоречат друг другу и в качестве предикатов возможны в одном и том же
теле одновременно» (79а, 85). Кант, таким образом, доказывал, что
исследователи, которые не проводят различия между реальным и логическим
противоречием, оказываются не способны понять явления природы во всей их сложности
и многогранности.
381
природа - картина мира, создаваемая наукой. Если учесть, что в
метафизику Кант включает и эстетику, то становится понятным,
что метафизикой Кант считает всю философию, а не какую-то ее
особую привилегированную часть, которую комментаторы
Аристотеля именовали первой, т.е. важнейшей философией. Таким
образом, с метафизикой в старом смысле покончено, она стала
всем содержанием философии. Это вовсе не значит, что Кант
возвысил, возвеличил метафизику; напротив, включив в нее теорию
познания, этику и эстетику, отвергнув метафизические
«доказательства» бытия Бога, бессмертия души и свободы, он низвел
метафизику с ее царственного престола, упразднив различие,
которому всегда придавала первостепенное значение, между «первой
философией» и остальными ее разделами.
Лишив априорное мышление способности преодолевать
границы опыта, Кант тем не менее придает этому
неэмпирическому мышлению первостепенное значение. Вся его философия, в
сущности, может быть определена как учение об априорном
познании, априорных законах нравственности, априорных
эстетических суждениях.
Априорное мышление независимо от опыта, но оно не
сверхопытное, а доопытное. Таковы, в частности, категории, которые
предшествуют любому наличному эмпирическому знанию и,
более того, делают его возможным, ибо опыт немыслим без
категорий причинности, возможности и т.п. Априорное мышление,
следовательно, является предварительным условием опытного
знания, априорные категории синтезируют чувственные данные,
формируя таким образом опыт. Да и само по себе априорное
мышление содержательно лишь в сфере опыта благодаря чувственным
восприятиям, без которых оно бессодержательно. Поэтому Кант
утверждает: «предмет понятия, которому не соответствует
никакое созерцание (т.е. чувственное восприятие. - Т.О.) есть ничто»
(80, 334). В другом месте той же «Критики чистого разума» Кант
поясняет, что нам не дано «... расширить в положительном
смысле область предметов нашего мышления за пределы условий
нашей чувственности» (80, 332). Априорное мышление
применимо только к объектам возможного опыта, и это Кант именует их
трансцендентальностью. При этом трансцендентальное
противопоставляется трансцендентному, которое принципиально
непознаваемо и поэтому именуется «вещью в себе». Разумеется, речь
идет не о вещи, так как вещи воспринимаются нашими
органами чувств и, стало быть, познаваемы. То, что именуется «вещью
в себе», есть просто нечто (etwas), существующее за пределами
пространства и времени и именно поэтому принципиально непо-
382
знаваемо. Почему Кант воспользовался термином «вещь в себе»,
который явно неадекватно выражает непознаваемое? Дело в том,
что понятие «вещь в себе» неоднократно встречается в докантов-
ской философии, например, у Локка (things in themselves),
считавшего «вещи в себе» вполне познаваемыми. И Кант в
противовес своим предшественникам утверждает, что такого рода «вещи»
(выражение условное) в принципе непознаваемы.
Метафизика природы Канта строго разграничивает
познаваемые явления, воспринимаемые нашей чувственностью, данные
которой синтезируются априорными категориями, образуя
опытное знание «вещи в себе», которые принципиально
непознаваемы, так как их нет в пространственно-временном континууме.
Пространство и время - основополагающие понятия
философии Канта. Собственно говоря, по учению Канта, это не
понятия, а априорные чувственные созерцания. И только благодаря
им возможна чистая математика, положения которой не
сообразуются с эмпирическими фактами; последние, напротив, должны
сообразовываться с ее положениями. Если в тщательно
вырезанном из бумаги треугольнике сумма углов окажется меньше 180°,
то ошибочна не соответствующая теорема геометрии, а то, что
треугольник вырезан недостаточно точно. Отсюда вытекает
главное положение трансцендентального идеализма: не априорные
положения должны согласовываться с эмпирическими фактами,
а последние - с априорными положениями. Этот принцип,
который Кант назвал коперниковским переворотом в философии,
конечно, не обладает той всеобщностью, которую приписывал ему
Кант, но нет никаких сомнений в том, что твердо установленные
положения физики и других точных наук являются как бы
эталонами, которым должны соответствовать факты, относящиеся
к области их применения, например, установленному им закону.
Если такого соответствия нет, то надо прежде всего уточнить,
перепроверить описание фактов. Априористическое понятие
пространства и времени Кант дополняет признанием их безусловной
эмпирической реальности. На чем основано это дополнение,
которое явно противоречит субъективистской интепретации
пространства и времени? На том очевидном факте, что пространство
и время в мире явлений эмпирически наблюдаемы, не говоря уже
о том, что человек рождается, живет и умирает в определенном
пространственно-временном поле. С этой точки зрения, они не
сводимы к априорным созерцаниям. Но то, что пространство и
время абсолютно всеобщи, в мире явлений не может быть
чувственно воспринимаемо. Это-то и дает Канту основание, не
оспаривая эмпирической реальности пространства и времени, считать
их априорными созерцаниями.
383
Однако «метафизика природы», как уже подчеркивалось
выше, все же не самая главная часть его философии, несмотря
на то, что «Критика чистого разума» несомненно - главное
произведение философа. Важнейшую часть своей философии Кант
изложил в «Критике практического разума», «Основах
метафизики нравственности», «Метафизике нравов» и других работах.
В этих трудах Кант прежде всего обосновывает
основоположение: моральное сознание автономно, самодостаточно,
независимо от религии. Всеобъемлющим нравственным законом является
категорический императив (безусловное повеление априорного
характера). Кант формулирует его в трех формулах,
дополняющих друг друга. «Поступай только согласно такой максиме,
руководствуясь которой, ты в то же время можешь пожелать,
чтобы она стала всеобщим законом». Вторая формулировка
гласит: «Поступай так, как если бы максима твоего поступка
посредством твоей воли должна была бы стать всеобщим
законом природы». Третья формулировка: «Поступай так, чтобы ты
всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого
другого как к цели и никогда не относился бы к нему только как к
средству» (81, 260, 261, 270).
Категорический императив обычно критикуют как
формалистический принцип, поскольку он требует не считаться с
какой-либо ситуацией, т.е. во всех случаях следовать этому
нравственному закону, формулирующему безусловный долг в качестве
единственного мотива нравственного поступка. Эта критика,
конечно, не лишена определенных оснований, но следует все же
учесть, что Кант рассматривает человека, человечество как цель,
которая не может, не должна ни в каком случае быть средством.
А это указывает на содержательность, конкретную
направленность категорического императива и значит никак не может
считаться формализмом.
Нравственное сознание именно в силу заключающегося в нем
морального чувства неизбежно приходит к вере в Бога и
бессмертие души. Нравственность, как ее понимает философ, не может
примириться с тем, что в мире повседневно совершаются
несправедливые дела и добро оказывается не в силах восторжествовать
над злом. Именно потому, что справедливость не может
восторжествовать в этом мире, необходимо допустить, что она
восторжествует в другом, потустороннем мире, т.е. верить в бытие Бога
и бессмертие души. Понятие «вещи в себе» получает вследствие
этого новое, дополнительное значение. Это не только нечто,
воздействующее на нашу чувственность, порождающее
ощущения, но также Бог, бессмертие души, космологическая свобода,
384
предшествующая всем причинным рядам, чистый разум, свобода
воли.
Глава Марбургской школы Г. Коген в связи с этим писал: «мир
не есть внешнее явление вещи в себе; Бог есть в себе все, что
мыслится вообще (alles Denken überhaupt)... Поэтому не лишено
оснований говорить о трех видах вещи в себе» (212, 48)*.
Таким образом, хотя мораль, согласно Канту, независима от
религии, совершенно автономна (иначе она не была бы
подлинной моралью), моральный человек, убежденный в неизбежной
победе добра над злом, не может не верть в существование Бога
и бессмертие души. Что же касается свободы воли, то хотя ее
самопричинность абсолютно непостижима, ее существование
фактически доказывается нравственностью, которая была бы
невозможна без свободы выбора.
Таким образом, метафизика Канта в корне отличается от всей
существующей метафизики как по своему содержанию,
охватывающему всю проблематику философии, так и потому, что в ней
предоставлено этике главенствующее место. Именно этика
вместо в принципе невозможного логического доказательства бытия
Бога и бессмертия души обосновывает безусловную
необходимость религиозной веры.
Гегель, который во многом продолжил учение Канта, в
частности, онтологизировал априорное мышление, превратив его в
саморазвивающееся понятие, которое истолковывается как
субстанция-субъект, реставрировал традиционное логическое
доказательство бытия Бога и субстанциальности души. Если Кант
разграничивал веру и знание, то Гегель, напротив, стремился
доказать их тождество. «Веру, - писал он в "Философии религии", -
противопоставляют знанию; если она вообще противоположна
знанию, то это - пустая противоположность: то, во что я верю,
я знаю, оно есть некое содержание в моем сознании; вера есть
знание; однако знание обычно понимают как знание
опосредованное, как познание» (49а, 294).
Если бы метафизика Гегеля сводилась лишь к обоснованию и
развитию этого положения, его учение мало чем отличалось бы
от метафизических систем XVII в. Но философия Гегеля знамена-
* Э. Вейль, французский философ, близкий неокантианству, вообще
отрицает признаваемое Кантом множество «вещей в себе», придавая этому
центральному в кантовском учении понятию один лишь религиозный смысл: «Вещи
в себе - это Бог и душа, такие, каковы они суть для самих себя, но не такие,
какими они проявляются в феноменах» (304, 42). Однако, согласно Канту, Бог не
проявляется в феноменах, а душа представляет собой феномен лишь как
чувственность, эмпирический рассудок, эмпирическая воля. Называть их поэтому
«вещами в себе» совершенно неуместно.
13. Ойзерман Т.И., том 5
385
тельна тем, что она есть диалектический идеализм.
Систематическое развитие диалектики в «Науке логики» составляет великую
историческую заслугу Гегеля.
Подытоживая данный раздел, можно констатировать, что
метафизика представляет собой одно из главных направлений в
философии. Логический позитивизм, философия лингвистического
анализа на протяжении первой половины XX в. всячески
пытались дискредитировать это направление, характеризуя
метафизические предложения как бессмысленные. Однако уже в начале
второй половины этого века некоторые противники метафизики
среди представителей аналитической философии выдвинули
задачу создания новой, эмпирической метафизики. Показательно
в этом отношении выступление главы английской
аналитической философии П.Ф. Стросона. В статье «Кантовы основания
новой метафизики» он заявляет, что «кантову "коперниканскую
революцию" можно правомерно рассматривать как по существу
победившую в философской традиции, к которой принадлежу я»
(166, 4,5). Оговариваясь, что не вся доктрина
трансцендентального идеализма признается им «целиком и полностью», он
вместе с тем присоединяется к положению философии Канта,
согласно которому познание явлений ни в какой мере не есть
познание того, что скрывается за ними. В этой же статье Стро-
сон, касаясь воззрений других представителей аналитической
философии - X. Патнема, Р. Дэвидсона, Даммита, заявляет:
«... можно уверенно полагать, что по крайней мере Патнем,
Дэвидсон и Витгенштейн придерживаются взглядов,
приблизительно соответствующих полной кантианской позиции» (166, 15)*.
Таким образом, метафизика, радикально обновленная Кантом, по
существу подорвала антиметафизические теоретические основы
аналитической философии. И тот факт, что самые решительные
противники метафизики оказались побежденными метафизикой
Канта, впечатляюще говорит о том, что и в XX веке метафизика
* В этой же статье Стросон вопреки многочисленным утверждениям
представителей аналитической философии о неприемлемости для них идеализма,
утверждает, что «...многие из доминирующих черт современной аналитической
философии являются идеалистическими» (с. 5). Подытоживая статью, Стросон
заявляет: «существует одна возможная или частичная интерпретация кантовой
доктрины, которая отдается громким эхом в аналитической философии нашего
времени. Эти отзвуки различны, неполны и по-разному искажены. Но они
присутствуют. Трудно, по крайней мере мне, назвать какого-либо другого философа
Нового времени, чье влияние, каким бы отложенным во времени или косвенным
оно ни было, оказалось бы столь важным» (166, 17). Эти заключительные
слова, по-видимому, должны объяснить, почему значительная часть представителей
аналитической философии радикально изменила свое отношение к метафизике.
386
оставалась одним из главных философских направлений. Можно
с полным правом полагать, что и в новом, XXI столетии
метафизика сохранит свое положение в философии.
4. Скептицизм как философское направление
Возникновение философии - это впечатляюще выразили
первые греческие философы - было вместе с тем
провозглашением безоговорочного убеждения в познаваемости мира. Фалес
утверждал, что всё возникает из воды и в воду же превращается.
Анаксимен, не соглашаясь со свом учителем, доказывал, что
первоначалом всего является воздух. Третий из этой плеяды
милетских натурфилософов Анаксимандр был убежден в том, что не
какое-либо определенное вещество, а «неопределенная материя»
(apeiron) представляет собой то, из чего всё возникает и во что
всё превращается. Разногласия, выявившиеся уже на заре
философии, не подрывали убеждения первых философов в том, что
всё существующее познаваемо. Сомнения в познаваемости мира,
а затем отрицание познаваемости чего бы то ни было возникли
позднее.
А.Ф. Лосев, правда, придерживается противоположного
воззрения: «скептицизм у греков очень древнего происхождения,
начиная прямо с Гомера, и что у большинства древних философов-
космологов очень много глубоких элементов скептицизма» (105, 7).
На мой взгляд, историю античного скептицизма надо
начинать не с Гомера и милетских натурфилософов, а с Гераклита и
элеатов.
Элеец Зенон, сформулировавший ряд не поддающихся
доказательству положений (апорий), начал прокладывать путь к
скептицизму, хотя он вовсе не отрицал саму возможность познания
мира. Понятно поэтому, почему Диоген Лаэртский указывает, что
скептиков называли также апоретиками. Аристотель,
утверждает этот доксограф, назвал Зенона изобретателем диалектики.
Родоначальник школы софистов Протагор высказал убеждение в
том, что любое утверждение может быть доказано и также
опровергнуто одинаково сильными аргументами. Софист Горгий
пошел еще дальше. Он сформулировал три тезиса: 1) ничто не
существует; 2) если бы нечто существовало, оно было бы
непознаваемо; 3) если бы оно было познаваемо, то знание о нем было
бы невозможно выразить (42, 29). Тем не менее софисты были
учителями мудрости (так они себя именовали, в отличие от
своих предшественников, считавших мудрость недостижимым для
смертного идеалом). Они учили красноречию, умению выступать
13*
387
на собраниях, в суде и т.д. и отнюдь не считали, что всё в мире
непознаваемо.
Сократ, подвергавший софистов убедительной критике,
считал совершенно невозможным достижение мудрости. Однако,
несмотря на свое основное положение - «я знаю, что ничего не
знаю» - он не был скептиком; он постоянно обсуждал со своими
слушателями вопросы морали, справедливости, отнюдь не
отрицая того, что на эти вопросы могут и должны быть найдены
правильные ответы.
Ученик Сократа Платон, утверждавший, что мир
повседневного опыта, в отличие от мира потусторонних идей, носит
призрачный, эфемерный характер, также не был скептиком. Но его
представление о чувственно воспринимаемом мире
прокладывало путь философскому скептицизму. И основанные после
смерти Платона вторая, а затем и третья «Академии» встали на путь
скептицизма, правда, умеренного.
Философский скептицизм как одно из главных направлений в
истории философии возник в период кризиса греческого полиса.
Его отрицательное отношение ко всякому знанию, получившее
выражение в категорическом требовании воздерживаться от
каких-либо суждений, ибо достижение истины принципиально
невозможно, носило не только вызывающий, но и парадоксальный
характер, поскольку скептицизм фактически считал себя
обладающим не подлежащим сомнению знанием о человеческой
неспособности к познанию.
Основоположник скептицизма Пиррон (ок. 360-270 гг. до н.э.)
не оставил после себя сочинений, но его ученик Тимон изложил
воззрения учителя в трех книгах. Тимон резюмирует пирронизм
в отрицательных ответах на такие вопросы: 1) из чего состоят
вещи?; 2) как следует относиться к вещам?; 3) какую пользу
можно извлечь из нашего к ним отношения? Пиррон, следовательно,
не отрицает самого существования вещей, независимой от
человека реальности, хотя и не высказывается по этому вопросу. Он
также не утверждает, что нет ничего достоверного. Если мы едим
мед и ощущаем сладость, то утверждение «мне кажется мед
сладким» вполне достоверно. Но кому-то другому мед не
кажется сладким. Значит ошибочно утверждение, что мед по природе
своей сладок. Следует поэтому вообще отказаться от суждений
о вещах, так как никакое суждение не ведет к истине.
Воздержание от суждений нисколько не препятствует нам поступать
соответственно чувственным восприятиям, но утверждать, что
они истинны, было бы заблуждением. Благодаря воздержанию
от суждений философ не только избегает заблуждений, но обре-
388
тает безмятежность, предотвращает страдания, достигает
счастья. Диоген Лаэртский - основной источник наших сведений о
Пирроне - говорит о нем: «Он ничего не называл ни прекрасным,
ни безобразным, ни справедливым, ни несправедливым и вообще
полагал, что истинно ничто не существует, а людские поступки
руководствуются лишь законом и обычаем, - ибо ничто не есть в
большей степени одно, чем другое» (70, 379)*.
Наиболее выдающимся последователем Пиррона был Эне-
сидем (I в. до н.э.). В книге «Пирроновы рассуждения» он
сводит учение родоначальника скептицизма к десяти аргументам
(тропам). Речь идет о том, что разные животные по-разному
воспринимают вещи. Люди также отличаются друг от друга в
своих восприятиях. Каждый из наших органов чувств
по-своему воспринимает вещи; восприятия одного органа чувств не
согласуются с восприятиями других органов. Наше состояние,
настроение, самочувствие не остается неизменным, вследствие
чего изменяется и наше отношение к вещам. Разные народы
отличаются друг от друга и своими восприятиями вещей. Вещи
существуют не сами по себе, отдельно от других, а в сочетании
с другими вещами, вследствие чего нельзя познать какую бы то
ни было вещь. Занимаемое той или иной вещью положение
также меняется, количество вещей не остается постоянным, наше
восприятие вещей зависит также от того, часто или редко мы с
ними встречаемся. Поэтому суждения о любой вещи в
действительности оказываются представлением не о самой вещи, а об
отношении ее к другим вещам и к нам самим, которые ее
воспринимают. Следовательно, воздержание от суждений наиболее
достойно философа.
Энесидем не ограничивается одной лишь критикой
чувственного восприятия вещей. Он подвергает критике также мышление,
утверждая, что понятия так же, как и чувственные восприятия,
неизбежно ведут к заблуждению. Так, например, понятие дерева
включает в себя все виды деревьев, как бы они ни отличались
друг от друга. Следовательно, полагает Энесидем, это понятие
ложно, лишено смысла. Столь же ложными являются любые умо-
* Диоген далее сообщает: «Посидоний рассказывает о нем вот такой
случай. На корабле во время бури, когда спутники его были в унынии, он оставался
спокоен и ободрял их, показывая на корабельного поросенка, который ел себе и
ел, и говоря, что такой бестревожности и должен держаться мудрец» (70, 380).
Этот рассказ свидетельствует о том, что Пиррон не всегда следовал
сформулированному им принципу: воздерживаться от суждений. То же относится и к
последователям Пиррона, поскольку они рассуждали, подвергали критике стоиков
и других философов, которых они именовали догматиками.
389
заключения, дедукция и индукция. Истина недоступна нам даже
если она существует, так как нет признака, отличающего истину
от заблуждения, нет критерия истины.
Ученик одного из последователей Энесидема Секст Эмпирик
(эмпириками называли врачей) является, пожалуй, самым
радикальным скептиком. Он единственный представитель античного
скептицизма, сочинения которого сохранились и изданы в
Новое время. Достаточно привести названия отдельных разделов
его сочинения, чтобы его радикальный скептицизм стал не
подлежащим сомнению. «Существует ли что-либо истинное?» (155,
1, 151). Ответ, разумеется, отрицательный. «Существует ли
время?» (155, 1, 346). Ответ также отрицательный. «Существует ли
наука?» (155, 2, 53). Такой же ответ. «Существует ли
доказательство?» (155, 2, 289). Тот же ответ.
Секст Эмпирик отрицает также движение, приводя
аргументы, впервые сформулированные Зеноном Элейским. Критикуя
геометрию, он ссылается на то, что не существует линии, у
которой не было бы ширины, не существует точки, лишенной какой-
либо величины. Подвергая критике арифметику, он приходит к
заключению: «...если число мыслится в результате, как я сказал,
прибавления и отнятия, и мы показали, что ни того, ни другого из
этого не существует, то необходимо сказать, что не существует и
[самого] числа» (155, 2, 173).
Аргументация Секста Эмпирика, как и любая аргументация,
является фактическим отрицанием требования воздерживаться
от суждения*; его скептицизм выражается главным образом в
тотальном отрицании всего, что не есть явление. Явлением же он
называет ощущаемое, которое противопоставляется мыслимому.
Ощущаемое не подлежит отрицанию, но оно есть лишь
кажущееся. То, что возле огня человеку тепло, не может быть отрицаемо;
подлежит отрицанию лишь утверждение, что огонь по природе
своей есть теплота. Нигилизм, разъясняет в связи с этим А.Ф.
Лосев, «относится у скептиков, собственно говоря, только к
философским доказательствам и философским теориям. Важно жить в
соответствии с явлениями жизни, т.е. в связи с тем, что кажется, а
не есть на самом деле, поскольку то, что есть на самом деле, нам
неизвестно. Но эта сфера кажимости для скептика настолько
широка, что она решительно охватывает всю жизнь, весь мир» (155,
* В разделе «Существует ли искусство жизни?» Секст Эмпирик,
положительно отвечая на этот вопрос, замечает: «мы достаточно показали, что
можно целесообразно жить тем, которые избрали воздержание суждений обо всем»
(155, 2, 34). Очевидно, свои рассуждения почти обо всем скептик считает
вполне совместимыми с воздержанием от суждений... обо всем.
390
1, 45). Секст Эмпирик действительно полемизирует лишь с
философами. Но из этой констатации, на мой взгляд, никак не
следует вывод, что он отрицает лишь философские высказывания.
Утверждения, что нет ничего истинного, что время не существует, не
существует и движения и т.п. представляют собой отрицание не
только философских положений, но и существеннейшего
содержания повседневного опыта людей. Сводить подобные
утверждения к полемике с одними только философами, конечно, нельзя.
Кстати сказать, Секст Эмпирик не ограничивался
отрицанием воззрений философов; он подчеркивает также, что некоторые
из них частью разделяют убеждения скептиков. Ксенофан, пишет
он, «отрицает существование критерия истины по той причине,
что в природе ничто из предметов исследования непостижимо»
(155, 1, 70). То же относится к Протагору, Горгию и другим
софистам. Анаксагор, именуемый крупнейшим из физиков, по словам
Секста Эмпирика, «порицал чувственные восприятия как
бессильные...» (155, 1, 78). Демокрит, указывается далее,
«отвергая [возможность] явного для внешних чувств, утверждает, что
даже ничто из этого не явствует в истинном смысле» (155, 1, 79).
От этих, по мнению Секста Эмпирика, приближающихся к
скептицизму философов, он отличает Платона и Аристотеля, именуя
их догматиками, т.е. убежденными в достижимости истинного
знания.
Аргументация Секста Эмпирика во многом аналогична
рассуждениям софистов. Показательно в этом отношении такое
рассуждение: «Некоторые, обращаясь к промежуткам времени, в
течение которых происходит возникновение и уничтожение,
рассуждают так. Если Сократ умер, то он умер или когда жил, или
когда скончался. Но во время жизни он не умер, потому что он
тогда, конечно, жил и не был мертв во время жизни. Но он не
умер и тогда, когда умер, потому что это значило бы, что он
дважды умер. Следовательно, Сократ не умер [вообще]» (155, 1, 376).
Скептицизм, тем более радикальный, не может быть
логически последовательной теорией; он неизбежно впадает в
противоречия с самим собой. Не удивительно поэтому, что Секст
Эмпирик, утверждавший, что никакое доказательство в принципе
невозможно, тем не менее утверждает в своей критике этиков:
«Но когда рассуждением доказано (курсив мой. - Т.О.), что
ничто из этого не есть благо по природе или зло по природе, то для
нас должны наступить прекращение тревоги и мирная жизнь»
(155,2,29).
В рассматриваемых трактатах наличествуют и некоторые
обобщенные характеристики философии скептицизма. Так, напри-
391
мер, разъясняется: «скептический способ рассуждения
называется "ищущим" от деятельности, направленной на искание и
осматривание кругом, или "удерживающим" от того душевного
состояния, в которое приходит осматривающийся кругом после
искания, или "недоумевающим" - либо вследствие того, что он
во всем недоумевает или ищет, как говорят некоторые, либо
оттого, что он всегда нерешителен перед согласием или отрицанием»
(155, 2, 208). О Сексте Эмпирике нельзя, конечно, сказать, что он
«всегда нерешителен перед согласием или отрицанием». Но эта
характеристика скептицизма существенна, так как указывает, что
скептицизм, несмотря на свое отрицание истины чего бы то ни
было, все же занят поиском истины, а в своем обосновании
воздержания от суждений (теоретических, философских) убежден в
том, что главную смысложизненную истину он все-таки нашел.
Отсюда понятно заявление Секста Эмпирика о том, что
скептицизм есть своего рода мировоззрение. «Если под мировоззрением
кто-нибудь подразумевает приверженность многим догмам, тесно
связанным между собой и с явлением, и говорит, что догма есть
согласие с чем-либо неочевидным, то мы скажем, что не имеем
мировоззрения. Если же будут называть мировоззрением способ
рассуждения, следующий какому-нибудь положению в
соответствии только с явлением, то мы скажем, что имеем
мировоззрение...» (155, 2, 210).
Скептицизм, каковы бы ни были его оговорки и
самоограничения, действительно есть мировоззрение, не менее, а пожалуй,
более влиятельное, чем рационалистическое и эмпиристское,
материалистическое или идеалистическое, метафизическое или
антиметафизическое мировоззрение. Этот факт со всей
очевидностью выявляется уже в древнегреческой философии. Недаром же
А.Ф. Лосев утверждает: скептическая тенденция «весьма
сильная струя, пронизывающая всю древнейшую натурфилософию,
несмотря на весь ее принципиальный и для нас вполне
несомненный объективизм» (105, 11). Относительно же учений
Платона и Аристотеля А.Ф. Лосев замечает: «... в платоновском "Ти-
мее" уже заложен основной принцип позднейшего скептицизма»
(105, 15)*. Аристотель, по-видимому, является еще более близким
предшественником скептического образа мышления (105, 15).
* А.Ф. Лосев ссылается также на диалог как форму сочинений Платона:
«... все произведения Платона представляют собой изображение сплошных
споров, несогласий, безвыходных противоречий и самый жанр диалога был выбран
Платоном как результат драматического понимания им самого процесса мысли,
когда о законченной системе не могло быть и речи, и все разговоры были
направлены только на вечное искательство, сомнение, недоверие...» (105, 7).
392
Подытоживая изложение воззрений греческих скептиков,
можно с уверенностью сказать, что весь скептицизм
последующего времени исходил из аргументов, которые выдвигали и
обосновывали его античные предшественники.
Европейское средневековье с его диктаторской теологической
идеологией исключало возможность существования
скептицизма как философского направления, публично излагающего свои
взгляды. Воззрения, высказывавшиеся так называемыми
еретиками, не могли превратиться в систему скептических воззрений.
Правильно замечает В.М. Богуславский: «Если бы достаточной
причиной распространения скептицизма на заре Нового
времени была дискредитация средневекового образа мышления... то
скептические идеи могли встретиться у ренессансных
мыслителей...» (17, 442)*. Скептицизм как система воззрений,
философское направление возрождается в эпоху становления капитализма
в Западной Европе как «новый пирронизм», который,
солидаризируясь с древнегреческим учением, вместе с тем не настаивает
на безусловном выполнении требования воздерживаться от
суждений. Выдающийся представитель этого «нового пирронизма» -
Мишель Монтень (1533-1592) в своих знаменитых «Опытах»
рассуждает об исторических деятелях, мифологических персонажах,
обычаях, привычках, а также о разных философских учениях.
Он характеризует пирронизм как трезвое свободолюбие,
сочетающее постоянное сомнение с неустанным поиском истины:
«высший принцип пирронистов - это всегда колебаться, сомневаться,
искать, ни в чем не быть уверенным и ни за что не ручаться».
Развивая этот тезис, Монтень провозглашает: «Существует,
говорят пирронисты, и истинное и ложное, и мы обладаем
способностью доискиваться, но не способностью в точности определять»
(121, 185).
Монтень критикует Платона, считая, что его сочинения,
излагаемые в форме диалога, представляют собой удобный способ
сокрытия противоречий собственного учения. Платону он
предпочитает Аристотеля, который, по его убеждению, был близок
* Правда, в своей монографии «У истоков французского атеизма и
материализма» (М., 1984). В.М. Богуславский третий параграф второй главы называет:
«Скептицизм эпохи Возрождения - таран, штурмующий твердыни мракобесия».
Речь в нем идет о воззрениях Ф. Рабле, Дж. Ванини и других мыслителях.
Подчеркивая отличие скептических взглядов этих мыслителей от античных
скептиков, автор пишет: «Там ставилось под сомнение все установленное разумом,
провозглашалось его ничтожество и бессилие. Здесь под сомнение ставится все
принимавшееся до сих пор на веру и провозглашается всемогущество разума»
(17, 78). Но это как раз и свидетельствует о том, что мыслителей эпохи
Ренессанса едва ли следует считать представителями скептицизма.
393
к пирронизму: «...как говорит Аристотель, наш разум так же не
способен созерцать истину, как глаз совы не выносит света
солнца» (121, 242).
Аргументы, приводимые Монтенем в пользу скептицизма,
аналогичны аргументам Тимона и Энесидема. У некоторых
народов, указывает он, существует многоженство, у других -
моногамия. Такая же картина наличествует в мире животных; у
некоторых из них браки более прочные, чем у людей. Так же как
и античные скептики, он указывает на изменчивость вещей,
полагая, что это обстоятельство делает невозможным их познание.
«Так как все вещи претерпевают непрерывно одно изменение за
другим, то наш разум, ищущий реального бытия, оказывается
обманутым; он не может найти ничего постоянного и
неизменного...» (121, 299). Монтень соглашается с античными пирронис-
тами и в оценке чувственных восприятий: они постоянно вводят
нас в заблуждение. Так же как и его античные предшественники,
он подвергает критике вторую и третью платоновские
«академии», руководители которых Аркесилай и Карнеад склонялись к
умеренному скептицизму, допускавшему различные степени
вероятности знания. Эта концепция получила наименование
пробабилизма.
Тимон и Энесидем подвергали наиболее резкой критике
стоицизм. Также поступает и Монтень, дополняя эту критику
критикой школы Эпикура. «Если правы эпикурейцы,
утверждающие, что не существует знания, если чувства лгут и если правы
стоики, утверждающие, что чувства настолько ложны, что не
могут дать нам никакого знания, то отсюда следует, в
соответствии с положением обеих великих догматических школ, что нет
знания» (121, 289).
Я подчеркиваю прежде всего согласие Монтеня с пирронист-
ской традицией, поскольку речь идет об истории скептицизма.
Однако было бы несправедливо указывать лишь на это
обстоятельство, ибо Монтень при всем своем пирронизме остается
самостоятельным, самобытным мыслителем. Его, в частности,
отличает от античных скептиков положительное отношение к науке. Ему,
например, не приходит в голову ставить под сомнение положения
геометрии и арифметики, правомерность дедукции и индукции.
Его отношение к науке выражено афоризмом, с которым нельзя не
согласиться: «я люблю науку, но не богатство ее» (121, ИЗ)*.
* Стоит, однако, отметить, что уважительное отношение Монтеня к
математике иной раз приобретает несколько парадоксальный (чтобы не сказать,
комичный) характер. Так, он утверждает: «Образ жизни тунцов свидетельствует о
том, что они по-своему знакомы с тремя разделами математики» (121, 159). Как
далека эта оценка тунцов, инстинкт которых подсказывает наиболее
целесообразный путь сезонной миграции, от скептицизма!
394
Монтень является выдающимся критиком клерикализма,
который в его время все еще оставался господствующей идеологией
во Франции, неизжитым наследием средневековья. Он
утверждает в связи с этим, что католическая церковь с ее чрезмерными
претензиями находится на ложном пути. Критика клерикализма
нередко смыкается в «Опытах» с критикой христианских
догматов вообще. Так, он пишет, что нет каких-либо оснований для
утверждения, что человеческая душа бессмертна, что существует
загробная жизнь. При этом он также критикует и атеизм как
абсолютно неоправданное самомнение разума, подлежащее суровому
осуждению.
Скептицизм Монтеня занимает нечто вроде промежуточной
позиции между теизмом и атеизмом. Он достаточно осторожен
дабы избежать преследования власть предержащих, но у
мыслящих людей его скептическое отношение к христианским догматам
не вызывает каких-либо сомнений даже тогда, когда он заявляет:
«Какова бы ни была наша доля познания истины, мы достигли
ее не нашими собственными усилиями. Бог достаточно открыл
нам истину через апостолов, выбранных им из народа, из людей
простых и темных» (121, 182).
Не менее выдающимся представителем скептицизма
является П. Бейль (1647-1706). Его основная работа - двухтомный
«Исторический и критический словарь». В нем он, выдавая себя
за убежденного христианина, фактически подвергает сомнению
его основные догматы, излагая свои сомнения как мнения тех или
иных мыслителей, но нередко, так сказать, втихомолку
присоединяясь к этим мнениям*.
Во втором томе этого труда большая статья посвящена
выдающемуся французскому представителю скептицизма П. Шаррону
(1541-1603), современнику и другу М. Монтеня. Будучи
священником, он тем не менее в книге «О мудрости» и в ряде других
сочинений высказывал завуалированным образом
антиклерикальные мысли, за что иезуиты обвиняли его в вероотступничестве и
атеизме. Основанием для этих обвинений было его утверждение:
чтобы стать атеистом, необходима чудовищная сила души, такая
сила, которую трудно найти. При этом, однако, Шаррон
оговаривался, что такая сила души истрачена попусту, так как благора-
* С целью предотвратить нападки обскурантов на его несомненный для
всякого мыслящего читателя скептицизм, Бейль заявляет: «Ни догматики, ни
скептики никогда не будут в состоянии вступить в царство божие, если они не станут
малыми детьми, не изменят свои максимы, не отрекутся от своей мудрости и не
пожертвуют у подножия креста своими суетными системами ради мнимой
глупости нашего учения» (13, 2, 187).
395
зумие велит нам придерживаться христианских догматов.
Излагая антиклерикальные и антирелигиозные идеи, Шаррон
подчеркивает, что он вовсе не придерживается их, но считает нужным
их изложение в качестве материала для критики. Но критика
фактически отсутствует, ее заменяют одни только заверения Шарро-
на в том, что он не согласен с излагаемыми воззрениями.
Бейль приводит следующее высказывание Шаррона:
«Некоторые находят эту книгу чересчур смелой и чересчур
вольнодумной... Я отвечу им так. Во-первых, мудрость, не являющаяся
ни общепринятой, ни распространенной, обладает именно этой
свободой и правом». На следующей странице Бейль продолжает
цитировать Шаррона: «Разуму вполне приличествует охотиться
за чем угодно. Но нужно, чтобы сам разум не был ущербным...
Кто в чем-то придерживается страсти, не станет следовать
разуму. Почему эти люди приходят в ярость? Потому что я не во всем
разделяю их мнение? Не сержусь же я из-за того, что они не
разделяют моего мнения» (13, 2, 94-95).
Констатируя, что христианство расколото «на множество
частей» и все они враждебны друг другу, Шаррон пишет, что «нет
ни одного догмата, ни одной доктрины в этой религии, которые
бы не трактовались самыми различными способами, не были
предметом спора и в отношении которых не было бы ересей и
противоположных сект» (13, 2, 101). Бейль полностью
солидаризируется с этими высказываниями.
Свои собственные воззрения Бейль высказывает, излагая
взгляды мыслителей прошлого. Здесь в первую очередь нужно
указать на статьи, посвященные античным скептикам: Пиррону,
Аркесилаю, Карнеаду. О Пирроне говорится, что он всю жизнь
стремился к истине, но всегда убеждался в том, что она
недостижима, и приходил к заключению, что надо воздерживаться от
суждений. Отвергая ошибочные воззрения на учение Пиррона,
Бейль подчеркивает, что было бы нелепо полагать, что «Пиррон
не отдавал предпочтения ничему и что ни колесница, ни бездна,
встретившиеся ему на пути, не могли заставить его отступить
назад или в сторону... не следует сомневаться в том, что он учил
лишь честности и считал, что низость действий, их
справедливость и несправедливость зависят только от человеческих
законов и обычаев» (13, 1, 340). Скептицизм, указывал он в связи с
этим, нисколько не угрожает здравомыслию и нормальному
поведению человека.
В большой статье об учении Спинозы, в которой также
затрагивается и философия Декарта, Бейль осуждает
отождествление природы и Бога, приписывание Богу протяженности и других
396
атрибутов, присущих материи. Отвергая атеизм, который Бейль,
как и многие мыслители, приписывал Спинозе, Бейль в других
своих статьях разъясняет, что нравственность независима от
религии, так как многие честнейшие люди были атеистами, а многие
верующие - бесчестными. Пирронизм, ужасающий теологов, ни в
малейшей мере не угрожает ни учению физиков, ни государству.
Согласно Бейлю, «в наш век существует немного хороших
физиков, которые не были бы убеждены в том, что природа - это
непостижимая бездна и что ее движущие силы известны только тем,
кто их создает и ими управляет» (13, 1, 342)*. Это
обстоятельство не мешает физикам делать открытия, хотя они и сознают, что
последние причины того, что они познают, остаются
непостижимыми. Что касается общества, государства, то и здесь скептиков
нечем упрекнуть: они не отрицают, что надо придерживаться
обычаев своей страны, существующих законов и принимать участие в
общественных делах. Характеризуя Пиррона и Тимона как людей
в высшей степени нравственных и добропорядочных, Бейль
продолжает обосновывать тезис о независимости морали от религии.
«Тот факт, что наиболее отъявленные мерзавцы не были атеистами
и что атеисты, имена которых дошли до нас, были по большей
части благородными людьми, с мирской точки зрения характеризует
бесконечную мудрость Бога и заставляет восхищаться его
провидением» (13, 2, 150). Ссылка на бесконечную мудрость Бога
необходима в данном контексте, чтобы смягчить это дерзкое
утверждение. Эту ссылку не следует, однако, истолковывать лишь как некий
тактический маневр. Бейль скептик, но вовсе не атеист. Скептик,
естественно, может сомневаться в существовании Бога, так же
как и в его бесконечной мудрости, но тем не менее оставаться
верующим человеком. Религиозная вера, как известно, подвержена
сомнениям, но при всем этом она не становится неверием.
Наиболее существенным в сочинении Бейля является, на
мой взгляд, критика церковных деяний. Раннее христианство,
* Ссылаясь на Декарта и его последователей, Бейль утверждает, что «среди
настоящих философов никто больше не сомневается в том, что скептики правы,
утверждая, что качества тел, действующих на наши органы чувств, есть только
видимость. Каждый из нас может сказать: я чувствую тепло от присутствия
огня, но не скажет: я знаю, что огонь сам по себе таков, каким он мне
кажется... Сегодня новая философия говорит более определенным языком: тепло,
запах, цвета и т.д. не присущи более объектам наших чувств; это
модификации моей души; я знаю, что тела вовсе не таковы, какими они кажутся» (13, 1,
с. 343). Мы видим, что скептицизм Нового времени существенно отличен от
античного скептицизма. Его критика тех или иных философских учений вполне
сочетается с собственными воззрениями на процесс познания, которое он лишь
ограничивает, но отнюдь не отрицает.
397
утверждает он, отличалось терпимостью, не стремилось
«завладеть троном при помощи мятежа. Христианство,
провозглашенное в XVI в., больше не было таким; это была кровавая религия,
несшая смерть, привыкшая к резне на протяжении пяти или
шести веков... Костры пылали, ужасный трибунал инквизиции,
крестовые походы, папские грамоты, вынуждавшие людей к бунту,
крамольные проповедники, конспирация, убийства государей
были обычными средствами, которыми эта религия пользовалась
против тех, кто не подчинялся ее приказам» (13, 2, 142).
Мы видим, что скептицизм Бейля нисколько не мешает ему
высказывать свои убеждения, зачастую с недвусмысленной
определенностью. Он, следовательно, не считает, что всегда надо
воздерживаться от суждений. Фактически бейлевский скептицизм
касается лишь некоторых, правда, весьма существенных тем. Но по
другим, не менее значительным, темам Бейль высказывается не в
духе пирронизма. Эта двойственность скептицизма Нового
времени существенно отличает его от скептицизма античной эпохи.
Уроки скептицизма Бейля, Монтеня, Шаррона усваиваются
французскими материалистами XVIII в., хотя они по основному
складу своего мышления не являются скептиками. Характерно с
этой точки зрения такое, например, высказывание Д. Дидро: «То,
что никогда не подвергалось сомнению, не может считаться
доказанным. То, что не было исследовано беспристрастно, никогда не
подвергалось исследованию. Стало быть скептицизм есть первый
шаг к истине» (68, 85).
Д. Юм - выдающийся представитель скептицизма Нового
времени. Его убеждения в том, что наши знания носят в лучшем
случае лишь вероятностный характер, представляют, как пишет
Б. Рассел, выводы, которые «равно трудно и опровергнуть и
принять. Результатом явился вызов философам, на который, по
моему мнению, еще не было дано надлежащего ответа» (148, 682).
Юмистская традиция сохранилась в Великобритании и в
настоящее время, так что современные английские философы нередко
считают себя продолжателями учения Юма.
В Германии скептицизм не получил такого распространения,
как во Франции. Но философия Канта, вопреки его убеждениям
и неоднократным заявлениям, далеко не свободна от
скептицизма. Одно из основоположений его философии - тезис о
принципиальной непознаваемости «вещей в себе», т.е. независимой от
познающего субъекта реальности, несомненно отмечено печатью
скептицизма. То же следует сказать о кантовской
субъективистской интерпретации явлений (и природы в целом) как
совокупности представлений.
398
В марксистской, в частности в отечественной, литературе
философию Канта обычно характеризовали как агностицизм. Но
агностицизм, сложившийся лишь в XIX в., через полтора
столетия после смерти Канта, подвергал сомнению главным образом
чувственные восприятия явлений природы, полагая, что они
неадекватно отражают их. Кант же не ставит под вопрос истинность
чувственных восприятий, а непознаваемость «вещей в себе» он
объясняет тем, что они находятся вне пространства и времени.
Последовательным приверженцем скептицизма в Германии
был Г.Е. Шульце (1761-1833), присвоивший себе псевдоним Эне-
сидем и вполне разделявший воззрения этого
древнегреческого скептика. В 1789 г. он опубликовал книгу «Aenesidemus oder
über die Fundamente der von Herrn Prof. Reinhold in Jena gelieferten
Elementarphilosophie, nebst eine Verteidigund des Skeptizusmus
gegen die Anmassung der Vernunfkritik», в которой подверг
«уничтожающей» критике не столько воззрения этого кантианца, сколько
философию самого Канта, в особенности его априоризм. Шульце
не был оригинальным мыслителем: он критиковал учение
Канта с позиций Беркли и Юма, отвергая, подобно этим философам,
принципиальную возможность метафизики и обвиняя в связи с
этим Канта в догматизме. Вслед за Ф. Якоби, полемизировавшим
с Кантом, он утверждал, что ощущения человека возникают не
вследствие воздействия на чувственность непознаваемых «вещей
в себе», что причинность, вопреки воззрениям Канта, является не
более, чем субъективным представлением.
Скептицизм в XIX в. не имел значительного влияния в
философии, но он, как это ни удивительно на первый взгляд,
нашел своих горячих сторонников в среде естествоиспытателей.
Историк скептицизма Р. Рихтер отмечает: «... блестящий расцвет
медицины и естествознания в XIX столетии пробудил не только
чрезмерные восторги и смелые надежды, но также глубокие
сомнения, касающиеся закономерностей природы и их возможного
использования в интересах человека. Разочарование постигло
даже некоторых специалистов и "ignoramus" и "ignorabimus"
раздается прежде всего из уст естествоиспытателей» (151, 19).
Действительно, «ignorabimus», которое провозгласил физиолог Дюбуа-
Реймон, выражало не только его умонастроение, но и убеждения
значительной части его современников-естествоиспытателей.
В XX в. скептицизм возрождается в западноевропейской
философии. Наиболее видными его представителями являются
К. Поппер и его последователи (К. Альбер, И. Лакатос, Ф. Тул-
мин, К. Фейерабенд, К. Хюбнер). Поппер провозгласил:
атрибутивным признаком научной теории является ее принципиальная
399
опровергаемость. Речь шла не о том, что любая научная теория
будет со временем превзойдена; она, согласно Попперу,
обязательно будет опровергнута как противоречащее фактам
воззрение. Эта абсолютизация безусловно необходимой ревизии любой
научной теории превратила «критический рационализм» Поппе-
ра в новейшую разновидность скептицизма.
Завершая несколько затянувшийся очерк истории
скептицизма, я хочу подчеркнуть основное историко-философское
убеждение Канта: метафизика и скептицизм - главные философские
направления. Это вовсе не значит, что я вполне разделяю убеждение
кёнигсбергского мыслителя. Я могу согласиться с Кантом лишь в
том, что в его время они действительно были главными
философскими направлениями. Вообще же вопрос о главных
философских направлениях следует обсуждать с позиций историзма.
Марксистское (вернее «марксистско-ленинское») положение о том, что
главными направлениями в философии всегда и везде были
материализм и идеализм, не выдерживает критики. В XX в. главными
философскими направлениями были неопозитивизм,
феноменология, экзистенциализм, аналитическая философия. Диалектический
материализм был единственным (и в этом смысле главным)
философским направлением лишь в СССР, а после Второй мировой
войны в странах так называемой народной демократии.
Конечно, с точки зрения ортодоксального марксизма
перечисленные мной философские направления являются не более, чем
разновидностями идеализма. Это убеждение представляется мне
крайне упрощенным. Ортодоксальный марксист непоколебимо
убежден в том, что каждый философ прямо или косвенно
занимается решением вопроса: что первично - материя или дух,
материальное или духовное? Однако я, напротив, убежден в том, что
отнюдь не каждый философ занимается решением этого вопроса,
что в XX в. большинство философов не думают о нем, в
частности потому, что им не приходит в голову оспаривать
установленный физиологией факт: сознание, мышление - функция мозга,
следовательно, функция определенным образом организованной
материи*.
* Понятно поэтому саркастическое замечание Б. Рассела: «Каждый знает,
что "дух" - это то, о чем идеалист думает, что не существует ничего кроме духа,
а "материя" - это то, о чем то же самое думает материалист» (148, 677). Рассел
несколько упрощенно характеризует идеализм и материализм. Он не
разделяет ни идеалистического, ни материалистического понимания отношения
между материальным и духовным, так как, по его убеждению, противоположность
между тем и другим не является абсолютной. И с этим нельзя не согласиться,
если понимать сознание, мышление как физиологический процесс, который все
более расшифровывается современной биохимией и биофизикой.
400
Неотомист Ф. Лелотт пытается теологически объяснить
существование мыслящей материи: «Бог дал материи необходимые
возможности для того, чтобы поставленная в специальные
условия организации, температуры и т.п. ... она могла бы стать
живой» (254а, 19). Ясно, что для такого объяснения нет
необходимости вникать в содержание научных открытий.
Когда выдающийся философ средневековья Дуне Скотт
утверждал, что материя приобретает способность мыслить, если так
хочет Бог, это утверждение прокладывало дорогу материализму
Нового времени. Но времена изменились и в XX в. неотомисты
осваивают это положение для подкрепления своего философско-
теологического мировоззрения.
Конечно, пристальный анализ некоторых из названных выше
философских учений обнаруживает содержащиеся в них
субъективистские выводы, которые характерны для идеализма. Но не
эти выводы составляют исходный пункт или основное
содержание данного философского учения, к примеру, аналитической
философии или экзистенциалистской системы Ж.-П. Сартра.
Назвать эти учения идеалистическими так же неправильно, как и
называть их материалистическими. Я полагаю, что они
занимают, так сказать, нейтральную позицию по отношению к
традиционной, в значительной мере утратившей актуальность антитезе
материализма и идеализма. Кстати сказать, скептицизм,
рассмотрению которого был посвящен данный раздел монографии,
также не может быть отнесен ни к материализму, ни к идеализму.
Значит не только в античную эпоху, но и в Новое время антитеза
материализм - идеализм не имела непосредственного отношения
к каждому философскому учению. Не существует, как я уже
показал, одного-единственного основного вопроса философии.
Глава 9
РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФИИ
КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА
1. Проблематичность понятия «развитие»
История человечества качественно отличается от истории
животного мира наличием специфической, культурной
преемственности. Каждое человеческое поколение наследует
приобретения, достижения предшествующих поколений, что становится
возможным благодаря многообразным формам их объективации.
Животный мир знает лишь генетическое наследование; то, что
приобретается отдельными особями в их борьбе за
существование, потеряно для последующих поколений. Каждое из них
начинает вновь и вновь обучаться присущим его виду умениям и
навыкам. Птицы нашего времени вьют свои гнезда так же, как
это делалось тысячи лет назад. То же относится и к другим
животным.
Наследование приобретенных производительных сил и
достижений познания образует основу прогресса как в
материальном, так и в духовном производстве. История науки
принципиально немыслима без этой передачи эстафеты знания от одного
поколения к другому. И развитие, а тем более прогресс в области
философии возможны лишь постольку, поскольку и в этой
области духовной жизни человечества наличествует наследование,
историческая преемственность. Однако эта истина отнюдь не
является общепризнанной в среде философов. Идея развития (а тем
более философского прогресса) постоянно подвергается
сомнению, а то и прямому отрицанию. Во-первых, нет в философии
положений, которые принимались бы большинством философов.
Во-вторых, конфронтация множества философских учений
лишает понятие исторической преемственности его общепринятого
402
смысла, согласно которому преемственность предполагает
солидарность, согласие в ряде существенных вопросов. В-третьих,
философы, в особенности наиболее выдающиеся из них (а
именно они олицетворяют важнейшее содержание
историко-философского процесса), как правило, не придают существенного
значения философским учениям своих предшественников, оценивая их
как пагубные заблуждения, освобождение от которых составляет
condition sine qua non их собственной, истинной, по их
убеждению, философии. Само собой разумеется, что они заблуждаются,
так же как заблуждались их предшественники.
Понятие развития, которое диалектический материализм
трактует как всеобщую, не знающую ограничений (а тем более,
исключений) закономерность, в действительности не является таковым.
Далеко не все науки о природе и обществе занимаются
исследованием процессов развития. Физика, к примеру, изучает главным
образом внутреннюю структуру материи. Это же относится и к
ядерной физике. Что касается химии, то в ней на первый план
выступает создание новых веществ, в том числе и таких, которые
не существуют, не существующих в природе соединений. Это,
разумеется, предполагает исследование специфической, именуемой
химической, структуры природных процессов, открытие новых,
ранее неизвестных явлений. Констатируя эти факты, нельзя не
поставить вопрос: является ли развитие абсолютно всеобщим?
Некоторые философы и социологи ставят вообще под вопрос
понятие развития. Полагая, что ему не присуща всеобщность, они
нередко приходят к заключению, что понятие развития
привнесено в науку телеологией и поэтому его целесообразно заменить
нейтральным эмпирически фиксируемым понятием изменения.
Сознавая, что критику понятия развития нельзя игнорировать,
как это было принято в так называемой марксистско-ленинской
философии, я все же хочу попытаться доказать, в каком смысле
развитие может быть признано действительно всеобщим. Не
приходится, конечно, отрицать, что не всё совершающееся в природе
и обществе представляет собой процесс развития. Механическое
движение, которое повсеместно имеет место, не есть, разумеется,
развитие. Изменения не только количественные, но и
качественные, если они носят обратимый характер (например, переход из
одного агрегатного состояния в другое), также нельзя
рассматривать как процессы развития.
Необратимость, которая обычно характеризуется как
атрибутивная определенность всякого развития, присуща как
механическим, так и немеханическим процессам, которые, однако, не
являются процессами развития. Но ясно, во всяком случае на мой
403
взгляд, что развитие представляет собой в основном
необратимый процесс. Естественно поэтому возникает вопрос: что же в
таком случае представляет собой развитие? Как и почему можно
допускать (хотя бы в порядке гипотезы) повсеместную и в этом
смысле абсолютную всеобщность развития? Я полагаю, что для
ответа на эти вопросы надо исходить из представления о сложном
характере процесса, именуемого развитием. Из него нельзя
исключить ни механическое движение, ни агрегатные (обратимые)
изменения. Сложность процесса развития и его всеобщность
заключается, на мой взгляд, в его интегральном характере. Иначе
говоря, развитие не было бы развитием, если бы оно не включало
в себя многообразные процессы, которые, рассматриваемые сами
по себе, не являются процессами развития. Развитие с этой точки
зрения представляет собой единство и взаимодействие этих
процессов, которые изменяют свои формы и становятся
необходимыми моментами развития. Это, повторяю, есть движение,
изменение, превращение, становление, возникновение, исчезновение,
уничтожение, образование новых форм, особенностей,
качественных состояний, структур, преобразование содержания,
осуществление тенденций, порожденных предшествующим состоянием,
формирование новой системы отношений, нового состояния,
которого не было раньше. Эволюционные изменения и
революционные преобразования - необходимые, но не обязательно
взаимоисключающие формы развития; они могут быть двумя сторонами
одного и того же процесса. Если речь идет об обществе, то
реформа может оказаться революцией, а революция - реформой.
Еще более трудным и до сих пор, как мне кажется,
непроясненным является вопрос о прогрессе как определенном типе
развития. Те характеристики прогресса, которые давались
разными мыслителями, представляются мне неудовлетворительными.
Г. Спенсер, например, определял прогресс как переход от более
простого к более сложному. Но усложнение безотносительно к
его конкретному характеру не есть, по-видимому, прогресс.
Переход от более сложного к более простому нередко оказывается,
например, в технологии производства прогрессивным процессом.
Энгельс характеризовал прогресс как переход от низшего к
высшему. Такая точка зрения является по меньшей мере
односторонней. Не стану приводить другие определения понятия прогресса,
они также неудовлетворительны. Но еще более
неудовлетворительно огульное отрицание всякого прогресса. Прогресс
представляет собой неоспоримый, но отнюдь не повсеместный факт.
Едва ли можно признать наличие прогресса в искусстве (музыке,
404
скульптуре, живописи), а также в художественной литературе.
Конечно, здесь возможны разные мнения, но давайте их оставим
в стороне. Факт прогресса несомненен в развитии
естествознания; здесь не может быть, на мой взгляд, разногласий. Научно-
технический прогресс столь же неоспоримый факт. Однако этот
прогресс, как свидетельствует история, разрушает природную
среду обитания человечества, что в настоящее время привело к
глобальному экологическому кризису, без преодоления которого
едва ли возможно существование наших отдаленных потомков.
Следовательно, прогресс двуличен, амбивалентен, противоречив.
Правильно отмечает Энгельс: «...каждый прогресс в
органическом развитии является вместе с тем и регрессом, ибо он
закрепляет одностороннее развитие и исключает возможность развития
во многих других направлениях» (115, 621). Хотя это положение
неприменимо ко всем сферам развития, в частности к прогрессу
естествознания, оно существенно характеризует различные типы
прогресса.
В общественном развитии также совершаются
прогрессивные изменения, которые нередко носят эпохальный характер.
Упразднение рабовладельческой системы было не подлежащим
сомнению социальным прогрессом. Но рабовладельческую
систему сменила крепостная зависимость, которая сплошь и рядом
не столь уж существенно отличалась от рабства. Упразднение
крепостничества уступило место наемному труду пролетариев,
их постоянной экономической зависимости от
хозяев-капиталистов. Маркс и Энгельс не без основания характеризовали систему
«свободного» наемного труда как наемное рабство. И все же это
был несомненный социальный прогресс. Борьба рабочего класса
против произвола капиталистов привела к весьма существенному
улучшению жизненных условий трудящихся.
Итак, прогресс налицо; присущие ему негативные стороны не
ставят под вопрос существование прогрессивного развития. Но
существует ли прогресс в истории философии? Корифеи
философии отрицали, как правило, наличие философского прогресса.
Ф. Бэкон характеризовал предшествующие философские учения
как особого рода призраки (idola theatro), подлежащие
искоренению. Декарт полагал, что ему удалось найти истинные начала
философии только потому, что он отважился отбросить все то, чему
учила прежняя философия. С точки зрения Канта, до него вообще
не существовало философии, так как философией должно
именоваться только истинное знание. Однако эти заявления великих
философов не вполне соответствуют содержанию их учений,
которые стали возможны благодаря исторической преемственности.
405
Эти великие философы - революционеры в сфере философии,
критически осмысливая предшествующую философию и отрицая
ее, вместе с тем отвечали на поставленные ею вопросы. Поэтому
их убеждение в независимости своего учения от предшествующей
философии носило субъективный, амбивалентный характер*.
Одной из главных причин, побуждающих к отрицанию
прогресса в философии, является неопределенное множество
философских систем и системок, которые враждебно противостоят
друг другу. Но все дело в том, как относиться к этому множеству.
Большинство философов истолковывали этот факт как
бесплодные усилия философов создать действительно истинную
философскую систему. Но я, как уже об этом шла речь в предыдущих
главах, считаю постоянное умножение философских идей,
концепций, систем реальным обогащением содержания философии
и, следовательно, рассматриваю его как действительный прогресс
философского познания, результаты которого никогда не будут
окончательными истинами, как это имеет место в так называемых
точных науках.
Философия - специфическая форма интеллектуального
развития человечества, специфическая познавательная деятельность, к
которой лишь частично применимы те понятия развития и
прогресса, которые характеризовались выше. Исследование
своеобразия развития философии - важнейшая задача теории историко-
философского процесса, т.е. метафилософии. Отсюда ясно, что
не только общая концепция развития, но и особенное
понимание развития, учитывающее качественное различие между
науками, совершенно недостаточны для понимания развития (а тем
более прогресса) философского познания. Не следует, конечно,
абсолютизировать качественное отличие историко-философского
процесса от развития наук о природе и обществе, как это делают
* Этот вопрос следует поставить и в более общей теоретической форме.
Является ли отрицание учений предшественников свидетельством
действительного отсутствия исторической преемственности? Иными словами, выражает ли
субъективная позиция философа его объективно наличествующее отношение к
тем или иным предшественникам? Нигилистическое отрицание (а такое также
бывает в историко-философском процессе) означает неспособность позитивно
осмыслить философское наследие. Иное дело конкретное, содержательное
отрицание, которое можно назвать позитивным, так как оно критически
осмысливает философские учения прошлого. Метафизика Декарта, несмотря на все ее
отличие от предшествующих метафизических учений, едина с ними в смысле
постановки основных вопросов. Декартовское «я мыслю, следовательно,
существую» высказывалось, правда, в ином контексте Августином. А то, что Декарт
обновляет онтологический аргумент Ансельма Кентерберийского, также
указывает на отношение исторической преемственности.
406
многие современные философы и историки философии. Однако
игнорировать это действительно качественное развитие было бы
не менее серьезным заблуждением.
Таким образом, разработка теории историко-философского
процесса не может быть сведена к применению общего понятия
развития (или понятия о его особенных формах) к философскому
развитию. Задача состоит в том, чтобы вскрыть именно
философии присущие закономерности ее развития и прогресса.
История философии зарождается уже в древней Греции,
правда, не как отдельная часть философии, а как результат
полемики между философами. Платон полемизирует с Протаго-
ром, Парменидом и другими философами, излагая тем самым
их воззрения. В «Метафизике» Аристотеля критическое
рассмотрение предшествующей греческой философии
органически вплетается в изложение собственных воззрений философа.
Сочинения Диогена Лаэртского и Секста Эмпирика
представляют собой уже историко-философские работы. Однако идея
развития философии была впервые высказана и теоретически
обоснована Гегелем, который в отличие от всех
предшествующих философов и историков философии разработал теорию
историко-философского процесса. Поэтому я считаю
необходимым проанализировать эту гегелевскую теорию
историко-философского процесса.
Гегель выступил с критикой господствовавшего до него
(и вновь возрожденного многими современными философами)
убеждения будто бы историко-философский процесс
представляет собой беспорядочное скопление несовместимых друг с другом
учений, пестрый калейдоскоп заблуждений, необозримое
множество всякого рода воззрений по всякого рода вопросам. Это
убеждение, несомненно, вытекало из общей, эмпиристской истории
человечества, но оно вместе с тем фиксировало
гипертрофированным образом некоторые черты историко-философского
процесса, как они представляются описывающему ее автору. Гегель
подверг критике это убеждение и основанные на нем
представления об историко-философском процессе и будущности
философии, как остающиеся на уровне видимости. Он утверждал: как бы
ни были существенны различия между философскими учениями,
они предполагают сущностное тождество между ними,
диалектическое тождество, которому внутренне присущи различия. Эти
различия существенны, но столь же существенно и тождество.
И противоречия между философскими системами существенны
лишь постольку, поскольку существует единство философской
формы познания. Идея противоречиво развивающегося единства
407
историко-философского процесса составляет одну из основ
диалектического идеализма Гегеля.
Историко-философский процесс изображается Гегелем в двух
ипостасях. С одной стороны, каждая философская система есть
духовное выражение своего времени; каждый философ - сын
своей эпохи, разделяя, стало быть, и ее историческую
ограниченность, ее преходящие черты. «Столь же нелепо предполагать, что
какая-либо философия может выйти за пределы современного ей
мира, сколь глупо думать, что отдельный индивидуум может
перепрыгнуть через свою эпоху...» (41, 55).
Гегель также признает историческую связь философских
систем с научными достижениями своего времени. Развитие
естествознания Нового времени было, согласно его утверждению,
необходимым условием прогресса в философии, достигнутого в
XVII-XIX вв. Он справедливо отмечает: «Без самостоятельной
разработки опытных наук философия не могла бы уйти дальше,
чем у древних философов» (41, 286). Однако эти важные,
правильные тезисы почти не получают применения в анализе
философских учений, оставаясь скорее декларацией, чем
методологическим принципом исследования. Основным принципом
историко-философского исследования является, согласно
Гегелю, принцип логического саморазвития философии.
Исторические эпохи редуцируются Гегелем к логическим
самоопределениям «абсолютного духа». Поэтому философия не порождается, не
определяется современной ей эпохой, она, скорее «совершенно
тождественна со своей эпохой» (41, 111), т.е. составляет ее
сущность. Не исторически определенное общественное бытие
определяет философское сознание, а философия,как единственно
адекватное формообразование «абсолютного духа» определяет
в конечном итоге развитие общества. Правда, Гегель не
высказывает это убеждение со всей определенностью, но это вытекает
из его панлогистской концепции философии как самосознания
«абсолютного духа» и в конечном счете самого Бога, именуемого
«абсолютной идеей».
Философия, учит Гегель, сначала постигает духовное, т.е. свое
собственное содержание как субстанцию. А это постижение
независимой от чего-либо внешнего свободной духовности означает,
что субстанция - не просто субстрат всего существующего, а его
деятельная сущность, т.е. субстанция-субъект. Дальнейшее
самопознание субстанции-субъекта есть логическое, вневременное
развертывание присущих ей определений, являющихся формами
всеобщности всего сущего. Таковы, по Гегелю, три
всемирно-исторические эпохи саморазвития философии, и это же основные
408
эпохи всемирной истории. История человечества превращается,
таким образом, в историю философии.
Идеалистическое понимание сущности философии
неизбежно влечет за собой искажение основных черт
историко-философского процесса. Истину конечного, т.е. природы и общества,
составляет, по Гегелю, их идеальность. Поэтому материальное,
каковы бы ни были его формы, есть лишь внешнее, отчужденное
бытие духовного, субстанциального. Отсюда заключение:
теория, признающая материальное субстанцией, несовместима с
философией, не является подлинно философской (45, 236)*. Чтобы
оправдать это противоречащее фактам положение, Гегель
интерпретирует некоторые материалистические учения, игнорировать
которые невозможно (ионийская философия греков, метафизика
Спинозы и т.д.), как в сущности идеалистические учения. А в тех
редких случаях, когда ему приходится упоминать о философском
материализме, он, не касаясь его конкретного содержания,
квалифицирует материализм как нефилософское, обыденное сознание.
Конфронтация идей, учений, прослеживаемая Гегелем в его
«Лекциях по истории философии», характеризуется главным
образом как расхождения внутри идеалистических направлений.
Эти расхождения предполагают единство отправных положений.
Разногласия между идеалистами, несомненно, существенны, но
еще более существенна общность между ними. Сведение
историко-философского процесса преимущественно к истории
идеализма помогает Гегелю в известной мере «выпрямить», частично
даже унифицировать этот процесс, несмотря на основательный
критический анализ отличия одних идеалистических учений от
других. В конечном итоге историко-философский процесс
приобретает у Гегеля монолинейный характер, лишаясь вследствие
этого присущего ему драматизма. Постоянная конфронтация
учений, течений, направлений - существенная определенность
развития философии; противоречия, которые нередко приобретают
«скандальный» характер, недооцениваются, затушевываются,
* Следует, впрочем, подчеркнуть, что вопреки этой основной установке
Гегель как бы мимоходом признает существование материализма как философии,
противостоящей идеализму. Утверждая, что «дух и природа, мышление и
бытие суть две бесконечные стороны идеи» (речь, конечно, идет об «абсолютной
идее». - Т.О.), Гегель приходит к выводу, что философия «поэтому распадается
на две основные формы разрешения этой противоположности, реалистическую
и идеалистическую философию, т.е. на философию, заставляющую возникнуть
объективность и содержание мысли из восприятий, и философию, исходящую
в своем искании истины из самостоятельности мышления» (43, 274).
Разумеется, что термин «реализм» обозначает в данном контексте материалистическую
философию.
409
иной раз даже низводятся до уровня видимости. «Как бы
философские системы ни были различны, их различия все же не так
велики, как различие, например, между белым и сладким, зеленым
и шероховатым; они совпадают друг с другом в том отношении,
что все они являются философскими учениями» (42, 398). Однако
констатация родового единства всех философских,
идеалистических, по Гегелю, учений есть точка зрения абстрактного
тождества. Между тем Гегель, как известно, отвергал абстрактное
тождество как одностороннее и в силу этого неистинное
определение. Положению: философия есть философия - должно быть
противопоставлено конкретное определение: существуют разные
философии. Есть философия и есть философия, т.е. существуют
кардинальные различия между философскими системами. А если
это так, то несостоятельно утверждение Гегеля: «сущность
философии всегда остается одной и той же» (42, 125). Диалектическое
понимание сущности, которое в данном случае изменяет Гегелю,
предполагает признание того, что сущность не есть нечто
неизменное.
Монолинейность гегелевской интерпретации
историко-философского процесса не есть следствие преувеличения, переоценки
его единства, открытие которого - выдающаяся заслуга Гегеля.
Суть дела в том, что само это единство понимается недостаточно
диалектически, что, в свою очередь, обусловлено
онтологическими предпосылками историко-философской теории Гегеля,
согласно которым все философские учения «необходимо являются
одной философией, находящейся в процессе развития,
раскрытием Бога, каковым он себя знает. Где одновременно выступают
несколько философских учений, то это - различные стороны,
составляющие единую целостность, которая лежит в их основании,
и вследствие их односторонности мы видим, что одна философия
опровергает другую» (43, 567).
Таким образом, поскольку философские учения
трактуются как категориальные определения абсолютного самосознания,
противоречия между ними отступают на задний план. Главным,
стало быть, оказывается их единство в «абсолютном духе».
Гегелевский панлогизм в качестве основы теории
историко-философского процесса приводит к исключению борьбы
противоположностей из философского развития. Противоречие снимается
единством, обычно толкуемым как тождество, в котором
различие сохраняется как второстепенный момент. «Главная ошибка
Гегеля, - пишет Маркс, - заключается в том, что он
противоречие явления понимает как единство в сущности, в идее, между
тем как указанное противоречие имеет, конечно, своей сущно-
410
стью нечто более глубокое, а именно - существенное
противоречие» (115, 1,324).
Гегелевское понимание отношения между единством и
противоречием помогает ему оттеснить все не укладывающееся в его
логико-историческую схему историко-философского процесса
куда-то на периферию. Отвергая абсолютное
противопоставление разных философских идей друг другу, противопоставление,
которому скептицизм придал главенствующий характер, Гегель
впадает в противоположное заблуждение, примиряя
действительно враждебно противостоящие друг другу учения как различные
определения абсолютного целого. Между тем даже противоречия
между разными идеалистическими системами нередко имеют
принципиальное значение, как это показывает, например,
сравнение рационалистического идеализма XVII в. с философским
иррационализмом.
Стремление Гегеля обосновать единство
историко-философского процесса сплошь и рядом оказывается затушевыванием его
реальных противоречий, как это, к примеру, очевидно в
гегелевском сопоставлении Аристотеля и Платона. Диалектика
историко-философского процесса фактически упрощается; в конечном
итоге этот чрезвычайно сложный процесс лишается присущих
ему диссонансов, напряженности, подчиняется телеологической
схеме, предуказывающей конечный пункт развития философии.
К. Маркс, критикуя гегелевскую философию права,
указывает, что у Гегеля «резкость действительных противоположностей,
их превращение в крайности считается чем-то вредным, чему
считают нужным по возможности помешать, между тем как это
превращение означает не что иное, как их самопознание и в
равной мере их пламенное стремление к решающей борьбе» (115, 1,
324). Применимость этого критического замечания и к
гегелевскому пониманию историко-философского процесса
представляется мне не нуждающейся в обосновании.
Итак, самые разные, даже несовместимые друг с другом
философские учения (а такие существуют и в рамках идеализма)
характеризуются в качестве различных сторон, ступеней
логического саморазвития «абсолютной идеи» или абсолютного знания.
Заблуждения философов, с этой точки зрения, состоят в том, что
они универсализируют, субстанциализируют ту сторону
абсолютного, которую они постигают. Снятие этой односторонней
концепции абсолютного есть выявление непреходящей истинности
принципа каждой философии, поскольку теперь уже он
принимается как ограниченный, подчиненный системе, синтезирующей
все принципы в единое органическое целое. Относительно этих
411
очищенных от односторонности учений Гегель безоговорочно
возглашает: «Каждая система философии существовала и
продолжает еще и теперь необходимо существовать: ни одна из них,
следовательно, не исчезла, а все они сохранились в философии
как моменты единого целого» (41, 98).
Гегель, собственно, и претендует на то, что он в своем
учении, именуемом абсолютным идеализмом, осуществил
диалектическое снятие всех предшествующих философских систем, т.е.
и отрицает их, и сохраняет в своей энциклопедической
философской системе. Возможность и необходимость такого тотального
синтеза всей предшествующей философии он видит в том, что
самопознание «абсолютного духа» не может остаться
незавершенным, неадекватным его божественной сущности. Стало быть,
необходима «последняя философия» и таковой, по убеждению
философа, является созданная им система, которая заключает в
себе, разумеется, в снятом виде «все особые принципы» (41,91).
Идея «последней философии», которая в наше время
представляется совершенно несообразной, в общем соответствовала
господствовавшим во времена Гегеля представлениям о
необходимом окончательном завершении не только философского, но
и всякого научного познания. И. Лэнгмюр, выдающийся химик
XX в., отмечает, что даже в конце предшествующего столетия
естествоиспытатели нисколько не сомневались в том, что «большая
часть наиболее важных законов физики и химии уже открыта и
теперь осталось лишь разобраться в деталях и применять эти
великие открытия в практических целях» (108, 101). Правда,
младогегельянцы, а затем Л. Фейербах решительно выступили против
гегелевской концепции «последней философии». Однако
младогегельянцы считали созданную ими «философию сознания»
именно последней философией. Аналогичным образом оценивал
Фейербах и свой антропологический материализм. Энгельс, как
творец диалектического материализма, видел в нем
окончательное завершение прогрессивного философского развития,
следовательно, последнюю в лучшем смысле этого слова, философию.
В наше время идея завершенного, окончательного знания
полностью дискредитирована, несмотря на высокую оценку
достигнутого в науке. В философии также покончено с любыми
претензиями на создание «последней философии», которые
мотивировались убеждением, что отныне философия покончила со
всяческими заблуждениями и обрела истину, достоверность
которой не может быть поколеблена. Но истина, если она не
является констатацией единичного факта, есть процесс, развивающееся
знание, которое предполагает и уточнение истины, преодоление
412
скрытого в ней заблуждения. И это относится к любому
действительному знанию - естественнонаучному, экономическому,
филологическому, философскому и т.п. Что же касается заблуждений, то
они не являются такой вещью, с которой, как и с сорняками, можно
покончить раз и навсегда. Неизбежность заблуждений проистекает
из противоречий перехода от незнания к знанию, от одного знания к
другому. Но любое заблуждение может быть преодолено. При этом
окажется, что заблуждение - не пустышка, оно нередко заключает
в себе намек на истину или даже частицу последней. Заблуждение,
если оно не сводится к нарушению правил логики,
содержательно; оно фиксирует факты, хотя и неправильно их истолковывает.
Противоположность между истиной и заблуждением не
абсолютна. Однако нельзя согласиться с Энгельсом, когда он утверждает:
«... то, что ныне признается истиной, имеет свою ошибочную
сторону, которая теперь скрыта, но со временем выступит наружу; и
совершенно так же то, что признано теперь заблуждением, имеет
истинную сторону, в силу которой оно прежде могло утверждаться
истиной» (115, 20, 303). Энгельс в данном случае фактически
умаляет противоположность между истиной и заблуждением.
Гегель стремился преодолеть плюрализм философских
учений, перманентную плюрализацию философских систем, дабы
доказать, что философские теории, несмотря на непрерывную
конфронтацию друг с другом и взаимное отрицание,
представляют собой необходимые звенья единого процесса,
поступательного развития познания. В этом Гегель был прав, вопреки своему
непримиримому отрицанию плюрализации философии. Он
убедительно опроверг скептицистскую интерпретацию историко-
философского процесса, согласно которой философия никогда не
постигает какой-либо истины, так как философы ни в чем не
согласны друг с другом. Это несогласие Гегель объяснял
диалектически, вскрывая противоречия между субъективными
философскими утверждениями и их объективным содержанием. Поэтому
отношение исторической преемственности имеет нередко место
и там, где оно подвергается радикальному отрицанию. Ведь
преемственность не исключает ни расхождения в убеждениях, ни
отрицания, которое также следует понимать диалектически, т.е. как
позитивное отрицание.
Развитие познания, в особенности философского, которое
характеризуется тем, что каждый предмет исследования рассматривается
в целом, а не по отдельным его частям, не в отдельных аспектах,
разновидностях, отношениях, далеко не является прямолинейно
восходящим процессом. Это вовсе не непосредственный переход
от незнания к знанию, от заблуждения к истине, от относительной
413
истины к абсолютной. Гегелевская концепция спиралевидного
поступательного развития философского познания включает в себя
отрицание и отрицание отрицания, возрождение в преобразованном
виде предшествующего знания, что, однако, не является попятным
движением, так как предполагает его обогащение новыми идеями,
переосмысление, объяснение, включение в новую систему*.
Конечно, и здесь гегелевский идеализм накладывает пагубную
печать на всё понимание развития философского знания.
Историческая преемственность истолковывается как
онтологически-логический процесс, как вневременная последовательность идей,
изначально наличествующая в «абсолютной идее». Эта
мистификация реальной логической связи, которая, однако, не определяет
переход от одной философской системы к другой, неизбежно
приводит к сугубо неправильным заключениям. «Последнее по
времени философское учение, - утверждает Гегель, - есть результат
всех предшествующих философских учений и должно поэтому
содержать в себе принципы всех их; поэтому оно, если только
является философским учением, есть самое развитое, самое богатое и
самое конкретное» (45, 99). Поэтому наряду с вневременным
иерархическим порядком философских идей Гегель не может не
признать и их возникновение во времени. Но можно ли в таком
случае утверждать, что каждая последующая философская система
представляет собой более развитое, более содержательное, более
конкретное учение? В своих «Лекциях по истории философии»
Гегель фактически опровергает это упрощенное воззрение.
Европейская средневековая философия, конечно, не рассматривается
им как вобравшая в себя все достижения античной и тем самым
поднявшаяся выше последней. Характеризуя философию Нового
времени, Гегель отнюдь не считал Д. Беркли и Д. Юма
представителями более высокой, чем учение Декарта, Лейбница, Спинозы,
ступени развития философии. Берклианство, говорит Гегель,
является «самой плохой формой идеализма, так как Беркли не идет
дальше утверждения, что все предметы суть наши представления»
(43, 479). Налицо, следовательно, противоречие между двумя
сторонами историко-философского учения Гегеля: между его концеп-
* То, что Гегель считал специфической характеристикой философского
развития, характеризует, по убеждению Л. де Бройля, и развитие естествознания.
«Прогресс науки нельзя сравнивать с круговым движением, которое нас все
время возвращает в одну и ту же точку; скорее он сравним с движением по спирали;
движение по спирали периодически приближает к некоторым уже пройденным
стадиям, но не следует забывать, что число витков спирали бесконечно и что
витки увеличиваются и поднимаются вверх» (21, 310). Следует, конечно, не
забывать, что это представление о развитии познания - сравнение, аналогия,
которые не могут заменить анализа сложного, многогранного процесса.
414
цией вневременного логически-онтологического «развертывания»
идей в лоне «абсолютной идеи» и его конкретным
исследованием исторического развития философии. Но это противоречие,
которое Гегель, по существу, игнорировал, нисколько не исключает
единства (разумеется, противоречивого) между двумя
направлениями его теории историко-философского процесса.
Спекулятивно-идеалистическая концепция преемственности
в истории философских учений влечет за собой телеологическое
понимание философского развития. Ведь оно, по Гегелю, есть
развертывание, осуществление того, что изначально
наличествует в лоне субстанциального мышления, именуемого также
понятием, которое отлично от человеческих, субъективных понятий,
несмотря на свое изначально-внутреннее единство с ними.
Начало, полагал Гегель, должно быть понято также как результат.
Поэтому-то каждое достижение философии интерпретируется
Гегелем как обогащенное новым содержанием возвращение к
изначальному. Не удивительно, стало быть, что Гегель
приписывает даже первым греческим философам основоположение своей
философии: они-де исходили «из бессознательной
предпосылки, что мышление есть также бытие» (43, 152). Таким образом,
диалектическая концепция поступательного развития философии
истолковывается чуть ли не провиденциально. Это и приводило
Гегеля к утверждению, которое систематически развивается в его
«Философии религии»: философия и религия, в сущности,
тождественны. При этом все же имеется в виду диалектическое
тождество, которому внутренне присуще различие.
Для того чтобы выделить, позитивно оценить и развить
гениальное ядро гегелевской теории историко-философского
процесса, необходимо было прежде всего отвергнуть панлогизм. Маркс
и Энгельс отвергли идеализм Гегеля, но они обращались к
истории философии лишь от случая к случаю. Что же касается пос-
легегелевских (и современных) концепций истории философии,
то они характеризуются непониманием или отрицанием
историко-философского наследия Гегеля.
В. Дильтей, о котором уже шла речь выше, считал себя в ряде
отношений продолжателем Гегеля, но в действительности он
противопоставил гегелевскому учению о закономерном развитии
философии положение об анархии философских систем*. Гегелев-
* В работе «Типы мировоззрения и их превращение (Ausbildung) в
метафизические системы» Дильтей утверждал: «Среди оснований, которые вновь и
вновь дают пищу скептицизму, наиболее значительным является анархия
философских систем. Между историческим сознанием безграничного их
многообразия и претензией каждой из них на всеобщую значимость существует противо-
415
ское положение о сущностном тождестве каждой философии с
исторически определенной эпохой было истолковано в духе
абсолютного релятивизма: различным эпохам соответствуют
различные мироощущения, переживания жизненной ситуации. Это-
то и образует важнейшее содержание философии каждой данной
эпохи. Вопрос о познании, осуществляющемся философией, был
подменен вопросом о том, как она становится духовным
выражением той или иной исторической эпохи. Так сложилась ирра-
ционалистическая концепция «философии философии», согласно
которой философское осознание исторической эпохи, сущность
которой иррациональна, также носит иррациональный характер.
Однако при этом Дильтей все же утверждал, что исторически
различные философские учения, как бы они ни отличались друг от
друга, стремятся постигнуть одно и то же, нечто пребывающее
неизменным в потоке исторических трансформаций: смысл
жизни, человеческой жизни прежде всего, загадку бытия. Но каждое
философское учение в силу присущей ему исторической,
эпохальной определенности и тем самым ограниченности отвергает все
другие философские ответы на эти судьбоносные вопросы.
Поэтому единство всех философий как имеющих «перед собой один
и тот же мир, действительность, которая являет себя в сознании»
(216, 207), нисколько не упраздняет анархии философских
систем. Больше того: это, в сущности, мнимое единство, собственно,
и является основой этой анархии.
Один из приверженцев Дильтея Ф. Крёнер, обосновывая сей
тезис, писал: «Подлинный скандал философии состоит только и
единственно в анархии философских систем, в том, что
множество философских воззрений и их ожесточенная взаимная борьба
составляют две стороны единого целого» (254, 1). Однако
объяснение множества философских систем их борьбой друг против
друга, так же как объяснение борьбы между философскими
системами существованием множества таковых, ни в малейшей
степени не раскрывает сущности историко-философского
процесса. «Необходимый плюрализм философских систем»
вытекает, по мнению Крёнера, «из сущности любой возможной
системы» (254, 73). Крёнеру, очевидно, недоступно понимание того,
что плюрализм философских учений составляет идейное
богатство философии, что перманентная плюрализация философских
речие, которое гораздо сильнее, чем любой ход доказательства, поддерживает
скептицизм. Многообразие философских систем безгранично, хаотически
существует перед нами и вокруг нас. В каждую эпоху (Zeit), со времени их
возникновения, они исключают друг друга и борются между собой. И нет надежды, что
какое бы то ни было согласие между ними будет возможным» (217, 81).
416
учений представляет собой непрерывное обогащение этого
идейного богатства. Представление об анархии философских систем
блокирует путь к пониманию исторической преемственности в
развитии философии и, в сущности, отрицает факт философского
развития, не говоря уже о прогрессе в философии, который вовсе
не сводится к созданию единственно истинной философии,
прекращающей дальнейшее развитие философского познания.
Показательно, что Крёнер пытается возвыситься над мнимой
анархией философских систем путем создания «системологии»,
т.е. инвентаризации философских учений, разделения их на
классы и виды. Но такая формальная классификация философских
учений не имеет ничего общего с теорией
историко-философского процесса, метафилософией, которая теоретически
подытоживает достижения философии на данной ступени общественного
развития.
Г. Шмитц, немецкий философ иррационалистического толка,
положительно характеризует плюрализм философских учений,
считает его аутентичным выражением безграничного
богатства интеллектуальной памяти человечества. Это представление
о всечеловеческой интеллектуальной памяти мистифицируется
Шмитцем в духе платоновского мифа о познании как
воспоминании: человеческая душа, заключенная в темнице тела, мысленно
обращается к трансцендентному миру идей, где она пребывала
до своего падения, т.е. вселения в человеческое тело. А так как
разные души в разной степени были причастны к миру Истины,
Красоты и Добра, то и их память в неравной мере запечатлела
абсолютное. Отсюда и множество противоречащих друг другу
«воспоминаний» о трансцендентном, множество, которое
неустранимо вследствие посюстороннего человеческого
существования, его фатальной отчужденности от подлинной реальности.
Задача историка философии заключается в том, чтобы «раскрыть
во множественности систем неизбежную судьбу философской
памяти, которая возвышается до методической рациональности»
(296, 66), т.е. пытается осмыслить, связать друг с другом,
объединить в единое целое разрозненные, искаженные чувственным
восприятием посюстороннего мира фрагменты воспоминаний о
прошлом. Именно поэтому равно оправданно существование всех
философских систем, поскольку они представляют собой
воспоминания о трансцендентном. Нет и не может быть, с точки зрения
Г. Шмитца, критериев для сравнительной оценки познавательной
ценности философских учений, так как истина, которую пытается
постигнуть, точнее говоря, «вспомнить» философия, не от мира
сего. Единственное требование, которому не может не следовать
14. Ойзерман Т.И., том 5 417
философия, сводится к признанию необходимости
рационального воспроизведения воспоминаний о потустороннем. И если этот
императив «рациональности» принят, то любое философское
построение так же оправданно, как и научное познание
посюсторонней действительности. Однако вопреки этому категорическому
заявлению, не имеющему ничего общего с концепцией познания-
воспоминания, Г. Шмитц вопрошает: «Ведет ли проникновение
в неизбежную множественность систем к разочаровывающему
выводу о том, что философские системы не имеют обязательной
познавательной ценности и права на сверхиндивидуальную
значимость, но являются лишь партикулярными понятийными
вымыслами, имеющими отношение лишь к их автору и к тем, кто
случайно с ним единодушен?» (296, 67). Нетрудно догадаться
как отвечает Шмитц на этот явно упрощенно сформулированный
вопрос. «Система, которая формируется серьезной философской
памятью, не может не быть одушевлена таким же трезвым
стремлением к познанию, как и любое научное исследование» (296, 91).
Это утверждение никак не может быть согласовано с
представлением о философском познании как воспоминании о
трансцендентном. Несмотря на свое вполне правомерное стремление придать
«серьезной» философии научный статус, Шмитц, возможно не
ведая того, абсолютно противопоставляет друг другу философию
и научное исследование.
Плюралистическое понимание историко-философского
процесса далеко не всегда адекватно выражает специфические
особенности развития философии. Так, с точки зрения французской
школы «философии истории философии» (М. Геру, А. Гуйе и др.)
существуют лишь «философские шедевры» и каждый из них,
подобно произведению Рафаэля или другого великого художника,
представляет собой нечто абсолютно законченное, совершенное,
исключающее дальнейшую разработку, предполагающую
критическое рассмотрение его содержания, возможность пересмотра,
отрицания или переработки тех или иных его положений. Более
правильное понимание плюрализма философских систем
обнаруживается в феноменологии Э. Гуссерля. Философов, утверждает
Гуссерль, к какой бы эпохе они ни относились и как бы ни
различались их убеждения, объединяет друг с другом то, что все они
существуют в мире философов. Философ, пишет Гуссерль,
прежде всего «мотивирован миром философов, влияющих на него;
философ обусловлен мыслями этого мира вплоть до
отдаленнейшего прошлого. Именно этот мир, который объемлет философию
со времени ее зарождения и объединяет философские поколения,
есть для него, философа, живая современность. В этом кругу он
418
обретает соратников, партнеров: он имеет дело с Аристотелем,
Платоном, Декартом, Кантом и другими» (241, 489). С этим
положением, отвергающим философский изоляционизм, нельзя не
согласиться, оговорив лишь то, что каждый философ
представляет свою историческую эпоху и с этих позиций определяет свое
отношение и к ближайшим и к самым отдаленным
предшественникам*.
Все философы, о которых знает творец новой философской
системы, являются, с точки зрения Гуссерля, его
современниками. Философская современность, заявляет Гуссерль, «объединяет
все философские сосуществования, всю философскую историю»
(241, 489). Существующими философскими системами Гуссерль
считает учения о самых разных, иной раз весьма отдаленных друг
от друга исторических эпохах, поскольку они трактуются с
позиций последующей эпохи. Это единственное, безусловно
необходимое, согласно Гуссерлю, ограничение, так как в
интеллектуальном поле видения, например, Декарта, естественно, не могло
быть Канта, в то время как для последнего уже существовал
Декарт, и притом (таково убеждение Гуссерля) в качестве его
духовного современника.
Идея духовной современности философов разных
исторических эпох весьма привлекательна, она подкрепляется
постоянным возрождением философии Платона, Аристотеля, Фомы
Аквинского, Канта, Гегеля и других великих философов. Но эта
идея может быть легко искажена и даже извращена, о чем
свидетельствуют отнюдь не немногочисленные факты. Так,
согласно неотомизму Фома Аквинат - наш духовный современник,
указывающий единственно верный путь к «вечной философии»,
т.е. упразднению необходимости или оправданности
возникновения новых философских учений. Для обоснования этого тезиса
современные томисты разрабатывают своеобразную концепцию
предмета философии. Философия де занимается исследованием
основного, неизменного во все исторические эпохи,
одинакового у всех народов обыденного опыта, складывающегося
независимо от познавательных усилий, т.е. просто потому, что каждый
* Мысль о «вневременном» единстве всех выдающихся философских
учений находит свое подтверждение и в литературоведческих исследованиях
М.М. Бахтина, который указывает: «Все, что принадлежит только настоящему,
умирает вместе с ним» (12, 504). И, развивая это положение, Бахтин говорит о
великих произведениях художественной литературы: «В процессе своей
посмертной жизни они обогащаются новыми значениями, новыми смыслами, эти
произведения как бы перерастают то, чем они были в эпоху своего создания»
(там же). Совершенно очевидно, что эти выводы самым непосредственным
образом относятся и к великим философским учениям.
14*
419
человек рождается, воспринимает окружающий мир,
испытывает жажду и голод, радости и огорчения, общается с другими
людьми, к чему-то стремится, что-то терпит, болеет и, наконец,
умирает. Все то, что история человечества привносит в этот
изначальный и якобы внеисторический обыденный опыт, трактуется
неотомизмом как привнесенное извне, второстепенное, уводящее
философию с ее генерального пути, указываемого сущностной
неизменностью человеческой природы и субстанциальной
неизменностью бытия. Поэтому и специальный, научный опыт,
значение которого для познания чувственно воспринимаемого мира
нисколько не оспаривается неотомистами, в принципе
считается малозначимым для философии, так как он не может
прибавить чего-либо существенного к основному ядру повседневного
опыта, одинакового у грамотных и неграмотных, образованных
и необразованных. И философия, поскольку она покидает
сферу обыденного опыта (адекватным выражением которого
является здравый человеческий рассудок) и пытается найти свое
основание в специальном, научном опыте, обречена на фатальное
заблуждение. Фома Аквинский, говорят его современные
последователи, естественно не мог знать открытий естествознания
Нового времени, но это-де не помешало ему разработать систему
философских истин, с которыми согласуются... выводы
современных наук о природе. Даже естественнонаучные заблуждения
ангельского доктора не помешали, с этой точки зрения, его
философским прозрениям, поскольку их основой служила адекватная
интерпретация повседневного опыта, постижение его глубинного
содержания, которое позволяет постигнуть онтологические
определения всего сущего*.
Может показаться, что неотомистская концепция предмета
философии (и соответственно концепция
историко-философского процесса) не заслуживает внимания вследствие своей сугубой
устарелости. Однако эта несомненно архаическая концепция в
сущности разделяется и многими далекими от неотомизма
философами. Гуссерль, по учению которого отправным пунктом
философского (феноменологического) видения мира должна быть
трансцендентальная редукция, т.е. заключение в скобки
внешнего мира и связанных с ним эмпирических представлений, а
также всего научного знания, проповедует по существу дела весьма
* Неотомизм, следовательно, утверждает, что философия независима от
наук о природе и обществе. Ж. Тукельдек пишет: «Научные понятия,
выработанные в разные эпохи, изменяются, носят преходящий характер. Но учение,
которое устанавливает, например, строение телесного бытия как бытия в себе,
при любых обстоятельствах носит абсолютный характер» (300", 80).
420
родственную неотомизму идею возвращения к первоначальному,
внеисторическому сознанию, которое хотя и не является
опытным, заключает в себе, так сказать, в свернутом виде основные
характеристики феноменов, образующих идеальное бытие.
Экзистенциализм, органически связанный с
феноменологией Гуссерля, противопоставляет «чистое» человеческое
существование (экзистенцию) конкретному, определенному
человеческому бытию, лишенному признаков изначальности, отстаивая
в связи с этим все ту же идею неизменной человеческой самости.
Удивительно ли, что, с точки зрения Ясперса, философия всегда
была экзистенциальной, причем ни о каком прогрессе в истории
философии не может быть речи. Единственно, что имеет место
(и в чем ошибочно видят философский прогресс), - появление
новых философских индивидуальностей, которые в принципе
несравнимы друг с другом в плане развития познания, так как
философия есть не знание, а особого рода вера.
По Хайдеггеру, историко-философский процесс есть
неизбежно нисходящее движение, от высшего к низшему. Его высшую
ступень образует древнегреческая философия. Однако, начиная
уже с Сократа, философия представляет собой более или менее
знаменательные вехи на путях этого всемирно-исторического
регресса*. Таким образом, если в далеком прошлом, еще до
появления гегелевской философии, обычно утверждали, что
существует история философии, но развитие в философии не имеет
места, то в западноевропейской философии XX века превалирует
убеждение, что философия, строго говоря, не знает не только
развития, но и истории, так как все философы прошлого являются
* Философия, согласно Хайдеггеру, является в наше время отмирающим
сознанием, ибо она «является по своей сущности греческой» и, следовательно,
прошлым, которое невозможно возродить (181, 13). Философия, с этой точки
зрения, укоренена в языке древних греков, сущность которого постигалась ими
как логос. Размышляя о греческом языке, мы приближаемся к аутентичному
пониманию философии и ее подлинного предмета. «Однако мы не в состоянии ни
вернуться когда-либо к этой сущности языка, ни просто постигнуть ее» (181,
44). Итак, мы должны примириться с вытеснением философии
нефилософским мышлением, непрерывно удаляющимся от бытия сущего. Такова судьба
цивилизации Нового времени, неизбежно влекущая ее к тотальной катастрофе.
В данном случае Хайдеггер не оригинален: он лишь по-своему формулирует
довольно распространенное на Западе воззрение. Его, в частности, высказывает и
итальянский философ М. Шакка, утверждающий, что философия оказалась
неспособной оказать существенное влияние на общество. «В то время как
современная философия упорствовала в своих изощренных исследованиях о субъекте
и объекте, имманентности и трансцендентности, конкретном и абстрактном,
человечество готовило - как если бы философской мысли вовсе не существовало -
все пути, которые должны привести его к катастрофе» (292, 66).
421
духовными современниками каждой последующей эпохи. Так,
М.Ф. Алкье в дискуссии, организованной французским
философским обществом на тему «Куда идет философия в своей
истории?», безапелляционно провозгласил: «Слово "история" и слово
"философия" абсолютно антитетичны. Я полагаю, что нет
истории философии, но есть философия» (201,4). Это парадоксальное
высказывание не встретило сколько-нибудь серьезных
возражений. И. Белаваль, пытавшийся уточнить смысл понятия «история
философии», определил последнюю как «ансамбль сочинений
(écrits), озаглавленных «история философии» (201, 5). Правда, он
все же признал: «Кажется, что история философии должна
прежде всего быть историей, т.е рассказом, у которого есть начало,
середина и конец» (201, 16). Эта неуверенная формулировка, по-
видимому, вызвана стремлением избежать догматизма. В том же
духе рассуждал и профессор из Страсбурга М. Браун, автор
монографии «История истории философии», который утверждал, что
«история философии - это не ансамбль всех философских
текстов; это - другой текст, новый текст, который воспроизводит все
эти тексты. И этот новый текст конституируется с помощью
категорий, среди которых "периодизация" занимает важное место»
(202, 20). С этой точкой зрения можно было бы согласиться, если
бы она была выражена более определенно.
Когда задумываешься по поводу этого настойчивого, явно
концептуального противопоставления философии истории, то
единственно возможным его объяснением (учитывая указанные
выше факты) может быть лишь то, что современная европейская
(именуемая обычно континентальной, что исключает Англию)
философия вступает в борьбу против признания развития
философии, истолковывая понятие развития как телеологическое,
ангажированное и т.п. И действительно, если философия не
только разнообразится в пространственно-временном континиуме, а
развивается, то следует признать определенные направления
развития, характеризующие состояние философии в ту или другую
эпоху. Следует также путем сравнительной оценки философских
учений выделять содержащиеся в них истинные (или по меньшей
мере ценные) идеи, прозрения, плодотворные постановки
проблем, обновление философской тематики и т.д., подвергая вместе
с тем критике идеи, концепции, системы, которые не выдержали
испытания временем. То, что такие ложные идеи могут быть
выявлены, что их ложность может быть доказана, не подлежит
сомнению. Достаточно, к примеру, указать на такое содержательное,
но вместе с тем ложное положение о существовании врожденных
идей. Не менее ложным является основоположение сенсуализма,
422
согласно которому все теоретические высказывания могут быть
сведены к чувственным данным, из которых они якобы
почерпнуты. Несомненным заблуждением является и фундаментальный
тезис рационализма, согласно которому чистый разум, т.е.
свободный от «давления» чувственных восприятий, переживаний и
т.п., никогда не ошибается.
Такого рода философский анализ с необходимостью
предполагает прослеживание прогресса в развитии философских знаний,
суммирование действительных завоеваний философии и
соответственно негативную оценку тех учений, которые отвергают
достижения философии, оправдывая эту негативную позицию
субъективистскими аргументами. Короче говоря, позитивная оценка
историко-философского процесса, основы которой были
заложены уже Гегелем, приближает философию к методам исследования,
присущим наукам о природе и обществе. Поэтому философская
концепция, обосновывающая тезис, что в истории философии нет
прошлого, которое не было бы настоящим, нет учений или
положений, оставшихся неопровергнутыми, нет знаний, поскольку
нет общего согласия по этому вопросу, нет истинных положений,
так как не существует способов проверки истинности
философских утверждений, должна быть решительно отвергнута.
Нельзя согласиться с убеждением, что существуют просто
разные философии, к оценке которых неприменимы понятия
истины и заблуждения, знания и незнания. К такого рода воззрениям
склонялся один из основоположников философского прагматизма
У. Джеймс: «История философии является в значительной мере
историей своеобразного столкновения человеческих
темпераментов» (67, И). И многие историки философии нашего времени не
двинулись дальше этой высказанной в начале XX в. концепции.
Некоторые из них сделали из нее все возможные нигилистические
выводы. Так, Г. Маккарти, американский философ
позитивистского толка, полагает, что «любые философские высказывания,
утверждают ли они что-либо вразумительное или даже
совершенно невразумительное, в равной степени возможны» (259, 126).
С этим положением, если судить о нем безотносительно к той
историко-философской концепции, которую оно выражает, нельзя
не согласиться, так как самим фактом своего существования оно
подтверждает, что в философии действительно возможны
весьма невразумительные высказывания. Но суть дела, конечно, не в
этих невразумительных высказываниях, которые высмеивал еще
Декарт, а в реальной истории философии, в фактическом
развитии философского познания, достижениях философии, ее
постоянно возникающих новых проблемах.
423
Многие философы (и историки философии) отрицают
возможность (и необходимость) теоретического осмысления и
обобщения историко-философского процесса. Поэтому они
отказываются разграничивать в философских учениях преходящее
и непреходящее, истинное и ложное, прогрессивное и
реакционное. Характерно в этом смысле заявление голландского философа
В. ван Доорена: «Первый, подлежащий осмыслению вопрос есть
вопрос о том, можно ли говорить о мертвой философии или же о
живой философии. Не является ли несомненным, что жить - это
нечто совсем иное, чем философствовать, и что нельзя
пользоваться категориями жизни для описания философии? С таким же
основанием можно было бы говорить о желтой или квадратной
философии» (218, 529).
Мы видим, таким образом, что признание или отрицание
развития философии представляет собой коренной
мировоззренческий вопрос. Признание истории философии без признания
развития философии обесценивает последнюю. Понятно поэтому то
ожесточение, с которым приверженцы субъективистской
интерпретации философии нападают на историзм гегелевской теории
историко-философского процесса. Так, представители весьма
влиятельной во Франции, Германии и Италии «философии
истории философии» утверждают, что гегелевский историзм сводит
на нет самодостаточность, самоценность великих философских
систем, связывая их с определенными социальными эпохами и
тем самым лишая их надысторического смысла и значения. По
утверждению лидера этой школы М. Геру философская система
как определенное логическое единство теоретических положений
«по сути дела не имеет начала во времени. Но как только она
появляется в рамках времени, она демонстрирует присущую ей по
природе вневременность. Таким образом, всякая философия есть
вечная идея и понятно поэтому, что она неуязвима для истории»
(273, 200).
Гегель пытался теоретически обосновать единство разных
философских систем, характеризуя каждую из них как ступень
в логическом (и историческом) развитии философии на пути
ее превращения в науку sui generis. Ф. Бруннер, последователь
М. Геру, некритически пересказывающий его воззрения,
третирует гегелевскую прогрессивную попытку как «деспотическое
решение проблемы плюрализма философии» (273, 193),
аннигиляцию автономии философии и в конечном итоге искаженное
понимание ее природы. Каждая философская система -
интеллектуальный монумент, не подверженный разрушающему воздействию
исторического времени. И Бруннер, приравнивающий философ-
424
ские системы к выдающимся произведениям искусства,
значение которых он видит в том, что они отрицают неэстетическую
действительность, создавая возвышающийся над ней идеальный
мир, провозглашает: «Каждая философия учреждает свою
собственную реальность и выступает как платоновская идея, которая
есть не копия реальности, а конституирующий ее принцип» (223,
200). С этих субъективистских позиций Бруннер третирует
гегелевские «Лекции по истории философии» как дискредитацию
действительной истории философии, которая-де несовместима с
прогрессом, ибо в ней якобы нет ни более истинного, ни более
высокого, так же как нет и неистинного или низшего. По Брунне-
ру, историк философии обязан отвергнуть «фикцию прогресса»
и таким путем возвысить все философские учения, не отдавая ни
одному из них предпочтения и решительно отрицая малейшее
допущение о превосходстве одного учения над другим. Он заявляет,
что «история философии (имеется в виду философская
дисциплина. - Т.О.) возвышает философию до Идей, которые образуют
интеллигибельный мир, единственно истинный мир» (223, 200).
Нет необходимости входить в более обстоятельное обсуждение
этой воинствующе идеалистической теории
историко-философского процесса, которая преподносится как высшее достижение
историко-философской науки. Однако нигилистическое
отрицание гегелевского учения о поступательном развитии философии,
подменяющее трезвое, критическое отношение к этому учению,
дискредитирует эту «философию истории философии» как
попятное движение, усугубляющее идеалистические заблуждения.
2. Объективная обусловленность развития философии
Выдающееся философское учение, независимо от того к
какому направлению относят его исследователи, прежде всего, как
свидетельствуют факты, связывается с именем его создателя.
Было бы нелепо отрицать выдающуюся роль творцов
философских систем в развитии философской (и не только философской)
культуры. Но если ограничиться одной лишь констатацией этого
факта, т.е. принять его за нечто само собой разумеющееся, не
требующее объяснения, если превратить эту эмпирическую
констатацию в методологический принцип исследования истории
философии, то мы незаметно окажемся во власти субъективистской
концепции, согласно которой выдающийся философ не
ближайшая, а конечная причина созданной им системы философии. Но в
таком случае эта система утрачивает свое объективное
социальное, нередко даже эпохальное содержание и значение.
425
Представим себе, что нас спрашивают: почему именно в данной
стране, в данное время появилось данное философское учение?
Потому, отвечаем мы, что в данной стране родился творец этого
философского учения. Ответ простой, но цена ему грош. Д. Юм как философ
мог родиться лишь в Англии начала XVIII в., но зарождение
философских идей, развитие которых привело к тому, что впоследствии
стало называться юмизмом, началось еще до выступления Юма.
Платон и Аристотель, которые первыми стали заниматься
историей философии, не создавали теоретической концепции
историко-философского процесса. Они просто излагали и
подвергали критике воззрения своих предшественников как заблуждения
философов на пути к истине или в стороне от нее. Ни тот, ни
другой не связывали рассматриваемые ими философские теории
с определенными историческими условиями; свои собственные
учения они также считали лишь результатом личных
интеллектуальных усилий. Указывая, что некоторые из их предшественников
по-иному ставили те или иные философские вопросы, Платон и
Аристотель видели в этом лишь их индивидуальные особенности.
Правда, Платон своим учением об избранных душах, изначально
приобщенных к абсолютному, составляющему подлинный
предмет философии, положил начало мистическому истолкованию
философского гения. Однако лишь в Новое время эта
концепция божественной одаренности выдающихся философов (как и
художников) стала истолковываться субъективистски, т.е. в духе
сведения философии к чисто индивидуальному видению сущего.
Следует, впрочем, отметить, что основоположники философии
Нового времени были чужды субъективистскому истолкованию
философского творчества. Ф. Бэкон говорил о своем «Новом
органоне»: «Считаю этот труд скорее порождением времени, чем
ума» (25, 73). Тот же смысл имеет и другое его заявление:
«Правильно называть истину дочерью времени» (25, 151).
Революционная эпоха становления капиталистического строя
вызвала у наиболее передовых представителей буржуазии
сознание исторической необходимости их идейных устремлений.
В ходе последующего развития буржуазного общества это
убеждение было утрачено большинством его идеологов.
Теоретики романтизма (одни из которых защищали
феодальную старину, а другие были мелкобуржуазными критиками
капитализма) создали теорию «героев и толпы», которая стала их
философским кредо. Шеллинг в Германии, Карлейль в Англии придали
этой теории историко-философский и философско-исторический
смысл. Гегель в «Лекциях по эстетике» подверг саркастической
критике романтическую концепцию искусства как проявления
426
«божественной гениальности», которой все и вся представляется
лишь «бессущностной тварью». Осуждая эстетический
аристократизм и попытки его применения к истории философии, Гегель
писал: «Кто стоит на этой точке зрения божественной гениальности,
тот смотрит с презрением сверху вниз на всех других людей,
которые объявляются им ограниченными и плоскими...». При этом
Гегель подчеркивал, что кичливый субъективизм романтиков
нисколько не возвышается над повседневностью, которую они
беспощадно третируют. «Если Я остается на этой точке зрения, то все
ему кажется ничтожным и праздным, - все, кроме собственной
субъективности, которая вследствие этого сама становится пустой
и ничтожно тщеславной» (45, 70)*. Это не значит, конечно, что
Гегель не придавал значения роли личности в развитии философии.
Если для романтиков «божественная гениальность»
представлялась явлением асоциальным, то Гегель видел в ней
индивидуализированное выражение «народного духа» - конкретно-исторической
формы существования «абсолютного духа», т.е. идеалистически
понимаемого человечества в полном объеме его возможного
исторического развития. Гегель, следовательно, не только не принижал
роли выдающихся философов (и исторических деятелей вообще),
но, напротив, возвышал их, пытаясь вскрыть «абсолютный»
источник их величия. Поэтому он называл их «доверенными лицами
всемирного духа», подчеркивая, что «именно великие люди и
являлись теми, которые всего лучше понимали суть дела и от
которых затем все усваивали себе их понимание и одобряли его или по
крайней мере примирялись с ним» (45, 30).
Гегель был весьма далек от недооценки человеческой
субъективности, наглядно проявляющейся в деятельности великих
людей; он исходил из признания диалектического единства
субъективного и объективного, осуждая лишь отрывающуюся от
действительности субъективность, высокомерие субъективности, не
сознающей, что мера ее богатства - проникновение в
объективную действительность, обогащающее субъективность. В этом
смысле он утверждал, что богатейшее есть самое конкретное и
субъективное. Разумеется, такого рода концепция субъективности
не имеет ничего общего с субъективистским, антиисторическим
истолкованием философского (да и всякого другого) гения.
Романтическое презрение к конечному Гегель осмеивает в своей
«Логике»: «Кому конечное слишком претит, тот не достигает никакой
действительности, а остается в области абстрактного и бесследно истлевает внутри себя» (45,
231). Если учесть тот факт, что критика «конечного» занимает немалое место в
системе Гегеля, это его высказывание, как и некоторые другие, - свидетельство
амбивалентности его философского учения.
427
С точки зрения Гегеля, великий человек тем-то и велик, что
его личные цели совпадают с исторической необходимостью,
которая им осознается в то время, когда другие люди не осознают
ее или же борются против нее. «Таковы великие люди в истории,
личные частные цели которых содержат в себе тот
субстанциальный элемент, который составляет волю мирового духа. Их
следует называть героями, поскольку они черпали свои цели и свое
призвание не просто из спокойного, упорядоченного,
освященного существующей системою хода вещей, а из источника,
содержание которого было скрыто и не доразвилось до наличного
бытия, из внутреннего духа, который еще находится под землей
и стучится во внешний мир, как в скорлупу, разбивая ее, так как
этот дух является иным ядром, а не ядром, заключенным в этой
оболочке. Поэтому кажется, что герои творят сами из себя и что
их действия создали такое состояние и такие отношения в мире,
которые являются лишь их делом и их созданием» (45, 29).
На мой взгляд, такое понимание роли великих исторических
деятелей, применявшееся Гегелем, в отличие от романтиков, ко
всем сферам человеческой деятельности, не только превосходит
романтическую концепцию своей реалистической тенденцией,
но и указывает путь конкретно-исторического исследования
действительного содержания общественного развития, которое
находит свое персонифицированное выражение в деятельности
выдающейся личности. Что же касается романтической концепции
гения, то ее постоянную предпосылку составляет непонимание
содержательности и значительности общественной жизни,
которая представлялась романтикам серой, унылой прозой
повседневного, монотонного существования.
Можно, конечно, понять и в известной мере оправдать
мелкобуржуазно-романтический протест против «нашествия»
капитализма, однако это нисколько не оправдывает теоретической концепции
романтиков, неотъемлемыми элементами которой были
идеализация патриархального уклада, отрицание социального прогресса,
обусловленного капитализмом, беспомощные попытки уйти от
противоречий, присущих этому прогрессу, в сферу отвернувшейся от
реальной действительности «возвышенной» субъективности.
В противоположность Гегелю романтическую концепцию
гения пытался развить А. Шопенгауэр, во многом предвосхитивший
современный иррационалистический идеализм. Он, правда, не
говорит о «божественной гениальности» и пытается объяснить
явление гениальности натуралистически (физиологически). Однако
в главном, т.е. в вопросе об отношении гения к социальным
условиям, Шопенгауэр доводит до логического конца романтическую
428
концепцию отчуждения. Он пишет: «чтобы иметь оригинальные,
необыкновенные, пожалуй, даже бессмертные мысли,
достаточно на некоторые мгновения в такой мере стать чуждым миру и
вещам, чтобы самые будничные предметы и события казались
совершенно новыми и неизвестными, потому что таким-то образом
и раскрывается их истинная сущность» (187, 45). Гений, согласно
Шопенгауэру, тем-то и отличается от обычных людей, что он в
течение большей части своей сознательной творческой жизни
переживает «отчуждение в несродном и не подходящем ему мире»
(187, 48), вследствие чего все люди представляются ему
мелкими, жалкими, невыносимыми. Величие гения относительно, так
как оно измеряется ничтожеством окружающих его людей.
Поэтому гений не может не быть высокомерным; скромность - удел
посредственных людей. Гений непонятен своим современникам,
так как дело его принадлежит будущему. Ясно, что Шопенгауэр,
говоря о противоположности гения посредственным людям,
будничным интересам, отождествляет общественную жизнь с
обывательским существованием и, осуждая филистерство, по существу
филистерски истолковывает общественную жизнь.
Физиологическая интерпретация гениальности (кстати, весьма
наивная) сводится к утверждению, что гений - физиологическая
аномалия. У обычных людей интеллект служит воле, практически
ориентированным, безличным устремлениям. Гений же -
«интеллект, изменивший своему назначению» (187, 16), т.е. в
значительной мере освободившийся от воли. Познавательная мощь гения,
согласно концепции Шопенгауэра, независима от накопленного
человечеством опыта, знаний. «Ученый - это тот, кто много учился,
гений - тот, от кого человечество научается тому, чему он ни у кого
не учился» (187, 45).
В этих высказываниях Шопенгауэра - целая программа
субъективистского, иррационалистического истолкования искусства,
философии, истории. Эта программа была по-разному
реализована Ницше, Бергсоном, экзистенциалистами и некоторыми
другими философами*.
* Следует, впрочем, отметить, что логические позитивисты, подвергающие
критике иррационалистическую философию, по-своему применяют концепцию
Шопенгауэра, т.е. соглашаются с его основным тезисом о сугубо
индивидуальном характере творческой, в особенности философской деятельности, делая
вывод, что великие философские учения, которые они именуют метафизикой,
лишены какого-либо познавательного значения, так как они не могут быть
верифицируемы. Так, Л. Ружье, французский неопозитивист, пишет: «Мы можем
признать за великими философскими системами лишь сентиментальную и
субъективную ценность. Как признал это Шопенгауэр, они перед лицом универсума
суть лишь выражения темперамента» (289, 247).
429
Гегель несмотря на панлогизм, согласно которому история
философии (и вся история вообще) есть логическое саморазвитие
субстанциального понятия, правильно указывал на объективную
обусловленность философских учений. Это положение
обосновывается им не только в «Лекциях по истории философии», но и в
других сочинениях. Так, в «Философии права» Гегель
подчеркивает, что каждый человек «сын своего времени', и философия есть
также время, постигнутое в мысли» (47, 55). Это понимание
философии как самосознания исторической эпохи конкретизируется
Гегелем при анализе отдельных философских направлений. Так,
в своей характеристике стоицизма, эпикуреизма и скептицизма в
Древнем Риме он отмечает, что эти учения при всем их отличии
друг от друга выражают одну и ту же тенденцию - стремление
«сделать дух в себе безразличным ко всему, представляющемуся
в действительности» (47, 300). Но откуда возникает это
стремление? Коренится ли оно в саморазвитии понятия философии или
же в изменении социальной структуры общества? Гегель
вопреки своему панлогизму склоняется к последнему, приемлемому не
только идеалистами выводу: он указывает на разложение
Римской империи, сравнивая его с разложением живого тела.
«Государственный организм распался на атомы частных лиц. Такова
стала римская жизнь; с одной стороны, судьба и абстрактная
всеобщность владычества, а с другой стороны, индивидуальная
абстракция, личность, которая содержит в себе определение, что
индивидуум в себе представляет собой нечто не благодаря своей
жизненности, не благодаря полной содержания
индивидуальности, а как абстрактный индивидуум» (47, 300). Одни люди всецело
предались чувственным наслаждениям, другие - путем насилия,
пронырливости и хитрости добивались богатства и синекуры,
третьи - удалялись от практической жизни в сферу философского
умозрения. Но и эти последние при всей возвышенности своих
интеллектуальных устремлений выражают все тот же
социальный феномен - разложение данного общества, потому что
«мышление, которое, как чистое мышление, делало предметом своих
исследований само себя и примирялось с самим собой, было
совершенно беспредметно...» (47, 301).
Гегель здесь - это нередко случалось также в его лекциях по
истории философии - не только выносит приговор философии
античного индивидуализма, видевшего свое главное назначение
в достижении атараксии, но и указывает на несостоятельность
того спекулятивного философствования, которое делает
предметом мышления само мышление. Но такова же была в известном
смысле и философия самого Гегеля с той, правда, разницей, что
430
он превращал мышление мышления, чисто логический процесс, в
абсолютное бытие и, исследуя это спекулятивное тождество,
доказывал существование имманентно присущей мышлению и
бытию закономерности развития.
Гегель стремился понять философию в ее единстве с
исторически определенным общественным бытием, несмотря на свое
представление о развитии философии как самодостаточном
логическом процессе. Так, например, он утверждал: «Определенный
образ философии одновременен, следовательно, с определенным
образом народов, среди которых она выступает, с их
государственным устройством и формой правления, с их нравственностью, с
их общественной жизнью, с их сноровками, привычками и
удобствами жизни, с их попытками и работами в области искусства и
науки, с их религиями, с их военными судьбами и внешними
отношениями, с гибелью государств, в которых проявил свою силу
этот определенный принцип, и с возникновением и
выступлением новых государств, в которых высший принцип находит свое
рождение и развитие» (41, 110-111).
Таким образом, Гегель в своей характеристике положения
философии в обществе, ее связи с различными общественными
отношениями вступает в противоречие со своим отправным панло-
гистским постулатом. Этот постулат, как уже говорилось, сводится
к утверждению, что мышление в своей аутентичной (т.е.
философской) форме всемогуще как субстанция-субъект. Однако, как
видно из приведенных выше цитат, Гегель трактует философию как
своеобразный эпифеномен современной ей исторической эпохи.
Правда, историческая эпоха, с точки зрения Гегеля, представляет
собой определенный этап отчуждения «абсолютного духа» и лишь
по мере преодоления этого отчуждения находит свое адекватное
выражение в философии. Но в таком случае философия,
естественно, не может быть одной из формирующих историческую
эпоху духовных сил; она, по убеждению Гегеля, всегда появляется с
опозданием. Поэтому ее роль, которую Гегель отнюдь не склонен
умалять, все же сводится к тому, чтобы теоретически подытожить
завершающийся или уже завершившийся процесс развития
данной эпохи. Это воззрение лишь частично соответствует фактам,
хотя бы потому, что подводя итоги склоняющейся к упадку
исторической эпохе, философия вместе с тем активно участвует в
процессе формирования новой исторической эпохи. Такова
антифеодальная философия французского материализма XVIII в., таков
же, по существу, антифеодальный пафос немецкой классической
философии. Тем не менее Гегель настаивает на том, что
философия идейно завершает историческую эпоху, т.е. она подытоживает,
431
осмысливает то, что уже отживает, становится прошлым. «Когда
философия начинает рисовать своей серой краской по серому, это
показывает, что некоторая форма жизни постарела и своим серым
по серому философия может не омолодить, а лишь понять ее; сова
Минервы начинает свой полет лишь с наступлением сумерек» (47,
56). Этот вывод опровергается историко-философскими работами
Гегеля, в которых нередко прослеживается, как философия
прокладывает путь новому общественному строю, непосредственно
участвуя в процессе его становления. Но Гегель не формулирует
выводов, почерпнутых из конкретного историко-философского
исследования, в форме теоретических принципов. Последние
формулируются им, исходя из представления о логическом процессе
развития философии, который интерпретируется как
самодостаточный, больше того, субстанциальный и, следовательно,
независимый от эмпирических исторических условий. Это
двойственное, амбивалентное понимание историко-философского процесса
неизбежно в системе Гегеля.
Гегель намеренно трактовал философию как спекулятивное
осмысление уходящей в прошлое исторической эпохи. Это было
безопаснее в условиях все еще сохранявшегося феодального
гнета. Однако такая трактовка философии объяснялась все же не
внешними обстоятельствами, а главным образом тем, что Гегель как
буржуазный, умеренно либеральный мыслитель начала XIX в.
целиком полагался на спонтанное развитие общества, которое
втягивало Пруссию и другие немецкие государства в
капиталистический процесс производства независимо и, как казалось ему,
даже вопреки всякого рода «реформаторским» решениям властей,
решениям, которые в большинстве своем представлялись
философу субъективистским вмешательством в объективный, разумный,
в отличие от своей видимости, процесс общественного развития,
реализующий субстанциальную цель всемирной истории.
Фейербаховская критика гегелевской философии по существу
уже содержит в себе понимание того, что
спекулятивно-идеалистическая концепция развития философии как самопорождения
и самодвижения чистого мышления неизбежно вступает в
конфликт с историческими фактами и основанным на них воззрением,
согласно которому философия специфически выражает реальные
потребности своего времени. Отвергая гегелевский панлогизм,
Фейербах настаивает на том, что философия коренится не в
мышлении, а в чувствах, переживаниях, потребностях людей данной
исторической эпохи. И перемены, совершающиеся в философии, в
том числе и возникновение новых философских учений, отражают
запросы времени, а эти запросы, особенно в критические эпохи,
432
глубоко противоречивы. «...Одни усматривают потребность в
том, чтобы удержать старое, чтобы изгнать новое, для других
потребность - реализовать новое» (170а, 107). Только стремление
осуществить новое выражает действительные потребности
социального прогресса. Что же касается попыток удержать старое, то
они представляются Фейербаху, рассматривающему историю с
позиций гуманизма, искусственными, вымученными, хотя он не
может не видеть, что такие попытки предпринимаются
представителями определенных и, прежде всего, господствующих
классов. Правда, в период революции 1848 г. Фейербах пытается
конкретнее представить себе истоки противоположных друг другу
социальных стремлений. «Когда, - спрашивает он, - начинается
в истории новая эпоха? Всюду тогда, когда против
исключительного эгоизма нации или касты угнетенная масса или большинство
выдвигает свой вполне законный эгоизм, где классы людей или
целые нации, одержав победу над высокомерным чванством
господствующего меньшинства, выходят из жалкого и угнетенного
состояния пролетариата на свет исторической и славной
деятельности. Так и эгоизм ныне угнетенного большинства
человечества должен осуществить и осуществит свое право и начнет новую
эпоху истории» (170б, 835).
Фейербаховская философия как отражение реальных
потребностей (и интересов) определенных классов приближается к
материалистическому пониманию истории. Вместе с тем Фейербах
свободен от характерного для марксизма стремления объяснить
то или иное философское учение, исходя из экономической
структуры общества. Социальная обусловленность философии в
принципе не сводима к ее экономической обусловленности. Ведь
согласно материалистическому пониманию истории,
общественное бытие определяет общественное сознание, а общественное
бытие есть не что иное как реальный процесс общественной
жизни, совокупность всех общественных отношений.
А. Койре, выдающийся историк естествознания,
справедливо отмечает: «...социальная структура Англии XVII в. не может
объяснить нам появление Ньютона, так же как социальная
структура России времени Николая I не позволяет понять труд
Лобачевского». И далее Койре указывает, что наука, поскольку она
есть теория, исследование, установление истины, имеет «свою
собственную жизнь, имманентную историю» (250, 300, 360). Это
положение, не имеющее ничего общего с идеализмом,
применимо и к философии, тем более что последняя еще больше, чем
естествознание, отдалена от экономических отношений и
развития производительных сил. Однако ни одна философия не может
433
быть понята просто из самой себя, вычитана из произведений
философа. Историко-философское исследование призвано
прежде всего понять выдающееся философское учение как
эпохальное сознание, духовное выражение существеннейшего
содержания общественной жизни, вскрыть специфическую проблематику
данного учения, которая в ходе последующего развития общества
наследуется новыми философскими учениями, как бы ни было
отлично их содержание и даже социальная направленность,
отделяется от породивших ее исторических условий, становится
содержанием философской традиции и тем самым получает новую
интерпретацию, независимую от эпохи, которая ее породила. То
обстоятельство, что выдающееся философское учение (как и
выдающиеся произведения искусства, литературы, культурное
наследие вообще) сохраняет определенное значение и влияние за
пределами породившей его эпохи, порождает идеалистическую
иллюзию о его независимости от исторических условий. Но эта
иллюзия рассеивается, как только мы начинаем анализировать
смысл, содержание, познавательное значение данного
философского учения, а также историческую связь эпох в поступательном
развитии общества.
Теории естественного права Гоббса, Спинозы, Локка, Руссо,
царство разума, провозглашенное просветителями XVIII в.,
концепция разумного эгоизма, согласующегося с общественным
благом, кантовская «добрая воля», учение о свободе как сущности
человеческой личности, философско-антропологическая концепция
единства человеческого рода, понятие самодвижения материи,
механицизм, рационализм, сенсуалистическое учение о познании
и аффектах, учение о всеобщности развития, идея социального
прогресса, диалектика - вся эта многообразная тематика и
проблематика философии Нового времени может быть правильно
понята и оценена лишь как эпохальное выражение того громадного
по сравнению с предшествующими ступенями общественного
развития, ускорения прогресса производительных сил, науки и
культуры в целом, которое было обусловлено становлением и
бурным развитием капиталистического способа производства.
Вульгаризация материалистического понимания истории
принижает и фактически сводит на нет достижения философии.
«Классическим» примером такой мнимо марксистской
вульгаризации является книга В. Шулятикова «Оправдание капитализма
в западноевропейской философии», опубликованная в 1908 г.
Этот далекий от философии большевистский автор писал: «Все
без остатка философские термины и формулы, с которыми она
(философия. - Т.О.) оперирует, все эти "понятия", "идеи", "воз-
434
зрения", "представления", "чувства", все эти "абсолюты", "вещи
в себе", "ноумены", "феномены", "субстанции", "модусы",
"атрибуты", "субъекты", "объекты", "материальные элементы",
"силы", "энергии" служат для обозначения классов, групп, ячеек
и их взаимоотношений. Имея дело с философской системой того
или другого буржуазного мыслителя, мы имеем дело с картиной
классового строения общества, нарисованной с помощью
условных знаков и воспроизводящей profession de foi известной
буржуазной группы».
Это высказывание Шулятикова приводит Плеханов в
рецензии на его книгу. В связи с этим он справедливо замечает:
«У него выходит так, что когда Кант писал о ноуменах и
феноменах, то он не только имел в виду различные общественные
классы, но также по выражению одной старухи-чиновницы Г.
Успенского - "норовил в карман" одного из этих классов, именно
буржуазии» (142, 3, 325).
Само собой разумеется, что искажением
историко-философского процесса нередко занимаются и идеалисты, в том числе и
незаурядные. Достаточно указать на релятивистское истолкование
историчности философии, которое нашло свое экстравагантное
выражение в философии культуры О. Шпенглера. «Каждая
культура, - писал он, - есть выражение своего и только своего
времени... Различие философских учений заключается не в том, что
одни из них бессмертны, а другие никогда не были жизненными.
Непреходящие философские истины - иллюзия. Существенны не
они, а человек, который нашел в них свое отражение. Чем
крупнее человек, тем истиннее философия - в том смысле, в каком
мы говорим о внутренней истине великого произведения
искусства, истине, совсем не зависящей от доказательности, от
отсутствия противоречий между отдельными положениями» (188, 44).
Шпенглер, конечно, не ровня Шулятикову. Поэтому в
цитируемом положении не все ложно. В нем правильное и неправильное
основательно переплетены друг с другом, историзм
превращается в свою противоположность, так как каждая эпоха толкуется
как совершенно уникальный, несравнимый с какой-либо другой
эпохой комплекс культурных явлений и тем самым отрывается от
предшествующего и последующего развития общества.
Для обоснования своей иррационалистической мифологии
культуры Шпенглер применяет в основном
субъективно-идеалистическую аргументацию. Природа лишь культурно-исторический
образ, единство непосредственных восприятий человека
определенной эпохи; история - такая же субъективная, но в отличие от
природы - «поэтическая» конструкция, реализующая стремление
435
привести «живое бытие мира» в известное соответствие с
человеческой жизнью. Не удивительно поэтому, что философские
учения утрачивают свою специфику, так как они рассматриваются
как своеобразные произведения искусства. Социальное
содержание философии понимается в духе иррационалистической
«философии жизни», с позиций которой отвергается возможность
объективной истины не только в философии, но и в естествознании,
и в математике. Каждая эпоха, согласно Шпенглеру, создает свое
естествознание, свою математику, которые лишены
познавательной ценности за пределами своей эпохи, так как представляют
собой не познание объективной реальности, а исторически
преходящие формы духовной жизни. Всё, совершающееся в истории,
однократно; никакое повторение невозможно в силу
необратимости «времени». Кавычки, в которые Шпенглер заключает это
слово, подчеркивают, что и время для него лишено независимого от
субъекта существования.
Таким образом, одинаково несостоятельны теории,
приписывающие философским системам или идеям непреходящее
значение, и теории, нацело отрицающие элементы непреходящего
значения в великих философских учениях прошлого. Философские
положения (как и любые знания вообще) сохраняют
непреходящее значение лишь в той мере, в какой они подтверждаются,
корректируются, обогащаются, развиваются. А это, конечно, зависит
не просто от творческой активности их приверженцев, а в первую
очередь от того, в какой мере они выражают новые
исторические потребности, как они отражают общественное бытие, как они
способствуют необходимым социальным преобразованиям.
Великие философские учения - эпохальные события
всемирной истории. И не только потому, что это - эпохи в
интеллектуальном развитии человечества: каждое из них -
могущественная духовная сила становления и развития новой исторической
эпохи. В этих учениях выявляются, осознаются,
обосновываются потребности этой эпохи, ее борьба с противоборствующими
силами прошлого и настоящего, ее интеллектуальный,
нравственный, социальный идеал. Закономерная связь различных
исторических эпох, образующих необходимые этапы развития
человечества, духовно воспроизводятся развитием философии.
Завоевания каждой исторической эпохи в области
материального и духовного производства, общественно-политического
прогресса наследуются последующими эпохами не только
благодаря преемственности экономического развития общества, но
и вследствие его духовного развития, в котором огромную роль
играет философия.
436
3. Дифференциация, дивергенция,
поляризация философских учений
Понять и объяснить историко-философский процесс как
процесс развития - это значит прежде всего выяснить
отношение между различными, частью одновременно существующими,
частью следующими друг за другом философиями. Уже в
древности возникло много противостоящих друг другу философских
учений, о чем уже шла речь в предыдущих главах. В ходе
последующего развития философии количество таких учений,
многообразие философских концепций не только не уменьшилось, но,
напротив, еще более увеличилось. Все это, конечно, затрудняет
научное понимание историко-философского процесса как
процесса развития, так как само по себе признание все возрастающего
множества философских теорий представляется, во всяком
случае непосредственно, несовместимым с действительным
развитием, которое предполагает определенное единство, соразмерность,
взаимодействие составляющих его элементов. Спрашивается,
можно ли расчленить неопределенное множество философских
учений на сравнительно простые составные части, выделить
сначала элементарные, затем более сложные связи, зависимости,
рассмотреть отношения между философскими учениями,
разграничивая видимость и сущность, объективное содержание и
субъективную форму выражения, противоречия, единство
противоположностей и их борьбу. Диалектическое понимание тождества
как содержащего в себе различия, понимание различия как
содержащего в себе тождество, анализ противоречий и единства
противоположностей - все это призвано помочь исследованию
отношений между философскими учениями, постигнуть в конечном
итоге единство многообразия в сфере философии. Это единство,
конечно, не является непосредственным; оно становится таковым
благодаря развитию. Это - опосредованное единство; оно может
быть представлено по аналогии с учением Ч. Дарвина о единстве
всего животного и растительного мира, несмотря на
разделяющие его различия, противоположности, противоречия.
Идея трансформации видов неоднократно высказывалась
задолго до Дарвина. Но именно великий английский натуралист
поставил вопрос о возникновении видовых, т.е. наименьших
типологических различий между живыми существами. Если
предшественников Дарвина интересовало, как возникли различия
между такими далекими друг от друга живыми существами, как
слоны и черепахи, то Дарвин исследует, условно говоря,
различия между лошадью и ослом, фиалкой и анютиными глазками.
437
Он придал, следовательно, ключевое значение различию внутри
тождества, в то время как его предшественникам такое различие
представлялось неинтересным, несущественным. Выдающееся
значение такого методологического подхода несомненно. Но
нелегко показать его применимость в исследовании
историко-философского процесса. Если Фалес считал первовеществом воду, то
по Анаксимену первичным является воздух, а по учению
Гераклита - огонь. Такого рода расхождения в убеждениях,
предполагающее существенное концептуальное тождество (в данном случае
признание единого первоначала, первовещества, материального
единства мира, всеобщей трансформации явлений) можно
охарактеризовать как дифференциацию философских учений. Это
разногласия между единомышленниками, однако существенные
разногласия, поскольку здесь налицо критика, отрицание
принимаемого другим философом первовещества, противопоставление
ему своего понятия первоначала. Благодаря этим разногласиям
происходит углубление, развитие самого понятия первоматерии.
Это особенно очевидно, если вдуматься в учения Анаксимандра
и Гераклита. Первый из них, по-видимому, в принципе
отвергает допущение, что какое-либо определенное вещество, явно
отличающееся от всех других чувственно воспринимаемых вещей,
может быть их первоначалом. Отсюда гипотеза о существовании
изначальной неопределенной материи (апейрон), которая еще не
заключает в себе качественных различий, наличествующих в
чувственно воспринимаемых предметах. В отличие от Анаксимандра,
Гераклит настаивает на существовании определенной материи,
но понимает ее иначе, чем Фалес и Анаксимен. Он утверждает,
что первоначальная, определенная материя, огонь, представляет
собой ярог/есотрансформацию, уничтожение одного и
возникновение другого.
Мы видим, таким образом, что дифференциация философских
учений характеризуется существенным объективным
содержанием, т.е. выражает не просто субъективные претензии философа на
свое особое мнение, & развитие определенной концепции,
выдвижение на первый план различных аспектов, самокритику внутри
данного философского направления. Следовательно, эта
дифференциация есть вместе с тем становление более существенных
различий, которое не только не исключает, но необходимо
предполагает более или менее основательный философский синтез, а
не просто отбрасывание с порога отличных или даже
противоположных воззрений. Разумеется, философский синтез постепенно,
от века к веку становится все более содержательным
теоретическим подытоживанием предшествующего развития философии,
438
что не исключает и философских революций, которые отвергают
многое в предшествующей философии: не только негативное, но
и положительное. Эти революции различаются по своему
масштабу, размаху. Так, Сократ отверг натурфилософские учения
Фалеса, Анаксимена, Анаксимандра, Гераклита, Эмпедокла,
Анаксагора, поставив в центре философии этическую тематику.
Но он тем не менее критически освоил диалектику Гераклита, а
также диалектическое искусство спора, разработанное
софистами, несмотря на то что он обличал их как беспринципных
учителей мудрости.
Французские материалисты XVIII в. представляют собой
единое течение, союз единомышленников, в рамках которого,
однако, совершается существенная (и плодотворная)
дифференциация воззрений. Одни из них развивают материалистические идеи
Декарта о природе (Ламетри, Гольбах), другие являются
продолжателями сенсуалистического учения Локка (Гельвеций, Дидро).
Известный тезис Ламетри - человек есть машина - несмотря на
свое исторически прогрессивное значение, по существу
неприемлем для Гельвеция и Дидро. Гельвеций выдвигает на первый
план то, что не присуще машине: чувственный опыт
человеческого индивида, осознание им своего интереса (понятие интереса
вообще выходит за рамки механистического мировоззрения),
значение воспитания, проблематику этики. Дидро прямо
выступает против Ламетри, обосновывая тезис: человек не есть машина.
При этом, однако, он сравнивает человеческий организм с
музыкальным инструментом, по клавишам которого «ударяют»
воздействующие на него вещи. Это - иной вариант механистической
интерпретации человека, в котором прежде всего подчеркивается
чувственная природа последнего, обусловленность чувственных
восприятий внешним миром, с одной стороны, и внутренним
устройством человеческого «инструмента» - с другой.
То обстоятельство, что Дидро и Гельвеций оспаривают одно
из основоположений системы Ламетри, не исключает
разногласий между этими мыслителями. Дидро критикует Гельвеция,
полагавшего, что содержательность теоретических выводов зависит
от остроты чувственных восприятий, богатства чувственных
данных. Разделяя основные положения сенсуалистической
гносеологии, Дидро выступает против ее упрощенной интерпретации,
подчеркивая относительную независимость мышления,
теоретических выводов от чувственных восприятий. Эти разногласия в
рамках материалистического сенсуализма предвосхищали
диалектическое понимание противоречивости единства
чувственного и рационального.
439
Нет необходимости входить в более обстоятельное
рассмотрение дифференциации философских учений, поскольку уже из
сказанного выше достаточно ясно, что эти «внутривидовые», а
частью также «межвидовые» расхождения представляют собой
развитие общих разным философам воззрений. Однако
результаты этого развития, т.е. несомненное углубление, обогащение,
конкретизация той или иной концепции, не становятся
общепринятыми, как это обычно бывает в естествознании, т.е.
расхождения сохраняются даже тогда, когда они теряют свой raison d'être.
Это объясняется тем, что правомерные возражения, оправданные
изменения концепции, пересмотр того или иного воззрения
обосновываются - соответственно природе философского
познания - достаточно общими соображениями, допущениями,
предположениями, которые не могут быть проверены и подтверждены
экспериментально, практически, путем измерений и т.п. Все это,
однако, не отменяет того факта, что дифференциация
философских воззрений представляет собой исследовательский поиск, в
ходе которого сопоставляются родственные точки зрения,
выявляются и обосновываются разногласия, а сама постановка
проблем наполняется новым содержанием. В этом смысле
дифференциация философских воззрений является специфической формой
философского прогресса.
Не трудно заметить, что уже на уровне дифференциации
философских учений, концепций, отдельных положений
обнаруживается возможность принципиальных, коренных расхождений,
т.е. тенденция развития идей в разных, в том числе и
исключающих друг друга направлениях. Этот процесс может быть назван
дивергенцией, в ходе которой различия в рамках первоначальной
общности воззрений становятся превалирующими,
определяющими философскими характеристиками. Показательна в этом
отношении историческая судьба философии Декарта: она стала
идейным источником трех принципиально отличных друг от
друга философских учений. Материалист Г. Леруа отверг
идеалистическую метафизику Декарта и стал развивать
материалистическое учение Картезия о природе, распространив свой материализм
и на теорию познания, которой он придал резко выраженный
сенсуалистический характер. Н. Мальбранш и А. Гейлинкс,
напротив, отвергли материалистическое учение Декарта о природе и
стали продолжателями его метафизики, углубляя ее
идеалистический характер и дополняя его теологическими аргументами.
Пантеистический материализм Спинозы в отличие от воззрений
Леруа, Мальбранша, Гейлинкса представляет собой попытку
монистической переработки метафизики и физики Декарта.
440
Дивергенция, следовательно, качественно отличается от
дифференциации, предполагает отрицание по меньшей мере одного
из принципов предшествующего учения, переход к новому
принципу. Однако это еще не есть отрицание всех основоположений,
вследствие чего принципиальная противоположность носит еще
односторонний, неразвитый, недостаточный характер. По
существу речь идет о развитии одной из сторон отрицаемого, т.е.
отрицание относится к другой его стороне. Поскольку система
Декарта сочетает в основном материалистическое понимание природы
с идеалистической метафизикой, дивергенция есть выявление
основного противоречия этой системы, противопоставление
заключающихся в ней противоположностей, признание их
независимого друг от друга содержания и значения и соответственно
этому теоретическое развитие существенно различных элементов
картезианской системы.
Дивергенция философских учений - многообразный процесс,
формы которого не исчерпываются различными типами идейного
наследования. Это не только отношение философских учений к
предшествующим теориям, но также и взаимоотношение,
взаимодействие параллельно развивающихся, относительно
независимых друг от друга учений, формирующихся нередко в одних и
тех же исторических условиях, но по-разному выражающих
общие устремления эпохи. Таково, в частности, отношение между
некоторыми рационалистическими и некоторыми эмпиристскими
философскими системами. Уже на примере философии Декарта
обнаруживается, что противоположность между его метафизикой
(рационализм) и философией природы (эмпиризм) оказывается
относительной. То же относится и к некоторым другим
рационалистическим и эмпиристским системам. В одних отношениях
они исключают друг друга, в других, напротив,
придерживаются общих идей и, так сказать, дополняют друг друга, вследствие
чего дивергенция не исключает здесь и конвергенции. Не только
рационалисты XVIII в., но и современные им представители эм-
пиристской философии понимают разум как высшую инстанцию
познавательной деятельности.
Д. Локк, подобно рационалистам, признает интеллектуальную
интуицию, и, поскольку он ставит ее выше дискурсивного
мышления, он в известной мере солидаризируется с картезианским
пониманием истины, несмотря на свое в основном эмпиристское ее
понимание. Некоторые исследователи правомерно говорят в
связи, с этим о рационализме в широком смысле слова.
Действительно, культ разума - общая идейная парадигма, пожалуй, даже
идеология эпохи ранних буржуазных революций. Не следует, однако,
441
при этом упускать из виду, что эмпиристская философия в
противовес рационализму решительно отвергает культ чистого
разума, теорию врожденных идей, априоризм, отождествление
физических и логических оснований, признание сверхчувственной
(метафизической) реальности, во всяком случае как предмет
исследования, признание объективных форм всобщности, умаление
чувственного опыта вследствие допущения независимой от него
способности теоретического познания.
Спор между умеренным философским рационализмом и
столь же умеренной эмпиристской философией является такого
рода коллизией, относительно которой нельзя не признать, что
обе стороны в чем-то правы и в чем-то не правы. Больше того,
даже заблуждения обеих сторон чреваты определенными
истинами. Теоретические корни этой дивергенции очевидны. Науки
Нового времени существуют, с одной стороны, в качестве
математических наук, а с другой - как эмпирическое, описательное
естествознание. Хотя в астрономии успешно сочетаются
эмпирическое наблюдение и математическое исследование, в целом
отношение между математикой, теоретической механикой и
опытным природоведением характеризуется
противоположностью исследовательских процедур и эксплицитно не
выраженных гносеологических посылок. Но эта противоположность не
является враждебной конфронтацией, она, скорее, связывается
с существованием качественно различных предметных областей
научного исследования. И кроме того, выдающиеся достижения
математики и небесной механики представляются
естествоиспытателям-эмпирикам идеалом точного знания, по-видимому,
недостижимого в их непосредственно связанной с наблюдениями и
описаниями, с индуктивными выводами, всеобщность которых
всегда проблематична, исследованиями.
Однако дивергенция, характеризующая противоположность
между умеренным рационализмом и умеренным эмпиризмом,
имеет также идеологические корни. Рационализм XVII в. явно
не свободен от теологических интенций и импликаций.
Попытка Декарта усовершенствовать онтологический аргумент Ансель-
ма Кентерберийского, окказионализм Мальбранша и Гейлинк-
са, теодицея Лейбница существенным образом характеризуют
это направление, несмотря на то что оно носит то явный, то
латентный антифеодальный характер. Последнее обстоятельство,
т.е. то, что рационализм XVII в. представляет собой исторически
прогрессивную буржуазную идеологию, находит свое
своеобразное выражение в дивергенции, совершающейся внутри самого
рационализма. Если окказионалисты усиливают теологические
442
тенденции картезианства, растворяя природу в божественном
бытии, то Спиноза избирает совершенно противоположный путь.
Его формула «Бог или Природа», несмотря на все оговорки и
теологические обороты, есть, в сущности, формула своеобразного
атеизма и материалистического пантеизма, что непосредственно
подтвердится его критическим анализом теологии и религии. Эта
дивергенция внутри рационализма (и вместе с тем внутри
метафизических систем XVII в.) заключает в себе тенденденцию к
поляризации философских учений, т.е. к их превращению в
радикально противоположные стороны.
Следует подчеркнуть, что теологические интенции и имлика-
ции присущи не только рационалистической, но и эмпиристской
философии. Они выявляются и в естествознании XVII-XVIII вв.,
несмотря на то что оно обосновывало, вопреки средневековому
(теологическому) мировоззрению, объяснение природных
явлений естественными (природными) причинами. Дело, стало быть,
не столько в специфических особенностях рационализма, а тем
более эмпиризма, сколько в общей идеологической атмосфере
эпохи ранних буржуазных революций, которые во всяком случае
до конца XVII в. совершались в форме религиозных социальных
движений (Реформация, религиозные войны и т.п.).
Дивергенция, совершающаяся внутри одного и того же
направления, является, как правило, философским процессом, в
ходе которого возникает новая проблематика, обогащается
исторически сложившаяся постановка вопросов, намечаются и
обосновываются новые решения. Теория врожденных идей, как она
вначале формулируется Декартом, выступает как рецепция
платоновской концепции и несомненная дань теологическому
представлению о некоторых понятиях, которым придается
фундаментальное значение. Иное дело, что у Декарта эта концепция имеет
также иной, гносеологический смысл: речь идет о теоретических
принципах, которые не могут быть сведены к проблематичным
индуктивным обобщениям. Понятие априорного знания
исторически связано с теорией врожденных идей, но вместе с тем оно
фиксирует, хотя и неадекватным образом, существенные
особенности математического знания и логического процесса вообще.
Если в рационалистических учениях XVII в. представление об
априорном знании все еще связано с попытками теоретически
доказать то, что может быть лишь предметом религиозной веры,
то концепция априорного, провозглашаемая и обосновываемая
Кантом, является принципиальным отрицанием возможности
сверхопытного знания, т.е. возможности познания
сверхприродной, сверхчувственной реальности.
443
Кант критикует априоризм XVII в. именно за его
теологические интенции и импликации. Пересматривая понятие
априорного, Кант разъясняет, что речь по существу идет о теоретических
суждениях, обладающих аподиктической всеобщностью. Именно
аподиктическая всеобщность, недоступная опыту, и делает эти
суждения априорными, независимыми от опыта, доопытными,
но отнюдь не сверхопытными. Благодаря такой постановке
проблемы эксплицируется ее реальное содержание,
непосредственно относящееся к чистой математике и теоретической механике.
Субъективистское истолкование абсолютной всеобщности и
необходимости - характерная особенность кантовского понимания
априорности в том смысле, что убеждение в абсолютной
всеобщности не может не быть субъективным. Положительная сторона
этой концепции состоит также и в критике рационалистической
метафизики XVII в. с ее непомерными претензиями. Кантовская
постановка проблемы синтетических априорных суждений, т.е.
проблемы научно-теоретического синтеза, интерпретируемого
как априорное познание в границах возможного опыта, является,
по существу, обоснованием возможности и необходимости
перехода от эмпирического, описательного изучения природы к
теоретическому естествознанию.
Таким образом, дивергенция философских воззрений,
представляет собой отнюдь не беспорядочный процесс, в котором
любой тезис отвергается антитезисом, также обреченным на
отрицание. Такова лишь видимость историко-философского процесса;
она, разумеется, существенна, однако выражает неадекватным
образом действительные характеристики развития философии.
Видимость подлежит отрицанию, но такому отрицанию,
которое сохраняет, осваивает внутренне присущее ей рациональное
содержание. Такой, т.е. диалектический анализ процессов
дивергенции раскрывает развитие понятий, проблем, категорий
философии. Что же касается того существенного для истории
философии факта, что участники спора никогда не приходят к согласию,
то он характеризует, во-первых, субъективную сторону
философского спора и, во-вторых, указывает, что истины, установленные
в философии, подлежат дальнейшему развитию, которое и
совершается посредством продолжающейся дискуссии.
Необходимым результатом исторически прогрессирующей
дивергенции философских учений становится поляризация
философии - образование принципиально несовместимых,
исключающих друг друга философий. Это, стало быть, не частичное
отрицание, предполагающее частичное согласие, а отрицание всей
системы основоположений и выводов, которые из нее следуют.
444
Тенденция к поляризации очевидна уже в процессе дивергенции;
она выявилась, в частности, при рассмотрении
противоположности рационализма и эмпиристской философии. Но эти
противоположности сплошь и рядом приобретают радикальный характер.
Радикальный рационализм Лейбница и радикальный эмпиризм
Беркли - это уже поляризация философии, несмотря на то
что оба эти философа - идеалисты. Другим, не менее
впечатляющим примером поляризации философских учений является
противоположность между рационализмом и иррационализмом. И в
данном случае речь идет о противоположности (и притом
радикальной) между философами-идеалистами. В последней трети
XX в. на философской арене выступила радикальная
противоположность между учениями, именующимися эпистемологическим
конструктивизмом, и учениями, выступающими под флагом
эпистемологического деконструктивизма.
Важнейшей формой поляризации философии является
противоположность между материализмом и идеализмом, когда то и
другое философское учение выступает достаточно
последовательно. Философ, который не дошел до признания фундаментального
значения этой противоположности или отрицает ее радикальный
характер, оказывается эклектиком, неспособным осмыслить
значение теоретической последовательности, которая особенно
существенна и принципиально необходима в философии.
Материализм и идеализм нередко изображаются в
западноевропейской философской литературе как направления, которые
существуют наряду с другими, более значительными и
содержательными философскими направлениями. Ссылаются, например, на
философскую антропологию, утверждая при этом, что она
преодолевает «односторонность» как идеализма, так и материализма. Но
философская антропология, разработанная Л. Фейербахом,
является материалистическим учением. Что же касается философской
антропологии М. Шелера, А. Гелена и их продолжателей, то она
представляет собой идеалистическое учение, несмотря на все свое
отличие от классического идеализма с присущей ему ясностью,
определенностью, последовательностью, которых явно не хватает
современным приверженцам философской антропологии.
Неопозитивизм пытался доказать, что обосновываемая им
эмпиристская эпистемология находится по ту сторону
традиционной и якобы устаревшей противоположности материализма и
идеализма. Однако серьезный анализ любого варианта
неопозитивистского философствования вскрывает, как об этом уже шла
речь в предыдущих главах, субъективистский характер его
эпистемологии.
445
Действительное значение антитезы материализм - идеализм
наглядно выявляется в том, что эмпиристская философия
поляризуется, примыкая к той или другой из этих радикальных
противоположностей. Эмпиризм, вопреки убеждениям некоторых не
искушенных в философии ученых, отнюдь не нейтральное
философское учение. Материалистическому эмпиризму противостоит
идеалистический эмпиризм. Если Ф. Бэкон является классическим
представителем материалистического эмпиризма, то Д. Беркли -
классический представитель идеалистического эмпиризма.
Рационалистическая философия характеризовалась выше как
идеалистическое течение. Однако Спиноза, как об этом уже
говорилось, является рационалистом и материалистом. То же можно
сказать о философских учениях Робине и Дешана. Таким образом,
радикальная поляризация охватывает в известной мере и системы
метафизики. Основоположник французского неорационализма
Г. Башляр именует свое учение «рациональным материализмом».
Этот материализм он сочетает с некоторыми положениями
психоанализа 3. Фрейда и феноменологии Э. Гуссерля, оставаясь тем
не менее материалистом, хотя, конечно, непоследовательным.
Рассмотрение дифференциации, дивергенции, поляризации,
радикальной поляризации философских учений далеко не
исчерпывает характеристик философского развития. Философы
не только расходятся в своих убеждениях, они также усваивают,
критически перерабатывают идеи своих предшественников и
современников. Поэтому развитие философии не сводится к
изменению ее проблематики, возникновению новых философских
идей и учений; оно несмотря на все противоречия этого процесса
представляет собой прогресс, сущность которого заключается в
постоянном обогащении философии новыми идеями,
принципами, проблемами. Рассмотренные характеристики философского
развития не являются, конечно, единственными движущими
силами этого процесса. Представлять себе развитие философии так,
будто бы переход к новым идеям, концепциям совершается только
вследствие имманентно присущего философии логического
процесса, значит становиться на позиции, чуждые
материалистическому пониманию истории. Именно поэтому в предшествующем
разделе этой главы речь шла об объективной социальной
обусловленности философского развития, т.е. философия
рассматривалась как общественное сознание, обусловленное общественным
бытием, которое включает в себя и духовную жизнь общества
(без этого невозможен реальный процесс общественной жизни).
Значение же рассмотренных в данном разделе характеристик
философии состоит в том, что они специфическим образом харак-
446
теризуют развитие философии и тем самым отличают этот
процесс от развития в других областях знания, в частности в науках
о природе. Однако не следует гиперболизировать это различие,
как это зачастую делают некоторые исследователи, радикально
противопоставляющие друг другу философию и нефилософское
исследование*. И в развитии естествознания имеет место
дивергенция воззрений и даже поляризация теорий, но здесь
расхождения обычно преодолеваются путем разработки новых теорий,
учитывающих и приводящих в единую систему факты, которые
одностронне объяснялись противостоящими друг другу
концепциями.
Неопределенное множество философских учений, которое
приводит в смятение неискушенное философское сознание,
сводится самим историческим развитием к выделению главных
философских направлений. Поэтому и проблема выбора, которая
была бы по существу неразрешимой или даже лишенной смысла,
получает свое рациональное разрешение. Не существует
тупиковой ситуации, в которой выбор одного из философских учений
означал бы пренебрежение к содержанию, а тем более
достижениям других философских теорий. Их содержание, их достижения
подытоживаются в ходе развития философии самими
участниками этого исторического процесса. Подытоживаются, разумеется,
с разных теоретических позиций, но именно этот «разнобой» и
служит делу обогащения философии новыми проблемами,
концепциями, идеями.
* Так, X. Перельман абсолютизирует качественные характеристики
философского познания, его своеобразие, оставляя вне рассмотрения тот факт, что
сами философские учения качественно отличаются друг от друга в частности
своим отношением к научному знанию, которое одни из этих учений отвергают,
а другие, напротив, осваивают, обобщают, делают из него новые философские
выводы. Вследствие такого одностороннего подхода X. Перельман приходит к
заключению, что «философская истина существенно отлична от научной» (271а,
120). При этом остается неясным, о всех ли философских истинах идет речь и,
больше того, имеются ли в виду действительные, т.е. объективные истины, а
не просто убеждения тех или иных философов в том, что их утверждения
истинны. В конечном итоге Перельман приходит к выводу, что
«противоположность между науками и философией представляется в наши дни неоспоримой»
(271а, 133-134). Однако философские учения, столь отличные друг от друга (это
подчеркивает и Перельман), не следует рассматривать en bloc, унифицируя их
отношение к наукам, в частности, к естествознанию.
Глава 10
КТО КРИТИКУЕТ ИДЕАЛИЗМ? КТО КРИТИКУЕТ
МАТЕРИАЛИЗМ? ПАРТИЙНА ЛИ ФИЛОСОФИЯ?
1. Идеалисты как критики идеализма
В предыдущих главах уже указывалось на то, что почти все
выдающиеся представители материалистической философии,
считая идеализм никчемным, даже абсурдным учением, не видят, как
правило, необходимости заниматься его критикой. Аналогичную
позицию занимают и почти все идеалисты. Каждый из них,
создавая собственную философему, подвергает, как правило, критике не
материалистов, а другие идеалистические философемы, пытаясь
доказать свое превосходство над ними. Критика идеализма
идеалистами иной раз выглядит как отрицание идеализма вообще.
Например, известный итальянский философ Ф. Ломбарди, разделяя,
в основном, неогегельянские воззрения, тем не менее,
саркастически утверждает: «Реальность, о которой говорит нам идеализм,
реальность, будто бы возвышающаяся сама над собой, есть не что
иное, как барон Мюнхгаузен, который вытащил самого себя из
болота за волосы, однако с тем различием, что для идеализма не
существует ни болота, ни волос, ни даже того рыцаря во плоти и
крови, который должен спасти себя из болота» (256, 198). Эта
сардоническая характеристика идеализма отождествляет его с
субъективным идеализмом и, больше того, с солипсизмом. Такое
ограниченное понимание сущности идеализма позволяет истолковывать
объективный идеализм как неидеалистическую философию*.
* Один из первых исследователей экзистенциализма И. Пфефер, которому
это учение, подвергающее критике «дух абстракции», представляется
отрицанием идеализма, пишет: «Опасность идеализма - его призрачность: человек как
чистая разумная сущность, как сфера реализации идей отгораживается от скрытой
изначальности бытия и выступает против него» (283, 16-17). Фундаментальная
448
У. Джемс критикует идеализм как учение об абсолютном,
противопоставляя ему здравый смысл, который истолковывается
идеалистически. «Философы абсолюта обретаются на такой
высоте абстракции, что они никогда не пытаются спуститься с нее»
(67, 18).
Неокантианец Э. Кассирер, отвергая рационалистическую
метафизику, вместе с тем пытается на новый лад истолковать ее
основной онтологический постулат: положение, что бытие есть
«продукт мышления, не заключает... никакого указания на какое-либо
физическое или метафизическое причинное отношение, а
означает исключительно лишь чисто функциональное отношение,
иерархическое отношение к значимости определенных суждений» (88,
385). Иными словами, определение понятия «бытие», поскольку
оно совершается внутри мышления, не указывает на что-либо
находящееся вне мышления, так как то, что находится вне мышления,
не может быть предметом познания. Нетрудно понять, что такого
рода критика идеализма оказывается на деле его оправданием.
Родоначальник английской аналитической философии
Дж. Мур посвятил специальную работу критике идеализма. Он
пишет: «Современный идеализм, поскольку он вообще приходит
к общим выводам относительно вселенной, утверждает, что она
по природе своей духовна». Возражая против этого
основоположения объективного идеализма, Мур замечает, что столы, стулья,
горы должны считаться с этой точки зрения одной лишь
видимостью. Больше того: «Если утверждают, что вселенная обладает в
определенном смысле сознанием, то она также обладает тем, что
мы признаем более высокими формами сознания» (267, 49), т.е.
сверхчеловеческим сознанием.
Далее, развивая это возражение против объективного
идеализма, Мур замечает: «Если мы говорим, что вселенная духовна, мы
хотим тем самым сказать, что ей присущ целый ряд свойств,
которые отличны от тех свойств, которые мы приписываем звездам
или планетам, чашкам и блюдцам» (267, 50). Поскольку свойства
звезд, планет известны науке, а свойства чашек и блюдец
известны и обыденному опыту, объективный идеализм противоречит и
науке, и здравому смыслу.
изначальность человеческого бытия, о которой рассуждает экзистенциализм, не
есть, разумеется, отрицание идеализма. Подчеркивая конечность (смертность)
человека, субъективность индивидуальных переживаний, экзистенциализм лишь
противопоставляет рационалистическому идеализму иррационалистическую
форму идеалистического философствования, которое сочетается с убеждением,
что существование в человеческом смысле слова возможно лишь в
посюстороннем мире. Таким образом, идеализм никогда не возвышается до критического
понимания своего содержания.
15. Ойзерман Т.И., том 5
449
Мур выступает также против субъективного идеализма,
основное положение которого сформулировал Д. Беркли: esse est
percipi. «Я полагаю, - утверждает Мур, - что идеалист,
утверждающий, что объект и субъект необходимо связаны друг с другом,
не видит главным образом того, что они отличаются друг от
друга, что здесь вообще наличествуют две вещи» (267, 62).
Мур не считает себя идеалистом, так же как и материалистом,
однако анализ его учения дает все основания утверждать, что он
половинчатый, умеренный идеалист эмпирического толка.
Известный неотомист И.М. Бохеньски категорически
утверждает: «Ни одно из течений современной философской мысли в
Западной Европе не является идеалистическим». Идеализм, по
мнению Бохеньского, уступил место метафизике,
феноменологии, «философии жизни», экзистенциализму. Неотомизм, по
убеждению Бохеньского, также несовместим с идеализмом. Для
идеалистов характерно «неумение оценить материальный мир,
который они в конечном счете сводят к простой видимости» (200,
31).
Бохеньски, разумеется, ошибается, утверждая, что
метафизика, феноменология, «философия жизни», экзистенциализм не
являются идеалистическими учениями. Но это не только его личное
убеждение, но и убеждение представителей названных им
философских учений. Все они открещиваются от идеализма, имея в
виду главным образом рационалистический идеализм.
До сих пор речь шла о достаточно известных философских
идеалистах, которые отрекаются от идеализма. Стоит, однако,
подчеркнуть, что критика идеализма стала повседневным занятием
заурядных преподавателей философии. Вот один из них -
приват-доцент Э. Эренберг обвиняет Гегеля в онтологизации логики,
которая, как подчеркивает он, имеет дело лишь с человеческим
мышлением. Это справедливое критическое замечание
дополняется собственным воззрением автора: «... в чистом мышлении мы
обладаем единственным содержанием абсолютного знания,
таким содержанием, которое само себя обосновывает; чистое
мышление есть causa sui» (220, 35). Едва ли надо доказывать, что этот
идеалистический тезис заимствован у Гегеля, которого Эренберг
третирует как идеалиста.
Далее Эренберг обвиняет Гегеля в том, что тот сводит всё
существующее к самосознанию, приписывая ему сверхличностное
содержание «абсолютной идеи». Однако этому идеалистическому
основоположению Эренберг противопоставляет высказывание
вполне в духе Гегеля: «... тождество разума и действительности
само оказывается частью действительности. Подлинная
философия исключает противоречие между имманентной действитель-
450
ностью и имманентным разумом действительности; оба они для
нее значимы: то, что действительность имманентна разуму,
означает, что она - предмет философии» (220, 77).
От критики Гегеля Эренберг переходит к критике
неокантианцев (Г. Когена, П. Наторпа, Г. Риккерта). Всем им вменяется в
вину отрыв трансцендентальной логики от действительности; эта
логика «совершенно изолирована, существует сама по себе. Она
порвала с Богом и религией и вследствие этого стала чуждой
человеку, сознающему свою близость к Богу» (220, 125).
Излагая собственные воззрения, Эренберг подчеркивает:
«... действительная философия всегда занимает
примирительную позицию между абсолютно логическим и абсолютно
позитивистским принципами философии, ставит себя вне
противоположности между логикой и наукой, обосновывая себя как особую
действительность» (220, 127).
Я столь подробно остановился на во многом
невразумительных критических замечаниях и «собственных» воззрениях Эрен-
берга только для того, чтобы показать, что критика идеализма
идеалистами стала модой уже в начале прошлого века. Эта
критика не имеет ничего общего с самокритикой идеализма, она скорее
напоминает свару между единомышленниками, конкурентную
борьбу, претенциозные попытки сотворить собственную
философскую систему, т.е. обосновать, модифицировать идеализм.
Одной из примечательных особенностей идеализма XX в.
является стремление наряду с критикой некоторых идеалистических
учений (а нередко и идеализма вообще) открыть способ
примирения всех идеалистов. Особенно показателен в этом отношении
прагматизм. Это учение, отрицая рационалистическую
концепцию сверхопытного знания, и обосновывая субъективистскую
ревизию понятия истины, провозглашает своей задачей
окончательное преодоление философских споров. «Прагматический
метод, - писал Джемс, - это прежде всего метод улаживания
философских споров, которые без него могли бы тянуться без конца»
(67, 33). Основным условием преодоления конфронтации
философских учений является, как нетрудно понять, переход на
позиции прагматизма. Иными словами, Джемс пытался придать
прагматизму приемлемый для всех философских учений характер.
Поэтому он писал, что любое утверждение, если оно помогает
человеку согласовать свой новый опыт с запасом прежних
убеждений и таким образом облегчает достижение поставленной цели,
«упрощает, экономизирует труд» (67,41). Историко-философский
процесс представляет собой с точки зрения Джемса нечто вроде
коридора в гостинице, а философские системы - комнаты, кото-
15*
451
рые выходят в этот коридор. Коридор, так сказать, объединяет их,
ибо всем им в равной степени нужен. Прагматизм, утверждает
Джемс, и есть, собственно говоря, сей коридор, который так или
иначе указывает путь в общее пространство для всех.
Если противники ортодоксальной схоластики обосновывали
принцип двойственности истины, т.е. отстаивали независимость
знания от религиозной веры, то Джемс объявил любые
философские положения истинными, раз они могут «так сказать, везти нас
на себе» и тем самым удовлетворять наши потребности. Вопрос об
интеллектуальной потребности в истине, независимой от прочих
потребностей, фактически снимается с обсуждения. Даже
пресловутая полезность, поскольку она возводилась в критерий истины,
объявляется, в сущности, лишенной какого-либо общепринятого
смысла, так как каждый человек способен сам определить, что для
него полезно. Тем не менее Джемс пытался придать принципу
полезности, преодолевающему, по его мнению, «схоластическую»
концепцию истины в себе, ведущую роль. Так, он доказывал, что
некоторые идеи, в сущности, работают на всех. К ним он относил,
в первую очередь, религиозные представления, а затем также идеи,
которые в наименьшей степени изменяют привычные,
устоявшиеся убеждения. Короче говоря, прагматистская концепция истины
как разновидности благого оказалась в высшей степени
консервативной как в научном, так и в социально-политическом
отношении. Этот философский и социально-политический консерватизм,
провозглашенный единственным способом устранения
принципиальных разногласий, был не чем иным, как попыткой утвердить
прагматизм в качестве универсальной философии.
В России с претензией на окончательное преодоление
конфронтации в философии выступил Н. Лосский,
провозгласивший, что только интуитивизм, радикально пересматривая
отношения между взаимоисключающими философскими системами,
освобождает их от абсолютистских претензий, способствуя их
полному и окончательному примирению друг с другом. «В самом
деле, - утверждал Лосский, - устраняя предпосылку, бывшую
источником односторонности старых направлений, интуитивизм
вместе с тем не то чтобы разрешает важные спорные вопросы в
пользу одной или другой из тяжущихся сторон, а идет еще
глубже, именно устраняет самую почву для возникновения спора,
показывает, что он основывается на недоразумении и что спорящие
партии, как односторонние, были отчасти правы и отчасти
неправы» (106, 337-338).
Своеобразную попытку примирения всех философских
учений (исключая, разумеется, материализм) предприняли предста-
452
вители философии лингвистического анализа. Укажу, в частности,
на монографию французского адепта этой философии Л. Ружье
«Метафизика и язык».
Ружье различает первичный и вторичный языки. Первый
состоит из констатации, т.е. предложений, которые не содержат
логических терминов и могут быть поэтому названы «атомарными».
Такие предложения выражают чувственно данное и
составляющие их слова непосредственно относятся к объектам. Поэтому
атомарные предложения не требуют верификации, а образуемый
из них «первичный язык» есть просто язык фактов,
несовместимый с «идеалистическими» заблуждениями. Иное дело
«вторичный язык», состоящий из «молекулярных предложений», которые
складываются из предложений «первичного языка», связанных
логическими константами. Молекулярные предложения
включают в себя также понятия ценности (истинное, ложное),
квантификаторы (один, все, несколько), модальные понятия
(необходимый, случайный, возможный) и т.д. Всего этого нет в реальном,
предметном мире, т.е. природе. Природа не знает ни отрицания,
ни несовместимости, ни альтернативы, выражаемой
дизъюнкцией или гипотетическим суждением, которое включает в себя если,
немыслимое в природе. В ней нет ни классов, ни
квантификаторов, ни модальностей вроде вероятный, возможный и т.п. Такие
термины, как «смысл», «значение», «истинный», «ложный»,
относятся не к вещам, а только к словам. В природе имеются лишь
единичные факты, и поэтому предложения «вторичного языка» не
суть высказывания о фактах. К примеру, предложение «существо
смертно или бессмертно» не содержит в себе ничего, кроме
тавтологии («существо смертно»), поскольку вопрос о
существовании бессмертного существа не является предметом обсуждения.
Предложение «мир конечен или бесконечен» не есть выражение
хотя бы частичного знания о мире, так как сама возможность
этого или обусловлена лишь ситнтаксической структурой языка, т.е.
не имеет отношения к какому-либо достоверному или
проблематичному знанию.
Если естествознание формулирует эмпирически
верифицируемые предложения, то философия (поскольку она не принимает
принципов философско-лингвистического анализа) занимается
чистейшим вербализмом. Не разграничивая первичный и
вторичный языки, она смешивает различные языковые порядки,
уровни (например, формальный и физический), свойства названий и
свойства предметов и т.д. Вследствие этого возникают
псевдопроблемы, псевдопонятия, псевдоутверждения. Метафизика -
наиболее наглядное выражение этого языкового заблуждения.
453
История метафизики, подчеркивает Ружье, в значительной своей
части есть игра слов вокруг глагола «быть», превращенного в
существительное с помощью определенного артикля, имеющегося
в греческом и других языках*. Метафизика Аристотеля основана
на этой логической передержке, которая была бы, например,
невозможна в арабском языке. К слову сказать, Ружье не считает
нужным объяснить, почему же наиболее выдающиеся
последователи Аристотеля в эпоху европейского средневековья были
именно арабоязычными философами. Он просто заявляет: «Понятие
"быть", на котором основывается вся онтология, - это лишенное
содержания понятие, которое не соответствует какому бы то ни
было живому опыту» (289, 21). Заимствуя этот аргумент у
материалиста Гоббса (или у тех, кто осуществил это заимствование до
него), Ружье в отличие от Гоббса использует его как для критики
идеализма, так и для критики материалистической философии.
Метафизика, утверждает далее Ружье, приписывает свойства
предметов классам, которые представляют собой специфические
лингвистические образования, не более того. Класс «не обладает
какими-либо свойствами, которые присущи составляющим его
индивидам: класс смертных не является смертным, класс цветов
не имеет окраски, класс всей совокупности чисел не есть целое
число» (289, 201). На этом пути возникают философские
категории, которые не заключают в себе никакого эмпирического
содержания, поскольку они почерпнуты не из вещей, а из языка.
И Ружье полагает, что все философские категории, ведущие свое
начало от Парменида, Платона, Аристотеля, представляют собой
бессодержательные фикции. К таким фикциям он относит
понятия материи, сущности, субстанции и т.д.
Можно согласиться с Ружье, когда он, критикуя
спекулятивный вербализм, ссылается на хайдеггеровское разграничение
понятий: das Sein, das Seiende, das Seienddasein, die Seienheit,
Unsein, Dasein, Sosein, das Andersein, показывая, что этому
разграничению не соответствуют действительно существующие
различия. История философии свидетельствует о том, что слова,
которым философы придают понятийную значимость, нередко
лишены приписываемого им содержания. Это относится не только
* Ружье также утверждает: «Немецкий язык благодаря фундаментальной
роли, которую он предоставляет глаголам, выражает гораздо лучше, чем,
например, французский язык, подвижные аспекты реальности, идет ли речь о
процессах природы или о течении сознательной жизни... Он имеет призвание к
философии становления» (289, 191). Такое объяснение диалектической
философской традиции в Германии носит не просто лингвистический, а в сущности
лишь вербальный характер.
454
к средневековой схоластичекой философии, но и к
последующему философскому развитию. Та или иная комбинация слов, сама
по себе лишенная смысла, обрастает содержанием, становится
осмысленным выражением вроде ницшевского выражения «Бог
умер». Существует ли Бог или нет, и в том и в другом случае он не
может умереть. Но Ницше придает своему выражению
метафорический смысл, имея в виду религиозное сознание, хотя оно также
не умерло, не стало иррелигиозным. Так или иначе, но
запущенное Ницше в оборот выражение стало обсуждаться, обрастало
все новыми смыслами. Такова и судьба провозглашенного
структурализмом основоположения: субъект (человек) умер. Само по
себе бессмысленное утверждение благодаря сопровождающим
его пояснениям, комментариям обретает определенный, уже не
парадоксальный смысл.
Постмодернистская философия (особенно в ее французском
варианте) широко пользуется указанным приемом, придавая
словам и комбинациям слов новаторский смысл и претендуя тем
самым на создание принципиально новой, обладающей эпохальным
значением философии*.
Язык - форма сознания, мышления, единство которой с
содержанием носит противоречивый характер, хотя бы уже потому,
что в словах выражается лишь общее. Потому-то возможны слова,
а также предложения, обладающие лишь мнимым содержанием.
С другой стороны, знание далеко не всегда получает адекватное
выражение в языке, развитие которого как раз и стимулируется
потребностью такого адекватного выражения. Поэтому и
идеалистическая критика идеализма коренится не столько в процессе
познания, сколько в языковой сфере, как это особенно наглядно
выражено в философии лингвистического анализа.
Заблуждение Ружье заключается не в том, что он связывает
критику метафизики с анализом языка, а скорее в том, что он сво-
* Показательна в этом отношении монография Ж. Делёза и Ф. Гваттари
«Что такое философия?» (СПб., 1998). Отвечая на поставленный вопрос, авторы
утверждают: «Философия - это искусство формировать, изобретать,
подготовлять концепты» (66, 10). «Творить новые концепты - таков предмет
философии» (66, 14). «... Одна лишь философия способна творить концепты в строгом
смысле слова... Чего стоит философ, если о нем можно сказать: он не создал ни
одного концепта...» (там же). Концепты - не что иное как концепции, которым
Делёз и Гваттари придают принципиальное отличие от образуемых познанием
концепций. Поэтому авторы книги приходят к выводу: «Философия состоит не
в знании и вдохновляется не истиной, а такими категориями, как интересное,
примечательное или значительное, которыми определяется удача или неудача»
(66, 108). Таким образом, традиционное противопоставление философии науке
приобретает в этой постмодернистской концепции радикальный характер.
455
дит философские проблемы к лингвистическим недоразумениям.
Действительное содержание метафизики, а также его социальная
обусловленность сбрасываются со счетов. Поэтому у него
получается, что отличие немецкой философии от французской
определяется языковыми различиями. На вопрос, чем объясняется
идеалистическая критика идеализма, ни Ружье, ни другие философы
не могут дать ответа. Между тем соперничество между
идеалистическими учениями, так же как реальное содержание
философского спора - очевидный факт. Столь же очевидно, что обновление
идеализма путем критики идеалистических учений обусловлено
социально-экономическими сдвигами и существенными
изменениями в культуре и идеологии.
Как правильно отметил Б. Рассел, представители
«аналитической философии» считают старомодной причудой стремление
понять мир. С этой «аналитической» точки зрения, любое
философское воззрение на окружающую человека действительность
оценивается как игра словами. Философия лингвистического
анализа, давшая в ряде отношений ценную критику спекулятивного
вербализма, в конечном счете сама оказалась в сетях вербализма,
поскольку она пыталась свести содержание философских учений
к словам, посредством которых они лишь излагаются*. Такова и
судьба идеалистической критики идеализма.
2. Кто критикует материализм?
Известное «марксистско-ленинское» положение о том, что
борьба материализма против идеализма образует основное
содержание философии, как уже разъяснялось в предшествующих
главах, опровергается фактами. Это, правда, отнюдь не исключает
того, что те или иные выдающиеся философы критикуют
материализм, не входя, как правило, в сколько-нибудь обстоятельный
анализ его содержания. Так, например, У. Джемс выступил
против материалистического положения о возникновении высшего
* Следует согласиться с Г. Маркузе, который пишет: «Современная
аналитическая философия намеревается изгнать такие «мифы» или метафизические
«призраки», как Ум, Сознание, Воля, Душа, Я, растворяя интенцию этих
понятий в высказываниях по поводу конкретных однозначно определяемых
операций, действий, сил, положений, склонностей, умений и т.д. Но как это ни
странно, результат обнаруживает бессилие деструкции - призрак продолжает
являться» (261, 464). Далее Маркузе справедливо подчеркивает, что «ни одна
из этих переформулировок, ни их общая сумма, по-видимому, не в состоянии
ни схватить, ни даже очертить полное значение таких терминов, как Ум, Воля,
Я, Добро» (261, 464).
456
из низшего, несмотря на то что это положение приобрело
общенаучное значение. Для материализма, писал Джемс, характерно
стремление «объяснить высшие явления низшими и ставить
судьбы мира в зависимость от его слепых сил» (67, 60-61). С точки
зрения «радикального эмпиризма» Джемса «слепые», т.е.
неорганические, неодушевленные процессы природы обусловлены
«высшими явлениями, такими, как воля и сознание*.
Ж.-П. Сартр, который в «Критике диалектического разума»
характеризовал материалистическое понимание истории как
наиболее аутентичное понимание общественной жизни, в другой своей,
правда, более ранней работе утверждает: «Всякий материализм
приводит к тому, что люди, в том числе и сам философ,
рассматриваются как предметы, то есть как совокупность определенных
реакций, ничем не отличающаяся от совокупности качеств,
которые образуют стол или стул, или камень» (154, 21).
Видный представитель неопозитивизма Ф. Франк утверждает,
что науки о природе изучают металлы, металлоиды, химические
явления, физические закономерности, а вовсе не материю,
которую материалисты объявляют субстанцией, изначально
существующей, вечной, неуничтожимой и т.д. Он, следовательно,
отрицает, что общее существует в единичных вещах, а не отдельно
от них, что оно, это общее, материалисты (как и большинство
естествоиспытателей) называют материей. «Понятия "материя",
"причина и действие" и им подобные являются теперь терминами
только обыденного здравого смысла и не имеют места в строго
научном рассуждении» (173, 114).
И Джемс, и Сартр, и Франк ограничиваются критическими
репликами в адрес материализма. По-настоящему, обстоятельно,
пожалуй, даже скрупулезно критикой материализма
занимаются, так сказать, рядовые представители философии,
университетские профессора. Наглядным примером этого может служить
книга О. Куна «Опровержение материализма». В ней прежде
всего констатируется, что материализм получил, увы, повсеместное
распространение. «Современный человек является сторонником
материализма» (251, 38). Причиной этого, полагает Кун, является
* Джемс в данном случае высказывается в духе чуждого ему идеализма
Гегеля, который вопреки фактам, свидетельствующим о том, что переход от
высшего к низшему происходит лишь в процессе разложения более высокой формы
развития, утверждал, что высший организм является «масштабом и прообразом
для менее развитых» (46, 518). Гегель, констатируя наличие целесообразных
отношений в определенной области природных явлений, истолковывал этот факт
как обнаружение высшей духовной инстанции, устанавливающей эти
отношения. Джемс, в сущности, следует примеру Гегеля, хотя его не интересуют
проблемы натурфилософии.
457
неоправданно высокая оценка мировоззренческого значения
физики, которая, вопреки этой оценке, занимается только
«низшими» сферами бытия, вследствие чего распространение
физико-химических методов на исследование жизни, духовных
процессов абсолютно лишено оснований. Выдающийся прогресс,
достигнутый естествознанием благодаря развитию биохимии,
биофизики и родственных им научных дисциплин, осуждается
Куном, поскольку эти успехи наук о природе подкрепляют,
оправдывают, обосновывают материалистическое понимание
жизни. «Современный человек видит в материи единственную
реальность. Согласно его твердому убеждению, не существует ни
души, ни Бога; психическое есть просто существующее явление,
эпифеномен весьма сложных материальных процессов в мозге и
в других частях нервной системы» (251, 38). Материализм, с
точки зрения Куна, представляет собой механистическую систему
взглядов. Эту чуждую современному материализму
мировоззренческую установку Кун приписывает также генетике. «Генетика
представляет собой механистически ориентированную отрасль
биологии» (251, 9). Упростив таким образом как материализм, так
и биологию, Кун утверждает, что с помощью витализма
действительность, а также естествознание могут быть постигнуты в
принципиально новом, противоположном материалистическим
воззрениям духе. Достаточно лишь признать, что жизнь изначально
субстанциальна, что она предшествует всему неорганическому
и тогда осененное этим идеалистическим откровением
естествознание искоренит материалистическую крамолу. Навязывая науке
чуждую ей концепцию витализма, Кун заявляет, что эволюция
носит целенаправленный характер, что предполагает
сверхприродную разумную причину, которую неспособен постигнуть
материализм и проникнутое его духом естествознание. Он возлагает свои
надежды на... парапсихологию, которая характеризуется им как
наука, свободная от механицизма, а значит и материализма.
«Парапсихология полностью ниспровергает материализм» (251, 131).
То обстоятельство, что такой науки не существует, нисколько не
смущает бравого критика материализма.
Несколько солиднее Куна выглядит другой критик
материализма неотомист И. де Фриз. Он признает, что между
сознательными действиями человека и физиологическими процессами
наличествует теснейшая связь. Человеческая душа, поскольку она
связана с тленным телом, не должна считаться сверхприродным
феноменом. «Она вполне принадлежит области природы, и те
факты опыта, которые нам известны, также недостаточны для
того, чтобы свести ее к особенному, непосредственному творе-
458
нию Бога; это так лишь в том смысле, что все сущее, вследствие
своей конечности, обязано своим существованием
всепроникающей творческой мысли Бога» (230, 102). Вынужденные
оговорки, к которым прибегает де Фриз, говорят о том, что неотомисты
стремятся согласовать свое учение с научными данными. При
этом, однако, они отстаивают убеждение, согласно которому
научные данные в принципе недостаточны для понимания
природы духовного. Мышление, несомненно, связано с центральной
нервной системой, признает И. де Фриз. Но материализм, по
мнению неотомиста, застревает на констатации этого факта, не
смеет идти дальше. «Спрашивается, однако, достаточно ли
мозга для философского объяснения сознательной жизни?» (230,
88). Разумеется, недостаточно. Однако неотомист умалчивает
о том, что сознательная жизнь людей, различные формы
общественного сознания обусловлены общественным бытием, всей
совокупностью социальных отношений - экономических,
политических и т.д.
Мы видим, таким образом, что критикой материализма
занимаются не столько выдающиеся философы, сколько, так сказать,
рядовые философского цеха. Причины, которые побуждают их
заниматься критикой материализма, носят не только
философский, пожалуй, главным образом не философский, а
идеологический характер. Но об этом подробнее ниже.
3. Партийна ли философия?
В.И. Ленин в ряде своих работ обосновывал тезис о
партийности философии, утверждая, что существуют две основные
философские партии - материализм и идеализм, которые постоянно
борются друг против друга, причем эта борьба отражает борьбу
между прогрессивными и реакционными классами. Ленинская
концепция партийности философии противоречила его
собственным высказываниям о том, что целью познания является
достижение объективной истины, которая по своему содержанию не
зависит от сознания и воли людей.
Ленинская концепция партийности философии приводила к
идеологизации всего содержания философии, к истолкованию
любого философского спора как идеологической формы классовой
борьбы. Эта концепция носила, по существу, субъективистский
характер, что наглядно выявилось в ленинской критике
«буржуазного объективизма». Маркс, как известно, требовал от человека
науки строгого соблюдения объективности. Он утверждал:
«...человека, стремящегося приспособить науку к такой точке зрения,
459
которая почерпнута не из науки (как бы последняя ни ошибалась),
а извне, к такой точке зрения, которая продиктована чуждыми
науке, внешними для нее интересами, - такого человека я
называю "низким"» (115, 26, ч. II, 125)*.
Философия немыслима без постоянного, никогда не
прекращающегося спора, так же как и без постоянных попыток найти
эффективный путь к прекращению этого спора, который нередко
принимает скандальный характер. Ф. Бэкон в своем учении об
идолах (призраках) ставит вопрос об антропологических
причинах заблуждений, которые неизбежно приводят к разногласиям
среди философов и поэтому к непрекращающемуся спору.
Несмотря на убеждение в том, что некоторые из этих призраков
неотделимы от человеческой природы, Бэкона не оставляла
надежда покончить с помощью научно разработанного
индуктивного метода не только со схоластическими словопрениями, но и
со всеми серьезными разногласиями в среде ученых вообще, так
как практические успехи («изобретения») всегда помогут
отличить истину от заблуждения. Философский спор представлялся
ему пустопорожним занятием ученейших и в то же время
невежественных схоластов; таковы и в самом деле были дискуссии в
тогдашней философии, против которых поднял восстание Бэкон.
Страстный приверженец «натуральной философии»
(естествознания), которой, как он полагал, всегда пренебрегали потому,
что предпочитали химеры действительности, Бэкон был весьма
далек от сознания того, что ученые, неукоснительно следующие
разработанным им правилам индуктивного вывода, также не
* Стоит подчеркнуть, что точка зрения Маркса является развитием
традиции, порожденной прогрессивной общественной жизнью. Так, Б. Франклин,
выдающийся исторический деятель эпохи американской буржуазной
революции, в статье «Правила клуба, учрежденного для взаимного
совершенствования» писал, что членом этого клуба может стать лишь тот, кто положительно
отвечает на вопрос: «Любите ли вы истину ради истины и будете ли вы стараться
беспристрастно искать и признавать ее для себя и передавать ее другим?» (176,
53). Эта «объективистская» позиция вполне сочеталась с активной борьбой за
освобождение США от колониальной зависимости от Великобритании. Этот
«объективизм» не имеет ничего общего с такого рода «беспристрастностью»,
которую проповедует, например, бельгийский философ Л. Флам,
утверждающий, что «...философия не должна служить никому: ни теологии, ни науке, ни
социальному движению. Требовать от философа, чтобы он служил
социальному движению - значит требовать, чтобы он перестал быть философом» (228,
190). Фламу, очевидно, не приходит в голову, что проповедуемая им надпартий-
ность философии означает на деле не что иное, как безразличие, равнодушие,
индифферентизм по отношению к коренным социальным проблемам, не только
социально-политическим, но также научным, научно-техническим,
экологическим и т.д.
460
свободны от иллюзий и связанных с ними, порой
фантастических, представлений.
Р. Декарт считал абсолютным критерием истины такого рода
ясность и отчетливость представлений, которая делает
невозможным какое бы то ни было сомнение. Он полагал, что ученые,
придерживающиеся этого критерия истины, не будут вступать в
изнурительные дискуссии, причиной которых, как казалось ему,
было именно отсутствие ясности и отчетливости
представлений. У него не возникало мысли о том, что отсутствие критерия
ясности и отчетливости представлений делает последние
субъективными, чреватыми заблуждениями. Требование ясности и
отчетливости понятий и высказываний, несомненно, сыграло
выдающуюся революционную роль в эпоху Декарта. Это
требование способствовало весьма эффективным образом
разоблачению интеллектуальной тьмы, которую породило схоластическое
философствование. Однако взятое само по себе,
безотносительно к эпохе Декарта, это требование может привести к
заблуждениям, в частности, к мнимой удовлетворенности понятиями
и представлениями, которым кроме ясности и отчетливости не
присуще сколько-нибудь существенное (а тем более истинное)
содержание. Это обстоятельство правильно подчеркивает
философски мыслящий писатель Т. Уайльдер: Ясность
представлений - великая добродетель, но тот, кто прежде всего ищет
ясности, рискует упустить что-то важное, ибо есть истины, для
уяснения которых необходимо терпение и вера. Требование
ясности или хотя бы логики немедленно и во всем сушит ум,
постепенно суживает кругозор.
Рационалистическая метафизика XVII в. была свободна от
иллюзий философского и естественнонаучного эмпиризма. Но у
нее были другие иллюзии, возникавшие вследствие
одностороннего истолкования математики и абстрактного представления о
разуме и логическом процессе вообще. Фетишизация
интеллектуальной интуиции и будто бы имманентно присущей ей
неоспоримой очевидности породила убеждение, что можно
навсегда покончить с коренными философскими разногласиями, если,
следуя примеру математики, исходить из аксиоматических истин
и строго логически развивать вытекающие из них выводы.
Попытка применять в философии математический метод привела
рационалистов-метафизиков к отождествлению эмпирических
оснований с основаниями логическими, причинности - с
логической необходимостью. Иными словами, рационалистическая
интерпретация математики стала причиной такого рода
заблуждений, которые невозможны в математике, где логический вывод
461
сам по себе не считается описанием объективной
действительности и может стать таковым лишь постольку, поскольку он
эмпирически интерпретируется*.
Д. Юм, подвергавший критике метафизические системы с эм-
пиристских позиций, отрицал возможность продуктивного
философского спора. Указывая на то, что нет вопросов, которые не
были бы предметом спора и относительно которых спорящие
стороны не придерживались бы противоположных убеждений, он
заключал: такова уж природа полемики, в которой победа достается
не разуму, а красноречию. «Победу одерживают не вооруженные
люди, владеющие копьем и мечом, а трубачи, барабанщики и
музыканты армии» (193, 80).
Кант, выступивший с радикальной критикой
рационалистической метафизики XVII в., обосновывал тезис о неспособности
чистого (т.е. независимого от чувственных данных) разума
решать какую бы то ни было познавательную задачу. Исходя из
этого тезиса, Кант отрицательно относился к философскому спору,
так как спорящие стороны, по его убеждению, отстаивают
одинаково недоказуемые теоретические положения: одни, например,
утверждают, что Бога нет, а другие - что он существует. Но так
как теоретический разум не способен решать вопросы,
выходящие за пределы возможного опыта, то «в сфере чистого разума
не может быть настоящей (т.е. продуктивной. - Т.О.) полемики.
Обе стороны толкут воду в ступе и дерутся со своими тенями, так
как они выходят за пределы природы, туда, где для их
догматических уловок нет ничего, что можно было бы схватить и удержать»
(80, 628-629). Кант, однако, считал неизбежным и безусловно
необходимым спор между философией, с одной стороны, и
теологией и юриспруденцией - с другой, поскольку те имеют своей
основой не «законодательство разума», а указания власть
предержащих. Поэтому в «Споре факультетов» - сочинении, посвящен-
* Современная математика показывает, что аксиомы, которые
представлялись рационалистам самоочевидными абсолютными истинами, в
действительности не являются таковыми. Академик П.С. Новиков указывает: «Ясно, что
соответствие между аксиомами и предметами реальности всегда имеет
приближенный характер. Если мы, например, поставим вопрос - удовлетворяет ли
реальное физическое пространство аксиомам геометрии Евклида, то
предварительно мы должны дать физическое определение геометрических терминов,
содержащихся в аксиомах, как то: "точка", "прямая", "плоскость" и др. Иными
словами, нужно указать те физические обстоятельства, которые этим терминам
соответствуют. После этого аксиомы превратятся в физические утверждения,
которые можно подвергнуть экспериментальной проверке. После такой
проверки мы можем ручаться за истинность наших утверждений с той степенью
точности, какую обеспечивают измерительные приборы» (126, 13).
462
ном выяснению отношения философии к теологии и
господствующим правовым установкам, Кант утверждает: «Спор никогда не
может прекратиться, и именно философский факультет должен
быть всегда готов к нему» (80, 331).
В «марксистско-ленинской» философской литературе
разногласия между философами сводились к противоположности
материализма и идеализма, к борьбе между ними. Как ясно из
предшествующего изложения, такое представление не выдерживает
критики. Материализм и идеализм характеризовались
«марксистами-ленинцами» как две главные партии в философии, борьба
между которыми образует основное содержание всего
историко-философского процесса. Это догматическое положение явно
противоречит не вызывающим каких-либо сомнений фактам.
Идеалисты постоянно ведут борьбу против других идеалистов;
создатели одной идеалистической системы выступают против
других систем идеализма. Поэтому идеалисты никоим образом
не образуют союза единомышленников, т.е. партии.
Материалисты, в отличие от идеалистов, не противостоят
друг другу, не проповедуют враждующие друг с другом учения.
Но едва ли можно объединить в одну партию Демокрита,
французских материалистов XVIII в., Л. Фейербаха и так называемых
вульгарных материалистов - К. Фогта, Л. Бюхнера, М. Молешот-
та. Значит ли это, что идея партийности философии лишена
смысла? Никоим образом. Следует, однако, правильно понять эту черту
философии, не отождествлять ее с борьбой политических партий.
Философы, как правило, подчеркивают надпартийностъ своего
учения, имея при этом в виду их отношение к политическим
партиям. Они всегда настаивают на необходимости беспристрастного
исследования. Нужно, писал Гегель, «не давать воли собственным
видам и особенным мнениям, которым всегда охота показать себя»
(45, 342). Но тот же Гегель, несмотря на свойственную ему
абсолютизацию самосознания, осмеивал требование, согласно
которому «историк философии должен быть совершенно
беспартийным». Это требование, писал он, в особенности «предъявляют к
истории философии, в которой не должны, как думают,
проявляться никакие пристрастия в пользу того или иного
представления или мнения, подобно тому, как судья не должен быть
как-либо особенно заинтересован в пользу одной из спорящих сторон.
По отношению к судье предполагается, однако, в то же время, что
свою служебную обязанность он исполнял бы нелепо и плохо,
если бы он не имел интереса, и притом даже исключительного
интереса, к праву, если бы это право он не ставил себе целью,
и притом единственной целью, и если бы стал воздерживаться
463
от вынесения приговора. Это требование к судье можно назвать
партийным отношением к праву, и эту партийность
обыкновенно очень хорошо умеют отличать от партийности
субъективной. Однако в беспартийности, требуемой от историка,
упомянутое различие стирается в пошлой, самодовольной болтовне»
(43, 330-331). Точка зрения Гегеля, сочетающая объективность и
партийность, не получила значительного распространения в
западноевропейской философии XIX-XX вв.
Большинство философов третируют идею партийности
философии как чуждую науке и привнесенную в нее извне. Идея
партийности философии сплошь и рядом выдается за «изобретение»
марксизма, якобы порывающее с вековыми научными
традициями. И.М. Бохеньски, третирующий диалектический материализм
буквально как дьявольское наваждение, противопоставляющий
ему идеалистические и теологические догмы, тем не менее
утверждает, что философ «не испытывает потребности одержать
победу в споре. Он всегда готов отказаться от своей точки зрения,
если обнаружит, что идеи другого человека более правильны»
(200, 178). Но, по-видимому, сознавая, что это елейное
рассуждение слишком уж противоречит фактам, Бохеньски
присовокупляет: «Конечно, все мы люди» (200, 178)*.
В вопросе о партийности философии философов можно
разделить на две группы. Одни отстаивают идею беспартийности
философии, другие, напротив, утверждают, что философия
партийна. Представители первой группы полагают, что социальная
позиция философа находится в конфликте с природой философии
и должна быть рассматриваема просто как человеческая слабость.
Лидер аналитической философии Дж. Райл называет философов
людьми, «философствующими о философах» (283ь, 4), выражая в
этих словах не только убеждение в независимости философии от
других форм знания, но и разочарование в философии.
* Идеологический подтекст брутальной оценки материализма с похвальной
откровенностью высказал известный американский государственный деятель
Д.Ф. Даллес: «Мы не сможем сохранить свое существование, если превратимся
в нацию материалистов» (219а, 240). Материализм Даллесом характеризуется
не столько как философия, сколько как своекорыстная жизненная позиция.
Подобным же образом Даллес критиковал и «некоторых идеалистов, которые
стремятся усовершенствовать мир» (219а, 165). Вполне в духе Даллеса
американский политолог Э.М. Берне призывал применять полицейские меры к
приверженцам материализма, которым приписывалось «циническое презрение
к человеческой природе и отрицание того, что смертные могут побуждаться к
действиям также благородными мотивами» (204, 74-75). Такая, с позволения
сказать, оценка материалистической философии не имеет ничего общего с
философской критикой.
464
Г. Ромбах, немецкий философ, близкий к неотомизму, с
сожалением констатирует удаление философии от
социально-политической действительности, особенно характерное, по его мнению,
для XX века: «... философия больше не обращается вовне, а
говорит лишь сама с собой; она существует благодаря специалистам
и для специалистов». Философ, пишет он далее, не является «ни
профессиональным политиком, ни учителем, так же как не
является он теологом, судьей или врачом». Из этой банальной
констатации профессиональности философской деятельности
делается, однако, далеко идущее заключение: философ «важен лишь
для самого себя и живет в своих мыслях, как отшельник в своей
келье» (288а, 350). Создается впечатление, что мнимая
«беспартийность» философии не удовлетворяет Ромбаха, хотя он и не
высказывается в пользу партийности философии, предпочитая,
по-видимому, нейтральную позицию.
Вторая группа философов прямо или косвенно утверждает,
что философия партийна. Характерна в этом отношении позиция
И. Тэна, который, с одной стороны, полагает, что всякое
проявление партийности философии означает отказ от бескорыстного
искания истины, а, с другой стороны, исключает возможность
надпартийной философии, ибо философы в общем не так уж
отличаются от других людей: у них те же страсти, верования,
субъективные предпочтения. «Их мнения - это их чувства, их
верования - страсти, а их вера - их жизнь» (167б, 127). Таким образом,
Тэн, придерживаясь традиционного убеждения о необходимости
надпартийности в философии, разделяя свойственное
сторонникам этого убеждения представление о пагубности партийности
философии, вместе с тем, если не прямо, то косвенно признает,
что философы, как и все люди, не могут обойтись без
предпочтений, которые сплошь и рядом оказываются своеобразной
партийностью.
Современник И. Тэна Ф. Ницше, в сочинениях которого
просвечивается предчувствие грядущих социальных катаклизмов,
разрушает традиционное представление об умозрительном
философствовании, якобы не оказывающем существенного влияния на
общественную жизнь. «Я понимаю философа, - пишет он, - как
страшный взрывчатый материал, представляющий колоссальную
опасность, я отделяю свое понятие философа от понятия, в
которое укладывался еще Кант, не говоря уже об академических
и других профессорах философии» (125, 735). В лице Ницше
часть философов XX в. открыто признает, что борьба
философских идей не есть такого рода зрелище, которое можно наблюдать
бесстрастным взором: мы вольно или невольно, сознательно или
465
бессознательно, участвуем в ней, становясь приверженцем того
или иного философского учения.
То, что вода состоит из водорода и кислорода, а не из
других элементов, воспринимается человеком просто как факт, без
протеста или одобрения. Но человеку далеко не безразлично то,
что говорит философия о вещественном и невещественном, о
теле и душе, об окружающем нас мире, о будущем человечества
и даже о его прошлом. «Не следует смешивать объективность с
объективизмом», - заявляет известный французский иррациона-
лист Э. Бутру (208, 43). Это положение примыкает к
высказываниям Ницше и вместе с тем идет дальше. Бутру
противопоставляет объективность объективизму. Его критика объективизма
не только далека от научности, она прямо нацелена против нее.
Объективизм, утверждает Бутру, есть сфера научного
исследования, которое элиминирует отношение человека к объекту даже
тогда, когда этот объект сам человек. Объективность, в отличие
от объективизма, чужда науке и образует специфическое
достояние философии, которая вносит во все свои суждения
человеческое, человечное отношение к предмету познания. Философская
объективность, таким образом, приближается к «естественной»
человеческой субъективности, которая противостоит бездушному
объективизму научного познания. Эта концепция, если не прямо,
то косвенно означает пересмотр традиционной концепции над-
партийности философии.
От Бутру не так уж далеко до экзистенциализма, который
определяет научные истины как безличные, а философию - как
заинтересованный, личностный взгляд на вещи, и прежде всего
на «человеческую реальность». М. Хайдеггер, правда, не говорит
прямо о партийности философии. Он рассуждает о «настроении
мышления», которое в полной мере сохраняет свою
направленность и в чистом умозрении, свободном от чувственных
побуждений или интересов. «Часто дело выглядит так, - пишет
Хайдеггер, - как будто бы мышление в силу рационального характера
своих представлений и операций совершенно свободно от
какого-либо настроения. Но и холодный расчет, и трезвость плана
являются признаками настроенности. И не только это: даже
разум, как таковой, считающий себя свободным от всякого влияния
страстей, настроен на доверие к логико-математическому анализу
своих принципов и правил» (234, 43).
Если Хайдеггер ограничивается признанием
обусловленности разума, мышления независимыми от них, однако же
субъективными факторами, то К. Ясперс ставит все точки над «и».
466
В «Автобиографии» он утверждает, что именно политика
способствует углублению философского понимания: «...лишь
благодаря тому, что меня захватила политика, моя философия обрела
полноту сознания» (243а, 57). И обобщая вывод, почерпнутый
из собственной интеллектуальной биографии, Ясперс
категорически заявляет: «Нет философии без политики и политических
выводов» (243а, 56). Партийность философии с точки зрения Яс-
перса является фактом, который непозволительно игнорировать.
Суть дела не просто в личности философа, а в идеях, которые он
обосновывает.
Третий выдающийся представитель экзистенциализма
Ж.-П. Сартр пытается осмыслить в социальном плане
противоположность материализма и идеализма. «Одна из черт идеализма,
которая в особенности отталкивает революционера, это
тенденция представлять изменения, совершающиеся в мире, как
управляемые идеями или, вернее, как изменения в идеях» (291а, 210).
В противоположность идеализму материализм представляет
собой, по убеждению Сартра, «действенное оружие». Это, заявляет
он, не прихоть интеллигентов или ошибка философов: «... ныне
материализм является философией пролетариата в той мере, в
какой он революционен» (291а, 174). Однако Сартр не связывает
революционное значение материализма с содержащейся в нем
объективной истиной. Его оценка материализма сугубо прагматична:
это «единственный миф, соответствующий революционным
требованиям» (291а, 175).
В связи с сартровской оценкой политического смысла
материализма и идеализма уместно подчеркнуть роль этих
направлений в действительном историко-философском процессе.
Материализм Эпикура обосновывает необходимость атараксии,
разумной безмятежности, наслаждения покоем. Иное дело
материалистические учения Нового времени, в особенности
французский материализм XVIII в. Достаточно сослаться хотя бы на
такое высказывание Д. Дидро, опубликованное в издававшейся
под его руководством «Французской энциклопедии»: «Позволять
большому числу людей жить на даровщинку (gratuitement) -
значит содержать праздность и все беспорядки, которые являются
ее следствием. Это значит создавать преимущества лентяю по
сравнению с трудящимся человеком. Это, следовательно, значит
уменьшить необходимую государству сумму труда и продуктов
земли, часть которой неизбежно остается невозделанной.
Отсюда нужда, возрастание нищеты и как следствие этого
уменьшение населения. Место трудолюбивых граждан занимает низкое
простонародье, состоящее из нищих, бродяг, готовых на всякого
467
рода преступления» (215, 14). Конечно, это положение не связано
непосредственно с материалистической философской позицией.
Но оно отнюдь не случайно у материалиста Дидро. Подобного
рода критику феодальных порядков нетрудно найти и в работах
других французских материалистов. Понятно поэтому почему
генеральный адвокат Омер Жоли де Флери выступил с грозным
обвинением против первых шести томов «Энциклопедии», а также
книги Гельвеция «О духе» и «Естественной религии» Вольтера.
Высший королевский чиновник заявил: «... нечего скрывать от
себя, что имеется определенная программа, что составилось
общество для поддержания материализма, уничтожения религии,
внушения неповиновения и порчи нравов. Разве подобные
крайности не требуют самых сильных мероприятий? Не должна ли
юстиция обнаружить всю свою строгость, взять в руки меч и
поразить без различия всех святотатцев, которых осуждает религия
и от которых отрекается отечество?» (153, 228-229).
Людовик XV обнародовал в 1757 г. декларацию,
направленную главным образом против материалистов. «Все те, которые
будут изобличены либо в составлении, либо в поручении
составить и напечатать сочинения, имеющие в виду нападение на
религию, покушение на нашу власть или стремление нарушить
порядок и спокойствие наших стран, - будут наказываться смертной
казнью» (153, 229).
Дж. Пристли, выдающийся английский материалист XVIII в.,
стремившийся применить к философии принципы ньютоновской
механики, шел, однако, дальше Ньютона в своем понимании
материи. Ньютон утверждал, что материи кроме протяженности,
которую картезианцы считали единственным ее атрибутом,
изначально присуща сила притяжения. Отталкивание же Ньютон
считал извне воздействующей на материю силой. Пристли, напротив,
утверждал, что отталкивание внутренне присуще материи в такой
же мере, как и притяжение. «Я определяю материю, - писал он, -
как субстанцию, обладающую свойством протяженности и
силами притяжения и отталкивания» (145, 164). Материю,
утверждал Пристли, не следует отождествлять с плотностью по той
простой причине, что не надо без нужды умножать количество
ее атрибутов. Различия в плотности, или массе,
характеризующие разные вещества, вполне могут быть объяснены
действием сил притяжения или отталкивания. Вещества, обладающие
большим удельным весом, образуются вследствие преобладания
притяжения над отталкиванием. Те свойства материи (инерция,
непроницаемость, масса), на которые указывали критики
материализма, обосновывая тезис о первичности материи, не явля-
468
ются, по Пристли, ни первичными, ни неизменными. В связи с
этим он, в противовес Ньютону, отвергает допущение
неделимых, абсолютно плотных атомов, поскольку такое допущение
умножает количество посылок, принимаемых без доказательств.
Все протяженное делимо и «плотный атом должен быть делим и,
следовательно, иметь части» (145, 170). Наличие наряду с
притяжением отталкивания исключает возможность абсолютной
плотности, так же как и целого без частей. Напомним, что
Ньютон, отстаивая тезис о существовании абсолютно плотных
первоначальных частиц, которые «несравнимо тверже, чем всякое
пористое тело, составленное из них, настолько тверже, что они
никогда не изнашиваются и не разбиваются на куски. Никакая
обычная сила не способна разделить то, что создал сам Бог при
первом творении... Если бы они изнашивались или разбивались
на куски, то природа вещей, зависящая от них, изменялась бы»
(127,303).
Пристли приближается к современным физическим
представлениям о возможной плотности материи, когда он
высказывает предположение, что «вся плотная материя в солнечной
системе может поместиться в ореховой скорлупе - так велика
доля пустого пространства в субстанции самых плотных тел»
(145, 178).
Пристли хорошо сознавал значение развиваемых им
положений для опровержения господствовавших в его время
идеалистических представлений. «Я надеюсь, - писал он, - что мы не будем
взирать на материю с теми чувствами презрения и отвращения,
которые обычно сопутствуют ее рассмотрению. В ее
действительной природе нет ничего такого, что оправдывало бы это
пренебрежительное отношение к ней» (145, 108).
Разумеется, не все материалисты, подобно Пристли,
обогащали своими идеями естествознание. Не все они подобно
французским материалистам XVIII в. выступали против отживших
социально-экономических порядков. В той же Франции в период
Великой французской революции и непосредственно после нее
проповедовал материалистические воззрения П.Ж. Кабанист,
участник, кстати, контрреволюционного переворота 18 брюмера.
В Германии материалисты К. Бюхнер, К. Фогт, Ф. Молешотт, хотя
и слыли свободомыслящими (они противопоставляли
естествознание религиозной картине мира), отнюдь не подвергали
критике социально-экономические отношения.
Наиболее радикальным критиком феодального строя был
идеалист Ж.-Ж. Руссо. Его идеи вдохновляли якобинцев в
период Великой французской революции. В Германии Кант и Фихте
469
также подвергали суровой критике существовавшие в то время
феодальные отношения, в особенности всевозможные
ограничения личной свободы. Следовательно, противоположность между
материализмом и идеализмом далеко не всегда выражается как
противоположность социально-политических воззрений.
Таким образом, можно констатировать, что идеалистическая
концепция надпартийности философии в известной мере
пересматривалась философами XX в. Этот пересмотр происходил в
особенности под влиянием социологии знания, отвергнувшей
традиционное требование радикальной элиминации ценностной
ориентации из социальных исследований, которое еще в
начале прошлого века систематически обосновывал Макс Вебер*.
Это требование все чаще и чаще характеризуется как устаревшее,
неосуществимое и даже чреватое опасностью: оно де
дезориентирует социологию и политику. «Нет другого способа изучения
социальной реальности, кроме изучения и с точки зрения
человеческих идей, - пишет известный политик и социолог Г. Мюр-
даль. - Никогда не существовало "незаинтересованной
социальной науки", и в силу логических оснований ее не может быть.
Ценностный аспект наших основных понятий представляет собой
наш интерес в данном вопросе, дает направление нашим мыслям
и смысл наших ответов. Он ставит вопросы, без которых нет
ответов» (268а, 1).
Философы и социологи современного буржуазного
общества уже не оспаривают ту банальную истину, что объективность
и нейтральность далеко не одно и то же. Но все дело в том, что
ценностная ориентация или «чувство приверженности»
характеризуется главным образом как свойство, присущее личности
исследователя. Вопрос о социальных интересах, получающих свое
выражение в философской или социологической теории,
оказывается, мягко говоря, в тени, а то и вовсе отбрасывается. Между
* М. Вебер, констатируя, что «различные системы ценностей мира
находятся в непрекращающейся борьбе друг с другом», полагал, что именно этот факт
делает невозможным сочетание научной объективности исследования с какой
бы то ни было ценностной ориентацией. Такого рода ориентация, правда, не
исключает возможности «изучения средств для заранее установленной цели»
(301, 545), но в таком случае наука оказывается не более, чем
интеллектуальной техникой. Действительное же исследование не может предвосхищать своих
конечных результатов и поэтому должно быть готово к любым неожиданным
выводам. Аргументация Вебера представляет собой систематическое развитие
традиционной концепции нейтральности исследователя. Однако нейтральность
и объективность - далеко не совпадающие понятия, а незаинтересованность
является такого рода отношением к действительности, которое психологически
исключает исследовательскую активность.
470
тем именно в этом, а вовсе не в личностном отношении суть
партийности философии и любой социальной теории. Однако
философия - специфическая форма познания. Ее содержание
относится не только к социальной, но и природной действительности.
Да и в сфере социальной философия, как правило, не занимается
политическими вопросами. Поэтому речь должна идти о
специфической партийности философии.
Когда философ высказывается по социально-политическим
вопросам, его партийная позиция может не отличаться
принципиальным образом от позиции социолога, историка, экономиста.
Правда, высказывания философа по этим вопросам могут носить
более абстрактный характер, они нередко облечены в
специфически философскую терминологию. Но это различие можно не
принимать во внимание, хотя оно и дает возможность
по-разному интерпретировать эти высказывания. Проблема, которая меня
в данном случае интересует, заключается в другом. Поскольку
важнейшее содержание философии образуют онтологические
и гносеологические концепции, я не могу не поставить такого
вопроса: в какой мере высказываемые философами социально-
политические идеи действительно связаны с этими основными
философскими концепциями? Заключают ли в себе (разумеется,
имплицитно) онтологические и гносеологические концепции
известную социальную направленность. Я сознательно опускаю
вопрос об этических концепциях, поскольку они могут быть
органически связаны с определенными социальными воззрениями.
Необходимо сразу же оговориться, что на эти вопросы не
может быть однозначного ответа, так как степень зависимости
одних воззрений от других, конечно, различна. Социальная утопия
Платона теоретически осмысливает определенный исторический
опыт. Было бы упрощенчеством рассматривать ее просто как
теоретический вывод из учения о трансцендентных идеях. Однако
столь же ошибочно игнорировать действительную связь
платоновской теории государства с учением о неизменных,
абсолютных идеях справедливости, добра, истины, прекрасного, которые,
согласно Платону, определяют посюстороннюю человеческую
жизнь. Идеальное государство, описываемое Платоном,
мыслилось им как благополучное завершение злоключений
человечества путем установления совершенного социального устройства.
Учение о трансцендентных идеях (сущностях) обосновывает и
оправдывает этот социальный идеал.
Попытка установить единство между экономическими
воззрениями Д. Беркли и его философией едва ли увенчается успехом.
Но очевидно и то, что экономические и философские воззрения
471
Беркли имеют все же некоторые общие черты, проистекающие
из его эмпиристского номинализма. Это проявляется, например, в
берклиевской теории денег.
Теория естественного права разрабатывалась философами
разных направлений. Расхождения во взглядах на
происхождение и сущность государства между Гоббсом и Руссо, Спинозой
и Локком - все они, как известно, сторонники теории
естественного права, - не сводимы к философским разногласиям между этими
мыслителями. Но это свидетельствует лишь о том, что социально-
политические концепции философов не следует рассматривать
как логические выводы из их учения о мире, о познании. Еще
большей ошибкой была бы попытка вывести онтолологические
и гносеологические воззрения философов из их социально-
политических убеждений. Для понимания отношения между
теми и другими воззрениями существенно другое: не будучи
непосредственно связаны, они так или иначе дополняют друг друга
в рамках единой - материалистической или идеалистической,
рационалистской или эмпиристской философской теории.
Философское учение об элементах (вода, воздух, огонь,
земля) возникло в древности и продержалось почти до конца XVIII в.
Было бы уступкой вульгарному социологизму рассматривать это
учение как отражение общественного бытия, исторически
определенной социальной структуры. Но это относится не только
к архаическому учению об элементах; гносеологические и
онтологические идеи вообще не имеют социально-экономического
подтекста.
Теория врожденных идей Платона обосновывала природное
неравенство людей, т.е. носила аристократический характер. Но
убеждение Декарта в существовании врожденных идей, если не
прямо, то косвенно выражало совершенно иное. Он считал, что
изначальные (прирожденные) идеи разума, из которых может
быть дедуцирована едва ли не вся совокупность человеческого
знания, в равной мере присущи всем людям и составляют то, что
обычно именуют здравомыслием (bon sens). Такая интерпретация
положения о врожденных идеях приближается к
демократическим воззрениям.
Локк утверждал (и не без основания), что теория
врожденных идей служит тирании (см. 104а, 126). Его учение об опыте,
согласно которому не существует врожденных идей, будучи
философской антитезой учению Декарта, в социальном отношении
выражало буржуазно-демократические тенденции, зародившиеся
уже в учении Декарта. В философии французских
материалистов XVIII в. сенсуализм служил обоснованию гуманистического
472
мировоззрения. Но этот же материалистический сенсуализм был
философской основой утопического коммунизма Мабли, Дезами
и их последователей.
Рационализм XVII в., провозгласивший человеческий разум
всемогущей способностью познания, носил по существу
антитеологический характер, а в тех исторических условиях,
несомненно, и антифеодальный характер, несмотря на
непоследовательность его выдающихся представителей, которые пытались
применить рационалистическую гносеологию для решения
теологических вопросов. Эмпирики-материалисты,
полемизировавшие с рационалистами, отвергавшие их представление о разуме,
разрабатывали ту же антитеологическую, антифеодальную
программу, разумеется, с большей последовательностью. Однако
субъективистская интерпретация эмпиризма в философии
Беркли представляла собой обоснование буржуазного компромисса с
феодальной идеологией.
Кант пытался примирить рационализм и эмпиризм. Эта
философская позиция способствовала развитию и обоснованию
буржуазно-демократического мировоззрения. Той же задаче служило
рационалистическое наукоучение И. Фихте.
Антропологический материализм Л. Фейербаха был
учением о природном равенстве всех людей, радикальным отрицанием
феодальных идеологических предрассудков. Учение Т. Карлей-
ля о «героях» и «толпе» - идеология феодально-романтической
реакции. Младогегельянцы, продолжавшие это учение,
интерпретировали его в духе буржуазно-демократического
радикализма. Русские народовольцы превратили это учение в
революционный призыв к интеллигенции: стать героями, чтобы пробудить
народные массы и повести их на революционный штурм
самодержавия.
Нет необходимости умножать примеры для иллюстрации
того, что социально-политический смысл онтологических,
гносеологических, аксиологических идей неотделим от их
интерпретации, причем такого рода интерпретации, которая связывает их с
определенной исторической ситуацией. Только при этом условии
то или иное философское положение в контексте определенной
системы философских воззрений наполняется социальным
содержанием и в этом смысле становится партийной точкой зрения.
Таким образом, историко-философский процесс
характеризуется многопартийностью, так как каждое философское
течение, каждое философское направление представляет собой
партию, но, конечно, не в организационном, а в идейном отношении.
Существуют, например, партия Платона, партия Аристотеля,
473
партия софистов, партии эпикурейцев, стоиков, скептиков,
неоплатоников, арабоязычных, томистских аристотеликов и т.д. Новое
время также богато партиями: английские материалисты XVII в.,
французские материалисты XVIII в., так называемые вульгарные
материалисты XIX в. Не только идеалисты, но и материалисты не
образуют единой партии. Правда, они не ведут войны друг против
друга, но материалисты одной исторической эпохи утверждают
(и не без основания), что они по существу отличаются от
материалистов прошлого. Фейербах, к примеру, подчеркивал свое
отличие от французских материалистов XVIII в., их критика
религии, их атеизм рассматривались Фейербахом как односторонние,
нигилистические, поверхностные воззрения. А что касается
диалектического материализма, то его основоположники постоянно
указывали на коренное отличие своего философского учения от
всех предшествующих материалистических теорий.
Представители так называемого научного материализма (Армстронг, Смарт
и др.) отмежевывались от диалектического материализма,
указывая на присущие ему пороки.
Само собой разумеется, что позитивисты, неопозитивисты,
неогегельянцы, неокантианцы, экзистенциалисты,
персоналисты, структуралисты, философы так называемого постмодерна
(Лиотар, Делёз, Фуко, Деррида) также выступают как отдельная,
особая партия, во многом перечеркивающая предшествующую
философию.
Не следует, однако, рассматривать коллизии в философии как
войну всех против всех. Идеалисты, как уже неоднократно
подчеркивалось, ведут войну главным образом против других
идеалистов. Эта борьба сплошь и рядом приобретает ожесточенный
характер. Она, грубо говоря, аналогична той борьбе, которую
описывает Гоббс, характеризуя буржуазное общество своего времени.
«Стремление сбить с ног и опрокинуть вырвавшегося вперед
соперника есть зависть... Постоянно обгонять всех есть счастье...
Смотреть на тех, кто находится позади, есть слава» (55, 491-492).
Эта борьба всех против всех, несомненно, наносит серьезный
урон престижу философии. Многих миролюбивых философов
она доводит до отчаяния. Но разграничивая явление и сущность,
нельзя не признать ее плодотворной. Она не исключает
исторической преемственности, постоянного обогащения философии
новыми идеями, проблемами. В ходе этой борьбы, несмотря на
иной раз существенные потери, осуществляется действительный
философский прогресс.
Философию нельзя рассматривать как частично партийную
или партийную в той своей части, которая посвящена социальной
474
тематике. Партийность философии - это ее социальный пафос,
конкретно-историческая направленность и приверженность,
которая пронизывает ее содержание и проявляется
непосредственно или опосредованно в постановке ряда ее проблем. Совершенно
недостаточно признавать, что философия партийна, необходимо
конкретное понимание социальной, онтологической,
гносеологической, аксиологической содержательности принципа
партийности, так же как методологических особенностей его применения
в различных областях философского познания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Историко-философский процесс, нередко уподобляемый
комедии ошибок, блужданию в лабиринте, анархии систем и сис-
темок, образует одно из важнейших измерений
интеллектуального прогресса человечества. Поиски правильного мировоззрения
и трагические заблуждения, дивергенция философских учений
и их поляризация на взаимоисключающие направления, борьба
направлений, которая иной раз воспринимается как
перманентный философский скандал, - все это не только искания, муки и
заблуждения отдельных философствующих индивидов. Это -
духовная драма всего человечества, и те, кому она представляется
фарсом, по-видимому, истолковывают трагическое лишь как idola
theatri.
Антиномии, в которые впадает философия, кризисы,
потрясающие ее, попятные движения, повторение пройденного пути,
в том числе и совершенных в прошлом заблуждений,
отбрасывание действительных философских открытий ради давно
опровергнутых заблуждений, упорно принимаемых за истину, - разве
эти факты характеризуют одну только философию? Философия -
духовный образ человечества, и ее достижения, заблуждения,
злоключения составляют существенное содержание его
интеллектуальной биографии. Специфика философии -
теоретическое осмысление общечеловеческого опыта и всей совокупности
знаний (научных и вненаучных) с целью создания целостного
миропонимания. Трудности, встающие на пути философского
осмысления действительности, постоянно возрастают, так как
непрерывно и все более ускоренными темпами обогащается
сокровищница человеческого опыта и знаний. Теоретические
результаты философских исследований представляются достаточно
скромными в особенности по сравнению с достижениями наук о
природе и математики. А борьба между философскими учениями,
которая ставит под вопрос возможность достижения согласия по
каким-либо достаточно существенным проблемам, вызывает скеп-
476
тическое отношение к науке, столь непохожей на другие науки,
плоды которых так весомы, как свидетельствует практика. Этот
скептицизм относительно смысла и статуса философии присущ
не только специалистам-нефилософам, но и многим
представителям самой философии, которые отрицают философию, оставаясь
тем не менее философами.
Г. Рейхенбах, маститый неопозитивист, утверждает: философ
должен обладать мужеством, чтобы признать тот очевидный факт,
что «философия оказалась неспособной разработать общую
теорию, которую можно было бы преподавать студентам с согласия
всех тех, кто преподает философию. Те из нас, кто преподавал
какую-либо науку, знают, что значит преподавать, основываясь на
общей платформе. Науки разработали общую структуру знания,
получившую всеобщее признание, и тот, кто учит науке, делает
это с чувством гордости, вводя студентов в царство прочно
установленных истин. Почему же философ должен отрекаться от
учения, прочно устанавливающего истину?» (286, 136).
Было бы понятно, если бы Рейхенбах с позиций науки осуждал
спекулятивно-идеалистические конструкции. Но он имеет в виду
философию вообще, любую философию, которая, по его мнению,
игнорирует прочно установленные науками истины. Рейхенбах
утверждает, что философы в отличие от действительных ученых
высказывают мнения, свои или чужие. «Представьте себе ученого,
который стал бы учить электронике в форме сообщения мнений
разных физиков, никогда не говоря студентам, что представляют
собой законы, которым подчиняются электроны. Сама мысль об
этом вызывает смех» (286, 136.). Философия, таким образом,
оказывается или безответственным рассуждательством о вещах,
относительно которых имеются прочно установленные истины, или
же бессмысленным разглагольствованием о том, что вообще не
может быть предметом знания. С этих позиций философ
Рейхенбах оценивает историко-философский процесс и характерную для
него дивергенцию философских учений: «Если философы
создали великое множество противоречащих друг другу систем, то все
эти системы, за исключением одной, должны быть ложными. Но
вероятно даже, что все они ложные. История философии должна
поэтому включать историю заблуждений философов. Вскрывая
источник заблуждений, историческое исследование
способствует достижению истины» (286, 136). Выходит, таким образом, что
изничтожая философию, Рейхенбах тем не менее придает
немалое значение историко-философскому исследованию. Это весьма
непоследовательное воззрение, так как история философии как
наука имеет смысл лишь постольку, поскольку философские уче-
477
ния, составляющие предмет ее исследования, содержательны и
заключают в себе хотя бы частичные истины. Но этого как раз не
хочет признать маститый неопозитивист.
Разумеется, историко-философская наука невозможна без
критики заблуждений философов, а преодоление заблуждений
способствует приближению к истине. Но не эту банальную мысль
имеет в виду Рейхенбах. По его убеждению, единственное знание,
которое доставляет нам историко-философская наука, есть знание
заблуждений, в которые постоянно впадали философы, мнившие,
что они обрели великую истину. Истина, которую можно
почерпнуть из истории философии, стало быть, сводится к тому, что за
одними философскими заблуждениями следуют другие,
опять-таки заблуждения. Ознакомившись со многими заблуждениями,
постигнув их именно как заблуждения, мы усваиваем благодаря этому
многие истины. Таково убеждение одного из основателей
неопозитивистской «философии науки», философии, которая объявляется
научной прежде всего потому, что она провозглашает разрыв со
всей предшествующей философией, хотя на деле она
возрождает концепции Д. Юма и позитивистскую традицию, начало
которой положил О. Конт. Неудивительно поэтому, что утверждения
Рейхенбаха относительно никчемности философии не отличаются
существенным образом от рассуждений позитивистов XIX в.
Примерно то же в конце этого века писал Дж. Льюис: «Повсюду в
Европе философия утратила кредит... С каждым днем крепнет
убеждение, что философия по самой сущности ее стремлений обречена
вечно блуждать в запутанном лабиринте, где узкие и извилистые
ходы постоянно выводят ее усталых ревнителей на трудную стезю
их предшественников, которые, как известно этим ревнителям, не
могли найти выхода» (109, 4). Таким образом, по мнению
Льюиса, философы не просто заблуждались, но каждый раз повторяли
заблуждения своих предшественников, заблуждения, которые им
уже были известны, вследствие чего они избирали новый
исходный пункт для своих построений, что, однако, не избавляло от тех
же катастрофических заблуждений. Таков уж злой фатум
философии, полагал Льюис, которому явно не приходило в голову, что
фатализм, отвергавшийся им как спекулятивно-религиозная
концепция, совершенно неприменим к историко-философскому
процессу: его участники обладают известной свободой выбора, ничто
не принуждает их избирать ту или иную колею.
Уместно отметить, что Г. Уэллс, выдающийся писатель, но
явный профан в философии, рассуждает вполне в духе Рейхенбаха
и Льюиса. Вопрос, о котором идет речь, представляется ему столь
ясным, что он без всяких околичностей заявляет, что историк
478
философии, обозревающий великих, или какое там пышное
название ни дай этому несвежему пирогу из остатков, встречает
путаницу противоречивых идей, перемешанные кусочки от разных
складных картинок, невнятицу, преподносимую как мудрость.
Трудно сказать, что привело этого выдающегося писателя к этому
легкомысленному и некомпетентному заключению, но отдельные
отрывочные замечания в его романе «Необходима осторожность»
свидетельствуют о том, что кроме традиционного английского
эмпиризма он некритически воспринял и некоторые положения
неопозитивистской доктрины, которая представлялась ему
простым и окончательным разрешением излишне усложненных
философских проблем.
В конце 50-х гг. прошлого века во Франции вышла в свет
книжка известного публициста, а также историка западноевропейской
философии Ж.Ф. Ревеля, называвшаяся «К чему философы?».
Книжка изобилует весьма претенциозными (и амбициозными)
утверждениями, каждое из которых призвано буквально
уничтожить философию. Приведу одно из них, взятое почти наугад:
«Главное проявление лицемерия людей, которые делают
философию своей профессией, заключается, без сомнения, в том, что они
стремятся заставить других верить в существование философии»
(285, 57). Открытие Ревеля, таким образом, сводится к тому, что
философия в действительности не существует, а то, что называют
этим словом, представляет собой иллюзию, порождаемую
интеллектуальным фокусничеством или даже шарлатанством. Остается
совершенно непонятным, почему в таком случае Ревель сочинил
и опубликовал двухтомную «Историю философии», в которой он,
правда, «развенчивает» все философские учения, но явно не
отрицает их существования. Я не вижу необходимости заниматься
опровержением воззрений Ревеля. Я думаю, что своей «Историей
философии», несмотря на ее нигилистическую тональность, он
сам опроверг собственные воззрения.
Я полагаю, что все пессимистические воззрения на
настоящее и будущее философии имеют своей основной причиной
непонимание или превратную оценку многообразия различных, не
согласующихся друг с другом философских учений. Если же
признать, что это многообразие и связанная с ним идейная борьба
позитивно характеризуют философию, постоянно
свидетельствуют о ее идейном богатстве, о постоянно умножающемся аквизи-
те философии, обогащении ее проблематики, о разработке новых
методов философского исследования, возникновении новых, все
более содержательных теорий, концепций, понятий, то ситуация,
в которой постоянно пребывает философия, должна быть оценена
479
как в высшей степени перспективная, хотя и не обещающая того,
что развитие философии раньше или позже завершится
созданием некоей последней системы философского знания, системы
окончательной истины.
Поэтому я как историк философии не вижу никаких
оснований для пессимистического воззрения на исторические судьбы
философии.
С моей точки зрения философия, особенно в настоящее
время, хоть и не так много обещает и, как кажется некоторым, еще
меньше дает, обладает - этого не могут не признать даже
философствующие дилетанты, полагающие необходимым упразднение
философии как практически бесполезного занятия -
удивительной притягательной силой: она учит теоретическому,
понятийному мышлению. Уже для того, чтобы мыслить об отдельных
предметах, необходимы не только некоторые общие представления, но
и категории, которые независимы не только от чувственных
восприятий, но и от наличного в данный момент опытного знания. Но
чем обширнее область явлений, к которым обращается
познающее мышление, тем более необходимы и более общие
представления и большой выбор категорий. А теоретическое мышление
имеет дело не просто с явлениями, которые могут быть описаны,
сосчитаны и т.д., а с закономерностями, всеобщность которых не
ограничена эмпирически констатируемыми границами в
обозримых пространстве и времени.
Таким образом, обязательной предпосылкой теоретического
мышления, формы которого многообразны, оказывается ...
философское мышление. Во избежание упрощенного толкования этого
тезиса его следует понимать не в том смысле, что, лишь изучая
философию, человек становится теоретически мыслящим
субъектом. Речь идет о человеческом мышлении как некой общности,
существующей только посредством индивидуации.
Люди логически мыслят и тогда, когда у них нет никакого
представления о логике как науке. Возможно, усвоили элементы
логики в школе на уроках математики, родного языка или каким
иным непроизвольным образом. Следует также считать, что
логичность имманентна мышлению в его развитых, содержательных
формах. Однако, пожалуй, никто не сделает на этом основании
вывод, что изучение логики не способствует развитию
теоретического мышления. То же, но в еще большей мере относится к
философии.
Высокая оценка философского познания в формировании
теоретического мышления, в особенности его наиболее развитых
форм, прямо указывает на выдающееся, пожалуй, недостаточно
480
еще оцененное значение историко-философской науки, которая
как научно-теоретическое осмысление и подытоживание всего
философского аквизита способна играть в сущности ни с чем
несравнимую роль в развитии индивидуальной способности к
теоретическому способу мышления. В историко-философской науке
нет пустых страниц. Поэтому одной из основных задач этой науки
является создание рациональной системы творческого овладения
неисчерпаемым богатством философских идей, проблем, учений,
выражающих противоречивое единство этой (впрочем, не только
этой) формы познавательной деятельности.
Бесчисленное множество философских концепций, теорий,
течений, направлений ставит в тупик, как уже неоднократно
указывалось, не только новичков, приступающих к изучению
философии, но и специалистов-философов, пытающихся осмыслить
это идейное и понятийное многообразие. Этой цели и
призваны служить исследования философии как специфической
формы познания, изучение основных философских проблем,
природы философских проблем, различных направлений в философии
и т.д. Такого рода исследования позволяют, как мне
представляется, развенчать тяготеющую к иррационализму концепцию
анархии философских систем, которая, как это ни удивительно
на первый взгляд, во многом коренится в предрассудках
обыденного сознания. Становится очевидным, что конфронтация
философских учений, течений, направлений не бесплодна, не лишена
перспективы хотя бы потому, что идеализм уже потерпел
окончательное поражение как система воззрений.
Разумеется, задача историко-философской науки не
исчерпывается рассмотрением проблематики этой книги. Это лишь
начало большой работы, продолжением которой должны служить
разного рода исследования, например, исследования специфики
философских учений стран Востока, компаративистские
исследования, сближающие, казалось бы, весьма далекие друг от друга
философемы, исследования основных «отраслей» философского
знания (онтологии, гносеологии, этики, эстетики и т.д.) и,
наконец, исторические исследования самой истории философии, ее
становления и развития на протяжении двух тысячелетий.
Нет ни одной особенности философской формы познания,
которая в той или иной форме не была бы свойственна научному
мышлению вообще. С этим, конечно, не согласятся мои
оппоненты. Но вопрос об отношении философии к наукам о природе и
обществе остается открытым. Философия не есть лишь
особенная, особая форма познания. Она есть теоретическое
мышление, которое не просто разнообразится в историческом времени,
16. Ойзерман Т.И., том 5 481
но действительно развивается. Это сближает ее с науками,
несмотря на качественные различия между ними.
Историко-философская наука путем теоретического
исследования философий и исторических условий, оказывающих
существенное влияние на их развитие, воспроизводит, реконструирует
сложный и противоречивый процесс становления и прогресса в
философии. Это восстановление действительного пути,
пройденного философией, является не только благодарной задачей,
но и необходимым условием дальнейшего творческого развития
философии.
ЛИТЕРАТУРА
Х.Айер Дж. Философия и наука // Вопросы философии. 1962.
№ 1.
2. Айер Дж. В защиту эмпиризма // Эпистемология и философия
науки. 2004, № 1.
3. Александров Л Д. Общий взгляд на математику // Математика, ее
содержание, методы и значение. Т. 1, М., 1856.
3*. Александров А.П. Вступительное слово на Всесоюзном
совещании по философским вопросам современного естествознания //
Вопросы философии. 1981, № 6.
4. Амбарцумян В.А. Некоторые вопросы современного развития
астрономии // Октябрь и научный прогресс. Т. 1. М., 1967.
5а. Анохин П.К. Психическая форма отражения действительности //
Ленинская теория отражения и современность. София, 1969.
5. Анциферова Л.И. Бихевиоризм // Современная психология в
капиталистических странах. М., 1963.
6. Аристотель. Метафизика // Соч. В 4 т. Т. 1. М., 1975.
7. Аристотель. Аналитика // Соч. В 4 т. Т. 2. М., 1978.
8. Аристотель. Политика. М., 1911.
9. Аристотель. Этика. СПб., 1906.
10. Асмус В.Ф. Некоторые вопросы диалектики
историко-философского процесса и его познание. Вопросы философии. 1961, № 4.
М.Асмус В.Ф. Проблемы интуиции в философии и математике.
М., 1965.
12. Бахтин ММ. Литературно-критические работы. М., 1986.
13. Бейль П. Исторический и критический словарь: В 2 т. М., 1968.
14. Бергсон А. Творческая эволюция. М.-СПб., 1914.
15. Бердяев H.A. Философская истина и интеллигентская правда//
Вехи. М., 1909.
15а. Беркли Дж. Трактат о началах человеческого знания //
Сочинения. М., 1978.
16. Богомолов A.C., Ойзерман Т.Н. Основы теории
историко-философского процесса. М., 1983.
17. Богуславский В.М. Скептицизм XVI-XVII в. // Философия эпохи
ранних буржуазных революций. М., 1987.
16*
483
17". Боной Г. Гипотезы и мифы в физической теории. М., 1972.
18. Бор И. Атомная физика и человеческое познание. М., 1961.
19. Бори М. Размышления и воспоминания физика. М., 1947.
20. Борн М. Моя жизнь и взгляды. М., 1973.
21. Бройль Л. де По тропам науки. М., 1962.
22. Бунге М. Интуиция и наука. М., 1967.
23. Бур М., Иррлиц Г. Притязания разума. М., 1978.
24. Бэкон Ф. Великое восстановление наук // Соч. В 2 т. Т. 1.
М, 1977.
25. Бэкон Ф. Новый органон // Соч. Т. 2. М., 1978.
26. Бэкон Ф. Новая Атлантида // Соч. Т. 2. М., 1978.
27. Быховский Б.Э. Философия Декарта. М., 1940.
28. Вавилов СИ. Развитие идеи вещества// Собр. соч. Т. 3.
М., 1956.
29. Вавилов СИ. Ленин и современная физика. М., 1977.
29а. Вайскопф В. Физика в двадцатом столетии. М., 1977.
30. Ведер М. Политические работы. М., 2003.
31. Виндельбанд В. История философии. СПб., 1898.
ЗГ. Волькенштей М. Биофизика в кривом зеркале // Наука и жизнь.
1977. №7.
32. Виндельбанд В. Прелюдии. СПб., 1904.
33. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1959.
34. Вопросы философии. 1947, № 1.
35. Вопросы философии. 1947, № 2.
36. Вопросы философии. 1959, № 5.
37. Вопросы философии. 1982, № 5.
38. Вопросы философии. 2004, № 2.
39. Гартман Н. Эстетика. М., 1958.
40. Гегель Г.В.Ф. Философская пропедевтика // Работы разных лет.
Т. 2. М., 1973.
41. Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Кн. 1. М., 2006.
42. Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Кн. 2. М., 2006.
43. Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Кн. 3. М., 2006.
44. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. Соч. Т. IV. М., 1959.
45. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1: Наука
логики. М., 1974.
46. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 2:
Философия природы. М., 1975.
47. Гегель Г.В.Ф. Философия права // Соч. Т. VII. М., 1934.
48. Гегель Г.В.Ф. Философия истории // Соч. Т. VIII. М.-Л., 1938.
49. Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике // Соч. Т. XII. М., 1938.
49а. Гегель Г.В.Ф. Философия религии. В 2 т. М., 1976.
50. Гейзенберг В. Открытие Планка и основные философские
вопросы учения об атомах // Вопросы философии. 1958. №11.
51. Гейзенберг В. Физика и философия. М., 1968.
51а. Геккель Э. Мировые загадки. М., 1935.
484
52. Геллнер Э. Слова и вещи. М., 1962.
53. Гиляров А. И. Что такое философия и что она может и не может
дать. Киев, 1899.
54. Гельвеций К. О человеке, его умственных способностях и
воспитании. Соч. Т. 2. М., 1974.
55. Гоббс Т. Основы философии. Часть 1 // Избр. произведения. Т. 1.
М., 1964.
56. Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства,
церковная и гражданская // Избр. произведения. Т. 2. М., 1964.
57. Гольбах П. Система природы // Избр. произведения. Т. 1.
М., 1963.
58. Гомер. Илиада. М., 1967.
59. Горнштейн Т.Н. Философия Николая Гартмана. Л., 1959.
60. Грамши А. Избранные произведения. М., 1980.
61. Гранстрем Е. Почему митрополита Климента Смолятича
называли «философом»? // Труды отдела древнерусской литературы Ин-та
русской литературы АН СССР. Том XXV. М.-Л., 1970.
62. Гусейнов A.A. Античная этика. М., 2003.
63. Гусейнов A.A. Назначение философии// Философия и история
философии. М, 2004.
64. Гуссерль Э. Философия как строгая наука // Логос. 1911. № 11.
65 Декарт Р. Рассуждение о методе // Избр. произведения.
М., 1950.
66. Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? СПб., 1998.
61. Джеймс У. Прагматизм. СПб., 1990.
68. Дидро Д. Мысли к объяснению природы. Разговор с Даламбе-
ром // Избр. произведения. М., 1950.
69. Дилыпей В. Описательная психология. М., 1924.
69а. Дилыпей В. Типы мировоззрений и обнаружение их в
метафизических системах // Новые идеи в философии. Сб. 1. СПб., 1912.
70. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых
философов. М., 1979.
И.Дынник М.А. Человек, сознание и космос в философии
Джордано Бруно // Вопросы философии. 1966. № 9.
72. Егоров А.Г. Искусство и общественная жизнь. М., 1959.
73. Жаворонков ИМ. Неорганическая химия и новые материалы //
Октябрь и научный прогресс. М., 1967.
74. Зоммерфельд А. Пути познания в физике. М., 1973.
75. Ибн Сина (Авиценна). Избр. философские произведения.
М., 1980.
76. История философии. В 3 т. / Под ред. Г.Ф. Александрова, Б.Э. Бы-
ховского, М.Б. Митина, П.Ф. Юдина. М., 1940-1943.
77. История философии. В 6 т. / Под ред. М.А. Дынника, М.Т. Иов-
чука, Б.М. Кедрова, М.Б. Митина, Т.И. Ойзермана, А.Ф. Окулова. Т. 3.
М., 1959.
485
78. Ищенко E.H. Новая парадигма интерпретации в дискурсивном
поле современной философии // Вестник Московского университета.
Сер. 7. Философия. 2004. № 6.
79. Кант И. Приложения к «Наблюдениям над чувством
прекрасного и возвышенного» // Соч., В 6 т. Т. 2. М., 1964.
79*. Кант И. Сочинения в шести томах. Т. 2. М., 1964.
80. Кант И. Критика чистого разума // Соч. Т. 3. М., 1964.
ЪХ.Кант И. Критика практического разума// Соч. Т. 4. Ч. 1.
М., 1965.
82. Кант И. Метафизические начала естествознания. Спор
факультетов//Соч. Т. 6. М., 1966.
83. Капица П.Л. Эксперимент. Теория. Практика. М., 1972.
84. Карнап Р., Ганн Г., Нейрат О. Научное сознание - «Венский
кружок». Вена, 1929.
85. Карнап Р. Старая и новая логика // Познание (Erkenntnis). 1931,
№ 1.
86. Касавин ИЛ. Предисловие составителя и редактора сборника
«Знание за пределами науки». М., 1996.
87. Касавин И.Т. Текст. Дискурс. Контекст. М., 2008.
88. Кассирер Э. Познание и действительность. СПб., 1912.
89. Кедров Б.М. Классификация наук. М., 1961.
90. Келдыш М.В. Естественные науки и их значение для развития
мировоззрения и технического прогресса /Коммунист. 1966, № 17.
91. Колмогоров А.Н. Математика // Большая советская
энциклопедия. Издание второе. Т. 26.
92. Копнин П.В. Введение в марксистскую гносеологию. Киев,
1966.
93. Корнелиус Г. Введение в философию. М., 1905.
94. Кроче Б. Эстетика как наука о выражении и как общая
лингвистика. Т. 1.М., 1980.
94а. Фор Р., Карман А., Дени-Папен М. Современная математика.
М., 1966.
95. Ламетри Ж.О. Человек-машина // Сочинения. М., 1976.
96. Ламетри Ж.О. Анти-Сенека или рассуждение о счастье // Там
же.
97. Ламетри Ж.О. Предварительное рассуждение // Там же.
98. Ланге Ф.А. История материализма и критика его значения в
настоящем. Киев, 1900.
99. Ландау Л., Лифшиц Е. Статистическая физика. М., 1964.
100. Лауэ М. История физики. М., 1956.
100а. Лейбниц Г.В. Новые опыты о человеческом разумении автора
системы предустановленной гармонии // Соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1983.
101. Лекторский В.А. Субъект. Объект. Познание. М., 1982.
102. Лекторский В.А. Единство эмпирического и теоретического в
познании // Проблемы научного метода. М., 1965.
486
103. Лекторский В.А., Швырев B.C. Методологический анализ
науки // Философия. Методология. Наука. М., 1979.
104. Ленин В.И. Полное собрание сочинений.
104а. Локк Дж. Опыт о человеческом разуме // Избр. философские
произведения. Т. 1. М., 1960.
105. Лосев А.Ф. История античной эстетики. М., 1963.
106. Лосский Н. Обоснование позитивизма. СПб., 1908.
107. Лукреций. О природе вещей. М., 1947.
108. Лэнгмюр И. Современные концепции в физике и их отношение
к химии // Философские проблемы современной химии. М., 1971.
108а. Льюис Дж. Наука, вера и скептицизм. М., 1966.
108б. ЛяховецкийЛ., Тюхтин В. Основной вопрос философии //
Философская энциклопедия. Т. 2. М., 1965.
109. Льюис Дж. Г. История философии. СПб., 1892.
НО. Макеева Л.Б. Критический реализм. Новая философская
энциклопедия. Т. III. М., 2001.
111. Мамардашвили М.К. Некоторые вопросы исследования истории
философии как истории познания // Вопросы философии. 1959. № 12.
112. Мальбранш Н. Разыскания истины. Том первый. СПб., 1903.
113. Мелюхин СТ. Проблема логики научного исследования//
Философские науки. 1970. № 5.
114. Марков М.А. О природе физического знания // Вопросы
философии. 1947, № 2.
115. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе.
116. Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1959.
117. Максвелл Д.К. Речи и статьи. М.-Л., 1940.
118. Миронов В.В. О философии, философском факультете и
философах // Вопросы философии. 2002, № 5.
119. Мотрошилова Н.В. «Идеи I» Эдмунда Гуссерля как введение в
феноменологию. М., 2003.
120. Мотрошилова Н., Огурцов А., Туровский М., Потемкин А.
Метафизика // Философская энциклопедия. Том III. М., 1964.
121. Монтень М. Опыты. Кн. 1-2. М., 1959.
122. Мунье Э. Что такое персонализм? М., 1994.
122я. Мур Дж. Принципы этики. М., 1984.
123. Нарский И.С. Современный позитивизм. М., 1961.
123я. Нейрат О. Единая наука и марксизм // Познание. 1931. № 1.
123б. Ницше Ф. Полное собрание сочинений. М., 1910. Т. IX.
124. Ницше Ф. Сочинения в двух томах. Том первый. М., 1990.
125. Ницше Ф. Сочинения в двух томах. Том второй. М., 1990.
126. Новиков П.С. Элементы математической логики. М., 1959.
127. Ньютон И. Математические начала натуральной философии.
М., 1959.
128. О проблеме причинности в медицине. М., 1965.
129. Ойзерман Т.Н. Философия как история философии. М., 1999.
130. Новая философская энциклопедия. М., 2000.
487
131. Павлов Т. Диалектико-материалистическая философия и
частные науки// Избр. философские произведения в четырех томах. Т. 1.
М., 1961.
132. Писарев Д.И. Литературная критика. Том 3. Л., 1981.
133. Паульсен Ф. Задачи философии в будущем// Философия
в систематическом изложении В. Дильтея, А. Риля, В. Оствальда
и др. СПб., 1909.
134. Петровский И.Г. Вместо предисловия // Философия марксизма
и неопозитивизм. М., 1963.
135. Пилатов П.Н. Степи России как условие материальной жизни
общества. Ярославль, 1966.
136. Планк М. Избранные труды. М., 1945.
137. Платон. Апология Сократа // Соч.: В 3 т. Т. 1. М., 1068.
138. Платон. Протагор // Там же.
139. Платон. Теэтет // Там же. Т. 3.
140. Платон. Федон // Там же.
141. Платон. Пир // Там же.
142. Плеханов Г.В. Избр. философские произведения. Т. 2, 3. М., 1957.
143. «Познание» (Erkenntnis). Журнал / Пер. с нем. А.Л. Никифорова.
М., 2006.
144. Потемкин A.B. Проблемы специфики философии в диатриби-
ческой традиции. Ростов, 1980.
145. Пристли Дж. Отрывки из естественнонаучных сочинений//
Избр. сочинения. М, 1934.
146. Рассел Б. Новейшие работы о началах математики// Новые
идеи в математике. № 1. СПб., 1913.
147. Рассел Б. Человеческое познание. М., 1957.
148. Рассел Б. История западной философии. М., 1959.
149. Рейхенбах Г. Направление времени. М., 1962.
150. Риккерт Г. О понятии философии //Логос. 1910. № 1.
151. Рихтер Р. Скептицизм в философии. СПб., 1910.
152. Розенталь ММ. О связи философских теорий с экономическим
базисом // Вопросы философии. 1960, № 3.
153. Рокэн Ф. Движение общественной мысли во Франции в XVIII
веке. СПб., 1902.
153а. Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969.
154. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм - это гуманизм. М., 1955.
155. Секст Эмпирик. Соч.: В 2 т. М., 1975-1976.
156. Семенов H.H. Марксистско-ленинская философия и вопросы
естествознания // Коммунист. 1968, № 10.
157. Сережников В. Кант. М.-Л., 1926.
158. Скворцов Л.В. Обретет ли метафизика «второе дыхание»?
М, 1966.
159. Соловьев Э.Ю. Экзистенциализм и научное познание. М., 1966.
160. Спенсер Г. Основные начала. СПб., 1886.
161. Спиноза Б. Этика // Избр. произведения. Т. 1. М., 1957.
488
162. Станков С. Линней, Руссо, Ламарк. М., 1955.
163. Стеклов В. Математика и ее значение для человечества.
Берлин, 1923.
164. Степин B.C. Теоретическое знание. М., 2001.
165. Степин B.C. Маркс и тенденции современного цивилизацион-
ного развития // Карл Маркс и современная философия. М., 1999.
166. Стросон П. Обращение к метафизике// Кантовский сборник.
2002. №23.
167. Современная книга по эстетике. Антология / Под ред. А.
Егорова. М., 1957.
167а. Тимирязев К.А. Избр. сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1957.
167б. Тэн И. Французская философия первой половины XIX века.
СПб., 1896.
168. Философская энциклопедия. Т. III. М., 1964.
169. Философия и история философии. Актуальные проблемы. М.,
2004.
170. Фейнман Р. Характер физических законов. М., 1968.
170а. Фейербах Л. Избр. философские произведения. Том 1.
М., 1975.
170е. Фейербах Л. Избр. философские произведения. Том 2.
М., 1975.
170в. Фейербах Л. История философии. Том 3. М., 1974.
171. Фихте ИТ. О назначении ученого. М., 1935.
172. Фихте КГ. Ясное как солнце сообщение широкой публике о
подлинной сущности новейшей философии. М., 1937.
173. Франк Ф. Философия науки. М., 1960.
174. Францев Ю.П. У истоков религии и свободомыслия.
М.-Л., 1959.
175. Фрагменты ранних греческих философов / Издание подготовил
A.B. Лебедев. М., 1989.
176. Франклин Б. Избранные произведения. М., 1956.
177. Френкель А.Л., Бар-Хиллел И. Основания теории множеств.
М., 1986.
178. Фор Р., Кофман А., Дени-Папен М. Современная математика.
М., 1986.
179. Фролов И.Т. Органический детерминизм, телеология и целевой
подход в исследовании // Вопросы философии. 1970, № 10.
180. Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и
сексуальности. М., 1986.
181. Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М., 1991.
181а. Хилл Т.М. Современные теории познания. М., 1965.
182. Чаттерджи С, Дата Д. Древняя индийская философия.
М., 1954.
183. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. М., 1954.
184. Чернышевский Н.Г. Избр. философские сочинения. Том третий.
М., 1951.
489
184а. Честертон Г.К. Рассказы. М., 1958.
184б. Чалоян В.К. Восток - Запад (преемственность в философии
античного и средневекового общества). М., 1968.
185. Шеллинг Ф.В.И. Система трансцендентального идеализма.
М.-Л., 1936.
185а. Шкловский И.С. Размышления об астрономии, ее взаимосвязи
с физикой и технологией и влиянии на современную культуру //
Вопросы философии. 1959. № 5.
186. Шмидт Г. Философский словарь. М., 1961.
187. Шопенгауэр А. О гении. СПб., 1899.
ISS. Шпенглер О. Закат Европы. Том первый. Л., 1928.
189. Штейнбух К. Автомат и человек. М., 1967.
190. Штофф В.А. Моделирование в философии. М.-Л., 1966.
191. Эйнштейн А. Собрание научных трудов. Том IV. М., 1967.
192. Юлина Н.С. Постмодернистский прагматизм. Ричард Рорти.
М., 1998.
193. Юл* Д. Трактат о человеческой природе// Соч.: В 2 т. Т. 1.
М., 1965.
194. Яноши Л. Значение философии для физических исследований //
Вопросы философии. 1958. № 4.
195. Acton Н.В. The Illusion of Epoch. London, 1957.
196. Adler M. The Conditions of Philosophy. Its checkered Past, its
present Desorder and its future Promise. N.Y., 1956.
197. Aiken H.D. Age of Ideology. N.Y., 1956.
198. Armstrong D.M. A materialist Theory of the Mind. London, 1968.
199. Akten des XIV Internationalen Congresses fur Philosophic Bd. 1.
Wien, 1968.
200. Bochensko J.M. Contemporary European Philosophy. Berk-
ly, 1956.
201. Bulletin de la société française de la philosophie. 1973. Janv-Mars.
202. Brawn L. Histoire de Г histoire de la philosophie. Paris, 1973.
203. The Philosophy of CD. Broad// The Library of living
Philosophers. N.Y., 1959.
204. Burns E. Ideas of Conflict. N.Y., 1960.
205. Burke V. Thomisme. N.Y., 1955.
206. Bachelard G. Le matérialisme rationel. Paris, 1963.
207. Bergson H. L'intuition philosophique. Paris, 1959.
208. Boutroux E. La nature et Г esprit. Paris, 1926.
209. BurnetJ. Greek Philosophy. N.Y., 1968.
210. Camus A. Le mythe de Sisiphe. Paris, 1953.
211. Castelly E. Existentialisme theologique. Paris, 1948.
212. Cohen H. Begründung der Ethik. Berlin, 1910.
213. CornfordEM. From Religion to Philosophy. N.Y., 1957.
214. Diels H. Fragmente der Vorsokratiker. Bd. 1 / Hrsg. v. W. Kranz.
Berlin (West), 1954.
215. Diderot D. Œuvres completes. T. V. Paris, 1876.
490
216. Dilthey W. Gesammelte Schriften. Bd. V. Leipzig, 1924.
217. Dilthey W. Die Philosophie des Lebens. Eine Auswahl aus seinen
Schriften. Stuttgart, 1961.
218. Dooren W. van Philosophie et vie // L' esprit objective. L' unite de
Г histoire /Aktes des Ш-éme Congrès International de Г association
internationale pour Г étude de la philosophie de Hegel. LUI, 1970.
219. DeweyJ. Philosophy and Civilization. N.Y., 1963.
219». Dulles J.F. War or Peace. N.Y., 1957.
219b. EcclesJ.C. The Brain and Person. Sydney, 1956.
220. Ehrenberg E. Die Parteiung der Philosophie. Studien wider Hegel
und Kantianer. Leipzig, 1911.
221. Ehrlich W. Philosophie der Geschichte der Philosophie.
Tübingen, 1965.
222. Etudes sur Г histoire de la philosophie en homage à Martial
Gouéroult. Paris, 1964.
223. Les Grandes courants de la pensée mondial contemporaine. Vol. VII.
Paris, 1964.
224. Gauthier J. Herméneutique philosophique et heuristique
métaphysique // Aktes des XIV Internationalen Congresses für Philosophie.
Wien, 1968.
225. GouhierH. Les Grandes avenues de la pensée philosophique depuis
Descartes. Louvain, 1966.
226. Gouéroult M. Les postulats de la philosophie de Г histoire (Aktes
des XIV Internationalen Congresses fur Philosophie. Bd. 1. Wien, 1968.
227. Gouéroult M. Philosophie de Г histoire de la philosophie. Paris,
1979.
228. Flam L. Passé et avenir de la philosophie. Bruxelles, 1970.
229. Flew A. A linguistie Philosopher books at Lenin's «Materialism and
Empiriocriticism» // Praxis. 1967. № 1.
230. Fries J. de Materie und Geist. München, 1970.
231. Hartmann N. Der Auften der realen Welt. Grundriss der
allgemeinen. Kategorienlehre. Berlin, 1940.
232. Hartmann N. Grundlegung der Ontologie. Berlin, 1935.
233. Hedegger M. Sein und Zeit. Tübingen, 1960.
234. Heidegger M. Was ist das - die Philosophie. Pfüllingen, 1956.
235. Heidegger M. Zur Sache des Denkens. Tübingen, 1960.
236. Heinemann F. Die Philosophie in XX Jahrhundert. Stuttgart, 1963.
237. Heidegger M. Was heist Denken - Vorträge und Aufsätze. Teil II.
Pfüllingen, 1947.
238. Hegel G.W.F. Differenz des Fichteschen und Schelligschen
Systems der Philosophie // Sämtliche Werke. Bd. 1. Stuttgart, 1927.
239. HirschbergerJ. Geschichte der Philosophie. Bd. 1. Freiburg, 1927.
240. Hübner K. Mystische und wissenschaftliche Denkformen //
Philosophie und Mythos / Hrsg. von H. Poser. Berlin, 1979.
241. Husserl E. Husserliana. Bd. 6. The Haag, 1954.
242. Hutchinson J. The Reason and Religion. N.Y., 1956.
491
243. James W. Pragmatism. London, 1907.
243a. Jaspers К. Autobiographie / Library of living Philosophers. Hrsg.
v. Schilp. Stuttgart, 1957.
244. Jaspers К Einführung in die Philosophic München, 1959.
245. Jaspers K. Die grossen Philosophen. München, 1959.
246. Jaspers К. Philosophic Bd. 1. Berlin-Göttingen-Heidelberg, 1956.
247. Jaspers К. Psychologie der Weltanschaunngen. Heidelberg, 1956.
248. Jolivet R. Vocabulaire de la philosophie. Lion, 1957.
249. Kant I. Gessamelte Schriften. Bd. XV.
250. Koiré A. Etudes d' histoire de la pensée scientifique. Paris, 1966.
251. Kuhn О. Widerlegung des Materialismus. Abtötting, 1970.
252. Kraft V. Einleitung in die Philosophie. Wien, 1967.
253. Krüger G. Grundfragen der Philosophie. Frankfurt a/Main, 1958.
254. Kröner F. Die Anarchie der philosophischen Systeme.
Leipzig, 1929.
254*. Lelotte F. La solution du problème de la vie. Paris, 1947.
255. LenzJ. Vorschule der Weissheit. Würzburg, 1948.
256. Lombardi F. Apres Г historicism // La philosophie de Г histoire de
la philosophie. Rome-Paris, 1956.
257. Lessing Th. Die Sinngebung des Sinnlichen. Berlin, 1927.
258. Matisse G. L' incoherence universelle. Les logique du reel et les
lois de la nature. Paris, 1953.
259. MaCarthy J. Problem of Philosophy. Diversity Philosophy of East
and West. Honolulu, 1960.
260. Maire G. Une regression mentale. D' Henry Bergson à Jean-Pole
Sartre. Paris, 1959.
261. Marcuse G. Kultur und Revolution, I. Frankfurt a/M., 1968.
262. Marcel G. Presence et immortialité. Paris, 1935.
263. Maritain J. Science et sagesse. Paris, 1935.
264. MaistreJ. Œvres completes. Vol 1. Lion, 1891.
265. Merlean-Ponty M. Eloge de la philosophie et autres essays. Paris,
1966.
266. Mora J.F. Philosophy today. N.Y., 1960.
267. Moore G. Widerlegung des Idealismus. Eine Verteidigung des
common sense. Frankfurt a/ M., 1969.
268. Müller-Freienfels. Metaphysick des Irrationalen. Leipzig, 1927.
268a. Myrdal G. Value in social Theory. London, 1958.
269. Nestle W. Vom Mytos zum Logos. Aalen, 1966.
270. Newell J.D. The Value of Philosophy // Philosophy and common
sense. Washington, 1980.
271. Ortegay Gasset. Was ist Philosophic Stuttgart, 1968.
27 la. Perelman Ch. The reel commune et reel philosophique / Etudes sur
Г histoire de philosophie. Paris, 1964.
272. Petrovie G. Dialectical Materialism and Philosophy of Karl Marx //
Praxis. 1966. №3.
273. La philosophie de la philosophie. Paris, 1965.
492
274. PiagetJ. Sagesse et illusion de la philosophie. Paris, 1965.
275. Pitschl F. Verhältnis von Ding an sich und den Ideen des
Übersinnlichen in Kants kritischer Philosophie. Auseinandersetzung mit T. I. Oiser-
man. München, 1979.
276. Planck M. Wege zur physikalischen Erkenntnis. Stuttgart, 1949.
277. Plank M. Sinn und Grenzen der exakten Wissenschaften.
Leipzig, 1958.
278. Plank M. Physikalische Abhandlungen und Vorträge. Bd. III.
Braunschweig, 1958.
279. Popper K. Open Society and its Enemies. Vol. 2. London, 1945.
280. Popper К. La misère de Г historicisme. Paris, 1945.
281. Popper K. The Nature of philosophical Problems and Roots in
Science / The British Journal for Philosophy of Science. Vol. III. № 10. 1952.
282. Poper K. The Logie of scientific Discovery. London, 1959.
283. Pfeffer J. Existenz philosophic Leipzig, 1933.
283»- Pratt D. Personal Realism. N.Y., 1939.
283b. Ryle G. The Concept of Mind. London, 1959.
284. Reichenbach H. Der Aufsteig der wissenschaftlichen Philosophie.
Berlin, 1971.
285. Revel PF. Pourquoi les philosophes? Imprimé in Holland, 1957.
286. Reichenbach H. Modern Philosophy of Science. London, 1959.
287. Revolution in Philosophy. London, 1957.
288. RicoeurP. Histoire et vérité. Paris, 1955.
288*. Rombach H. Substanz, System, Struktur. Bd. 1. München, 1965.
289. Rougier L. La métaphysique et le langage. Paris, 1960.
290. Rüssel B. A History of western Philosophy. N.Y., 1949.
291. Sartre J.-P. Critique de la raison dialectique. Paris, 1960.
291". Sartre J.-P. Situations. Vol. II. Paris, 1948.
292. SciaccaA. Acte et être. Paris, 1965.
292я. La philosophie de Г histoire de la philosophie. Paris-Roma, 1956.
293. Shelling F. Vom Ich als Prinzip der Philosophie oder das
Unbedingte im menschlichen Wissen. Tübingen, 1975.
294. Schelling F. Ideen zu einer Philosophie der Natur als Einleitung in
das Studium dieser Wissenschaft // Werke. München, 1927.
295. Schlick M. Die Wende der Philosophie // Erkenntnis. Bd. 1. Heft 1.
1930-1931.
296. Schmitz H. System der Philosophie. Bd. 1. Bonn, 1964.
297. Spranger E. Wie gelant men zum Philosophieren // Universitas.
1964. Heft 6.
298. Suchting W.A. Marx and Philosophy. London, 1986.
299. Schuppe W. Erkenntnistheoretische Logik. Bonn, 1878.
300. Topitsch E. Gemeinsame Grundlagen mythischen und
philosophischen Denkens // Philosophie und Mythos. Ein Kolloquium / Hrsg. von
H. Poser. Berlin, 1979.
300*. Touqueldec J.de. Les principes de la philosophie thomiste. Paris,
1962.
493
301. Weber M. Gesammelte Schriften und Aufsätze zur Wissens chaft-
slehre. Tübingen, 1928.
302. Weil E. Logique de la philosophie. Paris, 1950.
303. Weil E. Sorge um die Philosophie - Sorge der Philosophie// Die
Zukunft der Philosophie. Hrsg. von H. Schiene. Ölten und Freiburg im
Breigau, 1968.
304. Weil E. Problems kantiens. Paris, 1970.
304a. Wisdom I. Philosophy and its Place in our Culture. 1975.
305. Wittgenstein L. Philosophical Investigations. Blackwell, Oxford,
1953.
АМБИВАЛЕНТНОСТЬ
ФИЛОСОФИИ
ПРЕДИСЛОВИЕ
Понятие амбивалентности (греч. amphi - вокруг, около, с
обеих сторон, двойственное и латин. valentia - сила) сложилось в
психиатрии и психологии в начале XX века. Швейцарский
психиатр Э. Блейер, впервые применивший это понятие, обозначал
им раздвоение личности, характерное для лиц, страдающих
шизофренией. Современная психиатрия рассматривает несколько
видов амбивалентности. Амбивалентно представление, если оно
сопровождается и приятными, и неприятными ощущениями.
Амбивалентно мышление, если в нем сосуществуют
взаимоисключающие мысли, понятия, убеждения. Амбивалентна воля, если
воление носит двойственный характер, в частности, если воле-
нию противостоит нежелание совершить какое-либо действие.
3. Фрейд расширил понятие амбивалентности, вывел его за
границы психиатрии и начал рассматривать амбивалентность как
атрибутивную характеристику нормальной психики человека.
В чувственности амбивалентность обнаруживается, например,
как любовь и в то же время ненависть (симпатия и антипатия)
к одному и тому же объекту. Амбивалентность мышления - его
противоречивость, т.е. противоречивость убеждений, понятий,
концепций.
Каждый человек, рассуждая о том или ином предмете,
сознательно или по привычке соблюдает элементарные правила
мышления, установленные формальной логикой. Тем более это относится
к ученому, какой бы областью исследования он ни занимался. Он,
конечно, не хочет вступать в противоречие со своими
собственными воззрениями, не хочет, чтобы одни его суждения противоречили
другим. Поэтому соблюдение правил (требований) формальной
логики имманентно менталитету ученого. То же, но, пожалуй, в еще
большей мере относится к философии, в лоне которой возникла и
развивалась формальная логика в течение двух тысячелетий. Кант
сформулировал это положение как требование неуклонной
последовательности, доведения до логического конца теоретических
рассуждений, как бы вытекающие отсюда выводы ни
противоречили общепринятым воззрениям. Однако это, казалось бы в принципе
497
вполне выполнимое требование логической последовательности,
оказывается на деле невыполнимым вследствие многостороннего
развития теории и используемых ею понятий.
Амбивалентность теоретического мышления, которая на
первый взгляд представляется лишь недостатком, в действительности
оказывается непосредственным выражением богатства содержания,
многозначности понятий, разносторонности теоретической
концепции. А.Н. Гиляров, известный украинский философ начала
прошлого века, справедливо писал о философии Канта: «Противоречия и
неясности, в которые запутывается Кант, не ослабляют, а
увеличивают значение его учения. Без них оно осталось бы оригинальной, но
мало плодотворной попыткой; противоречиями и неясностями Кант
вызвал плодотворную работу мысли. Вся последующая история
философии носит на себе следы воздействия Канта настолько сильно,
что без знакомства с ним не может быть ни понята, ни истолкована
должным образом. К Канту одинаково примыкают все крупнейшие
направления прошлого и настоящего века...»1.
То, что здесь сказано об амбивалентности философии Канта,
несомненно относится к каждому философскому учению, в
особенности же к наиболее выдающимся из них. Даже такая общая
особенность почти всех философских учений, как системотворчество, т.е.
попытка создать законченную систему философского познания, -
очевидное проявление амбивалентности философии. В науке, как
известно, нет сомнения в том, что каждая ступень достигнутого
знания является его преходящей ступенью, т.е. познание трактуется как
постоянно развивающееся, преодолевающее свою ограниченность,
которая, тем не менее, остается неустранимой, но уже на более
высоком уровне познания. Философы вполне разделяли эту точку
зрения, поскольку речь шла о науках. Но коль скоро вопрос вставал о
природе философского знания, то философ, создавая свою систему,
тем самым возглашал, что все или почти все философские
проблемы решены и развитие философии достигло конечного пункта.
Догматизм, внутренне присущий почти всем философским
учениям*, неизбежно амбивалентен. Но было бы ошибкой рас-
1 Гиляров А.Н. Философия в ее существе, значении и истории. Том 1.
Киев, 1916. С. 209-210.
* Среди немногих философов, которые не стремились к созданию системы
философского знания, следует в особенности отметить Ф. Бэкона. В «Новом
органоне», афоризм CXVI гласит: «... мы не предлагали никакой всеобщей и
цельной теории. Ибо, кажется, еще не пришло для этого время». Бэкон считал
предусловием создания системы философии развитие естественнонаучных
знаний, создание научной картины природы. Он, следовательно, полагал, что
философская система должна иметь своим фундаментальным основанием
нефилософские знания. Эта идея не получила плодотворного развития в процессе
последующего развития философии.
498
сматривать стремление философа создать законченную систему
философского знания просто как порок, заблуждение, напрасное
притязание. Ошибкой, конечно, является убеждение философа в
том, что его система в отличие от всех предыдущих останется
непревзойденной, последней. Но было бы не меньшей ошибкой
недооценивать тот факт, что каждая выдающаяся система
философии теоретически подытоживает познание и интеллектуальные
потребности своей исторической эпохи. Нельзя не согласиться с
П.Б. Струве, когда он утверждает: «... никогда еще не была
создана такая великая и богатая содержанием система, которой не
были бы присущи научные противоречия или, выражаясь еще
сильнее - нелепости»2. Стоит подчеркнуть, что Струве говорит
о научных противоречиях. А тот факт, что он называет «научные
противоречия» нелепостями, убедительнейшим образом говорит
об амбивалентности теории.
Предметом исследования в настоящей монографии
являются учения Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Фихте, А. Шопенгауэра, И. Канта,
Г.В.Ф. Гегеля, К. Маркса и Ф. Энгельса, Ф. Ницше. В
теоретических построениях этих мыслителей амбивалентность философии
выступает почти в обнаженном виде. Но это никоим образом не
значит, что в других философских учениях амбивалентность не
играет существенной роли. Достаточно подвергнуть анализу
любое философское понятие, чтобы выявить внутренне присущую
ему амбивалентность*. Позволю себе остановиться для примера
на общепринятом понятии, понятии объективности.
Большинство философов, несмотря на разделяющие их воззрения,
признают существование независимой от сознания человека
реальности, именуя ее объективной реальностью. Однако признание
безотносительно к человеческому сознанию существования чего
бы то ни было, поскольку речь идет об акте мышления, сознания,
предполагает, конечно, существование человеческого мышления,
сознания, т.е. некую субъективную реальность. Субъективный
идеалист, констатируя этот факт, интерпретирует его не как
гносеологическое, а как онтологическое отношение, т.е. трактует
сознание человека как prius, первичную реальность, которая-де
2 Струве П.Б. Марксова теория социального развития. Киев, 1905. С. 4.
* Противоречивость философских учений следует рассматривать как их
объективную определенность, а не следствие непоследовательности творца той
или иной философии. Так, на мой взгляд, нужно понимать такое
высказывание Л. Шестова: «Замечали ли великие философы у себя противоречия? Или
только их преемники эти противоречия замечали, а им казалось, что
противоречий нет?... Конечно, замечали, но нисколько не огорчались: знали, что не в этом
дело» (Шестов Л. Сочинения в двух томах. Том 1. О втором измерении
мышления (Борьба и умозрение). М., 1993, с. 638).
499
порождает всё существующее, в том числе и так называемый
внешний мир. Несостоятельность такого истолкования
существующего нисколько не устраняет амбивалентности понятия
объективности.
Объективное, как показывает ближайшее рассмотрение его
понятия, это не только то, что существует безотносительно к
человеческому сознанию и всей деятельности вообще.
Человечество создает «вторую природу», о которой никак нельзя сказать,
что она существует безотносительно к людскому существованию.
Это произведенное человечеством существование есть
объективная реальность особого рода, т.е. субъект-объектная реальность.
Есть, наконец, и еще один аспект объективности,
субъективный. Правомерно утверждение: категории мышления
объективны. Объективны причинность, взаимодействие и т.д., объективны,
поскольку эти формы всеобщности существуют и до сознания.
Однако категории - формы мышления, содержание которых
изменяется в ходе развития познания и в этом отношении они,
конечно, субъективны. Поэтому отношение категорий как форм
мышления к категориям как формам всеобщности, присущим природе
и общественным отношениям, неизбежно амбивалентно.
В лексиконе философии существует также понятие
объективной истины, хотя истина, в отличие от категориальных
определений предметного мира, не существует вне и независимо от
нашего сознания. Что же делает истину объективной? Разумеется,
только ее содержание, ибо форма истины (например, суждение),
конечно, субъективна. Однако и объективность содержания
истины - относительна, учитывая ее приблизительный характер,
источником которого является субъективность познавательной
деятельности, неизбежная неполнота самого достоверного знания.
Поэтому понятие истины, конечно, амбивалентно, чего не хотел
признавать, например, Гегель соответственно основным
посылкам своего объективно-идеалистического учения*.
* Объективный идеализм Гегеля определяет понятие не только как
существующее в нашем мышлении, но и как предшествующее ему, независимое от
человеческого сознания. В этом смысле «понятие есть истина субстанции»
(Гегель Г.В.Ф. Наука логики. Т. 3. М, 1972, с. 10), ибо оно «есть форма
абсолютного, которая выше бытия и сущности» (там же, с. 25). Понятен поэтому
вывод Гегеля: «... объективная истина есть сама идея как соответствующая
понятию реальность и в этом смысле предмет может иметь или не иметь в самом
себе истину...» (там же, с. 243). Характеризуя телеологическое отношение как
самодовлеющее, объективное Гегель утверждает: «Цель оказалась третьим по
отношению к механизму и химизму; она их истина» (там же, с. 192). Таким
образом, по учению Гегеля, истине как форме человеческого знания предшествует
истина как абсолютное в самих вещах.
500
Моральные нормы - человеческие установления, но они
объективны, так как складываются исторически, на основе стихийно
формирующихся обычаев. Отношение субъективного и
объективного в нравственных предписаниях многообразно. Это не только
отношение соответствия, взаимодополнительности, но и
отношение противоположностей, ибо нравственный (или
ненравственный) поступок есть волевой акт, собственное решение субъекта,
мотивы которого носят прежде всего личный характер. Поэтому
и нравственные нормы амбивалентны**.
Таким образом, понятие амбивалентности универсально, как
и понятие противоречия вообще. Можно поэтому даже сказать,
что амбивалентность - диалектическое отношение,
существующее и безотносительно к мышлению и в то же время субъективно,
поскольку речь идет о мышлении, познании.
Гегель, разъясняя понятие диалектики, цитирует один из
диалогов Платона: «Трудное и истинное состоит в том, чтобы
показать, что то, что есть другое, есть то же самое, а то, что есть то же
самое, есть другое, и именно состоит в том, чтобы показать, что
в том же отношении и с той же стороны, с которой в них является
одно, в них появляется наличие и другого»3. Платоновское
понимание диалектического отношения как невыразимого обыденным
языком и присущими ему грамматическими формами полностью
воспринимается Гегелем и превращается в критику формальной
логики с ее законом абстрактного тождества, исключающего
различия, и законом противоречия, исключающего совместимость
взаимоисключающих суждений. Соответственно этому Гегель,
например, характеризуя механическое движение, утверждает:
«Движение и состоит именно в том, что тело находится в одном
** Категорический императив - сформулированный Кантом абсолютный
нравственный закон, запрещающий любые отклонения от того, что согласно
этому императиву именуется долгом, носит, несомненно, амбивалентный
характер. На это указывает Дж. Мур: «Утверждая, что некий определенный поступок
является нашим абсолютным долгом, мы тем самым утверждаем, что
совершение этого поступка является, с точки зрения его ценности, чем-то единственным
в своем роде. Но ни один обязательный поступок не может быть единственной в
своем роде ценностью в том смысле, что он является единственной ценностью
в мире...» (Мур Д. Принципы этики. М., 1924, с. 207-208). Поясняя это
положение, Мур пишет: «Для того чтобы показать, что такой-то поступок является
долгом, необходимо знать, каковы же другие условия, которые вместе с данным
поступком определяют и формируют его последствия... Этика поэтому не
может нам дать список обязанностей» (там же, с. 234-235). Аргументы Мура не
опровергают категорический императив Канта, но они делают его менее
категоричным, менее абстрактным, менее императивным.
3 Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Книга вторая. СПб., 2006.
С. 166.
501
месте и одновременно в другом месте, причем столь же верно,
что оно находится не в другом, а именно в данном месте»4. Это
положение соединяет друг с другом два взаимоисключающих
суждения, каждое из которых является истинным лишь потому,
поскольку истинно другое, отрицающее его суждение.
В «Философии духа» Гегель противопоставляет друг другу
конечное и бесконечное как взаимоисключающие и вместе с тем
обусловливающие друг друга противоположности. С одной
стороны, он утверждает, что «...конечное не обладает бытием, т.е.
не обладает истинным бытием», а с другой - конечное
определяется как столь же истинное, как и бесконечное: «Дух является
поэтому в такой же мере конечным, как и бесконечным, и он ни
есть ни одно, ни только другое»5.
Само собой разумеется, что мышление Гегеля, как мышление
здравомыслящего человека, согласуется с законами обычной,
т.е. формальной логики, но вместе с тем там, где Гегель вскрывает
диалектическое отношение и формулирует его соответствующим
образом, он мыслит вопреки формальной логике. И это
противоречащее логике (логически противоречивое) суждение оказывается
правильным, истинным, постигающим сущностное отношение.
Не следует думать, что амбивалентность специфическим
образом характеризует диалектический способ мышления.
Философы, которые не признают диалектики, тем не менее не могут (и
не хотят) избежать амбивалентности мышления. Так,
французский экзистенциалист Г. Марсель в беседе с П. Рикёром ссылается
на свою пьесу "Эмиссар", один из персонажей которой заявляет:
«И да, и нет; это единственный ответ, когда дело касается нас
самих; мы верим и мы не верим, мы любим и мы не любим, мы есть
и нас нет; это происходит оттого, что мы на пути к цели, которую,
всю целиком, мы видим и не видим»6.
Диалектика не просто противоположность формальной
логики, ибо она предполагает ее существование как свое
предусловие. Систематическое нарушение диалектикой формальной
логики возможно лишь благодаря структуре этой логики, которая
невозможна без абстрактного понимания тождества и
абстрактного понимания противоречия. Диалектика также предполагает
наличие формальной логики; она возникла вследствие
обнаружения противоречий в логически правильных суждениях. Апории
Зенона Элейского убедительно сформулировали эти
противоречия. Однако и развитие формальной логики, которое предпола-
4 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Том 2. М., 1975. С. 72.
5 Гегель Г.В.Ф. Философия истории. Соч. Т. VIII. М., 1956. С. 49, 51.
6 Марсель Г. Трагическая мудрость философии. М., 1995. С. 182.
502
гает осмысление ее структурных форм и их ограниченности,
стало возможным благодаря диалектике. Налицо, таким образом,
единство противоположных, взаимоисключающих и взаимно
обусловливающих друг друга противоположностей. Такова
амбивалентная природа мышления, осознание которой становится
основой методологического применения понятия
амбивалентности.
Амбивалентность внутренне присуща живому языку, живость
которого органически связана с его метафоричностью.
Метафора - непосредственное выражение многозначности слова, без
которой невозможен живой язык. Мы называем цепь на колесах
трактора гусеницей. Мы говорим «головка сыра», «светило
науки». Язык поэзии еще более метафоричен, чем обычный
разговорный язык: «деревья в зимнем серебре» (A.C. Пушкин),
«Казбек... шапку на брови надвинул» (М.Ю. Лермонтов).
Родственницей метафоры является метонимия. У И.А.
Крылова читаем: «Я три тарелки съел». Н.В. Гоголь пишет в
«Мертвых душах»: «Эй, борода, как проехать отсюда к Плюшкину?»
Такие выражения, как «вегетерианский стол», «пусто, хоть
шаром покати», «гвоздь программы», «золотой человек», «кладезь
мудрости», «острое словцо», «квасной патриотизм» -
метонимии, благодаря которым мысль становится не только более
выразительной, но и более адекватной мыслимому содержанию.
Оксюморон - антиномическое сочетание противоположных,
несовместимых друг с другом слов - наиболее яркое проявление
живой выразительности языка. Л.Н. Толстой назвал одно из своих
произведений «Живой мертвец». Едва ли можно придумать
более точную характеристику персонажа, о котором идет речь.
У H.A. Некрасова читаем: «... убогая роскошь народа». Еще один
пример из А. Ахматовой:
Смотри, ей весело грустить
Такой нарядно обнаженной.
В повседневном словоупотреблении нередко встречаются
такие выражения, как «сладкая мука», «умный дурак».
Приведенные примеры частью заимствованы из «Краткой литературной
энциклопедии» (М., 1967-1968). См. слова: метонимия,
метафора, оксюморон*.
* Член-корреспондент РАН, известный филолог П.А. Николаев пишет:
«Метафоры поддаются классификации. Есть метафоры олицетворяющие:
разыгралась непогода, счастливый номер облигации, небо хмурится - то есть
процессы природы уподобляются состоянию, действиям и свойствам людей или
животных. Другой вид - овеществляющие метафоры: родилась мечта, сгорел от
стыда - то есть свойства человеческие уподобляются свойствам материальных
503
Констатируя повсеместность амбивалентности, мы,
естественно, должны рассматривать этот факт как одну из основ
методологии научного исследования. К этому обязывает нас дихотомия
достоверного знания, которое носит приблизительный характер,
т.е. включает в себя и неистинное (погрешность, неточность,
частичное заблуждение), что, собственно, и делает его
приблизительным. Приблизительность так же всеобща, как и
ограниченность знания на любой ступени его развития.
Это значит, что прогрессирующее познание преодолевает
собственную ограниченность, но новая ступень познания также
ограниченна. Следовательно, ограниченность познания и
преодолевается и не преодолевается.
Ограниченность знания так же дихотомична, как и его
приблизительность. Все согласны с тем, что некое (любое) целое не
может быть познано, если не познаны составляющие его части
(элементы, функции и т.п.). Но и каждая часть целого не может
быть полностью познана, если отсутствует понятие целого,
частью которого она является. Тем не менее и целое и части
постигаются в ходе познавательного процесса, постигаются,
разумеется, относительно, т.е. приблизительно. Научное и в особенности
философское исследование необходимо предполагает выявление
амбивалентности знания как условия предотвращения его
догматической интерпретации, а также условия, позволяющего
преодолевать односторонность достоверного знания, которое всегда
нуждается в дополнении, ограничении, конкретизации. Таким
образом, амбивалентность представляет собой не только
фактическое состояние вещей, но и один из необходимых
методологических принципов научного исследования.
Предваряя последующее изложение, я хочу выразить мою
искреннюю признательность младшему научному сотруднику
Института философии РАН Инге Алексеевне Лаврентьевой, которая
не только подготовила рукопись данной монографии на
компьютере, но и помогла мне своими замечаниями.
явлений. Можно добавить: железная воля, пустой человек. Есть метафоры
конкретные, когда употребляются похожие друг на друга части разных предметов:
крылья мельницы, шапка горы, шапка в газете. Метафоры отвлеченные - это
выражения, обозначающие отвлеченные представления: поле общественной
деятельности, зерно рассуждений, цепь представлений. Все эти четыре вида
относятся к классу одночленных метафор. Бывают и двучленные: водил за нос,
стала работать спустя рукава. Подобная образность вошла в бытовую речь»
(Николаев П.А. Мемуарный калейдоскоп. М., 2008, с. 317).
Глава 1
ПЛОДОТВОРНАЯ ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ
ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИХ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ
(Социальная философия Жан-Жака Руссо)
Ж.-Ж. Руссо - один из немногих социальных мыслителей,
заслуги которого были вполне признаны и весьма высоко оценены
при его жизни. Правильно отмечает А.З. Манфред: «Ни одно
другое имя не было окружено уже в XVIII веке таким ореолом славы,
как имя Руссо. Он был самым знаменитым писателем Франции,
Европы, мира... ни один французский писатель не пользовался
при жизни такой широкой известностью»1. Вольтера именовали
просто Вольтером, Руссо же именовали проще и доверительней:
Жан-Жак.
Лион Фейхтвангер, посвятивший Руссо прекрасный роман,
рассказывает, что аристократ Жирарден и его сын Фернан -
страстные приверженцы учения Руссо - уговорили стареющего
мыслителя поселиться в их имении Эрменонвиль, в особняке,
расположенном в парке, распланированном так, как было предложено
Руссо в его романе «Новая Элоиза». В нем Руссо и жил до конца
своих дней.
Юноша Робеспьер, девятнадцатилетний студент,
поклонявшийся Руссо, побывал в Эрменонвиле, сподобился беседы с
дорогим учителем. Он писал в своем дневнике: «Я видел Жан-Жака,
женевского гражданина, величайшего из людей нашего времени.
Я все еще полон гордости и ликования: он назвал меня своим
другом! Благородный муж, ты научил меня понимать величие
природы и вечные принципы общественного порядка. Но в твоих
1 Манфред A3. Три портрета эпохи великой французской революции.
М., 1979. С. 26.
505
прекрасных чертах я увидел скорбные складки - следы
несправедливости, на которую люди тебя обрекли. На тебе я
собственными глазами убедился как люди вознаграждают за стремление к
правде. И все же я пойду по твоим стопам.
Старое здание рушится. Верные твоему учению, мы возьмем
в руки лом, разрушим старое до основания и соберем камни,
чтобы построить новое здание, какого мир еще не знал. Быть может
мне и моим соратникам придется расплатиться за наше дело
глубочайшим бедствием или даже преждевременной смертью. Меня
это не пугает. Ты назвал меня другом своим: я покажу, что
достоин быть им»2.
Аристократ Жирарден, безусловно, консерватор и
непреклонный Робеспьер, радикальный революционер, - и тот, и другой
видят в Руссо своего учителя, спасителя нации, ее чуть ли не
единственную надежду*. Жирарден, конечно, не единственный среди
аристократов. Были и другие, не менее восторженные
приверженцы «женевского гражданина». Жирарден у Фейхтвангера убежден
в том, что «из нынешней разоренной, преступной страны может
все-таки вырасти Франция Жан-Жака...»3. Правда, правительство
Луи XV не разделяет иллюзий некоторых аристократов, среди
которых встречаются и высокопоставленные чиновники. Его
произведения сплошь и рядом подвергаются запрету. Руссо постоянно
находится под надзором полиции. Он спасается от ареста, уезжая
в Англию по приглашению Д. Юма. Возвратившись через
некоторое время во Францию, он выступает в качестве драматурга.
Его комедия в стихах «Деревенский колдун» не сходит со сцены,
2 См. Фейхтвангер Л. Мудрость чудака или смерть и преображение Жан-
Жака Руссо. М., 1965. С. 137-138.
* Английский аристократ Э. Бёрк, один из главных представителей
аристократической реакции на Великую французскую революцию, рассуждает,
пожалуй, в духе Руссо: «Обескураживающее зрелище, открывающееся изнутри
всякого гражданского общества! Низы сломлены и втоптаны в грязь
посредством жесточайшего угнетения, а богатые своей искусственной жизнью
навлекают на себя беды еще худшие, нежели их тирания, вероятно, могла бы навлечь
на ниже стоящих. И совсем другая картина в естественном состоянии. Природа
не порождает никакой нужды, а люди в этом состоянии имеют лишь те
потребности, которые они способны удовлетворить умеренным трудом, а посему здесь
нет и рабства... Жизнь проста и потому - она счастливая». В отличие от
французских аристократов предреволюционного времени Э. Бёрк лишен каких бы
то ни было иллюзий относительно Руссо. Даже «Новую Элоизу» он третирует
как «знаменитое произведение философского волокитства». И рассматривая
Великую французскую революцию как великое зло, он категорически заявляет:
«Я абсолютно уверен, что к такого рода позорному злу привели именно писания
Руссо» (Бёрк Э. Правление, политика и общество. М., 2001, с. 128, 389, 390).
3 Фейхтвангер Л. Мудрость чудака....
506
получает даже одобрение короля, не говоря уже о придворных.
«Новая Элоиза» многократно переиздается при жизни
мыслителя. Но его основной политический труд «Общественный договор»
снова навлекает на автора преследования, от которых он
укрывается в имении того или иного аристократа, пока окончательно не
переселяется в парк Эрменонвиля.
В период Великой французской революции учение Руссо
становится идейным знаменем, идеологией наиболее радикальной
части ее участников. Барельеф Руссо украшает зал заседаний
Конвента, портреты Руссо видны повсеместно. Депутаты
Национального собрания сплошь и рядом ссылаются на
«Общественный договор» Руссо; основные идеи этого произведения
получают свое выражение в «Декларации прав гражданина и человека».
Робеспьер, выступая в Национальном собрании, разъясняет:
«"Общественный договор" всего лишь три года тому назад был
поджигательским сочинением! Жан-Жак Руссо, человек, больше
всего способствовавший подготовлению революции, был
крамольником, опасным новатором, и если бы только правительство
не боялось мужества патриотов, оно отправило бы его на
эшафот!»4.
В эпоху, последовавшую после победоносной французской
революции, учение Руссо оказывает по-прежнему
могущественное влияние на общественное сознание. И. Кант в «Приложении к
"Наблюдениям над чувством прекрасного и возвышенного"»
подчеркивает особенную роль учения Руссо в его интеллектуальном
развитии. Последнее породило в нем высокомерное отношение к
людям далеким от науки. «Руссо исправил меня, - писал Кант. -
Указанное ослепляющее превосходство исчезает; я учусь
уважать людей и чувствовал бы себя гораздо менее полезным, чем
обыкновенный рабочий, если бы не думал, что данное
рассуждение может придать ценность всем остальным, устанавливая права
человечества»5. Портрет Руссо был единственным предметом
живописи, украшавшим кабинет Канта. Молодой Кант зачитывается
произведениями Руссо, иной раз даже нарушая установленный им
распорядок дня, забывая, например, об обязательной ежедневной
прогулке. «Я должен читать Руссо, - пишет он, - до тех пор, пока
меня уже не будет отвлекать красота его слога, и только тогда я
начну читать его с пониманием»6. Это восхищение идеями Руссо
тем более примечательно, что Кант вовсе не разделял
свойственный этому мыслителю пессимистической оценки истории циви-
4 Робеспьер М. Избранные произведения. М., 1965. Т. III. С. 184.
5 Кант И. Сочинения. В 6 т. М., 1964. Т. 2. С. 205.
6 Там же. С. 198.
507
лизации. Но глубокий демократизм Руссо, его убеждение в том,
что разделение властей, независимо от формы правления,
составляет суть подлинного республиканизма, что суверенитет
государства является неотчуждаемым суверенитетом народа, а не
правителей, - эти идеи были не только восприняты Кантом, но и получили
дальнейшее, более основательное развитие в его трудах.
Идеи Руссо, по признанию Л.Н. Толстого, оказали большое
влияние на его интеллектуальное развитие. «Руссо, - писал он, -
был моим учителем с 15-летнего возраста. Руссо и Евангелие-
два самые сильные и благотворные влияния на мою жизнь»7.
С конца XVIII в., а тем более в XIX столетии Руссо,
естественно, уже не мог быть кумиром консерваторов, а тем более
реакционеров. Стало для всех очевидно, что его учение носит
революционный характер. Не случайно ведь один из страстных
приверженцев Руссо аббат Мабли стал коммунистом (разумеется,
утопическим). Тем не менее не может остаться без ответа вопрос:
почему учение Руссо в период, предшествующий Великой
французской революции, находило горячую поддержку в политически
враждебных друг другу социальных группировках? Большинство
исследователей творчества Руссо видят причину этого, казалось
бы совершенно непонятного явления, в противоречивости,
амбивалентности воззрений мыслителя. Показательно в этом
отношении заявление французского исследователя Б. Мюнтеано: «Что он
думает на самом деле? Куда хочет он придти? Как объяснить, как
понять этого человека, этого мыслителя? Мыслителя, о котором
можно сказать, что каждый час его жизни, от рождения и до
смерти, не перестает интересовать его биографов, комментаторов, не
перестает ориентировать наш дух и наше сознание в самых
разных направлениях, менее всего конвергентных?»8.
Мюнтеано ссылается на таких известных исследователей
наследия Руссо, как Бутру, Дельбос, Бувье, Пароди, которые пытались
7 См. ЮМ. Лотман. Руссо и русская культура XVIII - начала XIX века//
Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969. С. 600. Л.Толстой назвал Руссо в числе
своих литературных предшественников. «Прежде всего я обязан двоим -
Руссо и Стендалю. Руссо не отдавали должного; не ценили благородства его
мыслей, порицали все его взгляды. Я прочел всего Руссо, да, все двадцать томов,
включая "Музыкальный словарь". Я не только восхищался им; я боготворил его;
в пятнадцать лет я носил медальон с его портретом как образок. Многое из
написанного им я храню в сердце, мне кажется, что это написал я сам» (там же,
с. 555-556). Эта оценка влияния Руссо на такую самобытную, независимую,
гениальную натуру, как Л.Н. Толстой, характеризует учение Руссо несравненно
глубже, чем любые историко-философские характеристики.
8 Munteano. Les «contradictions» de J.J. Rousseau // Actes de colloques
«Rousseau et son œuvre». Paris, 1964. P. 95.
508
примирить противоположные по своему содержанию
высказывания Руссо, подчеркивая, что все эти попытки потерпели неудачу. Он
ссылается на П. Масона, который в 1912 г. вопрошал: «Как познать
Жан-Жака?» Он цитирует современного автора К. Фюзиль, который
заявил: «У Руссо нет ни одной максимы, которая не имела бы
противоположной максимы»9.
Мыслителя, который высказывает несовместимые друг с
другом суждения, справедливо называют эклектиком. Можно ли
назвать учение Руссо эклектичным? Никоим образом, ибо
противоположные, несовместимые друг с другом высказывания Руссо
взаимно ограничивают друг друга, предотвращая тем самым
крайние, экстремистские (если можно так выразиться) теоретические
выводы. И Мюнтеано справедливо указывает: «Руссо прекрасно
сознавал свою раздвоенность (dédoublement) и противоречия,
которые этот дуализм неизбежно влечет за собой»10. Руссо, согласно
этому исследователю, защищает тезис и антитезис «с одинаковым
энтузиазмом. Он ищет противоречия, постоянно предполагает их
наличие и, больше того, провоцирует их»*.
И.С. Спинк, другой участник коллоквиума, ссылаясь на самого
Руссо, подчеркивает: «Он признает в одной заметке, что никогда
не придает один и тот же смысл терминам, которые употребляет.
Он утверждает даже, что это невозможно в большом труде...»11.
9 Ibid. Р. 95-96
10 Ibid. Р. 100.
* Следует подчеркнуть, что далеко не все исследователи творчества Руссо
склонны положительно оценивать противоречивость высказываний этого
мыслителя. И. Тэн писал в 1875 г. о Руссо: «Поразительный, но плохо
уравновешенный дух, в котором были очень сильны восприятия, образы, эмоции. Слепой и
прозорливый дух, подлинный и вместе с тем больной поэт, который вместо
вещей видел свои сны, жил как в романе и умер в кошмаре, который сам себе
создал» (см. Gagnebin В. Vérité et véracité dans les Confessions // Actes de Colloques
«Rousseau et son œuvre». Paris, 1964, p. 7). A. Бергсон выразился еще резче:
«Руссо является человеком, который дискутирует без того, чтобы познавать»
(см. Kraft О. Les classes socials à Genève et la notion de citoyen // Op. cit., p. 219).
Ж. Маритен, выдающийся католический философ прошлого века, сводит
противоречия учения Руссо к внутренней амбивалентности его личности: «То, что
свойственно Жан-Жаку, что составляет его особенную привилегию - это
покорность самому себе. Он принимает себя самого и свои дурные противоречия, как
верующий принимает волю Бога. Он согласен быть одновременно и да и нет»
(Maritain J. Trois reformateurs. Luther-Decartes-Rousseau. Paris, 1925, p. 139).
Маритэн, как видно из этой цитаты, обвиняет Руссо «в дурных противоречиях»,
источник которых он видит в революционном демократизме мыслителя,
характеризуя эти воззрения как мифы: «...миф о свободе, миф о равенстве приводит
Руссо к тому, чтобы совершенно особым образом и утопически абсурдно
формулировать политическую проблему» (Ibid, 189).
11 SpinkJ.S. La phase naturaliste dans la preparation de l'Emile, ou Wolnar
éducateur //Actes de colloques «Jean-Jacque Rousseau et son œuvre». Paris, 1964. P. 180.
509
До сих пор я рассматривал различные оценки мировоззрения
Руссо, не касаясь его мировоззрения. Эта несколько
растянувшаяся вступительная часть статьи дает во всяком случае
представление о том, как высоко оценивалось его учение в период до Великой
французской революции, во время революции и в последующее
время. Вместе с тем оценки учения Руссо, как правило,
указывают на противоречивость, рассогласованность, амбивалентность
его мировоззрения. Теперь надлежит сделать предметом
анализа само учение этого мыслителя, что, надеюсь, позволит внести
определенные коррективы в приведенные оценки.
Как известно, первым значительным произведением Руссо,
сразу сделавшим знаменитым мыслителя сначала во Франции,
а затем и в других европейских странах, было сочинение,
получившее в 1750 г. премию Дижонской академии по вопросу,
предложенному этой академией: «Способствовало ли возрождение
наук и искусств очищению нравов?» Идеи Просвещения,
господствовавшие в тогдашней Франции, подразумевали, разумеется,
положительный ответ на этот вопрос. Таково было убеждение
Вольтера, Дидро, Гольбаха, Гельвеция, Ламетри и других
просветителей. Это убеждение стало идейной основой предпринятого
Дидро и д'Аламбером издания многотомной «Французской
энциклопедии». Руссо также был просветителем, он, в частности,
писал для энциклопедии статьи по политической экономии и о
языке. Однако, вопреки ожиданию своих коллег, он попытался
теоретически обосновать отрицательный ответ на поставленный
Дижонской академией вопрос. При этом он отрицательно
оценивает не только «возрождение наук и искусств», т.е. Ренессанс, но
и все их развитие в целом.
Руссо утверждал, что «наши души развратились по мере того,
как шли к совершенству наши науки и искусства»12. Он горячо
восхвалял народы (не называя, правда, их), которые
«предохранив себя от ...заразы ненужных знаний, своими добродетелями
создали собственное свое счастье» (15), осуждая «исполненные
гордыни попытки выйти из счастливого неведения, в которое
погрузила нас вечная Мудрость» (18).
Итак, счастливое неведение - дар вечной Мудрости, божий
дар. Такова основная идея данного сочинения Руссо, идея,
которую он настойчиво обосновывает, отвергая все мыслимые
возражения. «Древнее предание, перешедшее из Египта в Грецию,
говорит, что тот из богов, который был врагом людского покоя, был
12 Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969. С. 14. Далее ссылки на этот сборник
сочинений Руссо даются в тексте с указанием страницы в скобках.
510
изобретателем наук» (19). Науки, утверждает Руссо, родились из
суеверий, из скупости, из праздного любопытства. Таковы -
астрономия, геометрия, физика. «Науки и искусства, таким образом,
обязаны своим происхождением нашим порокам» (19).
Руссо далее уверяет читателей, что изучение наук
расслабляет человека, лишает его мужества и, следовательно, вредно
отражается на воинских качествах, необходимых людям для
защиты своей родины. Не случайно «варвары» победили не
только Грецию, но и Рим. «Когда готы опустошили Грецию, все
библиотеки были спасены от сожжения лишь благодаря тому, что
один из победителей подумал: надо оставить врагам то их
достояние, которое так удачно отвращает их от военных
упражнений и располагает к занятиям праздным и требующим сидячего
образа жизни» (23).
Нет необходимости приводить другие аналогичные
высказывания Руссо относительно фатальной вредоносности наук и
искусств и благодетельности «счастливого неведения». Гораздо
важнее, вернее говоря, необходимей вскрыть присущую данному
сочинению Руссо амбивалентность, т.е. то обстоятельство, что он
противоречит самому себе, т.е. высказывает положения, которые
принципиально несовместимы с основной идеей этого
сочинения. Уже в самом начале этой работы Руссо заявляет, что он вовсе
не противник науки. «Не Науку я оскорбляю, - сказал я самому
себе, - Добродетель защищаю я перед людьми добродетельными.
Честность для людей порядочных еще дороже, чем ученость для
ученых» (И). Итак, нравственность выше, дороже знания,
особенно если оно сводится к учености ученых. В науках, утверждает
Руссо, подвизается немало недостойных, некомпетентных людей,
которые позорят научные занятия. «Что подумаем мы об этих
компиляторах, нескромно взломавших двери науки и впустивших в
святилище ее чернь, недостойную приближаться к этому
святилищу...» (28). Неясно, конечно, о какой черни идет речь, но ясно
одно: в святилище науки должны допускаться достойные,
талантливые люди. Значит научное познание не только не вредно, не
излишне; оно, напротив, возвышает человека. «Сколь величественно
и прекрасно зрелище, когда видим мы, как человек в некотором
роде выходит из небытия при помощи собственных своих усилий;
как рассеивает он светом своего разума мрак, коим окутала его
природа...» (11). Если в других местах этого сочинения говорится
о том, что «природа хотела уберечь [народы] от знания, как мать,
которая вырывает опасный предмет из рук своего дитяти; что все
тайны, которые она от нас скрывает, - это беды, от которых она
нас ограждает» (19), то приведенное выше высказывание Руссо
511
характеризует природу отнюдь не как заботливую мать, а как
нечто, обволакивающее мраком человеческое бытие, человеческий
разум.
Руссо осуждает правителей, которые вследствие
предубеждений, порожденных гордыней, полагают, что искусство править
народом независимо от знаний, науки, просвещения. Разрыв
между властью и учеными чреват опаснейшими последствиями для
судеб страны, ибо «пока с одной стороны будет только власть, а
с другой - только знания и мудрость, ученые редко будут думать
о великих вещах, государи будут совершать хорошие поступки
еще реже, а народы будут все так же порочны, испорчены и
несчастны» (29). Выходит, следовательно, что порочность,
испорченность и несчастья народов имеют одной из своих основных
причин недостаток просвещения, знания. Это никак, конечно, не
согласуется с тезисом о «счастливом неведении» как источнике
не только счастья, но и нравственности.
Рассуждения Руссо о пользе знания занимают в
рассматриваемом сочинении сравнительно скромное место по сравнению
с темпераментными высказываниями о пагубности наук и
познания вообще. Однако внимательное чтение этого произведения
постоянно наталкивается на внутренне присущую ему
амбивалентность, рассогласованность, противоречивость. И дело тут не
в логической непоследовательности, а в том, что выдающийся
деятель французского Просвещения, выступая против наук и
искусств, видя в них истоки нарастающей аморальности, остается
все-таки просветителем, для которого развитие наук и искусств -
столбовая дорога социального прогресса. Поэтому, заключая свой
трактат, Руссо возглашает: «Бэконы, Декарты и Ньютоны - это
наставники человеческого рода...» (29).
Амбивалентность воззрений Руссо, которая на первый взгляд
представляется серьезным недостатком, отсутствием цельности,
связности формулируемых воззрений, в действительности
оказывается все же достоинством, ибо если бы Руссо
ограничился одной только критикой «наук и искусств», обвинением их с
моральной точки зрения, он был бы, конечно, не просветителем,
а противником Просвещения, приверженцем феодальной реакции
в ее наиболее заскорузлой форме.
Характеризуя социальный смысл этого первого
произведения Руссо, В.Ф. Асмус указывает, что в нем получил сильное и
смелое выражение «горячий протест плебея, который видит, что
плоды прогресса цивилизации не только остаются для него
недоступными - по его социальному положению, - но что самые
блага цивилизации, основывающиеся на господстве рассудка над
512
чувствами, далеко не безусловны, заключают в себе оборотную,
отрицательную сторону»13.
Литературный дебют Руссо не только сделал его знаменитым,
но и вызвал серьезные возражения среди значительной части
деятелей Просвещения, прежде всего Вольтера, который в отличие
от других просветителей совершенно не склонен был
рассматривать это сочинение Руссо просто как парадокс, которым Руссо
хотел завоевать литературное имя. И Вольтер оказался прав. Его
острая критика воззрений Руссо нисколько не убедила мыслителя.
Напротив, эта критика убедила Руссо в том, что надо продолжать
работу в избранном им направлении.
Следующее произведение Руссо «Рассуждение о
происхождении и основаниях неравенства между людьми»,
опубликованное через пять лет после прославившего его дебюта,
начинается с указания на неудовлетворительное и, более того,
ухудшающееся состояние знания людей о самих себе.
«Наиболее полезным и наименее продвинувшимся из всех знаний
человеческих мне представляется знание человека... чем более
накапливаем мы новых знаний, тем более отнимаем мы у себя
средств приобрести самое важное из всех; так что, по мере
того, как мы углубляемся в изучение человека, мы, в
известном смысле, утрачиваем способность его познать» (40). Это
значит, что умножение знаний относительно природы
человека отнюдь не является действительным прогрессом познания.
Внимательное чтение нового трактата Руссо показывает, что
он относит это положение ко всякому знанию. Касаясь вопроса о
познании в ходе последующего изложения, Руссо утверждает, что
«состояние размышления - это уже состояние почти что
противоестественное и что человек, который размышляет - это животное
извращенное» (51). Но ведь рассуждение о происхождении
неравенства, как и предшествующий ему трактат, - ответ на вопрос,
поставленный Дижонской академией, - есть не что иное как
размышление, в котором Руссо не видит чего-либо
противоестественного. Какое же размышление осуждается им как
противоестественное? Ответить на этот вопрос нелегко, поскольку дело не
сводится к тому, что размышление и рассуждение обозначаются
во французском языке разными словами. Однако это
обстоятельство едва ли можно считать существенным, так как невозможно
рассуждать не мысля, не размышляя. Впрочем, в какой-то
степени рассуждение о вреде рассуждения сводится к заявлению: «не
бойтесь унизить ваш род, отказываясь от его познаний, чтобы
отказаться от его пороков» (105).
13 Асмус В.Ф. Руссо. М., 1962. С. 11.
17. Ойзерман Т.И., том 5 513
Казалось бы, негативистское отношение Руссо к познанию
в силу таящихся в нем несообразностей достаточно очевидно.
И, вероятно, поэтому на этой же странице Руссо возглашает:
«божественный голос призвал весь род человеческий к
просвещению» (105). Конечно, Просвещение есть не столько
исследование, познание неизвестного, сколько распространение уже
приобретенных знаний. Справедливо писал Ж.А. Кондорсэ:
«В Европе вскоре образовался класс людей, менее занятых
открытием и углублением истины, чем ее распространением, которые,
поставив себе целью преследовать предрассудки в убежищах, где
духовенство, школы, правительство, старые корпорации собрали
их и покровительствовали им, стремились разрушать народные
заблуждения, чем расширять границы человеческих знаний -
косвенный путь содействовать их прогрессу, который был не менее
опасен, но также не менее полезен»14.
Руссо фактически осуждает распространение знаний, т.е.
Просвещение. Больше того, он порывает со своими недавними
соратниками-энциклопедистами, несмотря даже на свои
дружеские отношения с Дидро, разрыв с которым он особенно
болезненно переживает.
Основной задачей своего второго трактата Руссо считает
исследование причин возникновения социального, т.е. не
естественного, а искусственного, согласно его терминологии, неравенства,
характеризующего современное ему общество. Единственным,
по его убеждению, путем исследования действительных основ
человеческого общества является изучение первобытного чаювека.
К этому выводу с необходимостью приводит, полагает Руссо,
рассмотрение так называемого цивилизованного общества. «Люди -
злы; - пишет он, - печальный и долгий опыт избавляет нас от
необходимости это доказывать. Между тем человек от природы
добр...» (100). И развивая эту же мысль, Руссо присовокупляет:
«Вы можете сколько угодно восхищаться человеческим
обществом; все же остается не менее верным, что оно неизбежно
побуждает людей ненавидеть друг друга в той мере, как сталкиваются
их интересы; взаимно оказывать друг другу мнимые услуги, а на
деле причинять друг другу всевозможные несчастья» (100).
Этому цивилизованному, расколотому на противоположность между
имущими и неимущими обществу философ противопоставляет
первобытный строй жизни людей. Он не располагает какими-либо
эмпирическими данными, характеризующими жизнь аборигенов
14 Кондорсэ Ж.А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого
разума. М., 1936. С. 175.
514
Африки, Австралии, Америки. Его представление о первобытном
или, по его выражению, «естественном» устройстве жизни людей
носит абстрактный характер. Он просто убежден в том, что
«естественный» человек есть человек, пребывающий в том
состоянии, в каком он был создан Богом. Поэтому это счастливая пора
человеческой жизни, нечто подобное библейскому описанию рая,
из которого Адам и Ева были изгнаны потому, что они по
наущению змия вкусили яблоко познания. По определению Руссо,
«естественное состояние - это такое состояние, когда забота о нашем
самосохранении менее всего вредит заботе других о
самосохранении, и состояние это, следовательно, есть наиболее
благоприятное для мира и наиболее подходящее для человеческого рода»
(64). Человек в естественном состоянии, полагает Руссо, почти
не нуждается в лекарствах, а тем более - во врачах. Это -
счастливый человек, которого отличает от животных не столько разум,
сколько свобода. Ему свойственны высокие нравственные
качества - человечность, сострадание, милосердие. Однако эти
нравственные качества постепенно ослабевают и в конечном счете
сходят на нет в цивилизованном обществе, которое Руссо называет
«гражданским состоянием». Основной чертой этого состояния
является социальное неравенство: противоположность между
имущими и неимущими, которая возникает вместе с возникновением
частной собственности. Однако глубочайшим источником
социального неравенства в конечном счете оказывается, согласно
Руссо, умственное развитие людей. Неравенство «почти ничтожное
в естественном состоянии, усиливается и растет за счет развития
наших способностей и успехов человеческого ума и
становится, наконец, прочным и узаконенным в результате установления
собственности и законов» (97-98). Это же умственное развитие
людей ведет, полагает Руссо, с одной стороны, к утрате
первоначальной, ничем не замутненной нравственности, а с другой, -
к возникновению частной собственности и государства. Однако
возникновение частной собственности характеризуется Руссо не
как постепенный, во многих отношениях стихийный,
растянувшийся на многие и многие годы процесс, а как нечто, по существу,
случайное, которое вполне можно было бы предотвратить, если
бы нашлись люди, осознающие угрожающие последствия
своекорыстной инициативы того человека, который объявил себя
собственником некоего участка земли. «Первый, кто, огородив участок
земли, придумал заявить: "Это мое!" и нашел людей достаточно
простодушных, чтобы тому поверить, был подлинным
основателем гражданского общества. От скольких преступлений, войн,
убийств, несчастий и ужасов уберег бы род человеческий тот,
17*
515
кто, выдернув колья или засыпав ров, крикнул бы себе подобным:
"Остерегитесь слушать этого обманщика; вы погибли, если
забудете, что плоды земли - для всех, а сама она - ничья"».
Правда, следующие фразы свидетельствуют о том, что Руссо начинает
осознавать, что дело тут не в случайной злонамеренной
инициативе некоего одиночки, т.е. все обстоит несравненно сложнее.
«Но очень похоже на то, - реалистически отмечает философ, -
что дела пришли уже тогда в такое состояние, что не могли
больше оставаться в том же положении. Ибо это понятие -
"собственность", зависящее от многих понятий, ему предшествовавших,
которые могли возникать лишь постепенно, не сразу сложилось в
человеческом уме» (72). Поскольку с этой точки зрения
возникновению частной собственности предшествовало понятие
собственности, то причины вполне материального явления сводятся
опять-таки к развитию понятия - знания; они-то вновь и вновь
подвергаются суровому осуждению. Тем не менее Руссо вполне
осознает, что возвращение человечества к первобытному
«естественному» состоянию невозможно и, по-видимому, даже не
нужно. Поэтому он заранее отвечает своим возможным оппонентам,
которые, вероятно, склонны будут приписывать ему именно
такого рода социальную программу. «Я очень боюсь, что кто-нибудь
додумается, в конце концов, мне ответить, что все эти великие
вещи, а именно: искусства, науки и законы, были весьма мудро
изобретены людьми как моровая язва, чтобы предупредить
чрезмерное размножение человеческого рода, из опасения, как бы тот
мир, который отведен нам для жизни, не оказался, в конце
концов, слишком тесным для его обитателей.
Так что же! Нужно разрушить общество, уничтожить "твое"
и "мое", вернуться в леса жить там вместе с медведями? -
такой вывод вполне в духе моих противников...» (104). Разумеется,
Руссо противник уничтожения частной собственности.
Собственность мелкого, более или менее самостоятельного производителя
он защищает против крупных, в особенности феодальных
собственников, которые господствуют в обществе и всячески
стремятся подчинить, а то и разорить того же крестьянина, который
своим нелегким трудом обеспечивает благоденствие нации. Не
удивительно поэтому, что Руссо восхваляет земледелие как
искусство, которое в отличие от других искусств не только
жизненно необходимо, но и вполне совпадает с нравственным
образом жизни. Многообразное по своему содержанию крестьянское
искусство характеризуется Руссо как такого рода возвышенная
деятельность, которая предполагает сверхъестественный
источник, т.е. не могла сформироваться сама собой: «всему этому
516
должны были бы их научить боги, потому что невозможно
постигнуть, как могли бы они научиться этому сами» (57). И
несмотря на свою критику частной собственности как причину
многочисленных бед человечества, Руссо вполне готов признать ее
необходимость, а значит необходимость упразднения блаженного
«естественного состояния», дабы искусство земледелия достигло
своего расцвета, ибо что может «побудить людей обрабатывать
землю до тех пор, пока не будет она вообще разделена между
ними, то есть пока не будет вообще уничтожено естественное
состояние?» (57).
Итак, Руссо сочетает в своем трактате любовную
характеристику естественного состояния человечества с признанием
необходимости его упразднения, жесткую критику частной
собственности с признанием ее необходимости для общественного
производства, основной формой которого признается земледелие.
Он безоговорочно осуждает социальное неравенство, но это вовсе
не означает его отрицания, его неизбежности при условии
подчинения всех граждан законам, обеспечивающим благоденствие
нации. Эти воззрения, конечно, глубоко амбивалентны, но такая
амбивалентность плодотворна, так как она позволяет познавать и
учитывать многосторонность и противоречивость реального
общественно-исторического процесса.
Трактат Руссо о происхождении неравенства, несмотря на
оговорки, признающие его неизбежность и даже необходимость
для обеспечения благоденствия общества, был воспринят его
современниками как радикальное осуждение социального
неравенства, угрожающего человечеству величайшими бедами.
«Нарождающееся общество пришло в состояние самой страшной
войны: человеческий род, погрязший в пороках и отчаявшийся,
не мог уже ни вернуться назад, ни отказаться от злосчастных
приобретений, им сделанных; он только позорил себя,
употребляя во зло способности, делающие ему честь, и сам привел себя
на край гибели» (82). Этот вывод, не только констатирующий
status quo, но и предрекающий катастрофическое будущее
человечеству, не мог, конечно, не вызвать решительных возражений
деятелей французского Просвещения и прежде всего
Вольтера, который выступал как постоянный критик «чрезмерностей»
Руссо. «На нашей несчастной планете невозможно, чтобы люди,
живя в обществе, не были разделены на два класса, один -
угнетателей, другой -угнетенных... Человеческий род, как таковой,
не может существовать без множества (une infinité) полезных
людей, которые не владеют ничем, так как состоятельный
человек не покинет своей земли, чтобы обрабатывать вашу землю
517
и если вам нужна пара башмаков, то шить их не будет лицо
более или менее высокопоставленное. Следовательно, равенство
есть вещь наиболее естественная, но в то же время наиболее
химерическая»15.
Аргументы Вольтера, апеллирующего к здравому смыслу, не
могли, конечно, убедить Руссо в том, что без «искусственного»
социального неравенства существование общества невозможно.
И в своем новом трактате «Об общественном договоре, или
принципы политического права», являющемся, несомненно,
важнейшим его произведением, что стало особенно очевидным в дни
Великой французской революции, Руссо продолжает теоретически
обосновывать необходимость социального равенства, которое он
прежде всего понимает как равенство всех (без исключения)
перед законом.
Отправным положением этого произведения является тезис:
«Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах. Иной
мнит себя повелителем других, что не мешает ему быть рабом в
большей еще мере, чем они» (152). Руссо возражает Аристотелю,
который утверждал, что раб по природе своей есть раб, т.е.
такова его психология, характер. Свободный человек, по
Аристотелю, потому свободен, что для него свобода дороже жизни. Руссо,
несмотря на свои возражения Аристотелю, согласен с ним в том,
что трусость заставляет раба оставаться рабом, но причину
рабства он, в отличие от Аристотеля, видит в насилии. И в этом он,
конечно, прав, что вполне подтверждается историей рабовладения
как в античную эпоху, так и в новое время.
Развивая свою, принципиально отличную от
аристотелевской, точку зрения, Руссо характеризует свободу как сущность
человечности, т.е. коренное отличие человека от всех иных
живых существ. Отчуждение свободы несовместимо с
человечностью. «Отказаться от своей свободы - это значит отречься от
своего человеческого достоинства, от прав человеческой
природы, даже от ее обязанностей... лишить человека свободы воли -
это значит лишить его действия какой бы то ни было
нравственности» (156).
С этих позиций Руссо объявляет бессмысленными феодальные
отношения, крепостничество. Больше того, они, как основанные
на насилии, должны считаться недействительными, поскольку
противоречат праву. Однако тут же Руссо вполне
реалистически отмечает, что сила, насилие возведены в обществе в право.
И вступая в противоречие с собственными утверждениями, Руссо
15 Voltaire. Dictionnaire philosophique. Paris, 1964. P. 172-173.
518
утверждает: «согласимся же, что сила не творит право и что люди
обязаны повиноваться только властям законным» (155).
Подчинение законной власти предполагает существование
государства и стало быть упразднение естественного состояния
людей. С точки зрения Руссо этот переход к «гражданскому
состоянию» не должен быть результатом насилия, принуждения.
Сила, конечно, может провозгласить законом свою волю, но
господство силы всегда непрочно, так как другая, более мощная
сила низвергает господствующую силу, занимает ее место,
превращает свою волю в закон. История человечества знает немало
войн, завоеваний одного народа другими. Но это не есть путь,
ведущий к обеспечению свободы человека, развитию
человечности. Единственно разумный и нравственный путь - общественный
договор, соглашение, которое народ заключает с самим собой,
т.е. с лицами, образующими народ. «По Общественному
договору человек теряет свою естественную свободу... приобретает же
он свободу гражданскую и право собственности на все то, чем
обладает» (164). Кроме общественного договора нет и не может
быть никаких основных законов, утверждает Руссо, выступая,
таким образом, против королевского абсолютизма. Он, однако, не
отрицает необходимости при известных условиях
монархического правления, если, конечно, монарх будет властью, подчиненной
законам, устанавливаемым сувереном-народом, власть которого
неотчуждаема. При этом Руссо подчеркивает, что при
общественном договоре люди пользуются большей свободой, чем при
естественном состоянии. Не трудно заметить, что это положение
прямо противоречит цитируемому выше утверждению о свободе
человека в гражданском обществе. Благодаря этому
противоречию устраняется одностороннее понимание свободы.
Свобода, которую человек обретает благодаря общественному
договору, есть, прежде всего, моральная свобода, ибо только она
делает человека хозяином самого себя. Ведь свобода не
состоит из поступков, мотивированных одним лишь желанием.
Человек, который делает все, что хочет, на деле может оказаться рабом
своих страстей. Действительная свобода состоит в подчинении
закону, который человек в согласии с другими членами
гражданского общества сам для себя установил. Человек, следовательно,
свободен как законодательствующий субъект, который
декретирует законы и действует в согласии с ними. Однако законы
устанавливает не отдельный, единичный субъект, а народ, который
является сувереном, стало быть верховной властью, которая не
может быть отчуждена. Эта власть - власть общей воли.
519
Понятие общей воли - центральное в этом трактате. Оно
совпадает с понятием суверенитета, который есть воля народа
как целого. «Я утверждаю, следовательно, что суверенитет,
который есть только осуществление общей воли, не может
никогда отчуждаться и что суверен, который есть не что иное, как
коллективное существо, может быть представляем только самим
собою. Передаваться может власть, но никак не воля» (168).
Понятие общей воли Руссо отличает от воли всех,
вследствие чего это понятие становится проблематичным и
внутренне противоречивым. Часто существует немалое различие между
волею всех и общей волей. Волю делает общей не столько
количество голосов, сколько общий интерес, объединяющий
голосующих. Но поскольку в гражданском обществе существует
противоположность между имущими и неимущими, то не может
быть, как правило, общих интересов между ними. Учитывая это
обстоятельство, Руссо настаивает на том, чтобы в «гражданском
состоянии» не было «частных обществ», т.е. различных
политических объединений, преследующих свои особые, отличные
от интересов других политических объединений, цели.
Великая французская революция декретировала запрещение всяких
коалиций, что, конечно, не могло положить конец фактически
существовавшим политическим объединениям, в частности
принципиальным расхождениям между якобинцами и
жирондистами.
Руссо сознает, что предотвратить образование в обществе
«частных обществ» фактически невозможно. Но в таком случае
пусть будет как можно больше таких политических коалиций,
чтобы «каждый гражданин высказывал только свое
собственное мнение» (171). Иными словами, он проповедует
многопартийность, раз невозможно достигнуть согласия всех граждан по
коренным вопросам. Однако такая реалистическая постановка
вопроса, отражающая реальное положение вещей, делает еще
более проблематичным и противоречивым основное понятие -
понятие общей воли. И Руссо вопреки своему положению о
различии между общей волей и волею всех настаивает на том, что это
различие подлежит преодолению, ибо таково требование общей
воли, вытекающее из ее понятия. Он пишет: «...общая воля, для
того, чтобы она была поистине таковой, должна быть общей как
по своей цели, так и по своей сущности; что она должна исходить
от всех (курсив мой. - Т.О.), чтобы относиться ко всем...» (172).
Но сделать всех граждан согласными друг с другом, согласными
даже с существующими законами и властью можно только
насилием. Руссо, разумеется, исключает этот путь. Диктатура, по его
520
мнению, оказывается необходимостью лишь в особые, кризисные
периоды*.
Понятие общей воли вступает в противоречие с частной волей
отдельных граждан. Это противоречие неизбежно, так как
«частная воля непрестанно действует против общей» (214).
Конкретизируя это положение, Руссо утверждает: «... Как только человек
начинает сравнивать себя с другими, он непременно становится
их врагом, ибо каждый стремится в душе быть самым
могущественным, самым счастливым, самым богатым, не может не
считать своим тайным врагом всякого, кто имеет те же замыслы и
тем самым становится препятствием на его пути» (419). В работе
«Эмиль, или о воспитании» эта точка зрения выражена в еще
более резкой форме: «Так как всеобщая воля составляет сущность
верховной власти, то не может быть уверенности в том, что
частная воля всегда будет пребывать в согласии со всеобщей волей.
Скорее можно предположить, что между ними будут постоянно
возникать противоречия, ибо частный интерес всегда тяготеет к
предпочтению, а общественный интерес требует равенства»16. Но
противоречие между общей волей и частными волями означает,
что общая воля не вполне является общей, т.е. она амбивалентна,
ибо не согласуется со своим понятием. А поскольку все члены
общества являются отдельными индивидами, то в сумме своей
они составляют народ, суверен, который, согласно Руссо, и есть,
собственно, общая воля. Но совокупность частных воль,
преследующих свои частные цели, не образуют единства воли, без
которого общая воля невозможна. Да и понятие нации, народа, а
следовательно, и суверена не сводимо к совокупности частных
воль. Поэтому Руссо разграничивает народ и чернь, относя к
последней, по-видимому, часть народа, которая поступает вопреки
существующим законам. «В большинстве государств, -
утверждает он, - внутренние беспорядки производит озверелая и
тупая чернь, возбуждаемая вначале невыносимыми притеснениями,
а затем тайно подстрекаемая ловкими смутьянами, облеченными
какой-либо властью, которую они хотят расширить» (399).
Однако Руссо - решительный противник феодального строя, настолько
решительный, что в отличие от других просветителей вполне
* «Негибкость законов, препятствующая им применяться к событиям,
может в некоторых случаях сделать их вредными и привести через них к гибели
Государство, когда оно переживает кризис» (243). Однако «никогда не следует
приостанавливать священную силу законов, если дело не идет о спасении
отечества» (243). В древнем Риме в периоды кризисов диктаторы избирались сенатом
лишь на полгода, но они зачастую отказывались от этого государственного
поста до истечения шести месяцев. Восстановление законности было делом чести
диктаторов, несмотря на то, что вначале они прекращали действие
существующих законов.
16 Руссо Ж.-Ж. Избр. соч. Т. 1. М., 1967. С. 687-688.
521
оправдывает восстание народа против несправедливых законов,
совокупностью которых и является, по его убеждению,
феодальная система. Рассуждать поэтому о «внутренних беспорядках»,
виновниками которых является «чернь» и вдохновляющие ее
ловкие политиканы, совершенно неуместно. Правда, Руссо
оговаривается, что он имеет в виду «смутьянов», облеченных
властью и стремящихся ее расширить. Но и эта оговорка не спасает
положения, поскольку какая-то часть народа, нации третируется
как чернь. Как же в таком случае понимать единство народа как
сущность общей воли?
Руссо пытается разрешить противоречия, возникающие в его
представлениях о народе, общей воле, государстве. «Несчастье
людей заключается в противоречии, существующем между нашим
состоянием и нашими желаниями, между нашими
обязанностями и нашими склонностями, между природой и общественными
установлениями, между человеком и гражданином» (429-430).
Это противоречие (точнее, ряд противоречий) Руссо,
по-видимому, считает неразрешимым. Но если это так, то можно ли
утверждать, что народ един в своем основном стремлении,
интересе? Именно это и утверждает Руссо: «Первый и самый главный
интерес всего народа всегда состоит в том, чтобы соблюдалась
справедливость. Все желают, чтобы условия были одинаковы
для всех, а справедливость и есть такое равенство» (401).
Однако Руссо ведь исключает из состава народа не только чернь, но
и аристократов, угнетателей и эксплуататоров простых людей.
Значит нет общего для всех членов общества интереса. И,
разумеется, далеко не все члены общества стремятся к равенству для
всех. Но если не существует общего для всех граждан интереса,
то не может быть и законов, выражающих таковой интерес или
общую волю. Тем не менее философ однозначно утверждает: «Но
что же такое закон? Это публичное и формальное провозглашение
общей воли относительно предмета, представляющего общий
интерес» (356). Но существуют ли такие законы? Поскольку Руссо
осуждает несправедливые законы феодального строя, он тем
самым признает, что далеко не каждый закон провозглашает общую
волю относительно предметов, представляющих общий интерес.
В работе «Эмиль, или о воспитании» Руссо категорически
высказывается против существующих законов и тем самым вносит
существенные коррективы в приведенное выше определение
понятия закона: «Тщетно стремятся к свободе под ферулой законов.
Законы! Где они? И где их соблюдают?... повсюду под именем
законов царят корысть и людские страсти»17. Это значит, что его
17 Там же. С. 689.
522
нормативное понимание закона, общей воли, общего интереса
находится в противоречии с действительным положением
вещей. Это противоречие, с одной стороны, высвечивает
амбивалентность основных понятий учения Руссо, а с другой -
реалистически описывает действительные общественные отношения,
преодолевая тем самым свойственный этому гениальному
мыслителю философско-исторический сентиментализм. Стоит
подчеркнуть, что Руссо иной раз и сам подвергает критике такого
рода сентиментализм, имея, правда, в виду лишь его
рационалистический вариант. В связи с этим он критикует моралистов,
рационалистически истолковывающих природу человека.
«Постоянная ошибка большинства моралистов состояла в том, что они
принимали человека за существо, в основном, разумное. Человек
всего лишь существо, способное чувствовать, которое, действуя,
советуется исключительно со своими страстями и обращается к
разуму только для исправления глупостей, которые они
заставляют его совершать» (455).
Естественно возникает вопрос: свободен ли Руссо от ошибок
большинства моралистов лишь потому, что он не склонен
объяснять человеческие поступки в духе этического рационализма?
Разве не считает он человека по природе своей добрым
существом, приписывая извращение человеческой природы «наукам и
искусствам»? Не правильнее ли объяснять человеческие
проступки, преступления не умственным развитием человечества и
данного человека, а его свободным волеизъявлениям, ибо только при
этом условии эти противоречащие морали поступки могут быть
вменены ему.
Руссо часто подчеркивает, что свобода - сущностное
определение человеческой природы, что только она, а не разум
радикально отличает его от всех других живых существ. Но он почему-то
не связывает друг с другом свободу и человеческие действия,
моральные и аморальные, предпочитая объяснять их
независимыми от индивида объективными обстоятельствами (успехи «наук
и искусств»). Конечно, выявление объективной обусловленности
нравственной деградации людей, побудительных стимулов
человеческих поступков в высшей степени важно. Такое объяснение
приближается к пониманию истории как
естественно-исторического процесса, несмотря на то, что история трактуется как
отрицание естественного состояния человеческого рода. Но
понятие естественно-исторического, как оно было сформулировано
Марксом, указывает на то, что причины исторических событий
таятся в деятельности людей, в последствиях этой деятельности,
которые объективируются, осуществляются. Правда, Руссо неод-
523
нократно подчеркивал, что источником социальной
справедливости является Бог*. Но его исследования выявляют человеческие
причины как справедливого, так и несправедливого во всемирной
истории.
Социальное учение Руссо - это его философия истории. Но
Руссо не согласился бы с этим определением, поскольку он
презирал и высмеивал философов и философствование вообще. Так,
в «Исповедании веры савойского викария» он так говорит о
философах: «...все они горды, догматичны, даже в своем мнимом
скептицизме, всезнающи, но доказать ничего не могут и все
издеваются друг над другом, в чем единственно они правы все, по
моему мнению»18. И развивая эту негативную оценку философии,
Руссо продолжает: «Между философами нет ни одного, который,
узнав бы истину и ложь, не предпочел бы ложь, которую он
нашел, истине, открытой другими»19. Философ, по убеждению
Руссо, стремится главным образом к тому, чтобы утверждать нечто
отличное от того, что утверждали другие философы. «Вся суть
для него в том, чтобы думать иначе, чем другие»20. Не удивительно
* «Всякая справедливость - от Бога. Он один - ее источник; но если бы мы
умели получать ее с такой высоты, мы бы не нуждались ни в правительстве, ни
в законах. Несомненно, существует всеобщая справедливость, исходящая лишь
от разума, но эта справедливость, чтобы быть принятой нами, должна быть
взаимной» (176). Взаимность справедливости означает согласие членов общества
относительно того, что есть добро, а что - зло. Но такое согласие возможно
лишь при условии, что члены общества будут преследовать не свои приватные,
частные цели, а совпадающие с тем, на что направлена общая воля. Условие
заведомо утопическое.
18 Руссо Ж.-Ж. Исповедание веры савойского викария. М., 1959. С. 12.
19 Там же. С. 14. Несколькими страницами ниже он присовокупляет: «Таким
образом, все споры идеалистов и материалистов не имеют для меня никакого
значения» (там же, с. 18). Даже о философах Просвещения, т.е. о своих
бывших соратниках, с которыми он разошелся, порвал все связи, он говорит
крайне резко: «эти пустые и ничтожные болтуны, вооруженные своими пагубными
парадоксами» (Исповедь, т. 1, с. 776. М., 1961). Не удивительно поэтому, что
историки философии не уделяют Руссо сколько-нибудь значительного
внимания. Ибервег-Гейнце в своей многотомной истории философии посвящает
Руссо полторы страницы (несколько больше места занимают библиографические
и биографические примечания). Даже француз Э. Брейе, автор четырехтомной
истории философии, говорит о Руссо весьма и весьма скупо. Б. Рассел,
который не был историком философии ex professio, тем не менее в своей «Истории
западной философии» уделяет Руссо почти авторский лист, сочетая анализ его
социального учения, критический во многих отношениях, с высокой оценкой
исторической роли этого учения. Руссо, пишет он, «...оказал мощное влияние
на философию, так же как и на литературу, на вкусы, обычаи и политику»
(Рассел Б. История западной философии. М., 1959. С. 703).
20 Там же. С. 14.
524
поэтому, что многообразие философских учений воспринимается
Руссо радикально негативистски. «Я только спрошу: что такое
философия? что содержат писания наиболее известных философов?
каковы уроки этих друзей мудрости? Если их послушать, разве
нельзя их принять за толпу шарлатанов, что кричат каждый свое
на общественной площади: идите ко мне, только я один никогда
не ошибаюсь? Один утверждает, что тел вообще нет в природе и
что все есть мое представление о них; другой, что нет ни иного
вещества, кроме материи, ни иного бога, кроме вселенной. Этот
заявляет, что не существует ни добродетелей, ни пороков и что
добро и зло в области нравственности - это выдумки; тот - что
люди суть волки и могут со спокойною совестью пожирать друг
друга... благодаря типографским литерам и тому применению,
какое мы им находим, опасные заблуждения Гоббсов и Спиноз
сохраняются навеки» (27-28). Конечно, критика философии, в
особенности возмущение перманентными разногласиями среди
философов свойственна многим философам. Некоторые из них
вообще отрицают правомерность существования философии, но
все же остаются философами. Следует вообще сказать, что
теоретически обосновываемое отрицание философии представляет,
по существу, новую философскую теорию. Но у Руссо нет такого
отрицания философии. И тем не менее, изучение его трудов
позволяет выявить не только определенную философию истории и
философию культуры, но и вполне определенные философские
воззрения. Правда, малопонятным и оправданным является его
мнение о том, кого он, несмотря на все свои гневные тирады
против философии, все же считает наиболее значительным
философом. Профессор С. Станков, занимавшийся специальным
изучением ботанических заметок Руссо, замечает, что тот особенно
высоко ценил «Философию ботаники» К. Линнея, «о которой в
свое время Руссо говорил, что эта книга наиболее философская
из всех, какие он знает»21.
Трудно все же сказать, изучал ли Руссо философские
учения, которые он так безоговорочно осуждает. Трудно потому,
что при таком огульно отрицательном отношении к философам
и к философии вообще едва ли возникает настоятельная
потребность основательно изучать философские учения. Тем не менее
Руссо философствует. Его гносеологические воззрения -
последовательный сенсуализм. В этом отношении Руссо полностью
согласен со своим современником Кондильяком, который
систематически разрабатывал сенсуалистскую теорию познания.
21 Станков С. Линней, Руссо, Ламарк. М., 1955. С. 20.
525
Этого нет у Руссо, но зато он вполне отдает себе отчет в
ограниченности чувственного восприятия мира. То, что мы видим,
слышим, осязаем, представляет собой лишь ограниченную часть
существующего. Мир далеко не тождественен с чувственно
воспринимаемой реальностью. Подчеркивая «несовершенство ума
человеческого», Руссо указывает на существование не только
непознанного, но и непознаваемого: «...нас окружают со всех
сторон непроницаемые тайны; они вне области наших чувств...
Между тем мы хотим все постичь, все знать. Единственно, что
мы совсем не знаем, это что мы не знаем того, что не можем
знать»22.
У человека, согласно Руссо, нет руководящего начала,
необходимого для познания. «У нас совсем нет масштаба для
измерения этого огромного механизма вселенной. Необходимо поэтому
исследовать нашу способность познания. Я получаю впечатления
благодаря чувственным восприятиям. Все то, что я замечаю при
помощи чувств, есть материя, свойства которой выводятся мной
на основании чувственных данных. Я ощущаю себя благодаря
ощущениям, которые служат мне основанием для вывода о моем
существовании. И хотя в том, что я чувствую то, что я чувствую,
никогда не может быть ошибки23, сомнения постоянно одолевают
меня. Ведь причины ощущений совершенно непостижимы для
меня, поскольку я знаю лишь чувственно данное. Что же делать
философу? Прежде всего, полагает Руссо, надо исследовать саму
способность познания. «Итак, сначала надо обратить внимание
на себя, чтобы знать орудие, которым я желаю воспользоваться, и
знать, в какой мере, пользуясь им, могу полагаться на него»24. Это,
разумеется, еще не кантовская постановка проблемы
исследования субъективных предпосылок познания, однако несомненное,
пока еще недостаточно теоретически обоснованное,
приближение к ней.
Руссо ставит вопрос об изначальной движущей силе материи,
вселенной. Естественное состояние материи, полагает он, есть
покой. Но поскольку материя находится в движении, нельзя не
поставить вопроса: что ею движет? Руссо не разделяет
убеждений Гольбаха, Дидро и других материалистов XVIII в.,
согласно которым материя обладает самодвижением. Самодвижение
материи - несуразное, с точки зрения Руссо, представление.
«Я верю, - утверждает он, - что воля движет вселенной и дает
22 Руссо Ж.-Ж. Исповедание веры савойского викария. С. 13.
23 Там же. С. 14.
24 Там же. С. 17.
526
жизнь природе. Вот мой первый догмат или догмат моей веры»25.
Речь, конечно, идет не о человеческой воле, а о воле Бога как
всемогущей силе. Но само по себе движение материи не дает нам,
по Руссо, достаточного представления о мире. Картина природы
представляет собой гармонию, соразмерность, целесообразность,
присущую не только живым существам, но и всем природным
вещам. Тот, кто этого не видит, подобен глухому, который не верит
в существование звуков. И Руссо утверждает: «Если движущая
материя указывает на волю, то материя, движущаяся по
известным законам, мне указывает на разум, - это второй догмат моей
веры»26.
Руссо не ставит перед собой задачи доказывать
существование Бога, как это делал Фома Аквинский и продолжают делать
католические богословы. С точки зрения Руссо, существование
Бога- непосредственно данная человеческим чувствам
реальность. «Я вижу Бога повсюду в Его творениях, я чувствую Его в
себе, вижу Его вокруг себя»27.
Рассуждения Руссо о всемогущей силе сменяются
рассуждениями о человеческой воле. Эта воля независима от чувственных
восприятий, велений, страстей, хотя все они так или иначе
воздействуют на нее. Но несмотря на эти воздействия воля остается
независимой и поэтому свободной. «Итак, человек свободен в
своих действиях и, как таковой, одушевлен невещественной
субстанцией, - это мой третий догмат веры»28. Однако воля не
абсолютно свободна. Противоречие между добром и злом внутренне
присуще воле. Я вижу добро, люблю добро, но я также
поступаю зло. Поэтому Я чувствует себя и свободным, и рабом. Рабом,
поскольку поддаюсь злу. Но свободная воля противится злу, она
стремится к добру. Об этом свидетельствует внутренне присущая
человеческой душе совесть - неумолимый судья, который не
допускает даже малейшей уступки злу. Но зло продолжает
существовать, продолжает совершаться. И это происходит отнюдь не
потому, что человек, совершающий, скажем, преступление,
лишен совести. Нет, совесть присуща всем, но не все считаются с ее
повелениями, не все обладают совестливостью. «Итак, в глубине
души заложен принцип справедливости и добродетели, по
которому вопреки нашим правилам, мы признаем наши поступки и
поступки другого хорошими или дурными, и этот-то принцип я
называю совестью... Совесть, совесть! Божественный инстинкт,
Там же. С. 25.
Там же. С. 28.
Там же. С. 33.
Там же. С. 40.
527
бессмертный, небесный голос, надежный руководитель существа
невежественного и ограниченного, но разумного и свободного,
непогрешимый судья добра и зла, уподобляющий человека
Богу»29.
Читатель, знакомый с этическим учением Канта, не может
не сделать вывод, что именно Руссо является непосредственным
предшественником этого учения. Кант в своей этике ссылается на
Руссо, в частности, на его представление о совести, подтверждая
тем самым наш вывод.
B.C. Алексеев-Попов в статье «О социальных и
политических идеях Жан-Жака Руссо» цитирует ответ Руссо на
возражения польского короля Станислава Лещинского против его первого
трактата. Этот ответ Руссо выражает одной красноречивой
фразой его основное убеждение: «Первый источник зла-
неравенство; из неравенства возникли богатства, они породили роскошь
и праздность, роскошь породила искусства, а праздность - науки»
(509). Критически анализируя это и другие, аналогичные
положения Руссо, B.C. Алексеев-Попов вскрывает присущую им
рассогласованность, амбивалентность: «... в противоположность тому,
что о нем говорили, как о человеке, призывающем вернуться к
временам дикости, - Руссо высказывается за то, чтобы
"старательно поддерживать академии, коллежи, университеты,
библиотеки, спектакли и другие виды развлечений, способные отвлечь
человека от дурных поступков"» (513). Такова двойственность,
амбивалентность учения Руссо. Традиционно мыслящие
читатели и даже специалисты-ученые видят в этой амбивалентности,
рассогласованности явную непоследовательность Ж.-Ж. Руссо,
несомненный недостаток, порок всего его учения. Моя точка
зрения - радикально противоположна этой оценке учения великого
французского просветителя, так как я считаю, что только
благодаря этой амбивалентности учение Руссо наиболее полно и глубоко
выразило противоречия культурного развития человечества,
противоречия, которые в современную эпоху стали еще более
глубокими и очевидными, чем во времена Руссо.
Там же. С. 57, 61-62.
Глава 2
АМБИВАЛЕНТНОСТЬ ВЕЛИКИХ ФИЛОСОФСКИХ УЧЕНИЙ
(К характеристике философских систем Канта и Гегеля)
1. Философия Канта
Философ, согласно Канту, должен быть неуклонно
последовательным, т.е. страшиться тех выводов, которые с логической
необходимостью вытекают из принятых им основоположений. Кант,
не испытывая колебаний, постоянно следовал этому принципу.
Это объясняет кажущуюся парадоксальность, в
действительности же смелость его умозаключений, которая бросается в глаза
даже не искушенному в философии читателю. Наглядным
примером такого теоретического бесстрашия являются, в частности, его
политические убеждения. В этой наиболее опасной во времена
Канта сфере общественного сознания он выступает как радикал,
поскольку он настаивает на том, чтобы «...не повиноваться
иному закону, кроме того, на которое... дал свое согласие»1. Уточняя
это положение, он разъясняет, что это согласие может быть дано
через избранных народом представителей, депутатов
законодательного собрания. «Критерий всего того, что принимается как
закон для того или иного народа, заключается в вопросе: принял
бы сам народ для себя такой закон»2.
1 Кант И. Сочинения в шести томах. М., 1965. Т. 4(2). С. 234.
2 Кант И. Соч. Т. 6. С. 31. Кант вполне отдает себе отчет в том,
насколько провозглашаемые им политические требования противоречат
политическому status quo, особенно в Пруссии. В связи с этим он отмечает, что «тот, в
чьих руках власть, не позволит, чтобы народ предписывал ему законы» (там же,
с. 291). И тем не менее он утверждает, что все без исключения равны перед
законом. В этом суть гражданского равенства', «признавать стоящим выше себя
только того в составе народа, на кого он имеет моральную способность
налагать такие же правовые обязанности, какие этот может налагать на него» (соч.,
т. 4(2), с. 235). Отсюда, естественно, вытекает отрицание не только привилегий
529
Конечно, с точки зрения современной демократии,
радикальный либерализм Канта не является ни радикальным, ни даже
последовательным. Гражданскими правами и свободами Кант
наделяет только мужчин, и притом лишь тех, которые не являются
наемными рабочими, располагают достаточными средствами для
«независимого» существования. Однако эта
непоследовательность Канта, как и других мыслителей его времени, -
историческая ограниченность либерализма XVIII века. Великая
французская революция также не предоставила гражданских прав
женщинам; они получили эти права лишь после Второй мировой
войны. Стоит также отметить, что программа Германской
социал-демократической партии, принятая в 1869 г., выдвигала
требование всеобщего избирательного права, однако лишь только для
мужчин. Не следует поэтому представлять Канта политически
отсталым мыслителем. Он был вполне на высоте своего времени,
даже выше своих передовых современников, не только
политиков, но и философов.
Перехожу к рассмотрению собственно философских
воззрений Канта. Основные понятия его учения - понятия явления и
«вещи в себе». Явления Кант определяет как представления,
возникающие в нашем сознании вследствие воздействия неких
внешних, независимых от сознания, неизвестных и непознаваемых
«вещей в себе». Он утверждает: «Чувственно воспринимаемый
мир не содержит в себе ничего кроме явлений, но явления суть
только представления...»3. Обосновывая это основоположение,
Кант разъясняет, что человек, лишенный зрения, лишен
вследствие этого и чувственного представления об окружающем мире.
Конечно, предметы внешнего мира выступают в нашем сознании
как представления, и независимо от представлений мы ничего
не можем знать об этих предметах. Без чувственности, говорит
Кант, ни один предмет не был бы нам дан4. С этим, разумеется,
дворянства и духовенства, но и прямое отрицание правомерности самого
существования сословий. Дворянство, с точки зрения Канта, представляет собой
исторический анахронизм, пережиток уходящей в небытие эпохи. Поэтому Кант
заявляет вполне в духе французской «Декларации прав человека и
гражданина»: «...в государстве не может быть никакой корпорации, никакого сословия и
сословной организации, которые могли бы в качестве собственников земли
согласно тем или иным уставам передавать ее последующим поколениям...» (соч.,
т. 4(2), с. 247). Это положение, выдвинутое в конце XVIII в., не только
актуально в наши дни, но и представляет собой все еще неразрешенную историческую
задачу во многих странах.
3 Кант И. Соч. Т. 3. М., 1966. С. 492.
4 См.: Там же. С. 139.
530
нельзя не согласиться. Но отсюда никоим образом не следует
вывод о тождестве предметов внешнего мира и представлений.
Тем не менее Кант постоянно настаивает на том, что
представление о независимости чувственно воспринимаемых предметов
от человеческой чувственности есть contradiction in adjecto. Эта
точка зрения последовательно проводится им во всех трех его
«Критиках». Однако уже в первой «Критике» мы встречаемся
с положениями, которые вступают в конфликт с этой
последовательностью. Так, например, Кант утверждает: «Атом - малая
частица материи, физически неделимая»5. Поскольку атом не
есть чувственно воспринимаемая вещь, следовательно, с точки
зрения Канта, это явление существует вне и независимо от
чувственности и сознания вообще. В том же духе он, рассуждая об
абсолютной непроницаемости материи, говорит о «первичной
материи», которая также не есть чувственно воспринимаемая
реальность. Но материя, согласно трансцендентальному
идеализму, есть явление, т.е. представление, что никак нельзя
отнести ни к атому, ни к «первичной материи». Налицо противоречие,
которое не осознается Кантом, вероятно потому, что он все же
допускает существование и таких явлений, которые
независимы от человеческого сознания. «Так, например, - пишет он, -
радугу мы готовы называть только (курсив мой. - Т.О.)
явлением, которое возникает при дожде, освещенном солнцем, а этот
дождь - вещью в себе. И это совершенно правильно, если
только мы понимаем понятие вещи в себе лишь физически (курсив
мой.- Т.О.)»6.
Итак, если согласиться с этим высказыванием, то явление
может рассматриваться как вещь в себе. Или, может быть, дело в
том, что одни явления (в данном примере радуга) Кант
характеризует как представления, а другие (дождь) как «вещь в себе», но,
конечно, в физическом, а не трансцендентальном смысле. Таким
образом, понятие явления раздваивается, становится
дуалистическим. Это особенно очевидно при чтении «Метафизических
начал естествознания». Здесь, например, мы читаем: «Материя
может быть сжата до бесконечности, но в нее никогда не
может проникнуть другая материя, как бы велика ни была сила ее
давления»7. Ясно, что речь здесь идет не о чувственном
представлении, которое де может быть сжато до бесконечности. И тут, как
в приведенном выше примере, говорится о материи в физическом
5 Кант И. Соч. Т. 6. С. 137.
6 Кант И. Соч. Т. 3. С. 146.
7 Кант И. Соч. Т. 6. М, 1966. С. 95.
531
смысле, т.е. не о явлении, а о вещи в себе. Поэтому Кант,
например, замечает: «...всякая материя изначально упруга»8.
Нет оснований рассматривать «Метафизические начала
естествознания» как пересмотр Кантом основных положений
своего учения. Выше приводилось аналогичное признание «вещи в
себе» в его первой «Критике». Такие же высказывания имеют
место и в «Критике способности суждения». В ней Кант, например,
отрицает возможность generatio aequivoca, т.е.
непосредственного возникновения живого из неживого. Здесь также обсуждается
вопрос о первичном состоянии материи, предшествующем
возникновению растений и животных. «Жидкое, по всей видимости,
вообще старше, чем твердое, и как растения, так и животные тела
образуются из жидкой питательной материи»9. Подобные
рассуждения в XVIII в. можно было встретить у представителей теории
эволюции, которые были, разумеется, весьма далеки от кантов-
ского трансцендентального идеализма.
Уместно напомнить, что физическая география была одним
из любимых предметов Канта. Она заменяла ему
непосредственное знакомство с другими странами, которое он не мог себе
позволить главным образом потому, что исключал из своей жизни
все, что хотя бы в ничтожной мере могло помешать его
философским исследованиям. Но лекции по физической географии,
которые он читал ежегодно, помогали ему, так сказать, немного
отдохнуть от напряженной, изматывавшей его силы
философской работы. Отголосок этих лекций можно найти, к примеру, в
«Критике способности суждения», где они, конечно, оказываются
чем-то случайным. Но это случайное существенно для понимания
амбивалентности философского учения Канта. Цитирую: «Реки,
например, всегда несут с собой всякую почву, пригодную для
8 Там же. С. 94. Далее в этой же работе утверждается: «...всякая материя
обладает изначальным притяжением как основной силой, относящейся к ее
сущности» (там же, с. 106). Ясно, что речь идет не о представлении, а о материи
как физической вещи в себе. Далее указывается, что «сила отталкивания
принадлежит к сущности материи так же, как и сила притяжения» (с. 109). В этом
же сочинении Кант констатирует: «Частицы воды связаны между собой гораздо
крепче, чем принято думать... Тем самым доказывается первичность жидкого
состояния» (с. 131). Далее Кант признает существование атомов и молекул,
хотя они не могут быть предметом чувственного восприятия, т.е.
представлением. Однако в этой же работе, вопреки приведенным выше высказываниям,
утверждается: «...материя не есть вещь в себе, а только явление наших
внешних чувств вообще...» (с. 102). Таким образом, Кант вступает в противоречие со
своими собственными воззрениями. Едва ли он сознает этот факт, поскольку он,
опять же вопреки своему учению, допускает существование материи как
физической вещи в себе.
9 Кант И. Соч. Т. 5. М., 1966. С. 371.
532
произрастания растений, которую они оставляют иногда на суше,
а часто и в устье». Несколько ниже Кант говорит уже о другом
географическом факте: «Снег в холодных странах предохраняет
посевы от мороза...»10.
Таким образом, мы обнаруживаем в философии Канта два
существенно отличных друг от друга понятия явления:
трансцендентальное (субъективистское) и физическое, которое вполне
согласуется с естествознанием, стихийно тяготеющим к
материализму. Когда Кант говорит, например, о бесчисленном множестве
звезд, созерцание которых наполняет его грудь чувством
возвышенного, он, конечно, имеет в виду независимую от его
сознания реальность, а вовсе не совокупность своих представлений,
которая возникла вследствие воздействия непознаваемых «вещей
в себе» на нашу чувственность.
Перехожу к другому основному понятию кантовской
философии - к «вещи в себе». Прежде всего надо отметить, что
допускаемая Кантом абсолютно непознаваемая «вещь в себе» не может,
строго говоря, считаться вещью. Вещи существуют в пространстве
и времени. Это - явления, познание которых, согласно Канту,
беспредельно. То, что Кант именует «вещью в себе» и существует, как
он утверждает, вне времени и пространства, представляет собой
нечто (Etwas), о чем невозможно сказать что-либо определенное,
раз она абсолютно непознаваема*. Кроме того, нужно учитывать
и то, что, по Канту, существуют разные «вещи в себе» и в другом
гораздо более существенном смысле. Во-первых, как уже сказано
выше, «вещами в себе» именуется нечто, воздействующее на
чувственность человека, порождающее ощущения, трактуемые как
10 Там же. С. 391,393.
* Тем не менее Кант постоянно именует так называемые вещи в себе
предметами, телами. «Я, конечно, признаю, что вне нас существуют тела, т.е. вещи,
относительно которых нам совершенно неизвестно, каковы они сами по себе, но
о которых мы знаем по представлениям, доставляемым нам их влиянием на нашу
чувственность и получающим от нас название тел, - название, означающее, таким
образом, только явление того неизвестного нам, но тем не менее действительного
предмета» (Соч., т. 4(1), с. 105). Само собой разумеется, что такая характеристика
«вещи в себе» не относится ни к чистому разуму, ни к чистой воле. Последние Кант
нередко называет ноуменами, пользуясь термином, впервые введенным Платоном
с целью обозначения трансцендентных идей (божественного, нравственного,
прекрасного). П. Фулкье в своем «Словаре философского языка» указывает: «По
Платону, ноумены создают интеллигибельный мир и феномены чувственного мира.
То же и для Канта, но парадоксальным образом, ибо то, что мы, согласно ему,
можем постигнуть, есть чувственный мир, к которому мы применяем формы нашего
мышления. Можно сказать, что для Канта взор нашего духа закрыт в отношении
того, что открыто Платону» (Fouïquier P. Dictionnaire de la langue philosophique.
Paris, 1962, p. 483). Фулкье, как видно, предпочитает Канту Платона.
533
«материя» явления, т.е. такое его содержание, которое
независимо от нашего сознания, несмотря на то, что явления постоянно
определяются как представления, т.е. субъективно. Во-вторых,
«вещью в себе» является чистый, т.е. независимый от ощущений
разум, который кардинально отличается от эмпирического
разума, хотя, разумеется, не существует двух человеческих разумов.
Эмпирический разум находится во власти многообразных форм
чувственности. Но коль скоро ему удается освободиться от этой
порабощающей его власти, он становится чистым разумом,
который уже оказывается вне пространства и времени. Но что делает
возможным превращение эмпирического разума в свободный от
давления каких бы то ни было обстоятельств чистый разум?
Разумеется, воля. Но она, как и разум, существует в двух ипостасях,
т.е. как эмпирическая воля, которая совершенно несвободна, и как
чистая воля, свободная во всех отношениях. Каким образом
несвободная (чувственная) воля превращается в свободную
(сверхчувственную) волю? Кант не обходит молчанием этот вопрос, однако
категорически заявляет, что он принципиально неразрешим, так
как «вещи в себе» абсолютно непознаваемы.
Третьей и, несомненно, высшей по учению Канта, как и для
всех создателей метафизических систем, «вещью в себе» (вернее,
ноуменом) является, конечно, Бог. Существование Бога логически
недоказуемо. Кант в «Критике чистого разума» методически
опровергает онтологическое и космологическое, а также
физико-телеологическое доказательства бытия Бога. Единственным, не
нуждающимся в каких-либо логических аргументах, основанием для
признания действительного существования Бога является вера. При
этом имеется в виду не обычная, неразрывно связанная с
эмпирическими обстоятельствами религиозная вера, основанием которой
являются обычаи, воспитание, страх смерти и т.п. Такая вера
представляется Канту вынужденной, лишенной подлинной
искренности и поэтому постоянно подверженной сомнениям. Этой вере Кант
противопоставляет веру чистого разума, независимую от всякого
рода чувственных побуждений и эмпирических обстоятельств.
Таковы три основных ипостаси абсолютно непознаваемой
«вещи в себе». Естественно возникает вопрос: на каком
основании мы все-таки должны признать существование этих
непознаваемых сущностей? Раз «вещи в себе» абсолютно непознаваемы,
значит, нам не дано знать и об их существовании. Основной, как
представляется на первый взгляд, аргумент Канта, призванный
доказать существование непознаваемых нечто, сводится к
утверждению: поскольку существуют явления, следовательно,
следует признать, что существует и нечто, которое является. Но если
534
нечто является, то следовало бы признать, что оно в какой-то
степени все же познаваемо. Однако Кант решительно
отклоняет такое предположение, настаивая на том, что «вещи в себе»
не могут быть познаны, никогда не будут познаны. Ведь они
существуют вне пространства и времени. Действительно, то, что
существует вне пространства и времени, по ту сторону
посюстороннего, никак не может стать предметом познания. Ясно,
конечно, что приводимый Кантом логический аргумент играет
совершенно второстепенную роль. Главный аргумент есть не что
иное как вера в существование Бога. И даже то, что Кант
отличает ее от обычной религиозной веры как веру чистого разума,
также имеет второстепенное значение, так как суть дела именно
в вере, которая не нуждается для своего подкрепления в каких-
либо (а тем более утонченно-логических) подпорках. Однако то,
что Кант считал совершенно бесспорным, отнюдь не
представлялось таковым его современникам. Ф. Якоби, один из первых
критиков «критической философии», весьма проницательно
отметил: «"Вещь в себе" есть такое понятие, без которого нельзя
войти в систему Канта, но с которым нельзя в ней оставаться»11.
Последняя часть этого остроумного изречения вызывает, однако,
возражение: без «вещей в себе» нельзя оставить систему Канта,
без них ее невозможно понять. Иное дело, что это понятие не
поддается логическому обоснованию (или оправданию). Не
удивительно поэтому риторическое вопрошание современного
английского философа М. Скотт-Тагарта: «Вправе ли мы говорить
о существовании вещей в себе, если мы отрицаем, что они могут
быть познаваемы?»12.
11 Jakoby F. Werke. Bd. II. Leipzig, 1912. S. 304.
12 Scott-Taggart MJ. Neuere Forschungen zur Philosophie Kants // Zur
Kantforschung der Gegenwart/ Hrsg. von P. Heintel und L.Nagel. Darmstadt, 1991.
S. 433. В связи с этим уместно указать и на позицию Николая Гартмана,
отмечающего имманентную понятию непознаваемой «вещи в себе» апоретичность,
вызывающую в памяти Зенона Элейского. Гартман пишет: «Издавна
труднейшим вопросом (exemplum crucis) стала для кантианцев вещь в себе. Собственно
говоря, трансцендентальный идеализм не допускает вещи в себе. Ее понятие
лишено пространства в этой системе, оно превращает ее в реализм. Если у самого
Канта эта трудность оставалась еще наполовину скрытой, то благодаря учению
Рейнгольда она стала очевидной. Со времени Соломона Маймона идеалисты
постигли это со всей ясностью (прежде всего Фихте и Гегель, но также не в
меньшей мере и многие неокантианцы) и пришли к единственно возможному
заключению, что вещь в себе должна быть полностью исключена, должна быть
объявлена нонсенсом» (Hartmann N. Diesseits von Idealismus und Realismus //
Kant-Studien, 1924. Heft 29, S. 190). С Гартманом, считающим «вещь в себе»
чужеродным элементом в системе Канта, нельзя, конечно, согласиться. Но он, как
и другие исследователи кантовской философии, справедливо отмечает
амбивалентность философии Канта.
535
Вопрос безусловно, правомерный, но на нем не надо
останавливаться, поскольку Кант не только упорно настаивает на
непознаваемости «вещей в себе», но идет несравненно дальше,
поскольку, как видно из изложенного выше, он также указывает на
существование трех основных ее ипостасей. Что касается Бога,
то здесь позиция Канта совершенно ясна и вполне оправданна:
Бог непостижим. Но совсем по иному обстоит дело с такими
непознаваемыми «вещами», как чистый разум и чистая воля. Все
три «Критики» Канта, а также другие его основные сочинения
(достаточно назвать хотя бы «Метафизику нравов»)
представляют собой не что иное, как обстоятельнейшее исследование
(и познавание) структуры деятельного, познающего разума, а
также структуры воли, именуемой практическим разумом. Называть
эти, с позволения сказать, вещи непознаваемыми Кант не
отваживается, но он, правда, и в сфере познания, и в сфере воления
указывает на то, что есть все-таки и здесь нечто непознаваемое.
Итак, основоположение об абсолютной непознаваемости
«вещей в себе» трещит по швам, поскольку речь идет о разуме и воле.
Эту амбивалентность кантовской позиции отметил еще К.
Каутский: «Непознаваемый мир вещей в себе становится, по крайней
мере отчасти, доступным познанию, если удастся овладеть хотя
бы одною вещью в себе. Такую вещь мы находим у Канта. Это -
личность человека»12,.
Однако противоречия, неотделимые от кантовского понятия
«вещи в себе», не исчерпываются сказанным выше. «Критика
чистого разума», исследуя процесс познания, убедительно
показывает, что опытное знание есть не просто совокупность
чувственных данных, а синтез, осуществляемый путем применения к
этим данным априорных категорий. Таблица категорий, которая
приводится в трансцендентальной аналитике, взята у
Аристотеля. Но в отличие от последнего Кант утверждает, что все
категории (существование, множество, причина и следствие и пр.)
априорны и применимы только в границах возможного опыта, т.е.
не должны быть применяемы к сверхчувственному,
трансцендентному. Однако это принципиально отличное от воззрений
рационалистов XVII в. понимание категорий не выдерживается
Кантом, как только речь заходит о «вещах в себе». Кант, как нетрудно
понять, применяет к ним категории существования, множества,
причинности. То, что он называет применяемые к «вещам в себе»
категории трансцендентальными, конечно, не спасает положения,
так как и применяемые к чувственным данным категории также
13 Каутский К. Этика и материалистическое понимание истории. СПб., 1906.
С. 37.
536
трансцендентальны. Как писал А. Шопенгауэр: «Невероятная
непоследовательность, которую совершает Кант в этом вопросе,
была очень скоро замечена его первыми противниками и
использована для нападок, отразить которые его философия не могла»14.
Современные исследователи философии Канта также
фиксируют внимание на этой амбивалентности кантовского учения о
категориях. Г. Мартин, возобновивший издание «Kant-Studien»
после Второй мировой войны, подчеркивает: «Таким образом, Кант
говорит не только о причине как явлении (causa phaenomenori),
но также о причине как ноумене (causa поитепоп) и подобным
же образом о субстанции как явлении (substantia phaenomenori) и
субстанции-ноумене (substantia поитепоп)»15.
Настаивая на существовании непознаваемых «вещей в себе»,
Кант тем самым выражает свое убеждение в существовании
сверхчувственного, потустороннего, трансцендентного. Без
признания такой запредельной непознаваемой реальности
невозможна не только кантовская теория познания (и тем самым
метафизика природы), но и этика Канта (метафизика нравственности).
Однако вопреки своим основным убеждениям, без которых Кант
не мыслил не только своей философии, но и самой жизни, он тем
не менее выражает явное сомнение в истинности своего
основного убеждения относительно реальности трансцендентного.
В работе, подытоживающей изложение метафизики, которую
Кант намеревался представить на премию Берлинской
Академии наук в 1791 г. (но почему-то не представил ее), он со всей
определенностью заявляет: «Даже понятие сверхчувственного, к
которому разум проявляет такой интерес, что из-за него вообще
существует, всегда существовала и будет существовать
метафизика, по крайней мере как попытка, даже это понятие... не дает
никакой возможности каким-либо способом теоретически точно
доказать, имеет ли оно объективную реальность, или оно не более
как выдумка». И несколькими строками ниже Кант возвращается
к губительному для всей его системы сомнению: «... не
оказывается ли понятие сверхчувственного вообще совершенно пустым,
а мнимый переход от чувственно воспринимаемого к
сверхчувственному совершенно нереальным»16.
14 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. М., 1993. Т. 1. С. 580.
15 Martin G. General Metaphysics. Its Problems and Method. London, 1968.
P. 269.
16 Кант И. Соч. T. 6. M., 1966. С. 244. Стоит сопоставить эти полные
глубокого сомнения строчки с заявлением, сделанным Кантом в предисловии к
первому изданию «Критики чистого разума», т.е. в 1781 г.: «В этом исследовании
я особенно постарался быть обстоятельным и смею утверждать, что нет ни
одной метафизической задачи, которая бы не была разрешена или для решения
537
Можно представить себе, как мучительны были для Канта
эти сомнения, ставящие под вопрос весь его многолетний и уже
высоко оцененный философским сообществом не только в
Германии, но и в других европейских странах труд. Но он был не
только глубоко искренним, правдивым, но и поистине бесстрашным
мыслителем.
Кант полагал, что учение о практическом разуме, или
нравственности является важнейшей частью его метафизической
системы, что практическому разуму принадлежит примат над
разумом теоретическим. С этим нельзя не согласиться, поскольку
речь идет о человеческих поступках, поведении, деятельности,
которая, разумеется, не исключает познание, но вместе с тем
независимо от него, более того, является одной из главных
основ процесса познания. Правда, Кант характеризует
практический разум как нравственность, хотя допускает и более широкое
его понимание. Следовательно, речь прежде всего идет о воле,
которая и определяется Кантом как практический разум.
Эмпирическая воля, как уже указывалось выше, целиком
обусловлена обстоятельствами, чувственными побуждениями. Поэтому она
не свободна, а следовательно, не может быть предметом учения
о нравственности. Свободна лишь воля, которая независима от
каких бы то ни было чувственных побуждений, обстоятельств,
условий. То, что такая воля реально существует, не вызывает у
Канта сомнений, ибо раз существует нравственность (не говоря
уже просто о вменяемости), значит существует свобода выбора и,
следовательно, свобода воли.
Кант непосредственно связывает свободную волю и
нравственное поведение личности. По существу он
отождествляет то и другое. Свободная воля - добрая воля. Он утверждает:
«...свободная воля и воля, подчиненная нравственным законам, -
это одно и то же»17. Это положение неоднократно повторяется им
и в «Критике практического разума», так же как и в «Метафизике
нравов». В «Основах метафизики нравственности» утверждается:
«... воля (разумеется, чистая воля. - Т.О.) есть способность
выбирать только то, что разум независимо от склонности признает
практически необходимым, т.е. добрым»18.
Тут не может не возникнуть вопрос: какая же воля совершает
проступки, преступления и оказывается недоброй? Эмпириче-
которой не был бы здесь дан по крайней мере ключ» (Кант И. Сочинения на
немецком и русском языках, том П. Критика чистого разума. Издание первое.
Подготовлены к изданию Нелли Мотрошиловой и Тамарой Длугач (Москва),
Буркхардом Тушлингом и Ули Фогелем (Марбург). М., 2006, с. 17.
11 Кант И. Соч. Т. 4(1). С. 290.
18 Там же. С. 250.
538
екая воля? Но она не свободна и, следовательно, никак не может
поступать по собственному почину. Там, где нет свободы выбора,
отсутствует и вменяемость, ответственность, больше того, даже
личность. Такова точка зрения Канта. Какая же в таком случае
воля поступает неморально, оказывается не доброй, а злой?
Ответ может быть только один: свободная воля. И Кант, вопреки
приведенным выше высказываниям, утверждает: «...человек как
чувственно воспринимаемое существо обнаруживает на опыте
способность делать выбор не только сообразно с законом, но и
противно ему»19. То обстоятельство, что Кант в данном случае
говорит о чувственно воспринимаемом существе, о факте,
который обнаруживается на опыте, совершенно несущественно, так
как только чистая, независимая от чувственности, свободная воля
способна делать выбор между добром и злом, одно предпочесть
другому. Если приведенная цитата вызывает какие-либо
сомнения у читателя, то вот другое его высказывание, убедительно
свидетельствующее о прямодушии философа, его готовности идти,
разумеется, ради истины, наперекор самому себе: «...моральное
зло должно возникать из свободы,., склонность ко злу может
укорениться только в моральной способности произвола»20*.
Амбивалентность кантовского понимания свободы воли, да и
самой человеческой личности носит кричащий характер.
Логическая последовательность, которую Кант провозгласил
атрибутивной характеристикой философского мышления, оказывается,
по меньшей мере в данном случае, последовательной
непоследовательностью. Но является ли это противоречие пороком его
философии? Вопрос непростой, так как приходится по-новому
оценивать то, что обычно считалось не просто недостатком, но
19 Кант И. Соч. Т. 4(1). С. 235.
20 Кант И. Трактаты и письма. М., 1980. С. 101.
* Конечно, амбивалентность, положительное значение которой
настоятельно подчеркивается мною, заключает в себе и негативную сторону, поскольку
речь все же идет о заблуждении. И как бы ни было содержательно заблуждение,
какое бы глубокое предвосхищение истины оно ни таило в себе, оно все же
остается заблуждением, подлежащим преодолению. На это обстоятельство не без
основания указывает Д. Кьюмиски, анализируя кантовскую философию
нравственности: «Основное, может быть даже самое главное, возражение против кан-
товской теории морали состоит в том, что по его утверждению только поступки,
мотивом которых является долг, имеют нравственную ценность, в то время как
многие люди убеждены в том, что нравственные поступки, совершаемые не по
долгу, а по любви и страсти, могут быть предпочтительнее поступкам,
совершаемым согласно долгу». Автор цитируемой статьи ставит своей задачей показать,
что «решающий ответ на это возражение содержится в самой теории Канта»
{Сиm iskey D. Consequentilism, Egoism and moral Law// «Philosophical Studies».
Vol. 57, № 2, October 1989).
539
и свидетельством несостоятельности той или иной философии.
С моей точки зрения, правильно понял эту парадоксальную
особенность философии Канта А.Н. Гиляров, незаурядный киевский
философ, к сожалению, в наши дни незаслуженно забытый. Его
высказывание уже приводилось мною в первой главе. Стоит
напомнить, что, по Гилярову, именно противоречивость учения
Канта придает ему выдающееся, непреходящее значение. Таким
образом, то, что критик-педант обычно рассматривает как заблуждение
Канта, в действительности оказывается выражением (далеко не
всегда осознанным) реальных противоречий познавательного
процесса, духовной жизни людей, межличностных отношений.
Само собой разумеется, что это относится не только к
философии Канта, но и ко всем выдающимся философским учениям.
Можно даже констатировать тот факт, что чем более
содержательным, новаторским является то или иное философское
учение, тем более оно противоречиво, амбивалентно, апористично,
несмотря на стремление его создателя и его последователей
согласовать все положения этого учения, исключить какую бы то
ни было рассогласованность. Эту замечательную особенность
философии, по-видимому, не видит Г. Зиммель, который в своей
монографии о Канте утверждает: «К наиболее устрашающей
сомнительности философии принадлежит то, что ее самые глубокие
идеи (Gedanken), которые обещают осветить всю массу явлений
в совершенно новом свете и значении, весьма часто
оказываются недостаточными, слишком противоречивыми в деле решения
отдельных конкретных проблем»21. Противоречия, о которых
говорит Зиммель, представляются ему вызывающими сомнения
в самой сути философии, несмотря на то, что речь идет, как он
справедливо подчеркивает, о самых глубоких философских
идеях. Между тем, именно философия Канта как раз и является
убедительнейшим свидетельством глубочайшей содержательности
этих противоречий.
2. Философия Гегеля
В своем первом фундаментальном труде - «Феноменология
духа» - Гегель декларирует важнейшую задачу своей
философии: «способствовать приближению философии к форме науки».
Однако это приближение он понимает весьма своеобразно: все
науки должны подчиниться философии, ибо «все, что в каком-
нибудь знании и в какой-нибудь науке считается истиной, и по
21 Simmel G. Kant. München und Leipzig, 1924. S. 154.
540
содержанию может быть достойно этого имени только тогда,
когда оно порождено философией; что другие науки, сколько бы
они ни пытались рассуждать, не обращаясь к философии, они без
нее не могут обладать ни жизнью, ни духом, ни истиной»22. Если
Кант полагал, что чистая математика является эталоном
научности, указывающим путь и способ подлинного философствования,
то Гегель, напротив, утверждает, что таким эталоном, с которым
должны согласовывать свои положения все науки, является
только философия, наука наук. Таким образом, не приближение
философии к форме науки, а совершенно противоположная задача
обосновывается Гегелем*. Следовательно, гегелевское
понимание отношения философия-науки с самого начала приобретает
амбивалентный характер.
Правда, «Феноменология духа» - раннее произведение
философа. Возможно, его представление об отношении между
философией и науками в дальнейшем стало более корректным.
Обратимся к основному труду Гегеля «Энциклопедия
философских наук». Второй том этого гениального сочинения посвящен
философии природы. Здесь, следовательно, снова встает вопрос
об отношении философия-наука. Гегель решительно выступает
против натурфилософской фантастики, пренебрегающей
истинами, установленными науками. «Философский способ
изложения не есть дело произвола, капризное желание пройтись для
разнообразия разочек на голове после того, как долго ходили на
ногах...»,23 - остроумно замечает Гегель. И согласно этому
тезису он подчеркивает, что само возникновение философии
природы имеет своей предпосылкой эмпирическую физику.
Философия природы есть не что иное как рациональная физика. В какой
же мере действительно рациональна натурфилософия Гегеля?
О ее рациональности можно судить по тому, что Гегель отвергает
атомистику, ньютоновскую корпускулярную теорию света,
химическое учение об элементах, возрождая античное представление
о четырех основных стихиях: воде, воздухе, огне и земле.
«Физический процесс, - пишет он, - характеризуется
превращением стихий друг в друга. Это остается совершенно неизвестным
22 Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. М., 2000. С. 41.
* Эта же мысль о примате философии над науками сформулирована
Гегелем и через 10 лет после выхода в свет «Феноменологии духа». В 1817 г. Гегель
писал: «...все, что в науках основано на разуме, зависит от философии»
(Энциклопедия философских наук. М., 1974, т. 1, с. 149). Это более мягкая, сдержанная
формулировка, чем та, что имеется в «Феноменологии духа», но по существу, по
содержанию обе формулировки говорят об одном, о командной позиции
философии по отношению ко всем наукам.
23 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. М., 1975. Т. 2. С. 21.
541
конечной физике...»24, т.е. физикам его времени, к которым
Гегель относится весьма и весьма критически.
Природа, по учению Гегеля, есть отчужденное бытие
«абсолютной идеи», саморазвития ее понятия, одухотворяющего
материю. Основными ступенями этого одухотворения материи,
или ее материализации являются механизм, химизм, магнетизм,
электричество, органическая природа (геологический
процесс, растения, животные, человек). Стремление идеи
преодолеть свое отчужденное бытие получает свое зримое выражение
в том, что «самостоятельный момент (как, например, органы
чувств животных) делается чем-то объективно-внешним,
солнцем, лунами, кометами. Уже в области физики эти тела теряют
свою самостоятельность, хотя они с некоторыми изменениями
все еще обладают той же формой, что и раньше; они являются,
таким образом, стихиями; субъективное видение, выброшенное
вовне, является солнцем, вкус - водой, обоняние - воздухом»25.
Стоит напомнить заявление Гегеля, что философствование - не
дело произвола, капризное желание пройтись на голове. Судя
по приведенным положениям, Гегель вступает в явное
противоречие с провозглашенным им принципом натурфилософского
исследования. Это противоречие, наглядно выявляющее
амбивалентность, присущую всей философии Гегеля, приобретает
наиболее резкий характер в гегелевских лекциях по истории
философии. В главе, посвященной Аристотелю, Гегель
утверждает, что Стагирит, беря в качестве отправного пункта
эмпирические факты, возвышается над ними благодаря
спекулятивному философскому обобщению. Такая теоретическая позиция,
утверждает Гегель, чужда современным естествоиспытателям-
эмпирикам, которые с неразумной тщательностью описывают
мельчайшие различия, свойственные растениям или животным,
принадлежащим к одному и тому же виду, совершенно не
интересуясь логическим расчленением понятий. Гегель с
презрением поносит такого рода исследования. «Если считается
достойным стремлением познать бесчисленное множество животных,
познать сто шестьдесят семь видов кукушек, из которых у
одного иначе, чем у другого, образуется хохол на голове; если
считается важным познать еще новый жалкий вид семейства жалкого
рода лишая, который не лучше струпа, или если признается
важным в ученых произведениях по энтомологии открытие нового
вида какого-нибудь насекомого, гадов, клопов и т.д., то нужно
Там же. С. 161.
Там же. С. 41-42.
542
сказать, что важнее познакомиться с разнообразными видами
движения мысли, чем с этими насекомыми»26.
Через 28 лет после смерти Гегеля Ч. Дарвин издал работу
«Происхождение видов», в которой главное внимание уделялось
тем, на первый взгляд совершенно незначительным,
внутривидовым различиям, которые столь презрительно характеризовались
Гегелем. Дарвина совершенно не интересовало отличие, скажем,
слона от ленточного червя; его интересовали минимальные
различия, отделяющие один вид живых существ от другого, например,
лошади от осла, фиалку от анютиных глазок и т.д.
Внутривидовые различия среди кукушек, кстати сказать, специально
интересовали Дарвина. Гегель с характерным для него
пренебрежительным отношением к этим «мелочам» оказался отсталым ученым
по сравнению с естествоиспытателями начала XIX в. Если
современник Гегеля Ламарк обосновывал эволюционную гипотезу
путем анализа эмпирически установленного многообразия
растений и животных, то Гегель отвергал эту гипотезу как
бессодержательное умствование. «Человек, - писал он, - не развился из
животного, как и животное не развилось из растения; каждое
существо есть сразу и целиком то, что оно есть»27.
Гегель восторженно характеризует великие открытия своего
соотечественника Кеплера, который теоретически осмыслив
данные наблюдений астронома Тихо де Браге, открыл знаменитые
законы, названные его именем. «Гениальным его подвигом здесь
является то, что он, исходя из этих единичных явлений, открыл
всеобщий закон»28. Однако у Гегеля мы не находим оценки
выдающегося научного подвига Тихо де Браге, наблюдения
которого значительно обогатили астрономическую картину Солнечной
системы и тогдашние представления о звездном небе»*.
26 Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Соч. Т. X. М., 1935. С. 313.
27 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 2. С. 373.
28 Там же. С. 99.
* А.И. Еремеева справедливо отмечает, что Тихо де Браге «добился
невиданной для европейцев того времени точности в измерениях угловых расстояний
между светилами (1-2 угловые минуты)// Еремеева Л.И. Астрономическая
картина мира и ее творцы. (М., 1984, с. 53). Далее Еремеева указывает: «В числе
наблюдавшихся Браге объектов были кометы. Измерив параллакс кометы 1577 г.,
он впервые в истории астрономически доказал, что это космические тела, а не
атмосферные явления, как считали, например, много позже...» (там же, с. 54). Тихо
де Браге, указывается в цитируемой монографии, «принадлежало открытие
колебаний лунной орбиты к эклиптике и изменений в движении лунных углов - точек
пересечения орбиты Луны с эклиптикой» (там же). Таким образом, эмпирические
исследования датского астронома, жившего задолго до Гегеля, практически
доказывали, что такого рода исследования представляют собой не сырой материал,
используемый теоретиками, а действительные научные открытия.
543
Характерной особенностью натурфилософии Гегеля
является убеждение в том, что физические представления Аристотеля
превосходят естественнонаучные открытия Нового времени. Так,
например, он противопоставляет Аристотеля Галилею, считая,
что открытый последним закон свободного падения тел
является не более, чем умозрительной абстракцией, далекой от
совершающегося в действительности процесса. «Представление об
одинаковой скорости движения легких и тяжелых тел, равно как
и представление о чистой тяжести, чистом весе, чистой материи,
есть абстракция, по которой выходит, будто сами по себе они
одинаковы и отличны друг от друга только благодаря случайному
сопротивлению воздуха»29.
Панлогистский идеализм Гегеля до крайности ограничивал
возможность правильной оценки как эмпирического, так и
теоретического естествознания, его методов и достижений,
органически связанных с материалистическим (как правило, не осознанным)
мировоззрением. Гегель в отличие от современных ему
естествоиспытателей ищет в природе сверхприродное. Он, конечно, не мог
быть солидарен с естествоиспытателями в том основном для них
убеждении, что в рамках их исследовательской деятельности нет
ничего выше природы, так же как нет ничего ниже природы.
Естествоиспытатель, поскольку он остается естествоиспытателем
(т.е. не занимается, например, теологическими штудиями, что
бывало отнюдь не редко), не признает иной, более высокой задачи,
чем познание, изучение, исследование природы. Гегель,
разумеется, не разделял этого естественнонаучного энтузиазма, который
представлялся ему мировоззренческой близорукостью,
интеллектуальной наивностью, неполноценностью и т.п. Не удивительно
поэтому, что натурфилософия Аристотеля представлялась ему
более глубоким пониманием природы, чем естествознание
Нового времени. Гегель писал, что физика в течение долгого времени
сохраняла «...унаследованную от Аристотеля форму и
тенденцию понятия выводить части науки из целого... Этому способу
трактования следует безусловно отдавать предпочтение перед
порядком изложения в наших учебниках физики, представляющих
собою совершенно неразумный ряд случайно соединенных друг с
другом учений; такой способ изложения, - это приходится,
правда, признать, - больше соответствует современному способу
рассмотрения природы, которое в своем понимании чувственного
явления природы хочет всецело обходиться без понятия и разума...
Относительно же содержания современные физики в столь же
малой мере выражают истинность предмета: они выражают лишь
Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Соч. Т. X. С. 268.
544
чувственное явление. Напротив, Аристотель и вообще древние
понимали под физикой постижение природы - всеобщее»30.
Чем объясняется, что Гегель, обстоятельно занимавшийся
изучением естествознания Нового времени, явно не понимал
превосходства науки XVII-XVIII вв. над аристотелевской
натурфилософией? Причина этой лакуны, на мой взгляд, одна: панлогистская
метафизика Гегеля, «абсолютный идеализм».
Отношение Гегеля к пантеизму наглядно иллюстрирует
амбивалентность его философского учения. В «Лекциях по истории
философии» он без околичностей утверждает: «всякая
философия пантеистична, ибо она доказывает, что разумное понятие
находится внутри мира»31. То обстоятельство, что не всякая
философия носит пантеистический характер, не станем обсуждать,
ибо нам важна лишь точка зрения Гегеля. Поскольку Гегель не
признает трансцендентной реальности, ибо утверждает, что
«абсолютная идея» имманентна миру, он, несомненно, является
пантеистом. Философская система Спинозы, которая, по его словам,
«является таким основным элементом современной философии,
что можно в самом деле сказать: "ты или придерживаешься
спинозизма, или ты не придерживаешься никакого философского
учения"», характеризуется как «возведенная в мысль
абсолютный пантеизм и монотеизм»32. Таким образом, отношение Гегеля
к пантеизму выявляется самым однозначным образом. Но
достаточно взять в руки «Философию религии» Гегеля, чтобы стала
не менее ясной амбивалентность его философских воззрений.
В первом томе этого сочинения Гегель запросто отделывается
от пантеизма: «"Пантеизм" - неудачное выражение...»33, -
заявляет он. Во втором томе того же труда он поясняет: пантеизм
«...ведет к неверному представлению будто... все, что есть
каждое существование в своей конечности и отдельности,
утверждается как Бог...»34.
Христианство и пантеизм, отрицающий потустороннее
бытие, несовместимы друг с другом. Гегель не может не учитывать
это обстоятельство, и поэтому, вопреки своей философии, он
осуждает пантеизм.
В начале этого раздела речь шла о гегелевском понимании
отношения философия-наука. Столь же важным в системе Гегеля
является вопрос об отношении между философией и религией.
В «Науке логики» религия наряду с искусством и философией
30 Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Соч. Т. X. С. 257.
31 Там же. С. 333.
32 Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Соч. Т. XI. С. 305.
33 Гегель Г.В.Ф. Философия религии. М., 1977. Т. 1. С. 522.
34 Гегель Г.В.Ф. Философия религии. М., 1977. Т. 2. С. 460.
18. Ойзерман Т.И., том 5
545
трактуется как адекватная форма самовыражения (и
самопознания) «абсолютной идеи», т.е. Бога. При этом Гегель устанавливает
отношение субординации между тремя ипостасями абсолютного.
Первой и низшей формой его самосознания является искусство,
второй - более высокой, религия, а третьей - высшей и подлинно
адекватной, конечно, философия, как мышление в чистой стихии
мышления. Религия есть чувственное самосознание абсолюта,
которое именно в силу своего чувственного характера не может
быть понятием, т.е. аутентичной формой истины. «Религия, -
пишет Гегель, - есть та форма сознания, в которой истина доступна
всем людям, какова бы ни была степень их образования...»35.
Совершенно иное дело - научное познание божественного, которое
обретается благодаря философии и теологии.
Такова точка зрения «Науки логики», основополагающего
изложения системы Гегеля. Однако гегелевская «Философия религии»
совершенно по-иному определяет отношение философия-религия.
Философия, разъясняет Гегель, так же как религия есть служение
Богу. «Следовательно, философия тождественна с религией;
различие заключается в том, что философия совершает это собственным
методом...»36. Налицо несомненное расхождение между
основоположениями системы Гегеля и выводами, которые философ делает
в своей философии религии. Амбивалентность? Бесспорно, но не
следует преувеличивать ее уровень. Ведь «абсолютная идея» Гегеля
есть философское наименование Бога. Бог философов
существенно отличается от Бога, о котором повествует Священное писание.
Но это отличие формы, метода не затрагивает основного замысла
и конечных выводов идеалистической философской системы,
которая в данном случае подражает теологии, корректируя вместе с тем
ее традиционное содержание. В этом смысле «Философия
религии» Гегеля в немалой мере способствует правильному пониманию
основного замысла и генеральной идеи «Науки логики».
Третья часть системы Гегеля - философия духа. Развитием и
конкретизацией ее основных положений являются философия
истории и философия права. Центральным вопросом во всех этих
произведениях является вопрос о государстве. Гегель - ярко
выраженный теоретик этатизма, абсолютного значения
государства. «Мысля идею государства, надо иметь в виду не особенные
государства, не особенные институты, а идею для себя, этого
действительного Бога»37. Дело, конечно, не просто в том, что Гегель
35 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. С. 65.
36 Гегель Г.В.Ф. Философия религии. Т. 1. С. 220.
37 Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990. С. 284. Понятно поэтому
патетическое заявление Гегеля: «Нет ничего выше и святее, чем государственный
образ мыслей» (соч., т. VIII. М. 1935. С. 415).
546
обожествляет государство. Ведь он обожествляет все: и природу,
и человека. Суть дела, скорее, в том, что с точки зрения Гегеля
государство не имеет начала во времени, оно первичная социальная
реальность. Гегель категорически утверждает: «... государство
есть вообще первое, внутри которого семья развивается в
гражданское общество»38. Это значит, что семья и гражданское
общество возникли в лоне государства, что человек вообще является
человеком лишь потому, что он существует в государстве.
Аристотель, правда, именовал человека политическим животным, но при
этом имелось в виду, что человек - существо общественное, не
существующее вне общества. Однако Гегель не только идеалист,
но и в определенном смысле реалист. Поэтому он, не опасаясь
вступить в противоречие со своими собственными воззрениями
(недаром же он придавал противоречиям в мышлении значение
основной движущей силы познания!), совершенно неожиданно
для читателя заявляет: «Народы могут долго прожить без
государства, прежде чем им удастся достигнуть... своего назначения,
и при этом они даже могут достигнуть значительного развития в
известных направлениях»39. И развивая это же положение в
«Философии истории», Гегель трезво констатирует: «настоящее
государство и настоящее правительство возникают лишь тогда, когда
уже существует различие сословий, когда богатство и бедность
становятся очень велики и когда возникают такие отношения,
при которых огромная масса уже не может удовлетворять свои
потребности так, как она привыкла»40.
Я представляю себе критика-педанта, который, приводя эти
высказывания, уличает Гегеля в том, что он высказывает
несовместимые друг с другом положения. Этому педанту, очевидно,
невдомек, что эта амбивалентность не только не разрушает
системы Гегеля, но, напротив, обогащает оторванную от жизни
идеалистическую спекуляцию реальным историческим содержанием.
Гегель, таким образом, не сводит свою социальную философию к
умозрительным рассуждениям об идее государства, независимой
от особенных, реально существующих государств. В
«Философии права» он отмечает также существование «плохих» и,
больше того, «диких» государств, несмотря на то, что такого рода
государства никак не соответствуют гегелевской идее государства.
Известно, что Гегель восторженно высказывался о Великой
французской революции, сравнивая ее с величественным
восходом солнца. Говоря о реальных, а не идеальных предпосылках
Гегель Г.В.Ф. Философия права. С. 278.
Гегель Г.В.Ф. Философия истории. Соч. Т. VIII. М, 1935. С. 57.
Гегель Г.В.Ф. Соч. Т. VIII. С. 82.
18*
547
этой революции, он подвергает острой критике состояние
государственности во Франции. «Какое же это было государство!
Бесконтрольное господство министров и их девок, жен, камердинеров,
так что огромная армия маленьких тиранов и
праздношатающихся рассматривала как свое божественное право грабеж доходов
государства и пользование потом народа»41. Однако наряду с этой
трезвой, реалистической оценкой причин, которые вызвали
революцию во Франции, Гегель поражает читателя совершенно
несообразным выводом, который, как говорится, не лезет ни в какие
ворота. Он утверждает: «.. .если бы еще существовали германские
леса, то, конечно, не произошла бы французская революция»42.
Здесь уже не может быть никакой речи об амбивалентности
гегелевской философии. Здесь нечто другое: попытка доказать, что
революция вовсе не была исторической необходимостью. Если
бы не вырубили леса на западе Германии, если бы французское
правительство вело себя иначе, если бы французских
просветителей поставили в достаточно строгие цензурные рамки, то все
было бы по-другому, т.е. необходимые преобразования были бы
проведены «сверху», постепенно, мирно и т.д. Все это выявляет
консервативно-либеральный характер мировоззрения Гегеля.
Коротко об историко-философском учении Гегеля. По
убеждению Гегеля, «болтовня о различии философских систем»43 -
свидетельство крайнего непонимания истории философии, в
которой каждая из систем выражает один из принципов «абсолютной
идеи», и если ее создатель даже преувеличивает значение этого
принципа, он лишь приближается к адекватному пониманию его
смысла и значения в лоне «абсолютной идеи». Поэтому
сущность философии на всем протяжении ее исторического разви-
41 Гегель Г.В. Ф. Лекции по истории философии. М, 1935. Т. X. С. 389. Не
ограничиваясь критикой предреволюционной французской государственности,
Гегель весьма одобрительно характеризует несовместимые с его философией
идейные течения, сыгравшие громадную роль в деле создания во Франции
революционной ситуации. «Французский атеизм, материализм и натурализм
разбили все предрассудки и одержали победу над лишенными понятия
предпосылками и признанными положениями... Он обратился против состояния мира в
области правопорядка, против государственного устройства, судопроизводства,
способа правления и политического авторитета...» (там же, с. 385). Известно
сугубо негативное отношение Гегеля к атеизму, материализму, натурализму. Что
же побудило его вопреки этому негативному отношению высоко оценить эти
столь враждебные духу «абсолютного идеализма» идейные течения? Реализм?
Да, конечно, реализм, который также был чужд его
спекулятивно-идеалистическому философствованию. Значит причиной (разумеется, неосознанной) этих
противоречащих его собственной философии положений была все та же
амбивалентность, непоследовательность, внутренняя противоречивость его системы.
42 Гегель Г.В.Ф. Философия истории. Соч. Т. VIII. С. 82.
43 Гегель Г.В.Ф, Лекции по истории философии. М., 1935. Т. XI. С. 37.
548
тия остается неизменной, так как «...каждая система философии
содержит в себе идею в своеобразной форме»44. Это значит, что
каждая философская система «существовала и продолжает еще и
теперь необходимо существовать: ни одна, из них, следовательно,
не исчезла, а все они сохранились в философии как моменты
одного целого»45. Гегель, правда, исключает из истории философии
субъективный идеализм Беркли, не говоря уже о материализме,
который он в принципе не считает философским учением. Но в
общем на протяжении трехтомного изложения истории
философии он остается в основном верен своему пониманию единства
историко-философского процесса*.
Однако внимательный читатель «Лекций по истории
философии» совсем неожиданно для себя наталкивается на
высказывание Гегеля, которое ставит под вопрос все его рассуждения о том,
что сущность философии всегда остается одной и той же. Гегель,
оказывается, признает многообразие философских учений, т.е.
тот очевидный факт, что великие философские учения отрицают
друг друга и, следовательно, носят взаимоисключающий
характер. «Мы должны понять, - утверждает он, - что это
многообразие философских систем не только не наносит ущерба самой
философии - возможности философии - а что, наоборот, такое
многообразие было и есть безусловно необходимо для
существования самой науки философии, что это является ее существенной
чертой»46. Как согласовать это признание непреходящей
многоликое™ философии, признание необходимости и плодотворнос-
44 Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии М, 1932. Кн. 1. С. 138.
45 Там же. С. 40.
* Обосновывая единство историко-философского процесса, Гегель не
останавливается даже перед тем, чтобы приписать Фалесу мысль о тождестве бытия
и мышления. Фалес, утверждает Гегель, «...определил воду как бесконечное
понятие (курсив мой. - 710.), как простую сущность мысли, не признавая за
ними никакой дальнейшей определенности, кроме количественных различий»
(Лекции по истории философии. Кн. 1, с. 165). Когда же он анализирует учения
Анаксагора (в особенности его понятие вселенского разума), а затем Платона
и Аристотеля, то создается впечатление, что основные идеи гегелевского
«абсолютного идеализма» были сформулированы уже в древней Греции, которой,
кстати сказать, посвящены две трети «Лекций по истории философии». Однако
Гегель разъясняет, что развитие философии представляет собой не что иное, как
«ряд процессов развития, которые мы должны представить себе не как прямую
линию, тянущуюся в абстрактное бесконечное, а как возвращающийся в себя
круг, который имеет своей периферией значительное количество кругов,
совокупность которых составляет большой, возвращающийся в себя ряд процессов
развития» (там же, с. 30). Таким образом, в ходе этого спиралевидного
развития каждый новый круг обогащает новым содержанием истины, установленные
предшествующими кругами.
46 Гегель Г.В.Ф. Философия истории. Соч. Т. VIII. С. 51.
549
ти ее многоликости с приведенным выше сердитым
осуждением «болтовни» о существовании разных философских систем?
Согласовать, конечно, невозможно. И не нужно, ибо именно это
высказывание Гегеля констатирует факт, является истинным.
А то, что оно противоречит всем другим положениям его теории
историко-философского процесса, вовсе не значит, что оно их
опровергает. Именно благодаря этому, единственному в
историко-философском трехтомнике высказыванию гегелевское
представление о единстве историко-философского процесса обретает
диалектический характер, указывает на противоречивый
характер развития философии, позволяет положительно оценить эту
противоречивость. Следовательно, и тут амбивалентность учения
Гегеля является плюсом, а не минусом.
Подводя итоги характеристике амбивалентности гегелевской
системы, считаю необходимым остановиться на ее основных
общих чертах. Гегель определяет «абсолютный дух», «абсолютную
идею» как единство бесконечного и конечного, непосредственного
и опосредованного, всеобщего и единичного, подчеркивая
коррелятивный характер этих отношений. «Дух, - пишет он, - является
поэтому в такой же мере конечным, как и бесконечным, и он не
есть ни одно, ни только другое»47. Эта последовательная с точки
зрения диалектического идеализма теоретическая позиция,
однако, не выдерживается философом. Конечное претит ему, ибо как
он утверждает: «Собственное качество духа поэтому есть скорее
истинная бесконечность»48. Соответственно этому конечное
буквально третируется как неистинное, никчемное, лишенное бытия*.
Гегель диалектически трактует всеобщее как единство
особенного и единичного. Единичное, следовательно, также
всеобщее; оно «есть вместе с тем всеобщность в самой себе»49. Однако
в «Науке логики» вслед за аналогичными положениями, тем не
47 Там же. С. 50.
48 Там же.
* По Гегелю, вопреки приведенным выше положениям, «...конечное не
обладает бытием, т.е. не обладает истинным бытием» (там же, с. 49). В «Науке
логики» Гегель учит, что «рассудок имеет своим предметом конечное и
обусловленное, а разум - бесконечное и безусловное» (Энциклопедия философских
наук, т. 1, с. 161-162). Формальная логика имеет своим предметом конечное
мышление и поэтому она не постигает сущности, которая познается лишь
диалектическим мышлением. «Рассудок, - пишет Гегель, - выделяет лишь конечные
определения; последние лишены в себе устойчивости, шатки, и возведенное на
них здание обрушивается» (там же, с. 149). Таким образом, от коррелятивного,
действительно истинного отношения конечного и бесконечного ничего не
остается.
49 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 2. С. 23.
550
менее, утверждается: «Единичное, взятое для себя, не
соответствует своему понятию; эта ограниченность его наличного
бытия составляет его конечность и ведет к его гибели»50. Единичные
вещи, в частности, единичные живые существа, разумеется, не
вечны. Но это не исключает всеобщности единичного, так как
любое единичное принадлежит к определенному роду, т.е.
всеобщему. Поэтому гегелевское противопоставление всеобщего
единичному там, где он умалчивает о том, что единичное входит
в состав всеобщего, становится амбивалентным. Но именно так,
как правило, поступает Гегель, признающий субстанциальное
значение тотальности, т.е. всеобщности.
Гегель утверждает, что внешнее и внутреннее
представляют собой противоположности, которые переходят друг в друга.
«Явление не показывает ничего такого, чего не было бы в
сущности, и в сущности нет ничего такого, что не являлось бы...
Поэтому то, что есть лишь некое внутреннее, есть также лишь
некое внешнее; и то, что есть лишь внешнее, есть лишь также
лишь только внутреннее»51. Гегель и здесь широко использует
понятие диалектического тождества, которое содержит в себе
различие, т.е. является также нетождеством. Тем не менее он
постоянно подвергает критике внешнее с точки зрения
«властвующего всеобщего» и внутренне-сущностного. Он упорствует
в своем убеждении, что всеобщее «...образует
противоположность чего-то иного, а это иное есть голое непосредственное,
внешнее и единичное, в противоположность
опосредствованному, внутреннему и всеобщему. Это всеобщее не существует
внешним образом...»52. И здесь, следовательно, Гегель
подвергает отрицанию свой основной тезис, противопоставляя ему
антитезис. Для этого у Гегеля как рационалиста-метафизика
достаточно оснований: ведь эмпиризм, подчеркивает он, признает
истинным внешнее.
Последним отношением противоположностей, специфически
характерным для системы и метода Гегеля, является отношение
непосредственного и опосредствованного. Эти
противоположности и исключают, и вместе с тем предполагают друг друга.
Опосредствованным Гегель именует все, что понятийно осмысленно,
а поскольку понятие в его системе определяется как
субстанциальное, то опосредствованное характеризуется как независимая
от человеческой субъективности реальность, объективное.
Труднее понять, что называет Гегель непосредственным, так как каж-
50 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. С. 400.
51 Там же. С. 307.
52 Там же. С. 118.
551
дая категория в его системе является результатом логического
процесса, а не чем-то непосредственно данным, как, например,
чувственно данное у Канта. Однако Гегель широко пользуется
понятием непосредственного, и мне остается лишь рассмотреть
примеры применения этого понятия, чтобы понять смысл,
который придает ему философ. В третьем томе «Науки логики» Гегель
утверждает: «Бытие есть вообще первая непосредственность, а
наличное бытие - она же с первой определенностью. Существо-
вание вместе с вещью есть непосредственность, возникающая из
основания, - из снимающего себя опосредствования простой
рефлексии сущности. Действительность же и субстанциальность
есть непосредственность, проистекающая из снятого различия
между еще несущественным существованием как явлением и его
существенностью. Наконец, объективность есть такая
непосредственность, к которой понятие определяет себя снятием своей
абстрактности и опосредствования»53.
Понятие жизни, которое Гегель логически выводит как
следствие превращения субъективного понятия в объективность,
также определяется как непосредственность - «непосредственная
идея». Так, например, растение характеризуется как «первый
сущий для себя субъект, возникающий прямо из
непосредственности»54. Идея, согласно Гегелю, «есть столь же непосредственное,
сколь опосредствованное»55. Это относится как к познанию, так
и к практической идее. Но «абсолютная идея» - последняя
категория «Науки логики», не есть, конечно, непосредственное в
каком бы то ни было отношении; она - единство всех
предшествующих категорий субстанциального логического процесса.
Ее «истинным содержанием, - утверждает Гегель, - является...
не что иное, как вся система, развитие которой мы проследили».
«Абсолютная идея» далее определяется как всеобщее, но с тем
уточнением, что «она есть всеобщее не как абстрактная форма,
которой особенное содержание противостоит как нечто другое,
а как абсолютная форма, в которую возвратились все
определения, вся полнота положенного ею содержания»56.
Теперь можно, пожалуй, сказать, что понимает Гегель под
непосредственным. Непосредственной является каждая категория
как только она «вылупилась» из предшествующей категории, т.е.
до тех пор, пока она еще не развила, не развернула своих
определений. Чистое бытие - первая категория гегелевской «Науки логики»
Гегель Г.В.Ф. Наука логики. Т. 3. С. 156.
Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 2. С. 339.
Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. С. 402.
Там же. С. 420.
552
непосредственно, поскольку оно лишено каких-либо определений.
Но как только оказывается, что оно именно вследствие отсутствия
каких-либо определений есть ничто, оно переходит в становление,
в наличное бытие, утрачивая свою непосредственность.
Понятие непосредственного вполне содержательно у Канта,
поскольку имеются в виду чувственные данные. Оно также
содержательно у философов-эмпириков, как материалистов, так и
идеалистов. Но действительно ли оно содержательно у Гегеля?
Не появилось ли оно в его системе только потому, что ему
необходимо было найти противоположность опосредованному? Это не
праздный вопрос, так как сам Гегель выражает сомнение в
самостоятельности этой бинарности. В «Философии религии», в
которой, как представляется на первый взгляд, нет места проблемам
«Науки логики», Гегель высказывает истину, которой не нашлось
места в этом основном произведении философа. «Логическое
есть диалектическое, где бытие как таковое рассматривается в
качестве того, что, будучи непосредственным, неистинно...
Непосредственного нет вообще, это - выдумка школьной
премудрости; непосредственность существует лишь в...дурном рассудке...
Непосредственного знания нет. Непосредственным знание может
быть лишь в том случае, если у нас нет сознания его
опосредствованное™, но и здесь оно опосредствованно»57. Это
категорическое, пожалуй даже сердитое, заявление не заключает в себе ни
грана самокритики. Самокритика вообще не свойственна
великим философам, как и всем великим, в какой бы области они ни
подвизались. То, что приведенное положение ставит под вопрос
все диалектические рассуждения о тождестве и различии
непосредственного и опосредствованного, конечно, не осознавалось
Гегелем. Не осознавал он, как и Кант, амбивалентности своего
философского учения. И еще меньше, конечно, могло дойти до
его сознания то обстоятельство, что эта амбивалентность
оказывается положительной характеристикой его учения, так как она
выводит философа за пределы его философской системы и если
не прямо, то косвенно ставит вопрос: не должны ли философы
покончить с системосозиданием, не является ли всякая замкнутая
на самое себя система оковами для философии? Ответы на эти
вопросы давали Л. Фейербах, Ф. Ницше, М. Хайдеггер и их не
столь выдающиеся последователи - «постмодернисты». Однако
эти ответы являются скорее декларациями, чем систематическим
осмыслением поставленного вопроса, а тем более обоснованным
ответом на него.
Гегель Г.В.Ф. Философия религии. Т. 1. С. 332.
Глава 3
АМБИВАЛЕНТНОСТЬ ФИЛОСОФСКОЙ КРИТИКИ
(Фихте и Шопенгауэр)
Неопределенное, но постоянно умножающееся количество
противостоящих друг другу, несовместимых, опровергающих
друг друга философских систем и системок превращает критику
философии философами, философскую критику в имманентно
присущий каждому философскому учению вызов всем (или
почти всем) другим философским учениям, в отрицание этих
учений, склоняющееся зачастую к отрицанию философии вообще,
которое на деле оказывается лишь новым философским
учением. Вследствие этой перманентной конфронтации философии с
философией философская критика оказывается, независимо от
намерений философов, одной из основных движущих сил
прогрессивного развития философии: множатся философские идеи,
концепции, понятия и благодаря этому плюрализация
философских учений становится непрерывно совершающимся
обогащением идейного содержания философии*.
Философская критика приобретает наиболее продуктивный,
но вместе с тем противоречивый, амбивалентный характер,
когда выдающийся философ подвергает сокрушительной критике
то философское учение, которое является основой, истоком его
* В монографии «Философия как история философии» (М., 1999) я так
характеризовал эту основную специфичность историко-философского процесса:
«Философия, в отличие от любой науки, каков бы ни был исторический уровень
ее развития, существует, так сказать, во множественном числе. Иначе говоря,
философия существует только как философии, т.е. как неопределенное
множество различных, противостоящих друг другу философских систем. Таков modus
essendi философии. Такой она была уже в первое столетие своего исторического
бытия; такой она осталась и в наше время, и нет оснований полагать, что когда-
нибудь в будущем философия утратит свою многоликость...» (с. 5).
Плюрализация философии - постоянно совершающийся процесс ее идейного обогащения,
т.е. возникновения новых идей, концепций, теорий, систем.
554
собственного учения. Признавая свою непосредственную
зависимость от этого учения, философ, выступающий, по его
собственным заявлениям, как продолжатель этого учения, на деле
занимается его опровержением, так как он создает свою собственную
философскую систему, которая в особенности
противопоставляется философской системе, являющейся ее родительницей.
Это радикальное проявление амбивалентности философии я
намерен рассмотреть в процессе анализа некоторых основных
черт философских учений И.Г. Фихте и А. Шопенгауэра.
1. Амбивалентность философии Фихте
В «Первом введении в наукоучение» Фихте объявляет, что он
«принял решение посвятить свою жизнь» изложению философии
Канта. Уточняя свою теоретическую позицию, Фихте
продолжает: «Я всегда говорил и повторяю здесь, что моя система - не
что иное, как система Канта, т.е. она содержит тот же взгляд на
предмет, но в своем способе изложения совершенно не зависит от
изложения Канта»1.
Что же представляет собой предлагаемый Фихте независимый
от Канта способ изложения его учения? Ближайшее знакомство с
ним показывает, что Фихте, по существу, отрицает ряд основных
положений кантовской философии, вследствие чего его
«изложение» этого учения превращается в изложение другой, т.е. его
собственной философской теории. Таким образом, заявление Фихте -
«... моя система - не что иное, как система Канта...» - оказывается
только заявлением, не более. Это, впрочем, видно и из самого
заявления, поскольку Фихте говорит «моя система». А если это так, то
она, конечно, не может быть изложением системы Канта.
Я не собираюсь ставить под вопрос искренность Фихте, она не
подлежит сомнению. Суть дела в том, что, по убеждению Фихте,
следует в духе Канта исправить присущие его системе основные
положения. В письме Ф. Нитхаммеру (ноябрь 1793 г.) Фихте
утверждает: «Согласно моему глубокому убеждению, Кант только
наметил истину, но не изложил и не доказал ее»2. Речь, следовательно,
1 Фихте КГ. Соч. Т. 1. СПб., 2008. С. 72-73. Однако этому заявлению
предшествует такая оценка философии Канта: «...этому великому человеку
совершенно не удалось его предприятие: в корне преобразовать образ мысли его века
о философии и вместе с нею о всех науках» (там же, с. 72).
2 Fichte J.G. Briefe. Hrsg. von M. Buhr. Leipzig, 1925. S. 85. В письме Ф.
Шеллингу от 20.09.1799 г. Фихте заявляет еще более резко: «Я, конечно, полностью
убежден в том, что кантовская философия, если ее должно будет принимать не
так, как мы ее принимаем, представляет собой полнейшую (totaler)
бессмыслицу» (Ibid, S. 203).
555
идет о том, чтобы уяснить, эксплицировать, обосновать (доказать)
основные положения философии Канта. Однако факты говорят о
другом. Первостепенной важности фактом является то, что Фихте
отбрасывает кантовское понятие «вещи в себе», т.е. одно из
основоположений трансцендентального идеализма. «Вещь в себе - чистый
вымысел и не обладает никакой реальностью»3, - утверждает он.
Не трудно понять, что философия Канта без признания
«вещей в себе» становится субъективно-идеалистическим учением,
аналогичным философии Беркли, которую Кант решительно
отвергал. «Вещи в себе», согласно Канту, воздействуют на
человеческую чувственность, порождают ощущения, содержание которых,
так же как и их отличие друг от друга, обусловлено воздействием
«вещей в себе» и, следовательно, независимо от сознания. Это
обстоятельство вносит момент объективности и в кантовское
понимание явлений. Хотя они называются представлениями, их
содержание не может быть сведено к одной лишь чувственности,
так как ощущения, из которых складываются представления,
порождены воздействием на человеческую чувственность,
заключают в себе и независимое от чувственности содержание.
Следовательно, явления, весь чувственно воспринимаемый человеком
мир есть не просто субъективные представления; благодаря
воздействию «вещей в себе» они не только могут, но и должны быть
поняты как субъект-объектная реальность*.
Конечно, понятие «вещей в себе» сугубо противоречиво. Если
они абсолютно непознаваемы, то и утверждения, что они
существуют, а также являются причинами наших ощущений,
необоснованны, неправомерны. Единственный аргумент, который
высказывается Кантом, состоит в утверждении: раз существуют
явления, значит существует и то, что является. Но если «вещи
в себе» являются, то почему они абсолютно непознаваемы? На
это вопрос у Канта нет ответа. Он, несомненно, осознавал
противоречивость, недостаточную теоретическую оправданность этого
понятия. В первом издании «Критики чистого разума» «вещи в
себе» определяются как пограничное понятие, а не объективная,
существующая безотносительно к субъекту познания реальность.
3 Фихте ИТ. Соч. Т. 1.С. 79.
* В противоположность учению Канта Фихте стремится доказать, что
чувственные данные, которыми располагает субъект, получены не вследствие
воздействия извне, а представляют собой продукт самодеятельности,
самоопределения чистого, абсолютного Я. Этот вывод вытекает из отрицания «вещей
в себе», а с другой стороны, предполагает строгое разграничение
эмпирического, чувственного Я и абсолютного Я, которое принципиально отлично от
обычного человеческого сознания именно благодаря своей чистоте (отсутствию
эмпирического содержания) и, конечно, абсолютности.
556
Однако во втором издании этой первой «Критики...» Кант
отказался от этой формулировки и признал «вещи в себе»
независимой от познания реальностью. Философия Канта немыслима без
фундаментального разграничения мира явлений и «вещей в себе»,
какие бы возражения ни вызывало такое разграничение. Ф. Якоби
остроумно заметил, что без «вещи в себе» нельзя войти в
систему Канта, а с «вещью в себе» нельзя из нее выйти. Нельзя
выйти, разумеется, оставаясь приверженцем кантовской философии.
Фихте, отбросив «вещь в себе», фактически отверг тем самым и
философию Канта, что он, правда, далеко не сразу осознал.
«Вещь в себе» была отвергнута Фихте как внешний,
независимый от познания предмет. Однако понятие «вещи в себе» (это
особенно важно подчеркнуть) относится Кантом не только к некой
непознаваемой объективной реальности, «аффицирующей»
(говоря словами Канта) нашу чувственность. «Чистый разум», т.е.
разум, независимый от воздействия чувственности, также есть «вещь
в себе» в отличие от эмпирического разума, который не свободен
от чувственности. Свободная воля, которая также характеризуется
Кантом как чистая воля, независимая от чувственных мотивов, тоже
есть «вещь в себе». Не трудно понять, что если не считать чистый
разум и свободную волю «вещами в себе», то неизбежно придется
признавать их лишь явлениями, т.е. представлениями познающего
субъекта, что влечет за собой несуразные выводы. Фихте, однако,
ничего не говорит об этих духовных «вещах в себе», поскольку
он создает свою философскую систему, отправным положением
которой является понятие абсолютного Я, которое мыслится как
единство чистого разума и свободной воли.
Отбрасывание «вещей в себе» как внешней причины наших
ощущений означает по сути дела отказ от трансцендентальной
эстетики Канта, так как согласно Фихте, чувственные данные,
которыми располагает субъект, получены не извне, а
представляют собой продукт самодеятельности, самоопределения
абсолютного Я. Соответственно этому также пересматривается кантов-
ское понятие опыта.
Основоположение системы Фихте - абсолютное Я -
постигается, как постоянно разъяснял Фихте, путем
интеллектуального созерцания, т.е. интуиции. Интеллектуальное созерцание,
утверждает он, «...есть единственно прочная точка зрения для
всякой философии»4. Рационалисты XVII в. пытались доказать
4 Фихте И.Г. Второе введение в наукоучение. Соч. С. 108. При этом Фихте
подчеркивает, что признание интеллектуальной интуиции несовместимо с
философией Канта: «... неопровержимо и очевидно для всех читателей сочинений
Канта, что Кант ни против чего не высказывается решительнее, можно сказать
557
возможность сверхопытного познания, исходя из
представления об интеллектуальной интуиции, т.е. способности разума не
только судить, умозаключать, но и непосредственно постигать
то, что не может постигнуть дискурсивное мышление. Кант
выступил против этой концепции и связанных с ней теологических
иллюзий. Рассудок, разум, доказывал он, мыслит, а не созерцает.
Созерцание присуще лишь чувственности и это отличает ее от
рассудка, разума, мышления. Отрицание интеллектуальной
интуиции означало отрицание сверхопытного знания. Познание,
доказывал Кант, действительно лишь в границах возможного
опыта. И в этой отличной от только наличного опыта сфере постоянно
происходит умножение знания. Познание беспредельно: все, что
существует в пространстве и времени, принципиально
познаваемо. Но так как пространство и время бесконечны (именно
поэтому Кант считает их особого рода чувственными созерцаниями -
априорными - нисколько не подвергая сомнению существование
эмпирических, конечных, ограниченных пространства и времени),
то процесс познания никогда не завершается.
Фихте и в данном, в высшей степени важном гносеологическом
вопросе, решительно порывает с философией своего учителя,
провозглашая задачей наукоучения исчерпывающее познание всего и
вся. «Человеческое знание, - утверждает он, - вообще должно быть
исчерпано, это значит, что должно быть безусловно и необходимо
определено, что человек может знать не только на теперешней
ступени своего существования, но и на всех возможных и мыслимых
ступенях»5. Наукоучение, по утверждению Фихте, «должно
установить для всех прочих наук не только основоположения и через
это - их внутренне содержание, но также и форму и тем самым -
возможность связи многих положений в них». Развивая этот тезис,
Фихте заявляет, что «наукоучение должно дать форму не только
себе самому, но и всем другим возможным наукам и твердо
установить значимость этой формы для всех. Это немыслимо иначе,
как при условии, что все, что должно быть положением какой-либо
науки, уже содержится в каком-либо положении наукоучения...»6.
резче, чем против утверждения какой бы то ни было способности
интеллектуального созерцания» (там же, с. 111-112). Ниже следует вполне категорический
вывод с ссылкой на одну из последних статей Канта: «Нужны ли дальнейшие
доказательства тому, что философия, которая построена на том самом, что
философия Канта решительно отвергает, есть полная противоположность системе
Канта...» (там же, с. 112). Не трудно понять, что система, противоположная
системе Канта, никак не может трактоваться как учение Канта, изложенное Фихте
по-иному, по-своему.
5 Фихте И.Г. Сочинения. СПб., 2008. С. 49-50.
6 Там же. С. 42, 44.
558
Таким образом, Фихте не только противопоставляет
философию (наукоучение) наукам о природе и обществе, он запросто
утверждает, что наукоучение «должно было быть наукой всех
наук», из чего следует, что все частные науки «содержатся в нау-
коучении не только по своим основоположениям, но и по своим
выведенным положениям, и нет никаких частных наук, есть только
части одного и того же наукоучения». По Фихте следует, что науко-
учением «обосновываются не только науки известные и до сих пор
изобретенные, но и все могущие быть изобретенными и
возможные и что им исчерпана вся область человеческого знания»7.
Совершенно очевидно, что наукоучение Фихте, поскольку оно
трактуется как заключающее в себе все возможное знание,
радикально противоположно трансцендентальному идеализму Канта.
Кант в своей «Критике чистого разума» исходит из констатации
фактов: существует чистая математика, существует чистое
естествознание (теоретическая механика) и далее ставит вопросы: как
они возможны, каковы условия их возможности? Математика
рассматривается Кантом как образец для философии. Именно анализ
чистой математики приводит Канта к убеждению, что
существуют синтетические суждения a priori. А анализ теоретической
механики и, в частности, ньютоновское разграничение физического
и математического времени и пространства подсказывают Канту
вывод, что время и пространство не только эмпирически
реальны, но представляют собой вместе с тем априорные чувственные
созерцания.
Само собой разумеется, что Канту была совершенно чужда
мысль, что познание чувственно воспринимаемого мира может
быть когда-либо завершено, исчерпано. Он, напротив, утверждал,
что процесс познания беспределен. Его философия находила
понимание в среде естествоиспытателей, которым была совершенно
чужда высокомерно-претенциозная философия Фихте. Не
удивительно поэтому, что Б. Рассел в свою «Историю западной
философии» не включил Фихте.
Не трудно понять, что положение о необходимом завершении
познания и в высшей степени претенциозное заявление Фихте о том,
что созданная им философская система (общее наукоучение)
заключает в себе «все возможное человеческое знание», с логической
необходимостью вытекает из фихтевской концепции абсолютного Я,
которое полагает (творит) не только самое себя, но и все
существующее (не-Я). Это полагание (Setzen) есть не что иное как
абсолютизированный акт мышления, познания. Это значит, что мышление,
7 Фихте И.Г. Соч. С. 48.
559
познание субстанциализируется, т.е. трактуется не только как
абсолютная реальность, но и абсолютная творческая мощь. «Мир, -
утверждает Фихте, - существует только в знании, а само знание есть
мир». Развивая это положение в другом месте цитируемой работы,
он пишет: «Я утверждаю: знание безусловно, оно имеет
самостоятельное существование, и есть единственное самостоятельное
существование нам известное»8. Это положение, предвосхищающее
абсолютный идеализм Гегеля, знаменует бесповоротный разрыв
с трансцендентальным идеализмом Канта, который был далек от
того, чтобы сводить все существующее (не только явления и «вещь
в себе», но и нравственность, право, и государство) к знанию.
Субстанциализация знания неизбежно влечет за собой
пересмотр отправного положения наукоучения - постулата об
абсолютном Я, всемогущем творце всего существующего. «Мы
позаботимся, - утверждает Фихте в этой же, цитируемой мной
работе, - найти иной абсолют, кроме Я, а через него и природу»9.
Если в первых своих работах Фихте истолковывал свое
понимание абсолютного Я как развитие кантовского учения о
трансцендентальной апперцепции, то теперь, превратив это Я в нечто
вторичное по отношению к субстанциализированному знанию, он
еще более удаляется от философии Канта.
Итак, Фихте утверждал, что его философия есть лишь
«правильно понятое учение Канта»10. Вместе с тем он настаивал на
том, что созданная философская система является реализацией
замысла Канта. «Но я думаю, что знаю так же достоверно и то,
что Кант помышлял о подобной системе; что все, что он в
действительности излагает, суть обрывки и результаты этой системы
и что его утверждения имеют смысл и взаимную связь лишь при
этом предположении»11.
8 Фихте И.Г. Факты сознания. Соч. Т. 2. С. 489, 768.
9 Там же. С. 97. Эти выводы Фихте лишь на первый взгляд
представляются радикальным изменением его теоретических позиций. В действительности
уже во «Втором введении в наукоучение» (1797 г.) Фихте фактически ставит на
место абсолютного Я понятие безличного сверхчеловеческого разума.
Подытоживая это введение, Фихте утверждает: «И вообще, каково же, в двух словах,
содержание наукоучения? Оно таково: разум абсолютно самостоятелен; он есть
только для себя... Поэтому все, что он есть, должно быть обосновано в нем
же самом и объяснено из него самого, а не из чего-либо вне его, до чего он
не может дойти как внешнего себе, не отказываясь от самого себя. Короче
говоря, наукоучение есть трансцендентальный идеализм» (Фихте И.Г. Соч., т. 1,
с. 114). Все содержание этой работы Фихте свидетельствует о том, что понятие
трансцендентального идеализма, по существу, истолковывается не в духе Канта,
а независимо от него.
10 Фихте И.Г. Соч. СПб., 2008. С. 110.
11 Там же. С. 117.
560
Кант, поощрявший первые литературные выступления Фихте,
счел, в конце концов, необходимым критически высказаться о
системе Фихте. В опубликованном им в 1799 г. «Заявлении по поводу
наукоучения Фихте» он писал: «...я настоящим заявляю, что
считаю наукоучеиие Фихте несостоятельной системой. Ибо чистое
наукоучение представляет собой только логику, которая со своими
принципами не достигает материального момента познания и как
чистая логика отвлекается от его содержания... Нужно, однако,
заметить, что мне непонятна претензия приписать мне мысль,
будто я намеревался создать лишь пропедевтику трансцендентальной
философии, а не систему этой философии»12. Нет необходимости
в данной работе комментировать это заявление Канта. Ясно одно,
что оно констатирует принципиальную несовместимость учений
Канта и Фихте. Это, конечно, нисколько не умаляет значения
философии Фихте в истории философии. Его наукоучение не есть
лишь усовершенствованное изложение учения Канта. Это - новая
философская система, обогащающая аквизит философии
новыми идеями, понятиями, категориями. Фихте вполне сознает это
обстоятельство, но тем не менее продолжает утверждать, что его
философия представляет собой адекватное изложение системы
Канта. Амбивалентный характер этой теоретической позиции
никак не осознается Фихте, несмотря на его расхождения с Кантом и
критику основоположений его философии.
В задачу этой статьи не входит изложение системы Фихте,
в частности разъяснение того, в каких отношениях он пошел
дальше Канта, развивая философию последнего. Тем не менее я
позволю себе хотя бы на одном примере показать философский
прогресс, осуществленный фихтевским наукоучением. Кант, как
известно, обосновывал положение о примате практического
разума над теоретическим. Однако практический разум трактовался
Кантом лишь как нравственное сознание, что, конечно, не могло
способствовать правильному пониманию взаимоотношения
между общественной практикой и научной теорией. Фихте, в отличие
от Канта, понимает практический разум как многообразную
практическую деятельность. «Мы, - пишет он, - не потому
действуем, что познаем, а познаем потому, что предназначены
действовать; практический разум есть корень всякого разума»13. Эта новая
12 Кант И. Трактаты и письма. М., 1980. С. 625.
13 Фихте И.Г. Соч. Т. 2. С. 167. Американский исследователь философии
Фихте Д. Бризил справедливо отмечает: «Понятие "практического" и, значит,
область "практического разума" является для Фихте гораздо более широким
понятием, чем понятие "этики" и область "морали"» (Breaseal D. The Theory of
Practice and the Practice of Theory: Fichte and the Primacy of Practical Reason /
International Philosophical Quaterly. Vol. XXXVI, N 1. March 1996, p. 63).
561
постановка проблемы является, конечно, развитием кантовской
идеи, но такого рода развитием, которое, несмотря на идеализм,
нисколько не помешало Фихте, впервые в истории философии,
понять общественную практику как основу и движущую силу
познания*.
Амбивалентность философии Фихте, наглядно выступающая
в его отношении к кантовскому учению, является, таким образом,
не пороком его собственного учения, а непосредственным
свидетельством противоречивости исторической преемственности,
а тем самым и философского прогресса.
2. А. Шопенгауэр как критик философии Канта
Признание исключительной важности философии Канта
постоянно высказывается Шопенгауэром во всех его основных
произведениях. Свою философскую систему Шопенгауэр считает
непосредственным продолжением учения Канта. «Моя
философия, - пишет Шопенгауэр, - исходит из философии Канта» как из
своего ствола14. Учение Канта решительно противопоставляется
его выдающимся продолжателям. Фихте характеризуется как
пустозвон, философия Гегеля - как шарлатанство и мистификация,
которая «останется в веках памятным свидетельством немецкой
глупости» (516).
Подчеркивая свою идейную зависимость от учения Канта,
Шопенгауэр пишет: «... весь ход моих мыслей при всем
различии его содержания от учения Канта всецело находится под
его влиянием, необходимо его предполагает и из него
вытекает» (505). Шопенгауэр почти восторженно характеризует
содержание совершенного Кантом переворота в философии. Кант
произвел «революцию в философии, положив конец схоластике,
господствовавшей... в течение четырнадцати веков, и открыв
* Понятие критики тождественно, согласно учению Фихте, с понятием
свободы. «Абсолютная свобода воли, которую мы точно так же приносим с собой
из бесконечности в мир времени, есть принцип всей нашей жизни» (Фихте И.Г.
Соч., т. 2, с. 204. М., 1993). Однако, развивая свое учение, Фихте приходит к
фактическому отрицанию свободы как человеческой сущности. Поэтому о
утверждает: «Все, что действительно существует, существует с безусловной
необходимостью и с безусловной необходимостью существует именно так, как
существует; оно не могло бы существовать или быть иным, чем оно есть»
(Соч., т. 2, с. 488). Этот вывод, несовместимый с основоположением фихтевской
волюнтаристической метафизики, является следствием фактического
пересмотра ее исходно положения.
14 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. 1. М., 1993. С. 256.
Последующие ссылки на «Критику кантовской философии» даются в тексте.
562
совершенно новую, третью эпоху всемирного значения в
философии» (512). Это положение завершает ряд других
высказываний, раскрывающих, по убеждению Шопенгауэра, великое
значение трансцендентального идеализма, которое все еще
недостаточно осмыслено и оценено философами. Поэтому «... вся
сила и важность учения Канта станут очевидны, когда сам дух
времени, постепенно преобразовавшийся под влиянием этого
учения и изменившийся в самом важном и сокровенном своем
содержании, даст живое свидетельство о мощи этого гигантского
духа» (504).
В своем произведении «Критика кантовской философии»
он заявляет: «Я полностью признаю учение Канта, согласно
которому мир опыта есть только явление и априорные знания
имеют силу только в применении к нему; но я добавляю к
этому, что мир именно в качестве явления есть открытие того,
что является, и называю его вслед за Кантом вещью в себе»15.
Вторая половина цитируемого положения указывает на то, что
Шопенгауэр решил добавить к учению Канта: «вещь в себе»,
которую Кант трактовал как абсолютно непознаваемую, вполне
познаваема по учению Шопенгауэра. Это есть не что иное, как
вездесущая вселенская Воля. Поэтому он утверждает: «...то,
что называется в кантовской философии вещью в себе и
выступает там как очень значительное, но темное и парадоксальное
учение, - в особенности из-за способа, которым Кант его
вводит, а именно заключением от обоснованного к основанию, - и
служит камнем преткновения, даже слабой стороной его
философии, это, говорю я, если прийти к нему совершенно иным
путем, которым шли мы, оказывается не чем иным, как волей в
расширенной указанным способом и определенной сфере этого
понятия» (288).
Особенно высоко оценивает Шопенгауэр исходные
положения кантовской философии, прежде всего, конечно, учение о
пространстве и времени как априорных чувственных созерцаниях.
«Трансцендентальная эстетика, - пишет он в связи с этим, -
произведение, исполненное таких необычайных достоинств, что
его одного было бы достаточно для увековечения имени Канта»
(522).
Учение о субъективности пространства и времени
очерчивает, согласно Канту, область познаваемого, которое не имеет
пределов, но лишь в границах пространства и времени, ибо то, что
15 Шопенгауэр А. О четверояком корне... Мир как воля и представление, т. 1.
Критика кантовской философии. М., 1993. С. 519.
563
находится вне этих границ, есть запредельное и поэтому
непознаваемое, которое Кант называет «вещами в себе», имея, конечно, в
виду не вещи в обычном смысле слова, а нечто (etwas), которое в
принципе невозможно хотя бы частично познать, так как оно
абсолютно непознаваемо. Шопенгауэр и здесь, в принципиальном
разграничении явлений и «вещей в себе» видит непреходящую
заслугу Канта. «Величайшая заслуга Канта состоит в
различении явления и вещи в себе посредством указания на то, что
между вещами и нами всегда находится интеллект (Intellekt),
вследствие чего они не могут быть познаны такими, каковы они сами
по себе» (505). Это положение Шопенгауэра приводится мною
лишь как свидетельство высочайшей оценки Канта, но, взятое
само по себе, оно явно не согласуется с кантовским
трансцендентальным идеализмом, который отнюдь не помещает интеллект
(разум) между явлениями и «вещами в себе» и вовсе не считает,
что последние не могут быть познаны такими, каковы они сами
по себе, так как абсолютно непознаваемы.
Приведенное положение Шопенгауэра не следует толковать
в том смысле, что он не понял одно из основоположений
трансцендентального идеализма. Суть дела в другом: Шопенгауэр
истолковывает Канта на свой лад, характеризуя кантовскую «вещь
в себе» как приближение к его собственной позиции, согласно
которой «вещь в себе» в известной степени познаваема. В
своем основном произведении «Мир как воля и представление»
Шопенгауэр утверждает, что воля, не только человеческая воля,
но как всеобщая субстанциальная мощь охватывает все
существующее: «... воля, объективацию которой представляет собой
человеческая жизнь, как и каждое явление, есть стремление без
цели и без конца. Отпечаток этой бесконечности мы и находим
во всех частях ее общего проявления, начиная с его самой
общей формы - бесконечного времени и пространства - и кончая
самым совершенным явлением, жизнью и стремлением
человека»16. Если непосредственные продолжатели философии Канта
(Фихте, Шеллинг, Гегель) отбросили понятие «вещи в себе» как
бессодержательную абстракцию, то Шопенгауэр, напротив,
придал этому понятию действительно основополагающее значение,
наполнив его вселенским содержанием. Нет ничего другого в
мире, кроме воли и ее объективации, все другое есть лишь
субъективное человеческое представление. «"Мир - мое
представление"; - такова истина, которая имеет силу для каждого живого и
познающего существа». Эту истину, подчеркивает Шопенгауэр,
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Том. 1. С. 421.
564
«первым... решительно высказал Беркли; в этом его бессмертная
заслуга в философии, хотя все остальное в его учениях и
несостоятельно»17. Амбивалентность этих положений Шопенгауэра
бросается в глаза: с одной стороны, мир есть вселенская воля
и ее объективации, т.е. то, что не зависит от человеческого
сознания, а с другой, - «мир - мое представление». Но поскольку
тема этой статьи не амбивалентность философии Шопенгауэра,
а амбивалентность его критики философии Канта, то вернемся к
работе «Критика кантовской философии». В ней он также
упрекает Канта в том, что он отверг учение Беркли, осудив его как
догматический идеализм и субъективизм.
После приведенных выше высочайших оценок философии
Канта Шопенгауэр переходит к ее критике, составляющей
основное содержание названной статьи. В этом, конечно, нет никакой
амбивалентности: критика философии Канта и ее высочайшая
оценка могут (и, на мой взгляд, должны) дополнять друг друга.
Но все дело в том, что Шопенгауэр подвергает отрицанию все
основные положения философии Канта. То, что чувственные
представления, согласно учению Канта, нам просто даны, т.е. не
являются результатом познания, рефлексии, объявляются
«ничего не значащим утверждением» (517). Разграничение рассудка и
разума, как в сущности отличных друг от друга умственных
способностей и форм мышления, объявляется произвольным и
несостоятельным (518). Тот факт, что Кант был родоначальником
немецкой классической философии, ставится ему в вину, поскольку
продолжателями трансцендентального идеализма стали Фихте,
Шеллинг и Гегель. Шопенгауэр пишет: «Из того, что учение Канта
послужило причиной, как мы все знаем, очень похожего кризиса
в философии и наступило время чудовищных искажений, можно
заключить о незавершенности его дела и многочисленных
присущих ему недостатках, о его негативности и односторонности»
(513). Таким образом, отрицательное, во многом вызванное
личными причинами, отношение Шопенгауэра к Гегелю и его
непосредственным предшественникам становится поводом для того,
чтобы упрекнуть Канта в том, что он «пришел непосредственно
только к негативному, а не к позитивному результату, поскольку
он не создал законченной новой системы, которой могли бы хоть
некоторое время держаться его сторонники...» (512).
В чем же, по убеждению Шопенгауэра, заключается
негативный результат кантовской философии, не считая того, что она
стала идейным источником философских учений Фихте, Шеллинга
17 Там же. С. 141, 142.
565
и особенно Гегеля, из-за которого приват-доценту Шопенгауэру
пришлось покинуть Берлинский университет и, располагая
достаточными средствами, стать, так сказать, свободным
мыслителем, третирующим штатных профессоров философии как людей,
которым чужда подлинная философия? Но Кант ведь тоже был
штатным ординарным профессором философии, о чем
Шопенгауэр, конечно, умалчивает.
Негативный результат кантовской философии, по мнению
Шопенгауэра, состоит прежде всего в том, что «вещь в себе»
характеризуется как абсолютно непознаваемая. Шопенгауэр
убежден, что он преодолел этот негативный результат. И сознавая себя,
в отличие от Фихте, Шеллинга и, конечно, Гегеля, философом,
который, опираясь на Канта, пошел дальше Канта, он заявляет,
ссылаясь на кантовское учение об априорных формах познания:
«Поэтому метафизика невозможна и ее место заступает критика
чистого разума» (513-514).
Шопенгауэру, разумеется, известно, что Кант характеризовал
свое учение как метафизику природы и метафизику нравов. Кан-
товская критика традиционной метафизики, несмотря на ее
радикальный характер, представляла собой не отрицание метафизики
вообще, а напротив, обоснование необходимости метафизики
нового типа. О ней как раз и идет речь в «Критике чистого разума»,
одним из основных вопросов которой является вопрос: как
возможна метафизика как наука? Но Шопенгауэр, как бы
предвосхищая неокантианцев, полагает, что кантовская метафизика является
таковой лишь по своему названию, так как в действительности она
представляет собой решительное отрицание самой возможности
метафизики. Свою систему Шопенгауэр считает подлинной
метафизикой, противопоставляя ее, следовательно, системе Канта.
Естественно возникает вопрос: в чем все-таки Шопенгауэр
согласен с Кантом? Выше уже указывалось, что он согласен с кан-
товским пониманием пространства и времени как чистых
созерцаний. Но и это согласие носит половинчатый характер,
поскольку Шопенгауэр в отличие от Канта не признает эмпирической
реальности пространства и времени, т.е. той реальности, в
которой, например, протекает вся жизнь человека от его рождения до
смерти. Кантовскую концепцию пространства и времени, с точки
зрения Шопенгауэра, «следует рассматривать, по его указанию,
как преходящее обманчивое сновидение» (512). Но такого
указания у Канта, конечно, нет. Он далек от того, чтобы рассматривать
существование человека в пространственно-временном конти-
ниуме как сновидение. И несмотря на свое определение
явлений как представлений, поскольку они непосредственно «даны»
566
нашему сознанию как представления, Кант подчеркивает
независимое от сознания содержание явлений, образованное вследствие
воздействия разного рода «вещей в себе» на нашу чувственность.
Поэтому Кант отнюдь не рассматривает мир (т.е. вселенную),
подобно Шопенгауэру, лишь как наше представление. Понятно,
следовательно, и заявление Шопенгауэра о том, что Кант напрасно
отмежевывается от философии Беркли и как будто побаивается,
как бы его не обвинили в берклианстве.
Выше указывалось, что Шопенгауэр высоко оценивает
трансцендентальную эстетику Канта. Однако теперь ясно, что он
расходится с Кантом в понимании пространства и времени. Но этим
не ограничиваются расхождения Шопенгауэра с Кантом в
вопросе о чувственности. Шопенгауэр вообще отвергает кантовское
разграничение чувственности и рассудка и тем самым отрицает
независимость ощущений (и чувственных данных вообще) от
мышления. «По Канту, - пишет он, - созерцание, взятое само по
себе, не связано с рассудком, оно только чувственно,
следовательно, совершенно пассивно, так что предмет воспринимается
только благодаря мышлению (рассудочная категория); этим он вводит
мышление в созерцание... Так возникает... страшная путаница,
и последствия этого первого ложного шага распространяются на
всю его теорию познания» (524).
Кант, действительно, и разграничивает чувственные
восприятия, и связывает их, показывая, как образуется опыт, который
есть не что иное, как синтез чувственных данных посредством
априорных категорий. Докантовские мыслители, в частности
материалисты, трактовали опыт лишь как совокупность чувственных
данных, фактически независимых от мыслительной деятельности.
Кант доказал несостоятельность такого воззрения. Суждения
опыта качественно отличны от суждений восприятия благодаря тому,
что в них чувственные данные связаны друг с другом. Эта связь
отсутствует в чувственных восприятиях, она вносится в них
мышлением, рассудком, который синтезирует чувственные данные
благодаря категориям, таблица которых приводится в «Критике
чистого разума». То, что опыт формируется благодаря категориям,
синтезирующим разрозненные чувственные данные, является не
подлежащей сомнению истиной, легко подтверждаемой
естествознанием на всех ступенях его исторического развития. Но
Шопенгауэр, тем не менее, не согласен с Кантом и в этом, казалось
бы, совершенно ясном вопросе. Поэтому он утверждает: «...нам
станет ясна несостоятельность допущения, что созерцание вещей
обретает реальность и становится опытом лишь посредством
применяющего двенадцать категорий мышления именно этих вещей,
567
напротив, уже в самом созерцании дана эмпирическая реальность,
тем самым и опыт...» (528). Это положение свидетельствует о том,
что Шопенгауэр придерживается докантовской концепции опыта,
т.е. сводит его к совокупности чувственных восприятий. Такого
рода воззрение сводит на нет значение как общенаучных, так и
философских категорий. Неудивительно поэтому, что Шопенгауэр
вообще отвергает кантовское учение о категориях. Так, в своем
труде «О четверояком корне достаточного основания» он
именует параграф 2 совершенно однозначно: «Опровержение данного
Кантом доказательства априорности понятия каузальности». Речь
идет не об отрицании априоризма Канта, а именно об отрицании
кантовского понимания причинности вообще. При этом, однако,
Шопенгауэр утверждает: «.. .время, пространство и причинность -
могут быть найдены и полностью познаны и без познания самого
объекта, т.е. говоря языком Канта, a priori находятся в нашем
сознании. Это открытие составляет главную заслугу Канта, притом
очень большую»18. Это положение, поскольку оно касается понятия
причинности, явно не согласуется с тем, что утверждается в
«Критике кантовской философии». В этой работе Шопенгауэр не
только сводит на нет кантовскую концепцию причинности (и
детерминизма вообще), но и вообще отрицает какое-либо значение всего
учения Канта о категориях, т.е. аналитики, центрального раздела
«Критики чистого разума». Шопенгауэр утверждает: «Признаком
необоснованности учения о категориях служит уже сама манера
изложения Канта. Как отличается в этом отношении
трансцендентальная эстетика от трансцендентальной аналитики! Там -
ясность, определенность, уверенность, твердая убежденность...
Здесь, напротив, все темно, путано, неопределенно, неуверенно,
изложение робко, полно оговорок... Мы видим, как Кант борется с
истиной, чтобы провести принятую им теорию» (530).
Непредубежденный читатель едва ли обнаружит в этой
части «Критики чистого разума» приписываемые ей Шопенгауэром
пороки. Напротив, он убедится, что изложение аналитики носит
ясный, уверенный, свободный от каких-либо оговорок или
двусмысленностей характер. Кантовская аналитика неприемлема для
Шопенгауэра, по-видимому, потому, что она представляет собой
эпистемологию, которую Кант ставит на место традиционной
онтологии, традиционного учения о бытии, понятие которого,
с точки зрения Канта, неправомерно противопоставляется
существованию. Поэтому в кантовской таблице категорий нет бытия,
о котором в «Критике чистого разума» говорится ясно и опре-
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. 1. С. 68.
568
деленно: «Ясно, что бытие не есть реальный предикат, иными
словами, оно не есть понятие о чем-то таком, что могло бы быть
прибавлено к понятию вещи. Оно есть только полагание вещи или
некоторых определений само по себе. В логическом применении
оно есть лишь связка в суждении»19.
Это положение Канта наглядно показывает, что он
принципиально по-новому понимает метафизику, т.е. не как учение о
бытии, а как философию в целом, включая в метафизику учение
о природе, теорию познания, эстетику и этику, которой
придается главенствующее значение, так как только в ней на основе
учения о нравственности может быть правильно поставлена
проблема свободы воли, вера в Бога, бессмертие человеческой души,
понятие мира как целого. Такое понимание метафизики, которое
я назвал бы метафизикой метафизики, конечно, не имеет ничего
общего с тем, что Шопенгауэр называет метафизикой, так же как
и с метафизикой Шопенгауэра.
Отрицание Шопенгауэром кантовской аналитики находит свое
завершение в отрицании ее центрального понятия -
трансцендентальной апперцепции. «После того как Кант внес столь большие
ошибки в первые простые черты способности представления, он
приходит к множеству очень сложных допущений. К этому
относится прежде всего синтетическое единство апперцепции: очень
странная мысль, очень странно изложенная» (535).
Покончив с аналитикой Канта, Шопенгауэр переходит к
разделу «Трансцендентальная диалектика». Но о диалектике, которую
Кант впервые в философии нового времени постиг как
имманентно присущую разуму, Шопенгауэр никак не высказывается; он
просто ее не замечает, игнорирует. Зато немалое внимание он
уделяет кантовским опровержениям традиционных метафизических
учений о душе, мире как целом, Боге. Кантовскую критику
«рациональной психологии», т.е. учения о нетленности человеческой
души, Шопенгауэр одобряет. «В целом это опровержение должно
считаться большой заслугой Канта, и в нем содержится много
истинного. Тем не менее я уверен, что Кант только из своей любви
к симметрии выводит понятие души из паралогизма чистого
разума...» (568). Высказав несколько критических замечаний
относительно кантовской критики «рациональной психологии»,
Шопенгауэр переходит к кантовскому опровержению «рациональной
космологии», останавливаясь на рассмотрении антиномий. Он не
видит ничего значительного в этой проблеме; она представляется
ему, в сущности, мнимой. Поэтому он утверждает: «В известной
19 Кант И. Критика чистого разума // Соч. Т. 3. М., 1964. С. 521.
569
кажущейся истинности (курсив мой. - Т.О.) антиномии отказать
нельзя; и все-таки удивительно, что ни один раздел кантовской
философии не вызвал так мало возражений...» (577)*.
Рассмотрению третьей антиномии Шопенгауэр придает
особое значение, поскольку в ней речь идет о свободе и
принуждении, а в связи с этим и о «вещи в себе» как трансцендентной
реальности, благодаря которой человеческая воля только и может
быть, согласно учению Канта, свободной. Однако Шопенгауэр
не входит здесь в анализ кантовского понятия свободы.
Ссылаясь на пятьдесят третий параграф кантовских «Пролегоменов...»,
где речь идет о природе как совокупности явлений, Шопенгауэр
пишет: «...не звучит ли все сказанное там как загадка, ключ к
которой дает мое учение. Кант не довел своих мыслей до конца; я
лишь завершил его дело. То, что Кант говорит только о явлении
человека, я распространил на все явления вообще, отличающиеся
от него только по степени, а именно - что их сущность в себе есть
абсолютно свободное, т.е. воля... Кант нигде не сделал вещь в
себе предметом специального объяснения или отчетливой
дедукции. Всякий раз, когда он пользуется этим понятием, он приходит
к нему посредством заключения, что явление, т.е. зримый мир,
должно иметь основание, умопостигаемую причину, которая не
есть явление и не относится к возможному опыту... Невероятная
непоследовательность, которую совершает Кант в этом вопросе,
была очень скоро замечена его первыми противниками и
использована для нападок, отразить которые его философия не могла»
(580).
Переходя к рассмотрению вопроса об «идеале разума», т.е.
трансцендентальной этикотеологии, Шопенгауэр констатирует,
что Кант «устранил из философии теизм», поскольку идея Бога
не может быть предметом логического доказательства и является
лишь верой. Однако он игнорирует фундаментальное положение
* Эту, в сущности, отрицательную оценку антиномий Шопенгауэр
дополняет таким заключением: «Следующее затем критическое разрешение
космологического противоречия, если рассматривать его в его настоящем смысле, совсем
не то, за что Кант его выдает» (577). И далее следует еще более критическое
замечание: «Кант, желая доказать исходя из несостоятельности обеих сторон
трансцендентальную идеальность явлений, говорит: "Если мир есть само по
себе существующее целое, то он или конечен или бесконечен". - Но это
неверно: существующее само по себе целое никак не может быть бесконечным» (579).
Решительно не соглашаясь с Кантом, Шопенгауэр видит причину его
заблуждений в том, что «дух Канта уже бессознательно приспособился здесь к влиянию
своего времени и среды» (579). Приписывая Канту приспособленчество, чуждое
кенигсбергскому мыслителю, Шопенгауэр считает себя независимым
мыслителем в сущности лишь потому, что он унаследовал состояние, которое позволяет
ему быть независимым. Разумеется, мнимо независимым.
570
философии Канта о примате практического (морального) разума
над разумом теоретическим. Тем самым остается, по существу,
вне сколько-нибудь обстоятельного критического рассмотрения
метафизики Канта. Речь идет лишь об этике Канта. Шопенгауэр
подчеркивает, что Кант был не первым среди философов,
очистившим этику от эвдемонизма. Более того, категорический
императив, формально противопоставляемый эвдемонистской этике,
фактически смыкается с нею, поскольку «анализ этой формулы
показывает, что содержание ее сводится исключительно к
соображениям собственного счастья и потому может служить только
разумному эгоизму...» (600-601). Несостоятельность этого
критического замечания очевидна, если вдуматься в метафизику
нравов Канта, согласно которой лишь чистое сознание долга может
быть максимой нравственного поступка. Что же касается
человеческого стремления к счастью, то оно, по убеждению Канта,
может совпадать или не совпадать с выполнением долга. Однако
Кант полагает, что неукоснительное следование категорическому
императиву нисколько не препятствует естественному для
человеческой природы стремлению к счастью. Более того,
нравственный человек, поскольку он поступает согласно велениям совести,
несравненно ближе к состоянию счастья, чем бессовестный
индивидуум, который при всем своем желании не способен заглушить
укоряющий голос совести. Поэтому нельзя, конечно,
согласиться с Шопенгауэром, который утверждает: «Что Кант совершенно
не вник в подлинное значение этического содержания поступков,
показывает и его учение о высшем благе как необходимом
соединении добродетели и счастья, причем таким образом, что
добродетель делает человека достойным счастья» (602)*.
Философия права Канта (принцип республиканизма,
понимаемого как разделение властей, единство политики и морали
как долженствование, либеральное учение о гражданском
обществе, правах человека, равенстве всех граждан перед законом,
обоснование объективной необходимости прекращения войн
в эпоху, когда они становятся угрозой самому существованию
* С точки зрения Шопенгауэра, которая в известном смысле оправданна,
этика Канта обосновывает «педантичный тезис, согласно которому поступок
для того, чтобы быть истинно хорошим и достойным, должен совершаться
исключительно из уважения к познанному закону и понятию долга, из in abstracto
сознаваемой максимы, но не из какой-либо склонности, не из чувства
доброжелательства, не из мягкосердечного участия, сострадания или душевного
порыва...» (601). Это этическое требование Шопенгауэр называет нелепым,
игнорируя рациональное зерно в кантовской «педантичной» постановке этической
проблемы: моральный характер поступка определяется его мотивом, т.е. сам
мотив должен быть моральным.
571
человечества, идея свободного союза государств и т.д.)
представляется Шопенгауэру не заслуживающей внимания. «Учение о
праве, одно из поздних произведений Канта, настолько слабо, что
при всем моем отрицательном отношении к нему я считаю здесь
всякую полемику излишней...» (602). Шопенгауэр приписывает
Канту противопоставление права этике, подчеркивая, что он, в
отличие от Канта связывает их друг с другом: «...у меня понятие
права относится к этике» (603). Нет необходимости доказывать,
что Шопенгауэр явно искажает как учение Канта о праве, так и
его этику. Некоторые положения этого учения он объявляет
своим открытием. Ошибки, которые он приписывает Канту,
«оказали, - по его словам, - весьма вредное влияние, спутали и
затемнили давно познанные и высказанные истины, послужили
поводом к возникновению странных теорий...» (603).
Пора подвести итоги. Шопенгауэр объявляет себя
продолжателем учения Канта. Он даже заявляет, что его философия вытекает
из учения Канта. Однако его критика Канта свидетельствует о том,
что он не только не воспринял основных положений философии
кенигсбергского мыслителя, но относится к этим положениям
резко отрицательно, характеризует их не просто как заблуждения, но
как вредоносные теоретические положения, принципиально
неприемлемые с его, Шопенгауэра, философской позиции*.
* О том, сколь отрицательно относится Шопенгауэр к учению Канта,
свидетельствует его основной труд «Мир как воля и представление». В нем Шопенгауэр
утверждает, что «учение Канта, составляющее основную мысль второго главного
раздела его "Метафизических основ естествознания", т.е. динамики, уже до Канта
ясно и обстоятельно изложено Пристли в его замечательной работе Disquisitions
on matter and spirit... Что же нам остается - думать, что Кант заимствовал, не
упоминая об этом, столь важные мысли другого автора?» (Шопенгауэр А. Мир как
воля и представление, т. 2, с. 151. М., 1993). Далее еще более ужасное обвинение:
«Но как нам отнестись к тому, что самое важное и блестящее основное учение
Канта, учение об идеальности пространства и только феноменальном
существовании мира тел, уже за тридцать лет до него было сформулировано Мопертюи,
как это явствует из 14 письма Фраунэнштедта о моей философии? Мопертюи
высказывает это парадоксальное учение столь решительно и не приводя никаких
доказательств, что можно предположить, что и он откуда-нибудь его взял» (там
же). Несостоятельность утверждений Шопенгауэра очевидна для всякого, кто
достаточно знаком с историей естествознания и философии XVIII века. Пристли в
названном сочинении излагает основы механистического мировоззрения в духе
теории Ньютона. Кант также философски истолковывал механику Ньютона. Это
же относится к Мопертюи, математику, который не был философом и в своих
представлениях о пространстве и времени следовал Ньютону. Ничего похожего
на кантовское учение о пространстве и времени как априорных созерцаниях,
которым присуща и эмпирическая реальность, нет у Мопертюи. Шопенгауэр, который
сначала называл себя продолжателем Канта, в конечном итоге стал выдвигать
против своего духовного отца обвинения, которые смахивают на инсинуации.
572
Может показаться, что Шопенгауэр объявил себя
продолжателем Канта потому, что он воспринял кантовскую концепцию
«вещи в себе». Но и это не так. Шопенгауэр отвергает самым
решительным образом учение Канта о принципиальной
непознаваемости «вещей в себе», доказывая, что в его философии «вещь в
себе» познана как вселенская воля. Утверждение, что Шопенгауэр,
если не прямо, то косвенно, все же воспринял кантовское учение
о «вещи в себе», было бы правильно, если бы понятие вещи в себе
не бытовало в докантовской философии. Между тем понятие вещи
в себе сложилось задолго до кантовской философии. Р. Декарт в
«Началах философии», подвергая критике чувственное познание,
утверждает, что «только изредка и случайно наши чувства
передают нам, какова природа этих тел самих по себе»20. Д. Локк,
характеризуя предметную область познавательной деятельности людей,
говорит прежде всего о вещах в себе: «...природа вещей как они
существуют сами по себе (things in itselves (так в подлиннике. -
Т.О.)), их отношения и способ их действия...»21. Следует также
отметить, что уже в XVII в. намечается предвосхищающая Канта
концепция вещи в себе. Я имею в виду, в частности, Мальбранша,
который утверждал, что лишь Бог постигает вещи в себе. Он
писал в связи с этим: «Думать, что мы видим тела такими, каковы
они сами в себе, предрассудок ни на чем не основанный»22. М. Ше-
лер с полным основанием констатировал, что со времени
Декарта проблема познания вещей в себе «приобрела первостепенное
значение»23.
Понятие вещи в себе характеризует также материализм
XVIII в. Это понятие было настолько тесно связано с
материализмом, что Ф. Меринг даже писал, что основная идея учения Канта
«задолго до Канта высказана Гельвецием, Гольбахом и другими
французскими материалистами, являясь, таким образом, по
праву собственной принадлежностью материализма»24. При этом
Меринг рассматривал понятие вещи в себе безотносительно к
отрицанию ее познаваемости.
Можно, конечно, допустить, что Шопенгауэр узнал о вещи в
себе лишь при чтении сочинений Канта. Можно даже допустить,
что именно вследствие этого Шопенгауэр считал себя
продолжателем Канта, преодолевшим его «ограниченность», поскольку, как
он полагал, ему удалось познать вещи в себе. Все эти допущения
немногого стоят. Они лишь дополняют картину амбивалентности
философской критики, предпринятой Шопенгауэром.
20 Декарт Р. Избранные произведения. М., 1956. С. 465.
21 Локк Д. Избранные произведения. М., 1960. Т. 1. С. 694.
22 Мальбранш Н. Разыскание истины. Т. 1. СПб., 1903. С. 56.
23 Scheler M. Vom Ewigem im Menschen. Bd. 1. Leipzig, 1921. S. 111.
24 Меринг Ф. На философские и литературные темы. Минск, 1923. С. 20.
Глава 4
АМБИВАЛЕНТНОСТЬ МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО
ПОНИМАНИЯ ИСТОРИИ И КОММУНИСТИЧЕСКОГО
УЧЕНИЯ К. МАРКСА И Ф. ЭНГЕЛЬСА
1. Исторический материализм как предмет критического анализа.
Экономика и неэкономические факторы
Отправным положением материалистического понимания
истории является утверждение, что производство материальных
благ определяет все другие сферы общественной жизни. Маркс и
Энгельс в противоположность своим предшественникам
постоянно настаивали на том, что экономика представляет собой основу
и движущую силу общественного развития. И учёные,
полемизировавшие с марксистами, тем не менее не могли не признать,
что экономическое объяснение многообразных явлений
общественной жизни составляет выдающуюся научную заслугу
основоположников марксизма.
Характеризуя производство материальных благ, Маркс и
Энгельс разграничивали производительные силы и
общественные отношения производства (производственные отношения).
Понятие производительных сил мы находим уже в трудах
классиков политической экономии*. Новаторство основоположников
* Следует, однако, учитывать, что марксово понятие производительных сил
отличается от того понятия, которое мы находим у А. Смита и его
продолжателей. С точки зрения Смита, лошадь, которая используется в производстве,
является производительной силой, в то время как Маркс считал ее, как и любое
живое существо, участвующее в производстве, за исключением человека,
трудящегося - средствами производства, к которым прежде всего относятся орудия
труда, предмет труда, материальные условия труда (здания, подъездная дорога,
транспорт, природные условия, необходимые для производства). Главной
производительной силой, с точки зрения Маркса, является человек, работник. Способ
организации труда (например кооперация, разделение труда) также является
574
марксизма заключалось прежде всего в том, что они выдвинули
и систематически разрабатывали понятие производственных
отношений, характеризуя их как исторически изменяющуюся
форму развития производительных сил, которая определяется
последними, но вместе с тем существенным образом воздействует
на их развитие, способствуя ему или, напротив, становясь его
оковами.
Производственные отношения, согласно Марксу и
Энгельсу, образуют экономический базис общества, обусловливающий
и даже определяющий «надстройку», которую составляют все
другие общественные отношения: государство, право, духовная
жизнь. Таким образом, материалистическое понимание
общества, в сущности, сводилось к экономическому объяснению всех
или почти всех неэкономических феноменов. Энгельс лапидарно
формулирует это основоположение: «...все юридические,
политические, философские, религиозные и тому подобные
представления людей в конечном счёте определяются экономическими
условиями их жизни, их способом производства и обмена
продуктов»1. Выражение «в конечном счёте» указывает,
по-видимому, на то, что экономика определяет неэкономические явления
опосредованным образом, т.е. через ряд промежуточных звеньев,
о которых Энгельс, правда, ничего не говорит.
В 80-х годах Энгельс в ряде своих писем, которые
неоднократно издавались в СССР как «Письма об историческом
материализме», значительно уточнил первоначальные формулировки
основного положения исторического материализма. Прежде всего
он указал на то, что экономика не единственная сила,
определяющая неэкономические явления, поскольку «надстройка» активно
воздействует на экономический базис и взаимодействие между
ними становится силой, определяющей характер общественного
развития. Однако это уточнение всё же оказалось недостаточным
даже с точки зрения вполне ортодоксальных марксистов. Так,
Г.В. Плеханов утверждал, что «взаимодействие, эта ближайшая
истина отношения причины и следствия, как его назвал Гегель,
ничего не объясняет в процессе исторических движений»2. Это
замечание высказано не в связи с рассуждением Энгельса,
производительной силой. И все большее значение, с точки зрения марксизма,
приобретает наука, поскольку ее достижения используются в производстве.
Науку Маркс называл «всеобщей производительной силой» {Маркс К., Энгельс Ф.
Соч., т. 26, ч. 1,с. 400).
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 498.
2 Плеханов Г.В. Избранные философские произведения. М., 1956. Т.Н.
С. 77.
575
а в работе, посвященной истории материализма. Но мы,
естественно, вправе отнести его и к высказываниям Энгельса.
А. Лабриола, выдающийся итальянский марксист, писал:
«Итак, нравственность, искусство, религия и наука являются
лишь продуктами экономического развития?.. Подобного рода
утверждения, высказываемые с такой голословностью и в такой
резкой форме, слышны в последнее время с разных сторон и
приходят весьма кстати на помощь противникам материализма,
которые пользуются ими как пугалом. Ленивые умы, заполняющие
в большом числе даже ряды интеллигентов, охотно
удовлетворяются подобными грубыми заявлениями»3. Лабриола критиковал
догматическое истолкование марксизма, но его критические
замечания фактически относились и к положениям, которые
формулировал Энгельс.
Критикой исходного положения исторического материализма
занимались и так называемые ревизионисты. М.И. Туган-Бара-
новский, например, писал: «Сказать, что производство есть
основа жизни общества, значит сказать весьма мало. Состояние
производства зависит от самых различных социальных моментов - так,
например, от состояния науки, правового строя, господствующих
нравов и т.д. Если общественный строй зависит от условий
производства, то и производство зависит от условий общественного
строя. Среди условий производства весьма важную роль играет
общественный строй»4.
Г.В. Плеханов выступил с критикой «ревизионистской»
интерпретации материалистического понимания истории. Однако его
собственное понимание основ этого учения существенно
отличалось от энгельсовского, хотя Плеханов нисколько не
противопоставлял свои воззрения учению основоположников марксизма и
постоянно выступал в защиту ортодоксального марксизма. Тем не
менее он утверждает: «Если бы экономические отношения были
последней, основной причиной общественных явлений, то
невозможно было бы понять, почему же изменяются эти отношения»5.
Экономические отношения, указывает далее Плеханов,
определяются производительными силами, но и производительные силы
обусловлены не зависящими от них объективными условиями.
«Свойства географической среды обусловливают собой
развитие производительных сил, развитие же производительных сил
3 Лабриола Л. Исторический материализм. Очерки материалистического
понимания истории. Л., 1925. С. 122.
4 Туган-Барановский М.И. Теоретические основы марксизма. М., 1906.
С. 7.
5 Плеханов Г.В. Избранные философские произведения. Т. 2. С. 277.
576
обусловливает собой развитие экономических, а вслед за ними и
других общественных отношений»6 *.
Вопросу о роли духовного фактора в развитии
общественного производства уделяли значительное внимание русские
экономисты, не являющиеся марксистами, но придающие
первостепенное значение роли экономики в развитии общества. Так,
П.К. Бабст утверждал: «Чем менее развито народное хозяйство,
тем чаще встречаем мы состояния неправедно нажитые, тем чаще
основной фонд народного состояния ведёт своё начало из
грязного и чёрного источника». При этом Бабст настойчиво
подчёркивает значение «нравственно и интеллектуально развитого народа»
для успешного индустриального развития общества: «...Ежели
честность... и народная нравственность так много
содействуют умножению народного богатства, то не забудем, что вместе
6 Там же. С. 153.
* Плеханов, последовательно отстаивавший принципы марксизма, был
решительным противником «экономических материалистов», пытавшихся
сводить все социальные явления к экономике. Он указывал, что «подлинные
и последовательные материалисты, действительно, не склонны всюду лезть с
экономическим фактором. Да и самый вопрос о том, какой фактор
господствует в общественной жизни, кажется им неосновательным» (Избр. философские
произведения, т. 2, с. 238). Развивая это положение, Плеханов подчеркивал:
«Историческая наука не может ограничиться одной экономической анатомией
общества, она имеет в виду всю совокупность явлении, прямо и косвенно
обусловленных общественной экономией, до работы воображения
включительно. Нет ни одного исторического факта, который своим происхождением не
был бы обязан общественной экономии; но не менее верно и то, что нет ни
одного исторического факта, которому не предшествовало бы, которого не
сопровождало бы и за которым не следовало бы известное состояние сознания»
(там же, с. 247-248). Ниже Плеханов присовокупляет: «В темпераменте
всякого народа сохраняются некоторые, созданные влиянием естественной
среды, особенности, которые до известной степени видоизменяются, но никогда
не уничтожаются вполне приспособлением к общественной среде. Эти
особенности народного темперамента составляют то, что называется расой. Раса
оказывает несомненное влияние на историю некоторых идеологий, например,
искусства» (там же). Свое понимание исторического материализма Плеханов,
можно сказать, резюмирует так: «В настоящее время последней и самой
общей причиной исторического движения человечества надо признать развитие
производительных сил... Рядом с этой общей причиной действуют особенные
причины, т.е. та историческая обстановка, при которой совершается развитие
производительных сил... Наконец, влияние особенных причин дополняется
действием причин единичных, т.е. личных особенностей общественных
деятелей и других "случайностей", благодаря которым события получают, наконец,
свою индивидуальную физиономию» (там же, с. 332). Приведенные положения
не исчерпывают плехановского изложения материалистического понимания
истории, которое в ряде отношений отличается от того, что писал Энгельс,
хотя, в сущности, дополняет его.
19. Ойзерман Т.И., том 5
577
с цивилизацией усиливается в народе и дух предприимчивости и
трудолюбия»7.
Академик И.И. Янжул в работе «Экономическое значение
честности» утверждал, что в ходе развития общества образование
и нравственность населения играет не меньшую роль, чем труд
и капитал. Он цитирует академика М.М. Ковалевского, который
в письме к нему называет нравственность четвёртым фактором
развития производства. Он ссылается также на известного
экономиста А.И. Чупрова, который, подчёркивая «экономическое
значение нравственности», также писал: «Высота страховой
премии, как составной части дохода на капитал, прямо изменяется
в зависимости от нравственных качеств населения»8. Заключая
свои рассуждения, И.И. Янжул делает вывод: «...В интересах
чисто материального благосостояния народов необходимо широкое
развитие нравственности и специально честности во
всеобъемлющем значении этого слова. И тот народ, который честен, тем
самым силён не только нравственно, но и экономически»9.
Конечно, утверждение о прямой зависимости между
нравственным уровнем населения и уровнем экономического развития
несколько упрощает действительное положение вещей. Не
существует непосредственной взаимозависимости между
нравственностью и производительными силами общества. Промышленная
революция в Англии, а затем в других западноевропейских
странах во второй половине XVIII - первой половине XIX в. означала
громадное возрастание производства, но отнюдь не
нравственный прогресс, которого в ту эпоху нисколько не наблюдалось.
И тем не менее нравственность народа - существенный фактор
экономического прогресса. Этот вывод относится, разумеется, не
только к прошлому, но и к современному общественному, и в том
числе экономическому, развитию.
Стоит подчеркнуть, что такого рода вывод напрашивается
уже при изучении трудов А. Смита. Он опубликовал
монографию «Теория нравственных чувств», в которой обосновывалась
необходимость нравственной оценки экономических отношений.
А.Н. Макашева в монографии «Этические основы экономической
теории» приводит следующее утверждение А. Смита:
справедливость «представляет главную основу общественного устройства.
Если она нарушается, то громадное здание, представляемое
человеческим обществом, воздвигаемое и скрепляемое самой при-
7 Бабст П.К. Избранные труды. М., 1999. С. 125.
8 Янжул И.И. Экономическое значение честности. М., 1912. С. 21.
9 Там же. С. 25.
578
родой, немедленно рушится и обращается в прах»10.
Идеалистический характер этого высказывания нисколько не исключает его
рационального содержания. И А.Н. Макашева правильно
указывает, что позитивная экономическая теория не является этически
нейтральной.
Современные экономисты также видят тесную связь между
экономикой и неэкономическими факторами. Российские учёные
нашего времени, нисколько не умаляя роли экономических
факторов в развитии материального производства, решительно
подчёркивают, что производство материальных благ, экономические
отношения в той или иной мере зависимы от духовной жизни
общества, в частности от господствующих моральных
императивов. Известный экономист Г.С. Лисичкин, касаясь истории
экономического развития России, указывает на примечательный факт:
«Две трети самых богатых купцов в России были староверами! То
есть исповедовали в том числе и высокую мораль в
предпринимательстве. Их было всего полтора процента к общему населению
страны, но они внесли несопоставимо большой вклад в её
процветание. Старообрядцы вырабатывали свою систему нравственных
стандартов, несовместимую с жульничеством»11. Эта
поучительная историческая справка служит Г.С. Лисичкину предваряющей
констатацией к трезвой критической оценке экономического
положения в нашей стране в период развала «реального
социализма» и стремительного перехода на новый, по существу
капиталистический путь развития. В связи с этим он с полным основанием
утверждает: «...Все наши упования на магическую силу рынка
обречены на полный провал, пока мы не поймём, что этот рынок
состоит в первую очередь из людей. И если эти люди дикари и
жулики, то и рынок будет таким. Но виноват будет не рынок, а мы
с вами»12. Это конкретное замечание подкрепляет теоретические
выводы, сделанные выше.
Само собой разумеется, что речь должна идти не только о
нравственности, но вообще о духовной жизни общества во всем
ее многообразии, о ее отнюдь не внешнем, а внутреннем
отношении ко всем видам хозяйственной деятельности, т.е. не только
к производству материальных благ, но и их распределению,
торговле, кредитно-финансовой сфере и т.д. Именно в этом смысле
ставит вопрос академик B.C. Степин: «Духовная жизнь общества,
10 См.: Макашева А.Н. Этические основы экономической теории. М, 1993.
С. 25.
11 Лисичкин Г.С. Карл Маркс - злейший враг российских большевиков.
М., 1993. С. ПО.
12 Там же. С. 111.
19* 579
взятая во всём многообразии ее проявлений и понятая предельно
широко, как состояние и развитие культуры, пронизывает все без
исключения сферы человеческого бытия. Она определяет
воспроизводство и изменения многочисленных структур социальной
жизни, аналогично тому, как генетический код и его мутации
определяют структуру живого и изменения его организации»13.
Понятно, что к этим структурам социальной жизни относится и
производство материальных благ, и рыночная экономика.
Мне думается, что если бы это положение было высказано
B.C. Степиным в годы безраздельного господства «марксизма-
ленинизма» (кавычками я подчеркиваю принципиальную
несовместимость марксизма с его волюнтаристской ленинской
интерпретацией), то неизбежно посыпались бы обвинения в
«ревизионизме», извращении основ материалистического понимания
истории и т.д. Между тем приведенное положение, по существу,
не противоречит материалистическому пониманию истории, если
не истолковывать его односторонним образом, как это сплошь
и рядом бывало в нашей марксистской философской
литературе. Чтобы избежать такой односторонности, необходимо глубже
разобраться в воззрениях Маркса и Энгельса. Предшествующее
изложение основ исторического материализма ограничивалось в
основном указанием на определяющую роль экономического
базиса в развитии общества. Но это далеко не исчерпывает
воззрений Маркса и Энгельса на движущие силы общественного
развития. Основоположники марксизма указывают на определяющую
роль техники в развитии не только производства, но и общества в
целом. Так, в «Нищете философии» Маркс отмечает решающую
роль техники в характеристике феодального общества, с одной
стороны, и капиталистического - с другой. «Ручная мельница
даёт вам общество с сюзереном во главе, паровая мельница -
общество с промышленным капиталистом»14. Аналогичную точку
зрения формулирует и Энгельс: «Орудия дикаря обусловливают
его общество совершенно в той же мере, как новейшие орудия -
капиталистическое общество»15.
Техника, разумеется, не экономическая категория. Но она, как
и люди, трудящиеся, которые применяют эту технику, образует
производительные силы, определяющие производственные
(экономические) отношения. Следовательно, приведенные положения
Маркса и Энгельса не только не противоречат основам историче-
13 Степин B.C. Маркс и тенденции современного цивилизационного
развития // Карл Маркс и современная философия. М., 1999. С. 37.
14 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4. С. 133.
15 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 36. С. 146.
580
ского материализма, но конкретизируют их понимание. Поэтому
нельзя согласиться с американским марксологом Г.В. Мейо,
который сводит материалистическое понимание истории к
технологическому детерминизму, поскольку утверждает, что оно
представляет собой «технологическую интерпретацию истории»16. Такая
характеристика исторического материализма фактически
исключает из него общественные отношения производства как
экономический базис общества и его могущественную движущую силу.
Развитие техники (а значит, и производительных сил), в
особенности в эпоху капитализма, предполагает в качестве
необходимого условия познание законов природы, в частности, развитие
механики, химии, теории электричества и т.д.
Электротехническая революция последней трети XIX в. имела своей основой
научные открытия, благодаря которым стало возможным создание
динамо-машин, вырабатывающих электричество,
электромоторов, заменивших почти во всех отраслях производства паровые
машины, трансформаторов, а также передача электроэнергии на
большие расстояния. Короче говоря, наука (духовное творчество)
основала новую отрасль материального производства и
соответствующую ему область потребления*.
За последние столетия научные открытия и основанные на них
прикладные разработки стали основой целого ряда отраслей
промышленного производства. Так, благодаря науке и на ее основе
возникла радиопромышленность, производство искусственного
каучука, производство синтетических, а также композитных
материалов. Аэродинамические исследования и другие, связанные
с ними, научные разработки заложили основу производству
аэропланов - большой и в высшей степени важной отрасли
народного хозяйства. Достижения в области самолетостроения, создание
ракетной техники привели к появлению космонавтики, значение
которой, как в экономическом, так и культурном отношении
постоянно возрастает. И, наконец, мирное использование атомной
16 Мауо Н.В. Introduction to Marxist Theory. N.Y., 1960. P. 68.
* Это впервые обоснованное Марксом соотношение между экономикой и
неэкономическими факторами в настоящее время является общепризнанным в
среде далеких от марксизма исследователей. Так, американский социолог Ол-
мэн констатирует: «не требуется глубокого знания истории, чтобы понять, что
технологическое развитие есть инвариантная функция от уровня науки, законов
общества, политических режимов, потребительского спроса и много другого»
(Oilman В. Alienation. N.Y., 1975, р. 7-8). Олмэн справедливо указывает на
характер обстоятельств, обусловливающих научно-технический прогресс. Это
указание существенно в том отношении, что оно предупреждает против
одностороннего, сциентистского подхода к пониманию современной
научно-технической революции.
581
энергии (атомные электростанции, атомные надводные и
подводные корабли) - наглядное свидетельство того, сколь безграничны
возможности науки.
Маркс не только полностью предвидел определяющую роль
науки в создании новых отраслей общественного производства,
но и выразил это в радикальной теоретической форме. «Все
это, - писал он о научно-технических достижениях, - созданные
человеческой рукой органы человеческого мозга, овеществлённая
сила знания. Развитие основного капитала является показателем
того, до какой степени всеобщее общественное знание [Wissen,
knowledge] превратилось в непосредственную производительную
силу, и отсюда - показателем того, до какой степени условия
самого общественного жизненного процесса подчинены контролю
всеобщего интеллекта и преобразованы в соответствии с ним»17.
Конечно, утверждение, что наука стала непосредственной
производительной силой, вызывает законные возражения, так как
путь от фундаментальных научных исследований к
материальному производству предполагает немало промежуточных звеньев.
Даже прикладные научные исследования еще не являются
непосредственной производительной силой, по меньшей мере до
тех пор, пока их результаты не получат конкретного и, конечно,
успешного применения в процессе производства, что во многом
зависит от обстоятельств, не имеющих прямого отношения к
научным достижениям.
Итак, духовное творчество (научное исследование) не только
предопределяет возникновение новых отраслей производства, так
же, как и модернизацию, совершенствование уже существующих
отраслей производства, оно в основном определяет их
последующее развитие, совершенствование. Поэтому, например,
современные способы производства электроэнергии весьма существенно
отличаются от тех, которые существовали лет сто назад.
Д.П. Горский в посвященной марксизму монографии
справедливо отмечает: «Отношение первичное-вторичное диалектично;
поэтому "вторичное", производное становится первичным,
играющим главную роль в развитии общества»18. Автор имеет при
этом в виду отношение между общественным сознанием и
общественным бытием, а также отношение между надстройкой и
экономическим базисом. Поэтому он утверждает: «Часто надстройки,
общественное сознание выступают как первичное по отношению
к производственно-экономическим структурам; они являются
17 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. И. С. 215.
18 Горский Д.П. Учение Маркса об обществе. Критический анализ. М., 1994.
С. 53.
582
стимулом не только изменения последних, но и становления
новых производственно-экономических структур»19. Это относится
не только к формам общественного сознания, но и к государству и
праву. Государство в особенности сплошь и рядом выступает в
качестве инициатора, а также в известном смысле причины
основательных экономических преобразований. Отсюда следует вывод:
рассматривать государство как один из элементов «надстройки»,
обусловленный производственными отношениями, было бы
неверно. Да и вообще вся концепция «базис-надстройка»
нуждается по меньшей мере в критическом пересмотре*.
Радикальное изменение отношения между научными
исследованиями и материальным производством означает вместе с тем
не менее существенное изменение производственного процесса.
Поскольку процесс производства, по словам Маркса, «выступает
не как подчинённый непосредственному мастерству рабочего,
а как технологическое применение науки»20, постольку физический
труд рабочего уступает место работе машин, а функция рабочего
заключается в том, чтобы управлять машинами, контролировать
их работу. Такая трудовая деятельность носит в значительной
мере умственный характер. Механизация и автоматизация
производства - необходимое следствие научно-технического
прогресса - еще более усложняет и, можно сказать, интеллектуализирует
роль всех участников производства, от рядового рабочего до
инженера и менеджера. «Поэтому тенденция капитала, - указывает
Маркс, - заключается в том, чтобы придать производству
научный характер, а непосредственный труд низвести до всего лишь
момента процесса производства»21.
Марксистское понимание движущих сил
научно-технического прогресса с необходимостью приводит к пересмотру трудовой
19 Там же. С. 10.
* Я склонен согласиться с Г.Х. Шахназаровым, который писал: «... во все
времена государство, не беря под свой непосредственный контроль ход
экономического развития, своими законами и указами регулировало его технологию,
порядок оплаты труда и даже его охраны; с помощью финансовых маневров
предопределяло вложение капитала в отрасли, которые были ему нужны и
выгодны, - в первую очередь это относится, естественно, к созданию военной
силы» (Шахназаров Г.Х. В поисках утраченной идеи // Коммунист, 1991, №4,
с. 23). Это не значит, однако, что экономическая структура общества никак не
определяет характер государственной власти. Разграничивая основные
исторические типы государства, можно со всей определенностью сказать, что
различия между античным (например, древнегреческим), феодальным и буржуазным
типом государства в основном определялось именно экономическим базисом
общества.
20 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. II. С. 206.
21 Там же.
583
теории стоимости, а тем самым и теории прибавочной стоимости,
которая, как известно, является одним из краеугольных камней
«научного социализма». Ведь согласно этой теории величина
создаваемой в процессе производства стоимости товаров
определяется количеством общественно-необходимых рабочих часов,
затрачиваемых на производство того или иного товара. Однако
с тех пор как технологическое применение науки стало главной
движущей силой производства, важнейшим показателем его
эффективности, достигнутой благодаря научной рационализации
производства и росту производительности труда, рабочее время
перестает быть главным мерилом стоимости, им становится
эффективное технологическое применение научных достижений.
Этот вывод сделан не противниками марксизма, а самим Марксом,
который писал: «по мере развития крупной промышленности
созидание действительного богатства становится менее зависимым
от рабочего времени и от количества затраченного труда, чем от
мощи тех агентов, которые приводятся в движение в течение
рабочего времени и которые сами, в свою очередь (их мощная
эффективность), не находятся ни в каком соответствии с
непосредственным рабочим временем, требующимся для их производства,
а зависят, скорее, от общего уровня науки и от прогресса техники,
или от применения этой науки к производству»22.
Это положение было сформулировано Марксом в
подготовительных рукописях к первому тому «Капитала». Можно, конечно,
упрекнуть автора «Капитала» в том, что он не включил это
положение в текст своего основного экономического труда. Но он,
по-видимому, считал, что ещё не наступило время для
пересмотра трудовой теории стоимости, т.е. что рабочее время все еще
остается главным мерилом стоимости товаров. Были, безусловно,
и политические причины, в силу которых включение
приведенного положения в текст «Капитала» было нецелесообразным.
Вопрос о роли неэкономических факторов следует
рассматривать и в связи с отношением между общественным сознанием и
общественным бытием. Общественное сознание есть осознание
общественного бытия; оно не находится где-то вне
общественного бытия и, значит, не может быть исключено из него.
Общественное бытие - реальный процесс жизни людей, немыслимый без
сознания. И то, что общественное бытие определяет общественное
сознание, есть процесс, совершающийся в самом общественном
бытии. Забвение этой элементарной истины извращает понятие
человеческого, общественного бытия.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. 2. С. 213.
584
Излагая это основоположение исторического материализма,
преподаватели философии обычно ограничиваются указанием на
то, что общественное сознание не только отражает общественное
бытие, но и оказывает воздействие на него. Однако такая
оценка общественного сознания, содержанием которого является все
многообразие духовной жизни общества, недопустимо
недостаточна. И отдельные, хотя и немногочисленные, высказывания
Маркса и Энгельса дают основание считать, что
материалистическое понимание истории предполагает несравненно более
высокую оценку роли общественного сознания в жизни общества.
Люди сами творят свою историю, и это во многом сознательный
процесс. «В истории общества, - указывает Энгельс, - действуют
люди, одаренные сознанием, поступающие обдуманно или под
влиянием страсти, стремящиеся к определенным целям. Здесь
ничто не делается без сознательного намерения, без желаемой
цели...»23. Одним словом, главная производительная сила - это
человек, люди, трудящиеся, которые живут, трудятся сознательно,
следовательно, действуют не просто как материальные, но и как
духовные существа.
В классово-антагонистическом обществе духовные
факторы общественного развития нередко принимают извращенную,
уродливую форму. «Низкая алчность была движущей силой
цивилизации с ее первого до сегодняшнего дня; богатство, еще раз
богатство и трижды богатство, богатство не общества, а вот этого
отдельного жалкого индивида, была ее единственной
определяющей страстью», - отмечает Энгельс24. Конечно, не все индивиды
были охвачены жадным стремлением к обогащению.
Большинство членов общества, трудящиеся, стремились к достатку,
нормальному удовлетворению обычных потребностей, обеспечению
семьи и т.д. И тем не менее приведенная формулировка в
основном правильно выражает господствующую в эпоху цивилизации
жажду богатства. А главное, что еще более важно, - эта
формулировка вносит дополнительную черту в материалистическое
понимание истории. Здесь, правда, может законно встать вопрос:
в какой мере материалистическое понимание истории, учитывая
данное положение, остается действительно материалистическим?
Ведь под этим положением Энгельса подпишутся, пожалуй,
также идеалисты. Однако суть дела, по моему убеждению, состоит
в том, что в обществе (и это отличает его от природных
процессов) противоположность между духовным и материальным отно-
23 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 306.
24 Там же.
585
сительна. Если, например, техника представляет собой
овеществленное знание, следовательно, она есть не только материальное,
но и духовное, т.е. единство материального и идеального.
Выше уже подчеркивалось, что общественное бытие как
реальный процесс социальной жизни (именно так определяют
общественное бытие основоположники марксизма) также
представляет собой единство материального и идеального. То же, конечно,
относится к производительным силам и производственным
отношениям. Поэтому совершенно ошибочно утверждение Ленина о
том, что общественное бытие существует вне и
безотносительно к общественному сознанию: «Материализм вообще признает
объективно реальное бытие (материю), независимое от сознания,
от ощущения, от опыта и т.д. человечества. Материализм
исторический признает общественное бытие независимым от
общественного сознания человечества»25. Однако общественное бытие
в отличие от природы есть отношение людей друг к другу, их
взаимодействие. Как же можно исключить из этого взаимодействия
живых существ, сознание которых носит общественный
характер, так как человек есть социальное существо!
Критики материалистического понимания истории обычно
указывают, что оно не учитывает (или учитывает недостаточно)
духовные движущие силы общественного развития. Поэтому я,
излагая материалистическое понимание истории, стараюсь
показать, что оно, безусловно, учитывает духовные факторы. Тем не
менее я согласен с тем, что исторический материализм уделяет
недостаточное внимание нематериальным факторам
общественного развития. С. Московичи, известный представитель
социальной психологии, справедливо утверждает: «Стремиться
освободить экономику от власти установлений и верований - значит
очистить ее от идей и ценностей, которыми она изобилует, свести
ее к тупому механизму. Однако очевидно, что наши философские
или религиозные представления диктуют наши интересы,
определяют то, что нам полезно или вредно, что делает нас
счастливыми или несчастными. Одним словом, экономика
пересекается и определяется мощными интеллектуальными и моральными
течениями»26.
Научно-техническая революция, продолжающаяся уже
свыше полувека, радикально изменяет как экономическую основу
общества, так и всю надстройку. Эти изменения вызваны
революционным преобразованием материального производства.
Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 18. С. 346.
Московичи С. Машина, творящая богов. М., 1998. С. 46.
586
На смену промышленному капитализму, индустриальному
обществу пришел постиндустриальный капиталистический строй.
Его основная характеристика заключается в том, что численность
трудящихся, занятых в промышленности и сельском хозяйстве,
составляет примерно одну пятую всего трудящегося населения.
Следовательно, 80% трудящихся заняты в сфере обслуживания
в самом широком смысле этого слова, а не в сфере
материального производства, продукция которого отнюдь не сокращается, а,
напротив, возрастает. Сферой обслуживания является торговля,
транспорт, медицина, туризм, культура во всех ее формах. Такое
радикальное изменение распределения рабочей силы,
превращение экономики в преимущественно сервисную стало возможным
благодаря новой могущественной движущей силе общественного
развития - информации*.
Понятие информации - одна из важнейших категорий как
естествознания (в первую очередь генетики), так и наук об
обществе. Социологи, нередко именующие современное
постиндустриальное общество информационным, нисколько не
преувеличивают значения информации. Нельзя не согласиться
с В.Л. Иноземцевым, утверждающим, что информации
принадлежит лидирующая роль в современную эпоху: «Именно
информация и знания становятся стратегическим товаром, на который
сегодня предъявляется наибольший спрос, мирящийся с
наименьшей эластичностью цен. Широко распространив
информационные технологии по всему миру и сделав их неотъемлемой чертой
современного производства, постиндустриальные страны могут
сегодня диктовать цены на этот вид продукции, что лишь ускоряет
B.C. Степин в ряде своих исследований непосредственно связывает
социальный прогресс с техногенной цивилизацией, разграничивая в связи с этим
традиционное и модернизирующееся общество. Традиционное общество
характеризуется застойным, остающимся почти неизменным состоянием
производства и всей общественной жизни на протяжении ряда столетий, в то время
как модернизирующееся общество постоянно находится в процессе развития,
обновления, преобразования, обусловленном научным и техническим
прогрессом. Хотя преддверием техногенной цивилизации можно считать развитие
культуры античного общества, ее действительное, совершающееся, так сказать, на
собственной основе развитие начинается в европейских странах с XVII века,
т.е. фактически с развитием капиталистического способа производства. В его
исторических границах техногенная цивилизация «проходит три стадии:
сначала - прединдустриальную, потом - индустриальную и, наконец, -
постиндустриальную. Важнейшей основой ее жизнедеятельности становится прежде всего
развитие техники, технологии, причем не только путем стихийно протекающих
инноваций в сфере самого производства, но и за счет генерации все новых
научных знаний и их внедрения в технико-технологические процессы» (Степин B.C.
Теоретическое знание. М., 2000, с. 21).
587
отрыв центров постиндустриальной цивилизации, где
сосредоточена большая часть этого производства, от остального мира»27.
Большинство современных социологов считают, что в
настоящее время информация, а не экономика образует реальную
основу изменившегося общества и его главную движущую силу.
Всемирная история, с этой точки зрения, делится на три
основные эпохи: архаическое общество, экономическое общество и
постэкономическое общество, которое, так сказать, передвигает
экономику на второе по значению место. В.Л. Иноземцев в
другой своей работе пишет, что на пороге XXI в. человечество
непосредственно приблизилось к постэкономической эпохе. «Говоря о
постэкономическом обществе, мы не имеем в виду
постэкономическую общественную формацию, весьма неявные упоминания о
которой встречаются в трудах К. Маркса. Концепция выделения
в истории общества доэкономической, экономической и
постэкономической эпох, на наш взгляд, оптимально сочетает все черты
адекватной исторической теории, которые лишь отчасти
присутствуют в доктрине постиндустриализма и постмодернизма»28.
Понятие «постэкономическая цивилизация» предполагает
определенный пересмотр понятийного аппарата исторического
материализма. Информация не есть нечто материальное или нечто
духовное, она, так сказать, нейтрально относится и к материальному,
и к духовному. Информацию нельзя трактовать ни как
производительные силы, ни как производственные отношения; она
вооружает и те и другие, делая их несравненно более производительными
и более эффективными. Приводившееся выше положение Маркса
о знании как производительной силе предвосхищает современное
понятие информации, которое, однако, не сводится только к
знанию. Включение понятия информации в современное научное
понимание истории преобразует его понятийный инструментарий и
повышает его статус как научной теории общественного развития,
которая, судя по ее содержанию, излагавшемуся выше, находится
по ту сторону как материализма, так и идеализма.
2. «Научный коммунизм» как предмет критического анализа.
К вопросу об утопическом истолковании рабочего движения
К. Маркс и Ф. Энгельс в своем первом совместном
произведении - «Святое семейство» - называют развиваемое ими
социальное учение реальным гуманизмом, противопоставляя его
27 Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация: системные кризисы
индустриальной эпохи // Вопросы философии. 1999. № 5. С. 17.
28 Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества. М, 1998. С. 161.
588
абстрактному, умозрительному гуманизму младогегельянцев,
которые в своей радикальной критике status quo не отваживались
поставить вопрос об обобществлении средств производства и
тем самым упразднении частной собственности и наемного
труда, который основоположники марксизма характеризуют как
наемное рабство. Эти, по существу, коммунистические воззрения
основоположники марксизма лишь во втором своем совместном
труде называют коммунизмом. В этом произведении -
«Немецкая идеология» - Маркс и Энгельс, излагая основные положения
материалистического понимания истории как теоретической
основы коммунизма, конкретизируют свое представление о
реальных предпосылках коммунистического переустройства общества.
Речь идет об объективной необходимости уничтожения «того
порядка, при котором отношения обособляются и противостоят
индивидам, при котором индивидуальность подчинена
случайности, при котором личные отношения индивидов подчинены
общим классовым отношениям...». Что же необходимо для
уничтожения этих порабощающих человека общественных
отношений? Каковы объективные условия, благодаря которым эта
великая задача может быть решена? «Мы показали также, - пишут
Маркс и Энгельс, - что уничтожение разделения труда
обусловливается развитием общения (термином общение обозначаются
производственные отношения, как это видно из всего содержания
«Немецкой идеологии». - Т.О.) и производительных сил до такой
универсальности, когда частная собственность и разделение
труда становятся для них оковами. Мы показали далее, что частная
собственность может быть уничтожена только при условии
всестороннего развития индивидов (курсив мой. - Т.О.), потому что
наличные формы общения и производительные силы всесторон-
ни, и только всесторонне развивающиеся индивиды могут их
присвоить, т.е. превратить в свою свободную жизнедеятельность»29.
Вывод, который следует из приведенного положения,
абсолютно ясен: всестороннее развитие индивидов (если таковое
вообще возможно или необходимо) - дело достаточно
отдаленного будущего. Уничтожение разделения труда (если оно
вообще возможно и необходимо) - столь же отдаленная, выходящая
за границы предвидимого будущего историческая перспектива*.
29 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 440-^41.
* В «Немецкой идеологии» разделение труда и частная собственность
характеризуются как тождественные понятия, что, конечно, неверно. В
последующем Маркс и Энгельс уточняют свое положение о необходимости
упразднения разделения труда, подчеркивая, что речь идет о существующих формах
разделения труда, в частности, о противоположности между умственным и
589
Следовательно, упразднение частной собственности на средства
производства - дело столь отдаленного будущего, которое
принципиально не поддается научному определению. Однако
следующая за приведенной цитатой фраза буквально ошарашивает: «Мы
показали, что в настоящее время (курсив мой. - Т.О.) индивиды
должны уничтожить частную собственность, потому что
производительные силы и формы общения развились настолько, что
стали при господстве частной собственности разрушительными
силами и потому что противоположность между классами
достигла своих крайних пределов»30.
Как согласовать эти высказывания, явно не согласующиеся
друг с другом, хотя и образующие единое фразеологическое
целое? Их невозможно согласовать. Приведенное положение
представляет собой отношение взаимоисключающих, но отнюдь не
обусловливающих друг друга противоположностей. Это
положение амбивалентно. Если в первой части приводимой цитаты
Маркс и Энгельс трезво, реалистически говорят о необходимых
условиях посткапиталистического общественного строя (как
он будет назван или как называют его Маркс и Энгельс, вопрос
совершенно несущественный; существенно лишь то, что
капитализм не вечен, он неизбежно уступит место другому
общественному строю), то вторая часть цитаты - утопическое требование
незамедлительного упразднения частной собственности и явно
ошибочное утверждение, что вследствие существования частной
собственности производительные силы стали разрушительными
силами. Исторический опыт уже при жизни основоположников
марксизма полностью опроверг их представление о роли частной
собственности на средства производства в деле развития
производительных сил. Современная эпоха также опровергает это
основоположение марксизма.
физическим трудом, городом и деревней. В «Капитале» Маркс исследует
разделение труда как особую производительную силу, т.е. вскрывает громадное
значение разделения труда для развития производства. Разделение труда есть
специализация, т.е. плодотворное ограничение круга деятельности, без чего
вообще невозможна успешная работа в любой области.
Положение о всестороннем развитии индивида, несомненно, связано с
убеждением в необходимости упразднения разделения труда и также носит во
многом утопический характер. Всестороннее развитие индивида, по существу,
невозможно, да и не нужно. Если даже вообразить всесторонне развитого
индивида, то неизбежно возникает мысль об отсутствии у него сосредоточенности
на том или ином деле как на своем призвании. Необходимо не всестороннее,
а разностороннее развитие индивидов, способствующее как их продуктивной
деятельности, так и сохранению здоровья и работоспособности.
30 Там же.
590
В приведенной цитате из «Немецкой идеологии» также
подчеркивается, что противоположность между классами «достигла
крайних пределов». В этом же произведении указывается на
многочисленные выступления эксплуатируемых тружеников против
капиталистов-предпринимателей. Наиболее крупные из этих
восстаний отмечаются в каждом учебном пособии по истории. Это
восстание лионских ткачей в 1831 г. и восстание ткачей в Силе-
зии в 1844 г. Эти восстания характеризуются основоположниками
марксизма как закономерное освободительное движение
пролетариата*.
Энгельс в первом наброске «Коммунистического манифеста»,
названного им «Принципы коммунизма», справедливо
указывает, что пролетариат как класс, существенно отличный от класса
ремесленников, возникает в результате промышленной
революции. В Англии промышленная революция развернулась во второй
половине XVIII в., во Франции, Германии и других европейских
странах лишь в середине XIX в., главным образом после
буржуазно-демократических революций 1848 г. В «Немецкой идеологии»,
т.е. на год раньше «Принципов коммунизма», Маркс и Энгельс
утверждают: «...крупная промышленность создала класс, которому
во всех нациях присущи одни и те же интересы и у которого уже
уничтожена национальная обособленность, - класс, который
действительно оторван от всего старого мира и вместе с тем
противостоит ему»31. Однако и в этом по существу правильном положении
налицо далеко не соответствующее действительности утвержде-
* В статье «Критические заметки к статье "Пруссака" Маркс, полемизируя
с А. Руге, характеризует упомянутые выше восстания. Лионское восстание он
называет восстанием пролетариата. «Лионские рабочие, - пишет он, - полагали,
что преследуют только политические цели, что они только солдаты республики,
тогда как на самом деле они были солдатами социализма» (Маркс К., Энгельс Ф.
Соч., т. 1, с. 446). Восстание силезских ткачей характеризуется Марксом как
по существу сознательное антикапиталистическое выступление пролетариата.
«Силезское восстание начинает как раз тем, чем французские и английские
рабочие восстания кончают, - тем именно, что осознается сущность
пролетариата». Поэтому «ни одно из французских и английских рабочих восстаний не
имело столь теоретического и сознательного характера, как восстание силезских
ткачей» (там же, с. 443). Эти высказывания Маркса, несомненно, идеализируют
рабочие восстания первой половины XIX в. в Западной Европе. Участники этих
восстаний были, как правило, ремесленниками, которых эксплуатировали
предприниматели, скупавшие их продукцию и снабжавшие их материалами по
невыгодным для ремесленников ценам. Эти ремесленники не хотели быть
пролетариями, стремились отстоять свою ставшую мнимой самостоятельность мелкого
производителя. Пролетаризация воспринималась тогдашними трудящимися как
бедствие, которого они тщетно стремились избежать.
31 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 61.
591
ние об утрате («уничтожении») в пролетариате «национальной
обособленности» и, следовательно, и национального сознания, и
национального характера. Действительная тенденция
исторического развития гиперболизируется основоположниками
марксизма, которые превращают в известной мере наблюдаемые факты в
предвидение будущего состояния общества и будущего рабочего
класса. Поэтому, например, они утверждают, что пролетариат,
который «вынужден нести на себе все тяготы общества, не пользуясь
его благами... составляет большинство всех членов общества, и от
него исходит сознание необходимости коренной революции,
коммунистическое сознание...»32.
Если учесть, что не все лица, являющиеся наемными
работниками, пролетарии, т.е. если конкретно определить понятие
пролетария как наемного рабочего в системе промышленного
производства, то становится ясным, что в середине XIX в. пролетарии
ни в одной стране не составляли большинства населения. Даже в
Англии, ставшей индустриальной страной в результате
промышленной революции, пролетариат еще не составлял большинства
населения. Количество пролетариев, разумеется, возрастало во
всех капиталистических странах, но наряду с этим сохранялась
немалая доля трудящихся непролетариев, которым в большей или
меньшей мере удалось противостоять процессу пролетаризации.
Одной из характерных черт раннего марксизма является
стремление свести довольно пеструю стратификацию общества к
двум основным противоположностям: буржуазии и пролетариата.
Это упрощение действительной структуры капиталистического
общества, вероятно, было политически оправданным, поскольку
оно могло способствовать развитию классового сознания
пролетариев, осознанию ими насущных интересов и необходимости
упорной борьбы за их удовлетворение.
Представление Маркса и Энгельса о насущных интересах
пролетариата, судя по приведенному выше высказыванию, не
отражает ни действительного положения рабочего класса, ни его
насущных интересов. Коммунистическое сознание, сознание
необходимости коренной революции далеко не являлось
пролетарским сознанием, о чем свидетельствуют исторические факты,
известные Марксу и Энгельсу. Первое массовое организованное
протестное движение пролетариата, развернувшееся в Англии -
чартизм, - ведет борьбу за изменение избирательного права, за
гражданские свободы, короче, за демократию. Социализм,
который проповедуют Т. Оуэн и его приверженцы, не находит отклика
32 Там же. С. 69.
592
среди чартистов несмотря на то, что некоторые из их лидеров
становятся социалистами.
Представление основоположников марксизма о том, что
пролетариат по самой своей природе является социалистическим
(коммунистическим) классом, носит амбивалентный характер: это
убеждение высказывается как констатация действительного
положения вещей, но оно, конечно, не является констатацией фактов.
И все же это убеждение не беспочвенно, оно отражает то, что пока
еще существует в зачаточном состоянии. В революциях 1848 г.
передовые, наиболее сознательные пролетарии выступают уже с
социалистическими требованиями и ведут вооруженную борьбу с
целью установления власти трудящихся. Эта борьба была
обречена на поражение, которое, однако, не подавило социалистические
стремления и надежды среди рабочих-революционеров. Однако
история рабочего движения XIX в. недвусмысленно свидетельствует
о том, что рабочее движение даже в своей организованной,
профсоюзной форме ограничивает свои задачи главным образом
экономическими требованиями: повышение заработной платы, сокращение
рабочего дня, обеспечение техники безопасности труда и т.д.*
Последователи Маркса и Энгельса, немецкие
социал-демократы прежде всего, приходят к принципиально важному
выводу: коммунистические идеи, как писал об этом К. Каутский,
необходимо извне вносить в рабочее движение, которое само по
себе никогда не станет социалистическим (коммунистическим).
В.И. Ленин, опираясь на Каутского, сделал категорический
вывод: только марксистская, коммунистическая партия способна
преодолеть тред-юнионистское (профсоюзное) сознание рабо-
Принципиально важно разграничивать ранние произведения
основоположников марксизма - «Святое семейство», «Немецкая идеология», «Нищета
философии», «Манифест Коммунистической партии», относящиеся ко второй
половине 40-х гг., и их последующие труды, такие как «К критике
политической экономии», «Капитал», «Анти-Дюринг» и др. Выдающийся итальянский
марксист А. Лабриола справедливо подчеркивал: «Теоретические положения в
их совокупности, которые ныне принято называть марксизмом, достигли своей
зрелости лишь в 1860-1870 годах» {Лабриола А. Очерки материалистического
понимания истории. М, 1960, с. 37). Этого принципиального разграничения
не признавал В.И. Ленин, который называл «Нищету философии» и «Комма-
нифест» первыми произведениями зрелого марксизма. Воззрения В.И. Ленина
в значительной степени основывались именно на раннем марксизме. Это, по-
видимому, в известной мере объясняет теоретические заблуждения Ленина, в
частности отрицание им возможности решения поставленных марксизмом
социальных проблем в ходе эволюционного развития капитализма. Ленин
характеризовал марксизм как учение «о неизбежности насильственной революции».
При этом он подчеркивал: «необходимость систематически воспитывать массы
в таком и именно таком взгляде на насильственную революцию лежит в
основе всего учения Маркса и Энгельса» {Ленин В.И. Полное собр. соч., т. 33, с. 22).
593
чего класса, которое, согласно Ленину, является буржуазным.
Таким образом, Каутский и Ленин фактически отвергли
положение основоположников марксизма о социалистической природе
пролетариата. Положение Маркса об исторической
(социалистической) миссии пролетариата было практически заменено
положением об исторической миссии партии, провозгласившей своей
основной задачей политическое воспитание пролетариата и
завоевание государственной власти с его помощью. Это
существеннейшее изменение программной установки партии, выступавшей
под флагом марксизма, наглядно вскрывало амбивалентность
марксистской теории. Убеждение основоположников марксизма
в социалистической (коммунистической) природе пролетариата
было, конечно, заблуждением, иллюзией. Но именно эта иллюзия
означала на деле самую решительную, самую последовательную
борьбу за демократию в противоположность отмежевавшимся от
коммунизма буржуазным демократам и всему либеральному
движению в целом.
Одной из основных особенностей марксизма не только на
ранней стадии его развития, т.е. в пятидесятые годы, но и в
последующее время является глубокая убежденность его
основоположников в том, что коммунистическая революция и
коммунистическое переустройство общества - дело ближайшего
будущего, неотложное дело, необходимость, без осуществления
которой существование общества становится невозможным.
Наиболее определенно это убеждение выражено в «Манифесте
Коммунистической партии». Но и в «Немецкой идеологии» Маркс и
Энгельс утверждают, что существование в обществе
коммунистических идей - свидетельство того, что коммунистическое
преобразование общественных отношений имеет реальную основу.
«Существование революционных мыслей в определенную эпоху
уже предполагает существование революционного класса...»33.
Убеждение в том, что революционные идеи предшествуют
революционному перевороту, вероятно, возникло у Маркса и
Энгельса благодаря изучению предыстории и истории Великой
французской революции, которая была идейно, идеологически
подготовлена французским Просвещением. С другой стороны,
это убеждение - так во всяком случае представляется на первый
взгляд - логически вытекает из материалистического понимания
истории, основы которого изложены в «Немецкой идеологии».
Однако отношение между идеями (общественным сознанием
вообще) и общественным бытием, т.е. реальной жизнью общества
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 46-47.
594
никогда не носит непосредственного характера.
Коммунистические идеи проповедовал Т. Мюнцер, хотя ни один класс
тогдашнего немецкого общества не был сколько-нибудь заинтересован
в упразднении частной собственности на средства производства.
Авторы «Немецкой идеологии» вполне учитывали такого рода
обстоятельства. Поэтому они утверждают: «...для практического
развития не имеет никакого значения то обстоятельство, что уже
сотни раз высказывалась идея этого переворота»34.
Таким образом, налицо два исключающих друг друга
утверждения. Амбивалентность? Конечно, амбивалентность. Но оба
утверждения верны, если иметь в виду различные исторические
условия. Учитывая это обстоятельство, можно сказать, что эти
взаимоисключающие утверждения дополняют друг друга.
Истина оказывается в этих условиях единством противоположностей:
она не однозначна, не однолика; она отражает многосторонность
общественно-исторического процесса.
Понятие коммунизма, обосновываемое Марксом и Энгельсом,
также заключает в себе противоположные,
взаимоисключающие определения, т.е. амбивалентно. В 1850 г.
основоположники марксизма вместе с двумя бланкистами и одним радикальным
чартистом подписывают заявление «Всемирного общества
коммунистов-революционеров» (едва ли такое общество реально
существовало). Это заявление возглашает, что коммунизм «должен
явиться последней формой устройства человеческого рода»35. Нет
оснований полагать, что Маркс и Энгельс, ставя свои подписи, не
разделяли этого убеждения, руководствуясь какими-то
тактическими соображениями. Во-первых, такого рода соглашательская
тактика была абсолютно неприемлема для них. И, во-вторых,
аналогичное положение наличествует в «Экономическо-философс-
ких рукописях 1844 г.» Маркса*.
34 Там же. С. 38.
35 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 7. С. 551.
* «Коммунизм, - писал Маркс, - ...есть действительное разрешение
противоречия между человеком и природой, человеком и человеком, подлинное
разрешение спора между существованием и сущностью, между опредмечиванием
и самоутверждением, между свободой и необходимостью, между индивидом и
родом. Он - решение загадки истории, и он знает, что он есть это решение»
{Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 116). Это понимание коммунизма как
окончательного разрешения всех сущностных противоречий
всемирно-исторического процесса ничем, конечно, не отличается от представления, что коммунизм
«должен явиться последней формой устройства человеческого рода». Следует,
однако, учитывать, что приведенное высказывание Маркса относится к периоду
становления его учения, т.е. не является еще марксистским, соответствующим
материалистическому пониманию истории положением.
595
Если согласиться с приведенным положением, то из него
последует вывод: всемирная история имеет не только начало, но и
конец. Такова была философско-историческая концепция Гегеля,
согласно которой «абсолютный дух» (человечество) осуществит
благодаря своему развитию «конечную цель». Значит ли это, что
дальнейшее развитие общества прекратится? Маркс и Энгельс
отвергали такое представление. Они полагали, что коль скоро
будет осуществлено коммунистическое переустройство общества,
последующее развитие будет развитием коммунистического
общества. Энгельс в брошюре «Людвиг Фейербах и конец
классической немецкой философии» сформулировал это убеждение в
наиболее четкой форме: «История так же, как и познание, не
может получить окончательного завершения в каком-то
совершенном, идеальном состоянии человечества; совершенное общество,
совершенное "государство", - это вещи, которые могут
существовать только в фантазии. Напротив, все общественные
порядки, сменяющие друг друга в ходе истории, представляют собой
лишь преходящие ступени бесконечного развития человеческого
общества от низшей ступени к высшей»36. Но если это так, то и
коммунистический строй не должен быть «последней формой
устройства человеческого рода». Однако такого вывода, даже в
неявной форме, мы не находим в трудах основоположников
марксизма. Вопрос - что будет после коммунизма? - принципиально
несовместим с коммунистическим учением Маркса и Энгельса.
Итак, коммунизм понимается основоположниками
марксизма как будущее, посткапиталистическое общество. При этом, как
уже указывалось, имеется в виду не отдаленное будущее,
которое вообще не поддается предвидению, а ближайшее будущее,
историческое завтра человечества. Но нет ли в трудах
Маркса и Энгельса иной, существенно отличной от данной,
концепции коммунизма? Эту другую концепцию мы обнаруживаем в
той же «Немецкой идеологии». Цитирую: «Коммунизм для нас
не состояние, которое должно быть установлено (курсив мой. -
Т.О.), не идеал, с которым должна сообразоваться
действительность. Мы называем коммунизмом действительное движение,
которое уничтожает теперешнее состояние»37. Можно подумать,
что авторы «Немецкой идеологии» имеют в виду массовое
коммунистическое движение, которое по-революционному штурмует
(хотя едва ли уже уничтожает) капиталистическую крепость. Но
в 1846 г., да и при жизни основоположников марксизма вообще
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 275.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 34.
596
никакого массового революционного, коммунистического
движения не существовало.
Конечно, возможно и другое толкование цитируемого
положения в том смысле, что речь идет о том, чем должен быть на деле
коммунизм. Но в таком случае мы имеем дело с не вполне
корректной формулировкой. Однако нельзя не отметить, что такое же
определение коммунизма имеет место не только в ранней работе
Маркса и Энгельса. В 1860 г. Маркс в статье «Господин Фогт»
подчеркивает, что «дело идет не о проведении в жизнь
какой-нибудь утопической системы, а о сознательном участии в
происходящем на наших глазах историческом процессе революционного
преобразования общества»38. Какое именно революционное
преобразование общественных отношений имеется в виду? В какой
стране? На эти вопросы читатель не найдет ответа в цитируемой
статье.
Итак, налицо два различных, никак не согласующихся друг
с другом определения коммунизма. И тем не менее эти
противоположные определения дополняют, обогащают друг друга.
Амбивалентность марксистского определения коммунизма может
поставить, конечно, в тупик неискушенного читателя. Но
диалектически мыслящий читатель увидит в этом противоречии
необходимую связь между будущим и настоящим, между реально
происходящей освободительной борьбой пролетариата и ее
перспективами, уходящими в будущее.
«Манифест Коммунистической партии» - первое
программное произведение основоположников марксизма, которое
хоть и не сразу, но через 15-20 лет после своего
опубликования получило известность в рабочем и особенно
социал-демократическом движении, начало которому положило
основание социал-демократической партии Германии. Это поистине
гениальное произведение, несмотря на содержащиеся в нем
ошибочные представления о смертельном кризисе
капиталистической системы и безотлагательной необходимости
насильственной революции для коммунистического переустройства
буржуазного общества. Выдающееся теоретическое значение
«Комманифеста» состоит прежде всего в том, что он
вскрывает закономерное превращение истории человечества,
начинающейся с появления homo sapiens, во всемирную историю,
основной, сущностной чертой которой является возникновение
мирового рынка, интернационализация производства, развитие
экономических и культурных связей между народами, сущест-
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 14. С. 451.
597
вовавшими в эпоху феодализма обособленно или в состоянии
войны с соседями*.
В конце прошлого века в научном лексиконе появилось
понятие глобализации, которое быстро вошло в повседневный язык.
Но далеко не сразу исследователи всемирно-исторического
процесса экономической и культурной глобализации постигли ту
совершенно бесспорную истину, что этот процесс, разумеется,
на ранних этапах глубоко проанализировали Маркс и Энгельс,
охарактеризовав его как интернационализацию производства,
неразрывно связанную с капиталистическим преобразованием
феодального общества с его по преимуществу застойным
производством и потреблением. Уже в «Немецкой идеологии» ее
авторы указывают на то, что буржуазия «впервые создала
всемирную историю, поскольку поставила удовлетворение
потребностей каждой цивилизованной страны и каждого индивида в ней
в зависимость от всего мира и поскольку уничтожила прежнюю,
естественно сложившуюся обособленность отдельных стран»39.
В «Комманифесте» это положение получает систематическое
развитие. Великие географические открытия (в частности, открытие
Америки и морского пути вокруг Африки) сделали возможными
экономические и культурные связи между всеми частями нашей
планеты, в то время как в эпоху средневековья представления о
населении Земли почти не выходили за границы Европы.
Промышленная революция, хотя она в XVIII в. происходила лишь в
Англии, сломала феодальный строй общественной жизни. Она
непрерывно расширяла сферу материального производства и
потребления, что непосредственно способствовало
формированию мирового рынка, который был первой исторической формой
культурного обмена между народами. «Всемирный рынок, -
подчеркивается в "Комманифесте", - вызвал колоссальное развитие
* Развивая цитируемое положение, Маркс и Энгельс указывают на
возникновение новых отраслей производства, которые перерабатывают «уже не
местное сырье, а сырье, привозимое из самых отдаленных областей земного шара, и
вырабатываю[т] фабричные продукты, потребляемые не только внутри данной
страны, но и во всех частях света. Вместо старых потребностей,
удовлетворявшихся отечественными продуктами, возникают новые, для удовлетворения
которых требуются продукты самых отдаленных стран и самых различных
климатов. На смену старой местной и национальной замкнутости и существованию
за счет продуктов собственного производства приходит всесторонняя связь и
всесторонняя зависимость наций друг от друга» (Соч. Т. 4, с. 428). Хотя это
положение сформулировано свыше полутора веков тому назад, но оно звучит
по-современному, так как именно в наше время выявленные Марксом и
Энгельсом тенденции социально-экономического развития получили действительно
всестороннее развитие и стали господствующими закономерностями.
39 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 60.
598
торговли, мореплавания и средств сухопутного сообщения. Это в
свою очередь оказало воздействие на расширение
промышленности, и в той же мере, в какой росли промышленность, торговля,
мореплавание, железные дороги, развивалась буржуазия,
которая... повсюду, где она достигла господства, разрушила все
феодальные, патриархальные, идиллические отношения»40.
Буржуазия, отмечают основоположники марксизма, сыграла
в истории чрезвычайно революционную роль. При этом, однако,
имеется в виду не буржуазия середины XIX в., а буржуазия
предшествующей эпохи. «Комманифест» подчеркивает, что буржуазия
менее, чем за сто прошедших лет своего классового господства
создала более многочисленные и более мощные
производительные силы, чем все предшествующие поколения, вместе взятые.
Маркс и Энгельс указывают на многообразные формы овладения
стихийными силами природы, на достижения машиностроения,
применение химии в промышленности и сельском хозяйстве, на
развитие железнодорожного движения и пароходства, освоение
для земледелия «целых частей света». Однако все эти
достижения являются, по их убеждению, достижениями прошедшего
времени, так как в настоящее время буржуазные производственные
отношения тормозят развитие производительных сил вместо
того, чтобы всемерно способствовать их прогрессу.
Революционная в прошлом буржуазия стала консервативным
классом. «Вот уже несколько десятилетий история
промышленности и торговли представляет собой лишь историю возмущения
современных производительных сил против современных
производственных отношений, против тех отношений
собственности, которые являются условием существования буржуазии и ее
господства. Достаточно указать на торговые кризисы, которые,
возвращаясь периодически, все более и более грозно ставят под
вопрос существование всего буржуазного общества»41. Речь, как
нетрудно понять, идет о кризисах перепроизводства, когда масса
произведенных товаров значительно превышает
платежеспособный спрос. Следствием этого оказывается частичная или полная
остановка производства, разорение многих, в особенности
мелких и средних предпринимателей, массовая безработица и
сопутствующий ей голод, несмотря на то, что продовольственных
продуктов произведено больше, чем в какое-либо другое время.
Часть этих продуктов просто уничтожается самими
капиталистами, так как сбыт их не предвидится, а хранение стоит недешево.
40 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4. С. 425-426.
41 Там же. С. 429.
599
В «Капитале» Маркс систематически разработал теорию
кризисов перепроизводства, доказав, что эти кризисы - неизбежные
последствия капиталистического, анархически развивающегося
производства. Производство товаров возрастает лихорадочными
темпами, поскольку платежеспособный спрос превышает
предложение. Но вследствие этого лихорадочного роста производства
товаров их предложение начинает все более превышать
платежеспособный спрос. Так возникает перепроизводство, масса товаров
оказывается нераспроданной. Его неизбежное следствие -
экономический кризис со всеми его последствиями, который нередко
длится год, а то и больше. Затем начинается подъем
производства, спрос превышает предложение, благодаря чему
производство товаров вновь возрастает лихорадочными темпами.
Авторы «Комманифеста» еще не имели научного
представления об экономических кризисах, об их преходящем характере.
Они, как и швейцарский экономист Ж. Сисмонди,
мелкобуржуазный критик капитализма, трактовали перепроизводство товаров,
экономический кризис как непосредственное выражение кризиса,
экономической несостоятельности капиталистической системы и
вполне очевидное противоречие между производительными
силами, развившимися в лоне капитализма, и ограниченными,
частнособственническими производственными отношениями. Но если
Сисмонди видел единственно возможный выход из этого мощного
кризиса капиталистической системы в возвращении к
докапиталистическому производству самостоятельных мелких
производителей, то Маркс и Энгельс, отвергая это ретроградно-утопическое
видение посткапиталистического общества, указывали на
исторически, экономически и политически оправданную, по их
убеждению, необходимость обобществления средств производства и
превращения производителей, трудящихся (пролетариев прежде
всего) в коллективного собственника всех этих
производственных мощностей. Таким образом, «Манифест Коммунистической
партии» провозглашает и, как представляется на первый взгляд,
теоретически обосновывает объективную, как полагали его
авторы, необходимость коммунистического переустройства
буржуазного общества путем насильственной революции, низвергающей
господствующий класс капиталистов и передающей кормила
государственной власти в руки пролетариата*.
* Следует подчеркнуть, что «Манифест» характеризует насильственную
революцию, упраздняющую капиталистические производственные отношения
и буржуазную государственность, как «завоевание демократии» (Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч., т. 4, с. 446). Это в высшей степени важная сторона дела. Она
указывает на то, что низвержение господства буржуазии возможно только
600
Современному читателю, несомненно, ясно, что в эпоху
Маркса и Энгельса никакой объективной необходимости перехода к
посткапиталистическому обществу не было, что идея
пролетарской (коммунистической) революции - всего лишь утопическая
идея. Но авторы «Комманифеста» были убеждены в том, что
назревающая в ряде европейских стран
буржуазно-демократическая революция будет лишь эпизодом на пути к социальной
революции пролетариата. Они утверждают, что даже в Германии,
несмотря на то, что немецкие государства находились на стадии
мануфактурного капитализма, коммунистическая революция
будет непосредственным продолжением своей
противоположности - буржуазной революции. «Немецкая буржуазная революция,
следовательно, может быть лишь непосредственным прологом
пролетарской революции»42. Это положение логически следует из
основного в характеристике капитализма тезиса: налицо
противоречие между производительными силами и
производственными (капиталистическими) отношениями. Экономические
кризисы, согласно «Комманифесту», являются неизбежным следствием
этого основного противоречия. Именно поэтому кризисы
перепутем насильственной революции, так как мирным путем упразднить
антидемократическое политическое господство невозможно. Это обстоятельство
важно подчеркнуть, так как оно говорит о том, что Маркс и Энгельс считали
насильственную революцию вынужденной мерой, обусловленной
определенными особенностями буржуазной государственности, особенностями, не
обязательными при всех условиях. Такая постановка вопроса подтверждается всем
последующим развитием марксизма, в ходе которого Маркс и Энгельс пришли к
выводу о возможности и, более того, необходимости мирных социалистических
преобразований в условиях демократически развитого буржуазного общества.
В 1872 г., выступая на митинге в Амстердаме, Маркс заявил: «Мы знаем, что
надо считаться с учреждениями, нравами и традициями различных стран; и мы
не отрицаем, что существуют такие страны, как Америка, Англия, и если бы я
лучше знал ваши учреждения, то, может быть, прибавил к ним и Голландию, в
которых рабочие могут добиться своей цели мирными средствами» (Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч., т. 18, с. 154).
В.И. Ленин считал это высказывание Маркса единичным и к тому же
утратившим какое бы то ни было значение в эпоху империализма. Но Маркс, а
также Энгельс неоднократно высказывались о возможности (и необходимости)
мирных демократически-социалистических преобразований как единственно
реальном пути осуществления требований организованного рабочего движения.
Достижения политики социал-демократических партий Европы в XX в. вполне
подтверждают правильность этих воззрений Маркса и Энгельса и по-новому
ставят вопрос о социализме, сводя его к социальной программе, которая
осуществляется (частично уже осуществлена) в процессе разностороннего,
основательного развития демократии в условиях капитализма, что, конечно, возможно
лишь благодаря мощи освободительного движения рабочего класса и
непролетарских трудящихся масс.
42 Там же. С. 459.
601
производства характеризуются как кризис всей
капиталистической системы, ее неминуемый крах в ближайшее время*.
Логика этих рассуждений ясна. И дело не только в том, что
Маркс и Энгельс еще не располагали необходимыми
экономическими познаниями для того, чтобы правильно понять природу
кризисов перепроизводства и правильно ответить на вопрос:
действительно ли существует конфликт между производительными
силами, развившимися в лоне капитализма, и ограниченными,
капиталистическими общественными отношениями производства.
Гораздо существеннее другое, а именно то, что наряду с
приведенными выше рассуждениями о смертельном кризисе
капиталистической системы производства «Коммунистический манифест»
содержит и совершенно противоположные этим рассуждениям
констатации. Цитирую: «Буржуазия не может существовать, не
вызывая постоянно переворотов в орудиях производства, не
революционизируя, следовательно, производственных отношений»43.
Вдумаемся в это положение. После всего того, что уже сказано в
«Манифесте», оно выглядит абсолютно неуместным. Но это ведь
не логический вывод, а констатация реально происходящего
процесса. Буржуазия, констатируют Маркс и Энгельс, постоянно
революционизирует производительные силы. Больше того: она
постоянно революционизирует и производственные отношения, т.е.
изменяет их соответственно уровню развития производительных
сил. О каком же в таком случае противоречии между
производительными силами и производственными отношениями может
* Маркс в своих экономических исследованиях 60-х гг. по-новому осветил
вопрос о кризисах при капитализме. Он доказал, что кризисы
перепроизводства представляют собой элемент нормального экономического цикла
капиталистического воспроизводства, временный цикл, который может быть очень
значительным, но затем следует новый подъем производства. Следовательно,
кризисы перепроизводства, несмотря на их в ряде отношений сокрушительный
характер, не являются кризисом капиталистической системы и, как
свидетельствует исторический опыт, не ставят вопрос о ее существовании.
Несмотря на обоснованное научное понимание экономических кризисов,
данное в «Капитале», Энгельс в «Анти-Дюринге» утверждал: «...мы установили
неизбежность кризисов, порождаемую капиталистическим способом
производства, и их значение как кризисов самого этого способа производства» (Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 299). В этой же работе он неоднократно повторял
утверждение о том, что производительные силы буржуазного общества находятся в
конфликте с буржуазными производственными отношениями:
«производительные силы восстают против способа производства, который они переросли»
(там же, с. 287). Это противоречащее экономическому учению зрелого
марксизма утверждение, по-видимому, коренилось во все еще сохранившейся
убежденности основоположников марксизма в том, что социалистическое
переустройство общества является делом самого ближайшего будущего.
43 Там же. Т. 4. С. 427.
602
идти речь? Ведь нет, согласно Марксу и Энгельсу, такого
противоречия. Конечно, можно сделать предположение, что Маркс и
Энгельс ошибаются в своем рассуждении о том, что буржуазия
постоянно революционизирует производство. Этому
рассуждению вообще не место в «Коммунистическом Манифесте», его
надо попросту убрать как выпадающее из контекста. Но в том-то
и гениальность авторов «Манифеста», что они, не боясь
противоречия, говорят правду о действительном положении вещей при
капитализме, хотя эта правда опровергает смертельный приговор,
который они уже вынесли капитализму.
Однако если нет фатального для капитализма противоречия
между производительными силами и производственными
отношениями, то почему все же Маркс и Энгельс столь решительно,
настойчиво говорят о безотлагательной необходимости
пролетарской революции? Ответом на этот вопрос служит
утверждение, констатирующее факт: положение пролетариата совершенно
невыносимо вследствие нещадной эксплуатации и нищенской
заработной платы. При феодализме, указывают Маркс и Энгельс,
господствующий класс, эксплуатируя крестьян, все же сохранял
условия, при которых крестьянин «мог бы влачить, по крайней
мере, свое рабское существование». Но этого нет в
капиталистическом обществе, в котором формально свободный рабочий
«...с прогрессом промышленности не поднимается, а все более
опускается ниже условий существования своего собственного
класса. Рабочий становится паупером, и пауперизм растет еще
быстрее, чем население и богатство. Это ясно показывает, что
буржуазия неспособна оставаться долее господствующим
классом... Она неспособна господствовать, потому что не способна
обеспечить своему рабу даже рабского уровня существования...
Общество не может более жить под ее властью, т.е. ее жизнь
несовместима более с обществом»44.
Читателю незнакомому с действительным состоянием
буржуазного общества в первой половине XIX в. может показаться,
что Маркс и Энгельс сгущают краски, что положение
пролетариев накануне буржуазных революций 1848 г. было не столь
ужасающим. Но факты упрямая вещь. Так, например, рабочие Лиона
за свой 18-часовой рабочий день на фабрике, изготавливавшей
шелковые ткани, получали всего 18 су. В Германии рабочий день
также длился 18 часов, а заработная плата, выдававшаяся
зачастую талонами на покупку товаров в лавке фабриканта, едва
обеспечивала полуголодное существование рабочих, что вело
44 Там же. С. 435.
603
к преждевременной смерти. Эксплуатации на фабриках
подвергались не только взрослые, но и дети, начиная с 6-7 лет: По данным
официальной статистики в Кельне, в 1847 г. каждый четвертый
житель поддерживался на средства публичной
благотворительности45.
Немецкий либерал К. Бидерман опубликовал в 1847 г. лекции
о социализме и социальных вопросах, в которых он утверждал,
что «первая и ближайшая задача социализма» - предотвратить
умножение пролетариев, умножение нищеты. В качестве
радикального средства решения этой задачи Бидерман, ссылаясь на
Мальтуса, рекомендовал законодательное запрещение раннего
вступления в брак46.
Другой немецкий либерал И. Берендс утверждал, что
«средство для преодоления нищеты» заключается в создании
различных объединений рабочих, системе взаимопомощи, а также в
«организации труда» по инициативе государственной власти.
«Организация труда - это требование, которого в настоящее
время невозможно избежать»47.
В апреле 1847 г., когда вследствие экономического кризиса и
неурожая зерновых начался массовый голод, берлинские рабочие
и их жены в течение четырех дней выступали против
спекулянтов картофелем, а также булочников, обвешивавших
покупателей. Около ста участников этой, по выражению современников,
«картофельной войны» были привлечены к судебной
ответственности.
Основоположники марксизма решительно отвергали
либеральные прожекты и полумеры, способные породить лишь
иллюзии в среде пролетариев и отвратить их от упорной борьбы
против эксплуататоров-капиталистов. «Комманифест» обосновывает
необходимость насильственной революции против тиранической
власти капиталистов. Но Маркс и Энгельс отдают себе отчет в
том, что предстоящая революция может быть лишь буржуазной,
т.е. поставить на место феодальных господ класс капиталистов.
Поэтому они провозглашают необходимость непрерывной
революции, которая не прекращается после утверждения у власти
буржуазии, но продолжается до тех пор пока пролетариат не
овладеет государственной властью.
45 Kuszynski J. Die Geschiche der Lage der Arbeiterklasse in Deutschland von
1800 bis in die Gegenwart. Berlin, 1847. S. 34, 44.
46 Biedermann К'. Vorlesungen über Sozialismus und soziale Fragen. Leipzig,
1847. S. 71.
47 Berends J. Wie ist der Noth der arbeitenden Klassen abzuhelfen? Zweite
Auflage. Leipzig, 1847. S. 17,23.
604
Идея непрерывной революции была впервые выдвинута
Маратом - выдающимся революционером-якобинцем времен
Великой французской революции. Марат понимал, что весь ход
революции приведет, во всяком случае на первых порах, к власти
буржуазию. Но чтобы предотвратить такое завершение
революции и добиться завоевания государственной власти
трудящимися, необходима непрерывная революция. Маркс и Энгельс,
восприняв эту идею Марата, в период буржуазных революций
1848 г. обосновывали необходимость продолжения революции
и после того, как к власти придет буржуазия. Но они, подобно
Марату, заблуждались, так как еще не осознавали, не
учитывали того обстоятельства, что существующие
социально-экономические условия делают единственно возможным установление
политического господства буржуазии. Лишь в сентябре 1850 г.
основоположники марксизма осознали ошибочность ставки на
непрерывную революцию, несовместимость этой, по существу,
субъективистской, волюнтаристической установки с
материалистическим пониманием истории. Поэтому они сочли своим
долгом выступить против тех своих соратников, которые
несмотря на отсутствие революционной ситуации продолжали
ратовать за непрерывную революцию. Один из них - В. Шаппер -
утверждал: «Речь идет о том, мы ли сами начнем рубить головы,
или нам будут рубить головы. Во Франции настанет черед для
рабочих, а тем самым и для нас в Германии... Я не сторонник
того мнения, что в Германии к власти придут буржуа, и в этом
отношении я фанатический энтузиаст»48. Маркс, отвечая Шаппе-
ру, заявил: «Что до энтузиазма, то немного его требуется,
чтобы принадлежать к партии, о которой думаешь, что она вот-вот
придет к власти. Я всегда противился преходящим мнениям
пролетариата. Мы посвящаем себя партии, которая, к счастью для
нее, как раз не может еще прийти к власти... Наша партия может
прийти к власти лишь тогда, когда условия позволят проводить
в жизнь ее взгляды»49.
В.И. Ленин, конечно, знал, что Маркс отверг идею
непрерывной революции как заблуждение, чреватое последствиями,
подрывающими освободительное движение рабочего класса. Тем не
менее он уже в 1905 г. настаивал на необходимости перехода к
социалистической революции. Формулируя эту
волюнтаристическую установку, он писал: «...от революции демократической мы
сейчас же начнем переходить и как раз в меру нашей силы, силы
сознательного и организованного пролетариата, начнем перехо-
См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 8. С. 584.
Там же.
605
дить к социалистической революции. Мы стоим за непрерывную
революцию»50*.
Революция 1905 г. была подавлена царизмом. Переход к
социалистической революции оказался невозможным. Но в 1917 г.
Февральская революция свергла самодержавие, провозгласила
демократическую республику, конкретные формы которой должно
было декретировать Учредительное собрание, избираемое на
основе всеобщего, равного и тайного избирательного права. Ленин
писал, что благодаря Февральской революции Россия стала самой
свободной страной в мире. Но эта свобода не устраивала Ленина,
осознавшего, что в Учредительном собрании большевики
окажутся в меньшинстве, так как крестьяне поддерживают партию
социалистов-революционеров (эсеров). Чтобы предотвратить
переход государственной власти к этой партии, лидеры которой
уже возглавляли Временное правительство, Ленин убедил
руководящий состав своей партии в необходимости вооруженного
восстания с целью свержения Временного правительства и
установления «диктатуры пролетариата». Восстание, организованное
большевиками в Петрограде, увенчалось успехом. Власть
перешла в руки ленинской партии. Учредительное собрание,
приступившее к решению основных, конституционных вопросов, было
разогнано. Все это и получило название Великой Октябрьской
революции**.
50 Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. U.C. 222.
* Разъясняя несостоятельность политической установки на непрерывную
революцию, Маркс говорил: «Вместо материалистического взгляда Манифеста
выдвигается идеалистический. Вместо действительных отношений главным в
революции изображается воля. В то время как мы говорим рабочим: Вам, может
быть, придется пережить еще 15, 20, 50 лет гражданской войны для того, чтобы
изменить существующие условия и чтобы сделать самих себя способными к
господству, - им, вместо этого говорят: Мы должны тотчас достигнуть власти,
или же мы можем лечь спать» (там же, с. 582). Словами «гражданская война»
Маркс здесь так же, как в «Комманифесте», обозначает классовую борьбу
пролетариата против буржуазии. Он, стало быть, утверждает, что после завершения
буржуазной революции политически организованному пролетариату
понадобится от 15 до 50 лет классовой борьбы, чтобы стать способным к завоеванию
государственной власти. Конечно, и эти сроки и сама идея завоевания
государственной власти пролетариатом оказались амбивалентными, утопическими, но с
волюнтаристической идеей непрерывной революции было покончено.
** Некоторые мыслители XX в., отнюдь не являющиеся марксистами,
характеризуют Октябрьскую революцию как действительно великую. Так,
например, Д. Биллингтон пишет: «Если для мыслителя XIX века ключевой
проблемой было определение своего отношения к Французской революции, то для
современного мыслителя такой центральной проблемой становится
определение своего отношения к русской революции» (Billington J. Six Views on the
Russian Revolution // «World Politics», 1966, vol. XVIII, № 3, p. 452). Биллингтон
606
Страна, которая после Февральской революции стала самой
свободной в мире, превратилась в несвободную, диктаторски
управляемую страну. «Теоретически» оправдывая эту
трансформацию, Ленин утверждал: «Пока есть государство, нет свободы.
Когда будет свобода, не будет государства»51*.
Разгон Учредительного собрания, запрещение партий
меньшевиков и кадетов (конституционно-демократической партии),
оттеснение левых эсеров, с которыми большевики сформировали
правительство, введение цензуры, создание Чрезвычайной
комиссии (ЧК), которая широко практиковала внесудебную расправу,
в том числе и расстрелы со всеми действительными и мнимыми
противниками новой власти, преследование инакомыслия - все
это вызвало гражданскую войну, потери в которой были
примерно такими же, как и потери российских войск в Первой мировой
войне.
Политика «военного коммунизма», провозглашенная
Лениным коммунистическим переустройством общества, привела к
глубокому политическому и экономическому кризису,
единственным выходом из которого стало «разрешение» ограниченного
развития капитализма и свободной торговли, т.е. возрождение
того, что было запрещено, ликвидировано в первый же год
большевистской власти как наследие проклятого прошлого. НЭП,
новая экономическая политика, провозглашенная Лениным,
трактовалась как самый верный путь к социализму. Особенная ставка
при этом делалась на «государственный капитализм», т.е. проще
говоря, иностранные концессии. Однако капиталисты
европейских стран и США отказались инвестировать советскую
экономику. Оставалось, по убеждению Ленина, одно: перестроить
работу национализированных предприятий: «...государственные
предприятия, - писал Ленин, - переводятся на так называемый
хозяйственный расчет, то есть по сути в значительной степени
на коммерческие и капиталистические начала»52. Показательно
констатирует факт: Октябрьская революция породила высокие
гуманистические иллюзии. Но эти иллюзии были развеяны диктатурой большевистской
партии, сталинским террором и в конечном счете крахом «реального социализма» в
СССР и других европейских странах.
51 Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 33. С. 95.
* Развивая этот явно несостоятельный, парадоксальный тезис, Ленин
дополнял его столь же парадоксальным и несостоятельным утверждением:
«Обычно понятия "свобода" и "демократия" считают тождественными и
употребляют часто одно вместо другого... На деле же демократия исключает свободу»
(там же, с. 177). С точки зрения Ленина демократия и диктатура, по существу,
тождественны. Комментарии, как говорится, излишни.
52 Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 44. С. 342.
607
(весьма показательно!), что рациональное, рентабельное ведение
хозяйственной деятельности истолковывается Лениным как, в
сущности, капиталистическое.
Таким образом, парадоксальный, амбивалентный характер
большевистской революции состоял в том, что она оказалась
неспособной до конца порвать с капиталистической эксплуатацией.
Советское государство заменило собой класс капиталистов. Этот
факт, разумеется, никогда не предавался гласности, но рабочий
класс ощущал его повседневно.
В течение семидесяти с лишним лет трудящиеся СССР,
предельно напрягая силы, преодолевая «временные трудности»,
ставшие постоянными, идя на многочисленные жертвы, осуществили
индустриализацию огромной страны, создали мощную
оборонную промышленность, подготовили высококвалифицированных
специалистов во всех областях экономики и культуры и несмотря
на развязанный Сталиным и его подручными небывалый по своим
масштабам кровавый террор, уничтоживший, в частности,
большую часть высшего и старшего командного состава Красной
Армии, все-таки разгромили гитлеровские полчища, спасли Родину,
которую немецко-фашистские захватчики планировали
уничтожить как государство, освободили европейские страны от
фашистского порабощения. И после великой победы над врагом советский
народ в течение нескольких лет поднял из руин нашу страну,
восстановил разрушенные немецко-фашистскими полчищами города,
заводы, фабрики, железные дороги. Однако, несмотря на
всемирно-исторический подвиг народов СССР, сталинская клика и в
послевоенные годы продолжала свою преступную истребительную
деятельность. Немало героев Великой Отечественной войны, даже
некоторые генералы, стали жертвами сталинщины, которой всюду
мерещились угрозы своему существованию.
Экономика Советского Союза и в послевоенный период
развивалась экстенсивным образом, в то время как в странах
«умирающего» (по выражению Ленина) капитализма развернулась
научно-техническая революция, радикально преобразующая
материальное производство и существенно изменяющая все
общественные отношения.
Конечным, закономерным завершением этой чрезвычайно
богатой испытаниями истории СССР стал отказ советского народа
от социализма (социализма ленинско-сталинского образа),
который оказался не в состоянии осуществить в полной мере
научно-техническую революцию, поднять производительность труда
и народное потребление до уровня, достигнутого
капиталистическими странами.
608
Таким образом, не только теория марксизма, но и практика
ее претворения в жизнь оказались амбивалентными. Но
амбивалентность «марксизма-ленинизма» фактически не имеет почти
ничего общего с амбивалентностью учения Маркса и Энгельса,
которым большевистская партия руководствовалась больше на
словах, чем на деле. Тем не менее критический анализ
амбивалентности не только марксизма, но и «марксизма-ленинизма»
позволяет постигнуть не одни лишь заблуждения, имевшие
место как в теории, так и на практике, но и реальное, выдающееся
значение этих учений, которые в значительной мере определили
основные черты XX столетия.
20. Ойзерман Т.И., том 5
Глава 5
ФИЛОСОФИЯ НИЦШЕ
1. Амбивалентность, превращенная в принцип,
способ мышления
В предыдущих главах, в которых предмет критического
анализа составляли учение Ж.-Ж. Руссо, философия Канта,
волюнтаристская метафизика Фихте, абсолютный идеализм Гегеля,
философия вселенской воли Шопенгауэра, материалистическое
понимание истории, было показано, что все эти учения
амбивалентны. Амбивалентность, как об этом уже говорилось,
представляется на первый взгляд непоследовательностью, явным
недостатком, едва ли не эклектизмом, в действительности оказывается
сплошь и рядом положительной определенностью данных
учений, поскольку благодаря ей философ в известной степени
преодолевает крайности своих основоположений, выдвигая другие,
нередко противоположные положения, т.е. вступает на путь
сознательного (или бессознательного) диалектического,
позитивного отрицания. Это в особенности относится к философии Ницше,
как к отдельным концепциям (морали, истории философии, науки
и познания вообще), так и ко всему его учению в целом.
Ф. Ницше - выдающийся немецкий мыслитель второй
половины XIX в. является в наши дни в нашей стране наиболее
издаваемым и, по-видимому, наиболее читаемым философским
автором. В 1990 г. издательство «Мысль» выпустило двухтомник
Ницше, в который вошли его основные произведения. В 2005-
2006 гг. издательство «Культурная революция» опубликовало
полное собрание сочинений Ницше в тринадцати томах. Стоит
отметить в связи с этим, что Ницше - единственный философ,
труды которого (включая черновые наброски и письма) изданы в
полном объеме в нашей стране.
610
В 2008 г. в Москве и Минске опубликован сборникработ Ницше:
«Утренняя заря», «Переоценка всех ценностей», «Веселая наука»
и предварительные работы к ней. В том же 2008 г. в Москве и в
Харькове выпущен столь же объемистый сборник работ Ницше:
«По ту сторону добра и зла», «Человеческое, слишком
человеческое», «Так говорил Заратустра», «Сумерки идолов».
Издательский дом «Азбука-классика» опубликовал массовым
тиражом (массовым для науки - 10 000 экземпляров) «Падение
кумиров» (2008), «Странник и его тень» (2008),
«Несвоевременные размышления» (2009). В аннотации к одному из этих изданий
Ницше характеризуют как «величайшего немецкого философа».
Издательство РАН планирует издание ряда основных работ
Ницше. Это, по-видимому, свидетельствует о том, что
читательский спрос все еще неудовлетворен.
Философии Ницше посвящены несколько известных
сборников, вышедших в Москве и Санкт-Петербурге: «Ф. Ницше и
философия в России» (1999), «Ницше. Pro et contra» (2001),
«Ницше и современная мысль» (2003). В одном из этих сборников мы
находим статьи Н.К. Михайловского, Преображенского, Грота и
других авторов позапрошлого века, которые, признавая
выдающееся значение идей Ницше, вместе с тем подвергают критике
его учение. Этого нельзя сказать о современных отечественных
авторах, пишущих о Ницше: они, в основном, находятся в
состоянии восторженного умиления, что, в принципе, исключает
критическое отношение к философским текстам. Странное дело. Мы
привыкли к тому, что любое историко-философское
исследование, как бы высоко ни оценивалось учение того или иного
мыслителя, представляет собой вместе с тем критический анализ этого
учения. Почему этот естественный, присущий не только
историко-философскому, но и всякому научному исследованию принцип
исключается применительно к Ницше? Я не нахожу ответа на этот
вопрос у тех отечественных авторов, которые пишут ныне о
Ницше. Могу лишь допустить, что они видят в Ницше не только
философа, но и художника, поэта. Но и в этом случае критический
анализ вполне уместен. Г. Зиммель - один из первых
приверженцев и продолжателей Ницше, утверждал, что ницшевские
«теории так ясны и законченны, что для их понимания нет
надобности обращаться к его личной судьбе»1. Между тем, философские
концепции этого выдающегося философа, виртуозно владеющего
словом, несмотря на замечательную ясность формулировок, неиз-
1 Рилъ А., Зиммель Г. Фридрих Ницше как художник и мыслитель.
Одесса, 1888. С. 156.
20*
611
бежно вызывают ощущение неясности вследствие того, что почти
каждое утверждение Ницше противоречит другому его
утверждению, высказанному в одном и том же произведении, а иной раз на
одной и той же странице*. Ницше, по-видимому, вполне
осознавал амбивалентность, логическую несогласованность своих
афоризмов, но не считал это пороком. Я тоже не считаю порочной эту
неясность ясно сформулированных положений.
Что же касается утверждения Зиммеля о том, что для
понимания учения Ницше нет надобности обращаться к его личной
судьбе, то это утверждение противоречит многократным заявлениям
самого Ницше о внутренней, интимной связи его философии с
состоянием его здоровья, с его болезнями, в которых философ
видел не что-то случайное, а один из источников своей творческой
оригинальности. Как будет показано ниже, подавляющее
большинство исследователей учения Ницше считают необходимым
указать на теснейшую связь его воззрений с его болезненным
состоянием.
Данная глава, посвященная Ницше, предоставляет его учению
почти столько же места, сколько всем названным выше
мыслителям вместе взятым. Это объясняется тем, что в учении Ницше
больше, чем в какой-либо другой теории, обнаруживается и даже
выступает с вызывающей прямолинейностью амбивалентность,
которую он не только осознает, но и сознательно культивирует
как свой собственный, самобытный способ мышления. «Всякому
нынче известно, - заявляет Ницше, - что умение сносить
противоречие есть признак высокой культуры»2. Разумеется, далеко не
всякому это известно и, конечно, немногие философы
согласятся с этим тезисом. А он между прочим влечет за собой выводы,
которые противостоят всему, что утверждали почти все
философы, всему, что стало почти общепринятым, почти не подлежащим
сомнению. Ницше, к примеру, вопрошает: «Что же такое в конце
концов человеческие истины?» И тут же отвечает: «Это -
неопровержимые человеческие заблуждения» (1, 622).
* В «Черновиках и набросках 1869-1873 гг.» Ницше в еще более резкой,
категорической форме указывает на необходимую противоречивость мышления:
«Необходимые противоречия в мышлении, позволяющие жить» (Полное
собрание сочинений, т. 7, с. 142. М., 2007). Несколько ниже Ницше онтологически
истолковывает противоречие: «Если противоречие есть истинное бытие, а
наслаждение - видимость, если становление относится к видимости - то понять
мир в его глубине, значит, понять противоречие» (там же, с. 189). Следует при
этом иметь в виду, что Ницше отрицательно относится к диалектике, считая ее
родственным софистике искусством рассуждения.
2 Ницше Ф. Соч. Т. 1. М., 1990. С. 636. Далее все сноски на двухтомное
издание сочинений Ницше даются в тексте.
612
Знакомому с философией Ницше нетрудно понять, что
приведенное положение следует рассматривать отнюдь не как
окончательное убеждение философа; таких убеждений у него почти
нет. Это, скорее, тезис, который в каком-нибудь другом контексте
подвергнется отрицанию. Не следует поэтому удивляться такому
суждению философа: «Вопрос, нужна ли истина, должен быть не
только заведомо решен в утвердительном смысле, но и утвержден
в такой степени, чтобы в нем нашли свое выражение тезис, вера,
убеждение: "нет ничего более необходимого, чем истина, и в
сравнении с нею всё прочее имеет лишь второстепенное значение"»
(1, 663). Остается, однако, неясным, в каком смысле жизненно
необходима истина: как «неопровержимое заблуждение» или как
его отрицание, опровержение. Правда, имеется несколько
высказываний Ницше о том, что истина, вернее, истины (достоверное
знание) являются жизненно необходимыми именно как
отрицание заблуждений*. Ницше сетует на то, что люди недостаточно
ценят истины, забывают о них, не сознают их необходимости.
Такой вывод вытекает из его исполненного глубокого чувства
изречения: «До тех пор пока истины не врежутся нам в мясо ножом,
мы втайне позволяем себе мало ценить их»3.
Ницше сознательно, намеренно провоцируя возмущение
не только обыденного сознания, но и профессоров философии,
* Противоречивая позиция Ницше в вопросе об истине соответствует его
представлению о сущностной истинности противоречия. Эта позиция не может
быть истолкована в духе скептического отрицания возможности истины, хотя
Ницше отнюдь не чужд скептицизму. Он вполне осознает всю сложность
вопроса об истине, которая прежде всего заключается в том, что понятие критерия
истины не поддается однозначному определению и поэтому неизбежно
возбуждает сомнения. Множество теоретических положений (в том числе и научных
положений), считавшихся истинами, оказались впоследствии заблуждениями.
Понятна и оправданна поэтому амбивалентность ницшевского понимания
истины. Справедливо подчеркивает П.Б. Струве: «Ницше не верил в истину и
страстно искал ее... Сомнения в истине и в известном смысле отрицание истины
делает из Ницше одного из самых современных и самых плодотворных философов»
(Струве П.Б. К характеристике Ницше как мыслителя и художника //
Философия Ницше. Pro et contra. СПб., 2001, с. 329).
Ницше подчеркивает смылосложизненное, жизнеутверждающее значение
стремления к постижению истинного. «Воля к истине: 1) как борьба с природой
и овладение ею; 2) как сопротивление правящим авторитетам; 3) как критика
всего вредного для нас» (Nietzsche F. Nachgelassene Werke. Bd. Ill, 1883-1888,
Leipzig, 1903. S. 55). Наряду с этим Ницше скептически относится к
возможности логического доказательства истинности суждения. «То, что может быть
доказано - истинно - это произвольное определение понятия "истины", которое
не может быть доказано» (Ibid. S. 54).
3 Ницше Ф. Утренняя заря. Переоценка всех ценностей. Веселая наука.
М., 2008. С. 184.
613
высказывает противоположные, несовместимые друг с другом
положения. Он убежден в том, что «да» и «нет» всегда должны
быть вместе. Поэтому, с его точки зрения, было бы узколобой
однобокостью останавливаться на каком-либо утверждении, не
высказывая в другом контексте его отрицания. Это необходимо,
чтобы избежать догматического отношения к любому знанию.
И Ницше, в известном смысле, прав, ибо его тезис многое
утерял бы, не будь его отрицания, антитезиса. Следует ли за этим
синтез? Как правило, нет. Амбивалентность должна оставаться
открытой перспективой.
Следует также иметь в виду, поскольку речь идет о способе
мышления Ницше, что даже наиболее продуманные им положения
выступают как экспромты, зачастую совершенно неожиданные
для читателя. Создается впечатление, что Ницше вообще скор на
выводы, оценки, приговоры*. Это как бы a priori заложенное
радикально отрицательное отношение ко всем устоявшимся
убеждениям, которые считались истинами, хотя они сплошь и рядом
оказывались лишь преходящими мнениями. Для Ницше же прежде всего
было важно высказать свое, отличное от всех других убеждение.
Без этого он не представлял себе интеллектуальной свободы,
понимаемой как изначальная предпосылка творческого мышления.
Такая установка, способствуя выработке самобытных воззрений,
неизбежно чревата и ошибочными суждениями. Так, например,
Ницше, провозгласивший жизнь во всех ее формах и проявлениях
извечной основой всего и вся, неожиданно заявляет:
«Человеческий организм - для всех любящих эту мерзость нелепица, вздор,
богохульство...»4**. Разумеется, это отнюдь не последнее слово,
* Одним из примеров такого радикального, но никак не обосновываемого
заключения может быть лапидарное и безапелляционное суждение Ницше о
«Гамлете» Шекспира: «Прежде всего это неудавшееся произведение» (Соч., т. 1,
с. 750). Стоит напомнить, что Л.Н. Толстой отрицательно относился ко всем без
исключения драматическим произведениям Шекспира. По-видимому,
художникам, создателям собственного новаторского стиля, нередко свойственно
субъективистское, лишенное достаточных оснований отношение к произведениям
некоторых других выдающихся художников.
4 Ницше Ф. Стихотворения. Философская проза. СПб., 1993. С. 321.
** О человеке Ницше высказывает самые различные сплошь и рядом никак
не стыкующиеся друг с другом воззрения. В «Утренней заре» он, например,
утверждает: «Ни одно животное не настолько обезьяна, как человек» (Утренняя
заря. Переоценка всех ценностей. Веселая наука. М., 2008, с. 269). Что имеется
в виду под обезьяньим в человеке? Способность подражания? В этой же работе
Ницше выявляет противоречивость определения человека как животного:
«Человек есть животное, переставшее быть животным... стало быть, человек перестал
быть человеком» (там же, с. 313). В другом месте цитируемой работы Ницше
утверждает: «Если бы животное могло говорить, оно сказало бы: "Человечность-
614
не окончательный вывод. В другом месте Ницше разумно
утверждает: «Не следует стыдиться своих аффектов; они для этого
слишком неразумны» (1, 740).
Проблема морали - центральная в мировоззрении Ницше. Ей
он уделяет несравненно больше внимания, чем гносеологической
тематике или метафизике. Сам он себя именует имморалистом.
Его отношение к морали - не к учению о нравственности, а к
самой нравственности в том виде, в каком она реально существует
в обществе, - радикально отрицательное. «Мораль - это
важничанье человека перед природой» (1, 735). Природе чужда
мораль, она выше моральных измерений; естественный ход вещей
не имеет какого бы то ни было отношения к нравственности. То
же относится и к природе человека; сущность ее - аффекты, то
есть явления человеческой природы, не имеющие ничего общего
с моральными предписаниями. Жизнь существует сама по себе,
по своим собственным законам. Она не просто явление
природы, она сама есть природа, ибо все виды природного суть лишь
формообразования жизни, ее различные ступени. Ницше -
основоположник «философии жизни», учения, которое отбрасывает
традиционное противопоставление материи и духа (тела и души),
обосновывая идею субстанциальности жизни.
Эта концепция носит в основном
объективно-идеалистический характер. Характеризуя природу, которую Ницше
представляет себе как механический, «материальный» (в кавычках) мир,
он утверждает: «К миру, который не есть наше представление,
совершенно неприменимы законы чисел: последние имеют
значение только для человеческого мира» (1, 252). Ницше, стало быть,
разграничивает «человеческий» (субъективный) мир и
независимую от него реальность. Остается, правда, неясным, почему он
считает неприменимым к «механическому» миру «законы чисел»,
предрассудок, которым по крайней мере мы, животные, не страдаем"» (с. 150).
Выходит, что Ницше отвергает человечность? Но о взглядах Ницше не следует
судить по одному или даже нескольким высказываниям, если им же
высказываются противоположные суждения. Несколькими страницами ниже утверждается
явно противоположное: «Почему доставлять радость другим - выше всякого
другого удовольствия?» (с. 169). Доброжелательность, о которой в этом изречении
идет речь, - одна из характеристик человечности. В работе «Странник и его тень»
(СПб., 2008) Ницше высказывается в совершенно неожиданном для привыкшего
к его парадоксам читателя духе: «В каждом человеке я нахожу что-либо
достойное уважения, за что я его и уважаю...» (с. 49). Все эти высказывания о человеке
невозможно обобщить с тем, чтобы со всей определенностью сказать, как Ницше
понимает человека. Это тем более невозможно, что о человеке Ницше
высказывается и в своих рассуждениях о нравственности, науке, религии. Его «философия
жизни» в конечном счете сводится к учению о человеке.
615
т.е. математику, которая является, так сказать, языком механики
как науки. Неясно также и то, как согласуется понятие
механического (к тому же еще «материального») мира с
основоположением ницшевской «философии жизни», согласно которой понятие
жизни покрывает всё существующее, упраздняя тем самым
противопоставление субъективного и объективного, материального
и духовного, внешнего и внутреннего. По-видимому, эта
несогласованность объясняется, с одной стороны,
неразработанностью ницшевской «философии жизни», а с другой -
амбивалентностью его учения, которое в принципе отвергает логическое
согласование разных, в том числе и противоречащих друг другу
высказываний.
Существенно подчеркнуть, что Ницше, обычно
настаивающий на обманчивом характере человеческих представлений о
мире, не приписывает иллюзорности «материальному»,
механическому миру. «Я разумею, понять его не как обман, "иллюзию",
"представление" (в берклиевском и шопенгауэровском смысле), а
как нечто, обладающее той же степенью реальности, какую
имеют сами наши аффекты» (2, 270)*. Последняя часть цитируемой
фразы указывает на то, что Ницше считает самым достоверным,
неопровержимым. Это - аффекты, многообразные проявления
человеческой чувственности, которые самим фактом своего
существования непосредственно, как полагает Ницше, говорят о
своей реальности, в которой невозможно сомневаться.
Итак, всё есть жизнь. Почему же существует мораль? Она
необходима для обуздания первобытного, звериного начала в
человеческой природе. Но обуздывая зверя, мораль вместе с тем
противостоит жизни, как нечто чуждое ей. Мораль не есть
проявление жизни, она подобно прокрустову ложу сковывает
человеческую жизнь, свободу, т.е. то, что делает человека человеком,
личностью. Поэтому отрицание морали не только правомерно, но
и необходимо. И Ницше саркастически характеризует ее как
вялый обмен веществ в организме. Он и отрицает мораль (об этом
подробнее ниже) и вместе с тем признает как ее существование,
Ницше часто заключает в кавычки такие слова, как «материальный»,
«механический», «иллюзия», «истина», «дух» и т.д. Таким образом, эти слова
становятся чем-то иным, т.е. «истина» (в кавычках) существенно отлична от
истины (без кавычек). В. Кауфман в фундаментальном исследовании «Ницше:
философ, психолог, антихрист» отмечает в связи с этим: «Употребление кавычек
явно указывает на то, что Ницше не думал отвергать дух, но отвергал лишь "дух",
"чистый дух"...» (Kaufmann W. Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist.
Princeton, 1990, p. 203). Однако нередко бывает и так, что Ницше, заключая «дух»
или «истину» в кавычки, имеет в виду именно дух, именно истину. Он не
устанавливает правила и не придерживается чего-то аналогичного правилу.
616
так и ее необходимость. Существуют, утверждает он, по меньшей
мере две морали: мораль рабов и мораль господ.
Возникновение морали рабов Ницше связывает с
происхождением христианства, которое возникло как религия рабов и всех
обездоленных в древнем Риме. Но и после крушения
рабовладельческого строя религия рабов продолжала существовать, поскольку
христианство стало господствующей религией в Европе и
Америке. «Христианская вера есть с самого начала жертвоприношение:
принесение в жертву всей свободы, всей гордости, всей
самоуверенности духа и в то же время отдание самого себя в рабство,
самопоношение, самокалечение» (2, 278). Выходит, следовательно, что
каждый христианин, если он не формально, а искренне верующий
человек, оказывается рабом. Таким образом, понятие раба не
только теряет конкретное историческое содержание, но и
распространяется на всех христиан. Такое обобщение, конечно, неправомерно,
но это обстоятельство нисколько не умаляет значения ницшевской
критики рабского сознания. Рабская мораль - сознание
индивидуума, который бездумно следует обычаю, традиции, не пытаясь
самостоятельно принимать решения, предваряющие его поступки.
Природа раба независимо от социального статуса индивидуума
определяется, согласно Ницше, слабостью воли, пассивностью,
нерешительностью, послушанием. Характеризуя рабское
сознание, Ницше пользуется французским словом ressentiment,
придавая ему новое содержание. Сознание, проникнутое ressentiment,
есть сознание бессилия. Однако оно в то же время есть стремление
отомстить за унизительное положение, в котором находится
индивидуум. Жажда мести заполняет его сознание, но
действительно отомстить этот индивидуум не в состоянии вследствие своей
слабости. Поэтому он застревает на воображаемом отмщении; это
беспомощно мстительное сознание заполняет его жизнь*.
* А. Альтман в монографии, посвященной ницшевскому толкованию
ressentiment, указывает: «Законченного анализа ressentiment Ницше не дает;
замечания о нем рассеяны в разных местах. Ressentiment находит выражение в
различных видах человеческого бытия, в особенности в негативном отношении к опыту
страдания, из которого возникает настроенность на мщение» (Altmann А. Friedrich
Nietsche. Das Ressentiment und seine Überwindung. Bonn, 1977, S. 32). Далее
Альтман подчеркивает, что ressentiment, согласно Ницше, характеризует рабское
сознание, его слабость, малодушие, стремление к отмщению. «Речь идет о мести
беспомощного, который не отваживается активно действовать против своего врага. Эта
беспомощность растет вместе с чувством мести, отравляя все тело» (Ibid. S. 37).
Ницше, однако, не ограничивается характеристикой ressentiment как
сознания раба. Ressentiment, т.е. злопамятство, чувство обиды, вражды присуще,
правда, в разной мере всем людям, отношению между людьми. Поэтому
преодоление Ressentiment является задачей, которая не укладывается в рамки какой бы
то ни было морали. Это - дело политики, «большой политики», - утверждает
Ницше, имея, по существу, в виду некую социальную программу.
617
Морали рабов Ницше противопоставляет мораль господ,
аристократическую мораль. Однако речь идет главным образом об
аристократии духа, а не о какой-либо исторически определенной
социальной группе. Моралью господ Ницше называет сознание
личности, которая самостоятельно, свободно, не считаясь с
моральными стереотипами, принимает решение совершить то или
иное действие. Стоит в связи с этим сослаться на ницшевское
понимание порядочности: «Быть честным относительно себя и
друзей; храбрым - с врагами, великодушным - к побежденным,
вежливым всегда: вот наши четыре кардинальных добродетели»5.
Значит ли это, что мораль господ сводится только к этим
бесспорным добродетелям? Конечно, нет. Именно поэтому Ницше
упорно называет себя имморалистом. И, конечно, не без
оснований, если иметь в виду то содержание, которое вкладывается
им в понятие имморализма. Речь идет о критике морали вообще,
всякой морали без исключения.
Благожелательный ницшевед всегда готов отнести ницшевс-
кую критику морали лишь к морали рабов, хотя в
действительности эта критика охватывает всю область морального
сознания. «В сущности, - утверждает Ницше, - мне противны все
морали, которые гласят: "Не делай этого! Отрекись! Преодолей
себя!"» (1, 640). Ницше, стало быть, отвергает все морали
потому, что они требуют выполнения тех или иных действий
безотносительно к умонастроению ницшевского субъекта,
именуемого «свободным умом». Этот, не признающий каких бы то ни
было обязанностей «свободный ум», возглашает: «Пробил час
отвращения ко всей моральной болтовне одних в адрес других!
Моральное судопроизводство должно быть оскорблением
нашему вкусу!» (1, 655).
Чтобы окончательно доконать мораль с ее обременительными
для «свободного ума» требованиями и запретами, Ницше
разъясняет: «... угрызения совести такая же глупость, как грызня
собакой камня»5а. Вдумываясь в приведенные высказывания (а такого
рода изречений у Ницше бессчетное число), нельзя не придти к
заключению, что Ницше осуждает, отвергает любую моральную
требовательность, не исключая даже те требования, которые
субъект предъявляет самому себе.
Несмотря на чрезмерный радикализм, ницшевская критика
морали вполне может быть понята и, по меньшей мере,
оправдана каждым морально мыслящим человеком. Именно это, на мой
5 Ницше Ф. Утренняя заря. Переоценка всех ценностей. Веселая наука.
Минск, 2008. С. 218.
5а Ницше Ф. Странник и его тень. СПб., 2008. С. 43.
618
взгляд, подчеркивает A.A. Гусейнов: «Пожалуй, наиболее
рельефно рабская сущность морали выражается в ее тартюфстве,
лицемерии. Внутренняя лживость всех манифестаций морали, ее
выражений, поз, умолчаний и т.п. является в логике рассуждений
Ницше неизбежным следствием ложности ее исходной
диспозиции по отношению к реальной жизни. Мораль претендует на то,
чтобы говорить от имени абсолюта. А абсолюта на самом деле не
существует... Далее, мораль противостоит природному эгоизму
витальных сил. Но жизнь как жизнь не может не стоять за себя,
не может не быть эгоистичной - и не в каком-то общем смысле,
а в конкретности своих индивидуальных существований»6.
Следует, конечно, иметь в виду, что ницшевская,
разрушительная критика морали неизбежно оказывается амбивалентной.
Поэтому у него всегда имеется наготове изречение, нейтрализующее
смыкающийся с нигилизмом имморализм. Одно из таких
изречений, искусно соединяющих аннигиляцию морального сознания с
признанием некоей высшей морали, гласит: «Свобода от морали,
свобода от правды, ради той цели, что окупает любую жертву;
ради господства морали - так гласит этот канон»7. Таким образом,
ницшевский «имморализм» в конечном счете подвергается
отрицанию ради «господства морали», разумеется, высшей морали,
понятие которой не конкретизируется философом. Уничтожающая
критика морали не перечеркивается, но ей противостоит утопия
высшей морали, которая, если следить за ходом рассуждений
философа, не должна быть системой обязательств и запретов. Само
собой разумеется, что такая мораль в принципе невозможна.
Рассуждения Ницше об истине и нравственности
демонстрируют его способ мышления, который я назвал бы вопрекизмом.
Утверждать, с точки зрения Ницше, следует то, что отрицается
всеми или почти всеми. Отрицать, следовательно, надо то, что
считается общепринятым, общепризнанным, не подлежащим
сомнению. Это не значит, конечно, что Ницше придумал новый
способ прослыть оригинальным, привлечь к себе внимание всех
мыслителей. Он действительно противник общепринятого,
каковы бы ни были его формы. И утверждая то или иное положение,
он не просто экспромтом формулирует некий парадокс. Нет, он
всегда высказывает свое убеждение, что бы он ни утверждал или
отрицал. Искренность философа - вне сомнения. И его «вопре-
кизм» - глубочайшее убеждение.
6 Гусейнов Л.Л. Философия как этика. Опыт интерпретации Ницше //
Ницше и философия в России. СПб., 1999. С. 165.
7 Ницше Ф. Черновики и наброски 1887-1889 гг. // Полное собрание
сочинений. Т. 13. М., 2006. С. 24.
619
Я говорю об убеждениях Ницше. Однако то, что люди
действуют согласно своим убеждениям, подвергается им уничтожающей
критике. Он категоричен: «Убеждения суть более опасные враги
истины, чем ложь» (1, 453). И разъясняя этот суровый приговор,
Ницше пишет: «Убежденность есть вера, что в известном
пункте познания обладаешь безусловной истиной. Эта вера,
следовательно, предполагает, что существуют безусловные истины...»
(1,483). Речь идет не об отрицании каких-либо определенных
убеждений, а об отрицании убеждений как таковых, т.е. не только всяких
убеждений, но и убеждения как формы мышления, сознания. Дело,
значит, не сводится к отрицанию абсолютных истин и
догматической убежденности в чем бы то ни было. Всякие убеждения,
согласно Ницше, противопоказаны науке. «В науке убеждения не имеют
никакого права гражданства... лишь когда убеждение перестает
быть убеждением, оно вправе притязать на вход в науку? Разве
дисциплина научного ума не начинается с того, что не позволяешь себе
больше никаких убеждений?» (1, 663).
Человек убеждения, по словам Ницше, заблуждается по
меньшей мере в трех отношениях. Во-первых, он, как уже указывалось,
верит в то, что располагает абсолютными истинами. Во-вторых,
он также уверен в том, что уже найдены совершенные методы
для достижения истинного знания. В-третьих, он не
сомневается в том, что владеет этими совершенными методами. «Все три
утверждения тотчас же доказывают, что человек убеждения не
есть человек научного мышления» (1, 483).
Совершенно очевидно, что Ницше понимает под
убеждениями некое субъективное умонастроение, предвзятость,
безотносительные допущения, уверенность, лишенную оснований. Он
вовсе не учитывает того, что убеждения ученых в значительной
мере основаны на фактах, подтверждаются фактами, опытом.
Если же факты вступают в противоречие с тем или иным
убеждением ученых, это убеждение подвергается пересмотру,
уточняется или даже отвергается. Так, в середине XIX в. было
пересмотрено и в конечном счете отвергнуто господствующее убеждение
естествоиспытателей в том, что все процессы природы носят
механический характер и могут быть вполне описаны языком
классической механики.
Следует, конечно, выяснить причину столь страстного
отрицания понятия «убеждение». К счастью, Ницше не оставляет
читателя в недоумении. Он ополчается против фанатической
убежденности, свойственной некоторым людям. История знает немало
примеров, когда убежденные люди (люди убеждения) шли на
любые жертвы, даже на смерть, не отказываясь, ради спасения жиз-
620
ни от своих убеждений. Ницше отрицательно относился к таким
людям, и он прав в том отношении, что убеждения, ставшие
верой, исключающей любые сомнения, неправомерны как в
познании, так и в поведении. Фанатизм - страшное бедствие в истории
человечества. Каждая религия знает своих фанатиков, которые
жаждут истребить всех иноверцев. В политике тоже немало
фанатиков; немало их среди консерваторов, но еще больше среди
радикалов. Поэтому вполне понятно (и вполне оправданно), в
каком смысле Ницше отвергает убеждение как форму сознания,
мышления.
Философы сплошь и рядом придают общепринятым понятиям
новое, подчас совершенно непривычное содержание и значение.
И Ницше в этом отношении не является исключением. Однако
тут возникает вопрос: каким термином заменить термин
«убеждение», исключенный из лексикона свободно мыслящего
субъекта? Ницше не ставит этого вопроса и не находит такой замены,
так как подходящего термина нет ни в одном европейском языке.
Получается, таким образом, что термин «убеждение» исключить
из словоупотребления фактически невозможно. Ницше, как
великолепно образованному филологу, это известно больше, чем
кому-либо другому. В итоге складывается амбивалентная
ситуация: философ продолжает пользоваться термином «убеждение» в
положительном смысле, излагая, в частности, свои собственные
воззрения. Преодолеть эту амбивалентность невозможно, она
обусловлена природой языка, закономерностями словотворчества.
А то обстоятельство, что Ницше пересмотрел понятие
«убеждение», отнюдь не означает, что его общеупотребительное значение
изгнано из языка, в том числе и из лексикона самого Ницше*.
* В работе «Человеческое, слишком человеческое» Ницше как бы
дезавуирует свои высказывания о лживости всякого убеждения, поскольку он
формулирует следующее основоположение: «Основное убеждение. Не существует
никакой предустановленной гармонии между споспешествованием истине и
благом человечества» (1, 458). Это значит, что способствование познанию и,
стало быть, успехам науки, о которых уверенно говорит Ницше, отнюдь не
обязательно влечет за собой благоденствие общества, а тем более благоденствие
отдельных индивидов. Ницше в данном случае предвосхищает идеи так
называемого «технического пессимизма» - социологической концепции, получившей
значительное распространение в XX веке. Ее приверженцы утверждали, что
научно-техническое познание, объективируясь в достижениях техники и
технологии, которые способствуют осуществлению человеческих целей, вместе с
тем порождают пагубные, чреватые катастрофой последствия для всего
человечества. «Техника материалистична, - писал один из философов иррационалис-
тического толка. - Она отчуждает человека, оболванивает его, угрожает
поглотить его» (Caruso J.A. Crise du monde technique et psychologie // La technique et
l'homme. Paris, 1960, p. 59).
621
Таким образом, то, что Ницше осуждает убеждения
безотносительно к их содержанию, объясняется его явно
односторонним истолкованием термина «убеждение». Однако он не
связывает себя такой интерпретацией. В других своих рассуждениях
он пользуется термином «убеждение» в общепринятом смысле
слова. Одно из таких рассуждений цитируется выше. Само
собой разумеется, что Ницше отнюдь не чужд вполне
определенным убеждениям. Но он заявляет, что не пошел бы на костер ради
своих убеждений, так как у него нет веры в их безусловную
истинность. Убеждения, утверждает он, следует рассматривать как
средство для достижения поставленной цели: «... многого можно
достигнуть только при посредстве убеждения. Великая страсть
может пользоваться убеждениями, может их использовать, но она
не подчиняется им - она считает себя суверенной» (2, 680).
Суждения Ницше, как правило, носят безапелляционный
характер, несмотря на его отрицание безусловных истин. Эта чрез-
мерность зачастую подводит его, т.е. влечет за собой
непродуманные, даже совершенно несостоятельные изречения. Так, например,
Ницше заявляет: «...суеверие всегда оказывается прогрессом по
отношению к вере и знаком того, что интеллект становится
независимее и печется о своих правах... Будем же знать, что оно есть
симптом просвещения» (1, 532). Чем объяснить это неожиданное
противопоставление суеверия всякой вере, т.е. не только
религиозной? Я не нахожу другого объяснения, кроме «лингвистического».
В немецком языке вера - der Glaube, суеверие -Aberglaube. Ницше
не комментирует свой афоризм, но он пишет по-немецки, стало
быть, противопоставляет Aberglaube Glaube.
То, что Ницше в своих суждениях обычно рубит с плеча,
нередко ведет к ошибочным утверждениям относительно фактов.
Наглядный пример: «... распространение буддизма {не его
возникновение) в значительной части зависит от чрезмерного и
почти исключительного рисового рациона индусов...» (1, 596)*.
Ницше, по-видимому, не задумывался о том, какая часть населения
Индии придерживается буддизма. Он явно не учитывал и того,
что приверженность к буддизму разделяют калмыки, буряты и
некоторые другие народы, в рационе которых рис занимает
незначительное место.
* Ницше, по-видимому, не учитывал того, что почти все индусы
придерживаются индуизма, религии, которая не имеет ничего общего с буддизмом.
Кроме того, значительную часть населения Индии во времена Ницше составляли
мусульмане, которые, разумеется, не были буддистами. Согласно современным
данным, количество буддистов в Индии не превышает двух процентов. Едва ли
в XIX в. буддистов в Индии было больше.
622
Еще один пример, на этот раз из области философии. Ниц-
шевская оценка Канта: «Ученый никогда не может стать
философом; даже Кант не мог стать им... Кто думает, что в этих словах
я несправедлив к Канту, тот не знает, что такое философ, ибо
философ не только великий мыслитель, но и настоящий человек»8.
Почему Кант, согласно Ницше, не настоящий человек? Очевидно
потому, что он, являясь университетским профессором, не
вполне располагает своим временем, т.е. обязан подчиняться
установленному распорядку, читать лекционные курсы и т.п. Ницшевское
представление о настоящем человеке носит причудливый
характер; все дело сводится к тому, чтобы не подчиняться какому бы то
ни было регламенту.
Следует подчеркнуть, что у Ницше имеются и другие
высказывания о Канте, в том числе и такие, в которых Кант признается
философом. Нельзя сказать, что Ницше изменял свое отношение
к кантовской философии; он просто высказывался о ней
по-разному. Однако в целом отношение Ницше к философии Канта
отрицательное. Он отвергает все основные положения философии
Канта: синтетические суждения a priori, понимание опыта как
единства чувственных данных и априорных категорий рассудка,
учение о категориях, положение о непознаваемости вещей в себе,
категорический императив. Отрицание этих и ряда других
положений кантовской философии почти не обосновывается.
Создается впечатление, что Ницше вообще был лишь поверхностно
знаком с этой философией. Об этом, в частности, свидетельствует
то, что он считал Канта приверженцем сенсуализма. Сам он
положительно относился к сенсуалистической гносеологии, но это не
меняло его отношения к Канту.
Категорический характер высказываний Ницше нередко
объясняется его настроением. Так, например, он, высоко ценивший
Моцарта, Баха, Бетховена и других великих композиторов,
неожиданно заявляет: «Шопен - все музыканты, бывшие до него и
после него, не имеют права на этот эпитет»9.
Некоторые высказывания Ницше, по-видимому, вызваны
постоянно терзающими его хворями. Иначе, пожалуй, невозможно
объяснить такое его изречение: «Все предрассудки происходят
от кишечника» (2, 710). Состояние собственного кишечника
доставляло Ницше немало забот, о чем он постоянно сообщает, как
в письмах, так и в сочинениях. Ему приходится придерживаться
строжайшей диеты. Кофе, стакан вина или пива исключаются из
8 Ницше Ф. Шопенгауэр как воспитатель // Несвоевременные
размышления. СПб., 2009. С. 255.
9 Ницше Ф. Странник и его тень. СПб., 2008. С. 96.
623
рациона, так как они вызывают боли в желудке, тошноту, иногда
даже рвоту. В переписке с друзьями Ницше постоянно сообщает
о состоянии своего здоровья. Так, в письме от 15 октября 1877 г.
к Козиме Вагнер, жене композитора, говорится: «...в последние
недели я подвергался тщательному и продолжительному
обследованию со стороны выдающихся врачей. Результат так печален,
как только может быть: глаза почти безнадежны, они - источник
моих страданий, а именно страшных головных болей». Ницше
утверждает, что ему угрожает почти неизбежная слепота, «если я
не буду выполнять строжайших предписаний врачей: абсолютно
не читать и не писать в течение многих лет». Само собой
разумеется, что он не собирается следовать этим предписаниям*.
В письме Овербеку от 25 августа 1878 г. Ницше сообщает, что
в течение трех недель отдыхал в горах, но затем должен был
покинуть их, так как «мое здоровье становится все хуже». В другом
письме Овербеку от 30 марта 1879 г. Ницше констатирует: «Моя
жизнь скорее мука, чем отдых (Erholung)». В письме П. Рею от
15 апреля 1879 г. Ницше сообщает: «Вероятно, я должен буду
покинуть университет из-за моих глаз и головных болей»10. И уже в
начале мая того же года Ницше обращается к университетскому
начальству с просьбой об отставке**.
* Т. Манн, который, по его словам, «с жадным волнением поглощал его
(Ницше.- Т.О.) сочинения» и для которого он был «примером примерных»
(«Философия Ницше в свете нашего опыта» // Собр. соч.: В 10 т. Т. 10, с. 347.
М., 1961), сообщает о причинах болезни Ницше: «В свое время доктор Мебиус
подвергся ожесточенным нападкам за то, что написал книгу, в которой с
профессиональным знанием дела изобразил всю духовную эволюцию Ницше как
историю болезни прогрессивного паралитика» (там же, с. 350). Далее Т. Манн
сообщает о Ницше: в «базельской клинике со слов больного в истории болезни
запишут, что в молодости он дважды заражался венерическими болезнями. Из
истории болезни, составленной в Иенской клинике, мы узнаем, что в первый
раз это произошло в 1866 году» (там же, с. 362). Т. Манн приходит к выводу,
что Ницше страдал «болезнью, которой суждено было изломать его жизнь и в
то же время вознести ее на несказанную высоту... гений Ницше был неотделим
от болезни, тесно с нею переплелся, и они развивались вместе - его гений и его
болезнь» (там же, с. 352, 354). Это положение об органической связи
гениальности Ницше с его болезнью является, на мой взгляд, совершенно неоправданным
преувеличением. Однако точку зрения Т. Манна разделяют многие
исследователи творчества Ницше.
10Nietzsche F. Briefwechsel. Berlin, Leipzig. 1917. S. 288, 348, 402, 409.
** K.A. Свасьян цитирует в своем предисловии к двухтомному изданию
сочинений Ницше его письмо к Г. Брандесу от 10 апреля 1888 г., в котором
Ницше говорит о своих болезнях. «К 1876 году здоровье мое ухудшилось...
Крайне мучительная и цепкая головная боль истощала все мои силы. С годами она
нарастала до пика хронической болезненности, так что год насчитывал
тогда для меня до 200 юдольных дней... Моей специальностью было: в течение
двух-трех дней напролет с совершенной ясностью выносить нестерпимую боль
624
Многие исследователи философии Ницше отмечают, что его
учение отражает (иногда даже непосредственно) основные
личностные черты, состояние здоровья и связанное с ним
настроение. Едва ли у какого-либо философа состояние здоровья и
содержание воззрений находились в такой тесной, можно сказать
интимной, связи. Можно, в основном, согласиться с А. Белым:
«Ницше воссоздал новую породу гения, которого не видывала
еще европейская цивилизация. Вот почему своей личностью он
открывает новую эру». И далее: «Есть личность Ницше. Есть
учение Ницше о личности. Оно вытекает из его личности; оно - не
теория»11. Точнее сказать: не теория в классическом смысле
слова, не доктрина, которую можно рассматривать безотносительно
к личности автора.
Прекрасно высказался о ницшевской философии Л. Шестов:
«Можно принимать или не принимать учение Ницше, можно
приветствовать его мораль или предостерегать против нее, но зная
его судьбу, зная как он пришел к своей философии, какою ценою
было им куплено "свое слово" - нельзя ни восхищаться им, ни
негодовать против него. У Ницше было святое право говорить то,
что он говорил... На этом писателе - мученический венец. У него
было отнято все, чем красится обыкновенная человеческая жизнь,
и взвалена такая ноша, которую редко кому приходилось нести на
себе»12. И в другом месте цитируемой статьи Шестов продолжает:
«До конца жизни совесть говорит в нем против всего
"доброго", что было в нем, и приводит его, наконец, к признанию, что
все "хорошее" - дурно и наоборот. Из этих настроений возникает
его философия... Перед нами факт необычайно огромного
значения - совесть восстала в человеке против всего, что было в нем
"доброго". Он требует от нас, чтобы мы вновь пересмотрели все
обычные наши представления о добре и зле... ошибочно думать,
что ницшевские переживания являются единственными в своем
роде, новыми, небывалыми. Наоборот, может быть, они
гораздо чаще встречаются, чем принято думать. Но их обыкновенно
cru, vert, сопровождаемую рвотой со слизью... В конце концов болезнь принесла
мне величайшую пользу: она выделила меня среди остальных, она вернула мне
мужество к себе самому» (См. 1, 6-7). Ницше был фаталистом, хотя не
признавал ни безусловной необходимости, ни тем более предопределения. Его девизом
был: amor fati (любовь к судьбе). Он был убежден в том, что его творческие
достижения и его страдания, вызванные болезнями, обусловливают друг друга,
составляют единое целое.
11 Белый А. Фридрих Ницше // Философия Ницше. Pro et contra. M., 2001.
С. 879, 882.
12 Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше // Философия Ницше.
Pro et contra. С. 349.
625
замалчивают... Заслуга Ницше лишь в том, что он осмелился
поднять на них свой голос, сказать громко то, что другие говорили
лишь про себя, чего другие и говорить про себя не смели...»13.
Исследователи учения Ницше единодушно указывают на
глубокую противоречивость его воззрений, отнюдь не
рассматривая эту их особенность как недостаток, который философу не
удалось преодолеть*. В.П. Преображенский в работе «Фридрих
Ницше. Критика морали альтруизма» указывает: «Прямота и
гордость не позволяли ему связывать себя раз высказанным
убеждением только потому, что оно было уже раз высказано». И далее:
«У редкого мыслителя можно найти так много противоречий,
как у Ницше; но зато из редких книг приходится выносить такое
непосредственное впечатление живой подвижности мысли и ее
словно подземной работы, вечно подкапывающей и
разрушающей себя самое»14.
В.П. Преображенский предпочитает психологическое
объяснение амбивалентности ницшевских воззрений. Недостаток
такого подхода, несмотря на все его достоинства, состоит в том,
что он оставляет в тени стремление философа преодолеть
односторонность (а то и явную ошибочность) своих высказываний,
противопоставляя им противоположные высказывания и тем
самым усиливая амбивалентность своих воззрений, так как эти
противоположные высказывания не отменяют, не аннулируют те
высказывания, которым они, сознательно или бессознательно,
противопоставляются.
13 Там же. С. 413-414.
* В.Б. Кучевский в монографии, посвященной Ницше, истолковывает
противоречивость его воззрений как абсурд: «Абсурдность не просто досадный и
случайный момент философских рассуждений Ницше, а их имманентная
черта. Это, можно сказать, норма и стиль его философствования» {Кучевский В.Б.
Философия нигилизма. Ф. Ницше. М., 1996, с. 19). С этим, разумеется, никак
нельзя согласиться, даже если истолковывать абсурд в духе А. Камю, который
трактовал абсурд онтологически, как нечто внутренне присущее бытию.
Противоречия в рассуждениях Ницше плодотворны, поистине необходимы; без них
утверждения Ницше, лишенные отрицания, утрачивают свой новаторский
характер. Гораздо более правильное понимание сути ницшевского
философствования высказывает В. Каплун в статье «Большая политика Ф. Ницше и миф о
Европе»: «... фрагментарность философии Ницше, наличие в ней элементов
разных, часто не совместимых друг с другом концептуальных схем,
характерные для Ницше многочисленные повторы, противоречия, апории и парадоксы,
а также структурно-функциональные, жанровые и стилистические особенности
его текстов, - все это выражает самую суть философии Ницше; и тем не менее,
можно и нужно говорить о ее особой последовательности и фундаментальном
единстве» (Ницше и современная западная мысль / Под ред. В. Каплуна. СПб.,
2003, с. 98).
14 Сб. Философия Ницше. Pro et contra. С. 37, 38.
626
H.К. Михайловский, который, пожалуй, первый среди русских
мыслителей занялся критическим осмыслением учения Ницше,
справедливо писал, что: «... в Ницше не только есть, как во
всяком писателе, во всяком человеке, свет и тени, но что этот свет
сияет ярче многих "признанных светил", поэтому нет никаких
оснований "записывать" Ницше ни просто в сумасшедшие, как это
делает Нордау, ни в непогрешимые, как это делают пламенные
ученики»15.
Ницше, несомненно, выдающийся, гениальный мыслитель.
Правда, в советские времена его учение третировалось в наших
справочных изданиях, учебных пособиях, монографиях.
Достаточно указать хотя бы на книгу Бернардинера «Ницше и фашизм»
или книгу Лейтензена «Ницше и финансовый капитал». Однако
и тогда, несмотря на неблагоприятные условия, появлялись и
серьезные исследования, которые в основном правильно, хотя и
в недостаточной степени, характеризовали учение Ницше. Укажу,
в частности, на учебное пособие А.Ф. Зотова и Ю.К. Мельвиля
«Буржуазная философия середины XIX - начала XX в». Следует
также выделить монографию С.Ф. Одуева «Тропами Заратуст-
ры», опубликованную в 1971 г. Ницше, пишет Одуев,
«несомненно мыслитель крупного ранга». И далее: «Значение Ницше как
мыслителя определяется именно тем, что он первым среди
буржуазных философов угадал и поставил "роковые" вопросы
декаданса и нигилизма, разложения буржуазной культуры и кризиса
буржуазного общества»16.
В течение последних 15-20 лет Ницше стал в нашей стране,
пожалуй, не только самым читаемым (и самым издаваемым), но
и весьма превозносимым философом. Если в статьях и книгах,
посвященных, скажем, Канту, Гегелю, Гуссерлю, Витгенштейну,
Хайдеггеру и другим великим философам, их учение излагается
критически, как и положено в философских работах, то при
изложении философии Ницше все сводится к восхищению глубиной
его воззрений и мастерством его как писателя. Это относится и к
весьма содержательному предисловию К.А. Свасьяна к
двухтомному изданию сочинений Ницше, вышедшему в 1990 г.
И. Гарин - автор капитальной монографии «Ницше»,
опубликованной в 2000 г., также не считает нужным сопровождать
высокую оценку учения Ницше критическим анализом. В аннотации,
предваряющей авторский текст и, по-видимому, вполне
одобряемой И. Гариным, говорится: «Книга посвящена жизни, личности,
Михайловский Н.К. Еще раз о Ницше // Там же. С. 879, 882.
Одуев С.Ф. Тропами Заратустры. М., 1971. С. 615.
627
творчеству величайшего философа XIX века». Ницше
безусловно принадлежит к плеяде великих философов XIX в., но назвать
его величайшим, конечно, нельзя. Нельзя, даже если следовать
тому определению философии Ницше, которое дается И.
Гариным: «Творчество Ницше - феномен эстетический, а не научный,
поэтому и воспринимать его следует как грандиозную
мифологию»17. Тот, кто согласен с этим определением, конечно, не
вправе называть Ницше не только величайшим, но и просто великим
философом. Я, разумеется, не согласен с И. Гариным. Ницше
является великим философом также и потому, что его учение не
мифологема и не сводится к эстетике, которая занимает в этом
учении хотя и значительное, но все же не определяющее место.
И. Гарин не одинок в своей экзальтации. Издательство
«Азбука-классика», поставляющее большими тиражами отдельные
произведения Ницше, сопровождает его работу «Странник и его
тень» аннотацией, характеризующей философа как «величайшего
немецкого философа». Ю. Синеокая, посвятившая монографию
русским мыслителям, занимавшимся учением Ницше,
характеризует его как мыслителя, «определившего проблемное поле
философствования в XX столетии»18. С этим утверждением
нельзя, конечно, согласиться. Ни один философ не был в состоянии
определить «проблемное поле» последующего философского
развития. Да и вообще философская проблематика той или иной
исторической эпохи определяется не только философией; сплошь
и рядом решающую роль в этом процессе играют
социально-экономические и политические процессы, потребности, интересы.
Развитие философии не есть саморазвитие философии.
Ницше, несомненно, оказал немалое влияние на
философское развитие XX века. Так, например, «критическая теория»
Франкфуртской школы социальных исследований занималась,
главным образом, критической интерпретацией марксизма и
анализом с этих позиций основных черт «позднего» капитализма
(Spätkapitalismus). Однако в связи с этой, конечно, чуждой Ницше
тематикой, представители Франкфуртской школы ставили
философские вопросы и нередко ссылались на Ницше. Это относится,
в частности, к монографии Т. Адорно и М. Хоркхаймера
«Диалектика просвещения». В монографии «Негативная диалектика»
Адорно в противовес Гегелю и вполне в духе Ницше
истолковывает отношение противоположностей как исключающее
единство, т.е. всегда остающееся неразрешимым.
17 Гарин И. Ницше. М., 2000. С. 19.
18 Синеокая Ю.В. Три образа Ницше в русской культуре. М., 2008. С. 22.
628
Неопозитивизм - логический позитивизм и аналитическая
философия - господствующее философское направление в США,
Великобритании и ряде других стран, возникло и развивалось
независимо от учения Ницше. Однако ницшевские идеи, в
частности, его анализ языка оказали известное влияние на Л.
Витгенштейна и некоторых его последователей. То же относится и к
другому, в высшей степени влиятельному направлению
философии XX в. - феноменологии Э. Гуссерля и его многочисленным
последователям во всех странах. Неокантианство и
неогегельянство, которые в значительной мере определяли характер
философствования в XX в., конечно, далеки от учения Ницше, однако
и тут заметно влияние его идей. Новая онтология Н. Гартмана,
неореализм и критический реализм также сложились без сколько-
нибудь заметного влияния идей Ницше. Экзистенциализм, в
особенности «фундаментальная онтология» М. Хайдеггера* несет
на себе печать учения Ницше, однако проблемное поле этого
направления определяет, главным образом, феноменология
Гуссерля, учение Кьеркегора и герменевтика, происхождение которой
ведет к Шлейермахеру. Философы-постмодернисты, в
частности М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Делёз, Ж. Бодрийяр, ссылаются на
вдохновлявшие их идеи Ницше, но тематика
постмодернистского философствования имеет мало общего с вопросами, которые
волновали Ницше**. Идеи Ницше оказали значителное влияние
* М. Хайдеггер утверждает, что «под влиянием Ницше ученая философия
XIX и начала XX века становится "философией ценности" и "феноменологией
ценности"» (Ницше и пустота. М, 2006, с. 143). Относительно неокантианской
философии ценности (В. Виндельбанд, Г. Риккерт), которая возникла до
появления Ницше на исторической арене, Хайдеггер заявляет, что это была
философия ценности «в более узком и школьном смысле» (там же, с. 144). Однако о
значительном влиянии Ницше на так называемую «ученую», т.е. академическую
философию в XIX в. говорить нет достаточных оснований. Нет также, на мой
взгляд, таких оснований утверждать, что неокантианское понимание ценностей
носит более узкий, т.е. ограниченный характер. Ницше определял понятие
ценности как «точку зрения». Неокантианское понимание ценностей более «узкое»
в том смысле, что оно более определенное, непосредственно связанное с
традиционным, идущим еще от Платона представлением о добре, истине, красоте.
Нельзя сказать, что это традиционное представление о ценностях чуждо Ницше:
он и принимает его, и подвергает отрицанию, как это присуще ему вообще в
анализе любых понятий и представлений.
** В работах постмодернистов немалое место занимает проблема языка, его
влияния не только на форму, но и на содержание мышления. При этом
постмодернисты нередко ссылаются на Ницше как мыслителя, который
принципиально по-новому осмыслил власть языка над мышлением. A.A. Лаврова в статье
«Философия языка Ф. Ницше: вызов традиции?» занимает, на мой взгляд, более
правильную позицию в этом вопросе. Она, в частности, указывает: «Продолжая
линию Гердера и Гумбольдта, вопрос о происхождении языка Ницше связывает
629
на основоположника психоанализа 3. Фрейда. Г. Цитко
справедливо указывает: «Как теоретик бессознательного, которое
выявляет значение побуждений и его скрытых сил как
действительных агентов психической действительности, Ницше может быть
назван предшественником психоанализа 3. Фрейда»19. Признавая,
таким образом, влияние Ницше на философские учения XX в.,
нельзя все же утверждать, что Ницше определил «проблемное
поле» философии следующего столетия.
Нельзя также согласиться и с другим утверждением Ю.В.
Синеокой: «Очевидно, что идеи Ницше... могут помочь
современным отечественным теоретикам выработать соглашение о
государственной стратегии России»20. Комментарии, по-моему, тут не
нужны.
Хотя учение Ницше не определяет тематического поля
философии XX века, оно, как несомненно весьма влиятельное и в
настоящее время учение, занимает весьма значительное место в
историко-философских исследованиях. И это, конечно, вполне
объяснимо: Ницше - единственный в своем роде философ,
настолько отличный от всех представителей философии, что
постоянно обсуждается вопрос: философ ли он? Те, кто ставит этот
вопрос меньше всего намерены преуменьшить его значение в
интеллектуальной жизни человечества. Скорее, они полагают, что
он больше, чем философ.
К. Ясперс характеризует Ницше как «непостижимое
исключение, которое не будет образцом для подражания, совершенно
с вопросом о происхождении разума. Переход от перцепции к апперцепции
происходит, считает Ницше, не в недрах индивидуального сознания, а сопряжен с
формированием сообщества людей...» (Сборник «Фридрих Ницше и
философия в России». СПб., 1999, с. 213). Оценивая это воззрение, Лаврова пишет:
«Сходство этого фундаментального положения ницшеанской философии
языка с установками романтической... трактовки логико-лингвистических проблем
очевидно» (там же). Далее Лаврова указывает на отличие ницшевской
концепции языка от воззрений Гердера и В. Гумбольдта, поскольку Ницше «стремится
конкретизировать причины столь сильного воздействия языка на мышление и
снять покров таинственности с "духа народа"» (там же, с. 216). Подытоживая
свое исследование, A.A. Лаврова приходит к выводу: «Именно язык и его
скрытая власть над мыслью, сознанием оказалась тем "крепким орешком", который
не смог сокрушить даже столь беспощадный по отношению к моральным и
религиозным предрассудкам "молот" радикального критицизма Ницше. Можно
было бы даже сказать, что философский проект "переоценки всех ценностей"
так до конца и не был реализован, если бы не еще один аспект ницшеанства,
выводящий его на герменевтическую стезю» (там же, с. 218).
19 Zitko H. Nietzsches Philosophie als Logik der Ambivalenz. Würzburg,
1991. S. 3.
20 Синеокая Ю.В. Три образа Ницше в русской культуре. С. 173.
630
независимо в своем будоражащем действии на нас, которые
исключением не являются»21. Однако гениальная исключительность
Ницше вовсе не означает, что у него не было предшественников,
которые в той или иной степени высказывали идеи, получившие
свое несравненно более основательное развитие в трудах Ницше.
Сам Ницше однажды заявил, что его духовными предками
являются Гераклит, Эмпедокл, Спиноза, Гёте*. Это заявление следует
обсудить. Ссылка на Гераклита понятна: Ницше усвоил идею
становления, но в отличие от Гераклита, который считал
становление объективно совершающимся процессом, Ницше относит его,
скорее, к сфере представления. Правда, в «Черновиках и
набросках», относящихся к 80-м годам, Ницше признает объективность
становления: «... становление вовсе не иллюзорное состояние,
быть может, наоборот, мир сущего - иллюзия»22. В другом месте
этих подготовительных работ он утверждает: «Мир
существующий; он не то, что претерпевает становление и исчезновение. Или
вернее, он претерпевает становление и исчезновение, но
никогда не начинает претерпевать становление и никогда не прекра-
21 ЯсперсК. Ницше. Введение в понимание его философствования. М, 1993.
С. 80.
* В письме Овербеку от 30.07.1881 г. Ницше сообщает: «Я был весьма
удивлен и восхищен (entzüct)! Я имею предшественника, и какого
предшественника! Я почти не знал Спинозы... Не только его общая тенденция такая же,
как у меня - познание сделать могущественным аффектом, - в пяти главных
пунктах его учения нахожу я вновь себя... он отрицает свободу воли,
нравственный мировой порядок...» (Nietzsches Briefe, Berlin, 1931, S. 241). Однако
отрицание индетерминизма и телеологии - общая черта материалистических
учений XVII века. Что же касается основного в учении Спинозы -
рационалистического материализма и пантеизма, который не следует истолковывать
как разновидность атеизма, - то эти основные черты философии Спинозы
были совершенно чужды Ницше. Ницше полагал, что Спиноза поставил выше
познания - страсти. Однако основной страстью разумного человека Спиноза
считал страсть к познанию. Ничего выше познания (и науки) он не признавал.
Поэтому следует считать, что Ницше ошибался, причисляя Спинозу к своим
предшественникам.
Стоит отметить, что Ницше иногда называл своими предшественниками
ученых, у которых обнаруживал отдельные, близкие ему высказывания. Так,
например, он пишет: «Когда Фридрих Август Вольф утверждал, что рабы
необходимы в интересах культуры, это было одно из сильных открытий моего
великого предшественника, для понимания которого у других не достает твердости»
(Ницше Ф. Поли. собр. соч., т. 7, с. 147). Кто такой Ф.А. Вольф? О нем нет ни
слова в изданном в Лейпциге в 1957 г. лексиконе (краткой энциклопедии). Ясно
одно: нет оснований считать его ни великим, ни просто предшественником
Ницше. Ученых (как и не ученых), считавших рабство необходимым условием
развития культуры в XVIII веке, было немало. Достаточно назвать француза
А. Гобино (Gobineau) (1816-1882).
22 Ницше Ф. Полное собрание сочинений. Т. 13. М., 2006. С. 33.
631
тит исчезать - он сохраняется и в том и в другом»23*. Однако эти
высказывания не вошли в опубликованные работы, по-видимому,
потому, что они не согласовались с философией Шопенгауэра,
согласно которой чувственно воспринимаемый мир есть всего лишь
представление, т.е. нечто субъективное. Не подлежащей
сомнению реальностью являются лишь аффекты, переживания. Можно
отрицать бытие, но нельзя отрицать боль, радость, гнев, отчаяние
и т.п. Понятна поэтому и ссылка на Эмпедокла, по учению
которого любовь и вражда изначальные могущественные природные
силы, которые соединяют и разъединяют элементы (земля, вода,
огонь, воздух). Не следует тем не менее переоценивать значение
учения Эмпедокла в формировании ницшевской концепции
аффектов**.
Ссылка Ницше на Спинозу и Гёте едва ли дает основание
считать их идейными предшественниками философа. Он
высоко ценил учение Спинозы об аффектах, но ницшевское учение
об аффектах не является развитием концепции Спинозы. Нет
оснований отрицать влияние Гёте на интеллектуальное развитие
Ницше, но видеть в Гёте одного из «предков» Ницше также нет
оснований. Важнейшим теоретическим источником философии
Ницше был, конечно, А. Шопенгауэр, которого Ницше
неоднократно называл своим учителем.
К идейным предшественникам Ницше следует также отнести
Ж.-Ж. Руссо и М. Штирнера. О Руссо Ницше пишет чуть ли не с
ненавистью, непосредственно связывая его учение с революцией
23 Там же. С. 342.
* Наряду с признанием объективной реальности Ницше, как это вообще
характерно для его мировоззрения, толкует становление субъективистски, т.е.
фактически отрицает его реальность. «В становлении все пусто, обманчиво,
плоско и достаточно нашего презрения» (Несвоевременные размышления,
с. 27). И несколько ниже еще более определенно: «Это вечное становление
лживая кукольная комедия, из которой человек забывает самого себя» (там
же, с. 37).
** Статья A.B. Лебедева «Античная философия» в энциклопедическом
словаре (М., 2008), характеризуя Эмпедокла, указывает: «Космогония Эмпедокла,
примыкая к традиции Анаксимандра и Гераклита, строится на бесконечном
чередовании господства "любви" и господства "вражды". Отдельный
космогонический цикл имеет четыре фазы: 1) эпоха "любви" - все элементы слиты воедино,
образуя качественно недифференцированный неподвижный шар; 2) "вражда"
проникает в "шар" и вытесняет "любовь", разъединяя разнородные элементы и
соединяя однородные; 3) "любовь" возвращается, постепенно соединяя
разнородные элементы и разъединяя однородные; 4) (зоогоническая) фаза, в
результате которой возникают живые существа и в конечном итоге человек» (с. 802).
Космогоничесая теория Эмпедокла не оказала заметного влияния на Ницше, но
его учение о всеобъемлющих, всё сотворяющих силах - «любви» и «вражды»
было вполне воспринято Ницше.
632
во Франции, которая представлялась ему ужасной и, разумеется,
вовсе не исторически необходимой. Несмотря на это, следует все
же согласиться с Н.К. Михайловским: «Со времени Руссо
никто в Европе не говорил таких дерзостей европейской
цивилизации и современному "прогрессу", как Ницше, если не считать его
предшественником Макса Штирнера, слишком одинокого,
слишком мало расслышанного в его время, да и то только бросившего
недоразвитый зачаток оригинальной мысли»24. Идеи Руссо были,
конечно, неприемлемы для Ницше, но его дерзкая критика
цивилизации, парадоксальность его высказываний о социальном
прогрессе не могли, на мой взгляд, не оказать влияния на весьма
впечатлительного Ницше.
О Штирнере Ницше, насколько мне известно, нигде не
упоминает. Однако трудно допустить, что этот немецкий
мыслитель остался ему неизвестен. На родство ницшевских воззрений
со штирнеровской теорией абсолютного эгоизма справедливо
указывает В. Бибихин: «Штирнер, рассмеянный, растоптанный
Марксом, почти один во всем XIX веке отчетливо проговаривает
тему, которую мы встречаем в солипсизме Хайдеггера и
Витгенштейна. .. Сверхчеловек Ницше не может быть до конца понят без
штирнеровского Единственного»25.
Р. Шельвин посвятил монографию сравнительному
исследованию учений Штирнера и Ницше. Штирнер, как показывает
Шельвин, утверждал, что церковь, государство и общество -
это призрачные образы, которые тем не менее оказываются
вампирами, высасывающими кровь из живого тела.
Абсолютный индивидуализм Штирнера откровенно враждебен любым
правовым установлениям, поскольку они сковывают действия
Единственного, которым является сам Штирнер, как
индивидуум, личность, самосознание. Общий вывод, который
обосновывает Шельвин, таков: «Литературная деятельность обоих
мыслителей разделена тридцатью с лишком годами, но как ни
велико различие между ними, согласие их не менее велико...
»26. Это положение подкрепляется цитатами из основной работы
Штирнера. Вот некоторые из них: «До тех пор, пока Ты веришь
в истину, Ты не веришь в себя... Ты больше, чем истина,
которая пред Тобой ничто». «То, что Я называю моим правом, - есть
24 Михайловский Н.К. Еще о Ницше // Философия Ницше. Pro et contra.
С. 150.
25 Бибихин В. На подступах к Ницше // Ницше и современная западная
мысль. СПб., 1994. С. 307-309.
26 Шельвин Р. Макс Штирнер и Фридрих Ницше. М., 1909. С. 13.
633
в действительности только моя сила...». «Своим основанием я
сделал ничто»^7 .
Достаточно даже беглого знакомства со знаменитым
произведением Штирнера, чтобы подкрепить выводы В. Бибихина
и Р. Шельвина. Штирнер, к примеру, утверждал: «Право - это
бредовая идея, навязанная нам призраком. Власть - это я сам;
я- властен, я- обладатель власти... Власть и сила существуют
только во мне, властном и сильном». В другом месте своей
книги Штирнер возглашает: «Но что мне до общего блага. Общее
благо, как таковое, не мое благо, оно лишь крайняя точка
самоотречения... Народ может быть свободен не иначе, как за счет
отдельного, ибо главным объектом в этой свободе является не
отдельный, а народ. Чем свободнее народ, тем связанней отдельный..
Народная свобода - не моя свобода». И еще одна цитата, вполне
«ницшевская»: «К чему сводится мое общение с миром? Я хочу
наслаждаться им, и поэтому он должен быть моей
собственностью, я хочу завоевать его. Я не желаю ни свободы, ни равенства
27 См.: Там же. С. 22, 26, 39.
* Р. Шельвин, характеризуя Штирнера как идейного предшественника
Ницше, вместе с тем считает основными теоретическими источниками учения
Ницше философию Шопенгауэра и дарвинизм. «Это мировоззрение, -
указывает он, - имеет два источника: философию Шопенгауэра и дарвинизм, но то и
другое лишь в основных чертах» (Шельвин Р. Макс Штирнер и Фридрих
Ницше. М., 1909, с. 39). Вопрос о роли Шопенгауэра ясен. Иное дело - отношение
Ницше к дарвинизму. Он согласен с Дарвиным в том, что «борьба за
существование» характеризует все существование животных и растений. Дарвинизм
воспринимается Ницше как социал-дарвинизм, что было чуждо Ч. Дарвину.
Вслед за Дарвиным Ницше признает естественный отбор, а также то, что homo
sapiens возник из человекоподобной обезьяны. Однако Ницше не согласен с
Дарвиным в ряде существенных пунктов. Он считает, что в «борьбе за
существование» побеждают не более сильные, а слабые, которые объединяются, в то
время как сильные недостаточно способны к объединению. «Борьбу за
существование» Ницше понимает как «борьбу за власть». Эта борьба, по его
убеждению, характеризует не только сообщество людей, но и всю жизнь животных
и растений. Само понятие жизни тождественно, согласно Ницше, с борьбой за
власть. Р. Шельвин явно ошибается, утверждая, что Ницше воспринял у
Дарвина «учение о восходящем развитии, происхождении более совершенного из
менее совершенного» (там же, с. 47). Ницше, напротив, утверждает, что
высшее не возникает из низшего.
Некоторые ницшевские выводы, сделанные, очевидно, в связи с
дарвинизмом, поражают своей парадоксальностью. «Быть может, - пишет он, - все
человечество есть лишь одна ограниченная во времени фаза в развитии
определенного животного вида - так что человек возник из обезьяны и снова станет
обезьяной» (1, 371). Создается впечатление, что в данном случае Ницше
высказывает идею вечного повторения, которая была им четко сформулирована в
более поздних произведениях. Ясно, однако, то, что из учения Дарвина Ницше
черпает выводы, которые несовместимы с этим учением.
634
людей. Я хочу только моей власти над ними, хочу сделать их моей
собственностью, способной дать мне наслаждение»28.
К несомненным предшественникам Ницше следует отнести
и Б. Мандевиля, который, будучи выдающимся гуманистом,
саркастически критиковал современное ему общество. Он писал:
«...зло... является тем великим принципом, который делает нас
социальными существами, является крепкой основой,
животворящей силой и опорой всех занятий и профессий без исключения»29.
Мандевиль был далек от апологии зла, как и от отрицания
противоположности между добром и злом. Он лишь критически
описывал становление капиталистического способа производства.
Г. Цитко в монографии «Философия Ницше как логика
амбивалентности» убедительно показывает, что философия Гегеля,
о которой Ницше высказывался пренебрежительно, в
действительности оказала на него немалое влияние. Ницше, «начиная с его
ранних работ, воспринимает и перерабатывает диалектическую
традицию, включая и гегелевскую философию»30. Подобно Гегелю Ницше
постоянно подчеркивает внутреннюю противоречивость явлений,
относительность противоположностей. Однако в отличие от Гегеля
он не признает опосредования противоположностей, их
примирения, единства, тождества. Но, как указывает автор монографии,
отдельные высказывания Ницше показывают, что он по-своему
принимает и истолковывает опосредование противоположностей.
Г. Цитко указывает на Я. Буркхардта как в ряде отношений
предшественника Ницше. В 1870 г. Ницше, будучи
экстраординарным профессором в Базельском университете, посещал все
лекции проф. Буркхардта и восторженно сообщал в письмах друзьям
о своем согласии с идеями этого выдающегося историка.
Полемика Ницше с историей как наукой не имеет, конечно, связи с его
отношением к Буркхардту, которого он воспринимал не только как
историка, но и как философа. «Ницшевское понимание
исторической роли суверенного индивидуума явно сложилось под
влиянием исторической теории Якоба Буркхардта, лекции которого,
опубликованные как "Weltgeschichtliche Betrachtungen", содержат
ряд положений, которые вошли в ницшевскую теорию
индивидуума»31. Буркхардт, в отличие от Гегеля, который рассматривал
выдающихся исторических деятелей как инкарнацию «абсолютного
духа», настаивал на том, что «могущественные индивидуумы» не
28 Штирнер M Единственный и его собственность. М., 1998. С. 157, 159, 235.
29 Мандевиль Б. Басня о пчелах. М., 1974. С. 343.
30 Zitko H. Nietzsches Philosophie als Logik der Ambivalenz. Würzburg,
1991. S. 29.
31 Ibid. S. 121-122.
635
просто выражают в своей деятельности исторические условия и
потребности, но в значительной мере творят и то, и другое.
Великие художники, философы, поэты подобны, с точки зрения Бурк-
хардта, секуляризированному Богу*.
А. Мартин в посвященной Буркхардту монографии указывает,
что исторический процесс, согласно его воззрениям, есть
жизненный процесс во всех его измерениях. Кризисы, лихорадки,
процессы обновления, страдания - всё это не только сущностные черты
жизни индивидуумов; таковы, но еще в большей степени,
исторические процессы. Буркхардт, предвосхищая в ряде отношений
воззрения Ницше, настойчиво подчеркивал выдающуюся роль
искусства в событиях всемирной истории. Однако в отличие от
Ницше он утверждает, что такая же большая роль в исторических
свершениях принадлежит и религии. Всемирная история, с точки
зрения этого выдающегося ученого, есть прежде всего история
государства и культуры, содержание которой в значительной мере
определяется искусством и религией. Для Буркхардта, конечно,
неприемлема ницшевская концепция культуры, согласно которой
ее единственное содержание составляют гениальные личности**.
* Воззрения Буркхардта существенно отличны от ницшевских прежде всего
потому, что он постоянно подчеркивает в своих лекциях громадную роль религии в
формировании культуры и общества в целом. «Религия является выражением
вечной и неискоренимой метафизической потребности человеческой натуры. Величие
религии в том, что она представляет собой целостное сверхчувственное
дополнение к человеку, все то, что он не в состоянии дать сам себе» (Буркхардт Я.
Размышления о всемирной истории. М., 2004, с. 41). В отличие от Ницше Буркхардт
постоянно подчеркивает громадную роль государства во всемирной истории.
«Целесообразнее нам представляется следующая схема: 1) культура, обусловленная
влиянием государства; 2) государство, обусловленное влиянием культуры; 3)
культура, обусловленная влиянием религии; 4) религия, обусловленная влиянием
культуры; 5) государство, обусловленное влиянием религии; 6) религия, обусловленная
влиянием государства... преимущество этой схемы заключается в том, что всякий
раз рассматриваемый предмет обращается в свою противоположность» (там же,
с. 78). Приведенные высказывания Буркхардта свидетельствуют о том, что он
отнюдь не сводит культуру к деятельности гениев, как это делает Ницше. «Культурой
мы называем всю сумму процессов развития духа, которые происходят спонтанно
и не претендуют на универсальное или обязательное для всех значение... Вершину
любой культуры образует чудо духовности: языки...» (там же, с. 56, 57).
** Буркхардт, как правильно отмечает А. Мартин, пессимистически
перетолковывает социальный прогресс, фактически отрицая, что развитие способствует
улучшению условий человеческой жизни. «Историк Буркхардт видит
амбивалентность всякого исторического развития - государственного, религиозного,
культурного, но вместе с нею, амбивалентностью, всегда наличествует
альтернатива: возможность решения, направленного к добру и злу» (Martin Л. Burckhardt
und Nietzsche Philosophieren über Geschichte. Krefeld, 1988, S. 54). Это указание
на всегда наличествующую альтернативу, т.е. возможность поворота не только ко
злу, но и к добру, отличает позицию Буркхардта от воззрений Ницше.
636
Б. Рассел сопоставляет воззрения Ницше с воззрениями
Макиавелли. Он указывает на «важные различия между этими
людьми. Различия эти состоят в том, что Макиавелли был человеком
действия, его мнения формировались в тесном контакте с делами
общества и шли в ногу с веком... Ницше, напротив, был
профессором, в сущности книжником, философом, находящимся в
сознательной оппозиции к доминирующим политическим и этическим
течениям своего времени. Однако сходство их глубже, философия
политики Ницше аналогична философии политики, изложенной в
книгах "Князь" (но не в "Размышлениях"), хотя она разработана и
применена более широко. У обоих - и у Ницше, и у Макиавелли -
этика нацелена на власть и носит умышленно антихристианский
характер, причем антихристианский характер у Ницше выступает
более выпукло. Наполеон был для Ницше тем же, что Чезаре Бор-
джиа для Макиавелли: великим человеком, побежденным
мелкими противниками»32.
То, что у Ницше были предшественники, которые в какой-то
мере предвосхитили его идеи, нисколько не затемняет того факта,
что его появление на поприще философии было совершенно
беспрецедентным событием. «С Ницше, - пишет С. Цвейг, - впервые
появляется на морях немецкого познания черный флаг
разбойного брига: человек иного племени, иного происхождения, новый
род героизма, философия, низведенная с кафедры, в вооружении
и военных доспехах... Ницше вторгается в немецкую
философию, как флибустьер XVI века в Испанию, орда необузданных,
неустрашимых, своевольных варваров, без рода и племени, без
вождя, без короля, без знамени, без дома и родины. Подобно им,
он завоевывает не для себя, не для грядущих поколений, ни во имя
Бога, короля, веры, а единственно ради радости завоевания...»33.
Ницше обычно преисполнен глубокой веры в великое
значение своих идей, которые он смело противопоставляет всей
предшествующей философии. И не только философии. Всей
духовной культуре вообще. «То, что я сейчас делаю или
допускаю, столь же важно для всего грядущего, как и величайшее
событие прошлого...» (1, 617). Такого рода заявления встречаются
в работах Ницше довольно часто, ибо ему не свойственна
недооценка эпохального значения своих идей. И все же иногда его
посещает сомнение, неуверенность в действительном значении
своих философских воззрений. Эти сомнения обнаруживаются
не в опубликованных произведениях, а в его письмах к друзьям.
Рассел Б. История западной философии. М., 1959. С. 778.
Цвейг С. Собр. сочинений. Т. 5. М., 1992. С. 213.
637
Так, в письме Овербеку он признается: «Ведь в конце концов я
довольно невежественный философ, любитель философии,
лирик, которому далеко до художника»34. К счастью, эта
неуверенность в своей философской мощи не часто посещает Ницше*.
Выдающаяся историческая заслуга Ницше как философа
состоит не в обстоятельном систематическом развитии какой-либо
имеющей фундаментальное значение идеи, а в неустанной про-
блематизации основных онтологических, гносеологических,
этических, эстетических положений, в особенности тех из них,
которые завоевывали широкое признание, становились почти
общепризнанными, признавались истинными. Эта проблематизация
радикальна прежде всего в своем отрицании. Ницше не
вопрошает, к примеру, что такое истина? что такое добро? и т.д., а
утверждает: не является ли истина (всякая истина, истина вообще)
заблуждением? Не есть ли добро (все, что считается добром) -
зло? Вопросительный знак, которым пользуется Ницше,
вовсе не означает, что Ницше ставит вопрос, а не отвечает на него.
В действительности эта форма предложений в сочинениях
Ницше носит риторический характер, т.е. вопросительный знак
может быть просто убран.
Положения, провозглашаемые Ницше (с вопросительным или
восклицательным знаками или без них), представляют собой не
просто парадоксальную негативистскую формулировку
традиционных философских вопросов, а принципиальный пересмотр
проблем или то, что Ницше назвал переоценкой ценностей.
Одной из самых значительных форм этой генеральной переоценки
является отрицание систем как традиционного способа
философствования, отрицание системосозидания как формы догмати-
зации философских учений. Ницше отвергает великих философов
прошлого именно как строителей систем, догматизирующих
достигнутый уровень философского познания. Системам, как
прокрустову ложу философии, Ницше противопоставляет свободное
развитие философских идей. Благодаря этому философствование
34 См.: ГалевиД. Фридрих Ницше. М., 1989. С. 117.
К.А. Свасьян в предисловии к двухтомнику Ницше пишет: «Правы те
профессиональные философы, которые пожимают плечами, или разводят руками,
или делают еще что-то в этом роде при словосочетании "философия Ницше".
Он совсем не философ в приемлемом для них смысле слова. Кто же он? Говорят:
он - философ-поэт, или просто поэт, или философствующий эссеист, или
лирик познания, или еще что-то!» (1, 13). Само собой разумеется, что это отличие
Ницше от профессиональных философов рассматривается К.А. Свасьяном (и не
только им) как несомненное преимущество Ницше, свидетельство того, что его
появление на исторической арене - начало новой эпохи в истории философии
(и не только в ней).
638
становится внутренним диалогом, спором философа с самим
собой, исследовательским поиском, которого не останавливает
видимость окончательного решения обсуждаемых проблем*.
* Л. Шестов, разделяя ницшевское отрицание системосозидания,
справедливо утверждает: «Философия с раз сложившейся теорией перестает видеть и
чувствовать всё то, что не вмещается в установленные ею рамки» («Добро и зло
в учении гр. Толстого и Ф. Ницше» // Философия Ницше. Pro et contra, с. 409).
Это воззрение разделяется далеко не всеми исследователями философии Ницше.
К. Лёвит, например, придерживается противоположного воззрения. Он, в
частности, утверждает: «Подлинная мысль Ницше представляет собой систему
мысли, в основании которой находится смерть Бога, в середине - проистекающий
из нее нигилизм, а в конце - самоопределение нигилизма в вечном
возвращении» (Лёвит К. От Гегеля к Ницше. СПб., 2002, с. 342).
Н.В. Мотрошилова, цитируя афоризм Ницше, отрицающий системосозида-
ние, полагает, что Ницше имел в виду системы старого толка, притязавшие на
окончательное завершение философского развития, т.е. достижение в этих
системах всего возможного философского знания. Такому пониманию философской
системы Ницше, по убеждению Н.В. Мотрошиловой, противопоставляет новое
понимание системы. Поэтому она считает, что «...в главных работах Ницше
(включая самые "афористичные", самые "художественные")... всегда можно
обнаружить достаточно строгую и совершенно специфическую систематику,
целостность, продуманную структурированность, внутреннюю связность»
(Мотрошилова Н.В. «По ту сторону добра и зла» как философская драма // Фридрих
Ницше и философия в России. СПб., 1999, с. 227). Понятие системы
предполагает логическую согласованность ее частей. Этого, конечно, нет у Ницше, который
вообще с подозрением относился к логической последовательности. Поэтому,
например, ницшевское учение о вечном возвращении того же самого (Wiederkehr
der Gleichen) фактически предполагает отрицаемое им личное бессмертие. Ясно
также и то, что возникновение сверхчеловека, - одна из главных идей учения
Ницше, - в принципе невозможно, если имеет место вечное возвращение того,
что уже было. Я полагаю, что то, что К. Лёвит и Н.В. Мотрошилова называют
системой Ницше, есть не что иное как целостность его учения, обусловленная
ее личностным характером. Философию Лейбница или какого-либо другого
философа можно изучать, не зная биографии философа, его характера, болезней и
т.п. Философия же Ницше неотделима от его личности, истории его жизни, его
болезней, его переезда из одного пансиона в другой, из Швейцарии в Италию и
обратно, и т.д. Это особого рода философия, которая является также рассказом о
самом себе, о своем физическом состоянии, настроении и т.д. И афоризмы Ницше
непосредственно выражают его состояние, хотя по своему содержанию они
независимы от тональности, связанной с состоянием и настроением философа.
Ницше утверждал: «Я не доверяю всем систематикам и сторонюсь их. Воля к
системе есть недостаток честности» (2, 560). Все исследователи философии
Ницше отмечают противоречивость его воззрений, которую Ницше не только вполне
осознавал, но даже считал неизбежной, учитывая «перспективизм» воззрений,
т.е. различный угол зрения, разную дистанцию, с которой рассматривается
объект. Однако это вовсе не означает, что любое философское учение в такой же
степени амбивалентно, как и учение Ницше. Амбивалентность ницшевского учения
специфична. «В нем, - отмечает Е. Трубецкой, - замечается необычная пестрота,
анархия разнородных начал, не согласованных друг с другом и не продуманных
до конца. Рядом с некритическим отрицанием метафизики мы находим здесь
639
Подчеркивая выдающееся историческое значение ницшевской
критики системосозидания, следует все же не упускать из виду и
ее слабую сторону: игнорирование необходимости
систематического логического развития философских положений. Системо-
созидание и систематическое развитие философских понятий,
идей, концепций - совершенно разные вещи. Систематическим
теоретическим развитием своих основных понятий занимаются
науки. Философия, тяготеющая к научному пониманию явлений,
не может, не должна игнорировать этот научный императив. То,
что Ницше не осознавал его необходимости, обусловлено его
личностными характеристиками и в известной мере также
предпочитаемым им афористическим способом изложения.
Подчеркивая несомненное значение ницшевской критики
системосозидания как проявление догматизма в истории
философии, следует вместе с тем учитывать и негативную сторону этой
критики, обусловленную превратным и, вероятно, недостаточно
компетентным представлением об историко-философском
процессе. Об этом убедительно говорят высказывания философа: «во
всей истории философии нет никакой интеллектуальной
честности»35. Философы, с этой точки зрения, лишены интеллектуальной
честности, т.е. элементарно недобросовестны. Понятна поэтому
ницшевская оценка философии Платона: «Я охотнее применил
бы ко всему феномену Платона суровое слово "высшее
шарлатанство"... чем какое-нибудь другое слово (2, 626)», скорее, чем
какое-либо иное» (2, 626).
Ницше, таким образом, обвиняет философов (великих
философов прежде всего) в том, что они стремились отнюдь не к
познанию, а к совершенно другим, не относящимся к познанию
целям. «Что заставляет всех философов считать свои убеждения
истиной? Их выгода, их "практический разум"»36. Отсюда
вытекает и такой радикальнейший вывод: «Великая школа клеветы - вот
что такое была история философии до сих пор»37. Естественно
возникает вопрос: неужели нет в истории философии ничего
заслуживающего положительной оценки? Ницше отвечает на этот
вопрос: «если оставить в стороне... скептиков, представителей
столь же некритическое утверждение о сущем - метафизику, наивную в своем
догматизме; элементы позитивизма в одних и тех же произведениях нашего
философа сталкиваются с глумлением над позитивизмом и монистическим учением
о сущем» (Трубецкой Е. Философия Ницше. М., 2003, с. 469). Стоит отметить, что
русские мыслители прошлого века гораздо более критически оценивали учение
Ницше, чем его современные отечественные исследователи.
35 Ницше Ф. Полное собрание сочинений. Т. 13. М., 2007. С. 265.
36 Там же. С. 315.
37 Там же. С. 293.
640
порядочности в истории философии, то остальное все не
удовлетворяет первым требованиям интеллектуальной честности»
(2, 639).
Приведенные высказывания Ницше далеко не исчерпывают
его многочисленных высказываний как об истории философии в
целом, так и о великих философах*.
Современные исследователи учения Ницше уделяют, как
правило, слишком мало внимания его социально-политическим
воззрениям. Это, как мне кажется, объясняется тем, что в этой
области гениальность Ницше проявляется меньше всего. Но
поскольку он развивает всеобъемлющее учение, нередко даже
подчеркивая это обстоятельство, анализ его
социально-политических воззрений является безусловно необходимым. Можно
обойтись без специального рассмотрения
социально-политических взглядов Э. Гуссерля или Л. Витгенштейна, поскольку в
учении этих мыслителей такого рода воззрения занимают
второстепенное место. Ницше же в отличие от них - социальный
мыслитель и все его рассуждения о нравственности, науке,
философии, истине могут быть правильно поняты только в связи с
этой его характеристикой.
Примечательной особенностью мировоззрения Ницше
является антиурбанизм**. Города, с их многочисленным, вечно
* Высокомерно-презрительный тон, с каким Ницше говорит об истории
философии, не исчерпывается приведенными в основном тексте
высказываниями. Их дополняют и другие высказывания Ницше, в частности такое:
«... прежних философов я считаю презренными ПЬегПп'ами под каблуком такой
барышни, как истина» (2, 535). К таким либертинам (по существу
свободомыслящим) Ницше прежде всего относит Канта, которому больше чем кому-либо
другому из сонма самых великих достается от ницшевской язвительной
критики. «Я говорю о величайшей беде новейшей философии - о Канте» (2, 485).
В чем заключается эта «беда», Ницше говорит лапидарно: синтетические
суждения a priori, таблица категорий рассудка, категорический императив.
Ничто из перечисленного не наводит на мысль о беде. Тем не менее Ницше
утверждает: «... я не могу простить немцам, что они ошиблись в Канте и его
"философии задних дверей", как я называю ее, - это не был тип
интеллектуальной честности» (2, 602).
** Города с их чрезвычайно многочисленным, по убеждению Ницше,
населением (убеждению, не соответствующем действительности, поскольку
имеются в виду итальянские и швейцарские города), производят на него удручающее
впечатление. «Чудовищная подвижность людей в великой земной пустыне, их
созидание городов и государств, их ведение войн, их неустанное схождение и
расхождение, их беспорядочная беготня, их взаимное подражание, их умение
перехитрить и уничтожить друг друга, их крик в нужде, их радостный рёв в
победе, - все это есть продолжение животного состояния» (Ницше Ф. Странник
и его тень. М., 1994, с. 41).
21. Ойзерман Т.И., том 5
641
занятым населением внушают Ницше тревогу и отвращение*. По
его словам, «... лихорадочный темп работы - сущий порок Нового
Света - начинает уже заражать дикостью старую Европу и
распространять по ней диковинную бездуховность... Работа все
больше и больше перетягивает на свою сторону всю чистую совесть:
склонность к радости называется уже "потребностью в отдыхе"
и начинает стыдиться самой себя» (1, 650). Наемный труд Ницше
трактует почти в духе Маркса, т.е. как наемное рабство, хотя у него
нет ни слова об отчуждении труда и продукта труда. Труд ради
заработка, труд как средство представляется ему несовместимым с
природой человека. «Все экономические и социальные отношения
не могут и не должны стоить того, чтобы ими занимались только
самые даровитые умы: такое злоупотребление умом хуже
отсутствия ума»38. Только деятельность художника, мыслителя,
музыканта, деятельность, в которой труд является призванием и вполне
сочетается с досугом, соответствует человеческой природе.
Отношение Ницше к повседневному, массовому труду во многом
определяет и его отношение к рабочему движению и социализму.
Антагонизм между трудом и капиталом - факт, который, согласно
Ницше, во многом определяет общественную жизнь. Рабочие
лишены каких бы то ни было иллюзий относительно своих работодателей,
в которых они видят лишь хитрых, пронырливых кровопийц.
Работодатели презирают рабочих, считая их существами низшего
порядка. Рабочие отвечают работодателям ненавистью. С этим нельзя
не считаться. Ницше настаивает на том, что «надо знать насколько
силен социализм и с какой модификацией он может быть еще
использован, как могущественный рычаг, в пределах современной
политической игры сил; при известных условиях нужно было бы даже
всеми способами содействовать его усилению» (1, 433). Ницше не
поясняет ради чего можно способствовать социалистическому
движению. Цели, преследуемые социалистами, характеризуются им как
* «Когда я в многолюдных городах вижу эти тысячи людей с тупым и
суетливым выражением лица, я твержу себе: у них тяжело на душе... Хотят ли
они что-нибудь сказать, условность шепчет им на ухо что-либо, отчего они
забывают, что, собственно, хотели высказать, желают ли они объясниться друг с
другом, их разум парализован словно волшебным заклятьем...» (Ницше Ф.
Несвоевременные размышления, с. 303). Город представляется Ницше сферой
тотального отчуждения, деперсонализации, пустыней, разумеется, в духовном
отношении. При этом Ницше выпускает из виду, что именно в городах происходит
мощное развитие культуры, в том числе и расцвет творчества гениев, в котором
он видит, по существу, единственное содержание и назначение культуры.
Конечно, противоположность между городом и деревней отрицательно, уродующим
образом сказывается не только на деревне, но и на городе. Но это
обстоятельство нисколько не оправдывает одностороннего осуждения городской жизни.
38 Ницше Ф. Утренняя заря... М.; Минск, 2006. С. 90.
642
эфемерные. «Социалисты стремятся создать благополучную жизнь
для возможно большего числа людей». Ницше отнюдь не считает
эту цель неосуществимой, но он опасается, что ее осуществление
чревато плачевными последствиями, так как «этим благополучием
была бы разрушена почва, из которой произрастает великий
интеллект. .. Не следует ли поэтому желать, чтобы жизнь сохранила свой
насильственный характер и чтобы постоянно сызнова возбуждались
дикие силы и энергии?» (1, 364-365)*.
* Высказывания Ницше о социализме показывают, что он понимает
неизбежность борьбы пролетариев против капиталистов. Он пишет: «... в
работодателе рабочий видит обычно только хитрого пройдоху, кровопийцу, спекулирующего
на чужих бедах, для рабочего он последний человек... Так начинается
социализм» (Стихотворения. Философская проза. М., 1993, с. 308). Это, конечно, не
значит, что Ницше разделяет ненависть пролетариев к их эксплуататорам. Его
отношение к рабочему социалистическому движению остается двусмысленным.
«Как близки нам теперь - и даже самым праздным лентяям и гулякам - понятия
"труд" и "труженик"», - пишет он (там же, с. 398). Тем не менее Ницше не видит
в массовом социалистическом движении ничего, кроме утопии: «... социализм
есть фантастический младший брат почти отжившего деспотизма, которому он
хочет наследовать; его стремления, следовательно, в глубочайшем смысле слова
реакционны» (1,446). Однако этому положению противоречат другие
высказывания Ницше о рабочем движении и социализме. Так, например, Ницше
утверждает: «То, что мы называем справедливостью... принимает в расчет благосостояние
рабочего: его телесное и душевное удовлетворение; ...эксплуатация рабочего,
как это теперь стало очевидно, является просто глупостью, хищничеством за счет
будущего, вредом для общества» (Ницше Ф. Странник и его тень. СПб., 2008,
с. 169). Указывая на растущее влияние социалистического движения, Ницше
пишет: «Все политические партии стараются в настоящее время усилить свою
власть, эксплуатируя ужас, внушаемый социализмом» (там же, с. 171). Однако
несколькими строками ниже Ницше заявляет: «народ наиболее далек от
социализма, как от учения об изменении способа приобретения собственности» (там
же). Разноречивость ницшевских высказываний о рабочем классе и социализме
не давала бы основания для вывода о том, как все-таки Ницше относится к
социализму, если бы сам Ницше в конце концов не заявил: «Кого более всего я
ненавижу между теперешней сволочью? Сволочь социалистическую» (2, 686).
Ненависть Ницше к социализму вызвала резкую отповедь Т. Манна, который
не был социалистом, но вполне учитывал историческое значение
социалистических учений и социалистического общественного движения. Поэтому Т. Манн
писал: «Однако наше благоговейное чувство поневоле уступает место чувству
неловкости и стыда, когда бесконечные издевки Ницше над "социализмом
подчиненной касты", который он клеймит как ненавистника высшей жизни, в конце
концов убеждает нас, что ницшевский сверхчеловек - это лишь
идеализированный образ фашистского вождя и что сам Ницше со всей его философией был не
более как пролагателем путей, духовным Творцом и провозвестником фашизма
в Европе и во всем мире» (Собр. соч., т. 10, с. 379). С заключительным выводом
Манна нельзя согласиться. Ведь тот же Манн справедливо подчеркивает:
«Ницше должен смириться с тем, что мы называем его гуманистом, должен стерпеть,
что его критика морали рассматривается нами как последняя трансформация
Просвещения» (там же, с. 390).
2\*
643
Глубочайшее заблуждение Ницше относительно высшей
социальной цели, к которой сводится все содержание культуры:
споспешествование порождению гениев. Культура создается
гениями, она же порождает гениев; все иное содержание культуры,
с этой точки зрения, никчемно, ложно. Такая концепция
означает радикальное отрицание народного творчества, значения
труда для развития культуры, отрицание необходимости всеобщего
образования и, конечно, отрицание социализма и повседневных
задач рабочего движения (борьба за улучшение условий труда,
сокращение рабочего дня, повышения заработной платы и т.д.).
«Да хранит нас здравый рассудок от веры, что когда-нибудь
человечество может найти окончательный идеальный строй и счастье,
подобное солнцу тропических стран, будет посылать неизменно
свои знойные лучи всем людям этого строя»39. Это вполне
справедливое критическое замечание относительно
утопически-социалистического представления о конечной цели
социалистического движения. Однако Ницше, по-видимому, вполне осознавал, что
практически рабочее движение, выступающее под флагом
социализма, ведет отнюдь не насильственную борьбу за решение
конкретных, вполне осуществимых в условиях капиталистического
строя экономических и политических задач.
Ницше подвергает острой критике парламентаризм и
демократию. Однако парламентаризм, по его убеждению, сводится
только к праву выбора кандидата в парламентарии. То
обстоятельство, что парламент в демократическом обществе является
законодательной властью, Ницше, по-видимому, не признает.
С его точки зрения, реальная власть принадлежит только
правительству.
Ницше считает, что избирательным правом не должны
обладать лица, не имеющие собственности, а также весьма богатые
члены общества. Но богатых лишить избирательного права
невозможно, в силу чего имущественный ценз на деле сохраняется
лишь для малоимущих.
Демократические преобразования трактуются Ницше как
эпохальный социальный процесс, хотя он не видит в них
ничего хорошего. «Европа безостановочно демократизируется...
По-видимому демократизирование Европы есть звено в цепи
тех чудовищных профилактических мероприятий, которые
составляют идею нового времени и которые все больше отделяют
нас от Средних веков... Только теперь наступает эпоха
циклопических построек! Только теперь создается прочный фундамент,
Ницше Ф. Несвоевременные размышления. СПб., 2009. С. 345-346.
644
на котором безопасно может покоиться будущее»40. Это
положение, казалось бы, свидетельствует о том, что Ницше
приветствует демократические преобразования. Но все дело в том, что
«чудовищные» преобразования не являются, по его убеждению,
улучшением общественных отношений. Средневековье,
которому положила конец демократизация общества, представляется
Ницше едва ли не самой значительной эпохой жизни
человечества. «Средние века - время величайших страстей. Ни
древним, ни нашим современникам не ведома тогдашняя широта
души, и никогда величие духа не измерялось более
грандиозным масштабом»41. Такая, на мой взгляд, крайне односторонняя
характеристика европейского феодального строя органически
связана с уничижительной трактовкой демократических
преобразований общества. «Демократические учреждения, -
саркастически замечает Ницше, - служат карантином против чумы
ограниченных вожделений: и как таковые они очень полезны и
очень скучны»42. Такое, если можно так выразиться, одобрение
демократии стоит сопоставить с приведенным выше
панегириком средневековью.
Прохладное, пожалуй, даже весьма прохладное отношение
Ницше к демократическим преобразованиям может быть
объяснено только его аристократическим отношением к массе
«простых» людей, составляющих народ, поскольку эти люди не гении.
«Массы представляются мне достойными внимания только в трех
отношениях: прежде всего, как плохие копии великих людей,
изготовленные на плохой бумаге со стертых негативов, затем, как
противодействие великим людям и, наконец, как орудие великих
людей; в остальном же побери их черт и статистика!» (1, 219).
Правда, в другом месте, в другой связи атеист Ницше заявляет:
«Народ - это тело Божие. Всякий народ до тех пор народ, пока
имеет своего Бога особого... Бог есть синтетическая личность
всего народа, взятая с начала и до конца... Никогда не было еще
народа без религии, то есть без понятия о зле и добре»Аг. Следует,
однако, учитывать, что Ницше как атеист считает религию едва
ли не самым вредоносным заблуждением, третирует ее как
рабское сознание. Поэтому характеристика религии как сущности
народа, источника его нравственности, которую Ницше считает
также заблуждением, вполне совместима с его аристократичес-
40 Ницше Ф. Странник и его тень. СПб., 2008. С. 157.
41 Там же. С. 137-138.
42 Там же. С. 170.
43 Ницше Ф. Полное собрание сочинений. Том 13. С. 142.
645
ким отношением к массе людей, в которых он видит лишь толпу,
массу, чернь*.
Аристократизм Ницше находит свое яркое выражение в
утопии «нового» кастового общественного строя. В обществе,
утверждает он, должны быть «каста принудительного труда и каста
свободного труда». При этом необходим «обмен членами между
обеими кастами, так что более тупые, менее одухотворенные
семьи и личности из высшей касты перемещаются в низшую, и,
наоборот, более свободные личности низшей касты получают
доступ в высшую...» (1, 431). Ясно, что «обмен между кастами» в
реальном кастовом обществе невозможен, так как он
несовместим с кастовостью. Ницше это было, несомненно, известно.
Почему же он называет этот «новый» общественный строй
кастовым? По-видимому, потому, что он не хочет соглашаться с почти
общепринятым утверждением о существовании классового
общества.
В сочинениях Ницше нередко встречаются положительные,
иной раз восторженные суждения о войне. Так, например, он
утверждает, что «...высокоразвитое и потому неизбежно вялое
человечество, как современное европейское человечество,
нуждается не только вообще в войне, но даже в величайшей и
ужаснейшей войне - т.е. во временном возврате к варварству, чтобы не
потерять из-за средств к культуре самой своей культуры и жизни»
(1, 450). Отсутствие войны, продолжительный мир влечет за
собой загнивание социального организма, утверждает Ницше.
«Общество окончательно и инстинктивно отвергающее войну и
завоевание клонится к своему закату» (Поли. собр. соч., т. 13, с. 347.
М., 2003). Вопреки своему скептическому отношению к разуму
Ницше подчеркивает разумность войны, как ее достоинство.
«Война была всегда очень разумным делом с точки зрения
серьезных и глубоких умов; даже самые раны обладают целительной
силой» («Падение кумиров». СПб., 2008, с. 7).
Война, утверждает Ницше, «воспитывает к свободе»...
«Свободный человек - воин» (2, 614-615). «Война учит всех понимать
свободу. Ибо что такое свобода, как не воля к ответственности за
* Аналогичные высказывания мы находим и в опубликованных Ницше
работах. Так, в работе «По ту сторону добра и зла» Ницше утверждает:
«Любить человека ради Бога - это было до сих пор самое благородное и отдаленное
чувство из достигнутых людьми» (2, 287). Правда, на этой же странице
религия характеризуется как средство, с помощью которого властелин закрепляет
свою власть. Религия «служит узами, связующими властелина с подданными,
она предает в его руки их совесть, выдает ему то скрытое, таящееся в глубине
их души, что охотно уклонилось бы от повиновения...» (там же).
646
самого себя, как не то, что мы становимся равнодушнее к
огорчениям, к суровости, к лишениям, к самой жизни вообще...»
(«Падение кумиров», с. 101).
Война представляется философу благодетельным испытанием
человеческой воли и всех присущих человеку инстинктов; она-де
закаляет мужество, ставит человека лицом к лицу со смертью,
доставляет ему возможность победить врага и благодаря этому
победить свои слабости. Война ассоциируется в сознании Ницше
с представлениями о человеке, ставшем героем. «Героический
человек презирает свое благополучие и злополучие, свои
добродетели и пороки и вообще измерение вещей меркой своей
личности... Его сила лежит в самозабвении...»44.
Такого рода представления типичны для всех апологетов
войны. Но Ницше не был бы самим собой, не был бы во всем
самобытным, единственным в своем роде мыслителем, если бы
он закрепился на этой, по существу, милитаристической точке
зрения. Нет, Ницше не таков. Поэтому в другой своей работе он
решительно заявляет: «Нам необходимо до конца отречься как от
наклонности к завоеваниям, так и от учения, что войско
необходимо для самообороны. И, может быть, наступит великий день,
когда народ, отличавшийся войнами и победами, отличавшийся
развитием милитаризма... добровольно воскликнет: "мы
разбиваем свой меч!" - и вся военщина до самого основания будет
уничтожена». Нужен, утверждает философ, не «вооруженный мир»,
а полное разоружение. «Сделаться безоружным, будучи перед
этим наиболее вооруженным - единственное средство к
действительному миру...»45. Эта проповедь всеобщего мира завершается
утверждением: необходим «европейский союз народов»*.
44 Ницше Ф. Несвоевременные размышления. С. 222.
45 Ницше Ф. Странник и его тень. СПб., 2008. С. 165.
* В. Кауфман в уже упомянутом исследовании философии Ницше
утверждает, что ницшевское «война» во многом носит метафорический характер:
Ницше ведет войну против моральных догм, против системосозидания, против
государства, против социализма и т.д. Когда он, например, осуждает «ленивый мир»,
то в этом нет оснований, чтобы считать его адвокатом войны. «То, что Ницше
избрал слово "война", которое в значительной степени ведет к
неправильному пониманию, не учитывается философом, в устах которого это слово
имеет сплошь и рядом иное, почти безвредное значение» (Kaufmann W. Nietzsche:
Philosopher, Psychologist, Antichrist. Princeton, 1950, p. 351). Кауфман,
несомненно, прав, подчеркивая весьма расширительный смысл слова «война» в
сочинениях Ницше. «Богатство и воинская служба не были знаком великой силы
в мышлении Ницше; он мыслил эту силу скорее как самодисциплину; это
фактически центральный пункт его концепции» (Ibid., р. 367). То, что Ницше
весьма расширительно толкует термин «война», не подлежит, конечно, сомнению.
«Война, - утверждает он, - есть мать всех хороших вещей, война есть также
647
Подытоживая краткое рассмотрение социально-политических
воззрений Ницше, нельзя не поставить вопроса: является ли
Ницше идеологом? Интересы какого класса или социальной группы
выражает его учение?
Чтобы правильно ответить на этот вопрос, следует, прежде
всего, ответить на другой, более общий вопрос: все ли
мыслители - философы, историки, экономисты - являются идеологами?
Является ли вообще идеологичностъ атрибутивной
характеристикой социально-политического мышления? По моему убеждению,
далеко не все мыслители являются идеологами. Идеолог -
мыслитель, воззрения которого достаточно определенно и
недвусмысленно выражают социальную программу, коренные
интересы определенного класса или социальной группы. Французские
просветители XVIII в. были идеологами так называемого
третьего сословия. Классики немецкой философии от Канта до Гегеля
были идеологами предреволюционной немецкой буржуазии. Но
А. Шопенгауэр, Э. Гартман, В. Дильтей, А. Бергсон, Ж.-П. Сартр
не являются, по-моему, идеологами, т.е. их воззрения
теоретически выражают определенные общественные интересы,
потребности, но не интересы и потребности того или иного класса, в
частности буржуазии.
Литературоведы давно уже, выступая против вульгарного
социологизма, доказали, что выдающиеся писатели, художники не
являются идеологами того или иного класса; их произведения
выражают, разумеется, исторически определенные интересы,
потребности, чаяния, но это не интересы, потребности
какого-либо класса, который, как известно, противостоит другому классу.
Нелепо утверждать, что Шекспир, Гёте, Пушкин или Стендаль
мать хорошей прозы» (1, 569). Однако Кауфман не уделяет достаточного
внимания тем высказываниям Ницше, в которых речь идет о войне в буквальном
смысле слова. А таких высказываний немало. Вот одно из них достаточно
показательное: «Только мечтательность и прекраснодушие могут ожидать от
человечества еще многого (или даже особенно многого), когда оно разучится вести
войны. Доселе же нам неведомы иные средства, которые могли бы так же сильно
и верно, как всякая великая война, внушать слабеющим народам такую грубую
походную энергию, такую глубокую безличную ненависть, такое хладнокровие
убийцы со спокойной совестью, такой общий организованный пыл в
уничтожении врага, такое гордое равнодушие к великим потерям, к своей собственной
жизни и жизни близких...» (1, 449). В войне действительно проявляются и даже
усиливаются присущие человеку духовные силы, но это нисколько, конечно, не
может служить основанием апологии войны. Оправдана только справедливая
война, вооруженная защита родины против агрессоров. Нельзя не согласиться
с Т. Манном, который резонно замечает: «...ницшевское фанфаронство
относительно великих функций войны как охранительницы культуры и фактора
естественного отбора - это только фантазии человека, понятия не имеющего о том,
что такое война» (Собр. соч., т. 10, с. 376).
648
являются идеологами, хотя они не были аполитичными людьми.
То же, на мой взгляд, относится и к Ницше, в воззрениях
которого, разумеется, получили свое выражение определенные
социальные реалии, но не позиции того или иного класса. Я согласен с
X. Оттманом, который пишет: «Ницшевская теория
современности неоднозначна, ее основная черта - амбивалентность... В
политике современной ему эпохи ницшевской политической
философии не нашлось места. Поэтому крайне нелепо выглядит любая
попытка обозначить ее как буржуазную. Ницше так же далек от
всякой буржуазной политики, как и от всякого социализма»46.
То обстоятельство, что Ницше не является идеологом, не
освобождает исследователя от необходимости оценки его
социально-политических воззрений. Эти воззрения не только
консервативны, они, в сущности, реакционны. Правда, уже во времена
Ницше консерваторы и реакционеры не пытались доказывать, что
«правильное» общество должно состоять из господ и рабов.
Ницше и в данном случае выступает как исключение. Но это говорит
лишь о том, что высказываемые им реакционные
социально-политические воззрения стали в конце XIX в. анахронизмом.
Конечно, социально-политические воззрения Ницше, так же как и его
философские взгляды, амбивалентны. Однако при всех
расхождениях Ницше с самим собой его антидемократические
убеждения проявляются почти во всех его рассуждениях о культуре, об
обществе. Так, выражая свое отрицательное отношение к
писателям, Ницше, так сказать мимоходом, выступает как противник
«чрезмерного распространения книг». Утверждение это, конечно,
трудно понять, поскольку никакого чрезмерного распространения
книг в Европе XIX в. вовсе не было.
Еще одним показателем антидемократического строя
сочинений Ницше может быть его осуждение инакомыслия. Казалось
бы, Ницше как мыслитель, ставящий выше всех существующих
и мыслимых ценностей свободу, должен был бы выше всего
ставить свободу высказываний. Но такая свобода вступает в
противоречие с его авторитарным мышлением. Поэтому Ницше
объявляет: «Инакомыслие уже давно не является следствием высокого
уровня развития ума, оно проистекает от сильно развитых
дурных наклонностей» (1, 59)*.
46 ОттманХ. Фридрих Ницше и политика // Ницше и современная западная
мысль. СПб., 2003. С. 60-61.
* Антидемократический характер учения Ницше подчеркивается многими
исследователями. Так, X. Оттман в статье «Фридрих Ницше и политика»
указывает: «Фундаментальный мотив ницшевской мысли - непримиримая оппозиция
по отношению к политической современности. Современные политические идеи,
649
Подавляющее большинство исследователей учения Ницше не
высказывает сколько-нибудь серьезных критических замечаний
относительно его воззрений. Стоит поэтому привлечь внимание
к тем исследователям, которые подвергают Ницше
основательной критике. К ним, прежде всего, следует отнести
выдающегося русского философа B.C. Соловьева. Он пишет: «Разве не прав
несчастный Ницше, когда утверждает, что всё достоинство, вся
ценность человека в том, что он больше, чем человек, что он -
переход к чему-то другому, высшему!» Подчеркивая правоту Ницше,
Соловьев вместе с тем отмечает: «Правда, эта истина о высшем,
сверхчеловеческом начале в нас, о нашем сродстве с абсолютным
и тяготением к нему, была уже не нова, когда апостолу Павлу
пришлось напоминать ее афинянам (Деян. ап. XVII). Теперь Ницше
возвещает ее как великое новое открытие»47.
Атеизм Ницше, его выступление в роли Анти-Христа,
вопреки, разумеется, его намерениям, свидетельствует лишь о том,
насколько он далек от правильного представления об Иисусе Христе.
В связи с этим Соловьев отмечает: «Дурная сторона ницшеанства
бросается в глаза. Презрение к слабому и больному
человечеству, языческий взгляд на силу и красоту, присвоение себе заранее
какого-то исключительного сверхчеловеческого значения -
во-первых, себе единолично, а затем себе коллективно, как избранному
меньшинству "лучших", т.е. более сильных, более одаренных,
властных, или "господских" натур, которым все дозволено, так
как их воля есть верховный закон для прочих, - вот очевидное
заблуждение ницшеанства»48.
ПК. Честертон - замечательный английский писатель,
задумываясь «обо всем, что есть хорошего и трогательного в
несчастном Ницше, - о его мятеже против пустоты и трусости нашего
века»49, вместе с тем справедливо указывает на несостоятельность
программы переоценки всех принципов, поскольку эта программа
запрещает переоценку ее самой. Абсолютизм принципа лишает
такие как мир, свобода, равенство, справедливость, демократия, эмансипация,
революция - даже уничтожение рабства, являются, по мнению Ницше,
поверхностными, фальшивыми, наивными, нереалистическими, идеалистическими»
(Сборник «Ницше и современная западная мысль», с. 75). Л.П. Тиле в статье
«Ницше, ирония и демократическая политика» резонно замечает: «Его
утверждение о существовании благородной расы - непозволительная привилегия для
философского скептика. Дихотомия предопределения немногих избранных и
безнадежного стада, претенциозно выставляемая как аксиома, есть самодовольство
ума и подрыв интеллектуальной честности» (там же, с. 170). С этим критическим
замечанием в адрес Ницше нельзя, конечно, не согласиться.
47 Соловьев B.C. Словесность или истина // Философия Ницше. Pro et contra.
С. 291.
48 Там же. С. 296.
49 Честертон Г.К. Вечный человек. М., 1991. С. 387.
650
его того безусловно критического значения, которое ему
приписывается Ницше. «Идея полной смены принципов делает мысль о
прошлом или будущем невозможной. Теория полной смены
принципов в человеческой истории лишает нас не только удовольствия
чтить наших отцов, но и современного, более утонченного
удовольствия презирать их»50.
Ницше, указывает Честертон, набросал программу
радикального преобразования всего и вся. Но, чтобы улучшить мир, надо
хоть чем-то быть довольным. Ницше же недоволен всем, в силу
чего эта программа лишена всякой опоры. Правда, Ницше зовет
на битву, воспевает войну, аттестует себя как бесстрашного
мыслителя. По этому поводу Честертон замечает: «Конечно, он
пишет убедительно и красиво, но уже никак не смело. Чего-чего, а
отваги в нем нет»51.
Далеко не со всеми критическими замечаниями Честертона
можно согласиться. Но в главном он, конечно, прав:
несостоятельность принципа - переоценка всех ценностей - в том, что его
ценность считается не подлежащей переоценке.
Б.Л. Пастернак, который был не только гениальным поэтом,
но и глубоким мыслителем, также высказал свои критические
замечания о Ницше, в частности, по вопросу о сверхчеловеке.
Отвечая на заданный вопрос, он говорил: «... я счел, что
смогу по достоинству оценить Ницше и круг его идей. Но я вновь
наткнулся на старое недоразумение. Его отрицание
христианства само взято из Евангелия. Разве он не видит, из чего творит
своего сверхчеловека? Таким слепым может быть только полный
дилетант, дилетант во всем. Как удалось все это понять
бедному, менее начитанному и образованному Серену Кьеркегору?»52.
Пастернак, конечно, слишком резок в оценке ницшевского
отрицания христианства и концепции человека, но, по существу, его
точка зрения полностью совпадает с приведенными выше
высказываниями B.C. Соловьева.
Критический анализ учения Ницше в работах цитируемых
мыслителей носит, к сожалению, несистематический характер.
Важнейшие положения ницшевской концепции истории, этики,
гносеологии требуют сосредоточенного, обстоятельного
критического анализа. По-видимому, такой анализ появится, как только
схлынет мода на Ницше, и этот мыслитель займет свое достойное
место в истории философии.
50 Там же. С. 380.
51 Там же. С. 433.
52 Пастернак Б.Л. Сочинения. Т. 4. М., 1991. С. 672.
651
2. Первый период интеллектуального
развития Ницше
В интеллектуальном развитии Ницше обычно
разграничивают три периода. Первый из них охватывает 1871-1876 гг. К нему
относятся произведения: «Происхождение трагедии из духа
музыки» (1871), «Несвоевременные размышления» (1873-1876).
В этот период Ницше выступает как ревностный сторонник
философии Шопенгауэра и восторженный приверженец музыки
Рихарда Вагнера. Однако влияние Шопенгауэра и Вагнера не
мешает ему развивать свои собственные, самобытные воззрения, во
многом предвосхищающие идеи его более поздних трудов.
Второй период обычно характеризуется как
«позитивистский». Имеется в виду не только влияние философии
позитивизма, но и изменившееся по сравнению с первым периодом
отношение к науке: положительная в основном оценка научного знания.
В этот период Ницше опубликовал такие работы: «Человеческое,
слишком человеческое» (1877), «Странник и его тень» (1878),
«Веселая наука» (1881) - первые четыре части.
Третий период с 1882 по 1888 г. Он характеризуется обычно
как наиболее важный. К нему относятся последняя часть
«Веселой науки» (1882), «Так говорил Заратустра» (1885-1886),
«К генеалогии морали» (1887), «Сумерки кумиров» (1888), «Ан-
ти-Христ» (1888). Различие между периодами связано главным
образом с различным отношением к науке и познанию вообще.
В остальном воззрения Ницше не претерпевали значительных
изменений. Т.Б. Стронг не без основания утверждает: «Не
существует, таким образом, Ницше "раннего" и Ницше "зрелого", и еще
в меньшей степени Ницше "среднего периода"»53.
А. Белый придерживается несколько иного мнения: «Вся
деятельность Ницше разбивается на два периода: декадентский и
период написания "Заратустры"»54. На мой взгляд, выделение трех
периодов, предложенное Файгингером, методически более
удобно, т.е. позволяет лучше проследить развитие воззрений Ницше*.
53 Стронг Т.Б. Философия и политика культурной революции //
Ницше и современная западная мысль / Отв. ред. В. Каплун. СПб., 2003. С. 59.
54 Белый А. Фридрих Ницше // Философия Ницше. Pro et contra. СПб., 2001.
С. 898.
* Как ни существенно разграничение периодов интеллектуального развития
Ницше, следует вместе с тем подчеркнуть, что все, буквально все, проблемы,
которыми занимался Ницше, были не только сформулированы, но и «решены»
уже в первой его книге «Происхождение трагедии из духа музыки». Решены,
конечно, в том смысле, что Ницше по-своему ответил на поставленные им самим
вопросы. Т. Манн справедливо отмечает, что уже первые публикации Ницше
652
Основная проблема первой книги - «Рождение трагедии из
духа музыки» - отношение аполлоновского и дионисического
«инстинктов» в культуре древней Греции. Исследователи
греческой мифологии, литературы, скульптуры, архитектуры
непосредственно связывали эти формы духовной жизни,
воспринимавшиеся как непревзойденные образцы, с культом Аполлона,
языческого бога искусства, поэзии, олимпийских спортивных
состязаний. Винкельман, исследователь культуры древней Греции,
труды которого считались классическими, рисует образ
гражданина Афин и других греческих государств-полисов как
уравновешенного, мыслящего, внутренне и внешне свободного человека,
чуждого стихийным, неконтролируемым влечениям и порывам.
«Общей и главной отличительной чертой греческих шедевров
является, - утверждал Винкельман, - наконец, благородная простота
и спокойное величие как в позе, так и в выражении»55. Таковы же,
по убеждению Винкельмана, отличительные черты гражданина
древнегреческого полиса. Эта точка зрения стала общепринятой.
Гёте в статье, посвященной Винкельману, указывал: «... древние
непосредственно чувствовали без всяких обходных путей свою
полную удовлетворенность в ласковых пределах прекрасного
мира»56.
Ницше выступает против этих, господствовавших в научной
литературе и в сознании культурного человека нового времени
представлений. Культу Аполлона он противопоставляет культ
«...содержат не только в зародыше, но и в совершенно законченном виде все
его позднейшие идеи...» (там же, с. 358). Вывод, который напрашивается сам
собой, Т. Манн формулирует так: «...как бы ни были разительны и
самоочевидны противоречия, которые мы обнаруживаем в его творчестве, он уже с
самого начала тот, кем стал впоследствии; он всегда одинаков, всегда верен себе»
(там же). Почему же все-таки разграничивают периоды в творческом развитии
Ницше? Потому, что он частью пересматривает, иногда даже отрицает ранее
высказанное, потому, что он развивает то, что утверждалось им прежде, выдвигает
новые аргументы. Потому, что каждая новая книга Ницше представляет собой
не только философское и психологическое, но также художественное
произведение. Ницше, конечно, постоянно возвращается к уже высказанному, повторяет
самого себя, но каждый раз повторяет на новый лад. И каждая новая книга
философа представляет собой единство повторения и неповторения. А если учесть
и то, что Ницше противопоставляет почти каждому своему положению его
отрицание, высказанное, как правило, в другом контексте, а это отрицание в свою
очередь подвергается по меньшей мере частичному отрицанию в другой связи,
то этот идейный калейдоскоп - в высшей степени интересная и содержательная
мозаика воззрений, которую заслуженно именуют не просто оригинальным, а
гениально оригинальным творением.
55 Винкельман И.И. Избранные произведения и письма. М., 1935. С. 107.
56 Гёте И.В. Наброски к характерстике Винкельмана. (См. Винкельман И.И.
Избранные призведения и письма. С. 602).
653
другого языческого бога, Диониса, празднества в честь которого,
сложившиеся за пределами Греции и воспринятые греками,
носили не поддающиеся контролю сознания оргиастический
характер. «Почти везде центр этих празднеств лежал в неограниченной
половой разнузданности, волны которой захлестывали каждый
семейный очаг с его достопочтенными узаконениями; тут
спускалось с цепи самое дикое зверство природы, вплоть до того
отвратительного смешения сладострастия и жестокости...». Правда,
греки, как подчеркивает Ницше, были «некоторое время вполне
защищены и охранены царившим здесь во всем своем гордом
величии образом Аполлона...» (1, 64). Однако постепенно культ
Диониса все более завоевывал самосознание греков. Присущие
ему самопревозношение и чрезмерность, которые прежде
считались несовместимыми с трезвым самосознанием грека,
обнаружили небывалую притягательную силу*. Дионисический дифирамб
стал восприниматься как высший подъем всех человеческих
способностей. Аполлоновское начало оказалось неспособным
удержать свои, казалось, непоколебимые позиции против
дионисического исступления. «Индивид со всеми его границами и мерами
тонул здесь в самозабвении дионисических состояний и забывал
аполлонические законоположения. Чрезмерность оказывалась
истиной; противоречие, в муках рожденное блаженство говорило
о себе из самого сердца природы. И таким образом везде, куда ни
проникало дионисическое начало, аполлоническое упразднялось
и уничтожалось». Однако дионисическое начало все же не
могло овладеть всем духовным пространством греческой культуры.
В конечном итоге «дионисическое и аполллоническое начала во
все новых и новых последовательных порождениях, взаимно
побуждая друг друга, властвовали над эллинством...» (1, 71).
Я опускаю вопрос о том, насколько справедлива ницшевская
характеристика культуры и самосознания греков. Мне кажется,
что Ницше преувеличил роль неконтролируемого сознанием,
неподвластного ему дионисического «инстинкта». Но так это или
не так, не имеет принципиального значении в рамках данного
исследования. Существенно другое: дионисическое, с точки
зрения Ницше, не просто существенная (или даже основная) черта
* «Дионисическая истина, - утверждает Ницше, - овладевает всей
областью мифа как символикой ее познаний и выражает эти последние частью в
доступном для всех культе трагедии, частью в таинственных отправлениях
драматических празднеств мистерий, но как тут, так и там, под покровом старого
мифа» (1, 95). Примечательно в этом положении определение дионисийского
начала как истины и характеристика мифа, как ее покрова. Если учесть
скептическое отношение Ницше к понятию истины, то в данном случае такого рода
гносеологический скептицизм полностью исключен.
654
греческого характера, это - нечто большее, а именно сущность
жизни вообще. Поэтому понятие дионисического сохраняется и
во всех последующих работах Ницше; оно приобретает
ключевое значение в разрабатываемой им «философии жизни». И его
первая книга уже делает обобщающий вывод относительно
сущности и значения дионисического: «...все, что мы зовем теперь
культурой, образованием, цивилизацией, должно будет в свое
время предстать перед безошибочным судьей - Дионисом» (1, 135).
Кроме вопроса о природе трагедии и природе трагического
вообще, в данной работе анализируется отношение между
наукой и искусством. Развитие науки в древней Греции Ницше
непосредственно связывает с философствованием Сократа, с его
верой в неоспоримую ценность и целебную силу знания. Он
считает убеждения Сократа оптимистической верой в науку, верой,
таящей в себе убийственную угрозу искусству. Дабы преодолеть
эту угрозу, Ницше указывает: «...мы должны принять участие в
тех битвах, которые... ведутся между ненасытным
оптимистическим познаванием и трагической потребностью в искусстве...»
(1, 117). Эта битва призвана не только отстоять искусство, но и
выявить имманентную науке ограниченность, в силу которой она
именно благодаря своим достижениям все более приближается
к границам научного знания вообще и тем самым к крушению
своей оптимистической основы. Эпоха сократического
«теоретического человека» уже миновала, полагает Ницше; мир, который
ранее представлялся картиной, создаваемой наукой, оказывается
на самом деле эстетическим феноменом. «Философски
настроенный человек имеет даже предчувствие, что и под этой
действительностью, в которой мы живем и существуем, лежит скрытая,
вторая действительность, во всем отличная, и что, следовательно,
и первая есть иллюзия...» (1, 60). Шопенгауэр, которого Ницше
в этот период почитает как величайшего философа, считал, что
эта другая, отличная от представления (от всего видимого,
слышимого, вообще чувственно воспринимаемого) реальность есть
вселенская, вездесущая и всемогущая воля, которая сверхразумна
и есть не что иное как независимый от разума и поэтому
абсолютный произвол. Ницше не оспаривает этого основоположения
философии Шопенгауэра, но излагает его по-своему: изначальна
не воля, а жизнь, но воля есть сущность жизни. Соглашаясь с
другим основоположением Шопенгауэра, согласно которому все, что
мы воспринимаем и знаем, есть не нечто существующее само по
себе, а лишь представление, человеческое представление,
источником которого является не что-либо внешнее, а сам человек, его
тело, его органы чувств, Ницше своим радикальным разграниче-
655
нием неорганической и органической природы, если не прямо, то
косвенно, признает независимую от представлений реальность. В
противовес общепринятым естественнонаучным положениям он
утверждает, что неорганическая природа - более совершенный
уровень жизни, чем природа органическая. В царстве
неорганического невозможны заблуждения, иллюзии, здесь господствует
истина. Иное дело органическая природа. В этой сфере жизни
неизбежно становление, творение, а вместе с ними и заблуждения,
иллюзии, которые постоянно принимаются за истины.
Органическое не возникло из неорганического, утверждает Ницше. Жизнь
всегда существовала; она, собственно, и есть то, что существует.
Естественнонаучное представление о низших и высших
ступенях развития природы пересматривается Ницше. Ничто, с его
точки зрения, не развивается от низшего к высшему. Однако
имеет место противоположный процесс, который Ницше
характеризует как упадок, деградацию. Человек и есть последняя ступень
этого процесса, то есть наиболее дезорганизованная форма
жизни. Правда, наряду с этим положением у Ницше наличествует и
другое воззрение: «... человек, в сущности, принадлежит к
породистым животным» (1, 538).
Все эти положения не вписываются в воззрение, согласно
которому все наблюдаемое, воспринимаемое чувствами есть всего
лишь представление*. По существу Ницше признает
независимую от представлений реальность. Он, правда, никак не
определяет эту отличную от чувственной видимости реальность, не
ставит вопроса о ее познании, считает, пожалуй, ее непознаваемой.
Но можно все же приблизиться к этой, фактически
потусторонней реальности, если радикально пересмотреть отношение
между бодрствованием и сновидениями. Ницше, вопреки
общепринятым воззрениям, утверждает: «Сколь ни несомненно то, что из
двух половин жизни, бдения и сна, первая представляется нам
* В «Черновиках и набросках», относящихся к 70-м гг., Ницше высказывает
вполне материалистические положения. «Ясно, что все явления материальны;
вот почему естественные науки имеют абсолютно законную цель» (Поли. собр.
соч., т. 7. М., 2006, с. 122). В другом месте он утверждает: «Мозг - высшее
достижение природы» (там же, с. 478). Однако наряду с этими
материалистическими представлениями, несовместимыми с субъективистским убеждением, что
мир, чувственно воспринимаемый человеком, есть лишь представление, Ницше
вполне в духе этого идеалистического основоположения утверждает:
«Ощущение есть единственный кардинальный факт, который мы знаем» (7, 541). Это
отнюдь не единственное высказывание. В этих же подготовительных работах
Ницше утверждает: «Любой закон природы - это, в конечном счете, сумма
антропоморфных отношений» (7, 446). Эта амбивалентность воззрений характерна
не только для «Черновиков и набросков». То же относится и к рассматриваемой
книге в той мере, в которой в ней обсуждаются философские вопросы.
656
без всякого сравнения более предпочтительной, важной,
достопочтенной, жизнедостойной, даже единственно жизненной, я тем
не менее решаюсь, при всей видимости парадокса, утверждать с
точки зрения той таинственной основы нашей сущности, явление
коей мы представляем, - прямо обратную оценку сновидения»
(1, 68-69). Итак, подлинная реальность открывается во снах.
А мир, который воспринимает бодрствующее сознание, - не
более, чем нагромождение иллюзий. Сознание также принадлежит
лишь кажущемуся миру. Эти положения напрашиваются как
выводы из ницшевской оценки жизни во сне, но они еще не вполне
формулируются философом.
Великий испанский поэт Кальдерон озаглавил одно из своих
драматических произведений афористически просто: «Жизнь есть
сон». Ницше, превративший этот афоризм в теоретическое
основоположение, трактует, исходя из него, все чувственно
воспринимаемое, осознаваемое, мыслимое. Однако и изначальную реальность,
лежащую, по его словам, в основе мира видимостей, Ницше
лишает какого бы то ни было субстанциального значения. Сновидение,
которое противопоставлялось бодрствованию как сфера «перво-
единого», оказывается, как утверждает Ницше, «иллюзией в
иллюзии». Нет, значит, выхода из лабиринта иллюзий, охватывающих
всё, что мнилось или считалось действительным, истинным.
Однако вопреки этой иллюзорной картине мира, Ницше считает себя
приверженцем идей Просвещения. К такому заключению
неизбежно приходишь, поскольку он заявляет: «... единственная в своем
роде похвала должна быть присуждена благороднейшей борьбе
за просвещение, которую вели Гёте, Шиллер и Винкельман...»
(1, 136). То, что Ницше не упоминает французских просветителей
XVIII в. - наиболее выдающихся деятелей Просвещения, -
объяснить нетрудно: для него неприемлемы ни воинствующий
материализм Гольбаха, ни революционная программа Ж.-Ж. Руссо.
В «Рождении трагедии из духа музыки» лишь пунктирно
намечены основные идеи учения Ницше. Впервые они более или
менее четко формулируются в предисловии ко второму изданию
этой книги, написанному 15 лет спустя. Это предисловие
названо автором «Опыт самокритики». Ницше не столько критикует
свою первую книгу, сколько выражает недовольство некоторыми
особенностями ее первого издания: «... я не хочу вполне скрыть,
насколько она теперь кажется мне неприятной и сколь чуждой она
теперь, по прошествии шестнадцати лет...» (1, 50). Это
положение конкретизируется далее: «...я кропотливо старался выразить
шопенгауэровскими и кантовскими формулами чуждые и новые
оценки, которые по самой основе своей шли вразрез с духом Канта
657
и Шопенгауэра... Но есть еще нечто значительно худшее в книге, о
чем я теперь еще более жалею, чем о том, что затемнил и испортил
дионисические чаяния шопенгауэровскими формулами: то
именно, что я вообще испортил себе грандиозную греческую
проблему, как она тогда возникла передо мною, примесью
современнейших вещей!» (1, 54). Ницше имеет в виду, хотя не говорит об этом
прямо, свое тогдашнее восторженное отношение к вагнеровской
музыке, его рассуждения в связи с этим о сущности «немецкой
музыки». Ко времени выхода в свет «Опыта самокритики» Ницше
превратился из восторженного поклонника произведений Вагнера
в их критика и, по существу, противника. Его отрицательное
отношение к вагнеровской музыке нашло свое выражение даже в том,
что он объявил оперу чуждой подлинному искусству.
Самокритические замечания Ницше не относятся к
основному содержанию его книги. Он сам подчеркивает это: «Однако,
оставляя в стороне все скороспелые надежды и ошибочные
применения к ближайшей современности, которыми я тогда
испортил себе свою первую книгу, - большой дионисический
вопросительный знак, как он в ней поставлен, неизменно остается в силе
и по отношению к музыке...» (1, 55).
Переходя к анализу содержания «Опыта самокритики»,
которое никоим образом не сводится к приведенным критическим
замечаниям, важно указать на то, что в нем Ницше с непоколебимой
уверенностью формулирует, по существу, отрицательное
отношение к науке. Наука, заявляет он, сама по себе представляет
проблему. Эта проблема неразрешима на почве науки. Нужна, значит,
какая-то независимая от науки, по сути дела сверхнаучная позиция.
Таково понятие жизни, которое как фундаментальное понятие
должно быть положено в основу всего философского понимания
мира. И Ницше вопрошает: «... что означает вообще всякая наука,
рассматриваемая как симптом жизни? К чему, хуже того, откуда -
всякая наука? Не есть ли научность только страх и увертка от
пессимизма? Тонкая самооборона против - истины!» (1, 49).
С этой точки зрения, наука с ее абстрактными понятиями,
категориями, методами, законами весьма далека от жизни, которая
есть телесный, чувственный, нерассуждающий процесс*. Сфера
* Когда Ницше рассуждает о науке, он имеет в виду прежде всего
психологию. «Современная наука имеет своей целью минимум страдания и максимум
продолжительности жизни - т.е. своего рода вечное блаженство, правда
весьма скромное по сравнению с обетованиями религий» (1, 310). Правда, наряду
с этим, неудовлетворительным вследствие своей односторонности взглядом,
Ницше высказывает и другие, более правильные мысли о науке: «... перед
человеком начинает брезжить новая, еле разрешимая задача - обрести знания,
658
науки - внешний мир, который как все внешнее должно быть
поставлено под вопрос. Факты, на которые ссылается наука, суть
лишь интерпретации. Одно только искусство, непосредственно
связанное с переживаниями, эмоциями, страстью, адекватно
выражает собой жизнь, единственную неоспоримую реальность.
Однако не только наука, по убеждению Ницше, противостоит
жизни как чужеродное явление. Таковы и мораль, и религия. Дух
должен решиться, пренебрегая всеми опасностями, восстать
против придания морали жизненного значения, против морального
истолкования жизненных процессов. Жизнь, по существу, есть
«нечто неморальное», мораль же представляет собой «волю к
отрицанию жизни». То же относится и к религии. «Христианство
которые вошли бы в плоть и кровь, стали почти что инстинктом - эта задача
открывается лишь тем, кто понял, что до сих пор мы впитывали только наши
заблуждения и заблуждения становились нашей плотью и кровью, и все наше
самосознание сформировано тоже заблуждениями» (Стихотворения,
философская проза. СПб., 1993, с. 284). Ницше полагает, что каждому, желающему
заниматься наукой, следует прежде всего изучать какую-либо отдельную науку,
благодаря чему он «все же будет знать, что такое метод и как необходима крайняя
рассудительность» (1, 487).
Борьба различных воззрений в науке в общем отрицательно
рассматривается Ницше, но он видит в ней и нечто положительное: «...теперь же при вечной
борьбе притязаний различных лиц на безусловную истину, люди шаг за шагом
шли вперед, чтобы найти неопровержимые принципы, на основании которых
можно было бы проверять правомерность притязаний и полагать конец спору»
(1, 486). Ницше полагает, что выводы, к которым приводит современная наука,
очень плачевны и только достижения искусства помогают человеку сохранить
здравомыслие. «Если бы мы не поощряли безмерно искусство... то мысль о том,
что все вокруг ложь и обман, - вывод, к которому приводит современная
наука - мысль о том, что безумие и заблуждение являются непременным условием
познания и воспринимающего бытия, - была бы для нас просто невыносима»
(Стихотворения. Философская проза, с. 361). Эти высказывания Ницше
свидетельствуют о том, что наукам о природе он не придает существенного значения
и, по-видимому, не считает необходимым реально познакомиться с
какой-нибудь из них.
Ницшевская оценка работы естествоиспытателей весьма сходна с
отношением Гегеля к эмпирическому естествознанию. «Если, - утверждал Гегель, -
считается достойным стремление познать бесчисленное множество животных,
познать сто шестьдесят семь видов кукушек, из которых у одного иначе, чем у
другого образуется хохол на голове; если считать важным познать еще новый
жалкий вид семейства жалкого рода лишая, который не лучше струпа; если
признается важным в ученых произведениях по энтомологии открытие нового вида
насекомого, гадов, клопов и т.д., то нужно сказать, что важнее познакомиться с
разнообразными видами движения мысли, чем с этими насекомыми» (Лекции
по истории философии. М., 1932, кн. 2, с. 313). Гегель явно не представлял себе
путь, ведущий от этих «мелочных» эмпирических открытий к теории развития
животных и растений. То же можно сказать и о Ницше, хотя он в отличие от
Гегеля был современником Дарвина.
659
с самого начала, по существу и в основе, своей было
отвращением к жизни и пресыщением жизнью, которое только
маскировалось, только пряталось, только наряжалось верою в "другую" и
"лучшую" жизнь» (1, 53).
«Опыт самокритики» заканчивается ссылкой на
«дионисическое чудовище, которое зовут Заратустра», и цитатой из книги
«Так говорил Заратустра». Можно поэтому сказать, что «Опыт
самокритики», комментирующий первую книгу Ницше, в
известной степени относится и к последнему, третьему периоду. Это
свидетельствует о том, что различия между тремя периодами
философского творчества Ницше гораздо менее существенны, чем
общность идей, которые их объединяют.
Серия культурно-исторических очерков «Несвоевременные
размышления» состоит из четырех статей: «Давид Штраус в роли
исповедника и писателя», «О пользе и вреде истории для жизни»,
«Шопенгауэр как воспитатель», «Рихард Вагнер в Байрейте».
Первая статья представляет собой острый критический
анализ книги Штрауса «Старая и новая вера». Однако наряду с этим
анализом Ницше обсуждает и другие, непосредственно не
связанные с этой книгой вопросы.
Штраус отрицает «старую веру», т.е. все исторически
сложившиеся формы церковной веры, противопоставляет ей «новую»,
по существу, пантеистическую форму религиозной веры. Ницше
третирует эту попытку обновления религии как типичное
проявление филистерства, которое не способно на радикальный разрыв
с религиозным сознанием. «Филистер, основатель новой религии
будущности, - эта новая вера в самом выразительном
изображении: филистер, превратившийся в мечтателя, - это неслыханный
феномен, являющийся отличительной чертой современных
немцев»57. Книга Штрауса, подчеркивает Ницше, вышла в течение
краткого периода времени шестью изданиями. Это указывает на
то, что она удовлетворяет потребности немцев или, иначе говоря,
что немцы погрязли в болоте филистерства. Филистерство
обрело самодовольно-оптимистический характер после победы
Германии в войне против Франции. Эта победа чревата духовным
поражением, упадком в сфере культуры.
Филистер - существо противоположное поэту, художнику и
действительно культурному человеку. «Повсюду вокруг себя он
видит одни и те же потребности, одни и те же взгляды. Всюду,
куда он вступает, его окружает молчаливое соглашение о
многих вещах, а в особенности в вопросах религии и искусств, и эта
Ницше Ф. Несвоевременные размышления. СПб., 2009.С. 23.
660
импонирующая однородность, это непринужденное, но все же
сразу выступающее tutti unisono соблазняет его верить, что здесь
царит культура». Но это «далеко еще не культура, даже не плохая
культура, а лишь противоположность ей, именно варварство,
которое создавалось очень долго»58. Немец же, по убеждению
Ницше, считает культурой то, что на деле является ее отрицанием.
Филистерство находит свое законченное выражение в
образованности, которая не есть подлинная образованность,
предполагающая не только знания, но и понимание, проникновение вглубь,
широту воззрений. Этого нет, утверждает Ницше, и в философии,
которая, объявляя себя противницей нетерпимости и фанатизма,
обоготворяет обыденное, проповедуя разумность
существующего, необходимость примирения с ним. Тем самым философия
выступает против изменения существующих порядков, примиряется
с ними. «Только ради Бога, пусть все останется по-старому, пусть
ничто в мире не будет поколеблено в "разумном" и
"действительном", т.е. в самом филистерстве»59*.
Ницше обрушивается на «бесстыдный оптимизм филистера»,
который питается идеями Гегеля и Шлейермахера, но игнорирует
реальность со всеми ее несообразностями и противоречиями. Этот
оптимизм пытается изобразить мир празднично-приятным,
удобным, но действительный мир совершенно не таков. Это не значит,
однако, что оптимизм должен быть выброшен за борт. Существует
не только слащавый оптимизм филистера, но принципиально иного
типа оптимизм, который не приукрашивает мир, а принимает его со
всем присущим ему трагизмом, оставаясь тем не менее
убежденным в том, что жизнь есть самая могущественная сила.
Ницше критически относится к науке, которую он отличает
от культуры. Культура, с его точки зрения, есть «прежде всего
единство художественного стиля во всех жизненных проявлениях
народа. Но обладание большим запасом знаний или учения
вовсе не есть необходимое средство культуры как признак ее и в
крайнем случае отлично уживается с варварством...»60. Человек
науки в отличие от художника не располагает своим временем, он
подобен хлебопашцу, который с утра до ночи занят обработкой
58 Там же. С. 13.
59 Там же. С. 17.
* Несмотря на язвительную критику этого положения, Ницше, так же как и
Штраус, противник какого бы то ни было изменения социального status quo. Он,
как уже отмечалось в предшествующей главе, полагает, что «наше время именно
таково, каким оно должно было быть» (1, 214). Стоит отметить, что Штраус
отнюдь не отождествлял должное и сущее.
60 Там же. С. 10.
661
своего поля и поэтому не имеет даже представления о свободном
труде, творческом досуге. Ницше ссылается на Паскаля, который
считал, что люди науки, упорно занимаясь своей
исследовательской работой, лишают себя времени, необходимого для того,
чтобы думать о смысле жизни, пытаться ответить на вопросы:
зачем? куда? и почему? Паскаль как глубоко религиозный человек
подчеркивал то обстоятельство, что ученые, целиком отдавшиеся
своей работе, не думают о Боге. Ницше, конечно, не это имеет
в виду. Он видит ограниченность ученого в том, что его работа
занимает все его время, лишая его творческого досуга. Ницше с
особенной неприязнью говорит об ученом, занятом эмпирическим
исследованием. Вокруг него «неподвижно поднимаются самые
ужасные крутизны, каждый шаг должен напоминать ему: «Куда?
зачем? для чего?» Но его душа «расцветает, если представляется
случай считать пылинки цветка и разбивать на дороге камни, и он
весело отдает этой работе весь запас своего организма: веселье,
силу и желание»61. Ницше почему-то полагает, что ученые вовсе
не задумываются над вопросом: какова польза от их работы? Они
настолько захвачены своим трудом, что им совершенно нет дела
до всего другого. «Для культуры никто не имеет времени. Какое
же значение тогда может иметь наука, и именно наука, если у нее
нет времени для культуры?»62*.
С точки зрения Ницше, в сфере науки невозможна
гениальность. «...Ученый по своему существу неплодотворен -
результат его происхождения! - и что он испытывает исконную
ненависть к плодотворным людям, поэтому во все времена гении и
ученые враждовали между собой»63. Это явно не согласующееся
61 Там же. С. 48.
62 Там же. С. 49.
* Искусство и наука рассматриваются в этот период Ницше как
противоположности, каждая из которых стремится оттеснить, а то и упразднить свою
противоположность. Мысль, что искусство и наука - разные, но не чуждые друг
другу сферы духовной деятельности, совершенно неприемлема для Ницше. Он,
разумеется, на стороне искусства; наука же представляется ему не только весьма
ограниченной духовной сферой, но к тому же клонящейся к упадку. В
предисловии к «Рождению трагедии...» Ницше провозглашает «...убеждение и взгляд на
искусство, как на высшую задачу и собственно метафизическую деятельность
в этой жизни» (1, 57-58). Искусство, с его точки зрения, прокладывает путь
философии, причем к такой философии, которая станет освободительницей духа
от всякого рода оков. «От искусства можно затем легче перейти к действительно
освобождающей философской науке» (1, 257). Хотя Ницше постоянно
открещивается от романтизма, его убеждение в том, что поэзия и искусство в целом
образуют фундаментальную основу человеческой жизни, ничем в принципе не
отличается от воззрений Новалиса, Тика и других немецких романтиков.
63 Там же. С. 246.
662
с фактами утверждение никак не обосновывается Ницше. Ясно
лишь то, что уничижительная характеристика науки
обусловлена некритическим возвеличением искусства, в котором Ницше
видит единственное адекватное выражение творческой силы
человека. Очевидно также и то, что противопоставление искусства
науке свидетельствует о приверженности Ницше мировоззрению
романтиков. Однако Ницше отмежевывается от романтизма, не
признает никакого родства своих воззрений с этим идейным
течением. Поэтому стоит сослаться на типичные для романтизма
положения. Сошлюсь на представителей немецкого романтизма.
Так, например, Новалис утверждает: «Поэт постигает природу
лучше, чем разум ученого»64. Другой немецкий романтик Л. Тик
также утверждал: «Поэзия не что иное, как сам человеческий дух
во всей его глубине...»65. Л. Уланд, не менее выдающийся
представитель немецкого романтизма, писал: «Душа, которую мать-
природа с наибольшей полнотой наделила силами восприятия и
творчества, - это душа поэта»66.
То обстоятельство, что Ницше не разделяет религиозного умо-
настоения немецких романтиков, нисколько не мешает ему
разделять их представления об отношении между искусством и наукой.
Статья «О пользе и вреде истории для жизни» (1874) является
наиболее важной*. Две другие статьи - «Шопенгауэр как воспита-
64 Литературные манифесты западноевропейских романтиков: Хрестоматия.
М., 1980. С. 94.
65 Там же. С. 108.
66 Там же. С. 157.
* Название ницшевской статьи не вполне соответствует ее содержанию,
поскольку в ней речь идет главным образом о вреде истории как науки и,
соответственно этому, оценивается историческое образование. «Знание, поглощаемое в
избытке не ради утоления голода и даже сверх потребности, перестает
действовать в качестве мотива, преобразующего и побуждающего проявиться вовне...»
(1, 180). Это говорится в данном случае об историческом знании. По убеждению
философа, «...мы нагружаем и перегружаем себя чужими эпохами, нравами,
искусствами, философскими учениями, религиями, знаниями, мы становимся
чем-то достойным внимания, а именно, ходячими энциклопедиями...» (1, 181).
Правда, в этой же статье говорится о необходимости овладеть прошлым, как
насущном интересе. Однако это не изменяет превалирующей тональности
статьи, фактическим предметом которой является «историческая болезнь», которая
характеризуется следующим образом: «Избыток истории подорвал
пластическую силу жизни, она не способна больше пользоваться прошлым как здоровой
пищей. Болезнь ужасна, и тем не менее если бы природа не наделила юность
даром ясновидения, то никто бы не знал, что это болезнь и что рай здоровья
нами утрачен» (1, 227).
Судя по содержанию статьи, она направлена против «исторической школы»
(Гуго Гроций, Ф. Савиньи), весьма влиятельной в Германии. Ее представители
оправдывали господствовавшие в германских государствах реакционные порядки,
663
тель» (1874) и «Рихард Вагнер в Бахрейте» (1875-1876) имеют не
столь общее значение, что обусловлено их темой. Статья
начинается указанием на необходимость «исторического образования»,
которым «наше время не без основания гордится». И вместе с тем
Ницше утверждает, что это образование представляет собой «зло,
недуг и недостаток» (1, 160). В чем же заключается зло
«исторического образования»? В господстве прошлого над настоящим,
в том, что тяжесть прошлого непрерывно возрастает, становясь
препятствием для жизни и деятельности. Причина этого
господства в недостаточной человеческой способности освоить,
использовать, переработать прошлое, объяснить его, исходя из того, что
именуется «высшей силой современности». Насущное значение
такого критического освоения прошлого настолько велико, что
«только благодаря способности использовать прошедшее для
жизни и бывшее вновь превращать в историю, человек делается
человеком» ( 1, 164).
Однако, чтобы овладеть прошлым, необходимы немалые
способности, а главное - сила жизни. Слабых история подавляет,
только сильные личности одарены способностью выносить
историю, овладевать ею. Историческое образование не должно
игнорировать, затмевать неисторическое, т.е. сферу жизни, которая
знает только настоящее время и лишь с ним считается.
«Неисторическое подобно окутывающей атмосфере, в которой жизнь
создается лишь с тем, чтобы исчезнуть вновь с уничтожением
этой атмосферы». Только в неисторической атмосфере
«возникает каждое историческое событие» (1, 164).
Если просветители XVIII в. и их последователи -
современники Ницше обосновывали центральное положение философии
истории, сложившейся в новое время, - люди сами делают свою
историю, сами являются творцами своей исторической драмы, -
то Ницше вразрез этой «догме» утверждает, что историю творят
лишь немногие исполины духа, великие люди, которые окликают
друг друга через пустынные временные пространства. «Задача
истории заключается в том, чтобы служить посредницей
между ними и этим путем снова и снова способствовать созданию
великого и давать ему силы. Нет, цель человечества не может
ссылаясь на то, что они сложились в результате тысячелетней истории и
поэтому заслуживают почтения. Такого рода выводы не чужды и Ницше, несмотря на
его критику историзма. Так, он утверждает: «Реакционные движения в истории,
так называемые периоды реставрации... обладают своеобразной прелестью
воспоминаний, полных чувства и тоскливого стремления к почти утерянному,
торопливых объятий с мимолетным счастьем» (Переоценка ценностей // Утренняя
заря. Переоценка всех ценностей. Веселая наука. М., 2006, с. 389).
664
лежать в конце его, а только в его совершеннейших экземплярах»
(1, 217). Эта аристократическая интерпретация истории,
аналогичная философско-исторической концепции Т. Карлейля,
вполне сочетается у Ницше с признанием выдающегося значения
массовых исторических движений. Он, в частности, утверждает,
что «... рычагом исторических движений всегда служил эгоизм
отдельных лиц, групп или масс... это открытие... возводится в
степень закона: эгоизм да будет нашим богом. Опираясь на эту
новую веру, мы собираемся с полнейшей сознательностью
возвести здание будущей истории на фундаменте эгоизма, но только
этот эгоизм должен быть эгоизмом разумным, т.е. таким, который
сам на себя налагает известные ограничения...» (1, 220). С этой
точкой зрения, которую, кстати сказать, высказывал Л. Фейербах,
нельзя не согласиться, хотя бы потому, что эгоизм масс,
тождественный с их насущными интересами, строго говоря, не является
просто эгоизмом, который, если не истолковывать его
метафорически, как это делали Ницше и Фейербах, является
определенного рода сознанием индивидуума, личностным сознанием.
Важно подчеркнуть, что Ницше разграничивает разумный
эгоизм и неразумное себялюбие, следуя в этом отношении
традиции Просвещения. Он, в частности, утверждает, что «в
образовавшейся мировой системе эгоизмов на долю государства выпадает
особая миссия: оно должно стать покровителем всех разумных
эгоизмов для того, чтобы оградить их при помощи своей военной
и полицейской силы от ужасных взрывов неразумного эгоизма»
(1, 220). Таким образом, если зачастую при чтении Ницше
создается впечатление, что он чуть ли не воспевает эгоизм, то это
впечатление рассеивается приведенным высказыванием, которое,
к слову сказать, не является единственным.
Нет оснований полагать, что признание правомерности
эгоизма массовых народных движений вынуждает Ницше в
какой-то мере пересматривать свое отношение к народным
массам. Нет, Ницше по-своему последователен, т.е. упорно
настаивает на том, что народные массы - скопища низшей
породы людей: «Массы представляются мне достойными внимания
только в трех отношениях: прежде всего, как плохие копии
великих людей, изготовленные на плохой бумаге со стертых
негативов, затем, как противодействие великим людям и, наконец,
как орудие великих людей; в остальном же побери их черт и
статистика» (1,219).
В работе «Человеческое, слишком человеческое»
аристократическая концепция государства выступает в качестве
модернизированного кастового строя. «Более высокая культура сможет
665
возникнуть лишь там, где существуют две различные
общественные касты: каста работающих и каста праздных, способных к
истинному досугу; или, выражаясь сильнее: каста принудительного
труда и каста свободного труда». Развивая концепцию мерито-
кратии, Ницше, как уже указывалось, допускает переход из
одной касты в другую при наличии (или отсутствии) способностей.
Но он не объясняет как возможен такой переход в условиях
господства «высшей» касты, которая стала бы защищать всех своих
членов, независимо от их способностей.
В рассматриваемой статье Ницше также продолжает
критически оценивать науку и познание вообще. Понятие истины,
которое Ницше в последующих работах подвергнет суровой
критике, граничащей с нигилистическим ее отрицанием, в этой работе
толкуется позитивно, т.е. рассматривается как цель, к
достижению которой стремятся люди науки. Однако Ницше, вместе с тем,
ставит под сомнение то, что ученые стремятся постигнуть
истинное. «Мало кто воистину служит истине, ибо лишь немногие
обладают чистою волей быть справедливыми, и из числа последних
лишь совсем немногие достаточно сильны, чтобы на деле быть
справедливыми» (1, 192). Таким образом, стремление к истине,
тождественное со стремлением действительно познать объект
научного исследования, истолковывается, в сущности, как
этический (чтобы не сказать, правовой) вопрос, причем стремление к
справедливости, в свою очередь, ставится в зависимость от силы,
жизненной мощи. Конечно, познавательная деятельность
ученого связана со всякого рода интересами и потребностями, которые
иной раз далеки от науки. Научная деятельность не чужда также
определенным нравственным мотивам, в том числе и
представлениям о справедливости. Однако Ницше гипертрофически
истолковывает это отношение, как будто ученый, познавая какой-либо
объект, должен поступать соответственно определенным
нравственным нормам. Такая позиция оказывается в конечном счете
сомнением в ценности науки и познания вообще. «О, конечно, -
заявляет Ницше, - наука в последнее десятилетие изумительно
быстро шагнула вперед, но взгляните на ваших ученых, этих
истощенных наседок. Поистине, они не похожи на
"гармонические" натуры; только кудахтать они умеют больше, чем когда-
либо, так как они чаще несут яйца; правда, зато яйца делаются
все меньше (хотя книги все толще)» (1, 204). Это саркастически-
карикатурное изображение науки, ученых, научной
деятельности, изображение, несовместимое с признанием изумительного
прогресса науки, - свидетельство того, что Ницше не находит
места науке в той «философии жизни», которую он создает. Жизнь,
666
в его понимании, есть, прежде всего, жизнь тела. Это, по его
выражению, «темная, влекущая, ненасытно и страстно сама себя
ищущая сила» (1, 178). Наука, научная деятельность
оказываются, с этой точки зрения, чем-то внеположным жизни, сферой
отчуждения, нежизненной сферой. Отсюда и парадоксальный
вывод: «...науке грозит в ближайшем будущем такая же гибель, как
и невольникам, слишком рано принужденным работать на этой
фабрике» (1, 203).
Альтернатива, которую имеет в виду Ницше, в
действительности не существует. Духовная жизнь человека, человечества
не менее реальна, чем жизнь тела. Ведь Ницше сам нередко
говорит о человеческом духе, характеризуя чувственность,
мышление, т.е. нисколько, по-видимому, не сомневаясь в том, что
духовная жизнь есть жизнь в прямом, а не в каком-то
переносном смысле слова. И несмотря на все это, он убежден в том, что
жизнь неизбежно победит познание, науку, ибо иного-де пути
для самосохранения жизни не существует. Соответственно
этому формулируется альтернатива: «Должна ли господствовать
жизнь над познанием, над наукой или познание над жизнью?
Какая из двух сил есть высшая и решающая? Никто не
усомнится: жизнь есть высшая, господствующая сила, ибо познание,
которое уничтожило бы жизнь, уничтожило бы вместе с нею и
само себя» (1, 227).
Понятие жизни Ницше непосредственно связывает с
инстинктами. Инстинкты суть присущие всему живому глубинные силы,
которые способствуют его самосохранению, росту, размножению.
Таков прежде всего половой инстинкт: «Нашему сильнейшему
инстинкту, тирану в нас, подчиняется не только наш разум, но
и наша совесть» (2, 302). Традиционную философскую
проблему - душа и тело - Ницше считает возможным решить с
помощью понятия инстинкта. Он утверждает, что «Все инстинкты, не
разряжающиеся вовне, обращаются вовнутрь - это и называю я
уходом-в-себя человека: так именно начинает в человеке расти то,
что позднее назовут его "душою"» (2, 461).
Ницше не сопоставляет, не сравнивает друг с другом
инстинкты человека и инстинкты животных. То обстоятельство,
что у животных поведение в несравненно большей степени, чем
у человека, определяется инстинктами, что у человека многие
инстинкты вытесняются сознательным поведением, не только
не признается философом, но по существу отрицается. Дело в
том, что согласно Ницше, инстинкты не только физиологические
феномены. Ницше говорит об «инстинкте послушания»,
«причинном инстинкте», «инстинкте свободы», «инстинкте черни».
667
Больше того, он связывает инстинкт с национальностью:
«английский инстинкт», «немецкий инстинкт». Теология предполагает, с
его точки зрения, «инстинкт теолога». Таким образом, понятие
инстинкта утрачивает свой первоначальный, признанный в науке
смысл. Речь идет уже не только о бессознательных
(инстинктивных) движениях живого существа, но и о социальных
отношениях. «Есть инстинкт распознавания ранга, который более
всего является признаком высокого ранга» (2, 388). Это значит, что
знатный человек неким внутренним чувством постигает любого
другого человека как принадлежащего «низам» или близкого ему
по «рангу». Если в приведенном выше высказывании инстинкт
противопоставлялся разуму, мышлению, то другие высказывания
философа сближают инстинкты и сознательное, разумное
поведение. «Из всех открытых доселе видов интеллигентности
"инстинкт" есть самый интеллигентный» (2,341). Интеллигентность,
судя по контексту высказываний, понимается здесь как разумное,
целесообразное поведение, адекватная реакция на вызовы среды
обитания.
Инстинкт не поддается обману, он не подвержен
заблуждениям. Поэтому «... нужно следовать инстинктам, но убедить
разум, чтобы он при этом оказывал им помощь вескими доводами»
(2, 311). Само собой разумеется, что это положение не применимо
ни к «английскому инстинкту, ни к «немецкому инстинкту», ни к
«инстинкту теолога». Здесь, следовательно, амбивалентность
понятия инстинкта выступает как его отрицательная сторона:
применение этого понятия к самым разным, зачастую не имеющего
ничего общего друг с другом явлениям, лишает его
сколько-нибудь определенного содержания. Это уже не генетически
сформированные формы поведения, общие тому или иному виду живых
существ, поскольку Ницше включает в понятие инстинкта все и
вся. «Все хорошее есть инстинкт - и, следовательно, легко,
необходимо, свободно» (2, 579).
Понятие инстинкта превращается Ницше в некую отмычку,
с помощью которой он пытается решить и основные
метафизические проблемы. Он, например, убежден в том, что «...мы не
можем спуститься или подняться ни к какой иной "реальности",
кроме реальности наших инстинктов - ибо мышление есть
только взаимоотношение этих инстинктов» (2, 269). Реальность,
которую Ницше обычно сводил к многообразию человеческих
аффектов, здесь уже редуцирована к многообразию инстинктов. Всё это
выявляет неудовлетворительность ницшевской концепции
инстинктов, так как его понятие инстинкта не поддается
определению, поскольку оно распространяется не только на личностные,
668
но и на многообразные социальные явления*. А то обстоятельство,
что понятие инстинкта выделяется философом как сердцевина
всей концепции жизни, указывает на явную уязвимость его
«философии жизни». Эта философия, несмотря на то что она придает
понятию жизни основополагающее значение, отличается
зауженным, крайне ограниченным ее пониманием прежде всего потому,
что главным, определяющим в жизни считаются инстинкты.
Сознательная жизнь человека, духовная жизнь общества,
общественные движения фактически исключены из понятия жизни.
Такое, лишенное действительной полноты жизни понятие жизни
еще более обедняется в последующих работах философа; в них
он приходит к отрицанию сознания, мышления, предвосхищая
тем самым бихевиоризм в психологии и философии.
Следующим «несвоевременным» размышлением является
статья «Шопенгауэр как воспитатель». Ницше убедительно
говорит, что каждому следует позаботиться о том, чтобы его
существование не было бессмысленным. Необходимо, стало быть,
постигнуть собственное бытие, овладеть им, стать его кормчим. Решить
эту основную смысложизненную задачу едва ли можно без
помощи воспитателя. И Ницше сообщает: «...я предавался
действительно фантастическим надеждам, когда мечтал найти в качестве
воспитателя истинного философа, который освободил бы меня от
несовершенства моего времени и снова научил быть простым и
честным в мышлении и жизни, т.е. быть несвоевременным в
глубочайшем смысле этого слова»67. Ясно, таким образом, что свою
основополагающую идею - быть независимым от своего
времени, Ницше обрел еще до «встречи» с воспитателем. Иначе говоря,
он с самого начала своего интеллектуального развития трактовал
общественную жизнь и духовную атмосферу своего времени как
чуждую ему, стремясь возвыситься над ними не только в мечте,
в надежде, но и действительным образом, создав
«превосходящее» современную ему эпоху учение. И в этом, во всяком
случае на первых порах, ему был нужен учитель, воспитатель. Само
* Инстинктивное поведение как у животных, так и у человека носит в
основном целесообразный характер. Однако феномен целесообразности в
многообразных явлениях жизни не может быть объяснен ссылкой на инстинкты,
которые являются одним из проявлений целесообразности. И Ницше, несмотря
на высочайшую оценку инстинкта, вполне осознает эту истину. «Размышляя об
инстинктах, не продвинешься ни на шаг в понимании целесообразности» (Поли,
собр. соч., т. 7, с. 417). Понятие инстинкта недостаточно для объяснения
наиболее сложных процессов жизни. Такой вывод можно сделать из приведенной
цитаты. Однако вопреки такому выводу Ницше утверждает: «Философ есть
продолжение инстинкта» (там же, с. 418).
67 Ницше Ф. Несвоевременные размышления. С. 194.
669
собой разумеется, что этот учитель должен был быть (так полагал
Ницше) независимым от своего времени мыслителем. И такого
мыслителя, казалось бы действительно независимого от
социальных условий своего времени, он нашел в лице Шопенгауэра,
покинувшем Берлинский университет, в котором он преподавал в
течение ряда лет, и ставшего «отшельником», благо для этого он
располагал необходимыми средствами, полученными в качестве
наследства.
Ницше прочел основной труд Шопенгауэра «Воля и
представление», его «Афоризмы житейской мудрости» и уверовал в то,
что именно Шопенгауэр есть тот воспитатель, которого он искал,
ибо только он может воспитывать своих адептов в духе
противоположном всему наличествующему в обществе. Но почему
Ницше видит смысл своего бытия, свое призвание в том, чтобы
быть несвоевременным! Ведь он же утверждал в
предшествующем «несвоевременном» размышлении, что «наше время именно
таково, каким оно должно было быть» (1, 214). Но эта
«констатация» совершенно недостаточна, с точки зрения Ницше, для того,
чтобы примириться с «нашим временем»*.
Что же противно Ницше в «нашем времени»?
Капиталистический строй? Он не подвергает его критике, а судя по его
отрицательному отношению к социалистическому рабочему движению,
* Характеризуя Шопенгауэра как воспитателя, учителя, Ницше вместе с
тем убежден в том, что гений, каковым он себя осознает, должен сам себя
воспитать, сам быть своим учителем. Воспитатели, учителя нужны лишь
обыкновенным, ординарным молодым людям. Однако, несмотря на это убеждение, Ницше
характеризует Шопенгауэра именно как учителя и воспитателя. «Несомненно,
что одним из величайших и неоценимых преимуществ, которые мы получили
от Шопенгауэра, является то, что он временно оттеснил наше чувство назад, к
старым могущественным формам понимания мира и людей, к которым иначе
мы не так легко нашли бы путь» (Стихотворения. Философская проза, с. 257). К
этим старым могущественным формам мировоззрения относится прежде всего
метафизика. Именно ее имеет в виду Ницше. «В нашем столетии метафизика
Шопенгауэра доказала, что и теперь еще научный дух недостаточно силен,
поэтому средневековое христианское понимание и человекоощущение могло еще
раз полностью воскреснуть в учении Шопенгауэра» (там же).
Ницше противопоставляет Шопенгауэра Канту, учение которого
представляется ему отрицанием, разрушением метафизики. Высоко оценивая
метафизику Шопенгауэра, Ницше, однако, не считает свои собственные воззреня
метафизикой. Оригинальность, которую Ницше рассматривает как сущностную
особенность философского глубокомыслия, находит свое выражение в
отстраненном отношении ко всем философским учениям за исключением учения
Шопенгауэра, которого он в этот период своего интеллектуального развития
все-таки признает своим учителем. Однако в конце своей творческой жизни он станет
категорически отрицать это признание, отрицать свою идейную зависимость от
каких бы то ни было мыслителей.
670
он вполне приемлет капиталистическое общество. Но
«буржуазность» для него неприемлема, т.е. непереносима обыденность,
рутина капиталистического общества, мещанство,
посредственность и т.п. Неприемлемы для него не экономические порядки,
а господствующие обычаи, нравы, повсеместное лицемерие.
Ясно, что Ницше не терпит всё, что мешает одаренному
индивидууму возвыситься над своим окружением, стать
оригинальным, стать, если и не великим человеком, то хотя бы
приблизиться к этому образцу.
Существуют, полагает Ницше, три типические образа
великого человека, способного к преобразованию собственной жизни,
а тем самым и к обогащению культуры новыми достижениями:
человек типа Ж.-Ж. Руссо, революционер, совершенно
неприемлемый с точки зрения Ницше; человек типа Гёте - несомненный
идеал, но ему постоянно угрожает опасность выродиться в
филистера. Только человек типа Шопенгауэра, по мнению Ницше,
совершенно безупречен. Его философия предоставляет человеку
убежище, куда никогда не проникнет ни пошлость, ни тирания.
Шопенгауэр, убежден Ницше, превосходит Канта, который все-
таки был университетским профессором, подчинялся
регламенту и, следовательно, не был вполне свободным умом, в то время
как Шопенгауэр стал независимым не только от университетских
порядков, но и от современного ему общества и даже от
государства. Именно поэтому нет ему равных. Шопенгауэр - гений, а
«...гений не должен бояться вступить в самое враждебное
противоречие с существующими формами и порядками, когда хочет
вознести к свету высший порядок и истину, которые живут в нем»68.
В действительности Шопенгауэр вовсе не вступал в
противоречие с истеблишментом, он просто вел жизнь затворника,
отгородившись своей философией и всем образом жизни от общества.
Это-то Ницше и считает конфликтом «со своим временем».
Такого рода конфликт, разумеется, имеет место, но лишь в сознании
этого философа, в его философии, в которой он выступает как
абстрактное пессимистическое отрицание бытия. «Но
существует род отрицания и разрушения, который есть именно истечение
могущественной жажды освящения и спасения жизни», - пишет
Ницше. И продолжает: «И первым его философским наставником
среди нас, утерявших святость и подлинно обмирщенных людей,
выступил Шопенгауэр. Всякое бытие, которое можно отрицать,
тем самым и заслуживает отрицания; и быть правдивым - значит
верить лишь в то бытие, которое нельзя отрицать и которое само
Там же. С. 194.
671
истинно и правдиво»69. Но существует ли такое, не
поддающееся отрицанию бытие? Ницше уже высказался по этому поводу
в предыдущих работах, в которых он утверждал, что реальное
есть лишь видимость, существование которой всегда стоит под
вопросом. Здесь же он соглашается с Шопенгауэром, с его
разграничением действительного и мнимого. Правда, у Ницше это
разграничение сплошь и рядом стирается, так как ему по существу
чужд космический волюнтаризм Шопенгауэра. Поэтому остается
неясным, что же он понимает под действительностью, отличной
от представлений, которые лишь субъективны.
Шопенгауэр, несомненно, выдающийся философ и к тому же
замечательный писатель, читать которого интересно и приятно
даже не искушенным в философии людям. Но утверждать, что
«нет ему равных», как это делает Ницше, значит следовать
совершенно неуместной в философии пословице: на вкус и на цвет
товарищей нет.
Противопоставление Шопенгауэра Канту, утверждение, что
Шопенгауэр превосходит родоначальника немецкой классической
философии, обосновывается ссылкой на «бессмертное» учение
Шопенгауэра об интеллектуальном созерцании, об априорности
закона причинности, об орудийной природе мышления и
несвободе воли. Но задолго до Шопенгауэра учение об
интеллектуальном созерцании разрабатывали рационалисты XVII века, а также
материалист Д. Локк. Старший современник Шопенгауэра,
ненавистный ему И.Г. Фихте систематически обосновывал понятие
интеллектуального созерцания. Положение об априорности
закона причинности - одно из основных в кантовской
трансцендентальной аналитике. Шопенгауэр, правда, не без оговорок
признавал приоритет Канта в данном вопросе. Что касается положения
об «орудийной природе мышления», то оно действительно
впервые высказано Шопенгауэром, который в угоду иррационалисти-
ческой тенденции всячески ограничивал роль мышления в
познании и духовной жизни человека вообще, истолковывая мышление
как подчиненное независимой от него и поэтому главенствующей
воле. Положение о несвободе воли, никак, конечно, не может быть
рассматриваемо как вклад Шопенгауэра в философскую копилку;
это воззрение отстаивали многие философы Нового времени и ни
они, ни Шопенгауэр, не могли, исходя из него, объяснить
вменяемость человека, совершившего, например, преступление.
Оригинальность философии Шопенгауэра состоит в ее
основоположении о вселенском, сверхчеловеческом характере воли,
Там же. С. 219.
672
но это как раз то положение, которое не вполне разделяется
Ницше, который, допуская наличие воли в природных явлениях, все
же характеризует волю главным образом как человеческую волю,
основную определенность личности человека. Но это, уже
наметившееся в ранних работах Ницше расхождение с Шопенгауэром,
не помешало ему утверждать: «... чем может быть для нас после
Канта Шопенгауэр - именно вождем, который ведет нас с высот
скептического недовольства или критического отречения на
высоты трагического жизнепонимания»70.
Таким образом, вполне правомерно сделать заключение, что
Ницше, несмотря на его дифирамбы Шопенгауэру, никогда не был
правоверным приверженцем его учения. Ницшевская
убежденность в глубочайшей оригинальности его собственных
философских воззрений в принципе исключала допущение правоверного
следования какому бы то ни было положению своего учителя.
В своем последнем сочинении «Esse homo» Ницше по-новому
оценивает свои «Несвоевременные размышления», посвященные
Р. Вагнеру и А. Шопенгауэру. Суть этой новой оценки состоит в
том, что, по словам Ницше, всё, что он написал о
Шопенгауэре и Вагнере, было в действительности написано о нем самом,
т.е. о Ницше. Платон, указывает Ницше, излагал свои воззрения,
как воззрения Сократа. Так же, по словам Ницше, поступил и он.
Поэтому его статьи о Шопенгауэре и Вагнере следует
рассматривать как завуалированное повествование об авторе этих статей.
«Теперь, когда из некоторого отдаления я оглядываюсь на те
состояния, свидетельством которых являются эти сочинения, я не
стану отрицать, что в сущности они говорят исключительно обо
мне. Сочинение "Вагнер в Байрейте" есть видение моего
будущего; напротив, в "Шопенгауэре как воспитателе" вписана моя
внутренняя история, мое становление» (2, 735). Конечно, эта
новая оценка - переоценка своих прежних сочинений - нисколько
не изменяет их действительного содержания. И то, что Ницше
в этой последней своей работе отвергает учение Шопенгауэра,
также ничего не изменяет по существу, ибо философия Ницше в
основе своей есть лишь по-своему изложенная, частично
измененная философия Шопенгауэра.
Подводя итоги первому периоду в творческом развитии
Ницше, можно сказать, что уже в работе «Происхождение трагедии...»
Ницше сформулировал и обосновывал идеи, которые составляют
ядро его мировоззрения. Это, прежде всего, идея дионисического
как сущности жизни и, следовательно, понимание жизни как всё
70 Там же. С. 203-204.
22. Ойзерман Т.И., том 5 673
определяющего стихийного, иррационального процесса, который
противостоит моральным предписаниям, а также познанию, в том
числе и в научной его форме. В конце своей жизни Ницше писал:
«Рождение трагедии» было моей первой переоценкой всех
ценностей... Я последний ученик философа Дионисия, я - учитель
вечного возвращения»71.
Характеристика первого периода интеллектуального развития
Ницше как периода, закладывающего основу всего его учения,
никоим образом не говорит о том, что воззрения Ницше оставались
неизменными. Она не говорит и о том, что Ницше не выдвигал
новые идеи. Его отношение к науке, к познанию вообще
существенно изменилось в ходе второго этапа его идейного развития;
но затем, в третьем этапе оно снова в значительной степени
возвратилось к положениям, которые были высказаны в «Рождении
трагедии».
В этом первом основополагающем произведении Ницше нет
еще ни идеи сверхчеловека, ни другой, вдохновившей философа
идеи - идеи вечного возвращения. Но и та, и другая идеи легко
вписываются в содержание его первого основного труда, который,
если не прямо, то косвенно, предвосхищает эти идеи.
Таким образом, первый период творческого развития Ницше
оказывается не просто первым, но и главным, поскольку
последующее идейное развитие философа стало развитием идей,
содержащихся в работах этого периода. Разумеется, это относится
не только к «Рождению трагедии», но и к четырем очеркам,
составившим «Несвоевременные размышления». Можно сказать, не
боясь преувеличения, что все последующие работы Ницше были
«несвоевременными» размышлениями.
3. Второй период творческого развития Ницше
Этот период в творчестве Ницше обычно характеризуют как
позитивистский. При этом имеется в виду не только идейное
сближение Ницше с такими мыслителями, как О. Конт, Г.
Спенсер, но и поворот философа в основном к положительной оценке
научного знания*. Это, однако, не означает, что Ницше в какой-то
71 Ницше Ф. Падение кумиров или о том, как можно философствовать с
помощью молотка. СПб., 2003. С. 126.
* О том, как высоко, вопреки своему обыкновению, Ницше оценивает
родоначальника позитивизма О. Конта, свидетельствует следующая его фраза:
«... поистине великим французом, рядом с которым не могли такого поставить
ни немцы, ни англичане» («Утренняя заря», 209). Правда, вскоре Ницше
отказался от высокой оценки этого мысителя.
674
мере отказался от своего критического отношения к науке и
познанию вообще.
Главным положением в первой работе этого периода -
«Человеческое, слишком человеческое» (1876-1879) - является
императив: переоценка ценностей. «Нельзя ли перевернуть все
ценности? И, может быть, добро есть зло? А Бог - выдумка и
ухищрение дьявола? И, может быть, в последней своей основе
все ложно?» (1, 235). И вопросительные знаки, и повторяющееся
«может быть» могут быть поводом для превратного истолкования
этого положения. Между тем Ницше не просто задается
вопросом; вопрос для него уже решен. Форма вопроса в приведенном
положении, как и во многих других, есть лишь способ обращения
к читателю.
Переоценка ценностей есть отрицание всех существующих
ценностей, общепринятых убеждений прежде всего. Больше того:
речь идет об отрицании самого понятия «ценность». Однако это
отрицание, так сказать, временное, поскольку понятию ценности
в отличие от понятия истины придается в сущности
основополагающее значение. Тем не менее Ницше утверждает, снова в
вопросительной форме: «Отчего я отрекся от всего, что
почитаю, - отрекся даже от самого почитания?» (1, 237). Почитание,
следовательно, трактуется как ложное, вредное для жизни
отношение к чему бы то ни было. Само слово «почитание» должно
быть исключено из словаря философа*.
Ницше рассматривает философию как «вершину всей
пирамиды знания». Именно поэтому «непроизвольно поднимается
вопрос о пользе познания вообще, и каждая философия
бессознательно имеет намерение приписать ему высшую полезность»
(1,242). В силу этого философские положения
противопоставляются выводам науки, которым, как полагает Ницше, не
присуща высшая ценность. Так возникает противоречие между этими
сферами познания. Этот, по словам Ницше, антагонизм
преодолевается путем критического анализа философии. «Апология
познания», характеризующая, по его убеждению, философию,
принципиально неоправданна, так как познание не только
полезно, но в некоторых отношениях также вредно. Осознание этого
* В противоположность заявлению об отречении от всякого почитания
Ницше в другой работе, относящейся ко второму периоду, утверждает: «И
почитанию должны люди учиться» (1, 575). Это, конечно, не значит, что Ницше
пересмотрел свое несколько ранее высказанное убеждение. С его точки зрения,
названной им перспективизмом, разные, в том числе и исключающие друг
друга, высказывания становятся совместимыми, дополняющими друг друга,
поскольку изменяется перспектива.
22*
675
придает философии трагический характер. Она задается
вопросом: не становится ли истина враждебной жизни? Философия, по
убеждению Ницше, не дает правильного ответа на этот вопрос,
поскольку она остается апологией познания. Это в особенности
относится к метафизике, которая в конечном счете сводится к
признанию того, что допускаемый ею другой мир есть нечто
абсолютно непостижимое. А отсюда, по мнению Ницше, следует,
что понятие «вещи в себе», которому Кант придавал
основополагающее значение, является бессодержательной абстракцией.
«Наследственным» недостатком всей философии Ницше
считает отсутствие исторического понимания человека. Все
философы, по его мнению, исходят из представления о современном
человеке, не учитывая того, что человек есть продукт развития, что
определенные существенные особенности его организма
сложились многие тысячи лет тому назад в так называемые
первобытные времена. Это обстоятельство особенно важно для понимания
происхождения обычаев, нравственных предписаний,
религиозной веры.
Ницше, несмотря на высокую оценку философии как высшей
формы познания, не разделяет убеждений философов в том, что
ими добыты наиболее глубокие знания. Глубокие знания вообще
невозможны. Те знания, которые в какой-то мере доступны
человеку, именуются научными. Наука, не претендуя на познание
иного, недоступного наблюдению мира, дает зато более или менее
определенные знания. «Научный дух» становится все более
повелительным. «Почти во всех науках основные положения либо
найдены в самое последнее время, либо же только
отыскиваются; это прельщает совсем иначе, чем когда все существенное уже
найдено, и исследователю остается только собирать жалкие
осенние остатки урожая...» (1, 376). То, что Ницше преувеличивает
достижения наук, показывает, что он разделяет иллюзию
естествоиспытателей его времени, которые были, как правило,
убеждены в том, что науки о природе, в основном, исчерпали предмет
своего исследования, т.е. приблизились к полному познанию всех
явлений природы. Эти иллюзии, господствовавшие в эпоху
Просвещения, сохранялись и в последующее время*. И Ницше, кото-
* То, что это убеждение Ницше было почерпнуто у естествоиспытателей,
не подлежит сомнению. П.Л. Капица указывает, что убеждение в
завершенности познания природы сложилось уже в XVIII столетии. «Достаточно почитать
труды современников Ньютона, чтобы видеть, что и тогда многие считали, что
с открытием классических законов механики закончено познание мертвой
природы» (Капица П.Л. Эксперимент. Теория. Практика. М., 1972, с. 262-263). Эта
иллюзия владела естествоиспытателями и в XIX веке. М. Планк вспоминает,
676
рый временно уверовал в превосходство науки над философией,
естественно, выступает соответственно этому как приверженец
Просвещения и, следовательно, сторонник широкого
распространения знаний: «... мы вправе снова нести далее знамя
Просвещения - знамя, на котором написаны три имени: Петрарки, Эразма
и Вольтера» (1, 256)*.
Высокая оценка науки и познания вообще не мешает Ницше
критически анализировать познавательную деятельность, в
которой, как он убежден, знания и заблуждения неотделимы друг
от друга. Причем заблуждения трактуются им не как провалы в
процессе познания, не как издержки этого процесса, а как
положительные феномены, имманентно необходимые человеческой
жизни. «Заблуждение сделало человека столь глубоким, нежным,
изобретательным, что он вырастил такие цветы, как религии и
искусства. Чистое познавание было бы не в состоянии сделать это.
Кто открыл бы нам сущность мира, тот причинил бы нам всем
самое неприятное разочарование. Не мир как вещь в себе, а мир
как представление (как заблуждение) столь значителен, глубок,
чудесен и несет в своем лоне счастье и несчастье» (1, 258)**.
что его учитель Ф. фон Жолли рассматривал физику «как высокоразвитую,
почти полностью созревшую науку, которая теперь, после того как она благодаря
открытию закона сохранения энергии, так сказать, увенчана короной, наверно,
скоро приобретет окончательную форму. Конечно, в том или ином уголке еще
остается, возможно, проверить или добавить пылинку или капельку, но система
в целом установлена достаточно надежно, и теоретическая физика явно
приближается к той степени завершенности, которую, скажем, геометрия приобрела
уже столетие назад» (Plank M. Physikalische Abhandlungen und Vorträge. Bd. III.
Braunschweig, 1958, S. 145).
* Считая себя продолжателем Просвещения, Ницше подчеркивает, что речь
идет о «новом Просвещении», основные направления которого таковы:
«против церкви и попов,
против государственных деятелей,
против доброжелательных, сострадательных,
против образованных и роскоши»
(Nietzsches Werke. Nachgelassene Werke. Bd. XIV, S. 331. Leipzig, 1904). Ницшев-
ская концепция Просвещения антидемократична. Распространение знаний,
образования он считает ненужным и даже вредным. «То, что каждый имеет право
учиться читать, портит надолго не только писание, но и мысль» (2, 29).
** Заблуждения, которые Ницше называет также иллюзиями,
характеризуются им как необходимое условие человеческой жизни. Отвергая поэтому
противопоставление истинного иллюзорному, Ницше утверждает: «Что истина
ценнее иллюзии, - это не более как моральный предрассудок; это даже хуже
всего доказанное предположение из всех, какие только существуют» (2, 269).
В черновиках и набросках, относящихся к 1869-1873 гг., Ницше следующим
образом определяет роль иллюзий: «... жизнь нуждается в иллюзиях, т.е. в
неистинном, принимаемом за истинное» (Поли. собр. соч., т. 7, с. 392-393). И далее еще
677
Ницше, как мы видим, весьма расширительно трактует
заблуждения. Это не только содержательные воззрения, в которых
скрытым образом сплошь и рядом содержится истина, но также
иллюзии, фантазии, расцвечивающие предметы, образующие
среду человеческой жизни. В таком понимании заблуждений
немало верного, что особенно очевидно на примере утопий. Хотя
научные знания постоянно противопоставляются утопическим
воззрениям, они нисколько не устраняют утопического
элемента как в самой науке, так и во вненаучном, повседневном
мышлении. А. Франс высказал, на первый взгляд парадоксальное, но
по существу правильное положение: «Утопия - принцип всего
прогресса; без утопистов далекого прошлого люди продолжали
бы нищенскую жизнь в пещерах»72. Соглашаясь с Франсом, мы не
можем безоговорочно согласиться с Ницше, поскольку его
вызывающе полемическая характеристика заблуждений превращается
в панегирик.
Важнейшее содержание рассматриваемого произведения
составляют рассуждения на этическую тему. Исторически
подходя к происхождению моральных предписаний, Ницше считает
их возникновение необходимостью в процессе антропогенеза.
«Зверь в нас должен быть обманут; мораль есть вынужденная
ложь, без которой он растерзал бы нас. Без заблуждений, которые
лежат в основе моральных допущений, человек остался бы
зверем» (1, 268)*.
Традиционное представление о моральных нормах связано,
как известно, с допущением свободы воли. Ницше не входит в
рассмотрение многочисленных аргументов в пользу положения
о свободе воли, свободе выбора, ответственности субъекта за все
более резко: «Следует принять положение: мы живем только благодаря
иллюзиям...» (там же, с. 394). Это положение уточняется: «Мы живем только благодаря
эстетическим иллюзиям» (там же, с. 395). Однако в другой связи Ницше считает
заблуждения вредоносными: «...в каком случае заблуждения приносят больше
вреда, - в том ли, когда они высказываются в неудачной форме, или в том, когда
выдаются за непреложные истины?» (1, 590). Ницше почему-то умалчивает о
том, что то или иное положение, являющееся заблуждением, принимается не
потому, что оно заблуждение, а потому, что представляется истиной.
72 France A. Discours aux étudiants. Paris, 1910. P. 36.
Хотя мораль в какой-то мере обуздывает звериную сущность человека,
она нисколько не способна ее изменить. Человек, учит Ницше, остается зверем.
«Человек есть самый лучший хищный зверь» (2, 152). «Человек для себя самого
самое жестокое животное» (2, 159). Есть, конечно, у Ницше и другие
характеристики человека, о которых будет еще речь. Однако главное в воззрениях Ницше
на человека все же сводится к тому, что человек, несмотря на все свои
заблуждения и моральные «допущения», остается зверем. Не будь этой животной
природы человека, не было бы ни человека, ни человечности.
678
совершаемые им действия. Он решительно отвергает любое
допущение свободы воли, настаивая на том, что все без исключения
действия человека обусловлены независимой от него цепью
причин и следствий, необходимостью. Отсюда следует вывод:
человеку не должна быть вменяема ответственность за совершаемые
им действия, ибо каждое действие необходимо, не может быть
заменено другим действием. «Итак, вера в свободу воли есть
первоначальное заблуждение всего органического мира, столь же
старое, как первые пробуждения логической мысли; вера в
безусловные субстанции и в одинаковые вещи есть также
первоначальное, столь же старое заблуждение всего органического мира.
И поскольку вся метафизика преимущественно занималась
субстанцией и свободой воли, ее можно обозначить как науку,
трактующую об основных заблуждениях человека» (1, 251).
Отрицание свободы воли лишает смысла моральную оценку
поступков человека, поскольку ни один из них не является
результатом его выбора. В этом смысле, как подчеркивает Ницше,
человеческие поступки не подлежат нравственной оценке.
«"Человек, - утверждает Ницше, - поступает всегда хорошо'4. Мы не
обвиняем природу в безнравственности, когда она ниспосылает
нам грозу и заставляет нас промокнуть до нитки...». Человек
поступает согласно своей природе. Отсюда вывод: «... тот, кто
наказывается, не заслуживает наказания» (1, 293, 296)*.
Ницше неоднократно возвращается к вопросу о «свободе воли», считая, что
убеждение в существовании такой свободы есть иллюзия метафизики,
теологический догмат. «Желание "свободы воли"... есть не что иное, как желание быть той
самой causa sui и с более, чем с мюнхаузеновской смелостью вытащить самого себя
за волосы в бытие из болота...» (2, 256). Однако страницей ниже Ницше уточняет
свое воззрение: «"Несвободная воля" - это мифология: в действительной жизни
дело идет только о сильной и слабой воле» (2, 257). Однако на этом не
заканчивается уточнение ницшевского понимания свободы (или несвободы) воли. В другой
работе мы встречаем такое выражение: «воля к свободной воле» (1, 234). Надо ли
это понимать в том смысле, что человеческая воля стремится к невозможному?
Неожиданным ответом на этот вопрос является следующее утверждение: «... именно
свобода воли познающего, готового в любой момент смело отказаться от своего
прежнего мнения... и вызывает всеобщее осуждение и тем самым
компрометируется» (Стихотворения. Философская проза, с. 430). Еще более определенно
высказывается Ницше в другом месте: «Ценность человека устанавливается как
моральная ценность, следовательно, его моральность должна быть некоей causa prima»
(1, 284). Маловероятно допущение, что Ницше не сознавал, что он и отрицает, и
признает «свободу воли». Но он, по-видимому, полагал, что воля не свободна в
определенном отношении и свободна в другом, также определенном отношении.
Такая точка зрения согласуется с его перспективизмом, как учением о том, что
любая оценка, а тем более констатация зависит от перспективы, т.е. позиции субъекта,
точки зрения, которую Ницше определяет как оптику. «Существует только
перспективное зрение, только перспективное "познавание"» (2, 491).
679
Отрицание вменяемости личности, ее ответственности за
свои поступки упраздняет различие между поступками, которые
считались хорошими (нравственными) или плохими
(безнравственными). Однако Ницше, как мы видим, не согласен с таким,
казалось бы безупречным, логическим заключением. Различие
между хорошим и плохим все же существует, полагает он, но
это различие имеет место лишь внутри тождества. «Хорошие
поступки суть утонченные дурные; дурные поступки суть те же
хорошие поступки в более грубом и глупом виде» (1, 297). Этот
ход мысли является, конечно, логически непоследовательным,
но благодаря этой «непоследовательности» (и, пожалуй, даже
амбивалентности) Ницше реалистически, и в известной степени
диалектически, переосмысливает противоречивость моральных
предписаний. И продолжая придерживаться этой
непоследовательности, он приходит к в высшей степени важному выводу, что
«... существуют более высокие и более глубокие понятия о добре
и зле, о нравственном и безнравственном» (1, 276). Более
глубокие понятия, чем те традиционные догматические моральные
Понятию перспективы Ницше придает большое значение, полагая, что он
нашел принципиально новый подход к проблемам гносеологии. «Основной
вопрос: прнадлежит ли перспектива сущности? А не только форме рассмотрения,
отношению между различными сущностями? Находятся ли различные силы
в том отношении, которое связано с оптикой восприятия?» (Nietsche F.
Nachgelassene Werke. Bd. XIII. Univeröffentliches aus der Univertungszeit (1888 -).
Leipzig, 1903, S. 207). Как видно из этого высказывания, Ницше придает
понятию перспективы не только гносеологический, но и онтологический смысл.
«Как далеко простирается перспективный характер существования или даже:
есть ли у последнего какой-нибудь другой характер, не становится ли
существование без толкования, без "смысла" как раз "бессмыслицей"...» (1, 700).
В «Веселой науке» Ницше применяет понятие перспективы к этике.
«Эгоизм есть закон перспективы в ощущениях, по которому ближайшее предстает
большим и тяжелым, тогда как по мере удаления все вещи убывают в величине и
весе» (1, 605). Это разъяснение показывает, что понятие перспективы
почерпнуто философом из практики живописцев. Однако есть и другой, теоретический
источник ницшевского перспективизма. Ницше не мог не знать о Тейхмюллере,
который одно время преподавал в Базеле. В своей книге «Действительный и
кажущийся мир» он утверждает: «...чисто перспективное понимание времени
может стать всеобщей формой порядка. Поскольку эта форма по своему
происхождению совершенно перспективна, т.е. в своей реальной сущности
создается принятой точкой зрения, то отсюда следует, что каждое сознание обладает
иным порядком времени... Наши родители переживали настоящее, которое для
нас имеет значение как прошлое... Поскольку предмет, например, этот камень,
это дерево, эта собака образуется из явных восприятий... постольку он в
пространстве образует фигуру и является движущимся или покоящимся, то
совершенно ясно, что речь идет лишь о проекции картины, так как каждый видит
вещи по-своему» (Teichmüller G. Die wirkliche und scheinbare Welt. Breslau, 1882,
S. 223-224, 333).
680
предписания, которые Ницше отвергает самым решительным
образом. Он, правда, не разъясняет, что представляют собой эти
более высокие понятия о добре и зле. Но весь ход его рассуждений
позволяет понять, что добром и злом, в корне отличном от
догматических предписаний на этот счет, могут быть лишь поступки
свободного человека, которые не предписаны ему извне, а
вытекают из его собственного личностного решения. Однако
признание свободных моральных решений находится в противоречии
не только с провозглашаемым философом имморализмом, но и с
отрицанием свободы воли, на котором так решительно настаивал
Ницше*. И хорошо, что это противоречие не останавливает его
стремления отстоять добро в новом, чуждом обыденному
сознанию, понимании.
Таким образом Ницше, этот беспощадный критик морали
(вернее, моральной догматики) становится проповедником новой
морали. «Доброта и любовь... целебнейшие травы и силы в
общении между людьми...». А в другом месте этого же сочинения:
«Надо учиться любить, учиться быть добрым, и притом с юных
лет...» (1,271, 473).
Если бы эти высказывания были зачитаны без ссылки на
их автора, подавляющее число слушателей, знакомых с
учением Ницше, не подумали бы, что это им сказано. Впрочем,
этому философу всегда нравилось ошеломлять своих читателей.
И в рассматриваемой работе он сплошь и рядом поступает таким
эпатирующим образом. Это в особенности относится к
социально-политическим воззрениям Ницше, которые походя
высказываются (точнее говоря, декларируются) в этой книге. Так,
например, Ницше утверждает: «Более высокая культура (по сравнению
с существующей. - Т.О.) сможет возникнуть лишь там, где
существуют две различные общественные касты: каста работающих и
каста праздных, способных к истинному досугу; или, выражаясь
сильнее: каста принудительного труда и каста свободного труда»
(1,431). Трудно объяснить, почему Ницше выступает сторонником
кастового строя, да к тому же аттестует его как более высокую, по
сравнению с существующей, форму общественного устройства.
Можно предположить, что он не хотел прослыть приверженцем
классового устройства общества, т.е. сторонником общепринятой
* Считая человека свободным существом и настаивая на том, что
индивидуум должен осознать свою сущность, овладеть своими страстями, Ницше тем
самым признает и «свободу воли»: «Ведь это было в вашей власти, как и теперь
в ваших руках лишить страсти их ужасного характера и таким образом лишить
их возможности превращаться в бурные ожесточенные потоки» (Странник и его
тень, с. 42).
681
в тогдашней Европе концепции, которую еще в начале XIX в.
систематически обосновывали французские историки - Гизо, Тьерри,
Минье. Эта странная для европейца конца XIX в. приверженность
«кастовому» строю еще более трудно поддается объяснению,
поскольку Ницше в своем представлении о таком строе лишает его
основной, определяющей черты. Согласно его концепции, в
рамках кастового строя «... имеет место обмен членами между
обеими кастами, так что более тупые, менее одухотворенные семьи и
личности из высшей касты перемещаются в низшую, и, наоборот,
более свободные личности низшей касты получают доступ в
высшую...» (1, 431). Но если действительно происходят такого рода
вертикальные перемещения (мобильность в терминах
современной социологии), то нет, конечно, кастового строя. Ницше,
следовательно, вопреки своим шокирующим читающую публику
заявлениям не является в действительности приверженцем реального
кастового строя, каким он существовал, в частности, в Индии*.
Отношение Ницше к социалистическому движению
представляет, на мой взгляд, особый интерес. Интеллектуальное
творчество Ницше развертывается в период, когда в Германии, а затем
* Ницше наделяет господствующую социальную группу всеми возможными
добродетелями. «Высшая каста - я называю ее кастой немногих - имеет, будучи
совершенной, также и преимущества немногих: это значит - быть земными
представителями счастья, красоты, доброты». Члены высшей касты «господствуют не
потому, что хотят, но потому, что они существуют; им не предоставлена свобода
быть вторыми. - Вторые - это стражи права, опекуны порядка и безопасности,
это благородные воины, это прежде всего король, как высшая формула воина,
судьи и хранителя закона» (2, 685). Нетрудно заметить, что ницшевская концепция
«идеального» общественного строя отличается от платоновской утопии
идеального государства по существу лишь тем, что в ней наличествуют рабы, которых
нет у Платона в качестве основной массы трудящихся.
Стоит отметить, что необходимость кастового общественного строя
вытекает, по Ницше, из необходимости разделения труда. «Касты созданы в
видах разделения труда, а с другой стороны - они единственный способ сделать
безошибочную работу инстинктивной» (Полное собрание сочинений, том 13,
с. 352). Ницше, по-видимому, игнорирует то обстоятельство, что разделение
труда в своей примитивной форме существовало и в первобытной общине, а в
своей развитой форме наличествует в каждой цивилизации, т.е.
безотносительно к существованию кастового строя.
В «Черновиках и набросках» конца 80-х гг. Ницше утверждает, что
существуют такие виды трудовой деятельности, осуществление которых
невозможно вне кастового строя: «Кастовый строй основывается на осмыслении того,
что существуют три или четыре вида человека, которые наилучшим образом
развиты и определены к различной деятельности, как она существует для всех
вследствие разделения труда» (Nachgelassene Werke. Bd. XIV // Nietzsches Werke,
1882-1888, Leipzig, 1904). Ницше, по-видимому, имеет в виду неприятные, но
необходимые виды трудовой деятельности, которые, по его убеждению,
возможны только в рамках кастового строя.
682
и в других европейских странах возникают массовые
социалистические (социал-демократические) партии, которые участвуют
в парламентских выборах, добиваются успехов, т.е. своего
представительства в парламенте, вносят законопроекты, выражающие
интересы рабочего класса. Деятельность этих партий, их успехи
вызывали тревогу у власть предержащих. В 1878 г. правительство
Германии приняло «исключительный закон», запрещающий
существование социал-демократической партии. Три с половиной
тысячи социал-демократов были арестованы, около 350 социал-
демократических организаций распущено, печатные издания
партии были запрещены. Социал-демократическая партия Германии
перешла на нелегальные позиции и несмотря на все трудности
добивалась новых успехов на выборах в рейхстаг. Эти успехи
привели в 1890 г. к отмене «исключительного закона», отставке
правительства Бисмарка. Ницше разделял тревогу политиков,
страшившихся прихода к власти социал-демократов. Успехи
социал-демократического движения побуждают его к
осмыслению исторически складывающейся ситуации. «Социалисты
стремятся создать благополучную жизнь для возможно большего
числа людей», - констатирует он. Если эта цель будет достигнута,
то «этим благополучием была бы разрушена почва, из которой
произрастает великий интеллект» (1, 364-365). Ницше убежден в
том, что всё великое в духовной жизни общества появляется лишь
тогда, когда принудительный труд большинства населения
страны обеспечивает «свободный труд» незначительной его части, из
лона которой, по его убеждению, вырастают великие люди. Он
ссылается на исторический опыт: великие люди появлялись на
исторической арене в условиях социального неравенства. Но из
этого факта никак не следует вывод, что значительное
улучшение условий жизни трудящихся делает невозможным творческий
«свободный труд»*.
* «Ума не приложу, - сокрушается Ницше, - что собираются делать с
европейским рабочим. Он уже слишком хорошо себя чувствует, чтобы не требовать
отныне, шаг за шагом, все большего, требовать все беззастенчивей: в конце
концов, на его стороне численное превосходство. Канула в небытие надежда, что из
рабочего образуется некая непритязательная и самоудовлетворенная порода
человека, племя рабов в самом умеренном смысле слова... Рабочего выучили воевать,
наделили правом голоса и правом объединяться в союзы... И что же собираются
делать, спросили еще раз... если хотят получить рабов - а в рабах есть нужда! - не
следует воспитывать из них господ» (Полное собрание сочинений, т. 13, с. 27). Это
преисполненное тревоги, пожалуй даже отчаяния, рассуждение никак не указывает
выхода из «тупика». Однако выход все-таки есть и Ницше постиг эту истину и
притом гораздо раньше, чем высказал эти мысли. Нужен компромисс. К этому выводу
Ницше пришел в работе «Человеческое, слишком человеческое».
683
Ницше отрицательно относится к демократическим
преобразованиям общества, которые он рассматривает как «падение
государства», т.е. весьма значительное ослабление власти. Это не
значит, что Ницше сторонник усиления государственной власти.
Государство, с точки зрения Ницше, враждебно человеку, всякому
человеку вообще. Однако Ницше не разделяет воззрений
анархистов, не считает, что государство должно быть упразднено.
Существующее, полагает он, необходимо; значит оно должно
существовать. Что касается заявления о том, что демократия ослабляет
государство, то Ницше, вероятно, не сознавал, что
демократические реформы сплошь и рядом укрепляли властные структуры
капиталистического общества.
Отрицательное отношение к демократии сочетается в
воззрениях Ницше с кантовским (вполне в духе учения о категорическом
императиве) осуждением любой формы дискриминации члена
общества: «самый недвусмысленный признак пренебрежительного
отношения к людям состоит в том, что ценишь каждого
исключительно как средство для своей собственной цели и не признаешь
в других отношениях» (1, 459). Ницше, конечно, не осознает, что
в данном случае он фактически полностью солидаризируется с
Кантом, несмотря на свое резко отрицательное отношение к
категорическому императиву и априоризму. Он, по-видимому, также
не осознает, что формулируемое им положение - одно из
теоретических основ этики как науки. И кроме того, это положение,
по существу, формулирует идеальные цели демократического
устройства общества. Мыслитель, отстаивающий это положение,
осмысливающий все его содержание, не является, в сущности,
противником демократических гражданских прав и свобод, не
может быть поэтому приверженцем политического господства
аристократии, для которой все нижестоящие граждане являются
всего лишь средством для достижения ее собственных целей. Но
Ницше далек от того, чтобы сделать все эти выводы.
Амбивалентность - принцип его учения.
Категорический императив Канта непримирим с
милитаризмом, с оправданием войн, а тем более с их восхвалением как
необходимого средства для поддержания жизненных сил народа.
Ницше и здесь, вопреки своему требованию не рассматривать
человека как средство, настаивает на жизненной необходимости
войн. По его словам, «... современное европейское
человечество нуждается не только вообще в войне, но даже в величайшей
и ужаснейшей войне - т.е. во временном возврате к варварству, -
чтобы не потерять из-за средств к культуре самой своей
культуры и жизни» (1, 450). И в противовес этому мрачному профети-
684
ческому утверждению Ницше осуждает милитаризм.
Противоречие? Разумеется. Но к нему Ницше давно привык.
«Человеческое, слишком человеческое» - само название
этой работы говорит о том, что Ницше видит в человечестве,
человечности нечто ограниченное, недостаточное, подлежащее
преодолению. Но этот ход мысли находит свою неожиданную
противоположность в признании высшего человеческого Я,
внутренне присущего каждому человеку. Общение с этой
духовной самостью и есть преодоление человеком собственной
ограниченности, а вовсе не преодоление «слишком
человеческого».
Ницше утверждает: «У каждого есть хороший день, когда он
находит свое высшее Я\ и истинная человечность требует, чтобы
каждый оценивался лишь по этому состоянию, а не по
будничным дням зависимости и рабства» (1, 480). Истинная
человечность есть, стало быть, согласно Ницше, такое состояние
человеческого духа, когда он вполне обретает самостоятельность и
свободу и поэтому начинает высказывать такие воззрения,
которые с точки зрения будничной ординарности, скованной
запретами и условностями, являются недопустимыми, иногда даже
позорными.
Человек, вставший на позиции своего высшего Я, критически
оценивая самого себя, свои воззрения, является поэтому
скромным существом. «Кто глубже мыслит, знает, что он всегда не прав,
как бы он ни поступал и ни судил» (1, 458). И далее, еще более
проникновенно: «Существует подлинная скромность (т.е.
сознание, что мы - не наше собственное создание); и она вполне
подобает великому уму» (1, 469^470). Ницше, судя по его работам,
несмотря на всю свою гениальность, далеко не всегда находился
в общении со своим высшим Я.
«Утренняя заря. Мысли о моральных предрассудках»
Название книги говорит о том ярком солнечном свете,
которым Ницше, по его убеждению, просветил старые, казавшиеся
совершенно неразрешимыми проблемы. «В чем причина того, что
все философы, начиная с Платона, трудились напрасно?» Ответом
на это утверждение, сформулированным в виде вопроса, является
заявление Ницше, который, констатируя «бессилие» философов,
утверждает, что он «предпринял нечто такое, что не каждый мог
сделать: я спустился в глубину, я начал рыть почву, исследуя ту
старую веру, на которой мы, философы, возводили здание уже
несколько тысячелетий, возводили все снова и снова, несмотря на
685
то, что все эти здания рушились - я начал исследовать нашу веру
в мораль»1*.
Прежде всего Ницше считает необходимым исследовать
генезис морали, начав с рассмотрения первобытной родовой общины,
в которой господствовал обычай, лишавший всех ее членов
какой бы то ни было независимости, свободы, индивидуальности.
Всё индивидуальное, оригинальное, поскольку оно иногда все
же появлялось, считалось аморальным и сурово преследовалось.
Нравственность сводилась к послушанию, исполнительности,
готовности принести себя в жертву. И эта, издревле сложившаяся
«нравственность» продолжает, согласно Ницше, владеть людьми
и в современном ему обществе. Поэтому «мы, теперешние люди,
живем в безнравственное время»74, несмотря на то, что древние
обычаи, на которых основывалась «нравственность», обветшали
и утратили свою прежнюю обязательность. Такая, доставшаяся
с незапамятных времен «нравственность» - главное препятствие
на пути к возникновению новых, лучших обычаев, которые
должны были бы стать основанием новой нравственности. Именно
поэтому встала задача «... сбросить иго старой нравственности и
дать новые законы.. ,»75. Эту задачу постарались решить «сильные
люди» (Ницше не говорит, кого он имеет в виду), но они были
ошельмованы как умалишенные.
Таким образом, Ницше не только не отрицает необходимости
нравственности, но даже пытается ее обосновать,
усовершенствовать, сделать более соответствующей существенно
изменившимся условиям жизни. Вполне в духе умеренности он
заявляет: «Я не отрицаю, что многих поступков, которые называются
безнравственными, надобно избегать и надо сдерживать их. Я не
отрицаю, что следует делать и требовать, чтобы делали многое
из того, что называется нравственным. Но и то и другое
должно стоять на иной почве, чем это было до сих пор. Мы должны
переучиться, чтобы, наконец, может быть и поздно, достигнуть
большего - изменить свои чувства»16.
Чтобы понять суть задуманного Ницше переворота в этике,
надо иметь в виду, что его признание нравственности, хотя бы и
в преобразованном виде, нисколько не исключает критики,
которая в своих крайних выводах доходит до фактического
отрицания нравственности вообще. Моральные предписания, согласно
73 Ницше Ф. Утренняя заря. Мысли о моральных предрассудках. Минск, 2008.
С. 4-5.
74 Там же. С. 10.
75 Там же. С. 15
76 Там же. С. 39.
686
Ницше, противоречат человеческой природе, так как они
ограничивают ее самостоятельность и самодеятельность. Подчинение
моральным прописям, каким бы оно ни было - раболепным или
суетным, или своекорыстным, или восторженным, или, наконец,
актом отчаяния, - не заключает в себе ничего нравственного.
Перенося обсуждение вопроса в теоретическую плоскость,
Ницше утверждает, что отрицание морали возможно в двух
формах. В первой из них отрицают, что нравственные суждения
основываются на истинах. Вторая форма отрицания указывает
на заблуждения, предрассудки, на которых основываются
нравственные действия. И в том, и в другом отношении
действительность нравственных действий оказывается мнимой. Развивая
далее свое теоретическое отрицание действительности морали,
Ницше утверждает: «Если моральным действием, по одному
определению, можно назвать лишь такое, которое совершается
ради другого и только ради него, то нет моральных действий.
Если моральными действиями, по другому определению, можно
называть лишь такие, которые совершаются при свободе воли, то
нет моральных действий»77.
Итак, то, что называют моралью, на самом деле не
является таковой. И все же Ницше утверждает, что мораль необходима
обществу. Но существует ли необходимость вообще?
Необходимость морали Ницше не отрицает; он отрицает свободу выбора,
поскольку отрицает свободу воли. Речь идет не об отрицании ин-
детерминистской концепции, согласно которой воля независима
от мотивов. Ницше отвергает понятие свободы воли в любом его
понимании. «Свободная воля» - необходимое заблуждение,
которое возникает у человека, осознающего свою силу.
Нетрудно понять, что такое понимание «свободы воли»
делает весьма сомнительным понятие нравственного поступка.
Однако Ницше нисколько не отрицает добродетели. Он указывает на
четыре обязательных добродетели. «Быть честным относительно
себя и друзей, храбрым - с врагами, великодушным - к
побежденному; вежливым - всегда - вот наши четыре кардинальных
добродетели»78.
Еще более решительно Ницше выступает как моралист
(несмотря на то, что он именует себя имморалистом) в своем
требовании безусловной правдивости, которое вполне аналогично
кантовскому императиву, запрещающему ложь даже ради
благой цели (например, утешения умирающего). При всем своем
Там же. С. 76.
Там же. С. 218.
687
неприятии традиционных моральных норм Ницше преподносит
читателю такой образец нравственного самосознания, как
клятву: «Если я лгу, то я нечестный человек и пусть каждый скажет
мне это в глаза. Такую формулу я рекомендую вместо присяги:
она сильнее»79. Однако вопреки этой клятве и, конечно, вопреки
кантовскому запрету на ложь в какой бы то ни было ситуации,
Ницше как бы между прочим замечает: «Ложь, если не мать, то во
всяком случае кормилица блага»80.
Двойственное отношение Ницше к морали, не только к
традиционной, которую он всецело отвергает, но и к той
«преобразованной» им морали, которую он все же признает, объясняется
его представлениями о сущности человека. Вопреки отрицанию
свободы воли, Ницше считает человеческой сущностью свободу,
так как человек, как он его понимает, лишь постольку человек
(человечен), поскольку он распоряжается самим собой,
является хозяином своего мира, добивается независимости от условий,
которые неизбежно противостоят его самости. Такое понимание
человеческой сущности, родственное, кстати сказать, штирне-
ровскому философскому анархизму, естественно, ведет к
толкованию моральных норм как ограничивающих свободу человека,
а может быть и сводящей ее на нет. Ницшевский человек хочет
быть правдивым, добрым, честным, благородным, но
безотносительно к моральным требованиям, так как он вообще не
выносит требований, предъявляемых его личности. Поэтому Ницше
провозглашает: «Так как мораль есть сумма предрассудков, то на
нее можно действовать с помощью предрассудков»81. Вторая часть
этого изречения не вполне понятна. Что значит действовать
(очевидно, воздействовать) на мораль. Какие предрассудки могут на
нее воздействовать? Ницше не отвечает на эти вопросы,
по-видимому, полагая, что читатель сам найдет ответ.
Как и в предшествующих работах, Ницше выступает с
отрицанием сострадания как морального отношения человека к
человеку. По его убеждению, сострадания, в сущности, не
существует, а то, что обычно именуют этим словом, в действительности
есть совершенно отличное от нравственного отношения чувство.
«Ошибочно, - пишет он, - называть состраданием то страдание,
которое испытываем мы при виде чужого страдания.. ,»82.
Амбивалентность этого изречения режет слух, так как сострадание есть
Там же. С. 79.
Там же. С. 126.
Там же. С. 244.
Там же. С. 65.
688
не что иное, как именно то страдание (или сожаление, сочувствие
и т.п.), которое испытываем мы при виде чужого страдания*.
«Утренняя заря» не исчерпывается критикой «моральных
предрассудков». Как и другие работы Ницше, она охватывает
широкий круг вопросов, которые уже рассматривались в
предыдущих произведениях, но вновь встают перед умственным
взором автора. Это и неоднократно уже обсуждавшийся вопрос об
отношении к Канту и Шопенгауэру, а также онтологические и
гносеологические вопросы, отношение к науке и познанию
вообще и т.д.
Кант характеризуется как сын своего времени, разделяющий
свойственные ему химеры. Подлинный философ, с точки зрения
Ницше, отличается несвоевременностью, т.е. живет и мыслит
вопреки своему времени. Гносеологическое учение Канта Ницше
именует сенсуализмом, полагая, что это учение было
«заимствовано» Кантом у его предшественников. Действительное
отношение Канта к сенсуализму, т.е. его теория опыта, вскрывающая
единство чувственных данных и априорных форм мышления, не
привлекает внимания Ницше.
Сопоставляя Канта и Шопенгауэра, Ницше утверждает: «Кант,
насколько можно видеть его сквозь его мысли, является добрым и
честным в лучшем смысле этого слова, но незначительным: ему
недостает широты и силы... Шопенгауэр стоит все-таки
несколько выше... Но ему недоставало "развития", которого не было в его
мировоззрении...»83. Нет необходимости возражать Ницше,
разъяснять, что Кант отнюдь не незначительный философ. Ницше,
по-видимому, не вникал в философию Канта и, возможно, вообще
не изучал ее. Не исключено, что его представления о кантовской
философии почерпнуты у Шопенгауэра, который, однако, был
далек от того, чтобы считать Канта незначительным мыслителем.
Онтологические воззрения Ницше вполне определенно
характеризует его высказывание: «Почему человек не видит сущего?
Он сам стоит на дороге и закрывает собой сущее»84. Это выска-
* Приведенное высказывание - не единственное, в котором проявляется,
по существу, двойственное отношение к состраданию. Поэтому наряду с
осуждением сострадания, как якобы не соответствующего сильной и свободной
натуре человека, Ницше как бы мимоходом заявляет: «Мы должны быть столь
же жестокими, сколь и сострадательными» (1,744). То обстоятельство, что
данное высказывание несовместимо с другими многочисленными
высказываниями, осуждающими, отрицающими сострадание, Ницше игнорирует. Едва
ли можно допустить, что он не замечал амбивалентности своего представления
о сострадании.
83 Там же. С. 190.
84 Там же. С. 177.
689
зывание в какой-то степени предвосхищает «фундаментальную
онтологию» Хайдеггера, который, правда, в отличие от Ницше,
говорит, что человек не видит бытия-сущего, хотя оно всегда у
него под боком. Терминологические различия едва ли имеют в
данном случае существенное значение.
Онтологические воззрения Ницше носят в основном
субъективистский характер. Так, например, он утверждает: «...то, что
мы теперь зовем миром, есть результат множества заблуждений
и фантазий» (1,249). Правда, остается неясным, что имеется в
виду: картина мира, формирующаяся в сознании, или мир, как он
существует сам по себе.
В «Черновиках и набросках» (1869-1872) идеалистическая
интерпретация реальности выступает более определенно. При
этом Ницше колеблется между различными вариантами
идеализма. «Мы знаем только одну реальность - реальность мысли.
А что, если это сущность вещей?»85. В данном случае знак
вопроса не носит риторического характера; он, скорее, указывает
на отсутствие уверенности. Далее, вполне в духе Гегеля
утверждается: «Мышление и бытие должны быть тождественны: ибо в
противном случае бытие было бы непознаваемым»86. Однако эта
тяготеющая к объективному идеализму точка зрения сочетается
с субъективистским истолкованием реального. «Ощущение есть
единственный кардинальный факт, который мы знаем...»87.
Идеалистический эмпиризм, субъективистская интерпретация
сенсуализма - таково убеждение, к которому склоняется Ницше.
Онтологические воззрения Ницше переплетаются с его
гносеологическими воззрениями, которые, на мой взгляд,
определяют ницшевское видение мира. То, что характеризует этот мир
(речь обычно идет о нашем мире), обусловлено свидетельствами
наших органов чувств. «Свойства наших чувств обманывают нас
в ощущениях, которые, в свою очередь, служат руководителями
наших суждений и "познаний", - следовательно, в
действительный мир нет хода! Мы сидим в своей клетке, мы - пауки, и все,
чего мы ни ловим, мы не можем поймать, разве только это само
собою залетит в нашу клетку»**. В другом месте этой же работы
Ницше еще резче выражает свою субъективистки-агностическую
концепцию познания: «Что же познает человечество в конце
всего своего познавания? Свои органы! А это равняется, может быть,
Ницше Ф. Полное собрание сочинений. Т. 7. С. 425.
Там же. С. 490.
Там же. С. 541.
Там же. С. 53.
690
невозможности познавания»89. Сомнений в объективной
реальности органов чувств, как и всего человеческого тела, у Ницше нет.
Это отличает его от классических представителей идеализма,
которые считали абсолютно достоверным не существование тела, а
мышление, душу, сознание.
Судя по этим высказываниям, Ницше признает
существование непознаваемого действительного, т.е. отличного от
чувственной картины окружающего мира. Но поскольку он самым
решительным образом отрицает кантовскую непознаваемую «вещь в
себе», то его высказывание о безотносительно к субъекту
существующей непознаваемой действительности правильнее считать,
так сказать, мимолетным продуктом умонастроения, ибо всё, что
наличествует, есть, согласно его многочисленным утверждениям,
не более, чем кажимость, а последняя есть не что иное как
интерпретации, автором которых является чувствующий и мыслящий
человек*. «Мы живем в мире фантазии! - восклицает Ницше. -
В мире извращенном, вывернутом наизнанку, пустом, но полном
ясных сновидений!». И нет, полагает он, существенных различий
между миром сновидений и миром бодрствующего сознания.
Фантазии, совокупность которых образует наш мир, суть «не
что иное, как интерпретации, производимые нашими нервными
раздражениями во время сна...»90. Наши переживания, влечения -
тоже интерпретации. Что же все-таки существует само по себе,
безотносительно к нашему сознанию? Наше тело,
физиологический процесс, но и он непостижим. Что же касается сознания, то
оно, конечно, вторично: «все так называемое сознание есть более
или менее фантастический комментарий к непонятному, а может
быть и непостигаемому, но чувственному тексту?»91
89 Там же. С. 191.
* Каждый раз, когда Ницше высказывается о «вещи в себе», он имеет в виду
кантовское понятие трансцендентной, непознаваемой «вещи в себе». Создается
впечатление, что Ницше не придавал ни малейшего значения тому, что понятие
вещи в себе сложилось задолго до Канта, да и современники Канта
толковали ее обычно по-иному. Р. Декарт в «Началах философии», подвергая критике
чувственное познание, утверждал, что «только изредка и случайно наши
чувства передают нам, какова природа этих тел самих по себе» (Декарт Р. Избр.
произведения. М., 1950, с. 465). Д. Локк также пользовался термином «вещи в
себе» (things in itselves), имея в виду внешний мир, чувственно воспринимаемые
предметы. Если Ницше не были известны эти факты, то он, вероятно, должен
был обратить внимание на высказывание глубоко почитаемого им Гёте: «Пусть
идеалист как угодно борется против вещей в себе - он не успеет оглянуться,
как натолкнется на "вещи вне себя"» (Гёте И.В. Избр. соч. по естествознанию.
М., 1957, с. 406).
90 Там же. С. 54, 55.
91 Там же. С. 56.
691
Несмотря на постоянное подчеркивание непознаваемости
всего, что воспринимается чувствами, а также того, что ими не
воспринимается, Ницше убежден, что наука движется от
одного достижения к другому, еще более значительному. Платон и
Аристотель, подчеркивает он, понимали познание как
доступную человеку высшую радость. С тех пор наука добилась
ошеломляющих успехов. «Восхищение, которое появляется даже при
малейшем верном окончательном шаге и успехе разума и которое
для многих бьет таким обильным ключом из теперешней жизни, -
этот восторг не разделяется теми, которые привыкли чувствовать
восторг только тогда, когда они покидают действительность и
прыгают в глубину кажущегося»92. Ницше, конечно, не с теми,
кто восторгается научными достижениями. Но он и не
осуждает их. Правда, приведенное высказывание о науке носит
слишком общий характер, но оно достаточно определенно говорит о
том, что наука имеет дело не с фантазиями, а с независимой от
фантазий реальностью, которую наука исследует и шаг за шагом
познает. Правда, это высказывание Ницше никак не согласуется
с другими, цитировавшимися выше высказываниями. И это
бесспорно говорит в пользу Ницше, который сам себя поправляет,
преодолевая тем самым свои крайние, ошибочные утверждения.
Ницше полон радостной уверенности в том, что
умножающиеся успехи науки будут иметь благие последствия. «В новом
столетии человечество приобретет, вероятно, благодаря
господству над природой, гораздо больше силы, чем оно способно
потребить... Изобретение летательного аппарата перевернет вверх
дном все наши культурные понятия»93. Эти вполне
реалистические прогнозы Ницше сопровождает социально-политическими
выводами, которые нельзя не назвать реакционными. «Для того,
чтобы подготовить такую будущность, мы должны выделить всех
унылых, печальных, брюзгливых пессимистов и дать им
вымереть»94. Правда, речь не идет об уничтожении этих «пессимистов».
Ницше готов предоставить время для вымирания. Но это едва ли
оправдывает его отнюдь не гуманистическую позицию.
Будущему осчастливленному научными открытиями
обществу понадобится привозная рабочая сила, ибо жители этого
осчастливленного общества не захотят трудиться большую часть
дня. Ницше предлагает выход: «В качестве работников будут
употребляться отставшие народы Азии, Африки и т.д.»95. Как видим,
92 Там же. С. 214-215.
93 Там же. С. 293.
94 Там же.
95 Там же. С. 293.
692
предложенное Ницше «спасительное» средство не ново.
Правда, рабский труд в США был упразднен еще до того, как
Ницше выступил как мыслитель. Но он, кстати сказать, не считает
существенным различие между рабом и пролетарием. И тот и
другой вынуждены трудиться почти каждый день и почти весь
день. Ницше же признает «человеческим» (достойным человека,
соответствующим его природе) лишь «свободный труд», т.е.
свободную профессию писателя, художника, которые сами
определяют свое рабочее время и всегда вольны прекратить работу, чтобы
отдаться более приятному занятию.
В связи с вопросом о будущем человечества Ницше
определяет свое отношение к социализму и рабочему движению.
Положение «рабочего сословия», по его оценке, «есть нечто человечески
невозможное». Он саркастически характеризует либеральные
рассуждения о трудящихся. «Когда я слушаю или читаю восхваления
"труда", неутомимые речи о "счастье труда", я вижу во всем этом
ту же заднюю мысль, как и в похвалах общеполезных безличных
деяний: страх перед всякой индивидуальностью. В сущности же
чувствуют теперь, что "труд" - подразумевается тот суровый труд
с утра до вечера - есть лучшее средство удержать каждого в
известных рамках и мешать развитию независимости. В конечном
счете все дело в том, что "работник сделался опасным"»96.
Констатация «человечески невозможного» положения
пролетариев, казалось бы, возмущает Ницше, но он не одобряет борьбы
этого класса против капитала несмотря на то, что профсоюзное
движение (основная форма борьбы пролетариев против
капитала) не выдвигает каких-либо революционных требований:
профсоюзы борются лишь за улучшение условий труда, повышение
заработной платы, сокращение рабочего дня. Ницше же видит в
рабочем движении угрозу существованию упорядоченного
общества. Он утверждает: «В странах мирных людей всегда найдется
некоторое количество неустойчивых разнузданных лиц, которые
собираются в социалистические партии». Нетрудно понять, кого
Ницше имеет в виду, говоря о «странах мирных людей». Речь
идет о западноевропейских странах, в которых эпоха
буржуазно-демократических революций ушла в прошлое. Что же в
таком случае беспокоит философа? Ведь социал-демократические
(социалистические) партии последней четверти XIX века вопреки
убеждениям некоторых либералов и почти всех консерваторов не
стремились к революционному упразднению капиталистических
отношений. Однако Ницше положение дел представлялось совер-
Там же. С. 87, 88.
693
шенно иным. «Постоянно повторяются минуты, когда масса
бывает готова жертвовать своим имуществом, своей жизнью, своей
совестью, своей добродетелью для того, чтобы получить высшее
наслаждение власти и тиранически произвольно распоряжаться
другими нациями в качестве победоносной нации»97*.
Рассуждая о социализме, о рабочем движении, Ницше, судя
по другим его аналогичным высказываниям, видел перед собой
призрак Великой французской революции, которая ему, как и его
учителю Шопенгауэру, представлялась ужасающим вандализмом,
поскольку он не видел в ней ничего другого, кроме разрушения
веками сложившегося общественного строя.
Ницше - великий ниспровергатель всего общепринятого,
мыслитель-революционер, поскольку он стремится радикально
расчистить почву для нового общества, в лоне которого
формируется сверхчеловек, зачинатель новой породы людей, Ницше,
именовавший себя бесстрашным и действительно
действовавший бесстрашно в сфере мышления, критики, оказывается вместе
с тем человеком, который опасается каких-либо, даже не очень
значительных, социальных реформ, предпочитает, чтобы все, что
сложилось в обществе в течение столетий, сохранялось,
охранялось, не подвергалось изменениям, которые, по его убеждению,
никогда не приводят к лучшему.
В рассматриваемой работе Ницше проповедует скромность,
великодушие, честность. «Никогда не скрывай и не замалчивай
того, что может быть противопоставлено твоей мысли. Обещай
себе это! Это - основа честности твоей мысли! Каждый день ты
должен совершать поход против самого себя. Победа, одержанная
тобой, принадлежит не тебе, а правде...»98.
Скромность нужна как условие критической самооценки.
Скромность мыслителя наглядно проявляется в том, что он готов
согласиться с теми, кто возражает против его идей,
присоединиться к этим критикам, совершив тем самым то, что, как правило,
97 Там же. С. 93.
* Считая социализм реальной угрозой социальному status quo, Ницше
полагает, что с этим движением надо считаться: «... надо знать, насколько
силен социализм и с какой модификацией он может быть еще использован, как
могущественный рычаг, в пределах современной политической игры сил; при
известных условиях нужно было бы даже всеми способами содействовать его
усилению. В отношении всякой великой силы - и даже самой опасной -
человечество всегда должно думать о том, чтобы сделать из нее орудие своих
намерений» (1,433). С социалистическими партиями можно, по убеждению
Ницше, заключить мирный договор. Ницше, таким образом, предвосхищает
тактику либеральных правительств XX века.
98 Там же. С. 158.
694
не присуще мыслителю. «Ах! Как мне противно навязывать
другому свои мысли. Как радуюсь я, когда соглашаюсь с мыслями
других»99.
Мыслитель гуманен, он даже предостерегает своих учеников
против своей гуманности. Пусть их гуманность будет
оригинальной, их собственной гуманностью. Ведь «...самая красивая
добродетель великого мыслителя - великодушие, - чтобы он
познающий приносил в жертву себя самого и свою жизнь смело, часто
скромно, а часто и с возвышенной насмешкой и улыбкой»100.
Ницше наставляет самого себя. Он, очевидно, осознает, что
ему сплошь и рядом не хватает тех достоинств, которые он
превозносит. Не хватает самокритичности, готовности соглашаться
с разумными аргументами его критиков. Вопрос, однако, в том:
способен ли он следовать своим собственным наставлениям?
И насколько он искренен, когда утверждает, правда, в форме
вопроса: «почему доставлять радость другим - выше всякого
другого удовольствия? Потому что этим доставляется радость
одновременно всем своим страстям»101.
Последней работой, относящейся ко второму периоду
интеллектуального развития Ницше, является книга «Веселая наука»
(за исключением ее позднее написанной пятой части, которую
следует относить к третьему периоду). Ницше рассматривал эту
работу как некий поворотный пункт в своем идейном развитии.
В действительности она представляет собой развитие идей
основной работы этого периода - «Человеческое, слишком
человеческое». Так же, как в этой книге, «Веселая наука» высоко
оценивает роль зла в человеческой жизни и в истории человечества.
Само понятие жизни, с точки зрения философа, нераздельно
связано со злом: «жить - это значит: быть жестоким и беспощадным
ко всему, что становится слабым и старым в нас, и не только в
нас» (1,535). Такое, по существу, нормативное понятие жизни
нисколько, конечно, не является отрицанием того, что
существуют иные, отнюдь не злые, не беспощадные люди. Добрых,
доброжелательных Ницше именует «земледельцами духа», поскольку
они выполняют «черную» работу: обрабатывают землю,
удобряют почву, из лона которой «...все снова и снова должен
появляться лемех злого» (1,518). Стало быть, добрые нужны, так как без
их кропотливой, поглощающей все физические и духовные силы
работы не будет почвы для зла. На этом Ницше не ставит точку.
Развивая свое положение о великой силе зла, он подчеркивает:
99 Там же. С. 180.
100 Там же. С. 183.
101 Там же. С. 169.
695
развитию человечества в наибольшей степени способствуют
самые злые и самые сильные умы. Сила и злость неотделимы друг
от друга. Это движущая сила истории, ей противостоят
послушание, целомудрие, благочестие, прилежание, справедливость,
которые «...вредны для их обладателей, как влечения, которые
слишком пылко и ненасытно господствуют в них и не позволяют
разуму уравновешивать себя другими влечениями» (1, 529). Зло
побеждает эти влечения, присущие человеческой слабости.
Было бы упрощением полагать, что Ницше стоит на стороне
злого, жестокого, беспощадного, презирая доброе, справедливое.
Его позиция несравненно сложнее. С одной стороны, он
констатирует факты, о которых и до него немало писали философы и
историки. Что же касается его отношения к реальным
противоречиям человеческой жизни, противоречиям, которые в
абстрактной форме выражаются как противоречия между добром и злом,
то Ницше вовсе не склонен одобрять зло потому, что оно
могущественнее добра. И хотя зло, согласно его учению, есть
сущность жизни, а жизнь - это сущность всего, Ницше, вступая в
конфликт с собственными воззрениями, встает на сторону добра,
утверждая, что будущее человечества принадлежит
человечности. «Будущая "человечность"... начатки чего-то совершенно
нового и неизвестного в истории: если бы предоставили этому
ростку несколько столетий и больше, то из него в конце
концов могло бы выйти дивное растение...» (1, 656). Свое видение
будущего философ характеризует как «историческое чувство»;
оно заключает в себе пророческое предчувствие торжества
человечности. «Это божественное чувство да наречется тогда -
человечность!» (1, 657).
В работе «Человеческое, слишком человеческое» Ницше
обосновывает тезис: человек должен быть преодолен. Это не
противоречит предчувствию торжества человечности, ибо в человеке
должна быть преодолена его слабость, его скованность всякого
рода догмами, его спутанное сознание, которое принимает
заблуждение за истину, а истину считает заблуждением. Нет,
следовательно, речи о преодолении человечности; речь идет о ее
совершенствовании.
В течение многих столетий индивидуум страшился малейшей
независимости от общества, страшился свободы. «Свобода мысли
считалась сплошным неудобством. В то время как мы
воспринимаем закон и порядок как принуждение и ущерб, прежде
воспринимали эгоизм как нечто мучительное, как действительное бедствие.
Быть самим собой, мерить самого себя на свой аршин - тогда это
противоречило вкусу» (1, 588). Человек, с точки зрения Ницше,
696
существо двойственное: он, с одной стороны, творец, а с другой -
тварь. Сила внутренне присуща творцу, но слабость - природа
твари. Поскольку основным признаком рабского состояния является
страх перед смертью (и перед жизнью), который есть не что иное
как слабость, то следует признать, что господин и раб не только
внешне противостоят друг другу; господское и рабское внутренне
присуще природе человека. Следовательно, и преодоление
человека есть преодоление тварной стороны его сущности. Этот вывод
вносит определенную коррективу в положение о существовании
господской и рабской морали.
Человек и человечность - далеко не тождественные понятия.
Их разграничение - первая ступень в совершенствовании
человека. Следующая ступень: познание заблуждений, их
действительной роли в человеческой жизни. Эта роль не однозначна.
Заблуждения могут быть великой помехой на пути совершенствования
человека, но они также являются необходимой, полезной
формой развития человеческого в человеке. Ницше пишет: «Четыре
заблуждения. Человек воспитан своими заблуждениями:
во-первых, он всегда видел себя лишь в незаконченном виде,
во-вторых, он приписывал себе измышленные свойства, в-третьих, он
чувствовал себя относительно животного мира и природы в
ложной иерархической последовательности, в-четвертых, он всегда
открывал себе новые скрижали блага и на время принимал их
как нечто вечное и безусловное...» (1, 587). Очевидно, что эти
заблуждения подлежат преодолению, но это вовсе не значит, что
они не сыграли своей положительной роли в истории
человеческого рода. Поэтому вслед за приведенными словами Ницше
подчеркивает: «Если скинуть со счетов действие этих четырех
заблуждений, то придется скинуть со счетов также гуманность,
человечность и "человеческое достоинство"» (1, 588).
Таким образом, заблуждения, которые вся предшествующая
философия рассматривала лишь как нечто аналогичное порокам,
как главную помеху процессу познания и всей человеческой
жизни, образуют, согласно учению Ницше, существенное
положительное содержание всей духовной истории человечества. Это не
просто провалы в истории познания, это - сам познавательный
процесс в одном из его основных измерений. «На протяжении
чудовищных отрезков времени интеллект не производил
ничего, кроме заблуждений; некоторые из них оказывались
полезными...» (1, 583).
На первый взгляд, Ницше согласен с философским
скептицизмом, тем более, что вслед за приведенным положением он
даже утверждает, что истина - «бессильнейшая форма познания».
697
Однако несмотря на действительное родство философии Ницше
со скептицизмом, его оценка заблуждений принципиально
отлична от скептической. Скептики не видели в заблуждениях
ничего положительного; они рассматривали их как явное поражение
разума. Позиция Ницше совершенно иная. «Теперь нечто
предстает тебе заблуждением, то, что прежде ты любил как истину
или правдоподобность: ты отталкиваешь это от себя и мнишь,
что разум твой одержал здесь победу. Но, возможно, прежде,
покуда ты был еще другим - а ты всегда другой, - это заблуждение
было тебе столь же необходимо, как все твои нынешние "истины"»
(1,641). Ницше, таким образом, преодолевает
антидиалектическое противопоставление истины и заблуждения. Заблуждения
содержательны; в них наличествует, по меньшей мере, часть
истины, которую оно неадекватно выражает. Заблуждение, в
отличие от ошибки, порожденной нарушением правил логики, есть
форма знания, а не отходы (отбросы) познавательного процесса.
История науки убедительно подтверждает этот гносеологический
вывод, с необходимостью вытекающей из диалектического
понимания процесса познания.
Проблемы теории познания занимают значительное место
в рассматриваемом произведении. Существенно при этом, что
познание, по существу, впервые трактуется Ницше как коренная
жизненная потребность. «"Жизнь - средство познания " - с этим
тезисом в сердце можно не только храбро, но даже весело жить
и весело смеяться» (1,647). Если в предшествующих работах
Ницше противопоставлял жизнь познанию, трактовал познание
как одно из орудий жизни, то теперь познание трактуется не как
нечто отличное от жизни, а как сама жизнь в ее наиболее
сущностном выражении. Поэтому он утверждает: «Познание больше,
чем средство. И без этой новой страсти - я имею в виду
познавательную страсть - подвигалась бы наука: наука до сих пор росла
и мужала без нее» (1, 591).
Важно подчеркнуть, что Ницше разграничивает познание и
науку. Это разграничение не только правомерно, оно безусловно
необходимо. Познание многообразно. Это и повседневный
жизненный опыт людей, их знание жизни, окружающей
действительности, самосознание. Еще более значительной, замечательной
формой познания является искусство, в особенности
художественная литература. То богатство знания человеческой жизни,
которое мы находим в произведениях великих писателей, не
только сопоставимо с богатством научных знаний, но в некотором
отношении, пожалуй, превосходит его. Ницше, высоко
оценивая познание в его художественной форме, явно недооценивает
698
богатство научного знания. «Последняя цель науки в том, чтобы
доставлять человеку как можно больше удовольствия и как
можно меньше неудовольствия!» (1, 523). Понятия удовольствия и
неудовольствия - универсальные категории в философском
лексиконе Ницше. Но применительно к науке они немного дают для
ее понимания. Конечно, любознательность ученого заключает в
себе удовольствие, но это обстоятельство играет незначительную
роль в понимании науки не только как индивидуального (или
коллективного) творчества, но и как социального явления.
Необходимость научного познания носит и субъективный, и
объективный характер. Это субъект-объектный исторический процесс,
который не сводим к личной потребности, а тем более к
потребности удовольствия. Люди, жаждущие удовольствий, не
занимаются научной деятельностью, ибо сфера удовольствий находится
в основном вне науки, которая представляет собой прежде всего
труд.
Представления Ницше о предмете научного исследования
субъективны: то, чем занимается ученый, представляется ему
лишенным реального жизненно важного содержания. «Мы
оперируем сплошь и рядом несуществующими вещами: линиями,
поверхностями, телами, атомами, делимыми временами, делимыми
пространствами... мы рассматриваем науку как по возможности
точное очеловечение вещей; описывая вещи и их
последовательность, мы учимся с большей точностью описывать самих себя»
(1,586). Это высказывание свидетельствует о том, что Ницше
далек от понимания роли абстракции, идеализации, условности
в науке. Отсюда и вытекает его убеждение в том, что наука
имеет дело с фикциями. С его точки зрения, как нетрудно понять,
такие географические понятия, как меридианы, широты, также
являются всего лишь фикциями. Однако на это можно возразить:
существуют фикции и фикции. Одни из них - бессознательные
представления, другие, напротив, фиксируют факты и
воспринимаются как фикции, ибо пользуются условным языком,
терминами, лишенными чувственного истока.
В посмертно изданных «Черновиках и набросках»,
относящихся к 1869-1873 гг., т.е. ко времени создания рассматриваемых
здесь произведений, Ницше утверждает, что науки о природе и
историческая наука обречены: «Наши естественные науки
движутся к гибели, преследуя цель познания.
Наше историческое образование - к смерти культуры. Оно
борется против религий - по пути уничтожает культуру»102.
Ницше Ф. Полное собрание сочинений. Т. 13. С. 433.
699
Эти ложные выводы далеко не случайны: они - следствие
превратных представлений о сущности, содержании, целях
научного исследования. Поскольку предметом науки является,
согласно Ницше, сфера видимости, нечто, которое лишь кажется
существующим, наука, осознав это обстоятельство, прекращает свои
«исследования». Правда, наука, как указывал Ницше, занимается
также изучением чувственно данного. Но эмпирические,
описательные исследования ботаников, зоологов, изучение минералов
представляются Ницше никчемным занятием, во-первых,
потому что они также пребывают в сфере видимости, и во-вторых,
потому, что подсчет «тычинок» в цветке представляется Ницше
бессмысленной деятельностью. Поэтому, с точки зрения Ницше,
художественное творчество безусловно выше науки, так как оно
действительно постигает мир, творимый фантазией художника. И
единственным, по убеждению Ницше, средством спасения науки
может быть лишь ее объединение с искусством и повседневным
опытом. «И сколь далеки мы еще от того момента, где научное
мышление соединяется с художественными способностями и
практической житейской мудростью и образует более высокую
органическую систему, в сравнении с которой ученый, врач,
художник и законодатель, как они явлены нам нынче, должны будут
предстать убогими антикварными предметами» (1, 587).
Утопическое представление о великом синтезе науки,
художественного творчества и повседневного опыта выражает присущие
самому Ницше особенности личности. Он и философ (и в этом
смысле ученый, исследователь) и поэт, художник, сфера
которого - фантазия. И основные положения учения Ницше также носят
двойственный характер. Они, с одной стороны, правомерные
логические выводы, обосновываемые наблюдением, опытом
заключения, а с другой - продукты художественной фантазии. Понятно
поэтому восклицание философа: «Не в познании, а в творчестве
наше спасение!»103. Речь, разумеется, идет о художественном
творчестве.
В рассматриваемой работе Ницше впервые вступает в
основательный спор с Шопенгауэром, который, по его словам, «своим
допущением, что всё налично существующее есть нечто волящее,
возвел на трон первобытную мифологию... В противоположность
ему я выставляю следующие положения: во-первых, чтобы
возникла воля, необходимо представление об удовольствии и
неудовольствии. Во-вторых: то, что какое-нибудь сильное
раздражение ощущается как удовольствие или неудовольствие, есть дело
Там же. Т. 7. С. 415.
700
интерпретирующего интеллекта... В-третьих: только у
интеллектуальных существ есть удовольствие, неудовольствие и воля;
громадное большинство организмов начисто лишены их» (1, 594)*.
Несогласие Ницше с Шопенгауэром - существенный факт его
интеллектуальной биографии. Но в связи с этим нельзя обойтись
без вопроса: действительно ли отказался Ницше от воззрения на
волю как первичное по отношению к мышлению, разуму?
Действительно ли Ницше стал рассматривать волю как
обусловленное чувством удовольствия или неудовольствия? «Веселая наука»
не дает ответа на эти вопросы. Однако из других работ Ницше
мы знаем, что «воля к власти» определяется им как первичная,
определяющая всё в жизни человека и в истории человечества
сила. Это не просто свидетельство того, что воззрения философа
в процессе его творческого развития существенно изменялись.
Суть дела, скорее, в том, что Ницше по-разному высказывается о
воле в своих работах, относящихся ко второму и третьему
периоду его интеллектуальной биографии.
«Воля к власти» - основное понятие, принцип, который
Ницше неустанно обосновывал. Но наряду с этим мы находим у него
высказывания, которые фактически отрицают существование
воли, объявляя ее словом, представлением, понятием, мифом и
т.д. Это противоречие, фиксирующее колебания Ницше, будет
предметом рассмотрения в дальнейшем.
Значительное место в рассматриваемой работе, как и во всех
произведениях философа, занимают вопросы этики. Ницше -
решительный противник всякого подчинения личности, в том
числе и подчинения ее каким-либо идеям. И в первую очередь
это отрицание подчинения относится к моральным
наставлениям. «Любое более утонченное раболепие крепко держится за
категорический императив и является смертельным врагом тех,
кто силится отнять у долга его безусловный характер» (1, 519).
Социальный характер нравственности Ницше интерпретирует с
аристократических позиций: мораль - это стадный инстинкт в
человеке. В этом утверждении высказывается главное в ницшев-
* Данное возражение Шопенгауэру оказывается несостоятельным, так как
Ницше считает волю вездесущей. В «Черновиках и набросках», относящихся
к 80-м годам, Ницше утверждает, что воля в природе проявляется уже в самых
примитивных организмах: «Возьмем простейший случай: питание
примитивных существ: протоплазма расправляет свои псевдоподии, ища то, что ей
противостоит - не из голода, а из воли к власти» (Полное собр. соч., т. 13, с. 330).
Не ограничиваясь ссылкой на живые организмы, Ницше утверждает, что воля
наличествует и в явлениях неорганической природы: «... не суть ли все
механические явления, поскольку в них действует некоторая сила, именно сила воли -
волевые действия» (2, 270).
701
ском имморализме. Свобода индивидуума означает, что он сам
определяет ценность своих намерений и поступков, не считаясь
с существующими воззрениями. Самость его решений -
важнейшее содержание эгоизма. «Эгоизм есть закон перспективы в
ощущениях, по которому ближайшее предстает большим и тяжелым,
тогда как по мере удаления все вещи убывают в величине и весе»
(1, 605). Суть эгоизма, следовательно, не просто в себялюбии, а в
различном отношениях к вещам в зависимости от того, насколько
они близки или отдалены от нас. При этом, конечно, имеется в
виду, не расстояние, а близость или отдаленность в чувственном
измерении. Такое понимание эгоизма несомненно глубже, чем
обычное сведение эгоизма к себялюбию.
Ницше утверждает: «Не существует никаких других
переживаний, кроме моральных, даже в области чувственного
восприятия» (1, 587). Это положение явно не согласуется с ницшевским
«имморализмом». Правда, оно может быть истолковано и в том
смысле, что отрицание моральных прописей есть также
моральное переживание, в особенности если учесть, что философ
противопоставляет отрицаемой «низшей» морали другую,
высшую, подлинную мораль. Однако «Веселая наука» отвергает
характерное для прошлых работ радикальное противопоставление
сильного и слабого: «"сильный" и "слабый" суть относительные
понятия» (1,589). Столь же относительна противоположность
внешнего и внутреннего. Не следует ли отсюда вывод, что
противоположность низшего и высшего также является относительной.
Этого вывода, однако, нет у Ницше, но его можно сделать,
вчитываясь в аналогичные высказывания философа, стремящегося по
существу упразднять противоположности.
Отрицание противоположности между сильным и слабым
особенно существенно, так как оно если и не сводит не нет, то
во всяком случае ставит под вопрос положение о необходимом
устранении «слабых», об оправданности стремления «сильных»
уничтожить «слабых». Отрицание противоположностей есть
новый подход к моральным и «имморальным» действам. Однако с
ним не согласуется настойчивое отрицание сострадания как
некоего низшего аффекта. «В чем твоя величайшая опасность? В
сострадании» (1, 268). Величайшая опасность - не слишком ли это
грубо даже с точки зрения ницшевского «имморализма»? Ведь в
другом месте этой же работы сказано: «Сострадание есть самое
приятное чувство у тех, кто лишен гордости и всяких притязаний
на великие завоевания...» (1, 525). Это значит, что сострадание
позволительно только «низшей» категории людей, только
слабым. Ницше, таким образом, восстанавливает радикальную про-
702
тивоположность между сильным и слабым несмотря на то, что он
провозгласил ее относительной.
В «Веселой науке» Ницше продолжает отстаивать свое
понимание действительности как видимости, исключающей
существование чего-либо другого. «Видимость для меня - это само
действующее и живущее, которое заходит столь далеко в своем
самоосмеянии, что дает мне почувствовать, что здесь всё есть
видимость и обманчивый свет и танец призраков и ничего
больше...» (1, 548). Однако наряду с этим Ницше утверждает, что вся
предшествующая философия занималась «лишь толкованием
тела и превратным пониманием тела» (1, 494). Речь идет о
человеческом теле, а не о телах природы, которые, с точки зрения
Ницше, лишь представления, призраки, интерпретации наших
аффектов. Человеческое тело Ницше не относит к видимости;
это - не подлежащая сомнению реальность, доказательством
которой являются наши физиологические отправления и, конечно,
аффекты, реальность которых, как уже подчеркивалось выше,
неопровержима, с точки зрения философа. Ницше оказывается,
таким образом, в положении субъективного идеалиста, который,
отрицая независимую от его Я реальность, вместе с тем отнюдь
не считает свое тело, свои хвори, свои аффекты чем-то
всего-навсего кажущимся. Ницше рассказывает в своих книгах о тяжелых
головных болях, о болезненности желудочно-кишечного тракта,
о том, что он вследствие очень сильной близорукости едва
видит. Всё это, разумеется, выявляет амбивалентность его
субъективистского понимания реальности. Философ в известной мере
осознает эту рассогласованность своих воззрений, хотя самым
решительным образом открещивается от идеализма: «Вот мои
недостатки и промахи, вот мои грёзы, моя безвкусица, моя
запутанность, мои слезы, мое тщеславие, мои совиная укромность,
мои противоречия! Тут вам есть чему посмеяться! Так смейтесь
же и радуйтесь!» (1, 643). Это критическое замечание Ницше в
собственный адрес не относится к каким-либо положениям его
учения. Оно выражает настроение неудовлетворенности своими
работами, которое охватывает всякого исследователя, в том числе
и выдающегося философа почти так же часто, как и сознание
выдающегося значения своей теории.
Ницше приходит к заключению, что чувство
неудовлетворенности, которое он испытывает, как философ, коренится в самой
природе философии, которая будучи высшей формой познания
обречена, вместе с тем, на постоянные, ничем не устранимые
заблуждения. «Сознательное мышление, в особенности мышление
философа, есть бессильнейший и оттого соответственно умерен-
703
нейший и спокойнейший род мышления, и, стало быть, именно
философ легче всего может быть введен в заблуждение
относительно природы познания» (1, 652). Есть ли выход из этой во
многом трагической ситуации? Можно отказаться от философии, раз
она не сулит подлинного знания. Но существует ли подлинное
знание вообще? Ответ на этот вопрос должна дать опять-таки
философия. И все-таки выход можно найти: всё зависит от того, что
считать выходом. Мы научились любить музыку, констатирует
Ницше. «Так, впрочем, обстоит у нас не только с музыкой:
именно так мы научились любить все вещи, которые мы теперь любим.
Мы всегда в итоге вознаграждаемся за нашу добрую волю, наше
терпение, справедливость, кротость к необычному... Даже тот,
кто любит самого себя, научился любви на этом пути: другого
пути не существует. И любви надо учиться» (1, 653).
Таким образом, «Веселая наука» - произведение,
последним словом которого становится моральный оптимизм, вопреки
всем предшествующим рассуждениям о никчемности
моральных правил.
4. Третий период интеллектуальной биографии Ницше
В этот период Ницше создает такие произведения, как
заключительная, пятая часть «Веселой науки» (1882), «Так говорил За-
ратустра» (1883-1885), «По ту сторону добра и зла» (1885-1886),
«К генеалогии морали» (1887), «Сумерки кумиров» (1888),
«Антихрист» (1888). Этот последний этап творчества философа
характеризуется возвращением к критически переосмысленному
волюнтаризму Шопенгауэра и выдвижением новых, важнейших
для ницшевской философии положений: идеи сверхчеловека и
идеи вечного возвращения. Главным произведением этого периода
(и, пожалуй, всего творчества Ницше вообще) является, конечно,
«Так говорил Заратустра». Оно, в отличие от всех других его
сочинений, представляет собой не собрание афоризмов, которые, как
правило, непосредственно не связаны друг с другом, а целостное
произведение, которое автор не без основания назвал поэмой*.
* А. Данто в монографии, посвященной Ницше, говорит о работах
философа, предшествующих его «Заратустре»: «Эти книги можно открывать в любом
месте» (Ницше как философ. М., 2001, с. 26). Любой афоризм, указывает этот
автор, может быть перенесен из одной книги в другую, нисколько не изменяя ее
основного содержания и структуры. У Ницше, подчеркивает Данто, «явно
отсутствуют те ясные и тонкие дистинкции, та продуманная упорядоченность
аргументов, осторожность и обоснованность в выводах, которые являются
отличительными знаками профессионального философского текста» (там же). Ницше
704
Зороастр (Заратуштра) - мифологический герой одного из
религиозных течений в Иране. Однако ницшевский Заратустра не
имеет с ним ничего общего. Это - его собственное создание,
собственное и в том смысле, что философ, по сути дела, говорит о
самом себе, о своем мировосприятии и главным образом о том, что
он хочет поведать людям как наставник. Справедливо отмечает
Ф. Юнгер в посвященной Ницше монографии: «... прежде всего,
кто такой Заратустра? Конечно, это не Заратустра Зенд-Авесты, не
Зердушт персов. Конечно, это не пророк и не основатель
дуалистического учения, наделенный Ахурамаздой идеей откровения.
Конечно, не святой Зердуштнамоха и не тот, кто обратил Витаску.
Заратустра есть не что иное как один из образов Диониса»104. Но и
дионисический образ, в отличие от реального древнегреческого
культа Диониса, также во многом продукт творческого
воображения философа*.
То, что ницшевский Заратустра не имеет ничего общего с
известным религиозным персонажем, совершенно не существенно.
Существенно то, чему он учит, т.е. чему учит Ницше. «Когда я
пришел к людям, - говорит Заратустра, - я нашел их застывшими
в старом самомнении; всем им мнилось, что они давно уже
знают, что для человека добро и что для него зло... Эту сонливость
встряхнул я, когда стал учить: никто не знает еще, что добро
действительно, как правильно отмечает В. Подорога, «не был философом ех
professio и рассматривал свое "философское дело" как учение (не как метод,
"систему" или теорию). Отсюда его резкое противопоставление собственного
стиля философствования философии "специалистов", "ученым философам". Он
"проповедовал" свои взгляды, т.е. придавал самому акту учительства
решающую роль в преобразовании человеческого понимания смысла и целей жизни»
(Статья «Ницше» в «Новой философской энциклопедии», т. III, с. 94).
104Юнгер Ф. Ницше. М., 2001. С. 65.
* Согласно Ф. Юнгеру «Исторический Заратустра (Зороастр) верил в то, что
мир является ареной всеохватывающего конфликта между двумя космическими
силами, одна из которых добро, другая - зло. Наш долг в этой борьбе, учил
Зороастр, состоит в том, чтобы становиться на сторону "светлых сил". Ницше,
разумеется, совершенно по-иному понимает отношение между добром и злом.
Он сплошь и рядом утверждает, что добро есть зло, а зло не что иное, как добро.
Его бесспорной заслугой является позитивное рассмотрение роли зла в
истории человечества. В этом отношении он, возможно, не сознавая этого, следует
за Б. Мандевилем, на что уже указывалось в связи с рассмотрением вопроса о
предшественниках Ницше. Мандевиль был выдающимся гуманистом и отнюдь
не апологетом зла. Ницше критически пересматривает и по существу
отрицает просвещенческую концепцию гуманизма, создавая новый,
постмодернистский тип гуманизма, содержание которого глубже отражает антагонистические
противоречия общественной жизни. Показательно в этом смысле - его сугубо
критическое отношение к социалистическому движению, которое внушает ему
опасения относительно будущего человечества.
23. Ойзерман Т.И., том 5
705
и что зло, - если сам он не есть созидающий!» (2, 141).
Человек, человеческое Я должно создать все то, что становится для
него миром и истиной. Это основоположение философии
Шопенгауэра вполне разделяется Ницше, хотя отдельные его
афоризмы едва ли могут быть согласованы с учением о всем
существующем как представлении, порождаемом вселенской волей.
Но если Шопенгауэр утверждает, что открытая им вездесущая и
всемогущая воля и есть познанная «вещь в себе», которая была
объявлена Кантом непознаваемой, то Ницше не признает
существования какой бы то ни было «вещи в себе». Шопенгауэр
посвящает значительную часть своих сочинений скрупулезному
«прослеживанию» появления («объективации») вселенской воли
в неорганическом и органическом мире, в растениях и животных
в особенности. Ницше же, не отрицая существования воли в
явлениях фауны и флоры, занимается почти исключительно
анализом человеческих деяний, человеческой воли в ее многообразных
проявлениях. Согласно его учению, как об этом уже шла речь в
предшествующих главах, человеческая самость, наше глубинное
Я есть не столько сознание, мышление, сколько воля и ее
проявления в чувственности и аффектах. Это «созидающее, хотящее и
оценивающее Я, которое есть мера и ценность вещей». Поэтому
нет другого мира, т.е. мира независимого от созидающей воли,
ибо «чрево бытия не вещает человеку иначе, как голосом
человека» (2, 22)*.
* Развивая это положение, Ницше утверждает: «Земля, - сказал он (Зара-
тустра. - Т.О.), - имеет оболочку; и эта оболочка поражена болезнями. Одна из
этих болезней называется, например: "человек"» (там же, с. 94). Земля населена
маленькими людьми, которым нужны маленькие добродетели, ибо «много лжи
у маленьких людей». Маленькие люди по-своему обустроили общество.
«Добродетелью считают они всё, что делает скромным и ручным; так превратили они
волка в собаку и самого человека в лучшее домашнее животное человека» (там
же, с. 121). «Бесчисленны эти маленькие, жалкие люди... Они наказывают тебя
за все твои добродетели. Они вполне прощают тебе только - твои ошибки...
Твои ближние будут всегда ядовитыми мухами; то, что есть в тебе великого, -
должно делать их еще более ядовитыми» (там же, с. 38-39). В одной из ранних
своих работ Ницше обосновывал одно из главных положений своей
философии: человек есть нечто, что должно быть преодолено. В работе, относящейся
к третьему периоду своей интеллектуальной биогафии, он разъясняет: «В
человеке тварь и творец соединены воедино: в человеке есть материал, обломок,
глина, грязь, бессмыслица, хаос; но в человеке есть также и творец, ваятель,
твердость молота, божественный зритель и седьмой день - понимаете ли вы это
противоречие?» (2, 346). Приведенные положения делают совершенно ясным
то, что должно быть преодолено в человеке. То, что подлежит преодолению, не
просто чуждо, но явно враждебно человечности. Ведь человек по природе своей
вовсе не жалкое, не никчемное существо. «Человек же, - говорит Заратустра, -
самое мужественное животное: этим победил он всех животных... Мужество
706
Ницше, таким образом, возвышает человека, но не того
человека, который застыл «в старом самомнении», а того, кто стал
созидающей волей. Такой человек есть «самое правдивое бытие»,
его воля не только духовная сила, но и само созидающее тело.
В противовес идеализму рационалистического толка, который
противопоставляет самосознание человеческому телу, как и
всякой предметности вообще, Ницше провозглашает: «...я - тело,
только тело, и ничто больше; а душа есть только слово для
чего-то в теле... Созидающее тело создало себе дух как длань
своей воли» (2, 24-25). Это положение позволяет сделать вывод, что
душа (дух), которую Ницше отличает от воли, трактуется как
нечто второстепенное по сравнению с исполненным жизни (точнее,
тождественным с жизнью) телом. Но не будем спешить с
выводом. Ведь несколькими страницами ниже Заратустра учит о трех
основных превращениях человеческого духа, т.е. о том пути,
который ему надо пройти к своему подлинному, свободному,
независимому от всех повседневных обстоятельств
господствующему существованию. Этот путь - тяжелейшее испытание, так как
человек погряз в нечистотах во всех смыслах этого слова.
«Поистине, человек - это грязный поток... Человек - это канат,
натянутый между животным и сверхчеловеком, - канат над
пропастью» (2, 9). Пройти по канату через пропасть смогут немногие,
ибо люди не только грязны, но и слабы. «...Человек есть мост,
а не цель» (2, 142). «Вы только мост: пусть высшие перейдут
через вас!» (2, 204). Отсюда необходимость преобразования
человеческого духа, духовного преобразования индивидуума.
Заратустра вещает: «Три превращения духа называю я вам: как
дух становится верблюдом, львом верблюд и, наконец, ребенком
становится лев» (2, 18). Верблюд опускается на колени, чтобы
его хорошенько навьючили. Это - выносливый дух, способный
не только переносить тяжелейшую ношу, но и проходить с нею
путь в пустыне, где сила солнца беспощадна и нет воды, чтобы
освежить тело и утолить жажду. Геройское дело пройти школу
верблюда. И лишь дух, одолевший верблюжий путь,
становится львом, свободным господином в своей собственной пустыне.
«Братья мои, - возглашает Заратустра, - к чему нужен лев в
человеческом духе? Чему не удовлетворяет вьючный зверь,
воздержный и почтительный?
побеждает даже головокружение на краю пропасти; а где же человек не
стоял бы на краю пропасти! Разве смотреть в себя самого - не значит смотреть в
пропасть!» (там же, с. 112). Следовательно, презрение Заратустры (Ницше) к
маленьким людям не имеет ничего общего с презрением к человеку. Впрочем, и
презрение к человеку Ницше нередко высказывает.
23*
707
Создавать новые ценности - этого не может еще лев; но
создать себе свободу для нового созидания - это может сила
льва*.
Завоевать себе свободу и священное Нет даже перед долгом -
для этого, братья мои, нужно стать львом» (2, 19). Но почему
ребенок является заключительной фазой превращения
человеческого духа? Потому что ребенок чистейшая непосредственность. Но
не только это. Ведь имеется в виду не просто маленький
человечек, рожденный маленьким человеком. Речь идет о таком начале
человеческой жизни, которое впитало в себя тяжесть
верблюжьей доли и львиную свободу господина. Это ребенок гераклово-
го масштаба. Младенец Геракл, как повествует древнегреческая
мифология, задушил двух огромных змей, посланных ревнивой и
мстительной Герой, чтобы убить «внебрачное» дитя Зевса. Дитя,
говорит Заратустра, «есть невинность и забвение, новое
начинание, игра, самокатящееся колесо, начальное движение, святое
слово утверждения» (2, 19). И только такое дитя способно
вырасти в сверхчеловека.
Идея сверхчеловека - главная идея этого произведения
Ницше. «Я учу вас о сверхчеловеке - так говорит Заратустра, -
Человек есть нечто, что должно превзойти. Что сделали вы, чтобы
превзойти его?... Вы совершали путь от червя к человеку, но
многое в вас еще осталось от червя. Некогда были вы обезьяной, и
даже теперь еще человек больше обезьяна, чем иная из обезьян».
А сверхчеловек - это человек с большой буквы, человек - гигант
духа. «Сверхчеловек - смысл земли. Пусть же ваша воля говорит:
да будет сверхчеловек смыслом земли!» (2, 8).
Идею сверхчеловека высказывали Гердер и Гёте, связывая ее с
просветительским идеалом всестороннего прогресса
человечества. Ницше приемлет этот идеал, несмотря на свои нередко
критические оценки идей Просвещения. Однако главное в ницшевском
* «И то, что называли вы миром, должно сперва быть создано вами: ваш
разум, ваш образ, ваша воля, ваша любовь должна стать им», - учит
Заратустра. Если просветители доказывали, что люди сами творят свою историю, то, по
учению Ницше (Заратустры), каждый индивидуум должен стать творцом своей
судьбы, ибо только благодаря этому он может и должен быть подлинной
личностью, единственной объективацией свободы. «Воля освобождает: таково
истинное учение о воле и свободе - ему учит вас Заратустра» (2, с. 61). Но воля
отдельного индивидуума, смертного существа, не может противостоять своей
ограниченности во времени. «Воля, - вещает Заратустра, - так называется
освободитель и вестник радости; так учил я вас, друзья мои! А теперь научитесь
еще: сама воля еще пленница... Бессильная против того, что уже сделано, она -
злобная зрительница всего прошлого... не может она победить время и
остановить движение времени, - в этом сокровенное горе воли» (2, с. 101).
708
понимании сверхчеловека - радикальная критика общественных
отношений и, прежде всего, традиционной морали и столь же
традиционных представлений о противоположности истины и
заблуждения, науки и ненаучности.
B.C. Соловьев в статье «Словесность или истина?»
положительно оценивает ницшевскую идею сверхчеловека. «Разве не
прав несчастный Ницше, когда утверждает, что все достоинство,
вся ценность человека в том, что он больше, чем человек, что он
переход к чему-то другому, высшему... Каждый из нас есть
сверхчеловек в возможности, потенциально, но чтобы стать таким в
действительности, требуется, конечно, более прочная опора,
чем собственное желание, чувство или отвлеченная мысль. Сам
Ницше, думая быть действительным сверхчеловеком, был только
сверхфилологом»105*.
Теоретически обосновывая идею сверхчеловека, Ницше
обращается к истории с тем, чтобы выявить в великих исторических
деятелях нечто приближающее их к сверхчеловеку, нечто
свидетельствующее о зарождении, возможно даже становлении этого
высшего типа человеческой личности. Понятие сверхчеловека
становится, таким образом, не только идеей, идеалом, но в
какой-то степени также исторической реальностью. В этом смысле
Ницше характеризует Наполеона, но не только его. Гениальные
музыканты, поэты, художники также являются несомненным
приближением к сверхчеловеку, понятие которого тем не менее
остается недостаточно определенным. Как правильно отмечает
Виндельбанд, ницшевский «идеал "сверхчеловека" не выходит
за пределы поэтической расплывчатости и неопределенности.
В одном, изначальном, смысле под ним подразумевается
великая индивидуальность, которая в противоположность массе
осуществляет свое первичное право. С другой стороны,
"сверхчеловек" представляет собой высший тип породы людей, кото-
105 Соловьев B.C. Словесность или истина? // Философия Ницше. Pro et
contra. С. 290.
* В другой своей статье «Идея сверхчеловека» Соловьев утверждает:
«Человеку естественно хотеть быть лучше и больше, чем он есть в
действительности, ему естественно тяготеть к идеалу сверхчеловека. Если он взаправду хочет,
то может, а если может, то и должен... Да и вся история только о том и говорит,
как собирательный человек делается лучше и больше самого себя, перерастает
свою наличную действительность, отодвигая ее в прошедшее, а в настоящее
вдвигая то, что еще недавно было чем-то противоположным действительности -
мечтою, субъективным идеалом, утопией» (Соловьев B.C. Соч. в двух томах.
М., 1990., т. 2, с. 629). И заключая свою статью, B.C. Соловьев пишет: «Ныне
благодаря Ницше передовые люди заявляют себя, напротив, так, что с ними
логически возможен и требуется серьезный разговор - и притом о делах
сверхчеловеческих» (там же, с. 634).
709
рый еще должен быть воспитан... Очень верно было замечено,
что от такого понимания учения о "сверхчеловеке" один только
шаг до Фихте»106, т.е. до учения об абсолютном Я. Но
абсолютное Я в учении Фихте - это абсолютное знание, в то время как
ницшевский сверхчеловек - воплощение абсолютной воли к
власти. Для него все дозволено, его произвол - закон. Правда,
такое понимание «сверхчеловека» никак не подходит к
гениальным музыкантам, художникам, поэтам, которые не жаждут
стать полководцами, выдающимися политическими деятелями.
В этом несомненная амбивалентность ницшевского понятия
сверхчеловека*.
Заратустра, который ведет себя как «сверхчеловек», несмотря
на то, что он скромничает, признает свои заблуждения, прежде
всего заявляет, что его попытка обращаться со своей проповедью
к народу оказалась безрезультатной. Народ, утверждает он, - это
стадо, а Заратустра не намерен стать пастухом или сторожевой
собакой. «Опаснее оказалось быть среди людей, чем среди
зверей» (2, 17). Повернувшись спиной к «массе», Заратустра
обращается к немногим избранным, ибо лишь они заведомо лучше
массы, которая заполонила землю и безответственно
размножается. Осуждая людей, общество, государство, Заратустра,
естественно, подвергает беспощадной критике человеческие верования,
обычаи, моральные нормы. Плохо, утверждает он, иметь много
добродетелей; одна добродетель лучше двух. Но что такое
добродетель вообще? Добро она или зло? А что такое добро?
Действительно ли оно лучше зла? Не есть ли добродетель узда, которая
мешает человеку быть свободным? Эти вопросы не остаются
риторическими фразами. Заратустра отвечает на них словами,
насыщенными презрением: «Добродетель - это значит сидеть
смирно в болоте... есть и такие, что считают за добродетель сказать:
"Добродетель необходима"; но в душе они верят только в
необходимость полиции» (2, 68)**.
106 Виндельбанд В. От Канта до Ницше. М., 1999. С. 466-467.
* Е. Трубецкой в своей монографии о Ницше указывает: «То
положительное качество, которое Ницше прежде всего ценит в сверхчеловеке, есть сила: мы
видели, что он признает степень могущества единственным мерилом ценности»
(Галеви Д., Трубецкой Е. Философия Ницше. М., 2003, с. 459). Отсылая к ниц-
шевской характеристике Наполеона, Трубецкой пишет: «Признавая в
Наполеоне I воплощение своего идеала, Ницше прямо говорит, что он был "синтезом
сверхчеловека и нечеловека". Сочетание таких качеств - как необычайная мощь
и бесчеловечность - заставляет его видеть "сверхчеловека" и в Цезаре Борджиа»
(там же, с. 426).
** «Рискните же сперва поверить самим себе - себе и своему нутру! Кто не
верит себе самому, всегда лжет» (2, 89).
710
Ницше прав, «уничтожая» догматическую мораль, нормы
которой являются, скорее, одними уверениями, чем внутренне
осознаваемой человеком потребностью, личной необходимостью.
Такие догмы он называет погремушками, отнять которые
необходимо, чтобы указать человеку путь к подлинной добродетели.
Ее Ницше нисколько не отрицает. «Ваша добродетель - это самое
дорогое ваше Само... Пусть ваша добродетель будет вашим Само,
а не чем-то посторонним, кожей, покровом...» (2, 67). С этим
нельзя не согласиться. Нравственное сознание лишь постольку
является таковым, поскольку оно становится личным,
личностным убеждением, а не требованием, предъявляемым человеку
извне. Нравственная норма - не повинность, запрет, а свободно
принимаемое решение. Однако эта истина не должна быть
основанием для огульного отрицания исторически сложившихся
нравственных норм. Противоположность добра и зла относительна,
но это не значит, что ее не существует.
Иначе мыслит Ницше-Заратустра: «Символы все - имена
добра и зла: они ничего не выражают, они только подмигивают.
Безумец тот, кто требует знания от них» (2, 54). Не следует все же
полагать, что Ницше отрицает добро и зло, как определенные
человеческие свойства и поступки. Он стремится лишь доказать, что
доброта, в ее общепринятом смысле, должна быть поставлена под
вопрос. Правдивость, например, является несомненным добром,
полагает Ницше. Но она, утверждает он, не свойственна людям,
которых мы называем добрыми. Действительно ли они добры?
«Быть правдивыми, - вещает Заратустра, -могут немногие!... Но
меньше всего могут быть ими добрые. О, эти добрые! -Добрые
люди никогда не говорят правды, для духа быть таким добрым -
болезнь» (2, 144). Если существование добра ставится Ницше под
вопрос, то существование зла, несмотря на то, что оно также
подвергается сомнению, в конечном счете признается несомненной
реальностью: «... зло необходимо, необходимы и зависть, и
недоверие, и клевета между твоими добродетелями» (2, 26)*.
* В «Черновиках и набросках», относящихся к 80-м годам, Ницше, касаясь
вопроса о генезисе морали, утверждает: «Мораль по своему происхождению -
это сумма условий, при которых сохраняется порода нищих или вовсе не
удавшихся людей» (Ницше Ф. Полное собрание сочинений, т. 13, с. 535). Но там,
где речь идет об условиях (а тем более о совокупности условий), там имеется
в виду нечто объективное, не сводимое к сознанию или самосознанию. Однако
эта мысль не получает развития в работах Ницше. В других не опубликованных
при жизни философа набросках мораль трактуется как ранжирование
человеческих поступков: «Мораль - учение о шкале рангов и стало быть о
значимости людских действий и трудов в этой шкале... Большинство
философов-моралистов представляют лишь господствующую в настоящее время шкалу рангов»
711
Зло воплощено в человеке, в обществе, в государстве и
церкви. Зло, стало быть, вездесуще и почти всемогуще.
Отрицательное отношение к злу несостоятельно. Уже тот факт, что зло
многолико, требует уважительного к нему отношения*.
Отрицание существующей нравственности, которой
противопоставляется абстракция высшей нравственности, единственным
отличительным признаком которой оказывается правдивость,
сопровождается в основном положительной характеристикой
познавательной способности человека. Третирование познания как
самообмана, столь характерное для ряда предшествующих работ
Ницше, сменяется возвышенными рассуждениями,
связывающими познание с подлинной нравственностью. «Познавая,
очищается тело; делая попытку к познанию, оно возвышается... Человек
познания должен не только любить своих врагов, но уметь
ненавидеть даже своих друзей» (2, 55-56). «И я называю непорочным
познание всех вещей, когда я ничего не хочу от них, как только
лежать перед ними, подобно зеркалу с сотнею глаз» (2, 88).
Ницше, хотя и не безоговорочно, позитивно оценивает
Просвещение, о чем свидетельствуют его (уже приводившиеся
выше) слова о «благороднейшей борьбе за просвещение,
которую вели Гёте, Шиллер и Винкельман» (1, 136). В другой связи
он восхищался Вольтером, причисляя его к этой когорте борцов
за Просвещение. Остается, правда, неясным, является ли
Ницше приверженцем распространения знаний, считает ли он
необходимым просвещение массы, всегда характеризуемой им как
(Nachgelassene Werke. Bd. XVI, S. 21. Leipzig, 1903). Какие же «ранги» (или
ступени) образуют шкалу моральных оценок? Ницше не отвечает на этот вопрос,
считая его, по-видимому, достаточно разъясненным в его работах.
* Ницше утверждает: «... большей власти не нашел Заратустра на земле,
чем дела любящих: "добро" и "зло" - имя их» (2 с. 43). Значит добро и зло не
просто имена, названия, символы. И Заратустра разоблачает троякое зло:
сладострастие, властолюбие, себялюбие. Для отребья сладострастие -
«медленный огонь, на котором сгорает оно»; для «свободных сердец» сладострастие
есть «нечто невинное и свободное, счастье сада земного» (2, с. 135).
«Властолюбие: злая узда, наложенная на самые тщеславные народы ...
Властолюбие: землетрясение, сламывающее и взламывающее всё гнилое и
пустое внутри...».
«Властолюбие: перед взором его человек пресмыкается, гнется,
раболепствует и становится ниже змеи и свиньи...» (2, с. 136).
Хотя себялюбие именуется злом, Ницше никак не характеризует его как
зло. Напротив, он (Заратустра) возвеличивает его как «цельное, здоровое
себялюбие, бьющее ключом из могучей души» (2).
Злом, по учению Заратустры, является государство, которое
характеризуется как «самое холодное из всех холодных чудовищ» (2, с. 35). Злом именуется
также общество. Это - «базар», где «начинается и шум великих комедиантов, и
жужжанье ядовитых мух» (2, с. 37).
712
стадо, которому нужен погонщик, пастух. Неясно также, идет
ли у него речь о научном познании, о распространении научных
знаний. Эта неясность проистекает из его собственных слов:
«... истина в том, что ушел я из дома ученых, и еще захлопнул
дверь за собою» (2, 90). Следовательно, Ницше имеет в виду
какое-то другое знание. Кто является в таком случае субъектом
познания? Что составляет предмет познания? Заратустра не
отвечает на эти вопросы, так как они перед ним не встают. Познание для
него есть деятельность, приближающая появление
сверхчеловека; какие-либо другие предметы или цели познания не
заслуживают, с его точки зрения, признания, одобрения. «Я люблю того,
кто живет для познания и кто хочет познавать для того, чтобы
когда-нибудь жил сверхчеловек. Ибо так хочет он своей гибели»
(2, 10). Первая часть этой фразы может относиться ко всякому
подлинному ученому, но вторая, можно сказать, поясняющая
часть фразы, никакого отношения к собственно научному
познанию не имеет. Это становится очевидным, когда Ницше
разъясняет: «Познавать - это радость для того, в ком воля льва!»
(2, 149). Имея в виду учение философа о трансформациях
человеческого духа, отнюдь не совпадающих с духовной жизнью
каждого индивидуума и, по-видимому, относящихся к
избранным, ничтожному меньшинству, которое, по словам Ницше,
составляет смысл и бытие каждой культуры, можно сказать, что
познание, в ницшевском смысле, оказывается деятельностью
лишь аристократии духа. Заратустра презирает массы, т.е.
большинство людей. Его удручает многочисленное население
городов, да и само их существование. Подлинное человеческое
существование, как и подлинное познание - сфера отчуждения.
И подлинная человеческая деятельность есть отчуждающая,
творящая отчуждение деятельность.
Наряду с идеей сверхчеловека второй основной идеей этого
произведения является идея вечного возвращения. О ней, правда,
сообщается немного несмотря на то, что Ницше считал ее своим
великим открытием. Впрочем того, что говорится, вполне
достаточно для понимания того, какое содержание вкладывалось
философом в эту идею. «Не должно ли было все, что может идти, уже
однажды пройти этот путь? Не должно ли было все, что может
случиться, уже однажды случиться, сделаться, пройти?.. И этот
медлительный паук, ползущий при лунном свете, и этот самый
лунный свет, и я, и ты, что шепчемся в воротах, шепчемся о вечных
вещах, - разве все мы уже не существовали?» (2, 112-113). Знак
вопроса носит, по-видимому, чисто риторический характер. При
всей методически оформленной склонности сомневаться во всем,
713
склонности отрицать в особенности то, что признается почти
всеми, Ницше нисколько не сомневается в том, что вечное
возвращение действительно имеет место в жизни каждого индивидуума.
Причины этой непоколебимой уверенности (самоуверенности),
вероятно, чисто психологические. Смею предположить, что это
тот самый априорный, т.е. независимый от каких-либо
эмпирических обстоятельств страх смерти, который обстоятельно
описывает Хайдеггер в своей главной книге.
Ницше, конечно, знает, что идея вечного возвращения
представляет собой существенный элемент мифологии древних
египтян и других народов. В чем же, по его убеждению, состоит его
открытие? Если в мифологии Египта и древней Греции
утверждалось, что душа человека после его смерти странствует, вселяясь
в растения, животных и лишь в конечном итоге вселяется вновь
в человеческое тело, то, согласно Ницше, душа умершего вновь
вселяется в то человеческое тело, которое она покинула в момент
смерти, и полностью повторяет круговорот жизни индивидуума,
ничего не изменяя во всей его прошлой жизни.
Ницше, по-видимому, не отдавал себе отчета в том, что
абсолютное повторение прошлого человеческой жизни (Wiederkehr
der Gleichen) исключает возможность возникновения нового,
существенно отличного от того, что было в прошлом. Как же в таком
случае может возникнуть сверхчеловек, радикально отличный от
уже существующих людей, в том числе и выдающихся
индивидуумов. Правда, как уже указывалось выше, Ницше рассматривал
Наполеона, а также гениальных композиторов, художников,
поэтов как, в известной мере, уже осуществление сверхчеловечности.
Однако Заратустра (и, следовательно, сам Ницше) саркастически
характеризует «высших и лучших», подчеркивая, что именно им
наиболее чужда сверхчеловечность. «Так чужда ваша душа всего
великого, что вам сверхчеловек был бы страшен в своей
доброте!.. Вы, высшие люди, каких встречал мой взор! в том сомнение
мое в вас и тайный смех мой: я угадываю, вы бы назвали моего
сверхчеловека - дьяволом!
Ах, устал я от этих высших и лучших: с "высоты" их потянуло
меня выше, дальше от них, к сверхчеловеку!» (2, 104-105).
Сверхчеловек и вечное возвращение - эти идеи отличают
«Заратустру» от всех предшествующих сочинений Ницше. Все
другие положения этой работы варьируют идеи более ранних его
работ. Так, например, Ницше вновь превозносит войну. «Любите
мир как средство к новым войнам. И притом короткий мир -
больше, чем долгий... Вы говорите, что благая цель освящает даже
войну? Я же говорю вам, что благо войны освящает всякую цель.
714
Война и мужество совершили больше великих дел, чем
любовь к ближнему» (2, 34). Что касается любви к ближнему, то
Ницше в соответствии со своей установкой утверждать
противоположное, противопоставляет этой любви любовь к дальнему:
«Разве я советую вам любовь к ближнему? Скорее я советую вам
бежать от ближнего и любить дальнего!» (2, 43).
С.Л. Франк в статье «Фр. Ницше и этика любви к дальнему»
остроумно показывает, что парадоксальное на первый взгляд
утверждение Ницше, в сущности, заключает в себе глубокую
истину, которая нисколько не отрицает любви к ближнему,
вопреки тому, что представлялось Ницше. Как подчеркивает Франк,
«...любовь к дальнему - к любимому делу, к партии, к родине,
человечеству... В этом широком значении "любви к дальнему"
в нее будут включены как любовь к отдаленным благам и
интересам тех ближних, так и любовь к дальним от нас людям -
нашим согражданам, нашим потомкам, человечеству...»107. Такое
понимание «любви к дальнему» в высшей степени убедительно
и привлекательно. Но Ницше нигде не говорит о любви к
родине, человечеству. Он был, по-видимому, далек от представления
о единстве этих, казалось бы, исключающих друг друга
противоположностей. Нельзя, следовательно, согласиться с выводом
С.Л. Франка: «Одной из гениальных заслуг Фридриха Ницше
является раскрытие и сознательная оценка (курсив мой. - Т.О.)
этой старой как мир, но еще не формулированной откровенно и
ясно антитезы между любовью к ближнему и любовью к
дальнему»108. У Ницше немало заслуг и нет необходимости, хотя бы
поэтому, приписывать ему несуществующую заслугу.
Как и в прежних своих произведениях, Ницше, несмотря на
свою приверженность учению Шопенгауэра, отрицает
моральность сострадания. В разделе «О сострадательных» Ницше
изобличает тех, кто испытывает сострадание. Заратустра вещает:
«Поистине, не люблю я сострадательных, блаженных в своем
сострадании: слишком лишены они стыда... Пусть моя судьба
ведет меня дорогою тех, кто, как вы, всегда свободны от
сострадания...» (2, 62). Сострадание, полагает Ницше, всегда лицемерно,
своекорыстно. Испытывающий сострадание удовлетворен тем,
что не он, а другой страдает.
В заключение этого небольшого раздела Заратустра
утверждает: «Ах, где в мире совершалось больше безумия, как не
среди сострадательных?... Горе всем любящим, у которых нет более
107 Франк С.Л. Фр.Ницше и этика «любви к дальнему» // Философия Ницше.
Pro et contra. С. 589.
108 Там же. С. 590.
715
высокой вершины, чем сострадание их!.. Итак, я предостерегаю
вас от сострадания...» (2, 64)*.
Ницшевское отношение к состраданию - необходимый вывод
из всей предпринятой им «переоценки ценностей». Это
прежде всего относится к пересмотру традиционной морали и
отношения человека к человеку. Поэтому, например, он утверждает:
«... нищих надо бы совсем уничтожить!.. И заодно с ними
грешников и угрызения совести!» (2, 63). Сказать, уничтожить
нищету, Ницше не может; это претит его оригинальности. Итак,
уничтожить нищих, а заодно с ними и грешников. Но кто из нас без
греха? Ницше себя отнюдь не считает безгрешным. Что же
останется после предложенного Ницше радикального решения
реальной проблемы?**
Предложение уничтожить нищих лишь часть еще более
обширной задачи - уничтожить всех слабых. Слабые, согласно
Ницше, представляют едва ли не главную опасность для сообщества
сильных. Своеобразно перетолковывая учение Дарвина, которое
Ницше неправомерно распространяет на общество, он
утверждает, что, вопреки дарвинизму, не сильные побеждают слабых
в борьбе за существование, а наоборот, слабые, объединяя свои
* Несмотря на осуждение сострадания Ницше все же признается: «Если
должен я быть сострадательным, все-таки не хочу я называться им; и если я
сострадателен, то только издали» (2, с. 62). Конечно, быть сострадательным
издали, т.е. без всякого контакта с тем, кто страдает, - весьма удобная позиция для
тех, кто не испытывает сострадания. Не следует, конечно, думать, что Ницше
действительно говорит о себе. Нет, он излагает свою точку зрения, свое
понимание вопроса, отличное от общепринятого.
В «Несвоевременных размышлениях» Ницше по-иному, более
реалистически и, я бы сказал, моральнее характеризует сострадание: вид
бессмысленного страдания возмущает нас до глубины души. Но это возмущение и есть одно из
проявлений сострадания, сочувствия к беде, болезни, горю другого, даже едва
знакомого человека. Изменилась ли с тех пор ницшевская оценка сострадания?
Трудно сказать, поскольку в его поздних работах, так же как и в ранних, налицо
противоречивое, амбивалентное понимание каждой обсуждаемой им темы.
** К.А. Свасьян, автор предисловия к цитируемому мною двухтомнику
Ницше, разъясняет, что ницшевское требование уничтожить нищих, слабых
должно быть правильно понято в контексте высказывания философа.
«Говорят: Ницше - это "толкни слабого" и, значит: ату его! Звучит почти как
инструкция для вышибал, за вычетом естественного и радикально меняющего суть дела
вопроса: о каком это "слабом" идет здесь речь?» (См. Ницше Ф. Соч., т. 1, с. 24).
И далее К.А. Свасьян разъясняет, что Ницше различает в человеке, с одной
стороны, творца, а с другой - тварь - существо грязное, низменное, бессмысленное.
Вот это низменное и подлежит уничтожению. Я согласен с этим разъяснением,
но хочу только напомнить, что у Ницше идет речь не только об уничтожении
«слабых», но также и об уничтожении всех грешников. А это, конечно,
несуразное требование, явно не согласующееся с ницшевским антиклерикализмом,
атеизмом, «имморализмом».
716
силы, угрожают существованию сильных, которые по природе
своей не склонны объединяться, так как предпочитают
обособление, одиночество. Такое представление об антагонизме,
раздирающем общество, явно упрощает социальную реальность. То
обстоятельство, что слабые, посредственные субъекты нередко
успешно подвизаются на социальной арене, а иногда даже
становятся главами государств, отнюдь не является закономерностью.
Это, скорее, случайность. Ницше и сам, правда, понимает это на
свой, особенный лад, поскольку он утверждает, что историю
творят великие люди, аристократы духа прежде всего. «Поэтому, о
братья мои, - вещает Заратустра, - нужна новая знать,
противница всего, что есть всякая толпа и всякий деспотизм, знать,
которая на новых скрижалях снова напишет слово: "благородный"»
(2, 146). Эти знатные люди, конечно, не придворные и даже не
крестоносцы, ибо «даже лучший человек есть нечто, что должно
преодолеть» (2, 148).
Ницше, как это явствует из всех его произведений, не терпит
банальности, к которой он, как правило, относит
распространенные, обычные воззрения. Почему же он тем не менее утверждает:
«Мужчина должен быть воспитан для войны, а женщина - для
отдохновения воина; все остальное - глупость» (2, 47). К глупостям,
если согласиться с этим утверждением, придется отнести и любовь
между мужчиной и женщиной. Однако Ницше немало говорит о
любви и притом возвышенным слогом. Это не мешает Заратустре
напутствовать мужчину такими словами: «Ты идешь к женщинам?
Не забудь плетку!» (2, 48). Восклицательный знак, которым Ницше
пользуется весьма часто, по-видимому, призван подчеркивать
чрезвычайную важность этого домостроевского убеждения, от которого
подавляющее большинство мужчин его времени уже отказались.
В своем последнем произведении «Esse homo» Ницше так
оценивает своего «Заратустру»: «Произведение это стоит
совершенно особняком. Оставим в стороне поэтов; быть может,
вообще никогда и ничто не было сотворено от равного избытка силы.
Мое понятие "дионисическое" претворилось здесь в наивысшее
действие; применительно к нему вся остальная человеческая
деятельность выглядит бедной и условной. Какой-нибудь Гёте,
какой-нибудь Шекспир ни минуты не могли бы дышать в этой
атмосфере чудовищной страсти и высоты, Данте в сравнении с
Заратустрой есть только верующий, а не тот, кто создает впервые
истину,управляющий миром дух...». Ведь «поэты Веды суть
только священники, и не достойны даже развязать ремни башмаков За-
ратустры... До него не знали, что такое глубина, что такое
высота, еще меньше знали, что такое истина. Нет ни одного мгновения
717
в этом откровении истины, которое было бы уже предвосхищено,
угадано кем-либо из величайших» (2, 749)*.
Я далек от того, чтобы недооценивать «Заратустру» -
выдающееся философское и поэтическое произведение. Но
согласиться с его ницшевской оценкой принципиально невозможно.
«Какой-нибудь» Гёте, Шекспир, Данте создали, несомненно, более
выдающиеся произведения искусства. «Какой-нибудь» Кант или
Гегель создали, несомненно, более выдающиеся философские
произведения. И ни один из этих гениев не расточал себе столько
похвал, как Ницше.
Некоторые полагают, что надо быть снисходительным к
гению. Я же, напротив, считаю, что гений не нуждается в
снисходительности, не заслуживает снисходительности. Правда, если
гений страдает паранойей и мания величия ее естественное
проявление, то снисходительность действительно необходима.
«По ту сторону добра и зла»
Само название этой работы указывает на то, что Ницше
ставит крест на этике, отвергая ее основные понятия и прежде всего
противопоставление добра и зла, рассмотрение добра как
принципа нравственности. «Мы - имморалисты», - заявляет он. Это
«мы» не вполне понятно, поскольку Ницше одинок, у него пока
нет сторонников, он, следовательно, не возглавляет группу
единомышленников. И тем не менее это «мы» отнюдь не случайно.
Королевские декреты начинались словами: «Мы...». Не подражал
ли Ницше королевскому этикету? Ницше, который гордился тем,
что его назвали именем прусского короля, также осознает себя
королем в царстве духа. И его суждения, подобно королевским
декреталиям, не нуждаются в обосновании.
Мораль, разъясняет он, становится проблемой, поскольку
существуют многие морали. Поэтому каждая мораль неизбежно
суживает перспективу, т.е. возможность рассматривать явление с
разных сторон, с разных позиций, так как перспектива всегда
может быть изменена. Но если существуют многие морали, то значит
* Некоторые исследователи полагают, что mania grandiosa, которой
пропитано всё «Esse homo», объясняется крайне болезненным состоянием Ницше,
непосредственно предшествующим его помешательству. С этим лишь частично можно
согласиться, ибо и в ранних своих произведениях Ницше осознает себя
первооткрывателем истины, мыслителем, возвышающимся над всеми своими
предшественниками. Показательно в этом отношении и то, что он ни словом не упоминает
тех мыслителей, которые в ряде отношений - предшественники многих его идей.
Это, как уже указывалось, Б. Мандевиль, Ж.-Ж. Руссо, М. Штирнер.
718
существуют моральные феномены. Однако вопреки этому Ницше
утверждает: «Нет вовсе моральных феноменов, есть только
моральное истолкование феноменов» (2, 296). Моральное истолкование,
как бы его ни понимал Ницше, есть, конечно, моральный феномен.
Это следует в особенности из «онтологии» философа, согласно
которой существуют не факты, а интерпретации. Значит и моральная
интерпретация феноменов, которые сами представляют собой
интерпретации, есть не что иное как мораль, хотя она и выступает в
данном случае как интепретация интерпретации. Впрочем, в этом
же сочинении Ницше говорит о морали как факте. Не
удивительно поэтому, что субъективистское понимание морали, являющееся
пересказом учения Шопенгауэра о мире как представлении,
нисколько не мешает Ницше описывать нравственность как духовное
состояние, признаки которого наличествуют объективно. Общины,
народы, государства, церкви - все это, по его словам,
разновидности стадного состояния и соответствующей ему
нравственности: «Мораль в Европе есть нынче мораль стадных животных»
(2, 320). Но «стадная мораль» - мораль большинства людей -
отнюдь не единственная мораль. Требование одной морали для всех
нелепо. «Есть мораль господ и мораль рабов» (2, 381).
Таким образом, Ницше, который неоднократно утверждал, что
мораль не существует, т.е. представляет собой лишь предрассудок,
обосновывает в этой работе, вопреки ее названию («По ту сторону
добра и зла»), необходимость высшей морали, полагая, что она может
быть свойственна лишь аристократам духа. Амбивалентность этой,
на первый взгляд новой, постановки этической проблемы,
нисколько не осознается философом не только вследствие субъективности
его философствования, но также и потому, что он вовсе не
считает логическую последовательность, свободную от несовместимых
друг с другом предложений, каким бы то ни было достоинством*.
* Любая мораль, с точки зрения Ницше, «учит сужению перспективы,
а стало быть, в известном смысле, глупости, как условию жизни и роста»
(2, 309). Такая оценка морали едва ли в рамках его учения может быть
отрицательной, поскольку он вовсе не считает движущей жизненной силой разумную,
целесообразную деятельность. Первостепенное значение он придает инстинктам,
понимая последние в самом широком, т.е. не только биологическом смысле. Так,
например, он говорит об «инстинкте поиска причины», об «инстинкте суда и
кары», «инстинкте насилия», инстинкте «безграничного познания». Инстинкт
«как раз и есть сущность нашей породы и нашего стада» (1, 513). Поскольку
инстинкты носят бессознательный характер (Ницше не подвергает сомнению
этот факт), то при таком расширительном понимании инстинкта сознанию,
интеллекту почти не остается места. В таком случае глупость (неразумие,
невежество) действительно может быть «условием жизни и роста». Но если это так, то
ницшевская отрицательная оценка морали перестает быть отрицательной, так
как мораль становится необходимой жизненной силой.
719
Что же представляет собой субъект этой высшей морали?
Ницше не говорит здесь о сверхчеловеке, но речь все же идет о
человеке высшего рода. В связи с этим формулируется
нравственный идеал: «Жить, сохраняя чудовищное и гордое спокойствие;
всегда по ту сторону. - По произволу иметь свои аффекты, свои
"за" и "против", или не иметь их... И быть господином своих
четырех добродетелей: мужества, прозорливости, сочувствия,
одиночества» (2, 398). Амбивалентность этого нравственного кредо
бросается в глаза. Как можно быть всегда по ту сторону добра и
зла, если Ницше уже выбрал свою моральную позицию, назвав
ее высшей моралью и значит фактически отказался от
провозглашенного им в этой же работе имморализма? Как можно говорить
о произволе по отношению к своим аффектам, если Ницше,
категорически отрицает свободу выбора и свободу воли вообще?
Можно ли, имея в виду воззрения Ницше, считать добродетелью
сочувствие? Ведь сочувствие может быть и состраданием, против
которого постоянно ополчается Ницше, приписывая состраданию
своекорыстие и прочие пороки.
Весьма показательно, что Ницше считает добродетелью
одиночество. Его отвращение к «стадному» сознанию есть вообще
мизантропическое, мягко выражаясь, отношение к людям. Об
этом уже шла речь в предыдущих разделах этой главы. Вероятно,
это неприязненное отношение к окружающим в известной мере
объясняется его болезненным состоянием. К этому надо
прибавить и такое немаловажное обстоятельство: книги Ницше почти
на всем протяжении его жизни не пользуются спросом не только
среди читателей, но и среди профессиональных философов,
историков, психологов. Ницше весьма болезненно переживает
равнодушие читателей и сетования издателей на то, что его книжки не
привлекают покупателей. Он пытается утешить себя, утверждая,
что лишь бездарности, обладающие определенной ловкостью,
находчивостью, приобретают успех у читающей публики. Но кроме
бездарностей существуют ведь и гении, которые пользуются
всеобщим признанием. Ницше восхищается поэзией Гёте, Байрона,
Гейне, романами Достоевского. Это восхищение неотделимо от
горечи: ведь его, тоже гениального, никто не признает. Отсюда
понятно не только ницшевское одиночество как факт, но и его
прославление одиночества как добродетели. «Не привязываться
к личности, хотя бы и к самой любимой, - каждая личность есть
тюрьма, а также угол. Не привязываться к отечеству, хотя бы и
к самому страждущему и нуждающемуся в помощи... Не
прилепляться к состраданию, хотя бы оно и относилось к высшим
людям... Не привязываться к науке, хотя бы она влекла к себе
720
человека драгоценнейшими и, по-видимому, для нас
сбереженными находками. Не привязываться к собственному
освобождению... Не привязываться к нашим собственным добродетелям...»
(2, 273). Если коротко выразить смысл этого императива, то он
говорит об одном: жить в обществе, но быть свободным от него*.
Но общество - это ведь не только немногие непосредственно
окружающие философа люди. Общество - это взаимодействие
между огромным количеством людей, это многообразные
общественные отношения, как материальные, так и духовные.
Общество - основа и источник всех присущих индивидууму
способностей, потребностей, знаний и умений. Даже все его особенности,
в том числе и его гениальность, - тоже общественный продукт,
феномен культуры, что нисколько не исключает
самодеятельности индивидуума, его упорства в реализации своего призвания и
вытекающих отсюда целей. Ницше, конечно, осознавал, что
одиночество, - так, как он его понимал, - недостижимо и, в
сущности, нежелательно. Но он стремился к одиночеству, жаждая
общественного признания своей гениальности.
Конечно, амбивалентность приведенного положения, как и
других афоризмов Ницше, вовсе не является подлежащим
исправлению недостатком. Напротив, она в значительной мере
преодолевает односторонность, экстравагантность, шокирующий характер
других высказываний философа, который сам себя корректирует,
нисколько не осознавая этого. Поэтому отрицание «моральных
феноменов», т.е. имморализм, восполняется признанием высшей,
подлинной морали. Однако сугубая односторонность ницшевской
характеристики повседневной морали как стадного сознания
нисколько не преодолевается противоположным суждением о
высшей морали, которая, согласно Ницше, присуща лишь немногим,
исключительным людям. Это как раз и свидетельствует о том, что
далеко не всегда Ницше идет на уступки самому себе хотя бы
для того, чтобы уточнить то или иное положение. Некоторые свои
* Отрицание свободы воли - одно из главных положений философии Ницше,
с которым непосредственно связано отрицание нравственности и
ответственности человека за свои действия. Это положение формулируется и
обосновывается философом уже в ранних его утверждениях. Так, в работе «Человеческое,
слишком человеческое» утверждается: «Итак, вера в свободу воли есть
первоначальное заблуждение всего органического мира, столь же старое, как первые
пробуждения логической мысли» (1, 251). И отсюда следует вывод: «...человек
не ответствен ни за что - ни за свое существо, ни за свои мотивы, ни за свои
поступки, ни за результаты своих действий» (там же, с. 267). Однако в
«Утренней заре», относящейся ко второму периоду его интеллектуального развития,
Ницше по меньшей мере частично пересматривает эти положения. Так, он
утверждает: «Можно распоряжаться своими страстями... Все это в нашей воле. Но
многие не знают, что это в нашей воле?» (Утренняя заря, с 219-220).
721
изречения Ницше ставит по ту сторону какой бы то ни было
самокритики. Таковы, прежде всего, «аристократические» воззрения
философа, аристократические в кавычках, потому что речь идет о
духовной аристократии. К этим, не подлежащим какому-либо
дополнению или уточнению, воззрениям принадлежит и убеждение
Ницше в том, что единственное назначение культуры состоит в
споспешествовании появлению гениев.
Название рассматриваемой работы говорит о том, что ее
основные вопросы относятся к этике. Однако название
сопровождается подзаголовком - «Прелюдия к философии будущего»,
который указывает на то, что не вопросы нравственности, а вопрос
о судьбах философии больше всего занимает Ницше. Он
отрицает всю предшествующую философию, сводя все ее
содержание к догмам и догматическому методу философствования. Не
входя в анализ догматизма, его существенно отличных друг от
друга форм (античная философия, средневековая европейская
схоластика, философия Нового времени существенно отличны в
этом отношении друг от друга), он решительно выступает против
системотворчества, справедливо осуждая его как «благородное
ребячество»*. Известно, что каждый сколько-нибудь
выдающийся философ создавал свою систему как систему завершенного
знания, не подлежащую какому-либо пересмотру, а тем более
дальнейшему развитию. Системы, которые следует отличать от
систематического изложения содержания, неизбежно обрекали
каждое философское учение на поражение, в результате которого
оставались, в лучшем случае, лишь некоторые основные идеи,
независимые от того, что им придавали форму законченного,
всеисчерпывающего знания.
Ницше не ограничивается критикой системотворчества. Он
видит догматизм также и в том, что философские положения
провозглашаются в качестве самодостаточных истин, несмотря на то,
что они не ставились предварительно под сомнение. Показательно
* Л.Б. Шестов справедливо подчеркивает значение ницшевского отрицания
системотворчества: «...философия с раз сложившейся теорией перестает видеть
и чувствовать всё то, что не вмещается в установленные ею рамки» (Добро и зло
в учении гр. Толстого и Ф. Ницше // Философия Ницше. Pro et contra, с. 409).
В «Черновиках и набросках», относящихся к 1881-1889 гг., Ницше еще
резче выражает свое отрицание системотворчества. «Воля к системе, по крайней
мере для мыслителя, есть нечто компрометирующее, форма безнравственности»
(Поли. собр. соч., т. 13, с. 177). Стоит отметить, что ницшевское выступление
против системотворчества не было воспринято философами XX в. вплоть до
выступления так называемых «деконструктивистов», которые, однако, вместе с
отрицанием систем философии в значительной мере отвергли и основные
философские вопросы, подменив их обстоятельными исследованиями
сексуальности, литературного творчества и т.д.
722
в этом, по его мнению, учение Платона о трансцендентных идеях
и о добре как высшем благе в потустороннем мире. «Говорить так
о духе и добре, как говорил Платон, - это значит, без сомнения,
ставить истину вверх ногами и отрицать саму перспективность,
т.е. основное условие всяческой жизни» (2, 240). Не
существует самодовлеющего познания, под флагом которого выступают
философы. Нет и не может быть самодовлеющего стремления к
знанию. Философия порождена, по убеждению Ницше, одним из
присущих человеку инстинктов, который пользуется познанием
как средством для достижения целей, не относящихся к
познанию, независимых от него. Эту укорененность философии в
нефилософской, отнюдь не познавательной деятельности, не видят,
не хотят видеть философы. Поэтому они утверждают, что
философия порождена неутомимой жаждой истины, внутренне
присущей человеческому существу любознательностью. Это
убеждение философов - не просто иллюзия или заблуждение. Иллюзии
и заблуждения необходимы, полезны, плодотворны.
Философские же воззренния не только теоретически несостоятельны, но
и вредоносны. Столь же несостоятельно и пагубно свойственное
философии противополагание истины иллюзиям и
заблуждениям. Иллюзии и заблуждения, которые «разоблачаются»
философами, в действительности не менее ценны, чем истины. Пожалуй,
даже более ценны. «При всей ценности, какая может подобать
истинному, правдивому, бескорыстному, все же возможно, что
иллюзии, воле к обману, своекорыстию и вожделению должна быть
приписана более высокая и более неоспоримая ценность для всей
жизни» (2, 242). Убеждение, что истина важнее, чем иллюзия,
характеризуется Ницше как моральный предрассудок. Иллюзии,
заблуждения внутренне присущи жизни, которой, в сущности,
нет дела до истины. Ложь, которую философы поносят как нечто
недопустимое, вредоносное, пагубное во всех отношениях, на
самом деле составляет важнейшую предпосылку жизни. «Признать
ложь за условие, от которого зависит жизнь, - это, конечно,
рискованный способ сопротивляться привычному чувству ценности
вещей, и философия, отваживающаяся на это, ставит себя уже
одним этим по ту сторону добра и зла» (2, 243)*.
* В «Черновиках и набросках» Ницше выражает свое отрицание всей
прежней философии и скептическое отношение к понятию истины еще резче и,
пожалуй, экстравагантнее: «Великая школа клеветы - вот что такое была философия
до сих пор» (Поли. собр. соч., т. 17, с. 293). Такого утверждения нет в
опубликованных им текстах, т.е. свое отрицание прежней философии он выразил в более
корректной форме. Ницше также заявляет: «нет истины ни в чем из того, что
признавалось истиной прежде» (там же, с. 411). Это утверждение не содержит
723
Таким образом, традиционная вера в истину, в ее
превосходство над заблуждением является, с точки зрения Ницше,
пагубным заблуждением, отличным от тех заблуждений, которые
нужны жизни, необходимы человеку, чтобы выжить несмотря ни на
что. Правда, Ницше разграничивает полезные и вредные
заблуждения. Истина, в которой вся предшествующая философия
видела только добро, сплошь и рядом оказывается вредной, опасной,
настоящей угрозой самой жизни, утверждает он. Именно поэтому
познание жизни чревато смертельной опасностью, а иной раз и
просто гибелью. Человеческий интеллект следовало бы измерять
той долей истины, которую он способен выдержать. Доля эта, как
правило, невелика*.
Ницше, подвергающий остроумной критике
противопоставление истины и заблуждения, тем не менее не может фактически
отказаться от этого противопоставления с той лишь разницей, что
отрицания истины как таковой. Однако в опубликованных работах, начиная
с ранних, Ницше также утверждает, что истины как таковой вообще не
существует. Наряду с этим понятие истины применяется в онтологическом смысле,
т.е. в отношении к независимой от сознания реальности. В тех же «Черновиках
и набросках» утверждается: «...есть лишь один мир и мир этот ложен, жесток,
противоречив, соблазнителен, бессмыслен... Так устроенный мир и есть
истинный... Мы нуждаемся во лжи, дабы одержать победу над этой реальностью,
этой "истиной", то есть чтобы жить» (там же, с. 181). Ницше также убежден в
том, что постижение сущности вещей жизнеопасно. Согласно Ницше, «...само
по себе возможно, что истинная суть вещей была бы до того губительна для
условий жизни, несовместима с ними, что для того, чтобы жить, оказалась бы
позарез нужной именно видимость... Ведь как раз так дело и обстоит во многих
случаях: например в браке» («Черновики и наброски» 1887-1889 гг. Соч., т. 13,
с. 259-260). И здесь понятие истины (истинности) применяется в
онтологическом смысле, поскольку речь идет об «истинной сути вещей».
* Убеждение в насущной необходимости заблуждений Ницше стремится
обосновать уже в ранних своих работах. Так, в книге «Человеческое, слишком
человеческое» Ницше пишет: «Заблуждение сделало человека столь глубоким,
нежным, изобретательным, что он вырастил такие цветы, как религии и
искусства. Чистое познавание было бы не в состоянии сделать это. Кто открыл бы нам
сущность мира, тот причинил бы нам всем самое неприятное разочарование. Не
мир как вещь в себе, а мир как представление (как заблуждение) столь
значителен, глубок, чудесен и несет в своем лоне счастье и несчастье. Этот результат
ведет к философии логического отрицания мира, которая, впрочем, столь же
хорошо соединима с практическим утверждением мира, как и с его
противоположностью» (1, 258). Следует подчеркнуть, что Ницше обычно не разграничивает
иллюзии и заблуждения. Иллюзии сплошь и рядом играют положительную роль
в индивидуальном развитии, а также развитии общества. Достаточно напомнить
об иллюзиях Великой французской революции - Égalité, liberté, fraternité. Что
касается заблуждений, то они, на мой взгляд, лишь изредка играют
положительную роль. При этом, конечно, надо разграничить содержательные заблуждения,
в которых скрытым образом таится частичная истина, и ошибки, происходящие
вследствие нарушения элементарных правил логики.
724
он берет под защиту заблуждение, утверждая, что оно более
необходимо жизни, чем истина. Но он же, вопреки этому
противопоставлению, упраздняет противоположность между истиной и
заблуждением. На место противоположности ставится различие,
но и это различие между истиной и заблуждением есть различие
лишь в степени мнимости. Мнимость - вот что характеризует не
только жизнь, но и познание. Не следует поэтому приписывать
науке стремление к познанию истины. Ученый, конечно, как правило,
убежден, что именно в этом состоит задача науки и его собственная
задача. Этот самообман, который питает и поддерживает науку, не
должен приниматься философией всерьез. Философия призвана
всюду и всегда выявлять мнимость как основное определение
реальности. «На какую бы философскую точку зрения ни
становились мы нынче, со всех сторон обманчивость мира, в котором, как
нам кажется, мы живем, является самым верным из всего, что еще
может уловить наш взор...» (2, 268). Все это относится к внешнему
миру, который, с этой точки зрения, не есть уже внешний.
Субъективистский характер рассуждений Ницше очевиден не
только читателю, но и самому философу, который не склонен,
конечно, к солипсизму. Поэтому он настаивает на том, что
достоверно не только мнимое. Достоверно и то, что не является мнимым.
Это достоверное коренится в наших органах чувств. Чувственные
данные - неопровержимы. Он даже утверждает, что из чувственных
данных проистекает «всякая очевидность истины». Сенсуализм, по
его убеждению, должен быть принят как «руководящая гипотеза».
Конечно, из сенсуализма также могут быть сделаны
субъективистские выводы, граничащие с солипсизмом. Ницше вполне осознает
эту опасность. Поэтому он пишет: «Чтобы с чистой совестью
заниматься физиологией, нужно считать, что органы чувств не суть
явления в смысле идеалистической философии... некоторые
говорят даже, что внешний мир есть будто бы создание наших органов.
Но ведь тогда наше тело, как частица этого внешнего мира, было
бы созданием наших органов!.. Следовательно, внешний мир не
есть создание наших органов» (2, 251-252). С этим положением
может согласиться не только объективный идеалист, но и
материалист, если, конечно, не сводить внешний мир к мнимости.
Ницше - не сторонник ни материализма, ни идеализма, что
позволяет ему высказывать положения как приемлемые, так и
неприемлемые этими философскими направлениями и, таким
образом, возвышаться (по видимости) над этими
противоположностями и над всякими «измами» вообще. Эта философская позиция
могла бы быть названа эклектической, но эклектизм не присущ
философии Ницше, так как она представляет собой собрание
725
фрагментов, афоризмов, которые логически не связаны друг с
другом, могут поменяться местами, могут быть изъяты из текста
без какого-либо изменения смысла его содержания. В этом
своеобразное достоинство философии Ницше, которая декларирует
различные, сплошь и рядом несовместимые воззрения, каждое из
которых становится все более содержательным, когда оно
дополняется противоположным высказыванием философа. Однако при
всем разнообразии высказываемых Ницше положений можно все
же сделать вывод, что в конечном счете он склоняется к
скептицизму. «Пусть не заблуждаются: великие умы - скептики. Зара-
тустра - скептик. Крепость, свобода, вытекающие из духовной
силы и ее избытка, доказываются скептицизмом» (2, 680).
Радикальное отрицание предшествующей философии (за
исключением... философии Шопенгауэра и скептицизма) служит
основанием вывода о необходимости философии нового типа,
философии будущего, по словам Ницше. О содержании этой
философии говорится очень скупо и недостаточно определенно.
Философы будущего будут повелителями и создателями, творцами
новых ценностей. Они станут «злой совестью своего времени»
(2, 336). Этот тезис следует, по-видимому, понимать в том
смысле, что новые философы выступят как беспощадные критики
всего существующего, отрицающие всё временное, преходящее,
всякое «теперь». Философия будущего станет независимой от своего
времени, она будет противостоять ему*. Философ, как «человек,
* В «Черновиках и набросках», относящихся к 1869-1873 гг., т.е. к ранним
трудам Ницше, мы находим высказывания о задачах философии, которые, на
мой взгляд, вполне соответствуют тому, что гораздо позднее было
провозглашено как философия будущего. «Задача философа - сознательно бороться со всем,
что обусловлено временем...» (Поли. собр. соч., т. 7, С. 381). Философия, с этой
точки зрения, не обусловлена временем. Это воззрение вытекает с логической
необходимостью из абсолютизации критики, из безоговорочного отрицания
существующих общественных отношений, государства, гражданского общества,
нравственности, религии и т.д. Это положение конкретизируется следующими
высказываниями: «Над суетой исторической смены времен, по ту сторону
необходимости, находится сфера философа и художника» (там же, с. 382). Ницше,
таким образом, не только противопоставляет философию эпохе, в рамках которой
она существует; он противопоставляет ее необходимости, т.е. необходимой связи
явлений. Тот факт, что в первый период его интеллектуального разития мы
находим положения вполне применимые к его гораздо более позднему пониманию
философии, нет ничего удивительного. Основные идеи Ницше были, в основном,
уже высказаны в ранних его произведениях. Об этом свидетельствует сам Ницше:
«...все мои способности в один день распустились внезапно, зрелые в их
последнем совершенстве. Я не помню, чтобы мне когда-нибудь пришлось стараться, -
ни одной черты борьбы нельзя указать в моей жизни. Я составляю
противоположность героической натуры. Чего-нибудь "хотеть", к чему-нибудь "стремиться",
иметь в виду "цель", "желание" - ничего этого я не знаю из опыта» (2, 719).
726
несущий огромнейшую ответственность, обладающий совестью,
в которой умещается общее развитие человека, - такой философ
будет пользоваться религиями для целей дисциплинирования и
воспитания так же, как иными политическими и экономическими
состояниями» (2, 287). Это положение Ницше свидетельствует о
том, что он по-новому подходит к религии. Не в том смысле, что
он отказывается от атеизма. Нет, он по-прежнему остается
безбожником, но теперь он политически подходит к религии и
начинает видеть в ней средство духовного подчинения людских масс.
Философ будущего, с его точки зрения, не может быть
политиком. Само собой разумеется, что имеется в виду не просто
текущая политика с ее ограниченными частными целями. Философ
будущего с презрением относится к политической текучке,
мелочевке. «Время мелкой политики прошло: уже грядущее столетие
несет с собою борьбу за господство над всем земным шаром, -
понуждение к великой политике» (2, 332). Ницше,
следовательно, вполне отдает себе отчет в том, что господствующие державы
его времени стремятся к мировому господству. Его отношение к
этому стремлению скорее положительное, чем отрицательное. Во
всяком случае, он за великую политику, о задачах которой,
правда, пока еще ничего более не говорится.
Работа «По ту сторону добра и зла» характеризуется
некоторыми исследователями учения Ницше как коренной
поворотный пункт в смысле перехода к новому кругу идей. По-моему,
для такой ее оценки нет достаточных оснований. За исключением
В этом ницшевском положении следует, конечно, различать то, что
является констатацией, и то, что представляет собой маску, и соответственно этому
высказывается в «кавычках». Само собой разумеется, что у Ницше были вполне
определенные цели, стремления, желания.
В «Черновиках и набросках», относящихся к 1887-1889 гг., Ницше
характеризует психологию философа будущего. «Стремящийся к великому ум, если не
прибегает и к средствам для этого, непременно станет скептическим... Свобода
от всякого рода убеждений - вот его сила... она учит не церемониться
понапрасну, внушает мужество пользоваться далеко не святыми средствами» (Соч., т. 13,
с. 21). Далее Ницше еще более конкретно определяет черты философа
будущего: «Нужно обладать мужеством, чтобы позволить себе низость: у большинства
для этого кишка тонка» (там же, с. 22). В этих высказываниях обращает на себя
внимание положение о свободе «от всякого рода убеждений». Это положение
высказывалось и в предшествующих работах Ницше. Амбивалентность этого
положения или не осознается философом, или не заслуживает, с его точки
зрения, внимания. Ведь он, никак не оговариваясь, высказывает свое убеждение
в том, что надо быть свободным от всякого рода убеждений. Следует, в таком
случае, отказаться и от этого убеждения. Но и этот отказ от убеждения также
будет убеждением. Думать, что Ницше понимает под убеждением нечто отличное
от убеждений, нет никаких оснований. Понятие убеждения охватывает любые
возможные воззрения.
727
тезиса о великой политике, все другие ее положения, в той или
иной формулировке, встречались уже в предшествующих работах
Ницше, частью даже в самых ранних. Значение данной работы
состоит, пожалуй, в том, что она суммирует ранее
высказывавшиеся положения и формулирует их еще более четко, еще более
красноречиво.
Пятая «книга» (часть) «Веселой науки» формулирует
важнейшее положение ницшевского атеизма. «Величайшее из новых
событий - что "Бог умер" и что вера в христианского Бога стала
чем-то не заслуживающим доверия... Быть может, мы еще
стоим слишком под ближайшими последствиями этого события - и
эти ближайшие последствия, его последствия, вовсе не кажутся
нам, вопреки, должно быть, всяким ожиданиям, печальными и
мрачными...» (1, 662). Если вдуматься в это парадоксальное
положение, то нетрудно понять, что оно фиксирует амбивалентную
ситуацию. Ведь с точки зрения атеиста, Бог не может умереть,
поскольку его не существует. Верующий же никогда не поверит,
что Бог может умереть, поскольку он Бог. По-видимому, Ницше
имел в виду кризис религиозной веры, который проявляется в
усиливающемся сомнении в существовании Бога*.
Тезис Ницше о смерти Бога вызвал многочисленные
комментарии. К. Ясперс писал: «Ницше не говорит: Бога нет, не говорит
* Однако Ницше не любит называть себя атеистом, по-видимому, потому, что
он, как всегда, претендуя на оригинальность, не хотел солидаризироваться с уже
существующими воззрениями. Поэтому, в частности, он заявлял: «Если бы нам
вздумалось назвать себя просто старым выражением "безбожники" или
"неверующие", или же "имморалисты", мы далеко бы еще не считали себя
названными...» (1, 666). Имморалистом Ницше неоднократно себя называет, но атеистом -
никогда. Это обстоятельство не может быть основанием для того, чтобы ставить
под сомнение атеистический характер его мировоззрения. Поэтому совершенно
неправильно утверждение Ф. Юнгера: «Ницше - тип homo religiosus огромной
силы - был одним из благочестивейших людей своего времени... Сокровище
благочестия и доброты, которые имел Ницше, было надежно спрятано» (Юнгер Ф.
Ницше. М., 2001, с. 152). Ницшевская атеистическая критика христианства
интерпретируется Юнгером «диалектически»: «Всякая мыслимая оппозиция и
отрицание определяется позицией; она диктует выбор средств нападения,
направление атаки». Поскольку позиция Ницше характеризуется как благочестивая, то и
его критика христианства объявляется благожелательной. Отсюда вывод: «Разве
христианство не должно быть благодарным за то, что на него нападают?» (там
же, с. 154, 155). Между тем Ницше в пятой части «Веселой науки» видит
исторический источник мировых религий «главным образом в чудовищном заболевании
воли» (1, 668). Он высоко оценивает Шопенгауэра как философа, который «был
первым сознавшимся и непреклонным атеистом, какой только был у нас, немцев»
(1, 681). С этим, разумеется, нельзя согласиться. Сознательными и
непреклонными атеистами были некоторые из младогегельянцев и прежде всего, конечно,
Бруно Бауэр. Атеистами были К. Маркс и Ф. Энгельс еще до того, как они создали
учение, получившее название «марксизм».
728
также: я не верю в Бога, он говорит: Бог мертв. Зорко
всматриваясь в эпоху и в собственное существо, он думает поставить
диагноз современной действительности»109. В другом месте
монографии, посвященной Ницше, Ясперс утверждает: «его атеизм - это
все-таки не однозначно банальное отрицание Бога... уже способ,
каким Ницше констатирует в свою эпоху, что Бог мертв, есть
выражение его потрясения»110. С этим нельзя не согласиться, ибо
атеизм Ницше действительно существенно отличается от
атеизма, к примеру, французских материалистов XVIII в. Рассуждения
Ницше о христианстве являются, с одной стороны, его
уничижительной критикой, а с другой, - признанием его выдающегося
значения в европейской истории. Ясперс, в частности, цитирует
письмо Ницше к Гасту от 21 июля 1887 г., в котором Ницше
говорит о христианстве: «Это лучший кусок идеальной жизни, какой
мне по-настоящему довелось узнать: я устремился вслед за ним
чуть ли не с пеленок и, думаю, никогда не предавал его в сердце
своем». Ясперс приводит аналогичные высказывания Ницше в
опубликованных им работах. Вот одно из них: «Церковь при всех
обстоятельствах более благородное учреждение нежели
государство»111. Такого рода высказываний у Ницше, правда, немного.
Главное в ницшевском отношении к христианству, конечно,
радикальное отрицание. Вот, например, его категорическое заявление:
«... никакого Бога, умершего за грехи наши; никакого искупления
верой; никакого воскрешения из мертвых, - все это фабрикация
фальшивой монеты»112. Атеизм Ницше, однако, не сводится к
отрицанию христианства. Суть дела гораздо сложнее. Касаясь
«логики атеизма», Ницше заявляет:
Бог необходим, а потому должен быть,
Но его нет и не может быть.
Значит нам нельзя больше оставаться в живых113.
Естественно возникает вопрос: является ли «логика атеизма»
логикой Ницше? Прямого ответа на этот вопрос найти у Ницше
нельзя. Однако в тех же «Черновиках и набросках», относящихся
к 80-м годам, Ницше вполне в духе Фейербаха антропологически
истолковывает религию: «Народ - это тело Божие. Всякий
народ до тех пор только и народ, пока имеет своего Бога особого...
Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала
109 Ясперс К. Ницше. Введение в его философствование. С. 348.
1,0 Там же. С. 572.
111 Ясперс К. Ницше и христианство. М., 1994. С. 5.
112 Ницше Ф. Поли. собр. соч. Т. 13. С. 97.
1,3 Там же. С. 135.
729
и до конца»114. Эта атеистическая точка зрения существенно
отлична от воззрений французских материалистов XVIII в. Она
представляет собой не только более правильное, но и более
глубокое, содержательное понимание сущности религии. Непонятно,
однако, то, почему ницшевская концепция культуры не включает
в ее содержание и религии.
Значительное место в пятой части «Веселой науки» занимают
гносеологические вопросы. В отличие от некоторых
предшествующих работ, в которых Ницше подвергал сомнению понятие
истины, упразднял противоположность между истиной и
заблуждением, здесь он не только со всей определенностью, но, можно
сказать, со страстью отстаивает понятие истины, а также
значение науки. «Вопрос, нужна ли истина, должен быть не только
заведомо решен в утвердительном смысле, но и утвержден в такой
степени, чтобы в нем нашли свое выражение тезис, вера,
убеждение: "нет ничего более необходимого, чем истина, и в сравнении с
нею все прочее имеет лишь второстепенное значение"» (1, 663)*.
Воля к истине, подчеркивает Ницше, означает, что я не хочу
обманывать даже самого себя. Поэтому познание становится не
только потребностью, но и страстью. «Крайне существенная разница,
относится ли мыслитель к своим проблемам лично, видя в них свою
судьбу, свою нужду и даже свое величайшее счастье, или
"безлично": именно, умея лишь ощупывать их и схватывать щупальцами
холодной, любопытной мысли» (1, 665). Ницше, конечно,
сторонник личного, страстно заинтересованного подхода к предметам
познания. Однако он вместе с тем подвергает критике «буйное
желание достоверности, которое нынче на научно-позитивистский лад
разряжается в широких массах, желание знать что-либо наверняка».
Такое некритическое желание «... оказывается все еще поиском
поддержки, опоры, короче, тем инстинктом слабости, который если и
1,4 Там же. С. 142.
* Стоит напомнить в связи с этим другие высказывания Ницше об истине.
В той же «Веселой науке» (в ранее написанных разделах) утверждается:
«Серьезность в отношении истины! Сколько много различного разумеют люди под
этими словами!» (1, 567). И несколько ниже: «...лишь гораздо позже выступила
истина, как бессильнейшая форма познания» (1, 583). Сопоставляя эти
несовместимые друг с другом высказывания, не следует думать, что воззрения Ницше
по вопросу об истине изменились, что он пересмотрел свои прежние взгляды и
отказался от некоторых своих прежних воззрений. Ничего подобного в его
интеллектуальном развитии никогда не происходило. Он никогда не отказывался
от какого-либо своего взгляда даже тогда, когда выражал неудовлетворенность
какой-либо из своих прежних работ. Ницше предпочитал высказывать разные, в
том числе и несовместимые друг с другом положения. Такой подход он называл
перспективизмом, имея в виду, что художник рассматривает свой объект в
разных перспективах, под разным углом зрения.
730
не создает, то консервирует религии, метафизики, убеждения
всякого рода» (1, 668). Здесь снова слово «убеждение» толкуется негати-
вистски, как несовместимое с научным поиском.
Философы, подчеркивает Ницше, все еще недооценивают
значение знания, науки, которая непрерывно растет, умножает свои
открытия. Однако высокая оценка научного знания не
исключает критического к нему отношения. В связи с этим он
критикует теоретическую механику своего времени, которая возводит
открытые ею законы в единственно возможные. Он, стало быть,
указывает на ограниченность механистического миропонимания,
не зная, однако, о том, что в его время эта ограниченность была в
основном преодолена благодаря термодинамике и учению о
магнетизме и электричестве.
Признание высокого назначения науки, познания вообще не
приводит Ницше к позитивному пониманию сознания,
существование которого, в сущности, отрицается: «К чему вообще
сознание, раз оно по существу излишне?» (1, 674). На этот вопрос
Ницше отвечает, указывая, по существу, на социальную сущность
сознания, т.е. на то, что оно не сводимо к сознанию индивида,
понимаемому как только его, индивида, духовное содержание.
И Ницше поэтому утверждает: «... сознание, собственно, не
принадлежит к индивидуальному существованию человека, скорее,
оно принадлежит к тому, что есть в нем родового и стадного»
(1, 675-676). Но существование общественного сознания нисколько
не является отрицанием индивидуального сознания. Рассуждения
Ницше обычно относятся к индивидуальному сознанию, которое
он отрицает. Эта теоретическая позиция предвосхищает У. Джемса,
одного из основоположников американского прагматизма. Но он не
делает вытекающие из этого отрицания бихевиористских выводов,
т.е. не сводит сознание к поведению. Поэтому его отрицание факта
сознания нисколько не мешает признанию необходимости
осознавать те или иные факты, проблемы, обстоятельства.
Отрицание реальности сознания есть, конечно, также
отрицание мышления, которое в своей развитой форме есть,
несомненно, сознательная деятельность. Ницше, правда, не идет
до конца в своем отрицании, т.е. формально не отрицает
мышления. Но этот «недостаток» восполняется отрицанием... воли,
основного понятия его философии. В «Черновиках и
набросках» восьмидесятых годов Ницше безапелляционно заявляет:
«...мы не признаем, что существует воля (не говоря уже о
свободе воли)»115. Правда, этот тезис, перечеркивающий все учение
1,5 Ницше Ф. Поли. собр. соч. Т. 13. С. 376.
731
Ницше, не был включен в его опубликованные работы. Это
свидетельствует о том, что его «Черновики и наброски»
подвергались основательной критической разборке. Но это не умаляет
их значения для понимания философии Ницше. Иное дело, что
к высказываниям в этих рукописях следует относиться с учетом
того, что это еще не готовые тексты, не до конца продуманные,
взвешенные высказывания.
Следует подчеркнуть, что для «Черновиков и набросков»
характерна предельная резкость высказываний, которые обычно
переходят в подготовленные для печати рукописи в более
смягченной форме. Однако и в подготовительных работах встречаются
в высшей степени продуманные формулировки. Наглядный
пример: «Моралист должен быть "имморалистом дела"»; «Свобода
от морали, свобода далее от правды, ради той цели, что окупает
любую жертву: ради господства морали -так гласит этот канон»116.
Итак, отрицание повседневной «массовой» морали ради
утверждения (господства) высшей, подлинной морали, которая
свободна «даже от правды» и готова на любую жертву ради достижения
своей цели. Эта готовность на любую жертву ради поставленной
цели (господства аристократии духа) - вполне совпадает с
известным девизом иезуитов, который, как свидетельствует
история, принимался без видимых колебаний всеми политическими
группировками или партиями, стремящимися установить свою
диктатуру.
В приведенном высказывании в особенности примечательна
готовность отказаться даже от правды. Ницше всегда
разграничивал правду и истину. Истина относится к сфере познания;
необходимость познания, с его точки зрения, достаточно
проблематична. Истина может быть вредоносной; иллюзия сплошь и рядом
предпочтительнее истины. Иное дело правда, правдивость. Это
больше, чем истина, ибо характеризует не только познание, но и
моральный статус личности. Подвергая критике познание и
мораль, Ницше почти всегда подчеркивал, что он делает это ради
правды, высшего духовного качества человека. Вот почему отказ
от правды является, с его точки зрения, недопустимой уступкой.
И поэтому, надо полагать, афоризм не был включен в
подготовленную к печати рукопись.
Следует вообще отметить, что в «Черновиках и набросках»
Ницше высказывается наиболее радикальным образом, так
сказать, слишком радикально. Поэтому многие, содержащиеся там
высказывания, не были включены в подготовленные к печати
1,6 Там же. С. 24.
732
рукописи. Но эти высказывания нередко наиболее адекватно
выражают умонастроение философа, его борьбу с самим собой, его
стремление ограничить собственный радикализм. Впрочем, эти
стремления к «умеренности» сплошь и рядом подавлялись
бьющей через край афористической мыслью, привлекательность
которой в немалой степени зависела именно от того, что она выходит
за все границы, поставленные традициями, обычаями, наукой.
Завершение интеллектуальной биографии.
Последние работы Ницше
Работу «К генеалогии морали» Ницше рассматривал как
приложение к предшествующей - «По ту сторону добра и зла».
Однако она, несомненно, имеет и независимое от упомянутой
работы значение в особенности потому, что в ней главное внимание
уделяется вопросу об истоках морального сознания. Исходным
положением при этом является, по убеждению философа, то, что
существует коренная противоположность между «высшими» и
«низшими» социальными группами, аристократией и плебсом.
«Пафос знатности и дистанции» есть «коренное чувство высшего
господствующего рода в отношении низшего рода, "низа" -
таково начало противоположности между "хорошим" и "плохим"»
(2, 417). То, что Ницше заключает в кавычки хорошее и плохое,
указывает на то, что он вполне осознает относительность этой
противоположности, которая истолковывается им как чувство, а
не независимое от него отношение противоположностей.
Однако основа этого чувства отнюдь не субъективна: ведь речь идет
о действительной противоположности между знатью и простым
народом: гомеровские герои, рабовладельцы древней Греции и
Рима, арабская, японская знать, скандинавские викинги.
Ссылаясь на эти социальные группы и называя аристократию расой
прирожденных господ, Ницше поясняет: «В основе всех этих
благородных рас просматривается хищный зверь, роскошная,
похотливо блуждающая в поисках добычи и победы белокурая
бестия...» (2, 428). Именно эта бестия и навязывает простому
народу моральные нормы, суть которых сводится главным образом
к запретам. При этом хорошим именуется то, что для нее хорошо,
а поэтому неизбежно плохо для тех, кто вынужден ей
подчиняться, не осмеливаясь действовать по-своему.
Можно сказать, что Ницше, в известной мере, приближается к
реалистическому пониманию моральных установлений, которые,
судя по фактам, никогда не были делом выбора свободных людей,
а являлись обычаями, которые частью формировались стихийно,
733
частью же насаждались как норма господствующими
социальными группами или классами.
Ницше, постоянно подчеркивающий свою приверженность
господству аристократии, тем не менее не считает, что
установленные ею стереотипы «морального» поведения заслуживают
одобрения. Он презрительно характеризует исторический
процесс формирования моральных стандартов: «Эта мастерская, где
фабрикуют идеалы, - мне кажется, она вся провонялась ложью»
(2, 433). Ницше, несмотря на все свои симпатии к расе господ,
не разделяет ее идеалов. Пожалуй даже, что суть дела не только
в социальном идеале, а в том, что свободный мыслитель именно
благодаря своему свободному мышлению возвышается над
социальной реальностью, которую он исследует. Ницше же считает
себя самым свободным мыслителем в истории человечества.
Вопрос об исторических истоках моральных предписаний
не сводится, как утверждает Ницше, только к далекому
прошлому. Современная эпоха, по его мнению, также порождает, питает
мнимую противоположность между «добром» и «злом». Основное
понятие морали, понятие вины (Schuld) произошло, по его
убеждению, от «материального» понятия «долги» (Schulden). Здесь,
таким образом, мы оказываемся в сфере товарно-денежных
отношений. Чувство вины, личной обязанности возникло «из
отношения между покупателем и продавцом, заимодавцем и должником:
здесь впервые личность выступила против личности...» (2, 449).
Реалистические представления Ницше о происхождении
моральных норм не носят конкретно-исторического характера.
Ницше не имеет представления о родовом строе,
кровно-родственных отношениях, в рамках которого исторически формировались
обычаи, ставшие затем моральными нормами. Правда, он
указывает на то, что корни моральных предписаний уходят в далекую
древность: мораль в древнем обществе сводилась к требованию
безоговорочного повиновения обычаям. Но всякое повиновение,
с точки зрения Ницше, равнозначно отказу от свободы,
раболепию, потери достоинства. О том, что законопослушание может
самым положительным образом характеризовать человеческую
личность, Ницше не задумывается. Произвол фактически
отождествляется им со свободой. Между тем человек, который делает
всё, что хочет, всё, что ему заблагорассудится, человек не
способный подчинять себе свои чувства, отнюдь не свободен.
Ницше также далек от понимания роли религии в
формировании первоначальных моральных норм. И тем не менее его
генеалогия морали - одна из выдающихся этических концепций,
несмотря на всё присущее ему негативистское отношение к этике
и морали вообще.
734
В предыдущих работах Ницше обычно потешался над
представлением о чистой совести, утверждая, в частности, что чистая
совесть всегда имеет своим преддверием дурную совесть.
Совершенно по-иному Ницше трактует понятие совести в
рассматриваемой работе. «Я считаю нечистую совесть глубоким заболеванием,
до которого человеку пришлось опуститься под давлением
наиболее коренного из всех изменений, выпавших на его долю, -
изменения, случившегося с ним в момент, когда он окончательно осознал
на себе ошейник общества и мира» (2, 461). Нечистая совесть
также характеризуется им как «уродливая опухоль» и «насильственно
подавленнный инстинкт свободы» (2, 463). Таким образом,
понятие чистой совести или, говоря другими словами, понятие
действительной моральности уже не отвергается, а признается, хотя и
не безоговорочно. Чистая совесть есть просто совесть. Но вместо
общепринятого выражения «чистая совесть» Ницше предпочитает
говорить об «интеллектуальной совести», не вдаваясь в анализ ее
содержания*.
* Не ограничиваясь критикой обыденной морали и противопоставлением ей
некоей высшей морали, принципы которой далеко не всегда относятся к сфере
нравственности вообще, Ницше в «Черновиках и набросках» призывает «жить в
очищенном от морапи мире» (с. 440), сознавая, что «Добродетель - наше величайшее
недоразумение» (с. 376). С этой точки зрения то, что «называется добрым
поступком - не более, чем недоразумение; подобные поступки вообще невозможны» (с. 37).
Если в своих опубликованных работах Ницше, подвергая критике Платона,
Канта и в отдельных вопросах даже своего учителя Шопенгауэра, тем не менее
признает за историей философии некоторую эвристическую ценность, то в своих
«Черновиках и набросках» он заявляет безоговорочно: «Великая школа клеветы -
вот что такое была философия до сих пор» (там же, с. 293). Поэтому «нет истины
ни в чем из того, что признавалось истиной прежде» (там же, с. 411). Хотя Ницше
в отличие от Шопенгауэра говорит преимущественно о человеческой, а не
вселенской воле, он, тем не менее, солидаризируется с эссенциализмом
Шопенгауэра, поскольку он утверждает, что «все следствия суть следствия воли. Понятия
«природы», «закона природы» нет» (там же, с. 282) . Соответственно этому он
утверждает, что «всякая движущая сила есть воля к власти, что нет никакой
другой физической, динамической или психической силы» (там же, с. 277).
Сравнивая афоризмы в опубликованных работах Ницше с его афоризмами и
другими высказываниями в «Черновиках и набросках», можно сказать, что
существуют два Ницше: один - это тот, которого мы знаем по его книгам, другой - тот,
который запечатлен в его черновиках, подготовительных работах. Этот, второй
Ницше, несомненно, превосходит самого себя. Но Ницше, который критически
относится ко всему, в том числе и к самому себе, подвергает подчас строгому
отбору свои первоначальные заметки. Нельзя, конечно, сказать, что он стремится
сделать свои высказывания приемлемыми для читающей публики, но у него
также есть определенное чувство меры в отношении к своему радикализму.
Разумеется, не надо вырывать пропасть между первым и вторым Ницше.
Сплошь и рядом различие между ними уменьшается предельно. Но если
окинуть взором его печатные произведения и его подготовительные работы, то
различие между ними следует признать существенными.
735
В «К генеалогии морали», в отличие от предшествующих
сочинений, Ницше чужда мизантропия. Однако сказать, что его
отношение к людям, к человечеству в целом существенно
изменилось, пожалуй, нельзя. Ведь высказывания Ницше, его изречения,
в известной мере находятся в зависимости от его самочувствия
и умонастроения. Но эту зависимость не стоит преувеличивать.
Свободный ум, о котором часто говорит Ницше, есть
независимый ум. И поскольку это так, его афоризмы не зависят даже от
состояния его здоровья. Имея в виду всё это, следует, на мой взгляд,
считать имеющим первостепенное значение такое его суждение:
«Чего надобно бояться, что действует пагубнее любой другой
пагубы, так это не великий страх, а великое отвращение к человеку;
равным образом и великая жалость к человеку» (2, 493). Ницше,
вопреки его многочисленным высказываниям, все же является,
гуманистом. Его гуманизм несмотря на все присущие ему
противоречия может быть назван радикально критическим прежде
всего по отношению к либеральному прекраснодушию, которое
затушевывает социальные антагонизмы, трагические коллизии в
общественной жизни и в жизни членов общества. Либеральный
гуманизм, который на деле обычно является всего лишь
гуманистической фразеологией, внушает Ницше отвращение.
Важным моментом рассматриваемой работы является также
конкретизация понятия «воля к истине». Научное познание в
ракурсе этого понятия трактуется как мужественное стремление,
напряженное воление, акт силы, заслуживающий самой высокой
оценки. Правда, люди науки, несмотря на присущую им волю
к истине, все еще не являются вполне свободными умами. Они
«идеалисты познания», поскольку их идеалом является «неде-
вальвируемость, некритичность истины». Но такой
самодовлеющей, абсолютной истины нет и не может быть. Осознание этого
урезывает идеал, но «...этот остаток идеала и есть, если угодно
поверить мне, все тот же самый идеал в наиболее строгой,
наиболее духовной его формулировке... Безусловный порядочный
атеизм ( - а только его воздухом и дышим мы, более духовные
люди этой эпохи) не пребывает поэтому в противоречии с этим
идеалом, как могло бы показаться; скорее, он представляет собою
лишь одну из последних фаз его развития, одну из
заключительных форм его во внутренней логике становления - он есть
импозантная катастрофа двухтысячелетней муштры к истине,
которая под конец возбраняет себе ложъ в вере в Бога» (2, 522). Таким
образом, отвергая «идеализм познания», абсолютизирующий его
результаты Ницше выступает, тем не менее, как сторонник идеала
познания в его развитой, критической форме.
736
Завершая рассмотрение «К генеалогии морали», следует
признать, что в этом произведении Ницше провозглашает воззрения,
которые он самым решительным образом отвергал в
предшествующих работах. Прежнее отрицание всего и вся заменяется в
значительной степени критически положительной трактовкой
морали, познания, человека. Это - несомненный прогресс, так
как отрицание en bloc служило бы лишь на пользу нигилизму,
который Ницше отвергал, признавая в то же время, что эта болезнь
века не пощадила и его.
Антихрист. Проклятие христианству
Это сочинение существенно отличается от предыдущего,
рассмотренного выше. Если в «К генеалогии морали» Ницше в
немалой степени приблизился к положительному пониманию
нравственности, познания, человека, то в этой работе он вновь
возвращается к их негативистскому толкованию.
Ницше вновь подвергает критике учение Канта о
нравственности, повторяя свои старые аргументы. Категорический
императив, с его точки зрения, принципиально несостоятелен вследствие
своей универсальности. С этим возражением нельзя не
согласиться, поскольку Кант трактует нравственный закон как абсолютно
всеобщий и, следовательно, обязательный в любой ситуации. Но
то, что Ницше противопоставляет категорическому императиву,
оказывается отрицанием любой формы общности в сфере
нравственности. Этическая норма, в ницшевском ее понимании,
может быть только индивидуальной, личной. «Самые глубокие
законы сохранения и роста повелевают... чтобы каждый находил себе
свою добродетель, свой категорический императив» (2, 638-639).
О том, что представляют собой «самые глубокие законы
сохранения и роста», на которые уверенно ссылается Ницше как на
некую объективную необходимость и основу индивидуальной
нравственности, не считающейся с обычаями, существующими
в обществе, он не говорит ни слова. Разумеется, никакие такие
законы «сохранения и роста» неизвестны Ницше. Эта фраза -
опрометчивое высказывание, которых полным-полно в сочинениях
Ницше. Если при этом учесть, что все законы, да и само понятие
закон, он объявляет фикциями, то ссылка на «самые глубокие»
окончательно теряет какой-либо смысл.
Стоит обратить внимание на стремление Ницше оправдать
свое отрицание морали: «Мораль не является уже более
выражением условий, необходимых для жизни и роста народа, его
глубочайшего инстинкта жизни, но, сделавшись абстрактною, ста-
24. Ойзерман Т.И., том 5 737
новится противоположностью жизни...» (2, 651). Это в высшей
степени показательное высказывание, поскольку оно подрывает
все рассуждения философа о бессодержательности,
бессмысленности морали. Ницше, следовательно, признает, что мораль
была «глубочайшим инстинктом жизни», что она выражала
условия жизни народа, развития общества. Но если это так, то надо с
должной серьезностью относиться к этой духовной сфере
человеческой жизни. Ницше оправдывает свое нигилистическое
отношение к морали утверждением, что мораль потеряла прежнее
значение. Но если это и так, то необходимо выяснить, в какой
мере она утратила прежнее значение. И тут нельзя не спросить:
не приобрела ли мораль нового значения благодаря всеобщему
образованию, развитию культуры и многочисленных форм
межличностной коммуникации?*
Ницше вновь возвращается к своему отрицанию чувства
сострадания. В этом чувстве ему видится поврежденность
природы человека, его деградация вследствие дефицита воли к власти.
Сострадание-де травмирует «закон развития - закон селекции».
Эта ссылка на дарвинизм (естественный отбор), несмотря на
отрицательное отношение к этой теории, особенно симптоматична,
поскольку Ницше фактически ссылается на социал-дарвинизм -
учение, которое не имеет ничего общего с теорией Дарвина,
никогда не претендовавшего на открытие законов общественного
развития. Стоит напомнить, что в «Веселой науке» Ницше
обвиняет дарвинизм в непостижимо одностороннем понимании
борьбы за существование. «Борьба за существование есть лишь
исключение, временное ограничение воли к жизни» (1, 671).
«От всего английского дарвинизма отдает как бы удушливой
* Так, в «Веселой науке» Ницше решительно утверждает: «Не существует
никаких других переживаний, кроме моральных, даже в области чувственного
восприятия» (1, 587). На мой взгляд, такая точка зрения ограничивает
радикализм Ницше, поскольку он этим своим высказыванием придает морали
(моральным переживаниям) всеобъемлющее значение. С этой точки зрения, и любовь,
и ненависть, в сущности, представляют собой моральные переживания. Однако
Ницше, как это постоянно происходит с ним, в той же «Веселой науке» не менее
категорически заявляет: «В сущности, мне противны все морали, которые
гласят: "Не делай этого! Отрекись! Преодолей себя!"., я не люблю никаких
отрицательных добродетелей - добродетелей, сама сущность которых есть отрицание
и самоотказ» (там же, с. 640). Но если человеку противны все морали, то ему,
согласно приведенному выше афоризму, должны быть противны все, без
исключения, переживания. Но переживания, согласно другим, не менее
существенным высказываниям философа, образуют сущность, содержание жизни. Таким
образом, Ницше вступает в противоречие с самим собой и тем самым
корректирует свои разнородные высказывания, приближаясь к более правильной точке
зрения.
738
атмосферой английского перенаселения» (1, 670-671).
По-видимому, мысль о перенаселенности Англии возникла у Ницше под
влиянием идей Мальтуса и его последователей.
В предыдущих своих работах Ницше истолковывал дарвинизм
в том смысле, что в борьбе за существование побеждают не более
способные и сильные, а слабые и посредственные, поскольку они
объединяются друг с другом, между тем как сильные и способные
предпочитают объединению свое одиночество. Из этой посылки
Ницше делал вывод о необходимости всемерно, используя любые
средства, защищать сильных и способных, а также всячески
способствовать гибели слабых и посредственных. Этот вывод почти
буквально повторяется и в данной работе. «Слабые и неудачники
должны погибнуть: первое положение нашей любви к человеку.
И им должно еще помочь в этом» (2, 633).
Необходимо, утверждает Ницше, способствовать
выращиванию человека нового типа, развитие которого привело бы к
появлению на арене жизни сверхчеловека. Что же касается
существующих людей, то они вызывают презрение и отвращение. Есть,
конечно, исключения, но они чрезвычайно редки. «...Чтобы не
оставить никакого сомнения в том, что я презираю, кого я
презираю, - это теперешнего человека...» (2, 662). Человек, по
убеждению Ницше, «самое неудачное животное... Он совсем не венец
творения, каждое существо рядом с ним стоит на равной ступени
совершенства...» (2, 641).
Основная тема рассматриваемой работы - христианство.
Критика христианства превалировала среди других тем почти во всех
предыдущих работах. Дает ли что-нибудь новое эта работа?
Немногое, но достаточно важное, поскольку речь идет о
нигилизме и декадансе. Христианство является, с точки зрения Ницше,
практическим нигилизмом, так как оно отвергает все жизненные
ценности, противопоставляя им неземной мир. Ницше
ополчается против нигилизма и декаданса, но и он сам - наиболее
выдающийся представитель этого негативистского духовного движения.
К чести Ницше надо сказать, что он не отрицает этого, но,
конечно, противополагает свой нигилизм христианству. Нигилизм
Ницше непосредственно проявляется в его утверждении о
повсеместном господстве фикций: «Чисто воображаемые причины: ("Бог",
"душа", "Л", "дух", "свободная воля", - или даже "несвободная");
чисто воображаемые действия ("грех", "искупление", "милость",
"наказание", "прощение греха"). Общение с воображаемыми
существами ("Бог", "духи", "души"); воображаемая наука о природе...
воображаемая психология... воображаемая телеология... Этот мир
чистых фикций сильно отличается не в свою пользу от мира грез
24*
739
именно тем, что последний отражает действительность, тогда
как первый извращает ее, обесценивает, отрицает» (2, 641-642)*.
Приведенный пассаж наглядно выражает амбивалентность
как ницшевский способ мышления. Почему естествознанию
приписывается отсутствие понятия о естественных причинах?
Ницше не мог, конечно, не знать, что само название «естествознание»
возникло потому, что науки о природе, в отличие от схоластики
и теологии, объясняли явления природы природными, т.е.
естественными причинами.
Ницше утверждает, что фикции повсеместны. И тут же
сообщает, что сновидение, в отличие от фикции, отражает
действительность. Значит, кроме мира фикций, существует и
независимая от них действительность. Таким образом, рассогласованность,
присущая приведенным фразам, содержит по сути дела и
отрицание того, что подвергается отрицанию. Я бы не называл это
диалектикой, тем более что Ницше всячески ее поносит. Эти
противоречия, которые я именую амбивалентностью, - явления
психологические и гносеологические, характеризующие метания
субъекта познания.
Христианство, согласно Ницше, всегда вело борьбу с высшим
типом человека, с лучшими, наиболее достойными, становясь на
сторону слабых, униженных. С такой характеристикой
христианства нельзя, конечно, согласиться. Если первоначальное
христианство действительно было религией обездоленных, рабов,
то став государственной религией, оно стало выражать интересы
господствующих феодальных сословий, к которым
принадлежали и церковные иерархи.
Ницше утверждает: все священники знают, что Бога нет, но
говорят, что Бог есть. На самом деле никто из
священнослужителей не обладает знанием относительно существования или
несуществования Бога. Таким знанием, полагает Ницше, обладает он.
При этом он забывает о своей критике всякого знания, о стирании
различия между истиной и заблуждением. Атеизм Ницше, как
* Уже в ранней своей работе «Человеческое, слишком человеческое»
Ницше, возражая своему учителю Шопенгауэру, утверждал, что попытки
согласовать аллегорически истолкованные религиозные догматы с научными
воззрениями совершенно несостоятельны. Шопенгауэр, указывает Ницше,
«заблуждался относительно ценности религии для познания» (1, 301). Далее
курсивом подчеркивается: «никогда еще никакая религия ни прямо, ни косвенно,
ни догматически, ни аллегорически не содержала истины» (там же). И далее:
«...каждая религия родилась из страха и нужды и вторглась в жизнь через
заблуждения разума... В действительности же между религией и истинной наукой
не существует ни родства, ни дружбы, ни даже вражды: они живут на различных
планетах» (там же, с. 301-302).
740
и всякий атеизм, есть не знание, а вера, убеждение. Между тем
Ницше и в рассматриваемой работе третирует убеждения, любые
убеждения как сугубо враждебные истине. Это значит, что свои
собственные воззрения Ницше не считает убеждениями.
Ницше противопоставляет христианству буддизм, который
характеризуется как религия «для добрых, нежных рас,
достигших высшей степени духовности» (2, 647). Но доброта, нежность
не являются, согласно Ницше, достоинствами человека, сила
которого состоит в жестокости, злой воле, имморализме, иррелиги-
озности.
Подытоживая рассмотрение данной работы, стоит привлечь
внимание к той оценке, которую дает своему труду сам автор:
«Эта книга принадлежит немногим. Может быть, никто из этих
немногих еще и не существует. Ими могут быть те, кто понимает
моего Заратустру... Только послезавтра принадлежит мне. Иные
люди родятся posthum... Надо быть честным в интеллектуальных
вещах до жестокости, чтобы только вынести мою серьезность,
мою страсть. Надо иметь привычку жить на горах - видеть под
собою жалкую болтовню современной политики и
национального эгоизма. Надо сделаться равнодушным, никогда не
спрашивать, приносит ли истина пользу или становится роком для
личности... Новая совесть для истин, которые оставались до сих пор
немыми... Надо стать выше человечества силой, высотой души -
презрением...» (2, 632).
Несколько ниже Ницше возглашает: «Мы открыли счастье,
мы знаем путь, мы нашли выход из целых тысячелетий
лабиринта» (2, 633).
Можно понять Ницше как человека, который жаждет
признания, заслуживает признания, как, несомненно, выдающийся,
оригинальный мыслитель и блестящий литератор. Но книги его
остаются нераспроданными и в конечном счете становятся
макулатурой. Некоторые книги Ницше вынужден был издавать за
свой счет, за счет своей скромной пенсии, так как издатели
отказывались от заведомо невыгодных публикаций. Все это
можно понять, т.е. понять состояние мыслителя. Но почему он так
восхваляет свою книгу? Неужели он не осознает, что в ней нет
ни одного положения, которое не было им же высказано
раньше? Правда, в этой новой книге есть новые словесные обороты,
больше говорится о нигилизме и о декадансе. Но это не должно
обманывать автора; он ведь хорошо знает то, что он писал раньше
о христианстве, о морали, о познании, истине, убеждении. Есть,
пожалуй, один возможный ответ на все эти вопросы. Я имею в
виду болезненное состояние Ницше. Именно оно во многом
741
объясняет, почему он не осознает, что в новой работе он
повторяет свои прежние мысли, почему он так превозносит себя, вопреки
свойственному ему критическому отношению ко всем вещам, в
том числе и к собственному «Я».
Esse Homo. Как становятся самими собою
Последнее, претенциозно названное произведение Ницше
посвящено самому себе, своей интеллектуальной биографии. Она
непосредственно связывается с самооценкой своего состояния
здоровья. Ницше пишет: «... во мне есть частичное вырождение;
мой организм не поражен никакой гастрической болезнью, но
вследствие общего истощения я страдаю крайней слабостью
желудочной системы. Болезнь глаз, доводившая меня подчас до
слепоты, была не причиной, а только следствием; всякий раз как
возрастали мои жизненные силы, возвращалось ко мне в известной
степени и зрение». Ницше убежден, что организм его в сущности
здоров, крепок, а его болезненные состояния могут и должны
быть преодолены волевыми усилиями. Медицина разочаровала
Ницше. Врачи, по его убеждению, не заслуживают доверия. Надо
«не позволять себе лечиться», т.е. не надеяться на врачей. «Я сам
взял себя в руки, я сам сделал себя наново здоровым...» (2, 699).
Конечно, убеждение в том, что воля больного способна
покончить с болезнями, - явный самообман. Но к этому
убеждению приводит Ницше не только страстное желание восстановить
здоровье, но и волюнтаристическая философия Шопенгауэра,
согласно которой всё в человеческой жизни посильно воле. Поэтому
Ницше заявляет: «... я сделал из моей воли к здоровью, к жизни,
мою философию... я перестал быть пессимистом» (2, 700).
На протяжении всех лет своей творческой жизни Ницше
постоянно колеблется между оптимизмом и пессимизмом.
Пессимизм Шопенгауэра не привлекает Ницше даже в годы его почти
безоговорочного увлечения учением этого философа. Тем не
менее он многие годы остается пессимистом, убеждая себя в том,
что это «пессимизм силы». О своих ранних трудах «Странник и
его тень. Несвоевременные размышления» Ницше пишет: «В них
говорит пессимист, который много раз выходил из себя, но всегда
вновь приходил в себя, стало быть пессимист, расположенный к
пессимизму, т.е. во всяком случае уже не романтик»117.
Романтический пессимизм Ницше решительно осуждает как ложное умона-
117 Ницше Ф. Утренняя заря. Переоценка всех ценностей. Веселая наука.
М, 2008. С. 320.
742
строение, в котором находит свое выражение дефицит
жизненных сил.
В другой ранней работе - «Человеческое, слишком
человеческое» - пессимизм осуждается как «неизлечимый недуг старых
идеалистов и лгунов» (1, 236). Однако в этой же работе Ницше,
на мой взгляд, становится на верный путь; он вообще
отказывается от воззрений, именуемых не только
пессимистическими, но и оптимистическими. И то, и другое мировосприятие в
принципе несостоятельно. «Долой изношенные до скуки слова
"оптимизм" и "пессимизм"! Со дня на день уменьшается повод
употреблять их; лишь болтуны нынче все еще не могут обойтись
без них» (1, 257). Действительно, пессимизм и оптимизм имеют
смысл лишь в оценке отдельных событий человеческой жизни,
истории человечества, но совершенно несостоятельны как
мировоззрения. Ницше вполне осознает их мировоззренческую
несостоятельность. Он выше этих мнимых мировоззрений. Этому
научила его болезнь. «Только болезнь привела меня к разуму»
(2, 712). Понятие разума здесь, конечно, трактуется
положительно, без каких-либо оговорок.
Содержание этой последней книги Ницше образует, прежде
всего, оценка собственного интеллектуального творчества и его
основных произведений. Свою главную задачу он видел в том,
чтобы «улучшить человечество». В связи с этим он считал
необходимым подчеркнуть «несоответствие между величием моей
задачи и ничтожеством моих современников». Средство, с
помощью которого должна быть решена эта великая задача,
Ницше видел в радикальном отрицании: «Я не создаю новых идолов;
пусть научатся у древних, во что обходятся глиняные ноги. Мое
ремесло скорее - низвергать идолов - так называю я "идеалы"»
(2, 694). Слово «идеал» почему-то дано в кавычках. Должно быть,
поэтому Ницше, вопреки своему отрицанию идеалов,
оговаривается: «Я не отвергаю идеалов, я только надеваю в их присутствии
перчатки» (2, 695). Это двойственное отношение к идеалам (и не
только к ним) непосредственно выражает амбивалентность,
возведенную в принцип, способ мышления.
Свою программу, как и в прошлом, Ницше именует
переоценкой ценностей. «Переоценка всех ценностей - вот моя
формула для наивысшего самосознания человечества, которая
стала во мне плотью и кровью»118. Дополняя этот тезис,
сформулированный в подготовительных работах, Ницше провозглашает:
«Для задачи переоценки ценностей потребовалось бы, пожалуй,
Ницше Ф. Поли. собр. соч. Т. 13. С. 575.
743
больше способностей, чем когда-либо соединялось в одном
лице...» (2, 719).
Провозглашенная программа, как ее понимает Ницше, не
предполагает противопоставления низвергаемым ценностям
новых ценностей. Смысл этой формулы в другом, в тотальном
отрицании всех наличных ценностей, в отрицании самого понятия
«ценность». Ницше ополчается против нигилизма, но его
тотальное отрицание ценностей есть не что иное как нигилизм. К чести
Ницше надо отнести то, что он этого не отрицает.
Ницше подвергает беспощадной критике decadents (это
французское слово он, по-видимому, считает непереводимым на
немецкий язык). Все ученые, утверждает он, декаденты. В чем
проявляется эта приписываемая ученым особенность, Ницше
не разъясняет. По-видимому, он считает их декадентами потому,
что мир, который, по его учению, есть всего лишь видимость,
для них - настоящая, подлинная реальность, а не какая-нибудь
видимость, представление, иллюзия и т.п. По словам Ницше,
«décadents нуждаются во лжи - она составляет одно из условий
их существования» (2, 730). Однако в ранних работах Ницше
утверждал, что ложь необходима всем без исключения людям; без
нее вообще невозможна жизнь. Нельзя сказать, что теперь Ницше
по-новому трактует ложь. Он по-прежнему противопоставляет ее
истине, в то время как ученые противопоставляют истину лжи.
Критика decadents сопровождается искренним признанием
автора: «Если исключить, что я décadent, я еще и его
противоположность» (2, 699). Быть приверженцем чего-либо и противником
того же, что может быть более амбивалентным? Остается
поэтому неясным, что представляет собой это соединение
противоположностей. Не ясно и то, в каком смысле Ницше признает себя
декадентом. Декадентство ученых для него неприемлемо.
Ницше восторженно (другого слова не подберешь)
характеризует свои произведения. Его «Заратустра» - «величайший дар»
человечеству. «Утренней зарей», по словам ее автора,
«начинается мой поход против морали». В том же духе характеризуются,
вернее восхваляются, и другие книги Ницше. Походя, вместе с
панегириками самому себе, Ницше формулирует риторические
вопросы: почему я так мудр? почему я так умен? почему я пишу
такие хорошие книги?
Комментаторы «Esse homo» нередко говорят о «шокирующей
мегаломании» Ницше. Речь идет о mania grandiosa, которая сплошь
и рядом присуща психически больным людям. «Esse homo» была
написана незадолго до того, как Ницше сошел с ума. Но mania
grandiosa наличествует и в самом начале его творческого пути.
744
Известный немецкий историк Трейчке, ознакомившись с
«Несвоевременными размышлениями» Ницше, писал его другу Овербеку:
«Какое громадное несчастье для тебя, что ты встретил этого
Ницше, этого помешанного, навязывающего нам свои
"несвоевременные размышления", в то время как он сам пропитан до мозга
костей самым ужасным из всех пороков - манией величия»119.
Можно, конечно, упрекнуть Трейчке в том, что он не заметил
в указанной работе Ницше ничего интересного, заслуживающего
внимания ученого. Однако не исключено также и то, что именно
мания величия Ницше отбила у этого читателя его книги всякую
охоту поглубже вникнуть в ее содержание.
Кроме чрезвычайно высокой оценки своих работ, Ницше
в этой книге кратко излагает свои основные идеи. Он вновь
осуждает сострадание, утверждая, что его подоплекой
является себялюбие. Правда, его отношение к эгоизму существенно
изменяется. Если раньше он восхвалял эгоизм как естественное
выражение самодостаточности личности, то теперь он
утверждает, что противоположность между эгоизмом и неэгоизмом
носит мнимый характер. Более того: «Нет ни эгоистических, ни
неэгоистических поступков: оба понятия суть психологическая
бессмыслица» (2, 726).
Ницше в особенности настаивает на своем приоритете во
всех философских (и не только философских) вопросах. Он-де
первый имморалист. Сознание этого наполняет его гордостью.
Он-де первый постиг «чудесный феномен дионисического». До
него не было никакой психологии. Действительной психологией,
как наукой, которая в его время достигла определенных успехов,
Ницше, судя по его трудам, совершенно не интересовался. То, что
он называл психологией, представляло собой весьма общие
суждения о человеческой жизни, о присущих человеку склонностях,
о добре и зле и т.д.
Утверждения о приоритете во всех (или почти во всех)
«открытиях» приводят Ницше к отрицанию философии
Шопенгауэра. «Трагедия и есть доказательство, что греки не были
пессимистами», - возражает Ницше своему учителю. И тут же делает
весьма общий вывод: «Шопенгауэр ошибся здесь, как он
ошибался во всем» (2, 728-729).
Как и во всех прежних работах, Ницше подвергает
христианство беспощадной критике, которую он уподобляет молнии,
поразившей то, что стояло выше всего, всё, что считалось истиной,
но на деле было самой коварной, самой вредной формой лжи.
119 См. Галеви Д. Фридрих Ницше. С. 137.
745
При этом он подчеркивает, что не собирается стать основателем
новой религии. Религия существует «для черни»*. Ницшевский
аристократизм несовместим с религиозным (массовым)
сознанием. И кроме того, Ницше не хочет быть святым, лучше быть
шутом. «Может быть, я и есмь шут... И не смотря на это или, скорее,
несмотря на это - ибо до сих пор не было ничего более лживого,
чем святые, - устами моими глаголет истина. - Но моя истина
ужасна: ибо до сих пор ложь называлась истиной» (2, 762). Как
и в предыдущих произведениях, Ницше утверждает, что понятия
«Бог», «душа», «дух», «бессмертие» являются выдумками,
которые противопоставляются жизни, человеческому телу, т.е.
реальности, презираемой христианством. При этом он как бы забывает
о том, что сам применяет такие понятия, как «душа», «дух», для
характеристики человеческой жизни. А то обстоятельство, что
учение о вечном возвращении есть, в сущности, допущение
бессмертия и, по всей вероятности, также переживание страха
смерти, нисколько не учитывается философом.
Произведения Ницше свидетельствуют о том, что он
несмотря на высочайшую оценку своих способностей и идей, с
глубоким уважением относится к Гёте, Шекспиру, Байрону, Гейне,
Достоевскому и другим великим творцам духовной культуры. «Esse
homo» отличается в этом отношении от всех предшествующих
ницшевскх сочинений. Достаточно вновь процитировать такой,
например, фрагмент: «Какой-нибудь Гёте, какой-нибудь Шекспир
ни минуты не могли бы дышать в этой атмосфере чудовищной
страсти и высоты, Данте в сравнении с Заратустрой есть только
верующий, а не тот, кто создает впервые истину...» (2, 749).
«Атмосфера чудовищной страсти и высоты» - образное
выражение величия, достигнутого Ницше благодаря своей
гениальности, совершенно особенной гениальности, превосходящей все
когда-либо существовавшие на земле гениальности. Само собой
разумеется, что каждую гениальность отличает великая
индивидуальность. Гёте весьма и весьма отличается от Шекспира,
а последний от Байрона и т.д. Однако Ницше претендует на
совершенно особое, ни с чем несравнимое положение среди
гениев. Именно это особенное, я бы сказал чрезвычайное, сознание
* Л.Н. Митрохин справедливо указывает: «В глазах верующего человека
вера в Бога затрагивает какие-то глубоко интимные, сугубо индивидуальные
переживания и не сводится к формулировкам церкви, а тем более ее оппонентов.
Для него религия - не просто совокупность отдельных элементов, поддающихся
рациональному обобщению; это, прежде всего, личное, внутреннее
переживание Бога, в котором эти элементы только и обретают свой специфический
"религиозный" (то есть со светским не совпадающий) смысл» (Мои философские
собеседники. М., 2005, с. 598).
746
позволяет ему, например, утверждать: «Мой жребий хочет, чтобы
я был первым приличным человеком... Я первый открыл
истину через то, что я первый ощутил - вынюхал - ложь как ложь...
Мой гений в моих ноздрях... Я противоречу, как никогда никто
не противоречил, и, несмотря на это, я противоположность
отрицающего духа. Я благостный вестник, какого никогда не было, я
знаю задачи такой высоты, для которой до сих пор недоставало
понятий... Только с меня начинается на земле большая политика»
(2, 763).
Следует учесть, что эти заявления сделаны Ницше незадолго
до того, как он впал в безумие. Очевидно, и в непосредственно
предшествующие этому роковому событию месяцы Ницше уже
был психически больным человеком. Только этим можно
объяснить, например, такое явное неискреннее «признание»: «Почему
я никогда не мучился от "непризнанности", от того, что меня не
читали»120. В действительности Ницше весьма болезненно
переживал то, что его не признавали, не покупали его книг. Это
переживание усугублялось еще и тем, что его первая книга «Рождение
трагедии из духа музыки» отнюдь не оказалось незамеченным:
о ней писали, с ее автором спорили. Его критический очерк о
Д. Штраусе также вызвал отклики, возражения, короче говоря,
сделал на некоторое время известным его автора. Однако все
последующие публикации Ницше, даже те, которые он считал
важнейшими - «Так говорил Заратустра», «По ту сторону добра и
зла», - остались незамеченными читателями и профессионалами
философами, незамеченными почти до конца 80-х годов. Один из
самых близких друзей Ницше П. Дейссен писал по этому поводу:
«Главной причиной угнетенного состояния, в котором я нашел
своего друга в Сильс-Мариа, помимо состояния его здоровья,
было то, что его гениальные, печатавшиеся ежегодно труды не
встречали никакого сочувствия в публике. Он с трудом находил
издательства для своих книг»121.
К сожалению, не только приведенное высказывание Ницше
вызывает сомнение в его искренности. Вот еще одно, не менее
поразительное: «Весь секрет моей жизни в скромности: в воле,
в способности умаляться»*22. То обстоятельство, что эта фраза
осталась в «Черновиках и набросках», т.е. не попала в
опубликованную при жизни работу, ничего, по существу, не меняет, так
как суть дела в данном случае состоит в том, что Ницше, никогда
120 Ницше Ф. Полное собр. соч.Т. 13. С. 537.
121 Дейссен П. Воспоминания о Ницше. СПб., 1902. С. 188.
122 Ницше Ф. Поли. собр. соч. Т. 13. С. 536.
747
не сомневавшийся в безусловной ценности правдивости, говорит
неправду самому себе.
Наконец, последнее аналогичное признание: «... всякий, кто
меня знает, считает меня скромным»123.
Последнее произведение Ницше «Esse homo» было написано
незадолго до того, как Ницше впал в безумие. Естественно поэтому,
что некоторые исследователи склонны утверждать, что содержание
этой работы в немалой степени определяется близким к
помешательству состоянием автора. На мой взгляд, для такого вывода нет
достаточных оснований, так как эта работа Ницше в принципе мало
отличается от предшествующих. Я, скорее, согласился бы с В.
Полорогой, который писал: «Если верно, что Ницше, анализируемый
на уровне клинических свидетельств, был охвачен безумием к
концу 80-х годов, то можно удивляться силе его духа, которая не дала
реальному безумию никакого шанса, чтобы вторгнуться и завладеть
тем, ради чего он жил и страдал: произведением»124.
Подводя итоги критическому анализу учения Ницше, нельзя
не отметить, что его последние работы - «К генеалогии морали»,
«Сумерки кумиров», «Анти-Христ», «Esse homo» -
представляют собой, по существу, повторный пересказ ранее высказанных
идей, пересказ, свидетельствующий о том, что философ уже не в
состоянии развивать новые положения, а повторяя самого себя, он
оказывается в состоянии кризиса. Кризиса собственного учения.
Об этом убедительно писал Джорджо Колли. Указывая на
произведения Ницше 1887-1888 гг., он отмечает, что эти работы
«позволяют нам увидеть человека полностью одинокого, угнетенного
тем, что не может вырваться за пределы самоповторов,
колеблющегося в выборе пути, обладающего лишь весьма небольшим
снаряжением, запутавшегося в сетях собственной аргументации.
Ницше и впрямь зашел в тупик: ведь ему не удалось уйти от
затасканных общезначимых понятий "наука", "искусство",
"философия", "декаденс", "мораль" и т.п. по рациональному пути - ни
к новым дистинкциям, ни к чистоте логических категорий»125*.
123 Ницше Ф. Поли. собр. соч. Т. 13. С. 575.
124 Подорога В. Выражение и смысл. М., 1995. С. 118.
125 Колли Д. Послесловие // Ницше Ф. Поли. собр. соч. Т. 13. С. 599.
* В дополнение к критическим замечаниям Д. Колли стоит сослаться на
другого исследователя творчества Ницше Э. Блонделя, который пришел к
следующему заключению: «...можно утверждать, что тексты Ницше в
значительной мере не являются текстами, собственно говоря, "самого Ницше", но, скорее,
текстами из Библии, из Гёте, из Канта, из Гёльдерлина, из Моцарта-Шиканера,
из Новалиса, из Шиллера, из Вагнера, из Мёрике и т.д.» (Blonde! Е. Nietsche. Le
corps et la culture. Paris, 1980, p. 31). Блондель, конечно, преувеличивает, очень
преувеличивает, но речь идет о фактах, которые действительно имеют место.
748
Эти слова принадлежат известному знатоку сочинений Ницше,
а также издателю собрания его работ, ученому, который весьма
высоко оценивает учение Ницше и его роль в духовной культуре
нашего времени. И его критика Ницше ни в малейшей степени
не ставит под сомнение эту роль. То же, конечно, относится ко
всем критическим замечаниям, высказанным мною в этой
монографии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Философские учения, которые были предметом критического
рассмотрения в этой работе, носили главным образом
идеалистический характер. Единственное исключение -
материалистическое понимание истории, но оно непосредственно не связано с
традиционной материалистической тематикой - учением о
природе. Естественно возникает вопрос: является ли философский
материализм также амбивалентным учением? Для ответа на сей
вопрос целесообразно вкратце коснуться французского
материализма XVIII века.
«Система природы» П. Гольбаха - важнейшее, на мой взгляд,
произведение этого философского направления. Недаром эту
двухтомную монографию прозвали «библией материализма».
Гольбах, вслед за Дж. Толандом, обосновывает принцип
самодвижения материи, исключающий любые допущения независимого
от материи источника движения. Движение, утверждает он, есть
форма существования материи. И «...если материя
существовала всегда, то она всегда обладала и движением... в этом-то и
заключается постоянство и жизнь природы, которая в целом всегда
неизменна»1. Из этого положения Гольбах делает атеистические
выводы, подвергая в связи с этим критике не только идеалиста
Мальбранша, но и гениального физика Ньютона, который считал
причиной открытых им закономерностей природы божественное
преду становление, промысел.
Атеист Гольбах, естественно, отвергает с порога телеологию.
У природы «... нет ни разума, ни цели; она действует в силу
необходимости»2. Сила необходимости заключается в том, что нет
причины без следствия и действия без причины. Цепь причинно-
следственных связей всеобща и нерушима.
1 Гольбах П. Избр. произведения в двух томах. М., 1963. С. 461.
2 Там же. С. 493.
750
Отрицая целесообразность, присущую определенным вещам
и отношениям, живым организмам прежде всего, нельзя
уклониться от объяснения того, почему эти явления природы столь
«удачно» устроены. И Гольбах ставит на место всемогущего Бога
всемогущую природу. «Природе нетрудно произвести великого
поэта, способного создать изумительное произведение»3. Таким
образом, не только целесообразность, присущая живым
существам, но и ее высшее, исключительное проявление объясняется,
согласно Гольбаху, внутренне присущей материи
необходимостью, исключающей какую бы то ни было случайность
(последняя объявлена лишенным смысла словом).
Необходимость абсолютизируется несмотря на то, что цепь
причинно-следственных связей включает в себя и самые
незначительные природные явления. Строго говоря, в этой цепи,
образующей необходимость, самое незначительное явление столь же
существенно, сколь и самое значительное: в ней нет и не может
быть слабых звеньев. Именно поэтому необходимость
незыблема, неприступна, неизбежна, короче говоря, абсолютна.
«Фатальность - это вечный, незыблемый, необходимый, установленный
в природе порядок...»4. Термин «порядок», естественно, наводит
мысль на отношение целесообразности. Примеров
целесообразного устройства вещей, как созданных людьми, так и
существующих в природе - великое множество. Гольбах, конечно, это
вполне учитывает. Поэтому он категорически заявляет, что движение
материи «... породило в умах представление о порядке». Данные
опыта привели также к представлению о беспорядке. Однако
«...в действительности ни то, ни другое не существует в
природе». То, что «...мы называем порядком и беспорядком,
существует лишь в нашем уме...», «как все абстрактные метафизические
идеи, эти понятия не предполагают ничего реального вне нас»5.
Итак, слово «порядок», которое, так сказать, по недосмотру
попало в определение понятия необходимости, должно быть
исключено из философского лексикона. Но там, где нет порядка,
наличествует беспорядок. Так говорит логика. Но философия
Гольбаха отвергает этот вывод. То, что существует, не есть ни
порядок, ни беспорядок. Такова необходимость. Однако
проблема все-таки остается, и философ не может ее просто отбросить.
И Гольбах вновь и вновь возвращается к казалось бы уже
решенному вопросу. Если отрицание порядка понималось как
отрицание сверхъестественного, то пристальный взгляд на явления
3 Там же. С. 489.
4 Там же. С. 237.
5 Там же. С. 103-104.
751
природы обнаруживает в них определенную упорядоченность.
Можно, конечно, подыскать подходящий синоним к слову
«порядок». Но философ не хочет идти на терминологические
ухищрения. Он стремится быть верным наблюдаемым фактам,
которые вынуждают его признать: «Какое-либо существо находится
в порядке, когда все его движения содействуют поддержанию
его наличного существования... Оно находится в беспорядке,
когда действующие на него причины нарушают или разрушают
гармонию, или равновесие, необходимые для сохранения его
наличного состояния»6. То обстоятельство, что это положение
противоречит предшествующему высказыванию, не смущает
философа, который видит свою задачу в том, чтобы описывать
явления природы во всей им присущей разносторонности и
полноте. Поэтому амбивалентность высказываний Гольбаха о
порядке и беспорядке оказывается более правильным описанием
явлений, чем та, в сущности, односторонняя их характеристика,
которая сначала давалась.
Абсолютизация необходимости влечет за собой отрицание
свободы воли. Отрицается не только схоластическая
концепция свободы воли как действия, независимого от мотивов, но и
принципиально отличное от нее понимание свободного волевого
акта, как обусловленного мотивами и, следовательно, лишь
ограниченно свободного. Но поскольку обусловленность волевых
актов истолковывается как их предопределенность абсолютной
необходимостью, свобода воли, свобода выбора, прежде всего,
нацело отрицается. Человек, с этой точки зрения, бессилен
перед лицом необходимости. «Чтобы быть свободным, он должен
стать сильнее природного целого или оказаться вне природы...»7.
И первое, и второе, разумеется, невозможно. Тем не менее,
приходится считаться с тем, что человеку постоянно приходится
делать тот или иной выбор, например, за завтраком, за обедом и т.д.
Как же это возможно, если необходимость не может быть
обойдена? Гольбах отвечает: «Выбор нисколько не доказывает
свободы воли... Выбор человека совершается необходимо... сама
воля приводится в действие причинами, независимыми от
нас»8.
Отрицание свободы воли отнюдь не означает, по учению
Гольбаха, отрицания человеческой свободы. Свобода внутренне
присуща природе человека. Именно свобода отличает человека от
животного. «Свобода - это возможность делать ради своего соб-
6 Там же. С. 108.
7 Там же. С. 209.
8 Там же. С. 216-217.
752
ственного счастья все то, что не вредит счастью других членов
общества»9. Конечно, понятие возможности плохо согласуется с
абсолютной необходимостью, исключающей любую
альтернативу. Но Гольбаха интересуют не абстрактные понятия, категории, а
факты, которые более или менее известны каждому индивидууму.
Человек заключает в самом себе многие причины своих действий.
К ним прежде всего относятся ощущения, которые становятся
мотивами, определяющими человеческие поступки. Индивидуум
может желать или не желать того или другого. «Желать - значит
соглашаться или не соглашаться оставаться тем, чем мы
являемся. Быть свободным - значит уступать необходимым мотивам,
которые мы носим в самих себе»10. А вот и другое высказывание,
которое полностью обрисовывает амбивалентность гольбаховского
понимания свободы: «Для человека свобода есть не что иное, как
заключающаяся в нем самом необходимость»11. Это
отождествление свободы с необходимостью во многом приближается к стои-
цистскому пониманию свободы как осознанной необходимости.
Наряду с категорией свободы основным понятием в учении
Гольбаха об обществе является понятие счастья. Речь идет не
просто о благополучии, благоденствии; счастье - это
наслаждение жизнью. «Природа производит счастливых людей...
Счастливо родиться - значит получить от природы здоровое тело, точно
функционирующие органы... Счастье человека всегда
заключается в соответствии его желаний окружающей его обстановке...
Польза есть не что иное как счастье...»12.
Гольбах не утверждает, что счастье - необходимость, так
как необходимость неодолима, обязательно определяет всё и
вся. Этого, конечно, не скажешь о счастье. Но всё дело в том,
что люди «не могут жить без счастья; счастье невозможно там
где нет свободы; свобода возможна только там, где соблюдаются
законы»13. Но из этого тезиса вытекает, что люди сплошь и рядом
лишены счастья, так как законы, без соблюдения которых
невозможна свобода, фактически не соблюдаются. Это вина не только
граждан, но и власть предержащих. «Верховная власть подавляет
людей, заставляет их пресмыкаться и погрязать в пороке. Закон
наказывает лишь мелкие преступления и не может справиться с
пороками, порождаемыми самим правительством злоупотребле-
9 Там же. С. 173.
10 Гольбах П. Избр. произведения. Т. 1. С. 236.
11 Там же. С. 237.
12 Там же. С. 331,328, 332.
13 Гольбах П. Избр. произведения. Т. 2. С. 447-448.
753
ниями»14. Следовательно, люди обычно живут, а значит и могут
жить без счастья, вернее, они вынуждены жить без него.
Таким образом, оказывается, что счастье отнюдь не
обусловлено всемогущей необходимостью. Оно представляет собой,
главным образом, цель, к которой стремится каждый человек.
Счастье - самое мощное из всех желаний. Поэтому право на
счастье объявляется основным гражданским правом члена общества.
Следовательно, «... каждый гражданин вправе требовать, чтобы
общество сделало его более счастливым, чем если бы он жил в
одиночестве»15.
Само собой разумеется, что не всякое общество (и, конечно,
не всякое правительство) способно обеспечить гражданам
счастье. Гольбах не задумывается о том, что обеспечение счастья
вообще не может быть делом какой-либо внешней силы или
стороны. Счастье в отличие от благоденствия - дело субъективное.
Общество, правительство может, при известных условиях,
способствовать благоденствию граждан, но делать их счастливыми
не в его силах и, конечно, не входит в его обязанности. Впрочем,
суть дела не только в этом. Ведь все существующее находится во
власти абсолютной необходимости. Именно она, а не общество,
не правительство, не члены общества предопределяет, кому быть
свободным и счастливым. «Наша жизнь, - утверждает Гольбах
вопреки своему оптимизму, - это линия, которую мы должны по
повелению природы описать на поверхности земного шара, не
имея возможности удалиться от нее ни на один момент. Мы
рождены помимо нашего согласия, наша организация не зависит от
нас, наши идеи появляются у нас непроизвольным образом, наши
привычки зависят от тех, кто сообщает их нам... Мы
чувствуем себя хорошо или плохо, мы счастливы или несчастны,
рассудительны или безрассудны, разумны или неразумны вне всякой
зависимости от нашей воли»16. После такого заявления все
предшествующие высказывания философа о том, что человек
рождается свободным, что счастье - вполне достижимое индивидуумом
состояние, соответствующее его человеческой природе, должны
быть не только поставлены под вопрос, но и просто отметены. Но
Гольбах не отказывается ни от одного из этих своих положений,
составляющих основное содержание его учения.
Амбивалентность этого учения позволяет ему примиряться с
противоречиями, признавать рассогласованность собственных высказываний
нормальным состоянием.
14 Гольбах П. Избр. произведения. Т. 1. С. 234.
15 Гольбах П. Избр. произведения. Т. 2. С. 30.
16 Там же. С. 208-209.
754
Подводя итоги краткому анализу философии Гольбаха,
нельзя не придти к выводу, что каждый обосновываемый им тезис
обязательно находит свое дополнение в его явном или неявном
отрицании. И лишь благодаря этой амбивалентности основные
философские положения его учения становятся все более
содержательными, поскольку тем самым в известной мере
преодолевается их однозначность, чрезмерная категоричность, неполнота,
односторонность, абсолютизация. Даже абсолютизация
необходимости в какой-то мере преодолевается, поскольку она, по
Гольбаху, во многом определяется внутренне присущими
человеческому организму состояниями, нашими ощущениями и мыслями,
которые, как причины, играют определяющую роль. Само собой
разумеется, что это относится лишь к необходимой
обусловленности человеческих действий, а не к законам природы,
могущество которых неодолимо. Гольбах, следовательно, признает два
типа необходимости. И это, конечно, ограничивает ее
абсолютизацию.
Таким образом, противоречивость основных положений
философского учения Гольбаха - плодотворна. Всё то, что при
поверхностно-критическом взгляде на это учение представляется
лишь непоследовательностью мышления, недостаточной
логической связностью, оказывается при более основательном анализе
этого учения его несомненным достоинством.
Чтобы лучше представить себе впечатляющую
амбивалентность французского материализма, стоит хотя бы вкратце
остановиться на воззрениях другого его представителя - Ж.О. Ламет-
ри. В одной из своих основных работ - «Человек-машина» - он
прямо утверждает, что все люди - машины. Речь идет не об
аналогии, а о тождестве, не исключающем, правда, и различия. При
этом, конечно, имеется в виду наиболее сложная машина,
образцом которой служат часы. Ламетри утверждает: «Я не ошибусь,
утверждая, что человеческое тело представляет собой часовой
механизм, но огромных размеров и построенный с таким
искусством и изощренностью...»17. Но это, оговаривается философ, не
просто часы, а самозаводящиеся часы, т.е. нечто все же
отличное от часов. Он мог бы также присовокупить, что родителями
«часов» являются также «часы», что каждые «часы» существуют
сначала как младенцы, но постепенно взрослеют и тоже
участвуют в производстве «часов». Они, наконец, стареют и
умирают. Но всё это - подробности. Главное, о чем говорит Ламетри,
состоит в том, что машину, любую машину создает ее творец,
17 Ламетри Ж.О. Сочинения. М., 1976. С. 237.
755
искуснейший мастер, который создал первые часы. Этот мастер
не может быть человеком, который сам является машиной, и
значит должен быть созданным творцом, не машиной. Кто же
смастерил эти первые совершеннейшие часы? Ламетри
указывает на природу: «Ее могущество одинаково проявляется в
создании как самого ничтожного насекомого, так и самого гордого
человека...»18. Но у природы, по словам того же Ламетри, нет
интеллекта. Между тем создать столь совершенные «часы» может
только мастер, обладающий в высшей степени развитым
интеллектом. Получается, таким образом, что несомненно
материалистическое основоположение подсказывает... теологический
вывод. Ламетри, правда, атеист, но это обстоятельство лишь
усугубляет амбивалентность его основоположения. Сознавая
противоречие, которым чревато материалистическое
представление о человеке как машине, Ламетри, не отказываясь от него,
все же считает необходимым хотя бы частичный пересмотр.
В работе «Животные больше, чем машины» он приписывает всем
живым существам отличную от тела (материи) душу, которой,
разумеется, нет у машины, даже самой совершенной. «Душа
настолько отлична от тела, что ее прекрасно можно изолировать и
отделить от телесных частей»19. Ламетри не поясняет, как
можно совершить подобную операцию. Но он всячески стремится
обосновать свое убеждение в том, что душа независима от тела,
хотя и связана с телесным органом - мозгом. «Душа не прича-
стна ни к чему свойственному телу; тело не имеет отношения
к сущности души; они нигде не соприкасаются»20. Эта, ведущая
к дуализму точка зрения, объясняет, с точки зрения Ламетри,
почему живые существа и, прежде всего, конечно, человек, -
больше, чем машина.
Независимость духовных способностей человека от его
телесной организации Ламетри считает наиболее очевидной, если
рассматривать волю. Он, конечно, считает волю способностью
высокоорганизованного биологического организма, т.е. не
ставит вопроса о социальной природе человека. Поэтому воля в его
представлении выступает как нечто превосходящее телесные
способности. «Признаем за волей такую власть, которой не
может обладать мозг». Воля «совершенно отлична от того
внутреннего органа, в котором она обитает... вот новое доказательство
духовной половины нашего существа; мне оно кажется настолько
18 Там же. С. 242.
19 Там же. С. 426.
20 Там же. С. 449.
756
бесспорным, что я бросаю вызов всем материалистам - пусть они
возразят мне»21.
Таким образом, Ламетри и признает, и вместе с тем отрицает
свое основоположение: человек (и все живые существа) -
машины. Подчеркивая духовные способности человека, их
независимость от тела (а тело и есть машина), он, разумеется, вступает в
конфликт со своим основным убеждением. Эта амбивалентность
усугубляется неизбежным вопросом о создателе первых «часов».
Конечно, на этот вопрос можно было ответить на путях теории
развития, изучением диалектики этого процесса, но это
превосходит возможности материалистической философии XVIII века,
сформировавшейся под непосредственным влиянием
классической механики и воспринявшей вместе с ее достижениями и ее
историческую ограниченность.
Чтобы действительно подытожить проведенное
исследование, недостаточно выявить амбивалентность не только
идеалистической, но и материалистической философии. Необходимо
нечто большее. Необходимо вскрыть несостоятельность
довольно распространенного отрицания философии, ссылающегося на
присущую ей амбивалентность. Такого рода отрицание возникло
уже в эпоху становления философии; оно нашло свое отражение
в учении скептиков, которые утверждали, что философия в
принципе несостоятельна, так как все философы не согласны друг с
другом, т.е. каждый обосновывает свои воззрения,
несовместимые со взглядами других философов. Ни одному из скептиков
ни в древности, ни в новое время не пришло в голову задаться
вопросом: если каждый философ излагает собственную и притом
достаточно содержательную теорию, то это, скорее,
свидетельствует о состоятельности философии, ее несомненном идейном
богатстве, чем о ее никчемности.
В XX веке философский скептицизм существует не столько
как самостоятельное самобытное направление, сколько как
отпрыск, ответвление различных видов позитивистского
философствования, начиная от «Венского кружка», заклеймившего
философские проблемы как псевдопроблемы, и кончая британской
аналитической философией, согласно которой философские
проблемы возникают вследствие помрачения разума то ли
лексиконом науки, то ли словарем повседневного языка. Именно на этой
сциентистской неопозитивистской почве и выросла монография
21 Там же. С. 447.
757
Жанны Эрш (Hersch), профессора Женевского университета.
Я имею в виду ее книгу «Философская иллюзия», основное
содержание которой сводится к утверждению, что само существование
философии возможно только благодаря иллюзии. Эта иллюзия -
убеждение, что существуют философские проблемы как нечто
отличное от проблем науки или проблем теологии. Иллюзорно
убеждение, что философское исследование является
действительно исследованием в научном смысле этого слова. Ж. Эрш
считала необходимым развеять эти иллюзии и тем самым
доказать невозможность существования философии, несмотря на то,
что она все-таки существует. Суть дела в том, что, по убеждению
Ж. Эрш, многообразие философских учений и, следовательно,
амбивалентность философии есть не что иное, как нонсенс,
абсурдная ситуация, которая лишает всякого оправдания
существование философии. «Я выдвину следующий тезис: мы не можем
более надеяться построить философское здание, сопоставимое
со зданием науки... Я попытаюсь доказать, что философия,
далекая от того, чтобы приблизиться к научному идеалу... приходит
к прогрессирующей деструкции своих проблем и даже к
возможности их ставить»22.
Мысль о деградации философии, разумеется, не нова. Не
касаясь скептиков, о которых шла уже речь, достаточно сослаться
на О. Конта, согласно которому духовное развитие
человечества прошло две, относящиеся к прошлому эпохи: эпоху теологии
и эпоху метафизики (т.е. философии, по определению Конта) и
вступило в последнюю высшую эпоху, которая характеризуется
духовным господством науки, покончившей навсегда как с
теологией, так и с метафизикой.
Ф. Ницше утверждал, что вершиной философии были
древнегреческие мыслители-досократики. Уже Сократ, с его точки
зрения, знаменует начало деградации философии. Точку зрения
Ницше развивал М. Хайдеггер. В статье «Конец философии и
задачи мышления» он утверждает, что все философские учения,
возникшие после древнегреческой философии, являются в
сущности лишь вариациями на темы платонизма. В статье «К вопросу
о мышлении» эта мысль конкретизируется: «В ходе всей истории
философии мышление Платона сохраняет в своих превращенных
формах значение эталона. Метафизика есть платонизм. Ницше
характеризует свою философию как перевернутый платонизм.
Философия достигла предела своих возможностей после того, как
перевертывание метафизики было осуществлено Карлом Марксом.
Hersch J. Illusion philosophique. Paris, 1936. P. 11-12.
758
Философия приходит к своему концу. Поскольку, однако,
философское мышление не оставляет своих попыток, оно достигает
лишь эпигонских ренессансов и их разновидностей»23.
Возвращаясь к монографии Ж. Эрш, можно отметить, что ее
концепция философии отличается от хайдеггеровской, поскольку
она непосредственно связывает предполагаемую кончину
философии с исчезновением иллюзии, без которой, как она убеждена,
философия не может существовать. Это значит, что
фундаментальным основанием философии в течение более чем двухтыся-
челетнего существования философии была лишь иллюзия. Вывод,
конечно, очень смелый, но, к счастью, неосновательный.
Подытоживая свое исследование, Ж. Эрш утверждает: «Одно
представляется теперь невозможным: заниматься философией. Иллюзия,
которая ей жизненно необходима, иллюзия, позволяющая верить,
что она исследует и открывает аподиктические истины,
сопоставимые с теми, которые наличествуют в науке, разрушена.
Философия знает: то, что она на самом деле исследует, не есть то, о чем
она говорит, как и то, что она стремится доказать. Ее последний
объект есть ее иллюзия»24. Философия разрушает этот объект, т.е.
доказывает, что иллюзия есть только иллюзия и ничего больше.
В силу этого философия, как утверждает Ж. Эрш, упраздняет
свое существование.
После выхода в свет рассматриваемой книги прошло три
четверти века. За это время на философской арене появилось немало
выдающихся мыслителей и весьма содержательных философских
теорий, существенно обогащающих аквизит философии. Всё это,
несомненно, свидетельствует о позитивном, прогрессивном
характере амбивалентности философии.
23 Heidegger M. Zut Sache des Denkens. Tübingen, 1969. S. 63.
24 Hersch J. Illusion philosophique. Paris, 1936. P. 188.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Августин Аврелий 53, 400
Авенариус Р. 267, 353
Адлер М. 95, 212-213, 224
Адорно Т. 628
Айер А.Дж. 179, 182, 287, 483
АйкенГ.Д. 151
Александр Македонский 111
Александров А.Д. 237, 483
Александров А.П. 202
Александров Г.Ф. 29-34, 53, 307-
308,485
Алексеев-Попов B.C. 528
Алкье Ф. 422
Альбер К. 399
Альберт Больштедский 181
Альтман А. 617
Амбарцумян В.А. 120, 483
Амика 249
Анаксагор из Клазомен 88, 141, 211
Анаксимандр из Милета 88, 210,
387,438-439,632
Анаксимен 42, 88, 210, 270, 387,
438-439
Андроник Родосский 365
Анохин П.К. 313,483
Ансельм Кентерберийский 380,406,
442
Анциферова Л.И. 483
Аполлон 653-654
Аристоксен 249
Аристотель 21, 50, 54, 71, 88, 95,
104, 168, 173, 179-180,221,225,
230, 271, 278, 282, 304, 307, 338,
365-368, 375-376, 381-382, 392-
394, 407, 419-420, 454, 473, 483,
518,536,542,544,549,692
Аркесилай 394, 396
Армстронг Д.М. 159, 474
Архимед 230
Асмус В.Ф. 27, 137, 241, 343-344,
483,512-513
Бабст П.К. 577
Баженов Л.Б. 153
Байрон Дж. 720, 746
БарнетД. 18
Бар-Хиллел И. 238, 489
Бауэр Б. 728
Бах И.С. 623
Бахтин ММ. 164,419,483
Баш л яр Г. 153, 446
Бейль П. 57, 395-398, 483
Белаваль И. 422
Белецкий 3. Я. 29-30
Белый А. 625, 652
Бергсон А. 88, 134-135, 139, 190,
200, 208, 302, 309, 361, 429, 483,
509, 648
Бердяев H.A. 183,483
Берендс П. 604
Беркли Дж. 179, 252, 282-283, 291,
307, 313-314, 353, 363, 414, 445-
446,471,483
Бернардинер 627
Берне Э.М. 464
Бернштейн Э. 331
Бертло М. 240
Бетховен Л. ван 623
Бёрк Э. 506
Бибихин В.В. 633-634
Бидерман К. 604
Билингтон Д. 606
Бисмарк О. 683
Блейер Э. 497
Блондель Э. 748
760
Блэк M. 33
Богомолов A.C. 13, 89, 483
Богуславский В.M. 393, 483
Бодрийяр Ж. 629
БойльР. 168
Бонди Г. 327, 330, 484
Бор Н. 65, 136, 194,319,484
Борджиа Ч. 637
Борель Э. 125
БорнМ. 26, 77, 140,330,484
Бохеньски И.М. 356, 450
Брандес Г. 624
Браун М. 422
Брейе Э. 524
Брентано Ф.К.Г. 338
Бризил Д. 561
Бройль Л. де 26, 139,194,319,414,484
Броуд Ч.Д. 342, 345
Бруннер Ф. 424
Бруно Дж. 251,485
Брэдли Ф. 287
Брюнсвик Л. 356
Бувье 508
БуеваЛ.П. 351
Булгаков С.Н. 346
БунгеМ. 137-138,484
Бур М. 265, 484
БурбакиН. 125
Буркхардт Я. 635-636
БутруЭ. 182,466,508
Быховский Б.Э. 29, 53, 179, 369,
484-485
Бэкон Ф. 25, 57, 87-88, 101,275,278,
309, 325, 351, 353, 363, 369-370,
405, 426, 446, 460, 484, 498
Бюхнер Л. 293, 463, 469
Вавилов СИ. 155,206 484
Вагнер Р. 652, 660, 664, 673, 748
Вайскопф В. 330, 484
Валь Ж. 336
Ванини Дж. 393
Вебер М. 470, 484
Вейль Э. 24, 64, 385
ВейнбергБ.П, 167
Вёлер Ф. 240
Виндельбанд В. 25, 157-158, 162,
177,484,629,710
Винкельман И. 653, 657,712
Витгенштейн Л. 76, 87, 174, 179,
275, 484, 627, 629, 641
Волькенштейн М. 481
Вольтер 88, 468, 513, 518, 677, 712
Вольф Ф.А. 631
ГалевиД. 638, 710, 745
Галилей Г. 58, 137,329
Ганн Г. 86, 323, 486
Гарин И.627-628
Гартман Н. 209, 273, 301, 336, 346-
349, 484-485, 535, 629, 648
Гассенди П. 373-374
Гаст П. 729
Гваттари Ф. 165, 455, 485
Гегель Г.В. Ф. 14,22,29-33,35-36,43,
62, 77, 84, 88, 106, 126-129, 139,
142, 152, 154-155, 167, 170-172,
176, 181, 187, 233, 246, 252, 261-
262, 264, 276-277, 284-287, 294,
303, 310, 313, 349, 358, 363, 385-
386, 407-415, 419, 422, 426-428,
430-432, 450-451, 457, 463-464,
484, 499-502, 529-535, 540-553,
560, 564-565, 575, 610, 627-628,
635,639,648,659-660,718
Гейзенберг В. 210, 290, 484
Гейлинкс А. 353, 440, 442
Гейне Г. 720, 746
ГеккельЭ. 332-333,484
Гекели Т. 331-333
Гелен А. 445
ГеллнерЭ. 180,485
Гельвеций К. 61, 88, 283-284, 309,
331, 347, 351, 439, 468, 485, 573
Гемпель К. 345
Гераклит 42, 44-46, 88, 130, 154,
210, 247, 285, 387, 438-439, 631
Гербарт И.Ф. 338
Гердер И.Г. 629
Геродот 99
ГеруМ. 169,357,418,422
Гесиод 42, 50
Гёльдерлин И.Х.Ф. 748
Гёте И.В. фон 277, 631-632, 648,
653,657,671, 691,712, 717-718,
720, 746, 748
Гизо Ф.-П.-Г. 682
Гильберт Д. 77
Гиляров А.Н. 362, 485, 498, 540
Гиппократ Косский 304
Гиршель 33
Глокнер Г. 286
761
ГоббсТ. 88,164, 173, 180,199,258,275,
278-283, 288-289, 339, 353, 363,
373-376, 378, 434, 439, 474, 485
Гобино А. 631
Гоголь Н.В. 503
Гольбах П. 60, 88, 282-283, 288, 297,
315, 485, 526, 573, 657, 750-755
Гомер 40, 42, 387, 485
Гомперс Г. 78
Горгий из Леонтин 387
Горнштейн Т.Н. 336, 346, 485
Горский Д.П. 582
Горький М. 351
ГотьеЖ. 174
Грамши А. 13-14,485
Гранстрем Е.А. 163, 485
Григорьян Б.Т. 351
Грот 611
Гроций Г. 167, 663
ГуйеА. 87-88,418
Гумбольдт В. 164,629
Гусейнов A.A. 24, 71, 123, 309, 485,
619
Гуссерль Э. 132, 147, 177, 181, 339,
418-421, 446, 485, 487, 627, 629,
641
Д'Аламбер 485
Давыдовский И.В. 148
Даллес Д.Ф. 464
Дальтон Дж. 168
ДаммитМ.Э. 386
Данте А. 718, 746
Данто А. 704
Дарвин Ч. 139, 168, 194, 200, 354,
437, 543, 634, 659
Датта Д. 51,489
Деборин A.M. 27
Дезами Т. 473
Дейссен П. 747
Декарт Р. 57-58, 88, 141, 180, 199,
250, 256-257, 260, 278-284, 336,
353, 363, 369-372, 378, 380,
396-397, 406, 419, 423, 439-443,
461,472,484-485,573,691
ДелёзЖ. 165,455,474,485
Дельбос И. 508
Демокрит из Абдеры 43, 49, 141,
210,249,347,391
Дени-Папен М. 486, 489
Деррида Ж. 287, 474, 629
Дешан Д. 446
Джемс В. 179,253,274,294
Джемс У. 344, 423, 449, 451-452,
456-457,485,731
Дидро Д. 88, 218, 257, 282, 315, 363,
398, 439, 467-468, 485, 526
Дильтей В. 78, 146, 156-158, 163,
166, 184, 186,299, 358-360,416,
485, 488, 648
ДинглерХ. 142
Диоген Лаэртий 43, 52, 249, 357,
389, 407, 485
Дионис 654, 656
Дионисий 674
Длугач Т.Б. 538
Доорен В. ван 424
Достоевский Ф.М. 720, 746
Дуне Скотт, Иоанн 256, 296, 401
ДынникМ.А. 251,485
ДьюиДж. 94, 105, 131
Дэвидсон Р. 386
Дюбуа-Реймон Э. 332, 399
Дюгем П. 142
Дюринг Е. 246
Евклид 126, 327
Егоров А.Г. 302, 485, 489
Еремеева А.И. 543
Жаворонков Н.М. 240, 485
Жданов A.A. 30, 34-35, 307
Живков Т. 37
Жоливе Р. 95
Жолли Ф. фон 677
Зенон из Элей 209, 285, 387, 390,
502, 535
Зиммель Г. 540, 611-612
Зоммерфельд А. 485
Зороастр 745
Зотов А.Ф. 627
Зуктин В.А. 76
Ибервег-Гейнце Ф. 524
Ибн Сина 54, 485
Иисус Христос 53
Иноземцев В.Л. 587-588
Иоанн Скотт Эриугена 368
Иовчук М.Т. 30, 485
Иррлиц Г. 265, 484
ИщенкоЕ.Н. 142,486
762
Кабанист П.Ж. 469
Какабадзе З.М. 351
Калинин М.И. 37
Кальдерон 657
Каменский З.А. 36
Каммари М. 32
Камю А. 78,311,320,626
Кант И. 27, 31-32, 61, 77, 88, 125-
126, 128, 136, 139, 154, 175, 181,
197-198, 209, 228, 237, 259-261,
276,315-317,331,349, 351, 371,
380-386, 398-400, 405, 419, 435,
444, 462, 465, 469, 486, 488, 497-
498, 507, 529-540, 552-553, 555-
559, 561-573, 623, 627, 648, 658,
671-673, 684, 689, 691, 706, 718,
737, 748
Кантор Г. 125
Капица П.Л. 676
Каплун В. 626,652
Карлейль Т. 426, 473, 665
Карман А. 486, 489
Карнап Р. 76, 86, 323, 486
Карнеад 394, 396
Касавин И.Т. 164, 205, 337, 486
Кассирер Э. 250, 296, 314, 486
Кастелли Э. 122
Каутский К. 536, 593-594
Кауфман В. 616, 647-648
Кедров Б.М. 32, 82, 334, 485-486
Келдыш М.В. 219, 486
Климент Смолятич 163, 485
Клиний 249
Ковалевский М.М. 578
КогенГ. 385, 451
Койре А. 88, 433
Колли Д. 748
Коллинз А. 378
Колмогоров А.Н. 126, 242, 486
Кондильяк Э. 525
Кондорсэ Ж.А. 514
Конт О. 88, 227, 273, 478, 758
Коперник Н. 59, 77, 193, 251, 329
Копнин П.В. 81-82, 201, 272, 308,
335,488
Корнелиус Г. 178, 486
Корнфорд Ф.М. 41
Кофман А. 489
Крафт В. 322
Крёнер Ф. 416
Кроне Б. 14, 134,356,486
Кружков B.C. 30
Крюгер К. 304
Кубицкий A.B. 366
Кун О. 457-458
Кун Т. 304-305
Кучевский В.Б. 626
Кьюмиски Д. 539
Лабриола А. 576, 593
Лавджой А.П.О. 340
Лаврова A.A. 629-630
Лакатос И. 399
Лаланд А. 185
Ламарк Ж.-Б. 168, 489, 525
Ламетри Ж.О. де 88, 199, 257, 331,
378, 439, 486, 755-757
Ланге Ф.А. 198, 288, 297, 486
Ландау Л.Д. 82, 328, 335, 486
ЛауэМ, 100,486
Лебедев A.B. 41,489, 632
Леверье 140
Левкипп 141
Лейбниц Г.В. 22, 58, 88, 141, 215,
238,251,282,353,363,414,442,
445, 486-487
Лейтензен 627
Лекторский В.А. 76, 120, 337, 486
Лелотт Ф. 296, 401
Ленин В.И. 27-28, 31-32, 277, 282,
311, 342, 346, 459, 484, 486-487,
586,593-594,601,605-608
Ленц И. 287
Леонт 43
ЛеруаГ. 353,440
Лесевич В.В. 346
Лессинг Т. 365
Левит К. 639
Линней К. 168,489,525
Лиотар Ж.-Ф. 474
Лисичкин Г.С. 579
Лифшиц Е.М. 82, 335, 486
Лобачевский Н.Т. 433
Локк Дж. 87-88, 134, 164, 179, 215,
252, 275, 289, 338, 353, 363-364,
375-378, 434, 441, 472, 487, 573,
672, 691
Ломбардиар Ф. 301, 448
Лопатин Л.М. 346
Лоренц К. 143
Лосев А.Ф. 41-43, 387, 390, 392, 487
Лосский Н.О. 452, 487
763
Лотман Ю.М. 508
Луи XV 506
Лукреций, Тит Лукреций Кар 141,
203, 487
Льюис Дж. 329, 478, 487
Лэнгмюр И. 412,487
Людовик XV 468
Ляховецкий Л. 308, 351, 487
Мабли Г.Б. де 473, 508
Майкельсон Р. 143, 218
Маймон С. 535
Макашева А.Н. 578-579
Макеева Л.Б. 342, 487
Макиавелли Н. 637
Маккарти Г. 423
Максвелл Дж.К. 16, 143, 487
Мальбранш Н. 282-283, 307, 353,
371,440,442,487,573
Мальтус Т.Р. 624
Мамардашвили М.К. 215, 487
Мамчур Е.А. 153
Мангейм К. 337
Мандевиль Б. 695, 705, 718
Манн Т. 624, 643, 646, 648, 652, 653
Манфред А.З. 505
Марат Ж.П. 605
Маритен Ж. 54-57, 67
Марков М.А. 194,487
Маркс К. 22, 27, 29, 31-32, 34-35,
51,65-66,101,106-109,112,117,
151, 163,200,231,246,259,272,
285-286, 336, 363, 370, 405, 410-
411, 459-460, 487, 489, 499, 574-
576, 579-585, 588, 590-606, 609,
633, 728, 758
Маркузе Г. 456
Марсель Г. 183,208,502
Мартин А. 636
Мартин Г. 537
Масон П. 509
Матисс Ж. 91
Мах Э. 142, 239, 303-304, 353
Мейер Г. 330
Мейнонг А. 338
МейоГ.В. 581
Мельвиль Ю.К. 627
Мелюхин СТ. 83, 335, 487
Мен де Биран М.Ф.-П.Г. 139, 363
МерингФ. 573
Меркулов И.П. 337
Мерло-Понти М. 234
Мёрик 748
Микешина Л.А. 337
Миллер-Фраенфельс 157
Минковский 77
Минье О. 682
Миронов В.В. 141,487
Митин М.Б. 28-29, 32, 53, 351, 485
Митрохин Л.Н. 746
Михайловский U.K. 611, 627, 633
Молешотт Я. 293, 463, 469
Монтень М. 56, 393-395, 398, 487
Мопертюи П. Л.М. 572
Мора Х.Ф. 95-96
Морли 143
Московичи С. 586
Мотрошилова Н.В. 124, 178, 487,
538, 639
Моцарт В.А. 623
МуньеЭ. 165,487
Мур Дж. 338, 342-343, 449-450, 487,
501
Мусей 42
Мысливченко А.Г. 351
Мэр Ж. 361-362
Мюнтеано Б. 508-509
Мюнцер Т. 595
Мюрдаль Г. 470
Наполеон Бонапарт 709-710
Нарский И.С. 325, 487
НаторпП. 451
НейратО. 86,323,486-487
Некрасов H.A. 503
Нестле В. 42
Никифоров А.Л. 86, 488
Николаев П.А. 503-504
Николай I 433
Нитхаммер Ф. 555
Ницш 33
Ницше Ф. 73, 274, 311,317-318, 326,
429, 487, 499, 553, 610-749, 758
Новалис 748
Новиков П.С. 462, 487
Ньютон И. 137, 167, 194, 218, 226,
283, 319, 468-469, 487, 572, 676
Ньюэл Дж. 155
ОвербекФ. 624, 631,638
Огурцов АЛ. 124,487
Одуев С.Ф. 627
764
Ойзерман Т.И. 89, 335, 483, 485,
487
Окулов А.Ф. 485
ОлмэнБ. 581
Ортега-и-Гассет X. 86, 154, 204, 319
Орфей 42
Оствальд В. 142, 330, 333, 488
Оттман X. 649
Оуэн Т. 592
Павлов Т. 314,488
Парменид 88, 248, 347, 407, 454
Пароди Д. 508
Паскаль Б. 662
Пастернак Б.Л. 651
Патнем Х.386
Паульсен Ф. 288, 358, 488
Перельман X. 447
Пери В.Б. 339-340
Петрарка Ф. 677
Петрович Г. 311
Петровский И.Г. 26, 488
Печенев В.А. 153
Пиаже Ж. 67, 216
Пилатов П.Н. 236, 488
Пиррон из Элиды 388-389, 396
ПирсЧ.С. 178
Писарев Д.И. 309, 488
Пифагор 43-44, 47, 282, 284
ПланкМ. 26, 142, 194,216,221,330,
484, 488, 670
Платон 22,45,47-49, 76, 88, 99-100,
104, 122-124, 177, 198,204, 210,
221, 249, 255, 271, 278, 282-284,
304-305, 307, 341, 347, 366-367,
388, 392-393, 407, 419, 426, 454,
471-473, 488, 501, 533, 640, 673,
685, 692,723
Плеханов Г.В. 27, 69, 263, 270, 297,
311,315,331,435,488,575-577
Подорога В.А. 71, 705, 748
Понтий Пилат 73
Поппер K.P. 23, 87, 219, 238, 311,
325-326, 328, 399
Посидоний 52
Потемкин A.B. 43, 124, 272, 487-
488
ПраттДж.Б. 315
Преображенский В.П. 611, 626
Пристли Дж. 65, 363, 378, 468, 488,
572
Протагор из Абдер 47-48, 254, 387,
488
Птолемей 77, 144
Пуанкаре А. 142
Пушкин A.C. 503, 648
Пфефер И. 301,448
Рабле Ф. 393
Райл Дж. 275, 464
Рассел Б. 63, 68, 87, 93, 144, 180,
210, 253, 342-344, 400, 456, 488,
524, 636
Ревель Ж.Ф. 479
Рей П. 624
Рейнгольд К.Л. 535
Рейхенбах Г. 125, 137, 327, 345,
477-478, 488
Ремке И. 346
РенсД.Д. 185
Ренувье Ш. 230
Рид Т. 338
Рикёр П. 209, 232-233, 502
Риккерт Г. 93, 266, 451, 488, 629
Риль А. 488, 611
Рихтер Р. 399, 488
Робеспьер О. 505-507
Робине Ж.Б.Р. 446
Робэк А. 274
Розенталь М.М. 244, 488
Рокэн Ф. 488
Ромбах Г. 465
Рорти Р. 490
Руге А. 59
Ружье Л. 375, 429,453-454
Рузавин Г.И. 153
Руссо Ж.-Ж. 22, 88, 163, 168, 309,
351-352, 434, 469, 488-489, 499,
505-528, 610, 627, 632-633, 657,
671,718
Савиньи Ф. 663
Садовский В.Н. 327
Сантаяна Дж. 318, 341
Сарагуэт Бенгоэчаа X. 295
Сартр Ж.-П. 73, 320, 401, 457, 467,
488, 648
Сачков Ю.В. 153
Свасьян К.А. 624, 627, 638, 710
Свечников Г.А. 153
Свифт Дж. 354
Секст Эмпирик 390-392, 407, 488
765
Селларс Р.В. 342
Семенов H.H. 136,488
Семигин Г.Ю. 309
Серебряков М.В. 32-34
Сережников В. 260, 488
Сеченов И.М. 315
Синеокая Ю.В. 628, 630
Сисмонди Ж. 600
Скворцов Л.В. 146,488
Скотт-Тагарт М.И. 535
Смарт 474
Смит А. 574, 578
Сократ 48-49, 88, 99, 122, 179, 255,
305,388,391,439,448,488,673,758
Соловьев B.C. 650, 709
Соловьев Э.Ю. 132,488
Солон 44, 105
Спенсер Г. 138, 176,404,488
Спинк И.С. 509
Спиноза Б. 58-59, 87, 97, 353, 372-
373, 396-397, 414, 434, 439, 443,
446,488-489,631-632
Сполдинг Е.Г. 340
Сталин И.В. 27, 29-31,35
Станков С. 168,489,525
СтекловВ. 124, 137,489
Стендаль 508, 648
Степаненко М.В. 153
Степин B.C. 84-86, 88-89, 151, 153,
299, 309, 337, 489, 579-580, 587
Стронг Т.Б. 652
Стросон П.Р. 386, 489
Струве П.Б. 499, 613
Тейхмюллер Г. 680
Тертуллиан 53
Тик Л. 663
Тиле Л.П. 650
Тимирязев К.А. 32, 321,489
Тимон из Флиунта 394
Тихо де Браге 543
ТоландД. 252, 363,378, 750
Толстой Л.Н. 503, 508, 614, 625,
639,722
Толу к 33
Топич Э. 42
Трейчке Г. 745
Трубецкой E.H. 639-640, 710
Туган-Барановский М.Н. 576
Тукельдек Ж. 420
Тулмин Ф. 399
Туровский М.Б. 124, 487
Тушлинг Б. 538
Тьерри О. 682
Тэн И. 465, 489, 509
ТюхтинВ.С. 308,351,487
Уайльдер Т. 461
Уиздом Дж.О. 322
Уланд Л. 663
УордД. 346
Успенский Г. 435
Уэллс Г. 478
Фалес из Милета 42, 88, 104-105
203, 210, 270, 278, 386, 438-439 '
Федон 488
Федосеев П.Н. 30, 351
Фейерабенд К. 399
Фейербах Л. 75, 88, 173, 176-177
187, 231, 262, 273, 284-287, 293-
294, 347, 363, 412, 432-Ш, 445,
463, 473-474, 489, 553, 665
Фейнман Р. 327, 489
Фейхтвангер Л. 506
Феофан Г рек 163
Фихте И.Г. 31, 61, 77, 90, 97, 154,
181,231,260-261,276, 284, 303!
309, 363, 469, 473, 489, 499, 535,
554-562, 564-565, 610, 672, 710
Фицджеральд 143
Фишер К. 187,346
Флам Л. 460
Флю А. 275
Фогель У. 538
Фогг К. 293, 469
Фома Аквинский 21, 54-55, 95, 102
142,333,338,419,527
Фор Р. 486, 489
Франк С.Л. 715
Франк Ф. 194-195, 457, 489
Франклин Б. 460, 489
Франс А. 333, 678
Францев Ю.П. 44, 489
Франческо Б. 336
Фрейд 3. 163,446,497,630
Фрейзер А. 346
Френкель А.Л. 238, 489
Фриз И. де 458-459
Фролов И.Т. 300, 489
Фукидид 99
Фуко М. 163, 474, 489, 629
766
Фулкье П. 533
Фюзиль К. 509
Хаидеггер М. 55, 76, 92, 95, 113—
118, 147, 173,287,304,349,421,
466, 489, 553, 629, 758
Хайек Ф. 290
Хайнеман Ф. 355
Хатчинсон Дж. 95-96
Хиббен Д. 346
ХиллТ.И. 338-341,489
Хиршбергер И. 55-56
Хо Ши Мин 37
Холт Э.Б. 339-340
Хоркхаймер М. 628
Хюбнер К. 42, 399
ЦвейгС. 637
Циген Т. 346
Цитко Г. 630, 635
Цицерон 19
Чалоян В.К. 490
Чанышев А.Н. 41,489
ЧаттерджиС. 51,489
Чернышевский Н.Г. 351, 489
Честертон Г.К. 333, 490, 650
Чупров А.И. 578
ШаккаМ. 310, 421
Шаппер В. 605
Шаррон П. 395-396, 398
Шахназаров Г.Х. 583
Швырев B.C. 76, 487
Шекспир В. 614, 648, 717-718, 746
Шелер М. 349, 445, 573
Шеллинг Ф.В. Й. 31, 62, 73, 89, 141,
154, 238, 263-264, 277, 363, 426,
490, 555, 564-565
Шельвин Р. 633-634
Шестов Л. 499, 625, 639, 722
Шиллер Ф. 189-190, 627, 712, 748
Шкловский И.С. 77, 490
Шлейермахер Ф.Э. Д. 146, 629, 661
ШликМ. 86-87, 179
Шмидт Г. 490
Шмидт К. 331
Шмитц Г. 417-418
Шопенгауэр А. 78, 139, 164, 186,
238, 428^29, 490, 499, 537, 554-
555, 562-573, 610, 614, 632, 648,
656, 658, 660, 663, 669-673, 689,
700-701, 704, 706, 726, 728, 745
Шпенглер О. 435-436, 490
Шпрангер Э. 211
ШтейнбухК. 192,222
ШтирнерМ. 632-635,718
ШтоффВ.А. 140,490
Штраус Д. 660-661,747
Шульце Г.Э. 399
Шулятиков В.М. 434-435
Шуппе В. 329, 346
Эйкен Г.Д. 275-276
Эйнштейн А. 26, 80, 106, 133, 142-
143, 194,218,302,319,343,490
Эйслер Р. 286
Экклз Дж. 337
Эктон Г.Б. 290
Эмдин М.В. 30-32
Эмпедокл 88, 439, 631-632
Энгельс Ф. 22, 24, 27, 29, 31-32,
34-35, 53, 63, 65-66, 79, 101, 105,
107-108, 112, 195, 246, 270, 272,
275, 283, 286, 310-312, 314, 336,
338, 344, 346, 351, 363, 370, 405,
412-413, 487, 499, 574-577, 580,
583-585,588, 590-605, 609, 728
Энесидем 389-390, 394
Эпикур 51, 56, 58-59, 175, 200, 394
Эпименид 42
Эразм Роттердамский 677
Эрдман 33
ЭренбергЭ. 450-451
Эрлих В. 66
Эрстед X. 141
Эрш Ж. 758-759
Юдин П.Ф. 28-29, 32, 53, 244, 485
Юлина Н.С. 490
Юм Д. 87, 174-175, 179, 282, 315-
316, 353, 378-379, 398, 414, 426,
462, 478, 490, 506
Юнгер Ф. 705, 728
Якоби Ф. 62, 399, 535, 557
Янжул И.И. 578
ЯношиЛ. 143,490
Ясперс К. 78, 184, 208, 304, 466-
467,630-631,728-729
Теодор Ильич
ОЙЗЕРМАН
ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ
В пяти томах
Том пятый
Метафилософия
*
Амбивалентность философии