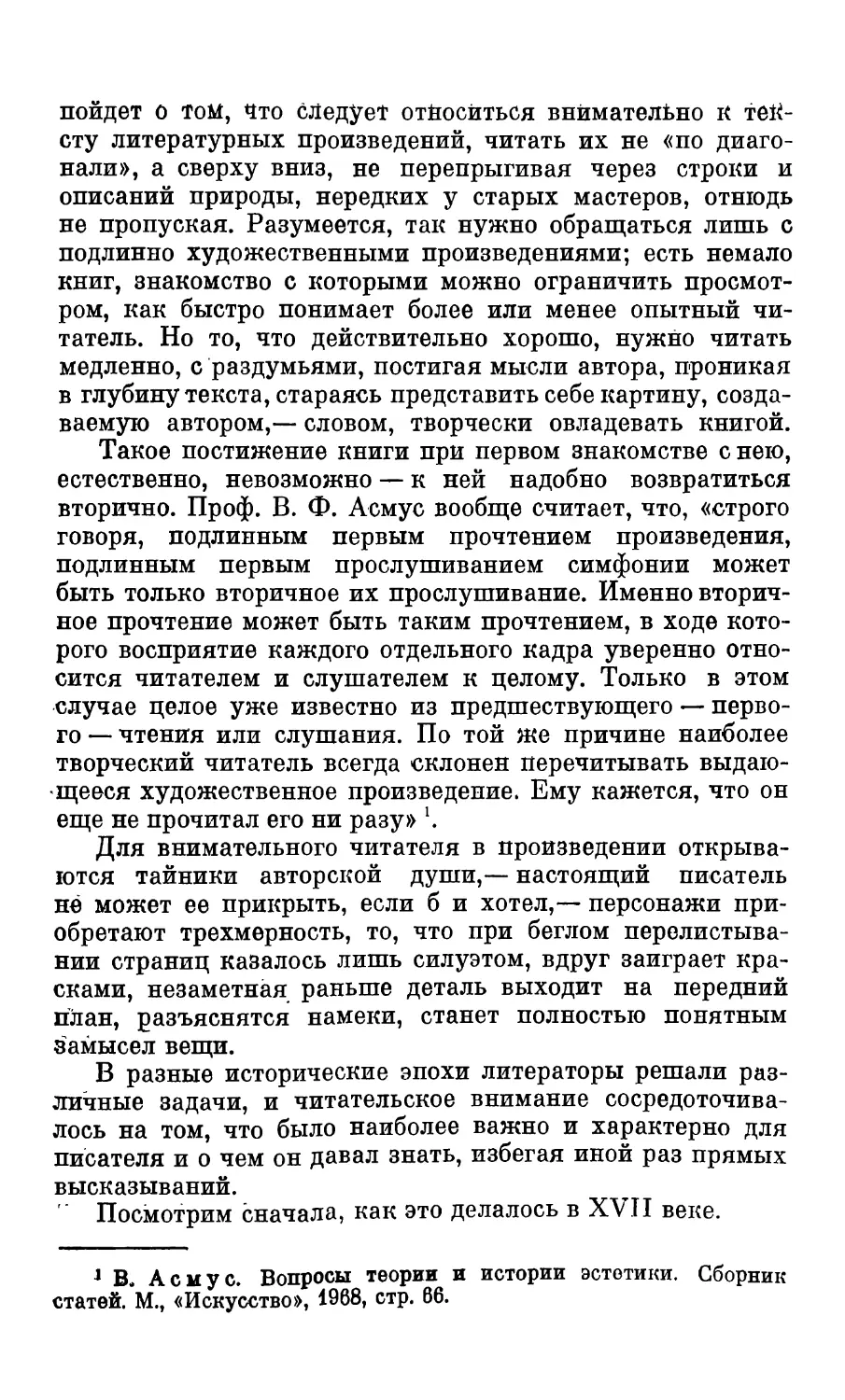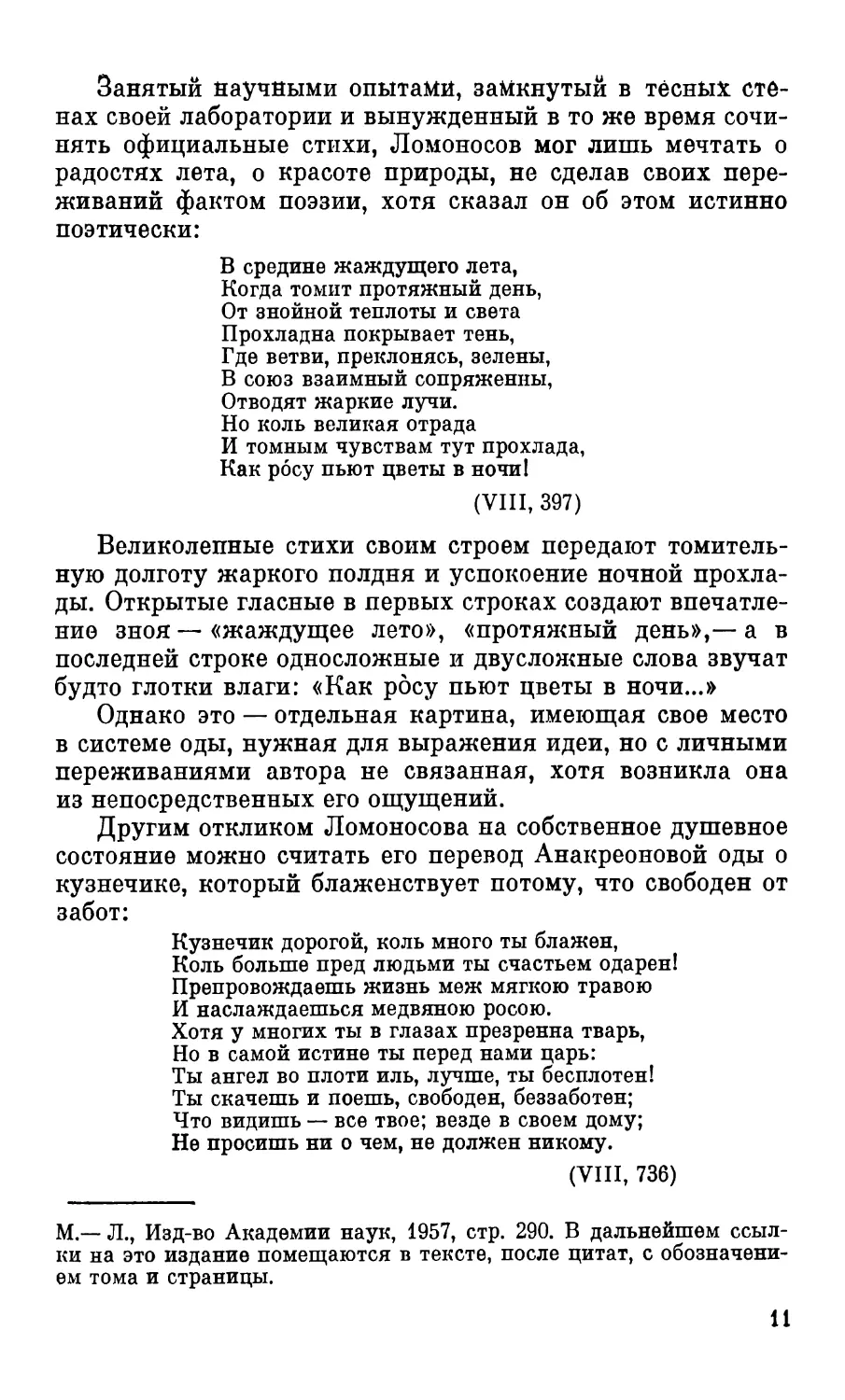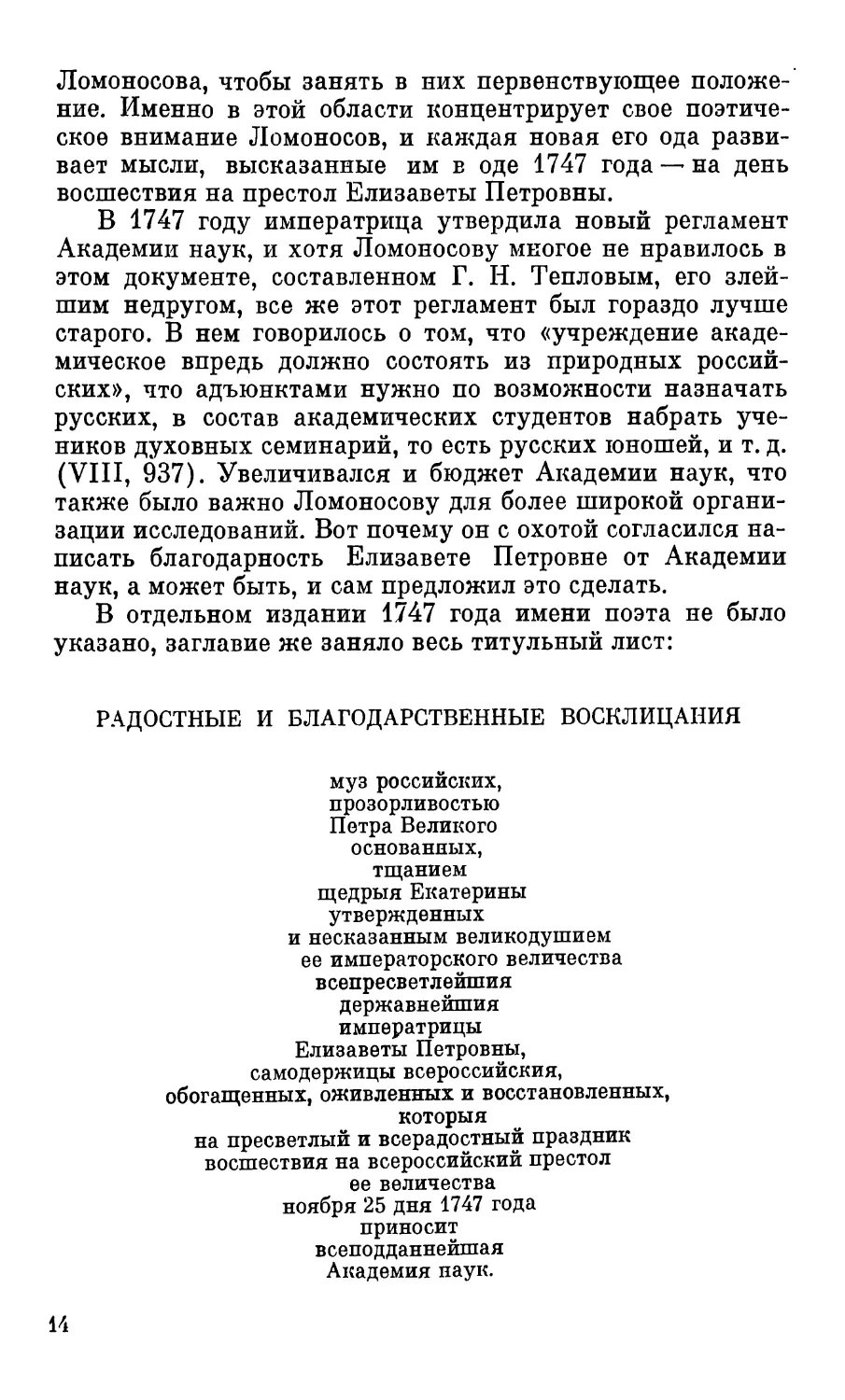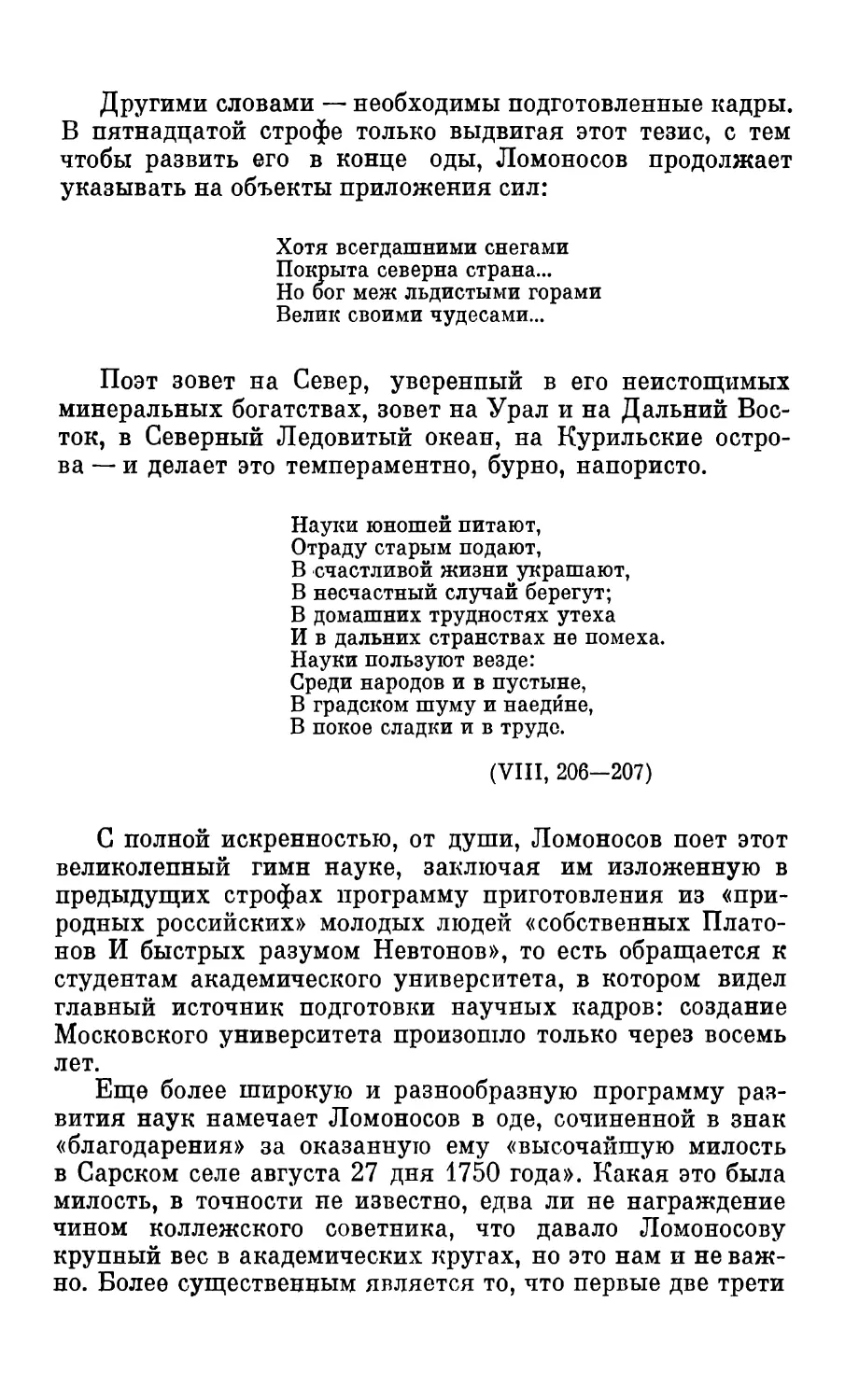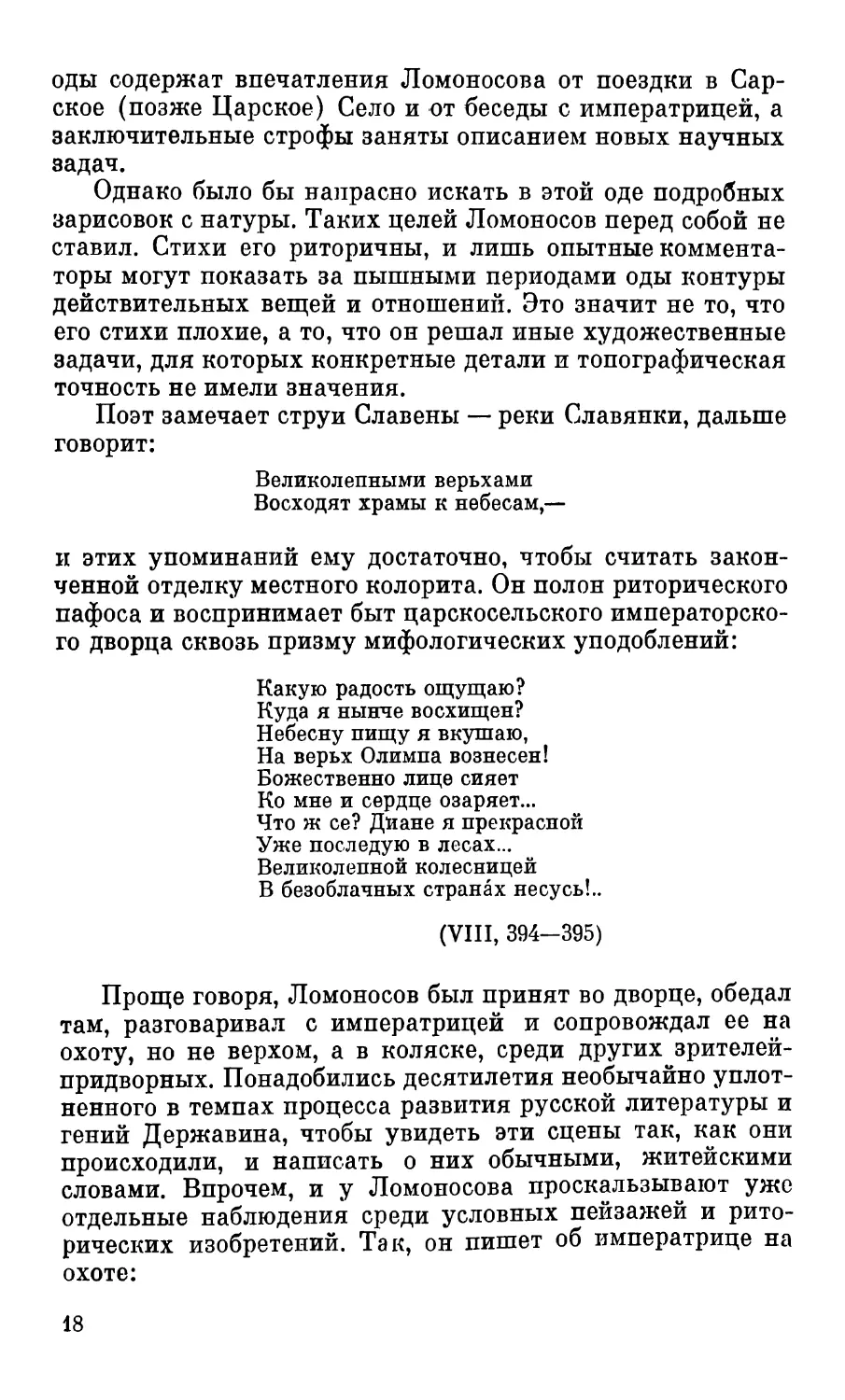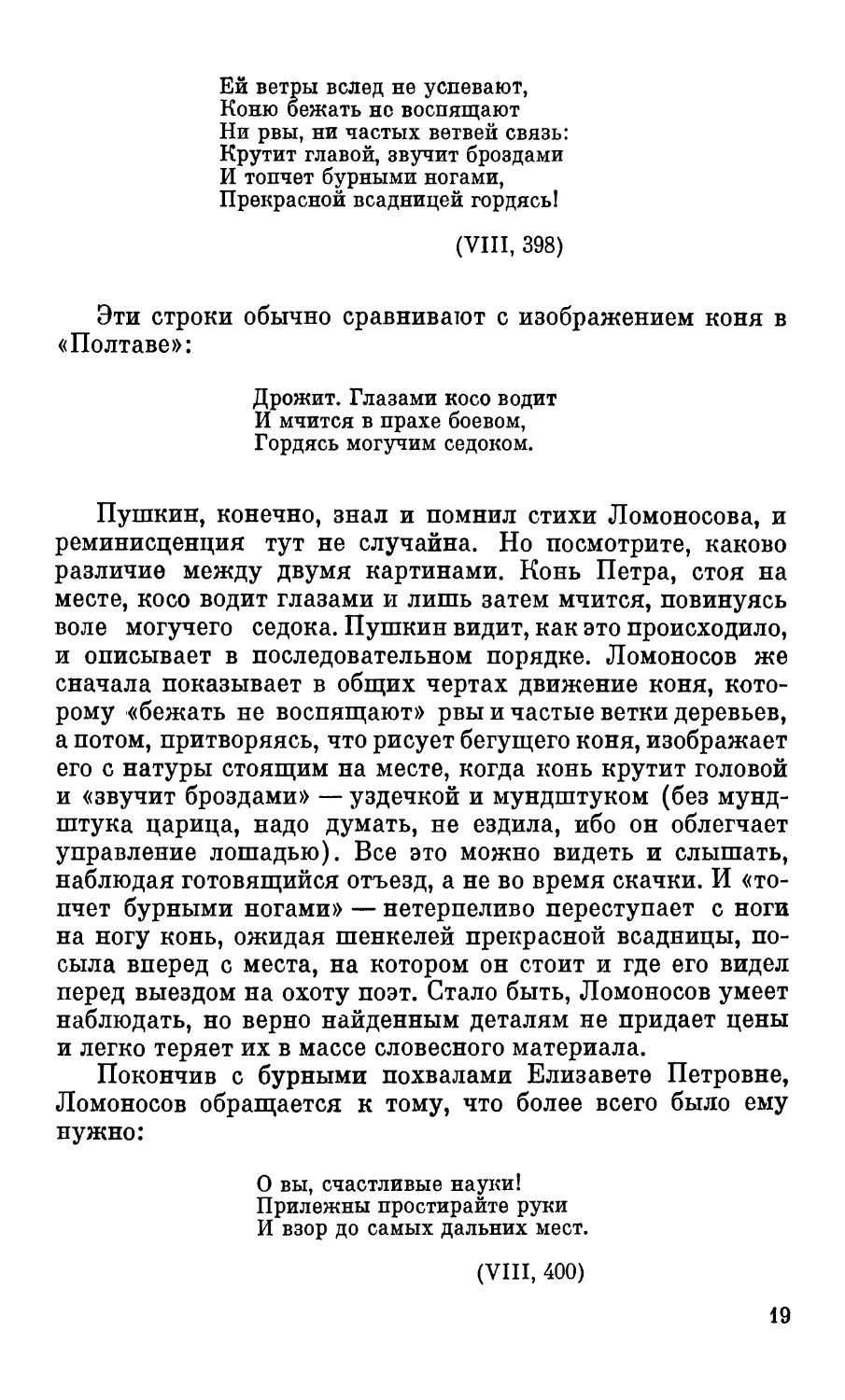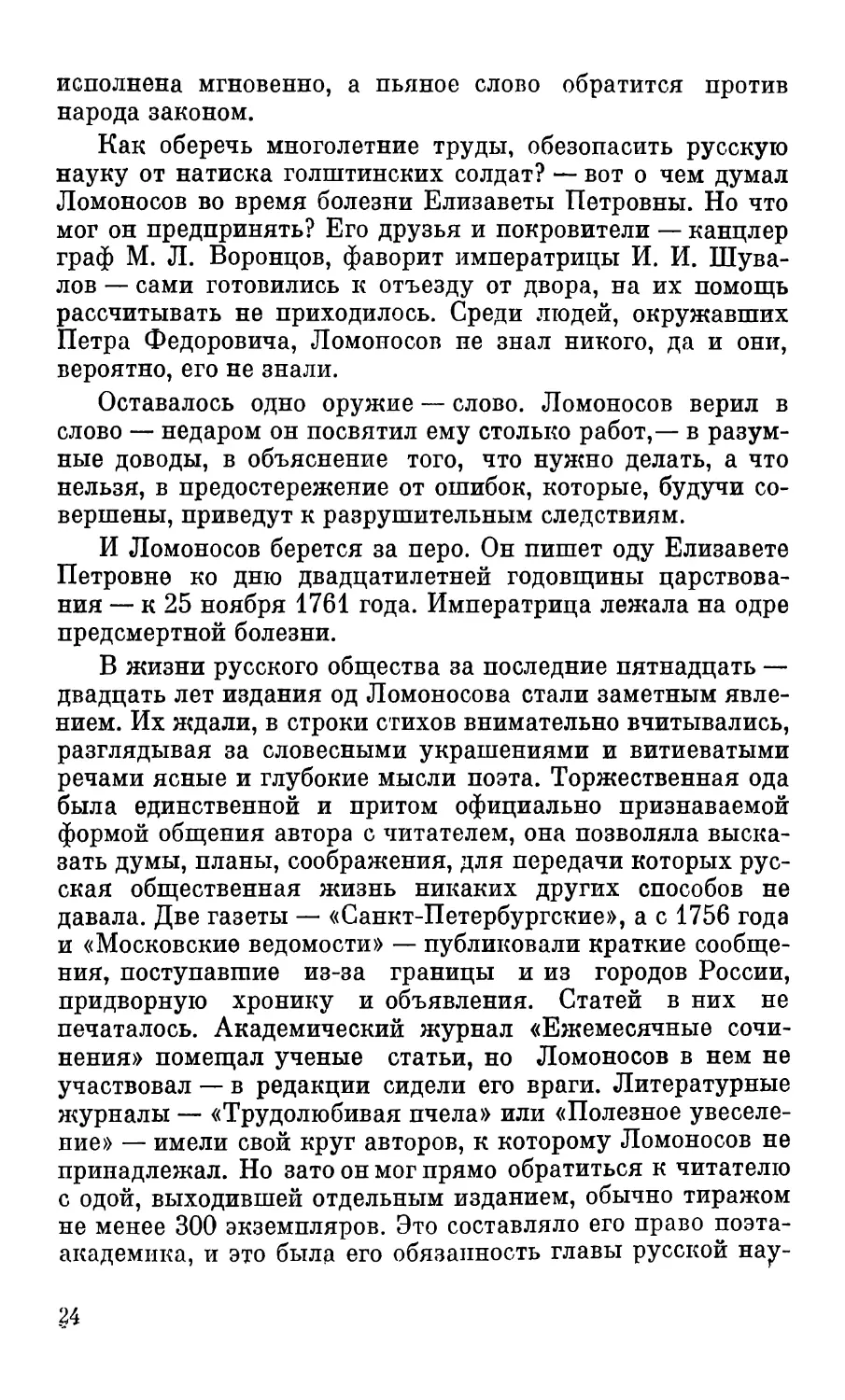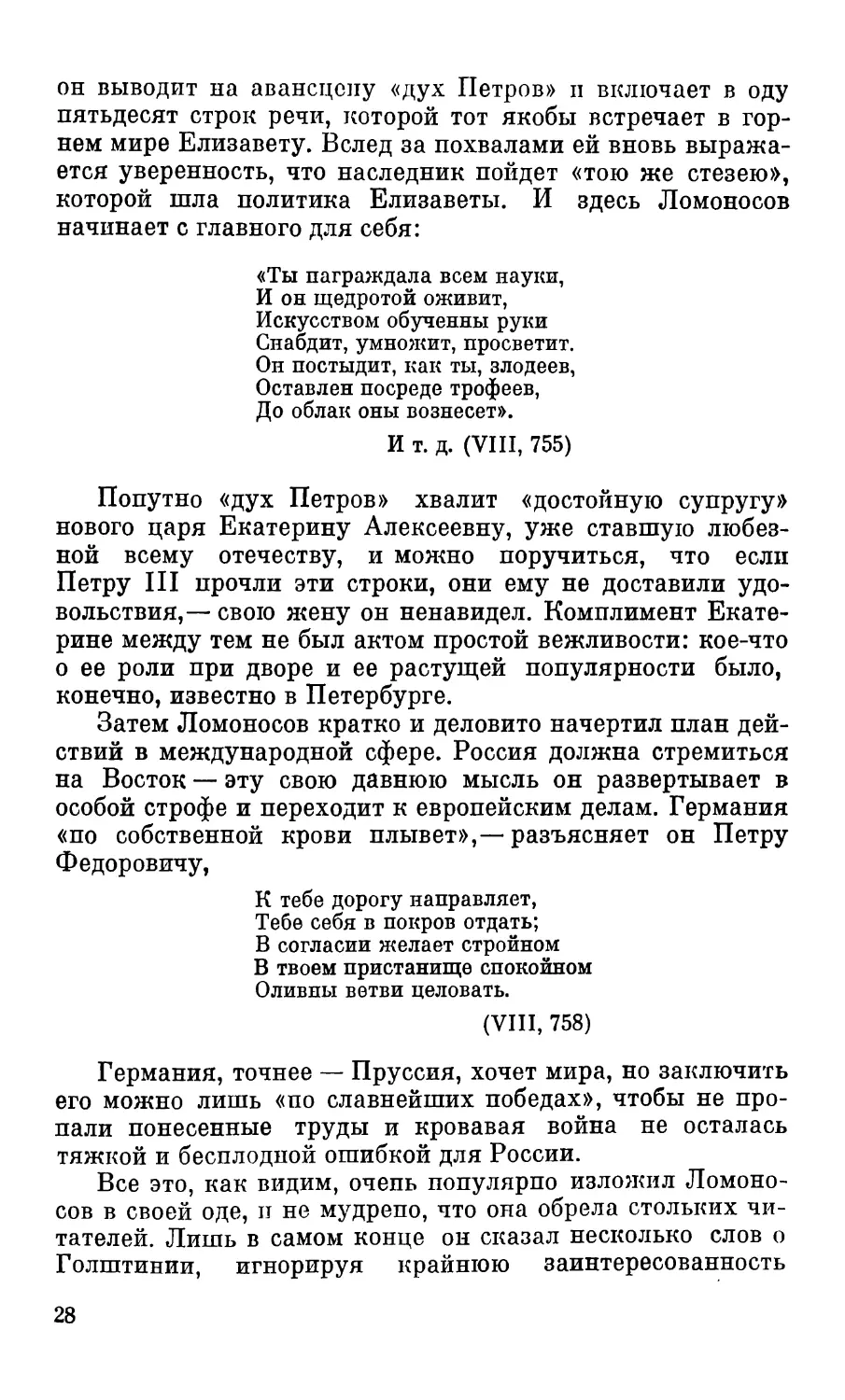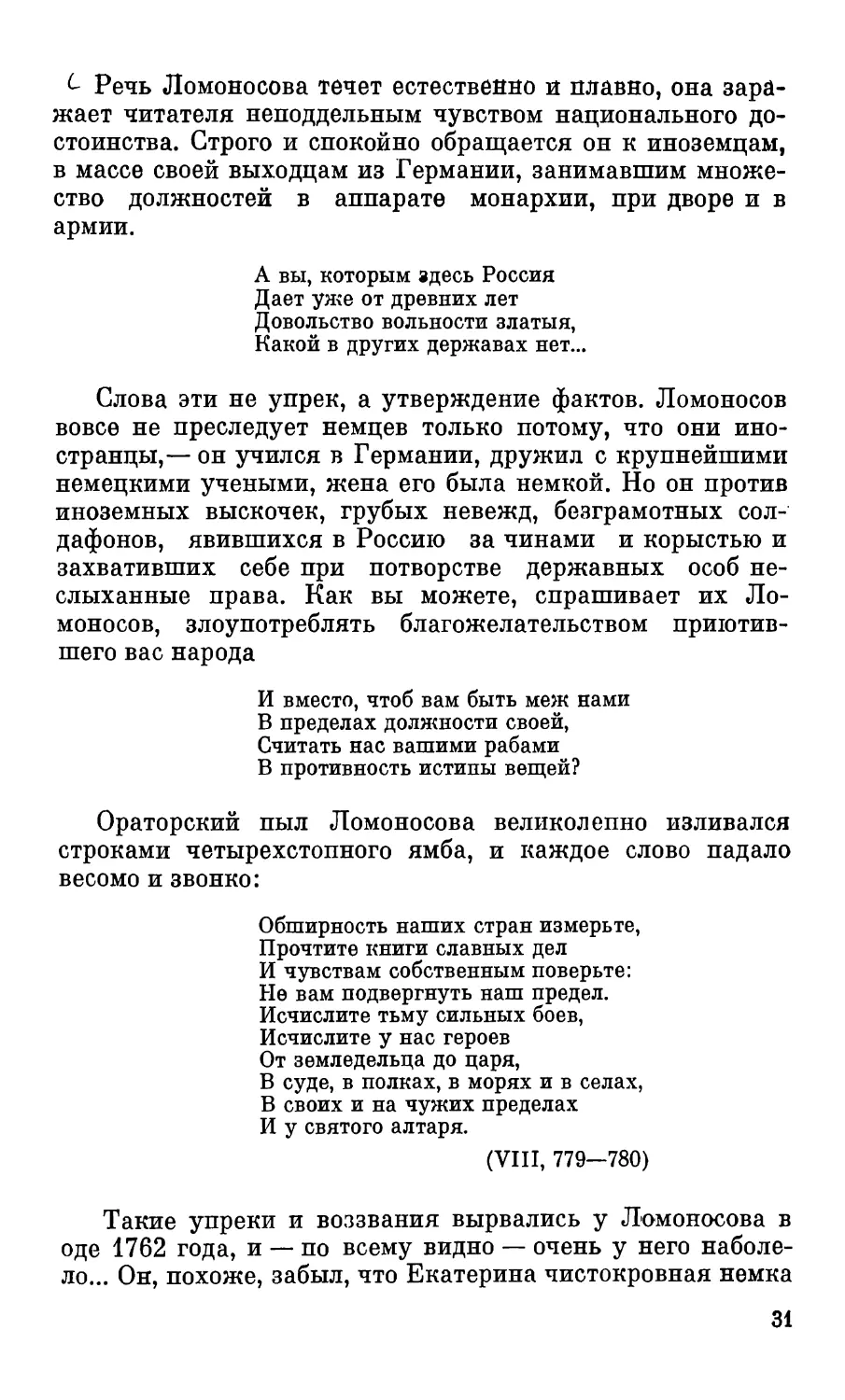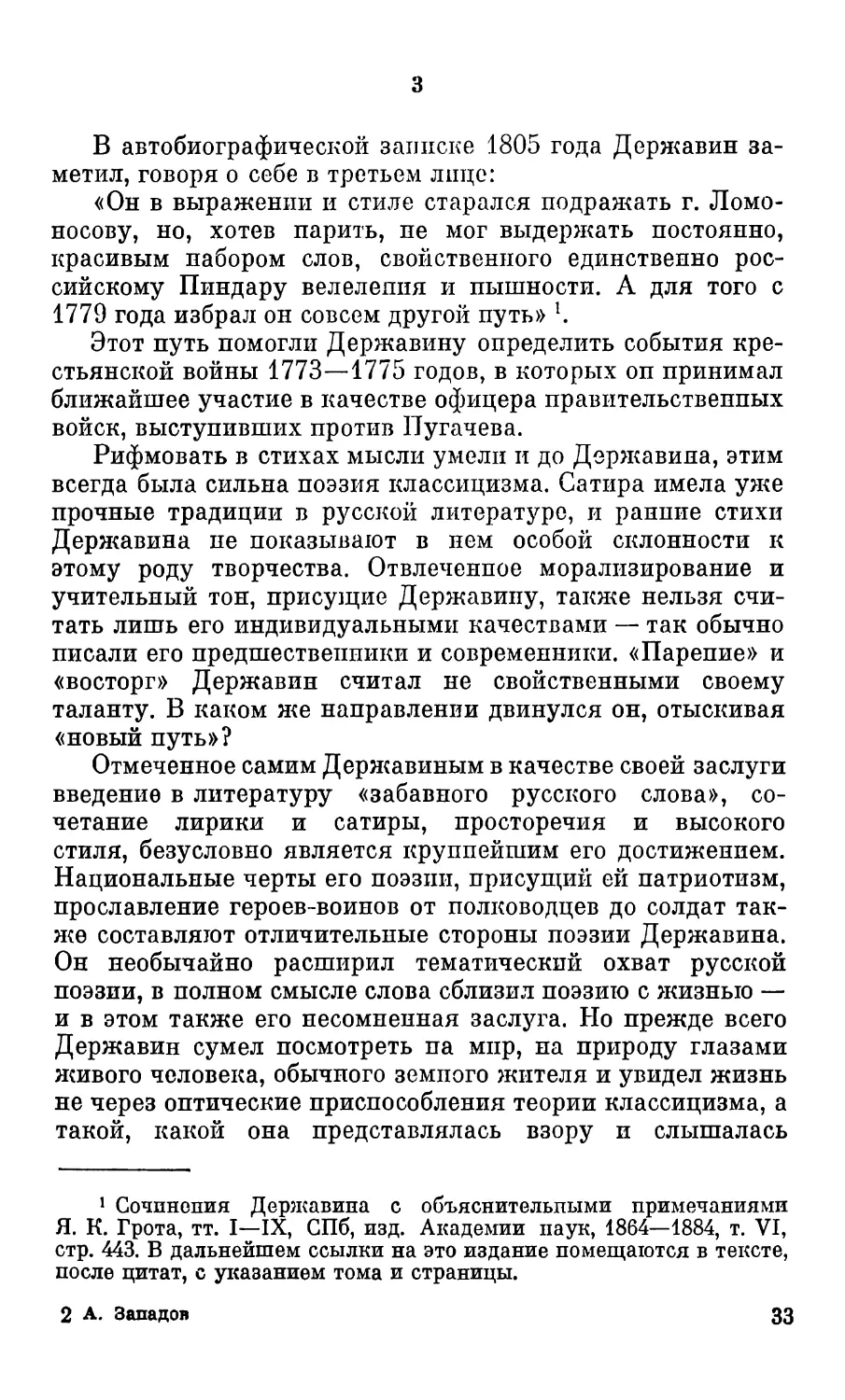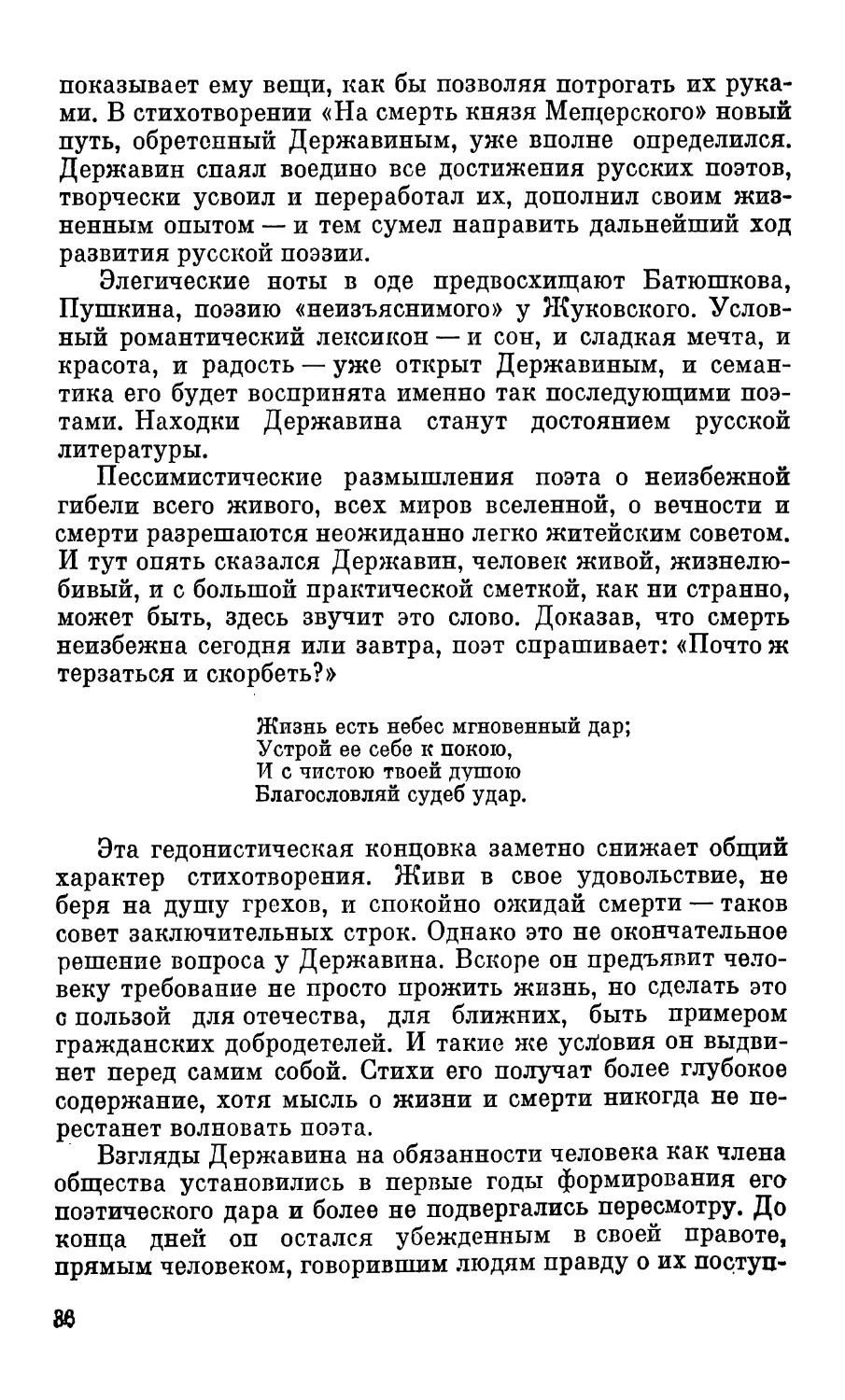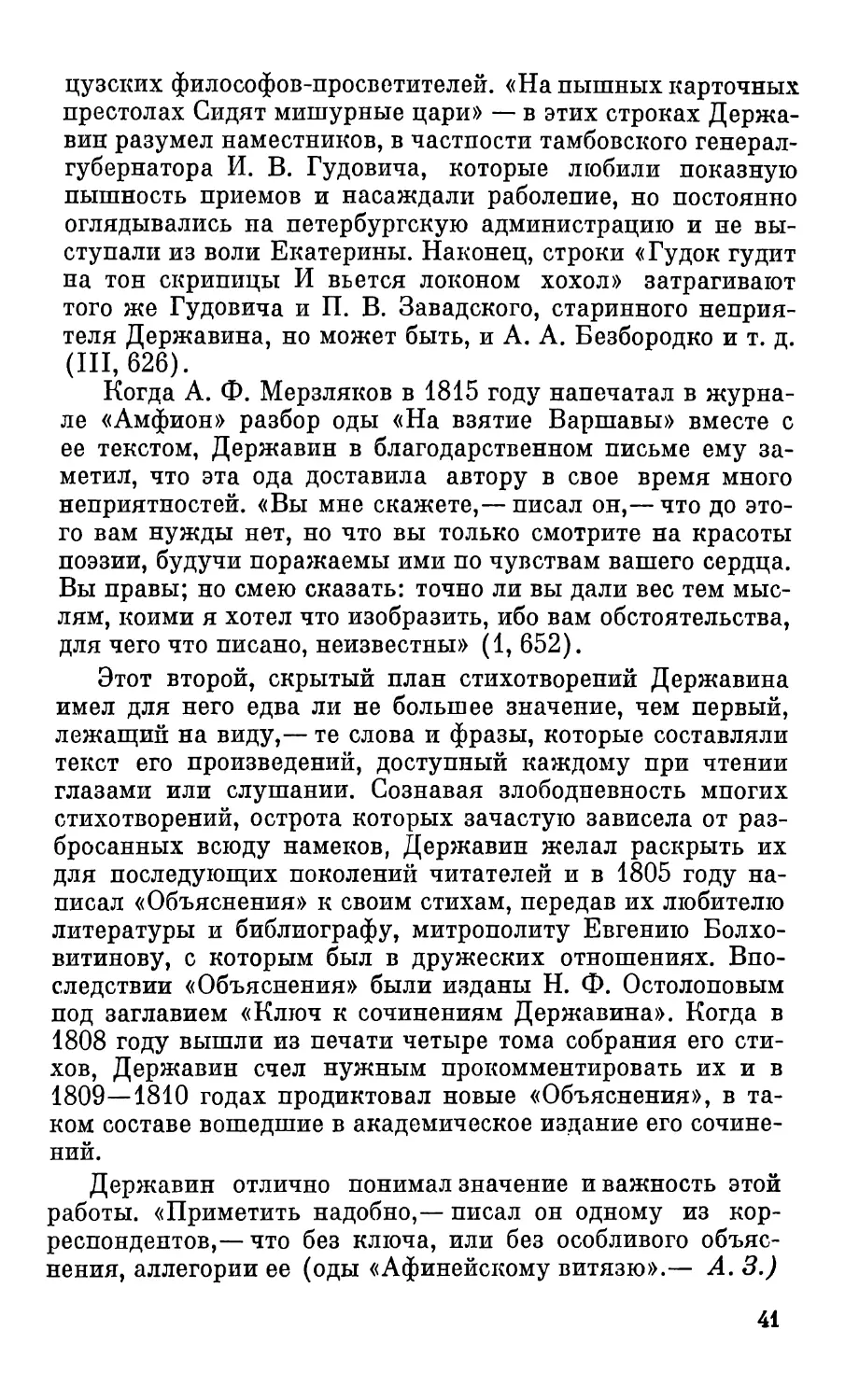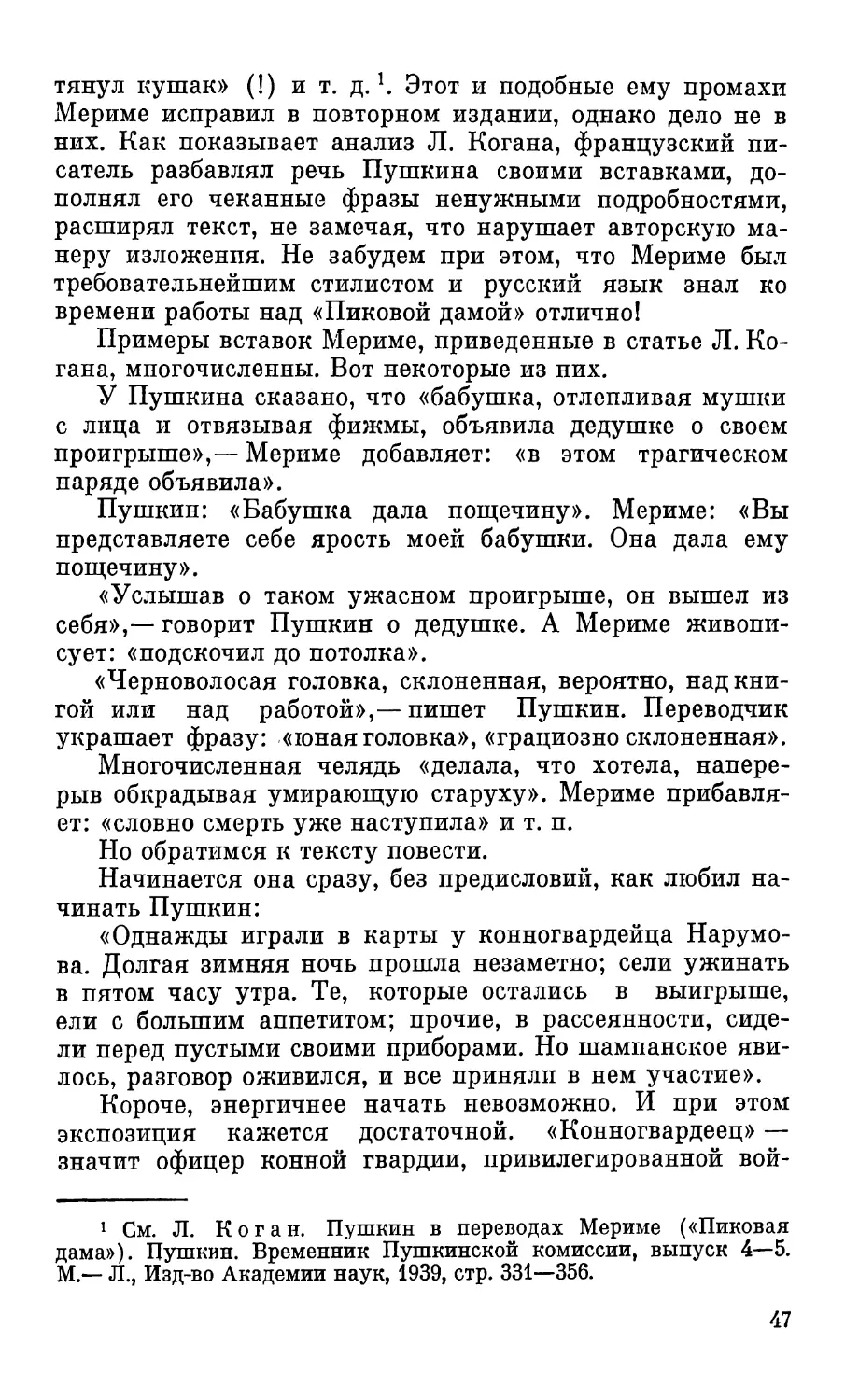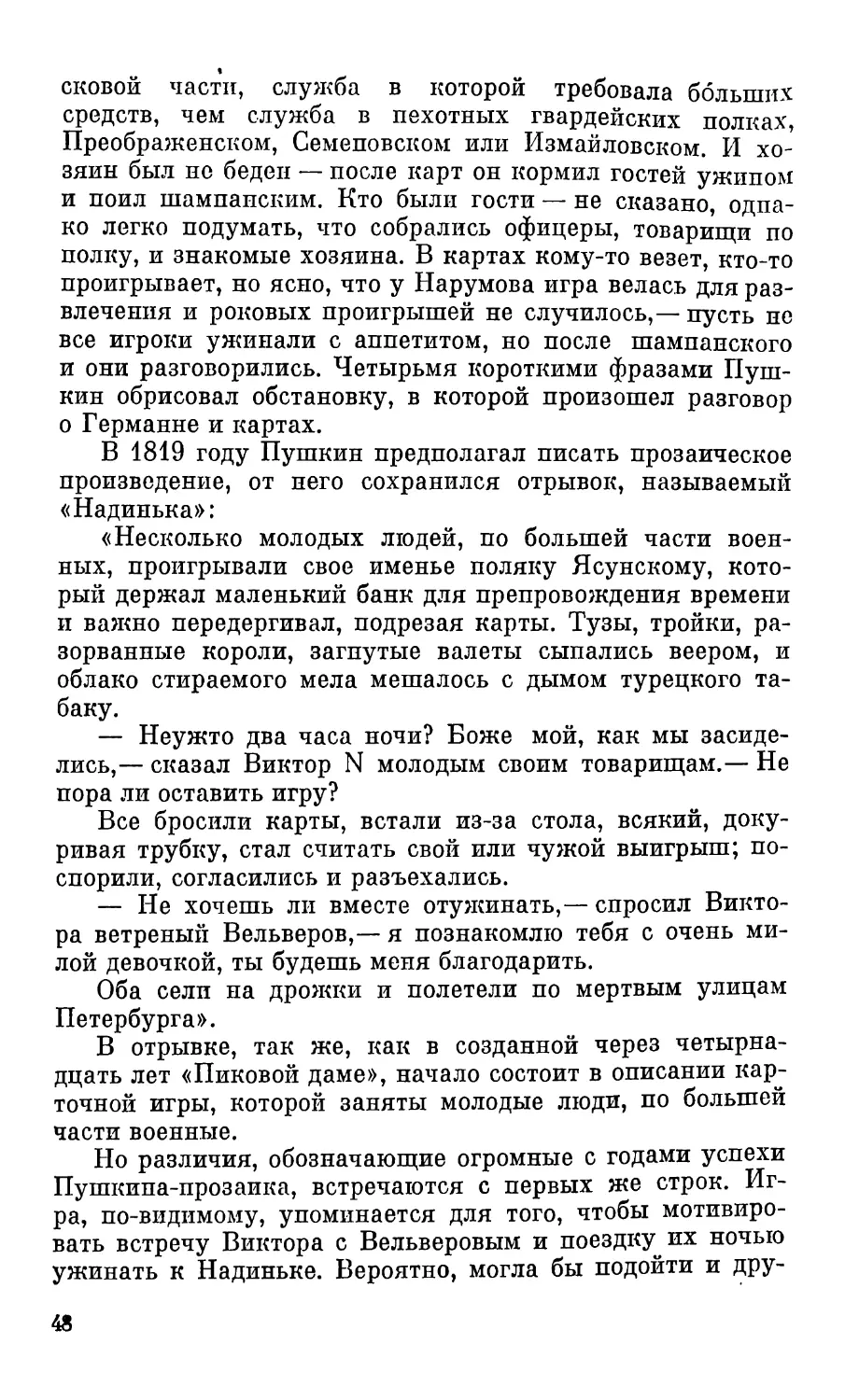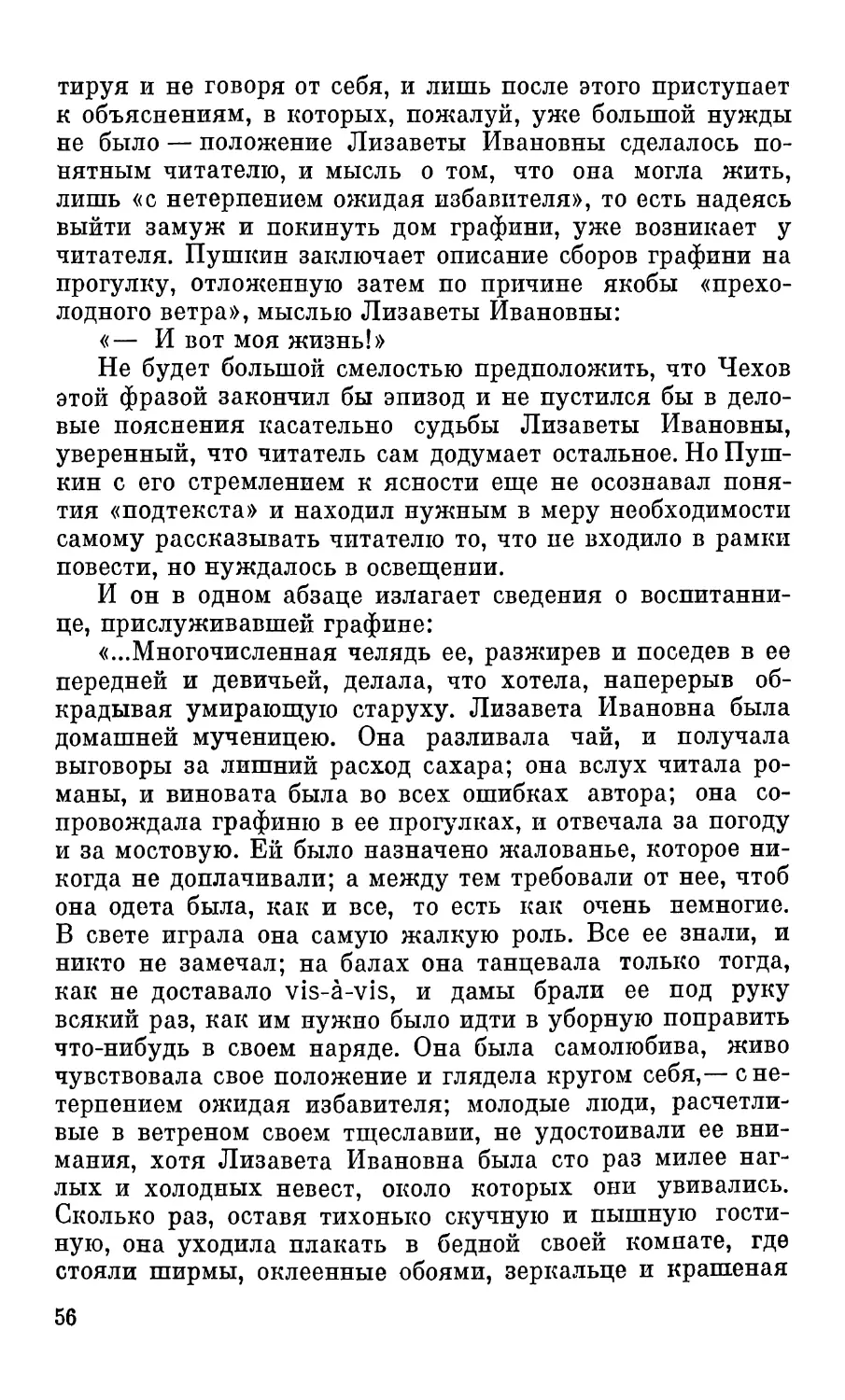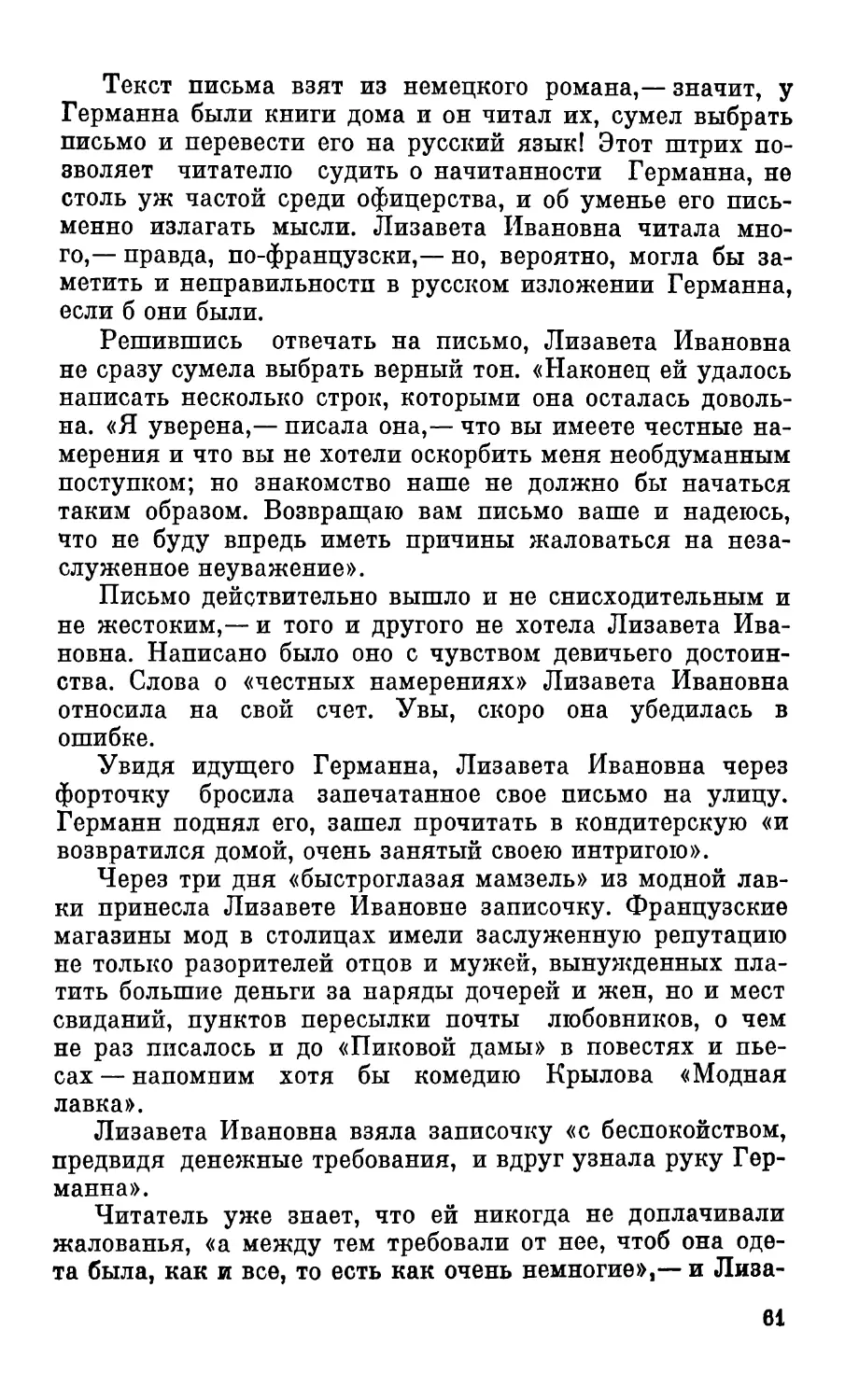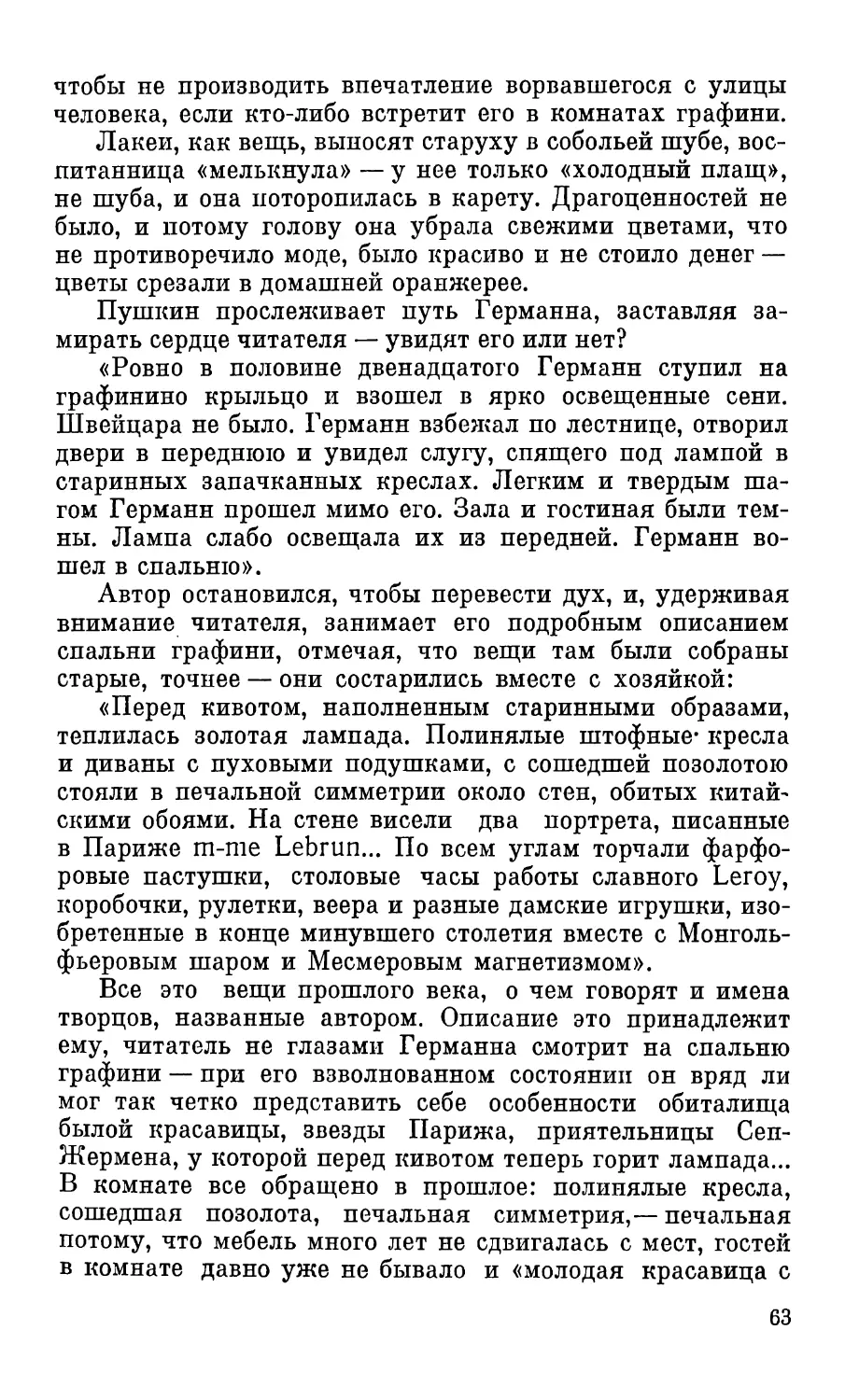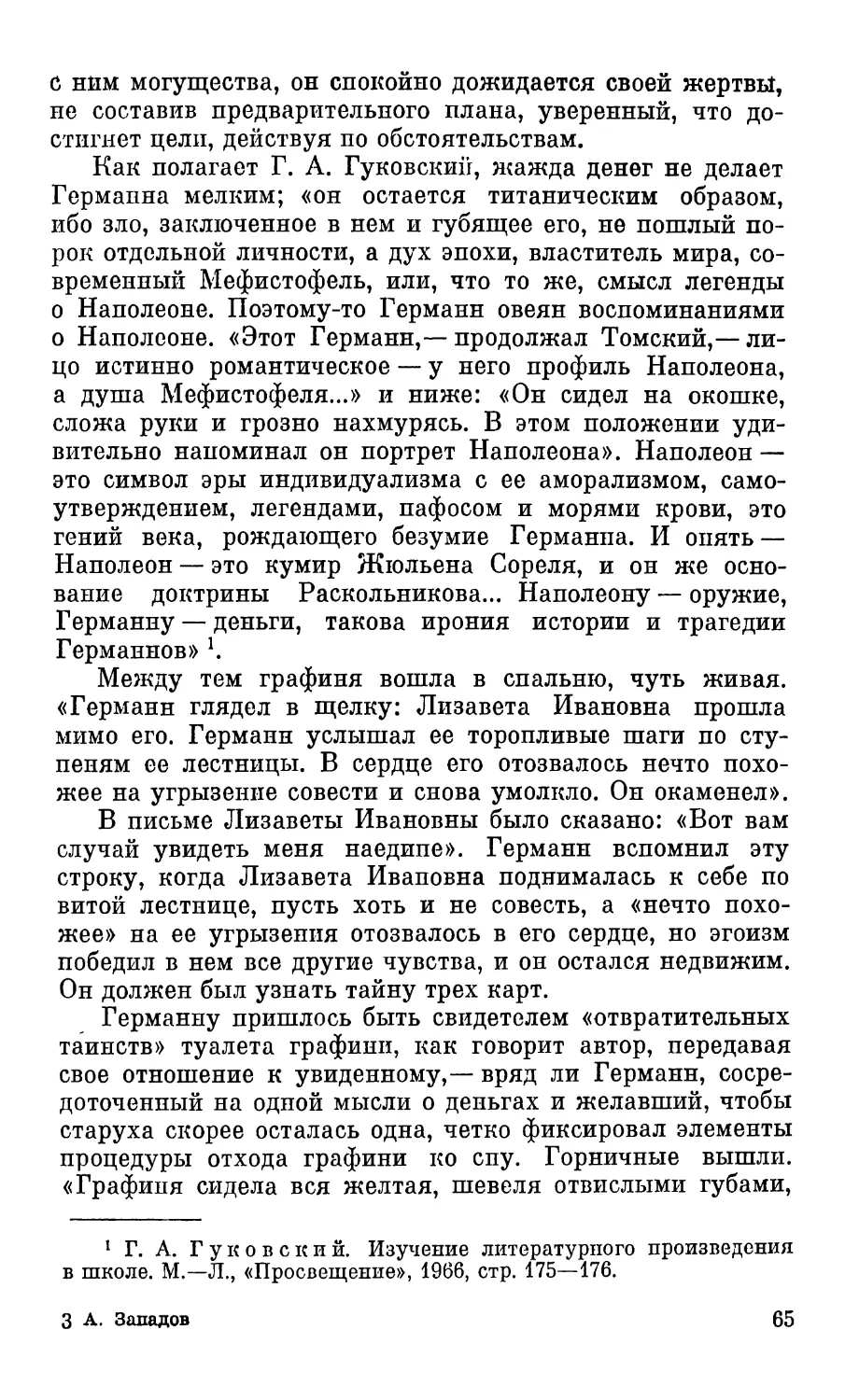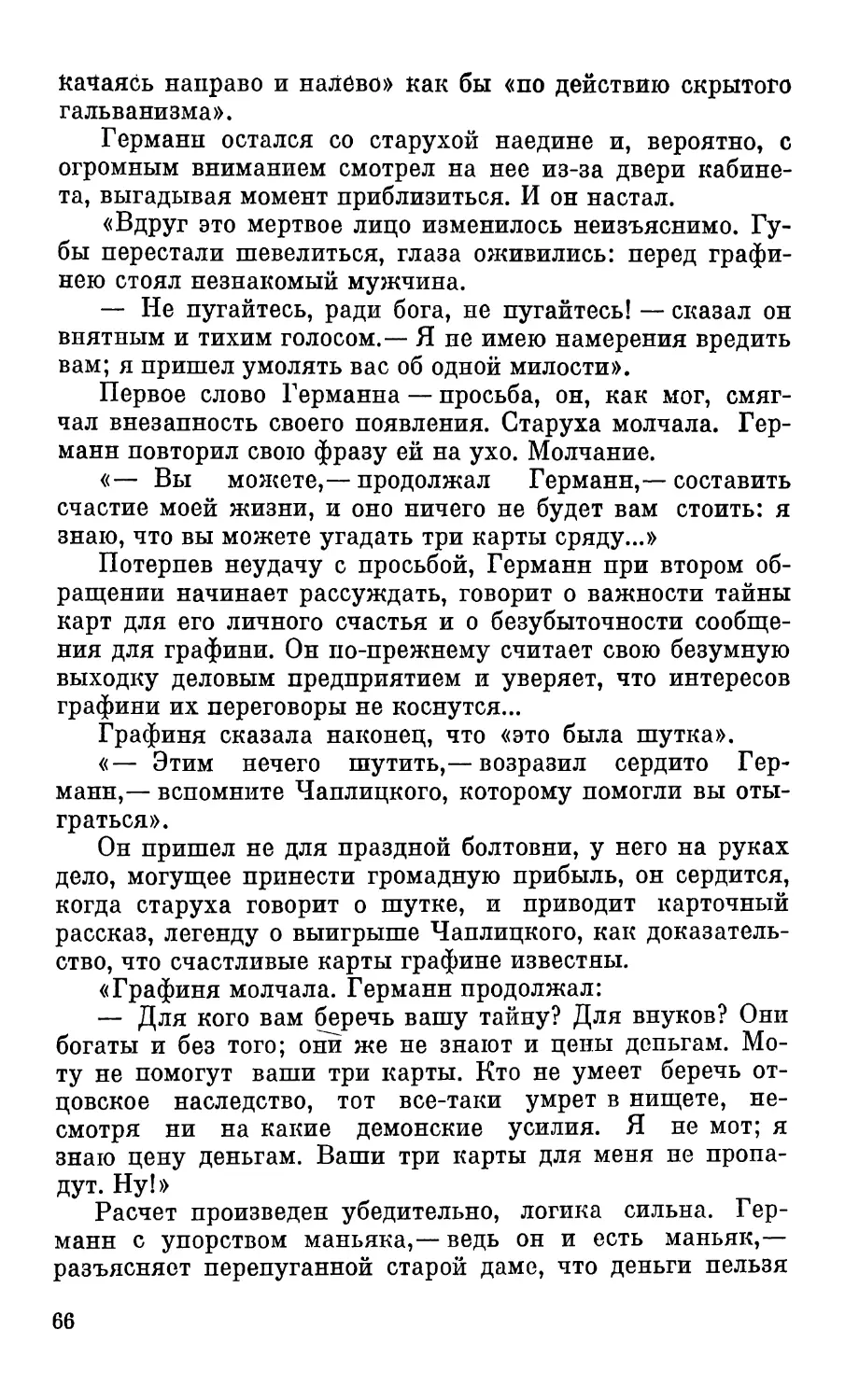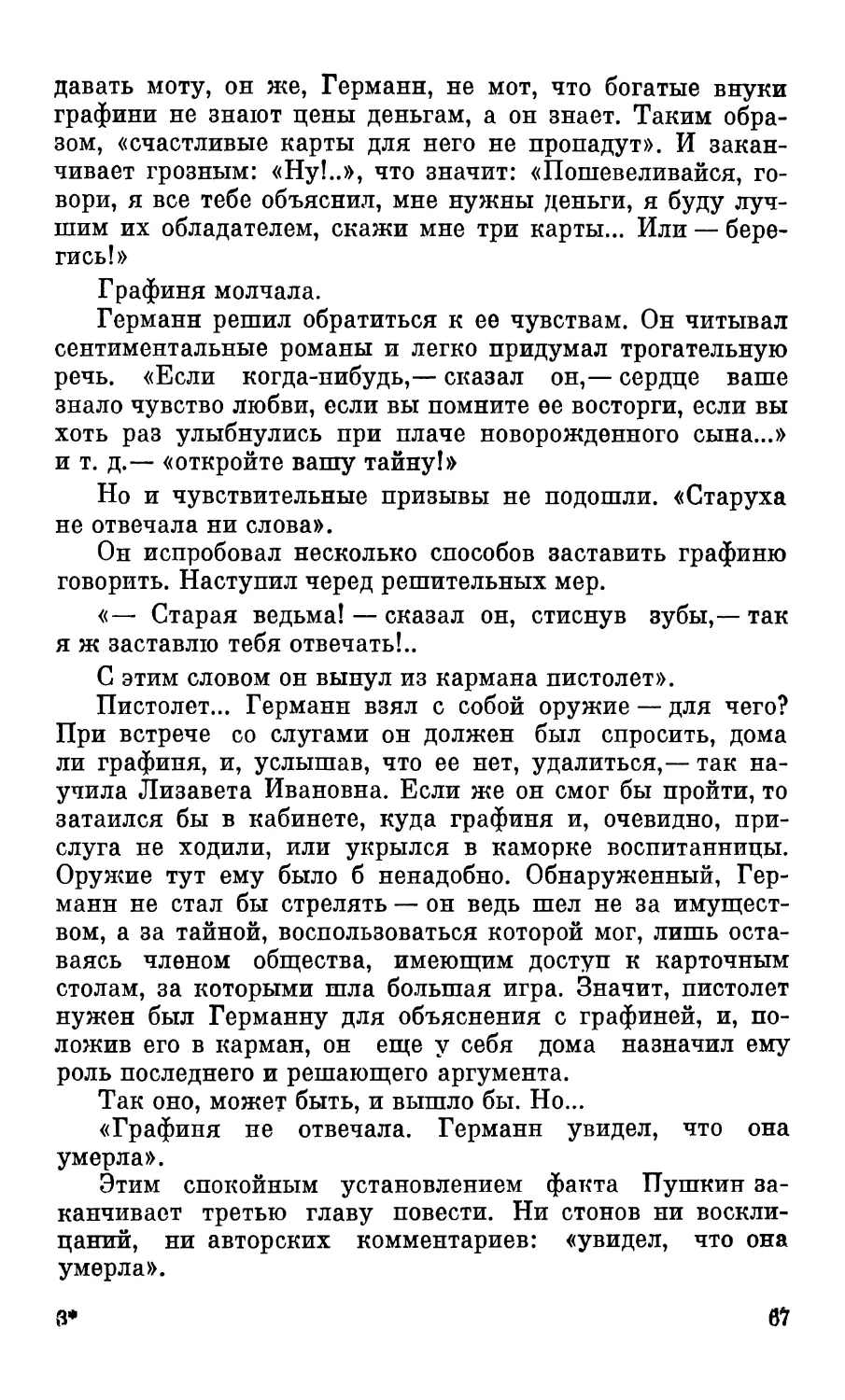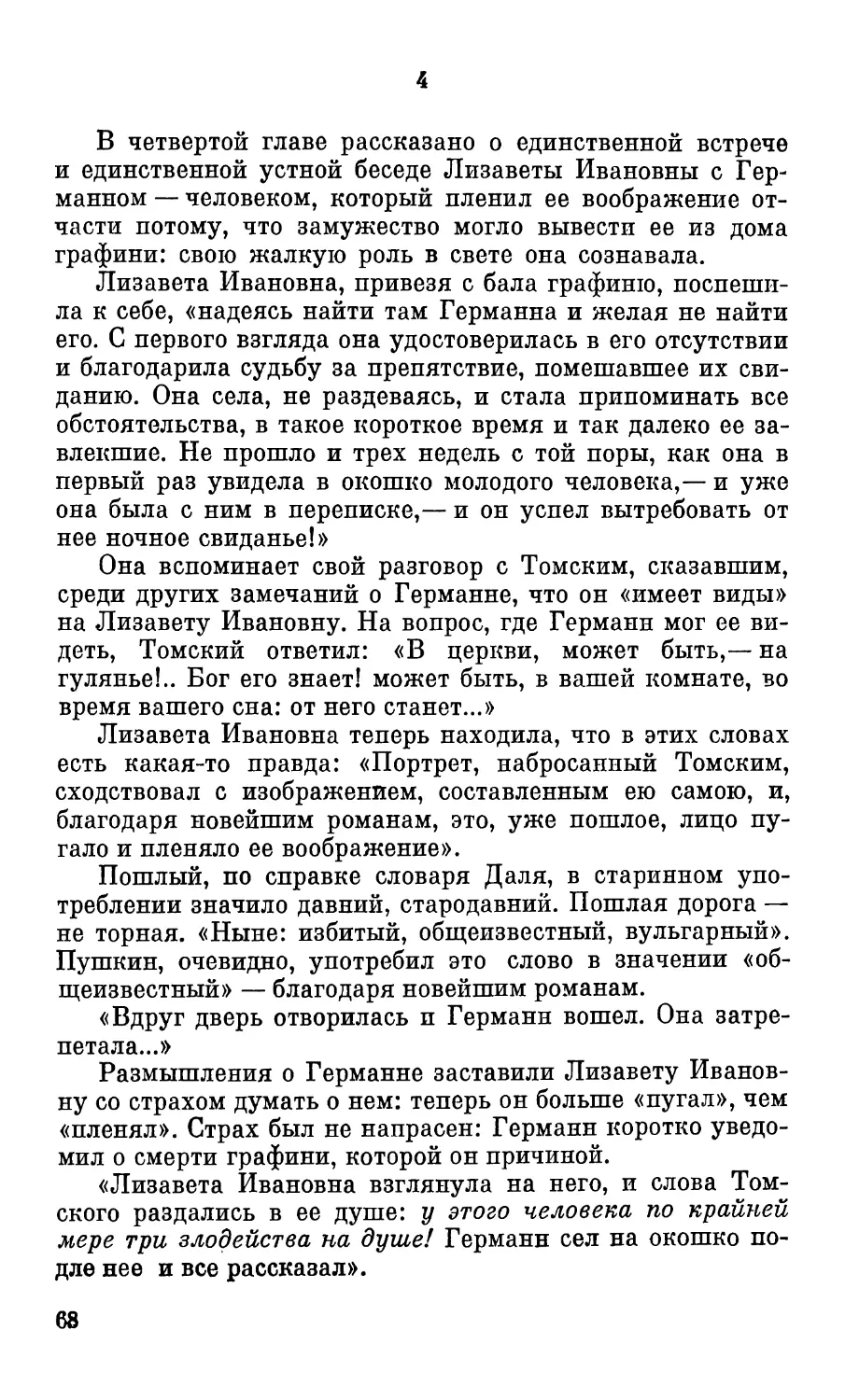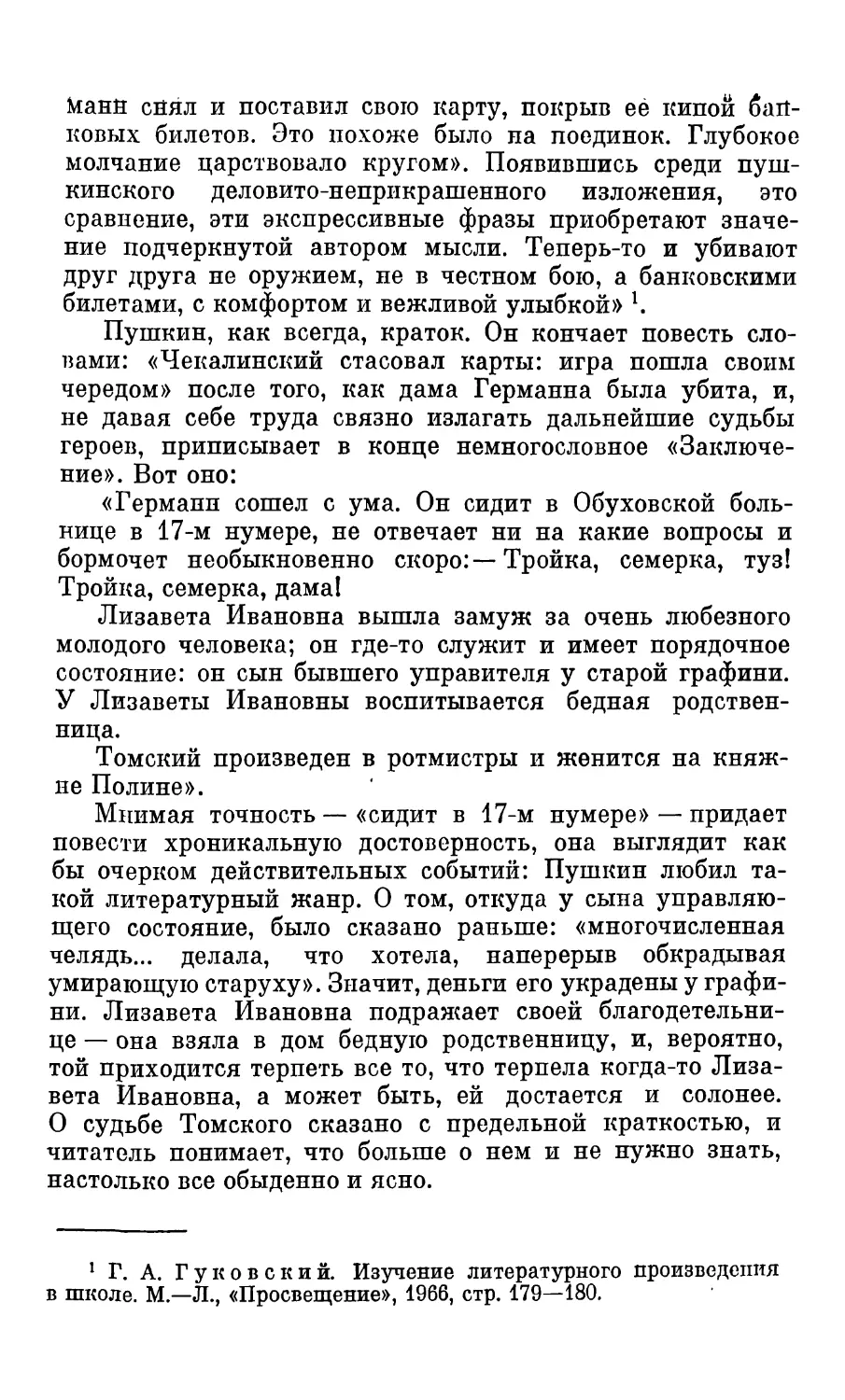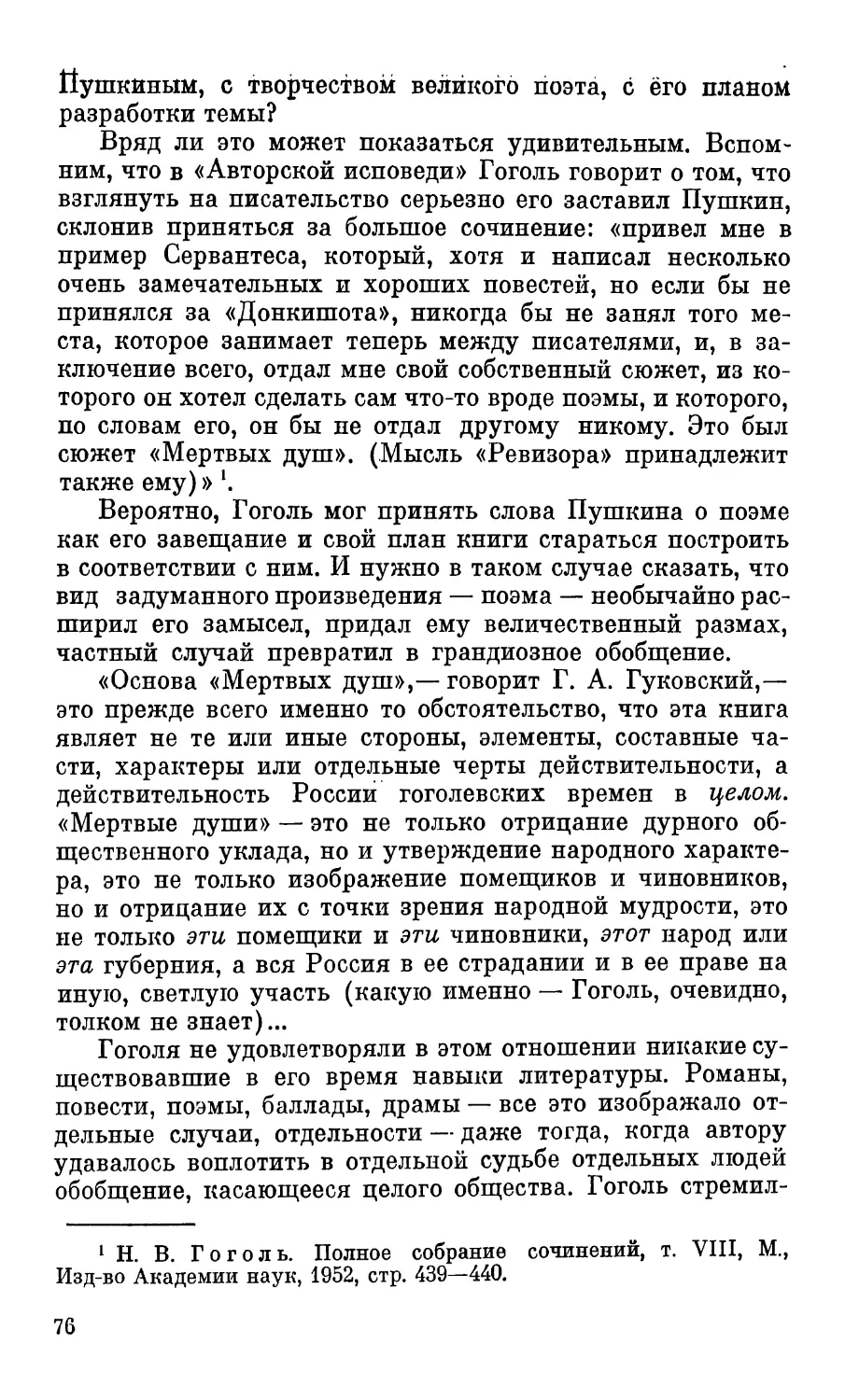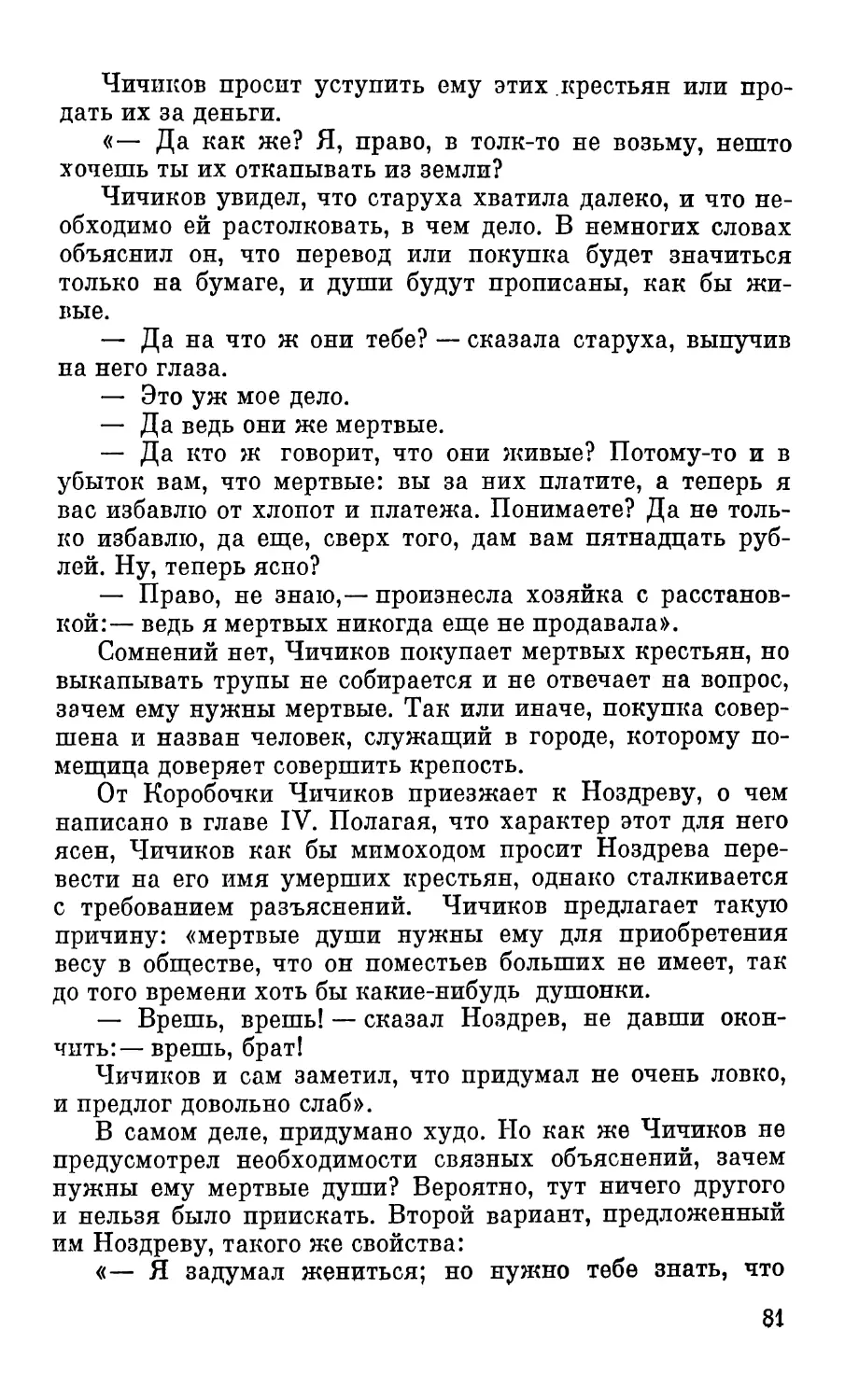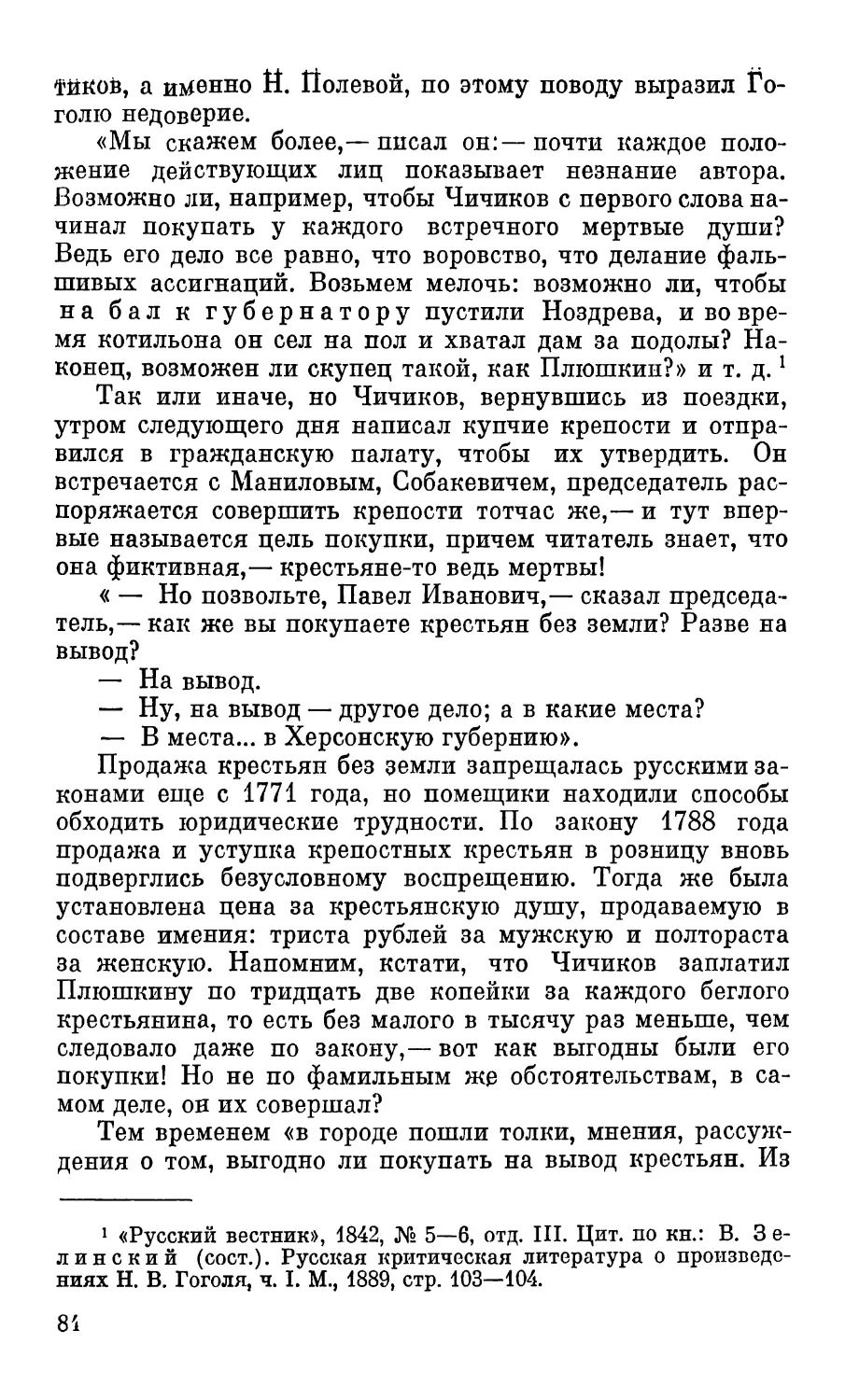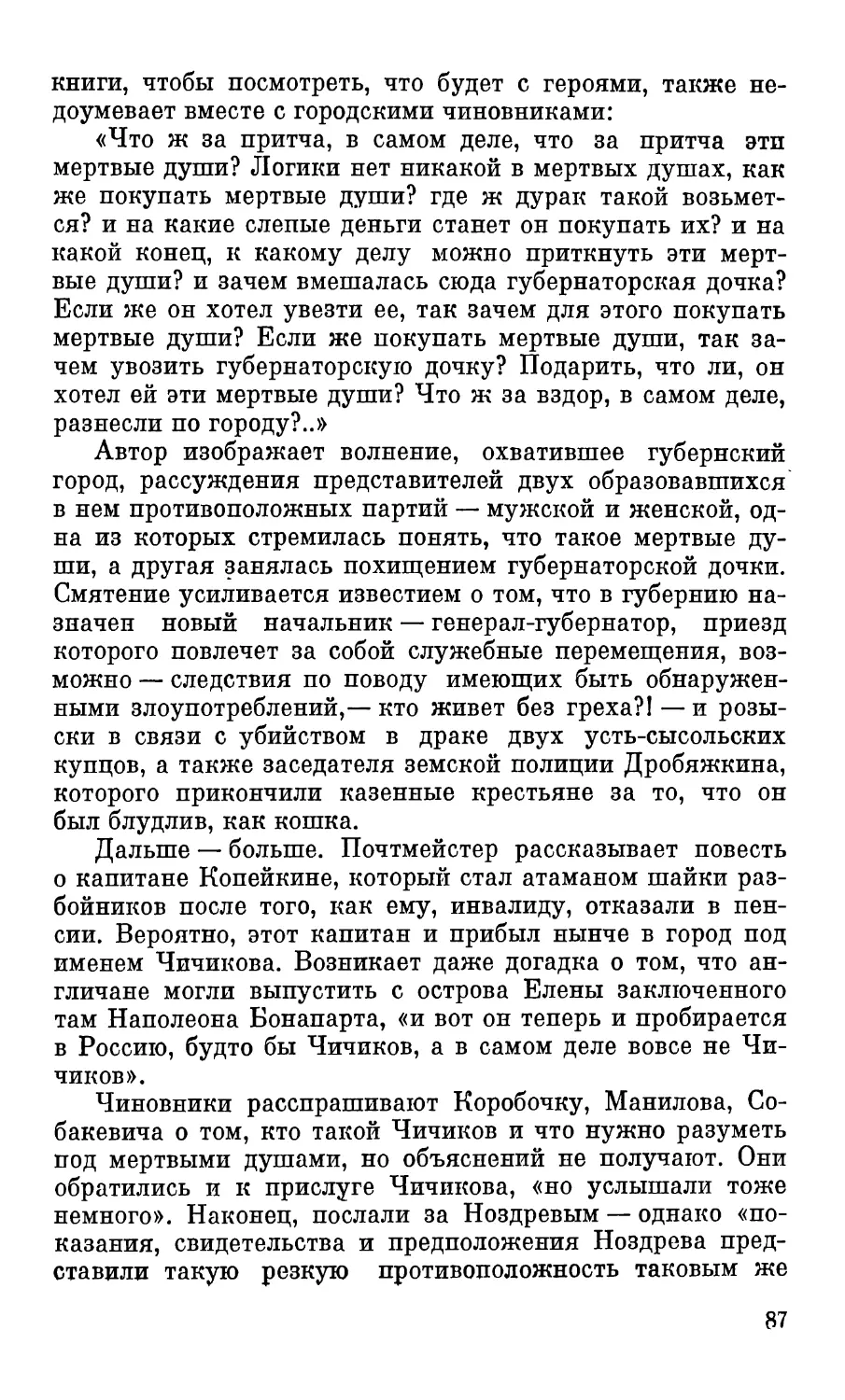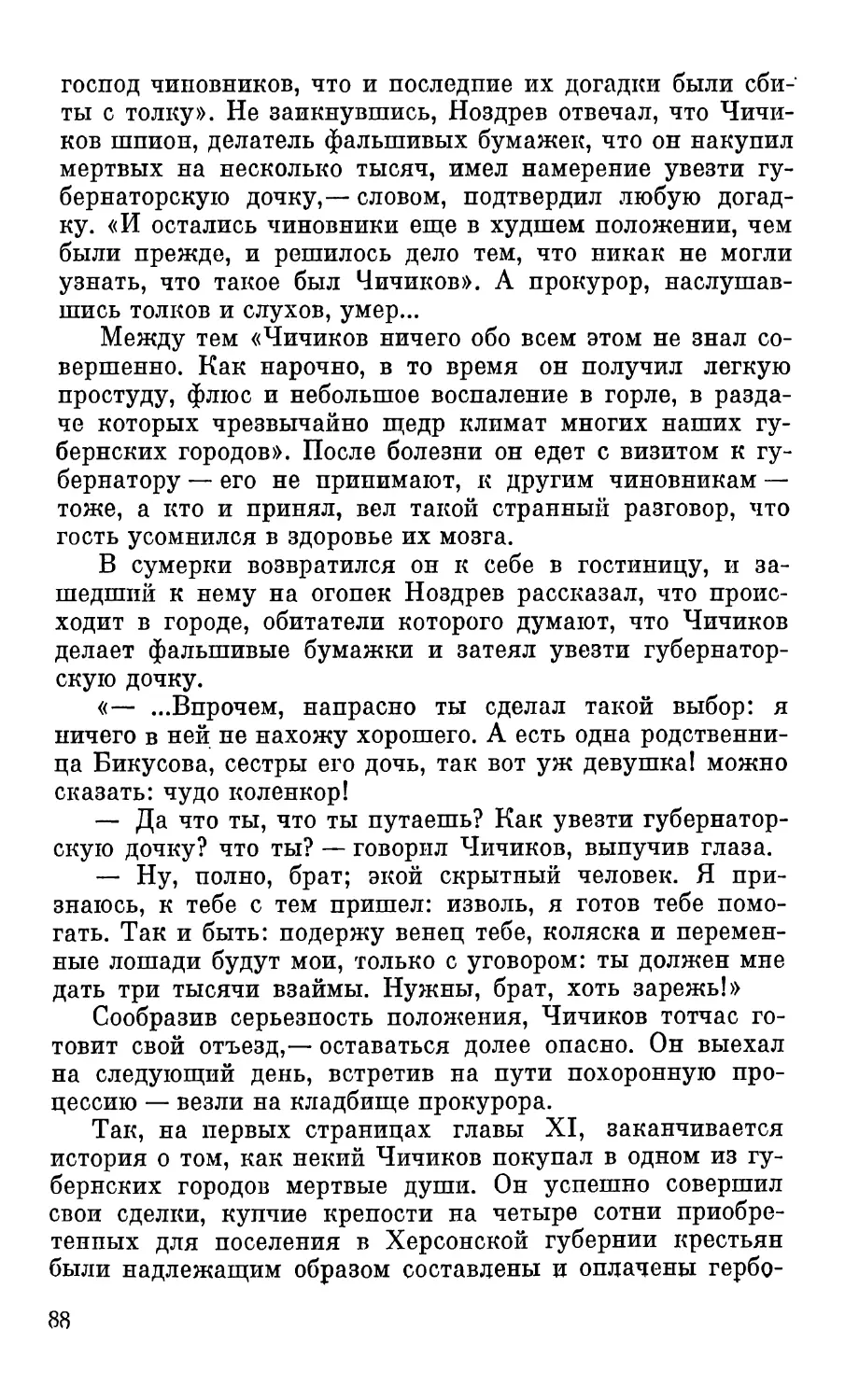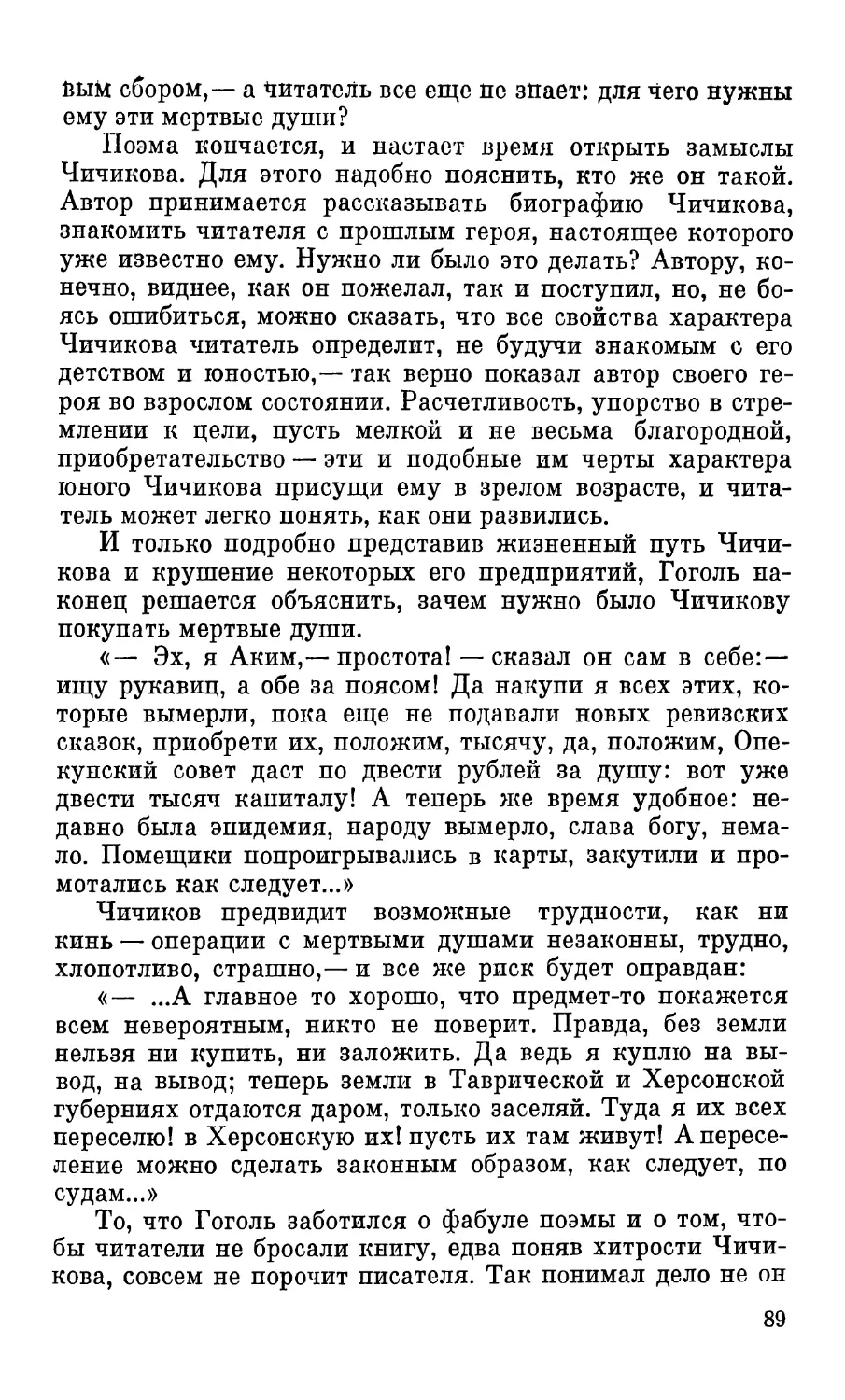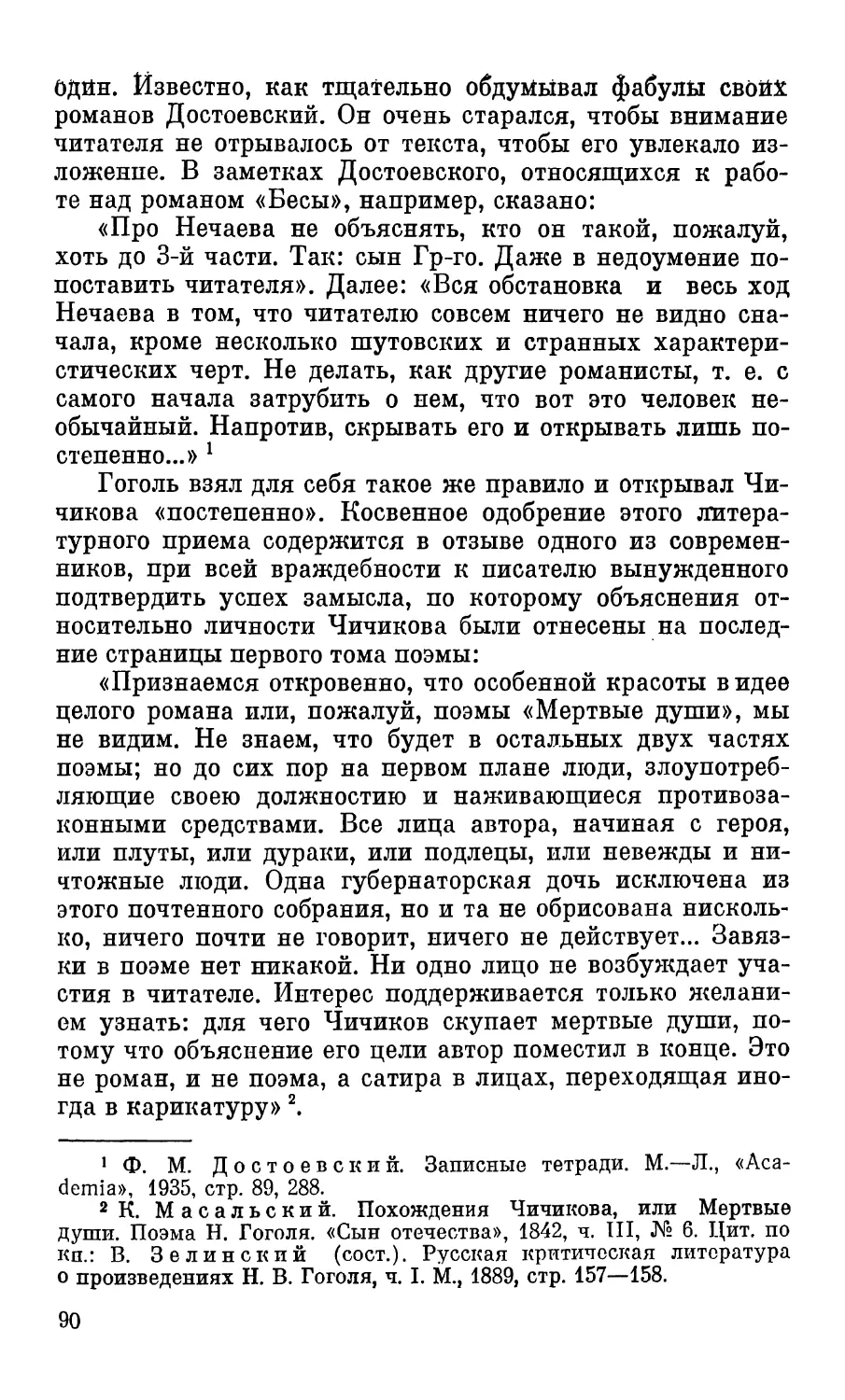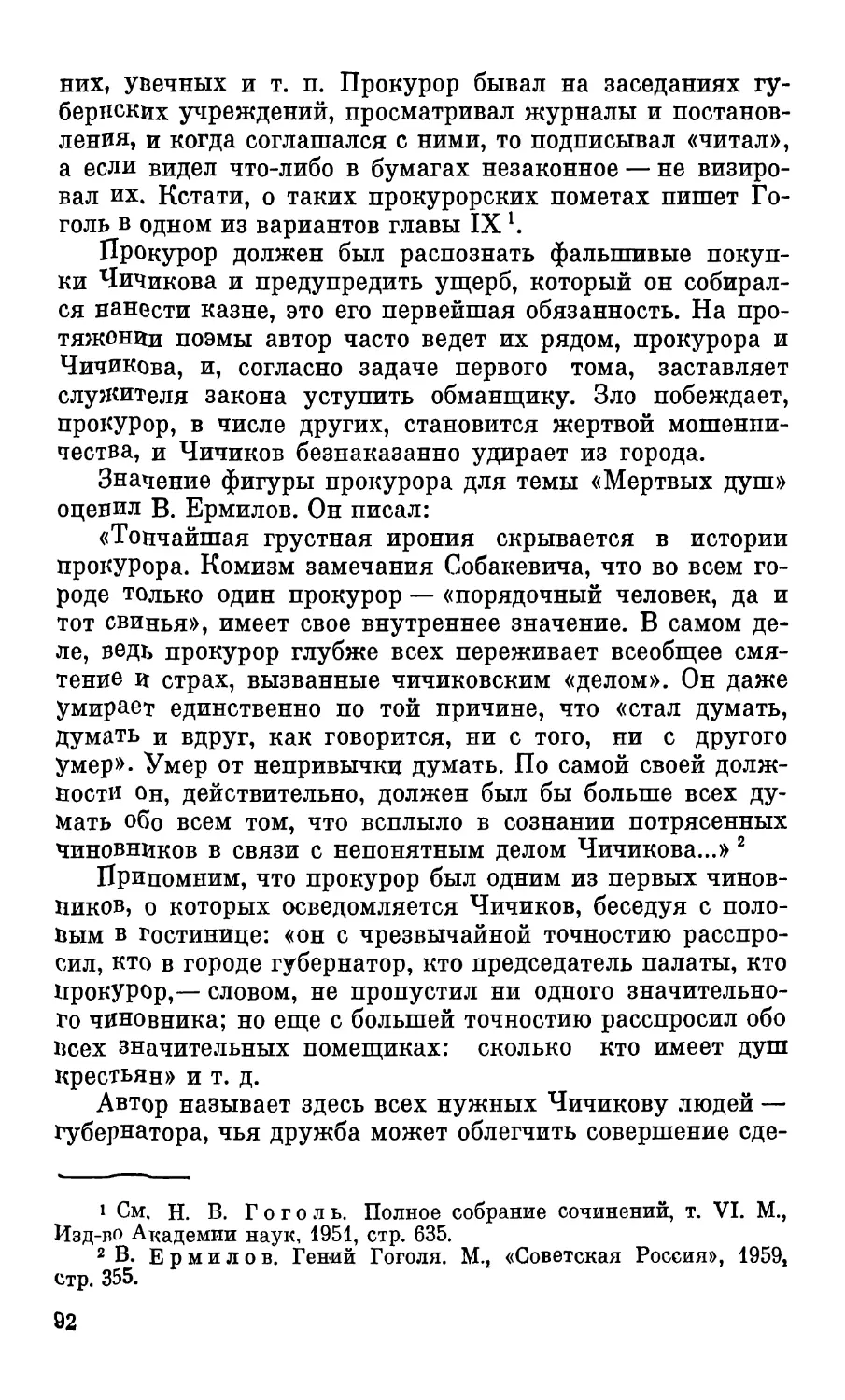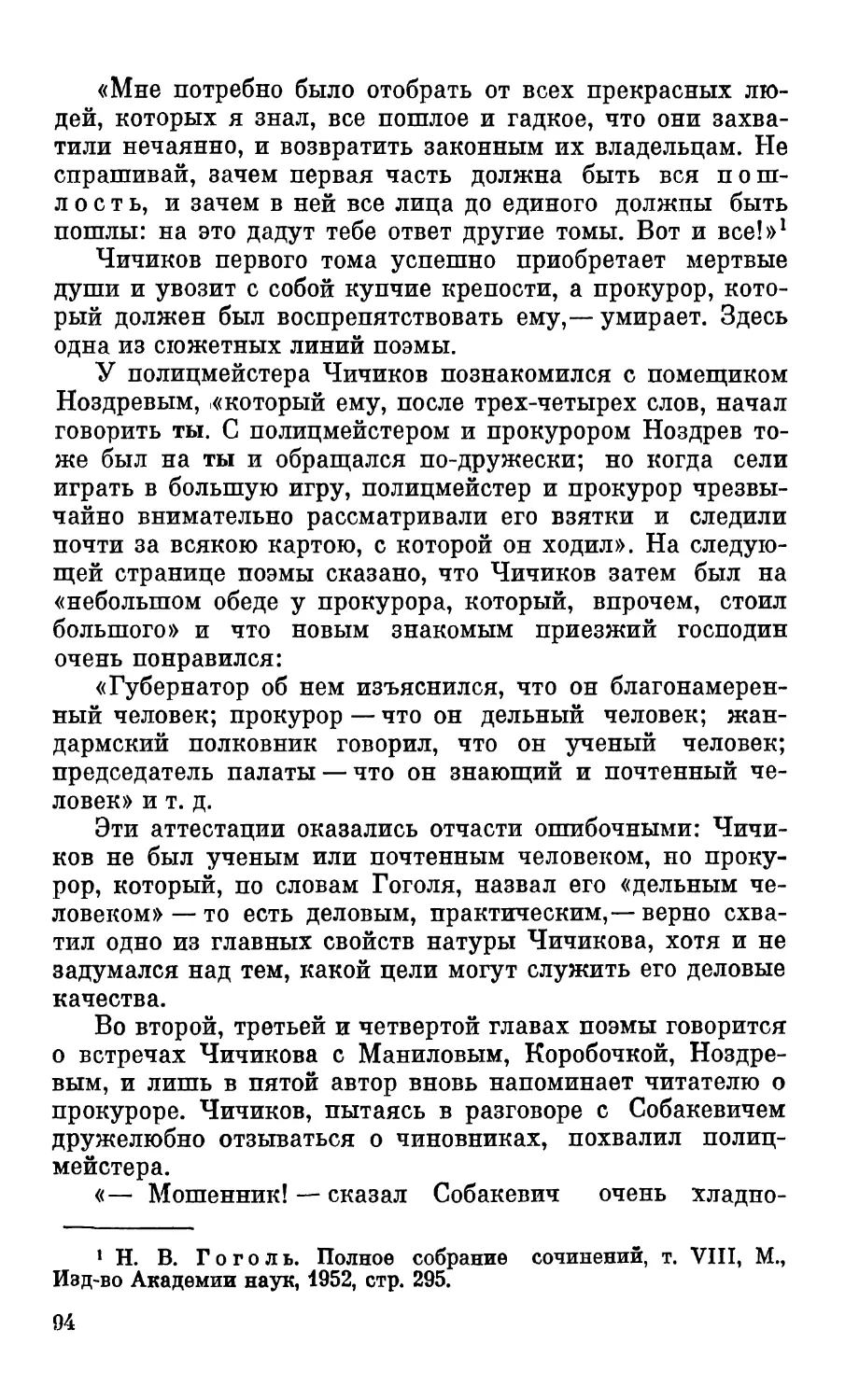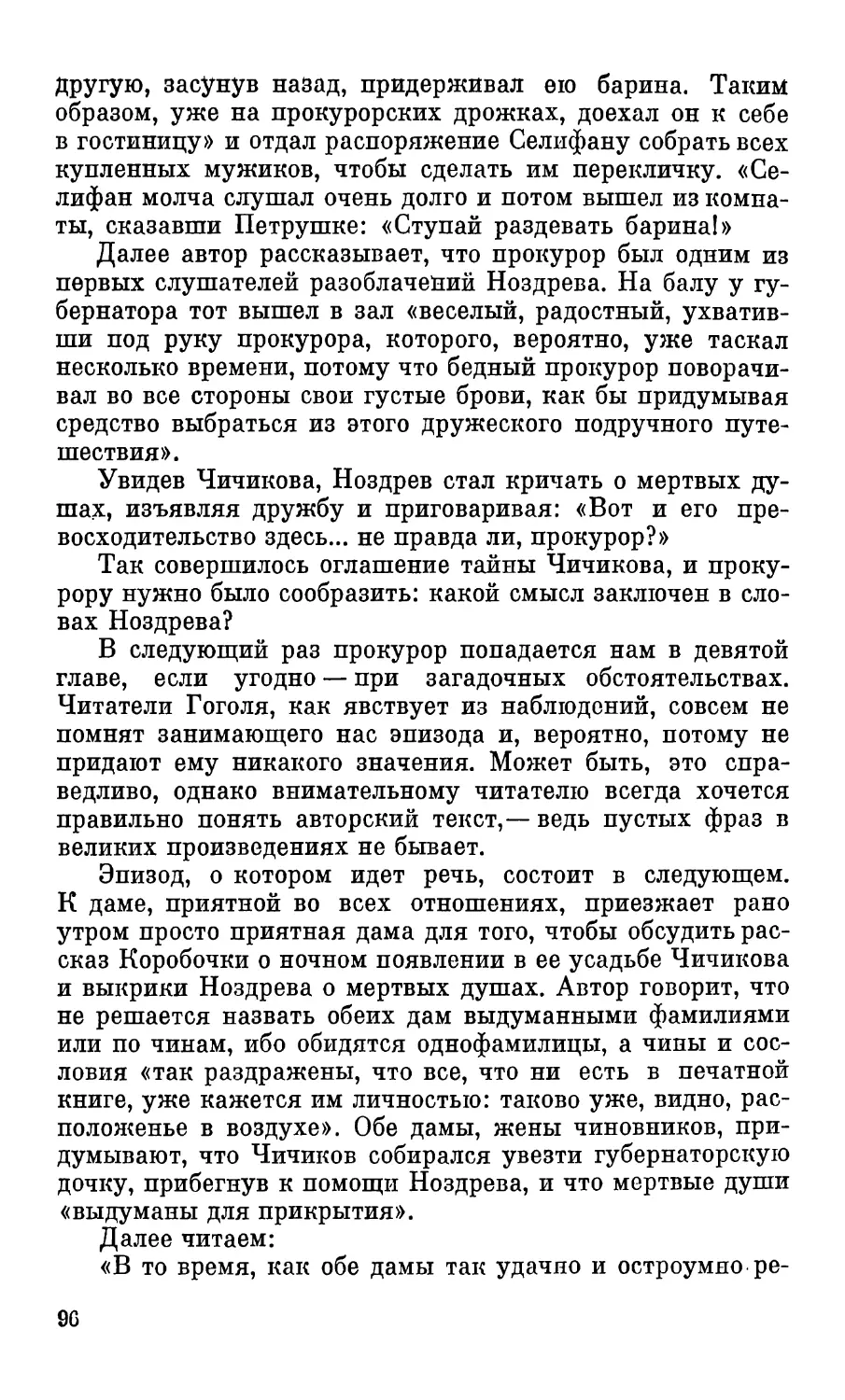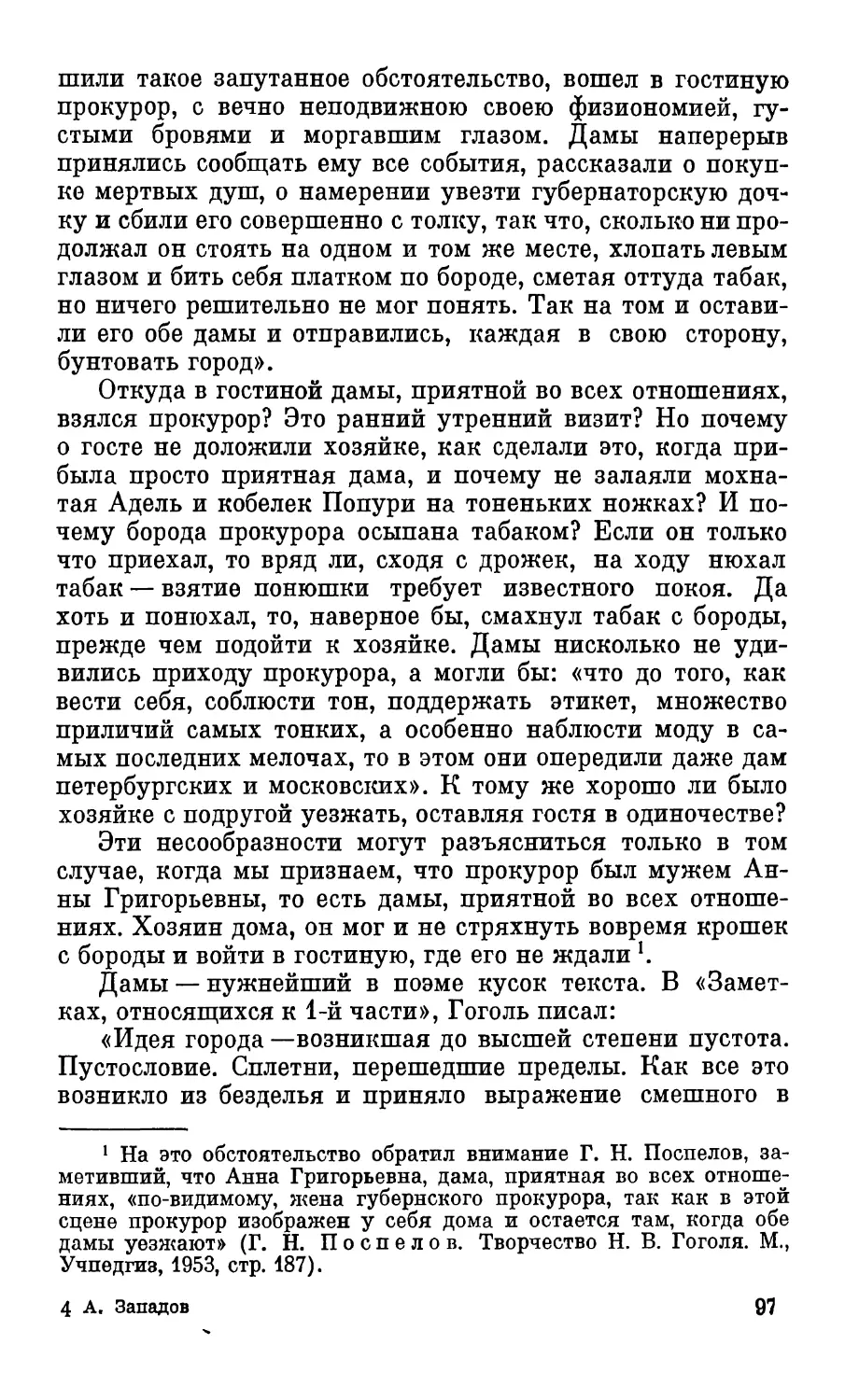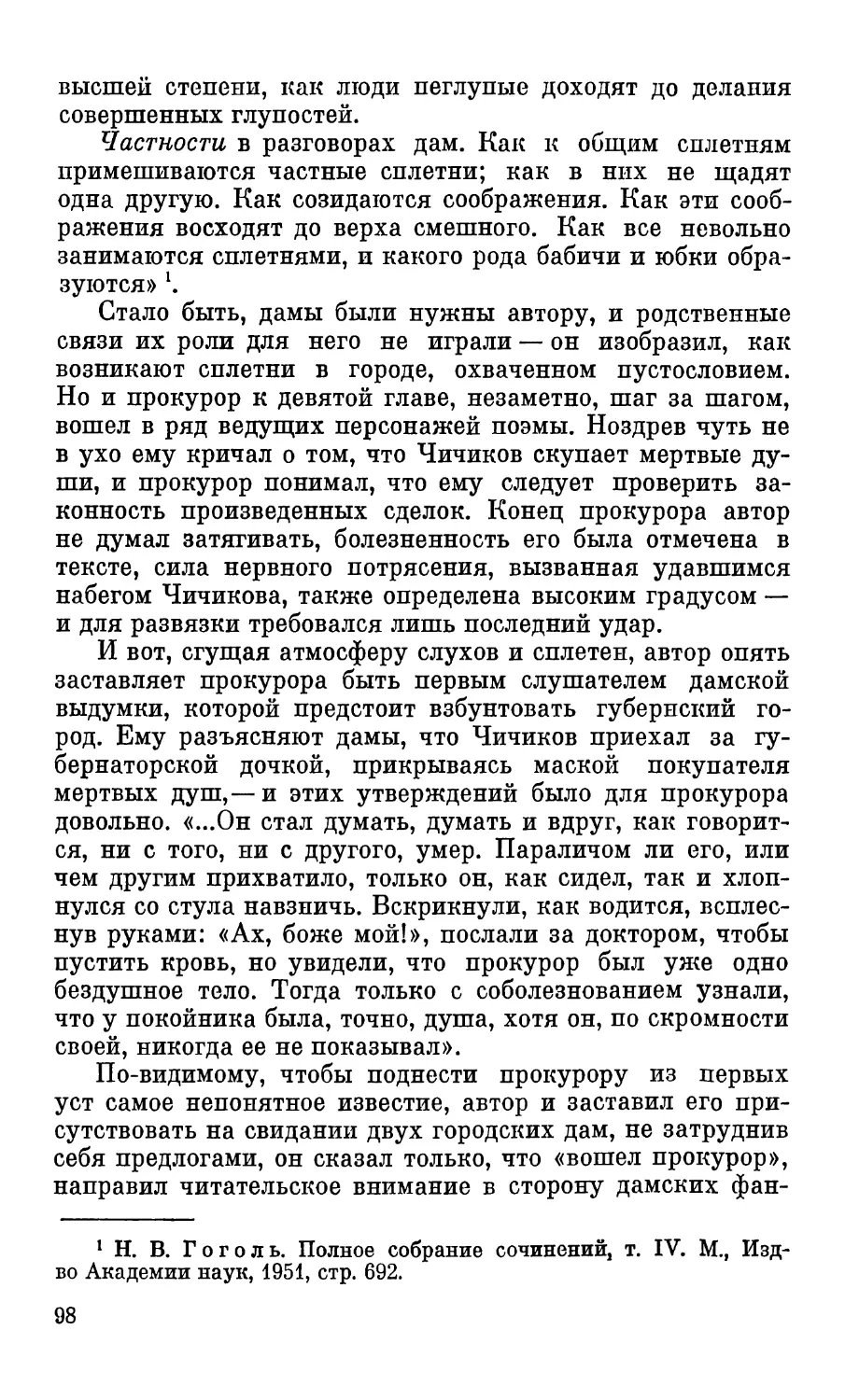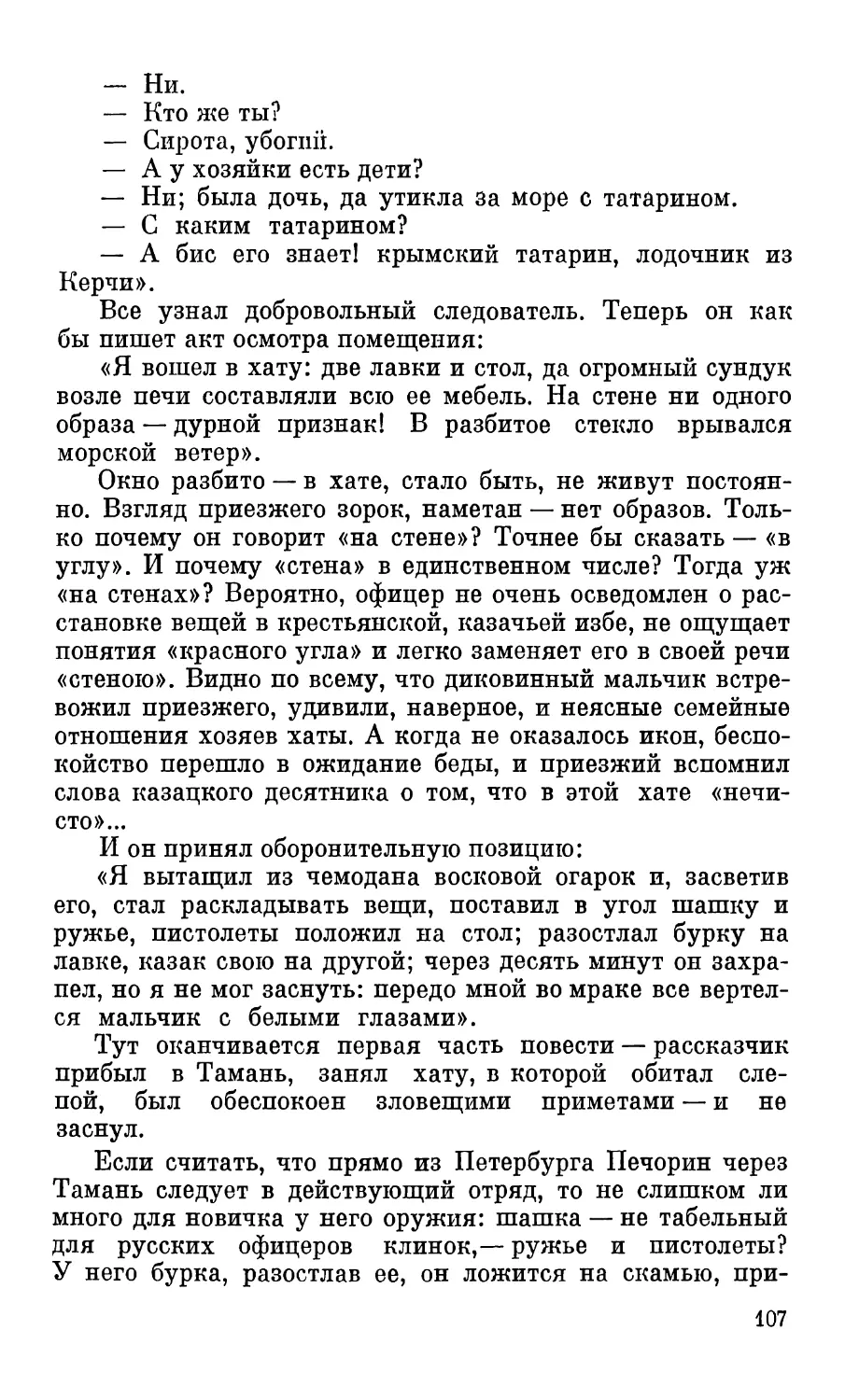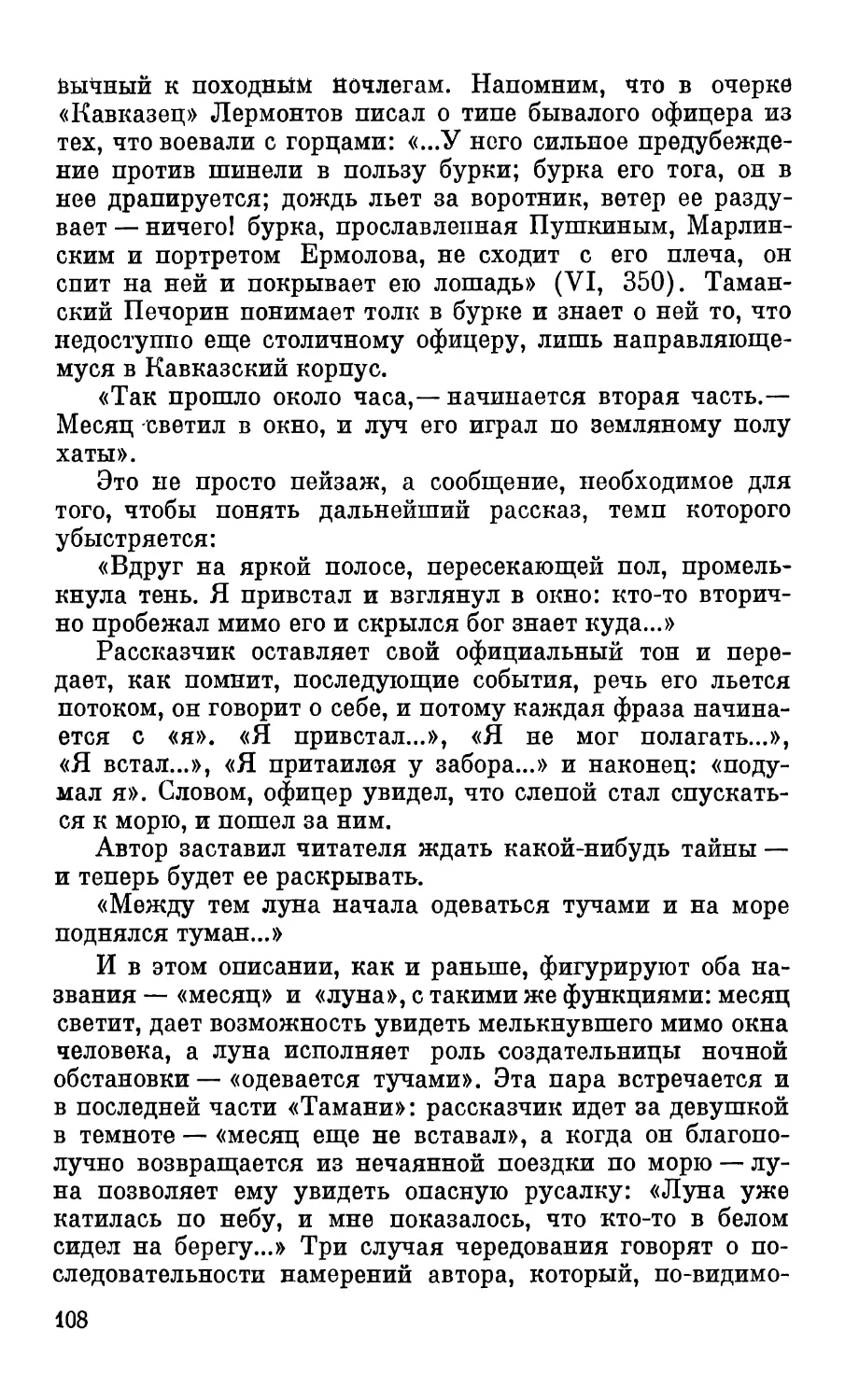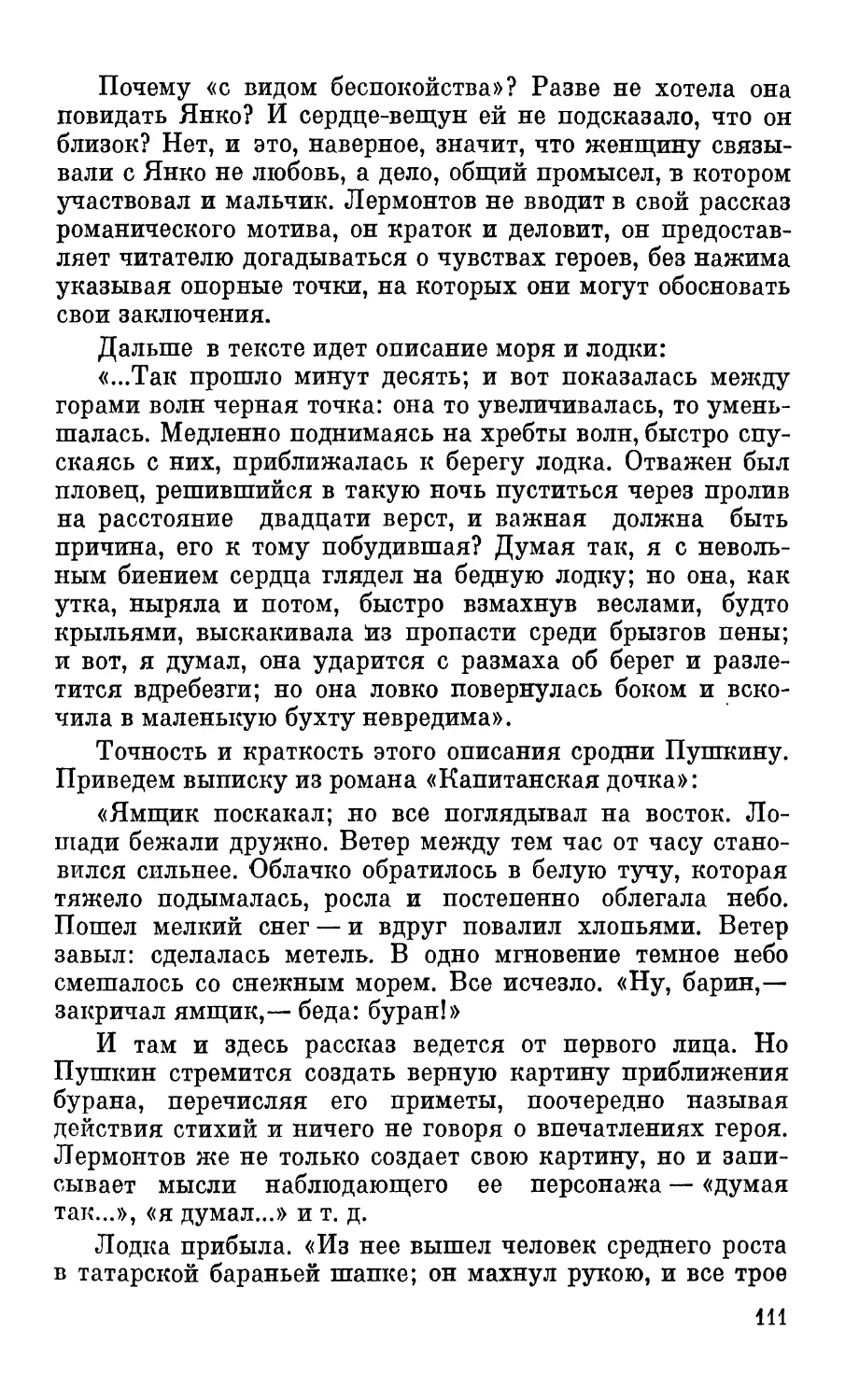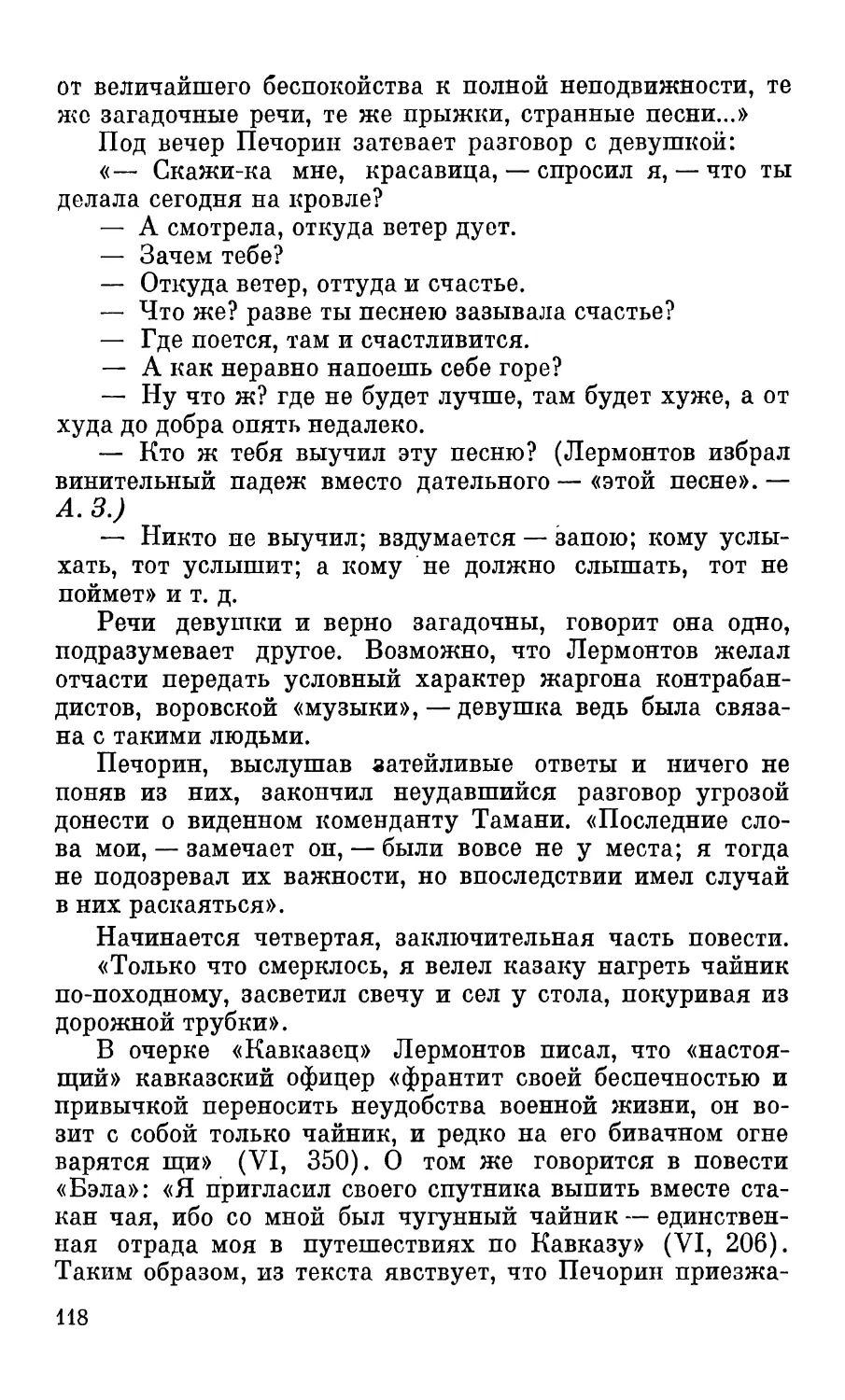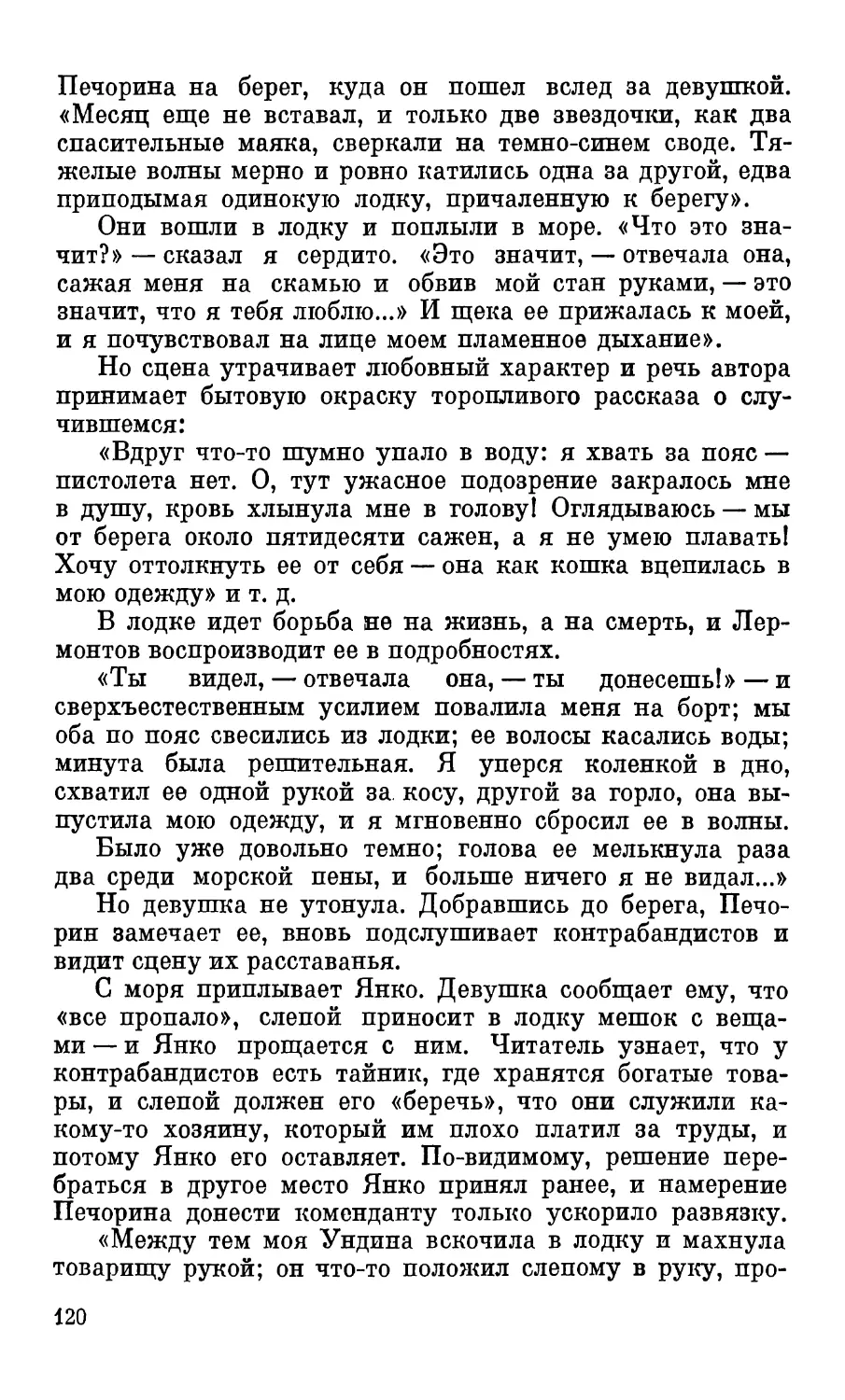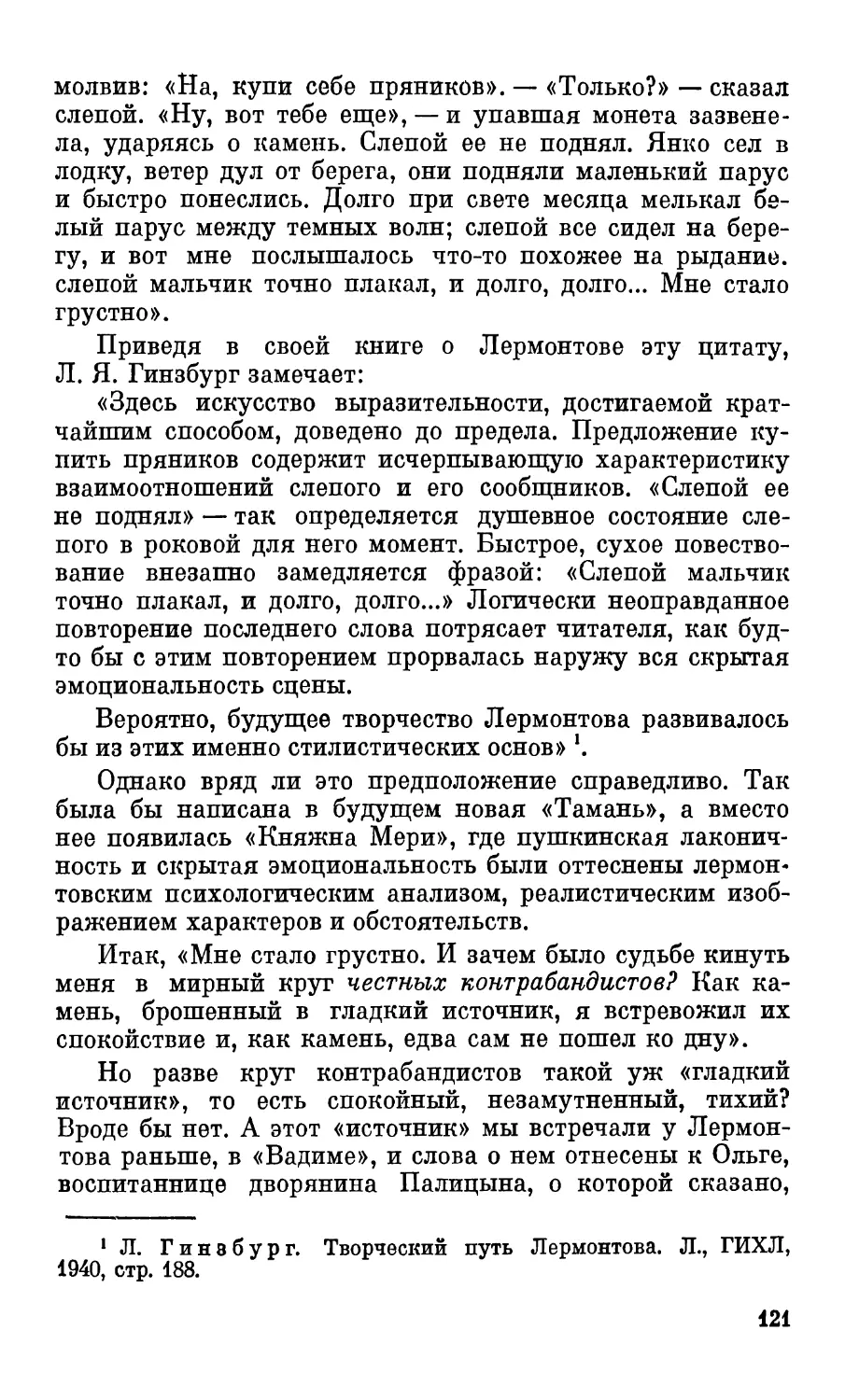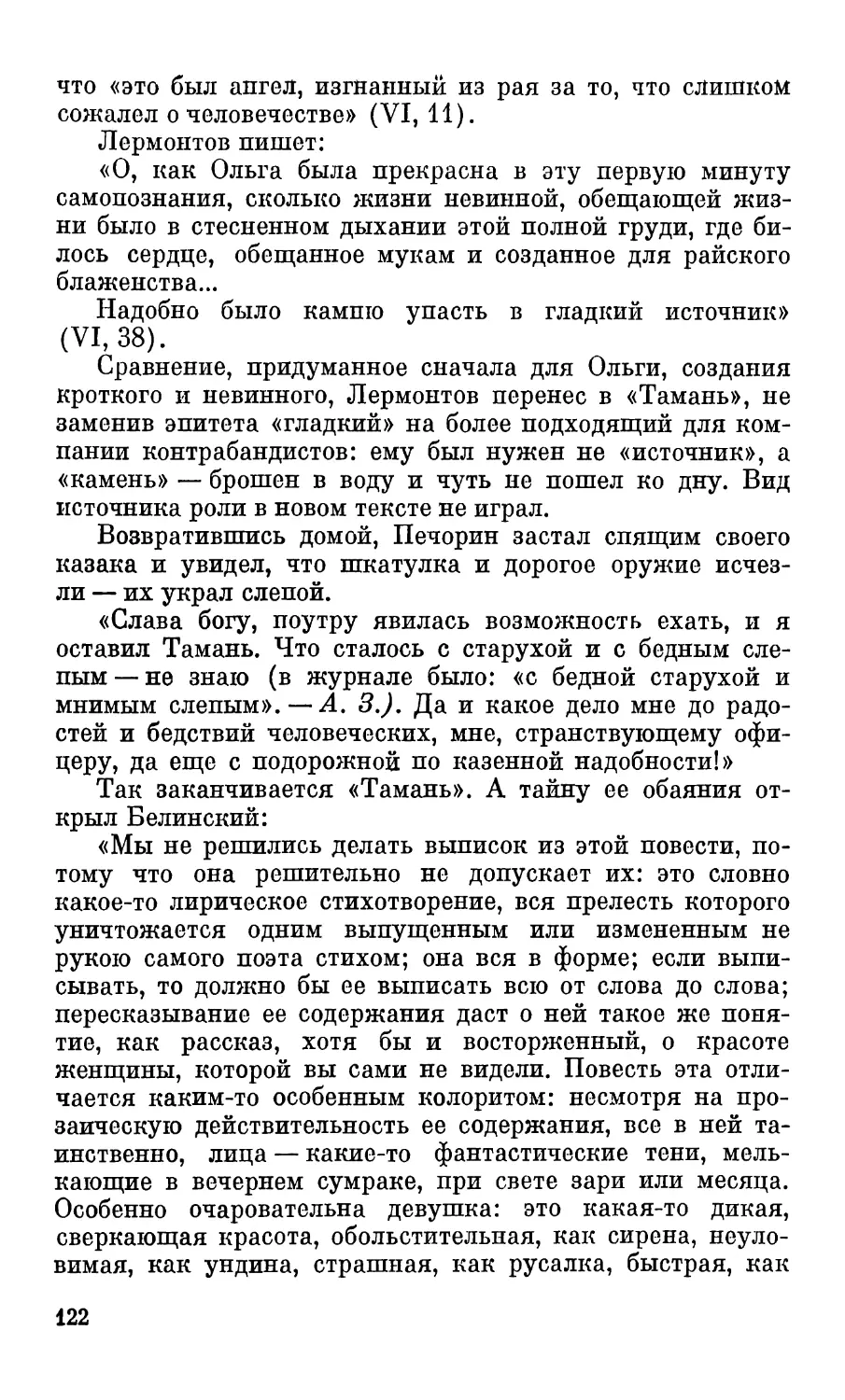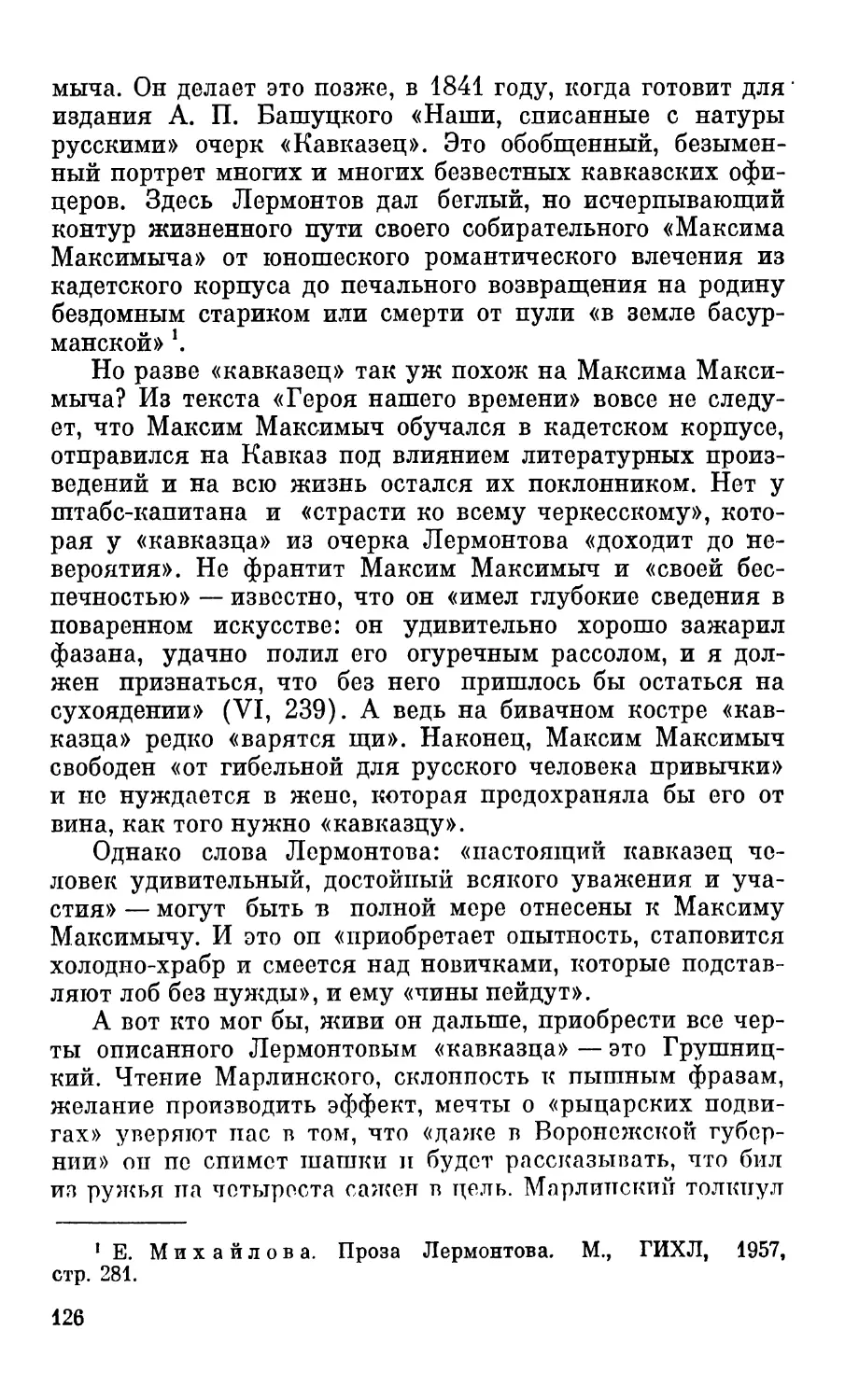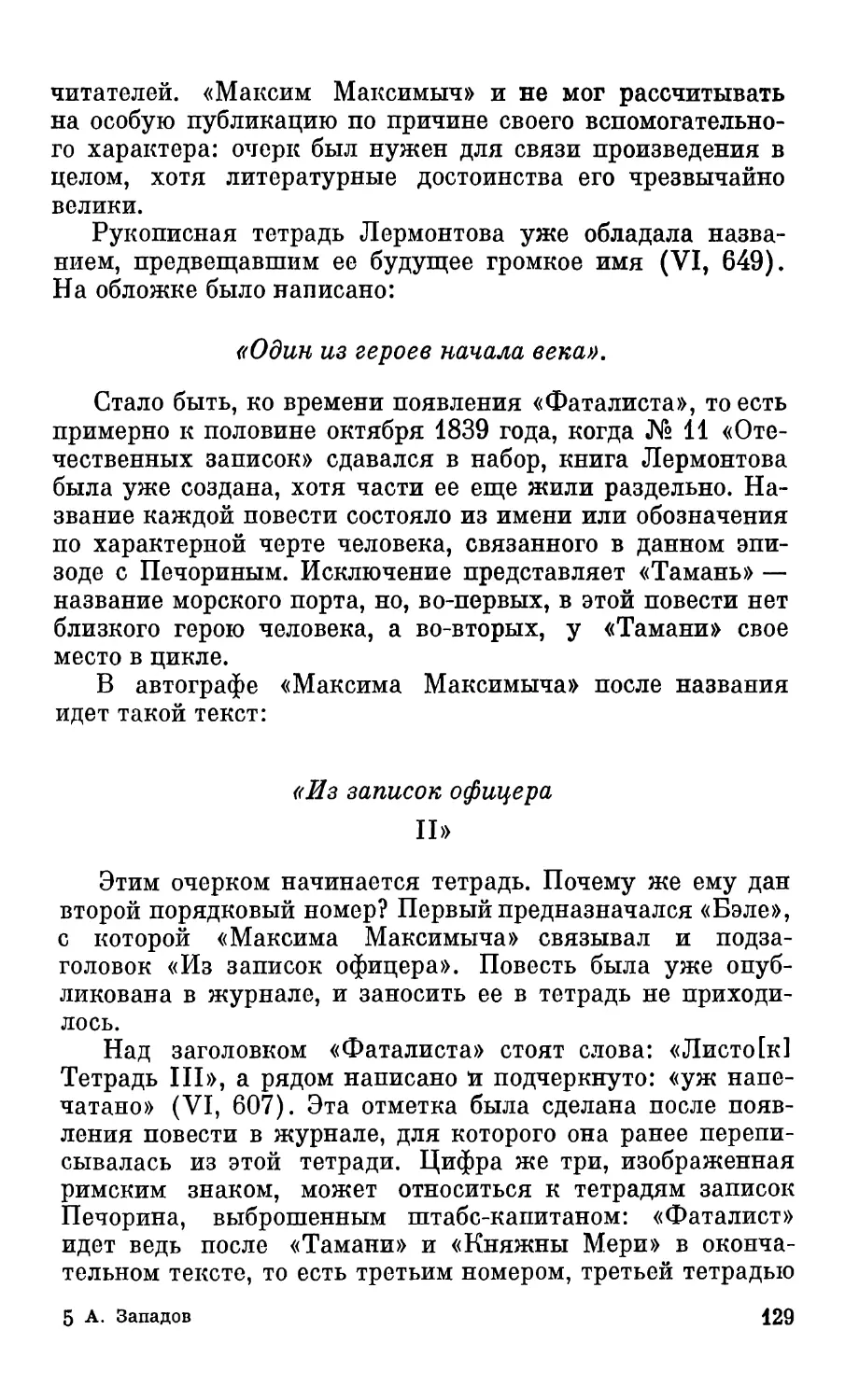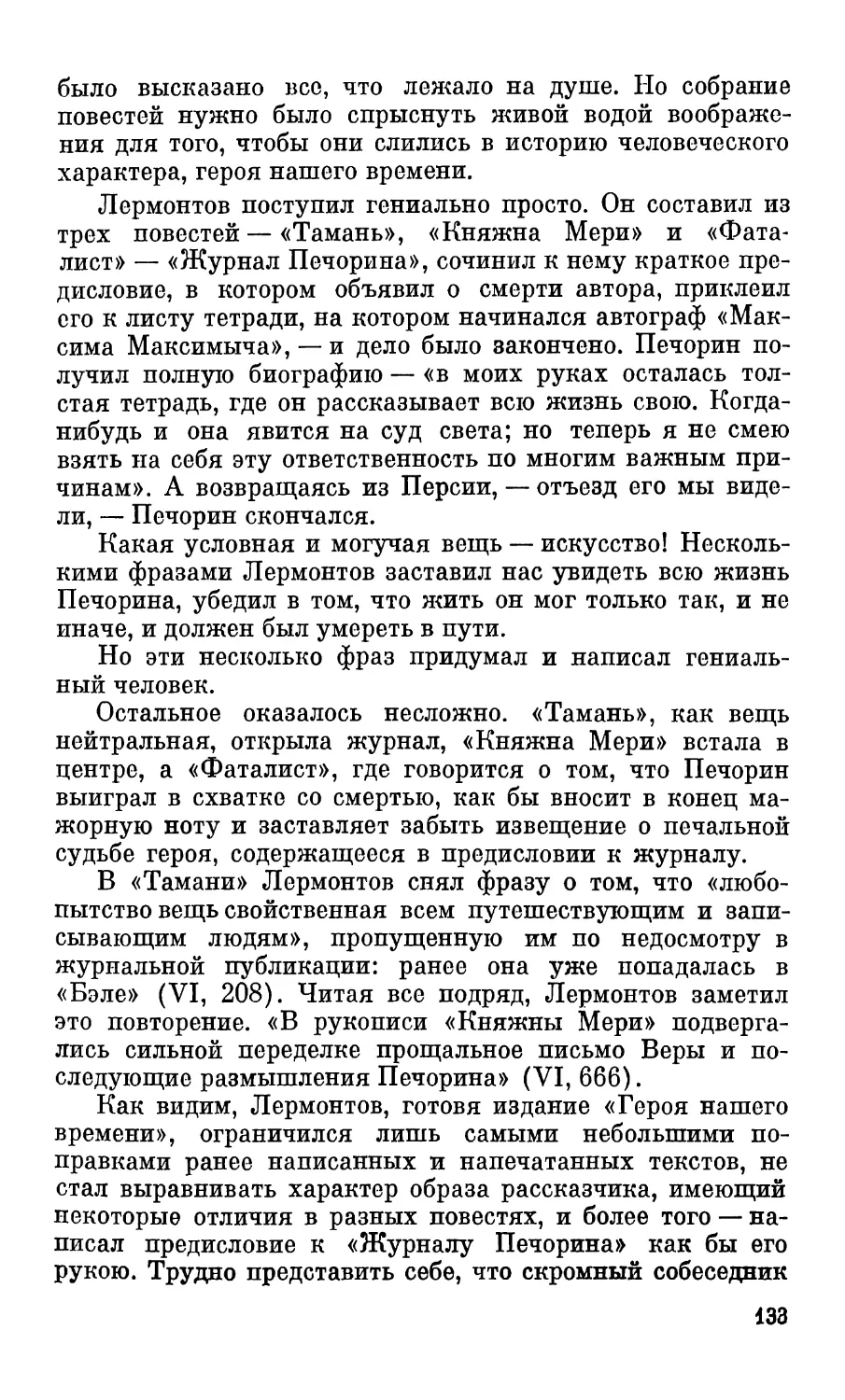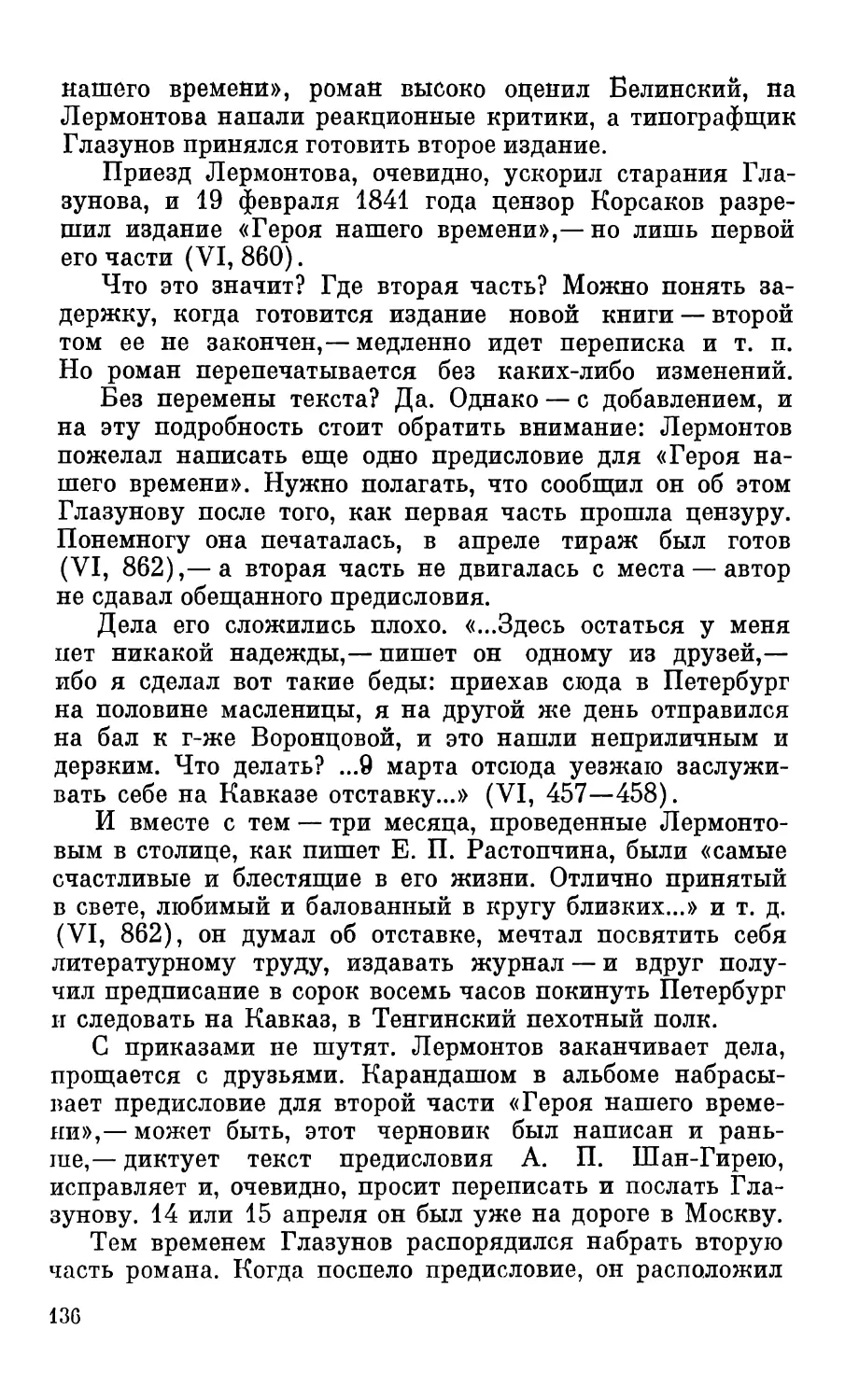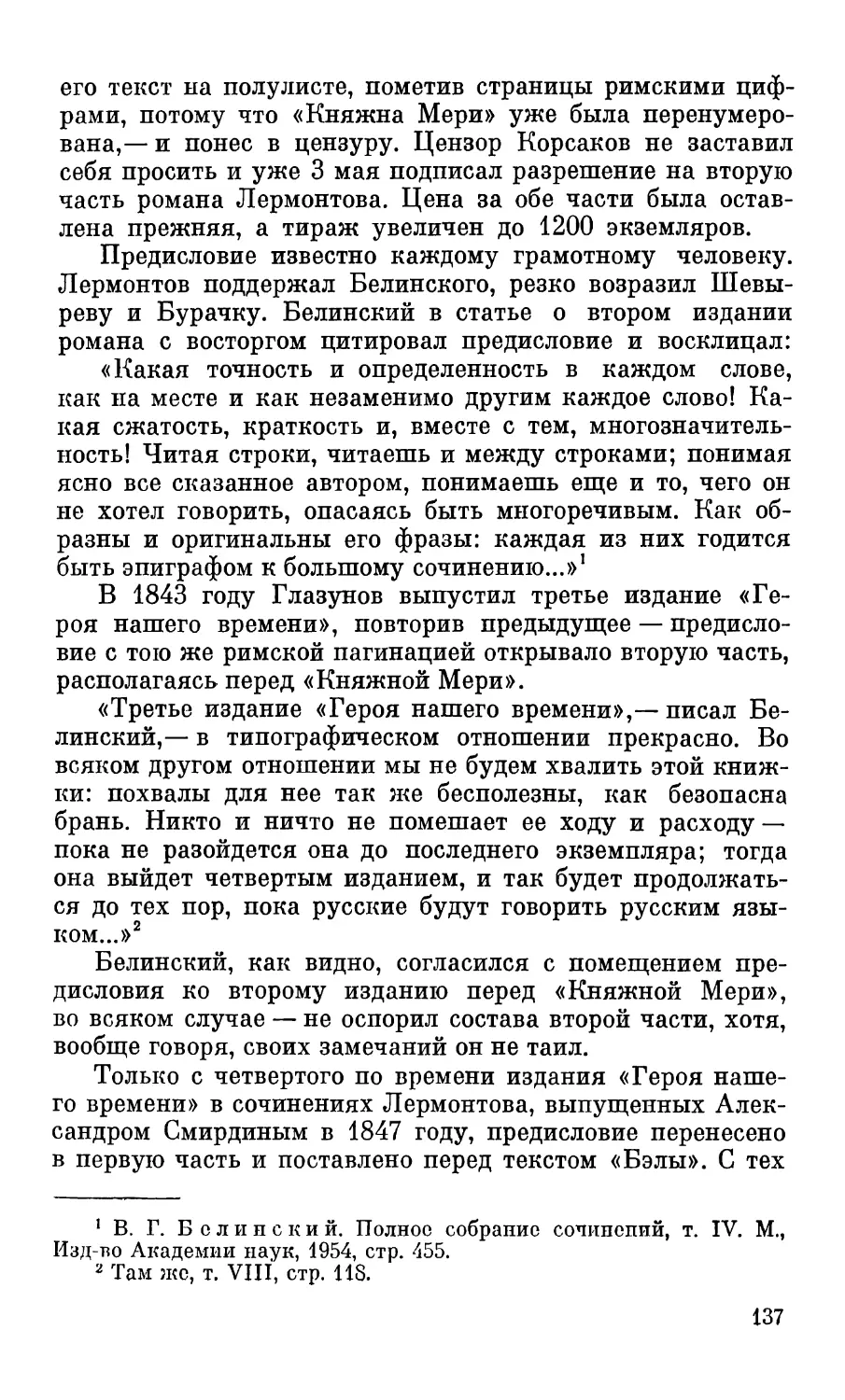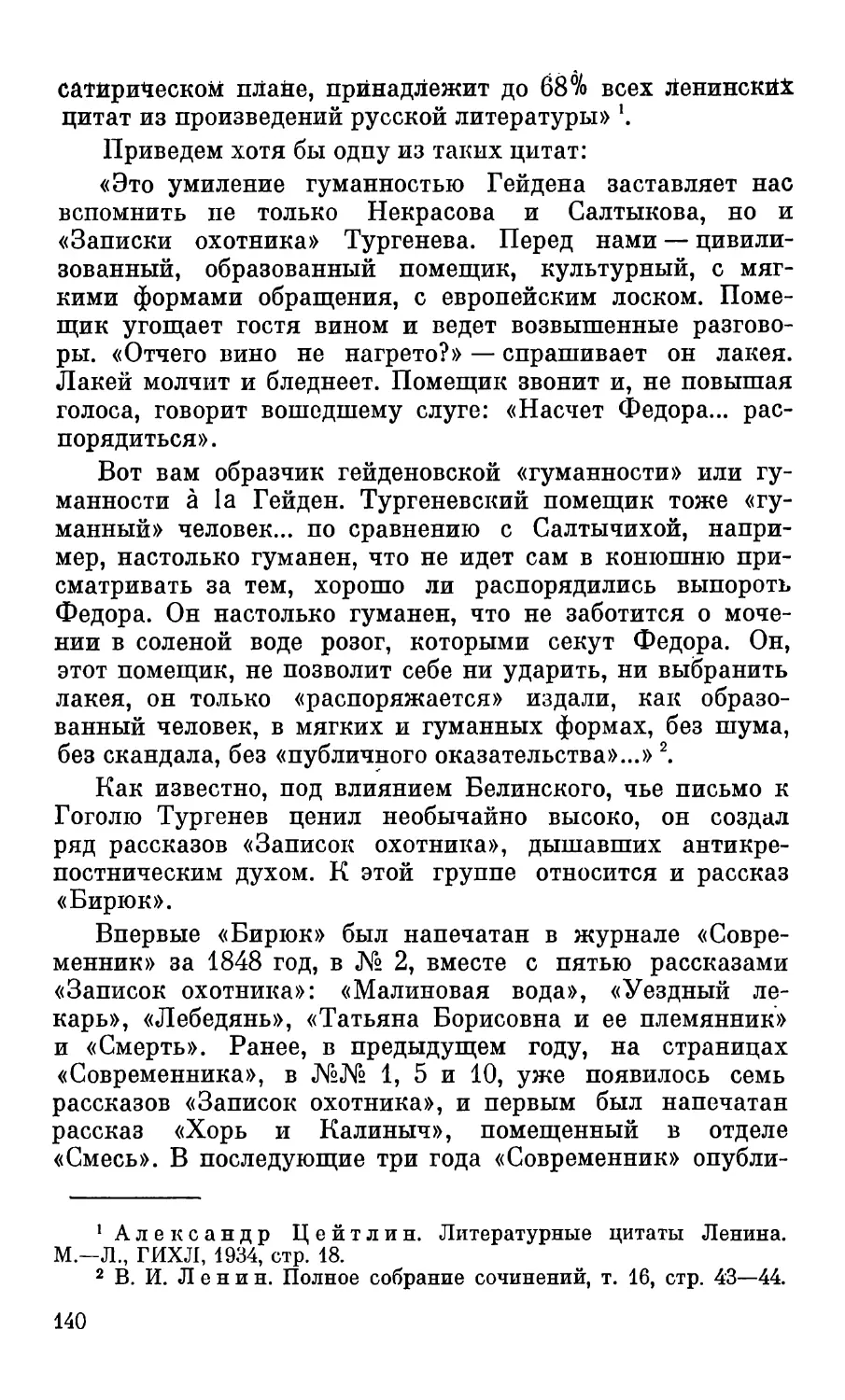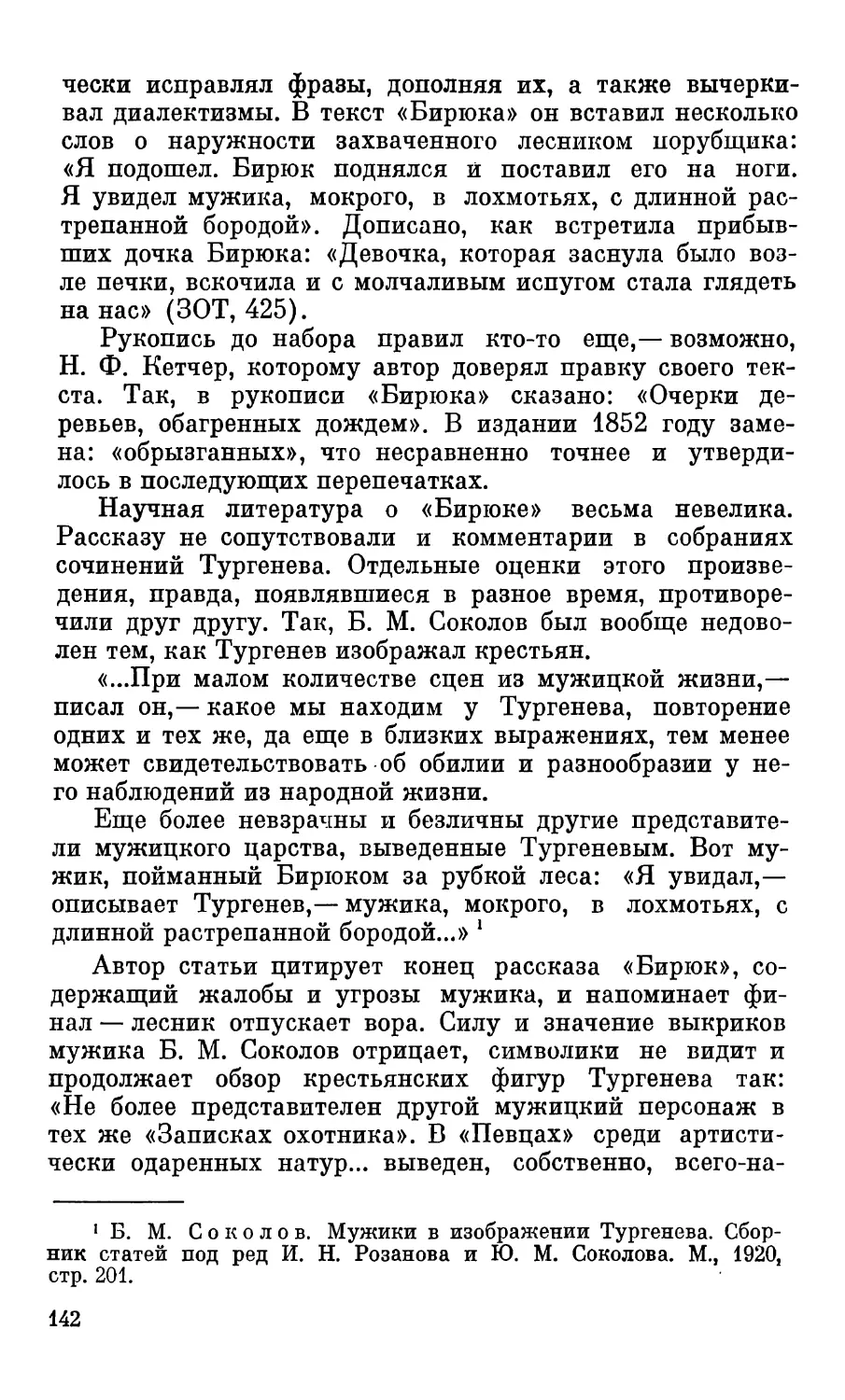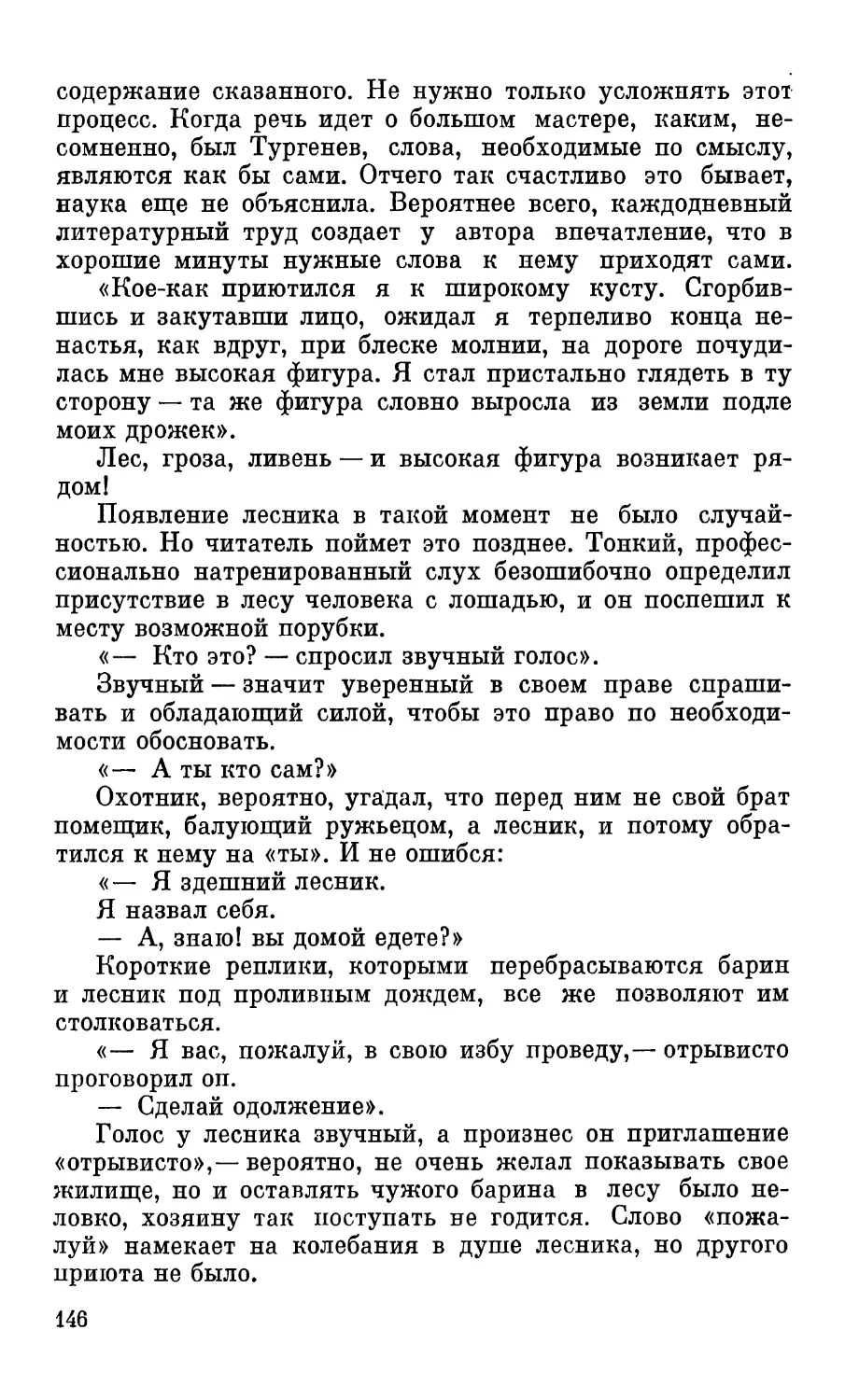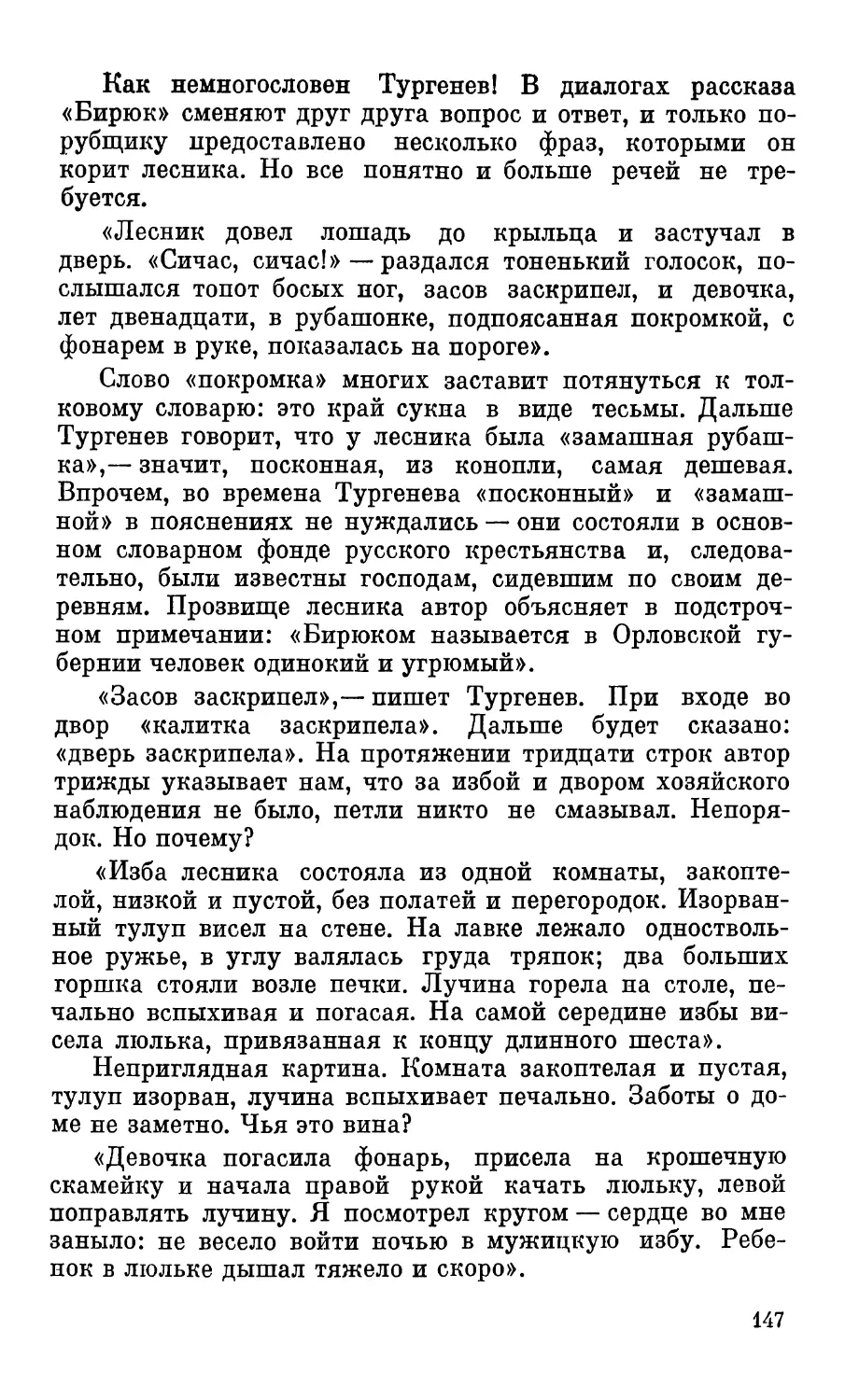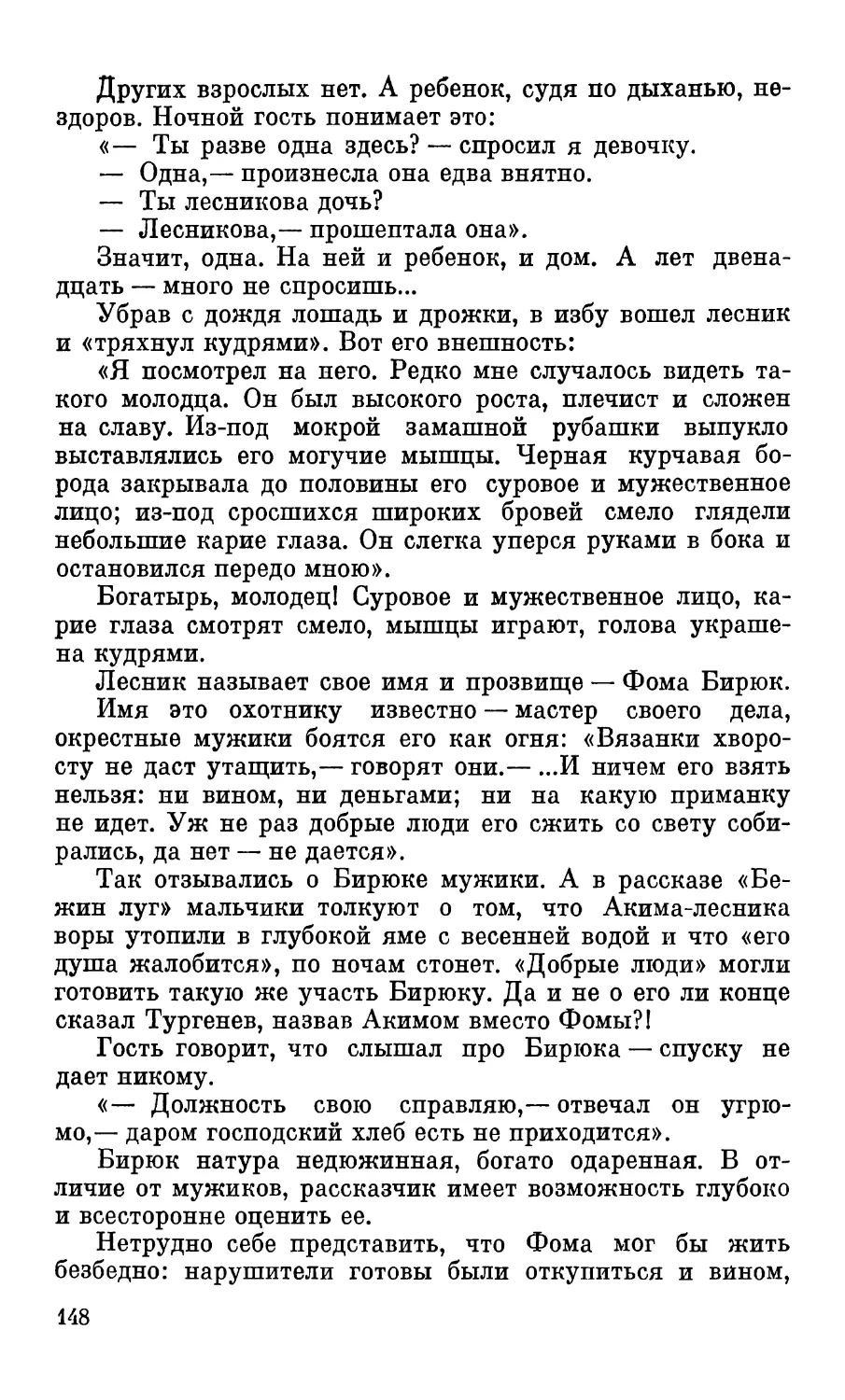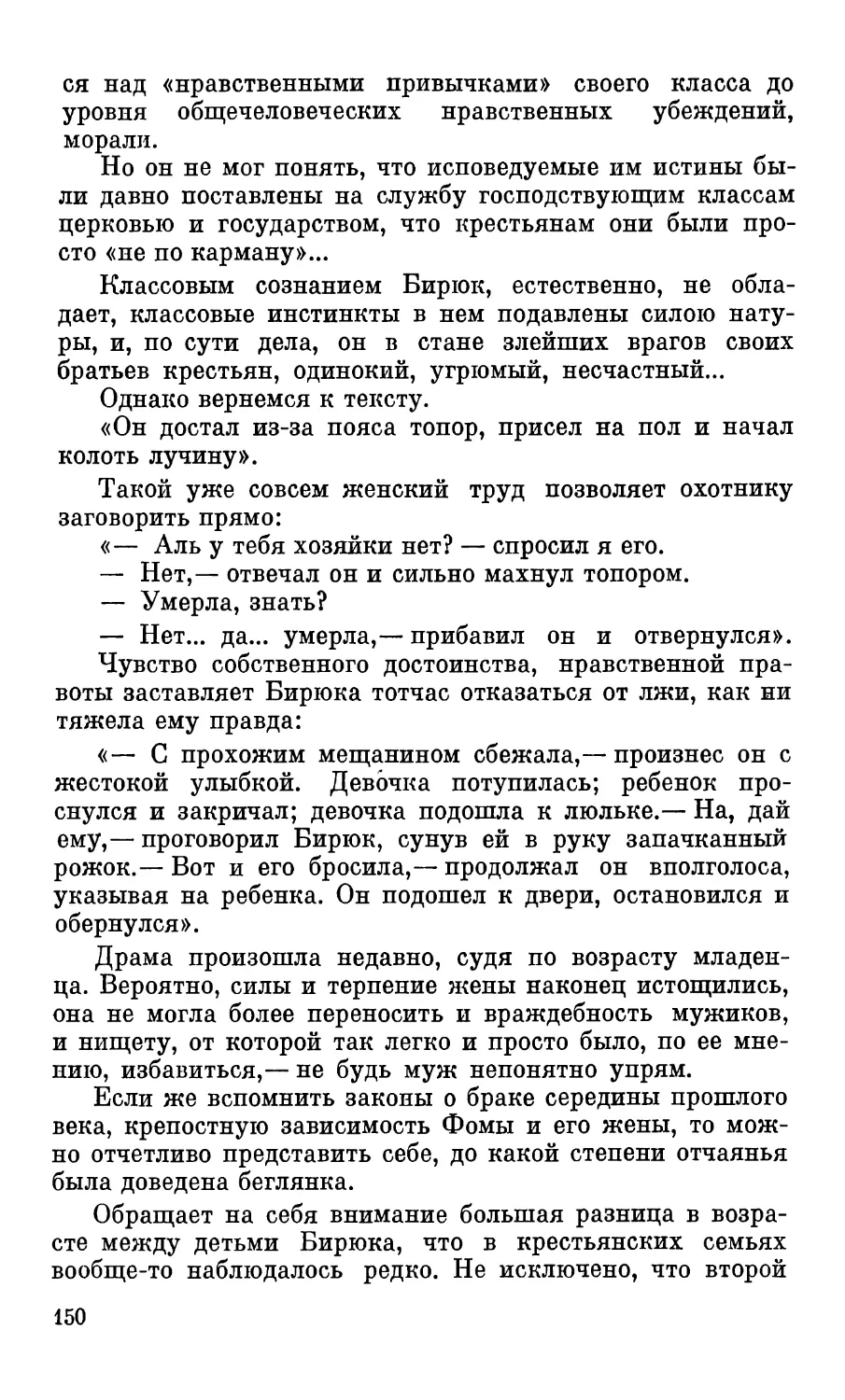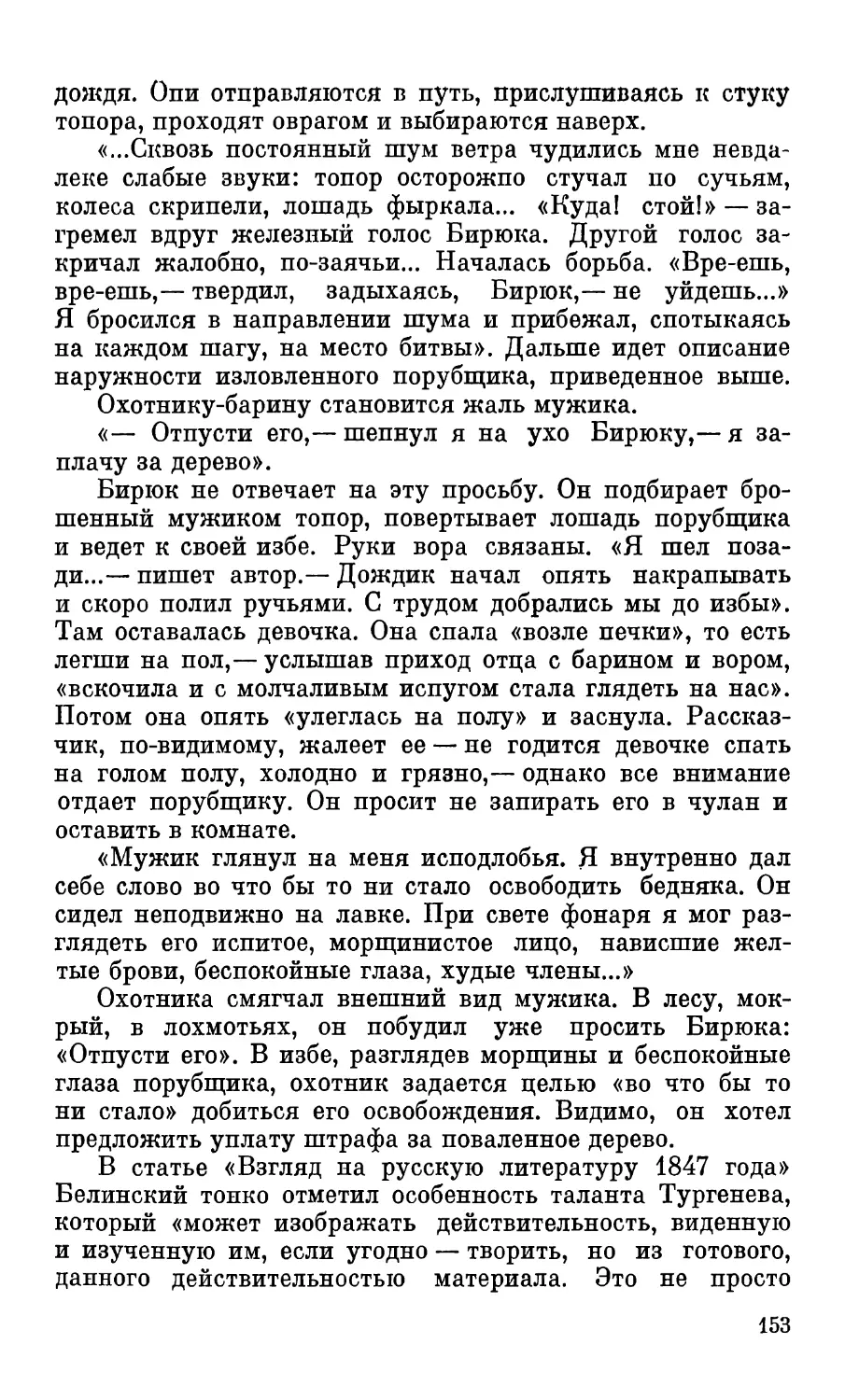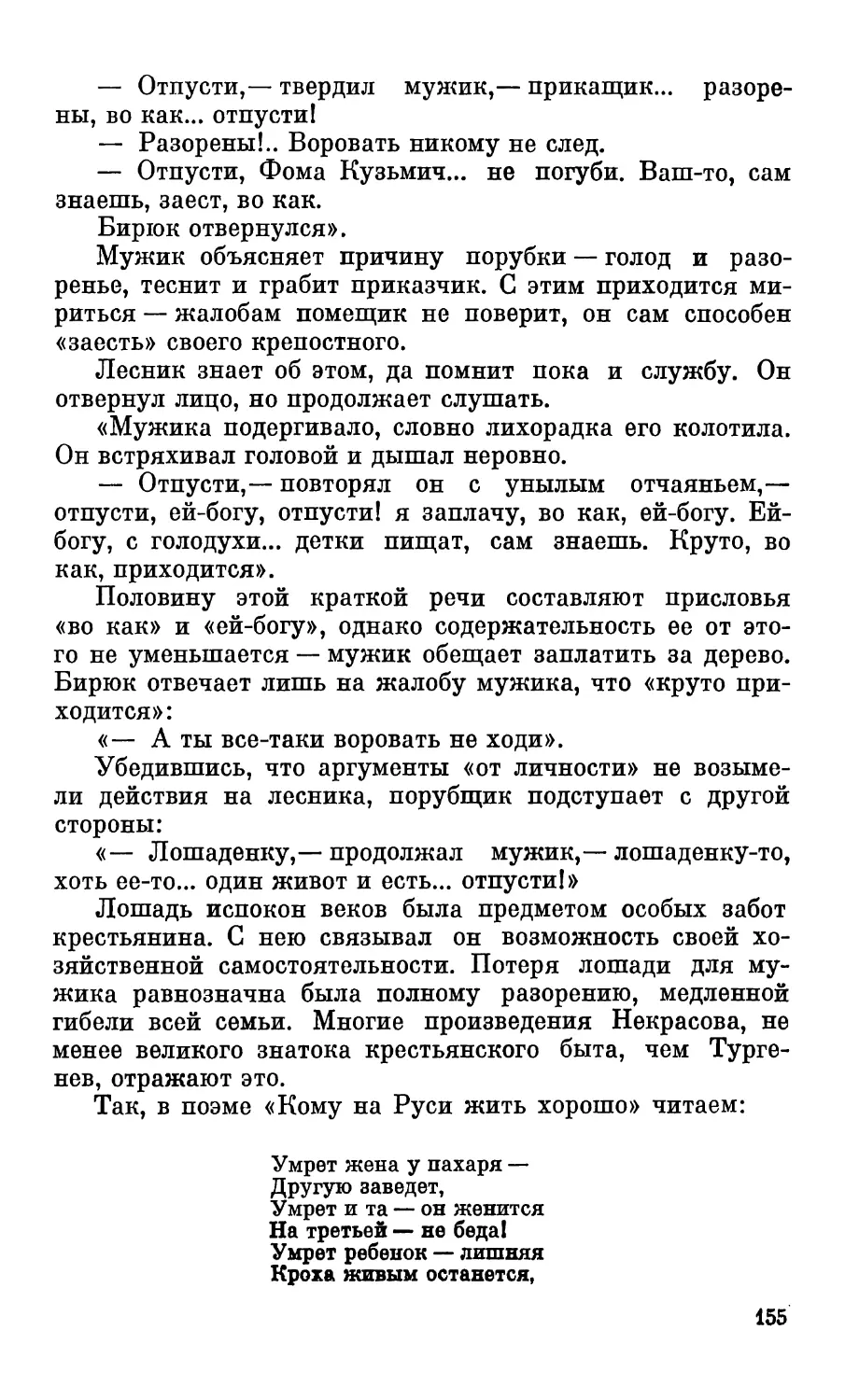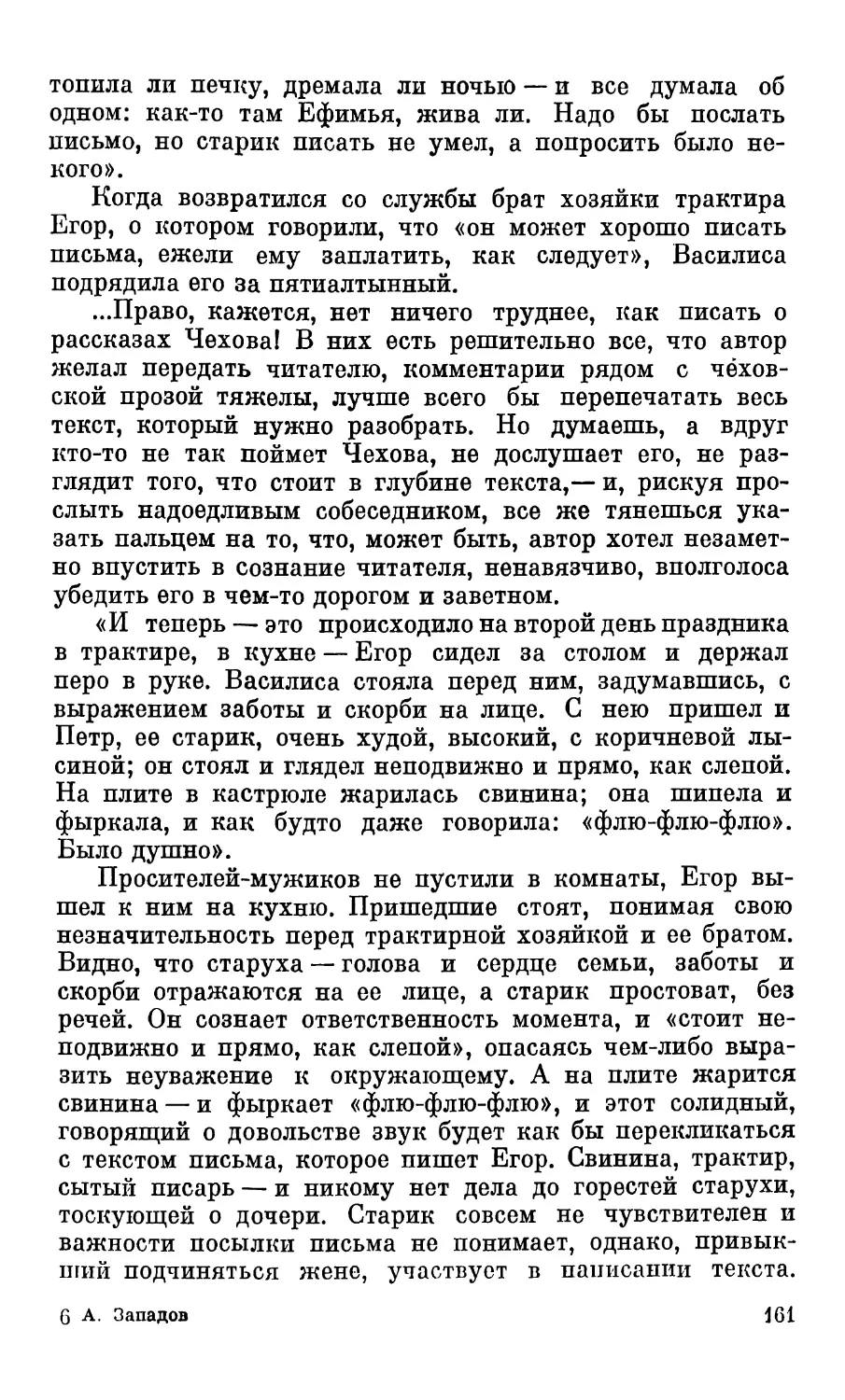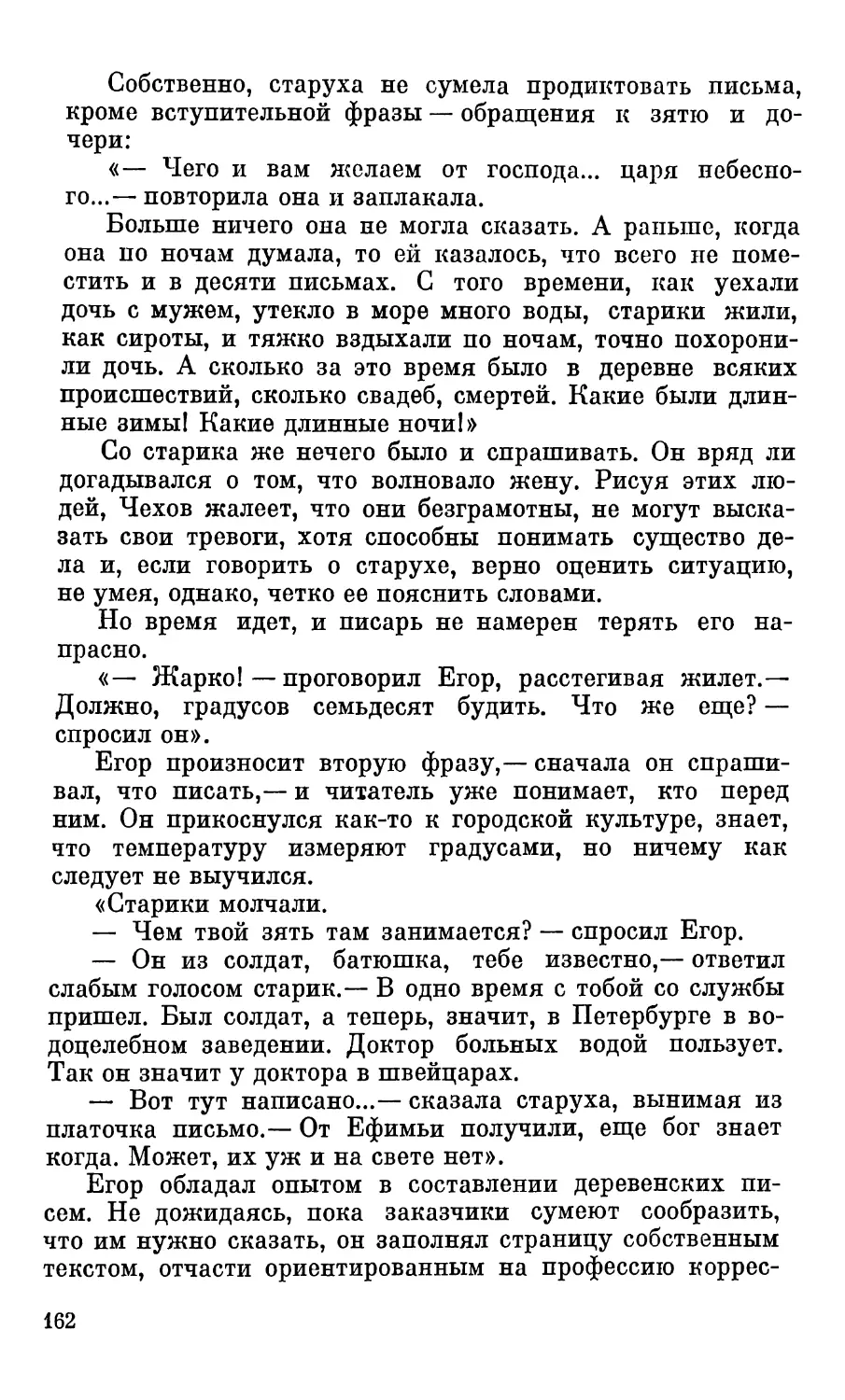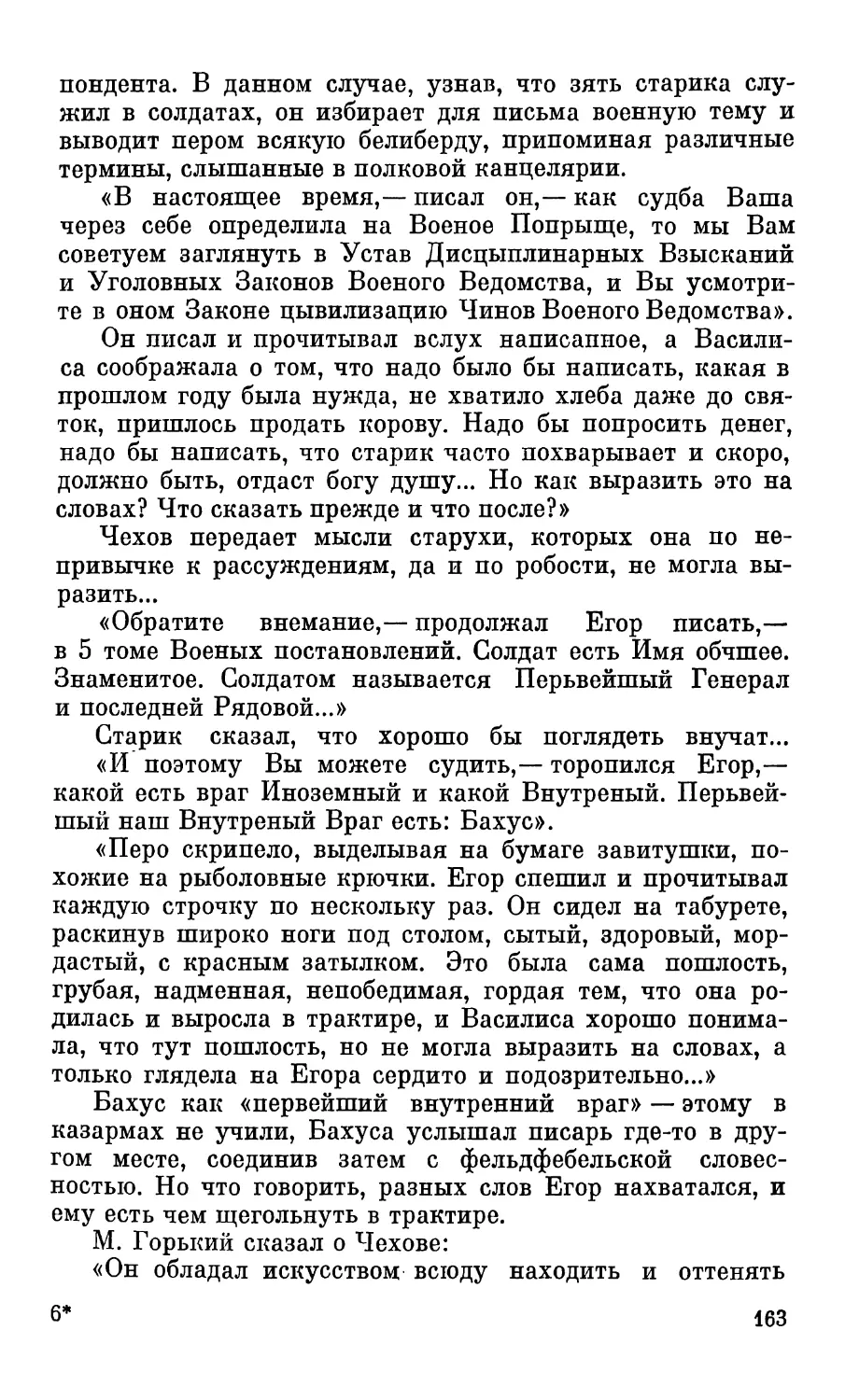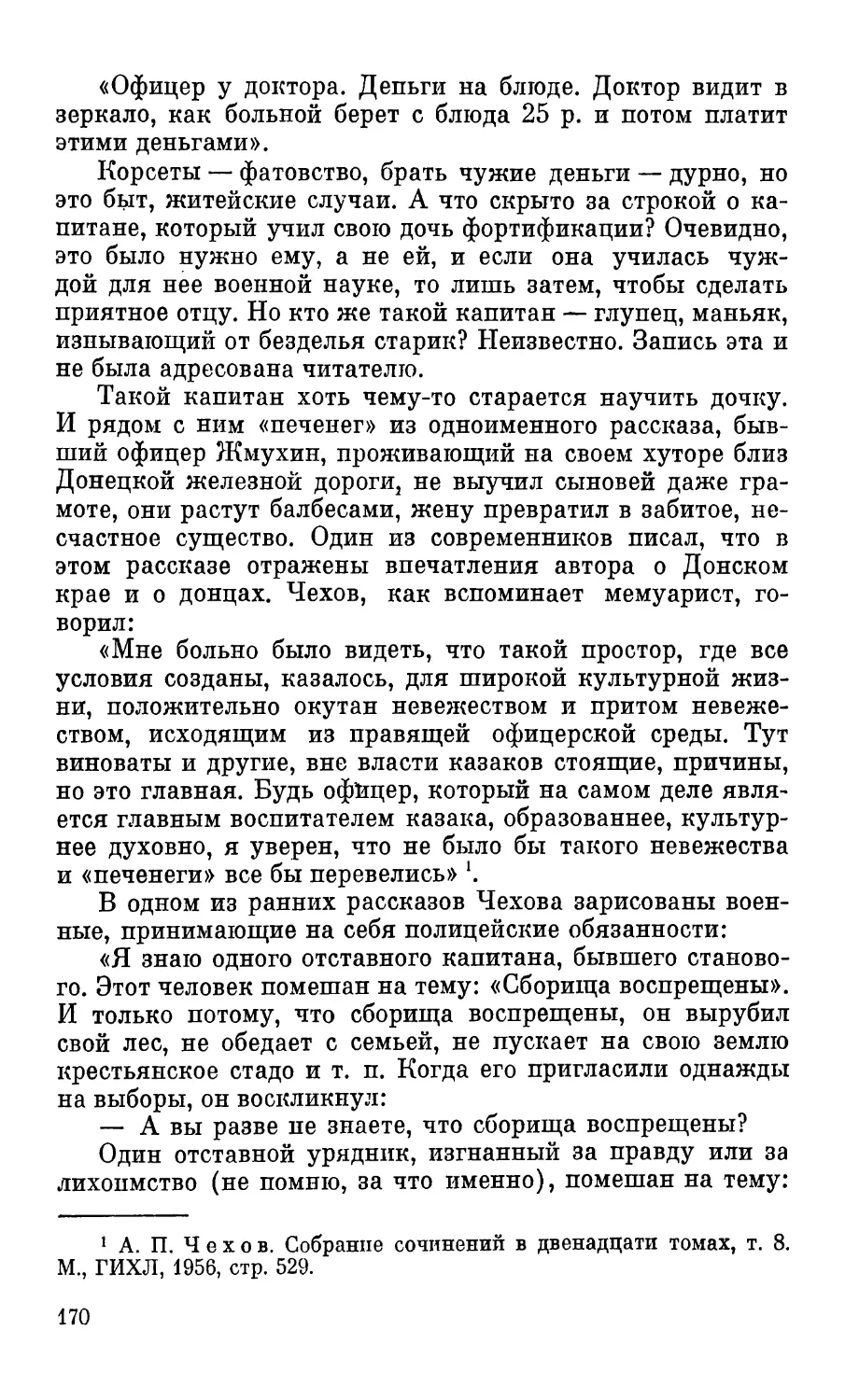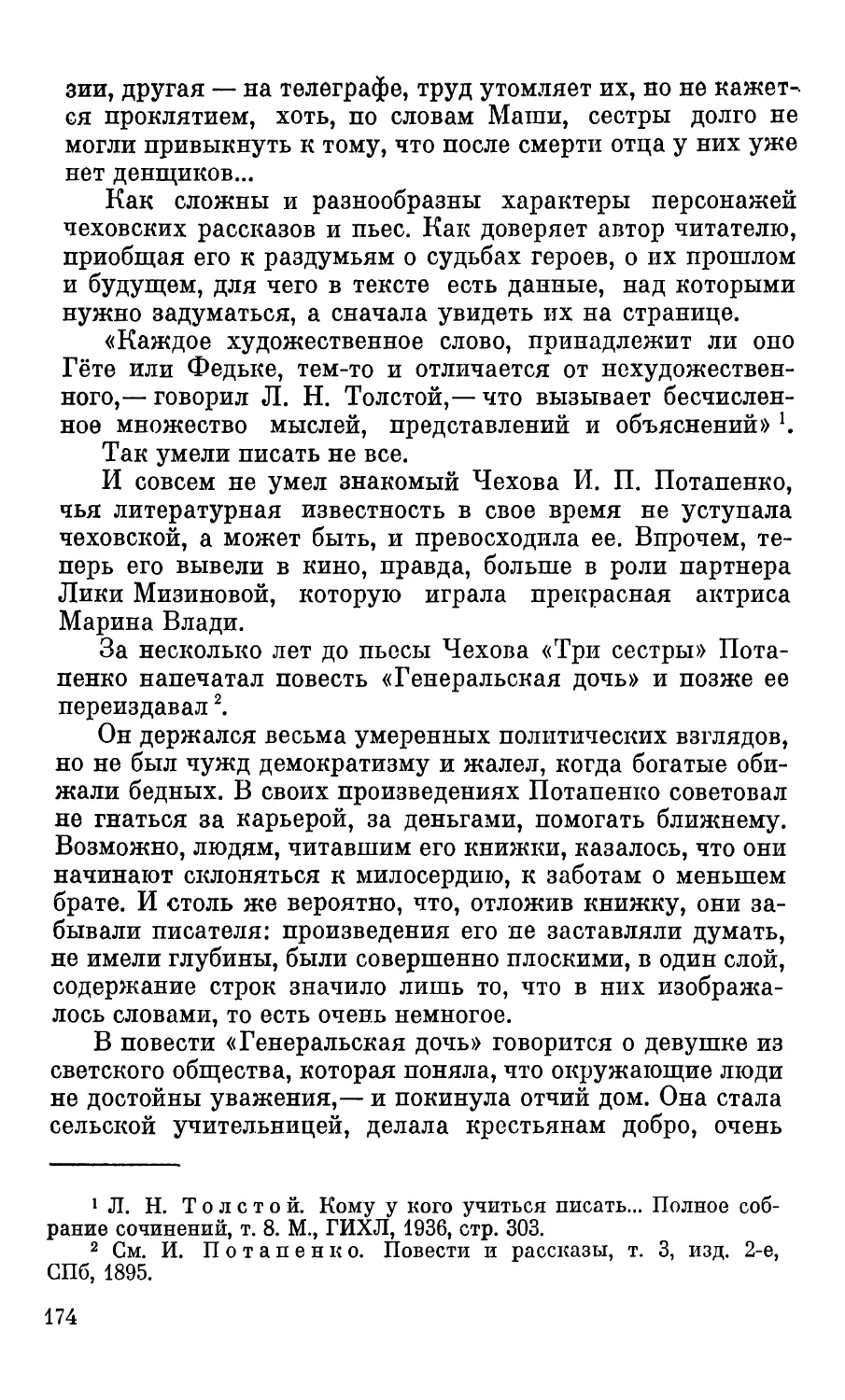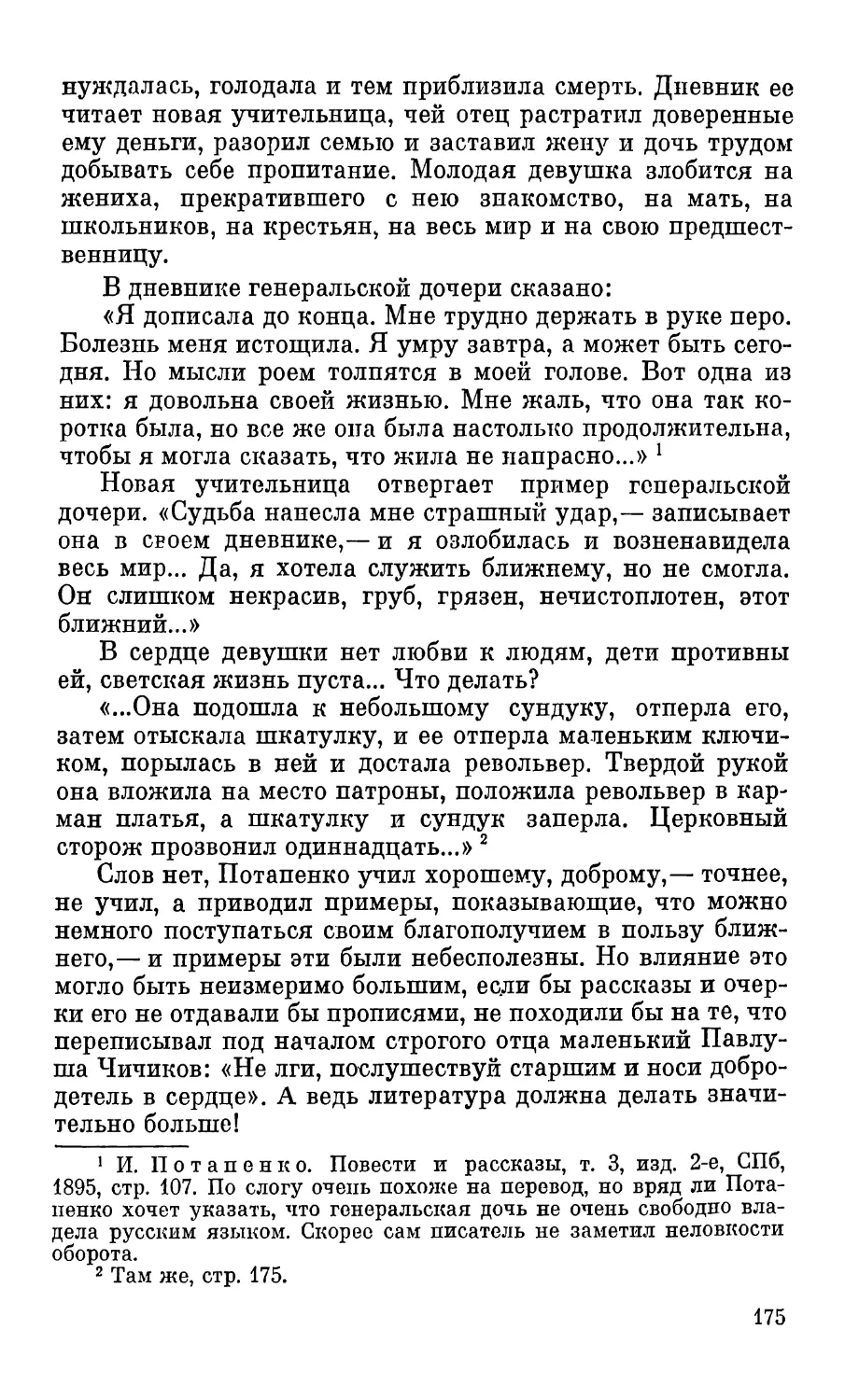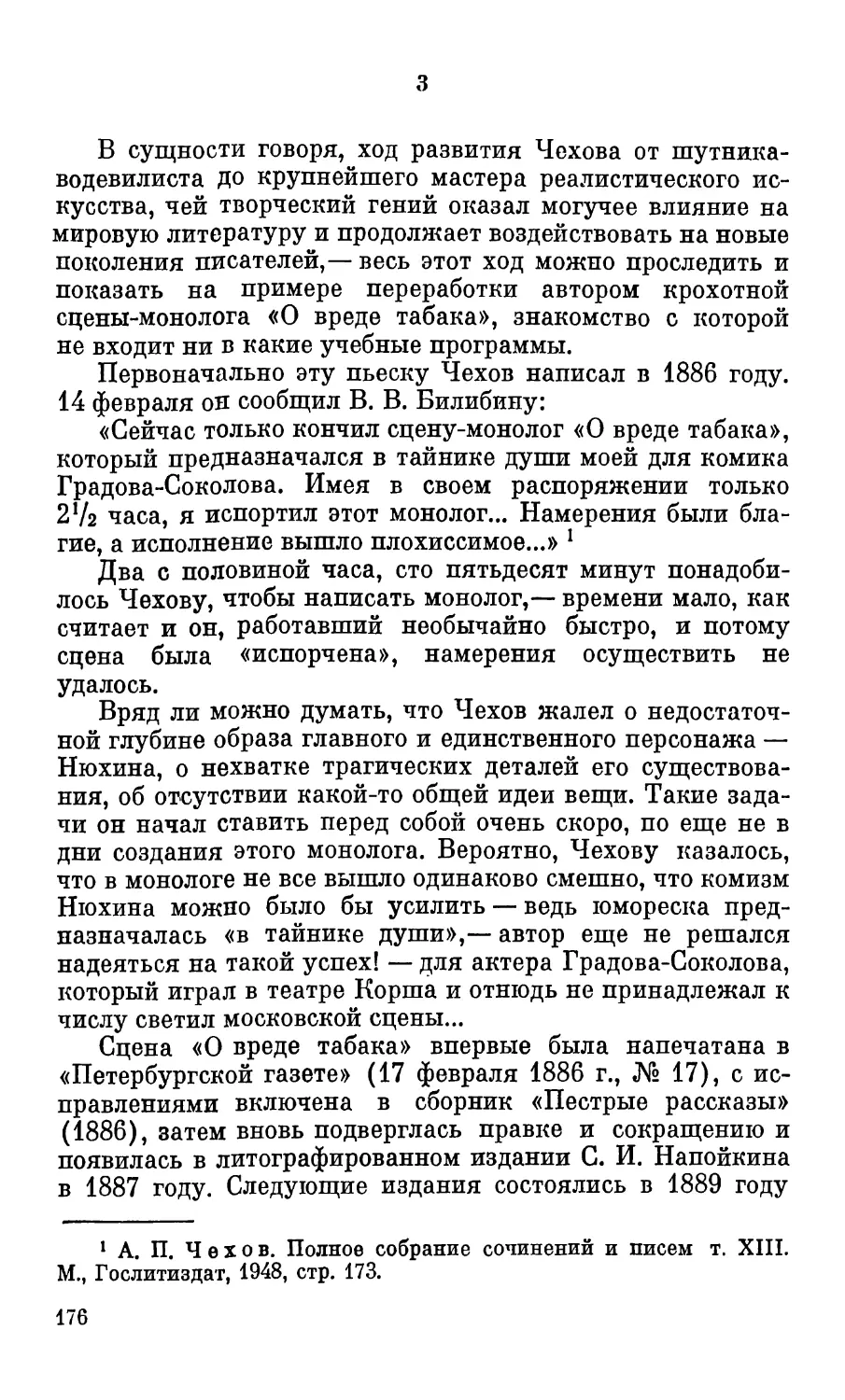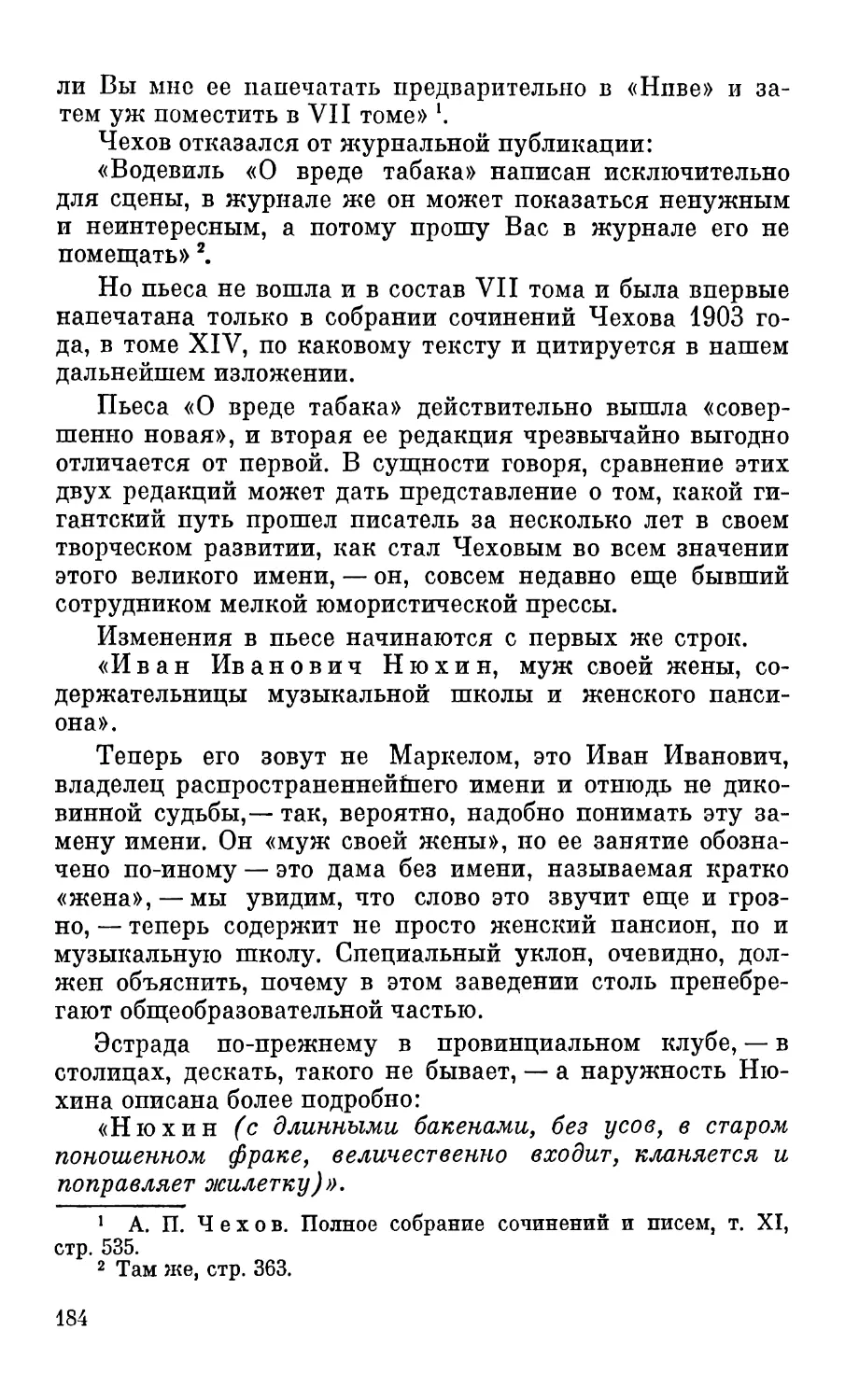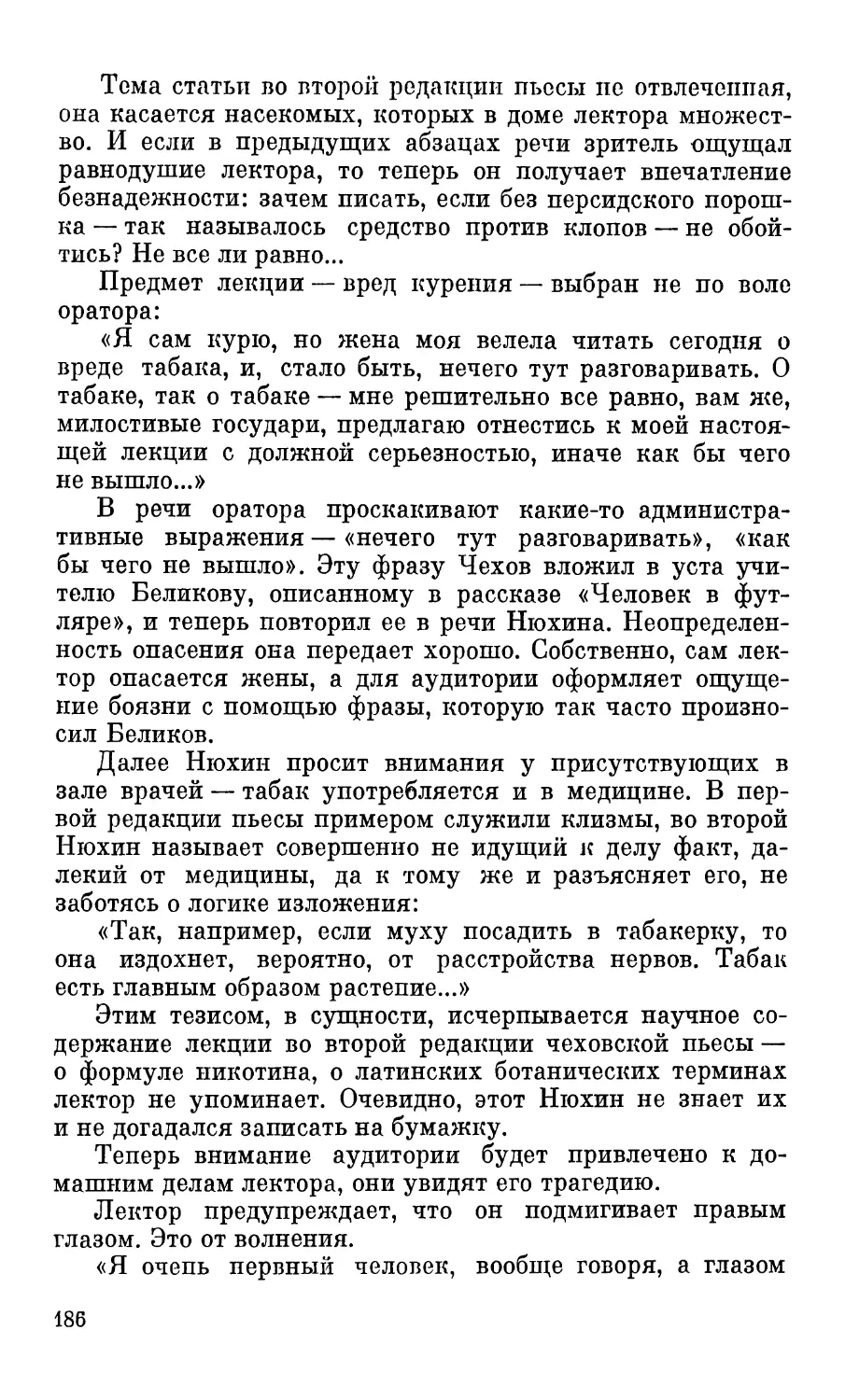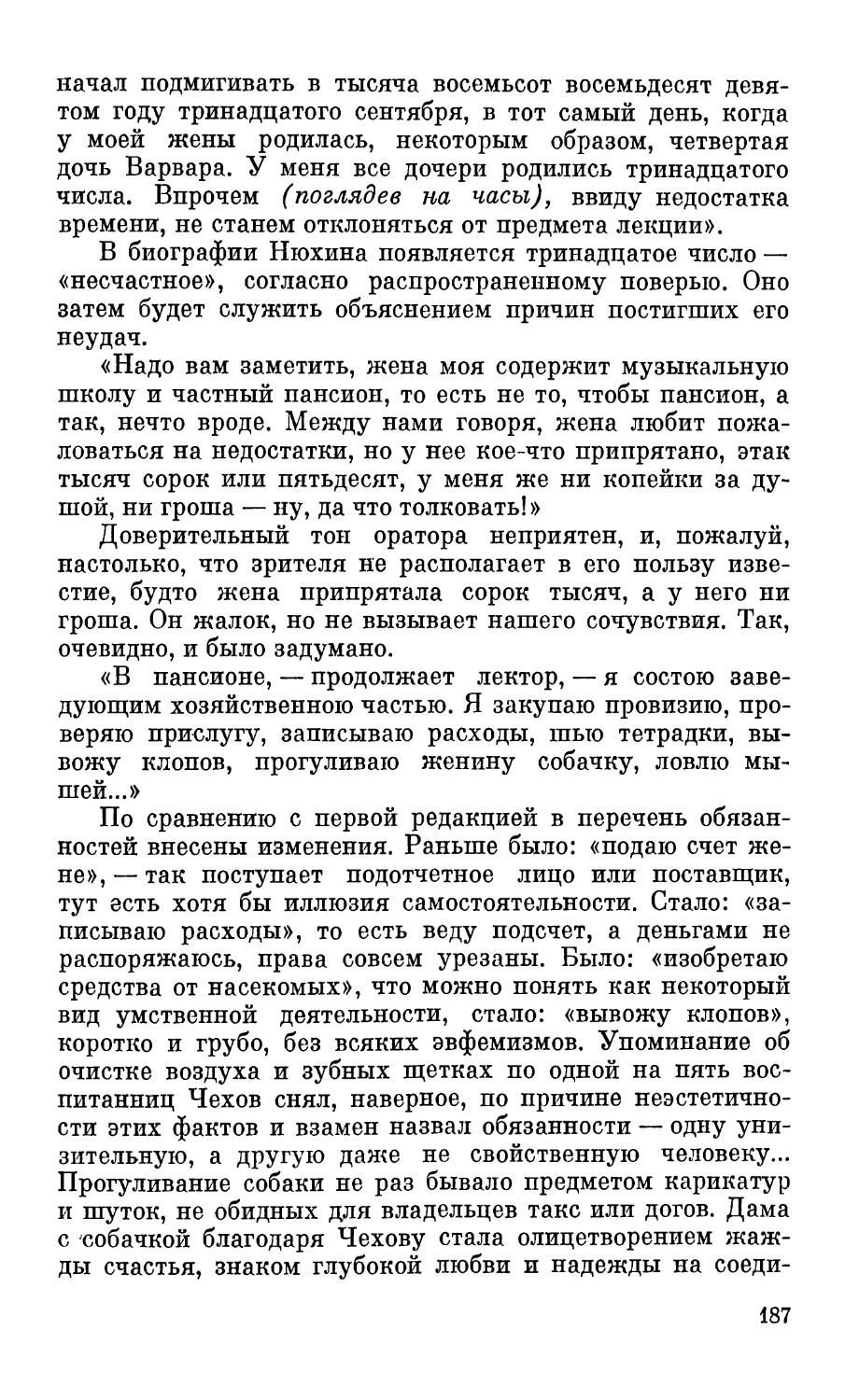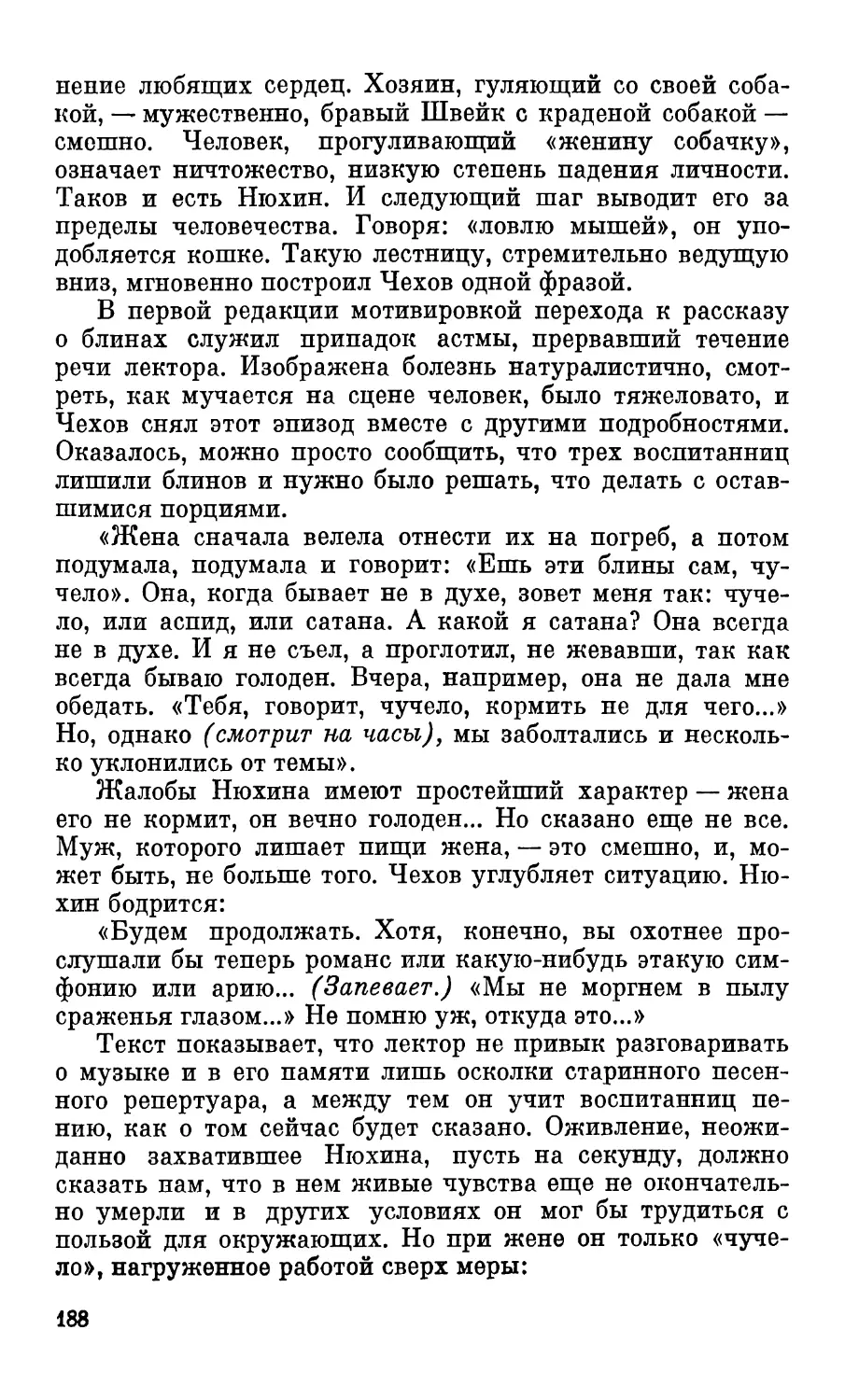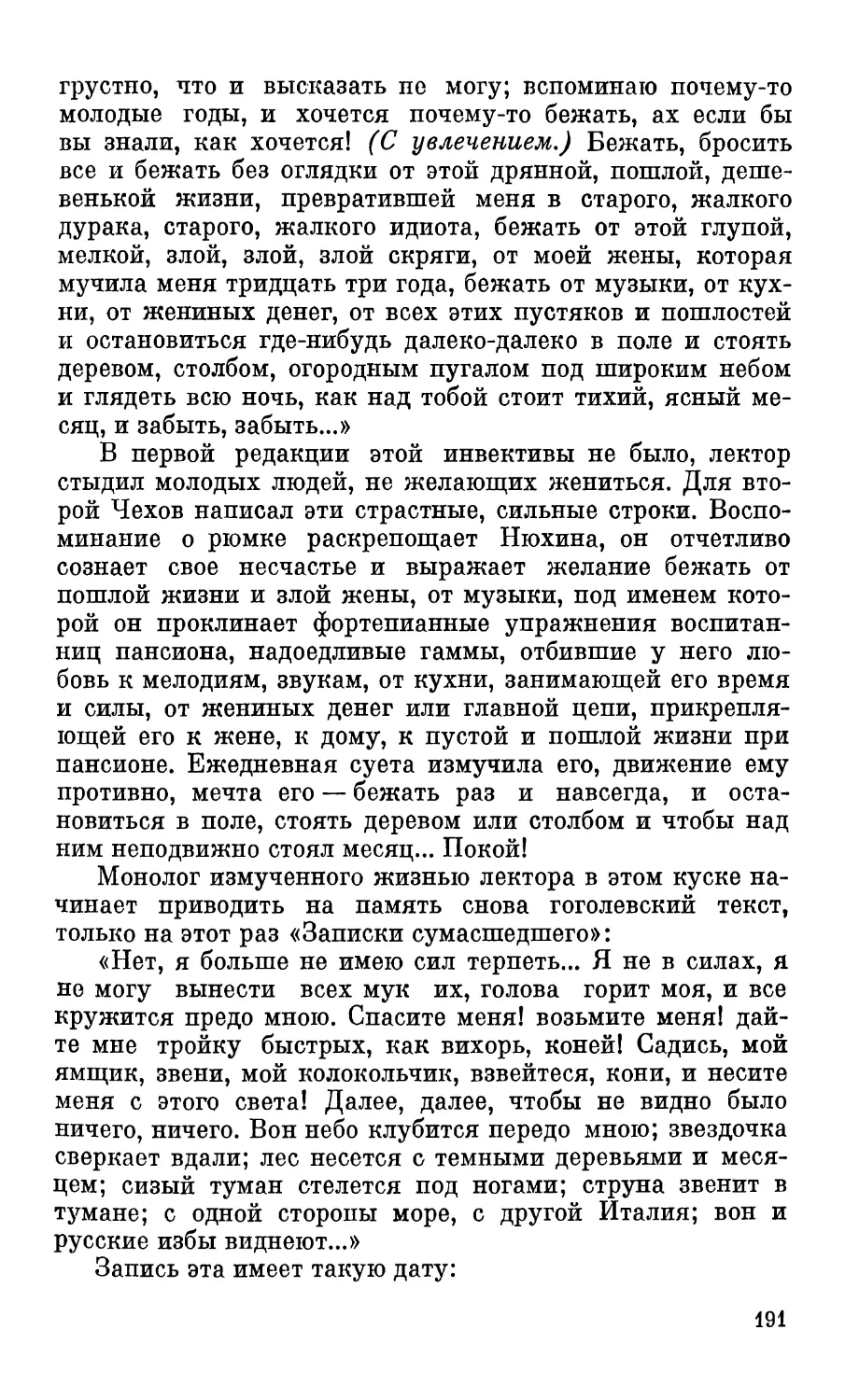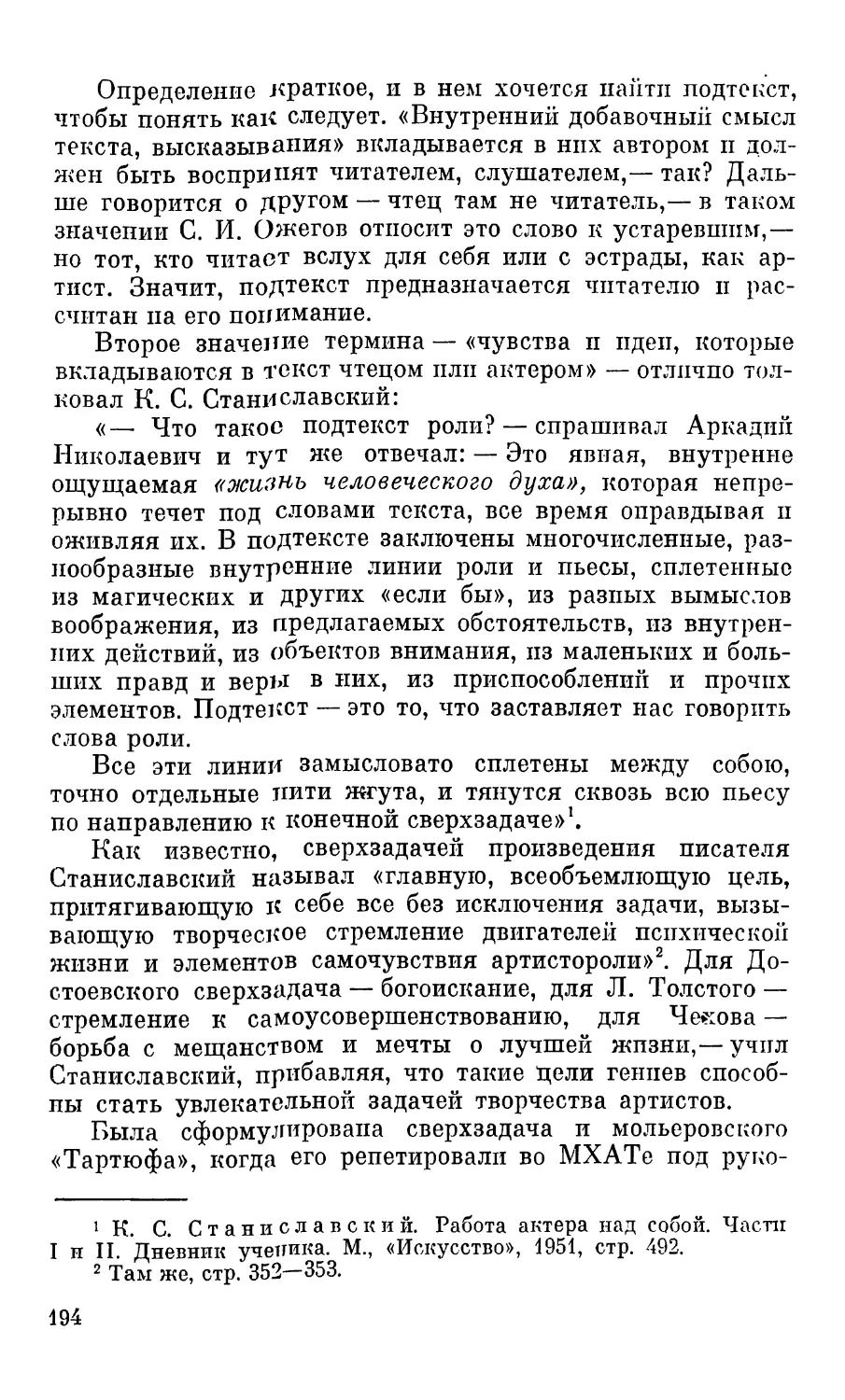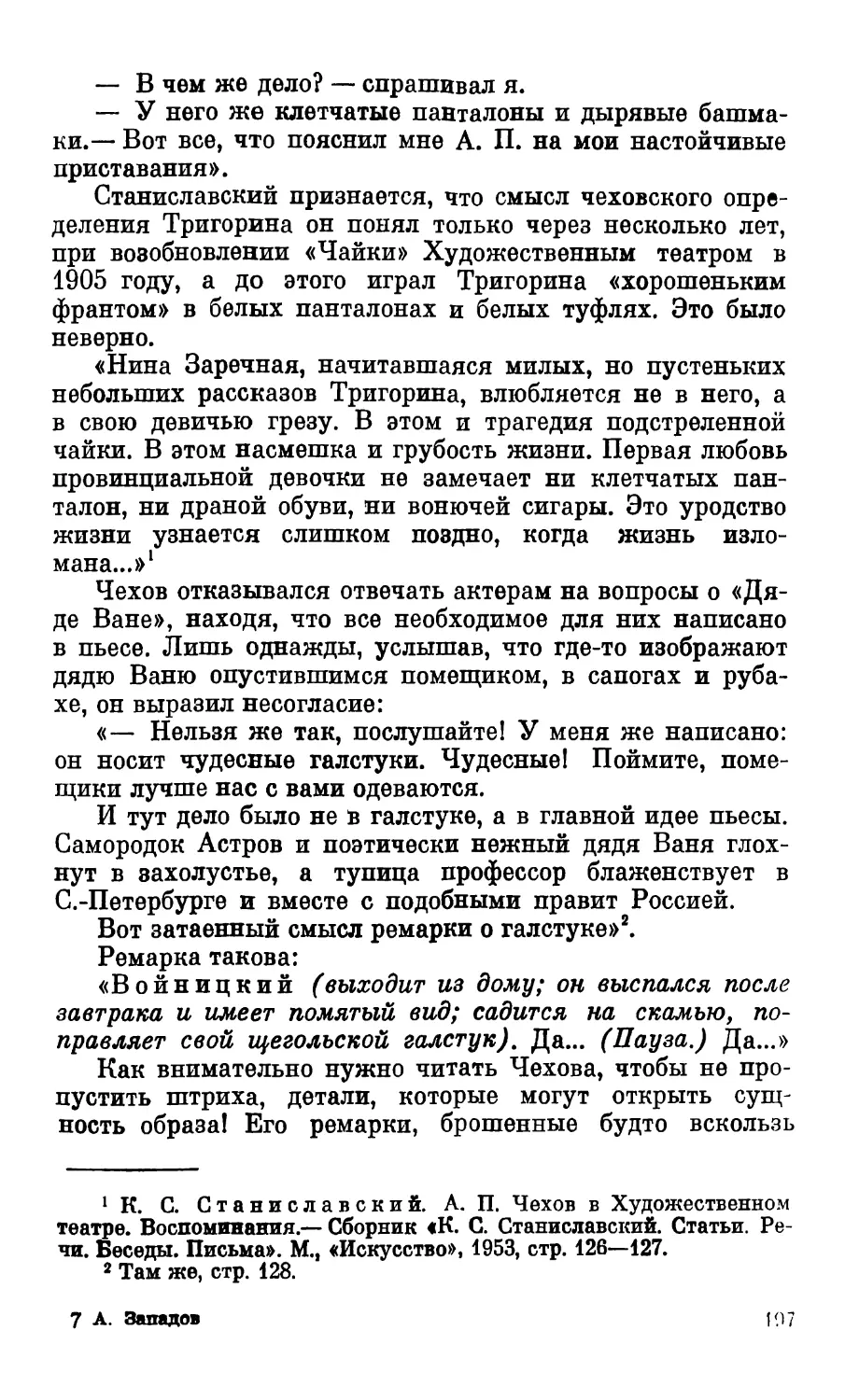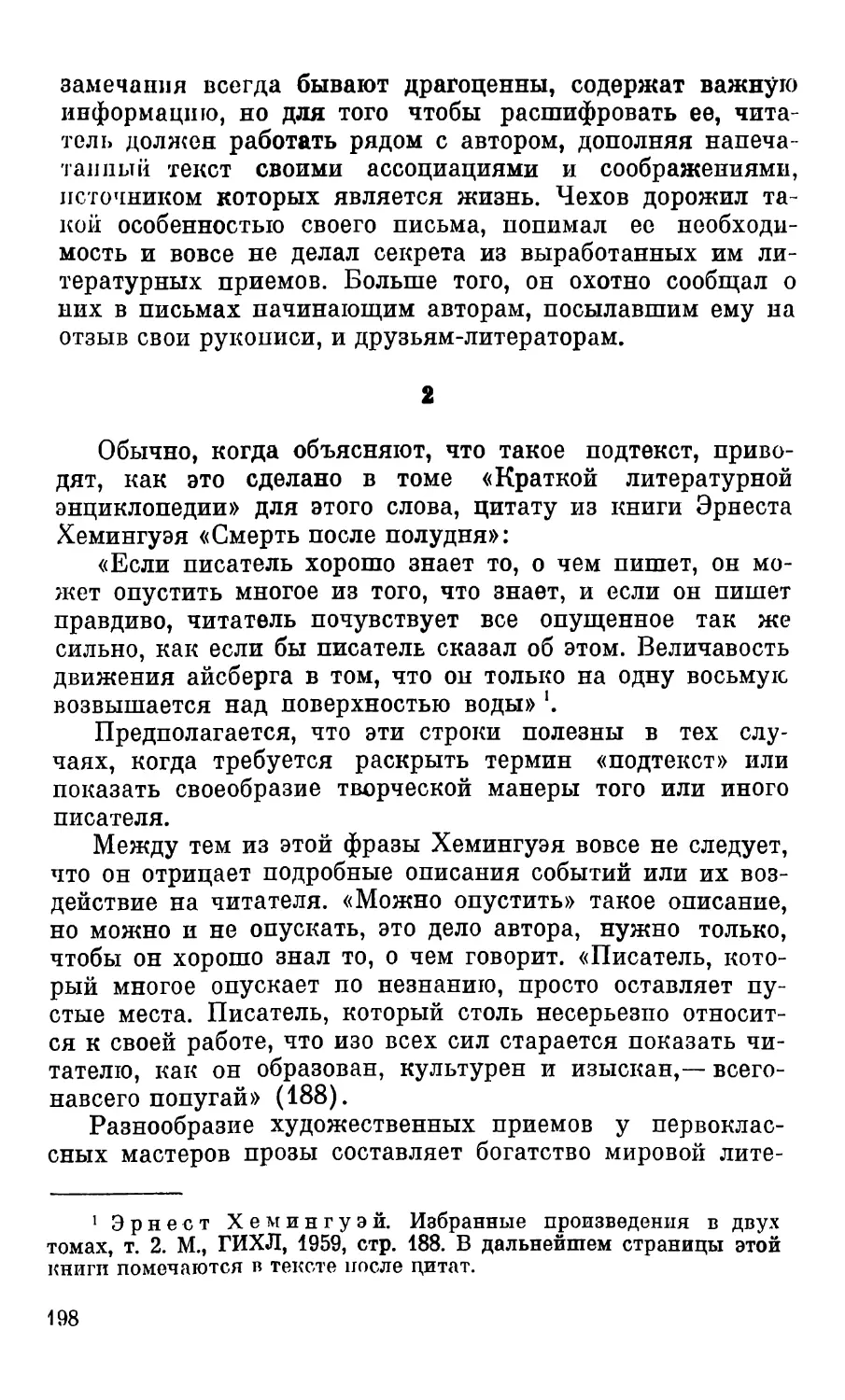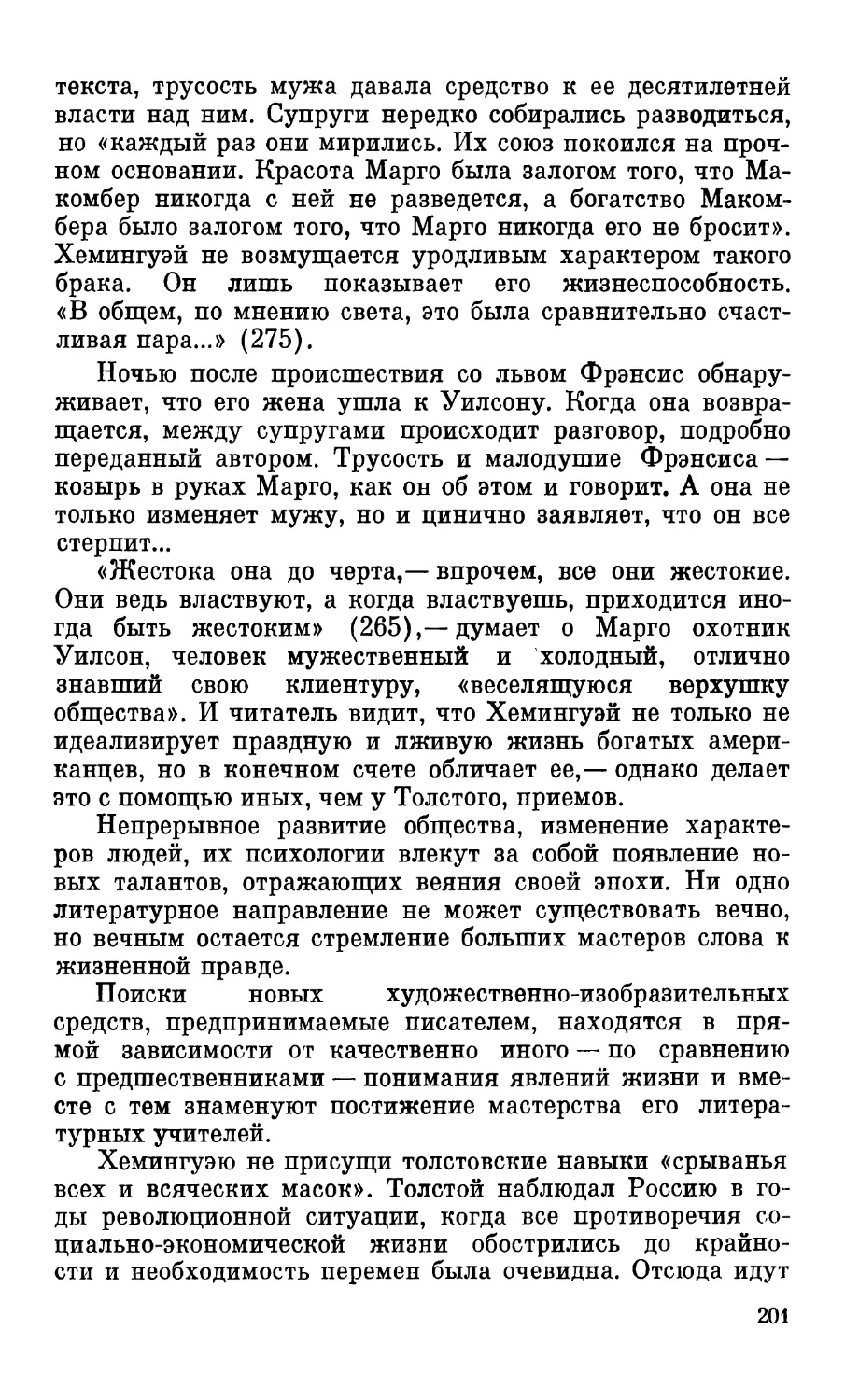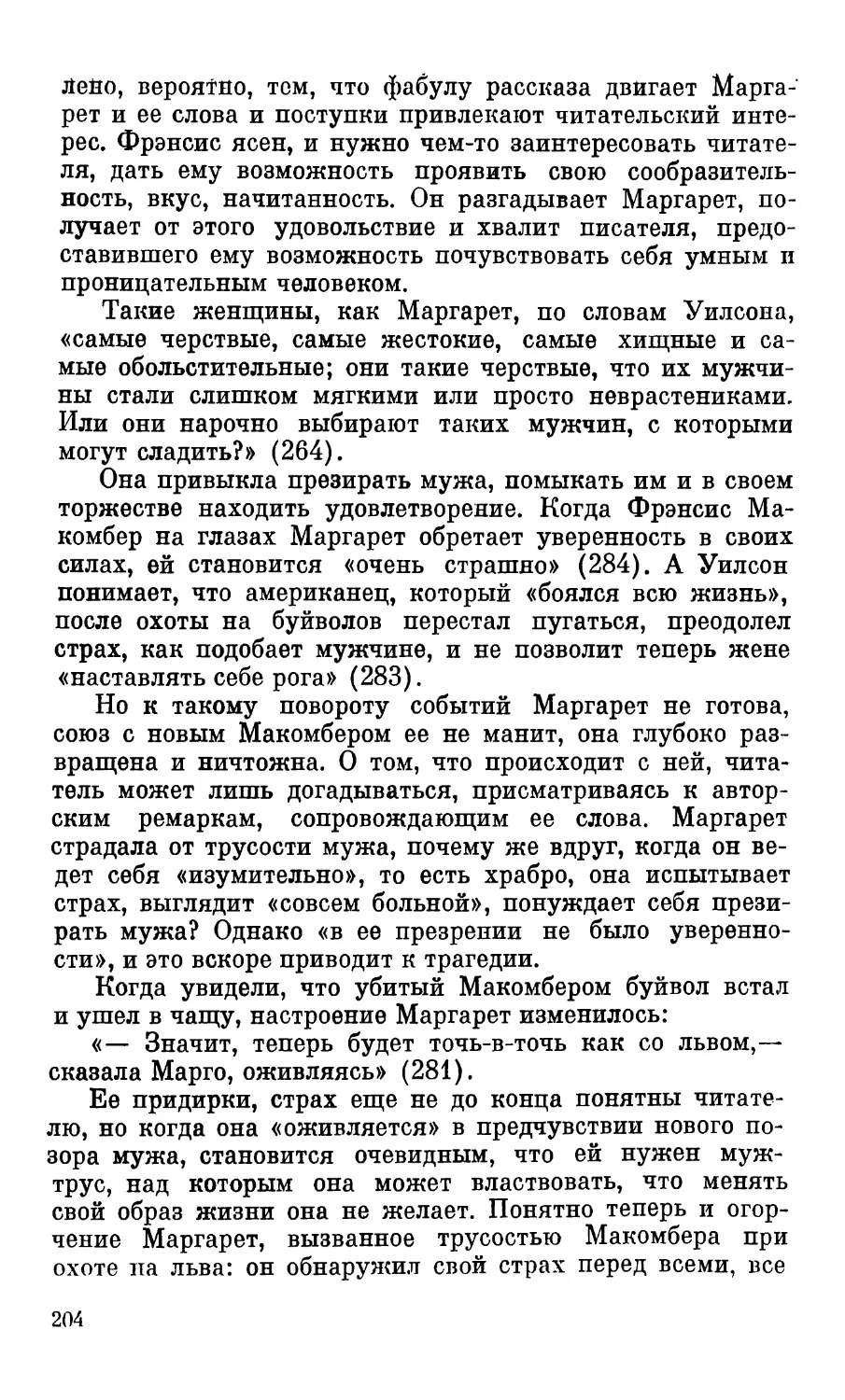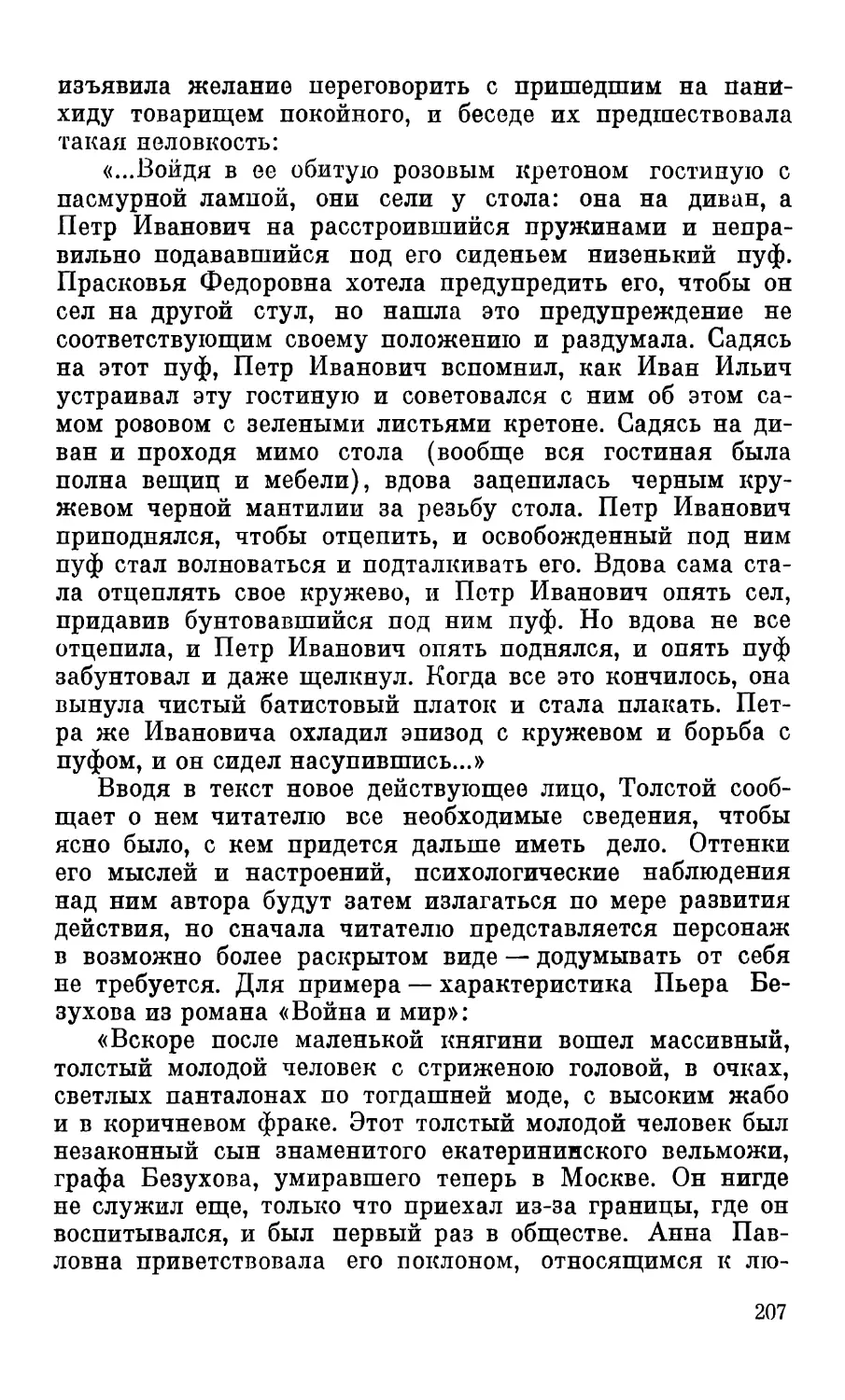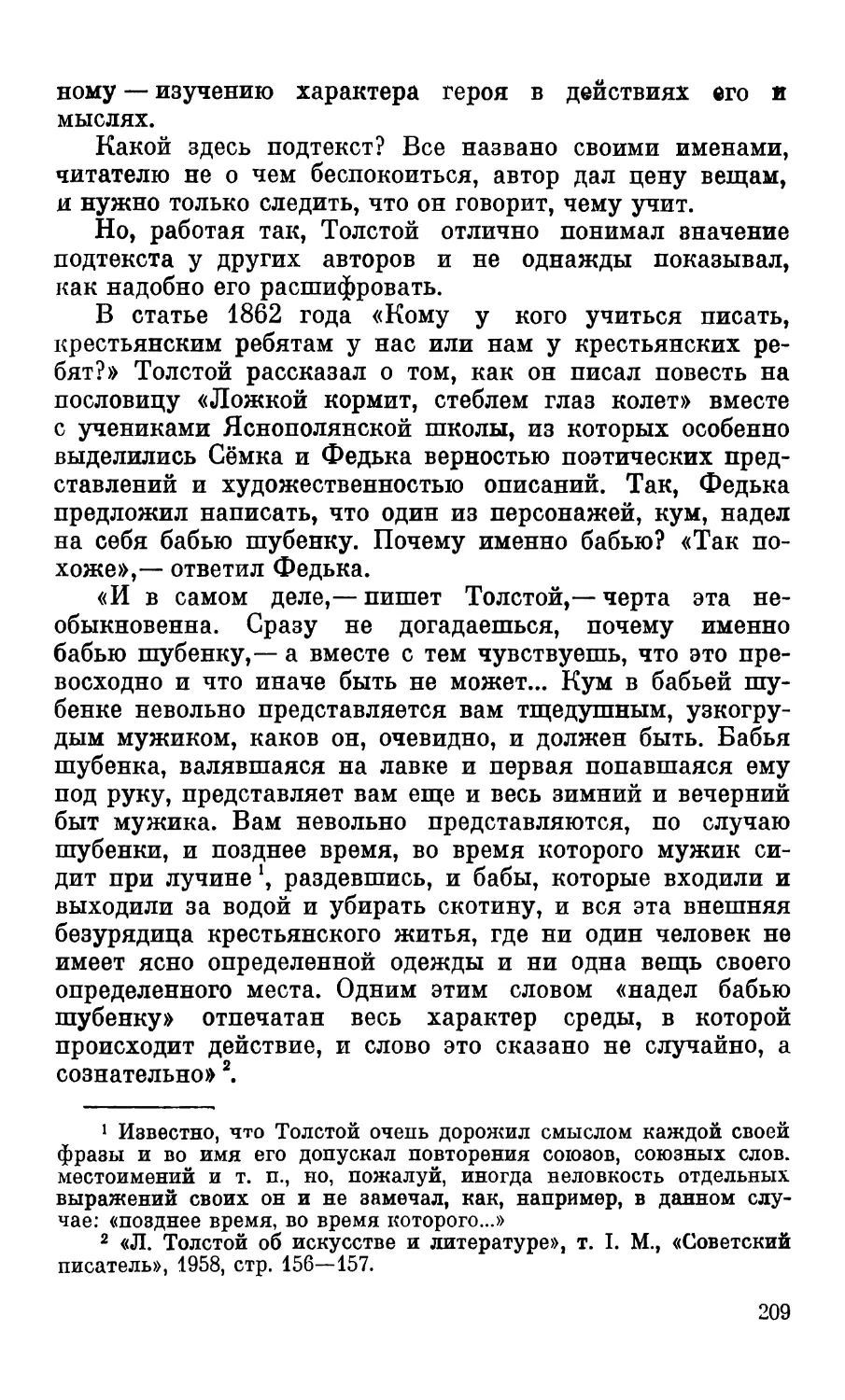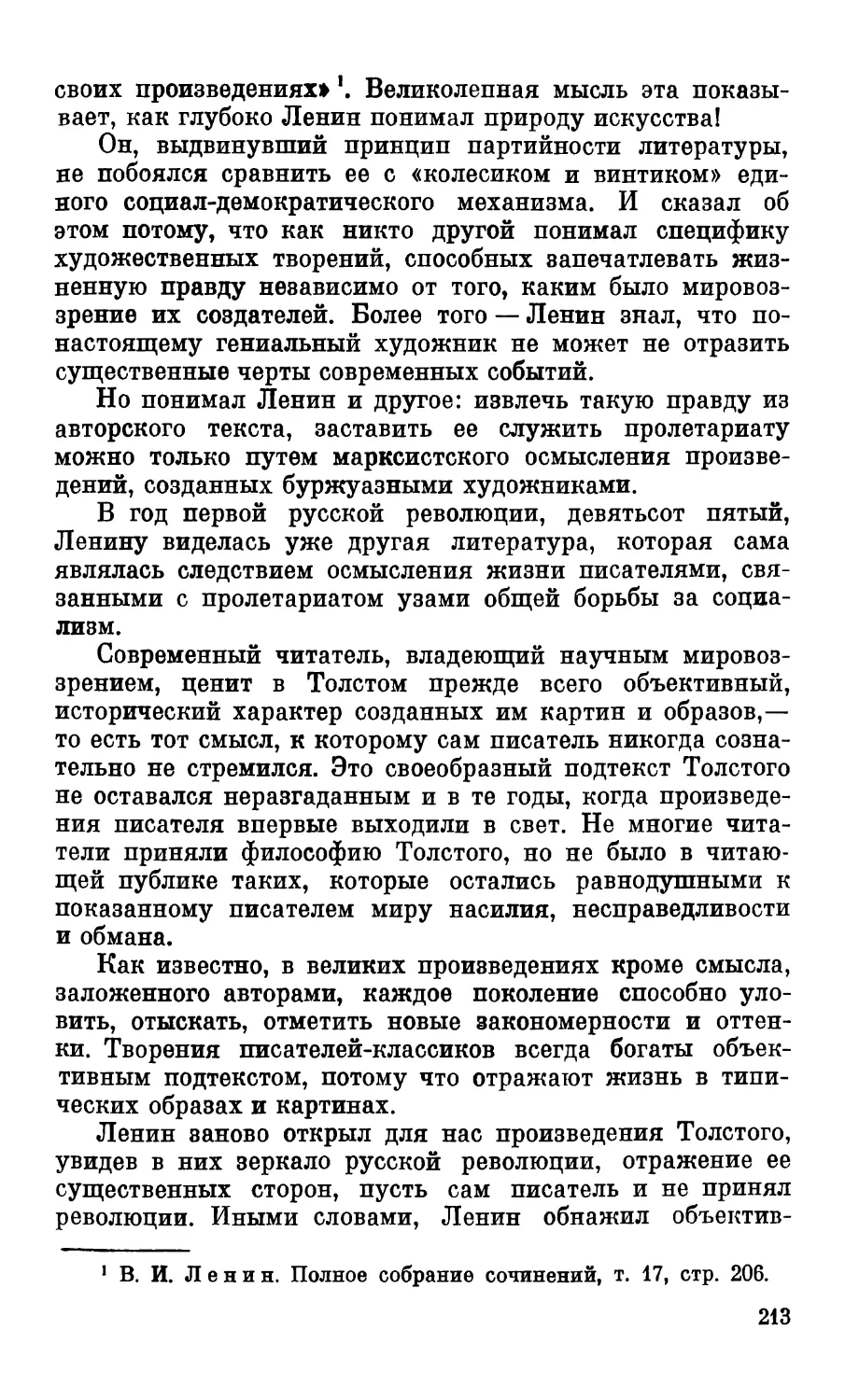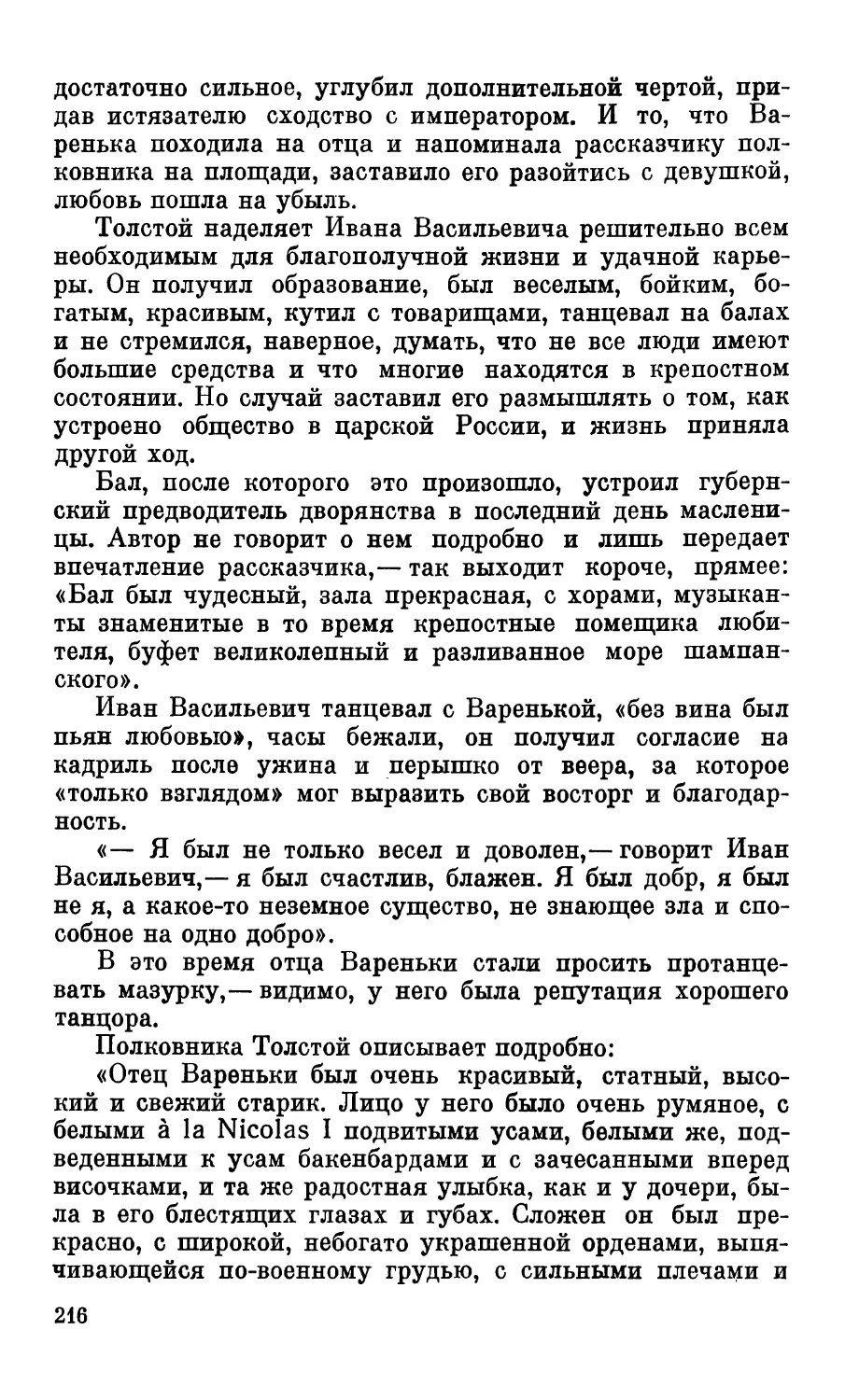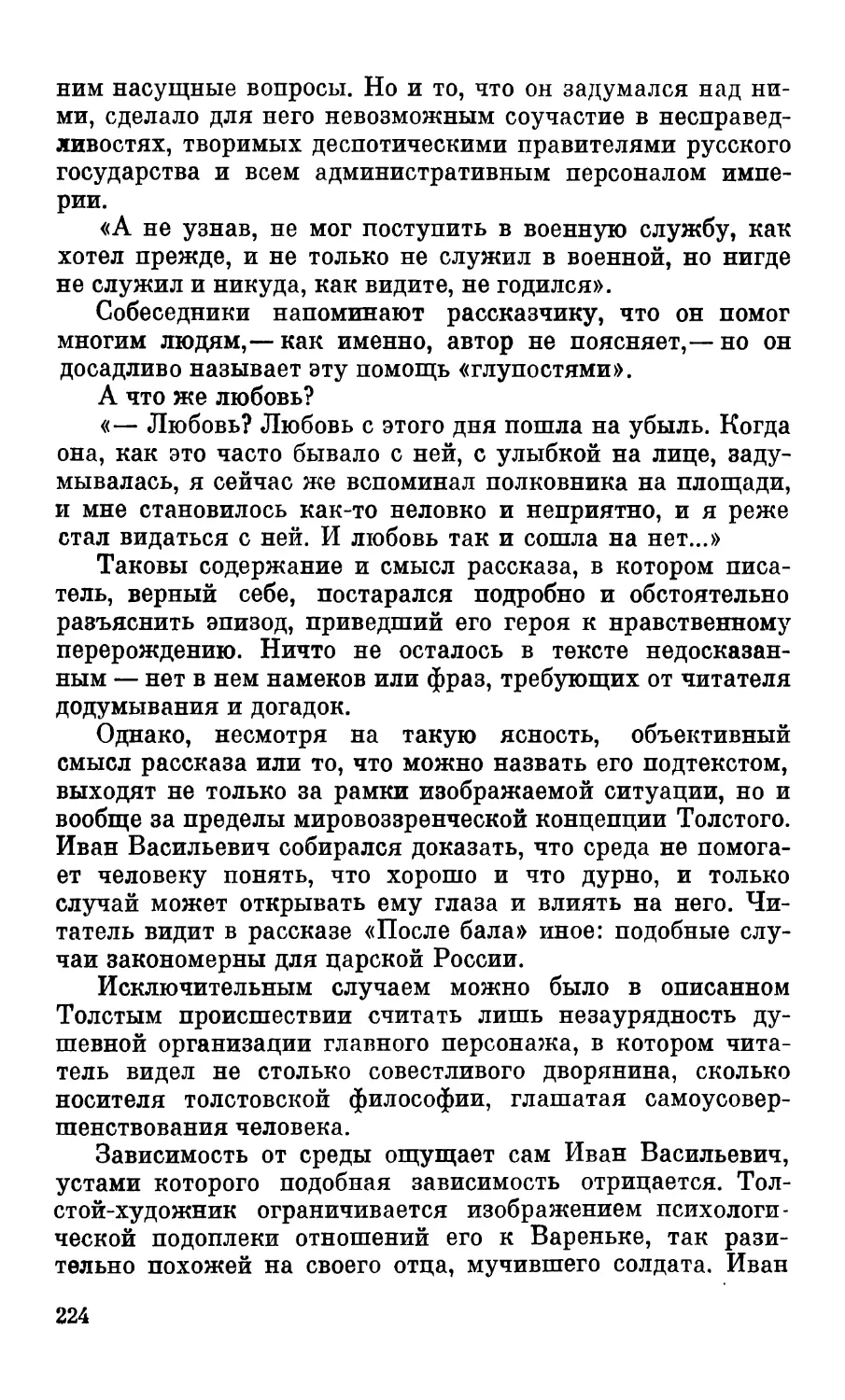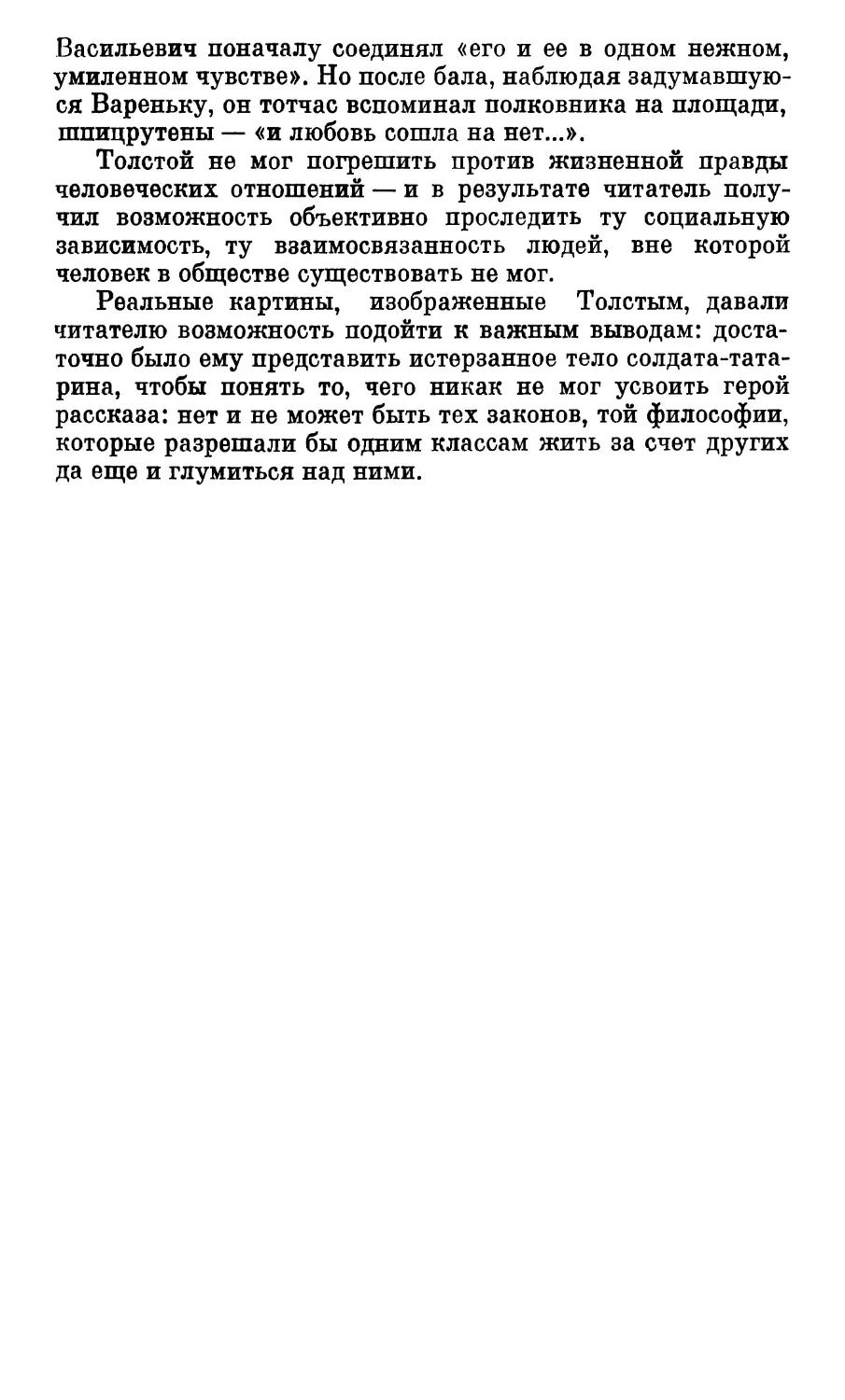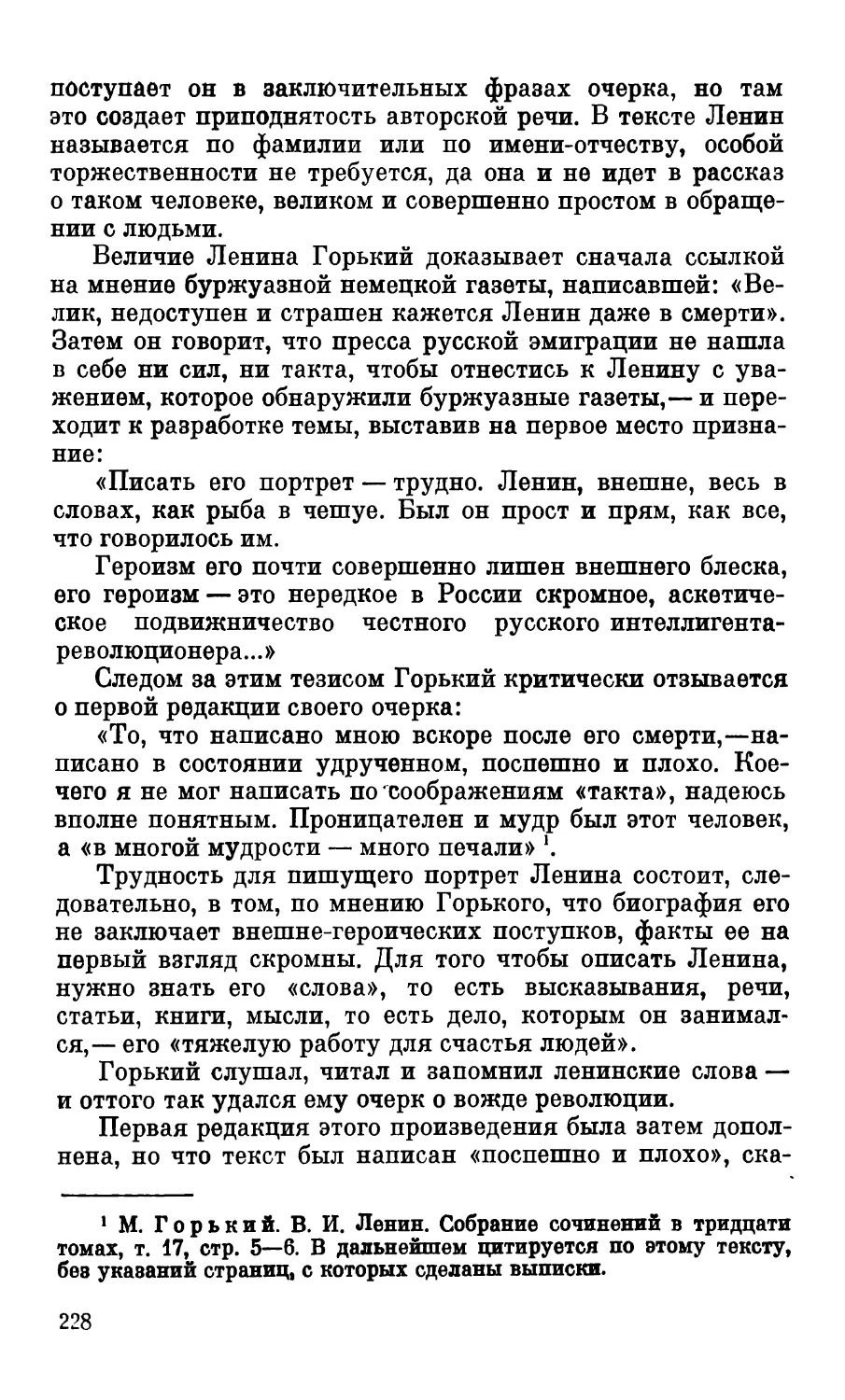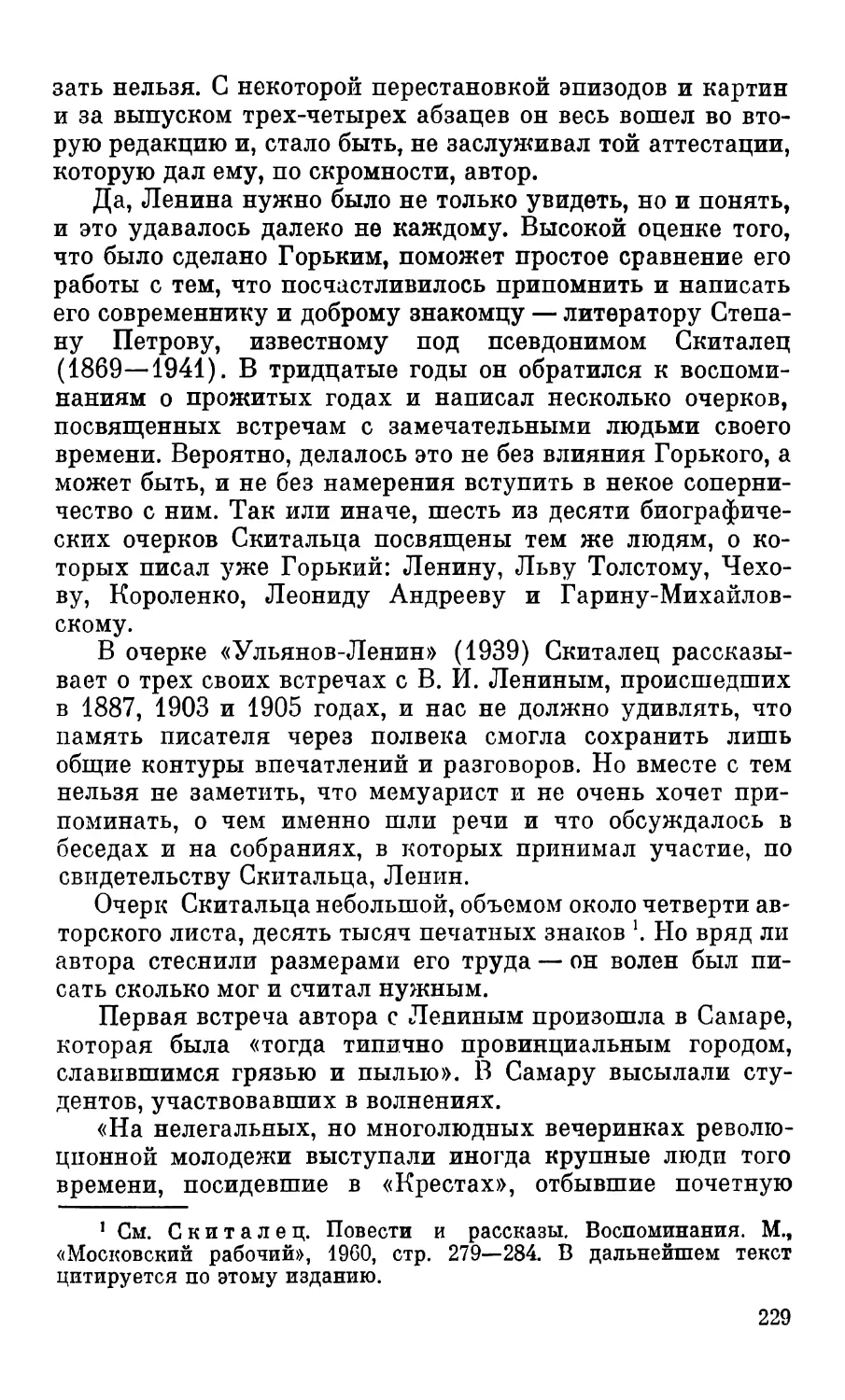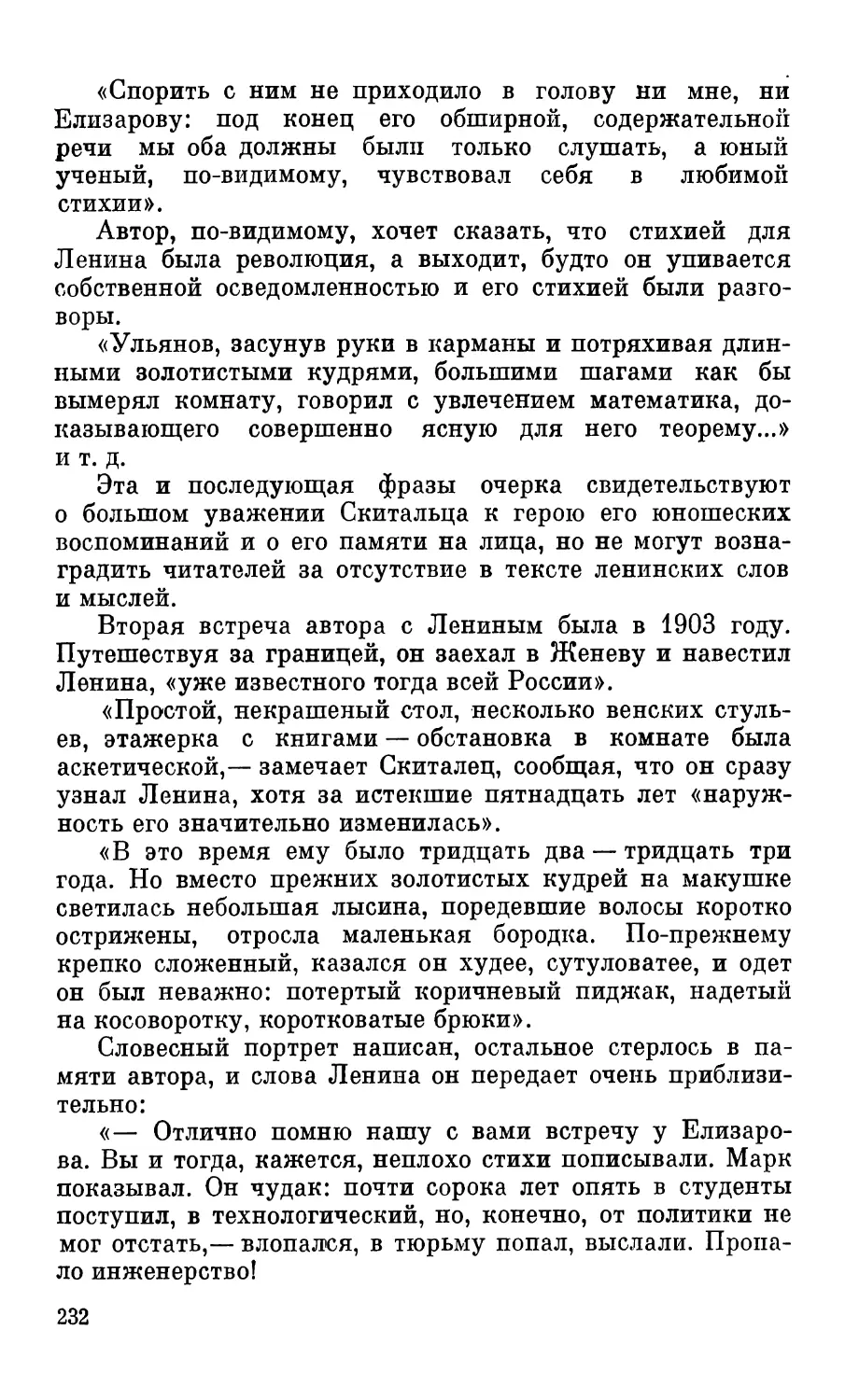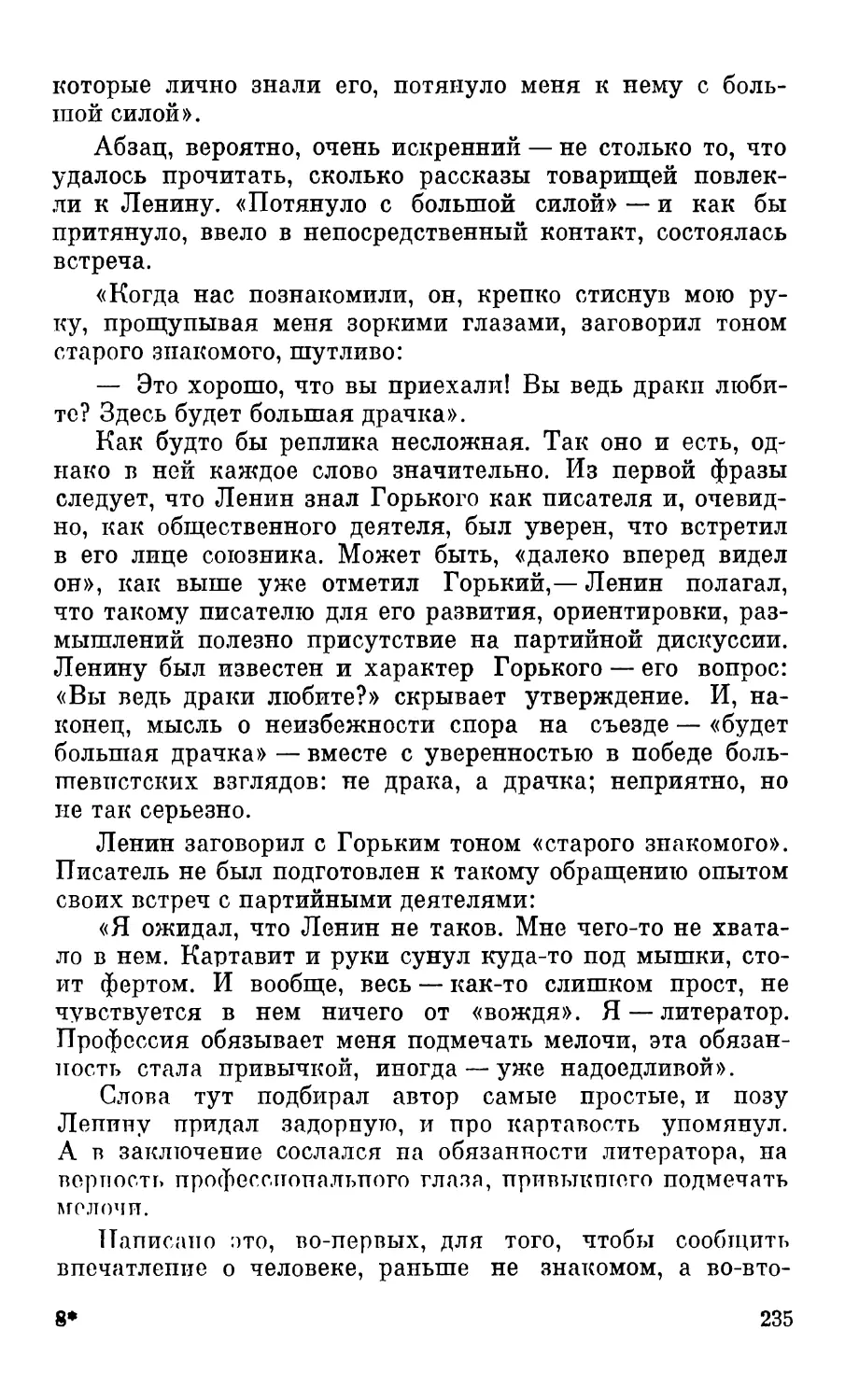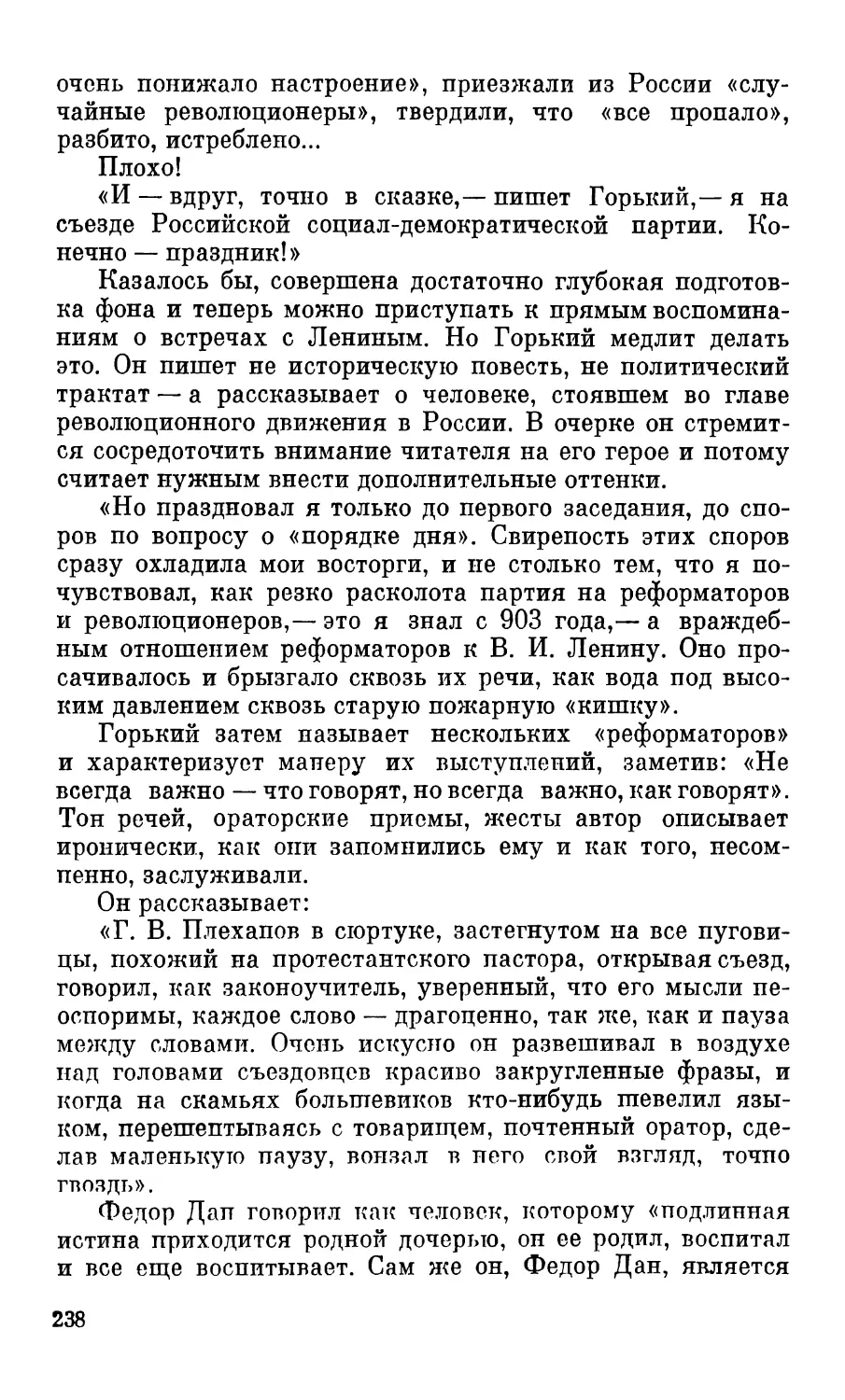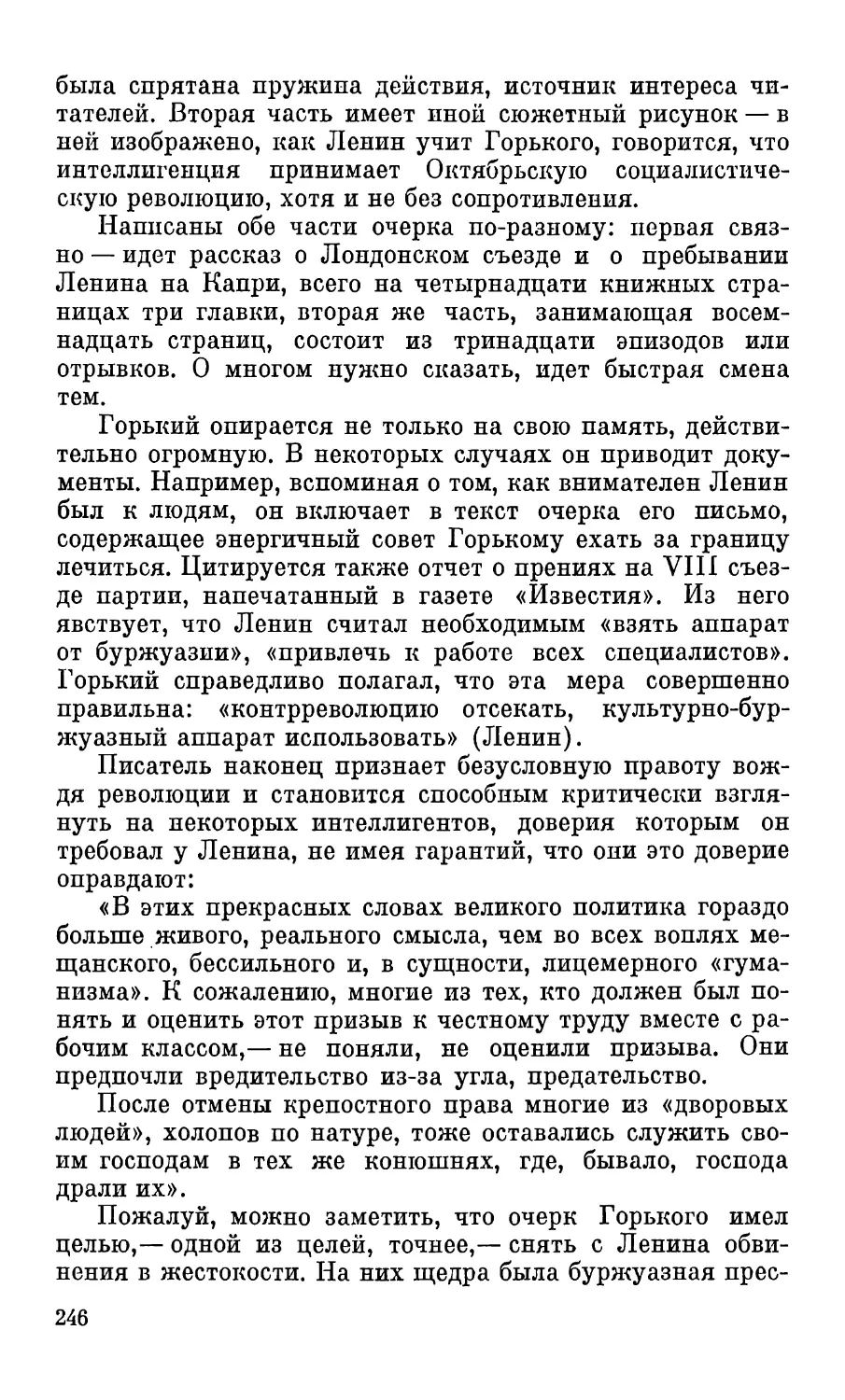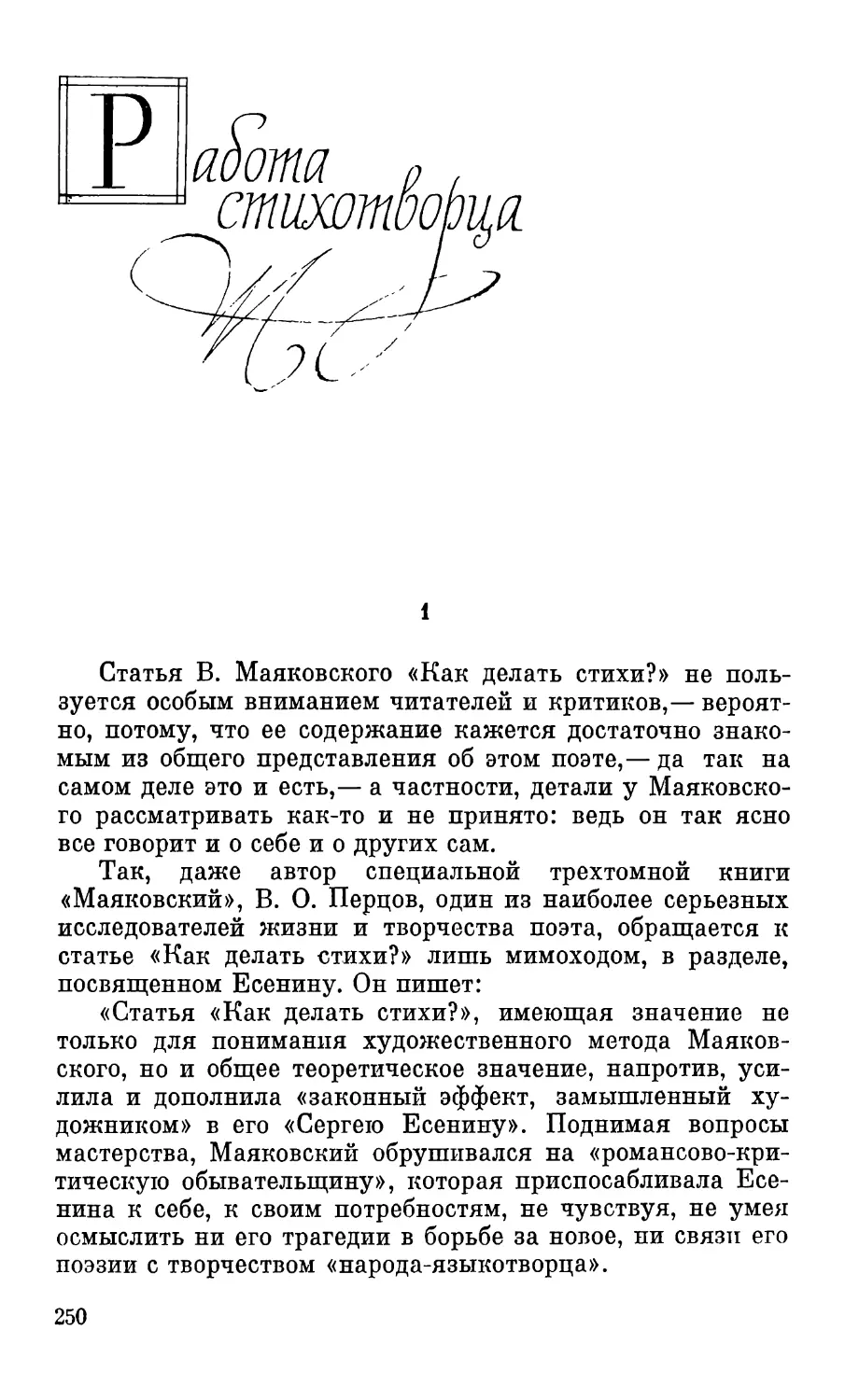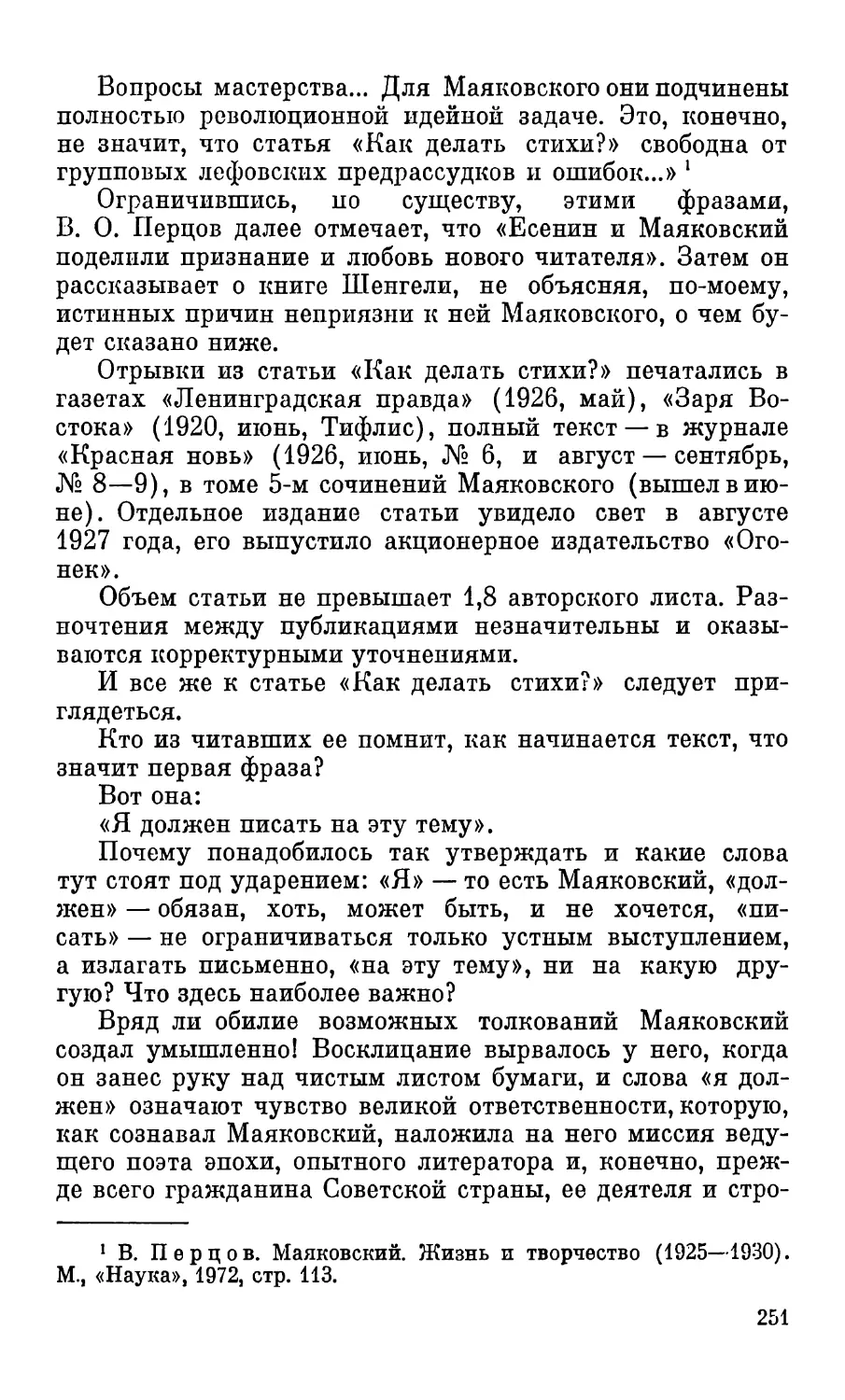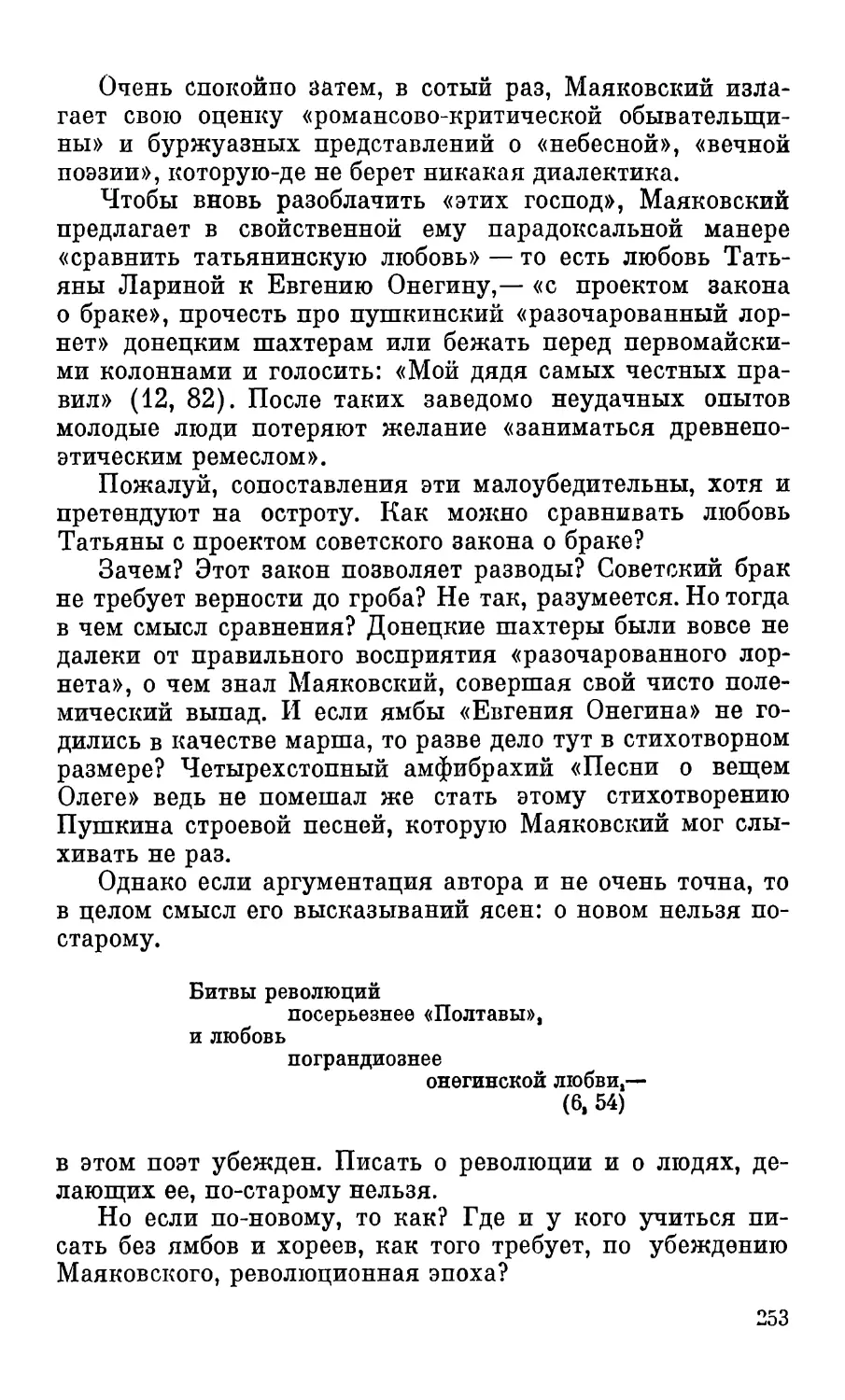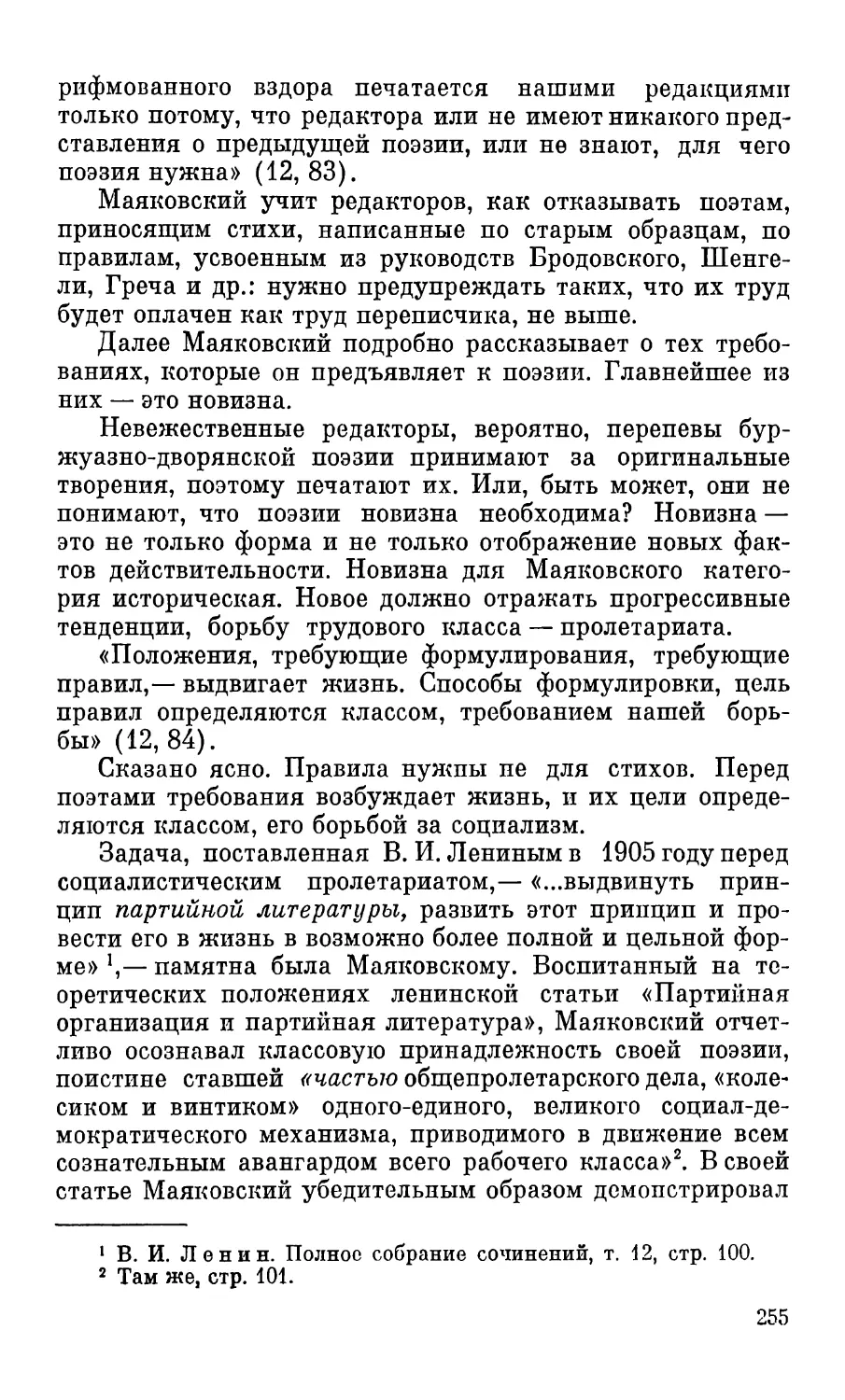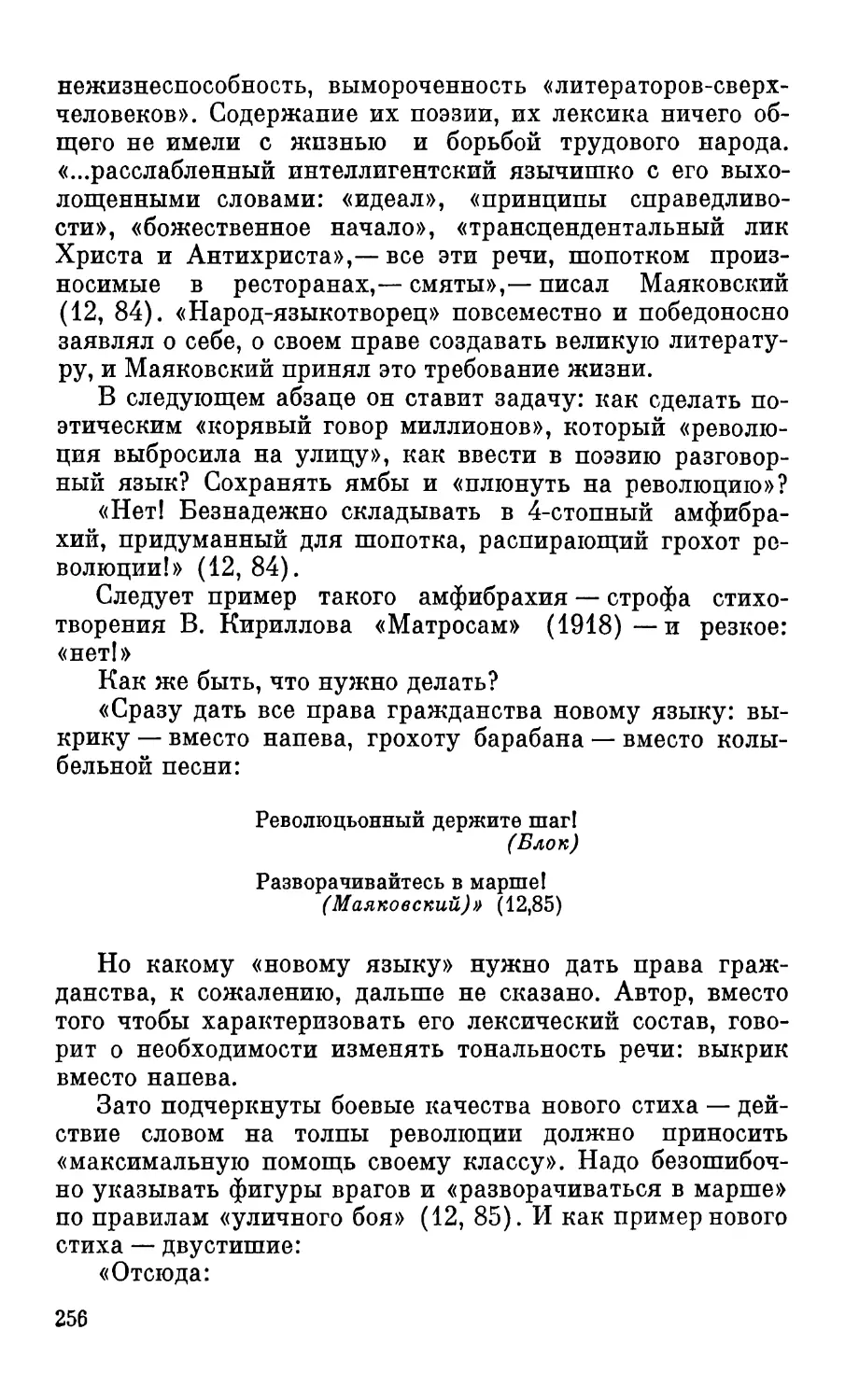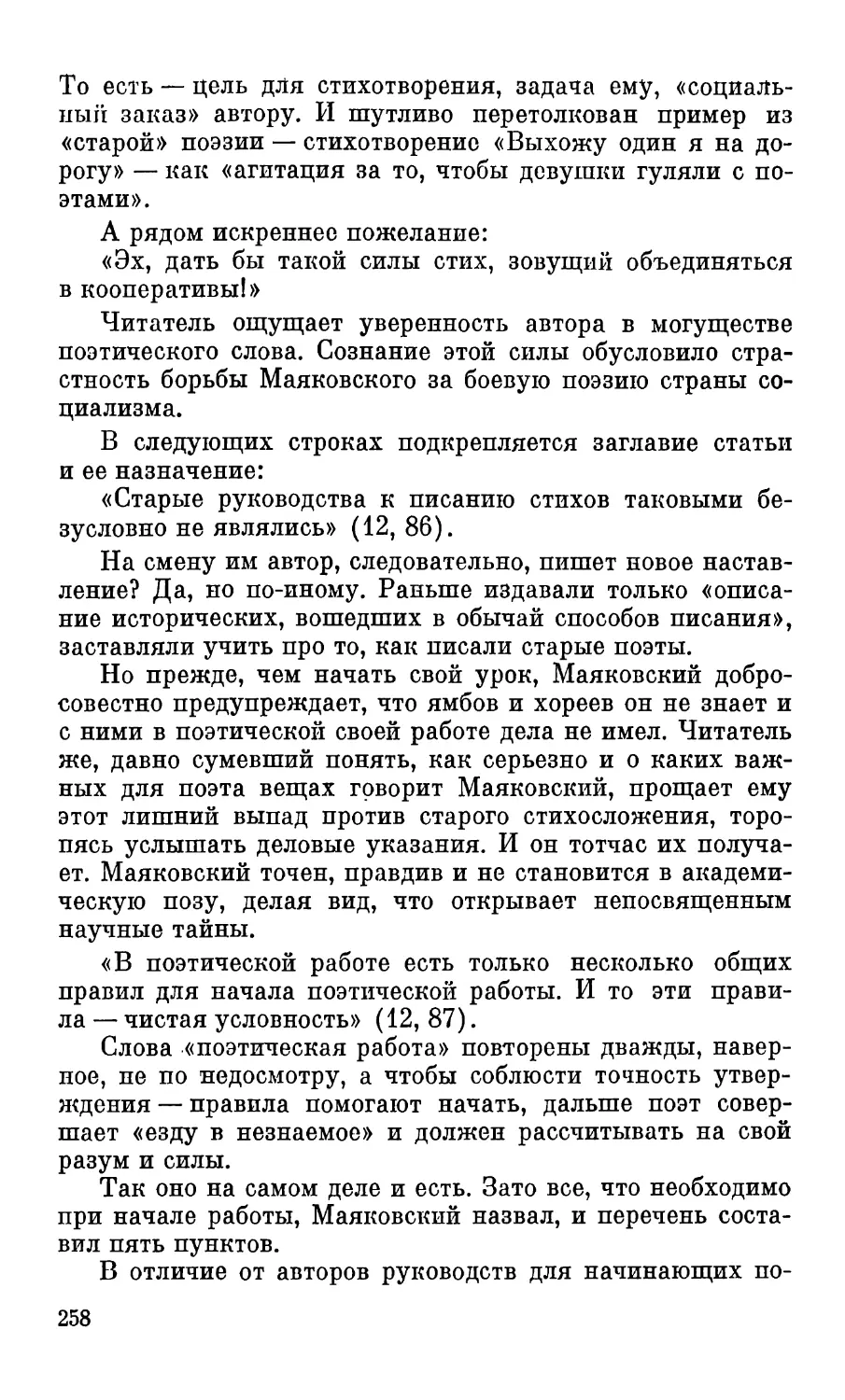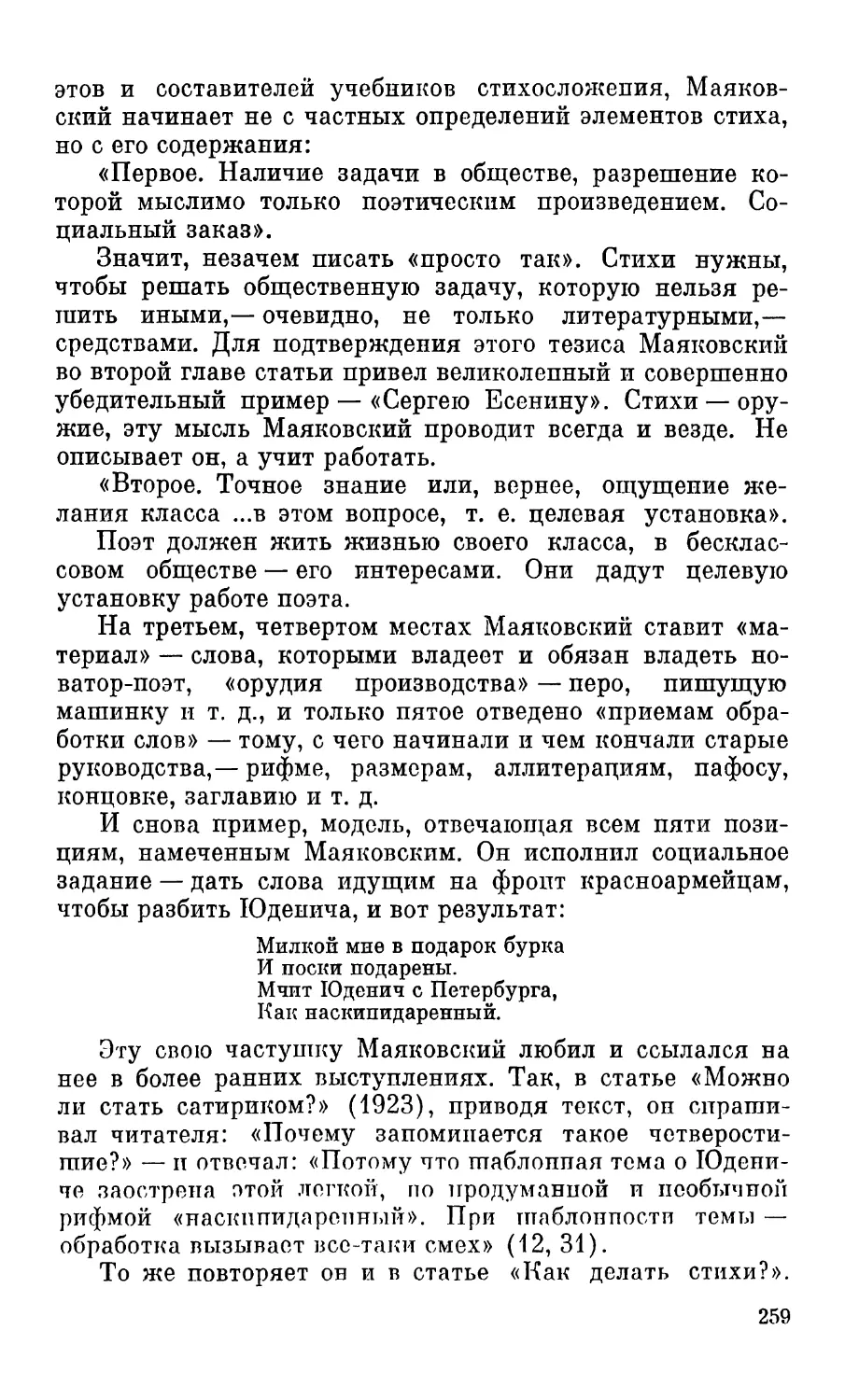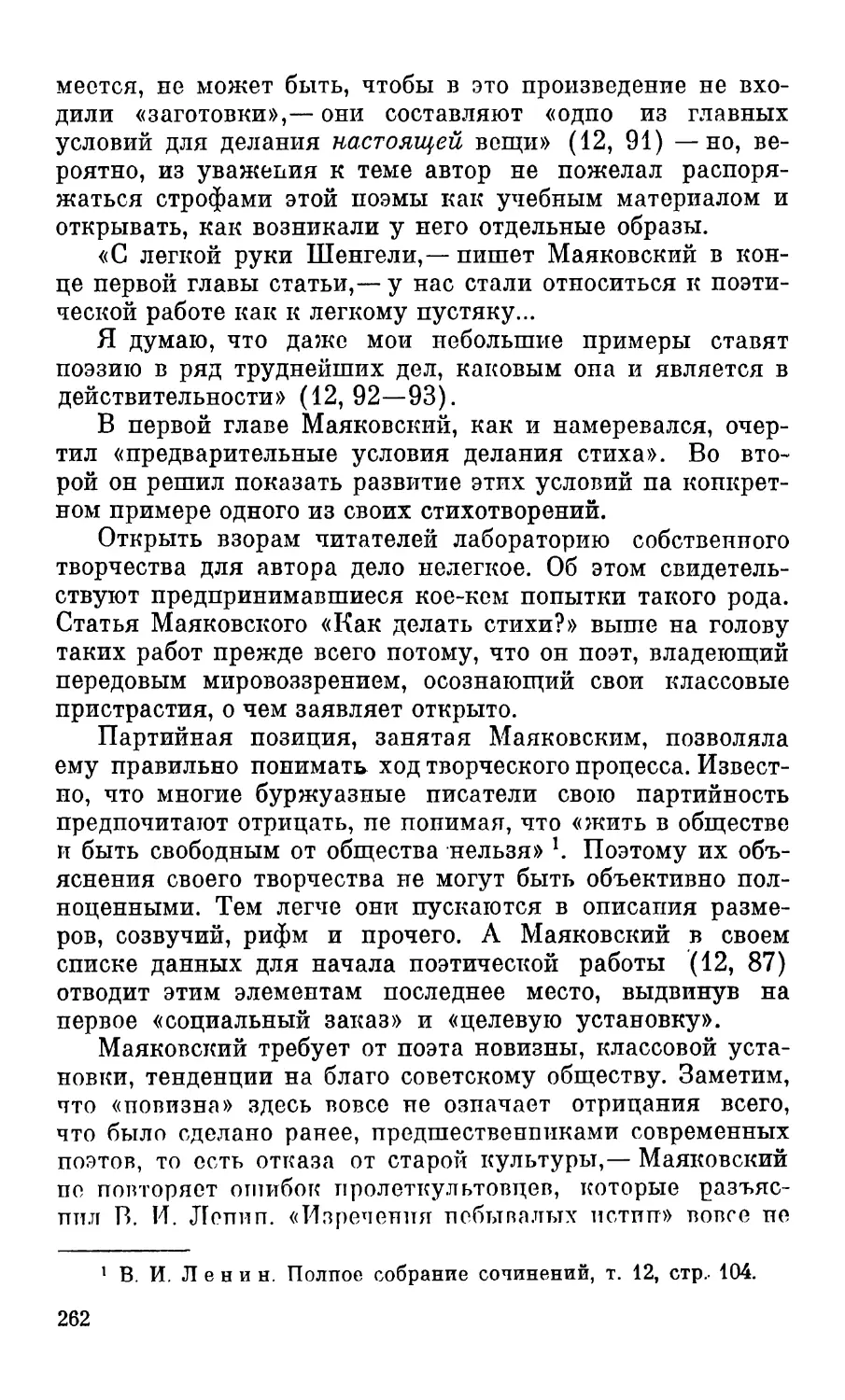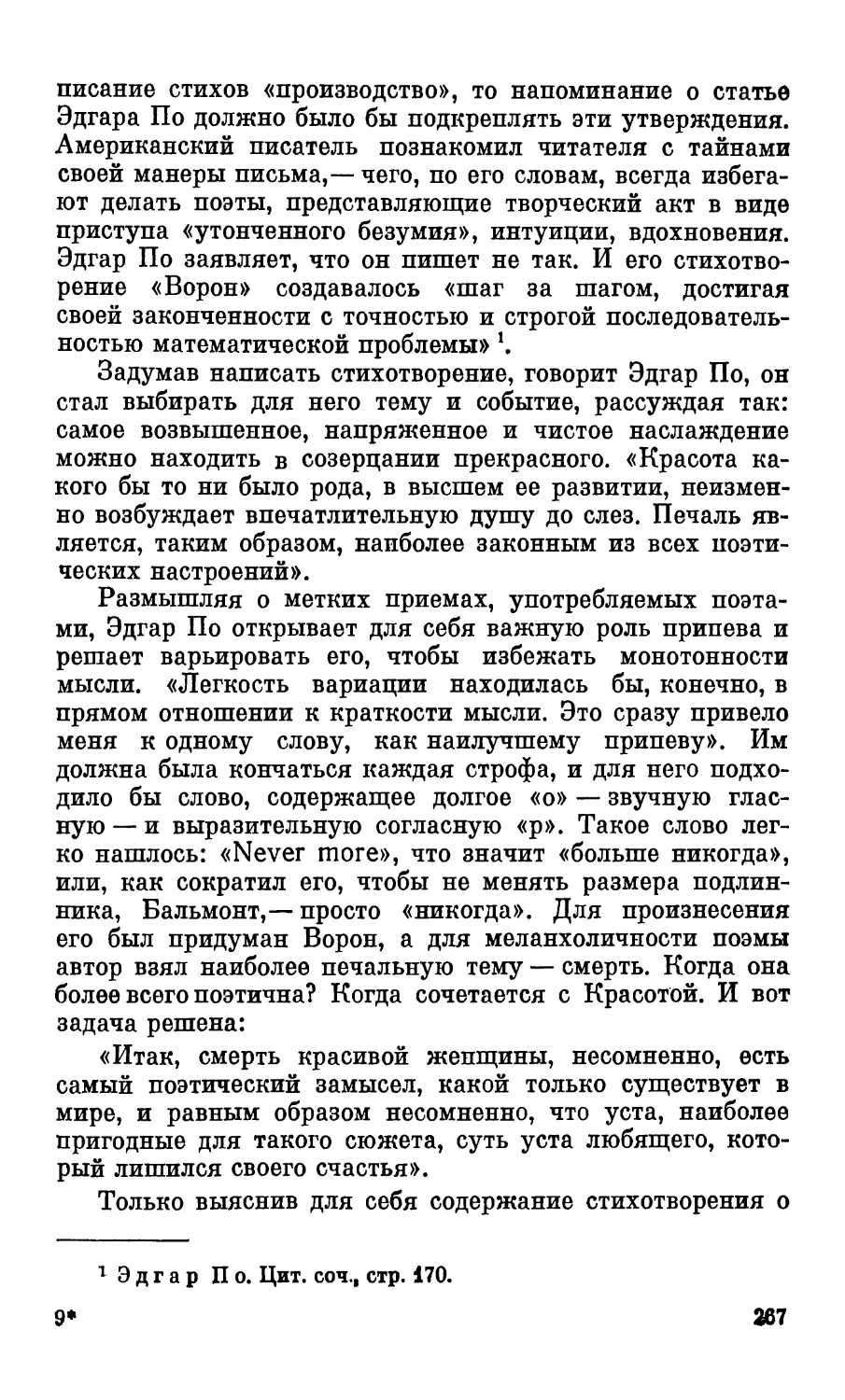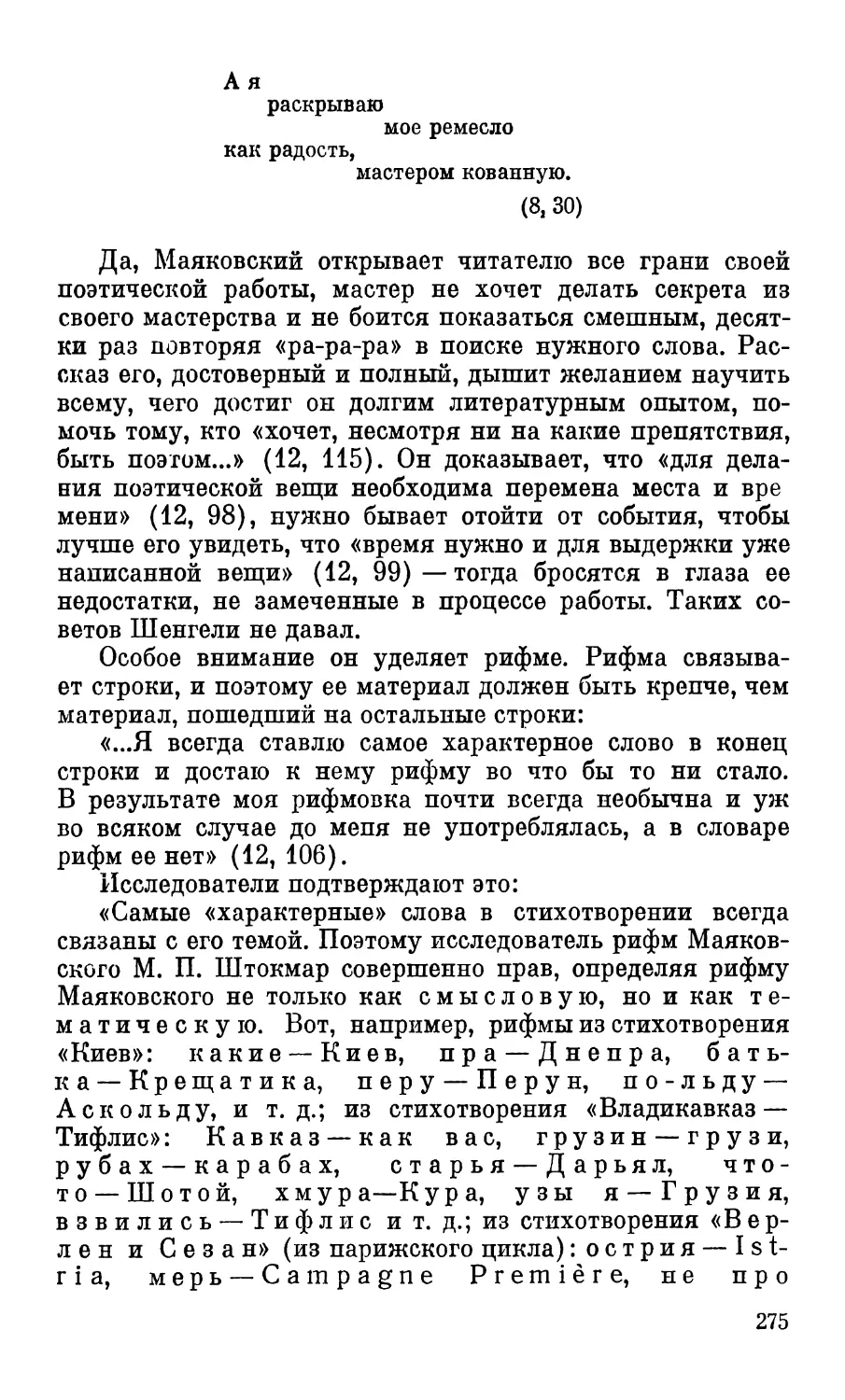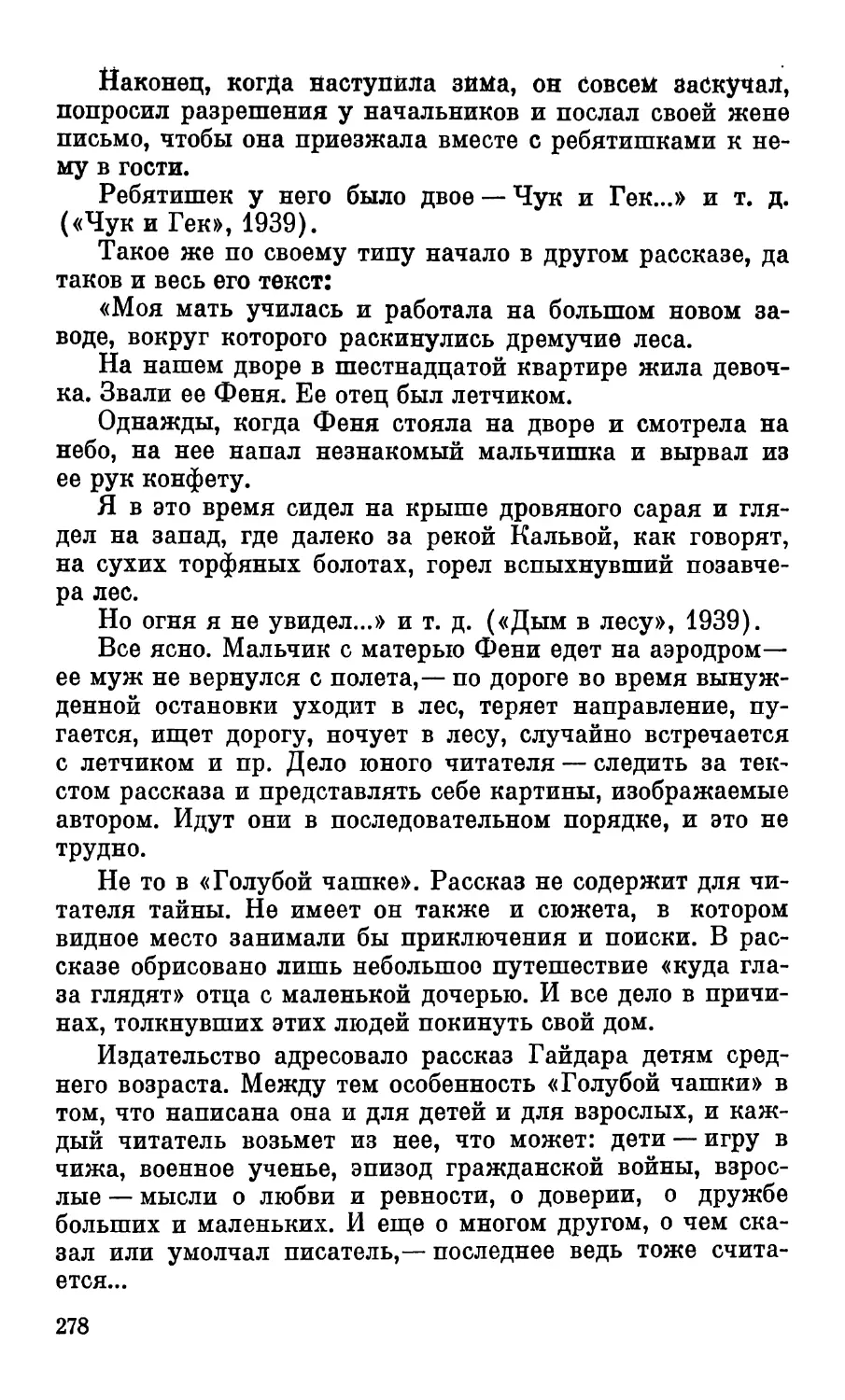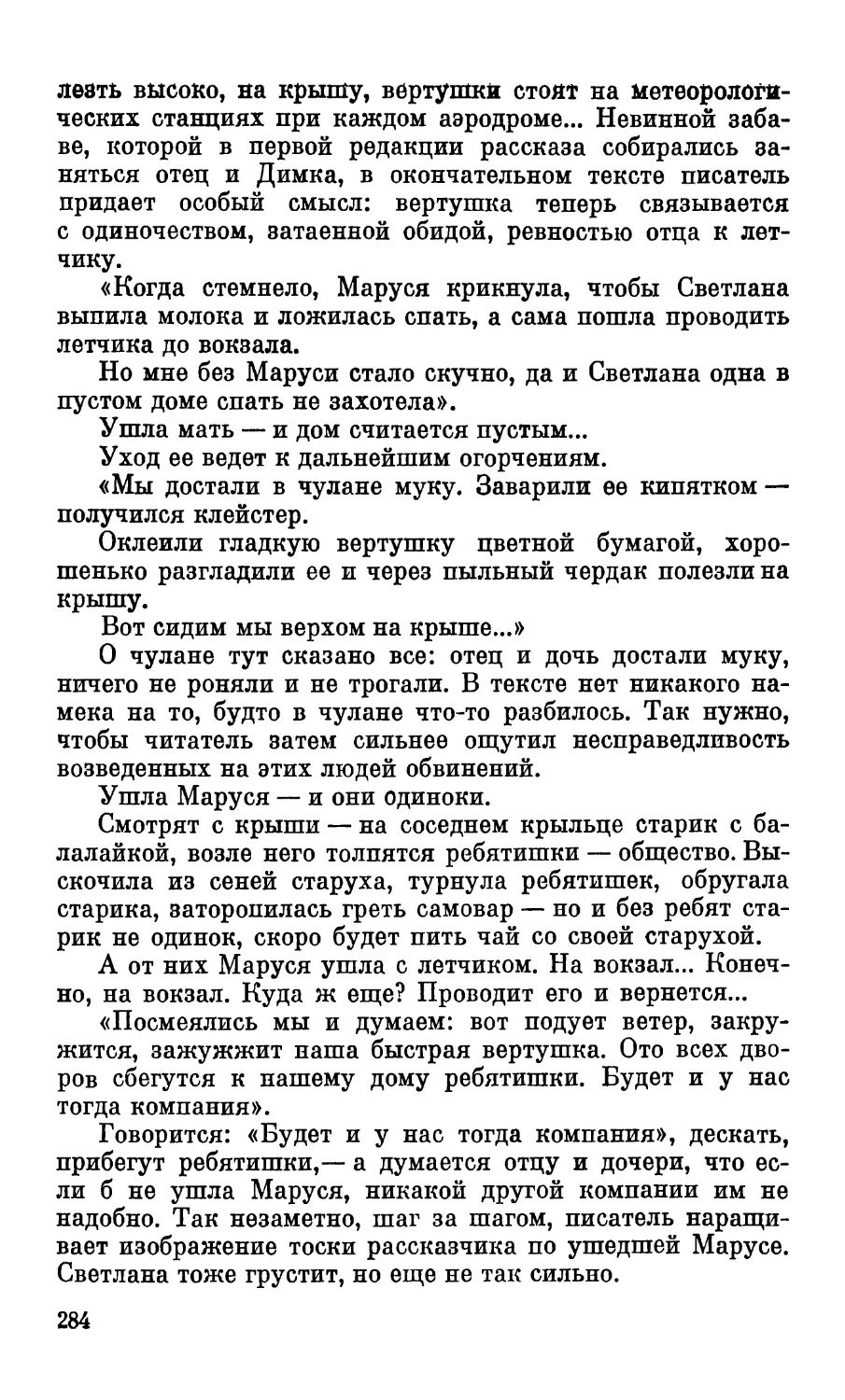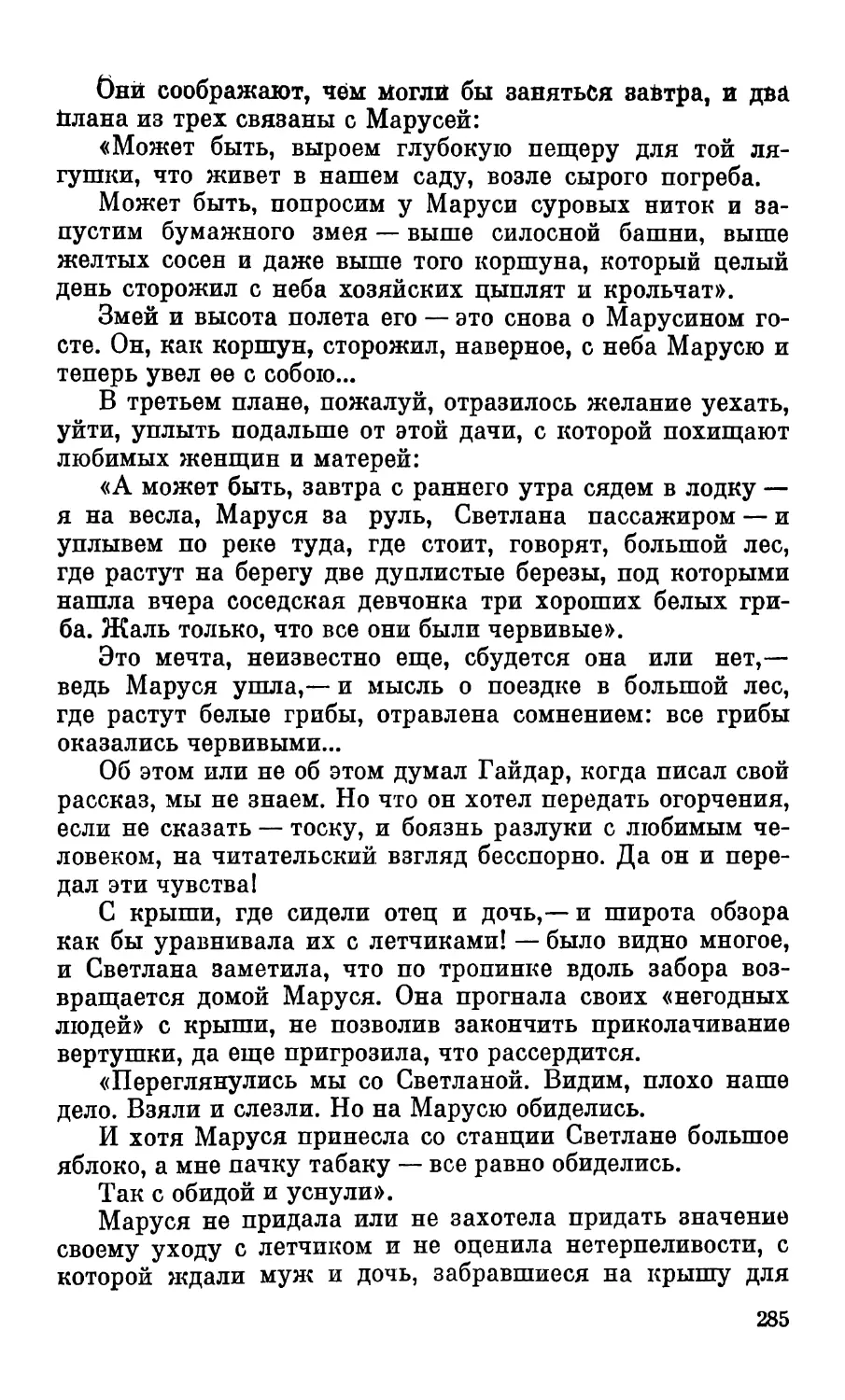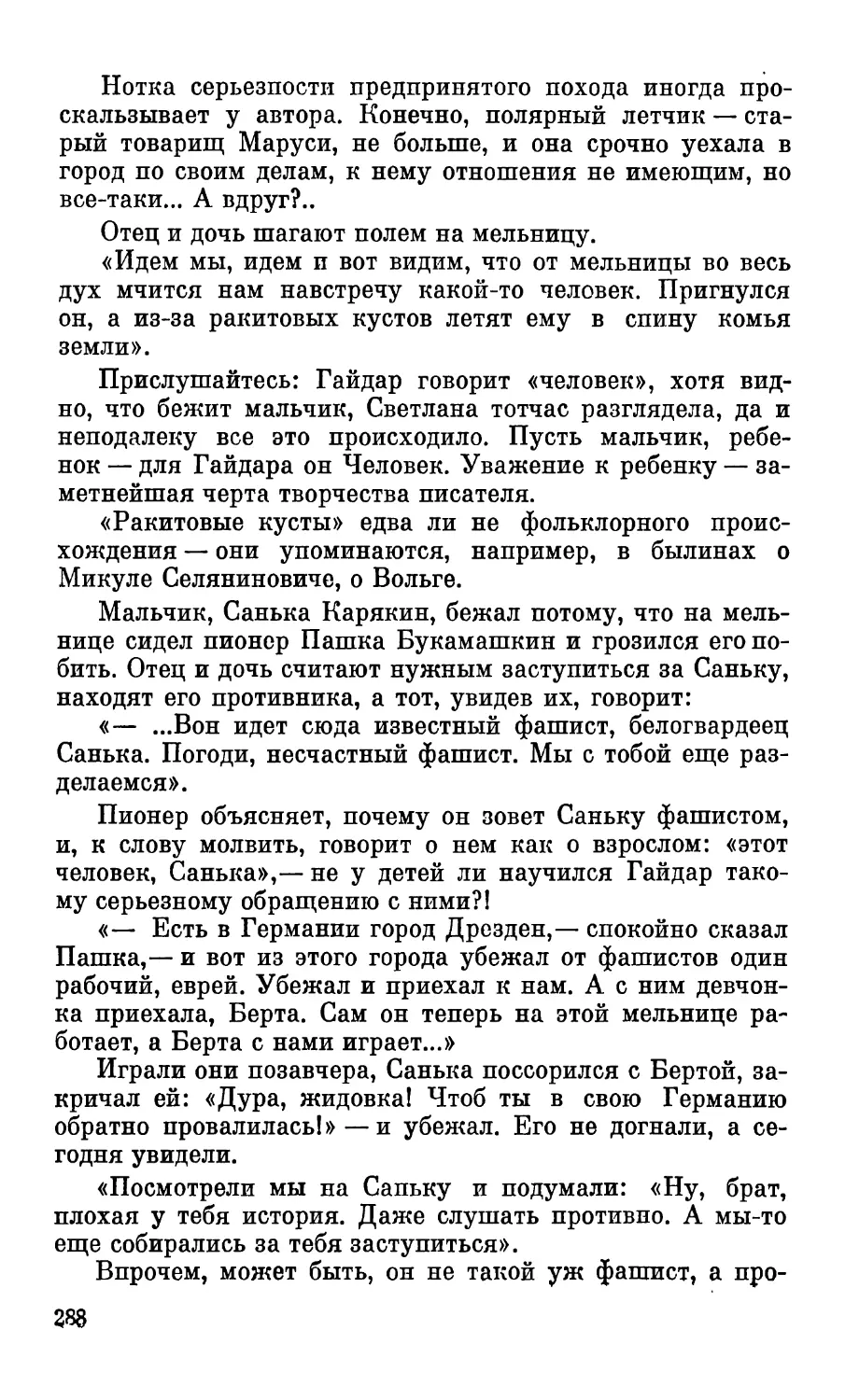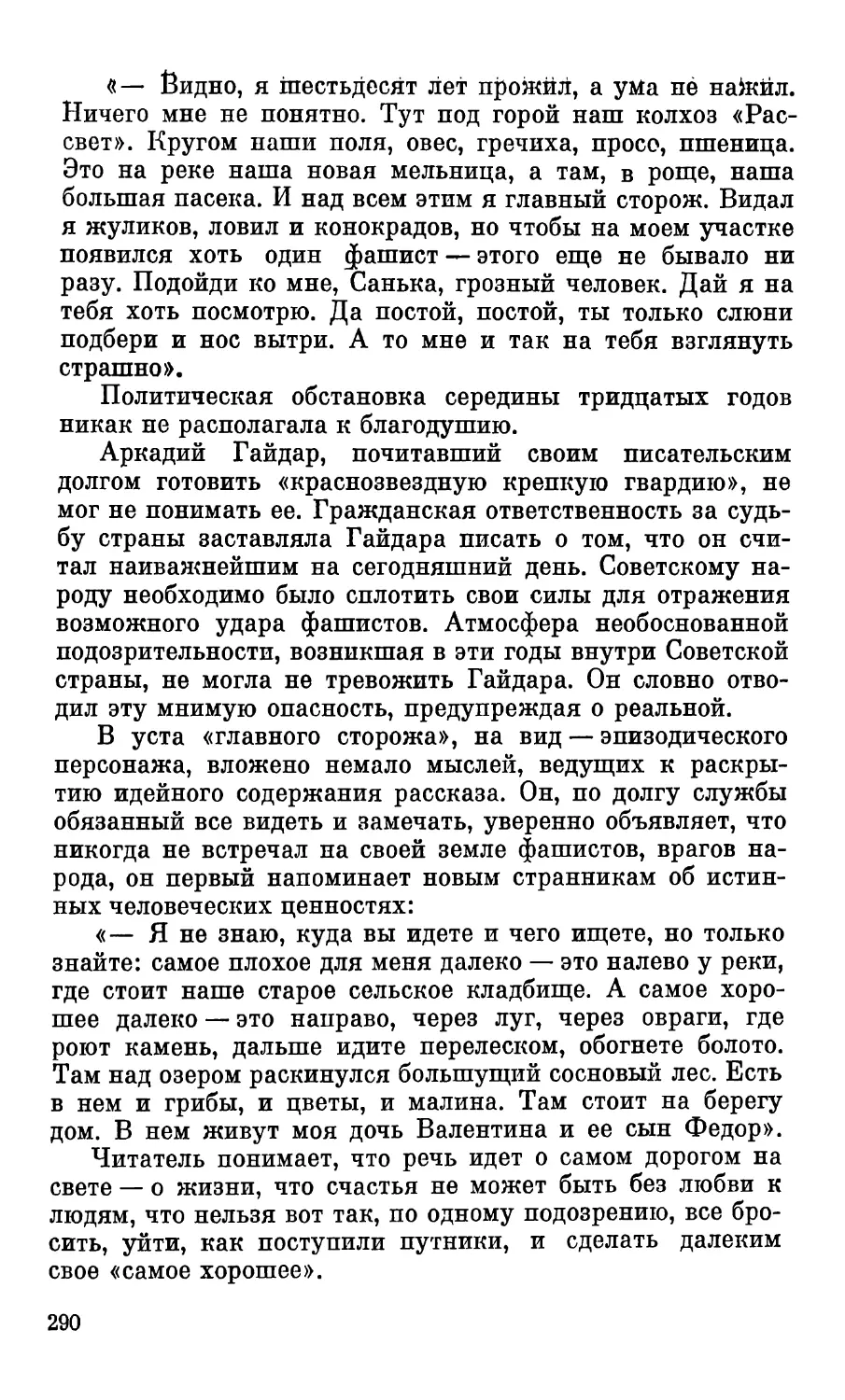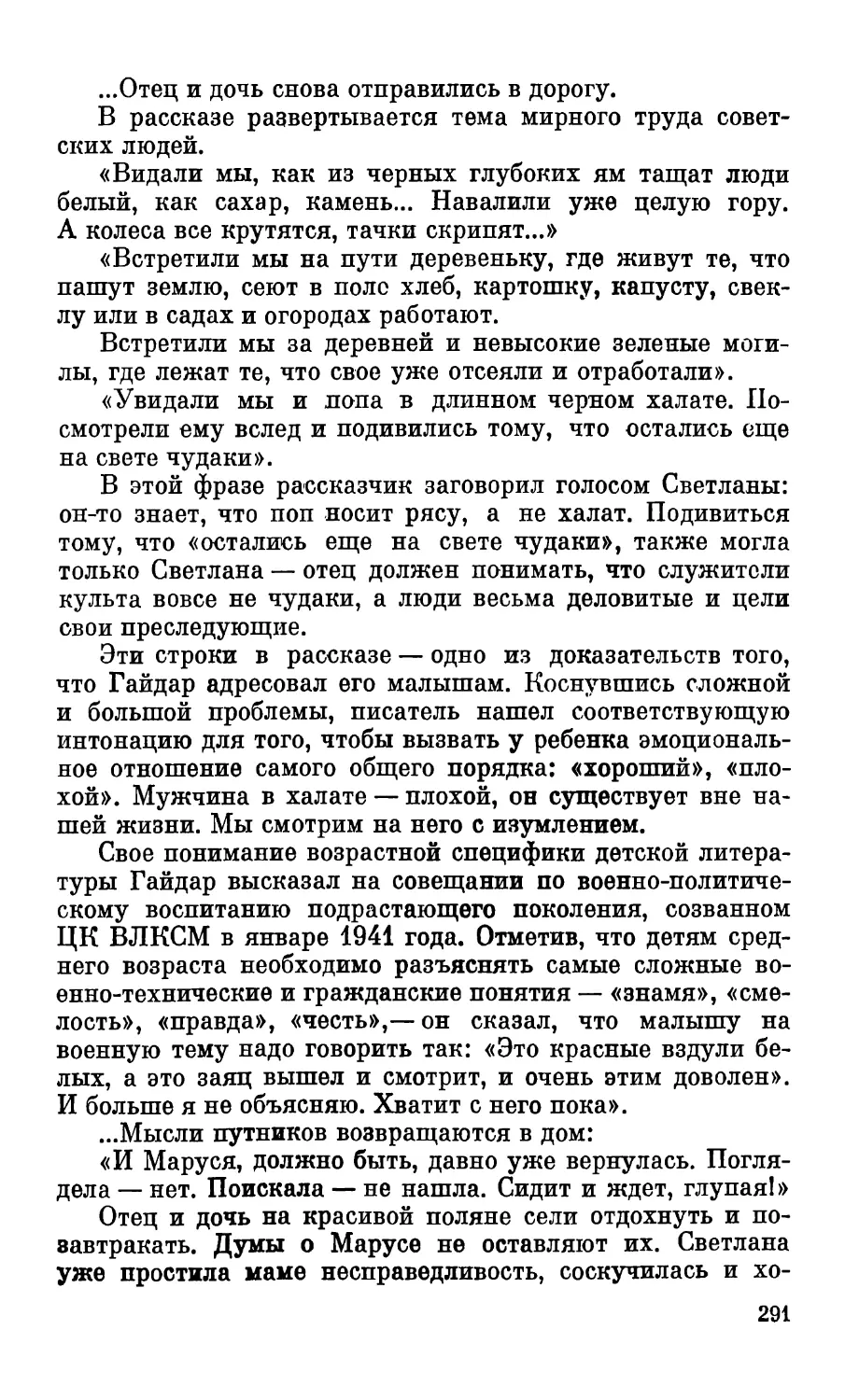Автор: Западов В.А.
Теги: художественная литература советский писатель литературная критика мастерство читателя
Год: 1975
Текст
А. ЗАПАЛОВ
■•: "
г/шин.
СТРОКИ
А ЗАВАЛОВ
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА* 19Т5
3—30
Есть много книг и статей, посвященных мастерству
писателя. Автор этой книги А. Западов полагает, что
надобно повышать и мастерство читателя, которому
следует учиться постигать эмоционально-психологиче-
скую глубину и выразительность поэтического слова,
составляющие одно из главных достоинств русской ли-
тературы.
В подлинно художественном произведении за ску-
пыми строками текста внимательный читатель может
открыть, увидеть и понять такие связи, подробности,
картины, которые обогатят его представления о героях,
позволят проникнуть в сердцевину повествования.
Свой способ внимательного чтения автор приме-
няет на страницах книги к одам Ломоносова, стихам
Державина, «Пиковой даме» Пушкина, «Тамани» Лер-
монтова, «Мертвым душам» Гоголя, к произведениям
Тургенева, Л. Толстого, Чехова, Горького, Маяковского,
Гайдара.
© Издательство «Советский писатель», 1975 г. Главы, отмеченные
в содержании звездочками, печатаются впервые»
70202—180
3 335—75
083(02)—75
[амяти дорогого
/читая идШга
Григория J/-
Александровича
iVkoickozo
ОТ АВТОРА
Потоки информации заполняют современный мир.
У людей развилась нужда в тысячах сведений, известий,
сообщений, и массовые средства коммуникации — газеты,
радио, телевидение — ежедневно доставляют их в изоби-
лии. Информация, предназначенная для долгого хранения,
оседает в книгах, но и ей нельзя давать долго залеживать-
ся _ стареет! «Динамическое чтение — требование жиз-
ни»,— кричат лозунги с журнальных страниц и с трибун
конференций работников умственного труда.
Динамическое... Человек за годы ученья должен про-
читать шесть —восемь тысяч книг, а за всю жизнь — две-
сти тысяч. Ему следует читать со скоростью не менее
трехсот слов в секунду. Говорят, что это нетрудно — при
вертикальном движении глаз они сами собой останавли-
ваются в наиболее информативных местах текста, причем
скорое чтение позволяет сосредоточивать внимание на са-
мом главном в статье или книге. В газете нужно обращать
4
«внимание на начало и конец абзаца. Обычно здесь основ-
ная информация. Остальное угадывается по смыслу» \
Да и не только в газете. Есть уже образцы анализа
структуры ЛХТ — литературно-художественного текста —
как средства извлечения информации,—например, из ро-
мана Гончарова «Обыкновенная история»:
«В основу фабулы гончаровского романа положен
мотив неудачной влюбленности. Доминирующей тенденци-
ей сюжетной развертки является принцип кумулятивной
последовательности — любовные истории, повторяясь, дают
симметрическое развитие сюжета. Механический динамизм
этого принципа нарушается введением фигуры Адуева-
дяди. Дядя и племянник, анализируя действительность,
дробят истину на две противоположные части. Логика
повествования потребовала введения нового персонажа,
взгляды которого синтезировали бы обе крайности. Таким
персонажем стала Лизавета Александровна...» И т. д.2
Не будем забывать, однако, что способы чтения зави-
сят от его цели и что кроме сбора информации от книги
можно получать также эстетическое наслаждение.
По-разному читаются номер газеты, книжка журнала,
учебник, труды классиков марксизма-ленинизма, романы
и лирические стихотворения. А кроме показателя скоро-
сти пробега по буквам необходимо следить за тем, как по-
нято и усвоено прочитанное.
Из всех видов печатных текстов, казалось бы, самое
легкое — читать художественную литературу: ни формул,
ни цифр, ни чертежей — разговоры да описания природы,
которые можно и пропускать; читай, пока не устанут глаза.
Но будет ли в таком скорочтении толк? Нет.
Охотно и часто мы говорим о мастерстве писателя, о
его уменье изображать людей, природу, отчетливо изла-
гать свои мысли, и значительно реже вспоминаем о тех,
для кого он трудится,— о читателях. А ведь они также
обладают своим мастерством — умением понимать прочи-
танное и наслаждаться им, и это мастерство надо повы-
шать и совершенствовать.
Процесс чтения — творческий процесс. С одной сторо-
ны, в нем участвует автор, чье слово, отобранное среди
1 «Научная организация умственного труда (краткие тезисы к
предстоящей конференции)». Новокузнецк, 1974, стр. 57.
2 Там же, стр. 64.
5
тысячи других, несет в себе заряд мыслей, наблюдений,
чувств и ассоциаций, с другой — читатель, который при
любых условиях выносит о книге свое впечатление, глубо-
ко личное, возникшее из непосредственного общения с
текстом. Его культурный уровень, привычка думать о
прочитанном, особенности мировоззрения, психологии, ха-
рактера порождают оценку книги.
«Содержание художественного произведения,— гово-
рит проф. В. Ф. Асмус в статье «Чтение как труд и твор-
чество»,— не переходит, — как вода, переливающаяся из
кувшина в другой,— из произведения в голову читателя.
Оно воспроизводится, воссоздается самим читателем —по
ориентирам, данным в самом произведении, но с конечным
результатом, определяемым умственной, душевной, духов-
ной деятельностью читателя.
Деятельность эта есть творчество. Никакое произведе-
ние не может быть понято, как бы оно ни было ярко, как
бы ни велика была наличная в нем сила внушения или
запечатления, если читатель сам, самостоятельно, на свой
страх и риск, не пройдет в собственном сознании по пути,
намеченному в произведении автором» \
Положение это справедливо и очень существенно.
Характеризуя творческую манеру Чехова, его удивитель-
ную способность простыми и вместе с тем магическими
словами делать читателя участником всего, что пережил
и перечувствовал поэт, С. Я. Маршак утверждал:
«Читатель тоже должен и хочет работать. Он тоже ху-
дожник,— иначе мы не могли бы разговаривать с ним на
языке образов и красок.
Литературе так же нужны талантливые читатели, как
и талантливые писатели. Именно на них, на этих талант-
ливых, чутких, обладающих творческим воображением
читателей, и рассчитывает автор, когда напрягает свои
душевные силы в поисках верного образа, верного поворо-
та действия, верного слова. Художник-автор берет на себя
только часть работы. Остальное должен дополнить своим
воображением художник-читатель» 2.
Должен-то должен... А вот дополняет ли?
1 В. Асмус. Вопросы теории и истории эстетики. Сборник
статей. М., «Искусство», 1968, стр. 62.
2 С. Я. Маршак. Воспитание словом. Статьи. Заметки. Вос-
поминания. М., «Советский писатель», 1961, стр. 89—90.
в
Как показывает опыт — не очень.
Немалую долю вины за это несут преподаватели лите-
ратуры средней и высшей школы, и автор этих строк в том
числе. В школе учащиеся составляют характеристики ге-
роев, то есть изучают не произведение в целом, а «обра-
зы» — Плюшкина, Чичикова, Ноздрева, Коробочки,—
упуская из виду, что все они лишь элементы в идейном
единстве поэмы Гоголя. При филологической подготовке
в вузах студенты вновь берутся за изучение «образов»
русской и мировой литературы, как это делали в школе,
однако с тем отличием, что теперь им надобно снимать
эти образы со страниц многих десятков произведений.
Читать все, что указано в программах по курсам, нет вре-
мени, хоть оно и не всегда, как это бывает везде, тратится
разумно,—- и вот в общежитии, в коридоре учебного зда-
ния возникает фигура «сказителя», студента, который
прочел «Записки охотника», «Обломова» или «Утраченные
иллюзии» и вкратце передает их содержание товарищам.
И от них на экзамене порой можно получить довольно
верные — в общих чертах — сведения об этих романах.
Прилагаются большие усилия, чтобы поправить дело,
но улучшение наступает медленно и обстановка на дан-
ном участке культурного фронта продолжает оставаться
почти такой же, как она была очерчена много лет назад
проф. Г. А. Гуковским:
«Да, при настоящем положении литературоведения
как науки учителю-словеснику приходится иной раз труд-
новато. Наука мало помогает ему. Ученые пишут книги
и статьи о множестве вещей, составляющих подступы,
подходы к самому делу изучения литературы, вещей,
необходимых для правильного понимания литературных
произведений прошлого, но чаще всего не раскрывающих
сами эти произведения... Установилась даже некая при-
вычка считать, что «академической» науке, мол, и негоже
заниматься толкованием смысла содержания литератур-
ных произведений, что это, мол, дело критики и школы.
Нелепый и вредный взгляд. А откуда же возьмет средняя
школа свои толкования произведений, если наука не даст
ей этих толкований?» 1
Речь, стало быть, дальше на страницах нашей книги
1 Г. А. Г у к о в с к и й. Изучение литературного произведения
в школе. М.—Л., «Просвещение», 1966, стр. 52.
Т
пойдет о том, что следуе? относиться внимательно к теи-
сту литературных произведений, читать их не «по диаго-
нали», а сверху вниз, не перепрыгивая через строки и
описаний природы, нередких у старых мастеров, отнюдь
не пропуская. Разумеется, так нужно обращаться лишь с
подлинно художественными произведениями; есть немало
книг, знакомство с которыми можно ограничить просмот-
ром, как быстро понимает более или менее опытный чи-
татель. Но то, что действительно хорошо, нужно читать
медленно, с раздумьями, постигая мысли автора, проникая
в глубину текста, стараясь представить себе картину, созда-
ваемую автором,—- словом, творчески овладевать книгой.
Такое постижение книги при первом знакомстве с нею,
естественно, невозможно — к ней надобно возвратиться
вторично. Проф. В. Ф. Асмус вообще считает, что, «строго
говоря, подлинным первым прочтением произведения,
подлинным первым прослушиванием симфонии может
быть только вторичное их прослушивание. Именно вторич-
ное прочтение может быть таким прочтением, в ходе кото-
рого восприятие каждого отдельного кадра уверенно отно-
сится читателем и слушателем к целому. Только в этом
случае целое уже известно из предшествующего — перво-
го— чтения или слушания. По той же причине наиболее
творческий читатель всегда склонен перечитывать выдаю-
щееся художественное произведение. Ему кажется, что он
еще не прочитал его ни разу» \
Для внимательного читателя в произведении открыва-
ются тайники авторской души,— настоящий писатель
не может ее прикрыть, если б и хотел,— персонажи при-
обретают трехмерность, то, что при беглом перелистыва-
нии страниц казалось лишь силуэтом, вдруг заиграет кра-
сками, незаметная раньше деталь выходит на передний
план, разъяснятся намеки, станет полностью понятным
замысел вещи.
В разные исторические эпохи литераторы решали раз-
личные задачи, и читательское внимание сосредоточива-
лось на том, что было наиболее важно и характерно для
писателя и о чем он давал знать, избегая иной раз прямых
высказываний.
' Посмотрим сначала, как это делалось в XVII веке.
1 В* Асмус. Вопросы теории и истории эстетики. Сборник
статей. М., «Искусство», 1968, стр. 66.
\У_шенье
L=iJ прочитать
i
Белинский писал: «Ломоносов был первым основателем
и первым поэтом Руси. Для нас теперь не понятна такая
поэзия: она не оживляет нашего воображения, не шевелит
сердца, а только производит в нас скуку и зевоту. Но если
сравнивать Ломоносова с Сумароковым и Херасковым,—
стихотворцами, вышедшими на поприще после него,—то
нельзя не признать в Ломоносове значительного дарования,
которое пробивается даже в ложных формах риторической
поэзии того времени. Только один Державин был не-
сравненно больше поэт, чем Ломоносов» \
Да, Ломоносов — первый поэт Руси, причем такой, в
чьем лице русская поэзия «обнаружила стремление к идеа-
лу, поняла себя, как оракула жизни высшей, выспренней,
как глашатая всего высокого и великого» 2.
Идеал «высокого и великого», о котором говорит Бе-
линский, был всегда связан для Ломоносова с мыслью о
могуществе России, о расцвете наук и художеств, о мире
между народами, о просвещенном властителе, мудро управ-
ляющем страной. Обо всем этом Ломоносов писал в своих
одах, и, право, жестокие слова критика о «скуке и зевоте»
должно отнести лишь к тем из читателей, кто ищет в сти-
1 В. Г. Б е л ии ски й. Полное собрание сочинений, т. VII.
М., Изд-во Академии наук, 1955, стр. 109.
2 Там же, т. X, 189.
О
9
хах Ломоносова средства утолить жажду эстетических
переживаний или ждет занимательного сюжета. Впрочем,
как справедливо заметил Пушкин, «странно жаловаться,
что светские люди не читают Ломоносова, и требовать, что-
бы человек, умерший 70 лет тому назад, оставался и ныне
любимцем публики. Как будто нужны для славы великого
Ломоносова мелочные почести модного писателя!» 1
Поэзия Ломоносова совершенно лишена личного эле-
мента. Ломоносов излагает теоретические положения, опи-
сывает, спорит в своих стихах, но личность автора при этом
остается в тени, о себе он никогда не говорит. Происходило
это потому, что задачей поэзии классицизма было выраже-
ние общих истин, начертанных от века, и для нее конкрет-
ная деталь, жизненный факт не значили ничего. Они могли
только нарушить, исказить стройность целой картины, за-
труднить плавное изложение мыслей, носящих общегосу-
дарственный характер, важных одинаково для всех времен
и народов, для каждого человека.
Частное, особое беспощадно отметалось в литературных
трудах поэтов-классицистов, несмотря на то что в повсе-
дневной жизни они постоянно встречались с ним и в своей
житейской практике умели отличать от общего. Имея дело
с идеями, следя за их развитием и получая эстетическое
наслаждение от стройности течения мыслей, от безукориз-
ненности хода логических категорий, поэзия классицизма
игнорировала частного человека и равнодушно проходила
мимо цветов и красок, которыми блистала окружающая
природа. Индивидуальные различия могли только по-
мешать реализации общих идей, обладающих обязатель-
ным значением, рисковали заслонить своей пестротой и
шумом вечную истину.
В своей лирике Ломоносов, пожалуй, только однажды
мимоходом сказал о личных настроениях. В стихотворном
письме 1750 года к И. И. Шувалову с пера его сорвались
следующие строки:
Меж стен и при огне лишь только обращаюсь;
Отрада вся, когда о лете я пишу;
О лете я пишу, а им не наслаждаюсь,
И радости в одном мечтании ищу 2.
1 А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти то-
мах, т. VII, изд. 2-е. М., Изд-во Академии наук, 1958, стр. 30.
2 М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений, т. VIII.
10
Занятый научными опытами, замкнутый в тесных сте-
нах своей лаборатории и вынужденный в то же время сочи-
нять официальные стихи, Ломоносов мог лишь мечтать о
радостях лета, о красоте природы, не сделав своих пере-
живаний фактом поэзии, хотя сказал он об этом истинно
поэтически:
В средине жаждущего лета,
Когда томит протяжный день,
От знойной теплоты и света
Прохладна покрывает тень,
Где ветви, преклонясь, зелены,
В союз взаимный сопряженны,
Отводят жаркие лучи.
Но коль великая отрада
И томным чувствам тут прохлада,
Как росу пьют цветы в ночи!
(VIII, 397)
Великолепные стихи своим строем передают томитель-
ную долготу жаркого полдня и успокоение ночной прохла-
ды. Открытые гласные в первых строках создают впечатле-
ние зноя — «жаждущее лето», «протяжный день»,—а в
последней строке односложные и двусложные слова звучат
будто глотки влаги: «Как росу пьют цветы в ночи...»
Однако это — отдельная картина, имеющая свое место
в системе оды, нужная для выражения идеи, но с личными
переживаниями автора не связанная, хотя возникла она
из непосредственных его ощущений.
Другим откликом Ломоносова на собственное душевное
состояние можно считать его перевод Анакреоновой оды о
кузнечике, который блаженствует потому, что свободен от
забот:
Кузнечик дорогой, коль много ты блажен,
Коль больше пред людьми ты счастьем одарен!
Препровождаешь жизнь меж мягкою травою
И наслаждаешься медвяною росою.
Хотя у многих ты в глазах презренна тварь,
Но в самой истине ты перед нами царь:
Ты ангел во плоти иль, лучше, ты бесплотен!
Ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен;
Что видишь — все твое; везде в своем дому;
Не просишь ни о чем, не должен никому.
(VIII, 736)
М.— Л., Изд-во Академии наук, 1957, стр. 290. В дальнейшем ссыл-
ки на это издание помещаются в тексте, после цитат, с обозначени-
ем тома и страницы.
И
Но связь этого стихотворения с внутренним миром поэ-
та разъясняет только название его, данное Ломоносовым:
«Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф, когда сочини-
тель в 1761 году ехал просить о подписании привилегии
для Академии, быв много раз прежде за тем же...» Если
бы не это заглавие, мы никогда не догадались бы, какие
мысли занимали Ломоносова летом 1761 года и с каким
горьким чувством он позавидовал кузнечику.
Нужно заметить, что не только авторских переживаний,
но и портретов героев мы не найдем в стихах Ломоносова.
Он имеет дело с идеями монархической власти, и в кон-
кретные формы они в поэзии не воплощаются. Нам извес-
тен, например, конь, на котором скакала Елизавета
Петровна (VIII, 398), но как выглядела сама всадница,
Ломоносов нигде не говорит. За наружностью царицы он
умеет увидеть более для него ценное — идеального просве-
щенного монарха, которому и написаны его стихи. «Весе-
лая Елисавет», румяная красавица, обладательница пятна-
дцати тысяч платьев, жена Алексея Разумовского, им как
поэтом просто не воспринимается, она для него не суще-
ствует. В одах своих, адресуясь к Елизавете, Ломоносов
пишет о Петре I, ориентируя царицу на следование его
примерам. И, делая вид, что рисует внешний облик Ели-
заветы, Ломоносов как бы сквозь него набрасывает образ
ее отца:
Но вяща радость восхищала
Взирающих и оживляла,
Когда даров твоих признак
Надежнее в лице открылся,
Что точно в нем изобразился
Родителей великих зрак.
(VIII, 151)
Петр I в стихах Ломоносова как человек не появляет-
ся, он — царь, просвещенный монарх, устроитель России.
О том, как выглядел он, сказано только следующее:
Блеснул горящим вдруг лицом,
Умытым кровию мечом
Гоня врагов, герой открылся...
Кругом его из облаков
Гремящие перуны блещут,
И, чувствуя приход Петров,
Дубравы и поля трепещут.
(VIII, 22-23)
12
Это не человек, а символ войны и победы, апокалипти-
ческий персонаж. Красок для изображения живых людей
палитра Ломоносова еще не имела.
Зато круг мыслей своих он мог излагать стройно, убе-
дительно, смело, и мысли эти были величественны.
В 1746 году Ломоносов выступил с одой, посвященной
дню восшествия на престол Елизаветы Петровны, и таким
образом отметил пятилетие ее царствования. При этом взор
его был обращен не вперед, а назад: поэт с ужасом вспо-
минал беды, принесенные России предшественницами ны-
нешней государыни — Анной Иоанновной и Анной Ле-
опольдовной,— и славил новые времена. Эта ода — воспо-
минание о том, каким опасностям подвергались «дела
Петровы» и как хорошо стало русским людям, когда «на
трон взошла Петрова дщерь».
О недавних временах Ломоносов говорит так: «Уже на-
род наш оскорбленный В печальнейшей ночи сидел...» Он
снова повторяет, что Елизавета пролила свет «нам, в пе-
чальной тьме сидящим», и защитила от «страшных зол».
Картины бедствий написаны мрачной кистью.
Но появилась Елизавета — и прежние горести забыты,
наступил «утра час благословенный», день избранный «для
счастия полнощных стран». Как будто бы вернулся Вели-
кий Петр в лице своей дочери, дивно сочетающей мужество
и красоту, несущей «сладостный покой» российской держа-
ве. Переворот совершился по единодушному желанию рус-
ских людей, с нетерпением ждавших прихода к власти
Елизаветы Петровны. И не должно казаться странным, что
удалось ей «полсвета взять в одной нощи» — свергнуть
императора Иоанна Антоновича и захватить власть: все
делалось именем Петра.
В оде ни слова не говорится о заслугах самой Елизаве-
ты, она целиком закрыта именем своего отца, и поэт
выражает лишь одно пожелание — чтобы императрица за-
кончила все дела, начатые Петром, и сумела бы их «на
верьх поставить совершенства». Никаких самостоятельных
действий от нее не ожидается.
Как видим, в этой оде, как и в других одах Ломоносова,
сосредоточено не много мыслей, но выражено главное. Пять
лет следования предначертаниям Петра принесли России
огромные успехи, необходимо и дальше двигаться по этому
пути, не уставал твердить Ломоносов.
Лишь с 1747 года тема процветания наук входит в оды
13
Ломоносова, чтобы занять в них первенствующее положе-
ние. Именно в этой области концентрирует свое поэтиче-
ское внимание Ломоносов, и каждая новая его ода разви-
вает мысли, высказанные им в оде 1747 года — на день
восшествия на престол Елизаветы Петровны.
В 1747 году императрица утвердила новый регламент
Академии наук, и хотя Ломоносову многое не нравилось в
этом документе, составленном Г. Н. Тепловым, его злей-
шим недругом, все же этот регламент был гораздо лучше
старого. В нем говорилось о том, что «учреждение акаде-
мическое впредь должно состоять из природных россий-
ских», что адъюнктами нужно по возможности назначать
русских, в состав академических студентов набрать уче-
ников духовных семинарий, то есть русских юношей, и т. д.
(VIII, 937). Увеличивался и бюджет Академии наук, что
также было важно Ломоносову для более широкой органи-
зации исследований. Вот почему он с охотой согласился на-
писать благодарность Елизавете Петровне от Академии
наук, а может быть, и сам предложил это сделать.
В отдельном издании 1747 года имени поэта не было
указано, заглавие же заняло весь титульный лист:
РАДОСТНЫЕ И БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ВОСКЛИЦАНИЯ
муз российских,
прозорливостью
Петра Великого
основанных,
тщанием
щедрыя Екатерины
утвержденных
и несказанным великодушием
ее императорского величества
всепресветлейшия
державнейшия
императрицы
Елизаветы Петровны,
самодержицы всероссийския,
обогащенных, оживленных и восстановленных,
которыя
на пресветлый и всерадостный праздник
восшествия на всероссийский престол
ее величества
ноября 25 дня 1747 года
приносит
всеподданнейшая
Академия наук.
14
Вот какой это был титульный лист! Академия наук при-
носила свои «радостные и благодарственные восклица-
ния» от имени «муз российских». Но сочинял эти «воскли-
цания» Ломоносов, а потому расположил их в соответствии
со своими мыслями. Стихи о «тишине» были его требова-
нием, а вовсе не оценкой реального положения дел. В 1747
году Англия, Австрия и Голландия вели войну с Пруссией
и Францией, в которую всеми силами втягивали Россию.
Они настаивали на посылке русских войск для помощи се-
бе, и Ломоносов, по-видимому, знал, что Елизавета Петров-
на в сентябре 1747 года согласилась двинуть армию на
берега Рейна (VIII, 937). Он считал это предприятие опас-
ным и бесполезным для России и, прославив «тишину», в
такой форме высказался против бряцания оружием, не по-
жалев красок для изображения преимуществ мира. Вероят-
но, немало современных читателей оды были благодарны
поэту за его предостережения.
Ломоносов напоминает Елизавете Петровне, что она
«поставила конец» русско-шведской войне 1741—1743 го-
дов, чем, к общей радости, ознаменовала свое вступление
на престол, говорит о «призывании наук» Петром I, выра-
жает горе по поводу его утраты, хвалит Академию наук,
открытую уже при Екатерине I, и от лица россиян
оценивает самое главное в деятельности Елизаветы Пет-
ровны:
Великая Петрова дщерь
Щедроты отчи превышает,
Довольство муз усугубляет
И к счастью отверзает дверь.
(VIII, 202)
Вероятно, под «довольством муз» следует понимать уве-
личение денежного бюджета Академии наук, и в этой фра-
зе Ломоносов назвал конкретный повод для академической
благодарности. Но самого поэта занимают в оде не админи-
стративно-финансовые расчеты, а неизмеримо более высо-
кие, общегосударственные и национально-культурные, про-
блемы. Он пишет:
Великой похвалы достоин,
Когда число своих побед
Сравнить сраженьям может воин
И в поле весь свой век живет;
Но ратники, ему подвластны.
15
Всегда хвалы его причастны,
И шум в полках со всех сторон
Звучащу славу заглушает,
И грому труб ее мешает
Плачевный побежденных стон.
(VIII, 202)
Эту строфу Ломоносов приводит в своей «Риторике» с
целью показать, что устранение союзов придает периодам
«большее великолепие и силу»: в первой строке «отставлен
союз «хотя», который, будучи приложен, много бы силы
отнял» (VII, 376). Но и при возвращении на место этого
союза («Хотя великой похвалы достоин» и т. д.) весь пери-
од нуждается в пояснении. Ломоносов признает величие
полководца-триумфатора, проводящего жизнь на поле бра-
ни, однако замечает, что свою славу тот должен делить с
подчиненными, чем умаляет для себя ее размеры. Да, кро-
ме того, можно ли забывать кровавые пути достижения
этой славы — «плачевный побежденных стон»?
Иное дело — слава миролюбивого монарха, и ею Ломо-
носов прельщает в следующих строфах оды Елизавету
Петровну, развертывая грандиозные перспективы геолого-
географических изысканий на пользу России:
Сия тебе единой слава,
Монархиня, принадлежит,
Пространная твоя держава
О как тебе благодарит!
Воззри на горы превысоки,
Воззри в поля свои широки,
Где Волга, Днепр, где Обь течет:
Богатство, в оных потаенно,
Наукой будет откровенно,
Что щедростью твоей цветет.
(VIII, 202-203)
Наука раскроет неслыханные сокровища, запрятанные
в недрах русской земли, и представит их отечеству. Всегда
присущая Ломоносову идея связи науки и практики выра-
жена в оде с особой рельефностью. Можно все найти, уче-
ные проникнут в тайны природы,—
Но требует к тому Россия
Искусством утвержденных рук.
16
Другими словами — необходимы подготовленные кадры.
В пятнадцатой строфе только выдвигая этот тезис, с тем
чтобы развить его в конце оды, Ломоносов продолжает
указывать на объекты приложения сил:
Хотя всегдашними снегами
Покрыта северна страна...
Но бог меж льдистыми горами
Велик своими чудесами...
Поэт зовет на Север, уверенный в его неистощимых
минеральных богатствах, зовет на Урал и на Дальний Вос-
ток, в Северный Ледовитый океан, на Курильские остро-
ва — и делает это темпераментно, бурно, напористо.
Науки юношей питают,
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастный случай берегут;
В домашних трудностях утеха
И в дальних странствах не помеха.
Науки пользуют везде:
Среди народов и в пустыне,
В градском шуму и наедине,
В покое сладки и в труде.
(VIII, 206-207)
С полной искренностью, от души, Ломоносов поет этот
великолепный гимн науке, заключая им изложенную в
предыдущих строфах программу приготовления из «при-
родных российских» молодых людей «собственных Плато-
нов И быстрых разумом Невтонов», то есть обращается к
студентам академического университета, в котором видел
главный источник подготовки научных кадров: создание
Московского университета произошло только через восемь
лет.
Еще более широкую и разнообразную программу раз-
вития наук намечает Ломоносов в оде, сочиненной в знак
«благодарения» за оказанную ему «высочайшую милость
в Сарском селе августа 27 дня 1750 года». Какая это была
милость, в точности не известно, едва ли не награждение
чином коллежского советника, что давало Ломоносову
крупный вес в академических кругах, но это нам и не важ-
но. Более существенным является то, что первые две трети
оды содержат впечатления Ломоносова от поездки в Сар-
ское (позже Царское) Село и от беседы с императрицей, а
заключительные строфы заняты описанием новых научных
задач.
Однако было бы напрасно искать в этой оде подробных
зарисовок с натуры. Таких целей Ломоносов перед собой не
ставил. Стихи его риторичны, и лишь опытные коммента-
торы могут показать за пышными периодами оды контуры
действительных вещей и отношений. Это значит не то, что
его стихи плохие, а то, что он решал иные художественные
задачи, для которых конкретные детали и топографическая
точность не имели значения.
Поэт замечает струи Славены — реки Славянки, дальше
говорит:
Великолепными верьхами
Восходят храмы к небесам,—
и этих упоминаний ему достаточно, чтобы считать закон-
ченной отделку местного колорита. Он полон риторического
пафоса и воспринимает быт царскосельского императорско-
го дворца сквозь призму мифологических уподоблений:
Какую радость ощущаю?
Куда я нынче восхищен?
Небесну пищу я вкушаю,
На верьх Олимпа вознесен!
Божественно лице сияет
Ко мне и сердце озаряет...
Что ж се? Диане я прекрасной
Уже последую в лесах...
Великолепной колесницей
В безоблачных странах несусь!..
(VIII, 394-395)
Проще говоря, Ломоносов был принят во дворце, обедал
там, разговаривал с императрицей и сопровождал ее на
охоту, но не верхом, а в коляске, среди других зрителей-
придворных. Понадобились десятилетия необычайно уплот-
ненного в темпах процесса развития русской литературы и
гений Державина, чтобы увидеть эти сцены так, как они
происходили, и написать о них обычными, житейскими
словами. Впрочем, и у Ломоносова проскальзывают уже
отдельные наблюдения среди условных пейзажей и рито-
рических изобретений. Так, он пишет об императрице на
охоте:
18
Ей ветры вслед не успевают,
Коню бежать не воспящают
Ни рвы, ни частых ветвей связь:
Крутит главой, звучит броздами
И топчет бурными ногами,
Прекрасной всадницей гордясь!
(VIII, 398)
Эти строки обычно сравнивают с изображением коня в
«Полтаве»:
Дрожит. Глазами косо водит
И мчится в прахе боевом,
Гордясь могучим седоком.
Пушкин, конечно, знал и помнил стихи Ломоносова, и
реминисценция тут не случайна. Но посмотрите, каково
различие между двумя картинами. Конь Петра, стоя на
месте, косо водит глазами и лишь затем мчится, повинуясь
воле могучего седока. Пушкин видит, как это происходило,
и описывает в последовательном порядке. Ломоносов же
сначала показывает в общих чертах движение коня, кото-
рому «бежать не воспящают» рвы и частые ветки деревьев,
а потом, притворяясь, что рисует бегущего коня, изображает
его с натуры стоящим на месте, когда конь крутит головой
и «звучит броздами» — уздечкой и мундштуком (без мунд-
штука царица, надо думать, не ездила, ибо он облегчает
управление лошадью). Все это можно видеть и слышать,
наблюдая готовящийся отъезд, а не во время скачки. И «то-
пчет бурными ногами» — нетерпеливо переступает с ноги
на ногу конь, ожидая шенкелей прекрасной всадницы, по-
сыла вперед с места, на котором он стоит и где его видел
перед выездом на охоту поэт. Стало быть, Ломоносов умеет
наблюдать, но верно найденным деталям не придает цены
и легко теряет их в массе словесного материала.
Покончив с бурными похвалами Елизавете Петровне,
Ломоносов обращается к тому, что более всего было ему
нужно:
О вы, счастливые науки!
Прилежны простирайте руки
И взор до самых дальних мест.
(VIII, 400)
19
Просторы и недра российской земли должны быть тща-
тельно исследованы — надо пройти «землю и пучину,
И степи, и глубокий лес», проникнуть внутрь Уральских
гор — Рифейских, как их тогда называли в литературе:
Везде исследуйте всечасно,
Что есть велико и прекрасно,
Чего еще не видел свет!
(VIII, 401)
Это общая установка, а ниже идут задачи каждой нау-
ке — механике, химии, астрономии, географии, метеороло-
гии, например:
В земное иедро ты, Химия,
Проникни взора остротой
И что содержит в нем Россия,
Драги сокровища открой.
Отечества умножить славу
И вяще укрепить державу
Спеши за хитрым естеством,
Подобным облекаясь цветом;
И что прекрасно токмо летом,
Ты сделай вечно мастерством.
В небесны, Урания, круги,
Возвыси посреде лучей
Елисаветины заслуги,
Чтоб тамо в вечну славу ей
Сияла новая планета.
Российского пространства света
Собрав на малы чертежи,
И грады, оною спасенны,
И села, ею же блаженны,
География, покажи.
И т. д. (VIII, 401-402)
Науки должны открывать тайны природы и ставить
их на службу людям, исправлять «мастерством» недоделки
мироздания. Обычай и форма требовали, чтобы в небо воз-
носились «Елисаветины заслуги», но для самого Ломоно-
сова интереснее было открыть «новую планету», чего он
и ожидал от русских астрономов. «Малы чертежи» — это
географический атлас России, над которым с большим
упорством и научным успехом трудился Ломоносов.
Наконец, в последней строфе получает задачу и лите-
ратура:
20
А ты, возлюбленная лира,
Правдивым счастьем веселись.
К блистающим пределам мира
Шумящим звоном вознесись...
(VIII, 403)
Эти слова Ломоносов обращает к своей лире, характе-
ризуя присущую ему литературную манеру: тут названы
«правдивое счастье», «пределы мира», «шумящий звон» —
все то, что было свойственно поэзии Ломоносова.
С темой науки тесно переплетается в одах Ломоносова
другая очень близкая автору тема — похвалы миру. Ломо-
носов — поэт-патриот, он дорожит независимостью родины,
гордится победами русского оружия, радостно воспевает
их, но захватнические войны ему ненавистны, он признает
справедливой только войну оборонительную. Об этом ясно
говорится в оде 1747 года и еще более четко заявлено в одах
1757—1762 годов, написанных в то время, когда Россия
участвовала в Семилетней войне.
Война в Пруссии легла неисчислимыми тяготами на
плечи населения России, блестящие победы, достигнутые
кровью русских солдат, не приносили ощутимых успехов.
В оде 1757 года, написанной в связи с днем рождения
государыни и появлением на свет ее внучки Анны Петров-
ны, Ломоносов лишь бегло касается этих придворных собы-
тий и торопится высказать читателю свое осуждение
войны:
Умолкни ныне, брань кровава,
Нам всех приятнее побед,
Нам больше радость, больше слава,
Что Петр в наследии живет...
(VIII, 634)
Поэт берет на себя смелость говорить за императрицу,
вводя в стихи как бы произнесенную ею речь. Елизавета
оправдывается в том, что России пришлось воевать, и объ-
ясняет причины:
Присяжны преступив союзы,
Поправши нагло святость прав,
Царям навергнуть тщится узы
Желание чужих держав.
(VIII, 635)
21
Имеется в виду Англия, дальше упоминаются Саксошш,
Австрия. Елизавета жалуется богу на сложность между-
народной обстановки и просит:
Позволь для общего покою
Под сильною твоей рукою
Воздвигнуть против брани брань.
(VIII, 635)
Формула «против брани брань» обозначает, «что вме-
шательство России в войну может быть оправдано только
как средство положить конец войне» (VIII, 1085). Именно
так заставляет Ломоносов в своих стихах сказать Елизаве-
ту: мы воюем для того, чтобы закончить эту войну.
Но он идет и дальше. Пользуясь правами поэта,— а он
вполне их научился ценить,— Ломоносов отвечает Елизаве-
те от имени бога, подготовив его реплику полной библей-
ского величия строфой:
Правители, судьи, внушите,
Услыши вся словесна плоть,
Народы с трепетом внемлите:
Сие глаголет вам господь
Святым своим в пророках духом;
Впери всяк ум и вникни слухом...
(VIII, 636)
Приняв на себя обличье пророка — этого требовали ин-
тересы идеи мира, за которую, не щадя сил, боролся
Ломоносов,— он передает заповеди бога: хранить правед-
ные заслуги, миловать вдов и сирот, быть покровом бедным
и т. д. О продолжении войны не говорится ни слова; бог в
передаче Ломоносова обходит эту тему, не желая противо-
речить императрице, но в его последующих речах намечены
планы мирных работ:
«...В моря, в леса, в земное недро
Прострите ваш усердный труд,
Повсюду награжу вас щедро
Плодами, паствой, блеском руд.
Пути все отворю к блаженству,
К желаний ваших совершенству,
Я кротким оком к вам воззрю,
Жених как идет из чертога,
Так взойдет с солнцем радость многа;
Врагов советы разорю».
(VIII, 637)
22
Итак, о войне — ни слова. Бог в оде предлагает Елизаве-
те действовать по советам Ломоносова — стремиться «в
моря, в леса, в земное недро».
Смысл оды ясен: она имела антивоенный характер и
была сочувственно встречена читателями. За несколько
дней разошлось 300 экземпляров тиража ее отдельного из-
дания, оду немедленно напечатали повторпо, и новые 300
экземпляров также были раскуплены. Стихи Ломоносова
воспринимались современниками как общественно-полити-
ческие выступления, и они на самом деле ими являлись.
2
Своеобразная и замечательная особенность од Ломоно-
сова — их публицистичность — отчетливо проявилась в
1761—1762 годах, когда на русском престоле Елизавету
Петровну сменил Петр III, а через полгода его свергла и
разрешила убить Екатерина И.
В течение двадцати лет Ломоносов сотрудничал с «Пет-
ровой дщерью», сумел ускорить развитие науки в России,
сам совершил гениальные открытия, создал Московский
университет, обеспечил подготовку молодых русских уче-
ных, содействовал развитию культуры и просвещения в
России, преодолевая при выполнении своих гуманных и
благородных целей огромнейшие трудности морального и
материального порядка,—что же будет со всем делом его
жизни, когда престол займет наследник Елизаветы? А глав-
ное — что будет с Россией? Русский народ не согнется и не
пропадет, это Ломоносов знал отлично, ибо сам был его вер-
ным сыном. Но ему дороги были национальная честь, слава
и могущество родины, чему бездарное и шутовское правле-
ние грозило немалым ущербом.
Петр Федорович в бытность свою наследником престола
аттестовал себя очень дурно. Было известно, что он гор-
дится немецким происхождением, обожает прусского ко-
роля Фридриха II, презирает русских людей, глумится над
русскими обычаями и верой, да вдобавок пьет горькую.
Знали также — причем далеко за пределами двора и Петер-
бурга,— что он плохо Живет с женой, Екатериной Алексе-
евной, и что покойная императрица к делам его вовсе не
допускала. Волей судьбы не сегодня-завтра он станет само-
державным монархом, и тогда любая прихоть его будет
23
исполнена мгновенно, а пьяное слово обратится против
народа законом.
Как оберечь многолетние труды, обезопасить русскую
науку от натиска голштинских солдат? — вот о чем думал
Ломоносов во время болезни Елизаветы Петровны. Но что
мог он предпринять? Его друзья и покровители — канцлер
граф М. Л. Воронцов, фаворит императрицы И. И. Шува-
лов — сами готовились к отъезду от двора, на их помощь
рассчитывать не приходилось. Среди людей, окружавших
Петра Федоровича, Ломоносов не знал никого, да и они,
вероятно, его не знали.
Оставалось одно оружие — слово. Ломоносов верил в
слово — недаром он посвятил ему столько работ,— в разум-
ные доводы, в объяснение того, что нужно делать, а что
нельзя, в предостережение от ошибок, которые, будучи со-
вершены, приведут к разрушительным следствиям.
И Ломоносов берется за перо. Он пишет оду Елизавете
Петровне ко дню двадцатилетней годовщины царствова-
ния — к 25 ноября 1761 года. Императрица лежала на одре
предсмертной болезни.
В жизни русского общества за последние пятнадцать —
двадцать лет издания од Ломоносова стали заметным явле-
нием. Их ждали, в строки стихов внимательно вчитывались,
разглядывая за словесными украшениями и витиеватыми
речами ясные и глубокие Мысли поэта. Торжественная ода
была единственной и притом официально признаваемой
формой общения автора с читателем, она позволяла выска-
зать думы, планы, соображения, для передачи которых рус-
ская общественная жизнь никаких других способов не
давала. Две газеты — «Санкт-Петербургские», а с 1756 года
и «Московские ведомости» — публиковали краткие сообще-
ния, поступавшие из-за границы и из городов России,
придворную хронику и объявления. Статей в них не
печаталось. Академический журнал «Ежемесячные сочи-
нения» помещал ученые статьи, но Ломоносов в нем не
участвовал — в редакции сидели его враги. Литературные
журналы — «Трудолюбивая пчела» или «Полезное увеселе-
ние» — имели свой круг авторов, к которому Ломоносов не
принадлежал. Но зато он мог прямо обратиться к читателю
с одой, выходившей отдельным изданием, обычно тиражом
не менее 300 экземпляров. Это составляло его право поэта-
академика, и это была его обязанность главы русской нау-
U
Кй й виднейшего представителя общественного мнения в
России.
Стихи сочинялись медленно, так как нелегко было вы-
разить строфами похвальной оды общественно-политиче-
скую позицию поэта, в удобочитаемой и почтительной
форме отозваться о задачах внешнего курса России, не оби-
дев елизаветинское правительство и послав предупрежде-
ние будущему императору. Сложность увеличилась
тем, что Ломоносов должен был выступить в защиту по-
бедоносного окончания тяжелой и непопулярной войны с
Пруссией, он — убежденный сторонник мира, известный
этим свойством и руководителям политики и читателям.
Что же написал Ломоносов в оде на 25 ноября
1761 года? Ее звучные и блестящие стихи убедительно
разъяснили, что вообще мир лучше войны, но в данной
исторической обстановке Россия должна в свою пользу ре-
шить спор с Пруссией на полях сражений, «войнами укро-
тить войны», и лишь после
Размножить миром нашу славу
И выше, как военный звук,
Поставить красоту наук,—
(VIII, 749)
хотя мысль об этом нельзя оставлять пи на минуту.
Необходимая судьба
Во всех народах положила,
Дабы военная труба
Унылых к бодрости будила,—
(VIII, 746)
говорит Ломоносов. Он знает, что «война плоды своп
растит», усиливает государственное могущество, рождает
славных героев, и называет немало имен русских князей-
полководцев. Крепки боевые традиции наших войск, слав-
ны их победы.
Посмотрим в Западны страны:
От стрел российский Дианы
Из превеликой вышины
Стремглавно падают титаны;
Ты, Мемель, Франкфурт и Кистрин,
Ты, Швейдниц, Кенигсберг, Берлин,
Ты, звук летающего строя,
Ты, Шпрея, хитрая река,—
Спросите своего героя,
Что может росская рука.
(VIII, 749)
25
Героем йройически назван битый русскими король
Фридрих II, а список покоренных прусских крепостей и
городов органично входит в строфу и звучит внушительно.
Эти успехи добыты горячей русской кровью, их надо ува-
жать. Ломоносов предупреждает об этом, не решаясь и по-
мыслить, как могут повернуться события. А Петр Федоро-
вич, вступив на престол, поручил прусскому посланнику
Гольцу составить мирный договор с Пруссией и 24 апреля
1762 года подписал его, не посчитавшись с интересами Рос-
сии и щедро одарив Фридриха II... Но это унижение было
еще впереди.
Сказав нужное слово о перспективе войны, Ломоносов
включает в оду и свое личное мнение о том, что ему всего
дороже:
По мне, хотя б руно златое
Я мог, как Язоп, получить,
То б музам для житья в покое
Не усумнелся подарить.
(VIII, 750)
И он непременно сделал бы это, одпако золотого руна
не имел, и жить в покое музам не пришлось.
Месяцем позже дня двадцатилетней годовщины своего
царствования, 25 декабря 1761 года, Елизавета Петровна
скончалась, и ее наследник, великий князь Петр Федоро-
вич, был объявлен императором. Захудалый голштинский
князек, немец душой и забулдыга прапорщик повадками,
стал всепресветлейшим и державнейшим великим госуда-
рем России. Он отлично понял, что отныне будет едино-
властным повелителем необъятного царства, торопился
распорядиться похоронами тетки и тем временем дал знать
Фридриху II, что считает его не врагом, а ближайшим
своим другом.
В эти самые первые, суматошные дни после воцарения
Петра III Ломоносов воззвал к нему от имени науки и объ-
яснил, чего он ждет от монарха и на что надеется. Условия
эти изложены в оде, которую спешно подготовил и вы-
пустил в свет Ломоносов. Большой тираж оды — 2100 эк-
земпляров,— быстрота печатания, необходимость второго
издания — все говорит о значительности этого произведе-
ния и о громадном интересе, им вызванном.
Стихи Ломоносова, в меру восторженные и для глаза
нынешнего читателя наверняка неотделимые от других
26
известных ему похвальных од, на самом деле были полны
волнующего политического смысла, и современники поэта
отлично в нем разобрались. Они поняли все оттенки сравне-
ний, раскрыли намеки, оценили по количеству строк и
местоположению отдельные темы оды и, следует думать,
целиком согласились с поэтом.
Вот что они прочитали.
В первой строфе, после горести о «плачевной утрате»,
сказано:
Благополучны мы стократно:
Петра Великого обратно
Встречает Росская страна.
(VIII, 751)
И это означает вовсе не то, что Петр III так же деяте-
лен и мудр, как Петр I, хотя имеет вид такого уподобления,
а то, что от нового царя ожидается следование путем, про-
ложенным его великим дедом. Тезис подчеркивается и
дальше: «Орел великий обновился, Великий Петр вовеки
жив» и т. д.
Итак, императору сразу же преподано первое и основ-
ное: сохраняй преемственность правления Петра I и Ели-
заветы. Пользуясь возможностями жанра оды, Ломоносов
сочиняет от их имени напутствия Петру III. Елизавета
вещает:
«Владей, храни, возвысь народ,
Моей опасностью спасенный,
Уверь всех, мной благословенный,
Что ты — Петров и Аннин плод».
(VIII, 750)
И она говорит, только в более обидной для нового импе-
ратора форме, что он должен «уверить» в своем происхож-
дении от кореня Петрова, от царя-преобразователя, через
его дочь Анну Петровну. А это может показаться сомни-
тельным, если политика России резко изменится и станет
крениться в сторону Пруссии. Нужно «возвысить» русский
народ, который спасла Елизавета от разорения, чинимого
Биронами и Минихами.
Но этого Ломоносову мало. Возглашаг
Молчите, горы и леса,
Моря и ветры беспокойны,
Внимайте мне и будьте стройны,
Мой ум вперился в небеса,—
27
он выводит на авансцену «дух Петров» и включает в оду
пятьдесят строк речи, которой тот якобы встречает в гор-
нем мире Елизавету. Вслед за похвалами ей вновь выража-
ется уверенность, что наследник пойдет «тою же стезею»,
которой шла политика Елизаветы. И здесь Ломоносов
начинает с главного для себя:
«Ты награждала всем науки,
И он щедротой оживит,
Искусством обученны руки
Снабдит, умножит, просветит.
Он постыдит, как ты, злодеев,
Оставлен посреде трофеев,
До облак оны вознесет».
И т. д. (VIII, 755)
Попутно «дух Петров» хвалит «достойную супругу»
нового царя Екатерину Алексеевну, уже ставшую любез-
ной всему отечеству, и можно поручиться, что если
Петру III прочли эти строки, они ему не доставили удо-
вольствия,— свою жену он ненавидел. Комплимент Екате-
рине между тем не был актом простой вежливости: кое-что
о ее роли при дворе и ее растущей популярности было,
конечно, известно в Петербурге.
Затем Ломоносов кратко и деловито начертил план дей-
ствий в международной сфере. Россия должна стремиться
на Восток — эту свою давнюю мысль он развертывает в
особой строфе и переходит к европейским делам. Германия
«по собственной крови плывет»,— разъясняет он Петру
Федоровичу,
К тебе дорогу направляет,
Тебе себя в покров отдать;
В согласии желает стройном
В твоем пристанище спокойном
Оливны ветви целовать.
(VIII, 758)
Германия, точнее — Пруссия, хочет мира, но заключить
его можно лишь «по славнейших победах», чтобы не про-
пали понесенные труды и кровавая война не осталась
тяжкой и бесплодной ошибкой для России.
Все это, как видим, очень популярно изложил Ломоно-
сов в своей оде, и не мудрено, что она обрела стольких чи-
тателей. Лишь в самом конце он сказал несколько слов о
Голштинии, игнорируя крайнюю заинтересованность
28
Петра III в делах этого герцогства и наглядно показывая
незначительность их в свете общих проблем международ-
ной жизни. Что ж, Голштиния теперь будет маленькой
союзницей России на берегах Балтийского моря, может
быть, и окажется ей чем-либо полезной,— таков смысл сти-
хов Ломоносова. А Петр III превыше всего ставил гол-
штинские интересы и в угоду им, говоря без преувеличе-
ний, готов был пожертвовать Россией.
Нам удалось лишь в общих чертах проследить за содер-
жанием оды Ломоносова на новый, 1762 год, оно шире и
разнообразнее, однако и сказанного достаточно, чтобы убе-
диться в остроте политической мысли Ломоносова и обще-
ственном характере его литературных выступлений.
Вряд ли мог Ломоносов думать, что стихи оды послужат
наказом Петру III, но он поторопился сделать все, что бы-
ло в его силах, желая предупредить и наставить своего
монарха. Тот не желал ничего слушать, в короткое время
ожесточил против себя дворянство, гвардию, церковь, и
через шесть месяцев, 28 июня 1762 года, собственная жена
лишила его престола.
Спустя несколько дней бывшего императора в пьяной,
но расчетливо подготовленной ссоре задушили охранявшие
его персону гвардейские офицеры, и началась новая стра-
ница в истории русского самодержавия — на троне обосно-
валась Екатерина И.
Она не поскупилась на краски, расписывая преступле-
ния своего бывшего мужа. Два манифеста, изданные 28 ию-
ня и 6 июля, объяснили дворцовый переворот, представляя
его даже мерой личной безопасности. «Он повеление давал
действительно нас убить,— уверяла Екатерина,— о чем
нам те самые заподлинно донесли, с истинным удостовере-
нием, кому сие злодейство противу живота нашего пре-
поручено было делом самым исполнить» !.
Резкими и верными чертами манифесты рисовали не-
счастья, принесенные России правлением Петра III: «Оте-
чество вострепетало, видя над собой властителя, который
всем своим страстям прежде повиновение рабское учинил,
нежели о благе вверенного себе государства помышлять
начал... Законы в государстве все пренебрег; судебные
места презрел и вовсе об них слышать не хотел; доходы
1 С. М. Соловье и. История России с древпейпшх времен,
кн. XIII. М.. «Мысль», 1965, стр. ИЗ.
29
государственные расточать начал вредными государству
издержками; из войны кровопролитной начал другую —
безвременную и государству российскому крайне бесполез-
ную» и т. д. \
Никакой положительной программы манифесты им-
ператрицы не заключали. Верноподданные приглашались
изъявлять радость по поводу того, что они могут «чрез нас
получить избавление от приключившихся, а больших еще
следовавших российскому отечеству опасностей». С про-
дажной цены пуда соли именным указом было сброшено
десять копеек. Это означало заботу о народе: соль стоила
дорого, не все крестьяне могли ее покупать.
Ломоносов читал манифесты. Строфы новой оды скла-
дывались трудно. Лишь через одиннадцать дней после
переворота, 8 июля, он принес новую оду в Канцелярию
Академии наук, и та постановила ее напечатать.
Стихи оказались не по вкусу императрице. Ломоносов
не хвалил, а сравнивал, лучшее, что сказал: «воскресла нам
Елизавета». Чего ждут россияне от новой государыни?
Ее и бодрость и восход
Златой наукам век восставит
И от презрения избавит
Возлюбленный российский род.
(VIII, 772)
О науках Ломоносов в оде больше ничего не писал, но
уважения к славе отечества требовал настоятельно. Он с
негодованием вспоминал о Петре Федоровиче, о позорном
мире с прусским королем Фридрихом:
Слыхал ли кто из в свет рожденных,
Чтоб торжествующий народ
Предался в руки побежденных?
О стыд, о странный оборот!
Чтоб кровью купленны трофеи
И победителей злодеи
Приобрели в напрасный дар
И данную залогом веру?
В тебе, Россия, нет примеру,
И ныне отвращен удар.
(VIII, 774)
1 С. М. Соловьев. История России с древнейших времен,
кн. XIII. М., «Мысль», 1965, стр. 112—113.
30
L- Речь Ломоносова течет естественно й плавно, она зара-
жает читателя неподдельным чувством национального до-
стоинства. Строго и спокойно обращается он к иноземцам,
в массе своей выходцам из Германии, занимавшим множе-
ство должностей в аппарате монархии, при дворе и в
армии.
А вы, которым здесь Россия
Дает уже от древних лет
Довольство вольности златыя,
Какой в других державах нет...
Слова эти не упрек, а утверждение фактов. Ломоносов
вовсе не преследует немцев только потому, что они ино-
странцы,— он учился в Германии, дружил с крупнейшими
немецкими учеными, жена его была немкой. Но он против
иноземных выскочек, грубых невежд, безграмотных сол-
дафонов, явившихся в Россию за чинами и корыстью и
захвативших себе при потворстве державных особ не-
слыханные права. Как вы можете, спрашивает их Ло-
моносов, злоупотреблять благожелательством приютив-
шего вас народа
И вместо, чтоб вам быть меж нами
В пределах должности своей,
Считать нас вашими рабами
В противность истины вещей?
Ораторский пыл Ломоносова великолепно изливался
строками четырехстопного ямба, и каждое слово падало
весомо и звонко:
Обширность наших стран измерьте,
Прочтите книги славных дел
И чувствам собственным поверьте:
Не вам подвергнуть наш предел.
Исчислите тьму сильных боев,
Исчислите у нас героев
От земледельца до царя,
В суде, в полках, в морях и в селах,
В своих и на чужих пределах
И у святого алтаря.
(VIII, 779-780)
Такие упреки и воззвания вырвались у Ломоносова в
оде 1762 года, и — по всему видно — очень у него наболе-
ло... Он, похоже, забыл, что Екатерина чистокровная немка
31
и что при всей ее неприязни к Петру III она в манифесте
ничем не обмолвилась о немецком засилье; поэт гремел в
лицо императрице:
И подданных не презирайте,
Но их пороки исправляйте
Ученьем, милостью, трудом.
Вместите с правдою щедроту,
Народну наблюдайте льготу,
То бог благословит ваш дом.
(VIII, 778)
И если сказанное о «буйности» в нарушении законов и
о презрении к подданным царице удобно было отнести толь-
ко на счет Петра III, то в целом текст этой строфы звучал
обобщением, и такая черта его усиливалась дальнейшими
стихами:
О коль велико, как прославят
Монарха верные раби!
О коль опасно, как оставят,
От тесноты своей, в скорби!
Ломоносов размышляет в оде о причинах крушения
правительства Анны Леопольдовны, Петра III и видит их
в антинародной политике монархов. Как поведет себя но-
вая государыня? Сумеет ли она быть полезной отечеству,
найдет ли общий язык с его сынами?
О коль монарх благополучен,
Кто знает россами владеть!
Он будет в свете славой звучен
И всех сердца в руке иметь.
(VIII, 780)
Правда, в оде дальше говорится о том, что Екатерина
сочетает «все доброты вдруг», но предостережения об от-
ветственности были настолько серьезными, что придворный
комплимент затерялся между ними.
Нет, Ломоносов совсем не тот поэт, который нынче ну-
жен престолу, решила императрица. Не то пишет, не так
думает, умеет ценить только Петра I и Елизавету. И сразу
дала понять свою немилость к Ломоносову: обошла его при
раздаче наград, а его врагов, Теплова и Тауберта, поощри-
ла и через несколько месяцев подписала указ «о вечной
отставке» Ломоносова (VIII, 1174). И хотя указ не при-
вели в исполнение, текст его от этого не меняется.
32
3
В автобиографической записке 1805 года Державин за-
метил, говоря о себе в третьем лице:
«Он в выражении и стиле старался подражать г. Ломо-
носову, но, хотев парить, не мог выдержать постоянно,
красивым набором слов, свойственного единственно рос-
сийскому Пиндару велелепия и пышности. А для того с
1779 года избрал он совсем другой путь» 1.
Этот путь помогли Державину определить события кре-
стьянской войны 1773—1775 годов, в которых он принимал
ближайшее участие в качестве офицера правительственных
войск, выступивших против Пугачева.
Рифмовать в стихах мысли умели и до Державина, этим
всегда была сильна поэзия классицизма. Сатира имела уже
прочные традиции в русской литературе, и ранние стихи
Державина не показывают в нем особой склонности к
этому роду творчества. Отвлеченное морализирование и
учительный тон, присущие Державину, также нельзя счи-
тать лишь его индивидуальными качествами — так обычно
писали его предшественники и современники. «Парение» и
«восторг» Державин считал не свойственными своему
таланту. В каком же направлении двинулся он, отыскивая
«новый путь»?
Отмеченное самим Державиным в качестве своей заслуги
введение в литературу «забавного русского слова», со-
четание лирики и сатиры, просторечия и высокого
стиля, безусловно является крупнейшим его достижением.
Национальные черты его поэзии, присущий ей патриотизм,
прославление героев-воинов от полководцев до солдат так-
же составляют отличительные стороны поэзии Державина.
Он необычайно расширил тематический охват русской
поэзии, в полном смысле слова сблизил поэзию с жизнью —
и в этом также его несомненная заслуга. Но прежде всего
Державин сумел посмотреть па мир, па природу глазами
живого человека, обычного земного жителя и увидел жизнь
не через оптические приспособления теории классицизма, а
такой, какой она представлялась взору и слышалась
1 Сочинения Державина с объяснительными примечаниями
Я. К. Грота, тт. I—IX, СПб, изд. Академии наук, 1864—1884, т. VI,
стр. 443. В дальнейшем ссылки на это издание помещаются в тексте,
после цитат, с указанием тома и страницы.
2 А. Западов
33
ушам,— яркой, многоцветной, постоянно меняющейся, не-
прерывно звучащей на разные голоса. Он увидел природу
и стал изображать ее в своих стихах не как некую отвле-
ченную данность, состоящую из ряда отдельных и не-
изменных элементов, а как живое и полнокровное
единство. Державин начал рисовать портреты людей, зна-
комых ему в мелочах своего поведения, он перестал опи-
сывать отдельные человеческие свойства, персонифици-
ровать людские пороки и достоинства и приблизился к
живому портрету. Пусть это было лишь первыми шагами
на пути к реалистическому искусству, но важно то, что они
были сделаны, и сделаны именно им, и что это знаменовало
существенный и принципиальный отход Державина от
канонов классицизма, в русле которого развивалось его
раннее творчество.
Наиболее заметны и значительны для современников
были успехи, достигнутые Державиным в преобразовании
и обновлении жанра оды. Вот что требовалось от оды по
жанровому заданию:
Гремящий в оде звук как вихорь слух пронзает.
Хребет Рифейских гор далеко превышает...
Творец таких стихов вскидает всюду взгляд,
Взлетает в небеса, свергается во ад,
И, мчася в быстроте во все края вселенны,
Врата и путь везде имеет отворенны 1.
Так должны были писаться оды, и так писали их Ломо-
носов и Сумароков. Этим образцам следовал и Державин,
пока не сумел найти свою самостоятельную дорогу и не
отказался от многих заповедей поэтики классицизма, со-
хранив, однако, верность им в некоторых сторонах своей
творческой деятельности.
Новое поэтическое слово Державина особенно ясно про-
звучало в оде «На смерть князя Мещерского» 2. Белинский
писал о ней: «Как страшна его ода «На смерть Мещерско-
го»: кровь стынет в жилах, волосы, по выражению Шекспи-
ра, встают на голове встревоженной ратыо, когда в ушах
ваших раздается вещий бой глагола времен, когда
1 А. П. Сумароков. Избранные произведения. Л., «Совет-
ский писатель», 1957, стр. 118.
2 «Санкт-Петербургский вестник», 1779, сентябрь.
34
в глазах мерещится ужасный остов смерти с косою в
руках» \
Поразительно живо представляется Державину
смерть — он рисует ее какими-то житейскими чертами,
заставляя совершать человеческие действия:
Приходит смерть к нему, как тать...
Смерть скрежещет зубами, точит лезвие косы, блещет
этой косой, будто молнией, и «дни мои, как злак, сечет».
Она обладает роковыми когтями, от которых «никая
тварь не убегает», она «глотает царства». И, наконец, к ней
прилагается смелый зрительный эпитет:
И бледна смерть на всех глядит.
Поэт так подробно представляет себе смерть, что она
утрачивает свое обобщенное значение, становится как бы
одушевленным существом, чей приход может быть смяг-
чен или отсрочен обстоятельствами покойной и праведной
жизни.
В стихотворении «На смерть князя Мещерского» с боль-
шой отчетливостью проступали яркая контрастность поэ-
зии Державина, его стремление сталкивать резко противо-
речащие понятия, добиваясь полной наглядности
сказанного. Державин настойчиво уравнивает царей с
простыми людьми перед лицом смерти, как и перед лицом
закона, начиная именно с них перечень жертв:
Монарх и узник — снедь червей...
Поэт употребляет и более сильное противопоставление:
Сегодня бог, а завтра прах...
Эти контрасты четко передают основную мысль оды:
Утехи, радость и любовь
Где купно с здравием блистали,
У всех там цепенеет кровь
И дух мятется от печали.
Где стол был яств, там гроб стоит...
Державин создает зрителю ощутимые картины, он об-
ращается к читателю не с отвлеченным рассуждением, а
1 В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. I.
М.—Л., Изд-во Академии наук, 1953, стр. 50.
^
35
показывает ему вещи, как бы позволяя потрогать их рука-
ми. В стихотворении «На смерть князя Мещерского» новый
путь, обретенный Державиным, уже вполне определился.
Державин спаял воедино все достижения русских поэтов,
творчески усвоил и переработал их, дополнил своим жиз-
ненным опытом — и тем сумел направить дальнейший ход
развития русской поэзии.
Элегические ноты в оде предвосхищают Батюшкова,
Пушкина, поэзию «неизъяснимого» у Жуковского. Услов-
ный романтический лексикон — и сон, и сладкая мечта, и
красота, и радость — уже открыт Державиным, и семан-
тика его будет воспринята именно так последующими поэ-
тами. Находки Державина станут достоянием русской
литературы.
Пессимистические размышления поэта о неизбежной
гибели всего живого, всех миров вселенной, о вечности и
смерти разрешаются неожиданно легко житейским советом.
И тут опять сказался Державин, человек живой, жизнелю-
бивый, и с большой практической сметкой, как ни странно,
может быть, здесь звучит это слово. Доказав, что смерть
неизбежна сегодня или завтра, поэт спрашивает: «Почто ж
терзаться и скорбеть?»
Жизнь есть небес мгновенный дар;
Устрой ее себе к покою,
И с чистою твоей душою
Благословляй судеб удар.
Эта гедонистическая концовка заметно снижает общий
характер стихотворения. Живи в свое удовольствие, не
беря на душу грехов, и спокойно ожидай смерти — таков
совет заключительных строк. Однако это не окончательное
решение вопроса у Державина. Вскоре он предъявит чело-
веку требование не просто прожить жизнь, но сделать это
с пользой для отечества, для ближних, быть примером
гражданских добродетелей. И такие же условия он выдви-
нет перед самим собой. Стихи его получат более глубокое
содержание, хотя мысль о жизни и смерти никогда не пе-
рестанет волновать поэта.
Взгляды Державина на обязанности человека как члена
общества установились в первые годы формирования его
поэтического дара и более не подвергались пересмотру. До
конца дней оп остался убежденным в своей правоте,
прямым человеком, говорившим людям правду о их поступ-
86
ках. Чем ближе он знакомился с царицей, тем меньше о
ней писал, а когда это делал, старался подбирать выраже-
ния, которые были бы достойны государыни, но в то же
время не заставляли его кривить душой.
В стихотворении «На новый год» (1781) Державин так
определяет круг тем своей поэзии и обстановку литератур*
ной работы:
От должностей в часы свободны
Пою моих я радость дней;
Пою творцу хвалы духовны
И добрых я пою царей.
(I, И9)
Здесь сказано решительно все необходимое для полного
знакомства с поэтом, его обликом и кругом тем. Он человек
служащий, государственный, занимается сочинением сти-
хов в свободное от других обязательных дел время; он поет
о «радости своих дней», выражает жизнелюбивые чув-
ства — да, он по-земному страстно любит жизнь со всеми
ее удачами и недостатками, он славит бога, которого при
спокойной совести числит своим ближайшим и непосред-
ственным руководителем. Что же касается царей, то речь
идет не просто о носителях сана, представителях принципа
монархической власти вообще, а о «добрых», то есть ува-
жающих законы и интересы своих подданных, царях, не
терзающих людей, подобно «волкам» или «медведям»,—к
немногим царям, пожалуй, мог отнести поэт эти слова.
В стихах Державина проявилось замечательное качест-
во, совсем новое для русской поэзии,— конкретность и
правдивость изображаемого, намеки и указания на факты
современной действительности, точные описания происше-
ствий, случающихся с тем или иным героем стихов. А все
это вместе взятое вело к появлению в стихах реалистиче-
ских деталей, оттачивало мастерство поэта, сближало поэ-
зию с жизнью.
В 1780 году Державин написал стихотворение «К пер-
вому соседу». Оно адресовано купцу М. С. Голикову, кото-
рый жил в соседнем с Державиным доме на Сенной пло-
щади в Петербурге. Когда Державин купил дом на Фон-
танке, соседом его стал другой человек — секретарь
Потемкина Гарновский. И к нему он пишет стихи, а для
того, чтобы читатель не спутал, в издании сочинений
1808 года указывает в заглавиях: «К первому соседу*
37
(первоначальное название просто «К соседу») и «Ко вто-
рому соседу».
Голиков живет богато, проводит время в пирах и удо-
вольствиях, о чем подробно повествует поэт:
Гремит музыка, слышны хоры
Вкруг лакомых твоих столов;
Сластей и ананасов горы
И множество других плодов
Прельщают чувства и питают;
Младые девы угощают,
Подносят вина чередой;
И алиатико с шампанским,
И пиво русское с британским,
И мозель с зельцерской водой.
(I, ЮЗ)
Державин описывает окружающую Голикова роскошь
и говорит, обращаясь к нему:
С младой, веселою, прекрасной
И нежной нимфой ты сидишь,—
а в «Объяснениях» сообщает, что Голиков имел на содер-
жании певицу-итальянку. Упомянуто дальше о том, что
Голиков оставил в Сибири жену и не торопился возвра-
щаться домой, щедро тратя нажитые богатства. Сказано и
о том, откуда берутся деньги:
...откуп вновь тебе приносит
Сибирски горы серебра...
Голиков был откупщиком питейных сборов в Петербур-
ге и Москве в 1779—1783 годах, и Державин остерегал его
от излишних роскошеств, призывая к умеренности и осто-
рожности.
Стихи 1779—1781 годов, исполненные большой тревоги
по поводу общественного неустройства, вплотную подвели
Державина к теме, которую он с таким мастерством раз-
вернул в оде «Фелица» (1782). При всем «похвальном»
своем тоне стихи Державина очень искренни. Он говорит
с императрицей как собеседник, перечисляет успехи ее
царствования, но не раз проговаривается, что иные само-
держцы легко проливают кровь подданных. В заслугу Ека-
терине ставится, например, то, что она не истребляет
людей, как волк уничтожает овец:
38
Проступки снисхождеыьем правишь;
Как волк овец, людей не давишь...
(I, 141)
«Фелица» была одой, адресованной царствующей
государыне,—лицу, о котором обычно говорили с подобо-
страстием, для восхваления которого поэты придумывали
наиболее величественные сравнения. Державин же резко
нарушил традицию. Он показал монархиню как знакомо-
го человека:
Мурзам твоим не подражая,
Почасту ходишь ты пешком,
И пища самая простая
Бывает за твоим столом...
Вслед за этим в оде был рассыпан ряд намеков на круп-
ных вельмож. Прихоти и любимые развлечения их оказа-
лись увековеченными в стихах:
Или великолепным цугом,
В карете английской, златой,
С собакой, шутом или другом,
Или с красавицей какой
Я под качелями гуляю;
В шинки пить меду заезжаю;
Или, как то наскучит мне,
По склонности моей к премене,
Имея шапку на бекрене,
Лечу на резвом бегуне.
Или музыкой и певцами,
Органом и волынкой вдруг,
Или кулачными бойцами
И пляской веселю мой дух...
(I, 137-138)
Державин в своих «Объяснениях» отметил, что он
наблюдал знакомых ему вельмож — Потемкина, Вяземско-
го, Нарышкина, Орлова, видел пристрастие одного к кулач-
ным боям, другого к роговой музыке, третьего к щегольству
и т. д. и зарисовал их прихоти в стихах, создав обобщенный
портрет царедворца, в котором типические черты собраны
воедино.
Характерная сторона поэзии Державина, проявившаяся
в «Фелице»,— иносказательная шутливость,— была за-
креплена поэтом в оде «На счастие», написанной в 1789 году.
Державин жил тогда в Москве, дожидаясь следствия и
39
сенатского суда по делам своего тамбовского губернатор-
ства. Российская Фемида,— а нрав ее Державин изучил
хорошо,— готовилась положить на чашки весов прегреше-
ния и заслуги бывшего губернатора, чтобы погубить его
или вызволить. Сказать ей слово не запрещалось, и Держа-
вин сочинил свои стихи, воззвав к Счастью с просьбой о
покровительстве.
Главную особенность оды «На счастие» как литератур-
ного произведения составляет широкий обзор международ-
ной обстановки, выполненный Державиным в форме
сатирических аллегорий и намеков, требующих подробной
расшифровки для читателя. Поэт постарался облегчить по-
нимание текста. В его «Объяснениях» к оде дано двадцать
шесть примечаний,— больше, чем к какому-либо другому
произведению. И не напрасно. Трудно было бы без этой
помощи растолковать такую, например, строфу оды, в ко-
торой поэт говорит, обращаясь к Счастью:
В те дни, как всюду скороходом
Пред русским ты бежишь народом
И лавры рвешь ему зимой,
Стамбулу бороду ерошишь,
На Тавре едешь чехардой,
Задать Стокгольму перцу хочешь,
Берлину фабришь ты усы,
А Темзу в фижмы наряжаешь,
Хохол в Варшаве раздуваешь,
Коптишь голландцам колбасы...
(I, 246)
Державин поясняет, что «в сем куплете и в последую-
щем описываются счастливые военные действия России и
политические выгодные для России союзы». Например,
строка «Лавры рвешь ему зи]у;ой» означает взятие зимой
1788 года у турок крепости Очаков, «На Тавре едешь че-
хардой» — присоединение к России Крыма (Тавриды),
«Задать Стокгольму перцу хочешь» — война 1788—1790 го-
дов со Швецией, «Берлину фабришь ты усы» — переговоры
о союзе России с Пруссией и так далее.
В последующих строфах, когда Державин говорит:
«Весь мир стал полосатый шут»,— он имеет в виду полоса-
тые фраки, вошедшие в моду, «Мартышки в воздухе
явились» — намек на масонов-мартинистов, которые хвали-
лись, что видят в воздухе духов, с коими якобы они об-
щались. Фраза «По свету светят фонари» метит во фрап-
40
цузских философов-просветителей. «На пышных карточных
престолах Сидят мишурные цари» — в этих строках Держа-
вин разумел наместников, в частности тамбовского генерал-
губернатора И. В. Гудовича, которые любили показную
пышность приемов и насаждали раболепие, но постоянно
оглядывались на петербургскую администрацию и не вы-
ступали из воли Екатерины. Наконец, строки «Гудок гудит
на тон скрипицы И вьется локоном хохол» затрагивают
того же Гудовича и П. В. Завадского, старинного неприя-
теля Державина, но может быть, и А. А. Безбородко и т. д.
(111,626).
Когда А. Ф. Мерзляков в 1815 году напечатал в журна-
ле «Амфион» разбор оды «На взятие Варшавы» вместе с
ее текстом, Державин в благодарственном письме ему за-
метил, что эта ода доставила автору в свое время много
неприятностей. «Вы мне скажете,— писал он,— что до это-
го вам нужды нет, но что вы только смотрите на красоты
поэзии, будучи поражаемы ими по чувствам вашего сердца.
Вы правы; но смею сказать: точно ли вы дали вес тем мыс-
лям, коими я хотел что изобразить, ибо вам обстоятельства,
для чего что писано, неизвестны» (1, 652).
Этот второй, скрытый план стихотворений Державина
имел для него едва ли не большее значение, чем первый,
лежащий на виду,— те слова и фразы, которые составляли
текст его произведений, доступный каждому при чтении
глазами или слушании. Сознавая злободневность многих
стихотворений, острота которых зачастую зависела от раз-
бросанных всюду намеков, Державин желал раскрыть их
для последующих поколений читателей и в 1805 году на-
писал «Объяснения» к своим стихам, передав их любителю
литературы и библиографу, митрополиту Евгению Болхо-
витинову, с которым был в дружеских отношениях. Впо-
следствии «Объяснения» были изданы Н. Ф. Остолоповым
под заглавием «Ключ к сочинениям Державина». Когда в
1808 году вышли из печати четыре тома собрания его сти-
хов, Державин счел нужным прокомментировать их и в
1809—1810 годах продиктовал новые «Объяснения», в та-
ком составе вошедшие в академическое издание его сочине-
ний.
Державин отлично понимал значение и важность этой
работы. «Приметить надобно,— писал он одному из кор-
респондентов,— что без ключа, или без особливого объяс-
нения, аллегории ее (оды «Афинейскому витязю».— А. 3.)
41
в совершенном смысле многие не поймут и понимать
не могут, ибо всякое слово тут относится к действиям, ли-
цам и обстоятельствам того времени, как она писана, чего
теперь и объяснять было бы неосторожно» (VI, 184). Он
должен был раскрыть эти аллегории, чтобы приблизить к
читателю содержание стихотворений, а кроме того, снаб-
дить комментарием многочисленные мифологические, гео-
графические и другие понятия.
То, что в свое время не было разъяснено Державиным,
иногда доставляло большие трудности его комментаторам.
Вот один из примеров.
Принявшийся за изучение Державина Я. К. Грот в
1844 году писал П. А. Плетневу:
«У Державина нашел я в «Гласе Санкт-Петербургского
общества»:
Сменяешь Орм, польстя химере,
Отцов с доскою гробовой.
Никак не могу понять, что должны значить эти два сти-
ха. Объясни, если можешь» \
Плетнев истолковал таким образом:
«Приведенные тобой стихи значат: «Верь, что гробовой
доски отцов мы, прельстясь какой-нибудь_химерой, не про-
меняем на все богатства Индии или Аравии» (вместо
последней стоит остров Ормус, сокращенно Орм, как у него
же тропы вместо тропики)» 2.
Подобные вопросы при отсутствии авторских разъясне-
ний могли бы возникать очень часто. Ода «Ко второму
соседу», например, начинается строфой:
Не кость резная Колмогор,
Не мрамор Тивды и Рифея,
Не невски зеркала, фарфор,
Не шелк Баки, не глазумея
Благоуханные пары
Вельможей делают известность...
(I, 436-438)
1 Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. I. СПб., 1896,
стр. 335. У Державина — «Сменяем Орм».
2 По-видимому, Грот в 1844 г. был недостаточно ознакомлен с
«Объяснениями» Державина, где эти строки комментированы TaKj
«Орм, как выше сказано, залив Персидский, в коем ловят лучший
жемчуг, то автор в сих стихах изображает, что ни за какие бо-
гатства россияне не променяют свое отечество или прах отцов».
Плетнев разъяснил стихи в соответствии с мыслями Держа-
вина.
42
Этот перечень собственных имен является географи-
чески точным списком славящихся своими изделиями
местностей России. Колмогоры, или Холмогоры,— «город в
Архангельской губернии, который по костным работам сла-
вится»,— объясняет Державин; Тифда, или Тивда,— река
в Олонецкой губернии, близ нее были разработки мрамора;
Рифей — Урал, на стеклянном заводе в Петербурге из-
готовлялись «невски зеркала», из Баку доставлялись шел-
ковые ткани; глазумей — сорт чая.
В стихотворении «Лебедь» (1805) Державин, оказы-
вается, думал о конкретных вещах, а не о космических
образах, когда писал:
Не заключит меня гробница,
Средь звезд не превращусь я в прах.
Звезды подразумеваются не небесные, а земные, на-
грудные знаки орденов: «Средь звезд или орденов совсем
не сгнию, как другие»,—поясняет Державин (III, 711).
Признаться, неожиданная разгадка!
Система иносказаний была нужна Державину, чтобы
при помощи ее открывать свои затаенные мысли, которые
время и обстановка не позволяли выражать прямо.
В представлении Державина ценность поэта и его право
на бессмертие определялись тем, насколько он был правдив
и умел говорить истину. Не современники, а потомство
должно было рассудить, сумел ли поэт приблизиться к ис-
тине и не кривил ли он душой в своих сочинениях. Держа-
вин в письме к Мерзлякову прямо объясняет эту особен-
ность своей литературной работы:
«Будучи поэт по вдохновению, я должен был говорить
правду; политик или царедворец по служению моему при
дворе, я принужден был закрывать истину иносказанием
и намеками, из чего само по себе вышло, что в некоторых
моих произведениях многие, что читают, того не понимают
совершенно» (1, 652).
Но иносказательность и во многих случаях трудность
понимания державинского стиха зависели не только от
желания поэта зашифровать свои намеки. Это качество
придавала ему усиленная метафоричность поэтической ре-
чи Державина, усложненность ее, вызываемая обилием ас-
социаций, возникавших у автора, причем он не старался,
чтобы звенья их стали понятны читателю. Один какой-то
признак, одна, даже не самая характерная, черта предмета
43
были порою достаточны для того, чтобы перед поэтом воз1
никала целая картина. Фантазия его с бешеной быстротой
развивала явившиеся образы и, отталкиваясь от них, всту-
пала в новые связи.
Державин, например, пишет:
Клейподы вкруг; в них власть и сила;
Вдали Европы блещет строй,
Стрел тучи Азия пустила,
Идут американцы в бой,
Темнят крылами понт грифоны,
Льют огнь из медных жерл драконы,
Полканы вихрем пыль крутят;
Безмерные поля, долины
Обсели вкруг стада орлины,
И все на царский смотрят взгляд.
(II, 214-215)
Эти строки из стихотворения «На Мальтийский орден»
(1798) выглядят ребусом, да им на самом деле и являются.
Какая Азия пускает тучи стрел, куда, в кого? С кем идут
сражаться американцы и почему упомянул о них поэт,
описывая празднества Мальтийского ордена в Петербурге?
Кто такие грифоны, драконы и полканы?
Оказывается,— и об этом мы читаем в «Объяснениях»
Державина (III, 661),— в этих стихах описан праздничный
парад. «Строй Европы» — это регулярные русские войска,
представители же других континентов только воображают-
ся автором по той причине, что у России были владения
в Азии и Америке. И, конечно, упоминание об азиатских
народах вызвало представление об их оружии — луке и
стрелах, и оно было показано в действии. Все это чистая
фантазия. Грифоны — волшебные четвероногие птицы —
это корабли, оснащенные парусами, драконы — пушки.
Мысль поэта направляется в сторону сказки, и вот уже
гвардейская кавалерия рисуется в виде Полканов, которые
«вихрем пыль крутят». А стада орлины — это зрители,
«русский народ».
Когда картина, таким образом, приводится в ясность
и в соответствие с реальной действительностью, невольно
поражаешься свободой ассоциаций поэта и обилием его
метафор.
Пиковой
ДАМЫ»
1
Пушкина, родоначальника новой русской литературы,
не занимали придворные новости и поэтические недомолв-
ки. Он работал для широких кругов читателей,— разуме-
ется, насколько широкими они могли быть в его вре-
мя,—и всегда желал быть им понятным, кратким и точ-
ным.
Однако, повторяя за Пушкиным его формулу о точно-
сти и краткости как первых достоинствах прозы, нужно
иметь в виду, что немногословные предложения Пушкина
всегда прячут за своим внешним очень скромным покро-
вом глубочайшее внутреннее содержание. Каждое слово
его значительно, вызывает в сознании читателя историче-
ские, бытовые, психологические параллели, оно поставле-
но у места и не может быть заменено другим выражением
без перемены смысла фразы.
Пусть не покажется наивным это убеждение,— но у
Пушкина в самом деле нет случайных, ненужных слов, и
дело читателя состоит не в том, чтобы распознать автор-
ский намек, уяснить риторические изобретения, а в том,
чтобы представить реальное содержание понятий, вводи-
мых автором, учиться вглядываться в их глубину. В тек-
45
стах Пушкина все связано, обусловлено логикой разви-
тия сюжета и выражено с научной точностью. Надобно
только читать со вниманием и запоминать сказанное пи-
сателем — оно непременно даст о себе знать в дальнейшем
изложении.
Что Пушкин пишет «просто», мы знаем с детства, в
этом состоит особенность его слога. Но это совсем не та-
кая простая простота, как, может быть, думают некоторые
читатели, о чем однажды упомянул Л. Н. Толстой.
«Вчера Лев Николаевич,— записал в 1909 году
Н. Н. Гусев,— говорил об обычном суждении публики,
большинства читателей, о художественных произведениях
высокого достоинства.
— Он читает,—сказал Лев Николаевич,—и ему ка-
жется все так просто: «Тут ничего особенного, это и я
так напишу»,— и он садится и начинает писать. А того
не знает, каким огромным, упорным трудом далась автору
эта простота,— путем бесконечных вымарываний, вычер-
киваний всего ненужного, переделок» *.
Прочитаем снова с возможным вниманием «Пиковую
даму», одно из совершеннейших творений Пушкина, по-
истине литературное чудо, и посмотрим: не осталось ли в
ней для нас чего-либо незамеченного? Ясно ли было нам,
какое огромное содержание вложил автор в эту краткую
повесть,— ведь в ней только пятьдесят тысяч печатных
знаков, всего-навсего один с четвертью авторский лист!
Текст ее в двадцать, в пятьдесят, во сто раз короче тех
романов, которые нам случается снимать с полки под ви-
дом беллетристических произведений...
Лаконизм Пушкина был настолько скупым и насы-
щенным внутренней силой, что не поддался в полной мере
даже такому отличному переводчику, как Мериме, кото-
рый старался знакомить французского читателя с твор-
чеством Пушкина.
Мериме в 1849 году перевел и напечатал в Париже
«Пиковую даму». Работа была выполнена в общем стара-
тельно, переводчика хвалили и во французской, и в рус-
ской печати. Не обошлось, как водится, и без ошибок,—
например, фразу Пушкина: «Томский закурил трубку, за-
тянулся и продолжал» — Мериме перевел: «...закурил, за-
1 «Лев Толстой об искусстве и литературе», т. I. M., «Советский
писатель», 1958, стр. 317.
46
тянул кушак» (!) и т. д.1. Этот и подобные ему промахи
Мериме исправил в повторном издании, однако дело не в
них. Как показывает анализ Л. Когана, французский пи-
сатель разбавлял речь Пушкина своими вставками, до-
полнял его чеканные фразы ненужными подробностями,
расширял текст, не замечая, что нарушает авторскую ма-
неру изложения. Не забудем при этом, что Мериме был
требовательнейшим стилистом и русский язык знал ко
времени работы над «Пиковой дамой» отлично!
Примеры вставок Мериме, приведенные в статье Л. Ко-
гана, многочисленны. Вот некоторые из них.
У Пушкина сказано, что «бабушка, отлепливая мушки
с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем
проигрыше»,— Мериме добавляет: «в этом трагическом
наряде объявила».
Пушкин: «Бабушка дала пощечину». Мериме: «Вы
представляете себе ярость моей бабушки. Она дала ему
пощечину».
«Услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из
себя»,— говорит Пушкин о дедушке. А Мериме живопи-
сует: «подскочил до потолка».
«Черноволосая головка, склоненная, вероятно, над кни-
гой или над работой»,— пишет Пушкин. Переводчик
украшает фразу: «юная головка», «грациозно склоненная».
Многочисленная челядь «делала, что хотела, напере-
рыв обкрадывая умирающую старуху». Мериме прибавля-
ет: «словно смерть уже наступила» и т. п.
Но обратимся к тексту повести.
Начинается она сразу, без предисловий, как любил на-
чинать Пушкин:
«Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумо-
ва. Долгая зимняя ночь прошла незаметно; сели ужинать
в пятом часу утра. Те, которые остались в выигрыше,
ели с большим аппетитом; прочие, в рассеянности, сиде-
ли перед пустыми своими приборами. Но шампанское яви-
лось, разговор оживился, и все приняли в нем участие».
Короче, энергичнее начать невозможно. И при этом
экспозиция кажется достаточной. «Конногвардеец» —
значит офицер конной гвардии, привилегированной вой-
1 См. Л. Коган. Пушкин в переводах Мериме («Пиковая
дама»). Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, выпуск 4—5.
М.— Л., Изд-во Академии наук, 1939, стр. 331—356.
47
сковой части, служба в которой требовала больших
средств, чем служба в пехотных гвардейских полках,
Преображенском, Семеновском или Измайловском. И хо-
зяин был не беден — после карт он кормил гостей ужином
и поил шампанским. Кто были гости — не сказано, одна-
ко легко подумать, что собрались офицеры, товарищи по
полку, и знакомые хозяина. В картах кому-то везет, кто-то
проигрывает, но ясно, что у Нарумова игра велась для раз-
влечения и роковых проигрышей не случилось,— пусть не
все игроки ужинали с аппетитом, но после шампанского
и они разговорились. Четырьмя короткими фразами Пуш-
кин обрисовал обстановку, в которой произошел разговор
о Германне и картах.
В 1819 году Пушкин предполагал писать прозаическое
произведение, от него сохранился отрывок, называемый
«Надинька»:
«Несколько молодых людей, по большей части воен-
ных, проигрывали свое именье поляку Ясунскому, кото-
рый держал маленький банк для препровождения времени
и важно передергивал, подрезая карты. Тузы, тройки, ра-
зорванные короли, загнутые валеты сыпались веером, и
облако стираемого мела мешалось с дымом турецкого та-
баку.
— Неужто два часа ночи? Боже мой, как мы засиде-
лись,— сказал Виктор N молодым своим товарищам.— Не
пора ли оставить игру?
Все бросили карты, встали из-за стола, всякий, доку-
ривая трубку, стал считать свой или чужой выигрыш; по-
спорили, согласились и разъехались.
— Не хочешь ли вместе отужинать,— спросил Викто-
ра ветреный Вельверов,— я познакомлю тебя с очень ми-
лой девочкой, ты будешь меня благодарить.
Оба сели на дрожки и полетели по мертвым улицам
Петербурга».
В отрывке, так же, как в созданной через четырна-
дцать лет «Пиковой даме», начало состоит в описании кар-
точной игры, которой заняты молодые люди, по большей
части военные.
Но различия, обозначающие огромные с годами успехи
Пушкина-прозаика, встречаются с первых же строк. Иг-
ра, по-видимому, упоминается для того, чтобы мотивиро-
вать встречу Виктора с Вельверовым и поездку^ их ночью
ужинать к Надиньке. Вероятно, могла бы подойти и дру-
48
гая нейтральная мотивировка встречи. В повести «Пико-
вая дама» описание карточной игры в доме конногвардей-
ца Нарумова дает ключ ко всему ее тексту, подготавли-
вает развитие сюжета, знакомит с Германном,— словом,
служит завязкой произведения в целом, целесообразней и
лучше которой ничего не придумаешь.
Трудно, конечно, не имея продолжения отрывка, су-
дить, почему понадобилось Пушкину вводить поляка
Ясунского, который держал банк и «важно передергивал,
подрезая карты». Для того, чтобы упомянуть, что молодые
люди «проигрывали именье» или захваченные с собой
деньги? Может быть, хотя особой надобности в таком ука-
зании не было — о проигрыше, имевшем какое-то значе-
ние для сюжета вещи, ничего ведь не сказано. Игра не
очень занимала молодых людей — по первому предложе-
нию Виктора «все бросили карты», поспорили мирно, «со-
гласились и разъехались». Ужина не было, хотя, казалось
бы, банкомет, умеющий передергивать карты, должен был
поить вином своих партнеров или жертв, намереваясь плу-
товать и выигрывать. Стало быть, описание игры Пушкину
не требовалось, эпизод имел проходной характер, действие
начинало развиваться позже.
В «Пиковой даме» карты поминаются с первой строки,
эпизоды повести так или иначе связаны с ними, все моти-
вировано, сюжет построен с необыкновенной прочностью,
и решительно каждая деталь, внесенная в текст автором,
работает на него, Продолжим чтение.
Нарумов спрашивает у одного из гостей, выиграл тот
или проиграл, другой же обращает внимание товарищей
на Германна, «молодого инженера»:
«—А каков Германн! ...отроду не брал он карты в ру-
ки, отроду не загнул ни одного пароли, а до пяти часов
сидит с нами и смотрит на нашу игру!»
Пароли — удвоение ставки, что игроки обозначали за-
гибанием угла карты,— показывали темперамент участ-
ников, желание рисковать, надеясь на удачу. Игра была
такая. Игрок выбирал в колоде карту и ставил на нее
деньги. Банкомет, держа другую колоду, раскладывал
карты по одной налево и направо. Если карта, выбранная
игроком и лежавшая перед ним на столе рубашкой квер-
ху, у банкомета ложилась направо, банкомет платил игро-
ку его ставку, если налево,— забирал ставку в банк. На-
зывалась эта игра «фараон».
49
«— Игра занимает меня сильно,— сказал Германн,—
но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде
приобрести излишнее.
— Германн немец: он расчетлив, вот и все! — заметил
Томский.— А если кто для меня непонятен, так это моя
бабушка графиня Анна Федотовна.
— Как? что? — закричали гости». И т. д.
Г. А. Гуковский писал:
«Великой победой пушкинского метода 1830-х годов,
его реализма было колоссальное лицо Германна, могучее
типическое обобщение, образ, созданный на основе глубо-
кого уразумения социального процесса проникновения ка-
питализма в самые основы русской жизни. «Пиковая
дама» — это повесть, продолжающая и развивающая идей-
но-тематическое задание «Скупого рыцаря». И здесь и
там в центре произведения титаническая личность, побеж-
денная злом, и это зло — не просто моральное зло, мета-
физическое понятие, а зло исторически неизбежное. Оно
реализуется в характере героя, в психике людей в мораль-
ной сфере. Но его основания — не в морали, пред-
4 стоящей как результат, не в характере, осознанном как
следствие, а в развитии капитализма. Это зло — власть
денег. В «Скупом рыцаре» Пушкин проследил зарождение
этого зла в западноевропейском обществе. В «Пиковой да-
ме» Пушкин изучал распространение этого же зла, при-
шедшего с Запада, уже в России, в своей современности,
в его полном — в пределах наблюдения самого художни-
ка—развитии. «Скупой рыцарь» и «Пиковая дама» уяс-
няют собою крайние пункты трагического пути Европы,
начало и конец морально-психологического разложения
человека под влиянием темной силы денег» *.
Итак, в повесть введено ее главное действующее ли-
цо — Германн. Названа фамилия, указаны возраст — «мо-
лодой»—и служебное положение — «инженер», подразу-
мевается — военный, далее автор именует его офицером.
Можно увидеть, что в реплике Германна слегка подчерк-
нуто его нерусское происхождение — фраза построена как
афоризм, выглядит искусственной, книжной. Так и долж-
но быть: в общем представлении, существовавшем и во
времена Пушкина, расчет не был свойствен русской нату-
1 Г. А. Гуковский. Пушкип и проблемы реалистического
стиля. М., Гослитиздат, 1957, стр. 341.
50
ре, привыкшей больше полагаться на авось, а то, что Гер-
манн без раздумья вымолвил свой ответ,— и дальше он
будет повторен,— показывает, что высказал он жизнен-
ный принцип, тезис, который сложился раз навсегда и был
накрепко запечатлен в уме и на языке.
Томский, человек светский и недалекий, все же рас-
познал эту черту Германна и безоговорочно приписал ее
национальному характеру: «Германн... расчетлив, вот и
все!» — сказал он, как бы исчерпывая тему, и поторопил-
ся напомнить о своей бабушке. Рассказ его изложен Пуш-
киным без желания соблюсти индивидуальные приметы
речи, нейтральные выражения больше соответствуют ав-
торскому голосу, текст лаконичен, лишен каких бы то ни
было внешних эффектов.
Томский говорит, что бабушка его лет шестьдесят тому
назад ездила в Париж, играла при дворе в «фараон» и
очень много проиграла герцогу Орлеанскому. Вернувшись
домой, приказала дедушке заплатить.
«Покойный дедушка, сколько я помню, был род ба-
бушкина дворецкого. Он ее боялся, как огня; однако,
услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя,
принес счеты, доказал ей, что в полгода они издержали
полмиллиона, что под Парижем нет у них ни подмосков-
ной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от пла-
тежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна, в
знак своей немилости».
Пушкин, историк и социолог, указывает читателю на
источник дохода русских господ — крепостной труд. С кре-
стьян своих вотчин собирал дедушка те рубли, которые
тратились в Париже.
Как известно, завязка повести не вымышлена. «Ста-
руха-графиня — это Наталья Петровна Голицына, мать
Дм. Владимировича, московского генерал-губернатора,
действительно жившая в Париже в том роде, как описал
Пушкин. Внук ее, Голицын, рассказывал Пушкину, что
раз он проигрался и пришел к бабке просить денег. Денег
она ему не дала, а сказала три карты, назначенные ей в
Париже С.-Жерменом. «Попробуй»,— сказала бабушка.
Внучек поставил карты и отыгрался. Дальнейшее разви-
тие повести все вымышлено. Нащокин заметил Пушкину,
что графиня не похожа на Голицыну, но что в ней больше
сходства с Н. Кирил. Загряжского, другою старухою.
Пушкин согласился с этим замечанием и отвечал, что ему
51
легче было изобразить Голицыну, чем Загряжскую, у ко-
торой характер и привычки более сложные...» *.
Под пером Пушкина семейный анекдот превратился в
гигантски обобщенный образ, знаменующий столкновение
феодальной и капиталистической эры, стал обозначать на-
ступление власти денег, сосредоточил в себе мысли писа-
теля о путях развития «железного» девятнадцатого века...
В повести Томский рассказал, что граф Сен-Жермен,
который «выдавал себя за вечного жида, за изобретателя
жизненного эликсира и философского камня и прочая»,
по просьбе бабушки назвал ей три карты, наверняка мо-
гущие принести выигрыш. Когда герцог Орлеанский ме-
тал, «она выбрала три карты, поставила их одну за дру-
гою: все три выграли ей соника, и бабушка отыгралась
совершенно.
— Случай! — сказал один из гостей.
— Сказка! — заметил Германн.
— Может статься, порошковые карты? — подхватил
третий.
— Не думаю,— отвечал важно Томский».
Отклики слушателей на рассказ Томского различны.
Один из гостей отрицает возможность назначения точных
карт и объясняет выигрыш случайностью. Другой подо-
зревает жульничество — «порошковые карты» 2. Томский
важно ответил ему: «Не думаю», и строчка эта заслужи-
вает внимания. Томский — хозяин рассказанной истории,
он считает себя вправе судить о возможных объяснениях
тайны и несколько даже гордится, оказавшись в центре
внимания общества, потому и отвечает «важно». И ремар-
ка эта подчеркивает незначительность Томского, очевид-
ную неавторитетность его суждений в обычное время, если
начинает он говорить «важно» после того, как заинтере-
совал слушателей. Заметим и ответ его: «Не думаю» — не
«Вряд ли», «Шулера в Версаль не ходили», «Этого не бы-
ло» или что-нибудь в таком роде. Томский принимает на
себя ответственность за решение и утверждает, что оно
стоило ему немалых размышлений,— он говорит: «Не ду-
1 А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 4. М., изд-во
«Правда», 1954, стр. 405.
2 Как объясняет В. И. Даль в «Толковом словаре живого ве-
ликорусского языка», порошковая карта бывает у шулеров, в ней
«наведено, порошком на мази, добавочное очко, которое можно,
коли нужно, стереть, вскрывая карту».
52
маю». Кажется, Пушкин придал этой реплике отчетливо
комический характер.
Хозяин дома удивился тому, что Томский не узнал
секрета Сен-Жерменовых карт.
«— Как! — сказал Нарумов: —у тебя есть бабушка,
которая угадывает три карты сряду, а ты до сих пор не
перенял у ней ее кабалистики?»
А Германн заметил: «Сказка!»
Что значит это слово в устах его? Что весть о счастли-
вых картах небывальщина, фантазия, не стоящая внима-
ния серьезного человека? Или что услышанное им хорошо,
как сказка, в которой свершается то, о чем можно только
мечтать? Вероятно, оба толкования допустимы, но в по-
следующие часы второе возьмет верх и Германн увлечется
желанием узнать тайну карт, отчего и произойдут дальней-
шие происшествия, описанные в повести.
Упомянем также, что, передавая рассказ Томского,
Пушкин в одном месте прерывает его плавный ход, стре-
мясь подогреть интерес к нему читателей. Разговаривая с
Сен-Жерменом, бабушка признается в том, что у них нет
денег, чтобы попробовать отыграться. «Деньги тут не нуж-
ны,—возразил Сен-Жермен: — извольте меня выслу-
шать». Тут он открыл ей тайну, за которую всякий из нас
дорого бы дал... .
Молодые игроки удвоили внимание. Томский закурил
трубку, затянулся и продолжал».
Этот несложный прием, вводимый для нарушения од-
нообразного тона чьей-либо длинной речи, впоследствии
можно будет часто встретить в беллетристических произ-
ведениях, но во времена Пушкина он был еще новинкою.
2
Вторая глава развертывает действие в доме графини.
Пушкин не называет ее фамилию, ставя взамен три звез-
дочки и тем самым как бы показывая, что утаивает под-
линное имя той, что владела тайной трех карт. Желание
создать впечатление достоверности, правдоподобия рас-
сказанного заметно у автора на всем протяжении текста
повести.
«Старая графиня*** сидела в своей уборной перед
зеркалом. Три девушки окружали ее. Одна держала банку
53
румян, другая коробку со шпильками, третья высокий че-
пец с лентами огненного цвета. Графиня не имела ни ма-
лейшего притязания на красоту, давно увядшую, но
сохраняла все привычки своей молодости, строго следова-
ла модам семидесятых годов и одевалась так же долго, так
же старательно, как и шестьдесят лет тому назад. У окош-
ка сидела за пяльцами барышня, ее воспитанница».
В этом абзаце сказано о графине самое необходимое и
в то же время достаточное. Старательный туалет обозна-
чает стремление поддерживать жизненный тонус, не опу-
скаться, а пристрастие к модам шестидесятилетней дав-
ности, когда ей было двадцать лет и она «ездила в Париж
и была там в большой моде», а «Ришелье за нею волочил-
ся»,— говорит о том, что эта поездка была высшей сту-
пенью в ее жизни, временем, которое она хотела бы за-
держать навсегда. Пушкин перечисляет обязательные в
ежедневном обиходе предметы — румяна, шпильки, че-
пец — и в конце абзаца называет пяльцы, а за ними, не
выделяя из неодушевленного ряда вещей, еще один пред-
мет обстановки — барышню. О том, что это героиня пове-
сти, Лиза, Лизавета Ивановна, что она знает Германна и
действие повести уже идет, будет сказано автором позже,
и Лизу он опишет и объяснит подробно. Пока же до нее
дело не дошло, на очереди беседа графини с Томским, и
Пушкин, соблюдая очередность и порядок повествования,
только упоминает «барышню» как часть комнатной об-
становки, отложив представление ее читателю до более
удобного случая. Заниматься ею сейчас значило бы отвлечь
внимание читателя и снять впечатление от Лизаветы
Ивановны как от домашней вещи или домашнего прибора,
какое, можно думать, желал создать Пушкин. Лишь после
того, как Томский получил разрешение графини при-
вести к ней своего приятеля и выслушал рассказ о том,
как она была пожалована во фрейлины, Лизавета Иванов-
на обращается к нему с вопросом:
«— Кого это вы хотите представить?..
— Нарумова. Вы его знаете?
— Нет! Он военный или статский?
— Военный.
— Инженер?
— Нет! кавалерист. А почему вы думали, что он ин-
женер?
Барышня засмеялась и не отвечала ни слова».
54
Почему барышня спросила про инженера? Читатель
помнит, что «молодой инженер» по имени Германн был
среди гостей конногвардейца Нарумова. Очевидно, речь
идет о нем. Но откуда знает его барышня? Об этом еще
раз ее спрашивает Томский:
«— ...Простите, Лизавета Ивановна! Почему же вы
думали, что Иарумов инженер?»
И опять не получает ответа.
А графиня просит Томского прислать ей для чтения
новый роман, «только не из нынешних». И автор ее уста-
ми характеризует этот вид «нынешних» литературных
произведений:
«— То есть такой роман, где бы герой не давил ни
отца, ни матери и где бы не было утопленных тел. Я ужас-
но боюсь утопленников.
— Таких романов нынче нет. Не хотите ли разве рус-
ских?
— А разве есть русские романы?.. Пришли, батюшка,
пожалуйста, пришли!»
По своему обыкновению при характеристике персона-
жей Пушкин говорит о том, какие книги они читают.
Графиня слушает в чтении Лизы иностранные, вероятно
французские или переведенные на французский, романы.
Как и многие люди ее круга, графиня еще не знает, что в
России существует литература, и убеждена, что можно
читать только иностранных авторов,— предрассудок, ко-
торый во времена Пушкина и даже далее существовал в
так называемом «свете».
Томский, попрощавшись, ушел. «Лизавета Ивановна
осталась одна: она оставила работу и стала глядеть в
окно».
Вслед за вопросом об инженере Пушкин, не открывая
еще секрета Лизаветы Ивановны, вповь намекает на него
читателю:
«Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома
показался молодой офицер. Румянец покрыл ее щеки; она
принялась опять за работу и наклонила голову над самой
канвой. В это время вошла графиня, совсем одетая».
Далее в сцене сборов на прогулку, проходящих в
исполнении вздорных приказов графини, Пушкин пока-
зывает, как трудна была служба Лизаветы Ивановны, как
тяжко доставался хлеб в барском доме бедной «воспитан-
нице». Он сначала развертывает сцену, ничего не коммен-
55
тируя и не говоря от себя, и лишь после этого приступает
к объяснениям, в которых, пожалуй, уже большой нужды
не было — положение Лизаветы Ивановны сделалось по-
нятным читателю, и мысль о том, что она могла жить,
лишь «с нетерпением ожидая избавителя», то есть надеясь
выйти замуж и покинуть дом графини, уже возникает у
читателя. Пушкин заключает описание сборов графини на
прогулку, отложенную затем по причине якобы «прехо-
лодного ветра», мыслью Лизаветы Ивановны:
«— И вот моя жизнь!»
Не будет большой смелостью предположить, что Чехов
этой фразой закончил бы эпизод и не пустился бы в дело-
вые пояснения касательно судьбы Лизаветы Ивановны,
уверенный, что читатель сам додумает остальное. Но Пуш-
кин с его стремлением к ясности еще не осознавал поня-
тия «подтекста» и находил нужным в меру необходимости
самому рассказывать читателю то, что не входило в рамки
повести, но нуждалось в освещении.
И он в одном абзаце излагает сведения о воспитанни-
це, прислуживавшей графине:
«...Многочисленная челядь ее, разжирев и поседев в ее
передней и девичьей, делала, что хотела, наперерыв об-
крадывая умирающую старуху. Лизавета Ивановна была
домашней мученицею. Она разливала чай, и получала
выговоры за лишний расход сахара; она вслух читала ро-
маны, и виновата была во всех ошибках автора; она со-
провождала графиню в ее прогулках, и отвечала за погоду
и за мостовую. Ей было назначено жалованье, которое ни-
когда не доплачивали; а между тем требовали от нее, чтоб
она одета была, как и все, то есть как очень немногие.
В свете играла она самую жалкую роль. Все ее знали, и
никто не замечал; на балах она танцевала только тогда,
как не доставало vis-a-vis, и дамы брали ее под руку
всякий раз, как им нужно было идти в уборную поправить
что-нибудь в своем наряде. Она была самолюбива, живо
чувствовала свое положение и глядела кругом себя,— с не-
терпением ожидая избавителя; молодые люди, расчетли-
вые в ветреном своем тщеславии, не удостоивали ее вни-
мания, хотя Лизавета Ивановна была сто раз милее наг-
лых и холодных невест, около которых они увивались.
Сколько раз, оставя тихонько скучную и пышную гости-
ную, она уходила плакать в бедной своей комнате, где
стояли ширмы, оклеенные обоями, зеркальце и крашеная
56
кровать, и где сальная свеча темно горела в медном шан-
дале!»
Несколько черт, намеченных здесь, потом будут про-
должены автором. Сын управителя графини окажется
владельцем «порядочного состояния», недоплаченное жа-
лованье отзовется долгами Лизаветы Ивановны во фран-
цузскую модную лавку, недовольство своим положением
объяснит легкость, с какою она откликнулась на письма
Германна и назначила ему свидание в доме графини.
Обстановка комнаты, названная автором «бедной», допол-
няет сведения читателя о зависимом состоянии воспитан-
ницы графини, живущей в жалкой каморке, чья убогость
становится особенно заметной после того, как читатель
глазами Германна увидит комнату графини: у Лизаветы
Ивановны не было ни кресла, ни стула, только «крашеная
кровать», и Германн, войдя к ней, должен был сидеть на
подоконнике! «Крашеная» — значит не красного дерева, а
сосновая кровать, ширмы не обиты штофом или шелком, а
оклеены обоями, то есть самым дешевым декоративным
материалом, свеча не восковая, а сальная, шандал — под-
свечник — медный, а не серебряный.
Лишь после того, как Пушкин кратко и точно разъяс-
нил, какова была жизнь Лизаветы Ивановны в доме гра-
фини, он открывает тайну знакомства ее с Германном,
вернее, говорит, откуда взялся вопрос об инженере, кото-
рый был задан его Томскому: в течение нескольких дней
у дома графини Лизавета Ивановна замечала молодого
офицера, «стоящего неподвижно и смотрящего в ее окош-
ко». Однажды, когда графиня, сопровождаемая Лизаве-
той Ивановной, садилась в карету, офицер оказался
совсем близко: «Он стоял у самого подъезда, закрыв лицо
бобровым воротником: черные глаза его сверкали из-под
шляпы. Лизавета Ивановна испугалась, сама не зная чего,
и села в карету с трепетом неизъяснимым». Возвратив-
шись с прогулки, Лизавета Ивановна застала офицера на
прежнем месте...
«С того времени не проходило дня, чтоб молодой чело-
век в известный час не являлся под окнами их дома. Меж-
ду им и ею учредились неусловленпые сношения... Через
неделю она ему улыбнулась».
Молодой офицер приходил в «известный час». Это зна-
чит — он не манкировал службой, имел днем свободное от
обязанностей время, а регулярность его появления при-
57
учила Лизавету Ивановну в срок подходить к окнам. Она
разбиралась в формах одежды русской армии, по крайней
мере сумела сама, без подсказки, отличить инженера от
конногвардейца и потому «нескромным вопросом выска-
зала свою тайну ветреному Томскому».
В повести уже завязан сюжет, обозначены действую-
щие лица, и Пушкин теперь сообщает о происхождении
Германна и его характере, подготавливая читателя к пра-
вильному пониманию дальнейших событий; для каждого
из них у него припасено рациональное объяснение.
«Германн был сын обрусевшего немца, оставившего
ему маленький капитал. Будучи твердо убежден в необхо-
димости упрочить свою независимость, Германн не касал-
ся и процентов, жил одним жалованьем, не позволял себе
малейшей прихоти. Впрочем, он был скрытен и честолю-
бив, и товарищи его редко имели случай посмеяться над
его излишней бережливостью. Он имел сильные страсти и
огненное воображение, но твердость спасла его от обыкно-
венных заблуждений молодости. Так, например, будучи в
душе игрок, никогда не брал он карты в руки, ибо рассчи-
тал, что его состояние не позволяло ему (как сказывал
он) жертвовать необходимым в надежде приобрести
излишнее,— а между тем, целые ночи просиживал за
карточными столами и следовал с лихорадочным трепетом
за различными оборотами игры».
Целеустремленность этой характеристики весьма вы-
сока. Пушкин говорит только о том, что имеет значение
для дальнейшего рассказа, и в облике Германна подчер-
кивает то, что может осветить его поступки и намерения.
Прежде всего разъяснено происхождение героя — он «сын
обрусевшего немца» — и чертами национального характе-
ра или тем, что ему приписывалось, мотивируются расчет-
ливость Германна, выдержка, уменье жить на малые сред-
ства, твердость, благодаря которой мог он неуклонно сле-
довать принятому им для себя закону: не жертвовать не-
обходимым в надежде приобрести излишнее. Германн опо-
вещает о своем жизненном принципе игроков в доме
Нарумова, и автор вслед за ним повторил столь удачно
составленную формулу, как бы указывая на педантич-
ность, с какой немец по натуре уведомляет порой о своих
обстоятельствах даже людей, не очень расположенных его
слушать.
Но, видимо, обет воздержания стал тяготить страстную
58
натуру Германна, и он пожелал от него освободиться.
«Анекдот о трех картах сильно подействовал на его во-
ображение и целую ночь не выходил из его головы». Гер-
манн, трезвый и осторожный искатель счастья, поверил
рассказу Томского. Возможность выиграть огромные день-
ги с помощью старухиной тайны манила его, и для осу-
ществления цели он тотчас же был готов на любые сред-
ства; брезгливость стала чужда этой сильной натуре.
«...Представиться ей, подбиться в ее милость,— по-
жалуй, сделаться ее любовником,— но на это все требует-
ся время — а ей восемьдесят семь лет — она может уме-
реть через неделю,— через два дня!.. Да и самый анек-
дот?.. Можно ли ему верить?.. Нет! расчет, умеренность и
трудолюбие: вот мои три верные карты, вот что утроит,
усемерит мой капитал и доставит мне покой и независи-
мость!»
«Утроит, усемерит» — эти цифры мелькали в уме воз-
бужденного стремлением разбогатеть Германна и позже
превратились в тройку, семерку и туза — самую сильную
карту, обозначающую в данном случае исполнение мечты
о «покое и независимости» 1. Как видим, Пушкин испод-
воль подготавливал реальные основания его фантазиям, на
что и указывал внимательному читателю.
Решение как будто бы было принято: заветные кар-
ты — вздор, графиня стара, капиталом и впредь будут рас-
чет, умеренность и трудолюбие. Но позиция эта у Герман-
на не прочна, мысль о нечаянном богатстве не дает ему
покоя, он будет рад поводу изменить строгим нормам жиз-
ни, и Пушкин изображает, как это происходило. «Рассуж-
дая таким образом», Германн очутился перед домом ста-
рой графини. «Удивительный анекдот снова представился
его воображению. Он стал ходить около дома, думая о его
хозяйке и о чудной ее способности». Он поздно воротился
домой, снились ему карты, золото, ассигнации, встав, он
пошел бродить по городу — и опять оказался у дома гра-
фини.
«Неведомая сила, казалось, привлекала его к нему.
Он остановился и стал смотреть на окна. В одном увидел
1 Автор говорил об этом в своих лекциях на факультете журна-
листики МГУ осенью 1967 года. Такое же наблюдение сделал
А. Арго, опубликовавший его в статье «Немного текстологии»,
(«Наука и жизнь», 1968, № 6, стр. 121).
59
он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над
книгой или над работой. Головка приподнялась. Германн
увидел свежее личико и черные глаза. Эта минута решила
его участь».
Так закончилась вторая глава повести.
Что «решило участь» Германна? Дом графини занимал
его сильно, об этом сказано. Намерение «подбиться в ми-
лость» к старой графине было отвергнуто, и не потому, что
это неблагородно или противно, а потому, что хранитель-
ница тайны могла не дожить до завершения маневра,—
может, ей осталось всего два дня... Но в доме есть девуш-
ка! Вот что увидел в окно Германн и задумал пробраться
в дом с ее помощью. О таком именно развитии сюжета
Пушкин предупредил читателя в эпиграфе ко второй гла-
ве, приведя по-французски отрывок из светского разгово-
ра. В переводе:
«— Вы, кажется, решительно предпочитаете камери-
сток?
— Что делать, сударыня? Они свежее».
3
И Германн не терял времени: дождавшись отъезда
графини и Лизаветы Ивановны в карете, он сунул барыш-
не в руку письмо, и выполнил это «в то самое время, как
два лакея приподняли старуху и просунули в дверцы».
Заметим, что Пушкин говорит о старухе как о вещи —
«приподняли», «просунули»,— может быть передавая впе-
чатление Германна.
Лизавета Ивановна была рассеянна и, возвратившись
домой, «побежала в свою комнату, вынула из-за перчатки
письмо: оно было не запечатано»,— чтобы вернее сохра-
нить тайну переписки. Письма запечатывали тогда сургу-
чом, накладывая печать, сургуч хрустит, сыплются об-
ломки, крошки, это легко увидеть постороннему глазу.
Свой ответ Лизавета Ивановна запечатала — Германн
мог без опаски ломать печати, да к тому же она вернула
и его письмо,— хранить или уничтожить этот документ
она не сочла возможным.
«Письмо содержало в себе признание в любви: оно
было нежно, почтительно и слово в слово взято из немец-
кого романа. Но Лизавета Ивановна по-немецки не умела
и была им очень довольна».
60
Текст письма взят из немецкого романа,— значит, у
Германна были книги дома и он читал их, сумел выбрать
письмо и перевести его на русский язык! Этот штрих по-
зволяет читателю судить о начитанности Германна, не
столь уж частой среди офицерства, и об уменье его пись-
менно излагать мысли. Лизавета Ивановна читала мно-
го,— правда, по-французски,— но, вероятно, могла бы за-
метить и неправильности в русском изложении Германна,
если б они были.
Решившись отвечать на письмо, Лизавета Ивановна
не сразу сумела выбрать верный тон. «Наконец ей удалось
написать несколько строк, которыми она осталась доволь-
на. «Я уверена,— писала она,— что вы имеете честные на-
мерения и что вы не хотели оскорбить меня необдуманным
поступком; но знакомство наше не должно бы начаться
таким образом. Возвращаю вам письмо ваше и надеюсь,
что не буду впредь иметь причины жаловаться на неза-
служенное неуважение».
Письмо действительно вышло и не снисходительным и
не жестоким,— и того и другого не хотела Лизавета Ива-
новна. Написано было оно с чувством девичьего достоин-
ства. Слова о «честных намерениях» Лизавета Ивановна
относила на свой счет. Увы, скоро она убедилась в
ошибке.
Увидя идущего Германна, Лизавета Ивановна через
форточку бросила запечатанное свое письмо на улицу.
Германн поднял его, зашел прочитать в кондитерскую «и
возвратился домой, очень занятый своею интригою».
Через три дня «быстроглазая мамзель» из модной лав-
ки принесла Лизавете Ивановне записочку. Французские
магазины мод в столицах имели заслуженную репутацию
не только разорителей отцов и мужей, вынужденных пла-
тить большие деньги за наряды дочерей и жен, но и мест
свиданий, пунктов пересылки почты любовников, о чем
не раз писалось и до «Пиковой дамы» в повестях и пье-
сах— напомним хотя бы комедию Крылова «Модная
лавка».
Лизавета Ивановна взяла записочку «с беспокойством,
предвидя денежные требования, и вдруг узнала руку Гер-
манна».
Читатель уже знает, что ей никогда не доплачивали
жалованья, «а между тем требовали от нее, чтоб она оде-
та была, как и все, то есть как очень немногие»,— и Лиза-
61
вета Ивановна должала в модную лавку, что было унизи-
тельно.
Германн в записке требовал свидания. Лизавета Ива-
новна велела мамзели сказать, «что ему должно быть
стыдно...».
Следующий абзац повести точным пунктиром изобра-
жает развитие чувства Лизаветы Ивановны, побудившего
ее через несколько дней назначить офицеру свидание —
где же? — в доме графини:
«Но Германн не унялся. Лизавета Ивановна каждый
день получала от него письма, то тем, то другим образом.
Они уже не были переведены с немецкого. Германн их пи-
сал, вдохновенный страстию, и говорил языком, ему свой-
ственным; в них выражались и непреклонность его жела-
ний и беспорядок необузданного воображения. Лизавета
Ивановна уже не думала их отсылать: она упивалась ими;
стала на них отвечать,—и ее записки час от часу стано-
вились длиннее и нежнее...»
Наконец она бросила Германну через форточку пись-
мо, в котором указала, как удобнее проникнуть в дом и
найти ее комнату.
Дальше автор описывает, что видел и чувствовал
Германн, придя к дому графини. Напряженность ожида-
ния, взволнованность Германна Пушкин передает корот-
кими предложениями. Под его пером появляется петер-
бургский пейзаж, возникает ненастная мартовская ночь:
«Германн трепетал, как тигр, ожидая назначенного
времени. В десять часов вечера он уж стоял перед домом
графини. Погода была ужасная: ветер выл, мокрый снег
падал хлопьями; фонари светились тускло; улицы были
пусты. Изредка тянулся Ванька на тощей кляче своей,
высматривая запоздалого седока».
Кажется, за этими строками уже обозначаются стихи
Блока:
Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.
Бессмысленный и тусклый свет...
Огромное нервное возбуждение Германна Пушкин под-
черкивает несколько раз. Он торопился: пришел к дому на
полтора часа раньше условленного срока — в десять часов
вместо половины двенадцатого,— но не чувствовал холода
и ветра. Шинели не надел он, вероятно, на тот случай,
62
чтобы не производить впечатление ворвавшегося с улицы
человека, если кто-либо встретит его в комнатах графини.
Лакеи, как вещь, выносят старуху в собольей шубе, вос-
питанница «мелькнула» —у нее только «холодный плащ»,
не шуба, и она поторопилась в карету. Драгоценностей не
было, и потому голову она убрала свежими цветами, что
не противоречило моде, было красиво и не стоило денег —
цветы срезали в домашней оранжерее.
Пушкин прослеживает путь Германна, заставляя за-
мирать сердце читателя — увидят его или нет?
«Ровно в половине двенадцатого Германн ступил на
графинино крыльцо и взошел в ярко освещенные сени.
Швейцара не было. Германн взбежал по лестнице, отворил
двери в переднюю и увидел слугу, спящего под лампой в
старинных запачканных креслах. Легким и твердым ша-
гом Германн прошел мимо его. Зала и гостиная были тем-
ны. Лампа слабо освещала их из передней. Германн во-
шел в спальню».
Автор остановился, чтобы перевести дух, и, удерживая
внимание читателя, занимает его подробным описанием
спальни графини, отмечая, что вещи там были собраны
старые, точнее — они состарились вместе с хозяйкой:
«Перед кивотом, наполненным старинными образами,
теплилась золотая лампада. Полинялые штофные- кресла
и диваны с пуховыми подушками, с сошедшей позолотою
стояли в печальной симметрии около стен, обитых китай-
скими обоями. На стене висели два портрета, писанные
в Париже m-me Lebrun... По всем углам торчали фарфо-
ровые пастушки, столовые часы работы славного Leroy,
коробочки, рулетки, веера и разные дамские игрушки, изо-
бретенные в конце минувшего столетия вместе с Монголь-
фьеровым шаром и Месмеровым магнетизмом».
Все это вещи прошлого века, о чем говорят и имена
творцов, названные автором. Описание это принадлежит
ему, читатель не глазами Германна смотрит на спальню
графини — при его взволнованном состоянии он вряд ли
мог так четко представить себе особенности обиталища
былой красавицы, звезды Парижа, приятельницы Сеп-
Жермена, у которой перед кивотом теперь горит лампада...
В комнате все обращено в прошлое: полинялые кресла,
сошедшая позолота, печальная симметрия,— печальная
потому, что мебель много лет не сдвигалась с мест, гостей
в комнате давно уже не бывало и «молодая красавица с
63
орлиным носом, с зачесанными висками и с розою в пу-
дренных волосах», изображенная на одном из портретов,
давно уже была старой графиней, которую на руках пе-
реносят лакеи.
Рассказ возвращается к Германну и вновь приобретает
деловую, отрывистую интонацию:
«Германн пошел за ширмы. За ними стояла маленькая
железная кровать; справа находилась дверь, ведущая в
кабинет; слева — другая, в коридор. Германн ее отворил,
увидел узкую, витую лестницу, которая вела в комнату
бедной воспитанницы... Но он воротился и вошел в тем-
ный кабинет».
Лизавета Ивановна точно указала расположение ком-
пат, и Германн шел уверенно. Он увидел витую лестницу,
о которой говорилось в письме, но, замечает Пушкин, для
него это была лестница, ведущая в комнату «бедной вос-
питанницы»,— как подумал Германн. Ему нужна богатая
или способная помочь разбогатеть старуха, его влекут
деньги, а не любовь. Пушкин ставит отточие после слова
«воспитанницы», за которым в других случаях мог бы сле-
довать пересказ любовных эпизодов, однако в этой пове-
сти мнимая влюбленность героя только предлог для того,
чтобы пробраться в дом... «Но он воротился и вошел в
темный «кабинет».
Теперь будет решаться участь старухи.
«Время шло медленно. Все было тихо. В гостиной про-
било двенадцать» — три фразы, в каждой по три ударе-
ния, автор как бы ускоряет свой рассказ. «По всем комна-
там часы одни за другими прозвонили двенадцать — и все
умолкло опять».
Следующие строки повести V о Германне:
«Германн стоял, прислонясь к холодной печке. Он был
спокоен; сердце его билось ровно, как у человека, решив-
шегося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы про-
били первый и второй час утра,— и он услышал дальний
стук кареты».
Печка холодная потому, что кабинет необитаем — гра-
финя, как сообщала Лизавета Ивановна, никогда не вхо-
дит в эту комнату, и Германн мог дождаться там удобной
минуты для разговора со старухой. Чудовищный эгоизм
Германна Пушкин выражает словами о человеке, «решив-
шемся на что-нибудь опасное, но необходимое». Кому не-
обходимое? Только себе. И, в надежде достичь богатства и
64
с ним могущества, он спокойно дожидается своей жертвьг,
не составив предварительного плана, уверенный, что до-
стигнет цели, действуя по обстоятельствам.
Как полагает Г. А. Гуковскин, жажда денег не делает
Германна мелким; «он остается титаническим образом,
ибо зло, заключенное в нем и губящее его, не пошлый по-
рок отдельной личности, а дух эпохи, властитель мира, со-
временный Мефистофель, или, что то же, смысл легенды
о Наполеоне. Поэтому-то Германн овеян воспоминаниями
о Наполеоне. «Этот Германн,—продолжал Томский,—ли-
цо истинно романтическое — у него профиль Наполеона,
а душа Мефистофеля...» и ниже: «Он сидел на окошке,
сложа руки и грозно нахмурясь. В этом положении уди-
вительно напоминал он портрет Наполеона». Наполеон —
это символ эры индивидуализма с ее аморализмом, само-
утверждением, легендами, пафосом и морями крови, это
гений века, рождающего безумие Германна. И опять —
Наполеон — это кумир Жюльена Сореля, и он же осно-
вание доктрины Раскольникова... Наполеону — оружие,
Германну — деньги, такова ирония истории и трагедии
Германнов» 1.
Между тем графиня вошла в спальню, чуть живая.
«Германн глядел в щелку: Лизавета Ивановна прошла
мимо его. Германн услышал ее торопливые шаги по сту-
пеням ее лестницы. В сердце его отозвалось нечто похо-
жее на угрызение совести и снова умолкло. Он окаменел».
В письме Лизаветы Ивановны было сказано: «Вот вам
случай увидеть меня наедине». Германн вспомнил эту
строку, когда Лизавета Ивановна поднималась к себе по
витой лестнице, пусть хоть и не совесть, а «нечто похо-
жее» на ее угрызепия отозвалось в его сердце, но эгоизм
победил в нем все другие чувства, и он остался недвижим.
Он должен был узнать тайну трех карт.
Германну пришлось быть свидетелем «отвратительных
таинств» туалета графини, как говорит автор, передавая
свое отношение к увиденному,— вряд ли Германн, сосре-
доточенный на одной мысли о деньгах и желавший, чтобы
старуха скорее осталась одна, четко фиксировал элементы
процедуры отхода графини ко сну. Горничные вышли.
«Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами,
1 Г. А. Г у к о в с к и й. Изучение литературного произведения
в школе. М.—Л., «Просвещение», 1966, стр. 175—176.
3 А. Западов
65
качаясь направо и налево» Как бы «по действию скрытого
гальванизма».
Германн остался со старухой наедине и, вероятно, с
огромным вниманием смотрел на нее из-за двери кабине-
та, выгадывая момент приблизиться. И он настал.
«Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Гу-
бы перестали шевелиться, глаза оживились: перед графи-
нею стоял незнакомый мужчина.
— Не пугайтесь, ради бога, не пугайтесь! — сказал он
внятным и тихим голосом.— Я не имею намерения вредить
вам; я пришел умолять вас об одной милости».
Первое слово Германна — просьба, он, как мог, смяг-
чал внезапность своего появления. Старуха молчала. Гер-
манн повторил свою фразу ей на ухо. Молчание.
«— Вы можете,—продолжал Германн,—составить
счастие моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить: я
знаю, что вы можете угадать три карты сряду...»
Потерпев неудачу с просьбой, Германн при втором об-
ращении начинает рассуждать, говорит о важности тайны
карт для его личного счастья и о безубыточности сообще-
ния для графини. Он по-прежнему считает свою безумную
выходку деловым предприятием и уверяет, что интересов
графини их переговоры не коснутся...
Графиня сказала наконец, что «это была шутка».
«— Этим нечего шутить,— возразил сердито Гер-
манн,— вспомните Чаплицкого, которому помогли вы оты-
граться».
Он пришел не для праздной болтовни, у него на руках
дело, могущее принести громадную прибыль, он сердится,
когда старуха говорит о шутке, и приводит карточный
рассказ, легенду о выигрыше Чаплицкого, как доказатель-
ство, что счастливые карты графине известны.
«Графиня молчала. Германн продолжал:
— Для кого вам беречь вашу тайну? Для внуков? Они
богаты и без того; они же не знают и цены деньгам. Мо-
ту не помогут ваши три карты. Кто не умеет беречь от-
цовское наследство, тот все-таки умрет в нищете, не-
смотря ни на какие демонские усилия. Я не мот; я
знаю цену деньгам. Ваши три карты для меня не пропа-
дут. Ну!»
Расчет произведен убедительно, логика сильна. Гер-
манн с упорством маньяка,— ведь он и есть маньяк,—
разъясняет перепуганной старой даме, что деньги нельзя
66
давать моту, он же, Германн, не мот, что богатые внуки
графини не знают цены деньгам, а он знает. Таким обра-
зом, «счастливые карты для него не пропадут». И закан-
чивает грозным: «Ну!..», что значит: «Пошевеливайся, го-
вори, я все тебе объяснил, мне нужны деньги, я буду луч-
шим их обладателем, скажи мне три карты... Или — бере-
гись!»
Графиня молчала.
Германн решил обратиться к ее чувствам. Он читывал
сентиментальные романы и легко придумал трогательную
речь. «Если когда-нибудь,— сказал он,— сердце ваше
знало чувство любви, если вы помните ее восторги, если вы
хоть раз улыбнулись при плаче новорожденного сына...»
и т. д.— «откройте вашу тайну!»
Но и чувствительные призывы не подошли. «Старуха
не отвечала ни слова».
Он испробовал несколько способов заставить графиню
говорить. Наступил черед решительных мер.
«— Старая ведьма! — сказал он, стиснув зубы,—так
я ж заставлю тебя отвечать!..
С этим словом он вынул из кармана пистолет».
Пистолет... Германн взял с собой оружие — для чего?
При встрече со слугами он должен был спросить, дома
ли графиня, и, услышав, что ее нет, удалиться,— так на-
учила Лизавета Ивановна. Если же он смог бы пройти, то
затаился бы в кабинете, куда графиня и, очевидно, при-
слуга не ходили, или укрылся в каморке воспитанницы.
Оружие тут ему было б ненадобно. Обнаруженный, Гер-
манн не стал бы стрелять — он ведь шел не за имущест-
вом, а за тайной, воспользоваться которой мог, лишь оста-
ваясь членом общества, имеющим доступ к карточным
столам, за которыми шла большая игра. Значит, пистолет
нужен был Германну для объяснения с графиней, и, по-
ложив его в карман, он еще у себя дома назначил ему
роль последнего и решающего аргумента.
Так оно, может быть, и вышло бы. Но...
«Графиня не отвечала. Германн увидел, что она
умерла».
Этим спокойным установлением факта Пушкин за-
канчивает третью главу повести. Ни стонов ни воскли-
цаний, ни авторских комментариев: «увидел, что она
умерла».
3*
61
4
В четвертой главе рассказано о единственной встрече
и единственной устной беседе Лизаветы Ивановны с Гер-
манном — человеком, который пленил ее воображение от-
части потому, что замужество могло вывести ее из дома
графини: свою жалкую роль в свете она сознавала.
Лизавета Ивановна, привезя с бала графиню, поспеши-
ла к себе, «надеясь найти там Германна и желая не найти
его. С первого взгляда она удостоверилась в его отсутствии
и благодарила судьбу за препятствие, помешавшее их сви-
данию. Она села, не раздеваясь, и стала припоминать все
обстоятельства, в такое короткое время и так далеко ее за-
влекшие. Не прошло и трех недель с той поры, как она в
первый раз увидела в окошко молодого человека,— и уже
она была с ним в переписке,— и он успел вытребовать от
нее ночное свиданье!»
Она вспоминает свой разговор с Томским, сказавшим,
среди других замечаний о Германне, что он «имеет виды»
на Лизавету Ивановну. На вопрос, где Германн мог ее ви-
деть, Томский ответил: «В церкви, может быть,— на
гулянье!.. Бог его знает! может быть, в вашей комнате, во
время вашего сна: от него станет...»
Лизавета Ивановна теперь находила, что в этих словах
есть какая-то правда: «Портрет, набросанный Томским,
сходствовал с изображением, составленным ею самою, и,
благодаря новейшим романам, это, уже пошлое, лицо пу-
гало и пленяло ее воображение».
Пошлый, по справке словаря Даля, в старинном упо-
треблении значило давний, стародавний. Пошлая дорога —
не торная. «Ныне: избитый, общеизвестный, вульгарный».
Пушкин, очевидно, употребил это слово в значении «об-
щеизвестный» — благодаря новейшим романам.
«Вдруг дверь отворилась и Германн вошел. Она затре-
петала...»
Размышления о Германне заставили Лизавету Иванов-
ну со страхом думать о нем: теперь он больше «пугал», чем
«пленял». Страх был не напрасен: Германн коротко уведо-
мил о смерти графини, которой он причиной.
«Лизавета Ивановна взглянула на него, и слова Том-
ского раздались в ее душе: у этого человека по крайней
мере три злодейства на душе! Германн сел на окошко по-
дле нее и все рассказал».
68
Она слушала с ужасом. Но не смерть графини причи-
нила ей главное горе: Германн обманул ее надежды, он
был виноват перед нею!
«Итак, эти страстные письма, эти пламенные требова-
ния, это дерзкое, упорное преследование, все это было не
любовь! Деньги,— вот чего алкала его душа! Не она мог-
ла утолить его желания и осчастливить его! Бедная вос-
питанница была не что иное, как слепая помощница раз-
бойника, убийцы старой ее благодетельницы!.. Горько за-
плакала она в позднем, мучительном своем раскаянии».
Потрясение велико, несчастье, свалившееся на Лиза-
вету Ивановну, огромно, мысль ее обращается к богу, к
церкви, и, как признак этой мысленной связи, в думах ее
появляется старославянское слово «алкала» от «алко-
та»—голод: «Деньги,— вот чего алкала его душа!» — и
фраза звучит как анафема, произнесенная с церковного
амвона.
В пятой главе описан обряд похорон графини. Германн
пришел в монастырь. «Не чувствуя раскаяния, он не мог,
однако, совершенно заглушить голос совести, твердившей
ему: ты убийца старухи! Имея мало истинной веры, он
имел множество предрассудков». Германн не атеист, он
воспитан своими немецкими родителями в уважении к
церкви, но страсть к деньгам, готовность рисковать, чтобы
раздобыть их, подавляемый до поры до времени разумом
темперамент игрока сделали его суеверным, привили мно-
жество предрассудков.
Церковь была полна. Никто не плакал. Молодой арх-
иерей — покойница была важным лицом — «произнес над-
гробное слово». Пушкин иронически передает его содер-
жание:
«В простых и трогательных выражениях представил он
мирное успение праведницы, которой долгие годы были
тихим, умилительным приготовлением к христианской
кончине. «Ангел смерти обрел ее,— сказал оратор,— бодр-
ствующею в помышлениях благих и в ожидании жениха
полунощного». Служба совершилась с печальным прили-
чием».
Речь отдает церковной риторикой, она пестрит инвер-
сиями. Из числа слушателей только Германн и Лизавета
Ивановна могли оценить нечаянную кощунственность ар-
хиерейских слов о благих помышлениях графини и о полу-
нощном женихе... Но им было не до церковных текстов.
69
Пушкин замечает, что смерть старухи никого не могла
поразить, ее родные и знакомые давно «смотрели на нее,
как на отжившую». Лишь старая «барская барыня, ровес-
ница покойницы... одна пролила несколько слез, поцеловав
холодную руку госпожи своей». Пушкин говорит об
искренности горя женщины из народа, крепостной,
очевидно, крестьянки, хоть и долго прожившей в бар-
ском доме, однако не потерявшей способности чувствовать
утрату.
Германн решился подойти к гробу. Но когда он накло-
нился над катафалком, «показалось ему, что мертвая на-
смешливо взглянула на него, прищурившись одним гла-
зом. Германн, поспешно подавшись назад, оступился и
навзничь грянулся об земь. Его подняли. В то же самое
время Лизавету Ивановну вынесли в обмороке на паперть».
Автор усиливает романтические ноты. Расстроенному
Германну привиделось, что покойница ему подмигнула, но
упал он оттого, что оступился. Лизавете Ивановне стало
дурно, когда она увидела падение Германна,—кто знает,
о чем подумала она? Могла ведь вообразить, что графиня
с помощью нездешних сил поразила насмерть своего
убийцу...
Разряжая напряжение этой сцены, Пушкин заключает
ее комической картинкой:
«Этот эпизод возмутил на несколько минут торжест-
венность мрачного обряда. Между посетителями поднялся
глухой ропот, а худощавый камергер, близкий родствен-
ник покойницы, шепнул на ухо стоящему подле него ан-
гличанину, что молодой офицер — ее побочный сын, на
что англичанин отвечал холодно: «Oh!»
Тут все полно значения. Близкий родственник покой-
ной, высокий придворный чин, судя по эпитету «худоща-
вый», вряд ли случайному, живущий «на английский ма-
нер», спешит передать собеседнику выдумку, порочащую
нравственность графини. Но ему не жаль семейной чести,
ему не терпится развлечь, насмешить, ублаготворить ан-
глийского путешественника, знакомством с которым этот
«энглизированный» россиянин дорожит. Таков пример низ-
копоклонства, бегло зарисованный Пушкиным. Англича-
нин, наверное, из тех туристов, что пишут отчеты о своих
впечатлениях, в России хочет узнать обычаи дикого север-
ного народа и потому наблюдает и похороны, и свадьбы.
С английской, вошедшей в пословицы выдержкой, он ни-
70
чем не Ёыдал своего интереса к сплетне камергера й огра-
ничил ответ ему междометием.
В ночь после похорон Германну было видение — пришла
графиня. Автор предпосылает этой сцене рациональное
объяснение: «Обедая в уединенном трактире, он, против
обыкновения своего, пил очень много... Но вино еще более
горячило его воображение». Графиня назначила ему три
карты — тройка, семерка, туз,— те, которые должны будут
утроить, усемерить капитал Германна и принести покой и
независимость. Условия были те же, что и в рассказе Том-
ского: три карты выиграют сряду, но более играть нельзя.
Последнее, что сказала графиня, было выражением же-
ланий самого Германна, формулой его раскаяния: «Про-
щаю тебе мою смерть, с тем, чтоб ты женился на моей
воспитаннице Лизавете Ивановне».
Деловитость и организованность свою Германн прояв-
ляет даже после пережитых потрясений: не найдя старухи
и обнаружив, что дверь в сени была заперта, он «возвра-
тился в свою комнату, засветил свечку и записал свое ви-
дение». Такая обстоятельность, надо понимать, отнюдь не
в русском характере. Недаром Германн был немцем...
В шестой главе повести описывается битва за карточ-
ным столом, в которой Германн побежден. Пушкин гово-
рит об организации в Москве игорного дома как солидного
предприятия, во главе которого стояло «общество богатых
игроков под председательством славного Чекалинского...
Он приехал в Петербург... Нарумов привез к нему Гер-
манна».
Дважды, ставя по одной карте в день, Германн выиг-
рывал на тройку и на семерку, а на третий день, поставив
на туза, он открыл вместо него пиковую даму и потерял
весь выигрыш.
В своей повести, указывает Г. А. Гуковский, Пушкин
сталкивает две эпохи, два социально различных типа куль-
туры: аристократически-барский для восемнадцатого века
и приобретательский, буржуазный и романтический для
девятнадцатого. К этому типу принадлежит Германн. Ха-
рактеризуя этот новый уклад, исследователь пишет:
«Даже былое понятие чести старого мира опошлилось
до схватки капиталов: люди сражаются не на шпагах и не
за. честь, а деньгами за богатство. Дуэль заменилась кар-
точным ограблением друг друга по правилам игры; идеал
воина сменяется идеалом банкира или банкомета: «Гер-
71
канй снял и поставил свою карту, покрыв её кипой бай-
ковых билетов. Это похоже было па поединок. Глубокое
молчание царствовало кругом». Появившись среди пуш-
кинского деловито-неприкрашенного изложения, это
сравнение, эти экспрессивные фразы приобретают значе-
ние подчеркнутой автором мысли. Теперь-то и убивают
ДРУГ Друга не оружием, не в честном бою, а банковскими
билетами, с комфортом и вежливой улыбкой» 1.
Пушкин, как всегда, краток. Он кончает повесть сло-
вами: «Чекалинский стасовал карты: игра пошла своим
чередом» после того, как дама Германна была убита, и,
не давая себе труда связно излагать дальнейшие судьбы
героев, приписывает в конце немногословное «Заключе-
ние». Вот оно:
«Гермапн сошел с ума. Он сидит в Обуховской боль-
нице в 17-м нумере, не отвечает ни на какие вопросы и
бормочет необыкновенно скоро:—Тройка, семерка, туз!
Тройка, семерка, дама!
Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного
молодого человека; он где-то служит и имеет порядочное
состояние: он сын бывшего управителя у старой графини.
У Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родствен-
ница.
Томский произведен в ротмистры и женится на княж-
не Полине».
Мнимая точность — «сидит в 17-м нумере» — придает
повести хроникальную достоверность, она выглядит как
бы очерком действительных событий: Пушкин любил та-
кой литературный жанр. О том, откуда у сына управляю-
щего состояние, было сказано раньше: «многочисленная
челядь... делала, что хотела, наперерыв обкрадывая
умирающую старуху». Значит, деньги его украдены у графи-
ни. Лизавета Ивановна подражает своей благодетельни-
це — она взяла в дом бедную родственницу, и, вероятно,
той приходится терпеть все то, что терпела когда-то Лиза-
вета Ивановна, а может быть, ей достается и солонее.
О судьбе Томского сказано с предельной краткостью, и
читатель понимает, что больше о нем и не нужно знать,
настолько все обыденно и ясно.
1 Г. А. Г у к о в с к и й. Изучение литературного произведения
в школе. М.—Л., «Просвещение», 1966, стр. 179—180.
J~l \\e тЬссказьшть
^JlhMEPTBblH
T^P ДУШИ*!
1
В школьных учебниках дети находят определения ро-
мана, повести, поэмы — и тут же узнают, что в жизни все
бывает не так: «Евгений Онегин» не поэма, а роман в сти-
хах, «Мертвые души» зато —поэма, «Герой нашего вре-
мени», состоящий из нескольких повестей, оказывается
романом...
Об оригинальности формы лучших произведений рус-
ской литературы говорил однажды Л. Н. Толстой.
«...Лев Николаевич,— пишет в своих воспоминаниях
А. Б. Гольденвейзер,— перевел как-то разговор на значе-
ние и роль формы в искусстве:
— Я думаю, что каждый большой художник должен
создавать и свои формы. Если содержание художествен-
ных произведений может быть бесконечно разнообразным,
то также — и их форма. Как-то в Париже мы с Тургене-
вым вернулись домой из театра и говорили об этом, и он
совершенно согласился со мной. Мы с ним припоминали
все лучшее в русской литературе, и оказалось, что в этих
произведениях форма совершенно оригинальная. Не гово-
ря уже о Пушкине, возьмем «Мертвые души» Гоголя. Что
это? Ни роман, ни цозесть, Нечто совершенно оригиналь-
73
пое. Потом «Записки охотника» — лучшее, что Тургенев
написал. Достоевского «Мертвый дом», потом, грешный
человек,— «Детство», «Былое и думы» Герцена, «Герой
нашего времени»...» 1
Именно содержание «Героя нашего времени» позво-
лило Белинскому обозначить это произведение термином
«роман». Пушкин сам определил жанр «Евгения Онегина»
в одном из писем Вяземскому, заметив, что он пишет «не
роман, а роман в стихах — дьявольская разница». Гоголь
назвал «Мертвые души» поэмой, и многие поколения по-
вторяют за ним это слово, хотя и не совсем понимают, от-
куда оно взялось.
Гоголь, начав работать над «Мертвыми душами», име-
новал свое произведение поэмой. Он писал 12 ноября
1836 года Жуковскому:
«Это будет первая моя порядочная вещь,—вещь, кото-
рая вынесет мое имя. Каждое утро, в прибавление к зав-
траку, вписывал я по три страницы в мою поэму, и смеху
от этих страниц было для меня достаточно, чтобы усладить
мой одинокий день» 2.
Тогда же, 28 ноября, он извещал и Погодина:
«Вещь, над которой сижу и тружусь теперь и которую
долго обдумывал, и которую долго еще буду обдумывать,
не похожа ни на повесть, ни на роман, длинная, длинная,
в несколько томов, название ей «Мертвые души» — вот
все, что ты должен покамест узнать об ней. Если бог по-
может выполнить мне мою поэму так, как должно, то это
будет первое мое порядочное творение. Вся Русь отзовет-
ся в нем» 3.
Очевидно, Гоголь, готовясь к писанию «Мертвых душ»,
ясно представил себе, что содержание новой книги не уло-
жится в рамки романа и жанр ее будет особый. Известно,
что он вообще не благоволил к роману.
«Роман не есть эпопея,— писал Гоголь в «Учебной
книге словесности».— Его скорей можно назвать драмой.
Подобно драме он есть сочинение слишком условленное» 4.
1 А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., Гослитиздат,
1959, стр. 116.
2 Н. В. Г о г о л ь. Полное собрание сочинений, т. XI. М., Изд-во
Академии наук, 1952, стр. 74.
3 Там же, стр. 77.
4 Там же, т. VIII, стр. 481
74
Выше всего Гоголь ценил эпопею, утверждая, что она
есть «величайшее, полнейшее, огромнейшее и многосто-
роннейшее из всех созданий драматическо-повествова-
тельных». Это «создание всемирное, принадлежащее зсем
народам и векам, долговечнейшее, не стареющееся и вечно
живое, и потому вечно повторяющееся в устах» К Таковы
«Илиада» и «Одиссея», и с Гомером никто не сравнится.
Однако поэты должны стараться приблизиться к нему, и
есть литературный жанр, который помогает такому дви-
жению: это «меньшие роды эпопеи».
«В новые века,— разъясняет Гоголь,— произошел род
повествовательных сочинений, составляющих как бы сре-
дину между романом и эпопеей, героем которого бывает
хотя частное и невидное лицо, но однако же, значитель-
ное во многих отношениях для наблюдателя души челове-
ческой. Автор ведет его жизнь сквозь цепь приключений
и перемен, дабы представить с тем вместе вживе вечную
картину всего значительного в чертах и нравах взятого
им времени...» 2
Характеристику «Мертвых душ» как литературного
произведения, сочетающего в себе и роман, и поэму, пред-
ложил М. Б. Храпченко:
«Резко отличаясь от бесчисленного множества нравст-
венно-описательных, светских, авантюрных, фантастиче-
ских и многих иных романов, «Мертвые души» представ-
ляли собой новое явление в литературе. Это был реалисти-
ческий социально-сатирический роман громадного творче-
ского диапазона.
Называя «Мертвые души» поэмой, писатель хотел под-
черкнуть те особые черты, которые были свойственны это-
му произведению: широту художественных обобщений,
социальный характер тематики, соединение эпического на-
чала с лирической окраской повествования» 3.
Все это так, и Гоголь с самого начала решил, что «Мер-
твые души» будут поэмой, а не романом, но не было ли в
этом решении или, говоря точнее, в замысле книги наме-
рения сохранить преемственность ее идеи, переданной ему
1 Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений, т. VIII. М.,
Изд-во Академии наук, 1952, стр. 478.
2 Там же.
3 М. Б. Храпченко. «Мертвые души» Н. В. Гоголя. М.,
Изд-во Академии наук, 1952, стр. 117.
75
Пушкиным, с творчеством великого поэта, с его планом
разработки темы?
Вряд ли это может показаться удивительным. Вспом-
ним, что в «Авторской исповеди» Гоголь говорит о том, что
взглянуть на писательство серьезно его заставил Пушкин,
склонив приняться за большое сочинение: «привел мне в
пример Сервантеса, который, хотя и написал несколько
очень замечательных и хороших повестей, но если бы не
принялся за «Донкишота», никогда бы не занял того ме-
ста, которое занимает теперь между писателями, и, в за-
ключение всего, отдал мне свой собственный сюжет, из ко-
торого он хотел сделать сам что-то вроде поэмы, и которого,
по словам его, он бы не отдал другому никому. Это был
сюжет «Мертвых душ». (Мысль «Ревизора» принадлежит
также ему)» \
Вероятно, Гоголь мог принять слова Пушкина о поэме
как его завещание и свой план книги стараться построить
в соответствии с ним. И нужно в таком случае сказать, что
вид задуманного произведения — поэма — необычайно рас-
ширил его замысел, придал ему величественный размах,
частный случай превратил в грандиозное обобщение.
«Основа «Мертвых душ»,— говорит Г. А. Гуковский,—
это прежде всего именно то обстоятельство, что эта книга
являет не те или иные стороны, элементы, составные ча-
сти, характеры или отдельные черты действительности, а
действительность России гоголевских времен в целом.
«Мертвые души» — это не только отрицание дурного об-
щественного уклада, но и утверждение народного характе-
ра, это не только изображение помещиков и чиновников,
но и отрицание их с точки зрения народной мудрости, это
не только эти помещики и эти чиновники, этот народ или
эта губерния, а вся Россия в ее страдании и в ее праве на
иную, светлую участь (какую именно — Гоголь, очевидно,
толком не знает)...
Гоголя не удовлетворяли в этом отношении никакие су-
ществовавшие в его время навыки литературы. Романы,
повести, поэмы, баллады, драмы — все это изображало от-
дельные случаи, отдельности — даже тогда, когда автору
удавалось воплотить в отдельной судьбе отдельных людей
обобщение, касающееся целого общества. Гоголь стремил-
1 Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений, т. VIII, М.,
Изд-во Академии наук, 1952, стр. 439—440.
76
ся йепосрёдствённо изобразить само общество, в конце
концов всю страну, всю родину, как героя своего произве-
дения» 1.
Однако, работая над поэмой, включая в текст книги
лирические отступления, с помощью которых автор обра-
щался к читателю как провидец, как человек, имеющий
право разговаривать с ним от имени какой-то высшей си-
лы, от имени России, родины,— Гоголь все же не забывал
о том, что пишет не просто поэму, а «поэму в прозе», а
между ними, если привести слова Пушкина, «дьявольская
разница».
Иначе говоря, чтобы «Мертвые души» читались, им не-
обходим был сюжет, нужна занимательность, достигаемая
не столько слогом, характеристиками персонажей, описа-
ниями путешествий, сколько сцеплением событий, компо-
зицией, присутствием некоей тайны, которую должен раз-
гадывать читатель, перелистывая страницы книги.
И Гоголь внес такую тайну в свое произведение.
«Мертвые души»... Страшные слова эти поставлены в
заглавие поэмы, и там они показались цензорам гоголев-
ской рукописи,— например, А. В. Никитенке,— настолько
неожиданными и сомнительными, что заглавие было изме-
нено. Из печати в 1842 году вышла книга с титульным ли-
стом: «Похождения Чичикова, или Мертвые души»...
Какие мертвые души, зачем они, что это значит? — та-
кие вопросы задавали себе и другим губернские чиновни-
ки, узнавшие от Ноздрева о странных покупках Чичикова.
И можно думать, по замыслу автора, об этом должны были
спрашивать себя и читатели поэмы. По крайней мере, ав-
тор, повествуя о поездках Чичикова и о его торговых опе-
рациях, не говорит, для чего все это было нужно Чичико-
ву. Лишь на последних страницах первого тома выясняет-
ся план приобретателя, и нужно возобновить в памяти
содержание книги для того, чтобы в полной мере оценить
хитрый план Чичикова и безошибочность его расчетов.
Заметим, что Гоголь никак не спешит объяснить смысл
покупок Чичикова, и это, разумеется, не авторский про-
мах, а композиционный прием, с помощью которого под-
держивается неослабный читательский интерес к поэме.
Посмотрим, как развивается этот важный мотив.
1 Г. А. Г у к о в с к и й. Реализм Гоголя. М.—Л., Гослитиздат,
1959, стр. 481—482.
77
В гостиницу губернского города N приезжает госйодий,
«не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком
толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, од-
нако ж, и не так, чтобы слишком молод» и т. д. За обедом
он расспрашивает слугу о городских чиновниках,— автор
упоминает губернатора, председателя палаты и прокурора,
и перечень этот, пожалуй, служит первым намеком на за-
мысел Чичикова. Однако мы понимаем значение этого
краткого списка, лишь окончив книгу; при первом чтении
названия должностных лиц не бросаются в глаза.
После расспросов о чиновниках приезжий постарался
осведомиться обо всех значительных помещиках и о со-
стоянии края: «не было ли каких болезней в их губер-
нии — повальных горячек, убийственных каких-либо лихо-
радок, оспы и тому подобного, и все так и с такою точно-
стью, которая показывала более, чем одно простое
любопытство».
Как это — более, чем любопытство? Дела приезжего
связаны с повальными горячками и лихорадками? Может
быть, он доктор или владелец похоронного заведения? Не-
известно.
Не помогают понять приезжего и сведения, которые он
о себе сообщает: «что он незначащий червь мира сего и
недостоин того, чтобы много о нем заботились, что испы-
тал много на веку своем, претерпел на службе за правду,
имел много неприятелей, покушавшихся даже на жизнь
его», и т. д. Позднее, впрочем, эти слова Чичикова припо-
мнились чиновникам: «стало быть, жизнь его была в опас-
ности; стало быть, его преследовали; стало быть, он ведь
сделал же что-нибудь такое... Да кто ж он в самом деле
такой?» Но и на этих страницах поэмы Гоголь еще не объ-
ясняет читателю своего героя.
На вечеринке у губернатора, как отмечает автор, «вни-
мание приезжего особенно заняли помещики Манилов и
Собакевич», и, отозвавши в сторону председателя и почт-
мейстера, он запасся у них сведениями, показав при этом
«не только любознательность, но и основательность, ибо
прежде всего расспросил он, сколько у каждого из них
душ крестьян, и в каком положении находятся их имения,
а потом уже осведомился, как имя и отчество».
Так аттестуется Чичиков в первой главе «Мертвых
душ». Читателю сказано, что он выспрашивает, сколько у
78
кого крепостных крестьян и много ли в губернии вымерло
народу от горячки и оспы,— не более.
Зато в начале второй главы автор обещает рассказать о
Чичикове подробнее, замечая, что он решил сделать визи-
ты помещикам, которым дал в городе слово побывать у
них. «Может быть,— прибавляет лукаво автор,— к сему
побудила его другая, более существенная причина, дело
более серьезное, близшее к сердцу... Но обо всем этом чи-
татель узнает постепенно и в свое время, если только
будет иметь терпение прочесть предлагаемую повесть,
очень длинную, имеющую потом раздвинуться шире и
просторнее, по мере приближения к концу, венчающему
дело».
В намерения автора, следовательно, входило постепен-
ное развертывание сюжета, истинные причины поведе-
ния Чичикова он оставляет пока под покровом тайны, на-
до читать, если хочется проникнуть в суть дела.
Во второй главе поэмы рассказано о том, как Чичиков
приехал к Манилову. После обеда гость расспрашивает,
сколько со времени подачи ревизской сказки — то есть по-
именного списка крестьян, находящихся во владении
помещика,—умерло народу в деревне Манилова. Приказ-
чика посылают составлять реестр покойников, и Манилов
спрашивает приезжего, зачем нужны такие сведения.
«Этот вопрос,—пишет Гоголь,—казалось, затруднил
гостя: в лице его показалось какое-то напряженное выра-
жение, от которого он даже покраснел,— напряжение что-
то выразить, не совсем покорное словам».
Пояснение не очень глубокое,— напряженное выраже-
ние возникло от напряжения выразить,— но ведь это пер-
вая попытка Чичикова изложить просьбу, странность ко-
торой он вполне сознавал. «Ив самом деле, Манилов, на-
конец, услышал такие странные и необыкновенные вещи,
каких еще никогда не слыхали человеческие уши».
Дальше идет необычайно умно и тонко переданный Го-
голем разговор: Чичиков выражает желание «приобрестъ
мертвых, которые, впрочем, значились бы по ревизии, как
живые», а Манилов подозревает, что он выражается так
«для красоты слога», и жалеет, что не получил такого
блестящего образования, какое видно во всяком движении
Чичикова.
В конце концов Манилов соглашается с тем, что «по-
добное предприятие, или негоция, никак не будет несоот-
79
ветствующеи гражданским постановлениям и дальнейшим
видам России», выражает готовность «безынтересно», то
есть бесплатно, передать мертвые души Чичикову и со-
ставить по форме купчую, как на живых.
«Великий упрек был бы историку предлагаемых собы-
тий,— пишет Гоголь,— если бы он упустил сказать, что
удовольствие одолело гостя после таких слов, произнесен-
ных Маниловым. Как он ни был степенен и рассудителен,
но тут чуть не произвел даже скачок по образцу козла,
что, как известно, производится только в самых сильных
порывах радости». А когда Манилов сказал, что хотел бы
доказать гостю чем-нибудь сердечное влечение, магнетизм
души, а умершие души в некотором роде — совершенная
дрянь, то Чичиков ответил, пожав ему руку:
— Очень не дрянь.
Что же, собственно, происходит? Приезжий упросил
Манилова продать ему мертвых крестьян, как живых. За-
чем ему это надо и почему так обрадовался он, узнав, что
хозяин денег с него не берет, а уступает мертвые души да-
ром?
Неясно. А между тем в этих душах, по-видимому, и за-
ключается секрет поэмы.
От Манилова Чичиков уехал «в довольном расположе-
нии духа». И третья глава начинается утверждением, что
из предыдущего «уже видно, в чем состоял главный пред-
мет его вкуса и склонностей, а потому не диво, что он ско-
ро погрузился весь в него и телом и душою. Предположе-
ния, сметы и соображения, блуждавшие по лицу его, вид-
но, были очень приятны, ибо ежеминутно оставляли после
себя следы довольной усмешки».
«Главный предмет вкуса» Чичикова составляют мерт-
вые души. Что это значит? И как можно было погрузиться
в этот предмет «и телом, и душою»? Или «душою» в мерт-
вые души еще так-сяк, но «телом»? Эти слова, очевидно,
представляют собой просто формулу всеобщего «погруже-
ния» Чичикова в свой излюбленный предмет и логического
обоснования не требуют.
В третьей главе рассказано о приезде Чичикова в име-
ние Коробочки. Утром он спрашивает у помещицы, умира-
ли ли у нее крестьяне.
«— Ох, батюшка, осьмнадцать человек! — сказала
старуха, вздохнувши».
80
Чичиков просит уступить ему этих крестьян или про-
дать их за деньги.
«— Да как же? Я, право, в толк-то не возьму, нешто
хочешь ты их откапывать из земли?
Чичиков увидел, что старуха хватила далеко, и что не-
обходимо ей растолковать, в чем дело. В немногих словах
объяснил он, что перевод или покупка будет значиться
только на бумаге, и души будут прописаны, как бы жи-
вые.
— Да на что ж они тебе? — сказала старуха, выпучив
на него глаза.
— Это уж мое дело.
— Да ведь они же мертвые.
— Да кто ж говорит, что они живые? Потому-то и в
убыток вам, что мертвые: вы за них платите, а теперь я
вас избавлю от хлопот и платежа. Понимаете? Да не толь-
ко избавлю, да еще, сверх того, дам вам пятнадцать руб-
лей. Ну, теперь ясно?
— Право, не знаю,— произнесла хозяйка с расстанов-
кой:— ведь я мертвых никогда еще не продавала».
Сомнений нет, Чичиков покупает мертвых крестьян, но
выкапывать трупы не собирается и не отвечает на вопрос,
зачем ему нужны мертвые. Так или иначе, покупка совер-
шена и назван человек, служащий в городе, которому по-
мещица доверяет совершить крепость.
От Коробочки Чичиков приезжает к Ноздреву, о чем
написано в главе IV. Полагая, что характер этот для него
ясен, Чичиков как бы мимоходом просит Ноздрева пере-
вести на его имя умерших крестьян, однако сталкивается
с требованием разъяснений. Чичиков предлагает такую
причину: «мертвые души нужны ему для приобретения
весу в обществе, что он поместьев больших не имеет, так
до того времени хоть бы какие-нибудь душонки.
— Врешь, врешь! — сказал Ноздрев, не давши окон-
чить:— врешь, брат!
Чичиков и сам заметил, что придумал не очень ловко,
и предлог довольно слаб».
В самом деле, придумано худо. По как же Чичиков не
предусмотрел необходимости связных объяснений, зачем
нужны ему мертвые души? Вероятно, тут ничего другого
и нельзя было приискать. Второй вариант, предложенный
ИхМ Ноздреву, такого же свойства:
«—Я задумал жениться; но нужно тебе знать, что
81
отец и мать невесты преамбиционные люди. Такая, право,
комиссия! не рад, что связался; хотят непременно, чтобы
у жениха было никак не меньше трехсот душ, а так как у
меня целых почти полутораста крестьян недостает...»
Ноздрев опять закричал: «Врешь!» — но Чичиков сто-
ял на своем объяснении. Кстати, его приводит он и во вто-
ром томе «Мертвых душ», разговаривая с генералом Бет-
рищевым: будто бы дядя задерживает передачу имения
своему наследнику, Чичикову, по следующей причине: «Я,
говорит, племянника не знаю: может быть, он мот. Пусть
он докажет мне, что он надежный человек: пусть приобре-
тет прежде сам собой триста душ; тогда я ему отдам и
свои триста душ». Генерал верит этой выдумке, а Нозд-
рев — нет.
Читатель также подозревает, что плутня, задуманная
Чичиковым, гораздо крупнее, но в чем она заключается —
автор еще не говорит. А Чичиков едет к Собакевичу.
Тут он поначалу также не попадает в тон. Собакевичу
можно было сказать обо всем прямо. А гость, огорченный
неудачей с Ноздревым, предпослал просьбе обширное
вступление.
«Чичиков начал как-то очень отдаленно, коснулся во-
обще всего русского государства и отозвался с большою
похвалою об его пространстве, сказал, что даже самая
древняя римская империя не была так велика и иностран-
цы справедливо удивляются... (Собакевич все слушал,
наклонивши голову) и что по существующим положе-
ниям этого государства, в славе которому нет равного, ре-
визские души, окончивши жизненное поприще, числятся,
однако ж, до подачи новой ревизской сказки, наравне с
живыми, чтоб таким образом не обременить присутствен-
ные места множеством мелочных и бесполезных справок и
не увеличить сложность, и без того уже весьма сложного,
государственного механизма... (Собакевич все слушал, на-
клонивши голову) и что, однако же, при всей справедли-
вости этой меры, она бывает отчасти тягостна для многих
владельцев, обязывая их взносить подати так, как бы за
живой предмет, и что он, чувствуя уважение личное к не-
му, готов был даже отчасти принять на себя эту действи-
тельно тяжелую обязанность. Насчет главного предмета
Чичиков выразился очень осторожно: никак не назвал ду-
ши умершими, а только — не существующими.
Собакевич слушал все по-прежнему, нагнувши голову,
82
й хоть бы что-нибудь, похожее на выражение, показалось
на лице его. Казалось, в этом теле совсем не было души,
или она у него была, но вовсе не там, где следует, а, как у
бессмертного Кащея, где-то за горами и закрыта такою
толстою скорлупою, что все, что ни ворочалось на дне ее,
не производило решительно никакого потрясения на по-
верхности.
— Итак? — ...сказал Чичиков, ожидая, не без некото-
рого волнения, ответа.
— Вам нужно мертвых душ? — спросил Собакевич
очень просто, без малейшего удивления, как бы речь шла
о хлебе...»
Собакевич изъявляет готовность продать мертвые ду-
ши, назначая ценой сто рублей за штуку. Чичиков торгу-
ется, предлагая полтора рубля, говорит, что предмет «про-
сто — фу, фу! Что ж он стоит? Кому нужен!
— Да вот вы же покупаете; стало быть, нужен.
Здесь Чичиков закусил губу и не нашелся, что отве-
чать. Он стал было говорить про какие-то обстоятельства,
фамильные и семейственные, но Собакевич отвечал про-
сто:
— Мне не нужно знать, какие у вас отношения: я в
дела фамильные не мешаюсь,— это ваше дело. Вам пона-
добились души, я и продаю вам, и будете раскаиваться,
что не купили.
— Два рублика,— сказал Чичиков» и т. д.
Он покупает у Собакевича мертвые души, избавленный
от необходимости объяснять, зачем понадобился ему такой
странный товар. Деловитый продавец не пожелал осведом-
ляться об этом, и автор также не открывает секрета Чичи-
кова.
То же происходит и у Плюшкина. Сто двадцать мерт-
вых душ и семьдесят восемь беглых крестьян уступает он
Чичикову. «Такое неожиданное приобретение было сущий
подарок», и Чичиков, возвращаясь в город, всю дорогу был
«весел необыкновенно».
2
Приобретения окончены — Чичиков стал владельцем
без малого четырехсот душ крестьян. И как легко доста-
лась ему эта крупная добыча! Один из современных кри-
83
1*йков, а именно Н. Нолевой, по этому поводу выразил Го-
голю недоверие.
«Мы скажем более,—писал он:—почти каждое поло-
жение действующих лиц показывает незнание автора.
Возможно ли, например, чтобы Чичиков с первого слова на-
чинал покупать у каждого встречного мертвые души?
Ведь его дело все равно, что воровство, что делание фаль-
шивых ассигнаций. Возьмем мелочь: возможно ли, чтобы
на бал к губернатору пустили Ноздрева, и во вре-
мя котильона он сел на пол и хватал дам за подолы? На-
конец, возможен ли скупец такой, как Плюшкин?» и т. д.1
Так или иначе, но Чичиков, вернувшись из поездки,
утром следующего дня написал купчие крепости и отпра-
вился в гражданскую палату, чтобы их утвердить. Он
встречается с Маниловым, Собакевичем, председатель рас-
поряжается совершить крепости тотчас же,— и тут впер-
вые называется цель покупки, причем читатель знает, что
она фиктивная,— крестьяне-то ведь мертвы!
« — Но позвольте, Павел Иванович,— сказал председа-
тель,— как же вы покупаете крестьян без земли? Разве на
вывод?
— На вывод.
— Ну, на вывод — другое дело; а в какие места?
— В места... в Херсонскую губернию».
Продажа крестьян без земли запрещалась русскими за-
конами еще с 1771 года, но помещики находили способы
обходить юридические трудности. По закону 1788 года
продажа и уступка крепостных крестьян в розницу вновь
подверглись безусловному воспрещению. Тогда же была
установлена цена за крестьянскую душу, продаваемую в
составе имения: триста рублей за мужскую и полтораста
за женскую. Напомним, кстати, что Чичиков заплатил
Плюшкину по тридцать две копейки за каждого беглого
крестьянина, то есть без малого в тысячу раз меньше, чем
следовало даже по закону,— вот как выгодны были его
покупки! Но не по фамильным же обстоятельствам, в са-
мом деле, он их совершал?
Тем временем «в городе пошли толки, мнения, рассуж-
дения о том, выгодно ли покупать на вывод крестьян. Из
1 «Русский вестник», 1842, № 5—6, отд. III. Цит. по кн.: В. 3 е-
линский (сост.). Русская критическая литература о произведе-
ниях Н. В. Гоголя, ч. I. M., 1889, стр. 103—104.
81
прений многие отзывались совершённым йознаййём пред-
мета».
Автор передает рассуждения чиновников, опасавшихся,
в частности, чтобы не произошло бунта между таким бес-
покойным народом, как крестьяне Чичикова,— ведь из-
вестно, что никакой помещик не продает хороших мужи-
ков, а будет избавляться от воров и пьяниц. «...Многие,
побуждаемые участием, сообщили даже Чичикову лично
некоторые из сих советов, предлагали даже конвой для без-
опасного препровождения крестьян до места жительства.
За советы Чичиков благодарил, говоря, что при случае
не преминет ими воспользоваться, а от конвоя отказался
решительно, говоря, что он совершенно не нужен, что куп-
ленные им крестьяне отменно смирного характера, чувст-
вуют сами добровольное расположение к переселению, и
что бунта ни в каком случае между ними быть не может».
Уж он-то знал, что говорил!
Далее в восьмой главе описываются бал, негодование,
охватившее дам, когда Чичиков предпочел им всем губер-
наторскую дочку, и появление «из последней комнаты
Ноздрева. Из буфета ли он вырвался, или из небольшой зе-
леной гостиной, где производилась игра посильнее, чем
обыкновенный вист, своей ли волею или вытолкали его»,—
только он увидел в зале Чичикова и пошел прямо к нему.
Ноздрев стал кричать,— автор употребляет именно этот
глагол,— о том, что Чичиков покупает мертвые души:
«— ...Как сказал он мне: «продай мертвых душ», я
так и лопнул со смеха. Приезжаю сюда, мне говорят, что
накупил на три миллиона крестьян на вывод. Каких на
вывод! Да он торговал у меня мертвых. Послушай, Чичи-
ков: да ты скотина, ей-богу, скотина. Вот и его превосхо-
дительство здесь... не правда ли, прокурор?»
Но к чему эти мертвые души? Ноздрев, как и прочие,
не понимает цели покупок Чичикова:
«— Уж ты, брат, ты, ты... Я не отойду от тебя, пока
не узнаю, зачем ты покупал мертвые души. Послушай,
Чичиков, ведь тебе, право, стыдно; у тебя, ты сам знаешь,
нет лучшего друга, как я...»
Новость, сообщенная Ноздревым, облетела собравших-
ся и «так показалась странною, что все остановились с ка-
ким-то деревянным, глупо-вопросительным выражением».
Чичиков стал заметно расстроен и, не дождавшись конца
ужина, уехал в гостиницу.
85
Следом за Ноздревым известие о покупке Чичиковым
мертвых душ привозит помещица Коробочка, приехавшая
в город справиться, не продешевила ли она свой небыва-
лый товар, и объем данных для решения задач о мертвых
душах увеличивается вдвое. Автор в главе IX изобража-
ет, как происходило составление гипотезы, тут же всту-
пившей в права непреложной истины.
Две дамы обсуждают городские новости. Приезд Чи-
чикова в имение Коробочки теперь выглядит так:
«— ...Вообразите себе только то, что является воору-
женный с ног до головы вроде Ринальда Ринальдина и
требует: продайте, говорит, все души, которые умерли.
Коробочка отвечает очень резонно, говорит, я не могу
продать, потому что они мертвые. Нет, говорит, они
не мертвые; это мое, говорит, дело знать, мертвые ли они,
или нет; они не мертвые, не мертвые, кричит, не мертвые.
Словом, скандальозу наделал ужасного: вся деревня сбе-
жалась, ребенки плачут, всё кричит, никто никого не по-
нимает, ну, просто оррёр, оррёр, оррёр!..»
Во всех отношениях приятная дама признается, что не
понимает, при чем тут мертвые души: «здесь скрывается
что-то другое». Остановившись на этом решении, она тот-
час приискивает ответ.
«— Мертвые души...—произнесла во всех отношениях
приятная дама.
— Что, что? — подхватила гостья, вся з волненьи.
— Мертвые души...
— Ах, говорите ради бога!
— Это просто выдумано только для прикрытья, а дело
вот в чем: он хочет увезти губернаторскую дочку.
Это заключение, точно, было никак неожиданно и во
всех отношениях необыкновенно...»
Однако ему суждено было сделаться господствую-
щим...
Дамы, связав мертвые души с похищением губерна-
торской дочки, «отправились, каждая в свою сторону, бун-
товать город. Это предприятие удалось произвести им с
небольшим в полчаса. Город был решительно взбунтован;
все пришло в брожение, и хоть бы кто-нибудь мог что-ли-
бо понять. Дамы умели напустить такого тумана в глаза
всем, что все, а особенно чиновники, несколько времени
оставались ошеломленными...»
Читатель из тех, кто не любит заглядывать в конец
86
книги, чтобы посмотреть, что будет с героями, также не-
доумевает вместе с городскими чиновниками:
«Что ж за притча, в самом деле, что за притча эти
мертвые души? Логики нет никакой в мертвых душах, как
же покупать мертвые души? где ж дурак такой возьмет-
ся? и на какие слепые деньги станет он докупать их? и на
какой конец, к какому делу можно приткнуть эти мерт-
вые души? и зачем вмешалась сюда губернаторская дочка?
Если же он хотел увезти ее, так зачем для этого покупать
мертвые души? Если же покупать мертвые души, так за-
чем увозить губернаторскую дочку? Подарить, что ли, он
хотел ей эти мертвые души? Что ж за вздор, в самом деле,
разнесли по городу?..»
Автор изображает волнение, охватившее губернский
город, рассуждения представителей двух образовавшихся
в нем противоположных партий — мужской и женской, од-
на из которых стремилась понять, что такое мертвые ду-
ши, а другая занялась похищением губернаторской дочки.
Смятение усиливается известием о том, что в губернию на-
значен новый начальник — генерал-губернатор, приезд
которого повлечет за собой служебные перемещения, воз-
можно — следствия по поводу имеющих быть обнаружен-
ными злоупотреблений,— кто живет без греха?! — и розы-
ски в связи с убийством в драке двух усть-сысольских
купцов, а также заседателя земской полиции Дробяжкина,
которого прикончили казенные крестьяне за то, что он
был блудлив, как кошка.
Дальше — больше. Почтмейстер рассказывает повесть
о капитане Копейкине, который стал атаманом шайки раз-
бойников после того, как ему, инвалиду, отказали в пен-
сии. Вероятно, этот капитан и прибыл нынче в город под
именем Чичикова. Возникает даже догадка о том, что ан-
гличане могли выпустить с острова Елены заключенного
там Наполеона Бонапарта, «и вот он теперь и пробирается
в Россию, будто бы Чичиков, а в самом деле вовсе не Чи-
чиков».
Чиновники расспрашивают Коробочку, Манилова, Со-
бакевича о том, кто такой Чичиков и что нужно разуметь
под мертвыми душами, но объяснений не получают. Они
обратились и к прислуге Чичикова, «но услышали тоже
немного». Наконец, послали за Ноздревым — однако «по-
казания, свидетельства и предположения Ноздрева пред-
ставили такую резкую противоположность таковым же
87
господ чиповников, что и последние их догадки были сби-
ты с толку». Не заикнувшись, Ноздрев отвечал, что Чичи-
ков шпион, делатель фальшивых бумажек, что он накупил
мертвых на несколько тысяч, имел намерение увезти гу-
бернаторскую дочку,— словом, подтвердил любую догад-
ку. «И остались чиновники еще в худшем положении, чем
были прежде, и решилось дело тем, что никак не могли
узнать, что такое был Чичиков». А прокурор, наслушав-
шись толков и слухов, умер...
Между тем «Чичиков ничего обо всем этом не знал со-
вершенно. Как нарочно, в то время он получил легкую
простуду, флюс и небольшое воспаление в горле, в разда-
че которых чрезвычайно щедр климат многих наших гу-
бернских городов». После болезни он едет с визитом к гу-
бернатору — его не принимают, к другим чиновникам —
тоже, а кто и принял, вел такой странный разговор, что
гость усомнился в здоровье их мозга.
В сумерки возвратился он к себе в гостиницу, и за-
шедший к нему на огонек Ноздрев рассказал, что проис-
ходит в городе, обитатели которого думают, что Чичиков
делает фальшивые бумажки и затеял увезти губернатор-
скую дочку.
«— ...Впрочем, напрасно ты сделал такой выбор: я
ничего в ней не нахожу хорошего. А есть одна родственни-
ца Бикусова, сестры его дочь, так вот уж девушка! можно
сказать: чудо коленкор!
— Да что ты, что ты путаешь? Как увезти губернатор-
скую дочку? что ты? — говорил Чичиков, выпучив глаза.
— Ну, полно, брат; экой скрытный человек. Я при-
знаюсь, к тебе с тем пришел: изволь, я готов тебе помо-
гать. Так и быть: подержу венец тебе, коляска и перемен-
ные лошади будут мои, только с уговором: ты должен мне
дать три тысячи взаймы. Нужны, брат, хоть зарежь!»
Сообразив серьезность полоя^ения, Чичиков тотчас го-
товит свой отъезд,— оставаться долее опасно. Он выехал
на следующий день, встретив на пути похоронную про-
цессию — везли на кладбище прокурора.
Так, на первых страницах главы XI, заканчивается
история о том, как некий Чичиков покупал в одном из гу-
бернских городов мертвые души. Он успешно совершил
свои сделки, купчие крепости на четыре сотни приобре-
тенных для поселения в Херсонской губернии крестьян
были надлежащим образом составлены и оплачены гербо-
88
ььт сбором,— а читатель все еще не зйает: для чего нужны
ему эти мертвые души?
Поэма кончается, и настает время открыть замыслы
Чичикова. Для этого надобно пояснить, кто же он такой.
Автор принимается рассказывать биографию Чичикова,
знакомить читателя с прошлым героя, настоящее которого
уже известно ему. Нужно ли было это делать? Автору, ко-
нечно, виднее, как он пожелал, так и поступил, но, не бо-
ясь ошибиться, можно сказать, что все свойства характера
Чичикова читатель определит, не будучи знакомым с его
детством и юностью,— так верно показал автор своего ге-
роя во взрослом состоянии. Расчетливость, упорство в стре-
млении к цели, пусть мелкой и не весьма благородной,
приобретательство — эти и подобные им черты характера
юного Чичикова присущи ему в зрелом возрасте, и чита-
тель может легко понять, как они развились.
И только подробно представив жизненный путь Чичи-
кова и крушение некоторых его предприятий, Гоголь на-
конец решается объяснить, зачем нужно было Чичикову
покупать мертвые души.
«— Эх, я Аким,—простота! — сказал он сам в себе: —
ищу рукавиц, а обе за поясом! Да накупи я всех этих, ко-
торые вымерли, пока еще не подавали новых ревизских
сказок, приобрети их, положим, тысячу, да, положим, Опе-
кунский совет даст по двести рублей за душу: вот уже
двести тысяч капиталу! А теперь же время удобное: не-
давно была эпидемия, пароду вымерло, слава богу, нема-
ло. Помещики попроигрывались в карты, закутили и про-
мотались как следует...»
Чичиков предвидит возможные трудности, как ни
кинь — операции с мертвыми душами незаконны, трудно,
хлопотливо, страшно,— и все же риск будет оправдан:
«— ...А главное то хорошо, что предмет-то покажется
всем невероятным, никто не поверит. Правда, без земли
нельзя ни купить, ни заложить. Да ведь я куплю на вы-
вод, на вывод; теперь земли в Таврической и Херсонской
губерниях отдаются даром, только заселяй. Туда я их всех
переселю! в Херсонскую их! пусть их там живут! А пересе-
ление можно сделать законным образом, как следует, по
судам...»
То, что Гоголь заботился о фабуле поэмы и о том, что-
бы читатели не бросали книгу, едва поняв хитрости Чичи-
кова, совсем не порочит писателя. Так понимал дело не он
89
ОДйн. Известно, как тщательно обдумывал фабулы своих
романов Достоевский. Он очень старался, чтобы внимание
читателя не отрывалось от текста, чтобы его увлекало из-
ложение. В заметках Достоевского, относящихся к рабо-
те над романом «Бесы», например, сказано:
«Про Нечаева не объяснять, кто он такой, пожалуй,
хоть до 3-й части. Так: сын Гр-го. Даже в недоумение по-
поставить читателя». Далее: «Вся обстановка и весь ход
Нечаева в том, что читателю совсем ничего не видно сна-
чала, кроме несколько шутовских и странных характери-
стических черт. Не делать, как другие романисты, т. е. с
самого начала затрубить о нем, что вот это человек не-
обычайный. Напротив, скрывать его и открывать лишь по-
степенно...» 1
Гоголь взял для себя такое же правило и открывал Чи-
чикова «постепенно». Косвенное одобрение этого литера-
турного приема содержится в отзыве одного из современ-
ников, при всей враждебности к писателю вынужденного
подтвердить успех замысла, по которому объяснения от-
носительно личности Чичикова были отнесены на послед-
ние страницы первого тома поэмы:
«Признаемся откровенно, что особенной красоты в идее
целого романа или, пожалуй, поэмы «Мертвые души», мы
не видим. Не знаем, что будет в остальных двух частях
поэмы; но до сих пор на первом плане люди, злоупотреб-
ляющие своею должностию и наживающиеся противоза-
конными средствами. Все лица автора, начиная с героя,
или плуты, или дураки, или подлецы, или невежды и ни-
чтожные люди. Одна губернаторская дочь исключена из
этого почтенного собрания, но и та не обрисована нисколь-
ко, ничего почти не говорит, ничего не действует... Завяз-
ки в поэме нет никакой. Ни одно лицо не возбуждает уча-
стия в читателе. Интерес поддерживается только желани-
ем узнать: для чего Чичиков скупает мертвые души, по-
тому что объяснение его цели автор поместил в конце. Это
не роман, и не поэма, а сатира в лицах, переходящая ино-
гда в карикатуру» 2.
1 Ф. М. Достоевский. Записные тетради. М.—Л., «Аса-
demia», 1935, стр. 89, 288.
2 К. Масальский. Похождения Чичикова, или Мертвые
души. Поэма Н. Гоголя. «Сын отечества», 1842, ч. III, № 6. Цит, по
кн.: В. Зелинский (сост.). Русская критическая литература
о произведениях Н. В. Гоголя, ч. I. М., 1889, стр. 157—158.
90
3
Все читатели поэмы Гоголя «Мертвые души» знают,
что там фигурирует прокурор, который умер с испугу, ко-
гда пошли толки о покупках Чичикова и о похищении гу-
бернаторской дочки. Помнится также и о том, что, спеш-
но выезжая из города, Чичиков столкнулся с похоронной
процессией — чиновники шли пешком или ехали за гро-
бом покойного.
Таковы главные эпизоды участия прокурора в поэме
Гоголя, но стоит приглядеться к тексту, как заметишь, что
этот персонаж совсем не столь редко упоминается на стра-
ницах «Мертвых душ» и что внимание автора к нему не-
безразлично для сюжета поэмы.
В сущности говоря, прокурор занимает или должен за-
нимать позицию антагониста, противника Чичикова, раз-
рушителя его комбинаций с мертвыми крестьянами,— как
официальное лицо, уполномоченное следить за соблюде-
нием законов. Пожалуй, юридическое обобщение, несо-
мненно заключенное в его фигуре, можно видеть и в том,
что прокурор именуется в поэме только по своей должно-
сти, имя его не названо автором, в отличие от председате-
ля гражданской палаты, которого зовут Иван Григорье-
вич, почтмейстера — Ивана Андреевича, полицмейстера —
Алексея Ивановича. Есть имя и у чиновника, ведающего
крепостной экспедицией,— Иван Антонович.
Какое же место занимал прокурор в системе губерн-
ского управления?
Пост его был важным и влиятельным. Петр I, вводя
прокурорские должности,—прежняя Русь их не знала,—
стремился установить контроль за деятельностью создан-
ных в стране учреждений, и прокуроры наблюдали за хо-
дом как уголовных, так и гражданских дел. Екатерина II
своим учреждением о губерниях создала должность гу-
бернского прокурора со стряпчими при нем, отдав его в
подчинение генерал-прокурору. В 1802 году генерал-про-
курор был переименован в министра юстиции, и первым,
назначенным на новый пост, был Г. Р. Державин. Соглас-
но Своду законов, вступившему в силу с 1835 года, проку-
роры и стряпчие в губерниях и уездах наблюдали за при-
менением законов в присутственных местах, судебных и
административных, охраняли интересы казны, заботились
о беспомощных людях — арестованных, несовершеннолет-
91
них, у&ечных и т. п. Прокурор бывал на заседаниях гу-
бернских учреждений, просматривал журналы и постанов-
ления, и когда соглашался с ними, то подписывал «читал»,
а если видел что-либо в бумагах незаконное — не визиро-
вал их% Кстати, о таких прокурорских пометах пишет Го-
голь в одном из вариантов главы IX1.
Прокурор должен был распознать фальшивые покуп-
ки Чичикова и предупредить ущерб, который он собирал-
ся нанести казне, это его первейшая обязанность. На про-
тяжении поэмы автор часто ведет их рядом, прокурора и
Чичикова, и, согласно задаче первого тома, заставляет
служителя закона уступить обманщику. Зло побеждает,
прокурор, в числе других, становится жертвой мошенни-
чества, и Чичиков безнаказанно удирает из города.
Значение фигуры прокурора для темы «Мертвых душ»
оценил В. Ермилов. Он писал:
«Тончайшая грустная ирония скрывается в истории
прокурора. Комизм замечания Собакевича, что во всем го-
роде только один прокурор — «порядочный человек, да и
тот свинья», имеет свое внутреннее значение. В самом де-
ле, ведь прокурор глубже всех переживает всеобщее смя-
тение и страх, вызванные чичиковским «делом». Он даже
умирает единственно по той причине, что «стал думать,
думать и вдруг, как говорится, ни с того, ни с другого
умер». Умер от непривычки думать. По самой своей долж-
ности он, действительно, должен был бы больше всех ду-
мать обо всем том, что всплыло в сознании потрясенных
чиновников в связи с непонятным делом Чичикова...» 2
Припомним, что прокурор был одним из первых чинов-
Пиков, о которых осведомляется Чичиков, беседуя с поло-
вым в гостинице: «он с чрезвычайной точностию расспро-
сил, кто в городе губернатор, кто председатель палаты, кто
Прокурор,— словом, не пропустил ни одного значительно-
го чиновника; но еще с большей точностию расспросил обо
псех значительных помещиках: сколько кто имеет душ
Крестьян» и т. д.
Автор называет здесь всех нужных Чичикову людей —
губернатора, чья дружба может облегчить совершение сде-
1 См. Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений, т. VI. М.,
Йзд-во Академии наук, 1951, стр. 635.
2 В. Ермилов. Гений Гоголя. М., «Советская Россия», 1959,
стр. 355.
92
лок, председателя гражданской палаты, в которой будут
составляться купчие крепости на приобретенных кресть-
ян, и прокурора — чиновника, чьи служебные обязанности
в данном случае делают его прямым противником покупа-
теля мертвых душ. Помещики — источник будущего обога-
щения Чичикова, и о них он собирает подробные справки.
Почти в таком же порядке Чичиков наносит свои ви-
зиты: поехал с почтением к губернатору, потом навестил
вице-губернатора, был у прокурора, у председателя пала-
ты, у полицмейстера и т. д. и от каждого получил пригла-
шение на обед, на чашку чая, на домашнюю вечеринку.
Лишь закончив городские визиты, он едет к знакомым по-
мещикам.
В доме губернатора Чичиков «встретил почти все зна-
комые лица: прокурора, с весьма черными густыми бро-
вями и несколько подмигивающим левым глазом, так, как
будто бы говорил: «пойдем, брат, в другую комнату, там я
тебе что-то скажу»,— человека, впрочем, серьезного и мол-
чаливого; почтмейстера, низенького человека, но остряка
и философа; председателя палаты, весьма рассудительного
и любезного человека,— которые все приветствовали его
как старинного знакомого...» и т. д.
Гоголь,—чего он не делает в рассуждении других чи-
новников,— описывает наружность прокурора при помощи
двух резких штрихов — густые брови и миганье левым
глазом, что есть признак тика, или, другими словами, рас-
строенной нервной системы. Признак этот в наружности
прокурора нельзя считать случайным: прокурор оказался
легко возбудимым человеком и сильнее всех отозвался на
известие о мертвых душах; правда, он не простил себе и
служебного недосмотра.
Нельзя не заметить, что, рассказывая о пребывании
Чичикова в городе, автор упоминает прокурора чаще, чем
других чиновников. Очевидно, тут играет роль некая пи-
сательская экономия — проще, выразительней говорить об
одном человеке, он больше откроется читателю, к нему
привыкнут, изложение будет короче. Но кроме того, дума-
ется, Гоголь так часто высвечивает в толпе чиновников
прокурора потому, что хочет вести его вместе с Чичико-
вым. Неуменье разглядеть и понять заезжего мошенника
должно подчеркнуть очень важную для первого тома
«Мертвых душ» идею — показать «людей ничтожных».
Гоголь писал:
93
«Мне потребно было отобрать от всех прекрасных лю-
дей, которых я знал, все пошлое и гадкое, что они захва-
тили нечаянно, и возвратить законным их владельцам. Не
спрашивай, зачем первая часть должна быть вся пош-
лость, и зачем в ней все лица до единого должны быть
пошлы: на это дадут тебе ответ другие томы. Вот и все!»1
Чичиков первого тома успешно приобретает мертвые
души и увозит с собой купчие крепости, а прокурор, кото-
рый должен был воспрепятствовать ему,—умирает. Здесь
одна из сюжетных линий поэмы.
У полицмейстера Чичиков познакомился с помещиком
Ноздревым, «который ему, после трех-четырех слов, начал
говорить ты. С полицмейстером и прокурором Ноздрев то-
же был на ты и обращался по-дружески; но когда сели
играть в большую игру, полицмейстер и прокурор чрезвы-
чайно внимательно рассматривали его взятки и следили
почти за всякою картою, с которой он ходил». На следую-
щей странице поэмы сказано, что Чичиков затем был на
«небольшом обеде у прокурора, который, впрочем, стоил
большого» и что новым знакомым приезжий господин
очень понравился:
«Губернатор об нем изъяснился, что он благонамерен-
ный человек; прокурор — что он дельный человек; жан-
дармский полковник говорил, что он ученый человек;
председатель палаты —что он знающий и почтенный че-
ловек» и т. д.
Эти аттестации оказались отчасти ошибочными: Чичи-
ков не был ученым или почтенным человеком, но проку-
рор, который, по словам Гоголя, назвал его «дельным че-
ловеком» — то есть деловым, практическим,— верно схва-
тил одно из главных свойств натуры Чичикова, хотя и не
задумался над тем, какой цели могут служить его деловые
качества.
Во второй, третьей и четвертой главах поэмы говорится
о встречах Чичикова с Маниловым, Коробочкой, Ноздре-
вым, и лишь в пятой автор вновь напоминает читателю о
прокуроре. Чичиков, пытаясь в разговоре с Собакевичем
дружелюбно отзываться о чиновниках, похвалил полиц-
мейстера.
«— Мошенник! — сказал Собакевич очень хладно-
1 Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений, т. VIII, М.,
Изд-во Академии наук, 1952, стр. 295.
94
Кровно: —продаст, обманет, еще и пообедает с ваки. Я их
знаю всех: это все мошенники; весь город там такой: мо-
шенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все
христопродавцы. Один там только и есть порядочный че-
ловек—прокурор, да и тот, если сказать правду, свинья».
Как видим, Собакевич, не любивший ни о ком говорить
хорошо, все же сделал исключение для прокурора, назвав
его «порядочным человеком». Таким он, вероятно, и был.
Следующее упоминание о прокуроре мы слышим также
из его уст при совершении купчих крепостей на мертвые
души.
«—Да не позабудьте, Иван Григорьевич,—подхватил
Собакевич,— нужно будет свидетелей, хотя по два с каж-
дой стороны. Пошлите теперь же к прокурору: он человек
праздный и, верно, сидит дома: за него все делает стряп-
чий Золотуха, первейший хапуга в мире. Инспектор вра-
чебной управы, он также человек праздный...» и т. д.
Итак, первым в свидетели мошеннической покупки
приглашен прокурор, который не замедлил явиться.
«Пока продолжались разговоры, начали мало-помалу
появляться свидетели: знакомый читателю прокурор-мор-
гун, инспектор врачебной управы, Трухачевский, Бегуш-
кин и прочие, по словам Собакевича, даром бременящие
землю».
Автор, вводя прокурора, уверенно говорит, что он зна-
ком читателю, но, кажется, при этом имеет в виду лишь
его внешние признаки — морганье, о чем он сообщил уже
в первой главе. Однако у внимательного читателя накопи-
лись и другие сведения о прокуроре, о чем позаботился
автор, и он с другими персонажами прокурора не спутает.
На вспрыскивание покупок в доме полицмейстера «в
непродолжительное время всем сделалось весело необык-
новенно». Чичиков воображал себя помещиком, прочел
Собакевичу послание в стихах Вертера к Шарлотте, но
смекнул, что начал уже слишком развязываться, и поже-
лал уехать в гостиницу. Важно ли знать, как он добирался
к себе? Если в пути с ним ничего не произошло, то под-
робности вряд ли будут нужны. Автор все же не пренебре-
гает случаем подчеркнуть некую связь между Чичиковым
и тем, кого он должен страшиться,— гость отправился на
прокурорских дрожках.
«Прокурорский кучер, как оказалось в дороге, был ма-
лый опытный, потому что правил одной только рукой, а
95
другую, засунув назад, придерживал ею барина. Таким
образом, уже на прокурорских дрожках, доехал он к себе
в гостиницу» и отдал распоряжение Селифану собрать всех
купленных мужиков, чтобы сделать им перекличку. «Се-
лифан молча слушал очень долго и потом вышел из комна-
ты, сказавши Петрушке: «Ступай раздевать барина!»
Далее автор рассказывает, что прокурор был одним из
первых слушателей разоблачений Ноздрева. На балу у гу-
бернатора тот вышел в зал «веселый, радостный, ухватив-
ши под руку прокурора, которого, вероятно, уже таскал
несколько времени, потому что бедный прокурор поворачи-
вал во все стороны свои густые брови, как бы придумывая
средство выбраться из этого дружеского подручного путе-
шествия».
Увидев Чичикова, Ноздрев стал кричать о мертвых ду-
шах, изъявляя дружбу и приговаривая: «Вот и его пре-
восходительство здесь... не правда ли, прокурор?»
Так совершилось оглашение тайны Чичикова, и проку-
рору нужно было сообразить: какой смысл заключен в сло-
вах Ноздрева?
В следующий раз прокурор попадается нам в девятой
главе, если угодно — при загадочных обстоятельствах.
Читатели Гоголя, как явствует из наблюдений, совсем не
помнят занимающего нас эпизода и, вероятно, потому не
придают ему никакого значения. Может быть, это спра-
ведливо, однако внимательному читателю всегда хочется
правильно понять авторский текст,—ведь пустых фраз в
великих произведениях не бывает.
Эпизод, о котором идет речь, состоит в следующем.
К даме, приятной во всех отношениях, приезжает рано
утром просто приятная дама для того, чтобы обсудить рас-
сказ Коробочки о ночном появлении в ее усадьбе Чичикова
и выкрики Ноздрева о мертвых душах. Автор говорит, что
не решается назвать обеих дам выдуманными фамилиями
или по чинам, ибо обидятся однофамилицы, а чины и сос-
ловия «так раздражены, что все, что ни есть в печатной
книге, уже кажется им личностью: таково уже, видно, рае-
положенье в воздухе». Обе дамы, жены чиновников, при-
думывают, что Чичиков собирался увезти губернаторскую
дочку, прибегнув к помощи Ноздрева, и что мертвые души
«выдуманы для прикрытия».
Далее читаем:
«В то время, как обе дамы так удачно и остроумно ре-
9G
шили такое запутанное обстоятельство, вошел в гостиную
прокурор, с вечно неподвижною своею физиономией, гу-
стыми бровями и моргавшим глазом. Дамы наперерыв
принялись сообщать ему все события, рассказали о покуп-
ке мертвых душ, о намерении увезти губернаторскую доч-
ку и сбили его совершенно с толку, так что, сколько ни про-
должал он стоять на одном и том же месте, хлопать левым
глазом и бить себя платком по бороде, сметая оттуда табак,
но ничего решительно не мог понять. Так на том и остави-
ли его обе дамы и отправились, каждая в свою сторону,
бунтовать город».
Откуда в гостиной дамы, приятной во всех отношениях,
взялся прокурор? Это ранний утренний визит? Но почему
о госте не доложили хозяйке, как сделали это, когда при-
была просто приятная дама, и почему не залаяли мохна-
тая Адель и кобелек Попури на тоненьких ножках? И по-
чему борода прокурора осыпана табаком? Если он только
что приехал, то вряд ли, сходя с дрожек, на ходу нюхал
табак —взятие понюшки требует известного покоя. Да
хоть и понюхал, то, наверное бы, смахнул табак с бороды,
прежде чем подойти к хозяйке. Дамы нисколько не уди-
вились приходу прокурора, а могли бы: «что до того, как
вести себя, соблюсти тон, поддержать этикет, множество
приличий самых тонких, а особенно наблюсти моду в са-
мых последних мелочах, то в этом они опередили даже дам
петербургских и московских». К тому же хорошо ли было
хозяйке с подругой уезжать, оставляя гостя в одиночестве?
Эти несообразности могут разъясниться только в том
случае, когда мы признаем, что прокурор был мужем Ан-
ны Григорьевны, то есть дамы, приятной во всех отноше-
ниях. Хозяин дома, он мог и не стряхнуть вовремя крошек
с бороды и войти в гостиную, где его не ждали К
Дамы — нужнейший в поэме кусок текста. В «Замет-
ках, относящихся к 1-й части», Гоголь писал:
«Идея города —возникшая до высшей степени пустота.
Пустословие. Сплетни, перешедшие пределы. Как все это
возникло из безделья и приняло выражение смешного в
1 На это обстоятельство обратил внимание Г. Н. Поспелов, за-
метивший, что Анна Григорьевна, дама, приятная во всех отноше-
ниях, «по-видимому, жена губернского прокурора, так как в этой
сцене прокурор изображен у себя дома и остается там, когда обе
дамы уезжают» (Г. Н. Поспелов. Творчество Н. В. Гоголя. М.,
Учпедгиз, 1953, стр. 187).
4 А. Западов
97
высшей степени, как люди неглупые доходят до делания
совершенных глупостей.
Частности в разговорах дам. Как к общим сплетням
примешиваются частные сплетни; как в них не щадят
одна другую. Как созидаются соображения. Как эти сооб-
ражения восходят до верха смешного. Как все невольно
занимаются сплетнями, и какого рода бабичи и юбки обра-
зуются» \
Стало быть, дамы были нужны автору, и родственные
связи их роли для него не играли — он изобразил, как
возникают сплетни в городе, охваченном пустословием.
Но и прокурор к девятой главе, незаметно, шаг за шагом,
вошел в ряд ведущих персонажей поэмы. Ноздрев чуть не
в ухо ему кричал о том, что Чичиков скупает мертвые ду-
ши, и прокурор понимал, что ему следует проверить за-
конность произведенных сделок. Конец прокурора автор
не думал затягивать, болезненность его была отмечена в
тексте, сила нервного потрясения, вызванная удавшимся
набегом Чичикова, также определена высоким градусом —
и для развязки требовался лишь последний удар.
И вот, сгущая атмосферу слухов и сплетен, автор опять
заставляет прокурора быть первым слушателем дамской
выдумки, которой предстоит взбунтовать губернский го-
род. Ему разъясняют дамы, что Чичиков приехал за гу-
бернаторской дочкой, прикрываясь маской покупателя
мертвых душ,—и этих утверждений было для прокурора
довольно. «...Он стал думать, думать и вдруг, как говорит-
ся, ни с того, ни с другого, умер. Параличом ли его, или
чем другим прихватило, только он, как сидел, так и хлоп-
нулся со стула навзничь. Вскрикнули, как водится, всплес-
нув руками: «Ах, боже мой!», послали за доктором, чтобы
пустить кровь, но увидели, что прокурор был уже одно
бездушное тело. Тогда только с соболезнованием узнали,
что у покойника была, точно, душа, хотя он, по скромности
своей, никогда ее не показывал».
По-видимому, чтобы поднести прокурору из первых
уст самое непонятное известие, автор и заставил его при-
сутствовать на свидании двух городских дам, не затруднив
себя предлогами, он сказал только, что «вошел прокурор»,
направил читательское внимание в сторону дамских фан-
1 Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений, т. IV. М., Изд-
во Академии наук, 1951, стр. 692.
98
тазий и тем затушевал состояние полной растерянности,
охватившее этого чиновника.
Смерть прокурора вызывает Гоголя на рассуждение о
равенстве людей пред ее лицом:
«А между тем появленье смерти так же было страшно
в малом, как страшно оно и в великом человеке: тот, кто
еще не так давно ходил, двигался, играл в вист, подписы-
вал разные бумаги и был так часто виден между чиновни-
ков с своими густыми бровями и мигающим глазом, те-
перь лежал на столе, левый глаз уже не мигал вовсе, но
бровь одна все еще была приподнята с каким-то вопроси-
тельным выражением. О чем покойник спрашивал: зачем
он умер или зачем жил,— об этом один бог ведает».
Когда Чичиков, таясь, уезжает из города, в одной из
улиц ему преграждает путь бесконечная погребальная
процессия — везут прокурора. За гробом шли чиновники.
«Все мысли их были сосредоточены в это время в самих
себе: они думали, каков-то будет новый генерал-губерна-
тор, как возьмется за дело и как примет их...»
Картиной похорон прокурора кончается, в сущности,
первый том поэмы Гоголя «Мертвые души». Вниматель-
ное чтение этой книги,—как, впрочем, и всех подлинно
художественных литературных произведений,— позволяет
заметить в ней многое из того, что остается укрытым при
поспешном и равнодушном проглядывании печатных стра-
ниц. Проясняются мысли, заложенные автором в его тво-
рение, выступают действующие лица, не замеченные при
беглом просмотре, возникают у читателя соображения о
том, почему автору нужно было кое-что пропустить без
внимания, а кой о чем рассказать очень подробно.
Словом, читатель начинает лучше понгмать автора, об-
щение между ними усиливается, и труд писателя открыва-
ет сосредоточенные в нем духовные ценпости.
4*
ak
написана
'АМАНЬ*
В чем обаяние повести Лермонтова «Тамань»? Эту по-
весть любил Чехов. Как вспоминает И. А. Бунин, Чехов,
беседуя о литературе, «часто восхищался Мопассаном,
Флобером, Толстым. Особенно часто он говорил именно о
них, да еще о «Тамани» Лермонтова.
«— Не могу понять,— говорил он,— как мог он, будучи
мальчиком, сделать это! Вот бы написать такую вещь да
еще водевиль хороший, тогда бы и умереть можно!» 1
Другой современник пишет о том, что «больше всего»
Чехов хвалил язык Лермонтова. «Я не знаю языка лучше,
чем у Лермонтова,— говорил он не раз.— Я бы так сделал:
взял его рассказ и разбирал бы, как разбирают в школах,
по предложениям, по частям предложения... Так бы и
учился писать» 2.
Лермонтов начинает свою повесть с необычайной то-
ропливостью, словно боясь, что кто-то прервет, остановит,
не даст объяснить происшедшее:
1 Сборник «Чехов в воспоминаниях современников». М., Гос-
литиздат, 1962, стр. 462.
2 Там же, стр. 514.
100
«Тамань — самый скверный городишко из всех примор-
ских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода, да
еще вдобавок меня хотели утопить».
Такую речь может повести много ездивший по свету
человек: приморские города он знает все, и посещал их
не в качестве знатного гостя, от которого бывают скрыты
местные неудобства, а как обычный проезжающий, которо-
му не в редкость трактирный номер с клопами, постой в
мещанской семье, а то и ночлег на сеновале. Что в Тамани
рассказчика пытались утопить, мы знаем из текста, а вот о
голоде в дальнейшем изложении не упоминается. Более
того — вскоре говорится о том, что в лачужке, где остано-
вился рассказчик, «печь была жарко натоплена, и в ней
варился обед, довольно роскошный для бедняков».
Как считают исследователи, пытавшиеся установить
очередность событий, описанных Лермонтовым в повестях
«Героя нашего времени», первой должна идти «Тамань».
Вот, например, что пишет по этому поводу С. Н. Дурылин:
«Если бы держаться последовательности событий, раз-
вертывающихся в пяти повестях, образующих «Героя на-
шего времени», они должны были бы быть расположены
в таком порядке:
1) Высланный из Петербурга Печорин задерживается
на пути в действующую армию в Тамани, где происходит
случай с контрабандистами («Тамань»). 2) После какой-
то военной экспедиции, в которой участвовал Печорин,
ему разрешено пребывание на водах в Пятигорске и Кис-
ловодске, где происходит история с Мери и дуэль с Груш-
ницким («Княжна Мери»). 3) Сосланный за эту дуэль в
глухую крепость, под начальство Максима Максимыча,
Печорин переживает там роман с Бэлой («Бэла»). 4) Во
время пребывания в крепости Печорин на две недели от-
лучается в казачью станицу, где держит роковое пари с
Вуличем («Фаталист»). 5) Переведенный после смерти
Бэлы из крепости в Грузию и возвращенный в Петербург,
Печорин вновь появляется на Кавказе и по дороге в Пер-
сию встречается во Владикавказе с Максимом Максимы-
чем и с проезжим офицером («Максим Максимыч»).
6) На обратном пути из Персии Печорин умирает (Пре-
дисловие к «Журналу Печорина»)» К
1 С. Дурылин. «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова.
М., Учпедгиз, 1940, стр. 24—25.
101
Печорин уже в Тамани действует как опытный кавказ-
ский офицер. Затем перед читателем пройдут дневниковые
записи «Княжны Мери», из которых будет явствовать, что
Печорин давно и отлично освоился на Кавказе,— а из тек-
ста «Бэлы» мы знаем, что в крепости N, куда он прибыл
после дуэли с Грушницким, Печорин показался Максиму
Максимычу совершенным новичком:
«Он был такой тоненький, беленький, на нем мундир
был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на
Кавказе у нас недавно. «Вы, верно,— спросил я его,—
переведены сюда из России?» — «Точно так, господин
штабс-капитан»,— отвечал он».
Неувязка тут есть, а отчего она произошла — рассмот-
рим, может быть, позднее. Пока нам нужно продолжить
чтение «Тамани».
Впечатление экстренности рассказа Лермонтов усили-
вает тем, что даже не делает абзаца после двух первых
фраз:
«...вдобавок хотели меня утопить. Я приехал на пере-
кладной тележке поздно ночью. Ямщик остановил усталую
тройку у ворот единственного каменного дома, что при
въезде. Часовой, черноморский казак, услышав звон ко-
локольчика, закричал спросонья диким голосом: «Кто
идет?»
Так писал Пушкин:
«Мы стояли в местечке N. Жизнь армейского офицера
известна...»
Или:
«Однажды играли в карты у конногвардейца Нару-
мова...»
«Вышел урядник и десятник,—продолжает рассказ-
чик.— Я им объяснил, что я офицер, еду в действующий
отряд по казенной надобности, и стал требовать казенную
квартиру. Десятник нас повел по городу...»
Возможно ли, чтобы именно эти предложения очарова-
ли Чехова? Или он восхитился лермонтовской прозой на
следующих страницах? Не знаем, но, вероятно, суровая
простота этих строк, нежелание автора привлекать читате-
ля с помощью эффектного начала могли прийтись по душе
Чехову.
«К которой избе ни подъедем — занята. Было холодно,
я три ночи не спал, измучился и начал сердиться. «Веди
102
меня куда-нибудь, разбойник! хоть к чорту, только к ме-
сту! — закричал я».
Не правда ли, этот сердитый офицер не похож на но-
вичка, едва оперившегося прапорщика? Он властно требу-
ет «места» — и тут у него вырывается роковое слово, сей-
час же подхваченное десятником.
Это как в сказке — известно, что нечистый легок на по-
мине, призовешь — и он является.
«— Есть еще одна фатера,— отвечал десятник, почесы-
вая затылок: — только вашему благородию не понравится;
там нечисто! — Не поняв точного значения последнего
слова, я велел ему идти вперед, и... мы подъехали к не-
большой хате на самом берегу моря».
Печорин подумал, что в хате грязно, казак же говорил
о ее таинственных обитателях и об их ремесле или про-
мысле.
Так или иначе, с возможной поспешностью Лермонтов
закончил вступление к повести, написал, что приезжий
вынужден поселиться в доме, известном своей дурной ре-
путацией,— и приступает к изложению происшествий. Но
сначала он заставляет читателя окинуть взглядом ночную
картину:
«Полный месяц светил на камышовую крышу и белые
стены моего нового жилища; на дворе, обведенном оградой
из булыжника, стояла избочась другая лачужка, менее и
древнее первой. Берег обрывом спускался к морю почти у
самых стен ее, и внизу с беспрерывным ропотом плеска-
лись темно-синие волны».
Две первые фразы, разделенные точкой с запятой,
точны и естественны. Лунный свет позволяет приезжему
увидеть внешний вид его нового жилища, «белые стены»
контрастируют с темным морем. Автор не мельчит, не дро-
бит впечатление и называет главное, что увидел,— хата с
камышовой крышей, другая лачужка,— слово показывает,
что она меньше первой и выглядит старой по сравнению с
ней,— ограда из булыжника, то есть сложенная из камней
невысокая стена, протянутая по границам двора. И у стен
лачужки — спуск вниз, к воде.
Лермонтов пишет:
«Берег обрывом спускался к морю почти у самых стен
ее» — раскаты «р-р», действительно как бы обрывающиеся
в прыжке, сменяются звуком «с-с-с» — «спускался... у са-
мых стен»,— будто песок и камешки сыплются из-под ног
103
вбегающею по откосу человека, «...и внизу с беспрерый-
ным ропотом плескались темно-синие волны»,— распре-
деление звуков такое же —сначала «р-р», затем «с»,—на-
бежит грозно волна и расходится, шипя, в песке... Лермон-
тов не боится поставить рядом слова одного корня —
«обрывом» и «беспрерывным», чего обычно литераторы
стараются избегать, и как это ему легко сходит! Поисти-
не, таинственная вещь — искусство, где гению все
удается...
«Луна тихо смотрела на беспокойную, но покорную ей
стихию, и я мог различить при свете ее, далеко от берега,
два корабля, которых черные снасти, подобно паутине, не-
подвижно рисовались на бледной черте небосклона. «Суда
в пристани есть,—подумал я,—завтра отправлюсь в Ге-
ленджик».
В одном абзаце спутник Земли назван «месяцем» и
«луною». Заметим, что в первом случае он выполняет де-
ловую функцию — своим, пусть отраженным, светом зали-
вает хаты и двор. Луна же «тихо смотрит» и освещает
дальние корабли, паутину снастей, у нее обязанности
иные — создать поэтическую картину, отвлечь от лачужек
и булыжников. Дальше такое различие повторится.
Описание ночного моря исполнено поэзии, оно как бы
выполнено пером,— снасти на бледном небосклоне,— Лер-
монтов любил рисунки пером. Приезжий видит корабли и
решает, что завтра уедет. Он торопится выполнить свое
поручение.
Запись мысли приезжего офицера — «суда есть, зав-
тра отправлюсь» — должна ослабить читательское внима-
ние: мол, что ж такого, ничего особенного не случится,—
с тем, чтобы сильнее поразить дальнейшими происшестви-
ями. Так и происходит.
Офицер отпускает извозчика — он решил остаться в
доме, где «нечисто». И сразу начинаются неожиданности:
«...Я стал звать хозяина — молчат; стучу — молчат...
что это?»
Вопрос звучит тревогой.
«Наконец из сеней выполз мальчик лет четырнадцати».
Выполз? Мальчик? Что с ним такое? Нет, конечно, он
вышел, это нетерпеливому, уставшему офицеру показа-
лось, что не шел он, а полз, но мальчик и в самом деле не
такой, как все. Краткая беседа с ним напоминает допрос
пленного:
104
«— Где хозяин?
— Нема.
— Как? Совсем нету?
— Совсем.
— А хозяйка?
— Побигла в слободку.
— Кто же мне отопрет дверь? — сказал я, ударив в
нее ногою».
Офицер вошел в дом как хозяин. А ведь люди, вла-
девшие хатой, не были его крепостными. Но различие
сословий значило в николаевской России достаточно
много.
«Дверь сама отворилась; из хаты повеяло сыростью».
«Сама отворилась» после того, как ударили ногой, зна-
чит, что ее не открыли изнутри, что в хате никого не бы-
ло. «Повеяло сыростью», наверное, потому, что там не
жили. Мальчик «выполз» не оттуда — из «сеней», где он
мог спать, или из другой горницы, о которой в тексте не
говорится.
Услышав, что дом без хозяев, офицер начинает дейст-
вовать осторожно:
«Я засветил серную спичку и поднес ее к носу мальчи-
ка: она озарила два белые глаза. Он был слепой, совершен-
но слепой от природы. Он стоял передо мной неподвижно,
и я начал рассматривать черты его лица».
Мальчик оказался слепым! Эта новость озадачивает
читателя, и он прощает офицеру бесцеремонность, с кото-
рой тот подносил к носу мальчика зажженную спичку,
причем уверенный, что имеет дело со зрячим. Лермонтов
усиливает воздействие на читателя, отвлекаясь от данного
случая в сторону обобщения, неточность которого не скры-
вает:
«Признаюсь, я имею сильное предубеждение против
всех слепых, кривых, глухих, немых, безногих, безруких,
горбатых и проч. Я замечал, что всегда есть какое-то
странное отношение между наружностью человека и его
душою: как будто с потерею члена душа теряет какое-ни-
будь чувство».
Какое же чувство потерял слепой мальчик? Новая за-
гадка встает перед читателем.
Однако серная спичка горит,— не слишком ли долго
для нее? — и автор продолжает:
105
«Итак, я начал рассматривать лицо слепого...»
Слово «итак» поставлено сюда очень искусно. Сказав-
ши о своем предубеждении против людей с физическими
недостатками, автор заставил читателя подумать, нет ли
у него такого же чувства, и вспомнить известных ему ка-
лек. Автор дает на это время,— фраза в тексте лишь обо-
значает начало, вслед за которым побегут мысли читате-
ля, в памяти возникнут лица, эпизоды,— и затем возвра-
щает к своей повести словом «итак...».
«...лицо слепого; но что прикажете прочитать на лице,
у которого нет глаз?»
Описывая своих героев, Лермонтов считал нужным
упомянуть о том, что можно было видеть в их глазах.
У Вадима, например, «в глазах блистала целая будущ-
ность» х. У Печорина глаза «не смеялись, когда он смеял-
ся... Это признак или злого нрава, или глубокой постоян-
ной грусти» (VI, 244). Глаза Бэлы— «черные, как у гор-
ной серны, так и заглядывали к вам в душу. Печорин в
задумчивости не сводил с нее глаз, и она частенько испод-
лобья на него посматривала» (VI, 211).
«Долго я глядел на него с невольным сожалением, как
вдруг...»
Лермонтов настойчиво убеждает читателя, будто проез-
жий офицер находится среди неприятелей. Несчастье
мальчика не должно было бы его смягчить, но человек
слаб, он пожалел слепого, однако произошло это необ-
думанно, «невольно», и офицер сейчас же в этом раска-
ялся:
«...как вдруг едва приметная улыбка пробежала по тон-
ким губам его, и, не знаю отчего, она произвела на ме-
ня самое неприятное впечатление. В голове моей роди-
лось подозрение, что этот слепой не так слеп, как оно
кажется».
Офицер продолжает допрос:
« — Ты хозяйский сын? — спросил я его наконец.
1 М. Ю. Лермонтов. Сочинения в шести томах, т. 6. Проза,
письма. М.—Л., Изд-во Академии наук, 1957, стр. 8. Редакция из-
дания: Н. Ф. Бельчиков, Б. И. Городецкий, Б. В. Томашевский,
Текст и примечания к «Герою нашего времени» подготовлены
Б. М. Эйхенбаумом.
В дальнейшем ссылки па это издание отмечаются в тексте,
после цитат, с указанием римской цифрой тома и арабской —
страницы.
106
— Ни.
— Кто же ты?
— Сирота, убогий.
— А у хозяйки есть дети?
— Ни; была дочь, да утикла за море с татарином.
— С каким татарином?
— А бис его знает! крымский татарин, лодочник из
Керчи».
Все узнал добровольный следователь. Теперь он как
бы пишет акт осмотра помещения:
«Я вошел в хату: две лавки и стол, да огромный сундук
возле печи составляли всю ее мебель. На стене ни одного
образа — дурной признак! В разбитое стекло врывался
морской ветер».
Окно разбито — в хате, стало быть, не живут постоян-
но. Взгляд приезжего зорок, наметан — нет образов. Толь-
ко почему он говорит «на стене»? Точнее бы сказать — «в
углу». И почему «стена» в единственном числе? Тогда уж
«на стенах»? Вероятно, офицер не очень осведомлен о рас-
становке вещей в крестьянской, казачьей избе, не ощущает
понятия «красного угла» и легко заменяет его в своей речи
«стеною». Видно по всему, что диковинный мальчик встре-
вожил приезжего, удивили, наверное, и неясные семейные
отношения хозяев хаты. А когда не оказалось икон, беспо-
койство перешло в ожидание беды, и приезжий вспомнил
слова казацкого десятника о том, что в этой хате «нечи-
сто»...
И он принял оборонительную позицию:
«Я вытащил из чемодана восковой огарок и, засветив
его, стал раскладывать вещи, поставил в угол шашку и
ружье, пистолеты положил на стол; разостлал бурку на
лавке, казак свою на другой; через десять минут он захра-
пел, но я не мог заснуть: передо мной во мраке все вертел-
ся мальчик с белыми глазами».
Тут оканчивается первая часть повести — рассказчик
прибыл в Тамань, занял хату, в которой обитал сле-
пой, был обеспокоен зловещими приметами — и не
заснул.
Если считать, что прямо из Петербурга Печорин через
Тамань следует в действующий отряд, то не слишком ли
много для новичка у него оружия: шашка — не табельный
для русских офицеров клинок,— ружье и пистолеты?
У него бурка, разостлав ее, он ложится на скамью, при-
107
йычный к походным ночлегам. Напомним, что в очерке
«Кавказец» Лермонтов писал о типе бывалого офицера из
тех, что воевали с горцами: «...У него сильное предубежде-
ние против шинели в пользу бурки; бурка его тога, он в
нее драпируется; дождь льет за воротник, ветер ее разду-
вает — ничего! бурка, прославленная Пушкиным, Марлин-
ским и портретом Ермолова, не сходит с его плеча, он
спит на ней и покрывает ею лошадь» (VI, 350). Таман-
ский Печорин понимает толк в бурке и знает о ней то, что
недоступно еще столичному офицеру, лишь направляюще-
муся в Кавказский корпус.
«Так прошло около часа,—начинается вторая часть.—
Месяц светил в окно, и луч его играл по земляному полу
хаты».
Это не просто пейзаж, а сообщение, необходимое для
того, чтобы понять дальнейший рассказ, темп которого
убыстряется:
«Вдруг на яркой полосе, пересекающей пол, промель-
кнула тень. Я привстал и взглянул в окно: кто-то вторич-
но пробежал мимо его и скрылся бог знает куда...»
Рассказчик оставляет свой официальный тон и пере-
дает, как помнит, последующие события, речь его льется
потоком, он говорит о себе, и потому каждая фраза начина-
ется с «я». «Я привстал...», «Я не мог полагать...»,
«Я встал...», «Я притаился у забора...» и наконец: «поду-
мал я». Словом, офицер увидел, что слепой стал спускать-
ся к морю, и пошел за ним.
Автор заставил читателя ждать какой-нибудь тайны —
и теперь будет ее раскрывать.
«Между тем луна начала одеваться тучами и на море
поднялся туман...»
И в этом описании, как и раньше, фигурируют оба на-
звания — «месяц» и «луна», с такими же функциями: месяц
светит, дает возможность увидеть мелькнувшего мимо окна
человека, а луна исполняет роль создательницы ночной
обстановки — «одевается тучами». Эта пара встречается и
в последней части «Тамани»: рассказчик идет за девушкой
в темноте — «месяц еще не вставал», а когда он благопо-
лучно возвращается из нечаянной поездки по морю — лу-
на позволяет ему увидеть опасную русалку: «Луна уже
катилась по небу, и мне показалось, что кто-то в белом
сидел на берегу...» Три случая чередования говорят о по-
следовательности намерений автора, который, по-видимо-
108
му, различал, когда нужно сказать «луна» и когда «ме-
сяц».
Следующие фразы, признаться, не очень ясны:
«...на море поднялся туман; едва сквозь него светился
фонарь на корме ближнего корабля; у берега сверкала пе-
на валунов, ежеминутно грозящих его потопить».
Читатель знает два корабля, стоявших «далеко от бе-
рега»; значит, расстояние от них до берега было неравным
и огни на дальнем корабле не видны? А что такое «пена
валунов»? В словаре Даля, например, валун существует
лишь в единственном значении: «камень крепкой породы,
обыкновенно дикарь (гранит), оглаженный и округлен-
ный породой, окатыш». Очевидно, «валун» это не морской
вал, изобилующий пеной. «Его потопить» — ближний ко-
рабль, но разве дальнему ничто не угрожало? Пожалуй,
«пена валунов, ежеминутно грозящих его потопить», зна-
чит, что волны разбивались о прибрежные камни-валуны,
образуя вокруг них пену, и эти валуны грозили потопить
корабль, если б он приблизился к берегу.
«Я, с трудом спускаясь, пробирался по крутизне, и вот
вижу: слепой приостановился, потом повернул низом на-
право; он шел так близко от воды, что казалось, сейчас
волна его схватит и унесет; но видно, это была не первая
его прогулка, судя по уверенности, с которой он ступал с
камня на камень и избегал рытвин».
Как естественно, ровно течет речь рассказчика, он со-
общает самые необходимые сведения, не вносит ничего
липшего. Мальчик близко шел от воды не потому, что
презирал опасность, а потому, что не видел ее. На море
было волнение — рассказчик думал, что мальчика вода
может унести. Но тот знал дорогу и шел уверенно, избе-
гая рытвин. Кстати, откуда они там? В современном рус-
ском языке, как отмечено словарем С. И. Ожегова, рытви-
на — «углубление на дороге, выбитое колесами». Мог ли
так ошибиться Лермонтов, какие колеса на морском бере-
гу? Даль разъясняет слово иначе, пусть и не так похоже,
как нужно бы по тексту «Тамани», но, во всяком случае,
допустимо: рытвина — «ров, ровчак, канава от дождей,
овражек, водороина, водомоина, росточь».
Наконец слепой «остановился, будто прислушиваясь
к чему-то, присел на землю и положил возле себя узел».
К нему подошла «белая фигура»* села возле. «Ветер по
временам приносил мне их разговор».
109
В рассказе от первого лица трудно бывает открыть чи-
тателю замыслы персонажей, разъяснить их тайные наме-
рения. Лермонтов столкнулся в «Герое нашего времени»
с такой трудностью, но не придал ей значения. Он доро-
жил тем, что желал сказать читателю, спешил со всех сто-
рон обрисовать Печорина и не стеснялся даже нарушить
правдоподобие положения, если это было не в ущерб глав-
ной идее. Оттого офицер подсматривает и подслушивает в
«Тамани», Максим Максимыч в «Бэле» запоминает слово
в слово разговор Азамата и Казбича, Печорин же в «Княж-
не Мери» подслушивает по крайней мере трижды: разго-
вор Грушницкого и Мери, разговор на «военной пирушке»
в Кисловодске и разговор в ресторации, когда Грушниц-
кий клевещет на Мери.
Слепой и подошедшая к нему женщина обменялись
несколькими фразами — в тексте четыре пары реплик.
Мальчик верит в смелость какого-то Янко, который дол-
жен приплыть морем сквозь туман, женщина сомневается.
«А если он утонет?» — говорит она. И слепой отве-
чает:
«— Ну что ж? в воскресенье ты пойдешь в церковь
без новой ленты».
«Последовало молчание: меня, однако, поразило одно:
слепой говорил со мной малороссийским наречием, а те-
перь изъяснялся чисто по-русски».
Снова читателю загадывается загадка про слепого:
кто ж он, прыгающий по камням берега, как зрячий, по-
чему скрывает от офицера, что хорошо владеет русским
языком? В то же время мы узнаем, что мальчик ждет Ян-
ко сильнее, чем женщина, и что он в ее чувство не верит:
гибель Янко для нее скажется лишь отсутствием новой
ленты в ближайшее воскресенье. И эти слова не пройдут
ему даром.
Речь слепого одухотворена его любовью к смельчаку и
звучит поэтично:
«— Видишь, я прав,—сказал опять слепой, ударив в
ладоши.— Янко не боится ни моря, ни ветров, ни тумана,
ни береговых сторожей; прислушайся-ка: это не вода пле-
щет, меня не обманешь,— это его длинные весла.
Женщина вскочила и стала всматриваться в даль с ви-
дом беспокойства.
— Ты бредишь, слепой,— сказала она,— я ничего не
вижу».
110
Почему «с видом беспокойства»? Разве не хотела она
повидать Янко? И сердце-вещун ей не подсказало, что он
близок? Нет, и это, наверное, значит, что женщину связы-
вали с Янко не любовь, а дело, общий промысел, в котором
участвовал и мальчик. Лермонтов не вводит в свой рассказ
романического мотива, он краток и деловит, он предостав-
ляет читателю догадываться о чувствах героев, без нажима
указывая опорные точки, на которых они могут обосновать
свои заключения.
Дальше в тексте идет описание моря и лодки:
«...Так прошло минут десять; и вот показалась между
горами волн черная точка: она то увеличивалась, то умень-
шалась. Медленно поднимаясь на хребты волн, быстро спу-
скаясь с них, приближалась к берегу лодка. Отважен был
пловец, решившийся в такую ночь пуститься через пролив
на расстояние двадцати верст, и важная должна быть
причина, его к тому побудившая? Думая так, я с неволь-
ным биением сердца глядел на бедную лодку; но она, как
утка, ныряла и потом, быстро взмахнув веслами, будто
крыльями, выскакивала из пропасти среди брызгов пены;
и вот, я думал, она ударится с размаха об берег и разле-
тится вдребезги; но она ловко повернулась боком и вско-
чила в маленькую бухту невредима».
Точность и краткость этого описания сродни Пушкину.
Приведем выписку из романа «Капитанская дочка»:
«Ямщик поскакал; но все поглядывал на восток. Ло-
шади бежали дружно. Ветер между тем час от часу стано-
вился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая
тяжело подымалась, росла и постепенно облегала небо.
Пошел мелкий снег — и вдруг повалил хлопьями. Ветер
завыл: сделалась метель. В одно мгновение темное небо
смешалось со снежным морем. Все исчезло. «Ну, барин,—
закричал ямщик,— беда: буран!»
И там и здесь рассказ ведется от первого лица. Но
Пушкин стремится создать верную картину приближения
бурана, перечисляя его приметы, поочередно называя
действия стихий и ничего не говоря о впечатлениях героя.
Лермонтов же не только создает свою картину, но и запи-
сывает мысли наблюдающего ее персонажа — «думая
так...», «я думал...» и т. д.
Лодка прибыла. «Из нее вышел человек среднего роста
в татарской бараньей шапке; он махнул рукою, и все трое
111
принялись вытаскивать что-то из лодки; груз был так ве-
лик, что я до сих пор не понимаю, как она не потонула».
«Взяв на плечи каждый по узлу, они пустились вдоль
по берегу, и скоро я потерял их из вида».
Остается неясным, зачем принес на берег узел слепой?
О том, что этот узел также отнесли в укрытие, автор не
говорит:
«Надо было вернуться домой; но, признаюсь, все эти
странности меня тревожили, и я насилу дождался утра».
Что было в узлах, почему груз привозили ночью и
спешили уносить? Читатель понимает, что происходило
нечто противозаконное — так доставляют контрабанду.
Впрочем, есть и более определенное мнение. И. Андрони-
ков пишет:
«Люди, жившие над морским обрывом в Тамани, тай-
но поставляли оружие горцам. Наблюдательный Печорин
казался им опасным врагом, от которого следовало изба-
виться любой ценой»1.
Очень может быть, что Янко возил и оружие, но Лер-
монтов нам этого не сказал. Янко и его помощники уно-
сили с берега «узлы», в такой упаковке ружья, пистолеты,
шашки не перевозят. Если это были порох и пули, то из
них также не сделаешь узла. Груз был очень велик, напи-
сано в повести, может быть, в лодке и лежало оружие, но
автор не говорит о повторном приходе контрабандистов, и
следует думать, что они все доставленное Янко унесли с
собою.
2
Следующая часть повести открывается морским пей-
зажем. Печорин встречает утро в хате.
«Полюбовавшись несколько времени из окна на голу-
бое небо, усеянное разорванными облачками, на дальний
берег Крыма, который тянется лиловой полосою и конча-
ется утесом, на вершине коего белеется маячная башня,
я отправился в крепость Фанагорию, чтоб узнать от ко-
менданта о часе моего отъезда в Геленджик».
Заметьте,— о часе! Этот самоуверенный офицер, при-
выкший принуждать людей к подчинению, не сомневается,
1 Ираклий Андроников. Лермонтов. М., «Советский
писатель», 1951, стр. 209.
112
увидев суда, что они как бы предназначены ему. Но на
этот раз он ошибся: корабли должны были оставаться в
Тамани еще несколько дней. Точнее, «суда, стоящие в при-
стани, были все или сторожевые или купеческие, которые
еще даже не начинали нагружаться». Пристань — место
на берегу, оборудованное для причала судов. Мы говорим
«стоять у пристани», и похоже, что Лермонтов употребил
предлог неправильно. Автор этих строк попробовал спро-
сить у нескольких опытных преподавателей литературы
средней и высшей школы, что значат эти слова,—и ока-
залось, что особенность выражения, избранного Лермон-
товым, не была замечена, читали его как «суда, стоящие
у пристани».
В словаре Даля «пристань — где можно пристать и
успокоиться; приют, убежище, прибежище, притон, при-
клон, кров, скрывище, спокоище». Другое значение —
«место, улаженное для приставания судов; припоромок,
плот, помост на сваях, примост». Лермонтов применил это
слово в первом смысле — «приют, убежище». Мы сказали
бы — рейд, употребив вошедшее в наш язык голландское
и немецкое слово, что значит «место перед гаванью, при-
станью, где корабли могут стоять с полным грузом и во-
оруженьем» (Даль). В «Тамани» встречается занимаю-
щий нас термин и во втором смысле: «На дне лодки я на-
шел половину старого весла и кое-как, после долгих уси-
лий, причалил к пристани»; здесь, несомненно, имеется в
виду «плот» или «помост на сваях».
Отказ коменданта немедленно отправить Печорина
морем заставил его серьезно отнестись к своему положе-
нию. Случайно или нет, но кричавший накануне: «хоть к
чорту!» — он, возвратившись в хату, почти дружески го-
ворит своему казаку: «Да, брат, бог знает когда мы отсюда
уедем!»
Казак поддался чувству страха перед неизвестным и,
забывая о служебном неравенстве, шепчет офицеру:
«—Здесь нечисто! Я встретил сегодня черноморского
урядника; он мне знаком — был прошлого года в отря-
де; как я ему сказал, где мы остановились, а он мне:
«Здесь, брат, нечисто, люди недобрые!..» Да и в самом де-
ле, что это за слепой! ходит везде один, и на базар,
за хлебом, и за водой... уж видно, здесь к этому привыкли».
Понятие «нечисто» здесь впервые соотносится не с «не-
чистой силой», а с людьми, обитающими в хате, и прежде
ИЗ
всего — со слепым мальчиком, за которым уже следил
Печорин.
«— Да что ж? по крайней мере показалась ли хозяй-
ка?» — отвечает он казаку. Это значит, по-видимому, что
подозрения казака справедливы,—в безусловной незряче-
сти мальчика сомневался и Печорин,—но что ничего тут
поделать невозможно и теперь остается выяснить, чего
можно ожидать от владельцев хаты.
«— Сегодня без вас пришла старуха и с ней дочь.
— Какая дочь? У нее нет дочери.
а— А бог ее знает, кто она, коли не дочь; да вон стару-
ха сидит теперь в своей хате».
Казак тоже поминает бога, оба постояльца встревоже-
ны. Печорин допрашивает старуху, та притворяется глу-
хой, и он приступает к мальчику.
«— Ну-ка, слепой чертенок,— сказал я, взяв его за
ухо,— говори, куда ты ночью таскался с узлом, а?»
Мальчик плачет, старуха ворчит. «Мне это надоело,—
пишет Печорин,—и я вышел, твердо решившись достать
ключ этой загадки».
Дальше первый план отведен девушке.
«Я завернулся в бурку и сел у забора на камень, по-
глядывая вдаль: предо мной тянулось ночною бурею
взволнованное море, и однообразный шум его, подобный
ропоту засыпающего города, напомнил мне старые годы,
перенес мои мысли на север, в нашу холодную столицу.
Волнуемый воспоминаниями, я забылся...»
По всей вероятности, эти строки, вместе с другими,
подобными им, приходили на память Чехову, когда он
писал Я. П. Полонскому:
«...Может быть, я не прав, но лермонтовская «Тамань»
и пушкинская «Капитанская дочка», не говоря уж о прозе
других поэтов, прямо доказывают тесное родство сочного
русского стиха с изящной прозой»1.
Печорин отвлекся от ночных тревог, от ощущения,
что в доме «нечисто», просидел так час или более... «Вдруг
что-то похожее на песню,—говорит он,—поразило мой
слух. Точно, это была песня, и женский, свежий голосок,—
но откуда? ...Прислушиваюсь — напев странный, то про-
тяжный и печальный, то быстрый и живой. Оглядываюсь —
1 А. П. Ч е х о в. Полное собрание сочинений и писем, т. 14.
М., Гослитиздат, 1949, стр. 18.
114
никого нет кругом; прислушиваюсь снова — звуки как
будто падают с неба».
Каким легким тут стало изложение! Предыдущие
фразы были медлительны, слова в них протяжные —
«взволнованное», «однообразный», «поглядывая», «тяну-
лось», «засыпающего». И «вдруг»—песня. Печорин слу-
шает, смотрит — откуда звуки? Он стряхнул забытье, го-
тов искать, стремиться в погоню. И читатель ждет,— мо-
жет, и в самом деле с неба, дом-то ведь таинственный?
Но нет:
«Я поднял глаза: па крыше хаты моей стояла девушка
в полосатом платье, с распущенными косами, настоящая
русалка. Защитив глаза ладонью от лучей солнца, она при-
стально всматривалась вдаль, то смеялась и рассуждала
сама с собой, то запевала снова песню.
Я запомнил эту песню от слова до слова». Иначе было
нельзя,— по-другому не вставишь в текст слова песни.
Двойственность в характере девушки, в ее поведении
Печорин заметил сразу — она смеется и рассуждает сама
с собой, напев ее песни то протяжный, то быстрый. Но по-
чему девушка на крыше, под солнцем смотрящая вдаль,
показалась Печорину «настоящей русалкой»?
Ночная сцена у моря произвела на Печорина такое
впечатление, приход женщины на берег был настолько
неожиданным, что он как бы счел ее русалкой, втайне
для себя назвал этим именем и перенес его на первую
девушку, увиденную близ места вчерашней встречи.
Впрочем, Печорин не ошибся и понял это, когда слу-
шал пение. «Мне невольно пришло на мысль,—говорит
он,— что ночью я слышал тот же голос; я на минуту за-
думался, и когда снова посмотрел на крышу, девушки там
не было».
Несколько странно, пожалуй, что песня девушки,—
Как по вольной волюшке —
По зелену морю,
Ходят все кораблики
Б ел опару сники,—
эта песня, состоящая из пяти строф, не заинтересовала
многочисленных комментаторов сочинений Лермонтова,
ей не подыскано параллелей в устном народном творчестве
и в стихах самого поэта. Однако разбор этой песни выхо-
дит за пределы нашей работы.
115
от величайшего беспокойства к полной неподвижности, те
же загадочные речи, те же прыжки, странные песни...»
Под вечер Печорин затевает разговор с девушкой:
«—- Скажи-ка мне, красавица, — спросил я,— что ты
делала сегодня на кровле?
— А смотрела, откуда ветер дует.
— Зачем тебе?
— Откуда ветер, оттуда и счастье.
— Что же? разве ты песнею зазывала счастье?
— Где поется, там и счастливится.
— А как неравно напоешь себе горе?
— Ну что ж? где не будет лучше, там будет хуже, а от
худа до добра опять недалеко.
— Кто ж тебя выучил эту песню? (Лермонтов избрал
винительный падеж вместо дательного — «этой песне». —
А.З.)
— Никто не выучил; вздумается — запою; кому услы-
хать, тот услышит; а кому не должно слышать, тот не
поймет» и т. д.
Речи девушки и верно загадочны, говорит она одно,
подразумевает другое. Возможно, что Лермонтов желал
отчасти передать условный характер жаргона контрабан-
дистов, воровской «музыки»,— девушка ведь была связа-
на с такими людьми.
Печорин, выслушав затейливые ответы и ничего не
поняв из них, закончил неудавшийся разговор угрозой
донести о виденном коменданту Тамани. «Последние сло-
ва мои, — замечает он, — были вовсе не у места; я тогда
не подозревал их важности, но впоследствии имел случай
в них раскаяться».
Начинается четвертая, заключительная часть повести.
«Только что смерклось, я велел казаку нагреть чайник
по-походному, засветил свечу и сел у стола, покуривая из
дорожной трубки».
В очерке «Кавказец» Лермонтов писал, что «настоя-
щий» кавказский офицер «франтит своей беспечностью и
привычкой переносить неудобства военной жизни, он во-
зит с собой только чайник, и редко на его бивачном огне
варятся щи» (VI, 350). О том же говорится в повести
«Бэла»: «Я пригласил своего спутника выпить вместе ста-
кан чая, ибо со мной был чугунный чайник — единствен-
ная отрада моя в путешествиях по Кавказу» (VI, 206).
Таким образом, из текста явствует, что Печорин приезжа-
118
ет в Тамань, уже обладая опытом кавказской жизни, на-
учившим его ценить стакан горячего чая. Однако что
значат слова «нагреть чайник по-походному»? Относятся
они к способу разведения огня, к быстроте процесса ки-
пячения воды? Неясно. В походе ли, в лагере, на зимних
квартирах — везде необходимо довести температуру воды
для чая до 100 градусов по Цельсию. Общий-то смысл
фразы понятен —- «по-походному» скоро нужно было при-
готовить чай.
Но вот в хату является девушка. Склад речи автора
становится торжественным, сказуемое он ставит за подле-
жащим, удлиняет фразу с помощью союза «и»:
«...Я вздрогнул и обернулся —то была она, моя Унди-
на! Она села против меня тихо и безмолвно и устремила
на меня глаза свои, и не знаю почему, но этот взор пока-
зался мне чудно-нежен; он мне напомнил один из тех
взглядов, которые в старые годы так самовластно играли
моею жизнью. Она, казалось, ждала вопроса, но я молчал,
полный неизъяснимого смущения...»
«...Вдруг она вскочила, обвила руками мою шею, и
влажный, огненный поцелуй прозвучал на губах моих.
В глазах у меня потемнело, голова закружилась, я сжал
ее в моих объятиях со всею силою юношеской страсти, но
она, как змея, скользнула между моими руками, шепнув
мне на ухо: «Нынче ночью, как все уснут, выходи на бе-
рег», — и стрелою выскочила из комнаты».
Как будто бы в сцене появления девушки Лермонтов
пародирует литературную манеру Марлинского, чтобы
резче ощутил читатель комизм следующего эпизода пове-
сти, в котором рассказано, как девушка чуть не утопила
офицера. В одной из статей Белинского 1840 года выписа-
на такая цитата из названного автора:
«Не умею описать, что со мною сталось, когда, обви-
вая тонкий стан ее рукою, трепетною от наслаждения, я
пожимал другой ее прелестную ручку; казалось, кожа пер-
чаток приняла жизнь, передавала биение каждой фибры...
казалось, весь состав Полины прыщет искрами! Когда по-
мчались мы в бешеном вальсе, ее летающие душистые ло-
коны касались иногда губ моих...» ! и т. д.
В романтическом духе Лермонтов описывает выход
1 В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. IV. М.,
Изд-во Академии паук, 1954, стр. 49.
119
Печорина на берег, куда он пошел вслед за девушкой.
«Месяц еще не вставал, и только две звездочки, как два
спасительные маяка, сверкали на темно-синем своде. Тя-
желые волны мерно и ровно катились одна за другой, едва
приподымая одинокую лодку, причаленную к берегу».
Они вошли в лодку и поплыли в море. «Что это зна-
чит?» — сказал я сердито. «Это значит, — отвечала она,
сажая меня на скамью и обвив мой стан руками, — это
значит, что я тебя люблю...» И щека ее прижалась к моей,
и я почувствовал на лице моем пламенное дыхание».
Но сцена утрачивает любовный характер и речь автора
принимает бытовую окраску торопливого рассказа о слу-
чившемся:
«Вдруг что-то шумно упало в воду: я хвать за пояс —
пистолета нет. О, тут ужасное подозрение закралось мне
в душу, кровь хлынула мне в голову! Оглядываюсь — мы
от берега около пятидесяти сажен, а я не умею плавать!
Хочу оттолкнуть ее от себя —- она как кошка вцепилась в
мою одежду» и т. д.
В лодке идет борьба не на жизнь, а на смерть, и Лер-
монтов воспроизводит ее в подробностях.
«Ты видел, — отвечала она, — ты донесешь!» — и
сверхъестественным усилием повалила меня на борт; мы
оба по пояс свесились из лодки; ее волосы касались воды;
минута была решительная. Я уперся коленкой в дно,
схватил ее одной рукой за, косу, другой за горло, она вы-
пустила мою одежду, и я мгновенно сбросил ее в волны.
Было уже довольно темно; голова ее мелькнула раза
два среди морской пены, и больше ничего я не видал...»
Но девушка не утонула. Добравшись до берега, Печо-
рин замечает ее, вновь подслушивает контрабандистов и
видит сцену их расставанья.
С моря приплывает Янко. Девушка сообщает ему, что
«все пропало», слепой приносит в лодку мешок с веща-
ми—и Янко прощается с ним. Читатель узнает, что у
контрабандистов есть тайник, где хранятся богатые това-
ры, и слепой должен его «беречь», что они служили ка-
кому-то хозяину, который им плохо платил за труды, и
потому Янко его оставляет. По-видимому, решение пере-
браться в другое место Янко принял ранее, и намерение
Печорина донести коменданту только ускорило развязку.
«Между тем моя Ундина вскочила в лодку и махнула
товарищу рукой; он что-то положил слепому в руку, про-
120
молвив: «На, купи себе пряников». — «Только?» — сказал
слепой. «Ну, вот тебе еще», — и упавшая монета зазвене-
ла, ударяясь о камень. Слепой ее не поднял. Янко сел в
лодку, ветер дул от берега, они подняли маленький парус
и быстро понеслись. Долго при свете месяца мелькал бе-
лый парус между темных волн; слепой все сидел на бере-
гу, и вот мне послышалось что-то похожее на рыдание,
слепой мальчик точно плакал, и долго, долго... Мне стало
грустно».
Приведя в своей книге о Лермонтове эту цитату,
Л. Я. Гинзбург замечает:
«Здесь искусство выразительности, достигаемой крат-
чайшим способом, доведено до предела. Предложение ку-
пить пряников содержит исчерпывающую характеристику
взаимоотношений слепого и его сообщников. «Слепой ее
не поднял» — так определяется душевное состояние сле-
пого в роковой для него момент. Быстрое, сухое повество-
вание внезапно замедляется фразой: «Слепой мальчик
точно плакал, и долго, долго...» Логически неоправданное
повторение последнего слова потрясает читателя, как буд-
то бы с этим повторением прорвалась наружу вся скрытая
эмоциональность сцены.
Вероятно, будущее творчество Лермонтова развивалось
бы из этих именно стилистических основ» !.
Однако вряд ли это предположение справедливо. Так
была бы написана в будущем новая «Тамань», а вместо
нее появилась «Княжна Мери», где пушкинская лаконич-
ность и скрытая эмоциональность были оттеснены лермон-
товским психологическим анализом, реалистическим изоб-
ражением характеров и обстоятельств.
Итак, «Мне стало грустно. И зачем было судьбе кинуть
меня в мирный крут честных контрабандистов? Как ка-
мень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их
спокойствие и, как камень, едва сам не пошел ко дну».
Но разве круг контрабандистов такой уж «гладкий
источник», то есть спокойный, незамутненный, тихий?
Вроде бы нет. А этот «источник» мы встречали у Лермон-
това раньше, в «Вадиме», и слова о нем отнесены к Ольге,
воспитаннице дворянина Палицына, о которой сказано,
1 Л. Гинзбург. Творческий путь Лермонтова. Л., ГИХЛ,
1940, стр. 188.
121
что «это был ангел, изгнанный из рая за то, что слишком
сожалел о человечестве» (VI, 11).
Лермонтов пишет:
«О, как Ольга была прекрасна в эту первую минуту
самопознания, сколько жизни невинной, обещающей жиз-
ни было в стесненном дыхании этой полной груди, где би-
лось сердце, обещанное мукам и созданное для райского
блаженства...
Надобно было камню упасть в гладкий источник»
(VI, 38).
Сравнение, придуманное сначала для Ольги, создания
кроткого и невинного, Лермонтов перенес в «Тамань», не
заменив эпитета «гладкий» на более подходящий для ком-
пании контрабандистов: ему был нужен не «источник», а
«камень» — брошен в воду и чуть не пошел ко дну. Вид
источника роли в новом тексте не играл.
Возвратившись домой, Печорин застал спящим своего
казака и увидел, что шкатулка и дорогое оружие исчез-
ли — их украл слепой.
«Слава богу, поутру явилась возможность ехать, и я
оставил Тамань. Что сталось с старухой и с бедным сле-
пым—не знаю (в журнале было: «с бедной старухой и
мнимым слепым», —Л. 3.). Да и какое дело мне до радо-
стей и бедствий человеческих, мне, странствующему офи-
церу» Да еще с подорожной по казенной надобности!»
Так заканчивается «Тамань». А тайну ее обаяния от-
крыл Белинский:
«Мы не решились делать выписок из этой повести, по-
тому что она решительно не допускает их: это словно
какое-то лирическое стихотворение, вся прелесть которого
уничтожается одним выпущенным или измененным не
рукою самого поэта стихом; она вся в форме; если выпи-
сывать, то должно бы ее выписать всю от слова до слова;
пересказывание ее содержания даст о ней такое же поня-
тие, как рассказ, хотя бы и восторженный, о красоте
женщины, которой вы сами не видели. Повесть эта отли-
чается каким-то особенным колоритом: несмотря на про-
заическую действительность ее содержания, все в ней та-
инственно, лица — какие-то фантастические тени, мель-
кающие в вечернем сумраке, при свете зари или месяца.
Особенно очаровательна девушка: это какая-то дикая,
сверкающая красота, обольстительная, как сирена, неуло-
вимая, как ундина, страшная, как русалка, быстрая, как
122
прелестная тень или волна, гибкая, как тростник...» (IV,
226).
Белинский умел объяснять Лермонтова...
3
Как возникла эта повесть, каково ее место в системе
«Героя нашего времени»?
Неясно.
«История замысла и писания «Героя нашего времени»
совершенно неизвестна», — говорит Б. М. Эйхенбаум в
работе, посвященной этой книге 1.
Литературная наука тут еще не сумела помочь вни-
мательному читателю. Тогда, быть может, не покажется
бесполезной попытка подойти к тексту «Героя нашего
времени» с профессиональной редакторской стороны,
сравнить журнальные публикации повестей с отдельным
изданием романа в надежде понять приемы объединения
глав и характер правки, проведенной Лермонтовым?
А почему бы и нет? Работа не потребует особых ра-
зысканий, сведения о рукописях и вариантах собраны и
прокомментированы лучшими знатоками жизни и творче-
ства Лермонтова, и с благодарностью нужно воспользо-
ваться ими.
Итак, рукописными источниками текста «Героя нашего
времени» служат два варианта предисловия к роману, ав-
тограф предисловия к «Журналу Печорина», авторизован-
ная копия «Тамани» и тетрадь, за исключением четырех
десятков строк (3000 знаков), написанная рукой Лермон-
това, в которой находятся тексты «Максима Максимыча»,
«Фаталиста» и «Княжны Мери», как можно думать —
впервые положенные автором на бумагу.
Печатные источники суть:
«Бэла. Из записок офицера о Кавказе». «Отечествен-
ные записки», 1839, № 3.
«Фаталист». Там же, 1839, № И. После заглавия —
авторское предисловие: «Предлагаемый здесь рассказ на-
1 Б. М. Эйхенбаум. Роман М. 10. Лермонтова «Герой на-
шего времени». В кн.: «М. 10. Лермонтов. «Герой нашего времепи».
Издание подготовили Б. М. Эйхенбаум и Э. Э. Найдич. М., Изд-во
Академии наук, 1962, стр. 125.
123
мыча. Он делает это позже, в 1841 году, когда готовит для'
издания А. П. Башуцкого «Наши, списанные с натуры
русскими» очерк «Кавказец». Это обобщенный, безымен-
ный портрет многих и многих безвестных кавказских офи-
церов. Здесь Лермонтов дал беглый, но исчерпывающий
контур жизненного пути своего собирательного «Максима
Максимыча» от юношеского романтического влечения из
кадетского корпуса до печального возвращения на родину
бездомным стариком или смерти от пули «в земле басур-
манской» \
Но разве «кавказец» так уж похож на Максима Макси-
мыча? Из текста «Героя нашего времени» вовсе не следу-
ет, что Максим Максимыч обучался в кадетском корпусе,
отправился на Кавказ под влиянием литературных произ-
ведений и на всю жизнь остался их поклонником. Нет у
штабс-капитана и «страсти ко всему черкесскому», кото-
рая у «кавказца» из очерка Лермонтова «доходит до не-
вероятия». Не франтит Максим Максимыч и «своей бес-
печностью» — известно, что он «имел глубокие сведения в
поваренном искусстве: он удивительно хорошо зажарил
фазана, удачно полил его огуречным рассолом, и я дол-
жен признаться, что без него пришлось бы остаться на
сухоядении» (VI, 239). А ведь на бивачном костре «кав-
казца» редко «варятся щи». Наконец, Максим Максимыч
свободен «от гибельной для русского человека привычки»
и но нуждается в жене, которая предохраняла бы его от
вина, как того нужно «кавказцу».
Однако слова Лермонтова: «настоящий кавказец че-
ловек удивительный, достойный всякого уважения и уча-
стия» — могут быть в полной мере отнесены к Максиму
Максимычу. И это он «приобретает опытность, становится
холодно-храбр и смеется над новичками, которые подстав-
ляют лоб без нужды», и ему «чины нейдут».
А вот кто мог бы, живи он дальше, приобрести все чер-
ты описанного Лермонтовым «кавказца» — это Грушниц-
кий. Чтение Марлиыского, склонность к пышным фразам,
желание производить эффект, мечты о «рыцарских подви-
гах» уверяют пас в том, что «даже в Воронежской губер-
нии» ои пе снимет шашки и будет рассказывать, что бил
из ружья па четыреста сажен в цель. Марлиттский толкнул
1 Е. Михайлова. Проза Лермонтова. М., ГИХЛ, 1957,
стр. 281.
126
бы его и к увлечению Кавказом, как о том с необычайной
глубиной и краткостью говорит Лермонтов про своего
«кавказца»: «Чуждый утонченной светской и городской
жизни, он полюбил жизнь простую и дикую; не зная исто-
рии России и европейской политики, он пристрастился к
поэтическим преданиям народа воинственного». Таковы
эти научные определения характера «кавказца», которые
сделали бы честь и Пушкину.
Таким образом, в своем очерке Лермонтов наметил
фигуры «кавказцев», изложил результаты наблюдений
над типами офицеров, встреченных им на Линии, и под-
готовился к детальному их изображению в задуманном
цикле повестей.
Но кое-что в «Кавказце» нашлось и на долю Печори-
на. Припомним фразу:
«Он одно время мечтал о пленной черкешенке, но те-
перь забыл и эту почти несбыточную мечту». Для рядо-
вого кавказца черкешенка была мечтой. А «герой нашего
времени» не привык встречать препятствий своим жела-
ниям, по крайней мере, в общении с женщинами — и он
себе черкешенку добывает, просто и дешево — за лошадь
Казбича, которую похитил Азамат, когда Максим Макси-
мыч поил хозяина в крепости чаем... Не совсем ясно, прав-
да, почему Азамат не мог подкараулить лошадь и раньше,
должен был расплатиться за нее сестрой, но дело не в
мотивировках, когда писателю удается развить свою идею.
Казалось бы, внимательному читателю должно быть
видно, что в очерке «Кавказец» Лермонтов очертил фи-
гуру русского офицера, которую затем принялся разраба-
тывать в «Герое нашего времени», раздав отдельные чер-
ты Максиму Максимычу, Грушницкому и сделав эпизод
похищения черкешенки сюжетом повести «Бэла». И как
можно поверить тому, что Лермонтов, написавши роман,
пожелал конспективно рассказать о типе кавказского офи-
цера в крохотном очерке? Разве не доказывается литера-
турным опытом, что часто очерк служит основой романа
и никогда еще не бывало обратного процесса?
Из редакционного примечания, которым снабжен «Фа-
талист», явствуют по крайней мере два факта: в сентяб-
ре — октябре 1839 года, когда готовился номер журнала,
Лермонтов был автором напечатанных («Бэла»), печата-
ющихся («Фаталист») и еще не видевших света повестей;
он предполагал вскоре выпустить их собрание. Редакция
127
знала, что книга будет подарком читателю: отзыв Белин-
ского о повести «Бэла» появился в четвертой, апрельской,
книжке «Отечественных записок». Намерения Лермонтова
объединить повести общим сюжетом в редакционном при-
мечании не чувствуется, а ведь известно, что издатель
журнала Краевский был осведомлен о его литературных
трудах и замыслах.
Через три месяца после «Фаталиста» в журнале по-
явилась «Тамань», как продолжение публикации записок
Печорина, чье имя было названо в «Бэле». Однако тогда
не упоминалось, что Печорин вел какие-то записки! Чи-
татель узнал об этом позже. Достоверно то, что ко време-
ни печатания «Фаталиста» у Лермонтова был план созда-
ния записок Печорина и что очерк «Максим Максимыч»
уже существовал в изложении.
Так оно и есть: вспомним о тетради Лермонтова с тек-
стами «Максима Максимыча», «Фаталиста» и «Княжны
Мери». В первом из них огорченный равнодушием Печо-
рина штабс-капитан разрешает автору взять выброшен-
ные им из чемодана тетрадки бывшего сослуживца. Очерк
в автографе после слов «Я остался один» заканчивался
так:
«Я пересмотрел записки Печорина, и заметил по не-
которым местам, что он готовил их к печати, без чего, ко-
нечно, я не решился бы употребить во зло доверенность
(вместо зачеркнутого «подарок». — А. 3.) штабс-капита-
на...» и т. д. (VI, 570).
Из этой своей тетради Лермонтов или кто-либо по его
поручению, — очевидно, это мог быть А. П. Шан-Гирей, —
переписал «Фаталиста» для передачи в редакцию «Оте-
чественных записок», сопроводив текст примечанием,—
автор-то знал, что Печорин ведет записки, хотя не сооб-
щал пока об этом читателю.
«Княжну Мери» Лермонтов отдельно не печатал, ве-
роятно, потому, что читателя следовало подготовить к
восприятию ее содержания, познакомить с героем,
что можно было сделать пе в кратком примечании, а во
вступительных главах, предваряющих эту повесть. Раз-
меры ее — четыре авторских листа — также могли препят-
ствовать помещению в номер — повесть вдвое длиннее
«Бэлы», в восемь раз больше «Фаталиста» и «Тамани»,
она должна была занять собой весь отдел «Словесность», а
печатать ее в двух книжках — значило ослаблять успех у
128
читателей. «Максим Максимыч» и не мог рассчитывать
на особую публикацию по причине своего вспомогательно-
го характера: очерк был нужен для связи произведения в
целом, хотя литературные достоинства его чрезвычайно
велики.
Рукописная тетрадь Лермонтова уже обладала назва-
нием, предвещавшим ее будущее громкое имя (VI, 649).
На обложке было написано:
«Один из героев начала века».
Стало быть, ко времени появления «Фаталиста», то есть
примерно к половине октября 1839 года, когда №11 «Оте-
чественных записок» сдавался в набор, книга Лермонтова
была уже создана, хотя части ее еще жили раздельно. На-
звание каждой повести состояло из имени или обозначения
по характерной черте человека, связанного в данном эпи-
зоде с Печориным. Исключение представляет «Тамань» —
название морского порта, но, во-первых, в этой повести нет
близкого герою человека, а во-вторых, у «Тамани» свое
место в цикле.
В автографе «Максима Максимыча» после названия
идет такой текст:
«Из записок офицера
II»
Этим очерком начинается тетрадь. Почему же ему дан
второй порядковый номер? Первый предназначался «Бэле»,
с которой «Максима Максимыча» связывал и подза-
головок «Из записок офицера». Повесть была уже опуб-
ликована в журнале, и заносить ее в тетрадь не приходи-
лось.
Над заголовком «Фаталиста» стоят слова: «ЛистоЫ
Тетрадь III», а рядом написано й подчеркнуто: «уж напе-
чатано» (VI, 607). Эта отметка была сделана после появ-
ления повести в журнале, для которого она ранее перепи-
сывалась из этой тетради. Цифра же три, изображенная
римским знаком, может относиться к тетрадям записок
Печорина, выброшенным штабс-капитаном: «Фаталист»
идет ведь после «Тамани» и «Княжны Мери» в оконча-
тельном тексте, то есть третьим номером, третьей тетрадью
5 А. Западов
129
(VI, 657). Недоконченное слово «листок» (?), может быть,
предполагало продолжение «листок из тетради», на ходу
отвергнутое.
«Княжна Мери» номеров и пометок не имеет, и это
лишь подчеркивает особое положение повести.
«В сохранившихся письмах Лермонтова, — говорит
Б. М. Эйхенбаум, — нет упоминаний ни о замысле «Героя
нашего времени», ни о работе над ним... Порядок написа-
ния повестей определить трудно. Вполне возможно, что
«Тамань» была написана раньше других, когда мысли о
романе еще не было. «Бэла» написана, конечно, раньше
«Максима Максимыча» (VI, 656). Как полагает исследо-
ватель, «работа над «Героем нашего времени» разверну-
лась не раньше 1838 года» (VI, 657), а закончен он был
в 1839-м или в самом начале 1840 года: первое издание
романа дозволено цензурой 19 февраля и поступило в про-
дажу в апреле 1840 года.
Мысль о том, что «Тамань» создана прежде других
повестей, хочется подкрепить дополнительными сообра-
жениями. Никаких связей «Тамани» с остальными частя-
ми произведения не обнаружить ни в журнальном тек-
сте, — о том упомянуто лишь в подстрочном примечании
редакции, — ни в отдельном издании, где связь показана
только местоположением текста в «Журнале Печорина».
Общность могут создавать черты характера персонажа?
Да, это так, однако нетрудно увидеть, что если офицер в
«Тамани» кое в чем сходен с героем «Княжны Мери», то
во многом от него и отличается. Настоящий Печорин вряд
ли стал бы вести допрос приморских нищих, грозить до-
нести коменданту, — он сам творил свой суд. Поэтому
естественно было бы думать, что в этой повести Лермон-
тов изложил впечатления об одном из эпизодов своего пре-
бывания на Кавказе в 1837 году. Известно, что в первой
половине сентября он едет в Тамань, чтобы далее отпра-
виться в Анапу или в Геленджик (VI, 822), а в октябре
возвращается в Ставрополь «совсем без вещей, которые, у
него были украдены» (VI, 823). Известно также, где оста-
навливался в Тамани Лермонтов и какие люди жили в опи-
санном им домике на берегу моря. Первый опыт прозаиче-
ского рассказа на кавказскую тему оказался необыкновенно
удачным и повел к продолясению трудов. Лермонтов наблю-
дал, оценивал встречавшихся по службе людей — и сгруп-
пировал затем свои выводы в очерке «Кавказец».
130
4
Лишь после таких предварительных шагов Лермонтов
приступил к осуществлению крупного замысла — записок
офицера на Кавказе.
Так возникли «Бэла», «Максим Максимыч», «Фата-
лист», повести, в которых, по выражению В. В. Виногра-
дова, «авторские приемы отражают и реалистический ме-
тод воспроизведения и новизну гибридного жанра — путе-
вого очерка с вставной драматической новеллой» \
Но вот началась работа над «Княжной Мери» — и Лер-
монтов понял, что все, ранее сделанное им, — была только
подготовка, что лишь теперь он вышел к цели и создал
«Героя нашего времени».
Как показал Б. М. Эйхенбаум, «по своему материалу
эта повесть стоит ближе всего к так называемой «светской
повести» 30-х годов с ее балами, дуэлями и пр., но у Лер-
монтова все приобретает иной смысл и характер, посколь-
ку в основу положена совсем новая задача: развернуть
картину сложной духовной жизни «современного челове-
ка». Здесь завершены те опыты, которые были начаты в
романе «Княгиня Лиговская» и в драме «Два брата» (VI,
664).
С появлением в «Княжне Мери» Печорина, выписан-
ного столь четко и обстоятельно, «собрание повестей» Лер-
монтова, которого ждали читатели, получало общий стер-
жень, центральную фигуру, вокруг которой могли распо-
лагаться уже вышедшие в печать персонажи. Печорина
же легко было узнать во всех повестях — автор отдал ему
некоторые черты своей сложной и противоречивой лично-
сти и сходный характер изображал под именами Арбени-
на, Радина, Мцыри, Измаила...
Дальше писатель передал перо в руки редактора —
Лермонтов принялся соединять повести в книгу. Ее на-
звание было уже отковано:
«Герой нашего времени».
Порядок расположения повестей тоже как будто бы
намечался. Во всяком случае, «Бэла» и «Максим Макси-
мыч» начинали книгу, они были связаны в тексте.
1 В. В. Виноградов. Стиль прозы Лермонтова. «Литератур-
ное наследство», т. 43—44. М., Ивд-во Академии наук, 1041, стр. 573.
Б*
131
Лермонтов пересмотрел текст «Бэлы» — исправен.
Лишь в последнем абзаце нужно вычеркнуть слово. В жур-
нале автор, прощаясь с Максимом Максимычем, примол-
вил: «Мы не надеялись никогда более встретиться, однако
встретились, и если хотите, я когда-нибудь расскажу: это
целая история...» (VI, 565). В книге это время настало, и
«когда-нибудь» автору не понадобилось.
Лишним стал также подзаголовок повести — «Из
записок офицера на Кавказе»,— теперь готовилось цель-
ное произведение.
Во втором очерке «Максим Максимыч» подзаголовок
«Из записок офицера» был снят по той же причине. В ру-
кописи после него намечался эпиграф:
«...и они встретились.
Один сочинитель».
О том, что встреча персонажей состоялась, читатель
знал уже из «Бэлы», эпиграф же содержал только это
утверждение и ничего более. Если бы читателю был изве-
стен контекст, в котором находились бы такие слова, они
могли приобрести какое-то глубокое, оригинальное зву-
чание, однако Лермонтов лишил их контекста, написав,
что принадлежат они «одному сочинителю». Готовя
книгу, Лермонтов зачеркнул эпиграф. Тем самым было
достигнуто уравнение повестей — эпиграфов не стало
нигде.
В тексте очерка Лермонтов убрал сравнение Печорина
с тигром, носившее неприкрыто романтический характер:
«Если верить тому, что каждый человек имеет сходство с
каким-нибудь животным, то конечно Печорина можно
было сравнить только с тигром; сильный и гибкий, ласко-
вый или мрачный, великодушный или жестокий, смотря
по внушению минуты, всегда готовый на долгую борьбу...»
и т. д. (VI, 568). Осталось так: «С первого взгляда на
лицо его я бы не дал ему более двадцати трех лет».
Как отмечалось выше, в конце очерка о Максиме Мак-
симыче Лермонтов от имени рассказчика заявил о его
намерении печатать записки Печорина (VI, 570). Новое
решение — создавать единую в своем замысле книгу — за-
ставило Лермонтова искать способы связи повестей меж-
ду собою, обладающие необходимой достоверностью. Но-
вых повестей он писать не пожелал: в «Княжне Мери»
Ш
было высказано все, что лежало на душе. Но собрание
повестей нужно было спрыснуть живой водой воображе-
ния для того, чтобы они слились в историю человеческого
характера, героя нашего времени.
Лермонтов поступил гениально просто. Он составил из
трех повестей — «Тамань», «Княжна Мери» и «Фата-
лист» — «Журнал Печорина», сочинил к нему краткое пре-
дисловие, в котором объявил о смерти автора, приклеил
его к листу тетради, на котором начинался автограф «Мак-
сима Максимыча», — и дело было закончено. Печорин по-
лучил полную биографию — «в моих руках осталась тол-
стая тетрадь, где он рассказывает всю жизнь свою. Когда-
нибудь и она явится на суд света; но теперь я не смею
взять на себя эту ответственность по многим важным при-
чинам». А возвращаясь из Персии, — отъезд его мы виде-
ли, — Печорин скончался.
Какая условная и могучая вещь — искусство! Несколь-
кими фразами Лермонтов заставил нас увидеть всю жизнь
Печорина, убедил в том, что жить он мог только так, и не
иначе, и должен был умереть в пути.
Но эти несколько фраз придумал и написал гениаль-
ный человек.
Остальное оказалось несложно. «Тамань», как вещь
нейтральная, открыла журнал, «Княжна Мери» встала в
центре, а «Фаталист», где говорится о том, что Печорин
выиграл в схватке со смертью, как бы вносит в конец ма-
жорную ноту и заставляет забыть извещение о печальной
судьбе героя, содержащееся в предисловии к журналу.
В «Тамани» Лермонтов снял фразу о том, что «любо-
пытство вещь свойственная всем путешествующим и запи-
сывающим людям», пропущенную им по недосмотру в
журнальной публикации: ранее она уже попадалась в
«Бэле» (VI, 208). Читая все подряд, Лермонтов заметил
это повторение. «В рукописи «Княжны Мери» подверга-
лись сильной переделке прощальное письмо Веры и по-
следующие размышления Печорина» (VI, 666).
Как видим, Лермонтов, готовя издание «Героя нашего
времени», ограничился лишь самыми небольшими по-
правками ранее написанных и напечатанных текстов, не
стал выравнивать характер образа рассказчика, имеющий
некоторые отличия в разных повестях, и более того — на-
писал предисловие к «Журналу Печорина» как бы его
рукою. Трудно представить себе, что скромный собеседник
133
Максима Максимыча, старавшийся вытянуть из него
«историйку» и отнюдь не разочарованный жизнью, будет
писать такие строки:
«Добро бы я был еще его другом: коварная нескром-
ность истинного друга — понятна каждому; но я видел
его только раз в моей жизни на большой дороге, следова-
тельно не могу питать к нему той неизъяснимой ненави-
сти, которая, таясь под личиной дружбы, ожидает только
смерти или несчастия любимого предмета, чтоб разразить-
ся над его головой градом упреков, советов, насмешек и
сожалений».
Тут ясно слышен голос Печорина, но для Лермонтова
это уже не имело значения: все сделано. Белинский заме-
тил их близость:
«Вообще, хотя автор и выдает себя за человека, совер-
шенно чуждого Печорину, но он сильно симпатизирует с
ним, и в их взгляде на вещи — удивительное сходство»1.
В отзыве о первом издании романа Белинский писал:
«Читателям «Отечественных записок» уже известны
три отрывка из «Героя нашего времени»: «Бэла», «Фата-
лист» и «Тамань», по которым они могут догадываться
о достоинстве целого произведения. Говорим — догады-
ваться, потому что «Герой нашего времени» отнюдь не
есть собрание нескольких повестей, изданных в двух
книжках и связанных только общим названием: нет, это
не собрание повестей и рассказов — это роман, в котором
один герой и одна основная идея, художнически развитая.
Кто не читал самой большой повести этого романа —
«Княжны Мери», тот не может судить ни об идее, ни о
достоинстве целого создания. Основная идея романа разви-
та в главном действующем лице — Печорине, а Печорина
вы видите героем романа только во второй части, которая
начинается «Княжною Мери»; «Бэла», «Максим Макси-
мыч» и «Предисловие» (нигде не напечатанное прежде)
только возбуждают в сильной степени ваше любопытство
таинственным характером героя, с которым вы вполне зна-
комитесь только через «Княжну Мери»; по прочтении этой
повести и сама «Бэла» предстает перед вами в новом
свете» 2.
1 В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. IV. М.,
Изд-во Академии наук, 1954, стр. 262.
2 Там же, стр. 146.
134
Романом назвал «Героя пашего времени» Белинский.
Автор на титульном листе книги, после заглавия, поста-
вил: «Сочинение М. Лермонтова». Своего «Вадима» он
именовал «романом» (VI, 414, 703), этим термином опре-
делял «Княгиню Лиговскую» (VI, 445), а «Герой нашего
времени» остался для него «сочинением».
Рукопись была подготовлена, вероятно, в январе
1840 года, цензурное разрешение помечено 19 февраля,—
накануне, 18-го, Лермонтов на Черной речке стрелялся с
де Барантом, сыном французского посла,— и вскоре первое
издание «Героя нашего времени» вышло, напечатанное в
типографии Ильи Глазунова и компании.
Издание состояло из двух частей — томов. В первой
части содержались «Бэла», «Максим Максимыч», преди-
словие к «Журналу Печорина» и «Тамань» (стр. 1—173);
во второй — «Княжна Мери» и «Фаталист» (стр. 1—250).
Тираж каждой части — 1000 экземпляров, цена за обе —
5 рублей 60 копеек.
Семь с третью авторских листов «Героя нашего време-
ни» были разогнаны на четыреста двадцать с липшим стра-
ниц и заняли два тома! Впрочем, это не удивительно,
потому что полоса — страница — набора заключала только
660 знаков — двадцать строк, зато поля были чрезвычайно
большими и длина полосы почти вдвое превышала ши-
рину.
«Герой нашего времени» явился перед читателем в
двух частях. При избранном формате объединенный том
был бы слишком толст и тяжел. Разбивка произведений
по двум книгам проведена целесообразно. Правда, было
бы естественней не дробить «Журнал Печорина», отделяя
«Тамань» от двух его повестей,— но тогда в первой части
было бы 150 страниц, а во второй более двухсот восьмиде-
сяти, различие объема выступило бы очень заметно. Все
же самое существенное, думается, в том, что Лермонтов
желал поставить «Княжну Мери» не в середину книги, а
в ее начало, подчеркнув значение этой повести.
Лермонтов в мае 1840 года отправился из Петербурга
на Кавказ, участвовал в боевых действиях против горцев,
при Валерике «явил новый опыт хладнокровного мужест-
ва», «действовал всюду с отличной храбростью и знанием
военного дела» (VI, 856), получил отпуск и в первых чис-
лах февраля 1841 года прибыл в Петербург. За время его
отсутствия в печати появилось несколько статей о «Героо
135
нашего времени», роман высоко оценил Белинский, на
Лермонтова напали реакционные критики, а типографщик
Глазунов принялся готовить второе издание.
Приезд Лермонтова, очевидно, ускорил старания Гла-
зунова, и 19 февраля 1841 года цензор Корсаков разре-
шил издание «Героя нашего времени»,—но лишь первой
его части (VI, 860).
Что это значит? Где вторая часть? Можно понять за-
держку, когда готовится издание новой книги — второй
том ее не закончен,— медленно идет переписка и т. п.
Но роман перепечатывается без каких-либо изменений.
Без перемены текста? Да. Однако — с добавлением, и
на эту подробность стоит обратить внимание: Лермонтов
пожелал написать еще одно предисловие для «Героя на-
шего времени». Нужно полагать, что сообщил он об этом
Глазунову после того, как первая часть прошла цензуру.
Понемногу она печаталась, в апреле тираж был готов
(VI, 862),— а вторая часть не двигалась с места — автор
не сдавал обещанного предисловия.
Дела его сложились плохо. «...Здесь остаться у меня
нет никакой надежды,— пишет он одному из друзей,—
ибо я сделал вот такие беды: приехав сюда в Петербург
на половине масленицы, я на другой же день отправился
на бал к г-же Воронцовой, и это нашли неприличным и
дерзким. Что делать? ...9 марта отсюда уезжаю заслужи-
вать себе на Кавказе отставку...» (VI, 457—458).
И вместе с тем — три месяца, проведенные Лермонто-
вым в столице, как пишет Е. П. Растопчина, были «самые
счастливые и блестящие в его жизни. Отлично принятый
в свете, любимый и балованный в кругу близких...» и т. д.
(VI, 862), он думал об отставке, мечтал посвятить себя
литературному труду, издавать журнал — и вдруг полу-
чил предписание в сорок восемь часов покинуть Петербург
и следовать на Кавказ, в Тенгинский пехотный полк.
С приказами не шутят. Лермонтов заканчивает дела,
прощается с друзьями. Карандашом в альбоме набрасы-
вает предисловие для второй части «Героя нашего време-
ни»,—может быть, этот черновик был написан и рань-
ше,— диктует текст предисловия А. П. Шан-Гирею,
исправляет и, очевидно, просит переписать и послать Гла-
зунову. 14 или 15 апреля он был уже на дороге в Москву.
Тем временем Глазунов распорядился набрать вторую
часть романа. Когда поспело предисловие, он расположил
136
его текст на полулисте, пометив страницы римскими циф-
рами, потому что «Княжна Мери» уже была перенумеро-
вана,— и понес в цензуру. Цензор Корсаков не заставил
себя просить и уже 3 мая подписал разрешение на вторую
часть романа Лермонтова. Цена за обе части была остав-
лена прежняя, а тираж увеличен до 1200 экземляров.
Предисловие известно каждому грамотному человеку.
Лермонтов поддержал Белинского, резко возразил Шевы-
реву и Бурачку. Белинский в статье о втором издании
романа с восторгом цитировал предисловие и восклицал:
«Какая точность и определенность в каждом слове,
как на месте и как незаменимо другим каждое слово! Ка-
кая сжатость, краткость и, вместе с тем, многозначитель-
ность! Читая строки, читаешь и между строками; понимая
ясно все сказанное автором, понимаешь еще и то, чего он
не хотел говорить, опасаясь быть многоречивым. Как об-
разны и оригинальны его фразы: каждая из них годится
быть эпиграфом к большому сочинению...»1
В 1843 году Глазунов выпустил третье издание «Ге-
роя нашего времени», повторив предыдущее — предисло-
вие с тою же римской пагинацией открывало вторую часть,
располагаясь перед «Княжной Мери».
«Третье издание «Героя нашего времени»,— писал Бе-
линский,— в типографическом отношении прекрасно. Во
всяком другом отношении мы не будем хвалить этой книж-
ки: похвалы для нее так же бесполезны, как безопасна
брань. Никто и ничто не помешает ее ходу и расходу —
пока не разойдется она до последнего экземпляра; тогда
она выйдет четвертым изданием, и так будет продолжать-
ся до тех пор, пока русские будут говорить русским язы-
ком...»2
Белинский, как видно, согласился с помещением пре-
дисловия ко второму изданию перед «Княжной Мери»,
во всяком случае — не оспорил состава второй части, хотя,
вообще говоря, своих замечаний он не таил.
Только с четвертого по времени издания «Героя наше-
го времени» в сочинениях Лермонтова, выпущенных Алек-
сандром Смирдиным в 1847 году, предисловие перенесено
в первую часть и поставлено перед текстом «Бэлы». С тех
1 В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. IV. М.,
Изд-во Академии наук, 1954, стр. 455.
2 Там же, т. VIII, стр. 118.
137
пор оно утвердилось па этом месте, и Глазунов, предпри-
нявший в 1856 году свое четвертое издание сочинений
Лермонтова, передвинул предисловие в первую часть ро-
мана.
Но, может быть, Лермонтов знал, что делал, когда рас-
положил предисловие, служившее ответом на критики,
вызванные конечно же основной повестью книги, «Княж-
ной Мери», перед ее текстом? И если он допустил оплош-
ность, запоздав с предисловием к набору первой части, то
разве не мог он в какой-то форме выразить свое недоволь-
ство друзьям, а они разве не постарались бы изменить
план третьего глазуновского издания?
Не будем также забывать, что напечатанное в первой
части, объем текста которой составлял менее трех автор-
ских листов, предисловие было бы там вторым представи-
телем этого литературного жанра — одно уже существова-
ло в «Журнале Печорина». Не слишком ли много преди-
словий подряд?!
Форма «Героя нашего времени» совершенно оригиналь-
на, гений Лермонтова создал ее в расцвете творческой
мысли, как возникала она — читателям остается только
догадываться. Один из них и постарался выше изложить
свои предположения.
omJji
и
ubwL
i
В воспоминаниях В. Д. Бонч-Бруевича читаем: «Еще
в Женеве не раз Владимир Ильич говорил, что ему хо-
телось бы написать подробный разбор некоторых произве-
дений И. С. Тургенева. Мы знаем, что он часто цитиро-
вал Тургенева, делал сравнения с персонажами из
произведений этого писателя, например, с Ворошило-
вым из романа «Дым». Многие другие ссылки на Турге-
нева показывают, что он глубоко продумывал образы,
созданные этим замечательным художником» \
Как показали наблюдения, в работах Ленина упоми-
нания о произведениях художественной литературы или
цитаты встречаются около тысячи раз. Преобладают ци-
таты из русских писателей. Первые шесть мест зани-
мают: «Салтыков-Щедрин — 35% всех литературных ци-
тат Ленина, Гоголь —11%, Грибоедов — 7%, Кры-
лов— 7%, Тургенев — 5%, Некрасов — 2,5%. Этим шести
писателям, которые использованы преимущественно в
1 «В. И. Ленин о литературе». М., «Художественная литерату-
ра», 1971, стр. 262
139
сатирическом плане, принадлежит до 68% всех Ленинских
цитат из произведений русской литературы» \
Приведем хотя бы одну из таких цитат:
«Это умиление гуманностью Гейдена заставляет нас
вспомнить не только Некрасова и Салтыкова, но и
«Записки охотника» Тургенева. Перед нами — цивили-
зованный, образованный помещик, культурный, с мяг-
кими формами обращения, с европейским лоском. Поме-
щик угощает гостя вином и ведет возвышенные разгово-
ры. «Отчего вино не нагрето?» — спрашивает он лакея.
Лакей молчит и бледнеет. Помещик звонит и, не повышая
голоса, говорит вошедшему слуге: «Насчет Федора... рас-
порядиться».
Вот вам образчик гейденовской «гуманности» или гу-
манности а 1а Гейден. Тургеневский помещик тоже «гу-
манный» человек... по сравнению с Салтычихой, напри-
мер, настолько гуманен, что не идет сам в конюшню при-
сматривать за тем, хорошо ли распорядились выпороть
Федора. Он настолько гуманен, что не заботится о моче-
нии в соленой воде розог, которыми секут Федора. Он,
этот помещик, не позволит себе ни ударить, ни выбранить
лакея, он только «распоряжается» издали, как образо-
ванный человек, в мягких и гуманных формах, без шума,
без скандала, без «публичного оказательства»...» 2.
Как известно, под влиянием Белинского, чье письмо к
Гоголю Тургенев ценил необычайно высоко, он создал
ряд рассказов «Записок охотника», дышавших антикре-
постническим духом. К этой группе относится и рассказ
«Бирюк».
Впервые «Бирюк» был напечатан в журнале «Совре-
менник» за 1848 год, в № 2, вместе с пятью рассказами
«Записок охотника»: «Малиновая вода», «Уездный ле-
карь», «Лебедянь», «Татьяна Борисовна и ее племянник»
и «Смерть». Ранее, в предыдущем году, на страницах
«Современника», в №№ 1, 5 и 10, уже появилось семь
рассказов «Записок охотника», и первым был напечатан
рассказ «Хорь и Калиныч», помещенный в отделе
«Смесь». В последующие три года «Современник» опубли-
1 Александр Цейтлин. Литературные цитаты Ленина.
М.—Л., ГИХЛ, 1934, стр. 18.
2 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 16, стр. 43—44.
140
ковал еще семь рассказов Тургенева, в том числе «Гамлет
Щигровского уезда», «Певцы», «Свидание», «Бежин луг»
и другие.
Отдельное издание «Записок охотника» Тургенев за-
думал еще в 1847 году. Тогда же Некрасов намеревался
включить эту книгу в состав «Библиотеки русских рома-
нов, повестей, записок и путешествий», но лишь в марте
1852 года цензурный комитет разрешил издание «Записок
охотника», и в августе книга поступила в продажу1.
Между тем Московский цензурный комитет поднял
тревогу.
Как докладывал чиновник цензурного ведомства, Тур-
генев своими «Записками охотника» старался доказать,
что крестьяне «находятся в угнетении, что помещики...
ведут себя неприлично и противузаконно, что сельское
духовенство раболепствует перед помещиками, что
исправники и другие власти берут взятки, или, наконец,
что крестьянину жить на свободе привольнее, лучше»
(ЗОТ, 196).
В результате следствия, проведенного Московским
цензурным комитетом после выхода в свет книги Турге-
нева, цензор В. В. Львов был отстранен от должности без
права в дальнейшем служить по цензурному ведомству, а
повторные издания «Записок охотника» строжайше за-
прещены.
Небольшие поправки в рассказе «Бирюк» Тургенев
произвел перед сдачей рукописи «Записок охотника» в
Московский цензурный комитет в марте 1852 года, когда
готовилось первое отдельное издание этой книги. Ру-
копись разделена на две части, и «Бирюк» начинает вто-
рую (листы 103—108). Однако Тургенев записал на по-
ле, что этот рассказ нужно поменять местом с соседним
рассказом «Два помещика». На обороте последнего листа
помещено оглавление, где эта замена учтена — сначала
поставлены «Два помещика», имеющие № 13, за ними
«Бирюк», № 12.
В цензурном экземпляре Тургенев кое-где стилисти-
1 «Записки охотника» И. С. Тургенева (1852—1952). Сборник
статей и материалов. Изд-во «Орловская правда», 1955. В дальней-
шем ссылки на это издание обозначаются сокращенно буквами
«ЗОТ» и помечаются в тексте, после цитат.
141
чески исправлял фразы, дополняя их, а также вычерки-
вал диалектизмы. В текст «Бирюка» он вставил несколько
слов о наружности захваченного лесником порубщика:
«Я подошел. Бирюк поднялся й поставил его на ноги.
Я увидел мужика, мокрого, в лохмотьях, с длинной рас-
трепанной бородой». Дописано, как встретила прибыв-
ших дочка Бирюка: «Девочка, которая заснула было воз-
ле печки, вскочила и с молчаливым испугом стала глядеть
на нас» (ЗОТ, 425).
Рукопись до набора правил кто-то еще,— возможно,
Н. Ф. Кетчер, которому автор доверял правку своего тек-
ста. Так, в рукописи «Бирюка» сказано: «Очерки де-
ревьев, обагренных дождем». В издании 1852 году заме-
на: «обрызганных», что несравненно точнее и утверди-
лось в последующих перепечатках.
Научная литература о «Бирюке» весьма невелика.
Рассказу не сопутствовали и комментарии в собраниях
сочинений Тургенева. Отдельные оценки этого произве-
дения, правда, появлявшиеся в разное время, противоре-
чили друг другу. Так, Б. М. Соколов был вообще недово-
лен тем, как Тургенев изображал крестьян.
«...При малом количестве сцен из мужицкой жизни,—
писал он,— какое мы находим у Тургенева, повторение
одних и тех же, да еще в близких выражениях, тем менее
может свидетельствовать об обилии и разнообразии у не-
го наблюдений из народной жизни.
Еще более невзрачны и безличны другие представите-
ли мужицкого царства, выведенные Тургеневым. Вот му-
жик, пойманный Бирюком за рубкой леса: «Я увидал,—
описывает Тургенев,— мужика, мокрого, в лохмотьях, с
длинной растрепанной бородой...» 1
Автор статьи цитирует конец рассказа «Бирюк», со-
держащий жалобы и угрозы мужика, и напоминает фи-
нал — лесник отпускает вора. Силу и значение выкриков
мужика Б. М. Соколов отрицает, символики не видит и
продолжает обзор крестьянских фигур Тургенева так:
«Не более представителен другой мужицкий персонаж в
тех же «Записках охотника». В «Певцах» среди артисти-
чески одаренных натур... выведен, собственно, всего-на-
1 Б. М. Соколов. Мужики в изображении Тургенева. Сбор-
ник статей под ред И. Н. Розанова и Ю. М. Соколова. М., 1920,
стр. 201.
142
всего единственный мужик, но его невзрачность, ро-
бость...» и т. д. \
Одиночество Бирюка подчеркивал Иван Новиков. Он
стал угрюмым оттого, что «развернуться по-настоящему
жизнь ему не давала». От угрюмого и жена ушла.
«Тургенев-художник, независимо от того, как он сам
относился к крестьянским восстаниям, не мог не почувст-
вовать в своем герое человека «большого масштаба», ко-
торый, быть может, смог бы стать и во главе настоящего
крупного «мятежа», но на самом деле пребывал в полном
одиночестве» 2.
Современная исследовательница Е. М. Ефимова выде-
ляет в рассказе центральный эпизод — поимку порубщи-
ка — и заключает:
«Рассказ «Бирюк» является одним из немногих рас-
сказов «Записок охотника», в которых затронут вопрос о
крестьянском протесте. Образ разоренного, замученного
«голодухой» мужика, который сначала молит с «унылым»
отчаянием и затем переходит к угрозам, очень показате-
лен для 40-х годов» (ЗОТ, 265).
Несхожесть оценок «Бирюка» побуждает снова про-
честь этот рассказ.
2
Можно заметить, что рассказы «Записок охотника»
Тургенев начинал двумя способами: рисуя обстановку, в
которой развернется затем действие произведения или
знакомя читателя с главным персонажем последующего
повествования. Разумеется, такое деление весьма условно,
как, пожалуй, любая классификация, но все же оно су-
ществует, и к рассказам первого типа можно отнести
«Хорь и Калиныч», «Ермолай и мельничиха», «Малино-
вая вода», «Льгов», «Бежин луг», «Лебедянь» и другие —
всего пятнадцать произведений, а ко второму типу при-
надлежат десять: «Уездный лекарь», «Однодворец Овся-
ников», «Бурмистр», «Два помещика», «Петр Петрович
Каратаев» и еще пять.
1 Б. М. Соколов. Мужики в изображении Тургенева. Сбор-
ник статей под ред. И. Н. Розанова и 10. М. Соколова. М., 1920,
стр. 202.
2 Иван Новиков. Тургенев — художник слова. М., «Совет-
ский писатель», 1954, стр. 66.
143
Вот, например, «Малиновая вода»:
«В начале августа жары часто стоят нестерпимые.
В это время, от двенадцати до трех часов, самый реши-
тельный и сосредоточенный человек не в состоянии охо-
титься, и самая преданная собака начинает «чистить
охотнику шпоры», то есть идет за ним шагом, болезненно
прищурив глаза и преувеличенно высунув язык, а в ответ
на укоризны своего господина униженно виляет хвостом
и выражает смущение на лице, но вперед не подвигается.
Именно в такой день случилось мне быть на охоте...»
Иногда мотивировкой рассказа служит упоминание о
дожде —- поиски приюта ведут к встрече с людьми, о кото-
рых и пойдет далее речь:
«Дело было осенью. Уже несколько часов бродил я с
ружьем по полям и, вероятно, прежде вечера не вернулся
бы в постоялый двор на большой Курской дороге, где
ожидала меня моя тройка, если б чрезвычайно мелкий и
холодный дождь, который с самого утра, не хуже старой
девки, неугомонно и безжалостно приставал ко мне, не
заставил меня наконец искать где-нибудь хотя временно-
го прибежища. Пока я еще соображал, в какую сторону
пойти, глазам моим внезапно представился низкий шалаш
возле поля, засеянного горохом...» («Контора»).
«Французская поговорка гласит: «Сухой рыбак и мок-
рый охотник являют вид печальный». Не имев никогда
пристрастия к рыбной лойле, я не могу судить о том, что
испытывает рыбак в хорошую, ясную погоду и насколько
в ненастное время удовольствие, доставляемое ему обиль-
ной добычей, перевешивает неприятность быть мокрым.
Но для охотника дождь — сущее бедствие. Именно такому
бедствию подверглись мы с Ермолаем в одну из наших
поездок за тетеревами в Белевский уезд. С самой утрен-
ней зари дождь не переставал...» («Живые мощи»).
Описанием дождя начинается и рассказ «Бирюк»:
«Я ехал с охоты вечером один, на беговых дрожках.
До дому еще было верст восемь; моя добрая рысистая ко-
была бодро бежала по пыльной дороге, изредка похрапы-
вая и шевеля ушами; усталая собака, словно привязан-
ная, ни на шаг не отставала от задних колес».
Дорога идет полем, колеса катятся ровно — и автор
невольно выбирает слова, передающие звуками удары ко-
пыт по пыльной подушке. Медный всадник у Пушкина
мчится мощеными улицами Петербурга, и мы слышим
144
Тяжелозвонкое скаканье
По потрясенной мостовой.
В поле — не так: «добрая рысистая кобыла бодро бе-
жала по пыльной дороге...»; доб-бы-бо-бе-по-пы — лошадь
бежит!
«Гроза надвигалась. Впереди огромная лиловая туча
медленно поднималась из-за леса; надо мною и мне на-
встречу неслись длинные серые облака; ракиты тревожно
шевелились и лепетали».
Эта картина создана при помощи слов, передающих
медленное движение, гроза приближается: «неслись длин-
ные облака», «тревожно шевелились и лепетали»...
Затем новый переход в ритме — темп убыстряется,
сейчас что-то произойдет:
«Душный жар внезапно сменился влажным холодом;
тени быстро густели. Я ударил вожжой по лошади, спу-
стился в овраг, перебрался через сухой ручей, весь зарос-
ший лозниками, поднялся в гору и въехал в лес».
Обилие глаголов — ударил, спустился, перебрался,
поднялся, въехал — придает динамичный характер фразе,
обрывающейся точкой на словах «в лес». Дальше ехать
стало тяжелее:
«Дорога вилась передо мною между густыми кустами
орешника, уже залитыми мраком; я подвигался вперед с
трудом. Дрожки прыгали по твердым корням столетних
дубов и лип, беспрестанно пересекавшим глубокие про-
дольные рытвины — следы тележных колес; лошадь моя
начала спотыкаться».
Обилие звука «р» — «дрожки прыгали по твердым кор-
ням» — обозначает тряску, которую испытывал охотник.
«Сильный ветер внезапно загудел в вышине, деревья
забушевали, крупные капли дождя резко застучали, за-
шлепали по листьям, сверкнула молния, и гроза разрази-
лась. Дождь полил ручьями. Я поехал шагом и скоро
принужден был остановиться: лошадь моя вязла, я не ви-
дел ни зги».
«Капли зашлепали по листьям» — мы слышим, как
они падают. И сразу — «сверкнула молния, и гроза разра-
зилась» — раскаты грома.
Можно предположить, что Тургенев, начав писать
«Бирюка», подбирал для картины лесной дороги и грозы
слова с буквой «р» или буквой «л», понимая, что их звуко-
вой состав помогает читателю эмоционально воспринять
145
содержание сказанного. Не нужно только усложнять этот
процесс. Когда речь идет о большом мастере, каким, не-
сомненно, был Тургенев, слова, необходимые по смыслу,
являются как бы сами. Отчего так счастливо это бывает,
наука еще не объяснила. Вероятнее всего, каждодневный
литературный труд создает у автора впечатление, что в
хорошие минуты нужные слова к нему приходят сами.
«Кое-как приютился я к широкому кусту. Сгорбив-
шись и закутавши лицо, ожидал я терпеливо конца не-
настья, как вдруг, при блеске молнии, на дороге почуди-
лась мне высокая фигура. Я стал пристально глядеть в ту
сторону — та же фигура словно выросла из земли подле
моих дрожек».
Лес, гроза, ливень — и высокая фигура возникает ря-
дом!
Появление лесника в такой момент не было случай-
ностью. Но читатель поймет это позднее. Тонкий, профес-
сионально натренированный слух безошибочно определил
присутствие в лесу человека с лошадью, и он поспешил к
месту возможной порубки.
«— Кто это? — спросил звучный голос».
Звучный — значит уверенный в своем праве спраши-
вать и обладающий силой, чтобы это право по необходи-
мости обосновать.
«—А ты кто сам?»
Охотник, вероятно, угадал, что перед ним не свой брат
помещик, балующий ружьецом, а лесник, и потому обра-
тился к нему на «ты». И не ошибся:
«— Я здешний лесник.
Я назвал себя.
— А, знаю! вы домой едете?»
Короткие реплики, которыми перебрасываются барин
и лесник под проливным дождем, все же позволяют им
столковаться.
«— Я вас, пожалуй, в свою избу проведу,— отрывисто
проговорил он.
— Сделай одолжение».
Голос у лесника звучный, а произнес он приглашение
«отрывисто»,— вероятно, не очень желал показывать свое
жилище, но и оставлять чужого барина в лесу было не-
ловко, хозяину так поступать не годится. Слово «пожа-
луй» намекает на колебания в душе лесника, но другого
приюта не было.
146
Как немногословен Тургенев! В диалогах рассказа
«Бирюк» сменяют друг друга вопрос и ответ, и только по-
рубщику предоставлено несколько фраз, которыми он
корит лесника. Но все понятно и больше речей не тре-
буется.
«Лесник довел лошадь до крыльца и застучал в
дверь. «Сичас, сичас!»—раздался тоненький голосок, по-
слышался топот босых ног, засов заскрипел, и девочка,
лет двенадцати, в рубашонке, подпоясанная покромкой, с
фонарем в руке, показалась на пороге».
Слово «покромка» многих заставит потянуться к тол-
ковому словарю: это край сукна в виде тесьмы. Дальше
Тургенев говорит, что у лесника была «замашная рубаш-
ка»,— значит, посконная, из конопли, самая дешевая.
Впрочем, во времена Тургенева «посконный» и «замаш-
ной» в пояснениях не нуждались — они состояли в основ-
ном словарном фонде русского крестьянства и, следова-
тельно, были известны господам, сидевшим по своим де-
ревням. Прозвище лесника автор объясняет в подстроч-
ном примечании: «Бирюком называется в Орловской гу-
бернии человек одинокий и угрюмый».
«Засов заскрипел»,— пишет Тургенев. При входе во
двор «калитка заскрипела». Дальше будет сказано:
«дверь заскрипела». На протяжении тридцати строк автор
трижды указывает нам, что за избой и двором хозяйского
наблюдения не было, петли никто не смазывал. Непоря-
док. Но почему?
«Изба лесника состояла из одной комнаты, закопте-
лой, низкой и пустой, без полатей и перегородок. Изорван-
ный тулуп висел на стене. На лавке лежало одностволь-
ное ружье, в углу валялась груда тряпок; два больших
горшка стояли возле печки. Лучина горела на столе, пе-
чально вспыхивая и погасая. На самой середине избы ви-
села люлька, привязанная к концу длинного шеста».
Неприглядная картина. Комната закоптелая и пустая,
тулуп изорван, лучина вспыхивает печально. Заботы о до-
ме не заметно. Чья это вина?
«Девочка погасила фонарь, присела на крошечную
скамейку и начала правой рукой качать люльку, левой
поправлять лучину. Я посмотрел кругом — сердце во мне
заныло: не весело войти ночью в мужицкую избу. Ребе-
нок в люльке дышал тяжело и скоро».
147
Других взрослых нет. А ребенок, судя по дыханью, не-
здоров. Ночной гость понимает это:
«— Ты разве одна здесь? — спросил я девочку.
— Одна,— произнесла она едва внятно.
— Ты лесникова дочь?
— Лесникова,— прошептала она».
Значит, одна. На ней и ребенок, и дом. А лет двена-
дцать — много не спросишь...
Убрав с дождя лошадь и дрожки, в избу вошел лесник
и «тряхнул кудрями». Вот его внешность:
«Я посмотрел на него. Редко мне случалось видеть та-
кого молодца. Он был высокого роста, плечист и сложен
на славу. Из-под мокрой замашной рубашки выпукло
выставлялись его могучие мышцы. Черная курчавая бо-
рода закрывала до половины его суровое и мужественное
лицо; из-под сросшихся широких бровей смело глядели
небольшие карие глаза. Он слегка уперся руками в бока и
остановился передо мною».
Богатырь, молодец! Суровое и мужественное лицо, ка-
рие глаза смотрят смело, мышцы играют, голова украше-
на кудрями.
Лесник называет свое имя и прозвище — Фома Бирюк.
Имя это охотнику известно — мастер своего дела,
окрестные мужики боятся его как огня: «Вязанки хворо-
сту не даст утащить,— говорят они.— ...И ничем его взять
нельзя: ни вином, ни деньгами; ни на какую приманку
не идет. Уж не раз добрые люди его сжить со свету соби-
рались, да нет — не дается».
Так отзывались о Бирюке мужики. А в рассказе «Бе-
жин луг» мальчики толкуют о том, что Акима-лесника
воры утопили в глубокой яме с весенней водой и что «его
душа жалобится», по ночам стонет. «Добрые люди» могли
готовить такую же участь Бирюку. Да и не о его ли конце
сказал Тургенев, назвав Акимом вместо Фомы?!
Гость говорит, что слышал про Бирюка — спуску не
дает никому.
«— Должность свою справляю,—отвечал он угрю-
мо,— даром господский хлеб есть не приходится».
Бирюк натура недюжинная, богато одаренная. В от-
личие от мужиков, рассказчик имеет возможность глубоко
и всесторонне оценить ее.
Нетрудно себе представить, что Фома мог бы жить
безбедно: нарушители готовы были откупиться и вином,
148
й ДейьгаМи, но Ёдрюк отличался Честностью, неябдкуи-
ностью, на что, вероятно, не рассчитывал даже помещик,
подразумевавший, что должность сама прокормит лесни-
ка. Он же предпочел лютую бедность нарушению служеб-
ного долга. Незаурядное мужество нужно было иметь ему,
чтобы во имя того, что он почитал своим долгом, перено-
сить и ненависть крестьян. Вероятно, вследствие всего
этого он и становится постепенно угрюмым и неразговор-
чивым.
Основа трагедии Бирюка — в отрыве от своего класса.
Он свято блюдет интересы помещика, но не по причине
материальной выгоды или врожденного лакейства, что
было весьма распространенным явлением, порожденным
крепостным строем.
В литературе подобные типы встречались нередко, и
отношение к ним читателя было весьма недвусмыслен-
ным. Трагедия Бирюка сложнее. Она в такой же степени
свидетельствует о классовом характере морали, как и о
незаурядной личности героя.
Л. Толстой в статье «Кому у кого учиться писать,
крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ре-
бят?» привел очень интересные наблюдения о различии
нравственных принципов народа и господствующих клас-
сов.
«Во взгляде на честность народа и высшего класса
часто встречается совершенная противоположность,— пи-
шет он.— Требования народа в особенности серьезны и
строги в отношении честности в самых близких отноше-
ниях, например, в отношении к семье, к деревне, к миру.
В отношении к посторонним — с публикой, с государст-
вом, в особенности с иностранцем, с казною, для них
смутно представляется приложимость общих правил
честности» 1.
Подобные «нравственные привычки» вырабатывались
в процессе борьбы за существование и в известной степе-
ни поддерживали крестьянскую жизнеспособность.
С точки зрения мужиков Бирюк — отступник, серьез-
ный враг мира, общины, бессмысленно жестокий чело-
век.
В отличие от окружающих мужиков, Бирюк поднял-
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 8. М., 1936,
стр. 316.
149
ся над «нравственными привычками» своего класса до
уровня общечеловеческих нравственных убеждений,
морали.
Но он не мог понять, что исповедуемые им истины бы-
ли давно поставлены на службу господствующим классам
церковью и государством, что крестьянам они были про-
сто «не по карману»...
Классовым сознанием Бирюк, естественно, не обла-
дает, классовые инстинкты в нем подавлены силою нату-
ры, и, по сути дела, он в стане злейших врагов своих
братьев крестьян, одинокий, угрюмый, несчастный...
Однако вернемся к тексту.
«Он достал из-за пояса топор, присел на пол и начал
колоть лучину».
Такой уже совсем женский труд позволяет охотнику
заговорить прямо:
«— Аль у тебя хозяйки нет? — спросил я его.
— Нет,— отвечал он и сильно махнул топором.
— Умерла, знать?
— Нет... да... умерла,—прибавил он и отвернулся».
Чувство собственного достоинства, нравственной пра-
воты заставляет Бирюка тотчас отказаться от лжи, как ни
тяжела ему правда:
«— С прохожим мещанином сбежала,— произнес он с
жестокой улыбкой. Девочка потупилась; ребенок про-
снулся и закричал; девочка подошла к люльке.— На, дай
ему,— проговорил Бирюк, сунув ей в руку запачканный
рожок.— Вот и его бросила,— продолжал он вполголоса,
указывая на ребенка. Он подошел к двери, остановился и
обернулся».
Драма произошла недавно, судя по возрасту младен-
ца. Вероятно, силы и терпение жены наконец истощились,
она не могла более переносить и враждебность мужиков,
и нищету, от которой так легко и просто было, по ее мне-
нию, избавиться,— не будь муж непонятно упрям.
Если же вспомнить законы о браке середины прошлого
века, крепостную зависимость Фомы и его жены, то мож-
но отчетливо представить себе, до какой степени отчаянья
была доведена беглянка.
Обращает на себя внимание большая разница в возра-
сте между детьми Бирюка, что в крестьянских семьях
вообще-то наблюдалось редко. Не исключено, что второй
150
ребенок был следствием любви Бирюковой жены к «про-
хожему мещанину». Быть может, ребенок был для них
помехой, и они, как только смогли, освободились от него.
Иначе психологически трудно объяснить угар увлечения
у только что родившей, кормящей женщины.
Можно предположить также, что дети у Бирюка от
разных матерей, что он в свое время овдовел и вновь же-
нился. Молодая жена не смогла привыкнуть к лесу, поки-
нула мужа и ребенка.
Тургенев не описывает подробно лесникову бедность,
но несколько штрихов, брошенных мимоходом, создают
картину крестьянского быта, полную жестокой правдиво-
сти. Кажется, что картина эта служит прямым продолже-
нием сцен крепостной нищеты, запечатленных Радище-
вым в его великой книге «Путешествие из Петербурга в
Москву», и Новиковым в журналах «Трутень» и «Живо-
писец». Дело, конечно, не в словесных совпадениях — их
искать нечего,— а в общем духе рассказов, в существе
изображения и тоне сочувствия крестьянам, свойствен-
ном всем названным авторам, в уверенности, что в жизни
крестьянина все может измениться к лучшему, «ежели
того восхощет» он, как писал Радищев.
Путешественник Новикова не мог пить воду из колод-
ца в деревне Разоренной по причине ее дурного запаха.
Бирюк столетием позже уверен, что охотник побрезгует
хлебом, который он может предложить:
«— Вы, чай, барин,— начал он,— нашего хлеба есть
не станете, а у меня окромя хлеба...
— Я не голоден.
— Ну, как знаете. Самовар бы я вам поставил, да чаю
у меня нету... Пойду посмотрю, что ваша лошадь».
Об ужине — всё. В доме только хлеб, для барина не-
годный, и вода.
«Он вышел и хлопнул дверью. Я в другой раз осмот-
релся. Изба показалась мне еще печальнее прежнего.
Горький запах остывшего дыма неприятно стеснял мне
дыхание. Девочка не трогалась с места и не поднимала
глаз; изредка поталкивала она люльку, робко наводила на
плечо спускавшуюся рубашку; ее голые ноги висели не
шевелясь».
Отсутствие хозяйки заметно во всем, и слова об «остыв-
шем дыме» подчеркивают его сильнее.
151
3
Бирюк, возвратясь в избу, говорит, что гроза прохо-
дит, и предлагает вывести барина из леса.
«Я встал. Бирюк взял ружье и осмотрел полку.
—- Это зачем? — спросил я.
— А в лесу шалят... У Кобыльего Верху дерево ру-
бят,— прибавил он в ответ на мой вопрошающий взор».
Подстрочное примечание автора гласит: «Верхом» на-
зывается в Орловской губернии овраг». Можно приба-
вить, что название оврага — подлинное. Современники
знали, что в произведениях Тургенева отражались люди
и природа Орловского края, который писатель исходил с
охотничьим ружьем. «Бежин луг, Парахинские кусты,
Варнавицы, Кобылий верх и т. д.— все эти места имели те
же названия и в 1882 году. Названный овраг, заросший
лесом, находился неподалеку от имения Тургенева Спас-
ское-Лутовиново» (ЗОТ, 291).
«...Мы стали прислушиваться. Лесник снял шапку и
потупился. «Во... вот,— проговорил он вдруг и протянул
руку,— вишь, какую ночку выбрал».
Раньше встречалось: «Девочка потупилась; ребенок
проснулся и закричал». Дальше будет: «Мужик потупил-
ся...» — это о порубщике. Трижды повторено слово. Что
значит оно? Одинаков ли его смысл для каждого персона-
жа рассказа?
В словаре Даля отмечено:
«Потуплять, потупить глаза, взор опускать долу, ник-
нуть глазами; знак размышленья или иного спокойного
движенья души.— ся, быть потупляему».
Очевидно, девочка опустила долу глаза, смутилась, за-
стыдилась после того, как отец сказал о бегстве жены.
Мужик потупился, узнав, что в избе лесника сидит ба-
рин,— во время поимки и дороги он мог не догадаться,
кто сопровождал лесника. А сам Бирюк «потупился», слу-
шая удары топора и соображая, как изловить порубщи-
ка,— это «знак размышленья». Можно было бы избежать
повторений? Наверное. Однако Тургенев избегать не по-
желал. И не нам его судить.
Бирюку надо идти к оврагу, охотник вызывается пой-
ти с ним, откладывая свой отъезд,— его заинтересовала
личность Бирюка, удивила способность обнаруживать
вора в кромешной тьме, при грохоте грома и шуме
152
дождя. Они отправляются в путь, прислушиваясь к стуку
топора, проходят оврагом и выбираются наверх.
«...Сквозь постоянный шум ветра чудились мне невда-
леке слабые звуки: топор осторожно стучал по сучьям,
колеса скрипели, лошадь фыркала... «Куда! стой!» —за-
гремел вдруг железный голос Бирюка. Другой голос за-
кричал жалобно, по-заячьи... Началась борьба. «Вре-ешь,
вре-ешь,— твердил, задыхаясь, Бирюк,— не уйдешь...»
Я бросился в направлении шума и прибежал, спотыкаясь
на каждом шагу, на место битвы». Дальше идет описание
наружности изловленного порубщика, приведенное выше.
Охотнику-барину становится жаль мужика.
«— Отпусти его,—шепнул я на ухо Бирюку,—я за-
плачу за дерево».
Бирюк не отвечает на эту просьбу. Он подбирает бро-
шенный мужиком топор, повертывает лошадь порубщика
и ведет к своей избе. Руки вора связаны. «Я шел поза-
ди...— пишет автор.— Дождик начал опять накрапывать
и скоро полил ручьями. С трудом добрались мы до избы».
Там оставалась девочка. Она спала «возле печки», то есть
легши на пол,— услышав приход отца с барином и вором,
«вскочила и с молчаливым испугом стала глядеть на нас».
Потом она опять «улеглась на полу» и заснула. Рассказ-
чик, по-видимому, жалеет ее — не годится девочке спать
на голом полу, холодно и грязно,— однако все внимание
отдает порубщику. Он просит не запирать его в чулан и
оставить в комнате.
«Мужик глянул на меня исподлобья. Я внутренно дал
себе слово во что бы то ни стало освободить бедняка. Он
сидел неподвижно на лавке. При свете фонаря я мог раз-
глядеть его испитое, морщинистое лицо, нависшие жел-
тые брови, беспокойные глаза, худые члены...»
Охотника смягчал внешний вид мужика. В лесу, мок-
рый, в лохмотьях, он побудил уже просить Бирюка:
«Отпусти его». В избе, разглядев морщины и беспокойные
глаза порубщика, охотник задается целью «во что бы то
ни стало» добиться его освобождения. Видимо, он хотел
предложить уплату штрафа за поваленное дерево.
В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года»
Белинский тонко отметил особенность таланта Тургенева,
который «может изображать действительность, виденную
и изученную им, если угодно — творить, но из готового,
данного действительностью материала. Это не просто
153
списывание с действительности,— она не дает автору
идей, но наводит, наталкивает, так сказать, на них. Он
перерабатывает взятое им готовое содержание по своему
идеалу, и от этого у него выходит картина, более живая,
говорящая и полная мысли, нежели действительный слу-
чай, подавший ему повод написать эту картину» !.
В истории Бирюка, как будто бы с натуры описанной,
присутствует живая и острая авторская мысль. Герой на-
ходится под пристальным вниманием охотника-рассказ-
чика, в котором нам нетрудно распознать передового че-
ловека 40-х годов, либерала, духовного двойника автора.
Впоследствии слово «либерал» утратило свой прогрес-
сивный смысл, но в 40-е годы XIX века, по свидетельству
самого Тургенева, оно означало «протест против всего
темного и притеснительного, уважение к науке и образо-
ванию, любовь к поэзии и художеству, и, наконец, прежде
всего,— любовь к народу, который, находясь еще под гне-
том крепостного бесправия, нуждался в деятельной помо-
щи своих счастливых сынов» 2.
Собравшиеся в избе ждали рассвета. Царило спокой-
ствие, впечатления схватки в лесу забывались. «Бирюк
сидел возле стола, опершись головою на руки. Кузнечик
кричал в углу... дождик стучал по крыше и скользил по
окнам; мы все молчали». И вдруг...
Да, «и вдруг» — автор приступает к созданию заклю-
чительной сцены рассказа, в которой будут раскрыты ха-
рактеры и подчеркнут, как можно думать, смысл произ-
ведения:
«— Фома Кузьмич,— заговорил вдруг мужик голосом
глухим и разбитым,— а Фома Кузьмич.
— Чего тебе?
— Отпусти.
Бирюк не отвечал».
Длинных пояснений не нужно, оттого просьба изло-
жена кратко и мотивы ее только называются в соответст-
вии с небольшим составом словарного запаса, находив-
шегося в распоряжении мужика:
«— Отпусти... с голодухи... отпусти.
— Знаю я вас,— угрюмо возразил лесник,— ваша вся
слобода такая — вор на воре.
1 В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. X. М.,
Изд-во Академии наук СССР, 1956, стр. 345—346.
2 «Русские пропилеи», т. III, 1916, стр. 256.
154
— Отпусти,— твердил мужик,— прикащик... разоре-
ны, во как... отпусти!
— Разорены!.. Воровать никому не след.
— Отпусти, Фома Кузьмич... не погуби. Ваш-то, сам
знаешь, заест, во как.
Бирюк отвернулся».
Мужик объясняет причину порубки — голод и разо-
ренье, теснит и грабит приказчик. С этим приходится ми-
риться — жалобам помещик не поверит, он сам способен
«заесть» своего крепостного.
Лесник знает об этом, да помнит пока и службу. Он
отвернул лицо, но продолжает слушать.
«Мужика подергивало, словно лихорадка его колотила.
Он встряхивал головой и дышал неровно.
— Отпусти,— повторял он с унылым отчаяньем,—
отпусти, ей-богу, отпусти! я заплачу, во как, ей-богу. Ей-
богу, с голодухи... детки пищат, сам знаешь. Круто, во
как, приходится».
Половину этой краткой речи составляют присловья
«во как» и «ей-богу», однако содержательность ее от это-
го не уменьшается — мужик обещает заплатить за дерево.
Бирюк отвечает лишь на жалобу мужика, что «круто при-
ходится»:
«— А ты все-таки воровать не ходи».
Убедившись, что аргументы «от личности» не возыме-
ли действия на лесника, порубщик подступает с другой
стороны:
«— Лошаденку,—продолжал мужик,—лошаденку-то,
хоть ее-то... один живот и есть... отпусти!»
Лошадь испокон веков была предметом особых забот
крестьянина. С нею связывал он возможность своей хо-
зяйственной самостоятельности. Потеря лошади для му-
жика равнозначна была полному разорению, медленной
гибели всей семьи. Многие произведения Некрасова, не
менее великого знатока крестьянского быта, чем Турге-
нев, отражают это.
Так, в поэме «Кому на Руси жить хорошо» читаем:
Умрет жена у пахаря —
Другую заведет,
Умрет и та — он женится
На третьей — не беда!
Умрет ребенок — лишняя
Кроха живым останется,
155
Коровушка падет —
Все не беда, а пол-беды,
Беда непоправимая,
Когда валиться лошади
У пахарей начнут.
Упоминание о лошади заставляет и Бирюка снизойти
до объяснения:
« —Говорят, нельзя. Я тоже человек подневольный: с
меня взыщут. Вас баловать тоже не приходится».
Почему «тоже подневольный»? Мужик идет воровать с
голодухи, он подневольный нужды, бедности, лесник не
имеет воли оттого, что служит барину и с него взыщут за
недосмотр. По характеру его видно, что он страшится не
взыскания, а привык нести службу добросовестно, без
упущений, с чувством исполняемого долга. Но не утратил
он еще и способность к сердечным порывам.
«Бедняк потупился... Бирюк зевнул и положил голову
на стол. Дождик все не переставал. Я ждал, что будет».
Тургенев точно определил положение действующих лиц,
обстановку. Чего можно ждать дальше? Охотник все же
думает, что продолжение последует. И верно:
«Мужик внезапно выпрямился. Глаза у него загоре-
лись, и на лице выступила краска».
Изображение протеста, высказываемого мужиком, Тур-
генев усиливает тем, что не с новой строки, а без абзаца,
вподбор, помещает гневныа слова мужика:
«...выступила краска. «Ну, на, ешь, на, подавись,
на,— начал он, прищурив глаза и опустив углы губ,— на,
душегубец окаянный, пей христианскую кровь, пей...»
Лесник обернулся.
— Тебе говорю, тебе, азиат, кровопийца, тебе!
— Пьян ты, что ли, что ругаться вздумал? — загово-
рил с изумлением лесник.— С ума сошел, что ли?»
Решимость порубщика, до сих пор лишь униженно
просившего отпустить его, поражает Бирюка так, что он
даже не находит слов для ответа. А мужик повышает го-
лос:
«—А мне что? Все едино — пропадать; куда я без ло-
шади пойду? Пришиби — один конец; что с голоду, что
так —все едино. Пропадай все: жена, дети — околевай
все... А до тебя, погоди, доберемся.
Бирюк приподнялся.
— Бей, бей,— подхватил мужик свирепым голосом,—
156
бей, на, на, на, бей... (Девочка торопливо вскочила с полу
и уставилась на него.) «Бей! бей!»
Что «подхватил» мужик — окончание слов Бирюка?
Но тот молчал. Зато «приподнялся», и в его движении
мужик увидел готовность начать драку, отчего стал вы-
крикивать «бей».
«— Молчать!—загремел лесник и шагнул два раза.
— Полно, полно, Фома,— закричал я.— Оставь его...
бог с ним».
В картине отчаянного бунта мужика, созданной Турге-
невым, было заключено то грозное предупреждение, кото-
рое четко и безбоязненно сформулировал революционный
писатель Радищев: освобождения крестьян следует ожи-
дать от самой тяжести порабощения.
Кроткий, минуту назад униженно молящий о пощаде,
нищий, забитый мужичок, потеряв надежду спастись от
полного разорения, вдруг обретает силу в гневе и проте-
сте.
Мужика Бирюк не испугался: угроз на своем веку он
слышал достаточно. Да и вряд ли пожалел его: бедность
не оправдывала воровства — в этом Бирюк был убежден
твердо. Но он почувствовал, возможно, впервые в жизни,
правоту крестьянского гнева и, как натура высоконравст-
венная, уступил тому, что считал справедливым.
«Бирюк схватил его за плечо... Я бросился на помощь
мужику...
— Не троньте, барин! — крикнул на меня лесник».
Барин боится, что произойдет убийство,— Бирюк
разъярился, а он силы недюжинной, об этом читателю бы-
ло сказано.
«Я бы не побоялся его угрозы и уже протянул было
руку; но, к крайнему моему изумлению, он одним поворо-
том сдернул с локтей мужика кушак, схватил его за ши-
ворот, нахлобучил ему шапку на глаза, растворил дверь и
вытолкнул его вон.
— Убирайся к черту с своею лошадью! — закричал он
ему вслед,— да смотри, в другой раз у меня...»
Выше приводились слова мужика: «Куда я без лошади
пойду?» Еще выше мужик просил «лошаденку-то, хоть
ее-то» отпустить, и Бирюк ответил отказом. Но он все
время помнит о лошади и, прогоняя порубщика, упоми-
нает ее потому, что так же хорошо, как и мужик, пони-
мает ее значение в крестьянском хозяйстве.
157
« — Ну, Бирюк,— промолвил я наконец,— удивил ты
меня: ты, я вижу, славный малый».
«Наконец» — значит, понадобилось некоторое время
для того, чтобы охотник понял, что произошло и как хо-
рошо повел себя лесник,— понял и удивился.
«— Э, полноте, барин,— перебил он меня с досадой,—
не извольте только сказывать. Да уж я лучше вас прово-
жу,— прибавил он.— Знать, дождика-то вам не пере-
ждать...»
«Через полчаса он простился со мной на опушке леса».
Рассказ Тургенева «Бирюк» имеет антикрепостниче-
скую направленность не только потому, что в нем описа-
но бедственное положение крестьян и показана их готов-
ность к протесту и бунту. Антикрепостнический смысл его
прочно связан с главным героем — Бирюком, в котором
отразилась любовь писателя к крестьянам, умение видеть
в них не только страдающих от бесправия и нищеты лю-
дей, но и людей талантливых, умных, мужественных,
верных своему нравственному долгу.
Тургенев не первый среди русских писателей создал
образ крепостного слуги, верой и правдой служащего гос-
подам. Таков, например, Савельич в «Капитанской доч-
ке» Пушкина, о котором В. Ф. Одоевский писал автору:
«Савельич чудо! Это лицо самое трагическое, то есть кото-
рого больше всего жаль в повести».
Замечание это очень любопытно. В «Капитанской
дочке» много по-настоящему трагедийных ситуаций, ко-
торые Савельича счастливо минуют, тем не менее именно
его фигура вызывает острую жалость, равно как фигура
Бирюка в рассказе Тургенева, хотя он хозяин положения и
его никто не преследует и не карает.
В чем же здесь дело?
Внутренняя трагедия этих людей, которой они сами не
осознают в силу неразвитости сознания, очевидна для гу-
манных и либеральных дворян, «более счастливых сы-
нов» нации. Они видят их редкие достоинства — трудолю-
бие, ум, развитое чувство долга, мужество — и понимают,
какое ничтожное применение эти качества находят в
условиях крепостной России.
1
Рассказ А. П. Чехова «На святках» появился в «Петер-
бургской газете» 1 января 1900 года, а затем с небольши-
ми поправками был перепечатан в собрании сочинений
(т. XII, 1903). Объем рассказа невелик — около десяти
тысяч знаков, то есть четверть авторского листа. Необхо-
димость быть предельно кратким побудила Чехова обой-
тись без каких-либо связок и ограничиться показом двух
картин. Выводы из увиденного представлялось делать чи-
тателю. Но все данные автор ему сообщил.
Название рассказа «На святках», краткое и подчерк-
нуто нейтральное, типично для заглавий Чехова девяно-
стых годов. Он именовал рассказы коротко: «Мужики»,
«Печенег», «Моя жизнь», «Ионыч», «Душечка», «Дом с
мезонином», «Дама с собачкой» — и ни одно из таких
заглавий не давало читателю возможности предугадать, о
чем пойдет речь в тексте произведения. В ранние годы
творчества Чехов охотно придумывал длинные, затейли-
вые, смешные и подробные заглавия для своих рассказов и
фельетонов, но позже стал очень требователен к подбору
названий. Он избегал всего, что отзывало громкостью, же-
ланием заставить читателя прочесть написанное, заинте-
ресовать, подманить его.
159
По этому поводу К. И. Чуковский замечал:
«Иные тогдашние авторы, стремясь привлечь к своим
произведениям внимание равнодушной читательской
массы, снабжали их крикливыми заглавиями, служившими
как бы рекламой для них. Чехов брезгливо чуждался этих
вульгарных приемов. Они претили его строгому вкусу. Он
счел бы унизительным для своей писательской гордости
приманивать читателей словесной эксцентрикой.
Те заглавия, которыми он стал именовать свои вещи
к концу восьмидесятых годов, когда из Чехонте он стал
Чеховым, коротки, неприметны и скромны. Какой бы
сложностью, каким бы богатством эмоций и мыслей ни
отличались сюжеты отмеченных ими рассказов, сами они
удивительно просты и так лаконичны, словно их назна-
чение не в том, чтобы раскрывать содержание рассказов,
а в том, чтобы прятать его» 1.
В рассказе «На святках» говорится о том, как в дерев-
не старик со старухой диктуют письмо дочери, вышедшей
замуж в Петербург, грамотей пишет всякую ерунду, но
дочь, получив письмо и едва прочтя первые строки, уже
все понимает, вспоминая родителей, и тоска по деревне,
по дому захватывает ее. Как будто бы совсем несложно,
и сюжет даже не обозначился,— пишут письмо, адресат
его получает, — а между тем какой кусок жизни сумел
показать писатель, сколько характерных, живых фигур
разместил он на крохотной площади, какие проблемы по-
ставил перед читателем!
Подтекст играет в этом рассказе очень видную роль.
Ведь, в сущности, письмо не содержит никакой информа-
ции, строки его бессмысленны — и, тем не менее, оно до-
стигает своей цели, и примерно все, что желала выразить
мать, было воспринято дочерью.
В двух начальных абзацах Чехов излагает необходимые
сведения, открывая рассказ вопросом грамотея Егора, ви-
димо отбывшего солдатчину писарем:
«— Что писать? — спросил Егор и умакнул перо.
Василиса не виделась со своею дочерью уже четыре
года. Дочь Ефимья после свадьбы уехала с мужем в Пе-
тербург, прислала два письма и потом как в воду канула:
ни слуху, ни духу. И доила ли старуха корову на рассвете,
1 Корн ей Чуковский. «Как солнце в малой капле вод».
«Литературная Россия», 17 января 1969 г., № 3.
160
топила ли печку, дремала ли ночью — и все думала об
одном: как-то там Ефимья, жива ли. Надо бы послать
письмо, но старик писать не умел, а попросить было не-
кого».
Когда возвратился со службы брат хозяйки трактира
Егор, о котором говорили, что «он может хорошо писать
письма, ежели ему заплатить, как следует», Василиса
подрядила его за пятиалтынный.
...Право, кажется, нет ничего труднее, как писать о
рассказах Чехова! В них есть решительно все, что автор
желал передать читателю, комментарии рядом с чехов-
ской прозой тяжелы, лучше всего бы перепечатать весь
текст, который нужно разобрать. Но думаешь, а вдруг
кто-то не так поймет Чехова, не дослушает его, не раз-
глядит того, что стоит в глубине текста,—и, рискуя про-
слыть надоедливым собеседником, все же тянешься ука-
зать пальцем на то, что, может быть, автор хотел незамет-
но впустить в сознание читателя, ненавязчиво, вполголоса
убедить его в чем-то дорогом и заветном.
«И теперь — это происходило на второй день праздника
в трактире, в кухне — Егор сидел за столом и держал
перо в руке. Василиса стояла перед ним, задумавшись, с
выражением заботы и скорби на лице. С нею пришел и
Петр, ее старик, очень худой, высокий, с коричневой лы-
синой; он стоял и глядел неподвижно и прямо, как слепой.
На плите в кастрюле жарилась свинина; она шипела и
фыркала, и как будто даже говорила: «флю-флю-флю».
Было душно».
Просителей-мужиков не пустили в комнаты, Егор вы-
шел к ним на кухню. Пришедшие стоят, понимая свою
незначительность перед трактирной хозяйкой и ее братом.
Видно, что старуха — голова и сердце семьи, заботы и
скорби отражаются на ее лице, а старик простоват, без
речей. Он сознает ответственность момента, и «стоит не-
подвижно и прямо, как слепой», опасаясь чем-либо выра-
зить неуважение к окружающему. А на плите жарится
свинина —и фыркает «флю-флю-флю», и этот солидный,
говорящий о довольстве звук будет как бы перекликаться
с текстом письма, которое пишет Егор. Свинина, трактир,
сытый писарь — и никому нет дела до горестей старухи,
тоскующей о дочери. Старик совсем не чувствителен и
важности посылки письма не понимает, однако, привык-
ший подчиняться жене, участвует в написании текста.
6 А. Западов
161
Собственно, старуха не сумела продиктовать письма,
кроме вступительной фразы — обращения к зятю и до-
чери:
«— Чего и вам желаем от господа... царя небеспо-
го...— повторила она и заплакала.
Больше ничего она не могла сказать. А раньше, когда
она по ночам думала, то ей казалось, что всего не поме-
стить и в десяти письмах. С того времени, как уехали
дочь с мужем, утекло в море много воды, старики жили,
как сироты, и тяжко вздыхали по ночам, точно похорони-
ли дочь. А сколько за это время было в деревне всяких
происшествий, сколько свадеб, смертей. Какие были длин-
ные зимы! Какие длинные ночи!»
Со старика же нечего было и спрашивать. Он вряд ли
догадывался о том, что волновало жену. Рисуя этих лю-
дей, Чехов жалеет, что они безграмотны, не могут выска-
зать свои тревоги, хотя способны понимать существо де-
ла и, если говорить о старухе, верно оценить ситуацию,
не умея, однако, четко ее пояснить словами.
Но время идет, и писарь не намерен терять его на-
прасно.
«— Жарко! — проговорил Егор, расстегивая жилет.—
Должно, градусов семьдесят будить. Что же еще? —
спросил он».
Егор произносит вторую фразу,— сначала он спраши-
вал, что писать,— и читатель уже понимает, кто перед
ним. Он прикоснулся как-то к городской культуре, знает,
что температуру измеряют градусами, но ничему как
следует не выучился.
«Старики молчали.
— Чем твой зять там занимается? — спросил Егор.
— Он из солдат, батюшка, тебе известно,— ответил
слабым голосом старик.— В одно время с тобой со службы
пришел. Был солдат, а теперь, значит, в Петербурге в во-
доцелебном заведении. Доктор больных водой пользует.
Так он значит у доктора в швейцарах.
— Вот тут написано...— сказала старуха, вынимая из
платочка письмо.— От Ефимьи получили, еще бог знает
когда. Может, их уж и на свете нет».
Егор обладал опытом в составлении деревенских пи-
сем. Не дожидаясь, пока заказчики сумеют сообразить,
что им нужно сказать, он заполнял страницу собственным
текстом, отчасти ориентированным на профессию коррес-
162
пондента. В данном случае, узнав, что зять старика слу-
жил в солдатах, он избирает для письма военную тему и
выводит пером всякую белиберду, припоминая различные
термины, слышанные в полковой канцелярии.
«В настоящее время,— писал он,— как судба Ваша
через себе определила на Военое Попрыще, то мы Вам
советуем заглянуть в Устав Дисциплинарных Взысканий
и Уголовных Законов Военого Ведомства, и Вы усмотри-
те в оном Законе цывилизацию Чинов Военого Ведомства».
Он писал и прочитывал вслух написапиое, а Васили-
са соображала о том, что надо было бы написать, какая в
прошлом году была нужда, не хватило хлеба даже до свя-
ток, пришлось продать корову. Надо бы попросить денег,
надо бы написать, что старик часто похварывает и скоро,
должно быть, отдаст богу душу... Но как выразить это на
словах? Что сказать прежде и что после?»
Чехов передает мысли старухи, которых она по не-
привычке к рассуждениям, да и по робости, не могла вы-
разить...
«Обратите внемание,— продолжал Егор писать,—
в 5 томе Военых постановлений. Солдат есть Имя обчшее.
Знаменитое. Солдатом называется Перьвейшый Генерал
и последней Рядовой...»
Старик сказал, что хорошо бы поглядеть внучат...
«И поэтому Вы можете судить,— торопился Егор,—
какой есть враг Иноземный и какой Внутреный. Перьвей-
шый наш Внутреный Враг есть: Бахус».
«Перо скрипело, выделывая на бумаге завитушки, по-
хожие на рыболовные крючки. Егор спешил и прочитывал
каждую строчку по нескольку раз. Он сидел на табурете,
раскинув широко ноги под столом, сытый, здоровый, мор-
дастый, с красным затылком. Это была сама пошлость,
грубая, надменная, непобедимая, гордая тем, что она ро-
дилась и выросла в трактире, и Василиса хорошо понима-
ла, что тут пошлость, но не могла выразить на словах, а
только глядела на Егора сердито и подозрительно...»
Бахус как «первейший внутренний враг» — этому в
казармах не учили, Бахуса услышал писарь где-то в дру-
гом месте, соединив затем с фельдфебельской словес-
ностью. Но что говорить, разных слов Егор нахватался, и
ему есть чем щегольнуть в трактире.
М. Горький сказал о Чехове:
«Он обладал искусством всюду находить и оттенять
6*
163
пошлость, искусством, которое доступно только человеку
высоких требований к жизни, которое создается лишь го-
рячим желанием видеть людей простыми, красивыми,
гармоничными. Пошлость всегда находила в нем жестко-
го и острого судью» \
В трактире перед Василисой сидела «сама пошлость»,
и она узнавала ее, но «не могла выразить на словах» ни
этой, ни других своих мыслей. Прямых путей борьбы с
темнотой и отсталостью народа Чехов не указывал, да и
не знал, но пошлости противостоять было можно, хотя бы
тем, чтобы учиться видеть ее различать. И хорошие, про-
стые, правильные люди могли протягивать друг другу ру-
ки через голову этой пошлости, умели сговариваться меж-
ду собой, и то, что они чувствовали близость родственного
по свойствам человека, облегчало каждому из них жизнь.
От голоса Егора, «непонятных слов, от жара и духоты
у нее разболелась голова, запутались мысли, и она уже ни-
чего не говорила, не думала и ждала только, когда он кон-
чит скрипеть. А старик глядел с полным доверием. Он ве-
рил и старухе, которая его привела сюда, и Егору; и когда
упомянул давеча о водолечебном заведении, то видно бы-
ло по лицу, что он верил в заведение и в целебную силу
воды».
Он одобрил написанное Егором письмо, хотя ни слова
в нем не понял.
«Положили на стол три пятака и вышли из трактира;
старик глядел неподвижно и прямо, как слепой, и на ли-
це его было написано полное доверие, а Василиса, когда
выходили из трактира, замахнулась на собаку и сказала
сердито:
— У-у, язва!»
Так выразились ее недовольство письмом, собственной
беспомощностью, трудностями жизни вообще, тоска по
дочери, жалость к старику, страдающему от болезни.
«Всю ночь старуха не спала, беспокоили ее мысли, а
на рассвете она встала, помолилась и пошла на станцию,
чтобы послать письмо».
Первая часть кончается абзацем, состоящим из одной
фразы:
1 М. Горький. А. П. Чехов. В кн.: «М. Горький и А. П. Че-
хов. Переписка, статьи и высказывания». Под ред. С. Д. Балухатого.
M.—JL, Изд-во Академии наук, 1937, стр. 143,
164
«До станции было одиннадцать верст».
Случайно или нет — вышел трехстопный амфибрахий
с мужским окончанием.
Хозяйкиного брата Егора вспомнил в одной из своих
статей С. Я. Маршак, говоря о том, что поэтические зави-
тушки не могут заменять жизненного содержания сти-
хов, что «наличием этой прозы в стихах измеряется
поэтическая честность, поэтическая глубина, ею изме-
ряется и художественное мастерство».
На место Егора, говорит С. Я. Маршак, так легко по-
ставить иного литератора: «народ просит его, человека,
владеющего пером, выразить все то, чего «не поместить и
в десяти письмах», а он преспокойно выделывает на бу-
маге завитушки, похожие на рыболовные крючки.
Народ, умный, терпеливый и вежливый народ, читает
этакую мудреную «цывилизацию Чинов Военого Ведомст-
ва» и подчас только головой кивает:
— Ничего, гладко... дай бог здоровья. Ничего...
Правда, в наше время народ уже не тот. Его не обма-
нешь витиеватыми фразами и писарскими завитушками.
Да и молчать он, пожалуй, не станет, если почувствует
пошлость, которую в глубине души чувствовала даже без-
ропотная Василиса.
Но все же чеховский рассказ не утерял своей действен-
ности, своей сатирической горечи до сих пор» \
Итак, письмо отправлено и закончилась первая поло-
вина рассказа. Во второй говорится о том, как оно было
получено. Чехов составил рассказ из двух глав, обозначив
их цифрами,— так яснее, короче, не требовалось соору-
жать переход.
«Водолечебница доктора Б. О. Мозельвейзера работала
и на Новый год так же, как в обыкновенные дни, и только
на швейцаре Андрее Хрисанфыче был мундир с новыми
галунами, блестели как-то особенно сапоги, и всех прихо-
дивших он поздравлял с Новым годом, с новым счастьем».
Обстановка действия и время его изображены одной
фразой — экономность удивительная! А далее идет столь
же лаконично написанная сценка с участием петербург-
ских персонажей рассказа:
«Было утро. Андрей Хрисанфыч стоял у двери и читал
1 С. Маршак. Воспитание словом. Статьи. Заметки. Воспо-
минания. М,, «Советский писатель», 1961, стр. 40.
165
газету. Ровно в десять часов вошел генерал, знакомый,
один из обычных посетителей, а вслед за ним — поч-
тальон». Оставив швейцару шинель и «идя вверх по лест-
нице, генерал кивнул на дверь и спросил (он каждый
день спрашивал и всякий раз потом забывал):
— А в этой комнате что?
— Кабинет для массажа, ваше превосходительство!»
Одно из пришедших писем было на имя Андрея Хри-
санфыча. Он распечатал, прочел несколько строк и отнес
в свою комнатку, на ходу глядя в газету:
«— Должно, из деревни.
Затем он вышел, не отрывая глаз от газеты, и остано-
вился в коридоре, недалеко от своей двери. Ему было
слышно, как Ефимья дрожащим голосом прочла первые
строки. Прочла, и уж больше не могла; для нее было до-
вольно и этих строк, она залилась слезами и, обнимая
своего старшенького, целуя его, стала говорить, и нельзя
было понять, плачет она или смеется:
— Это от бабушки, от дедушки...— говорила она.—
Из деревни... Царица небесная, святители угодники. Там
теперь снегу навалило под крыши... деревья белые-белые.
Ребятки на махоньких саночках... И дедушка лысенький
на печке... и собачка желтенькая... Голубчики мои род-
ные!»
Ефимья рассказывает о деревне своему мальчику, на-
зывая понятные для него явления и вещи, и, очевидно,
вспоминает при этом свое детство, плача о том, что больше
не возвратится оно, как и ей не вернуться в родную
деревню...
Громоздкие фразы, написанные Егором, не коснулись
ее сознания, они оказались ненужными. Отношения с роди-
телями были настолько близкими, а объем деревенской
информации так знаком Ефимье, что самый факт появле-
ния письма установил ее прежний контакт с родителями,
ослабленный, но отнюдь не нарушенный годами молчания.
«Андрей Хрисанфыч, слушая это, вспомнил, что раза
три или четыре жена давала ему письма, просила послать
в деревню, но мешали какие-то важные дела: он не послал,
письма где-то завалялись.
— А в поле зайчики бегают,— причитывала Ефимья,
обливаясь слезами, целуя своего мальчика.— Дедушка ти-
хий, добрый, бабушка тоже добрая, жалосливая. В деревне
душевно живут, бога боятся... И церковочка в селе, мужич-
166
шт па клиросе поют. Упеслабыпас отсюда царица небес-
ная, заступница матушка!»
Вот почему ничего не знали старики о дочери — муж
не отсылал ее писем! Сама же Ефимья отправлять их не
решалась, не зная, как это делается,— привезенная в сто-
лицу, она, вероятно, безвыходно сидела в швейцарской.
«Андрей Хрисанфыч вернулся к себе в комнатку, чтобы
покурить, пока кто не пришел, и Ефимья вдруг замолчала,
притихла и вытерла глаза, и только губы у нее дрожали.
Опа его очень боялась, ах, как боялась! Трепетала, при-
ходила в ужас от его шагов, от его взгляда, не смела
сказать при нем ни одного слова».
Что ж, он был груб с ней, бил, заставлял непосильно
трудиться? Вряд ли. Домашний обиход был для Ефимьи
необременителен,—в деревне приходилось работать по-
больше; трезвый, муж, вероятно, не дрался, а пьяного
швейцара доктор Мозельвейзер не потерпел бы в лечеб-
нице. Но Андрей Хрисанфыч, как это можно понять, не счи-
тал жену, женщину, человеком, не снисходил до общения с
нею, редкие просьбы ее презирал как вздор и, вероятно, не
представлял себе, что в семье можно жить иначе. А ведь и
у него было деревенское детство, жалостливая мать, жел-
тенькая или черненькая собачка... Что убило в нем чувства,
ожесточило его, сделало равнодушным к людям, даже са-
мым близким? Не царская ли казарма, не солдатчина ли,
занявшая несколько лет его жизни?
Можно догадываться, что, по мнению Чехова, служба
в царской армии не была полезной школой для человека, и
мы сейчас увидим это, однако сначала. прочитаем конец
рассказа «На святках»:
«Андрей Хрисанфыч закурил, но как раз в это время на-
верху позвонили. Он потушил папиросу и, сделав серьез-
ное лицо, побежал к своей парадной двери.
Сверху спускался генерал, розовый, свежий от ванны.
— А в этой комнате что? — спросил он, указывая на
дверь.
Андрей Хрисанфыч вытянулся, руки по швам, и произ-
нес громко:
— Душ Шарко, ваше превосходительство!»
Глупый, беспамятный генерал, которому старательно
прислуживает бывший солдат Андрей Хрисанфыч, стано-
вится, таким образом, третьим военным, который попал в
маленький чеховский рассказ. Страшен трактирной пошло-
167
стью хозяйкин брат писарь Егор, страшен — по крайней
мере для жены — швейцар Андрей Хрисанфыч и, вероятно,
когда-то мог быть страшен для подчиненных выживший
из ума генерал. Насколько лучше их, умнее, отзывчивей
деревенские люди, не покалеченные армейской муштрой,—
старик со старухой и Ефимья, неслышно говорящие между
собой на ясном, простом человеческом языке, которого не
заглушить никаким треском канцелярских периодов!
2
Три фигуры бывших военных — два, по-видимому, унте-
ра и генерал,—выведенные в рассказе, так ли нечаянны
они для Чехова,— мол, вздумалось и написал,— или можно
увидеть тут проявление какой-то вообще свойственной
автору мысли?
Чтобы узнать это, читателю нужно проделать лишь
одну приятную работу — прочесть и просмотреть собрание
сочинений Чехова: как он изображал военных, какие черты
характера отмечал у своих персонажей из офицерской и
солдатской среды? А затем самому подумать, откуда такие
черты могли у них появиться, помня, что Чехов о многом
умалчивал в тексте рассказов, надеясь, что читатели вос-
становят и поймут недосказанное.
«Конечно, было бы приятно сочетать художество с про-
поведью,— сообщал он А. С. Суворину 1 апреля 1890 года,—
но для меня лично это чрезвычайно трудно и почти не-
возможно по условиям техники. Ведь чтобы изобразить
конокрадов в 700 строках, я все время должен говорить и
думать в их тоне и чувствовать в их духе, иначе, если я
подбавлю субъективности, образы расплывутся и рассказ
будет не так компактен, как надлежит быть всем коротень-
ким рассказам. Когда я пишу, я вполне рассчитываю на
читателя, полагая, что недостающие в рассказе субъектив-
ные элементы он подбавит сам» !.
Так Чехов и писал.
Бессрочно-отпускной рядовой Гусев морем возвращает-
ся с Дальнего Востока в Россию. Он тяжело болен, лежит
в пароходном лазарете и объясняет соседям, что служил в
денщиках:
1 А. П. Чехов. Полное собрание сочинений, т. XV. М., Гос-
литиздат, 1949, стр. Г)1.
108
« — Дело нетрудное, Павел Иваныч. Встанешь утром,
сапоги почистишь, самовар поставишь, комнаты уберешь,
а потом и делать нечего. Поручик целый день планты чер-
тит, а ты хочешь — богу молись, хочешь — книжки читай,
хочешь — на улицу ступай. Дай бог всякому такой жизни».
Гусев убежден, что живет он правильно, слушается на-
чальников, и никому нет надобности его обижать. За пять
лет службы ни разу он не сидел в карцере, а бит был
только однажды.
« — За что?
— За драку. У меня рука тяжелая, Павел Иваныч. Во-
шли к нам во двор четыре манзы; дрова носили, что ли —
не помню. Ну, мне скучно стало, я им того, бока помял, у
одного, проклятого, из носа кровь пошла... Поручик увидел
в окошко, осерчал и дал мне по уху» («Гусев», 1890).
За что же все-таки он побил китайцев?
« — Так. Во двор вошли, я и побил».
При всей своей надежде на читателя Чехов не упускает
случая дать ему понять свои мысли, и в данном случае как
бы говорит о том, что военная служба духовно калечит кре-
стьянского сына, оглупляет, делает его жестоким и равно-
душным человеком. Он привыкает раболепствовать, уго-
ждать начальству, глумиться над беззащитными.
« — Унтер-офицер Пришибеев! Вы обвиняетесь в том,
что 3-го сего сентября оскорбили словами и действием
урядника Жигина, волостного старшину Аляпова, сотского
Ефимова...»
Пришибеев, отставной каптенармус, когда-то служил
при штабе, вышел в чистую, потом поступил в пожарные,
был два года швейцаром в мужской классической про-
гимназии, наконец, возвратился в деревню — и с тех пор, в
продолжение пятнадцати лет, следит за односельчанами,
требуя, чтоб они соблюдали какие-то правила благочиния,
основы которых были им усвоены в городе («Унтер При-
шибеев», 1885).
Тупицей и кляузником сделала Пришибеева царская ка-
зарма. Она портит людей, и виной тому их воспитатели —
командиры, офицерский состав российской армии. В их
оценке Чехов особенно строг.
Заметки об офицерах в записных книжках Чехова пред-
ставляют их в непривлекательном виде:
«Два молодых офицера в корсетах».
«Один капитан учил свою дочь фортификации».
169
«Офицер у доктора. Деньги на блюде. Доктор видит в
зеркало, как больной берет с блюда 25 р. и потом платит
этими деньгами».
Корсеты — фатовство, брать чужие деньги — дурно, но
это быт, житейские случаи. А что скрыто за строкой о ка-
питане, который учил свою дочь фортификации? Очевидно,
это было нужно ему, а не ей, и если она училась чуж-
дой для нее военной науке, то лишь затем, чтобы сделать
приятное отцу. Но кто же такой капитан — глупец, маньяк,
изнывающий от безделья старик? Неизвестно. Запись эта и
не была адресована читателю.
Такой капитан хоть чему-то старается научить дочку.
И рядом с ним «печенег» из одноименного рассказа, быв-
ший офицер Жмухин, проживающий на своем хуторе близ
Донецкой железной дорогиа не выучил сыновей даже гра-
моте, они растут балбесами, жену превратил в забитое, не-
счастное существо. Один из современников писал, что в
этом рассказе отражены впечатления автора о Донском
крае и о донцах. Чехов, как вспоминает мемуарист, го-
ворил:
«Мне больно было видеть, что такой простор, где все
условия созданы, казалось, для широкой культурной жиз-
ни, положительно окутан невежеством и притом невеже-
ством, исходящим из правящей офицерской среды. Тут
виноваты и другие, вне власти казаков стоящие, причины,
но это главная. Будь офицер, который на самом деле явля-
ется главным воспитателем казака, образованнее, культур-
нее духовно, я уверен, что не было бы такого невежества
и «печенеги» все бы перевелись» 1.
В одном из ранних рассказов Чехова зарисованы воен-
ные, принимающие на себя полицейские обязанности:
«Я знаю одного отставного капитана, бывшего станово-
го. Этот человек помешан на тему: «Сборища воспрещены».
И только потому, что сборища воспрещены, он вырубил
свой лес, не обедает с семьей, не пускает на свою землю
крестьянское стадо и т. п. Когда его пригласили однажды
на выборы, он воскликнул:
— А вы разве не знаете, что сборища воспрещены?
Один отставной урядник, изгнанный за правду или за
лихоимство (не помню, за что именно), помешан на тему:
1 А. П. Чехов. Собрание сочинений в двенадцати томах, т. 8.
М., ГИХЛ, 1956, стр. 529.
170
«А посиди-ка ты, братец!» Он сажает в сундук кошек, собак,
кур и держит их взаперти определенные сроки» («Случаи
Mania grandiosa», 1883).
Отставной штабс-капитан Тупаев владеет ссудной кас-
сой, то есть дает в долг за проценты деньги, и принимает
вещи в заклад («Сон. Святочный рассказ», 1885). Генерал
Шмыгалов растратил деньги своей племянницы («Опекун»,
1883). Чтобы избавиться от надоевшего гостя, отставного
полковника Перегарина, хозяин просит у него взаймы де-
нег—и он сейчас же уходит («Гость», 1885). Поручик
Дубов пытается обмануть вольноопределяющегося Кнапса,
продавая ему под видом породистой собаки «помесь двор-
няжки со свиньей» («Дорогая собака», 1885). Капитан Ур-
чаев сшил мундир у портного Меркулова и не платит за
сукно и работу («Капитанский мундир», 1885).
А вот «воспитатели» солдат в домашней обстановке.
Сосед по номерам полковницы Нашатыриной и ее доче-
рей штабс-капитан Кикин пьет и ругается. Владелец заве-
дения им недоволен:
« — ...Безобразие! Проснется утром и давай ходить по
коридору в одном, извините, нижнем. А то вот возьмет
револьвер в пьяном виде и давай садить пули в стену. Днем
винище трескает, ночью в карты режется... А после карт
и драка... От жильцов совестно».
Однако, узнав titq* штабс-капитан еще не женат, пол-
ковница приглашфет^о к себе.
« — Может быть, тут ваша судьба»,— говорит она доче-
рям («В номерах», 1885).
Отставной капитан Соусов, «человек образованного
класса,-— по его словам,— домовладелец, при деньгах», тре-
бует от свахи, чтобы она искала ему глупую невесту:
« — Дура и любить тебя будет, и почитать, и чувство-
вать, какого я звания человек. Страх в ней будет. А умная
будет хлеб твой кушать, но чувствовать она не будет, чей
это хлеб. Дуру мне и ищи... Так и знай: дуру. Есть у тебя
такая на примете?» («Дура, или Капитан в отставке. Сцен-
ка из несуществующего водевиля», 1883).
Таковы господа офицеры, встречаемые читателем в рас-
сказах Чехова. Число примеров легко увеличить, но не в
них дело, картина достаточно выяснена. Даже врачи, пред-
ставители гуманнейшей, ответственной и любимой Чехо-
вым профессии, вступая на военную службу, подвергаются
ее губительному воздействию и, по мнению писателя, теря-
171
ют свои достоинства или, во всяком случае, медицинские
знания.
Военного доктора Самойленко («Дуэль», 1891) Чехов
изображает симпатичным человеком:
«Со всеми в городе он был на ты, всем давал деньги
взаймы, всех лечил, сватал, мирил, устраивал пикники, на
которых жарил шашлыки и варил очень вкусную уху из
кефалей; всегда он за кого-нибудь хлопотал и просил и
всегда чему-нибудь радовался. По общему мнению, он был
безгрешен, и водились за ним только две слабости: во-пер-
вых, он стыдился своей доброты и старался маскировать ее
суровым взглядом и напускной грубостью, и во-вторых, он
любил, чтобы фельдшера и солдаты называли его вашим
превосходительством, хотя он был только статским совет-
ником».
Здесь сказано обо всех чертах доктора Самойленко, при-
чем обойдено его профессиональное искусство, которому
автор, очевидно, не придает значения, зато отмечена пусть
невинная, но характерная для людей, понимающих толк в
табели о рангах, слабость — именоваться на класс выше,
чем тот, который им присвоен.
Другой выведенный Чеховым военный врач Чебутыкин
(«Три сестры», 1900) признается:
«А я в самом деле никогда ничего не делал. Как вышел
из университета, так не ударил пальцем о палец, даже ни
одной книжки не прочел, а читал только одни газеты...
(Вынимает из кармана другую газету.) Вот... Знаю по газе-
там, что был, положим, Добролюбов, а что он там писал —
не знаю... Бог его знает...»
Говорит он это в начале пьесы. Автор как бы представ-
ляет Чебутыкина зрителям. В третьем действии Чехов по-
казывает, каковы последствия нравственного падения этого
врача для окружающих и для него самого.
«Чебутыкин (угрюмо). Черт бы всех побрал... под-
рал... Думают, что я доктор, умею лечить всякие болезни,
а я не знаю решительно ничего, все позабыл, что знал, ни-
чего не помню, решительно ничего. (Ольга и Наташа, не-
заметно для него, уходят.) Черт бы побрал. В прошлую
среду лечил на Засыпи женщину — умерла, и я виноват,
что она умерла. Да... Кое-что знал лет двадцать пять назад,
а теперь ничего не помню...» и т. д.
Таким врачам у Чехова прощенья нет.
Кстати сказать, в пьесе «Три сестры» много военных
172
людей. Кроме Чебутыкина там участвуют подполковник
Вершинин, поручик барон Тузенбах, штабс-капитан Соле-
ный, подпоручики Федотик и Родэ. А сестры — генераль-
ские дочери, их отец командовал артиллерийской брига-
дой, в которой продолжают служить названные офицеры.
И нужно сказать, что в поздний период творчества Чехов
смягчил свое отрицательное отношение к офицерству,—
может быть, глубже к нему присмотрелся и увидел лучших
представителей этого сословия, которых раньше по каким-
то причинам не замечал.
Чехов часто бывал на репетициях пьесы «Три сестры»,
говорит К. С. Станиславский, но «очень редко, осторожно и
почти трусливо выражал свои мнения. Лишь одно он от-
стаивал особенно энергично: как и в «Дяде Ване», так и
здесь он боялся, чтоб не утрировали и не карикатурили
провинциальной жизни, чтобы из военных не делали обыч-
ных театральных шаркунов с дребезжащими шпорами, а
играли бы простых, милых и хороших людей, одетых в по-
ношенные, а не театральные мундиры, без всяких теат-
рально-военных выправок, поднятий плеч, грубостей и т. д.
— Этого же нет,—убеждал он особенно горячо,—воен-
ные же изменились, они же стали культурнее, многие же
из них даже начинают понимать, что в мирное время они
должны приносить с собой культуру в отдаленные мед-
вежьи углы» 1.
Такую же примерно мысль писатель высказал по по-
воду роли офицерства в воспитании донских казаков, о чем
было писано выше. Очевидно, эта идея в самом деле была
ему присуща.
В «Трех сестрах» подполковник Вершинин мечтает о
том, что через двести — триста лет настанет наконец на
земле счастливая жизнь, поручик Тузенбах выходит в от-
ставку с намерением приняться за производительный
труд — «хоть один день в моей жизни поработать так, что-
бы прийти вечером домой, в утомлении повалиться в по-
стель и уснуть тотчас же». Маша вообще считает, что в
городе «самые порядочные, самые благородные и воспитан-
ные люди — это военные», а между штатскими «так много
людей грубых, не любезных, не воспитанных». Ее не-
замужние сестры Ольга и Ирина работают, одна — в гимна-
1 К. С. Станиславский. Статьи. Речи. Беседы. Письма.
М., «Искусство», 1953, стр. 140.
173
зии, другая — на телеграфе, труд утомляет их, но не кажет-
ся проклятием, хоть, по словам Маши, сестры долго не
могли привыкнуть к тому, что после смерти отца у них уже
нет денщиков...
Как сложны и разнообразны характеры персонажей
чеховских рассказов и пьес. Как доверяет автор читателю,
приобщая его к раздумьям о судьбах героев, о их прошлом
и будущем, для чего в тексте есть данные, над которыми
нужно задуматься, а сначала увидеть их на странице.
«Каждое художественное слово, принадлежит ли оно
Гёте или Федьке, тем-то и отличается от нехудожествен-
ного,—говорил Л. Н. Толстой,—что вызывает бесчислен-
ное множество мыслей, представлений и объяснений» К
Так умели писать не все.
И совсем не умел знакомый Чехова И. П. Потапенко,
чья литературная известность в свое время не уступала
чеховской, а может быть, и превосходила ее. Впрочем, те-
перь его вывели в кино, правда, больше в роли партнера
Лики Мизиновой, которую играла прекрасная актриса
Марина Влади.
За несколько лет до пьесы Чехова «Три сестры» Пота-
пенко напечатал повесть «Генеральская дочь» и позже ее
переиздавал2.
Он держался весьма умеренных политических взглядов,
но не был чужд демократизму и жалел, когда богатые оби-
жали бедных. В своих произведениях Потапенко советовал
не гнаться за карьерой, за деньгами, помогать ближнему.
Возможно, людям, читавшим его книжки, казалось, что они
начинают склоняться к милосердию, к заботам о меньшем
брате. И столь же вероятно, что, отложив книжку, они за-
бывали писателя: произведения его не заставляли думать,
не имели глубины, были совершенно плоскими, в один слой,
содержание строк значило лишь то, что в них изобража-
лось словами, то есть очень немногое.
В повести «Генеральская дочь» говорится о девушке из
светского общества, которая поняла, что окружающие люди
не достойны уважения,— и покинула отчий дом. Она стала
сельской учительницей, делала крестьянам добро, очень
1 Л. Н. Толстой. Кому у кого учиться писать... Полное соб-
рание сочинений, т. 8. М., ГИХЛ, 1936, стр. 303.
2 См. И. Потапенко. Повести и рассказы, т. 3, изд. 2-е,
СПб, 1895.
174
нуждалась, голодала и тем приблизила смерть. Дневник ее
читает новая учительница, чей отец растратил доверенные
ему деньги, разорил семью и заставил жену и дочь трудом
добывать себе пропитание. Молодая девушка злобится на
жениха, прекратившего с нею знакомство, на мать, на
школьников, на крестьян, на весь мир и на свою предшест-
венницу.
В дневнике генеральской дочери сказано:
«Я дописала до конца. Мне трудно держать в руке перо.
Болезнь меня истощила. Я умру завтра, а может быть сего-
дня. Но мысли роем толпятся в моей голове. Вот одна из
них: я довольна своей жизнью. Мне жаль, что она так ко-
ротка была, но все же она была настолько продолжительна,
чтобы я могла сказать, что жила не напрасно...» 1
Новая учительница отвергает пример генеральской
дочери. «Судьба нанесла мне страшный удар,— записывает
она в своем дневнике,— и я озлобилась и возненавидела
весь мир... Да, я хотела служить ближнему, но не смогла.
Он слишком некрасив, груб, грязен, нечистоплотен, этот
ближний...»
В сердце девушки нет любви к людям, дети противны
ей, светская жизнь пуста... Что делать?
«...Она подошла к небольшому сундуку, отперла его,
затем отыскала шкатулку, и ее отперла маленьким ключи-
ком, порылась в ней и достала револьвер. Твердой рукой
она вложила на место патроны, положила револьвер в кар-
ман платья, а шкатулку и сундук заперла. Церковный
сторож прозвонил одиннадцать...» 2
Слов нет, Потапенко учил хорошему, доброму,— точнее,
не учил, а приводил примеры, показывающие, что можно
немного поступаться своим благополучием в пользу ближ-
него,— и примеры эти были небесполезны. Но влияние это
могло быть неизмеримо большим, если бы рассказы и очер-
ки его не отдавали бы прописями, не походили бы на те, что
переписывал под началом строгого отца маленький Павлу-
ша Чичиков: «Не лги, послу шествуй старшим и носи добро-
детель в сердце». А ведь литература должна делать значи-
тельно больше!
1 И. Потапенко. Повести и рассказы, т. 3, изд. 2-е, СПб,
1895, стр. 107. По слогу очень похоже на перевод, но вряд ли Пота-
пенко хочет указать, что генеральская дочь не очень свободно вла-
дела русским языком. Скорее сам писатель не заметил неловкости
оборота.
2 Там же, стр. 175.
175
3
В сущности говоря, ход развития Чехова от шутника-
водевилиста до крупнейшего мастера реалистического ис-
кусства, чей творческий гений оказал могучее влияние на
мировую литературу и продолжает воздействовать на новые
поколения писателей,— весь этот ход можно проследить и
показать на примере переработки автором крохотной
сцены-монолога «О вреде табака», знакомство с которой
не входит ни в какие учебные программы.
Первоначально эту пьеску Чехов написал в 1886 году.
14 февраля он сообщил В. В. Билибину:
«Сейчас только кончил сцену-монолог «О вреде табака»,
который предназначался в тайнике души моей для комика
Градова-Соколова. Имея в своем распоряжении только
2хI2 часа, я испортил этот монолог... Намерения были бла-
гие, а исполнение вышло плохиссимое...» 1
Два с половиной часа, сто пятьдесят минут понадоби-
лось Чехову, чтобы написать монолог,— времени мало, как
считает и он, работавший необычайно быстро, и потому
сцена была «испорчена», намерения осуществить не
удалось.
Вряд ли можно думать, что Чехов жалел о недостаточ-
ной глубине образа главного и единственного персонажа —
Нюхина, о нехватке трагических деталей его существова-
ния, об отсутствии какой-то общей идеи вещи. Такие зада-
чи он начал ставить перед собой очень скоро, но еще не в
дни создания этого монолога. Вероятно, Чехову казалось,
что в монологе не все вышло одинаково смешно, что комизм
Нюхина можно было бы усилить — ведь юмореска пред-
назначалась «в тайнике души»,— автор еще не решался
надеяться на такой успех! — для актера Градова-Соколова,
который играл в театре Корша и отнюдь не принадлежал к
числу светил московской сцены...
Сцена «О вреде табака» впервые была напечатана в
«Петербургской газете» (17 февраля 1886 г., № 17), с ис-
правлениями включена в сборник «Пестрые рассказы»
(1886), затем вновь подверглась правке и сокращению и
появилась в литографированном издании С. И. Напойкина
в 1887 году. Следующие издания состоялись в 1889 году
1 А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем т. XIII.
М., Гослитиздат, 1948, стр. 173.
176
(два), этот текст вошел затем в собрание сочинений Чехо-
ва, откуда он и приводится на страницах нашей книги.
Рассмотрим текст первой редакции пьесы.
«О вреде табака. Сцена-монолог.
Действующее лицо:
Маркел Иванович Нюхин, муж своей жены,
содержательницы женского пансиона.
Сцена представляет эстраду одного из провинциальных
клубов. Нюхин величественно входит, кланяется, поправля-
ет жилетку и величественно начинает».
Наиболее заметная черта образа — «муж своей же-
ны» — указана в авторской ремарке, занятия этой дамы
также названы. О частных пансионах писать можно было
беспрепятственно, цензура насмешки над ними пропуска-
ла. Но клуб все же обозначен как «провинциальный»: не
надо думать, что в столицах возможны такие лекции.
Имя Нюхину выбрано не часто встречающееся — Мар-
кел. Чехов еще придает цену затейливым именам, хотя в
дальнейшем это имя не обыгрывает. Фамилия дана смеш-
ная — «Нюхин», от «нюхать», он и в пьесе нюхает табак.
А входит —«величественно». Величественный Нюхин, ва-
ше величество Нюхин — смешно...
Начинает он величественно, нимало не стесняясь об-
стоятельствами, предшествовавшими его выступлению, и
сейчас же знакомит с ними слушателей:
«Милостивые государыни и милостивые государи! Моей
жене предложено было, чтобы я с благотворительной целью
прочел здесь какую-нибудь популярную лекцию. Истинная
ученость скромна и не любит фигурировать, но ввиду на-
званной цели жена моя согласилась— и вот я перед
вами...»
Формулу: «моей жене предложено было, чтобы я...»,
«жена моя согласилась» — Нюхин произносит без запинки,
видимо, она ему привычна. В своей пригодности для чте-
ния «популярных лекций» он не сомневается. Аудитория
ему знакома, что явствует из следующих слов:
«Я не профессор и чужд ученых степеней, но ни для
кого из вас не составляет секрета, что я... что я (мнется и
быстро заглядывает в бумаоюку, которую вытаскивает из
жилетного кармана)... что я вот уже тридцать лет не пере-
ставая, жертвуя здоровьем и благами жизни, работаю над
вопросами строго научного свойства и даже печатаю
иногда в местном органе научные статьи...»
177
Слова «я не профессор и чужд ученых степеней» звучат
вызовом академическому порядку, «чужд» обозначает, что
лектор избегает ученых степеней, хотя мог их иметь, он
чуждается внешних символов научного признания, он вы-
ше их. Но дальше память изменяет Нюхину. Бойко отра-
портовав, что читает лекцию по приказу жены, он готов
спутаться, говоря о собственных заслугах, и потому торо-
пится заглянуть в бумажку, где об этом написано.
«На-днях сдана мною в редакцию большая статья под
заглавием: «О вреде чаизма и кофеизма для организма»,—
продолжает Нюхин. Тема статьи пародирует с помощью
суффикса «изм» название научного исследования, слова
рифмуются, но с пьесой это связано лишь в самом общем
виде разве лишь в том смысле, что провинциальные обыва-
тели пьют много чая и кофе. Во второй редакции Чехов
свяжет тему статьи Нюхина с сюжетом пьесы, с ее суще-
ством.
Нюхин подчеркивает самостоятельность выбора темы
своего выступления, жена тут ни при чем:
«Предметом сегодняшней лекции я избрал вред, кото-
рый приносит человечеству потребление табаку. Конеч-
но, трудно в одну лекцию исчерпать всю важность пред-
мета, но я постараюсь быть краток и скажу только о са-
мом важном...»
Далее следует предупреждение о серьезности лекции:
«Как враг популяризации, буду строго научен, вам же,
слушатели, предлагаю прочувствовать всю важность пред-
мета и отнестись к моей настоящей лекции с должной
серьезностью... Кто легкомыслен, кого пугает сухость науч-
ной речи, тот может не слушать и выйти!.. (Делает вели-
чественный жест и поправляет жилетку.) Итак, начи-
наю...»
Почему, собственно, Нюхин «враг популяризации»? Он
помнит, как в его студенческие годы, лет двадцать — два-
дцать пять назад, представители казенной, университет-
ской науки порицали Писарева, кроме всего прочего, за
требование популяризации научных истин, за намерение
учить демократического читателя. Муж содержательницы
женского пансиона, разумеется, враг бесплатного образо-
вания. Кроме того, слова о «сухости научной речи», «стро-
гой научности» лекции должны представить контраст той
ерунде, которую начнет плести Нюхин.
Начав изложение темы, лектор говорит, что табак упо-
178
требляется в медицине, и приводит в подтверждение коми-
ческий пример: «Так, в тысяча восемьсот семьдесят первом
году, десятого февраля он прописывался моей жене в виде
клизм». Вряд ли случайно эти клизмы датируются семь-
десят первым годом: Нюхин помнит только их, а год был
знаменит войной Пруссии с Францией и Парижской ком-
муной, о чем знали, вероятно, многие слушатели Нюхина,
державшиеся более передовых и демократических взглядов,
чем он.
Записка понадобилась Шохину для следующей части
его лекции, в которой он старался объяснить, что такое
табак. «(Заглядывает в бумажку.) Табак есть тело орга-
ническое. Получается он, по моему мнению, из растения
Nicotiana Tabacum, принадлежащего к семейству Sola-
neae. Растет в Америке. Главную составную часть его
составляет страшный губительный яд никотин. Химически
он, по моему мнению, состоит из десяти атомов углерода,
четырнадцати атомов водорода и... двух... атомов... азота...»
Хотя Нюхин выписал эти сведения из книги, он делает
вид, что излагает свои взгляды и дважды приговаривает:
«по моему мнению». Формула никотина приведена вер-
но — G10H14N2. Убогость речи лектора, когда он касается
научных данных, Чехов подчеркивает троекратным повто-
рением им однокоренных слов «составную», «составляет»,
«состоит» в соседних фразах. Латинские ботанические на-
звания должны прибавить учености лектору в глазах
аудитории.
На этом лекционный материал Нюхин исчерпывает.
Чехов сильным драматическим приемом переключает те-
чение монолога на личные обстоятельства лектора, что и
является центральным пунктом пьесы:
«Двух... атомов... азота... (Задыхается и хватается за
грудь, причем роняет бумажку.) Воздуху! (Чтобы не
упасть, балансирует руками и ногами.) Ох! Сейчас! Дайте
отдышаться... Сейчас... Сию минуту... Силой воли я оста-
новлю припадок... (Вьет себя кулаком по груди.) Доволь-
но! Уф!
(Минутная пауза, в продолжение которой Нюхин хо-
дит по сцене и отдувается.)
С давних пор... я страдаю припадками удушья... аст-
мой... Эта болезнь началась у меня в тысяча восемьсот
шестьдесят девятом году, тридцатого сентября, когда у
моей жены родилась шестая дочь Вероника...»
179
Приступ астмы изображен детально. Зритель видит
перед собой опасно больного человека, который задыхает-
ся на его глазах. Удушье мешает ему говорить, через силу
произносит он каждое слово. Натуралистичность сцены
должна как будто бы создать у зрителей тяжелое впечат-
ление. Но такова ли была задача автора? Чехов исправит
затем эту часть монолога.
Дальше идет шутка с уклоном в двусмысленность, ко-
торую также вычеркнет Чехов:
«Всех дочерей у моей жены ровно девять... сыновей
же — ни одного, чему жена моя очень рада, так как сы-
новья в женском пансионе во многих отношениях были
бы неудобны... Во всем пансионе один только мужчина —
это я... Но, почтеннейшие, высокоуважаемые семьи, вве-
рившие моей жене судьбу своих детей, относительно меня
могут быть совершенно спокойны... Впрочем... ввиду не-
достатка времени не станем отклоняться от предмета лек-
ции...»
Нюхин вспоминает, о чем он говорил, когда случился
припадок астмы, думает, и наконец восклицает:
«Да! Единственное средство от астмы — это воздержа-
ние от тяжелой и возбуждающей пищи, я же, идя сюда на
лекцию, позволил себе некоторое излишество».
Чехов не торопится пояснить, что это за излишество.
Нюхин с полным убеждением заверяет слушателей, что
«нигде не кормят так осмысленно, гигиенично и целесооб-
разно, как в пансионе моей жены»,— заметим, что в этом
перечне нет определения «сытно» или ему соответствую-
щего,—и что он может засвидетельствовать это, потому
что заведует в пансионе хозяйственной частью. Впрочем,
обязанности его гораздо шире:
«Я закупаю провизию, проверяю прислугу, каждый
вечер подаю счет жене, шью тетрадки, изобретаю средства
от насекомых, очищаю воздух путем пульверизации, счи-
таю белье, слежу за тем, чтобы одна зубная щетка
приходилась не более, как на пять воспитанниц и чтоб
одним и тем же полотенцем утирались не более десяти
девиц».
Список длинный и смешной, но преувеличений в нем
не заметно, так это и бывало.
«Итак, сегодня пекли блины», причем пять воспитан-
ниц к обеду были наказаны и их порции остались. Нюхин
в восторге от мудрости своей жены:
i80
«Куда прикажете девать их? Куда? Отдать их доче-
рям? Но моя жена запрещает дочерям есть тесто. Ну, как
вы думаете? Куда мы их дели? (Вздыхает и качает голо-
вой.) О любящее сердце! О ангел доброты! Она сказала:
«Съешь эти блины сам, Маркеша!» И я съел, выпив пред-
варительно рюмку водки. Так вот где причина припадка.
Но однако... (смотрит на часы). Мы заболтались и не-
сколько уклонились от темы. Будем продолжать».
Из того, что Шохин считает пять блинов «тяжелой и
возбуждающей пищей», следует, что кормит его «содер-
жательница женского пансиона» неважно. Однако он впол-
не доволен своей участью,— это усиливает комизм его фи-
гуры,— и называет жену, отдавшую ему пять блинов,
«ангелом доброты». Чехов в этом варианте сцены-моноло-
га настроен шутливо. Не то будет во второй редакции.
Шохин пробует продолжать лекцию, ищет бумажку со
своими записями и попутно рассказывает о пансионе и о
себе: кроме заведования хозяйством на нем лежит еще
преподавание математики, физики, химии, географии,
истории и наглядного обучения. «Кроме этих наук,— с гор-
достью докладывает он,— в пансионе моей жены препо-
дается французский, немецкий и английский язык, закон
божий, рукоделия, рисование, музыка, танцы и манеры».
Он рассыпает новые похвалы пансиону и наконец ука-
зывает его адрес:
«— Помещается он на углу Кошачьей улицы и Пя-
тисобачьего переулка в доме штабс-капитанши Мамашеч-
киной. Для переговоров жену мою можно застать дома во
всякое время, а программа пансиона продается у швейца-
ра по пятьдесят копеек за экземпляр (смотрит в бу-
мажку)».
Бумажка нужна для того, чтобы вновь повторить фор-
мулу никотина. После этого Шохин вынимает табакерку,
заглядывает внутрь и чихает.
«Ну, что делать с этими мерзкими, негодными девчон-
ками? Вчера насыпали в табакерку пудры, а сегодня чего-
то едкого, вонючего. (Чихает и чешет себе нос.)».
Он ругает девиц, прибавляя, что в их шалостях нельзя
видеть промахи воспитания в пансионе:
«Нет, милостивые государи, тут не пансион виноват.
Нет! Виновато общество! Вы виноваты! Семья должна
идти об руку со школой, а между тем что мы видим?»
Шалость смешна, чиханье смешно, и негодование на
181
семью, которая не идет «об руку» со школой,— тоже.
Вслед за этим автор вводит еще одну комическую тему,
постоянно занимавшую место на страницах юмористиче-
ских журналов,— тему ловли женихов:
«У моей жены девять дочерей. Старшей из них, Анне,
двадцать семь лет, младшей семнадцать... Как, однако,
трудно в наше время выдавать замуж. Ужасно трудно!
Легче найти денег под третью закладную, чем найти мужа
хотя бы одной из дочерей. (Качает головой,) Ах, молодые
люди, молодые люди! Вы своим упрямством, своим мате-
риальным направлением лишаете себя одного из высших
наслаждений, наслаждения семейной жизни!.. Если бы вы
только знали, как хороша эта жизнь! Я прожил с женой
тридцать три года и могу сказать, что это были лучшие
годы моей жизни...»
Этот мотив заканчивает сцену-монолог. Нюхин по се-
крету сообщает слушателям:
«...Дочерей моих можно видеть по большим праздни-
кам у тетки Натальи Семеновны Завертюхиной, той самой,
которая страдает падучей и собирает старинные монеты.
Там бывает и закуска... Впрочем (смотрит на часы), до
следующего раза! (Поправляет жилетку и уходит.)».
Такова эта беззлобная шутка в одном действии, по-
строенная на привычных зрителю комических мотивах.
Автор очень старается насмешить, придумывает забавные
имена и названия — «угол Кошачьей улицы и Пятисо-
бачьего переулка», «штабс-капитанша Мамашечкина»,
«Завертюхина». А приметы ее сочинены с бьющей в глаза
искусственностью — тетка эта собирает старинные монеты
и страдает падучею болезнью.
Тут все находится еще на уровне Антоши Чехонте.
Без большой выдумки автор пишет о «муже своей жены»,
о их девяти дочерях, из которых ни одной не удается под-
цепить жениха. Муж восхищен достоинствами своей
супруги, искренне считает ее разумной и доброй женщи-
ной, способной быть снисходительной к его проступкам. Он
сохраняет известную самостоятельность — например, выби-
рает предмет своей лекции, пьет рюмку водки, не испы-
тывает страха перед женою. Можно предположить, что
жизнью Нюхин доволен и всерьез относится к обязанно-
стям учителя и заведующего хозяйством пансиона.
Совсем иную картину мы видим во второй редакции
сцены.
182
4
В начале 1899 года Чехов заключил с издателем
А. Ф. Марксом договор на выпуск собрания своих сочине-
ний. По этому договору Чехов обязывался представить
Марксу решительно все свои произведения, даже те, пере-
печатывать которые он не желал. Ему пришлось рыться в
старых журналах, чтобы отыскивать свои рассказы и
фельетоны, рассеянные на забытых страницах, и отправ-
лять их издателю.
Около двухсот рассказов писатель решил не включать
в собрание сочинений, признав их неудачными. Забрако-
ванные вещи он делил на четыре группы:
1. Мало-мальски порядочные и сносные;
2. Плохие;
3. Очень плохие;
4. Отвратительные.
«Многие рассказы переделываю заново»,— сообщил
Чехов Суворину 17 января 1899 года.
Работа была большая. Чехов не только правил, но и
переписывал ранние произведения, всегда углубляя их
содержание, освобождая от лишнего груза, проходя старый
текст рукою зрелого мастера, каким он стал в расцвете
своих творческих сил.
В числе других произведений настала очередь пере-
работки и сцены-монолога «О вреде табака». Чем-то она
нравилась Чехову, и он решил сохранить ее в собрании
сочинений.
Новый текст пьесы был написан в сентябре 1902 года.
Чехов извещал Маркса 1 октября:
«В числе моих произведений, переданных Вам, имеется
водевиль «О вреде табака», — это в числе тех произведе-
ний, которые я просил Вас исключить из полного собрания
сочинений и никогда их не печатать. Теперь я написал
совершенно новую пьесу под тем же названием «О вреде
табака», сохранив только фамилию действующего лица, и
посылаю Вам для помещения в VII томе» \
Маркс, отвечая 14 октября Чехову, попросил:
«Так как эта пьеса совершенно новая, то не разрешите
1 А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем, т. XIX.
М., Гослитиздат, 1950, стр. 357.
183
ли Вы мне ее напечатать предварительно в «Ниве» и за-
тем уж поместить в VII томе» !.
Чехов отказался от журнальной публикации:
«Водевиль «О вреде табака» написан исключительно
для сцены, в журнале же он может показаться ненужным
и неинтересным, а потому прошу Вас в журнале его не
помещать» 2.
Но пьеса не вошла и в состав VII тома и была впервые
напечатана только в собрании сочинений Чехова 1903 го-
да, в томе XIV, по каковому тексту и цитируется в нашем
дальнейшем изложении.
Пьеса «О вреде табака» действительно вышла «совер-
шенно новая», и вторая ее редакция чрезвычайно выгодно
отличается от первой. В сущности говоря, сравнение этих
двух редакций может дать представление о том, какой ги-
гантский путь прошел писатель за несколько лет в своем
творческом развитии, как стал Чеховым во всем значении
этого великого имени, — он, совсем недавно еще бывший
сотрудником мелкой юмористической прессы.
Изменения в пьесе начинаются с первых же строк.
«Иван Иванович Нюхин, муж своей жены, со-
держательницы музыкальной школы и женского панси-
она».
Теперь его зовут не Маркелом, это Иван Иванович,
владелец распространеннеййгего имени и отнюдь не дико-
винной судьбы,— так, вероятно, надобно понимать эту за-
мену имени. Он «муж своей жены», но ее занятие обозна-
чено по-иному — это дама без имени, называемая кратко
«жена», —мы увидим, что слово это звучит еще и гроз-
но, — теперь содержит не просто женский пансион, по и
музыкальную школу. Специальный уклон, очевидно, дол-
жен объяснить, почему в этом заведении столь пренебре-
гают общеобразовательной частью.
Эстрада по-прежнему в провинциальном клубе, — в
столицах, дескать, такого не бывает, — а наружность Ню-
хина описана более подробно:
«Нюхин (с длинными бакенами, без усов, в старом
поношенном фраке, величественно входит, кланяется и
поправляет э/силетку)».
1 А. П. Ч е х о в. Полное собрание сочинений и писем, т. XI,
стр. 535.
2 Там же, стр. 363.
184
Бакены без усов уже старинное для начала двадцатого
века украшение мужчин. Так ходили министры, сановни-
ки, — можно посмотреть этюды Репина к картине «Засе-
дание Государственного совета», —но так брились, остав-
ляя бакены, и старые лакеи. «Старый поношенный фрак»
усиливает именно такое сходство. Привычка к публичным
выступлениям сказывается в склонности разбавлять речь
пустыми словечками вроде «некоторым образом», «изви-
ните за выражение», «так сказать», «можете себе предста-
вить» и т. п.
«Жене моей было предложено, — говорит Нюхин, —
чтобы я с благотворительной целью прочел здесь какую-
нибудь популярную лекцию. Что ж? Лекцию, так лек-
цию — мне решительно все равно...»
В первой редакции было: «Моей жене», — Нюхин на-
чинал с себя, теперь он говорит: «Жене моей было пред-
ложено, чтобы я...», то есть «жена» поставлена на первое
место. Случайна ли эта перестановка слов? Наверное, нет.
Чехов по-другому представил себе фигуру Шохина. Новый
Нюхин, естественно, должен был первым произнести сло-
во «жена» — главнее и страшнее для него ничего не бы-
ло...
Зритель тотчас замечает, что перед ним человек вялый,
если не сказать — равнодушный к тому, что делает —
«Что ж? Лекцию, так лекцию...».
Первый Нюхин слова «Я не профессор и чужд ученых
степеней» произносил как бы с гордостью, — мол, не про-
фессор, а посмотрите, что я могу! Второй — косноязычно
оправдывается в своем появлении на эстраде:
«Я, конечно, не профессор и чужд ученых степеней, но
тем не менее все-таки я вот уже тридцать лет, не пере-
ставая, можно даже сказать, для вреда собственному здо-
ровью и прочее, работаю над вопросами строго научного
свойства, размышляю и даже пишу иногда, можете себе
представить, ученые статьи, то есть не то чтобы ученые, а
так, извините за выражение, вроде как бы ученые...»
Не смешон этот лектор, а жалок.
«Между прочим, на сих днях мною написана была
громадная статья под заглавием: «О вреде некоторых на-
секомых». Дочерям очень понравилось, особенно про кло-
пов, л же прочитал и разорвал. Ведь все равно, как ни
пиши, а без персидского порошка не обойтись. У нас даже
в рояле клопы...»
185
Тема статьи во второй редакции пьесы не отвлеченная,
она касается насекомых, которых в доме лектора множест-
во. И если в предыдущих абзацах речи зритель ощущал
равнодушие лектора, то теперь он получает впечатление
безнадежности: зачем писать, если без персидского порош-
ка — так называлось средство против клопов — не обой-
тись? Не все ли равно...
Предмет лекции — вред курения — выбран не по воле
оратора:
«Я сам курю, но жена моя велела читать сегодня о
вреде табака, и, стало быть, нечего тут разговаривать. О
табаке, так о табаке — мне решительно все равно, вам же,
милостивые государи, предлагаю отнестись к моей настоя-
щей лекции с должной серьезностью, иначе как бы чего
не вышло...»
В речи оратора проскакивают какие-то администра-
тивные выражения — «нечего тут разговаривать», «как
бы чего не вышло». Эту фразу Чехов вложил в уста учи-
телю Беликову, описанному в рассказе «Человек в фут-
ляре», и теперь повторил ее в речи Шохина. Неопределен-
ность опасения ока передает хорошо. Собственно, сам лек-
тор опасается жены, а для аудитории оформляет ощуще-
ние боязни с помощью фразы, которую так часто произно-
сил Беликов.
Далее Шохин просит внимания у присутствующих в
зале врачей — табак употребляется и в медицине. В пер-
вой редакции пьесы примером служили клизмы, во второй
Шохин называет совершенно не идущий к делу факт, да-
лекий от медицины, да к тому же и разъясняет его, не
заботясь о логике изложения:
«Так, например, если муху посадить в табакерку, то
она издохнет, вероятно, от расстройства нервов. Табак
есть главным образом растение...»
Этим тезисом, в сущности, исчерпывается научное со-
держание лекции во второй редакции чеховской пьесы —
о формуле никотина, о латинских ботанических терминах
лектор не упоминает. Очевидно, этот Шохин не знает их
и не догадался записать на бумажку.
Теперь внимание аудитории будет привлечено к до-
машним делам лектора, они увидят его трагедию.
Лектор предупреждает, что он подмигивает правым
глазом. Это от волнения.
«Я очень нервный человек, вообще говоря, а глазом
186
начал подмигивать в тысяча восемьсот восемьдесят девя-
том году тринадцатого сентября, в тот самый день, когда
у моей жены родилась, некоторым образом, четвертая
дочь Варвара. У меня все дочери родились тринадцатого
числа. Впрочем (поглядев на часы), ввиду недостатка
времени, не станем отклоняться от предмета лекции».
В биографии Нюхина появляется тринадцатое число —
«несчастное», согласно распространенному поверью. Оно
затем будет служить объяснением причин постигших его
неудач.
«Надо вам заметить, жена моя содержит музыкальную
школу и частный пансион, то есть не то, чтобы пансион, а
так, нечто вроде. Между нами говоря, жена любит пожа-
ловаться на недостатки, но у нее кое-что припрятано, этак
тысяч сорок или пятьдесят, у меня же ни копейки за ду-
шой, ни гроша — ну, да что толковать!»
Доверительный тон оратора неприятен, и, пожалуй,
настолько, что зрителя не располагает в его пользу изве-
стие, будто жена припрятала сорок тысяч, а у него ни
гроша. Он жалок, но не вызывает нашего сочувствия. Так,
очевидно, и было задумано.
«В пансионе, — продолжает лектор, — я состою заве-
дующим хозяйственною частью. Я закупаю провизию, про-
веряю прислугу, записываю расходы, шью тетрадки, вы-
вожу клопов, прогуливаю женину собачку, ловлю мы-
шей...»
По сравнению с первой редакцией в перечень обязан-
ностей внесены изменения. Раньше было: «подаю счет же-
не», — так поступает подотчетное лицо или поставщик,
тут есть хотя бы иллюзия самостоятельности. Стало: «за-
писываю расходы», то есть веду подсчет, а деньгами не
распоряжаюсь, права совсем урезаны. Было: «изобретаю
средства от насекомых», что можно понять как некоторый
вид умственной деятельности, стало: «вывожу клопов»,
коротко и грубо, без всяких эвфемизмов. Упоминание об
очистке воздуха и зубных щетках по одной на пять вос-
питанниц Чехов снял, наверное, по причине неэстетично-
сти этих фактов и взамен назвал обязанности — одну уни-
зительную, а другую даже не свойственную человеку...
Прогуливание собаки не раз бывало предметом карикатур
и шуток, не обидных для владельцев такс или догов. Дама
с собачкой благодаря Чехову стала олицетворением жаж-
ды счастья, знаком глубокой любви и надежды на соеди-
187
нение любящих сердец. Хозяин, гуляющий со своей соба-
кой, — мужественно, бравый Швейк с краденой собакой —
смешно. Человек, прогуливающий «женину собачку»,
означает ничтожество, низкую степень падения личности.
Таков и есть Нюхин. И следующий шаг выводит его за
пределы человечества. Говоря: «ловлю мышей», он упо-
добляется кошке. Такую лестницу, стремительно ведущую
вниз, мгновенно построил Чехов одной фразой.
В первой редакции мотивировкой перехода к рассказу
о блинах служил припадок астмы, прервавший течение
речи лектора. Изображена болезнь натуралистично, смот-
реть, как мучается на сцене человек, было тяжеловато, и
Чехов снял этот эпизод вместе с другими подробностями.
Оказалось, можно просто сообщить, что трех воспитанниц
лишили блинов и нужно было решать, что делать с остав-
шимися порциями.
«Жена сначала велела отнести их на погреб, а потом
подумала, подумала и говорит: «Ешь эти блины сам, чу-
чело». Она, когда бывает не в духе, зовет меня так: чуче-
ло, или аспид, или сатана. А какой я сатана? Она всегда
не в духе. И я не съел, а проглотил, не жевавши, так как
всегда бываю голоден. Вчера, например, она не дала мне
обедать. «Тебя, говорит, чучело, кормить не для чего...»
Но, однако (смотрит на часы), мы заболтались и несколь-
ко уклонились от темы».
Жалобы Нюхина имеют простейший характер — жена
его не кормит, он вечно голоден... Но сказано еще не все.
Муж, которого лишает пищи жена, — это смешно, и, мо-
жет быть, не больше того. Чехов углубляет ситуацию. Ню-
хин бодрится:
«Будем продолжать. Хотя, конечно, вы охотнее про-
слушали бы теперь романс или какую-нибудь этакую сим-
фонию или арию... (Запевает.) «Мы не моргнем в пылу
сраженья глазом...» Не помню уж, откуда это...»
Текст показывает, что лектор не привык разговаривать
о музыке и в его памяти лишь осколки старинного песен-
ного репертуара, а между тем он учит воспитанниц пе-
нию, как о том сейчас будет сказано. Оживление, неожи-
данно захватившее Нюхина, пусть на секунду, должно
сказать нам, что в нем живые чувства еще не окончатель-
но умерли и в других условиях он мог бы трудиться с
пользой для окружающих. Но при жене он только «чуче-
ло», нагруженное работой сверх меры:
188
«Между прочим, я забыл сказать вам, что в музыкаль-
ной школе моей жены, кроме заведования хозяйством, на
мне лежит еще преподавание математики, физики, химии,
географии, истории, сольфеджио, литературы и прочее. За
танцы, пение и рисование жена берет особую плату, хотя
танцы и пение преподаю тоже я».
После такого длинного списка зритель, пожалуй, с не-
годованием припомнит упрек жены: «Тебя, чучело, кор-
мить не для чего...»
Во второй редакции автор сокращает и делает более
скромным адрес училища, зато оказывает нажим на число
тринадцать:
«Наше музыкальное училище находится в Пятисобачь-
ем переулке, в доме номер тринадцать. Вот потому-то, ве-
роятно, и жизнь моя такая неудачная, что живем мы в
доме номер тринадцать. И дочери мои родились тринадца-
того числа, и в доме у нас тринадцать кошек... Ну, да что
толковать!»
Нюхин предлагает слушателям программы училища —
они стоят тридцать копеек, — никто не берет, объявляет их
по двадцать — то же, — и возвращается к своим жалобам,
постепенно придавая им все более серьезный смысл. Че-
хов убеждает зрителя, что на сцене речь идет о гибели
человеческой личности, о том, что растоптаны честь и
достоинство человека.
Монолог продолжается:
«Да, дом номер тринадцать! Ничто мне не удается, по-
старел, поглупел... Вот читаю лекцию, на вид я весел, а
самому так и хочется крикнуть во все горло или полететь
куда-нибудь за тридевять земель. И пожаловаться некому,
даже плакать хочется... Вы скажете: дочери... Что дочери?
Я говорю им, а они смеются... У моей жены семь доче-
рей... Нет, виноват, кажется, шесть... (Живо.) Семь! Стар-
шей из них Анне двадцать семь, младшей семнадцать».
О жене Нюхин уже говорил. Теперь выясняется, что и
дочери не уважают отца и смеются над ним. Да и сам он
далек от них. «У моей жены семь дочерей», — говорит
Нюхин, дочери «у жены», не у них с женой совместно. Он
даже не помнит, сколько этих дочерей, семь или шесть.
И если зрителю должен казаться смешным самый факт
обилия дочерей, которых отец не может сразу подсчитать,
то очевидно, что большая близость с ними позволила бы
ему тверже знать число членов своей семьи.
189
Дальше Нюхин решается на новые признания:
«Милостивые государи! (Оглядывается.) Я несчастлив,
я обратился в дурака, в ничтожество, но в сущности вы
видите перед собой счастливейшего из отцов. В сущности
это так должно быть, и я не смею говорить иначе. Если б
вы только знали! Я прожил с женой тридцать три года, и,
могу сказать, это были лучшие годы моей жизни, не то,
чтобы лучшие, а так вообще. Протекли они, одним словом,
как один счастливый миг, собственно говоря, черт бы их
побрал совсем. (Оглядывается.) Впрочем, она, кажется,
еще не пришла, ее здесь нет, и можно говорить все, что
угодно... Я ужасно боюсь... боюсь, когда она на меня смот-
рит».
«Счастливейший из отцов» — таким он должен быть,
таким мог быть, если бы лучше сложилась его жизнь. Но
теперь он только обязан называть себя счастливым, пото-
му что так желает жена, которой он отчаянно боится, ро-
бея перед ее взглядом, — вероятно, следует продолжить в
уме: как птица или кролик под взглядом змеи, выбравшей
себе эту жертву...
Жена скупа, у себя гостей не принимает, дочерей ни-
кто не видит, женихов нет. Лишь по большим праздникам
девушки бывают у тетки их «Натальи Семеновны, той
самой, которая страдает ревматизмом и ходит в этаком
желтом платье с черными пятнышками, точно вся осыпа-
на тараканами...».
Тетка второй редакции освобождена от фамилии За-
вертюхина, и приметы ее стали естественными — ревма-
тизм и желтое платье. А интонация автора приближена к
гоголевской в «Повести о том, как поссорились...»:
«...Отчего же у меня нет такой бекеши! Он сшил ее
тогда еще, когда Агафья Федосеевна не ездила в Киев. Вы
знаете Агафью Федосеевну? Та самая, что откусила ухо у
заседателя...» «Агафья Федосеевна носила на голове че-
пец, три бородавки на носу и кофейный капот с желтень-
кими цветами».
Разве не похоже — бородавки и желтый капот, ревма-
тизм и желтое платье? Но почему вспомнился автору Го-
голь? Подождем минутку с ответом. Нюхин говорит, что у
тетки, если не бывает его жены, можно и выпить, и его
разбирает от воспоминания о водке:
«Надо вам заметить, пьянею я от одной рюмки, и от
этого становится хорошо на душе и в то же время так
190
грустно, что и высказать пе могу; вспоминаю почему-то
молодые годы, и хочется почему-то бежать, ах если бы
вы знали, как хочется! (С увлечением.) Бежать, бросить
все и бежать без оглядки от этой дрянной, пошлой, деше-
венькой жизни, превратившей меня в старого, жалкого
дурака, старого, жалкого идиота, бежать от этой глупой,
мелкой, злой, злой, злой скряги, от моей жены, которая
мучила меня тридцать три года, бежать от музыки, от кух-
ни, от жениных денег, от всех этих пустяков и пошлостей
и остановиться где-нибудь далеко-далеко в поле и стоять
деревом, столбом, огородным пугалом под широким небом
и глядеть всю ночь, как над тобой стоит тихий, ясный ме-
сяц, и забыть, забыть...»
В первой редакции этой инвективы не было, лектор
стыдил молодых людей, не желающих жениться. Для вто-
рой Чехов написал эти страстные, сильные строки. Воспо-
минание о рюмке раскрепощает Нюхина, он отчетливо
сознает свое несчастье и выражает желание бежать от
пошлой жизни и злой жены, от музыки, под именем кото-
рой он проклинает фортепианные упражнения воспитан-
ниц пансиона, надоедливые гаммы, отбившие у него лю-
бовь к мелодиям, звукам, от кухни, занимающей его время
и силы, от жениных денег или главной цепи, прикрепля-
ющей его к жене, к дому, к пустой и пошлой жизни при
пансионе. Ежедневная суета измучила его, движение ему
противно, мечта его — бежать раз и навсегда, и оста-
новиться в поле, стоять деревом или столбом и чтобы над
ним неподвижно стоял месяц... Покой!
Монолог измученного жизнью лектора в этом куске на-
чинает приводить на память снова гоголевский текст,
только на этот раз «Записки сумасшедшего»:
«Нет, я больше не имею сил терпеть... Я не в силах, я
не могу вынести всех мук их, голова горит моя, и все
кружится предо мною. Спасите меня! возьмите меня! дай-
те мне тройку быстрых, как вихорь, коней! Садись, мой
ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтеся, кони, и несите
меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было
ничего, ничего. Вон небо клубится передо мною; звездочка
сверкает вдали; лес несется с темными деревьями и меся-
цем; сизый туман стелется под ногами; струна звенит в
тумане; с одной стороны море, с другой Италия; вон и
русские избы виднеют...»
Запись эта имеет такую дату:
191
Определение краткое, и в нем хочется найти подтекст,
чтобы понять как следует. «Внутренний добавочный смысл
текста, высказывания» вкладывается в них автором и дол-
жен быть воспринят читателем, слушателем,— так? Даль-
ше говорится о другом — чтец там не читатель,— в таком
значении С. И. Ожегов относит это слово к устаревшим,—
но тот, кто читает вслух для себя или с эстрады, как ар-
тист. Значит, подтекст предназначается читателю и рас-
считан на его понимание.
Второе значение термина — «чувства и идеи, которые
вкладываются в текст чтецом или актером» — отлично тол-
ковал К. С. Станиславский:
«— tjto такое подтекст роли? — спрашивал Аркадий
Николаевич и тут же отвечал: — Это явная, внутренне
ощущаемая «жизнь человеческого духа», которая непре-
рывно течет под словами текста, все время оправдывая п
оживляя их. В подтексте заключены многочисленные, раз-
нообразные внутренние линии роли и пьесы, сплетенные
из магических и других «если бы», из разных вымыслов
воображения, из предлагаемых обстоятельств, из внутрен-
них действий, из объектов внимания, из маленьких и боль-
ших правд и веры в них, из приспособлений и прочих
элементов. Подтекст — это то, что заставляет нас говорить
слова роли.
Все эти линии замысловато сплетены между собою,
точно отдельные пити жгута, и тянутся сквозь всю пьесу
по направлению к конечной сверхзадаче»1.
Как известно, сверхзадачей произведения писателя
Станиславский называл «главную, всеобъемлющую цель,
притягивающую к себе все без исключения задачи, вызы-
вающую творческое стремление двигателей психической
жизни и элементов самочувствия артистороли»2. Для До-
стоевского сверхзадача — богоискание, для Л. Толстого —
стремление к самоусовершенствованию, для Чехова —
борьба с мещанством и мечты о лучшей жизни,—учил
Станиславский, прибавляя, что такие цели гениев способ-
ны стать увлекательной задачей творчества артистов.
Была сформулирована сверхзадача и мольеровского
«Тартюфа», когда его репетировали во МХАТе под руко-
1 К. С. Станиславский. Работа актера над собой. Части
I и II. Дневник учетгика. М., «Искусство», 1951, стр. 492.
2 Там же, стр. 352—353.
194
водгтвом Станиславского, и мы знаем кое-что о методах
вскрытия подтекста пьесы, применявшихся гениальным
режиссером. В. О. Топорков рассказывал, что ему, играв-
шему Оргоиа, долго не удавалась сцена с Дориной из пер-
вого акта. Оргон приезжает из деревни домой, расспраши-
вает, что случилось, Дорина говорит, что жена заболела,
передает подробности, а Оргон повторяет один вопрос:
«Ну, а Тартюф?»—и, несмотря па ободряющие ответы,
приговаривает: «Бедняжка!»
«И так пять-шесть раз в течение сцены,— пишет
В. О. Топорков.—Я чувствовал всей душой весь юмор
и прелесть этой сцены, но передать его мне никак не уда-
валось».
Станиславский объяснил актеру, что он видит лишь
внешнюю сторону эпизода, его изящность и хочет это
сыграть. А ему нужно слушать Дорину и стараться попять
ее мысли.
«Вы слушайте ее,—говорил Станиславский,— и делай-
те свои предположения,— те, которые не написаны в тек-
сте, но результатом которых является текст. Вот в этом
уменье слушать — весь секрет сцены. Дорина, со своей
стороны, должна учитывать ваше впечатление от каждой
своей фразы и в зависимости от него подбрасывать то или
другое. Разгадывать ваши мысли она должна по глазам.
Она такая умная и притом так хорошо все знает. Поэтому,
помимо текста, у вас есть параллельный диалог. Если
произнесенные фразы текста соединить с вашими невы-
сказанными мыслями, то примерно будет так (авторский
текст подчеркнут) :
Д о р и и а
...и нас же всех благодарила.
Оргон
Ну, слава богу, значит, все благополучно. Воображаю,
как все ликовали, радовались! Совсем с радости, должно
быть, забыли несчастного Тартюфа, который, наверное,
своей молитвой исцелил ее. Наверное, и не покормили его,
беднягу, а он, по скромности, и сидит у себя в келье.
Дорина
Ага, вижу, уже заволновался о своем святоше...
lUr-
195
О р г о и
Н у, а Т а р т ю ф?
Дорин а
Так и знала! Ну, погоди ж ты, я тебя осажу! Узнав,
что много сил от операции больная поте-
ряла. Ага, забеспокоился, сейчас, сейчас. Он тотчас
же потерю возместил.
Оргон
Что же, господи, что такое он сделал? Отдал свою
кровь! Или что? Ну, ради бога, скорей...
Дорина
Ах, вас интересует, какую жертву он принес? Изволь-
те, если вы такой дурак и ничего до сих пор не поняли...
За завтраком два лишних он бокала благо-
говейно осушил.
Оргон
Боже мой! И это непьющий-то человек! Как же он
любит нас всех! Так обрадоваться, чтобы во вред собствен-
ному здоровью... Бедня-аж-ка!»1
Вот, оказывается, какой разговор был упрятан в под-
текст одной из сцен «Тартюфа»! И когда Станиславский
извлек его и передал актерам, сцена с Дориной стала у
Топоркова идти отлично.
Художественный театр учился разбирать подтекст на
драматургии Чехова, и не все удавалось актерам попять
сразу. Между тем автор был скуп на объяснения.
К. С. Станиславский вспоминал о том, что спектакль
«Чайка», созданный театром, понравился Чехову, однако
некоторых исполнителей он осуждал, в том числе и его —
за Тригорина.
«— Вы же прекрасно играете,— сказал он,— но толь-
ко не мое лицо. Я же этого не писал.
1 В. Топорков. К. С. Станиславский на репетиции. Воспо-
минания. М., «Искусство», 1950, стр. 154—156.
196
— В чем же дело? — спрашивал я.
— У него же клетчатые панталоны и дырявые башма-
ки.— Вот все, что пояснил мне А. П. на мои настойчивые
приставания».
Станиславский признается, что смысл чеховского опре-
деления Тригорина он понял только через несколько лет,
при возобновлении «Чайки» Художественным театром в
1905 году, а до этого играл Тригорина «хорошеньким
франтом» в белых панталонах и белых туфлях. Это было
неверно.
«Нина Заречная, начитавшаяся милых, но пустеньких
небольших рассказов Тригорина, влюбляется не в него, а
в свою девичью грезу. В этом и трагедия подстреленной
чайки. В этом насмешка и грубость жизни. Первая любовь
провинциальной девочки не замечает ни клетчатых пан-
талон, ни драной обуви, ни вонючей сигары. Это уродство
жизни узнается слишком поздно, когда жизнь изло-
мана...»1
Чехов отказывался отвечать актерам на вопросы о «Дя-
де Ване», находя, что все необходимое для них написано
в пьесе. Лишь однажды, услышав, что где-то изображают
дядю Ваню опустившимся помещиком, в сапогах и руба-
хе, он выразил несогласие:
«— Нельзя же так, послушайте! У меня же написано:
он носит чудесные галстуки. Чудесные! Поймите, поме-
щики лучше нас с вами одеваются.
И тут дело было не в галстуке, а в главной идее пьесы.
Самородок Астров и поэтически нежный дядя Ваня глох-
нут в захолустье, а тупица профессор блаженствует в
С.-Петербурге и вместе с подобными правит Россией.
Вот затаенный смысл ремарки о галстуке»2.
Ремарка такова:
«Войницкий (выходит из дому; он выспался после
завтрака и имеет помятый вид; садится на скамью, по-
правляет свой щегольской галстук). Да... (Пауза.) Да...»
Как внимательно нужно читать Чехова, чтобы не про-
пустить штриха, детали, которые могут открыть сущ-
ность образа! Его ремарки, брошенные будто вскользь
1 К. С. Станиславский. А. П. Чехов в Художественном
театре. Воспоминания.— Сборник «К. С. Станиславский. Статьи. Ре-
чи. Беседы. Письма». М., «Искусство», 1953, стр. 126—127.
2 Там же, стр. 128.
7 А. Западов
107
замечания всегда бывают драгоценны, содержат важную
информацию, но для того чтобы расшифровать ее, чита-
тель должен работать рядом с автором, дополняя напеча-
танные текст своими ассоциациями pi соображениями,
источником которых является жизнь. Чехов дорожил та-
кой особенностью своего письма, понимал ее необходи-
мость и вовсе не делал секрета из выработанных им ли-
тературных приемов. Больше того, он охотно сообщал о
них в письмах начинающим авторам, посылавшим ему на
отзыв свои рукописи, и друзьям-литераторам.
2
Обычно, когда объясняют, что такое подтекст, приво-
дят, как это сделано в томе «Краткой литературной
энциклопедии» для этого слова, цитату из книги Эрнеста
Хемингуэя «Смерть после полудня»:
«Если писатель хорошо знает то, о чем пишет, он мо-
жет опустить многое из того, что знает, и если он пишет
правдиво, читатель почувствует все опущенное так же
сильно, как если бы писатель сказал об этом. Величавость
движения айсберга в том, что он только на одну восьмую
возвышается над поверхностью воды» 1.
Предполагается, что эти строки полезны в тех слу-
чаях, когда требуется раскрыть термин «подтекст» или
показать своеобразие творческой манеры того или иного
писателя.
Между тем из этой фразы Хемингуэя вовсе не следует,
что он отрицает подробные описания событий или их воз-
действие на читателя. «Можно опустить» такое описание,
но можно и не опускать, это дело автора, нужно только,
чтобы он хорошо знал то, о чем говорит. «Писатель, кото-
рый многое опускает по незнанию, просто оставляет пу-
стые места. Писатель, который столь несерьезно относит-
ся к своей работе, что изо всех сил старается показать чи-
тателю, как он образован, культурен и изыскан,— всего-
навсего попугай» (188).
Разнообразие художественных приемов у первоклас-
сных мастеров прозы составляет богатство мировой лите-
1 Эрнест Хемингуэй. Избранные произведения в двух
томах, т. 2. М., ГИХЛ, 1959, стр. 188. В дальнейшем страницы этой
книги помечаются в тексте после цитат.
198
ратуры. Индивидуальность авторского письма нередко
вызывает споры о том, чья манера лучше и предпочти-
тельней. Но жизнь давно уже показала, что всякий раз
для писателя лучше всего бывает своя собственная мане-
ра, если, разумеется, он в силах ее создать.
Лев Толстой был одним из самых любимых писателей
Хемингуэя. В сознание его, как и многих других литера-
торов двадцатого века, психологизм Толстого, проявлен-
ное им знание человека вошли в виде такого их жиз-
ненного опыта, который можно приравнять к результа-
там собственных исканий. Быть может, основываясь па
книгах Толстого, отталкиваясь от них, они в своей работе
получили возможность оставлять за пределами рукописи
то, что теперь они уже знали очень хорошо, что знал и
читатель, и строить свою собственную манеру, включав-
шую элементы недосказывания или подтекста. Без Тол-
стого эта манера не могла бы восприниматься так, как она
воспринимается нами сейчас, ибо никто еще не рассказал
о человеке более подробно и полно.
Для него же очень важно было все объяснять людям,
уча их жить. Нравственной, поучительной стороне своего
творчества Толстой уделял, вероятно, главное внимание.
Он старался говорить так, чтобы каждый его понял и уви-
дел, насколько он прав, когда убеждает, возмущается
и т. д. Да и никто до Толстого с такой правдивостью не
говорил о переживаниях человека, о его чувствах, о слож-
ных и противоречивых душевных движениях. Читатель
привыкал понимать себя и окружающих через произве-
дения Толстого.
Хемингуэй не задавался намерением усовершенство-
вать этот мир, он лишь показывал, что, по его мнению, в
мире истинно прекрасно и что фальшиво и дурно. Он
изображал, а думать предоставлял читателю,— и думать
не только над жизнью, но сначала над книгой, где было
показано много и разъяснено мало. Творческая манера
Хемингуэя, в значительной мере повлиявшая на литера-
турный стиль эпохи, могла возникнуть лишь на основе
развитой человеческой культуры, включавшей в свой со-
став и сложную культуру Толстого. Именно она позволи-
ла недосказывать, обозначать выразительным штрихом,
намеком чувства, мысли, поступки, которые гений Тол-
стого, а также книги других писателей девятнадцатого
века приблизили к читателю, объяснили, сделали его лич-
7*
199
ным достоянием. Одного только собственного опыта не
хватило бы читателю для того, чтобы оценить Хемингуэя.
До этого человеку нужно было объяснить смысл, сущ-
ность его, человека, жизненного опыта, что и выполнил
Толстой.
Без литературы девятнадцатого века Хемингуэй не
мог бы появиться как писатель, а появившись — остался
бы непонятым.
Попробуем подкрепить эти соображения разбором ка-
кого-либо произведения Хемингуэя — например, рассказа
«Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера» '.
Психологическая подготовка совершаемого убийства
описана Толстым детально в «Крейцеровой сонате», и она
потрясает своей правдивостью. Автор ничего не упустил,
решительно обо всем, что совершалось, рассказал читате-
лю. В названном произведении Хемингуэя обстоятельства
убийства человека читатель должен восстановить сам.
Страницы Толстого показывают жизнь, идет прямая пе-
редача сцен и мыслей со всеми подробностями их течения.
Читатель Хэмингуэя, чтобы понять автора, должен снача-
ла додумать его рассказ, для чего собрать и расположить
в порядке различные детали повествования, которые
автор разбросал по тексту и не объяснил.
В рассказе Хемингуэя говорится о том, что Фрэнсис
Макомбер, тридцатипятилетний богатый американец,
приехавший поохотиться в Африку, трусливо бежит от
раненного им льва и зверя добивает профессиональный
охотник Уилсон. Жена Фрэнсиса, красивая молодая аме-
риканка, мучительно страдает от трусости своего мужа.
«—И зачем это случилось. Ах, зачем только это случи-
лось,— сказала она и пошла к своей палатке. Они не услы-
шали плача, но было видно, как вздрагивают ее плечи под
розовой полотняной блузкой» (262).
Писатель ни словом не обмолвился о том, что Марга-
рет Макомбер страдает не столько от малодушия мужа,
сколько от публичного его проявления. Как явствует из
1 Необходимо предупредить читателя о неизбежной условности
сопоставления прозы Толстого, как и любого русского писателя,
с иноязычным текстом. В оправдание такого опыта можно сказать
только то, что. во-первых, наш разбор ограничен общим охватом
картины, изображаемой Хемингуэем, а во-вторых, что имя редак-
тора перевода Ивана Кашкина служит для нас гарантией его точ-
ности и художественности.
200
текста, трусость мужа давала средство к ее десятилетней
власти над ним. Супруги нередко собирались разводиться,
но «каждый раз они мирились. Их союз покоился на проч-
ном основании. Красота Марго была залогом того, что Ма-
комбер никогда с ней не разведется, а богатство Маком-
бера было залогом того, что Марго никогда его не бросит».
Хемингуэй не возмущается уродливым характером такого
брака. Он лишь показывает его жизнеспособность.
«В общем, по мнению света, это была сравнительно счаст-
ливая пара...» (275).
Ночью после происшествия со львом Фрэнсис обнару-
живает, что его жена ушла к Уилсону. Когда она возвра-
щается, между супругами происходит разговор, подробно
переданный автором. Трусость и малодушие Фрэнсиса —
козырь в руках Марго, как он об этом и говорит. А она не
только изменяет мужу, но и цинично заявляет, что он все
стерпит...
«Жестока она до черта,—впрочем, все они жестокие.
Они ведь властвуют, а когда властвуешь, приходится ино-
гда быть жестоким» (265),—думает о Марго охотник
Уилсон, человек мужественный и холодный, отлично
знавший свою клиентуру, «веселящуюся верхушку
общества». И читатель видит, что Хемингуэй не только не
идеализирует праздную и лживую жизнь богатых амери-
канцев, но в конечном счете обличает ее,— однако делает
это с помощью иных, чем у Толстого, приемов.
Непрерывное развитие общества, изменение характе-
ров людей, их психологии влекут за собой появление но-
вых талантов, отражающих веяния своей эпохи. Ни одно
литературное направление не может существовать вечно,
но вечным остается стремление больших мастеров слова к
жизненной правде.
Поиски новых художественно-изобразительных
средств, предпринимаемые писателем, находятся в пря-
мой зависимости от качественно иного — по сравнению
с предшественниками — понимания явлений жизни и вме-
сте с тем знаменуют постижение мастерства его литера-
турных учителей.
Хемингуэю не присущи толстовские навыки «срыванья
всех и всяческих масок». Толстой наблюдал Россию в го-
ды революционной ситуации, когда все противоречия со-
циально-экономической жизни обострились до крайно-
сти и необходимость перемен была очевидна. Отсюда идут
201
обусловленные временем и местом обличения Толстого,
обстоятельные и страстные, хотя верных путей преобразо-
вания России он увидеть и понять не мог. Хемингуэй на-
блюдает американский капитализм, устоявшийся, само-
уверенный, не боящийся ни бога, ни черта. Он и воспри-
нимает капитализм как нечто естественное, крепкое, но
какую же уничтожающую характеристику при этом дает
его представителям, «хозяевам жизни»!
«Пресловутые американские мужчины-мальчики»
(283) не знают повзросления только потому, что слиш-
ком богаты, избавлены от борьбы, от опасностей. Душев-
ная дряблость, нравственная инфантильность приводят их
под власть людей алчных, своекорыстных, жестоких. Та-
кова и жена Фрэнсиса Макомбера, как оценивает ее охот-
ник Уилсон. О характере взаимоотношений богачей и тех,
кто им вынужден служить, Хемингуэй много не пишет.
Он только замечает! «Так или иначе они давали ему
(Уилсону.— А. 3.) кусок хлеба, и пока они его нанимали,
их мерки были его мерками» (278). Действенность и
ёмкость формулы, содержащей оценку сложнейших со-
циальных отношений, потому и стала возможной, что
познанию этих отношений посвятили свое творчество
многие великие писатели девятнадцатого века.
Частный психологический эпизод, описанный в рас-
сказе Хемингуэя, не препятствует внимательному чита-
телю увидеть за ним алчность, жестокость, бездушие пра-
вящих классов и неминуемость их вырождения. Если муж
дурак, «а жена дрянь, какие у них могут быть дети?» —
думает Уилсон (281). У этих людей нет будущего — вот о
чем говорит писатель, и опять делает это как бы невзна-
чай, проводит один штрих — и читатель его замечает.
В подтексте секрет выразительности основан на том,
что он строится на достижениях литературы предшест-
вующих веков. Понимание подтекста предполагает опре-
деленную осведомленность читателя, известный уровень
его культурного развития и жизненного опыта. Распрост-
ранение современной манеры письма с ее краткими пред-
ложениями свидетельствует о том, что квалифицирован-
ный читатель нынче не испытывает нужды в повторении
известных ему истин и что он восполняет пробелы автор-
ского текста в своем воображении, что он ценит в писате-
ле ему уменье нанести на бумагу контуры и линии, воз-
буждающие у нас длинную цепь ассоциаций.
202
Фрэнсис Макомбер пережил потрясение, потому nfo
впервые осознал собственное ничтожество. Он мирился со
своей трусостью, пока она была известна только его жене.
Когда же это стало понятно туземным охотникам, он как
бы увидел себя со стороны — и ужаснулся.
Чтобы исправить порок, надо осознать его и решить
с ним бороться. Хемингуэй направляет своего героя по
этому пути. Вот как он описывает состояние Маком-
бера:
«Но вечером, после обеда и стакана виски с содовой
у костра, когда Фрэнсис Макомбер лежал на своей койке,
под сеткой от москитов, и прислушивался к ночным зву-
кам, это не кончилось. Не кончилось и не начиналось. Это
стояло у него перед глазами точно так, как произошло,
только некоторые подробности выступили особенно ярко,
и ему было нестерпимо стыдно. Но сильнее, чем стыд, он
ощущал в себе холодный, сосущий страх. Страх был в
нем, как холодный, скользкий провал в той пустоте, кото-
рую некогда заполняла его уверенность, и ему было очень
скверно. Страх был в нем и не покидал его» (266).
Нельзя сказать, что Хемингуэй здесь скуп на детали.
Он описывает Макомбера очень подробно, и, пожалуй,
похоже на то, как описывал Толстой оттенки душевного
разлада какого-либо из своих героев. Делать это нужно
потому, что читатель, не понявший состояния Макомбера,
не мог бы затем поверить в правду его перерождения.
Психологическое значение картины, чрезвычайно важной
для дальнейшего течения рассказа, побудило писателя
обратиться к подробностям, не оставившим места для под-
текста.
Почувствовав степень унижения героя, читатель пой-
мет затем победу, одержанную им над самим собой, и
охватившее его ощущение счастья.
Как видим, Фрэнсиса Макомбера автор изображает без
недомолвок. Зато психология Маргарет, ее поведение,
причины, побудившие убить мужа, самый акт убийства —
все спрятано в подтекст, обо всем читатель должен дога-
даться, все нужно понять, как если бы писатель рассказал
об этом. Хемингуэй делает возможным такое понимание
текста, мотивируя поступки Фрэнсиса и тщательно отби-
рая детали. Весьма точно строит он также диалог, доби-
ваясь выразительности каждой реплики.
Различие в подходе к обрисовке персонажей обуслов-
203
Лейо, вероятно, тем, что фабулу рассказа двигает Марга-
рет и ее слова и поступки привлекают читательский инте-
рес. Фрэнсис ясен, и нужно чем-то заинтересовать читате-
ля, дать ему возможность проявить свою сообразитель-
ность, вкус, начитанность. Он разгадывает Маргарет, по-
лучает от этого удовольствие и хвалит писателя, предо-
ставившего ему возможность почувствовать себя умным и
проницательным человеком.
Такие женщины, как Маргарет, по словам Уилсона,
«самые черствые, самые жестокие, самые хищные и са-
мые обольстительные; они такие черствые, что их мужчи-
ны стали слишком мягкими или просто неврастениками.
Или они нарочно выбирают таких мужчин, с которыми
могут сладить?» (264).
Она привыкла презирать мужа, помыкать им и в своем
торжестве находить удовлетворение. Когда Фрэнсис Ма-
комбер на глазах Маргарет обретает уверенность в своих
силах, ей становится «очень страшно» (284). А Уилсон
понимает, что американец, который «боялся всю жизнь»,
после охоты на буйволов перестал пугаться, преодолел
страх, как подобает мужчине, и не позволит теперь жене
«наставлять себе рога» (283).
Но к такому повороту событий Маргарет не готова,
союз с новым Макомбером ее не манит, она глубоко раз-
вращена и ничтожна. О том, что происходит с ней, чита-
тель может лишь догадываться, присматриваясь к автор-
ским ремаркам, сопровождающим ее слова. Маргарет
страдала от трусости мужа, почему же вдруг, когда он ве-
дет себя «изумительно», то есть храбро, она испытывает
страх, выглядит «совсем больной», понуждает себя прези-
рать мужа? Однако «в ее презрении не было уверенно-
сти», и это вскоре приводит к трагедии.
Когда увидели, что убитый Макомбером буйвол встал
и ушел в чащу, настроение Маргарет изменилось:
«— Значит, теперь будет точь-в-точь как со львом,—
сказала Марго, оживляясь» (281).
Ее придирки, страх еще не до конца понятны читате-
лю, но когда она «оживляется» в предчувствии нового по-
зора мужа, становится очевидным, что ей нужен муж-
трус, над которым она может властвовать, что менять
свой образ жизни она не желает. Понятно теперь и огор-
чение Маргарет, вызванное трусостью Макомбера при
охоте на льва: он обнаружил свой страх перед всеми, все
204
узнали, что красавица Марго — жена труса. Не слабость
мужа смущает ее, а невозможность сохранять далее се-
мейный секрет.
Предстоящее Макомберу испытание — опасная охота
на буйволов — позволяет Маргарет надеяться, что он, мо-
жет быть, струсит снова и в их семье все будет по-преж-
нему.
Но Макомбер был смел и решителен. Жена смотрела
на охоту из автомобиля, и ружье лежало рядом с ней на
сиденье...
И вот, когда казалось, что буйвол подденет Макомбе-
ра на рога, она выстрелила из этого ружья «и попала
своему мужу в череп, дюйма на два выше основания, не-
много сбоку» (285).
Хемингуэй не считает нужным говорить, что произо-
шло убийство, и кое-кто мог бы, вероятно, увидеть здесь
несчастный случай. Лишь реплики Уилсона помогают
узнать правду.
«— Ну и натворили вы дел,— сказал он совершенно
безучастно.— А он бы вас непременно бросил».
И далее:
«— ...Почему вы его не отравили? В Англии это де-
лается именно так.
— Перестаньте! Перестаньте! Перестаньте! — крик-
нула женщина» (286).
Таким образом, можно сказать, что в рассказе Хемин-
гуэя «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера» психология
Маргарет, совершающей убийство, раскрывается перед
читателем с помощью подтекста. Глубину его определяют
поступки героини, на которых держится фабула. Оценки
ее поведения выносит охотник Уилсон.
В тех случаях, когда речь идет о самом существенном
в рассказе — о причинах перерождения Фрэнсиса Маком-
бера,— Хемингуэй не пренебрегает подробностями. Ему
необходимо, чтобы читатель все понял именно так, как за-
думал автор.
Иными словами, применение подтекста даже для тако-
го мастера, как Хемингуэй,— не безусловный, всегда себя
оправдывающий, метод. В данном случае он вводится па-
раллельно с обычным, глубоко реалистическим описанием,
обеспечивающим возможность умолчать кой о чем в тех
местах рассказа, которые зависят от главной темы произ-
ведения, и тем самым избежать многословия.
205
3
Толстой предпочитает сам все говорить читателю, не
заставляет его раскрывать содержание недомолвок и на-
меков. Пусть это выходит длинно, чересчур обстоятельно,
иногда, казалось бы, мелочно,— он отвергает предлагав-
шиеся ему порой редакционные поправки и оставляет в
силе свой текст. Он пишет так, как пишет и считает нуж-
ным писать.
В романе «Война п мир» Толстой подробно рассказы-
вает о том, что чувствовала и думала Наташа во время
разговора в театре с Апатолем Курагиным:
«Курагин спросил про впечатление спектакля и рас-
сказал ей про то, как в прошлый спектакль Семенова
играя упала.
— А знаете, графиня,— сказал он, вдруг обращаясь к
ней как к старой давнишней знакомой,— у нас устраи-
вается карусель в костюмах; вам бы надо участвовать
в нем! будет очень весело. Все собираются у Архаровых.
Пожалуйста, приезжайте, право, а? — проговорил он».
Светские фразы Анатоля Курагина, ничем не отли-
чающиеся от обычных разговоров и приглашений, для
Наташи полны особого смысла. Они страшат девушку
откровенным чувственным желанием, которое она впер-
вые ощущает в них и которому не в силах противиться.
Толстой не принуждает читателя разгадать подтекст этих
фраз и сам их расшифровывает:
«Говоря это, он не спускал улыбающихся глаз с лица,
с шеи, с оголенных рук Наташи. Наташа несомненно зна-
ла, что он восхищается ею. Ей это было приятно, но поче-
му-то ей тесно и тяжело становилось от его присутствия.
Когда она не смотрела на него, она чувствовала, что он
смотрел на ее плечи, и она невольно перехватывала его
взгляд, чтоб он уж лучше смотрел на ее глаза. Но, глядя
ему в глаза, она со страхом чувствовала, что между им и
ею совсем нет той преграды стыдливости, которую она
всегда чувствовала между собой и другими мужчинами...»
(часть пятая, глава X).
Толстой подробно, как будто ведя протокол опыта или
передавая словами изображения, последовательно сме-
няющие друг друга в кинокадрах, передает сцепу из рас-
сказа «Смерть Ивана Ильича»,— и десятилетия разде-
ляют «Войну и мир» и этот рассказ. Вдова Ивана Ильича
зое
изъявила желание переговорить с пришедшим на пани-
хиду товарищем покойного, и беседе их предшествовала
такая неловкость:
«...Войдя в ее обитую розовым кретоном гостиную с
пасмурной лампой, они сели у стола: она на диван, а
Петр Иванович на расстроившийся пружинами и непра-
вильно подававшийся под его сиденьем низенький пуф.
Прасковья Федоровна хотела предупредить его, чтобы он
сел на другой стул, но нашла это предупреждение не
соответствующим своему положению и раздумала. Садясь
на этот пуф, Петр Иванович вспомнил, как Иван Ильич
устраивал эту гостиную и советовался с ним об этом са-
мом розовом с зелеными листьями кретоне. Садясь на ди-
ван и проходя мимо стола (вообще вся гостиная была
полна вещиц и мебели), вдова зацепилась черным кру-
жевом черной мантилий за резьбу стола. Петр Иванович
приподнялся, чтобы отцепить, и освобожденный под ним
пуф стал волноваться и подталкивать его. Вдова сама ста-
ла отцеплять свое кружево, и Петр Иванович опять сел,
придавив бунтовавшийся под ним пуф. Но вдова не все
отцепила, и Петр Иванович опять поднялся, и опять пуф
забунтовал и даже щелкнул. Когда все это кончилось, она
вынула чистый батистовый платок и стала плакать. Пет-
ра же Ивановича охладил эпизод с кружевом и борьба с
пуфом, и он сидел насупившись...»
Вводя в текст новое действующее лицо, Толстой сооб-
щает о нем читателю все необходимые сведения, чтобы
ясно было, с кем придется дальше иметь дело. Оттенки
его мыслей и настроений, психологические наблюдения
над ним автора будут затем излагаться по мере развития
действия, но сначала читателю представляется персонаж
в возможно более раскрытом виде — додумывать от себя
не требуется. Для примера — характеристика Пьера Бе-
зухова из романа «Война и мир»:
«Вскоре после маленькой княгини вошел массивный,
толстый молодой человек с стриженою головой, в очках,
светлых панталонах по тогдашней моде, с высоким жабо
и в коричневом фраке. Этот толстый молодой человек был
незаконный сын знаменитого екатерининского вельможи,
графа Безухова, умиравшего теперь в Москве. Он нигде
не служил еще, только что приехал из-за границы, где он
воспитывался, и был первый раз в обществе. Анна Пав-
ловна приветствовала его поклоном, относящимся к лю-
207
дям самой низшей иерархии в ее салоне. Но, несмотря на
это низшее по своему сорту приветствие, при виде вошед-
шего Пьера в лице Анны Павловны изобразилось беспо-
койство и страх, подобный тому, который выражается при
виде чего-нибудь слишком огромного и несвойственного
месту. Хотя, действительно, Пьер был несколько больше
других мужчин в комнате, но этот страх мог относиться
только к тому умному и вместе робкому, наблюдательному
взгляду, отличавшему его от всех в этой гостиной».
Описана внешность Пьера, сказано о его рассеянно-
сти, то есть о сосредоточенности на своих мыслях:
«Пьер был неуклюж. Толстый, выше обыкновенного
роста, широкий, с огромными красными руками, он, как
говорится, не умел войти в салон и еще менее умел из не-
го выйти, то есть перед выходом сказать что-нибудь осо-
бенно приятное. Кроме того, он был рассеян. Вставая, он
вместо своей шляпы захватил трехугольную шляпу с ге-
неральским плюмажем и держал ее, дергая султан, до тех
пор, пока генерал не попросил возвратить ее. Но вся его
рассеянность и неуменье войти в салон и говорить в нем
выкупались выражением добродушия, простоты и скром-
ности».
Исчерпывающие подробности, касающиеся облика
Пьера и приема, оказанного ему хозяйкой великосветского
салона, выглядят столь значительными, что позволяют
читателю понять не только мертвящую силу условности
жизни и кастовых предрассудков господствующих клас-
сов, но и — что самое главное — их страх перед человече-
ским умом, наблюдательностью, естественностью поведе-
ния.
Читателю становится известным, что у Пьера в про-
шлом и что может ждать его в будущем:
«Пьер с десятилетнего возраста был послан с гуверне-
ром-аббатом за границу, где он пробыл до двадцатилетнего
возраста. Когда он вернулся в Москву, отец отпустил
аббата и сказал молодому человеку: «Теперь ты поезжай
в Петербург, осмотрись и выбирай. Я на все согласен.
Вот тебе письмо к князю Василию и вот тебе деньги. Пи-
ши обо всем, я тебе во всем помога». Пьер уже три месяца
выбирал карьеру и ничего не делал» (часть первая, гла-
вы II, V).
Все это для Толстого исходные данные, опорные фак-
ты, и, лишь изложив их, он переходит к самому важ-
208
ному — изучению характера героя в действиях его и
мыслях.
Какой здесь подтекст? Все названо своими именами,
читателю не о чем беспокоиться, автор дал цену вещам,
и нужно только следить, что он говорит, чему учит.
Но, работая так, Толстой отлично понимал значение
подтекста у других авторов и не однажды показывал,
как надобно его расшифровать.
В статье 1862 года «Кому у кого учиться писать,
крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ре-
бят?» Толстой рассказал о том, как он писал повесть на
пословицу «Ложкой кормит, стеблем глаз колет» вместе
с учениками Яснополянской школы, из которых особенно
выделились Сёмка и Федька верностью поэтических пред-
ставлений и художественностью описаний. Так, Федька
предложил написать, что один из персонажей, кум, надел
на себя бабью шубенку. Почему именно бабью? «Так по-
хоже»,— ответил Федька.
«И в самом деле,—пишет Толстой,—черта эта не-
обыкновенна. Сразу не догадаешься, почему именно
бабью шубенку,— а вместе с тем чувствуешь, что это пре-
восходно и что иначе быть не может... Кум в бабьей шу-
бенке невольно представляется вам тщедушным, узкогру-
дым мужиком, каков он, очевидно, и должен быть. Бабья
шубенка, валявшаяся на лавке и первая попавшаяся ему
под руку, представляет вам еще и весь зимний и вечерний
быт мужика. Вам невольно представляются, по случаю
шубенки, и позднее время, во время которого мужик си-
дит при лучине \ раздевшись, и бабы, которые входили и
выходили за водой и убирать скотину, и вся эта внешняя
безурядица крестьянского житья, где ни один человек не
имеет ясно определенной одежды и ни одна вещь своего
определенного места. Одним этим словом «надел бабью
шубенку» отпечатан весь характер среды, в которой
происходит действие, и слово это сказано не случайно, а
сознательно»2.
1 Известно, что Толстой очень дорожил смыслом каждой своей
фразы и во имя его допускал повторения союзов, союзных слов,
местоимений и т. п., но, пожалуй, иногда неловкость отдельных
выражений своих он и не замечал, как, например, в данном слу-
чае: «позднее время, во время которого...»
2 «Л. Толстой об искусстве и литературе», т. I. M., «Советский
писатель», 1958, стр. 156—157.
209
Как видим, Толстой свободно читает подтекст, скры-
вающийся за выражением «крестьянин в бабьей шубен-
ке». А между тем возможности применения подтекста
иногда сужаются. К. Г. Паустовский, например, полагал,
что место его — только в диалоге. Беседуя на тему «Рас-
сказ как жанр художественной литературы», Паустов-
ский сказал:
«Я добиваюсь, чтобы диалог был так же разнообразен,
как разнообразны все люди, которые существуют в рас-
сказе. Я очень боюсь лобового диалога... Есть еще одна
вещь с диалогом, чрезвычайно трудная, которую я не бе-
русь объяснить,— это так называемый подтекст. Как это
делается, объяснить очень трудно, но это делается, и мы
внаем мастеров подтекста великолепных. Хемингуэй —
писатель безусловно блестящий в этой области. Многие
пытались ему подражать, но все подражания именно в
этой области были неудачны — создать хемингуэевский
подтекст никому не удалось» \
В романе «Воскресение» Толстой рассказывает о по-
литическом заключенном Симонсоне, полюбившем Катю-
шу Маслову. Симонсон считал собственные мысли глав-
ным двигателем своей деятельности.
«Он все повторял, решал разумом, а что решал, то и
делал.
Решив еще гимназистом, что нажитое его отцом, быв-
шим интендантским чиновником, нажито нечестно, он
объявил отцу, что состояние это надо отдать народу. Ко-
гда же отец не только не послушался, но разбранил его,
он ушел из дома и перестал пользоваться средствами
отца. Решив, что все существующее зло происходит от
необразованности народа, он, выйдя из университета, со-
шелся с народниками, поступил в село учителем и смело
проповедовал и ученикам и крестьянам все то, что счи-
тал справедливым, и отрицал то, что считал ложным.
Его арестовали и судили.
Во время суда он решил, что судьи не имеют права
судить его, и высказал это. Когда же судьи не согласились
с ним, то он решил, что не будет отвечать, и молчал на
все их вопросы. Его сослали в Архангельскую губернию.
Там он составил себе религиозное учение, определяющее
1 Константин Паустовский. Из разных лет. «Новый
мир», 1970, № 4, стр. 135.
210
всю его деятельность. Религиозное учение это состояло в
том, что все в мире живое, что мертвого нет...» и т. д.
(часть III, глава IV).
Толстой, сочувствовавший деятельности Симонсона,
произносит беспощадный приговор над теми, чьи мысли,
не расходившиеся с поступками, противоречили истинно-
му соотношению сил в России.
В том, что «отец не только не послушался, но и раз-
бранил сына», что «судьи не согласились» с мнением под-
судимого, считавшего их неправомочными, заключена та-
кая насмешка над одинокими бунтарями, такое осознание
мощи капиталистического государства, что читателю оста-
валось сделать лишь один шаг, чтобы открыть реальные
пути и средства борьбы,— тот самый шаг, который сам
Толстой никогда не сделал и менее всего желал, чтобы его
сделал читатель.
Таким образом, Толстой никак не прятал в подтекст
семи восьмых того, что предполагал сказать своему чита-
телю.
Хемингуэй указывает лишь на одну сторону подтек-
ста — на уменье автора отобрать из всего, что он знает,
наиболее существенное, выразительное, главенствующее
в том явлении, которое он собрался описать, и сказать о
нем так, чтобы читатель сумел восполнить в своем вообра-
жении недоговоренное автором. Но Хемингуэй не отме-
чает, что для этого читатель должен обладать соответст-
вующими возможностями,— то есть должен уметь пони-
мать автора и додумывать то, что в тексте существует в
виде намека.
Исторически такое уменье пришло к читателю —
к русскому и заграничному — не сразу, и в том, что у него
оно появилось, велика заслуга Толстого.
На страницах своих произведений Толстой исследовал
процесс осознания действительности и приобщал к нему
своего читателя. Поэтому так сложна у него конструкция
фразы, стремящейся охватить явления и вещи в их дви-
жении, передать противоречивые тенденции, борющиеся
в душе человека, отсюда идет внимание писателя к дета-
ли, штриху, к оттенкам поведения и эмоций персона-
жей,— и все это служит поводом для серьезных философ-
ских размышлений. Толстой стремится понять мир, и за-
кономерности его мастерства основаны на подробном
воспроизведении изучаемых вещей.
211
В отличие от него, Хемингуэй обращается к сложив-
шемуся строю человеческих понятий, и секрет его подтек-
ста — в обозначении формы и контуров тех представле-
ний, мыслей и чувств, которые он умелым отбором дета-
лей намерен вызвать в читателе. Внимательное чтение его
рассказов убеждает, что в тех случаях, когда автор не уве-
рен в необходимой осведомленности или в нужной на-
строенности читателя, он не скупится на подробности в
своем изложении.
И это естественно: прежде чем понять причину вели-
чавого движения айсберга, необходимо было установить
его истинные размеры, обнаружить семь восьмых ледя-
ной массы, плывущих под водой!
А все же — есть ли подтекст у Толстого? Оставляет ли
он за пределами написанного нечто недосказанное, замол-
чанное?
Нет, со всей определенностью можно утверждать, что
такой художественный прием был не свойственным для
него ни в первый, ни во второй период творчества. Одна-
ко своеобразие его произведений состоит в том, что в них,
как в ничьих других, написанный текст, будто бы пре-
дельно простой, обнаженный, ясный для читателя, на са-
мом деде оказывается неисчерпаемым. Подтекст Толсто-
го,—это понятие непривычно сочетать с именем писате-
ля, творческая манера которого может быть прямо проти-
вопоставлена излюбленному литературному приему со-
временных нам авторов, но мы все-таки скажем «под-
текст»,— основан на том, что изображаемые им картины
русской жизни, в силу их подлинности и реальности,
дают безграничные возможности своего понимания, само-
стоятельного прочтения, пусть и не всегда предусмотрен-
ного автором.
На эту сторону творчества Толстого впервые указал
В. И. Ленин. В статье «Лев Толстой, как зеркало русской
революции» (1908) он писал: «Сопоставление имени ве-
ликого художника с революцией, которой он явно не по-
нял, от которой он явно отстранился, может показаться на
первый взгляд страдным и искусственным. Не называть
же зеркалом того, что очевидно не отражает явления пра-
вильно?» Далее сказано: «И если перед нами действитель-
но великий художник, то некоторые хотя бы из сущест-
венных сторон революции он должен был отразить в
212
своих произведениях» \ Великолепная мысль эта показы-
вает, как глубоко Ленин понимал природу искусства!
Он, выдвинувший принцип партийности литературы,
не побоялся сравнить ее с «колесиком и винтиком» еди-
ного социал-демократического механизма. И сказал об
этом потому, что как никто другой понимал специфику
художественных творений, способных запечатлевать жиз-
ненную правду независимо от того, каким было мировоз-
зрение их создателей. Более того — Ленин знал, что по-
настоящему гениальный художник не может не отразить
существенные черты современных событий.
Но понимал Ленин и другое: извлечь такую правду из
авторского текста, заставить ее служить пролетариату
можно только путем марксистского осмысления произве-
дений, созданных буржуазными художниками.
В год первой русской революции, девятьсот пятый,
Ленину виделась уже другая литература, которая сама
являлась следствием осмысления жизни писателями, свя-
занными с пролетариатом узами общей борьбы за социа-
лизм.
Современный читатель, владеющий научным мировоз-
зрением, ценит в Толстом прежде всего объективный,
исторический характер созданных им картин и образов,—
то есть тот смысл, к которому сам писатель никогда созна-
тельно не стремился. Это своеобразный подтекст Толстого
не оставался неразгаданным и в те годы, когда произведе-
ния писателя впервые выходили в свет. Не многие чита-
тели приняли философию Толстого, но не было в читаю-
щей публике таких, которые остались равнодушными к
показанному писателем миру насилия, несправедливости
и обмана.
Как известно, в великих произведениях кроме смысла,
заложенного авторами, каждое поколение способно уло-
вить, отыскать, отметить новые закономерности и оттен-
ки. Творения писателей-классиков всегда богаты объек-
тивным подтекстом, потому что отражают жизнь в типи-
ческих образах и картинах.
Ленин заново открыл для нас произведения Толстого,
увидев в них зеркало русской революции, отражение ее
существенных сторон, пусть сам писатель и не принял
революции. Иными словами, Ленин обнажил объектив-
В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 206.
213
пый подтекст его творений, тот дополнительный смысл,
который способен извлечь из них читатель, обладающий
марксистским мировоззрением.
Выше, при подготовке этих рассуждений, были выпи-
саны куски из разных романов и повестей Толстого.
Можно возразить, что такое доказательство недостаточно
корректно. Чтобы усилить позицию, рассмотрим цель-
ный текст, по условиям места небольшой — рассказ
«После бала».
4
Рассказ «После бала» Толстой написал в Ясной Поля-
не в августе 1903 года, объем его — 21 тысяча печатных
знаков,— несколько более половины авторского листа. Это
и в самом деле рассказ некоего Ивана Васильевича об
одном из эпизодов его жизни, оказавшем решающее влия-
ние на его будущность, и Толстой не приискигает особой
мотивировки началу повествования:
«— Вот вы говорите, что человек не может сам по себе
понять, что хорошо, что дурно, что все дело в среде, что
среда заедает. А я думаю, что все дело в случае. Я вот про
себя скажу...
Так заговорил всеми уважаемый Иван Васильевич
после разговора, шедшего между нами, о том, что для
личного совершенствования необходимо прежде изменить
условия, среди которых живут люди».
Об этом в беседе речи не было, но Иван Васильевич
мог начать рассказ, отвечая лишь своим мыслям, и пото-
му, не пытаясь возражать, собравшиеся принялись слу-
шать.
Иван Васильевич намеревался доказать, что среда не
помогает человеку понять, что хорошо, что дурно, и толь-
ко случай позволяет находить правильные оценки житей-
ских положений. В доказательство он приводит эпизод
своей жизни, как будто бы имевший чисто случайный ха-
рактер, но оказавшийся для него чрезвычайно значитель-
ным. Так это или не так, мы сообразим, узнав, о чем гово-
рил Иван Васильевич и как написал об этом Толстой.
Рассказ называется «После бала» и, наверное, должен
состоять по крайней мере из двух частей — описания бала
и того, что произошло после него. Пожалуй, можно дога-
214
дываться, что бал будет некиим праздником для дейст-
вующих лиц или одного лица, а потом наступит разочаро-
вание, похмелье, возвращение с небес на землю. Назва-
ние рассказа отражает такой примерно его план'.
Иван Васильевич начинает с признания, что в то вре-
мя он был сильно влюблен. Время это он определяет ши-
роко — «сороковые годы», в бытность его студентом про-
винциального университета. Какого? Кроме Московского
и Петербургского университетов в России были тогда
университеты в Харькове, Дерпте и Казани, где учился и
Толстой.
Влюбился рассказчик в замечательную красавицу
Вареньку Б... Она «была прелестна: высокая, стройная,
грациозная и величественная, именно величественная.
Держалась она всегда необыкновенно прямо, как будто не
могла иначе, откинув немного назад голову, и это давало
ей, с ее красотой и высоким ростом, несмотря на ее худо-
бу и даже костлявость, какой-то царственный вид...».
Дальше будет сказано, что Варенька очень походила
на отца, полковника Б..., высокого, отлично сложенного
человека с николаевской выправкой. Не значит ли это,
что и у него был величественный, царственный вид?
А если прибавить сюда усы и бакенбарды, как у импера-
тора Николая I, не может ли показаться, что прогоняет
сквозь строй несчастного солдата и тычет в зубы тех, кто
наносит слабые удары, сам государь? И не содержит ли
картина казни солдата обобщение, выходящее за рамки
частного случая на казанском поле и обнимающее преде-
лы всей России? Так или не так — мы не знаем, Толстой
был достаточно велик и смел для того, чтобы говорить о
самодержавном режиме все, что находил нужным о нем
сказать, и дело тут не в силе разоблачения, не в аллегории
или в чем-либо подобном. Однако не исключено, что,
изображая в рассказе проведение сквозь строй и два
обличья полковника, Толстой существо дела, само по себе
1 Из комментариев к тому 34 Полного собрания сочинений
Л. Н. Толстого (М. ГИХЛ, 1952) внимательный читатель может
узнать, что первоначально набросок рассказа был озаглавлен «Дочь
и отец», затем название было заменено другим: «А вы говорите» —
этими словами начинался и заканчивался текст, но большей связи
с содержанием рассказа они не имели. Лишь на девятом (!) вари-
анте рассказа появляется укрепившееся за ним название «После
бала» (стр. 551—-552).
2 М
достаточно сильное, углубил дополнительной чертой, при-
дав истязателю сходство с императором. И то, что Ва-
ренька походила на отца и напоминала рассказчику пол-
ковника на площади, заставило его разойтись с девушкой,
любовь пошла на убыль.
Толстой наделяет Ивана Васильевича решительно всем
необходимым для благополучной жизни и удачной карье-
ры. Он получил образование, был веселым, бойким, бо-
гатым, красивым, кутил с товарищами, танцевал на балах
и не стремился, наверное, думать, что не все люди имеют
большие средства и что многие находятся в крепостном
состоянии. Но случай заставил его размышлять о том, как
устроено общество в царской России, и жизнь приняла
другой ход.
Бал, после которого это произошло, устроил губерн-
ский предводитель дворянства в последний день маслени-
цы. Автор не говорит о нем подробно и лишь передает
впечатление рассказчика,— так выходит короче, прямее:
«Бал был чудесный, зала прекрасная, с хорами, музыкан-
ты знаменитые в то время крепостные помещика люби-
теля, буфет великолепный и разливанное море шампан-
ского».
Иван Васильевич танцевал с Варенькой, «без вина был
пьян любовью», часы бежали, он получил согласие на
кадриль после ужина и перышко от веера, за которое
«только взглядом» мог выразить свой восторг и благодар-
ность.
«— Я был не только весел и доволен,— говорит Иван
Васильевич,— я был счастлив, блажен. Я был добр, я был
не я, а какое-то неземное существо, не знающее зла и спо-
собное на одно добро».
В это время отца Вареньки стали просить протанце-
вать мазурку,— видимо, у него была репутация хорошего
танцора.
Полковника Толстой описывает подробно:
«Отец Вареньки был очень красивый, статный, высо-
кий и свежий старик. Лицо у него было очень румяное, с
белыми a la Nicolas I подвитыми усами, белыми же, под-
веденными к усам бакенбардами и с зачесанными вперед
височками, и та же радостная улыбка, как и у дочери, бы-
ла в его блестящих глазах и губах. Сложен он был пре-
красно, с широкой, небогато украшенной орденами, выпя-
чивающейся по-военному грудью, с сильными плечами и
216
длинными, стройными ногами. Он был воинский началь-
ник типа старого служаки николаевской выправки».
Автор дает понять, что перед нами не строевой офи-
цер, «слуга царю, отец солдатам», а военный администра-
тор, на таких должностях дослужившийся до чина пол-
ковника. Потому и орденов у него «небогато» — в боевых
действиях он вряд ли участвовал и на Кавказе не бывал.
Сходство дочери с ним автор подчеркивает постоянно,
и здесь указывает на одинаковую у них «радостную улыб-
ку». Раньше было сказано, что дочь обладала высоким ро-
стом — в отца, ее царственный вид «отпугивал бы от нее,
если бы не ласковая, всегда веселая улыбка и рта, и пре-
лестных блестящих глаз, и всего ее милого, молодого су-
щества».
Улыбка смягчала ее строгую внешность, и эта улыбка
была — отцовская...
Полковника,— его зовут Петр Владиславич, и отчество
указывает на польское происхождение,— просят прой-
тись в мазурке с дочерью, и нас не удивит, что нацио-
нальный танец он танцует отлично, хоть и с некоторой
скидкой на возраст \ Согласившись на просьбу, полков-
ник «вынул шпагу из портупеи, отдал ее услужливому
молодому человеку и, натянув замшевую перчатку на
правую руку,— «Надо все по закону»,— улыбаясь сказал
он,— взял руку дочери и стал в четверть оборота, выжи-
дая такт».
Эту руку в замшевой перчатке принимает Варень-
ка — предмет мечтаний рассказчика, его «самая сильная
любовь». И замшевую перчатку мы скоро увидим второй
раз.
«Надо все по закону»,— сказал полковник на балу2.
1 В июне 1903 года Толстой записал в дневник сюжеты заду-
манных произведений и среди них такой: «...веселый бал в Казани,
влюблен в <^Ко[рейшу]> красавицу, дочь воинск[ого] начал-
ьника] — поляка, танцую с ней; ее красавец старик-отец ласково
берет ее и идет мазурку. И на утро после влюбленной ночи звуки
барабана и сквозь строй гонят татарина и воинск[ий] начальник
велит больней бить. (Очень бы хорошо)». (Полное собрание сочи-
нений, т. 54, стр. 178, т. 34, стр. 550).
2 Слова эти запомнились Ивану Васильевичу на всю жизнь.
Рассказывая через сорок — пятьдесят лет о том, что случилось
«после бала», он вставляет их в свою речь: «По закону, так ска-
зать, мазурку я танцовал не с нею, но в действительности танцо-
вал я почти все время с ней...» Столь сильно было впечатление от
виденного и пережитого в то весеннее утро!
217
Слова эти обнаруживают, что по службе он сталкивается
с юридическими вопросами, вернее — выполняет приго-
воры военного суда. «По закону» вел он и солдата сквозь
строй его собратьев, обязанных ударять наказуемого пал-
ками — шпицрутенами — по спине тысячу, три или две-
надцать тысяч раз.
В повести «Хаджи Мурат» Толстой рассказывает о ре-
золюции Николая I по делу студента, который нанес уда-
ры перочинным ножиком профессору, несколько раз про-
валившему его на экзамене:
«Он взял доклад и на поле его написал крупным по-
черком:
«Заслуживает смертной казни. Но, слава богу, смерт-
ной казни у нас нет. И не мне вводить ее. Провести 12 раз
сквозь тысячу человек. Николай». Подписал он с своим
неестественным, огромным росчерком.
Николай знал, что двенадцать тысяч шпицрутенов бы-
ла не только верная, мучительная смерть, но излишняя
жестокость, так как достаточно было пяти тысяч ударов,
чтобы убить самого сильного человека, но ему приятно
было быть неумолимо жестоким и приятно было думать,
что у нас нет смертной казни».
...Шпицрутены будут утром. А пока — отец и дочь тан-
цуют мазурку и вся зала следит за ними. «Я же,—гово-
рит рассказчик,— не только любовался, но с восторжен-
ным умилением смотрел на них. Особенно умилили меня
его сапоги, обтянутые штрипками,— хорошие опойковые
сапоги, но не модные с острыми, а старинные с четверо-
угольными носками и без каблуков. Очевидно, сапоги бы-
ли построены батальонным сапожником. «Чтобы выво-
зить и одевать любимую дочь, он не покупает модных са-
пог, а носит домодельные»,— думал я, и эти четвероуголь-
ные носки сапог особенно умиляли меня».
Опоек — телячья кожа, «построены» — термин воен-
ный, интендантский, в армии происходит постройка мун-
диров, гражданские портные одежду шьют. Но кто упо-
требил это слово? Рассказчику, в то время студенту и по-
сле не служившему, откуда бы его знать? Вероятно, за не-
го сказал это слово Толстой.
Образ любящего отца, который экономит на своей обу-
ви, чтобы одевать невесту-дочь, окончательно складывает-
ся в воображении Ивана Васильевича и достигает высшей
218
точки, когда полковник, сделав два круга мазурки, пред-
ложил ему продолжить с дочерью танец.
Любовь к Вареньке освободила в душе рассказчика
всю его способность к любви вообще: «Я обнимал в то вре-
мя весь мир своей любовью. Я любил и хозяйку в фе-
роньерке, с ее елизаветинским бюстом, и ее мужа, и ее
гостей... К отцу ж ее с его сапогами и ласковой, похожей
на нее, улыбкой, я испытывал в то время какое-то востор-
женное, нежное чувство».
Гостей приглашают к ужину. Полковник отказался,
говоря, что «ему надо завтра рано вставать», а дочка оста-
лась с матерью, рассказчик снова танцевал с ней, и счастье
его все росло и росло: «Мы ничего не говорили о любви; я
не спрашивал ни ее, ни себя даже о том, любит ли она ме-
ня. Мне достаточно было того, что я любил ее. И я боял-
ся только одного, чтобы что-нибудь не испортило моего
счастья».
Все хорошо, даже слишком хорошо, восторженное чув-
ство к отцу, обожание дочери, перышко от ее веера, ее
перчатка, которую она дала, уезжая,— счастье.
Так заканчивается первая половина рассказа, дости-
гающего здесь вершины любовной линии, шедшей неук-
лонно снизу вверх через множество подробностей. Рас-
сказчик едет домой и думает о бале, умственным взором
видит ее «в паре с отцом, когда она плавно двигается око-
ло него и с гордостью и радостью за себя и за него взгля-
дывает на любующихся зрителей. И я невольно соединяю
его и ее в одном нежном, умиленном чувстве».
Методично и настойчиво повторяет эту мысль Тол-
стой: да, отец и дочь соединены в представлении рассказ-
чика, любя ее, он полюбил и полковника, и, следователь-
но, разлюбив одного или одну, он разлюбит и другую
часть этого родственного единства. Читатель понимает,
что уравнение это составлено не напрасно, и ждет, какое
решение предложит автор.
Оно совсем неожиданно для читателя и очень естест-
венно для Толстого девяностых — девятисотых годов.
Бал закончился в пятом часу утра. Рассказчик поехал
домой, вид заспанного лакея Петрупга,— вероятно, в
другом настроении он звал бы его Петрушкой,— показал-
ся ему умилительно-трогательным, он пожалел спящего
брата «за то, что он не знал и не разделял того счастья,
219
которое я испытывал», понял, что заснуть уже не может,
надел шинель и вышел на улицу.
Было уже светло, седьмой час, погода стояла самая
масленичная, с крыш капало. Варенька жила «на конце
города, подле большого поля, на одном конце которого бы-
ло гулянье, а на другом девический институт». Рассказ-
чик незаметно для себя пошел в эту сторону, и все, что он
видел и встречал на улицах, было ему «особенно мило и
значительно». Ничто не предвещало беды.
«Когда я вышел на поле,— говорит рассказчик,—
где был их дом, я увидел в конце его, по направлению
гулянья, что-то большое черное и услыхал доносившиеся
оттуда звуки флейты и барабана. В душе у меня все вре-
мя пело и изредка слышался мотив мазурки. Но это была
какая-то другая, жесткая, нехорошая музыка».
Рассказчик продолжает думать о бале, вспоминает ма-
зурку — и слышит навязчивый, жесткий мотив. Он снача-
ла не догадывается о характере этой музыки, не зная, что
флейта и малый барабан были военными инструментами.
В те годы флейтист и барабанщик входили в состав пехот-
ной роты.
«Что это такое?» — подумал я и по проезженной по се-
редине поля скользкой дороге пошел по направлению зву-
ков».
Бал кончился. Теперь наступило «после бала». Музы-
ка и там и здесь — но как различны ее назначение и
смысл! И будет еще встреча с человеком, который по ви-
ду неодинаков там и здесь, но в существе своем остается
одним и тем же! И примириться с двумя его видами,— а
на самом деле с одним,— станет невозможно.
«Пройдя шагов сто,—говорит рассказчик,—из тумана
стал различать много черных людей. Очевидно, солдаты.
«Верно, ученье»,—подумал я и вместе с кузнецом в заса-
ленном полушубке и фартуке, несшим что-то и шедшим
передо мной, подошел ближе. Солдаты в черных мундирах
стояли двумя рядами друг против друга, держа ружья к
ноге, и не двигались. Позади их стояли барабанпщк и
флейтщик и не переставая повторяли все ту же неприят-
ную, визгливую мелодию.
— Что это они делают?— спросил я у кузнеца, остано-
вившегося рядом со мною.
— Татарина гоняют за побег,— сердито сказал кузнец,
взглядывая в дальний конец рядов».
220
Автор еще не говорит, что именно происходит на поле —
стоят солдаты в строю, играет военная музыка. Что они
делают?
На такой вопрос рассказчика отвечает кузнец, знавший,
подобно другим людям из городских низов, что этим утром
назначена казнь шпицрутенами. Николай I писал «провес-
ти сквозь строй», в народе говорили «прогнать сквозь
строй». И кузнец ответил кратко, не упоминая о палках:
« — Татарина гоняют за побег».
Эта краткая фраза значила, что солдат-татарин, заму-
ченный казарменной муштрой, побоями, жестокостью сво-
их начальников, решил, что больше служить он не может,
бежал, был пойман, судим и приговорен к битью шпицру-
тенами. Рассказчик говорит:
«Я стал смотреть туда же и увидал посреди рядов
что-то страшное, приближающееся ко мне».
Автор, желая усилить впечатление от этого страшного
«чего-то»—чему помогает употребление среднего рода:
«оно», «нечто», непонятное, бесформенное, страшное,— по-
вторяет фразу:
«Приближающееся ко мне был оголенный по пояс чело-
век, привязанный к ружьям двух солдат, которые вели его.
Рядом с ним высокий военный в шинели и фуражке, фигура
которого показалась мне знакомой».
«Высокий военный» —он знаком и читателю. Лишь об
одном военном шла речь раньше, догадаться нетрудно. Да
автор и не медлит с разъяснениями.
«Дергаясь всем телом, шлепая ногами по талому снегу,
наказываемый, под сыпавшимися с обеих сторон на него
ударами, подвигался ко мне, то опрокидываясь назад,— и
тогда унтер-офицеры, ведшие его за ружья, толкали его
вперед, то падая наперед,— и тогда унтер-офицеры, удер-
живая его от падения, тянули его назад».
Фраза длинная, подробная, своим строем как бы пере-
дающая неровное движение избиваемого солдата. А сле-
дом — четкие, краткие фразы, характеризующие распоря-
дителя казни:
«И не отставая от него, шел твердой, подрагивающей
походкой высокий военный. Это был ее отец со своим
румяным лицом, белыми усами и бакенбардами».
Иван Васильевич узнал истязателя и назвал его самыми
важными для себя словами — не офицер, начальник или
полковник В., но «ее отец»... При нем остались его высокий
221
рост, белые усы и бакенбарды, но неужели этот распоряди-
тель казни продолжает оставаться ее отцом?! Рассказчик
не дает воли своим чувствам. Очевидно, он внутренне со-
брался, приготовляясь видеть вблизи приближающееся
страшное.
«При каждом ударе наказываемый, как бы удивляясь,
поворачивал сморщенное от страдания лицо в ту сторону,
с которой падал удар, и, оскаливая белые зубы, повторял
какие-то один и те же слова. Только когда он совсем был
близко, я расслышал эти слова. Он не говорил, а всхлипы-
вал: «Братцы, помилосердствуйте. Братцы, помилосердст-
вуйте...» Солдаты продолжали бить. Все было «по закону»,
и за слабые удары жалостливого ждало наказание. Рассказ-
чик смотрел и запоминал все:
«Полковник шел подле, и, поглядывая то себе под ноги,
то на наказываемого, втягивал в себя воздух, раздувая ще-
ки, и медленно выпускал его через оттопыренную губу».
Раздутые щеки, оттопыренная губа — эту некрасивую
мину видит теперь рассказчик на лице полковника. Для
него это лицо стало не таким, каким он помнил его на ба-
ле,— и ясно почему:
«Когда шествие миновало то место, где я стоял, я мель-
ком увидал между рядов спину наказываемого. Это было
что-то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное, что я
не поверил, чтобы это было тело человека».
Ужас перед шпицрутенами у рассказчика достиг выс-
шей точки, но разочарованию в отце любимой девушки
суждено было усилиться:
«Вдруг полковник остановился и быстро приблизился
к одному из солдат.
— Я тебе помажу,—услыхал я его гневный голос.—
Будешь мазать? Будешь?
И я видел, как он своей сильной рукой в замшевой
перчатке бил по лицу малорослого, слабого солдата за то,
что он недостаточно сильно опустил свою палку на красную
спину татарина.
— Подать свежих шпицрутенов!—крикнул он, огляды-
ваясь, и увидал меня. Делая вид, что он не знает меня, он,
грозно и злобно нахмурившись, поспешно отвернулся. Мне
же было до такой степени стыдно, что, не зная, куда
смотреть, как будто бы я был уличен в самом постыдном
поступке, я опустил глаза и поторопился уйти домой».
Рассказчик пережил душевное потрясение. Сцена казни
222
не выходила у него из головы, в ушах слышались барабан-
ная дробь и флейта. Но истинный смысл увиденного, уста-
новление собственного отношения к нему, необходимость
борьбы, протеста против законных действий, побуждаю-
щих убивать людей,— словом, огромный круг вопросов, воз-
буждаемых казнью бежавшего солдата и ролью «ее отца»,
полковника, на его службе, да и всех иных начальников
на их постах в государстве, управляемом императором
Николаем I,— все это не вошло еще в центр внимания рас-
сказчика, по молодости лет его или по желанию обходить
неприятности. Юноша не усомнился в правильности строе-
ния окружающего мира, в необходимости того, что в нем
совершается, в том, что делами управляют достойные лю-
ди, и причину своей тревоги нашел в себе самом, в недоста-
точной широте своего кругозора:
«Очевидно, он что-то знает такое, чего я не знаю,—
думал я про полковника.— Если бы я знал то, что он зна-
ет, я бы понимал и то, что я видел, и это не мучило бы
меня. Но, сколько я ни думал, я не мог понять того, что
знает полковник, и заснул только к вечеру, и то после то-
го, как пошел к приятелю и напился с ним совсем пьян».
С глубокой правдивостью Толстой передает ощущения
юноши из привилегированного сословия, впервые столк-
нувшегося с противоречиями действительности, с разделе-
нием людей на подчиненных и начальников, бедных и бо-
гатых, угнетателей и угнетаемых. Видимо, он полон состра-
дания к татарину, прогоняемому через строй, его смущает
поведение полковника, «ее отца»,— ведь восторженное и
нежное чувство он испытывал к ним обоим. Но кто прав,
кто виноват, что ему делать — юноша не знает.
Не желая поступиться ни одним штрихом в интонации
и в точности выражения, Толстой передает признание рас-
сказчика, смело ставя рядом четыре «что»:
«—Что ж, вы думаете, что я тогда решил, что то, что
я видел, было дурное дело? Ничуть. «Если это делалось с
такой уверенностью и признавалось всеми необходимым,
то стало быть они знали что-то такое, чего я не знал»,—
думал я и старался узнать это. Но сколько ни старался —
и потом не мог узнать этого».
Сила уклада жизни, общественного мнения, уверенности
членов господствующего класса в справедливости своих
требований и законов заставила юношу смириться, не при-
ступив к деятельным поискам ответа на выдвинутые перед
223
ним насущные вопросы. Но и то, что он задумался над ни-
ми, сделало для него невозможным соучастие в несправед-
ливостях, творимых деспотическими правителями русского
государства и всем административным персоналом импе-
рии.
«А не узнав, не мог поступить в военную службу, как
хотел прежде, и не только не служил в военной, но нигде
не служил и никуда, как видите, не годился».
Собеседники напоминают рассказчику, что он помог
многим людям,—как именно, автор не поясняет,—но он
досадливо называет эту помощь «глупостями».
А что же любовь?
«— Любовь? Любовь с этого дня пошла на убыль. Когда
она, как это часто бывало с ней, с улыбкой на лице, заду-
мывалась, я сейчас же вспоминал полковника на площади,
и мне становилось как-то неловко и неприятно, и я реже
стал видаться с ней. И любовь так и сошла на нет...»
Таковы содержание и смысл рассказа, в котором писа-
тель, верный себе, постарался подробно и обстоятельно
разъяснить эпизод, приведший его героя к нравственному
перерождению. Ничто не осталось в тексте недосказан-
ным — нет в нем намеков или фраз, требующих от читателя
додумывания и догадок.
Однако, несмотря на такую ясность, объективный
смысл рассказа или то, что можно назвать его подтекстом,
выходят не только за рамки изображаемой ситуации, но и
вообще за пределы мировоззренческой концепции Толстого.
Иван Васильевич собирался доказать, что среда не помога-
ет человеку понять, что хорошо и что дурно, и только
случай может открывать ему глаза и влиять на него. Чи-
татель видит в рассказе «После бала» иное: подобные слу-
чаи закономерны для царской России.
Исключительным случаем можно было в описанном
Толстым происшествии считать лишь незаурядность ду-
шевной организации главного персонажа, в котором чита-
тель видел не столько совестливого дворянина, сколько
носителя толстовской философии, глашатая самоусовер-
шенствования человека.
Зависимость от среды ощущает сам Иван Васильевич,
устами которого подобная зависимость отрицается. Тол-
стой-художник ограничивается изображением психологи-
ческой подоплеки отношений его к Вареньке, так рази-
тельно похожей на своего отца, мучившего солдата. Иван
224
Васильевич поначалу соединял «его и ее в одном нежном,
умиленном чувстве». Но после бала, наблюдая задумавшую-
ся Вареньку, он тотчас вспоминал полковника на площади,
шпицрутены — «и любовь сошла на нет...».
Толстой не мог погрешить против жизненной правды
человеческих отношений — ив результате читатель полу-
чил возможность объективно проследить ту социальную
зависимость, ту взаимосвязанность людей, вне которой
человек в обществе существовать не мог.
Реальные картины, изображенные Толстым, давали
читателю возможность подойти к важным выводам: доста-
точно было ему представить истерзанное тело солдата-тата-
рина, чтобы понять то, чего никак не мог усвоить герой
рассказа: нет и не может быть тех законов, той философии,
которые разрешали бы одним классам жить за счет других
да еще и глумиться над ними.
aМаксима
Горького
о Ленине
1
Среди многих достоинств М. Горького одними из наибо-
лее важных можно считать величайшую наблюдательность
и уменье рассказать о виденном и пережитом. В его худо-
жественных произведениях читателя привлекают не фабу-
ла, не события, которые происходят с героями и вокруг
них, а персонажи, люди, с их мыслями и поступками, от-
крытыми и понятыми автором. Характеристика, человека
как личности, как члена общества, как явления природы —
вот чем сильны книги Максима Горького. И кажется, слов-
но этого писателя имел в виду Л. Толстой, когда в 1905
году говорил в беседе с А. Гольденвейзером:
«— Меня всегда интересовало следить затем, что может
в литературе устареть. Мне интересно, что в теперешних
писаниях будет казаться таким же устаревшим, как нам
теперь какие-нибудь карамзинские «О сколь!» и т. д. Вот
на моей памяти стало невозможным написать длинную
поэму в стихах. Мне кажется, что со временем вообще пере-
станут выдумывать художественные произведения. Будет
совестно сочинять про какого-нибудь вымышленного
Ивана Ивановича или Марию Петровну. Писатели, если
они будут, будут не сочинять, а только рассказывать то
226
значительное или интересное, что им случалось наблюдать
в жизни» '.
Горький знал многих людей, типичное в них было ото-
брано и обобщено в художественных образах, но несколь-
ко человек, встреченных на жизненном пути, Горький опи-
сал особо, поодиночке,—от народнического литератора
Каронина-Петропавловского до Сергея Есенина,— и
венцом этого вида его творчества стали воспоминания о
В. И. Ленине.
Очерк этот получил широчайшую известность, выписки
из него приведены во многих статьях и книгах. Но хоро-
шие произведения тем и замечательны, что их можно и хо-
чется читать несколько раз, всегда находя новое для себя.
Попытаемся и мы прочитать знаменитый очерк Горько-
го, чтобы понять, как он задуман и исполнен, что укрыва-
ется в нем от беглого просмотра, и чтобы убедиться, какую
глубину текст его может представить внимательному взору.
Напомним, что этот очерк получил одобрение
Н. К. Крупской. Прочитав его во второй редакции 1931 го-
да, она сообщила автору:
«...Получила Ваши воспоминания об Ильиче — хорошие.
Живой у вас Ильич. О Лондонском съезде очень хорошо.
Правда все. Каждая фраза Ваших воспоминаний вызывает
ряд аналогичных. И потом, Вы любили Ильича. Кто не лю-
бил бы, тот не мог бы так написать. Живой весь Ильич» 2.
Очерк Горького о Ленине впервые был напечатан в жур-
нале «Русский современник», 1924, № 1, затем, с неболь-
шим дополнением, вошел в сборник Горького «Воспомина-
ния. Рассказы. Заметки» (1927).
Для публикации очерка в собрании сочинений 1928 года
(т. 20) Горький расширил его до 1,15 авторского листа.
Позже он еще раз пересмотрел текст, кое-что исправил и
многое дописал, увеличив объем очерка вдвое — в нем ста-
ло 2,3 авторского листа. В таком виде он появился в томе
XXII собрания сочинений Горького, изданном в 1931 году,
и в дальнейшем перепечатывался с этого текста.
«Владимир Ленин умер»,—начинает свои воспомина-
ния о нем Горький, опуская отчество и тем как-то прибли-
жая человека, о котором он пишет, к читателю. Так же
1 «Лев Толстой об искусстве и литературе», т. I. M., «Советский
писатель», 1958, стр. 308.
2 Письмо Н. К. Крупской к А. М. Горькому. «Октябрь», 1941.
№ 6, стр. 24.
227
поступает он в заключительных фразах очерка, но там
это создает приподнятость авторской речи. В тексте Ленин
называется по фамилии или по имени-отчеству, особой
торжественности не требуется, да она и не идет в рассказ
о таком человеке, великом и совершенно простом в обраще-
нии с людьми.
Величие Ленина Горький доказывает сначала ссылкой
на мнение буржуазной немецкой газеты, написавшей: «Ве-
лик, недоступен и страшен кажется Ленин даже в смерти».
Затем он говорит, что пресса русской эмиграции не нашла
в себе ни сил, ни такта, чтобы отнестись к Ленину с ува-
жением, которое обнаружили буржуазные газеты,— и пере-
ходит к разработке темы, выставив на первое место призна-
ние:
«Писать его портрет — трудно. Ленин, внешне, весь в
словах, как рыба в чешуе. Был он прост и прям, как все,
что говорилось им.
Героизм его почти совершенно лишен внешнего блеска,
его героизм — это нередкое в России скромное, аскетиче-
ское подвижничество честного русского интеллигента-
революционера...»
Следом за этим тезисом Горький критически отзывается
о первой редакции своего очерка:
«То, что написано мною вскоре после его смерти,—на-
писано в состоянии удрученном, поспешно и плохо. Кое-
чего я не мог написать по соображениям «такта», надеюсь
вполне понятным. Проницателен и мудр был этот человек,
а «в многой мудрости — много печали» !.
Трудность для пишущего портрет Ленина состоит, сле-
довательно, в том, по мнению Горького, что биография его
не заключает внешне-героических поступков, факты ее на
первый взгляд скромны. Для того чтобы описать Ленина,
нужно знать его «слова», то есть высказывания, речи,
статьи, книги, мысли, то есть дело, которым он занимал-
ся,— его «тяжелую работу для счастья людей».
Горький слушал, читал и запомнил ленинские слова —
и оттого так удался ему очерк о вожде революции.
Первая редакция этого произведения была затем допол-
нена, но что текст был написан «поспешно и плохо», ска-
1 М. Горький. В. И. Ленин. Собрание сочинений в тридцати
томах, т. 17, стр. 5—6. В дальнейшем цитируется по этому тексту,
без указаний страниц, с которых сделаны выписки.
228
зать нельзя. С некоторой перестановкой эпизодов и картин
и за выпуском трех-четырех абзацев он весь вошел во вто-
рую редакцию и, стало быть, не заслуживал той аттестации,
которую дал ему, по скромности, автор.
Да, Ленина нужно было не только увидеть, но и понять,
и это удавалось далеко не каждому. Высокой оценке того,
что было сделано Горьким, поможет простое сравнение его
работы с тем, что посчастливилось припомнить и написать
его современнику и доброму знакомцу — литератору Степа-
ну Петрову, известному под псевдонимом Скиталец
(1869—1941). В тридцатые годы он обратился к воспоми-
наниям о прожитых годах и написал несколько очерков,
посвященных встречам с замечательными людьми своего
времени. Вероятно, делалось это не без влияния Горького, а
может быть, и не без намерения вступить в некое соперни-
чество с ним. Так или иначе, шесть из десяти биографиче-
ских очерков Скитальца посвящены тем же людям, о ко-
торых писал уже Горький: Ленину, Льву Толстому, Чехо-
ву, Короленко, Леониду Андрееву и Гарину-Михайлов-
скому.
В очерке «Ульянов-Ленин» (1939) Скиталец рассказы-
вает о трех своих встречах с В. И. Лениным, происшедших
в 1887, 1903 и 1905 годах, и нас не должно удивлять, что
память писателя через полвека смогла сохранить лишь
общие контуры впечатлений и разговоров. Но вместе с тем
нельзя не заметить, что мемуарист и не очень хочет при-
поминать, о чем именно шли речи и что обсуждалось в
беседах и на собраниях, в которых принимал участие, по
свидетельству Скитальца, Ленин.
Очерк Скитальца небольшой, объемом около четверти ав-
торского листа, десять тысяч печатных знаков \ Но вряд ли
автора стеснили размерами его труда — он волен был пи-
сать сколько мог и считал нужным.
Первая встреча автора с Лениным произошла в Самаре,
которая была «тогда типично провинциальным городом,
славившимся грязью и пылью». В Самару высылали сту-
дентов, участвовавших в волнениях.
«На нелегальных, но многолюдных вечеринках револю-
ционной молодежи выступали иногда крупные люди того
времени, посидевшие в «Крестах», отбывшие почетную
1 См. Скиталец. Повести и рассказы. Воспоминания. М.,
«Московский рабочий», 19G0, стр. 279—284. В дальнейшем текст
цитируется по этому изданию.
229
ссылку или бежавшие из ссылки. Многих через Самару вы-
сылали дальше — в Сибирь.
К весне 1887 года весь этот шум, внесенный политиче-
скими, куда-то схлынул, почти все приезжие «уехали».
Почему последнее слово заключено в кавычки —неясно.
«Кресты»—название петербургской тюрьмы. «Крупные лю-
ди того времени» — сказано в чрезвычайно общей форме.
«Почетная ссылка» предполагает в обычном смысле слу-
жебное назначение на хорошую должность, но в отдаленное
место. А разве автор имел это в виду?
Скиталец был дружен с Марком Елизаровым, они были
из одной деревни и виделись в то время ежедневно. Елиза-
ров в Петербурге, где учился в университете, был знаком с
•семьей Ульяновых. «По его словам, все они были способные
люди. Старший брат, Александр, был казнен за участие в
покушении на жизнь царя...»
Встреча Скитальца с Лениным состоялась у Елизарова
в 1887 году:
«Однажды под вечер теплого майского дня я зашел к
Елизарову. У него оказался гость — юноша моего возраста,
крепыш среднего роста, с большим лбом и длинными до
плеч, густыми, светло-каштановыми, вьющимися волосами,
закинутыми назад. Веснушчатое, с первым золотистым
пушком на подбородке, лицо его, с веселой усмешкой на
пухлых, но крепко сжатых губах, еще носило следы юноше-
ской мягкости. В небольших голубоватых глазах светился
быстрый и острый ум. Говорил он усмехаясь, негромким,
слегка грассирующим голосом.
— Ульянов! — отрекомендовался он, крепко сжимая
мне руку».
В портрете юноши Ленина, написанном подробно и, на-
верное, точно, есть неожиданные черты, и наблюдательность
автора заслуживает нашей благодарности. Но то, что гово-
рил тогда Ленин, он запомнить не смог, не представляя,
разумеется, в ту пору себе, насколько будет все это важно
впоследствии.
Молодые люди беседовали о том, где сдавать экзамены
исключенным студентам.
«—Прежде я был не в ладах с математикой,— посмеи-
ваясь и запуская руки в карманы брюк, говорил Ульянов.—
Рассуждал так: если назначен урок по математике — зна-
чит, я свободен! Хе-хе! Но теперь, когда вник, люблю ее!
Но все-таки, если мыкаться из города в город с мешком
230
толстых учебников, то, кажется, так бы и спихнул их в
Волгу!»
Какой-то неприятной лихостью отмечены эти слова.
Верно ли запомнил их мемуарист? Что значит быть свобод-
ным в гимназии, когда идет урок математики,— не являть-
ся в класс, читать под партой? И разве надобно особое рас-
суждение для того, чтобы не ходить на уроки? Какова логи-
ка последней фразы о мешке учебников — спихнуть в воду
и отказаться от экзаменов или продолжать поиски города,
но не возить с собой книг? Неясно.
Автор, по-видимому, и сам понимает неловкость приду-
манной им прямой речи и спешит с ней расстаться. Улья-
нов в его передаче восклицает:
«—Сдам, конечно! Да вся эта казенная учеба давно в
зубах навязла! Надоела! Меня теперь совсем не это зани-
мает!»
Восклицание это не связано с предыдущим текстом, вы-
ражение «казенная учеба» содержит внутреннее противо-
речие, казенным бывает учебное заведение, а не процесс
получения знаний человеком, да и слово «учеба» вряд ли
было на устах у Ленина в восьмидесятые годы, если вооб-
ще он пользовался им. «В зубах навязла» в смысле «надое-
ла» сказать можно,— сравни у Маяковского: «И мне агит-
проп в зубах навяз»,— но каким-то неточным выглядит это
выражение: речь Ленина была несравненно более меткой.
«Внезапно загоревшись,— продолжает Скиталец,—
расхаживая по комнате большими шагами, юноша заго-
ворил об истории революционного движения в России.
Он не говорил звонких слов,— говорил просто, понят-
но, поэтому сразу захватывал убедительностью своих суж-
дений. Видно было, что этот почти еще мальчик хорошо,
основательно знает тот предмет, о котором говорит. Цент-
ральной областью его познаний как тогда, так и во всю
последующую жизнь была революция».
Может быть, во время встречи, которую описывает
Скиталец, Ленин действительно представил собеседникам
очерк истории революционного движения в России,— хотя
мемуарист не называет повода, в связи с которым развер-
нулось такое выступление, а импровизация речей просто
так, при случае и без нужды едва ли входила в привычки
Ленина,— может быть, говорил он о другом, так или ина-
че, Скиталец мог передать нам только самое общее свое
впечатление от встречи:
231
«Спорить с ним не приходило в голову ни мне, ни
Елизарову: под конец его обширной, содержательной
речи мы оба должны были только слушать, а юный
ученый, по-видимому, чувствовал себя в любимой
стихии».
Автор, по-видимому, хочет сказать, что стихией для
Ленина была революция, а выходит, будто он упивается
собственной осведомленностью и его стихией были разго-
воры.
«Ульянов, засунув руки в карманы и потряхивая длин-
ными золотистыми кудрями, большими шагами как бы
вымерял комнату, говорил с увлечением математика, до-
казывающего совершенно ясную для него теорему...»
и т. д.
Эта и последующая фразы очерка свидетельствуют
о большом уважении Скитальца к герою его юношеских
воспоминаний и о его памяти на лица, но не могут возна-
градить читателей за отсутствие в тексте ленинских слов
и мыслей.
Вторая встреча автора с Лениным была в 1903 году.
Путешествуя за границей, он заехал в Женеву и навестил
Ленина, «уже известного тогда всей России».
«Простой, некрашеный стол, несколько венских стуль-
ев, этажерка с книгами — обстановка в комнате была
аскетической,— замечает Скиталец, сообщая, что он сразу
узнал Ленина, хотя за истекшие пятнадцать лет «наруж-
ность его значительно изменилась».
«В это время ему было тридцать два — тридцать три
года. Но вместо прежних золотистых кудрей на макушке
светилась небольшая лысина, поредевшие волосы коротко
острижены, отросла маленькая бородка. По-прежнему
крепко сложенный, казался он худее, сутуловатее, и одет
он был неважно: потертый коричневый пиджак, надетый
на косоворотку, коротковатые брюки».
Словесный портрет написан, остальное стерлось в па-
мяти автора, и слова Ленина он передает очень приблизи-
тельно:
«— Отлично помню нашу с вами встречу у Елизаро-
ва. Вы и тогда, кажется, неплохо стихи пописывали. Марк
показывал. Он чудак: почти сорока лет опять в студенты
поступил, в технологический, но, конечно, от политики не
мог отстать,— влопался, в тюрьму попал, выслали. Пропа-
ло инженерство!
232
Он стал с интересом расспрашивать меня о России, о
литературе и литературных наших делах».
Мемуаристу невдомек, что слова «кажется, вы неплохо
пописывали» имеют пренебрежительный оттенок и что
Ленин с его тактом и уважением к людям не мог их ска-
зать, как не мог в столь презрительной форме отзываться
о Елизарове, пожелавшем продолжить свое образование.
Что делать, память человеческая несовершенна, и, вос-
станавливая слышанные когда-то речи, воспоминателям
необходимо соображаться с обликом тех людей, в чьи уста
они вкладываются.
Слог самого Скитальца, например, вполне отвечает то-
му представлению о нем, которое возникает у читателя его
мемуаров. Вторую часть очерка он заканчивает так:
«Мне удивительно было видеть огромную мощь духа,
заключенную в человеке маленького роста, с огромным
лысеющим лбом, непрестанно работающим над тем, чтобы
из-под семи замков могли вырваться скованные силы ре-
волюции».
Тут заметны приподнятость тона, симпатии к револю-
ционному движению, занятия фольклором и даже наив-
ность автора, удивленного тем, что человек маленького
роста может обладать огромной мощью духа... А «огром-
ный лысеющий лоб» указывает на склонность автора и к
реалистическим наблюдениям.
Пожалуй, одна эта фраза может подтвердить справед-
ливость замечания Л. Толстого, сделанного после прочте-
ния рассказа Скитальца «Сквозь строй». Слова его пере-
давал М. Горький:
«— Талант, большой талант! Но —жаль! слишком на-
читался русских журналов. И от этого его рассказ похож
на корзину кухарки, возвращающейся с базара: апельсин
лежит рядом с бараниной, лавровый лист с коробкой вак-
сы. Дичь, овощи, посуда — все перемешано и одно другим
пропахло. А талант! На отца он наврал,— не было у него
такого отца»1.
Третья часть очерка Скитальца посвящена его встре-
че с Лениным в 1905 году. Статьи Ленина «поражали ря-
дового читателя новым, широким масштабом» — читате-
ля «не рядового» они оставляли равнодушным? И что зна-
1 М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах т. 28,
стр. 217.
8 А. Западов
233
чит «поражать масштабом» — размерами текста или охва-
том событий? Они печатались в газете «Новая жизнь».
Скитальца попросили предоставить его квартиру для со-
брания сотрудников, он отвел для этой цели кабинет и
«ушел в другую комнату». На собрание пришли Ленин и
Горький, но хозяин ничьими выступлениями не поинтере-
совался и потому вспомнил только такое:
«Говорили спешно, возбужденно. Ленин все время мол-
чал, руки у него были засунуты в карманы».
Опять эти карманы... Но и за них спасибо. Хоть какая-
то деталь запомнилась мемуаристу!
2
Вторую редакцию очерка Горький обогащает новыми
сведениями о Ленине и располагает эпизоды в историче-
ской последовательности, отчего все произведение прини-
мает законченный и цельный вид.
Начинает он с Лондонского съезда Российской соци-
ал-демократической рабочей партии, состоявшегося в
1907 году,— «с тех дней, когда Владимир Ильич встал пе-
редо мною превосходно освещенный сомнениями и недове-
рием одних, явной враждой и даже ненавистью других».
На первых страницах очерка развертывается картина
съезда, как мог ее написать участник политической борь-
бы, развернувшейся на заседаниях, и умный художник.
«Я и сейчас вот,— писал Горький,— все еще хорошо
вижу голые стены смешной своим убожеством деревянной
церкви на окраине Лондона, стрельчатые окна небольшого
узкого зала, похожего на классную комнату бедной шко-
лы. Это здание напоминало церковь только извне, а внут-
ри ее — полное отсутствие предметов культа, и даже не-
высокая кафедра проповедника помещалась не впереди, в
глубине зала, а —у входа в него, между двух дверей».
Молодому читателю трудно представить себе, что пар-
тийный съезд мог происходить в церкви. Наметка обста-
новки, нанесенная верной рукой Горького, образует общий
фон, на котором развернутся события.
И дальше — о самом главном, не мешкая — к цели.
«До этого года я не встречал Ленина, да и читал его
не так много, как бы следовало. Но то, что удалось мне
прочитать, а особенно восторженные рассказы товарищей,
234
которые лично знали его, потянуло меня к нему с боль-
шой силой».
Абзац, вероятно, очень искренний — не столько то, что
удалось прочитать, сколько рассказы товарищей повлек-
ли к Ленину. «Потянуло с большой силой» — и как бы
притянуло, ввело в непосредственный контакт, состоялась
встреча.
«Когда нас познакомили, он, крепко стиснув мою ру-
ку, прощупывая меня зоркими глазами, заговорил тоном
старого знакомого, шутливо:
— Это хорошо, что вы приехали! Вы ведь драки люби-
то? Здесь будет большая драчка».
Как будто бы реплика несложная. Так оно и есть, од-
нако в ней каждое слово значительно. Из первой фразы
следует, что Ленин знал Горького как писателя и, очевид-
но, как общественного деятеля, был уверен, что встретил
в его лице союзника. Может быть, «далеко вперед видел
он», как выше уже отметил Горький,—Ленин полагал,
что такому писателю для его развития, ориентировки, раз-
мышлений полезно присутствие на партийной дискуссии.
Ленину был известен и характер Горького — его вопрос:
«Вы ведь драки любите?» скрывает утверждение. И, на-
конец, мысль о неизбежности спора на съезде — «будет
большая драчка» — вместе с уверенностью в победе боль-
шевистских взглядов: не драка, а драчка; неприятно, но
не так серьезно.
Ленин заговорил с Горьким тоном «старого знакомого».
Писатель не был подготовлен к такому обращению опытом
своих встреч с партийными деятелями:
«Я ожидал, что Ленин не таков. Мне чего-то не хвата-
ло в нем. Картавит и руки сунул куда-то под мышки, сто-
ртт фертом. И вообще, весь — как-то слишком прост, не
чувствуется в нем ничего от «вождя». Я — литератор.
Профессия обязывает меня подмечать мелочи, эта обязан-
ность стала привычкой, иногда — уже надоедливой».
Слова тут подбирал автор самые простые, и позу
Ленину придал задорную, и про картавость упомянул.
А в заключение сослался на обязанности литератора, на
верность профессионального глаза, привыкшего подмечать
мелочи.
Написано лто, во-первых, для того, чтобы сообщить
впечатление о человеке, раньше не знакомом, а во-вто-
8»
235
рых — с целью подготовить читателя к восприятию фигу-
ры Плеханова, описанной насмешливо:
«Когда меня «подводили» к Г. В. Плеханову, он стоял
скрестив руки на груди и смотрел строго, скучновато, как
смотрит утомленный своими обязанностями учитель еще
на одного нового ученика».
С Лениным — за руку, к Плеханову подводят — то
есть существует церемониал представления отцу русской
социал-демократии, есть что-то неживое, омертвевшее в
этом обряде,— пока еще не говорится «и человеке». Но
дальше следует:
«Он сказал мне весьма обычную фразу: «Я поклонник
вашего таланта». Кроме этого, он не сказал ничего, что
моя память удержала бы. И на протяжении всего съезда
ни у него, ни у меня не явилось желания поговорить «по
душам».
Литератор замечает все мелочи, память хорошая,—
а никаких слов Плеханова, кроме общего комплимента,
не запомнил. Стало быть, плелись пустые речи, и желания
возобновить беседу у Горького не возникло. Плеханов так-
же не искал с ним разговора.
«А этот лысый, картавый, плотный, крепкий человек,
потирая одною рукою сократовский лоб, дергая другою
мою руку, ласково поблескивая удивительно живыми гла-
зами, тотчас же заговорил о недостатках книги «Мать».
Определения совсем: не приподнятые, не торжествен-
ные — не для вождя, а для обычного человека. Но кругозор
широк, интерес к тому, что пишется и печатается, огро-
мен — новый роман Горького прочитал в рукописи, готов-
ность обсудить, объяснить, посоветовать — постоянная.
Таков Ленин с первых минут встречи. Горький приводит
его отзыв о романе, передает содержание вопросов, кото-
рые задал ему Ленин,—дружеские отношения образова-
лись мгновенно. Это вождь, он руководит движением и
находит место в нем для горьковской книги,— она своевре-
менна, ее с большой пользой для себя прочтут рабочие,—
и как же он прост, какими живыми глазами глядит, как
хорошо смеется!
«Я был настроен очень празднично»,— говорит Горь-
кий, поясняя, что два года жил вне родины и теперь нахо-
дился «в среде трех сотен отборных партийцев», представ-
лявших полтораста тысяч организованных русских рабо-
чих.
236
Показав Ленина, вождя и человека, Горький снова со-
здает ему контраст, чтобы до конца убедить читателя в
простоте и душевности руководителя пролетарских масс:
он рассказывает о том, как в Берлине обедал у Августа
Бебеля в обществе «крупнейших вождей социал-демокра-
тии», очень самодовольных и благополучных.
«Обедали мы в просторной, уютной квартире, где клет-
ки с канарейками были изящно прикрыты вышитыми
салфеточками и на спинках кресел тоже были пришпиле-
ны вышитые салфеточки, чтобы сидящие не пачкали за-
тылками чехлов. Все вокруг было очень солидно, прочно,
все кушали торжественно и торжественно говорили друг
другу:
— Мальцейт.
Слово это было незнакомо мне, но я знал, что фран-
цузское «маль» по-русски значит — плохо, немецкое
«цейт» — время, вышло: плохое время».
Ничего, конечно, особенного, социал-демократы обеда-
ют, в квартире чисто. Автор и не осуждает их, только вме-
сто «едят» говорит «кушали торжественно» и тем пере-
дает свою насмешку читателю. И замечает салфеточки на
спинках кресел, пришпиленные, чтобы гости затылками
не засалили не обивку кресел,— это было бы ужасно! — а
чехлы, надеваемые на мебель. Такая предусмотритель-
ность! «Плохое время»,— твердят руководители немецкой
социал-демократии, но аппетит не теряют. Читатель по-
немногу начинает презирать этих самодовольных бюрге-
ров, а Горький того и хочет. И прибавляет для конца:
«Пили рейнское вино и пиво: вино было кислое и теп-
лое, пиво хорошее; о русской революции и партии с.-д. го-
ворили тоже кисловато и снисходительно, а о своей, немец-
кой партии — очень хорошо!»
А дальше Горький рассказывает, как немецкий социал-
демократ Парвус, «впоследствии весьма известный», рас-
тратил деньги, которые по его, Горького, доверенности
собирал с театров, ставивших пьесу «На дне»: три четвер-
ти гонорара за постановку автор передавал в партийную
кассу. Деньги он потратил «на путешествие с одной ба-
рышней по Италии», разумеется, не возместил и никакой
ответственности не понес.
Горький ездил в Америку для сбора денег в фонд боль-
шевиков — «поездка не удалась», поселился в Италии, тта
острове Капри, читал русские газеты, книги — «это тоже
237
очень понижало настроение», приезжали из России «слу-
чайные революционеры», твердили, что «все пропало»,
разбито, истреблено...
Плохо!
«И —вдруг, точно в сказке,—пишет Горький,—я на
съезде Российской социал-демократической партии. Ко-
нечно — праздник!»
Казалось бы, совершена достаточно глубокая подготов-
ка фона и теперь можно приступать к прямым воспомина-
ниям о встречах с Лениным. Но Горький медлит делать
это. Он пишет не историческую повесть, не политический
трактат — а рассказывает о человеке, стоявшем во главе
революционного движения в России. В очерке он стремит-
ся сосредоточить внимание читателя на его герое и потому
считает нужным внести дополнительные оттенки.
«Но праздновал я только до первого заседания, до спо-
ров по вопросу о «порядке дня». Свирепость этих споров
сразу охладила мои восторги, и не столько тем, что я по-
чувствовал, как резко расколота партия на реформаторов
и революционеров,— это я знал с 903 года,— а враждеб-
ным отношением реформаторов к В. И. Ленину. Оно про-
сачивалось и брызгало сквозь их речи, как вода под высо-
ким давлением сквозь старую пожарную «кишку».
Горький затем называет нескольких «реформаторов»
и характеризует манеру их выступлений, заметив: «Не
всегда важно — что говорят, но всегда важно, как говорят».
Тон речей, ораторские приемы, жесты автор описывает
иронически, как они запомнились ему и как того, несом-
ненно, заслуживали.
Он рассказывает:
«Г. В. Плеханов в сюртуке, застегнутом на все пугови-
цы, похожий на протестантского пастора, открывая съезд,
говорил, как законоучитель, уверенный, что его мысли не-
оспоримы, каждое слово — драгоценно, так же, как и пауза
между словами. Очень искусно он развешивал в воздухе
над головами съездовцев красиво закругленные фразы, и
когда на скамьях большевиков кто-нибудь шевелил язы-
ком, перешептываясь с товарищем, почтенный оратор, сде-
лав маленькую паузу, вонзал в него свой взгляд, точно
гвоздь».
Федор Дан говорил как человек, которому «подлинная
истина приходится родной дочерью, он ее родил, воспитал
и все еще воспитывает. Сам же он, Федор Дан, является
238
совертенйым йоплощейием Карла Маркса, а большеви-
ки — недоучки, неприличные ребята, что особенно ясно из
их отношения к меньшевикам...». Любимый жест его — он
«толкал в воздух, направо, желтым кулаком».
Мартов, которого Горький аттестует как «удивительно
симпатичного человека», во время выступления «весь со-
дрогался, качался, судорожно расстегивал воротник крах-
мальной рубашки, размахивал руками; обшлага, выскаки-
вая из рукава пиджака, закрывали ему кисть руки, он вы-
соко поднимал руку и тряс ею, чтобы водрузить обшлаг на
его законное место. Мне казалось, что Мартов не доказы-
вает, а — упрашивает, умоляет: раскол необходимо из-
жить...».
Писатель запомнил манеру каждого оратора и убедил
в том, что действительно всегда важно знать, «как гово-
рят»,— содержание речей проясняется для читателя, хотя
текст выступлений автор не пересказывает. Тема очерка
таких подробностей не требовала. Уверенность в собствен-
ной непогрешимости, проявленная Плехановым, самодо-
вольство Дана, истерическое многословие Мартова были
встречены на скамьях рабочих-большевиков порой смехом,
подчас — недоумением.
«Но вот,— продолжает Горький,— поспешно взошел на
кафедру Владимир Ильич, картаво произнес «товарищи».
Мне показалось, что он плохо говорит, но уже через мину-
ту я, как и все, был «поглощен» его речью. Первый раз слы-
шал я, чтоо сложнейших вопросах политики можно гово-
рить так просто. Этот не пытался сочинять красивые фра-
зы, а подавал каждое слово на ладони, изумительно легко
обнажая его точный смысл. Очень трудно передать необыч-
ное впечатление, которое он вызывал».
Точность и простота — вот первые качества речи
Ленина, которые осознал Горький. Она никак не походила
на речи предыдущих ораторов, занимавших внимание съез-
да. Выступление Мартова, замечает писатель, было не-
понятным от «обилия слов», оратор же «вызывал впечат-
ление тяжелое».
Жесты Ленина находились в соответствии с тем, что
он говорил.
«Его рука, протянутая вперед и немного поднятая
вверх, ладонь, которая как бы взвешивала каждое слово,
отсеивая фразы противников, заменяя их вескими поло-
жениями, доказательствами права и долга рабочего класса
239
идти своим путем, a fie сзади и даже не рядом с либераль-
ной буржуазией — все это было необыкновенно и говори-
лось им, Лениным, как-то не от себя, а действительно по
воле истории. Слитность, законченность, прямота и сила
его речи, весь он на кафедре — точно произведение клас-
сического искусства: все есть, и ничего лишнего, никаких
украшений, а если они были — их не видно, они так же
естественно необходимы, как два глаза на лице, пять паль-
цев на руке».
Выше сказав, что «Ленин, внешне, весь в словах, как
рыба в чешуе», Горький в очерке прежде всего доказы-
вает, иллюстрирует выставленный им тезис. Создавая
художественный образ говорящего Ленина, он в то же
время точен, как историк, как филолог, знаток стиля уст-
ной и письменной речи. На кафедре представлены Ленин-
полемист, который отсеивает фразы противников, и
Ленин — ученый и практик революционной борьбы. Он
приводит доказательства права и необходимости рабочему
классу «идти своим путем», с чем не были согласны мень-
шевики, возлагавшие свои надежды на либеральную бур-
жуазию.
Горький описывает, как слушали Ленина делегаты
съезда: одни одобряя его мысли, другие — нет. Меньшеви-
ки выкрикивали, что их нечего учить и съезд не место для
философии. «Особенно старался кто-то рослый, бородатый,
с лицом лавочника...» Горький сказал так про него одного,
но это «лицо лавочника» словно соединило в себе лица всех
противников Ленина в зале.
«Меньшевики, не стесняясь, показывали, что речь
Ленина неприятна им, а сам он — более, чем неприятен...
Злой, горячий ветерок раздражения, иронии, ненависти
гулял по залу, сотни глаз разнообразно освещали фигуру
Владимира Ильича...»
Ленин держался спокойно, было не заметно, что враж-
дебные выпады волнуют его,— он скрывал свои чувства.
«У меня,— говорит Горький,— образовалось такое впе-
чатление: каждый день съезда придает Владимиру Ильичу
все новые и новые силы, делает его бодрее, уверенней, с
каждым днем речи его звучат все более твердо и вся боль-
шевистская часть членов съезда настраивается решитель-
нее, строже».
Один из рабочих, впервые увидевший Ленина на съезде,
сказал о нем:
240
«— Этот наш!
Ему возразили:
— И Плеханов — наш.
Я услышал меткий ответ:
— Плеханов — наш учитель, наш барин, а Ленин —
вождь и товарищ наш».
В дальнейшем Горький словно бы возвращается к этим
определениям, сообщая о том, как вел себя Плеханов,
посетивший остров Капри: это был и учитель, и барин.
Несколько русских эмигрантов, живших на Капри, же-
лали побеседовать с Плехановым — он отказался от встре-
чи, ответив, что утомлен обилием «желающих говорить, но
неспособных делать». А Ленин видел всех эмигрантов!
«Плеханов ни о чем не расспрашивал, он уже все знал
и сам рассказывал. По-русски широко талантливый, евро-
пейски воспитанный, он любил щегольнуть красивым, ост-
рым словцом и, кажется, именно ради острого словца же-
стоко подчеркивал недостатки иностранных и русских то-
варищей...»
А о Ленине Горький писал:
«Он подробно расспрашивал меня о жизни каприйских
рыбаков, о их заработке, о влиянии попов, о школе — ши-
рота его интересов не могла не изумлять меня...»
«Не могу представить себе другого человека, который,
стоя так высоко над людьми, умел бы сохранить себя от
соблазна честолюбия и не утратил бы живого интереса к
«простым людям».
Был в нем некий магнетизм, который притягивал к не-
му сердца и симпатии людей труда».
Нельзя, по-видимому, не заметить, что Горький настой-
чиво противопоставляет двух партийных руководителей,
рассматривая их отношения к людям труда, и образцом
для него служит Ленин.
О Плеханове Горький говорит:
«Вообще же он относился к людям снисходительно, ра-
зумеется, не так, как бог, но несколько похоже. Талант-
ливейший литератор, основоположник партии, он вызвал
у меня глубокое почтение, но не симпатию. Слишком мно-
го было в нем «аристократизма».
Свое мнение писатель не навязывает и замеченное им
различие объясняет:
«Может быть, я сужу ошибочно. У меня нет особенной
любви к ошибкам, но, как все люди, я тоже ошибаюсь.
24J
А факт остается фактом: редко встречал я людей до та-
кой степени различных, как Г. В. Плеханов и В. И. Ленин.
Это и естественно: один заканчивал свою работу разруше-
ния старого мира, другой уже начал строить новый
мир».
Облик Ленина, зарисованный на Лондонском съезде,
в очерке ближайшим образом дополнен рассказом о встре-
че с ним Горького на Капри. Известно, что в ту пору Горь-
кий дружил с махистами, устраивал у себя партийную шко-
лу, во главе которой встали А. А. Богданов и А. В. Луна-
чарский, организаторы новой фракции в партии большеви-
ков.
Ленин гостил у Горького на Капри дважды — в апреле
1908 года и летом 1910 года. В свой первый приезд, как
вспоминает писатель, Ленин сразу сказал:
«—Я знаю, вы, Алексей Максимович, все-таки наде-
етесь на возможность моего примирения с махистами, хо-
тя я вас предупредил в письме: это — невозможно! Так уж
вы не делайте никаких попыток».
Горький, по-видимому, все же попробовал умягчить
настроение Ленина, с похвалой отозвался о Луначарском
и Базарове — и услышал в ответ:
«— Значит — все-таки надежда на примирение жива?
Это — зря,— сказал он.— Гоните ее прочь и как можно
дальше, дружески советую вам! Плеханов тоже, по-ваше-
му, человек одной цели, а вот я — между нами — думаю,
что он — совсем другой цели, хотя и материалист, а не ме-
тафизик».
Горький увидел перед собой Ленина «еще более не-
преклонным, чем он был на Лондонском съезде. Но там
он волновался, и были моменты, когда ясно чувствовалось,
что раскол в партии заставляет переживать его очень
тяжелые минуты.
Здесь он был настроен спокойно, холодновато и на-
смешливо, сурово отталкивался от бесед на философские
темы и вообще вел себя настороженно».
В следующий свой приезд, через два года, Ленин был,
по словам Горького, «другим». И хоть положение в пар-
тии очень его тревожило и в разговорах он касался членов
фракции, вступивших с ним в борьбу, но в целом настроен
был гораздо лучше. Был па Капри, вспоминает Горький,
«прекрасный товарищ, веселый человек, с живым и неуто-
242
мимым интересом ко всему в мире, с поразительно мягким
отношением к людям».
И того и другого Ленина Горький показал нам в своем
очерке.
3
Не будет, пожалуй, ошибкой сказать, что очерк Горь-
кого состоит из двух частей. Первая имеет исторический
характер, в ней изложены впечатления писателя о встре-
чах с Лениным на Лондонском съезде РСДРП и на остро-
ве Капри и зарисован образ политического руководителя,
борца. Это «вождь и товарищ наш», оп «прост, как прав-
да». Черты Ленина тем глубже уясняются читателем, что
автор сопоставляет своего героя с фигурой другого «осно-
воположника партии» и «талантливейшего литератора» —
Плеханова.
Вторая часть очерка начинается, очевидно, с абзаца:
«Жизнь устроена так дьявольски искусно, что, не умея
ненавидеть, невозможно искренне любить...» В ней Горь-
кий рассказывает преимущественно о работе Ленина на
посту Председателя Совета Народных Комиссаров и о сво-
их встречах с ним в 1918—1921 годах, до отъезда писателя
за границу. По поводу одной из бесед с Лениным Горький
сказал: «Я думаю, что нет надобности напоминать, что я
воспроизвел ее не в точных словах, не буквально. В точ-
ности смысла —не сомневаюсь». Можно быть уверенным,
что пояснение это относится и к другим страницам очер-
ка, на которых воспроизводятся слова Ленина, писатель-
ская память стремилась восстанавливать их в наибольшей
близости к подлинным выражениям.
Тема очерка, важная и ответственная сама по себе, для
Горького была особо значительной еще и потому, что, за-
нимаясь воспоминаниями о Ленине, он должен был гово-
рить и о своих взглядах и позициях, не вполне подчас
совпадавших с ленинскими. И нужно в полной мере оце-
нить искренность и самокритичность писателя, не побояв-
шегося сказать о некоторых своих заблуждениях и ошиб-
ках, исправлявшихся затем под настойчивым дружеским
воздействием Ленина. Страницы эти необычайно сущест-
венны для понимания не только творчества Горького,—
об этом нечего и говорить,— но и в целом проблемы интел-
243
лигенции в социалистической революции, проблемы пар:
тийного руководства строительством культуры и многих
других вопросов, вызванных к жизни революционной эпо-
хой.
В этой части очерка Горький говорит о том, что влекло
его к Ленину, мотивируя эту тягу особенностями настрое-
ния интеллигенции в царской России, где «необходимость
страдания» проповедовалась как универсальное средство
«спасения души». Во славу страдания русские писатели
сочиняли книги — и никто «не догадывался выдумать кни-
гу о том, как он всю жизнь радовался». Речь, вероятно,
идет о том, что русская литература — «самая пессимисти-
ческая литература Европы», по мнению Горького, и что
в ней мало призывов к борьбе и к переустройству неудоб-
ной для общежития жизни.
«Для меня,— говорит Горький,— исключительно вели-
ко в Ленине именно это его чувство непримиримой, не-
угасимой вражды к несчастиям людей, его яркая вера в
то, что несчастие не есть неустранимая основа бытия, а —
мерзость, которую люди должны и могут отмести прочь от
себя.
Я бы назвал эту основную черту его характера воинст-
вующим оптимизмом материалиста. Именно она особенно
привлекала душу мою к этому человеку,— Человеку — с
большой буквы».
Высказав эту мысль, Горький приступает к воспомина-
ниям о встречах с Лениным в Петрограде и Москве.
Писатель признается:
«В 17—18 годах мои отношения с Лениным были дале-
ко не таковы, какими я хотел бы их видеть, но они не мог-
ли быть иными.
Он — политик. Он в совершенстве обладал тою четко
выработанной прямолинейностью взгляда, которая необхо-
дима рулевому столь огромного, тяжелого корабля, каким
является свинцовая крестьянская Россия».
Прямолинейность взгляда — достоинство для рулевого.
Сравнение это встречается и на одной из следующих стра-
ниц очерка. С образом Ленина у писателя срослось «пред-
ставление о человеке, который сидит в конце длинного сто-
ла и, усмехаясь, поблескивая зоркими глазами рулевого,
умело, ловко руководит прениями товарищей или же, стоя
на эстраде, закинув голову, мечет в притихшую толпу, в
244
жадные глаза людей, изголодавшихся о правде, четкие,
ясные слова».
Глаза Ленина Горький также называет «всевидящи-
ми», «острыми». Выше упоминалось еще одно определе-
ние — «удивительно живые» глаза.
А о себе писатель говорит, что у него «органическое
отвращение к политике» и он плохо верит «в разум масс
вообще, в разум же крестьянской массы —в особенности».
Горький опасался, что, как он понял из Апрельских
тезисов Ленина, революционная интеллигенция в России
будет брошена в деревню — и там погибнет, растворится
в крестьянской массе, «ничего не изменив в духе, быте, в
истории русского народа». Горький в то время полагал,
что только научная, техническая интеллигенция вместе с
интеллигенцией рабочей, социалистической может взять в
России власть и организовать деревню.
«Так думал я 13 лет тому назад,— писал он в июне
1930 года, во второй редакции очерка о Ленине,— и так —
ошибался. Эту страницу моих воспоминаний следовало бы
вычеркнуть. Но — «написано пером — не вырубишь топо-
ром». К тому же: «на ошибках — учимся»,— часто повто-
рял Владимир Ильич. Пусть же читатели знают эту мою
ошибку. Было бы хорошо, если б она послужила уроком
для тех, кто склонен торопиться с выводами из своих на-
блюдений».
Искренние и прямые слова Горького усиливают наше
уважение к нему. Но только так и мог вести свой рассказ
о человеке «простом, как правда», писатель, обязанный
ему постоянным вниманием и поддержкой.
«Меня восхищала ярко выраженная в нем воля к жиз-
ни,— пишет о Ленине Горький,— и активная ненависть к
мерзости ее, я любовался тем азартом юности, каким он
насыщал все, что делал. Меня изумляла его нечеловече-
ская работоспособность. Его движения были легки, ловки,
и скупой, но сильный жест вполне гармонировал с его
речью, тоже скупой словами, обильной мыслью. И на лице,
монгольского типа, горели, играли эти острые глаза неуто-
мимого борца против лжи и горя жизни, горели, прищу-
риваясь, подмигивая, иронически улыбаясь, сверкая гне-
вом. Блеск этих глаз делал речь его еще более жгучей и
ясной».
В первой части очерка центром было сопоставление
Ленина с Плехановым, большевиков с меньшевиками, тут
245
была спрятана пружина действия, источник интереса чи-
тателей. Вторая часть имеет иной сюжетный рисунок — в
ней изображено, как Ленин учит Горького, говорится, что
интеллигенция принимает Октябрьскую социалистиче-
скую революцию, хотя и не без сопротивления.
Написаны обе части очерка по-разному: первая связ-
но — идет рассказ о Лондонском съезде и о пребывании
Ленина на Капри, всего на четырнадцати книжных стра-
ницах три главки, вторая же часть, занимающая восем-
надцать страниц, состоит из тринадцати эпизодов или
отрывков. О многом нулшо сказать, идет быстрая смена
тем.
Горький опирается не только на свою память, действи-
тельно огромную. В некоторых случаях он приводит доку-
менты. Например, вспоминая о том, как внимателен Ленин
был к людям, он включает в текст очерка его письмо,
содержащее энергичный совет Горькому ехать за границу
лечиться. Цитируется также отчет о прениях на VIII съез-
де партии, напечатанный в газете «Известия». Из него
явствует, что Ленин считал необходимым «взять аппарат
от буржуазии», «привлечь к работе всех специалистов».
Горький справедливо полагал, что эта мера совершенно
правильна: «контрреволюцию отсекать, культурно-бур-
жуазный аппарат использовать» (Ленин).
Писатель наконец признает безусловную правоту вож-
дя революции и становится способным критически взгля-
нуть на некоторых интеллигентов, доверия которым он
требовал у Ленина, не имея гарантий, что они это доверие
оправдают:
«В этих прекрасных словах великого политика гораздо
больше живого, реального смысла, чем во всех воплях ме-
щанского, бессильного и, в сущности, лицемерного «гума-
низма». К сожалению, многие из тех, кто должен был по-
нять и оценить этот призыв к честному труду вместе с ра-
бочим классом,— не поняли, не оценили призыва. Они
предпочли вредительство из-за угла, предательство.
После отмены крепостного права многие из «дворовых
людей», холопов по натуре, тоже оставались служить сво-
им господам в тех же конюшнях, где, бывало, господа
драли их».
Пожалуй, можно заметить, что очерк Горького имел
целью,— одной из целей, точнее,— снять с Ленина обви-
нения в жестокости. Па них щедра была буржуазная прес-
246
са, тема эта занимала видное место в обывательских раз-
говорах, которых не чуждалась интеллигенция внутри
страны.
Писатель выступает с резким опровержением клевет-
нических утверждений такого типа. Он защищает Ленина
от нападок, как трибун, применяя ораторские приемы:
«Должность честных вождей народа — нечеловечески
трудна. Но ведь и сопротивление революции, возглавля-
емой Лениным, было организовано шире и мощнее. К то-
му же надо принять во внимание, что с развитием «циви-
лизации» — ценность человеческой жизни явно понижает-
ся, о чем неоспоримо свидетельствует развитие в совре-
менной Европе техники истребления людей и вкуса к это-
му делу».
Несколько витиевато, прикрывая ироническими кавыч-
ками очевидность аргументов, недостаток которых лишь в
том, что их не хотят слушать сильные мира сего, Горький
еще раз взывает к человечеству:
«Но скажите голосом совести: насколько уместно и не
слишком ли отвратительно лицемерие тех «моралистов»,
которые говорят о кровожадности русской революции,
после того как они, в течение четырех лет позорной обще-
европейской бойни, не только не жалели миллионы истреб-
ляемых людей, но всячески разжигали «до полной победы»
эту мерзкую войну? Ныне «культурные нации» оказа-
лись разбиты, истощены, дичают, а победила общечелове-
ческая мещанская глупость: тугие петли ее и по сей день
душат людей».
Ленин сосредоточивает на себе ненависть мировой
буржуазии. «Отвратительная сама по себе, эта ненависть
говорит нам о том, как велик и страшен в глазах мировой
буржуазии Владимир Ленин — вдохновитель и вождь
пролетариев всех стран. Вот он не существует физически,
а голос его все громче, победоноснее звучит для трудящих-
ся земли...»
Рассказывая о встречах и беседах с Лениным, Горький
убеждает читателя в справедливости его, в революционной
целесообразности мер против классовых врагов, принимав-
шихся им как руководителем государства,— и приводит
примеры доброты Ленина, мягкости его характера, заботы
о товарищах, любви к детям. И, что стремится подчерк-
путь Горький, «хотя на словах его отношение к интелли-
генции оставалось недоверчивым, враждебным,—на деле
247
он всегда правильно оценивал значение интеллектуальной
энергии в процессе революции...».
Писатель подметил в Ленине «черту гордости Россией,
русскими, русским искусством» и был несколько удивлен
ею, однако сумел понять и объяснить свое наблюдение.
«Иногда,— пишет Горький,— эта черта казалась мне
странно чуждой Ленину и даже наивной, но потом я на-
учился слышать в ней отзвук глубоко скрытой, радостной
любви к рабочему народу».
Вероятно, когда Н. К. Крупская писала Горькому, что
каждая фраза его воспоминаний «вызывает ряд аналогич-
ных» и что Ильич в очерке «живой весь», она основывала
свой вывод на таких рассказанных писателем эпизодах, как
беседа о Толстом, в которой выверено как будто каждое
слово; и подобных страниц в очерке немало.
«Улыбаясь, прижмурив глаза, он с наслаждением вы-
тянулся в кресле и, понизив голос, быстро продолжал:
— Какая глыба, а? Какой матерый человечище! Вот
это, батенька, художник... И — знаете, что еще изумитель-
но? До этого графа подлинного мужика в литературе не
было.
Потом, глядя на меня прищуренными глазками, спро-
сил:
— Кого в Европе можно поставить рядом с ним?
Сам себе ответил:
— Некого.
И, потирая руки, засмеялся, довольный...»
Этот жест он повторил, по наблюдениям Горького, по-
сле разговора с одним из товарищей:
«— Вы давно знаете его? Он был бы во главе кабинета
министров любой европейской страны.
И, потирая руки, посмеиваясь, добавил:
— Европа беднее нас талантливыми людьми».
Создавая свой очерк о Ленине, Горький решал не-
обыкновенно трудную задачу — он писал о величайшем
герое, «вожде всемирного трудового народа», и сумел пе-
редать его черты руководителя партии, теоретика, учено-
го, заботливого друга. Он сумел написать и о человеке,
запечатлеть его облик, воспроизвести его речь.
Горький любил Ленина — ив этом одна из причин его
литературной победы. Он страстно хотел рассеять «тучу
лжи и клеветы» вокруг Ленина — и очень успешно содей-
ствовал этому.
248
Глубокая историческая правда содержится в заключи-
тельных словах очерка:
«...Нет сил, которые могли бы затемнить факел, подня-
тый Лениным в душной тьме обезумевшего мира.
И не было человека, который так, как этот, действи-
тельно заслужил в мире вечную память».
Первая редакция очерка заканчивалась так:
«Владимир Ленин умер. Наследники разума и воли его
живы.
В конце концов побеждает все-таки честное и правди-
вое, созданное человеком, побеждает то, без чего нет чело-
века» 1.
Эти строки Горький писал за границей, в 1924 году,
пятый год находясь вдалеке от родины и не очень отчет-
ливо представляя, что происходит на ее просторах. «Чест-
ное и правдивое» — это слишком общее определение тех
сил, что привели к победе русский рабочий класс и трудо-
вое крестьянство, но сказать точнее писатель не решился
или не пожелал. Так очерк и появился в печати.
Через четыре года после этого Горький приехал в Со-
ветский Союз. Впечатления его захватили. Вспоминая о
виденном, он сообщал в одном из писем:
«О том, что делается у нас в Союзе, я, конечно, знал
по газетам, по рассказам товарищей, приезжавших из
Союза. Но вот возвратился в Москву, увидел, что сделано
за шесть лет пролетариатом-диктатором в бывшей царской
России. Это, разумеется, глубоко взволновало меня, зажг-
ло в сердце неугасимую радость и гордость силою, талант-
ливостью людей родины» 2.
И, работая в 1930 году над второй редакцией очерка
о Ленине, писатель меняет концевые строки. Как сказано
в том же письме, он «посмотрел на гигантскую работу
пролетариата Союза Советов, мудро руководимого парти-
ей его», и не мог не отозваться о ней, ибо так требовала
тема, развернутая в его произведении.
«Наследники разума и воли его живы,— написал Горь-
кий.— Живы и работают так успешно, как никто, никогда,
нигде в мире не работал».
Теперь очерк был совершенно закончен.
1 М. Г о р ь к и й. Собрание сочинений, т. 20. Воспоминания. Рас-
сказы. Заметки. М.— Л., ГИХЛ, 1928, стр. 26.
2 М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 17,
стр. 483.
1
Статья В. Маяковского «Как делать стихи?» не поль-
зуется особым вниманием читателей и критиков,—вероят-
но, потому, что ее содержание кажется достаточно знако-
мым из общего представления об этом поэте,— да так на
самом деле это и есть,— а частности, детали у Маяковско-
го рассматривать как-то и не принято: ведь он так ясно
все говорит и о себе и о других сам.
Так, даже автор специальной трехтомной книги
«Маяковский», В. О. Перцов, один из наиболее серьезных
исследователей жизни и творчества поэта, обращается к
статье «Как делать стихи?» лишь мимоходом, в разделе,
посвященном Есенину. Он пишет:
«Статья «Как делать стихи?», имеющая значение не
только для понимания художественного метода Маяков-
ского, но и общее теоретическое значение, напротив, уси-
лила и дополнила «законный эффект, замышленный ху-
дожником» в его «Сергею Есенину». Поднимая вопросы
мастерства, Маяковский обрушивался на «романсово-кри-
тическую обывательщину», которая приспосабливала Есе-
нина к себе, к своим потребностям, не чувствуя, не умея
осмыслить ни его трагедии в борьбе за новое, пи связи его
поэзии с творчеством «народа-языкотворца».
250
Вопросы мастерства... Для Маяковского они подчинены
полностью революционной идейной задаче. Это, конечно,
не значит, что статья «Как делать стихи?» свободна от
групповых лефовских предрассудков и ошибок...» 1
Ограничившись, по существу, этими фразами,
В. О. Перцов далее отмечает, что «Есенин и Маяковский
поделили признание и любовь нового читателя». Затем он
рассказывает о книге Шенгели, не объясняя, по-моему,
истинных причин неприязни к ней Маяковского, о чем бу-
дет сказано ниже.
Отрывки из статьи «Как делать стихи?» печатались в
газетах «Ленинградская правда» (1926, май), «Заря Во-
стока» (1920, июнь, Тифлис), полный текст —в журнале
«Красная новь» (1926, июнь, № 6, и август — сентябрь,
№ 8—9), в томе 5-м сочинений Маяковского (вышел в ию-
не). Отдельное издание статьи увидело свет в августе
1927 года, его выпустило акционерное издательство «Ого-
нек».
Объем статьи не превышает 1,8 авторского листа. Раз-
ночтения между публикациями незначительны и оказы-
ваются корректурными уточнениями.
И все же к статье «Как делать стихи?» следует при-
глядеться.
Кто из читавших ее помнит, как начинается текст, что
значит первая фраза?
Вот она:
«Я должен писать на эту тему».
Почему понадобилось так утверждать и какие слова
тут стоят под ударением: «Я» — то есть Маяковский, «дол-
жен» — обязан, хоть, может быть, и не хочется, «пи-
сать» — не ограничиваться только устным выступлением,
а излагать письменно, «на эту тему», ни на какую дру-
гую? Что здесь наиболее важно?
Вряд ли обилие возможных толкований Маяковский
создал умышленно! Восклицание вырвалось у него, когда
он занес руку над чистым листом бумаги, и слова «я дол-
жен» означают чувство великой ответственности, которую,
как сознавал Маяковский, наложила на него миссия веду-
щего поэта эпохи, опытного литератора и, конечно, преж-
де всего гражданина Советской страны, ее деятеля и стро-
1 В. Перцов. Маяковский. Жизнь и творчество (1925—1930).
М., «Наука», 1972, стр. ИЗ.
251
ителя. Стало быть, перед нами не только рассуждения п'л
литературные темы, а нечто более важное — изложение
взглядов поэта, выработанных за годы революции, уроки
литературного мастерства, секреты которого полностью
раскрыты на пользу всем пишущим, критика буржуазной
эстетики.
Тезисы статьи выражали глубочайшие убеждения
Маяковского, он утверждал их на всем своем творческом
пути. Уже в предисловии к сборнику «Ржаное слово»
(1918) Маяковский негодовал по поводу того, что в бур-
жуазной литературе «все благополучно, все идеализиро-
вано» и что Фет сорок шесть раз употребил в стихах слово
«конь» и «не заметил, что вокруг него бегают и лошади».
Он восклицал:
«И вся эта поэтическая вода вливалась в застывшие
размеры стеклянных штампованных размеров».
Заявив о своем долге «писать на эту тему», Маяков-
ский разъясняет читателю в последующих строках, что
заставило его взяться за статью. Ему часто приходилось
нападать на старую поэтику. «Самую, ни в чем не повин-
ную, старую поэзию,—- спешит оговориться он,— трогали
мало. Ей попадало только, если ретивые защитники старья
прятались от нового искусства за памятниковые зады» 1.
Это разделение важно и едва ли не впервые так отчет-
ливо проведено Маяковским — не стихи, не их авторы, а
система стихосложения, приемы мастерства, эстетические
принципы старого искусства снова подвергаются разбору
и осуждению. И еще одно уточнение:
«Наоборот — снимая, громя и ворочая памятниками,
мы показываем читателю Великих с совершенно неизвест-
ной, неизученной стороны».
Местоимение здесь другое, множественное — «мы».
Маяковский как бы припоминает совместные действия
«лефов» и, очевидно, более ранние выступления, времен
своей «желтой кофты». Припоминает без увлечения, од-
нако отмечает и пользу их: старые поэты повертывались к
читателю неизученными сторонами. И дальше новый от-
тенок формулировки усилен: «С поэзией прошлого ругать-
ся не приходится — это нам учебный материал...»
1 Владимир Маяковский. Полное собрание сочинений,
т.. 12. М., ГИХЛ, 1959, стр. 81. В дальнейшем ссылки на это издание
помечаются в тексте, после цитат, двумя цифрами — тома и стра-
ницы.
252
Очень спокойно затем, в сотый раз, Маяковский изла-
гает свою оценку «романсово-критической обывательщи-
ны» и буржуазных представлений о «небесной», «вечной
поэзии», которую-де не берет никакая диалектика.
Чтобы вновь разоблачить «этих господ», Маяковский
предлагает в свойственной ему парадоксальной манере
«сравнить татьянинскую любовь» — то есть любовь Тать-
яны Лариной к Евгению Онегину,— «с проектом закона
о браке», прочесть про пушкинский «разочарованный лор-
нет» донецким шахтерам или бежать перед первомайски-
ми колоннами и голосить: «Мой дядя самых честных пра-
вил» (12, 82). После таких заведомо неудачных опытов
молодые люди потеряют желание «заниматься древнепо-
этическим ремеслом».
Пожалуй, сопоставления эти малоубедительны, хотя и
претендуют на остроту. Как можно сравнивать любовь
Татьяны с проектом советского закона о браке?
Зачем? Этот закон позволяет разводы? Советский брак
не требует верности до гроба? Не так, разумеется. Но тогда
в чем смысл сравнения? Донецкие шахтеры были вовсе не
далеки от правильного восприятия «разочарованного лор-
нета», о чем знал Маяковский, совершая свой чисто поле-
мический выпад. И если ямбы «Евгения Онегина» не го-
дились в качестве марша, то разве дело тут в стихотворном
размере? Четырехстопный амфибрахий «Песни о вещем
Олеге» ведь не помешал же стать этому стихотворению
Пушкина строевой песней, которую Маяковский мог слы-
хивать не раз.
Однако если аргументация автора и не очень точна, то
в целом смысл его высказываний ясен: о новом нельзя по-
старому.
Битвы революций
посерьезнее «Полтавы»,
и любовь
пограндиознее
онегинской любви,—
(6, 54)
в этом поэт убежден. Писать о революции и о людях, де-
лающих ее, по-старому нельзя.
Но если по-новому, то как? Где и у кого учиться пи-
сать без ямбов и хореев, как того требует, по убеждению
Маяковского, революционная эпоха?
253
Нужных книг и пособий еще нет. Ждать ли их от кого-
нибудь? Читатели, поэты заявляют:
«— Вы только разрушаете и ничего не издаете! Ста-
рые учебники плохи, а где новые? Дайте нам правила ва-
шей поэтики! Дайте учебники!» (12, 82).
Отвечать на эти призывы можно только делом.
И Маяковский принимает новый труд на себя,— в кон-
це концов, он «больше вашего рифмы строгал»... Это его
право, но и обязанность: «Я должен»,— утверждает он в
первой строке статьи.
Задание уточняется сразу:
«Я хочу написать о своем деле не как начетчик, а как
практик («начетчик» — очевидно, «теоретик», человек,ко-
торый сам не пишет стихов, а учит писать других, может
быть, и Шенгели, хотя он тоже был «практиком» — по-
этом.— А. 3.). Никакого научного значения моя статья не
имеет. (Вероятно, Маяковский так думал, меря свою рабо-
ту на аршин дореволюционных научных и наукообразных
книг по истории и теории литературы. На самом деле исто-
рико-литературное и теоретическое значение его статьи
бесспорно.— А. 3.). Я пишу о своей работе, которая, по
моим наблюдениям и по убеждению, в основном мало чем
отличается от работы других профессионалов-поэтов».
И строго предупреждает:
«Еще раз очень решительно оговариваюсь: я не даю
никаких правил для того, чтобы человек стал поэтом, что-
бы он писал стихи» (12, 82).
Литературные правила предлагали руководства по сти-
хосложению, к числу которых принадлежала, например,
отчасти книжка Г. А. Шенгели «Как писать статьи, стихи
и рассказы», и от пособий этого рода Маяковский торопит-
ся отмежеваться, отрицая их в принципе:
«Таких правил вообще нет. Поэтом называется чело-
век, который именно и создает эти самые поэтические пра-
вила» (12, 82).
Какие правила создал для себя Маяковский, он и бу-
дет говорить на следующих страницах статьи, предостав-
ляя свой опыт в распоряжение всех пишущих, но совсем
не ожидая подражаний: каждый должен идти своим путем
и вырабатывать свою манеру письма. Повторять за други-
ми не следует, надо открывать новое.
Тезис связан с текущей литературной жизнью и объяс-
няет недостатки печатной поэтической продукции: «80%
254
рифмованного вздора печатается нашими редакциями
только потому, что редактора или не имеют никакого пред-
ставления о предыдущей поэзии, или не знают, для чего
поэзия нужна» (12, 83).
Маяковский учит редакторов, как отказывать поэтам,
приносящим стихи, написанные по старым образцам, по
правилам, усвоенным из руководств Бродовского, Шенге-
ли, Греча и др.: нужно предупреждать таких, что их труд
будет оплачен как труд переписчика, не выше.
Далее Маяковский подробно рассказывает о тех требо-
ваниях, которые он предъявляет к поэзии. Главнейшее из
них — это новизна.
Невежественные редакторы, вероятно, перепевы бур-
жуазно-дворянской поэзии принимают за оригинальные
творения, поэтому печатают их. Или, быть может, они не
понимают, что поэзии новизна необходима? Новизна —
это не только форма и не только отображение новых фак-
тов действительности. Новизна для Маяковского катего-
рия историческая. Новое должно отражать прогрессивные
тенденции, борьбу трудового класса — пролетариата.
«Положения, требующие формулирования, требующие
правил,— выдвигает жизнь. Способы формулировки, цель
правил определяются классом, требованием нашей борь-
бы» (12,84).
Сказано ясно. Правила нужны не для стихов. Перед
поэтами требования возбуждает жизнь, и их цели опреде-
ляются классом, его борьбой за социализм.
Задача, поставленная В. И. Лениным в 1905 году перед
социалистическим пролетариатом,— «...выдвинуть прин-
цип партийной литературы, развить этот принцип и про-
вести его в жизнь в возможно более полной и цельной фор-
ме» *,— памятна была Маяковскому. Воспитанный на те-
оретических положениях ленинской статьи «Партийная
организация и партийная литература», Маяковский отчет-
ливо осознавал классовую принадлежность своей поэзии,
поистине ставшей «частью общепролетарского дела, «коле-
сиком и винтиком» одного-единого, великого социал-де-
мократического механизма, приводимого в движение всем
сознательным авангардом всего рабочего класса»2. В своей
статье Маяковский убедительным образом демонстрировал
1 В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 12, стр. 100.
2 Там же, стр. 101.
255
нежизнеспособность, вымороченность «литераторов-сверх-
человеков». Содержание их поэзии, их лексика ничего об-
щего не имели с жизнью и борьбой трудового народа,
«...расслабленный интеллигентский язычишко с его выхо-
лощенными словами: «идеал», «принципы справедливо-
сти», «божественное начало», «трансцендентальный лик
Христа и Антихриста»,— все эти речи, шопотком произ-
носимые в ресторанах,— смяты»,— писал Маяковский
(12, 84). «Народ-языкотворец» повсеместно и победоносно
заявлял о себе, о своем праве создавать великую литерату-
ру, и Маяковский принял это требование жизни.
В следующем абзаце он ставит задачу: как сделать по-
этическим «корявый говор миллионов», который «револю-
ция выбросила на улицу», как ввести в поэзию разговор-
ный язык? Сохранять ямбы и «плюнуть на революцию»?
«Нет! Безнадежно складывать в 4-стопный амфибра-
хий, придуманный для шопотка, распирающий грохот ре-
волюции!» (12, 84).
Следует пример такого амфибрахия — строфа стихо-
творения В. Кириллова «Матросам» (1918)—и резкое:
«нет!»
Как же быть, что нужно делать?
«Сразу дать все права гражданства новому языку: вы-
крику — вместо напева, грохоту барабана — вместо колы-
бельной песни:
Революцьонный держите шаг!
(Блок)
Разворачивайтесь в марше!
(Маяковский)» (12,85)
Но какому «новому языку» нужно дать права граж-
данства, к сожалению, дальше не сказано. Автор, вместо
того чтобы характеризовать его лексический состав, гово-
рит о необходимости изменять тональность речи: выкрик
вместо напева.
Зато подчеркнуты боевые качества нового стиха — дей-
ствие словом на толпы революции должно приносить
«максимальную помощь своему классу». Надо безошибоч-
но указывать фигуры врагов и «разворачиваться в марше»
по правилам «уличного боя» (12, 85). И как пример нового
стиха — двустишие:
«Отсюда:
256
Ешь ананасы,
Рябчиков жуй,
День твой последний приходит, буржуй...
(Маяковский)»
И довольное замечание:
«Едва ли такой стих узаконила бы классическая по-
эзия».
А почему бы нет? Мнение Н. И. Греча о народном сти-
хосложении, высказанное им в 1820 году, которое он мог
бы, по словам Маяковского, повторить и «в отношении
частушек»: «Сии стихи не знают ни стоп, ни созвучий»,—
приведенных строк не коснулось бы. Первая и вторая стро-
ки — двухстопный дактиль, третья — четырехстопный, и
созвучия-рифмы — налицо.
Главное требование, которое выдвигает Маяковский
перед поэзией,— новизна. В поэтическом произведении
она обязательна. Однако это вовсе не означает, что в стихе
решительно все его элементы будут только новыми,— ста-
рому тоже найдется место, но после его переработки.
«Если для делания стиха пошел старый словесный лом,—
объясняет Маяковский,— он должен быть в строгом соот-
ветствии с количеством нового материала». И, подобно
Ломоносову, в статье «О пользе книг церковных в рос-
сийском языке» установившему виды и нормы сочетаний
в литературной речи слов славянского и русского языков,
заключает: «От количества и качества этого нового будет
зависеть, годен ли будет такой сплав в употребление»
(12,86).
Спокойно и серьезно беседуя с читателями, Маяков-
ский не пугает их новизною и говорит о необходимости
ввода в современную поэзию достижений и открытий ста-
рой литературы:
«Новизна, конечно, не предполагает постоянного изре-
чения небывалых истин. Ямб, свободный стих, аллитера-
ция, ассонанс создаются не каждый день. Можно работать
и над их продолжением, внедрением, распространением».
Что и говорить — очень милостиво.
Но амнистия коснулась только словарного фонда и тех-
ники стихотворства. Содержание стихов должно сделаться
новым. «...Описанию, отображению действительности в
поэзии нет самостоятельного места».
И формула:
«Поэзия начинается там, где есть тенденция» (12, 86).
257
То есть — цель для стихотворения, задала ему, «социаль-
ный заказ» автору. И шутливо перетолкован пример из
«старой» поэзии — стихотворение «Выхожу один я на до-
рогу» — как «агитация за то, чтобы девушки гуляли с по-
этами».
А рядом искреннее пожелание:
«Эх, дать бы такой силы стих, зовущий объединяться
в кооперативы!»
Читатель ощущает уверенность автора в могуществе
поэтического слова. Сознание этой силы обусловило стра-
стность борьбы Маяковского за боевую поэзию страны со-
циализма.
В следующих строках подкрепляется заглавие статьи
и ее назначение:
«Старые руководства к писанию стихов таковыми бе-
зусловно не являлись» (12, 86).
На смену им автор, следовательно, пишет новое настав-
ление? Да, но по-иному. Раньше издавали только «описа-
ние исторических, вошедших в обычай способов писания»,
заставляли учить про то, как писали старые поэты.
Но прежде, чем начать свой урок, Маяковский добро-
совестно предупреждает, что ямбов и хореев он не знает и
с ними в поэтической своей работе дела не имел. Читатель
же, давно сумевший понять, как серьезно и о каких важ-
ных для поэта вещах говорит Маяковский, прощает ему
этот лишний выпад против старого стихосложения, торо-
пясь услышать деловые указания. И он тотчас их получа-
ет. Маяковский точен, правдив и не становится в академи-
ческую позу, делая вид, что открывает непосвященным
научные тайны.
«В поэтической работе есть только несколько общих
правил для начала поэтической работы. И то эти прави-
ла — чистая условность» (12, 87).
Слова «поэтическая работа» повторены дважды, навер-
ное, не по недосмотру, а чтобы соблюсти точность утвер-
ждения — правила помогают начать, дальше поэт совер-
шает «езду в незнаемое» и должен рассчитывать на свой
разум и силы.
Так оно на самом деле и есть. Зато все, что необходимо
при начале работы, Маяковский назвал, и перечень соста-
вил пять пунктов.
В отличие от авторов руководств для начинающих по-
258
этов и составителей учебников стихосложения, Маяков-
ский начинает не с частных определений элементов стиха,
но с его содержания:
«Первое. Наличие задачи в обществе, разрешение ко-
торой мыслимо только поэтическим произведением. Со-
циальный заказ».
Значит, незачем писать «просто так». Стихи нужны,
чтобы решать общественную задачу, которую нельзя ре-
шить иными,— очевидно, не только литературными,—
средствами. Для подтверждения этого тезиса Маяковский
во второй главе статьи привел великолепный и совершенно
убедительный пример — «Сергею Есенину». Стихи — ору-
жие, эту мысль Маяковский проводит всегда и везде. Не
описывает он, а учит работать.
«Второе. Точное знание или, вернее, ощущение же-
лания класса ...в этом вопросе, т. е. целевая установка».
Поэт должен жить жизнью своего класса, в бесклас-
совом обществе — его интересами. Они дадут целевую
установку работе поэта.
На третьем, четвертом местах Маяковский ставит «ма-
териал» — слова, которыми владеет и обязан владеть но-
ватор-поэт, «орудия производства» — перо, пишущую
машинку и т. д., и только пятое отведено «приемам обра-
ботки слов» — тому, с чего начинали и чем кончали старые
руководства,— рифме, размерам, аллитерациям, пафосу,
концовке, заглавию и т. д.
И снова пример, модель, отвечающая всем пяти пози-
циям, намеченным Маяковским. Он исполнил социальное
задание — дать слова идущим на фронт красноармейцам,
чтобы разбить Юденича, и вот результат:
Милкой мне в подарок бурка
И носки подарены.
Мчит Юденич с Петербурга,
Как наскипидаренный.
Эту свою частушку Маяковский любил и ссылался на
нее в более ранних выступлениях. Так, в статье «Можно
ли стать сатириком?» (1923), приводя текст, он спраши-
вал читателя: «Почему запоминается такое четверости-
шие?» — и отвечал: «Потому что шаблонная тема о Юдени-
че заострена этой легкой, по продуманной и необычной
рифмой «наскипидаренный». При шаблонности темы —
обработка вызывает все-таки смех» (12, 31).
То же повторяет он и в статье «Как делать стихи?».
259
И не только модель — Маяковский создал «схему сме-
ха» и показал ее в предисловии к одному из своих сборни-
ков. Смысл ее в «сознательной игре смеховыми приема-
ми». Пожелав рассмешить читателя, Маяковский написал:
Выл ветер и не знал, о ком,
Вселяя в сердце дрожь нам.
Путем шла баба с молоком,
Шла железнодорожным.
И т. д.
Идеи в этом стихе нет, поясняет автор, «но есть пра-
вильная сатирическая обработка слова...
Смех вызывается: выделкой хлыстов-рифм, приставу-
чим распевочным ритмом, эксцентричностью выводов, аб-
сурдным гиперболизмом» (12, 52).
Таковы общие начальные правила поэтической работы,
предложенные Маяковским.
Он разъясняет читателю:
«Смысл настоящей статьи отнюдь не в рассуждении о
готовых образцах или приемах, а в попытке раскрытия са-
мого процесса поэтического производства» (12, 89).
Новизну, которую он считает необходимым качеством
поэтической вещи, Маяковский вносит и в свою прозу,
принимаясь ее «делать»:
Я
по существу
мастеровой, братцы...
И отвечает читателям на вопрос: «Как же делается
стих?»
Начиная рассказывать об этом, Маяковский вводит вы-
работанное им понятие заготовок — «предварительных
поэтических заготовок», образующихся постоянно в ходе
непрерывной умственной работы поэта.
Он распахивает перед читателем дверь в свою литера-
турную кладовую. И мы смотрим: вот рифмы, придуман-
ные, но еще не нашедшие своих строк, вот стихотворный
размер, звучные аллитерации, отдельно перечислены те-
мы, заслуживающие разработки (12, 90). Заготовок много,
они «сложены в голове, особенно трудные — записаны».
Все найдут себе применепие, мастер зря запасов пе делает,
и то, что собрано, потребовало огромного расхода сил.
«На эти заготовки,— признается Маяковский,—у ме-
ня уходит все мое время. Я трачу на них от 10 до 18 часов
260
в сутки и почти всегда что-нибудь бормочу. Сосредоточе-
нием на этом объясняется пресловутая поэтическая рассе-
янность» (12, 90).
Работа, работа и работа! Создание стихов — ежеднев-
ный труд, без выходных и праздников. Непрерывная ра-
бочая неделя, рабочий месяц, год — «непрерывка», дело-
вито поименованная так у нас несколько позже, в самом
конце двадцатых годов.
Работа над заготовками проходит с таким напряжени-
ем, что Маяковский помнит, где и при каких обстоятель-
ствах пришли ему в голову типичные образы, аллитера-
ции, рифмы.
«Улица.
Лица у... (Трамвай от Сухаревой башни до Срет.
ворот, 13 г.)
Угрюмый дождь скосил глаза,-—
А за... (Страстной монастырь, 12 год)». (12, 91)
Очевидно, из ранних своих строк Маяковский считал
эти одними из лучших, потому что в статье «Как делать
стихи?» приводит их вторично, на этот раз как пример
оригинальных способов рифмовки (12, 105).
Естественно, запоминаются наиболее яркие, точные
образы, свежие рифмы, включение которых в стихи делает
их значительными, определяющими тот или иной период
«производства», или, проще сказать, творчества поэта.
«Гладьте сухих и черных кошек (Дуб в Кунцеве,
14 год) Леевой.
Левой (Извозчик на Набережной, 17 г.).
Сукин сын Дантес (В поезде около Мытищ, 24 г.).
И т. д., и т. д.» (12,91).
Фраза «не мужчина, а облако в штанах» была произне-
сена Маяковским в беседе с железнодорожной спутницей
«году в тринадцатом, возвращаясь из Саратова в Москву».
Над словами «о нежности одинокого человека к единствен-
ной любимой» Маяковский думал два дня и нашел их
только на третий (12, 92).
Примеры такого рода Маяковский берет из лучших
своих произведений, созданных за пятнадцать лет работы,
а читатель конспективно пробегает их краткую историю —
ранние стихи, трагедия «Владимир Маяковский», поэма
«Облако в штанах», поэма «Война и мир» («В гниющем
вагоне на 40 человек 4 ноги» (12, 110), «Левый марш»,
«Юбилейное». В этом списке нет поэмы «Ленин». Разу-
261
меется, не может быть, чтобы в это произведение не вхо-
дили «заготовки»,— они составляют «одно из главных
условий для делания настоящей вещи» (12, 91) —но, ве-
роятно, из уважения к теме автор не пожелал распоря-
жаться строфами этой поэмы как учебным материалом и
открывать, как возникали у него отдельные образы.
«С легкой руки Шенгели,—пишет Маяковский в кон-
це первой главы статьи,— у нас стали относиться к поэти-
ческой работе как к легкому пустяку...
Я думаю, что даже мои небольшие примеры ставят
поэзию в ряд труднейших дел, каковым опа и является в
действительности» (12,92—93).
В первой главе Маяковский, как и намеревался, очер-
тил «предварительные условия делания стиха». Во вто-
рой он решил показать развитие этих условий на конкрет-
ном примере одного из своих стихотворений.
Открыть взорам читателей лабораторию собственного
творчества для автора дело нелегкое. Об этом свидетель-
ствуют предпринимавшиеся кое-кем попытки такого рода.
Статья Маяковского «Как делать стихи?» выше на голову
таких работ прежде всего потому, что он поэт, владеющий
передовым мировоззрением, осознающий свои классовые
пристрастия, о чем заявляет открыто.
Партийная позиция, занятая Маяковским, позволяла
ему правильно понимать ход творческого процесса. Извест-
но, что многие буржуазные писатели свою партийность
предпочитают отрицать, не понимая, что «жить в обществе
и быть свободным от общества нельзя» 1. Поэтому их объ-
яснения своего творчества не могут быть объективно пол-
ноценными. Тем легче они пускаются в описания разме-
ров, созвучий, рифм и прочего. А Маяковский в своем
списке данных для начала поэтической работы (12, 87)
отводит этим элементам последнее место, выдвинув на
первое «социальный заказ» и «целевую установку».
Маяковский требует от поэта новизны, классовой уста-
новки, тенденции на благо советскому обществу. Заметим,
что «новизна» здесь вовсе не означает отрицания всего,
что было сделано ранее, предшественниками современных
поэтов, то есть отказа от старой культуры,— Маяковский
не повторяет ошибок пролеткультовцев, которые разъяс-
нил В. И. Лоппп. «Изречения небывалых истин» вовсе не
1 В. И. Л е н и н. Полпое собрание сочинений, т. 12, стр.. 104.
262
нужно. Ямбы и хореи не главное в поэзии. Главное — о
чем и для кого писать, то есть идея, классовая установка,
тенденция. Эти образующие диктуют отбор поэтических
средств и определяют состав читательской аудитории про-
изведений.
Можно, вероятно, полагать, что если перевести поле-
мически заостренные тезисы поэта на язык большевист-
ской публицистики, перед нами выступит текст статьи
В. И. Ленина «Партийная организация и партийная лите-
ратура»:
«Это будет свободная литература, потому что не ко-
рысть и не карьера, а идея социализма и сочувствие тру-
дящимся будут вербовать новые и новые силы в ее ряды.
Это будет свободная литература, потому что она будет
служить не пресыщенной героине, не скучающим и стра-
дающим от ожирения «верхним десяти тысячам», а мил-
лионам и десяткам миллионов трудящихся, которые со-
ставляют цвет страны, ее силу, ее будущность. Это будет
свободная литература, оплодотворяющая последнее слово
революционной мысли человечества опытом и живой ра-
ботой социалистического пролетариата, создающая по-
стоянное взаимодействие между опытом прошлого (науч-
ный социализм, завершивший развитие социализма от его
примитивных, утопических форм) и опытом настоящего
(настоящая борьба товарищей рабочих)» \
В заключительном абзаце статьи В. И. Ленин призвал:
«За работу же, товарищи! Перед нами трудная и новая,
но великая и благодарная задача — организовать обшир-
ное, разностороннее, разнообразное литературное дело в
тесной и неразрывной связи с социал-демократическим ра-
бочим движением» 2.
Но разве не к этой цели стремился и Маяковский, раз-
ве не об этом писал он в статье «Как делать стихи?», вос-
приняв, очевидно, еще в годы своей подпольной революци-
онной работы ленинские принципы партийной литерату-
ры? А последующее знакомство с трудами вождя пролета-
риата — Маяковский был автором поэмы «Ленин» и к ее
написанию готовился серьезно — помогло выработке
взглядов на задачи современной литературы и на способы
их выполнения.
1 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 12, стр. 104.
2 Там же.
263
2
Какое же стихотворение взять для разбора? Длинное,
короткое ли, прошлогоднее или самое новое, лучшее или
не очень, но зато чем-то особенно характерное для автор-
ской манеры?
Маяковский выбирает по другому признаку: «наиболее
действенное» и притом «из последних», то есть написанное
недавно.
Таким он считает стихотворение «Сергею Есенину»,
впервые опубликованное в тифлисской газете «Заря Во-
стока» в 1926 году, 16 апреля, но стало оно известным, по
словам Маяковского, еще до появления в печати (12, 93).
Прежде чем начать разбор, Маяковский рассказывает
о своих встречах с Есениным. Мемуарист он лаконичный,
правдивый и остроумный. Читатель видит Есенина до его
известности, в костюме «декоративного мужика», читает
хорошие строки из его стихов, узнает, что Есенин при-
страстился к вину, что друзья за ним не смотрели и он
покончил с собой.
Газеты принесли предсмертные строки:
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.
«После этих строк смерть Есенина стала литературным
фактом.
Сразу стало ясно, скольких колеблющихся этот силь-
ный стих, именно — стих, подведет под петлю и револьвер.
И никакими, никакими газетными анализами и стать-
ями этот стих не аннулируешь.
С этим стихом можно и надо бороться стихом и только
стихом» (12, 96).
Поэты прошлого века, поэты революционной демокра-
тии, открыто поднимали поэзию на щит, делали ее оружи-
ем борьбы с идейными врагами. Сторонники «чистого
искусства», не признававшие за ним общественного на-
значения, тем не менее участвовали в идейной борьбе
эпохи, беря на вооружение именно поэзию. Пушкинские
строки:
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв,—
стали их поэтическим лозунгом, и притом настолько силь-
ным, что он потребовал от поэтов лагеря революционной
демократии крепкого отпора в виде превосходящей его по
силе для данного времени поэтической формулы. Задача
становилась тем сложнее, что революционеры-демократы
уважали в Пушкине гражданина, и, оказывается, теперь
нужно парализовать действие его стихов, защищая в то же
время от тех, кто старался изобразить его своим союзни-
ком,— как позже поступили с Есениным его литературные
собутыльники. И отвечать необходимо было стихами,—
только поэтические строки могли соперничать с лозунгом
во славу «чистого искусства».
Задача возникла, и за ее решение взялся великий по-
эт — Некрасов, написавший стихотворение «Поэт и граж-
данин». Его формула:
Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан,—
отвечала «наличию задачи в обществе», как выражается
Маяковский, и разбивала притязания сторонников «чисто-
го искусства», выявляя при этом подлинное значение
Пушкина.
Советские поэты в 1926 году также получили «соци-
альный заказ» написать стихи об Есенине. Заказ исключи-
тельный, важный и срочный, «так как есенинские строки
начали действовать быстро и без промаха» (12, 96).
Что же и как написать?
Стихи есенинских друзей мелки. Их целевая установ-
ка «совершенно не связана с приемом, и берется совершен-
но не действующий в этом трагическом случае фельетон-
ный стилёк» (12,97).
Маяковский всесторонне рассмотрел возникшую перед
ним задачу, которую затем сформулировал так:
«Целевая установка: обдуманно парализовать действие
последних есенинских стихов, сделать есенинский конец
неинтересным, выставить вместо легкой красивости смер-
ти другую красоту, так как все силы нужны рабочему че-
ловечеству для начатой революции, и оно, несмотря на
тяжесть пути, на тяжелые контрасты нэпа, требует, чтобы
мы славили радость жизни, веселье труднейшего марша в
коммунизм» (12,97).
Все это и выполнил Маяковский стихотворением «Сер-
гею Есенину».
9 А. Западов
265
Содержание второй главы Статьи Маяковского «Kart
делать стихи?», во-первых, совершенно ясно любому чи-
тателю, а во-вторых, подробно прокомментировано в ли-
тературе К Поэтому коснемся лишь некоторых сторон
этой работы, стараясь углубить понимание взглядов
поэта.
При знакомстве со статьей Маяковского, во второй ча-
сти которой описывался ход создания стихотворения «Сер-
гею Есенину», сведущим людям всегда вспоминалась ста-
тья Эдгара По «Философия творчества», известная у нас
в переводе К. Д. Бальмонта2. О ней вспомнил, например,
В. О. Перцов, слушавший первое чтение статьи Маяков-
ским среди сотрудников журнала «Новый Леф», в начале
августа 1926 года. Он рассказывает так:
«Когда пришла очередь говорить мне, я сравнил статью
Маяковского со статьей Эдгара По о том, как он писал
своего «Ворона», и сказал что-то о психологии творчест-
ва. Последнее вызвало явное недовольство со стороны
Маяковского, повторившего свой тезис, что поэзия — это
производство» 3.
В примечании к этим строкам В. О. Перцов сообщает,
что на вторую часть статьи Маяковского, напечатанную
в 8—9 книжке журнала «Новый мир» за тот же год, га-
зета «Вечерняя Москва» 25 августа откликнулась замет-
кой «Лаборатория поэта», подписанной «Арди». В ней
признавалась ценность статьи, которая показывала, «как
трудно искусство, как сложны пути творчества, какую гро-
мадную, нервную, хотя внешне и незаметную, работу дол-
жен выполнить поэт ...Литература знает уже аналогичные
случаи: Эдгар По рассказал однажды, как он писал свою
поэму «Ворон» ...некоторые исследователи утверждали и
утверждают, что Эдгар По просто мистифицировал чита-
теля, что так поэт не работает и т. д.» \
Если говорить о том, что стихи надобно «делать», что
1 См., например, статью В. О. Перцова «Маяковский и Есенин»
в сборнике «Маяковский и советская литература». М., «Наука», 1964,
стр. 49—77.
2 Эдгар По. Философия творчества. Собрание сочинений в
переводе с англ. К. Д. Бальмонта, т. второй, М., книж. изд-во
«Скорпион», 1906.
3 В. Перцов. Маяковский. Жизнь и творчество (1925—1930).
М., «Наука», 1972, стр. 91.
4 Там же, стр. 368—369.
266
писание стихов «производство», то напоминание о статье
Эдгара По должно было бы подкреплять эти утверждения.
Американский писатель познакомил читателя с тайнами
своей манеры письма,— чего, по его словам, всегда избега-
ют делать поэты, представляющие творческий акт в виде
приступа «утонченного безумия», интуиции, вдохновения.
Эдгар По заявляет, что он пишет не так. И его стихотво-
рение «Ворон» создавалось «шаг за шагом, достигая
своей законченности с точностью и строгой последователь-
ностью математической проблемы» \
Задумав написать стихотворение, говорит Эдгар По, он
стал выбирать для него тему и событие, рассуждая так:
самое возвышенное, напряженное и чистое наслаждение
можно находить в созерцании прекрасного. «Красота ка-
кого бы то ни было рода, в высшем ее развитии, неизмен-
но возбуждает впечатлительную душу до слез. Печаль яв-
ляется, таким образом, наиболее законным из всех поэти-
ческих настроений».
Размышляя о метких приемах, употребляемых поэта-
ми, Эдгар По открывает для себя важную роль припева и
решает варьировать его, чтобы избежать монотонности
мысли. «Легкость вариации находилась бы, конечно, в
прямом отношении к краткости мысли. Это сразу привело
меня к одному слову, как наилучшему припеву». Им
должна была кончаться каждая строфа, и для него подхо-
дило бы слово, содержащее долгое «о» — звучную глас-
ную — и выразительную согласную «р». Такое слово лег-
ко нашлось: «Never more», что значит «больше никогда»,
или, как сократил его, чтобы не менять размера подлин-
ника, Бальмонт,—просто «никогда». Для произнесения
его был придуман Ворон, а для меланхоличности поэмы
автор взял наиболее печальную тему — смерть. Когда она
более всего поэтична? Когда сочетается с Красотой. И вот
задача решена:
«Итак, смерть красивой женщины, несомненно, есть
самый поэтический замысел, какой только существует в
мире, и равным образом несомненно, что уста, наиболее
пригодные для такого сюжета, суть уста любящего, кото-
рый лишился своего счастья».
Только выяснив для себя содержание стихотворения о
1 Эдгар По. Цит. соч., стр. 170.
9* 267
Вороне и смерти любимой, Эдгар По взялся за перо и на-
писал строфу, содержавшую главную мысль, волновавшую
лирического героя,— встретится ли он с умершей в другой
жизни? В ответ ему «каркнул Ворон: «Никогда». Лишь
после формулировки этого центрального эпизода автор
приступил к работе над остальными строфами. Лучшим
объемом для стихотворения, как вычислил Эдгар По, бы-
ла сотня строк, и он почти выдержал его, написав
сто восемь.
Знал Маяковский статью Эдгара По «Философия твор-
чества» или нет — неизвестно. Мог бы знать, потому что
внимательно следил за стихами К. Д. Бальмонта и за его
литературной деятельностью в целом. Но в таком случае
нежелание более подробно ответить на замечание
В. О. Перцова о сходстве статей, посвященных двум сти-
хотворениям, означает несогласие с изображением Эдгара
По. Американский поэт решал чисто литературную зада-
чу—в пределах сотни строк изложить лирический сюжет,
способный волновать читателя и нравиться ему,— не бо-
лее того. Маяковский же брался за стихи, чтобы испол-
нять, как он любил говорить, «социальный заказ», созда-
вать боевые произведения, нужные советскому обществу.
Но, судя по сухому ответу Маяковского В. О. Перцову,
произнесшему, вероятно, название статьи Эдгара По, он
запамятовал ее текст и возразил против термина «творче-
ство» по своей неприязни к возвышенным и не очень опре-
деленным понятиям, сказав, что «поэзия — это производ-
ство». Потому что Эдгар По написал именно о том, как
можно «сделать» стихи, как организовать их «производст-
во», и технике работы у него, во всяком случае, учиться
легко.
Статей, в которых поэты освещали бы свой опыт рабо-
ты над отдельными произведениями, известно очень не
много. Историю подготовки одного из своих шедевров про-
яснил А. Твардовский в книжке «Как был написан «Васи-
лий Теркин» (ответ читателям)». (М., «Советский писа-
тель», 1952). Но это совсем не похоже по замыслу и плану
на статью «Как делать стихи?». Автор ответил только на
многочисленные и долголетние (с 1942 года!) вопросы чи-
тателей, которые он свел к трем основным:
1. Вымышленное или действительно существовавшее в
жизни лицо Василий Теркин?
2. Как была написана эта книга?
268
3. Почему нет продолжения книги о Теркине в после-
военное время?
А. Твардовский говорит, что фигура Теркина возникла
на страницах военных газет в финскую кампанию, ее при-
думала группа писателей, открывая серию картинок со
стихотворными подписями. После кампании Твардовский
задумал написать своего «Теркина» — новое оригинальное
произведение, в котором совместились бы «доступность,
непритязательность формы, прямая предназначенность
фельетонного «Теркина» — с серьезностью и, может быть,
даже лиризмом содержания». Он работал, искал нужный
размер, необходимые слова, обдумывал, пробовал, набра-
сывал строфы,— но «двадцать второе июня 1941 года пре-
рвало все эти мои поиски, сомнения, предположения». Ра-
ботая во фронтовой газете, Твардовский решил «оживить»
своего прежнего героя, которому обстановка Великой
Отечественной войны сообщила «совсем иное, чем в перво-
начальном замысле, решение».
Поэт объясняет читателю, как созревал замысел поэмы,
устанавливалась композиция, утверждался стиль, отыска-
лось жанровое обозначение— «Книга про бойца»,— и для
примера описывает, как складывалось начало главы
«Смерть и воин». Других образцов работы над текстом
поэмы в книжке не приводится, и в этом смысле Маяков-
ский был гораздо более щедрым.
Вспоминая, как выбирался размер поэмы — четырех-
стопный хорей,— Твардовский пишет, что «размер рожда-
ется не из некоего «бессловесного гула», о котором говорит,
например, В. Маяковский, а из слов, из их осмысленных,
присущих живой речи сочетаний». Так, представив себе
эпизод переправы в бою подразделеция, стоившей многих
жертв, поэт «как бы произнес про себя этот вздох-возглас:
Переправа, переправа...»
и понял, что размер найден. «Я и думать забыл — хорей
это или не хорей, потому что ни в каких хореях на света
этой строки не было, а теперь она была и сама определяла
строй и лад дальнейшей речи».
Вероятно, не одному Твардовскому казалось неясным
понятие «гула-ритма», приходящего к поэту неизвестно
откуда, о котором пишет Маяковский. С чего-нибудь да
возник он в голове поэта? Маяковский говорит, что «для
его пробуждения должен быть толчок»,—но какой? Зву-
269
ковой — «шум повторяющегося моря», стук часто откры-
ваемой двери,— или словесный, когда в сознании возникав
ет слово или фраза, служащие затем основой стихотворе-
ния, как «Переправа, переправа» Твардовского? В сущно-
сти, если внимательно читать, то увидишь, как об этом
пишет сам Маяковский,— и для него стихотворение начи-
нается не со звука, а со смысла:
«Первым чаще всего выявляется главное слово — глав-
ное слово, характеризующее смысл стиха, или слово, под-
лежащее рифмовке. Остальные слова приходят и вставля-
ются в зависимости от главного» (12, 100—101).
Однако Маяковский настаивает, что для него началь-
ным этапом создания стиха служит выявление ритма.
«Объяснить его нельзя»,— прибавляет он, и нам остается
только признать это обстоятельство. И все же досадно, что
Маяковский одну из самых важных позиций своей поэти-
ки не разъяснил вполне отчетливо и как будто бы не за-
метил противоречий в тексте. Так, он говорит, что поэт
должен развивать в себе чувство ритма, а «не заучивать
чужие размерчики», каковы ямб, хорей и даже канонизи-
рованный свободный стих.
«Из размеров я не знаю ни одного»,— заявляет Мая-
ковский (12, 102). Он убежден лишь в том, что для герои-
ческих или величественных передач нужно брать длинные
размеры, а для веселых короткие. С детства (лет с деся-
ти), по его словам, ритмическим образцом первой группы
ему служит строка:
Вы жертвою пали в борьбе роковой...—
а второй:
Отречемся от старого мира...
Заметим, что оба эталона мальчик взял из революцион-
ных песен, а не из стихов, которые читал сам или слушал
дома. Но укажем и на другое: первый образчик представ-
ляет собой строку четырехстопного амфибрахия — разме-
ра, каким написано стихотворение Кириллова «Матросы»
и какой, по мнению Маяковского, был придуман «для шо-
потка» и не мог вмещать «распирающий грохот револю-
ции» (12, 84). Правда, это не ямб и не хорей, ставшие у
Маяковского «притчей во языцех», но все-таки классиче-
ские трехсложные размеры. «Курьезно. Но, честное слово,
это так» (12, 102). И, следовательно, эти два размера Мая-
ковский, во всяком случае, знал.
270
Йе совсем ясен, вероятно, для читателя и вопрос о
Шенгели, несколько раз презрительно упоминаемого в
статье. В чем причины ярой ненависти Маяковского к его
книжке, которую называют обычно «учебником стихо-
творства»? Маяковский в 1926—1927 годах в своих лек-
циях и докладах очень часто говорил о Шенгели, что нра-
вилось не всем слушателям, находившим, что незачем
тратить на него столько сил: «Час своего времени и вни-
мания поэт подарил совершенно зрящему делу: разносу
дрянной книжки Шенгели о стихотворстве... Остальное
время было поделено между перерывами, записками и
стихами»,— было написано в газетной заметке о вечере
Маяковского в Ленинграде 6 октября 1926 года *.
В журнальном отчете о выступлении Маяковского в
клубе рабкоров «Правды» 11 апреля 1926 года им назва-
ны причины, по которым он критиковал книжку Шенгели:
«Об этой книжке, в сущности, не стоило бы говорить,
если бы не два обстоятельства. Первое — книжка уже
вышла 3-м изданием и то почти раскуплена. Второе — из-
дана она весьма авторитетным издательством «Правда».
А между тем книжонка эта — прямо стихийное бедствие»
(12,483).
Книжка Г. А. Шенгели «Как писать статьи, стихи и
рассказы», объемом 4,5 авторских листа, была впервые
напечатана издательством «Правда» и «Беднота» в Моск-
ве в 1924 году. Она входила в состав «Библиотеки рабсель-
кора», выпускавшейся журналом «Рабоче-крестьянский
корреспондент», и в 1926 году появилось ее третье изда-
ние. В той же серии были изданы книжки «Как организо-
вать рабкоров», «Как и о чем писать рабкору», «Партия,
рабкор и селькор» и другие. Эти названия показывают, что
в целом серия имела инструктивный характер — движение
рабочих и сельских корреспондентов только начинало свой
славный путь, и участники его нуждались в руководстве
и практической помощи.
Из слов Маяковского можно понять, что Шенгели по-
святил свою книжку только искусству писать стихи. На
самом деле нет: она состояла из четырех глав, и о стихах
говорилось только в одной, третьей по счету. Первая гла-
ва не имела названия, в пей выяснялось, что такое лите-
1 В. Катанян. Маяковский. Литературная хроника. М., Гос-
литиздат, 1961, стр. 287.
271
ратура, какие бывают писатели, чю такое слово и т. д.
Вторая глава —«Как писать статьи». Третья—«Как пи-
сать стихи». И четвертая — «Как писать рассказы». Автор
в доступной малоподготовленному читателю форме, со
множеством примеров, излагал советы и указания людям,
впервые, может быть, берущимся за перо, чтобы написать
заметку в газету или стихотворение к занятию литератур-
ного кружка. И людям, помнящим те годы, не приходится
сомневаться в том, что книжка Шенгели отвечала своему
назначению и была полезна рабкорам и литкружковцам.
Ио то, что не бросилось в глаза большинству современ-
ников,— в частности, пишущему эти строки,— сразу уви
дел, понял и осудил Маяковский: руководство к сочине-
нию статей, стихов и рассказов составил для рабочих кор-
респондентов некто из «барских садовод ств поэзии, бабы
капризной», свысока смотревший на своих чумазых чита-
телей. Он объяснил кое-что по поводу литературного
творчества, слегка брезгливо показывая пальчиком на со-
ставленные им как автором самые незатейливые приме-
ры,— и Маяковский тотчас осознал социальный характер
такого небреяшого отношения барина-поэта к малограмот-
ной толпе. Возмущал его и директивный тон, принятый
Шенгели, строгие запрещения отклоняться от рекомендуе-
мых им образцов:
«Следует твердо усвоить, что никакие смешения стоп в
одной строке недопустимы» (39).
«Смешение размеров так, чтобы первая строчка была
написана ямбом, а вторая дактилем, и тому подобное — не
допускается» (41).
Во-вторых, для Маяковского Шенгели олицетворял ту
«романсово-критическую обывательщину», против кото-
рой он сосредотачивал «постоянную и главную нена-
висть» (12, 81). И этот Шенгели окунал в обывательщину
читателей своего учебника литературного труда. «С лег-
кой руки Шенгели у нас стали относиться к поэтической
работе как к легкому пустяку» (12, 91). Для Маяковского
сочинение стихов — труд, производство, результаты кото-
рого должны учитываться в документах Госплана. А кро-
ме того, он действительно считал, что Шенгели пытается
формировать вкусы рабочих и крестьянских читателей,
когда пишет: «Крестьянину не интересно будет читать о
достижениях современной живописи, например, или о но-
вых раскопках где-нибудь на месте древнего египетского
272
города... Рабочему скучно читать стихи, где говорится о
том, как ландыш склоняется над севшей на него бабочкой,
но стихи о революции ему нужны» (15).
В другом месте своей книги Шенгели выражается более
определенно: «Если автор решает писать бытовой рассказ,
изображающий действительную жизнь, скажем, жизнь ря-
занского крестьянина или шахтера,— то он должен быть
верен действительности; он не вправе (именно так: не
вправе! — А. 3.), например, говорить, что его шахтер такой
любящий искусство человек, что даже пианино завел: это
будет неправдоподобно» (69).
Маяковский лучше знал крестьянских и рабочих чита-
телей. Годом позже он описал их в стихотворении «Чудеса».
Сидят предо мною
рязанские,
тульские,
почесывают бороды русские,
ерошат пальцами
русые пряди.
Их лица ясны,
яснее, чем блюдце,
где надо — хмуреют,
где надо —
смеются.
(8, 186)
Им интересно знать и о раскопках в Египте и о совре-
менной живописи!
И Маяковский с полным уважением к советским чи-
тателям говорит литераторам:
Прошу
писателей,
с перепугу бледных,
бросить
высюсюкивать
стихи для бедных.
Понимает
ведущий класс
и искусство
не хуже вас.
Культуру
высокую
в массы двигай!
Такую, как и прочим.
Нужна
и понятна
хорошая книга —
373
и вам,
и мне,
и крестьянам,
и рабочим.
(8, 208)
Интеллигентный наставник рабоче-крестьянских само-
учек, поэт Шенгели, объясняя, что такое пародия, не стес-
няется приспособить для этой цели стихотворение Пушки-
на «Анчар», с помощью которого рекомендует обличать
«свирепого кассира» (! — А. 3.) в следующих, составлен-
ных им, Шенгели, строфах:
У кассы чахлой и пустой,
Объятый злобой неизменной,
Кассир, как грозный часовой,
Стоит один во всей вселенной.
...Но человека человек
Послал к кассиру за зарплатой,
И тот послушно в путь потек,
Принес же полный короб мата...
(30-31)
Мог ли Маяковский остаться равнодушным к такому
кощунству? Нет.
И он обрушился на Шенгели.
Главное же состояло в том, что Шенгели так же отчет-
ливо, как и Маяковский, пбнимал, что подобный писатель-
ский ликбез не будет способствовать расцвету литературы,
что результатом его будут серые, малохудожественные
произведения — в лучшем случае, в худшем — отсутствие
каких бы то ни было.
Шенгели это не тревожило, Маяковского не только тре-
вожило, но и побуждало к борьбе с такой постановкой ли-
тературной учебы.
Беспощадно критикуя и высмеивая его литературные
советы, Маяковский противопоставил им свои представле-
ния о поэзии в советском обществе и показал, как должен
работать поэт. В стихах он написал об этом так:
Скрывает
ученейший их богослов
в туман вдохновения радугу слов,
как чаши
скрывают
церковные.
274
Ая
раскрываю
мое ремесло
как радость,
мастером кованную.
(8, 30)
Да, Маяковский открывает читателю все грани своей
поэтической работы, мастер не хочет делать секрета из
своего мастерства и не боится показаться смешным, десят-
ки раз повторяя «ра-ра-ра» в поиске нужного слова. Рас-
сказ его, достоверный и полный, дышит желанием научить
всему, чего достиг он долгим литературным опытом, по-
мочь тому, кто «хочет, несмотря ни на какие препятствия,
быть поэтом...» (12, 115). Он доказывает, что «для дела-
ния поэтической вещи необходима перемена места и вре
мени» (12, 98), нужно бывает отойти от события, чтобы
лучше его увидеть, что «время нужно и для выдержки уже
написанной вещи» (12, 99) —тогда бросятся в глаза ее
недостатки, не замеченные в процессе работы. Таких со-
ветов Шенгели не давал.
Особое внимание он уделяет рифме. Рифма связыва-
ет строки, и поэтому ее материал должен быть крепче, чем
материал, пошедший на остальные строки:
«...Я всегда ставлю самое характерное слово в конец
строки и достаю к нему рифму во что бы то ни стало.
В результате моя рифмовка почти всегда необычна и уж
во всяком случае до меня не употреблялась, а в словаре
рифм ее нет» (12, 106).
Исследователи подтверждают это:
«Самые «характерные» слова в стихотворении всегда
связаны с его темой. Поэтому исследователь рифм Маяков-
ского М. П. Штокмар совершенно прав, определяя рифму
Маяковского не только как смысловую, но и как те-
матическую. Вот, например, рифмы из стихотворения
«Киев»: какие —Киев, пра —Днепра, бать-
ка—Крещатик а, перу — Перун, по-льду —
Аскольду, и т.д.; из стихотворения «Владикавказ —
Тифлис»: Кавказ — как вас, грузин — грузи,
рубах — Карабах, старья — Дарья л, что-
то—Шотой, хмура—Кура, узы я —Грузия,
взвились — Тифлис и т. д.; из стихотворения «В е р-
лен и Сезан» (из парижского цикла): острия — I st-
ria, мерь — Cam pagne Premiere, не про
275
й а с — Montparnasse, рассыпай — Raspail и
т. д. По одним таким рифмам можно определить тему сти-
хотворения.
Из приведенных примеров видно, что рифма у Маяков-
ского — важнейший организующий фактор его стихов» *.
Маяковский говорит о способах делания образа, о ме-
тафорах, о сдвигах, образующих в строке не предусмот-
ренное автором слово («так же вот» — слышится «жи-
вот» и т. д.), о гиперболах, аллитерациях и других прие-
мах «технической обработки стиха»,— говорит, приводя
примеры и показывая в каждом случае уместность именно
данного выражения.
Особое внимание обращает Маяковский на «интонаци-
онную сторону поэтической работы»,— всегда помня, что
поэт пишет для читателя и слушателя:
«Надо всегда иметь перед глазами аудиторию, к кото-
рой этот стих обращен. В особенности важно это сейчас,
когда главный способ общения с массой — это эстрада, го-
лос, непосредственная речь» (12, ИЗ).
Он объясняет, почему считает необходимым разделять
строку, чтобы читать без ошибки:
Довольно,
стыдно мне...—
а не произносить без выражения, как бытовую фразу:
«Довольно стыдно мне...». «При таком делении на полу-
строчия ни смысловой, ни ритмической путаницы не бу-
дет. Раздел строчек часто диктуется и необходимостью
вбить ритм безошибочно...» (12, 114).
Статью заключают выводы, передающие в двенадцати
пунктах ее содержание,— автореферат. Маяковский на-
значал свою статью тому, кто, зная, что поэзия — одно из
труднейших производств, «хочет осознать для себя и для
передачи некоторые кажущиеся таинственными способы
этого производства» (12, 116), и при этом считал, что «ни-
какого научного значения его статья не имеет» (12, 82).
Годы показали научную ценность этой работы Маяков-
ского. Ее глубина будет исчерпана еще не скоро.
1 См. В. Е. Холщевников. Основы стиховедения. Русское
стихосложение. Изд. 2-е, перераб. Л., изд. ЛГУ, 1972, стр. 93.
ekbem
ou .
чаши
l
«Голубая чашка» — рассказ Аркадия Гайдара \ детско-
го писателя, в произведениях которого как будто бы реши-
тельно все ясно и человеку не о чем догадываться — нужно
только читать.
Это в общем верно. Но не совсем. Ибо есть у Гайдара
вещи, которые повертываются к молодым и старым раз-
ными сторонами. И такой их секрет может открыть лишь
внимательный глаз опытного читателя.
Рассказ «Голубая чашка» написан в 1936 году в мане-
ре, отличающей его от других произведений писателя.
Все привыкли к тому, что повести и рассказы Гайдара
обращены к детям, слова, с помощью которых они изложе-
ны, не допускают двух толкований и фразы значат то, что
значат соединенные в них слова.
Например:
«Жил человек в лесу возле Синих гор. Он много ра-
ботал, а работы не убавлялось, и ему нельзя было уехать
домой в отпуск.
1 Аркадий Гайдар. Сочинения, т. И. Голубая чашка. М.—
Л., Детгиз, 1949, стр. 127—155.
277
Наконец, когда йаступйла зима, он совсем заскучай,
попросил разрешения у начальников и послал своей жене
письмо, чтобы она приезжала вместе с ребятишками к не-
му в гости.
Ребятишек у него было двое — Чук и Гек...» и т. д.
(«ЧукиГек», 1939).
Такое же по своему типу начало в другом рассказе, да
таков и весь его текст:
«Моя мать училась и работала на большом новом за-
воде, вокруг которого раскинулись дремучие леса.
На нашем дворе в шестнадцатой квартире жила девоч-
ка. Звали ее Феня. Ее отец был летчиком.
Однажды, когда Феня стояла на дворе и смотрела на
небо, на нее напал незнакомый мальчишка и вырвал из
ее рук конфету.
Я в это время сидел на крыше дровяного сарая и гля-
дел на запад, где далеко за рекой Кальвой, как говорят,
на сухих торфяных болотах, горел вспыхнувший позавче-
ра лес.
Но огня я не увидел...» и т. д. («Дым в лесу», 1939).
Все ясно. Мальчик с матерью Фени едет на аэродром—
ее муж не вернулся с полета,— по дороге во время вынуж-
денной остановки уходит в лес, теряет направление, пу-
гается, ищет дорогу, ночует в лесу, случайно встречается
с летчиком и пр. Дело юного читателя — следить за тек-
стом рассказа и представлять себе картины, изображаемые
автором. Идут они в последовательном порядке, и это не
трудно.
Не то в «Голубой чашке». Рассказ не содержит для чи-
тателя тайны. Не имеет он также и сюжета, в котором
видное место занимали бы приключения и поиски. В рас-
сказе обрисовано лишь небольшое путешествие «куда гла-
за глядят» отца с маленькой дочерью. И все дело в причи-
нах, толкнувших этих людей покинуть свой дом.
Издательство адресовало рассказ Гайдара детям сред-
него возраста. Между тем особенность «Голубой чашки» в
том, что написана она и для детей и для взрослых, и каж-
дый читатель возьмет из нее, что может: дети — игру в
чижа, военное ученье, эпизод гражданской войны, взрос-
лые — мысли о любви и ревности, о доверии, о дружбе
больших и маленьких. И еще о многом другом, о чем ска-
зал или умолчал писатель,— последнее ведь тоже счита-
ется...
278
Определению возрастной категории своих читателей
Гайдар придавал немаловажное значение. Так, однажды
главному редактору Детгиза он писал:
«Уважаемый товарищ Андреев! Очень прошу Вас
третьего числа утром присутствовать при читке моей но-
вой вещи для дошкольного возраста (час с Вами согласу-
ет тов. Кон). Вещь совсем небольшая и вместе с обсужде-
нием займет никак не больше одного часа. Это тем более
важно, что я боюсь, не перепрыгнул ли я в младший воз-
раст (они буду слушать тоже). И тут же на месте решить,
кому вещь достанется» 1.
Несоответствие содержания «Голубой чашки» изда-
тельскому грифу «для среднего возраста» тотчас же при-
влекло внимание общественности.
В статье А. Жаворонковой2 устанавливалось, что рас-
сказ Гайдара «Голубая чашка» вызвал горячие споры в
среде педагогов и родителей. Одни считали его отрадным
явлением в детской литературе, другие — «непригодным
для детей», «недопустимым» и даже «возмутительным».
Ставился вопрос о том, нужно ли через книжку знакомить
детей с семейными неурядицами, вводить в рассказ мотив
ревности? В одном из родительских отзывов было сказано:
«Это книга для взрослых. Возмутительно преподносить
ребятам такую вещь. Для взрослых это ароматная книга,
но детского там нет ничего. Для детей это не годится. Ав-
тор не знает, для кого он пишет. Я не хотела бы, чтобы мой
сын, поняв настроение автора, начал приглядываться ко
всем приходившим ко мне людям и стал бы подозритель-
ным; веру надо сохранять у детей».
А. Жаворонкова сообщает сведения о том, что дети
8—10-летнего возраста, то есть ученики вторых и третьих
классов, с увлечением следят за фабулой книжки, за сме-
няющимися эпизодами прогулки Светланы с отцом — и
другого плана повествования совсем не замечают. Дети
среднего возраста «расшифровывают основной смысл кни-
ги. Они понимают, что за внешними фактами скрывается
какая-то внутренняя подоплека, но это их не заинтересо-
вывает. Происходит это не потому, что вообще такие во-
просы не интересуют детей данного возраста, а потому,
1 31 октября 1938 г. ЦГАЛИ, ф. 630, оп. 6, ед. хр. 15, л. 172.
2 А. Жаворонкова. Еще о «Голубой чашке». Журнал «Дет-
ская литература», 1937, № 13, стр. 40—43.
279
что в книге вопросы семейных взаимоотношений даны
вскользь, полунамеком. И, понимая эти намеки, дети все
же обращают внимание главным образом на прогулку и
определяют книгу как «книгу для маленьких».
Несовместимость «Голубой чашки» с другими книгами
для детей среднего возраста рецензенты отмечали не раз.
Один из взрослых читателей заявил:
«Определив возраст предполагаемого читателя, Дет-
гиз забыл, что ребенок среднего возраста предъявляет к
книжке определенные требования. Он ждет от нее занима-
тельности, активности ее героев, остроты и известной на-
пряженности сюжетных положений. И требует, нужно
сказать, с полным на это правом. Ничего этого в «Голу-
бой чашке» он не найдет» 1.
Многие рецензенты, родители и педагоги отмечали, что
дети среднего возраста не в состоянии воспринять второй
план рассказа, так как отношения взрослых в нем затуше-
ваны. Фабульная же сторона «Голубой чашки» слишком
проста для них, лишена занимательности.
В пылу споров и обсуждений выявились две читатель-
ские группы, которым рассказ оказался интересен. Это бы-
ли дети младшего возраста, не заметившие сложного се-
мейного конфликта, заделанного автором в подтекст, и
взрослые; они поняли все, оценили мастерство писателя,
но не желали допускать подобную тему, как «непедагогич-
ную», в книги для детей.
Внимательное чтение рассказа Гайдара и та любовь,
которой пользуется он у читателей несколько десятков лет,
позволяют ближе подойти к пониманию авторского замыс-
ла. «Бесконфликтность», «бессюжетность», «композици-
онная неслаженность» — эти упреки, сыпавшиеся на «Го-
лубую чашку», были главным образом вызваны издатель-
ским назначением ее детям среднего возраста. Если же
рассказ переадресовать младшему возрасту, ничего не-
обычного для этой категории читателей в его сюжете не
будет. Описание прогулки, во время которой ребенок зна-
комится с окружающими предметами и становится очевид-
цем различных событий, традиционно для детских книг,
какие можно найти у Маяковского, Маршака и многих
других писателей, дореволюционных и современных.
1 А. Терентьев. «Голубая чашка». Журнал «Детская лите-
ратура», 1937, № 5, стр. 18.
280
Новым является для рассказа подтекст, введенный
Гайдаром, демонстрация сложных отношений взрослых
людей. Но именно ее присутствие служит добавочным до-
казательством того, что автор готовил «Голубую чашку»
самым маленьким читателям, которые подтекста не толь-
ко не понимали,— а если бы поняли, то это было бы недо-
статком рассказа,— но попросту не замечали, не обраща-
ли на него внимания.
Второй, тонко очерченный план «Голубой чашки»,
ставший поводом для оживленных дискуссий в печати и
устных диспутов, отнюдь не предназначался ребенку.
Нельзя поверить тому, что такой опытный писатель, как
Гайдар, вдруг забыл ориентировать рассказ на определен-
ный возраст и сочинил книжку, неизвестно кому адресо-
ванную — средним, старшим или взрослым читателям. Из
наблюдений педагогов и библиотекарей, обобщенных в
упомянутой выше статье А. Жаворонковой, известно, что
«Голубую чашку» считают своей младшие дети. Сами они
еще, как правило, не читают, их знакомят с книгами
взрослые. И не будет, на наш взгляд, ошибкой предпола-
гать, что для этих двух групп читателей и писал свой рас-
сказ Аркадий Гайдар — для младших детей и для взрос-
лых одновременно. И написал так искусно, что все психо-
логические сложности упрятались в подтекст и сделались
незаметными детям, которым вполне хватает описания
прогулки автора со Светланой.
Своеобразие «Голубой чашки» в том, что, несмотря на
очевидную двуплановость этого рассказа, он не только не
производит впечатления двух наскоро скрепленных от-
дельных вещей, но, напротив, представляет собой цельное
художественное произведение, раскрывающее авторскую
идею. Все события, описанные в рассказе, подчинены
главной теме — теме жизни, человеческого счастья. Взрос-
лый и детский сюжеты здесь объединяются, дополняют
друг друга и предстают перед читателем в том единстве,
без которого невозможно говорить о творческой завершен-
ности книги.
2
«Голубая чашка» начинается справкой о возрасте ге-
роев:
«Мне тогда было тридцать два года, Мару се двадцать
девять, а дочери нашей Светлане шесть с половиной.
281
Только в конце лета я получил отпуск, и на последний
теплый месяц мы сняли под Москвой дачу».
Зачем надобна такая точность?
Может быть, тут есть некая связь с жизнью писате-
ля—в 1936 году ему исполнилось тридцать два года, он
родился в 1904 году. На возможную автобиографичность
рассказа указывают также имя и возраст девочки: в Цен-
тральном государственном архиве литературы и искусст-
ва хранится много нежно-насмешливых писем Гайдара к
его рыжеволосой дочери Светлане.
Вероятно, годы указаны еще и потому, что писателю
важно было подчеркнуть: его герои по возрасту могли
участвовать — и участвовали — в гражданской войне.
А почему нужно читателю знать, что отец лишь в кон-
це лета получил отпуск? По-видимому, чтобы читатель по-
нял, каким долгожданным был для него отдых и как же-
лал он хорошо провести последние летние дни.
Следующий абзац уже подготавливает почву для кон-
фликта, положенного в основу рассказа. Приведя свои
справки, автор начинает стремительно развивать сюжет:
«Мы со Светланой думали ловить рыбу, купаться, со-
бирать в лесу грибы и орехи. А пришлось сразу подметать
двор, подправлять ветхие заборы, протягивать веревки, за-
колачивать костыли и гвозди.
Нам все это очень скоро надоело, а Маруся одно за
другим все новые да новые дела себе и нам придумывает».
Муж и дочь приехали на дачу отдыхать, они желают
делать это вместе с матерью и сердятся, что им приходит-
ся работать.
Сохранилась ранняя редакция рассказа, отразившая
процесс созревания его идейно-художественного замысла.
В ней не упоминается ни о долгом ожидании отпуска, ни
об огорчениях, связанных с налаживанием дачного быта
и занятостью Маруси:
«Мне тогда было двадцать семь лет, а сыну Димке
пять. Летом я получил отпуск и мы уехали на дачу.
Однажды вечером мы с Димкой сидели на крыше са-
рая и приколачивали большую вертушку.
Вот,— думали мы,— подует ветер, вертушка зажуж-
жит, закружится — жжу-жжу! То-то будет весело. А зав-
тра утром и еще что-нибудь интересное придумаем. Или в
саду под бугром пещеру выроем. Или плотину на ручье
построим. А может быть, сядем в лодку и уплывем далеко,
282
*уда, где стоит три толстых березы у крутого берега, где
живет колючий еж под старым дубом и где нашли мы не-
давно двадцать три гриба и потом их дома вымыли, сжа-
рили и съели» 1.
В рукописи и следа нет того конфликта, который в
окончательной редакции «Голубой чашки» становится ос-
новным. Летчик не появляется, и все неприятности, вы-
званные его приездом, отсутствуют. Усложнение замысла
заставило автора подчеркнуть любовь отца и ребенка к ма-
тери, связать их повседневные радости с ее присутствием,
оттенить ожидание отдыха сначала небольшими, затем и
более серьезными помехами.
«Только на третий день к вечеру наконец-то все было
сделано. И как раз, когда собирались мы втроем идти гу-
лять, пришел к Марусе ее товарищ — полярный летчик».
Профессия рассказчика-отца неизвестна. Позже мы
узнаем, что был он в Красной Армии кавалеристом и в
боях с белыми ранен. Теперь, видно, где-то служит.
А полярный летчик в половине тридцатых годов — про-
фессия самая знаменитая. Недавно семерым полярным
летчикам, спасавшим людей с парохода «Челюскин», раз-
давленного льдами в Северном Ледовитом океане, первым
было присвоено звание Героя Советского Союза. Летчик
Громов продержался в воздухе семьдесят пять часов без
заправки самолета горючим. Летчики Чкалов, Беляков и
Байдуков пролетели без посадки из Москвы к Николаев-
ску-на-Амуре 9374 километра. На очереди были новые
дальние перелеты и рекорды. И Марусин гость принадле-
жал к такому славному крылатому племени!
«Они долго сидели в саду, под вишнями. А мы со Свет-
ланой ушли во двор к сараю и с досады взялись мастерить
деревянную вертушку».
Отчего же вертушку? Хозяйственной нужды в ней нет.
Самостоятельное изготовление вертушки по силам далеко
не каждой шестилетней девочке, а взрослому мужчине,
мастерящему такую вещь, не требуется помощник. Вер-
тушку пожелал сделать отец, «с досады», увидев, что его
Маруся занялась летчиком и прогулка с нею не состоя-
лась. И пожелал, очевидно, потому, что думал о летчике:
вертушка — значит, ветер, воздух, полет, с вертушкой надо
1 ЦГАЛИ, ф. 1672, оп. 1, ед. хр. 24.
283
лезть высоко, на крышу, вертушки стоят на метеорологи-
ческих станциях при каждом аэродроме... Невинной заба-
ве, которой в первой редакции рассказа собирались за-
няться отец и Димка, в окончательном тексте писатель
придает особый смысл: вертушка теперь связывается
с одиночеством, затаенной обидой, ревностью отца к лет-
чику.
«Когда стемнело, Маруся крикнула, чтобы Светлана
выпила молока и ложилась спать, а сама пошла проводить
летчика до вокзала.
Но мне без Маруси стало скучно, да и Светлана одна в
пустом доме спать не захотела».
Ушла мать — и дом считается пустым...
Уход ее ведет к дальнейшим огорчениям.
«Мы достали в чулане муку. Заварили ее кипятком —
получился клейстер.
Оклеили гладкую вертушку цветной бумагой, хоро-
шенько разгладили ее и через пыльный чердак полезли на
крышу.
Вот сидим мы верхом на крыше...»
О чулане тут сказано все: отец и дочь достали муку,
ничего не роняли и не трогали. В тексте нет никакого на-
мека на то, будто в чулане что-то разбилось. Так нужно,
чтобы читатель затем сильнее ощутил несправедливость
возведенных на этих людей обвинений.
Ушла Маруся — и они одиноки.
Смотрят с крыши — на соседнем крыльце старик с ба-
лалайкой, возле него толпятся ребятишки — общество. Вы-
скочила из сеней старуха, турнула ребятишек, обругала
старика, заторопилась греть самовар — но и без ребят ста-
рик не одинок, скоро будет пить чай со своей старухой.
А от них Маруся ушла с летчиком. На вокзал... Конеч-
но, на вокзал. Куда ж еще? Проводит его и вернется...
«Посмеялись мы и думаем: вот подует ветер, закру-
жится, зажужжит наша быстрая вертушка. Ото всех дво-
ров сбегутся к нашему дому ребятишки. Будет и у нас
тогда компания».
Говорится: «Будет и у нас тогда компания», дескать,
прибегут ребятишки,— а думается отцу и дочери, что ес-
ли б не ушла Маруся, никакой другой компании им не
надобно. Так незаметно, шаг за шагом, писатель наращи-
вает изображение тоски рассказчика по ушедшей Марусе.
Светлана тоже грустит, но еще не так сильно.
284
Они соображают, чём могли бы заняться эаЬтра, и два
Плана из трех связаны с Мару сей:
«Может быть, выроем глубокую пещеру для той ля-
гушки, что живет в нашем саду, возле сырого погреба.
Может быть, попросим у Маруси суровых ниток и за-
пустим бумажного змея — выше силосной башни, выше
желтых сосен и даже выше того коршуна, который целый
день сторожил с неба хозяйских цыплят и крольчат».
Змей и высота полета его — это снова о Марусином го-
сте. Он, как коршун, сторожил, наверное, с неба Марусю и
теперь увел ее с собою...
В третьем плане, пожалуй, отразилось желание уехать,
уйти, уплыть подальше от этой дачи, с которой похищают
любимых женщин и матерей:
«А может быть, завтра с раннего утра сядем в лодку —
я на весла, Маруся за руль, Светлана пассажиром — и
уплывем по реке туда, где стоит, говорят, большой лес,
где растут на берегу две дуплистые березы, под которыми
нашла вчера соседская девчонка три хороших белых гри-
ба. Жаль только, что все они были червивые».
Это мечта, неизвестно еще, сбудется она или нет,—
ведь Маруся ушла,— и мысль о поездке в большой лес,
где растут белые грибы, отравлена сомнением: все грибы
оказались червивыми...
Об этом или не об этом думал Гайдар, когда писал свой
рассказ, мы не знаем. Но что он хотел передать огорчения,
если не сказать — тоску, и боязнь разлуки с любимым че-
ловеком, на читательский взгляд бесспорно. Да он и пере-
дал эти чувства!
С крыши, где сидели отец и дочь,— и широта обзора
как бы уравнивала их с летчиками! — было видно многое,
и Светлана заметила, что по тропинке вдоль забора воз-
вращается домой Маруся. Она прогнала своих «негодных
людей» с крыши, не позволив закончить приколачивание
вертушки, да еще пригрозила, что рассердится.
«Переглянулись мы со Светланой. Видим, плохо наше
дело. Взяли и слезли. Но на Марусю обиделись.
И хотя Маруся принесла со станции Светлане большое
яблоко, а мне пачку табаку — все равно обиделись.
Так с обидой и уснули».
Маруся не придала или не захотела придать значение
своему уходу с летчиком и не оценила нетерпеливости, с
которой ждали муж и дочь, забравшиеся на крышу для
285
toft), чтобы пораньше увидеть ее. Она принесла подарки,
но важен был не табак, а слово привета. Вместо него Ма-
руся отдала приказания.
«А утром — еще новое дело! Только что мы проснулись,
подходит Маруся и спрашивает:
— Лучше сознайтесь, озорной народ, что в чулане мою
голубую чашку разбили!
А я чашки не разбивал. И Светлана говорит, что не
разбивала тоже. Посмотрели мы с ней друг на друга и
подумали оба, что уж это на нас Маруся говорит совсем
напрасно.
Но Маруся нам не поверила».
Так образуется лагерь обиженных.
Маруся не замечает его. После завтрака она вдруг со-
бралась и отправилась в город, «а мы сели и задумались».
Зачем или к кому поехала Маруся? И как быть с тем,
что задумывалось на сегодняшний день? Все нарушено.
А может быть, и разрушено совсем?
И тогда принимается решение. Читатель понимает, что
оно вынужденное,—равнодушие Маруси не может быть
оставлено без ответа.
«— Что ж!—говорю я Светлане.— С крыши нас с
тобой вчера согнали. Банку из-под керосина у нас недавно
отняли. За какую-то голубую чашку напрасно выругали.
Разве же это хорошая жизнь?
— Конечно,— говорит Светлана,— жизнь совсем пло-
хая».
Запомним эти формулы — их в духе положительного
утверждения повторят герои в конце рассказа, когда замк-
нется кольцо повествования.
Перед читателем — люди скорого дела. Красный кон-
ник быстр на решения, терпеть обиды он не хочет.
«—А давай-ка, Светлана, надень ты свое розовое
платье. Возьмем мы из-за печки мою походную сумку, по-
ложим туда твое яблоко, мой табак, спички, нож, булку
и уйдем из этого дома куда глаза глядят».
Очевидно, «розовое платье» — лучшее из тех в туалете
дочери, что известны отцу, и пригодное для дальней доро-
ги: ведь эти люди выходят в мир, где ждут их нечаянные
встречи и приключения. И берут они с собой прежде всего
то, что накануне им принесла Маруся, ее последний дар —
яблоко и табак.
286
Прихватив с собой еще толстую палку, чтобы защи-
титься от ужасной собаки Полкана, отец и дочь уходят из
дома.
«— Прощай, Маруся! А чашки твоей мы все равно не
разбивали».
3
Тут кончается вступление к рассказу или его первая
часть — как случилось, что двое людей пошли куда глаза
глядят. Маруся их не поняла, неправильно осудила, а по-
том уехала в город. Отца Светланы мучат подозрения, оби-
да. Его связали с женой идеи революционной борьбы, уча-
стие в гражданской войне против белых. Они отстояли
свое право на новую, счастливую жизнь. Обмануты ли их
ожидания и надежды?
Нет! Жизнь кругом текла разнообразная, интересная,
она требовала внимания к себе и вмешательства. Думать о
своих обидах путникам было некогда.
Теперь содержанием рассказа Гайдара становятся слу-
чаи и картины, увиденные отцом и дочерью во время их
путешествия, недолгого, но очень насыщенного впечатле-
ниями. Можно подивиться искусству, с каким писатель
сумел в небольшом произведении рассказать о принципах
советского строя, о началах справедливости и гуманизма,
лежащих в его основе, о непримиримой борьбе с классовы-
ми врагами и ненависти к фашизму, о народном хозяйстве
и о многом другом. Причем изложить эти разнообразные
сведения и осветить политические проблемы в заниматель-
ной и доступной детям форме. Литературное мастерство
автора, подкрепленное его любовью к юному читателю,
полностью сказалось в «Голубой чашке».
За калиткой дома подошла молочница:
«— Молока надо?
— Нет, бабка! Нам больше ничего не надо».
В ответе этом звучит как бы отрешенность от всего зем-
ного, домашнего. Смешно,— на что молоко людям, идущим
неизвестно куда? И отчуждение от равнодушных, невни-
мательных к соседской беде ближних выражено эпитетом
«холодные»:
«Загромыхала она своими холодными бидонами и по-
шла дальше. А где ей догадаться, что мы далеко уходим и,
может, не вернемся?»
287
Нотка серьезности предпринятого похода иногда про-
скальзывает у автора. Конечно, полярный летчик — ста-
рый товарищ Маруси, не больше, и она срочно уехала в
город по своим делам, к нему отношения не имеющим, но
все-таки... А вдруг?..
Отец и дочь шагают полем на мельницу.
«Идем мы, идем и вот видим, что от мельницы во весь
дух мчится нам навстречу какой-то человек. Пригнулся
он, а из-за ракитовых кустов летят ему в спину комья
земли».
Прислушайтесь: Гайдар говорит «человек», хотя вид-
но, что бежит мальчик, Светлана тотчас разглядела, да и
неподалеку все это происходило. Пусть мальчик, ребе-
нок — для Гайдара он Человек. Уважение к ребенку — за-
метнейшая черта творчества писателя.
«Ракитовые кусты» едва ли не фольклорного проис-
хождения — они упоминаются, например, в былинах о
Микуле Селяниновиче, о Вольге.
Мальчик, Санька Карякин, бежал потому, что на мель-
нице сидел пионер Пашка Букамашкин и грозился его по-
бить. Отец и дочь считают нужным заступиться за Саньку,
находят его противника, а тот, увидев их, говорит:
«— ...Вон идет сюда известный фашист, белогвардеец
Санька. Погоди, несчастный фашист. Мы с тобой еще раз-
делаемся».
Пионер объясняет, почему он зовет Саньку фашистом,
и, к слову молвить, говорит о нем как о взрослом: «этот
человек, Санька»,— не у детей ли научился Гайдар тако-
му серьезному обращению с ними?!
«— Есть в Германии город Дрезден,— спокойно сказал
Пашка,— и вот из этого города убежал от фашистов один
рабочий, еврей. Убежал и приехал к нам. А с ним девчон-
ка приехала, Берта. Сам он теперь на этой мельнице ра-
ботает, а Берта с нами играет...»
Играли они позавчера, Санька поссорился с Бертой, за-
кричал ей: «Дура, жидовка! Чтоб ты в свою Германию
обратно провалилась!» — и убежал. Его не догнали, а се-
годня увидели.
«Посмотрели мы на Саньку и подумали: «Ну, брат,
плохая у тебя история. Даже слушать противно. А мы-то
еще собирались за тебя заступиться».
Впрочем, может быть, он не такой уж фашист, а про-
288
его дурак — рассуждает Светлана с большой йронйца-
тельностыо.
Разговор о Саньке неожиданно прерывается.
«Где-то за рощей хлопнул выстрел. Другой. И пошло,
и пошло.
— Бой неподалеку! — вскрикнул Пашка.
— Бой неподалеку,— сказал и я.— Это палят из вин-
товок. А вот слышите? Это застрочил пулемет.
— А кто с кем? — дрогнувшим голосом спросила Свет-
лана.— Разве уже война?»
Да, советские дети в половине тридцатых годов о вой-
не слышали часто и войну ждали...
В эпизоде на мельнице писатель говорит о немецком
рабочем, покинувшем родину после захвата Гитлером вла-
сти, произносит слово «фашизм» и сейчас же называет
силу, способную победить фашистов, если они попробуют
напасть: Красную Армию. Расположение эпизодов «Го-
лубой чашки» нельзя, разумеется, называть случайным.
Так было задумано, и напоминание о фашизме и его жерт-
вах повлекло за собой напоминание о Красной Армии.
«Еще не успели мы промолвить слово, как издалека,
словно гром с перекатами и перегудами, ударил страшный
орудийный залп. Вздрогнула под ногами земля...
—- Плохо дело фашистам! — громко сказал Пашка и
посмотрел на Саньку.— Вот как бьют наши батареи.
— Плохо дело фашистам,— как эхо, повторил хриплый
голос.
И тут мы увидели, что под кустами стоит седой боро-
датый старик».
В ранней редакции «Голубой чашки» эпизоду с девоч-
кой Бертой отведено большое место. Вероятно, Гайдар на-
меревался вопрос об интернациональном воспитании детей
сделать одним из центральных в тексте, но замысел в ходе
работы изменился и на первый план выступило желание
автора выявить монолитное единство всех поколений со-
ветских людей, живущих в атмосфере счастья и взаимного
доверия.
Уничтожающе-насмешливым отношением к Саньке
автор как бы подчеркивает важную для себя и для читате-
ля мысль: враги — по ту сторону границы. На советской
земле, среди детей рабочих и крестьян фашистов быть не
может.
Колхозный сторож, обращаясь к Саньке, говорит:
289
« — Ёидно, я шестьдесят лет прожил, а ума не на&йл.
Ничего мне не понятно. Тут под горой наш колхоз «Рас-
свет». Кругом наши поля, овес, гречиха, просо, пшеница.
Это на реке наша новая мельница, а там, в роще, наша
большая пасека. И над всем этим я главный сторож. Видал
я жуликов, ловил и конокрадов, но чтобы на моем участке
появился хоть один фашист — этого еще не бывало ни
разу. Подойди ко мне, Санька, грозный человек. Дай я на
тебя хоть посмотрю. Да постой, постой, ты только слюни
подбери и нос вытри. А то мне и так на тебя взглянуть
страшно».
Политическая обстановка середины тридцатых годов
никак не располагала к благодушию.
Аркадий Гайдар, почитавший своим писательским
долгом готовить «краснозвездную крепкую гвардию», не
мог не понимать ее. Гражданская ответственность за судь-
бу страны заставляла Гайдара писать о том, что он счи-
тал наиважнейшим на сегодняшний день. Советскому на-
роду необходимо было сплотить свои силы для отражения
возможного удара фашистов. Атмосфера необоснованной
подозрительности, возникшая в эти годы внутри Советской
страны, не могла не тревожить Гайдара. Он словно отво-
дил эту мнимую опасность, предупреждая о реальной.
В уста «главного сторожа», на вид — эпизодического
персонажа, вложено немало мыслей, ведущих к раскры-
тию идейного содержания рассказа. Он, по долгу службы
обязанный все видеть и замечать, уверенно объявляет, что
никогда не встречал на своей земле фашистов, врагов на-
рода, он первый напоминает новым странникам об истин-
ных человеческих ценностях:
«— Я не знаю, куда вы идете и чего ищете, но только
знайте: самое плохое для меня далеко — это налево у реки,
где стоит наше старое сельское кладбище. А самое хоро-
шее далеко — это направо, через луг, через овраги, где
роют камень, дальше идите перелеском, обогнете болото.
Там над озером раскинулся большущий сосновый лес. Есть
в нем и грибы, и цветы, и малина. Там стоит на берегу
дом. В нем живут моя дочь Валентина и ее сын Федор».
Читатель понимает, что речь идет о самом дорогом на
свете — о жизни, что счастья не может быть без любви к
людям, что нельзя вот так, по одному подозрению, все бро-
сить, уйти, как поступили путники, и сделать далеким
свое «самое хорошее».
290
...Отец и дочь снова отправились в дорогу.
В рассказе развертывается тема мирного труда совет-
ских людей.
«Видали мы, как из черных глубоких ям тащат люди
белый, как сахар, камень... Навалили уже целую гору.
А колеса все крутятся, тачки скрипят...»
«Встретили мы на пути деревеньку, где живут те, что
пашут землю, сеют в поло хлеб, картошку, капусту, свек-
лу или в садах и огородах работают.
Встретили мы за деревней и невысокие зеленые моги-
лы, где лежат те, что свое уже отсеяли и отработали».
«Увидали мы и попа в длинном черном халате. По-
смотрели ему вслед и подивились тому, что остались еще
на свете чудаки».
В этой фразе рассказчик заговорил голосом Светланы:
он-то знает, что поп носит рясу, а не халат. Подивиться
тому, что «остались еще на свете чудаки», также могла
только Светлана — отец должен понимать, что служители
культа вовсе не чудаки, а люди весьма деловитые и цели
свои преследующие.
Эти строки в рассказе — одно из доказательств того,
что Гайдар адресовал его малышам. Коснувшись сложной
и большой проблемы, писатель нашел соответствующую
интонацию для того, чтобы вызвать у ребенка эмоциональ-
ное отношение самого общего порядка: «хороший», «пло-
хой». Мужчина в халате — плохой, он существует вне на-
шей жизни. Мы смотрим на него с изумлением.
Свое понимание возрастной специфики детской литера-
туры Гайдар высказал на совещании по военно-политиче-
скому воспитанию подрастающего поколения, созванном
ЦК ВЛКСМ в январе 1941 года. Отметив, что детям сред-
него возраста необходимо разъяснять самые сложные во-
енно-технические и гражданские понятия — «знамя», «сме-
лость», «правда», «честь»,—он сказал, что малышу на
военную тему надо говорить так: «Это красные вздули бе-
лых, а это заяц вышел и смотрит, и очень этим доволен».
И больше я не объясняю. Хватит с него пока».
...Мысли путников возвращаются в дом:
«И Маруся, должно быть, давно уже вернулась. Погля-
дела — нет. Поискала — не нашла. Сидит и ждет, глупая!»
Отец и дочь на красивой поляне сели отдохнуть и по-
завтракать. Думы о Марусе не оставляют их. Светлана
уже простила маме несправедливость, соскучилась и хо-
291
чет вернуться домой. Однако не решается сказать отцу об
этом, смутно догадываясь, что его обида глубже и значи-
тельней.
Девочка начинает разговор издалека, она не уверена в
успехе, но уже полна решимости бороться за то, что счи-
тает правильным и необходимым. Между отцом и дочерью
происходит первое столкновение. Существо спора убрано
в подтекст, однако настолько несложный, что его легко
разгадывает и маленький читатель.
«А тут еще, пока мы ели, вдруг спустился на ветку се-
рый чиж и что-то такое зачирикал. Это был смелый чиж.
Он сидел прямо напротив нас, подпрыгивал, чирикал и не
улетал.
— Это знакомый чиж,— твердо решила Светлана.—
Я его видела, когда мы с мамой качались в саду на каче-
лях. Она меня высоко качала. Фють! Фють! И зачем он к
нам прилетел так далеко?
— Нет! Нет! — решительно ответил я.— Это совсем
другой чиж. Ты ошиблась, Светлана...
— Нет, тот самый,— упрямо повторила Светлана.—
Я знаю. Это он за нами прилетел так далеко».
Аллегория несложна, потому что предназначается ма-
лышу, и все же автор находит нужным разъяснить ее.
«-— Гей! гей! — печальным басом пропел я.— Но мы не
разбивали голубой чашки. И мы решили уйти совсем да-
леко.
Сердито чирикнул серый чиж. Ни один цветок из це-
лого миллиона не качнулся и не кивнул головой. И нахму-
рившаяся Светлана строго сказала:
— У тебя не такой голос. И люди так не поют. А толь-
ко медведи».
Цветы, птицы, — все против жестокого и неверного ре-
шения оставить Марусю. Но очевидно и внутреннее пора-
жение рассказчика. Чуткая Светлана замечает неестест-
венность в голосе отца, которого продолжают терзать по-
дозрения, но уже мучат и раскаяние, и тоска по любимо-
му человеку.
Дальше опять вставлена аллегория, вообще Гайдару не
чуждый прием. К речке отец и дочь пошли напрямик — и
попали в болото. Они «поворачивали направо, налево, пе-
ребирались по хрупким жердочкам, прыгали с кочки на
кочку. Промокли, измазались, но выбраться не могли ни-
292
как». Светлана встревожилась: отец, оставив ее на сухом
клочке земли, ищет дорогу, и его окружает зеленая жижа.
«Я опять свернул в чащу и рассердился. Что это? Раз-
ве сравнить это поганое болотце с бескрайними камышами
широкого Приднепровья или с угрюмыми плавнями Ах-
тырки, где громили и душили мы когда-то белый вранге-
левский десант?»
И, думая о боевом прошлом, отец сумел выйти из бо-
лота на сухой берег и вернулся за дочерью, терпеливо его
ожидавшей.
«Мы выбрались к реке. Мы счистили всю грязь и тину,
которые облепили нас со всех сторон. Мы выполоскали
одежду, и пока она сохла на раскаленном песке, мы купа-
лись».
Слова здесь — все важные. Понимай — счистили грязь
подозрений, обывательскую тину,— отец, конечно, не
дочь,— выкупались, стали чистыми и внутренне подгото-
вились к встрече с Марусей.
Но еще не сразу они попали домой, потому что зашли
к дочери старого колхозника Валентине.
Они отдыхали в ее саду. «И вдруг раздался мощный ро-
кочущий гул, воздух задрожал, и блестящий самолет, как
буря, промчался над вершинами тихих яблонь...
— Это тот самый летчик пролетел,— с досадой сказала
Светлана,—это тот, который приходил к нам вчера».
Отец не соглашается с ней.
О летчике девочка говорит «с досадой». Интуитивно
она начинает понимать, что именно в нем причина их
разлуки с Марусей, и спешит устранить последнюю пре-
граду:
«— Нет, тот самый. Я сама слышала, как он сказал
маме, что он улетает завтра далеко п насовсем. Я ела крас-
ный помидор, а мама ему ответила: «Ну, прощайте, счаст-
ливый путь».
Отец Светланы, видимо, человек сильный, верный, бла-
городный. Его союз с женой освящен их добровольным со-
гласием иметь общую судьбу, и он не посягает на свободу
чувства своей подруги.
«Голубая чашка» написана не о ревности, властью ин-
стинкта требующей подчинения любимого существа, вы-
зывающей нелепые, оскорбительные для людского досто-
инства поступки. Это рассказ о доверии к блиакому чело-
203
веку, о естественности и закономерности такого доверия.
Отец виноват перед женою в том, что усомнился в ней.
Не случайно после разговора об улетевшем летчике в
тексте следует история любви Светланиных родителей.
Отец рассказывает девочке, как во время гражданской
войны он встретил Марусю в степи, принял ее за белогвар-
дейского разведчика, а она, увидев на папахе красноар-
мейскую звезду, обняла его и заплакала.
Наутро в бою за город, из которого от белых убежала
девушка, отца ранили в грудь, он попал в лазарет. И к не-
му пришла эта девушка, Маруся.
«— Вот тогда-то мы с Марусей во второй раз встрети-
лись и с тех пор уж всегда жили вместе»,— сказал отец.
Светланиных родителей объединяет большое чувство,
прошедшее суровую проверку в огне боев за общее счастье.
Писатель связывает верность людей друг другу с их
революционным прошлым, и неожиданно тема доверия к
близкому человеку, поднятая Гайдаром в «Голубой чаш-
ке», приобретает подлинно гражданское звучание.
Тема доверия... Нечаянно ли она поставлена автором
накануне тяжелого для нашей страны 1937 года? Или в
рассказе раздался призыв доверять людям, чья честность
проверена временем, и отбросить подозрительность, при-
чину общих несчастий?
Об этом нам приходцтся только гадать.
Но вернемся к рассказу, который хотя и близок к за-
вершению, но еще не закончен.
«— Папка,—взволнованно спросила тогда Светлана,—
это ведь мы не по правде ушли из дому? Ведь она нас лю-
бит. Мы только походим, походим и опять придем.
— Откуда ты знаешь, что любит? Может быть, тебя
еще любит, а меня уже нет.
— Ой, врешь,— покачала головой Светлана.— Я ячера
ночью проснулась, смотрю — мама отложила книгу, по-
вернулась к тебе и долго на тебя смотрит...»
Светлана показывает, как смотрят, когда любят и ко-
гда сердятся, и отец убежден этой демонстрацией. Вывод
его таков:
«Мы не разбивали голубой чашки. Это, может быть,
сама Маруся как-нибудь разбила. Но мы ее простили. Ма-
ло ли кто на кого понапрасну плохое подумает? Однажды
и Светлана на меня подумала. Да я и сам на Марусю пло-
хое подумал тоже...»
294
Расспросив, как пройти им к Дому поближе, отец й
Дочь отправились в обратный путь.
Хороший трудовой день окончили советские люди и
шли по домам с работы. Вернулся в гараж колхозный гру-
зовик. Пропела военная труба. Загудел за лесом паровоз.
Наступал вечер.
...На крыше дачи крутилась вертушка, и Маруся, улы-
баясь, встречала своих.
«Глаза Маруси были карие, и смотрели они ласково.
Видно было, что ждала она нас долго, наконец-то дожда-
лась и теперь крепко рада.
«Нет,— твердо решил я, отбрасывая носком сапога ва-
лявшиеся черепки голубой чашки.— Это все только серые
злые мыши. И мы не разбивали. И Маруся ничего не раз-
бивала тоже».
Опять аллегория! Серые злые мыши — это, наверное,
подозрительность. Хорошие люди изгнали ее из своих сер-
дец, и в семье воцарился мир. Им уже больше ничего не
угрожает, да и Светлане подарили котенка, он будет за-
щищать от мышей, и об этом сказано для того, чтобы и
маленький читатель понял: все будет хорошо.
Таков первый конец рассказа. С голубой чашки начал-
ся, ею и кончился. Так бывает в литературе, хотя в жизни
хозяйка не станет выбрасывать осколки битой посуды с
крыльца на улицу.
Символическую роль голубой чашки можно проследить
и по другим приметам: хранилась она в темном чулане,
куда хозяева заглядывали не каждый день. Любимой чаш-
ке там не место. А ее цвет, форма — не напоминает ли это
небо, где летает смутивший покой семьи летчик?..
Но вот и второй конец:
«— Ну что?! — забирая с собой сонного котенка, спро-
сила меня хитрая Светлана.— А разве теперь у нас жизнь
плохая?
Поднялись и мы.
Золотая луна сияла над нашим садом.
Прогремел на севере далекий поезд.
Прогудел и скрылся в тучах полуночный летчик.
А жизнь, товарищи... была совсем хорошая!»
ОГЛАВЛЕНИЕ
От автора а , , 3
Уменье прочитать оду . . 8 , 9
Чудо «Пиковой дамы» 45
Не пересказывать «Мертвые души»! 73
Как написана «Тамань» 100
Фома Бирюк и другие * 139
Читая Чехова 159
Был ли подтекст у Льва Толстого? 193
Очерк Максима Горького о Ленине 226
Работа стихотворца * 250
Секрет голубой чашки . * , 277
Западов Александр Васильевич
В ГЛУБИНЕ СТРОКИ
М., «Советский писатель», 1975, 296 стр. План выпуска
1975 г. № 335. Художник И. А. Гусева. Редактор
М. Я. М а л х а 8 о в а. Худож. редактор Н. С. Лаврен-
тьев. Техн. редактор И. М. Минская. Корректор
Л. К. Фар и сеева. Сдано в набор 20/XII 1974 г. Подписа-
но к печати 10/IV 1975 г. А05140. Бумага 84X1087*2. М 1.
Печ. л. 974 (15,54). Уч.-изд. л. 15,85. Тираж 40 000 экз. За-
каз Jsfe 950. Цена 89 коп. Издательство «Советский писатель».
Москва Г-69, ул. Воровского, 11. Тульская типография «Со-
юзполиграфпрома» при Государственном комитете Совета
Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книж-
ной торговли, г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109,
' ■. ■