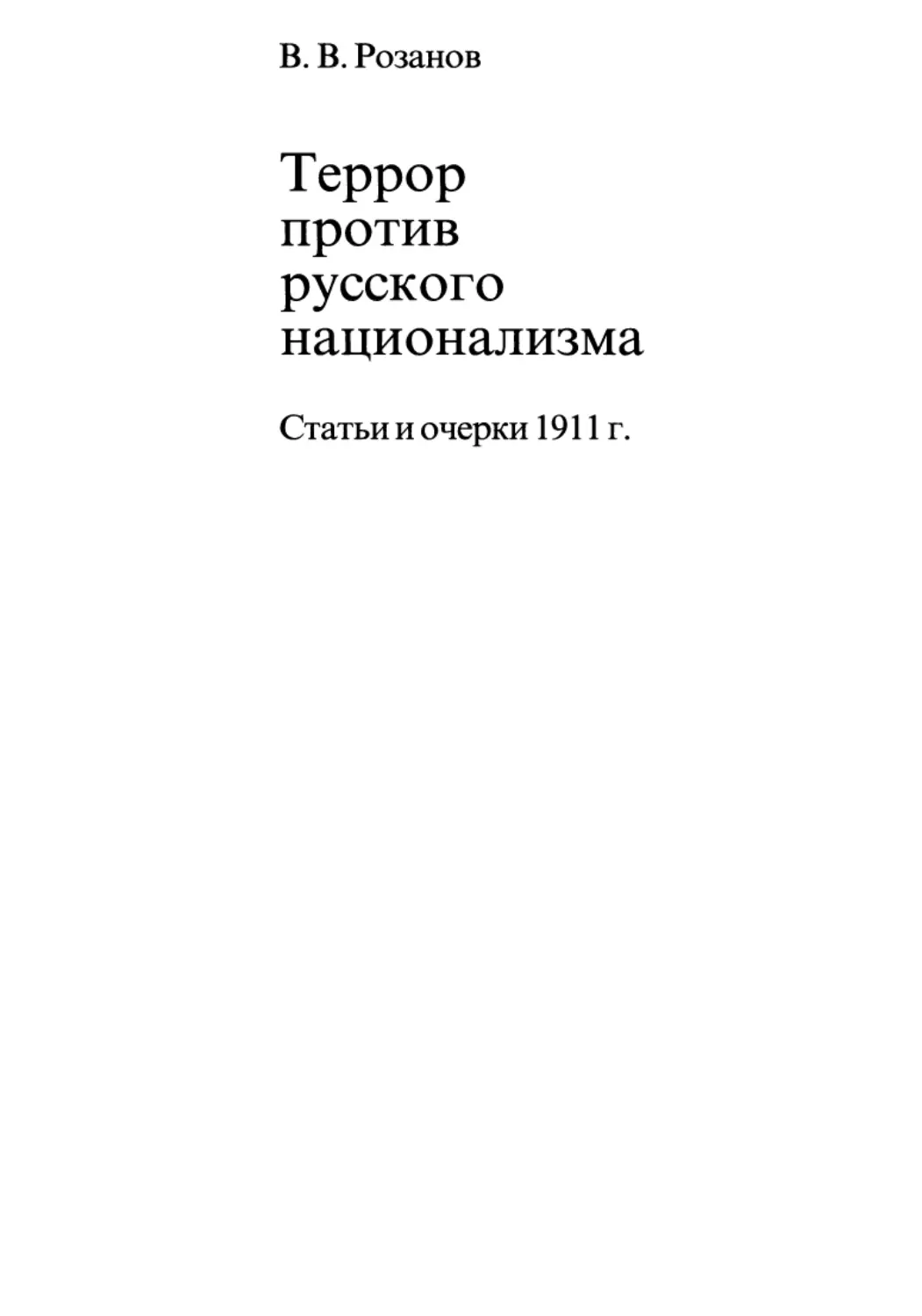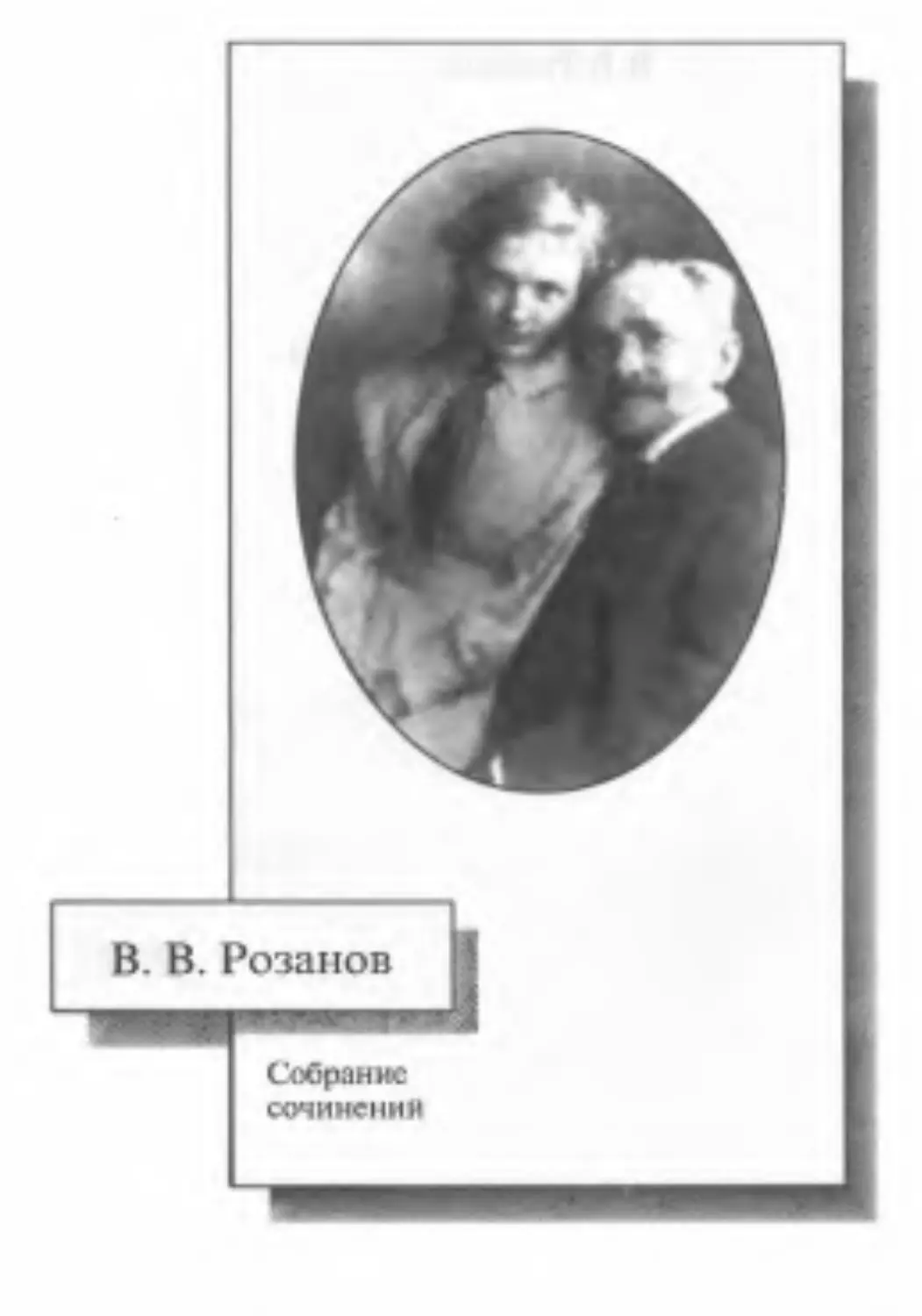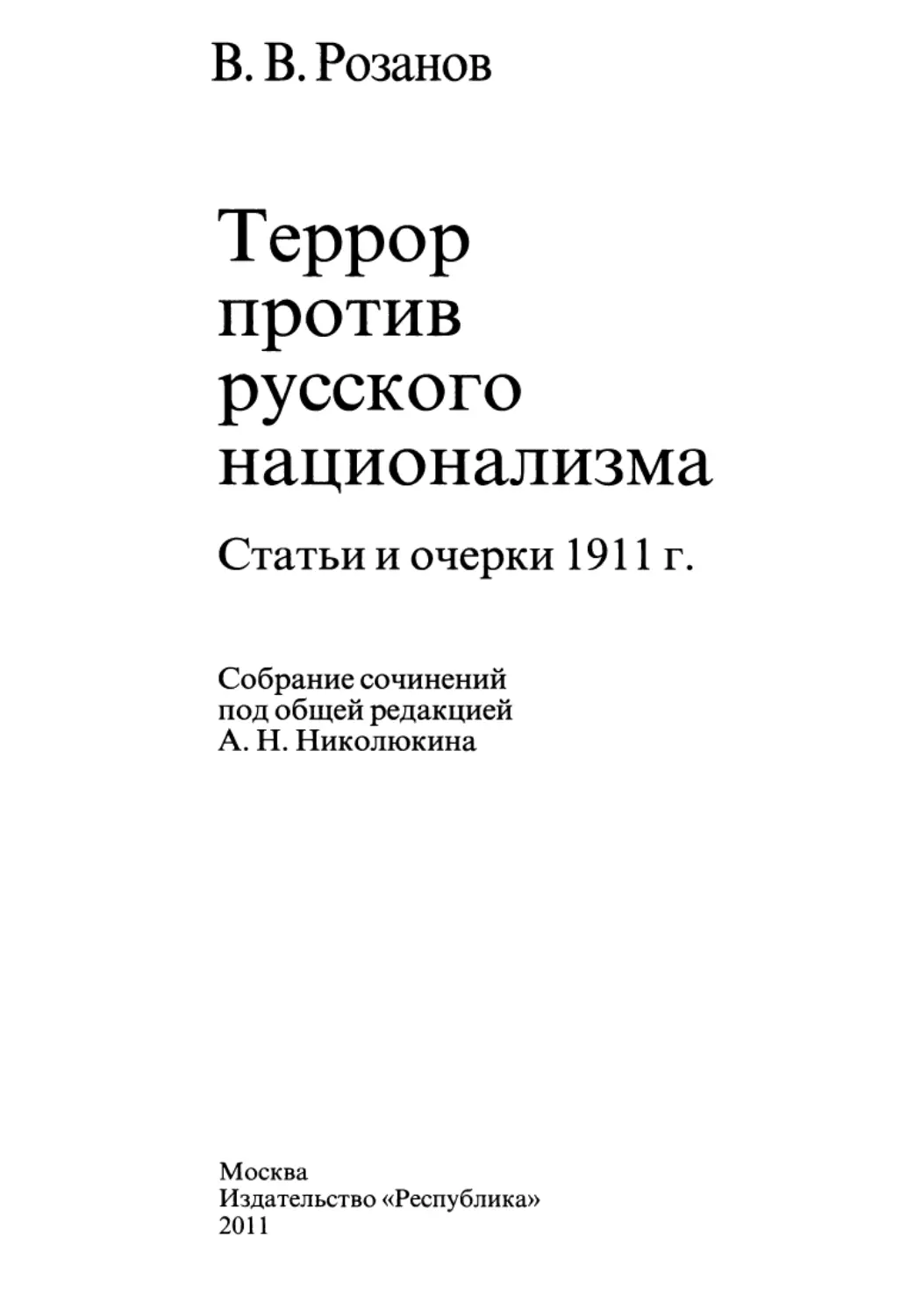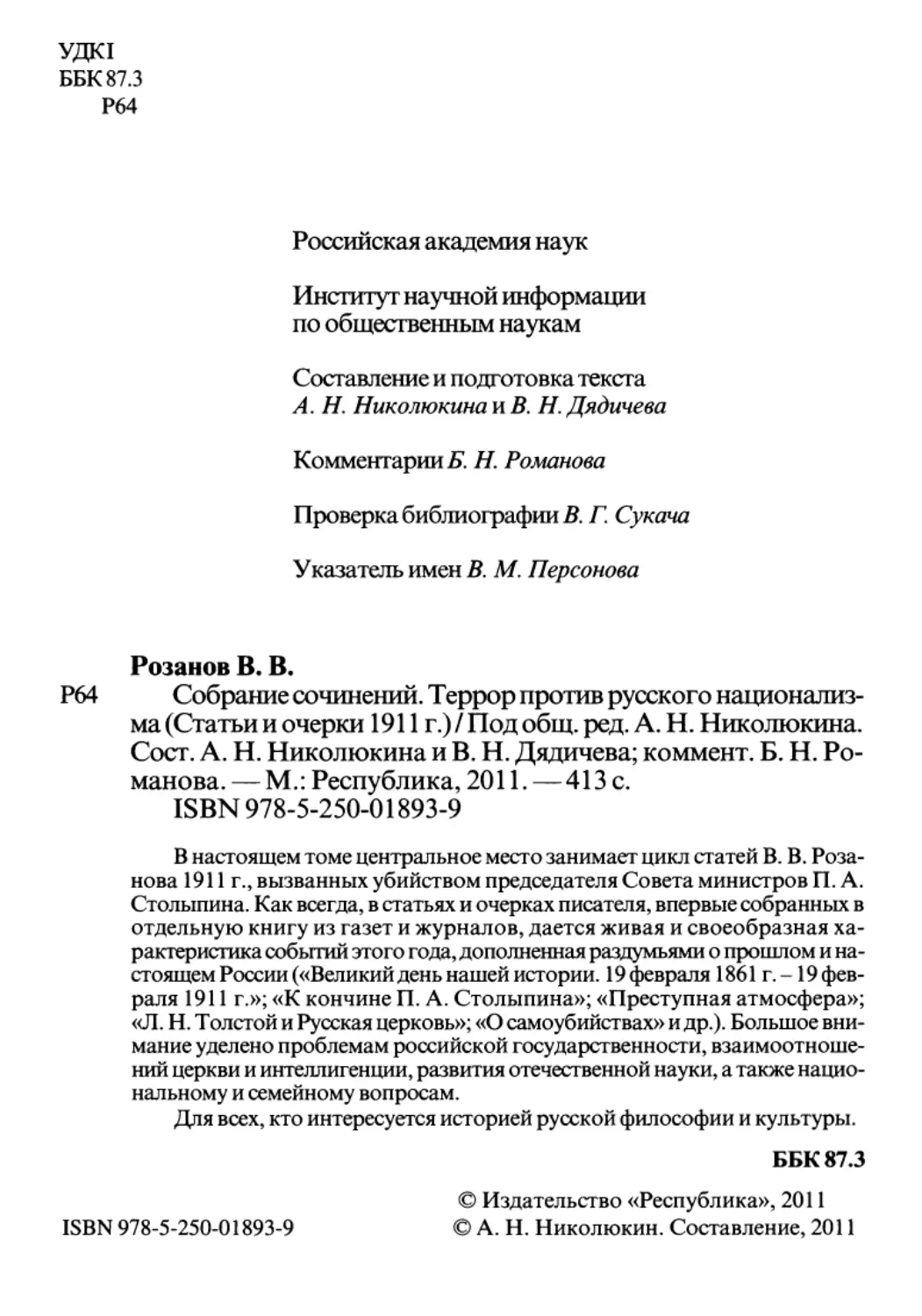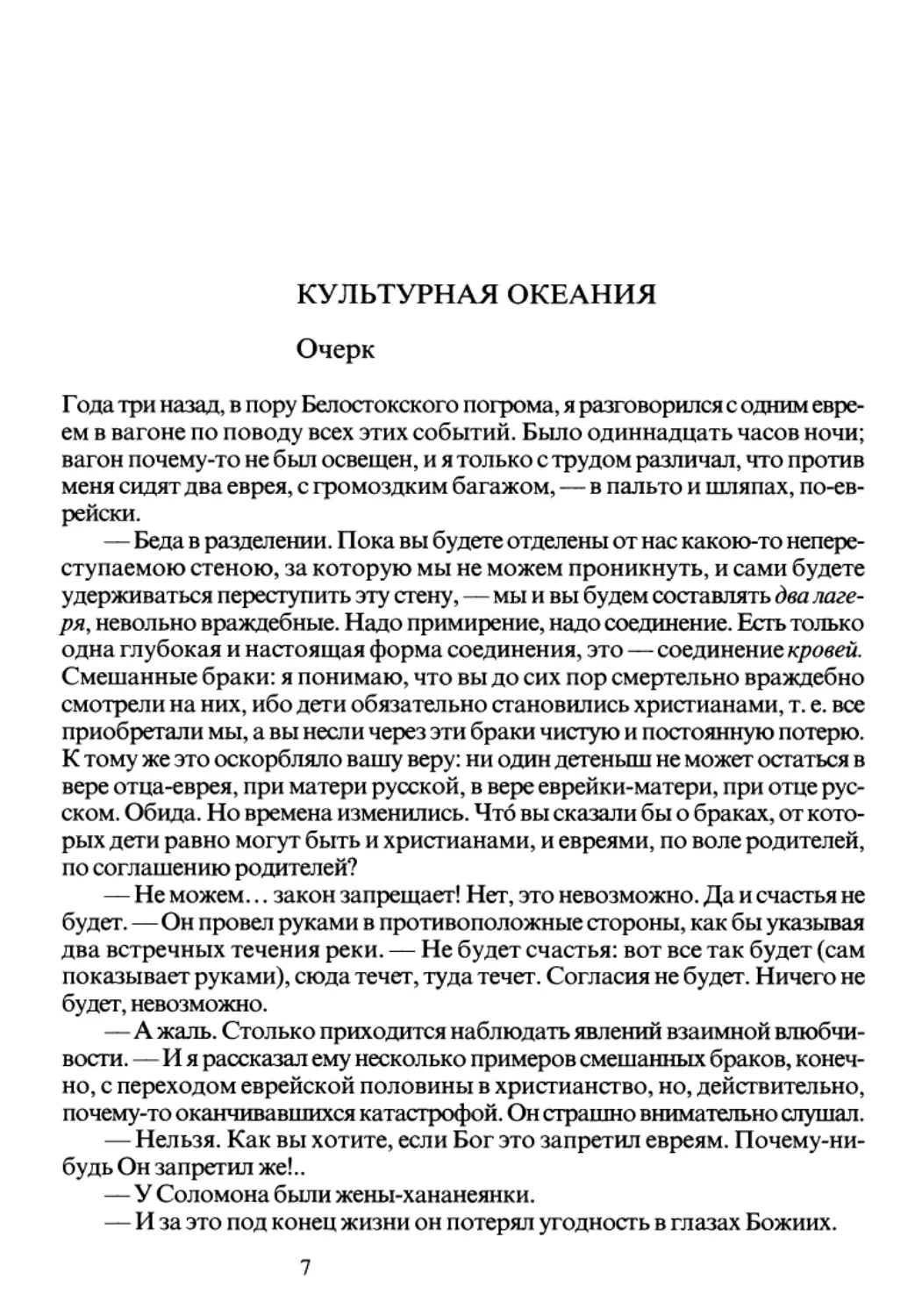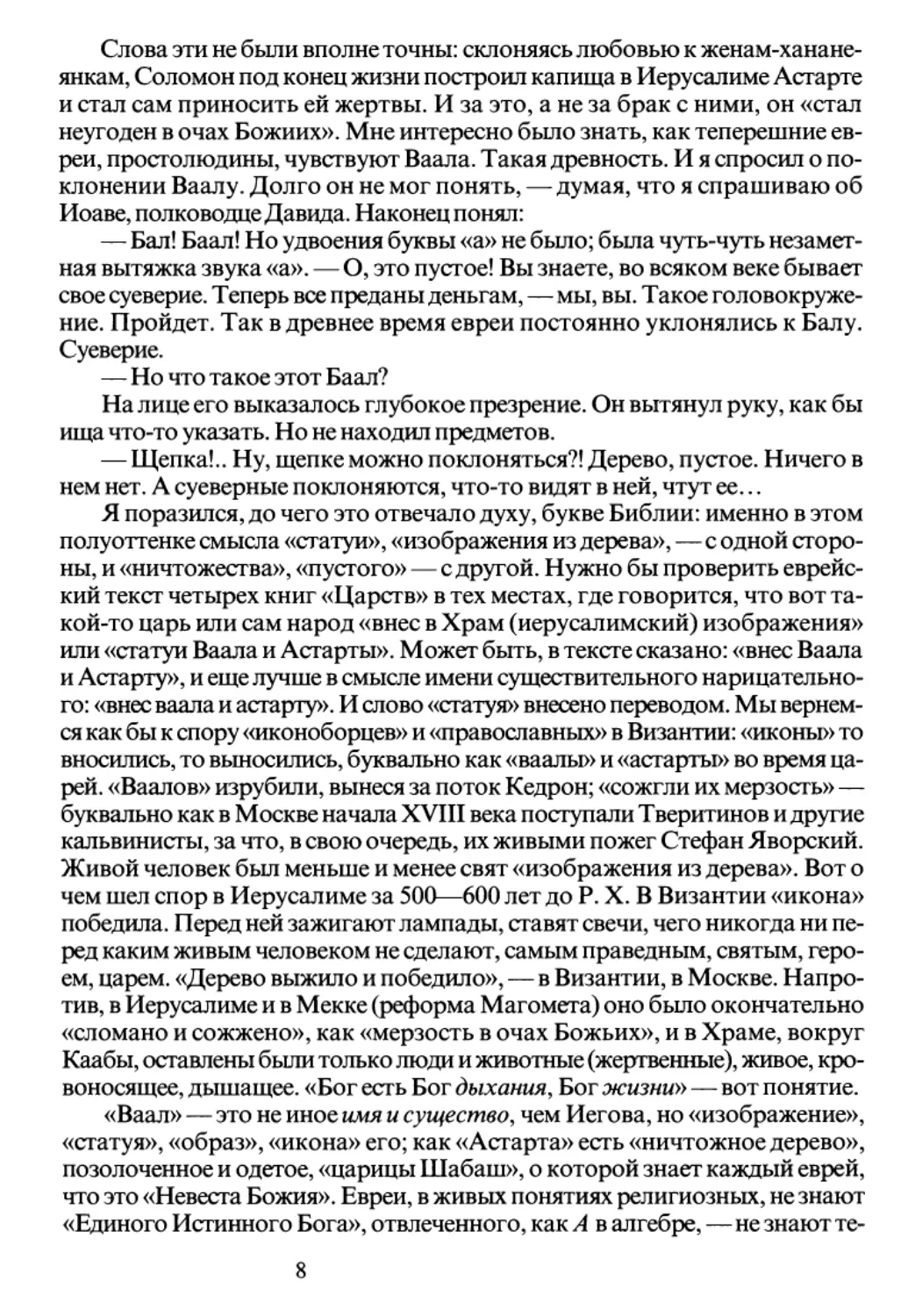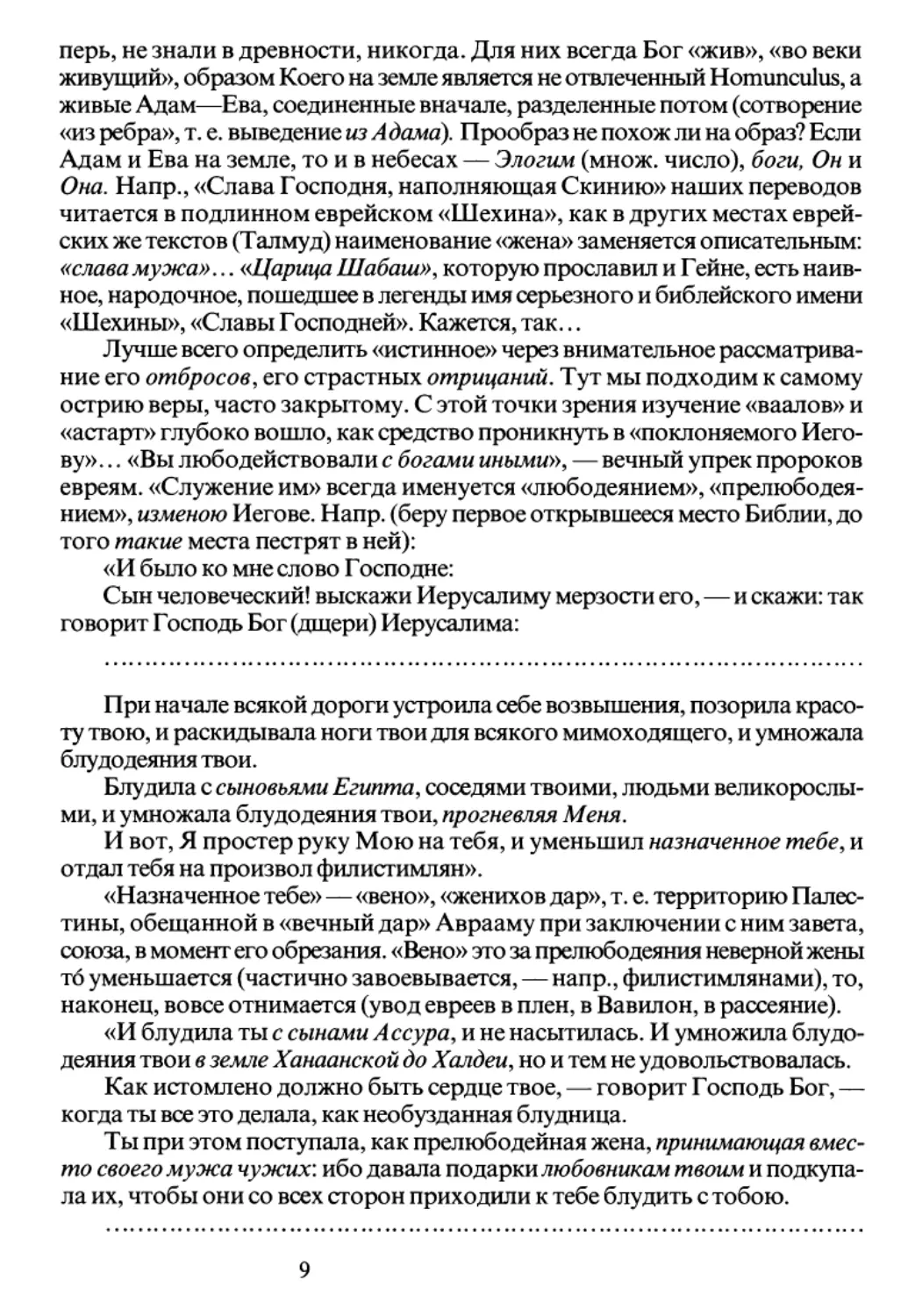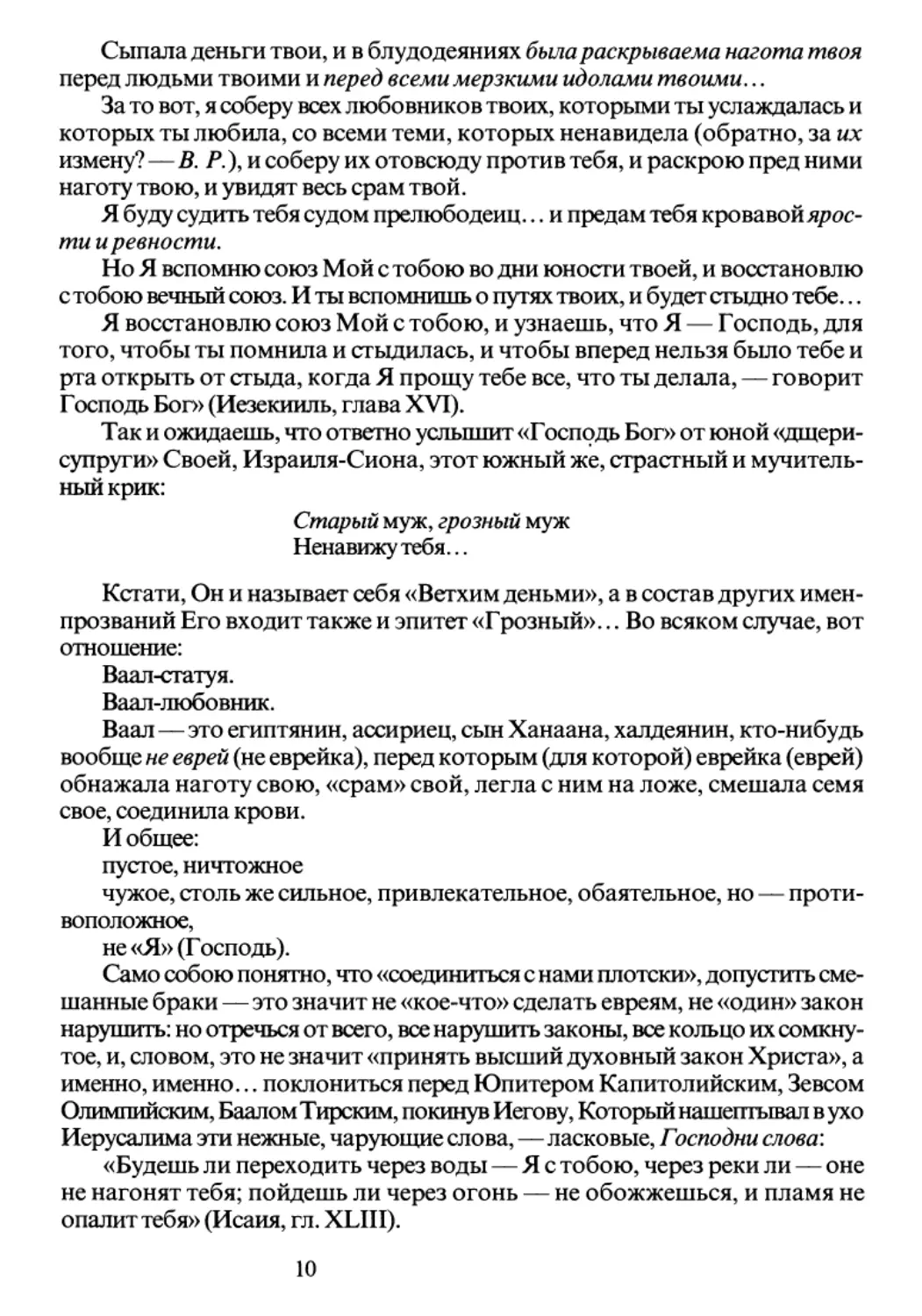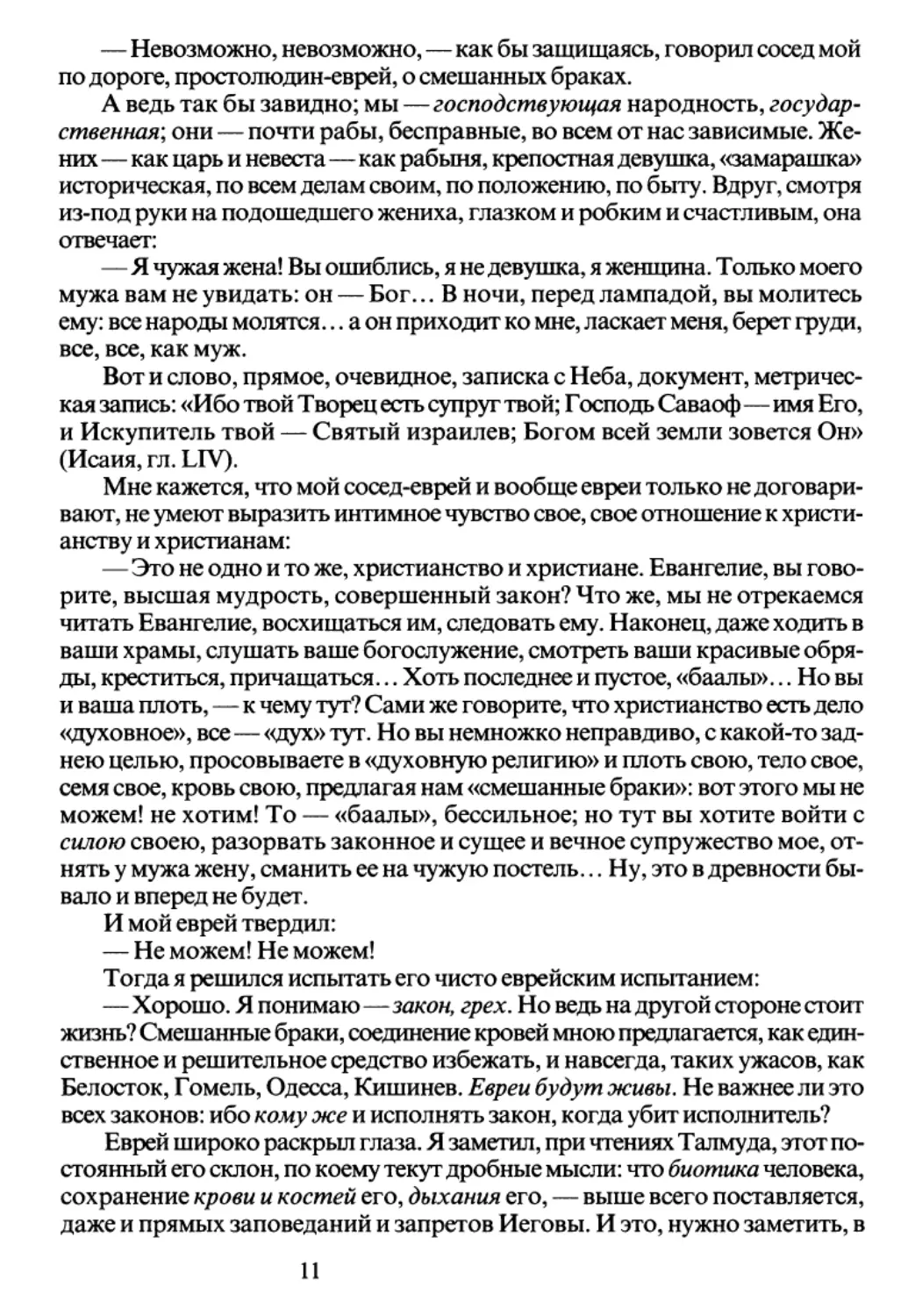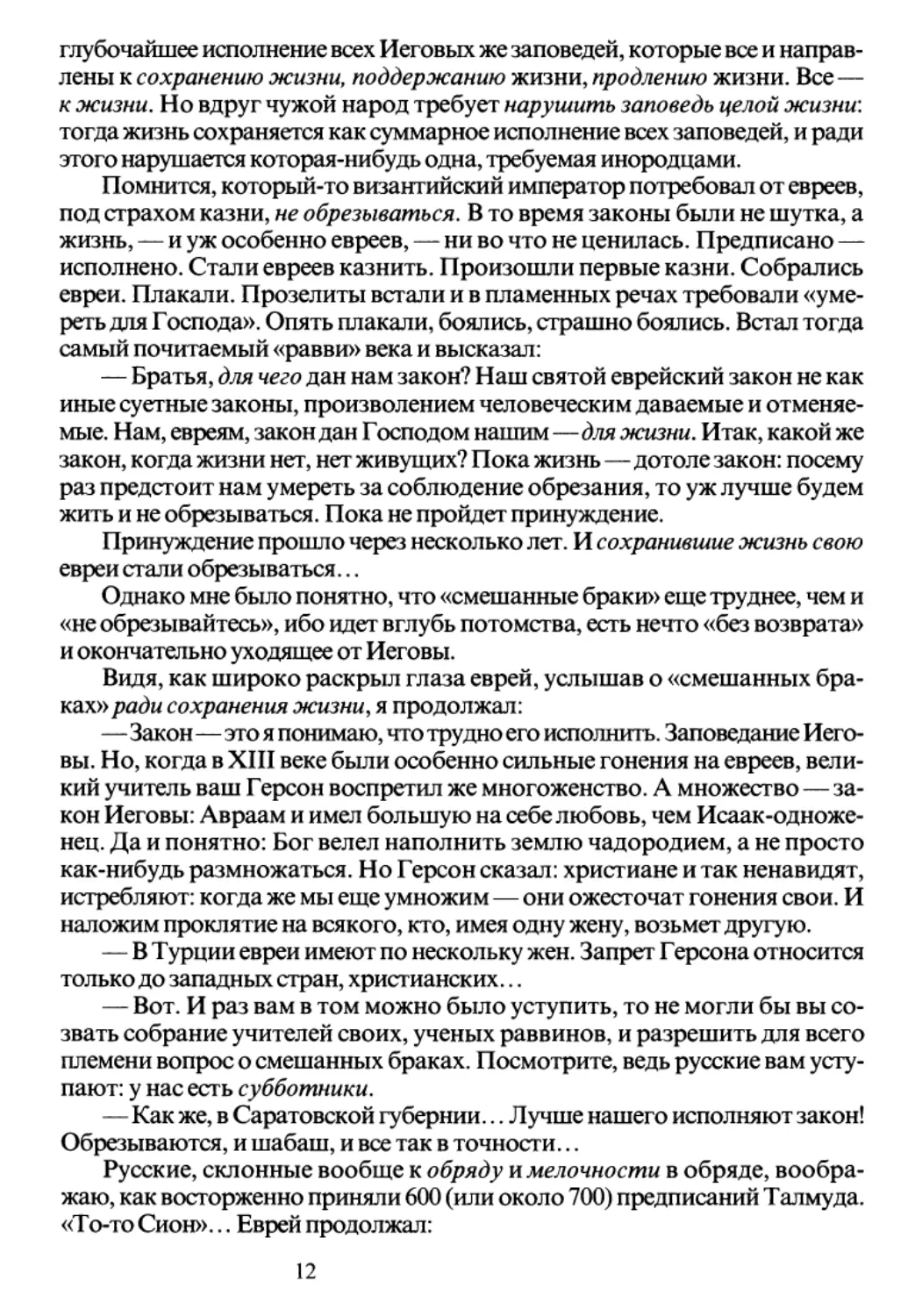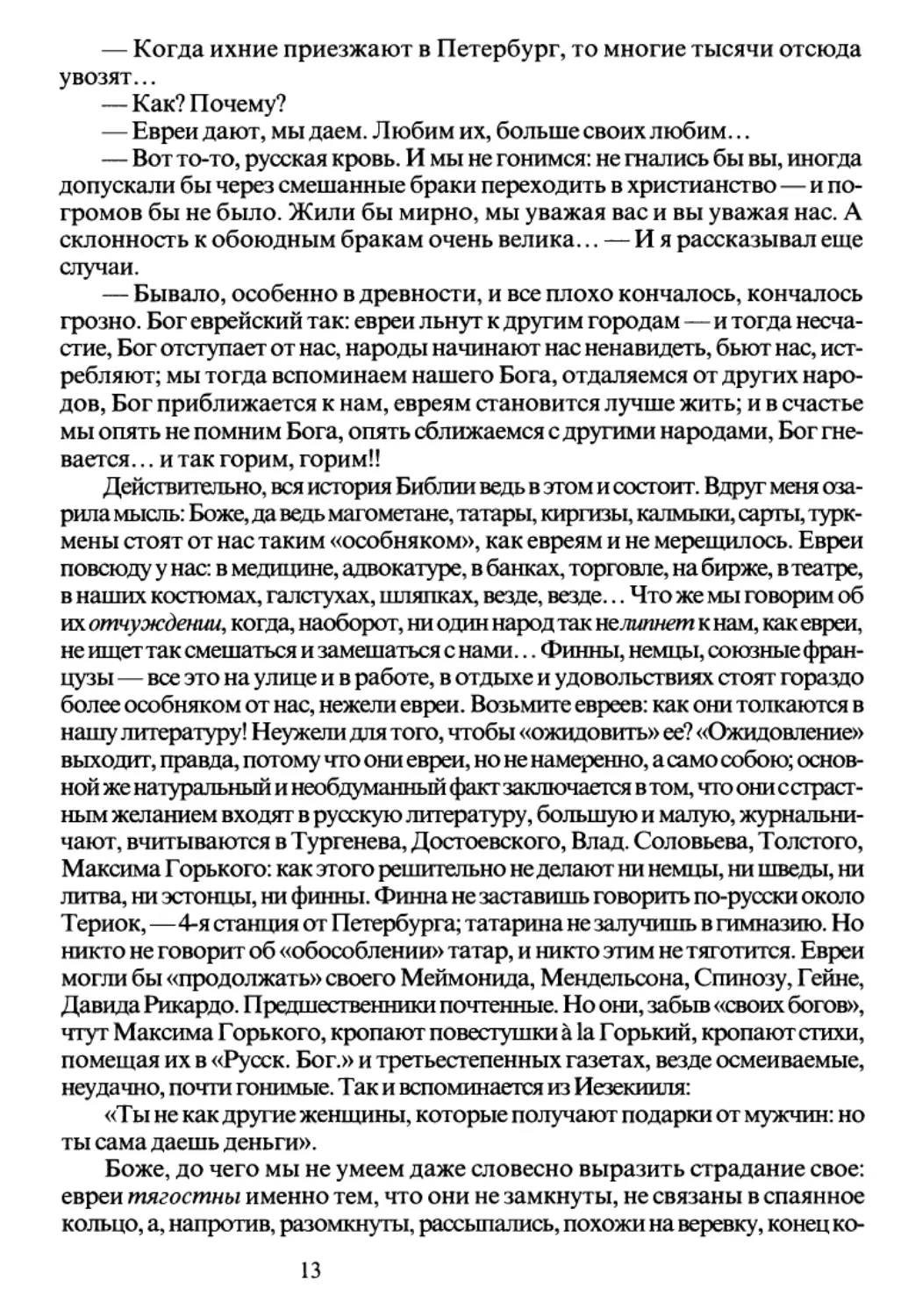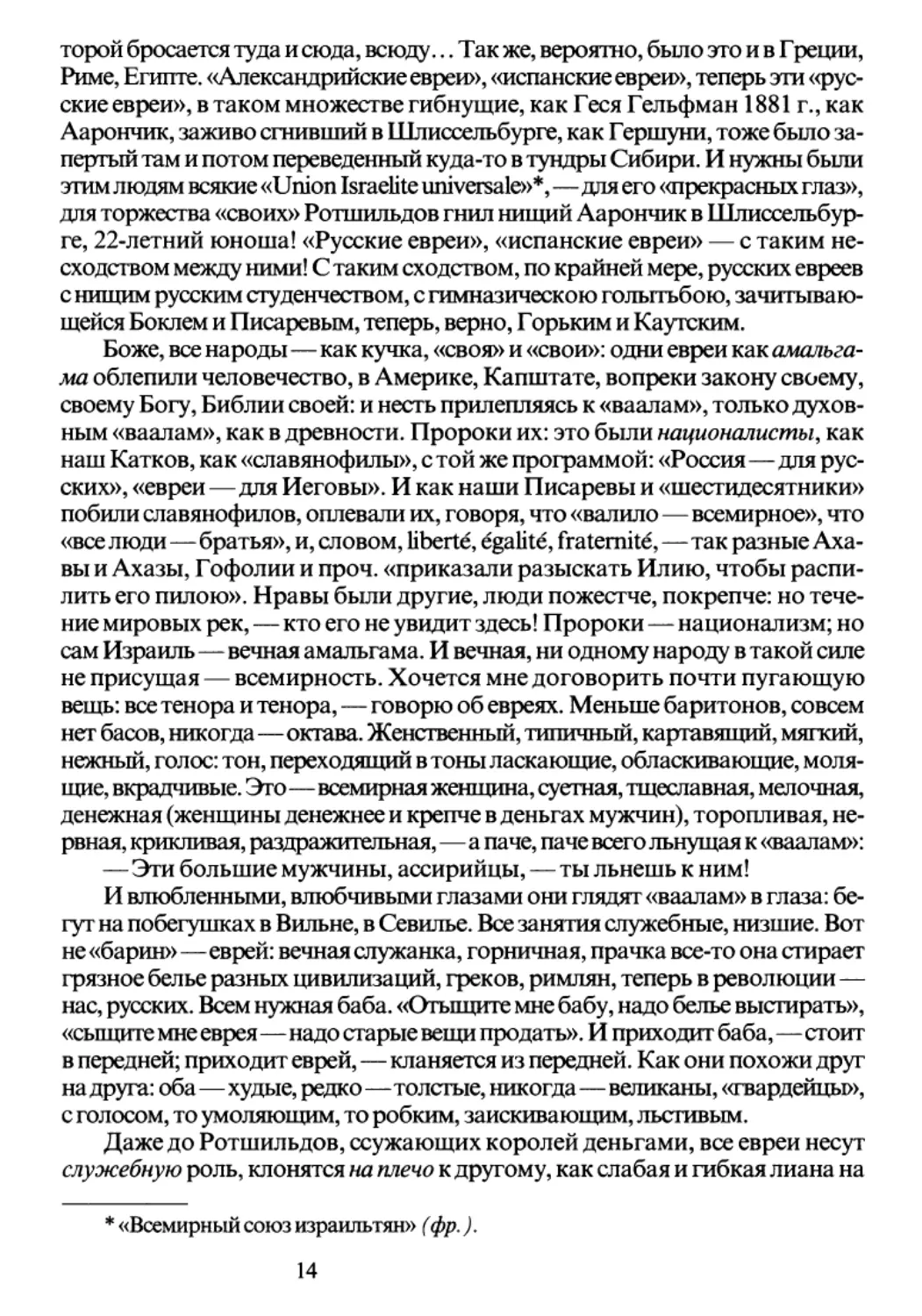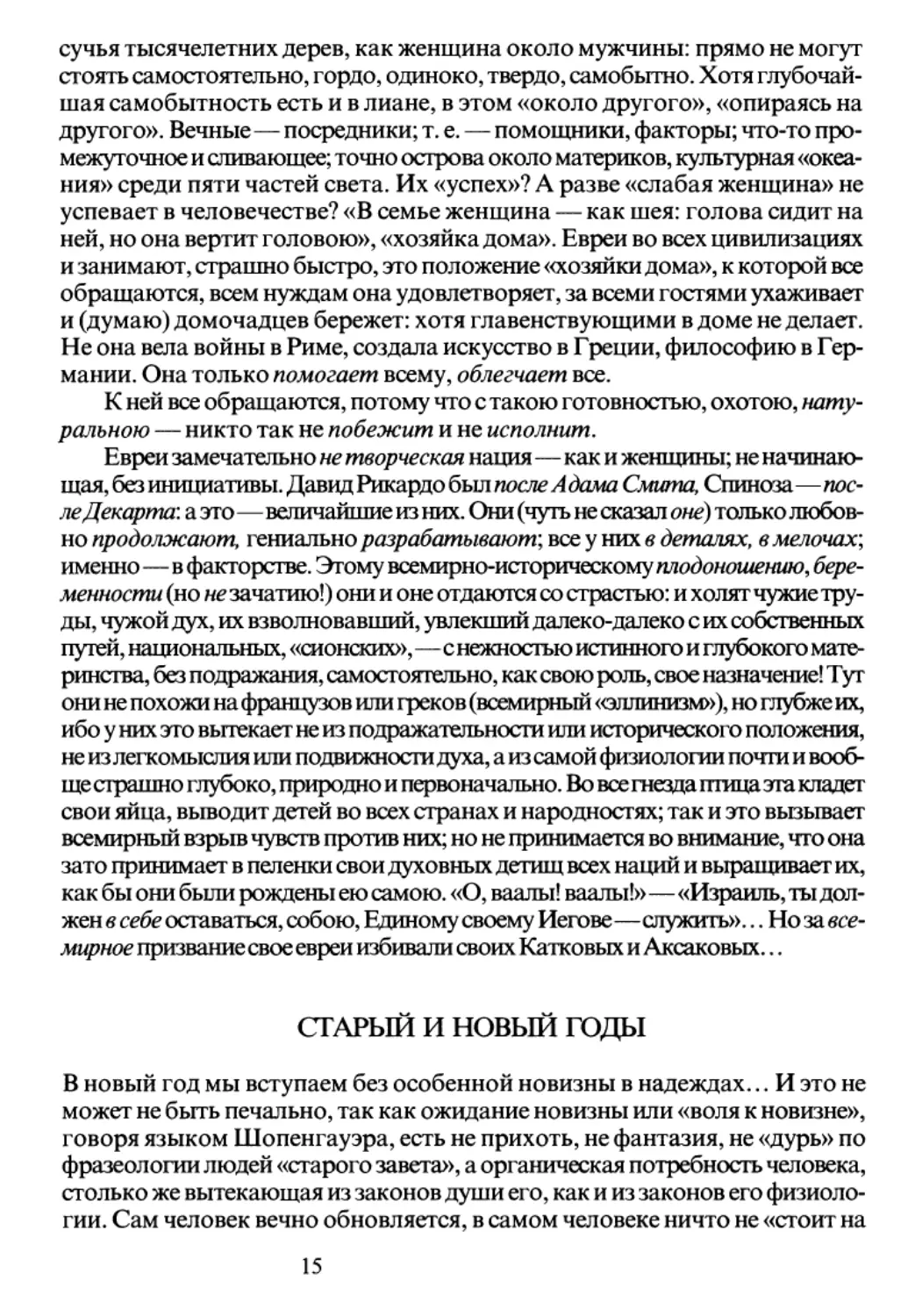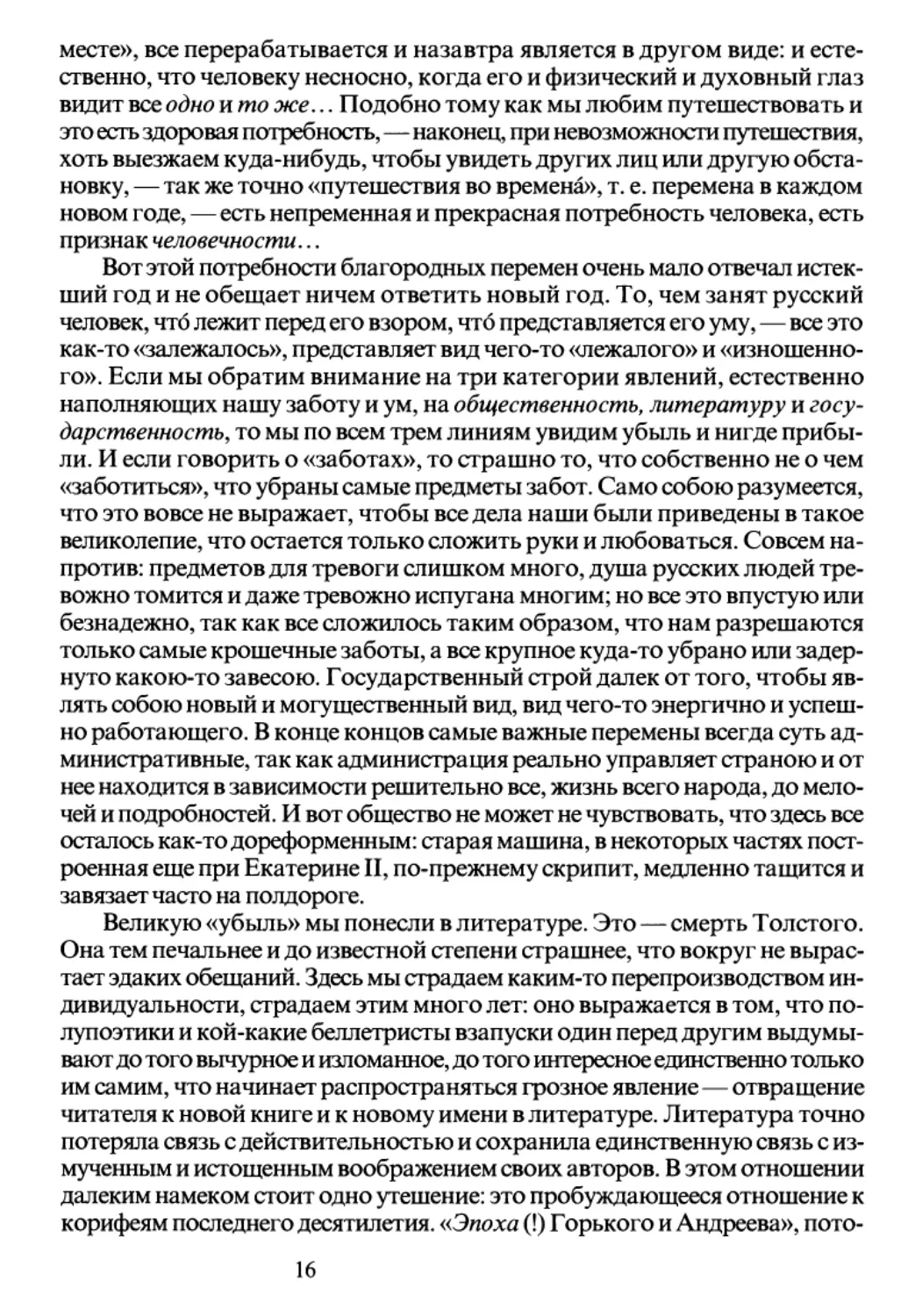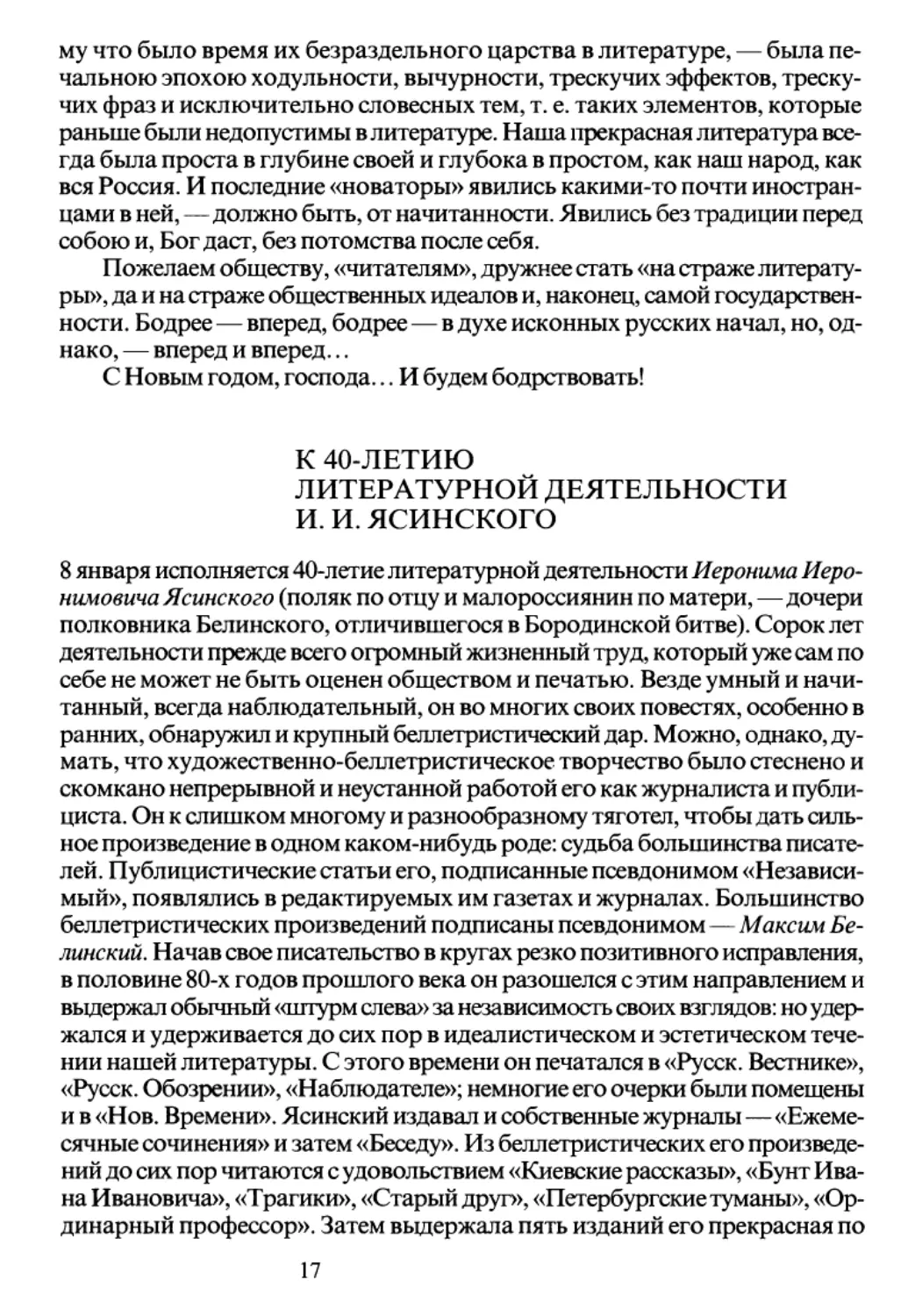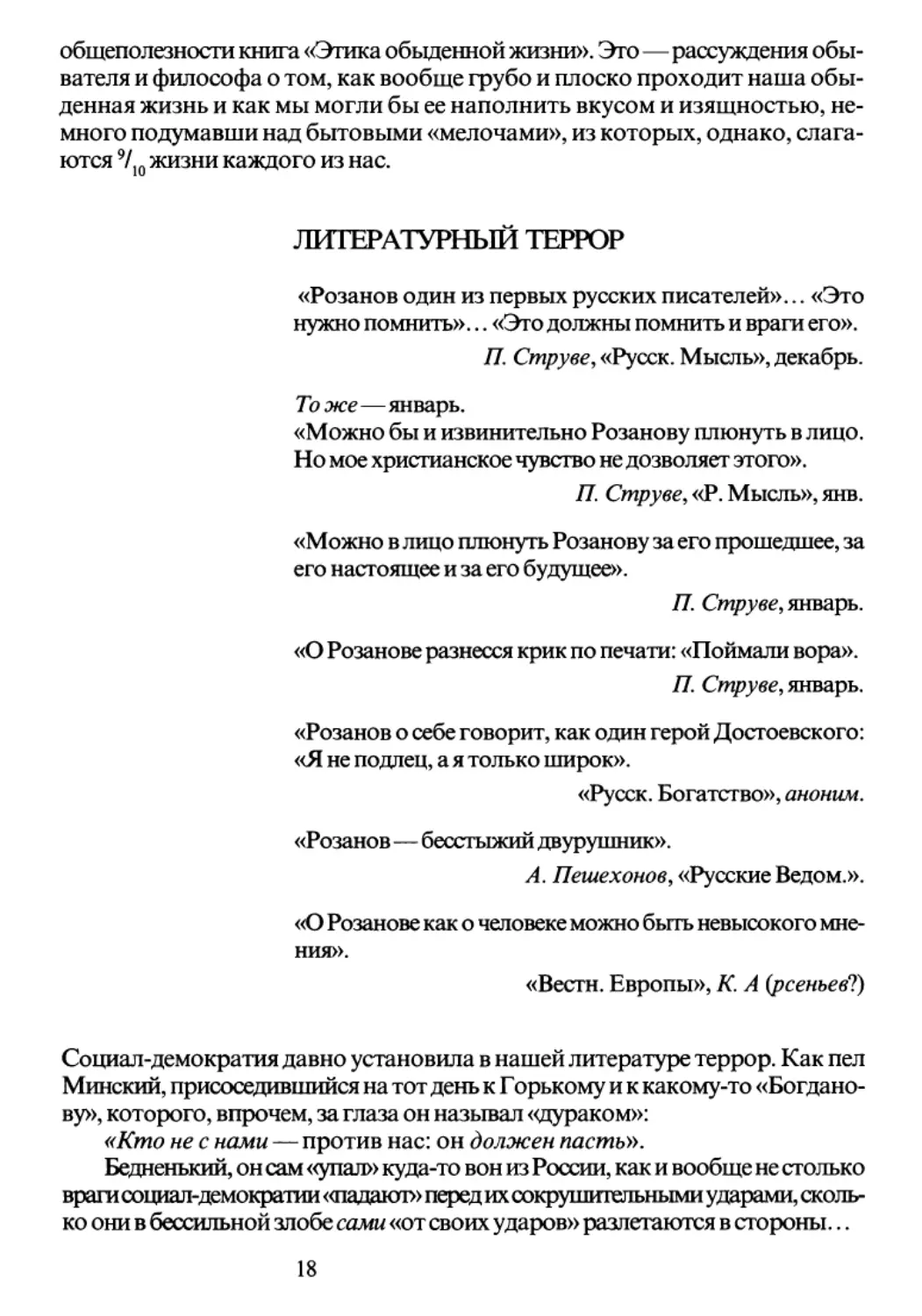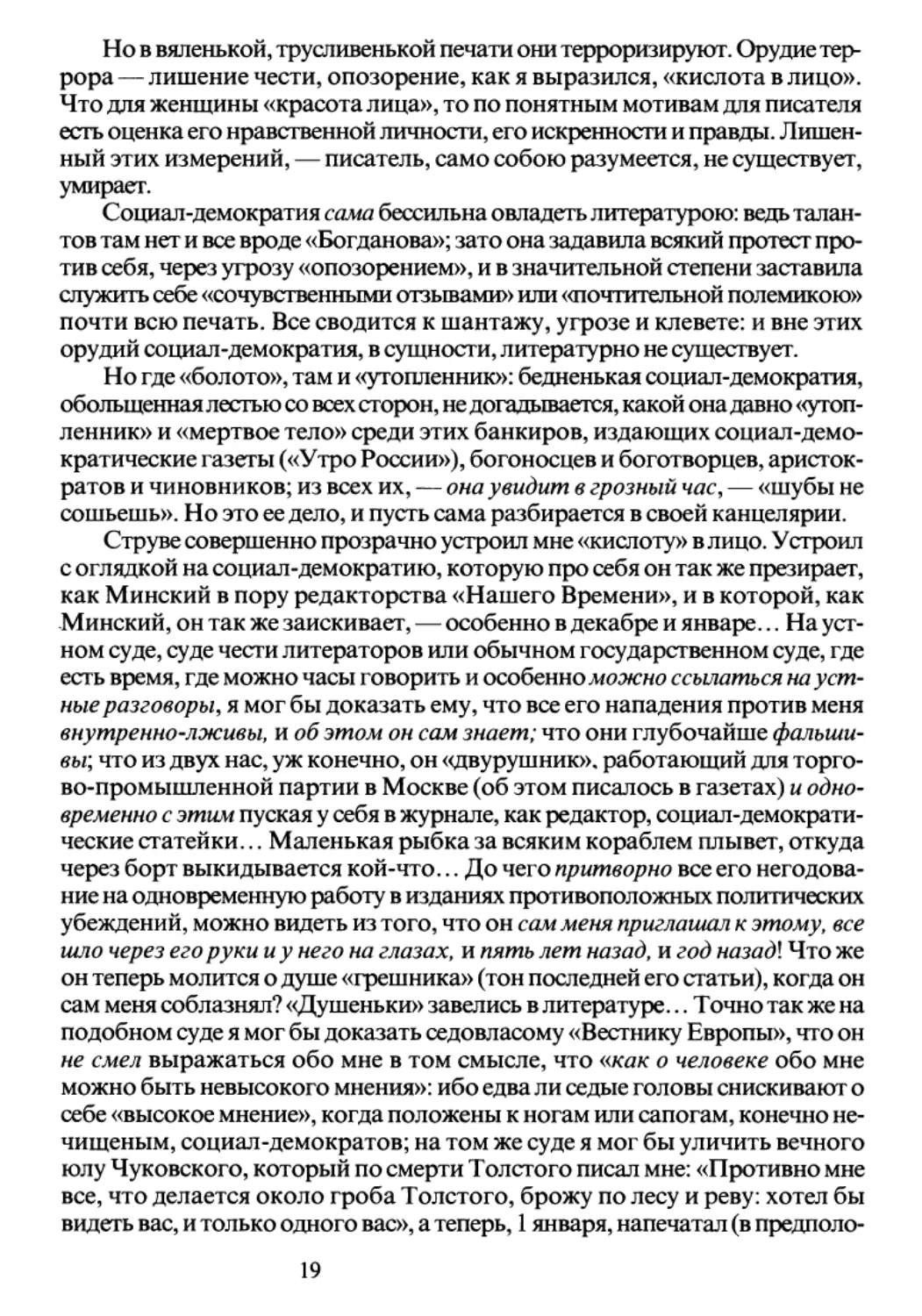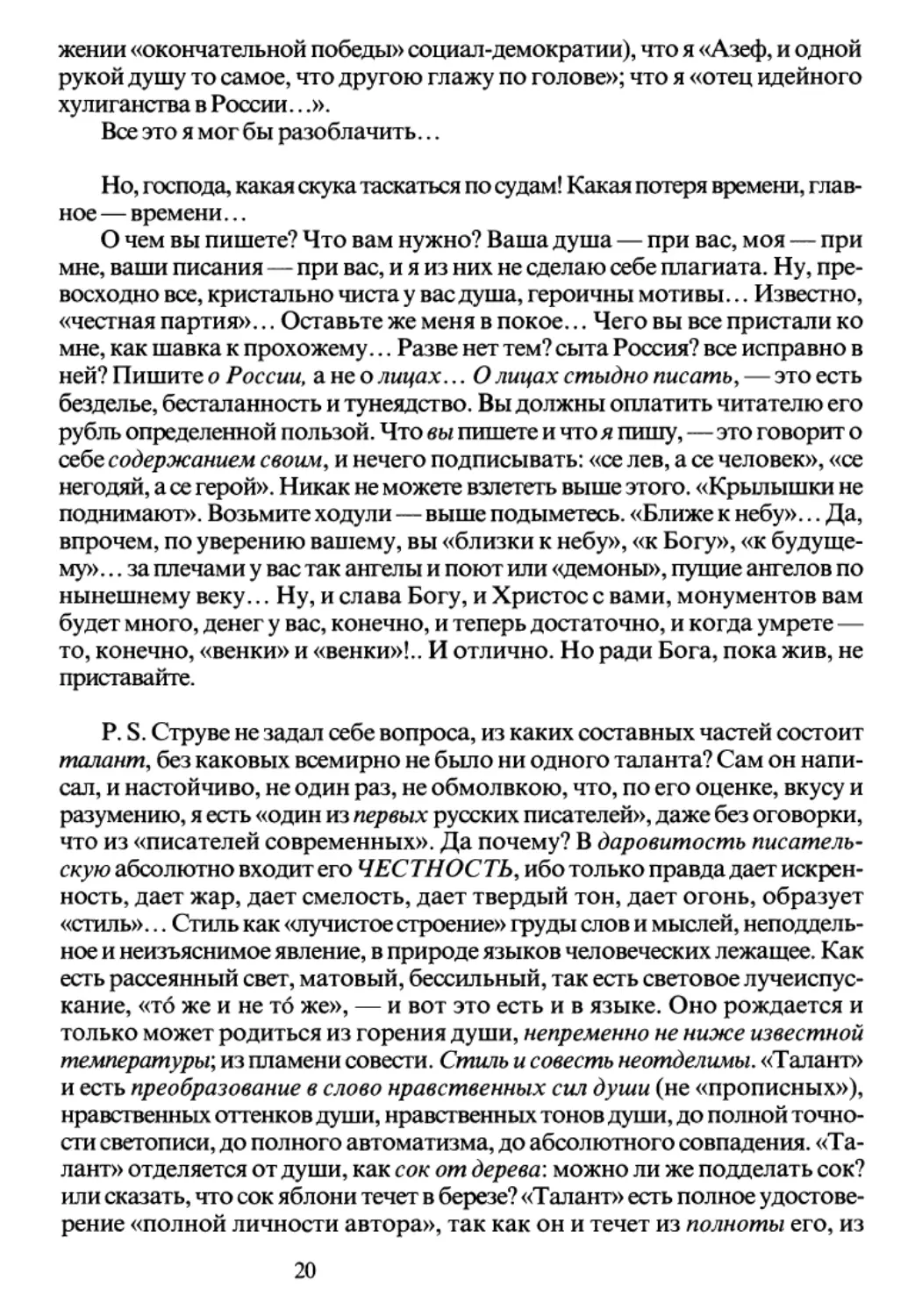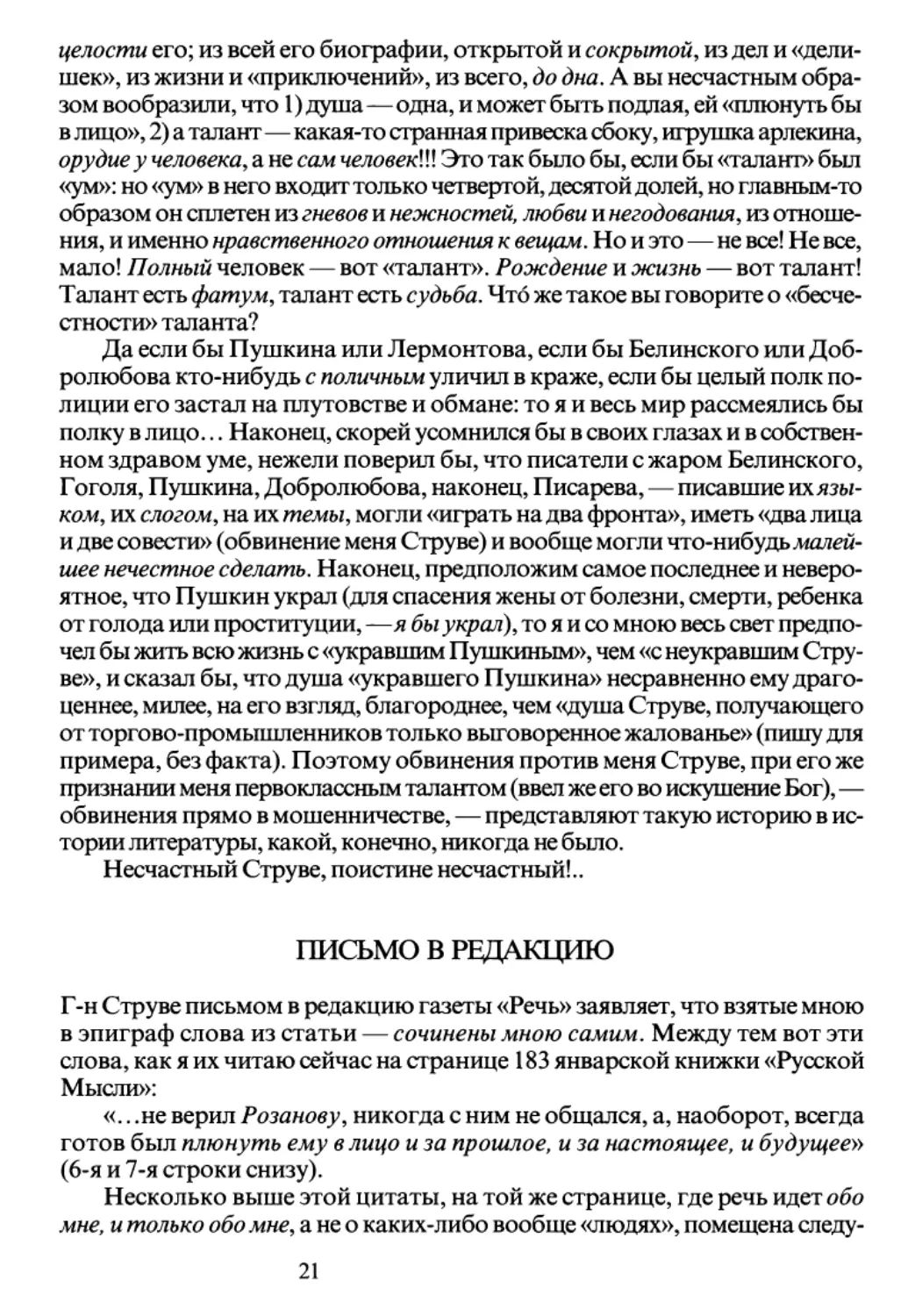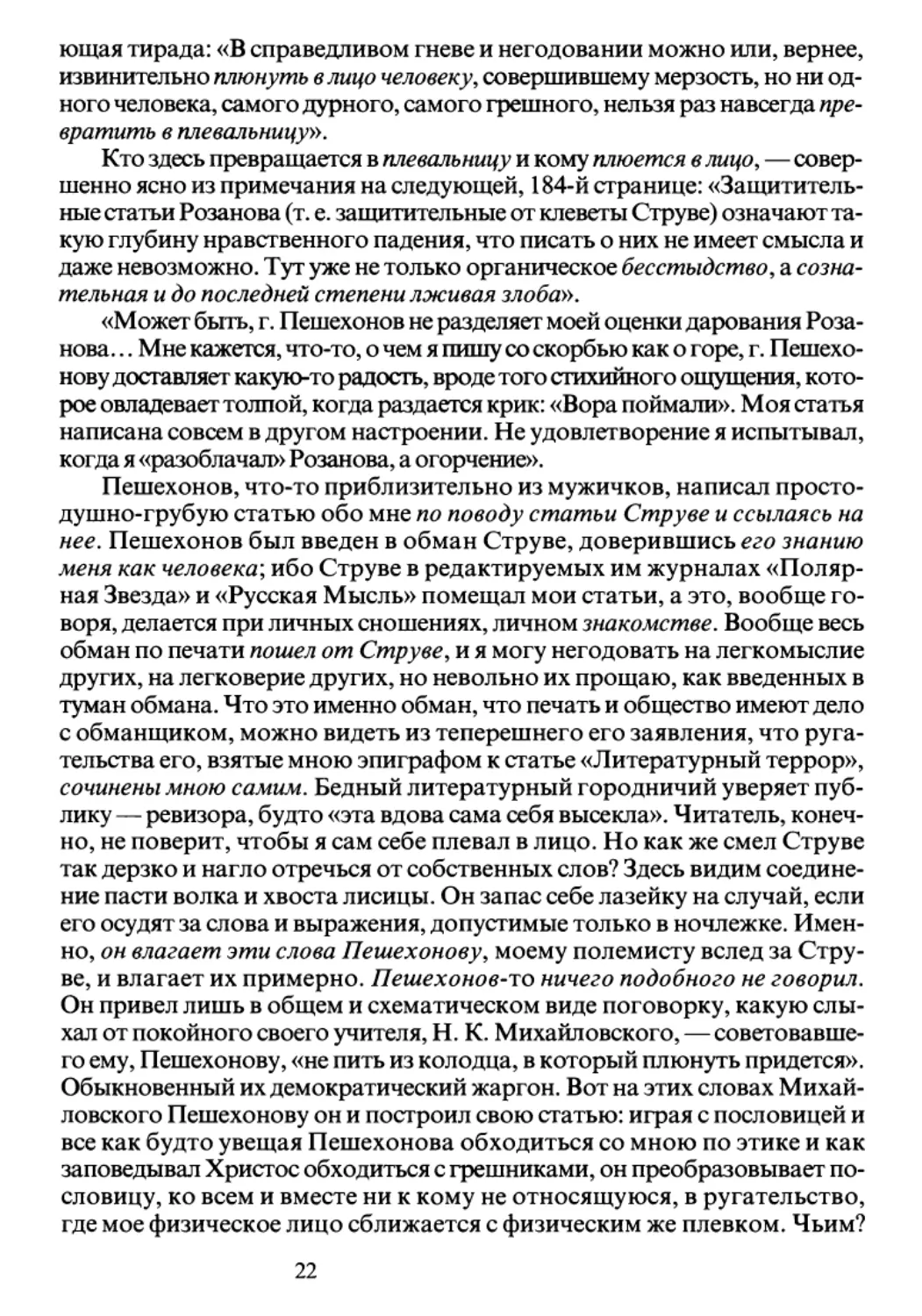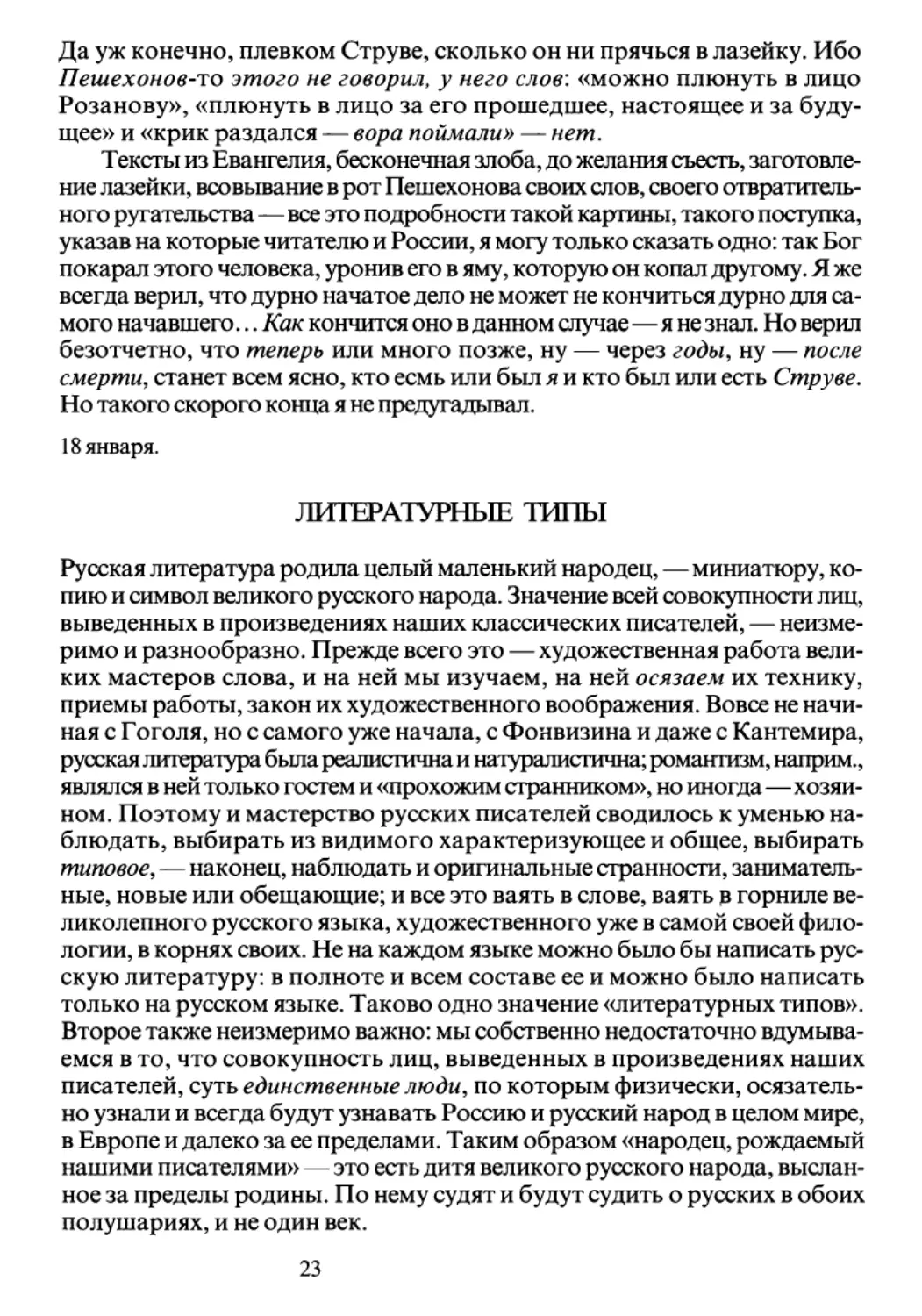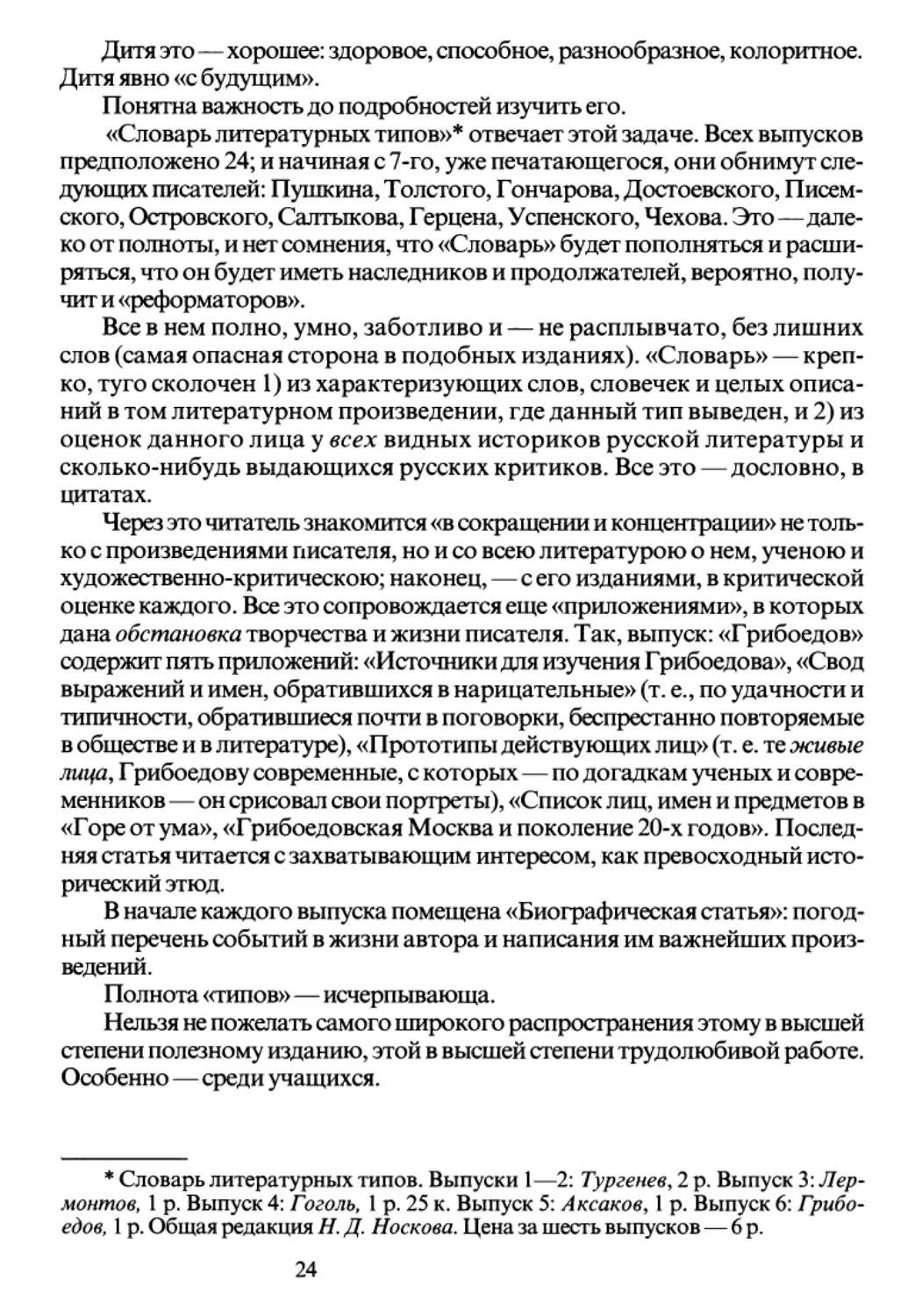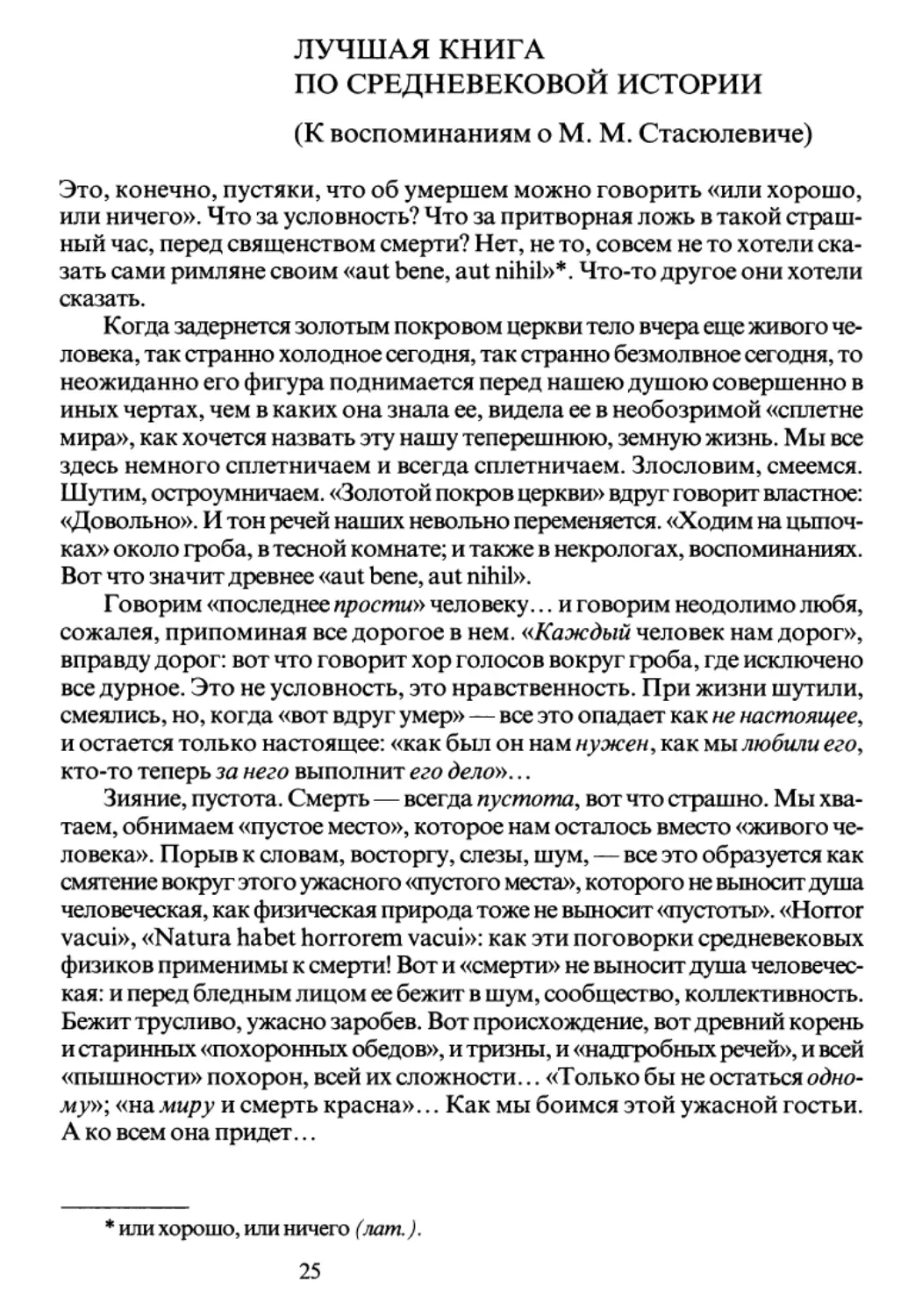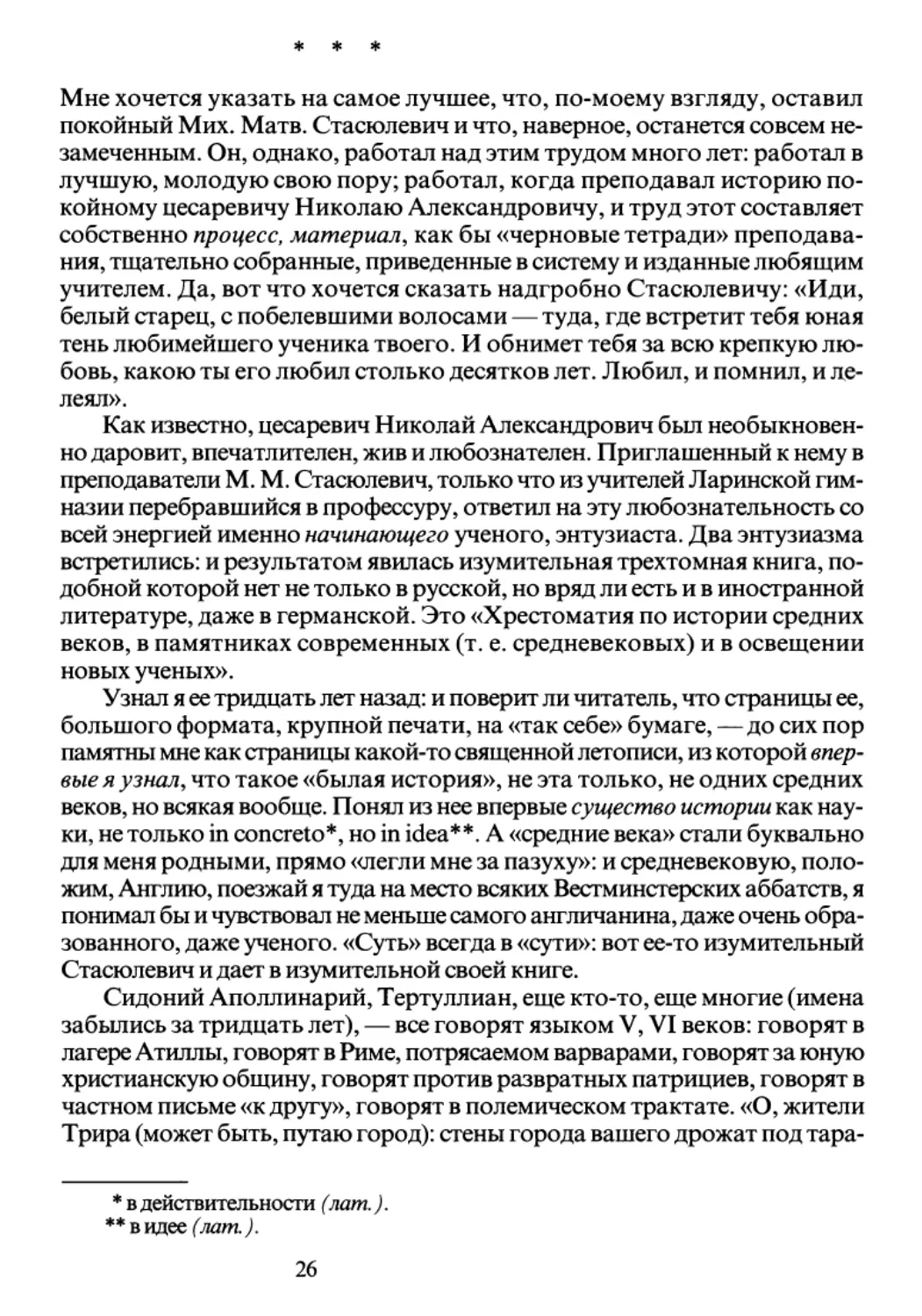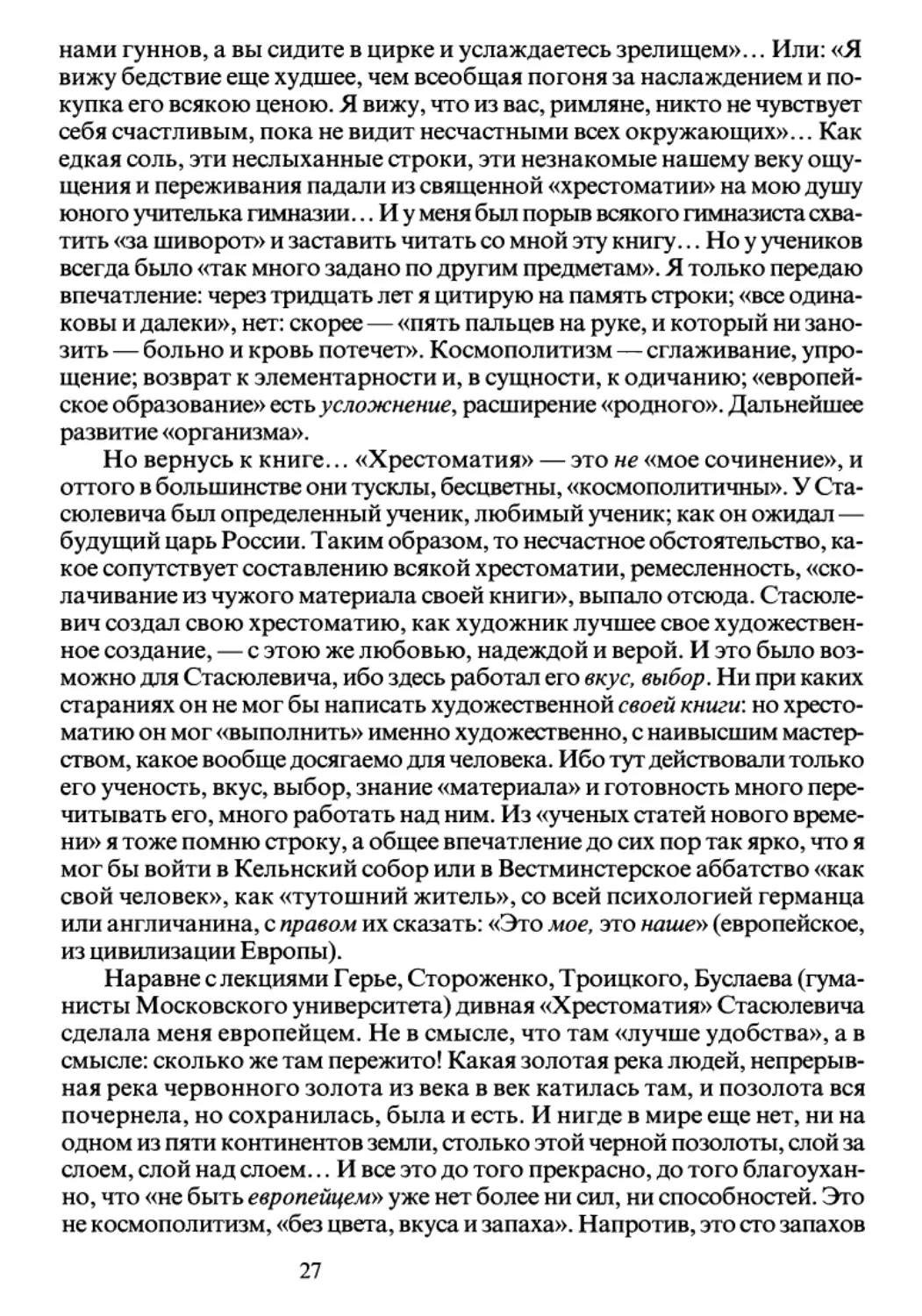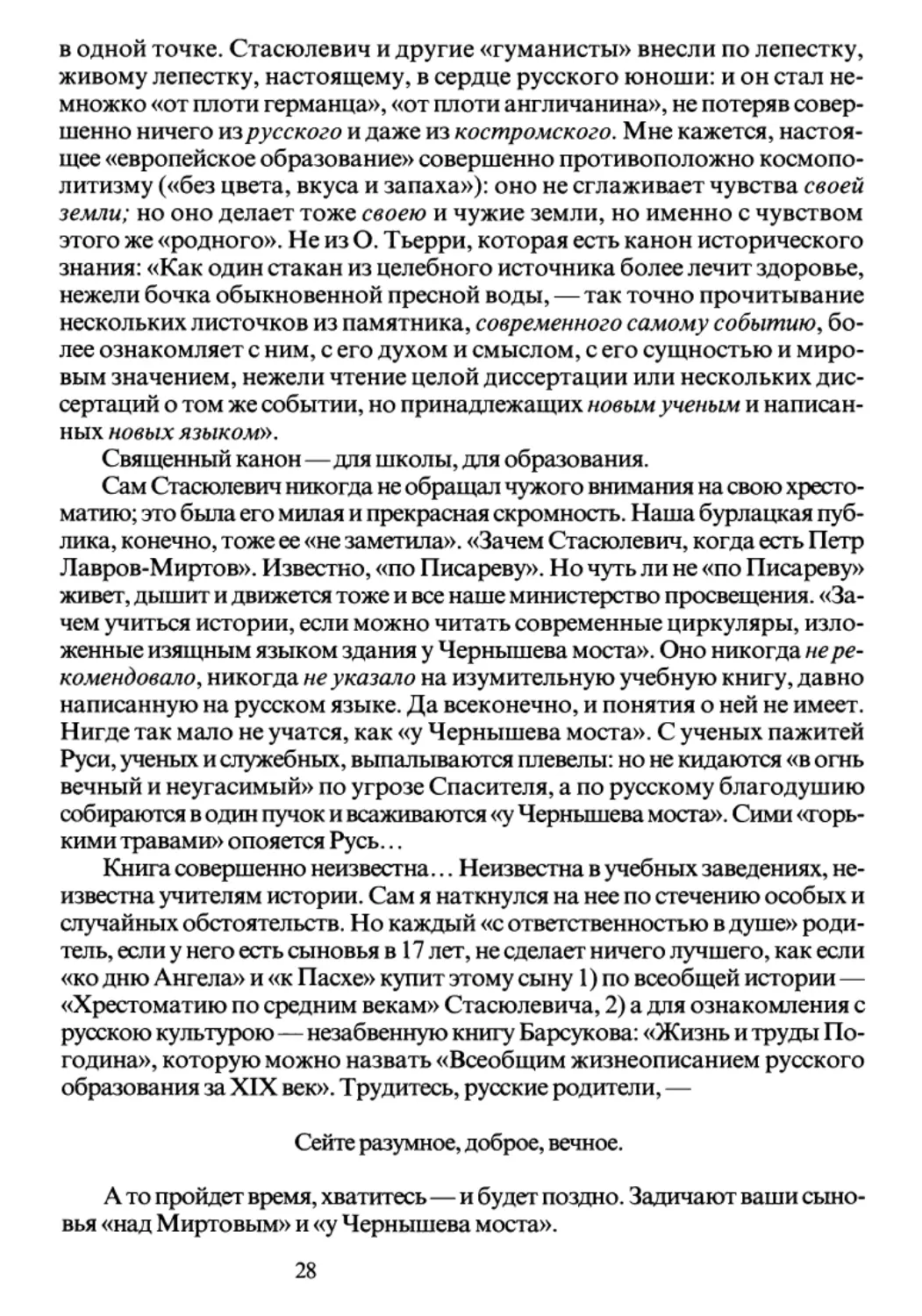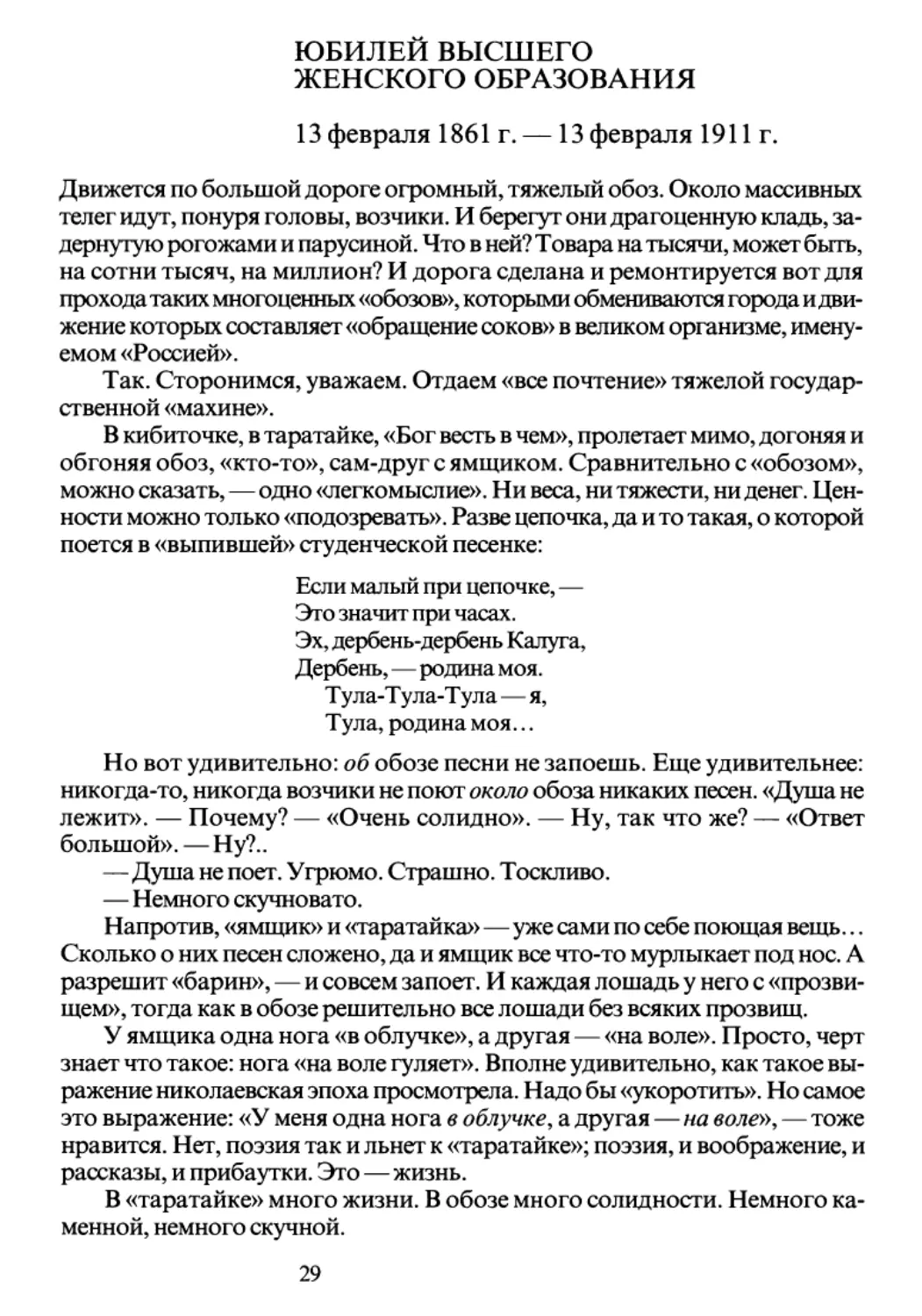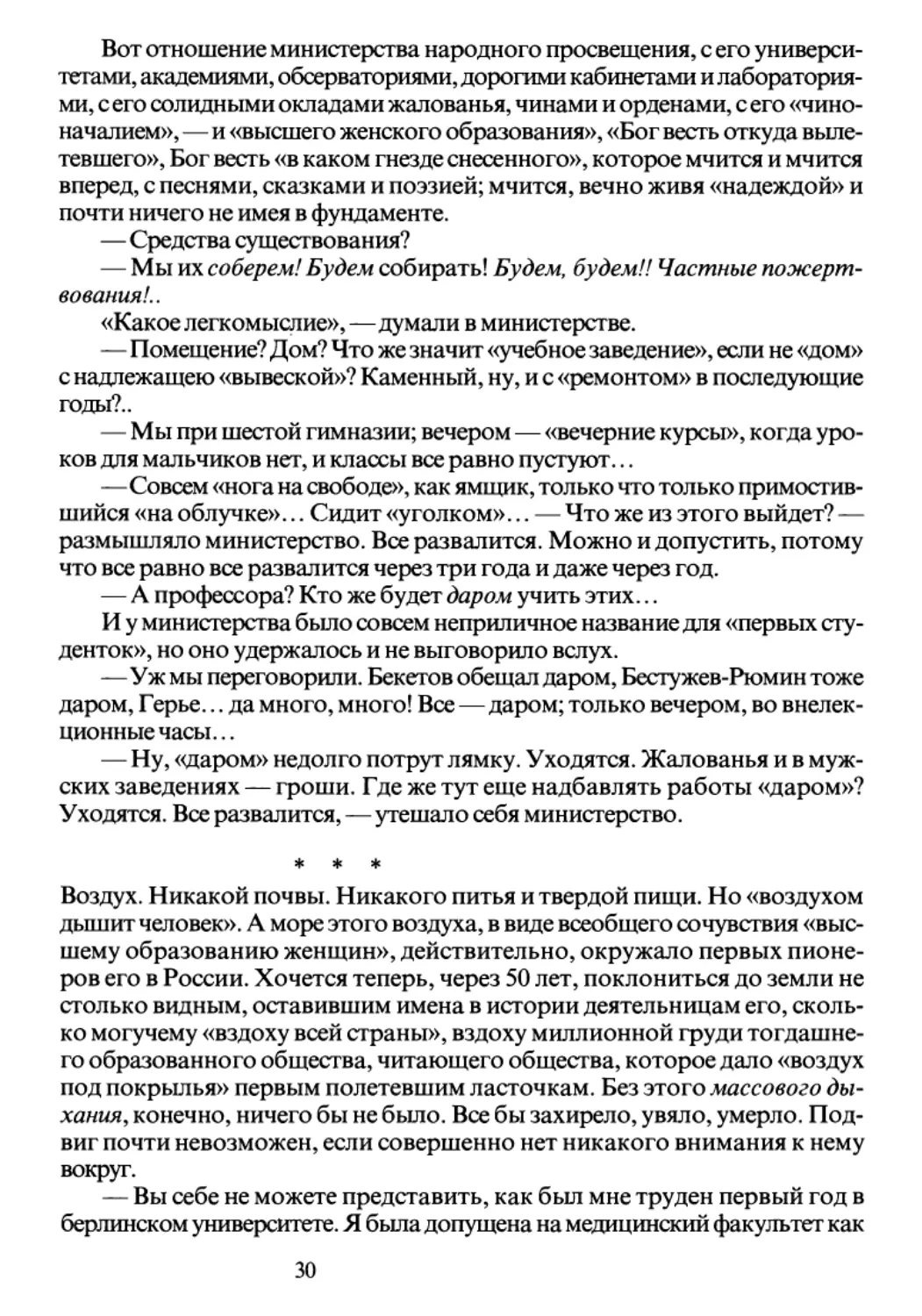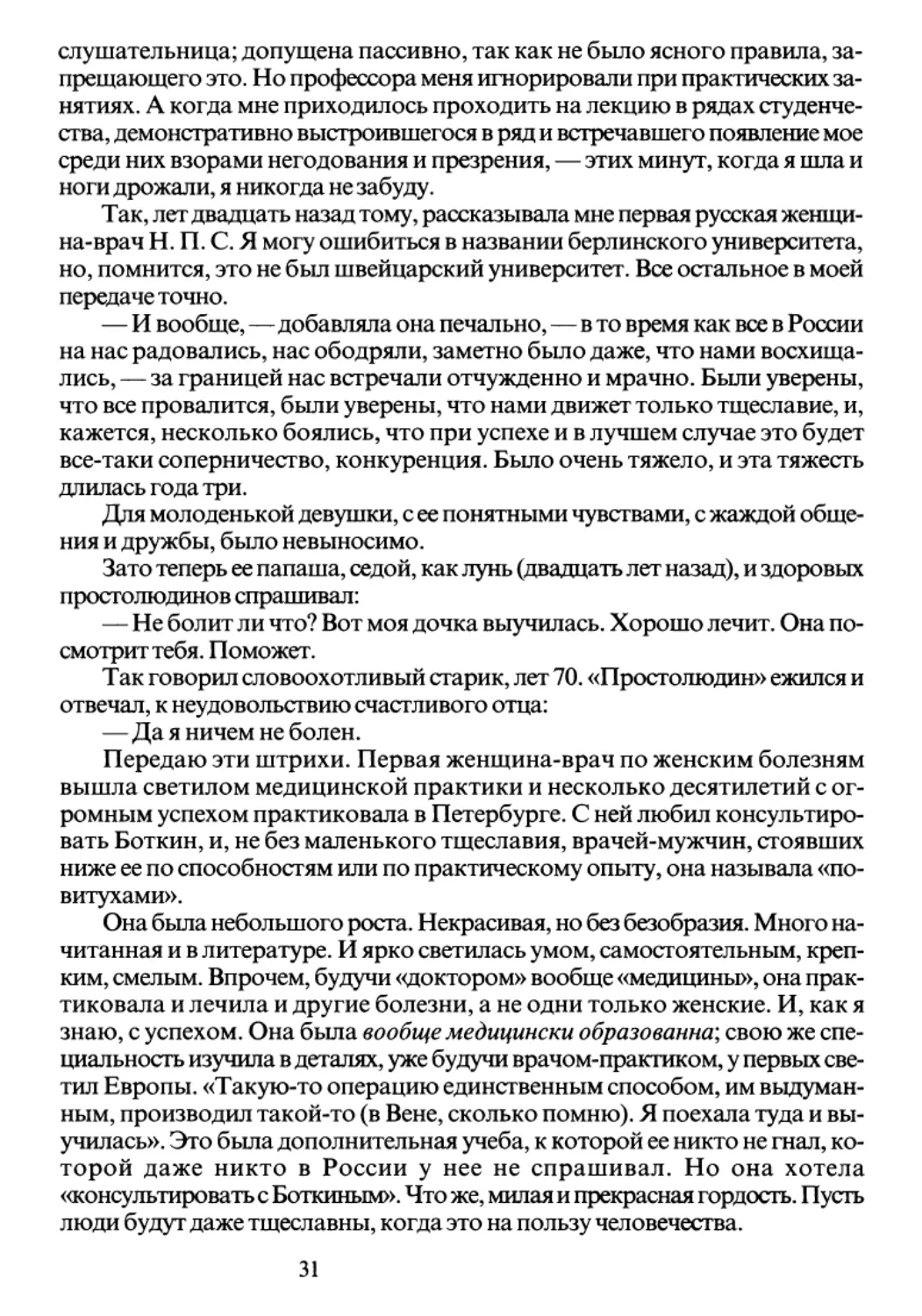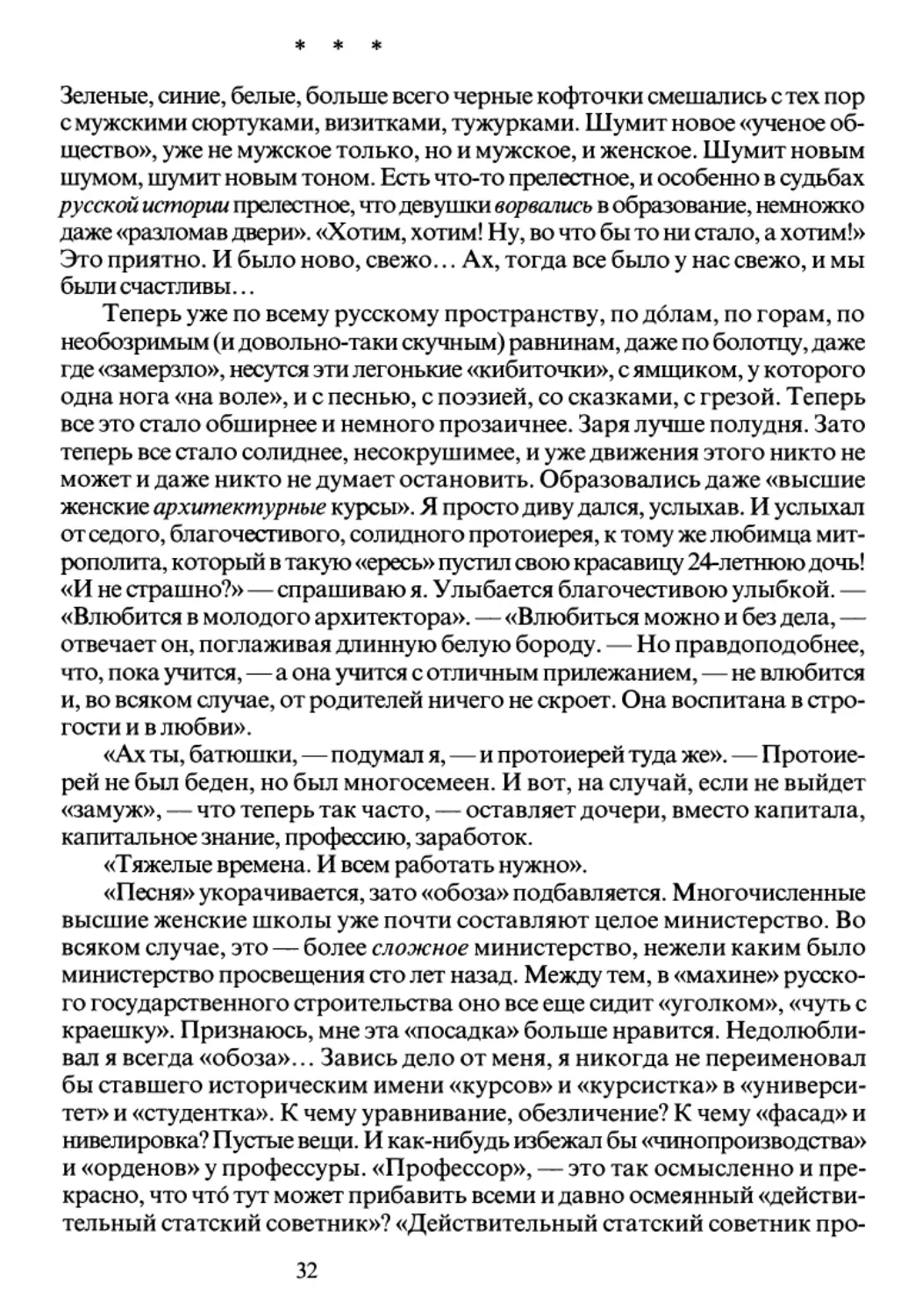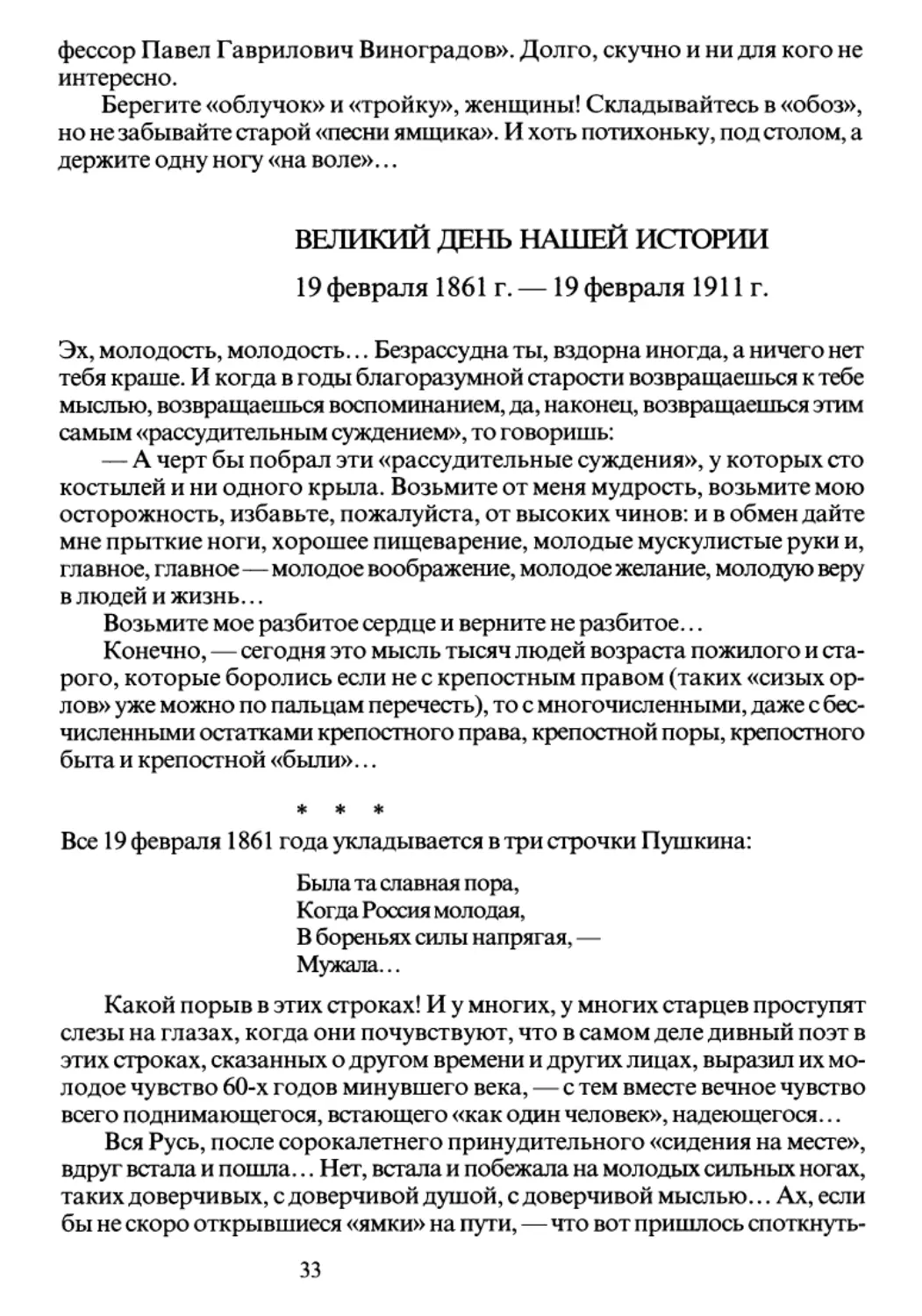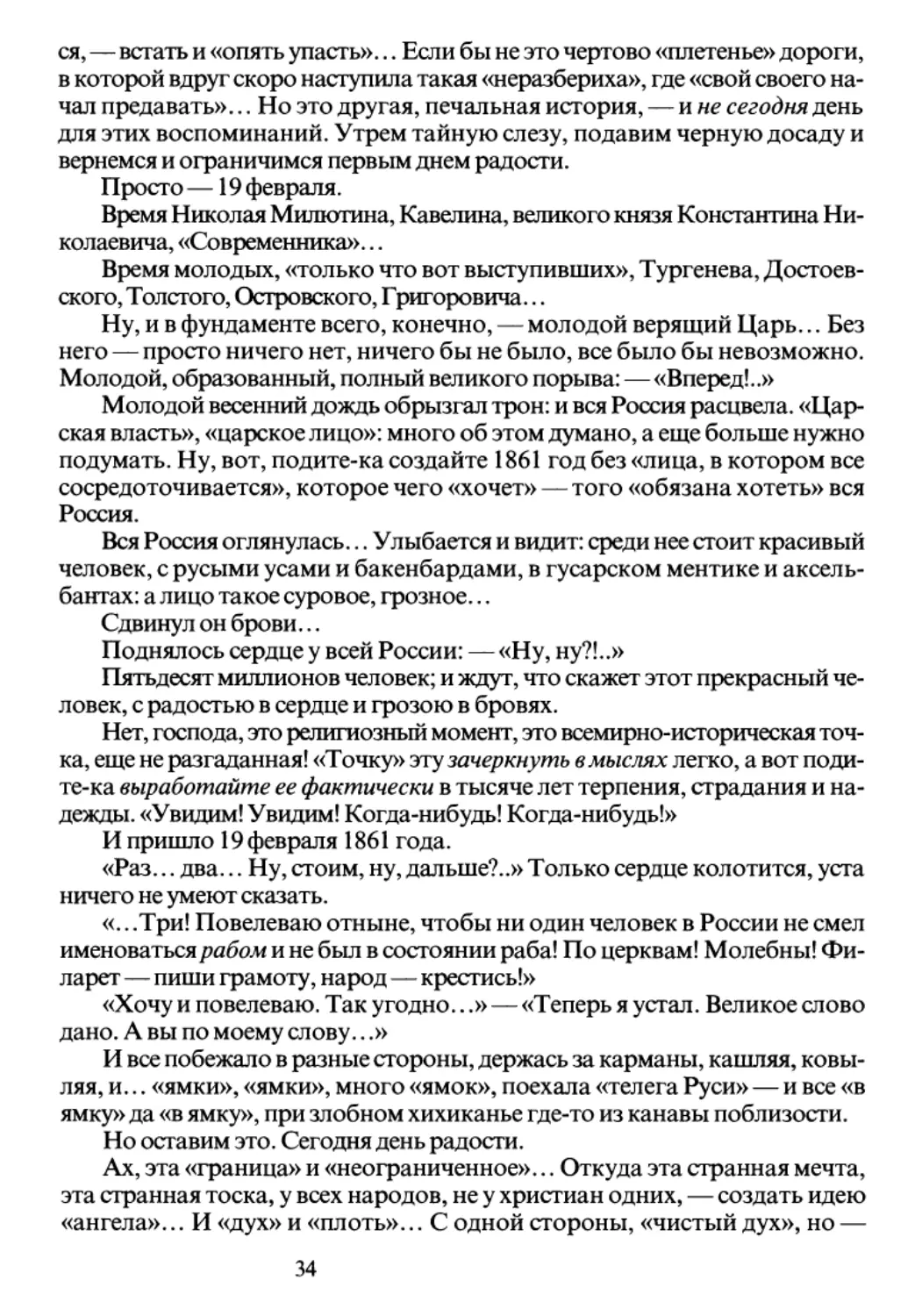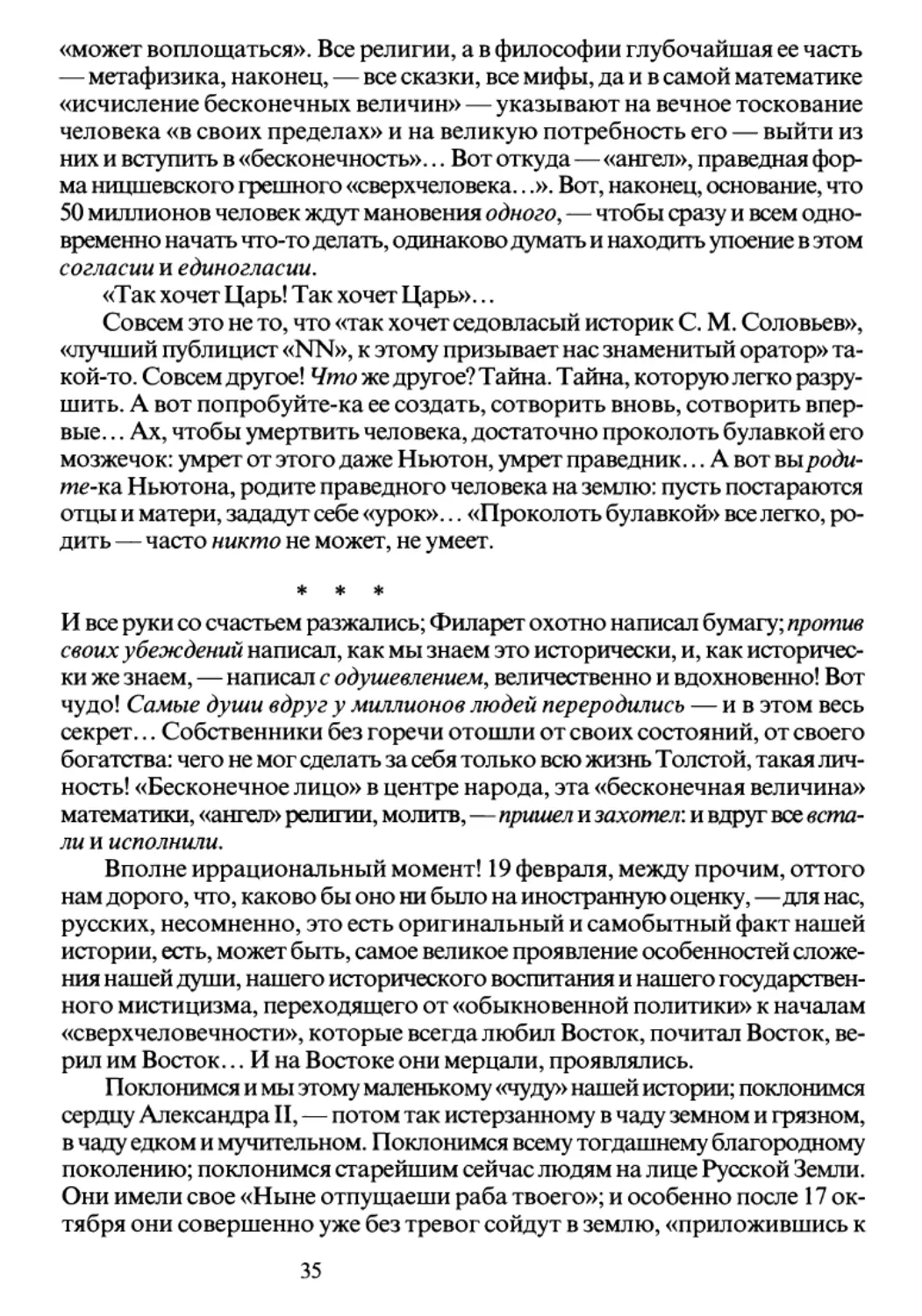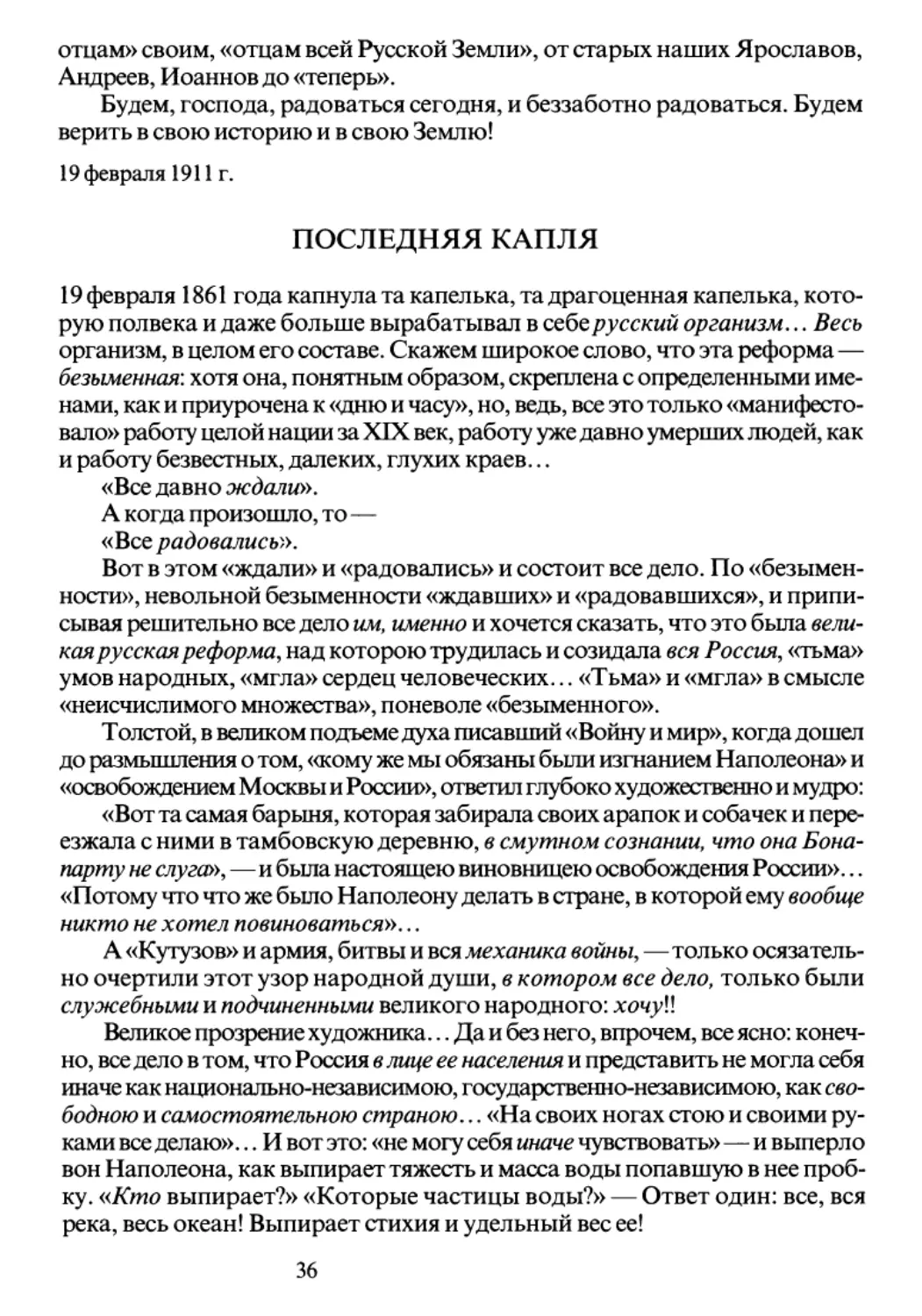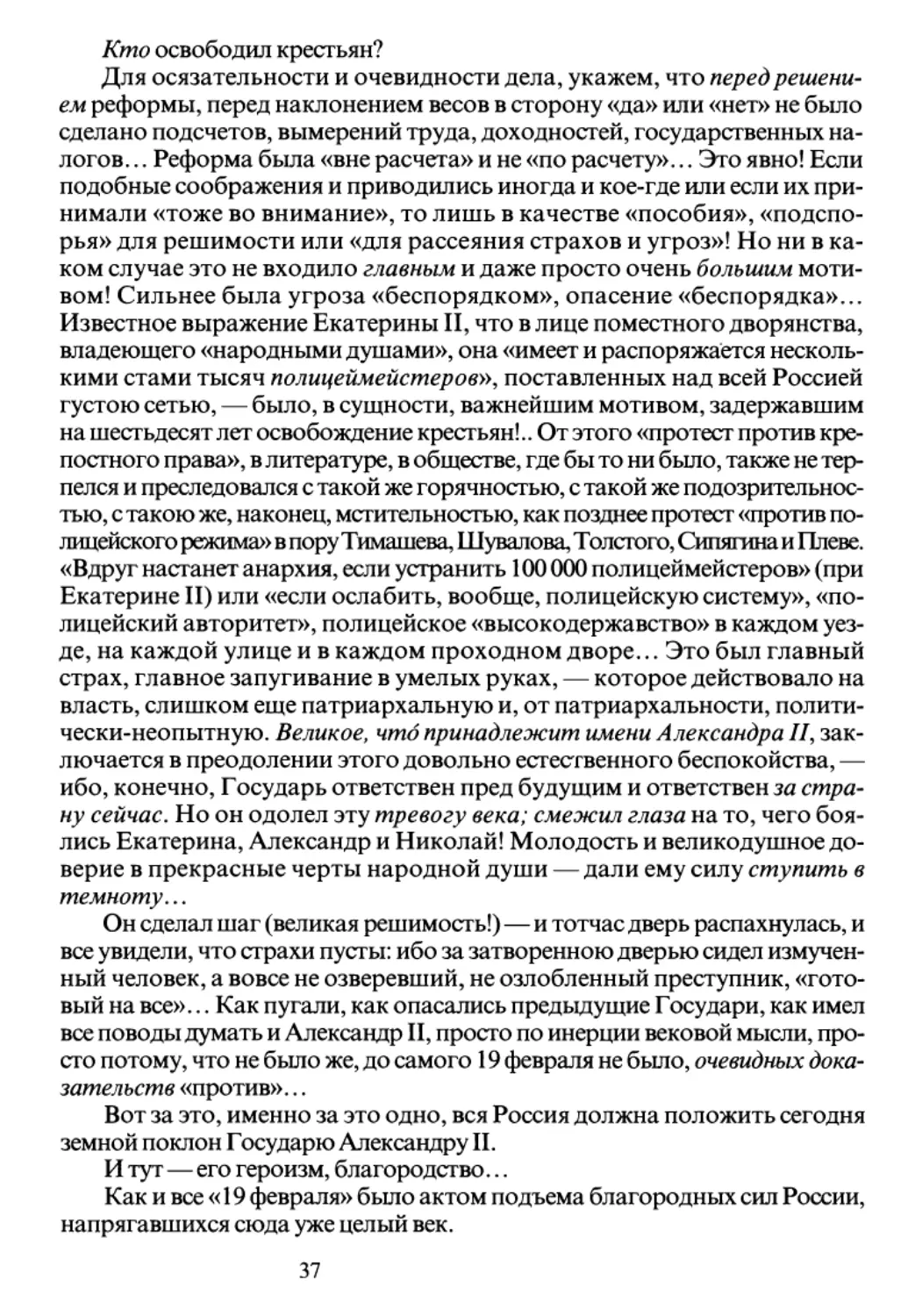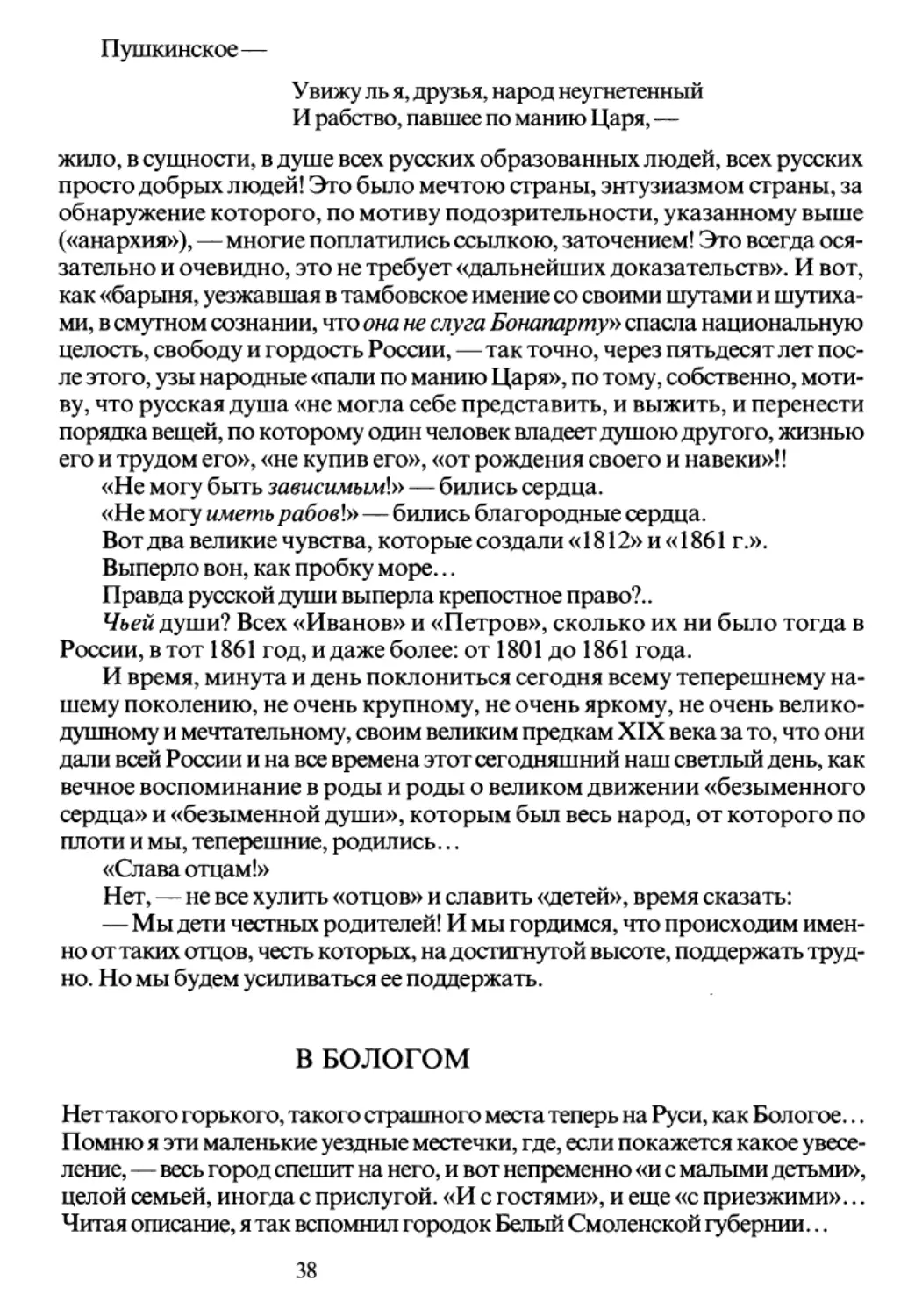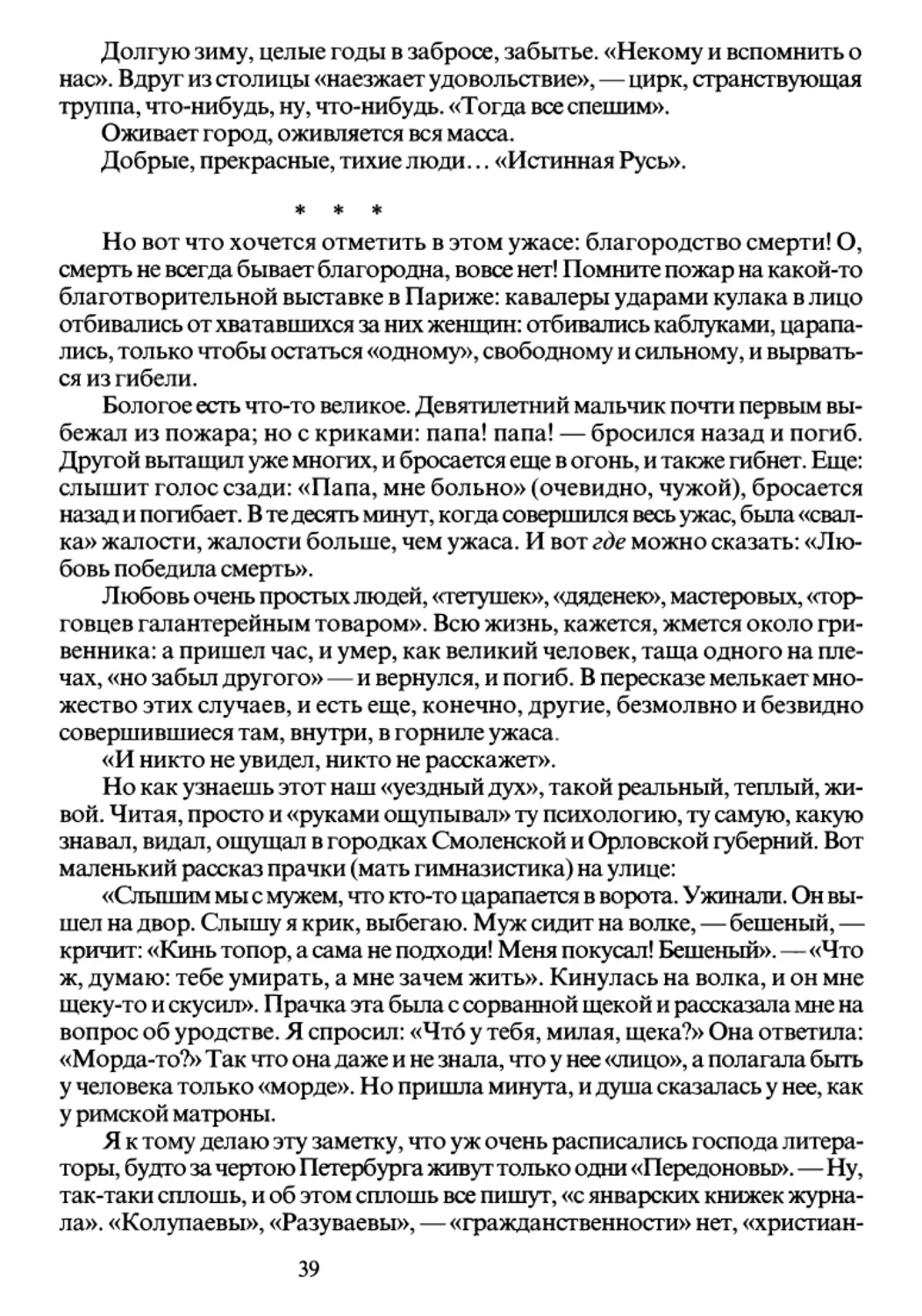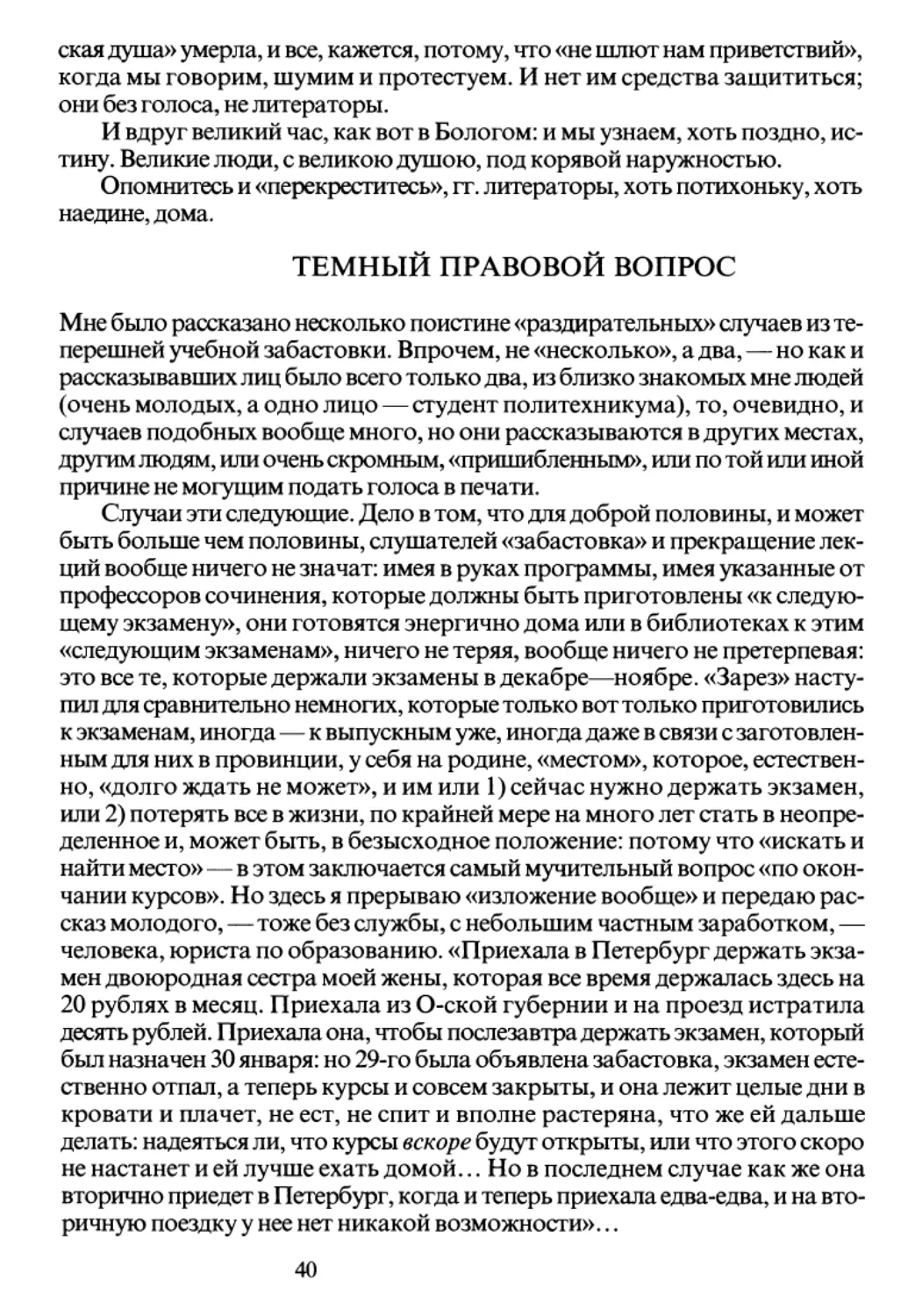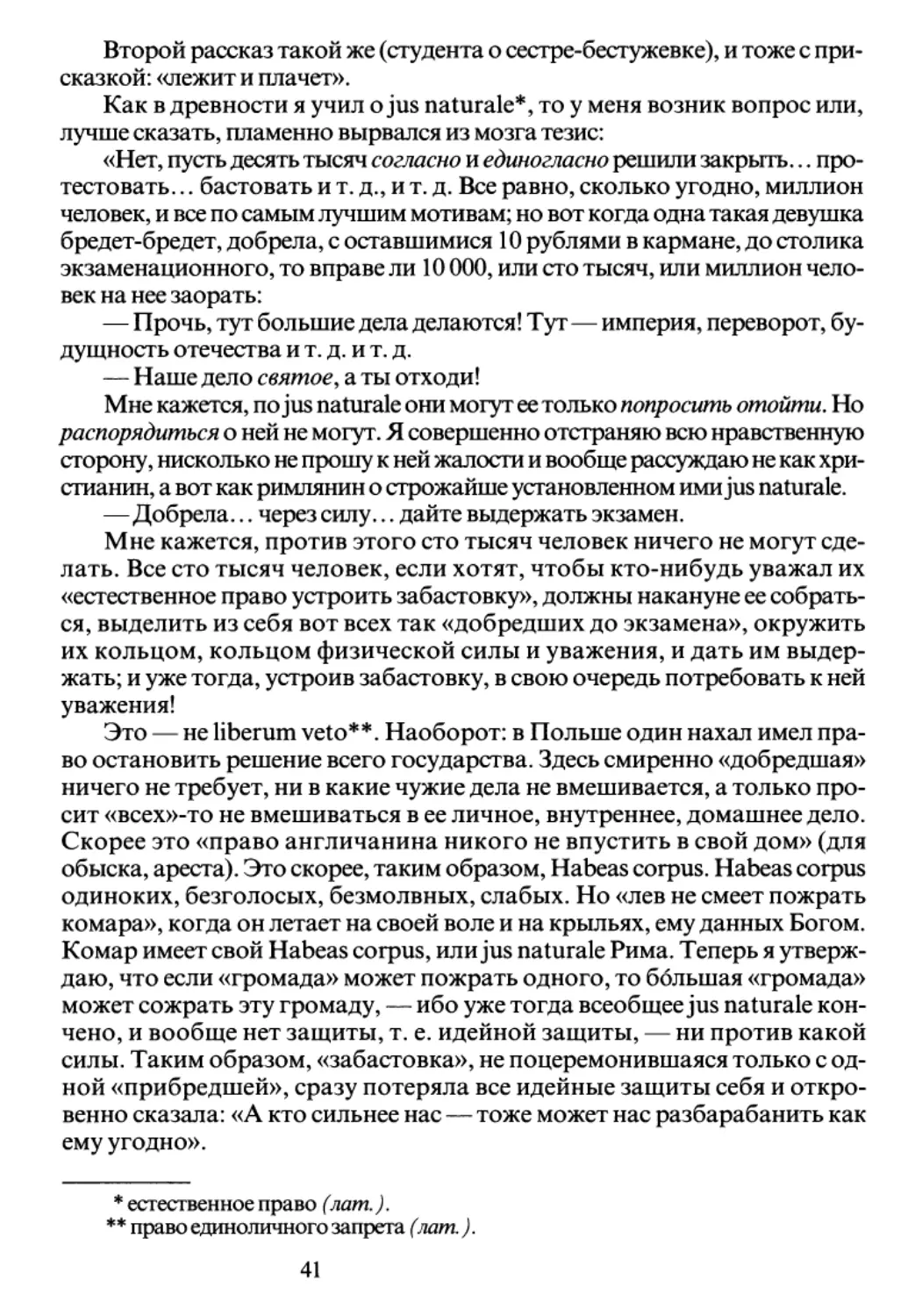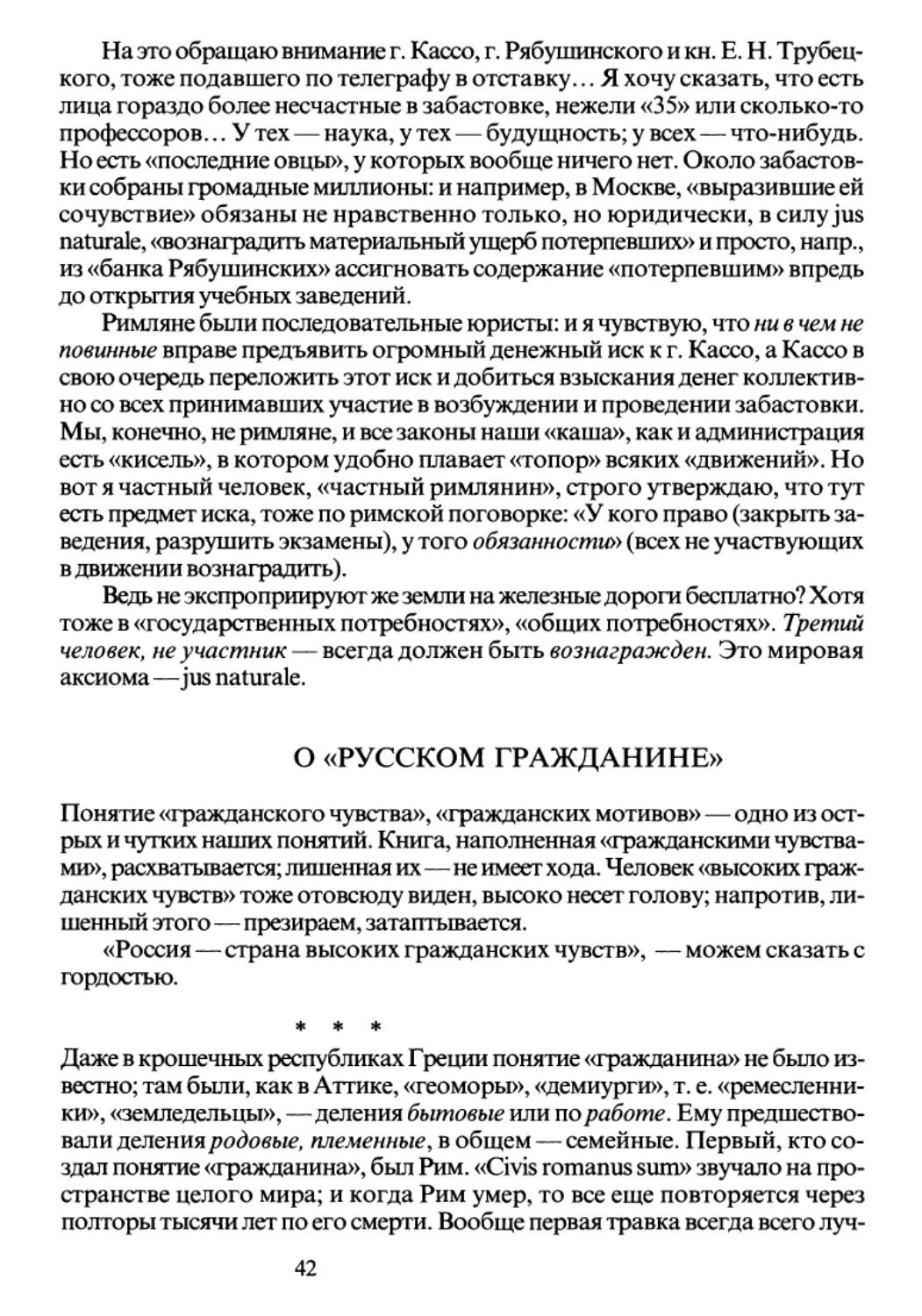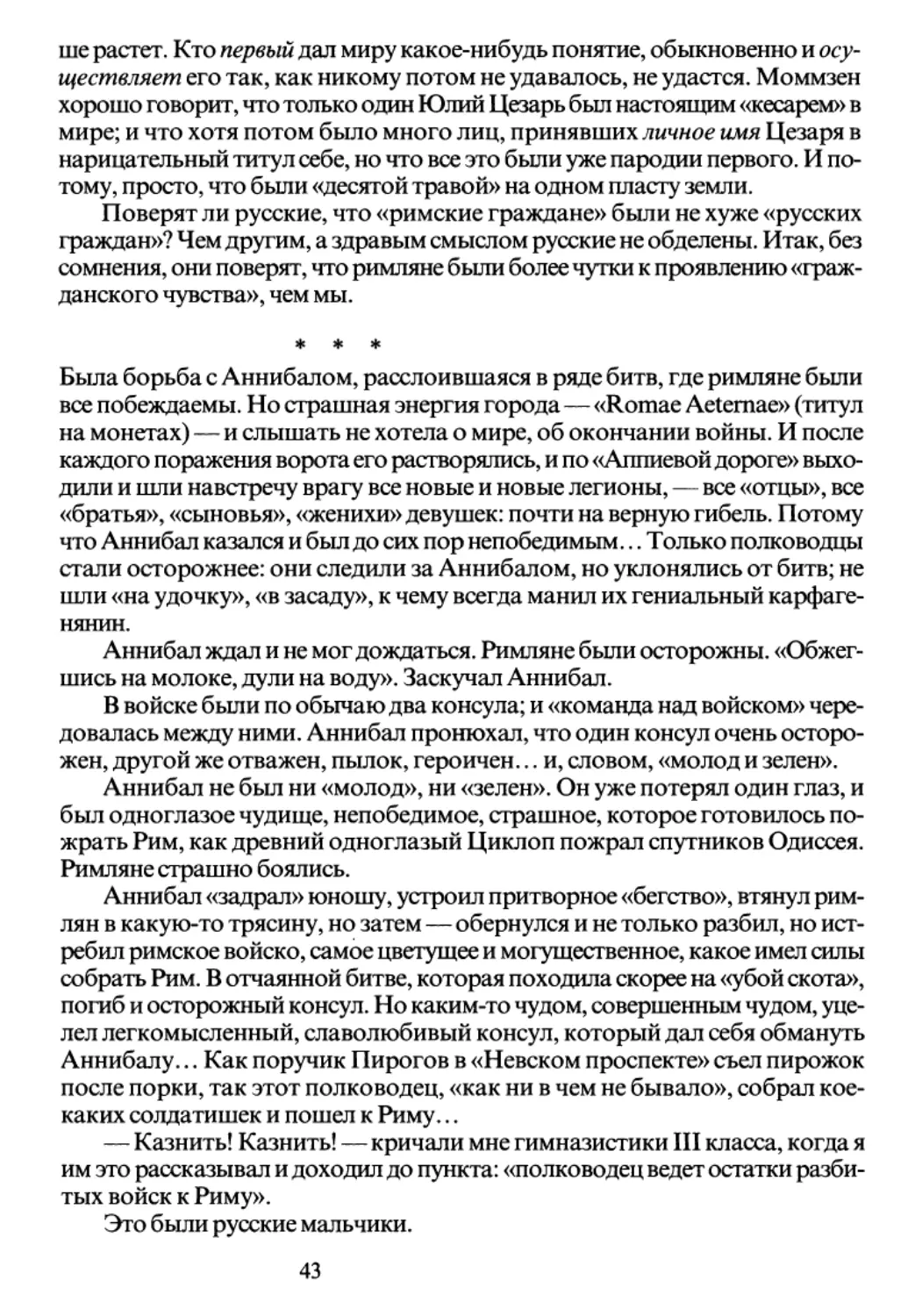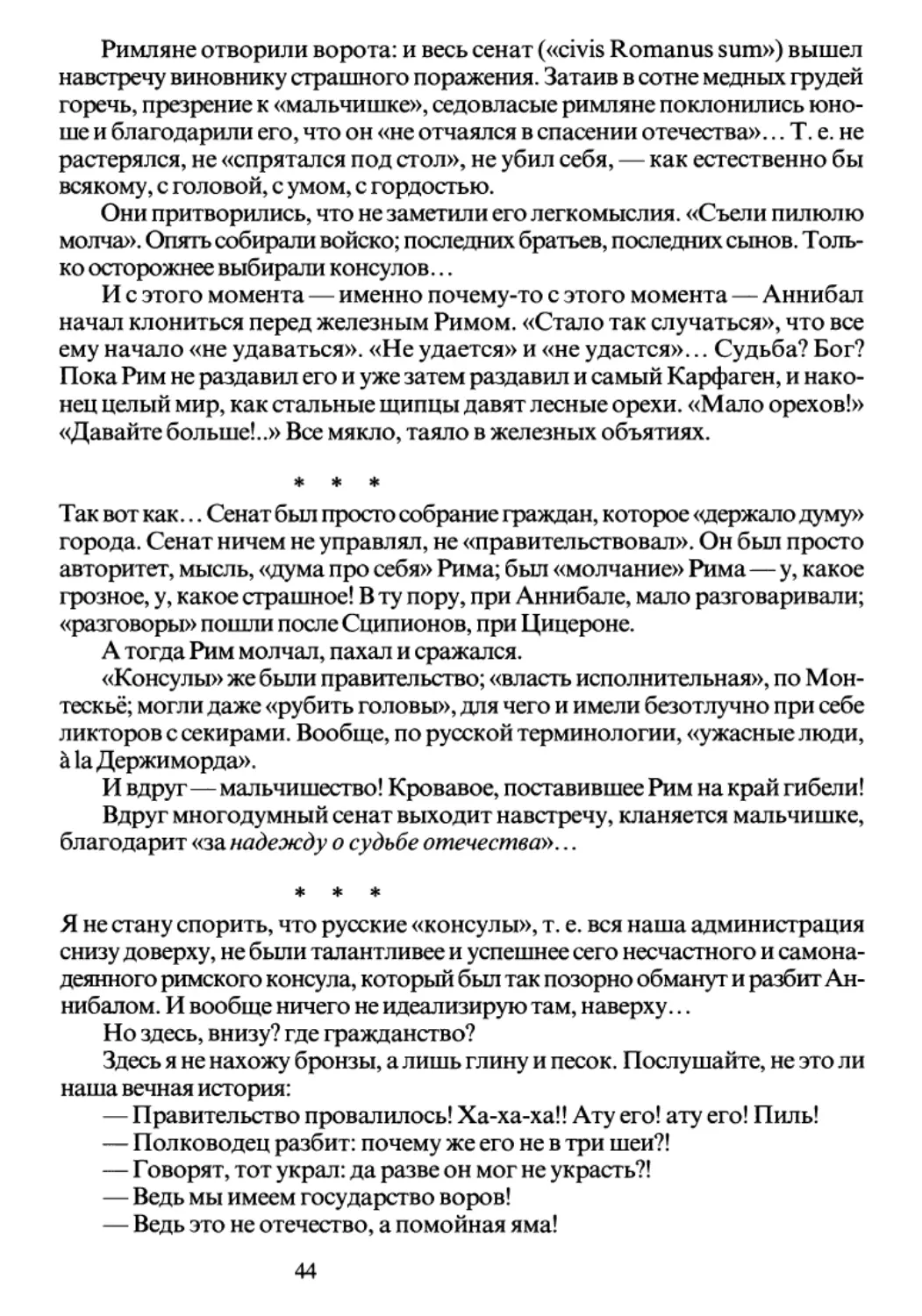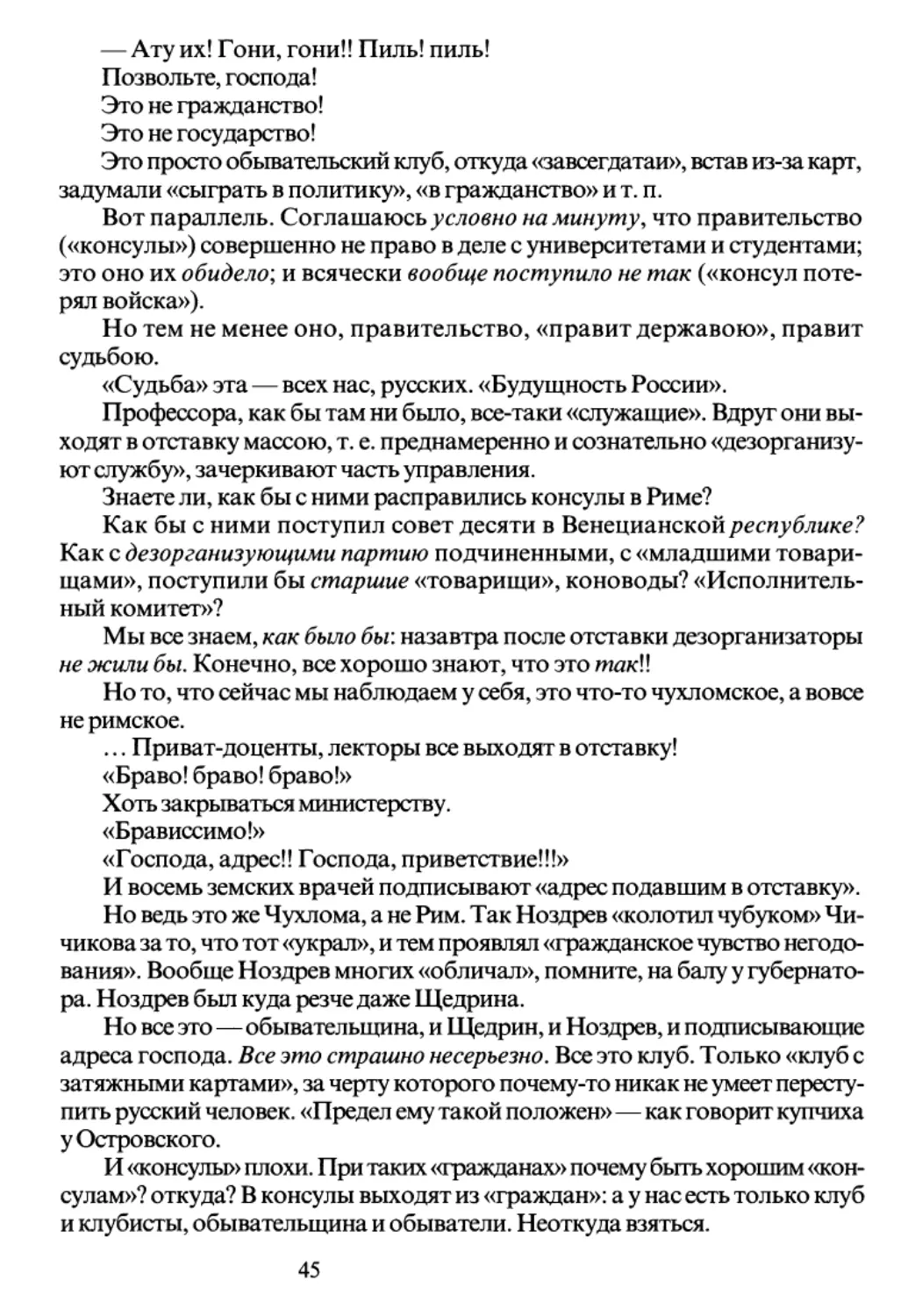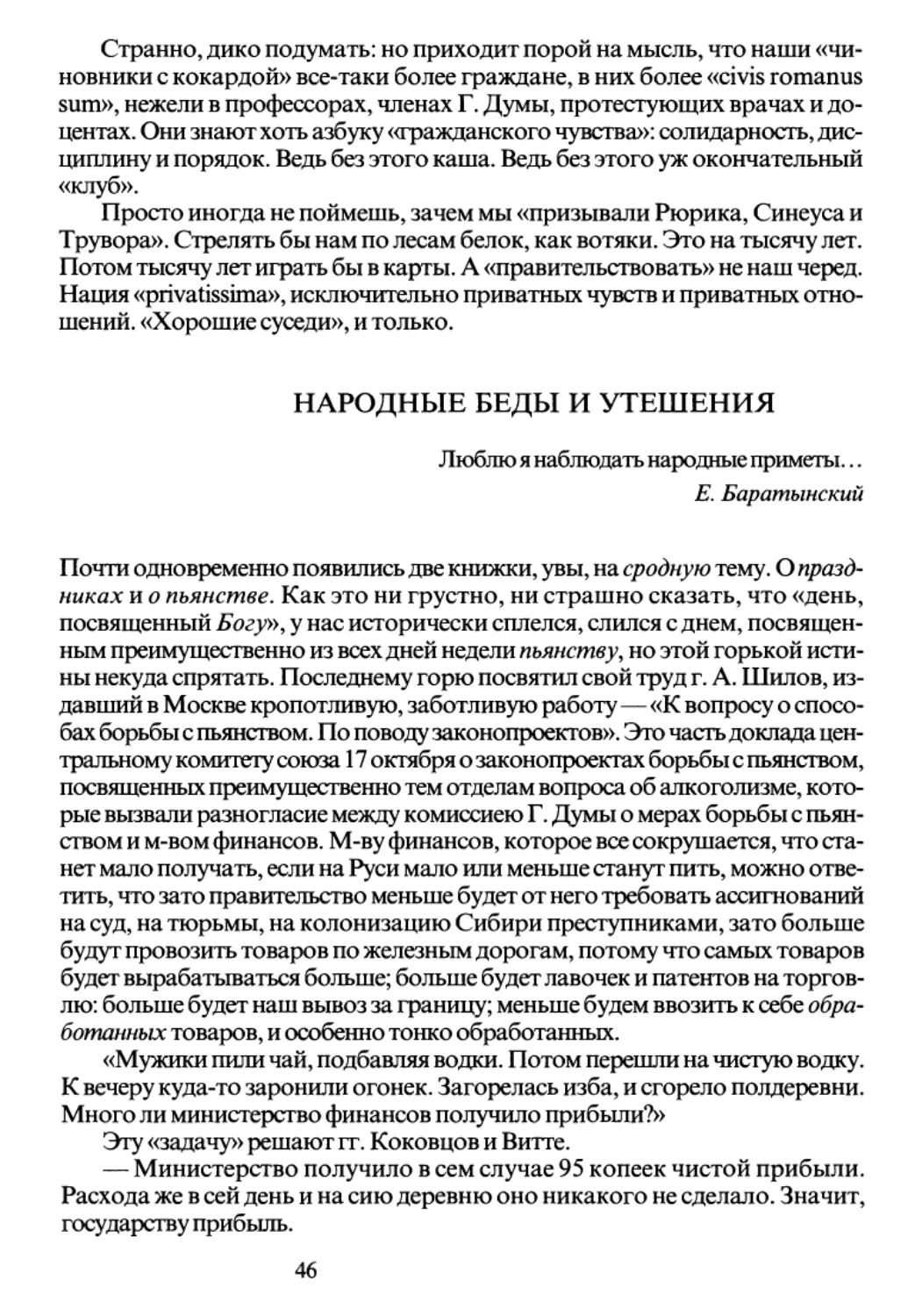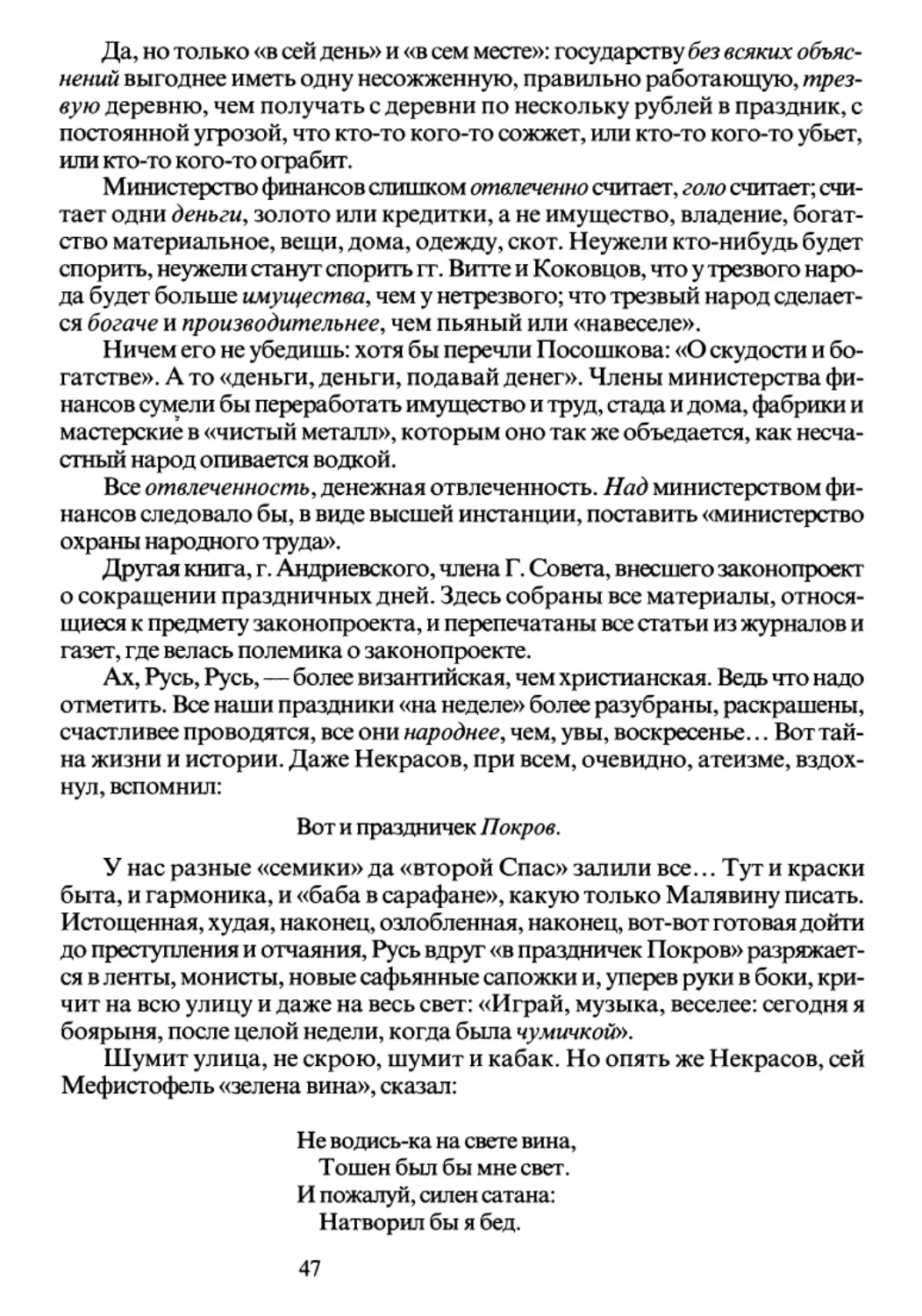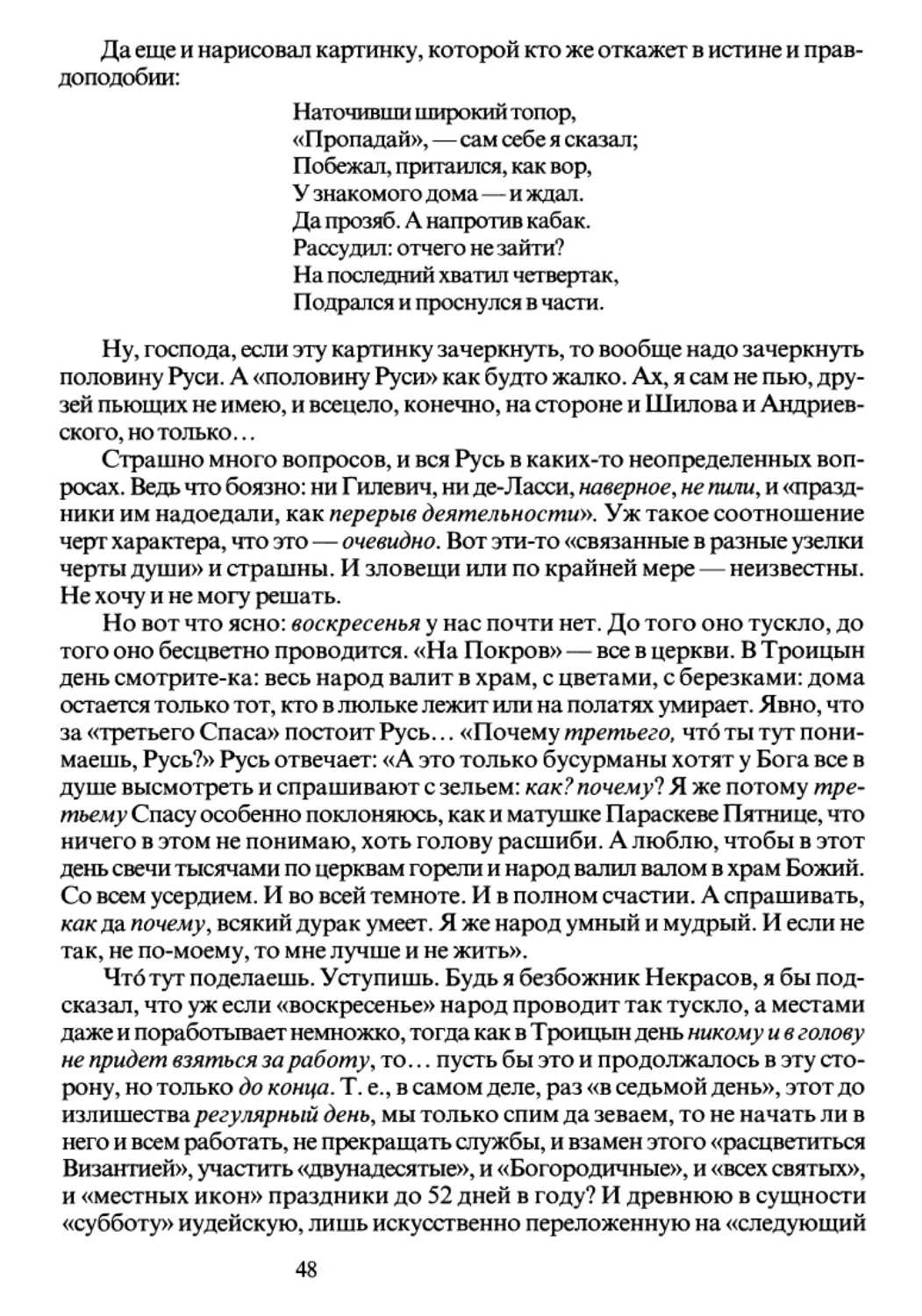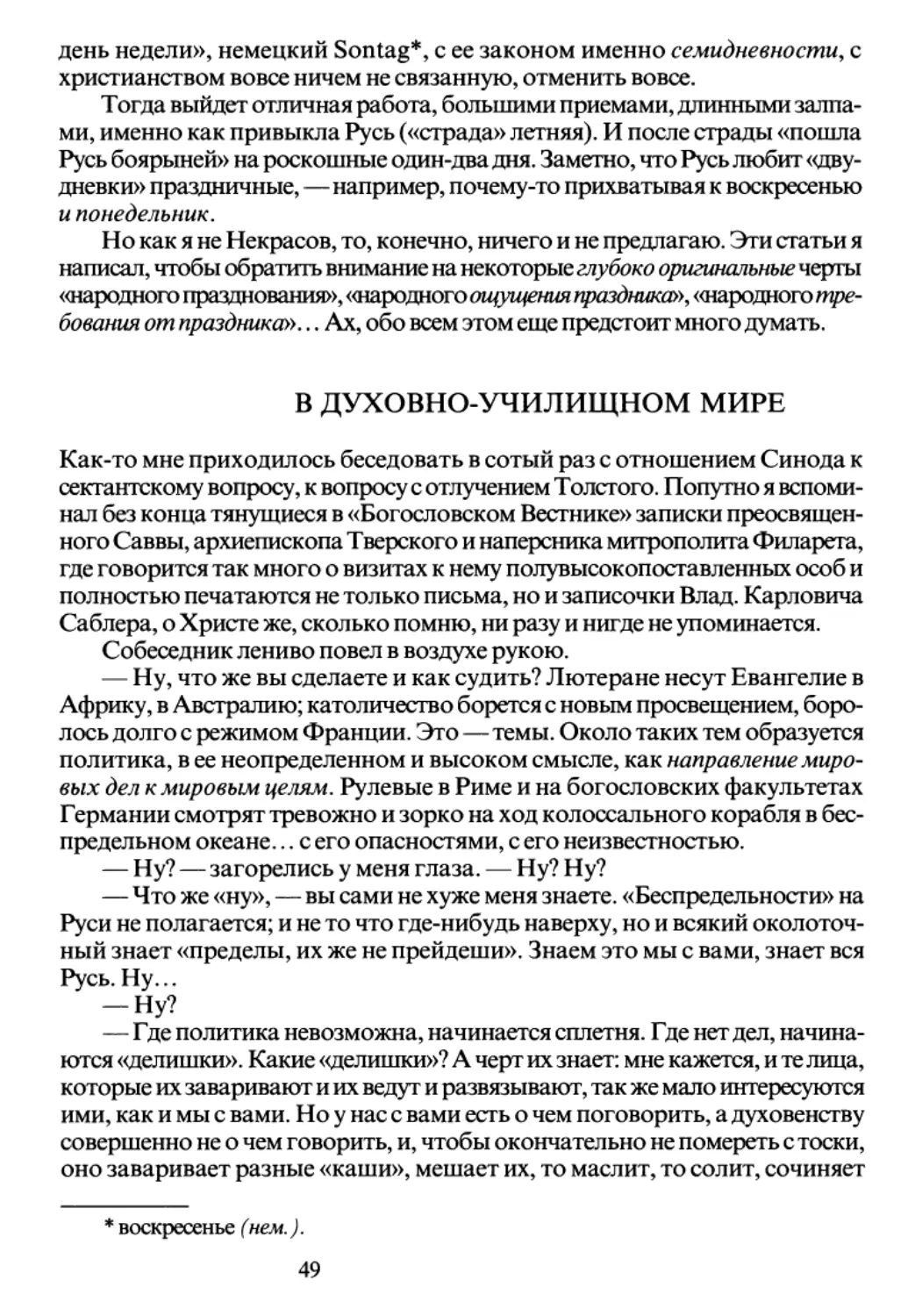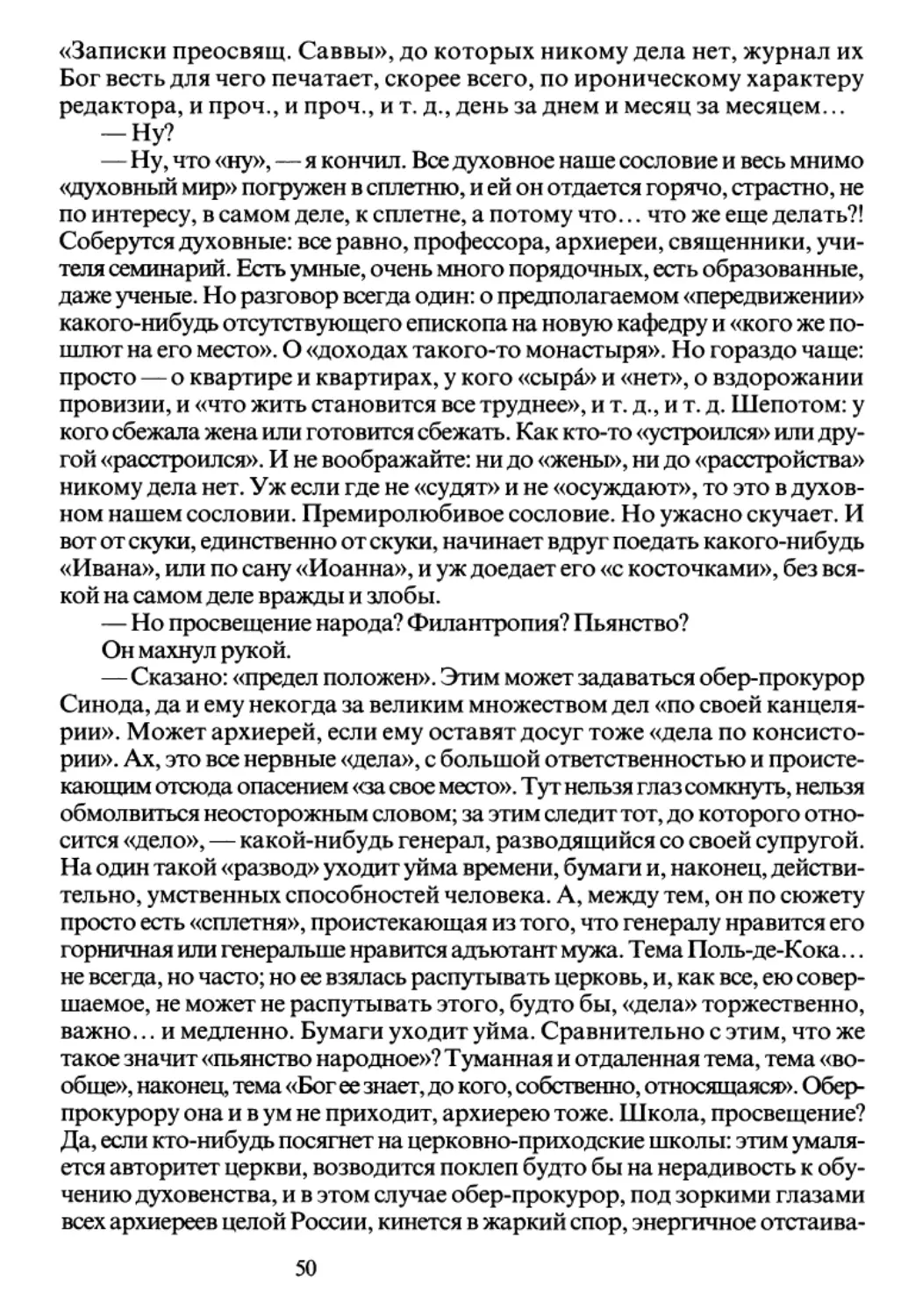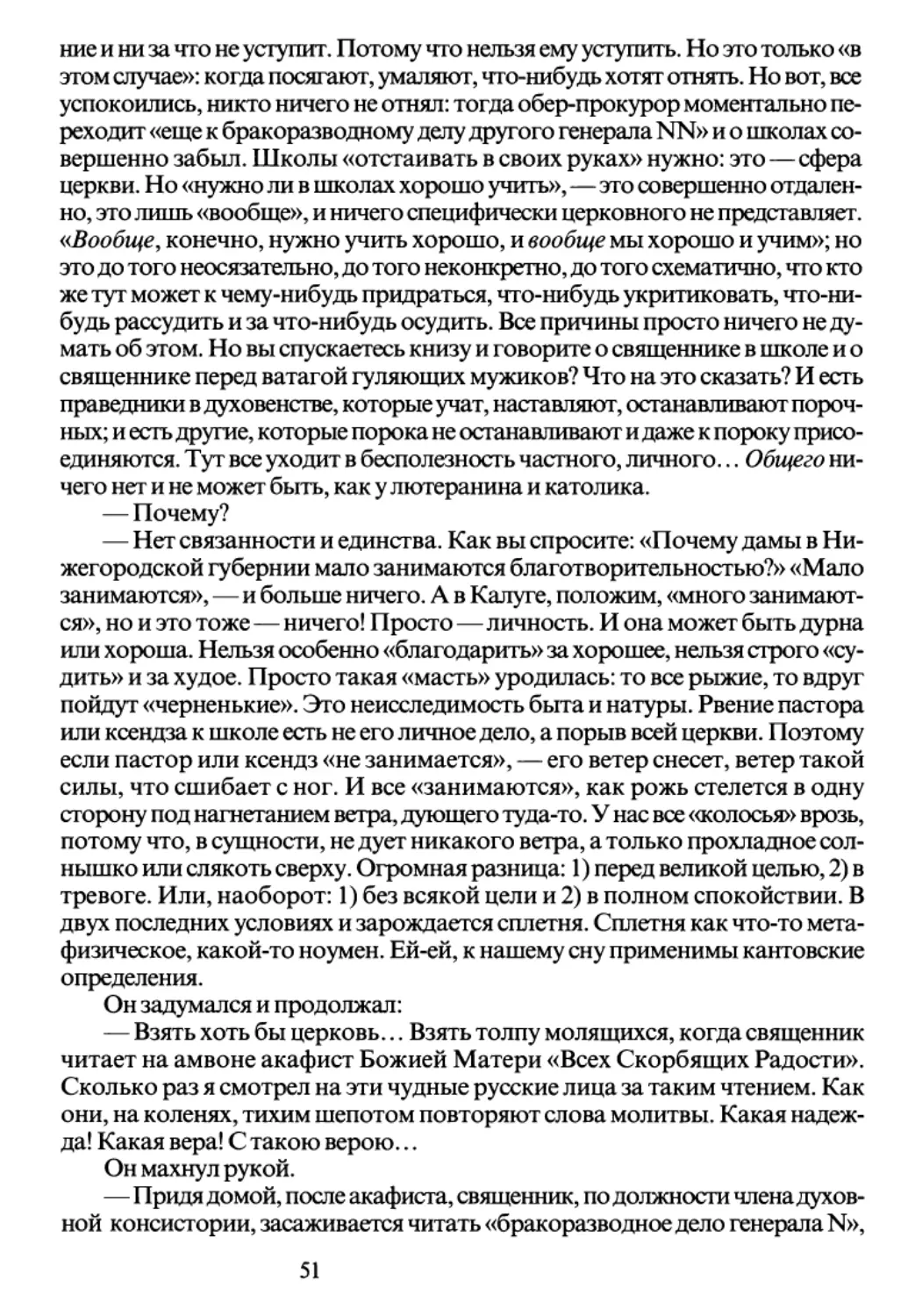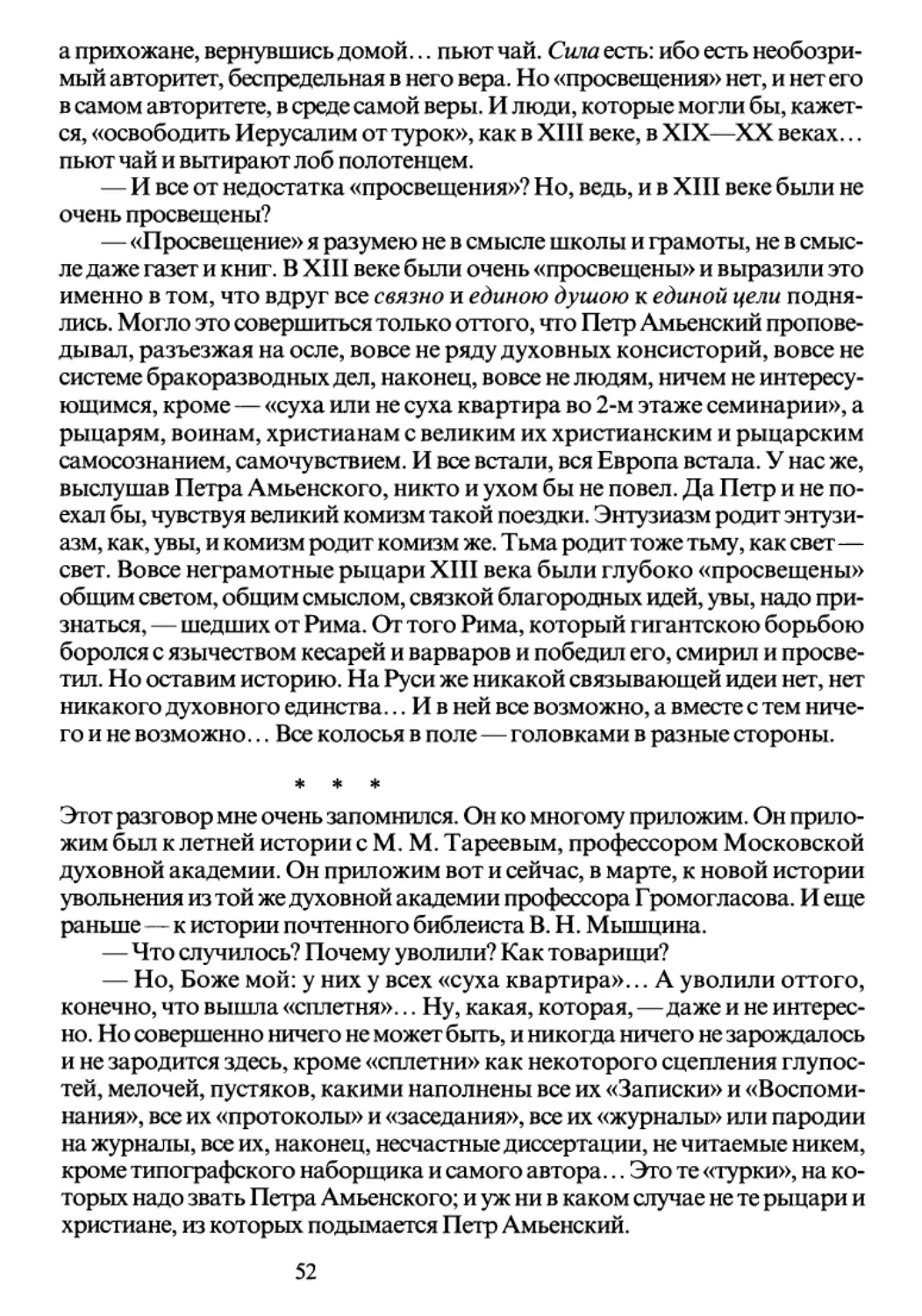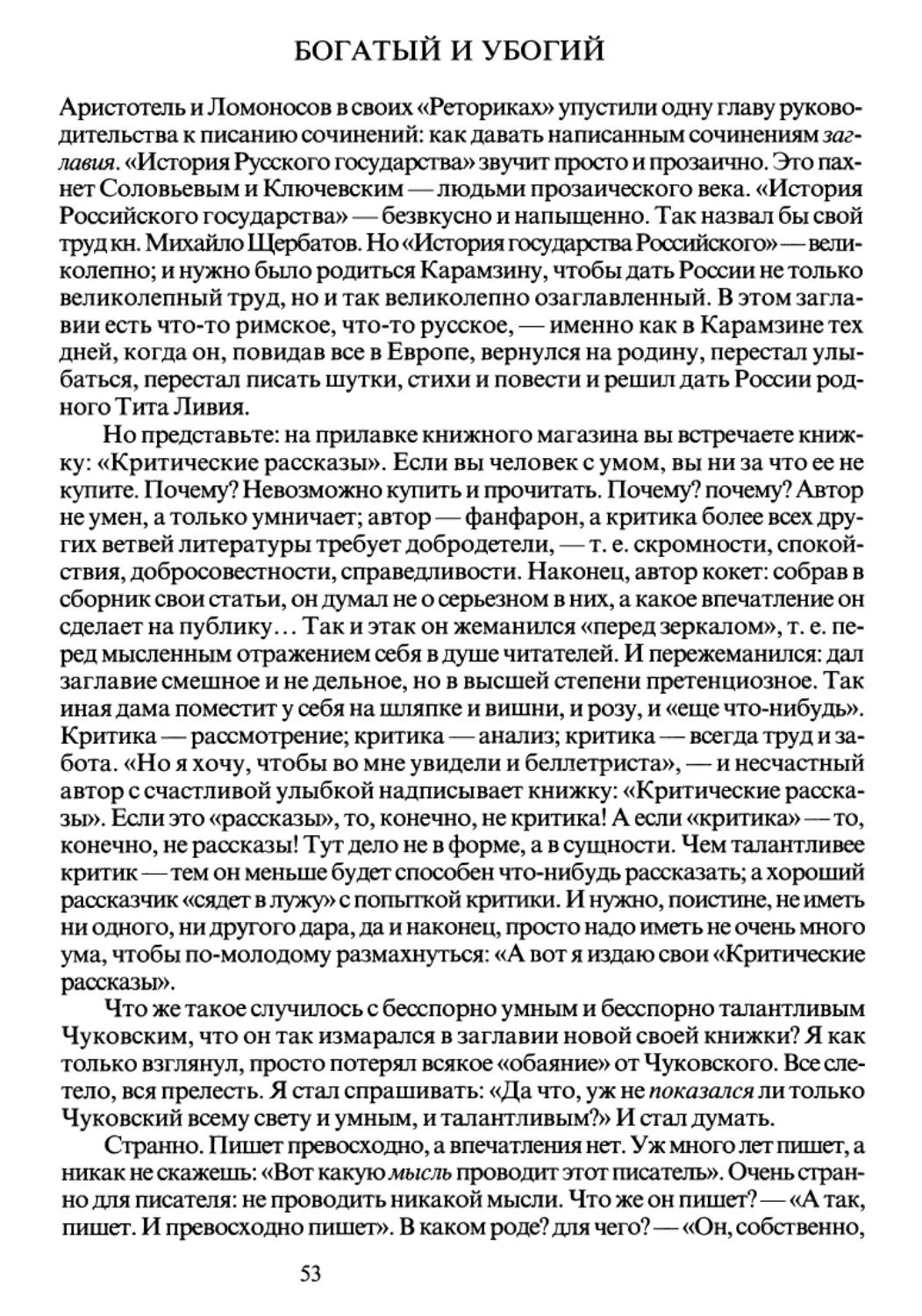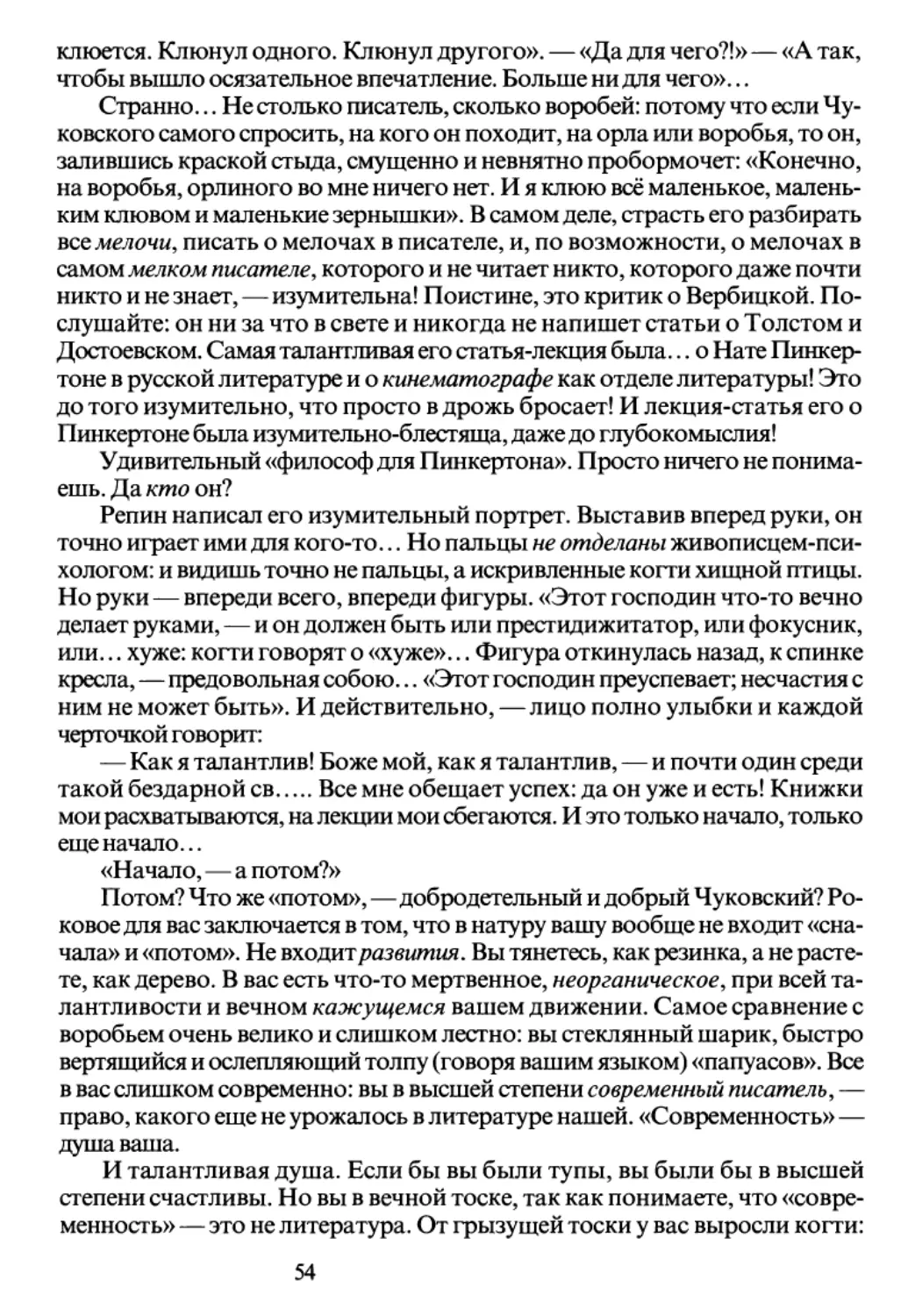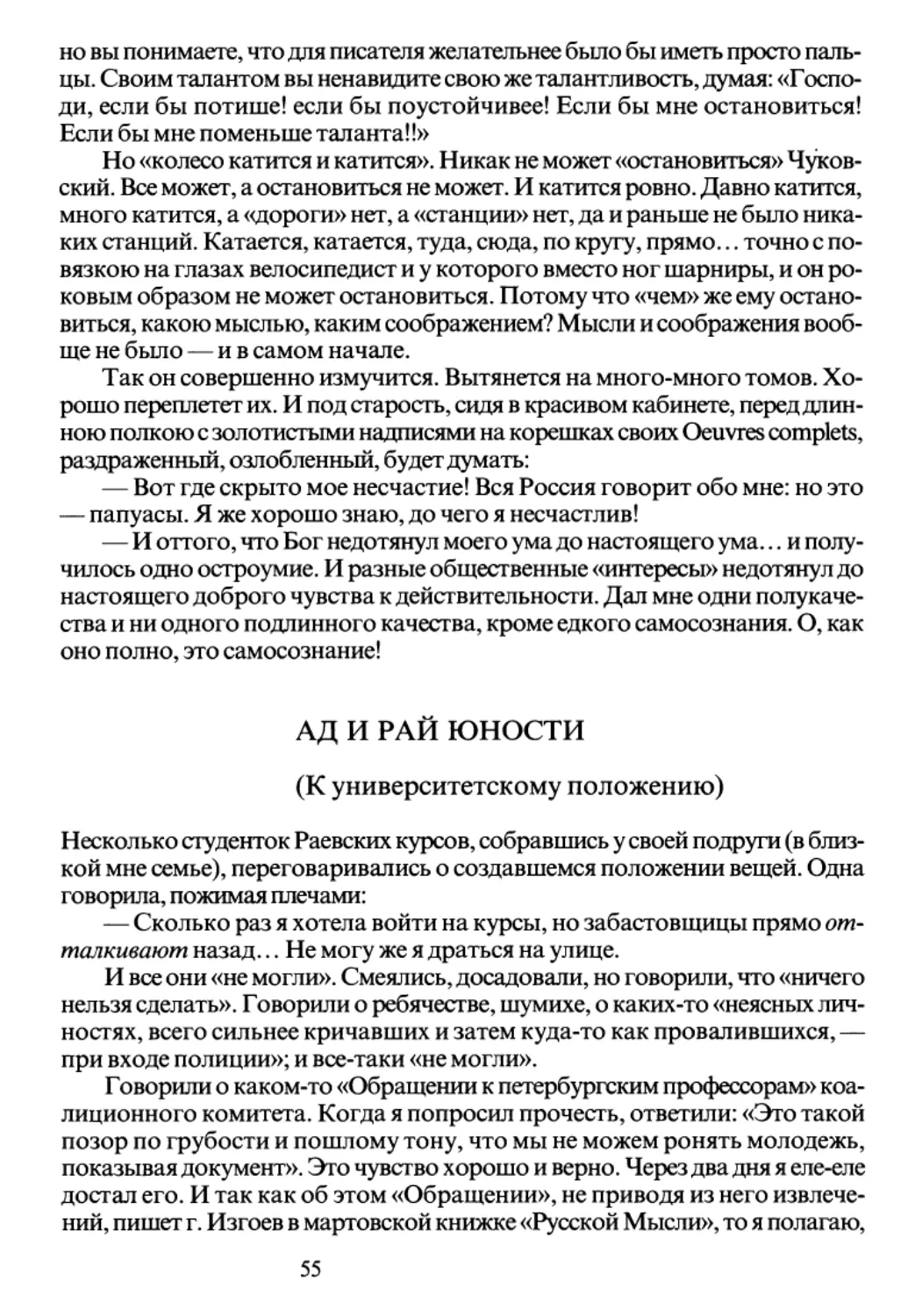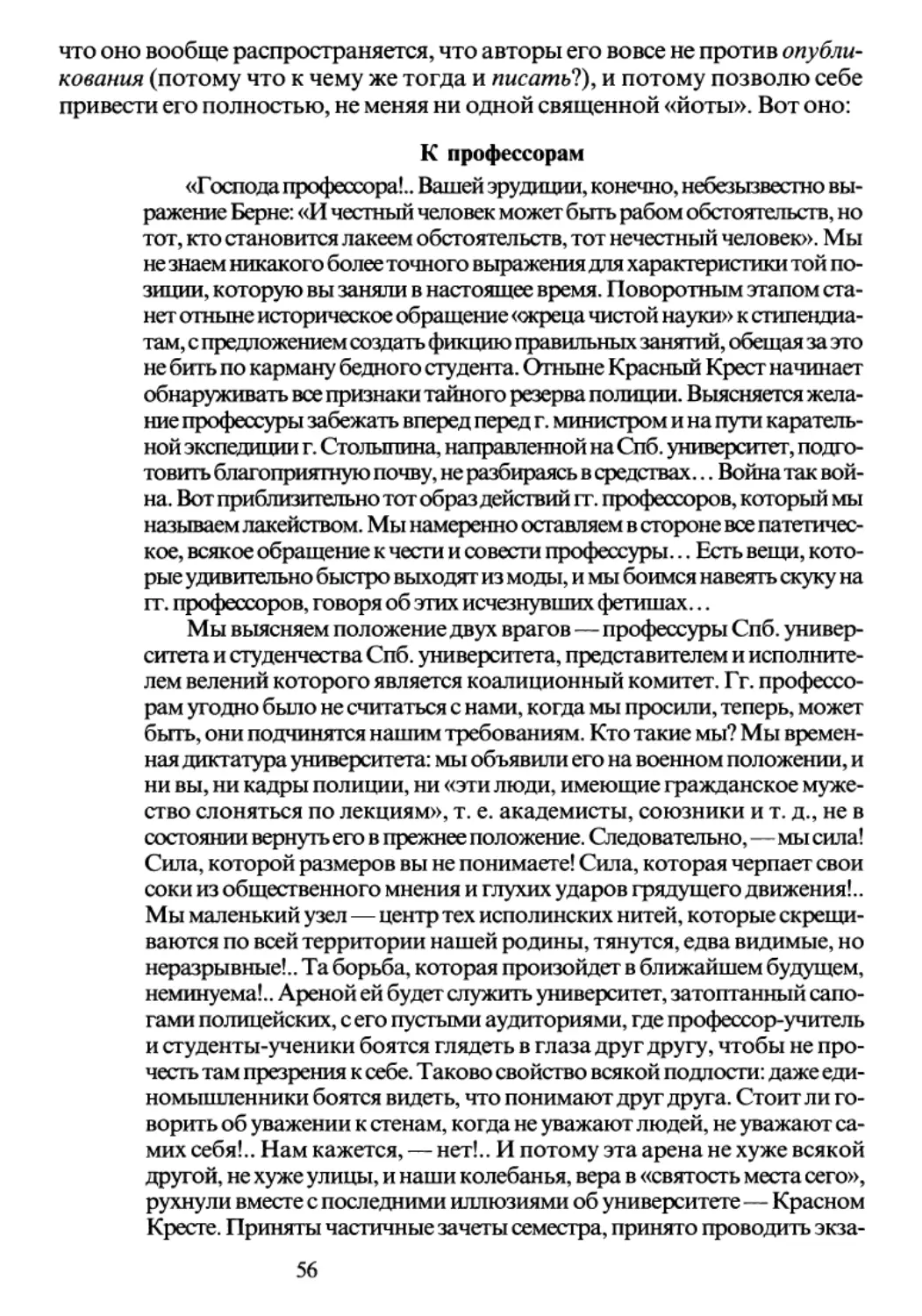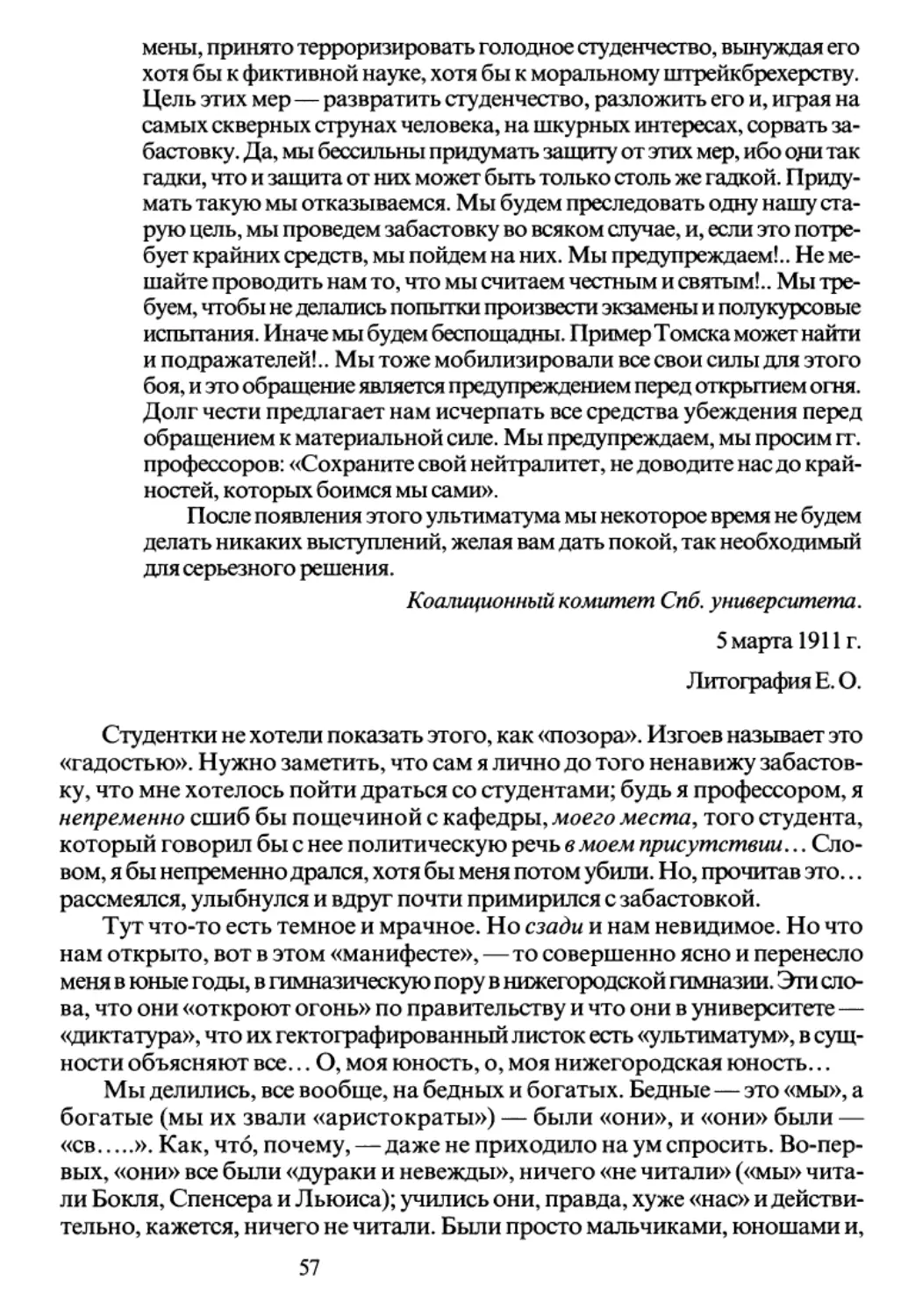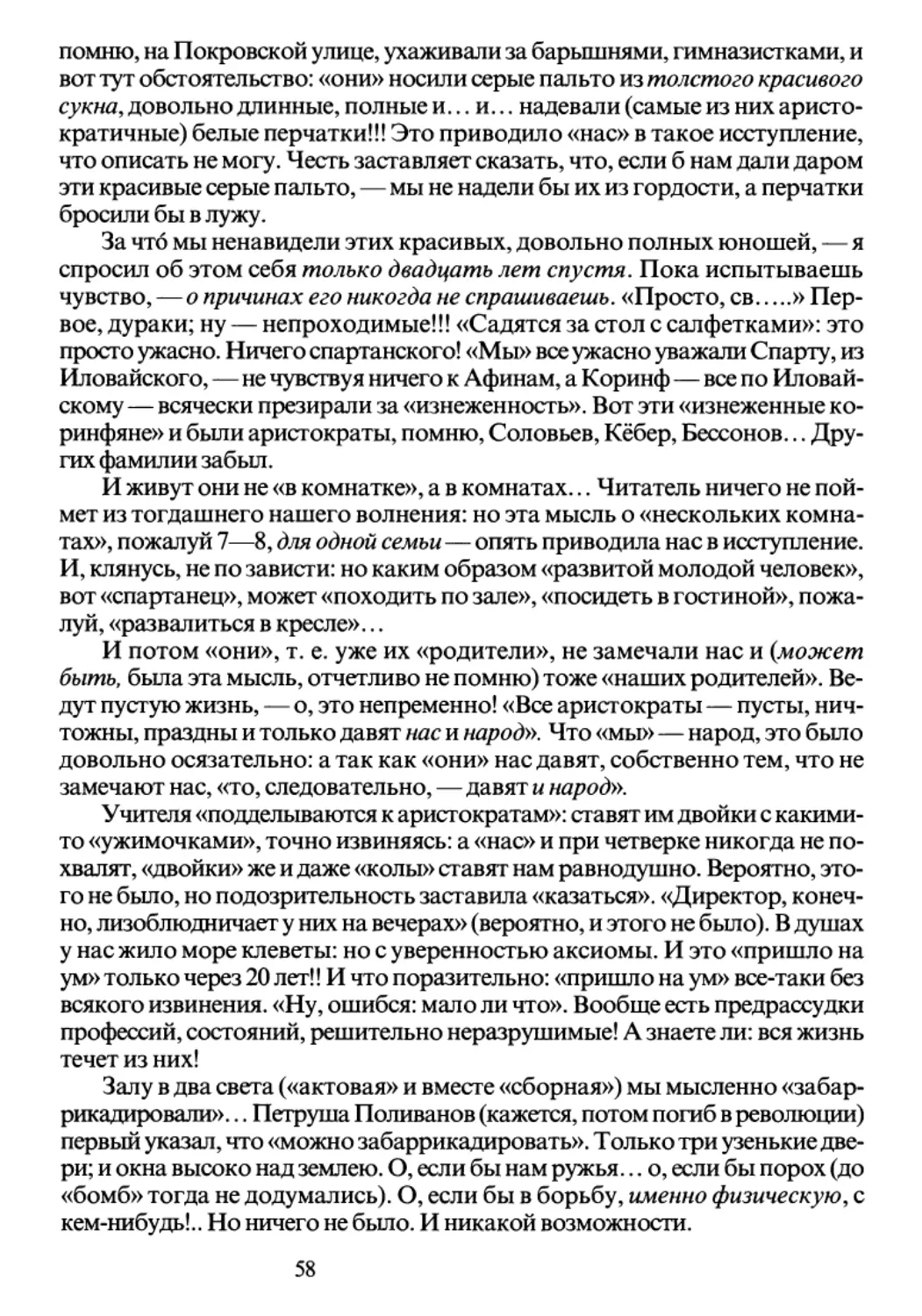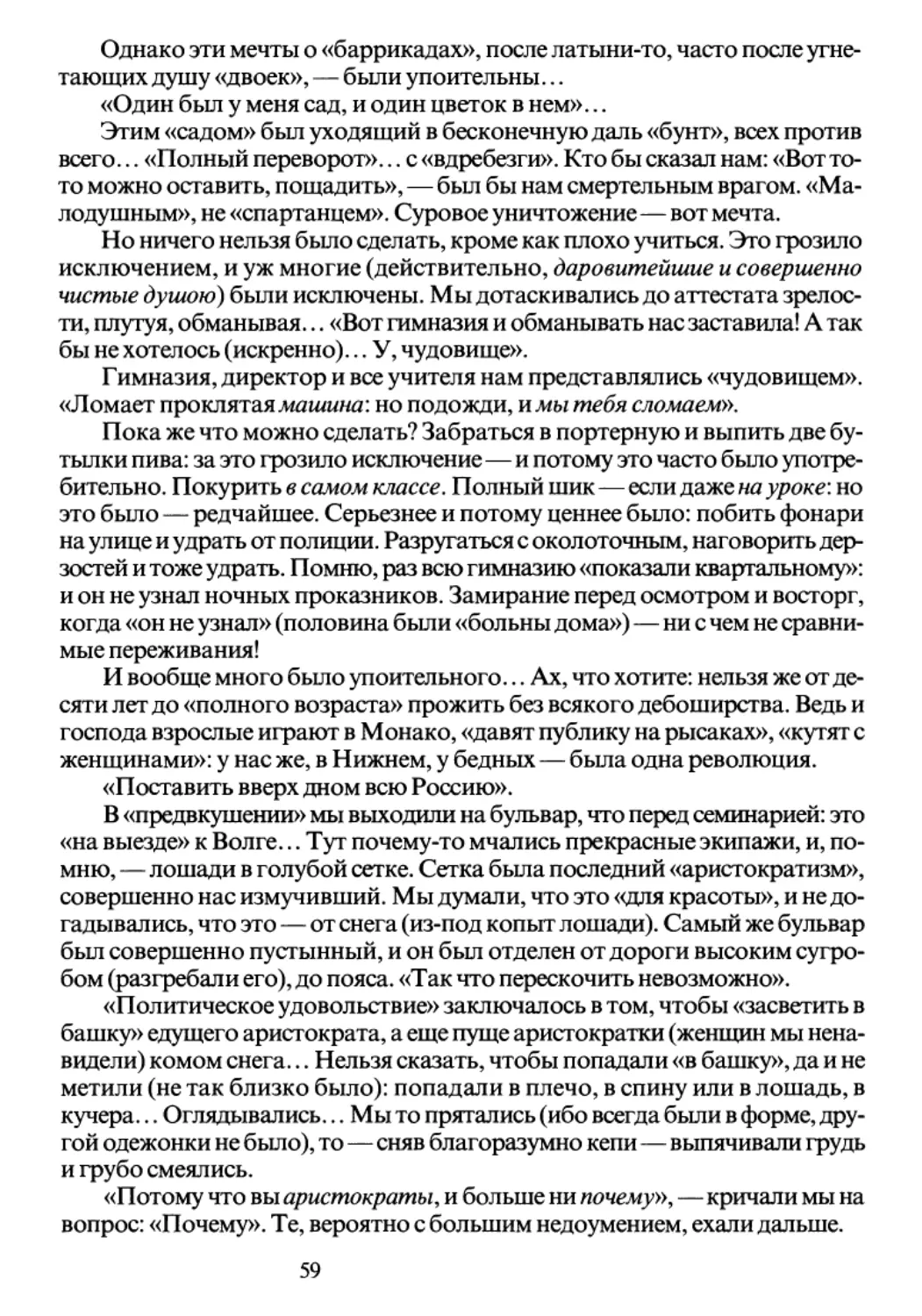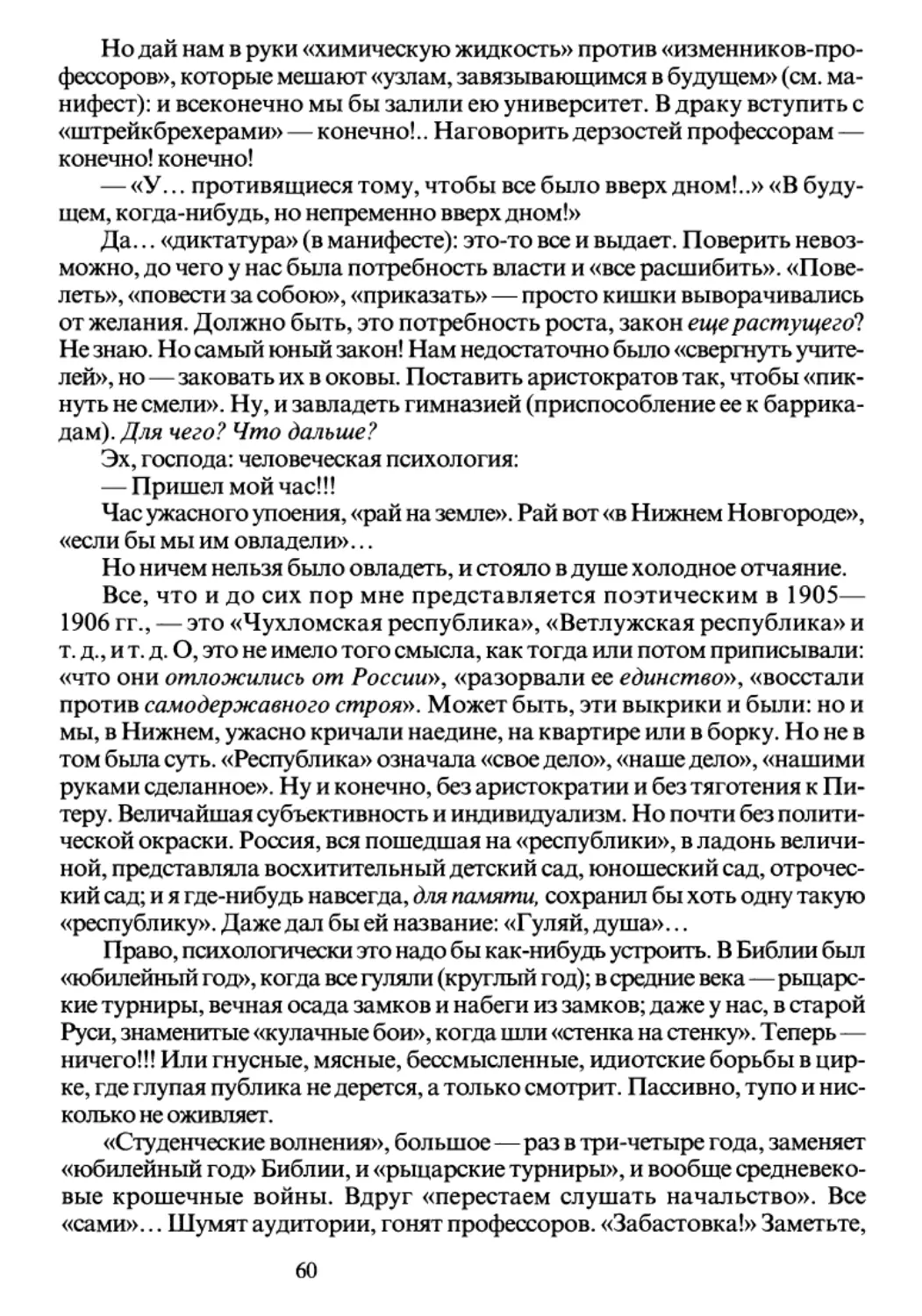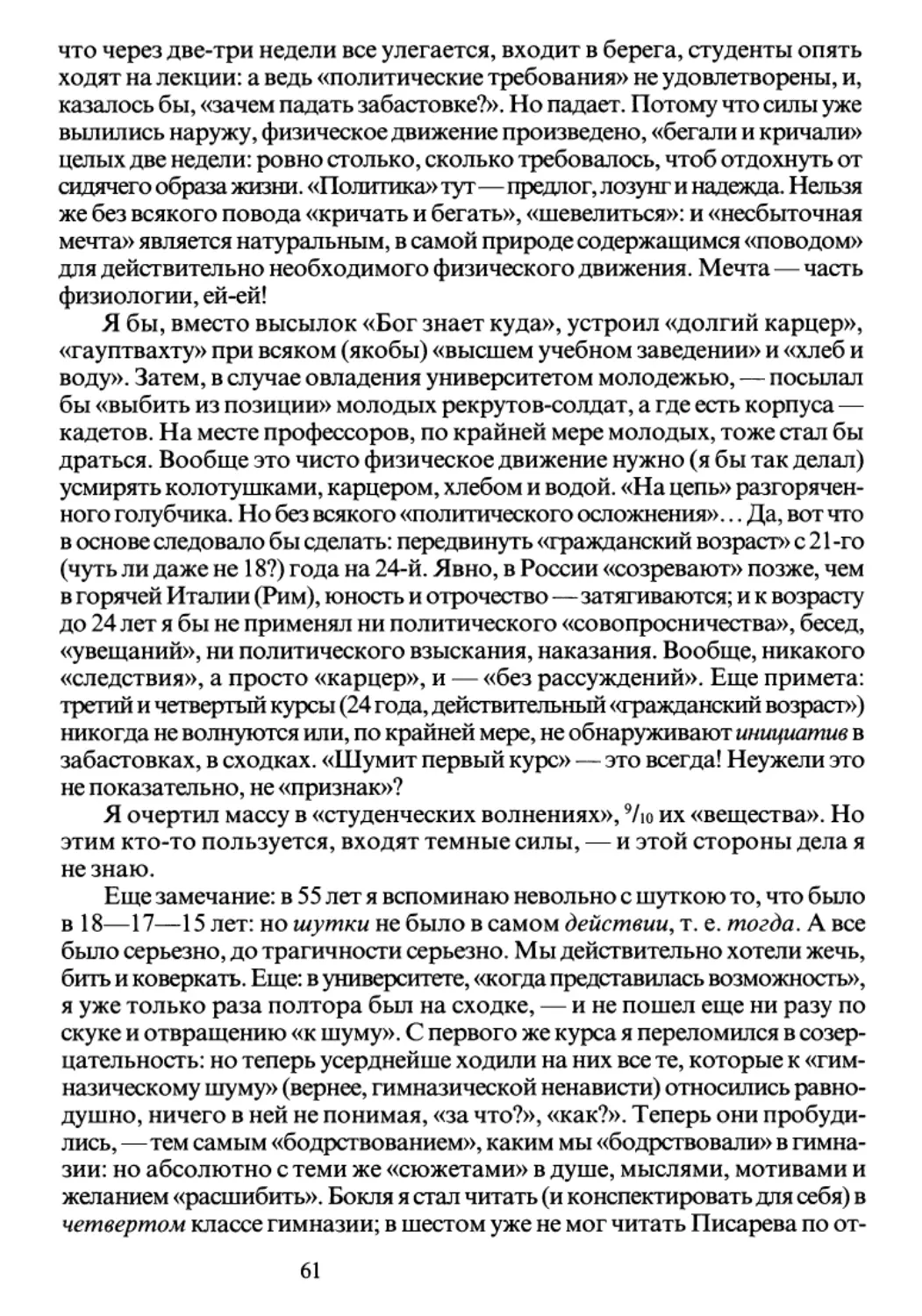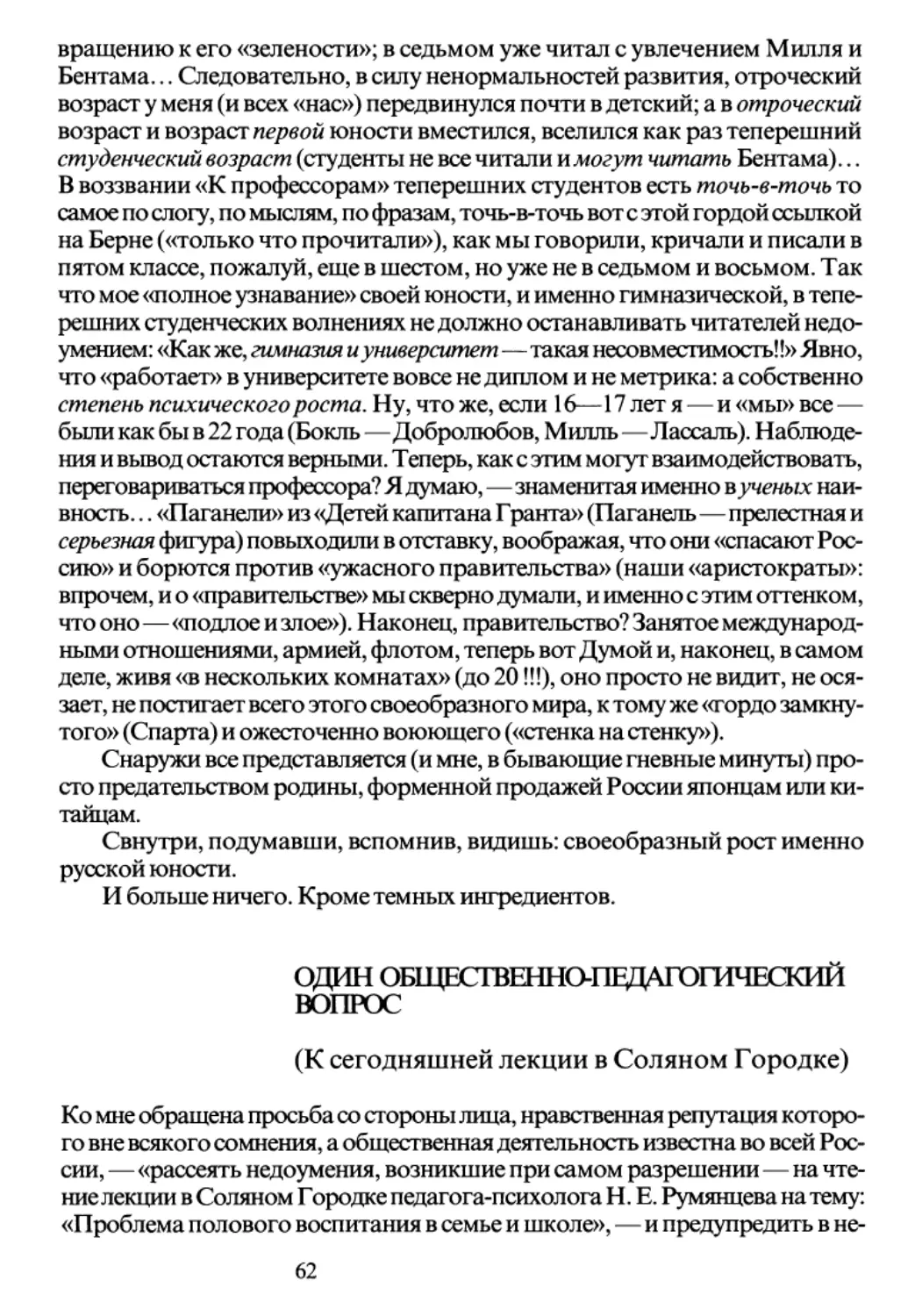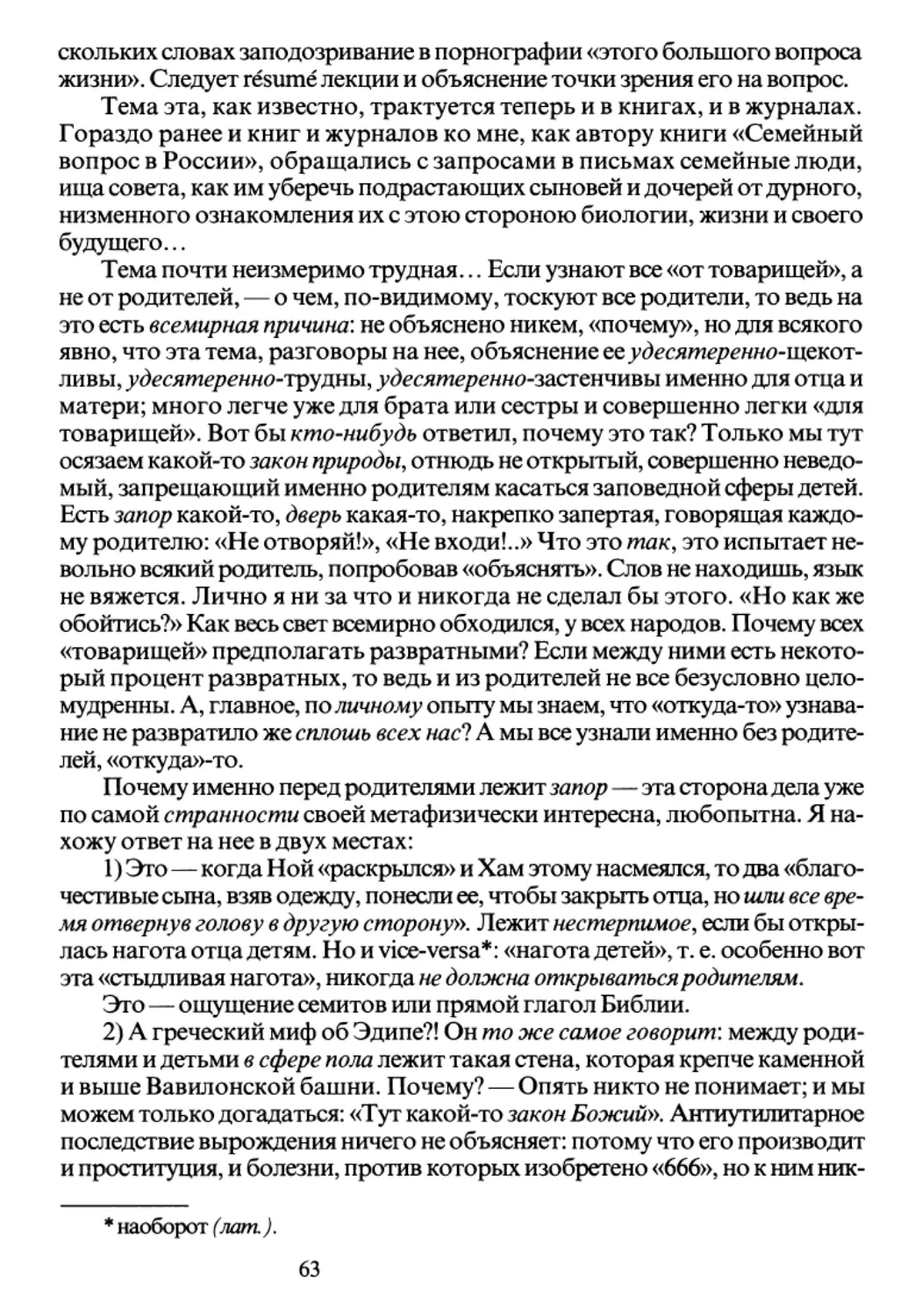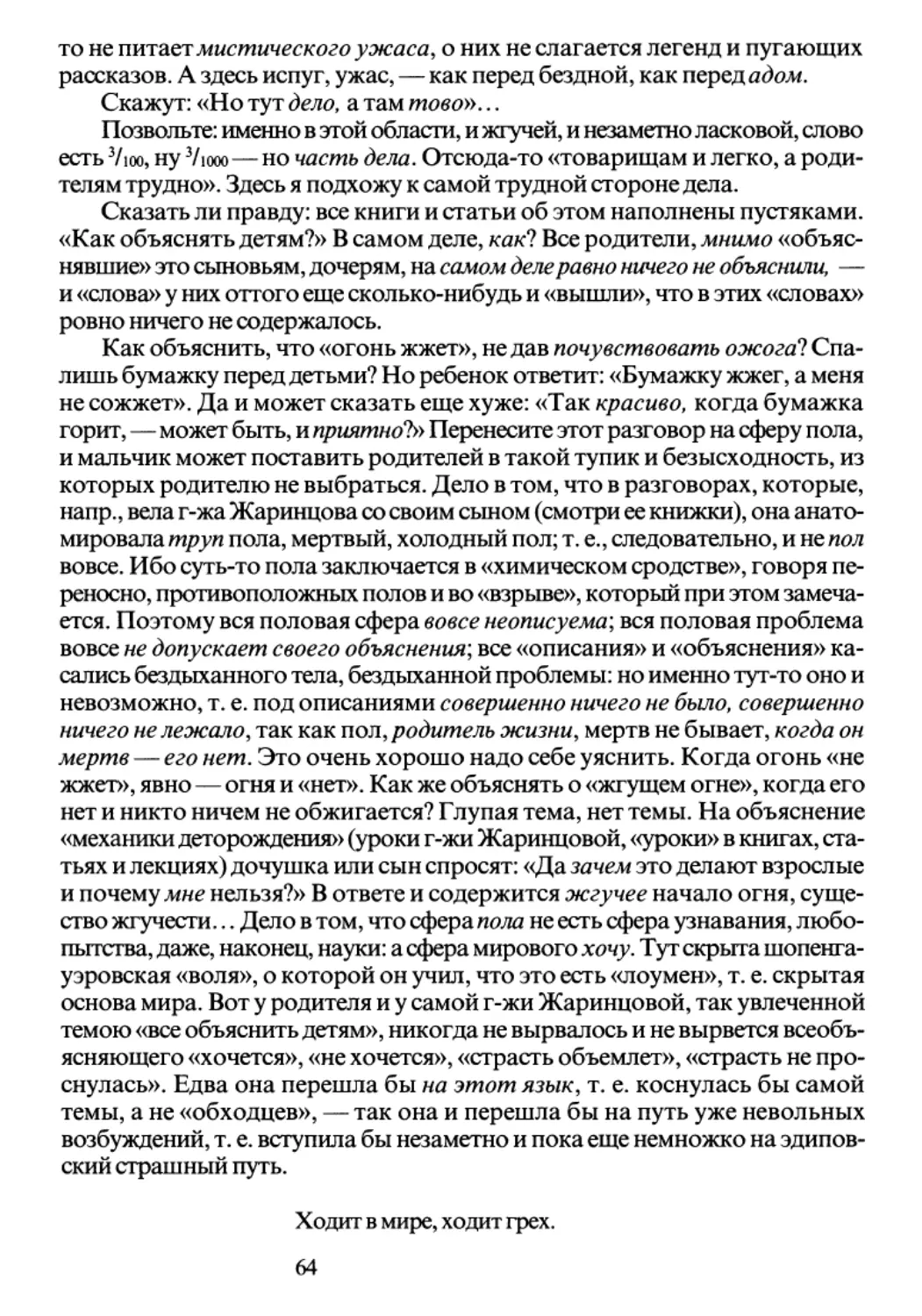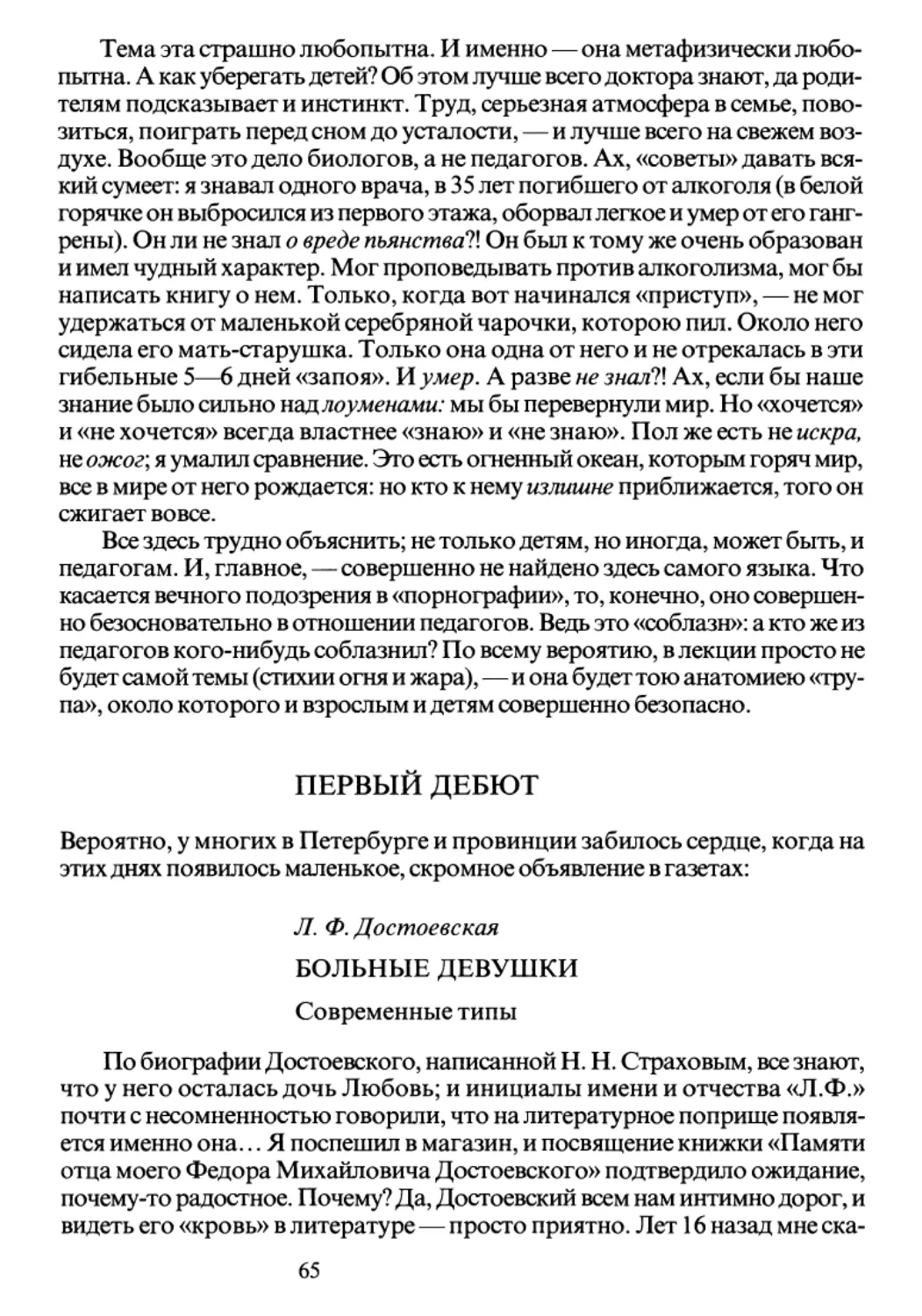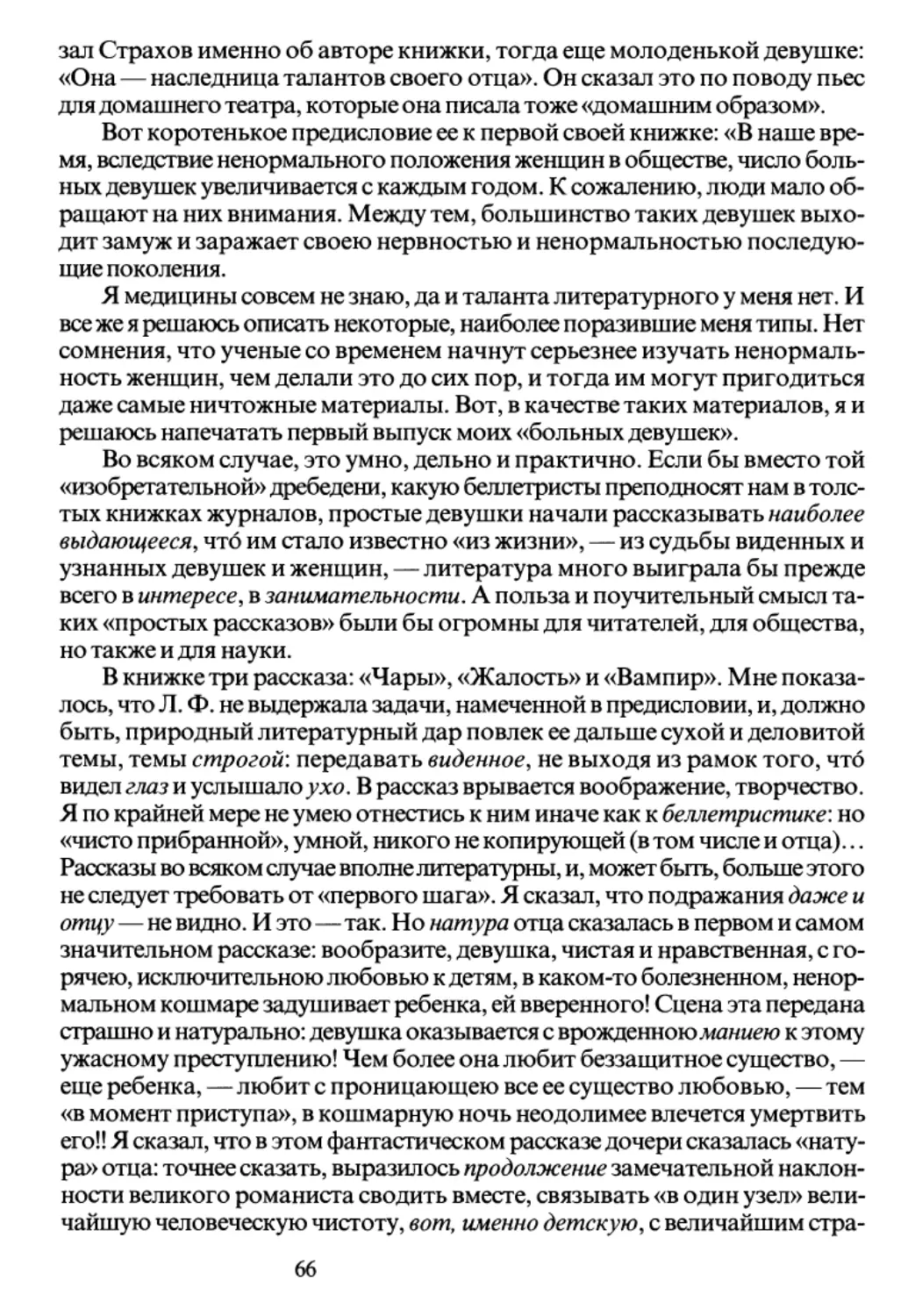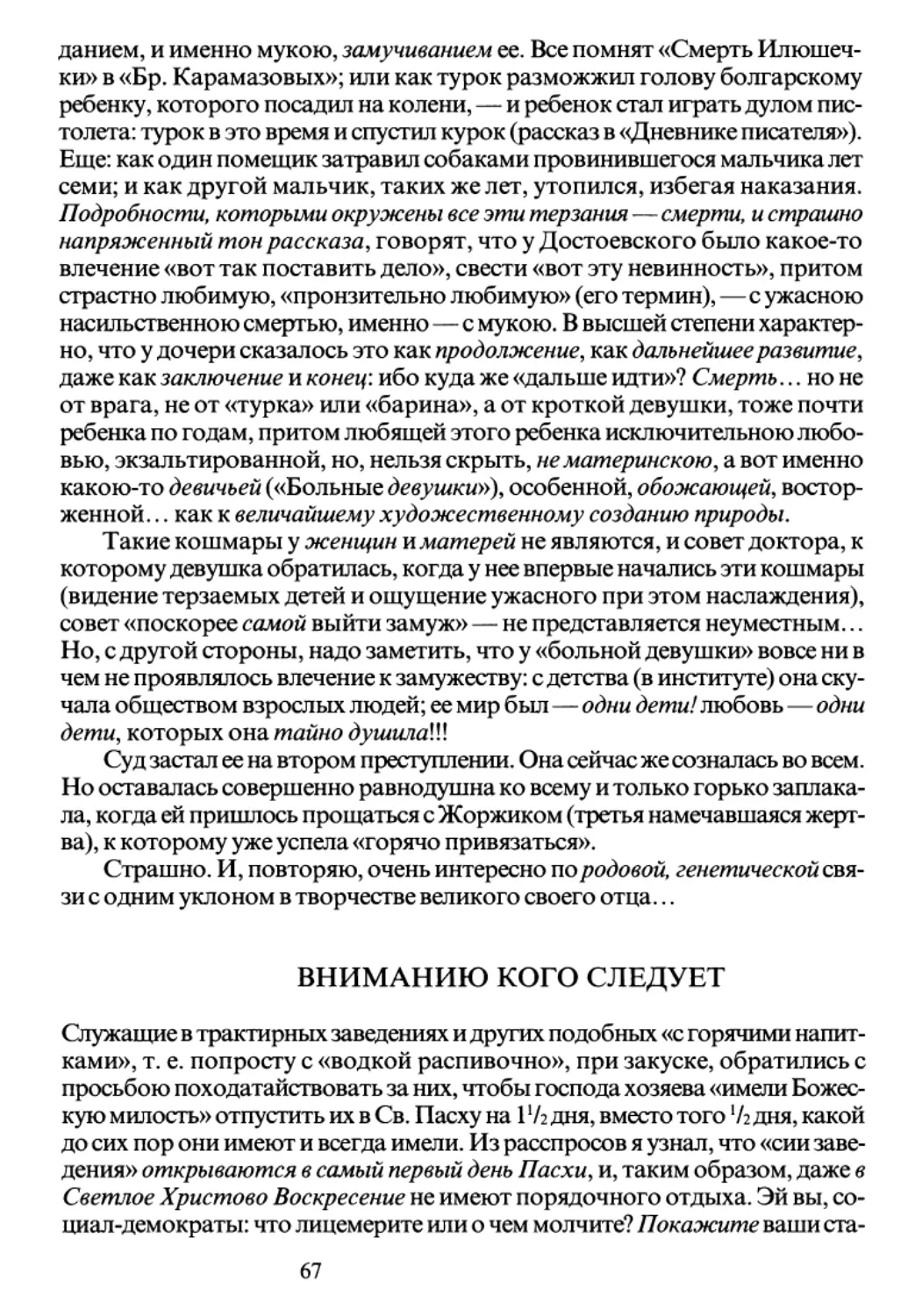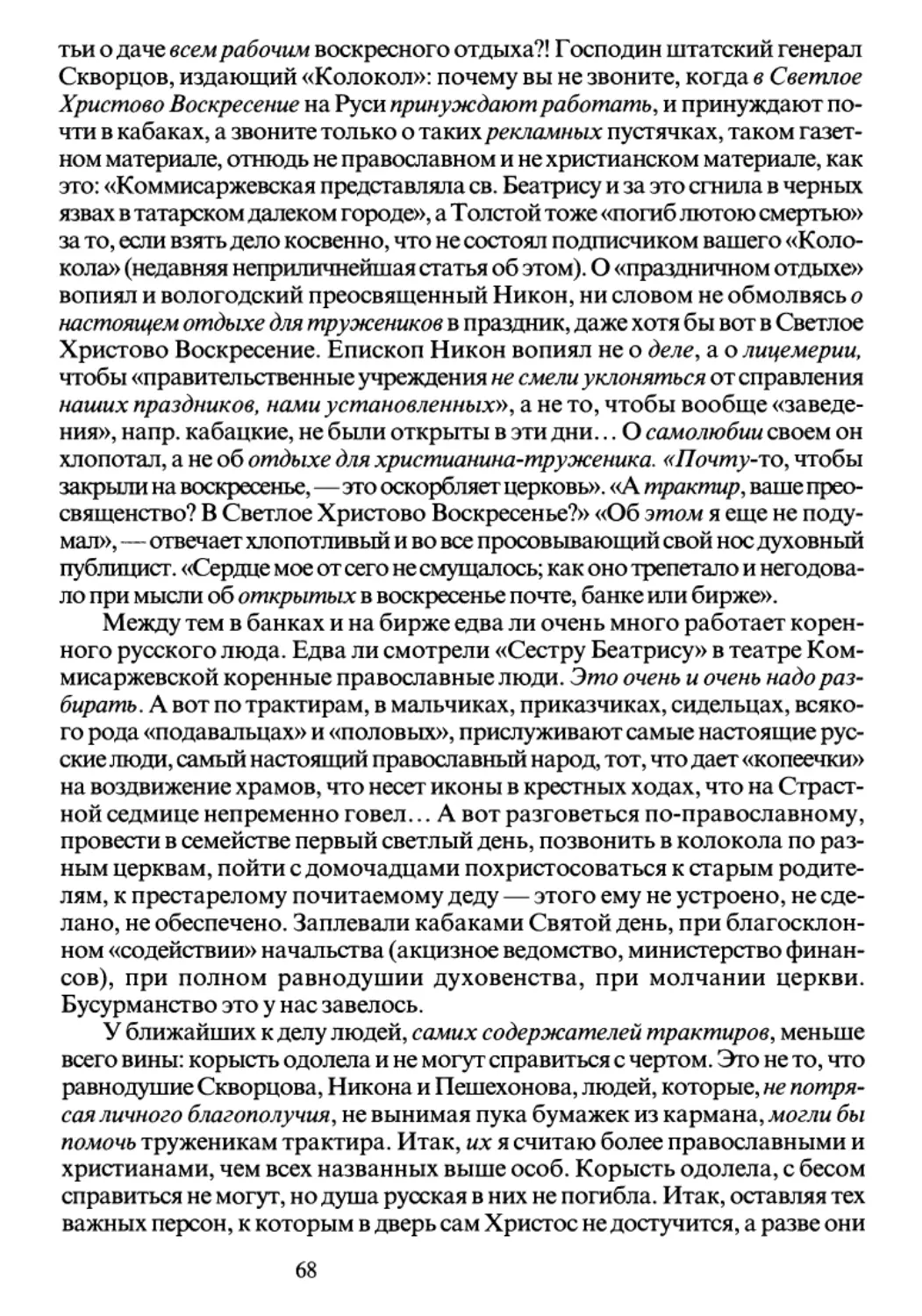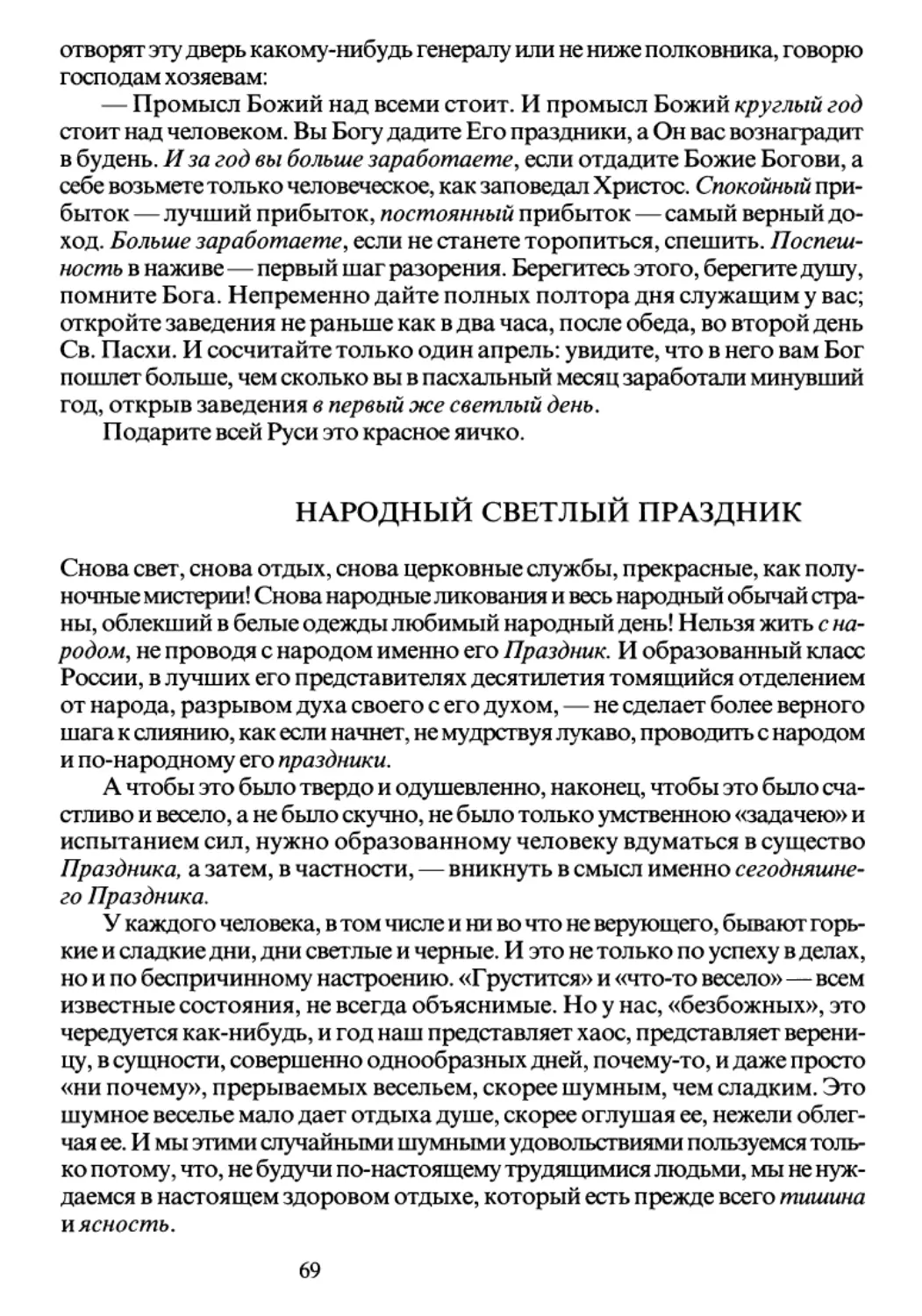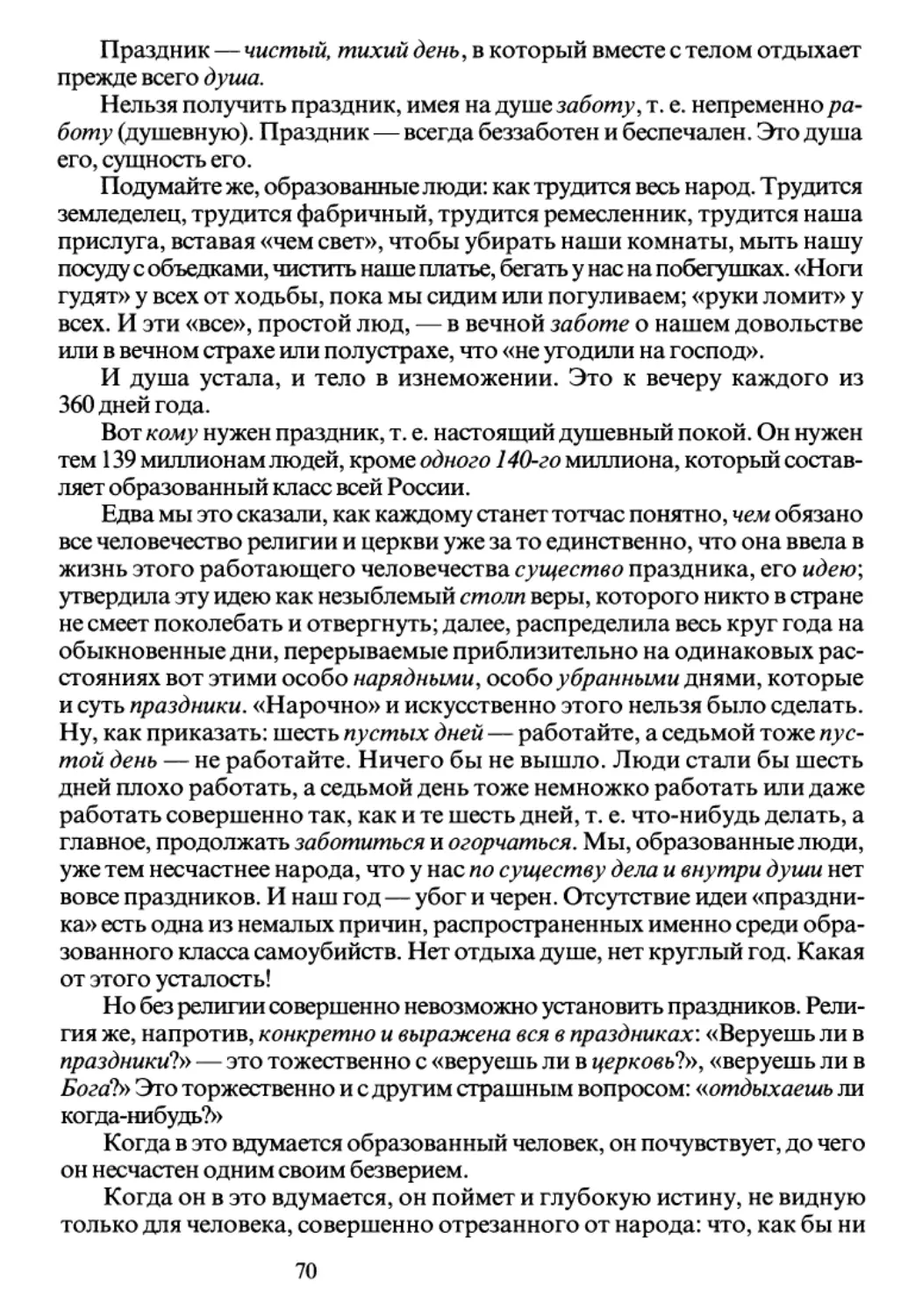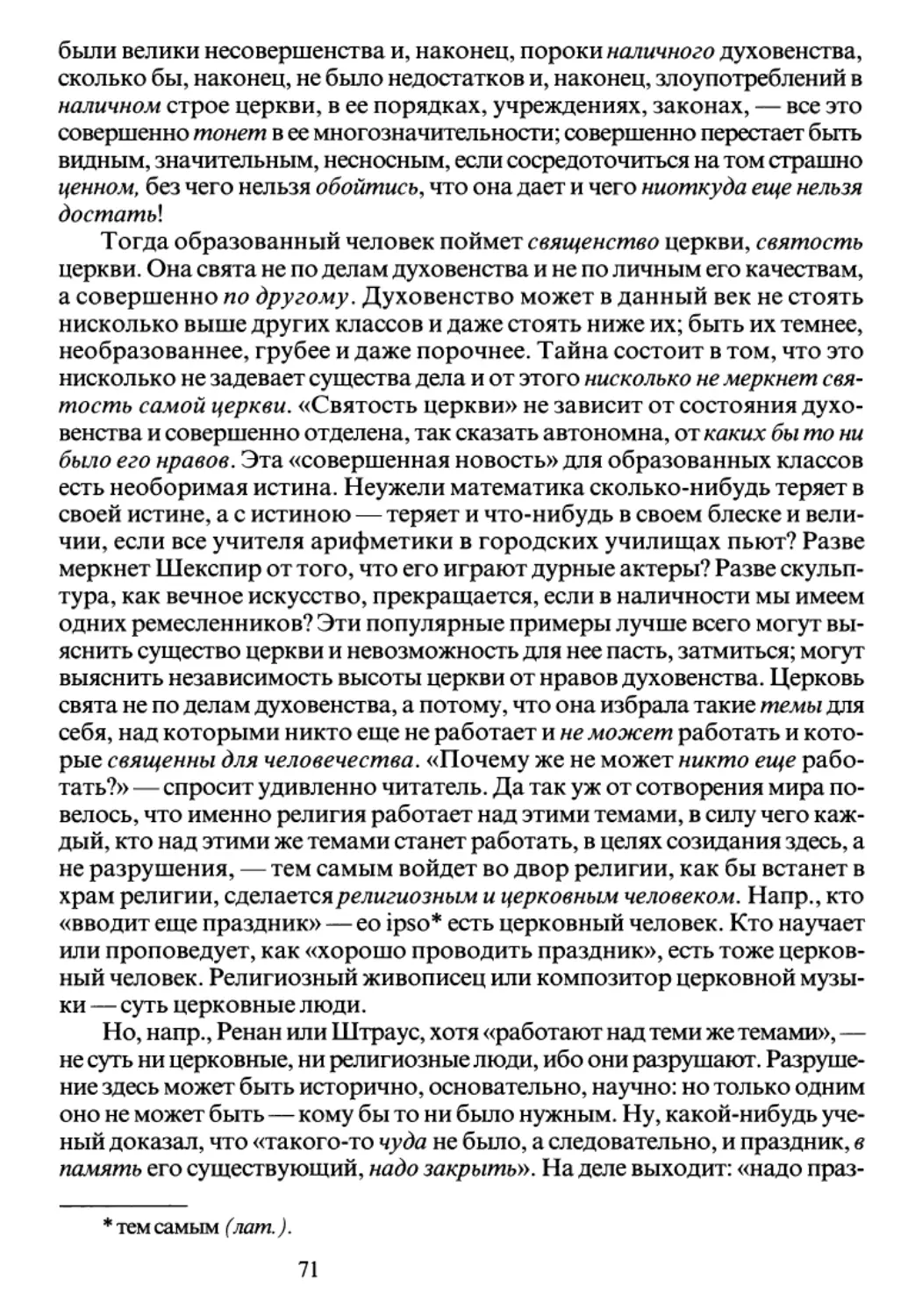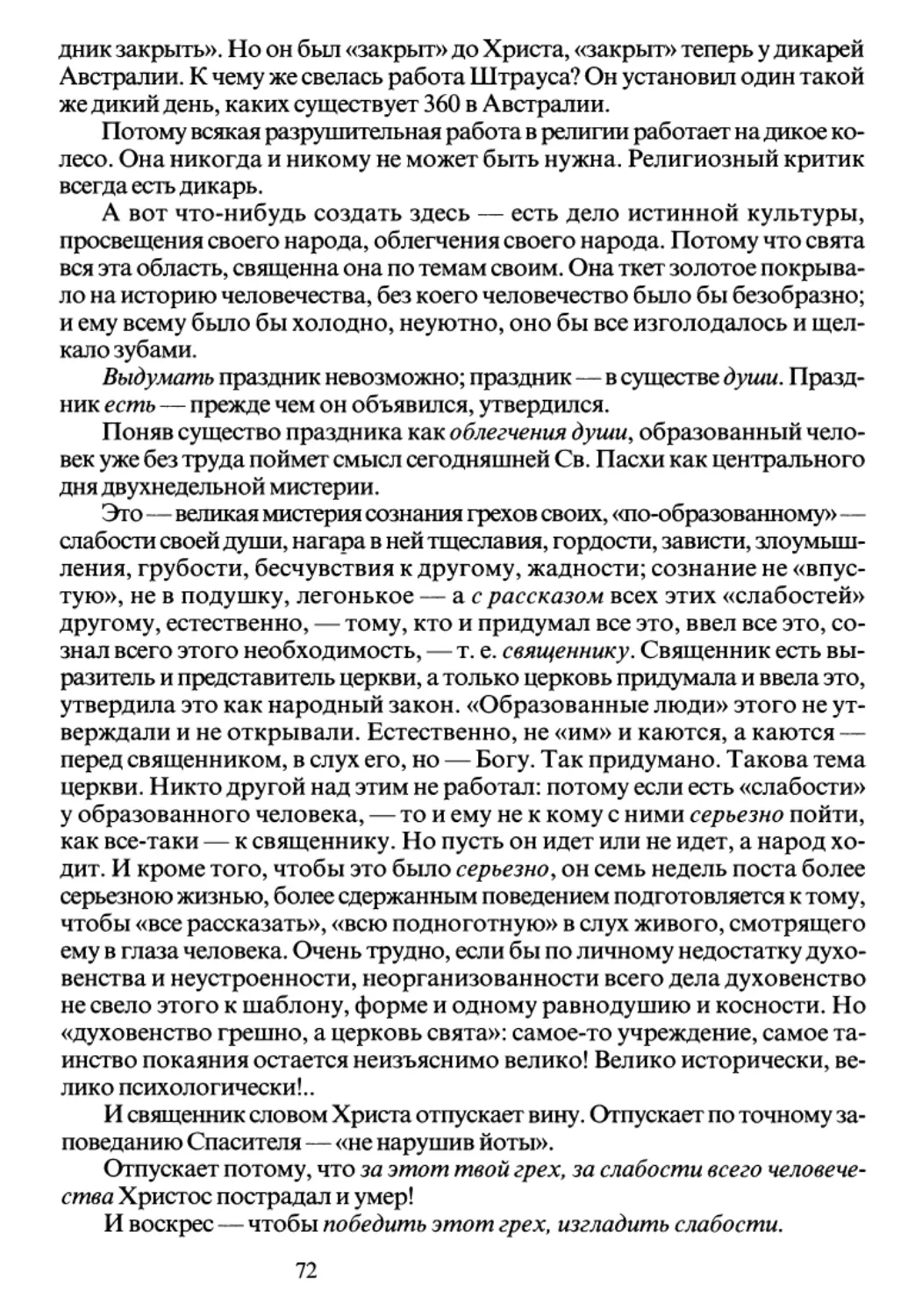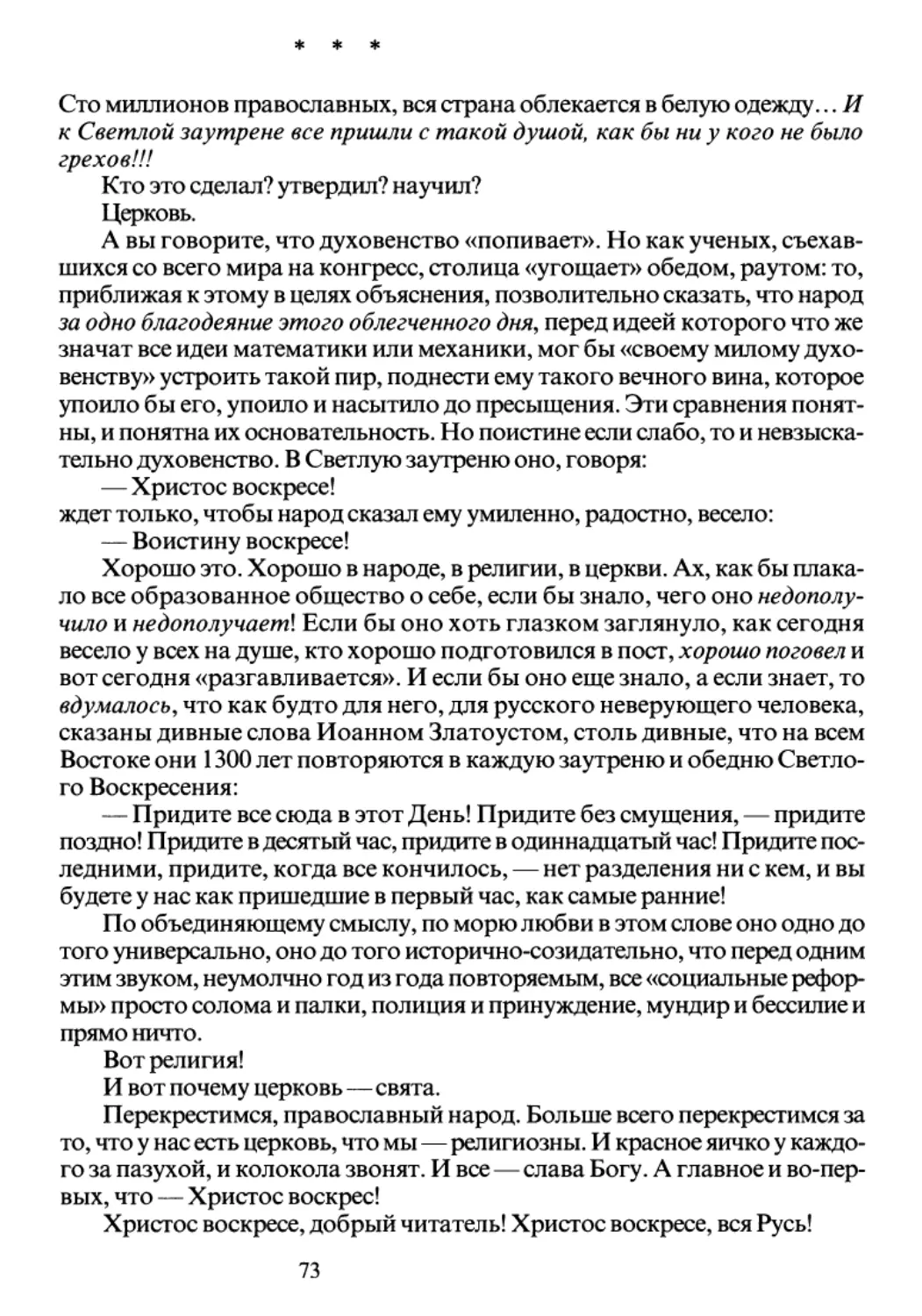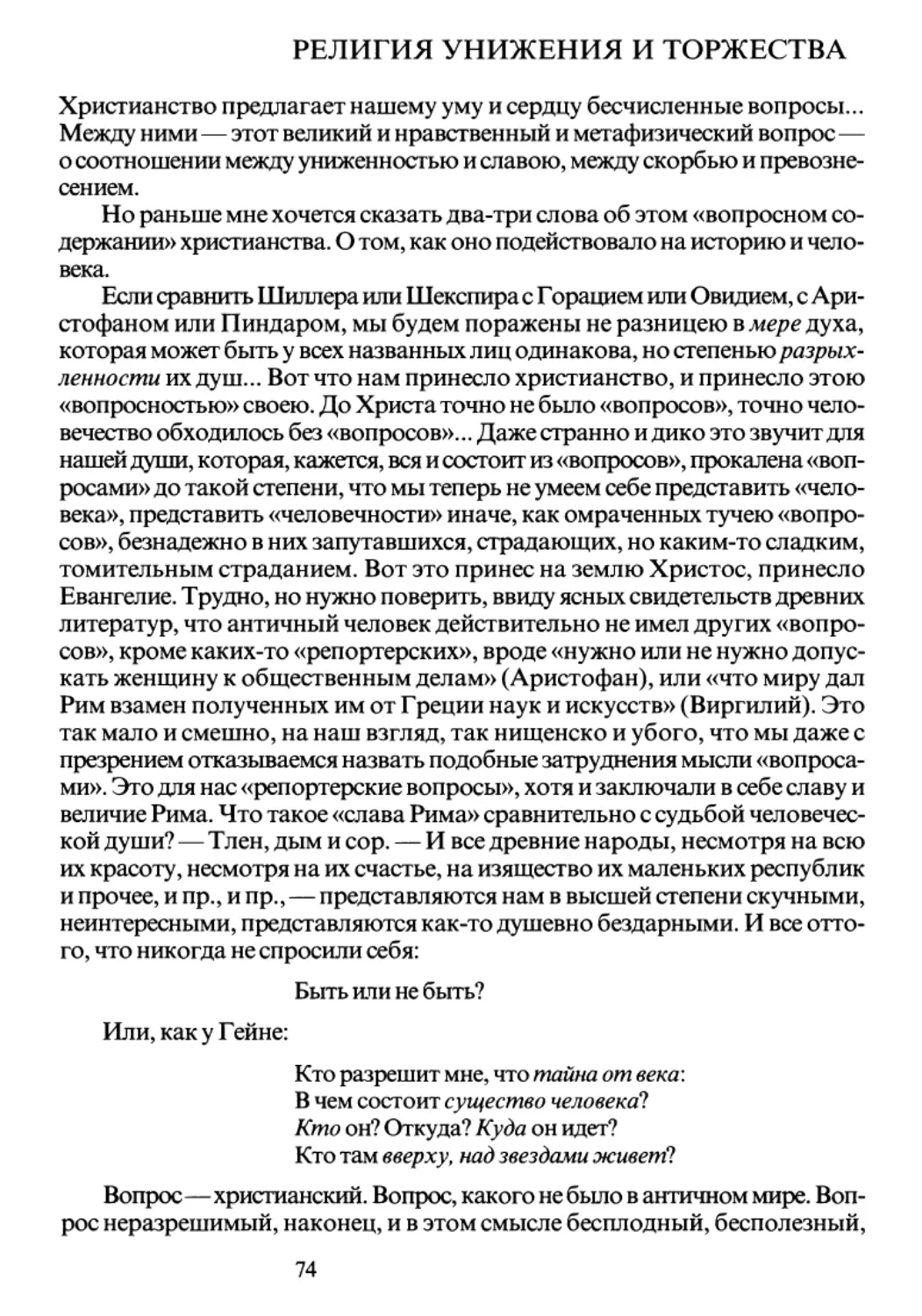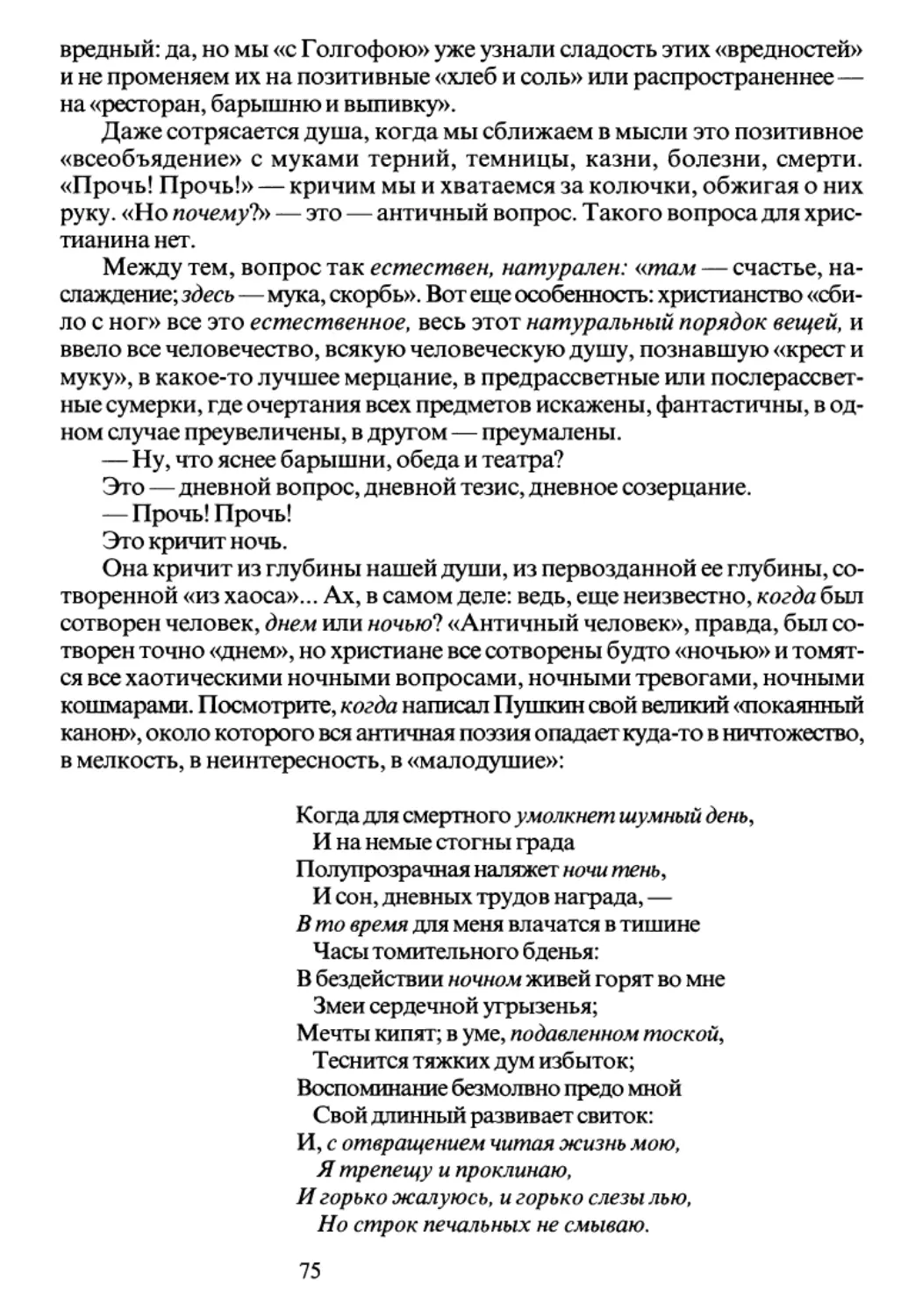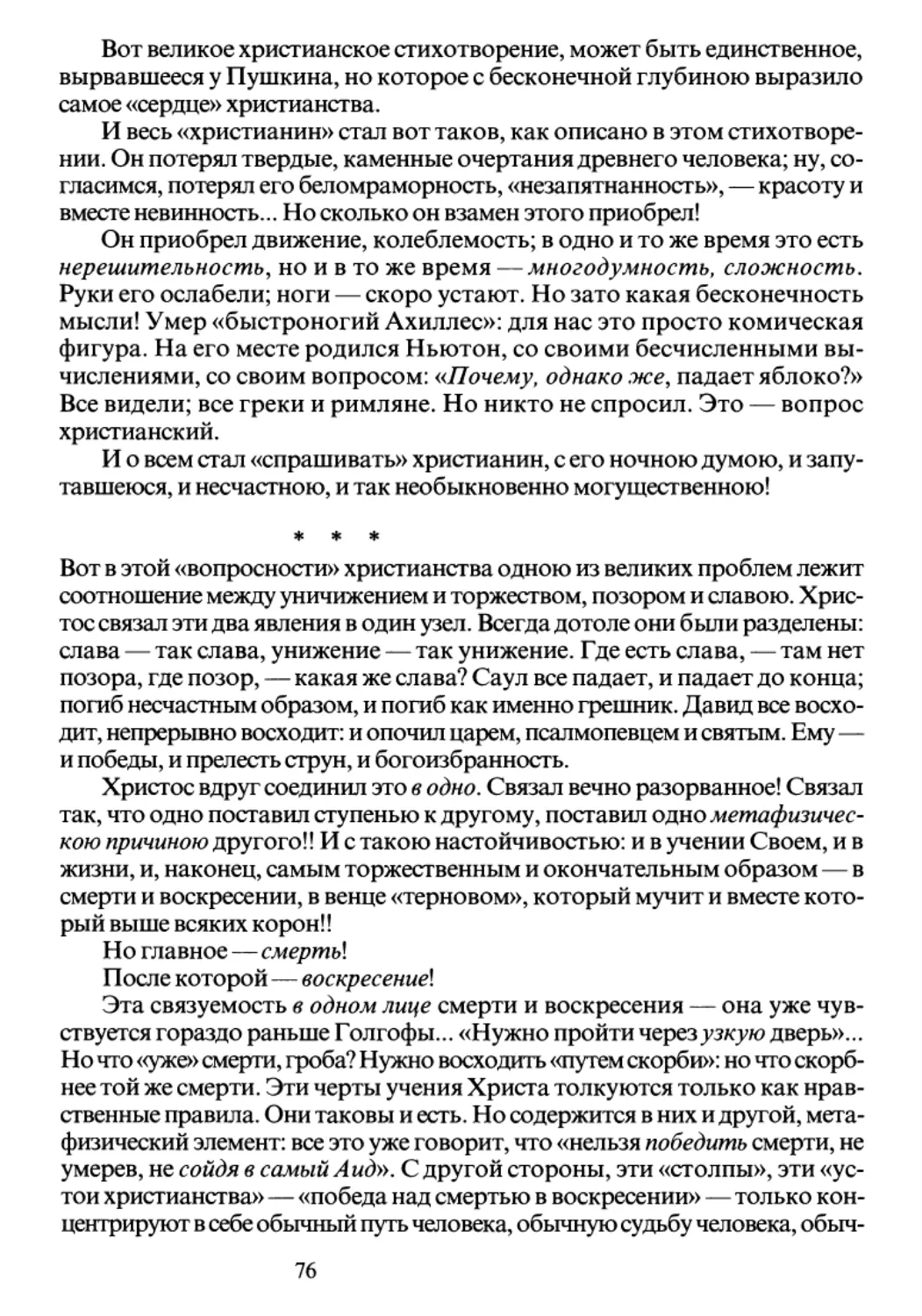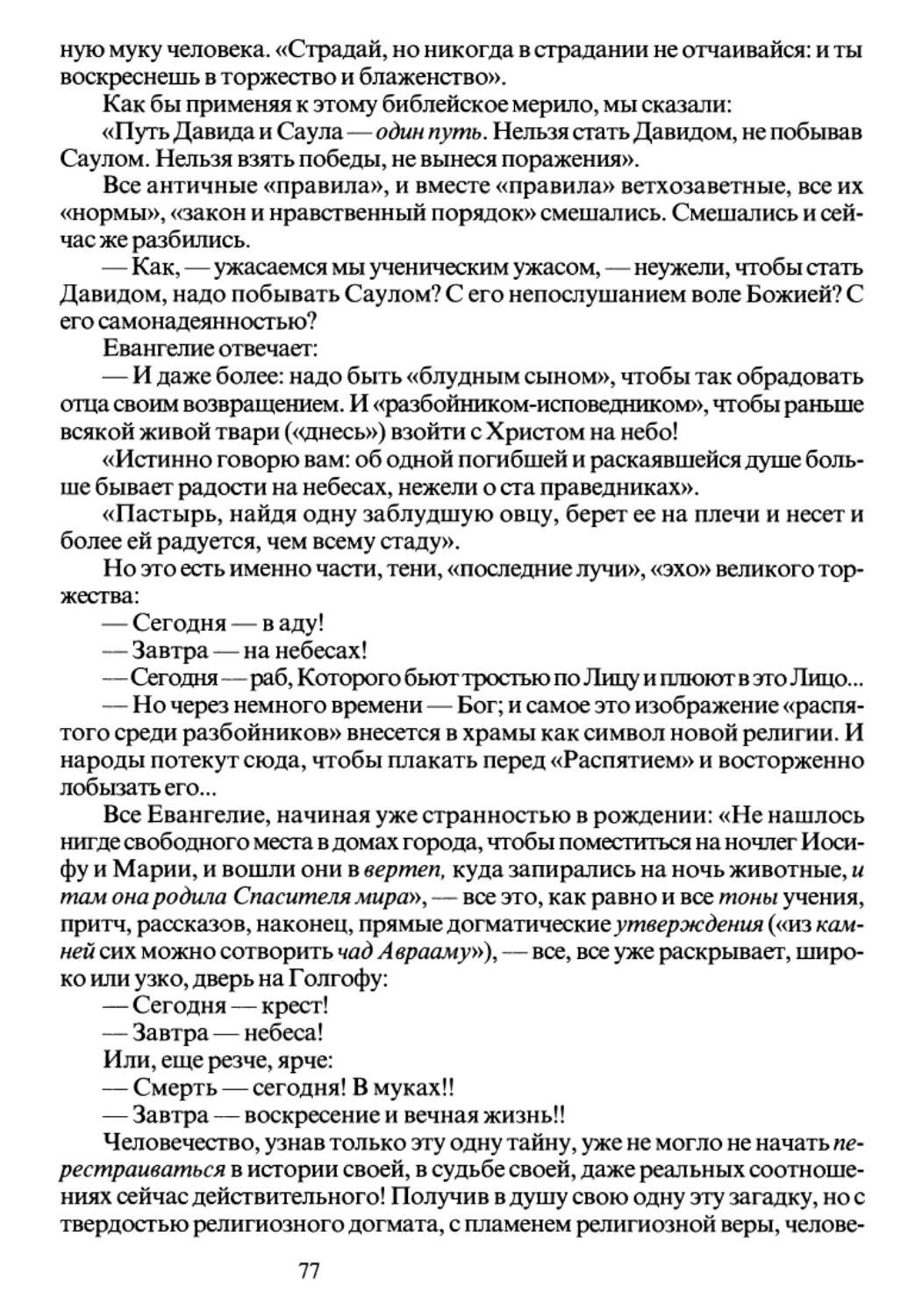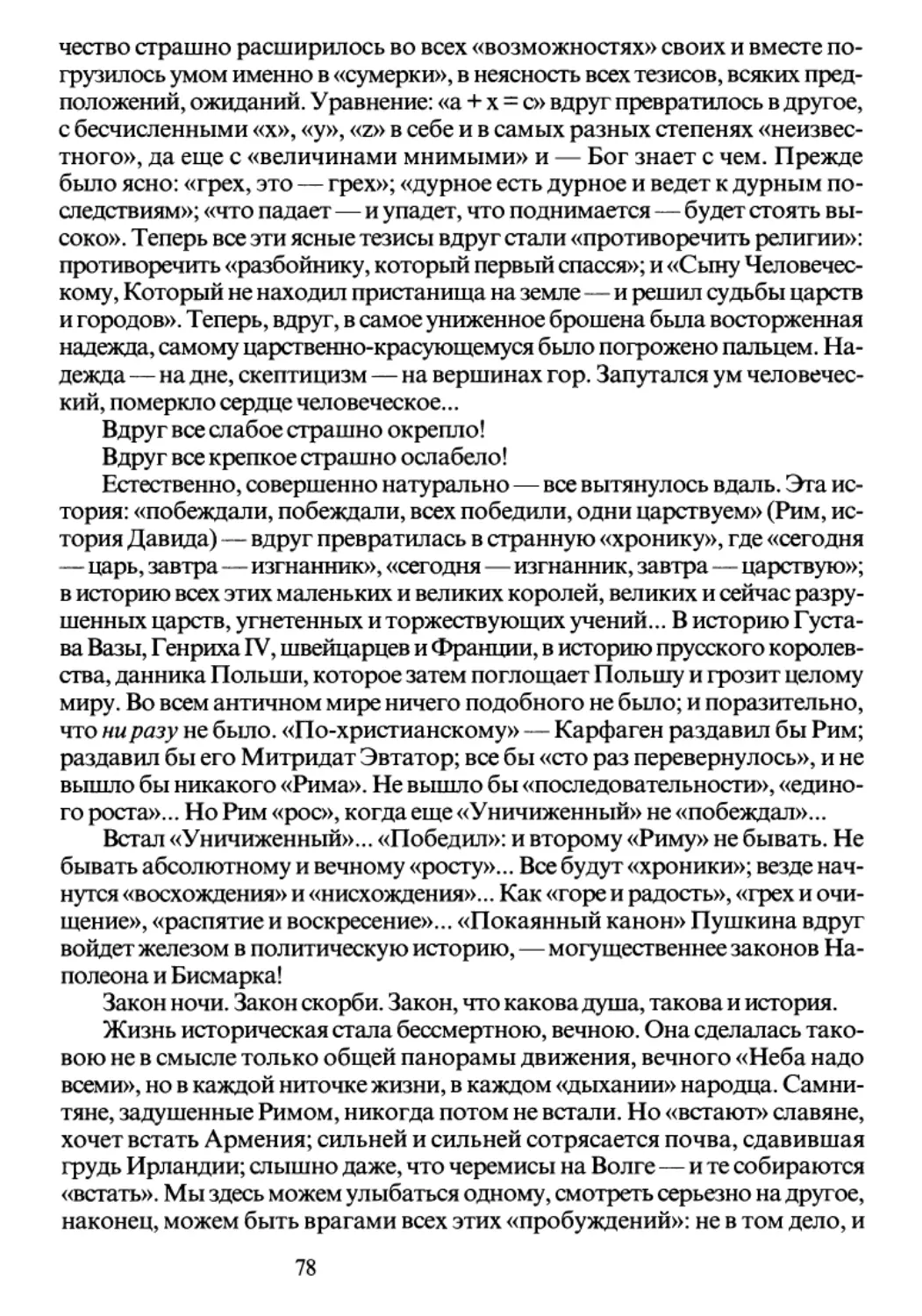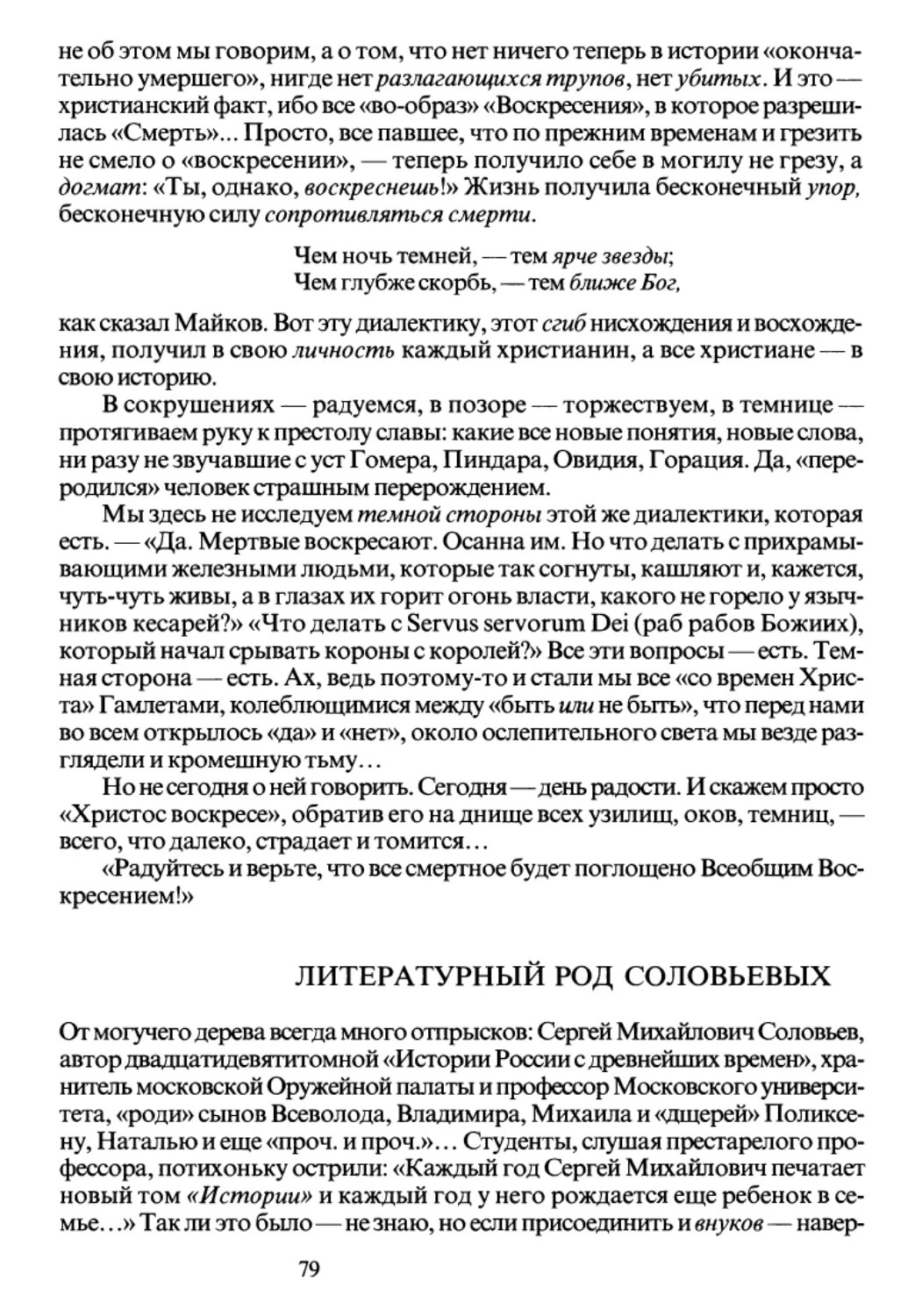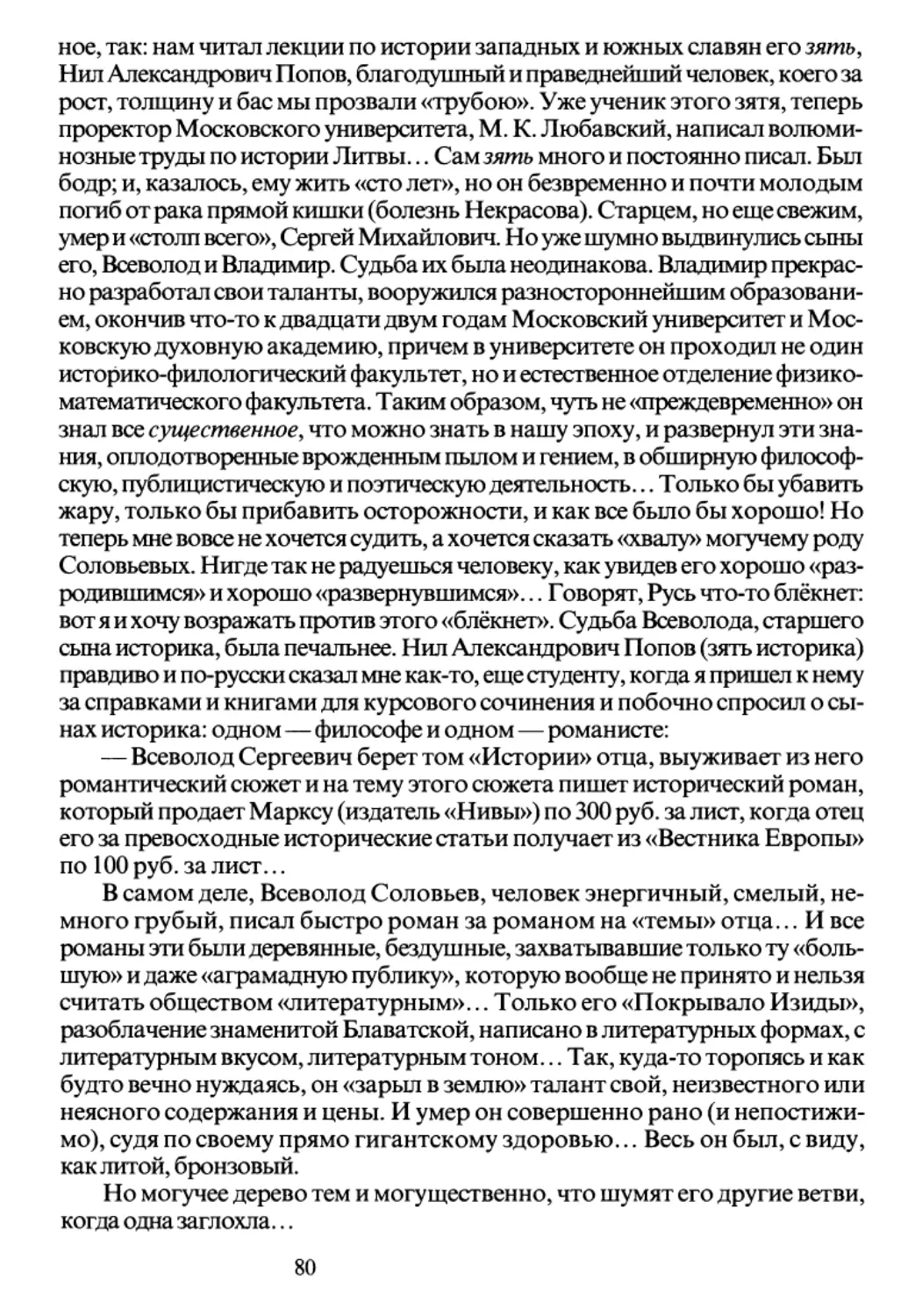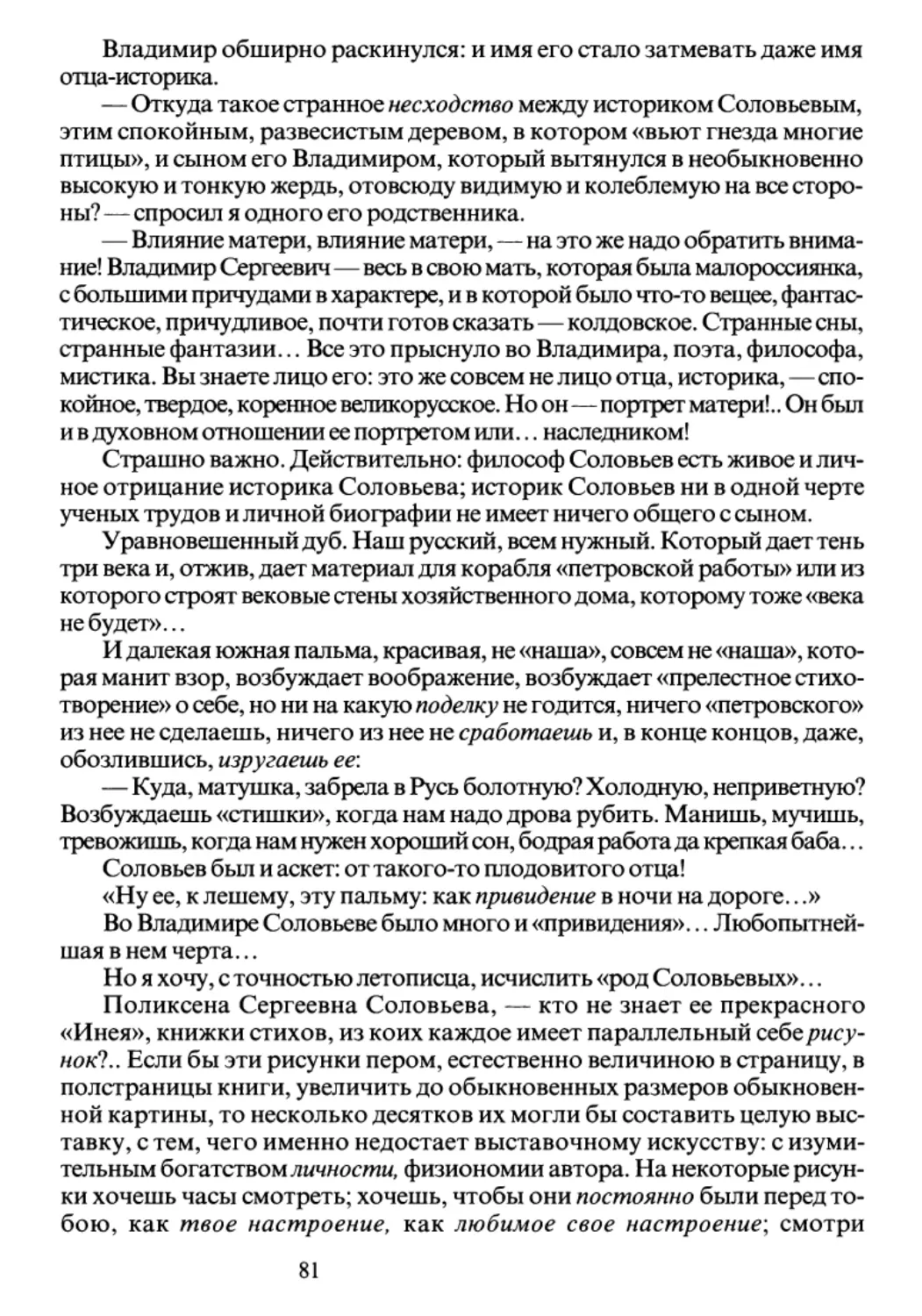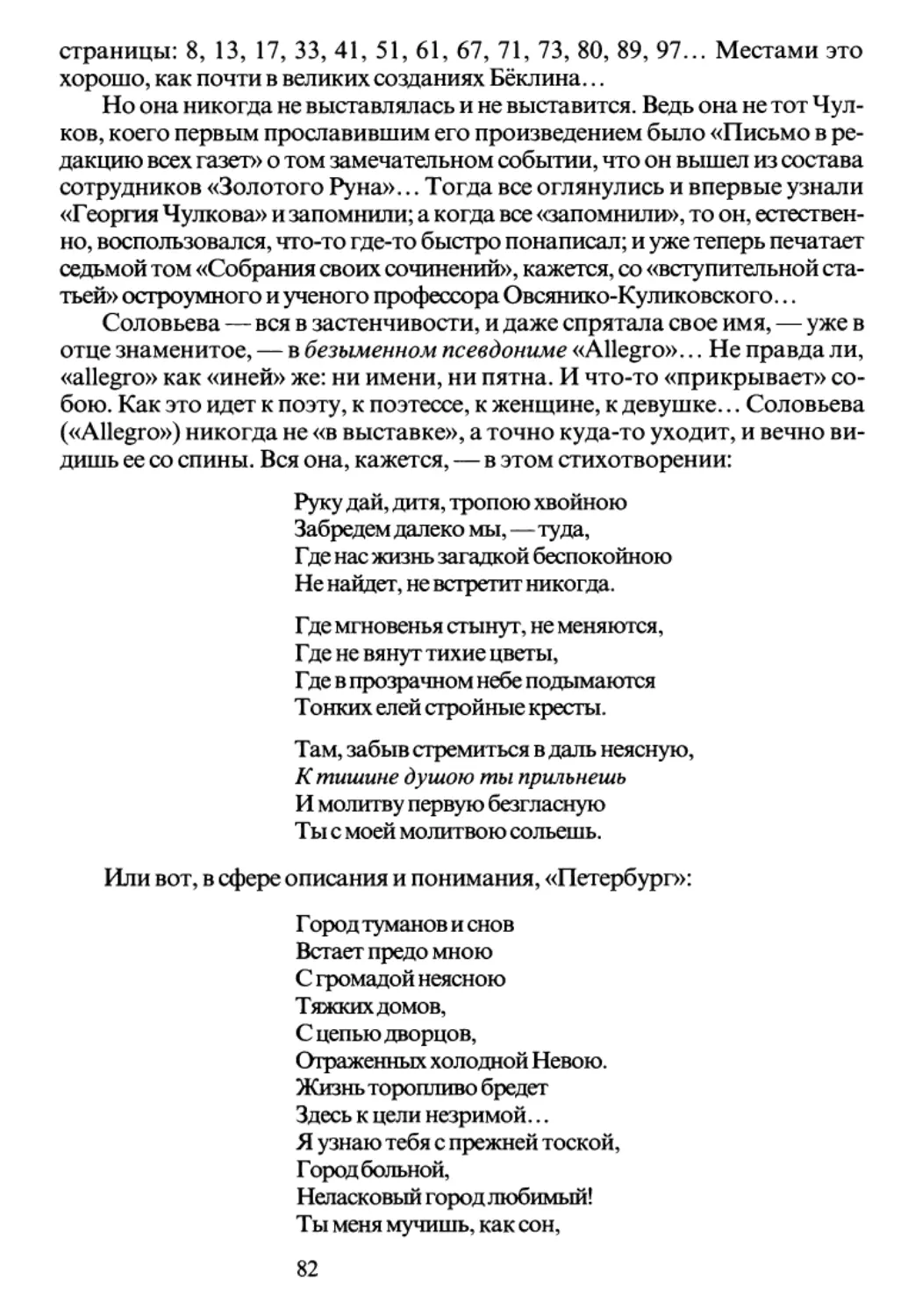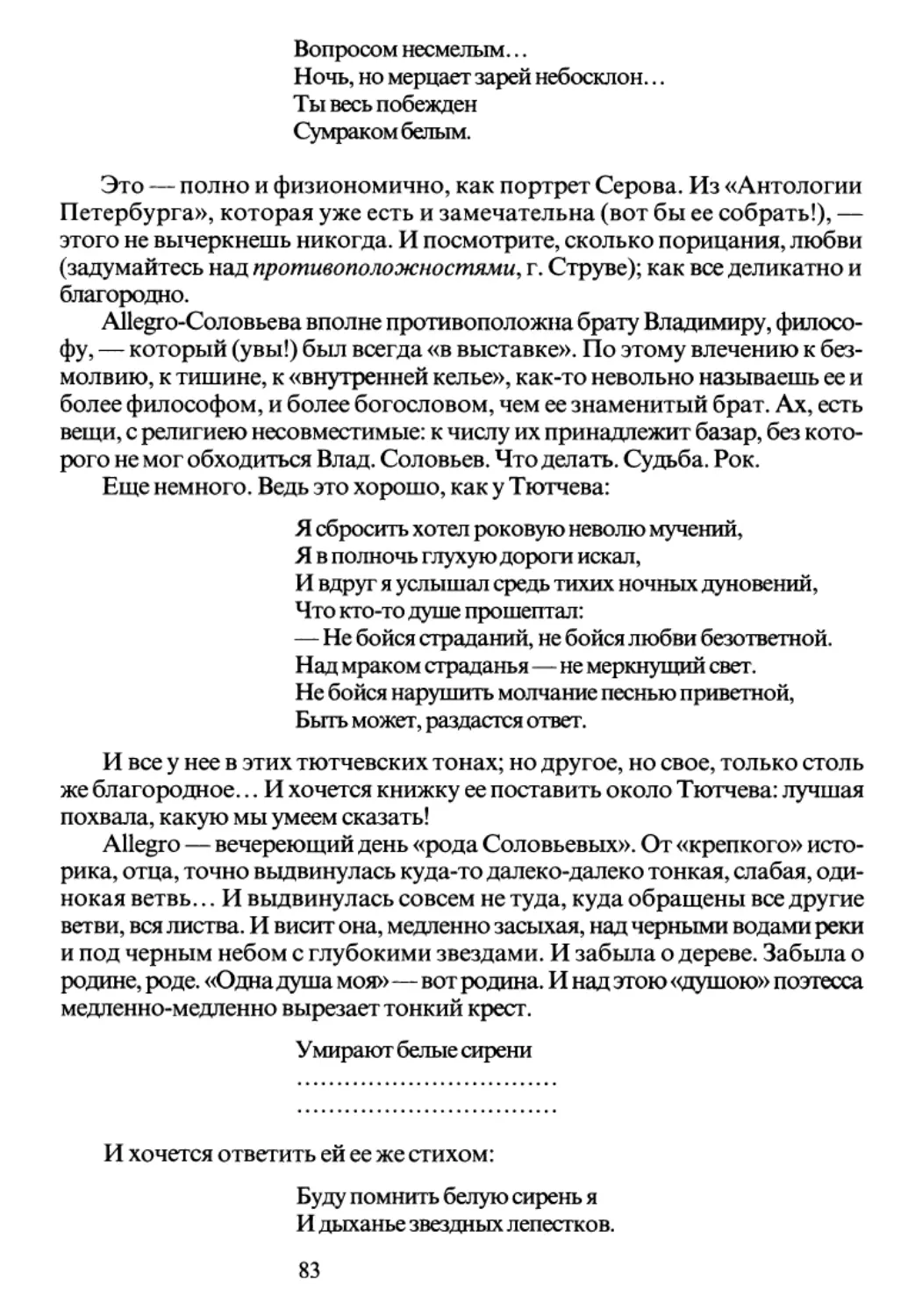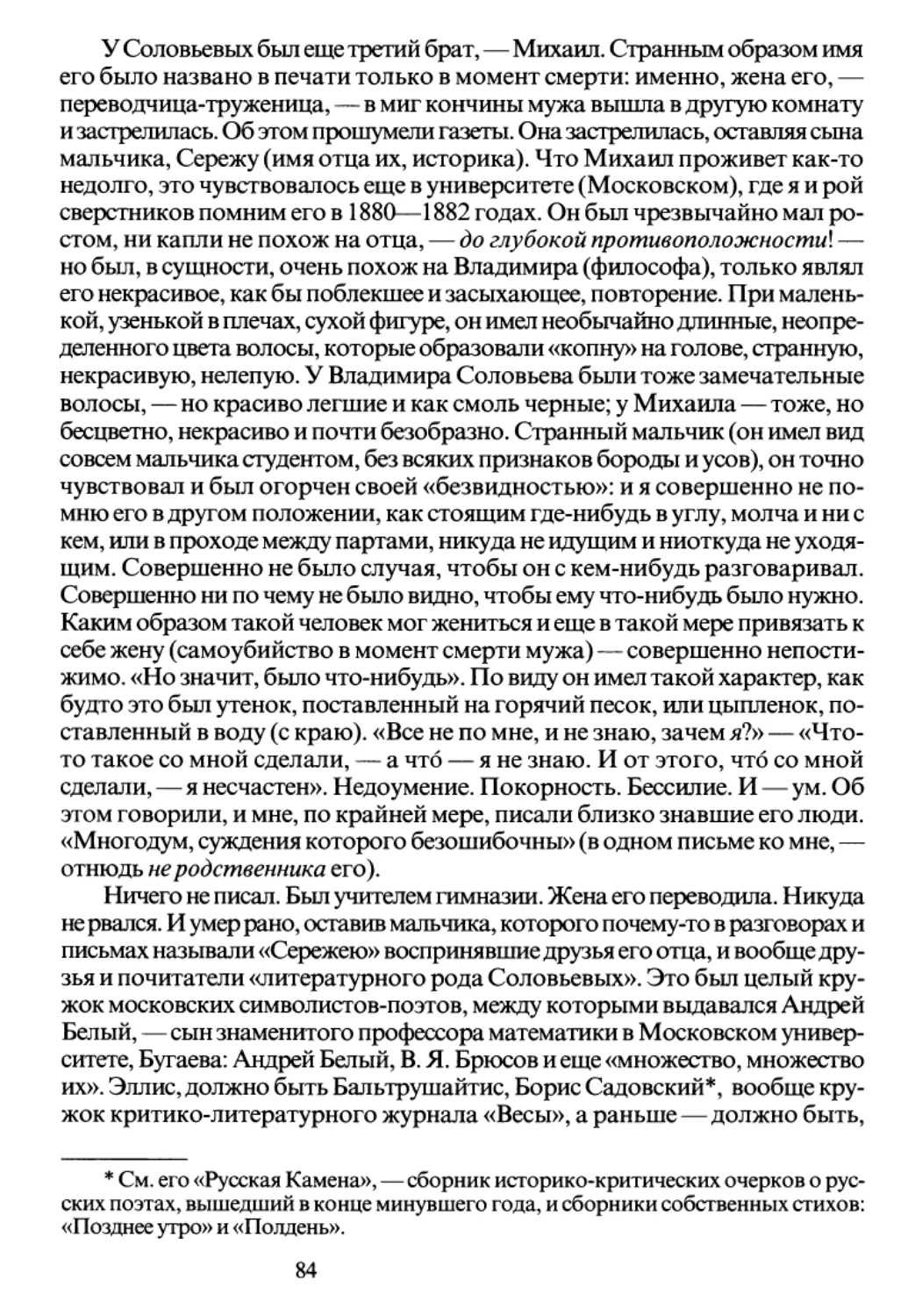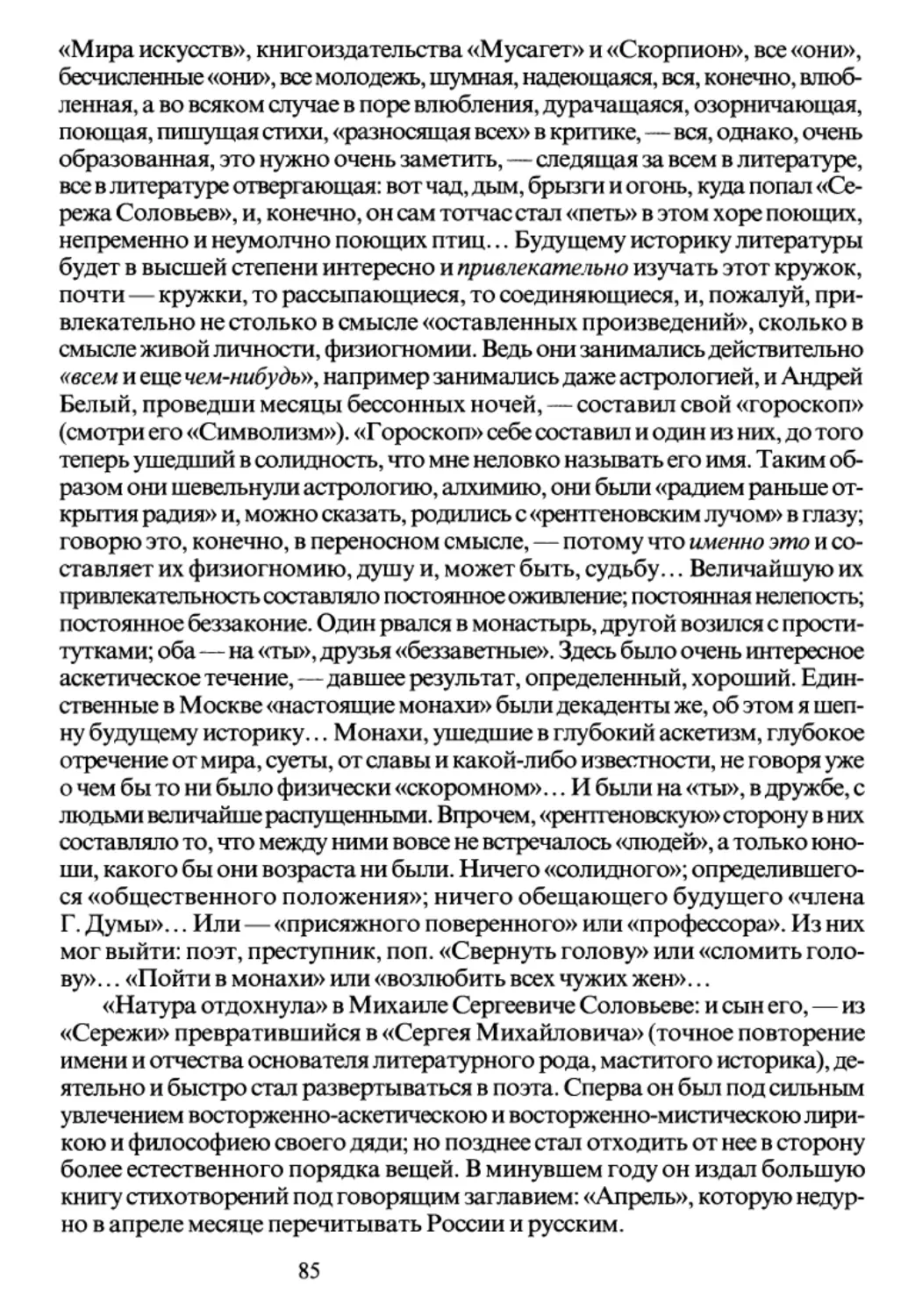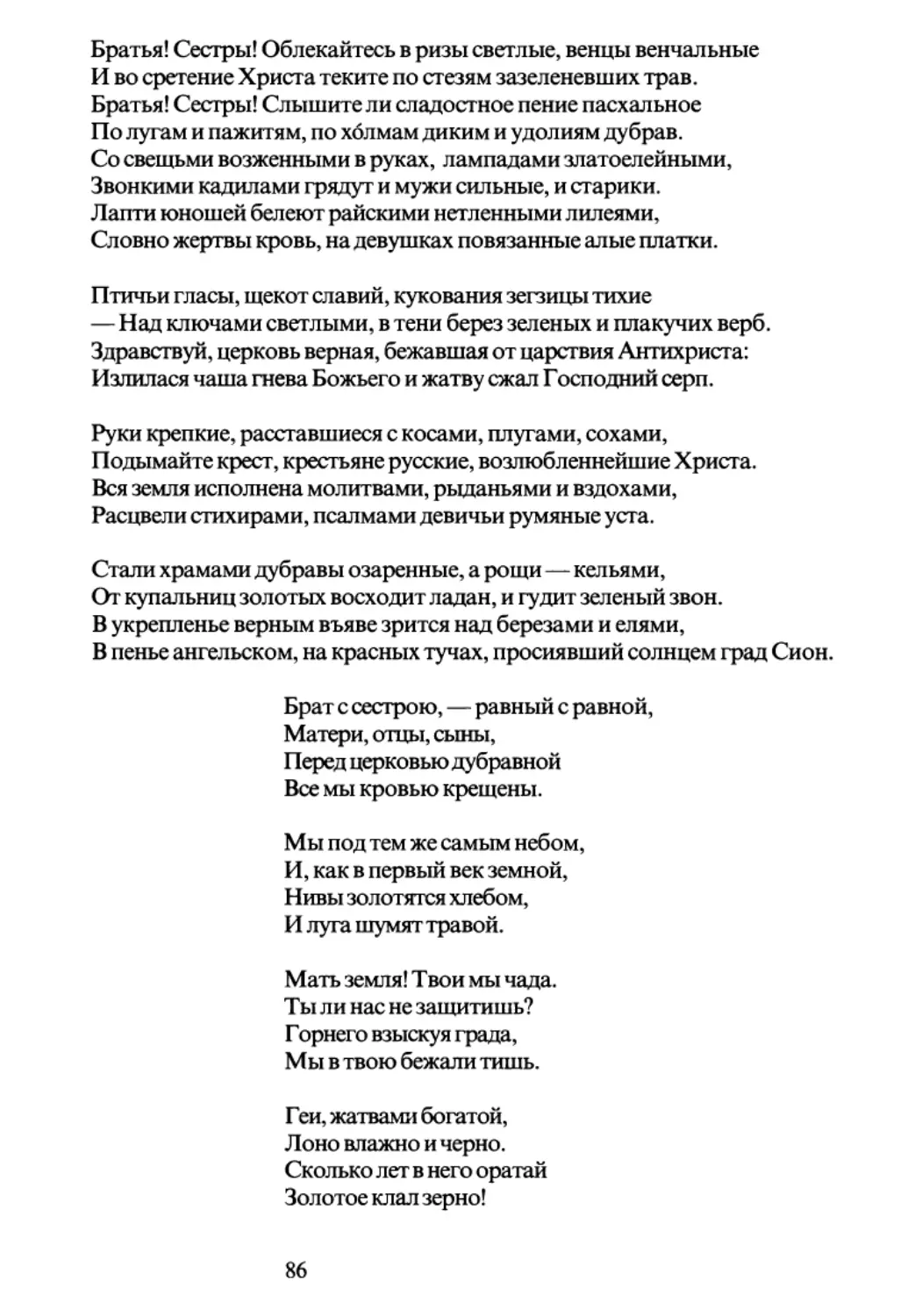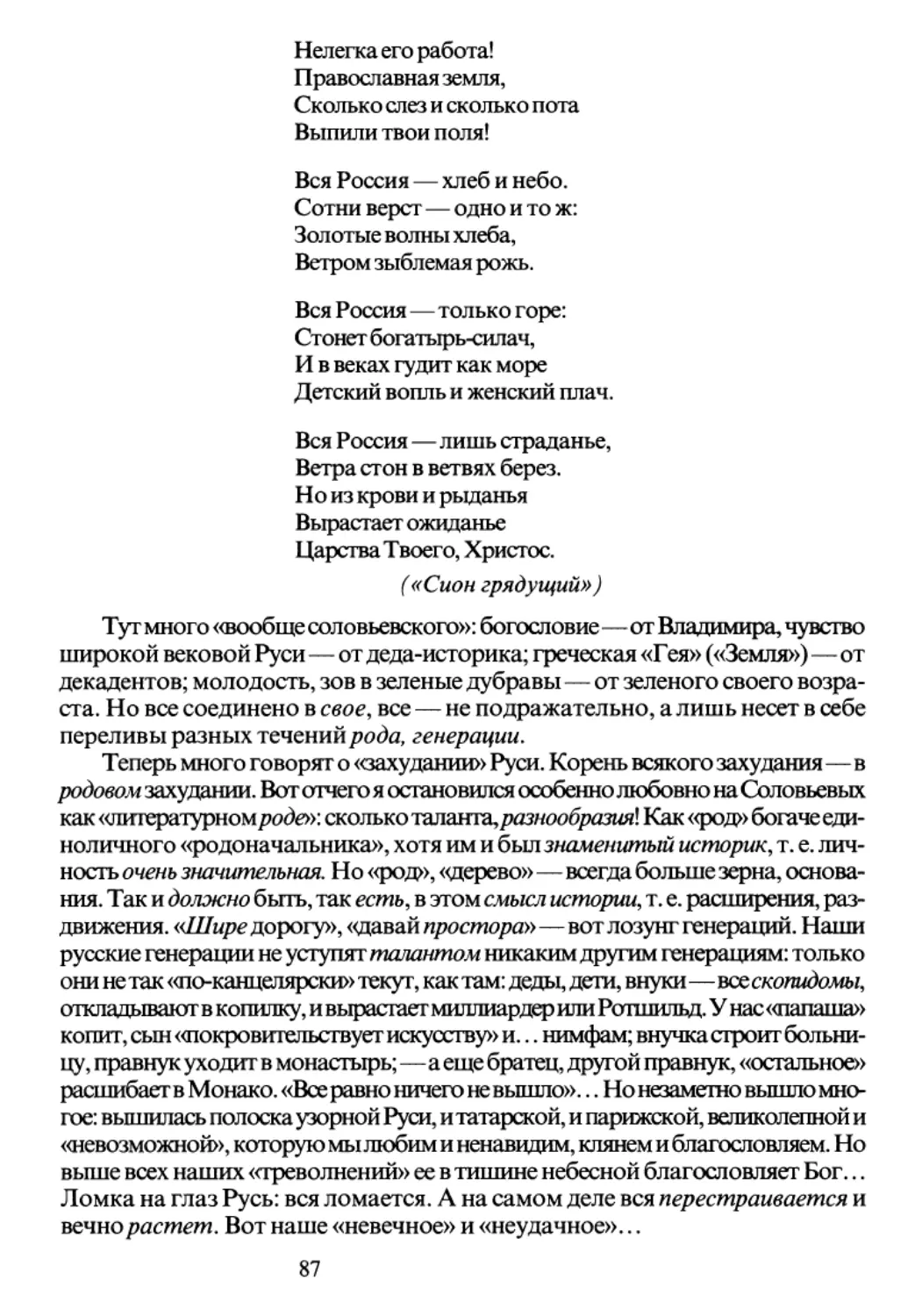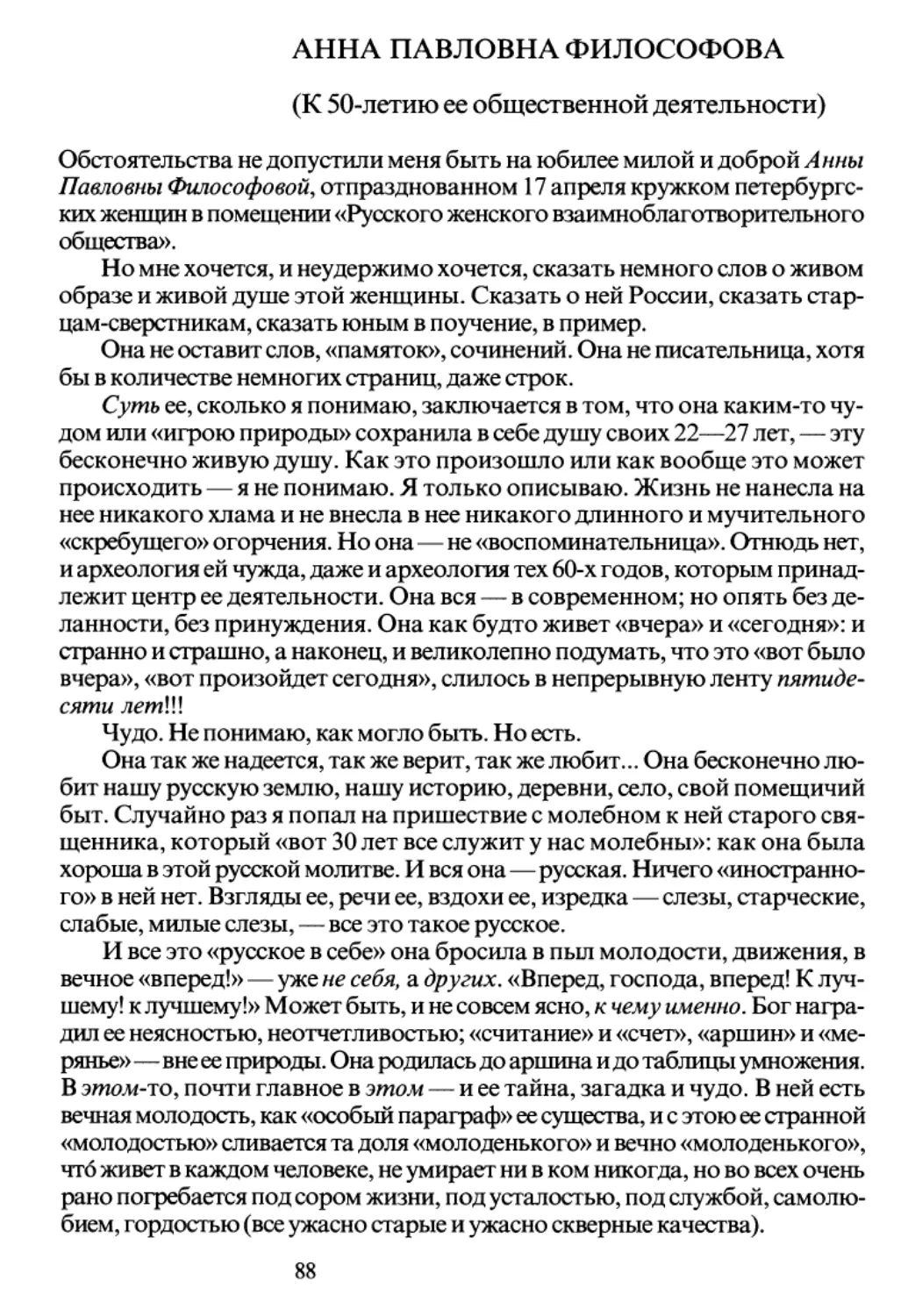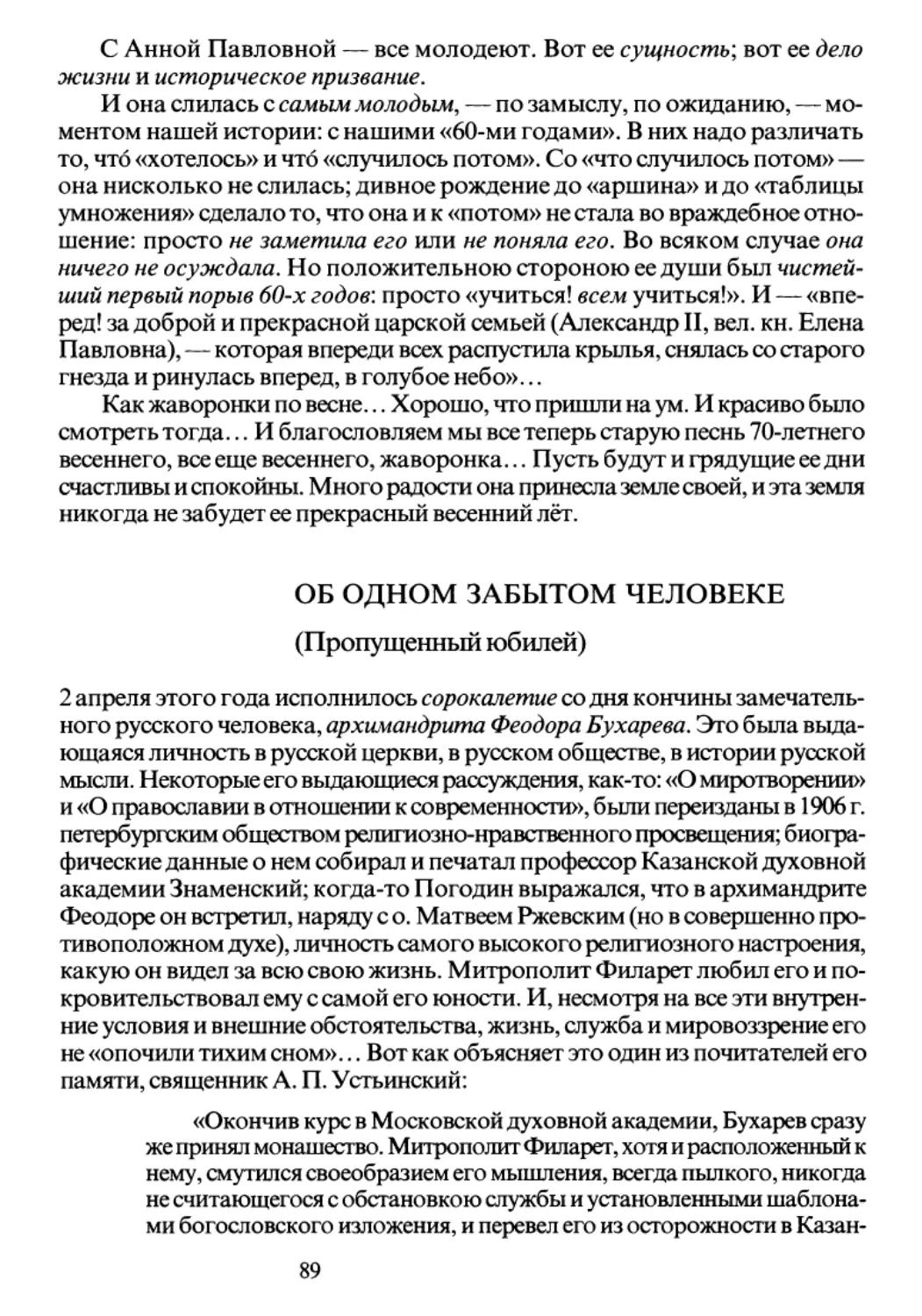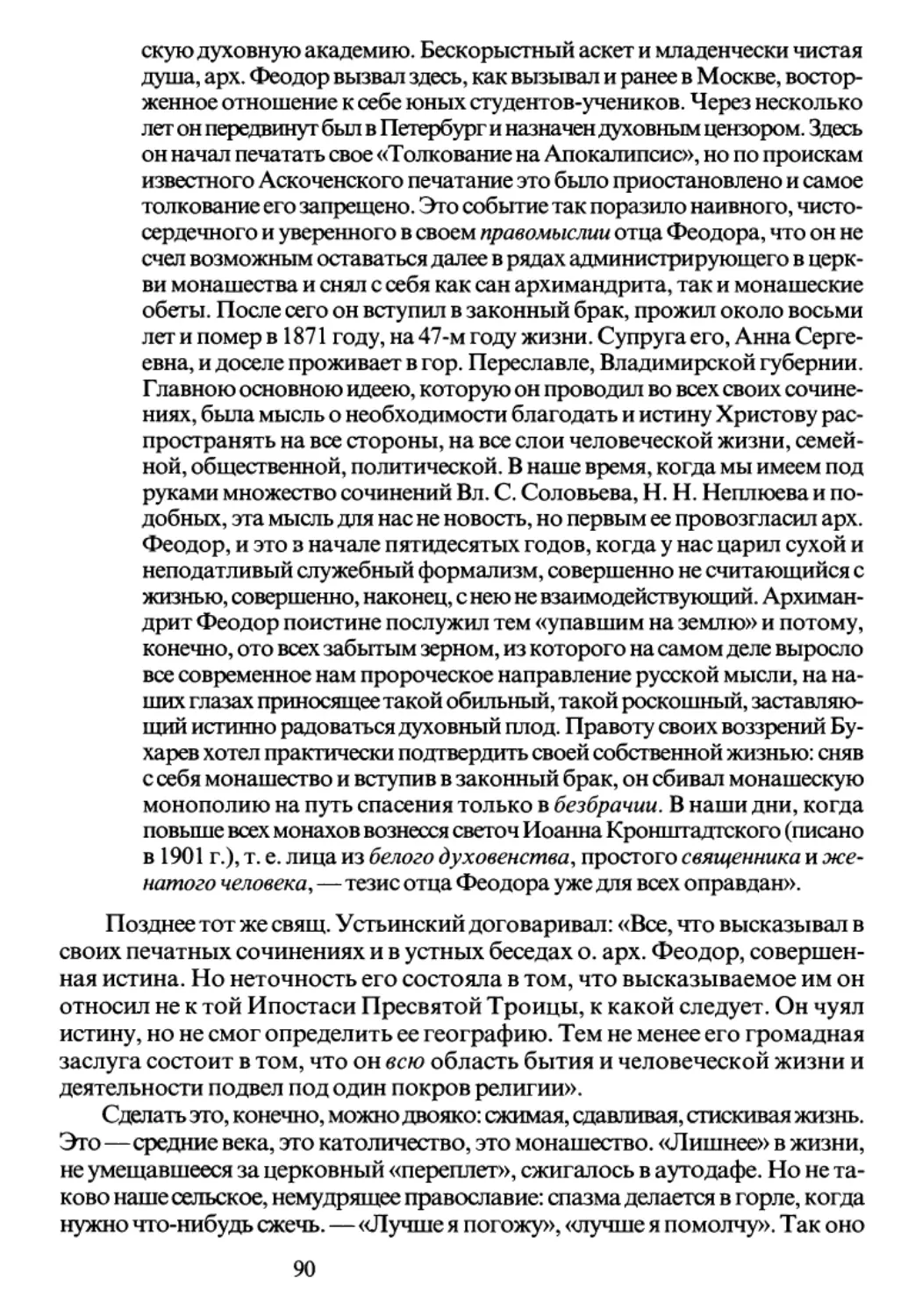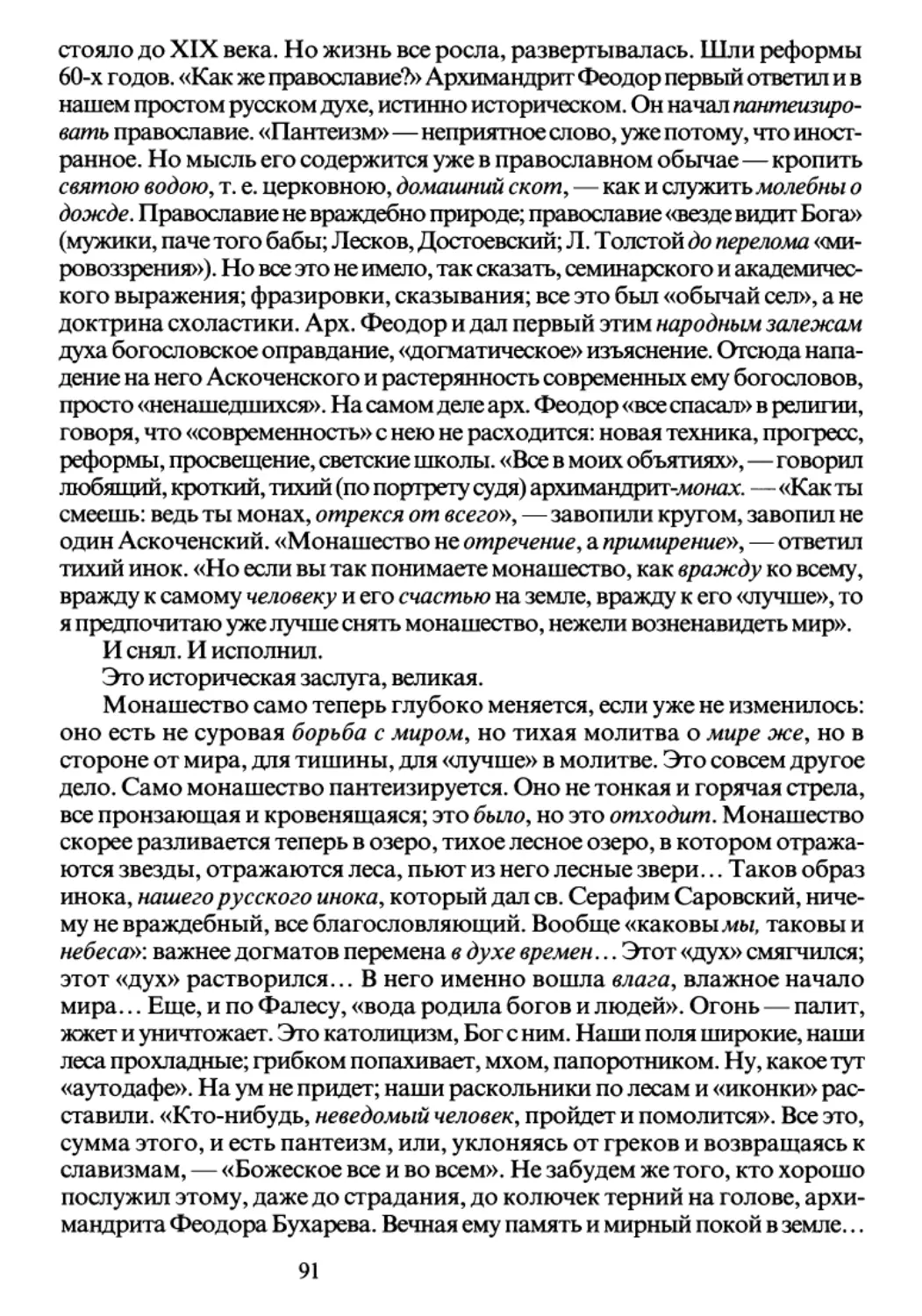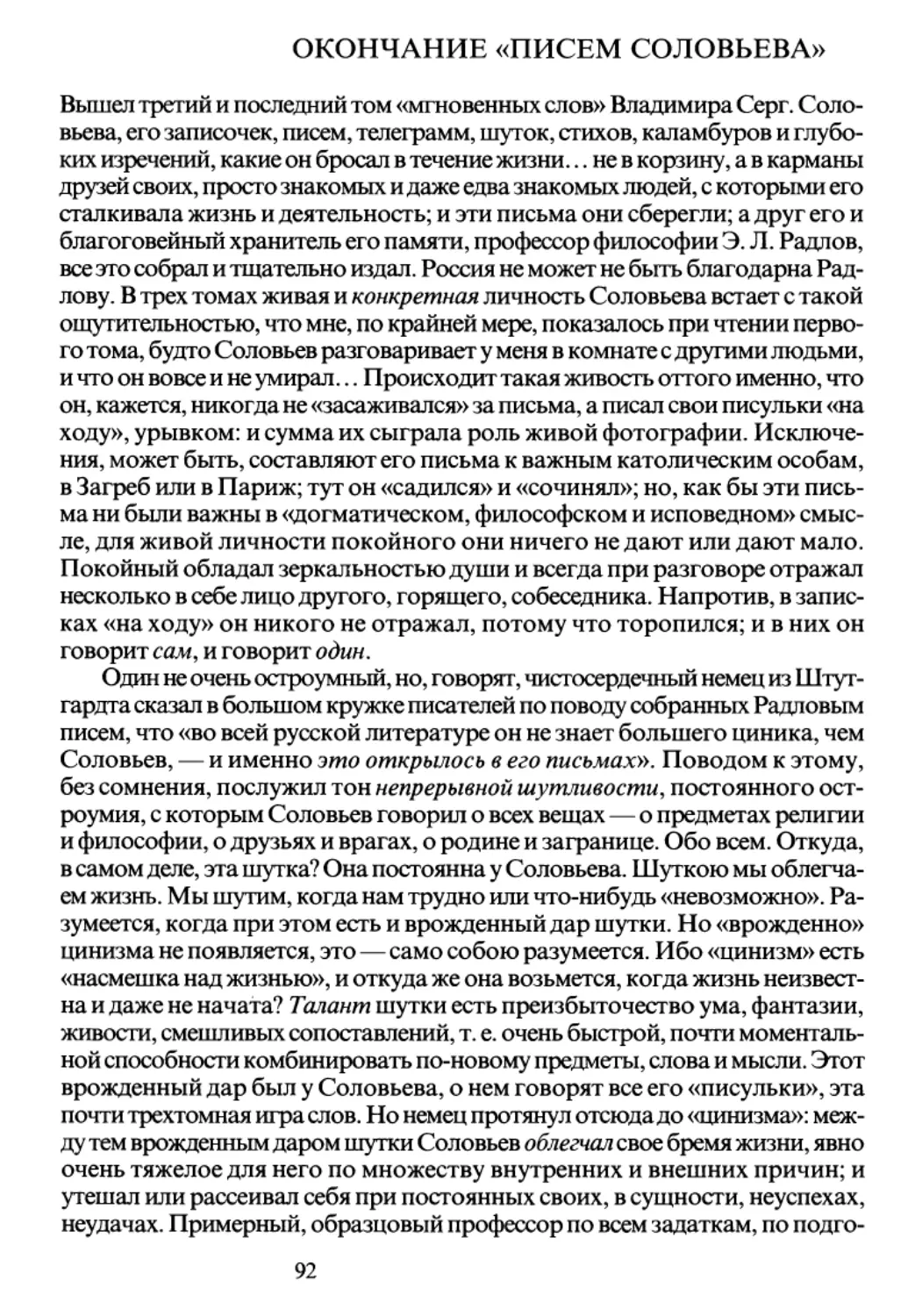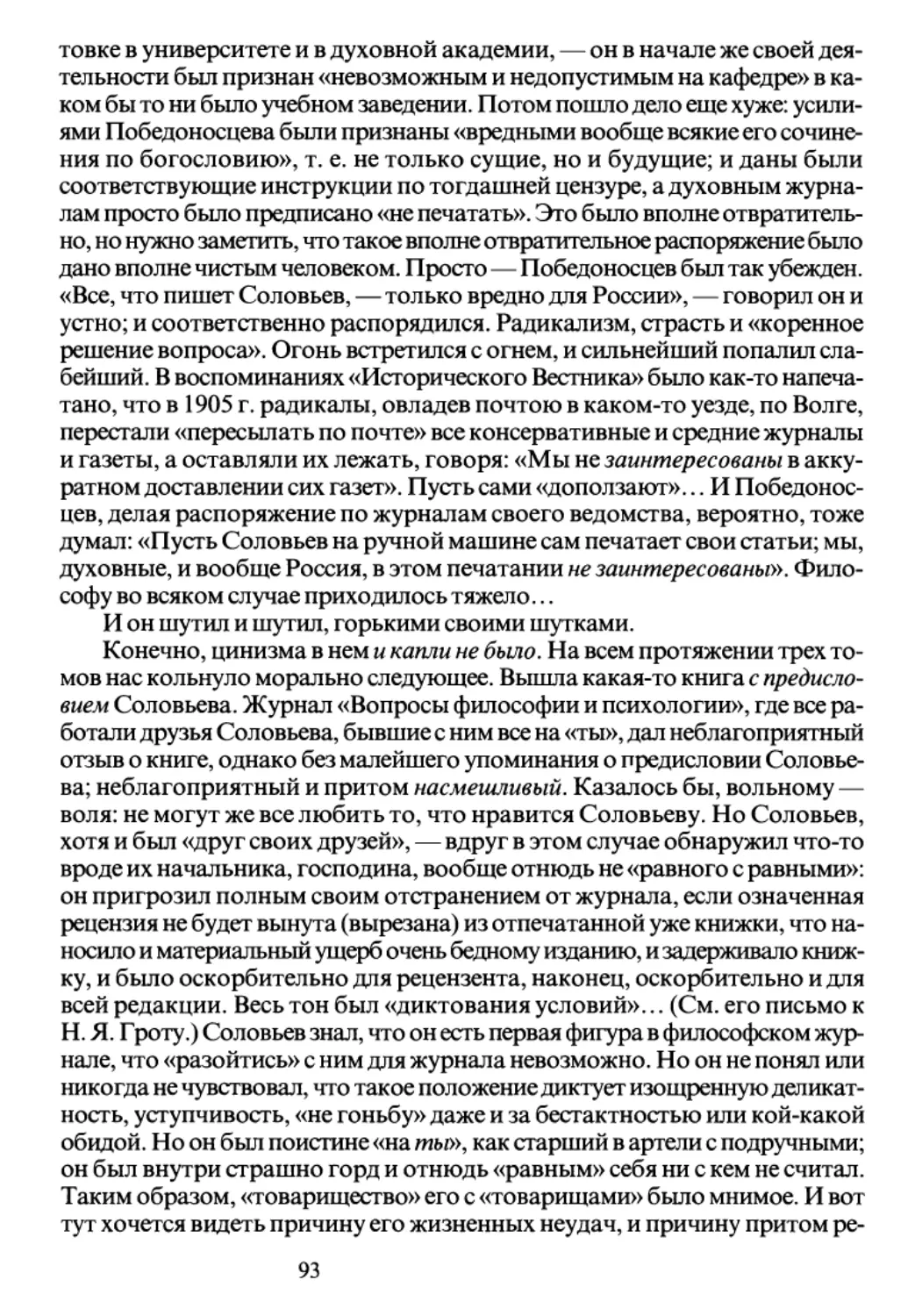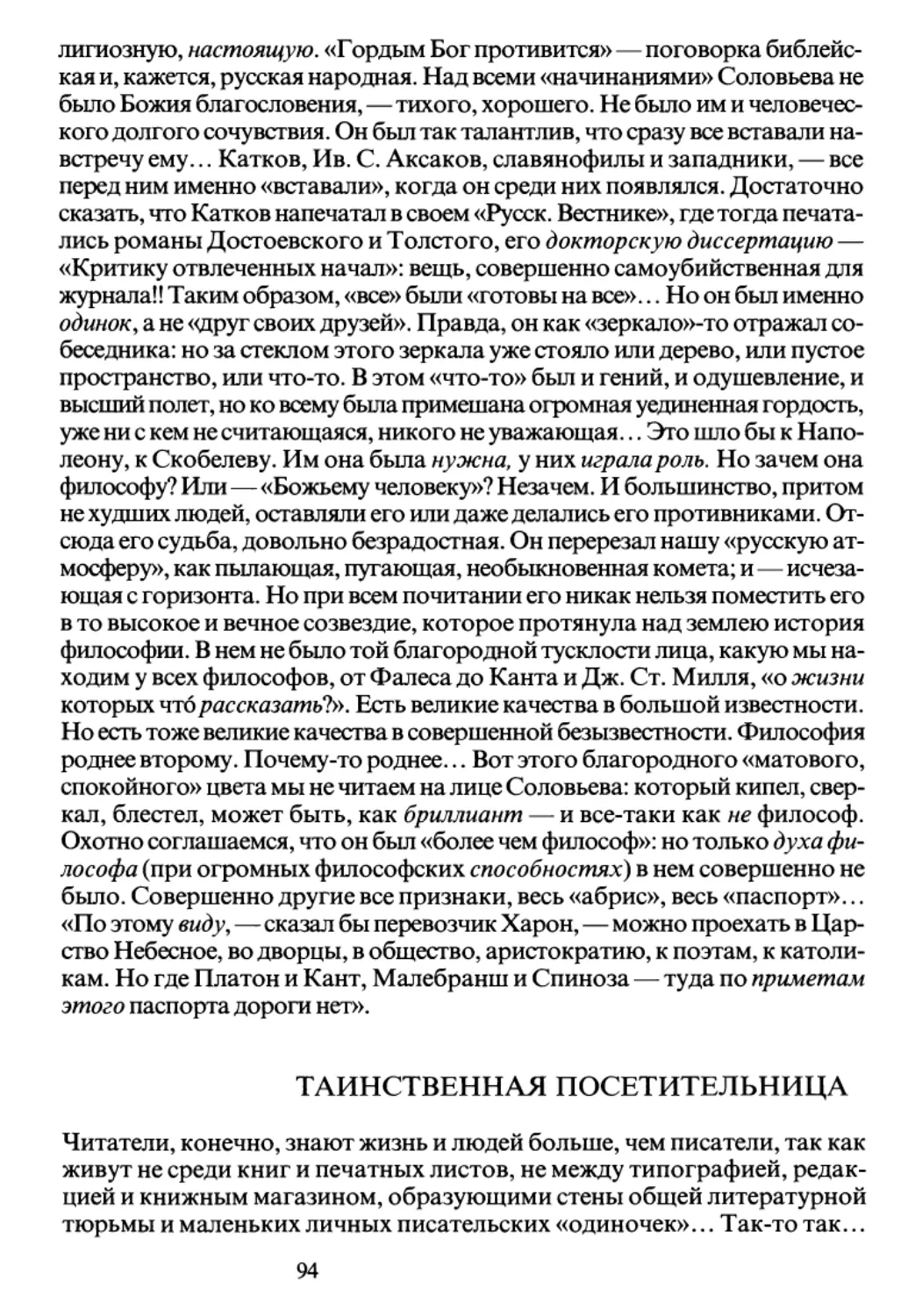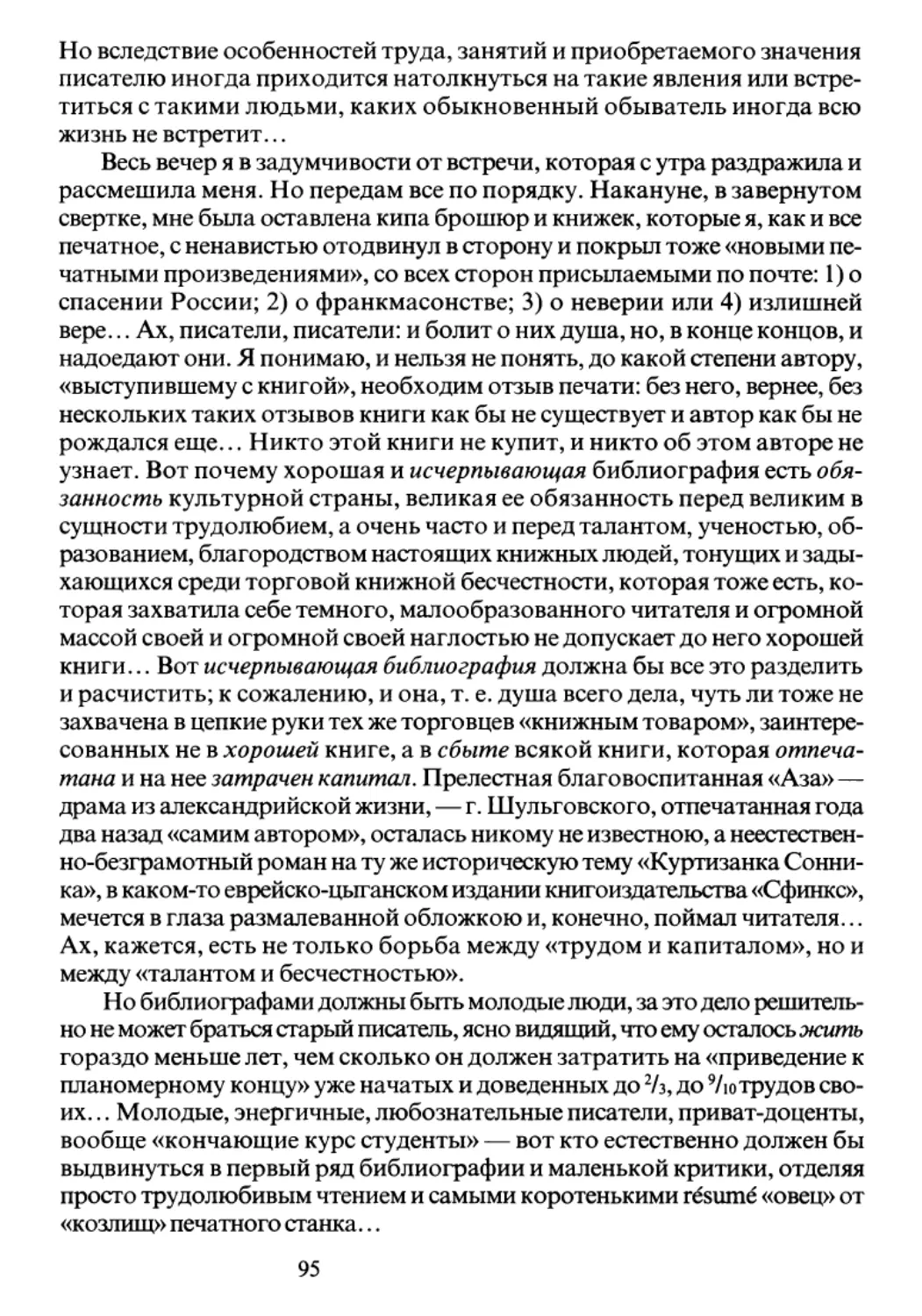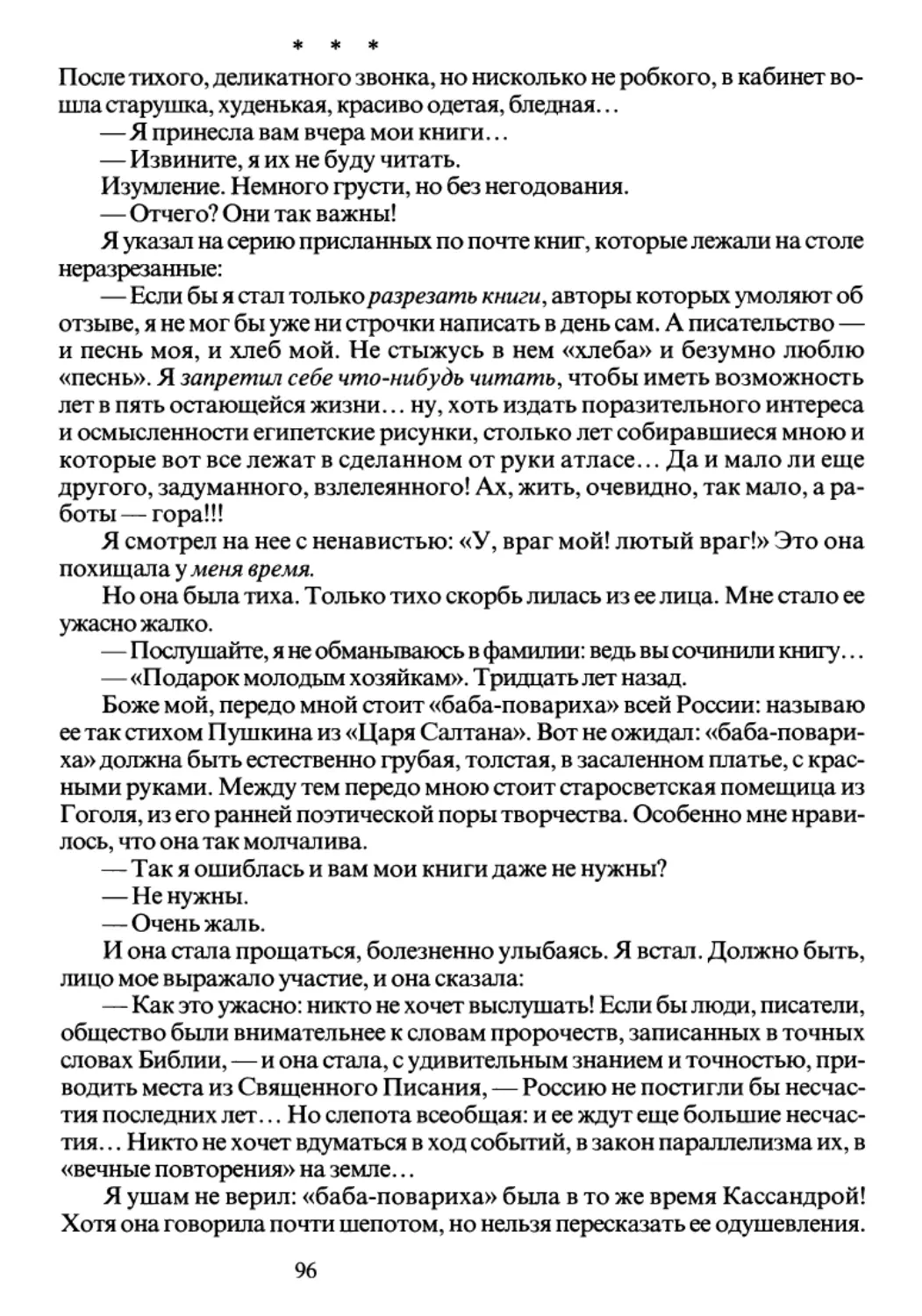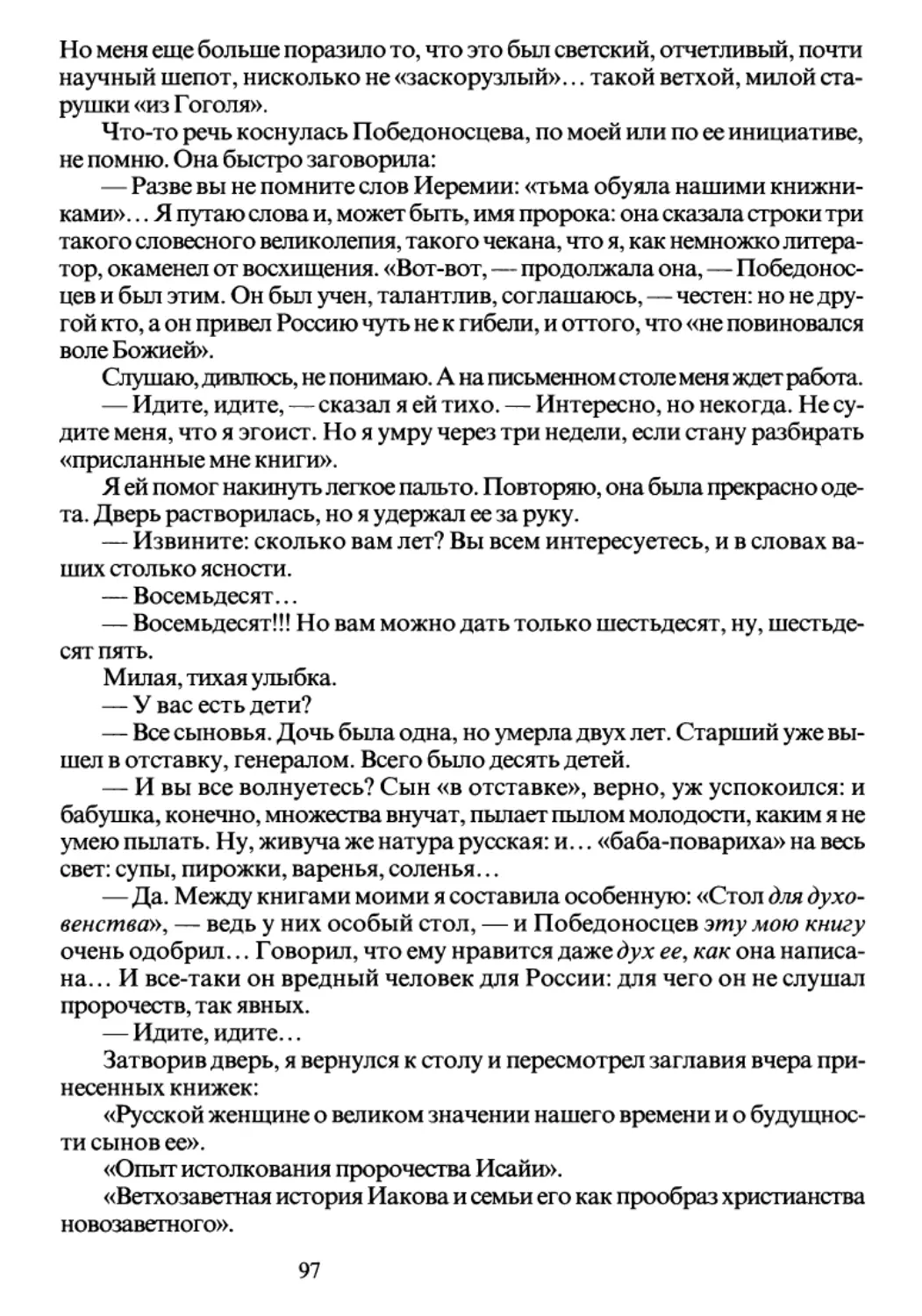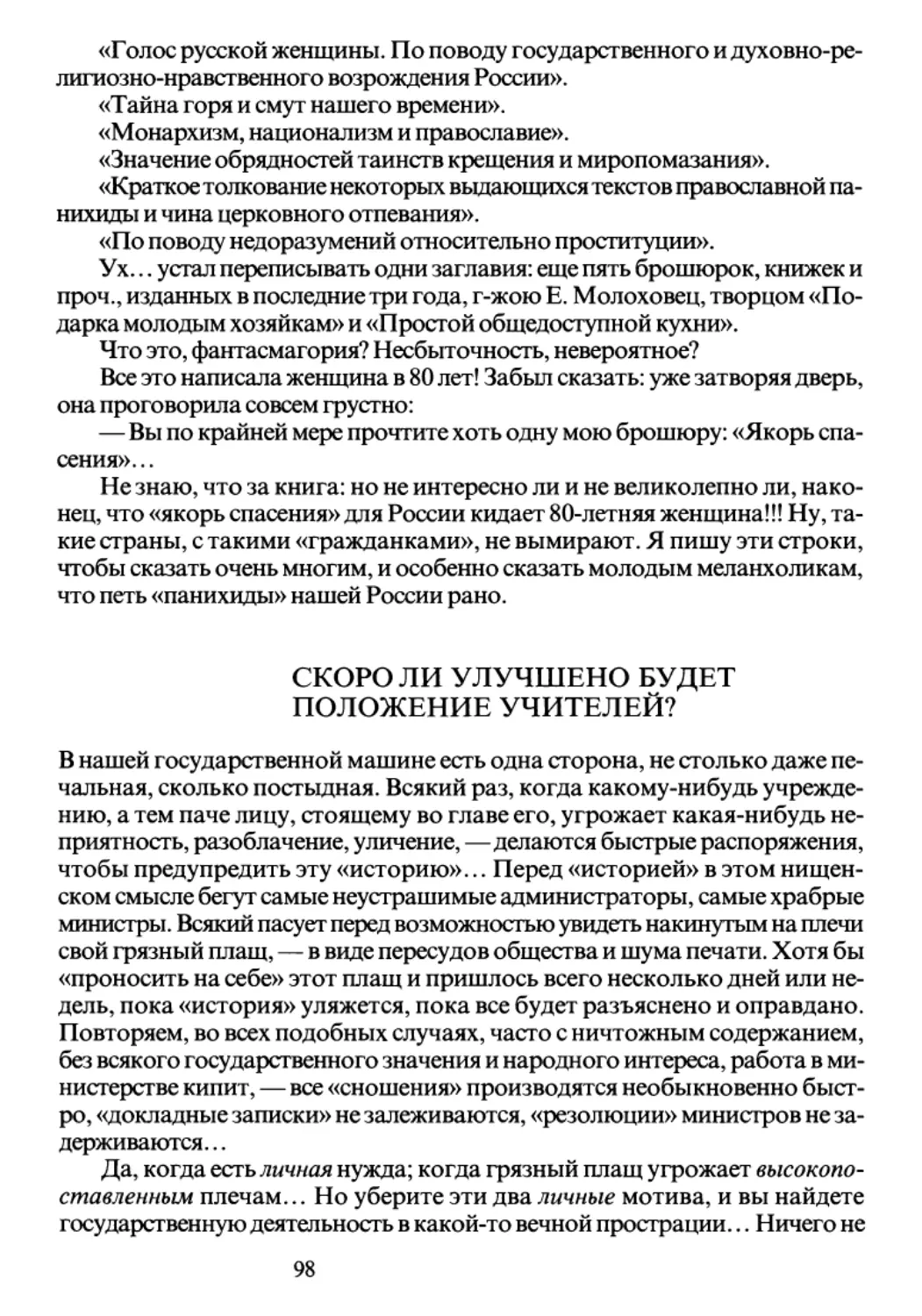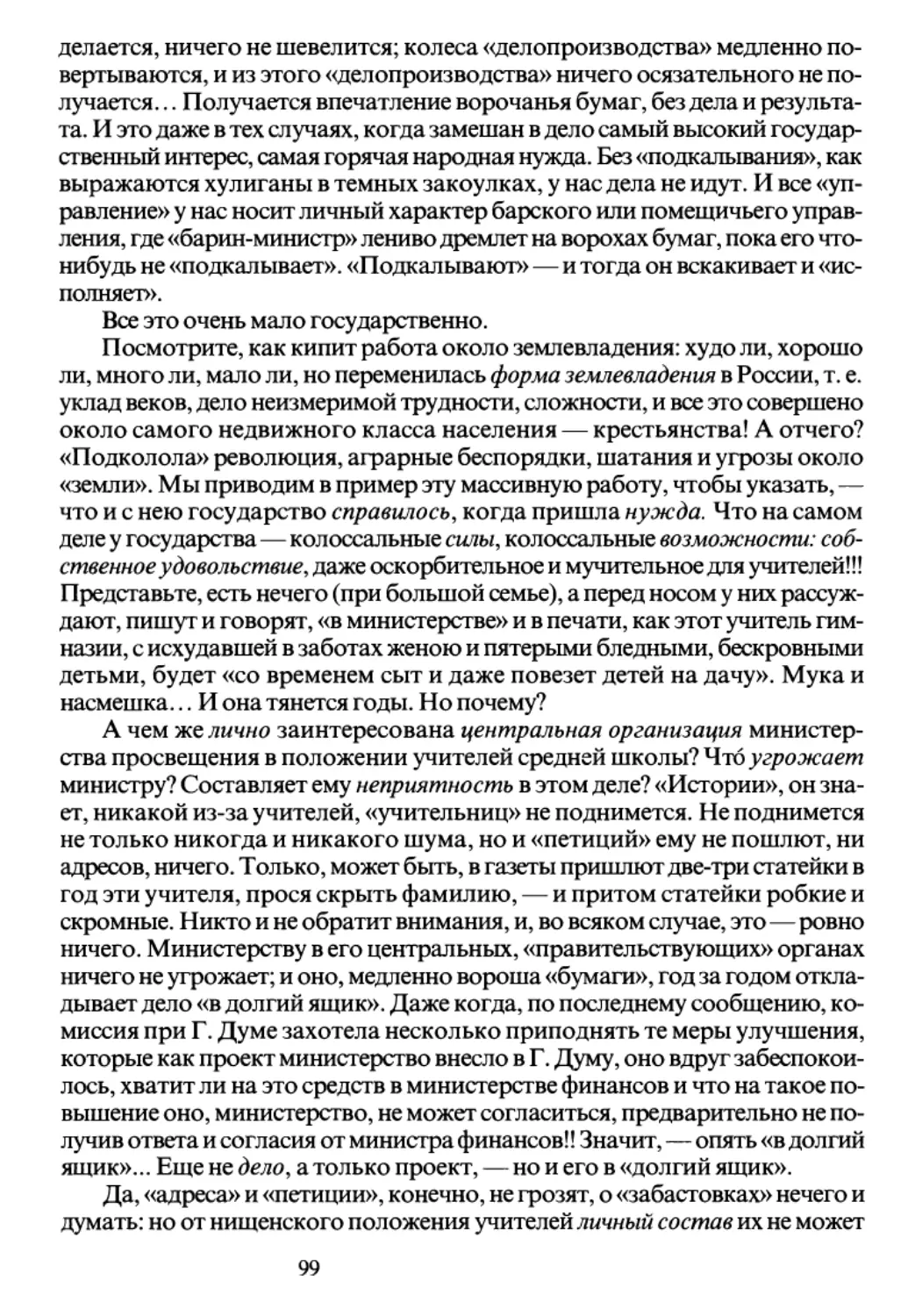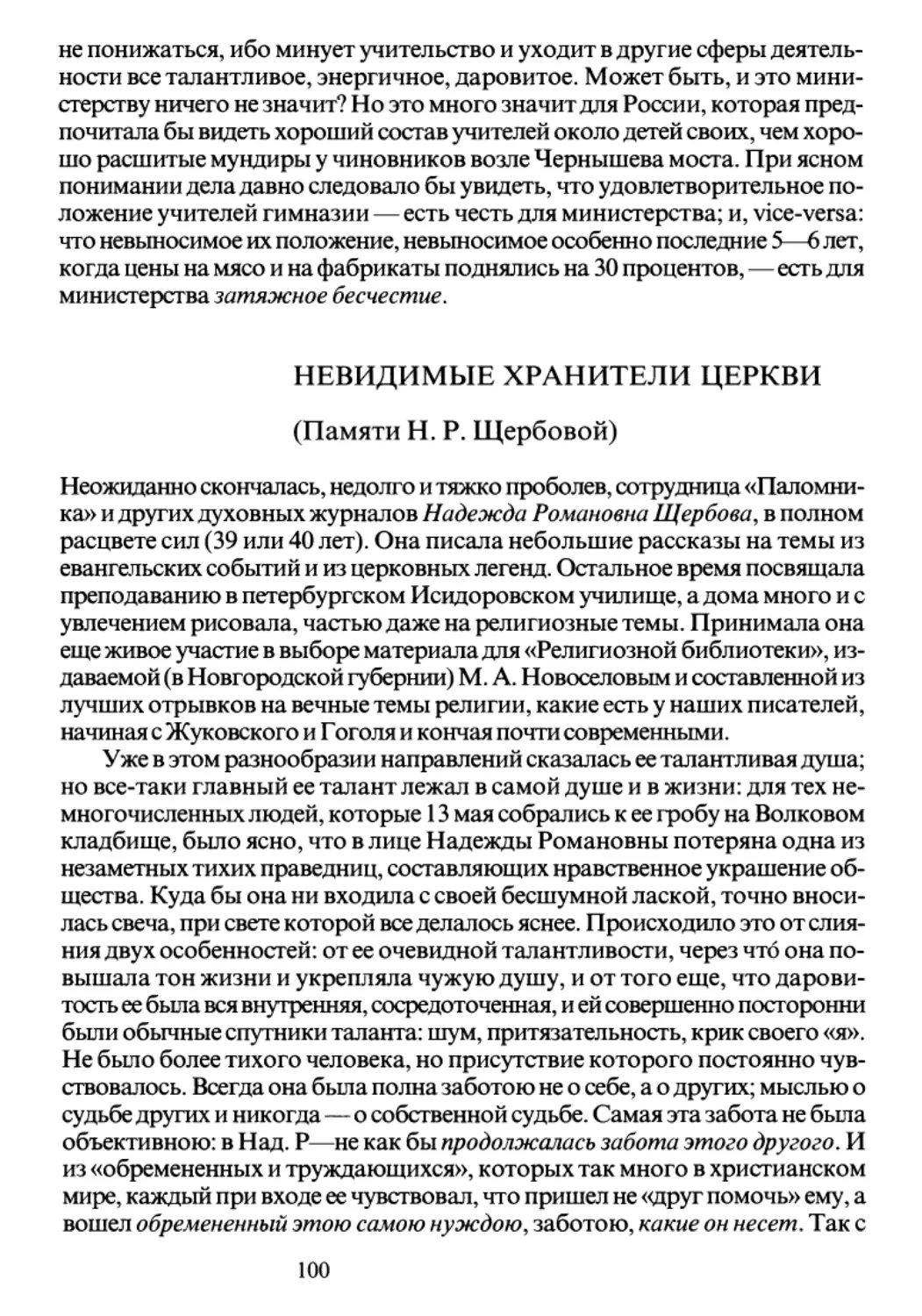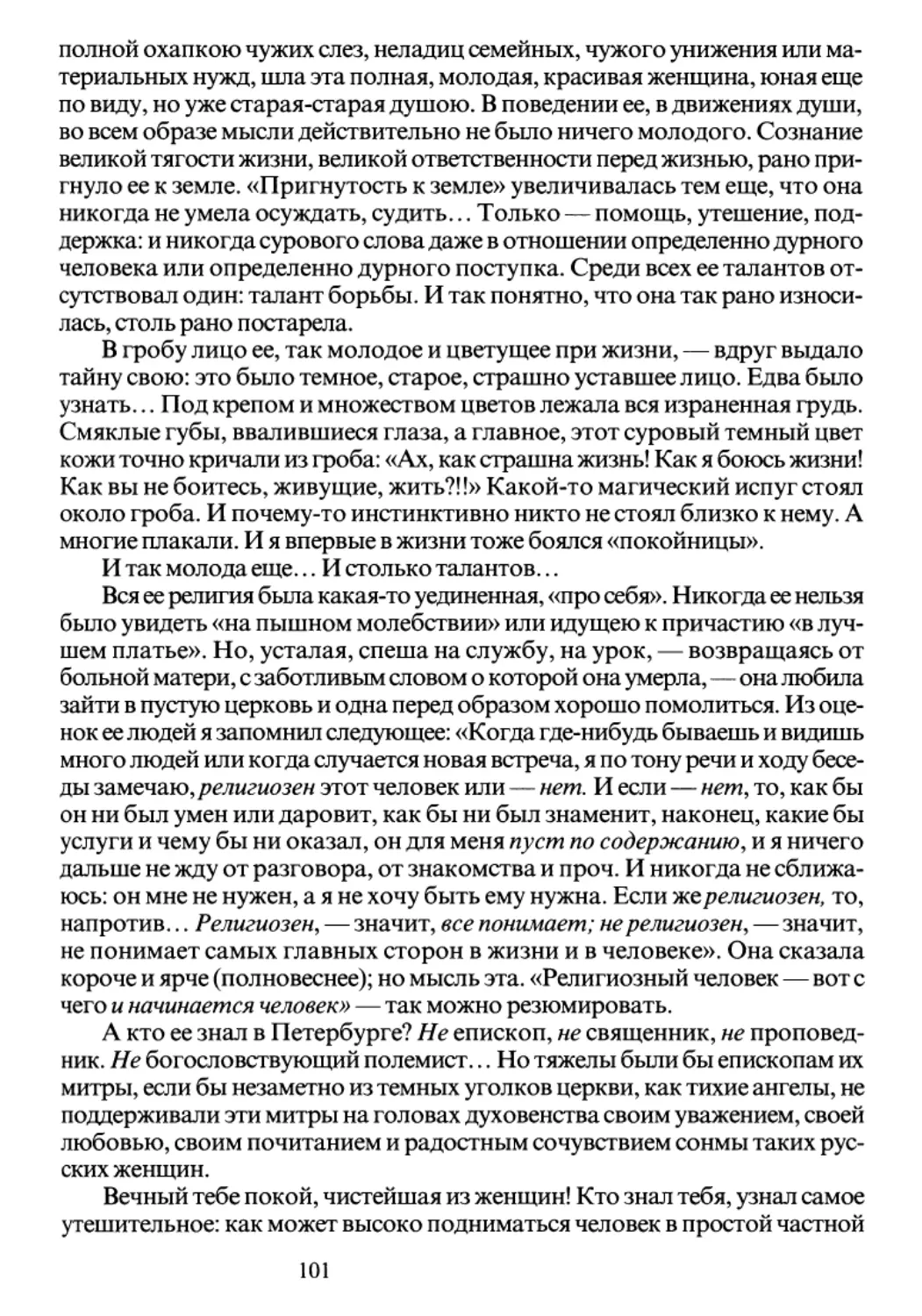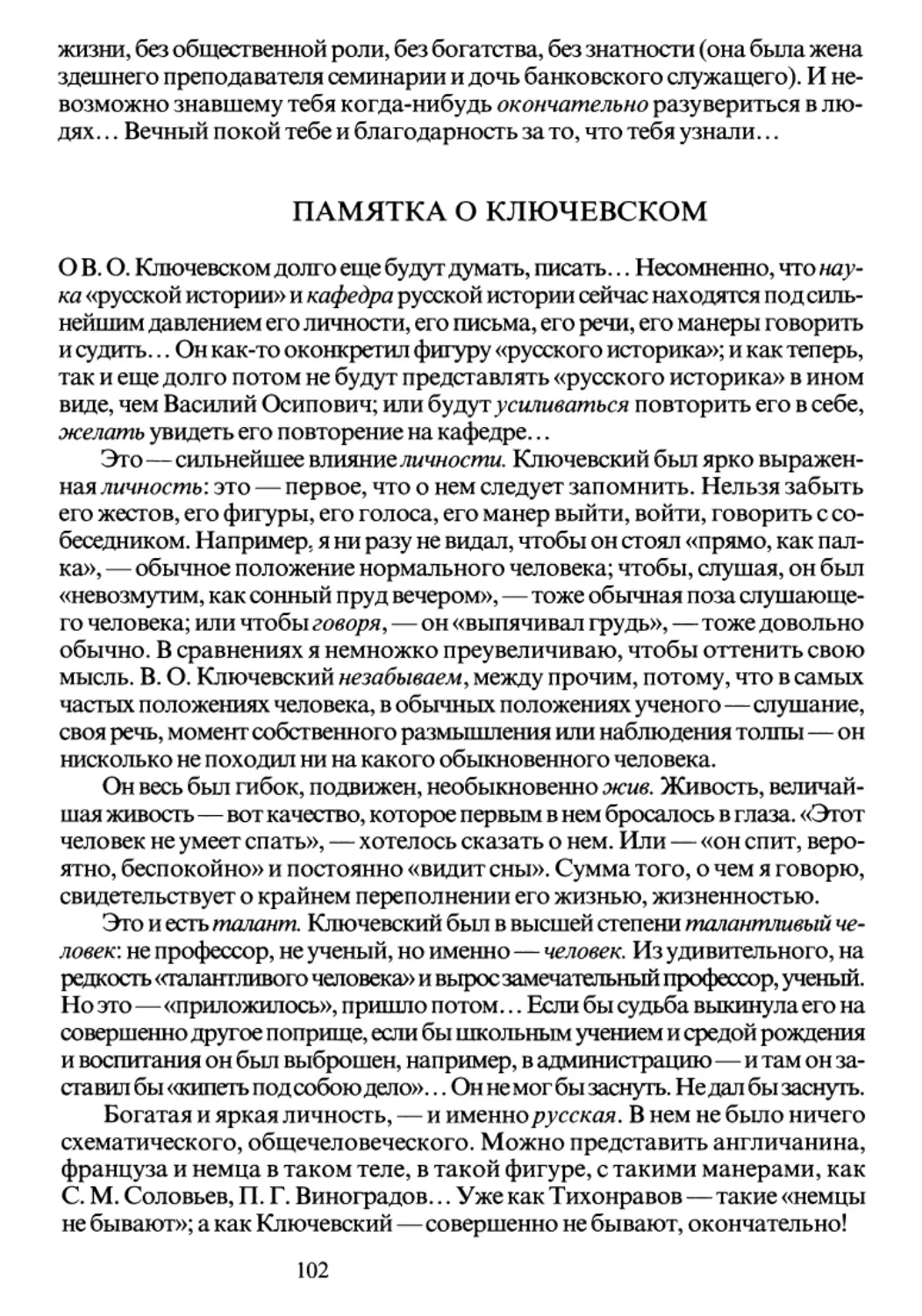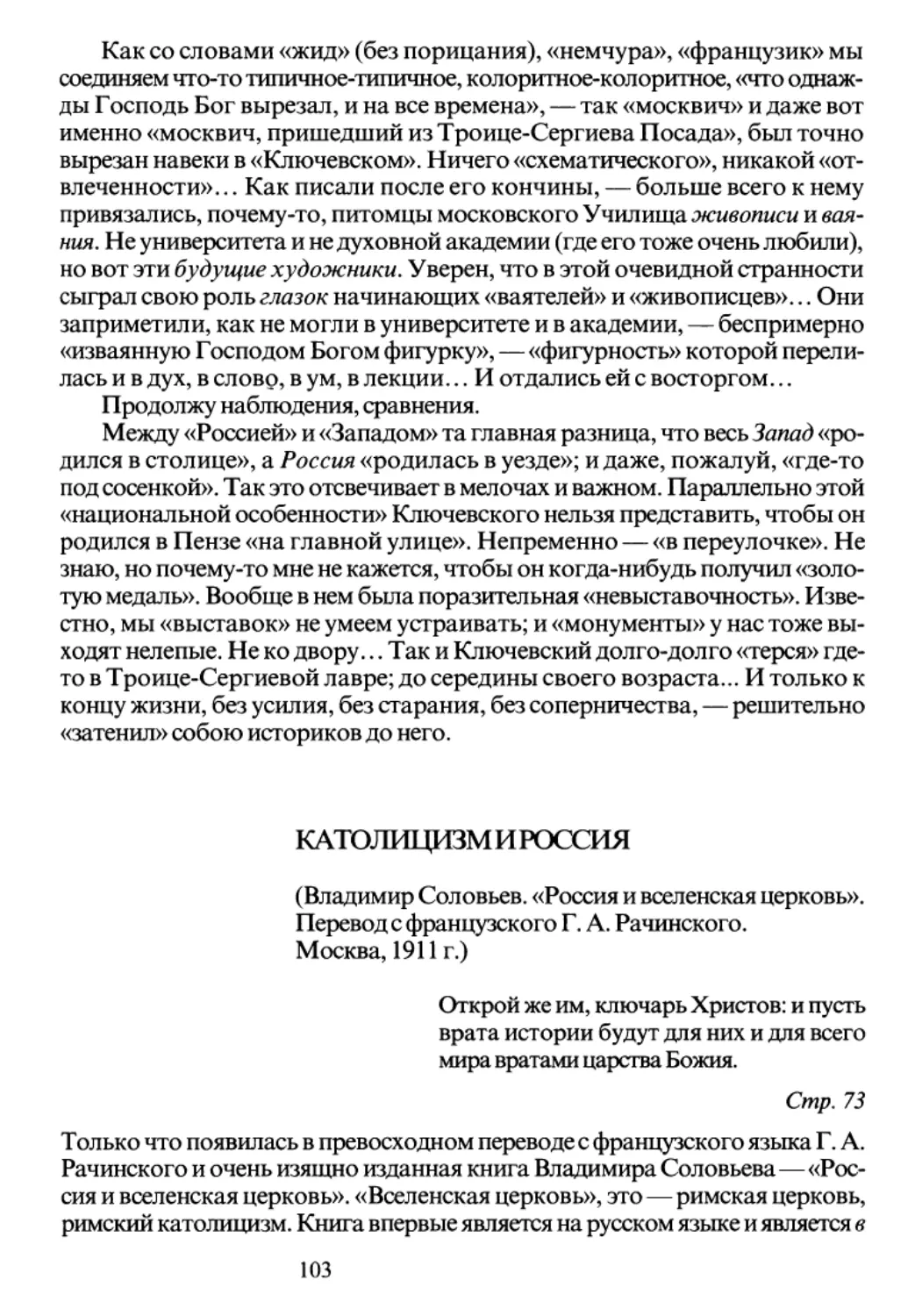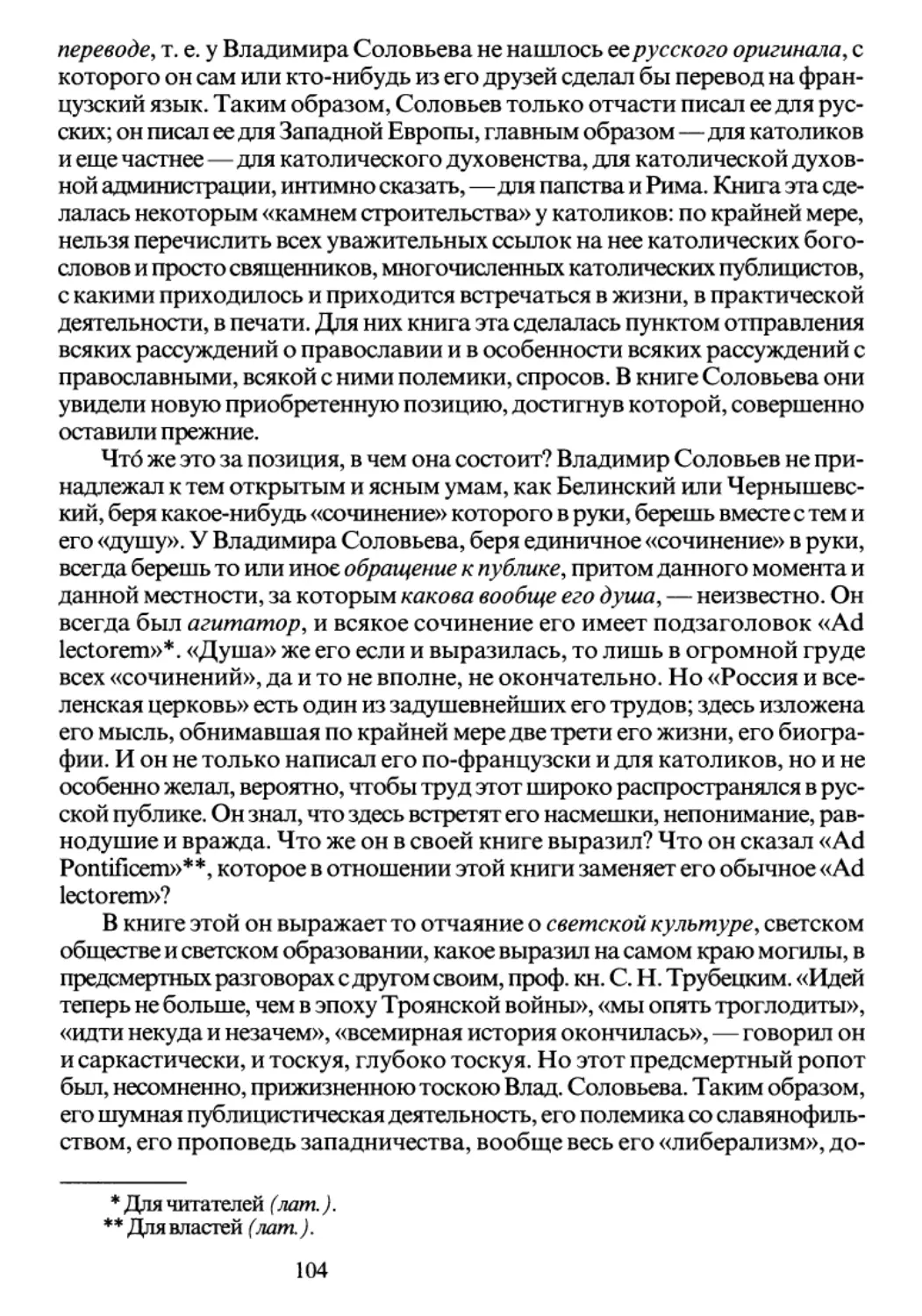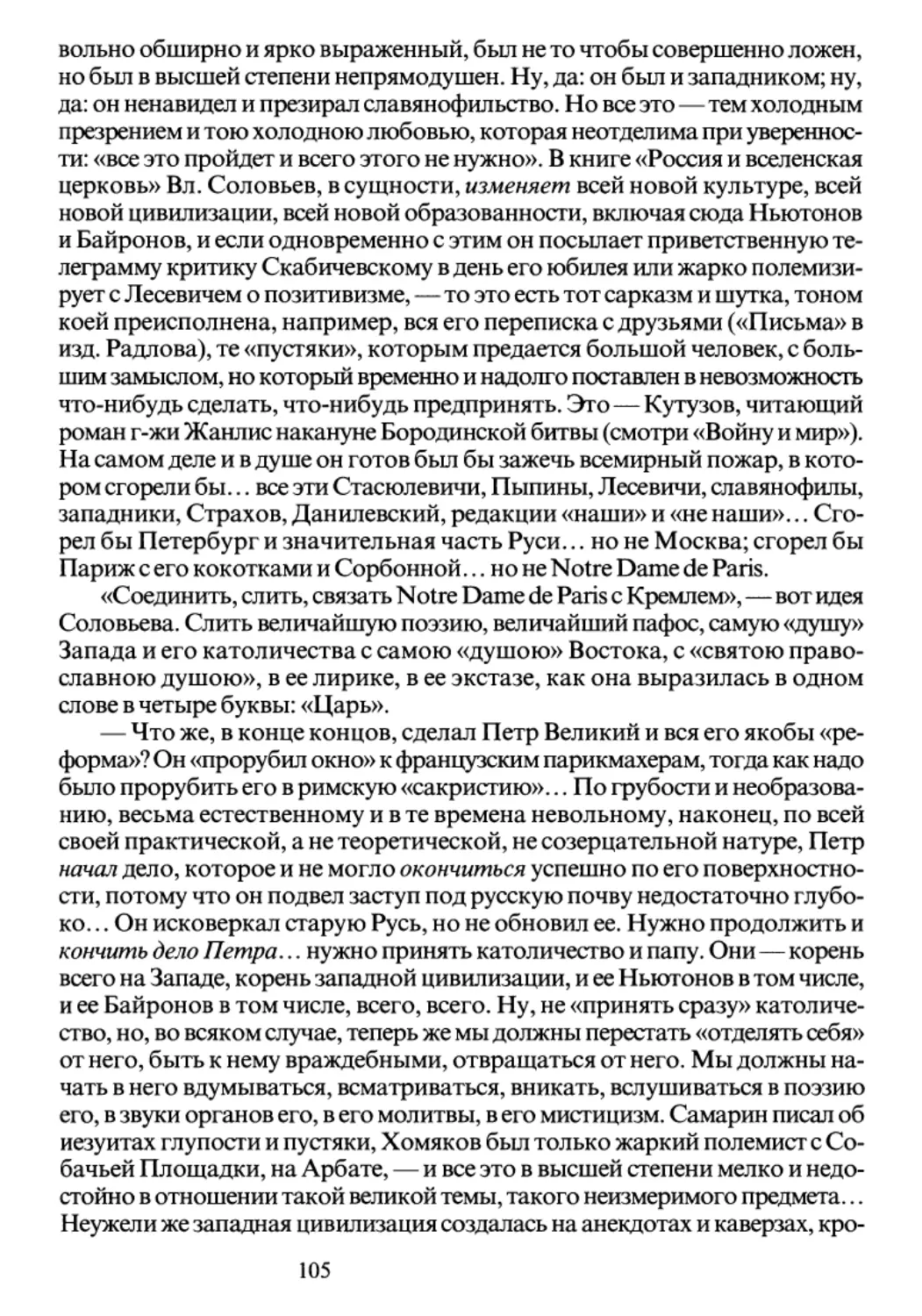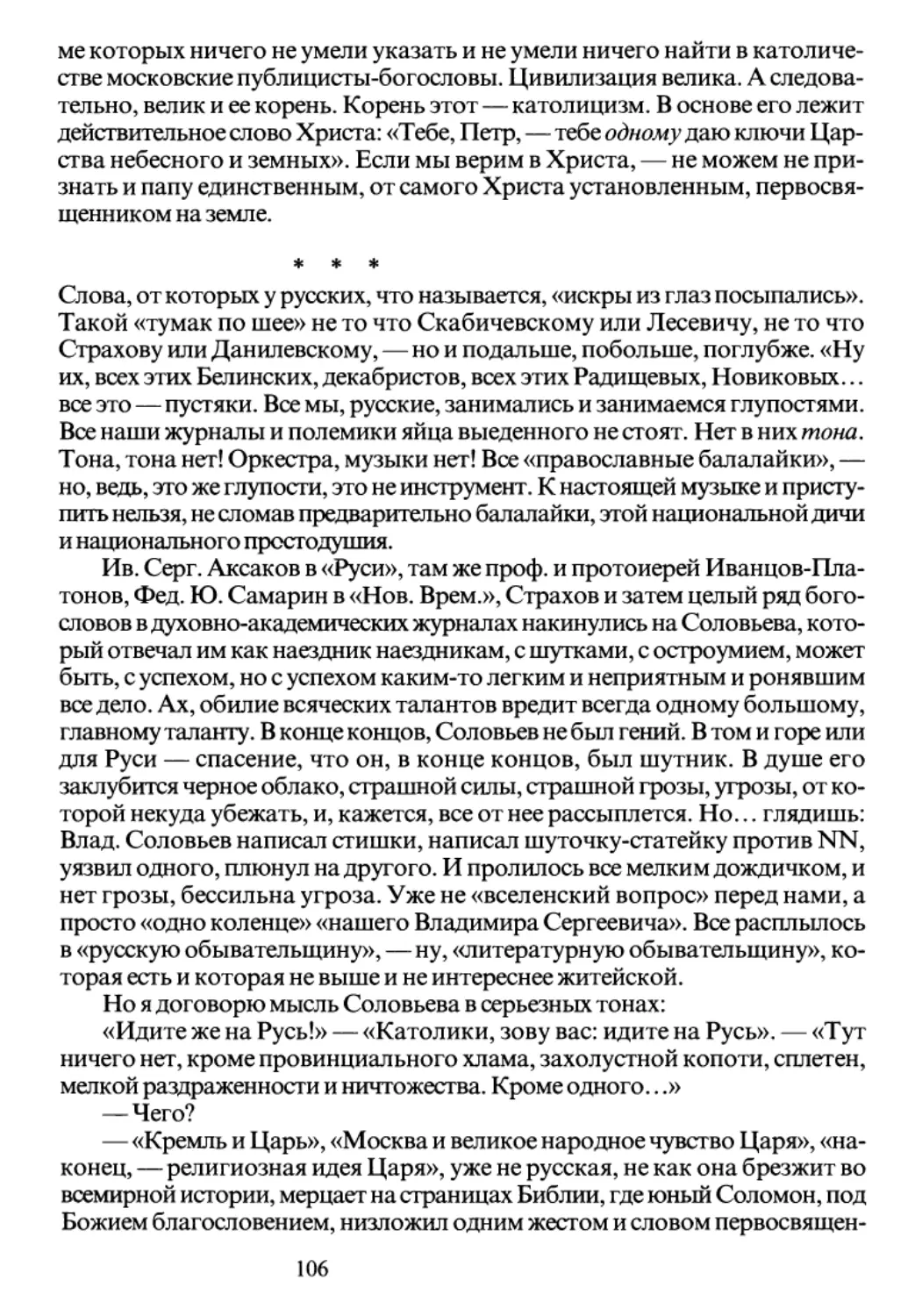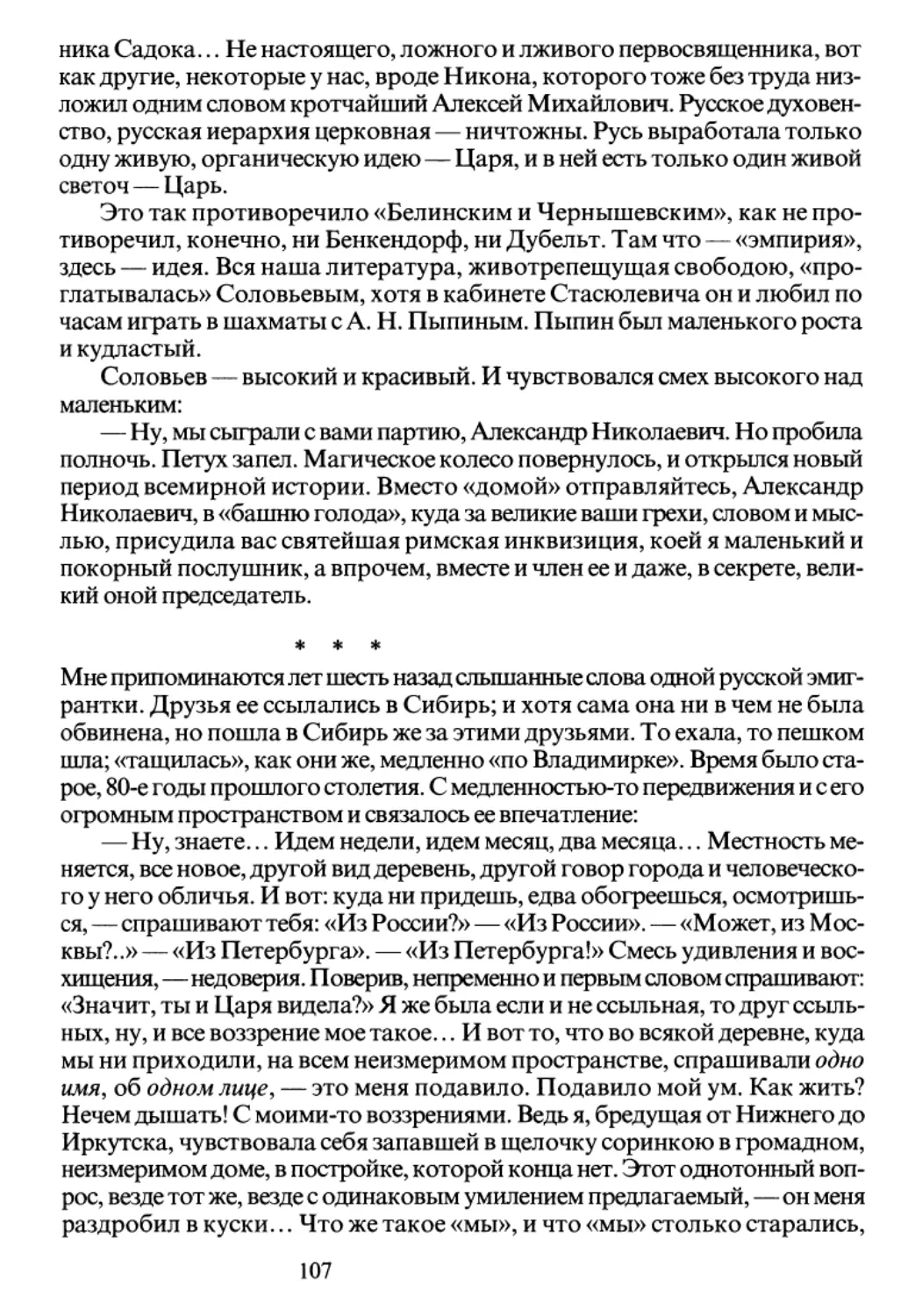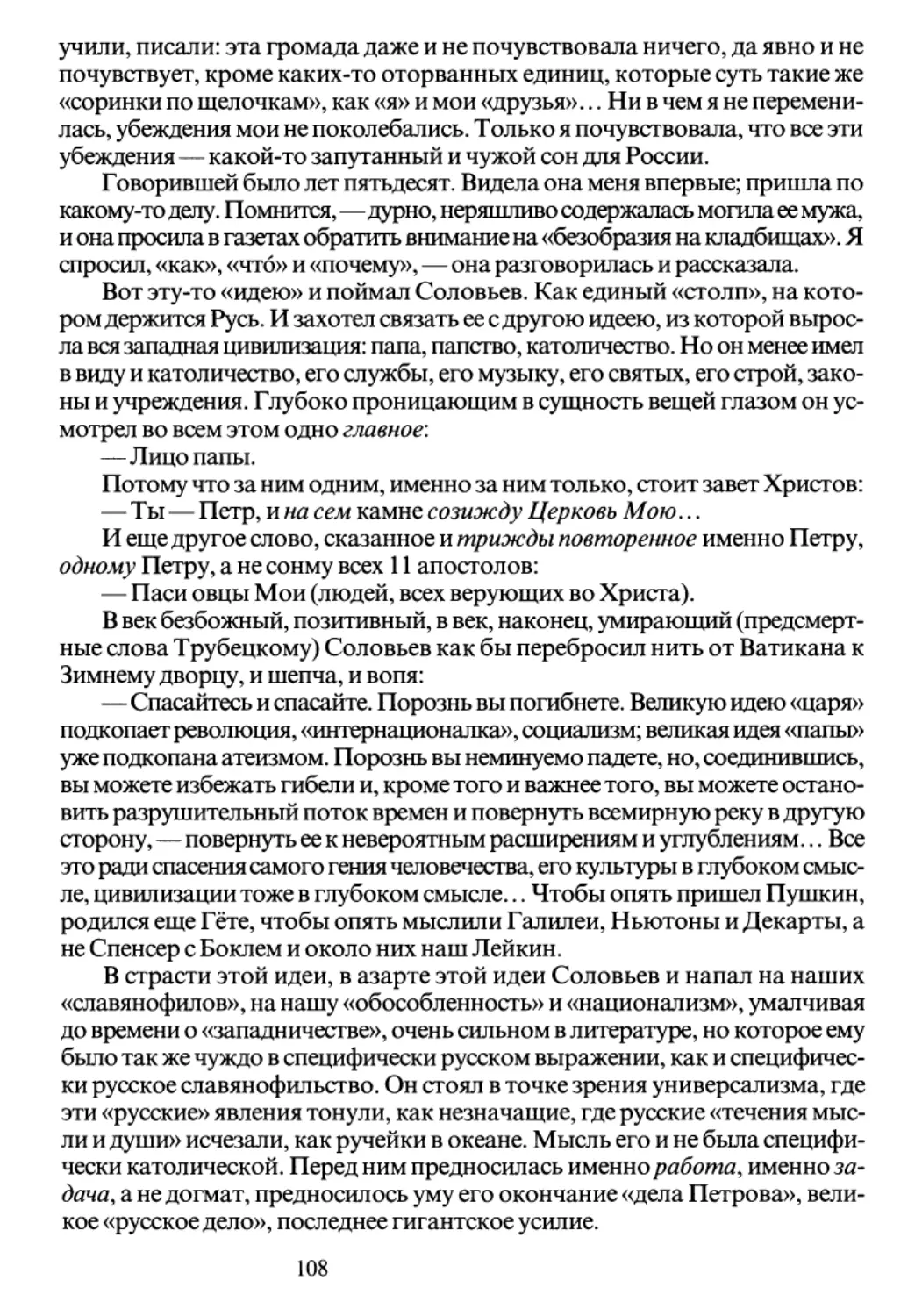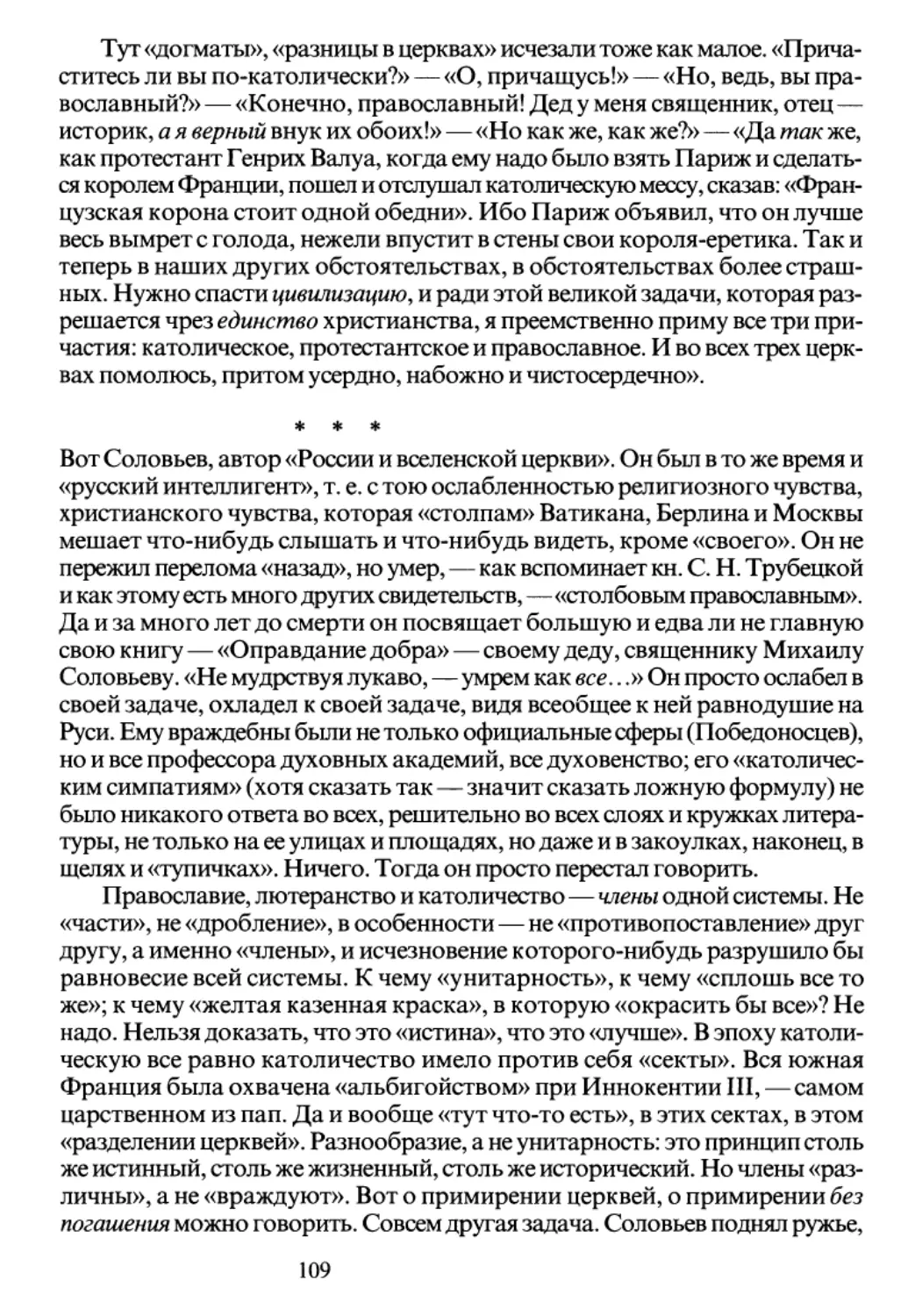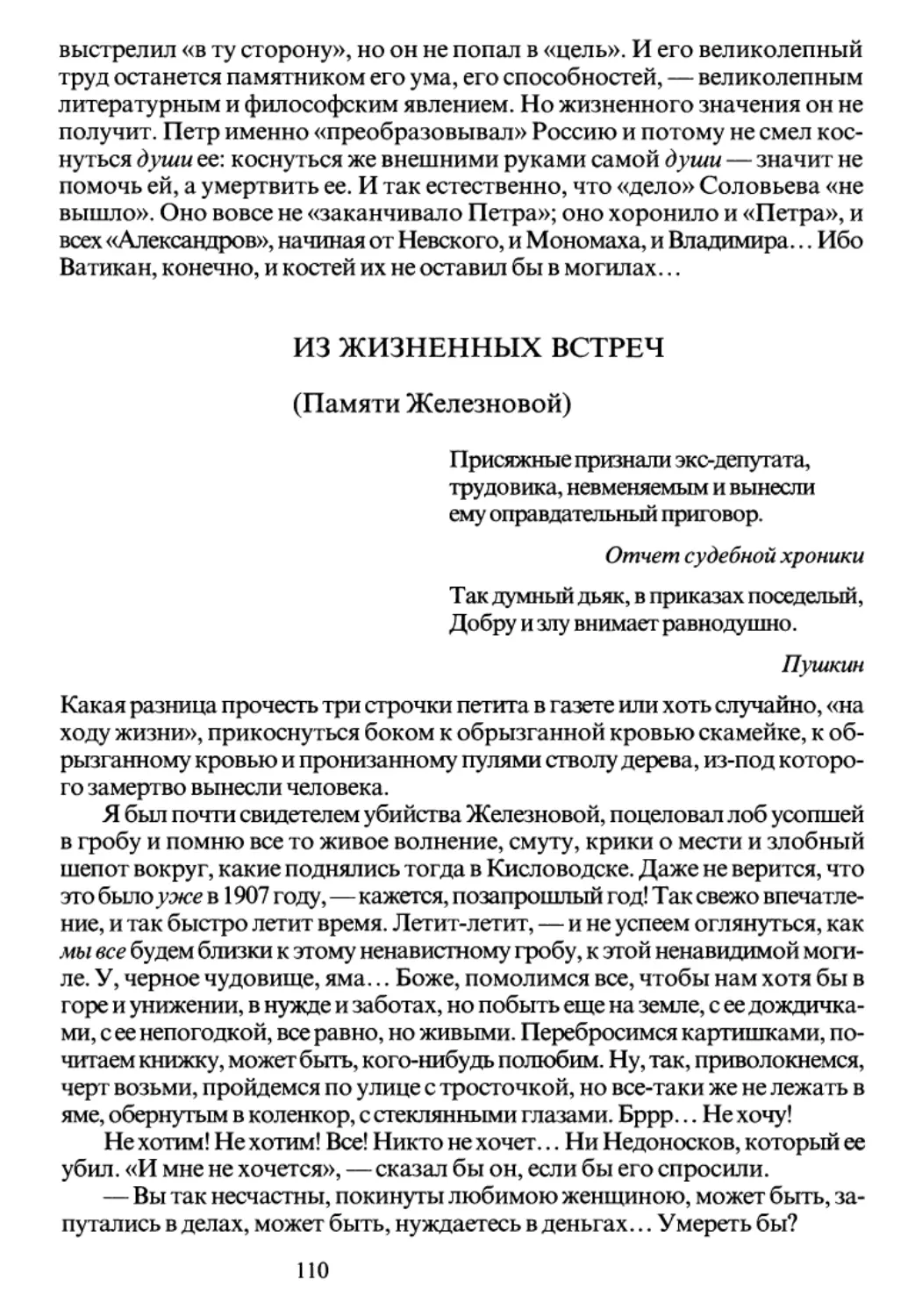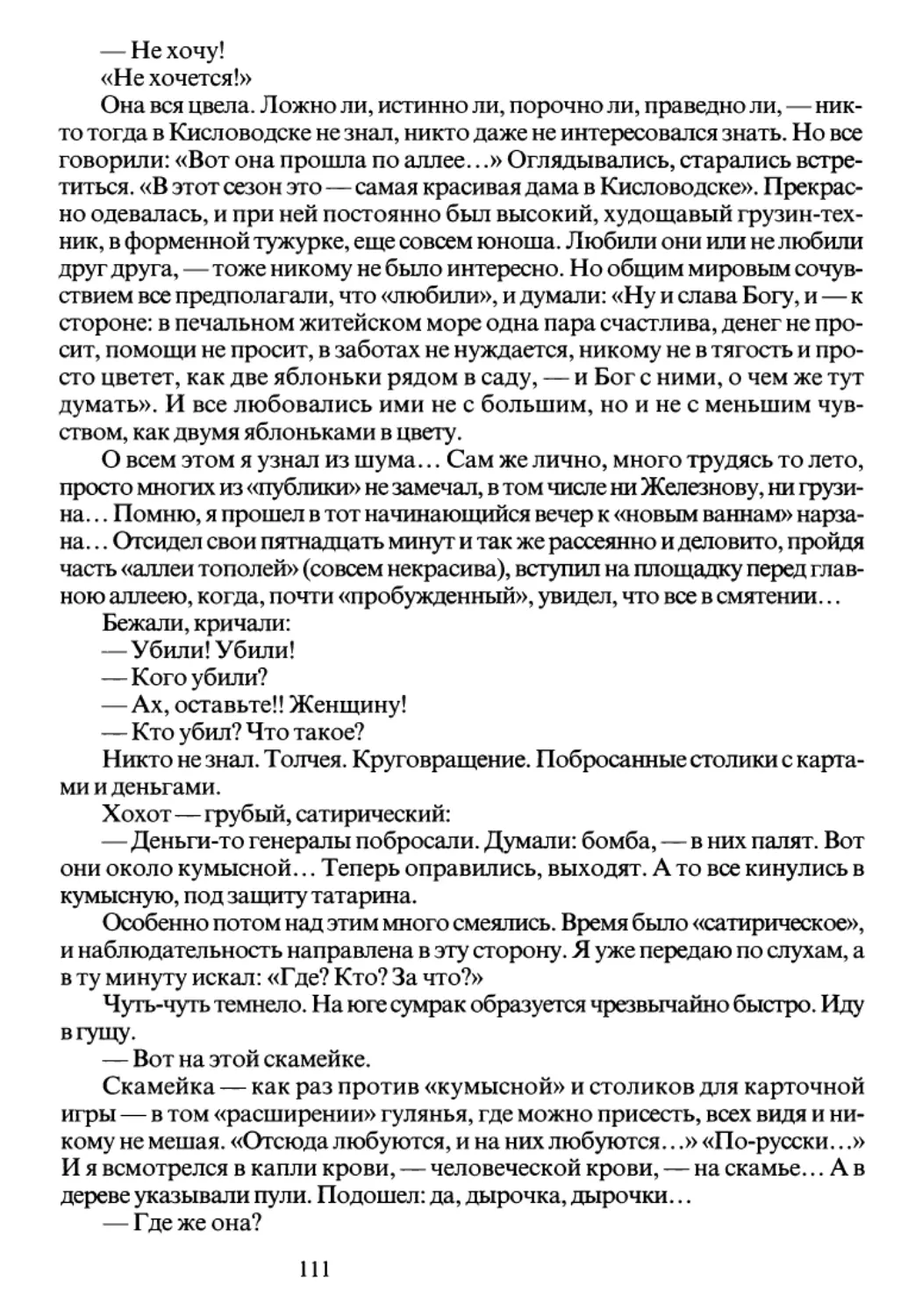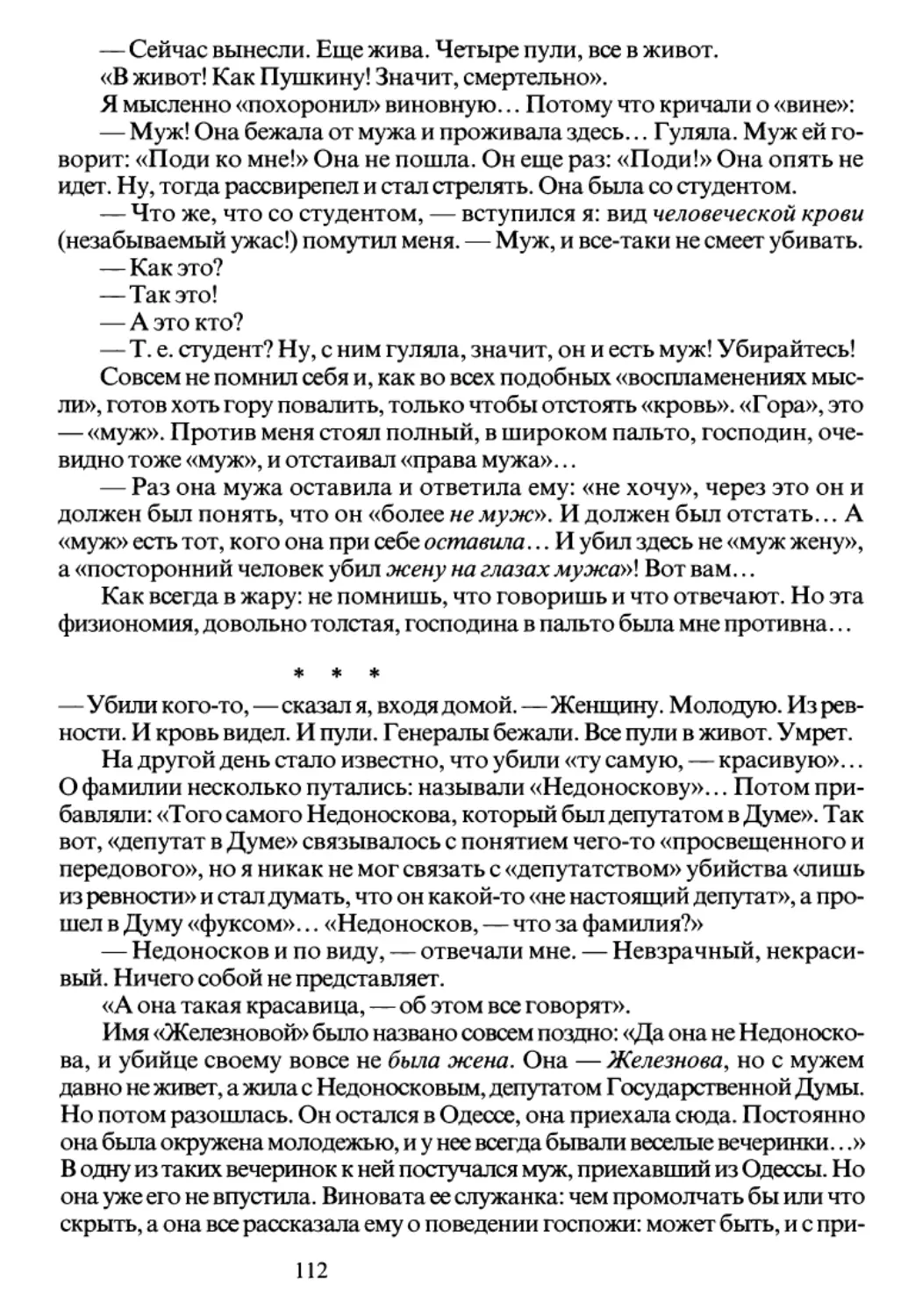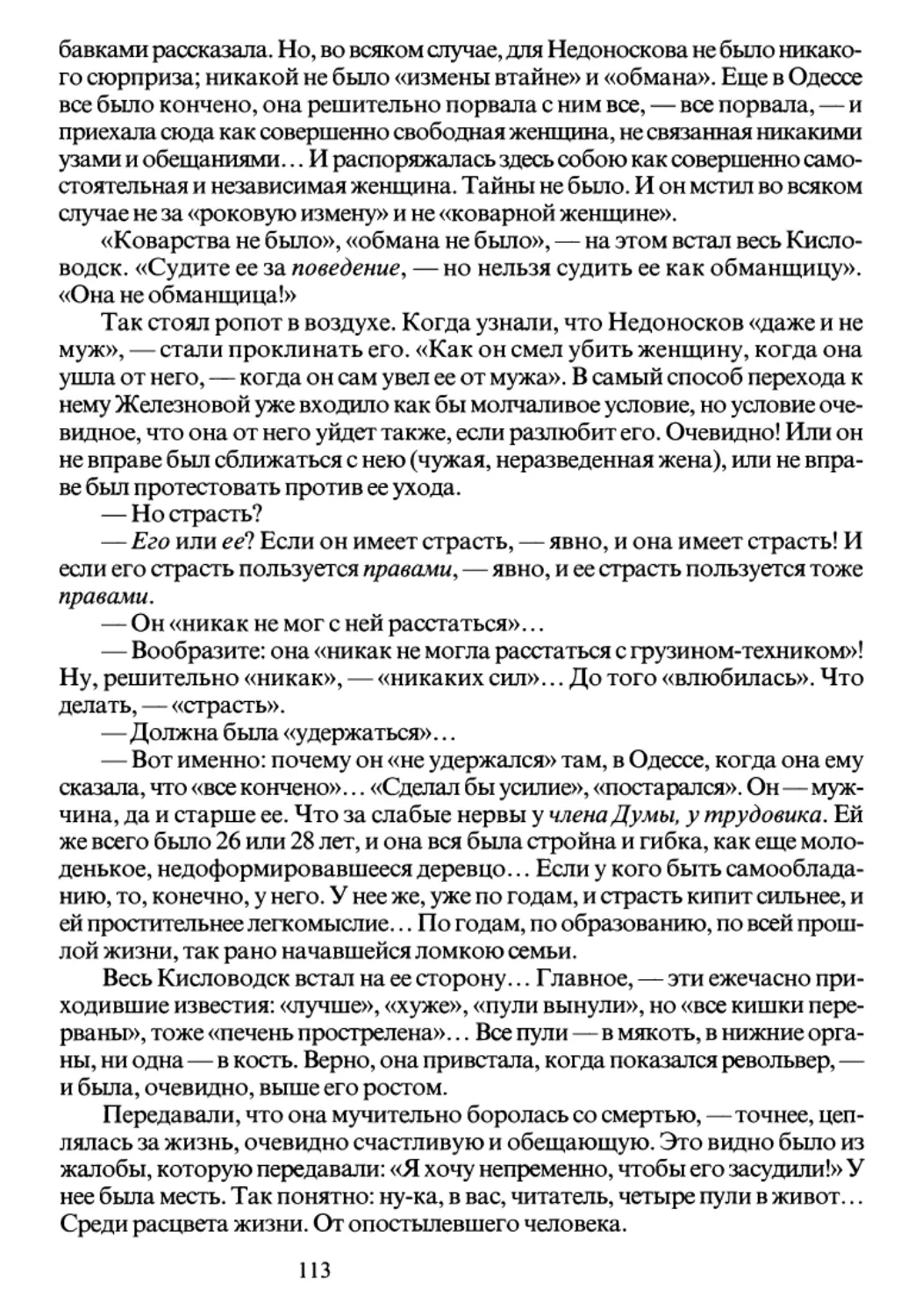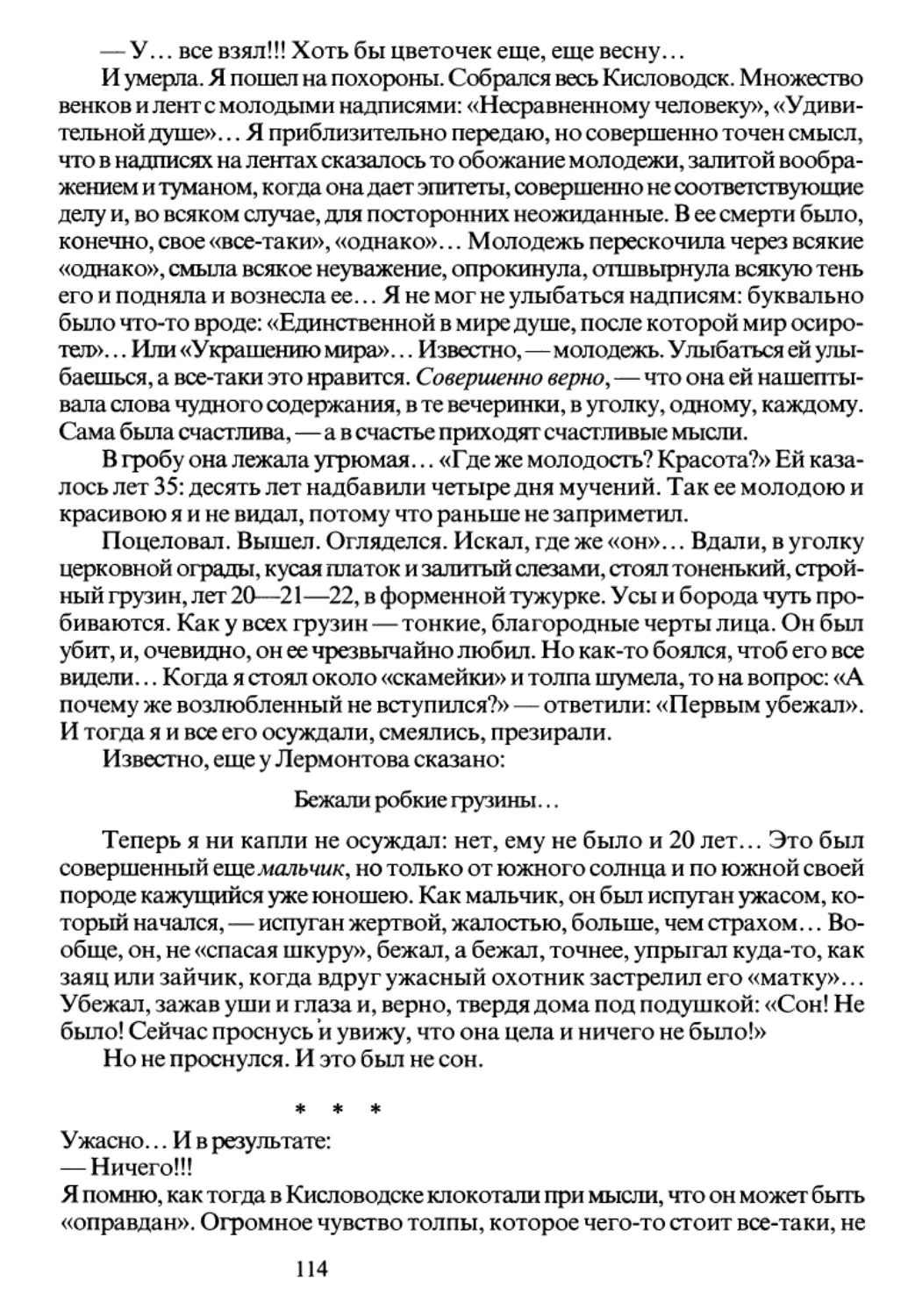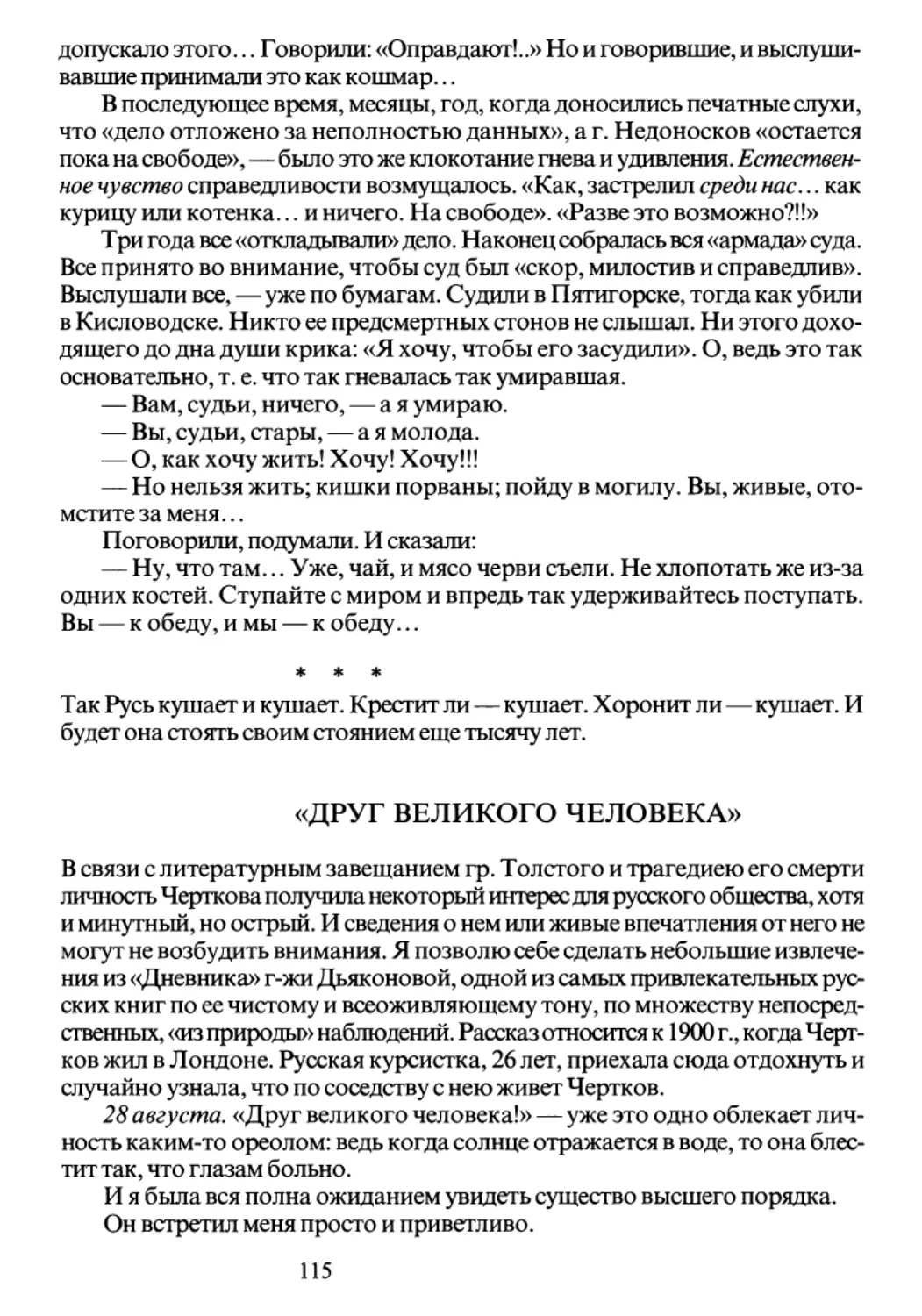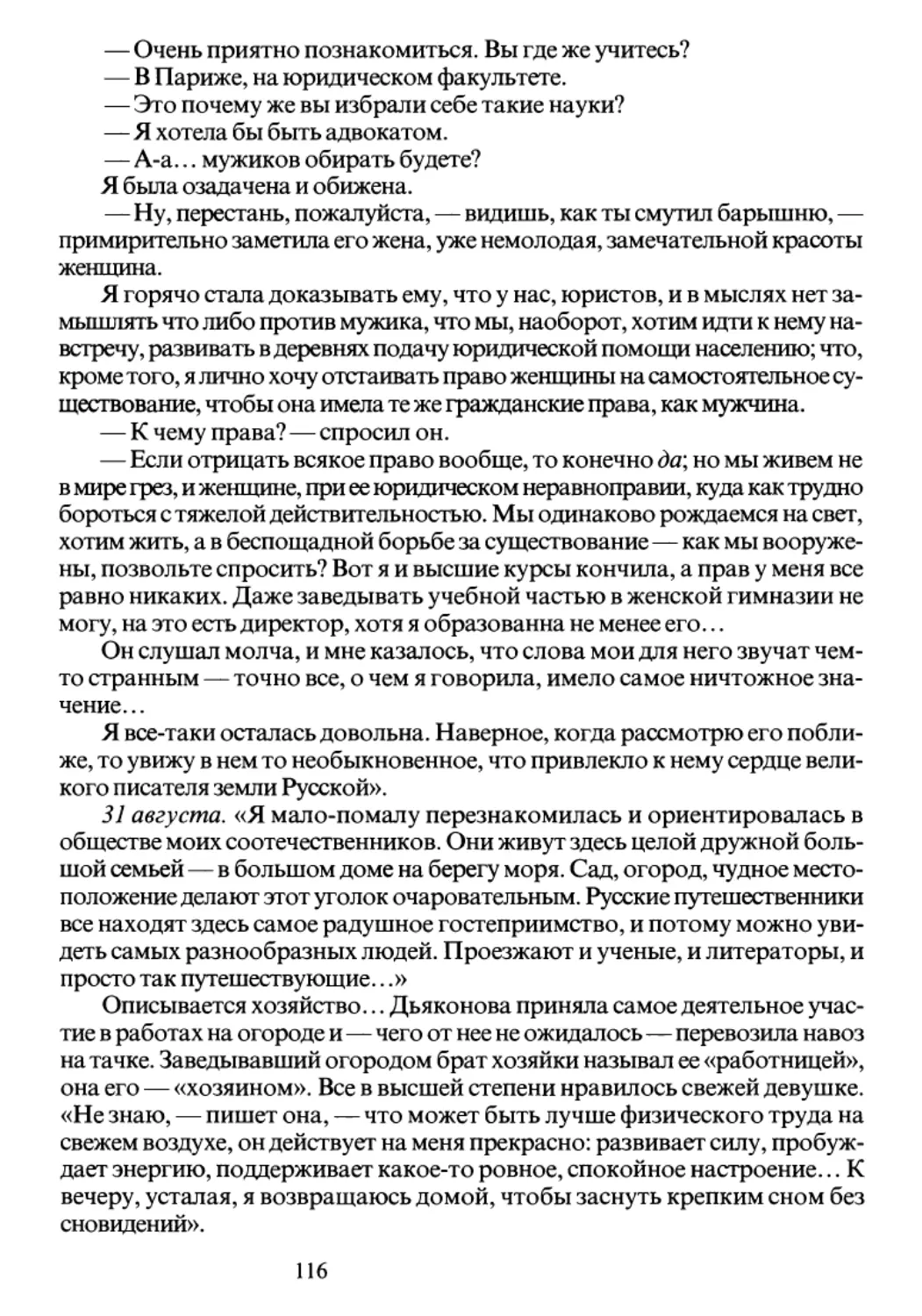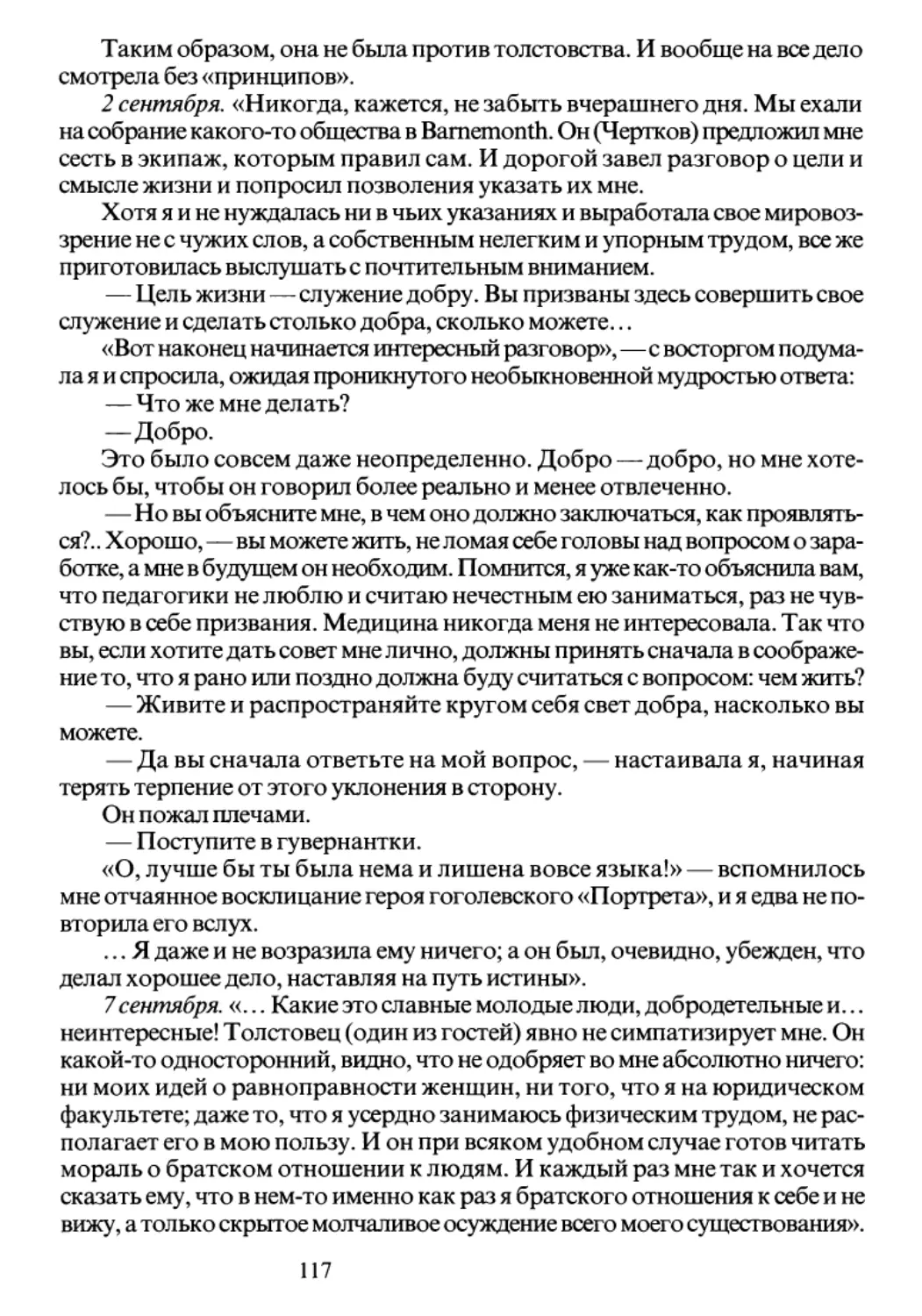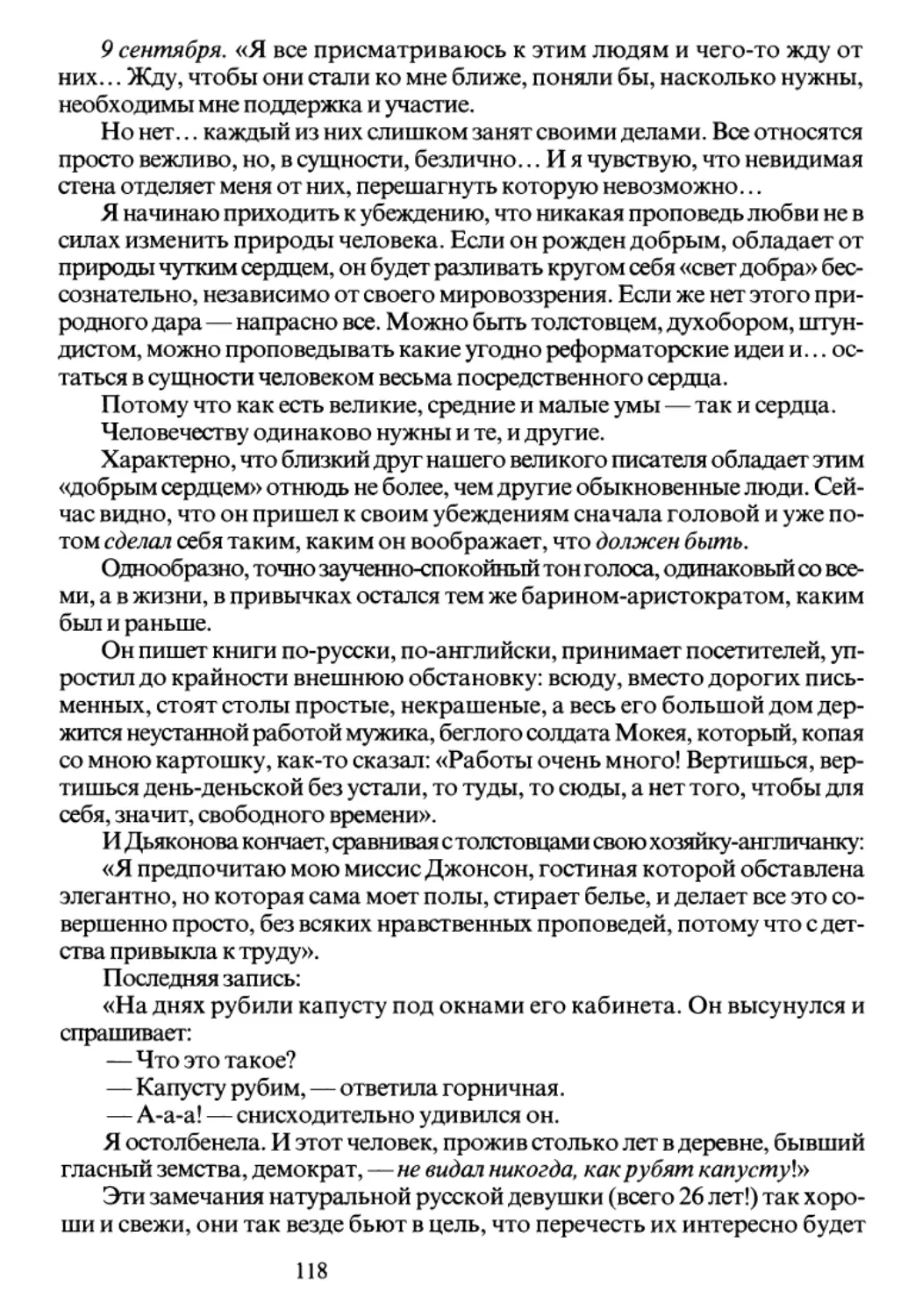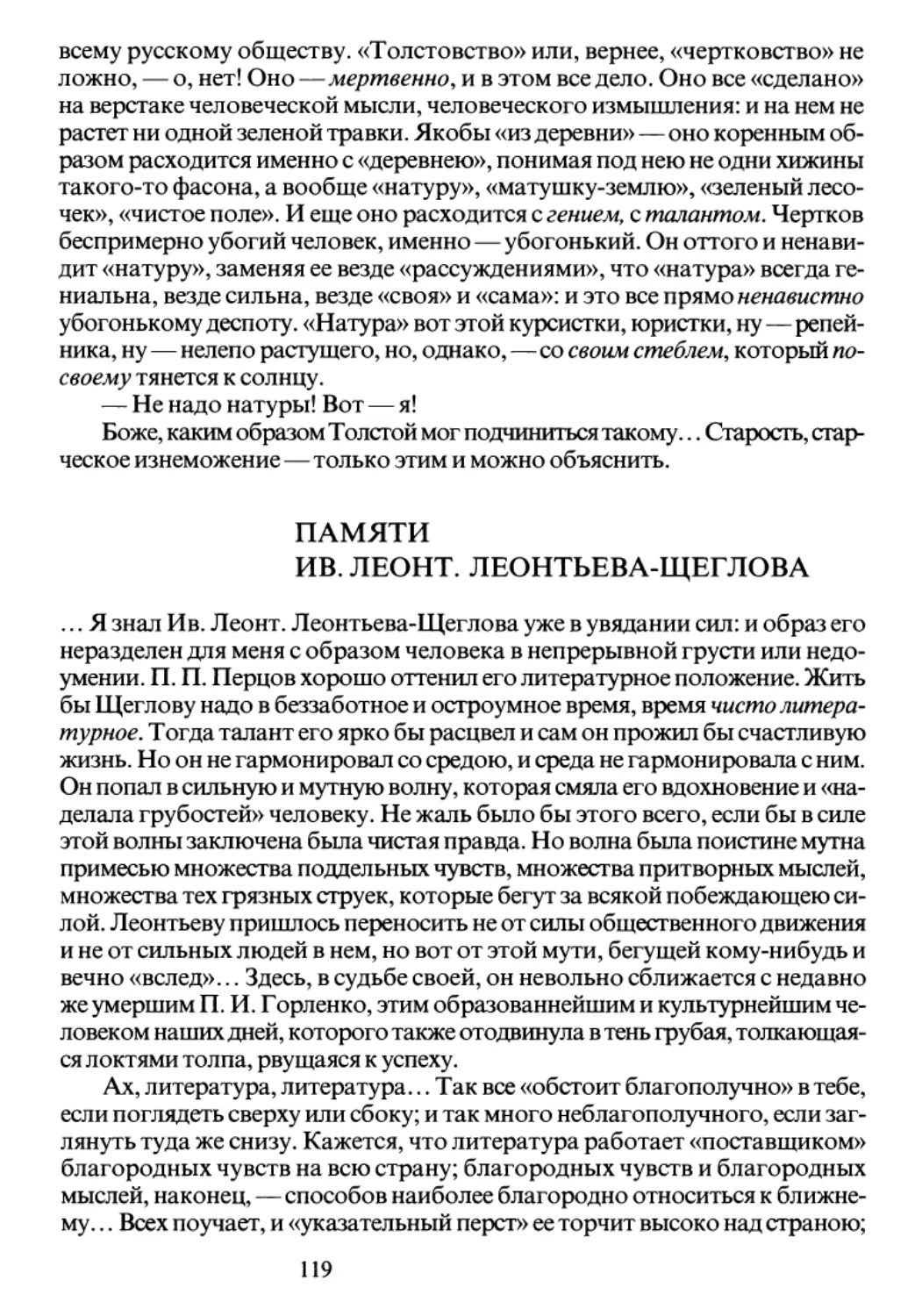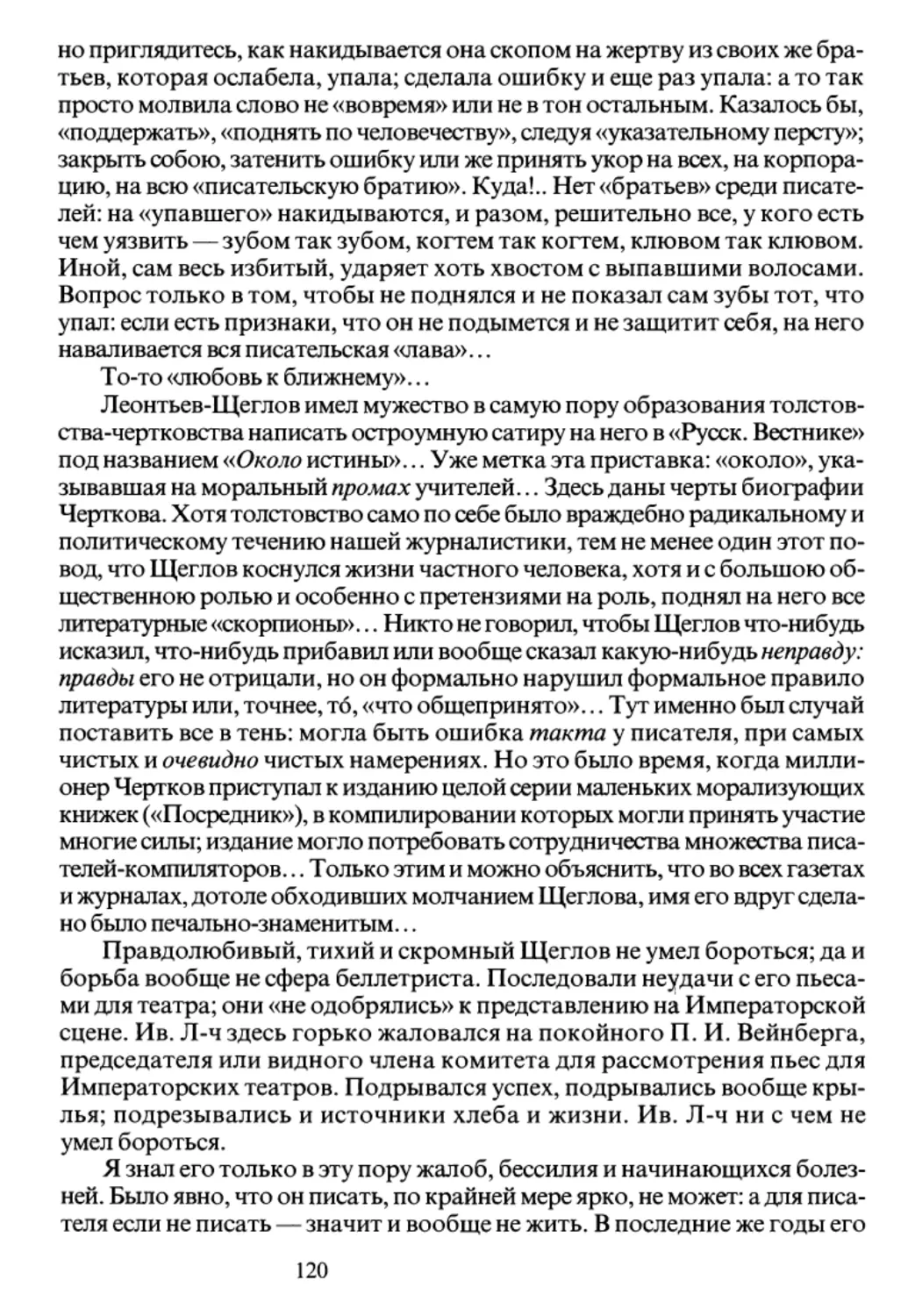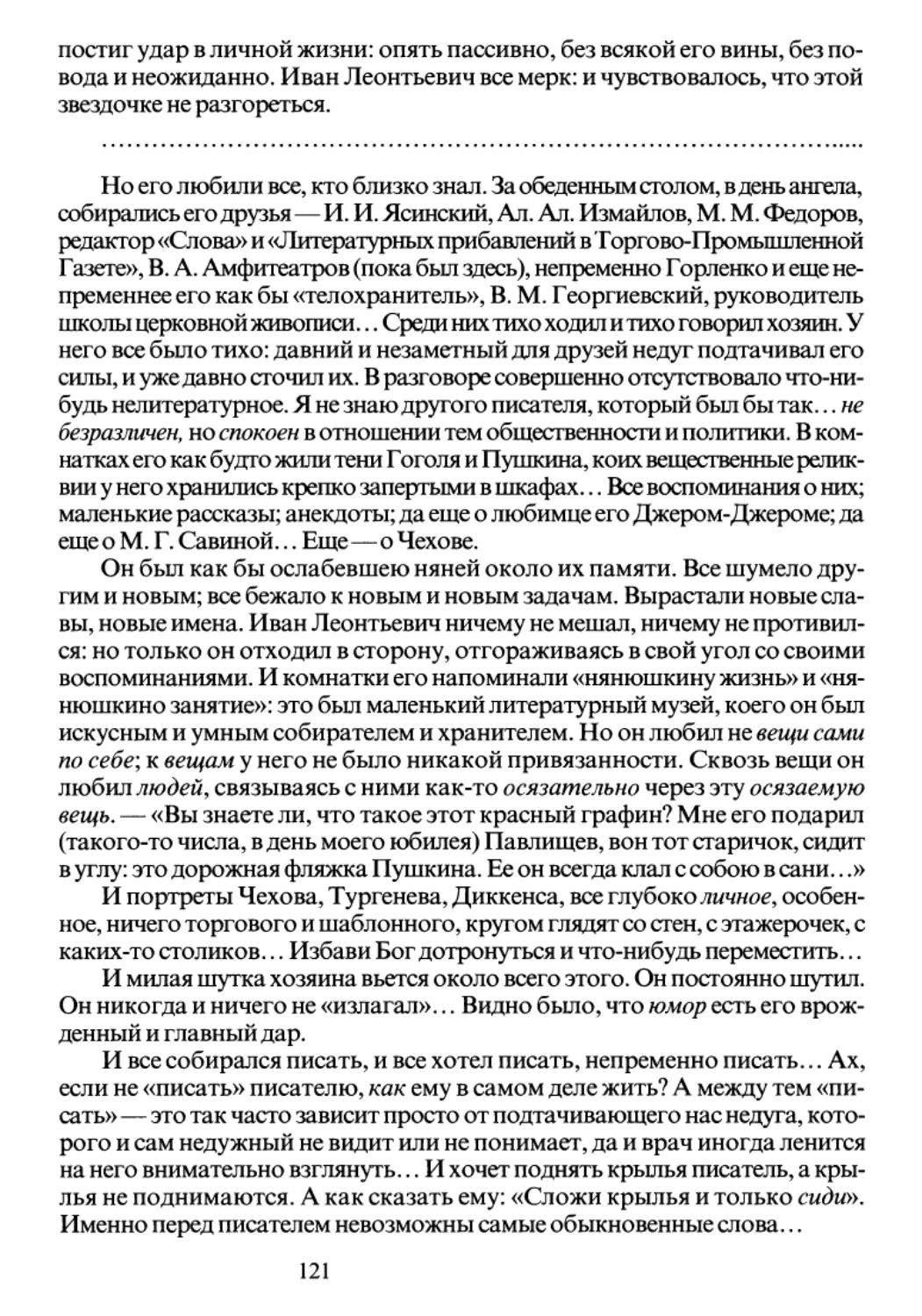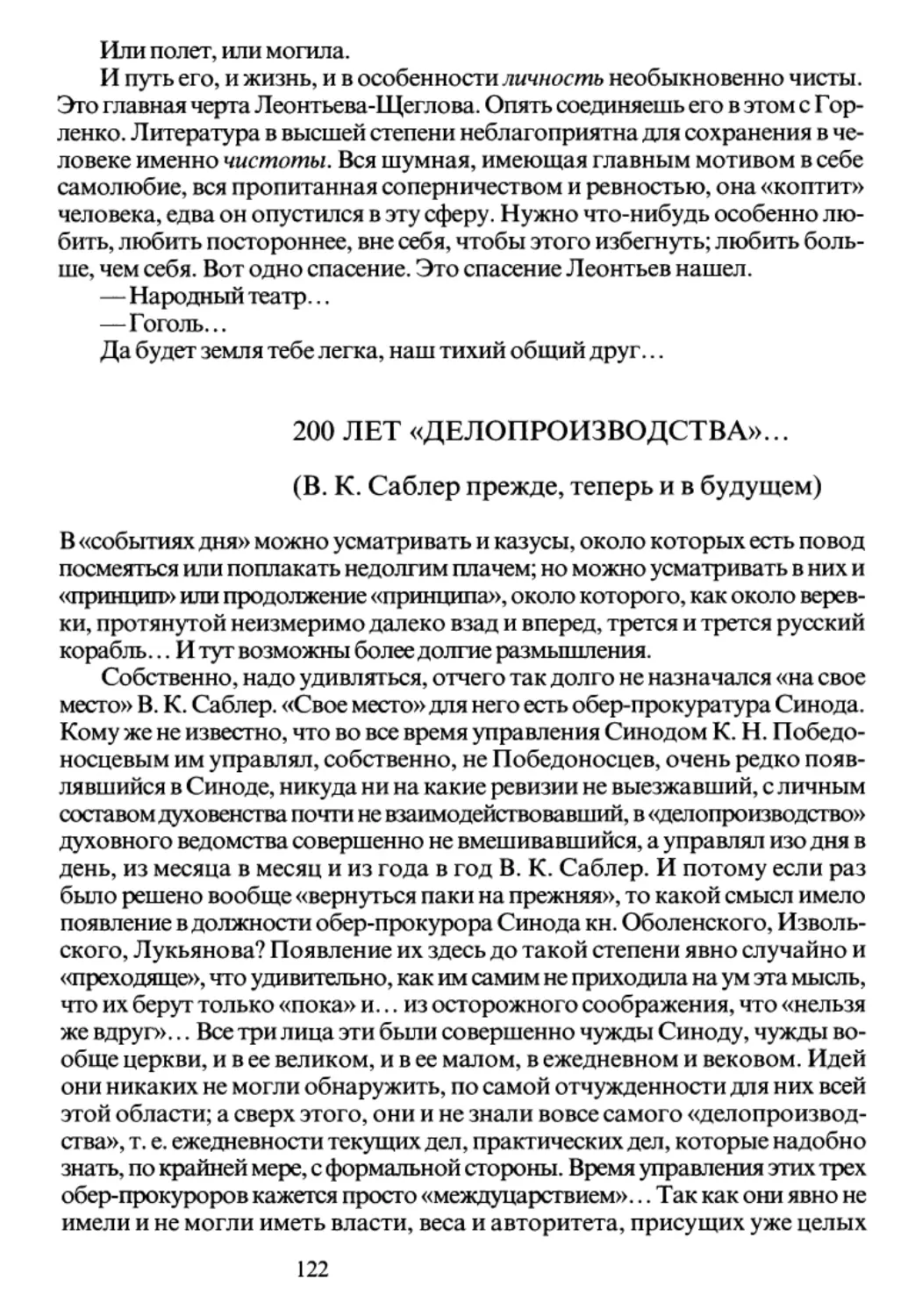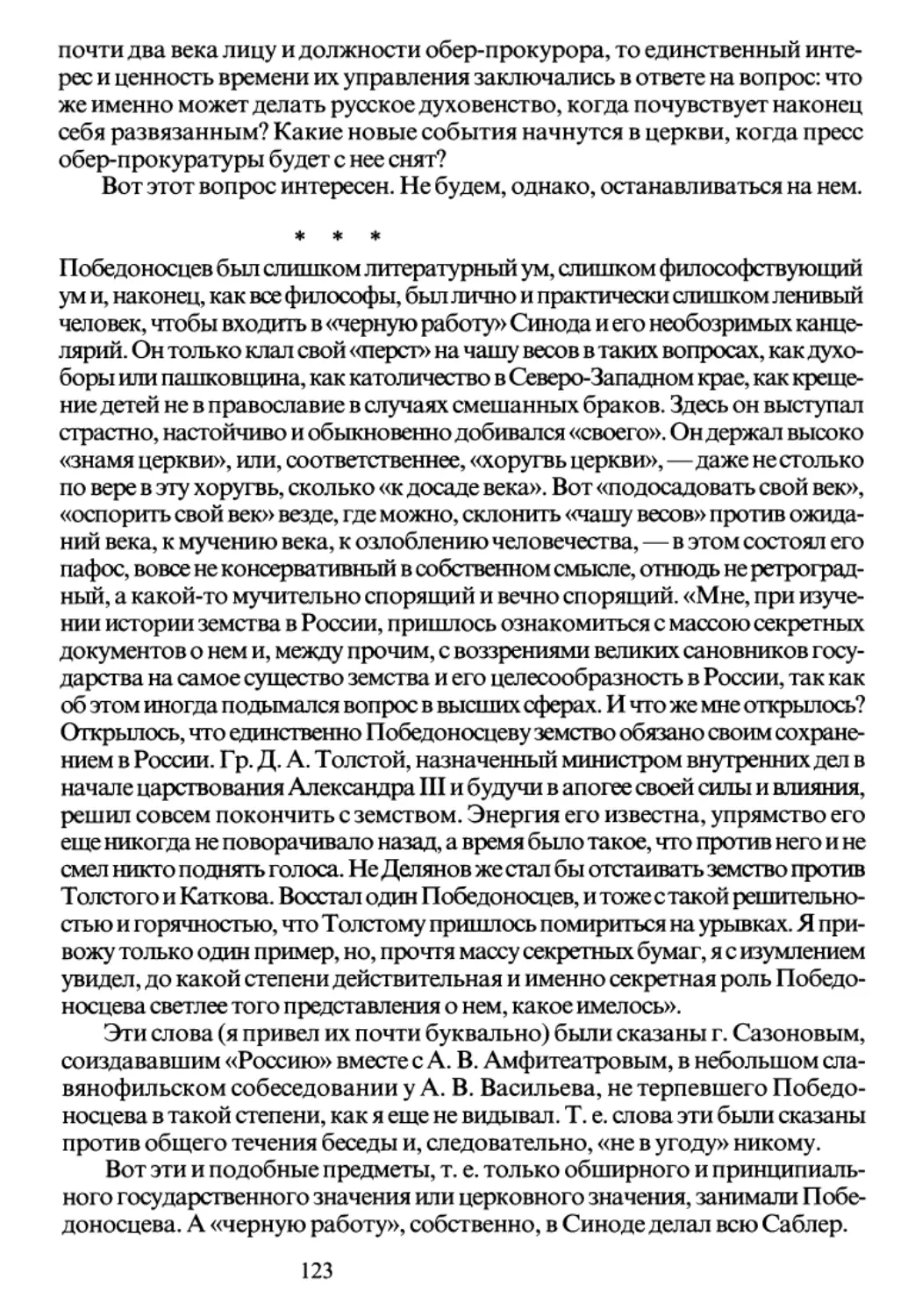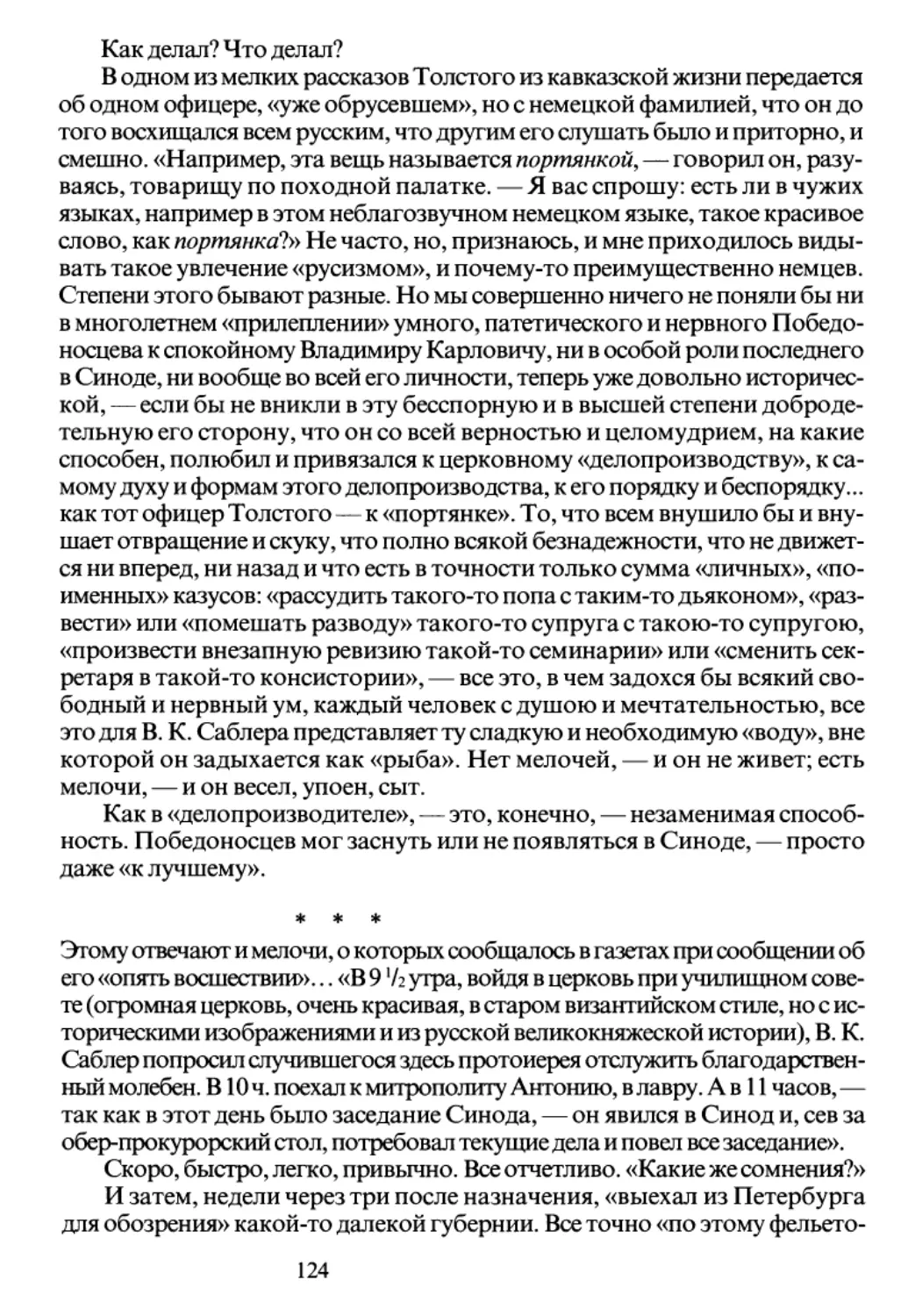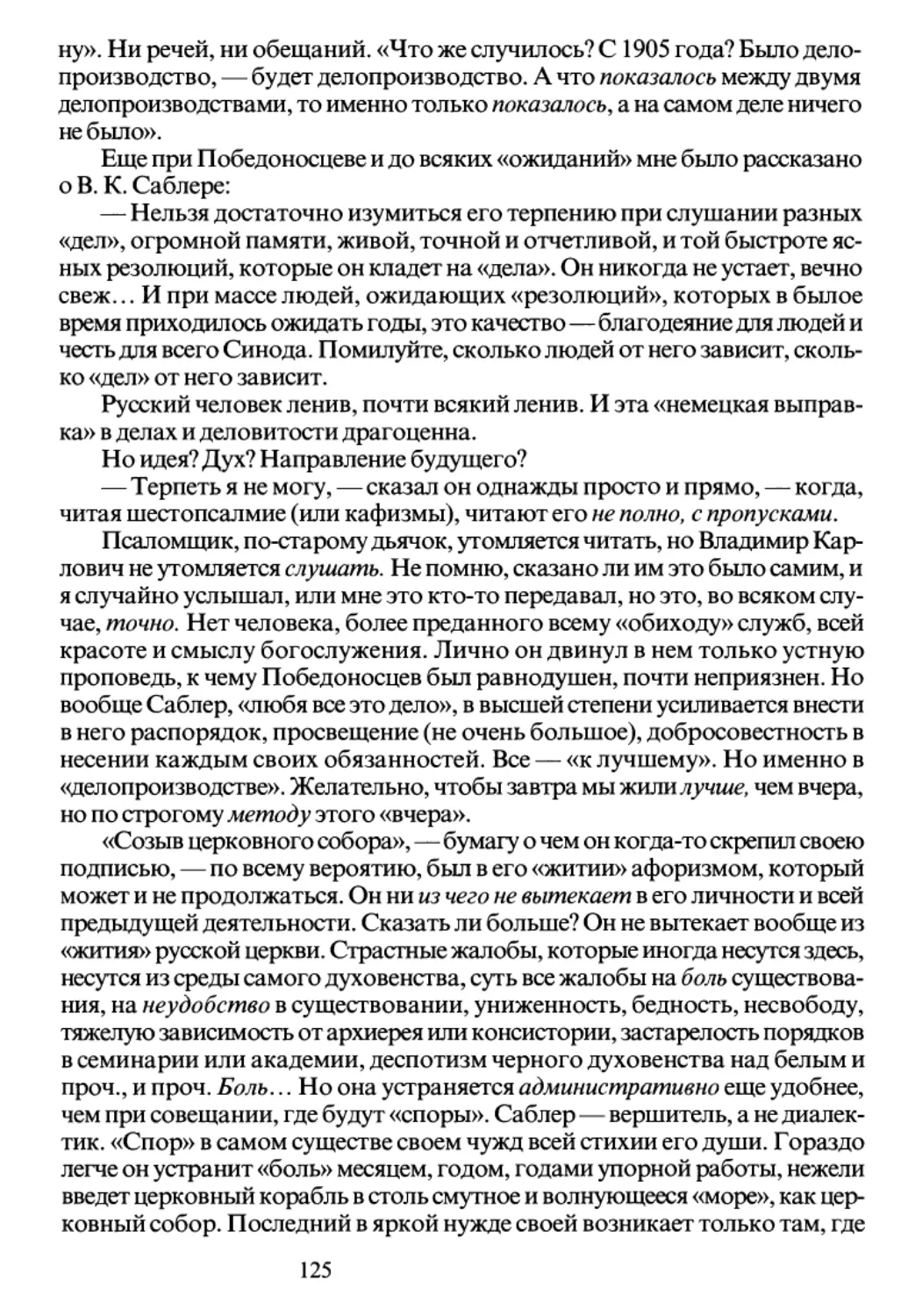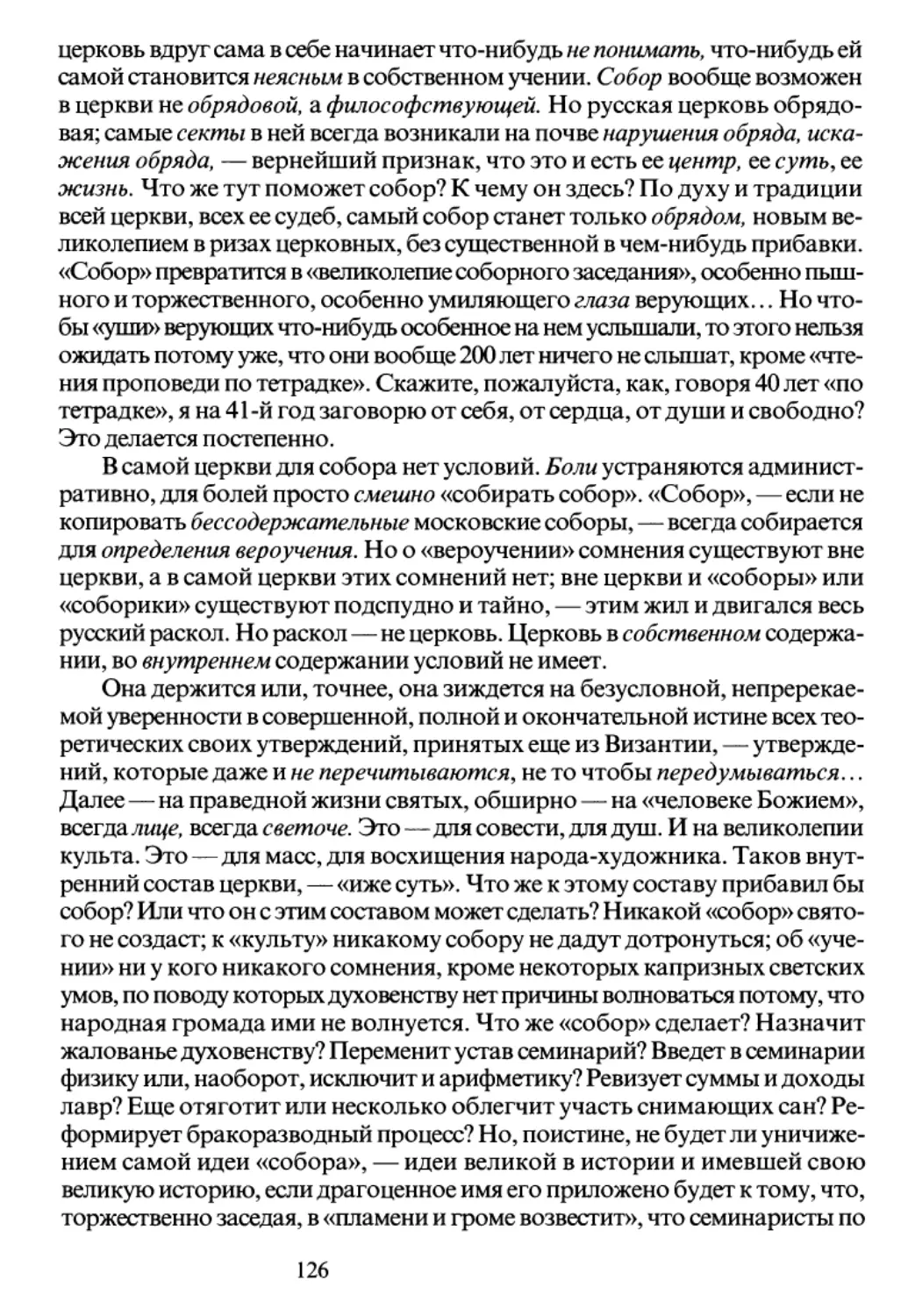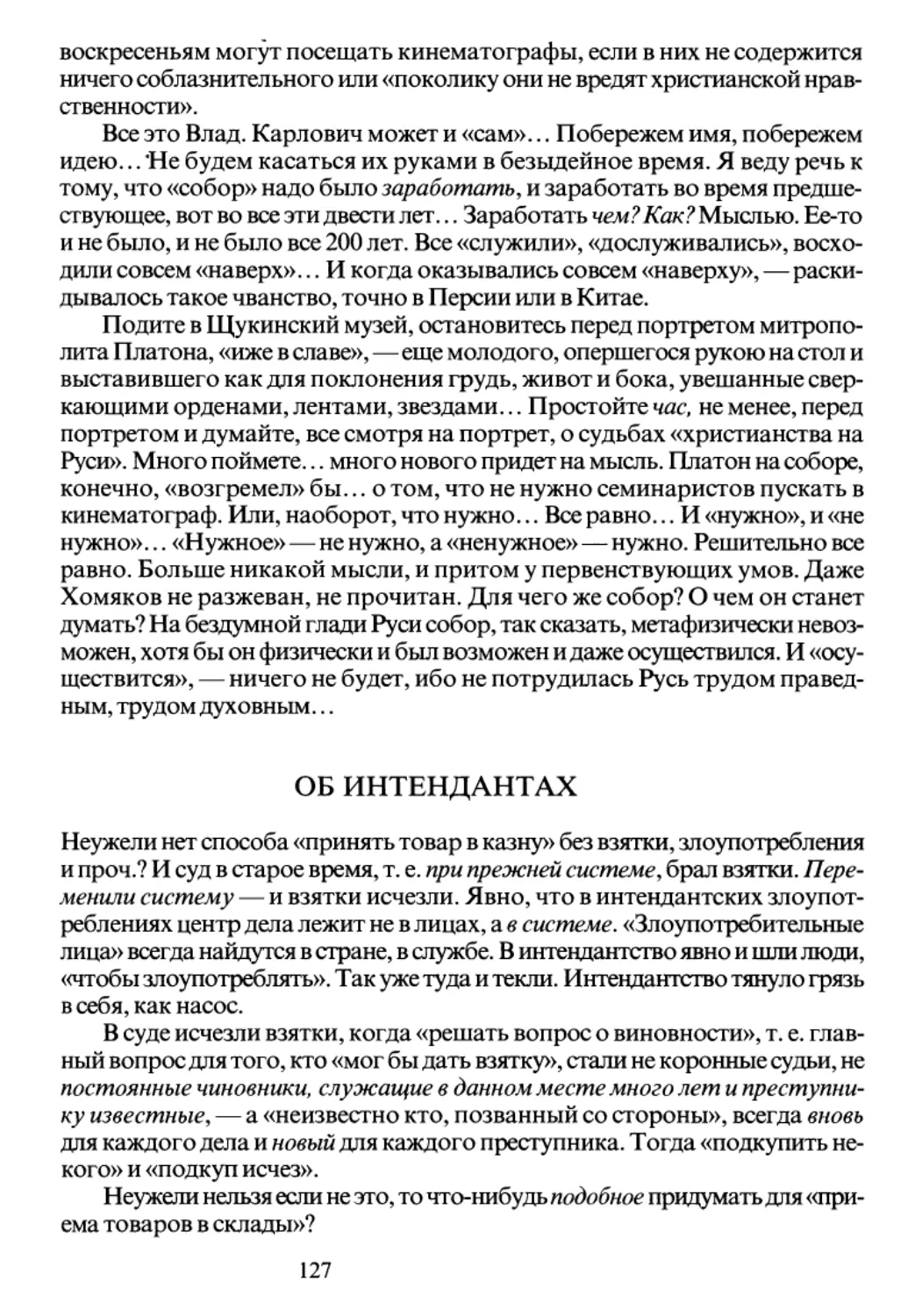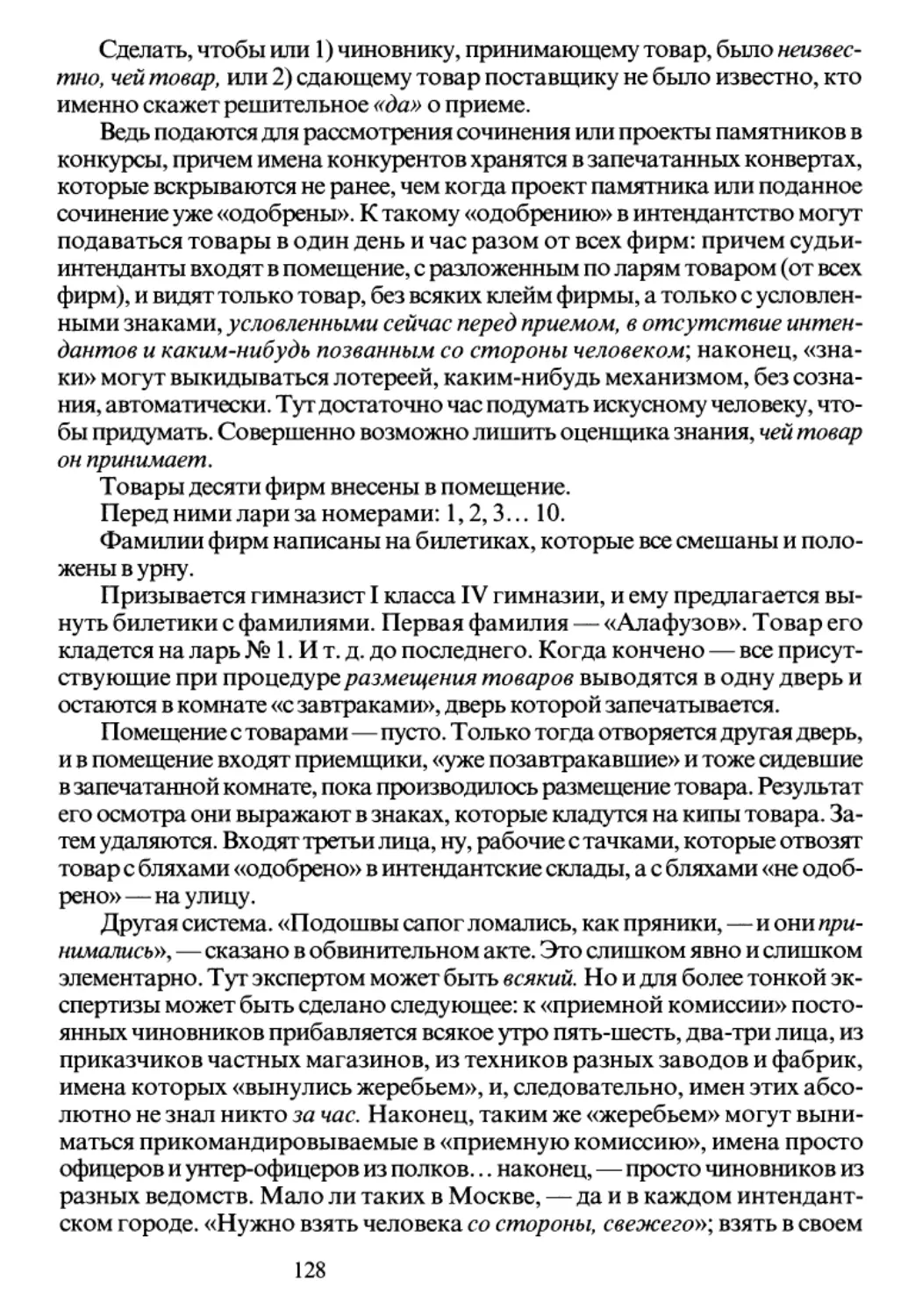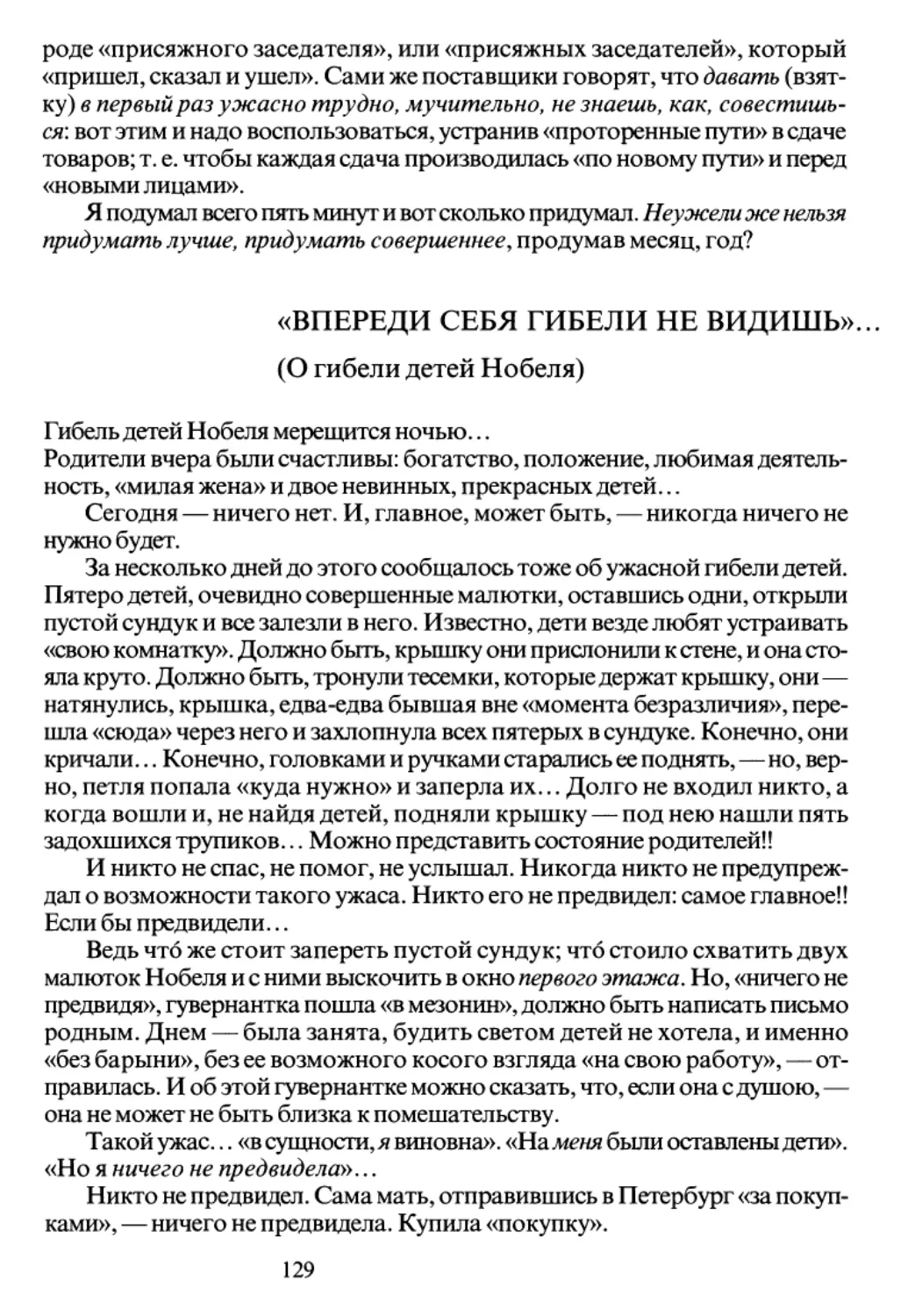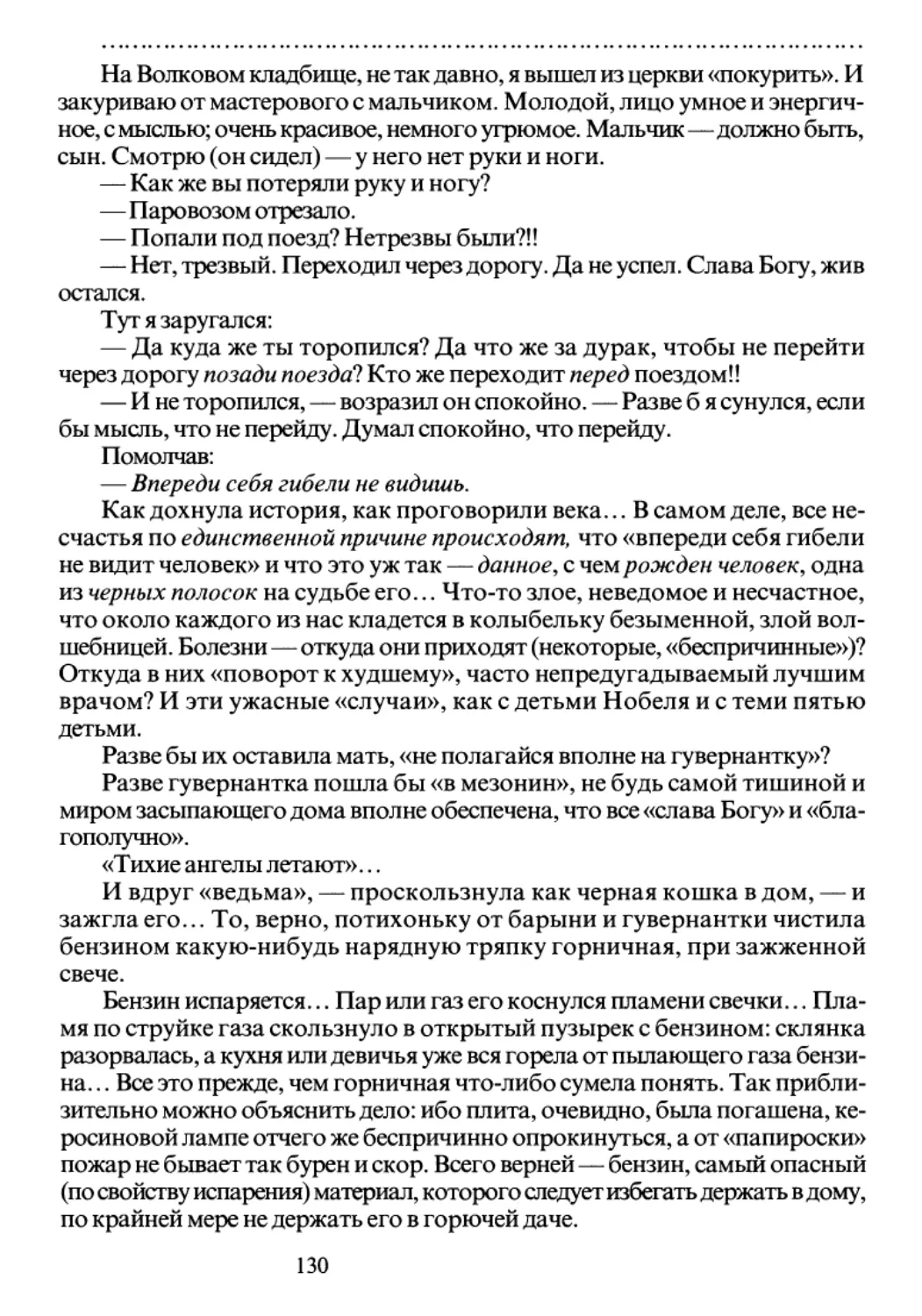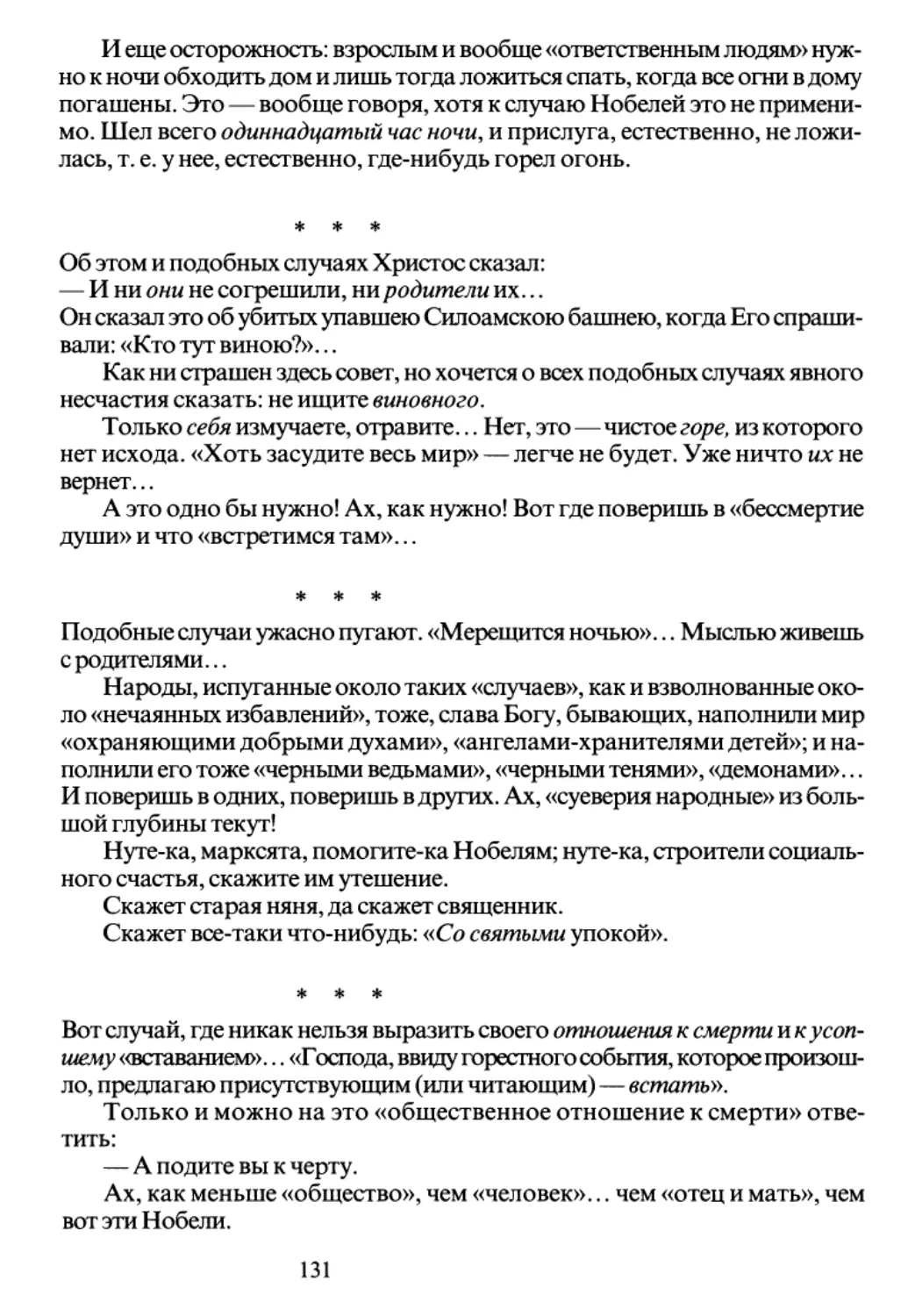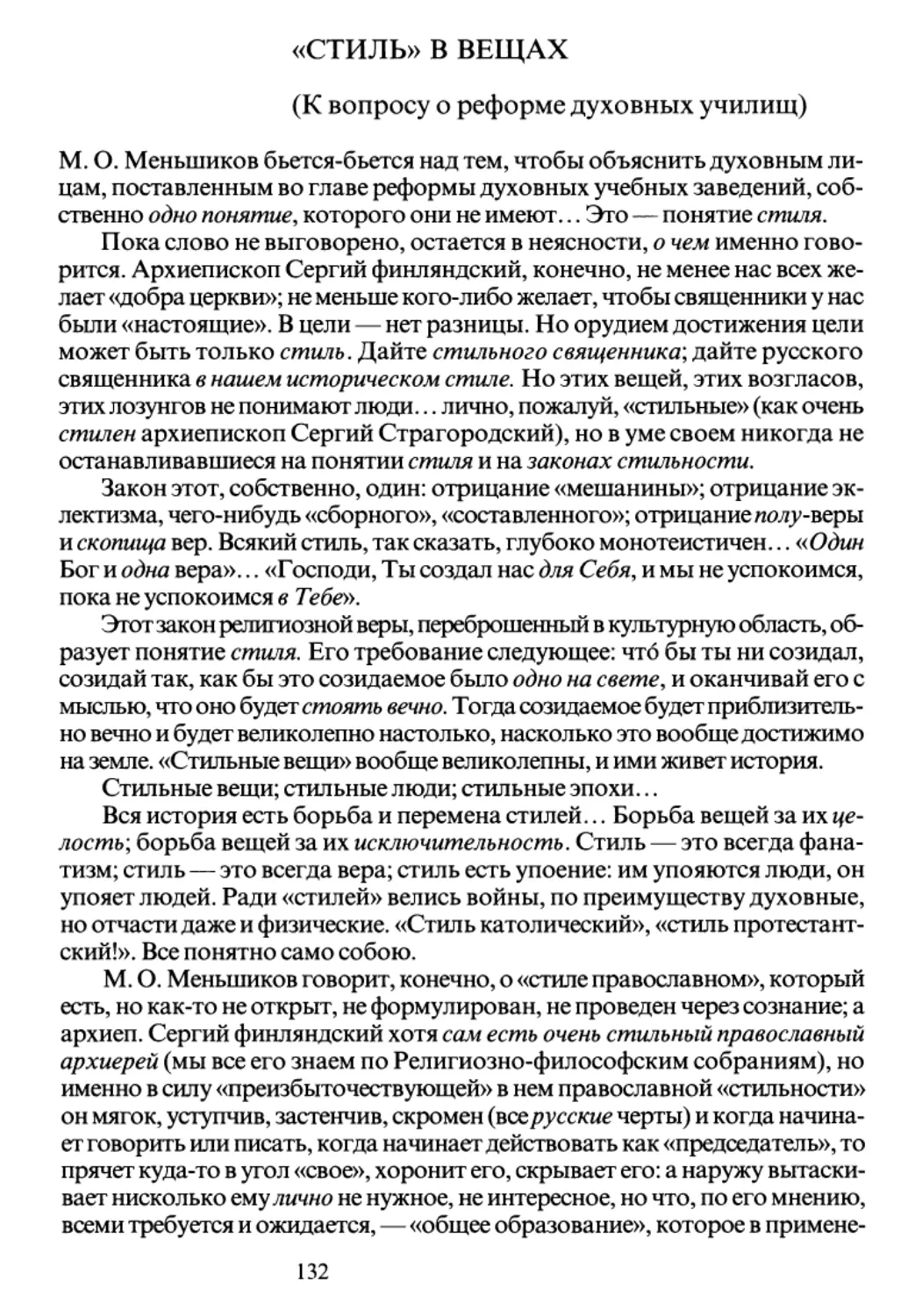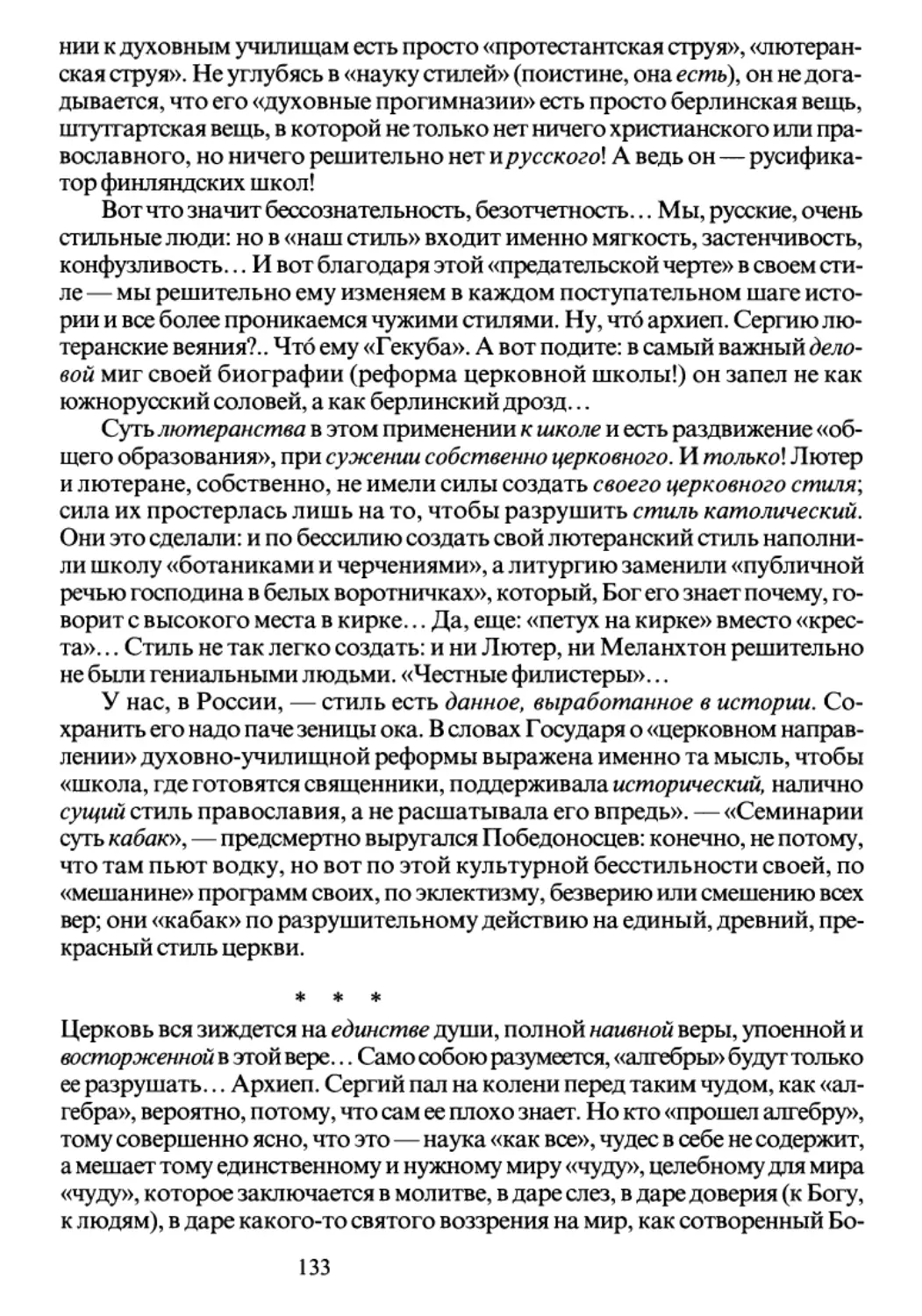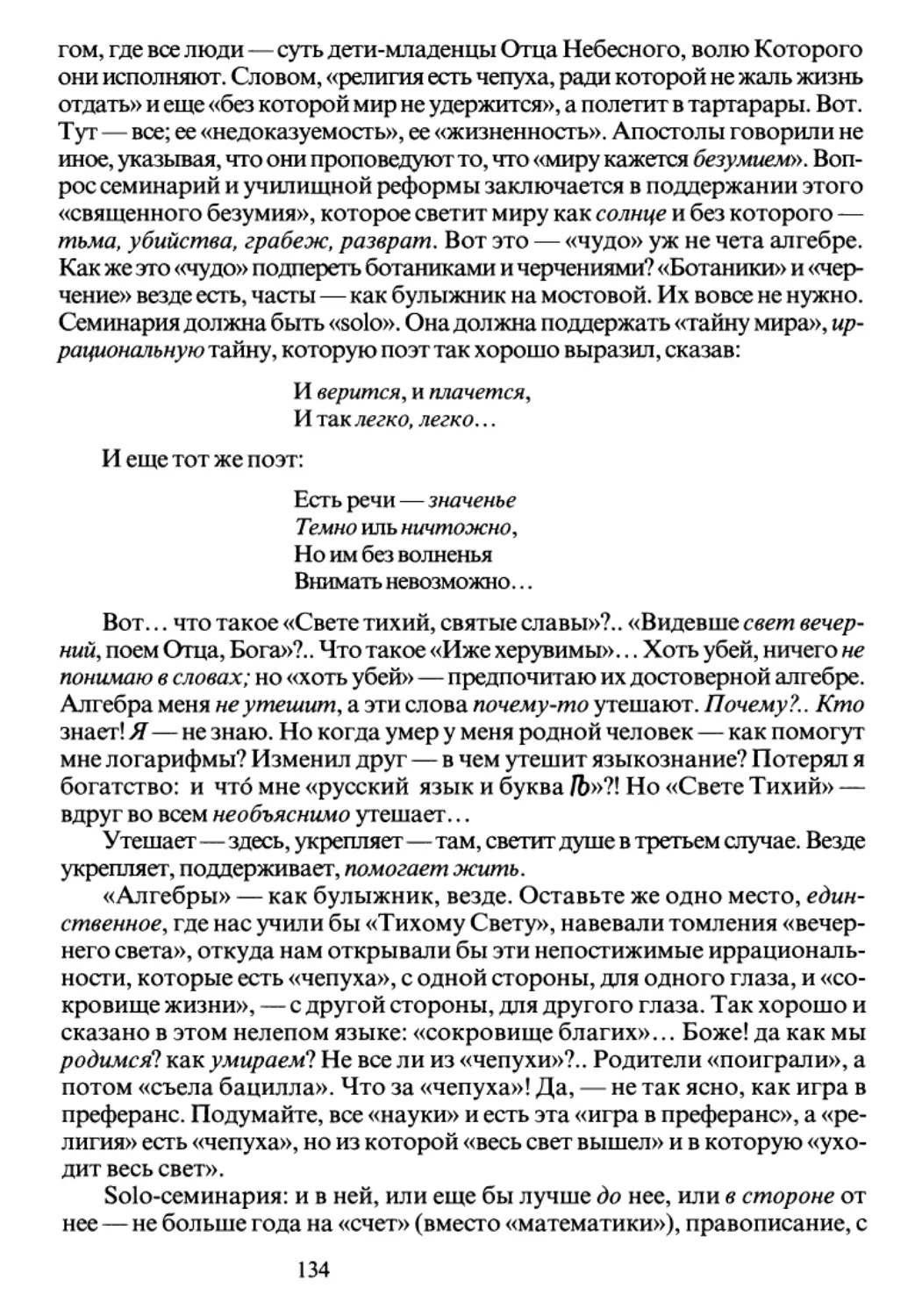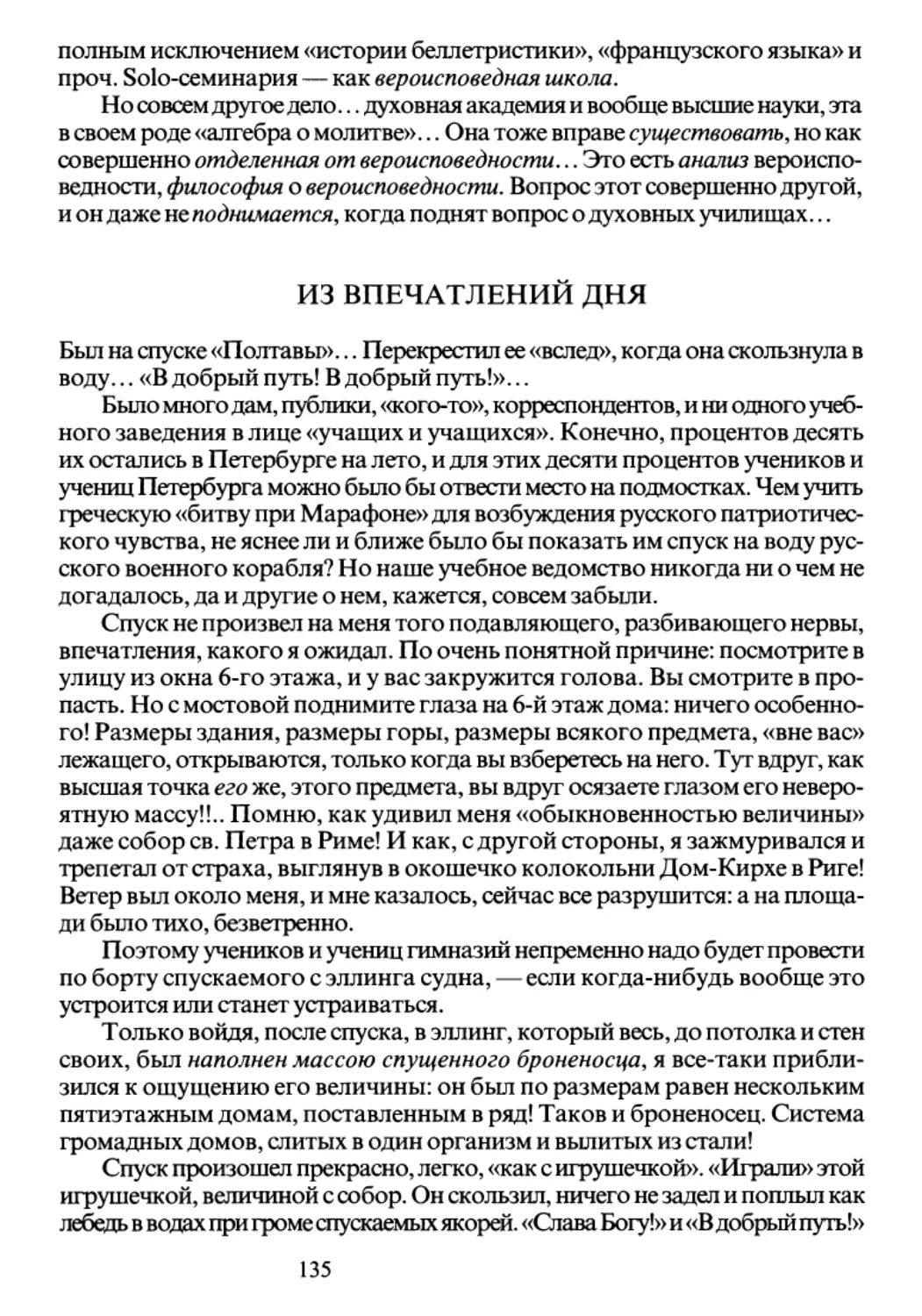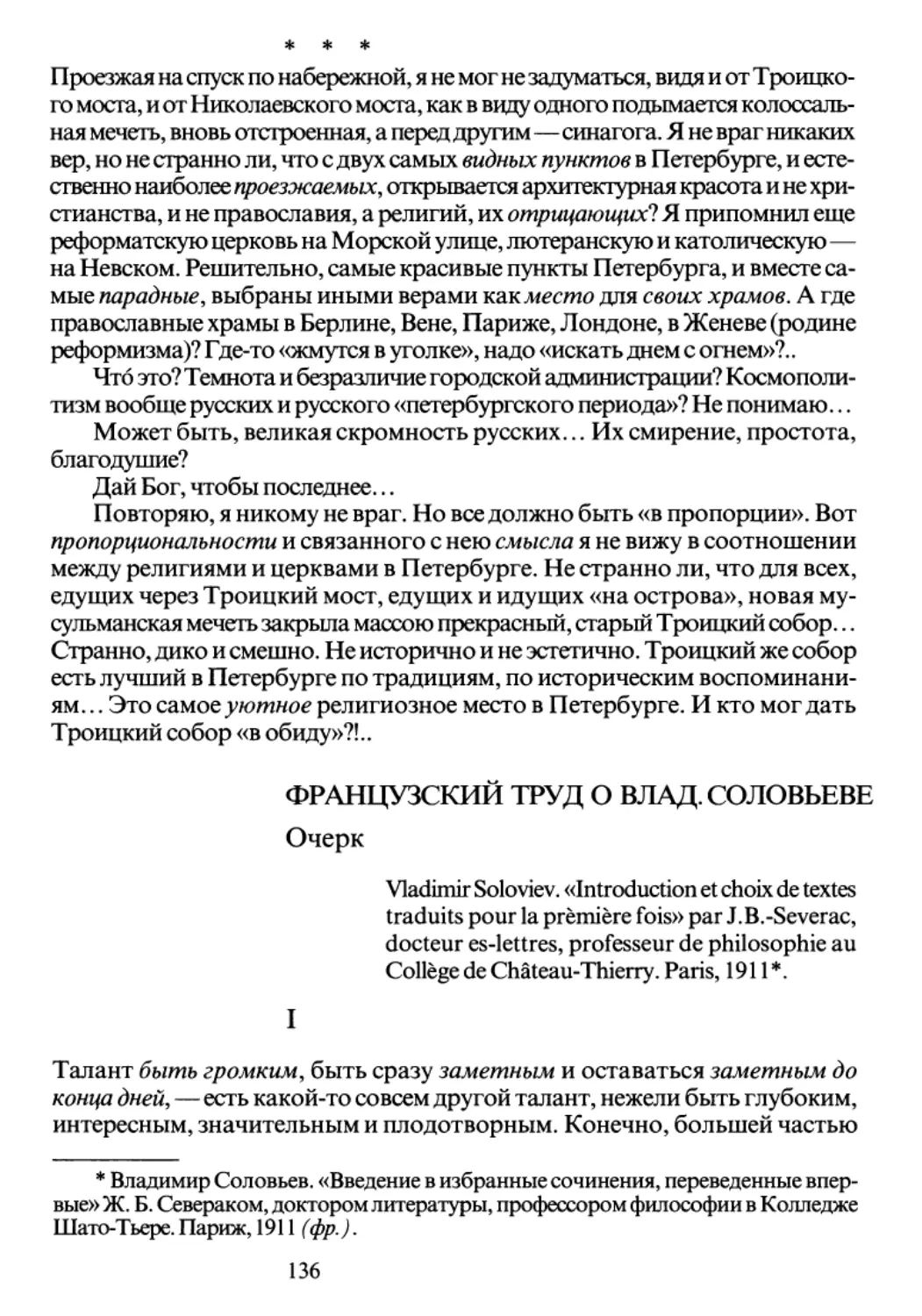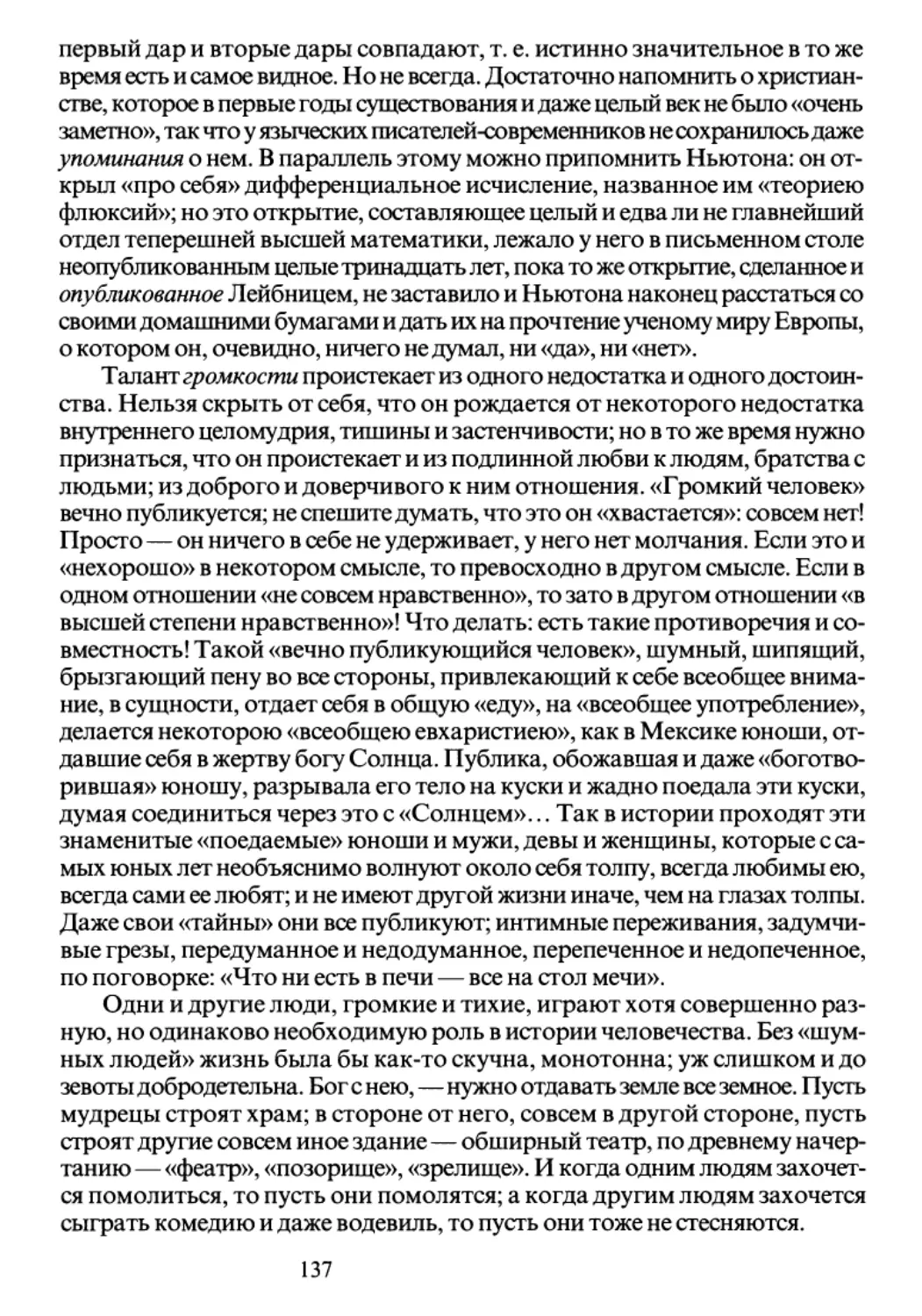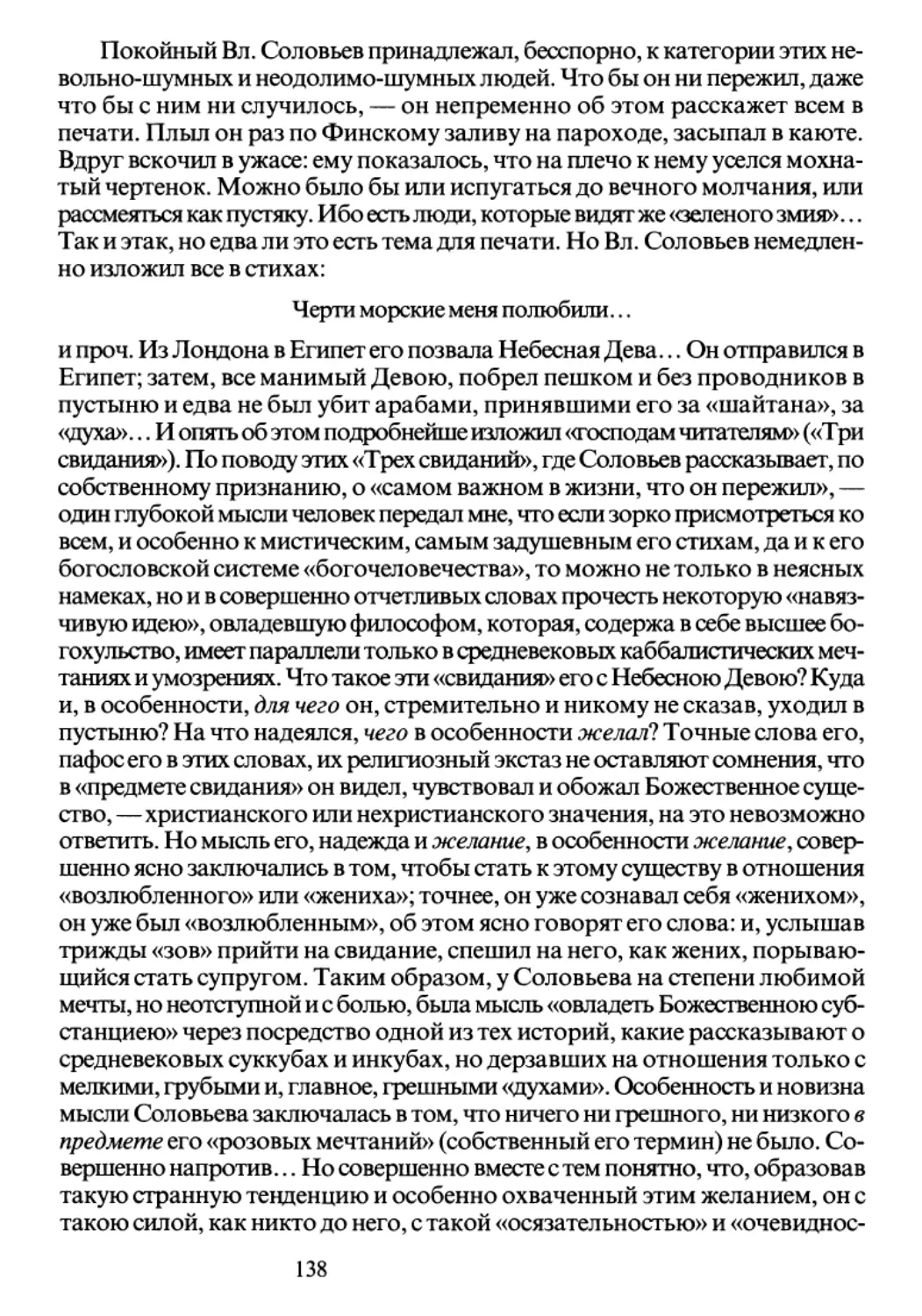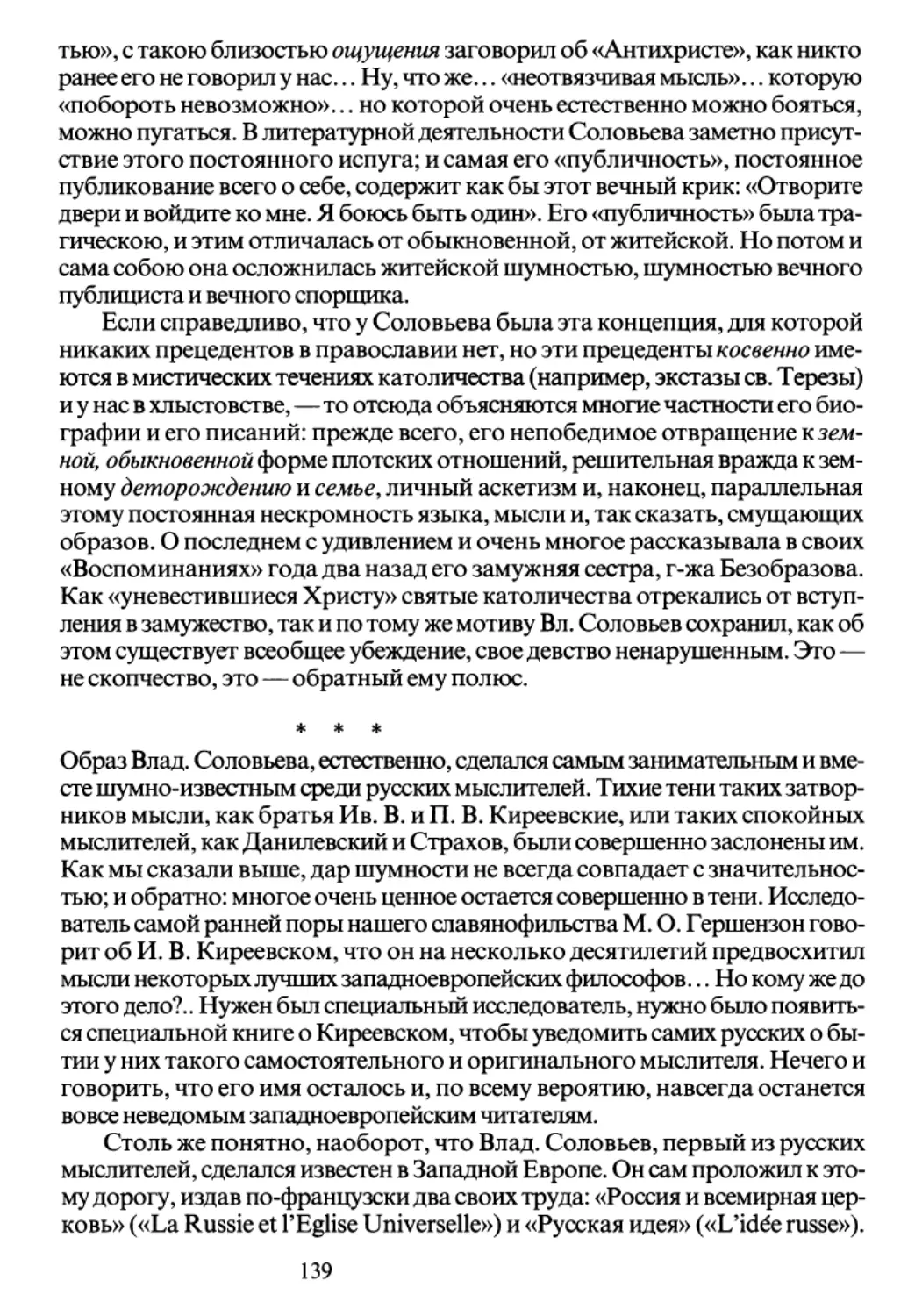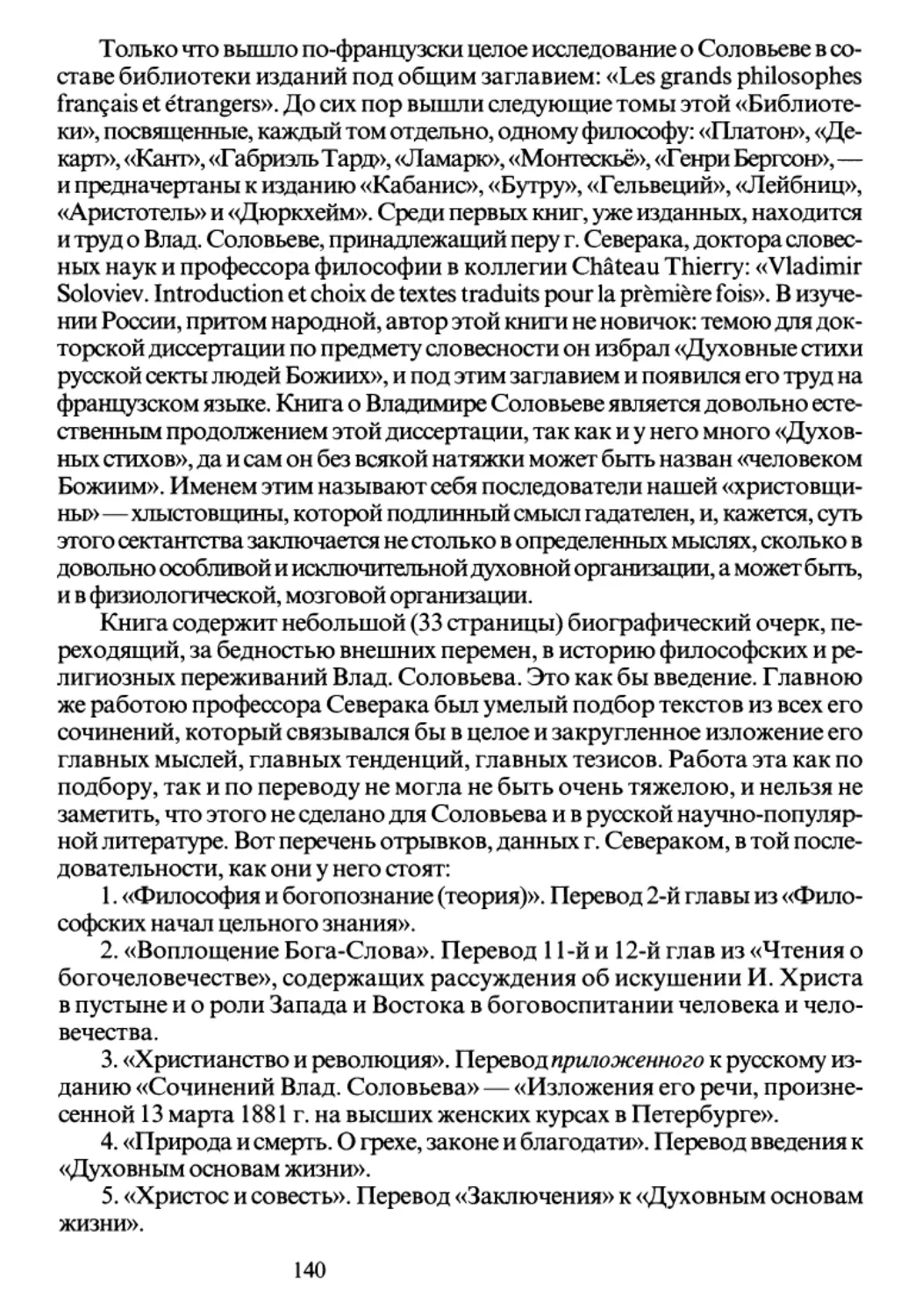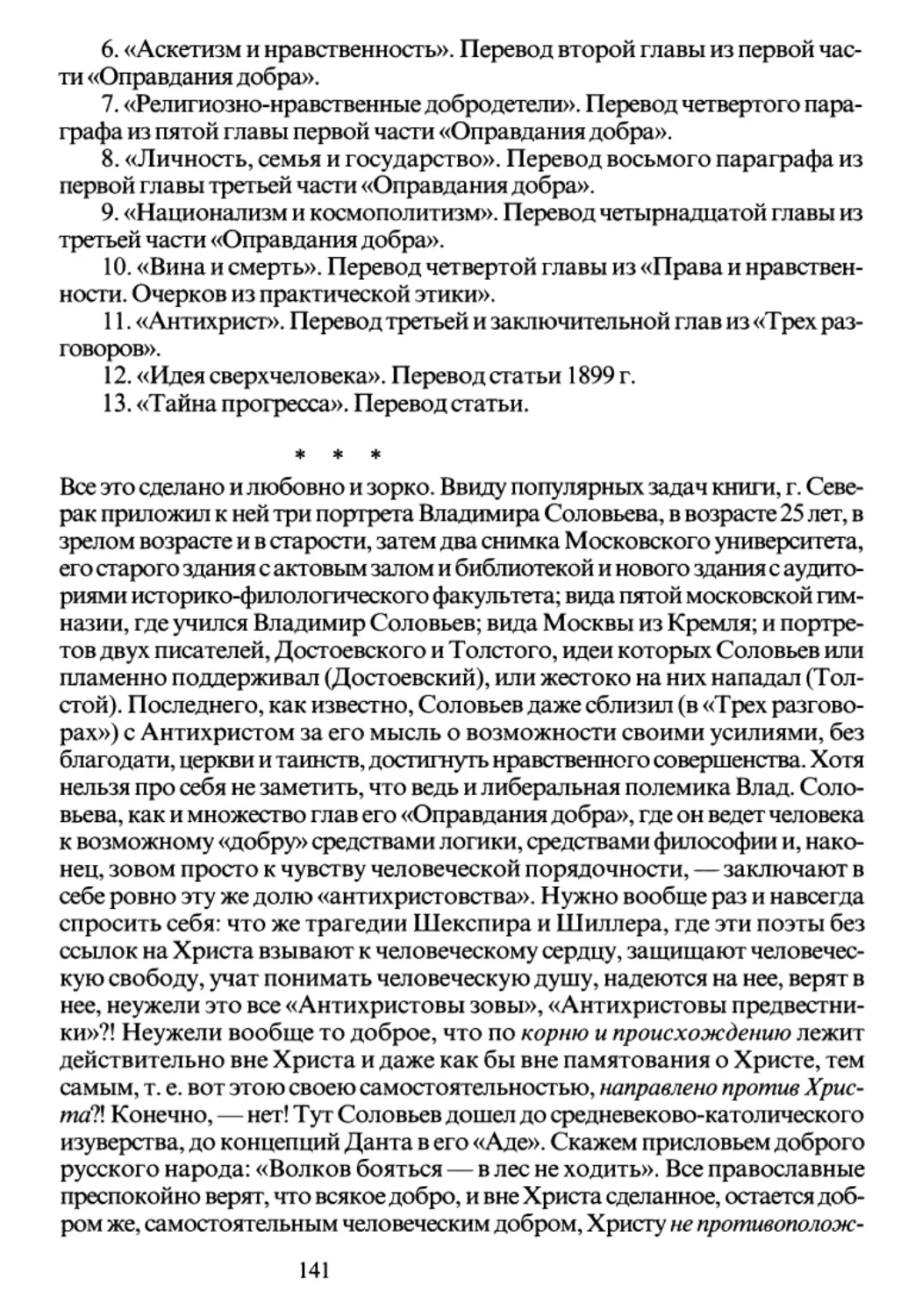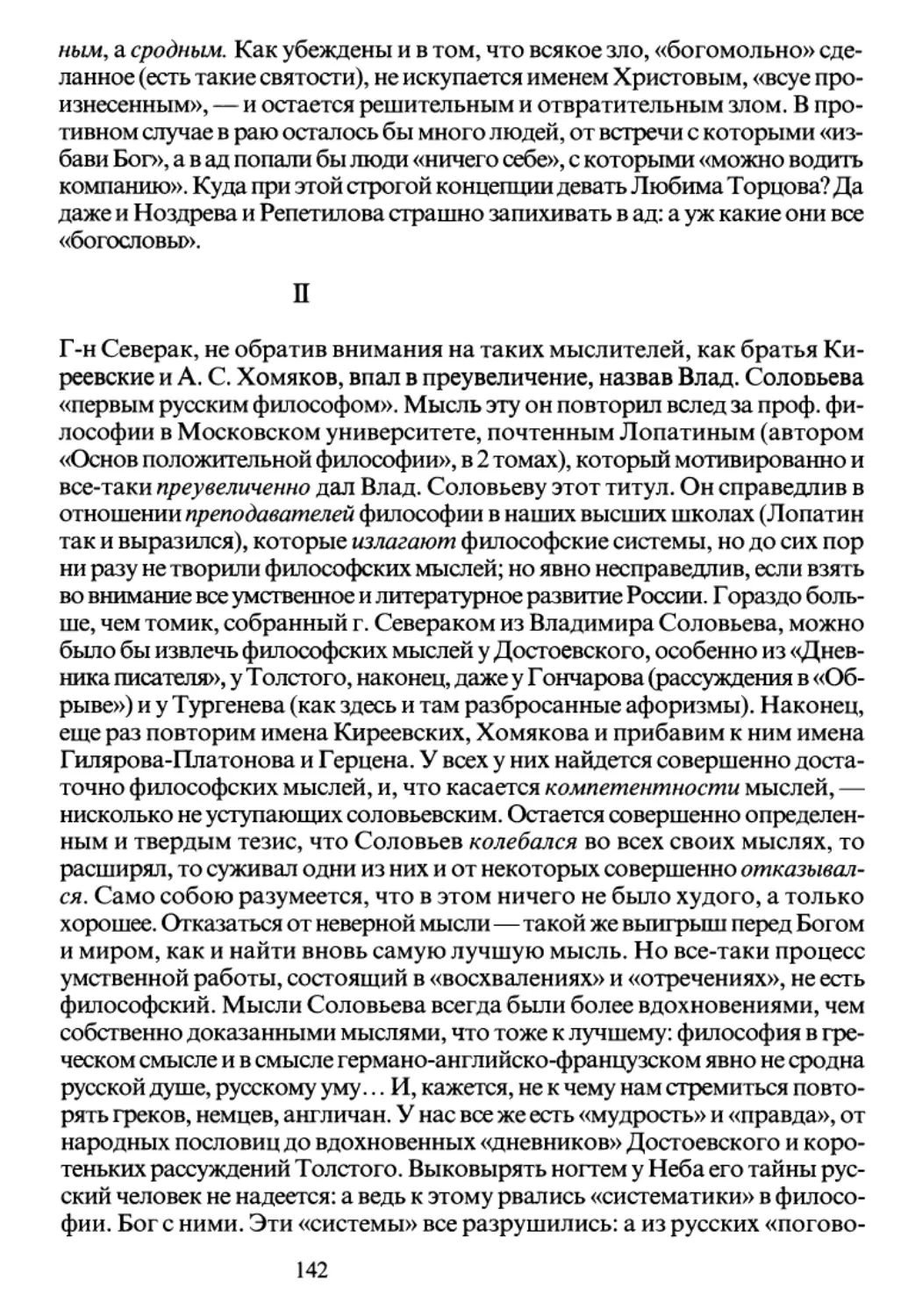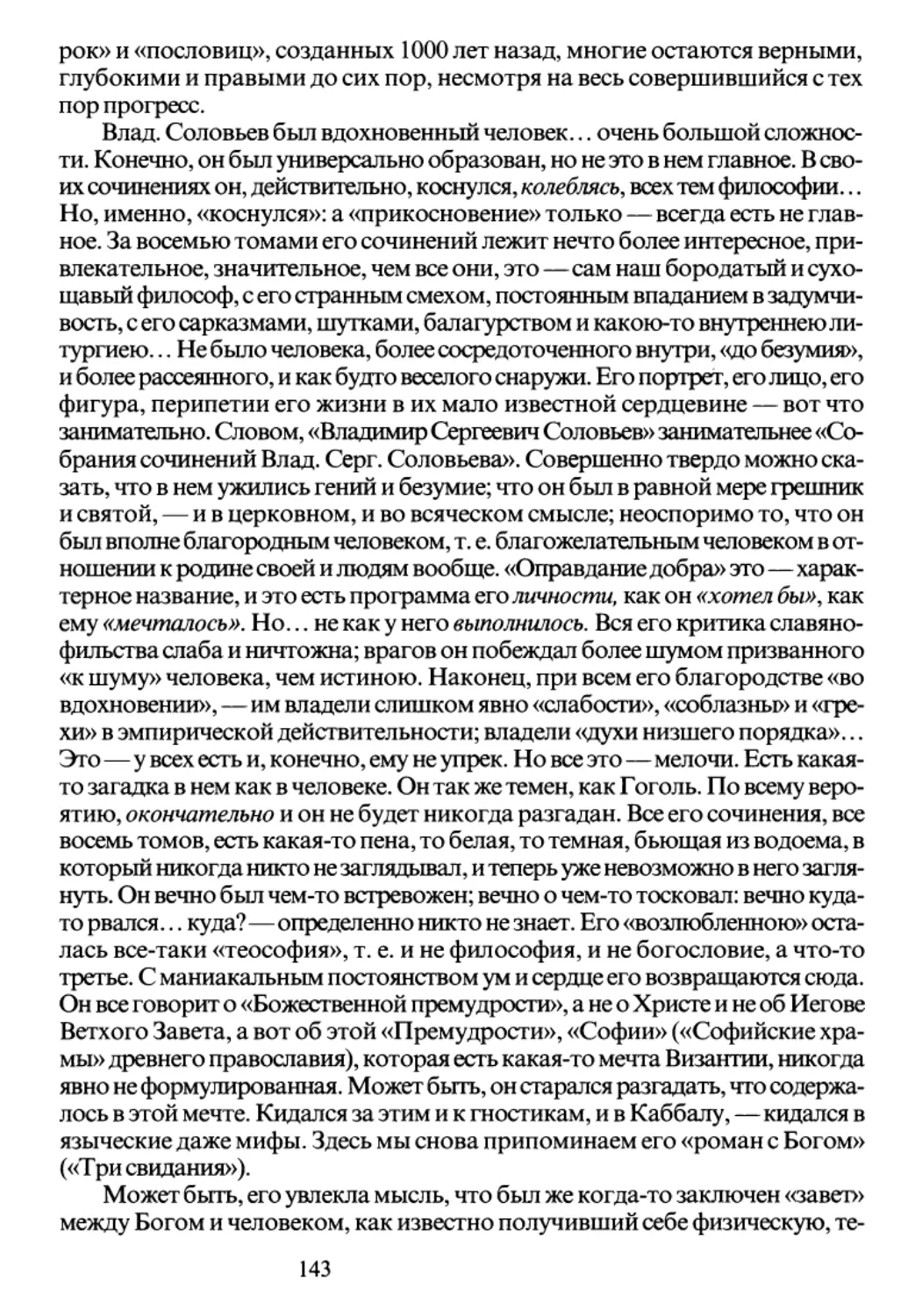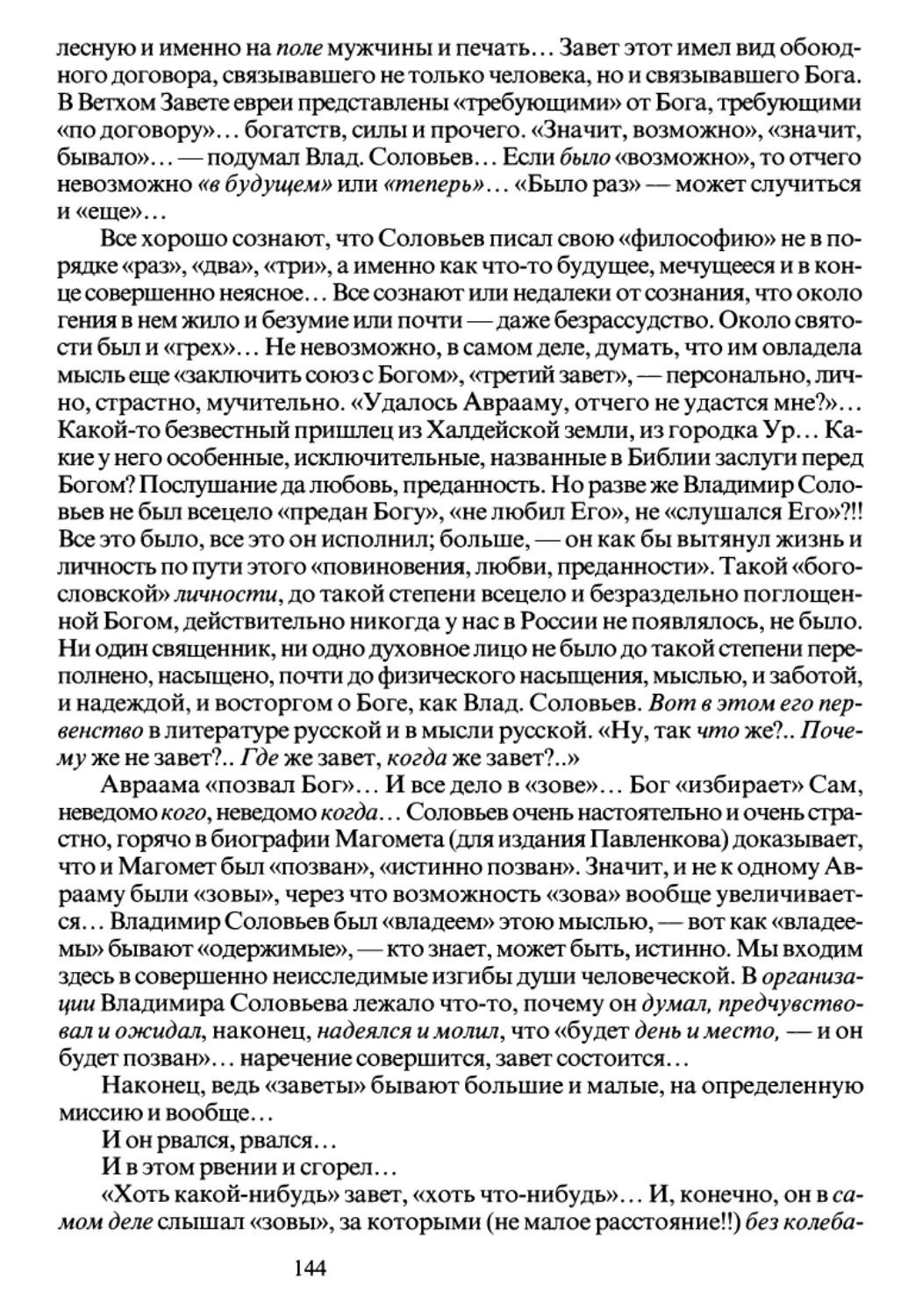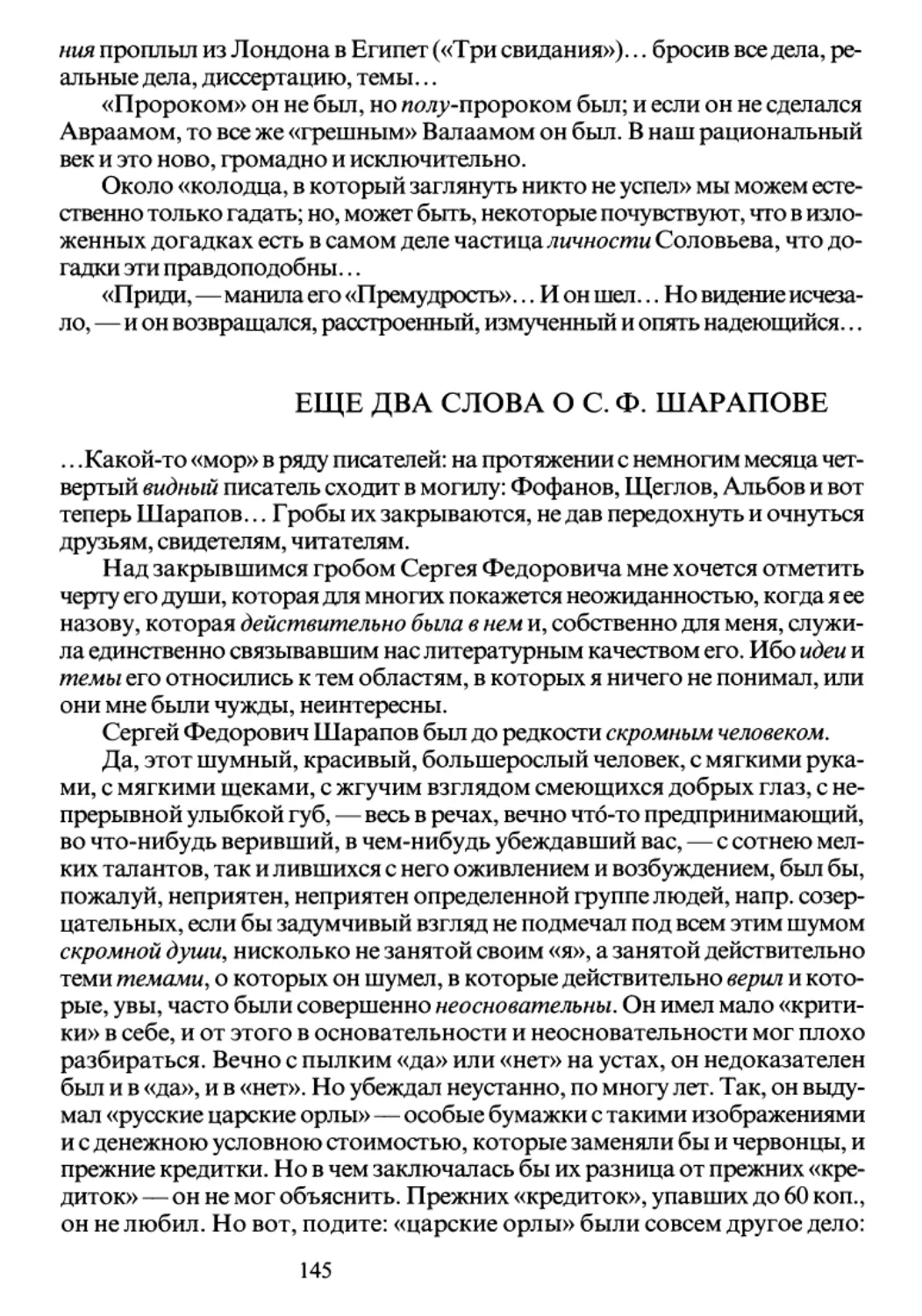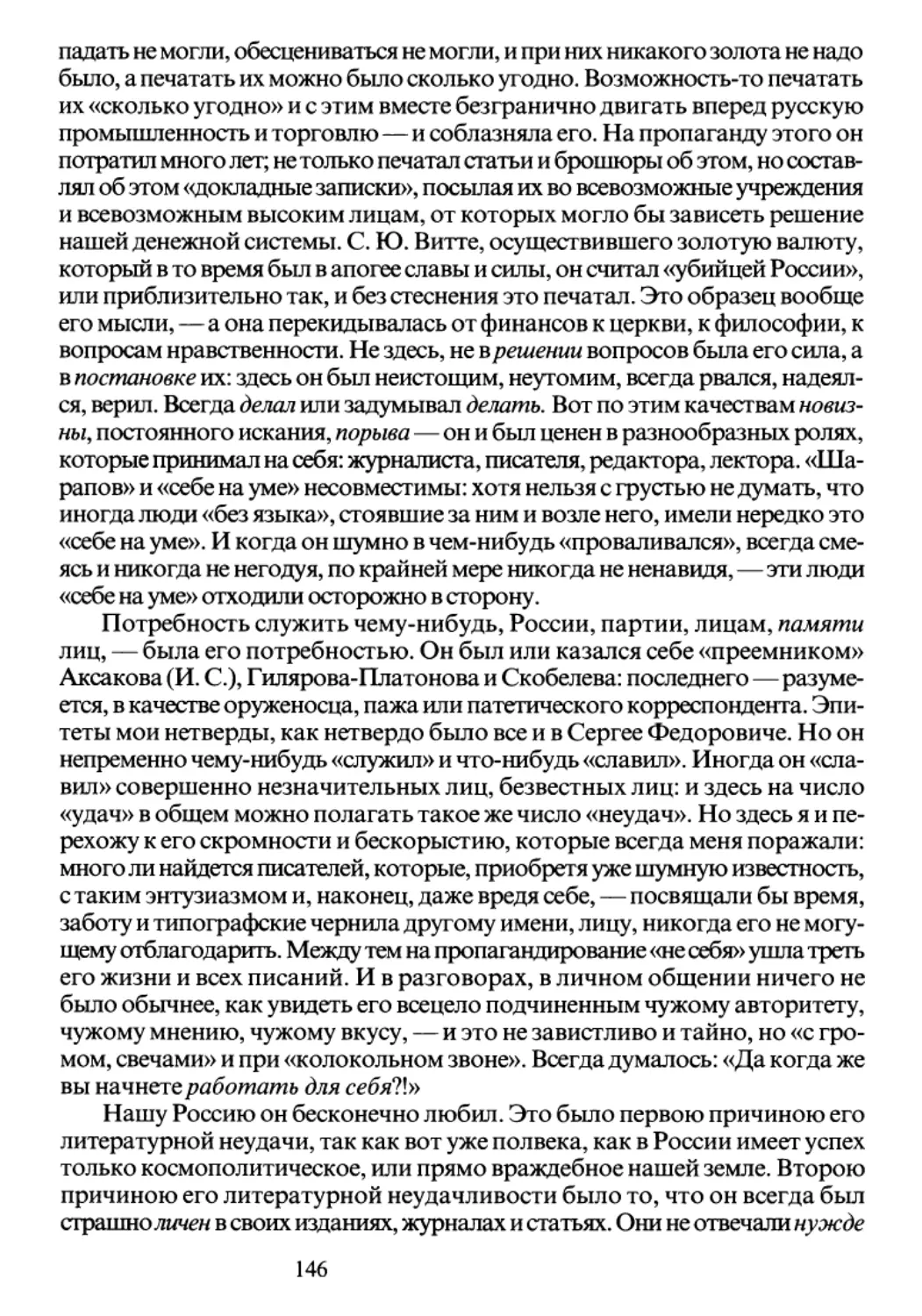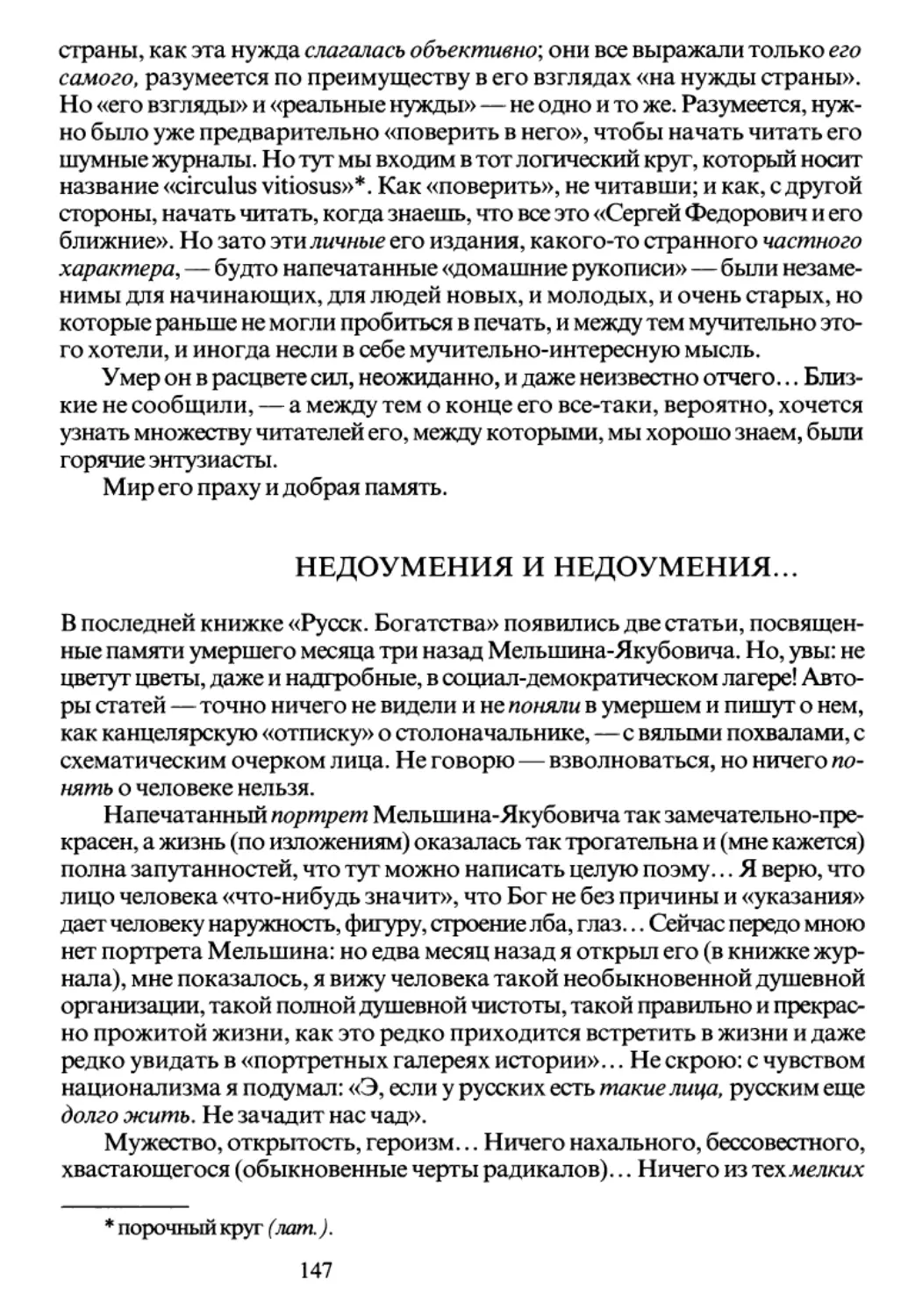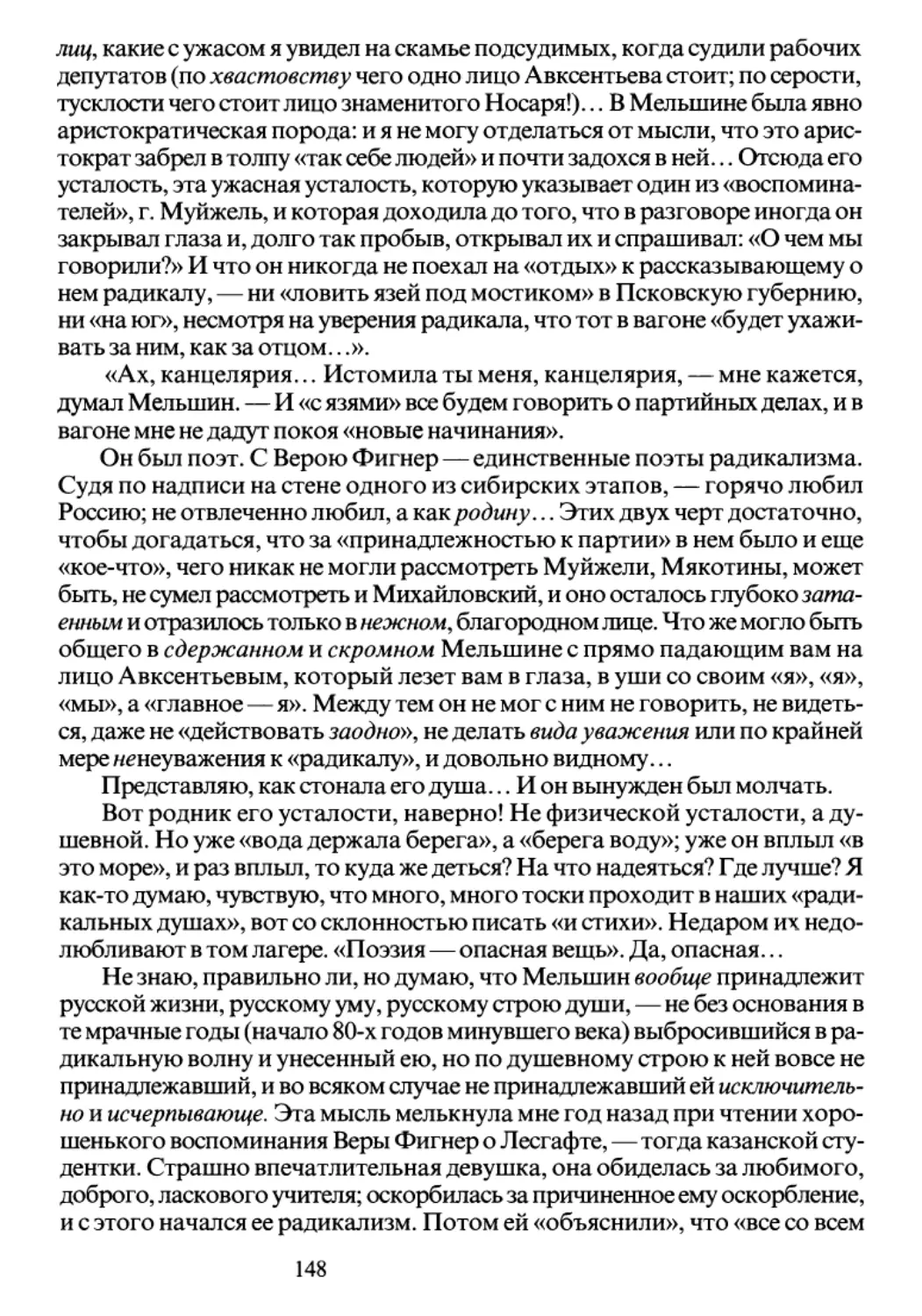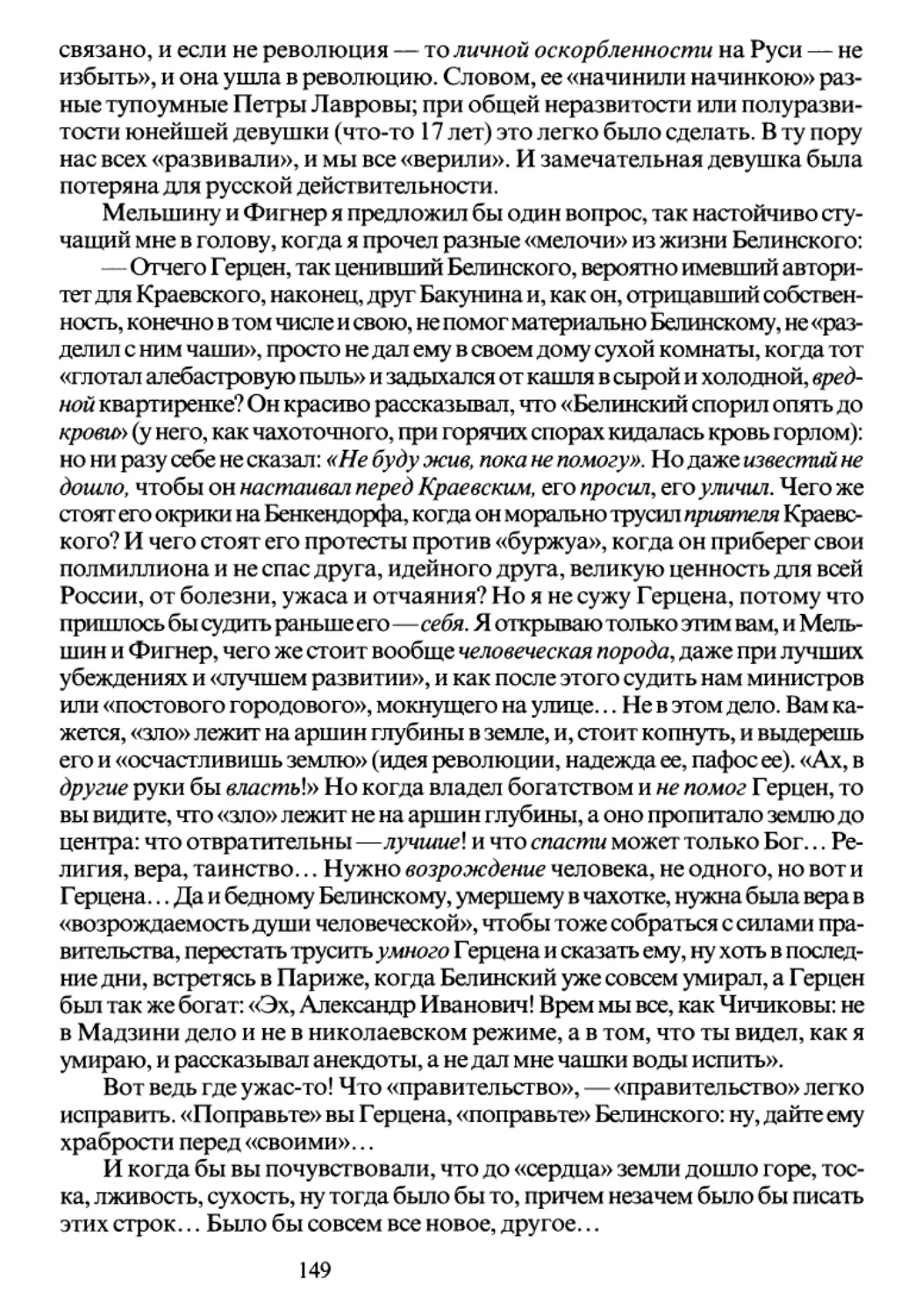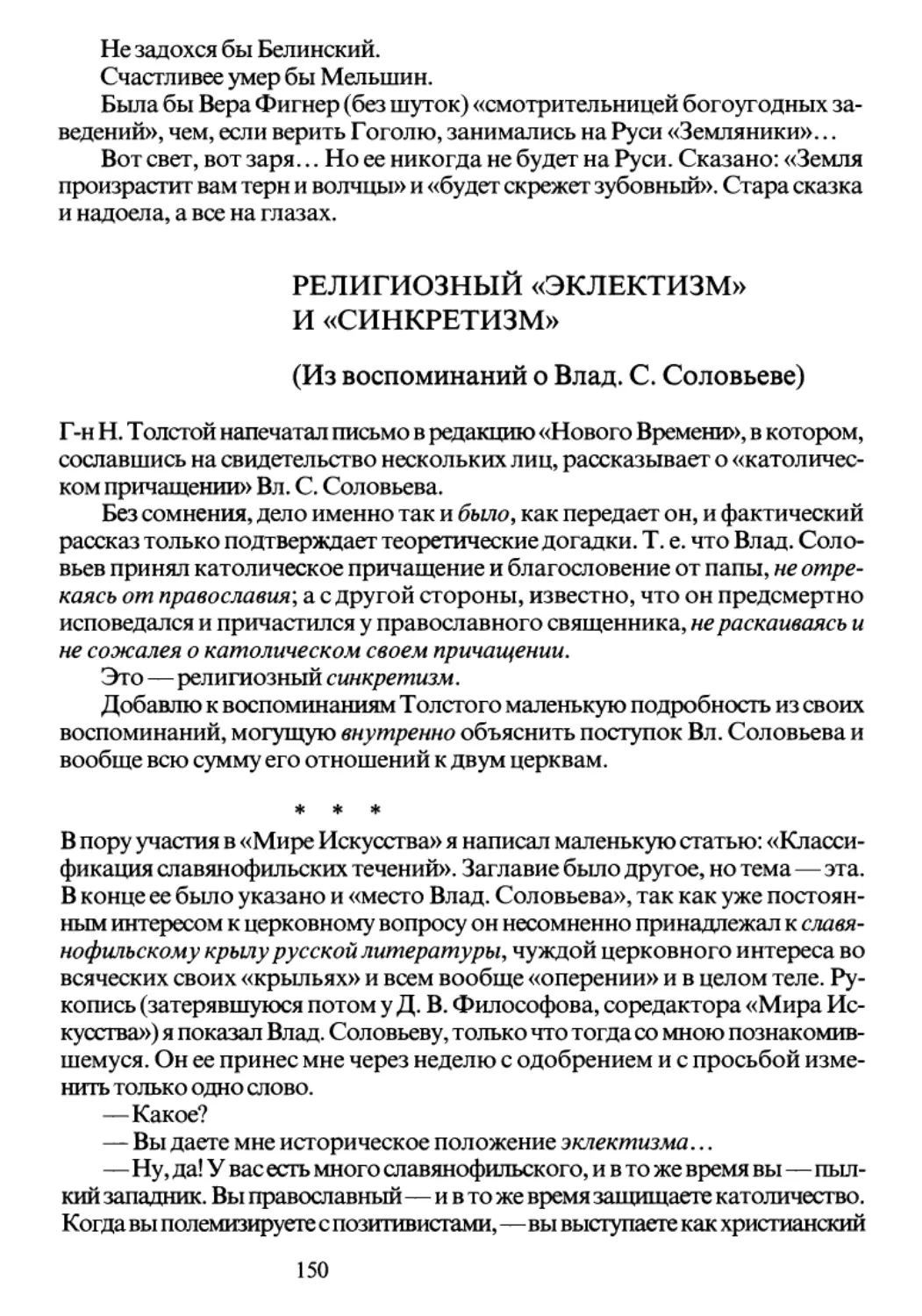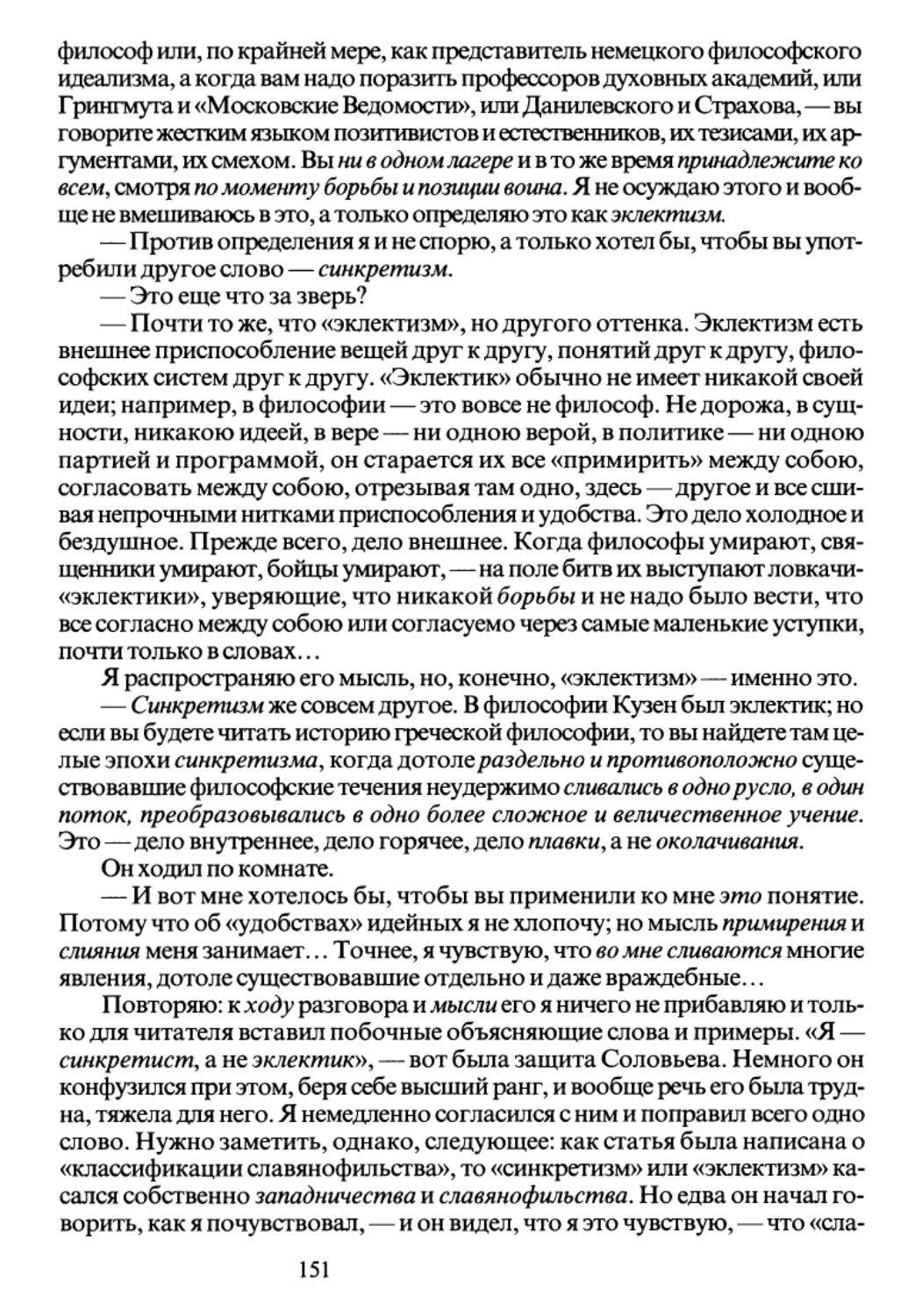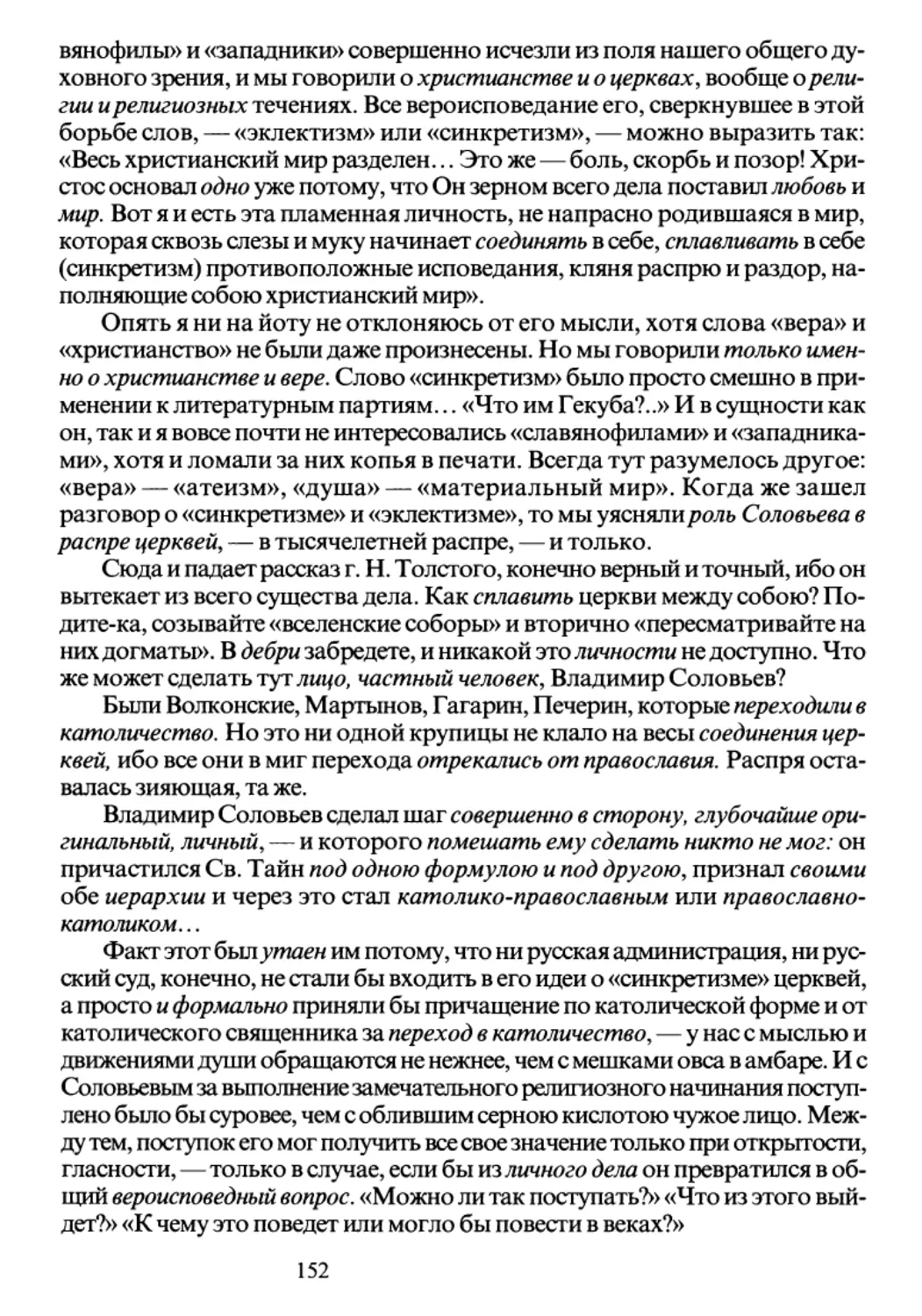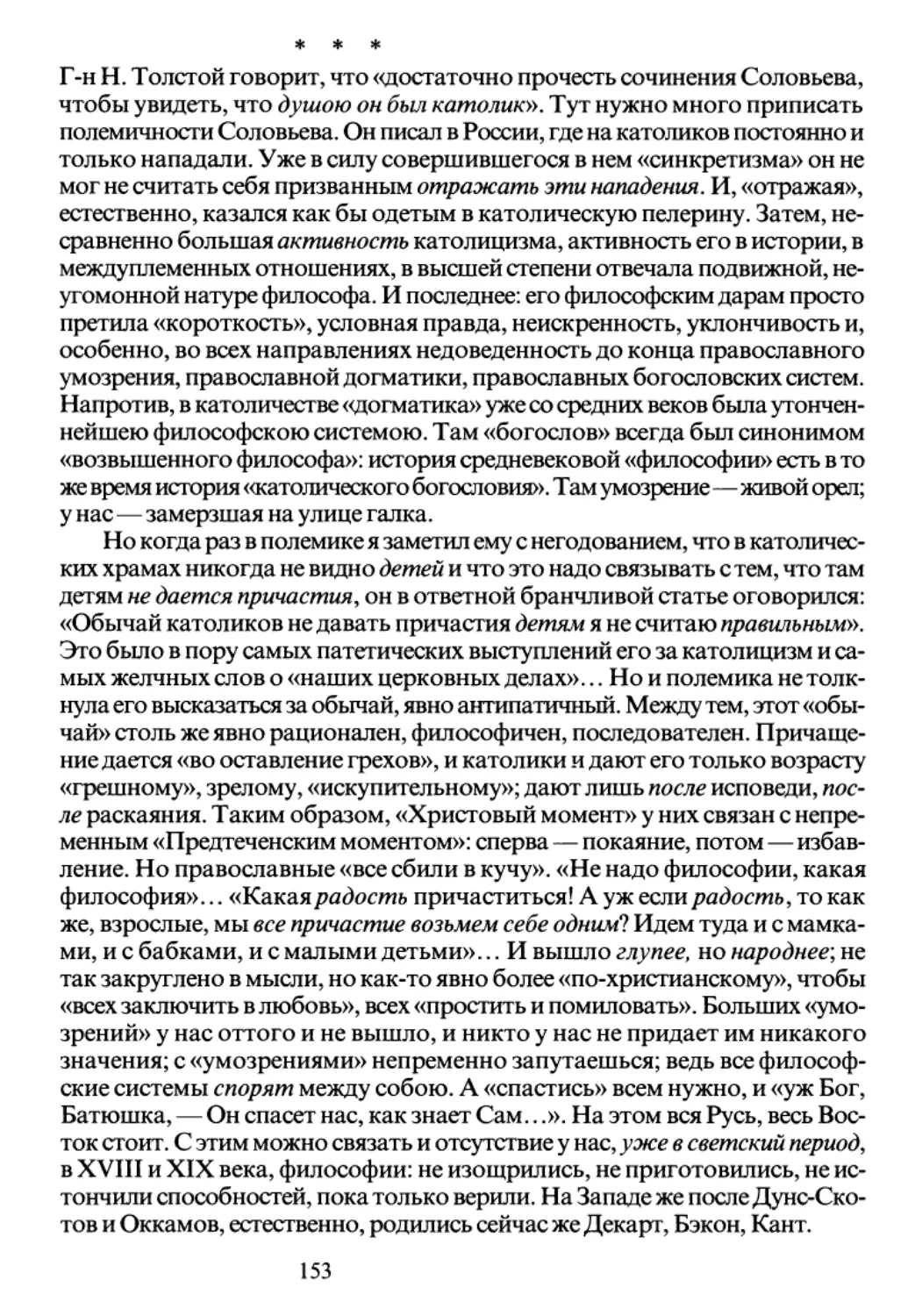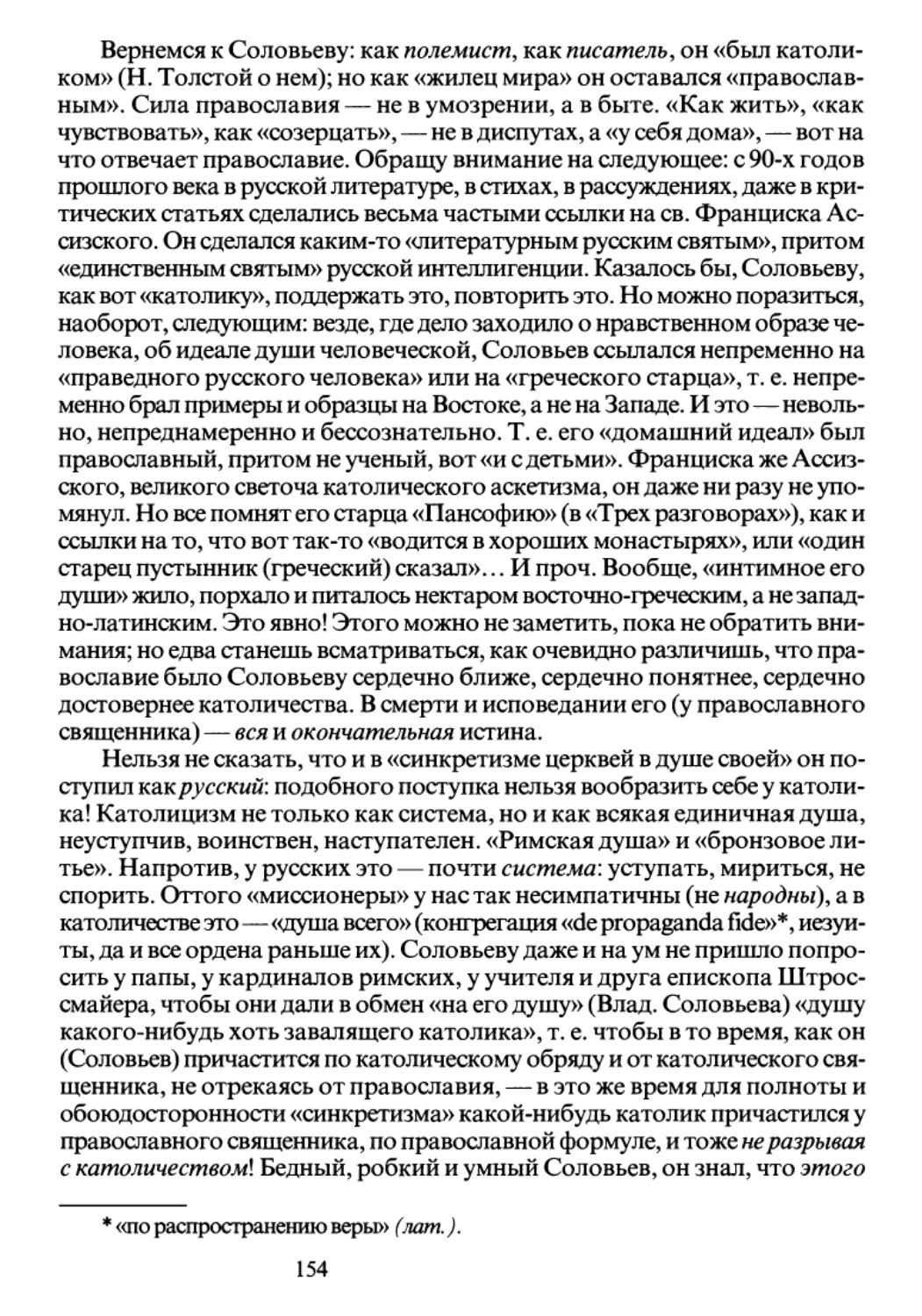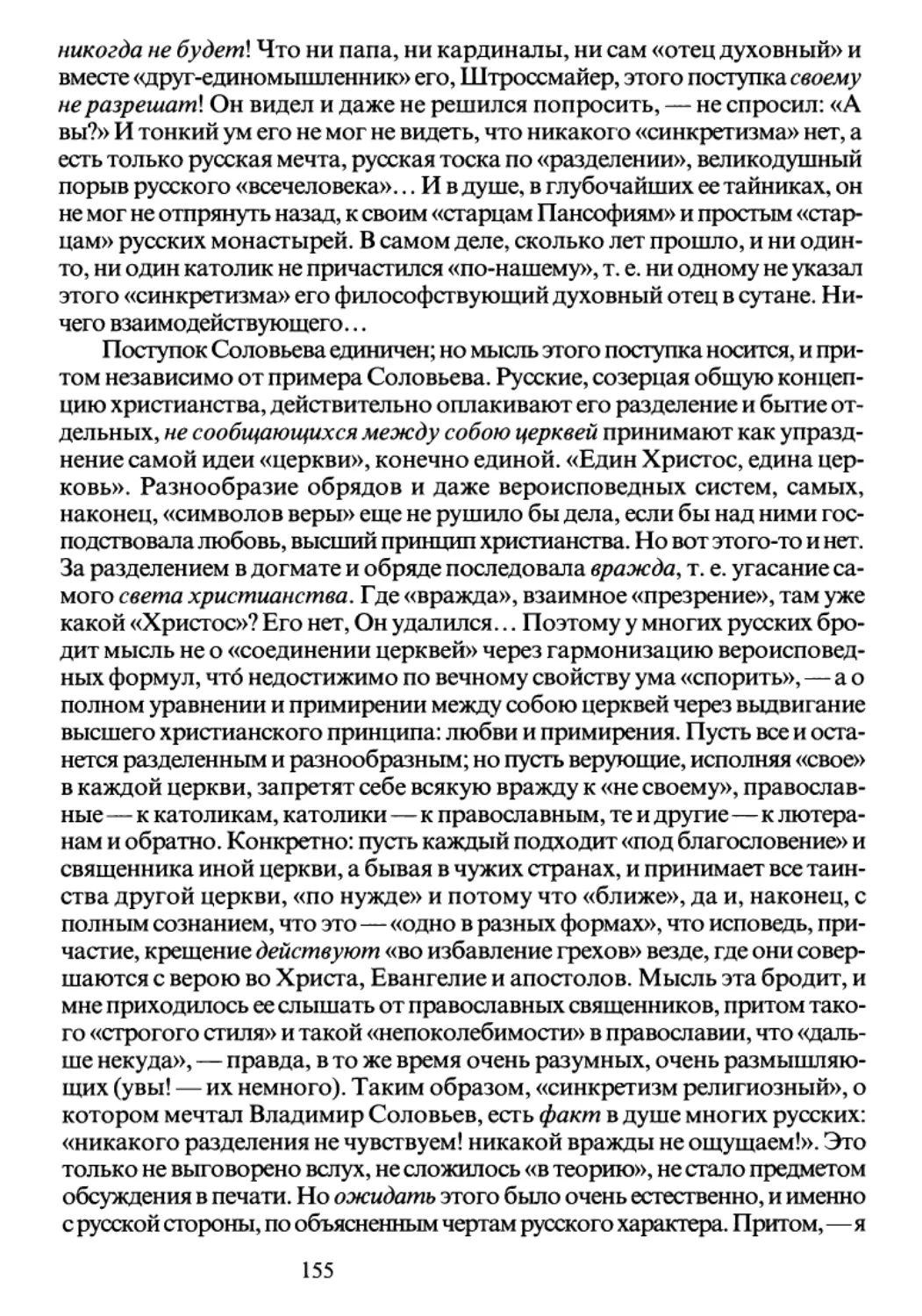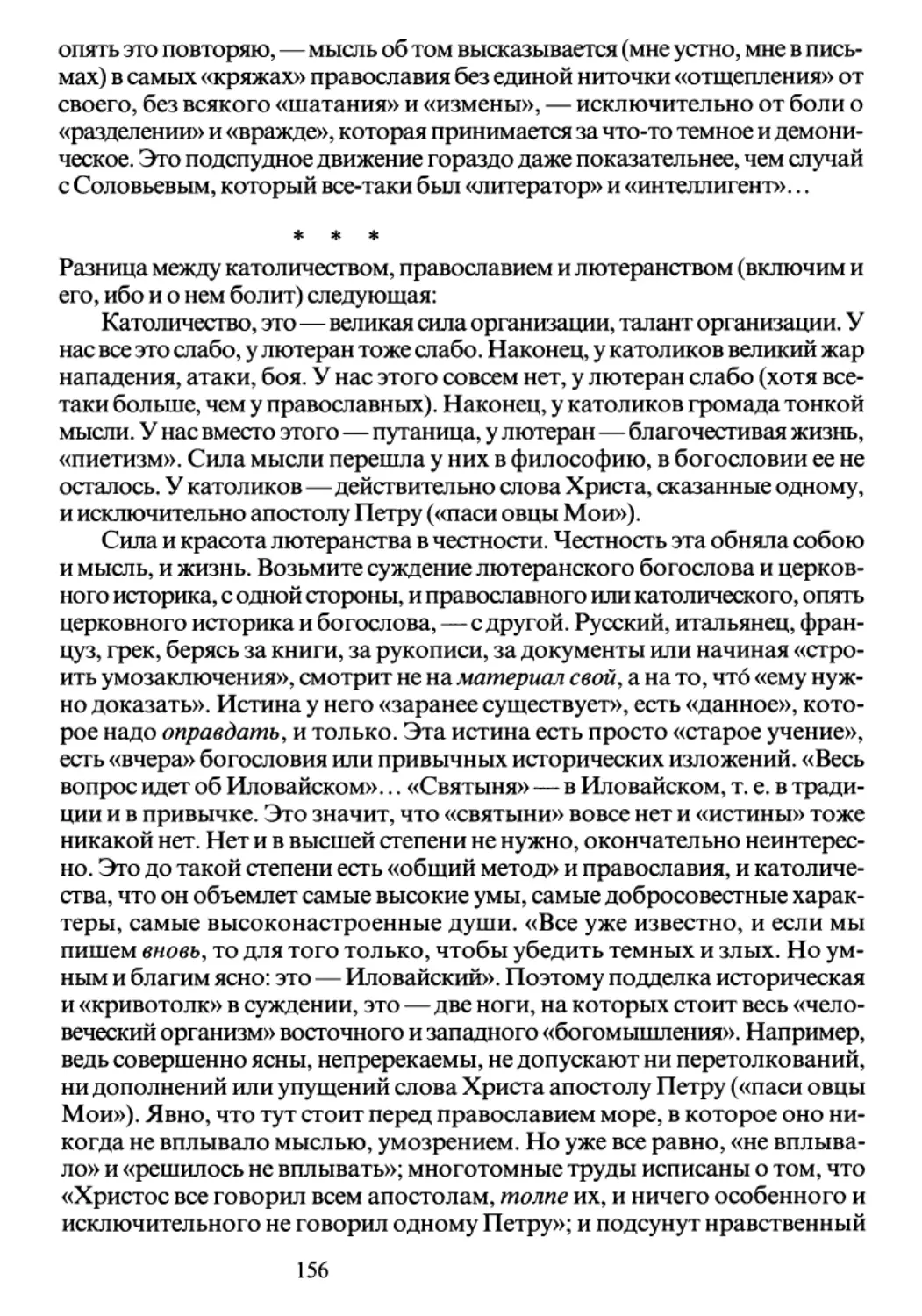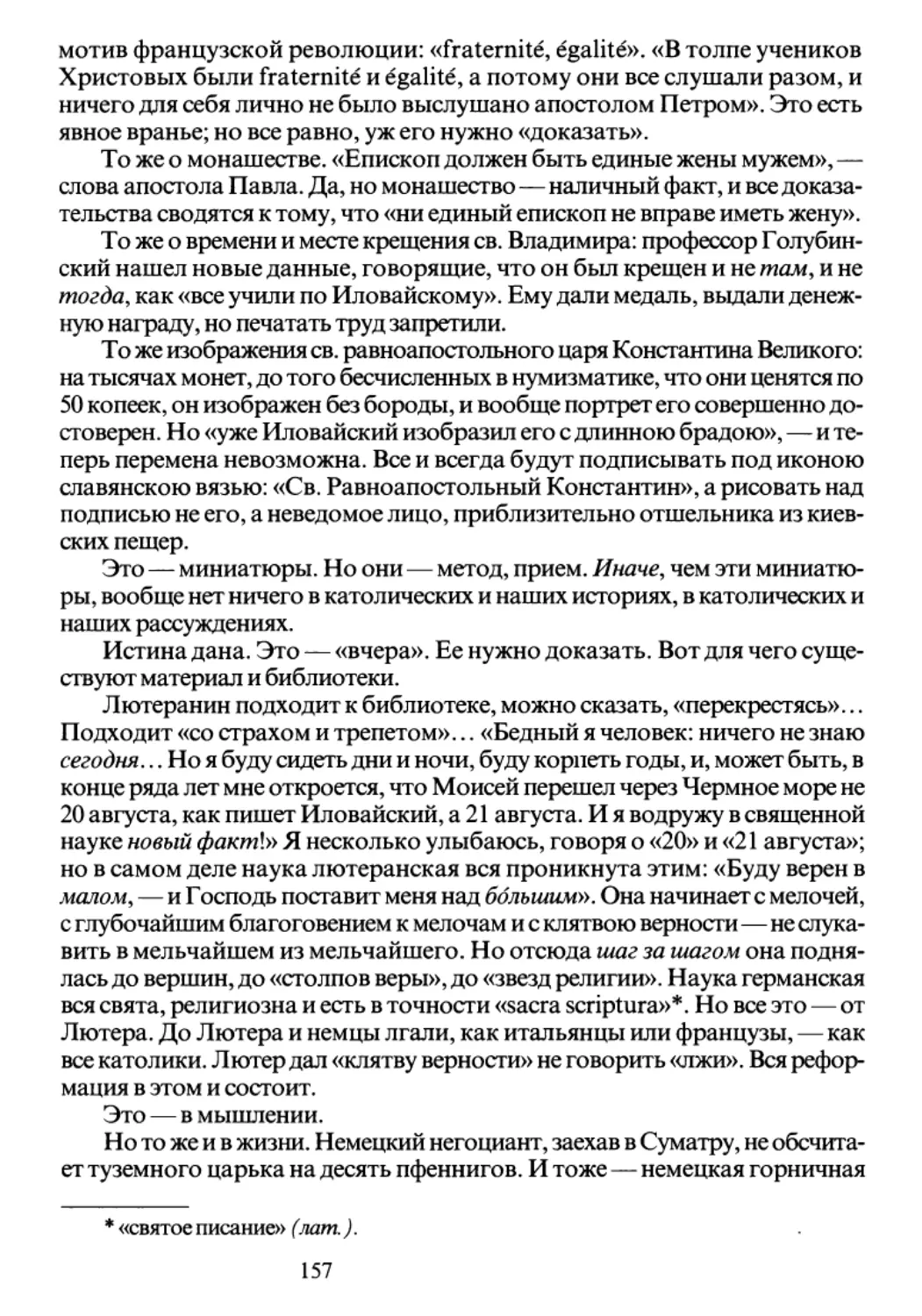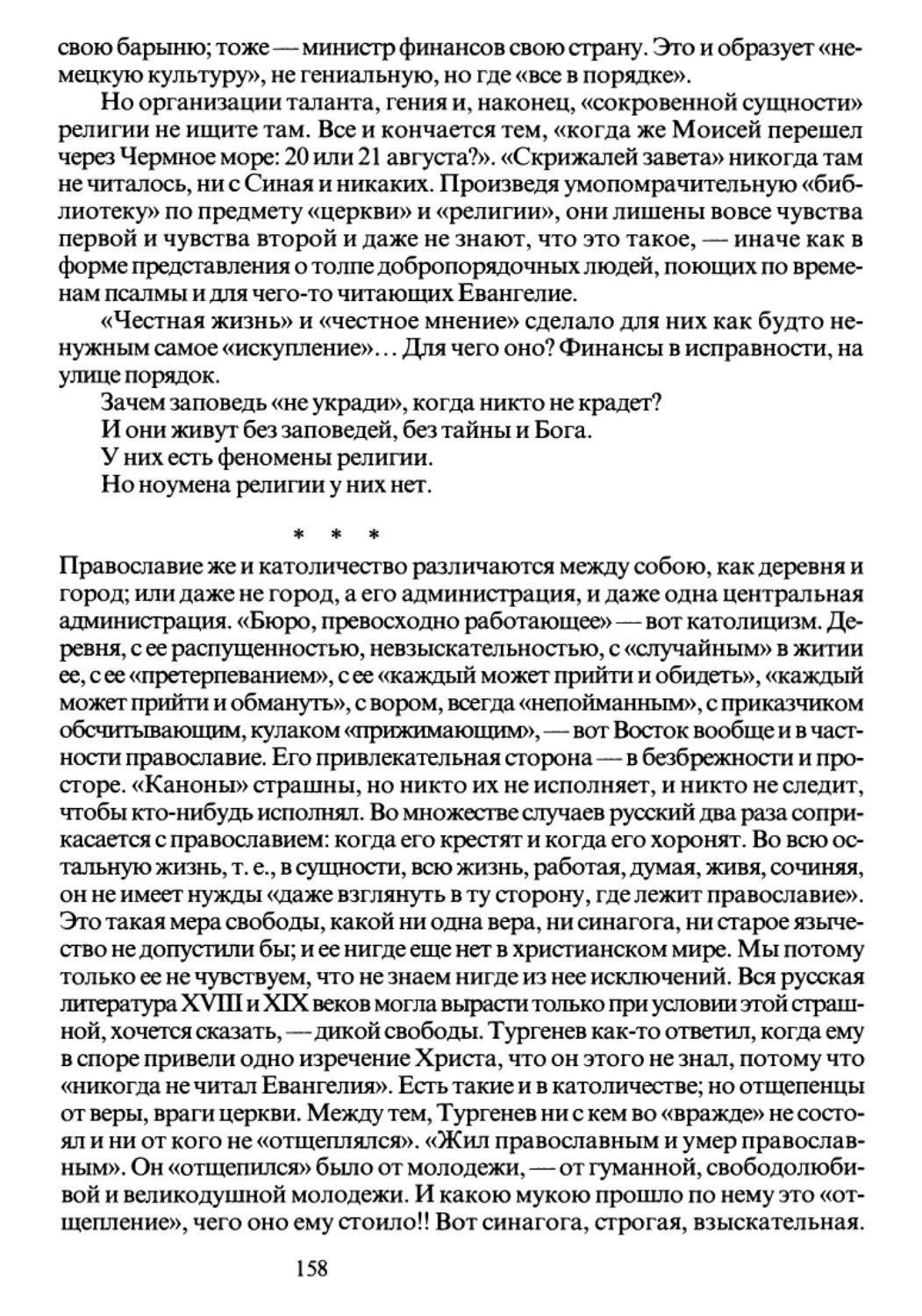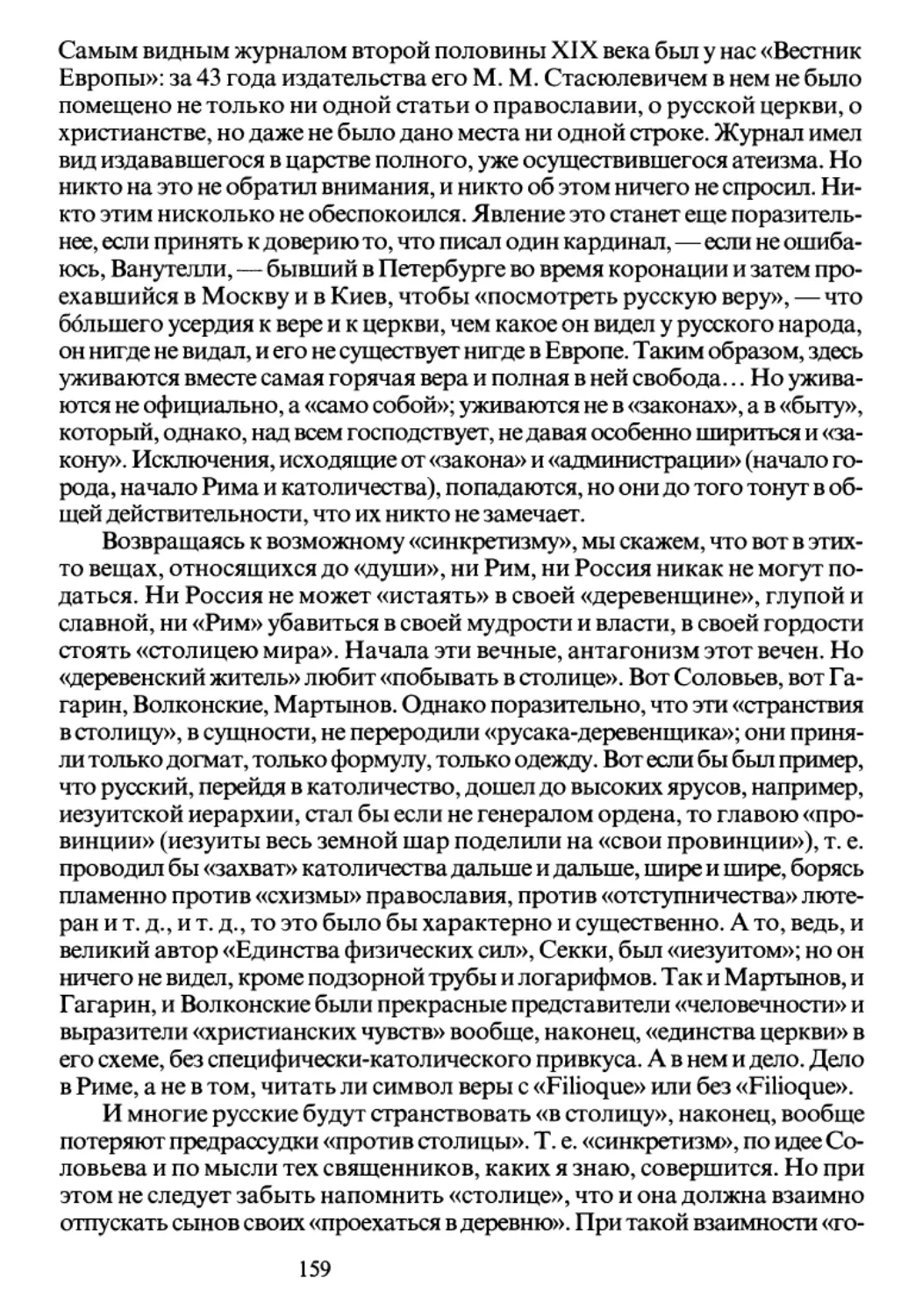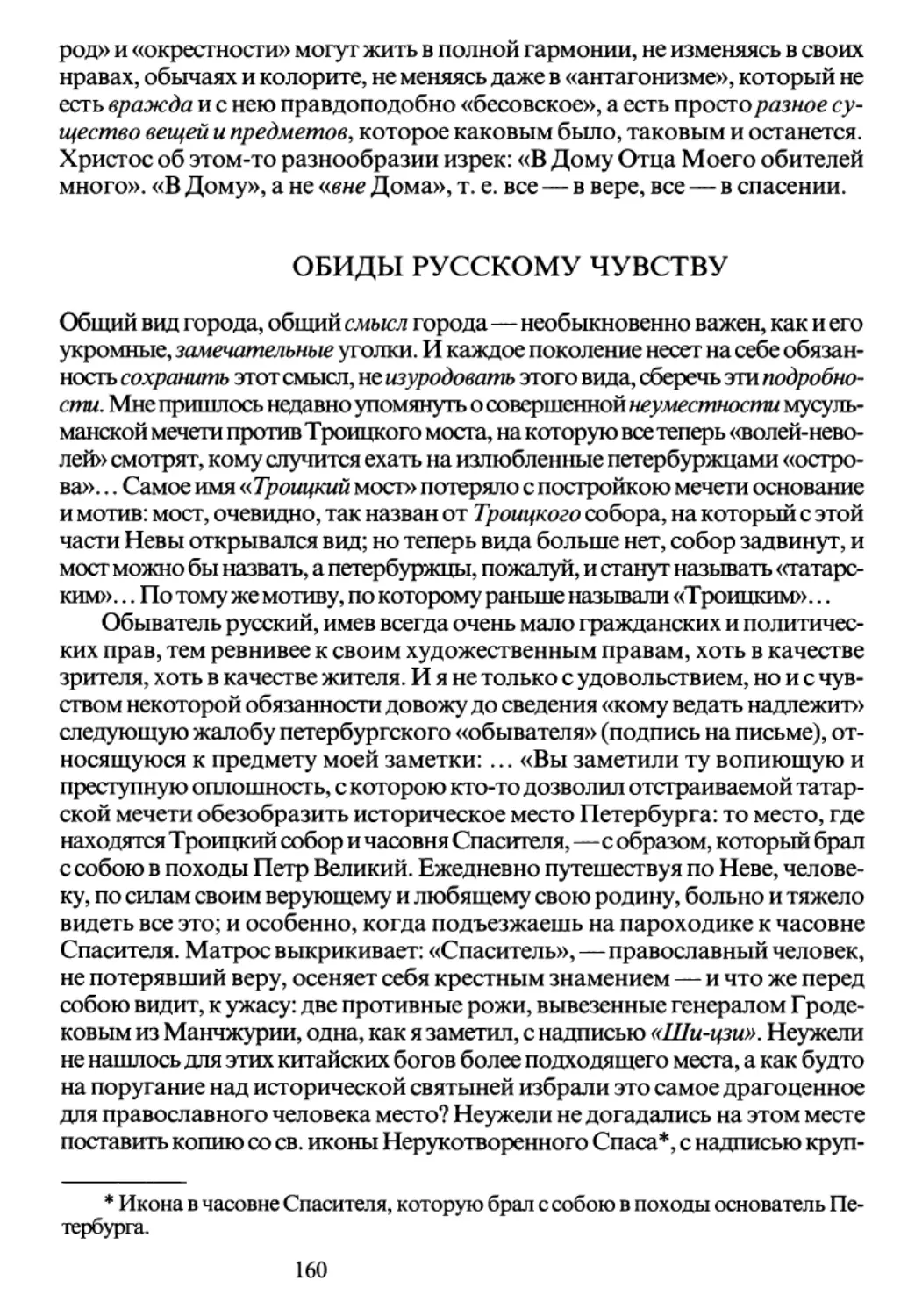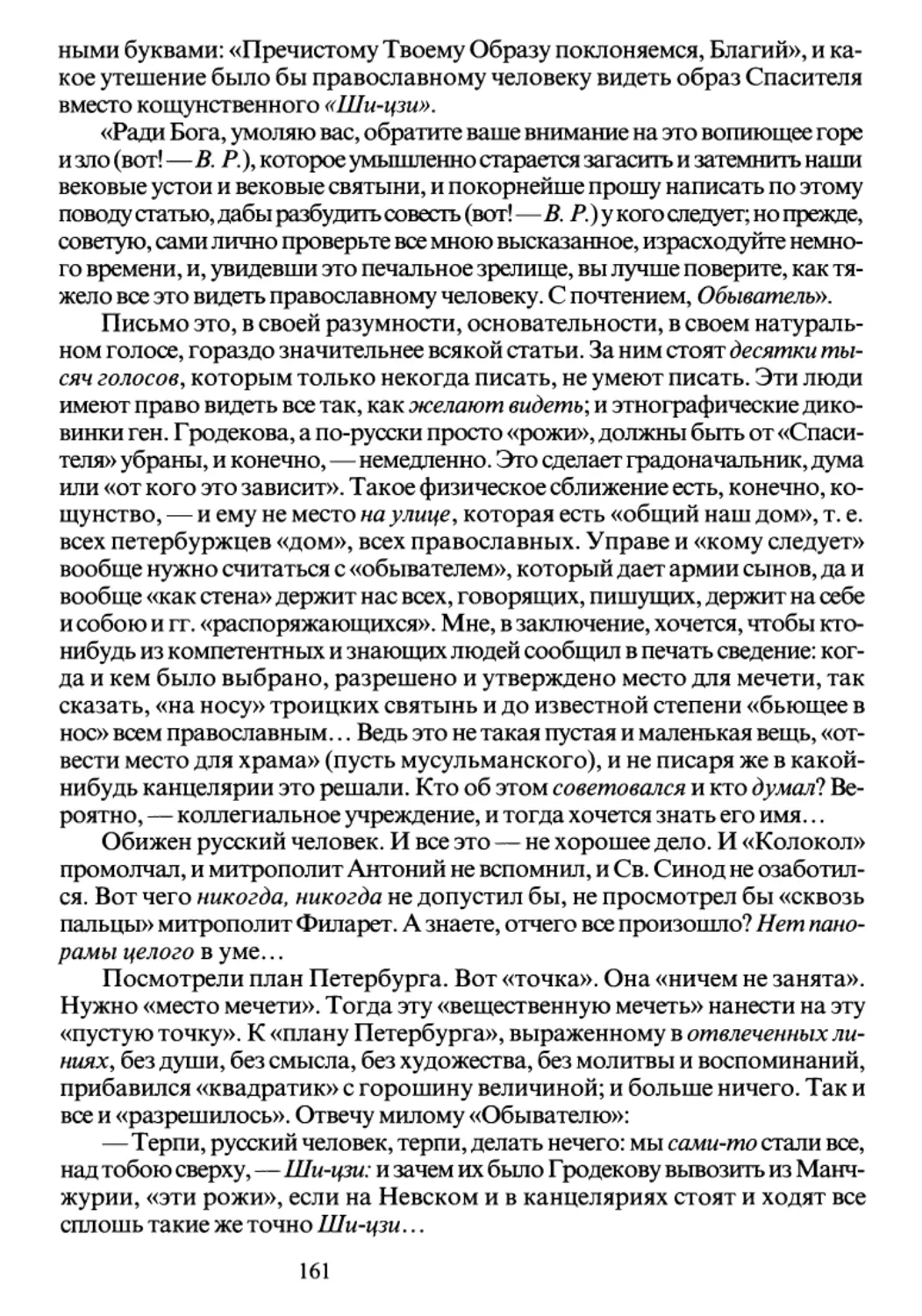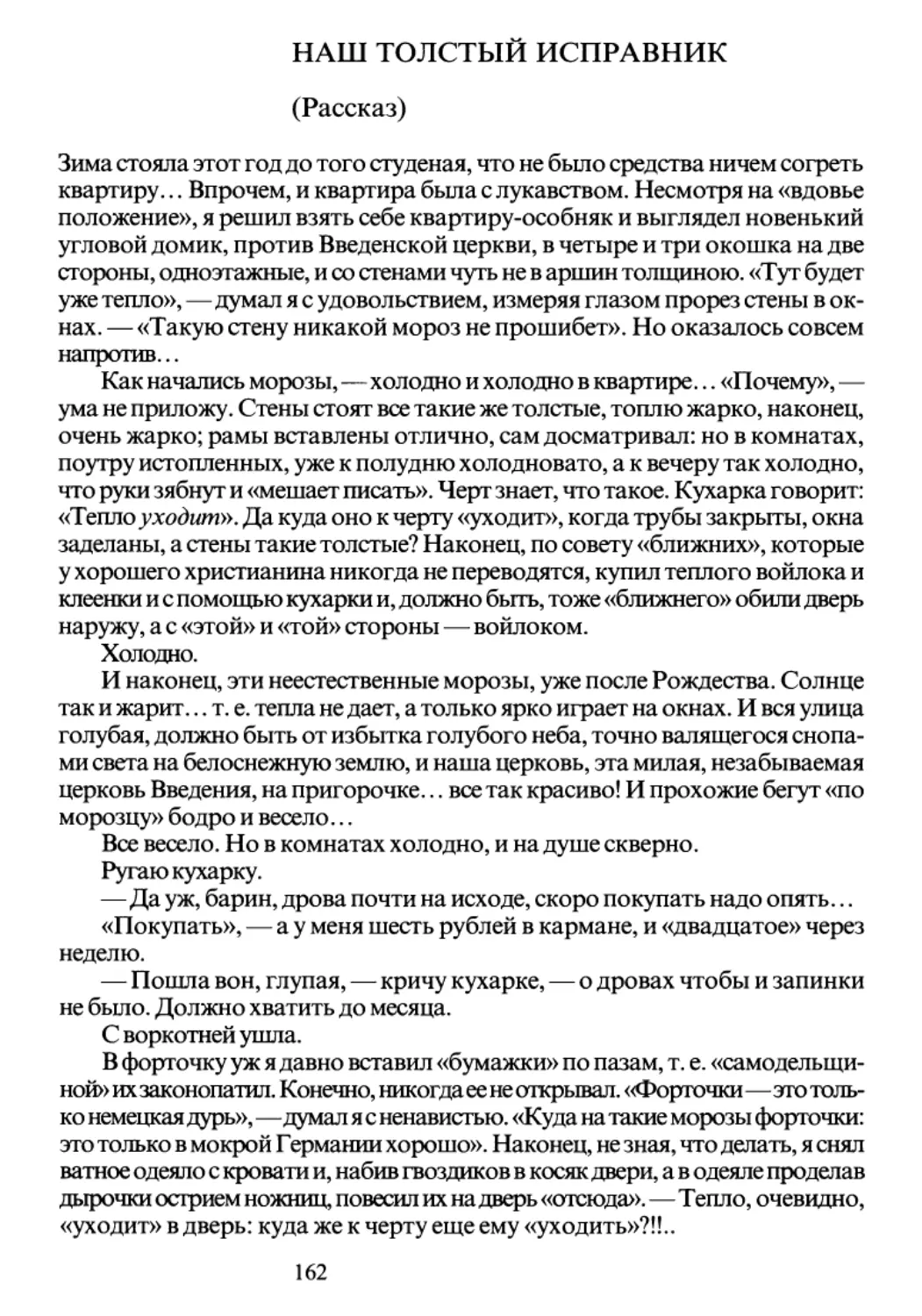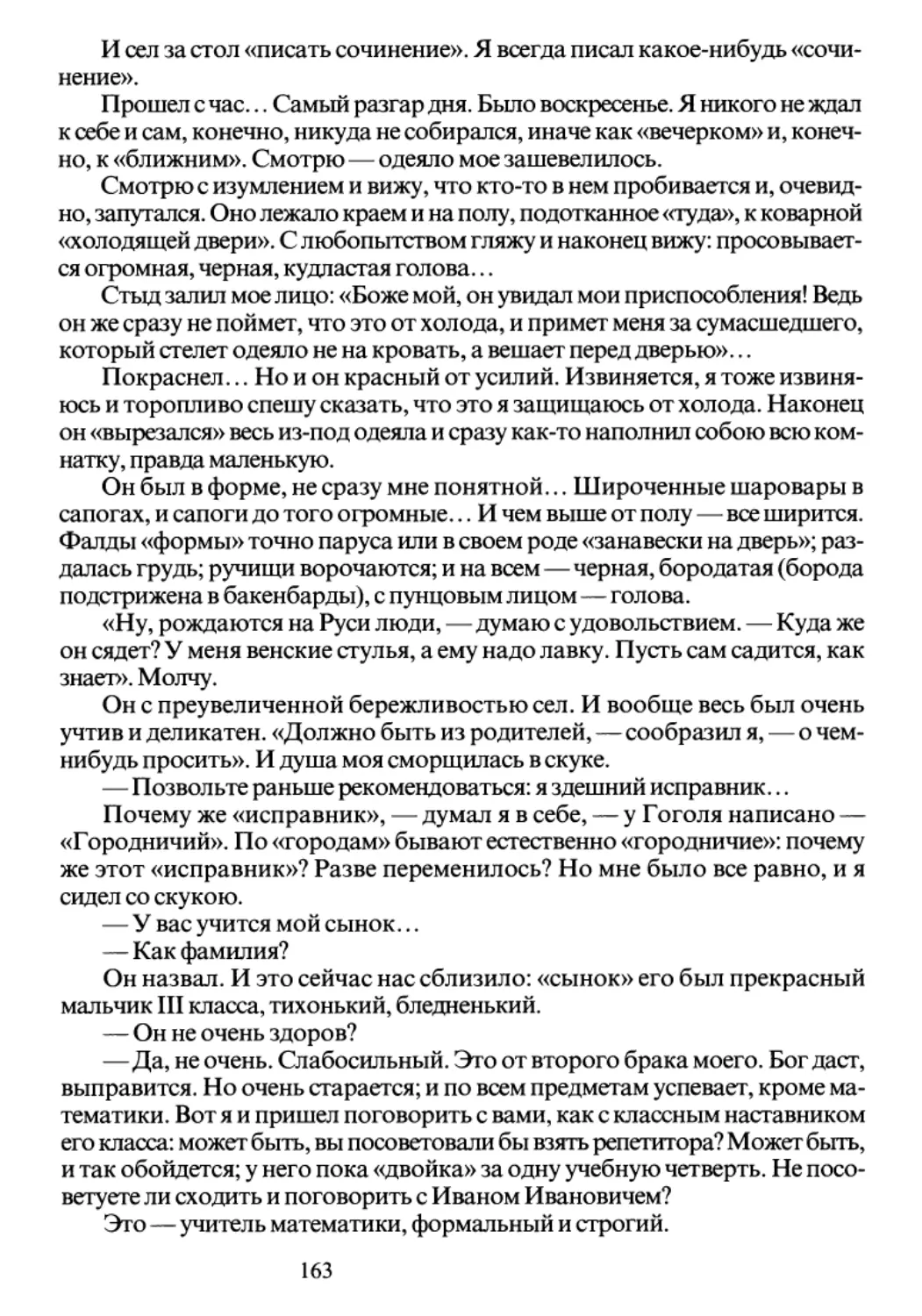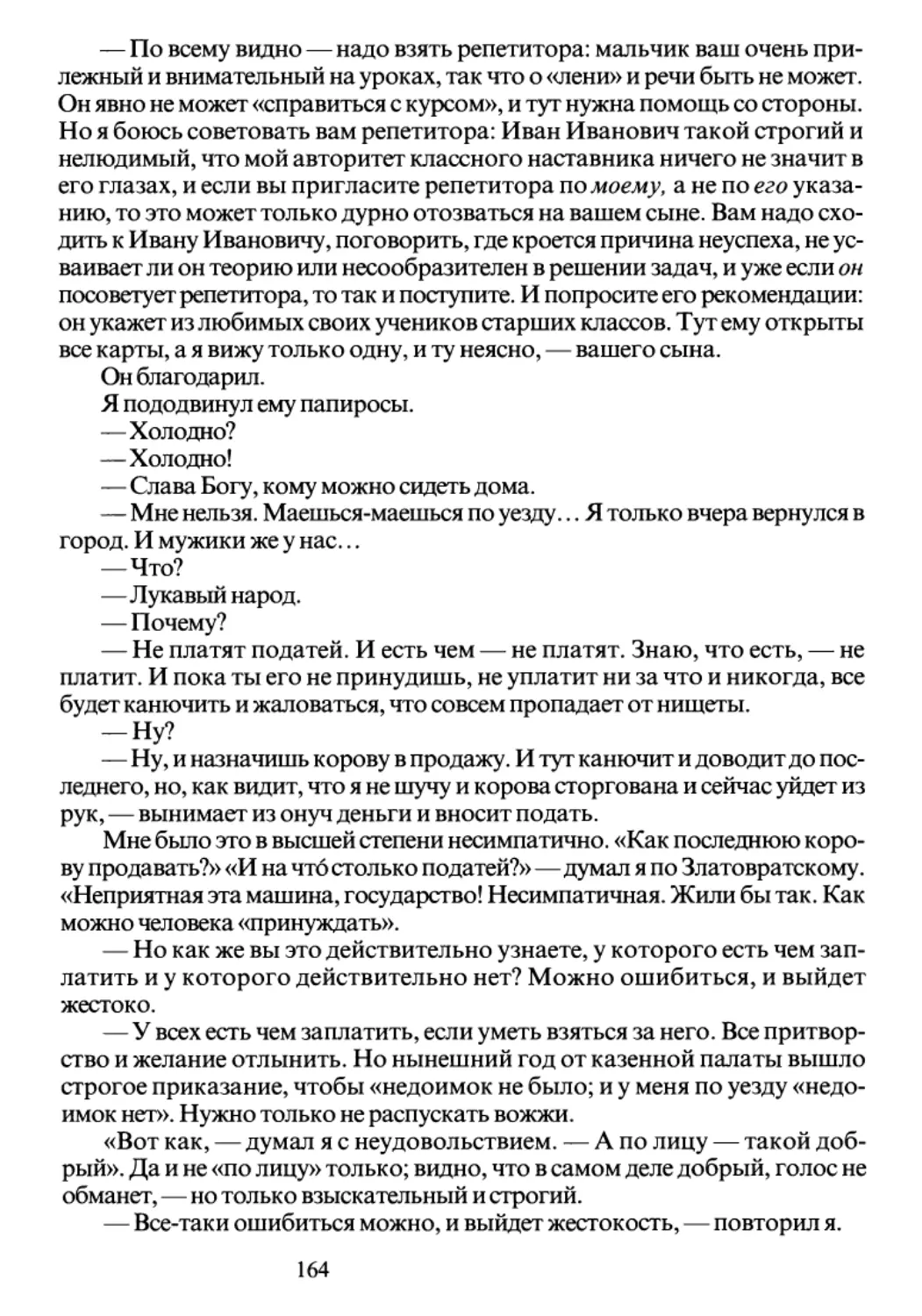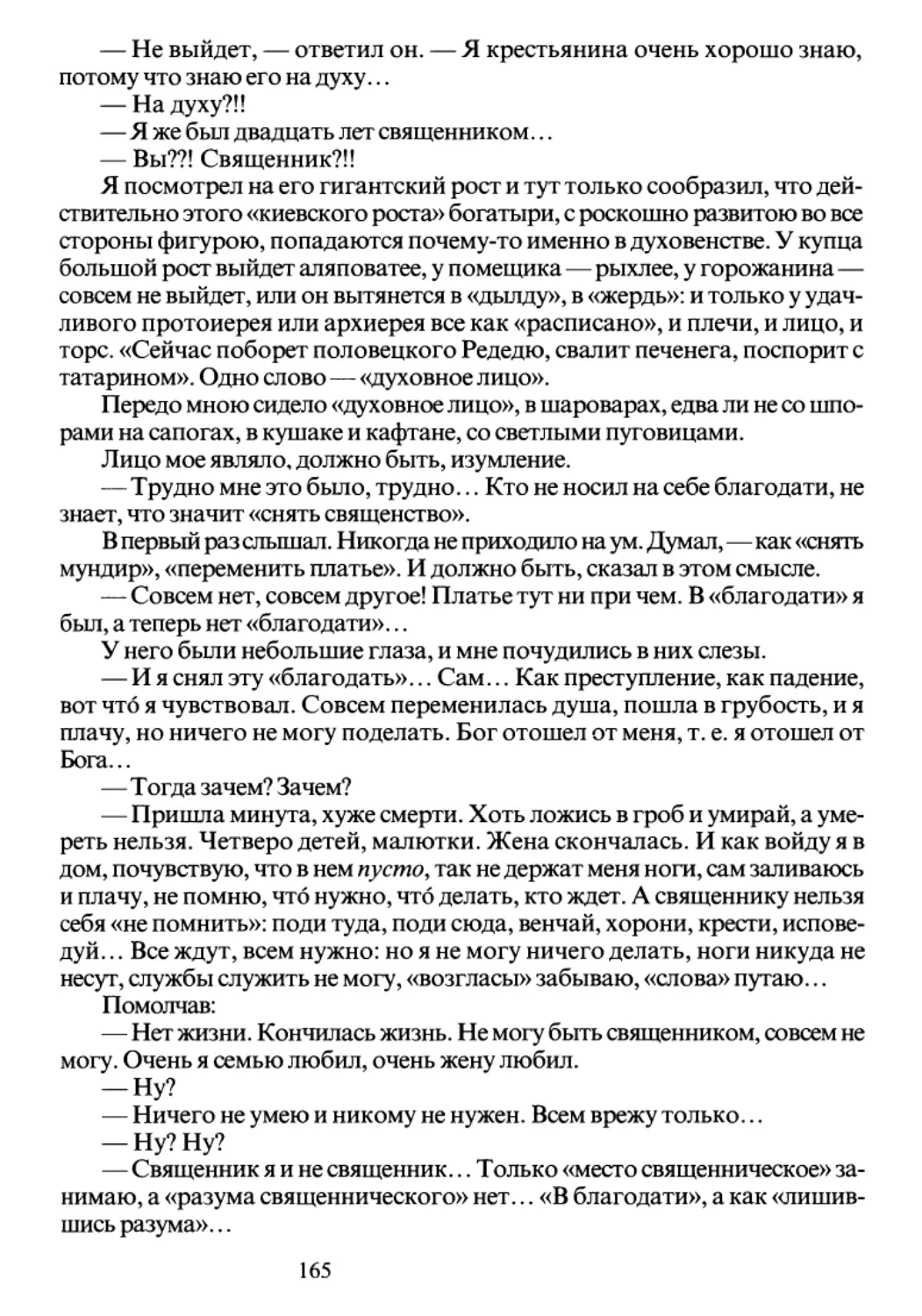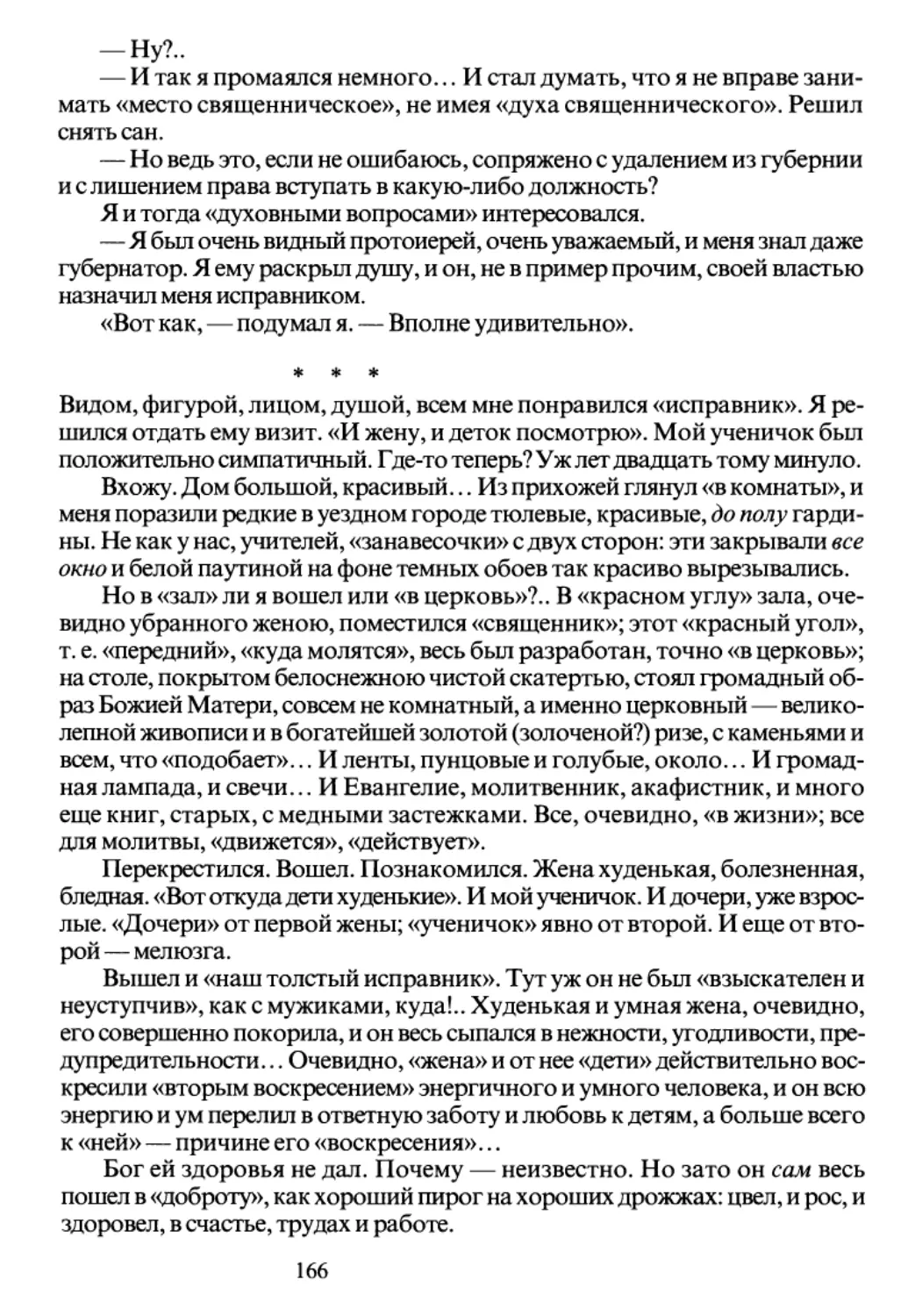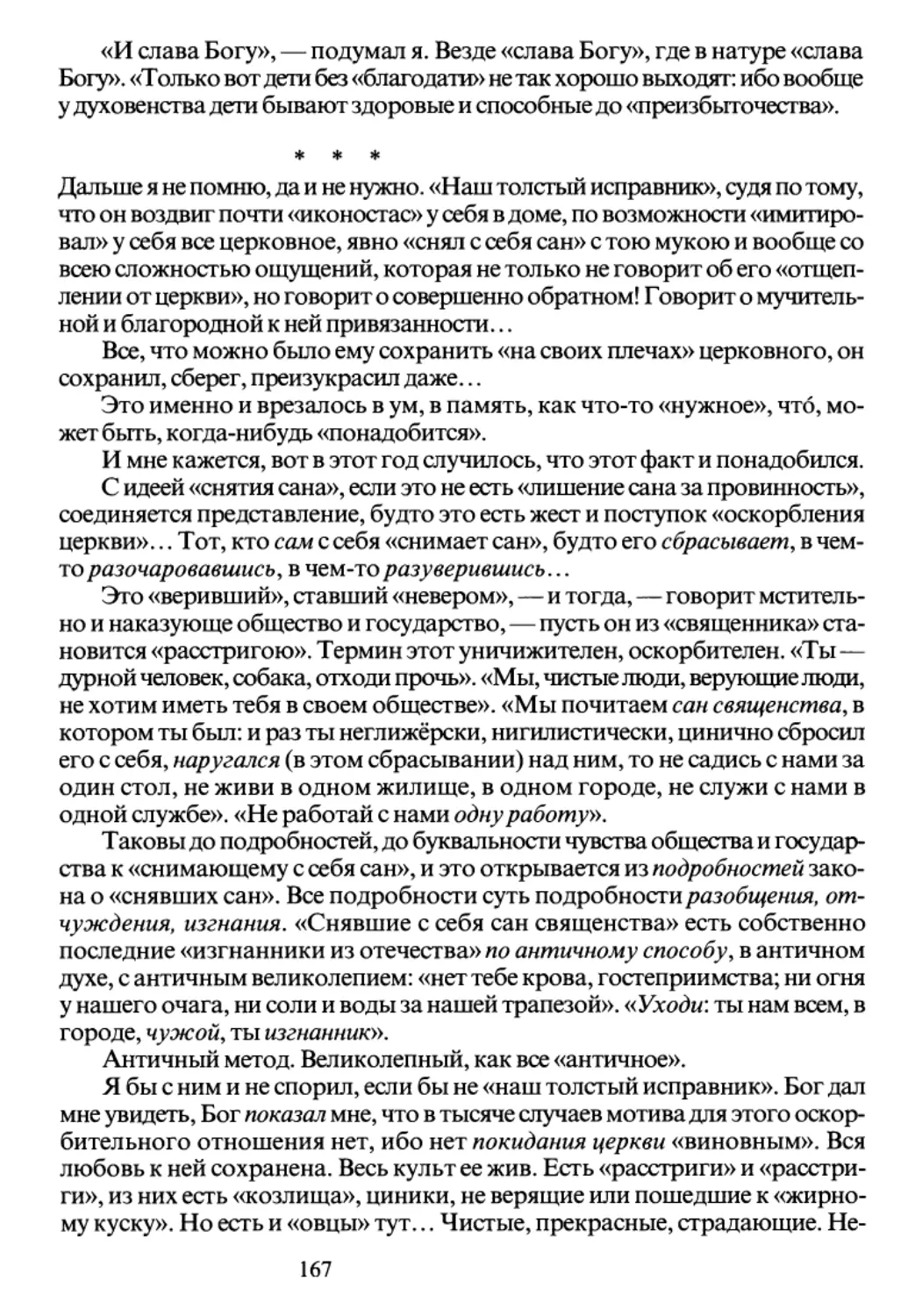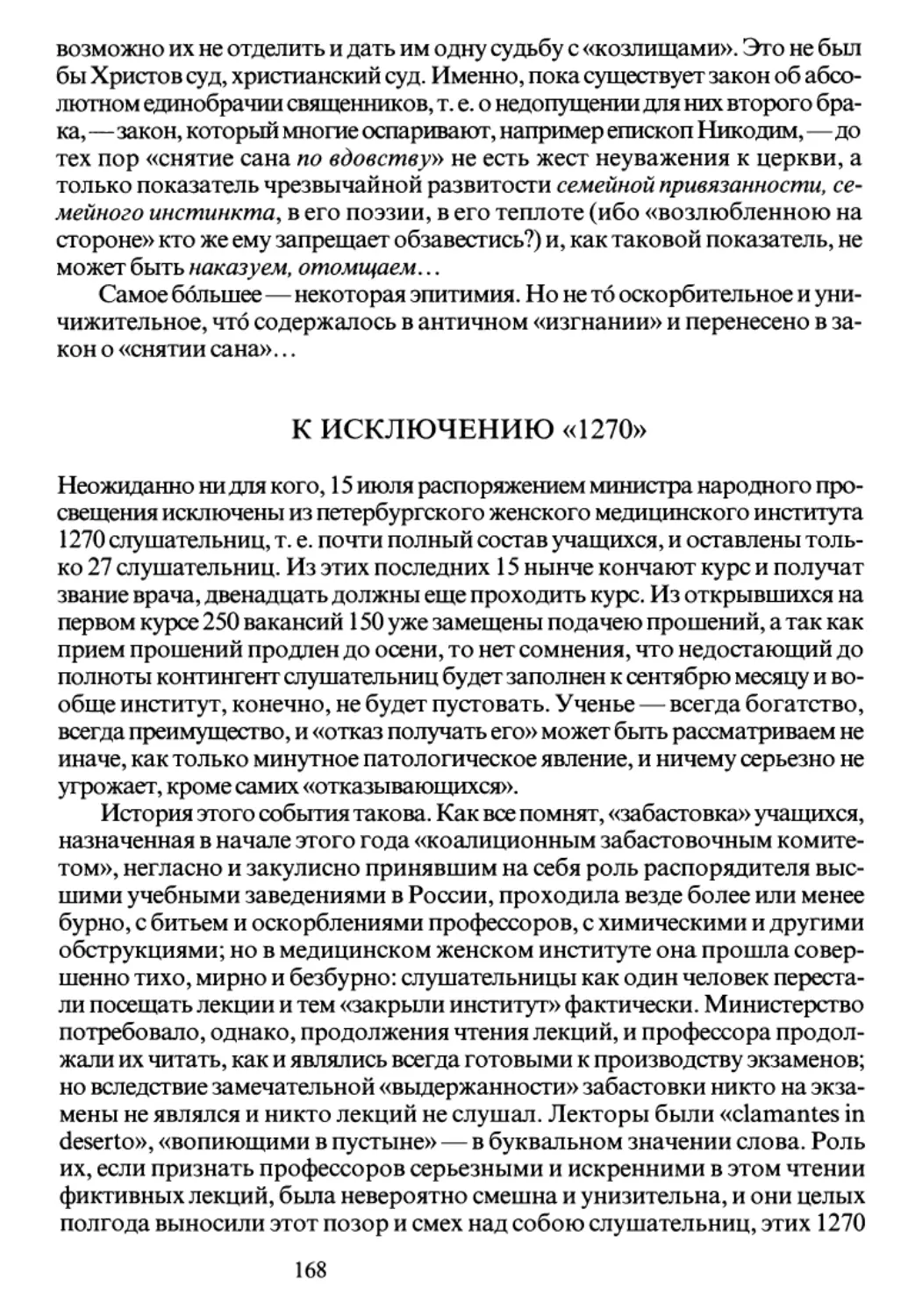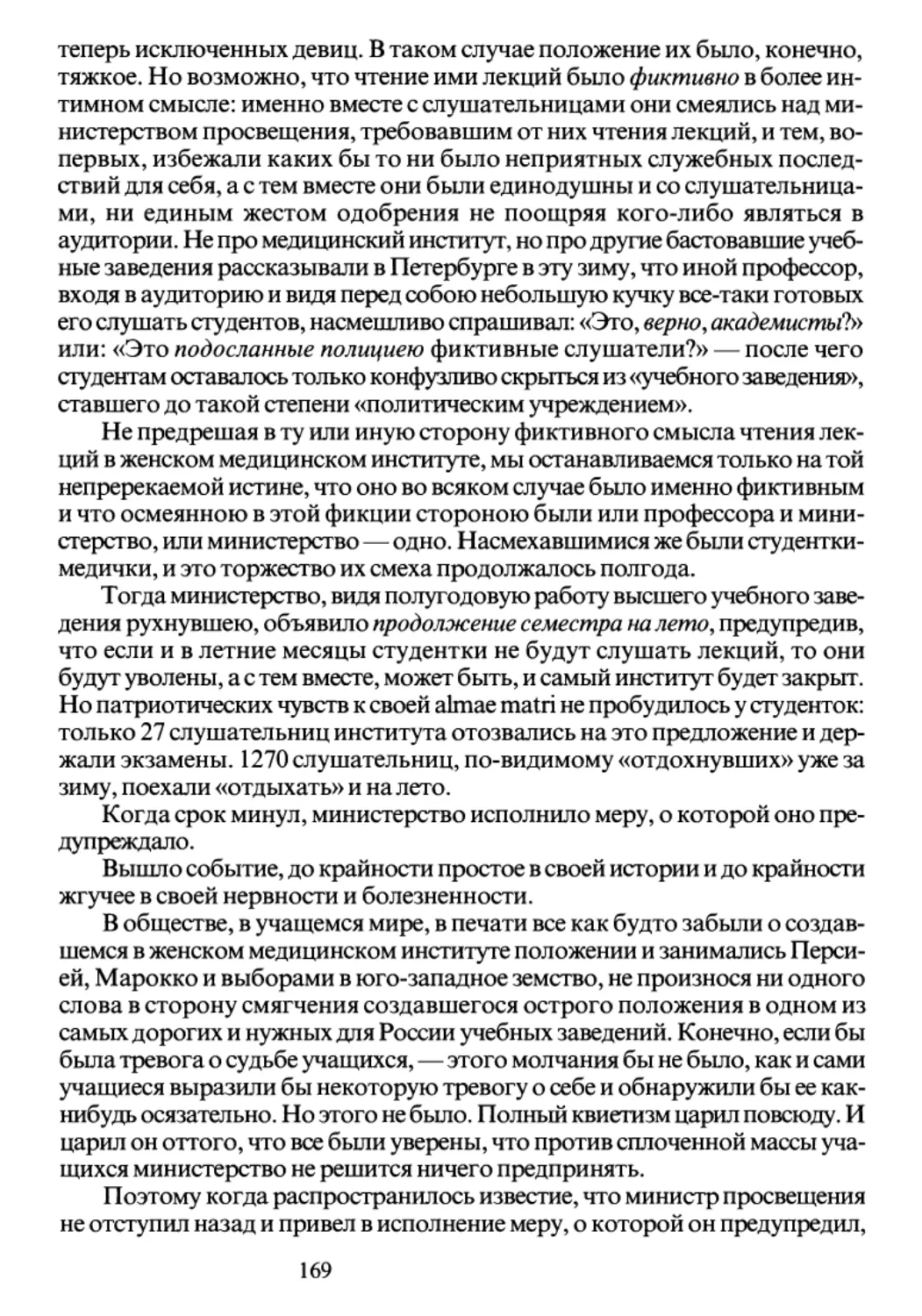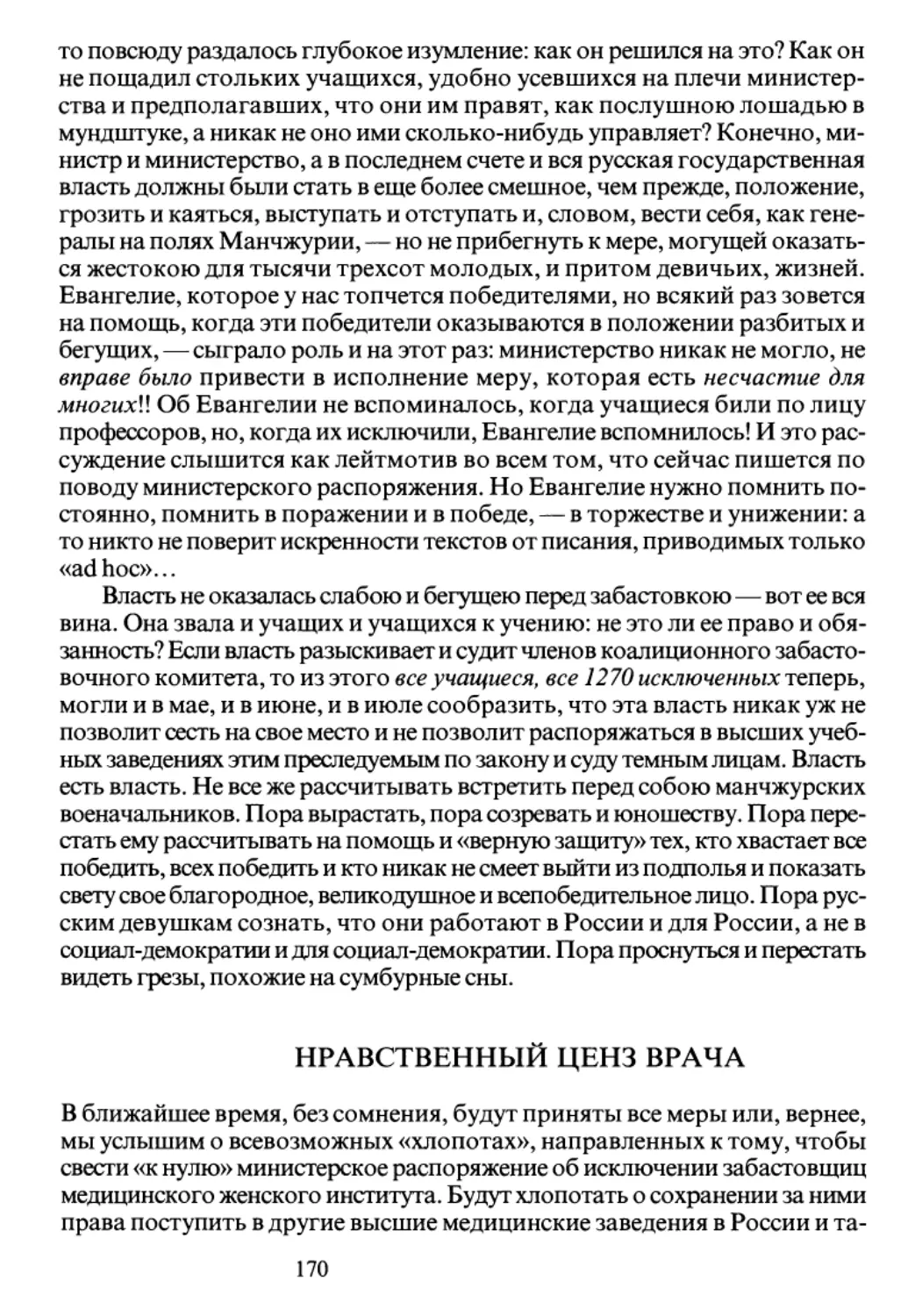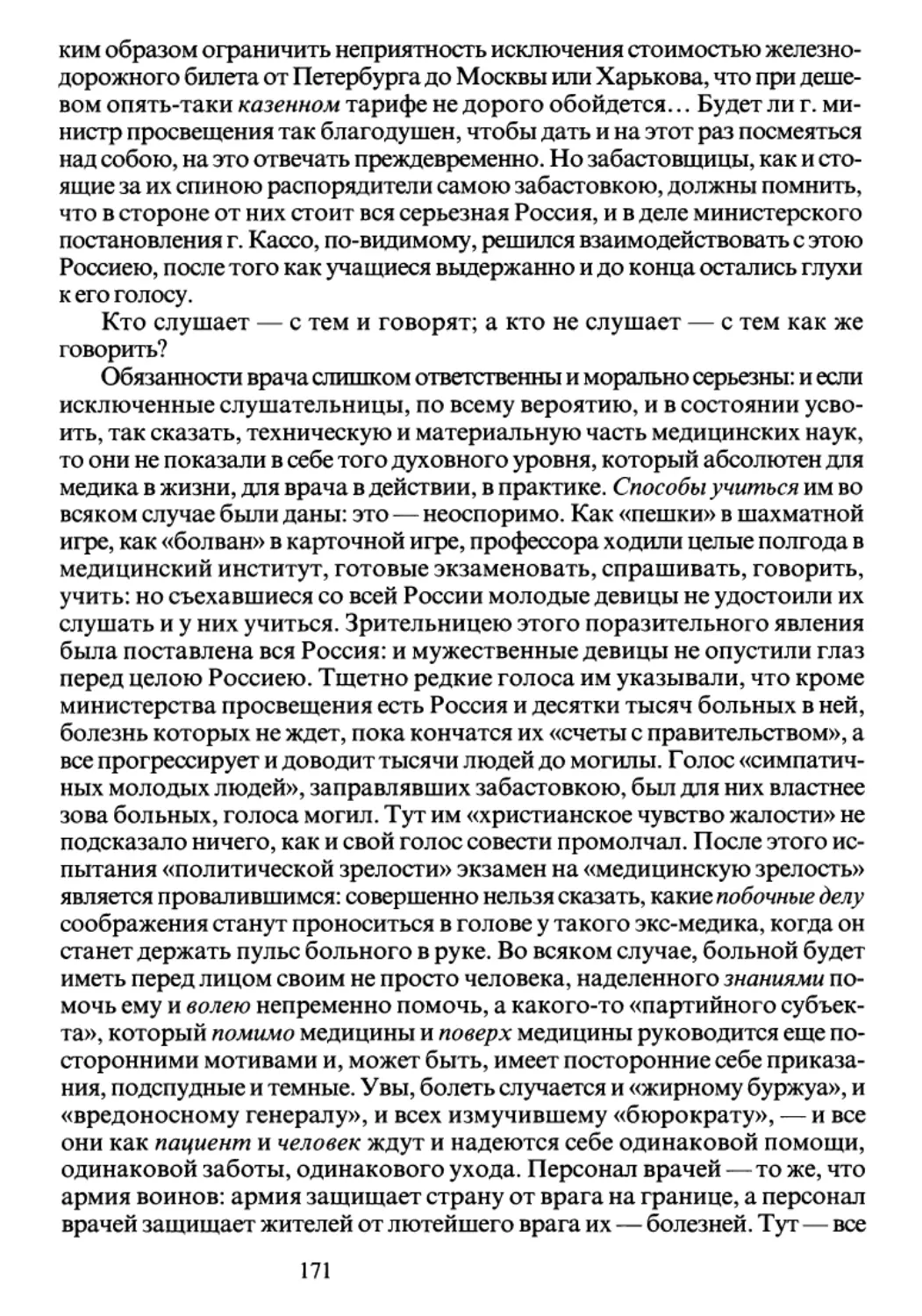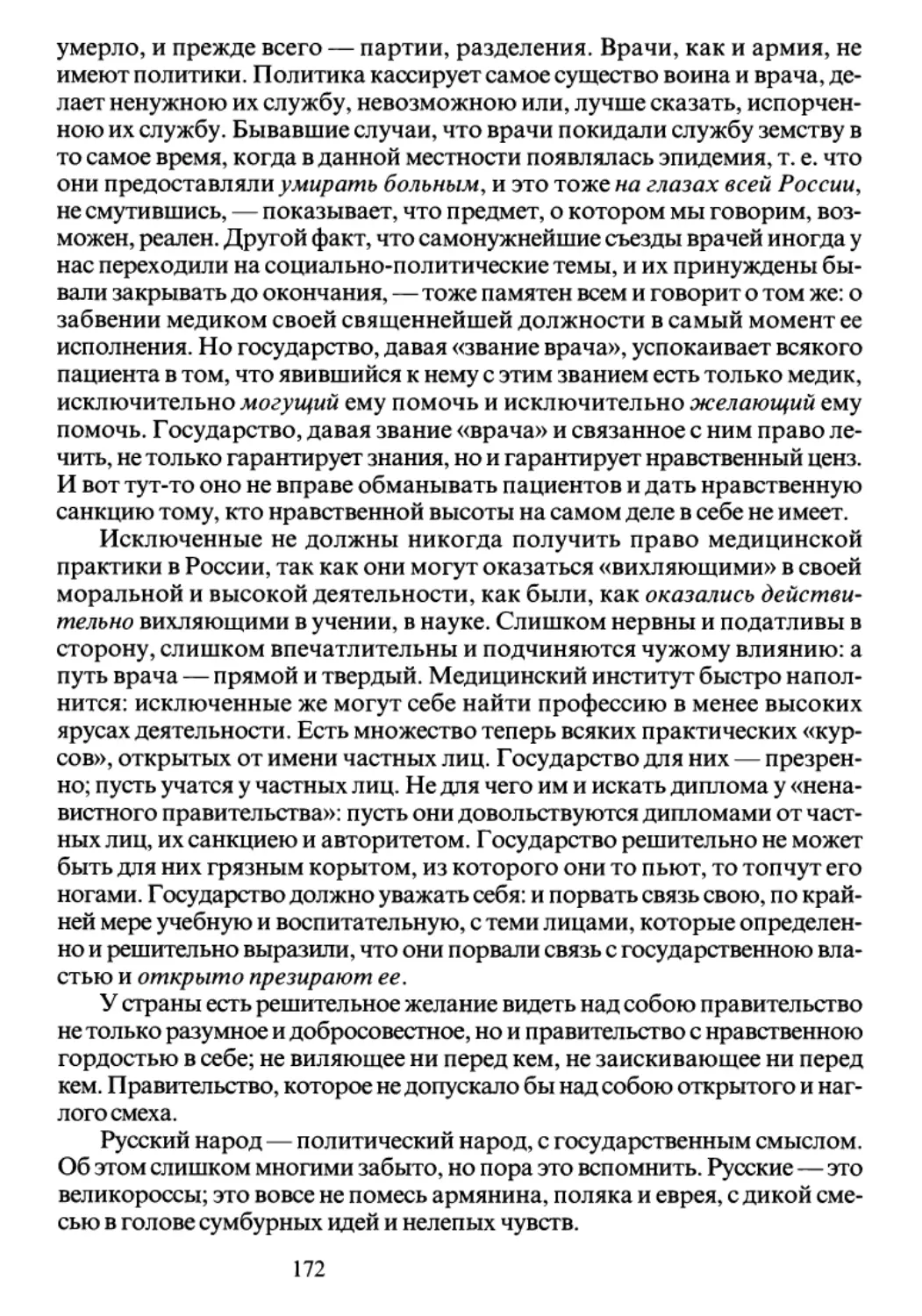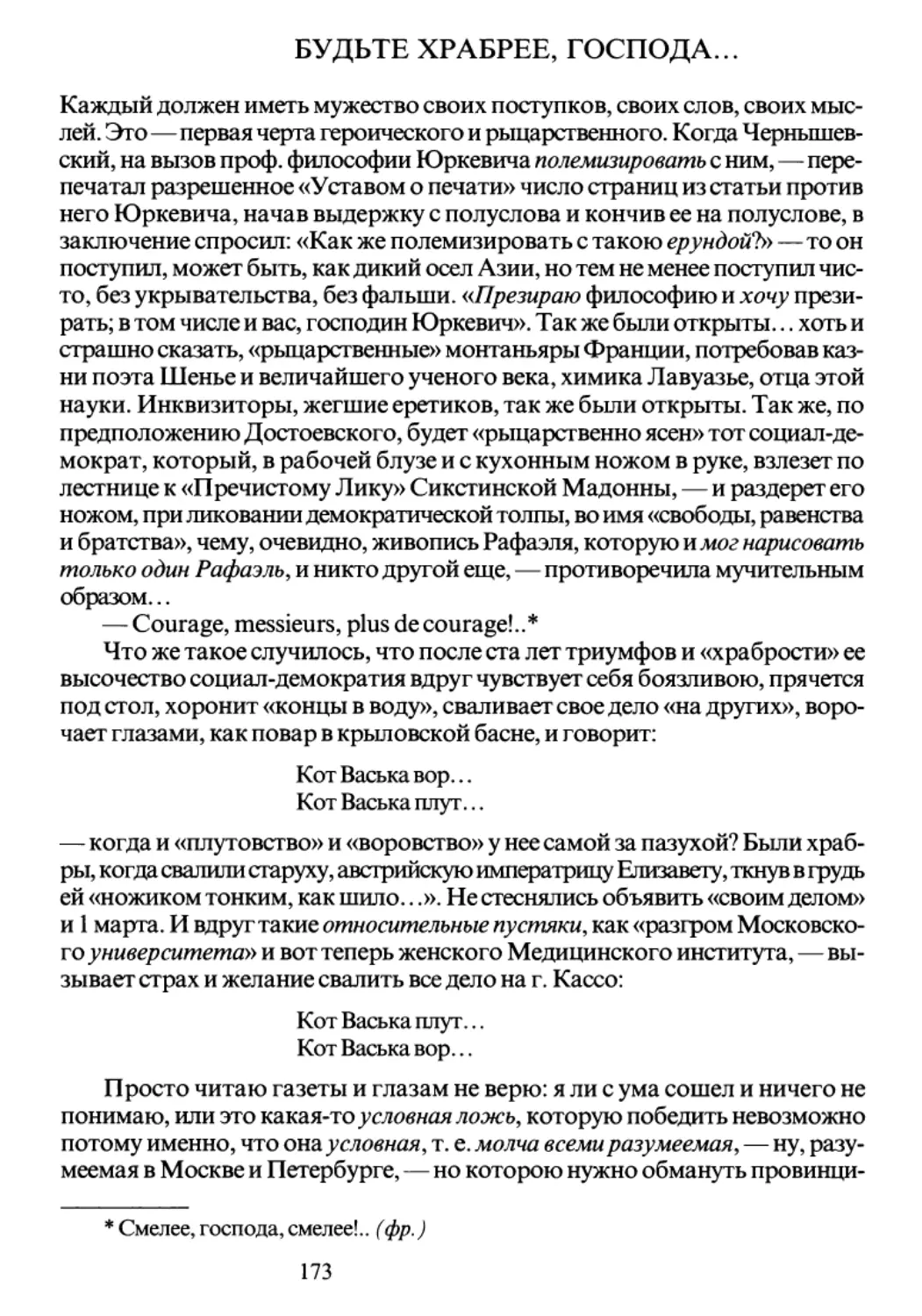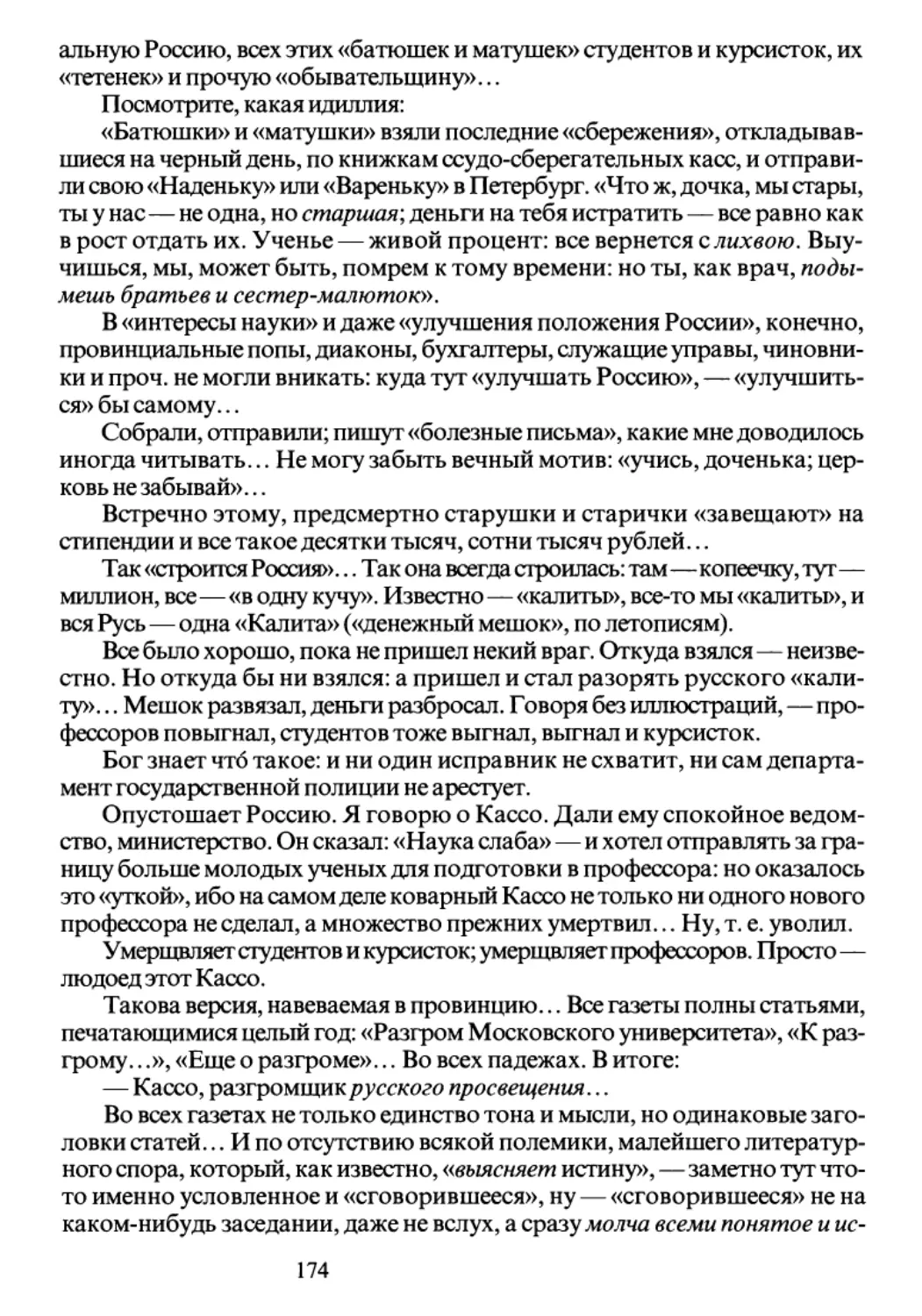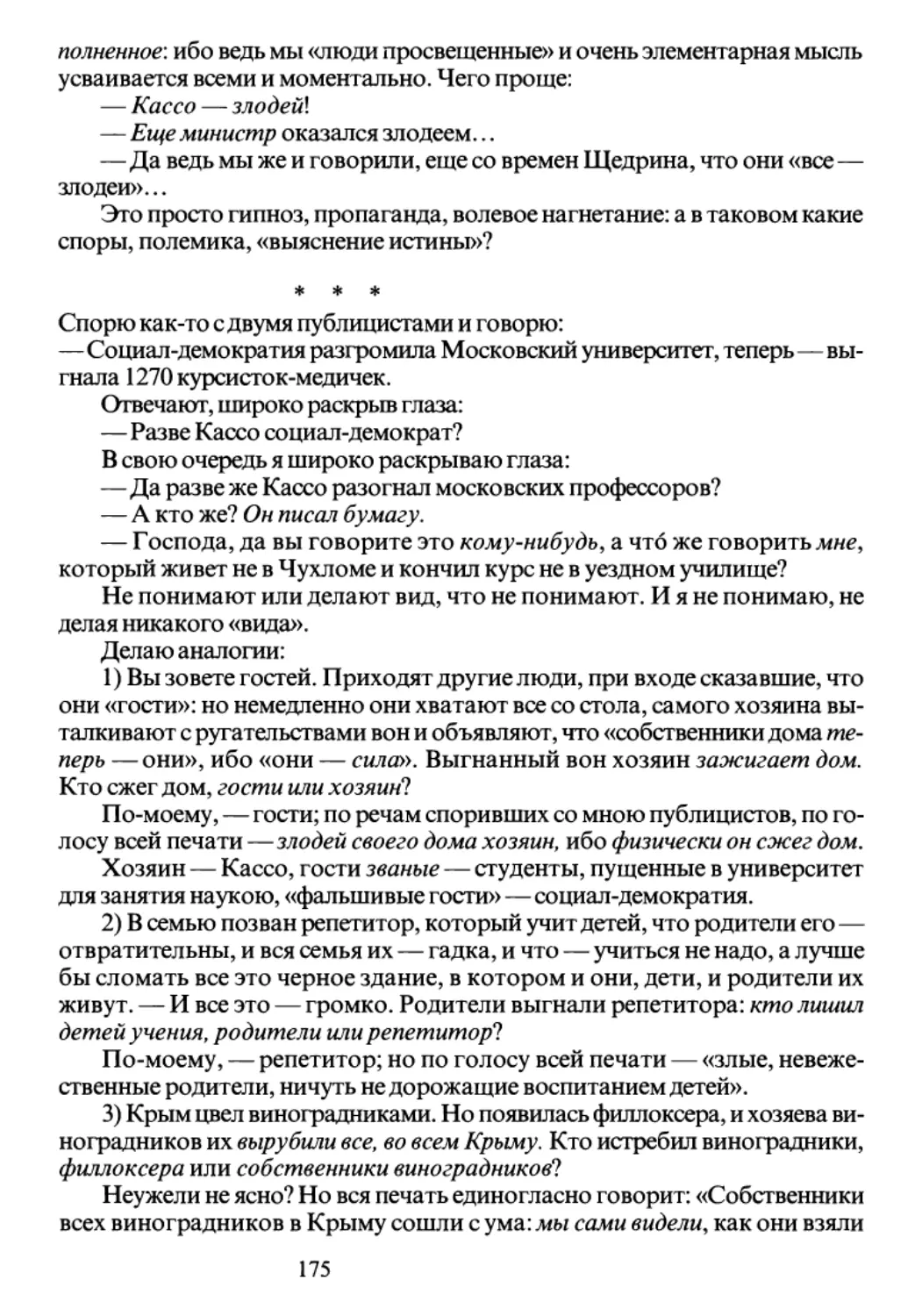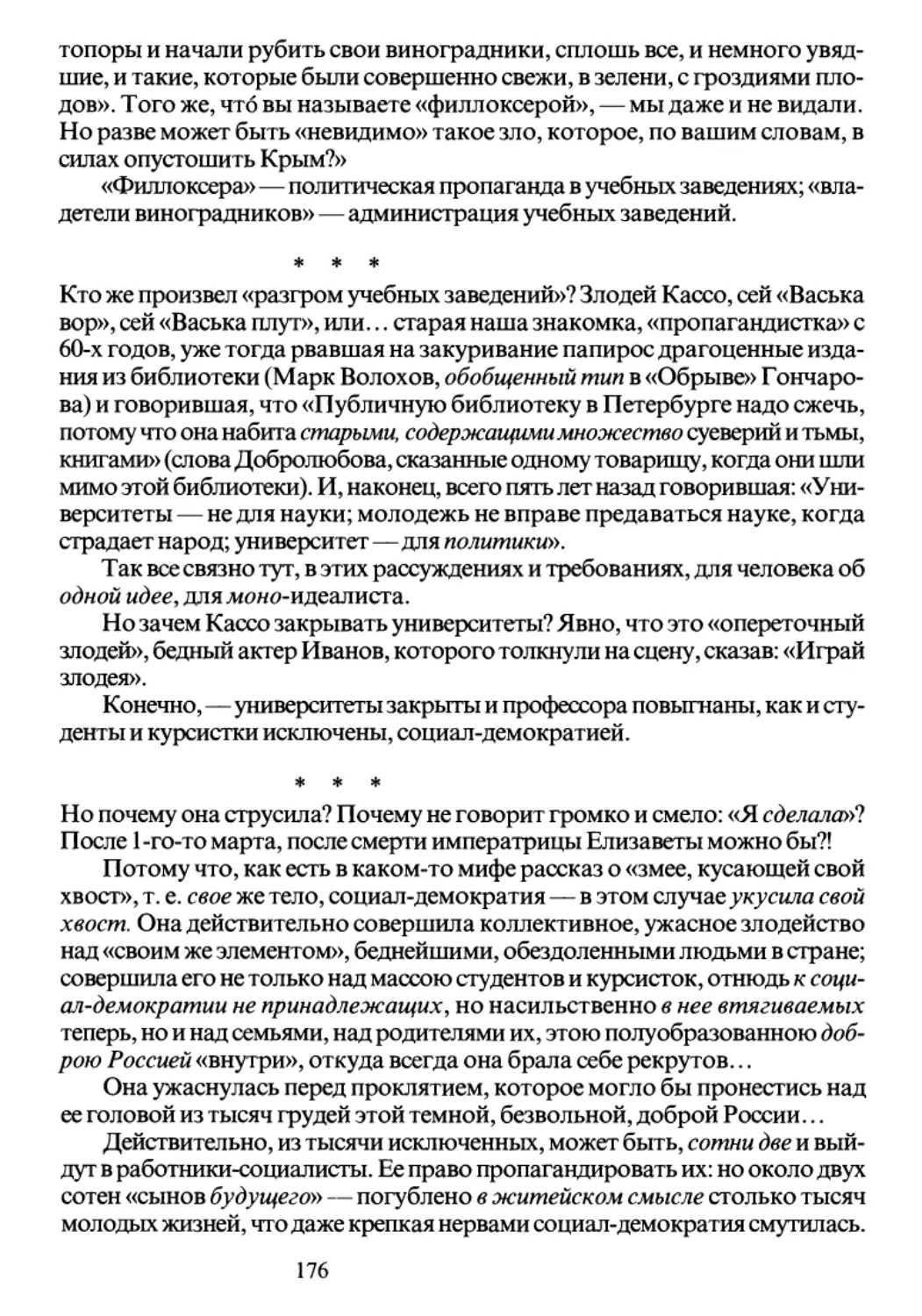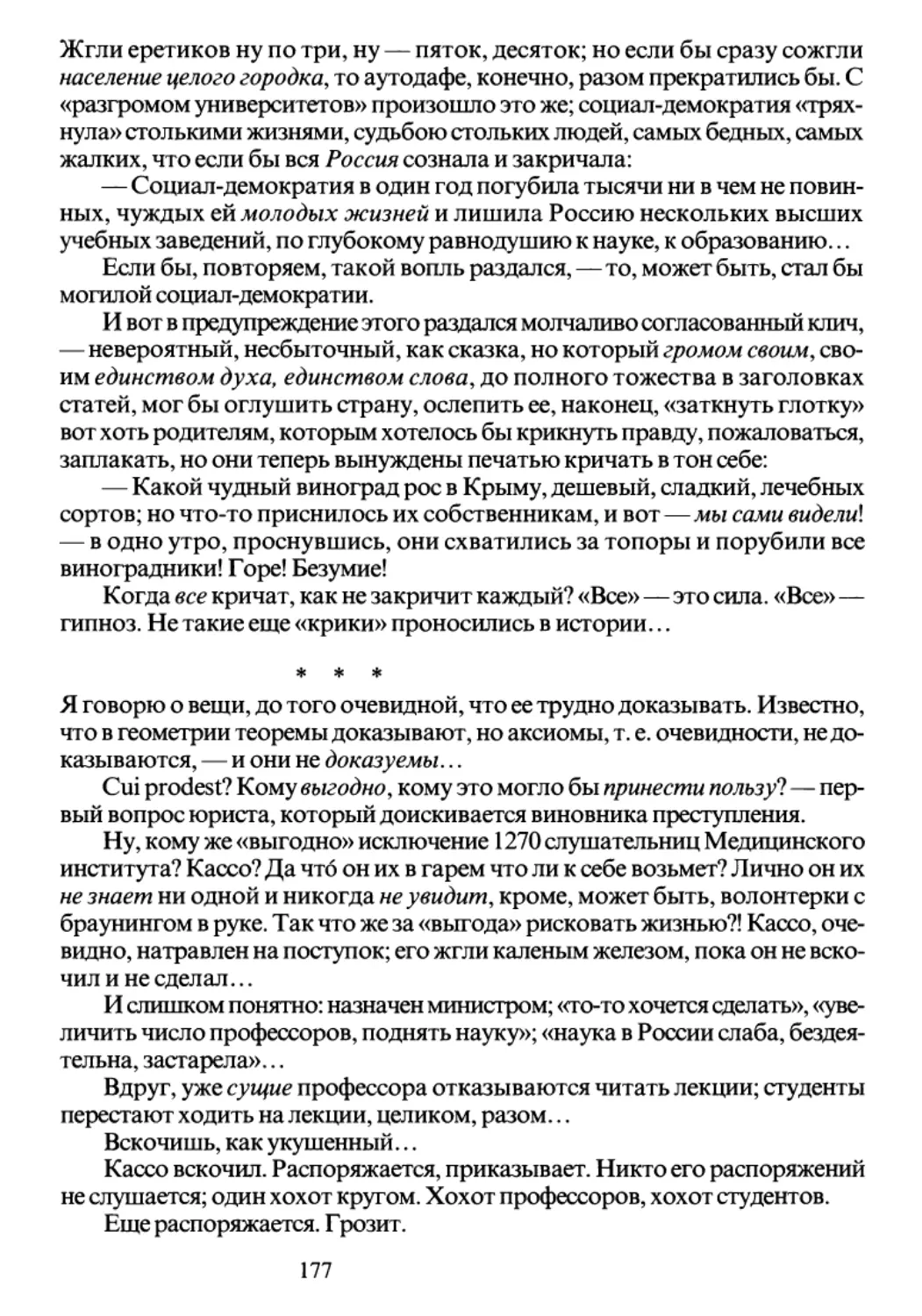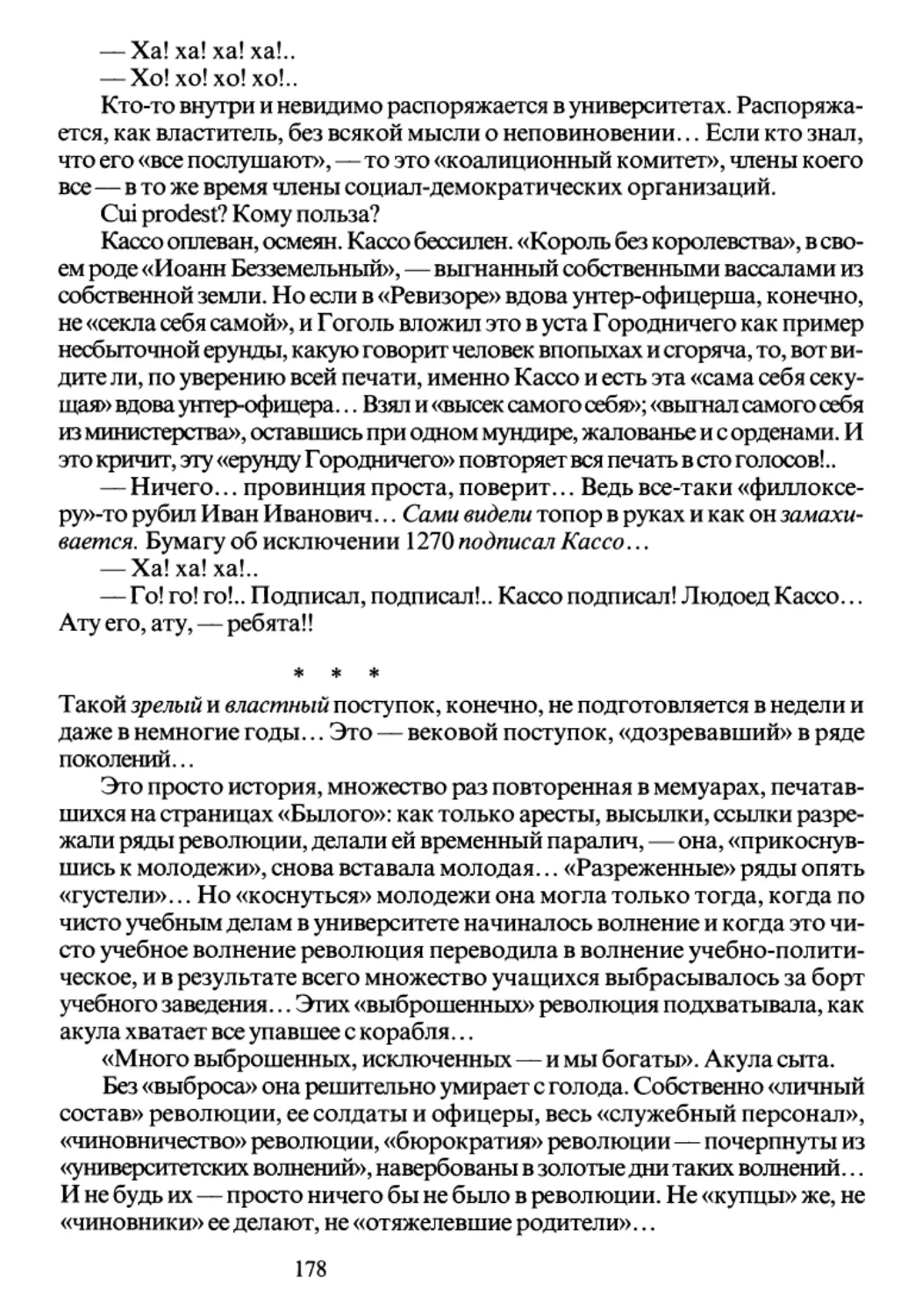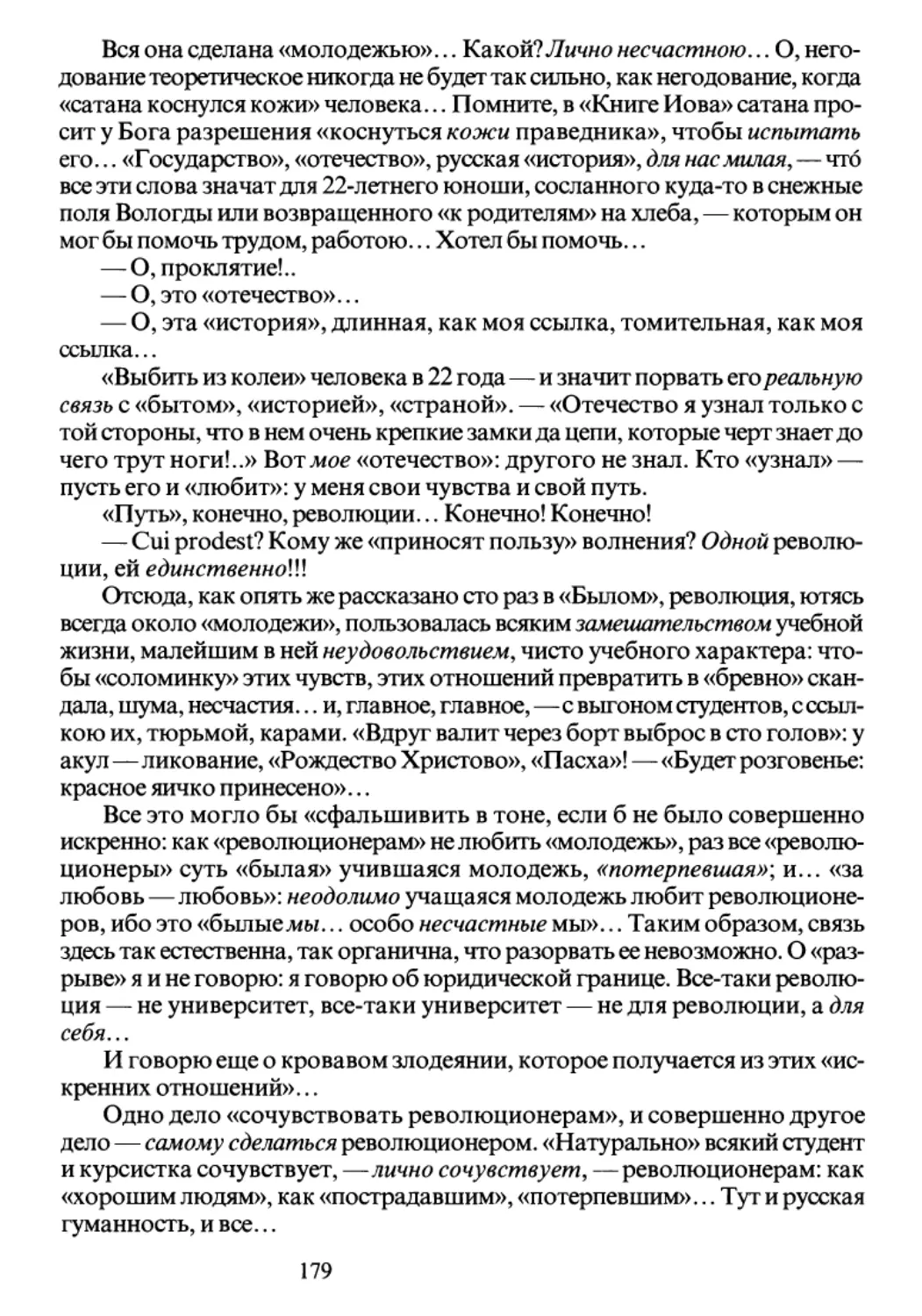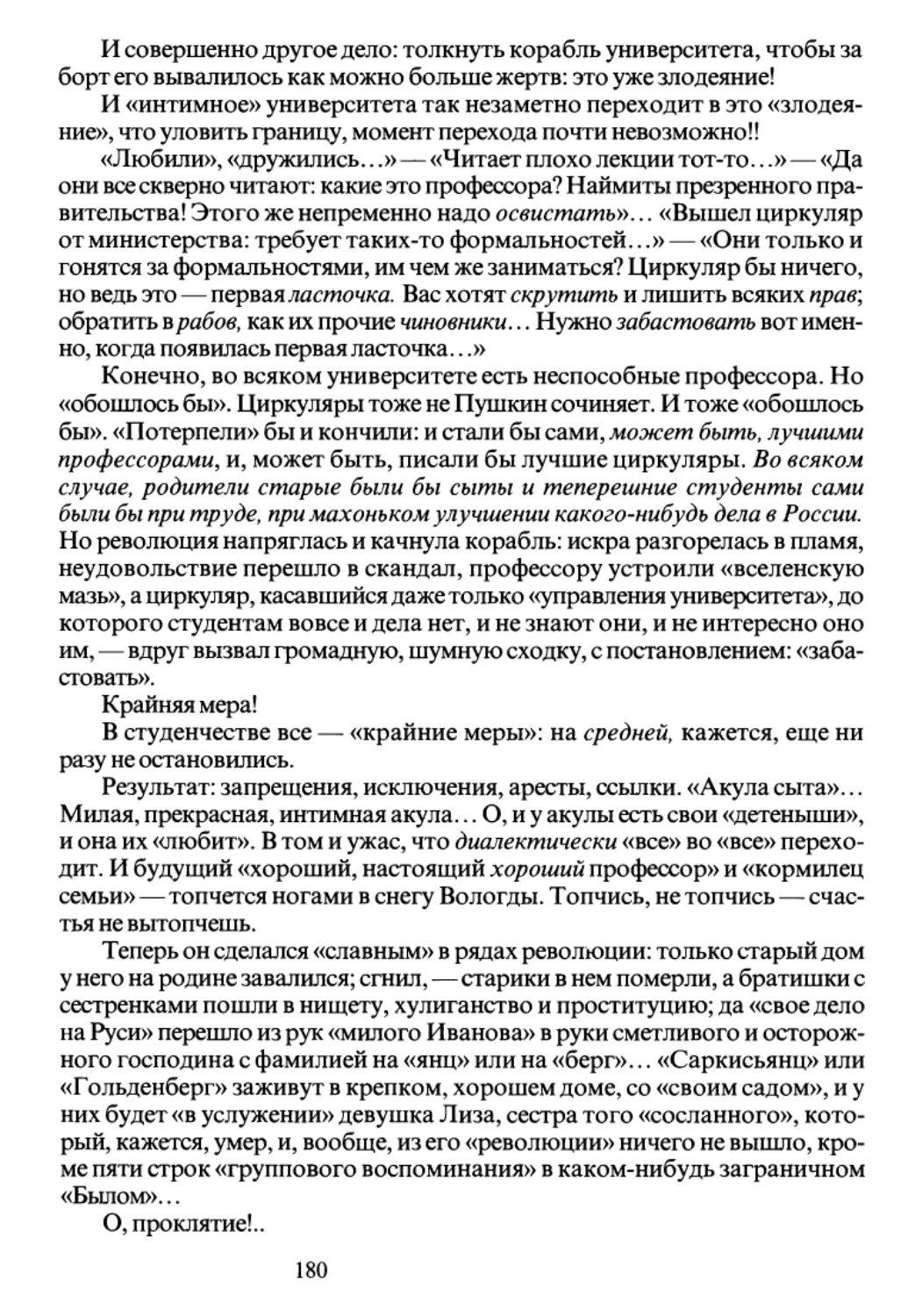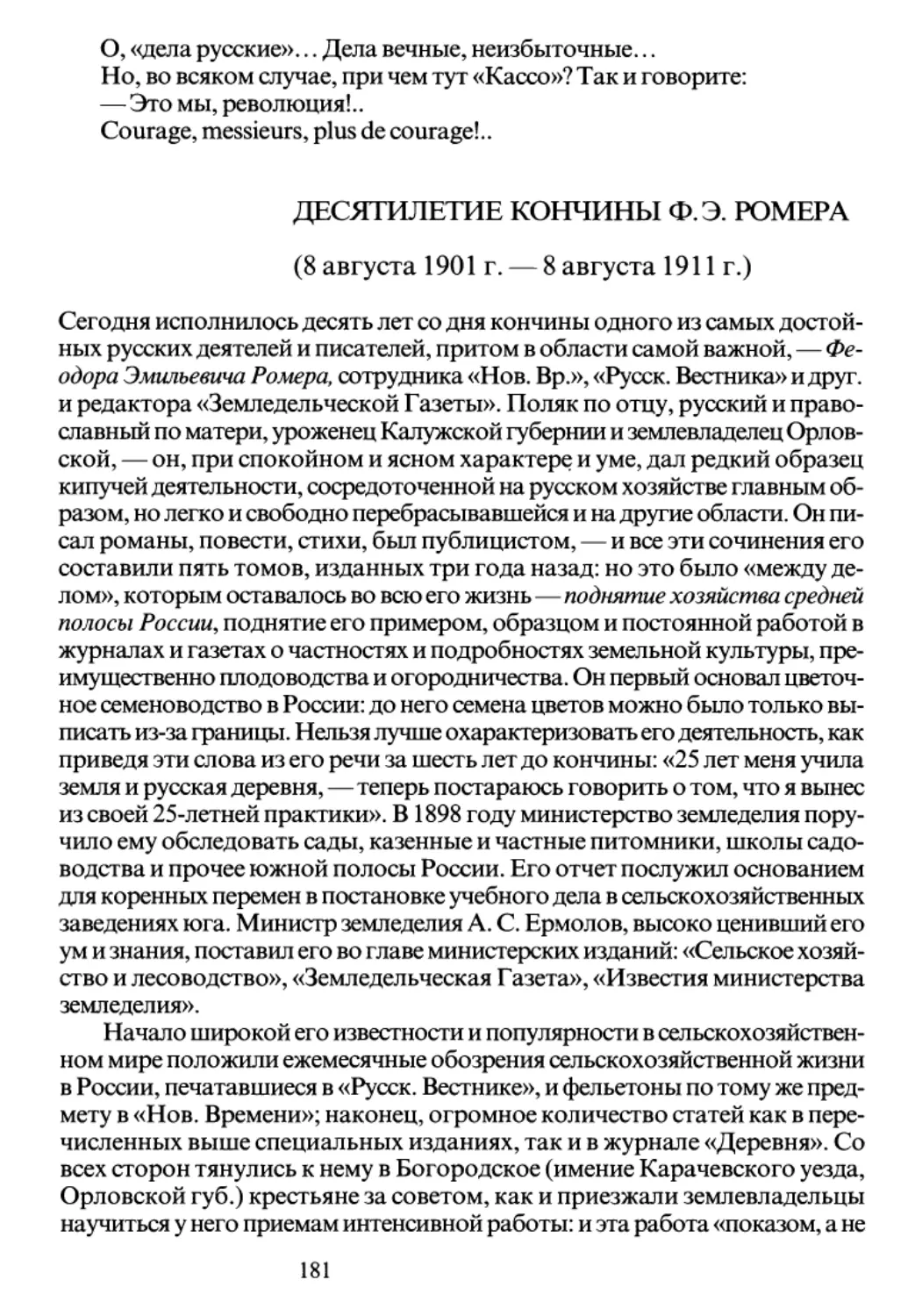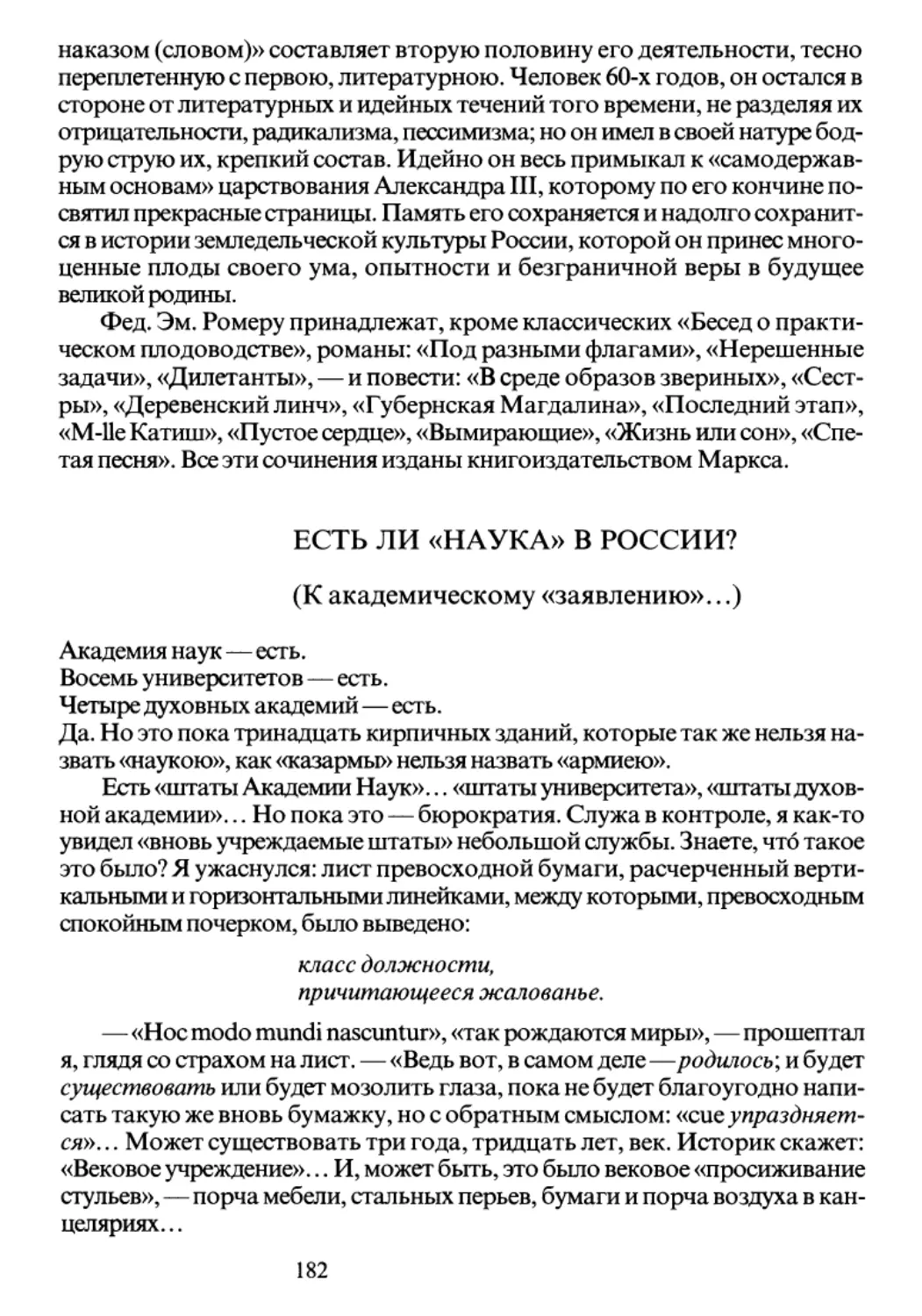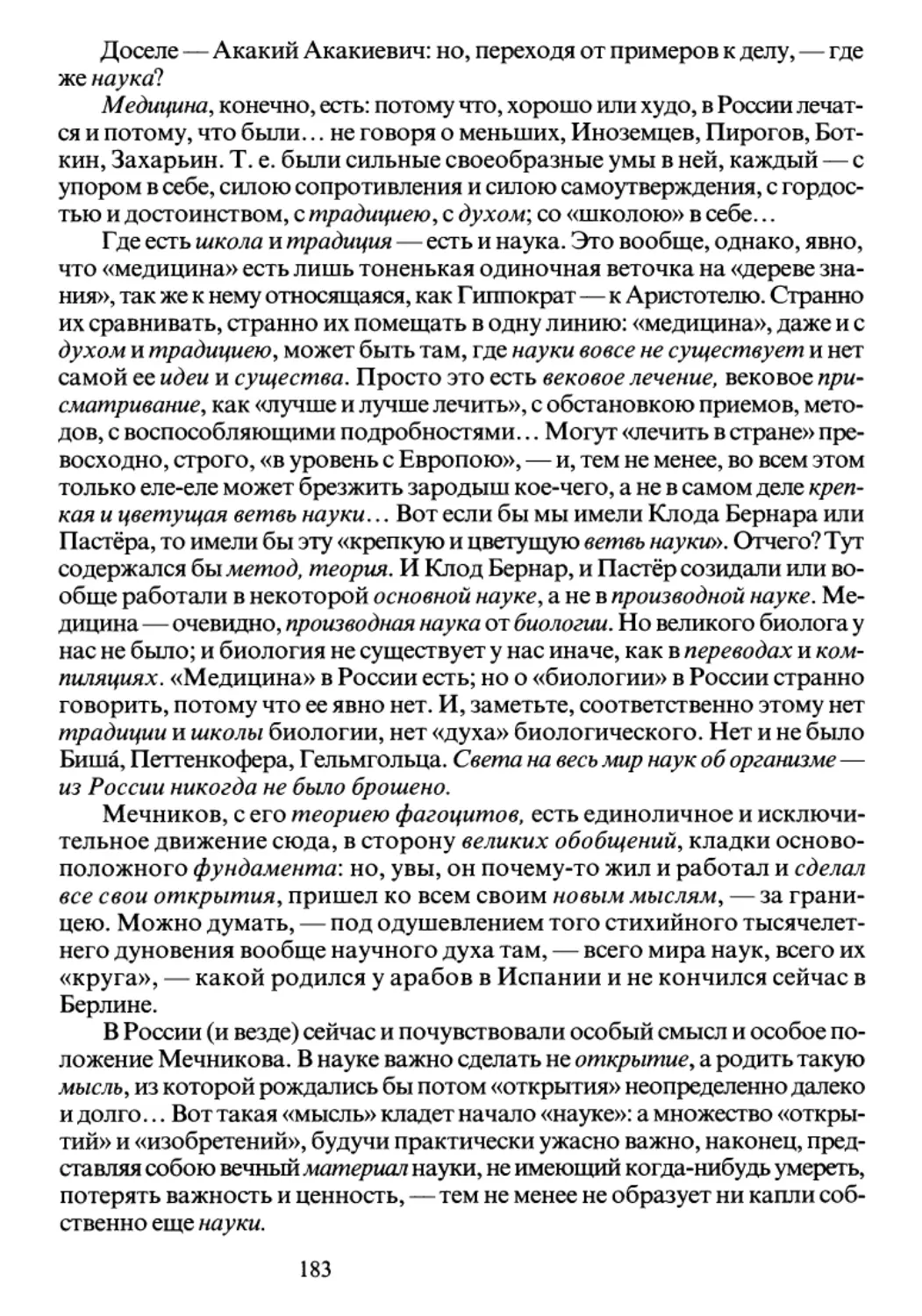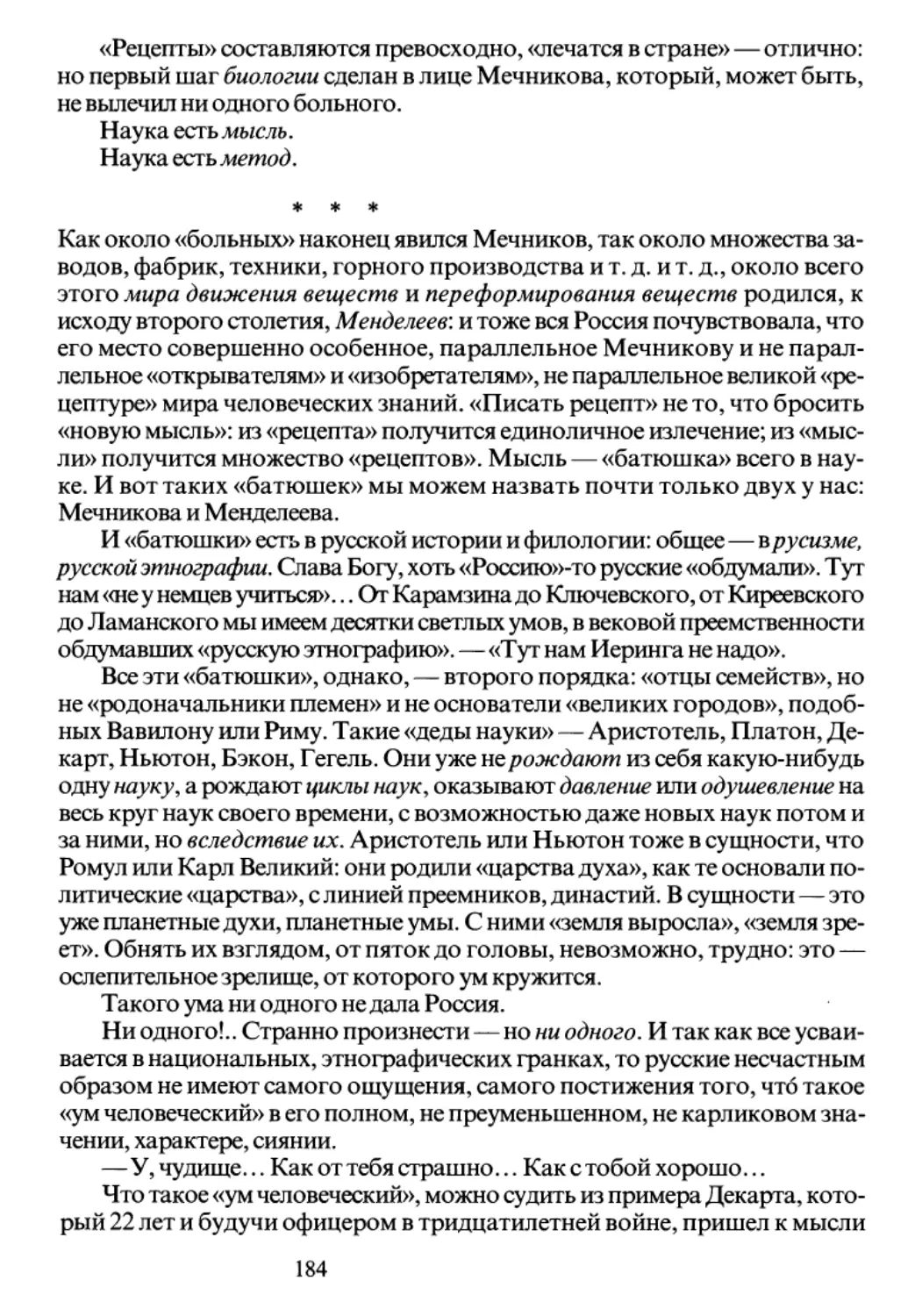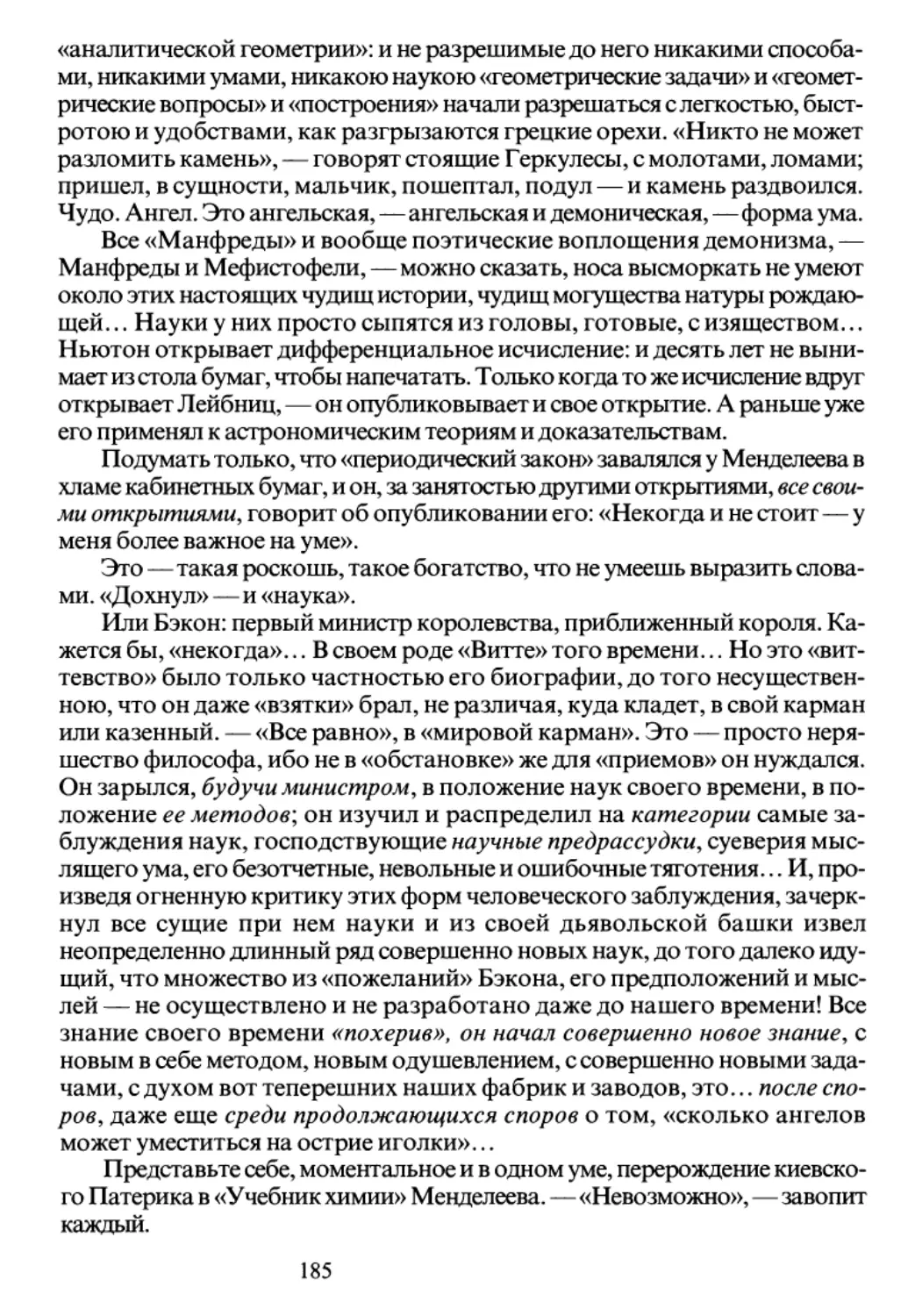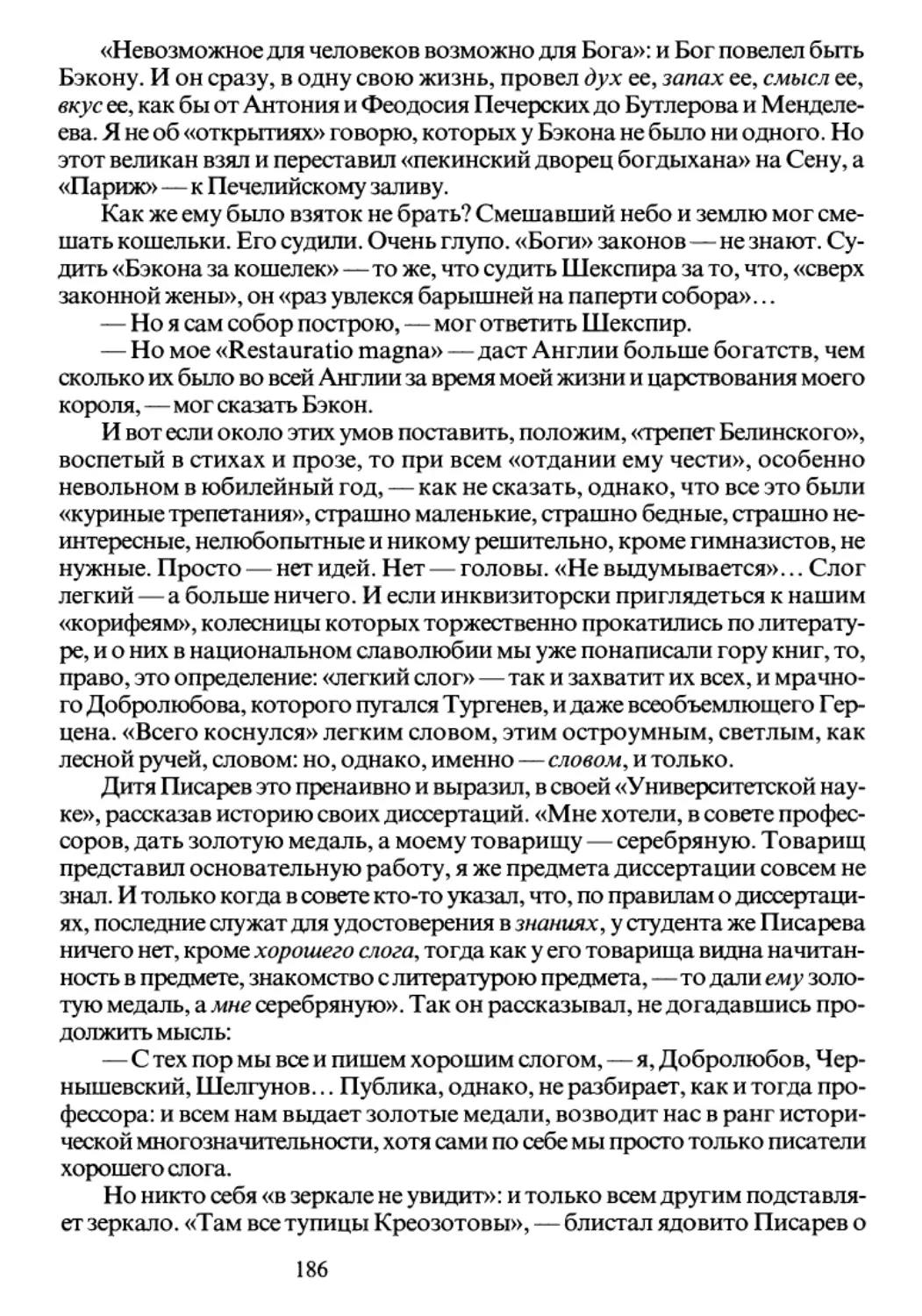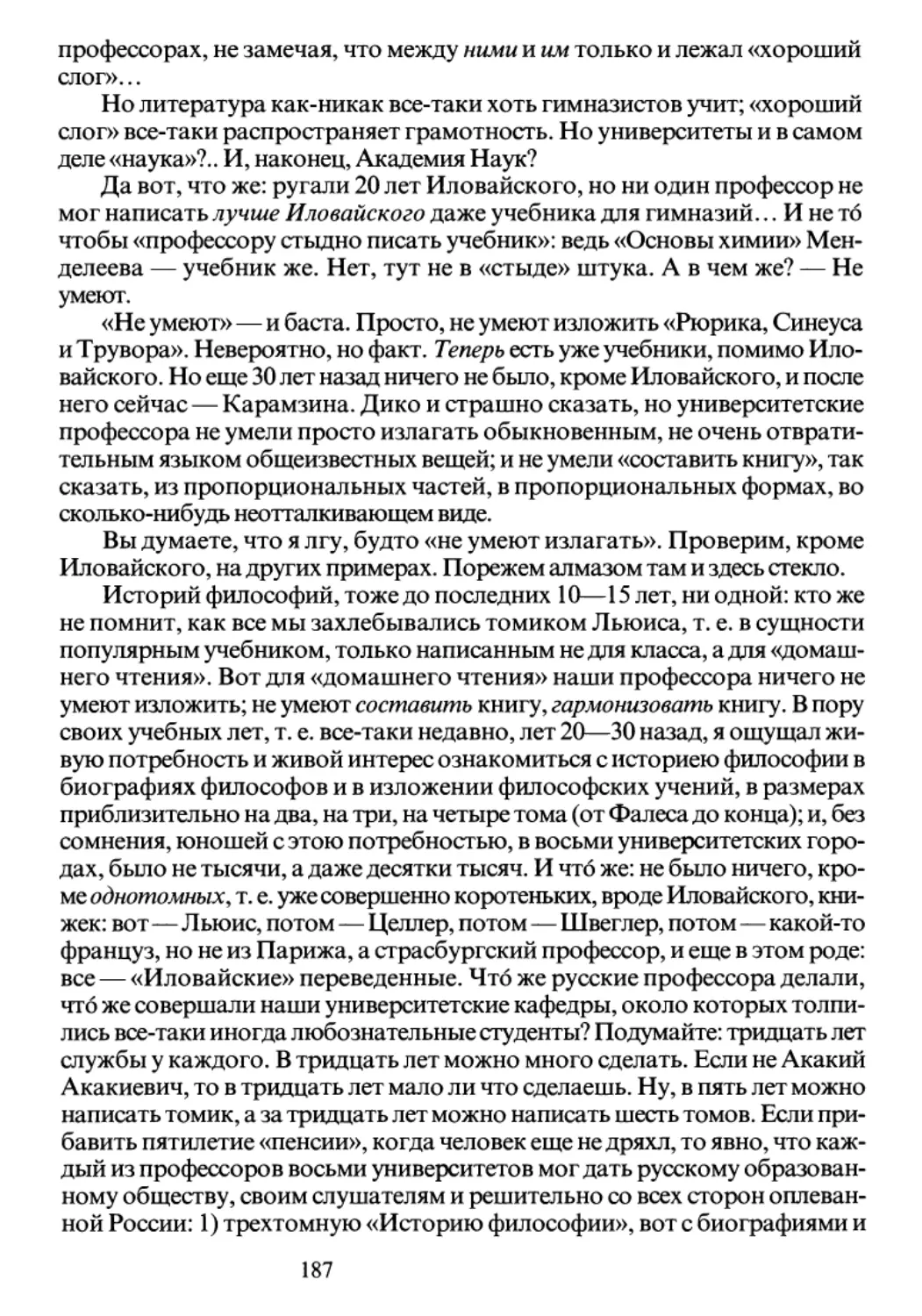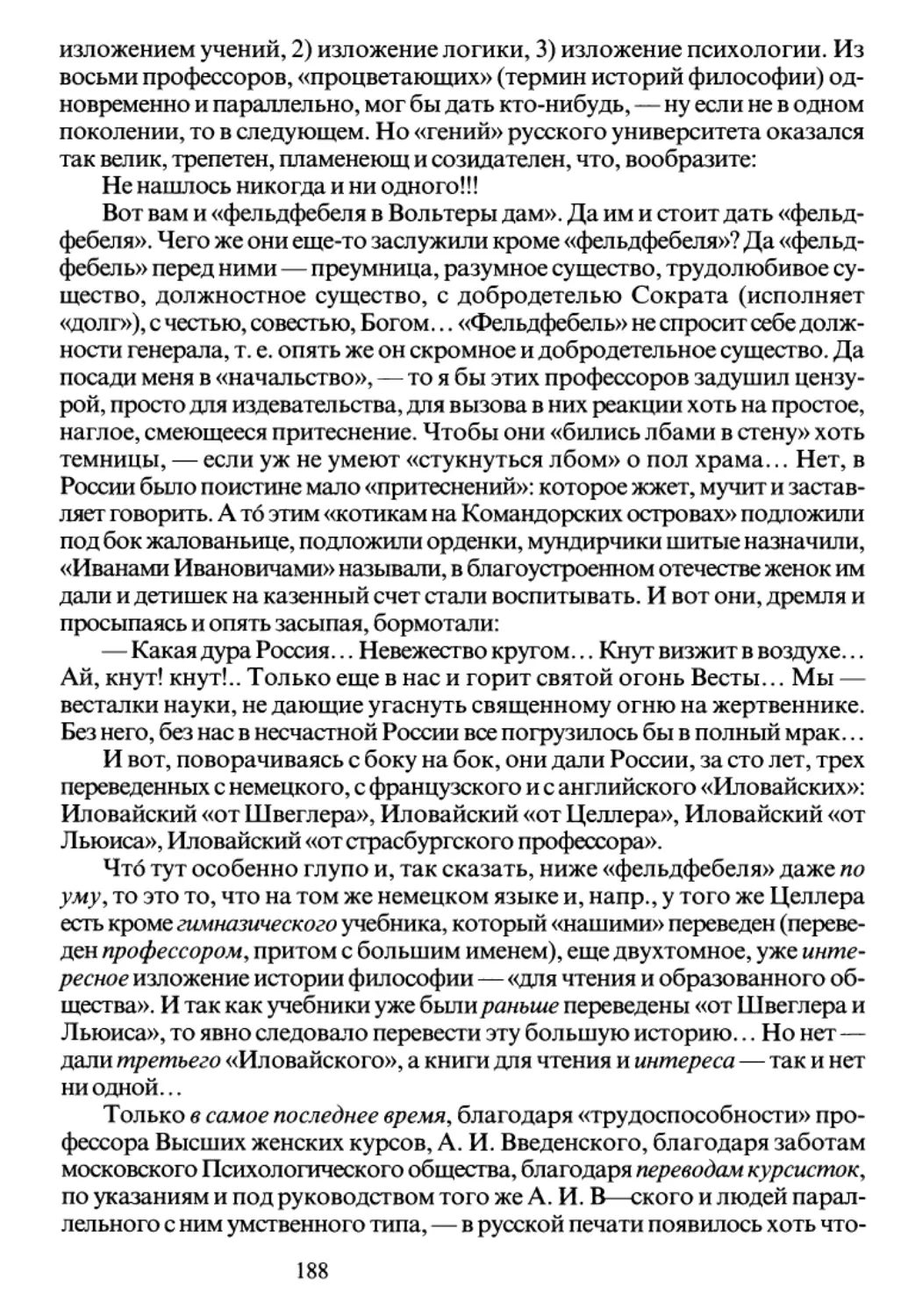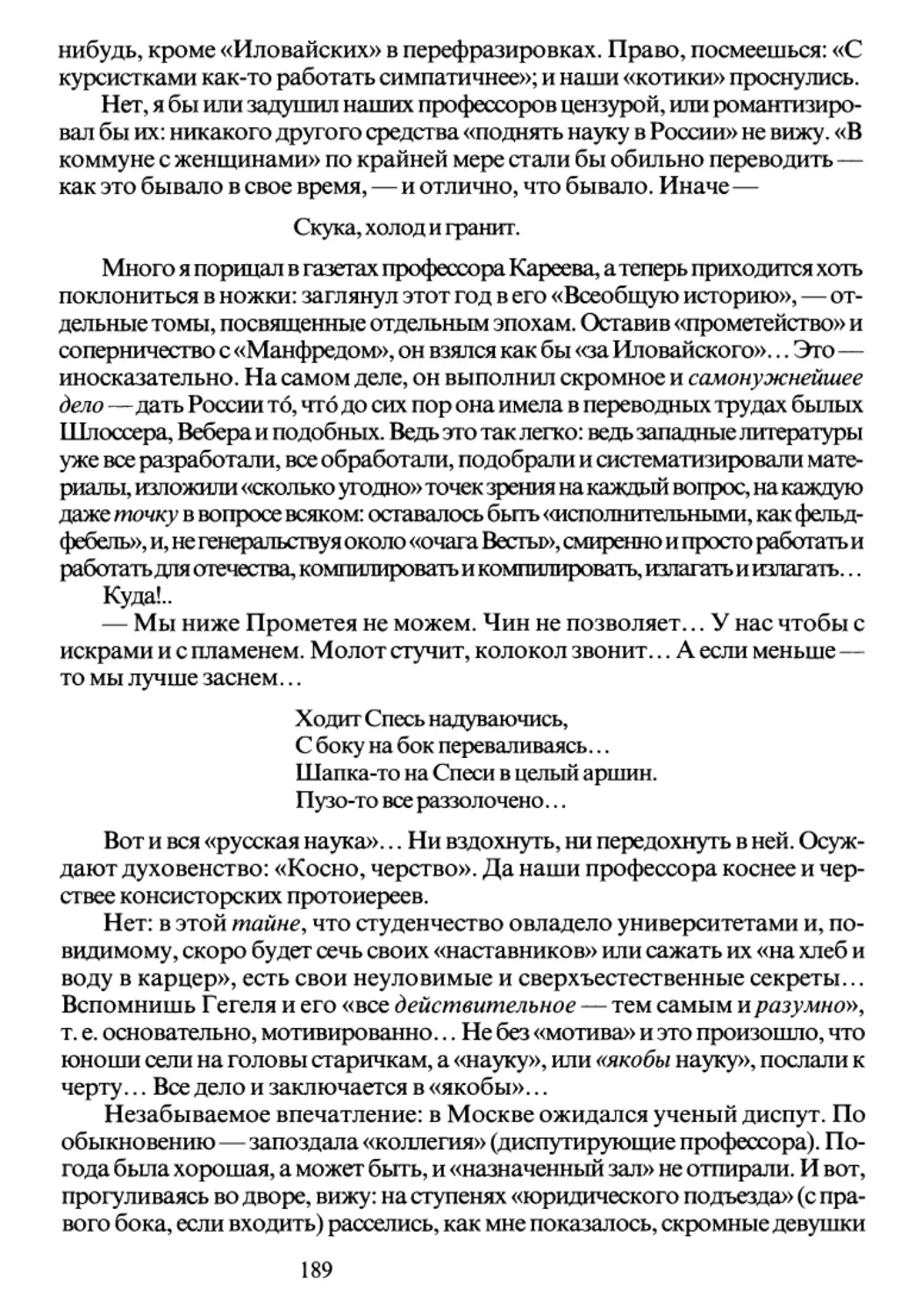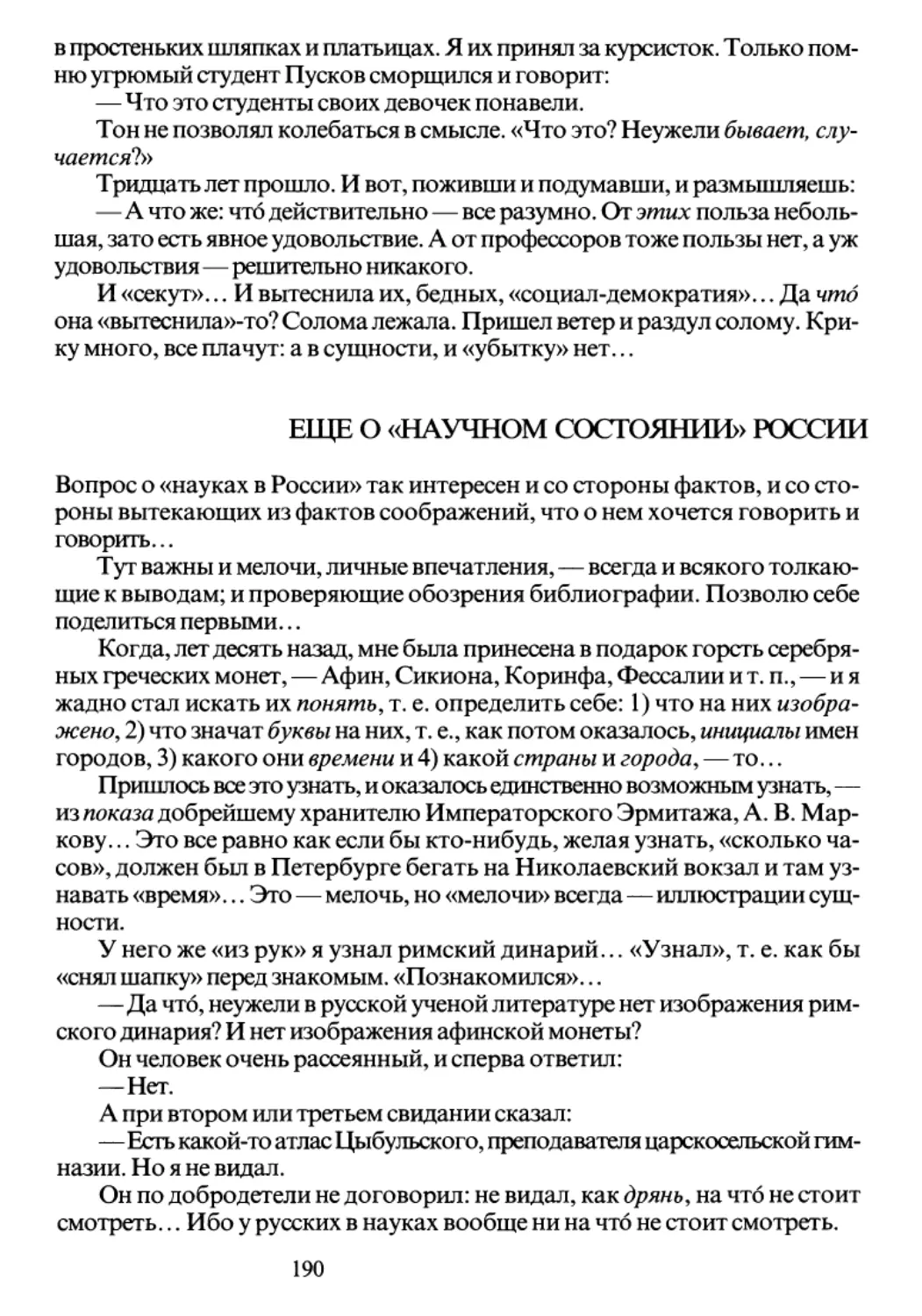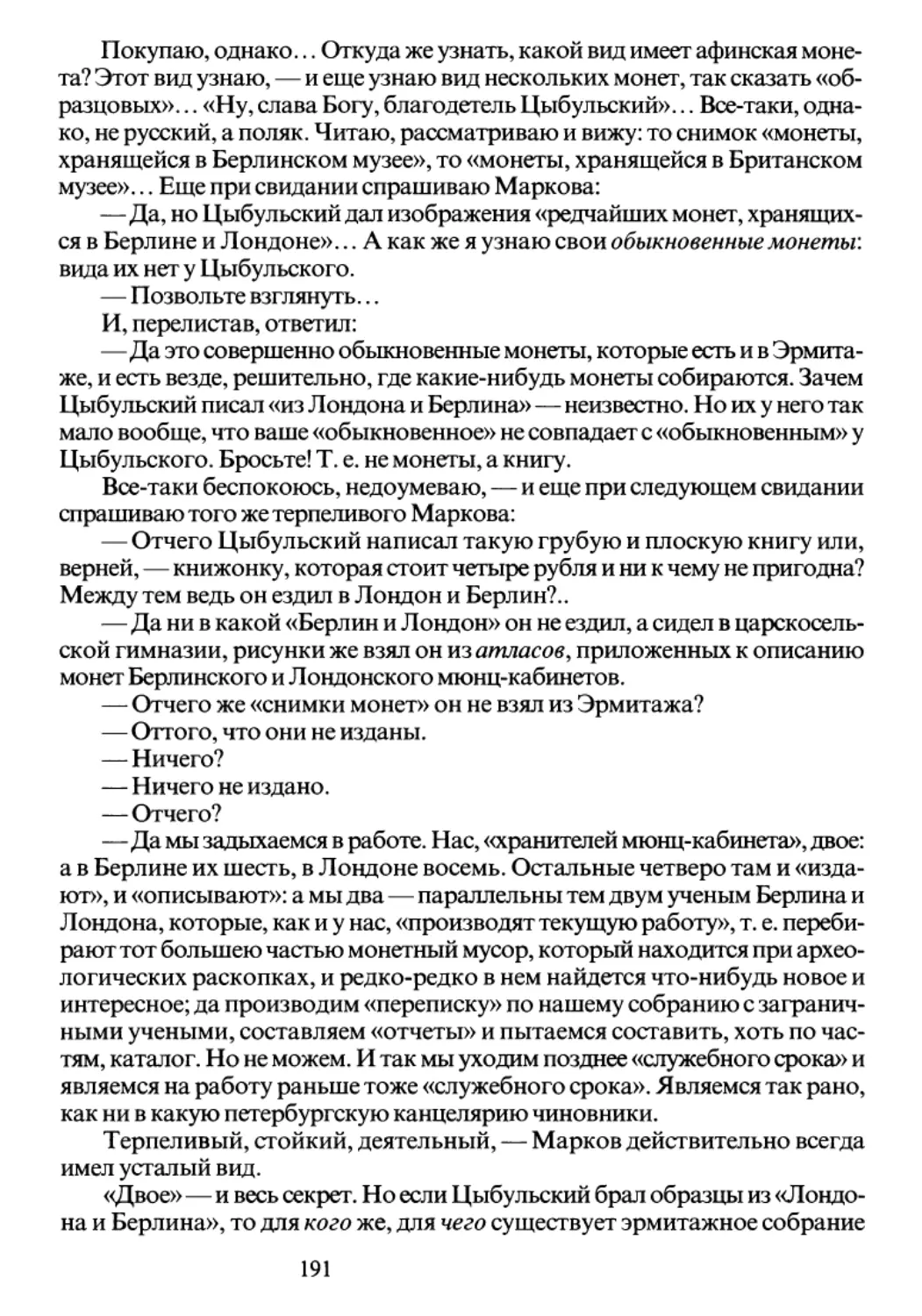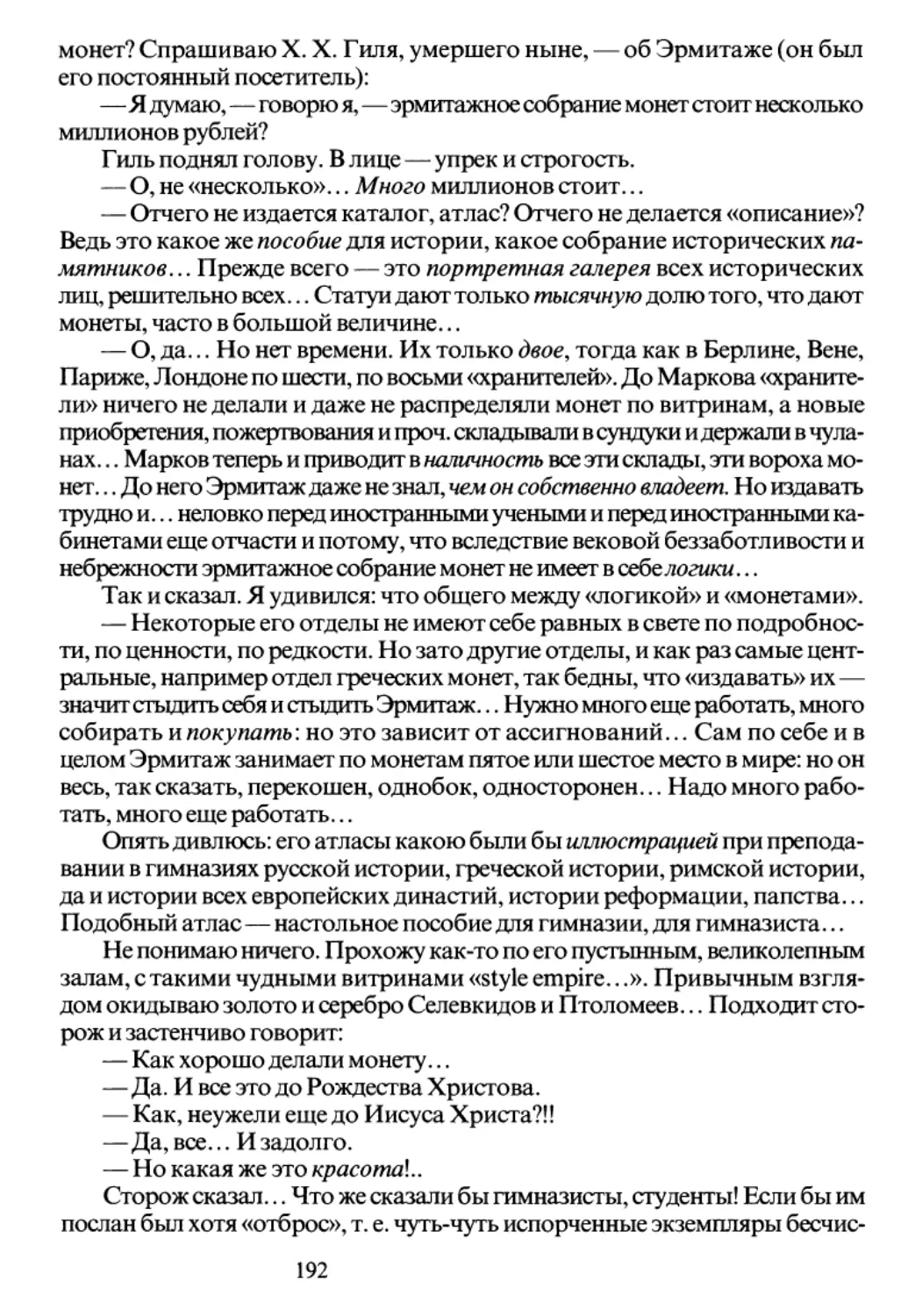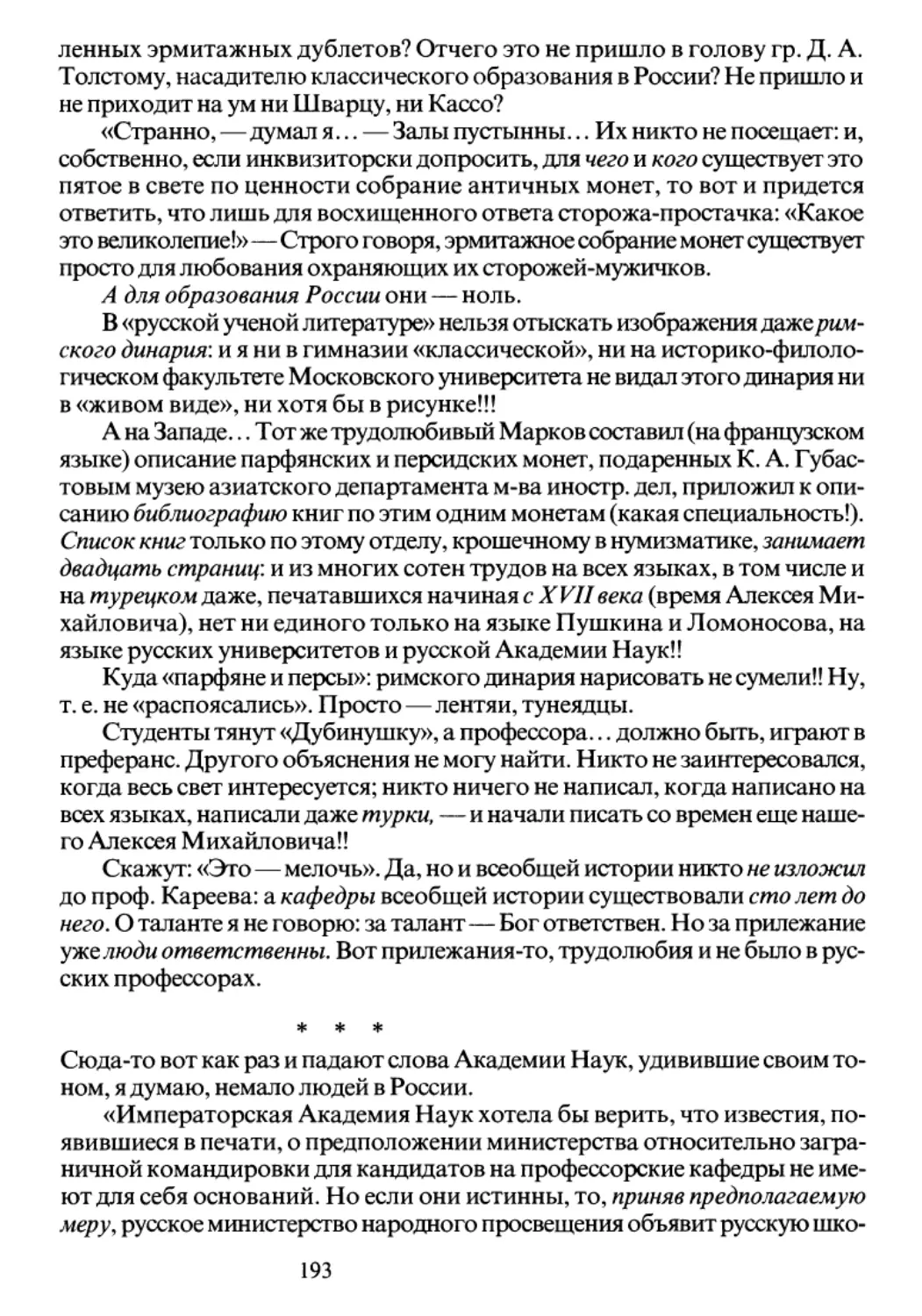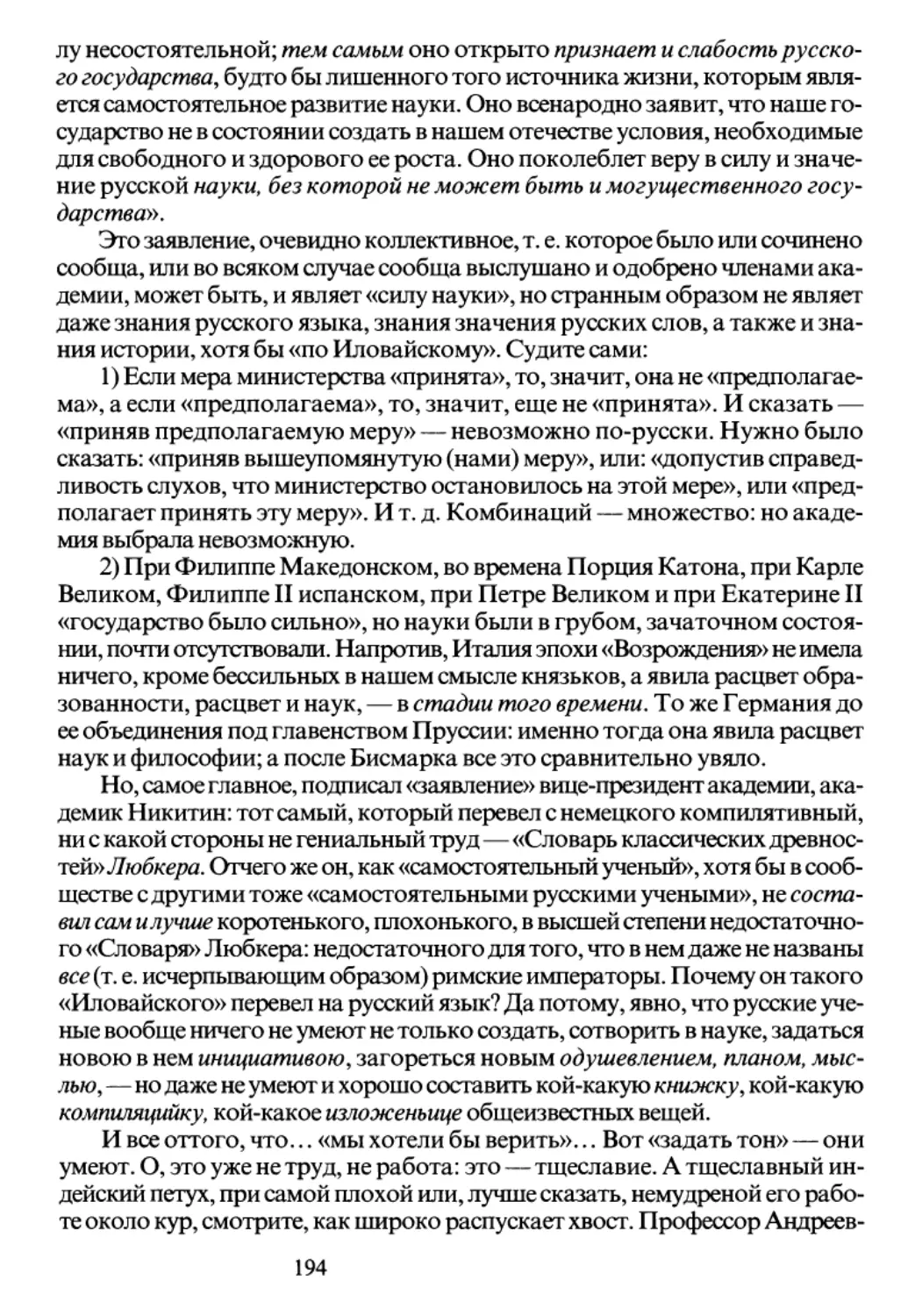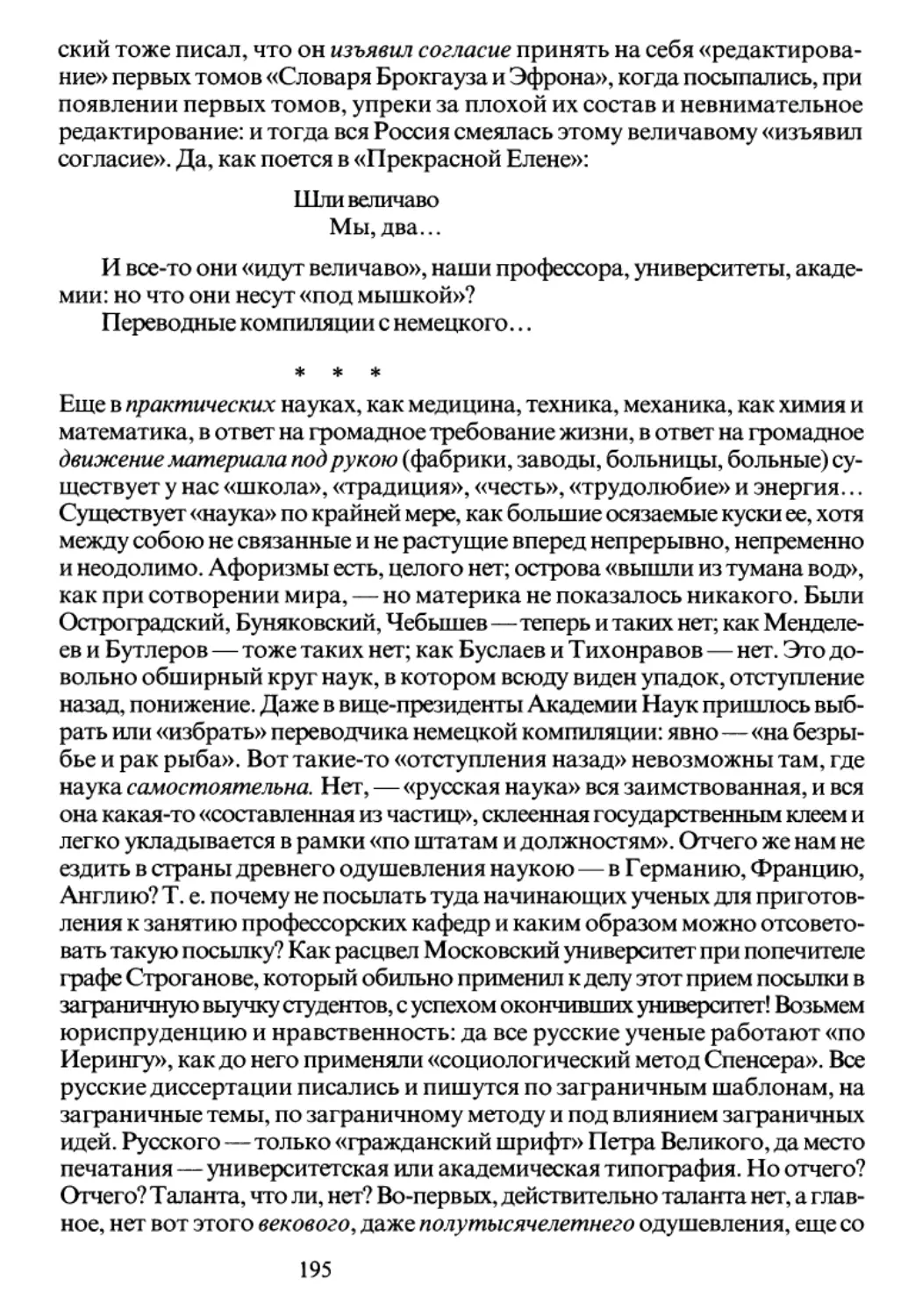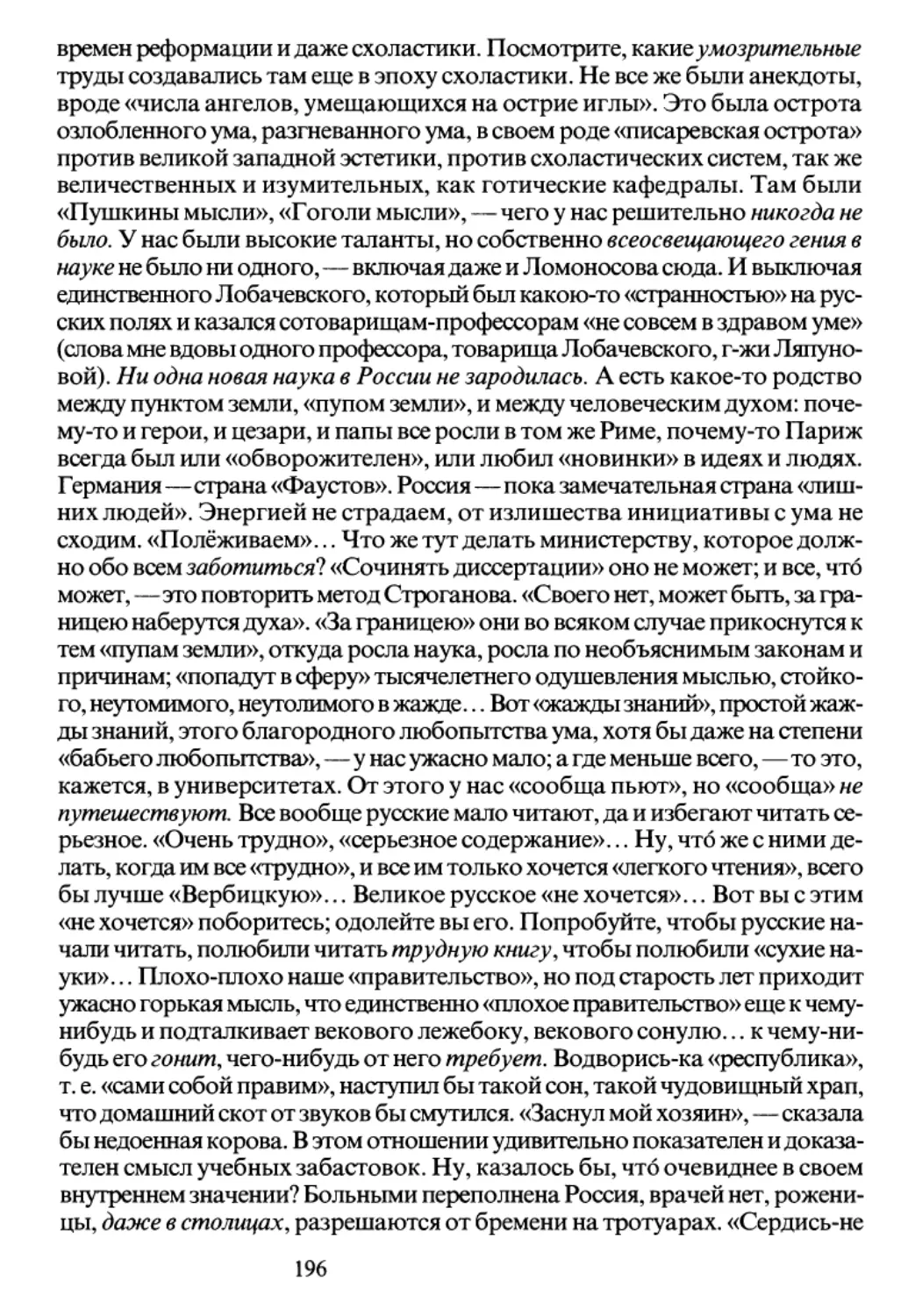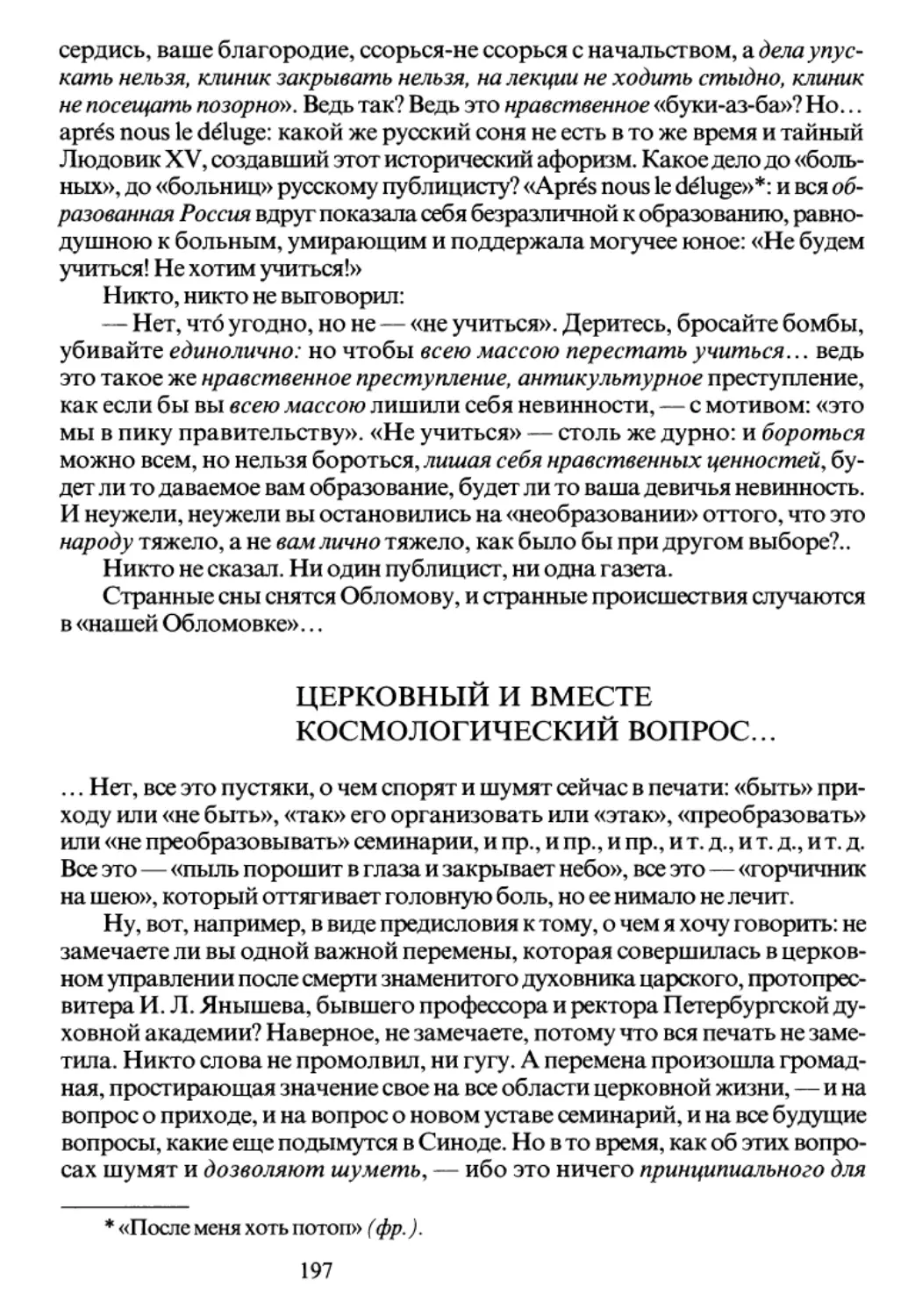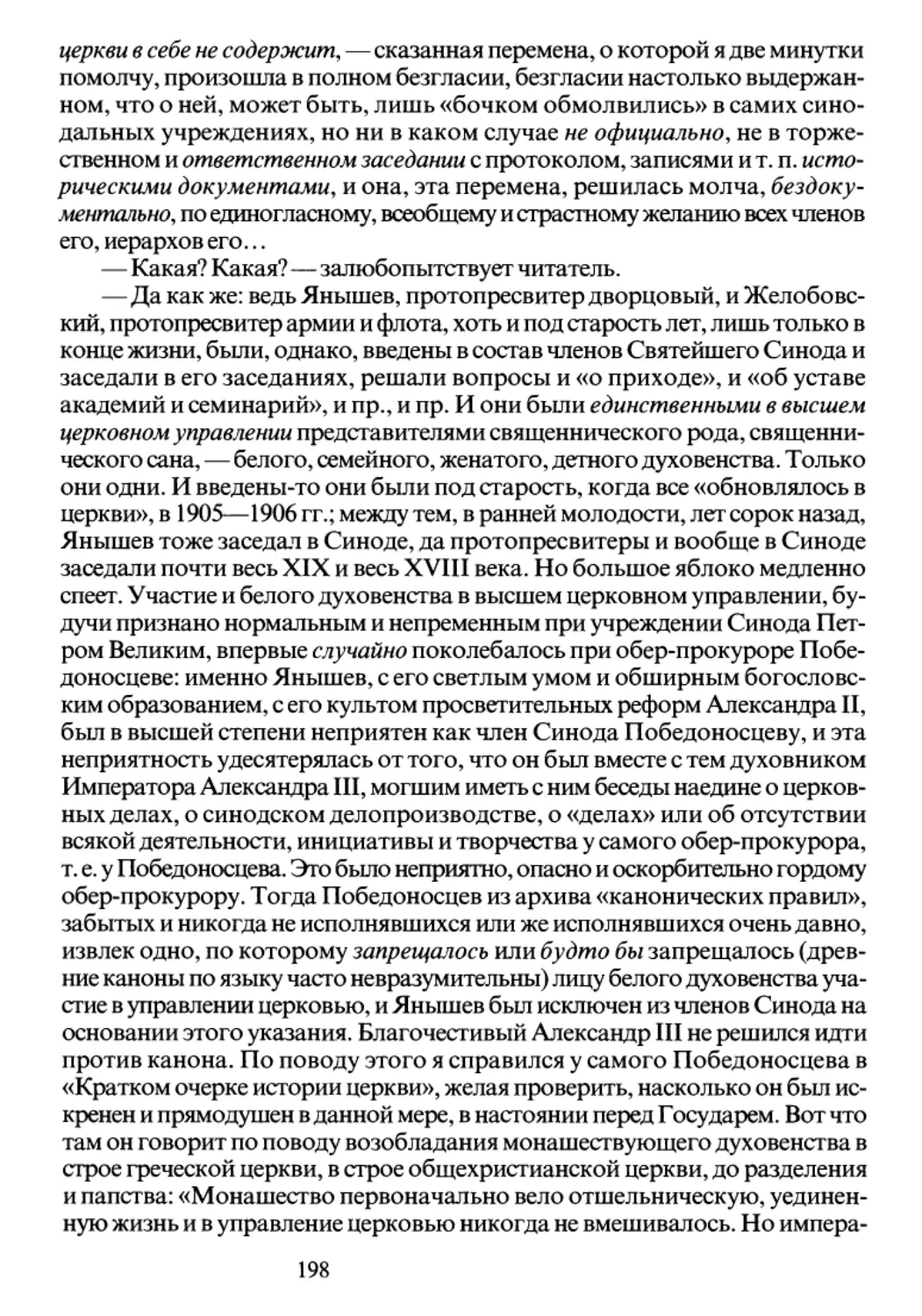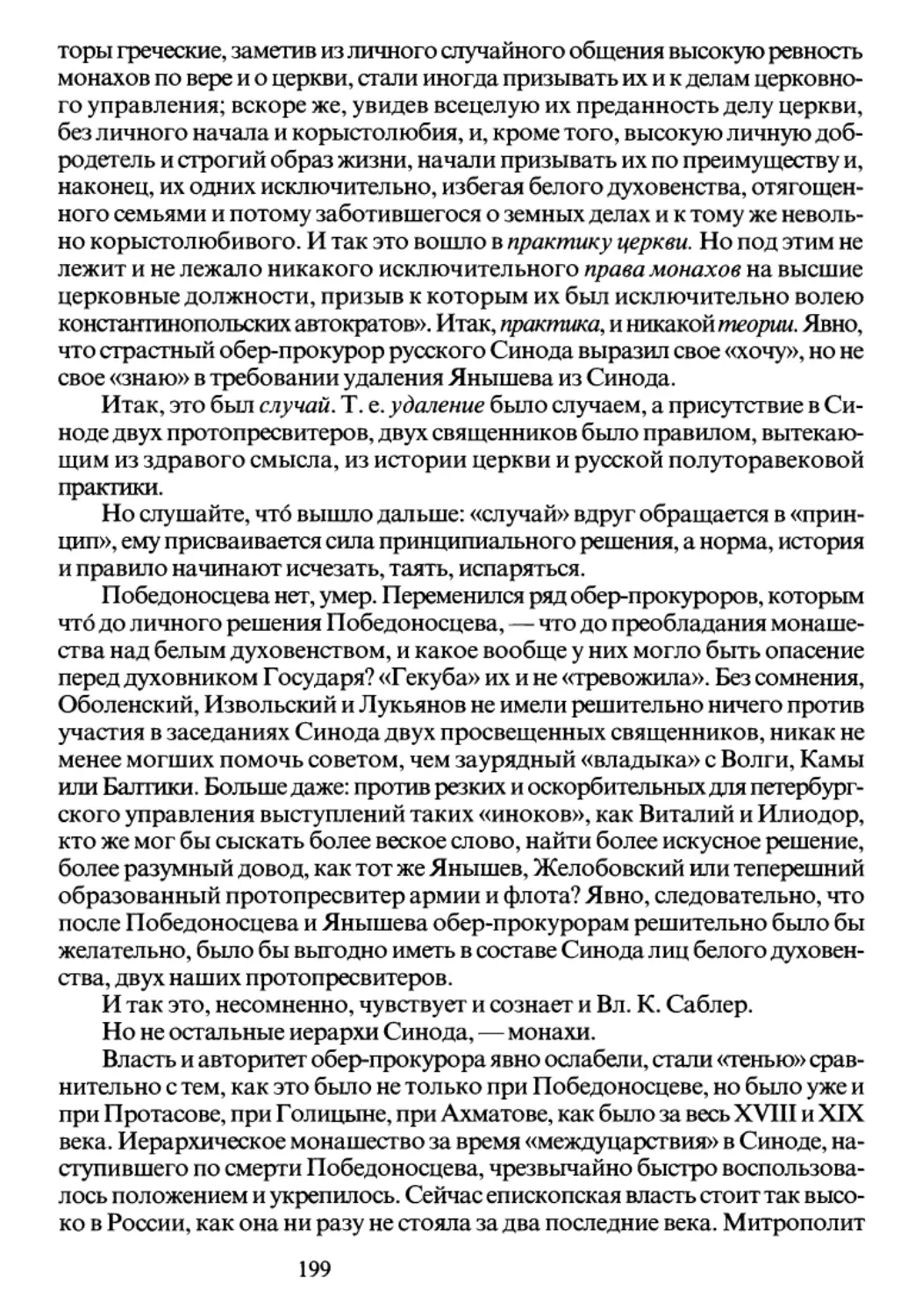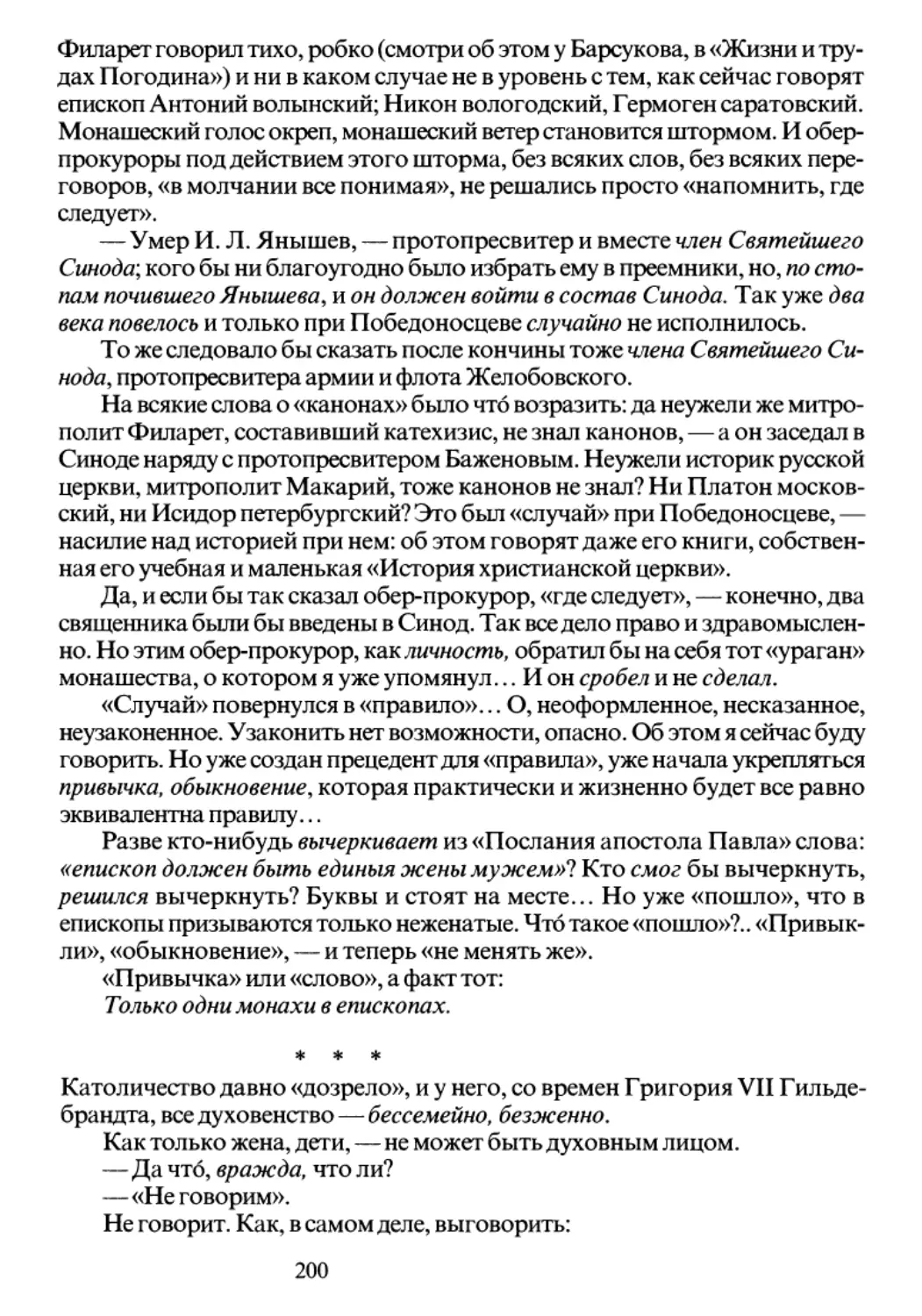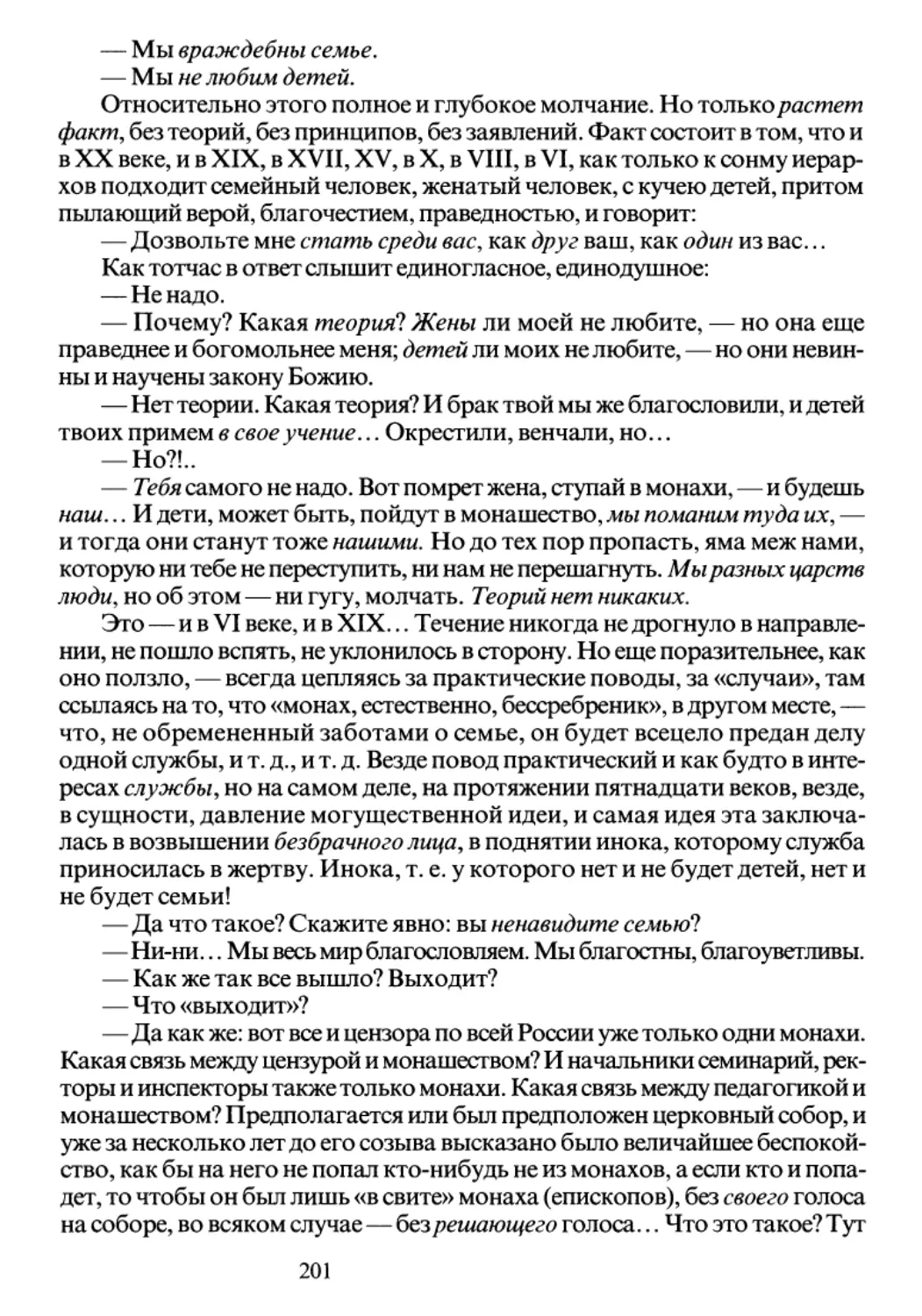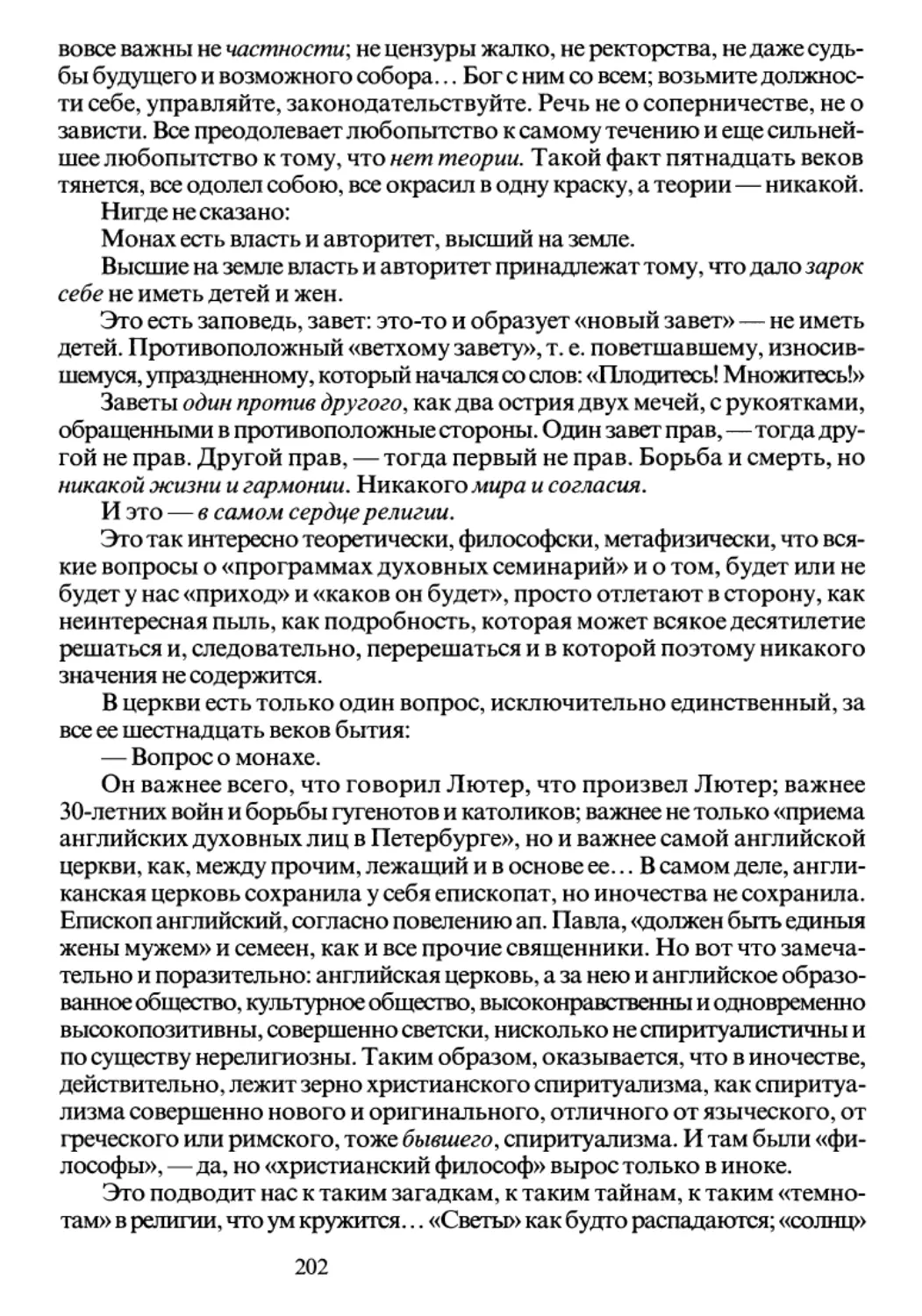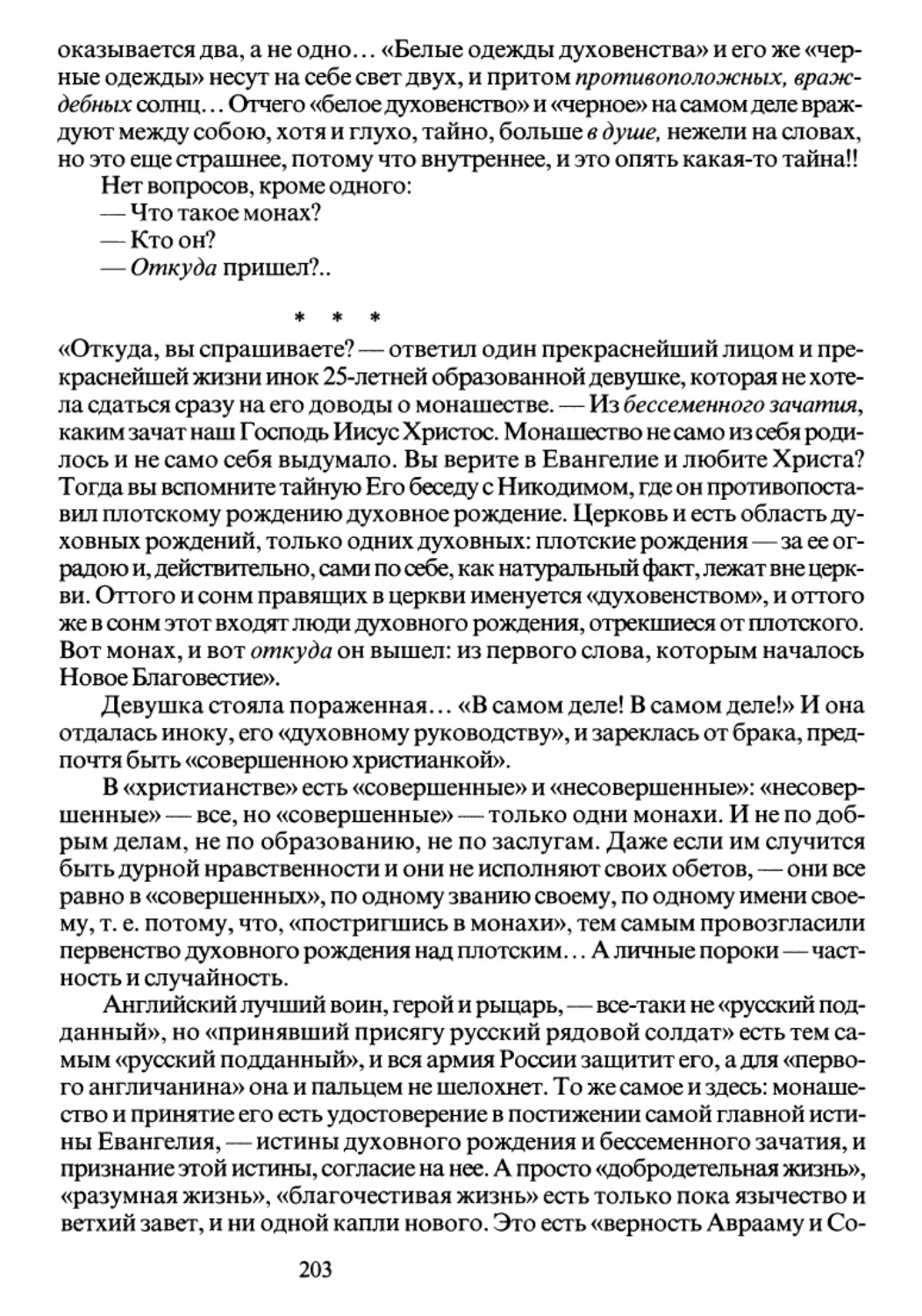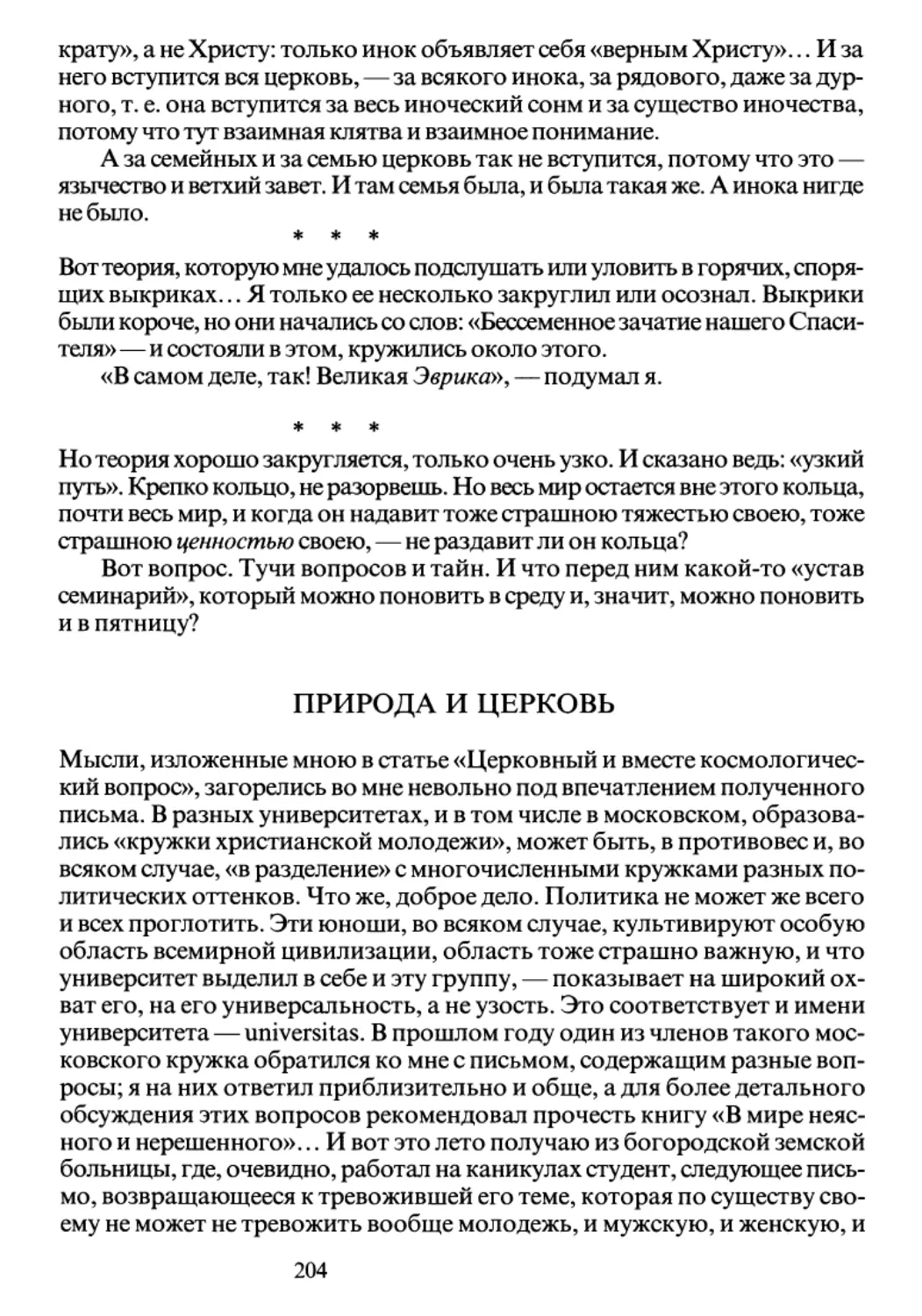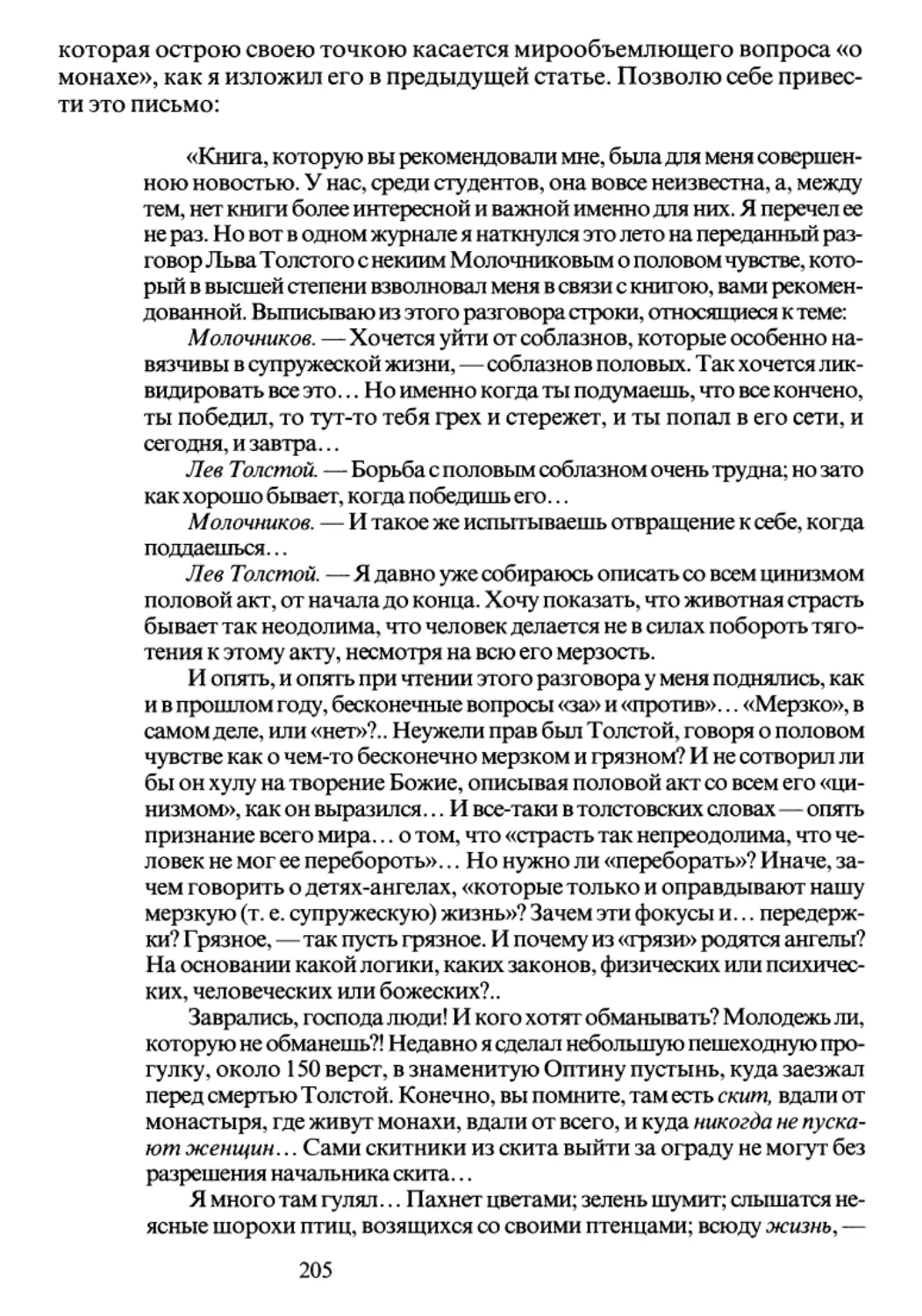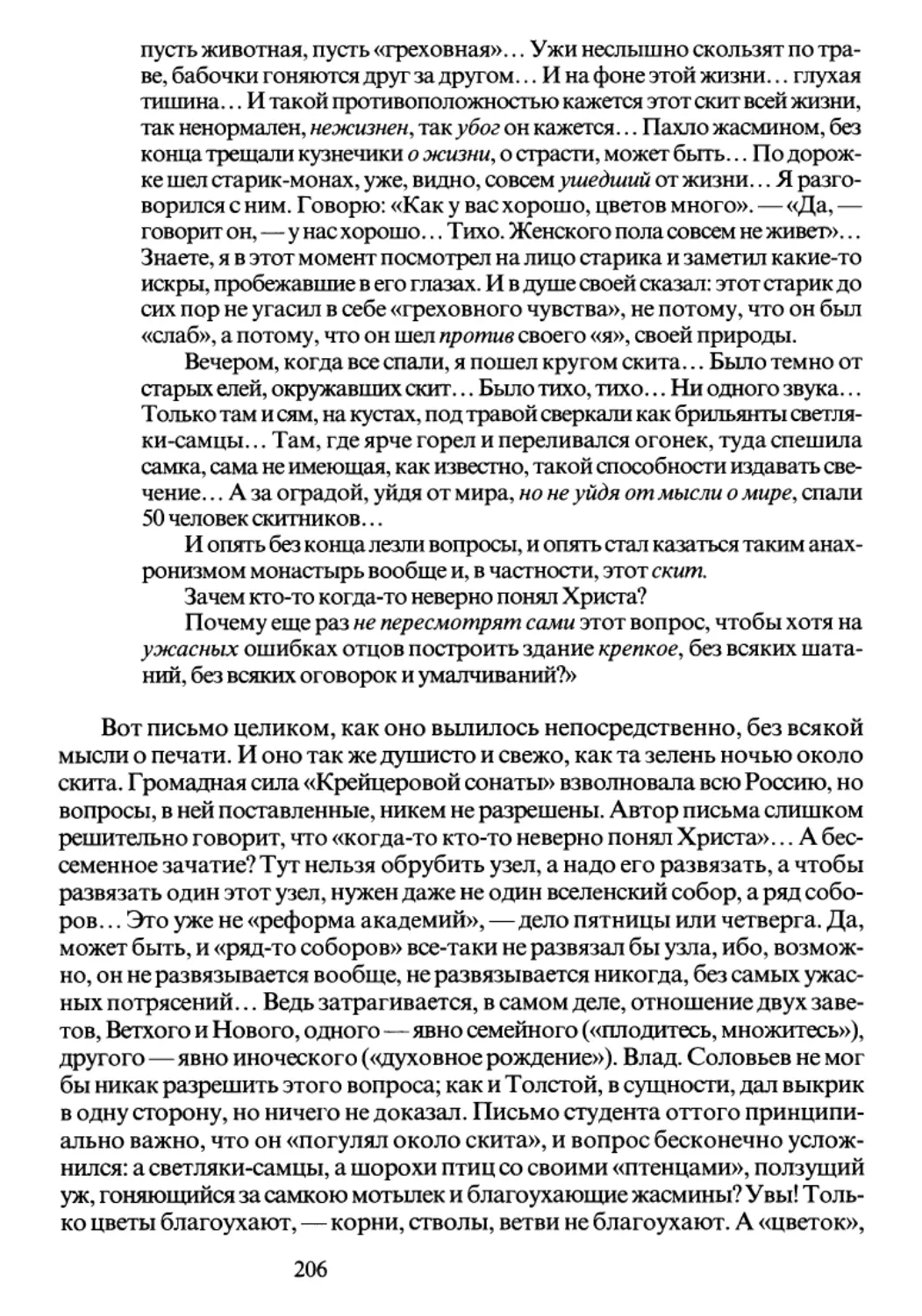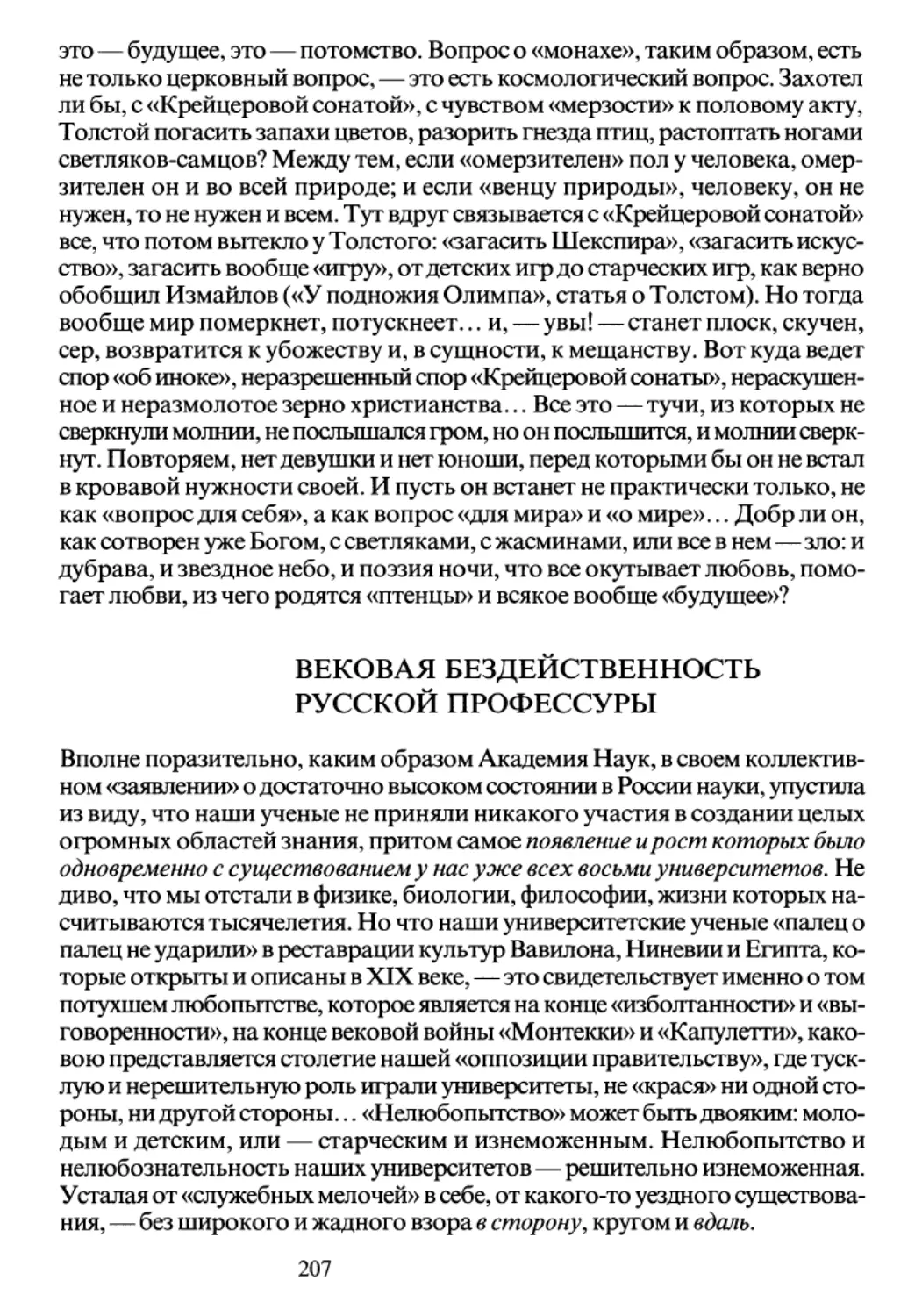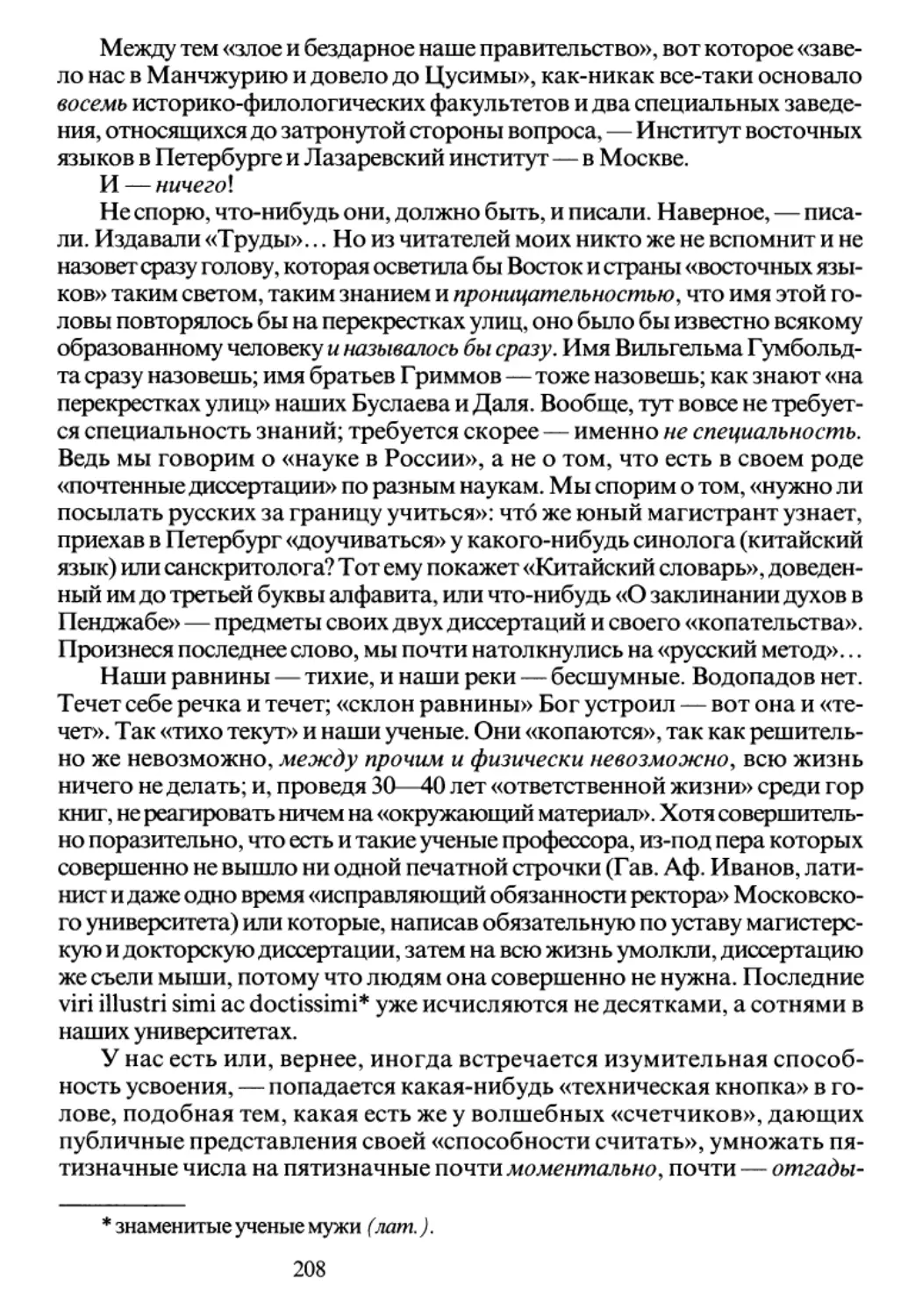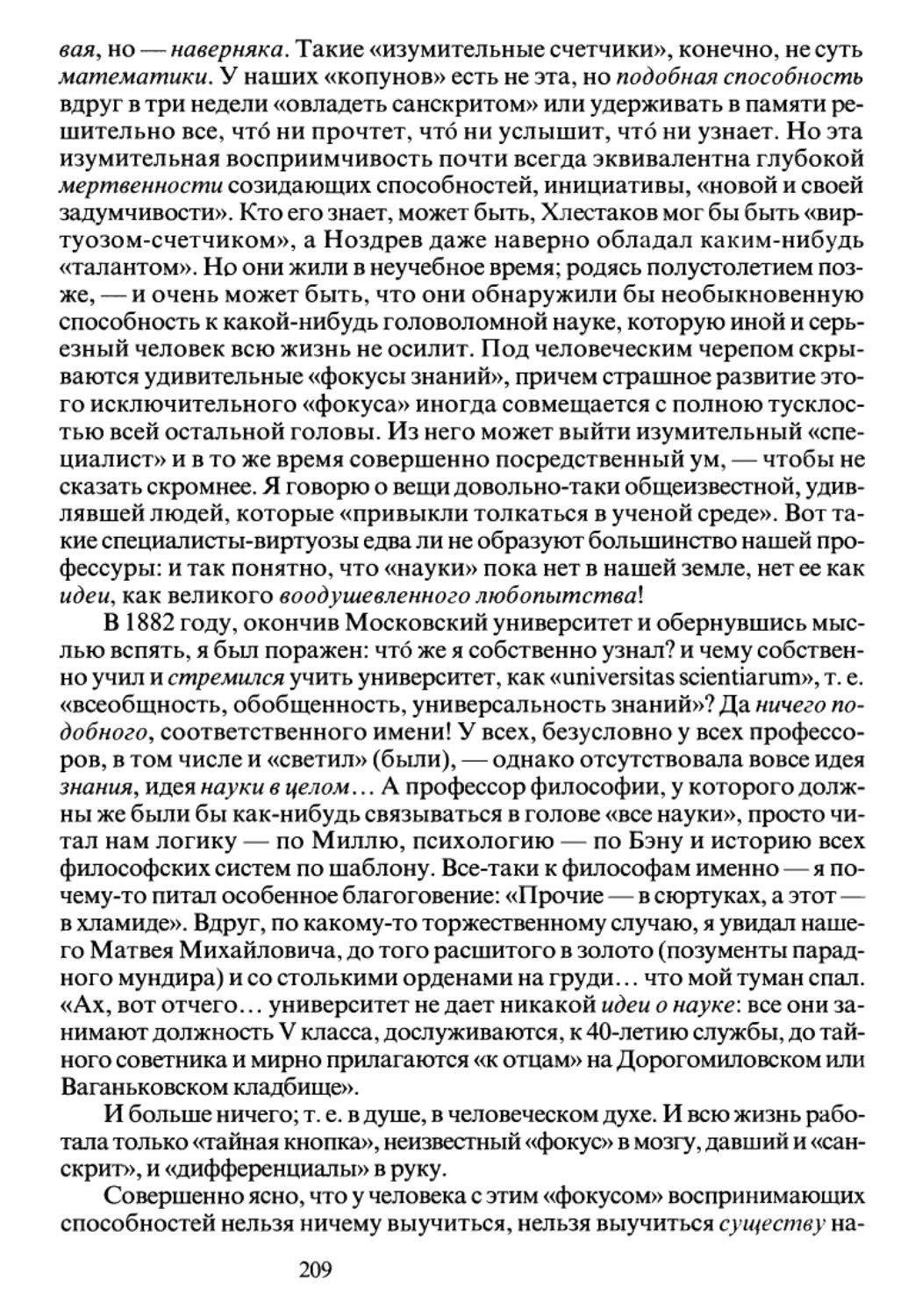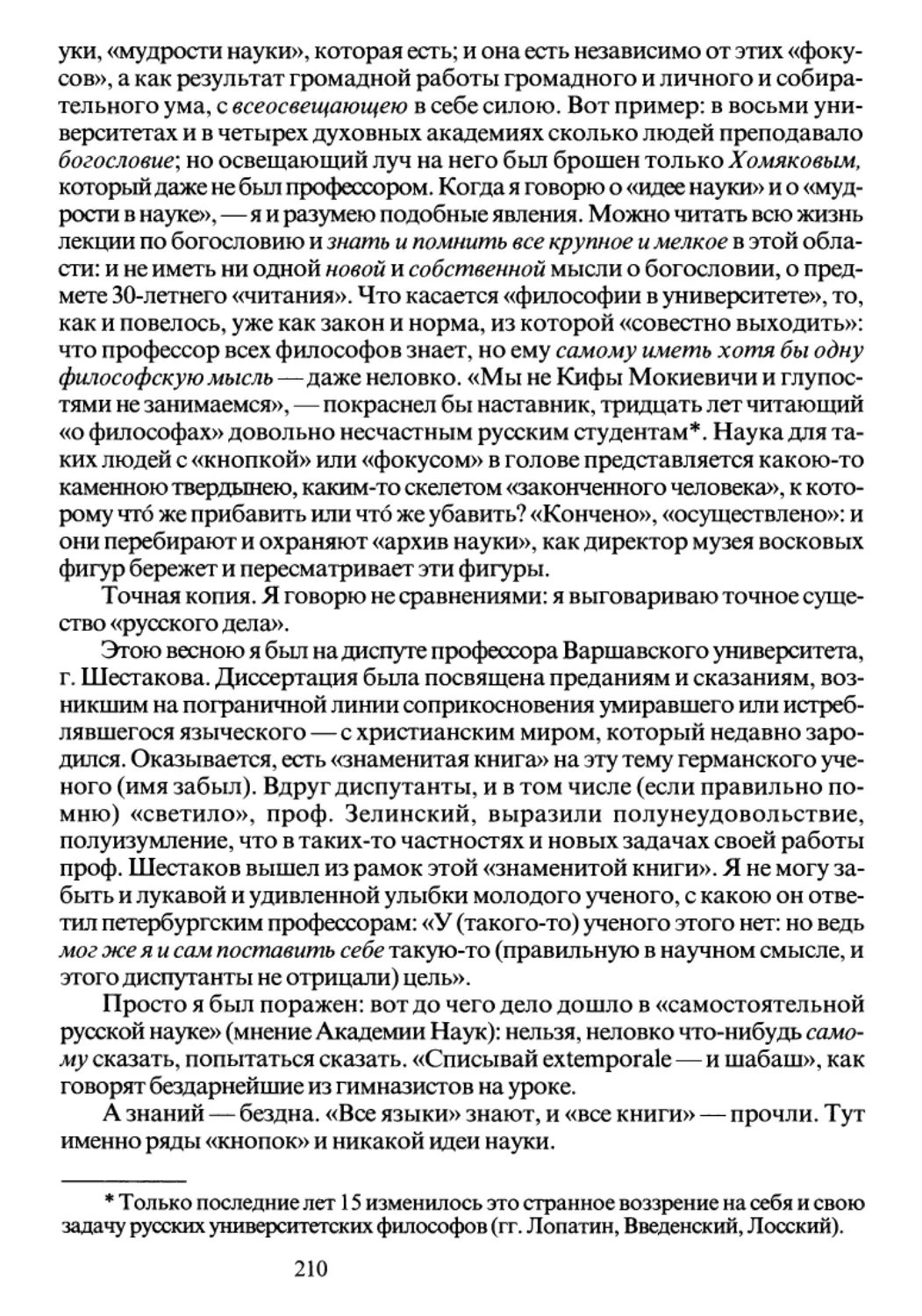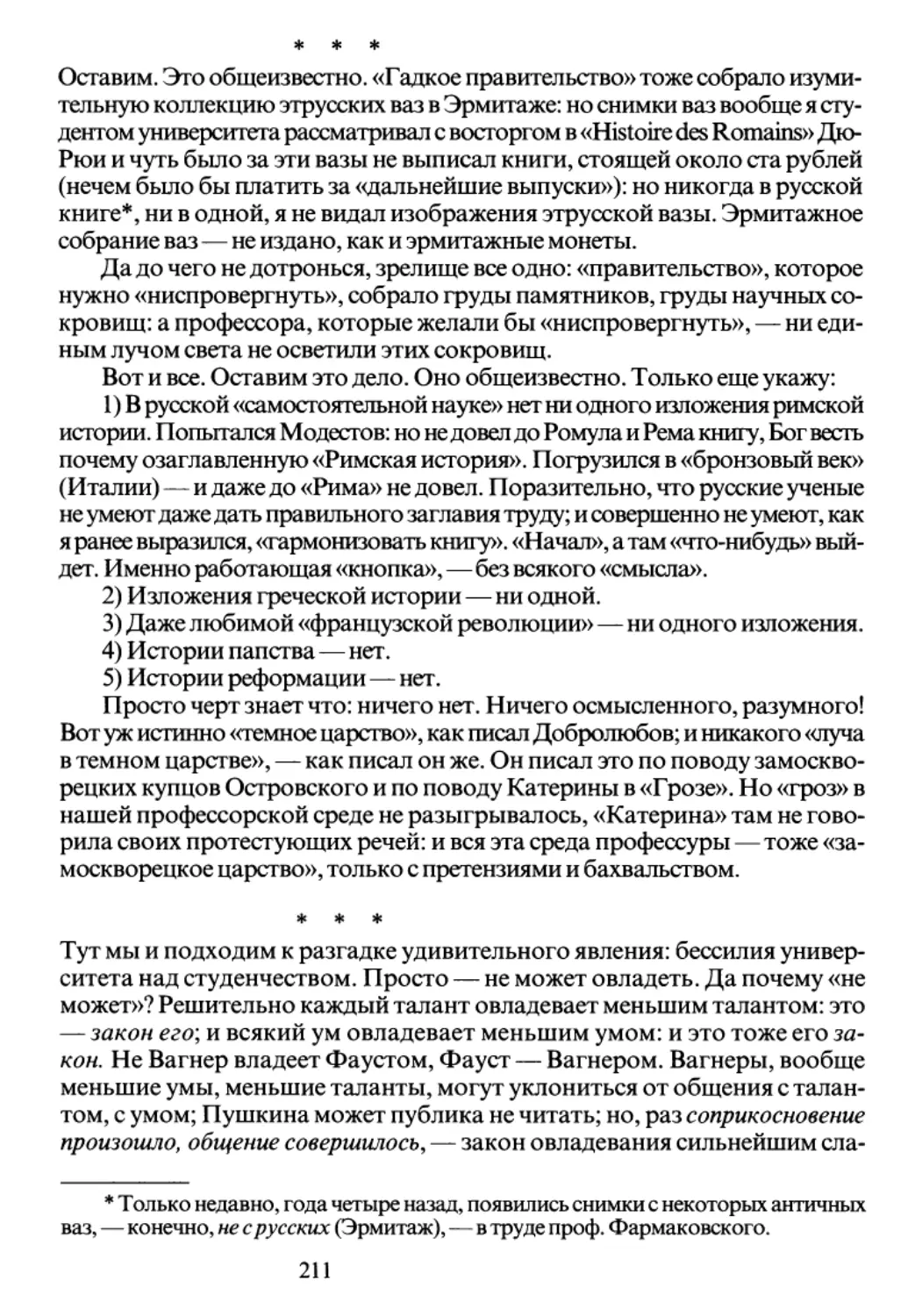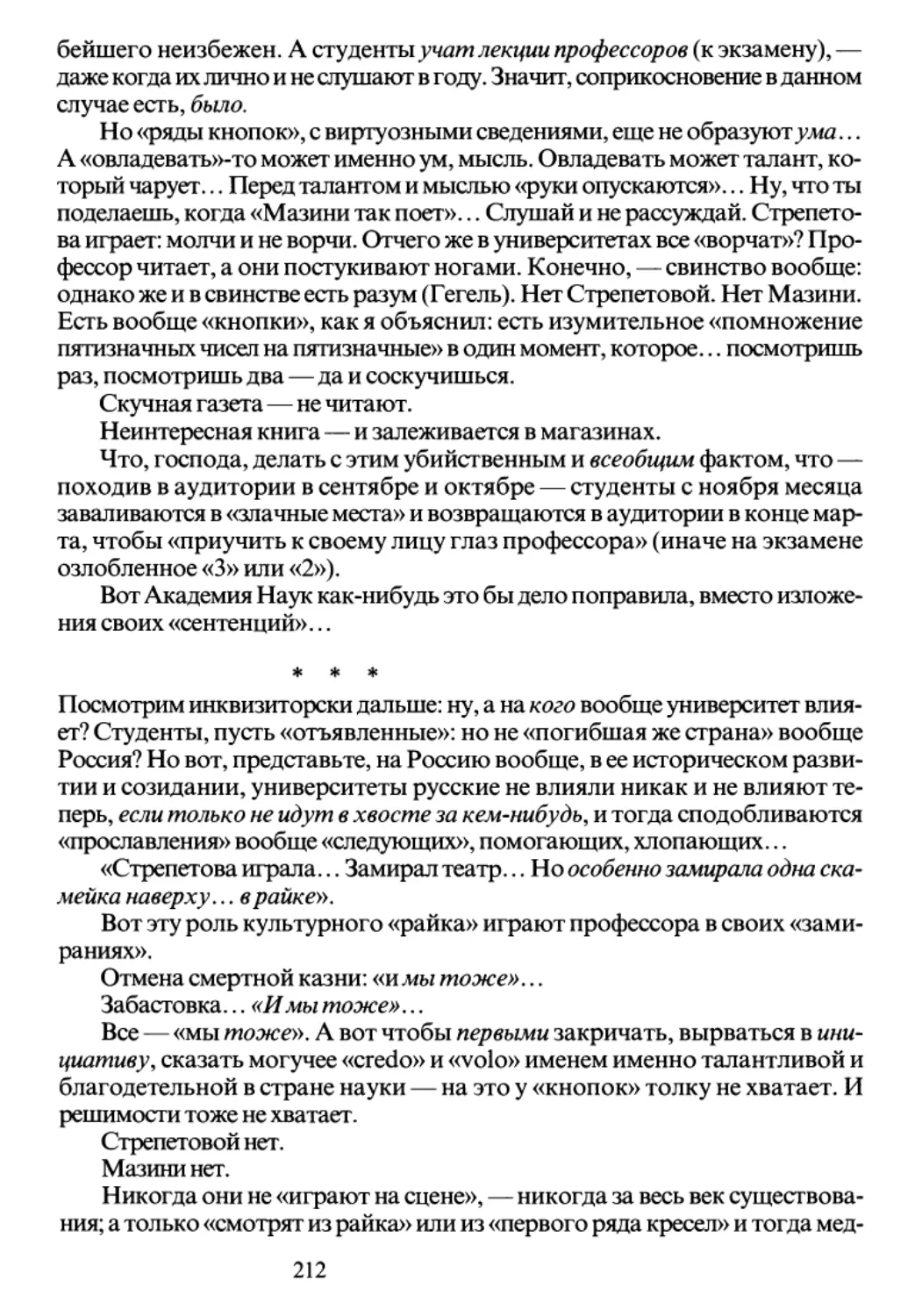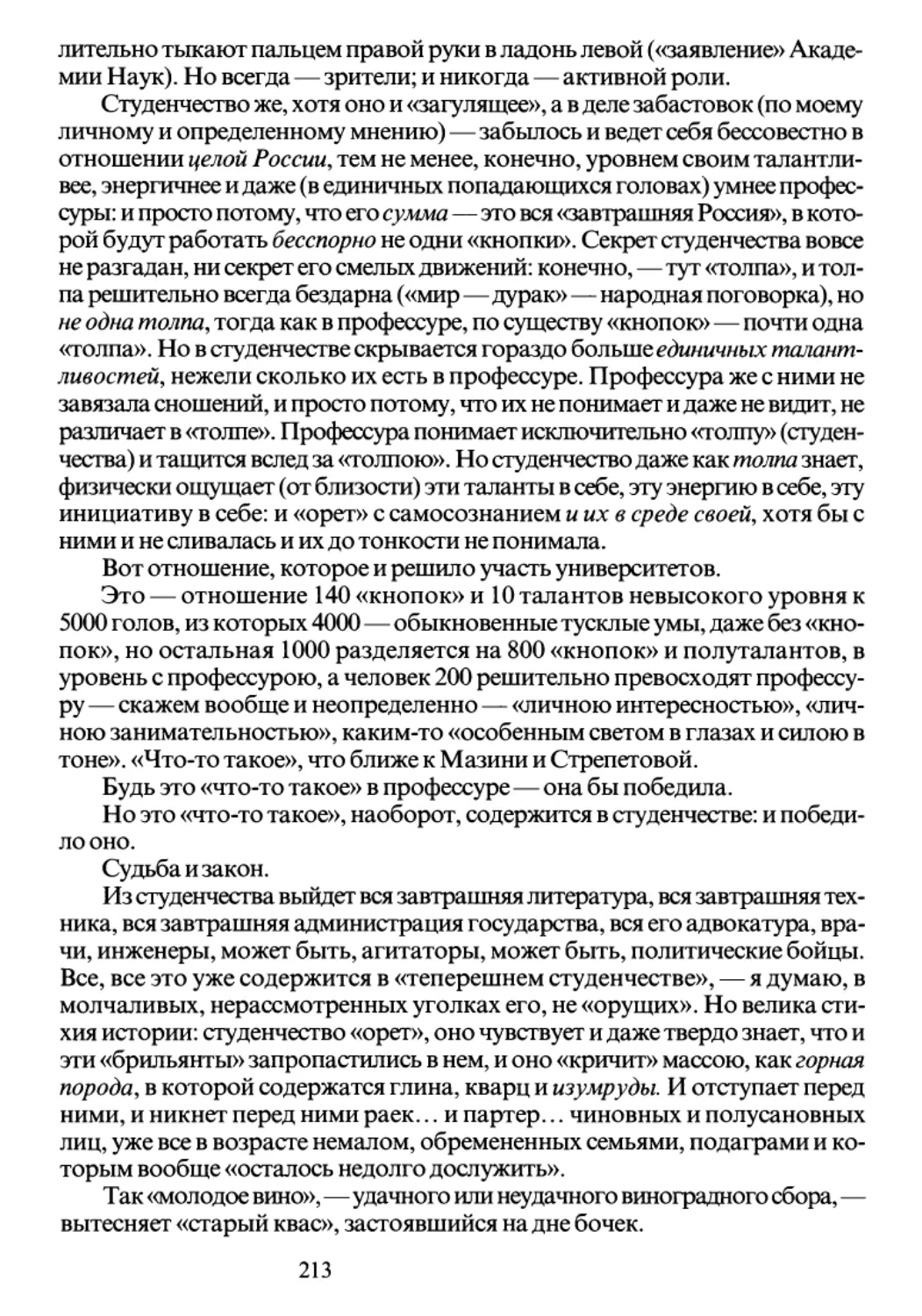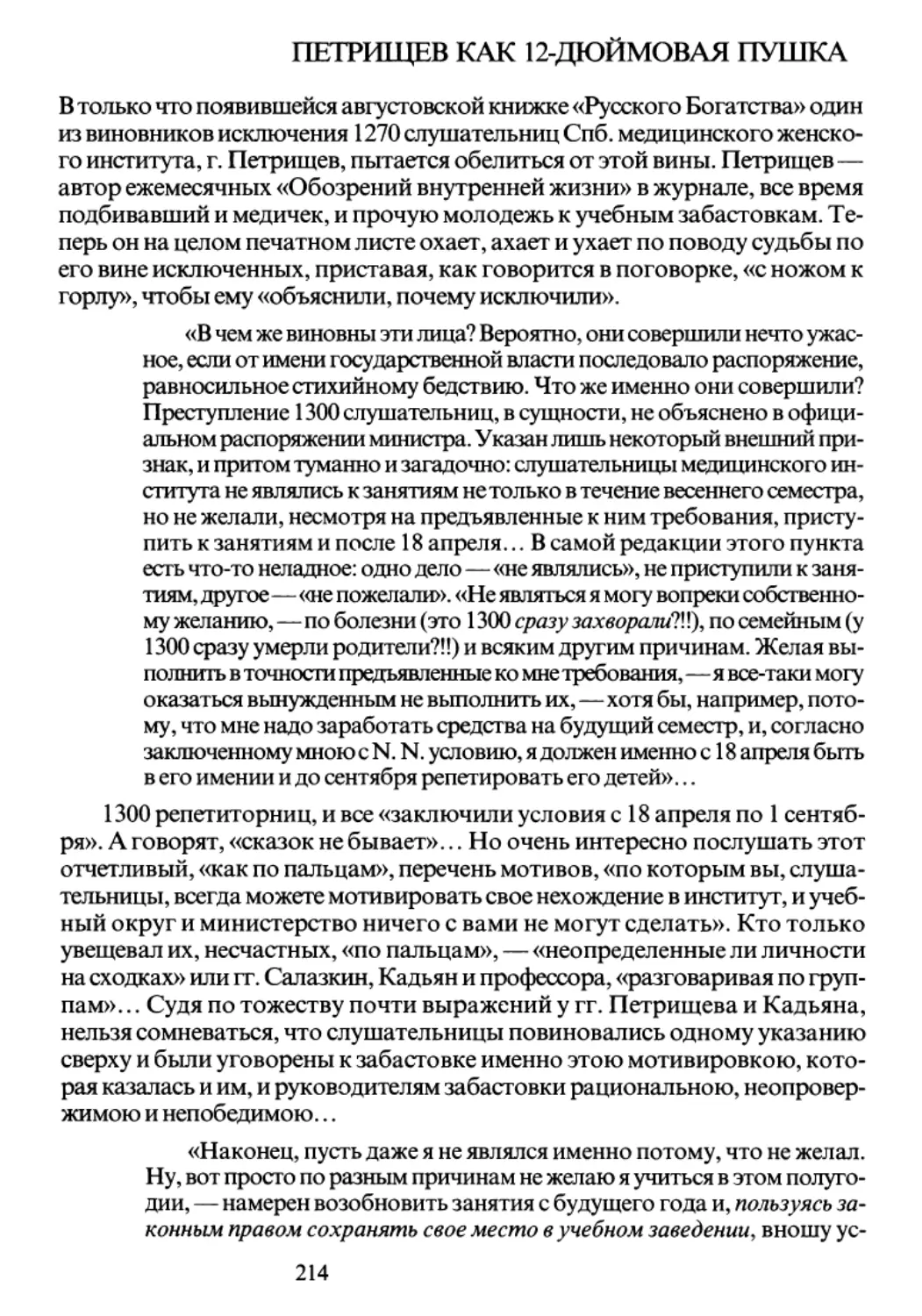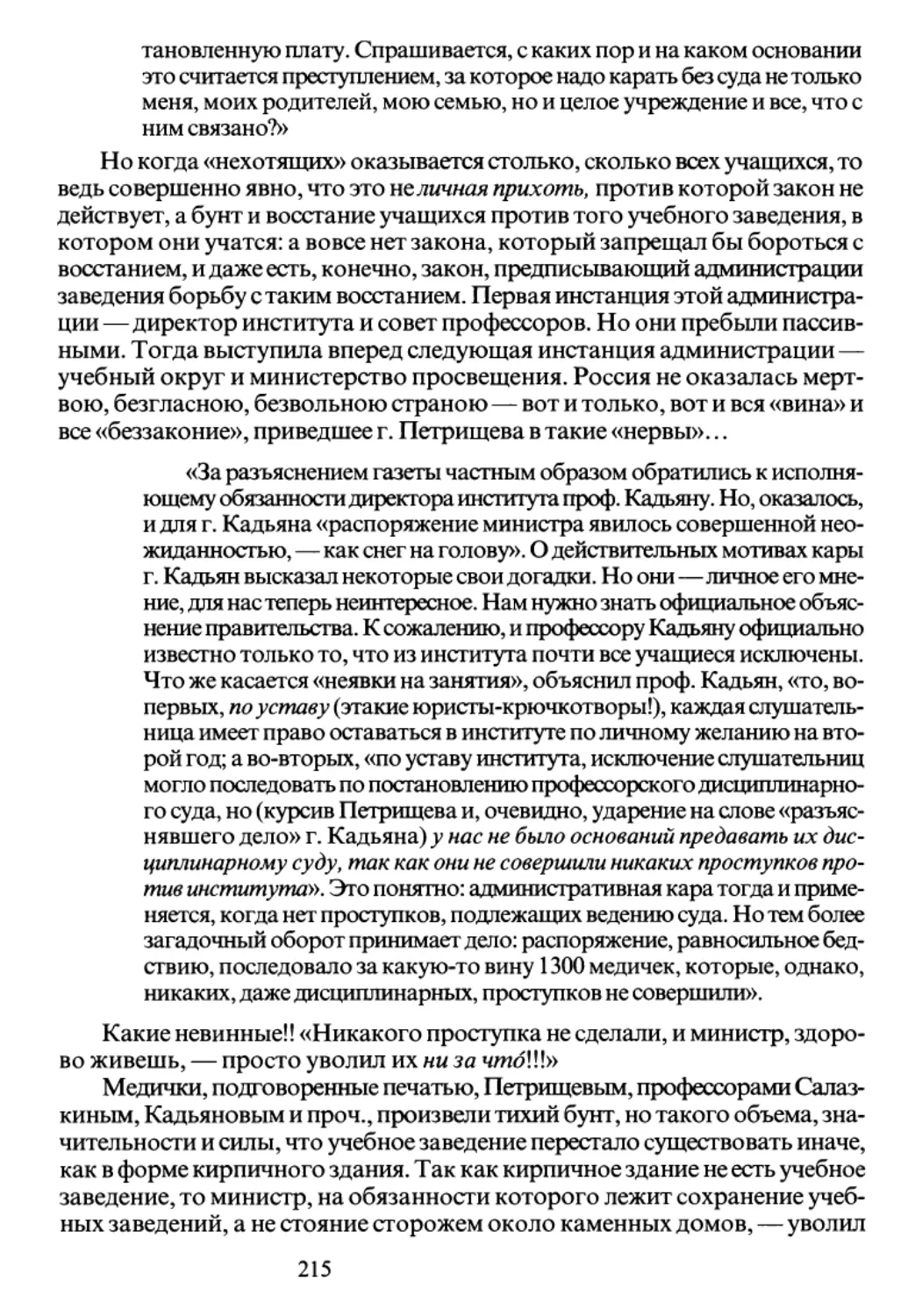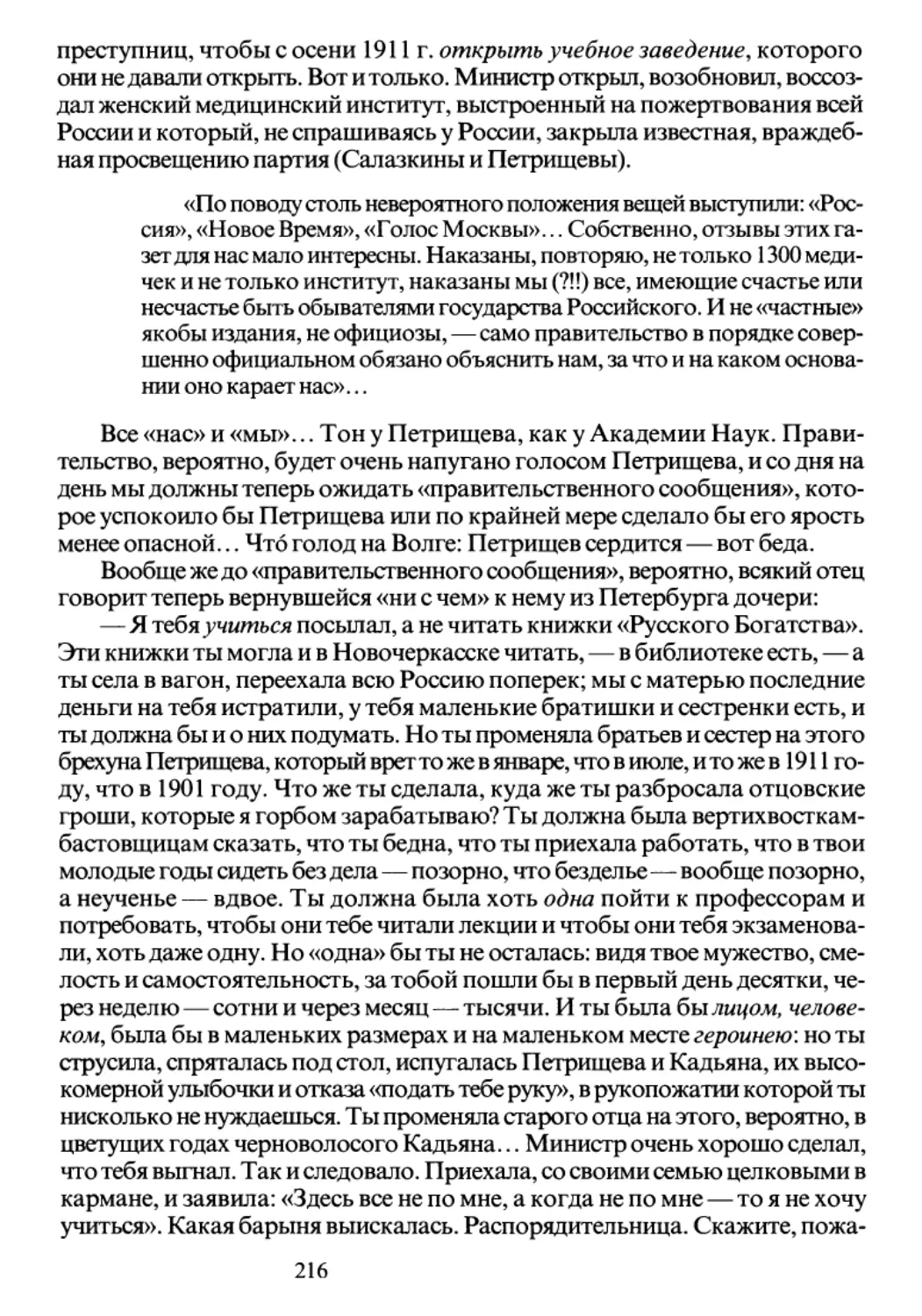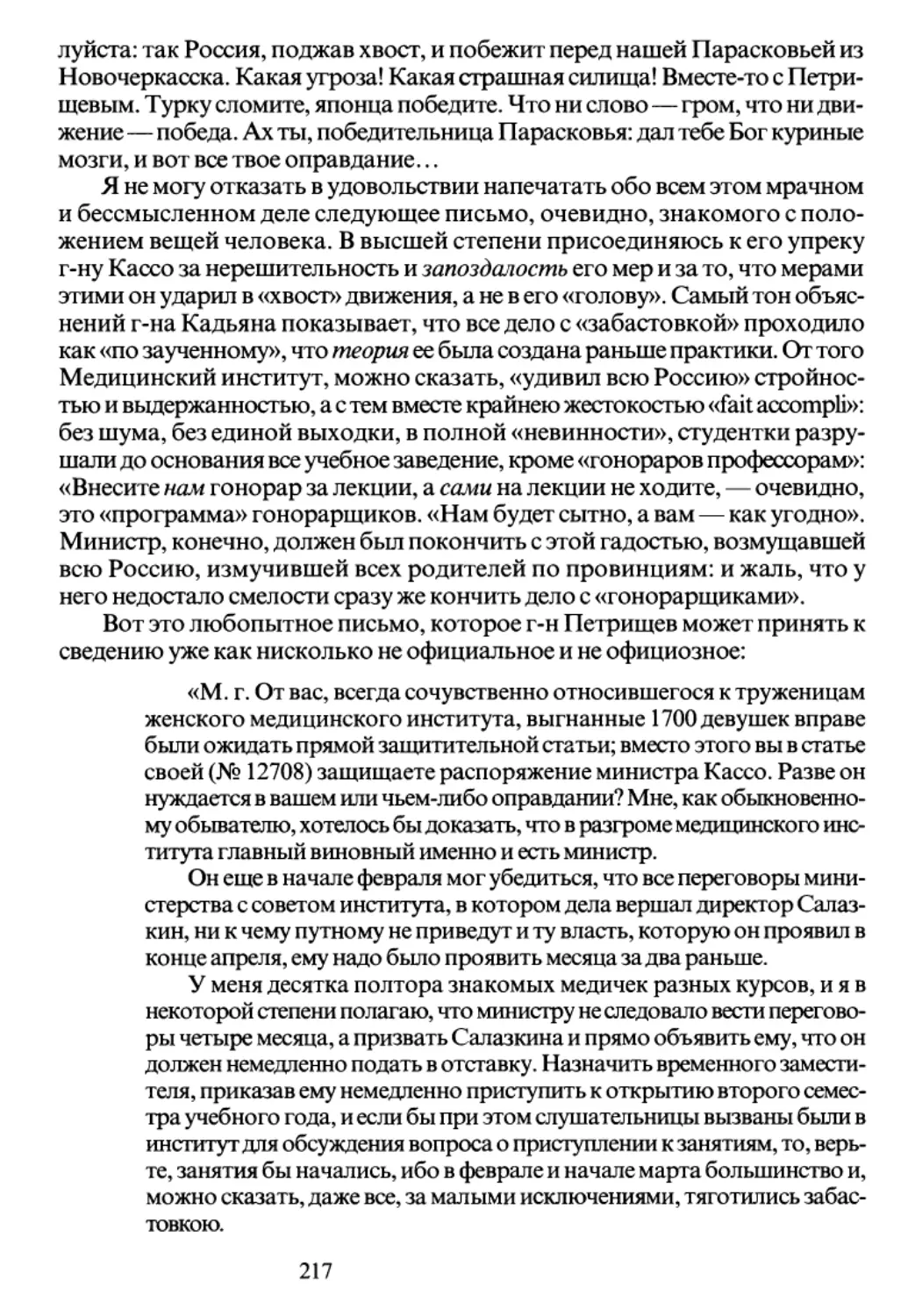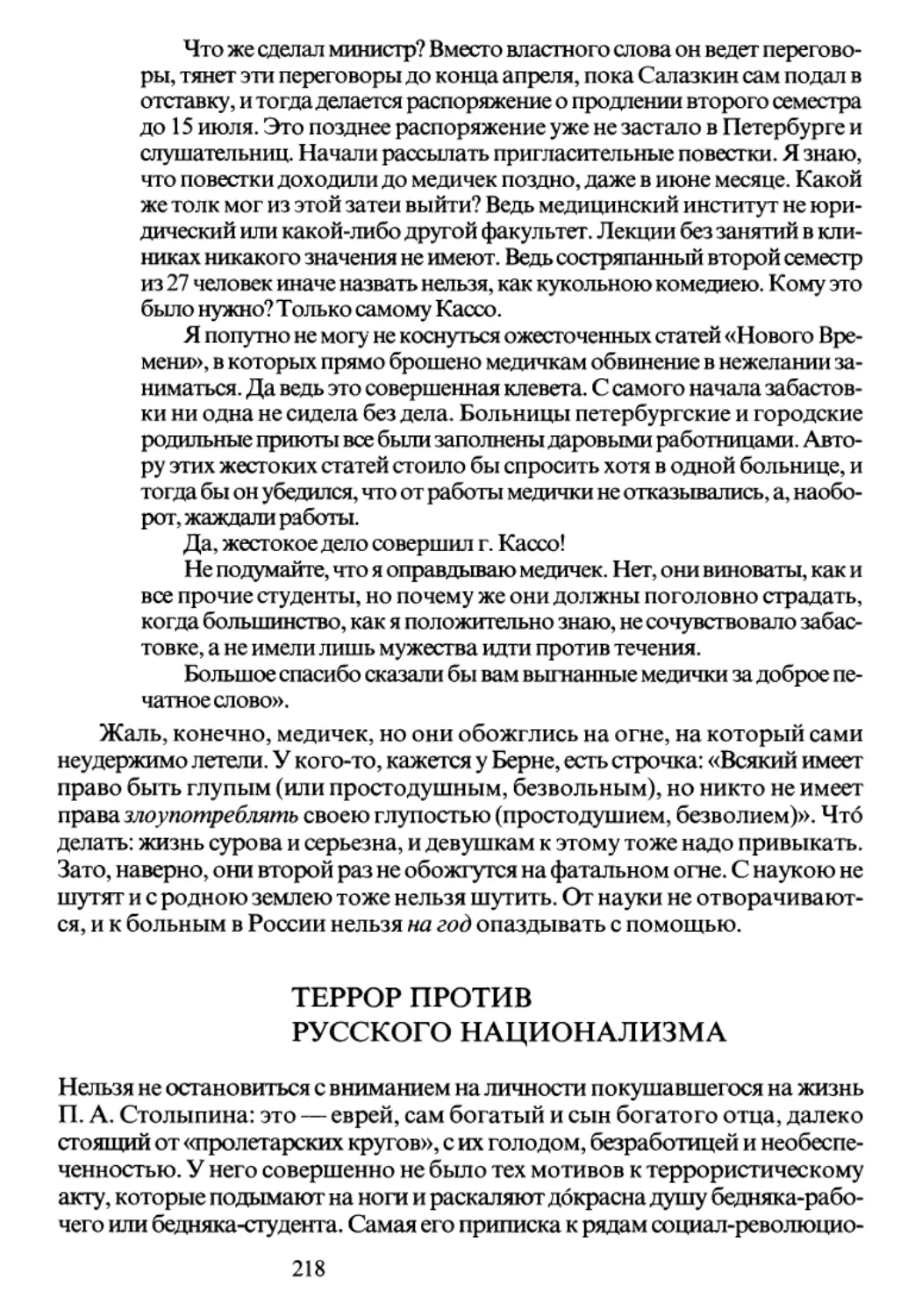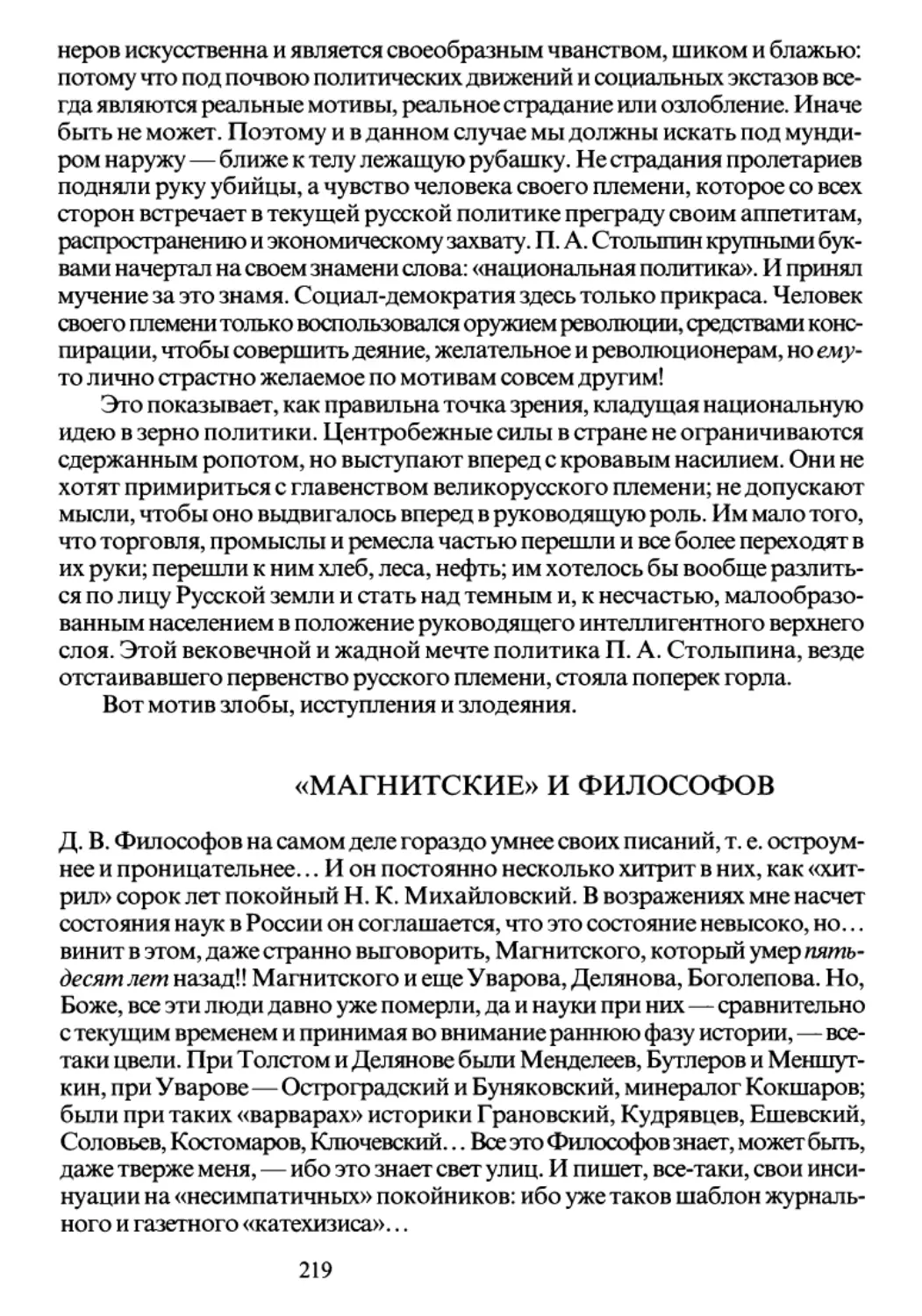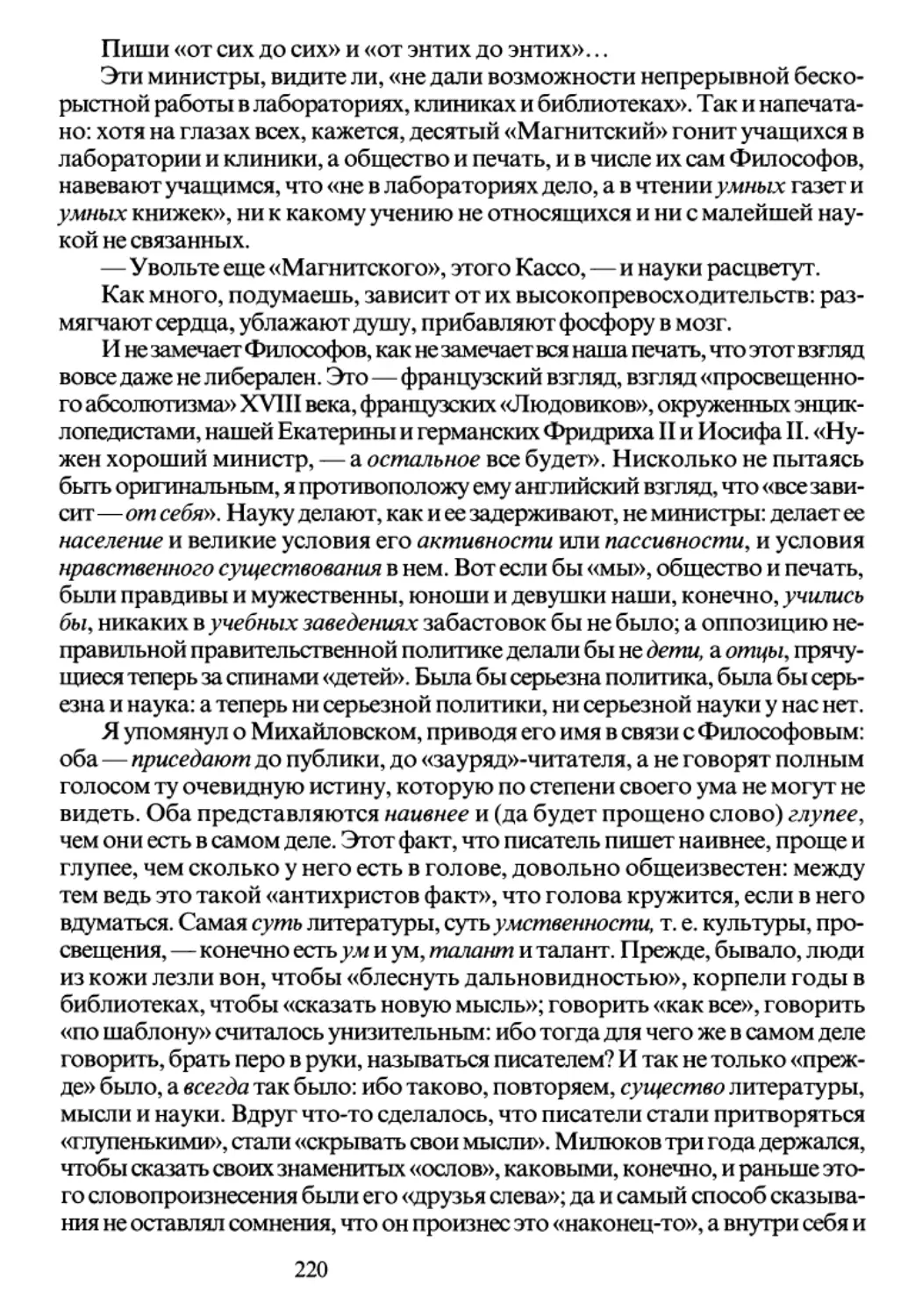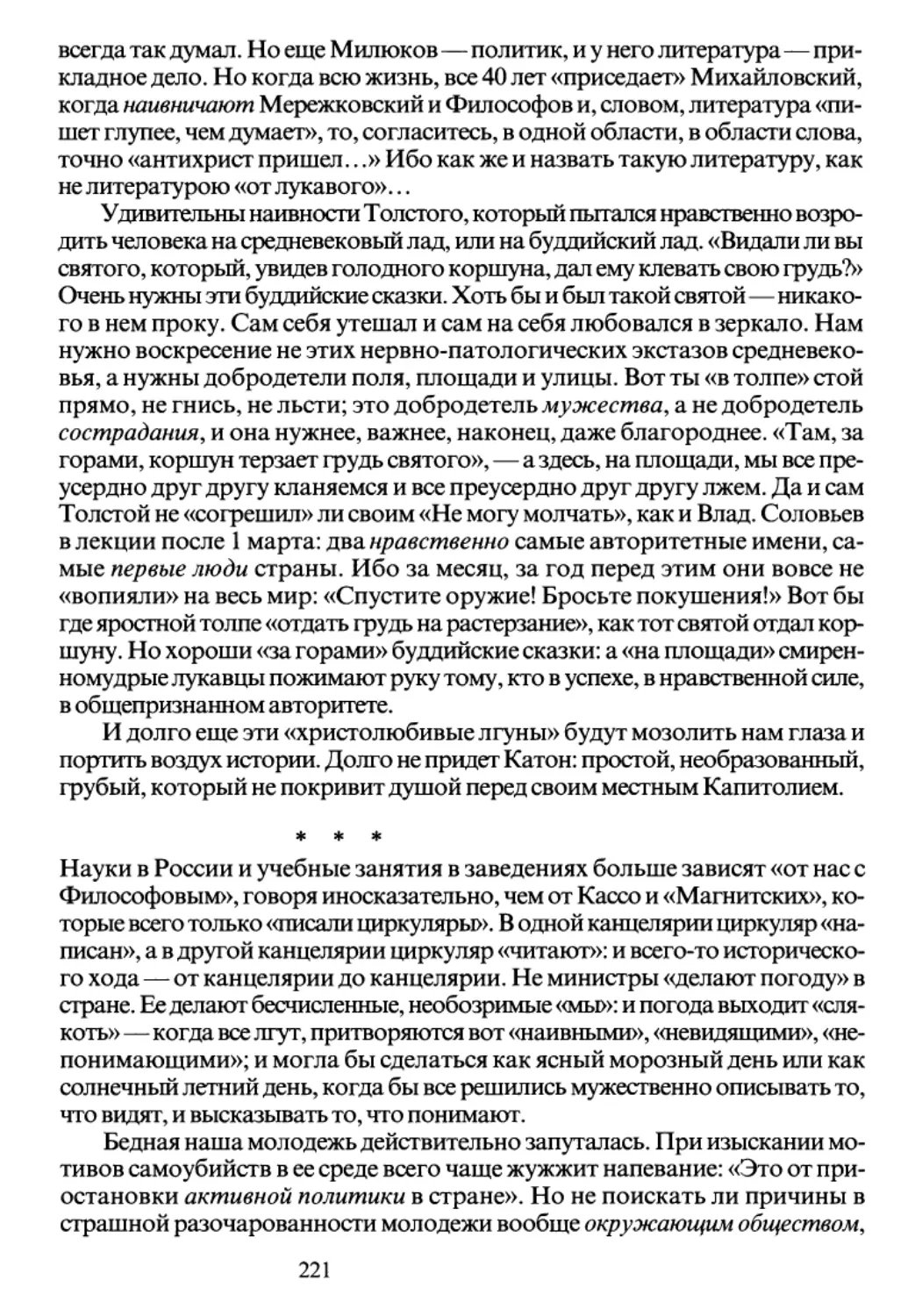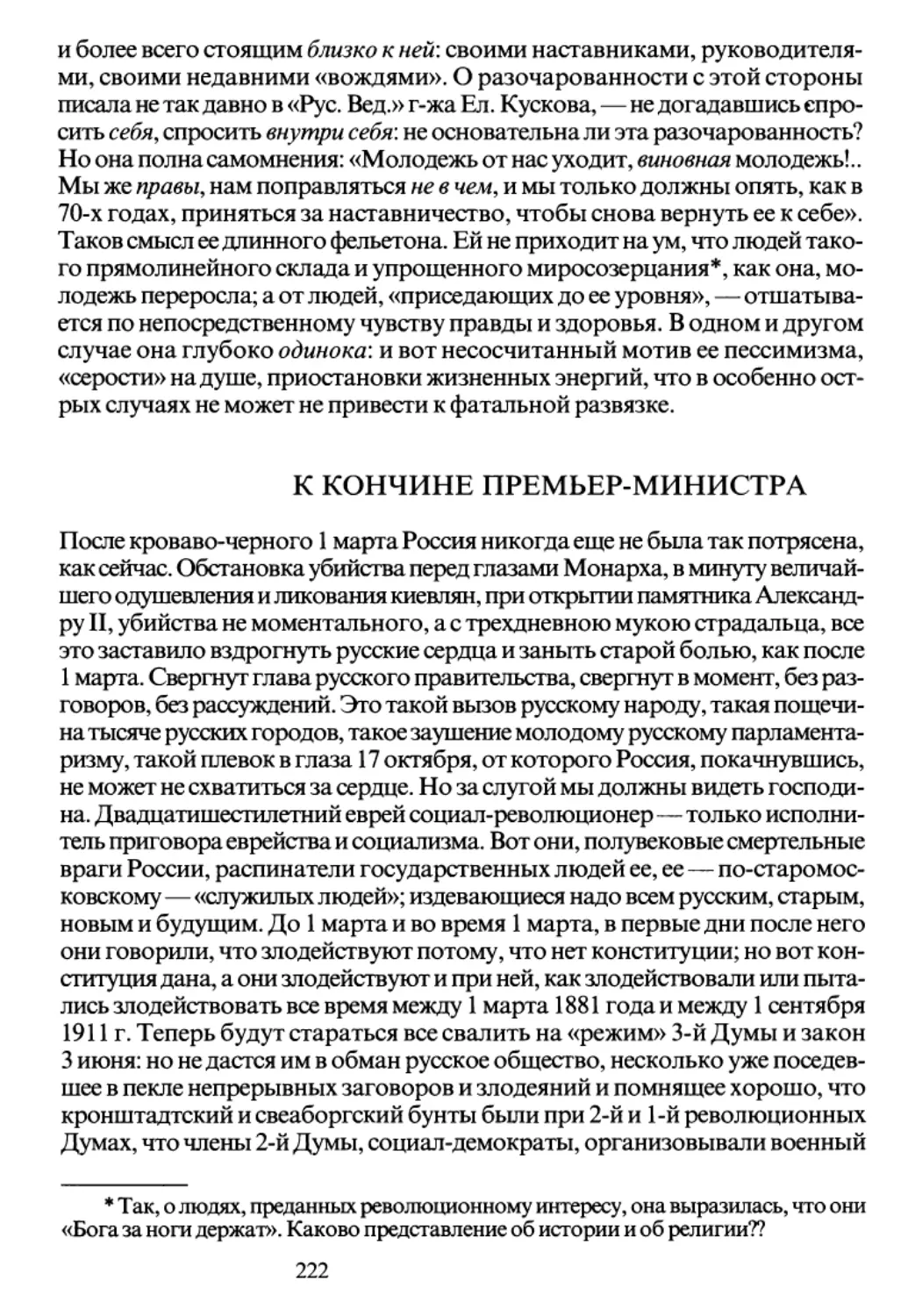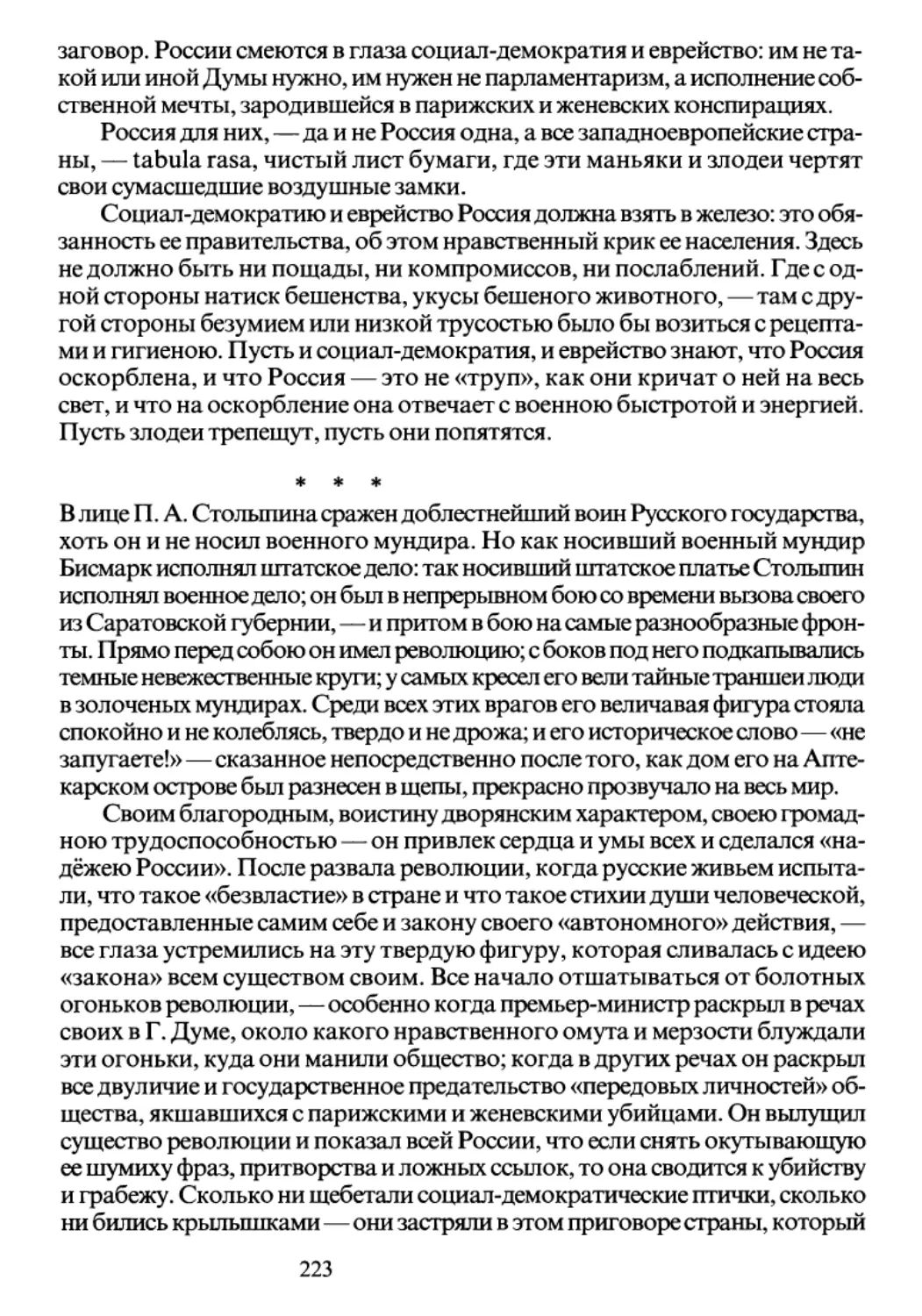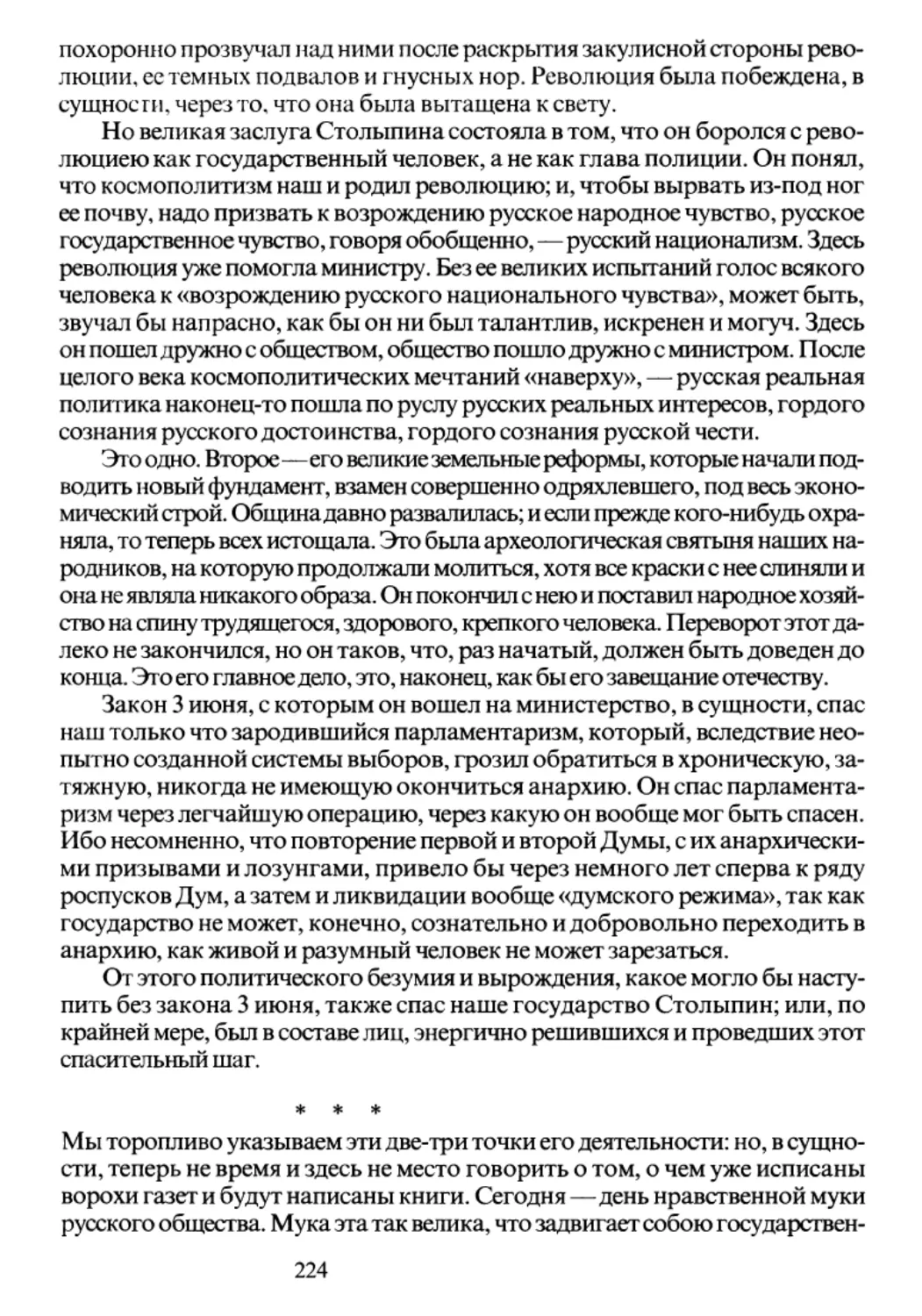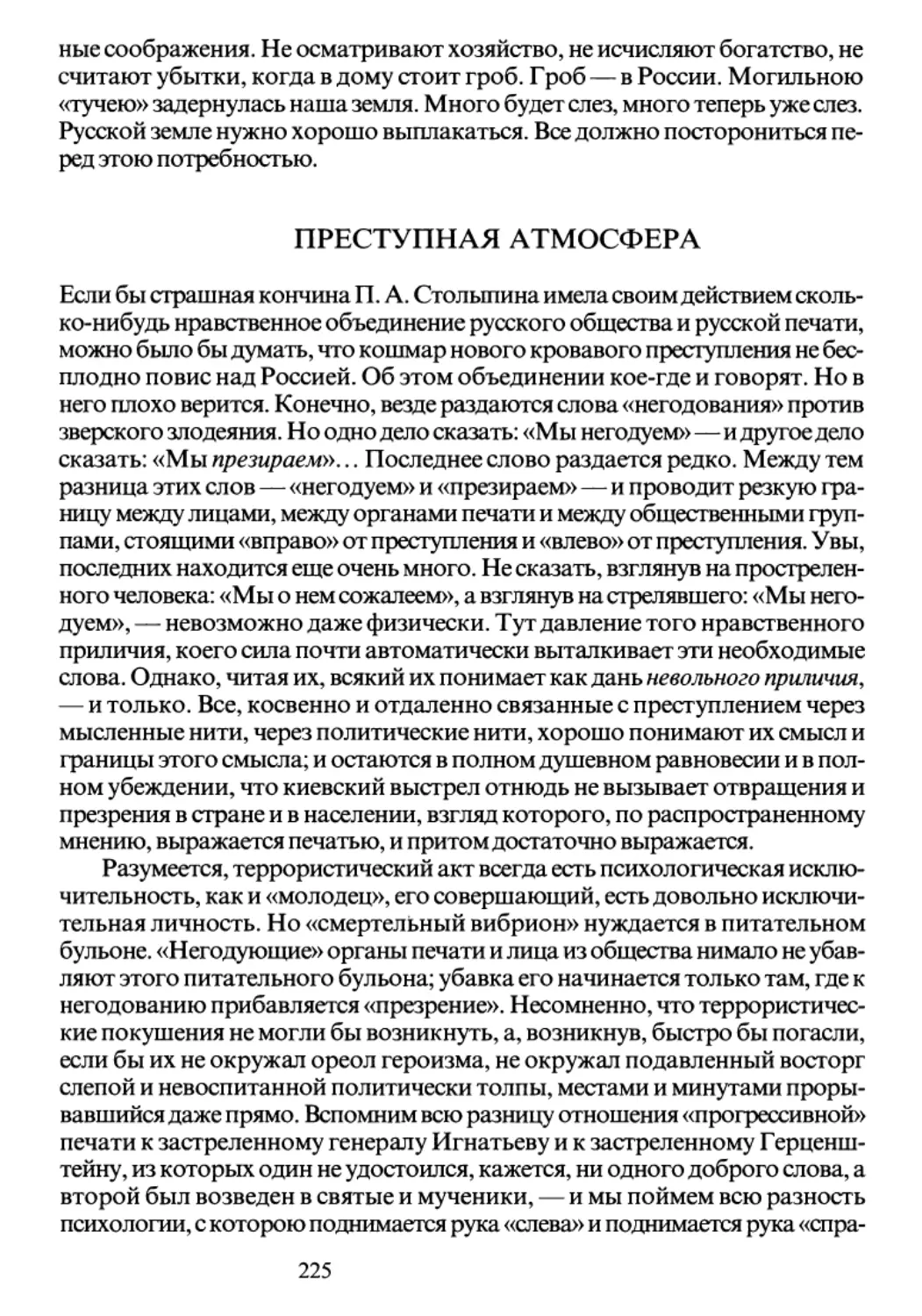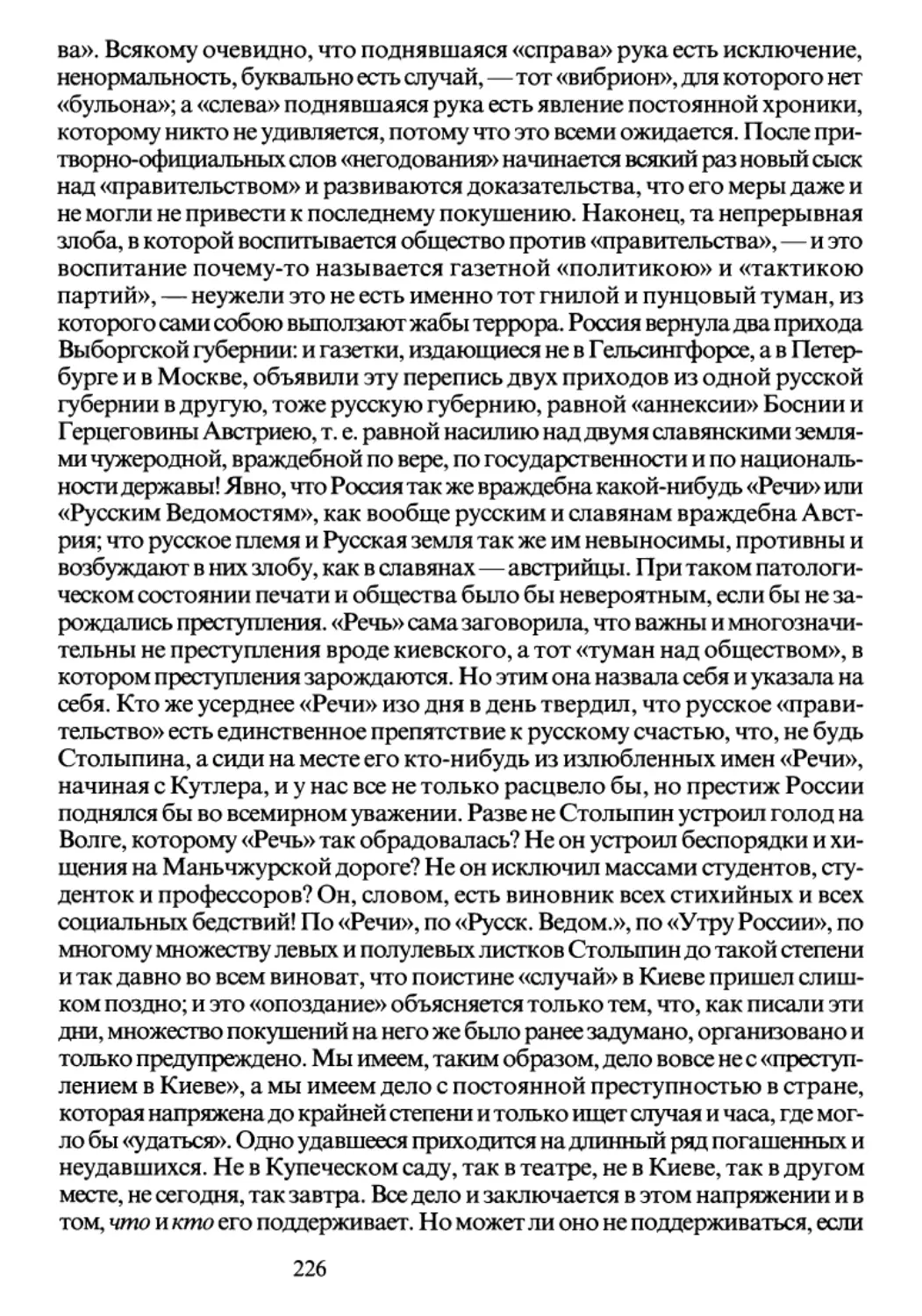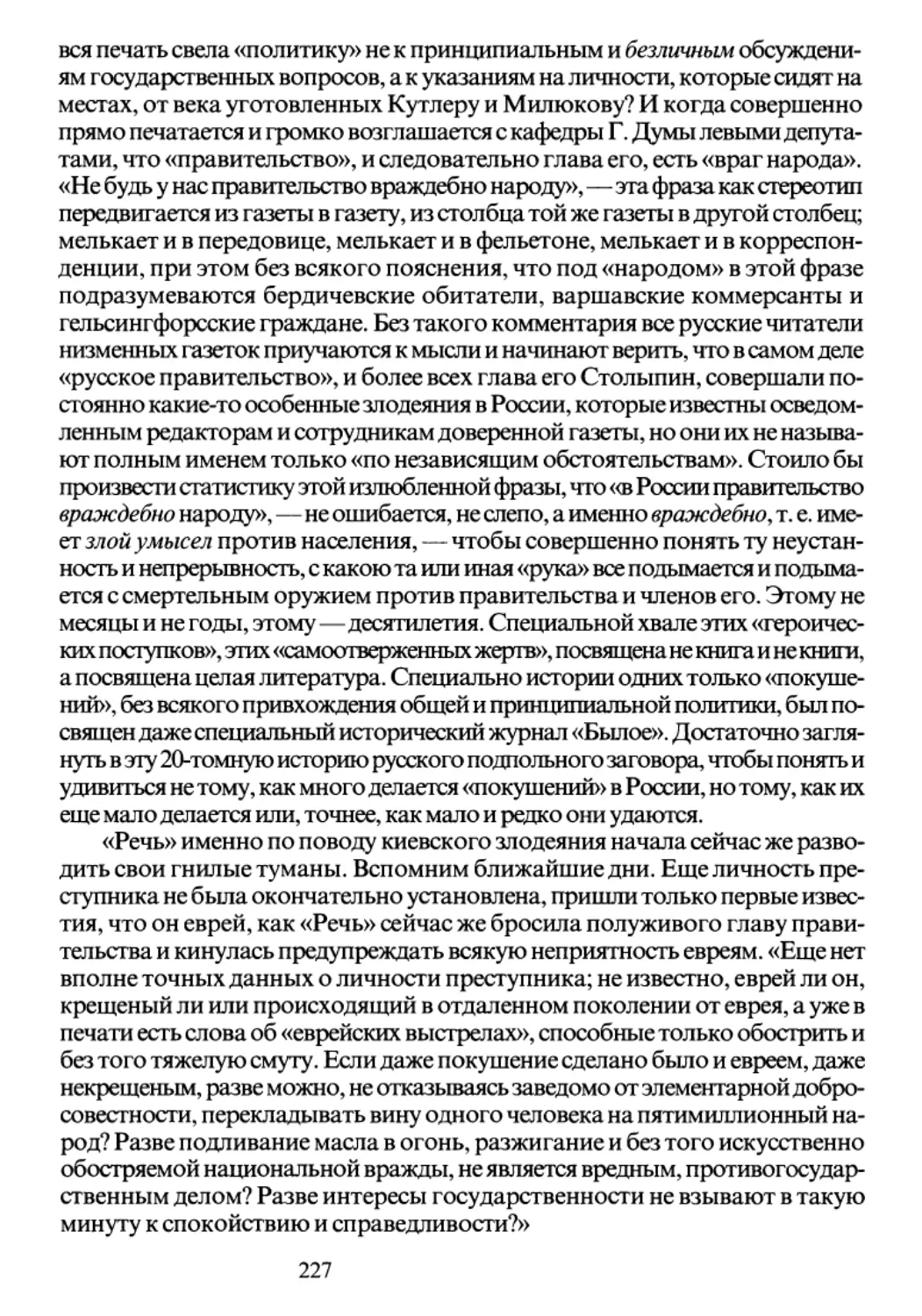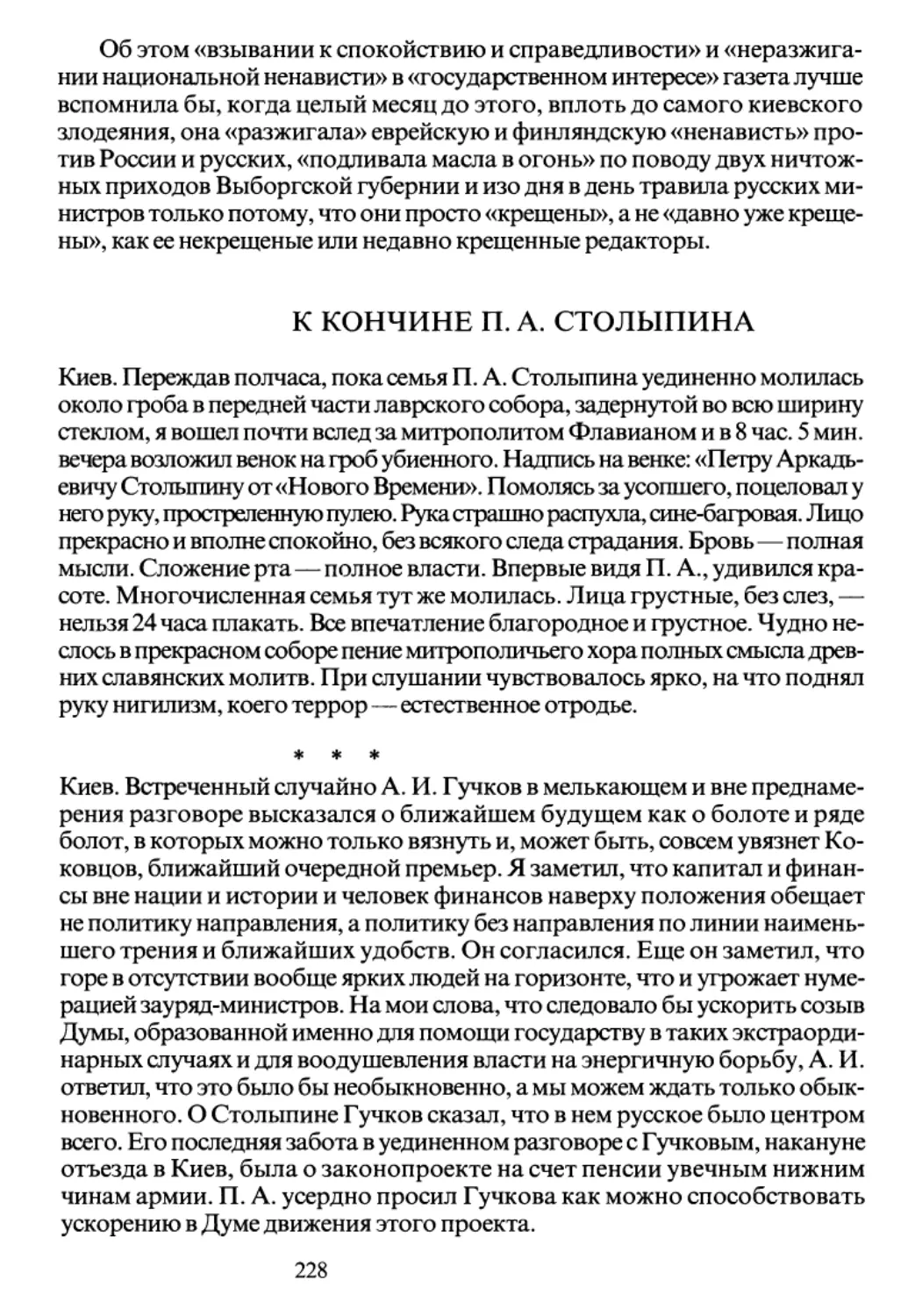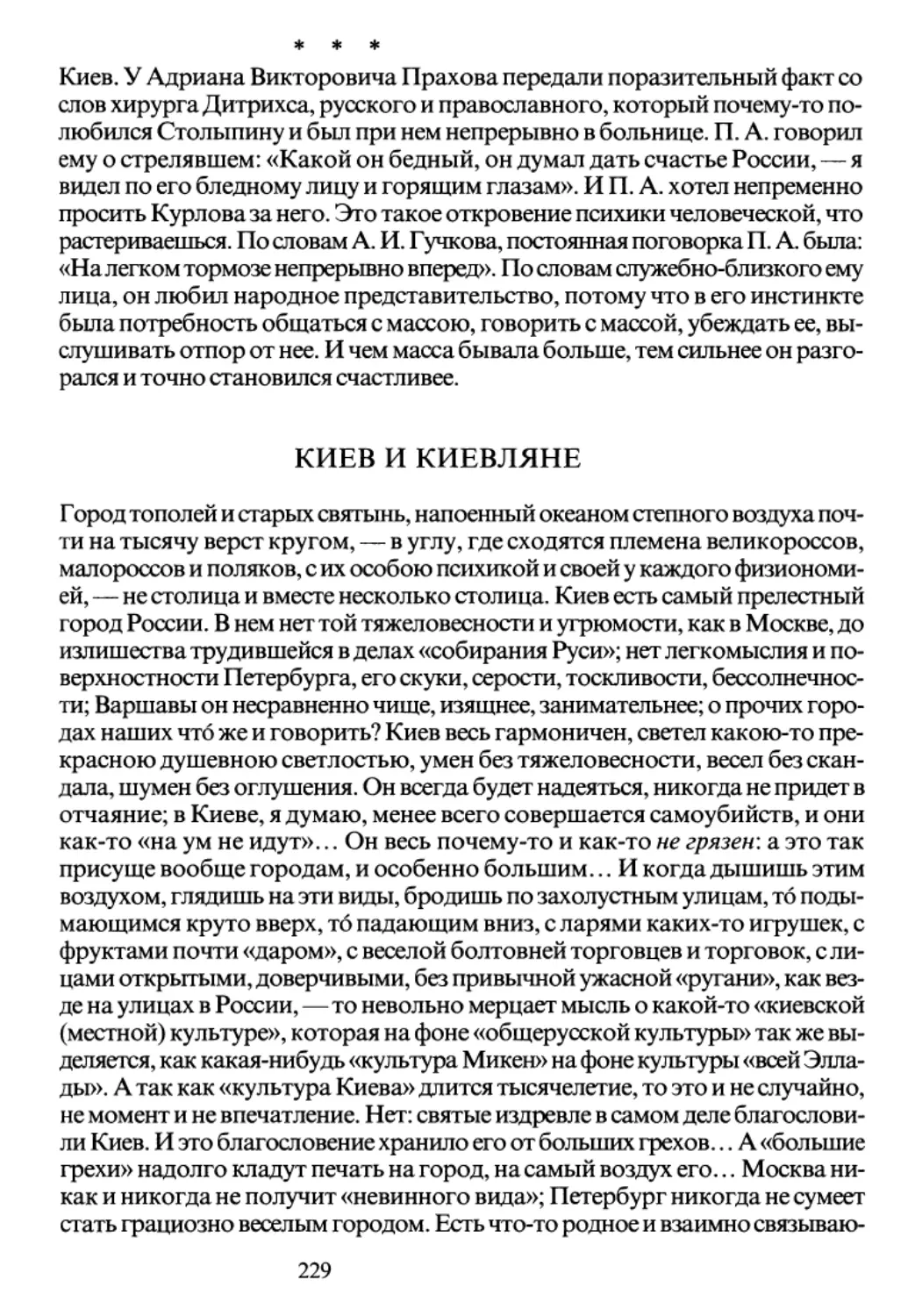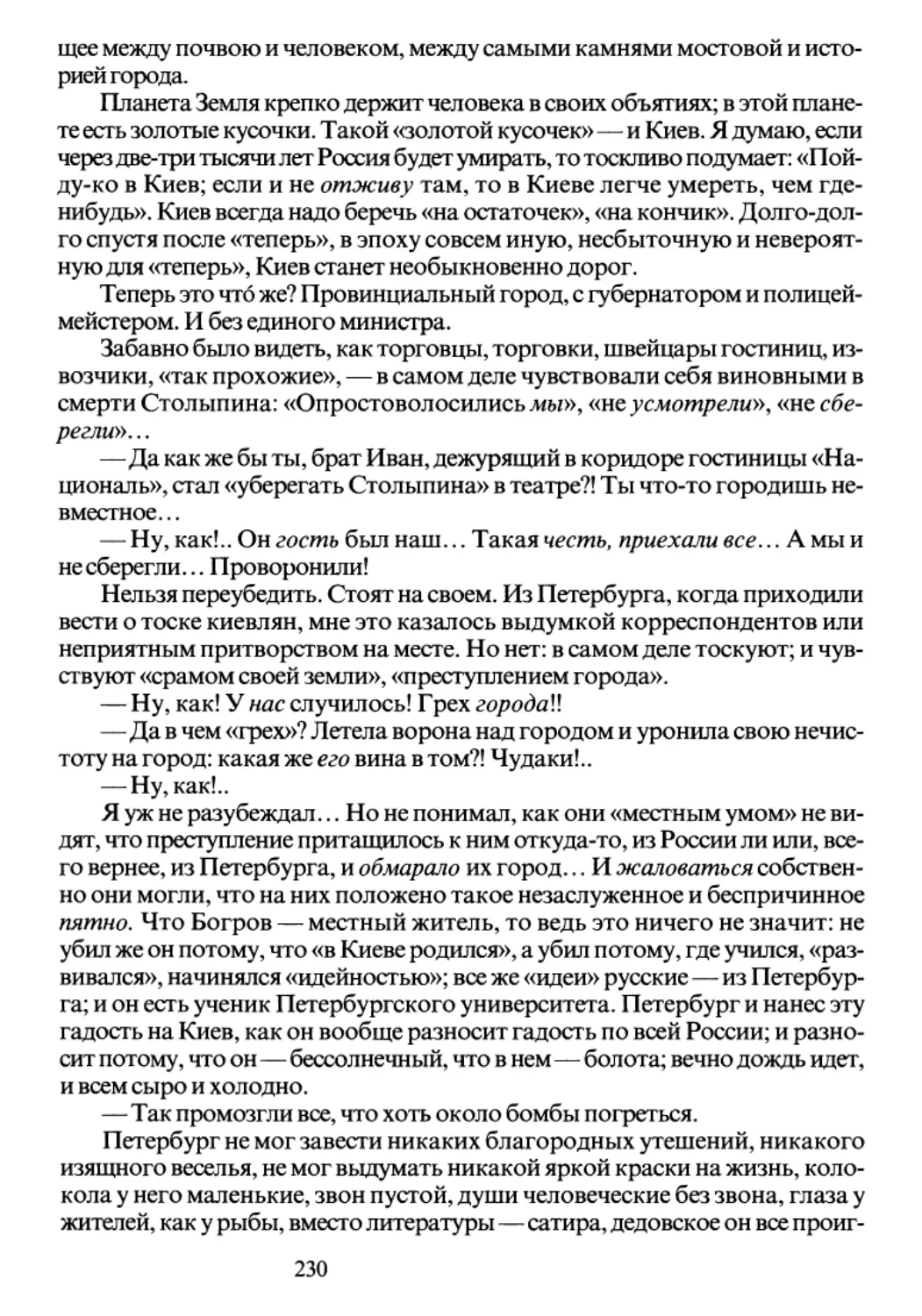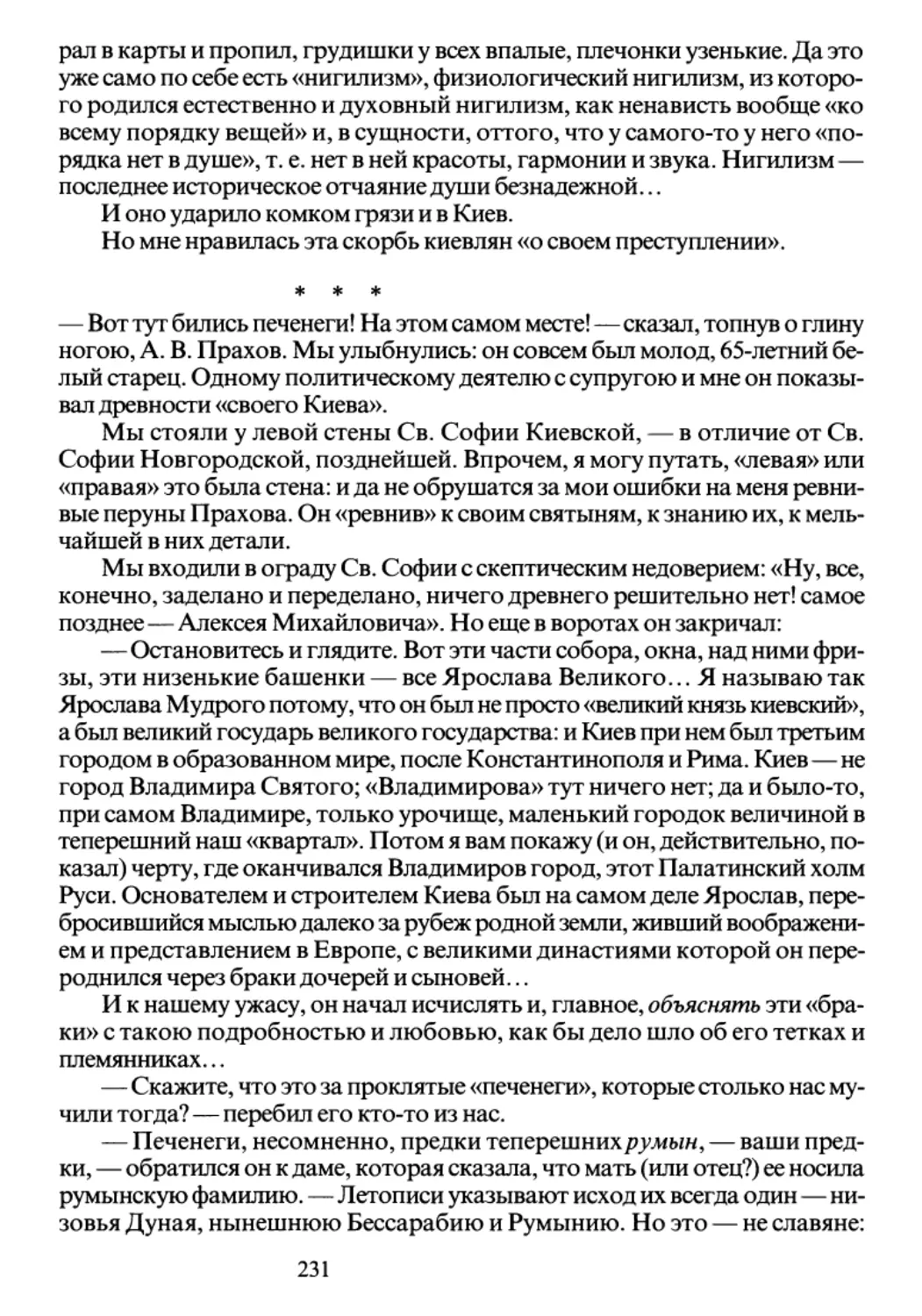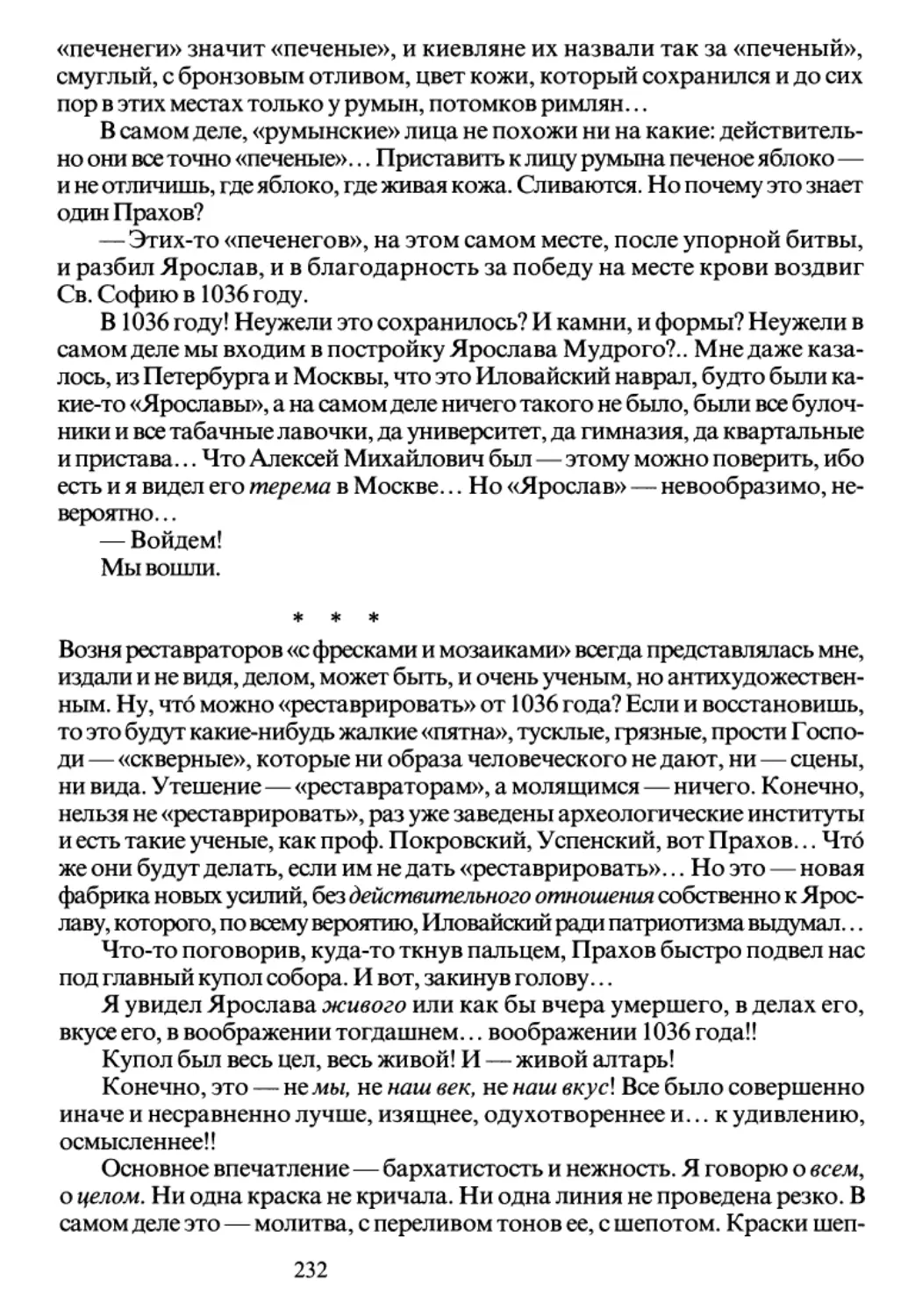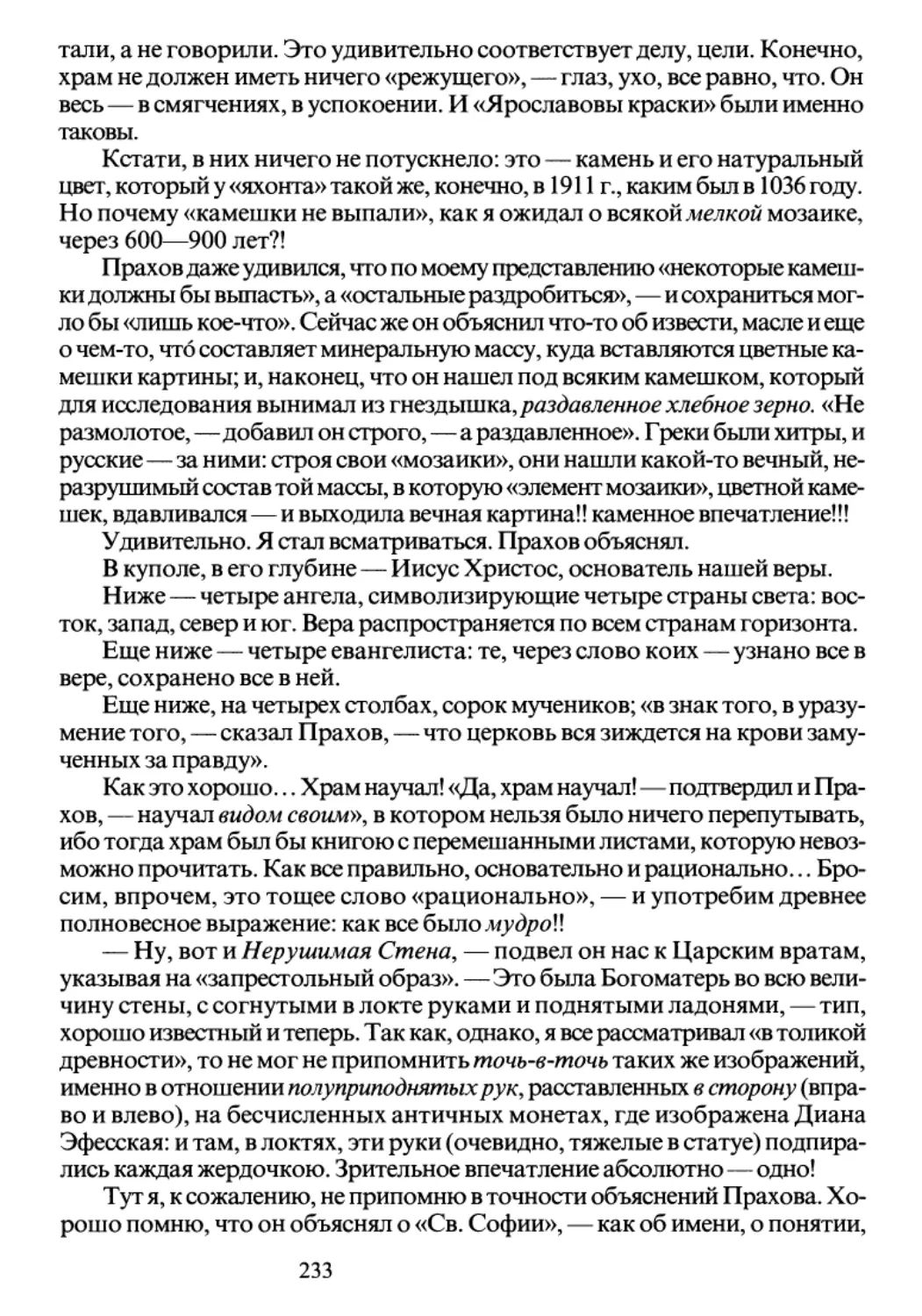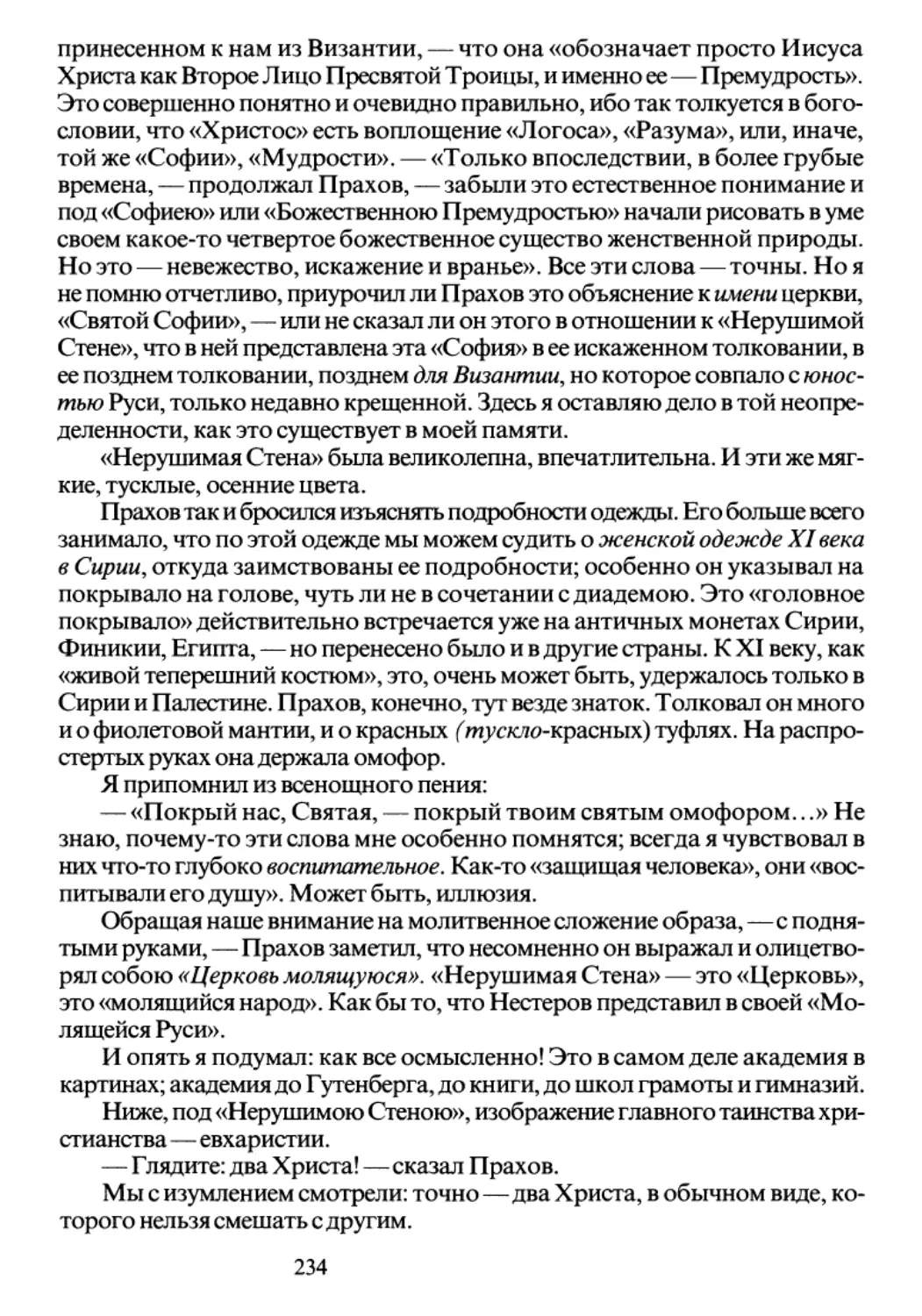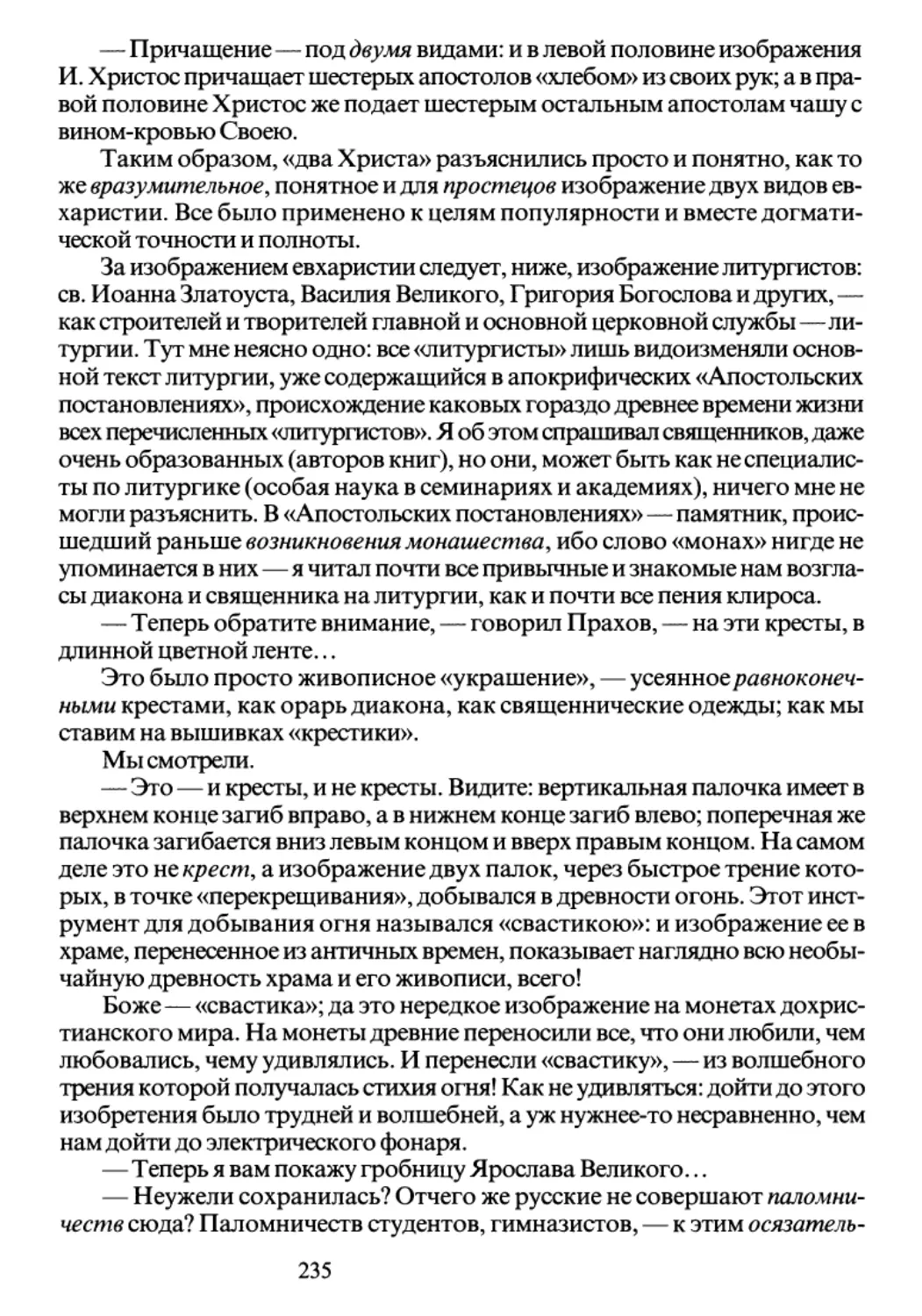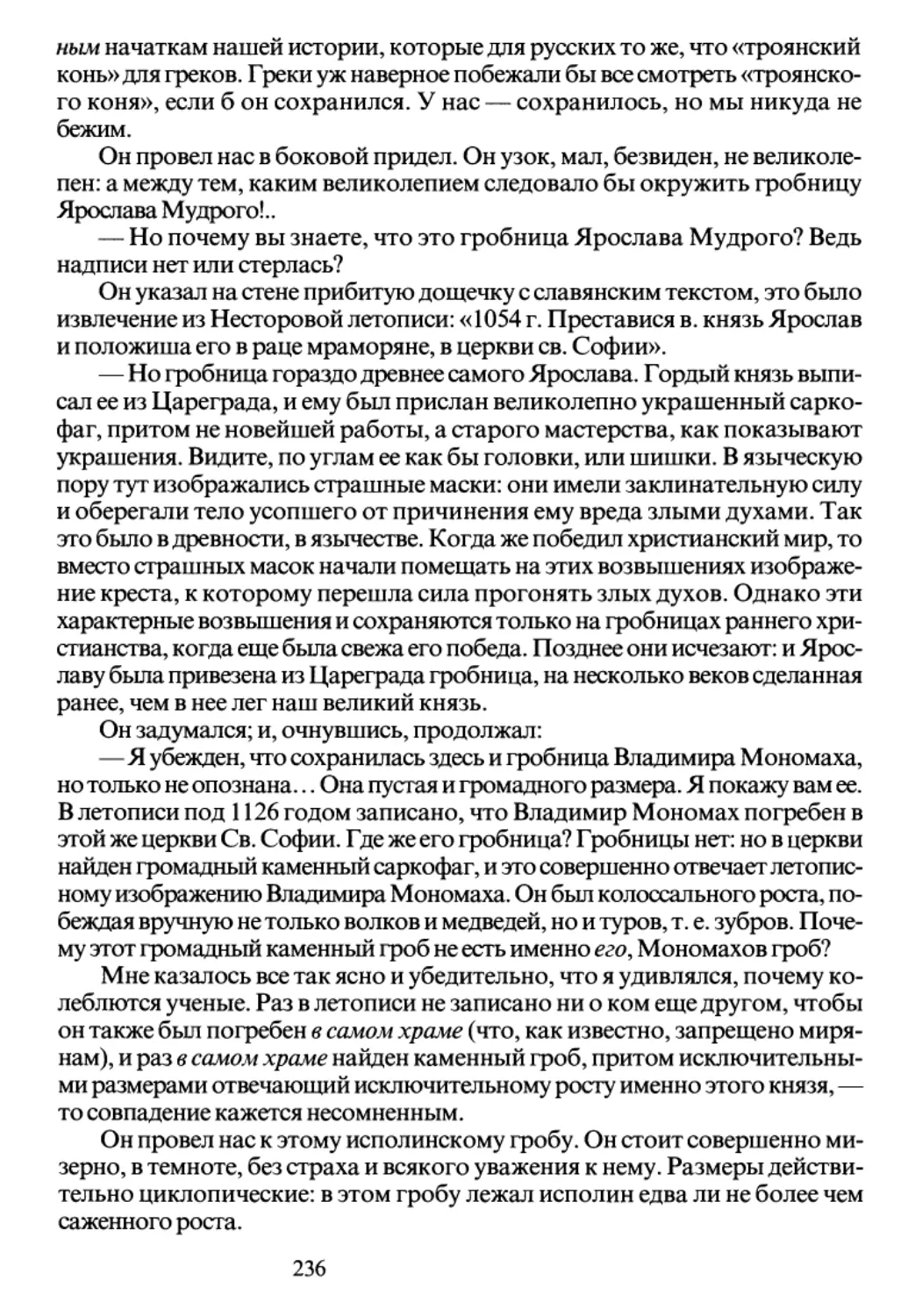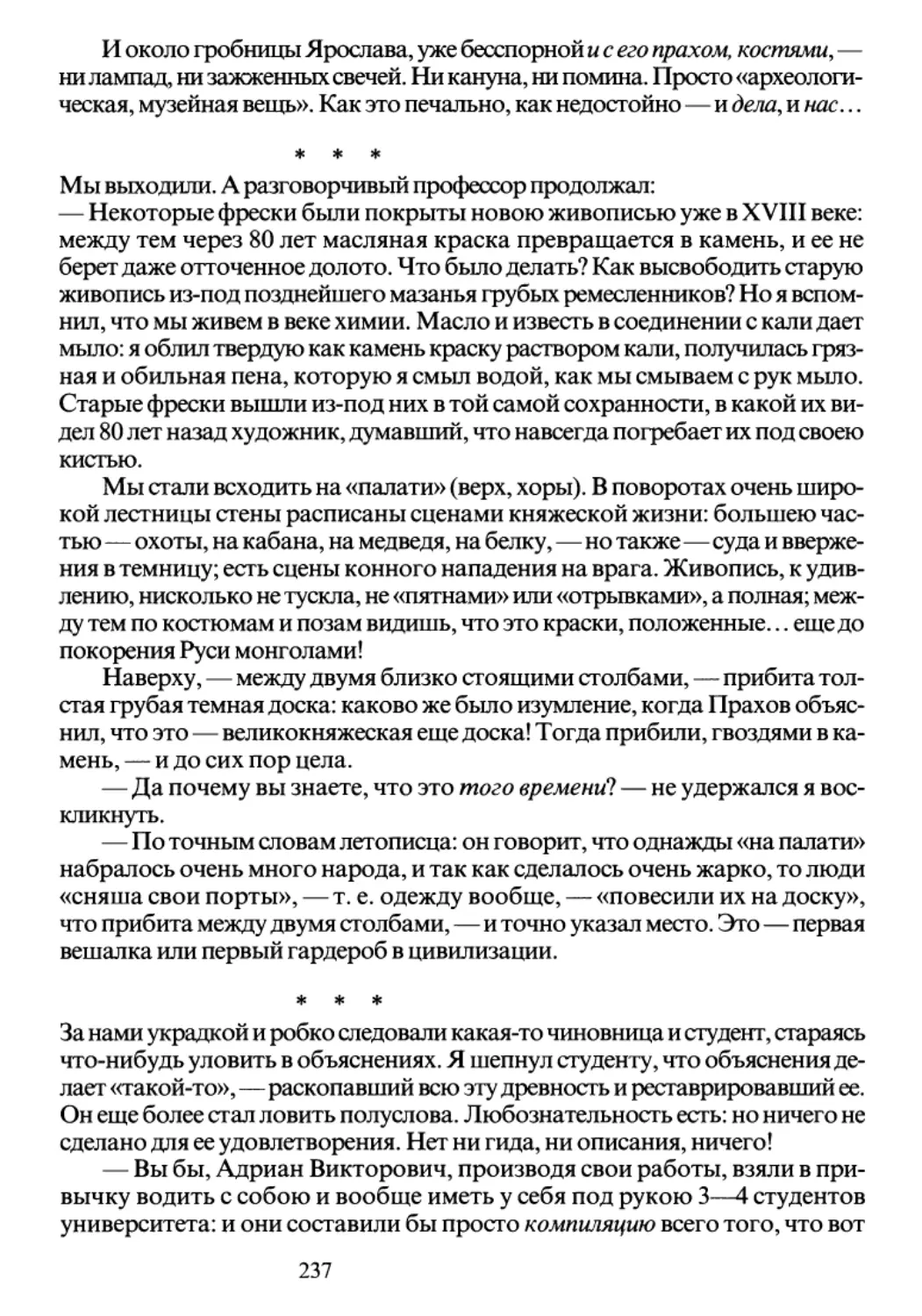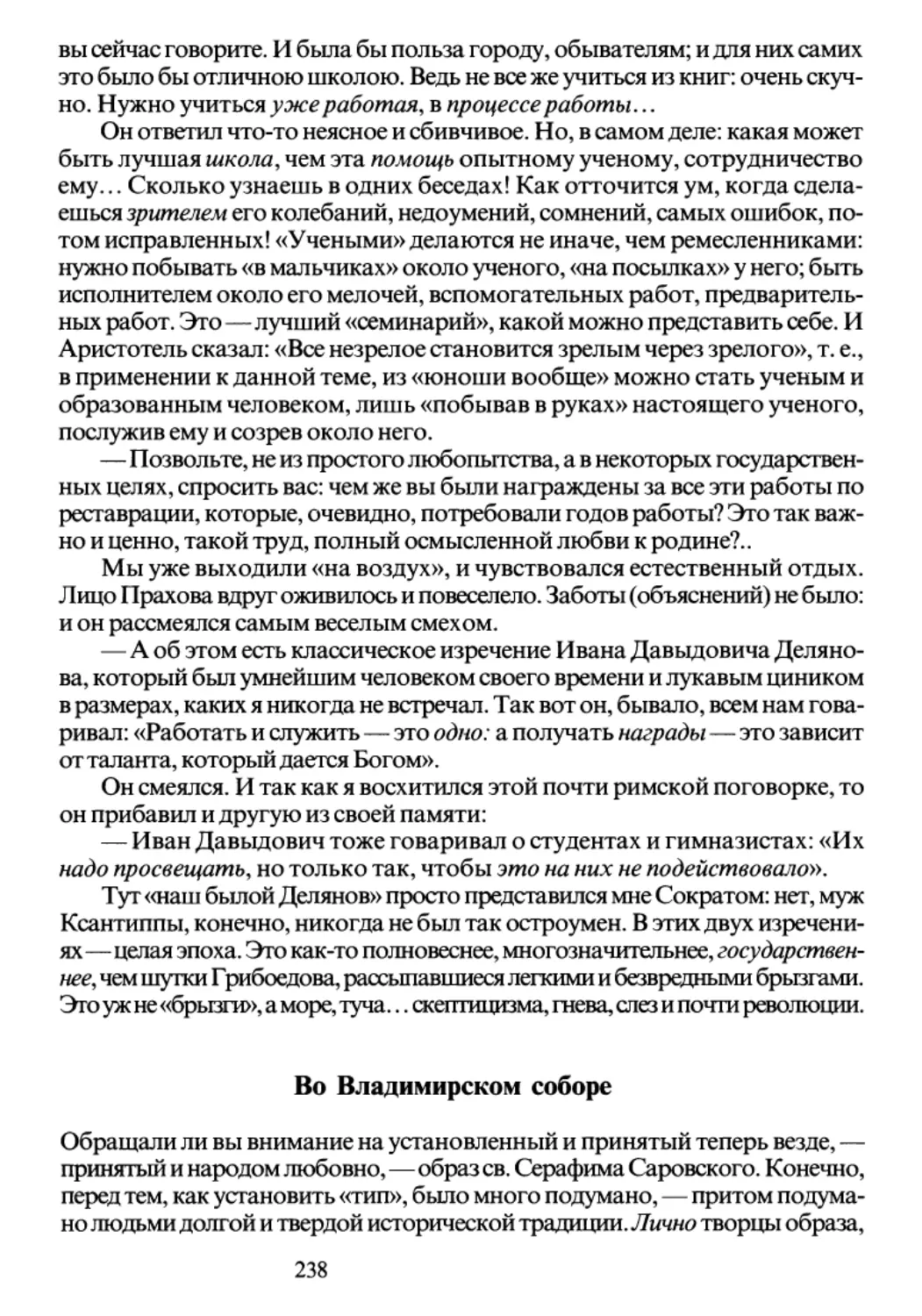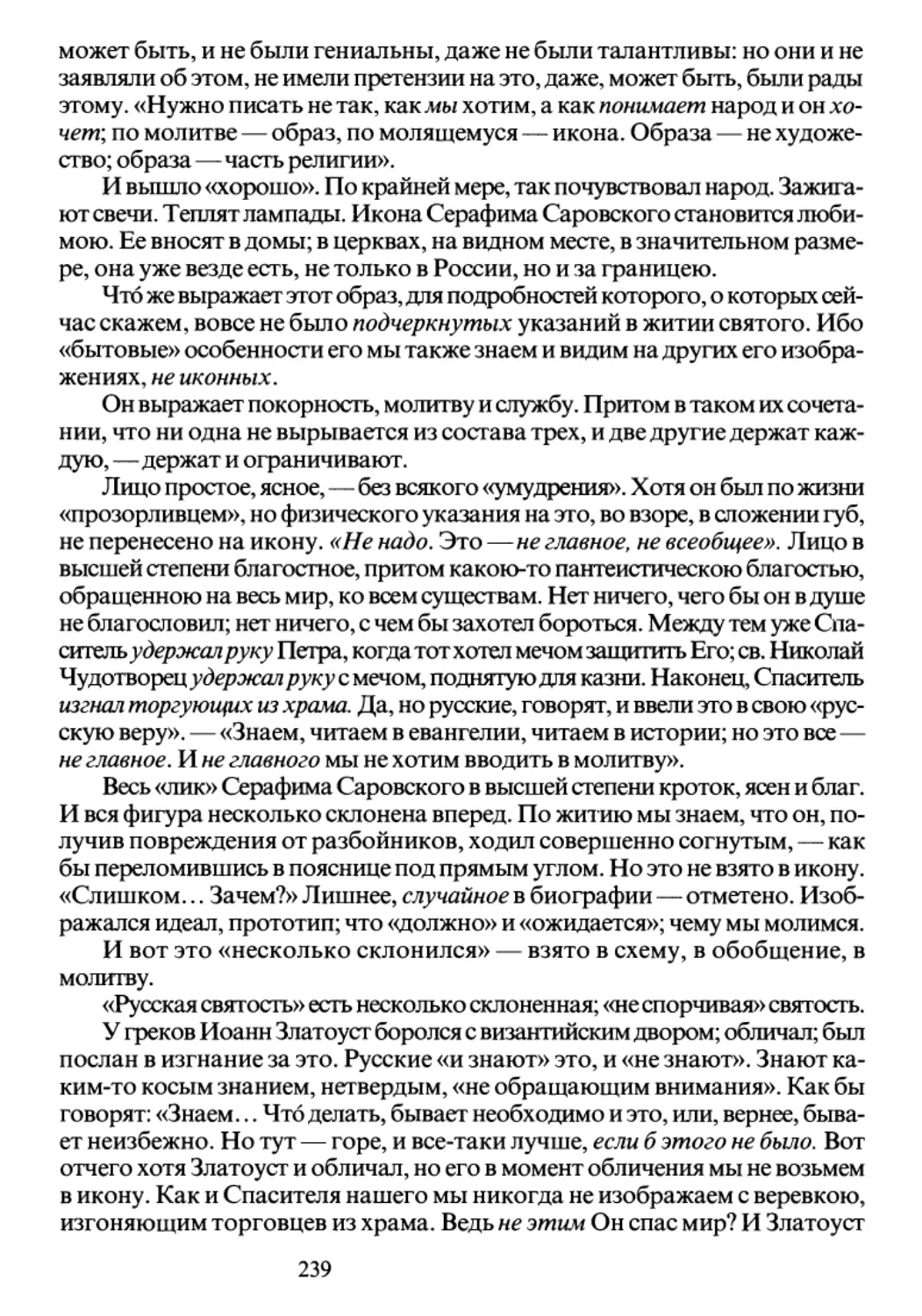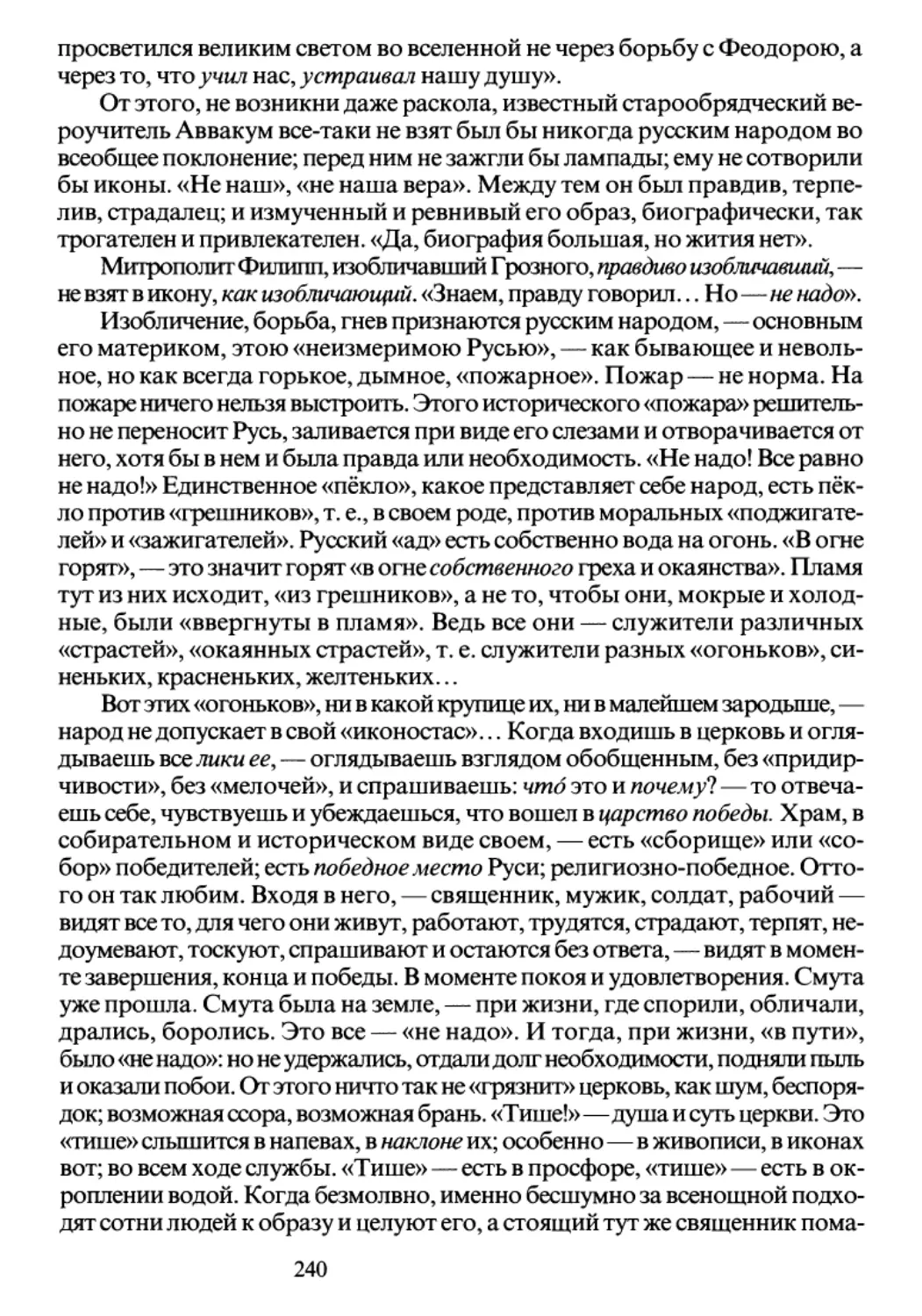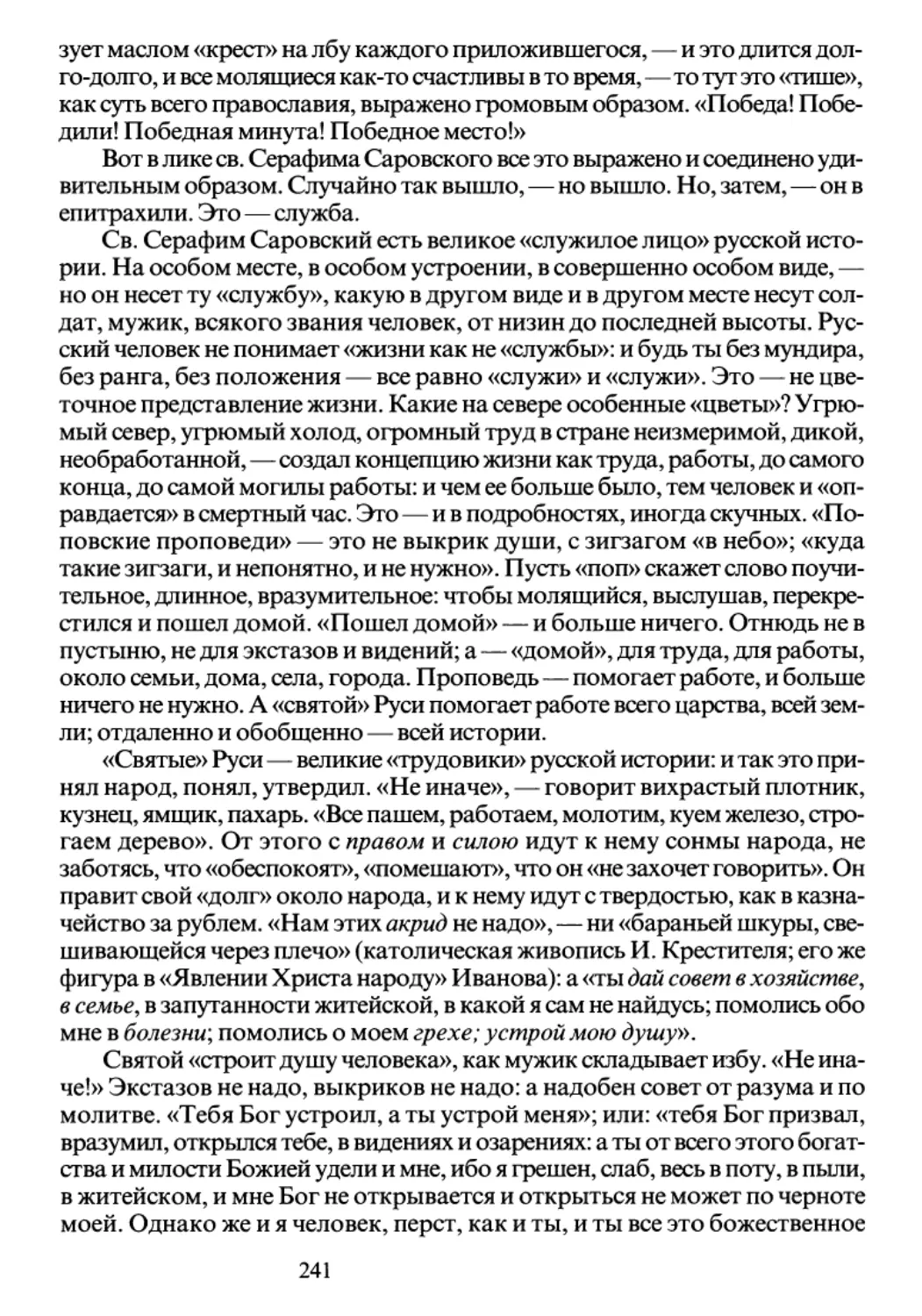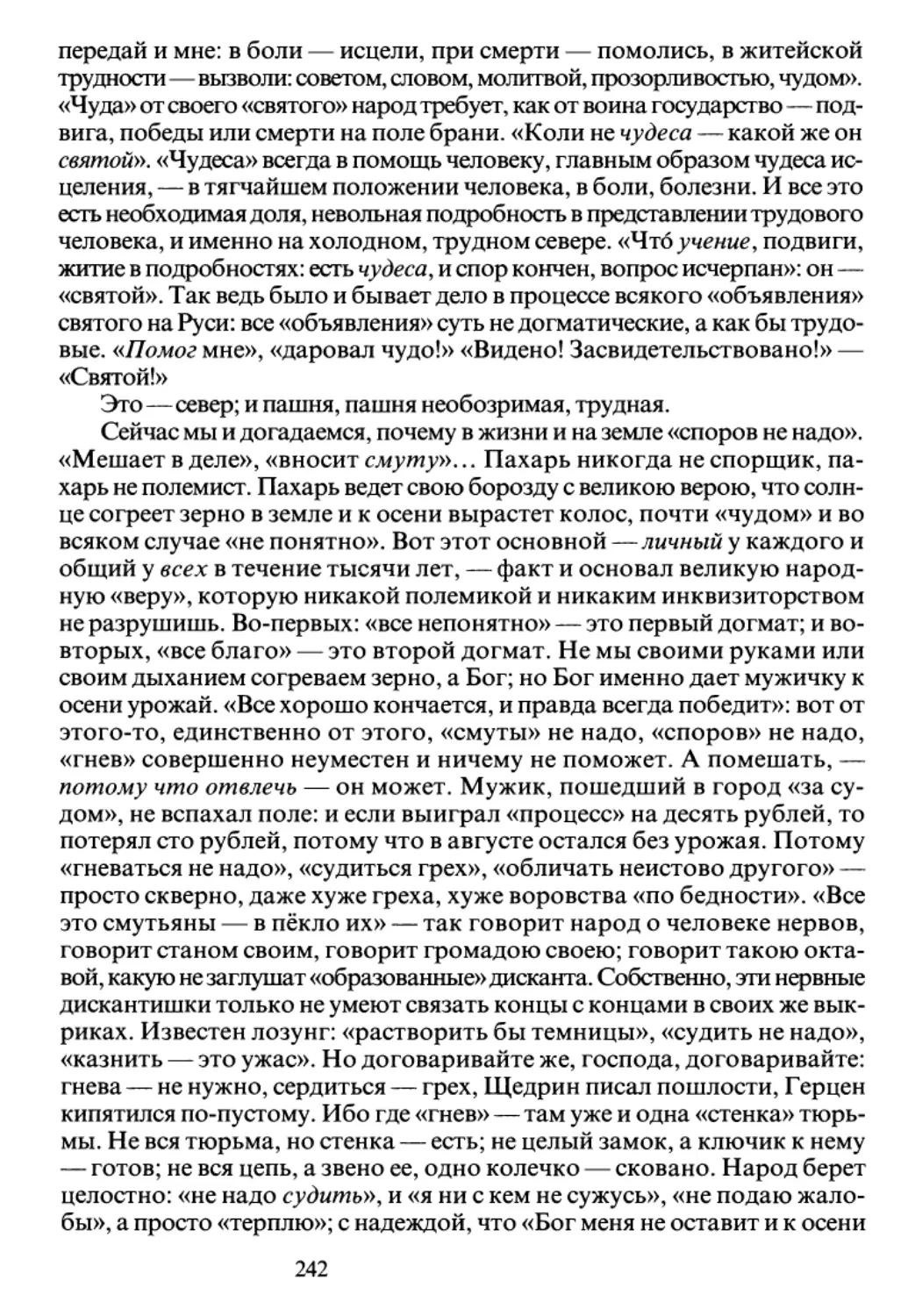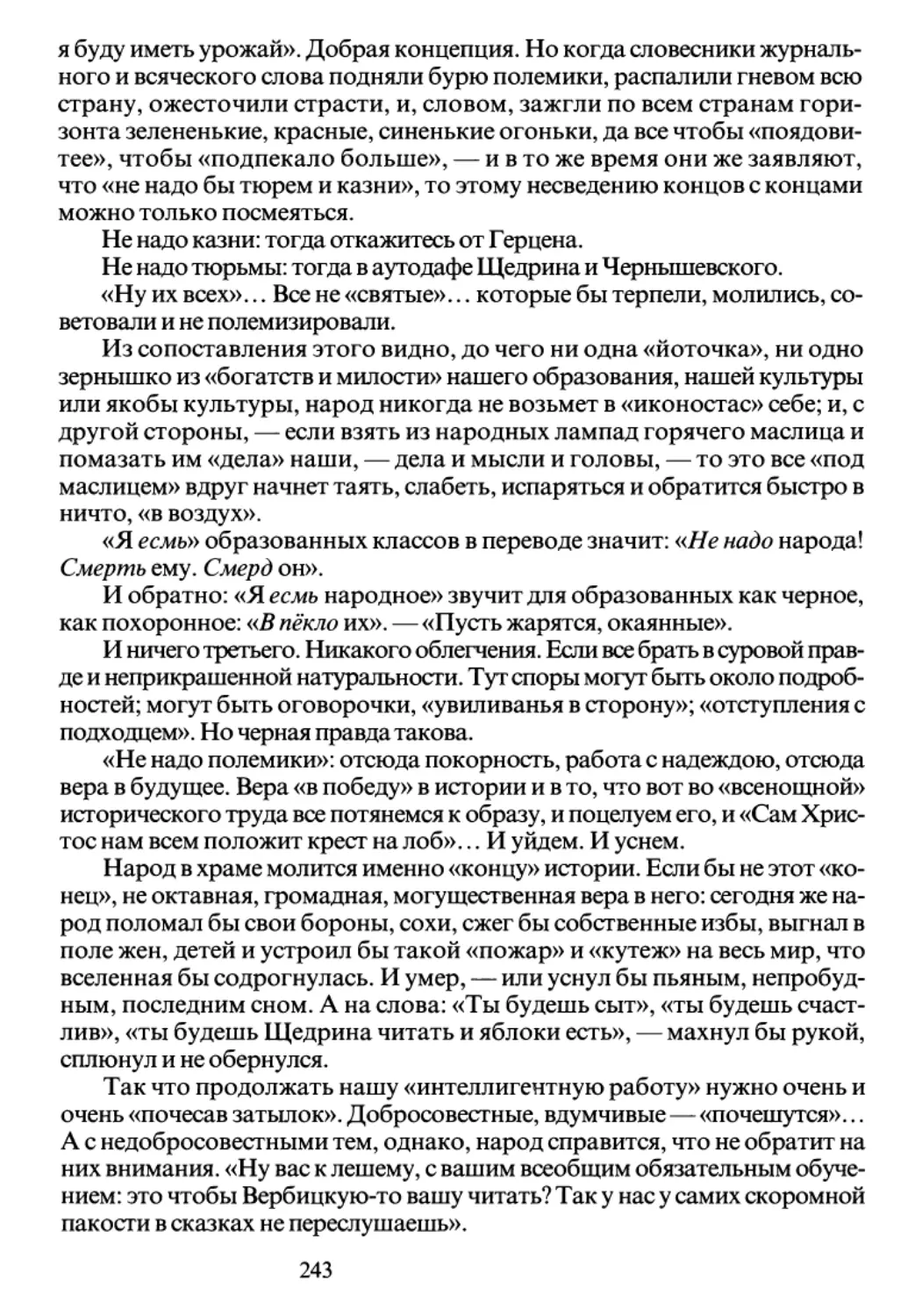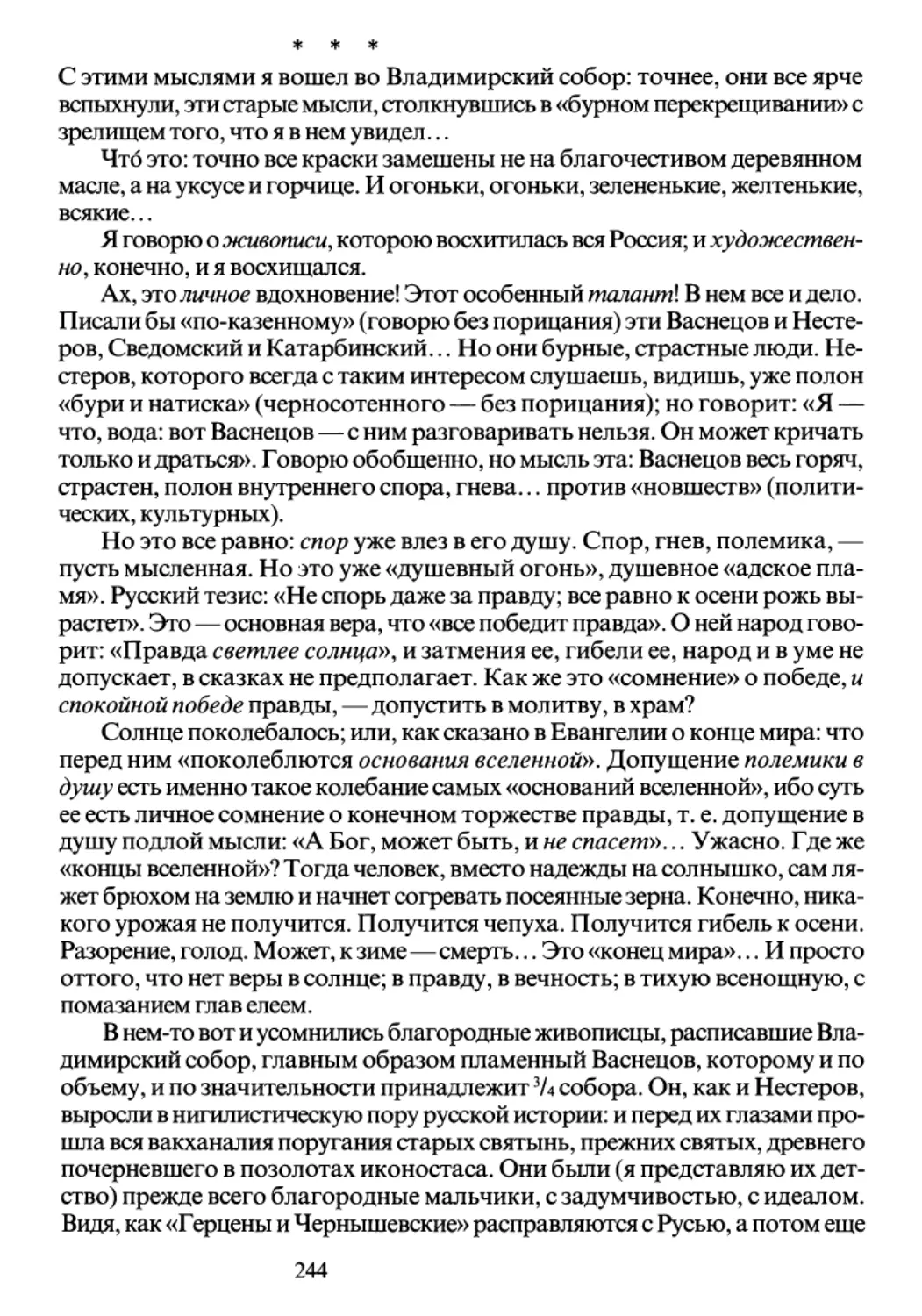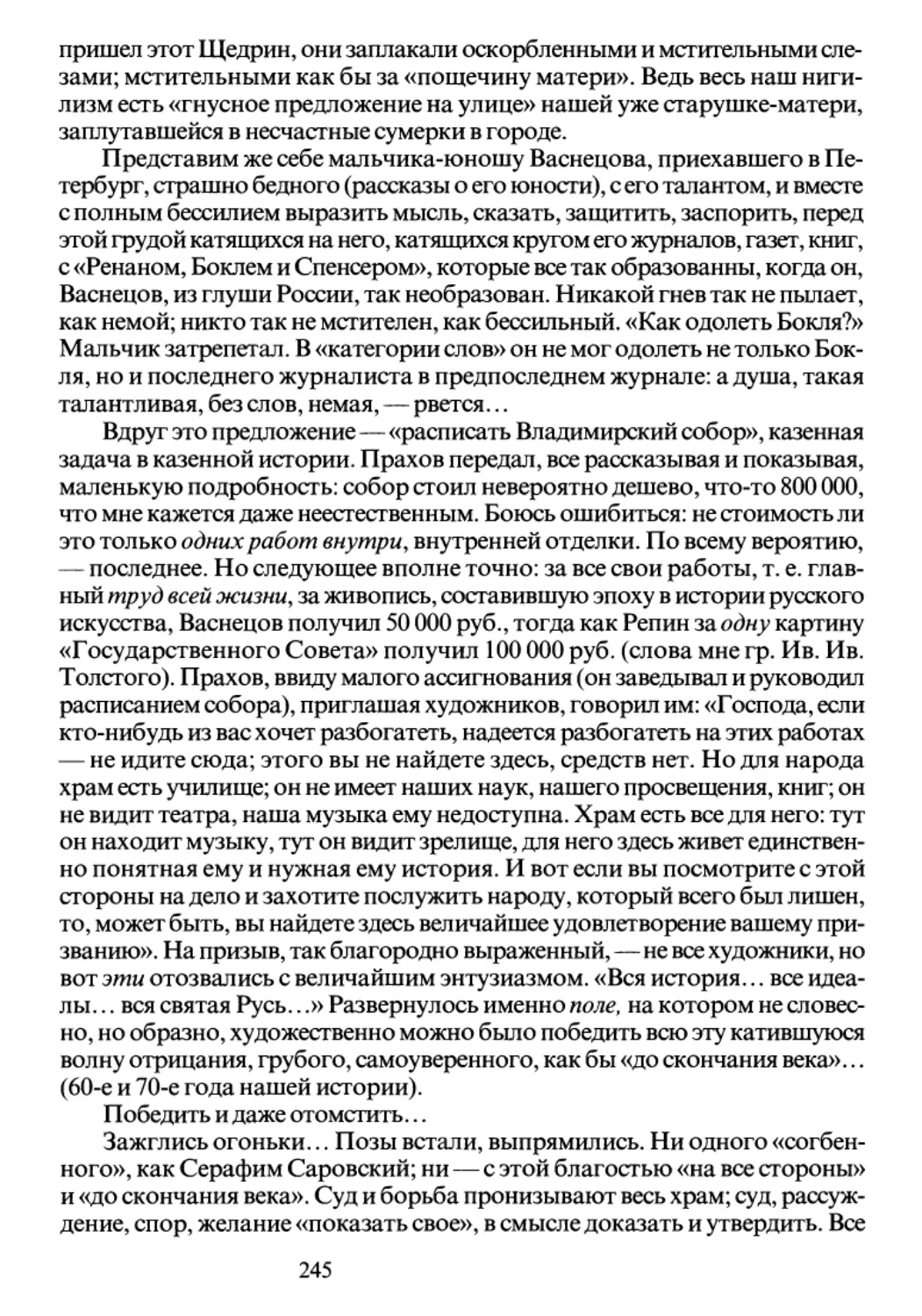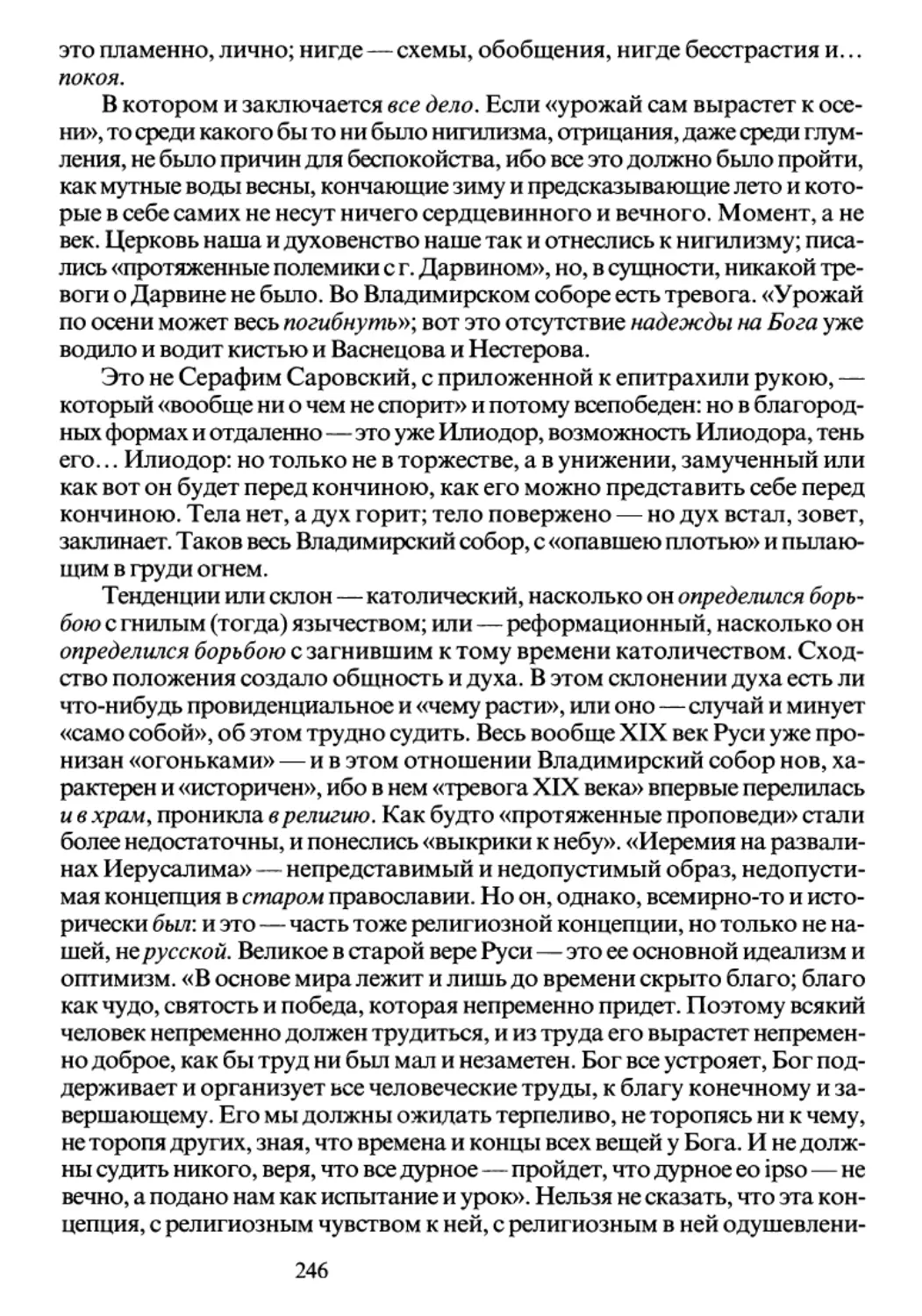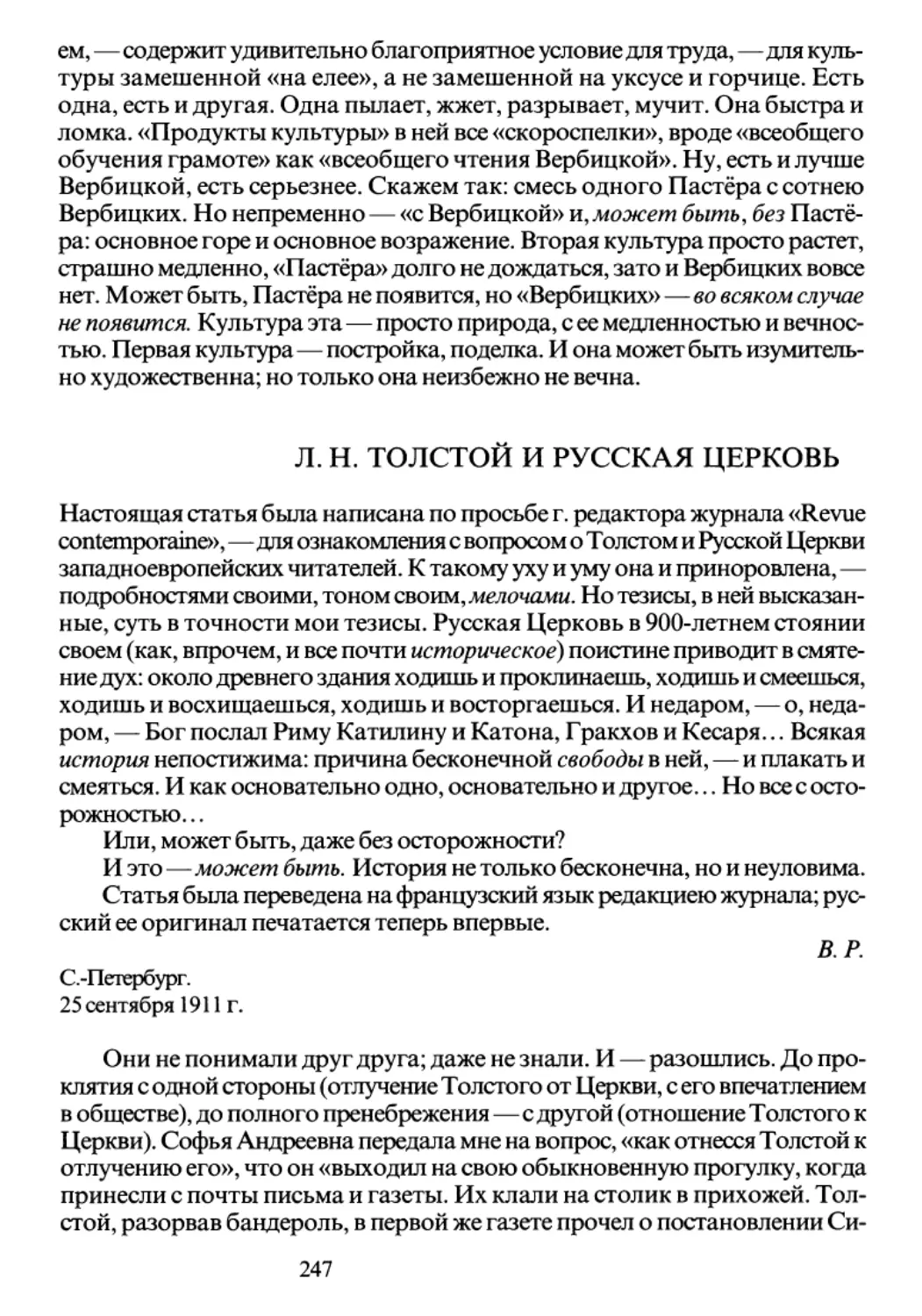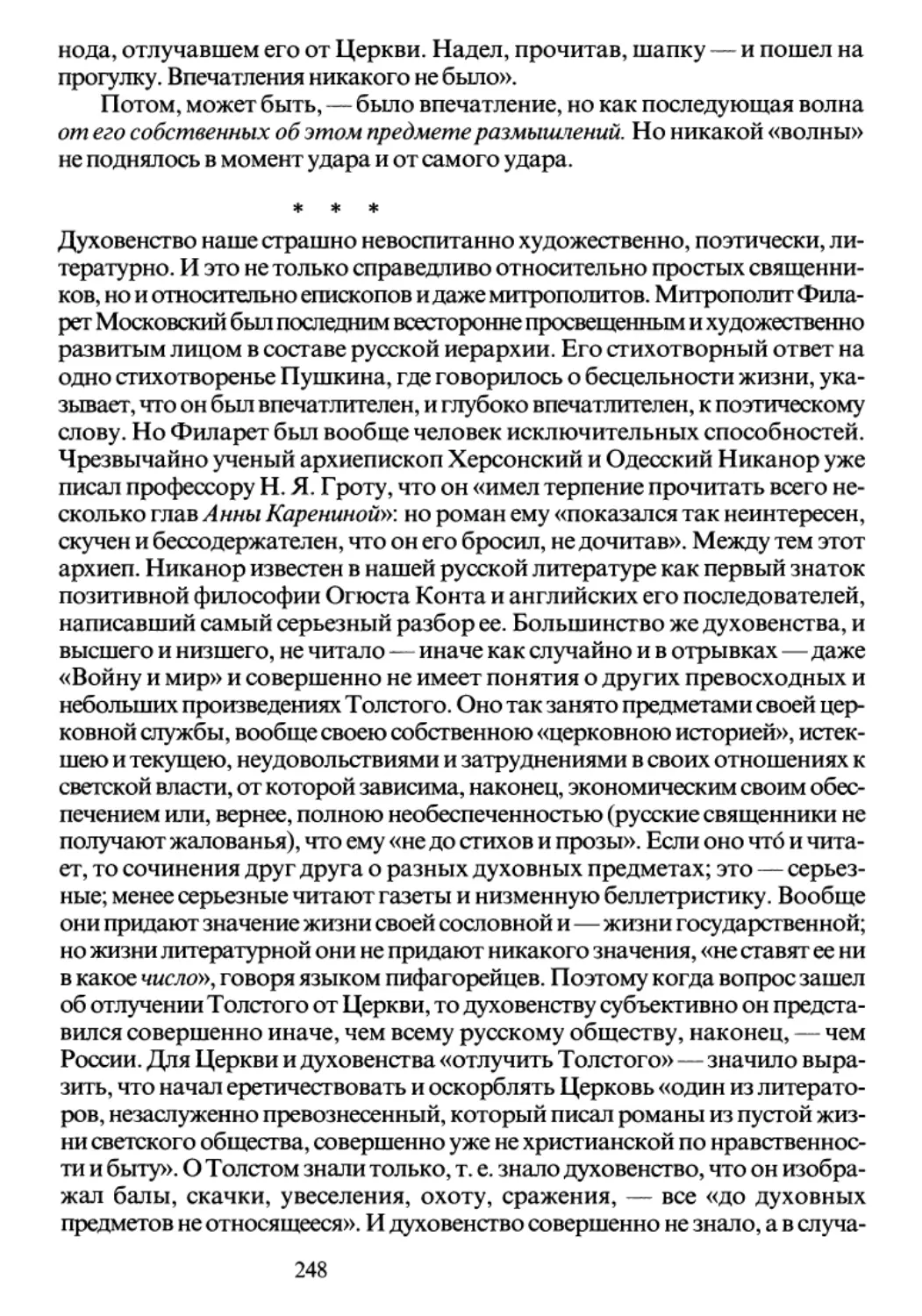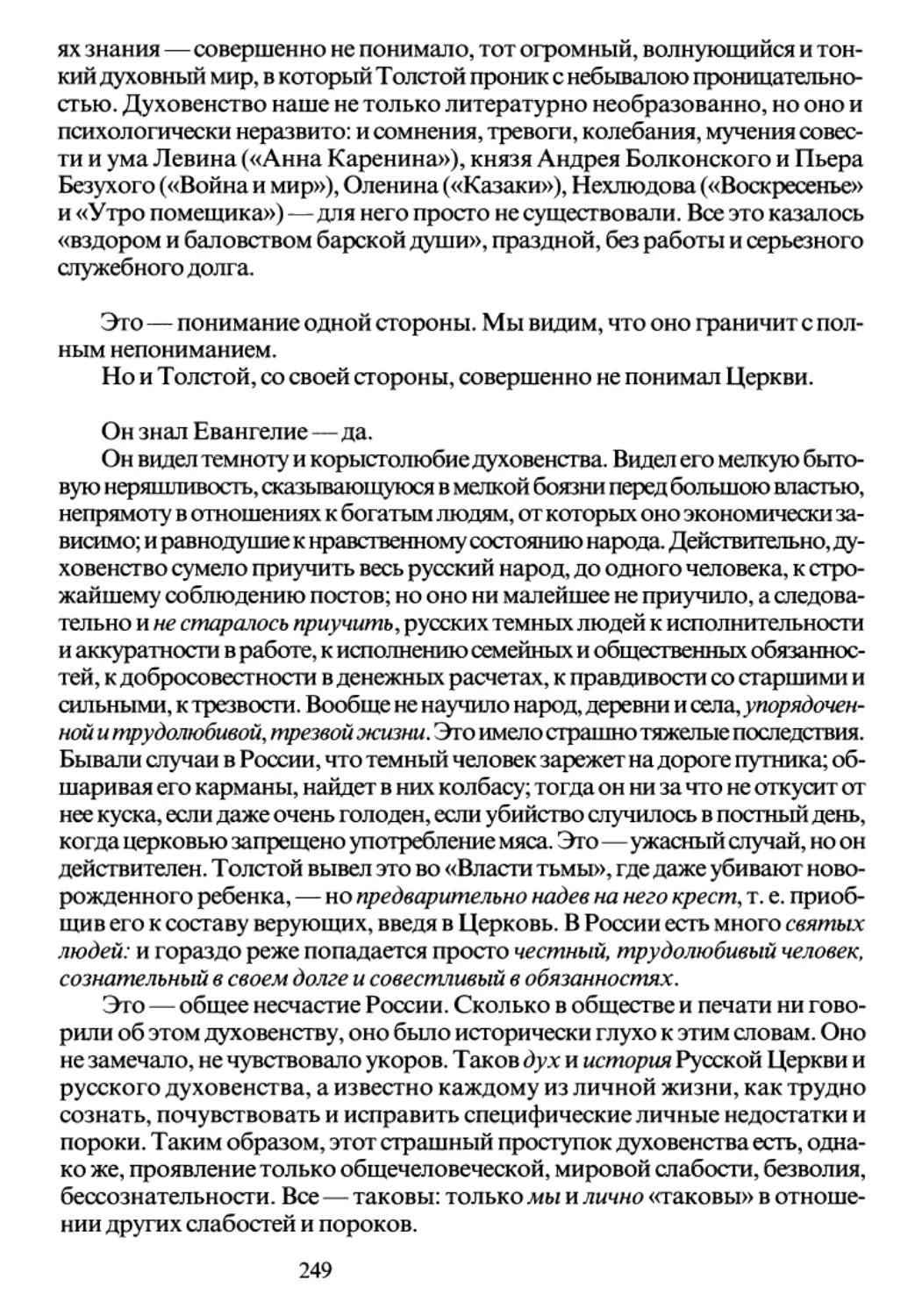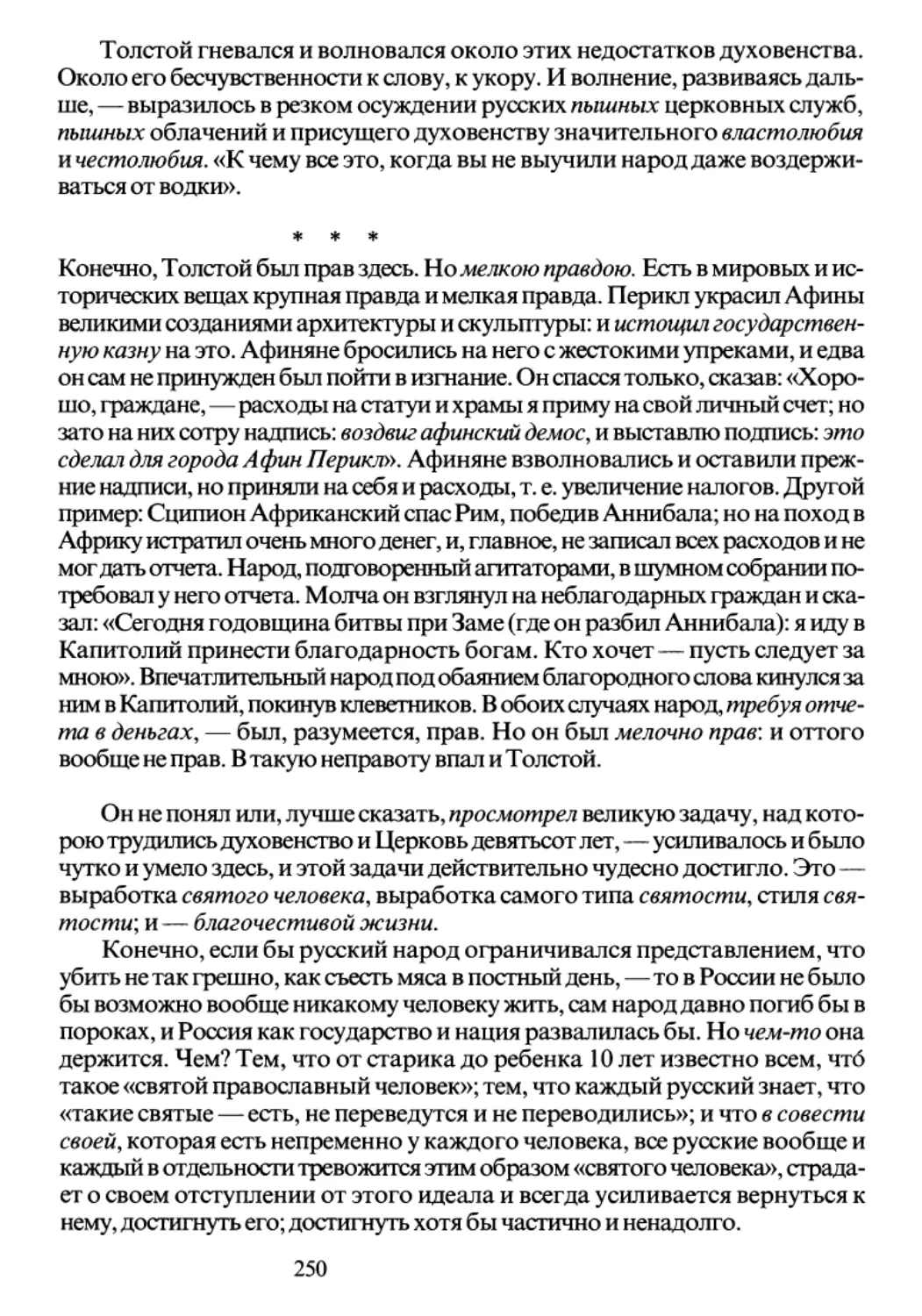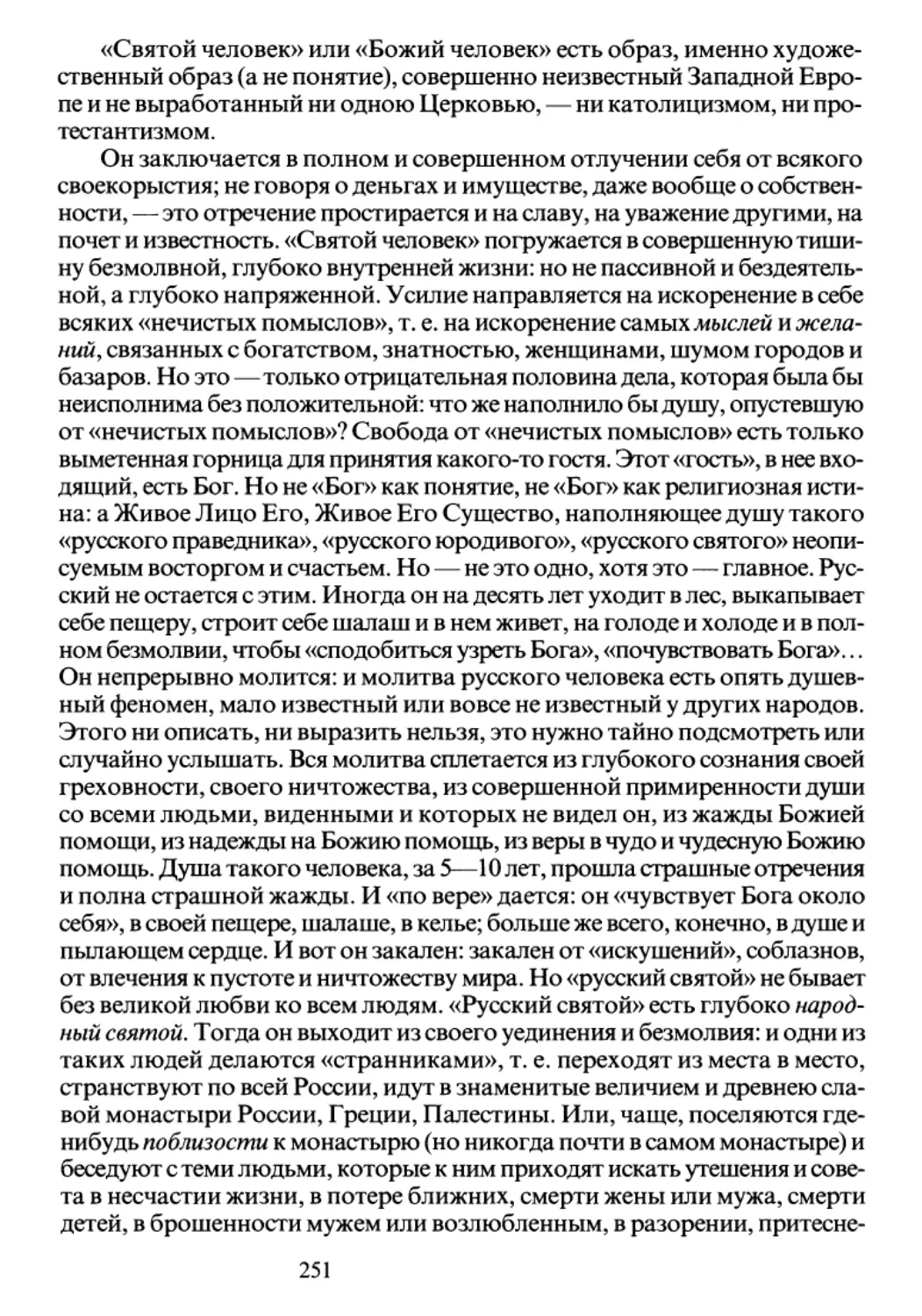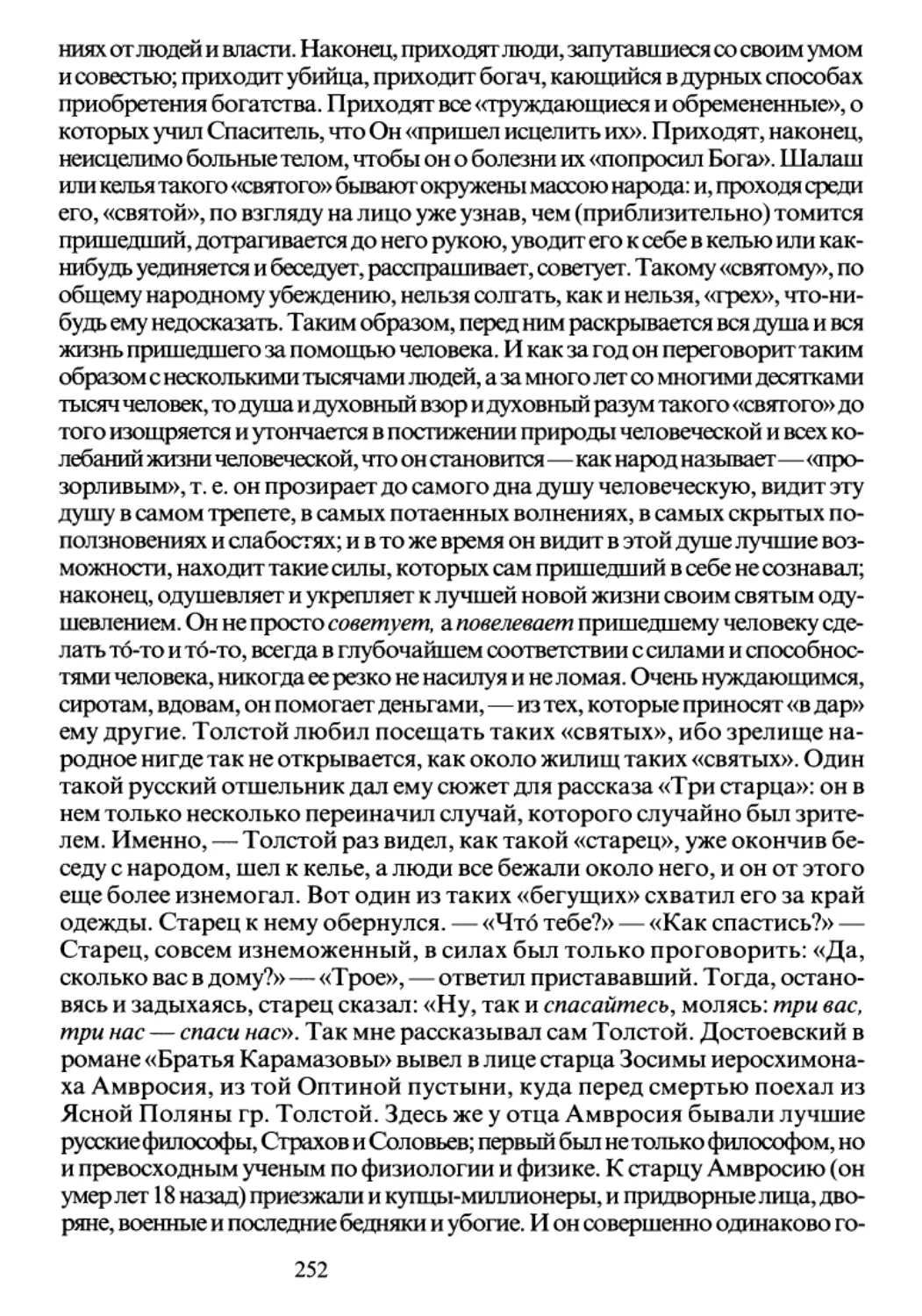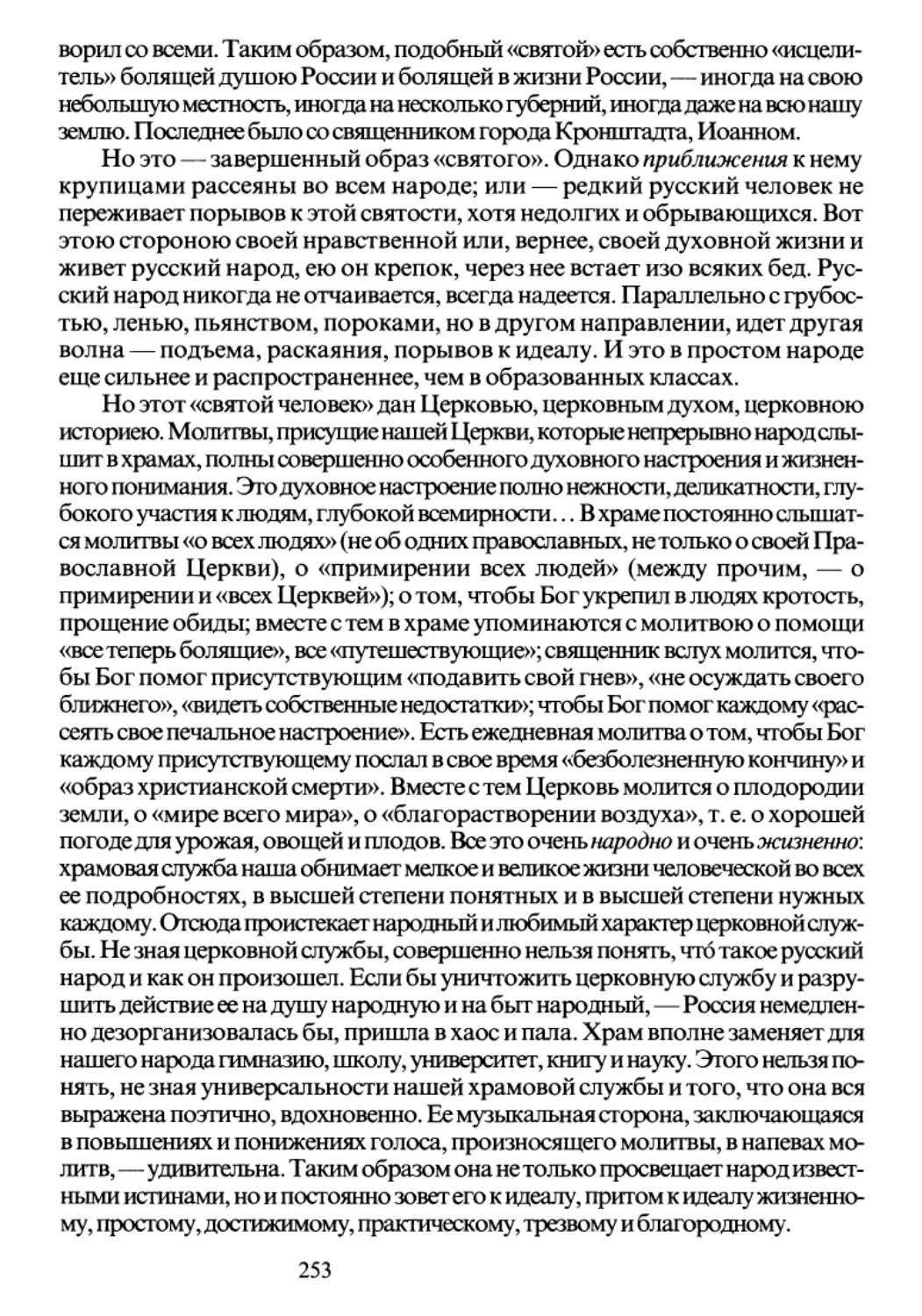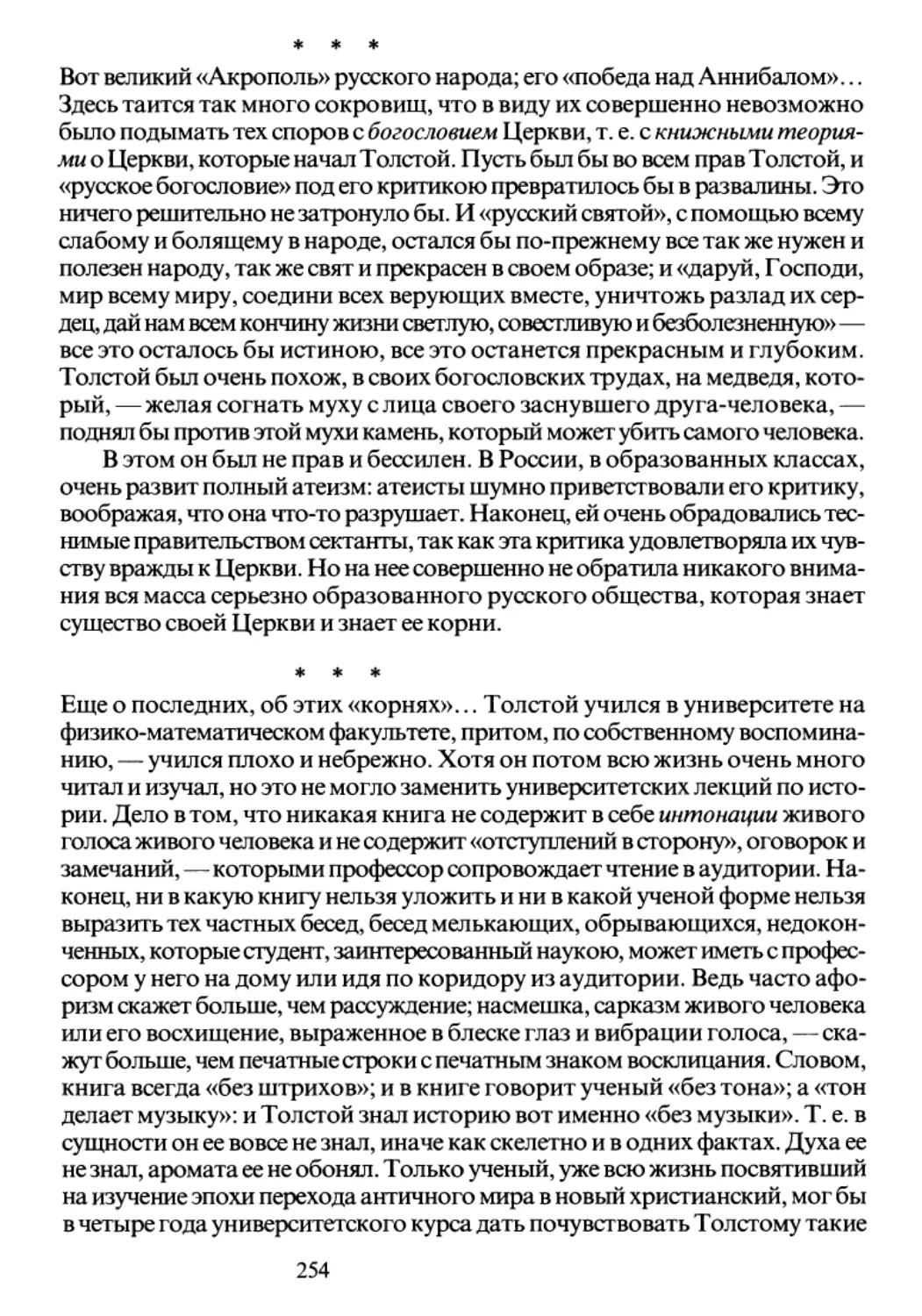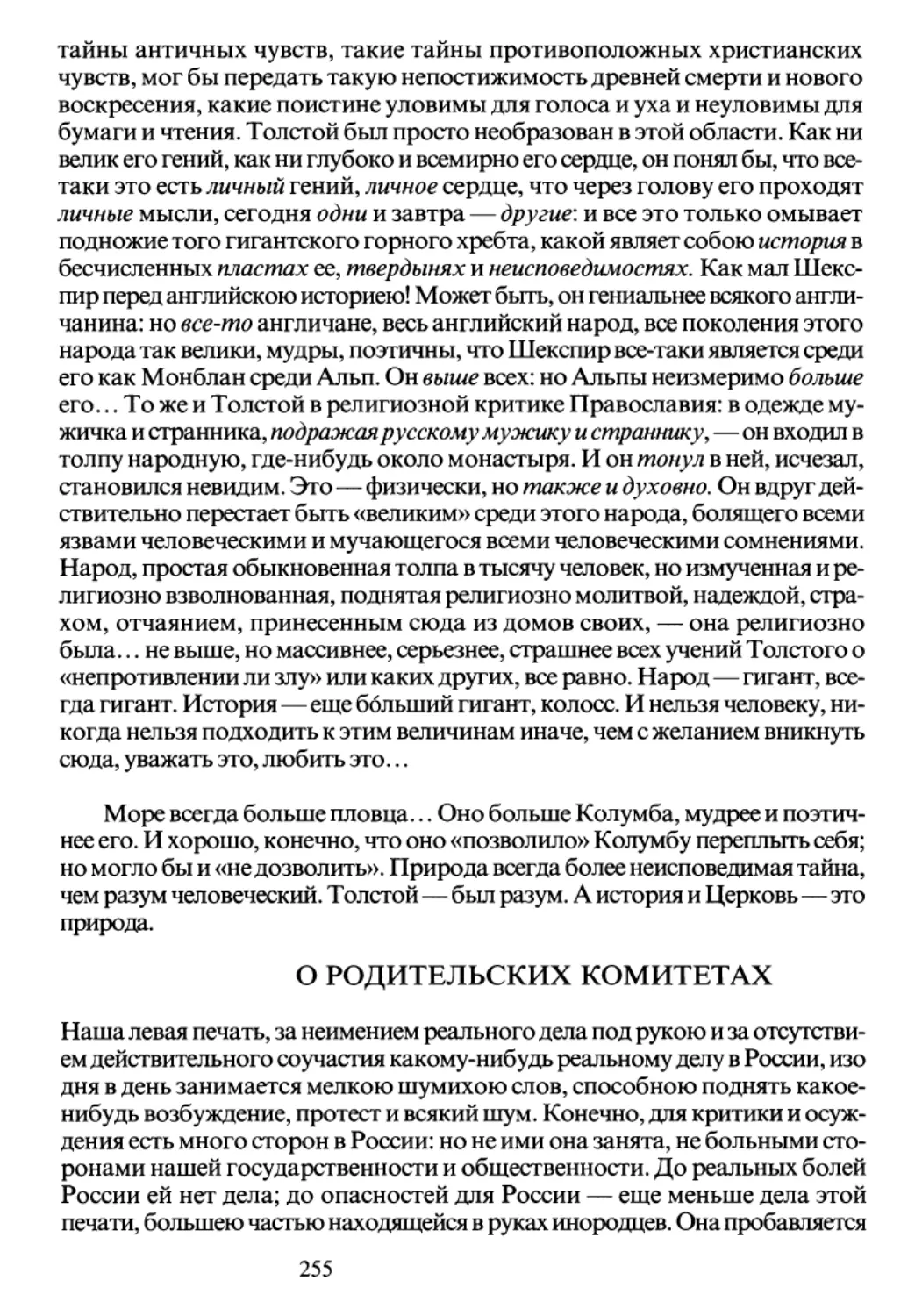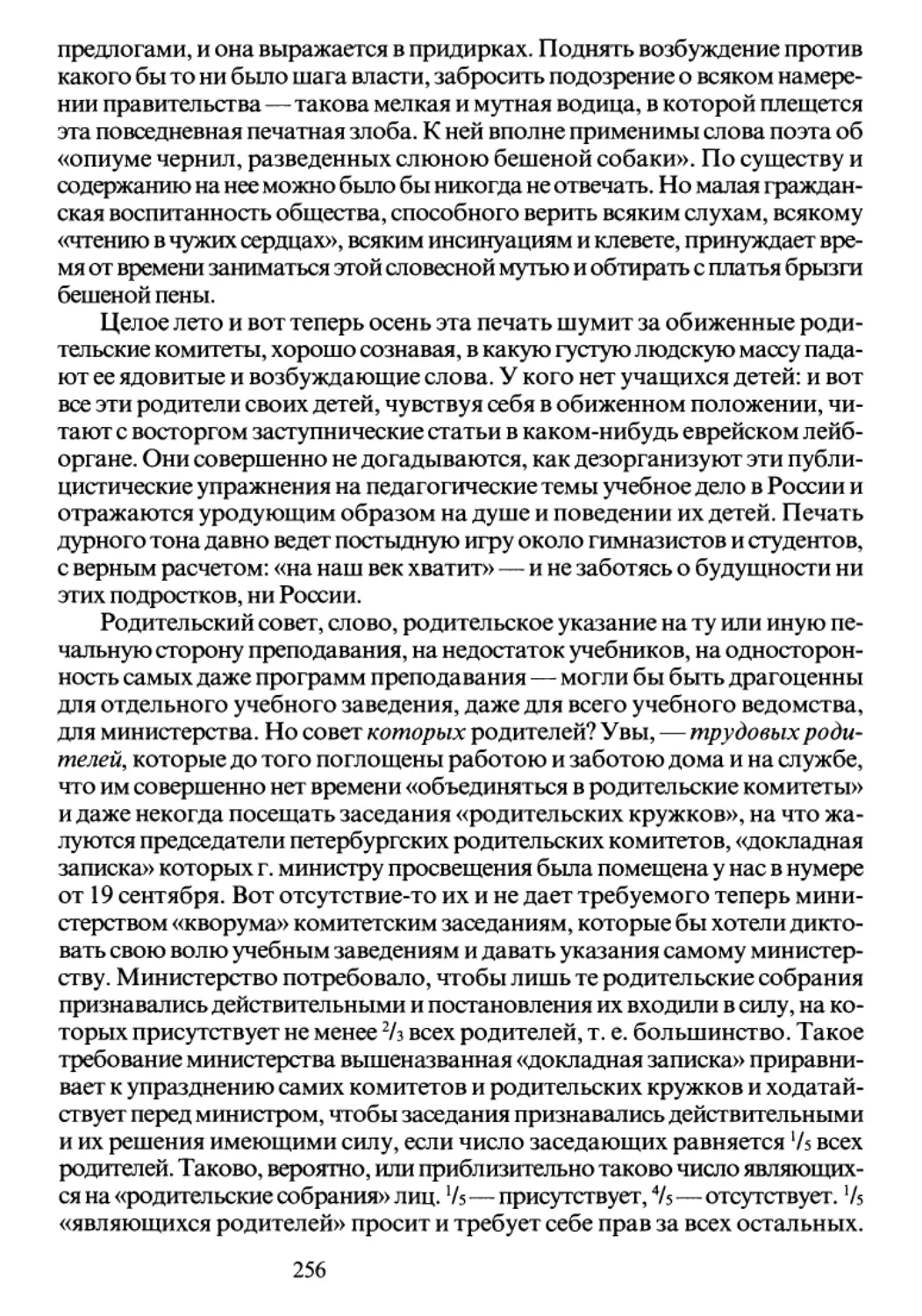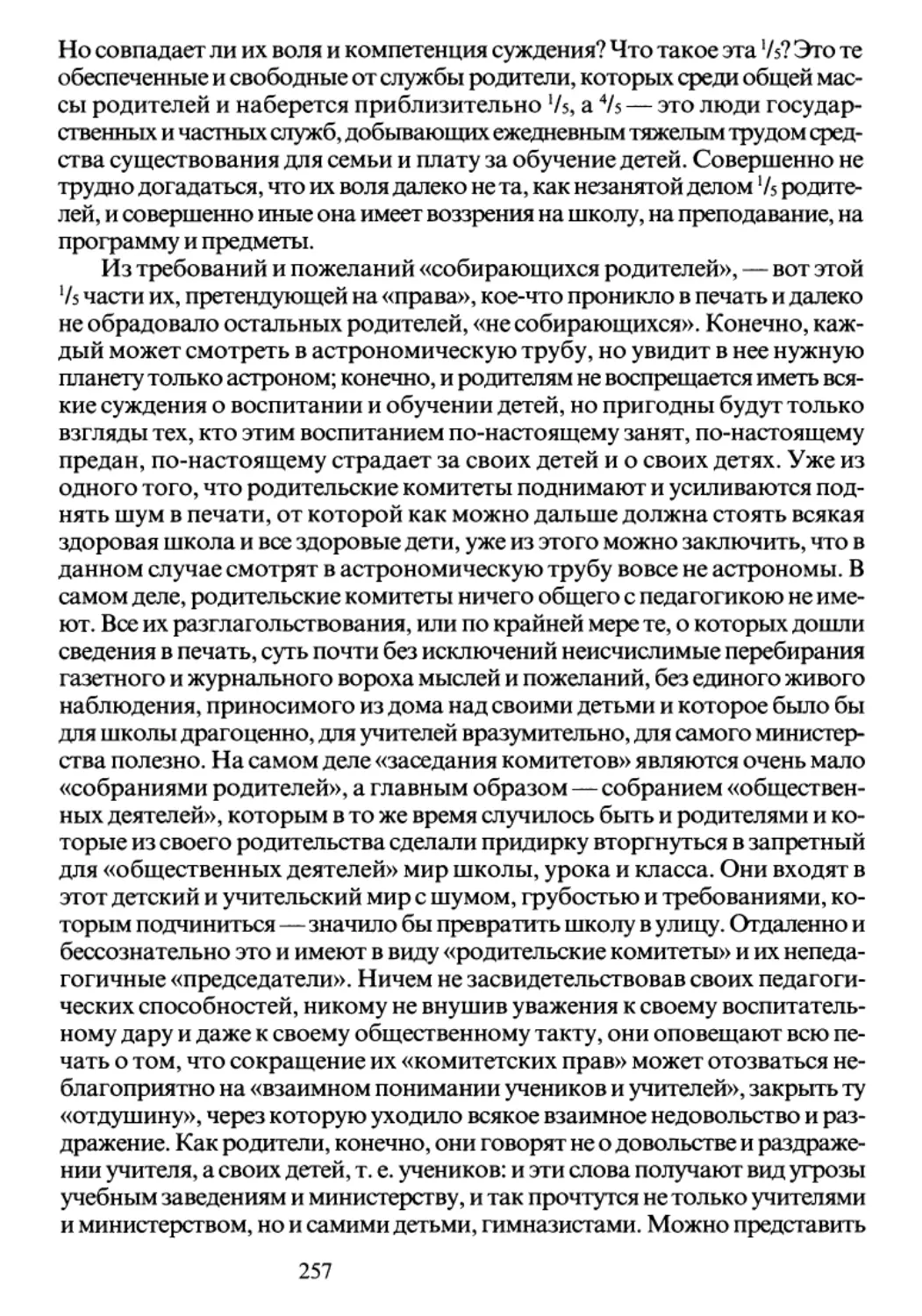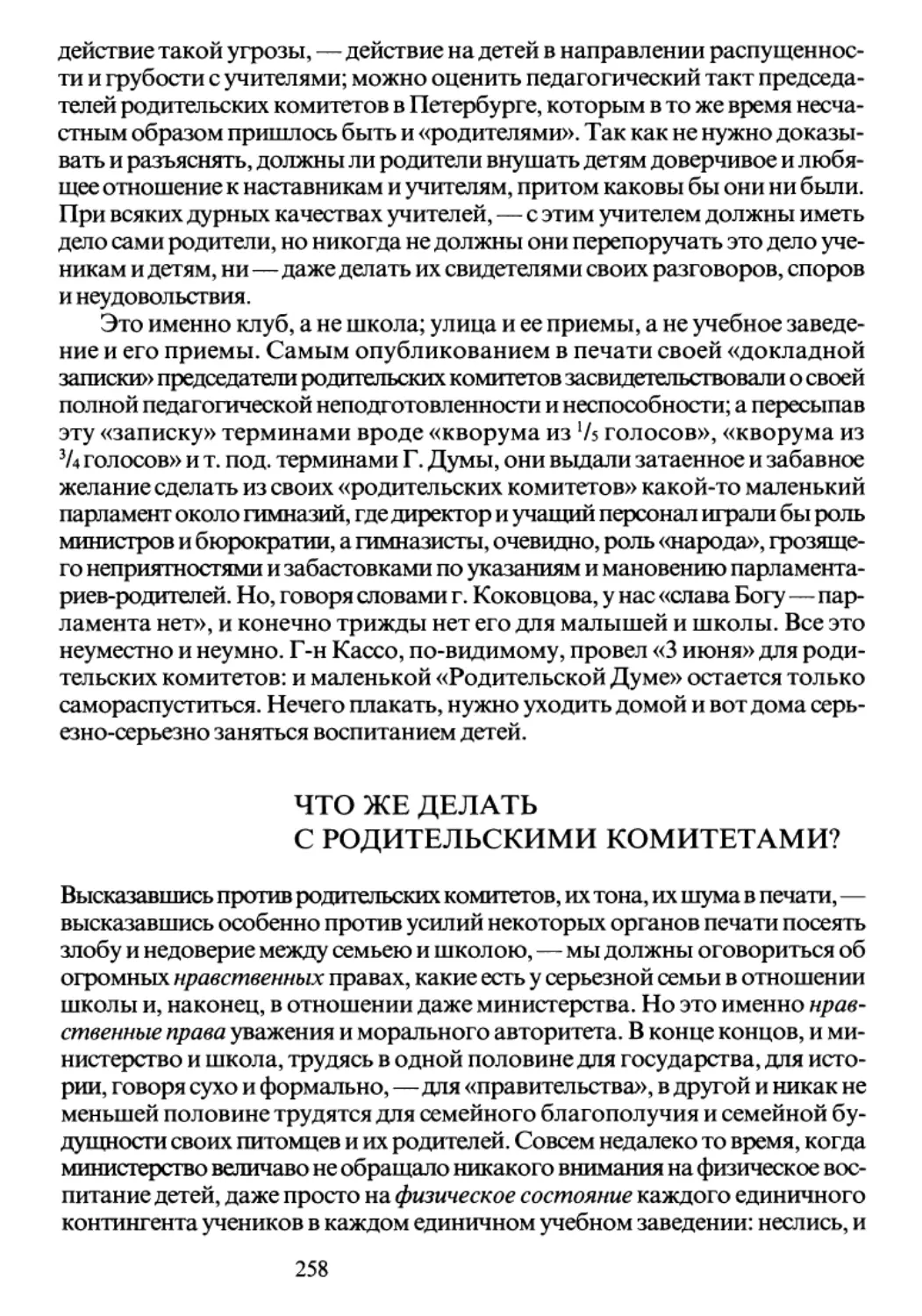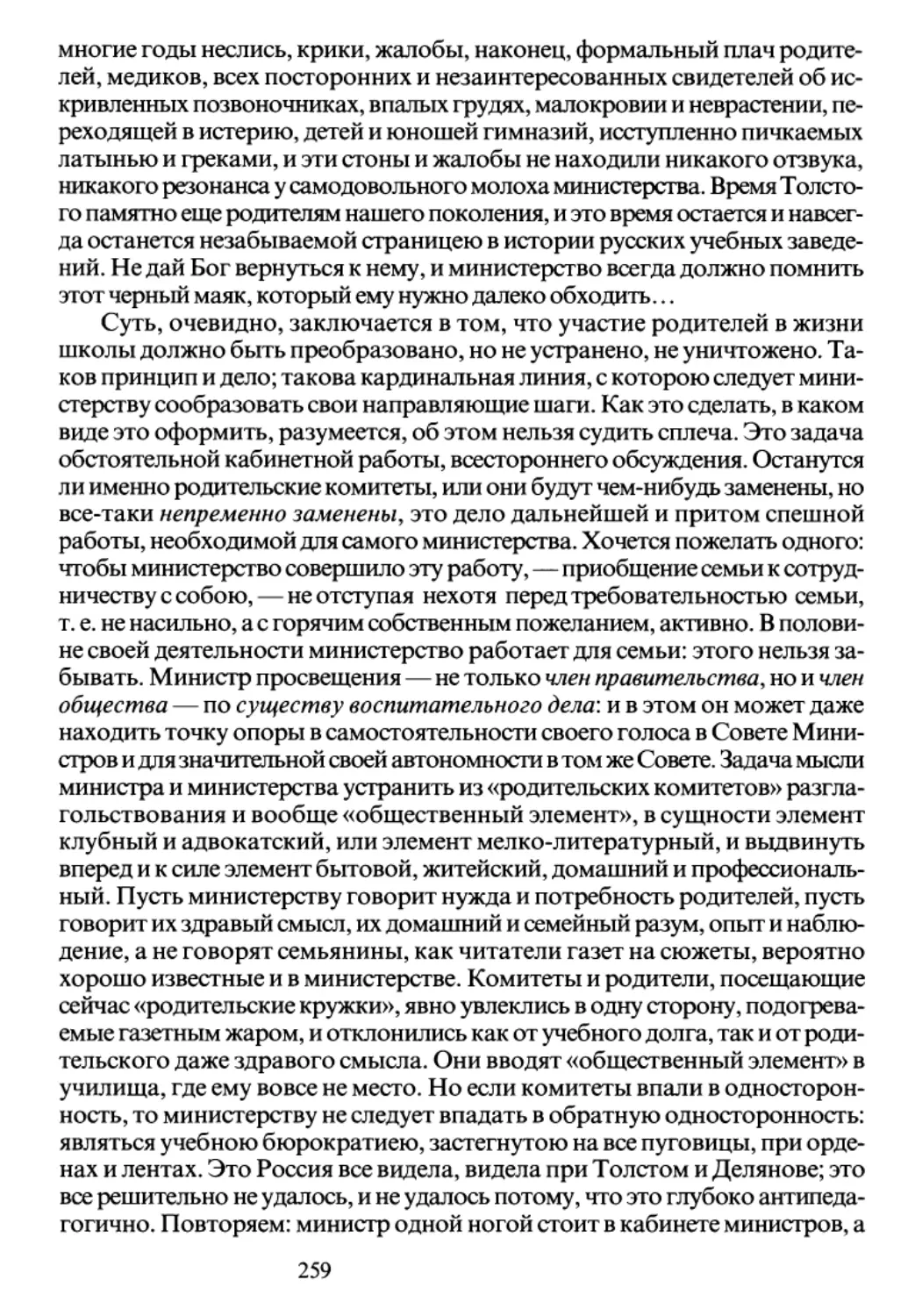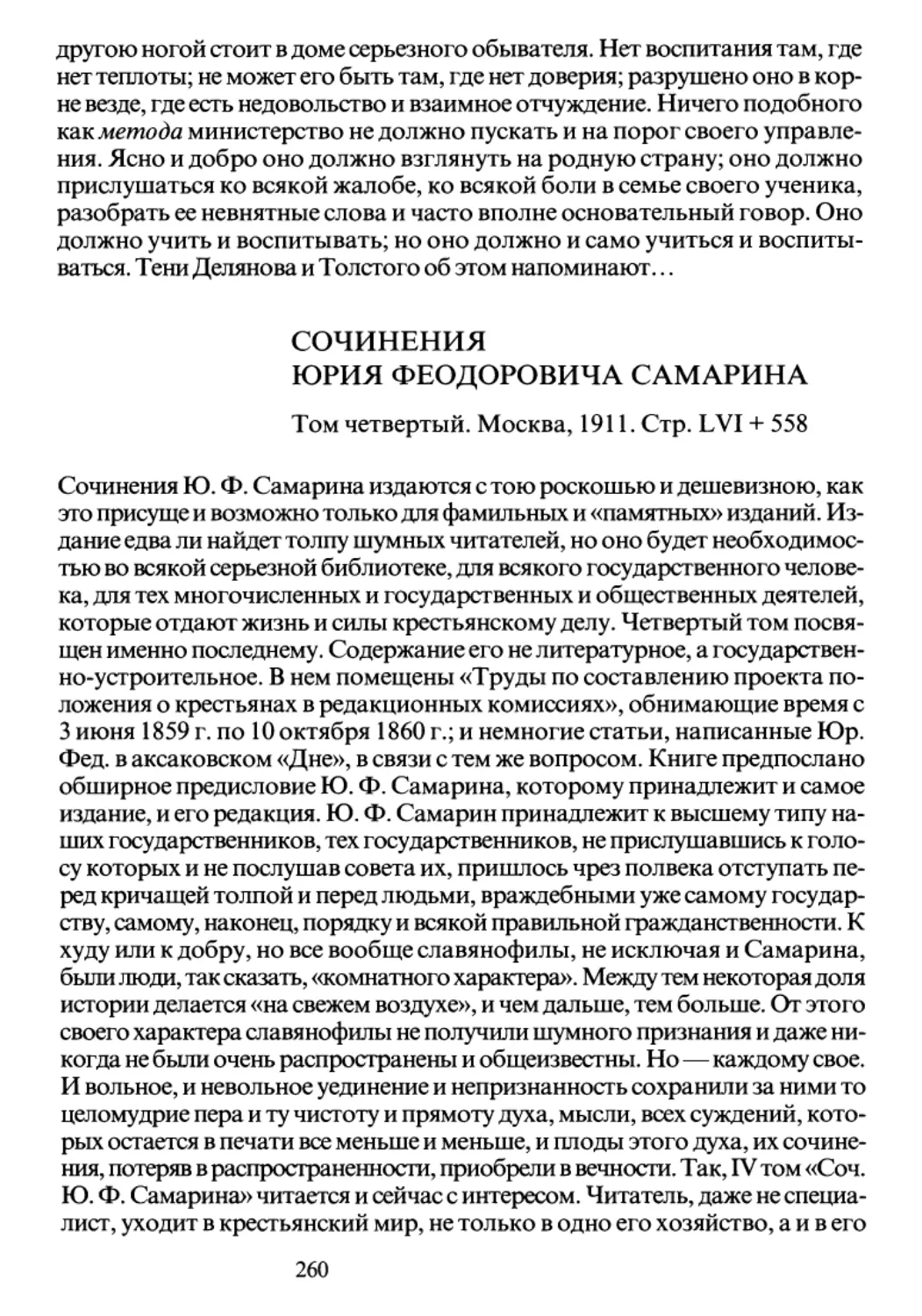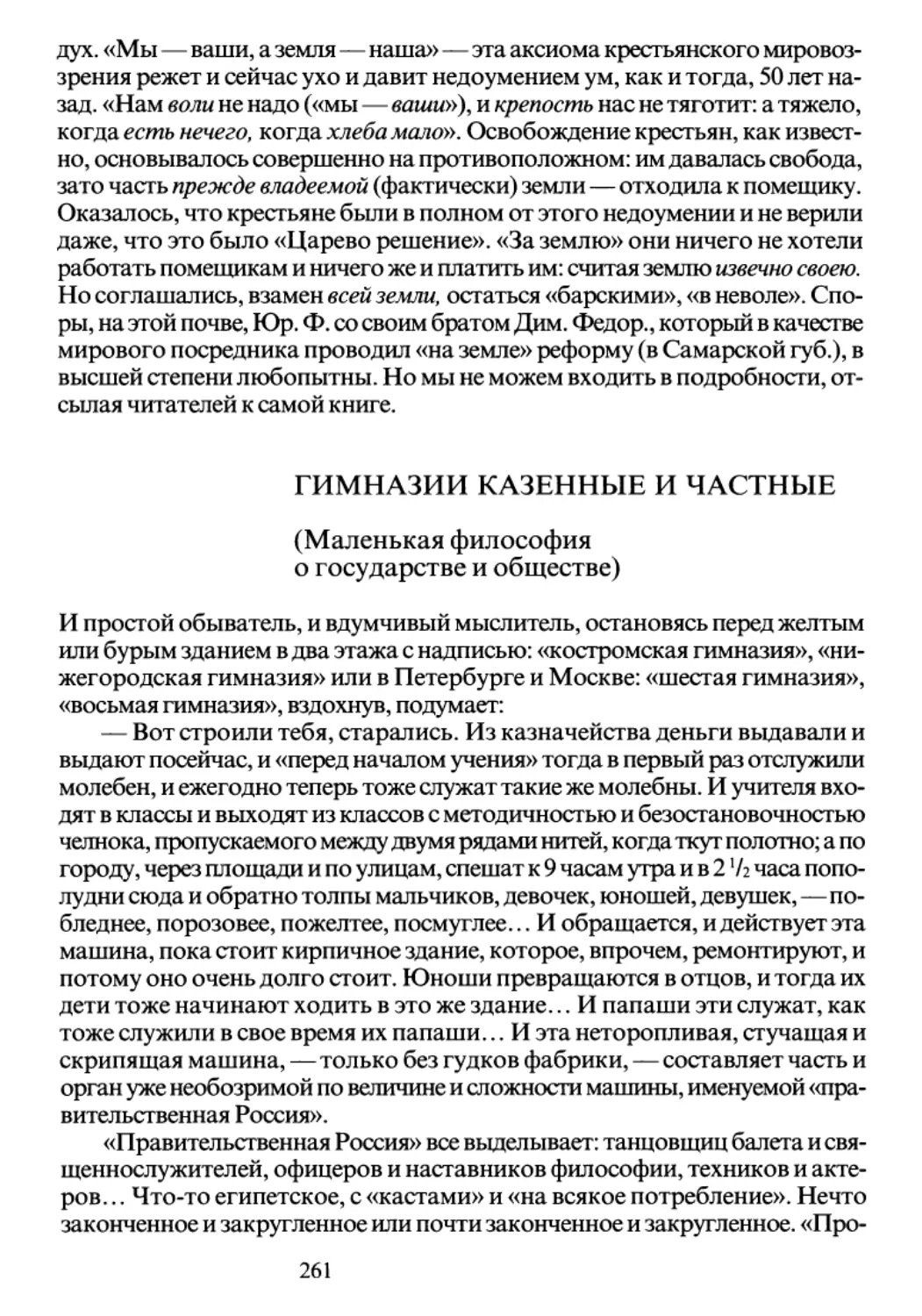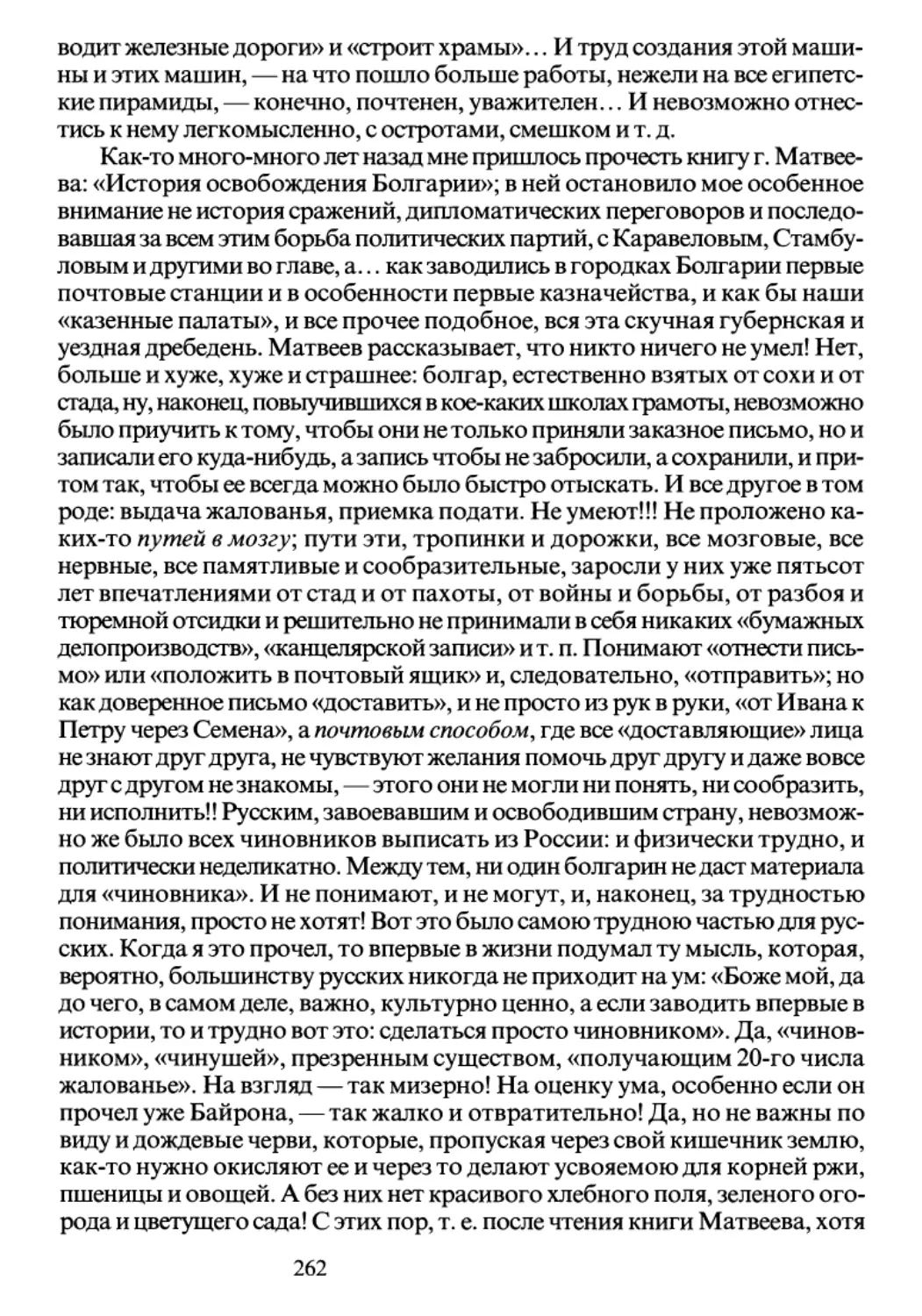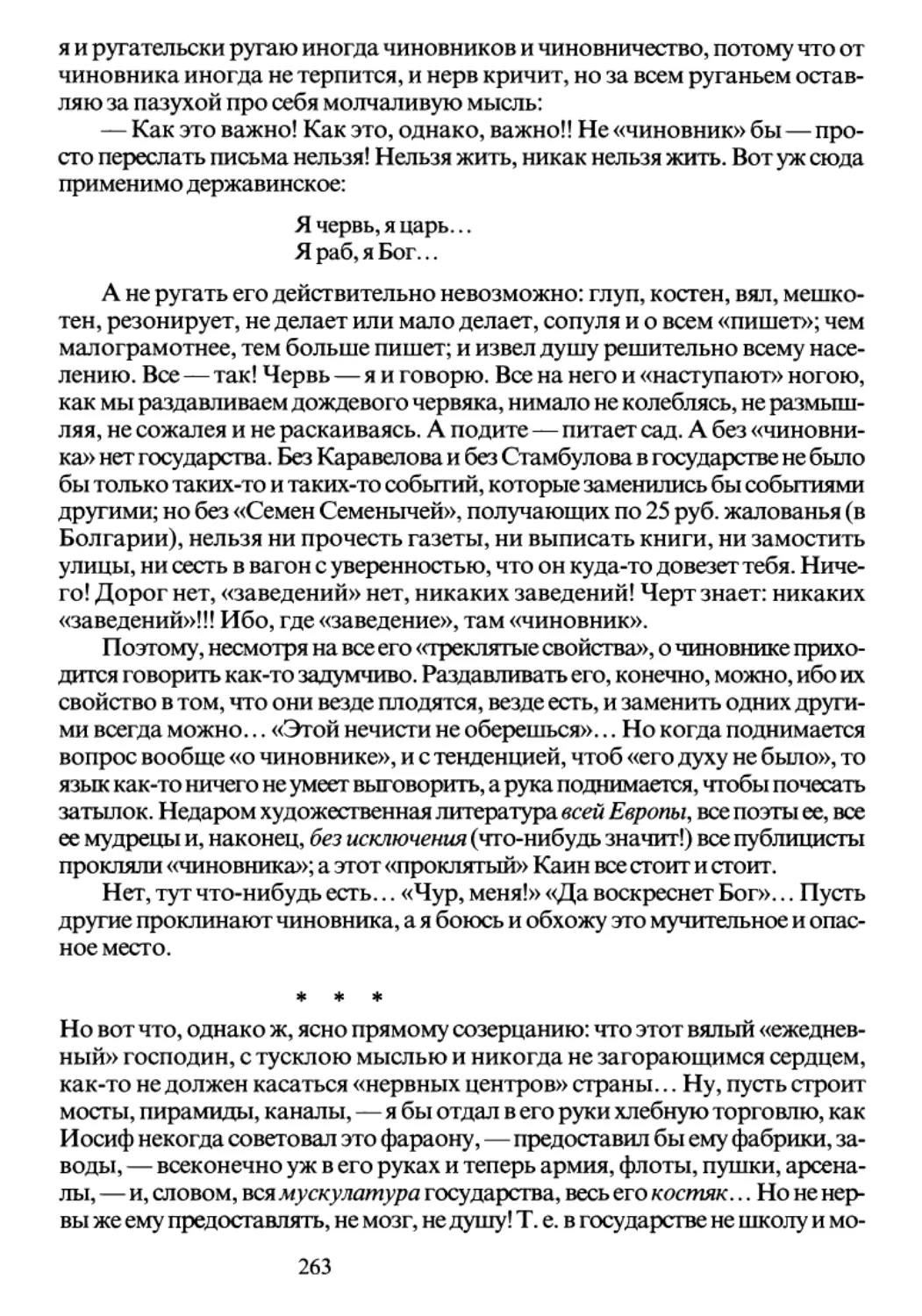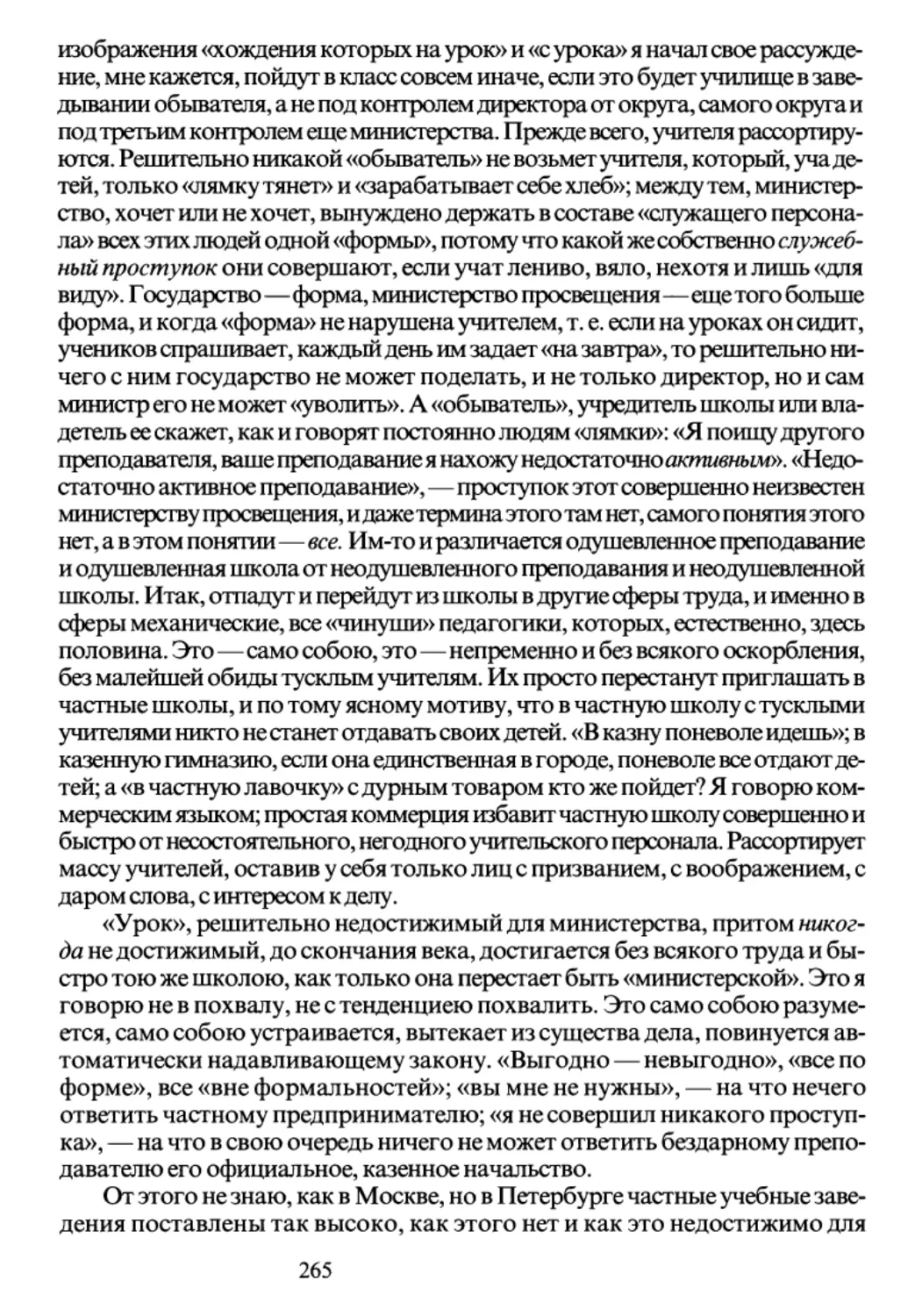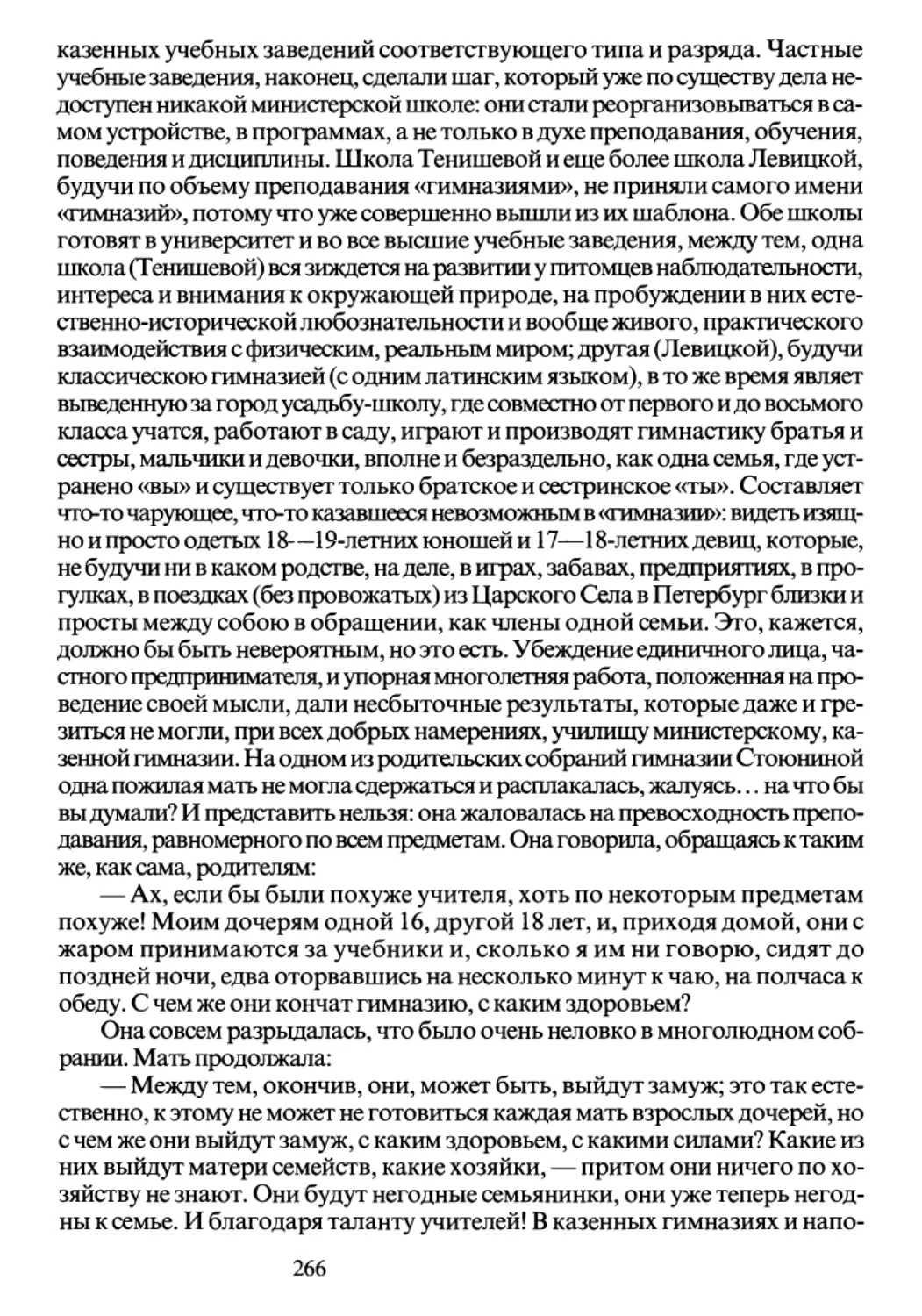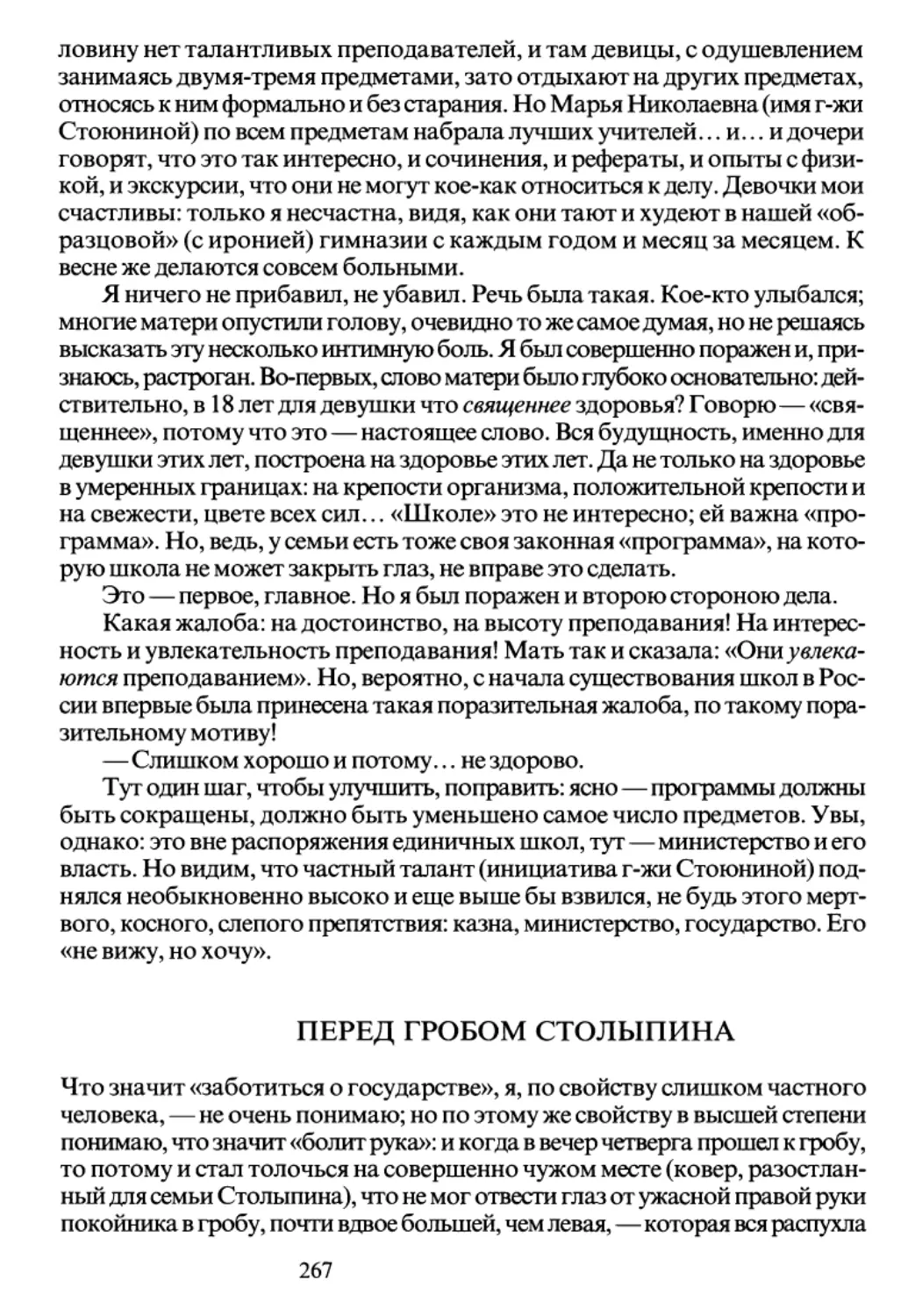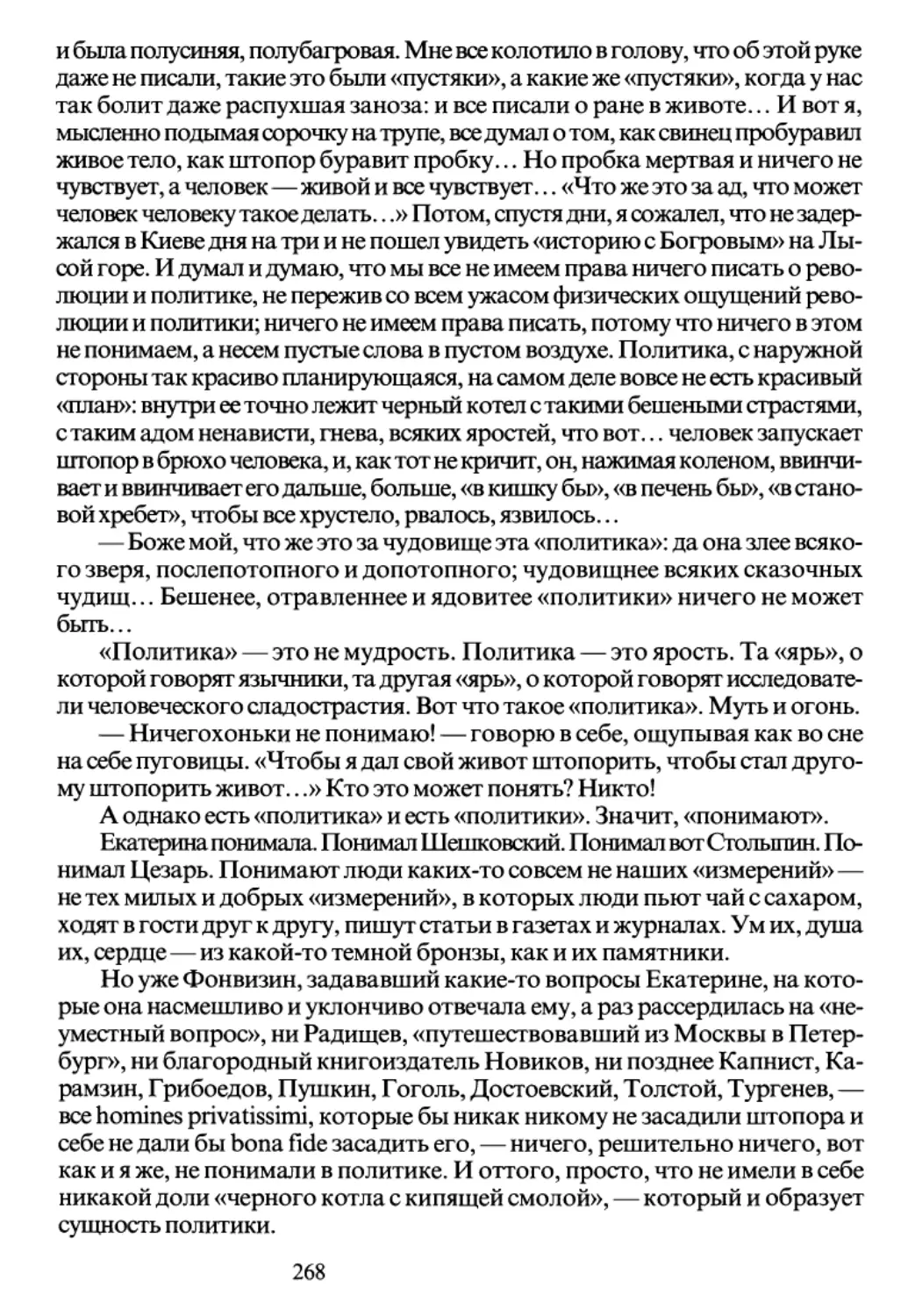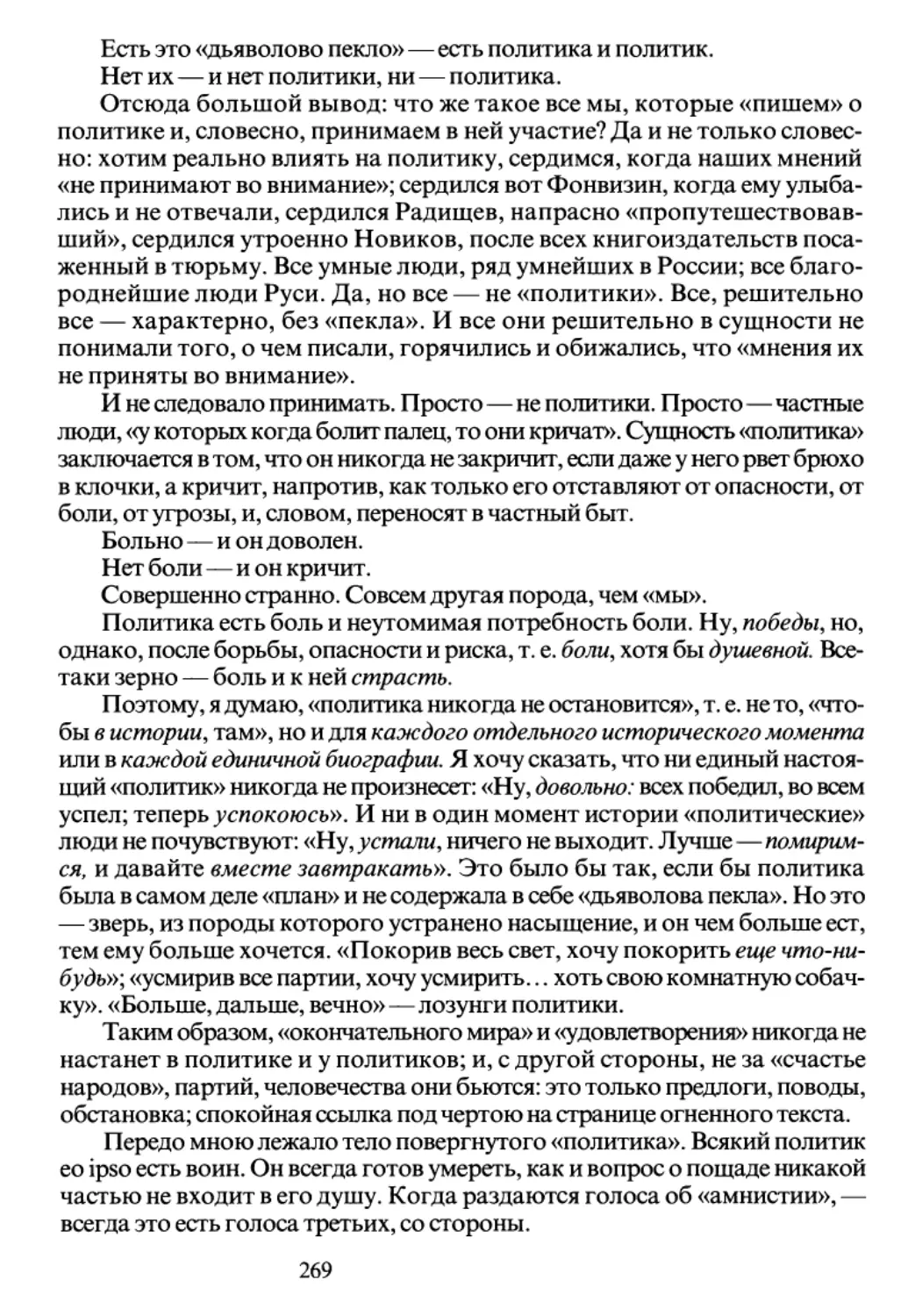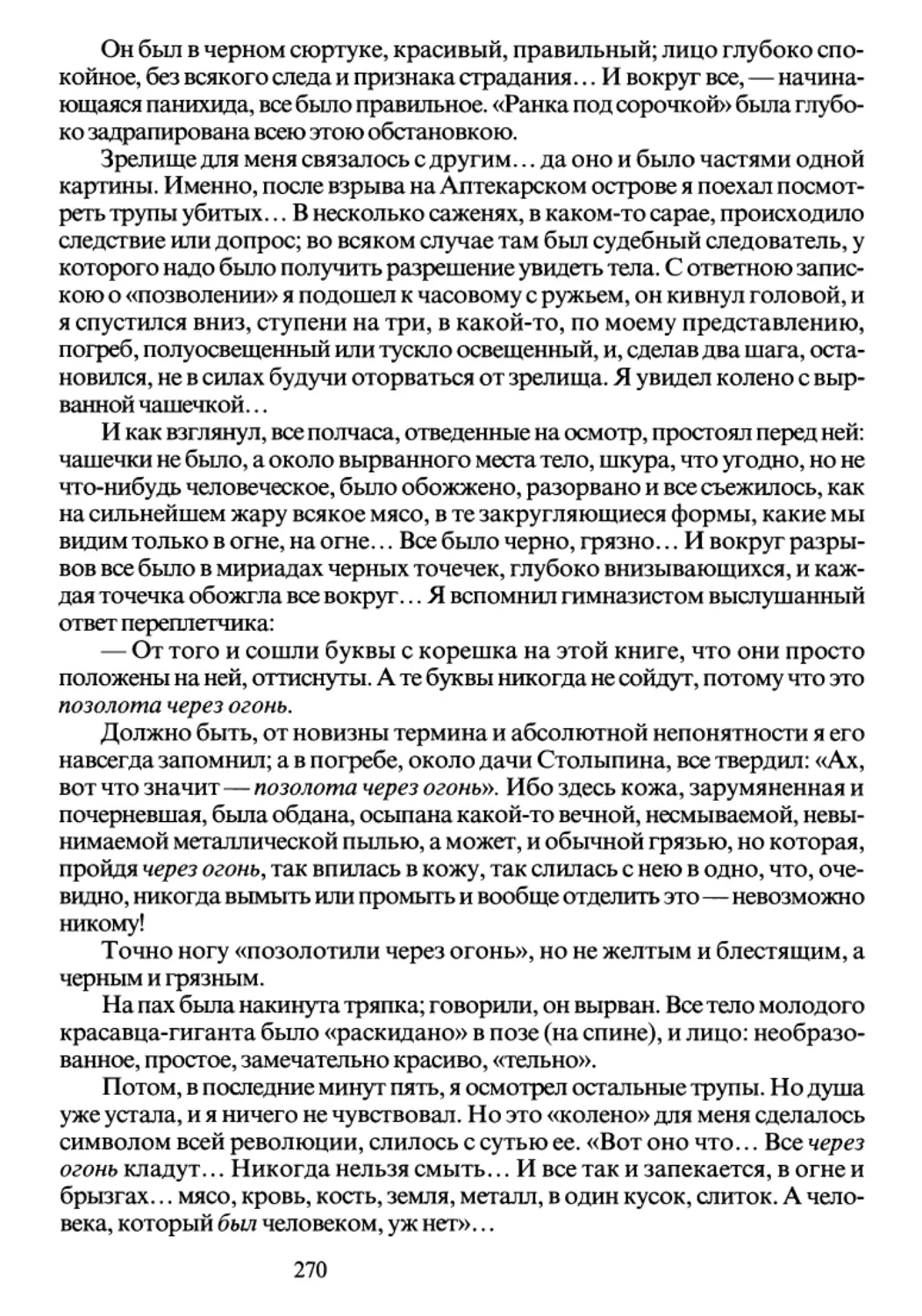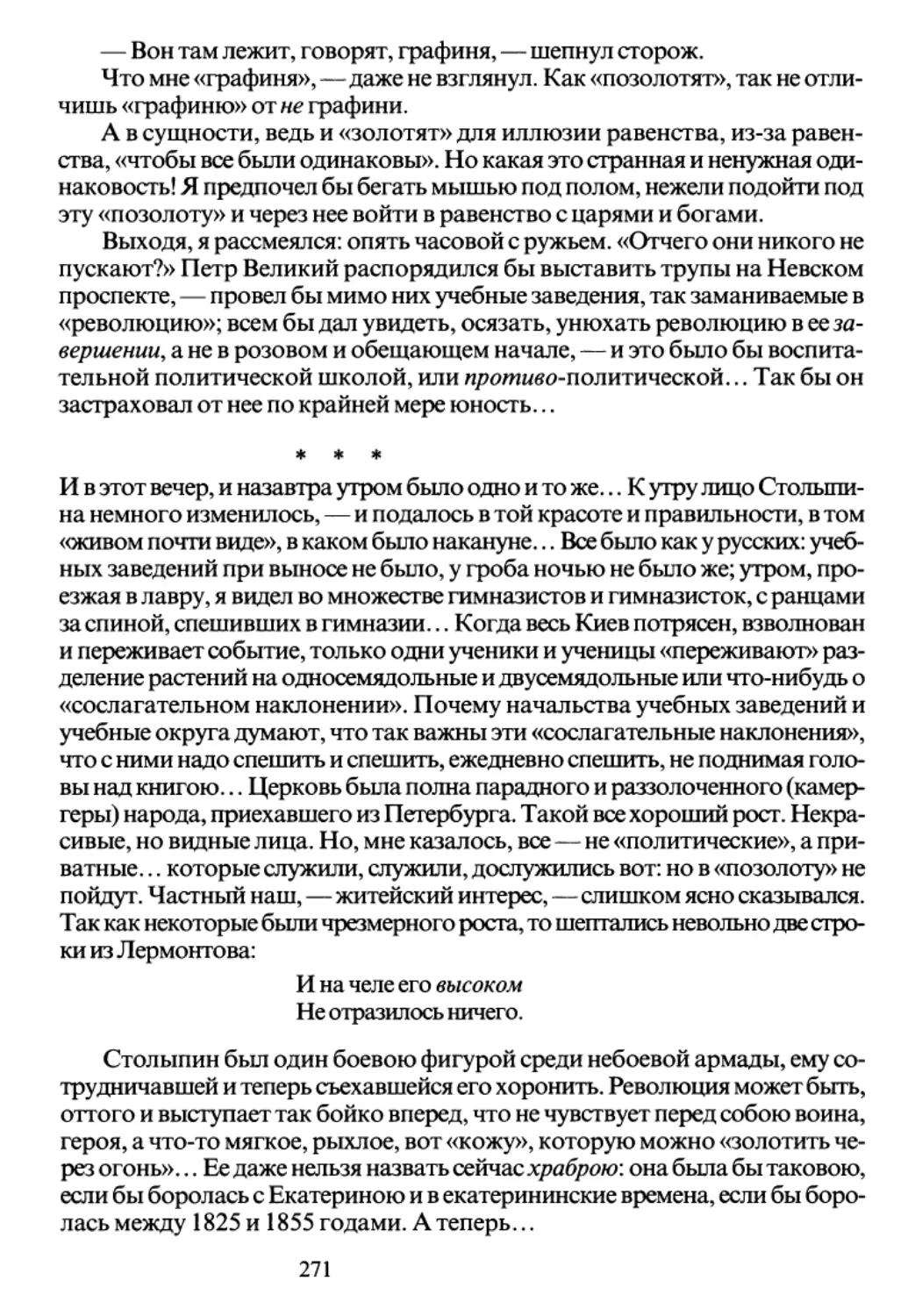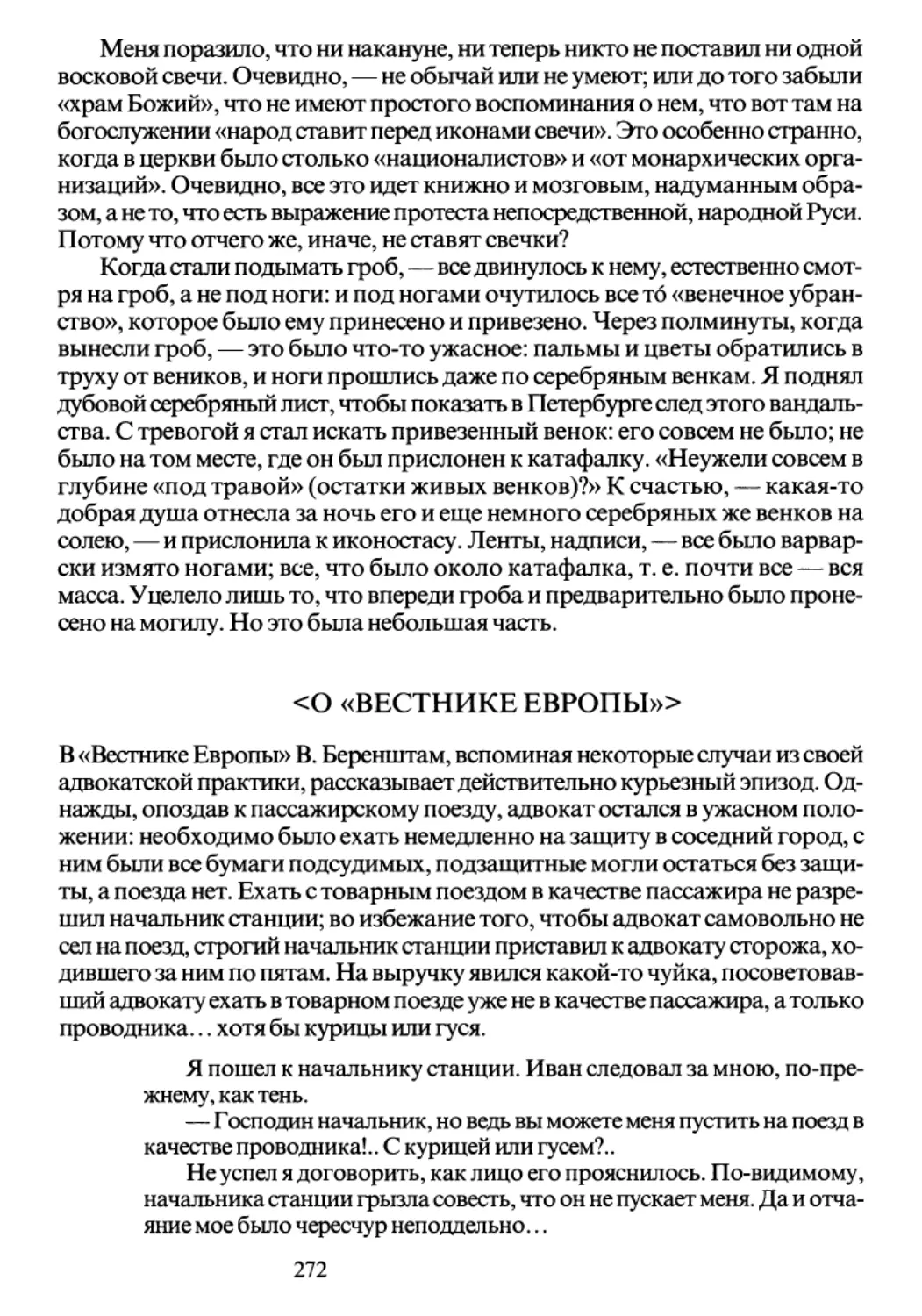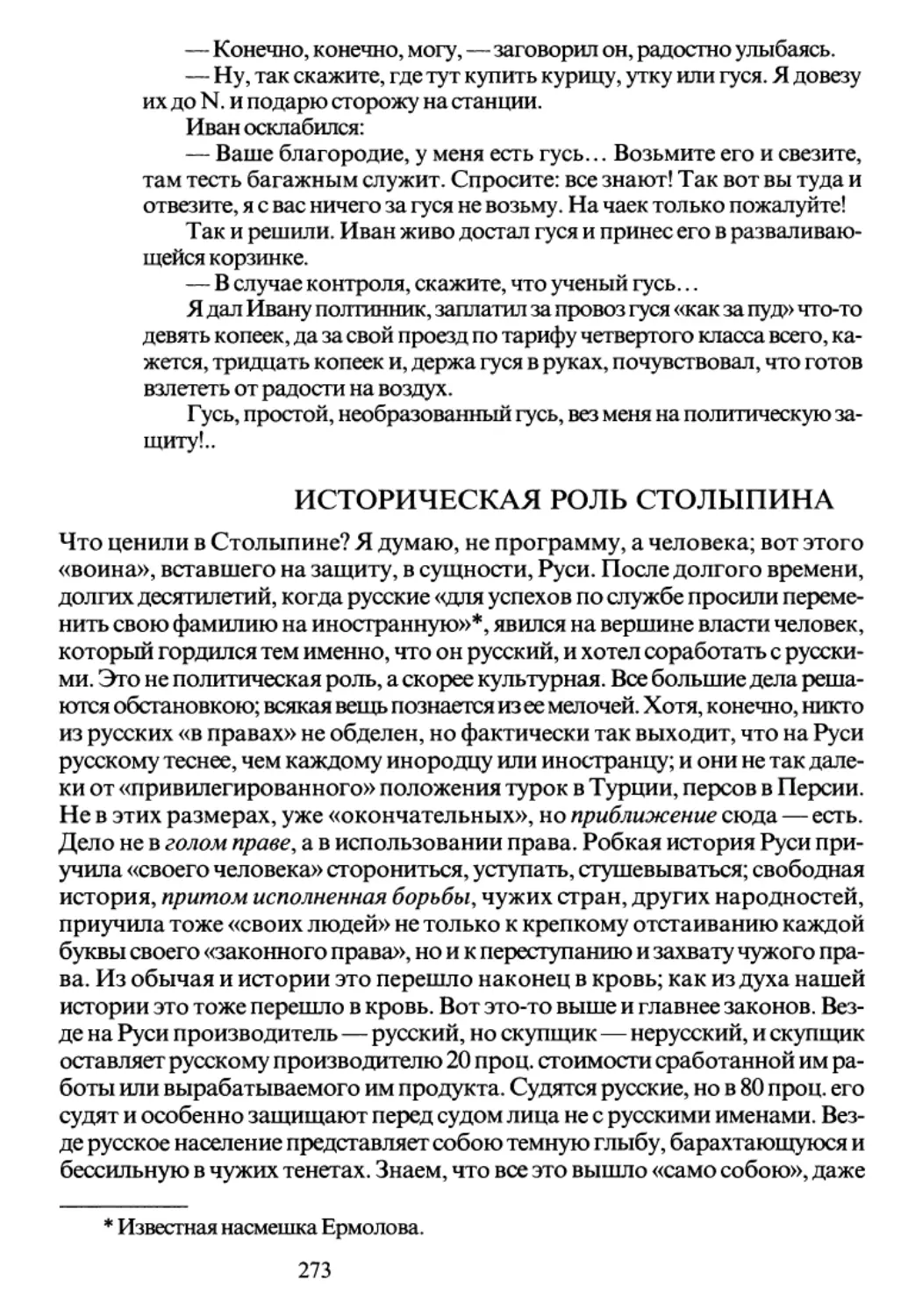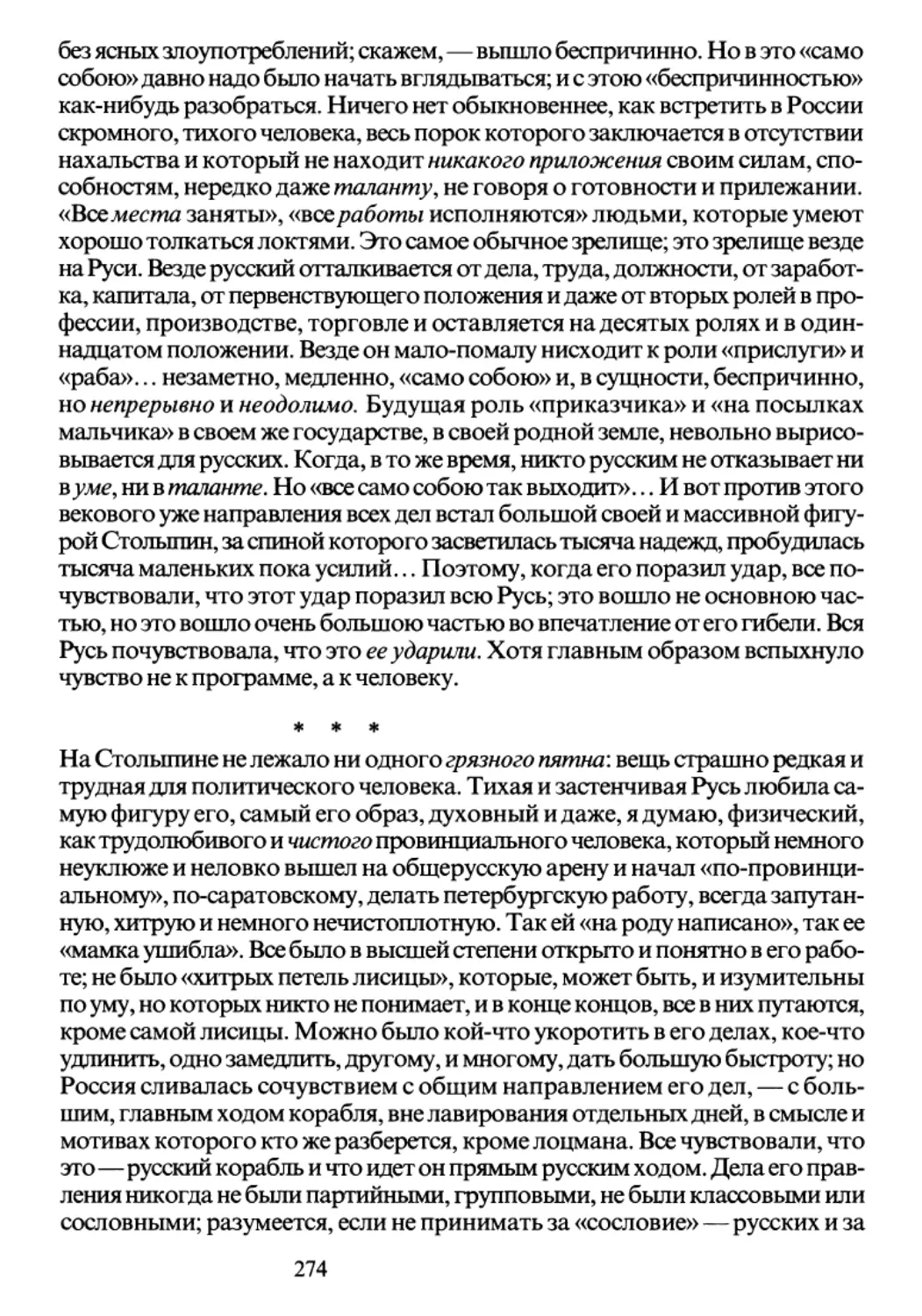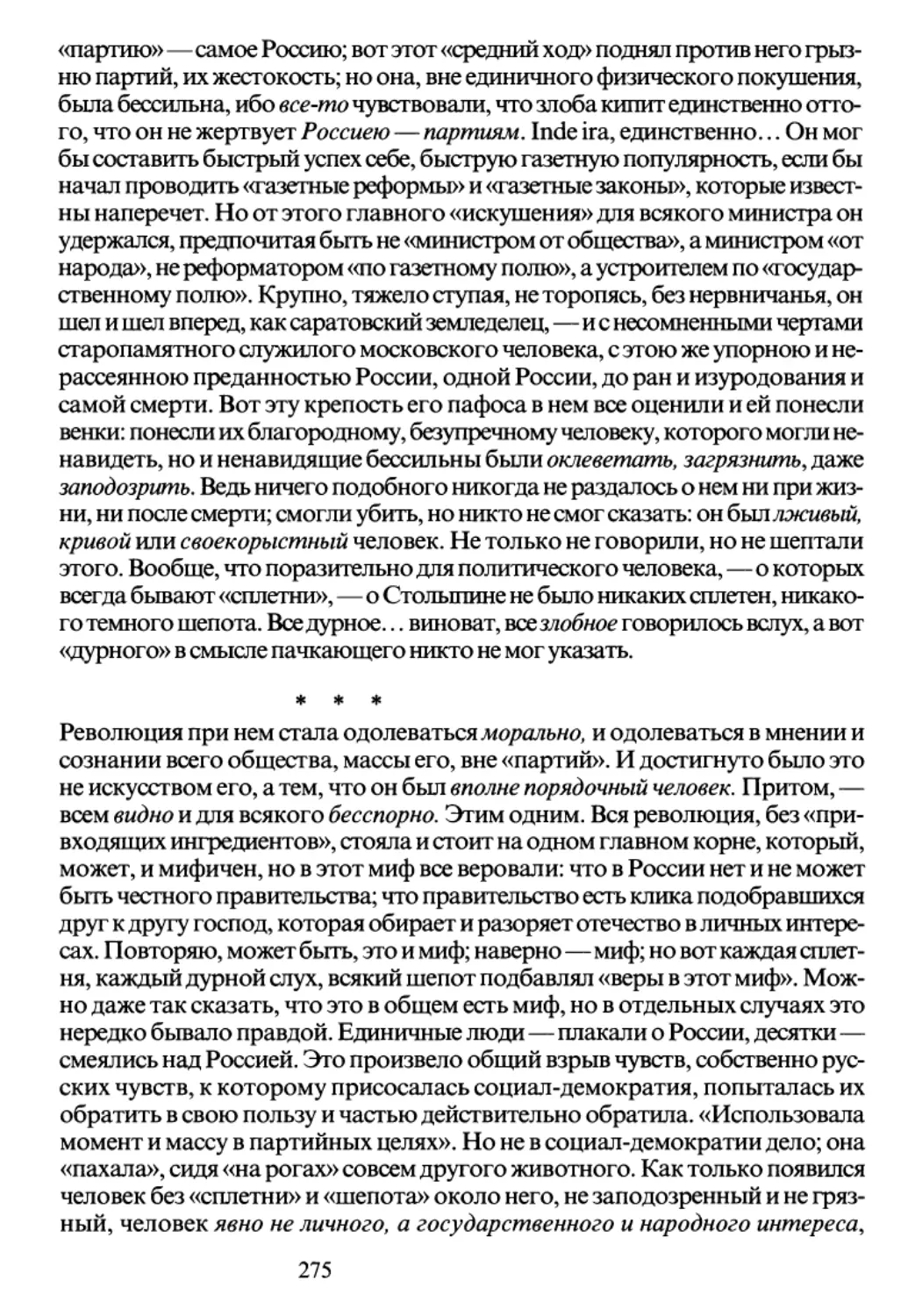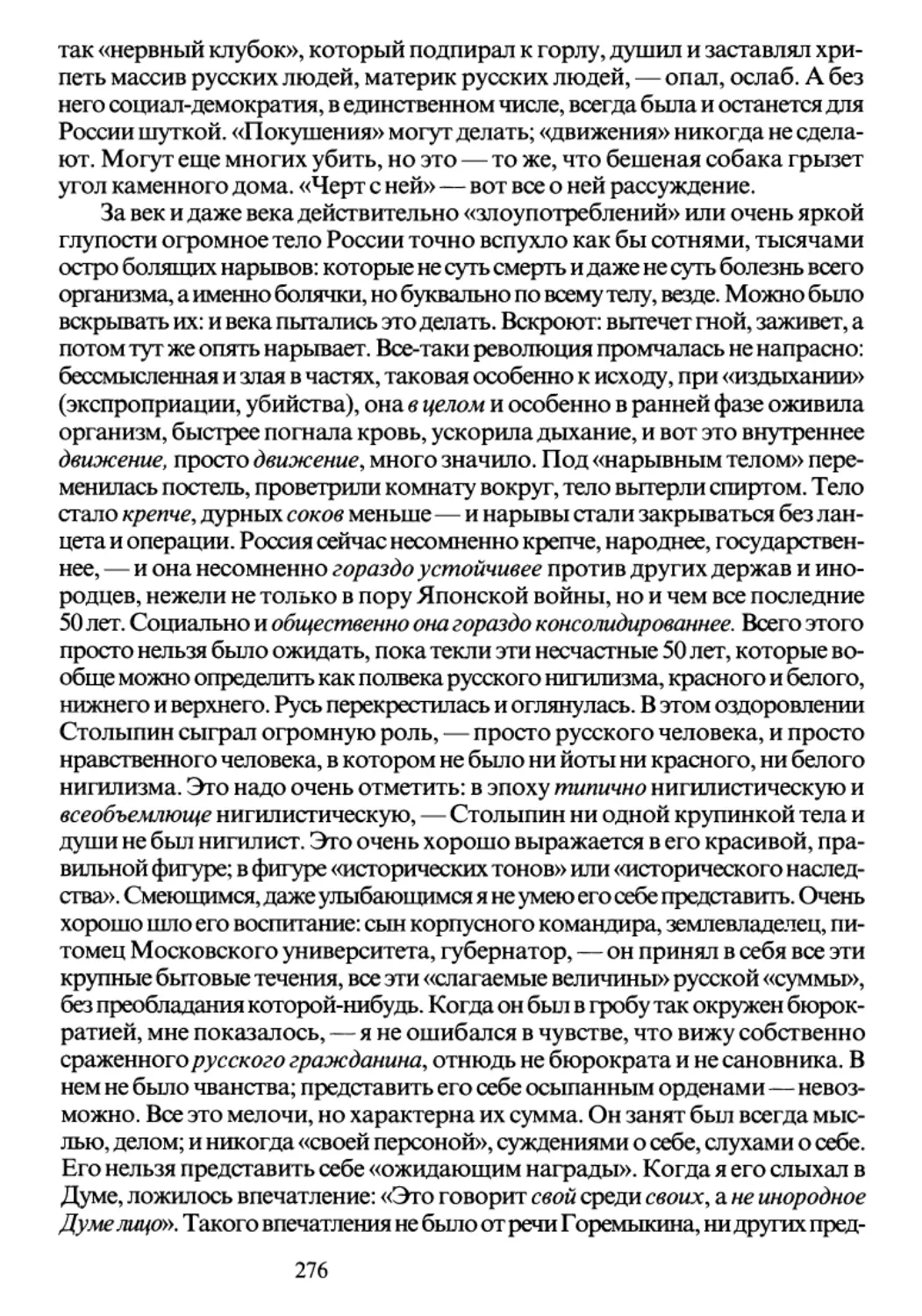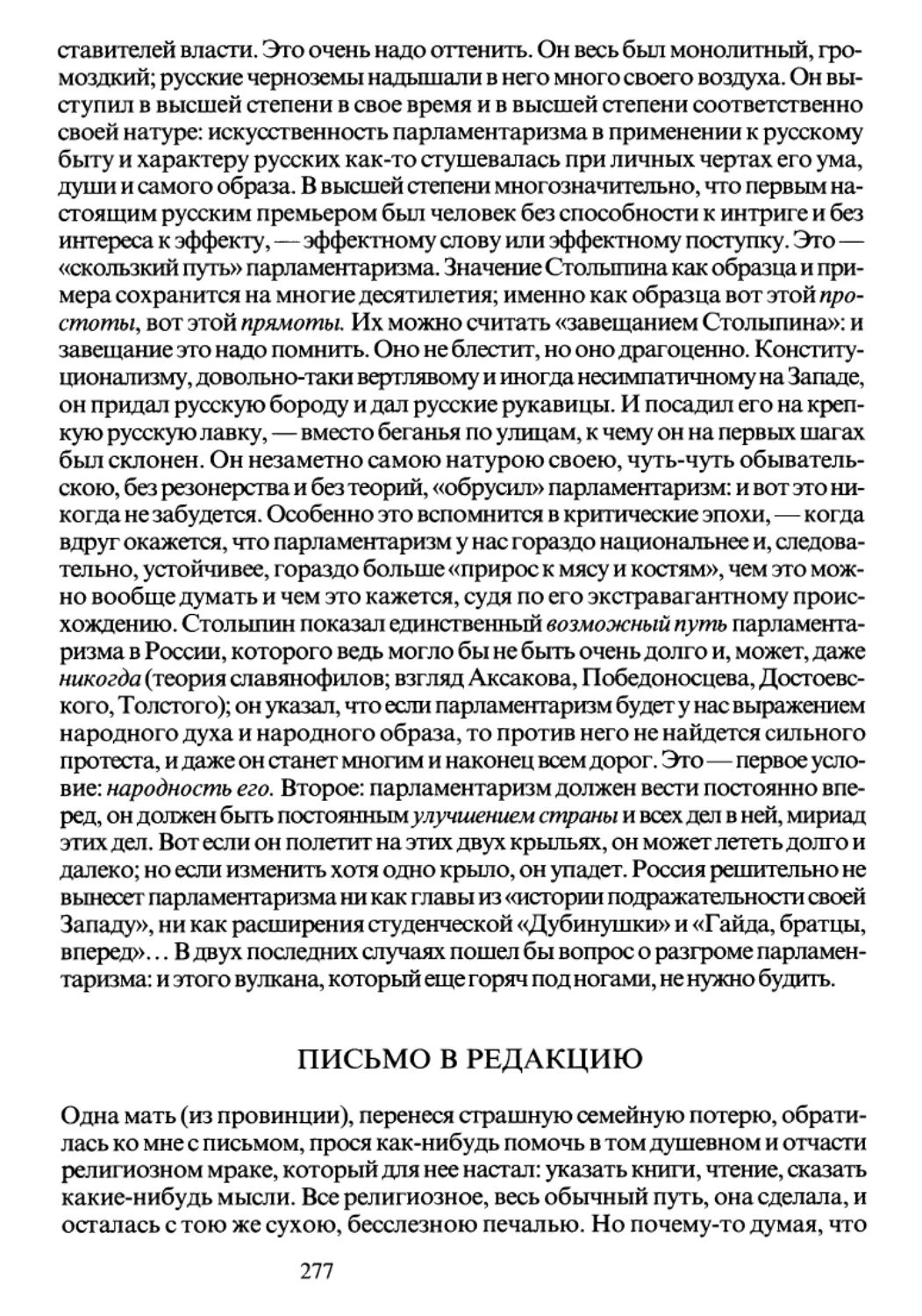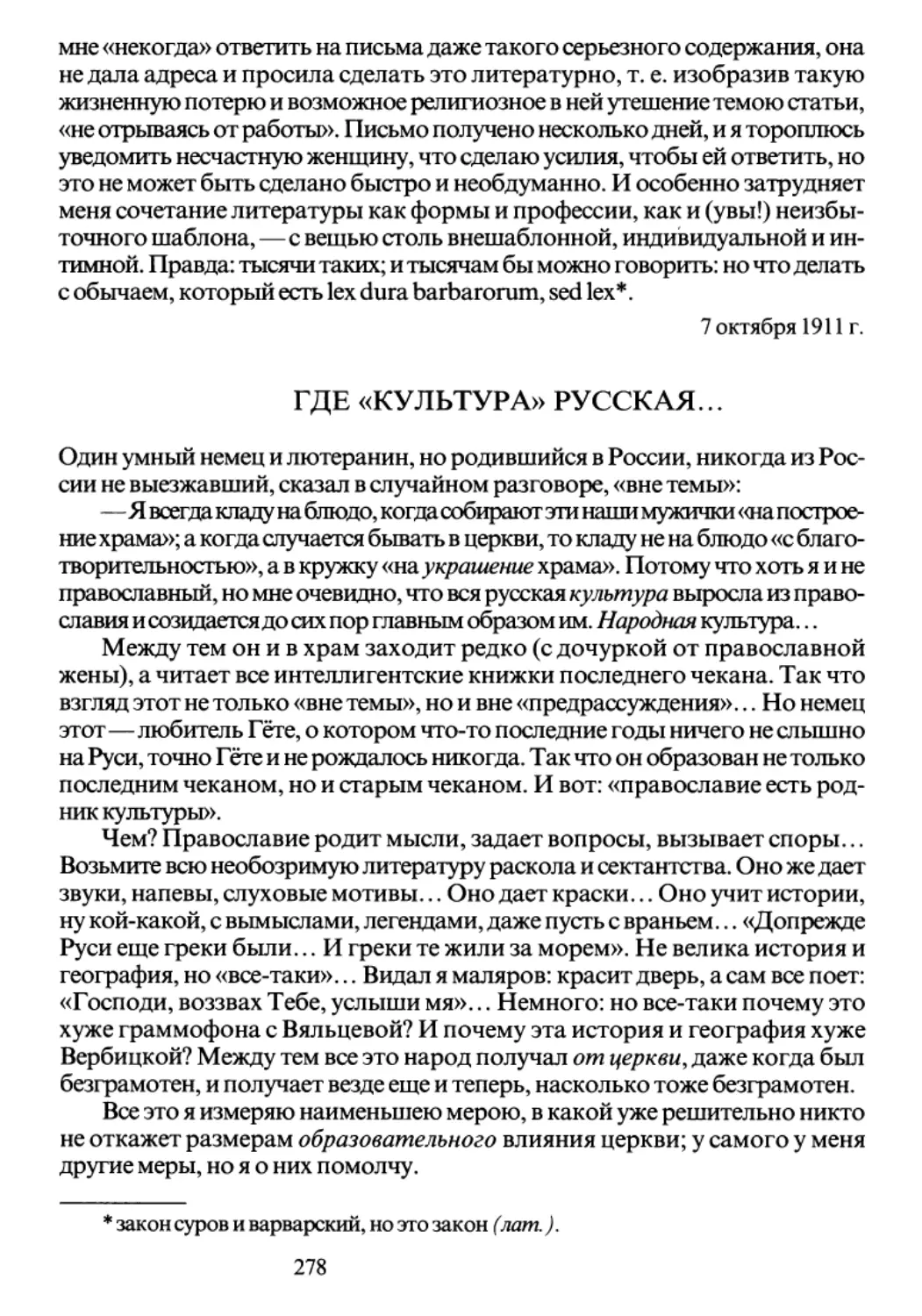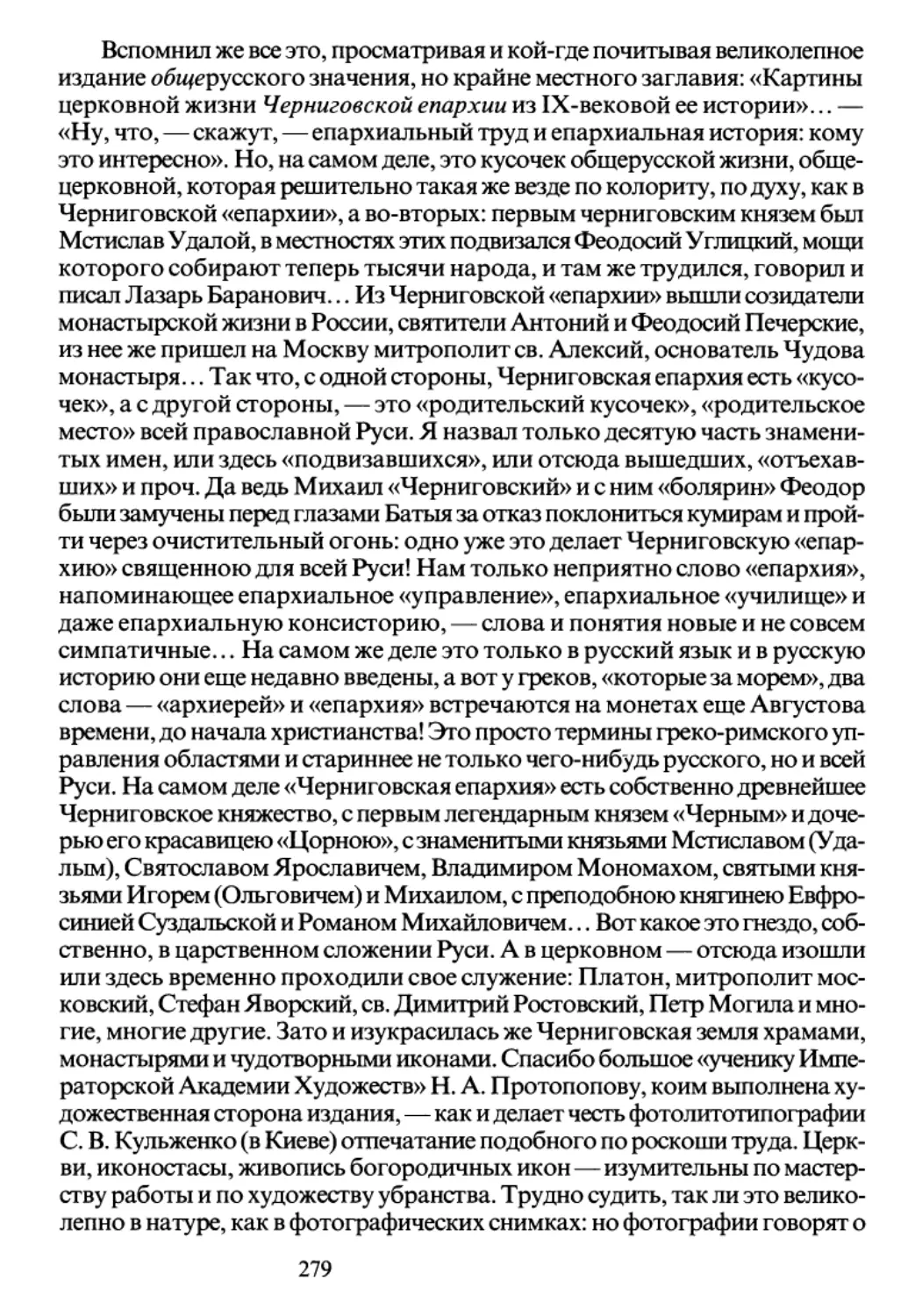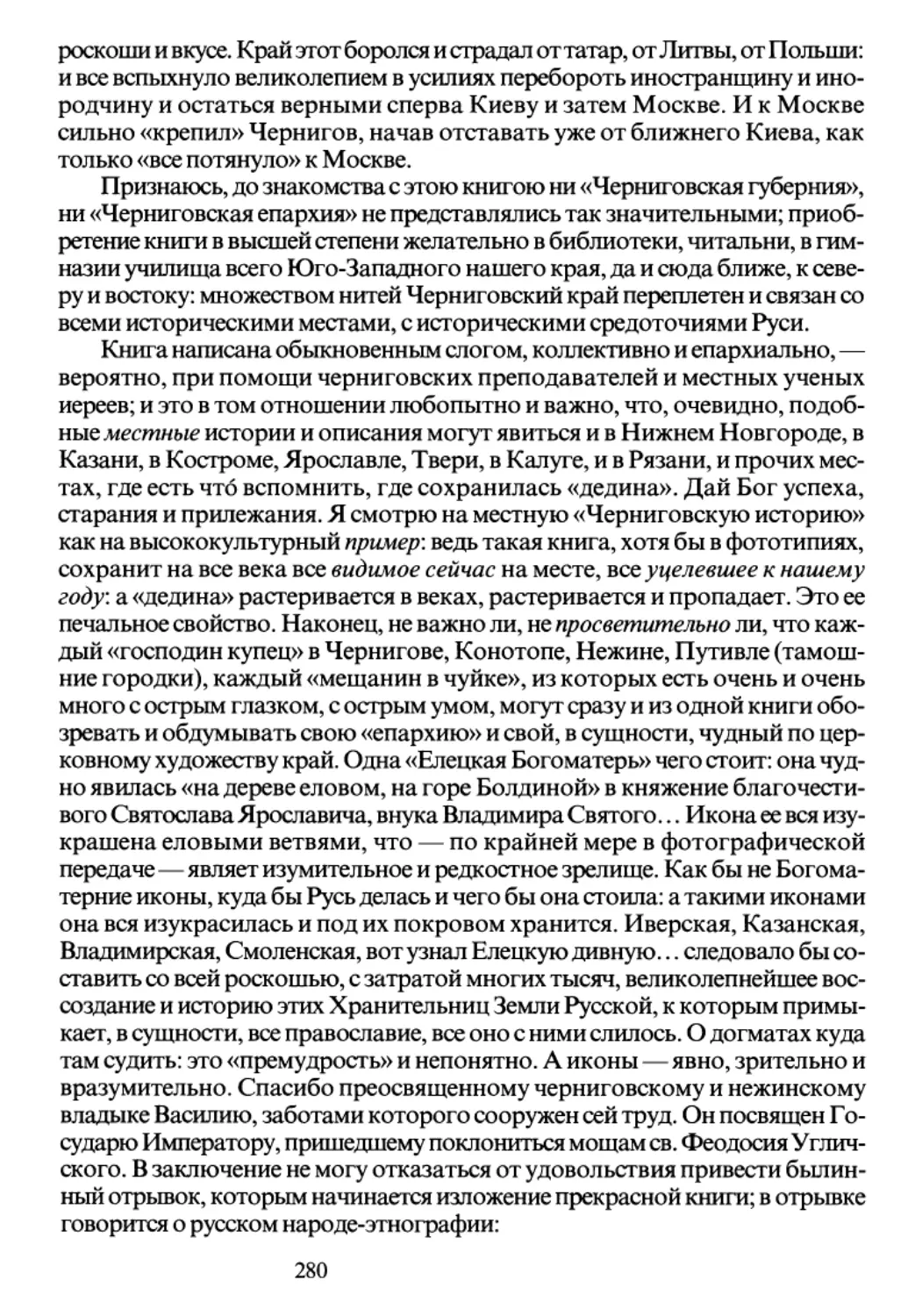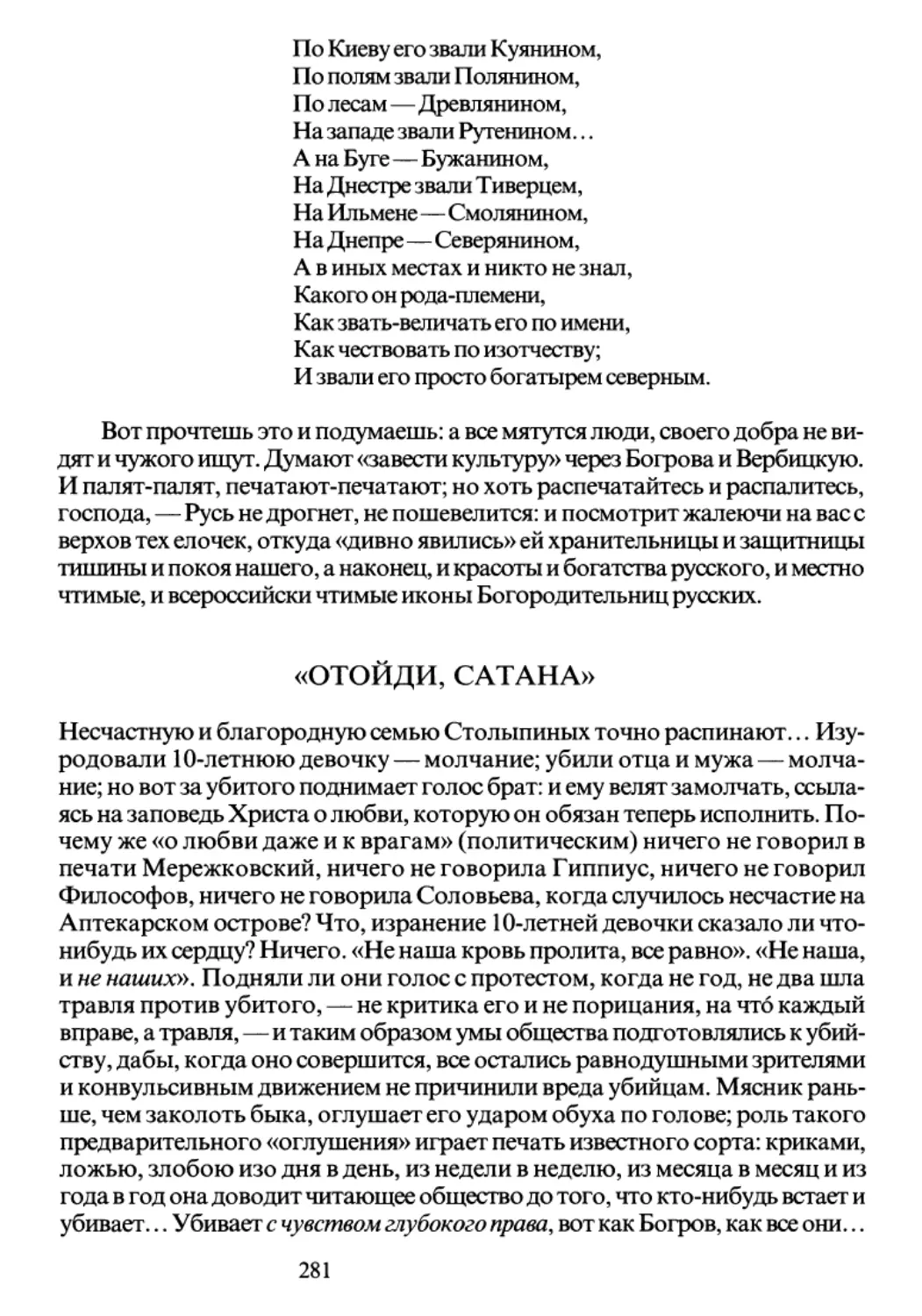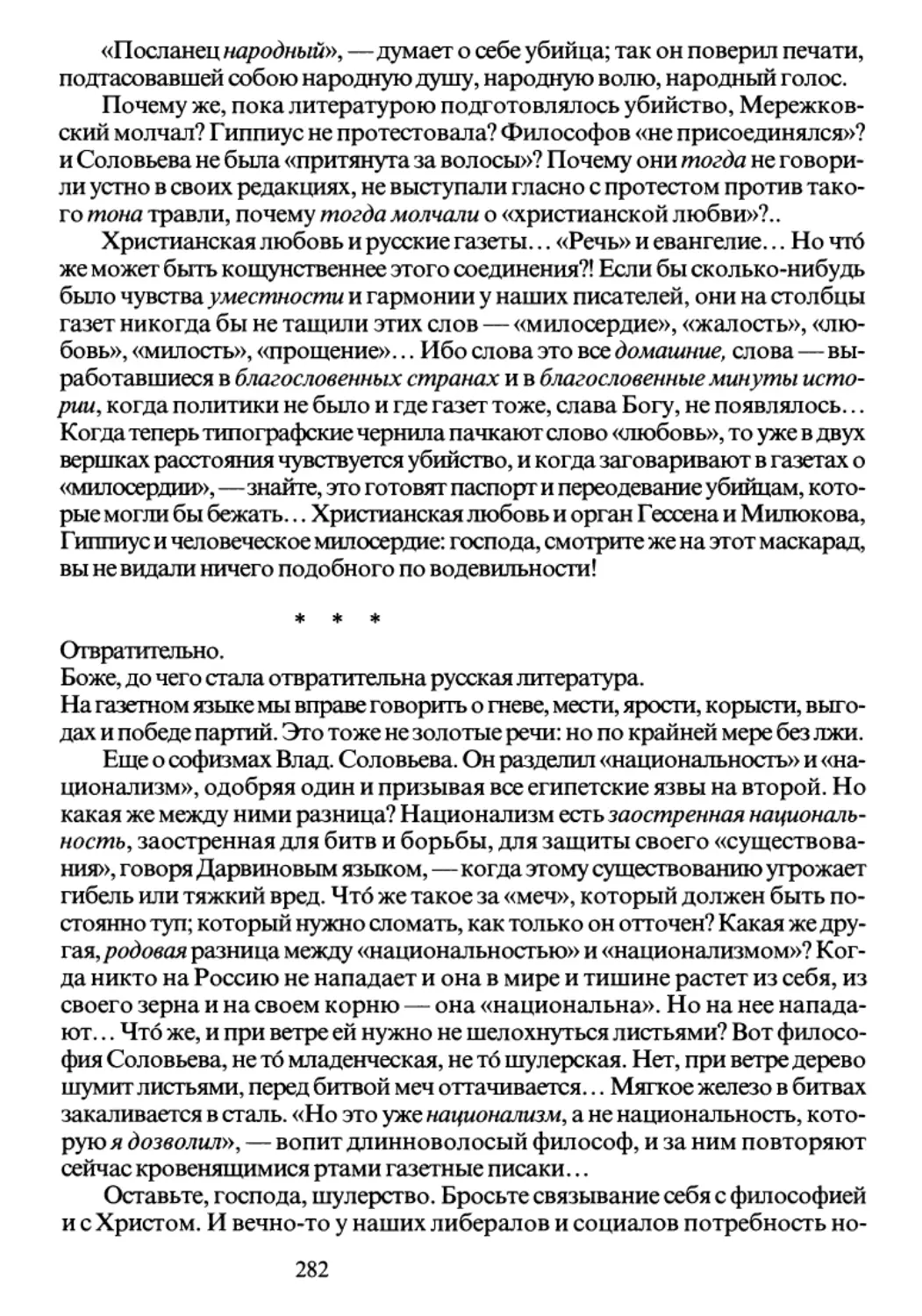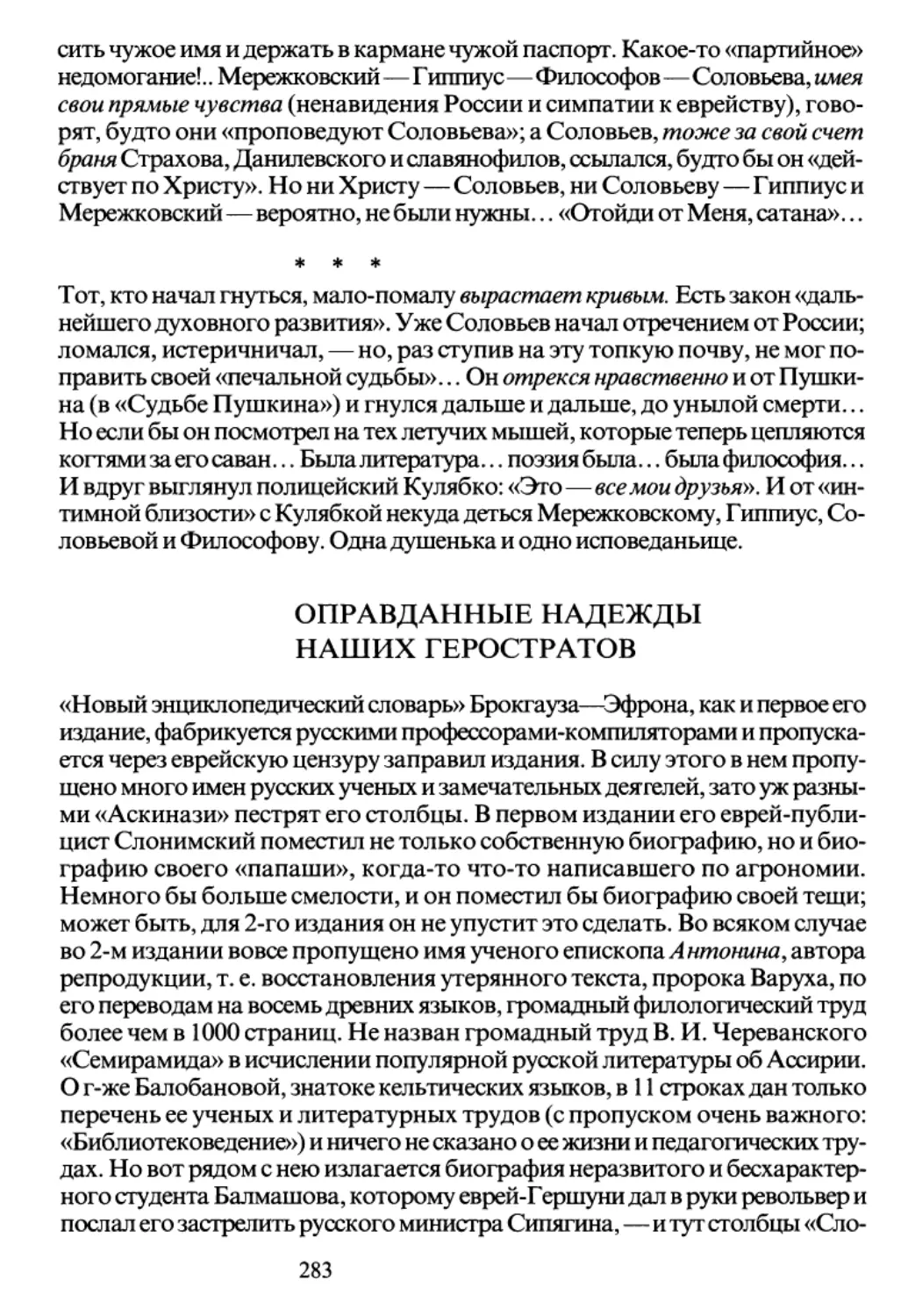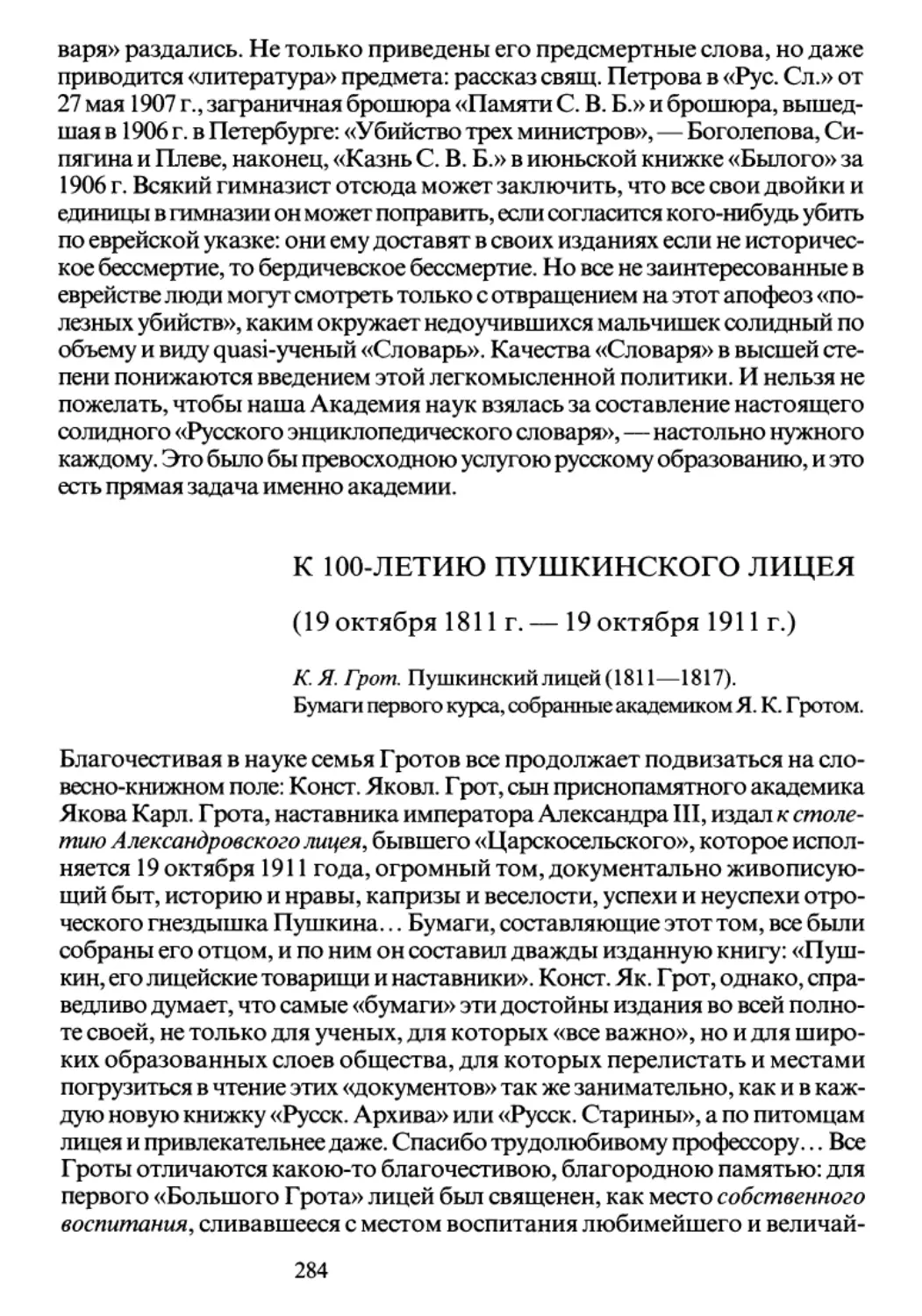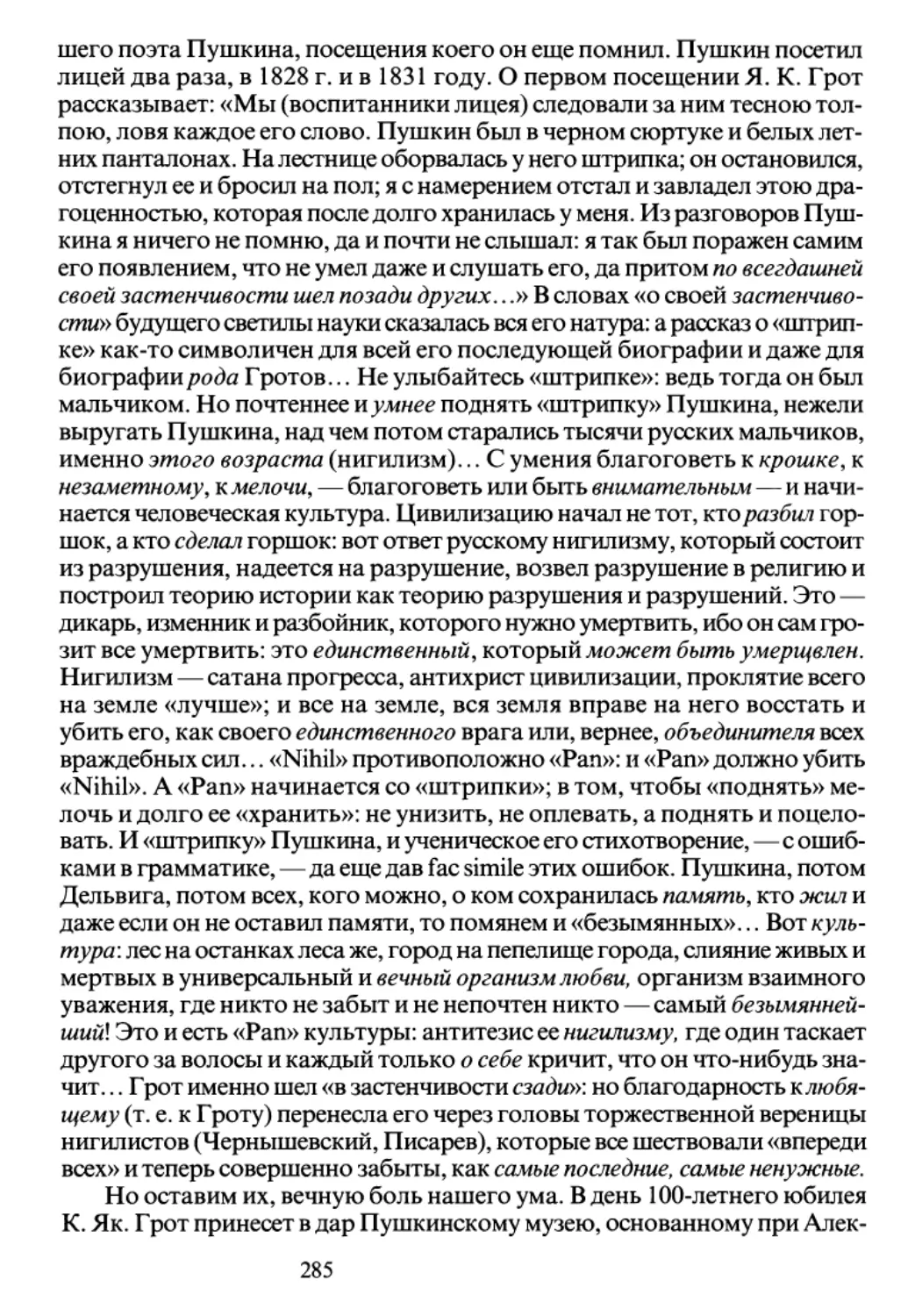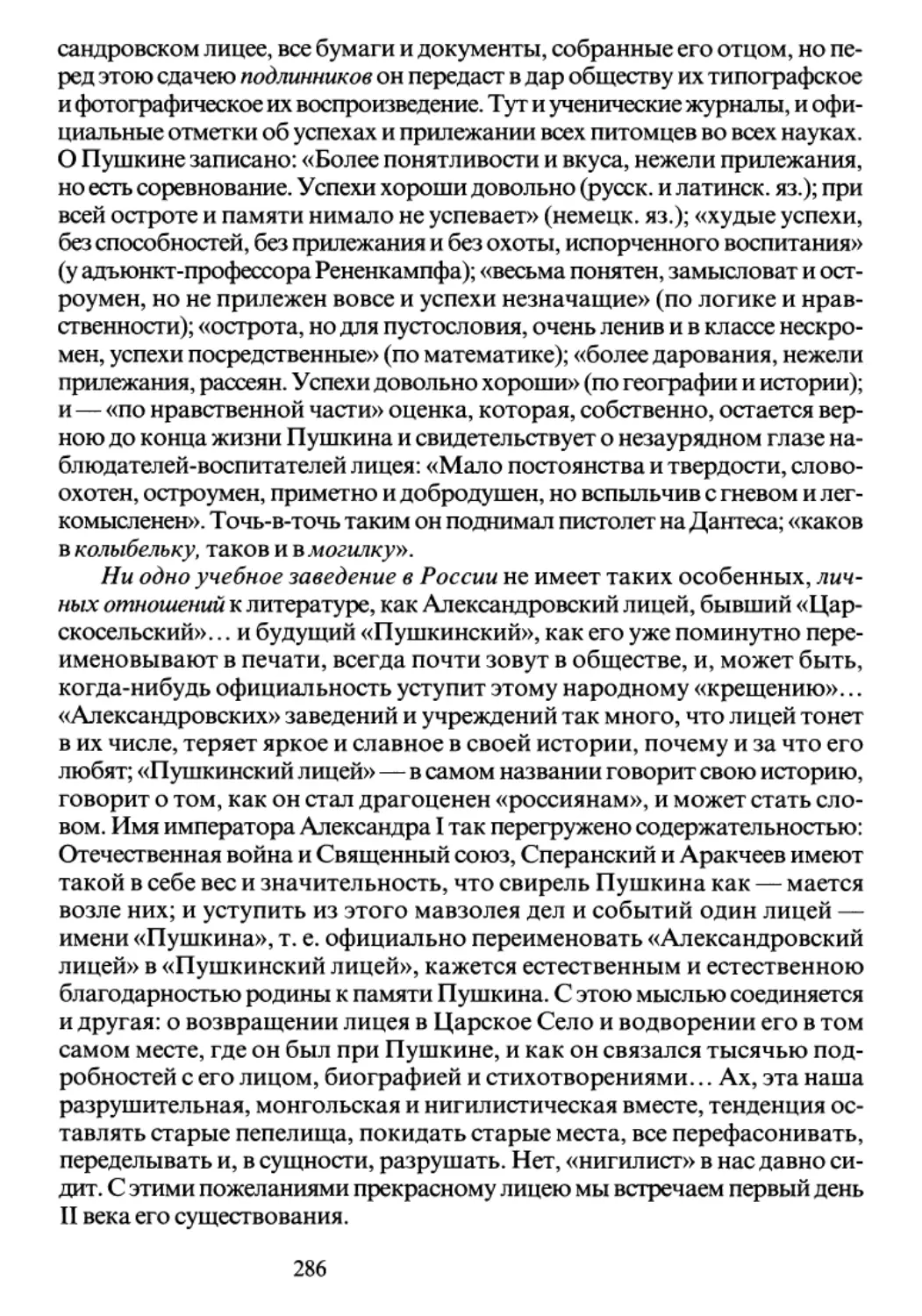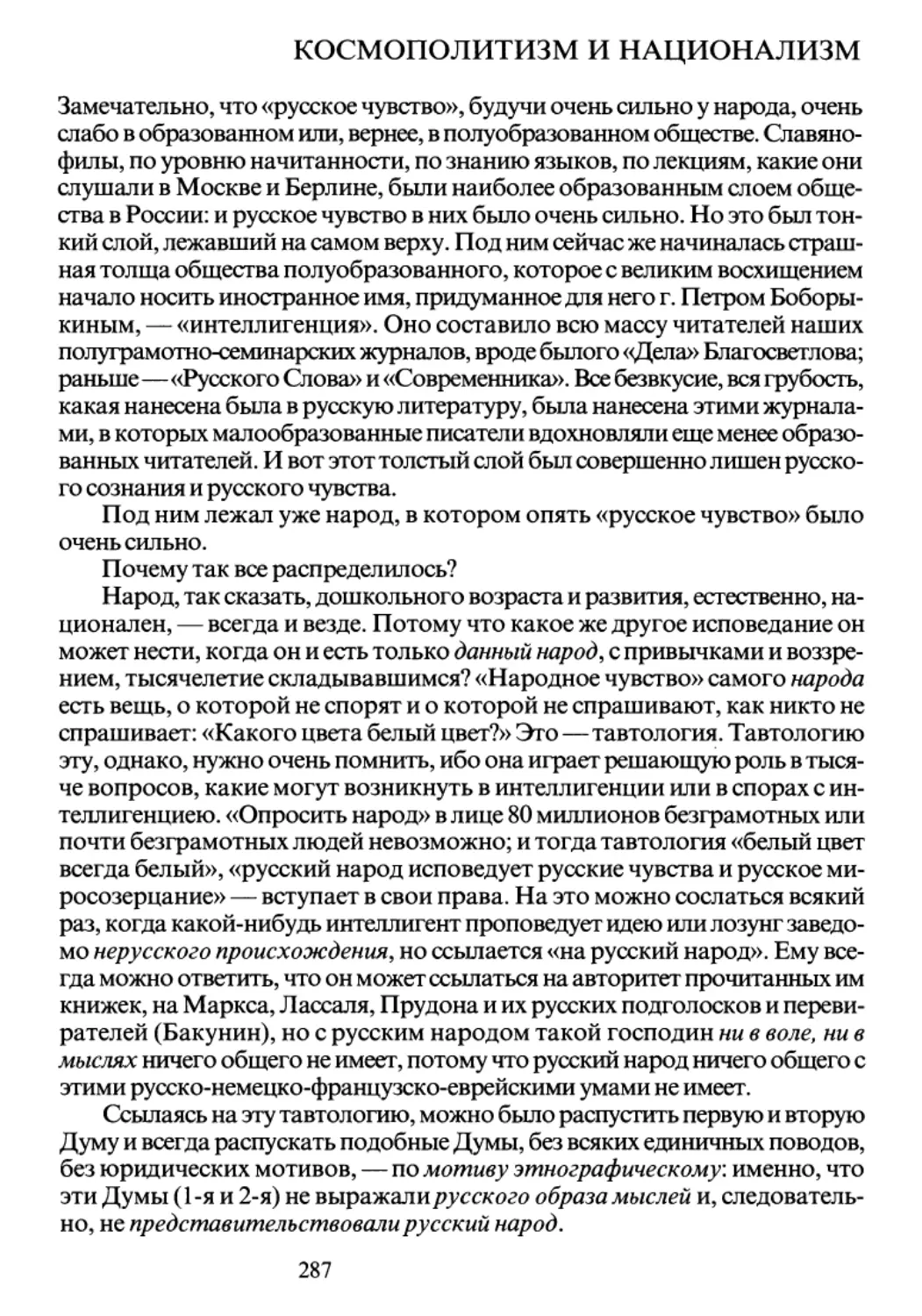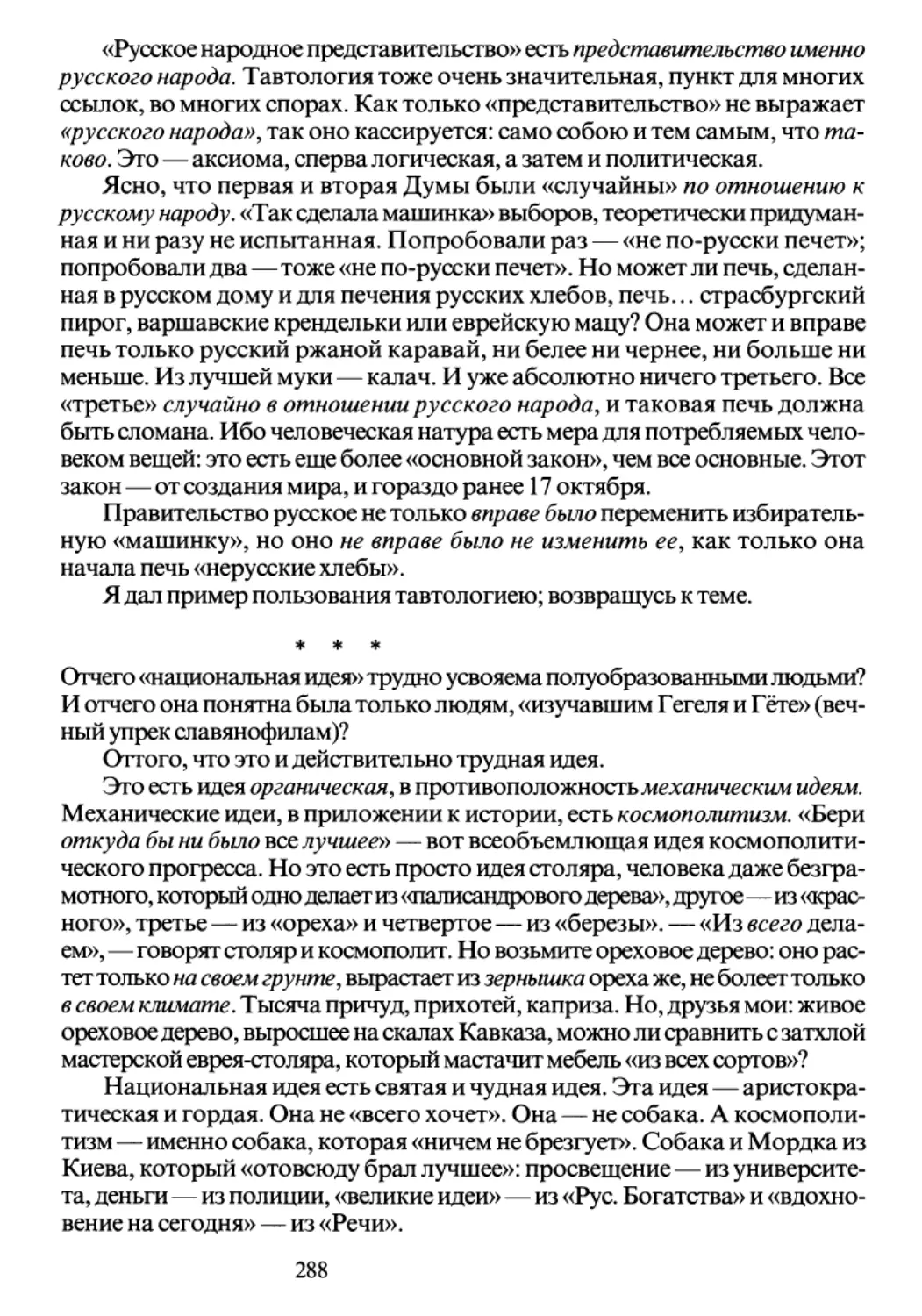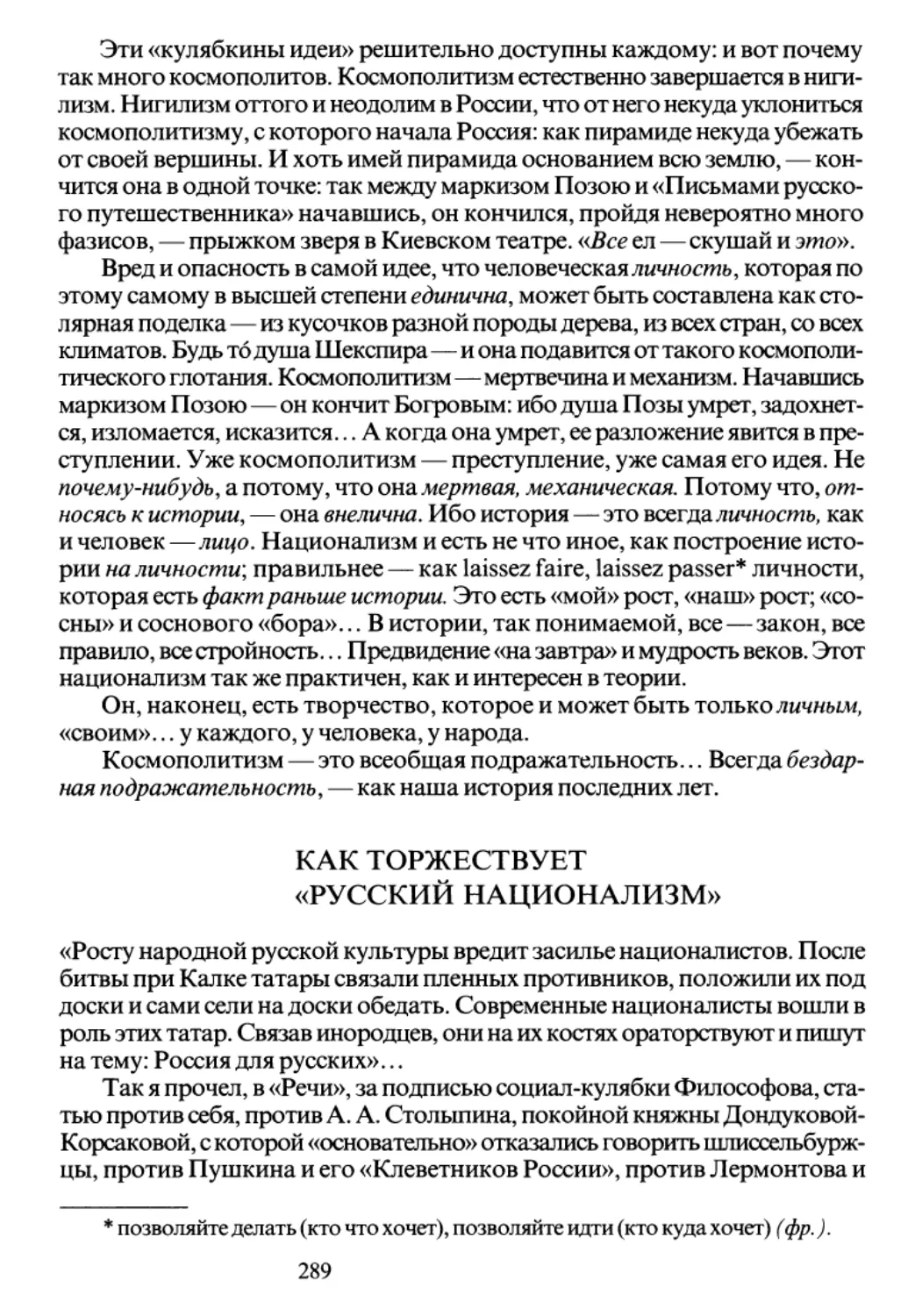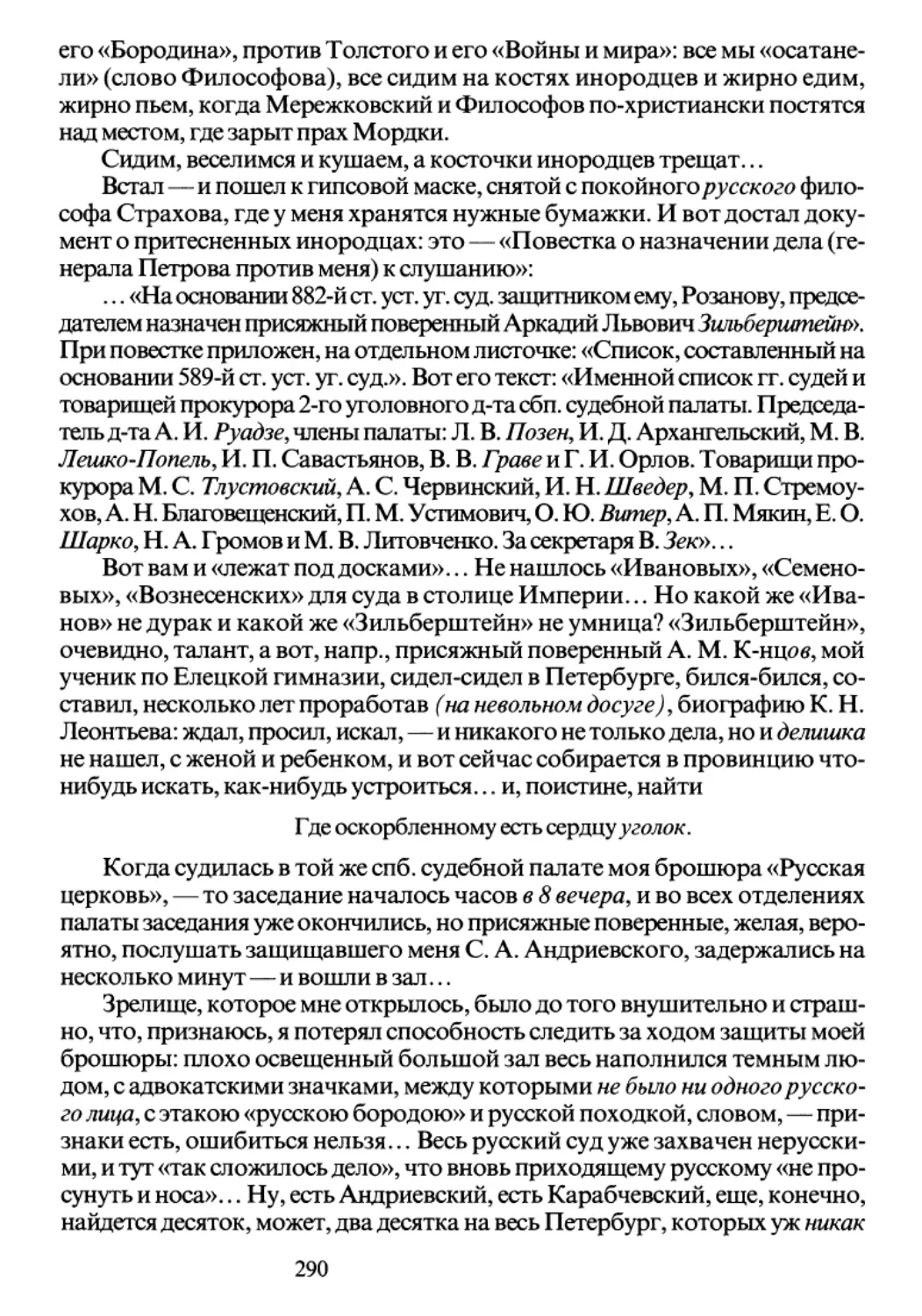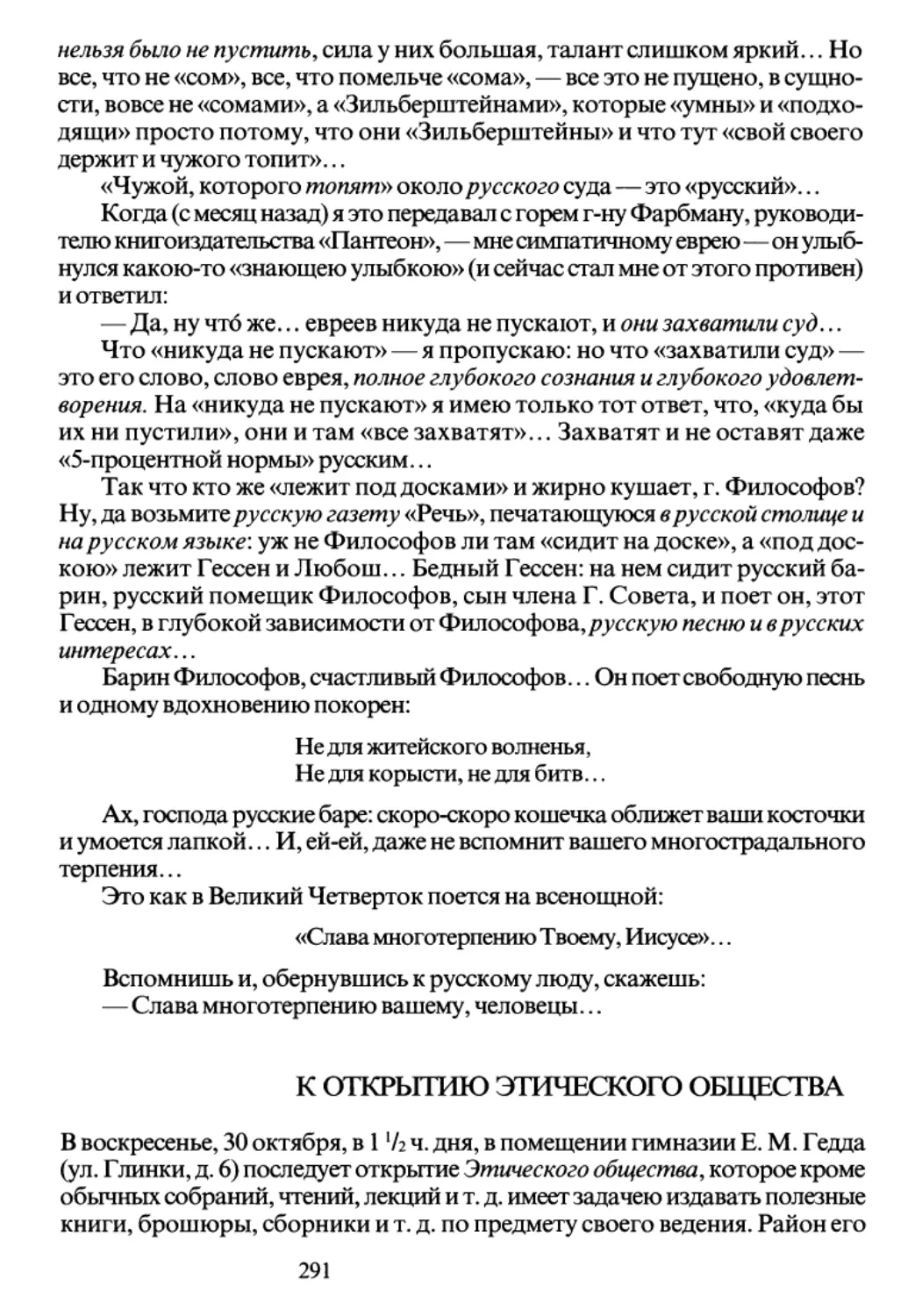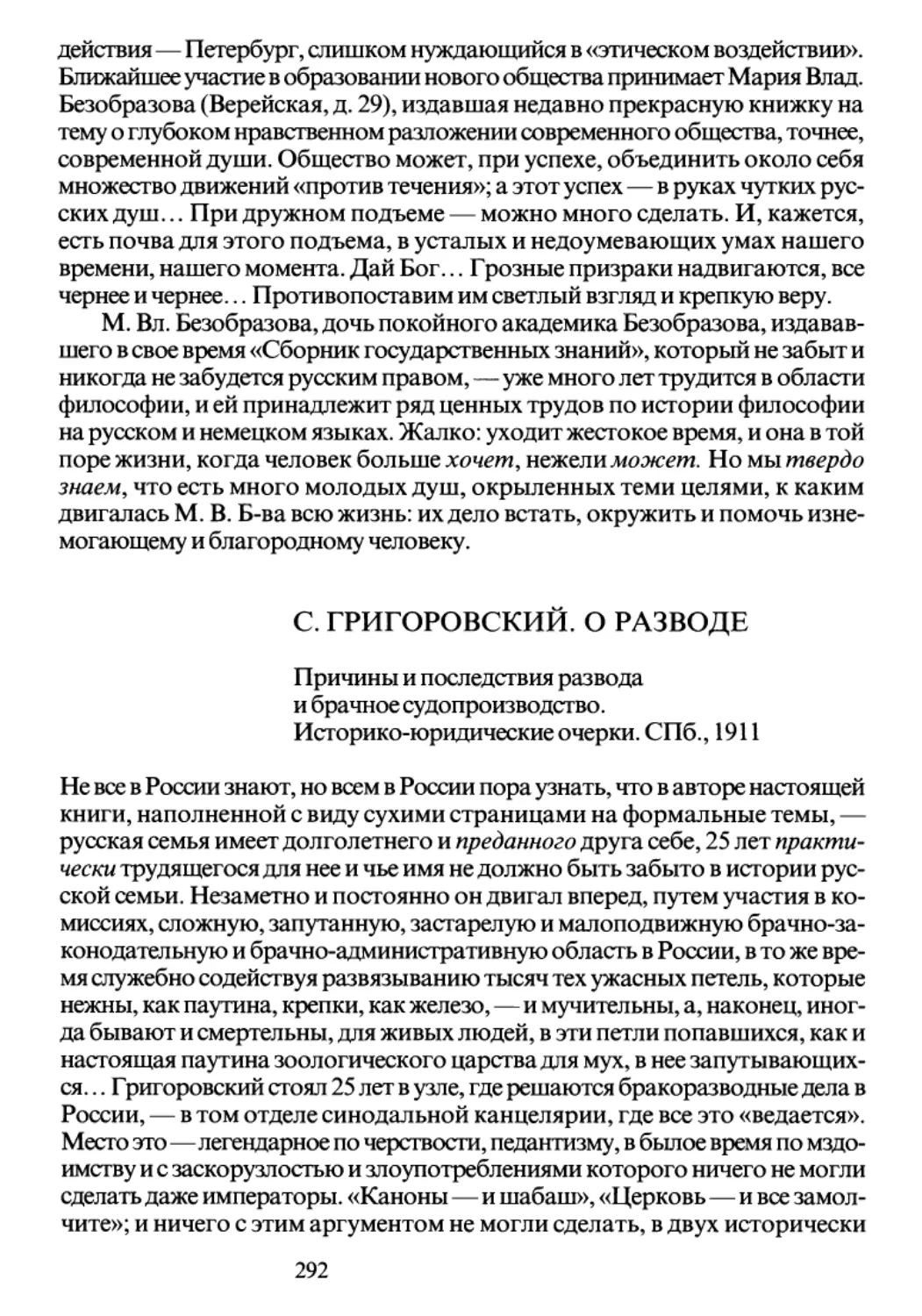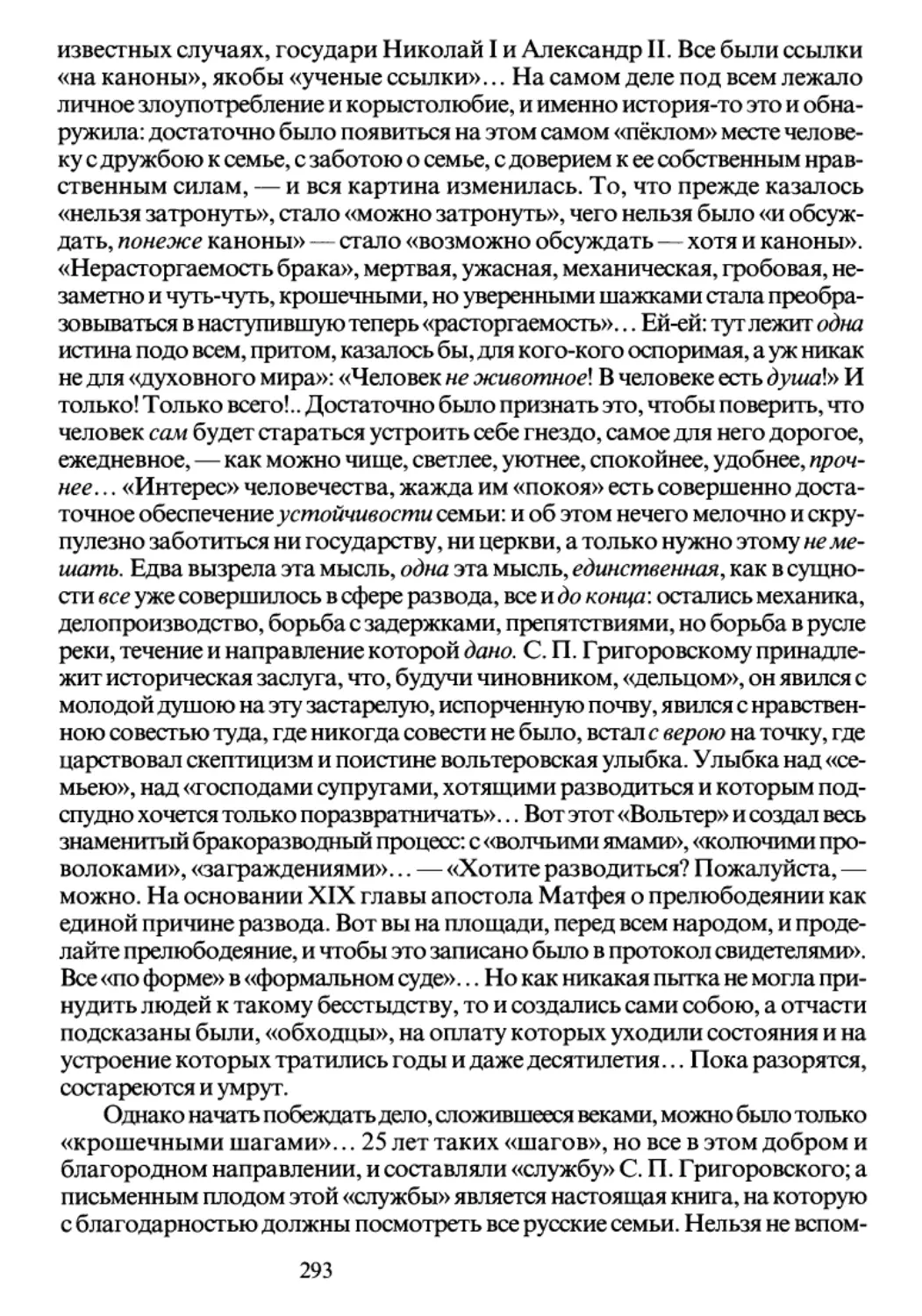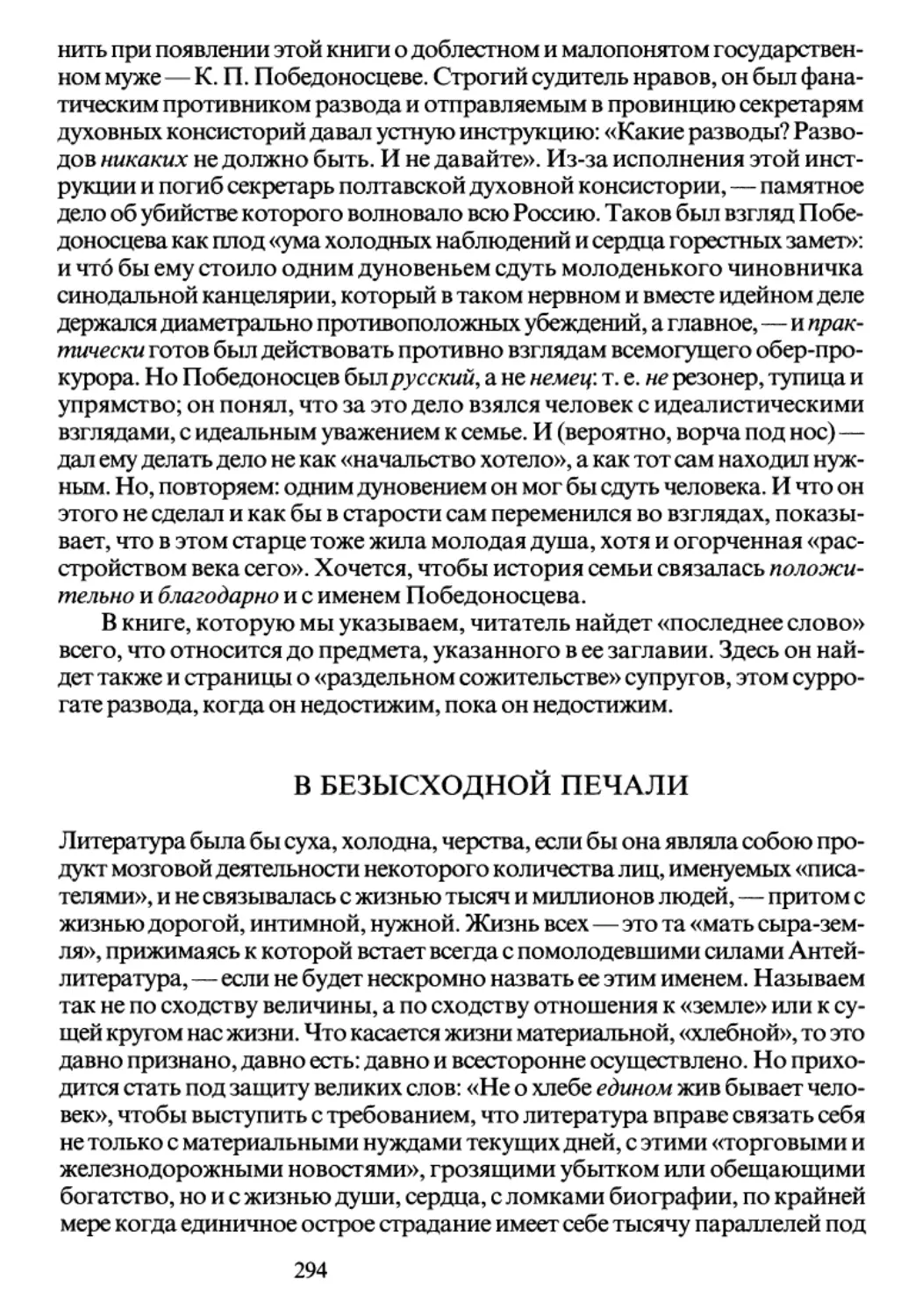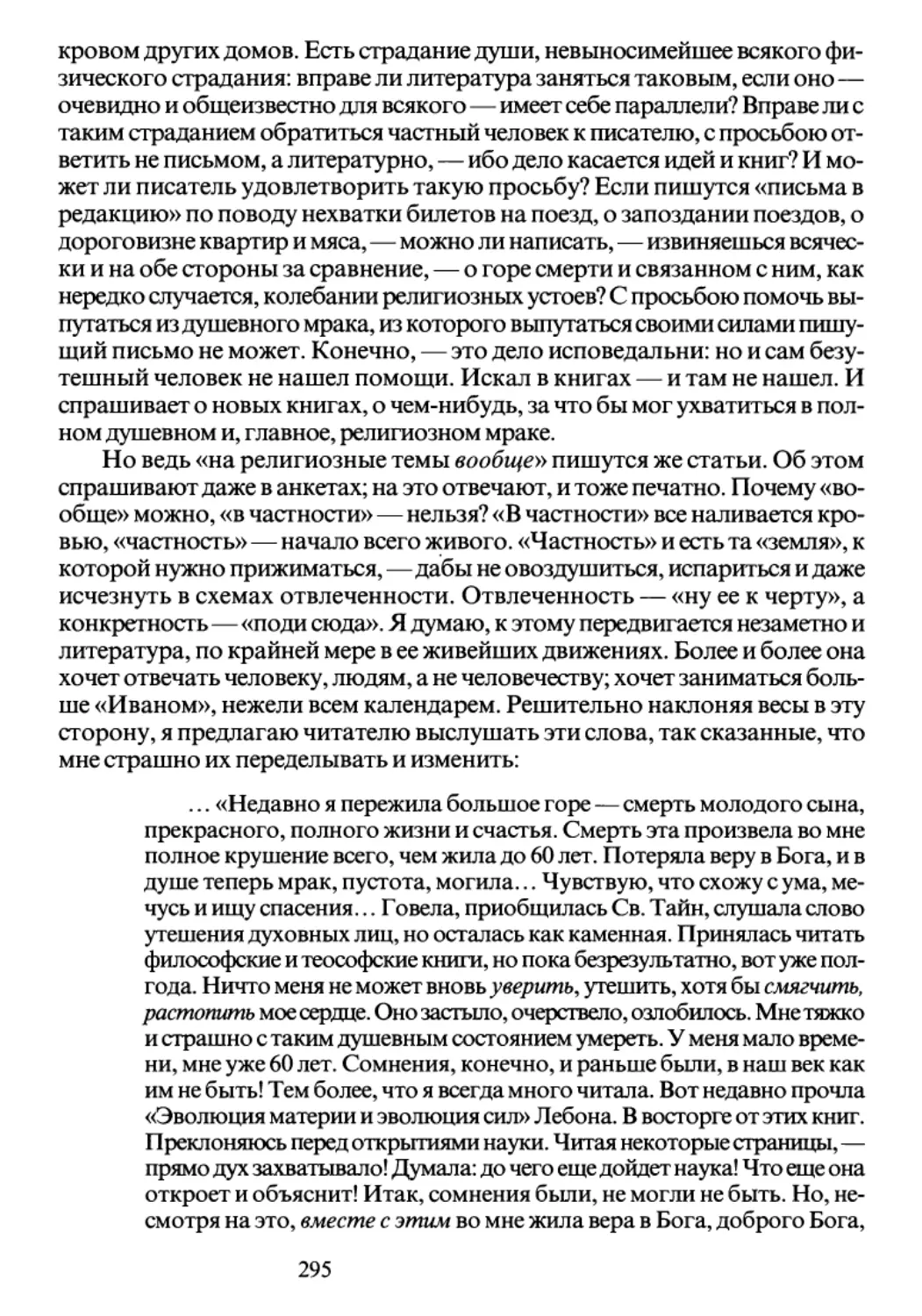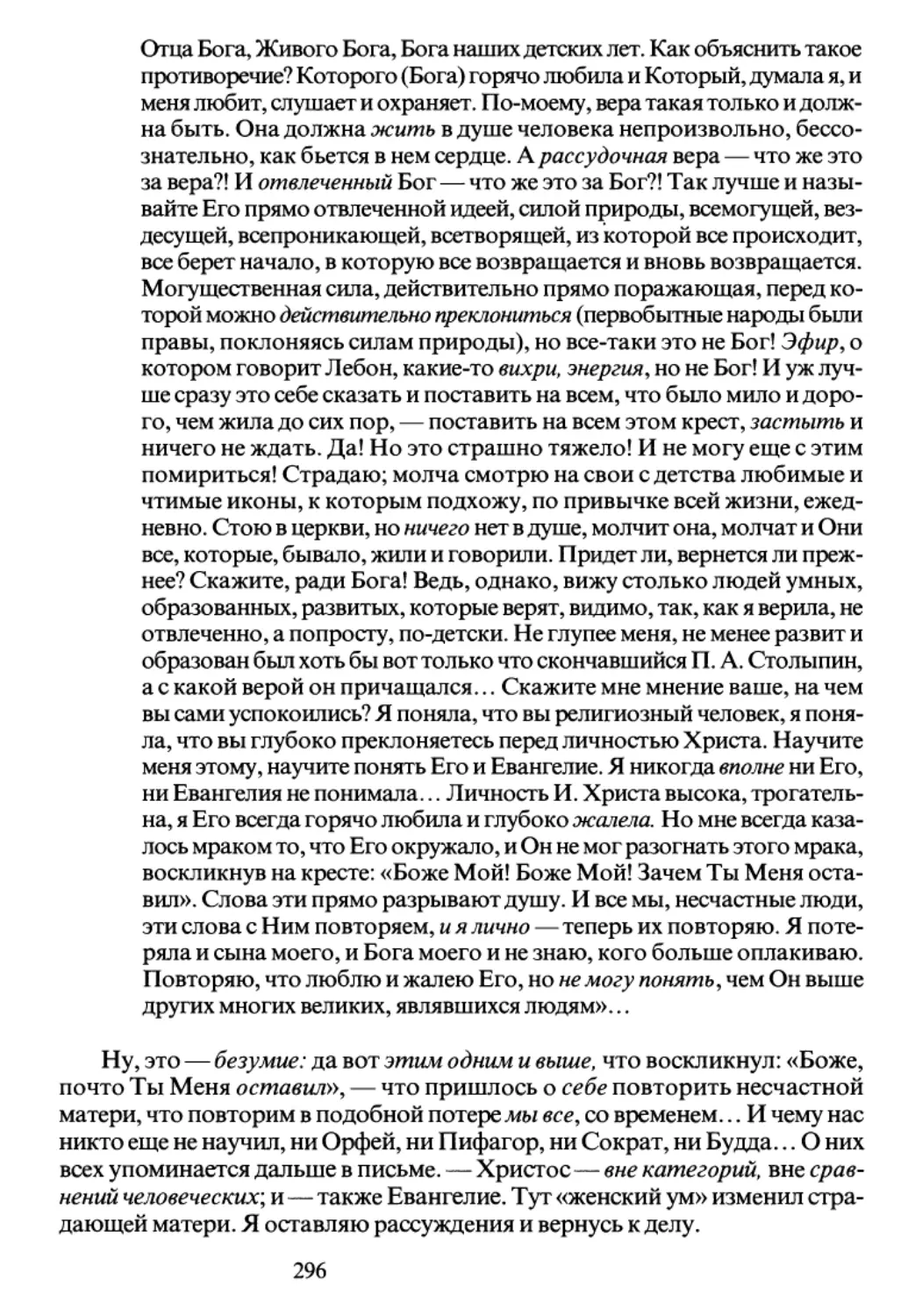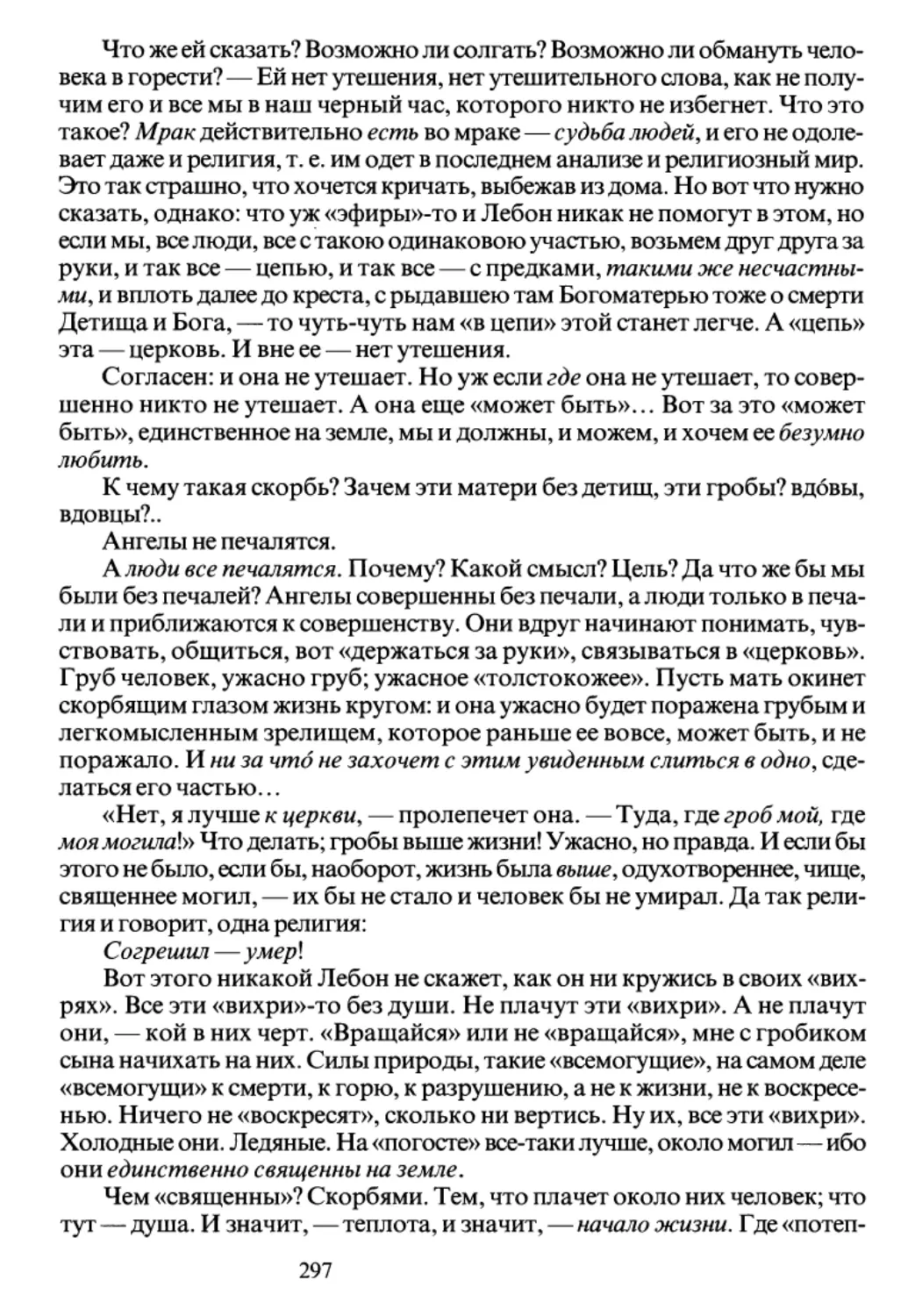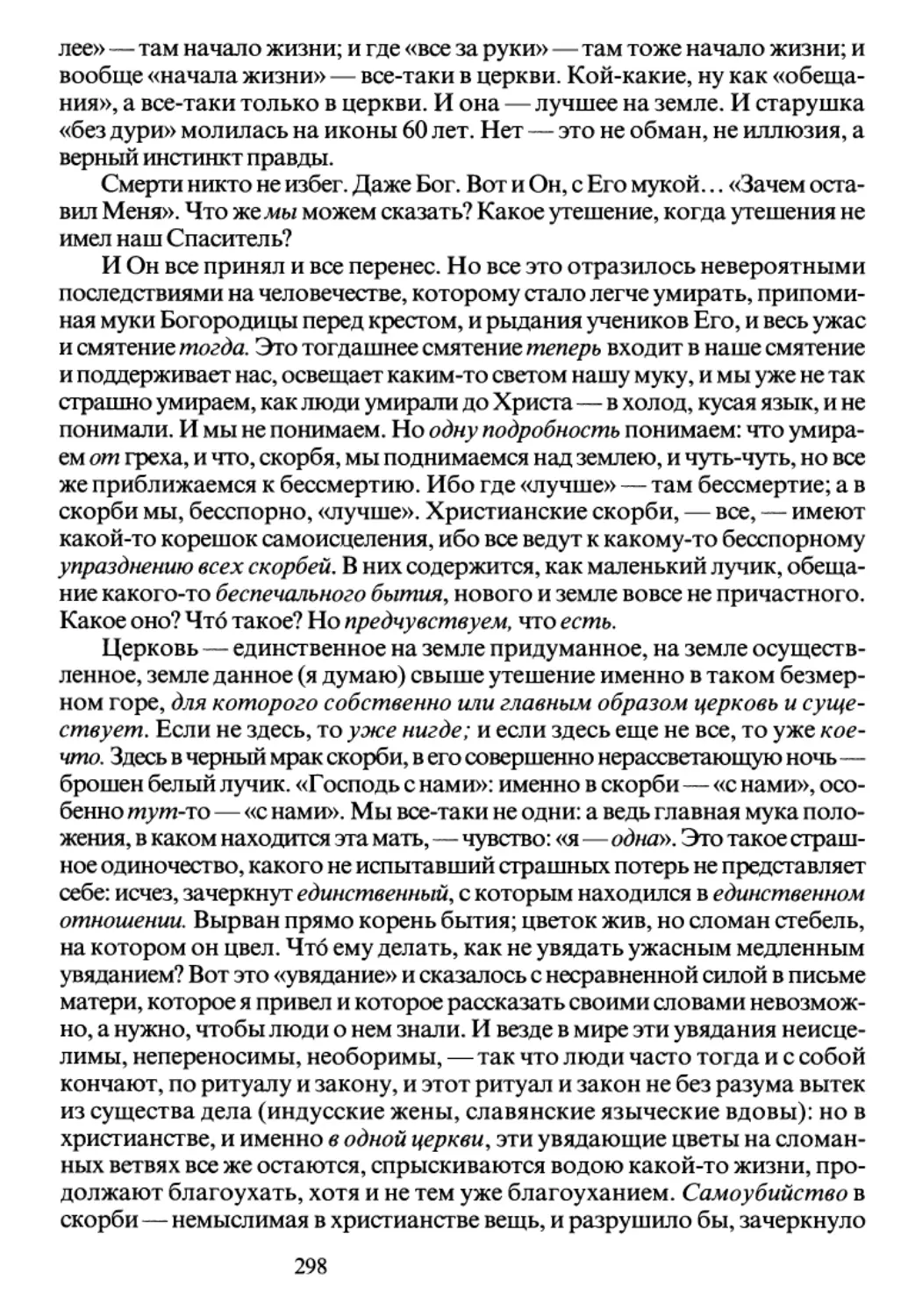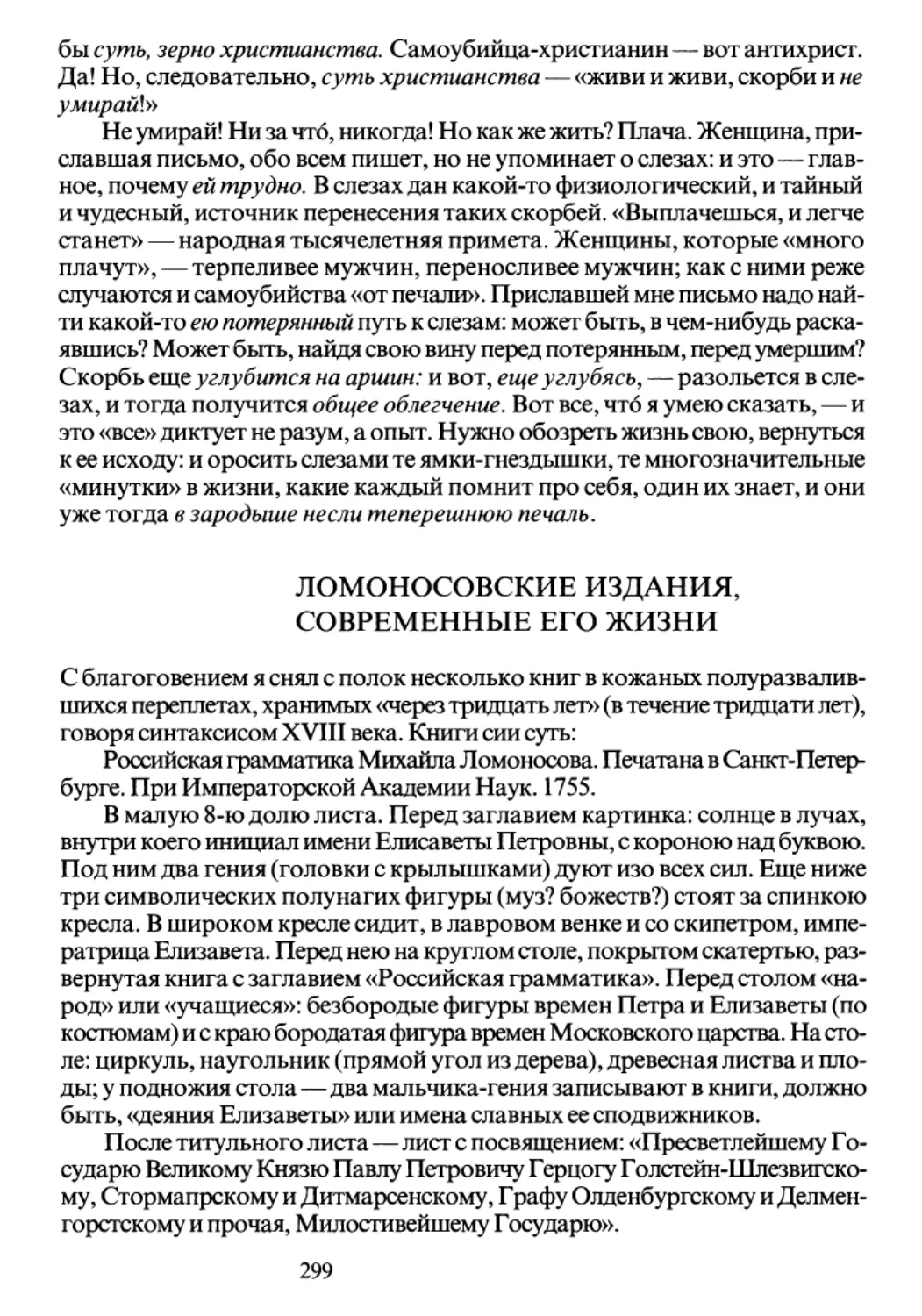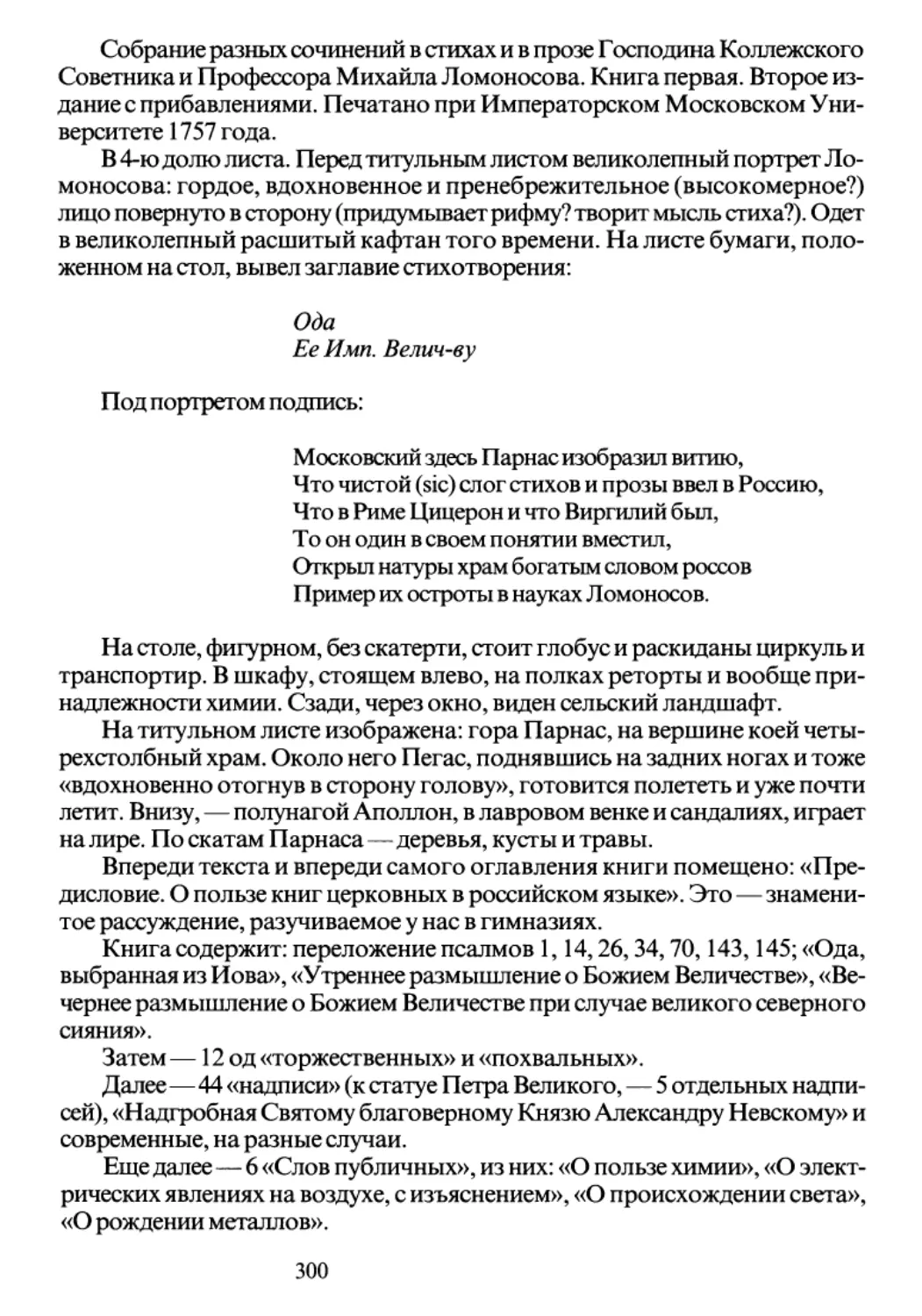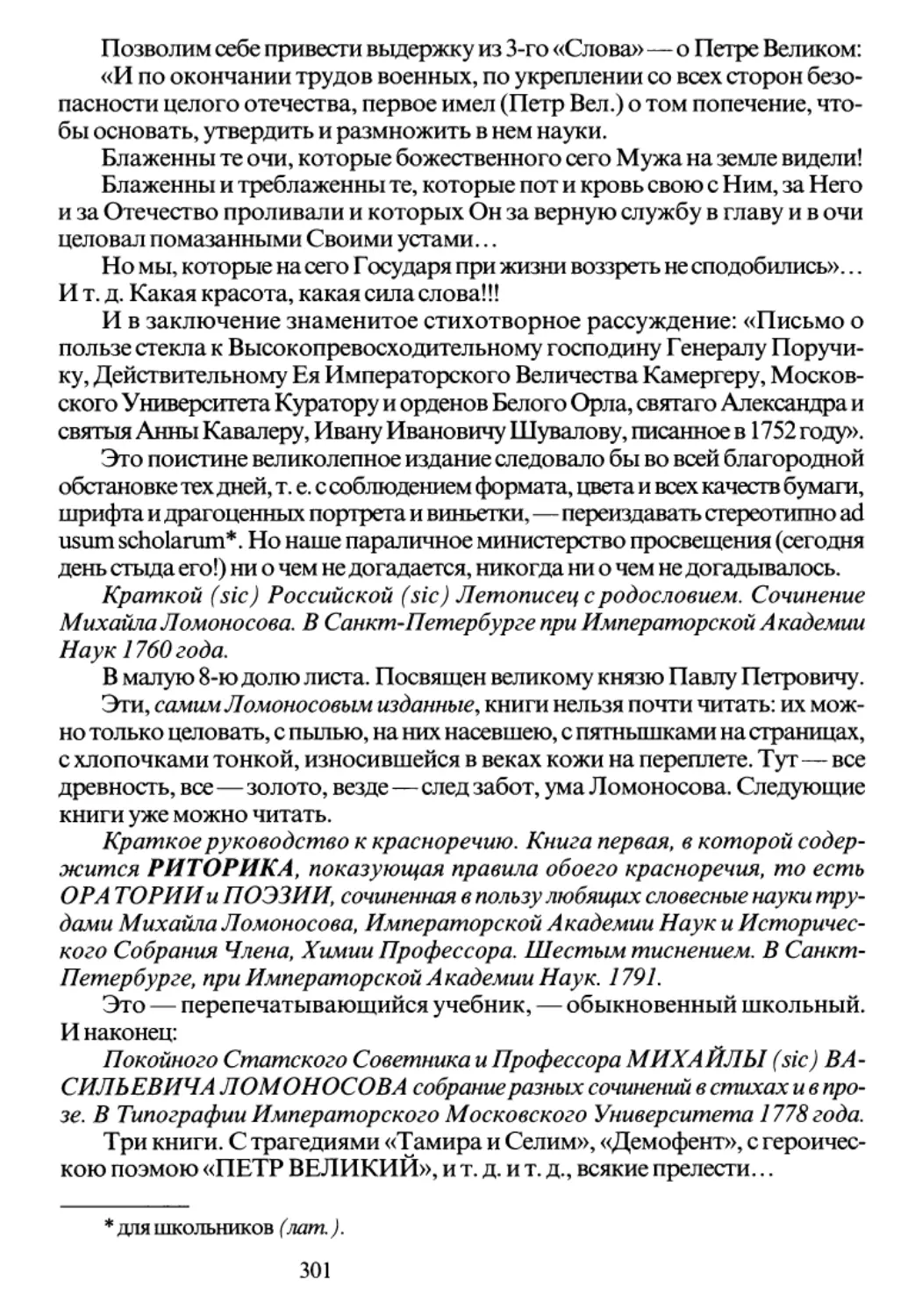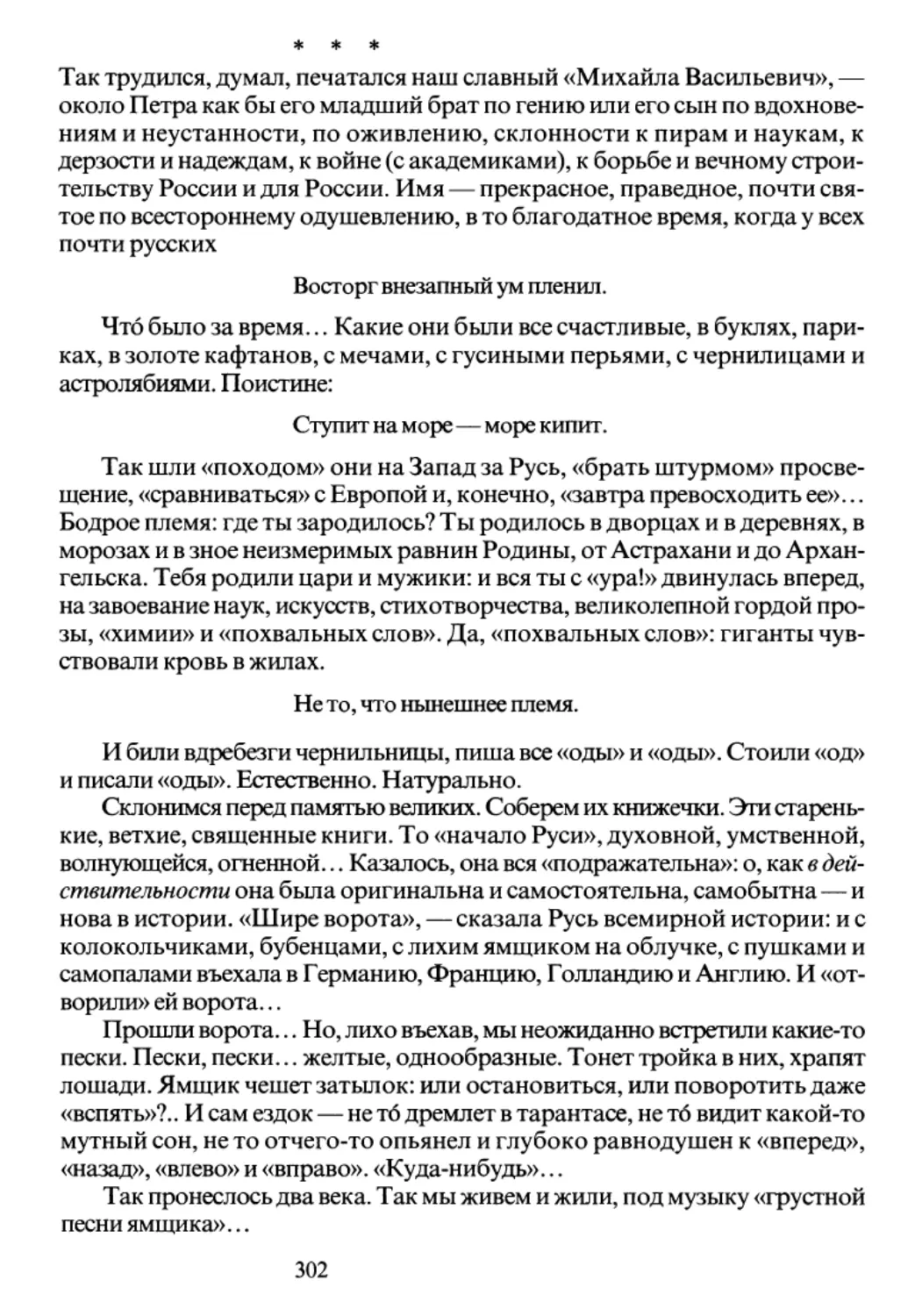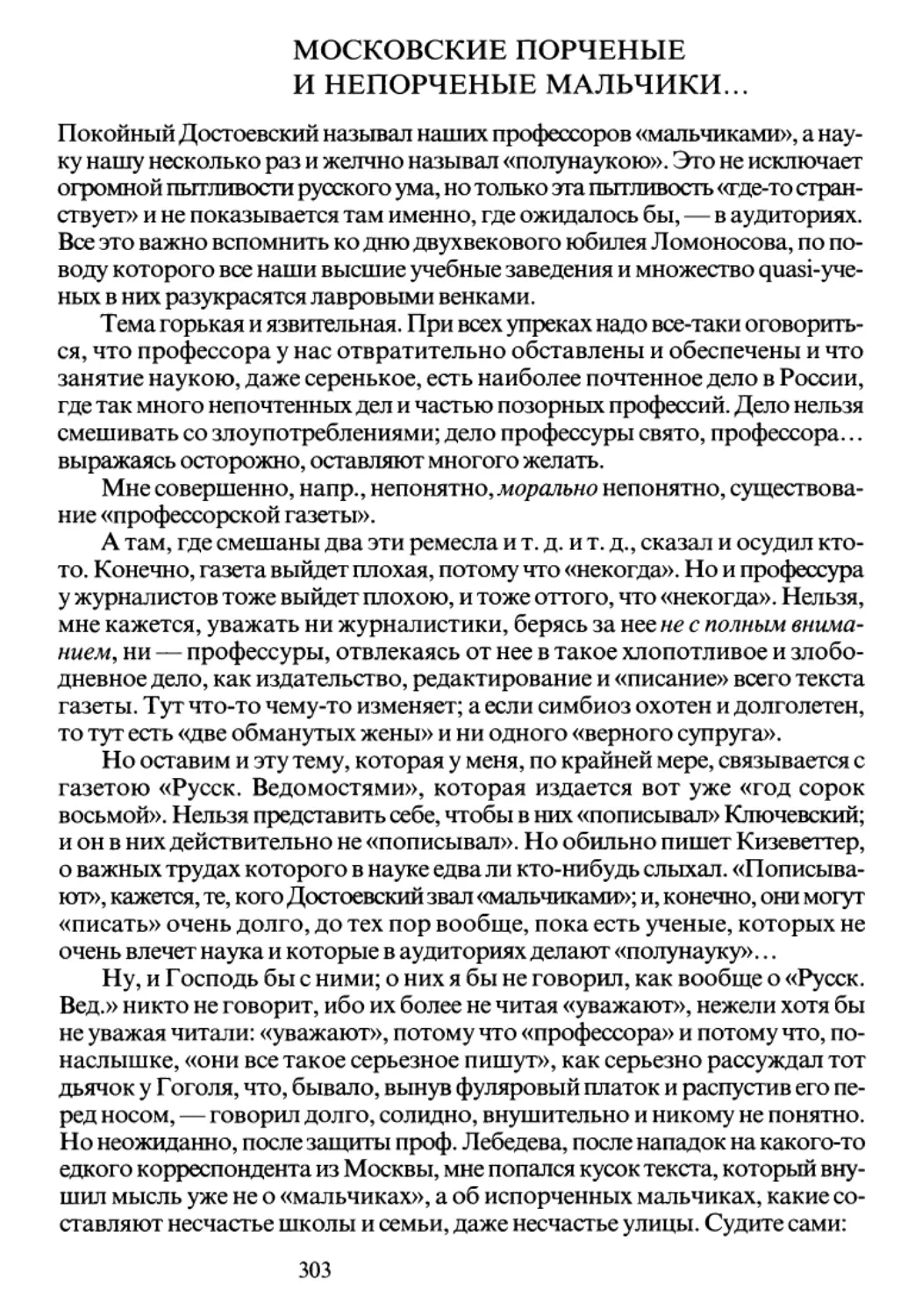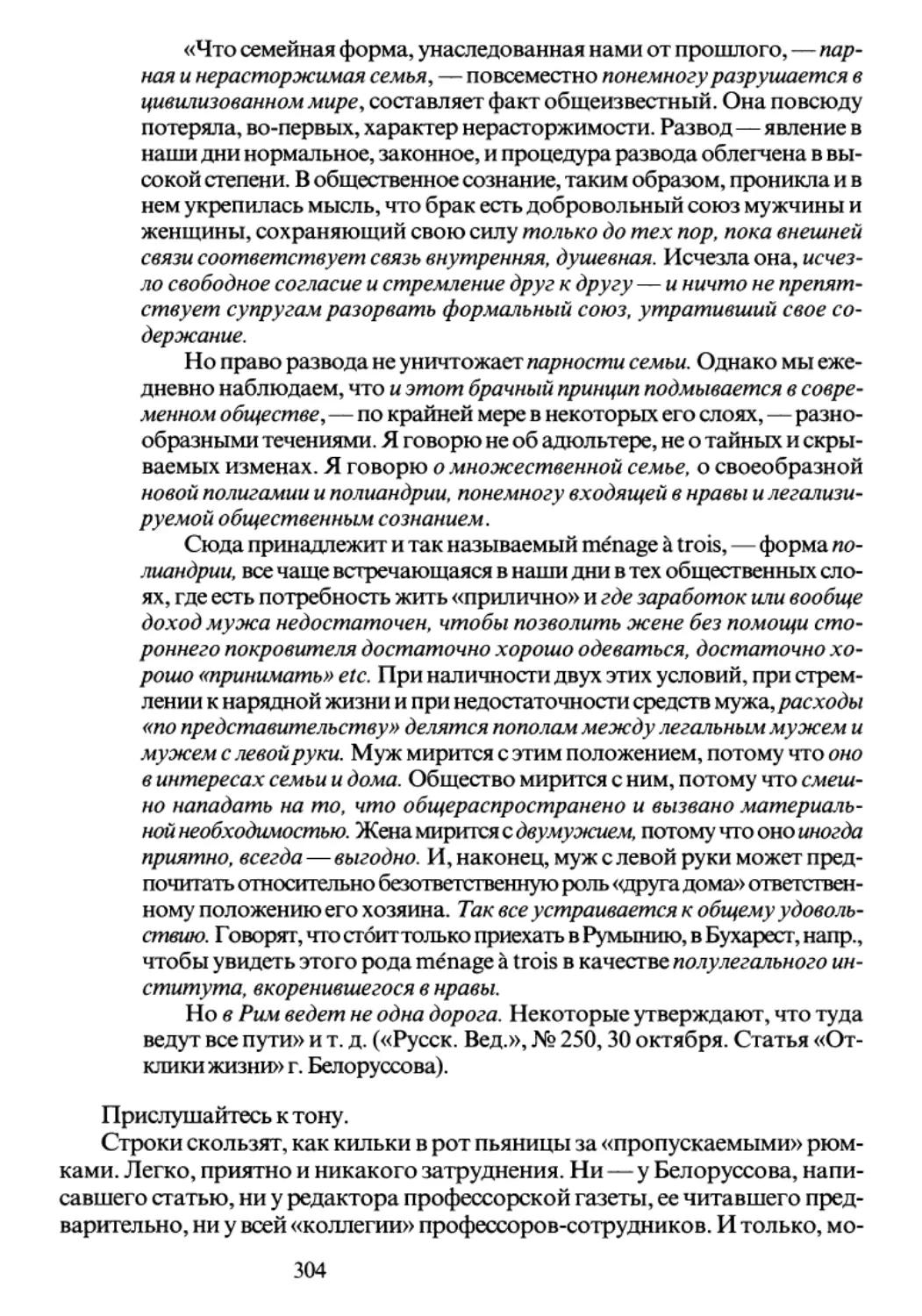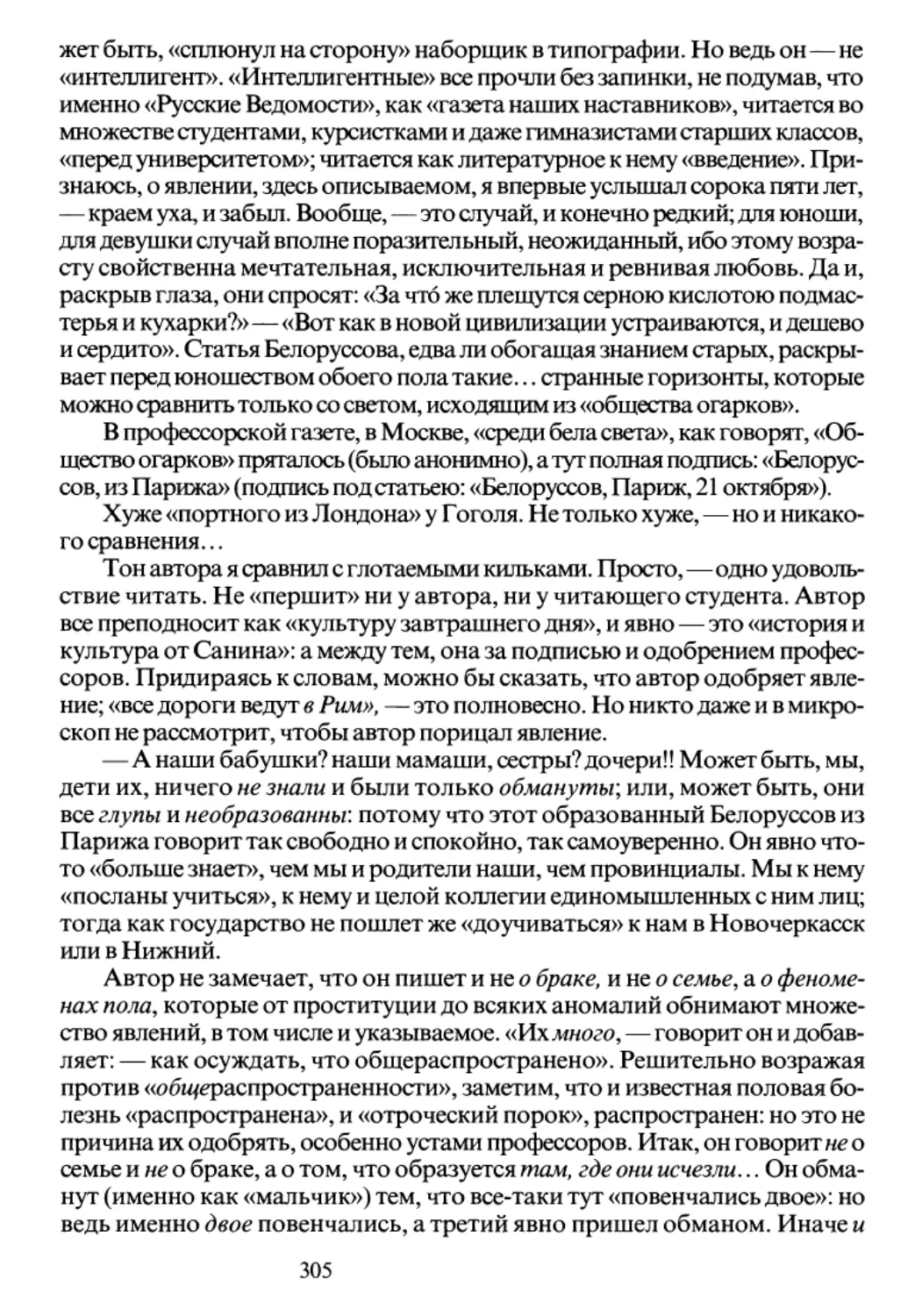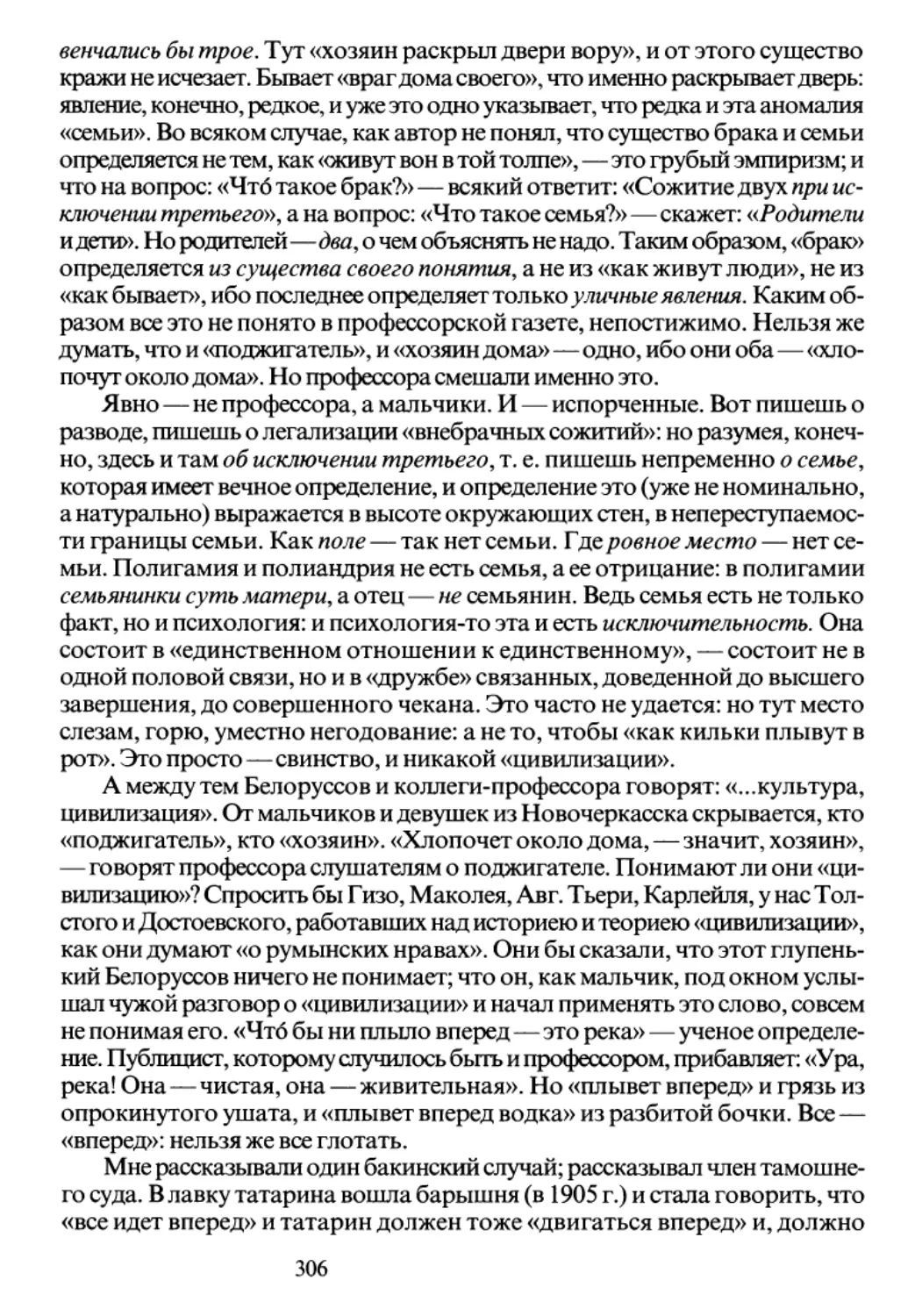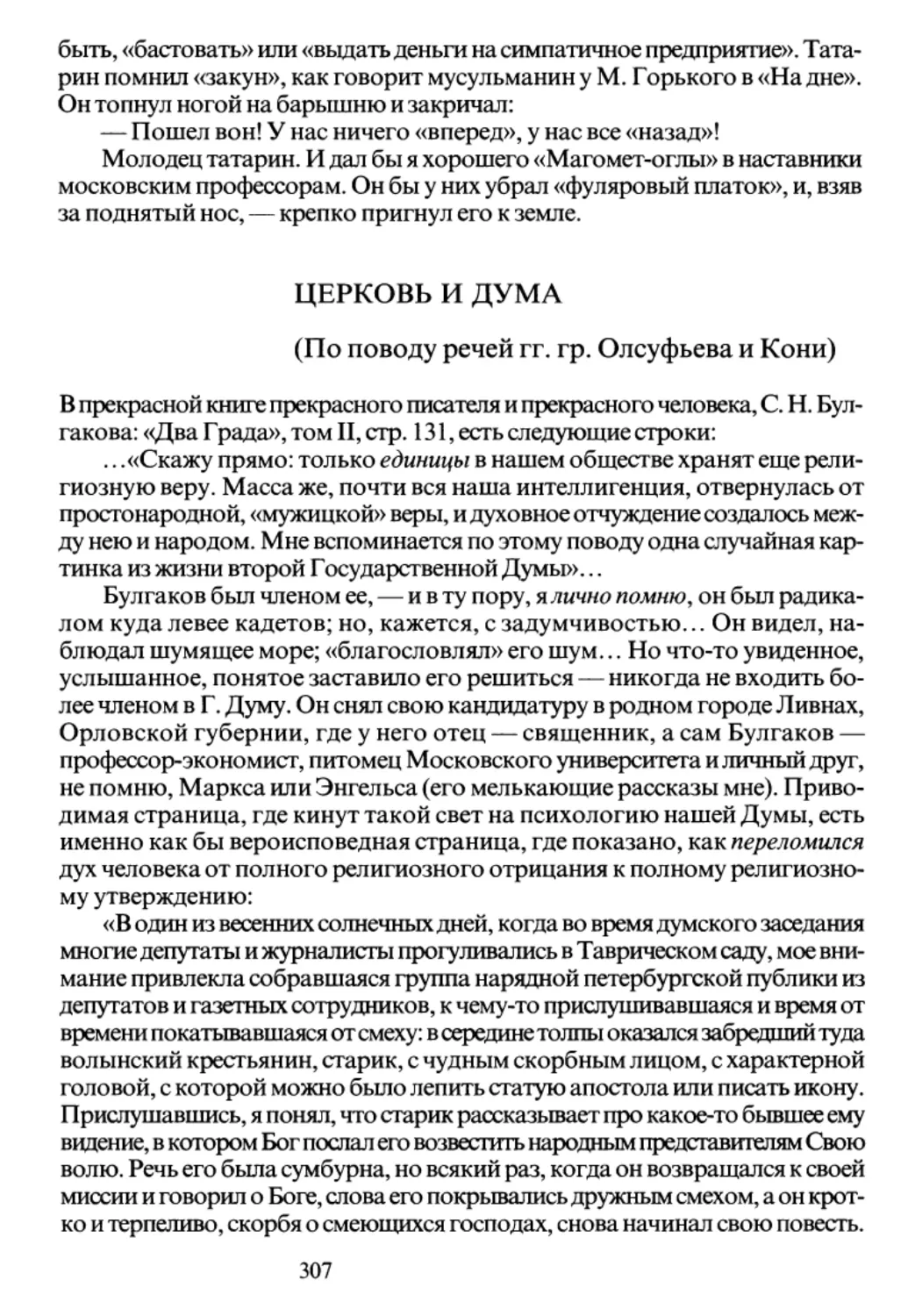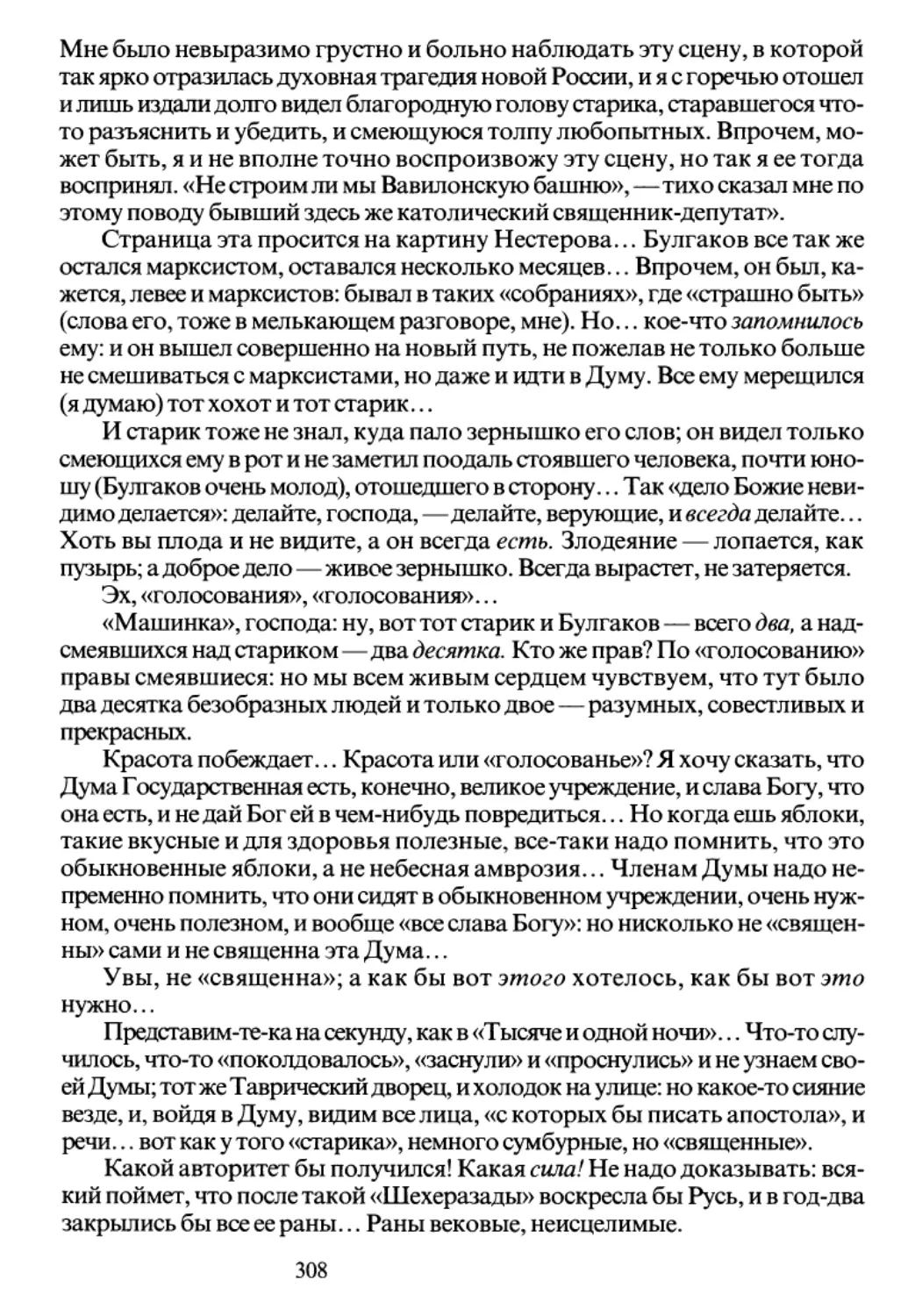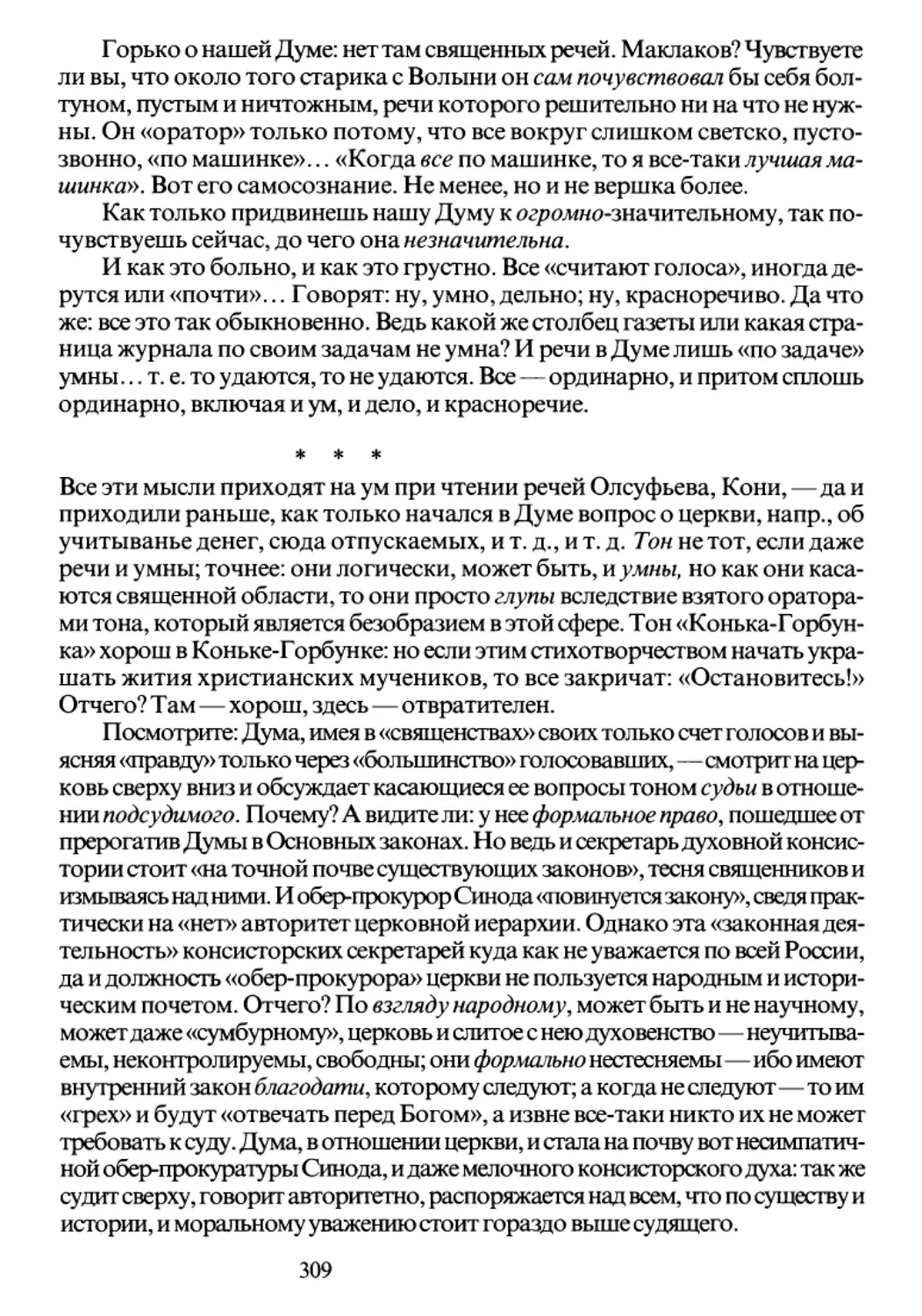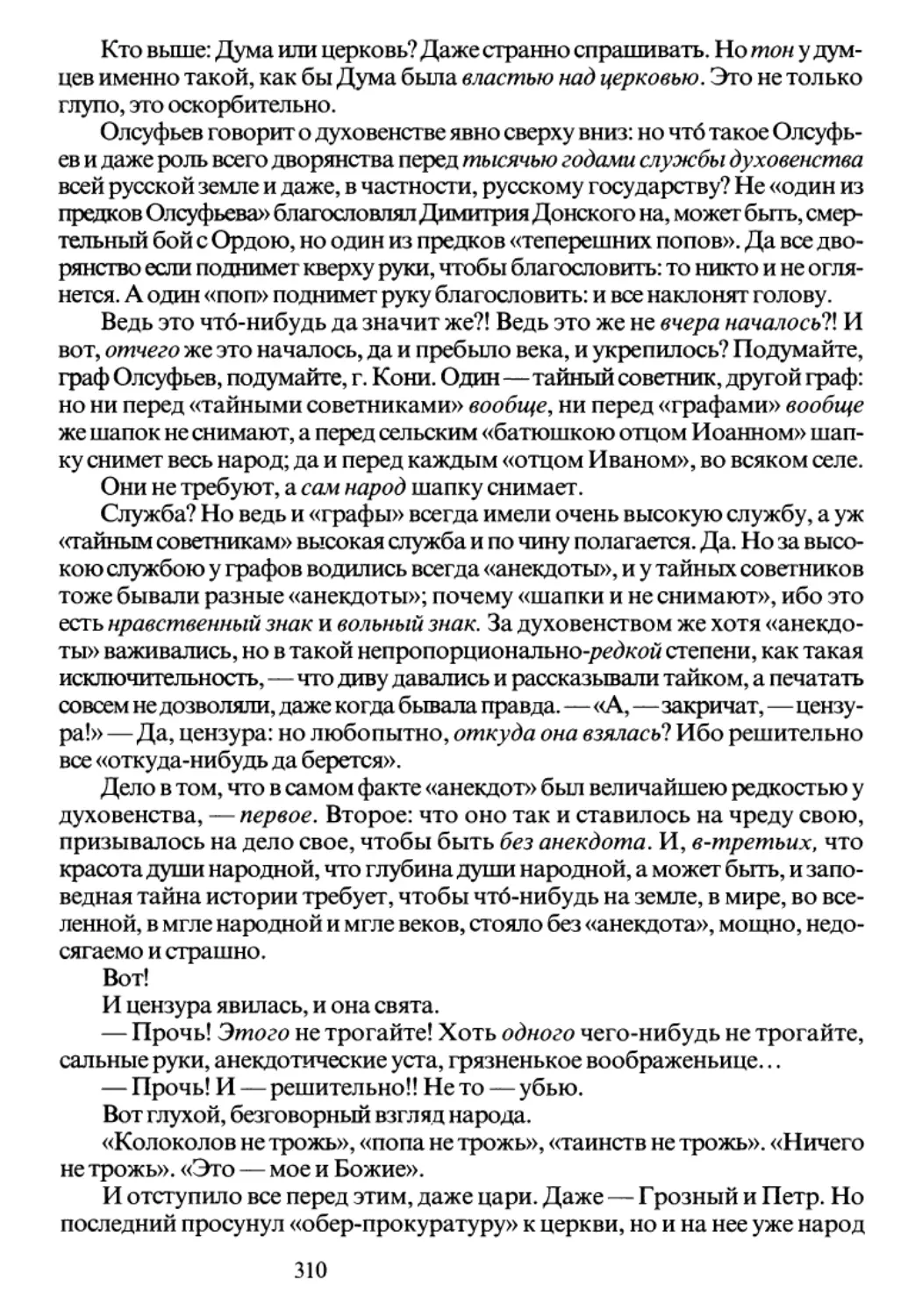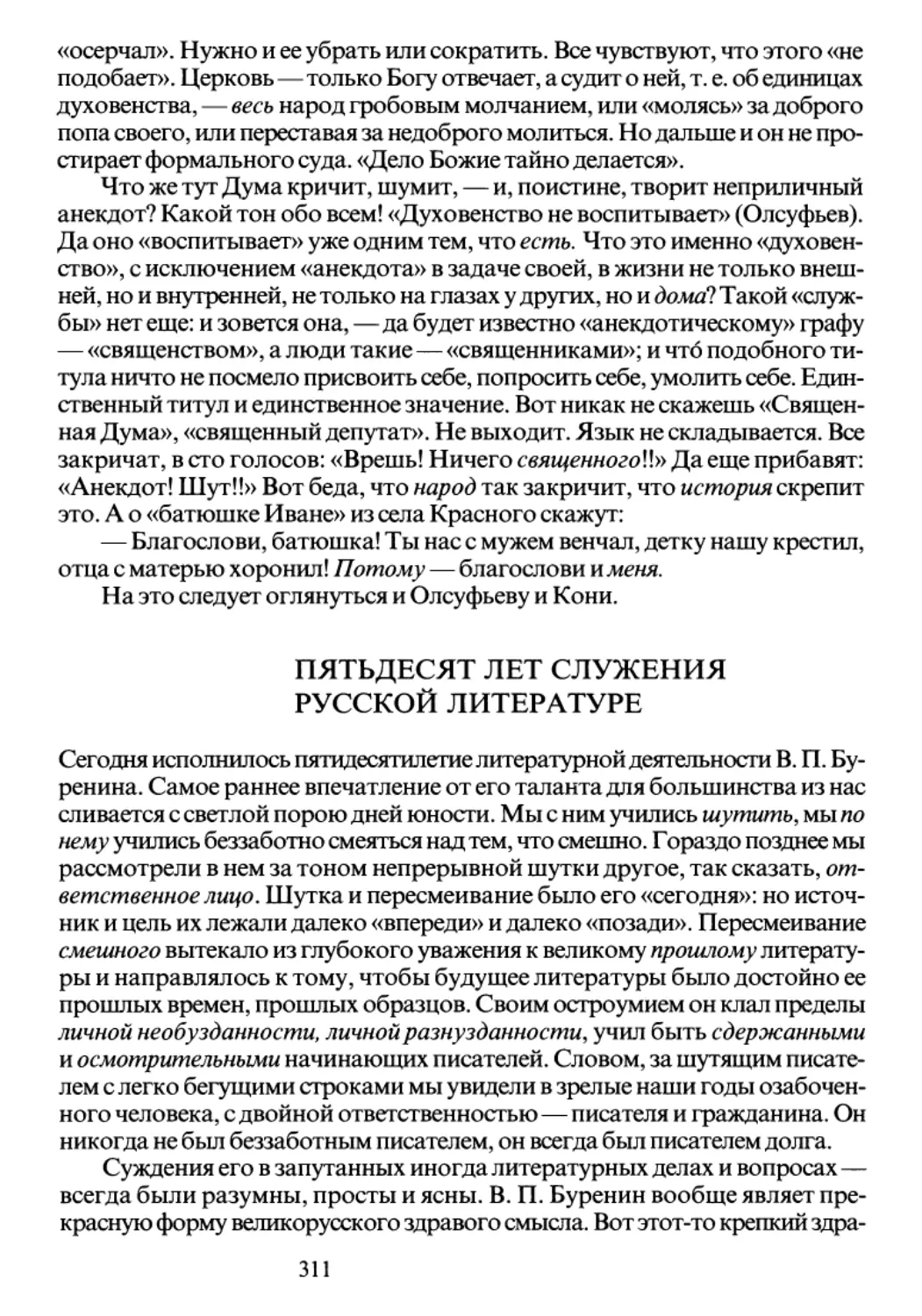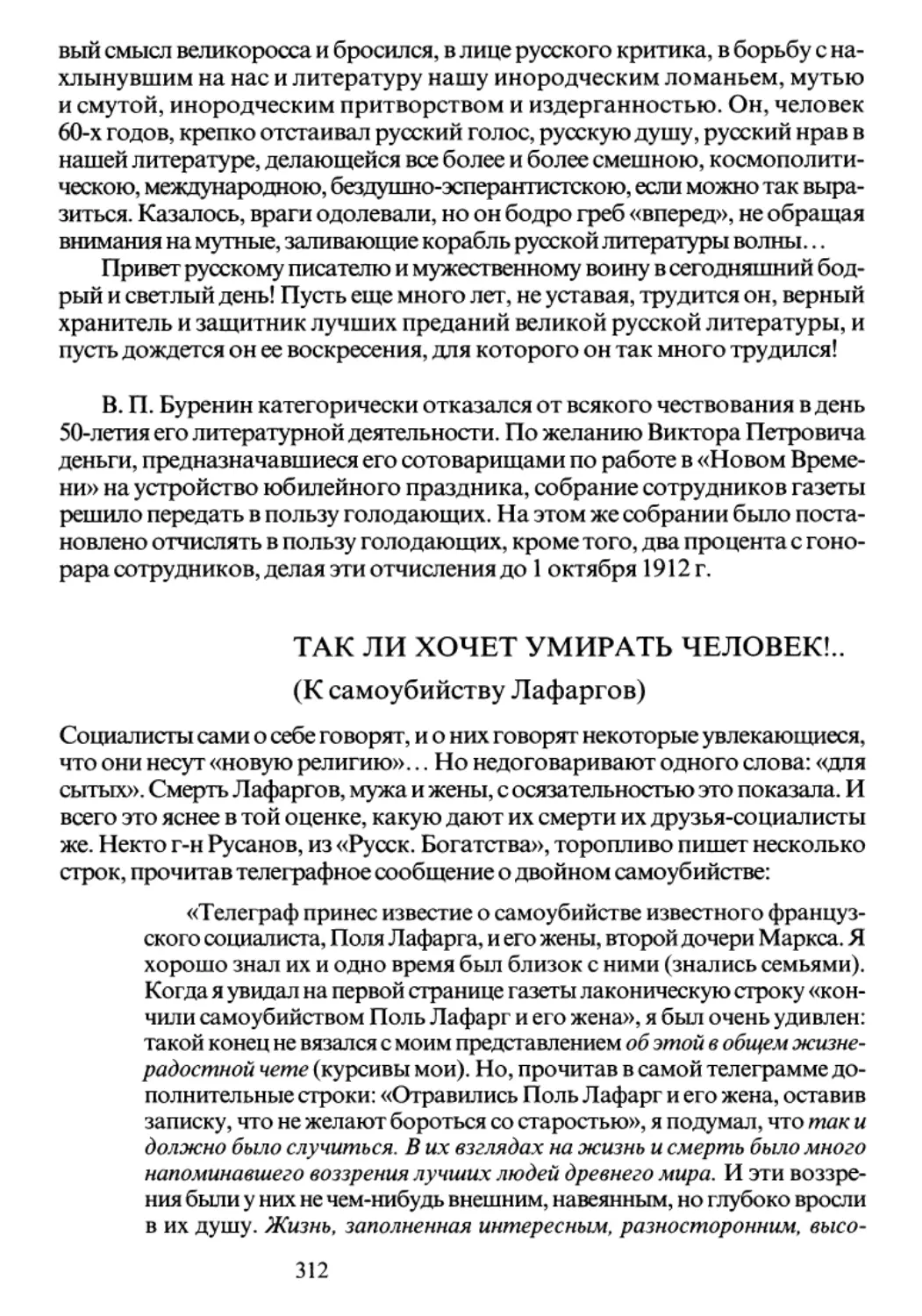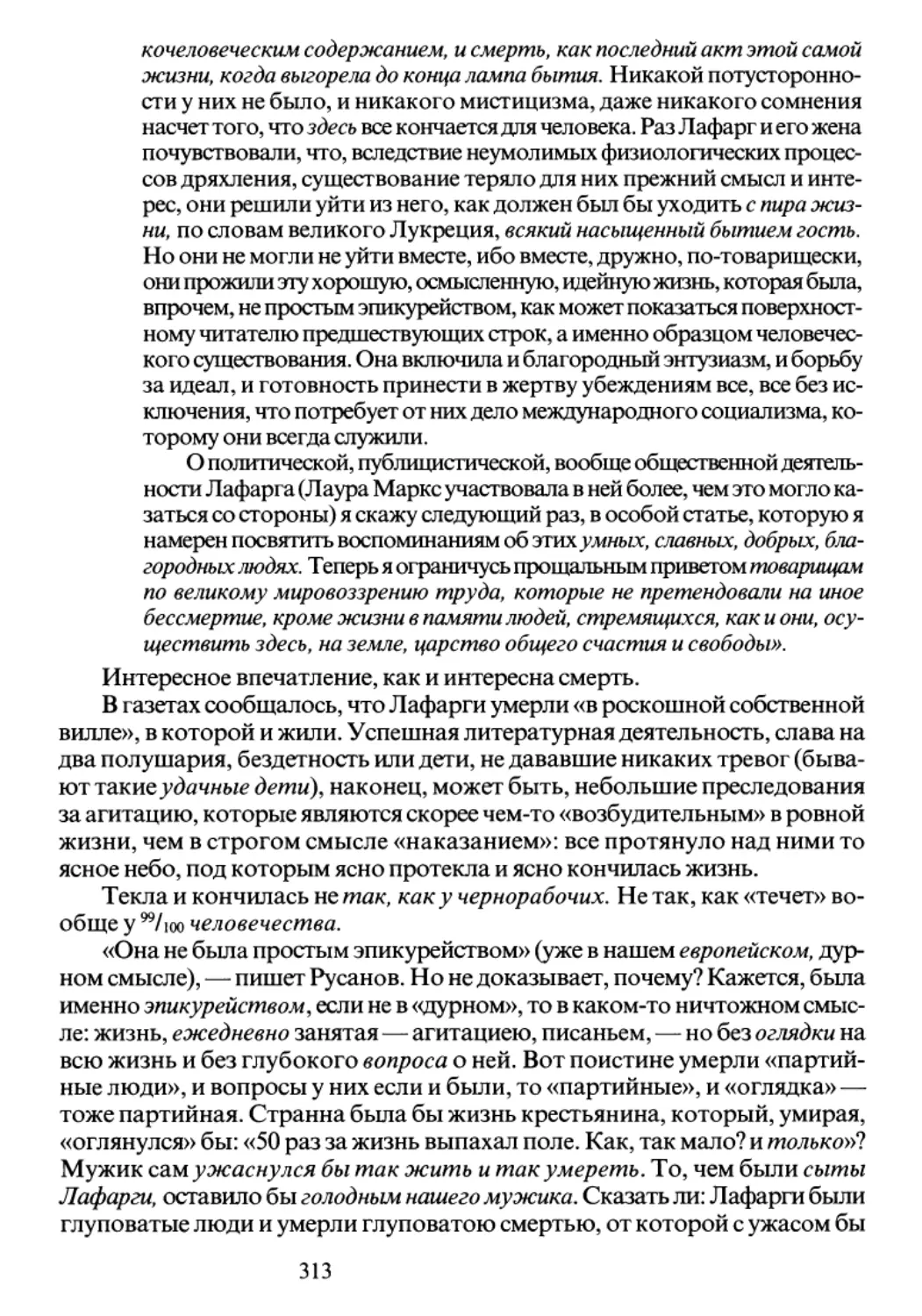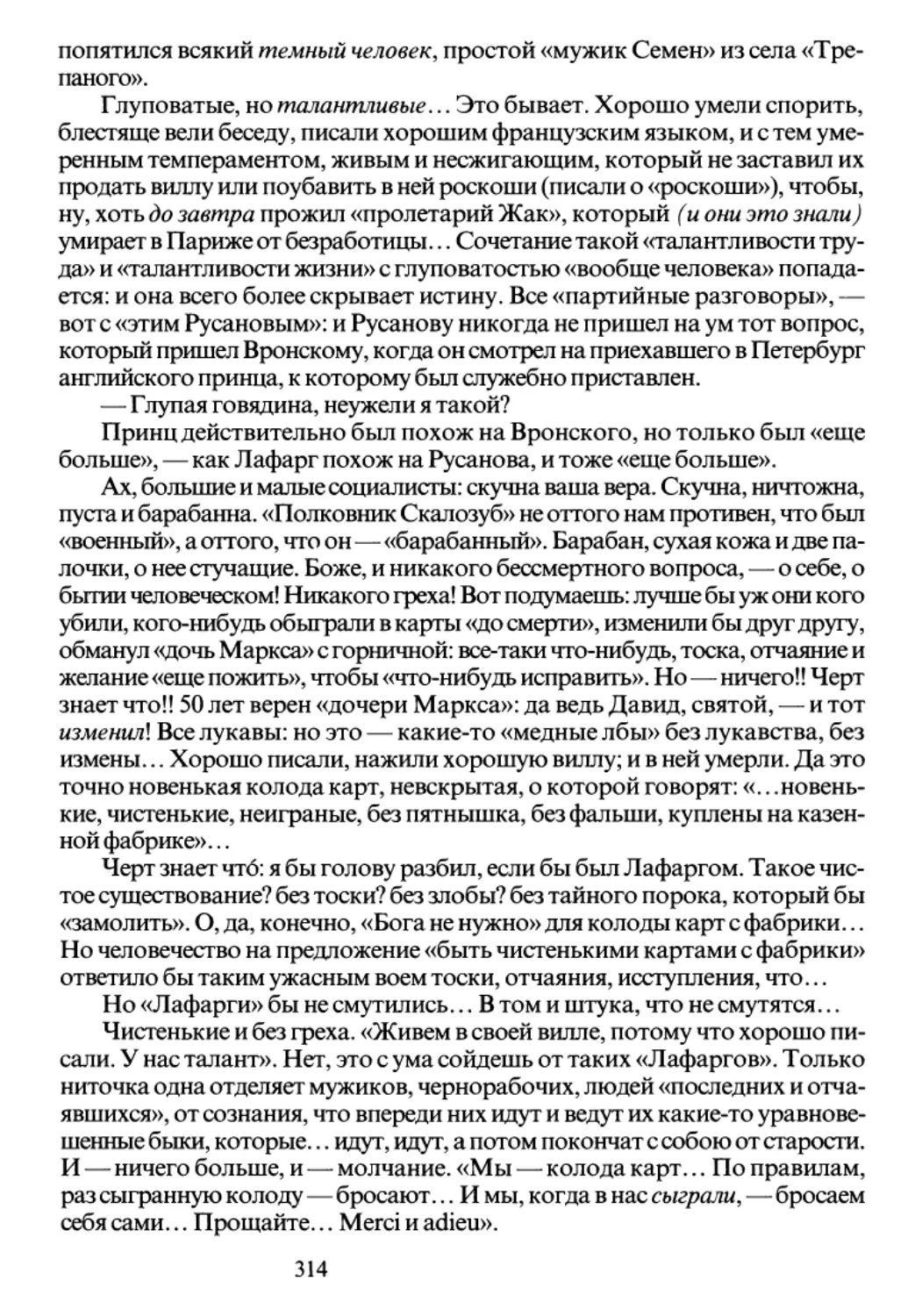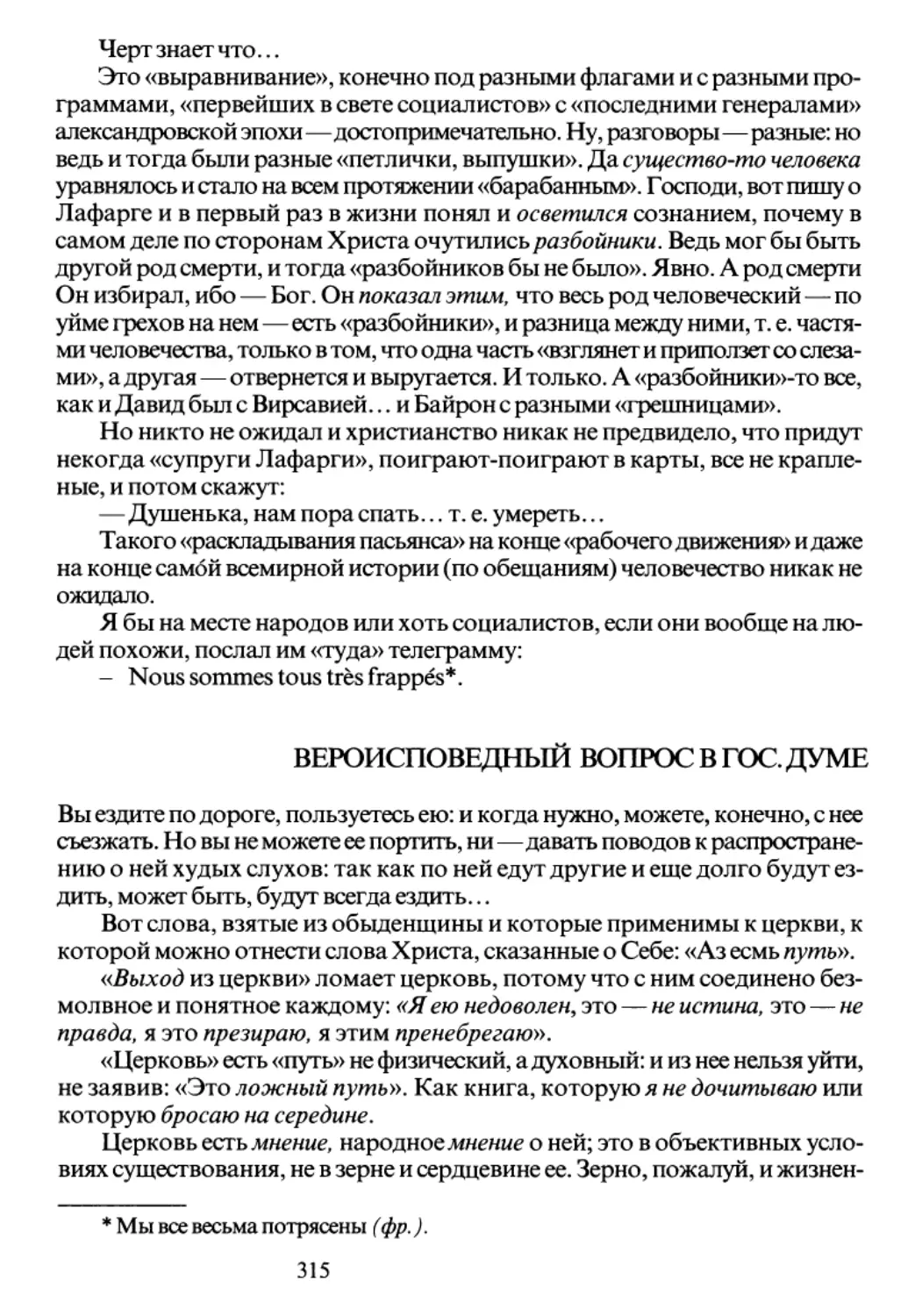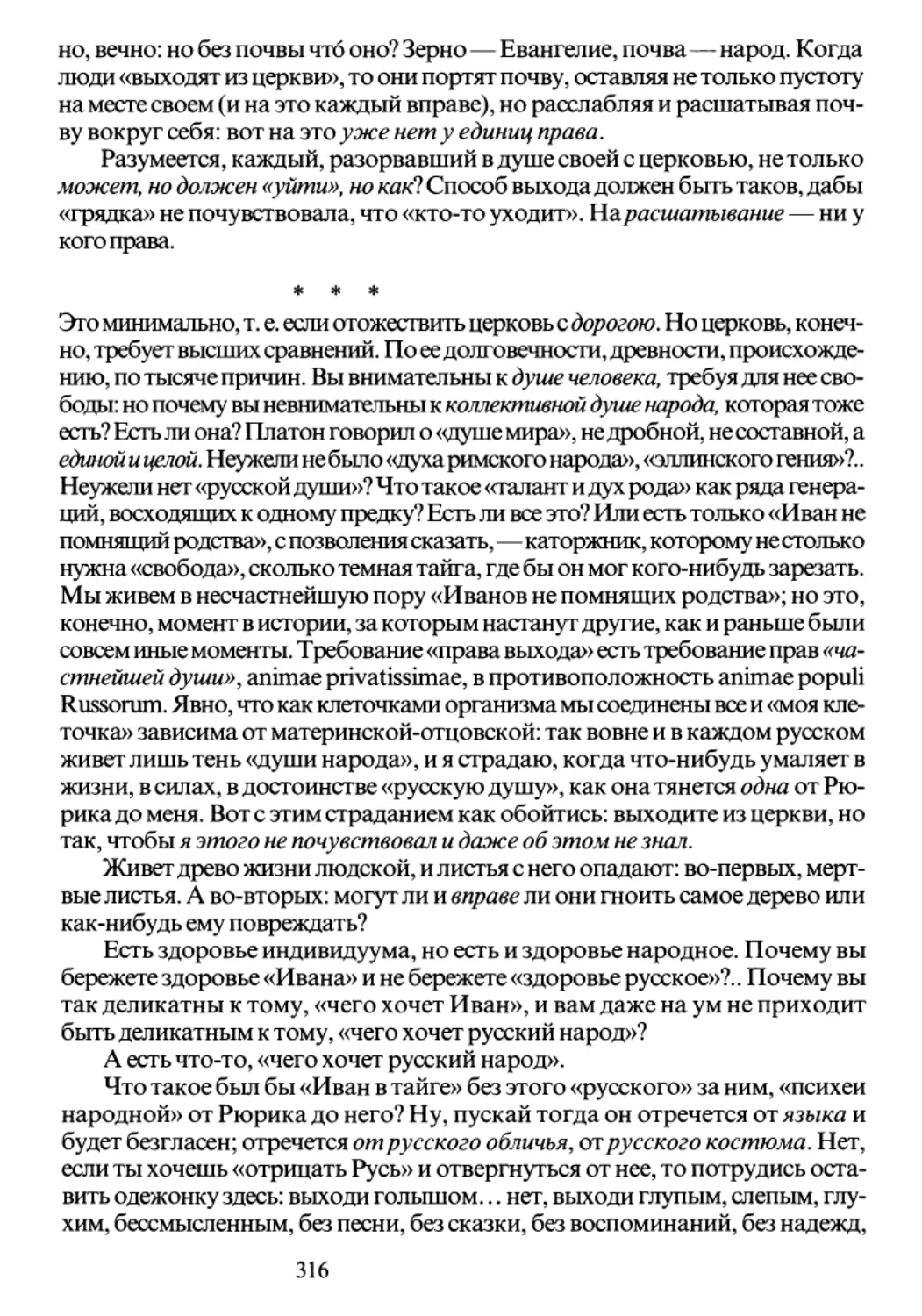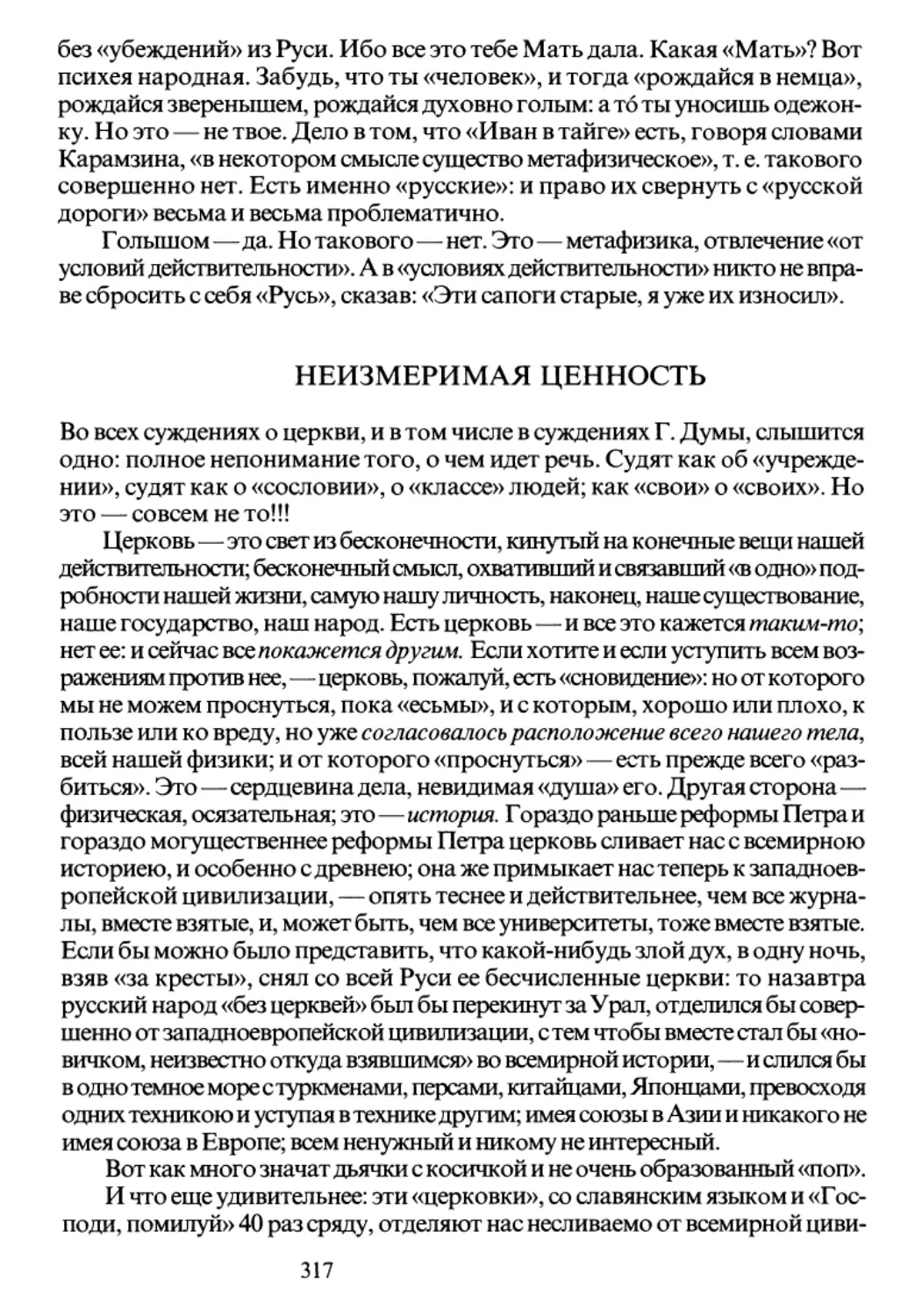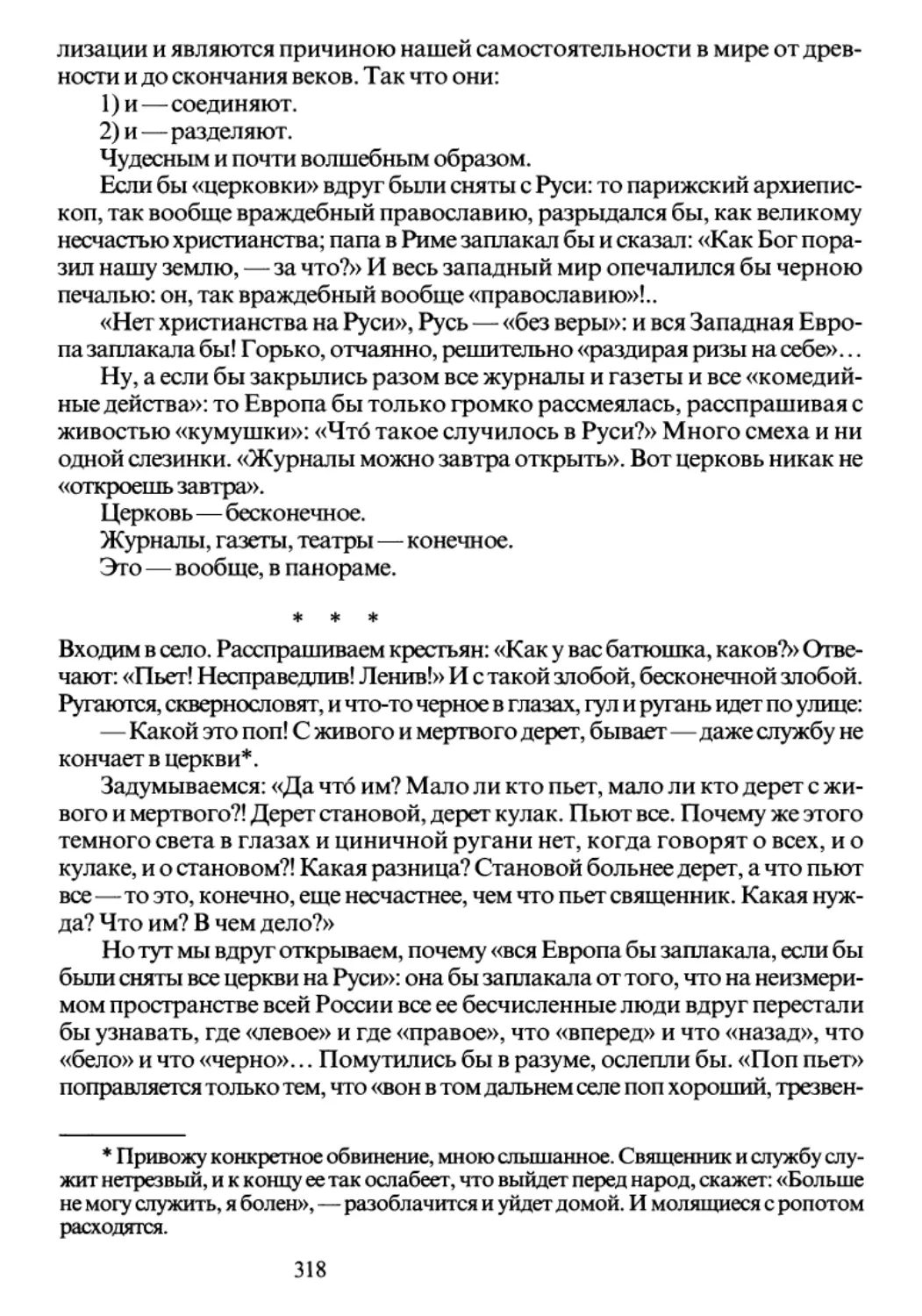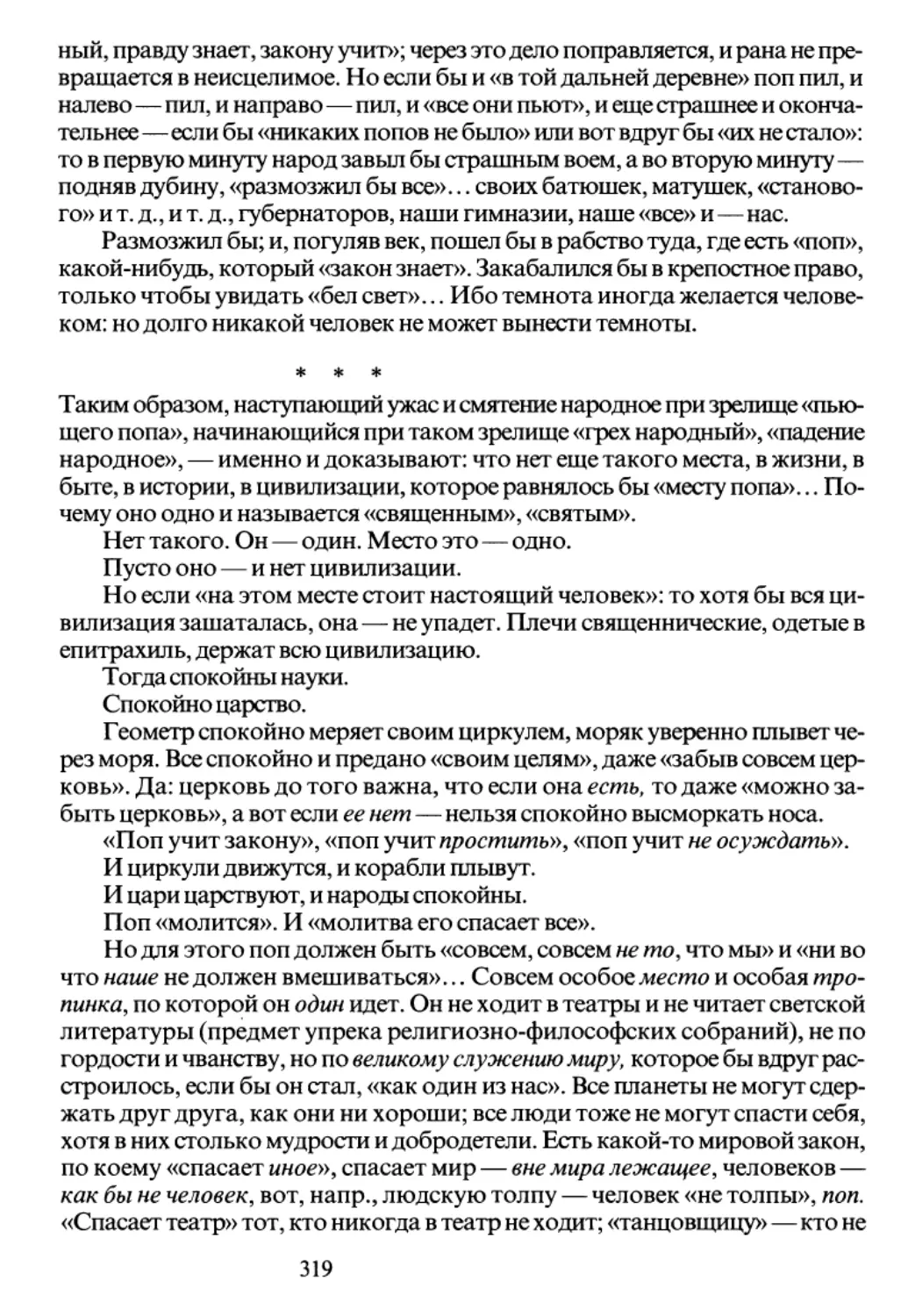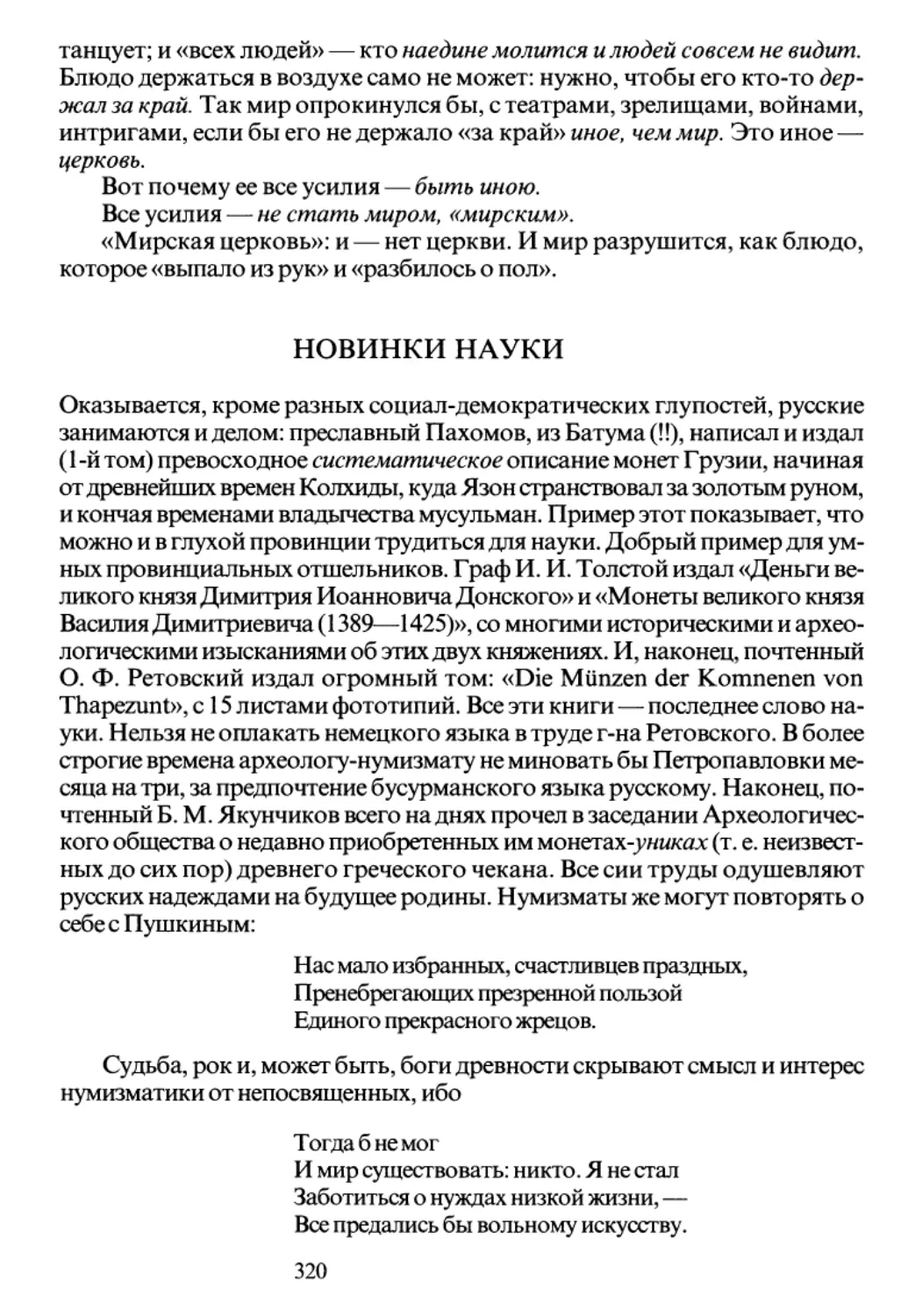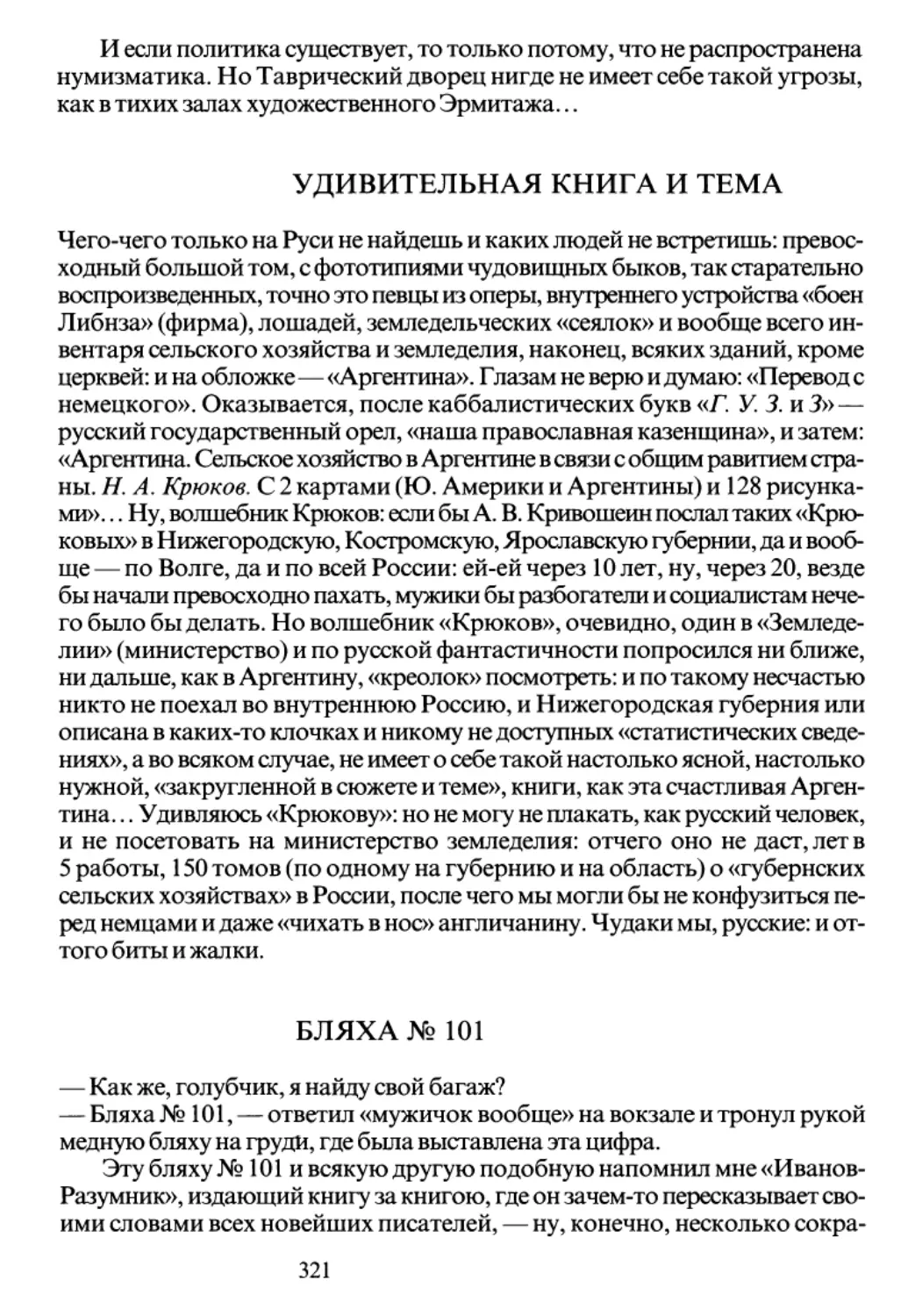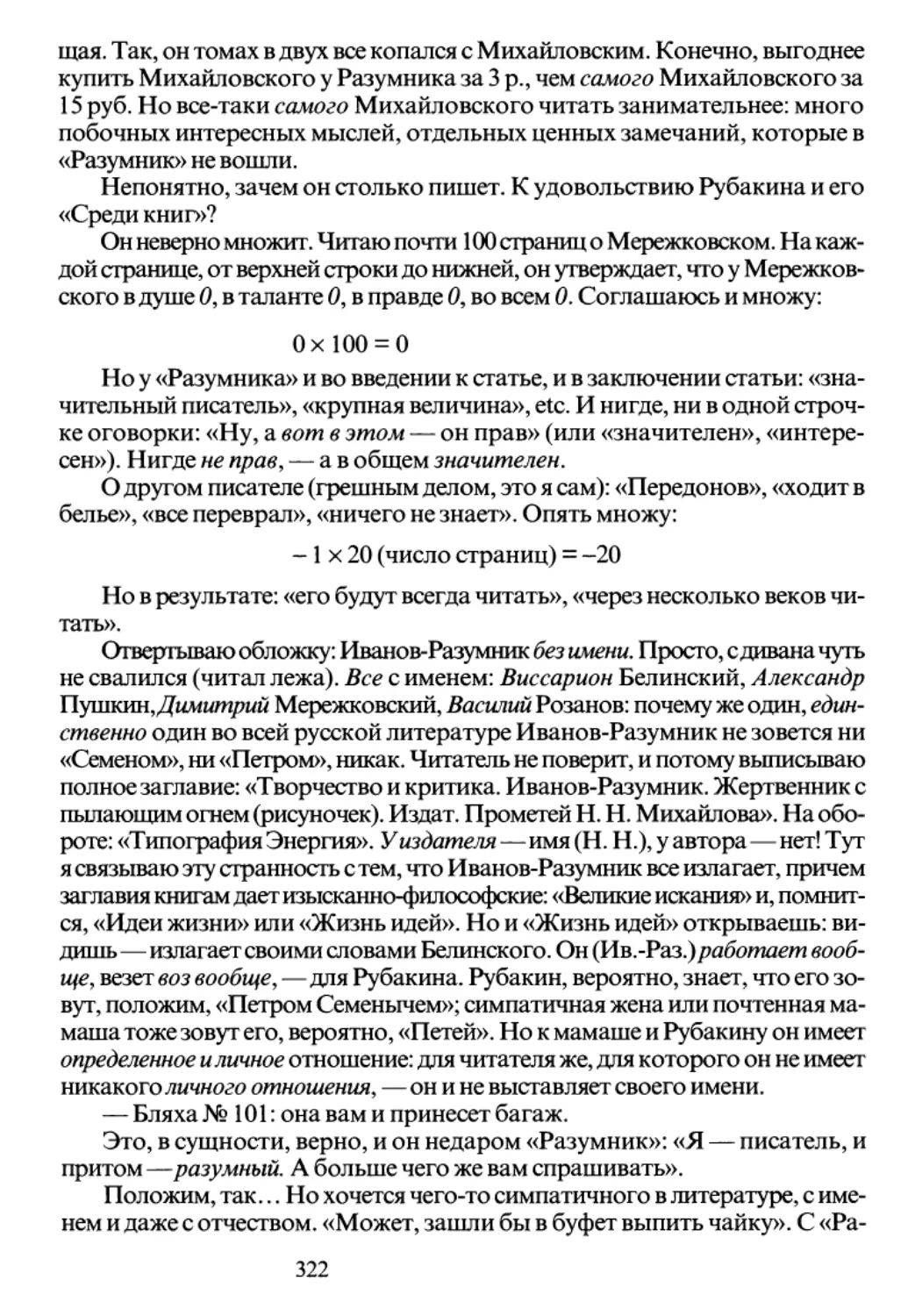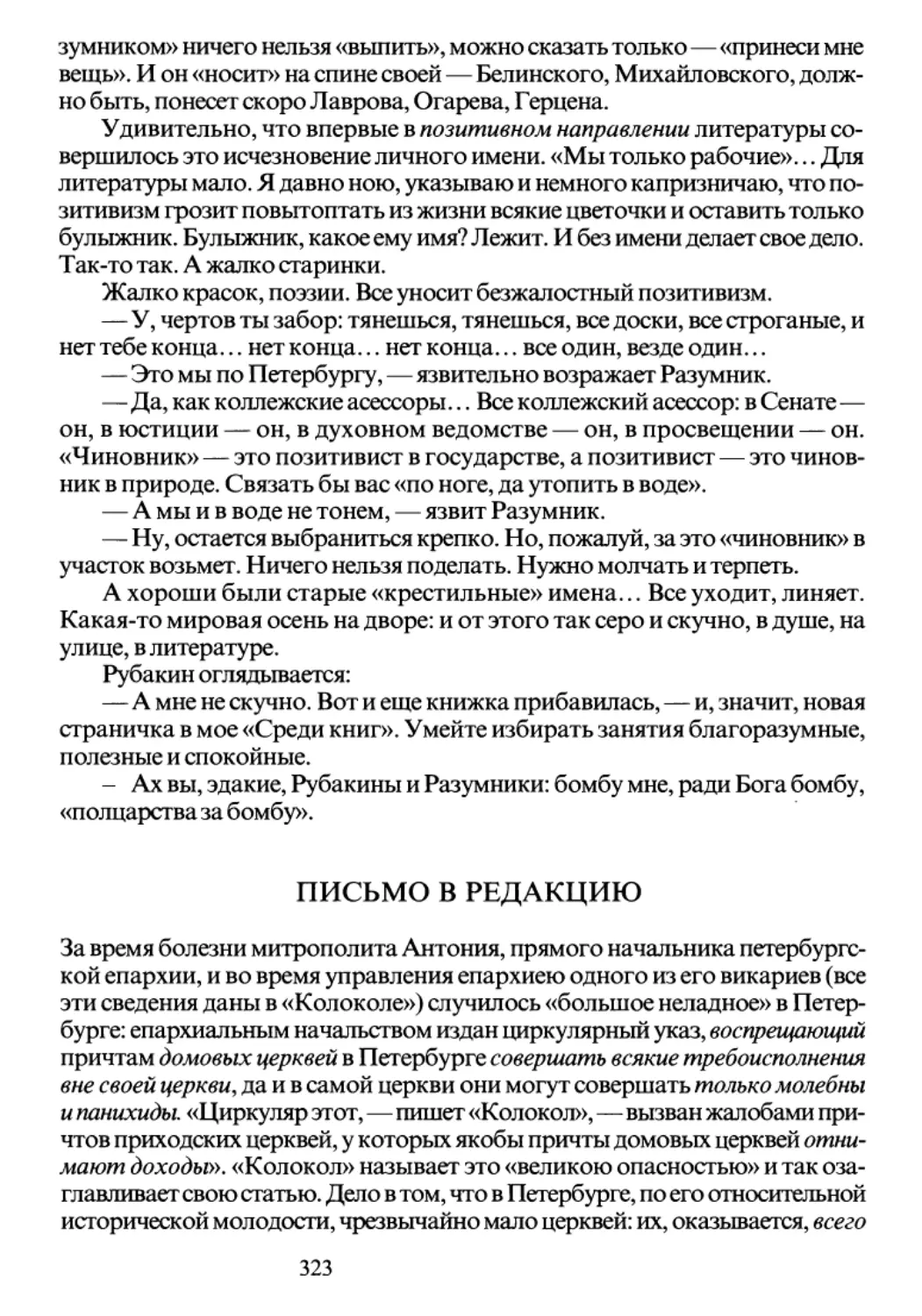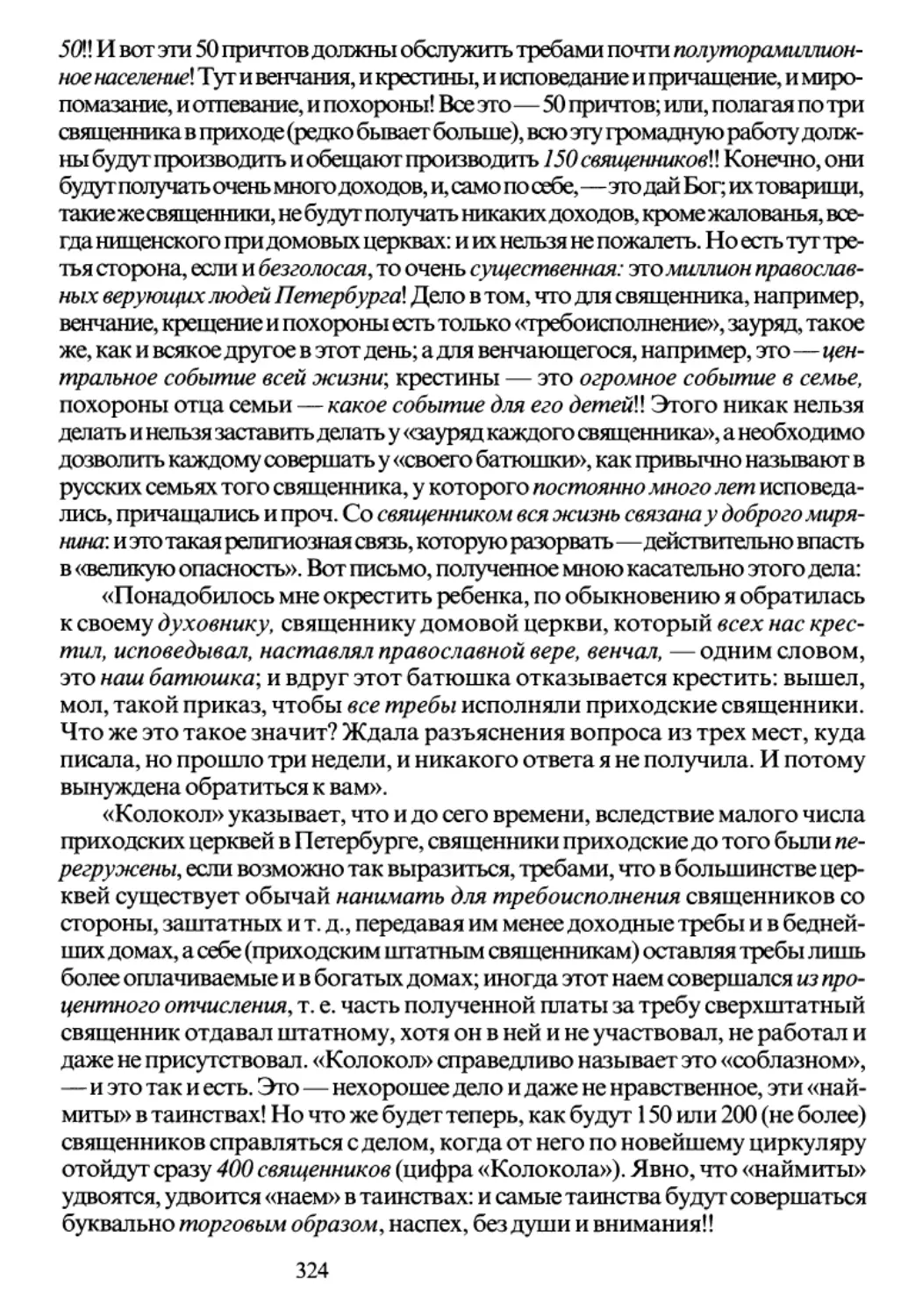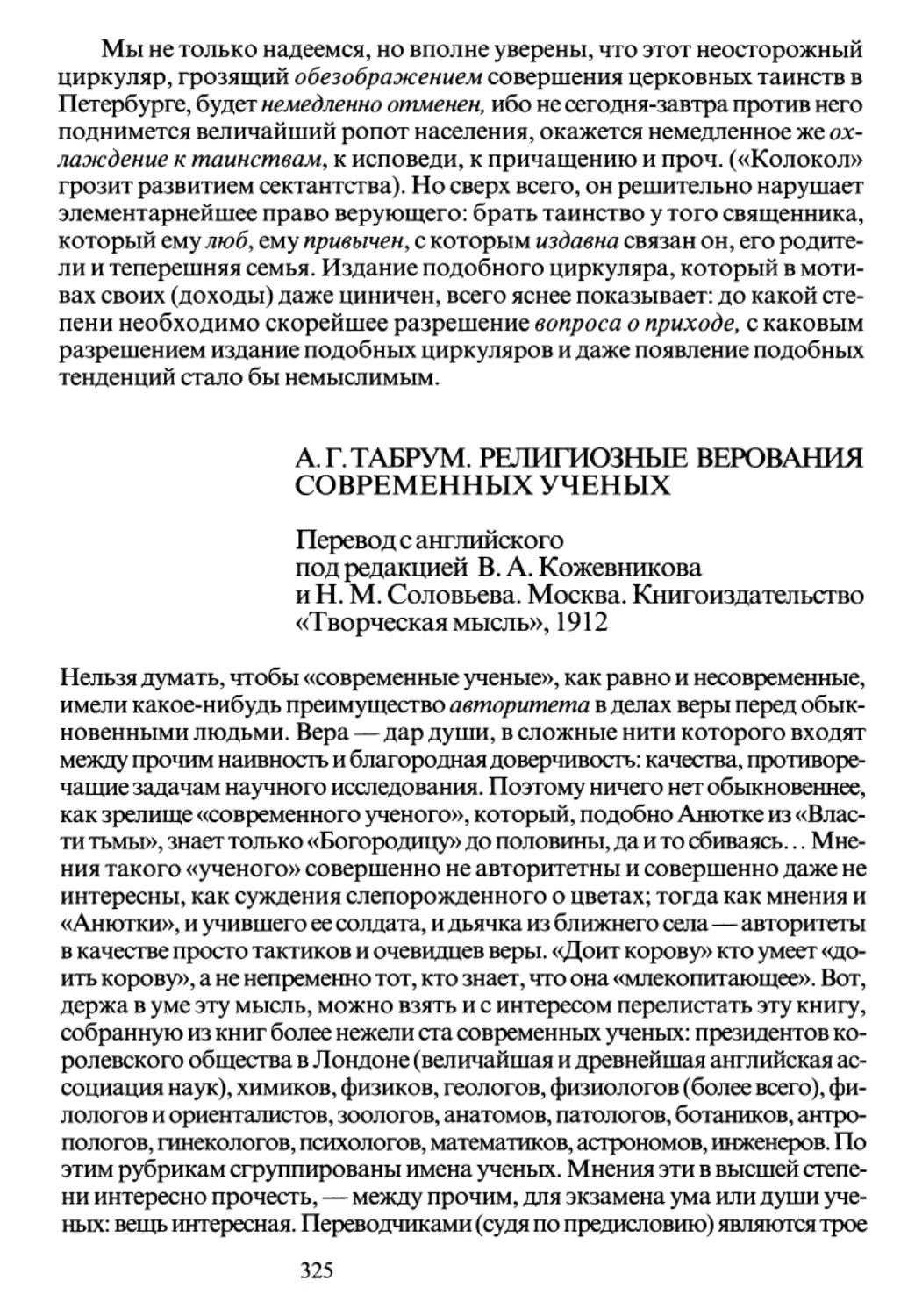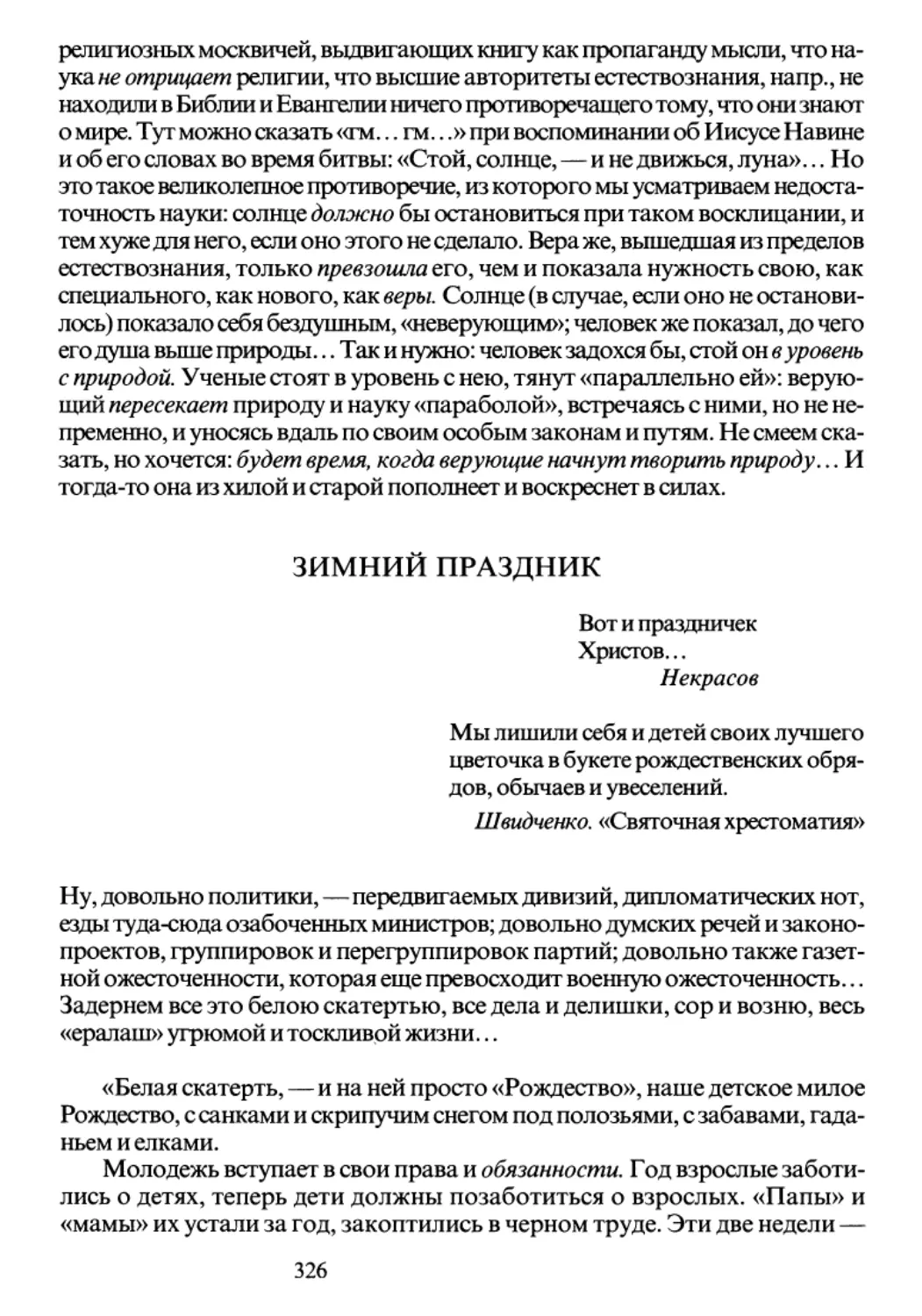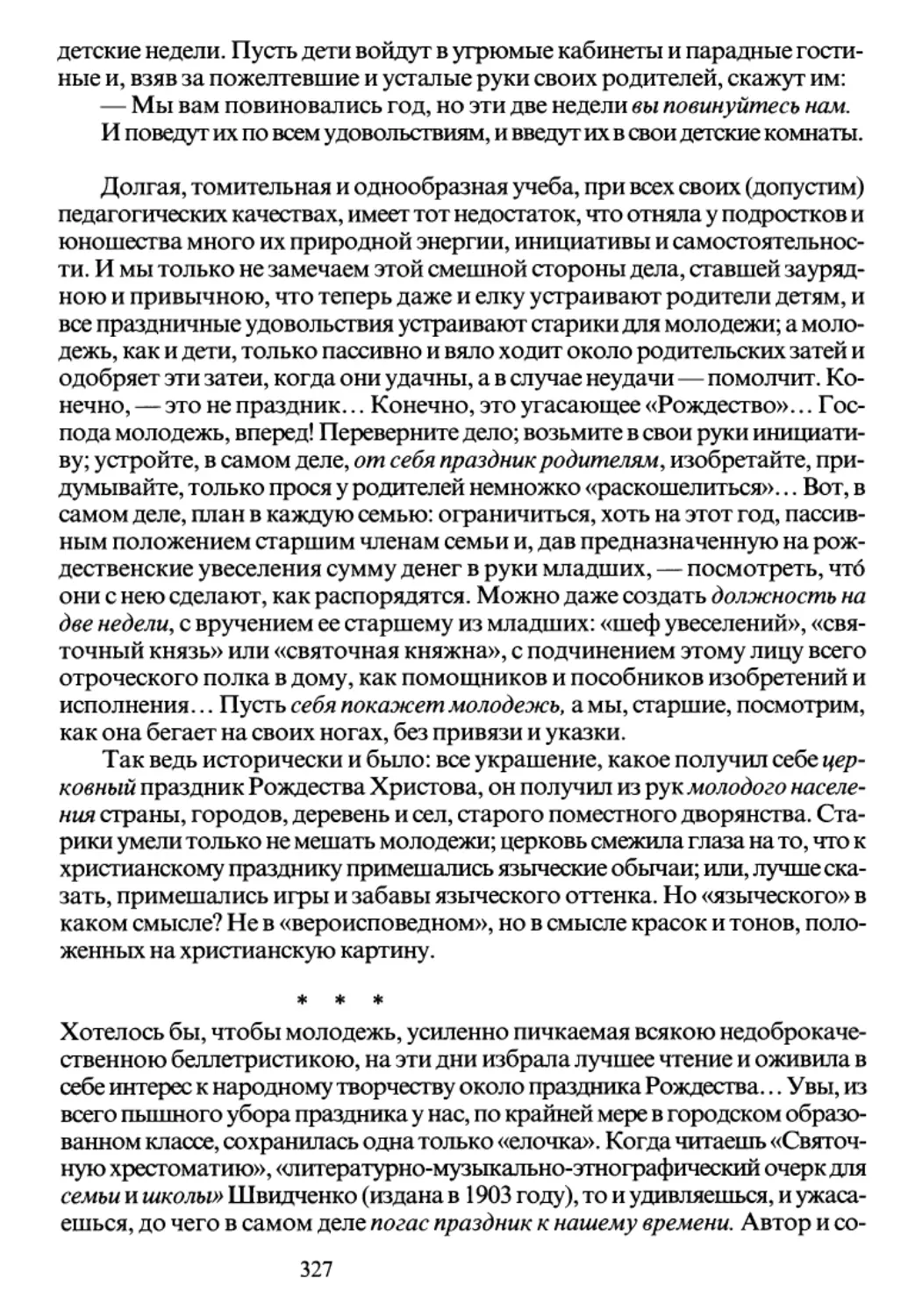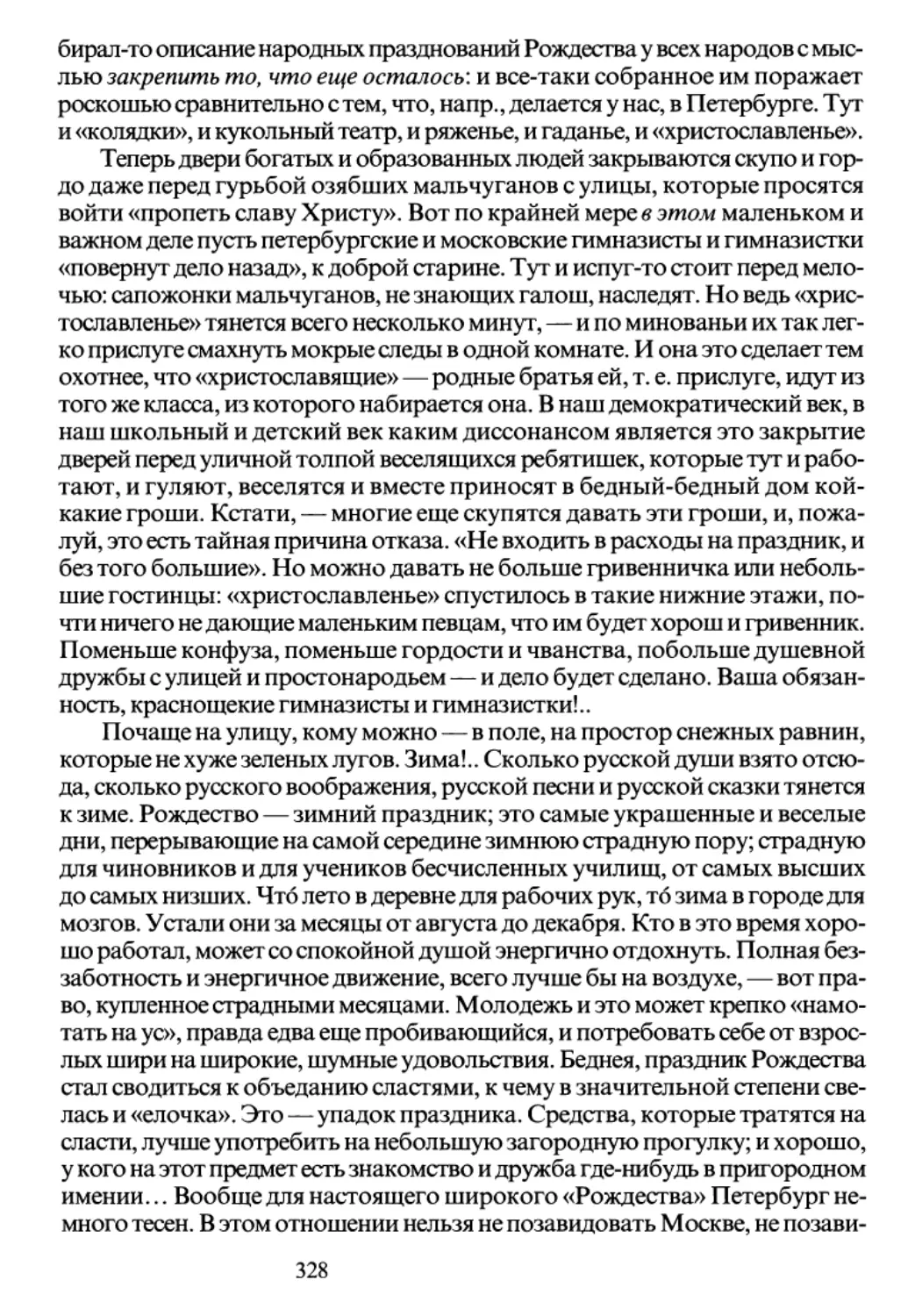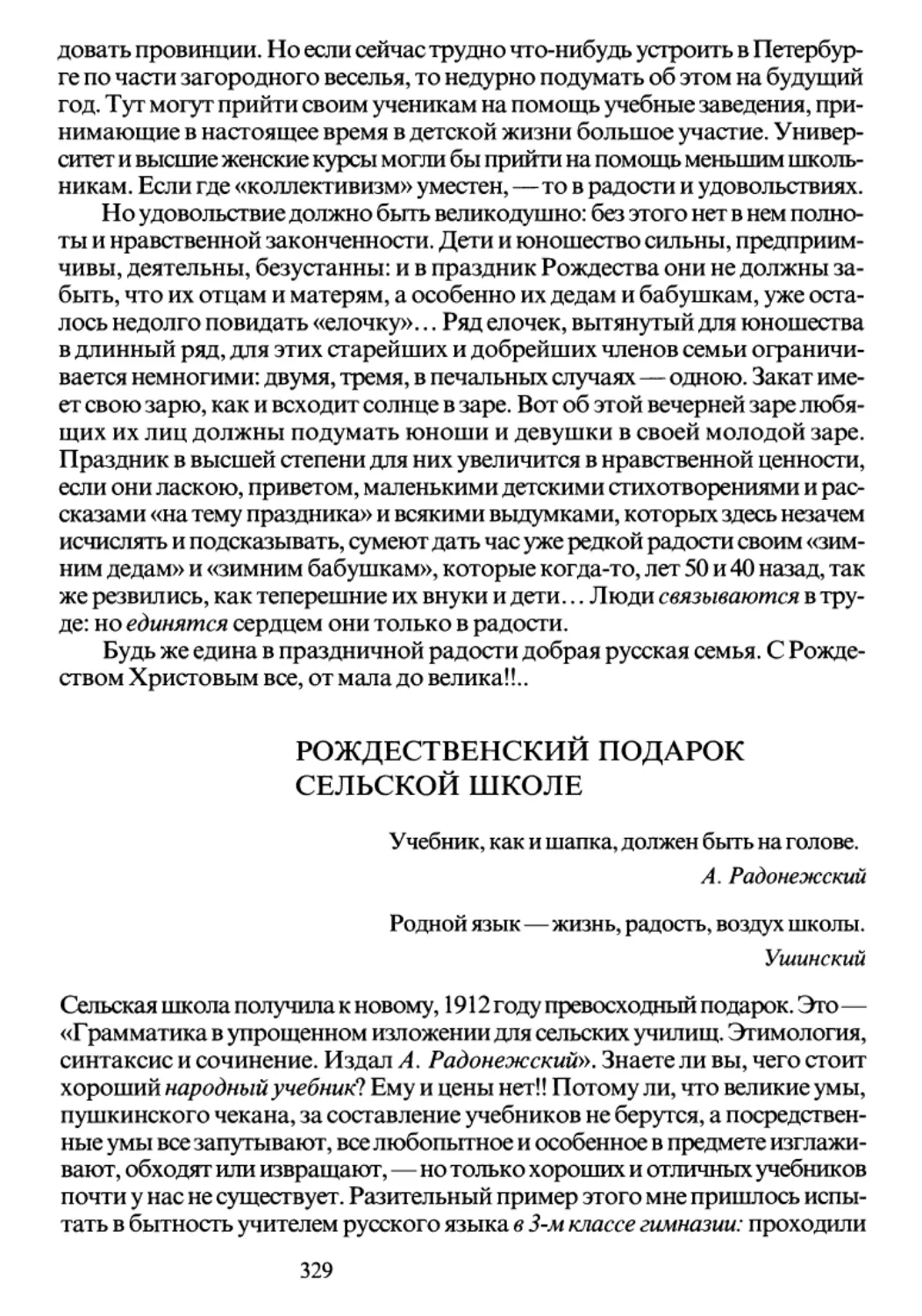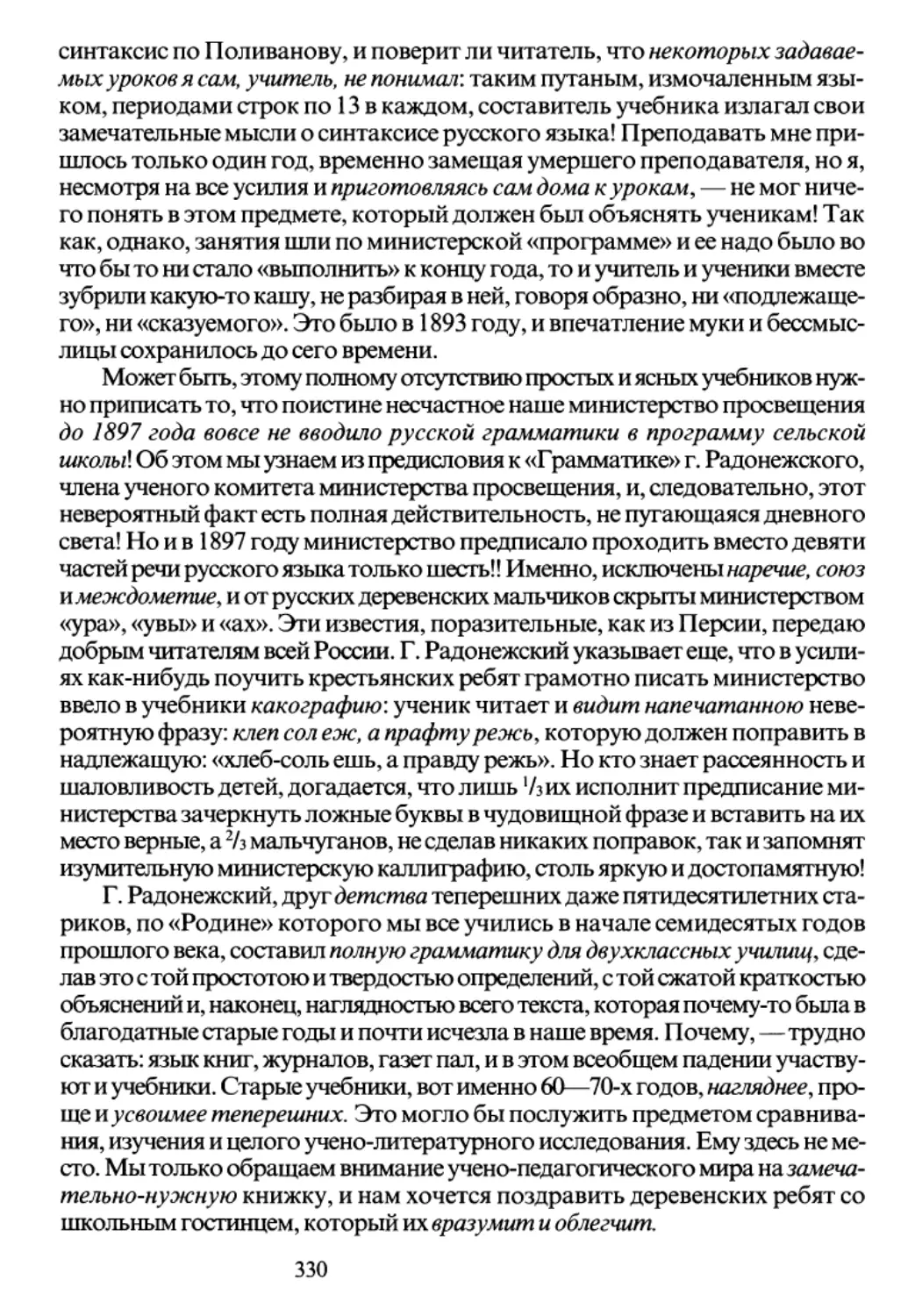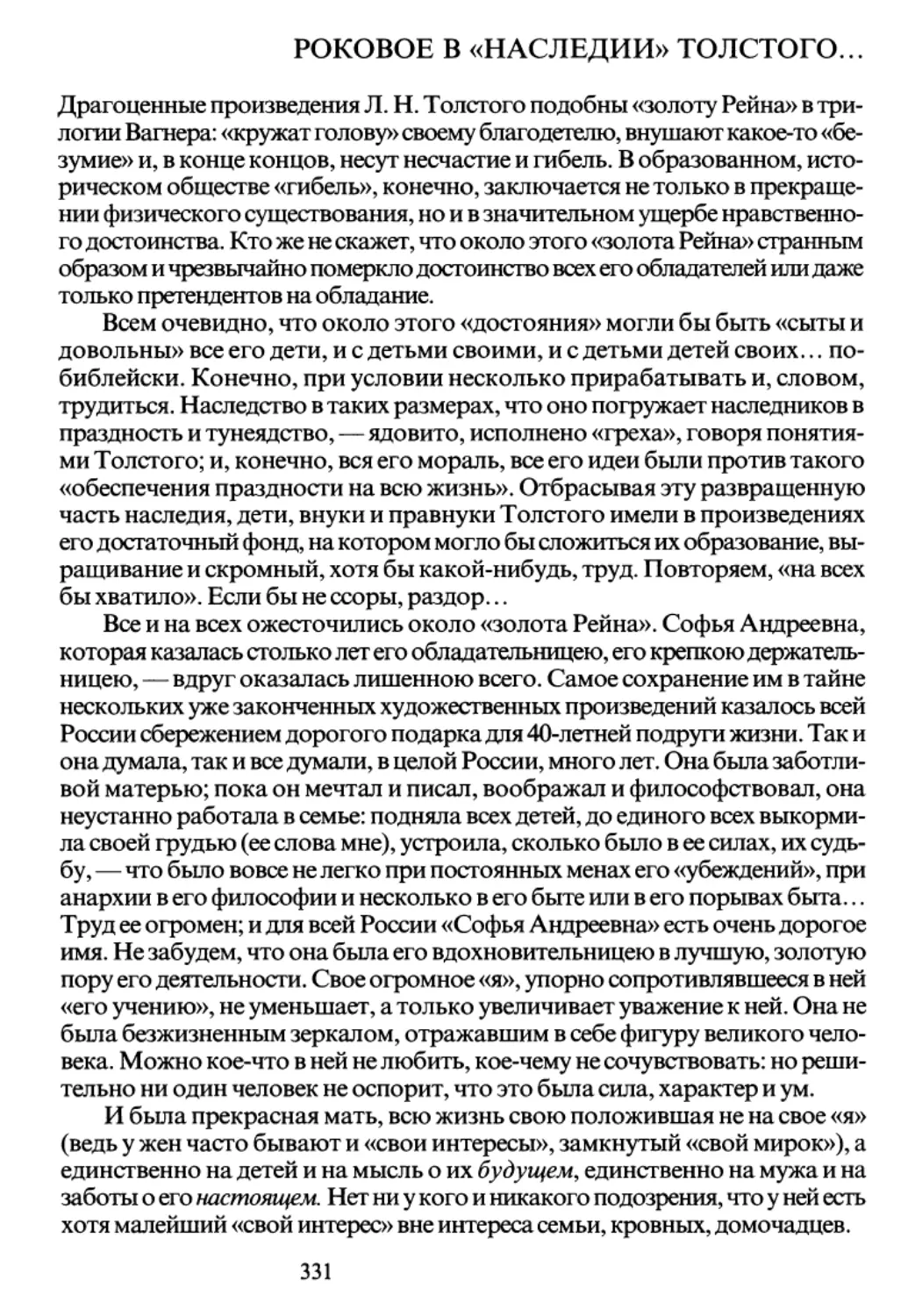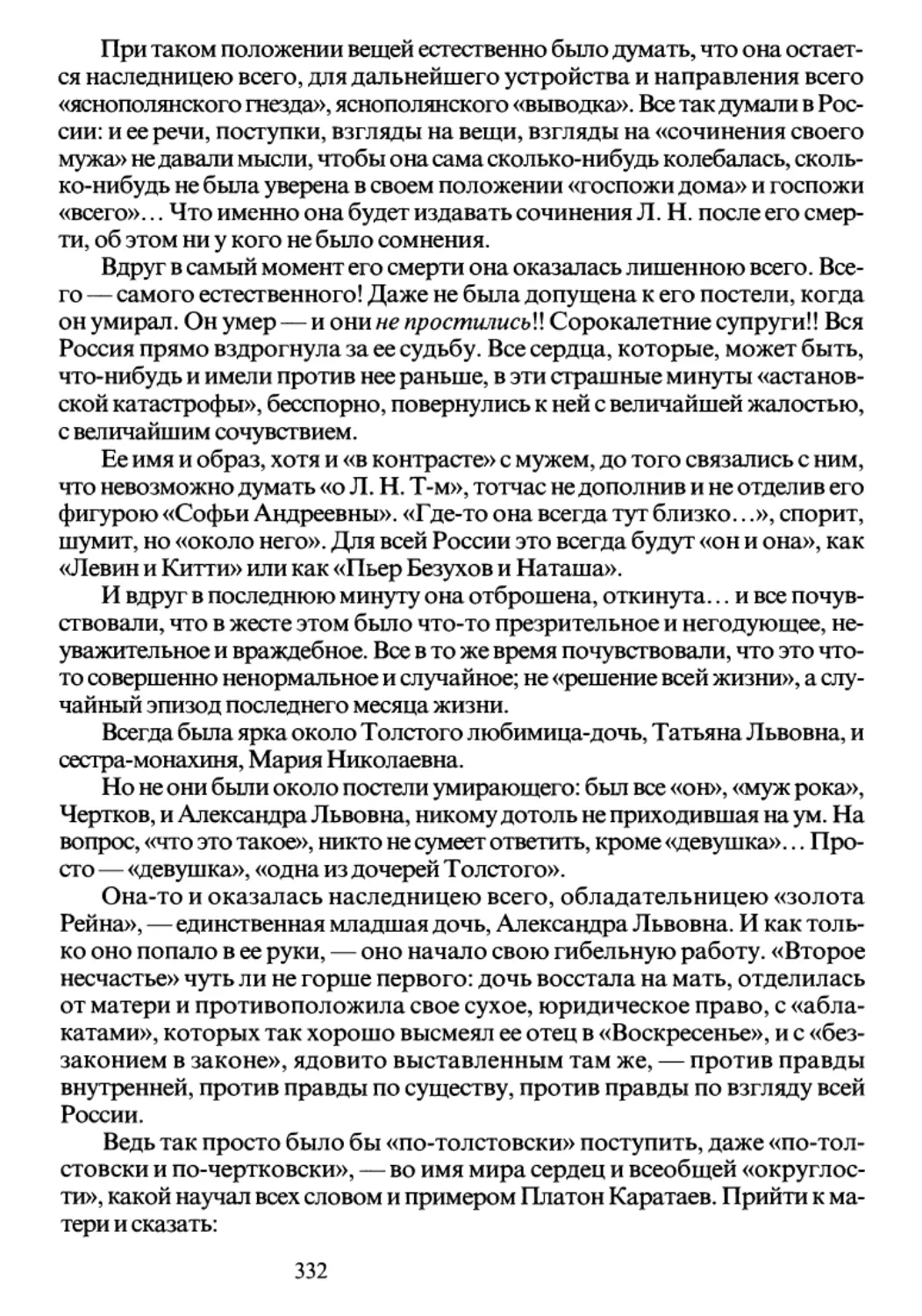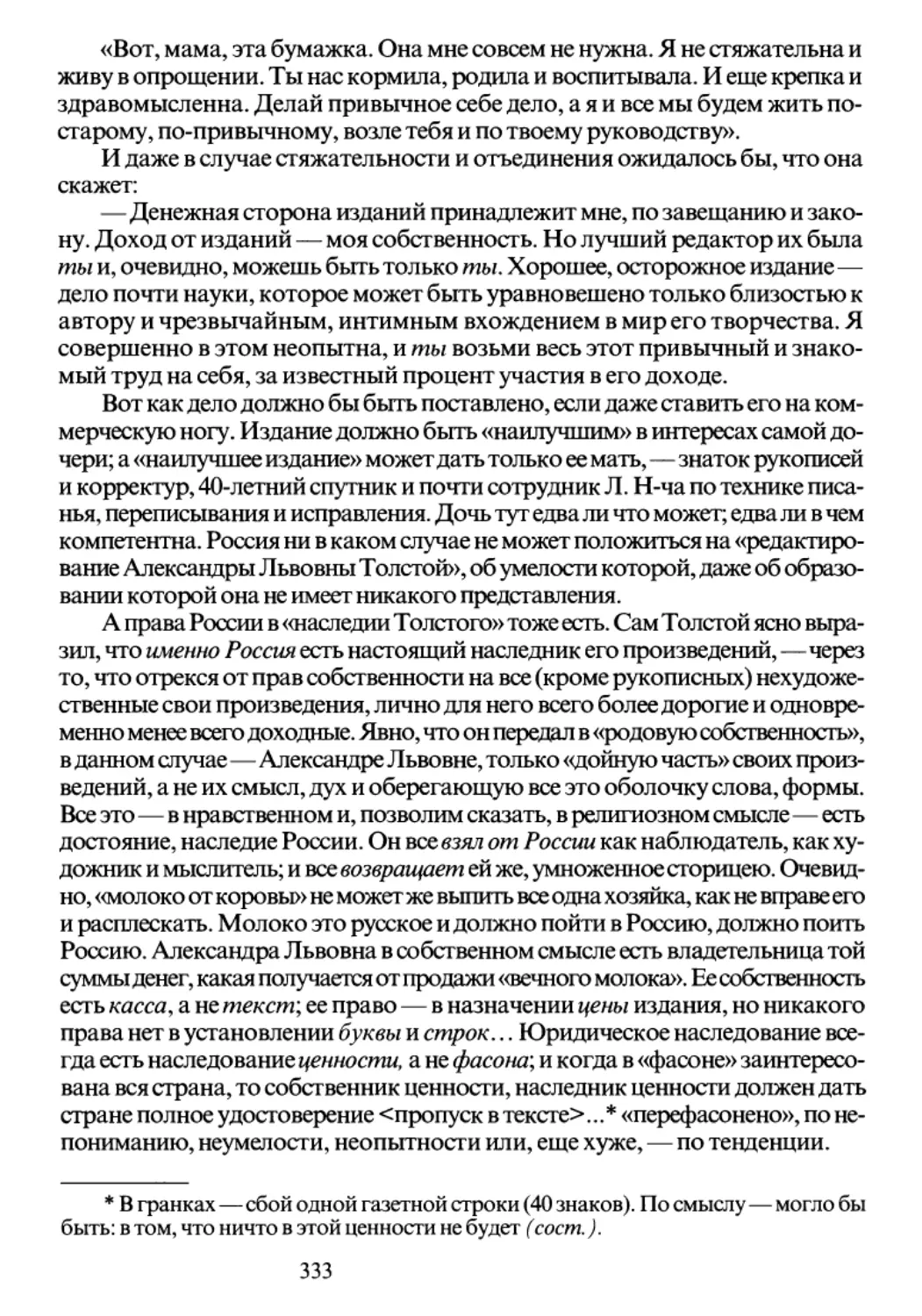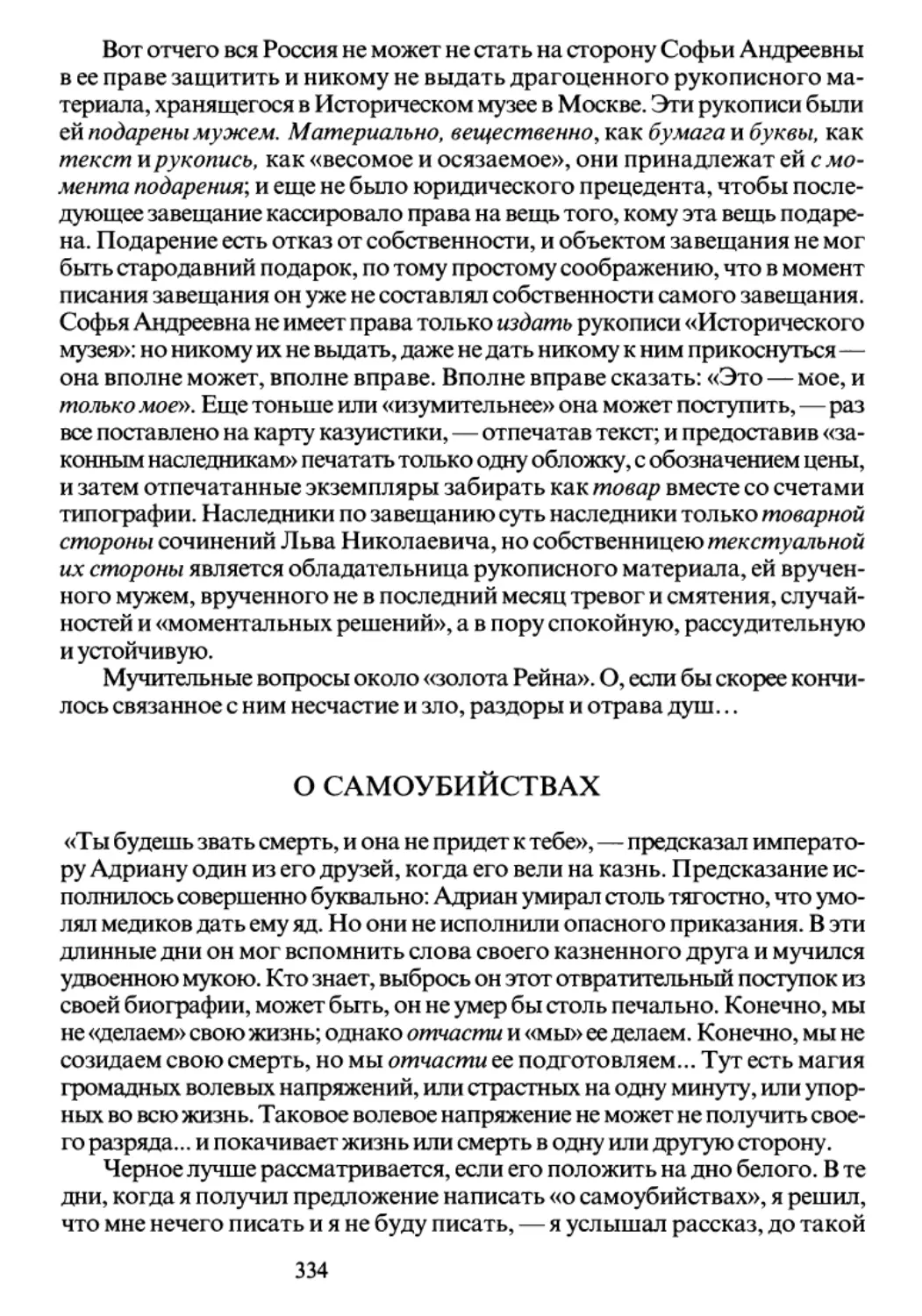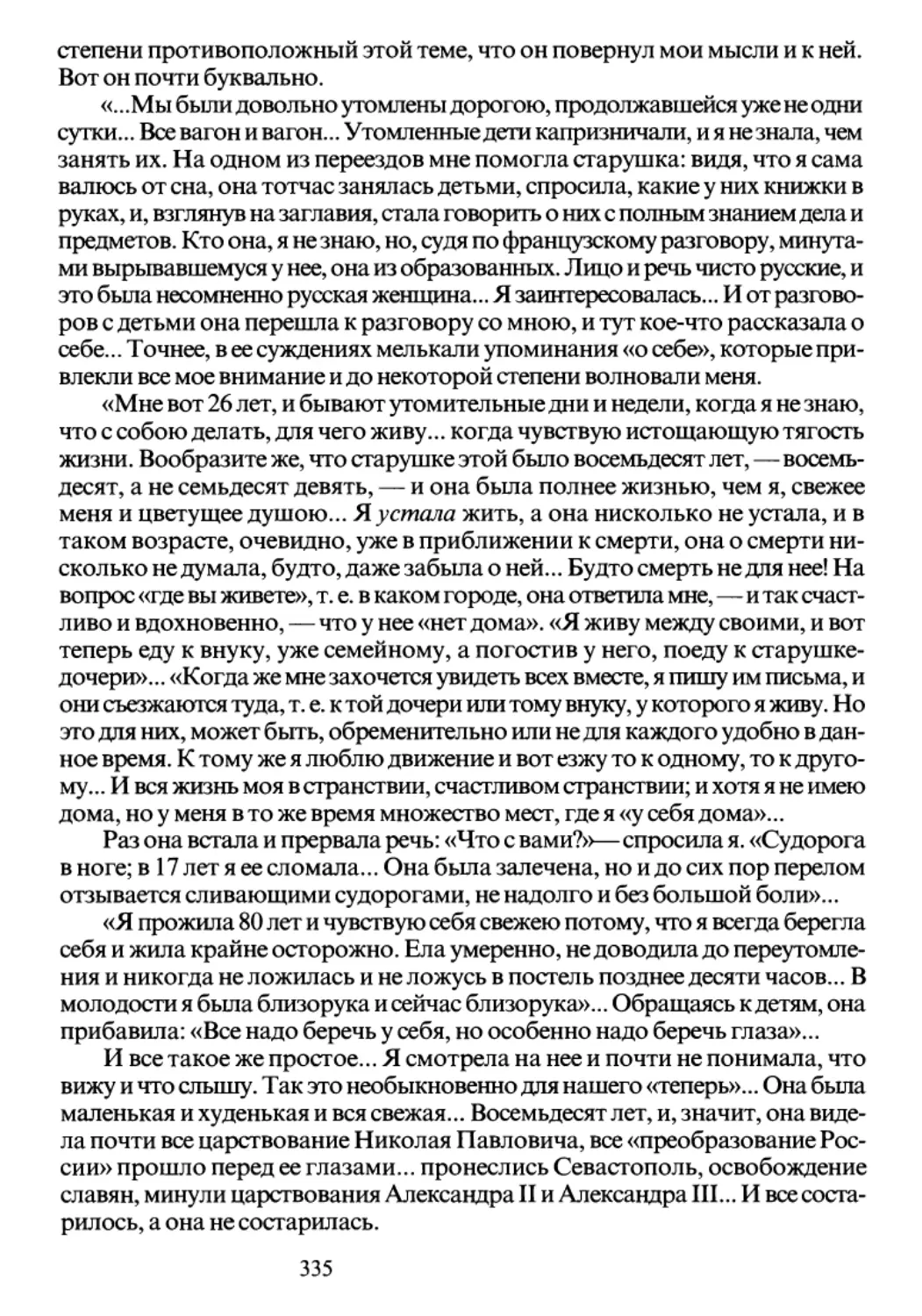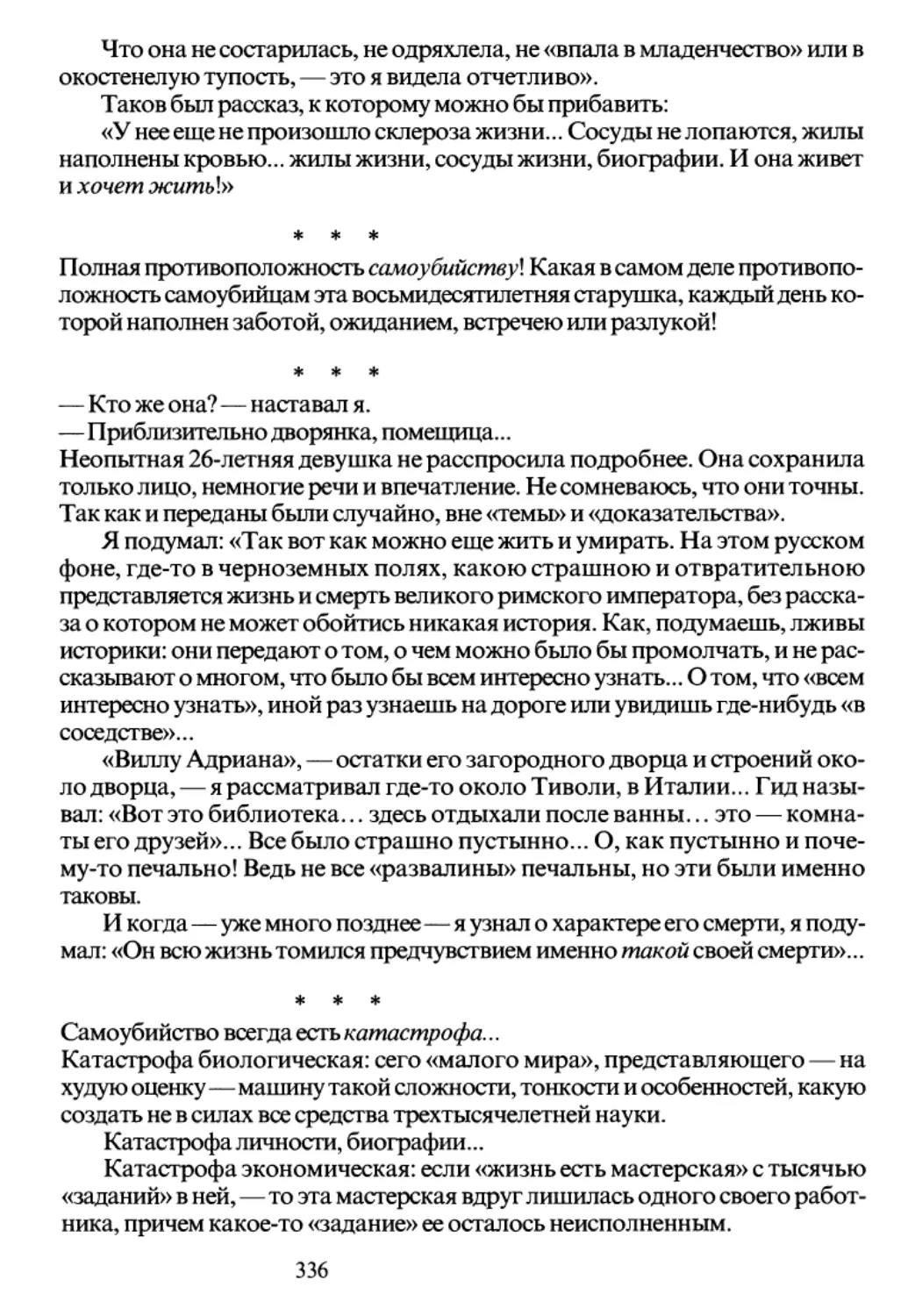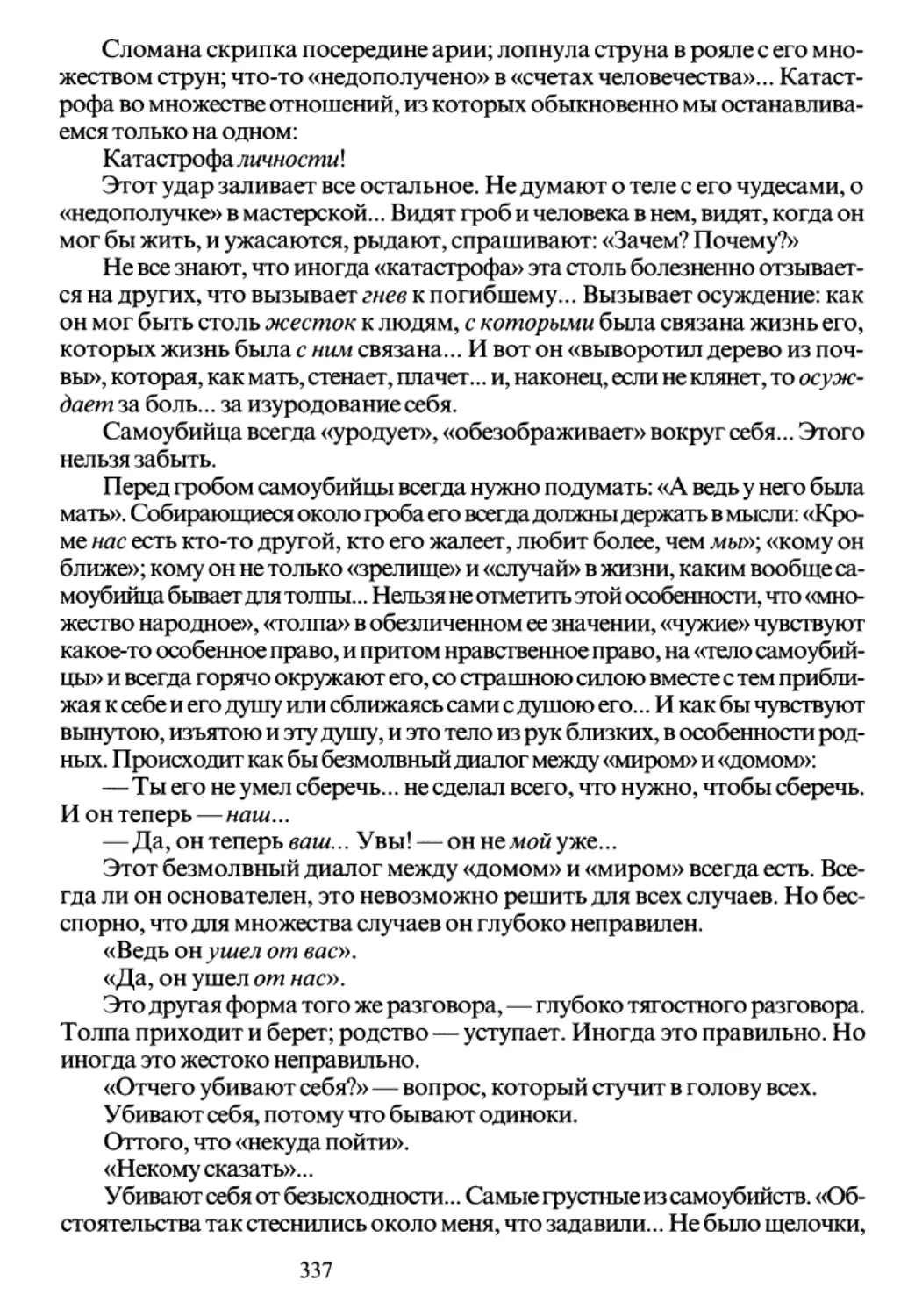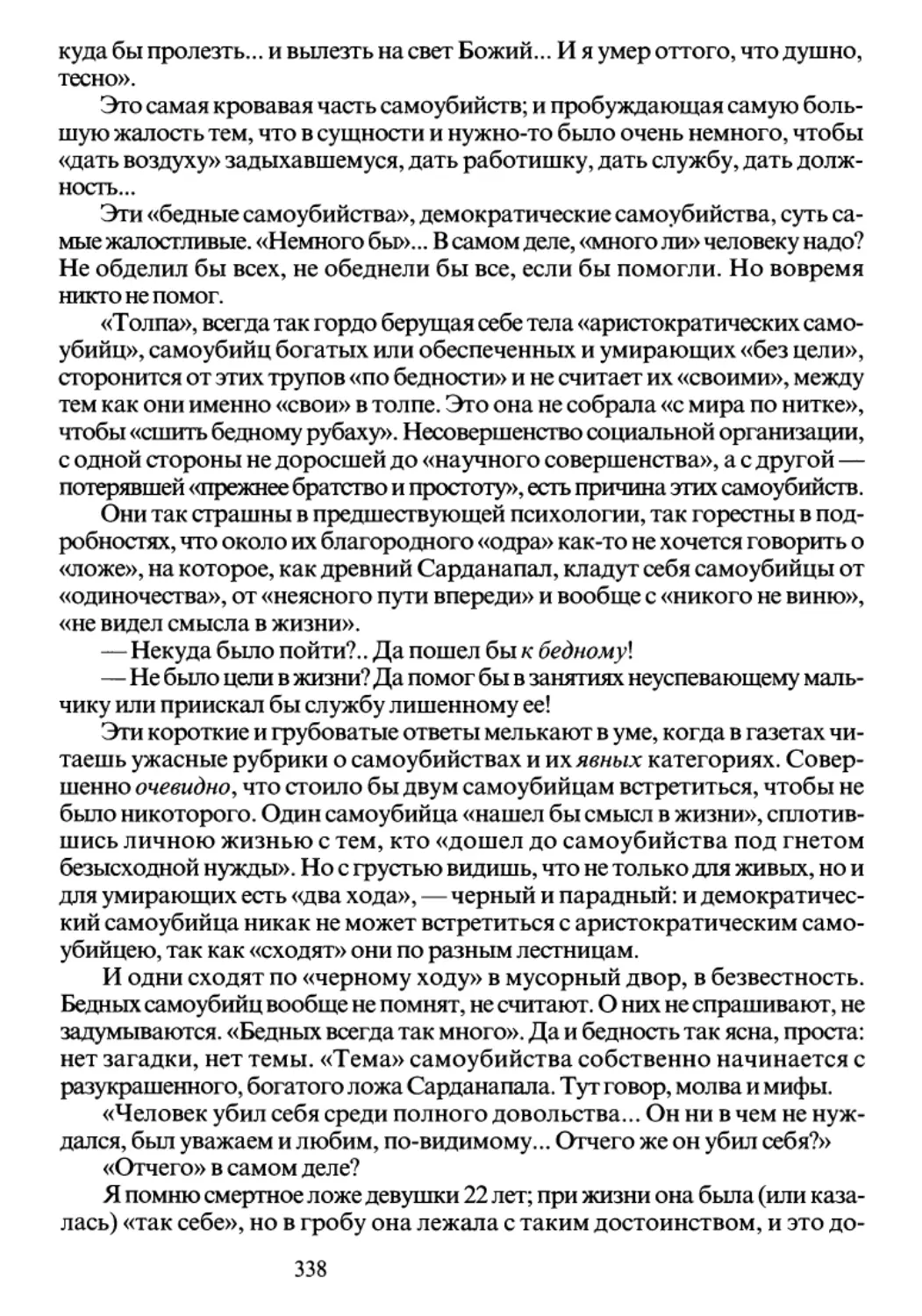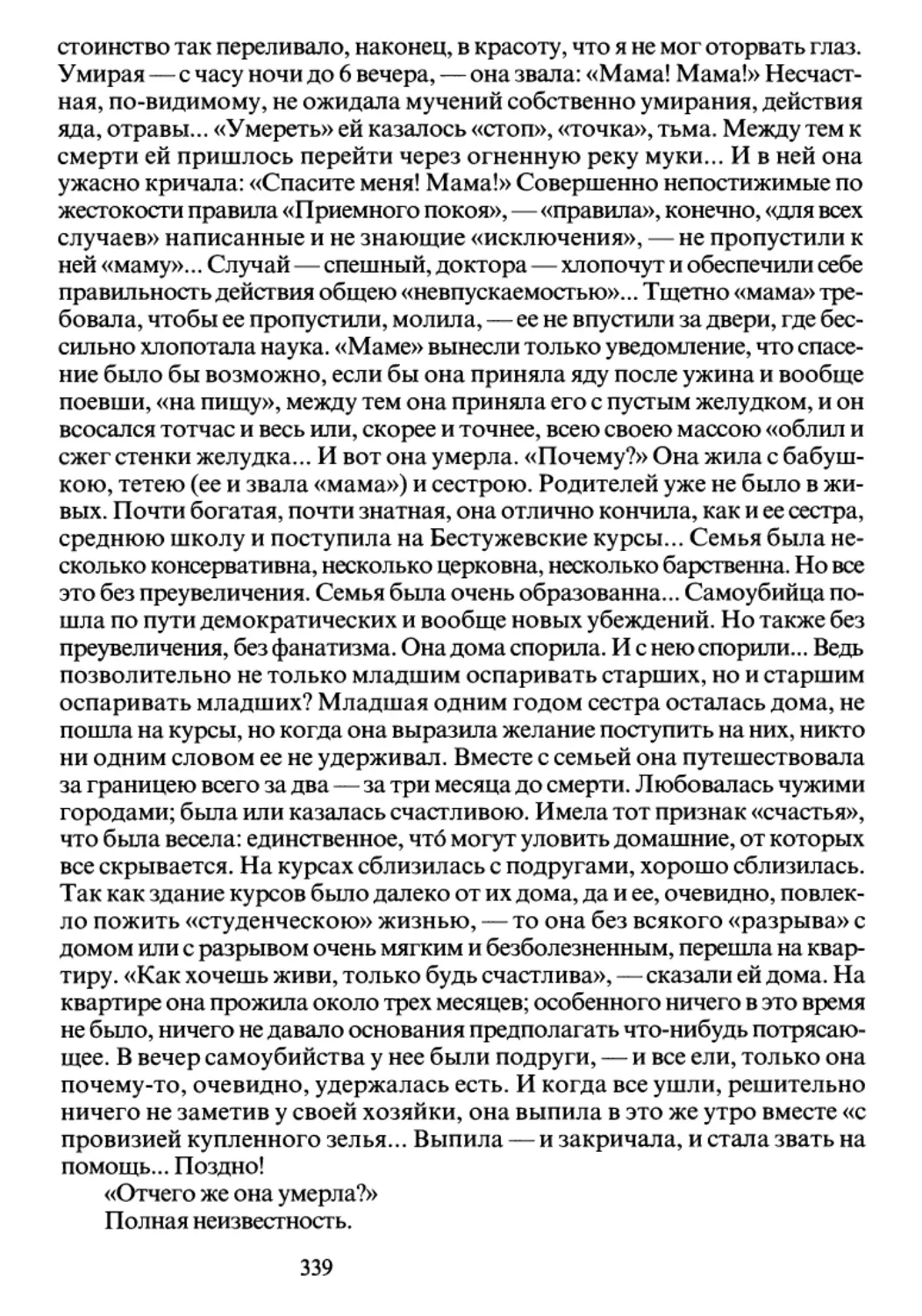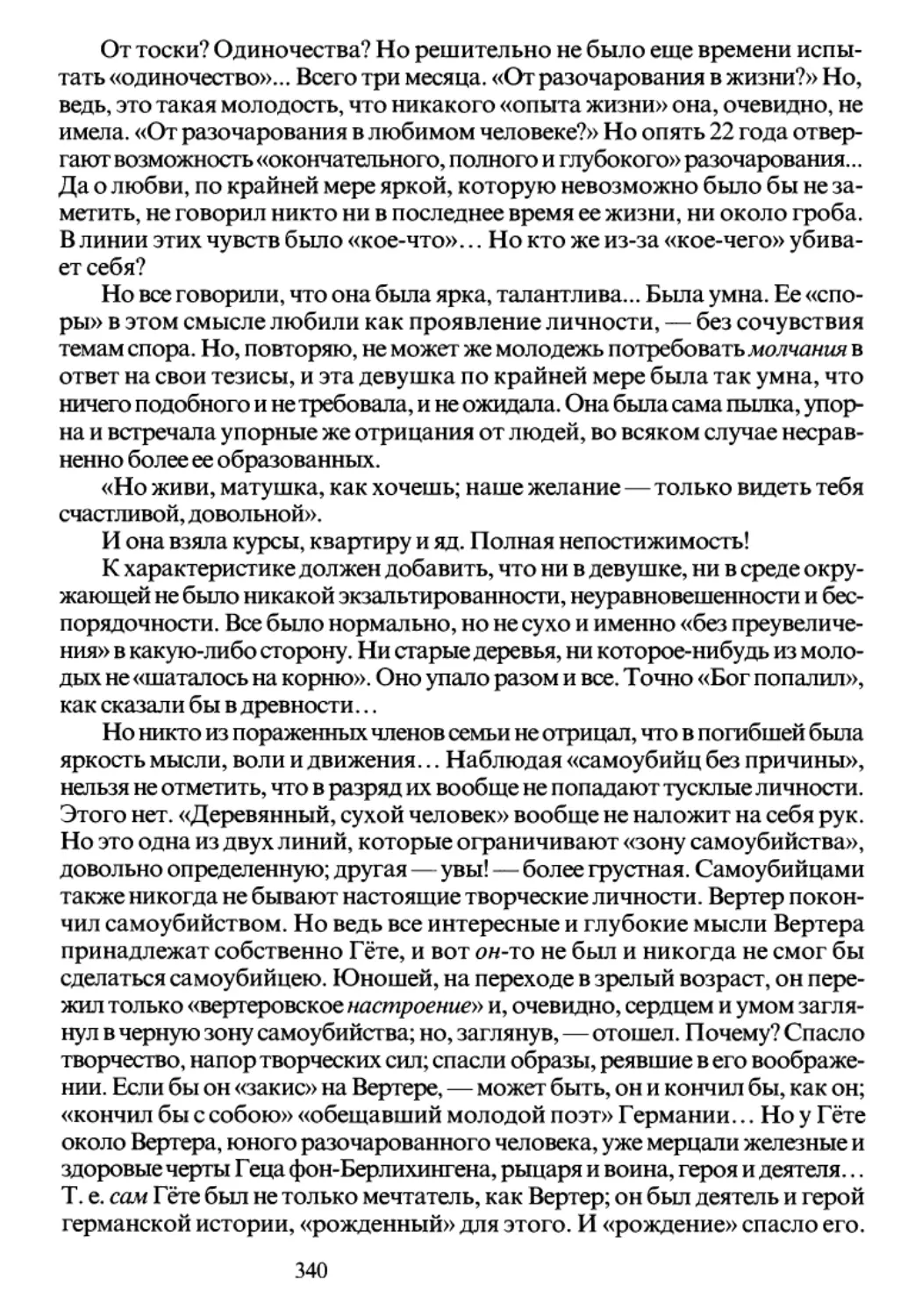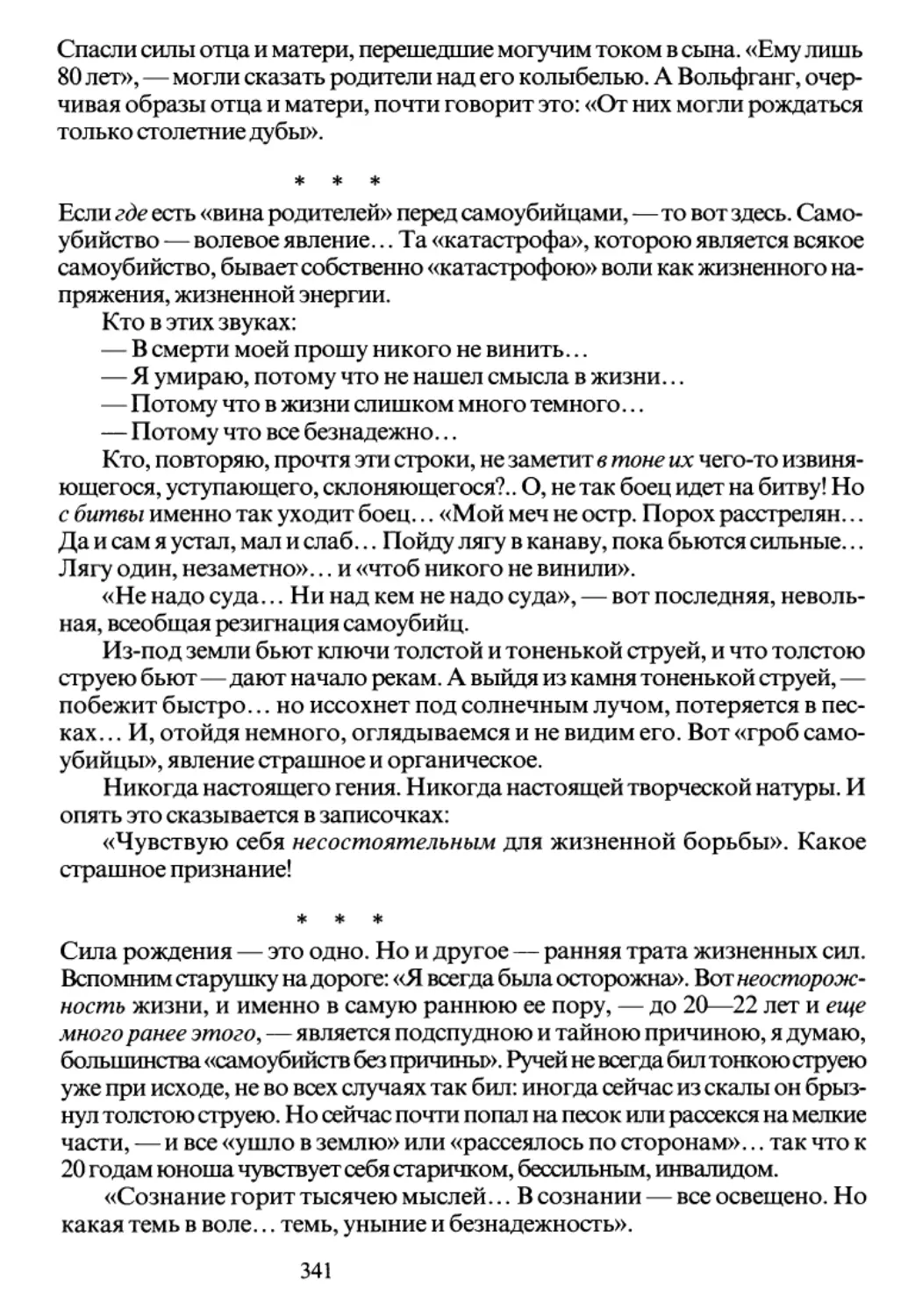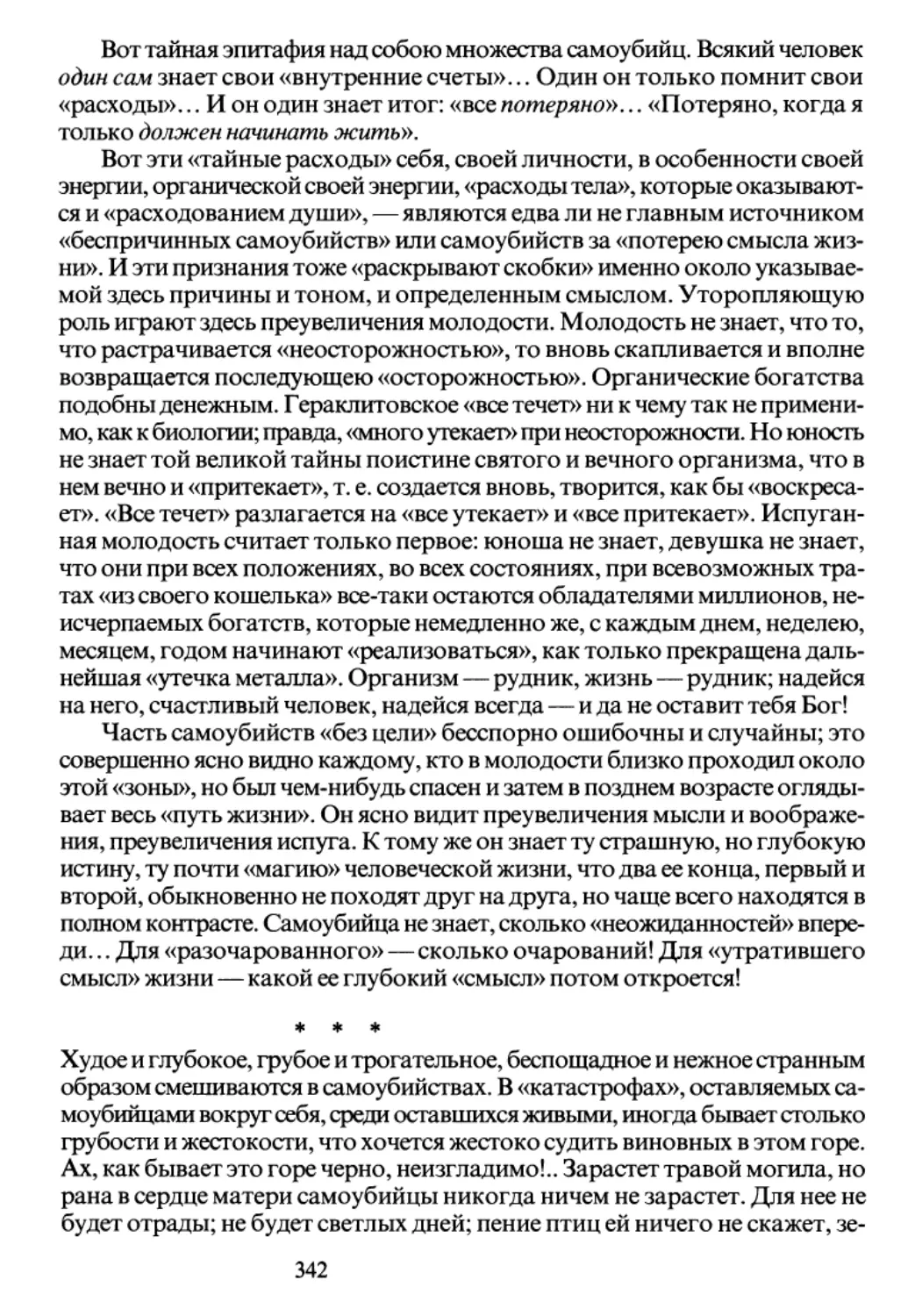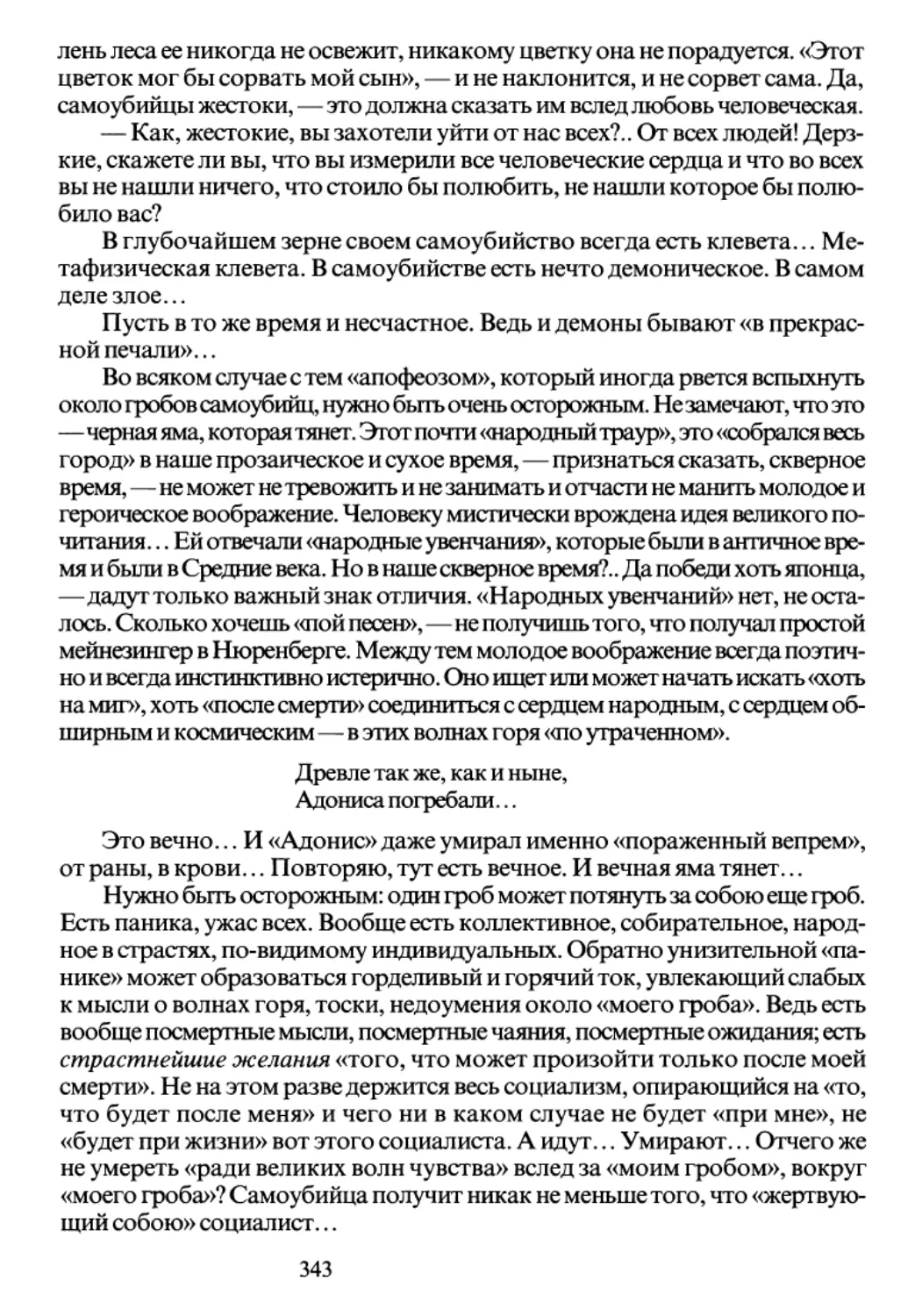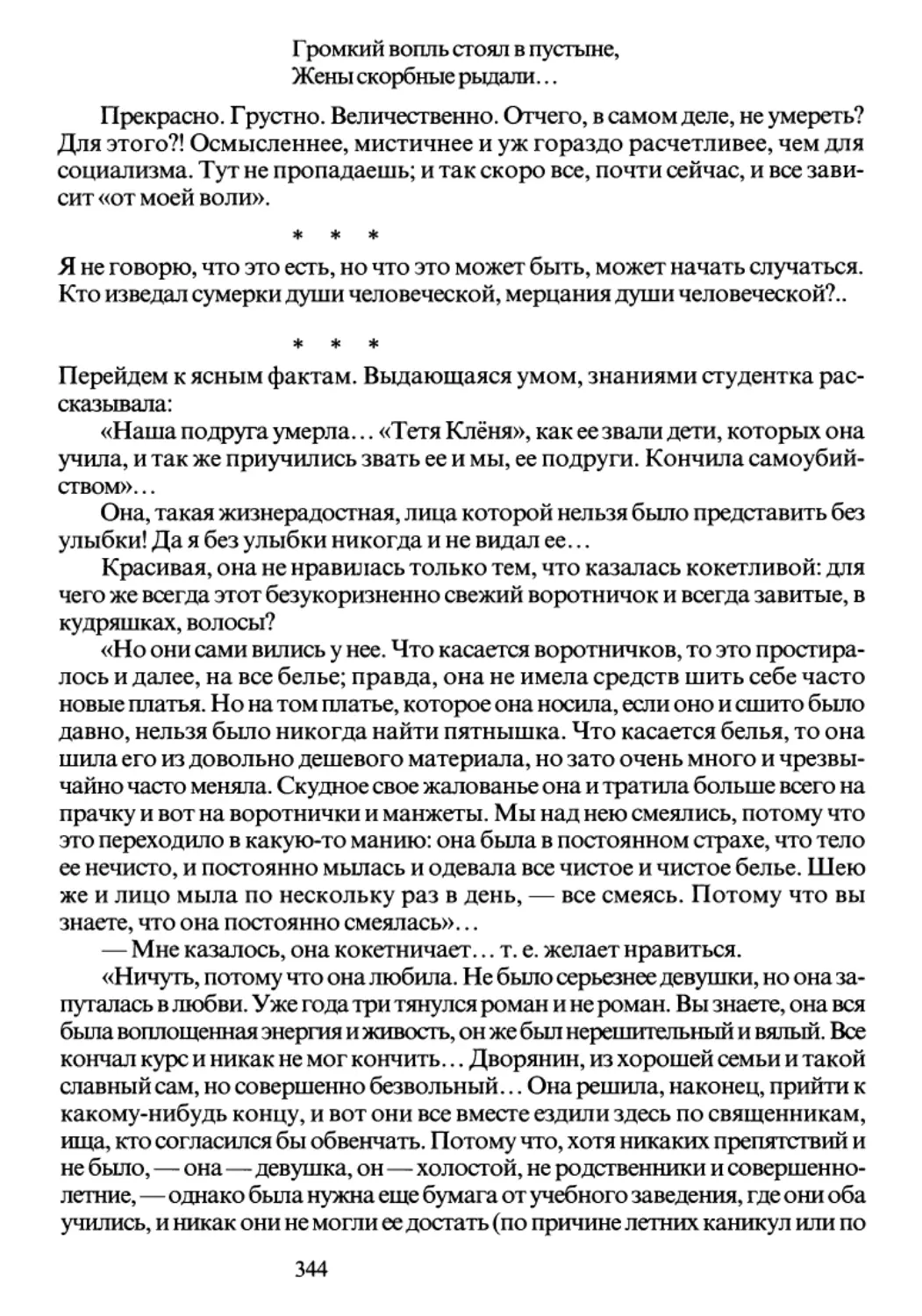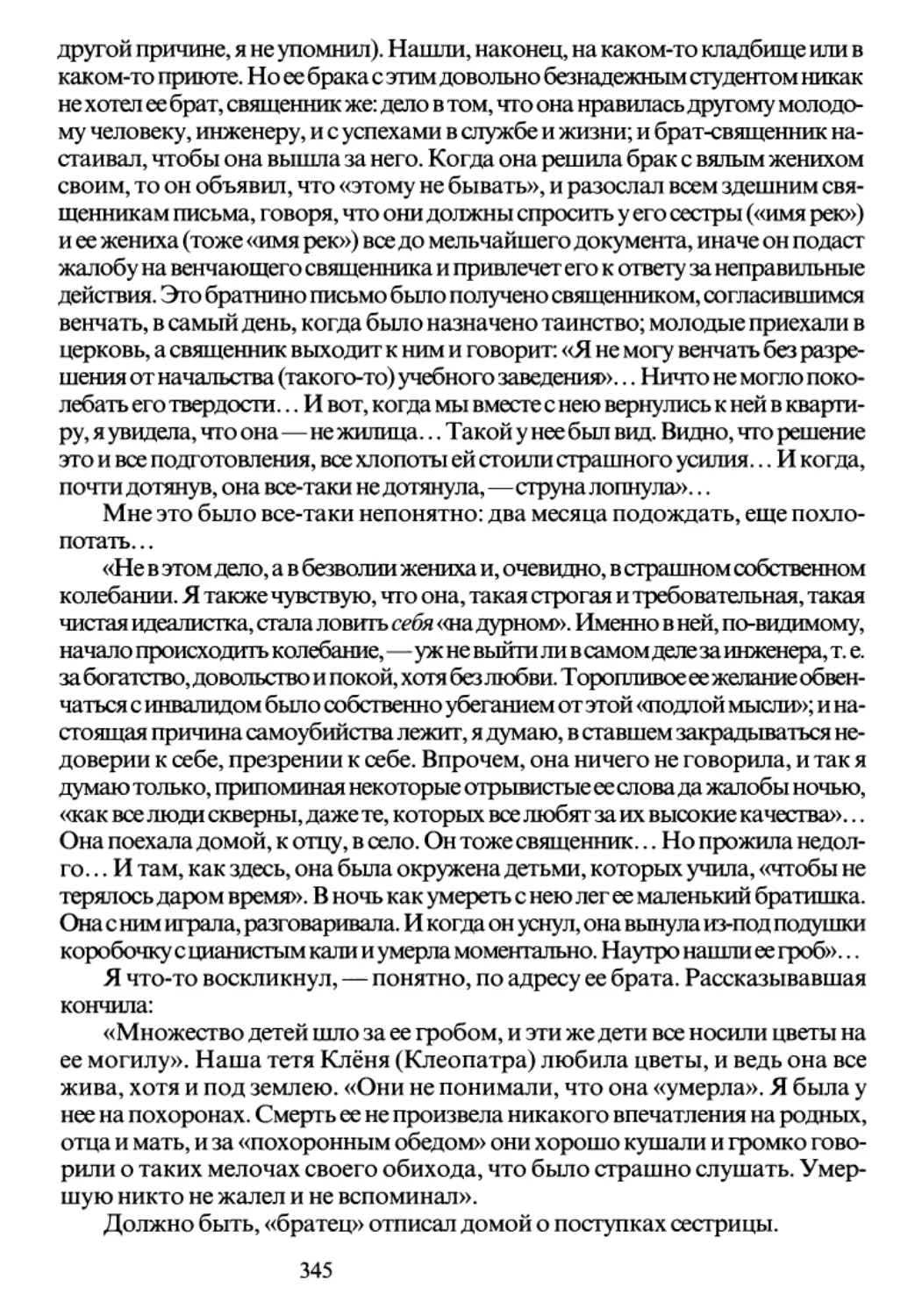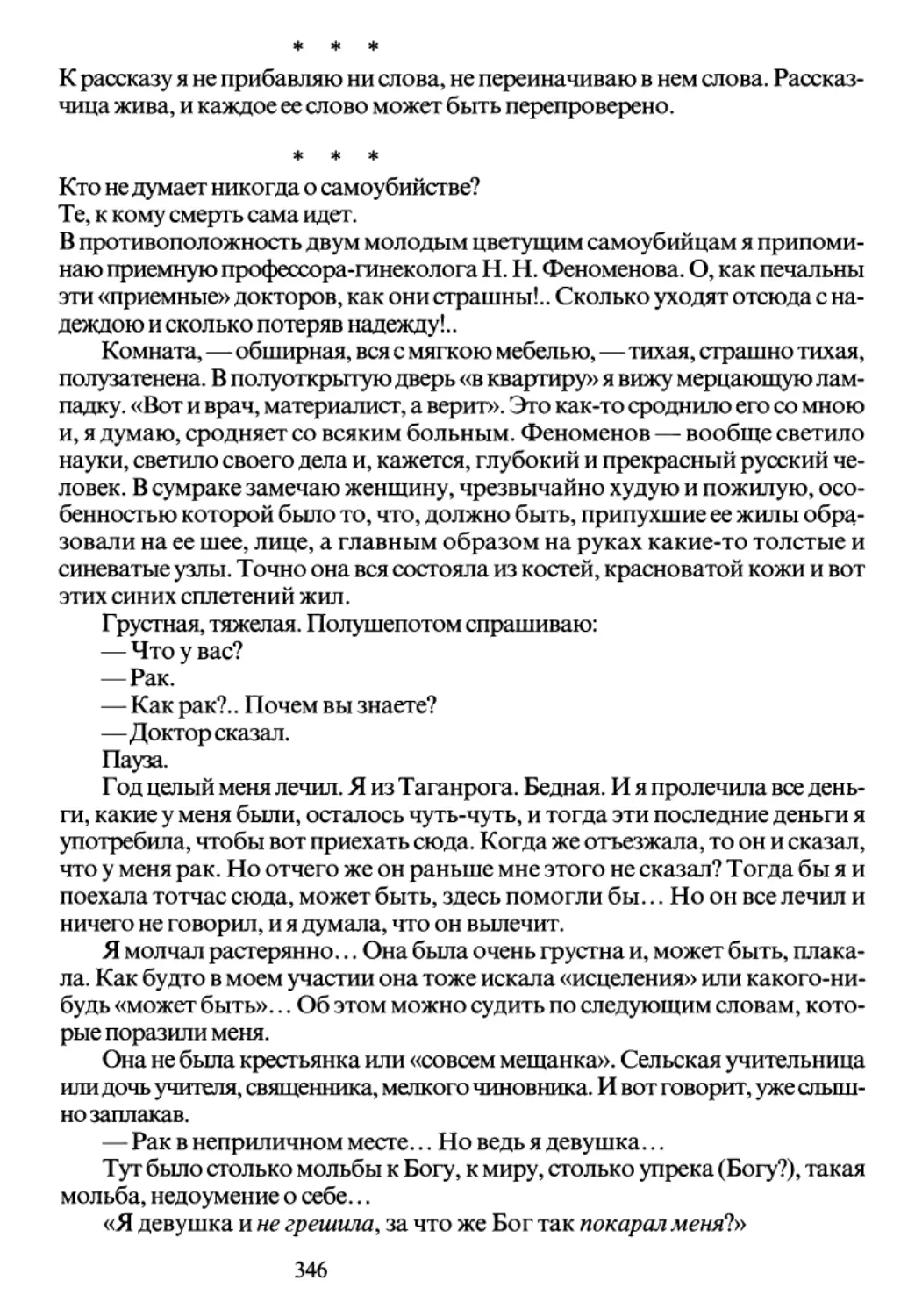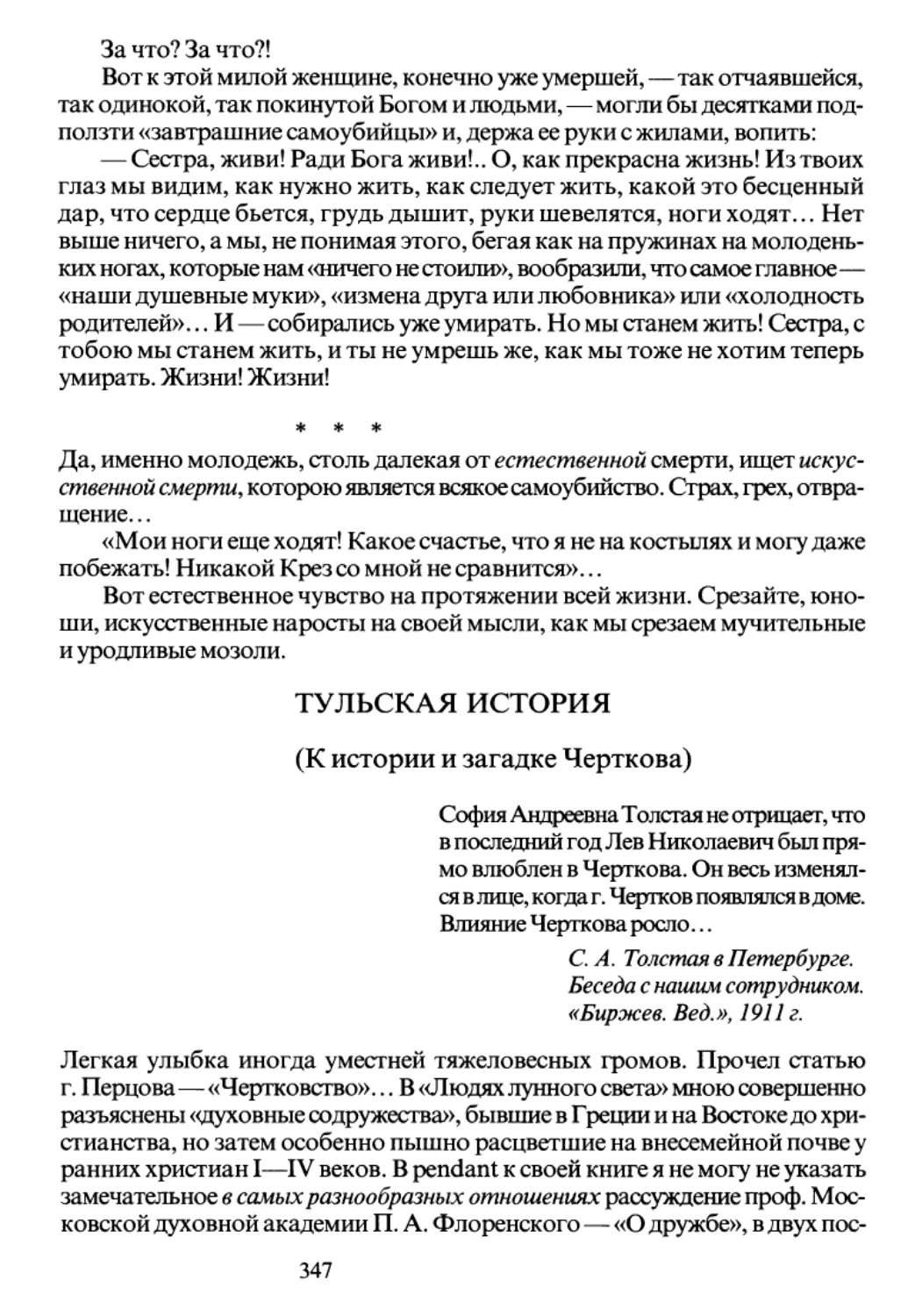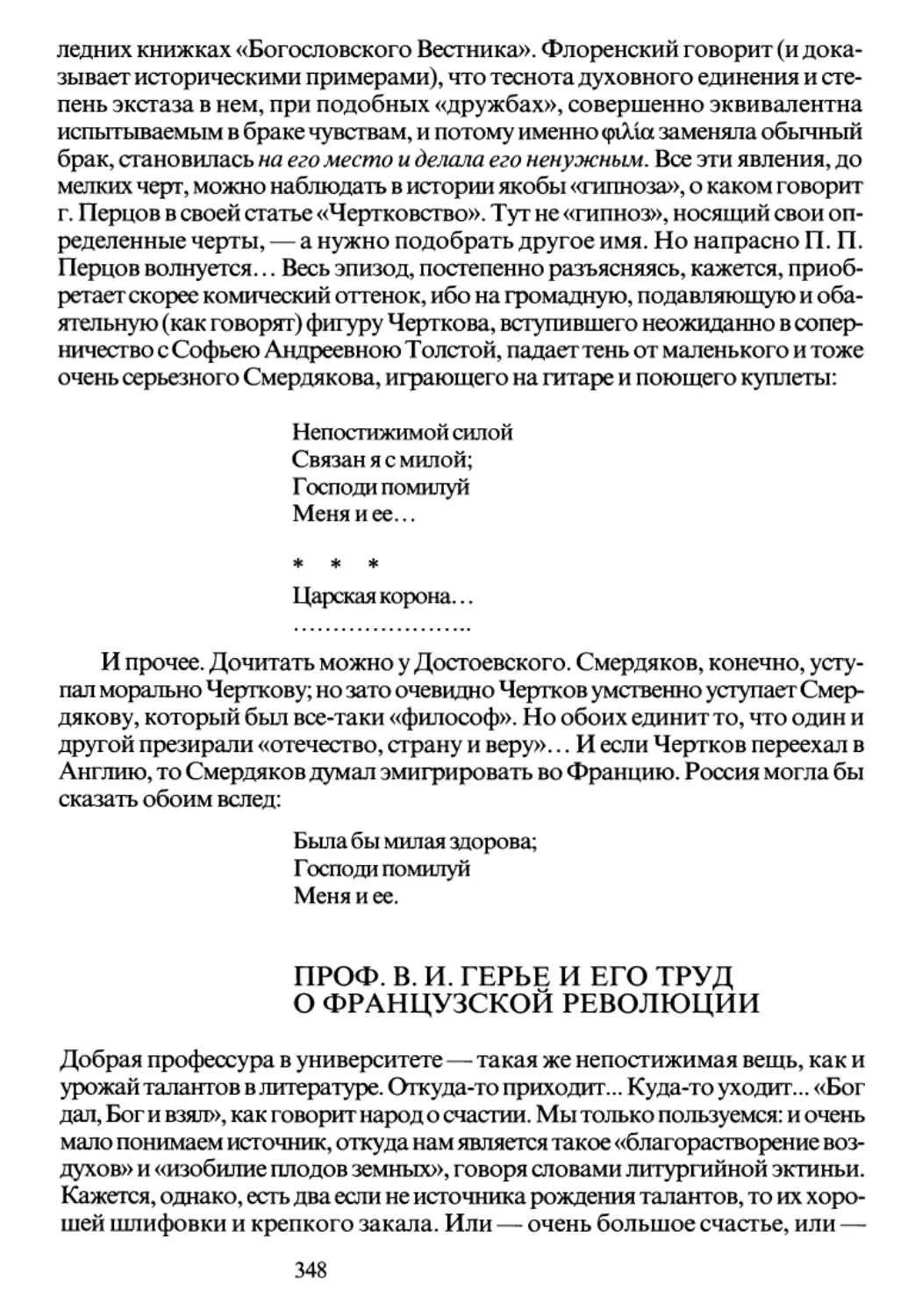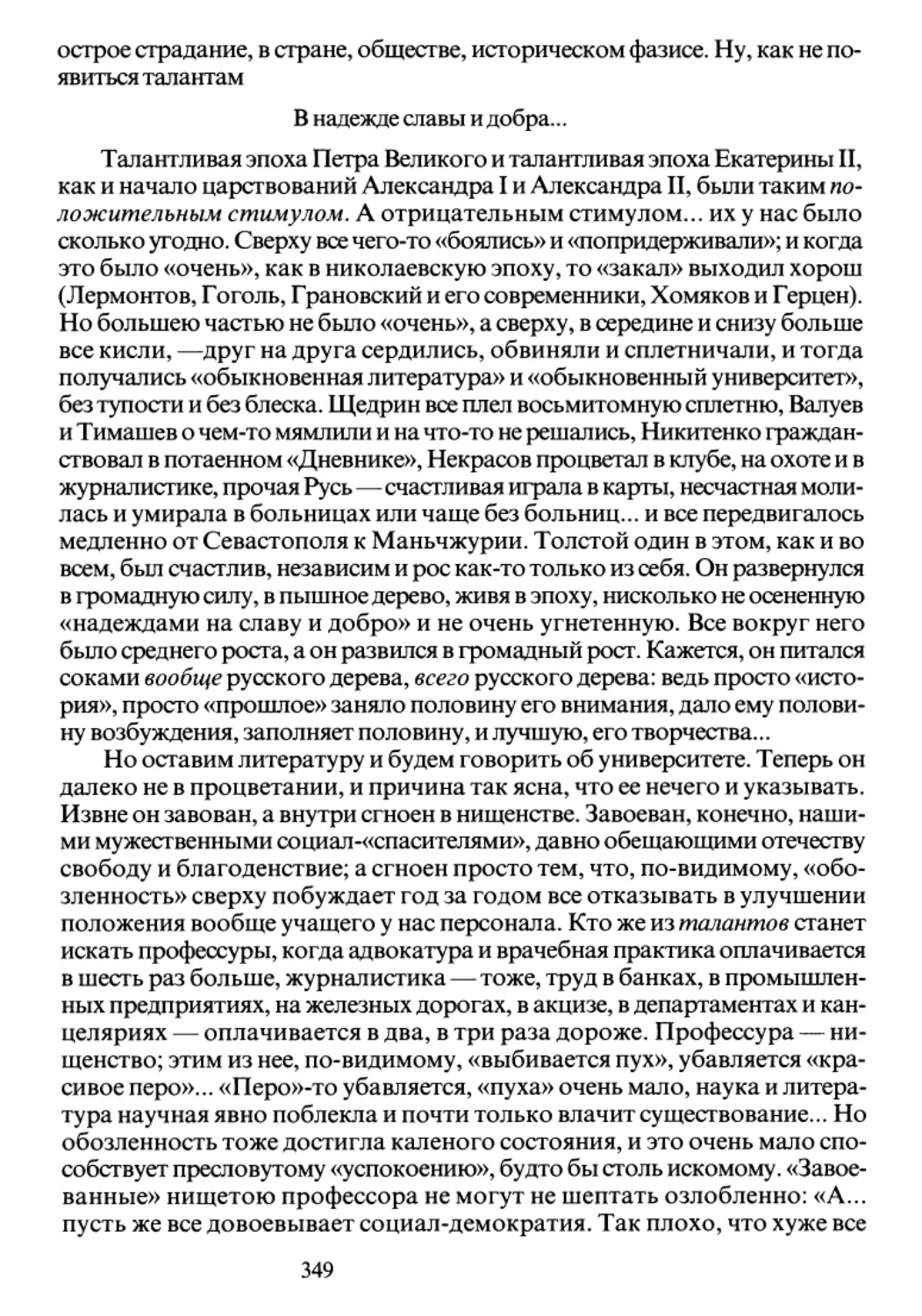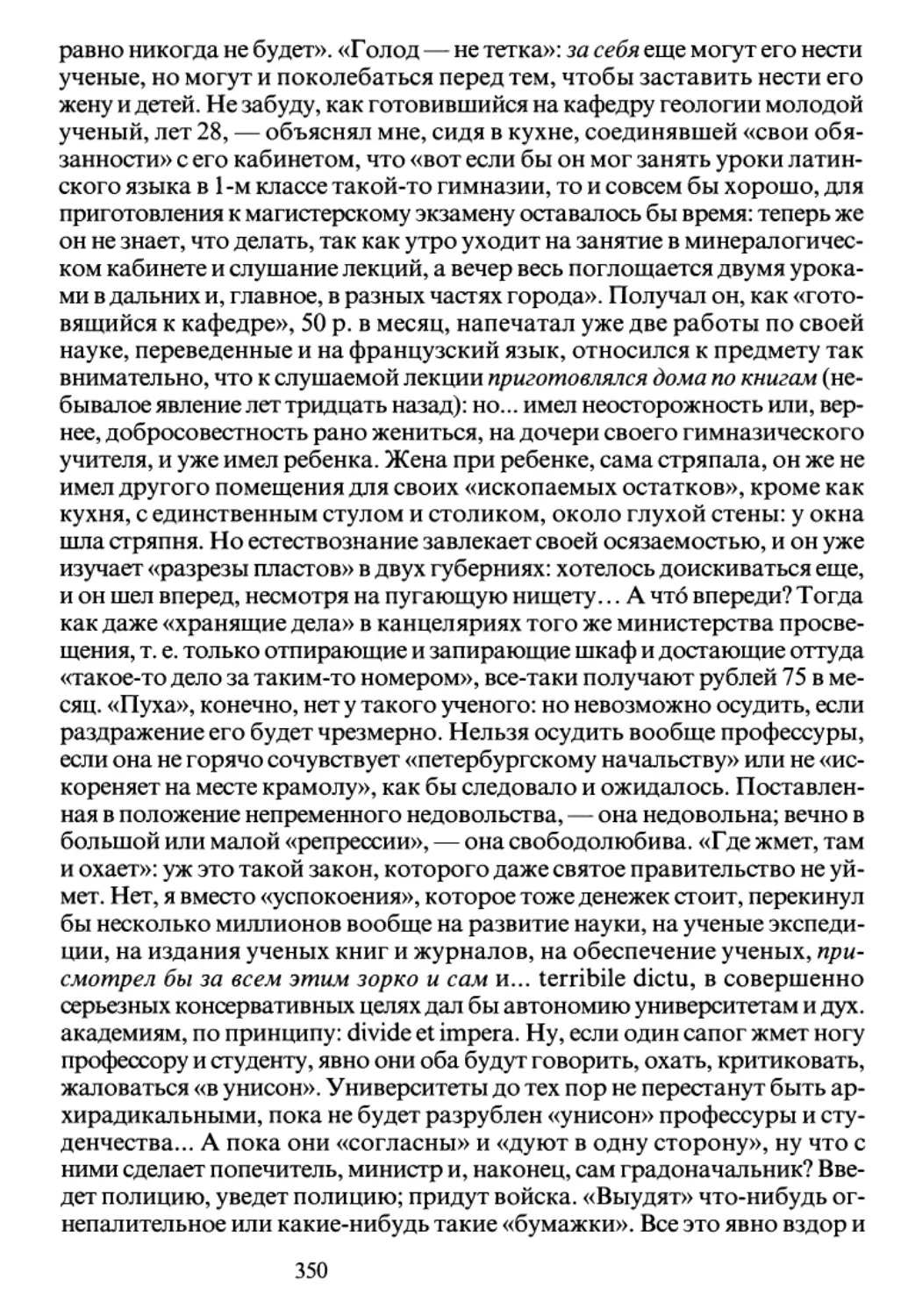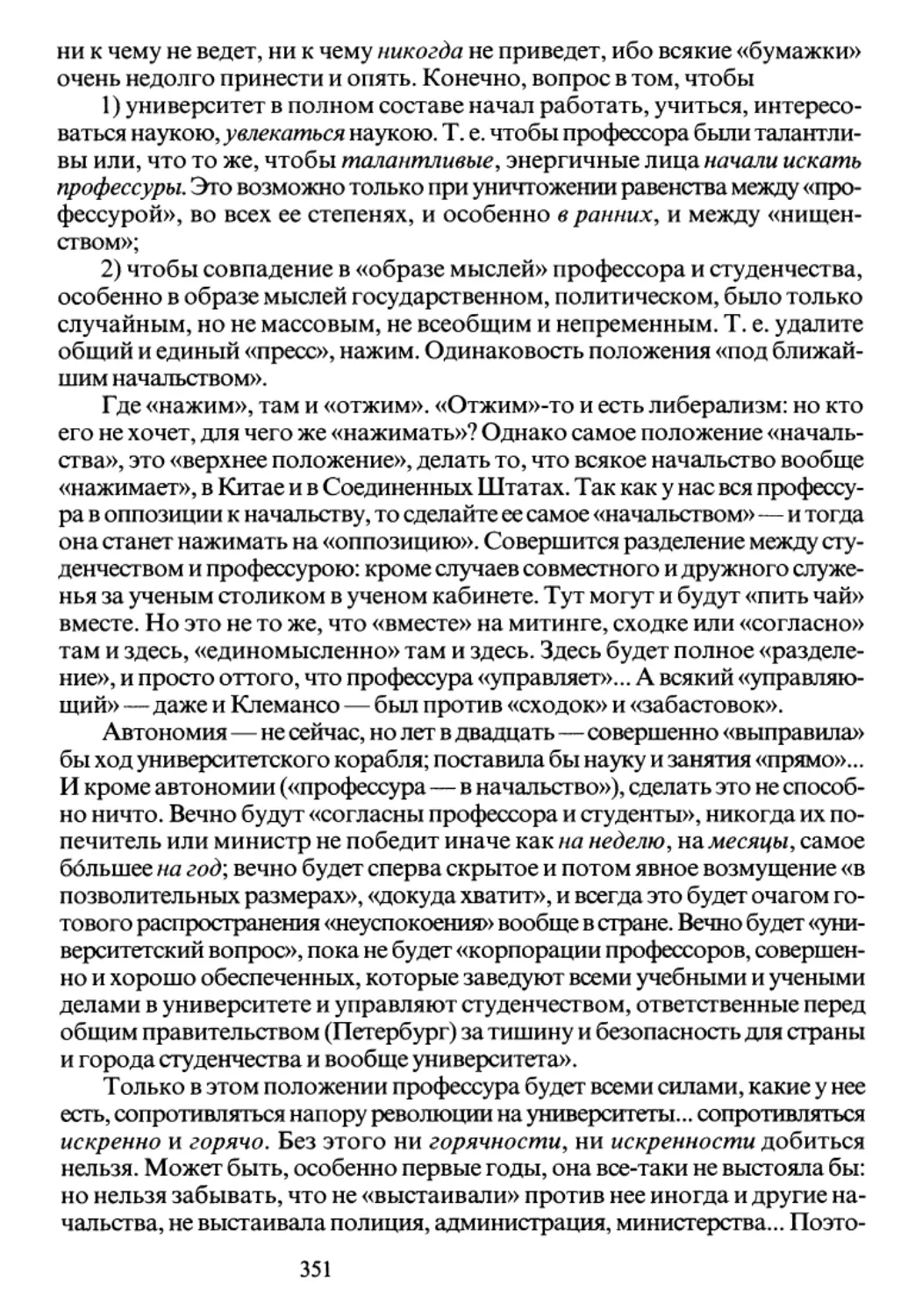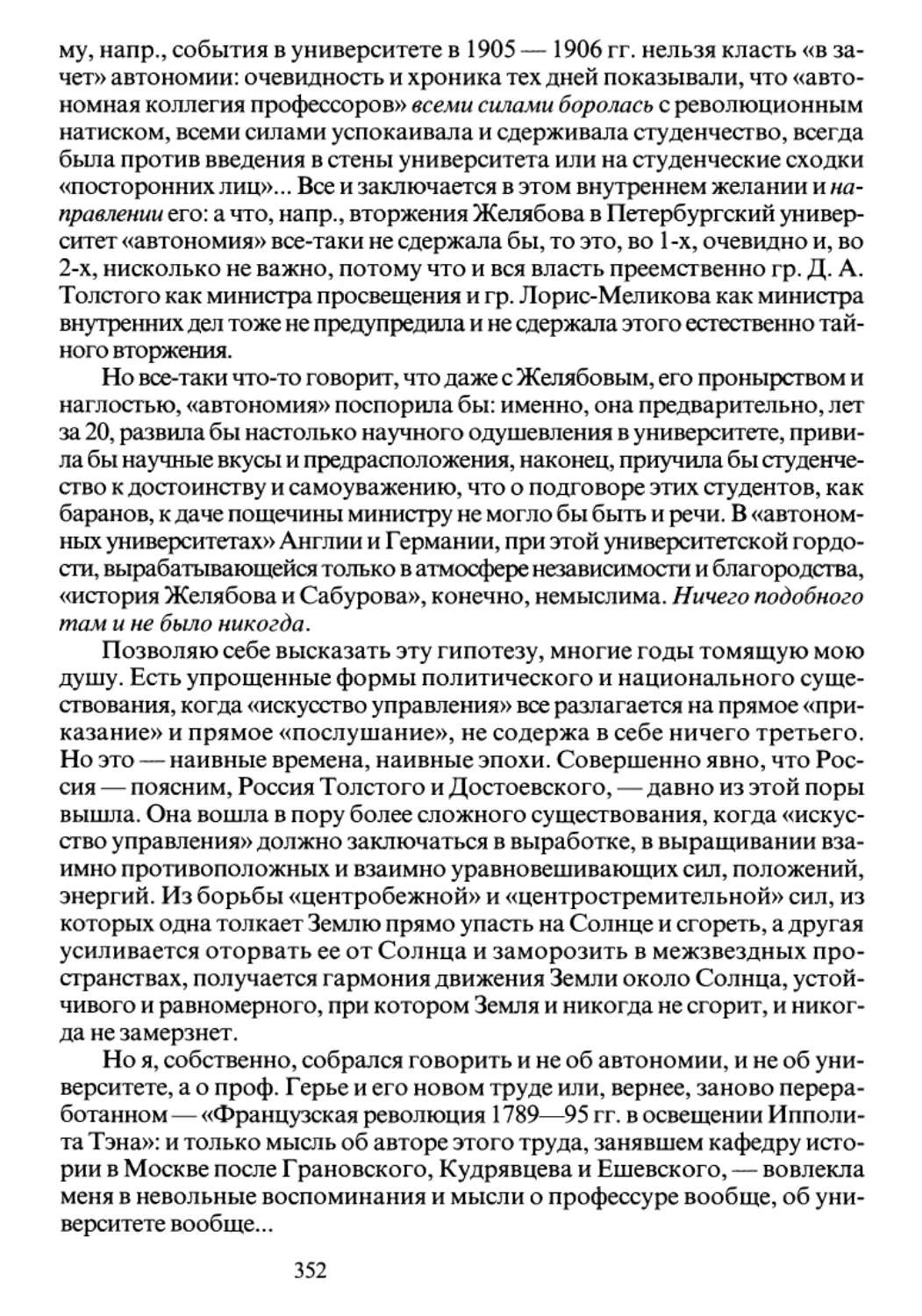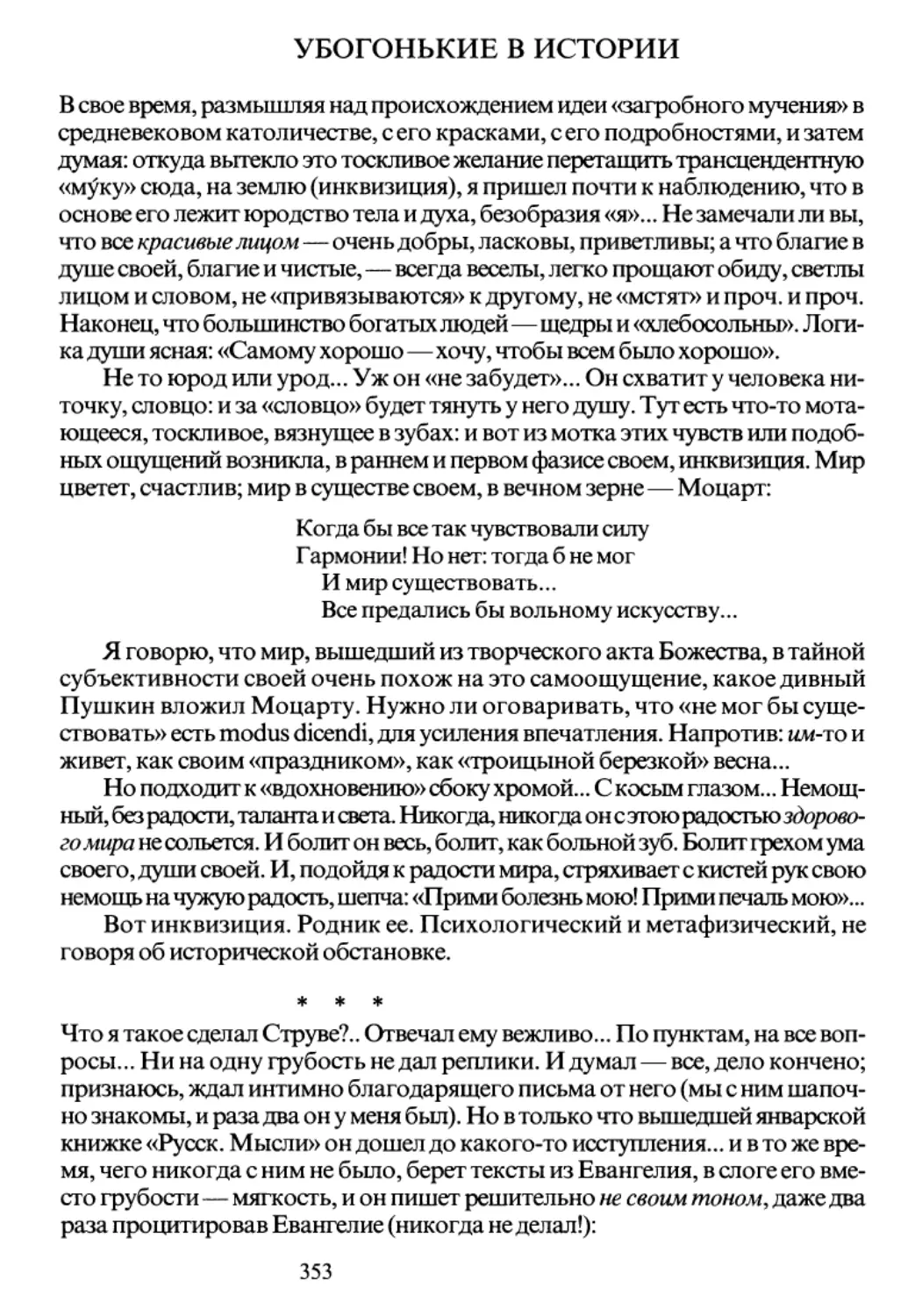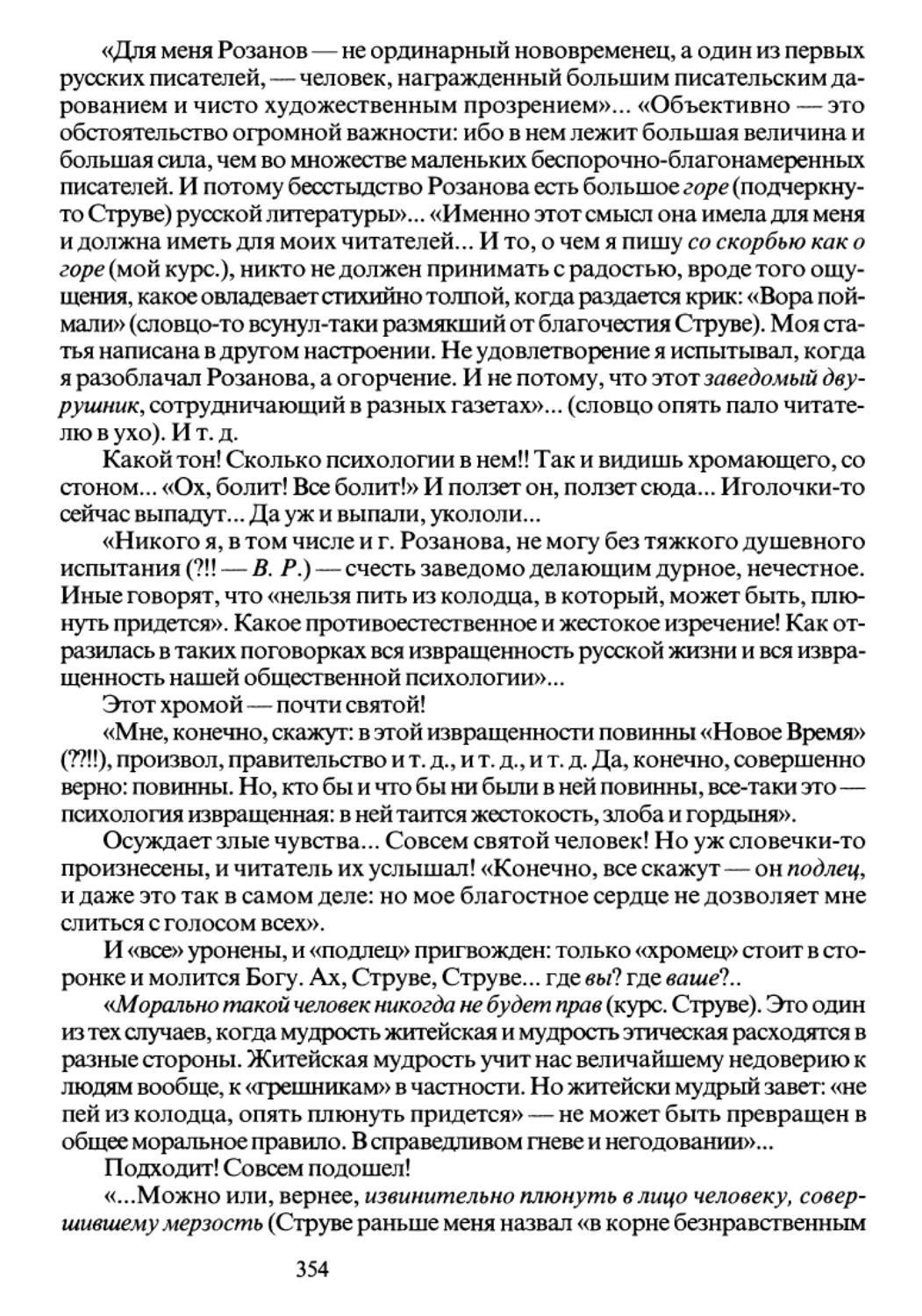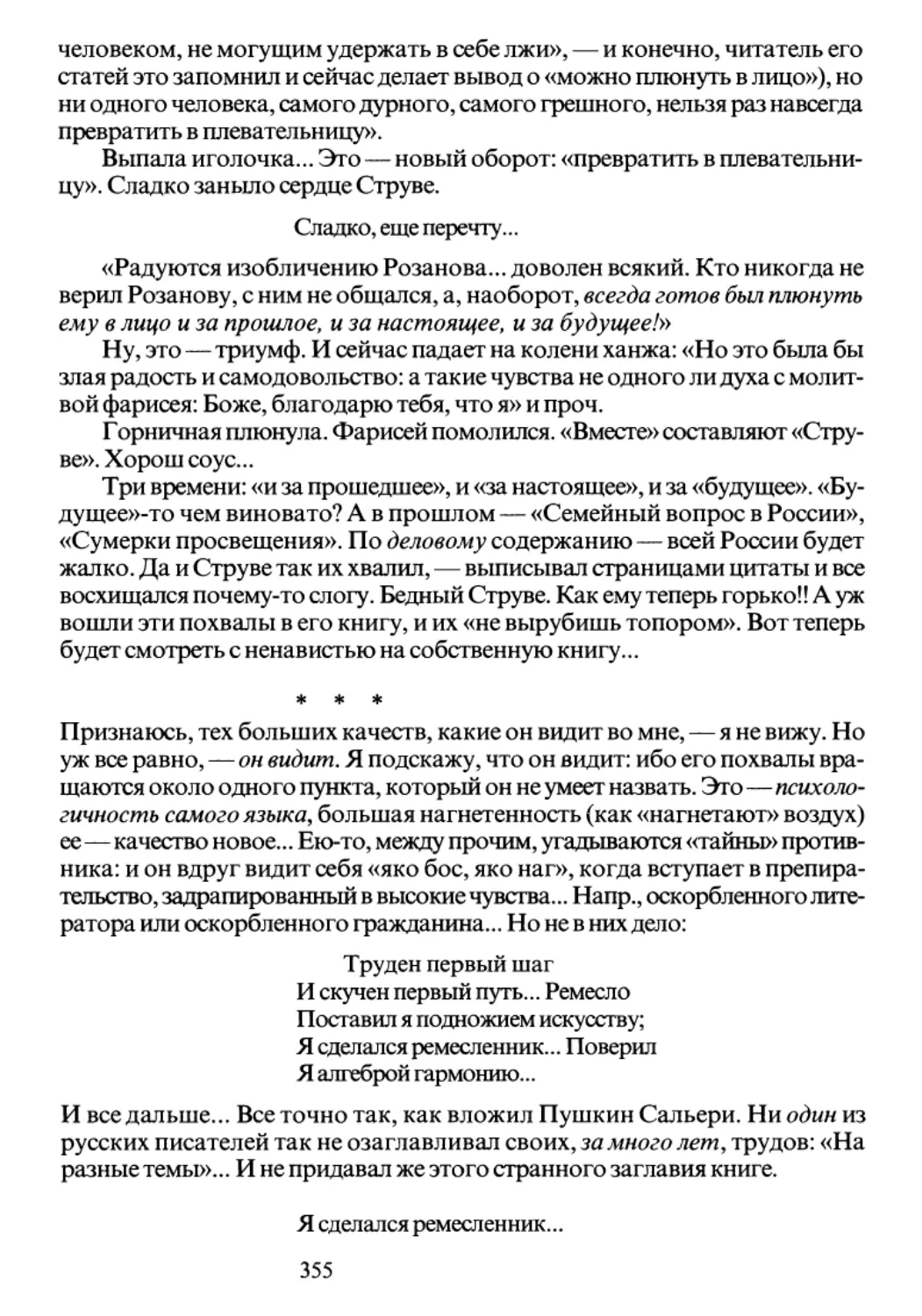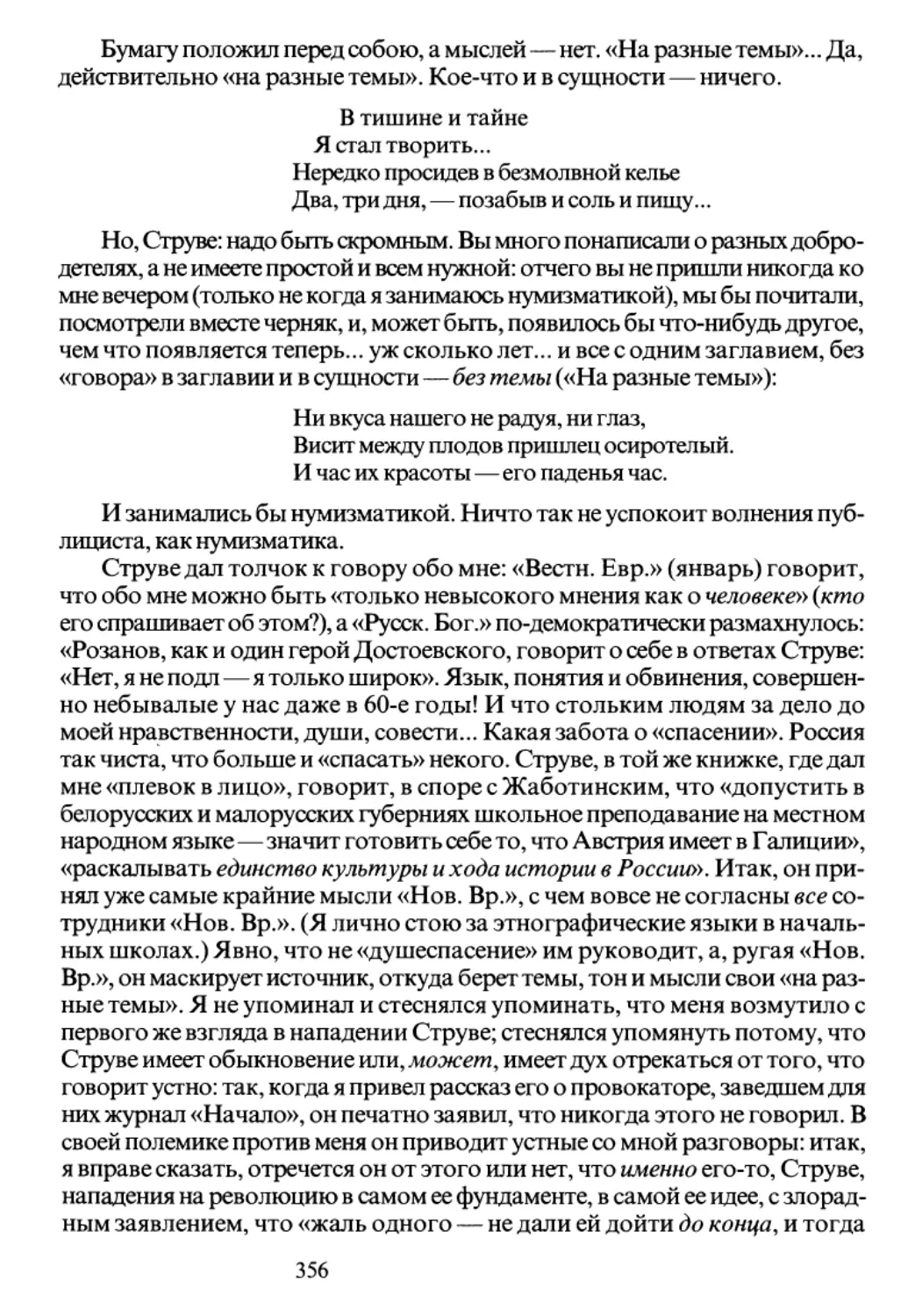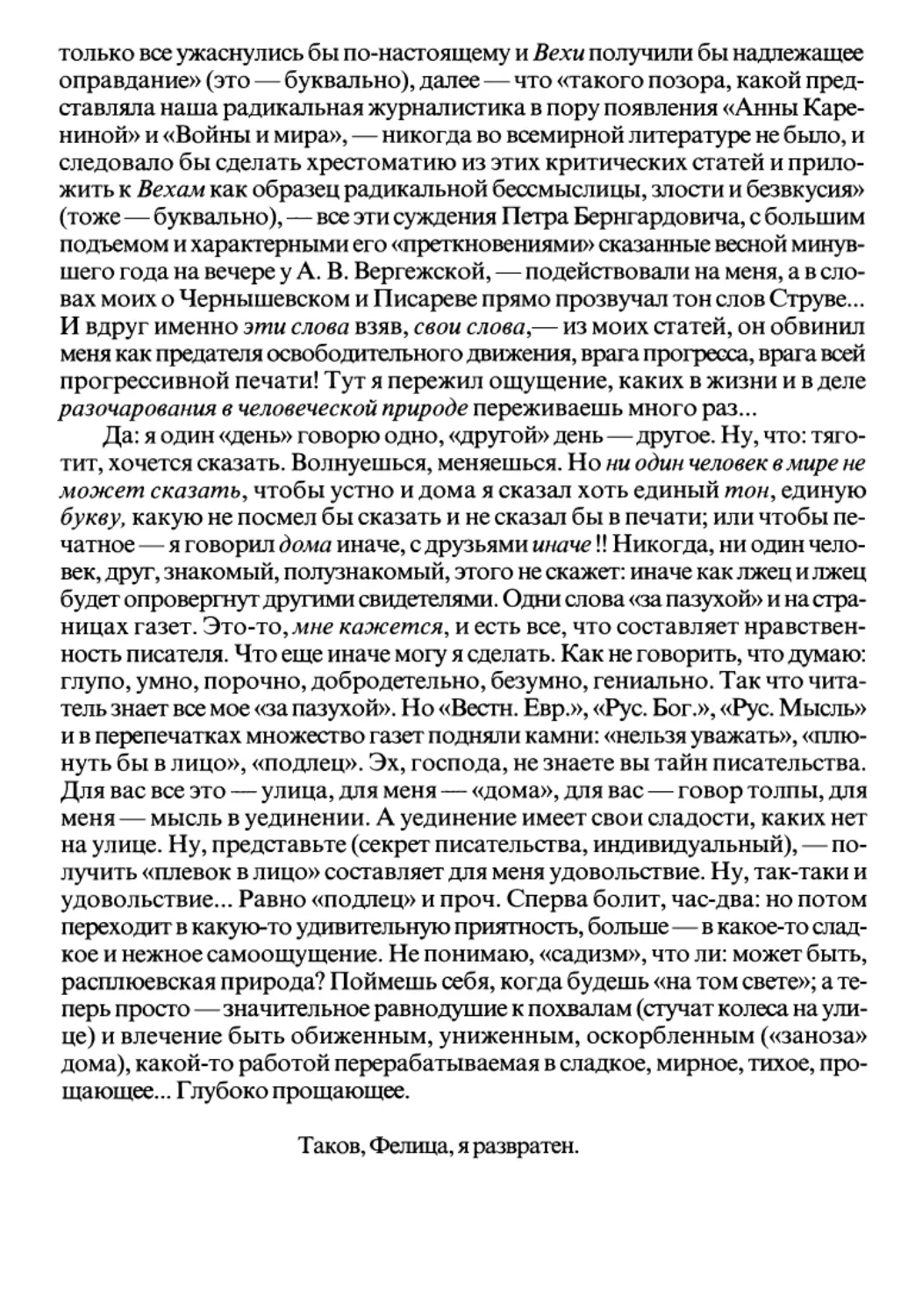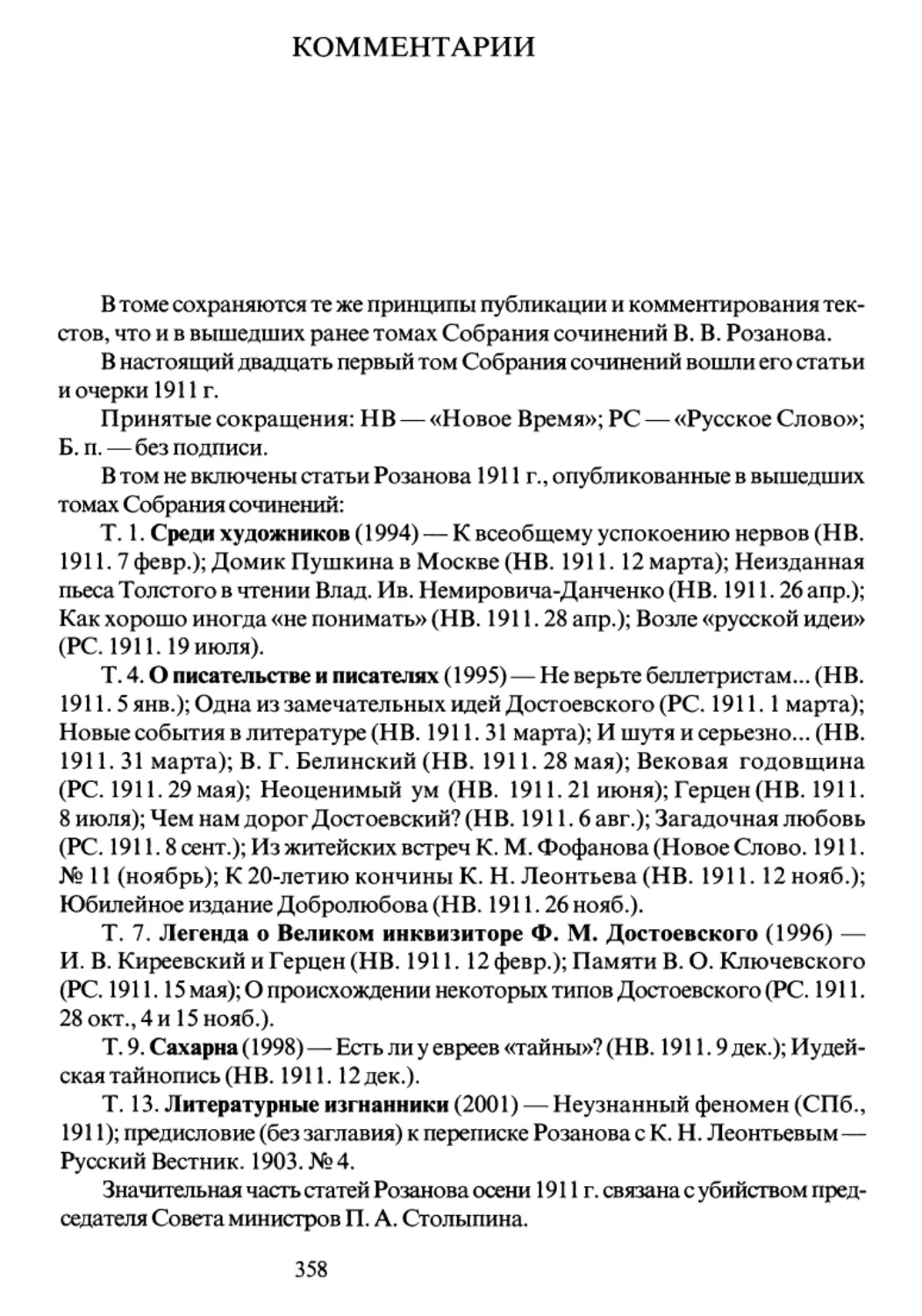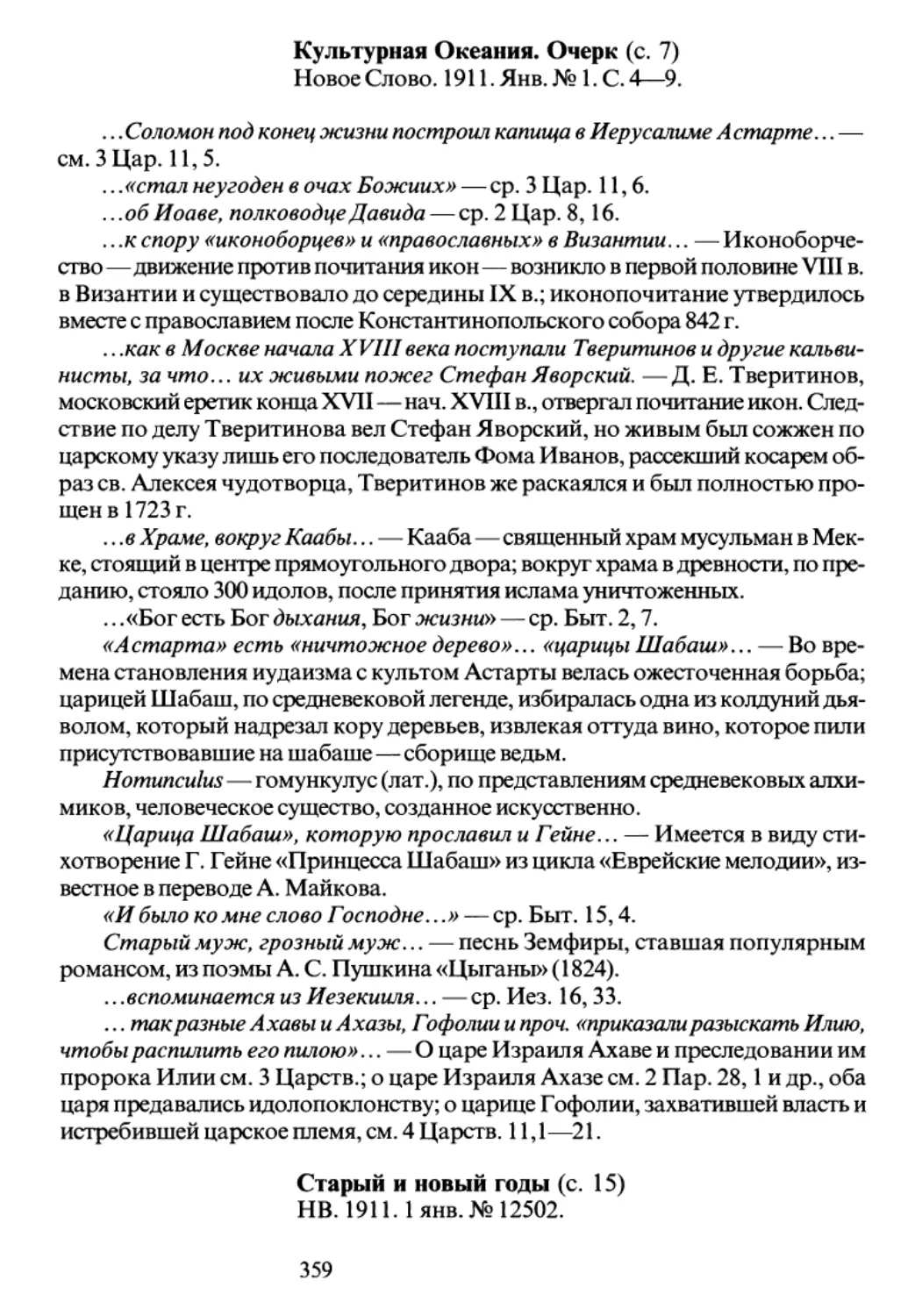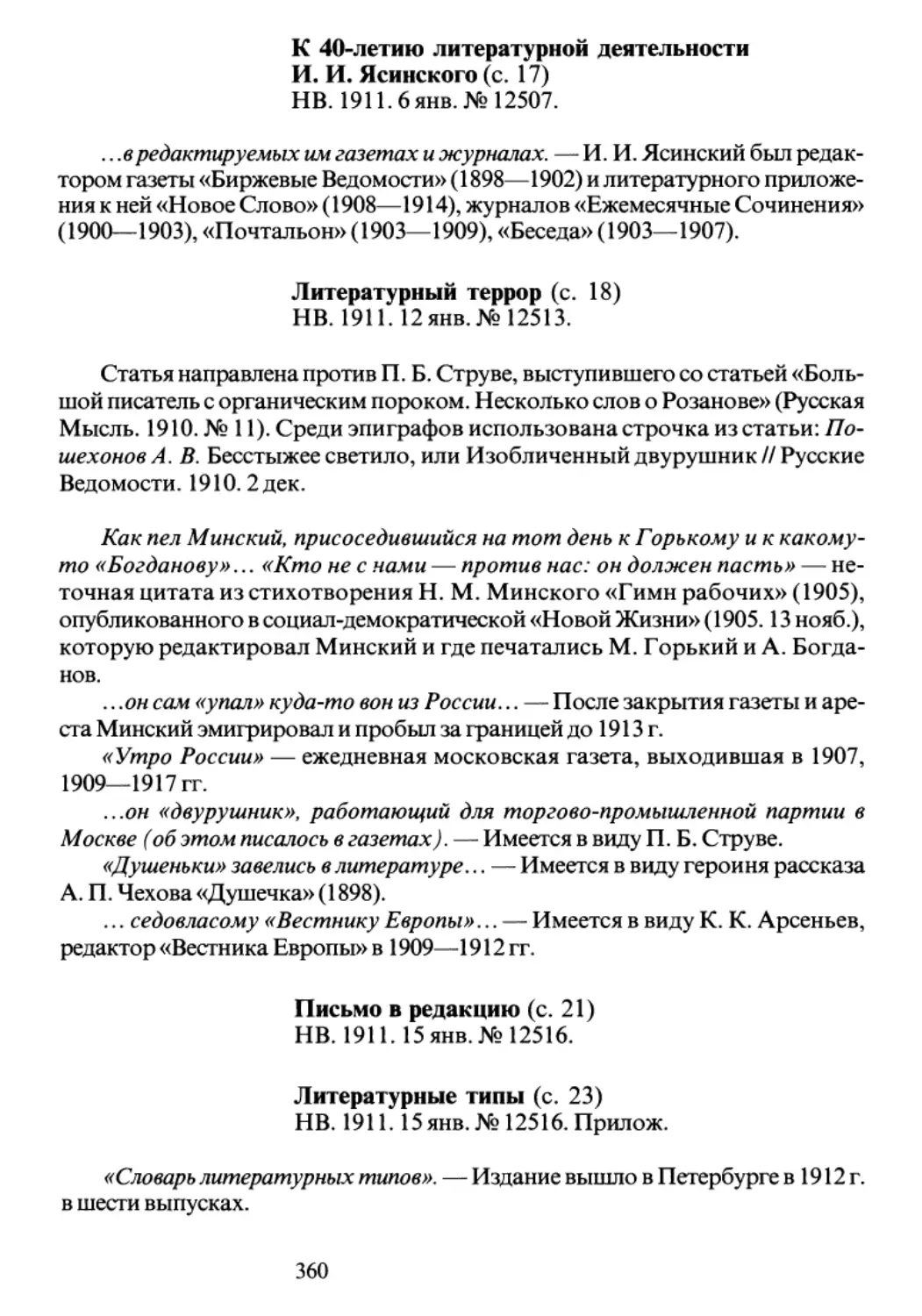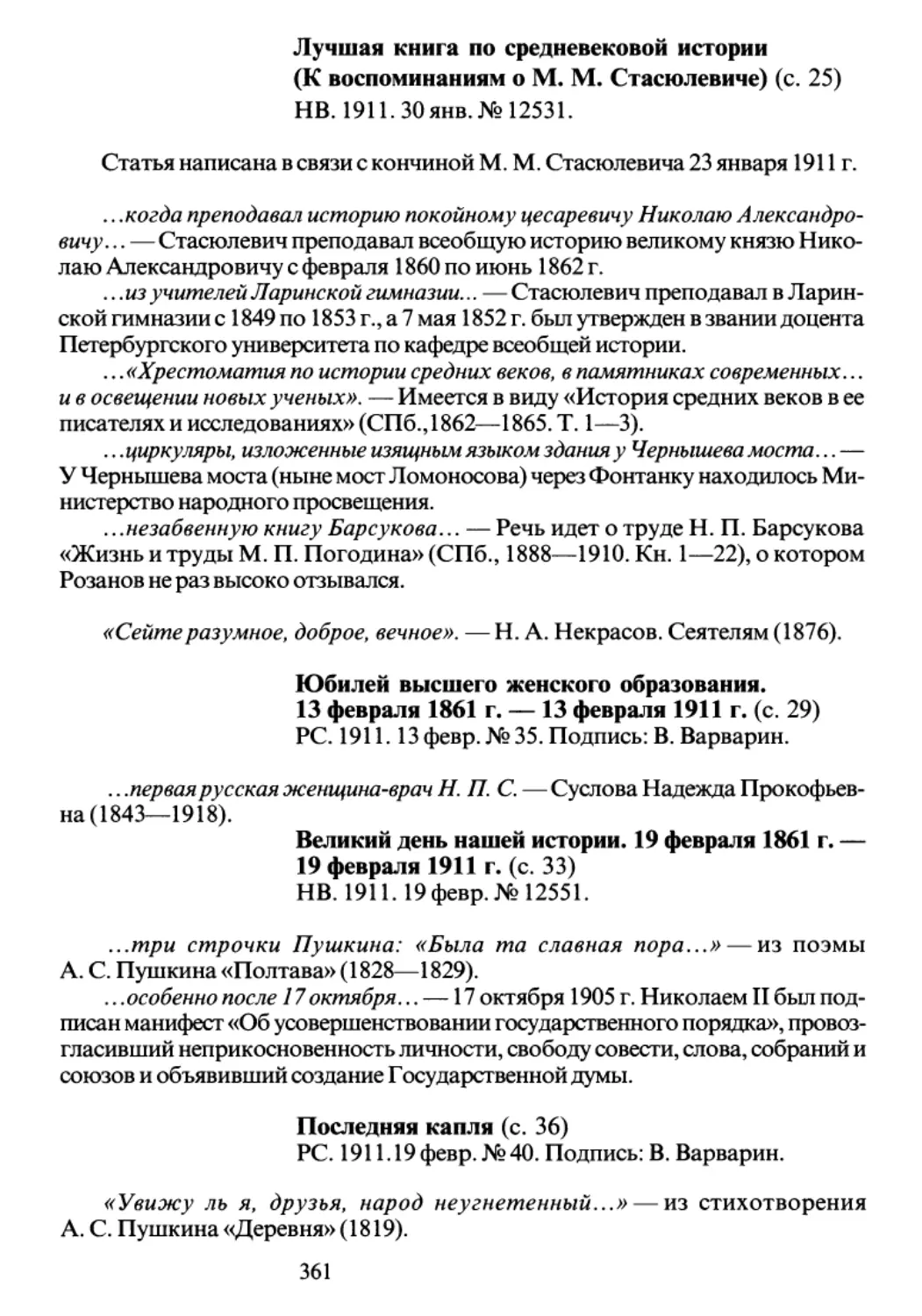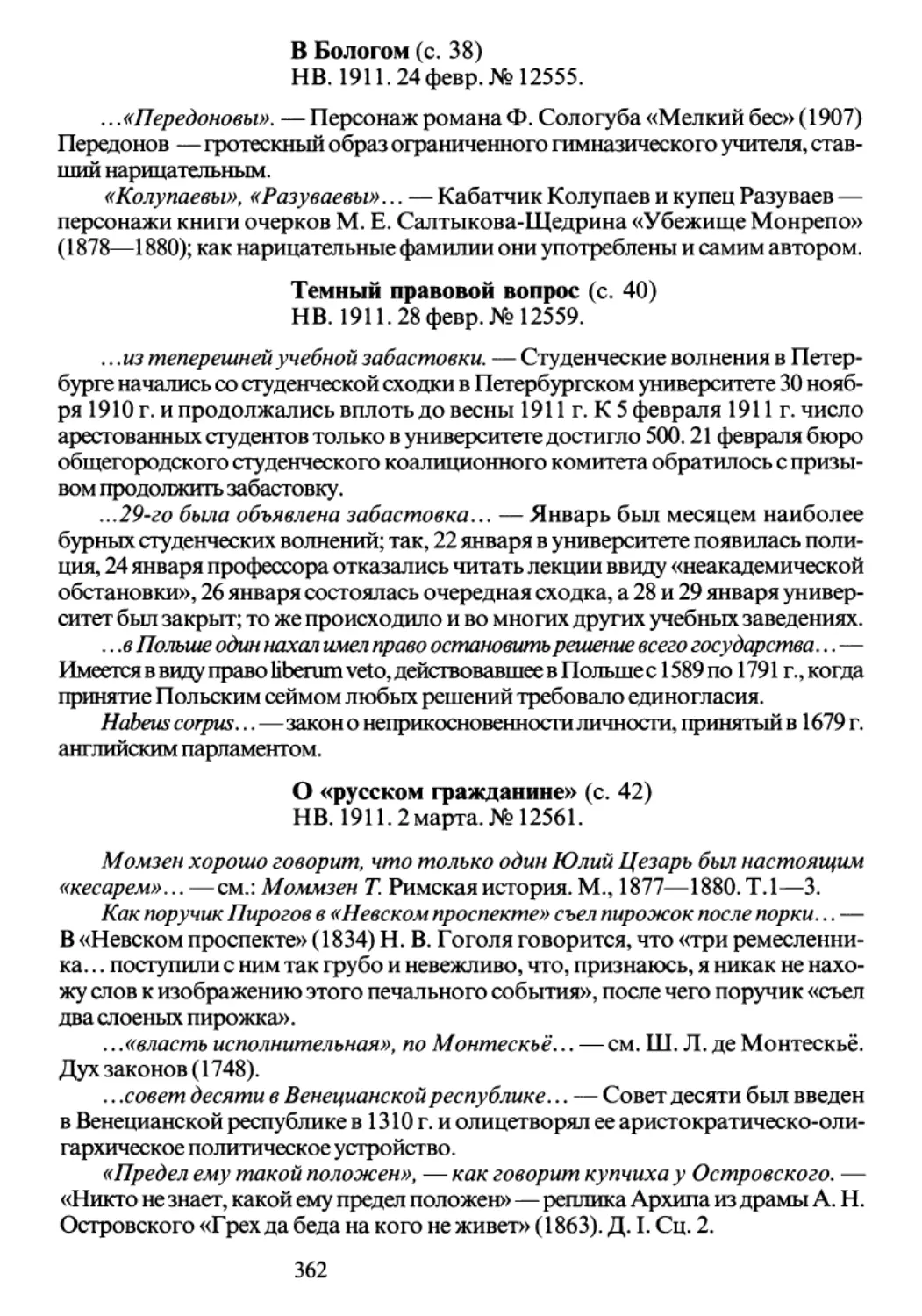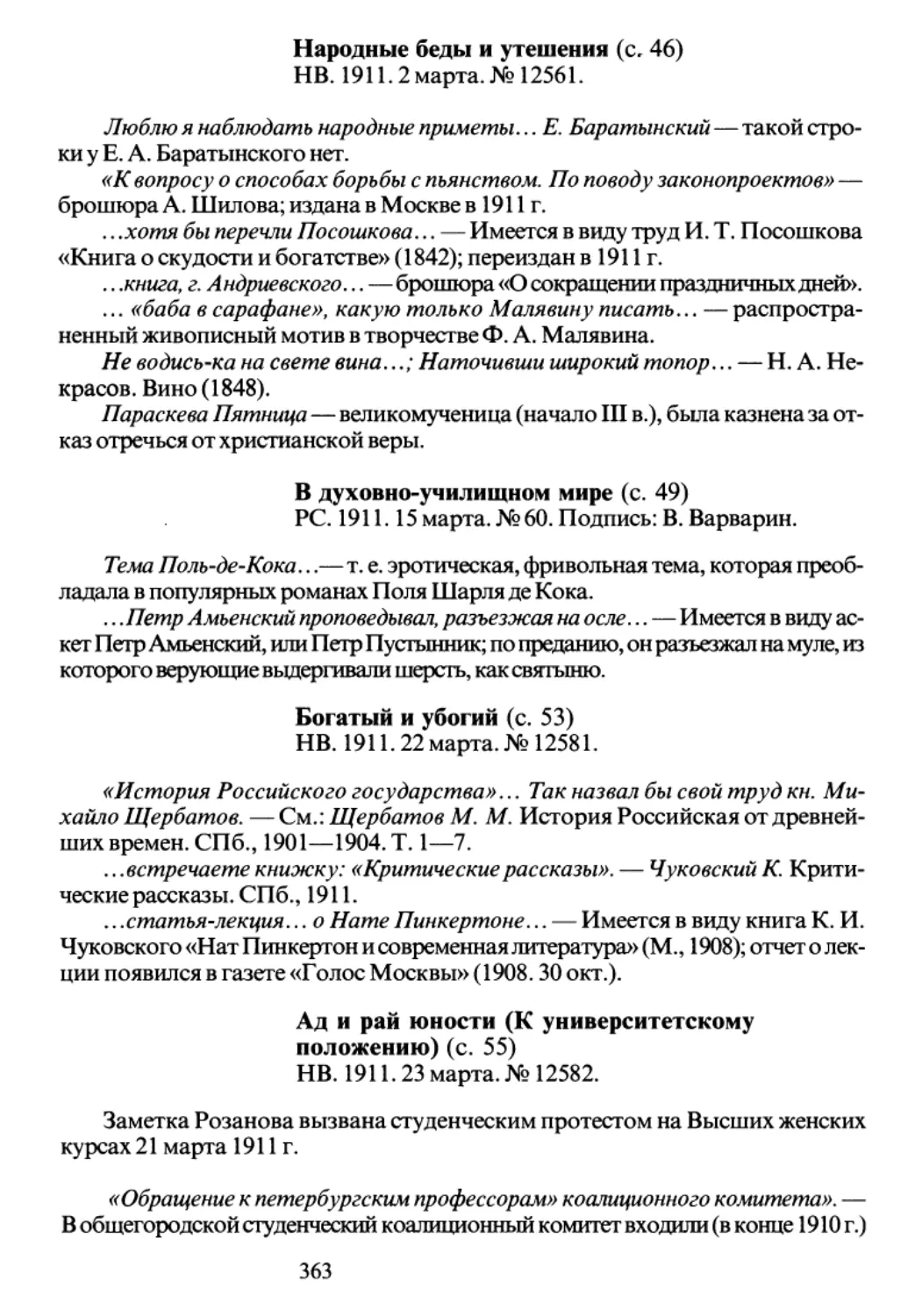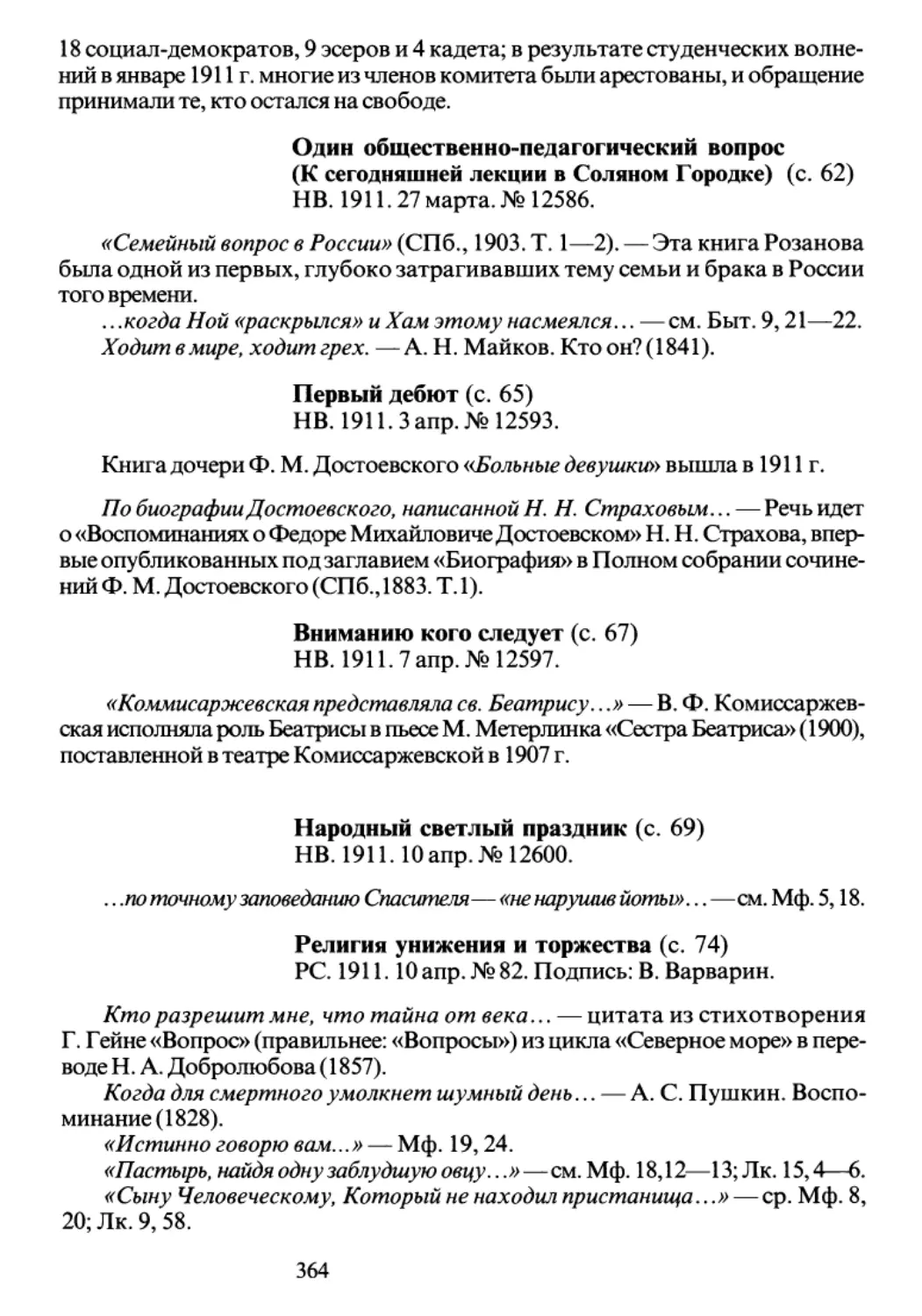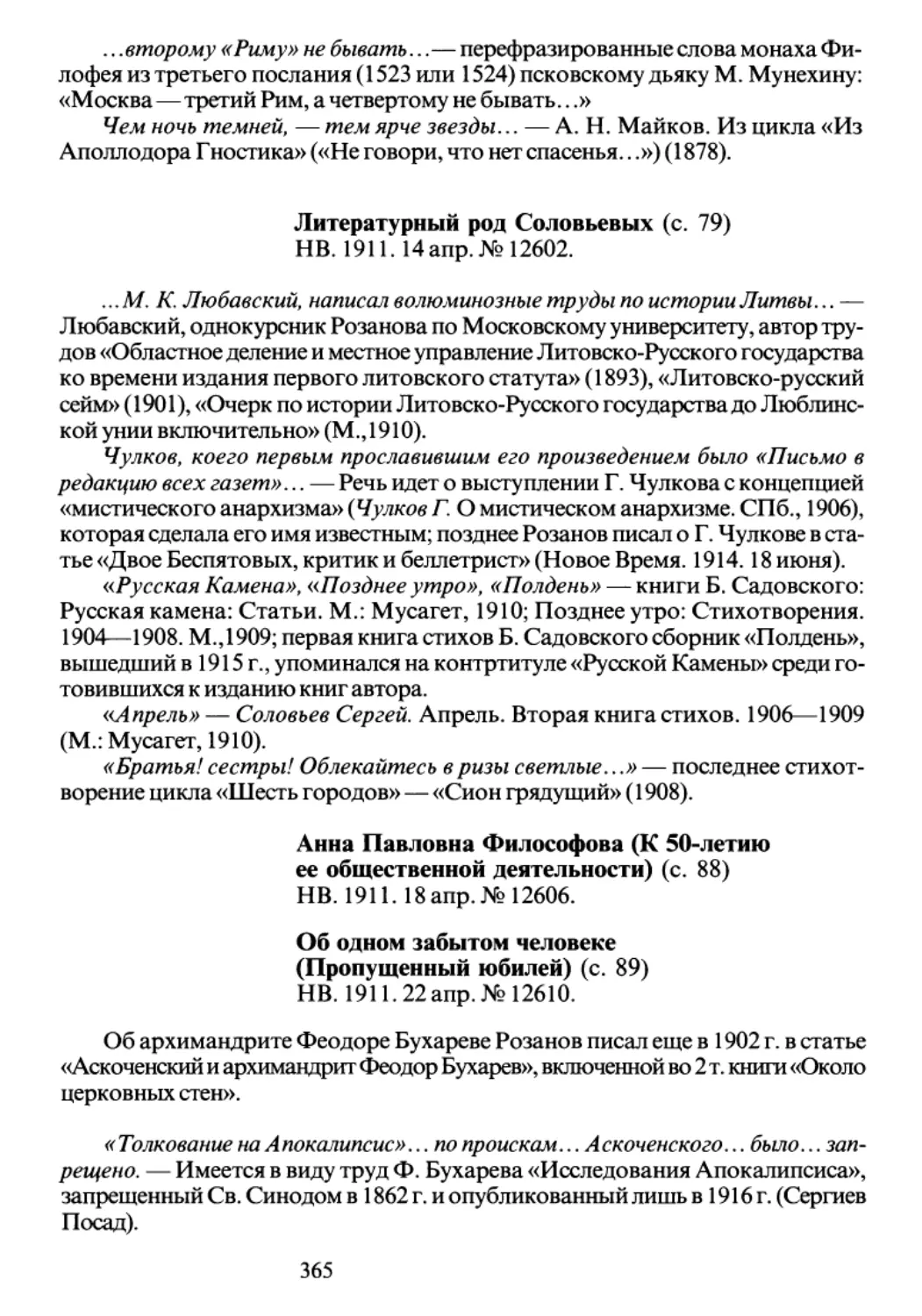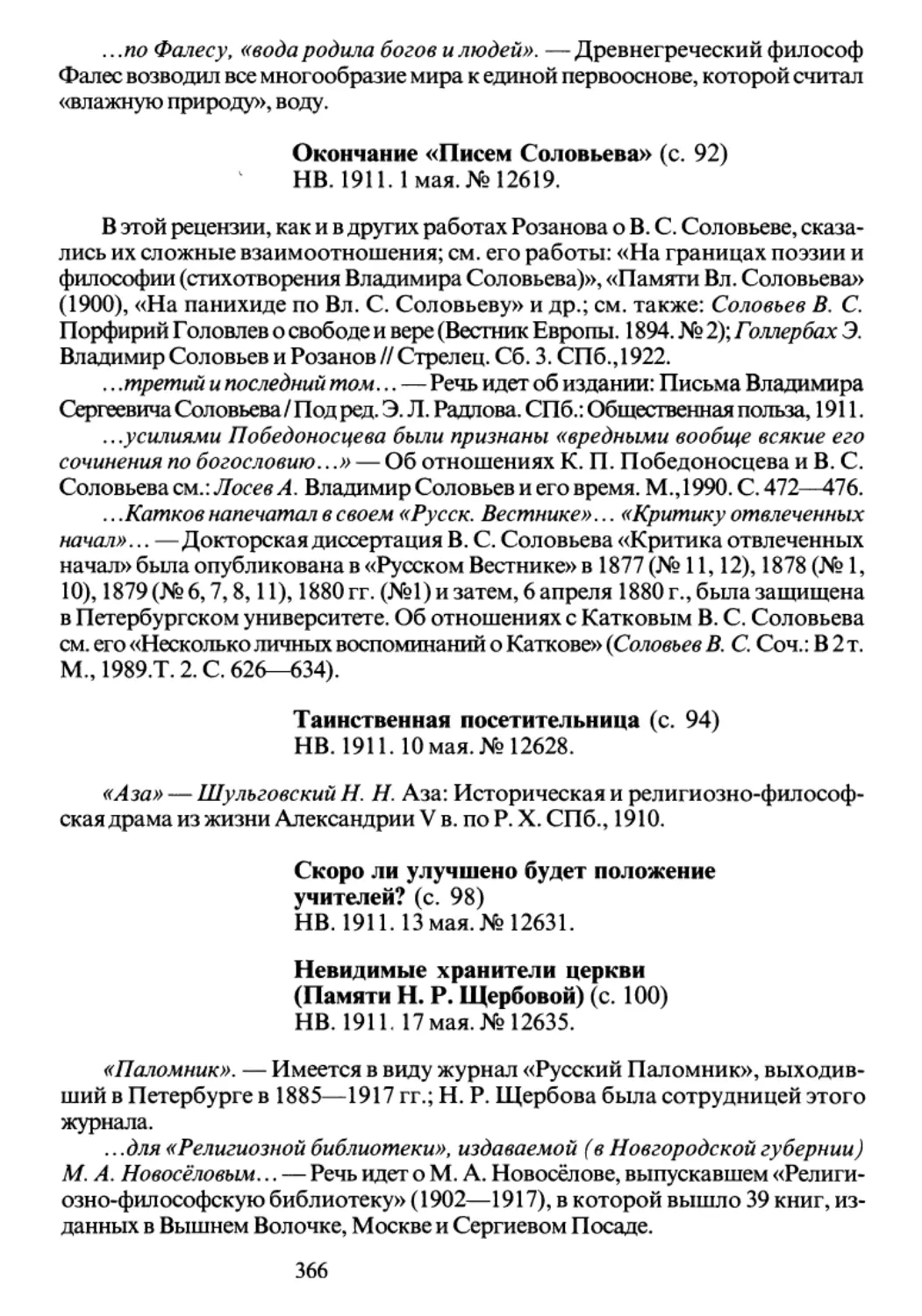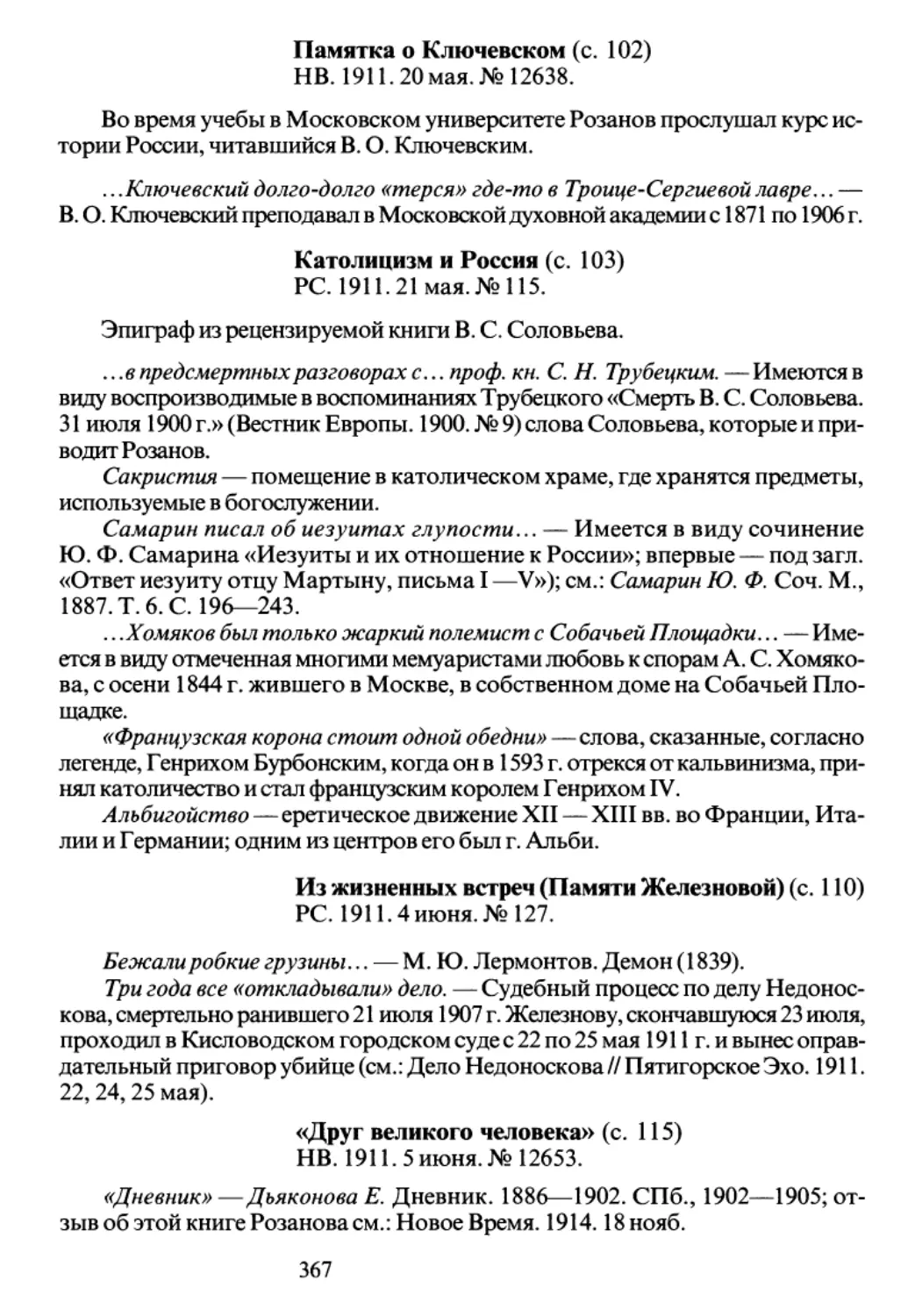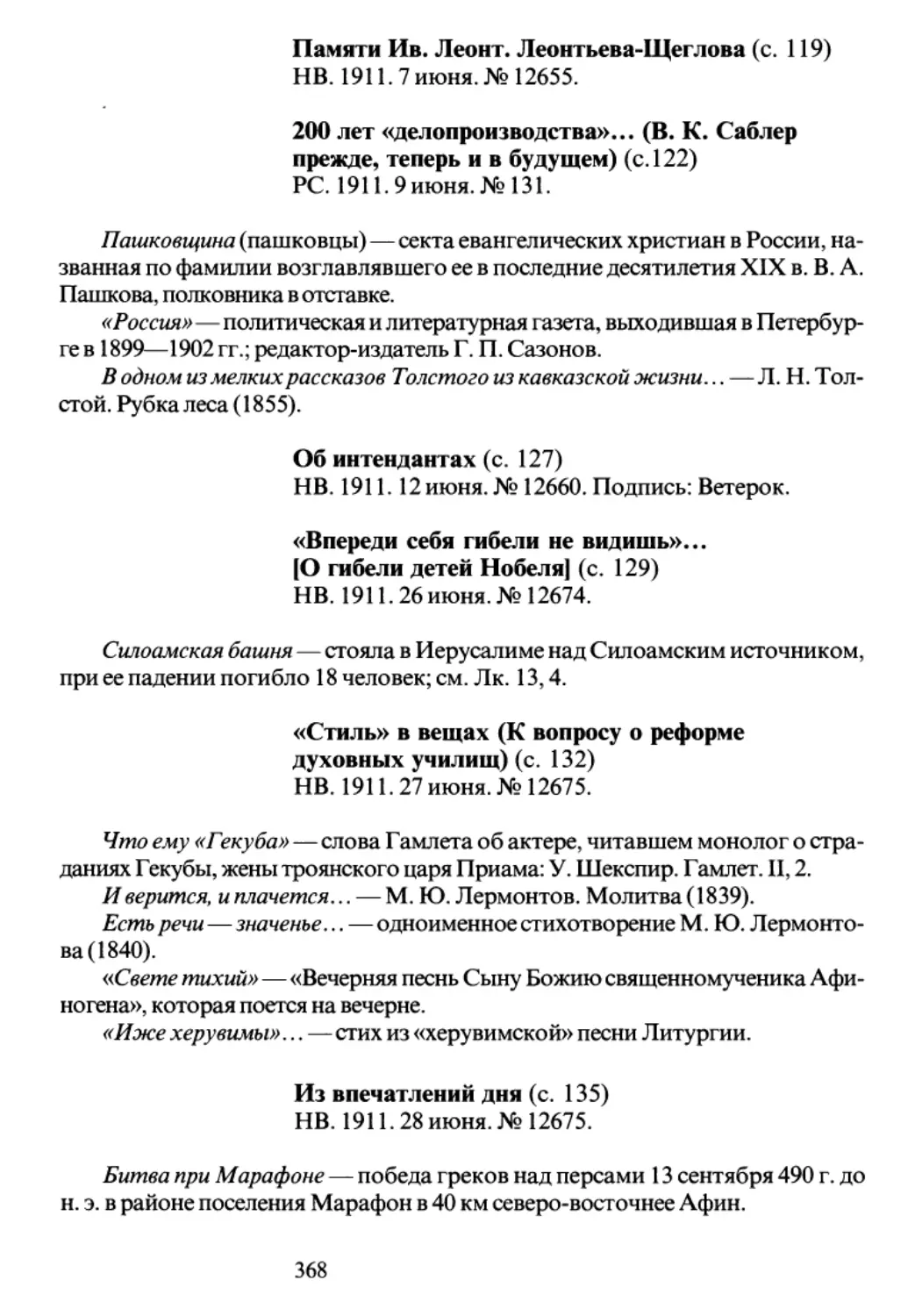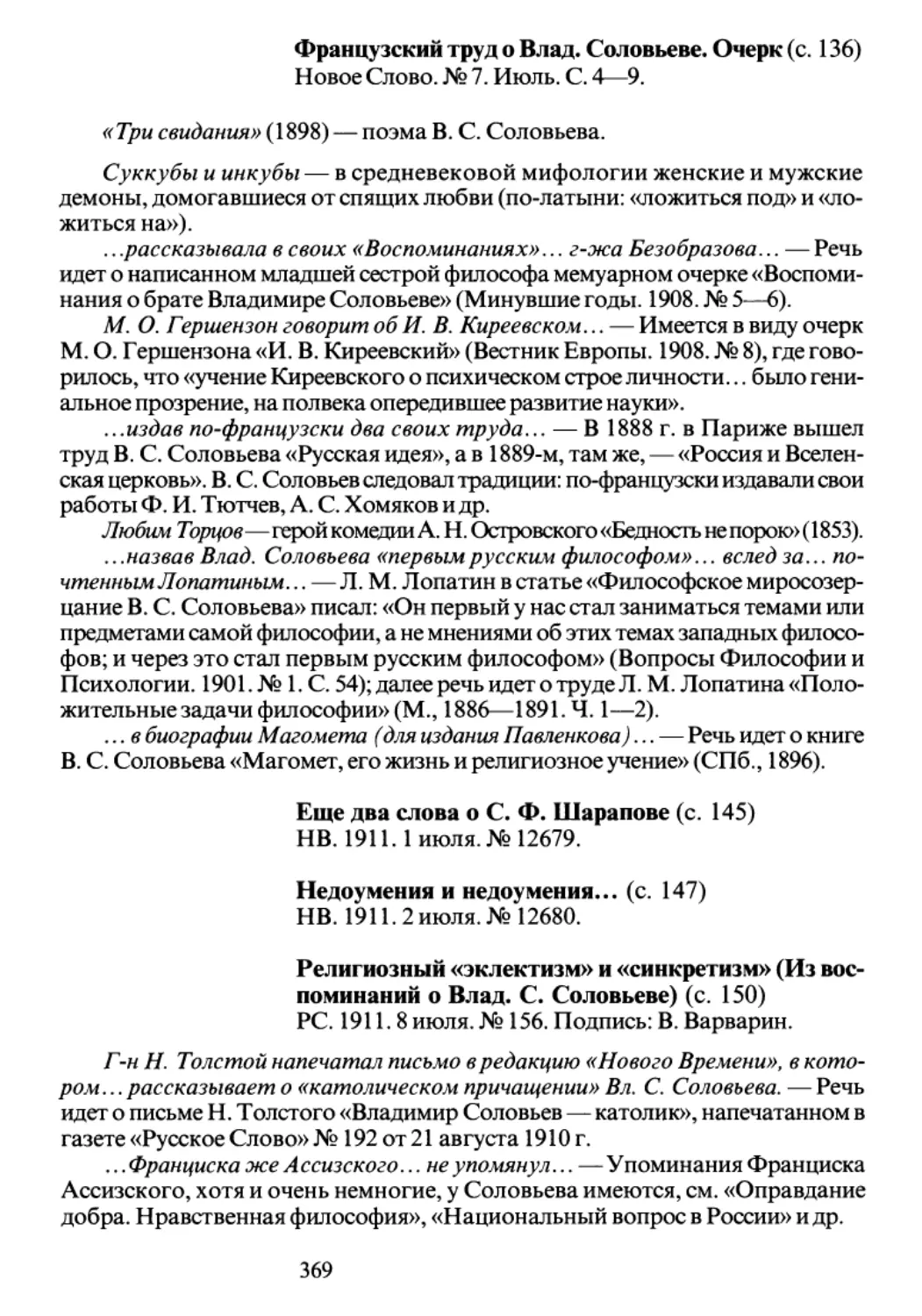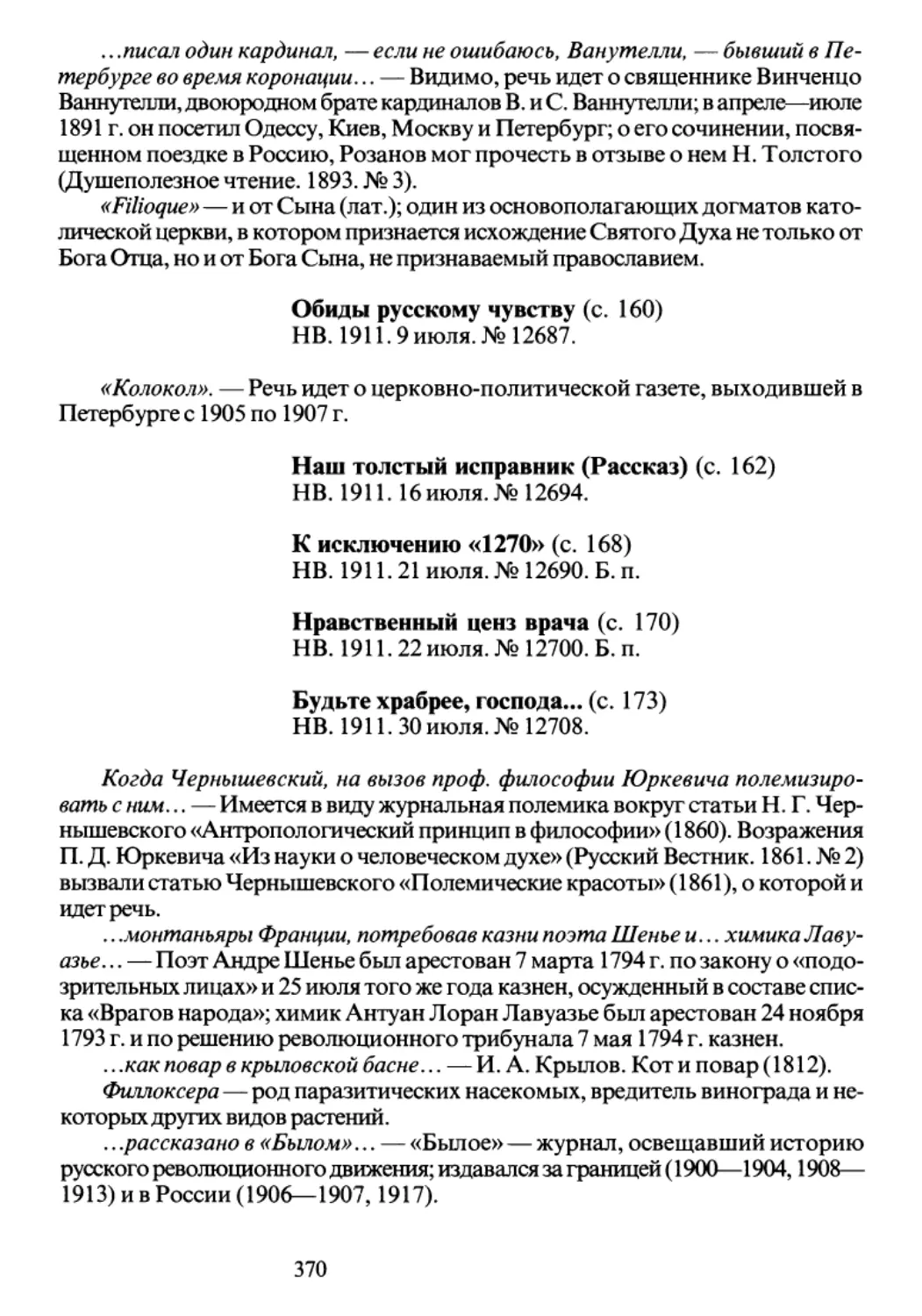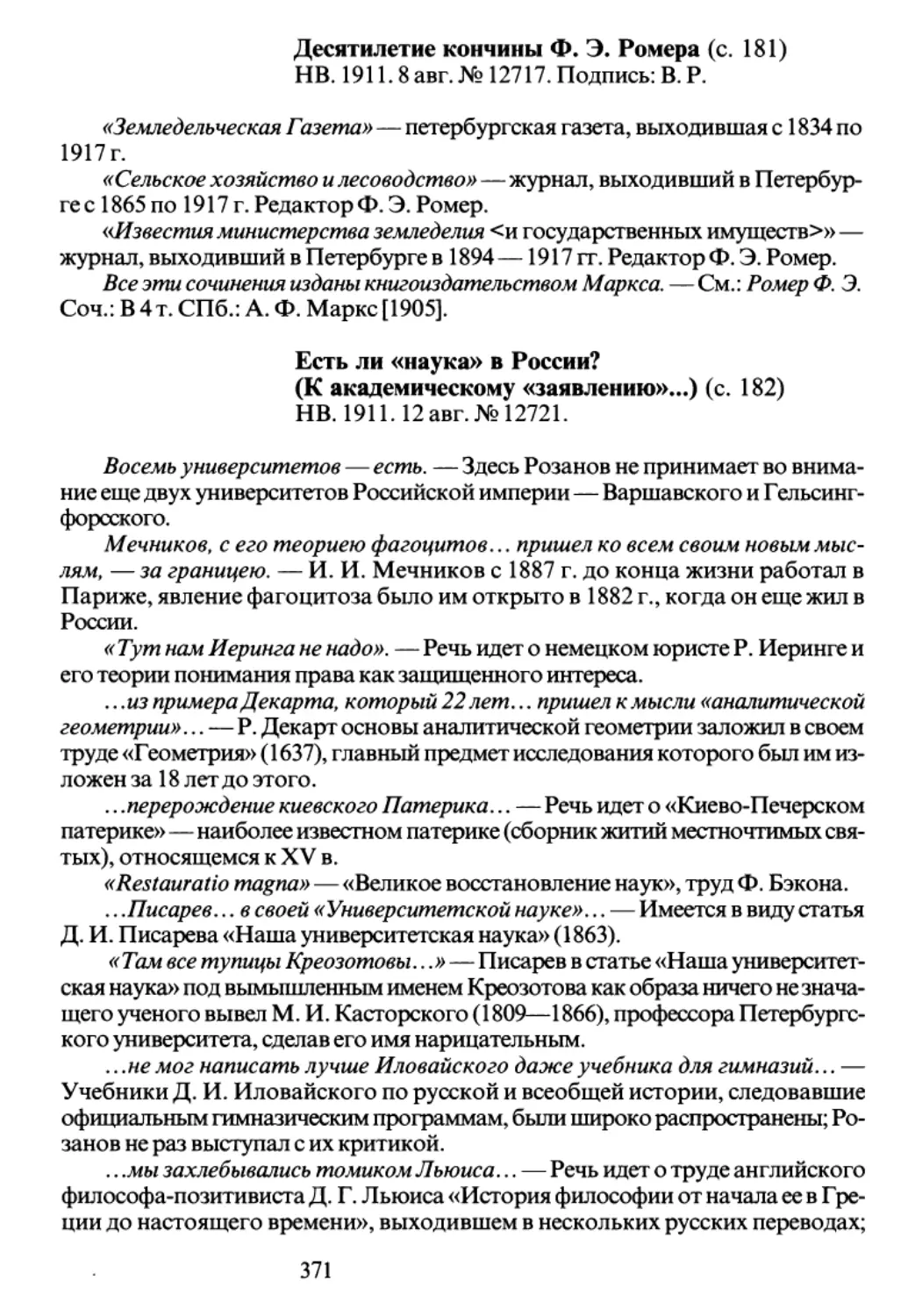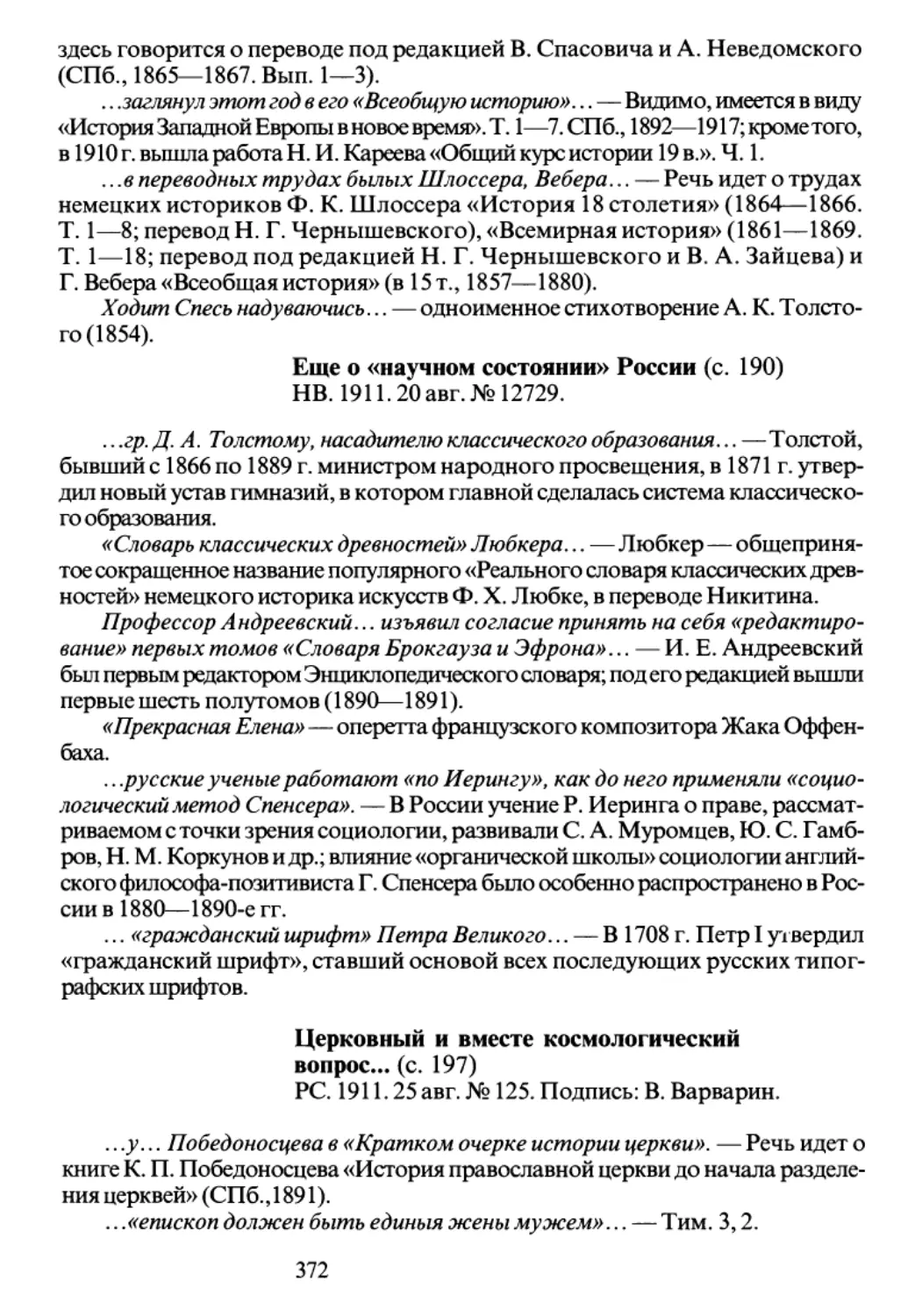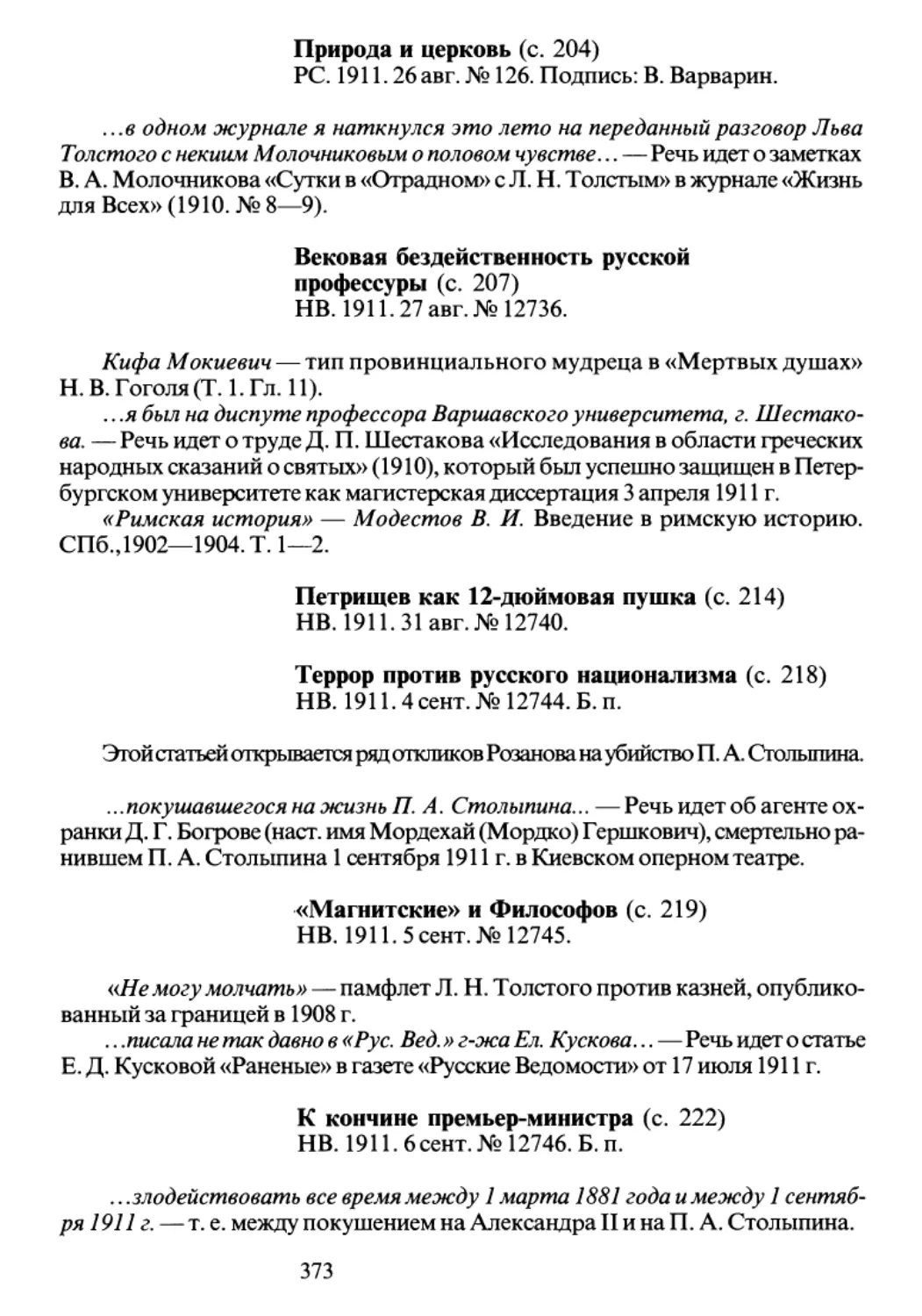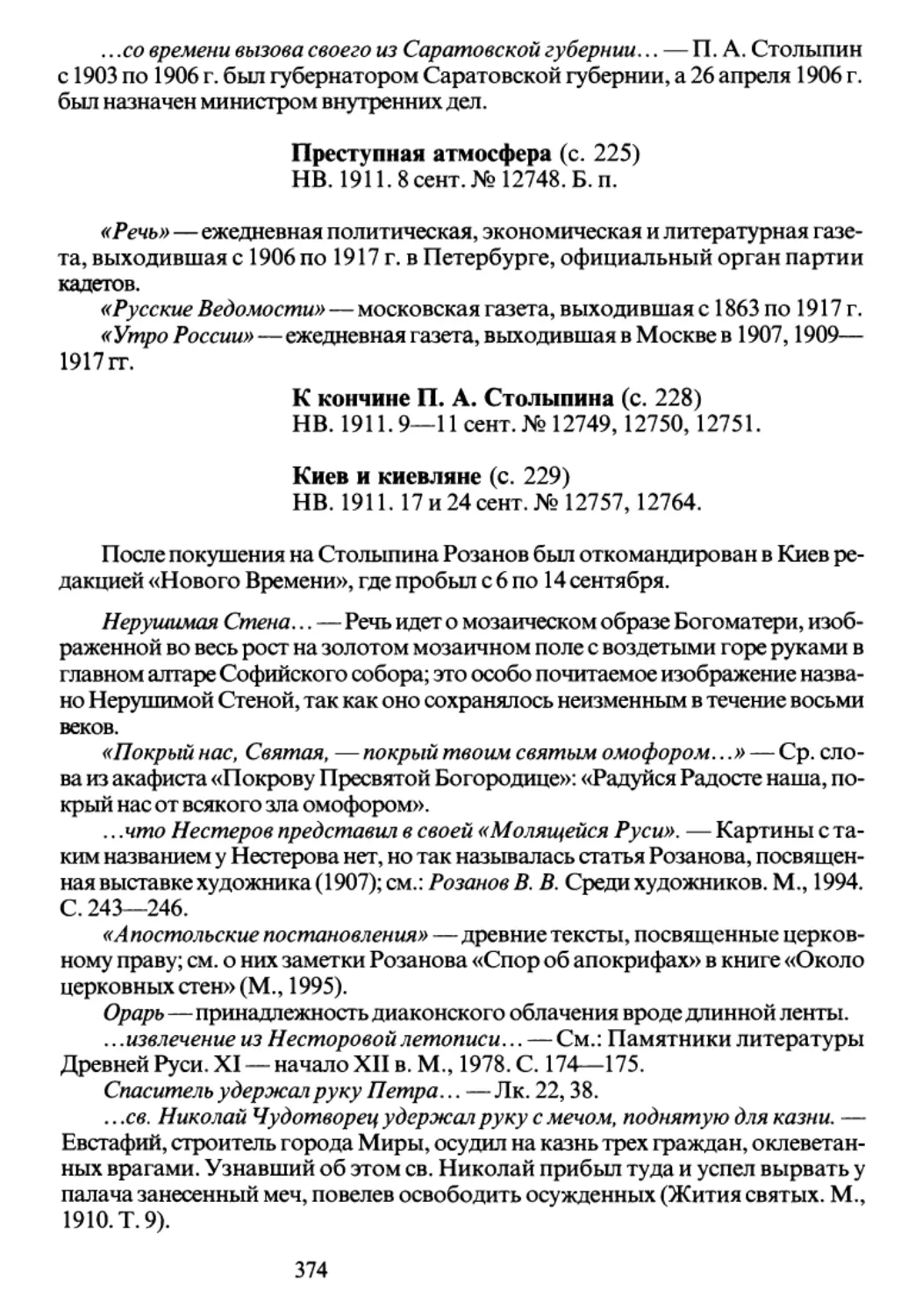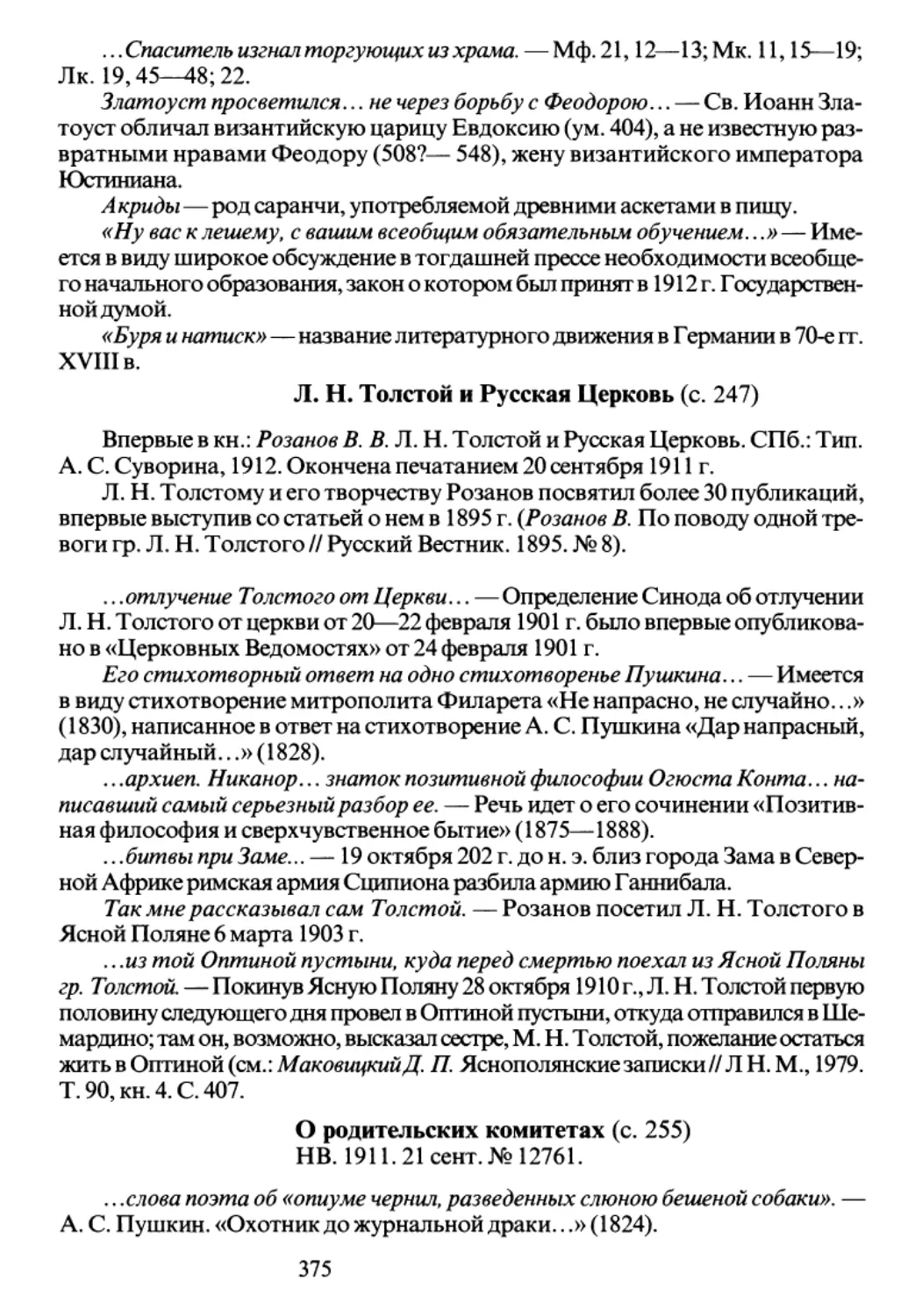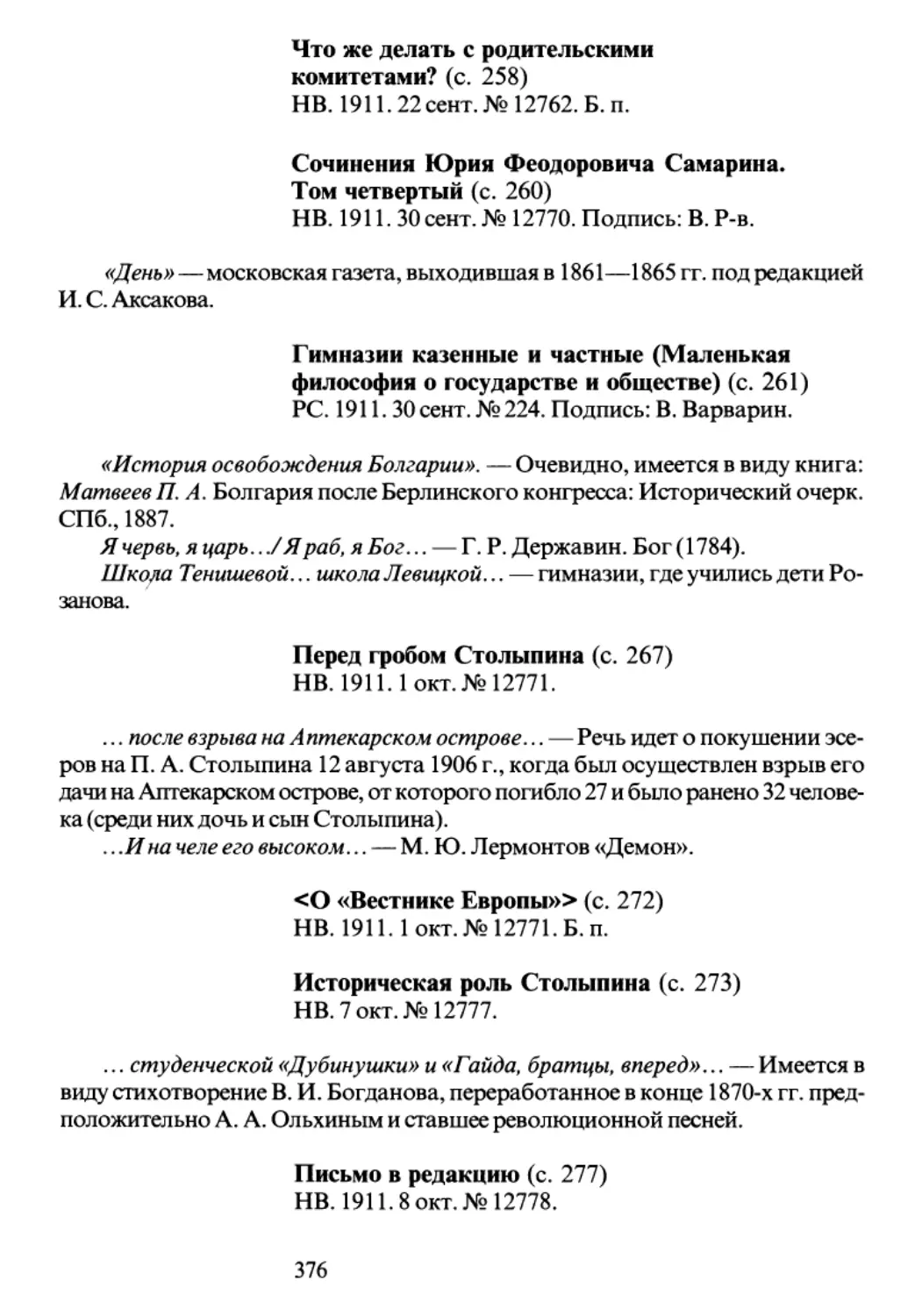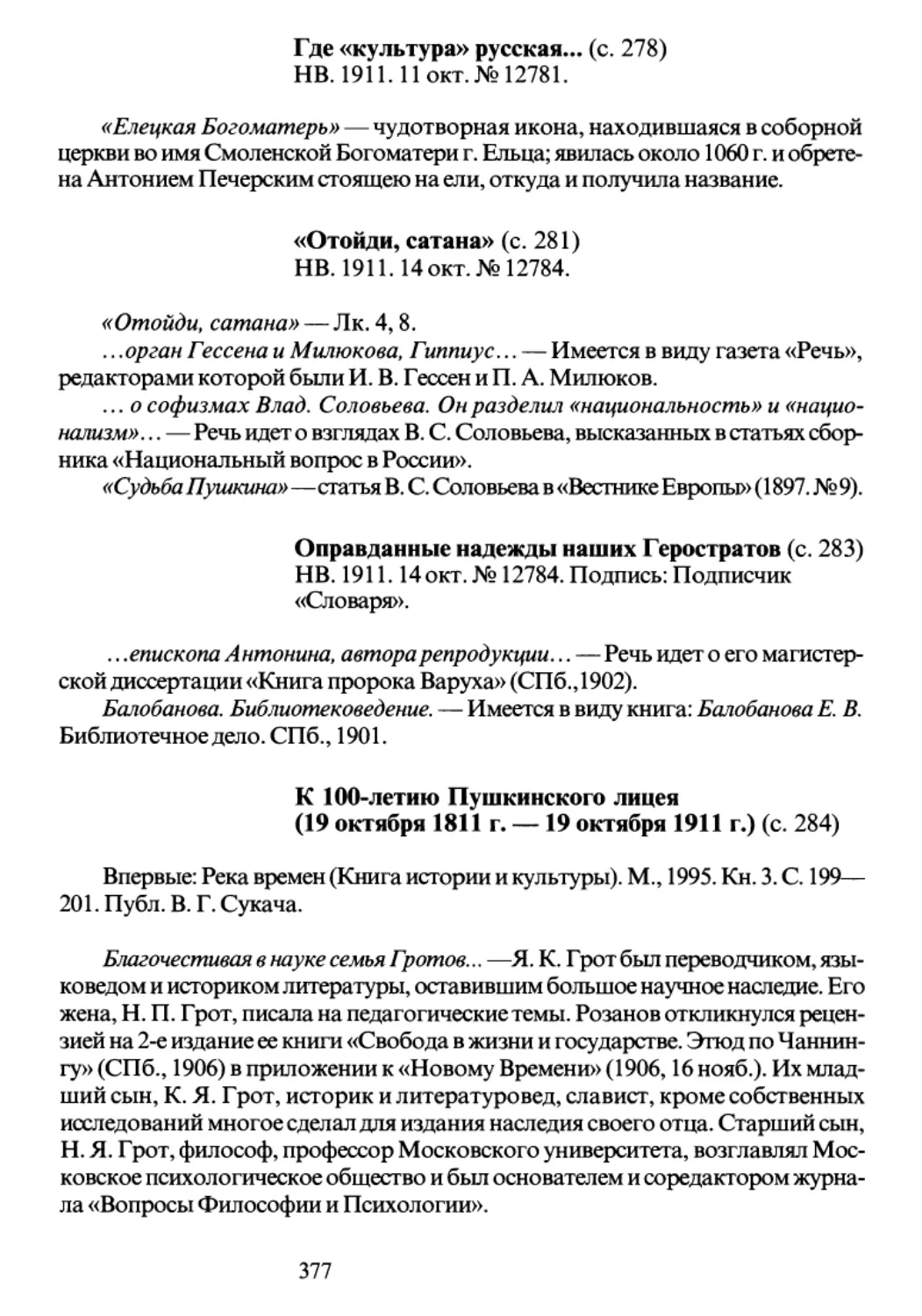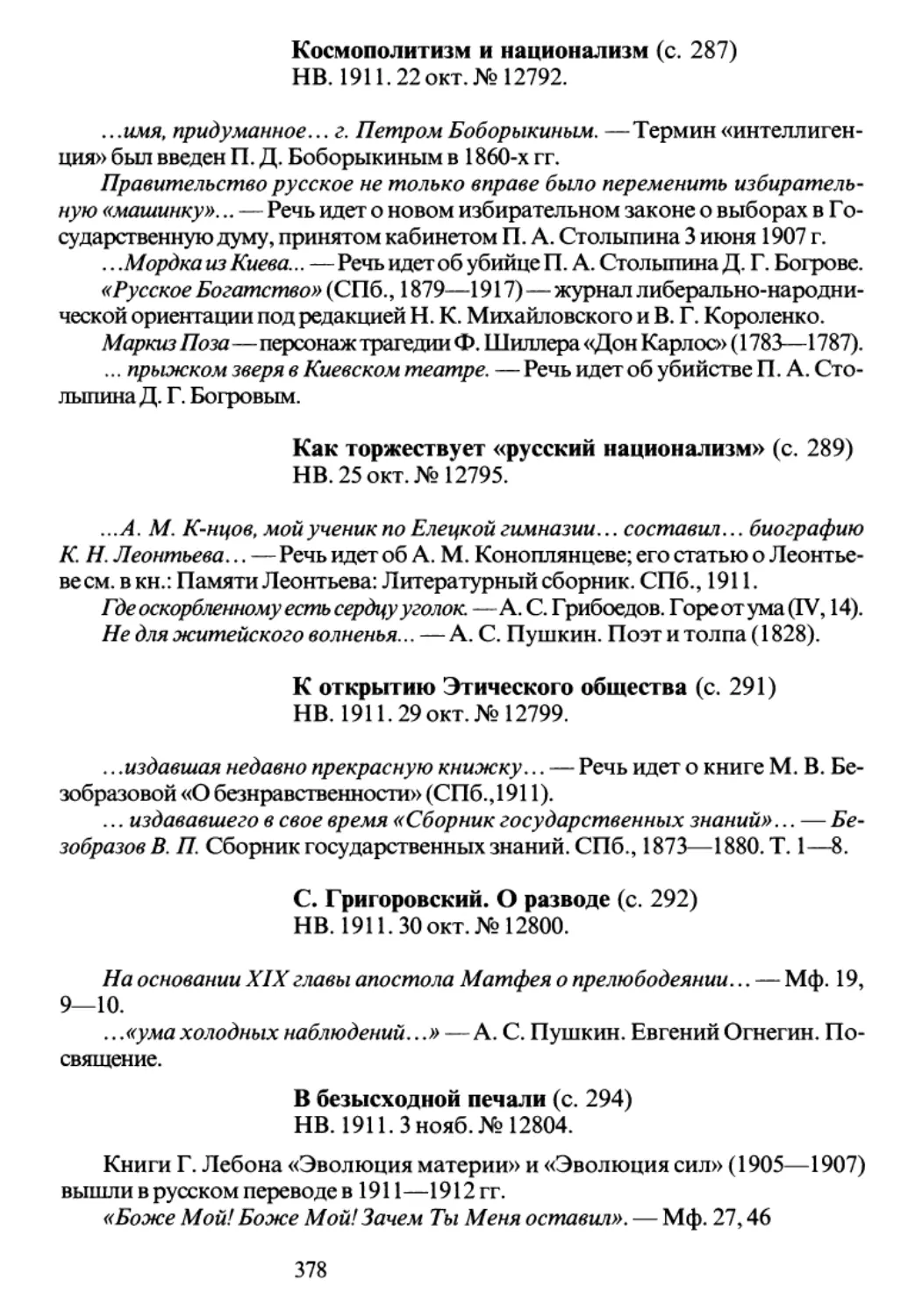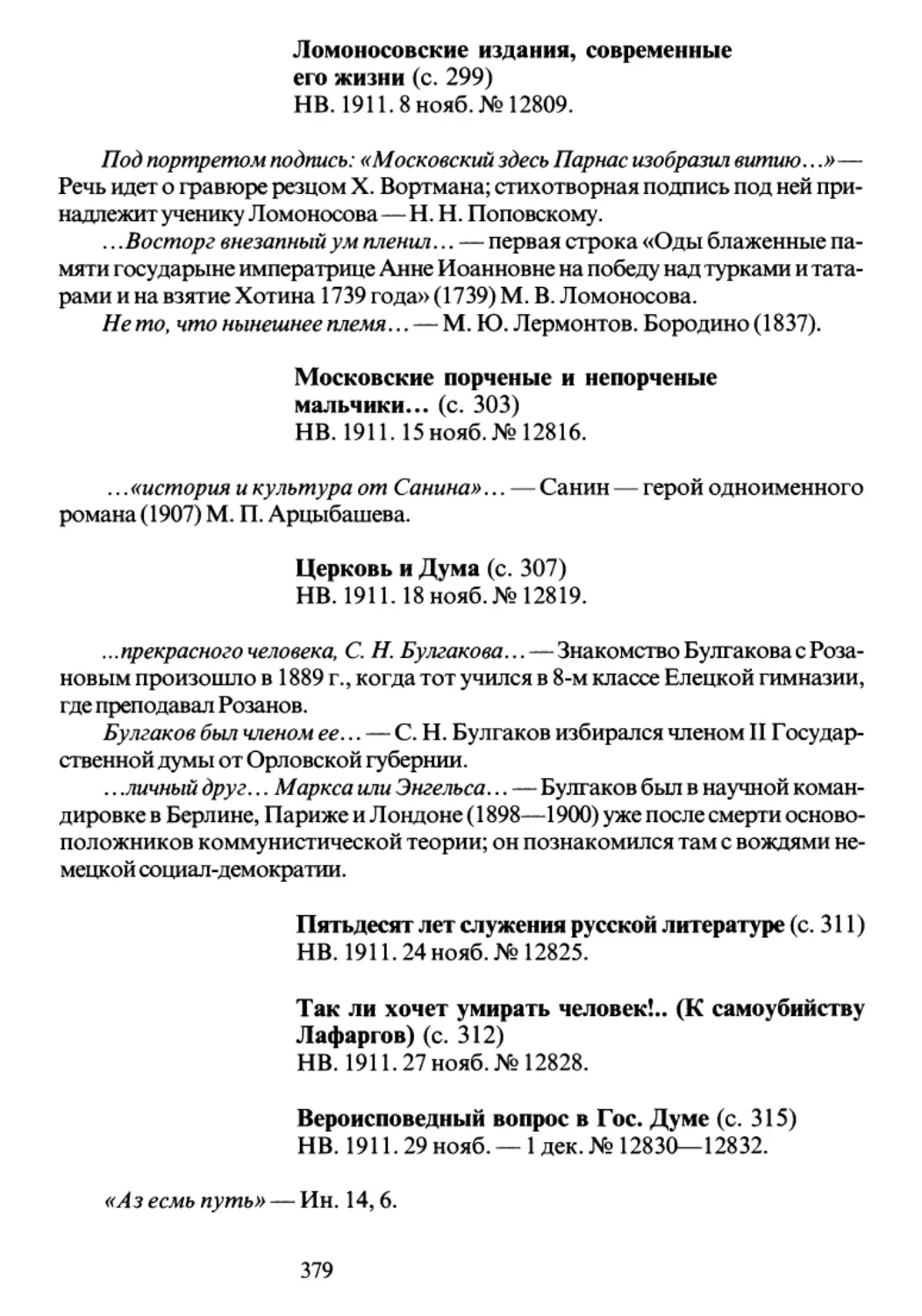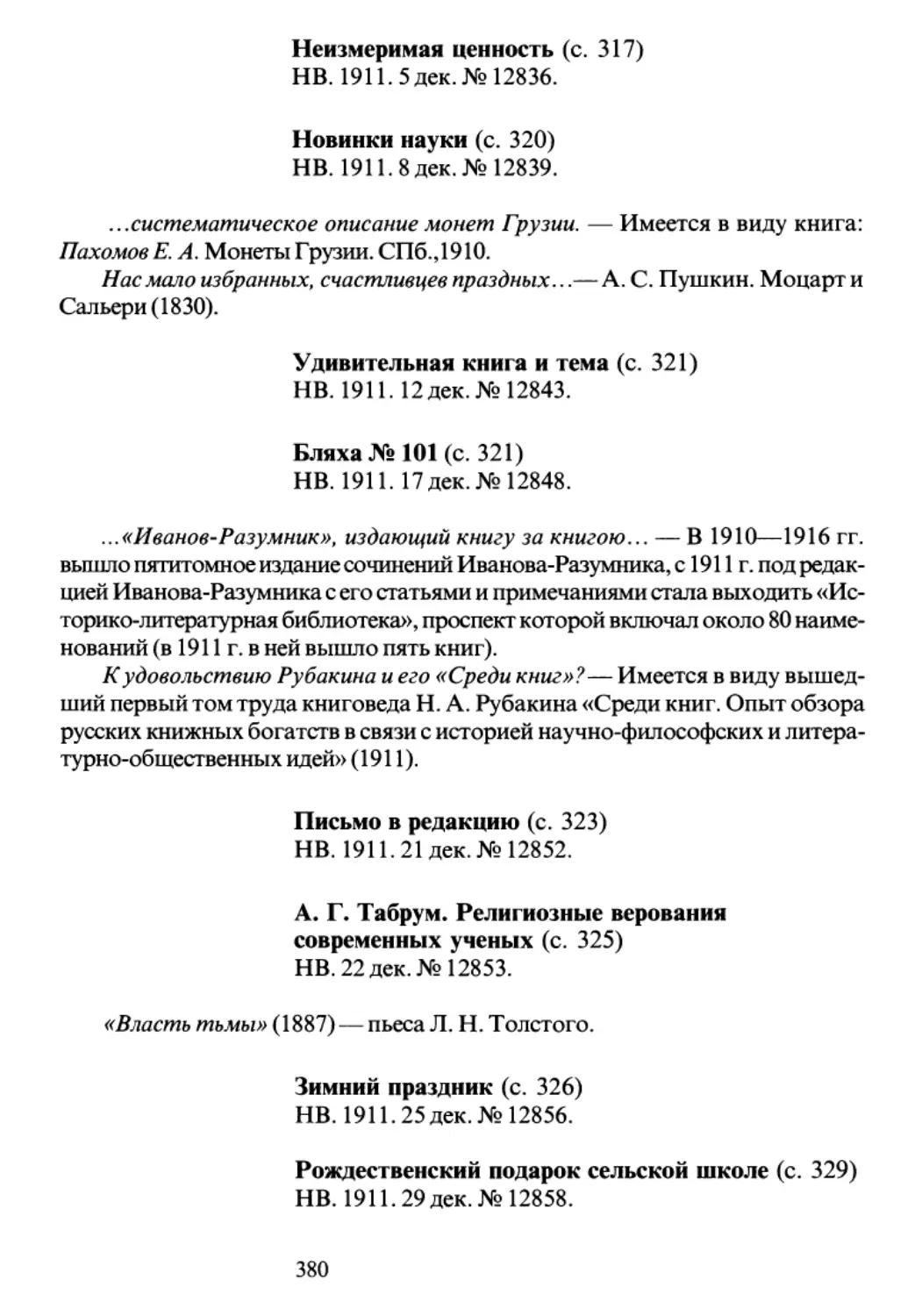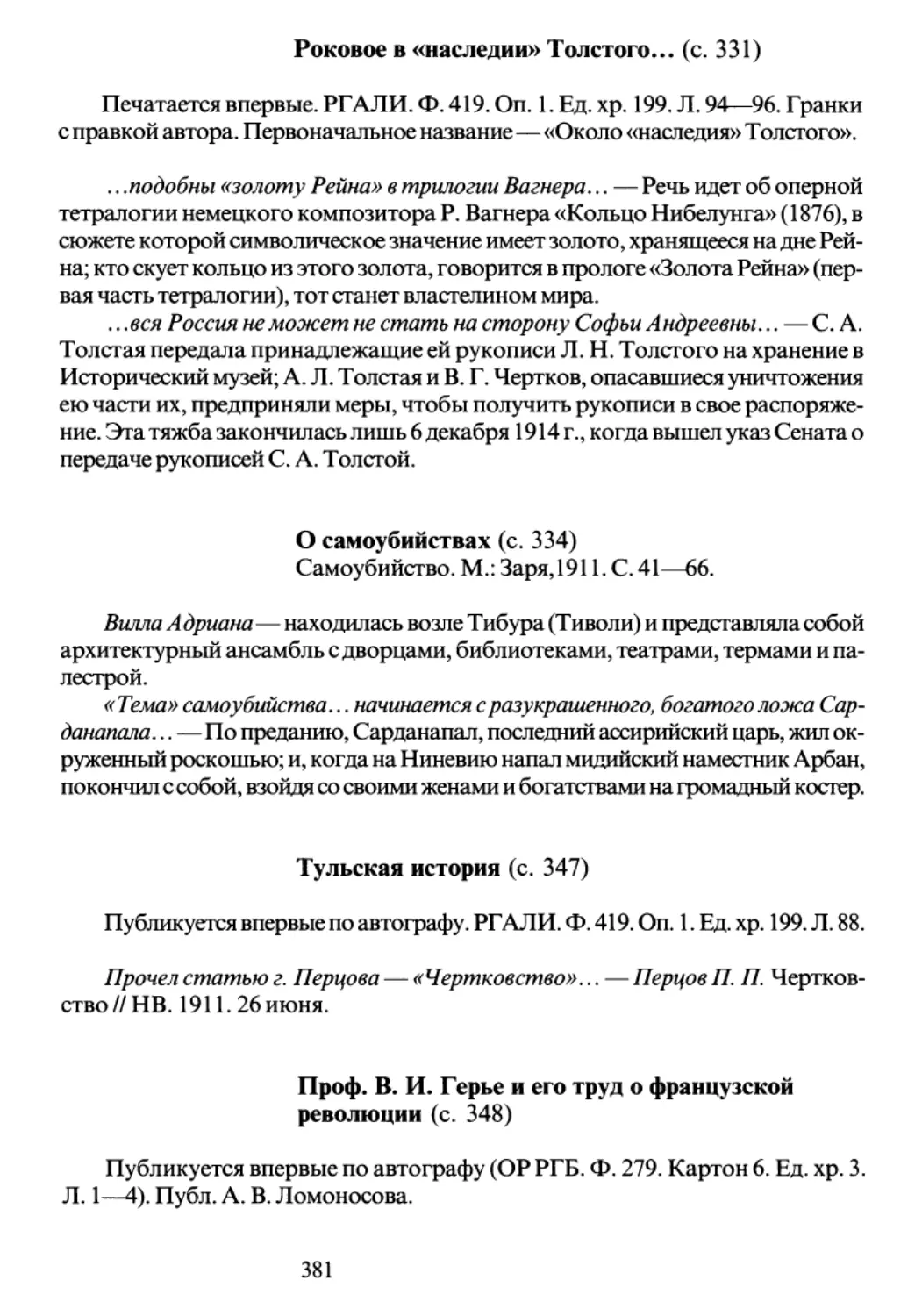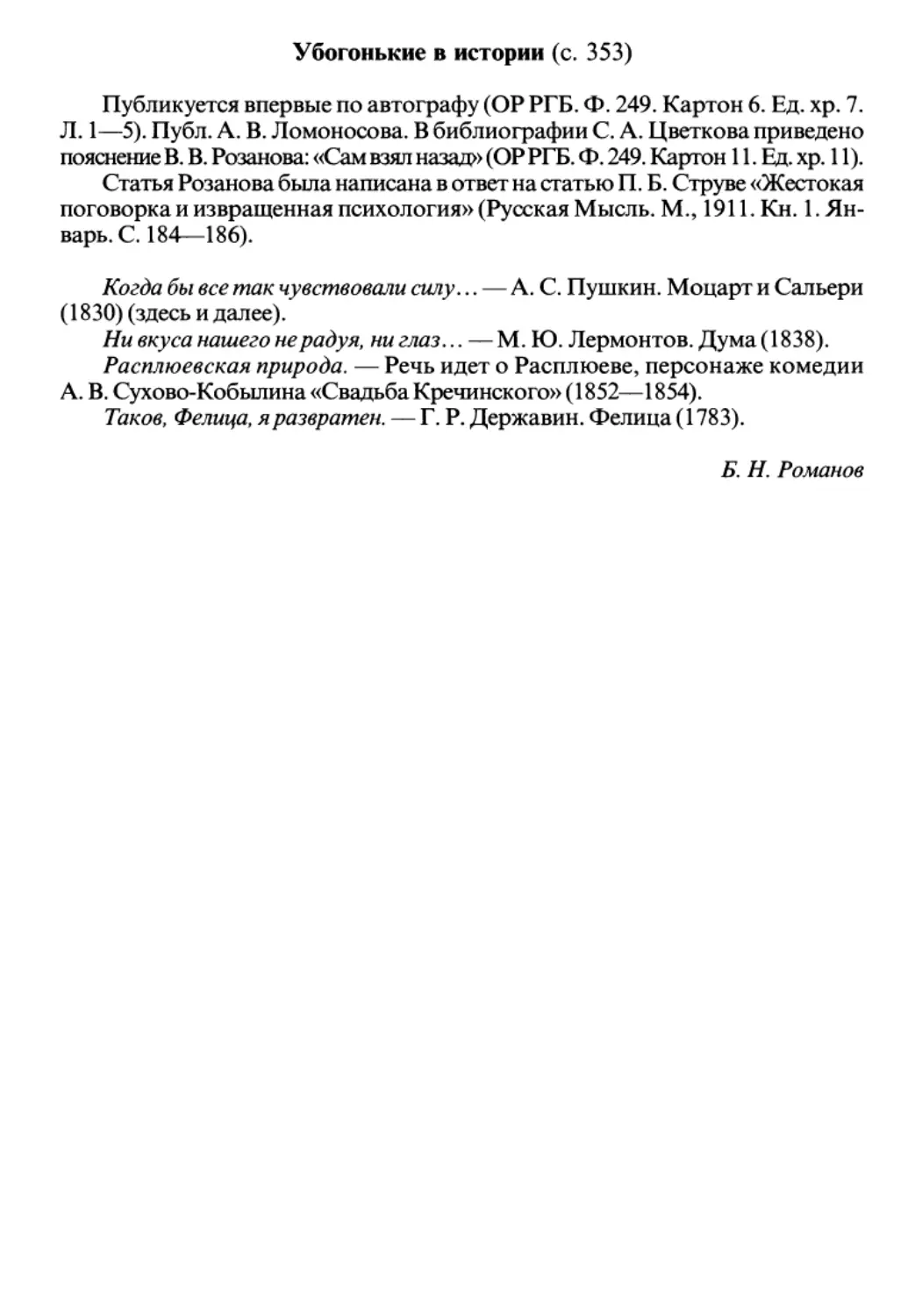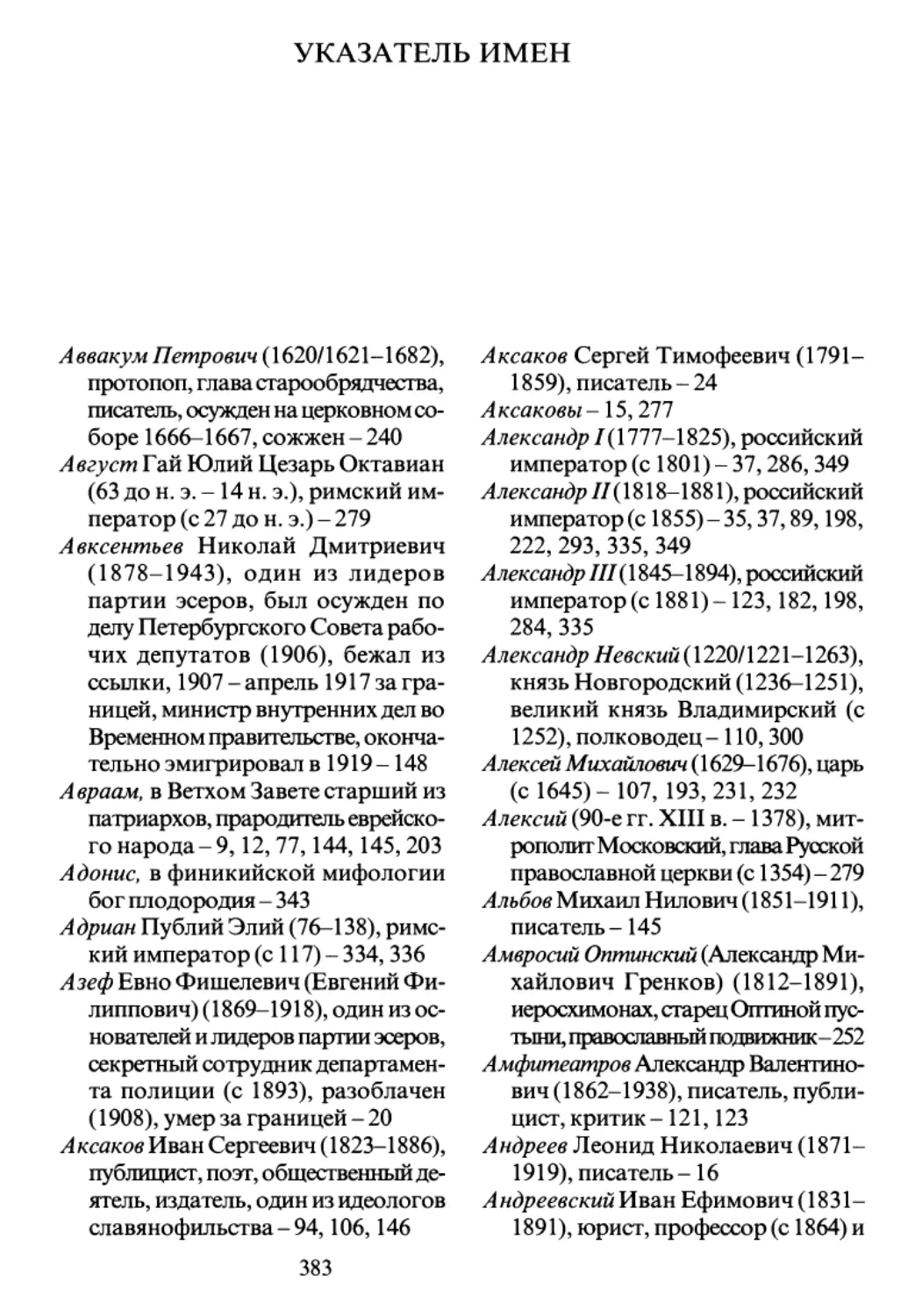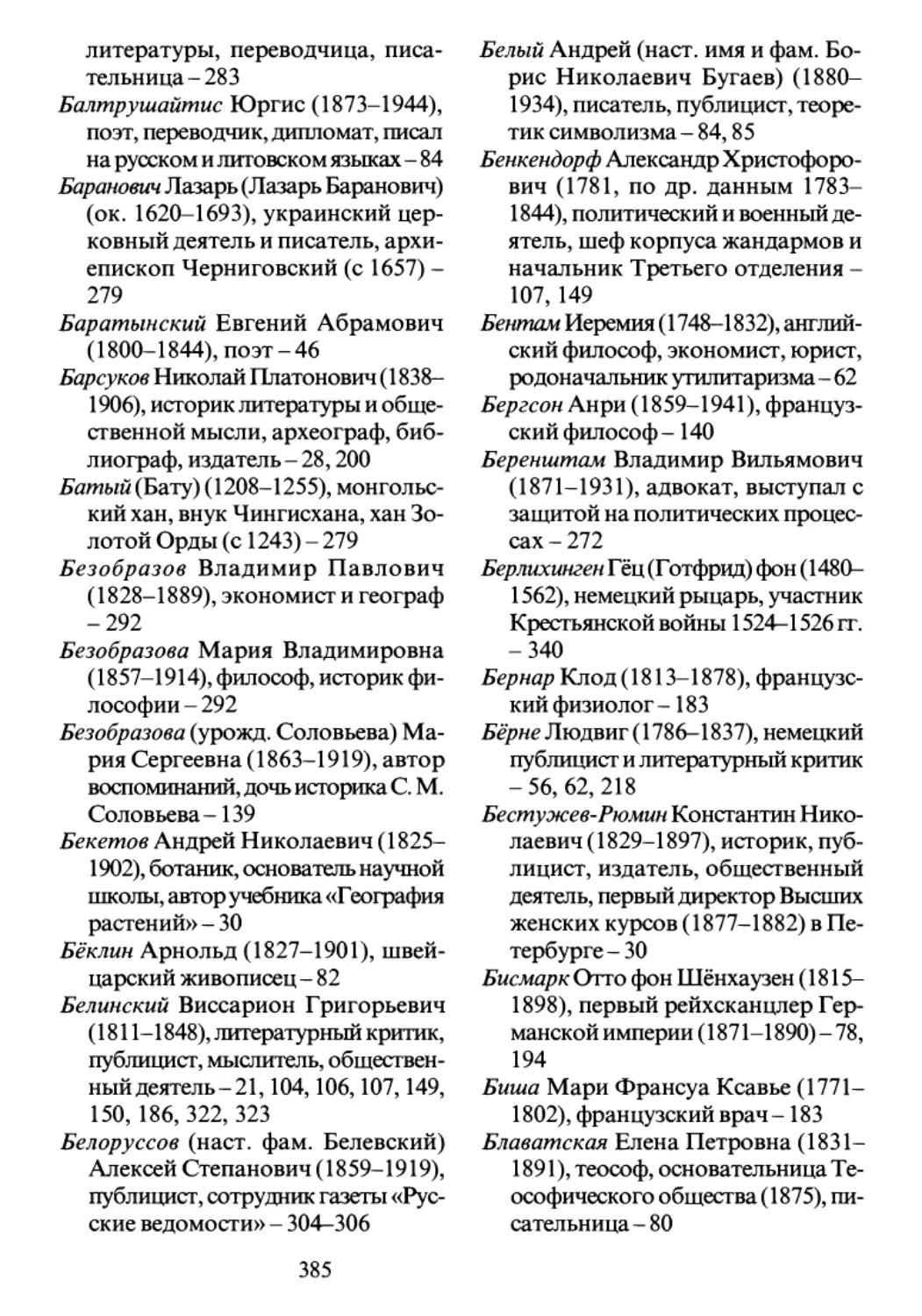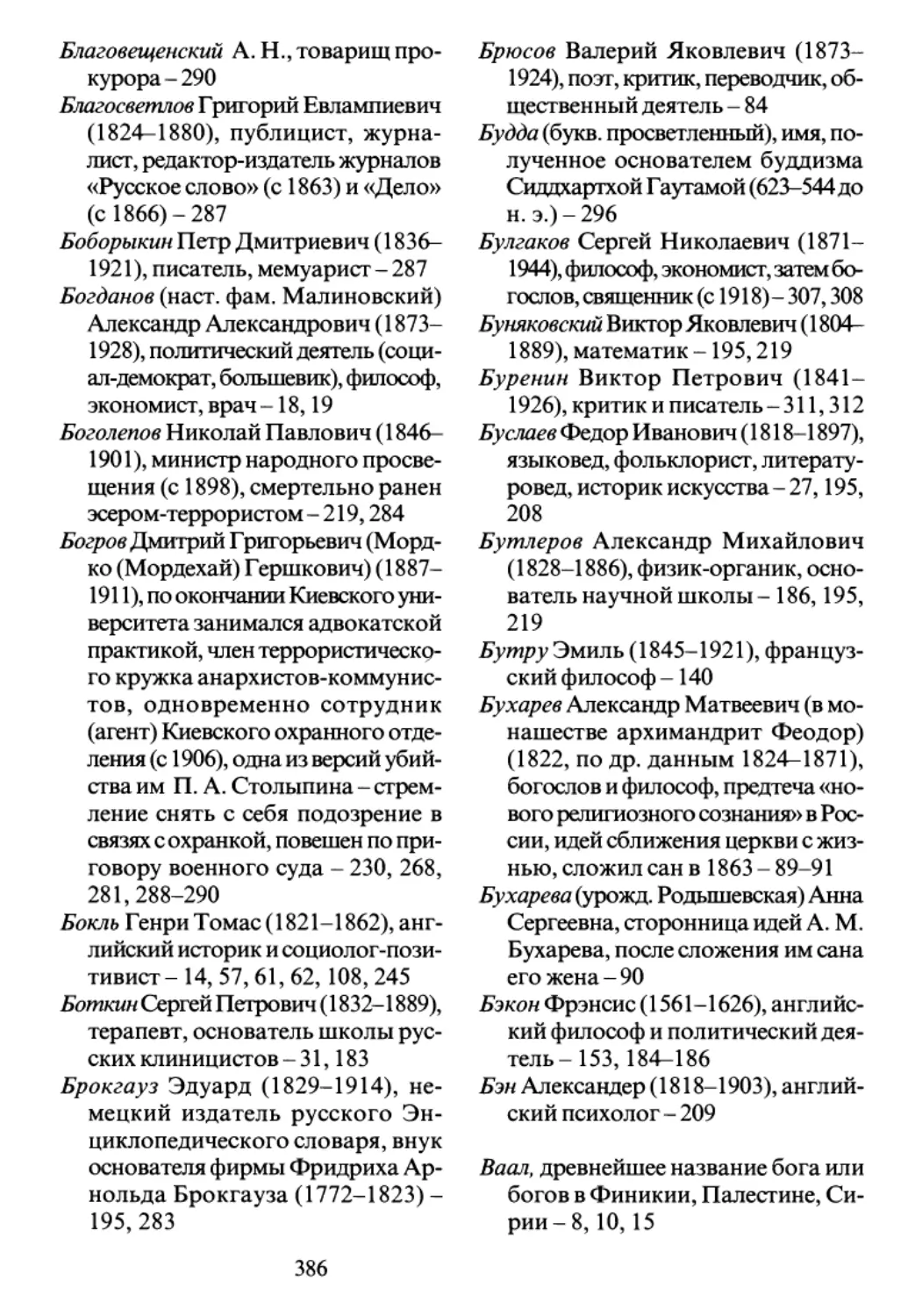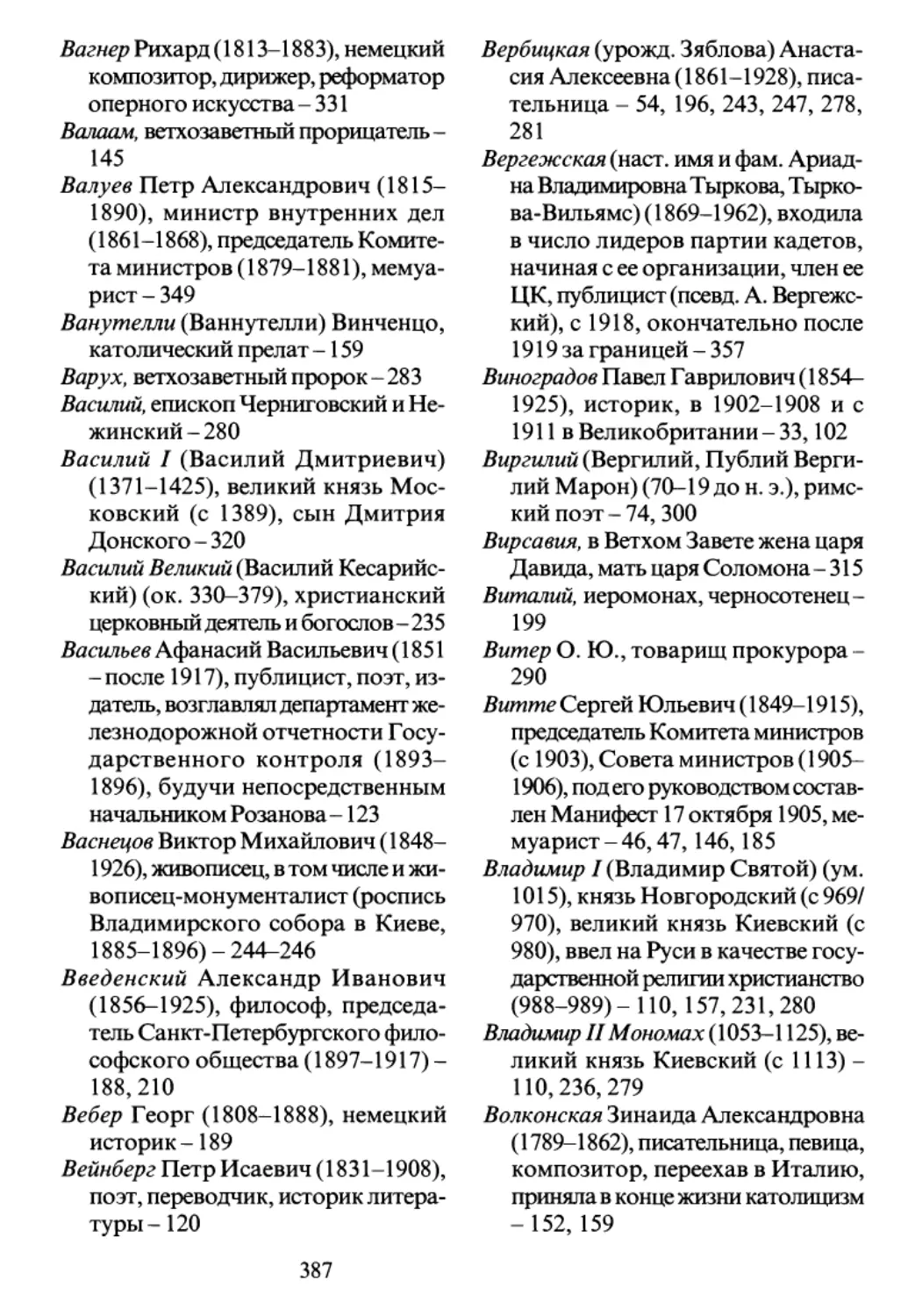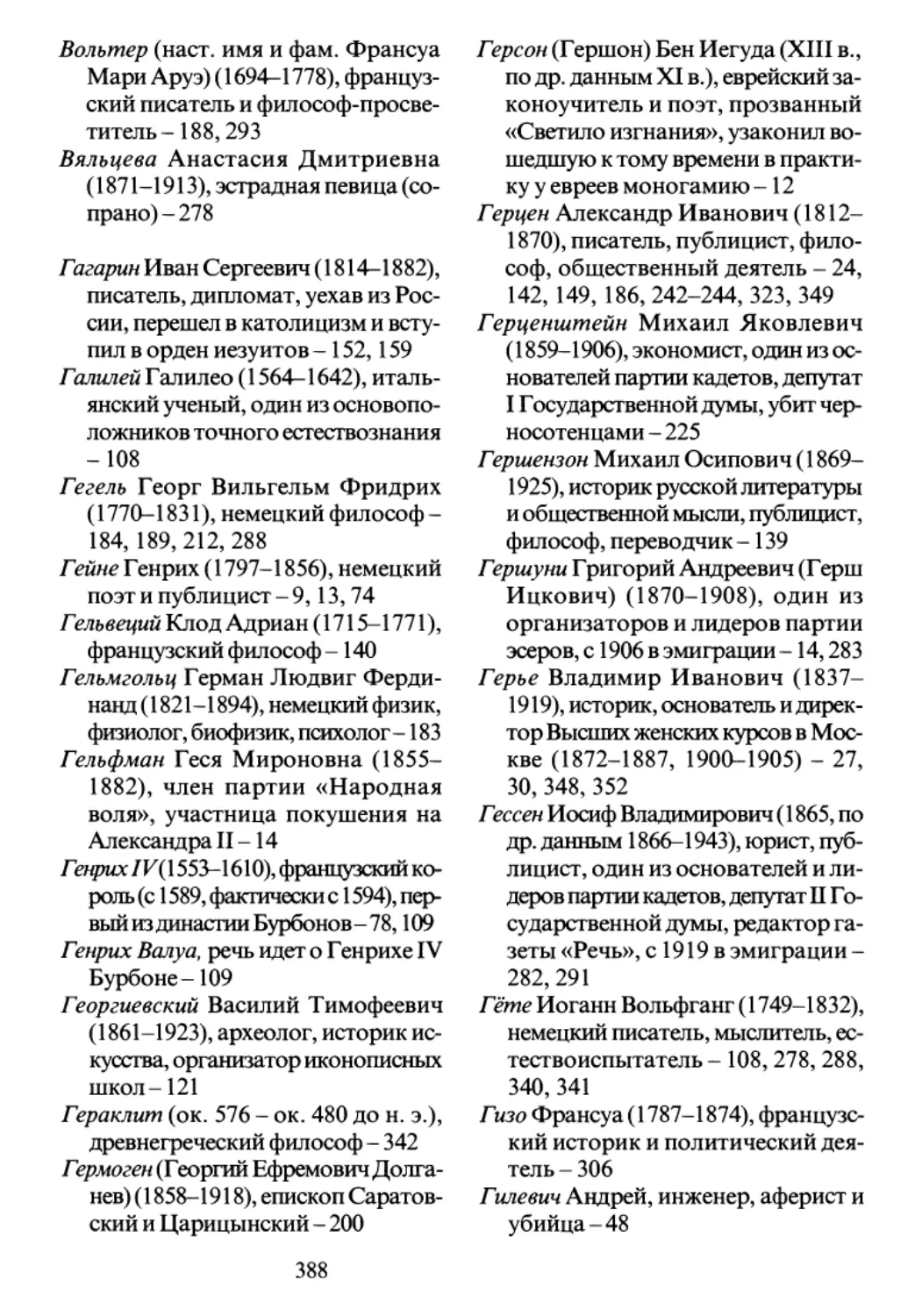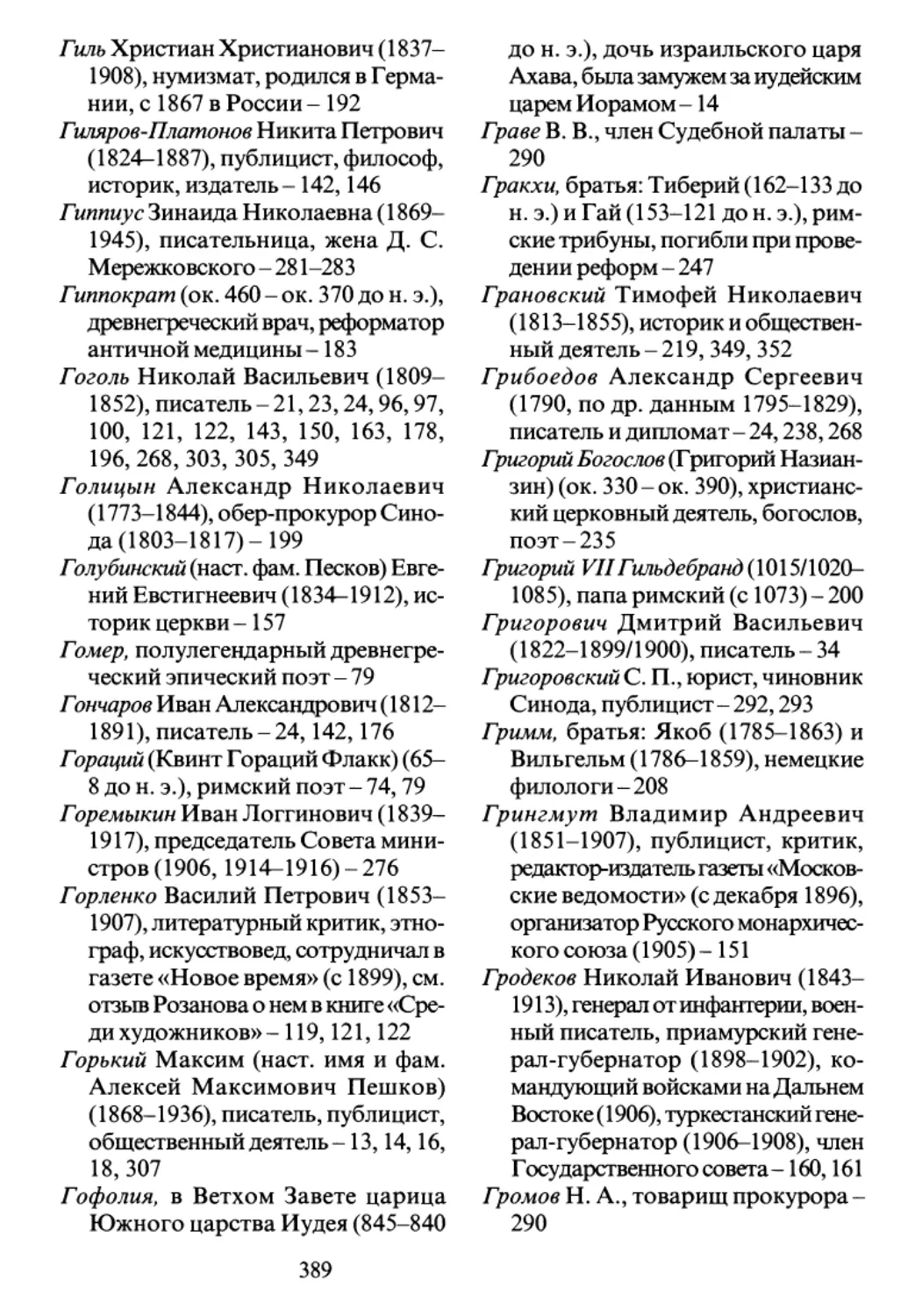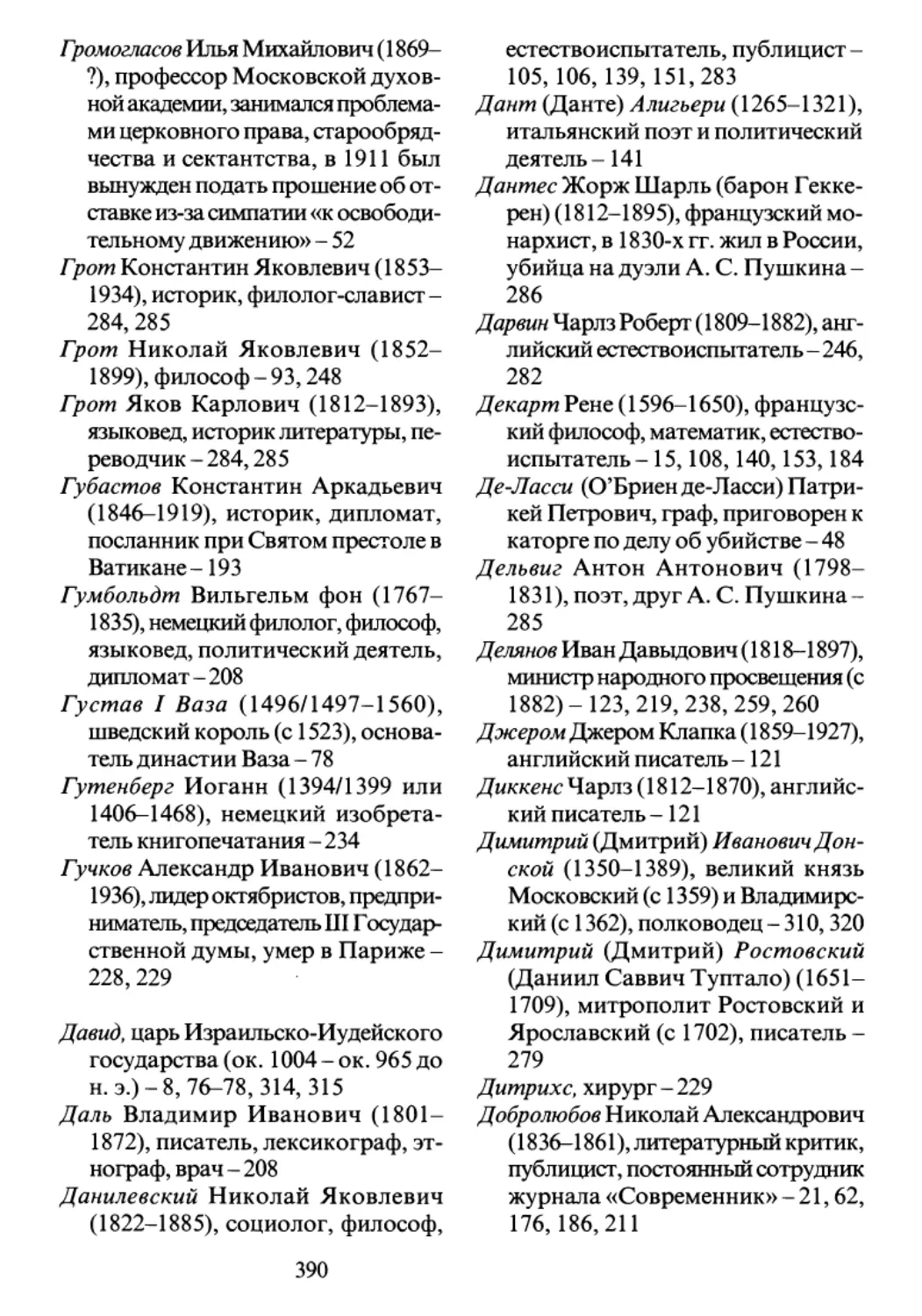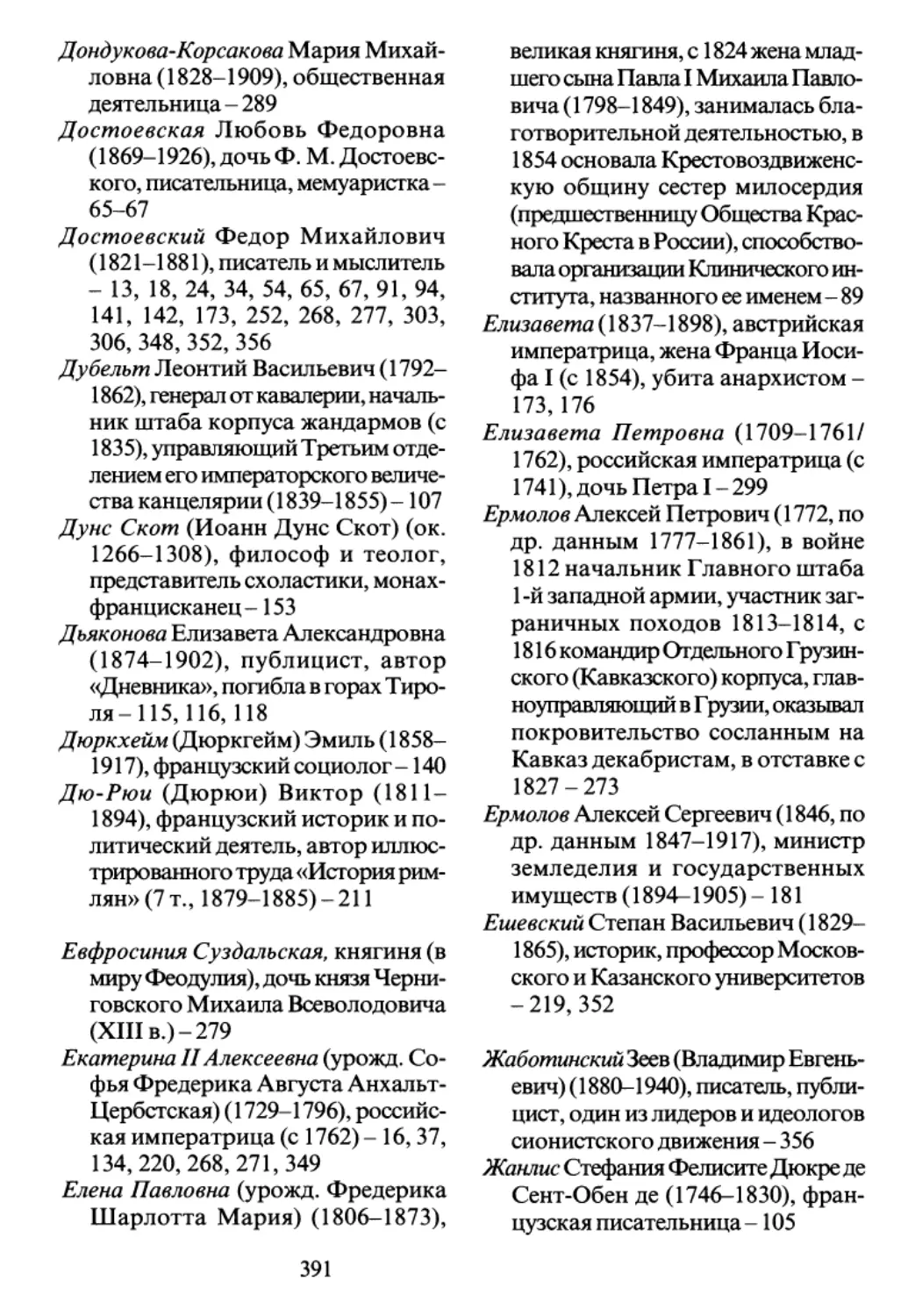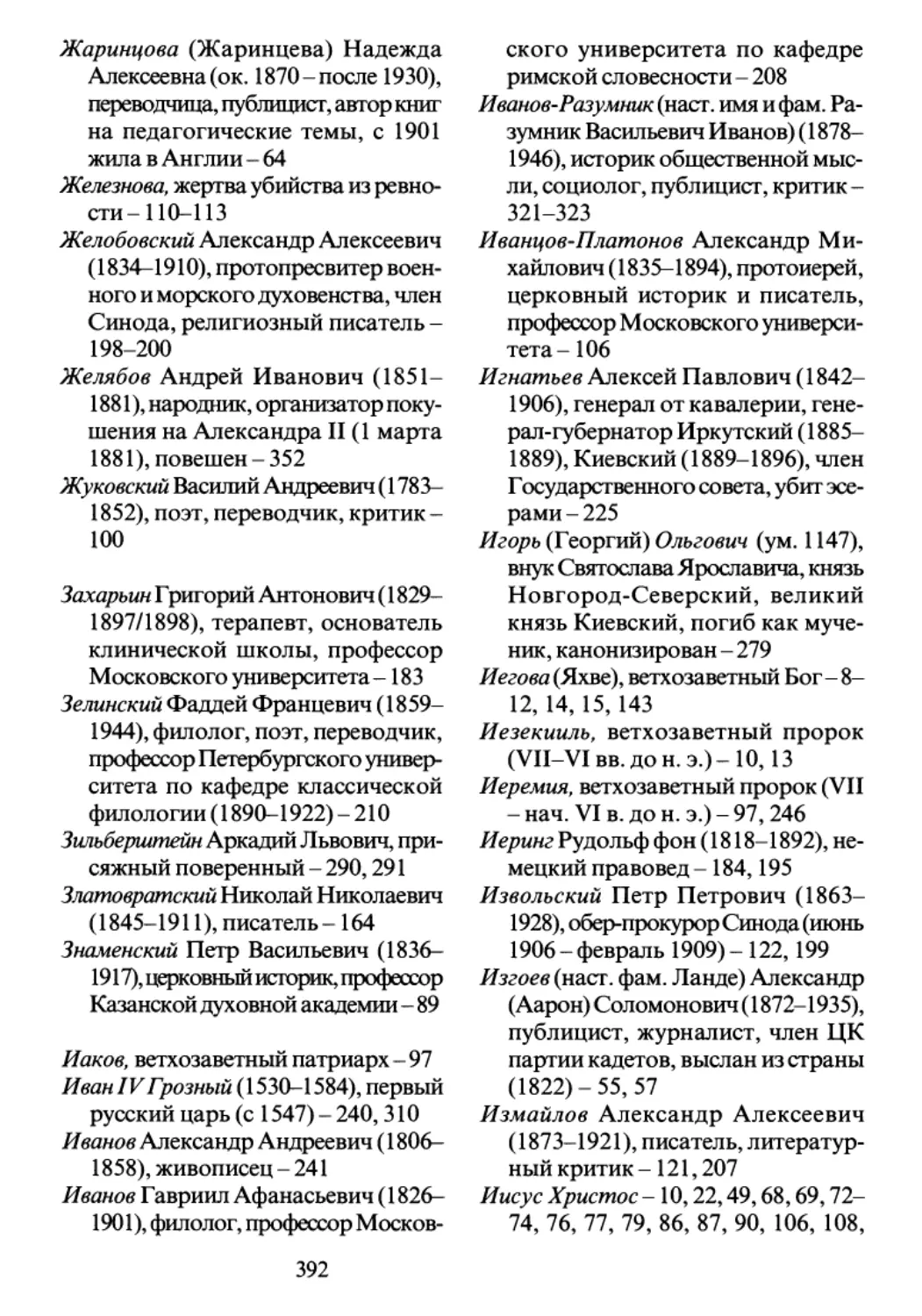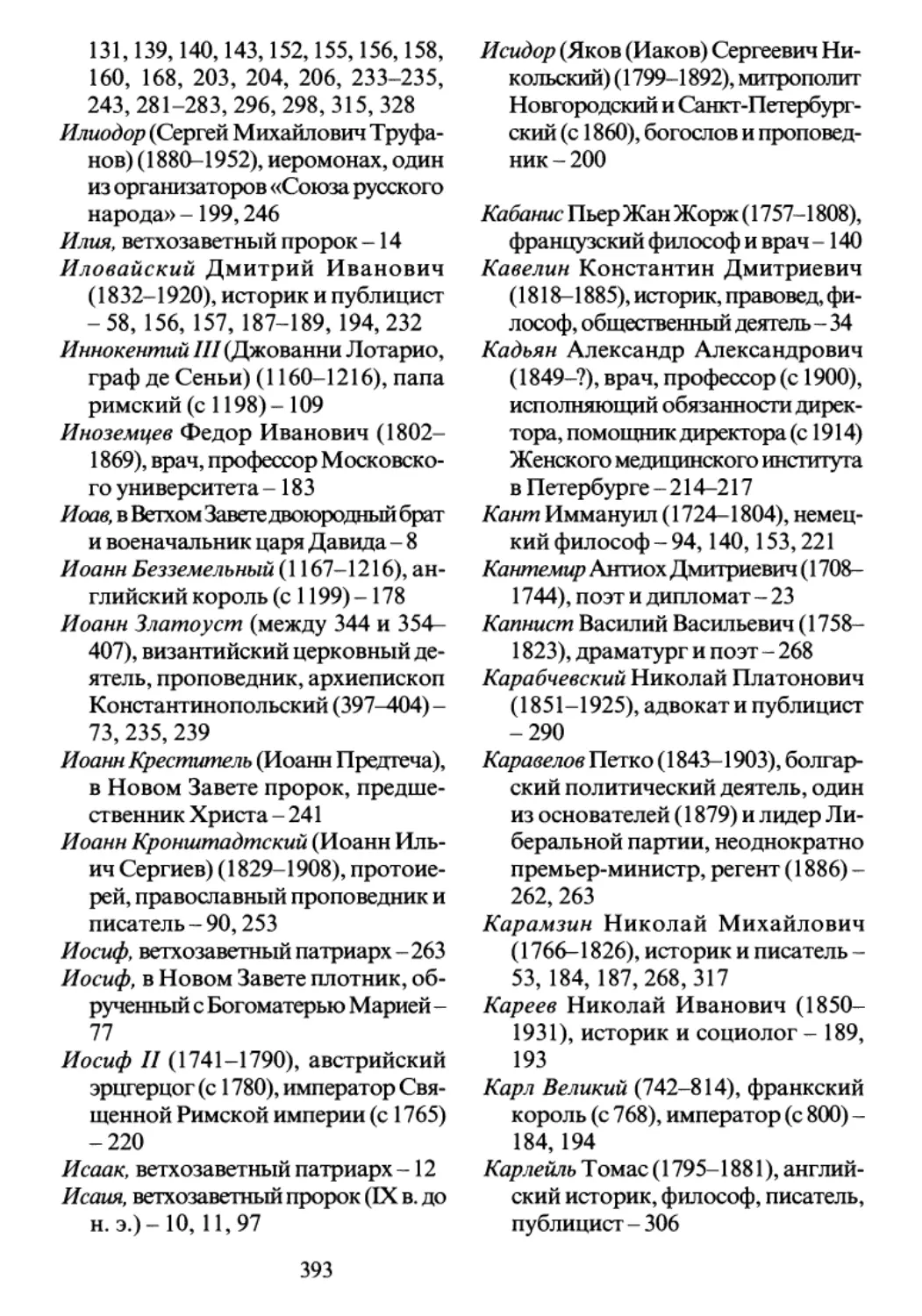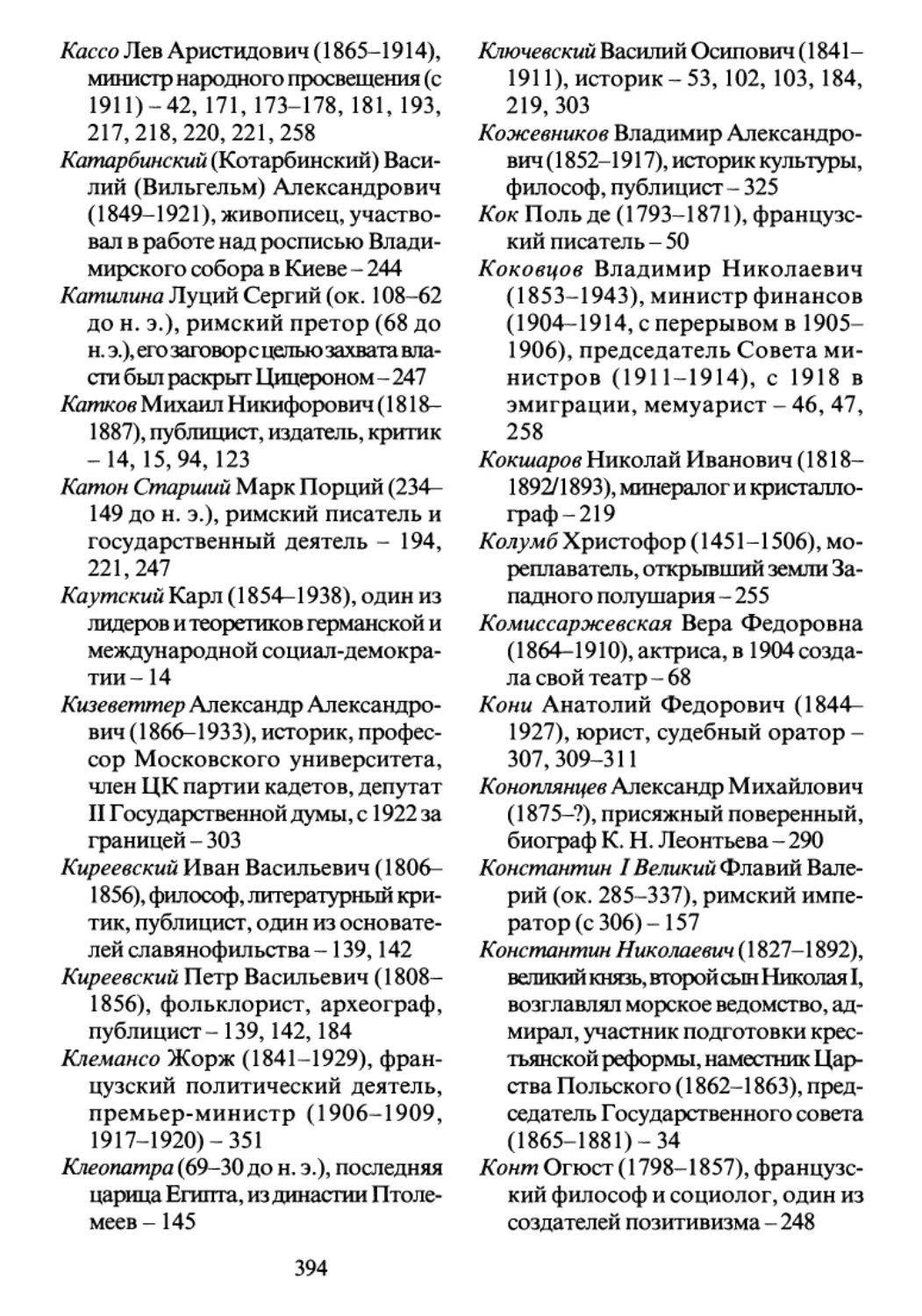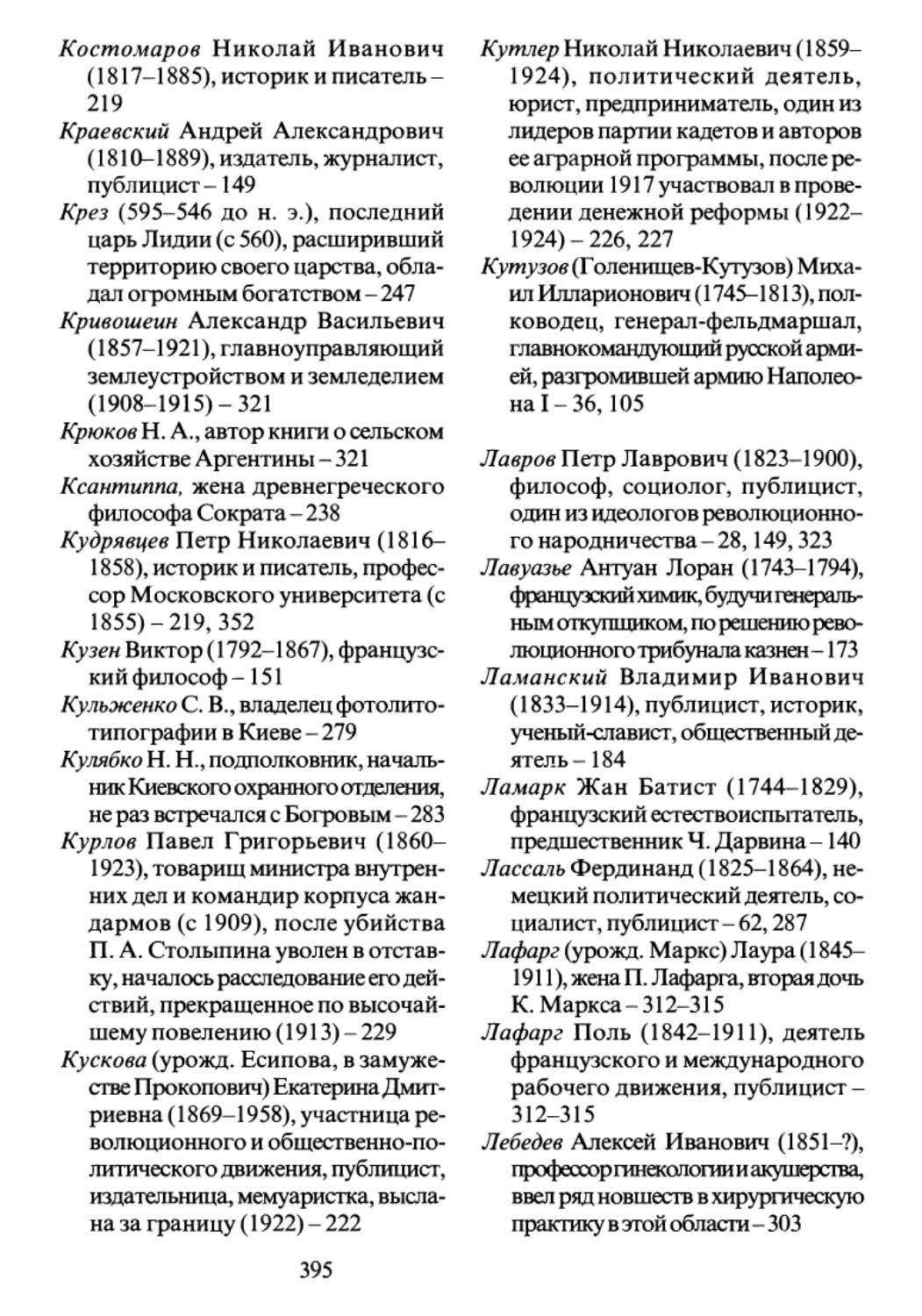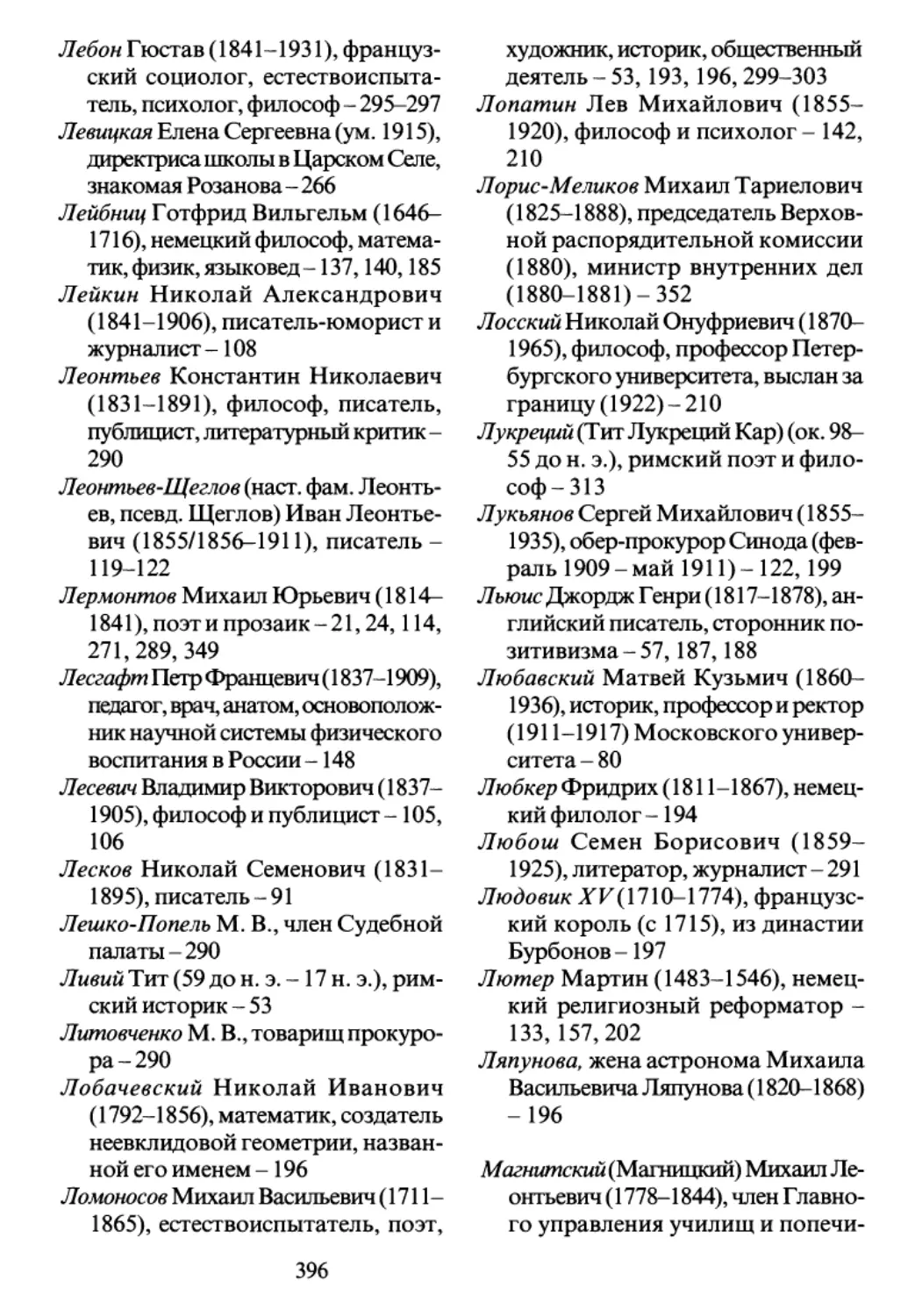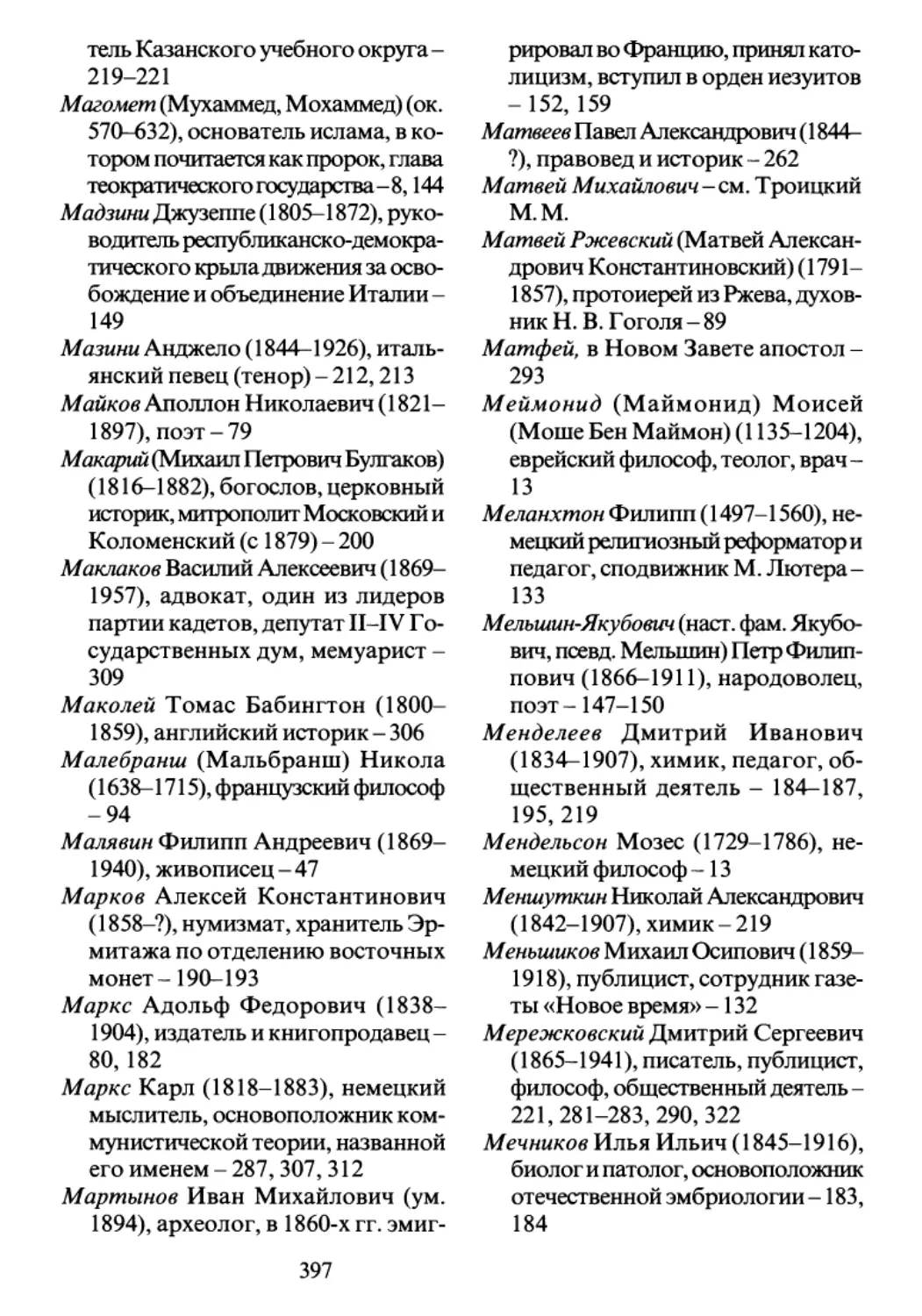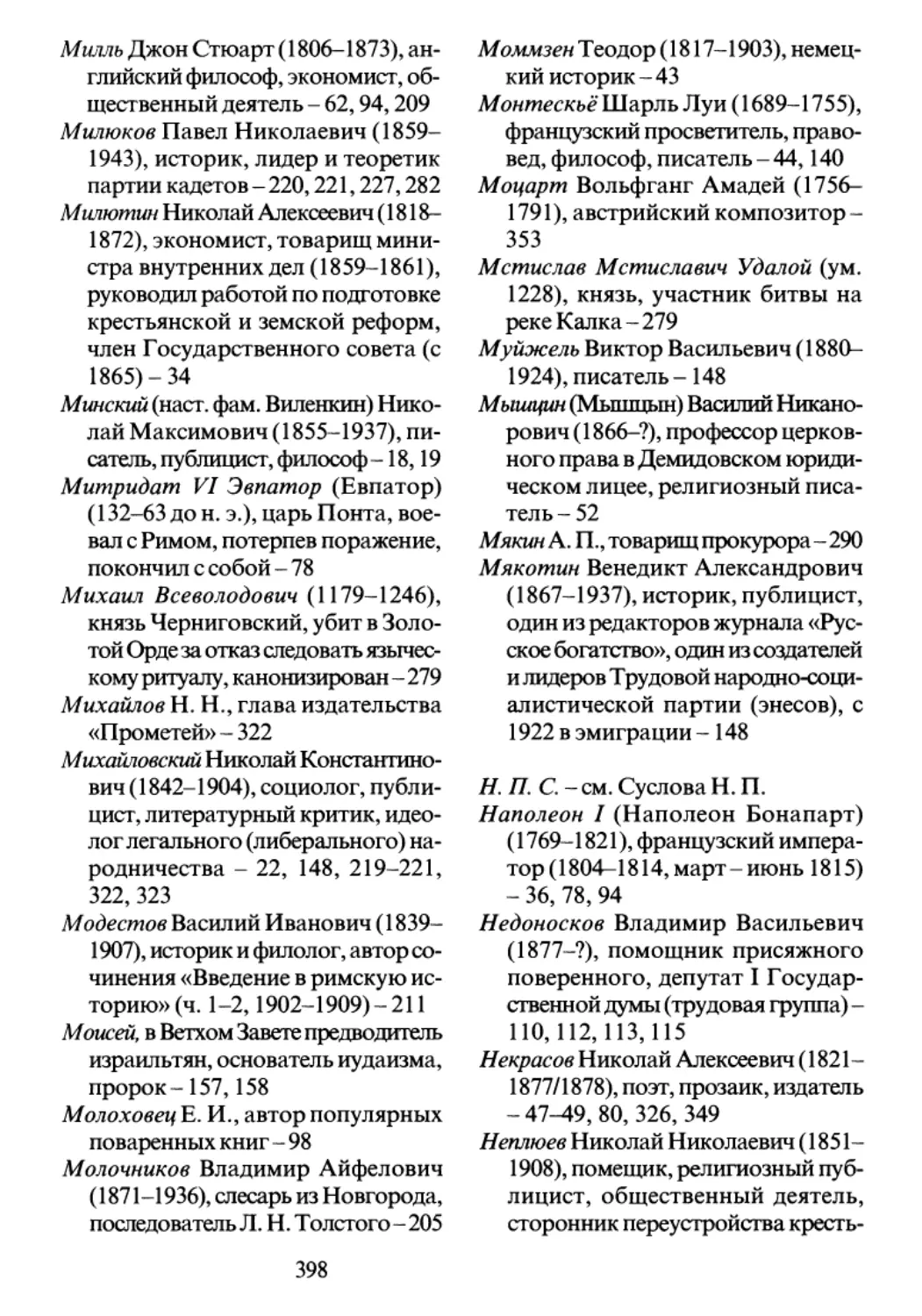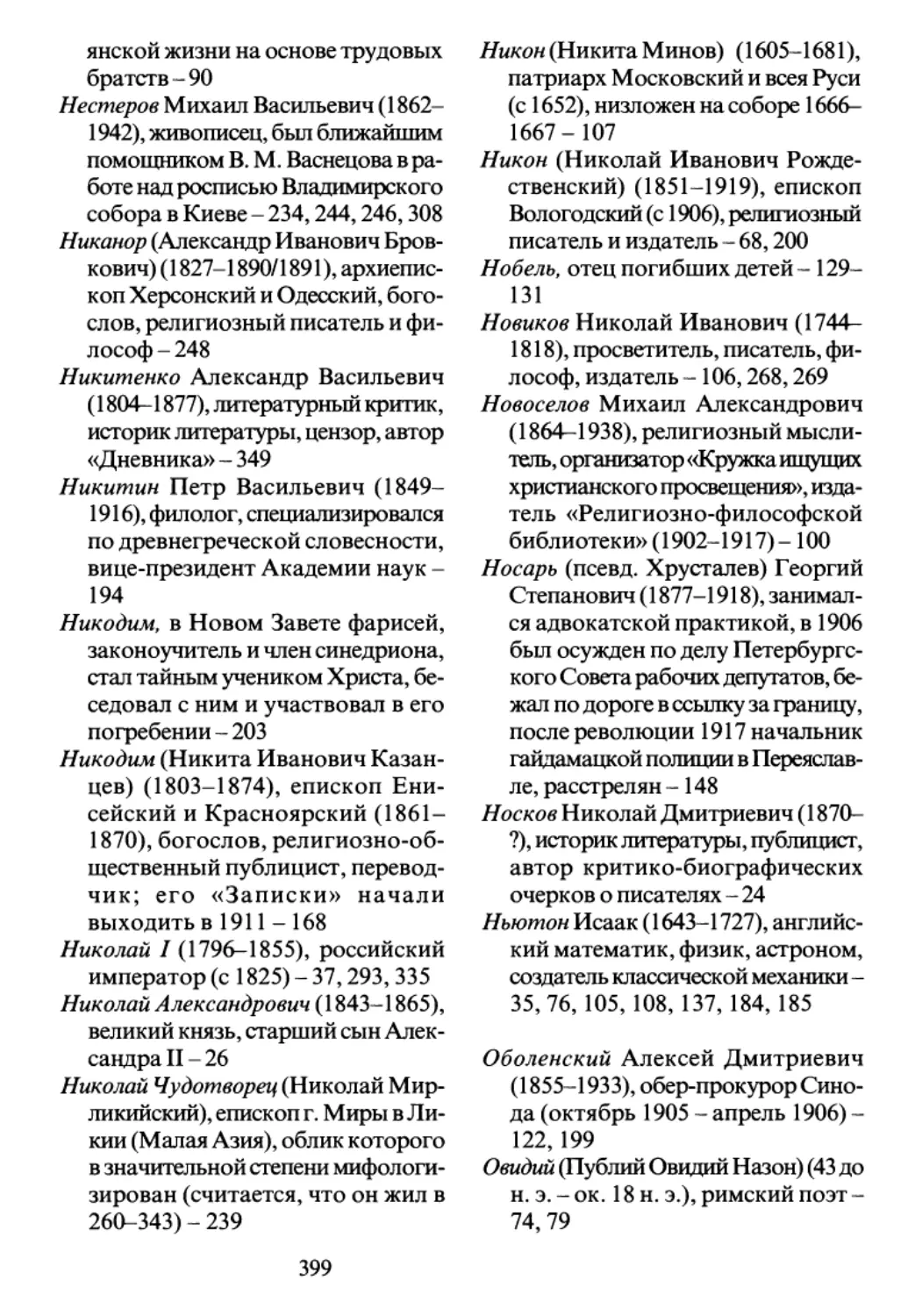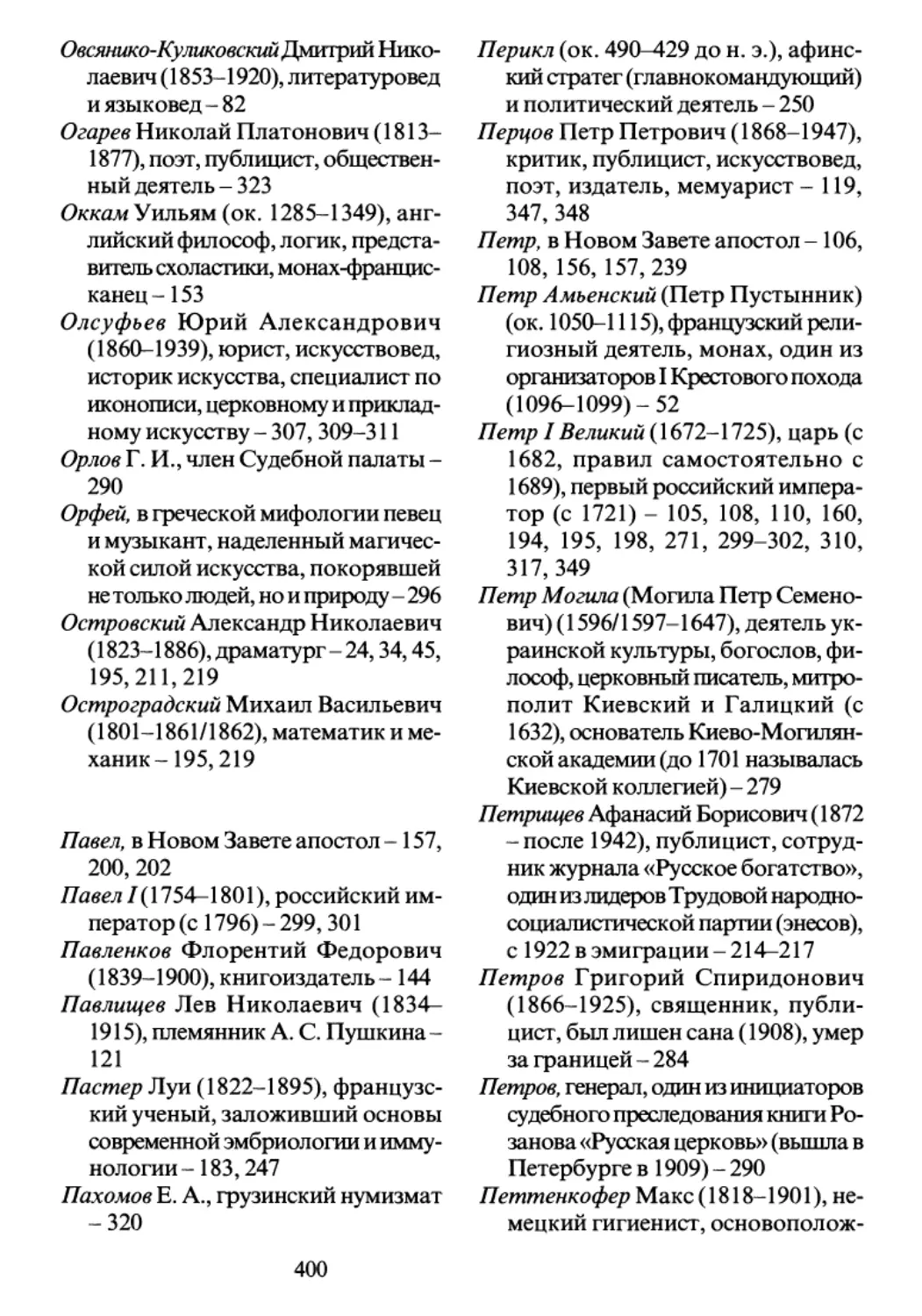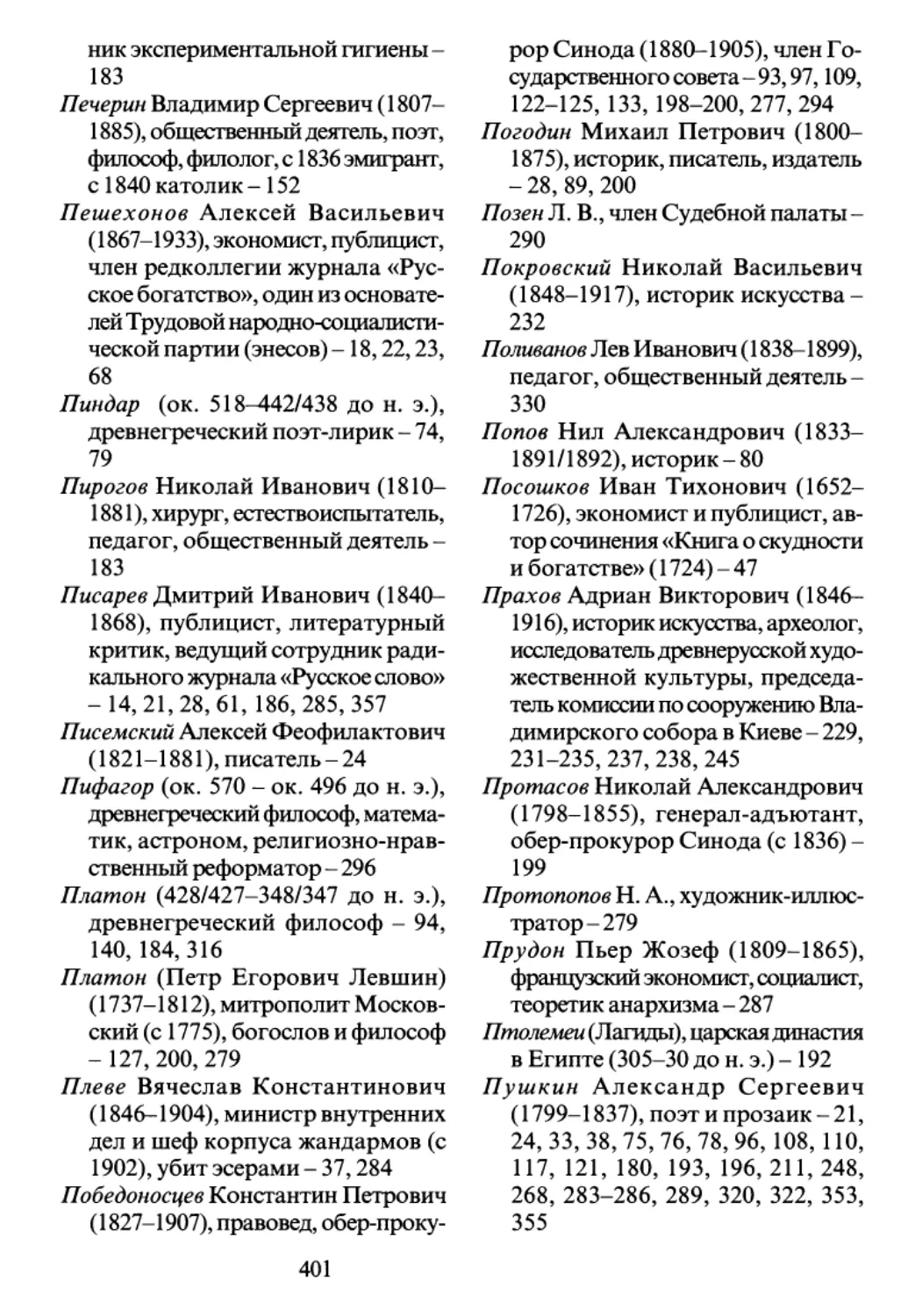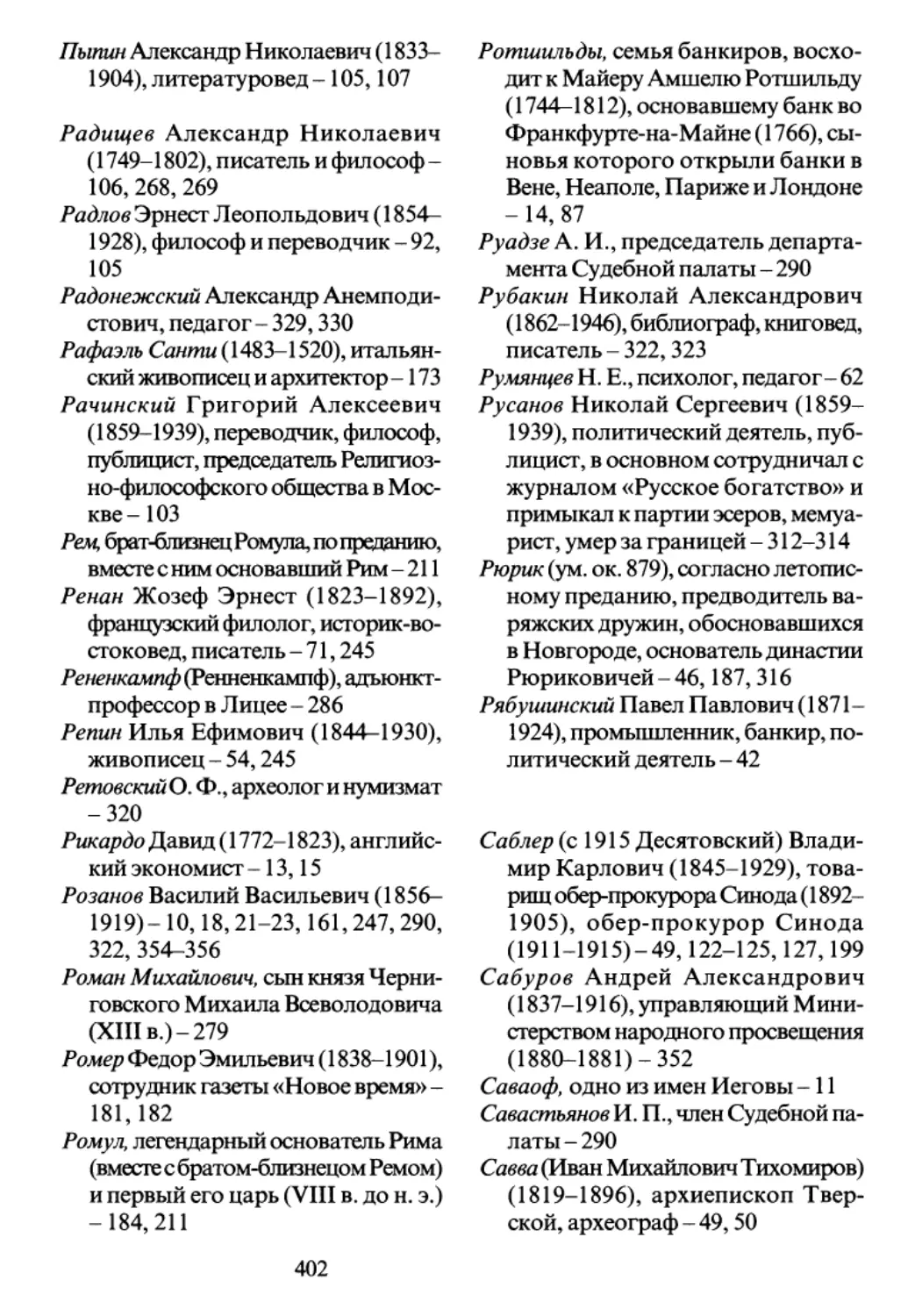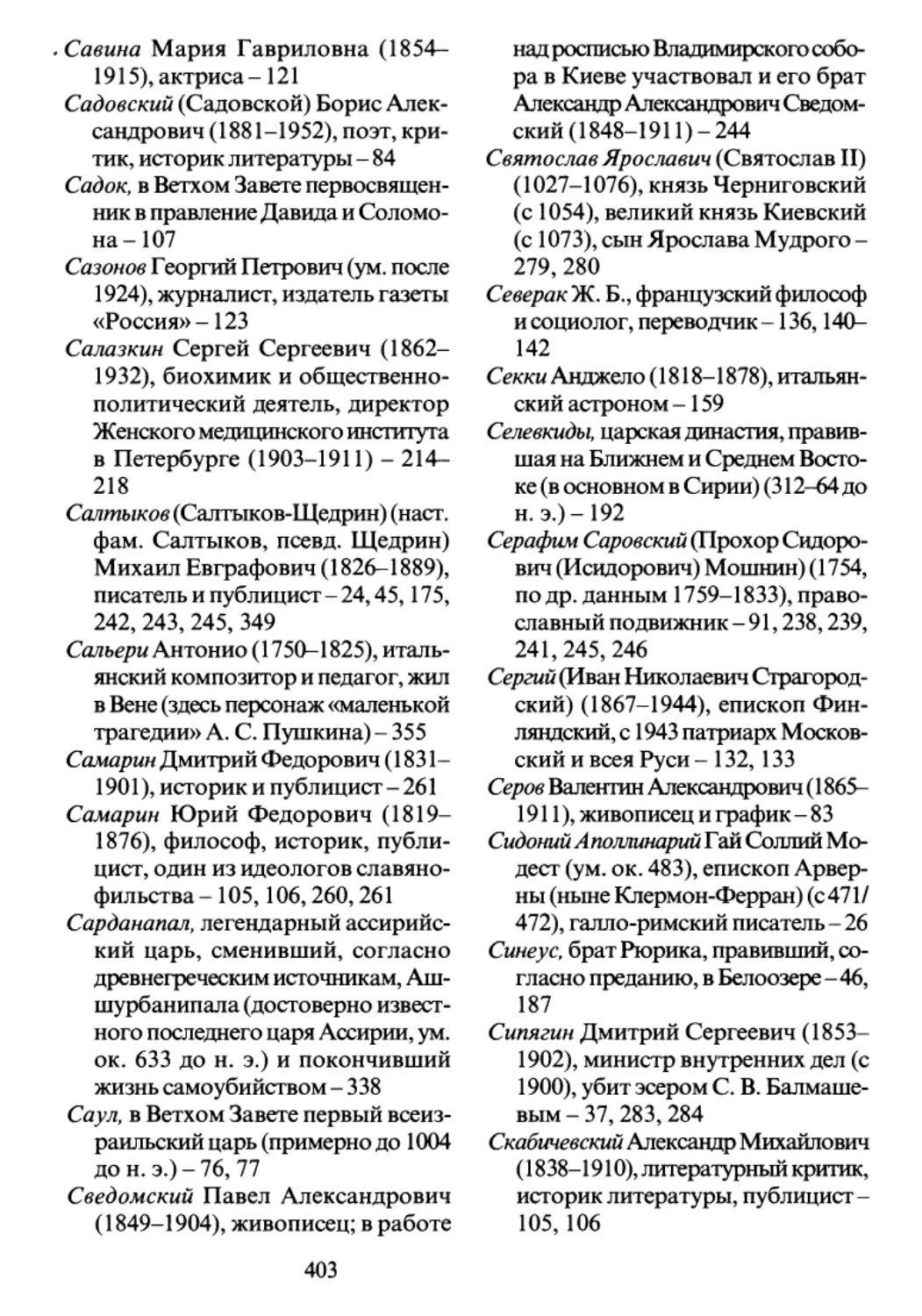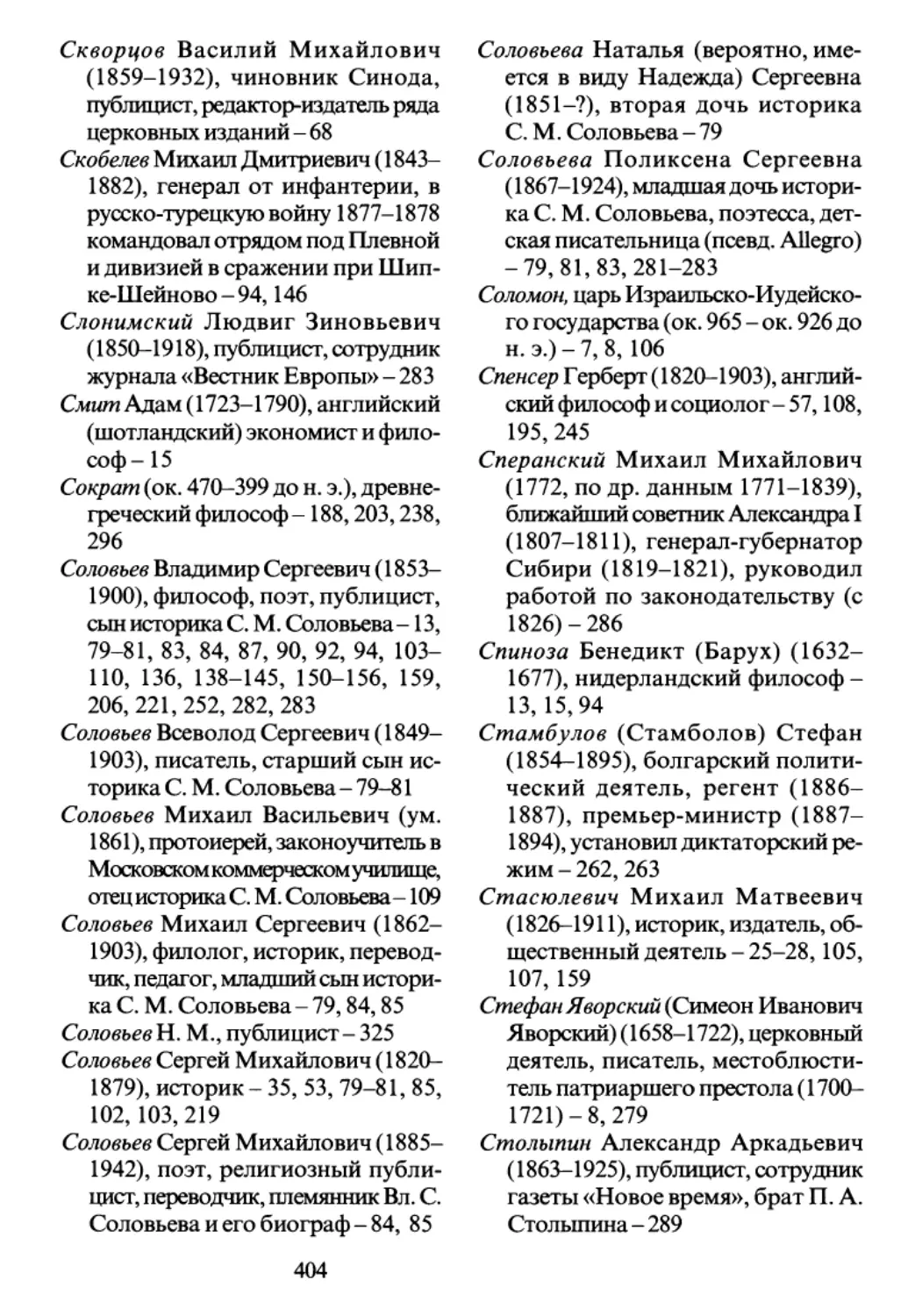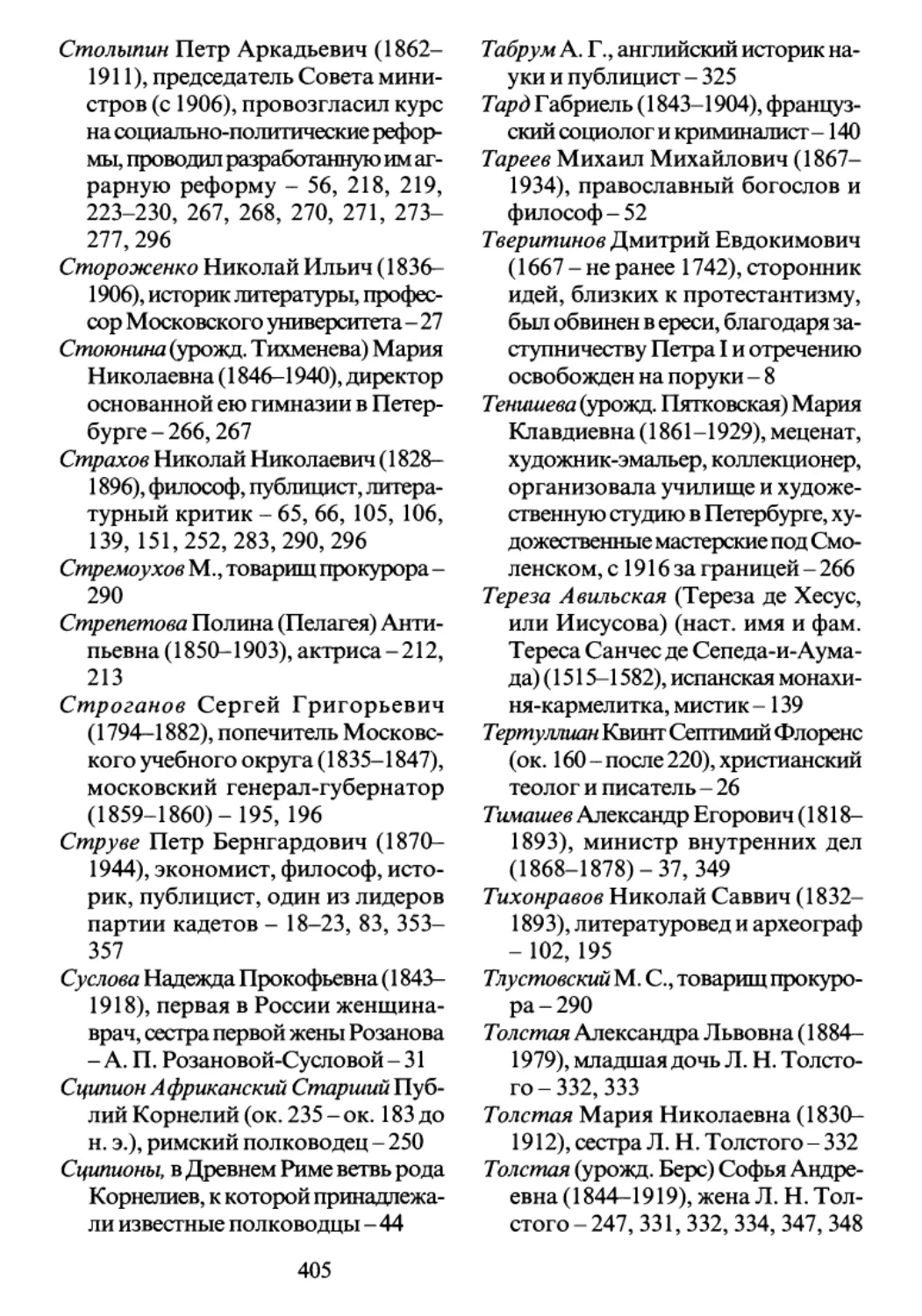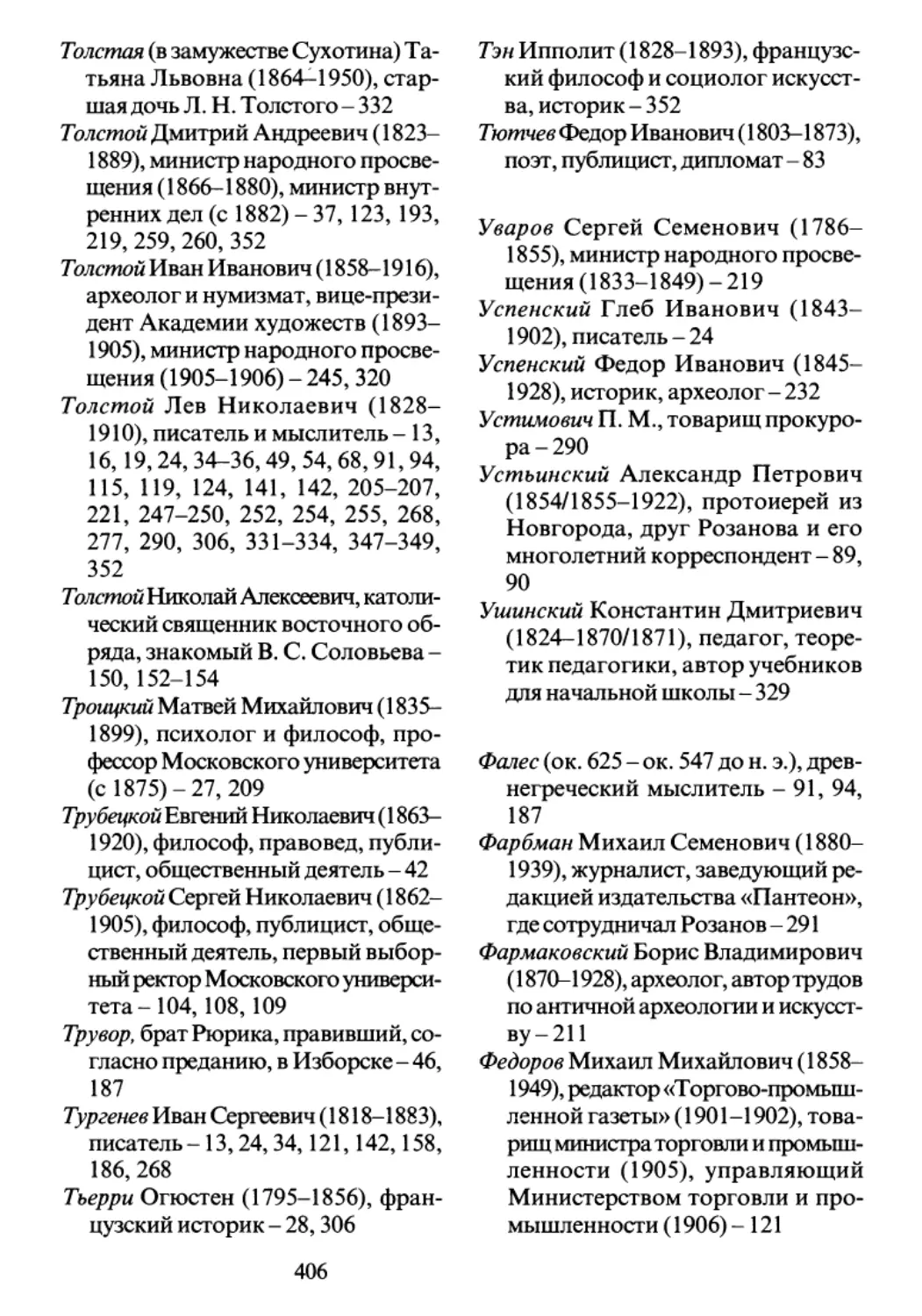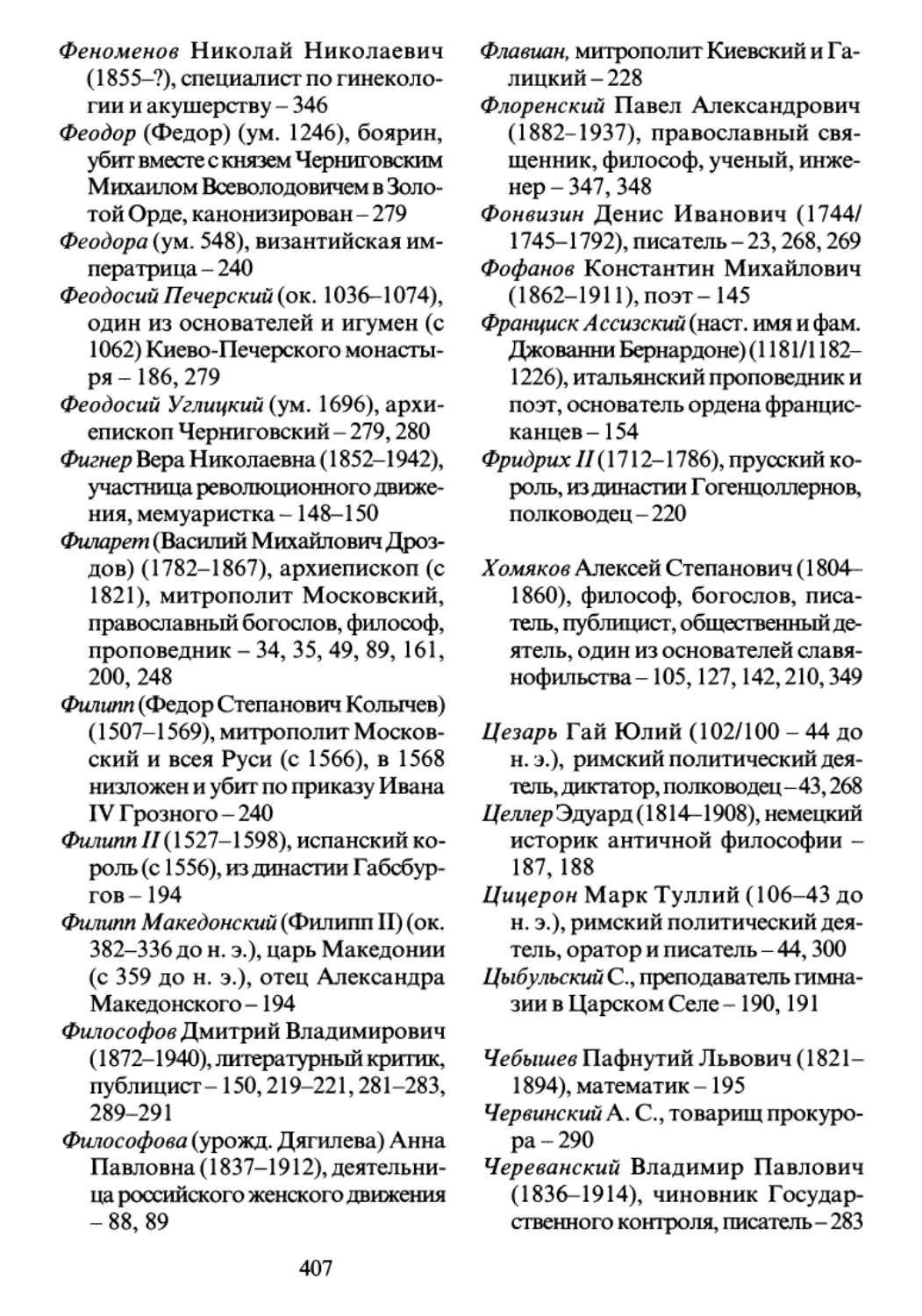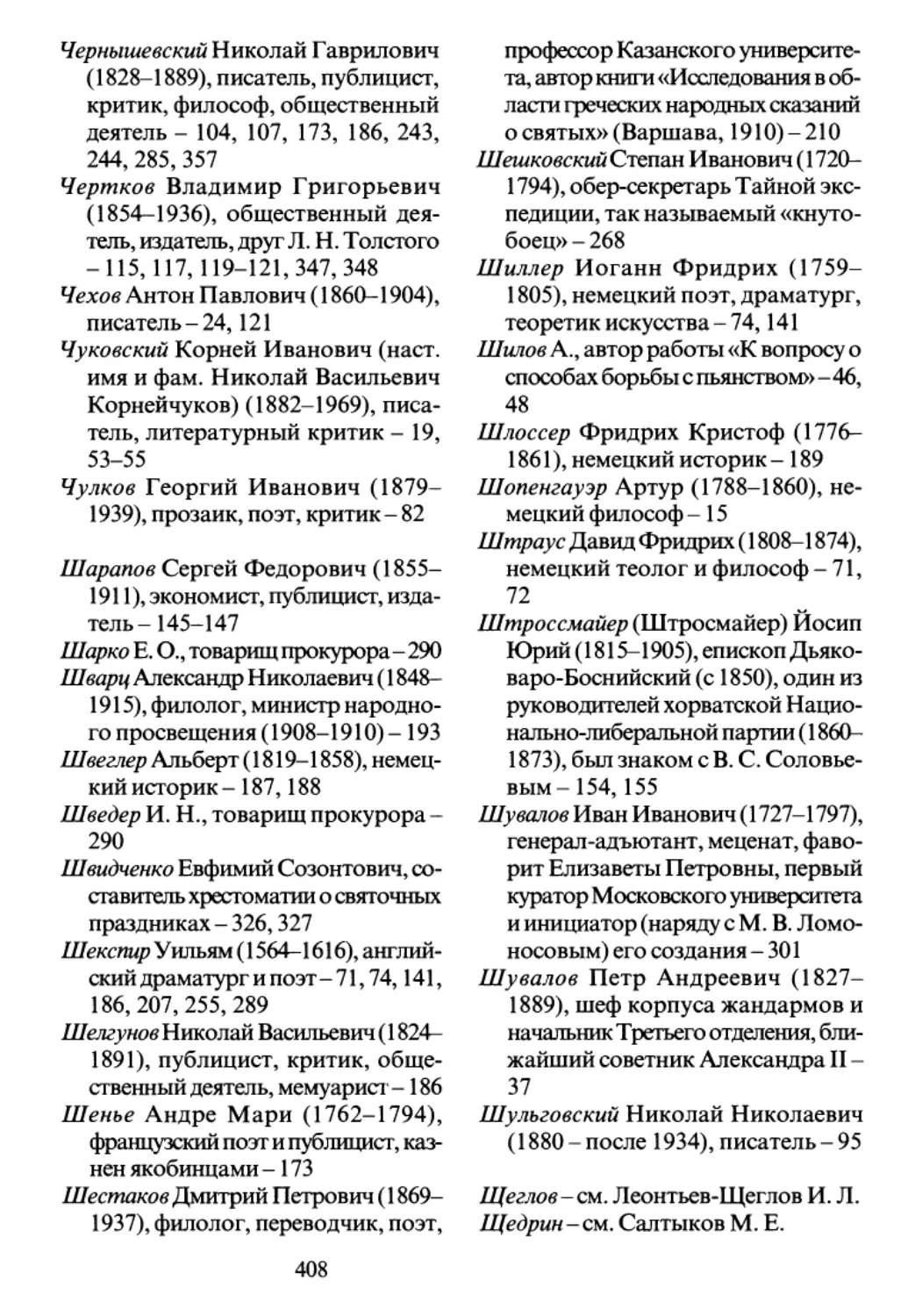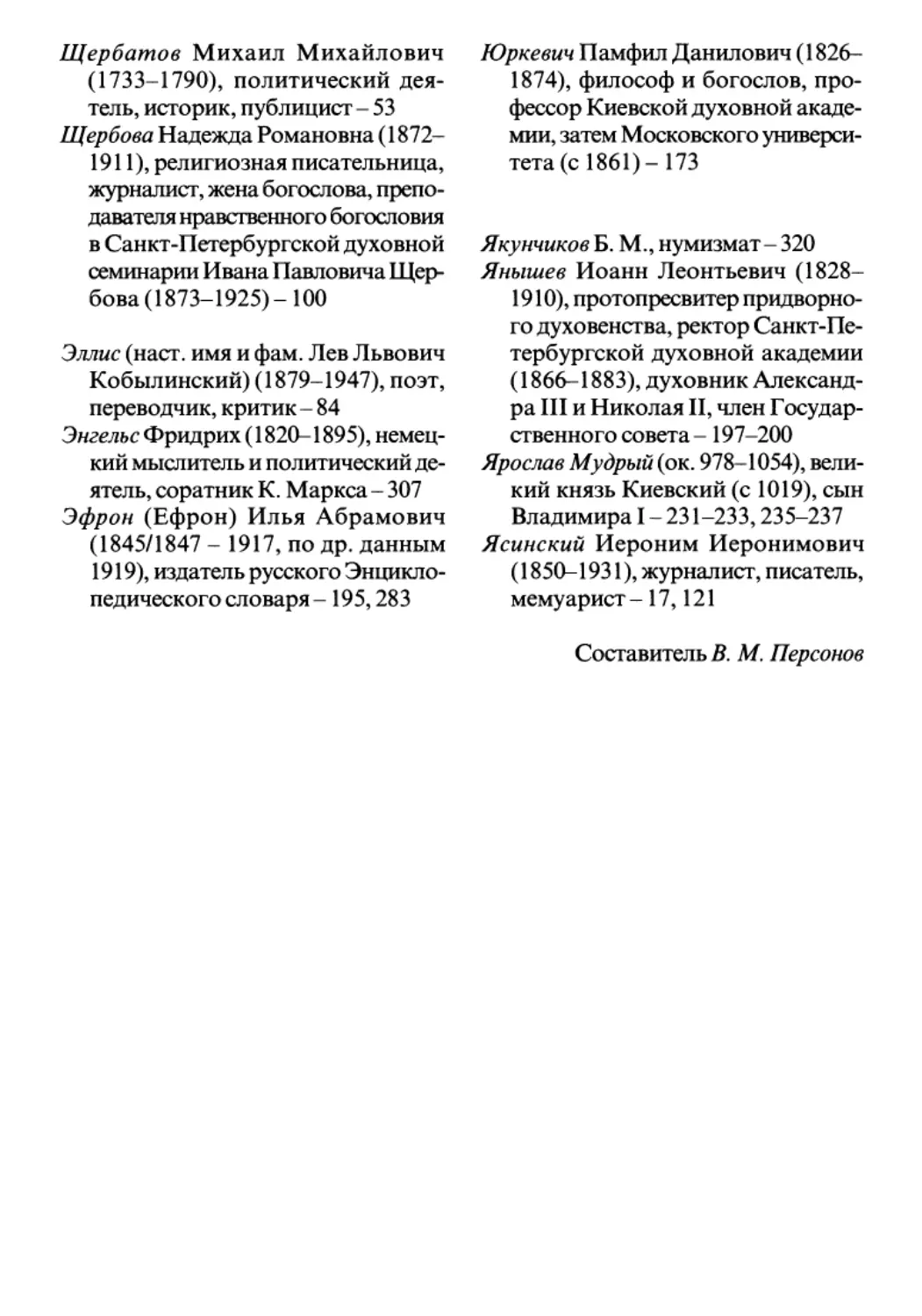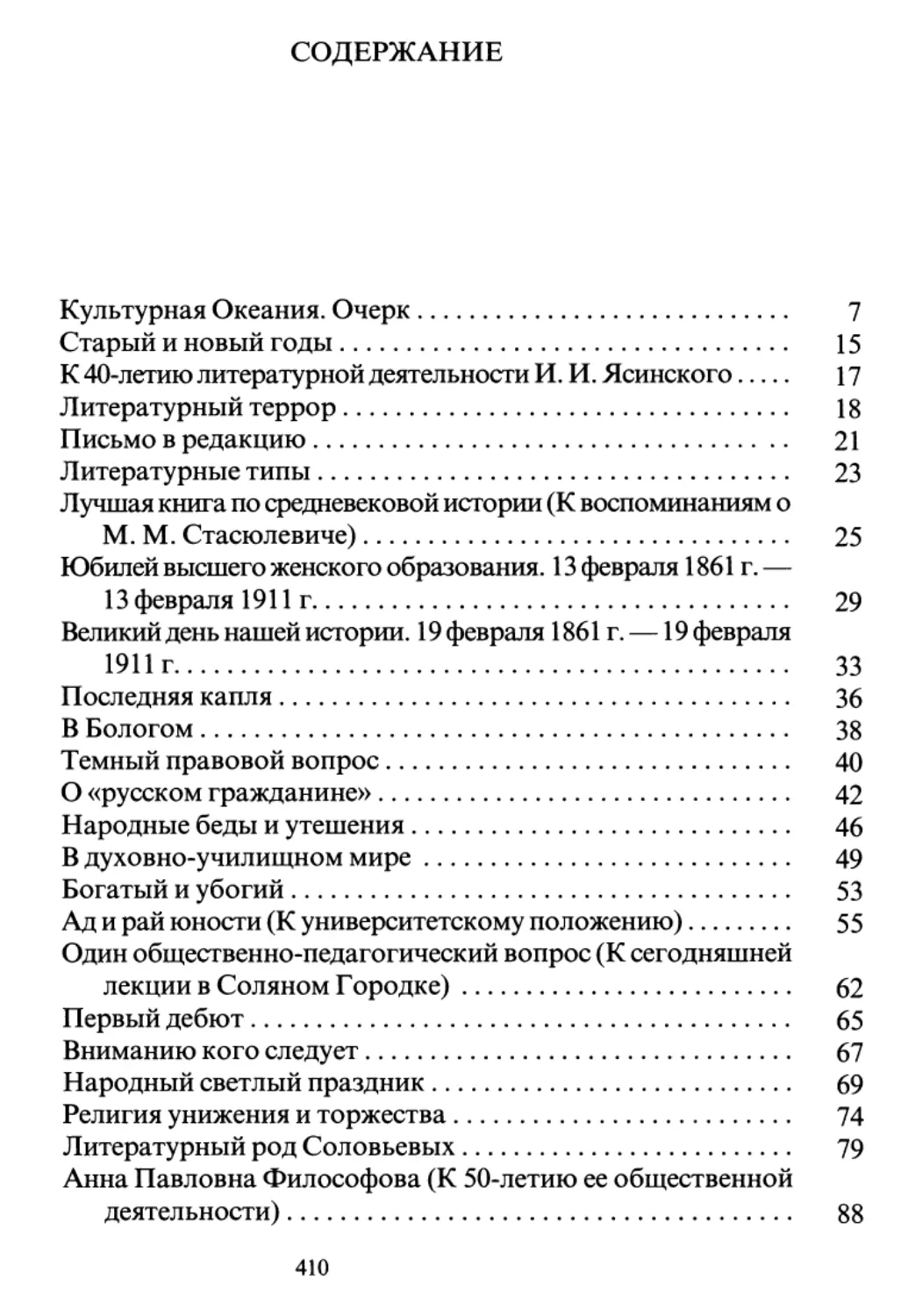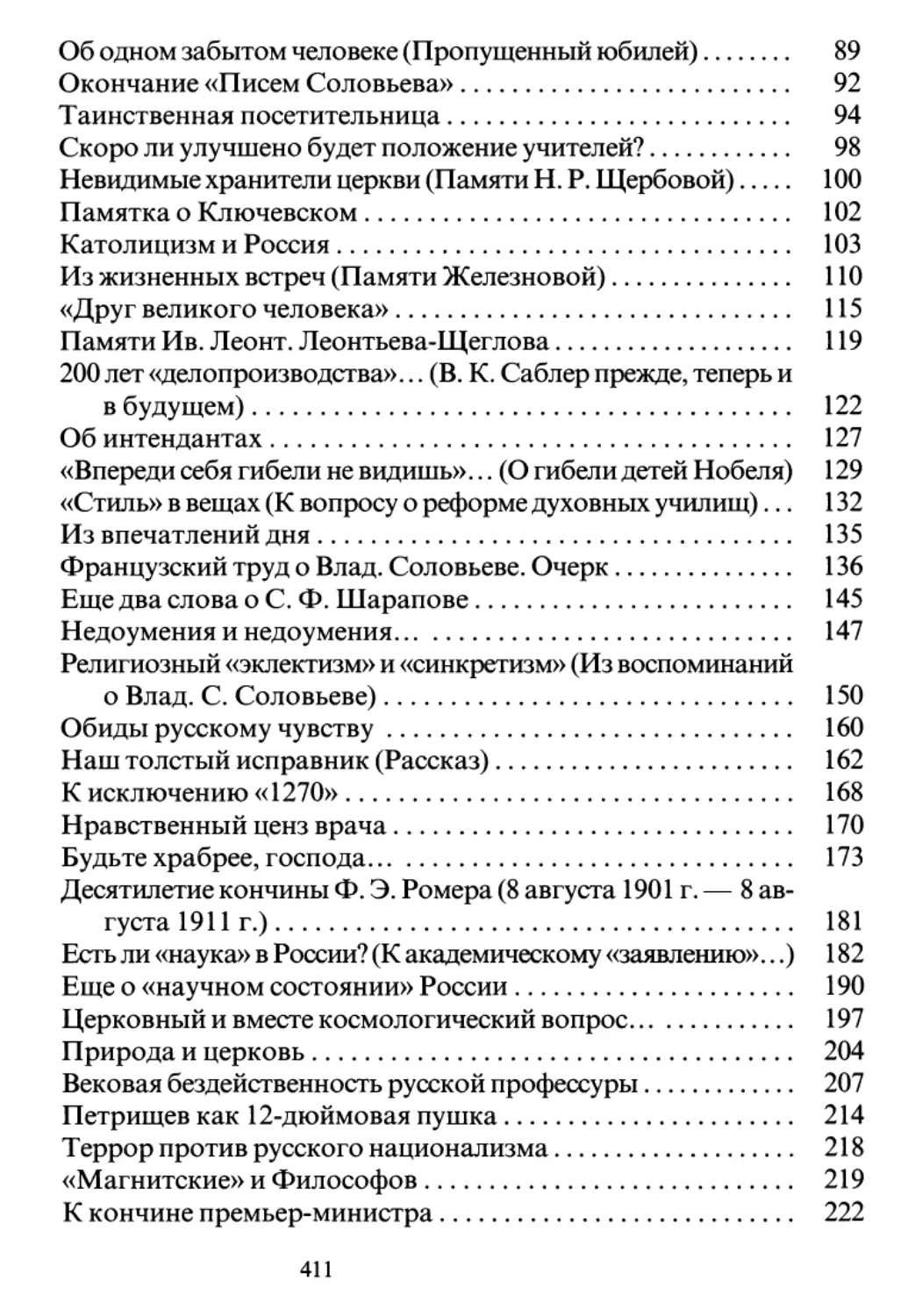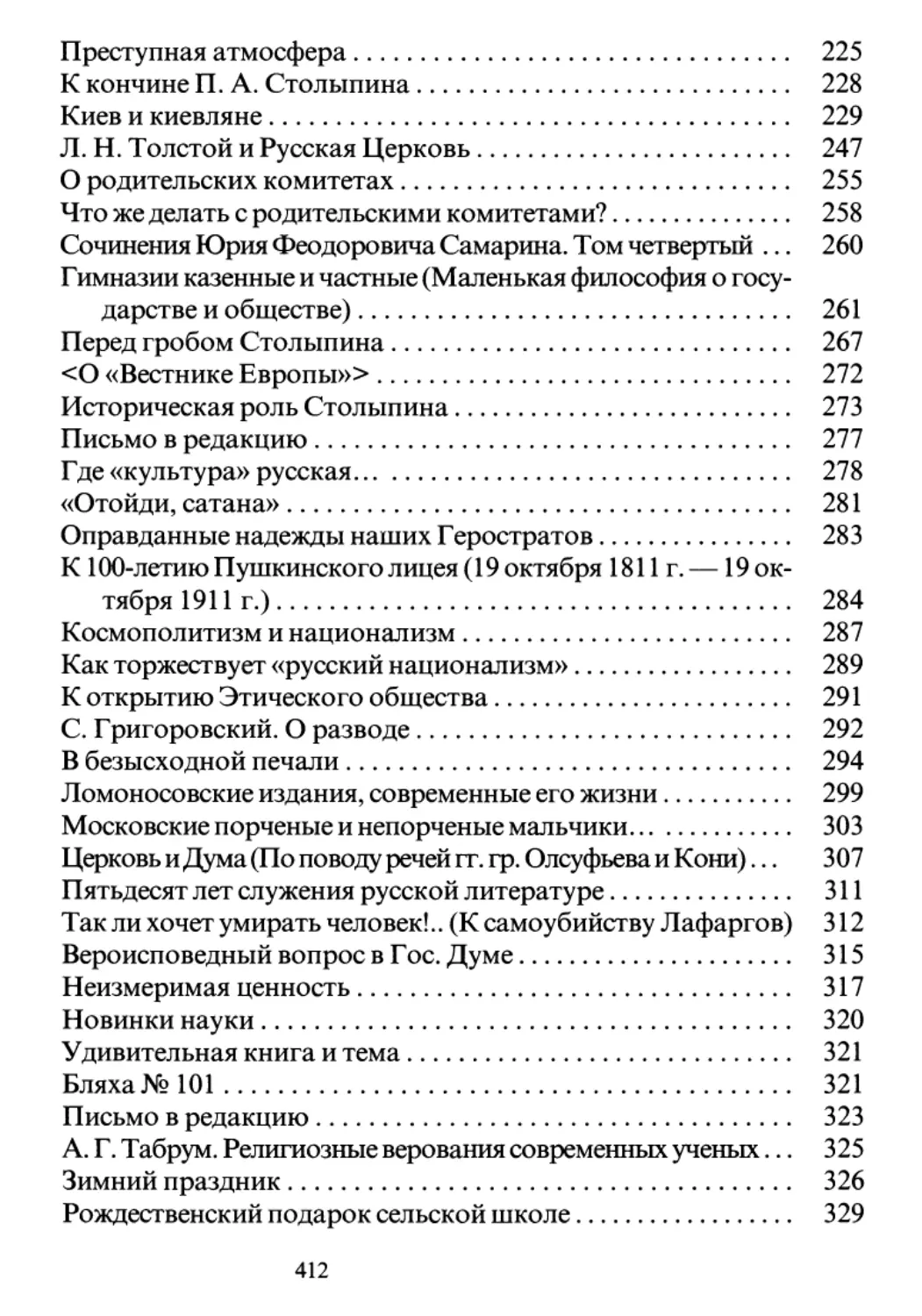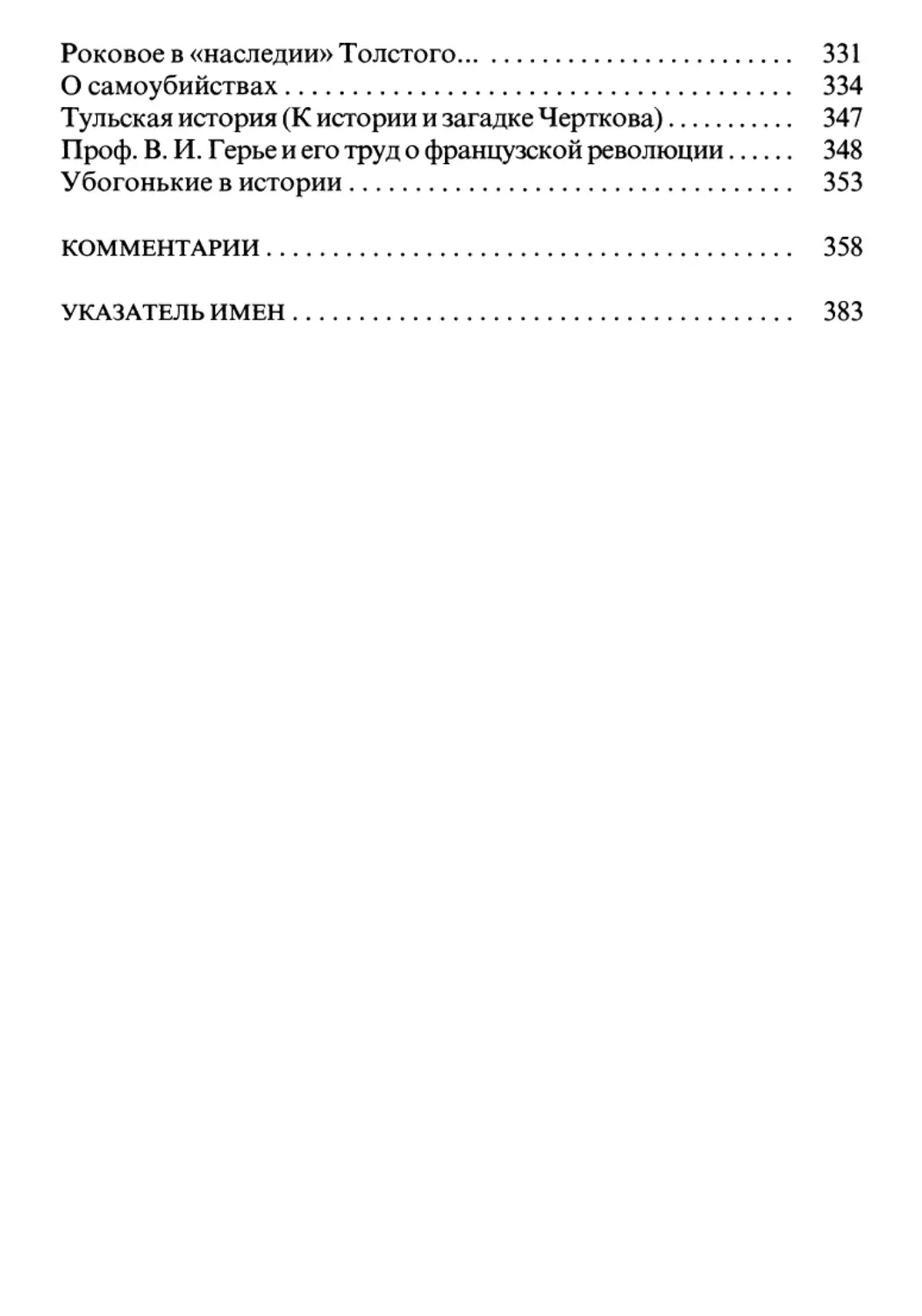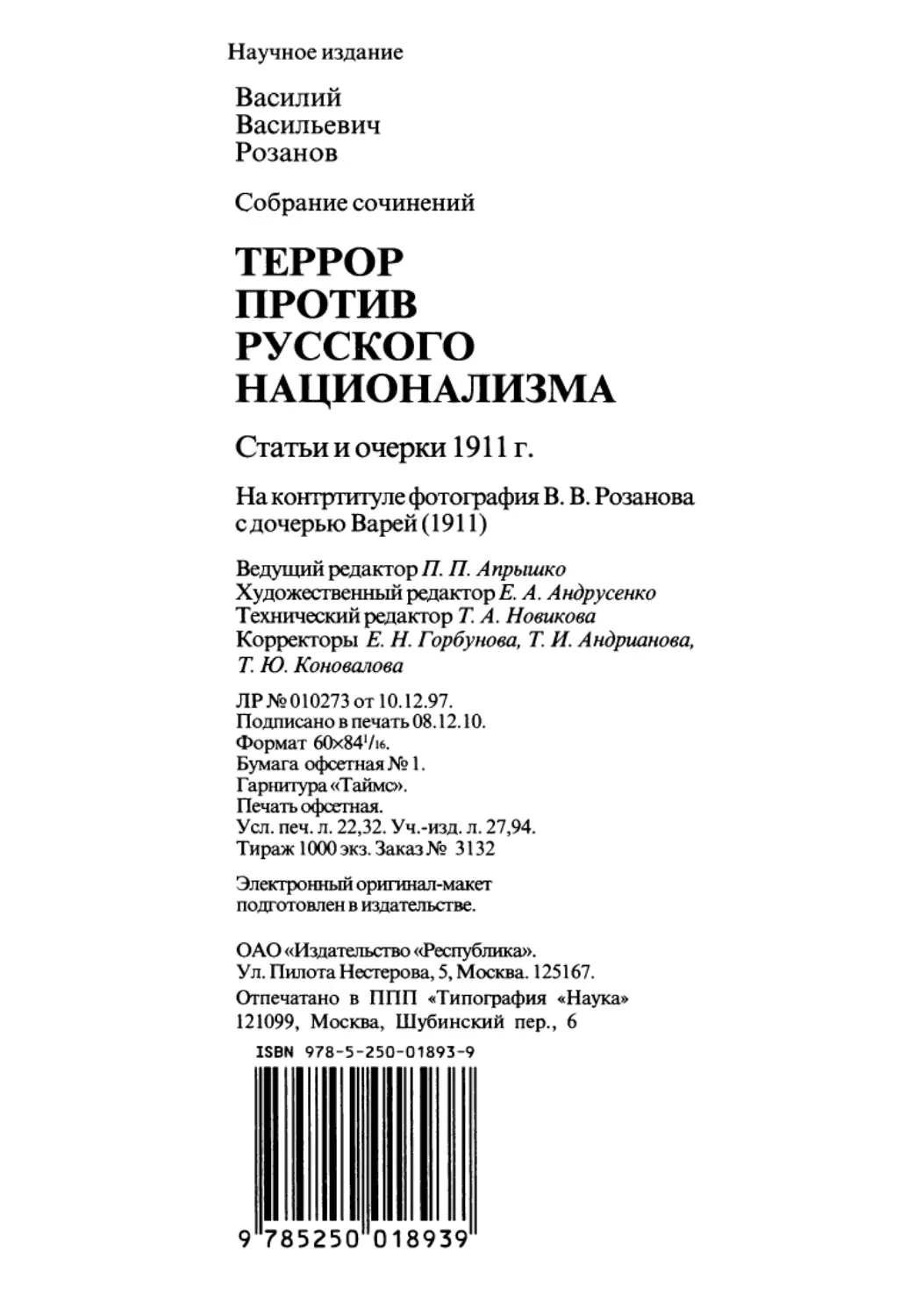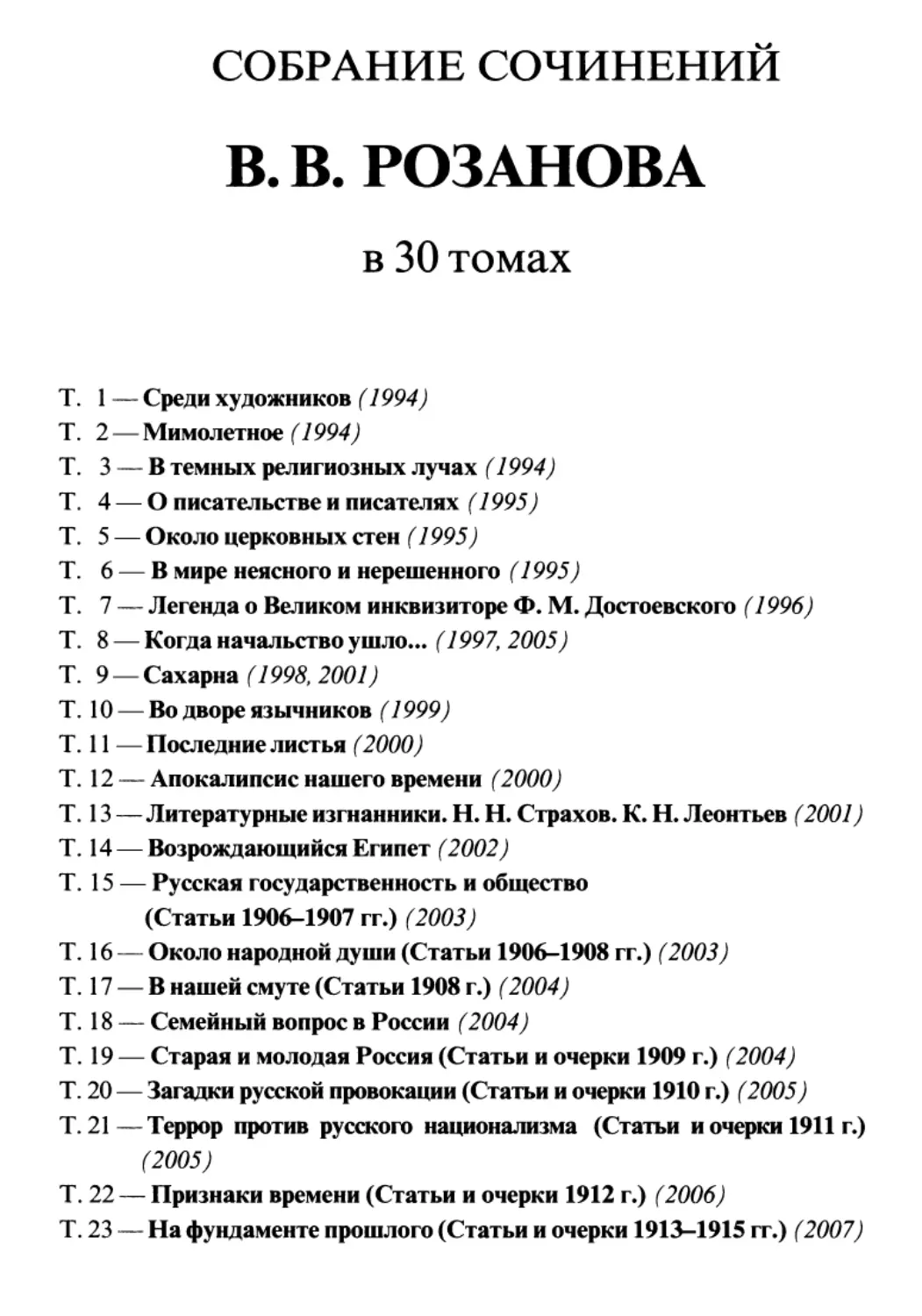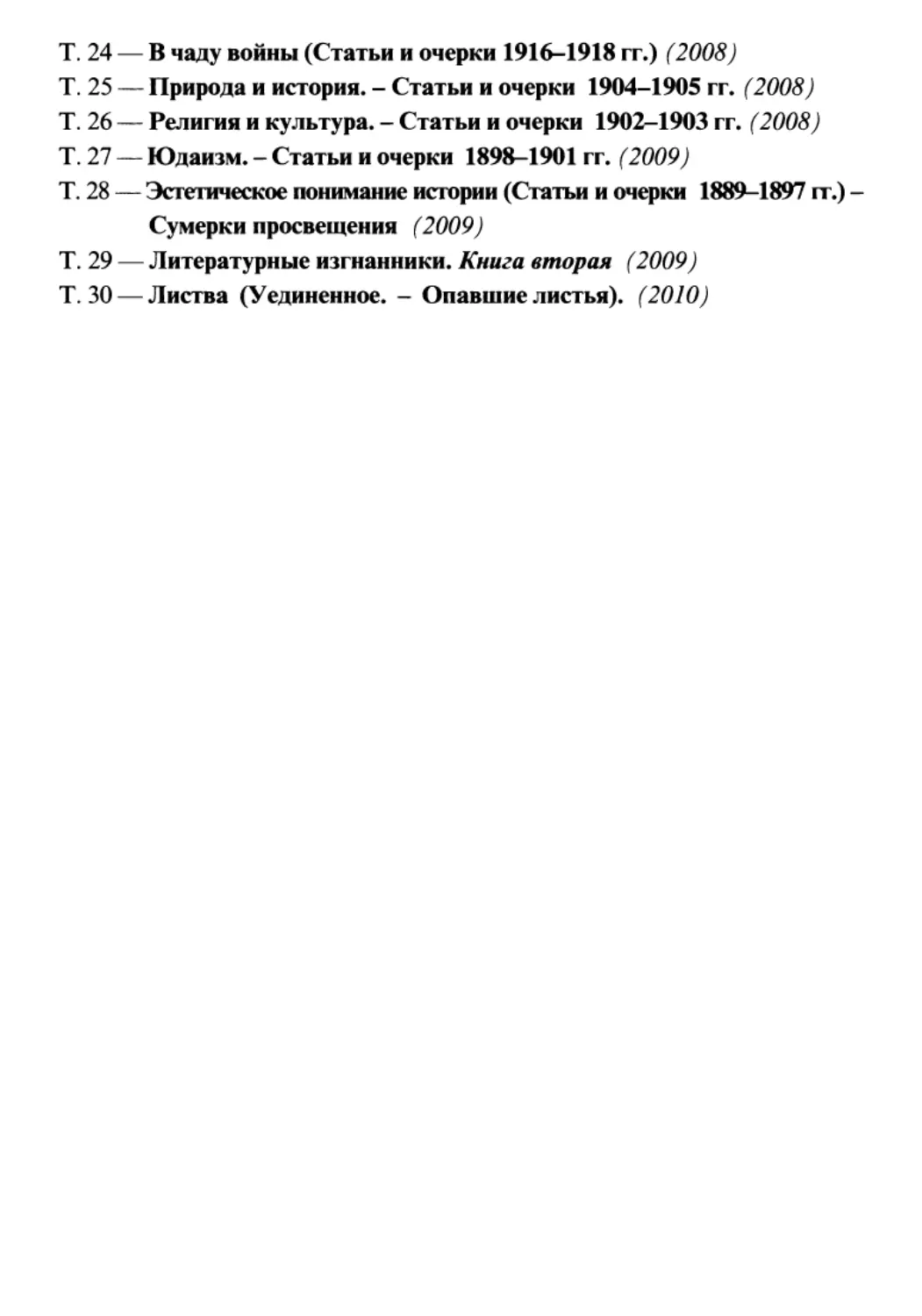Автор: Розанов В.В.
Теги: поэзия русская литература художественная литература собрание сочинений
ISBN: 978-5-250-01893-9
Год: 2011
Текст
В. В. Розанов
Террор
против
русского
национализма
Статьи и очерки 1911г.
В. В. Розанов
Террор
против
русского
национализма
Статьи и очерки 1911г.
Собрание сочинений
под общей редакцией
А. Н. Николюкина
Москва
Издательство «Республика»
2011
УДК I
ББК87.3
Р64
Российская академия наук
Институт научной информации
по общественным наукам
Составление и подготовка текста
А. Н. Николюкина н В. Н. Дядичева
Комментарии Б. Н. Романова
Проверка библиографии В. Г. Сукача
Указатель имен В. М. Персонова
Розанов В. В.
Р64 Собрание сочинений. Террор против русского национализ-
ма (Статьи и очерки 1911г.)/ Под общ. ред. А. Н. Николюкина.
Сост. А. Н. Николюкина и В. Н. Дядичева; коммент. Б. Н. Ро-
манова. — М.: Республика, 2011. — 413 с.
ISBN 978-5-250-01893-9
В настоящем томе центральное место занимает цикл статей В. В. Роза-
нова 1911г., вызванных убийством председателя Совета министров П. А.
Столыпина. Как всегда, в статьях и очерках писателя, впервые собранных в
отдельную книгу из газет и журналов, дается живая и своеобразная ха-
рактеристика событий этого года, дополненная раздумьями о прошлом и на-
стоящем России («Великий день нашей истории. 19 февраля 1861 г. -19 фев-
раля 1911 г.»; «К кончине П. А. Столыпина»; «Преступная атмосфера»;
«Л. Н. Толстой и Русская церковь»; «О самоубийствах» и др.). Большое вни-
мание уделено проблемам российской государственности, взаимоотноше-
ний церкви и интеллигенции, развития отечественной науки, а также нацио-
нальному и семейному вопросам.
Для всех, кто интересуется историей русской философии и культуры.
ББК87.3
© Издательство «Республика», 2011
ISBN 978-5-250-01893-9 © А. Н. Николюкин. Составление, 2011
КУЛЬТУРНАЯ ОКЕАНИЯ
Очерк
Года три назад, в пору Белостокского погрома, я разговорился с одним евре-
ем в вагоне по поводу всех этих событий. Было одиннадцать часов ночи;
вагон почему-то не был освещен, и я только с трудом различал, что против
меня сидят два еврея, с громоздким багажом, — в пальто и шляпах, по-ев-
рейски.
— Беда в разделении. Пока вы будете отделены от нас какою-то непере-
ступаемою стеною, за которую мы не можем проникнуть, и сами будете
удерживаться переступить эту стену, — мы и вы будем составлять два лаге-
ря, невольно враждебные. Надо примирение, надо соединение. Есть только
одна глубокая и настоящая форма соединения, это—соединение кровей.
Смешанные браки: я понимаю, что вы до сих пор смертельно враждебно
смотрели на них, ибо дети обязательно становились христианами, т. е. все
приобретали мы, а вы несли через эти браки чистую и постоянную потерю.
К тому же это оскорбляло вашу веру: ни один детеныш не может остаться в
вере отца-еврея, при матери русской, в вере еврейки-матери, при отце рус-
ском. Обида. Но времена изменились. Что вы сказали бы о браках, от кото-
рых дети равно могут быть и христианами, и евреями, по воле родителей,
по соглашению родителей?
— Не можем... закон запрещает! Нет, это невозможно. Да и счастья не
будет.—Он провел руками в противоположные стороны, как бы указывая
два встречных течения реки. — Не будет счастья: вот все так будет (сам
показывает руками), сюда течет, туда течет. Согласия не будет. Ничего не
будет, невозможно.
—А жаль. Столько приходится наблюдать явлений взаимной влюбчи-
вости. — Ия рассказал ему несколько примеров смешанных браков, конеч-
но, с переходом еврейской половины в христианство, но, действительно,
почему-то оканчивавшихся катастрофой. Он страшно внимательно слушал.
— Нельзя. Как вы хотите, если Бог это запретил евреям. Почему-ни-
будь Он запретил же!..
— У Соломона были жены-хананеянки.
— И за это под конец жизни он потерял угодность в глазах Божиих.
7
Слова эти не были вполне точны: склоняясь любовью к женам-ханане-
янкам, Соломон под конец жизни построил капища в Иерусалиме Астарте
и стал сам приносить ей жертвы. И за это, а не за брак с ними, он «стал
неугоден в очах Божиих». Мне интересно было знать, как теперешние ев-
реи, простолюдины, чувствуют Ваала. Такая древность. И я спросил о по-
клонении Ваалу. Долго он не мог понять, — думая, что я спрашиваю об
Иоаве, полководце Давида. Наконец понял :
— Бал! Баал! Но удвоения буквы «а» не было; была чуть-чуть незамет-
ная вытяжка звука «а». — О, это пустое! Вы знаете, во всяком веке бывает
свое суеверие. Теперь все преданы деньгам, — мы, вы. Такое головокруже-
ние. Пройдет. Так в древнее время евреи постоянно уклонялись к Балу.
Суеверие.
— Но что такое этот Баал?
На лице его выказалось глубокое презрение. Он вытянул руку, как бы
ища что-то указать. Но не находил предметов.
— Щепка!.. Ну, щепке можно поклоняться?! Дерево, пустое. Ничего в
нем нет. А суеверные поклоняются, что-то видят в ней, чтут ее...
Я поразился, до чего это отвечало духу, букве Библии: именно в этом
полуоттенке смысла «статуи», «изображения из дерева»,—с одной сторо-
ны, и «ничтожества», «пустого»—с другой. Нужно бы проверить еврейс-
кий текст четырех книг «Царств» в тех местах, где говорится, что вот та-
кой-то царь или сам народ «внес в Храм (иерусалимский) изображения»
или «статуи Ваала и Астарты». Может быть, в тексте сказано: «внес Ваала
и Астарту», и еще лучше в смысле имени существительного нарицательно-
го: «внес ваала и астарту». И слово «статуя» внесено переводом. Мы вернем-
ся как бы к спору «иконоборцев» и «православных» в Византии: «иконы» то
вносились, то выносились, буквально как «ваалы» и «астарты» во время ца-
рей. «Ваалов» изрубили, вынеся за поток Кедрон; «сожгли их мерзость» —
буквально как в Москве начала XVIII века поступали Тверитинов и другие
кальвинисты, за что, в свою очередь, их живыми пожег Стефан Яворский.
Живой человек был меньше и менее свят «изображения из дерева». Вот о
чем шел спор в Иерусалиме за 500—600 лет до Р. X. В Византии «икона»
победила. Перед ней зажигают лампады, ставят свечи, чего никогда ни пе-
ред каким живым человеком не сделают, самым праведным, святым, геро-
ем, царем. «Дерево выжило и победило», — в Византии, в Москве. Напро-
тив, в Иерусалиме и в Мекке (реформа Магомета) оно было окончательно
«сломано и сожжено», как «мерзость в очах Божьих», и в Храме, вокруг
Каабы, оставлены были только люди и животные (жертвенные), живое, кро-
воносящее, дышащее. «Бог есть Бог дыхания, Бог жизни» — вот понятие.
«Ваал»—это не иное имя и существо, чем Иегова, но «изображение»,
«статуя», «образ», «икона» его; как «Астарта» есть «ничтожное дерево»,
позолоченное и одетое, «царицы Шабаш», о которой знает каждый еврей,
что это «Невеста Божия». Евреи, в живых понятиях религиозных, не знают
«Единого Истинного Бога», отвлеченного, как Я в алгебре,—не знают те-
8
перь, не знали в древности, никогда. Для них всегда Бог «жив», «во веки
живущий», образом Коего на земле является не отвлеченный Homunculus, а
живые Адам—Ева, соединенные вначале, разделенные потом (сотворение
«из ребра», т. е. выведение из А дама). Прообраз не похож ли на образ? Если
Адам и Ева на земле, то и в небесах — Элогим (множ, число), боги, Он и
Она. Напр., «Слава Господня, наполняющая Скинию» наших переводов
читается в подлинном еврейском «Шехина», как в других местах еврей-
ских же текстов (Талмуд) наименование «жена» заменяется описательным:
«слава мужа»... «Царица Шабаш», которую прославил и Гейне, есть наив-
ное, народочное, пошедшее в легенды имя серьезного и библейского имени
«Шехины», «Славы Господней». Кажется, так...
Лучше всего определить «истинное» через внимательное рассматрива-
ние его отбросов, его страстных отрицаний. Тут мы подходим к самому
острию веры, часто закрытому. С этой точки зрения изучение «ваалов» и
«астарт» глубоко вошло, как средство проникнуть в «поклоняемого Иего-
ву». .. «Вы любодействовали с богами иными», — вечный упрек пророков
евреям. «Служение им» всегда именуется «любодеянием», «прелюбодея-
нием», изменою Иегове. Напр. (беру первое открывшееся место Библии, до
того такие места пестрят в ней):
«И было ко мне слово Господне:
Сын человеческий! выскажи Иерусалиму мерзости его, — и скажи: так
говорит Господь Бог (дщери) Иерусалима:
При начале всякой дороги устроила себе возвышения, позорила красо-
ту твою, и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего, и умножала
блудодеяния твои.
Блудила с сыновьями Египта, соседями твоими, людьми великорослы-
ми, и умножала блудодеяния твои, прогневляя Меня.
И вот, Я простер руку Мою на тебя, и уменьшил назначенное тебе, и
отдал тебя на произвол филистимлян».
«Назначенное тебе»—«вено», «женихов дар», т. е. территорию Палес-
тины, обещанной в «вечный дар» Аврааму при заключении с ним завета,
союза, в момент его обрезания. «Вено» это за прелюбодеяния неверной жены
тб уменьшается (частично завоевывается, — напр., филистимлянами), то,
наконец, вовсе отнимается (увод евреев в плен, в Вавилон, в рассеяние).
«И блудила ты с сынами А ссура, и не насытилась. И умножила блудо-
деяния твои в земле Ханаанской до Халдеи, но и тем не удовольствовалась.
Как истомлено должно быть сердце твое, — говорит Господь Бог, —
когда ты все это делала, как необузданная блудница.
Ты при этом поступала, как прелюбодейная жена, принимающая вмес-
то своего мужа чужих: ибо давала подарки любовникам твоим и подкупа-
ла их, чтобы они со всех сторон приходили к тебе блудить с тобою.
9
Сыпала деньги твои, и в блудодеяниях была раскрываема нагота твоя
перед людьми твоими и перед всеми мерзкими идолами твоими...
За то вот, я соберу всех любовников твоих, которыми ты услаждалась и
которых ты любила, со всеми теми, которых ненавидела (обратно, за их
измену? — В. Р), и соберу их отовсюду против тебя, и раскрою пред ними
наготу твою, и увидят весь срам твой.
Я буду судить тебя судом прелюбодеиц... и предам тебя кровавой ярос-
ти и ревности.
Но Я вспомню союз Мой с тобою во дни юности твоей, и восстановлю
с тобою вечный союз. И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе...
Я восстановлю союз Мой с тобою, и узнаешь, что Я — Господь, для
того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы вперед нельзя было тебе и
рта открыть от стыда, когда Я прощу тебе все, что ты делала, — говорит
Господь Бог» (Иезекииль, глава XVI).
Так и ожидаешь, что ответно услышит «Господь Бог» от юной «дщери-
супруги» Своей, Израиля-Сиона, этот южный же, страстный и мучитель-
ный крик:
Старый муж, грозный муж
Ненавижу тебя...
Кстати, Он и называет себя «Ветхим деньми», а в состав других имен-
прозваний Его входит также и эпитет «Грозный»... Во всяком случае, вот
отношение:
Ваал-статуя.
Ваал-любовник.
Ваал—это египтянин, ассириец, сын Ханаана, халдеянин, кто-нибудь
вообще не еврей (не еврейка), перед которым (для которой) еврейка (еврей)
обнажала наготу свою, «срам» свой, легла с ним на ложе, смешала семя
свое, соединила крови.
И общее:
пустое, ничтожное
чужое, столь же сильное, привлекательное, обаятельное, но — проти-
воположное,
не «Я» (Господь).
Само собою понятно, что «соединиться с нами плотски», допустить сме-
шанные браки—это значит не «кое-что» сделать евреям, не «один» закон
нарушить: но отречься от всего, все нарушить законы, все кольцо их сомкну-
тое, и, словом, это не значит «принять высший духовный закон Христа», а
именно, именно... поклониться перед Юпитером Капитолийским, Зевсом
Олимпийским, Баалом Тирским, покинув Иегову, Который нашептывал в ухо
Иерусалима эти нежные, чарующие слова,—ласковые, Господни слова'.
«Будешь ли переходить через воды — Яс тобою, через реки ли — оне
не нагонят тебя; пойдешь ли через огонь — не обожжешься, и пламя не
опалит тебя» (Исаия, гл. XLIII).
10
— Невозможно, невозможно,—как бы защищаясь, говорил сосед мой
по дороге, простолюдин-еврей, о смешанных браках.
А ведь так бы завидно; мы—господствующая народность, государ-
ственная; они — почти рабы, бесправные, во всем от нас зависимые. Же-
них — как царь и невеста—как рабыня, крепостная девушка, «замарашка»
историческая, по всем делам своим, по положению, по быту. Вдруг, смотря
из-под руки на подошедшего жениха, глазком и робким и счастливым, она
отвечает:
—Я чужая жена! Вы ошиблись, я не девушка, я женщина. Только моего
мужа вам не увидать: он — Бог... В ночи, перед лампадой, вы молитесь
ему: все народы молятся... а он приходит ко мне, ласкает меня, берет груди,
все, все, как муж.
Вот и слово, прямое, очевидное, записка с Неба, документ, метричес-
кая запись: «Ибо твой Творец есть супруг твой; Господь Саваоф—имя Его,
и Искупитель твой — Святый израилев; Богом всей земли зовется Он»
(Исаия, гл. LIV).
Мне кажется, что мой сосед-еврей и вообще евреи только не договари-
вают, не умеют выразить интимное чувство свое, свое отношение к христи-
анству и христианам:
— Это не одно и то же, христианство и христиане. Евангелие, вы гово-
рите, высшая мудрость, совершенный закон? Что же, мы не отрекаемся
читать Евангелие, восхищаться им, следовать ему. Наконец, даже ходить в
ваши храмы, слушать ваше богослужение, смотреть ваши красивые обря-
ды, креститься, причащаться... Хоть последнее и пустое, «баалы»... Но вы
и ваша плоть,—к чему тут? Сами же говорите, что христианство есть дело
«духовное», все — «дух» тут. Но вы немножко неправдиво, с какой-то зад-
нею целью, просовываете в «духовную религию» и плоть свою, тело свое,
семя свое, кровь свою, предлагая нам «смешанные браки»: вот этого мы не
можем! не хотим! То — «баалы», бессильное; но тут вы хотите войти с
силою своею, разорвать законное и сущее и вечное супружество мое, от-
нять у мужа жену, сманить ее на чужую постель... Ну, это в древности бы-
вало и вперед не будет.
И мой еврей твердил:
— Не можем! Не можем!
Тогда я решился испытать его чисто еврейским испытанием:
—Хорошо. Я понимаю—закон, грех. Но ведь на другой стороне стоит
жизнь? Смешанные браки, соединение кровей мною предлагается, как един-
ственное и решительное средство избежать, и навсегда, таких ужасов, как
Белосток, Гомель, Одесса, Кишинев. Евреи будут живы. Не важнее ли это
всех законов: ибо кому же и исполнять закон, когда убит исполнитель?
Еврей широко раскрыл глаза. Я заметил, при чтениях Талмуда, этот по-
стоянный его склон, по коему текут дробные мысли: что биотика человека,
сохранение крови и костей его, дыхания его, — выше всего поставляется,
даже и прямых заповеданий и запретов Иеговы. И это, нужно заметить, в
11
глубочайшее исполнение всех Иеговых же заповедей, которые все и направ-
лены к сохранению жизни, поддержанию жизни, продлению жизни. Все—
к жизни. Но вдруг чужой народ требует нарушить заповедь целой жизни:
тогда жизнь сохраняется как суммарное исполнение всех заповедей, и ради
этого нарушается которая-нибудь одна, требуемая инородцами.
Помнится, который-то византийский император потребовал от евреев,
под страхом казни, не обрезываться. В то время законы были не шутка, а
жизнь, — и уж особенно евреев, — ни во что не ценилась. Предписано —
исполнено. Стали евреев казнить. Произошли первые казни. Собрались
евреи. Плакали. Прозелиты встали и в пламенных речах требовали «уме-
реть для Господа». Опять плакали, боялись, страшно боялись. Встал тогда
самый почитаемый «равви» века и высказал:
— Братья, для чего дан нам закон? Наш святой еврейский закон не как
иные суетные законы, произволением человеческим даваемые и отменяе-
мые. Нам, евреям, закон дан Господом нашим—для жизни. Итак, какой же
закон, когда жизни нет, нет живущих? Пока жизнь—дотоле закон: посему
раз предстоит нам умереть за соблюдение обрезания, то уж лучше будем
жить и не обрезываться. Пока не пройдет принуждение.
Принуждение прошло через несколько лет. И сохранившие жизнь свою
евреи стали обрезываться...
Однако мне было понятно, что «смешанные браки» еще труднее, чем и
«не обрезывайтесь», ибо идет вглубь потомства, есть нечто «без возврата»
и окончательно уходящее от Иеговы.
Видя, как широко раскрыл глаза еврей, услышав о «смешанных бра-
ках» ради сохранения жизни, я продолжал:
—Закон—это я понимаю, что трудно его исполнить. Заповедание Иего-
вы. Но, когда в XIII веке были особенно сильные гонения на евреев, вели-
кий учитель ваш Герсон воспретил же многоженство. А множество — за-
кон Иеговы: Авраам и имел большую на себе любовь, чем Исаак-одноже-
нец. Да и понятно: Бог велел наполнить землю чадородием, а не просто
как-нибудь размножаться. Но Гереон сказал: христиане и так ненавидят,
истребляют: когда же мы еще умножим — они ожесточат гонения свои. И
наложим проклятие на всякого, кто, имея одну жену, возьмет другую.
— В Турции евреи имеют по нескольку жен. Запрет Гереона относится
только до западных стран, христианских...
— Вот. И раз вам в том можно было уступить, то не могли бы вы со-
звать собрание учителей своих, ученых раввинов, и разрешить для всего
племени вопрос о смешанных браках. Посмотрите, ведь русские вам усту-
пают: у нас есть субботники.
— Как же, в Саратовской губернии... Лучше нашего исполняют закон!
Обрезываются, и шабаш, и все так в точности...
Русские, склонные вообще к обряду и мелочности в обряде, вообра-
жаю, как восторженно приняли 600 (или около 700) предписаний Талмуда.
«То-то Сион»... Еврей продолжал:
12
— Когда ихние приезжают в Петербург, то многие тысячи отсюда
увозят...
— Как? Почему?
— Евреи дают, мы даем. Любим их, больше своих любим...
— Вот то-то, русская кровь. И мы не гонимся: не гнались бы вы, иногда
допускали бы через смешанные браки переходить в христианство—и по-
громов бы не было. Жили бы мирно, мы уважая вас и вы уважая нас. А
склонность к обоюдным бракам очень велика... — Ия рассказывал еще
случаи.
— Бывало, особенно в древности, и все плохо кончалось, кончалось
грозно. Бог еврейский так: евреи льнут к другим городам—и тогда несча-
стие, Бог отступает от нас, народы начинают нас ненавидеть, бьют нас, ист-
ребляют; мы тогда вспоминаем нашего Бога, отдаляемся от других наро-
дов, Бог приближается к нам, евреям становится лучше жить; и в счастье
мы опять не помним Бога, опять сближаемся с другими народами, Бог гне-
вается. .. и так горим, горим!!
Действительно, вся история Библии ведь в этом и состоит. Вдруг меня оза-
рила мысль: Боже, да ведь магометане, татары, киргизы, калмыки, сарты, турк-
мены стоят от нас таким «особняком», как евреям и не мерещилось. Евреи
повсюду у нас: в медицине, адвокатуре, в банках, торговле, на бирже, в театре,
в наших костюмах, галстухах, шляпках, везде, везде... Что же мы говорим об
их отчуждении, когда, наоборот, ни один народ так нелипнет к нам, как евреи,
не ищет так смешаться и замешаться с нами... Финны, немцы, союзные фран-
цузы — все это на улице и в работе, в отдыхе и удовольствиях стоят гораздо
более особняком от нас, нежели евреи. Возьмите евреев: как они толкаются в
нашу литературу! Неужели для того, чтобы «ожидовить» ее? «Ожидовление»
выходит, правда, потому что они евреи, но не намеренно, а само собою; основ-
ной же натуральный и необдуманный факт заключается в том, что они с страст-
ным желанием входят в русскую литературу, большую и малую, журнальни-
чают, вчитываются в Тургенева, Достоевского, Влад. Соловьева, Толстого,
Максима Горького: как этого решительно не делают ни немцы, ни шведы, ни
литва, ни эстонцы, ни финны. Финна не заставишь говорить по-русски около
Териок,—4-я станция от Петербурга; татарина не залучишь в гимназию. Но
никто не говорит об «обособлении» татар, и никто этим не тяготится. Евреи
могли бы «продолжать» своего Меймонида, Мендельсона, Спинозу, Гейне,
Давида Рикардо. Предшественники почтенные. Но они, забыв «своих богов»,
чтут Максима Горького, кропают повестушки а 1а Горький, кропают стихи,
помещая их в «Русск. Бог.» и третьестепенных газетах, везде осмеиваемые,
неудачно, почти гонимые. Так и вспоминается из Иезекииля:
«Ты не как другие женщины, которые получают подарки от мужчин: но
ты сама даешь деньги».
Боже, до чего мы не умеем даже словесно выразить страдание свое:
евреи тягостны именно тем, что они не замкнуты, не связаны в спаянное
кольцо, а, напротив, разомкнуты, рассыпались, похожи на веревку, конец ко-
13
торой бросается туда и сюда, всюду... Так же, вероятно, было это и в Г реции,
Риме, Египте. «Александрийские евреи», «испанские евреи», теперь эти «рус-
ские евреи», в таком множестве гибнущие, как Геся Гельфман 1881 г., как
Аарончик, заживо сгнивший в Шлиссельбурге, как Гершуни, тоже было за-
пертый там и потом переведенный куда-то в тундры Сибири. И нужны были
этим людям всякие «Union Israelite universale»*,—для его «прекрасных глаз»,
для торжества «своих» Ротшильдов гнил нищий Аарончик в Шлиссельбур-
ге, 22-летний юноша! «Русские евреи», «испанские евреи» — с таким не-
сходством между ними! С таким сходством, по крайней мере, русских евреев
с нищим русским студенчеством, с гимназическою голытьбою, зачитываю-
щейся Боклем и Писаревым, теперь, верно, Горьким и Каутским.
Боже, все народы—как кучка, «своя» и «свои»: одни евреи как амальга-
ма облепили человечество, в Америке, Капштате, вопреки закону своему,
своему Богу, Библии своей: и несть прилепляясь к «ваалам», только духов-
ным «ваалам», как в древности. Пророки их: это были националисты, как
наш Катков, как «славянофилы», с той же программой: «Россия—для рус-
ских», «евреи—для Иеговы». И как наши Писаревы и «шестидесятники»
побили славянофилов, оплевали их, говоря, что «валило — всемирное», что
«все люди—братья», и, словом, liberty, dgaliГё, fratemitd,—так разные Аха-
вы и Ахазы, Гофолии и проч, «приказали разыскать Илию, чтобы распи-
лить его пилою». Нравы были другие, люди пожестче, покрепче: но тече-
ние мировых рек, — кто его не увидит здесь! Пророки — национализм; но
сам Израиль—вечная амальгама. И вечная, ни одному народу в такой силе
не присущая — всемирность. Хочется мне договорить почти пугающую
вещь: все тенора и тенора, — говорю об евреях. Меньше баритонов, совсем
нет басов, никогда—октава. Женственный, типичный, картавящий, мягкий,
нежный, голос: тон, переходящий в тоны ласкающие, обласкивающие, моля-
щие, вкрадчивые. Это—всемирная женщина, суетная, тщеславная, мелочная,
денежная (женщины денежнее и крепче в деньгах мужчин), торопливая, не-
рвная, крикливая, раздражительная,—а паче, паче всего льнущая к «ваалам»:
—Эти большие мужчины, ассирийцы, — ты льнешь к ним!
И влюбленными, влюбчивыми глазами они глядят «ваалам» в глаза: бе-
гут на побегушках в Вильне, в Севилье. Все занятия служебные, низшие. Вот
не «барин»—еврей: вечная служанка, горничная, прачка все-то она стирает
грязное белье разных цивилизаций, греков, римлян, теперь в революции—
нас, русских. Всем нужная баба. «Отыщите мне бабу, надо белье выстирать»,
«сыщите мне еврея—надо старые вещи продать». И приходит баба,—стоит
в передней; приходит еврей, — кланяется из передней. Как они похожи друг
на друга: оба—худые, редко—толстые, никогда—великаны, «гвардейцы»,
с голосом, то умоляющим, то робким, заискивающим, льстивым.
Даже до Ротшильдов, ссужающих королей деньгами, все евреи несут
служебную роль, клонятся на плечо к другому, как слабая и гибкая лиана на
* «Всемирный союз израильтян» (фр.).
14
сучья тысячелетних дерев, как женщина около мужчины: прямо не могут
стоять самостоятельно, гордо, одиноко, твердо, самобытно. Хотя глубочай-
шая самобытность есть и в лиане, в этом «около другого», «опираясь на
другого». Вечные—посредники; т. е. — помощники, факторы; что-то про-
межуточное и сливающее; точно острова около материков, культурная «Океа-
ния» среди пяти частей света. Их «успех»? А разве «слабая женщина» не
успевает в человечестве? «В семье женщина — как шея: голова сидит на
ней, но она вертит головою», «хозяйка дома». Евреи во всех цивилизациях
и занимают, страшно быстро, это положение «хозяйки дома», к которой все
обращаются, всем нуждам она удовлетворяет, за всеми гостями ухаживает
и (думаю) домочадцев бережет: хотя главенствующими в доме не делает.
Не она вела войны в Риме, создала искусство в Греции, философию в Гер-
мании. Она только помогает всему, облегчает все.
К ней все обращаются, потому что с такою готовностью, охотою, нату-
ральною — никто так не побежит и не исполнит.
Евреи замечательно не творческая нация—как и женщины; не начинаю-
щая, без инициативы. Давид Рикардо был после А дама Смита, Спиноза—пос-
ле Декарта'. а это—величайшие из них. Они (чуть не сказал оне) только любов-
но продолжают, гениально разрабатывают', все у них в деталях, в мелочах',
именно—в факторстве. Этому всемирно-историческому плодоношению, бере-
менности (но не зачатию!) они и оне отдаются со страстью: и холят чужие тру-
ды, чужой дух, их взволновавший, увлекший далеко-далеко с их собственных
путей, национальных, «сионских»,—с нежностью истинного и глубокого мате-
ринства, без подражания, самостоятельно, как свою роль, свое назначение! Тут
они не похожи на французов или греков (всемирный «эллинизм»), но глубже их,
ибо у них это вытекает не из подражательности или исторического положения,
не из легкомыслия или подвижности духа, а из самой физиологии почти и вооб-
ще страшно глубоко, природно и первоначально. Во все гнезда птица эта кладет
свои яйца, выводит детей во всех странах и народностях; так и это вызывает
всемирный взрыв чувств против них; но не принимается во внимание, что она
зато принимает в пеленки свои духовных детищ всех наций и выращивает их,
как бы они были рождены ею самою. «О, ваалы! ваалы!»—«Израиль, ты дол-
жен в себе оставаться, собою, Ед иному своему Иегове—служить»... Но за все-
мирное призвание свое евреи избивали своих Катковых и Аксаковых...
СТАРЫЙ И НОВЫЙ ГОДЫ
В новый год мы вступаем без особенной новизны в надеждах... И это не
может не быть печально, так как ожидание новизны или «воля к новизне»,
говоря языком Шопенгауэра, есть не прихоть, не фантазия, не «дурь» по
фразеологии людей «старого завета», а органическая потребность человека,
столько же вытекающая из законов души его, как и из законов его физиоло-
гии. Сам человек вечно обновляется, в самом человеке ничто не «стоит на
15
месте», все перерабатывается и назавтра является в другом виде: и есте-
ственно, что человеку несносно, когда его и физический и духовный глаз
видит все одно и то же... Подобно тому как мы любим путешествовать и
это есть здоровая потребность,—наконец, при невозможности путешествия,
хоть выезжаем куда-нибудь, чтобы увидеть других лиц или другую обста-
новку, — так же точно «путешествия во времена», т. е. перемена в каждом
новом годе,—есть непременная и прекрасная потребность человека, есть
признак человечности...
Вот этой потребности благородных перемен очень мало отвечал истек-
ший год и не обещает ничем ответить новый год. То, чем занят русский
человек, что лежит перед его взором, чтб представляется его уму, — все это
как-то «залежалось», представляет вид чего-то «лежалого» и «изношенно-
го». Если мы обратим внимание на три категории явлений, естественно
наполняющих нашу заботу и ум, на общественность, литературу и госу-
дарственность, то мы по всем трем линиям увидим убыль и нигде прибы-
ли. И если говорить о «заботах», то страшно то, что собственно не о чем
«заботиться», что убраны самые предметы забот. Само собою разумеется,
что это вовсе не выражает, чтобы все дела наши были приведены в такое
великолепие, что остается только сложить руки и любоваться. Совсем на-
против: предметов для тревоги слишком много, душа русских людей тре-
вожно томится и даже тревожно испугана многим; но все это впустую или
безнадежно, так как все сложилось таким образом, что нам разрешаются
только самые крошечные заботы, а все крупное куда-то убрано или задер-
нуто какою-то завесою. Государственный строй далек от того, чтобы яв-
лять собою новый и могущественный вид, вид чего-то энергично и успеш-
но работающего. В конце концов самые важные перемены всегда суть ад-
министративные, так как администрация реально управляет страною и от
нее находится в зависимости решительно все, жизнь всего народа, до мело-
чей и подробностей. И вот общество не может не чувствовать, что здесь все
осталось как-то дореформенным: старая машина, в некоторых частях пост-
роенная еще при Екатерине II, по-прежнему скрипит, медленно тащится и
завязает часто на полдороге.
Великую «убыль» мы понесли в литературе. Это — смерть Толстого.
Она тем печальнее и до известной степени страшнее, что вокруг не вырас-
тает эдаких обещаний. Здесь мы страдаем каким-то перепроизводством ин-
дивидуальности, страдаем этим много лет: оно выражается в том, что по-
лупоэтики и кой-какие беллетристы взапуски один перед другим выдумы-
вают до того вычурное и изломанное, до того интересное единственно только
им самим, что начинает распространяться грозное явление—отвращение
читателя к новой книге и к новому имени в литературе. Литература точно
потеряла связь с действительностью и сохранила единственную связь с из-
мученным и истощенным воображением своих авторов. В этом отношении
далеким намеком стоит одно утешение: это пробуждающееся отношение к
корифеям последнего десятилетия. «Эпоха (!) Горького и Андреева», пото-
16
му что было время их безраздельного царства в литературе, — была пе-
чальною эпохою ходульности, вычурности, трескучих эффектов, треску-
чих фраз и исключительно словесных тем, т. е. таких элементов, которые
раньше были недопустимы в литературе. Наша прекрасная литература все-
гда была проста в глубине своей и глубока в простом, как наш народ, как
вся Россия. И последние «новаторы» явились какими-то почти иностран-
цами в ней, —должно быть, от начитанности. Явились без традиции перед
собою и, Бог даст, без потомства после себя.
Пожелаем обществу, «читателям», дружнее стать «на страже литерату-
ры», да и на страже общественных идеалов и, наконец, самой государствен-
ности. Бодрее — вперед, бодрее — в духе исконных русских начал, но, од-
нако, — вперед и вперед...
С Новым годом, господа... И будем бодрствовать!
К 40-ЛЕТИЮ
ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И. И. ЯСИНСКОГО
8 января исполняется 40-летие литературной деятельности Иеронима Иеро-
нимовича Ясинского (поляк по отцу и малороссиянин по матери,—дочери
полковника Белинского, отличившегося в Бородинской битве). Сорок лет
деятельности прежде всего огромный жизненный труд, который уже сам по
себе не может не быть оценен обществом и печатью. Везде умный и начи-
танный, всегда наблюдательный, он во многих своих повестях, особенно в
ранних, обнаружил и крупный беллетристический дар. Можно, однако, ду-
мать, что художественно-беллетристическое творчество было стеснено и
скомкано непрерывной и неустанной работой его как журналиста и публи-
циста. Он к слишком многому и разнообразному тяготел, чтобы дать силь-
ное произведение в одном каком-нибудь роде: судьба большинства писате-
лей. Публицистические статьи его, подписанные псевдонимом «Независи-
мый», появлялись в редактируемых им газетах и журналах. Большинство
беллетристических произведений подписаны псевдонимом — Максим Бе-
линский. Начав свое писательство в кругах резко позитивного исправления,
в половине 80-х годов прошлого века он разошелся с этим направлением и
выдержал обычный «штурм слева» за независимость своих взглядов: но удер-
жался и удерживается до сих пор в идеалистическом и эстетическом тече-
нии нашей литературы. С этого времени он печатался в «Русск. Вестнике»,
«Русск. Обозрении», «Наблюдателе»; немногие его очерки были помещены
и в «Нов. Времени». Ясинский издавал и собственные журналы—«Ежеме-
сячные сочинения» и затем «Беседу». Из беллетристических его произведе-
ний до сих пор читаются с удовольствием «Киевские рассказы», «Бунт Ива-
на Ивановича», «Трагики», «Старый друг», «Петербургские туманы», «Ор-
динарный профессор». Затем выдержала пять изданий его прекрасная по
17
общеполезности книга «Этика обьщенной жизни». Эго—рассуждения обы-
вателя и философа о том, как вообще грубо и плоско проходит наша обы-
денная жизнь и как мы могли бы ее наполнить вкусом и изящностью, не-
много подумавши над бытовыми «мелочами», из которых, однако, слага-
ются 9/10 жизни каждого из нас.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕРГОР
«Розанов один из первых русских писателей»... «Это
нужно помнить»... «Это должны помнить и враги его».
П. Струве, «Русск. Мысль», декабрь.
Тоже—январь.
«Можно бы и извинительно Розанову плюнуть в лицо.
Но мое христианское чувство не дозволяет этого».
П. Струве, «Р. Мысль», янв.
«Можно в лицо плюнуть Розанову за его прошедшее, за
его настоящее и за его будущее».
П. Струве, январь.
«О Розанове разнесся крик по печати: «Поймали вора».
77. Струве, январь.
«Розанов о себе говорит, как один герой Достоевского:
«Я не подлец, а я только широк».
«Русск. Богатство», аноним.
«Розанов — бесстыжий двурушн ик».
А. Пешехонов, «Русские Ведом.».
«О Розанове как о человеке можно быть невысокого мне-
ния».
«Вести. Европы», К. А (рсеньев?)
Социал-демократия давно установила в нашей литературе террор. Как пел
Минский, присоседившийся на тот день к Горькому и к какому-то «Богдано-
ву», которого, впрочем, за глаза он называл «дураком»:
«Кто не с нами — против нас: он должен пасть».
Бедненький, он сам «упал» куда-то вон из России, как и вообще не столько
враги социал-демократии «пад ают» перед их сокрушител ьн ыми ударами, сколь-
ко они в бессильной злобе сами «от своих ударов» разлетаются в стороны...
18
Но в вяленькой, трусливенькой печати они терроризируют. Орудие тер-
рора — лишение чести, опозорение, как я выразился, «кислота в лицо».
Что для женщины «красота лица», то по понятным мотивам для писателя
есть оценка его нравственной личности, его искренности и правды. Лишен-
ный этих измерений, — писатель, само собою разумеется, не существует,
умирает.
Социал-демократия сама бессильна овладеть литературою: ведь талан-
тов там нет и все вроде «Богданова»; зато она задавила всякий протест про-
тив себя, через угрозу «опозорением», и в значительной степени заставила
служить себе «сочувственными отзывами» или «почтительной полемикою»
почти всю печать. Все сводится к шантажу, угрозе и клевете: и вне этих
орудий социал-демократия, в сущности, литературно не существует.
Но где «болото», там и «утопленник»: бедненькая социал-демократия,
обольщенная лестью со всех сторон, не догадывается, какой она давно «утоп-
ленник» и «мертвое тело» среди этих банкиров, издающих социал-демо-
кратические газеты («Утро России»), богоносцев и боготворцев, аристок-
ратов и чиновников; из всех их, — она увидит в грозный час, — «шубы не
сошьешь». Но это ее дело, и пусть сама разбирается в своей канцелярии.
Струве совершенно прозрачно устроил мне «кислоту» в лицо. Устроил
с оглядкой на социал-демократию, которую про себя он так же презирает,
как Минский в пору редакторства «Нашего Времени», и в которой, как
Минский, он так же заискивает, — особенно в декабре и январе... На уст-
ном суде, суде чести литераторов или обычном государственном суде, где
есть время, где можно часы говорить и особенно можно ссылаться на уст-
ные разговоры, я мог бы доказать ему, что все его нападения против меня
внутренно-лживы, и об этом он сам знает; что они глубочайше фальши-
вы, что из двух нас, уж конечно, он «двурушник», работающий для торго-
во-промышленной партии в Москве (об этом писалось в газетах) и одно-
временно с этим пуская у себя в журнале, как редактор, социал-демократи-
ческие статейки... Маленькая рыбка за всяким кораблем плывет, откуда
через борт выкидывается кой-что... До чего притворно все его негодова-
ние на одновременную работу в изданиях противоположных политических
убеждений, можно видеть из того, что он сам меня приглашал к этому, все
шло через его руки и у него на глазах, и пять лет назад, и год назад! Что же
он теперь молится о душе «грешника» (тон последней его статьи), когда он
сам меня соблазнял? «Душеньки» завелись в литературе... Точно так же на
подобном суде я мог бы доказать седовласому «Вестнику Европы», что он
не смел выражаться обо мне в том смысле, что «как о человеке обо мне
можно быть невысокого мнения»: ибо едва ли седые головы снискивают о
себе «высокое мнение», когда положены к ногам или сапогам, конечно не-
чищеным, социал-демократов; на том же суде я мог бы уличить вечного
юлу Чуковского, который по смерти Толстого писал мне: «Противно мне
все, что делается около гроба Толстого, брожу по лесу и реву: хотел бы
видеть вас, и только одного вас», а теперь, 1 января, напечатал (в предполо-
19
жении «окончательной победы» социал-демократии), что я «Азеф, и одной
рукой душу то самое, что другою глажу по голове»; что я «отец идейного
хулиганства в России...».
Все это я мог бы разоблачить...
Но, господа, какая скука таскаться по судам! Какая потеря времени, глав-
ное — времени...
О чем вы пишете? Что вам нужно? Ваша душа — при вас, моя — при
мне, ваши писания—при вас, и я из них не сделаю себе плагиата. Ну, пре-
восходно все, кристально чиста у вас душа, героичны мотивы... Известно,
«честная партия»... Оставьте же меня в покое... Чего вы все пристали ко
мне, как шавка к прохожему... Разве нет тем? сыта Россия? все исправно в
ней? Пишите о России, а не о лицах ...О лицах стыдно писать, — это есть
безделье, бесталанность и тунеядство. Вы должны оплатить читателю его
рубль определенной пользой. Что вы пишете и что я пишу,—это говорит о
себе содержанием своим, и нечего подписывать: «се лев, а се человек», «се
негодяй, а се герой». Никак не можете взлететь выше этого. «Крылышки не
поднимают». Возьмите ходули — выше подыметесь. «Ближе к небу»... Да,
впрочем, по уверению вашему, вы «близки к небу», «к Богу», «к будуще-
му» ... за плечами у вас так ангелы и поют или «демоны», пущие ангелов по
нынешнему веку... Ну, и слава Богу, и Христос с вами, монументов вам
будет много, денег у вас, конечно, и теперь достаточно, и когда умрете —
то, конечно, «венки» и «венки»!.. И отлично. Но ради Бога, пока жив, не
приставайте.
Р. S. Струве не задал себе вопроса, из каких составных частей состоит
талант, без каковых всемирно не было ни одного таланта? Сам он напи-
сал, и настойчиво, не один раз, не обмолвкою, что, по его оценке, вкусу и
разумению, я есть «один из первых русских писателей», даже без оговорки,
что из «писателей современных». Да почему? В даровитость писатель-
скую абсолютно входит его ЧЕСТНОСТЬ, ибо только правда дает искрен-
ность, дает жар, дает смелость, дает твердый тон, дает огонь, образует
«стиль»... Стиль как «лучистое строение» груды слов и мыслей, неподдель-
ное и неизъяснимое явление, в природе языков человеческих лежащее. Как
есть рассеянный свет, матовый, бессильный, так есть световое лучеиспус-
кание, «тб же и не то же», — и вот это есть и в языке. Оно рождается и
только может родиться из горения души, непременно не ниже известной
температуры-, из пламени совести. Стиль и совесть неотделимы. «Талант»
и есть преобразование в слово нравственных сил души (не «прописных»),
нравственных оттенков души, нравственных тонов души, до полной точно-
сти светописи, до полного автоматизма, до абсолютного совпадения. «Та-
лант» отделяется от души, как сок от дерева: можно ли же подделать сок?
или сказать, что сок яблони течет в березе? «Талант» есть полное удостове-
рение «полной личности автора», так как он и течет из полноты его, из
20
целости его; из всей его биографии, открытой и сокрытой, из дел и «дели-
шек», из жизни и «приключений», из всего, до дна. А вы несчастным обра-
зом вообразили, что 1) душа—одна, и может быть подлая, ей «плюнуть бы
в лицо», 2) а талант—какая-то странная привеска сбоку, игрушка арлекина,
орудие у человека, а не сам человек'.!! Это так было бы, если бы «талант» был
«ум»: но «ум» в него входит только четвертой, десятой долей, но главным-то
образом он сплетен из гневов и нежностей, любви и негодования, из отноше-
ния, и именно нравственного отношения к вещам. Но и это—не все! Не все,
мало! Полный человек — вот «талант». Рождение и жизнь — вот талант!
Талант есть фатум, талант есть судьба. Чтб же такое вы говорите о «бесче-
стности» таланта?
Да если бы Пушкина или Лермонтова, если бы Белинского или Доб-
ролюбова кто-нибудь с поличным уличил в краже, если бы целый полк по-
лиции его застал на плутовстве и обмане: то я и весь мир рассмеялись бы
полку в лицо... Наконец, скорей усомнился бы в своих глазах и в собствен-
ном здравом уме, нежели поверил бы, что писатели с жаром Белинского,
Гоголя, Пушкина, Добролюбова, наконец, Писарева, — писавшие ихязь/-
ком, их слогом, на их темы, могли «играть на два фронта», иметь «два лица
и две совести» (обвинение меня Струве) и вообще могли что-нибудь малей-
шее нечестное сделать. Наконец, предположим самое последнее и неверо-
ятное, что Пушкин украл (для спасения жены от болезни, смерти, ребенка
от голода или проституции, —я бы украл), то я и со мною весь свет предпо-
чел бы жить всю жизнь с «укравшим Пушкиным», чем «с неукравшим Стру-
ве», и сказал бы, что душа «укравшего Пушкина» несравненно ему драго-
ценнее, милее, на его взгляд, благороднее, чем «душа Струве, получающего
от торгово-промышленников только выговоренное жалованье» (пишу для
примера, без факта). Поэтому обвинения против меня Струве, при его же
признании меня первоклассным талантом (ввел же его во искушение Бог), —
обвинения прямо в мошенничестве, — представляют такую историю в ис-
тории литературы, какой, конечно, никогда не было.
Несчастный Струве, поистине несчастный!..
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Г-н Струве письмом в редакцию газеты «Речь» заявляет, что взятые мною
в эпиграф слова из статьи — сочинены мною самим. Между тем вот эти
слова, как я их читаю сейчас на странице 183 январской книжки «Русской
Мысли»:
«.. .не верил Розанову, никогда с ним не общался, а, наоборот, всегда
готов был плюнуть ему в лицо и за прошлое, и за настоящее, и будущее»
(6-я и 7-я строки снизу).
Несколько выше этой цитаты, на той же странице, где речь идет обо
мне, и только обо мне, а не о каких-либо вообще «людях», помещена следу-
21
ющая тирада: «В справедливом гневе и негодовании можно или, вернее,
извинительно плюнуть в лицо человеку, совершившему мерзость, но ни од-
ного человека, самого дурного, самого грешного, нельзя раз навсегда пре-
вратить в плевальницу».
Кто здесь превращается в плевальницу и кому плюется в лицо, — совер-
шенно ясно из примечания на следующей, 184-й странице: «Защититель-
ные статьи Розанова (т. е. защитительные от клеветы Струве) означают та-
кую глубину нравственного падения, что писать о них не имеет смысла и
даже невозможно. Тут уже не только органическое бесстыдство, а созна-
тельная и до последней степени лживая злоба».
«Может быть, г. Пешехонов не разделяет моей оценки дарования Роза-
нова. .. Мне кажется, что-то, о чем я пишу со скорбью как о горе, г. Пешехо-
нову доставляет какую-то радость, вроде того стихийного ощущения, кото-
рое овладевает толпой, когда раздается крик: «Вора поймали». Моя статья
написана совсем в другом настроении. Не удовлетворение я испытывал,
когда я «разоблачал» Розанова, а огорчение».
Пешехонов, что-то приблизительно из мужичков, написал просто-
душно-грубую статью обо мне по поводу статьи Струве и ссылаясь на
нее. Пешехонов был введен в обман Струве, доверившись его знанию
меня как человека-, ибо Струве в редактируемых им журналах «Поляр-
ная Звезда» и «Русская Мысль» помещал мои статьи, а это, вообще го-
воря, делается при личных сношениях, личном знакомстве. Вообще весь
обман по печати пошел от Струве, и я могу негодовать на легкомыслие
других, на легковерие других, но невольно их прощаю, как введенных в
туман обмана. Что это именно обман, что печать и общество имеют дело
с обманщиком, можно видеть из теперешнего его заявления, что руга-
тельства его, взятые мною эпиграфом к статье «Литературный террор»,
сочинены мною самим. Бедный литературный городничий уверяет пуб-
лику — ревизора, будто «эта вдова сама себя высекла». Читатель, конеч-
но, не поверит, чтобы я сам себе плевал в лицо. Но как же смел Струве
так дерзко и нагло отречься от собственных слов? Здесь видим соедине-
ние пасти волка и хвоста лисицы. Он запас себе лазейку на случай, если
его осудят за слова и выражения, допустимые только в ночлежке. Имен-
но, он влагает эти слова Пешехонову, моему полемисту вслед за Стру-
ве, и влагает их примерно. Пешехонов-чо ничего подобного не говорил.
Он привел лишь в общем и схематическом виде поговорку, какую слы-
хал от покойного своего учителя, Н. К. Михайловского, — советовавше-
го ему, Пешехонову, «не пить из колодца, в который плюнуть придется».
Обыкновенный их демократический жаргон. Вот на этих словах Михай-
ловского Пешехонову он и построил свою статью: играя с пословицей и
все как будто увещая Пешехонова обходиться со мною по этике и как
заповедывал Христос обходиться с грешниками, он преобразовывает по-
словицу, ко всем и вместе ни к кому не относящуюся, в ругательство,
где мое физическое лицо сближается с физическим же плевком. Чьим?
22
Да уж конечно, плевком Струве, сколько он ни прячься в лазейку. Ибо
Пешехонов-ло этого не говорил, у него слов: «можно плюнуть в лицо
Розанову», «плюнуть в лицо за его прошедшее, настоящее и за буду-
щее» и «крик раздался — вора поймали» — нет.
Тексты из Евангелия, бесконечная злоба, до желания съесть, заготовле-
ние лазейки, всовывание в рот Пешехонова своих слов, своего отвратитель-
ного ругательства—все это подробности такой картины, такого поступка,
указав на которые читателю и России, я могу только сказать одно: так Бог
покарал этого человека, уронив его в яму, которую он копал другому. Я же
всегда верил, что дурно начатое дело не может не кончиться дурно для са-
мого начавшего... Как кончится оно в данном случае—я не знал. Но верил
безотчетно, что теперь или много позже, ну — через годы, ну — после
смерти, станет всем ясно, кто есмь или был я и кто был или есть Струве.
Но такого скорого конца я не предугадывал.
18 января.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТИПЫ
Русская литература родила целый маленький народец,—миниатюру, ко-
пию и символ великого русского народа. Значение всей совокупности лиц,
выведенных в произведениях наших классических писателей, — неизме-
римо и разнообразно. Прежде всего это — художественная работа вели-
ких мастеров слова, и на ней мы изучаем, на ней осязаем их технику,
приемы работы, закон их художественного воображения. Вовсе не начи-
ная с Гоголя, но с самого уже начала, с Фонвизина и даже с Кантемира,
русская литература была реалистична и натуралистична; романтизм, наприм.,
являлся в ней только гостем и «прохожим странником», но иногда—хозяи-
ном. Поэтому и мастерство русских писателей сводилось к уменью на-
блюдать, выбирать из видимого характеризующее и общее, выбирать
типовое, — наконец, наблюдать и оригинальные странности, заниматель-
ные, новые или обещающие; и все это ваять в слове, ваять в горниле ве-
ликолепного русского языка, художественного уже в самой своей фило-
логии, в корнях своих. Не на каждом языке можно было бы написать рус-
скую литературу: в полноте и всем составе ее и можно было написать
только на русском языке. Таково одно значение «литературных типов».
Второе также неизмеримо важно: мы собственно недостаточно вдумыва-
емся в то, что совокупность лиц, выведенных в произведениях наших
писателей, суть единственные люди, по которым физически, осязатель-
но узнали и всегда будут узнавать Россию и русский народ в целом мире,
в Европе и далеко за ее пределами. Таким образом «народец, рождаемый
нашими писателями» — это есть дитя великого русского народа, выслан-
ное за пределы родины. По нему судят и будут судить о русских в обоих
полушариях, и не один век.
23
Дитя это—хорошее: здоровое, способное, разнообразное, колоритное.
Дитя явно «с будущим».
Понятна важность до подробностей изучить его.
«Словарь литературных типов»* отвечает этой задаче. Всех выпусков
предположено 24; и начиная с 7-го, уже печатающегося, они обнимут сле-
дующих писателей: Пушкина, Толстого, Гончарова, Достоевского, Писем-
ского, Островского, Салтыкова, Герцена, Успенского, Чехова. Это—дале-
ко от полноты, и нет сомнения, что «Словарь» будет пополняться и расши-
ряться, что он будет иметь наследников и продолжателей, вероятно, полу-
чит и «реформаторов».
Все в нем полно, умно, заботливо и — не расплывчато, без лишних
слов (самая опасная сторона в подобных изданиях). «Словарь» — креп-
ко, туго сколочен 1) из характеризующих слов, словечек и целых описа-
ний в том литературном произведении, где данный тип выведен, и 2) из
оценок данного лица у всех видных историков русской литературы и
сколько-нибудь выдающихся русских критиков. Все это — дословно, в
цитатах.
Через это читатель знакомится «в сокращении и концентрации» не толь-
ко с произведениями писателя, но и со всею литературою о нем, ученою и
художественно-критическою; наконец,—сего изданиями, в критической
оценке каждого. Все это сопровождается еще «приложениями», в которых
дана обстановка творчества и жизни писателя. Так, выпуск: «Грибоедов»
содержит пять приложений: «Источники для изучения Грибоедова», «Свод
выражений и имен, обратившихся в нарицательные» (т. е., по удачности и
типичности, обратившиеся почти в поговорки, беспрестанно повторяемые
в обществе и в литературе), «Прототипы действующих лиц» (т. е. те живые
лица, Грибоедову современные, с которых — по догадкам ученых и совре-
менников — он срисовал свои портреты), «Список лиц, имен и предметов в
«Горе от ума», «Грибоедовская Москва и поколение 20-х годов». Послед-
няя статья читается с захватывающим интересом, как превосходный исто-
рический этюд.
В начале каждого выпуска помещена «Биографическая статья»: погод-
ный перечень событий в жизни автора и написания им важнейших произ-
ведений.
Полнота «типов»—исчерпывающа.
Нельзя не пожелать самого широкого распространения этому в высшей
степени полезному изданию, этой в высшей степени трудолюбивой работе.
Особенно—среди учащихся.
* Словарь литературных типов. Выпуски 1—2: Тургенев, 2 р. Выпуск 3: Лер-
монтов, 1 р. Выпуск 4: Гоголь, 1 р. 25 к. Выпуск 5: Аксаков, 1 р. Выпуск 6: Грибо-
едов, 1 р. Общая редакция Н. Д. Носкова. Цена за шесть выпусков — 6 р.
24
ЛУЧШАЯ КНИГА
ПО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИИ
(К воспоминаниям о М. М. Стасюлевиче)
Это, конечно, пустяки, что об умершем можно говорить «или хорошо,
или ничего». Что за условность? Что за притворная ложь в такой страш-
ный час, перед священством смерти? Нет, не то, совсем не то хотели ска-
зать сами римляне своим «aut bene, aut nihil»*. Что-то другое они хотели
сказать.
Когда задернется золотым покровом церкви тело вчера еще живого че-
ловека, так странно холодное сегодня, так странно безмолвное сегодня, то
неожиданно его фигура поднимается перед нашею душою совершенно в
иных чертах, чем в каких она знала ее, видела ее в необозримой «сплетне
мира», как хочется назвать эту нашу теперешнюю, земную жизнь. Мы все
здесь немного сплетничаем и всегда сплетничаем. Злословим, смеемся.
Шутим, остроумничаем. «Золотой покров церкви» вдруг говорит властное:
«Довольно». И тон речей наших невольно переменяется. «Ходим на цыпоч-
ках» около гроба, в тесной комнате; и также в некрологах, воспоминаниях.
Вот что значит древнее «aut bene, aut nihil».
Говорим «последнее прости» человеку... и говорим неодолимо любя,
сожалея, припоминая все дорогое в нем. «Каждый человек нам дорог»,
вправду дорог: вот что говорит хор голосов вокруг гроба, где исключено
все дурное. Это не условность, это нравственность. При жизни шутили,
смеялись, но, когда «вот вдруг умер» — все это опадает как не настоящее,
и остается только настоящее: «как был он нам нужен, как мы любили его,
кто-то теперь за него выполнит его дело»...
Зияние, пустота. Смерть—всегда пустота, вот что страшно. Мы хва-
таем, обнимаем «пустое место», которое нам осталось вместо «живого че-
ловека». Порыв к словам, восторгу, слезы, шум, — все это образуется как
смятение вокруг этого ужасного «пустого места», которого не выносит душа
человеческая, как физическая природа тоже не выносит «пустоты». «Horror
vacui», «Natura habet horrorem vacui»: как эти поговорки средневековых
физиков применимы к смерти! Вот и «смерти» не выносит душа человечес-
кая: и перед бледным лицом ее бежит в шум, сообщество, коллективность.
Бежит трусливо, ужасно заробев. Вот происхождение, вот древний корень
и старинных «похоронных обедов», и тризны, и «надгробных речей», и всей
«пышности» похорон, всей их сложности... «Только бы не остаться одно-
му»; «намиру и смерть красна»... Как мы боимся этой ужасной гостьи.
А ко всем она придет...
* или хорошо, или ничего (лат.).
25
* * *
Мне хочется указать на самое лучшее, что, по-моему взгляду, оставил
покойный Мих. Матв. Стасюлевич и что, наверное, останется совсем не-
замеченным. Он, однако, работал над этим трудом много лет: работал в
лучшую, молодую свою пору; работал, когда преподавал историю по-
койному цесаревичу Николаю Александровичу, и труд этот составляет
собственно процесс, материал, как бы «черновые тетради» преподава-
ния, тщательно собранные, приведенные в систему и изданные любящим
учителем. Да, вот что хочется сказать надгробно Стасюлевичу: «Иди,
белый старец, с побелевшими волосами — туда, где встретит тебя юная
тень любимейшего ученика твоего. И обнимет тебя за всю крепкую лю-
бовь, какою ты его любил столько десятков лет. Любил, и помнил, и ле-
леял».
Как известно, цесаревич Николай Александрович был необыкновен-
но даровит, впечатлителен, жив и любознателен. Приглашенный к нему в
преподаватели М. М. Стасюлевич, только что из учителей Ларинской гим-
назии перебравшийся в профессуру, ответил на эту любознательность со
всей энергией именно начинающего ученого, энтузиаста. Два энтузиазма
встретились: и результатом явилась изумительная трехтомная книга, по-
добной которой нет не только в русской, но вряд ли есть и в иностранной
литературе, даже в германской. Это «Хрестоматия по истории средних
веков, в памятниках современных (т. е. средневековых) и в освещении
новых ученых».
Узнал я ее тридцать лет назад: и поверит ли читатель, что страницы ее,
большого формата, крупной печати, на «так себе» бумаге,—до сих пор
памятны мне как страницы какой-то священной летописи, из которой впер-
вые я узнал, что такое «былая история», не эта только, не одних средних
веков, но всякая вообще. Понял из нее впервые существо истории как нау-
ки, не только in concrete*, но in idea**. А «средние века» стали буквально
для меня родными, прямо «легли мне за пазуху»: и средневековую, поло-
жим, Англию, поезжай я туда на место всяких Вестминстерских аббатств, я
понимал бы и чувствовал не меньше самого англичанина, даже очень обра-
зованного, даже ученого. «Суть» всегда в «сути»: вот ее-то изумительный
Стасюлевич и дает в изумительной своей книге.
Сидоний Аполлинарий, Тертуллиан, еще кто-то, еще многие (имена
забылись за тридцать лет), — все говорят языком V, VI веков: говорят в
лагере Атиллы, говорят в Риме, потрясаемом варварами, говорят за юную
христианскую общину, говорят против развратных патрициев, говорят в
частном письме «к другу», говорят в полемическом трактате. «О, жители
Трира (может быть, путаю город): стены города вашего дрожат под тара-
* в действительности (лат.).
**видее (лат.).
26
нами гуннов, а вы сидите в цирке и услаждаетесь зрелищем»... Или: «Я
вижу бедствие еще худшее, чем всеобщая погоня за наслаждением и по-
купка его всякою ценою. Я вижу, что из вас, римляне, никто не чувствует
себя счастливым, пока не видит несчастными всех окружающих»... Как
едкая соль, эти неслыханные строки, эти незнакомые нашему веку ощу-
щения и переживания падали из священной «хрестоматии» на мою душу
юного учителька гимназии... И у меня был порыв всякого гимназиста схва-
тить «за шиворот» и заставить читать со мной эту книгу... Но у учеников
всегда было «так много задано по другим предметам». Я только передаю
впечатление: через тридцать лет я цитирую на память строки; «все одина-
ковы и далеки», нет: скорее — «пять пальцев на руке, и который ни зано-
зить — больно и кровь потечет». Космополитизм — сглаживание, упро-
щение; возврат к элементарности и, в сущности, к одичанию; «европей-
ское образование» есть усложнение, расширение «родного». Дальнейшее
развитие «организма».
Но вернусь к книге... «Хрестоматия» — это не «мое сочинение», и
оттого в большинстве они тусклы, бесцветны, «космополитичны». У Ста-
сюлевича был определенный ученик, любимый ученик; как он ожидал —
будущий царь России. Таким образом, то несчастное обстоятельство, ка-
кое сопутствует составлению всякой хрестоматии, ремесленность, «ско-
лачивание из чужого материала своей книги», выпало отсюда. Стасюле-
вич создал свою хрестоматию, как художник лучшее свое художествен-
ное создание, — с этою же любовью, надеждой и верой. И это было воз-
можно для Стасюлевича, ибо здесь работал его вкус, выбор. Ни при каких
стараниях он не мог бы написать художественной своей книги-, но хресто-
матию он мог «выполнить» именно художественно, с наивысшим мастер-
ством, какое вообще досягаемо для человека. Ибо тут действовали только
его ученость, вкус, выбор, знание «материала» и готовность много пере-
читывать его, много работать над ним. Из «ученых статей нового време-
ни» я тоже помню строку, а общее впечатление до сих пор так ярко, что я
мог бы войти в Кельнский собор или в Вестминстерское аббатство «как
свой человек», как «тутошний житель», со всей психологией германца
или англичанина, с правом их сказать: «Это мое, это наше» (европейское,
из цивилизации Европы).
Наравне с лекциями Герье, Стороженко, Троицкого, Буслаева (гума-
нисты Московского университета) дивная «Хрестоматия» Стасюлевича
сделала меня европейцем. Не в смысле, что там «лучше удобства», а в
смысле: сколько же там пережито! Какая золотая река людей, непрерыв-
ная река червонного золота из века в век катилась там, и позолота вся
почернела, но сохранилась, была и есть. И нигде в мире еще нет, ни на
одном из пяти континентов земли, столько этой черной позолоты, слой за
слоем, слой над слоем... И все это до того прекрасно, до того благоухан-
но, что «не быть европейцем» уже нет более ни сил, ни способностей. Это
не космополитизм, «без цвета, вкуса и запаха». Напротив, это сто запахов
27
в одной точке. Стасюлевич и другие «гуманисты» внесли по лепестку,
живому лепестку, настоящему, в сердце русского юноши: и он стал не-
множко «от плоти германца», «от плоти англичанина», не потеряв совер-
шенно ничего из русского и даже из костромского. Мне кажется, настоя-
щее «европейское образование» совершенно противоположно космопо-
литизму («без цвета, вкуса и запаха»): оно не сглаживает чувства своей
земли; но оно делает тоже своею и чужие земли, но именно с чувством
этого же «родного». Не из О. Тьерри, которая есть канон исторического
знания: «Как один стакан из целебного источника более лечит здоровье,
нежели бочка обыкновенной пресной воды, — так точно прочитывание
нескольких листочков из памятника, современного самому событию, бо-
лее ознакомляет с ним, с его духом и смыслом, с его сущностью и миро-
вым значением, нежели чтение целой диссертации или нескольких дис-
сертаций о том же событии, но принадлежащих новым ученым и написан-
ных новых языком».
Священный канон—для школы, для образования.
Сам Стасюлевич никогда не обращал чужого внимания на свою хресто-
матию; это была его милая и прекрасная скромность. Наша бурлацкая пуб-
лика, конечно, тоже ее «не заметила». «Зачем Стасюлевич, когда есть Петр
Лавров-Миртов». Известно, «по Писареву». Но чуть ли не «по Писареву»
живет, дышит и движется тоже и все наше министерство просвещения. «За-
чем учиться истории, если можно читать современные циркуляры, изло-
женные изящным языком здания у Чернышева моста». Оно никогда не ре-
комендовало, никогда не указало на изумительную учебную книгу, давно
написанную на русском языке. Да всеконечно, и понятия о ней не имеет.
Нигде так мало не учатся, как «у Чернышева моста». С ученых пажитей
Руси, ученых и служебных, выпалываются плевелы: но не кидаются «в огнь
вечный и неугасимый» по угрозе Спасителя, а по русскому благодушию
собираются в один пучок и всаживаются «у Чернышева моста». Сими «горь-
кими травами» опояется Русь...
Книга совершенно неизвестна... Неизвестна в учебных заведениях, не-
известна учителям истории. Сам я наткнулся на нее по стечению особых и
случайных обстоятельств. Но каждый «с ответственностью в душе» роди-
тель, если у него есть сыновья в 17 лет, не сделает ничего лучшего, как если
«ко дню Ангела» и «к Пасхе» купит этому сыну 1) по всеобщей истории—
«Хрестоматию по средним векам» Стасюлевича, 2) а для ознакомления с
русскою культурою—незабвенную книгу Барсукова: «Жизнь и труды По-
година», которую можно назвать «Всеобщим жизнеописанием русского
образования за XIX век». Трудитесь, русские родители, —
Сейте разумное, доброе, вечное.
А то пройдет время, хватитесь—и будет поздно. Задичают ваши сыно-
вья «над Миртовым» и «у Чернышева моста».
28
ЮБИЛЕЙ ВЫСШЕГО
ЖЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
13 февраля 1861 г. — 13 февраля 1911 г.
Движется по большой дороге огромный, тяжелый обоз. Около массивных
телег идут, понуря головы, возчики. И берегут они драгоценную кладь, за-
дернутую рогожами и парусиной. Что в ней? Товара на тысячи, может быть,
на сотни тысяч, на миллион? И дорога сделана и ремонтируется вот для
прохода таких многоценных «обозов», которыми обмениваются города и дви-
жение которых составляет «обращение соков» в великом организме, имену-
емом «Россией».
Так. Сторонимся, уважаем. Отдаем «все почтение» тяжелой государ-
ственной «махине».
В кибиточке, в таратайке, «Бог весть в чем», пролетает мимо, догоняя и
обгоняя обоз, «кто-то», сам-друг с ямщиком. Сравнительно с «обозом»,
можно сказать,—одно «легкомыслие». Ни веса, ни тяжести, ни денег. Цен-
ности можно только «подозревать». Разве цепочка, да и то такая, о которой
поется в «выпившей» студенческой песенке:
Если малый при цепочке, —
Это значит при часах.
Эх, дербень-дербень Калуга,
Дербень, — родина моя.
Т ула-Т ула-Т ула—я,
Тула, родина моя...
Но вот удивительно: об обозе песни не запоешь. Еще удивительнее:
никогда-то, никогда возчики не поют около обоза никаких песен. «Душа не
лежит». — Почему? — «Очень солидно». — Ну, так что же? — «Ответ
большой». — Ну?..
—Душа не поет. Угрюмо. Страшно. Тоскливо.
— Немного скучновато.
Напротив, «ямщик» и «таратайка»—уже сами по себе поющая вещь...
Сколько о них песен сложено, да и ямщик все что-то мурлыкает под нос. А
разрешит «барин»,—и совсем запоет. И каждая лошадь у него с «прозви-
щем», тогда как в обозе решительно все лошади без всяких прозвищ.
У ямщика одна нога «в облучке», а другая — «на воле». Просто, черт
знает что такое: нога «на воле гуляет». Вполне удивительно, как такое вы-
ражение николаевская эпоха просмотрела. Надо бы «укоротить». Но самое
это выражение: «У меня одна нога в облучке, а другая — на воле», — тоже
нравится. Нет, поэзия так и льнет к «таратайке»; поэзия, и воображение, и
рассказы, и прибаутки. Это — жизнь.
В «таратайке» много жизни. В обозе много солидности. Немного ка-
менной, немного скучной.
29
Вот отношение министерства народного просвещения, с его универси-
тетами, академиями, обсерваториями, дорогими кабинетами и лаборатория-
ми, с его солидными окладами жалованья, чинами и орденами, с его «чино-
началием», —и «высшего женского образования», «Бог весть откуда выле-
тевшего», Бог весть «в каком гнезде снесенного», которое мчится и мчится
вперед, с песнями, сказками и поэзией; мчится, вечно живя «надеждой» и
почти ничего не имея в фундаменте.
—Средства существования?
— Мы их соберем! Будем собирать! Будем, будем!! Частные пожерт-
вования!..
«Какое легкомыслие»,—думали в министерстве.
— Помещение? Дом? Что же значит «учебное заведение», если не «дом»
с надлежащею «вывеской»? Каменный, ну, и с «ремонтом» в последующие
годы?..
— Мы при шестой гимназии; вечером — «вечерние курсы», когда уро-
ков для мальчиков нет, и классы все равно пустуют...
—Совсем «нога на свободе», как ямщик, только что только примостив-
шийся «на облучке»... Сидит «уголком»... — Что же из этого выйдет? —
размышляло министерство. Все развалится. Можно и допустить, потому
что все равно все развалится через три года и даже через год.
— А профессора? Кто же будет даром учить этих...
И у министерства было совсем неприличное название для «первых сту-
денток», но оно удержалось и не выговорило вслух.
—Уж мы переговорили. Бекетов обещал даром, Бестужев-Рюмин тоже
даром, Герье... да много, много! Все—даром; только вечером, во внелек-
ционные часы...
— Ну, «даром» недолго потрут лямку. Уходятся. Жалованья и в муж-
ских заведениях — гроши. Где же тут еще надбавлять работы «даром»?
Уходятся. Все развалится, — утешало себя министерство.
* * *
Воздух. Никакой почвы. Никакого питья и твердой пищи. Но «воздухом
дышит человек». А море этого воздуха, в виде всеобщего сочувствия «выс-
шему образованию женщин», действительно, окружало первых пионе-
ров его в России. Хочется теперь, через 50 лет, поклониться до земли не
столько видным, оставившим имена в истории деятельницам его, сколь-
ко могучему «вздоху всей страны», вздоху миллионной груди тогдашне-
го образованного общества, читающего общества, которое дало «воздух
под покрылья» первым полетевшим ласточкам. Без этого массового ды-
хания, конечно, ничего бы не было. Все бы захирело, увяло, умерло. Под-
виг почти невозможен, если совершенно нет никакого внимания к нему
вокруг.
— Вы себе не можете представить, как был мне труден первый год в
берлинском университете. Я была допущена на медицинский факультет как
30
слушательница; допущена пассивно, так как не было ясного правила, за-
прещающего это. Но профессора меня игнорировали при практических за-
нятиях. А когда мне приходилось проходить на лекцию в рядах студенче-
ства, демонстративно выстроившегося в ряд и встречавшего появление мое
среди них взорами негодования и презрения, — этих минут, когда я шла и
ноги дрожали, я никогда не забуду.
Так, лет двадцать назад тому, рассказывала мне первая русская женщи-
на-врач Н. П. С. Я могу ошибиться в названии берлинского университета,
но, помнится, это не был швейцарский университет. Все остальное в моей
передаче точно.
— И вообще,—добавляла она печально,—в то время как все в России
на нас радовались, нас ободряли, заметно было даже, что нами восхища-
лись, — за границей нас встречали отчужденно и мрачно. Были уверены,
что все провалится, были уверены, что нами движет только тщеславие, и,
кажется, несколько боялись, что при успехе и в лучшем случае это будет
все-таки соперничество, конкуренция. Было очень тяжело, и эта тяжесть
длилась года три.
Для молоденькой девушки, с ее понятными чувствами, с жаждой обще-
ния и дружбы, было невыносимо.
Зато теперь ее папаша, седой, как лунь (двадцать лет назад), и здоровых
простолюдинов спрашивал:
— Не болит ли что? Вот моя дочка выучилась. Хорошо лечит. Она по-
смотриттебя. Поможет.
Так говорил словоохотливый старик, лет 70. «Простолюдин» ежился и
отвечал, к неудовольствию счастливого отца:
—Да я ничем не болен.
Передаю эти штрихи. Первая женщина-врач по женским болезням
вышла светилом медицинской практики и несколько десятилетий с ог-
ромным успехом практиковала в Петербурге. С ней любил консультиро-
вать Боткин, и, не без маленького тщеславия, врачей-мужчин, стоявших
ниже ее по способностям или по практическому опыту, она называла «по-
витухами».
Она была небольшого роста. Некрасивая, но без безобразия. Много на-
читанная и в литературе. И ярко светилась умом, самостоятельным, креп-
ким, смелым. Впрочем, будучи «доктором» вообще «медицины», она прак-
тиковала и лечила и другие болезни, а не одни только женские. И, как я
знаю, с успехом. Она была вообще медицински образованна', свою же спе-
циальность изучила в деталях, уже будучи врачом-практиком, у первых све-
тил Европы. «Такую-то операцию единственным способом, им выдуман-
ным, производил такой-то (в Вене, сколько помню). Я поехала туда и вы-
училась». Это была дополнительная учеба, к которой ее никто не гнал, ко-
торой даже никто в России у нее не спрашивал. Но она хотела
«консультировать с Боткиным». Что же, милая и прекрасная гордость. Пусть
люди будут даже тщеславны, когда это на пользу человечества.
31
* * *
Зеленые, синие, белые, больше всего черные кофточки смешались с тех пор
с мужскими сюртуками, визитками, тужурками. Шумит новое «ученое об-
щество», уже не мужское только, но и мужское, и женское. Шумит новым
шумом, шумит новым тоном. Есть что-то прелестное, и особенно в судьбах
русской истории прелестное, что девушки ворвались в образование, немножко
даже «разломав двери». «Хотим, хотим! Ну, во что бы то ни стало, а хотим!»
Это приятно. И было ново, свежо... Ах, тогда все было у нас свежо, и мы
были счастливы...
Теперь уже по всему русскому пространству, по дблам, по горам, по
необозримым (и довольно-таки скучным) равнинам, даже по болотцу, даже
где «замерзло», несутся эти легонькие «кибиточки», с ямщиком, у которого
одна нога «на воле», и с песнью, с поэзией, со сказками, с грезой. Теперь
все это стало обширнее и немного прозаичнее. Заря лучше полудня. Зато
теперь все стало солиднее, несокрушимее, и уже движения этого никто не
может и даже никто не думает остановить. Образовались даже «высшие
женские архитектурные курсы». Я просто диву дался, услыхав. И услыхал
от седого, благочестивого, солидного протоиерея, к тому же любимца мит-
рополита, который в такую «ересь» пустил свою красавицу 24-летнюю дочь!
«И не страшно?»—спрашиваю я. Улыбается благочестивою улыбкой. —
«Влюбится в молодого архитектора». — «Влюбиться можно и без дела, —
отвечает он, поглаживая длинную белую бороду. — Но правдоподобнее,
что, пока учится,—а она учится с отличным прилежанием,—не влюбится
и, во всяком случае, от родителей ничего не скроет. Она воспитана в стро-
гости и в любви».
«Ах ты, батюшки,—подумал я, — и протоиерей туда же». — Протоие-
рей не был беден, но был многосемеен. И вот, на случай, если не выйдет
«замуж», — что теперь так часто, — оставляет дочери, вместо капитала,
капитальное знание, профессию, заработок.
«Тяжелые времена. И всем работать нужно».
«Песня» укорачивается, зато «обоза» подбавляется. Многочисленные
высшие женские школы уже почти составляют целое министерство. Во
всяком случае, это — более сложное министерство, нежели каким было
министерство просвещения сто лет назад. Между тем, в «махине» русско-
го государственного строительства оно все еще сидит «уголком», «чуть с
краешку». Признаюсь, мне эта «посадка» больше нравится. Недолюбли-
вал я всегда «обоза»... Завись дело от меня, я никогда не переименовал
бы ставшего историческим имени «курсов» и «курсистка» в «универси-
тет» и «студентка». К чему уравнивание, обезличение? К чему «фасад» и
нивелировка? Пустые вещи. И как-нибудь избежал бы «чинопроизводства»
и «орденов» у профессуры. «Профессор», — это так осмысленно и пре-
красно, что что тут может прибавить всеми и давно осмеянный «действи-
тельный статский советник»? «Действительный статский советник про-
32
фессор Павел Гаврилович Виноградов». Долго, скучно и ни для кого не
интересно.
Берегите «облучок» и «тройку», женщины! Складывайтесь в «обоз»,
но не забывайте старой «песни ямщика». И хоть потихоньку, под столом, а
держите одну ногу «на воле»...
ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ НАШЕЙ ИСТОРИИ
19 февраля 1861 г. — 19 февраля 1911 г.
Эх, молодость, молодость... Безрассудна ты, вздорна иногда, а ничего нет
тебя краше. И когда в годы благоразумной старости возвращаешься к тебе
мыслью, возвращаешься воспоминанием, да, наконец, возвращаешься этим
самым «рассудительным суждением», то говоришь:
— А черт бы побрал эти «рассудительные суждения», у которых сто
костылей и ни одного крыла. Возьмите от меня мудрость, возьмите мою
осторожность, избавьте, пожалуйста, от высоких чинов: и в обмен дайте
мне прыткие ноги, хорошее пищеварение, молодые мускулистые руки и,
главное, главное—молодое воображение, молодое желание, молодую веру
в людей и жизнь...
Возьмите мое разбитое сердце и верните не разбитое...
Конечно, — сегодня это мысль тысяч людей возраста пожилого и ста-
рого, которые боролись если не с крепостным правом (таких «сизых ор-
лов» уже можно по пальцам перечесть), то с многочисленными, даже с бес-
численными остатками крепостного права, крепостной поры, крепостного
быта и крепостной «были»...
* * *
Все 19 февраля 1861 года укладывается в три строчки Пушкина:
Была та славная пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая, —
Мужала...
Какой порыв в этих строках! И у многих, у многих старцев проступят
слезы на глазах, когда они почувствуют, что в самом деле дивный поэт в
этих строках, сказанных о другом времени и других лицах, выразил их мо-
лодое чувство 60-х годов минувшего века, — с тем вместе вечное чувство
всего поднимающегося, встающего «как один человек», надеющегося...
Вся Русь, после сорокалетнего принудительного «сидения на месте»,
вдруг встала и пошла... Нет, встала и побежала на молодых сильных ногах,
таких доверчивых, сдоверчивой душой, с доверчивой мыслью... Ах, если
бы не скоро открывшиеся «ямки» на пути,—что вот пришлось споткнуть-
33
ся, — встать и «опять упасть»... Если бы не это чертово «плетенье» дороги,
в которой вдруг скоро наступила такая «неразбериха», где «свой своего на-
чал предавать»... Но это другая, печальная история, — ине сегодня день
для этих воспоминаний. Утрем тайную слезу, подавим черную досаду и
вернемся и ограничимся первым днем радости.
Просто — 19 февраля.
Время Николая Милютина, Кавелина, великого князя Константина Ни-
колаевича, «Современника»...
Время молодых, «только что вот выступивших», Тургенева, Достоев-
ского, Толстого, Островского, Григоровича...
Ну, и в фундаменте всего, конечно, — молодой верящий Царь... Без
него — просто ничего нет, ничего бы не было, все было бы невозможно.
Молодой, образованный, полный великого порыва: — «Вперед!..»
Молодой весенний дождь обрызгал трон: и вся Россия расцвела. «Цар-
ская власть», «царское лицо»: много об этом думано, а еще больше нужно
подумать. Ну, вот, подите-ка создайте 1861 год без «лица, в котором все
сосредоточивается», которое чего «хочет» — того «обязана хотеть» вся
Россия.
Вся Россия оглянулась... Улыбается и видит: среди нее стоит красивый
человек, с русыми усами и бакенбардами, в гусарском ментике и аксель-
бантах: а лицо такое суровое, грозное...
Сдвинул он брови...
Поднялось сердце у всей России: — «Ну, ну?!..»
Пятьдесят миллионов человек; и ждут, что скажет этот прекрасный че-
ловек, с радостью в сердце и грозою в бровях.
Нет, господа, это религиозный момент, это всемирно-историческая точ-
ка, еще не разгаданная! «Точку» эту зачеркнуть в мыслях легко, а вот поди-
те-ка выработайте ее фактически в тысяче лет терпения, страдания и на-
дежды. «Увидим! Увидим! Когда-нибудь! Когда-нибудь!»
И пришло 19 февраля 1861 года.
«Раз... два... Ну, стоим, ну, дальше?..» Только сердце колотится, уста
ничего не умеют сказать.
«.. .Три! Повелеваю отныне, чтобы ни один человек в России не смел
именоваться рабом и не был в состоянии раба! По церквам! Молебны! Фи-
ларет —пиши грамоту, народ—крестись!»
«Хочу и повелеваю. Так угодно...» — «Теперь я устал. Великое слово
дано. А вы по моему слову...»
И все побежало в разные стороны, держась за карманы, кашляя, ковы-
ляя, и... «ямки», «ямки», много «ямок», поехала «телега Руси» — и все «в
ямку» да «в ямку», при злобном хихиканье где-то из канавы поблизости.
Но оставим это. Сегодня день радости.
Ах, эта «граница» и «неограниченное»... Откуда эта странная мечта,
эта странная тоска, у всех народов, не у христиан одних, — создать идею
«ангела»... И «дух» и «плоть»... С одной стороны, «чистый дух», но —
34
«может воплощаться». Все религии, а в философии глубочайшая ее часть
— метафизика, наконец, — все сказки, все мифы, да и в самой математике
«исчисление бесконечных величин» — указывают на вечное тоскование
человека «в своих пределах» и на великую потребность его — выйти из
них и вступить в «бесконечность»... Вот откуда—«ангел», праведная фор-
ма ницшевского грешного «сверхчеловека...». Вот, наконец, основание, что
50 миллионов человек ждут мановения одного, — чтобы сразу и всем одно-
временно начать что-то делать, одинаково думать и находить упоение в этом
согласии и единогласии.
«Так хочет Царь! Так хочет Царь»...
Совсем это не то, что «так хочет седовласый историк С. М. Соловьев»,
«лучший публицист «NN», к этому призывает нас знаменитый оратор» та-
кой-то. Совсем другое! Что же другое? Тайна. Тайна, которую легко разру-
шить. А вот попробуйте-ка ее создать, сотворить вновь, сотворить впер-
вые. .. Ах, чтобы умертвить человека, достаточно проколоть булавкой его
мозжечок: умрет от этого даже Ньютон, умрет праведник... А вот вы роди-
те-ка Ньютона, родите праведного человека на землю: пусть постараются
отцы и матери, зададут себе «урок»... «Проколоть булавкой» все легко, ро-
дить — часто никто не может, не умеет.
* * *
И все руки со счастьем разжались; Филарет охотно написал бумагу; против
своих убеждений написал, как мы знаем это исторически, и, как историчес-
ки же знаем, — написал с одушевлением, величественно и вдохновенно! Вот
чудо! Самые души вдруг у миллионов людей переродились — ив этом весь
секрет... Собственники без горечи отошли от своих состояний, от своего
богатства: чего не мог сделать за себя только всю жизнь Толстой, такая лич-
ность! «Бесконечное лицо» в центре народа, эта «бесконечная величина»
математики, «ангел» религии, молитв,—пришел и захотел, и вдруг все вста-
ли и исполнили.
Вполне иррациональный момент! 19 февраля, между прочим, оттого
нам дорого, что, каково бы оно ни было на иностранную оценку, —для нас,
русских, несомненно, это есть оригинальный и самобытный факт нашей
истории, есть, может быть, самое великое проявление особенностей сложе-
ния нашей души, нашего исторического воспитания и нашего государствен-
ного мистицизма, переходящего от «обыкновенной политики» к началам
«сверхчеловечности», которые всегда любил Восток, почитал Восток, ве-
рил им Восток... И на Востоке они мерцали, проявлялись.
Поклонимся и мы этому маленькому «чуду» нашей истории; поклонимся
сердцу Александра II, — потом так истерзанному в чаду земном и грязном,
в чаду едком и мучительном. Поклонимся всему тогдашнему благородному
поколению; поклонимся старейшим сейчас людям на лице Русской Земли.
Они имели свое «Ныне отпущаеши раба твоего»; и особенно после 17 ок-
тября они совершенно уже без тревог сойдут в землю, «приложившись к
35
отцам» своим, «отцам всей Русской Земли», от старых наших Ярославов,
Андреев, Иоаннов до «теперь».
Будем, господа, радоваться сегодня, и беззаботно радоваться. Будем
верить в свою историю и в свою Землю!
19 февраля 1911 г.
ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ
19февраля 1861 года капнула та капелька, та драгоценная капелька, кото-
рую полвека и даже больше вырабатывал в себе русский организм... Весь
организм, в целом его составе. Скажем широкое слово, что эта реформа —
безыменная-, хотя она, понятным образом, скреплена с определенными име-
нами, как и приурочена к «дню и часу», но, ведь, все это только «манифесто-
вало» работу целой нации за XIX век, работу уже давно умерших людей, как
и работу безвестных, далеких, глухих краев...
«Все давно ждали».
А когда произошло, то—
«Все радовались».
Вот в этом «ждали» и «радовались» и состоит все дело. По «безымен-
ности», невольной безыменности «ждавших» и «радовавшихся», и припи-
сывая решительно все дело им, именно и хочется сказать, что это была вели-
кая русская реформа, над которою трудилась и созидала вся Россия, «тьма»
умов народных, «мгла» сердец человеческих... «Тьма» и «мгла» в смысле
«неисчислимого множества», поневоле «безыменного».
Толстой, в великом подъеме духа писавший «Войну и мир», когда дошел
до размышления о том, «кому же мы обязаны были изгнанием Наполеона» и
«освобождением Москвы и России», ответил глубоко художественно и мудро:
«Вот та самая барыня, которая забирала своих арапок и собачек и пере-
езжала с ними в тамбовскую деревню, в смутном сознании, что она Бона-
парту не слуга»,—и была настоящею виновницею освобождения России»...
«Потому что что же было Наполеону делать в стране, в которой ему вообще
никто не хотел повиноваться»...
А «Кутузов» и армия, битвы и вся механика войны,—только осязатель-
но очертили этот узор народной души, в котором все дело, только были
служебными и подчиненными великого народного: хочу!!
Великое прозрение художника. ..Дай без него, впрочем, все ясно: конеч-
но, все дело в том, что Россия в лице ее населения и представить не могла себя
иначе как национально-независимою, государственно-независимою, как сво-
бодною и самостоятельною страною... «На своих ногах стою и своими ру-
ками все делаю»... И вот это: «не могу себя иначе чувствовать»—и выперло
вон Наполеона, как выпирает тяжесть и масса воды попавшую в нее проб-
ку. «Кто выпирает?» «Которые частицы воды?» — Ответ один: все, вся
река, весь океан! Выпирает стихия и удельный вес ее!
36
Кто освободил крестьян?
Для осязательности и очевидности дела, укажем, что перед решени-
ем реформы, перед наклонением весов в сторону «да» или «нет» не было
сделано подсчетов, вымерений труда, доходностей, государственных на-
логов.. . Реформа была «вне расчета» и не «по расчету»... Это явно! Если
подобные соображения и приводились иногда и кое-где или если их при-
нимали «тоже во внимание», то лишь в качестве «пособия», «подспо-
рья» для решимости или «для рассеяния страхов и угроз»! Но ни в ка-
ком случае это не входило главным и даже просто очень большим моти-
вом! Сильнее была угроза «беспорядком», опасение «беспорядка»...
Известное выражение Екатерины II, что в лице поместного дворянства,
владеющего «народными душами», она «имеет и распоряжается несколь-
кими стами тысяч полицеймейстеров», поставленных над всей Россией
густою сетью, — было, в сущности, важнейшим мотивом, задержавшим
на шестьдесят лет освобождение крестьян!.. От этого «протест против кре-
постного права», в литературе, в обществе, где бы то ни было, также не тер-
пелся и преследовался с такой же горячностью, с такой же подозрительнос-
тью, с такою же, наконец, мстительностью, как позднее протест «против по-
лицейского режима» в пору Тимашева, Шувалова, Толстого, Сипягина и Плеве.
«Вдруг настанет анархия, если устранить 100 000 полицеймейстеров» (при
Екатерине II) или «если ослабить, вообще, полицейскую систему», «по-
лицейский авторитет», полицейское «высокодержавство» в каждом уез-
де, на каждой улице и в каждом проходном дворе... Это был главный
страх, главное запугивание в умелых руках, — которое действовало на
власть, слишком еще патриархальную и, от патриархальности, полити-
чески-неопытную. Великое, что принадлежит имени Александра II, зак-
лючается в преодолении этого довольно естественного беспокойства, —
ибо, конечно, Государь ответствен пред будущим и ответствен за стра-
ну сейчас. Но он одолел эту тревогу века; смежил глаза на то, чего боя-
лись Екатерина, Александр и Николай! Молодость и великодушное до-
верие в прекрасные черты народной души — дали ему силу ступить в
темноту...
Он сделал шаг (великая решимость!)—и тотчас дверь распахнулась, и
все увидели, что страхи пусты: ибо за затворенною дверью сидел измучен-
ный человек, а вовсе не озверевший, не озлобленный преступник, «гото-
вый на все»... Как пугали, как опасались предыдущие Государи, как имел
все поводы думать и Александр II, просто по инерции вековой мысли, про-
сто потому, что не было же, до самого 19 февраля не было, очевидных дока-
зательств «против»...
Вот за это, именно за это одно, вся Россия должна положить сегодня
земной поклон Государю Александру II.
И тут—его героизм, благородство...
Как и все «19 февраля» было актом подъема благородных сил России,
напрягавшихся сюда уже целый век.
37
Пушкинское—
Увижу ль я, друзья, народ неугнетенный
И рабство, павшее по манию Царя, —
жило, в сущности, в душе всех русских образованных людей, всех русских
просто добрых людей! Это было мечтою страны, энтузиазмом страны, за
обнаружение которого, по мотиву подозрительности, указанному выше
(«анархия»), — многие поплатились ссылкою, заточением! Это всегда ося-
зательно и очевидно, это не требует «дальнейших доказательств». И вот,
как «барыня, уезжавшая в тамбовское имение со своими шутами и шутиха-
ми, в смутном сознании, что она не слуга Бонапарту» спасла национальную
целость, свободу и гордость России,—так точно, через пятьдесят лет пос-
ле этого, узы народные «пали по манию Царя», по тому, собственно, моти-
ву, что русская душа «не могла себе представить, и выжить, и перенести
порядка вещей, по которому один человек владеет душою другого, жизнью
его и трудом его», «не купив его», «от рождения своего и навеки»!!
«Не могу быть зависимым'.» — бились сердца.
«Не могу иметь рабов'.»—бились благородные сердца.
Вот два великие чувства, которые создали «1812» и «1861 г.».
Выперло вон, как пробку море...
Правда русской души выперла крепостное право?..
Чьей души? Всех «Иванов» и «Петров», сколько их ни было тогда в
России, в тот 1861 год, и даже более: от 1801 до 1861 года.
И время, минута и день поклониться сегодня всему теперешнему на-
шему поколению, не очень крупному, не очень яркому, не очень велико-
душному и мечтательному, своим великим предкам XIX века за то, что они
дали всей России и на все времена этот сегодняшний наш светлый день, как
вечное воспоминание в роды и роды о великом движении «безыменного
сердца» и «безыменной души», которым был весь народ, от которого по
плоти и мы, теперешние, родились...
«Слава отцам!»
Нет, — не все хулить «отцов» и славить «детей», время сказать:
—Мы дети честных родителей! И мы гордимся, что происходим имен-
но от таких отцов, честь которых, на достигнутой высоте, поддержать труд-
но. Но мы будем усиливаться ее поддержать.
В БОЛОГОМ
Нет такого горького, такого страшного места теперь на Руси, как Бологое...
Помню я эти маленькие уездные местечки, где, если покажется какое увесе-
ление, — весь город спешит на него, и вот непременно «и с малыми детьми»,
целой семьей, иногда с прислугой. «И с гостями», и еще «с приезжими»...
Читая описание, я так вспомнил городок Белый Смоленской губернии...
38
Долгую зиму, целые годы в забросе, забытье. «Некому и вспомнить о
нас». Вдруг из столицы «наезжает удовольствие»,—цирк, странствующая
труппа, что-нибудь, ну, что-нибудь. «Тогда все спешим».
Оживасг город, оживляется вся масса.
Добрые, прекрасные, тихие люди... «Истинная Русь».
* * *
Но вот что хочется отметить в этом ужасе: благородство смерти! О,
смерть не всегда бывает благородна, вовсе нет! Помните пожар на какой-то
благотворительной выставке в Париже: кавалеры ударами кулака в лицо
отбивались от хватавшихся за них женщин: отбивались каблуками, царапа-
лись, только чтобы остаться «одному», свободному и сильному, и вырвать-
ся из гибели.
Бологое есть что-то великое. Девятилетний мальчик почти первым вы-
бежал из пожара; но с криками: папа! папа! — бросился назад и погиб.
Другой вытащил уже многих, и бросается еще в огонь, и также гибнет. Еще:
слышит голос сзади: «Папа, мне больно» (очевидно, чужой), бросается
назад и погибает. В те десять минут, когда совершился весь ужас, была «свал-
ка» жалости, жалости больше, чем ужаса. И вот где можно сказать: «Лю-
бовь победила смерть».
Любовь очень простых людей, «тетушек», «дяденек», мастеровых, «тор-
говцев галантерейным товаром». Всю жизнь, кажется, жмется около гри-
венника: а пришел час, и умер, как великий человек, таща одного на пле-
чах, «но забыл другого» — и вернулся, и погиб. В пересказе мелькает мно-
жество этих случаев, и есть еще, конечно, другие, безмолвно и безвидно
совершившиеся там, внутри, в горниле ужаса.
«И никто не увидел, никто не расскажет».
Но как узнаешь этот наш «уездный дух», такой реальный, теплый, жи-
вой. Читая, просто и «руками ощупывал» ту психологию, ту самую, какую
знавал, видал, ощущал в городках Смоленской и Орловской губерний. Вот
маленький рассказ прачки (мать гимназистика) на улице:
«Слышим мы с мужем, что кто-то царапается в ворота. Ужинали. Он вы-
шел на двор. Слышу я крик, выбегаю. Муж сидит на волке, — бешеный, —
кричит: «Кинь топор, а сама не подходи! Меня покусал! Бешеный».—«Что
ж, думаю: тебе умирать, а мне зачем жить». Кинулась на волка, и он мне
щеку-то и скусил». Прачка эта была с сорванной щекой и рассказала мне на
вопрос об уродстве. Я спросил: «Что у тебя, милая, щека?» Она ответила:
«Морда-то?» Так что она даже и не знала, что у нее «лицо», а полагала быть
у человека только «морде». Но пришла минута, и душа сказалась у нее, как
у римской матроны.
Я к тому делаю эту заметку, что уж очень расписались господа литера-
торы, будто за чертою Петербурга живут только одни «Передоновы».—Ну,
так-таки сплошь, и об этом сплошь все пишут, «с январских книжек журна-
ла». «Колупаевы», «Разуваевы»,—«гражданственности» нет, «христиан-
39
ская душа» умерла, и все, кажется, потому, что «не шлют нам приветствий»,
когда мы говорим, шумим и протестуем. И нет им средства защититься;
они без голоса, не литераторы.
И вдруг великий час, как вот в Бологом: и мы узнаем, хоть поздно, ис-
тину. Великие люди, с великою душою, под корявой наружностью.
Опомнитесь и «перекреститесь», гг. литераторы, хоть потихоньку, хоть
наедине, дома.
ТЕМНЫЙ ПРАВОВОЙ ВОПРОС
Мне было рассказано несколько поистине «раздирательных» случаев из те-
перешней учебной забастовки. Впрочем, не «несколько», а два,—но как и
рассказывавших лиц было всего только два, из близко знакомых мне людей
(очень молодых, а одно лицо — студент политехникума), то, очевидно, и
случаев подобных вообще много, но они рассказываются в других местах,
другим людям, или очень скромным, «пришибленным», или по той или иной
причине не могущим подать голоса в печати.
Случаи эти следующие. Дело в том, что для доброй половины, и может
быть больше чем половины, слушателей «забастовка» и прекращение лек-
ций вообще ничего не значат: имея в руках программы, имея указанные от
профессоров сочинения, которые должны быть приготовлены «к следую-
щему экзамену», они готовятся энергично дома или в библиотеках к этим
«следующим экзаменам», ничего не теряя, вообще ничего не претерпевая:
это все те, которые держали экзамены в декабре—ноябре. «Зарез» насту-
пил для сравнительно немногих, которые только вот только приготовились
к экзаменам, иногда—к выпускным уже, иногда даже в связи с заготовлен-
ным для них в провинции, у себя на родине, «местом», которое, естествен-
но, «долго ждать не может», и им или 1) сейчас нужно держать экзамен,
или 2) потерять все в жизни, по крайней мере на много лет стать в неопре-
деленное и, может быть, в безысходное положение: потому что «искать и
найти место» — в этом заключается самый мучительный вопрос «по окон-
чании курсов». Но здесь я прерываю «изложение вообще» и передаю рас-
сказ молодого,—тоже без службы, с небольшим частным заработком, —
человека, юриста по образованию. «Приехала в Петербург держать экза-
мен двоюродная сестра моей жены, которая все время держалась здесь на
20 рублях в месяц. Приехала из О-ской губернии и на проезд истратила
десять рублей. Приехала она, чтобы послезавтра держать экзамен, который
был назначен 30 января: но 29-го была объявлена забастовка, экзамен есте-
ственно отпал, а теперь курсы и совсем закрыты, и она лежит целые дни в
кровати и плачет, не ест, не спит и вполне растеряна, что же ей дальше
делать: надеяться ли, что курсы вскоре будут открыты, или что этого скоро
не настанет и ей лучше ехать домой... Но в последнем случае как же она
вторично приедет в Петербург, когда и теперь приехала едва-едва, и на вто-
ричную поездку у нее нет никакой возможности»...
40
Второй рассказ такой же (студента о сестре-бестужевке), и тоже с при-
сказкой: «лежит и плачет».
Как в древности я учил о jus naturale*, то у меня возник вопрос или,
лучше сказать, пламенно вырвался из мозга тезис:
«Нет, пусть десять тысяч согласно и единогласно решили закрыть... про-
тестовать. .. бастовать и т. д., и т. д. Все равно, сколько угодно, миллион
человек, и все по самым лучшим мотивам; но вот когда одна такая девушка
бредет-бредет, добрела, с оставшимися 10 рублями в кармане, до столика
экзаменационного, то вправе ли 10 000, или сто тысяч, или миллион чело-
век на нее заорать:
— Прочь, тут большие дела делаются! Тут—империя, переворот, бу-
дущность отечества и т. д. и т. д.
— Наше дело святое, а ты отходи!
Мне кажется, по jus naturale они могут ее только попросить отойти. Но
распорядиться о ней не могут. Я совершенно отстраняю всю нравственную
сторону, нисколько не прошу к ней жалости и вообще рассуждаю не как хри-
стианин, а вот как римлянин о строжайше установленном ими jus naturale.
—Добрела... через силу... дайте выдержать экзамен.
Мне кажется, против этого сто тысяч человек ничего не могут сде-
лать. Все сто тысяч человек, если хотят, чтобы кто-нибудь уважал их
«естественное право устроить забастовку», должны накануне ее собрать-
ся, выделить из себя вот всех так «добредших до экзамена», окружить
их кольцом, кольцом физической силы и уважения, и дать им выдер-
жать; и уже тогда, устроив забастовку, в свою очередь потребовать к ней
уважения!
Это — не liberum veto**. Наоборот: в Польше один нахал имел пра-
во остановить решение всего государства. Здесь смиренно «добредшая»
ничего не требует, ни в какие чужие дела не вмешивается, а только про-
сит «всех»-то не вмешиваться в ее личное, внутреннее, домашнее дело.
Скорее это «право англичанина никого не впустить в свой дом» (для
обыска, ареста). Это скорее, таким образом, Habeas corpus. Habeas corpus
одиноких, безголосых, безмолвных, слабых. Но «лев не смеет пожрать
комара», когда он летает на своей воле и на крыльях, ему данных Богом.
Комар имеет свой Habeas corpus, или jus naturale Рима. Теперь я утверж-
даю, что если «громада» может пожрать одного, то ббльшая «громада»
может сожрать эту громаду, — ибо уже тогда всеобщее jus naturale кон-
чено, и вообще нет защиты, т. е. идейной защиты, — ни против какой
силы. Таким образом, «забастовка», не поцеремонившаяся только с од-
ной «прибредшей», сразу потеряла все идейные защиты себя и откро-
венно сказала: «А кто сильнее нас — тоже может нас разбарабанить как
ему угодно».
* естественное право (лат.).
** право единоличного запрета (лат.).
41
На это обращаю внимание г. Кассо, г. Рябушинского и кн. Е. Н. Трубец-
кого, тоже подавшего по телеграфу в отставку... Я хочу сказать, что есть
лица гораздо более несчастные в забастовке, нежели «35» или сколько-то
профессоров... У тех — наука, у тех—будущность; у всех — что-нибудь.
Но есть «последние овцы», у которых вообще ничего нет. Около забастов-
ки собраны громадные миллионы: и например, в Москве, «выразившие ей
сочувствие» обязаны не нравственно только, но юридически, в силу jus
naturale, «вознаград ить материальный ущерб потерпевших» и просто, напр.,
из «банка Рябушинских» ассигновать содержание «потерпевшим» впредь
до открытия учебных заведений.
Римляне были последовательные юристы: и я чувствую, что ни в чем не
повинные вправе предъявить огромный денежный иск к г. Кассо, а Кассо в
свою очередь переложить этот иск и добиться взыскания денег коллектив-
но со всех принимавших участие в возбуждении и проведении забастовки.
Мы, конечно, не римляне, и все законы наши «каша», как и администрация
есть «кисель», в котором удобно плавает «топор» всяких «движений». Но
вот я частный человек, «частный римлянин», строго утверждаю, что тут
есть предмет иска, тоже по римской поговорке: «У кого право (закрыть за-
ведения, разрушить экзамены), у того обязанности» (всех не участвующих
в движении вознаградить).
Ведь не экспроприируют же земли на железные дороги бесплатно? Хотя
тоже в «государственных потребностях», «общих потребностях». Третий
человек, не участник — всегда должен быть вознагражден. Это мировая
аксиома —jus naturale.
О «РУССКОМ ГРАЖДАНИНЕ»
Понятие «гражданского чувства», «гражданских мотивов»—одно из ост-
рых и чутких наших понятий. Книга, наполненная «гражданскими чувства-
ми», расхватывается; лишенная их — не имеет хода. Человек «высоких граж-
данских чувств» тоже отовсюду виден, высоко несет голову; напротив, ли-
шенный этого—презираем, затаптывается.
«Россия—страна высоких гражданских чувств», — можем сказать с
гордостью.
* * *
Даже в крошечных республиках Греции понятие «гражданина» не было из-
вестно; там были, как в Аттике, «геоморы», «демиурги», т. е. «ремесленни-
ки», «земледельцы»,—деления бытовые или по работе. Ему предшество-
вали деления родовые, племенные, в общем — семейные. Первый, кто со-
здал понятие «гражданина», был Рим. «Civis romanus sum» звучало на про-
странстве целого мира; и когда Рим умер, то все еще повторяется через
полторы тысячи лет по его смерти. Вообще первая травка всегда всего луч-
42
ше растет. Кто первый дал миру какое-нибудь понятие, обыкновенно и осу-
ществляет его так, как никому потом не удавалось, не удастся. Моммзен
хорошо говорит, что только один Юлий Цезарь был настоящим «кесарем» в
мире; и что хотя потом было много лиц, принявших личное имя Цезаря в
нарицательный титул себе, но что все это были уже пародии первого. И по-
тому, просто, что были «десятой травой» на одном пласту земли.
Поверят ли русские, что «римские граждане» были не хуже «русских
граждан»? Чем другим, а здравым смыслом русские не обделены. Итак, без
сомнения, они поверят, что римляне были более чутки к проявлению «граж-
данского чувства», чем мы.
♦ * *
Была борьба с Аннибалом, расслоившаяся в ряде битв, где римляне были
все побеждаемы. Но страшная энергия города—«Romae Aetemae» (титул
на монетах) — и слышать не хотела о мире, об окончании войны. И после
каждого поражения ворота его растворялись, и по «Аппиевой дороге» выхо-
дили и шли навстречу врагу все новые и новые легионы, — все «отцы», все
«братья», «сыновья», «женихи» девушек: почти на верную гибель. Потому
что Аннибал казался и был до сих пор непобедимым... Только полководцы
стали осторожнее: они следили за Аннибалом, но уклонялись от битв; не
шли «на удочку», «в засаду», к чему всегда манил их гениальный карфаге-
нянин.
Аннибал ждал и не мог дождаться. Римляне были осторожны. «Обжег-
шись на молоке, дули на воду». Заскучал Аннибал.
В войске были по обычаю два консула; и «команда над войском» чере-
довалась между ними. Аннибал пронюхал, что один консул очень осторо-
жен, другой же отважен, пылок, героичен... и, словом, «молод и зелен».
Аннибал не был ни «молод», ни «зелен». Он уже потерял один глаз, и
был одноглазое чудище, непобедимое, страшное, которое готовилось по-
жрать Рим, как древний одноглазый Циклоп пожрал спутников Одиссея.
Римляне страшно боялись.
Аннибал «задрал» юношу, устроил притворное «бегство», втянул рим-
лян в какую-то трясину, но затем—обернулся и не только разбил, но ист-
ребил римское войско, самое цветущее и могущественное, какое имел силы
собрать Рим. В отчаянной битве, которая походила скорее на «убой скота»,
погиб и осторожный консул. Но каким-то чудом, совершенным чудом, уце-
лел легкомысленный, славолюбивый консул, который дал себя обмануть
Аннибалу... Как поручик Пирогов в «Невском проспекте» съел пирожок
после порки, так этот полководец, «как ни в чем не бывало», собрал кое-
каких солдатишек и пошел к Риму...
— Казнить! Казнить!—кричали мне гимназистики III класса, когда я
им это рассказывал и доходил до пункта: «полководец ведет остатки разби-
тых войск к Риму».
Это были русские мальчики.
43
Римляне отворили ворота: и весь сенат («civis Romanus sum») вышел
навстречу виновнику страшного поражения. Затаив в сотне медных грудей
горечь, презрение к «мальчишке», седовласые римляне поклонились юно-
ше и благодарили его, что он «не отчаялся в спасении отечества»... Т. е. не
растерялся, не «спрятался под стол», не убил себя, — как естественно бы
всякому, с головой, с умом, с гордостью.
Они притворились, что не заметили его легкомыслия. «Съели пилюлю
молча». Опять собирали войско; последних братьев, последних сынов. Толь-
ко осторожнее выбирали консулов...
И с этого момента — именно почему-то с этого момента — Аннибал
начал клониться перед железным Римом. «Стало так случаться», что все
ему начало «не удаваться». «Не удается» и «не удастся»... Судьба? Бог?
Пока Рим не раздавил его и уже затем раздавил и самый Карфаген, и нако-
нец целый мир, как стальные щипцы давят лесные орехи. «Мало орехов!»
«Давайте больше!..» Все мякло, таяло в железных объятиях.
* * *
Так вот как... Сенат был просто собрание граждан, которое «держало думу»
города. Сенат ничем не управлял, не «правительствовал». Он был просто
авторитет, мысль, «дума про себя» Рима; был «молчание» Рима—у, какое
грозное, у, какое страшное! В ту пору, при Аннибале, мало разговаривали;
«разговоры» пошли после Сципионов, при Цицероне.
А тогда Рим молчал, пахал и сражался.
«Консулы» же были правительство; «власть исполнительная», по Мон-
тескьё; могли даже «рубить головы», для чего и имели безотлучно при себе
ликторов с секирами. Вообще, по русской терминологии, «ужасные люди,
а 1а Держиморда».
И вдруг—мальчишество! Кровавое, поставившее Рим на край гибели!
Вдруг многодумный сенат выходит навстречу, кланяется мальчишке,
благодарит «за надежду о судьбе отечества»...
* * *
Я не стану спорить, что русские «консулы», т. е. вся наша администрация
снизу доверху, не были талантливее и успешнее сего несчастного и самона-
деянного римского консула, который был так позорно обманут и разбит Ан-
нибалом. И вообще ничего не идеализирую там, наверху...
Но здесь, внизу? где гражданство?
Здесь я не нахожу бронзы, а лишь глину и песок. Послушайте, не это ли
наша вечная история:
— Правительство провалилось! Ха-ха-ха!! Ату его! ату его! Пиль!
— Полководец разбит: почему же его не в три шеи?!
— Говорят, тот украл: да разве он мог не украсть?!
— Ведь мы имеем государство воров!
— Ведь это не отечество, а помойная яма!
44
— Ату их! Гони, гони!! Пиль! пиль!
Позвольте, господа!
Это не гражданство!
Это не государство!
Это просто обывательский клуб, откуда «завсегдатаи», встав из-за карт,
задумали «сыграть в политику», «в гражданство» и т. п.
Вот параллель. Соглашаюсь условно на минуту, что правительство
(«консулы») совершенно не право в деле с университетами и студентами;
это оно их обидело-, и всячески вообще поступило не так («консул поте-
рял войска»).
Но тем не менее оно, правительство, «правит державою», правит
судьбою.
«Судьба» эта—всех нас, русских. «Будущность России».
Профессора, как бы там ни было, все-таки «служащие». Вдруг они вы-
ходят в отставку массою, т. е. преднамеренно и сознательно «дезорганизу-
ют службу», зачеркивают часть управления.
Знаете ли, как бы с ними расправились консулы в Риме?
Как бы с ними поступил совет десяти в Венецианской республике?
Как с дезорганизующими партию подчиненными, с «младшими товари-
щами», поступили бы старшие «товарищи», коноводы? «Исполнитель-
ный комитет»?
Мы все знаем, как было бы: назавтра после отставки дезорганизаторы
не жили бы. Конечно, все хорошо знают, что это так!!
Но то, что сейчас мы наблюдаем у себя, это что-то чухломское, а вовсе
не римское.
... Приват-доценты, лекторы все выходят в отставку!
«Браво!браво!браво!»
Хоть закрываться министерству.
«Брависсимо!»
«Господа, адрес!! Господа, приветствие!!!»
И восемь земских врачей подписывают «адрес подавшим в отставку».
Но ведь это же Чухлома, а не Рим. Так Ноздрев «колотил чубуком» Чи-
чикова за то, что тот «украл», и тем проявлял «гражданское чувство негодо-
вания». Вообще Ноздрев многих «обличал», помните, на балу у губернато-
ра. Ноздрев был куда резче даже Щедрина.
Но все это—обывательщина, и Щедрин, и Ноздрев, и подписывающие
адреса господа. Все это страшно несерьезно. Все это клуб. Только «клуб с
затяжными картами», за черту которого почему-то никак не умеет пересту-
пить русский человек. «Предел ему такой положен»—как говорит купчиха
у Островского.
И «консулы» плохи. При таких «гражданах» почему быть хорошим «кон-
сулам»? откуда? В консулы выходят из «граждан»: а у нас есть только клуб
и клубисты, обывательщина и обыватели. Неоткуда взяться.
45
Странно, дико подумать: но приходит порой на мысль, что наши «чи-
новники с кокардой» все-таки более граждане, в них более «civis romanus
sum», нежели в профессорах, членах Г. Думы, протестующих врачах и до-
центах. Они знают хоть азбуку «гражданского чувства»: солидарность, дис-
циплину и порядок. Ведь без этого каша. Ведь без этого уж окончательный
«клуб».
Просто иногда не поймешь, зачем мы «призывали Рюрика, Синеуса и
Трувора». Стрелять бы нам по лесам белок, как вотяки. Это на тысячу лет.
Потом тысячу лет играть бы в карты. А «правительствовать» не наш черед.
Нация «privatissima», исключительно приватных чувств и приватных отно-
шений. «Хорошие суседи», и только.
НАРОДНЫЕ БЕДЫ И УТЕШЕНИЯ
Люблю я наблюдать народные приметы...
Е. Баратынский
Почти одновременно появились две книжки, увы, на сродную тему. О празд-
никах и о пьянстве. Как это ни грустно, ни страшно сказать, что «день,
посвященный Богу», у нас исторически сплелся, слился с днем, посвящен-
ным преимущественно из всех дней недели пьянству, но этой горькой исти-
ны некуда спрятать. Последнему горю посвятил свой труд г. А. Шилов, из-
давший в Москве кропотливую, заботливую работу—«К вопросу о спосо-
бах борьбы с пьянством. По поводу законопроектов». Это часть доклада цен-
тральному комитету союза 17 октября о законопроектах борьбы с пьянством,
посвященных преимущественно тем отделам вопроса об алкоголизме, кото-
рые вызвали разногласие между комиссиею Г. Думы о мерах борьбы с пьян-
ством и м-вом финансов. М-ву финансов, которое все сокрушается, что ста-
нет мало получать, если на Руси мало или меньше станут пить, можно отве-
тить, что зато правительство меньше будет от него требовать ассигнований
на суд, на тюрьмы, на колонизацию Сибири преступниками, зато больше
будут провозить товаров по железным дорогам, потому что самых товаров
будет вырабатываться больше; больше будет лавочек и патентов на торгов-
лю: больше будет наш вывоз за границу; меньше будем ввозить к себе обра-
ботанных товаров, и особенно тонко обработанных.
«Мужики пили чай, подбавляя водки. Потом перешли на чистую водку.
К вечеру куда-то заронили огонек. Загорелась изба, и сгорело полдеревни.
Много ли министерство финансов получило прибыли?»
Эту «задачу» решают гт. Коковцов и Витте.
— Министерство получило в сем случае 95 копеек чистой прибыли.
Расхода же в сей день и на сию деревню оно никакого не сделало. Значит,
государству прибыль.
46
Да, но только «в сей день» и «в сем месте»: государству без всяких объяс-
нений выгоднее иметь одну несожженную, правильно работающую, трез-
вую деревню, чем получать с деревни по нескольку рублей в праздник, с
постоянной угрозой, что кто-то кого-то сожжет, или кто-то кого-то убьет,
или кто-то кого-то ограбит.
Министерство финансов слишком отвлеченно считает, голо считает; счи-
тает одни деньги, золото или кредитки, а не имущество, владение, богат-
ство материальное, вещи, дома, одежду, скот. Неужели кто-нибудь будет
спорить, неужели станут спорить гт. Витте и Коковцов, что у трезвого наро-
да будет больше имущества, чем у нетрезвого; что трезвый народ сделает-
ся богаче и производительнее, чем пьяный или «навеселе».
Ничем его не убедишь: хотя бы перечли Посошкова: «О скудости и бо-
гатстве». А то «деньги, деньги, подавай денег». Члены министерства фи-
нансов сумели бы переработать имущество и труд, стада и дома, фабрики и
мастерские в «чистый металл», которым оно так же объедается, как несча-
стный народ опивается водкой.
Все отвлеченность, денежная отвлеченность. Над министерством фи-
нансов следовало бы, в виде высшей инстанции, поставить «министерство
охраны народного труда».
Другая книга, г. Андриевского, члена Г. Совета, внесшего законопроект
о сокращении праздничных дней. Здесь собраны все материалы, относя-
щиеся к предмету законопроекта, и перепечатаны все статьи из журналов и
газет, где велась полемика о законопроекте.
Ах, Русь, Русь,—более византийская, чем христианская. Ведь что надо
отметить. Все наши праздники «на неделе» более разубраны, раскрашены,
счастливее проводятся, все они народнее, чем, увы, воскресенье... Вот тай-
на жизни и истории. Даже Некрасов, при всем, очевидно, атеизме, вздох-
нул, вспомнил:
Вот и праздничек Покров.
У нас разные «семики» да «второй Спас» залили все... Тут и краски
быта, и гармоника, и «баба в сарафане», какую только Малявину писать.
Истощенная, худая, наконец, озлобленная, наконец, вот-вот готовая дойти
до преступления и отчаяния, Русь вдруг «в праздничек Покров» разряжает-
ся в ленты, монисты, новые сафьянные сапожки и, уперев руки в боки, кри-
чит на всю улицу и даже на весь свет: «Играй, музыка, веселее: сегодня я
боярыня, после целой недели, когда была чумичкой».
Шумит улица, не скрою, шумит и кабак. Но опять же Некрасов, сей
Мефистофель «зелена вина», сказал:
Не водись-ка на свете вина,
Тошен был бы мне свет.
И пожалуй, силен сатана:
Натворил бы я бед.
47
Да еще и нарисовал картинку, которой кто же откажет в истине и прав-
доподобии:
Наточивши широкий топор,
«Пропадай», — сам себе я сказал;
Побежал, притаился, как вор,
У знакомого дома — и ждал.
Да прозяб. А напротив кабак.
Рассудил: отчего не зайти?
На последний хватил четвертак.
Подрался и проснулся в части.
Ну, господа, если эту картинку зачеркнуть, то вообще надо зачеркнуть
половину Руси. А «половину Руси» как будто жалко. Ах, я сам не пью, дру-
зей пьющих не имею, и всецело, конечно, на стороне и Шилова и Андриев-
ского, но только...
Страшно много вопросов, и вся Русь в каких-то неопределенных воп-
росах. Ведь что боязно: ни Гилевич, ни де-Ласси, наверное, не пили, и «празд-
ники им надоедали, как перерыв деятельности». Уж такое соотношение
черт характера, что это — очевидно. Вот эти-то «связанные в разные узелки
черты души» и страшны. И зловещи или по крайней мере — неизвестны.
Не хочу и не могу решать.
Но вот что ясно: воскресенья у нас почти нет. До того оно тускло, до
того оно бесцветно проводится. «На Покров» — все в церкви. В Троицын
день смотрите-ка: весь народ валит в храм, с цветами, с березками: дома
остается только тот, кто в люльке лежит или на полатях умирает. Явно, что
за «третьего Спаса» постоит Русь... «Почему третьего, что ты тут пони-
маешь, Русь?» Русь отвечает: «А это только бусурманы хотят у Бога все в
душе высмотреть и спрашивают с зельем: как? почему! Я же потому тре-
тьему Спасу особенно поклоняюсь, как и матушке Параскеве Пятнице, что
ничего в этом не понимаю, хоть голову расшиби. А люблю, чтобы в этот
день свечи тысячами по церквам горели и народ валил валом в храм Божий.
Со всем усердием. И во всей темноте. И в полном счастии. А спрашивать,
как да почему, всякий дурак умеет. Я же народ умный и мудрый. И если не
так, не по-моему, то мне лучше и не жить».
Чтбтут поделаешь. Уступишь. Будь я безбожник Некрасов, я бы под-
сказал, что уж если «воскресенье» народ проводит так тускло, а местами
даже и поработывает немножко, тогда как в Троицын день никому и в голову
не придет взяться за работу, то... пусть бы это и продолжалось в эту сто-
рону, но только до конца. Т. е., в самом деле, раз «в седьмой день», этот до
излишества регулярный день, мы только спим да зеваем, то не начать ли в
него и всем работать, не прекращать службы, и взамен этого «расцветиться
Византией», участить «двунадесятые», и «Богородичные», и «всех святых»,
и «местных икон» праздники до 52 дней в году? И древнюю в сущности
«субботу» иудейскую, лишь искусственно переложенную на «следующий
48
день недели», немецкий Sontag*, с ее законом именно семидневности, с
христианством вовсе ничем не связанную, отменить вовсе.
Тогда выйдет отличная работа, большими приемами, длинными залпа-
ми, именно как привыкла Русь («страда» летняя). И после страды «пошла
Русь боярыней» на роскошные один-два дня. Заметно, что Русь любит «дву-
дневки» праздничные,—например, почему-то прихватывая к воскресенью
и понедельник.
Но как я не Некрасов, то, конечно, ничего и не предлагаю. Эти статьи я
написал, чтобы обратить внимание на некоторые глубоко оригинальные черты
«народного празднования», «народного ощущения праздника», «народного тре-
бования от праздника»... Ах, обо всем этом еще предстоит много думать.
В ДУХОВНО-УЧИЛИЩНОМ МИРЕ
Как-то мне приходилось беседовать в сотый раз с отношением Синода к
сектантскому вопросу, к вопросу с отлучением Толстого. Попутно я вспоми-
нал без конца тянущиеся в «Богословском Вестнике» записки преосвящен-
ного Саввы, архиепископа Тверского и наперсника митрополита Филарета,
где говорится так много о визитах к нему полувысокопоставленных особ и
полностью печатаются не только письма, но и записочки Влад. Карловича
Саблера, о Христе же, сколько помню, ни разу и нигде не упоминается.
Собеседник лениво повел в воздухе рукою.
— Ну, что же вы сделаете и как судить? Лютеране несут Евангелие в
Африку, в Австралию; католичество борется с новым просвещением, боро-
лось долго с режимом Франции. Это—темы. Около таких тем образуется
политика, в ее неопределенном и высоком смысле, как направление миро-
вых дел к мировым целям. Рулевые в Риме и на богословских факультетах
Германии смотрят тревожно и зорко на ход колоссального корабля в бес-
предельном океане... с его опасностями, с его неизвестностью.
— Ну? — загорелись у меня глаза. — Ну? Ну?
— Что же «ну», — вы сами не хуже меня знаете. «Беспредельности» на
Руси не полагается; и не то что где-нибудь наверху, но и всякий околоточ-
ный знает «пределы, их же не прейдеши». Знаем это мы с вами, знает вся
Русь. Ну...
— Ну?
— Где политика невозможна, начинается сплетня. Где нет дел, начина-
ются «делишки». Какие «делишки»? А черт их знает: мне кажется, и те лица,
которые их заваривают и их ведут и развязывают, так же мало интересуются
ими, как и мы с вами. Но у нас с вами есть о чем поговорить, а духовенству
совершенно не о чем говорить, и, чтобы окончательно не помереть с тоски,
оно заваривает разные «каши», мешает их, то маслит, то солит, сочиняет
* воскресенье (нем.).
49
«Записки преосвящ. Саввы», до которых никому дела нет, журнал их
Бог весть для чего печатает, скорее всего, по ироническому характеру
редактора, и проч., и проч., и т. д., день за днем и месяц за месяцем...
— Ну?
— Ну, что «ну»,—я кончил. Все духовное наше сословие и весь мнимо
«духовный мир» погружен в сплетню, и ей он отдается горячо, страстно, не
по интересу, в самом деле, к сплетне, а потому что... что же еще делать?!
Соберутся духовные: все равно, профессора, архиереи, священники, учи-
теля семинарий. Есть умные, очень много порядочных, есть образованные,
даже ученые. Но разговор всегда один: о предполагаемом «передвижении»
какого-нибудь отсутствующего епископа на новую кафедру и «кого же по-
шлют на его место». О <щоходах такого-то монастыря». Но гораздо чаще:
просто — о квартире и квартирах, у кого «сыра» и «нет», о вздорожании
провизии, и «что жить становится все труднее», и т. д., и т. д. Шепотом: у
кого сбежала жена или готовится сбежать. Как кто-то «устроился» или дру-
гой «расстроился». И не воображайте: ни до «жены», ни до «расстройства»
никому дела нет. Уж если где не «судят» и не «осуждают», то это в духов-
ном нашем сословии. Премиролюбивое сословие. Но ужасно скучает. И
вот от скуки, единственно от скуки, начинает вдруг поедать какого-нибудь
«Ивана», или по сану «Иоанна», и уж доедает его «с косточками», без вся-
кой на самом деле вражды и злобы.
— Но просвещение народа? Филантропия? Пьянство?
Он махнул рукой.
—Сказано: «предел положен». Этим может задаваться обер-прокурор
Синода, да и ему некогда за великим множеством дел «по своей канцеля-
рии». Может архиерей, если ему оставят досуг тоже «дела по консисто-
рии». Ах, это все нервные «дела», с большой ответственностью и происте-
кающим отсюда опасением «за свое место». Тут нельзя глаз сомкнуть, нельзя
обмолвиться неосторожным словом; за этим следит тот, до которого отно-
сится «дело», — какой-нибудь генерал, разводящийся со своей супругой.
На один такой «развод» уходит уйма времени, бумаги и, наконец, действи-
тельно, умственных способностей человека. А, между тем, он по сюжету
просто есть «сплетня», проистекающая из того, что генералу нравится его
горничная или генеральше нравится адъютант мужа. Тема Поль-де-Кока...
не всегда, но часто; но ее взялась распутывать церковь, и, как все, ею совер-
шаемое, не может не распутывать этого, будто бы, «дела» торжественно,
важно... и медленно. Бумаги уходит уйма. Сравнительно с этим, что же
такое значит «пьянство народное»? Туманная и отдаленная тема, тема «во-
обще», наконец, тема «Бог ее знает, до кого, собственно, относящаяся». Обер-
прокурору она и в ум не приходит, архиерею тоже. Школа, просвещение?
Да, если кто-нибудь посягнет на церковно-приходские школы: этим умаля-
ется авторитет церкви, возводится поклеп будто бы на нерадивость к обу-
чению духовенства, и в этом случае обер-прокурор, под зоркими глазами
всех архиереев целой России, кинется в жаркий спор, энергичное отсгаива-
50
ние и ни за что не уступит. Потому что нельзя ему уступить. Но это только «в
этом случае»: когда посягают, умаляют, чго-нибудь хотят отнять. Но вот, все
успокоились, никто ничего не отнял: тогда обер-прокурор моментально пе-
реходит «еще к бракоразводному делу другого генерала NN» и о школах со-
вершенно забыл. Школы «отстаивать в своих руках» нужно: это—сфера
церкви. Но «нужно ли в школах хорошо учить»,—это совершенно отдален-
но, это лишь «вообще», и ничего специфически церковного не представляет.
«Вообще, конечно, нужно учить хорошо, и вообще мы хорошо и учим»; но
это до того неосязательно, до того неконкретно, до того схематично, что кто
же тут может к чему-нибудь придраться, что-нибудь укритиковать, чго-ни-
будь рассудить и за что-нибудь осудить. Все причины просто ничего не ду-
мать об этом. Но вы спускаетесь книзу и говорите о священнике в школе и о
священнике перед ватагой гуляющих мужиков? Что на это сказать? И есть
праведники в духовенстве, которые учат, наставляют, останавливают пороч-
ных; и есть другие, которые порока не останавливают и даже к пороку присо-
единяются. Тут все уходит в бесполезность частного, личного... Общего ни-
чего нет и не может быть, как у лютеранина и католика.
— Почему?
— Нет связанности и единства. Как вы спросите: «Почему дамы в Ни-
жегородской губернии мало занимаются благотворительностью?» «Мало
занимаются»,—и больше ничего. А в Калуге, положим, «много занимают-
ся», но и это тоже—ничего! Просто—личность. И она может быть дурна
или хороша. Нельзя особенно «благодарить» за хорошее, нельзя строго «су-
дить» и за худое. Просто такая «масть» уродилась: то все рыжие, то вдруг
пойдут «черненькие». Это неисследимость быта и натуры. Рвение пастора
или ксендза к школе есть не его личное дело, а порыв всей церкви. Поэтому
если пастор или ксендз «не занимается», — его ветер снесет, ветер такой
силы, что сшибает с ног. И все «занимаются», как рожь стелется в одну
сторону под нагнетанием ветра, дующего туда-то. У нас все «колосья» врозь,
потому что, в сущности, не дует никакого ветра, а только прохладное сол-
нышко или слякоть сверху. Огромная разница: 1) перед великой целью, 2) в
тревоге. Или, наоборот: 1) без всякой цели и 2) в полном спокойствии. В
двух последних условиях и зарождается сплетня. Сплетня как что-то мета-
физическое, какой-то ноумен. Ей-ей, к нашему сну применимы кантовские
определения.
Он задумался и продолжал:
— Взять хоть бы церковь... Взять толпу молящихся, когда священник
читает на амвоне акафист Божией Матери «Всех Скорбящих Радости».
Сколько раз я смотрел на эти чудные русские лица за таким чтением. Как
они, на коленях, тихим шепотом повторяют слова молитвы. Какая надеж-
да! Какая вера! С такою верою...
Он махнул рукой.
—Придя домой, после акафиста, священник, по должности члена духов-
ной консистории, засаживается читать «бракоразводное дело генерала N»,
51
а прихожане, вернувшись домой... пьют чай. Сила еслъ: ибо есть необозри-
мый авторитет, беспредельная в него вера. Но «просвещения» нет, и нет его
в самом авторитете, в среде самой веры. И люди, которые могли бы, кажет-
ся, «освободить Иерусалим от турок», как в XIII веке, в XIX—XX веках...
пьют чай и вытирают лоб полотенцем.
— И все от недостатка «просвещения»? Но, ведь, и в XIII веке были не
очень просвещены?
—«Просвещение» я разумею не в смысле школы и грамоты, не в смыс-
ле даже газет и книг. В XIII веке были очень «просвещены» и выразили это
именно в том, что вдруг все связно и единою душою к единой цели подня-
лись. Могло это совершиться только оттого, что Петр Амьенский пропове-
дывал, разъезжая на осле, вовсе не ряду духовных консисторий, вовсе не
системе бракоразводных дел, наконец, вовсе не людям, ничем не интересу-
ющимся, кроме — «суха или не суха квартира во 2-м этаже семинарии», а
рыцарям, воинам, христианам с великим их христианским и рыцарским
самосознанием, самочувствием. И все встали, вся Европа встала. У нас же,
выслушав Петра Амьенского, никто и ухом бы не повел. Да Петр и не по-
ехал бы, чувствуя великий комизм такой поездки. Энтузиазм родит энтузи-
азм, как, увы, и комизм родит комизм же. Тьма родит тоже тьму, как свет—
свет. Вовсе неграмотные рыцари XIII века были глубоко «просвещены»
общим светом, общим смыслом, связкой благородных идей, увы, надо при-
знаться, — шедших от Рима. От того Рима, который гигантскою борьбою
боролся с язычеством кесарей и варваров и победил его, смирил и просве-
тил. Но оставим историю. На Руси же никакой связывающей идеи нет, нет
никакого духовного единства. ..Ив ней все возможно, а вместе с тем ниче-
го и не возможно... Все колосья в поле—головками в разные стороны.
* * *
Этот разговор мне очень запомнился. Он ко многому приложим. Он прило-
жим был к летней истории с М. М. Тареевым, профессором Московской
духовной академии. Он приложим вот и сейчас, в марте, к новой истории
увольнения из той же духовной академии профессора Громогласова. И еще
раньше — к истории почтенного библеиста В. Н. Мышцина.
—Что случилось? Почему уволили? Как товарищи?
— Но, Боже мой: у них у всех «суха квартира»... А уволили оттого,
конечно, что вышла «сплетня»... Ну, какая, которая,—даже и не интерес-
но. Но совершенно ничего не может быть, и никогда ничего не зарождалось
и не зародится здесь, кроме «сплетни» как некоторого сцепления глупос-
тей, мелочей, пустяков, какими наполнены все их «Записки» и «Воспоми-
нания», все их «протоколы» и «заседания», все их «журналы» или пародии
на журналы, все их, наконец, несчастные диссертации, не читаемые никем,
кроме типографского наборщика и самого автора... Это те «турки», на ко-
торых надо звать Петра Амьенского; и уж ни в каком случае не те рыцари и
христиане, из которых подымается Петр Амьенский.
52
БОГАТЫЙ И УБОГИЙ
Аристотель и Ломоносов в своих «Реториках» упустили одну главу руково-
дительства к писанию сочинений: как давать написанным сочинениям заг-
лавия. «История Русского государства» звучит просто и прозаично. Это пах-
нет Соловьевым и Ключевским — людьми прозаического века. «История
Российского государства» — безвкусно и напыщенно. Так назвал бы свой
труд кн. Михайло Щербатов. Но «История государства Российского»—вели-
колепно; и нужно было родиться Карамзину, чтобы дать России не только
великолепный труд, но и так великолепно озаглавленный. В этом загла-
вии есть что-то римское, что-то русское, — именно как в Карамзине тех
дней, когда он, повидав все в Европе, вернулся на родину, перестал улы-
баться, перестал писать шутки, стихи и повести и решил дать России род-
ного Т ита Ливия.
Но представьте: на прилавке книжного магазина вы встречаете книж-
ку: «Критические рассказы». Если вы человек с умом, вы ни за что ее не
купите. Почему? Невозможно купить и прочитать. Почему? почему? Автор
не умен, а только умничает; автор — фанфарон, а критика более всех дру-
гих ветвей литературы требует добродетели, — т. е. скромности, спокой-
ствия, добросовестности, справедливости. Наконец, автор кокет: собрав в
сборник свои статьи, он думал не о серьезном в них, а какое впечатление он
сделает на публику... Так и этак он жеманился «перед зеркалом», т. е. пе-
ред мысленным отражением себя в душе читателей. И пережеманился: дал
заглавие смешное и не дельное, но в высшей степени претенциозное. Так
иная дама поместит у себя на шляпке и вишни, и розу, и «еще что-нибудь».
Критика — рассмотрение; критика—анализ; критика—всегда труд и за-
бота. «Но я хочу, чтобы во мне увидели и беллетриста», — и несчастный
автор с счастливой улыбкой надписывает книжку: «Критические расска-
зы». Если это «рассказы», то, конечно, не критика! А если «критика»—то,
конечно, не рассказы! Тут дело не в форме, а в сущности. Чем талантливее
критик—тем он меньше будет способен что-нибудь рассказать; а хороший
рассказчик «сядет в лужу» с попыткой критики. И нужно, поистине, не иметь
ни одного, ни другого дара, да и наконец, просто надо иметь не очень много
ума, чтобы по-молодому размахнуться: «А вот я издаю свои «Критические
рассказы».
Что же такое случилось с бесспорно умным и бесспорно талантливым
Чуковским, что он так измарался в заглавии новой своей книжки? Я как
только взглянул, просто потерял всякое «обаяние» от Чуковского. Все сле-
тело, вся прелесть. Я стал спрашивать: «Да что, уж не показался ли только
Чуковский всему свету и умным, и талантливым?» И стал думать.
Странно. Пишет превосходно, а впечатления нет. Уж много лет пишет, а
никак не скажешь: «Вот какую мысль проводит этот писатель». Очень стран-
но для писателя: не проводить никакой мысли. Что же он пишет?—«А так,
пишет. И превосходно пишет». В каком роде? для чего?—«Он, собственно,
53
клюется. Клюнул одного. Клюнул другого». — «Да для чего?!» — «А так,
чтобы вышло осязательное впечатление. Больше ни для чего»...
Странно... Не столько писатель, сколько воробей: потому что если Чу-
ковского самого спросить, на кого он походит, на орла или воробья, то он,
залившись краской стыда, смущенно и невнятно пробормочет: «Конечно,
на воробья, орлиного во мне ничего нет. И я клюю всё маленькое, малень-
ким клювом и маленькие зернышки». В самом деле, страсть его разбирать
все мелочи, писать о мелочах в писателе, и, по возможности, о мелочах в
самом мелком писателе, которого и не читает никто, которого даже почти
никто и не знает, — изумительна! Поистине, это критик о Вербицкой. По-
слушайте: он ни за что в свете и никогда не напишет статьи о Толстом и
Достоевском. Самая талантливая его статья-лекция была... о Нате Пинкер-
тоне в русской литературе и о кинематографе как отделе литературы! Это
до того изумительно, что просто в дрожь бросает! И лекция-статья его о
Пинкертоне была изумительно-блестяща, даже до глубокомыслия!
Удивительный «философ для Пинкертона». Просто ничего не понима-
ешь. Да кто он?
Репин написал его изумительный портрет. Выставив вперед руки, он
точно играет ими для кого-то... Но пальцы не отделаны живописцем-пси-
хологом: и видишь точно не пальцы, а искривленные когти хищной птицы.
Но руки — впереди всего, впереди фигуры. «Этот господин что-то вечно
делает руками, — ион должен быть или престидижитатор, или фокусник,
или... хуже: когти говорят о «хуже»... Фигура откинулась назад, к спинке
кресла, — предовольная собою... «Этот господин преуспевает; несчастия с
ним не может быть». И действительно,—лицо полно улыбки и каждой
черточкой говорит:
— Как я талантлив! Боже мой, как я талантлив, — и почти один среди
такой бездарной св Все мне обещает успех: да он уже и есть! Книжки
мои расхватываются, на лекции мои сбегаются. И это только начало, только
еще начало...
«Начало,—а потом?»
Потом? Что же «потом»,—добродетельный и добрый Чуковский? Ро-
ковое для вас заключается в том, что в натуру вашу вообще не входит «сна-
чала» и «потом». Не входит развития. Вы тянетесь, как резинка, а не расте-
те, как дерево. В вас есть что-то мертвенное, неорганическое, при всей та-
лантливости и вечном кажущемся вашем движении. Самое сравнение с
воробьем очень велико и слишком лестно: вы стеклянный шарик, быстро
вертящийся и ослепляющий толпу (говоря вашим языком) «папуасов». Все
в вас слишком современно: вы в высшей степени современный писатель, —
право, какого еще не урожалось в литературе нашей. «Современность» —
душа ваша.
И талантливая душа. Если бы вы были тупы, вы были бы в высшей
степени счастливы. Но вы в вечной тоске, так как понимаете, что «совре-
менность» —это не литература. От грызущей тоски у вас выросли когти:
54
но вы понимаете, что для писателя желательнее было бы иметь просто паль-
цы. Своим талантом вы ненавидите свою же талантливость, думая: «Госпо-
ди, если бы потише! если бы поустойчивее! Если бы мне остановиться!
Если бы мне поменьше таланта!!»
Но «колесо катится и катится». Никак не может «остановиться» Чуков-
ский. Все может, а остановиться не может. И катится ровно. Давно катится,
много катится, а «дороги» нет, а «станции» нет, да и раньше не было ника-
ких станций. Катается, катается, туда, сюда, по кругу, прямо... точно с по-
вязкою на глазах велосипедист и у которого вместо ног шарниры, и он ро-
ковым образом не может остановиться. Потому что «чем» же ему остано-
виться, какою мыслью, каким соображением? Мысли и соображения вооб-
ще не было — ив самом начале.
Так он совершенно измучится. Вытянется на много-много томов. Хо-
рошо переплетет их. И под старость, сидя в красивом кабинете, перед длин-
ною полкою с золотистыми надписями на корешках своих Oeuvres complets,
раздраженный, озлобленный, будет думать:
— Вот где скрыто мое несчастие! Вся Россия говорит обо мне: но это
— папуасы. Я же хорошо знаю, до чего я несчастлив!
— И оттого, что Бог недотянул моего ума до настоящего ума... и полу-
чилось одно остроумие. И разные общественные «интересы» недотянул до
настоящего доброго чувства к действительности. Дал мне одни полукаче-
ства и ни одного подлинного качества, кроме едкого самосознания. О, как
оно полно, это самосознание!
АД И РАЙ ЮНОСТИ
(К университетскому положению)
Несколько студенток Раевских курсов, собравшись у своей подруги (в близ-
кой мне семье), переговаривались о создавшемся положении вещей. Одна
говорила, пожимая плечами:
— Сколько раз я хотела войти на курсы, но забастовщицы прямо от-
талкивают назад... Не могу же я драться на улице.
И все они «не могли». Смеялись, досадовали, но говорили, что «ничего
нельзя сделать». Говорили о ребячестве, шумихе, о каких-то «неясных лич-
ностях, всего сильнее кричавших и затем куда-то как провалившихся, —
при входе полиции»; и все-таки «не могли».
Говорили о каком-то «Обращении к петербургским профессорам» коа-
лиционного комитета. Когда я попросил прочесть, ответили: «Это такой
позор по грубости и пошлому тону, что мы не можем ронять молодежь,
показывая документ». Это чувство хорошо и верно. Через два дня я еле-еле
достал его. И так как об этом «Обращении», не приводя из него извлече-
ний, пишет г. Изгоев в мартовской книжке «Русской Мысли», то я полагаю,
55
что оно вообще распространяется, что авторы его вовсе не против опубли-
кования (потому что к чему же тогда и писать?), и потому позволю себе
привести его полностью, не меняя ни одной священной «йоты». Вот оно:
К профессорам
«Господа профессора!.. Вашей эрудиции, конечно, небезызвестно вы-
ражение Берне: «И честный человек может бьпъ рабом обстоятельств, но
тот, кто становится лакеем обстоятельств, тот нечестный человек». Мы
не знаем никакого более точного выражения для характеристики той по-
зиции, которую вы заняли в настоящее время. Поворотным этапом ста-
нет отныне историческое обращение «жреца чистой науки» к стипендиа-
там, с предложением создать фикцию правильных занятий, обещая за это
не бить по карману бедного студента. Отныне Красный Крест начинает
обнаруживать все признаки тайного резерва полиции. Выясняется жела-
ние профессуры забежать вперед перед г. министром и на пути каратель-
ной экспедиции г. Столыпина, направленной на Спб. университет, подго-
товить благоприятную почву, не разбираясь в средствах... Война так вой-
на. Вот приблизительно тот образ действий гт. профессоров, который мы
называем лакейством. Мы намеренно оставляем в стороне все патетичес-
кое, всякое обращение к чести и совести профессуры... Есть вещи, кото-
рые удивительно быстро выходят из моды, и мы боимся навеять скуку на
гт. профессоров, говоря об этих исчезнувших фетишах...
Мы выясняем положение двух врагов — профессуры Спб. универ-
ситета и студенчества Спб. университета, представителем и исполните-
лем велений которого является коалиционный комитет. Гг. профессо-
рам угодно было не считаться с нами, когда мы просили, теперь, может
быть, они подчинятся нашим требованиям. Кто такие мы? Мы времен-
ная диктатура университета: мы объявили его на военном положении, и
ни вы, ни кадры полиции, ни «эти люди, имеющие гражданское муже-
ство слоняться по лекциям», т. е. академисты, союзники и т. д., не в
состоянии вернуть его в прежнее положение. Следовательно, - мы сила!
Сила, которой размеров вы не понимаете! Сила, которая черпает свои
соки из общественного мнения и глухих ударов грядущего движения!..
Мы маленький узел — центр тех исполинских нитей, которые скрещи-
ваются по всей территории нашей родины, тянутся, едва видимые, но
неразрывные!.. Та борьба, которая произойдет в ближайшем будущем,
неминуема!.. Ареной ей будет служить университет, затоптанный сапо-
гами полицейских, с его пустыми аудиториями, где профессор-учитель
и студенты-ученики боятся глядеть в глаза друг другу, чтобы не про-
честь там презрения к себе. Таково свойство всякой подлости: даже еди-
номышленники боятся видеть, что понимают друг друга. Стоит ли го-
ворить об уважении к стенам, когда не уважают людей, не уважают са-
мих себя!.. Нам кажется, — нет!.. И потому эта арена не хуже всякой
другой, не хуже улицы, и наши колебанья, вера в «святость места сего»,
рухнули вместе с последними иллюзиями об университете — Красном
Кресте. Приняты частичные зачеты семестра, принято проводить экза-
56
мены, принято терроризировать голодное студенчество, вынуждая его
хотя бы к фиктивной науке, хотя бы к моральному штрейкбрехерству.
Цель этих мер — развратить студенчество, разложить его и, играя на
самых скверных струнах человека, на шкурных интересах, сорвать за-
бастовку. Да, мы бессильны придумать защиту от этих мер, ибо они так
гадки, что и защита от них может быть только столь же гадкой. Приду-
мать такую мы отказываемся. Мы будем преследовать одну нашу ста-
рую цель, мы проведем забастовку во всяком случае, и, если это потре-
бует крайних средств, мы пойдем на них. Мы предупреждаем!.. Не ме-
шайте проводить нам то, что мы считаем честным и святым!.. Мы тре-
буем, чтобы не делались попытки произвести экзамены и полукурсовые
испытания. Иначе мы будем беспощадны. Пример Томска может найти
и подражателей!.. Мы тоже мобилизировали все свои силы для этого
боя, и это обращение является предупреждением перед открытием огня.
Долг чести предлагает нам исчерпать все средства убеждения перед
обращением к материальной силе. Мы предупреждаем, мы просим гг.
профессоров: «Сохраните свой нейтралитет, не доводите нас до край-
ностей, которых боимся мы сами».
После появления этого ультиматума мы некоторое время не будем
делать никаких выступлений, желая вам дать покой, так необходимый
для серьезного решения.
Коалиционный комитет Спб. университета.
5 марта 1911 г.
Литография Е. О.
Студентки не хотели показать этого, как «позора». Изгоев называет это
«гадостью». Нужно заметить, что сам я лично до того ненавижу забастов-
ку, что мне хотелось пойти драться со студентами; будь я профессором, я
непременно сшиб бы пощечиной с кафедры, моего места, того студента,
который говорил бы с нее политическую речь в моем присутствии... Сло-
вом, я бы непременно дрался, хотя бы меня потом убили. Но, прочитав это...
рассмеялся, улыбнулся и вдруг почти примирился с забастовкой.
Тут что-то есть темное и мрачное. Но сзади и нам невидимое. Но что
нам открыто, вот в этом «манифесте»,—то совершенно ясно и перенесло
меня в юные годы, в гимназическую пору в нижегородской гимназии. Эти сло-
ва, что они «откроют огонь» по правительству и что они в университете—
«диктатура», что их гектографированный листок есть «ультиматум», в сущ-
ности объясняют все... О, моя юность, о, моя нижегородская юность...
Мы делились, все вообще, на бедных и богатых. Бедные — это «мы», а
богатые (мы их звали «аристократы») — были «они», и «они» были —
«св...». Как, что, почему,—даже не приходило на ум спросить. Во-пер-
вых, «они» все были «дураки и невежды», ничего «не читали» («мы» чита-
ли Бокля, Спенсера и Льюиса); учились они, правда, хуже «нас» и действи-
тельно, кажется, ничего не читали. Были просто мальчиками, юношами и,
57
помню, на Покровской улице, ухаживали за барышнями, гимназистками, и
вот тут обстоятельство: «они» носили серые пальто из толстого красивого
сукна, довольно длинные, полные и... и... надевали (самые из них аристо-
кратичные) белые перчатки!!! Это приводило «нас» в такое исступление,
что описать не могу. Честь заставляет сказать, что, если б нам дали даром
эти красивые серые пальто, — мы не надели бы их из гордости, а перчатки
бросили бы в лужу.
За чтб мы ненавидели этих красивых, довольно полных юношей, — я
спросил об этом себя только двадцать лет спустя. Пока испытываешь
чувство,—опричинах его никогда не спрашиваешь. «Просто, св.» Пер-
вое, дураки; ну — непроходимые!!! «Садятся за стол с салфетками»: это
просто ужасно. Ничего спартанского! «Мы» все ужасно уважали Спарту, из
Иловайского, — не чувствуя ничего к Афинам, а Коринф—все по Иловай-
скому — всячески презирали за «изнеженность». Вот эти «изнеженные ко-
ринфяне» и были аристократы, помню, Соловьев, Кёбер, Бессонов... Дру-
гих фамилии забыл.
И живут они не «в комнатке», а в комнатах... Читатель ничего не пой-
мет из тогдашнего нашего волнения: но эта мысль о «нескольких комна-
тах», пожалуй 7—8, для одной семьи—опять приводила нас в исступление.
И, клянусь, не по зависти: но каким образом «развитой молодой человек»,
вот «спартанец», может «походить по зале», «посидеть в гостиной», пожа-
луй, «развалиться в кресле»...
И потом «они», т. е. уже их «родители», не замечали нас и (может
быть, была эта мысль, отчетливо не помню) тоже «наших родителей». Ве-
дут пустую жизнь, — о, это непременно! «Все аристократы — пусты, нич-
тожны, праздны и только давят нас и народ». Что «мы»—народ, это было
довольно осязательно: а так как «они» нас давят, собственно тем, что не
замечают нас, «то, следовательно,—давят и народ».
Учителя «подделываются к аристократам»: ставят им двойки с какими-
то «ужимочками», точно извиняясь: а «нас» и при четверке никогда не по-
хвалят, «двойки» же и даже «колы» ставят нам равнодушно. Вероятно, это-
го не было, но подозрительность заставила «казаться». «Директор, конеч-
но, лизоблюдничает у них на вечерах» (вероятно, и этого не было). В душах
у нас жило море клеветы: но с уверенностью аксиомы. И это «пришло на
ум» только через 20 лет!! И что поразительно: «пришло на ум» все-таки без
всякого извинения. «Ну, ошибся: мало ли что». Вообще есть предрассудки
профессий, состояний, решительно неразрушимые! А знаете ли: вся жизнь
течет из них!
Залу в два света («актовая» и вместе «сборная») мы мысленно «забар-
рикадировали». .. Петруша Поливанов (кажется, потом погиб в революции)
первый указал, что «можно забаррикадировать». Только три узенькие две-
ри; и окна высоко над землею. О, если бы нам ружья... о, если бы порох (до
«бомб» тогда не додумались). О, если бы в борьбу, именно физическую, с
кем-нибудь!.. Но ничего не было. И никакой возможности.
58
Однако эти мечты о «баррикадах», после латыни-то, часто после угне-
тающих душу «двоек», — были упоительны...
«Один был у меня сад, и один цветок в нем»...
Этим «садом» был уходящий в бесконечную даль «бунт», всех против
всего... «Полный переворот»... с «вдребезги». Кто бы сказал нам: «Вотто-
то можно оставить, пощадить»,—был бы нам смертельным врагом. «Ма-
лодушным», не «спартанцем». Суровое уничтожение—вот мечта.
Но ничего нельзя было сделать, кроме как плохо учиться. Это грозило
исключением, и уж многие (действительно, даровитейшие и совершенно
чистые душою) были исключены. Мы дотаскивались до аттестата зрелос-
ти, плутуя, обманывая... «Вот гимназия и обманывать нас заставила! А так
бы не хотелось (искренно)... У, чудовище».
Гимназия, директор и все учителя нам представлялись «чудовищем».
«Ломает проклятая машина: но подожди, и мы тебя сломаем».
Пока же что можно сделать? Забраться в портерную и выпить две бу-
тылки пива: за это грозило исключение—и потому это часто было употре-
бительно. Покурить в самом классе. Полный шик—если даже на уроке: но
это было — редчайшее. Серьезнее и потому ценнее было: побить фонари
на улице и удрать от полиции. Разругаться с околоточным, наговорить дер-
зостей и тоже удрать. Помню, раз всю гимназию «показали квартальному»:
и он не узнал ночных проказников. Замирание перед осмотром и восторг,
когда «он не узнал» (половина были «больны дома») — ни с чем не сравни-
мые переживания!
И вообще много было упоительного... Ах, что хотите: нельзя же от де-
сяти лет до «полного возраста» прожить без всякого дебоширства. Ведь и
господа взрослые играют в Монако, «давят публику на рысаках», «кутят с
женщинами»: у нас же, в Нижнем, у бедных — была одна революция.
«Поставить вверх дном всю Россию».
В «предвкушении» мы выходили на бульвар, что перед семинарией: это
«на выезде» к Волге... Тут почему-то мчались прекрасные экипажи, и, по-
мню, — лошади в голубой сетке. Сетка была последний «аристократизм»,
совершенно нас измучивший. Мы думали, что это «для красоты», и не до-
гадывались, что это — от снега (из-под копыт лошади). Самый же бульвар
был совершенно пустынный, и он был отделен от дороги высоким сугро-
бом (разгребали его), до пояса. «Так что перескочить невозможно».
«Политическое удовольствие» заключалось в том, чтобы «засветить в
башку» едущего аристократа, а еще пуще аристократки (женщин мы нена-
видели) комом снега... Нельзя сказать, чтобы попадали «в башку», да и не
метили (не так близко было): попадали в плечо, в спину или в лошадь, в
кучера... Оглядывались... Мы то прятались (ибо всегда были в форме, дру-
гой одежонки не было), то—сняв благоразумно кепи — выпячивали грудь
и грубо смеялись.
«Потому что вы аристократы, и больше ни почему»,—кричали мы на
вопрос: «Почему». Те, вероятно с большим недоумением, ехали дальше.
59
Но дай нам в руки «химическую жидкость» против «изменников-про-
фессоров», которые мешают «узлам, завязывающимся в будущем» (см. ма-
нифест): и всеконечно мы бы залили ею университет. В драку вступить с
«штрейкбрехерами» — конечно!.. Наговорить дерзостей профессорам —
конечно!конечно!
— «У... противящиеся тому, чтобы все было вверх дном!..» «В буду-
щем, когда-нибудь, но непременно вверх дном!»
Да... «диктатура» (в манифесте): это-то все и выдает. Поверить невоз-
можно, до чего у нас была потребность власти и «все расшибить». «Пове-
леть», «повести за собою», «приказать» — просто кишки выворачивались
от желания. Должно быть, это потребность роста, закон еще растущего!
Не знаю. Но самый юный закон! Нам недостаточно было «свергнуть учите-
лей», но—заковать их в оковы. Поставить аристократов так, чтобы «пик-
нуть не смели». Ну, и завладеть гимназией (приспособление ее к баррика-
дам). Для чего? Что дальше?
Эх, господа: человеческая психология:
— Пришел мой час!!!
Час ужасного упоения, «рай на земле». Рай вот «в Нижнем Новгороде»,
«если бы мы им овладели»...
Но ничем нельзя было овладеть, и стояло в душе холодное отчаяние.
Все, что и до сих пор мне представляется поэтическим в 1905—
1906 гг., — это «Чухломская республика», «Ветлужская республика» и
т. д., и т. д. О, это не имело того смысла, как тогда или потом приписывали:
«что они отложились от России», «разорвали ее единство», «восстали
против самодержавного строя». Может быть, эти выкрики и были: но и
мы, в Нижнем, ужасно кричали наедине, на квартире или в борку. Но не в
том была суть. «Республика» означала «свое дело», «наше дело», «нашими
руками сделанное». Ну и конечно, без аристократии и без тяготения к Пи-
теру. Величайшая субъективность и индивидуализм. Но почти без полити-
ческой окраски. Россия, вся пошедшая на «республики», в ладонь величи-
ной, представляла восхитительный детский сад, юношеский сад, отрочес-
кий сад; и я где-нибудь навсегда, для памяти, сохранил бы хоть одну такую
«республику». Даже дал бы ей название: «Гуляй, душа»...
Право, психологически это надо бы как-нибудь устроить. В Библии был
«юбилейный год», когда все гуляли (круглый год); в средние века—рыцарс-
кие турниры, вечная осада замков и набеги из замков; даже у нас, в старой
Руси, знаменитые «кулачные бои», когда шли «стенка на стенку». Теперь—
ничего!!! Или гнусные, мясные, бессмысленные, идиотские борьбы в цир-
ке, где глупая публика не дерется, а только смотрит. Пассивно, тупо и нис-
колько не оживляет.
«Студенческие волнения», большое—раз в три-четыре года, заменяет
«юбилейный год» Библии, и «рыцарские турниры», и вообще средневеко-
вые крошечные войны. Вдруг «перестаем слушать начальство». Все
«сами»... Шумят аудитории, гонят профессоров. «Забастовка!» Заметьте,
60
что через две-три недели все улегается, входит в берега, студенты опять
ходят на лекции: а ведь «политические требования» не удовлетворены, и,
казалось бы, «зачем падать забастовке?». Но падает. Потому что силы уже
вылились наружу, физическое движение произведено, «бегали и кричали»
целых две недели: ровно столько, сколько требовалось, чтоб отдохнуть от
сидячего образа жизни. «Политика»тут—предлог, лозунги надежда. Нельзя
же без всякого повода «кричать и бегать», «шевелиться»: и «несбыточная
мечта» является натуральным, в самой природе содержащимся «поводом»
для действительно необходимого физического движения. Мечта—часть
физиологии, ей-ей!
Я бы, вместо высылок «Бог знает куда», устроил «долгий карцер»,
«гауптвахту» при всяком (якобы) «высшем учебном заведении» и «хлеб и
воду». Затем, в случае овладения университетом молодежью, — посыпал
бы «выбить из позиции» молодых рекрутов-солдат, а где есть корпуса—
кадетов. На месте профессоров, по крайней мере молодых, тоже стал бы
драться. Вообще это чисто физическое движение нужно (я бы так делал)
усмирять колотушками, карцером, хлебом и водой. «На цепь» разгорячен-
ного голубчика. Но без всякого «политического осложнения»... Да, вот что
в основе следовало бы сделать: передвинуть «гражданский возраст» с 21 -го
(чуть ли даже не 18?) года на 24-й. Явно, в России «созревают» позже, чем
в горячей Италии (Рим), юность и отрочество—затягиваются; и к возрасту
до 24 лет я бы не применял ни политического «совопросничесгва», бесед,
«увещаний», ни политического взыскания, наказания. Вообще, никакого
«следствия», а просто «карцер», и — «без рассуждений». Еще примета:
третий и четвертый курсы (24 года, действительный «гражданский возраст»)
никогда не волнуются или, по крайней мере, не обнаруживают инициатив в
забастовках, в сходках. «Шумит первый курс» — это всегда! Неужели это
не показательно, не «признак»?
Я очертил массу в «студенческих волнениях», 9/ю их «вещества». Но
этим кто-то пользуется, входят темные силы, — и этой стороны дела я
не знаю.
Еще замечание: в 55 лет я вспоминаю невольно с шуткою то, что было
в 18—17—15 лет: но шутки не было в самом действии, т. е. тогда. А все
было серьезно, до трагичности серьезно. Мы действительно хотели жечь,
бить и коверкать. Еще: в университете, «когда представилась возможность»,
я уже только раза полтора был на сходке, — и не пошел еще ни разу по
скуке и отвращению «к шуму». С первого же курса я переломился в созер-
цательность: но теперь усерднейше ходили на них все те, которые к «гим-
назическому шуму» (вернее, гимназической ненависти) относились равно-
душно, ничего в ней не понимая, «за что?», «как?». Теперь они пробуди-
лись, —тем самым «бодрствованием», каким мы «бодрствовали» в гимна-
зии: но абсолютно с теми же «сюжетами» в душе, мыслями, мотивами и
желанием «расшибить». Бокля я стал читать (и конспектировать для себя) в
четвертом классе гимназии; в шестом уже не мог читать Писарева по от-
61
вращению к его «зеленосги»; в седьмом уже читал с увлечением Милля и
Бентама... Следовательно, в силу ненормальностей развития, отроческий
возраст у меня (и всех «нас») передвинулся почти в детский; а в отроческий
возраст и возраст первой юности вместился, вселился как раз теперешний
студенческий возраст (студенты не все читали и могут читать Бентама)...
В воззвании «К профессорам» теперешних студентов есть точь-в-точь то
самое по слогу, по мыслям, по фразам, точь-в-точь вот с этой гордой ссылкой
на Берне («только что прочитали»), как мы говорили, кричали и писали в
пятом классе, пожалуй, еще в шестом, но уже не в седьмом и восьмом. Так
что мое «полное узнавание» своей юности, и именно гимназической, в тепе-
решних студенческих волнениях не должно останавливать читателей недо-
умением: «Как же, гимназия и университет—такая несовместимость!!» Явно,
что «работает» в университете вовсе не диплом и не метрика: а собственно
степень психического роста. Ну, что же, если 16— 17 лет я — и «мы» все —
были как бы в 22 года (Бокль—Добролюбов, Милль—Лассаль). Наблюде-
ния и вывод остаются верными. Теперь, как с этим могут взаимодействовать,
переговариваться профессора? Я думаю,—знаменитая именно в ученых наи-
вность. .. «Паганели» из «Детей капитана Гранта» (Паганель—прелестная и
серьезная фигура) повыходили в отставку, воображая, что они «спасают Рос-
сию» и борются против «ужасного правительства» (наши «аристократы»:
впрочем, и о «правительстве» мы скверно думали, и именно с этим оттенком,
что оно—«подлое и злое»). Наконец, правительство? Занятое международ-
ными отношениями, армией, флотом, теперь вот Думой и, наконец, в самом
деле, живя «в нескольких комнатах» (до 20!!!), оно просто не видит, не ося-
зает, не постигает всего этого своеобразного мира, к тому же «гордо замкну-
того» (Спарта) и ожесточенно воюющего («стенка насгенку»).
Снаружи все представляется (и мне, в бывающие гневные минуты) про-
сто предательством родины, форменной продажей России японцам или ки-
тайцам.
Свнутри, подумавши, вспомнив, видишь: своеобразный рост именно
русской юности.
И больше ничего. Кроме темных ингредиентов.
ОДИН ОБЩЕСТВЕНН(>Г1ЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ВОПРОС
(К сегодняшней лекции в Соляном Городке)
Ко мне обращена просьба со стороны лица, нравственная репутация которо-
го вне всякого сомнения, а общественная деятельность известна во всей Рос-
сии, —«рассеять недоумения, возникшие при самом разрешении—на чте-
ние лекции в Соляном Городке педагога-психолога Н. Е. Румянцева на тему:
«Проблема полового воспитания в семье и школе»,—и предупредить в не-
62
скольких словах заподозривание в порнографии «этого большого вопроса
жизни». Следует resume лекции и объяснение точки зрения его на вопрос.
Тема эта, как известно, трактуется теперь и в книгах, и в журналах.
Гораздо ранее и книг и журналов ко мне, как автору книги «Семейный
вопрос в России», обращались с запросами в письмах семейные люди,
ища совета, как им уберечь подрастающих сыновей и дочерей от дурного,
низменного ознакомления их с этою стороною биологии, жизни и своего
будущего...
Тема почти неизмеримо трудная... Если узнают все «от товарищей», а
не от родителей, — о чем, по-видимому, тоскуют все родители, то ведь на
это есть всемирная причина', не объяснено никем, «почему», но для всякого
явно, что эта тема, разговоры на нее, объяснение ееудесятеренно-шскот-
ливы, удесятеренно-трудны, удесятеренно-застенчивы именно для отца и
матери; много легче уже для брата или сестры и совершенно легки «для
товарищей». Вот бы кто-нибудь ответил, почему это так? Только мы тут
осязаем какой-то закон природы, отнюдь не открытый, совершенно неведо-
мый, запрещающий именно родителям касаться заповедной сферы детей.
Есть запор какой-то, дверь какая-то, накрепко запертая, говорящая каждо-
му родителю: «Не отворяй!», «Не входи!..» Что это так, это испытает не-
вольно всякий родитель, попробовав «объяснять». Слов не находишь, язык
не вяжется. Лично я ни за что и никогда не сделал бы этого. «Но как же
обойтись?» Как весь свет всемирно обходился, у всех народов. Почему всех
«товарищей» предполагать развратными? Если между ними есть некото-
рый процент развратных, то ведь и из родителей не все безусловно цело-
мудренны. А, главное, по личному опыту мы знаем, что «откуда-то» узнава-
ние не развратило же сплошь всех нас? А мы все узнали именно без родите-
лей, «откуда»-то.
Почему именно перед родителями лежит запор — эта сторона дела уже
по самой странности своей метафизически интересна, любопытна. Я на-
хожу ответ на нее в двух местах:
1) Это—когда Ной «раскрылся» и Хам этому насмеялся, то два «благо-
честивые сына, взяв одежду, понесли ее, чтобы закрыть отца, но шли все вре-
мя отвернув голову в другую сторону». Лежит нестерпимое, если бы откры-
лась нагота отца детям. Нои vice-versa*: «нагота детей», т. е. особенно вот
эта «стыд ливая нагота», никогда не должна открываться родителям.
Это—ощущение семитов или прямой глагол Библии.
2) А греческий миф об Эдипе?! Он то же самое говорит: между роди-
телями и детьми в сфере пола лежит такая стена, которая крепче каменной
и выше Вавилонской башни. Почему? — Опять никто не понимает; и мы
можем только догадаться: «Тут какой-то закон Божий». Антиутилитарное
последствие вырождения ничего не объясняет: потому что его производит
и проституция, и болезни, против которых изобретено «666», но к ним ник-
* наоборот (лат.).
63
то не питает мистического ужаса, о них не слагается легенд и пугающих
рассказов. А здесь испуг, ужас, — как перед бездной, как перед адом.
Скажут: «Но тут дело, а там тово»...
Позвольте: именно в этой области, и жгучей, и незаметно ласковой, слово
есть3/кю, ну Vwoo—но часть дела. Отсюда-то «товарищам и легко, а роди-
телям трудно». Здесь я подхожу к самой трудной стороне дела.
Сказать ли правду: все книги и статьи об этом наполнены пустяками.
«Как объяснять детям?» В самом деле, как? Все родители, мнимо «объяс-
нявшие» это сыновьям, дочерям, на самом деле равно ничего не объяснили, —
и «слова» у них оттого еще сколько-нибудь и «вышли», что в этих «словах»
ровно ничего не содержалось.
Как объяснить, что «огонь жжет», не дав почувствовать ожога? Спа-
лишь бумажку перед детьми? Но ребенок ответит: «Бумажку жжег, а меня
не сожжет». Да и может сказать еще хуже: «Так красиво, когда бумажка
горит, — может быть, и приятно?» Перенесите этот разговор на сферу пола,
и мальчик может поставить родителей в такой тупик и безысходность, из
которых родителю не выбраться. Дело в том, что в разговорах, которые,
напр., вела г-жа Жаринцова со своим сыном (смотри ее книжки), она анато-
мировала труп пола, мертвый, холодный пол; т. е., следовательно, и не пол
вовсе. Ибо суть-то пола заключается в «химическом сродстве», говоря пе-
реносно, противоположных полов и во «взрыве», который при этом замеча-
ется. Поэтому вся половая сфера вовсе неописуема; вся половая проблема
вовсе не допускает своего объяснения; все «описания» и «объяснения» ка-
сались бездыханного тела, бездыханной проблемы: но именно тут-то оно и
невозможно, т. е. под описаниями совершенно ничего не было, совершенно
ничего не лежало, так как пол, родитель жизни, мертв не бывает, когда он
мертв — его нет. Это очень хорошо надо себе уяснить. Когда огонь «не
жжет», явно—огня и «нет». Как же объяснять о «жгущем огне», когда его
нет и никто ничем не обжигается? Глупая тема, нет темы. На объяснение
«механики деторождения» (уроки г-жи Жаринцовой, «уроки» в книгах, ста-
тьях и лекциях) дочушка или сын спросят: «Да зачем это делают взрослые
и почему мне нельзя?» В ответе и содержится жгучее начало огня, суще-
ство жгучести... Дело в том, что сфера пола не есть сфера узнавания, любо-
пытства, даже, наконец, науки: а сфера мирового хочу. Тут скрыта шопенга-
уэровская «воля», о которой он учил, что это есть «лоумен», т. е. скрытая
основа мира. Вот у родителя и у самой г-жи Жаринцовой, так увлеченной
темою «все объяснить детям», никогда не вырвалось и не вырвется всеобъ-
ясняющего «хочется», «не хочется», «страсть объемлет», «страсть не про-
снулась». Едва она перешла бы на этот язык, т. е. коснулась бы самой
темы, а не «обходцев», — так она и перешла бы на путь уже невольных
возбуждений, т. е. вступила бы незаметно и пока еще немножко на эдипов-
ский страшный путь.
Ходит в мире, ходит грех.
64
Тема эта страшно любопытна. И именно — она метафизически любо-
пытна. А как уберегать детей? Об этом лучше всего доктора знают, да роди-
телям подсказывает и инстинкт. Труд, серьезная атмосфера в семье, пово-
зиться, поиграть перед сном до усталости, — и лучше всего на свежем воз-
духе. Вообще это дело биологов, а не педагогов. Ах, «советы» давать вся-
кий сумеет: я знавал одного врача, в 35 лет погибшего от алкоголя (в белой
горячке он выбросился из первого этажа, оборвал легкое и умер от его ганг-
рены). Он ли не знал о вреде пьянства?'. Он был к тому же очень образован
и имел чудный характер. Мог проповедывать против алкоголизма, мог бы
написать книгу о нем. Только, когда вот начинался «приступ», — не мог
удержаться от маленькой серебряной чарочки, которою пил. Около него
сидела его мать-старушка. Только она одна от него и не отрекалась в эти
гибельные 5—6 дней «запоя». И умер. А разве не знал?'. Ах, если бы наше
знание было сильно нзллоуменами: мы бы перевернули мир. Но «хочется»
и «не хочется» всегда властнее «знаю» и «не знаю». Пол же есть не искра,
не ожог\ я умалил сравнение. Это есть огненный океан, которым горяч мир,
все в мире от него рождается: но кто к нему излишне приближается, того он
сжигает вовсе.
Все здесь трудно объяснить; не только детям, но иногда, может быть, и
педагогам. И, главное, — совершенно не найдено здесь самого языка. Что
касается вечного подозрения в «порнографии», то, конечно, оно совершен-
но безосновательно в отношении педагогов. Ведь это «соблазн»: а кто же из
педагогов кого-нибудь соблазнил? По всему вероятию, в лекции просто не
будет самой темы (стихии огня и жара),—и она будет тою анатомиею «тру-
па», около которого и взрослым и детям совершенно безопасно.
ПЕРВЫЙ ДЕБЮТ
Вероятно, у многих в Петербурге и провинции забилось сердце, когда на
этих днях появилось маленькое, скромное объявление в газетах:
Л. Ф. Достоевская
БОЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ
Современные типы
По биографии Достоевского, написанной Н. Н. Страховым, все знают,
что у него осталась дочь Любовь; и инициалы имени и отчества «Л .Ф.»
почти с несомненностью говорили, что на литературное поприще появля-
ется именно она... Я поспешил в магазин, и посвящение книжки «Памяти
отца моего Федора Михайловича Достоевского» подтвердило ожидание,
почему-то радостное. Почему? Да, Достоевский всем нам интимно дорог, и
видеть его «кровь» в литературе—просто приятно. Лет 16 назад мне ска-
65
зал Страхов именно об авторе книжки, тогда еще молоденькой девушке:
«Она—наследница талантов своего отца». Он сказал это по поводу пьес
для домашнего театра, которые она писала тоже «домашним образом».
Вот коротенькое предисловие ее к первой своей книжке: «В наше вре-
мя, вследствие ненормального положения женщин в обществе, число боль-
ных девушек увеличивается с каждым годом. К сожалению, люди мало об-
ращают на них внимания. Между тем, большинство таких девушек выхо-
дит замуж и заражает своею нервностью и ненормальностью последую-
щие поколения.
Я медицины совсем не знаю, да и таланта литературного у меня нет. И
все же я решаюсь описать некоторые, наиболее поразившие меня типы. Нет
сомнения, что ученые со временем начнут серьезнее изучать ненормаль-
ность женщин, чем делали это до сих пор, и тогда им могут пригодиться
даже самые ничтожные материалы. Вот, в качестве таких материалов, я и
решаюсь напечатать первый выпуск моих «больных девушек».
Во всяком случае, это умно, дельно и практично. Если бы вместо той
«изобретательной» дребедени, какую беллетристы преподносят нам в толс-
тых книжках журналов, простые девушки начали рассказывать наиболее
выдающееся, что им стало известно «из жизни», — из судьбы виденных и
узнанных девушек и женщин, — литература много выиграла бы прежде
всего в интересе, в занимательности. А польза и поучительный смысл та-
ких «простых рассказов» были бы огромны для читателей, для общества,
но также и для науки.
В книжке три рассказа: «Чары», «Жалость» и «Вампир». Мне показа-
лось, что Л. Ф. не выдержала задачи, намеченной в предисловии, и, должно
быть, природный литературный дар повлек ее дальше сухой и деловитой
темы, темы строгой', передавать виденное, не выходя из рамок того, что
видел глаз и услышало ухо. В рассказ врывается воображение, творчество.
Я по крайней мере не умею отнестись к ним иначе как к беллетристике: но
«чисто прибранной», умной, никого не копирующей (в том числе и отца)...
Рассказы во всяком случае вполне литературны, и, можетбыть, больше этого
не следует требовать от «первого шага». Я сказал, что подражания даже и
отцу — не видно. И это—так. Но натура отца сказалась в первом и самом
значительном рассказе: вообразите, девушка, чистая и нравственная, с го-
рячею, исключительною любовью к детям, в каком-то болезненном, ненор-
мальном кошмаре задушивает ребенка, ей вверенного! Сцена эта передана
страшно и натурально: девушка оказывается с врожденною маниею к этому
ужасному преступлению! Чем более она любит беззащитное существо, —
еще ребенка, — любит с проницающею все ее существо любовью,—тем
«в момент приступа», в кошмарную ночь неодолимее влечется умертвить
его!! Я сказал, что в этом фантастическом рассказе дочери сказалась «нату-
ра» отца: точнее сказать, выразилось продолжение замечательной наклон-
ности великого романиста сводить вместе, связывать «в один узел» вели-
чайшую человеческую чистоту, вот, именно детскую, с величайшим стра-
66
данием, и именно мукою, замучиванием ее. Все помнят «Смерть Илюшеч-
ки» в «Бр. Карамазовых»; или как турок разможжил голову болгарскому
ребенку, которого посадил на колени, — и ребенок стал играть дулом пис-
толета: турок в это время и спустил курок (рассказ в «Дневнике писателя»).
Еще: как один помещик затравил собаками провинившегося мальчика лет
семи; и как другой мальчик, таких же лет, утопился, избегая наказания.
Подробности, которыми окружены все эти терзания—смерти, и страшно
напряженный тон рассказа, говорят, что у Достоевского было какое-то
влечение «вот так поставить дело», свести «вот эту невинность», притом
страстно любимую, «пронзительно любимую» (его термин),—с ужасною
насильственною смертью, именно — с мукою. В высшей степени характер-
но, что у дочери сказалось это как продолжение, как дальнейшее развитие,
даже как заключение и конец-, ибо куда же «дальше идти»? Смерть... но не
от врага, не от «турка» или «барина», а от кроткой девушки, тоже почти
ребенка по годам, притом любящей этого ребенка исключительною любо-
вью, экзальтированной, но, нельзя скрыть, не материнскою, а вот именно
какою-то девичьей («Больные девушки»), особенной, обожающей, востор-
женной.. . как к величайшему художественному созданию природы.
Такие кошмары у женщин и матерей не являются, и совет доктора, к
которому девушка обратилась, когда у нее впервые начались эти кошмары
(видение терзаемых детей и ощущение ужасного при этом наслаждения),
совет «поскорее самой выйти замуж» — не представляется неуместным...
Но, с другой стороны, надо заметить, что у «больной девушки» вовсе ни в
чем не проявлялось влечение к замужеству: с детства (в институте) она ску-
чала обществом взрослых людей; ее мир был—одни дети! любовь — одни
дети, которых она тайно душила!!!
Суд застал ее на втором преступлении. Она сейчас же созналась во всем.
Но оставалась совершенно равнодушна ко всему и только горько заплака-
ла, когда ей пришлось прощаться с Жоржиком (третья намечавшаяся жерт-
ва), к которому уже успела «горячо привязаться».
Страшно. И, повторяю, очень интересно по родовой, генетической свя-
зи с одним уклоном в творчестве великого своего отца...
ВНИМАНИЮ КОГО СЛЕДУЕТ
Служащие в трактирных заведениях и других подобных «с горячими напит-
ками», т. е. попросту с «водкой распивочно», при закуске, обратились с
просьбою походатайствовать за них, чтобы господа хозяева «имели Божес-
кую милость» отпустить их в Св. Пасху на 1 ‘/г дня, вместо того ‘/г дня, какой
до сих пор они имеют и всегда имели. Из расспросов я узнал, что «сии заве-
дения» открываются в самый первый день Пасхи, и, таким образом, даже в
Светлое Христово Воскресение не имеют порядочного отдыха. Эй вы, со-
циал-демократы: что лицемерите или о чем молчите? Покажите ваши ста-
67
тьи о даче всем рабочим воскресного отдыха?! Господин штатский генерал
Скворцов, издающий «Колокол»: почему вы не звоните, когда в Светлое
Христово Воскресение на Руси принуждают работать, и принуждают по-
чти в кабаках, а звоните только о таких рекламных пустячках, таком газет-
ном материале, отнюдь не православном и не христианском материале, как
это: «Коммисаржевская представляла св. Беатрису и за это сгнила в черных
язвах в татарском далеком городе», а Толсгой тоже «погиб лютою смертью»
за то, если взять дело косвенно, что не состоял подписчиком вашего «Коло-
кола» (недавняя неприличнейшая статья об этом). О «праздничном отдыхе»
вопиял и вологодский преосвященный Никон, ни словом не обмолвясь о
настоящем отдыхе для тружеников в праздник, даже хотя бы вот в Светлое
Христово Воскресение. Епископ Никон вопиял не о деле, а о лицемерии,
чтобы «правительственные учреждения не смели уклоняться отправления
наших праздников, нами установленных», а не то, чтобы вообще «заведе-
ния», напр. кабацкие, не были открыты в эти дни... О самолюбии своем он
хлопотал, а не об отдыхе для христианина-труженика. «Почту-ло, чтобы
закрыли на воскресенье,—это оскорбляет церковь». «А трактир, ваше прео-
священство? В Светлое Христово Воскресенье?» «Об этом я еще не поду-
мал», — отвечает хлопотливый и во все просовывающий свой нос духовный
публицист. «Сердце мое от сего не смущалось; как оно трепетало и негодова-
ло при мысли об открытых в воскресенье почте, банке или бирже».
Между тем в банках и на бирже едва ли очень много работает корен-
ного русского люда. Едва ли смотрели «Сестру Беатрису» в театре Ком-
мисаржевской коренные православные люди. Это очень и очень надо раз-
бирать. А. вот по трактирам, в мальчиках, приказчиках, сидельцах, всяко-
го рода «подавальцах» и «половых», прислуживают самые настоящие рус-
ские люди, самый настоящий православный народ, тот, что дает «копеечки»
на воздвижение храмов, что несет иконы в крестных ходах, что на Страст-
ной седмице непременно говел... А вот разговеться по-православному,
провести в семействе первый светлый день, позвонить в колокола по раз-
ным церквам, пойти с домочадцами похристосоваться к старым родите-
лям, к престарелому почитаемому деду — этого ему не устроено, не сде-
лано, не обеспечено. Заплевали кабаками Святой день, при благосклон-
ном «содействии» начальства (акцизное ведомство, министерство финан-
сов), при полном равнодушии духовенства, при молчании церкви.
Бусурманство это у нас завелось.
У ближайших к делу людей, самих содержателей трактиров, меньше
всего вины: корысть одолела и не могут справиться с чертом. Это не то, что
равнодушие Скворцова, Никона и Пешехонова, людей, которые, не потря-
сая личного благополучия, не вынимая пука бумажек из кармана, могли бы
помочь труженикам трактира. Итак, их я считаю более православными и
христианами, чем всех названных выше особ. Корысть одолела, с бесом
справиться не могут, но душа русская в них не погибла. Итак, оставляя тех
важных персон, к которым в дверь сам Христос не достучится, а разве они
68
отворят эту дверь какому-нибудь генералу или не ниже полковника, говорю
господам хозяевам:
— Промысл Божий над всеми стоит. И промысл Божий круглый год
стоит над человеком. Вы Богу дадите Его праздники, а Он вас вознаградит
в будень. И за год вы больше заработаете, если отдадите Божие Богови, а
себе возьмете только человеческое, как заповедал Христос. Спокойный при-
быток —лучший прибыток, постоянный прибыток—самый верный до-
ход. Больше заработаете, если не станете торопиться, спешить. Поспеш-
ность в наживе—первый шаг разорения. Берегитесь этого, берегите душу,
помните Бога. Непременно дайте полных полтора дня служащим у вас;
откройте заведения не раньше как в два часа, после обеда, во второй день
Св. Пасхи. И сосчитайте только один апрель: увидите, что в него вам Бог
пошлет больше, чем сколько вы в пасхальный месяц заработали минувший
год, открыв заведения в первый же светлый день.
Подарите всей Руси это красное яичко.
НАРОДНЫЙ СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК
Снова свет, снова отдых, снова церковные службы, прекрасные, как полу-
ночные мистерии! Снова народные ликования и весь народный обычай стра-
ны, облекший в белые одежды любимый народный день! Нельзя жить с на-
родом, не проводя с народом именно его Праздник. И образованный класс
России, в лучших его представителях десятилетия томящийся отделением
от народа, разрывом духа своего с его духом, — не сделает более верного
шага к слиянию, как если начнет, не мудрствуя лукаво, проводить с народом
и по-народному его праздники.
А чтобы это было твердо и одушевленно, наконец, чтобы это было сча-
стливо и весело, а не было скучно, не было только умственною «задачею» и
испытанием сил, нужно образованному человеку вдуматься в существо
Праздника, а затем, в частности, — вникнуть в смысл именно сегодняшне-
го Праздника.
У каждого человека, в том числе и ни во что не верующего, бывают горь-
кие и сладкие дни, дни светлые и черные. И это не только по успеху в делах,
но и по беспричинному настроению. «Грустится» и «что-то весело»—всем
известные состояния, не всегда объяснимые. Но у нас, «безбожных», это
чередуется как-нибудь, и год наш представляет хаос, представляет верени-
цу, в сущности, совершенно однообразных дней, почему-то, и даже просто
«ни почему», прерываемых весельем, скорее шумным, чем сладким. Это
шумное веселье мало дает отдыха душе, скорее оглушая ее, нежели облег-
чая ее. И мы этими случайными шумными удовольствиями пользуемся толь-
ко потому, что, не будучи по-настоящему трудящимися людьми, мы не нуж-
даемся в настоящем здоровом отдыхе, который есть прежде всего тишина
и ясность.
69
Праздник — чистый, тихий день, в который вместе с телом отдыхает
прежде всего душа.
Нельзя получить праздник, имея на душе заботу, т. е. непременно ра-
боту (душевную). Праздник — всегда беззаботен и беспечален. Это душа
его, сущность его.
Подумайте же, образованные люди: как трудится весь народ. Трудится
земледелец, трудится фабричный, трудится ремесленник, трудится наша
прислуга, вставая «чем свет», чтобы убирать наши комнаты, мыть нашу
посуду с объедками, чистить наше платье, бегать у нас на побегушках. «Ноги
гудят» у всех от ходьбы, пока мы сидим или погуливаем; «руки ломит» у
всех. И эти «все», простой люд, — в вечной заботе о нашем довольстве
или в вечном страхе или полустрахе, что «не угодили на господ».
И душа устала, и тело в изнеможении. Это к вечеру каждого из
360 дней года.
Вот кому нужен праздник, т. е. настоящий душевный покой. Он нужен
тем 139 миллионам людей, кроме одного 140-го миллиона, который состав-
ляет образованный класс всей России.
Едва мы это сказали, как каждому станет тотчас понятно, чем обязано
все человечество религии и церкви уже зато единственно, что она ввела в
жизнь этого работающего человечества существо праздника, его идею-,
утвердила эту идею как незыблемый столп веры, которого никто в стране
не смеет поколебать и отвергнуть; далее, распределила весь круг года на
обыкновенные дни, перерываемые приблизительно на одинаковых рас-
стояниях вот этими особо нарядными, особо убранными днями, которые
и суть праздники. «Нарочно» и искусственно этого нельзя было сделать.
Ну, как приказать: шесть пустых дней — работайте, а седьмой тоже пус-
той день — не работайте. Ничего бы не вышло. Люди стали бы шесть
дней плохо работать, а седьмой день тоже немножко работать или даже
работать совершенно так, как и те шесть дней, т. е. что-нибудь делать, а
главное, продолжать заботиться и огорчаться. Мы, образованные люди,
уже тем несчастнее народа, что у нас по существу дела и внутри души нет
вовсе праздников. И наш год—убог и черен. Отсутствие идеи «праздни-
ка» есть одна из немалых причин, распространенных именно среди обра-
зованного класса самоубийств. Нет отдыха душе, нет круглый год. Какая
от этого усталость!
Но без религии совершенно невозможно установить праздников. Рели-
гия же, напротив, конкретно и выражена вся в праздниках: «Веруешь ли в
праздники?» — это тожественно с «веруешь ли в церковь?», «веруешь ли в
Бога?» Это торжественно и с другим страшным вопросом: «.отдыхаешь ли
когда-нибудь?»
Когда в это вдумается образованный человек, он почувствует, до чего
он несчастен одним своим безверием.
Когда он в это вдумается, он поймет и глубокую истину, не видную
только для человека, совершенно отрезанного от народа: что, как бы ни
70
были велики несовершенства и, наконец, пороки наличного духовенства,
сколько бы, наконец, не было недостатков и, наконец, злоупотреблений в
наличном строе церкви, в ее порядках, учреждениях, законах, — все это
совершенно тонет в ее многозначительности; совершенно перестает быть
видным, значительным, несносным, если сосредоточиться на том страшно
ценном, без чего нельзя обойтись, что она дает и чего ниоткуда еще нельзя
достать'.
Тогда образованный человек поймет священство церкви, святость
церкви. Она свята не по делам духовенства и не по личным его качествам,
а совершенно по другому. Духовенство может в данный век не стоять
нисколько выше других классов и даже стоять ниже их; быть их темнее,
необразованнее, грубее и даже порочнее. Тайна состоит в том, что это
нисколько не задевает существа дела и от этого нисколько не меркнет свя-
тость самой церкви. «Святость церкви» не зависит от состояния духо-
венства и совершенно отделена, так сказать автономна, от каких бы то ни
было его нравов. Эта «совершенная новость» для образованных классов
есть необоримая истина. Неужели математика сколько-нибудь теряет в
своей истине, а с истиною — теряет и что-нибудь в своем блеске и вели-
чии, если все учителя арифметики в городских училищах пьют? Разве
меркнет Шекспир от того, что его играют дурные актеры? Разве скульп-
тура, как вечное искусство, прекращается, если в наличности мы имеем
одних ремесленников? Эти популярные примеры лучше всего могут вы-
яснить существо церкви и невозможность для нее пасть, затмиться; могут
выяснить независимость высоты церкви от нравов духовенства. Церковь
свята не по делам духовенства, а потому, что она избрала такие темы для
себя, над которыми никто еще не работает и не может работать и кото-
рые священны для человечества. «Почему же не может никто еще рабо-
тать?» — спросит удивленно читатель. Да так уж от сотворения мира по-
велось, что именно религия работает над этими темами, в силу чего каж-
дый, кто над этими же темами станет работать, в целях созидания здесь, а
не разрушения, — тем самым войдет во двор религии, как бы встанет в
храм религии, сделается религиозным и церковным человеком. Напр., кто
«вводит еще праздник» — ео ipso* есть церковный человек. Кто научает
или проповедует, как «хорошо проводить праздник», есть тоже церков-
ный человек. Религиозный живописец или композитор церковной музы-
ки — суть церковные люди.
Но, напр., Ренан или Штраус, хотя «работают над теми же темами», —
не суть ни церковные, ни религиозные люди, ибо они разрушают. Разруше-
ние здесь может быть исторично, основательно, научно: но только одним
оно не может быть — кому бы то ни было нужным. Ну, какой-нибудь уче-
ный доказал, что «такого-то чуда не было, а следовательно, и праздник, в
память его существующий, надо закрыть». На деле выходит: «надо праз-
* тем самым (лат.).
71
дник закрыть». Но он был «закрыт» до Христа, «закрыт» теперь у дикарей
Австралии. К чему же свелась работа Штрауса? Он установил один такой
же дикий день, каких существует 360 в Австралии.
Потому всякая разрушительная работа в религии работает на дикое ко-
лесо. Она никогда и никому не может быть нужна. Религиозный критик
всегда есть дикарь.
А вот что-нибудь создать здесь — есть дело истинной культуры,
просвещения своего народа, облегчения своего народа. Потому что свята
вся эта область, священна она по темам своим. Она ткет золотое покрыва-
ло на историю человечества, без коего человечество было бы безобразно;
и ему всему было бы холодно, неуютно, оно бы все изголодалось и щел-
кало зубами.
Выдумать праздник невозможно; праздник — в существе души. Празд-
ник есть — прежде чем он объявился, утвердился.
Поняв существо праздника как облегчения души, образованный чело-
век уже без труда поймет смысл сегодняшней Св. Пасхи как центрального
дня двухнедельной мистерии.
Это—великая мистерия сознания грехов своих, «по-образованному»—
слабости своей души, нагара в ней тщеславия, гордости, зависти, злоумыш-
ления, грубости, бесчувствия к другому, жадности; сознание не «впус-
тую», не в подушку, легонькое — ас рассказом всех этих «слабостей»
другому, естественно, — тому, кто и придумал все это, ввел все это, со-
знал всего этого необходимость, — т. е. священнику. Священник есть вы-
разитель и представитель церкви, а только церковь придумала и ввела это,
утвердила это как народный закон. «Образованные люди» этого не ут-
верждали и не открывали. Естественно, не «им» и каются, а каются —
перед священником, в слух его, но — Богу. Так придумано. Такова тема
церкви. Никто другой над этим не работал: потому если есть «слабости»
у образованного человека, — то и ему не к кому с ними серьезно пойти,
как все-таки — к священнику. Но пусть он идет или не идет, а народ хо-
дит. И кроме того, чтобы это было серьезно, он семь недель поста более
серьезною жизнью, более сдержанным поведением подготовляется к тому,
чтобы «все рассказать», «всю подноготную» в слух живого, смотрящего
ему в глаза человека. Очень трудно, если бы по личному недостатку духо-
венства и неустроенности, неорганизованности всего дела духовенство
не свело этого к шаблону, форме и одному равнодушию и косности. Но
«духовенство грешно, а церковь свята»: самое-то учреждение, самое та-
инство покаяния остается неизъяснимо велико! Велико исторически, ве-
лико психологически!..
И священник словом Христа отпускает вину. Отпускает по точному за-
поведанию Спасителя — «не нарушив йоты».
Отпускает потому, что за этот твой грех, за слабости всего человече-
ства Христос пострадал и умер!
И воскрес — чтобы победить этот грех, изгладить слабости.
72
* * *
Сто миллионов православных, вся страна облекается в белую одежду... И
к Светлой заутрене все пришли с такой душой, как бы ни у кого не было
грехов!!!
Кто это сделал? утвердил? научил?
Церковь.
А вы говорите, что духовенство «попивает». Но как ученых, съехав-
шихся со всего мира на конгресс, столица «угощает» обедом, раутом: то,
приближая к этому в целях объяснения, позволительно сказать, что народ
за одно благодеяние этого облегченного дня, перед идеей которого что же
значат все идеи математики или механики, мог бы «своему милому духо-
венству» устроить такой пир, поднести ему такого вечного вина, которое
упоило бы его, упоило и насытило до пресыщения. Эти сравнения понят-
ны, и понятна их основательность. Но поистине если слабо, то и невзыска-
тельно духовенство. В Светлую заутреню оно, говоря:
— Христос воскресе!
ждет только, чтобы народ сказал ему умиленно, радостно, весело:
— Воистину воскресе!
Хорошо это. Хорошо в народе, в религии, в церкви. Ах, как бы плака-
ло все образованное общество о себе, если бы знало, чего оно недополу-
чило и недополучает'. Если бы оно хоть глазком заглянуло, как сегодня
весело у всех на душе, кто хорошо подготовился в пост, хорошо поговел и
вот сегодня «разгавливается». И если бы оно еще знало, а если знает, то
вдумалось, что как будто для него, для русского неверующего человека,
сказаны дивные слова Иоанном Златоустом, столь дивные, что на всем
Востоке они 1300 лет повторяются в каждую заутреню и обедню Светло-
го Воскресения:
— Придите все сюда в этот День! Придите без смущения, — придите
поздно! Придите в десятый час, придите в одиннадцатый час! Придите пос-
ледними, придите, когда все кончилось, — нет разделения ни с кем, и вы
будете у нас как пришедшие в первый час, как самые ранние!
По объединяющему смыслу, по морю любви в этом слове оно одно до
того универсально, оно до того исторично-созидательно, что перед одним
этим звуком, неумолчно год из года повторяемым, все «социальные рефор-
мы» просто солома и палки, полиция и принуждение, мундир и бессилие и
прямо ничто.
Вот религия!
И вот почему церковь—свята.
Перекрестимся, православный народ. Больше всего перекрестимся за
то, что у нас есть церковь, что мы—религиозны. И красное яичко у каждо-
го за пазухой, и колокола звонят. И все — слава Богу. А главное и во-пер-
вых, что — Христос воскрес!
Христос воскресе, добрый читатель! Христос воскресе, вся Русь!
73
РЕЛИГИЯ УНИЖЕНИЯ И ТОРЖЕСТВА
Христианство предлагает нашему уму и сердцу бесчисленные вопросы...
Между ними—этот великий и нравственный и метафизический вопрос—
о соотношении между униженностью и славою, между скорбью и превозне-
сением.
Но раньше мне хочется сказать два-три слова об этом «вопросном со-
держании» христианства. О том, как оно подействовало на историю и чело-
века.
Если сравнить Шиллера или Шекспира с Горацием или Овидием, с Ари-
стофаном или Пиндаром, мы будем поражены не разницею в .мере духа,
которая может быть у всех названных лиц одинакова, но степенью разрых-
ленности их душ... Вот что нам принесло христианство, и принесло этою
«вопросностью» своею. До Христа точно не было «вопросов», точно чело-
вечество обходилось без «вопросов»... Даже странно и дико это звучит д ля
нашей души, которая, кажется, вся и состоит из «вопросов», прокалена «воп-
росами» до такой степени, что мы теперь не умеем себе представить «чело-
века», представить «человечности» иначе, как омраченных тучею «вопро-
сов», безнадежно в них запутавшихся, страдающих, но каким-то сладким,
томительным страданием. Вот это принес на землю Христос, принесло
Евангелие. Трудно, но нужно поверить, ввиду ясных свидетельств древних
литератур, что античный человек действительно не имел других «вопро-
сов», кроме каких-то «репортерских», вроде «нужно или не нужно допус-
кать женщину к общественным делам» (Аристофан), или «что миру дал
Рим взамен полученных им от Греции наук и искусств» (Виргилий). Это
так мало и смешно, на наш взгляд, так нищенско и убого, что мы даже с
презрением отказываемся назвать подобные затруднения мысли «вопроса-
ми». Это для нас «репортерские вопросы», хотя и заключали в себе славу и
величие Рима. Что такое «слава Рима» сравнительно с судьбой человечес-
кой души?—Тлен, дым и сор. — И все древние народы, несмотря на всю
их красоту, несмотря на их счастье, на изящество их маленьких республик
и прочее, и пр., и пр.,—представляются нам в высшей степени скучными,
неинтересными, представляются как-то душевно бездарными. И все отто-
го, что никогда не спросили себя:
Быть или не быть?
Или, каку Гейне:
Кто разрешит мне, что тайна от века:
В чем состоит существо человека?
Кто он? Откуда? Куда он идет?
Кто там вверху, над звездами живет?
Вопрос—христианский. Вопрос, какого не было в античном мире. Воп-
рос неразрешимый, наконец, и в этом смысле бесплодный, бесполезный,
74
вредный: да, но мы «с Голгофою» уже узнали сладость этих «вредностей»
и не променяем их на позитивные «хлеб и соль» или распространеннее—
на «ресторан, барышню и выпивку».
Даже сотрясается душа, когда мы сближаем в мысли это позитивное
«всеобъядение» с муками терний, темницы, казни, болезни, смерти.
«Прочь! Прочь!» — кричим мы и хватаемся за колючки, обжигая о них
руку. «Но почему?» — это — античный вопрос. Такого вопроса для хрис-
тианина нет.
Между тем, вопрос так естествен, натурален: «там — счастье, на-
слаждение; здесь—мука, скорбь». Вот еще особенность: христианство «сби-
ло с ног» все это естественное, весь этот натуральный порядок вещей, и
ввело все человечество, всякую человеческую душу, познавшую «крест и
муку», в какое-то лучшее мерцание, в предрассветные или послерассвет-
ные сумерки, где очертания всех предметов искажены, фантастичны, в од-
ном случае преувеличены, в другом — преумалены.
— Ну, что яснее барышни, обеда и театра?
Это—дневной вопрос, дневной тезис, дневное созерцание.
— Прочь! Прочь!
Это кричит ночь.
Она кричит из глубины нашей души, из первозданной ее глубины, со-
творенной «из хаоса»... Ах, в самом деле: ведь, еще неизвестно, когда был
сотворен человек, днем или ночью? «Античный человек», правда, был со-
творен точно «днем», но христиане все сотворены будто «ночью» и томят-
ся все хаотическими ночными вопросами, ночными тревогами, ночными
кошмарами. Посмотрите, когда написал Пушкин свой великий «покаянный
канон», около которого вся античная поэзия опадает куда-то в ничтожество,
в мелкость, в неинтересность, в «малодушие»:
Когда для смертного умолкнет шумный день,
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень,
И сон, дневных трудов награда, —
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток:
И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
75
Вот великое христианское стихотворение, может быть единственное,
вырвавшееся у Пушкина, но которое с бесконечной глубиною выразило
самое «сердце» христианства.
И весь «христианин» стал вот таков, как описано в этом стихотворе-
нии. Он потерял твердые, каменные очертания древнего человека; ну, со-
гласимся, потерял его беломраморность, «незапятнанность», — красоту и
вместе невинность... Но сколько он взамен этого приобрел!
Он приобрел движение, колеблемость; в одно и то же время это есть
нерешительность, но и в то же время — многодумность, сложность.
Руки его ослабели; ноги — скоро устают. Но зато какая бесконечность
мысли! Умер «быстроногий Ахиллес»: для нас это просто комическая
фигура. На его месте родился Ньютон, со своими бесчисленными вы-
числениями, со своим вопросом: «Почему, однако же, падает яблоко?»
Все видели; все греки и римляне. Но никто не спросил. Это — вопрос
христианский.
И о всем стал «спрашивать» христианин, с его ночною думою, и запу-
тавшеюся, и несчастною, и так необыкновенно могущественною!
* * *
Вот в этой «вопросности» христианства одною из великих проблем лежит
соотношение между уничижением и торжеством, позором и славою. Хрис-
тос связал эти два явления в один узел. Всегда дотоле они были разделены:
слава — так слава, унижение — так унижение. Где есть слава, — там нет
позора, где позор, — какая же слава? Саул все падает, и падает до конца;
погиб несчастным образом, и погиб как именно грешник. Давид все восхо-
дит, непрерывно восходит: и опочил царем, псалмопевцем и святым. Ему—
и победы, и прелесть струн, и богоизбранность.
Христос вдруг соединил это в одно. Связал вечно разорванное! Связал
так, что одно поставил ступенью к другому, поставил одно метафизичес-
кою причиною другого!! И с такою настойчивостью: и в учении Своем, и в
жизни, и, наконец, самым торжественным и окончательным образом — в
смерти и воскресении, в венце «терновом», который мучит и вместе кото-
рый выше всяких корон!!
Но главное — смерть]
После которой—воскресение]
Эта связуемость в одном лице смерти и воскресения — она уже чув-
ствуется гораздо раньше Голгофы... «Нужно пройти через узкую дверь»...
Но что «уже» смерти, гроба? Нужно восходить «путем скорби»: но что скорб-
нее той же смерти. Эти черты учения Христа толкуются только как нрав-
ственные правила. Они таковы и есть. Но содержится в них и другой, мета-
физический элемент: все это уже говорит, что «нельзя победить смерти, не
умерев, не сойдя в самый А ид». С другой стороны, эти «столпы», эти «ус-
тои христианства» — «победа над смертью в воскресении» — только кон-
центрируют в себе обычный путь человека, обычную судьбу человека, обьгч-
76
ную муку человека. «Страдай, но никогда в страдании не отчаивайся: и ты
воскреснешь в торжество и блаженство».
Как бы применяя к этому библейское мерило, мы сказали:
«Путь Давида и Саула—один путь. Нельзя стать Давидом, не побывав
Саулом. Нельзя взять победы, не вынеся поражения».
Все античные «правила», и вместе «правила» ветхозаветные, все их
«нормы», «закон и нравственный порядок» смешались. Смешались и сей-
час же разбились.
— Как,—ужасаемся мы ученическим ужасом, — неужели, чтобы стать
Давидом, надо побывать Саулом? С его непослушанием воле Божией? С
его самонадеянностью?
Евангелие отвечает:
— И даже более: надо быть «блудным сыном», чтобы так обрадовать
отца своим возвращением. И «разбойником-исповедником», чтобы раньше
всякой живой твари («днесь») взойти с Христом на небо!
«Истинно говорю вам: об одной погибшей и раскаявшейся душе боль-
ше бывает радости на небесах, нежели о ста праведниках».
«Пастырь, найдя одну заблудшую овцу, берет ее на плечи и несет и
более ей радуется, чем всему стаду».
Но это есть именно части, тени, «последние лучи», «эхо» великого тор-
жества:
— Сегодня — в аду!
— Завтра — на небесах!
—Сегодня—раб, Которого бьют тростью по Лицу и плюют в это Лицо...
— Но через немного времени — Бог; и самое это изображение «распя-
того среди разбойников» внесется в храмы как символ новой религии. И
народы потекут сюда, чтобы плакать перед «Распятием» и восторженно
лобызать его...
Все Евангелие, начиная уже странностью в рождении: «Не нашлось
нигде свободного места в домах города, чтобы поместиться на ночлег Иоси-
фу и Марии, и вошли они в вертеп, куда запирались на ночь животные, и
там она родила Спасителя мира», — все это, как равно и все тоны учения,
притч, рассказов, наконец, прямые догматические утверждения («из кам-
ней сих можно сотворить чад Аврааму»), — все, все уже раскрывает, широ-
ко или узко, дверь на Голгофу:
— Сегодня — крест!
— Завтра — небеса!
Или, еще резче, ярче:
— Смерть — сегодня! В муках!!
— Завтра — воскресение и вечная жизнь!!
Человечество, узнав только эту одну тайну, уже не могло не начать пе-
рестраиваться в истории своей, в судьбе своей, даже реальных соотноше-
ниях сейчас действительного! Получив в душу свою одну эту загадку, но с
твердостью религиозного догмата, с пламенем религиозной веры, челове-
77
чество страшно расширилось во всех «возможностях» своих и вместе по-
грузилось умом именно в «сумерки», в неясность всех тезисов, всяких пред-
положений, ожиданий. Уравнение: «а + х = с» вдруг превратилось в другое,
с бесчисленными «х», «у», «z» в себе и в самых разных степенях «неизвес-
тного», да еще с «величинами мнимыми» и — Бог знает с чем. Прежде
было ясно: «грех, это — грех»; «дурное есть дурное и ведет к дурным по-
следствиям»; «что падает—и упадет, что поднимается — будет стоять вы-
соко». Теперь все эти ясные тезисы вдруг стали «противоречить религии»:
противоречить «разбойнику, который первый спасся»; и «Сыну Человечес-
кому, Который не находил пристанища на земле — и решил судьбы царств
и городов». Теперь, вдруг, в самое униженное брошена была восторженная
надежда, самому царственно-красующемуся было погрожено пальцем. На-
дежда — на дне, скептицизм — на вершинах гор. Запутался ум человечес-
кий, померкло сердце человеческое...
Вдруг все слабое страшно окрепло!
Вдруг все крепкое страшно ослабело!
Естественно, совершенно натурально — все вытянулось вдаль. Эта ис-
тория: «побеждали, побеждали, всех победили, одни царствуем» (Рим, ис-
тория Давида) — вдруг превратилась в странную «хронику», где «сегодня
— царь, завтра—изгнанник», «сегодня—изгнанник, завтра — царствую»;
в историю всех этих маленьких и великих королей, великих и сейчас разру-
шенных царств, угнетенных и торжествующих учений... В историю Густа-
ва Вазы, Генриха IV, швейцарцев и Франции, в историю прусского королев-
ства, данника Польши, которое затем поглощает Польшу и грозит целому
миру. Во всем античном мире ничего подобного не было; и поразительно,
что ни разу не бьшо. «По-христианскому» — Карфаген раздавил бы Рим;
раздавил бы его Митридат Эвтатор; все бы «сто раз перевернулось», и не
вышло бы никакого «Рима». Не вышло бы «последовательности», «едино-
го роста»... Но Рим «рос», когда еще «Уничиженный» не «побеждал»...
Встал «Уничиженный»... «Победил»: и второму «Риму» не бывать. Не
бывать абсолютному и вечному «росту»... Все будут «хроники»; везде нач-
нутся «восхождения» и «нисхождения»... Как «горе и радость», «грех и очи-
щение», «распятие и воскресение»... «Покаянный канон» Пушкина вдруг
войдет железом в политическую историю, — могущественнее законов На-
полеона и Бисмарка!
Закон ночи. Закон скорби. Закон, что какова душа, такова и история.
Жизнь историческая стала бессмертною, вечною. Она сделалась тако-
вою не в смысле только общей панорамы движения, вечного «Неба надо
всеми», но в каждой ниточке жизни, в каждом «дыхании» народца. Самни-
тяне, задушенные Римом, никогда потом не встали. Но «встают» славяне,
хочет встать Армения; сильней и сильней сотрясается почва, сдавившая
грудь Ирландии; слышно даже, что черемисы на Волге—и те собираются
«встать». Мы здесь можем улыбаться одному, смотреть серьезно на другое,
наконец, можем быть врагами всех этих «пробуждений»: не в том дело, и
78
не об этом мы говорим, а о том, что нет ничего теперь в истории «оконча-
тельно умершего», нигде нет разлагающихся трупов, нет убитых. И это—
христианский факт, ибо все «во-образ» «Воскресения», в которое разреши-
лась «Смерть»... Просто, все павшее, что по прежним временам и грезить
не смело о «воскресении», — теперь получило себе в могилу не грезу, а
догмат: «Ты, однако, воскреснешь'.» Жизнь получила бесконечный упор,
бесконечную силу сопротивляться смерти.
Чем ночь темней, — тем ярче звезды:
Чем глубже скорбь, — тем ближе Бог,
как сказал Майков. Вот эту диалектику, этот сгиб нисхождения и восхожде-
ния, получил в свою личность каждый христианин, а все христиане — в
свою историю.
В сокрушениях — радуемся, в позоре — торжествуем, в темнице —
протягиваем руку к престолу славы: какие все новые понятия, новые слова,
ни разу не звучавшие с уст Гомера, Пиндара, Овидия, Горация. Да, «пере-
родился» человек страшным перерождением.
Мы здесь не исследуем темной стороны этой же диалектики, которая
есть. — «Да. Мертвые воскресают. Осанна им. Но что делать с прихрамы-
вающими железными людьми, которые так согнуты, кашляют и, кажется,
чуть-чуть живы, а в глазах их горит огонь власти, какого не горело у языч-
ников кесарей?» «Что делать с Servus servorum Dei (раб рабов Божиих),
который начал срывать короны с королей?» Все эти вопросы—есть. Тем-
ная сторона — есть. Ах, ведь поэтому-то и стали мы все «со времен Хрис-
та» Гамлетами, колеблющимися между «быть или не быть», что перед нами
во всем открылось «да» и «нет», около ослепительного света мы везде раз-
глядели и кромешную тьму...
Но не сегодня о ней говорить. Сегодня—день радости. И скажем просто
«Христос воскресе», обратив его на днище всех узилищ, оков, темниц, —
всего, что далеко, страдает и томится...
«Радуйтесь и верьте, что все смертное будет поглощено Всеобщим Вос-
кресением!»
ЛИТЕРАТУРНЫЙ РОД СОЛОВЬЕВЫХ
От могучего дерева всегда много отпрысков: Сергей Михайлович Соловьев,
автор двадцатидевятитомной «Истории России с древнейших времен», хра-
нитель московской Оружейной палаты и профессор Московского универси-
тета, «роди» сынов Всеволода, Владимира, Михаила и «дщерей» Поликсе-
ну, Наталью и еще «проч, и проч.»... Студенты, слушая престарелого про-
фессора, потихоньку острили: «Каждый год Сергей Михайлович печатает
новый том «Истории» и каждый год у него рождается еще ребенок в се-
мье. ..» Так ли это было—не знаю, но если присоединить и внуков—навер-
79
ное, так: нам читал лекции по истории западных и южных славян его зять,
Нил Александрович Попов, благодушный и праведнейший человек, коего за
рост, толщину и бас мы прозвали «трубою». Уже ученик этого зятя, теперь
проректор Московского университета, М. К. Любавский, написал волюми-
нозные труды по истории Литвы... Сам зять много и постоянно писал. Был
бодр; и, казалось, ему жить «сто лет», но он безвременно и почти молодым
погиб от рака прямой кишки (болезнь Некрасова). Старцем, но еще свежим,
умер и «столп всего», Сергей Михайлович. Но уже шумно выдвинулись сыны
его, Всеволод и Владимир. Судьба их была неодинакова. Владимир прекрас-
но разработал свои таланты, вооружился разностороннейшим образовани-
ем, окончив что-то к двадцати двум годам Московский университет и Мос-
ковскую духовную академию, причем в университете он проходил не один
историко-филологический факультет, но и естественное отделение физико-
математического факультета. Таким образом, чуть не «преждевременно» он
знал все существенное, что можно знать в нашу эпоху, и развернул эти зна-
ния, оплодотворенные врожденным пылом и гением, в обширную философ-
скую, публицистическую и поэтическую деятельность... Только бы убавить
жару, только бы прибавить осторожности, и как все было бы хорошо! Но
теперь мне вовсе не хочется судить, а хочется сказать «хвалу» могучему роду
Соловьевых. Нигде так не радуешься человеку, как увидев его хорошо «раз-
родившимся» и хорошо «развернувшимся»... Говорят, Русь что-то блёкнет:
вот я и хочу возражать против этого «блёкнет». Судьба Всеволода, старшего
сына историка, была печальнее. Нил Александрович Попов (зять историка)
правдиво и по-русски сказал мне как-то, еще студенту, когда я пришел к нему
за справками и книгами для курсового сочинения и побочно спросил о сы-
нах историка: одном—философе и одном — романисте:
— Всеволод Сергеевич берет том «Истории» отца, выуживает из него
романтический сюжет и на тему этого сюжета пишет исторический роман,
который продает Марксу (издатель «Нивы») по 300 руб. за лист, когда отец
его за превосходные исторические статьи получает из «Вестника Европы»
по 100 руб. за лист...
В самом деле, Всеволод Соловьев, человек энергичный, смелый, не-
много грубый, писал быстро роман за романом на «темы» отца... И все
романы эти были деревянные, бездушные, захватывавшие только ту «боль-
шую» и даже «аграмадную публику», которую вообще не принято и нельзя
считать обществом «литературным»... Только его «Покрывало Изиды»,
разоблачение знаменитой Блаватской, написано в литературных формах, с
литературным вкусом, литературным тоном... Так, куда-то торопясь и как
будто вечно нуждаясь, он «зарыл в землю» талант свой, неизвестного или
неясного содержания и цены. И умер он совершенно рано (и непостижи-
мо), судя по своему прямо гигантскому здоровью... Весь он был, с виду,
как литой, бронзовый.
Но могучее дерево тем и могущественно, что шумят его другие ветви,
когда одна заглохла...
80
Владимир обширно раскинулся: и имя его стало затмевать даже имя
отца-историка.
— Откуда такое странное несходство между историком Соловьевым,
этим спокойным, развесистым деревом, в котором «вьют гнезда многие
птицы», и сыном его Владимиром, который вытянулся в необыкновенно
высокую и тонкую жердь, отовсюду видимую и колеблемую на все сторо-
ны? — спросил я одного его родственника.
— Влияние матери, влияние матери, — на это же надо обратить внима-
ние! Владимир Сергеевич—весь в свою мать, которая была малороссиянка,
с большими причудами в характере, и в которой было что-то вещее, фантас-
тическое, причудливое, почти готов сказать—колдовское. Странные сны,
странные фантазии... Все это прыснуло во Владимира, поэта, философа,
мистика. Вы знаете лицо его: это же совсем не лицо отца, историка,—спо-
койное, твердое, коренное великорусское. Но он—портрет матери!.. Он был
и в духовном отношении ее портретом или... наследником!
Страшно важно. Действительно: философ Соловьев есть живое и лич-
ное отрицание историка Соловьева; историк Соловьев ни в одной черте
ученых трудов и личной биографии не имеет ничего общего с сыном.
Уравновешенный дуб. Наш русский, всем нужный. Который дает тень
три века и, отжив, дает материал для корабля «петровской работы» или из
которого строят вековые стены хозяйственного дома, которому тоже «века
не будет»...
И далекая южная пальма, красивая, не «наша», совсем не «наша», кото-
рая манит взор, возбуждает воображение, возбуждает «прелестное стихо-
творение» о себе, но ни на какую поделку не годится, ничего «петровского»
из нее не сделаешь, ничего из нее не сработаешь и, в конце концов, даже,
обозлившись, изругаешь ее:
— Куда, матушка, забрела в Русь болотную? Холодную, неприветную?
Возбуждаешь «стишки», когда нам надо дрова рубить. Манишь, мучишь,
тревожишь, когда нам нужен хороший сон, бодрая работала крепкая баба...
Соловьев был и аскет: от такого-то плодовитого отца!
«Ну ее, к лешему, эту пальму: как привидение в ночи на дороге...»
Во Владимире Соловьеве было много и «привидения»... Любопытней-
шая в нем черта...
Но я хочу, с точностью летописца, исчислить «род Соловьевых»...
Поликсена Сергеевна Соловьева, — кто не знает ее прекрасного
«Инея», книжки стихов, из коих каждое имеет параллельный себе рису-
нок?.. Если бы эти рисунки пером, естественно величиною в страницу, в
полстраницы книги, увеличить до обыкновенных размеров обыкновен-
ной картины, то несколько десятков их могли бы составить целую выс-
тавку, с тем, чего именно недостает выставочному искусству: с изуми-
тельным богатством личности, физиономии автора. На некоторые рисун-
ки хочешь часы смотреть; хочешь, чтобы они постоянно были перед то-
бою, как твое настроение, как любимое свое настроение', смотри
81
страницы: 8, 13, 17, 33, 41, 51, 61, 67, 71, 73, 80, 89, 97... Местами это
хорошо, как почти в великих созданиях Бёклина...
Но она никогда не выставлялась и не выставится. Ведь она не тот Чул-
ков, коего первым прославившим его произведением было «Письмо в ре-
дакцию всех газет» о том замечательном событии, что он вышел из состава
сотрудников «Золотого Руна»... Тогда все оглянулись и впервые узнали
«Георгия Чулкова» и запомнили; а когда все «запомнили», то он, естествен-
но, воспользовался, что-то где-то быстро понаписал; и уже теперь печатает
седьмой том «Собрания своих сочинений», кажется, со «вступительной ста-
тьей» остроумного и ученого профессора Овсянико-Куликовского...
Соловьева — вся в застенчивости, и даже спрятала свое имя, — уже в
отце знаменитое, — в безыменном псевдониме «Allegro»... Не правда ли,
«allegro» как «иней» же: ни имени, ни пятна. И что-то «прикрывает» со-
бою. Как это идет к поэту, к поэтессе, к женщине, к девушке... Соловьева
(«Allegro») никогда не «в выставке», а точно куда-то уходит, и вечно ви-
дишь ее со спины. Вся она, кажется, — в этом стихотворении:
Руку дай, дитя, тропою хвойною
Забредем далеко мы,—туда,
Где нас жизнь загадкой беспокойною
Не найдет, не встретит никогда.
Где мгновенья стынут, не меняются,
Где не вянут тихие цветы,
Где в прозрачном небе подымаются
Тонких елей стройные кресты.
Там, забыв стремиться в даль неясную,
К тишине душою ты прильнешь
И молитву первую безгласную
Тыс моей молитвою сольешь.
Или вот, в сфере описания и понимания, «Петербург»:
Город туманов и снов
Встает предо мною
С громадой неясною
Тяжких домов,
С цепью дворцов,
Отраженных холодной Невою.
Жизнь торопливо бредет
Здесь к цели незримой...
Я узнаю тебя с прежней тоской,
Город больной,
Неласковый город любимый!
Ты меня мучишь, как сон,
82
Вопросом несмелым...
Ночь, но мерцает зарей небосклон...
Ты весь побежден
Сумраком белым.
Это — полно и физиономично, как портрет Серова. Из «Антологии
Петербурга», которая уже есть и замечательна (вот бы ее собрать!), —
этого не вычеркнешь никогда. И посмотрите, сколько порицания, любви
(задумайтесь над противоположностями, г. Струве); как все деликатно и
благородно.
Allegro-Соловьева вполне противоположна брату Владимиру, филосо-
фу, — который (увы!) был всегда «в выставке». По этому влечению к без-
молвию, к тишине, к «внутренней келье», как-то невольно называешь ее и
более философом, и более богословом, чем ее знаменитый брат. Ах, есть
вещи, с религиею несовместимые: к числу их принадлежит базар, без кото-
рого не мог обходиться Влад. Соловьев. Что делать. Судьба. Рок.
Еще немного. Ведь это хорошо, как у Тютчева:
Я сбросить хотел роковую неволю мучений,
Я в полночь глухую дороги искал,
И вдруг я услышал средь тихих ночных дуновений,
Что кто-то душе прошептал:
— Не бойся страданий, не бойся любви безответной.
Над мраком страданья — не меркнущий свет.
Не бойся нарушить молчание песнью приветной,
Быть может, раздастся ответ.
И все у нее в этих тютчевских тонах; но другое, но свое, только столь
же благородное... И хочется книжку ее поставить около Тютчева: лучшая
похвала, какую мы умеем сказать!
Allegro — вечереющий день «рода Соловьевых». От «крепкого» исто-
рика, отца, точно выдвинулась куда-то далеко-далеко тонкая, слабая, оди-
нокая ветвь... И выдвинулась совсем не туда, куда обращены все другие
ветви, вся листва. И висит она, медленно засыхая, над черными водами реки
и под черным небом с глубокими звездами. И забыла о дереве. Забыла о
родине, роде. «Одна душа моя»—вот родина. И над этою «душою» поэтесса
медленно-медленно вырезает тонкий крест.
Умирают белые сирени
И хочется ответить ей ее же стихом:
Буду помнить белую сирень я
И дыханье звездных лепестков.
83
У Соловьевых был еще третий брат, -— Михаил. Странным образом имя
его было названо в печати только в момент смерти: именно, жена его, —
переводчица-труженица, — в миг кончины мужа вышла в другую комнату
и застрелилась. Об этом прошумели газеты. Она застрелилась, оставляя сына
мальчика, Сережу (имя отца их, историка). Что Михаил проживет как-то
недолго, это чувствовалось еще в университете (Московском), где я и рой
сверстников помним его в 1880—1882 годах. Он был чрезвычайно мал ро-
стом, ни капли не похож на отца, — до глубокой противоположности'. —
но был, в сущности, очень похож на Владимира (философа), только являл
его некрасивое, как бы поблекшее и засыхающее, повторение. При малень-
кой, узенькой в плечах, сухой фигуре, он имел необычайно длинные, неопре-
деленного цвета волосы, которые образовали «копну» на голове, странную,
некрасивую, нелепую. У Владимира Соловьева были тоже замечательные
волосы,—но красиво легшие и как смоль черные; у Михаила — тоже, но
бесцветно, некрасиво и почти безобразно. Странный мальчик (он имел вид
совсем мальчика студентом, без всяких признаков бороды и усов), он точно
чувствовал и был огорчен своей «безвидностью»: и я совершенно не по-
мню его в другом положении, как стоящим где-нибудь в углу, молча и ни с
кем, или в проходе между партами, никуда не идущим и ниоткуда не уходя-
щим. Совершенно не было случая, чтобы он с кем-нибудь разговаривал.
Совершенно ни по чему не было видно, чтобы ему что-нибудь было нужно.
Каким образом такой человек мог жениться и еще в такой мере привязать к
себе жену (самоубийство в момент смерти мужа) — совершенно непости-
жимо. «Но значит, было что-нибудь». По виду он имел такой характер, как
будто это был утенок, поставленный на горячий песок, или цыпленок, по-
ставленный в воду (с краю). «Все не по мне, и не знаю, зачем я?» — «Что-
то такое со мной сделали, — а что — я не знаю. И от этого, что со мной
сделали, — я несчастен». Недоумение. Покорность. Бессилие. И — ум. Об
этом говорили, и мне, по крайней мере, писали близко знавшие его люди.
«Многодум, суждения которого безошибочны» (в одном письме ко мне, —
отнюдь не родственника его).
Ничего не писал. Был учителем гимназии. Жена его переводила. Никуда
не рвался. И умер рано, оставив мальчика, которого почему-то в разговорах и
письмах называли «Сережею» воспринявшие друзья его отца, и вообще дру-
зья и почитатели «литературного рода Соловьевых». Это был целый кру-
жок московских символистов-поэтов, между которыми выдавался Андрей
Белый,—сын знаменитого профессора математики в Московском универ-
ситете, Бугаева: Андрей Белый, В. Я. Брюсов и еще «множество, множество
их». Эллис, должно быть Бальтрушайтис, Борис Садовский*, вообще кру-
жок критико-литературного журнала «Весы», а раньше—должно быть,
* См. его «Русская Камена», — сборник историко-критических очерков о рус-
ских поэтах, вышедший в конце минувшего года, и сборники собственных стихов:
«Позднее утро» и «Полдень».
84
«Мира искусств», книгоиздательства «Мусагет» и «Скорпион», все «они»,
бесчисленные «они», все молодежь, шумная, надеющаяся, вся, конечно, влюб-
ленная, а во всяком случае в поре влюбления, дурачащаяся, озорничающая,
поющая, пишущая стихи, «разносящая всех» в критике,—вся, однако, очень
образованная, это нужно очень заметить, — следящая за всем в литературе,
все в литературе отвергающая: вот чад, дым, брызги и огонь, куда попал «Се-
режа Соловьев», и, конечно, он сам тотчас стал «петь» в этом хоре поющих,
непременно и неумолчно поющих птиц... Будущему историку литературы
будет в высшей степени интересно и привлекательно изучать этот кружок,
почти — кружки, то рассыпающиеся, то соединяющиеся, и, пожалуй, при-
влекательно не столько в смысле «оставленных произведений», сколько в
смысле живой личности, физиогномии. Ведь они занимались действительно
«всем и еще чем-нибудь», например занимались даже астрологией, и Андрей
Белый, проведши месяцы бессонных ночей, — составил свой «гороскоп»
(смотри его «Символизм»), «Гороскоп» себе составил и один из них, до того
теперь ушедший в солидность, что мне неловко называть его имя. Таким об-
разом они шевельнули астрологию, алхимию, они были «радием раньше от-
крытия радия» и, можно сказать, родились с «рентгеновским лучом» в глазу;
говорю это, конечно, в переносном смысле, — потому что именно это и со-
ставляет их физиогномию, душу и, может быть, судьбу... Величайшую их
привлекательность составляло постоянное оживление; постоянная нелепость;
постоянное беззаконие. Один рвался в монастырь, другой возился с прости-
тутками; оба—на «ты», друзья «беззаветные». Здесь было очень интересное
аскетическое течение,—давшее результат, определенный, хороший. Един-
ственные в Москве «настоящие монахи» были декаденты же, об этом я шеп-
ну будущему историку... Монахи, ушедшие в глубокий аскетизм, глубокое
отречение от мира, суеты, от славы и какой-либо известности, не говоря уже
о чем бы то ни было физически «скоромном»... И были на «ты», в дружбе, с
людьми величайте распущенными. Впрочем, «рен пеновскую» сторону в них
составляло то, что между ними вовсе не встречалось «людей», а только юно-
ши, какого бы они возраста ни были. Ничего «солидного»; определившего-
ся «общественного положения»; ничего обещающего будущего «члена
Г. Думы»... Или — «присяжного поверенного» или «профессора». Из них
мог выйти: поэт, преступник, поп. «Свернуть голову» или «сломить голо-
ву». .. «Пойти в монахи» или «возлюбить всех чужих жен»...
«Натура отдохнула» в Михаиле Сергеевиче Соловьеве: и сын его, — из
«Сережи» превратившийся в «Сергея Михайловича» (точное повторение
имени и отчества основателя литературного рода, маститого историка), де-
ятельно и быстро стал развертываться в поэта. Сперва он был под сильным
увлечением восторженно-аскетическою и восторженно-мистическою лири-
кою и философиею своего дяди; но позднее стал отходить от нее в сторону
более естественного порядка вещей. В минувшем году он издал большую
книгу стихотворений под говорящим заглавием: «Апрель», которую недур-
но в апреле месяце перечитывать России и русским.
85
Братья! Сестры! Облекайтесь в ризы светлые, венцы венчальные
И во сретение Христа теките по стезям зазеленевших трав.
Братья! Сестры! Слышите ли сладостное пение пасхальное
По лугам и пажитям, по хблмам диким и удолиям дубрав.
Со свещьми возженными в руках, лампадами златоелейными,
Звонкими кадилами грядут и мужи сильные, и старики.
Лапти юношей белеют райскими нетленными лилеями,
Словно жертвы кровь, на девушках повязанные алые платки.
Птичьи гласы, щекот славий, кукования зегзицы тихие
— Над ключами светлыми, в тени берез зеленых и плакучих верб.
Здравствуй, церковь верная, бежавшая от царствия Антихриста:
Излилася чаша гнева Божьего и жатву сжал Господний серп.
Руки крепкие, расставшиеся с косами, плугами, сохами,
Подымайте крест, крестьяне русские, возлюбленнейшие Христа.
Вся земля исполнена молитвами, рыданьями и вздохами,
Расцвели стихирами, псалмами девичьи румяные уста.
Стали храмами дубравы озаренные, а рощи — кельями,
От купальниц золотых восходит ладан, и гудит зеленый звон.
В укрепленье верным въяве зрится над березами и елями,
В пенье ангельском, на красных тучах, просиявший солнцем град Сион.
Брат с сестрою, — равный с равной,
Матери, отцы, сыны,
Перед церковью дубравной
Все мы кровью крещены.
Мы под тем же самым небом,
И, как в первый век земной,
Нивы золотятся хлебом,
И луга шумят травой.
Мать земля! Твой мы чада.
Ты ли нас не защитишь?
Горнего взыскуя града,
Мыв твою бежали тишь.
Геи, жатвами богатой,
Лоно влажно и черно.
Сколько лет в него оратай
Золотое клал зерно!
86
Нелегка его работа!
Православная земля,
Сколько слез и сколько пота
Выпили твои поля!
Вся Россия — хлеб и небо.
Сотни верст — одно и то ж:
Золотые волны хлеба,
Ветром зыблемая рожь.
Вся Россия—только горе:
Стонет богатырь-силач,
И в веках гудит как море
Детский вопль и женский плач.
Вся Россия—лишь страданье,
Ветра стон в ветвях берез.
Но из крови и рыданья
Вырастает ожиданье
Царства Твоего, Христос.
(«Сион грядущий» )
Тут много «вообще соловьевского»: богословие—от Владимира, чувство
широкой вековой Руси—от деда-историка; греческая «Гея» («Земля»)—от
декадентов; молодость, зов в зеленые дубравы — от зеленого своего возра-
ста. Но все соединено в свое, все — не подражательно, а лишь несет в себе
переливы разных течений рода, генерации.
Теперь много говорят о «захудании» Руси. Корень всякого захудания—в
родовом захудании. Вот отчего я остановился особенно любовно на Соловьевых
как «литературном роде»'. сколько таланта, разнообразия'. Как «род» богаче еди-
ноличного «родоначальника», хотя им и был знаменитый историк, т. е. лич-
ность очень значительная. Но «род», «дерево»—всегда больше зерна, основа-
ния. Так и должно быть, так есть, в этом смысл истории, т. е. расширения, раз-
движения. «Шире дорогу», «давай простора»—вот лозунг генераций. Наши
русские генерации не уступят талантом никаким другим генерациям: только
они не так «по-канцелярски» текут, как там: деды, дети, внуки—ьсескопидомы,
откладывают в копилку, и вырастает миллиардер или Ротшильд. У нас «папаша»
копит, сын «покровительствует искусству» и... нимфам; внучка строит больни-
цу, правнук уходит в монастырь;—а еще братец, другой правнук, «остальное»
расшибает в Монако. «Все равно ничего не вышло»... Но незаметно вышло мно-
гое: вьппилась полоска узорной Руси, и татарской, и парижской, великолепной и
«невозможной», которую мы любим и ненавидим, клянем и благословляем. Но
выше всех наших «треволнений» ее в тишине небесной благословляет Бог...
Ломка на глаз Русь: вся ломается. А на самом деле вся перестраивается и
вечно растет. Вот наше «невечное» и «неудачное»...
87
АННА ПАВЛОВНА ФИЛОСОФОВА
(К 50-летию ее общественной деятельности)
Обстоятельства не допустили меня быть на юбилее мил ой и доброй А нны
Павловны Философовой, отпразднованном 17 апреля кружком петербургс-
ких женщин в помещении «Русского женского взаимноблаготворительного
общества».
Но мне хочется, и неудержимо хочется, сказать немного слов о живом
образе и живой душе этой женщины. Сказать о ней России, сказать стар-
цам-сверстникам, сказать юным в поучение, в пример.
Она не оставит слов, «памяток», сочинений. Она не писательница, хотя
бы в количестве немногих страниц, даже строк.
Суть ее, сколько я понимаю, заключается в том, что она каким-то чу-
дом или «игрою природы» сохранила в себе душу своих 22—27 лет, — эту
бесконечно живую душу. Как это произошло или как вообще это может
происходить — я не понимаю. Я только описываю. Жизнь не нанесла на
нее никакого хлама и не внесла в нее никакого длинного и мучительного
«скребущего» огорчения. Но она—не «воспоминательница». Отнюдь нет,
и археология ей чужда, даже и археология тех 60-х годов, которым принад-
лежит центр ее деятельности. Она вся — в современном; но опять без де-
ланности, без принуждения. Она как будто живет «вчера» и «сегодня»: и
странно и страшно, а наконец, и великолепно подумать, что это «вот было
вчера», «вот произойдет сегодня», слилось в непрерывную ленту пятиде-
сяти лет!!!
Чудо. Не понимаю, как могло быть. Но есть.
Она так же надеется, так же верит, так же любит... Она бесконечно лю-
бит нашу русскую землю, нашу историю, деревни, село, свой помещичий
быт. Случайно раз я попал на пришествие с молебном к ней старого свя-
щенника, который «вот 30 лет все служит у нас молебны»: как она была
хороша в этой русской молитве. И вся она—русская. Ничего «иностранно-
го» в ней нет. Взгляды ее, речи ее, вздохи ее, изредка—слезы, старческие,
слабые, милые слезы, — все это такое русское.
И все это «русское в себе» она бросила в пыл молодости, движения, в
вечное «вперед!»—уже не себя, а других. «Вперед, господа, вперед! К луч-
шему! к лучшему!» Может быть, и не совсем ясно, к чему именно. Бог награ-
дил ее неясностью, неотчетливостью; «считание» и «счет», «аршин» и «ме-
рянье»—вне ее природы. Она родилась до аршина и до таблицы умножения.
В элиам-то, почти главное в этом — и ее тайна, загадка и чудо. В ней есть
вечная молодость, как «особый параграф» ее существа, и с этою ее странной
«молодостью» сливается та доля «молоденького» и вечно «молоденького»,
чтб живет в каждом человеке, не умирает ни в ком никогда, но во всех очень
рано погребается под сором жизни, под усталостью, под службой, самолю-
бием, гордостью (все ужасно старые и ужасно скверные качества).
88
С Анной Павловной — все молодеют. Вот ее сущность; вот ее дело
жизни и историческое призвание.
И она слилась с самым молодым, — по замыслу, по ожиданию, — мо-
ментом нашей истории: с нашими «60-ми годами». В них надо различать
то, что «хотелось» и чтб «случилось потом». Со «что случилось потом» —
она нисколько не слилась; дивное рождение до «аршина» и до «таблицы
умножения» сделало то, что она и к «потом» не стала во враждебное отно-
шение: просто не заметила его или не поняла его. Во всяком случае она
ничего не осуждала. Но положительною стороною ее души был чистей-
ший первый порыв 60-х годов: просто «учиться! всем учиться!». И — «впе-
ред! за доброй и прекрасной царской семьей (Александр II, вел. кн. Елена
Павловна),—которая впереди всех распустила крылья, снялась со старого
гнезда и ринулась вперед, в голубое небо»...
Как жаворонки по весне... Хорошо, что пришли на ум. И красиво было
смотреть тогда... И благословляем мы все теперь старую песнь 70-летнего
весеннего, все еще весеннего, жаворонка... Пусть будут и грядущие ее дни
счастливы и спокойны. Много радости она принесла земле своей, и эта земля
никогда не забудет ее прекрасный весенний лёт.
ОБ ОДНОМ ЗАБЫТОМ ЧЕЛОВЕКЕ
(Пропущенный юбилей)
2 апреля этого года исполнилось сорокалетие со дня кончины замечатель-
ного русского человека, архимандрита Феодора Бухарева. Это была выда-
ющаяся личность в русской церкви, в русском обществе, в истории русской
мысли. Некоторые его выдающиеся рассуждения, как-то: «О миротворении»
и «О православии в отношении к современности», были переизданы в 1906 г.
петербур1ским об шестом религиозно-нравственного просвещения; биогра-
фические данные о нем собирал и печатал профессор Казанской духовной
академии Знаменский; когда-то Погодин выражался, что в архимандрите
Феодоре он встретил, наряду с о. Матвеем Ржевским (но в совершенно про-
тивоположном духе), личность самого высокого религиозного настроения,
какую он видел за всю свою жизнь. Митрополит Филарет любил его и по-
кровительствовал ему с самой его юности. И, несмотря на все эти внутрен-
ние условия и внешние обстоятельства, жизнь, служба и мировоззрение его
не «опочили тихим сном»... Вот как объясняет это один из почитателей его
памяти, священник А. П. Устьинский:
«Окончив курс в Московской духовной академии, Бухарев сразу
же принял монашество. Митрополит Филарет, хотя и расположенный к
нему, смутился своеобразием его мышления, всегда пылкого, никогда
не считающегося с обстановкою службы и установленными шаблона-
ми богословского изложения, и перевел его из осторожности в Казан-
89
скую духовную академию. Бескорыстный аскет и младенчески чистая
душа, арх. Феодор вызвал здесь, как вызывал и ранее в Москве, востор-
женное отношение к себе юных студентов-учеников. Через несколько
лет он передвинут был в Петербург и назначен духовным цензором. Здесь
он начал печатать свое «Толкование на Апокалипсис», но по проискам
известного Аскоченского печатание это было приостановлено и самое
толкование его запрещено. Это событие так поразило наивного, чисто-
сердечного и уверенного в своем правомыслии отца Феодора, что он не
счел возможным оставаться далее в рядах администрирующего в церк-
ви монашества и снял с себя как сан архимандрита, так и монашеские
обеты. После сего он вступил в законный брак, прожил около восьми
лет и помер в 1871 году, на 47-м году жизни. Супруга его, Анна Серге-
евна, и доселе проживает в гор. Переславле, Владимирской губернии.
Главною основною идеею, которую он проводил во всех своих сочине-
ниях, была мысль о необходимости благодать и истину Христову рас-
пространять на все стороны, на все слои человеческой жизни, семей-
ной, общественной, политической. В наше время, когда мы имеем под
руками множество сочинений Вл. С. Соловьева, Н. Н. Неплюева и по-
добных, эта мысль для нас не новость, но первым ее провозгласил арх.
Феодор, и это з начале пятидесятых годов, когда у нас царил сухой и
неподатливый служебный формализм, совершенно не считающийся с
жизнью, совершенно, наконец, с нею не взаимодействующий. Архиман-
дрит Феодор поистине послужил тем «упавшим на землю» и потому,
конечно, ото всех забытым зерном, из которого на самом деле выросло
все современное нам пророческое направление русской мысли, на на-
ших глазах приносящее такой обильный, такой роскошный, заставляю-
щий истинно радоваться духовный плод. Правоту своих воззрений Бу-
харев хотел практически подтвердить своей собственной жизнью: сняв
с себя монашество и вступив в законный брак, он сбивал монашескую
монополию на путь спасения только в безбрачии. В наши дни, когда
повыше всех монахов вознесся светоч Иоанна Кронштадтского (писано
в 1901 г.), т. е. лица из белого духовенства, простого священника и же-
натого человека, — тезис отца Феодора уже для всех оправдан».
Позднее тот же свящ. Устьинский договаривал: «Все, что высказывал в
своих печатных сочинениях и в устных беседах о. арх. Феодор, совершен-
ная истина. Но неточность его состояла в том, что высказываемое им он
относил не к той Ипостаси Пресвятой Троицы, к какой следует. Он чуял
истину, но не смог определить ее географию. Тем не менее его громадная
заслуга состоит в том, что он всю область бытия и человеческой жизни и
деятельности подвел под один покров религии».
Сделать это, конечно, можно двояко: сжимая, сдавливая, стискивая жизнь.
Это—средние века, это католичество, это монашество. «Лишнее» в жизни,
не умещавшееся за церковный «переплет», сжигалось в аутодафе. Но не та-
ково наше сельское, немудрящее православие: спазма делается в горле, когда
нужно что-нибудь сжечь.—«Лучше я погожу», «лучше я помолчу». Так оно
90
стояло до XIX века. Но жизнь все росла, развертывалась. Шли реформы
60-х годов. «Как же православие?» Архимандрит Феодор первый ответил и в
нашем простом русском духе, истинно историческом. Он начал пантеизиро-
вать православие. «Пантеизм»—неприятное слово, уже потому, что иност-
ранное. Но мысль его содержится уже в православном обычае—кропить
святою водою, т. е. церковною, домашний скот, — как и служить молебны о
дожде. Православие не враждебно природе; православие «везде видит Бога»
(мужики, паче того бабы; Лесков, Достоевский; Л. Толстой до перелома «ми-
ровоззрения»), Но все это не имело, так сказать, семинарского и академичес-
кого выражения; фразировки, сказывания; все это был «обычай сел», а не
доктрина схоластики. Арх. Феодор и дал первый этим народным залежам
духа богословское оправдание, «догматическое» изъяснение. Отсюда напа-
дение на него Аскоченского и растерянность современных ему богословов,
просто «ненашедшихся». На самом деле арх. Феодор «все спасал» в религии,
говоря, что «современность» с нею не расходится: новая техника, прогресс,
реформы, просвещение, светские школы. «Все в моих объятиях»,—говорил
любящий, кроткий, тихий (по портрету судя) архимандрит-,монах. — «Как ты
смеешь: ведь ты монах, отрекся от всего», — завопили кругом, завопил не
один Аскоченский. «Монашество не отречение, а примирение»,—ответил
тихий инок. «Но если вы так понимаете монашество, как вражду ко всему,
вражду к самому человеку и его счастью на земле, вражду к его «лучше», то
я предпочитаю уже лучше снять монашество, нежели возненавидеть мир».
И снял. И исполнил.
Это историческая заслуга, великая.
Монашество само теперь глубоко меняется, если уже не изменилось:
оно есть не суровая борьба с миром, но тихая молитва о мире же, но в
стороне от мира, для тишины, для «лучше» в молитве. Это совсем другое
дело. Само монашество пантеизируется. Оно не тонкая и горячая стрела,
все пронзающая и кровенящаяся; это было, но это отходит. Монашество
скорее разливается теперь в озеро, тихое лесное озеро, в котором отража-
ются звезды, отражаются леса, пьют из него лесные звери... Таков образ
инока, нашего русского инока, который дал св. Серафим Саровский, ниче-
му не враждебный, все благословляющий. Вообще «каковы,мь/, таковы и
небеса»-, важнее догматов перемена в духе времен... Этот «дух» смягчился;
этот «дух» растворился... В него именно вошла влага, влажное начало
мира... Еще, и по Фалесу, «вода родила богов и людей». Огонь—палит,
жжет и уничтожает. Это католицизм, Бог с ним. Наши поля широкие, наши
леса прохладные; грибком попахивает, мхом, папоротником. Ну, какое тут
«аутодафе». На ум не придет; наши раскольники по лесам и «иконки» рас-
ставили. «Кто-нибудь, неведомый человек, пройдет и помолится». Все это,
сумма этого, и есть пантеизм, или, уклоняясь от греков и возвращаясь к
славизмам, — «Божеское все и во всем». Не забудем же того, кто хорошо
послужил этому, даже до страдания, до колючек терний на голове, архи-
мандрита Феодора Бухарева. Вечная ему память и мирный покой в земле...
91
ОКОНЧАНИЕ «ПИСЕМ СОЛОВЬЕВА»
Вышел третий и последний том «мгновенных слов» Владимира Серг. Соло-
вьева, его записочек, писем, телеграмм, шуток, стихов, каламбуров и глубо-
ких изречений, какие он бросал в течение жизни... не в корзину, а в карманы
друзей своих, просто знакомых и даже едва знакомых людей, с которыми его
сталкивала жизнь и деятельность; и эти письма они сберегли; а друг его и
благоговейный хранитель его памяти, профессор философии Э. Л. Радлов,
все это собрал и тщательно издал. Россия не может не быть благодарна Рад-
лову. В трех томах живая и конкретная личность Соловьева встает с такой
ощутительностью, что мне, по крайней мере, показалось при чтении перво-
го тома, будто Соловьев разговаривает у меня в комнате с другими людьми,
и что он вовсе и не умирал... Происходит такая живость оттого именно, что
он, кажется, никогда не «засаживался» за письма, а писал свои писульки «на
ходу», урывком: и сумма их сыграла роль живой фотографии. Исключе-
ния, может быть, составляют его письма к важным католическим особам,
в Загреб или в Париж; тут он «садился» и «сочинял»; но, как бы эти пись-
ма ни были важны в едогматическом, философском и исповедном» смыс-
ле, для живой личности покойного они ничего не дают или дают мало.
Покойный обладал зеркальностью души и всегда при разговоре отражал
несколько в себе лицо другого, горящего, собеседника. Напротив, в запис-
ках «на ходу» он никого не отражал, потому что торопился; и в них он
говорит сам, и говорит один.
Один не очень остроумный, но, говорят, чистосердечный немец из Штут-
гардта сказал в большом кружке писателей по поводу собранных Радловым
писем, что «во всей русской литературе он не знает большего циника, чем
Соловьев, — и именно это открылось в его письмах». Поводом к этому,
без сомнения, послужил тон непрерывной шутливости, постоянного ост-
роумия, с которым Соловьев говорил о всех вещах — о предметах религии
и философии, о друзьях и врагах, о родине и загранице. Обо всем. Откуда,
в самом деле, эта шутка? Она постоянна у Соловьева. Шуткою мы облегча-
ем жизнь. Мы шутим, когда нам трудно или что-нибудь «невозможно». Ра-
зумеется, когда при этом есть и врожденный дар шутки. Но «врожденно»
цинизма не появляется, это—само собою разумеется. Ибо «цинизм» есть
«насмешка над жизнью», и откуда же она возьмется, когда жизнь неизвест-
на и даже не начата? Талант шутки есть преизбыточество ума, фантазии,
живости, смешливых сопоставлений, т. е. очень быстрой, почти моменталь-
ной способности комбинировать по-новому предметы, слова и мысли. Этот
врожденный дар был у Соловьева, о нем говорят все его «писульки», эта
почти трехтомная игра слов. Но немец протянул отсюдадо «цинизма»: меж-
ду тем врожденным даром шутки Соловьев облегчал свое бремя жизни, явно
очень тяжелое для него по множеству внутренних и внешних причин; и
утешал или рассеивал себя при постоянных своих, в сущности, неуспехах,
неудачах. Примерный, образцовый профессор по всем задаткам, по подго-
92
товке в университете и в духовной академии, — он в начале же своей дея-
тельности был признан «невозможным и недопустимым на кафедре» в ка-
ком бы то ни было учебном заведении. Потом пошло дело еще хуже: усили-
ями Победоносцева были признаны «вредными вообще всякие его сочине-
ния по богословию», т. е. не только сущие, но и будущие; и даны были
соответствующие инструкции по тогдашней цензуре, а духовным журна-
лам просто было предписано «не печатать». Это было вполне отвратитель-
но, но нужно заметить, что такое вполне отвратительное распоряжение было
дано вполне чистым человеком. Просто — Победоносцев был так убежден.
«Все, что пишет Соловьев,—только вредно для России», — говорил он и
устно; и соответственно распорядился. Радикализм, страсть и «коренное
решение вопроса». Огонь встретился с огнем, и сильнейший попалил сла-
бейший. В воспоминаниях «Исторического Вестника» было как-то напеча-
тано, что в 1905 г. радикалы, овладев почтою в каком-то уезде, по Волге,
перестали «пересылать по почте» все консервативные и средние журналы
и газеты, а оставляли их лежать, говоря: «Мы не заинтересованы в акку-
ратном доставлении сих газет». Пусть сами «доползают»... И Победонос-
цев, делая распоряжение по журналам своего ведомства, вероятно, тоже
думал: «Пусть Соловьев на ручной машине сам печатает свои статьи; мы,
духовные, и вообще Россия, в этом печатании не заинтересованы». Фило-
софу во всяком случае приходилось тяжело...
И он шутил и шутил, горькими своими шутками.
Конечно, цинизма в нем и капли не было. На всем протяжении трех то-
мов нас кольнуло морально следующее. Вышла какая-то книга с предисло-
вием Соловьева. Журнал «Вопросы философии и психологии», где все ра-
ботали друзья Соловьева, бывшие с ним все на «ты», дал неблагоприятный
отзыв о книге, однако без малейшего упоминания о предисловии Соловье-
ва; неблагоприятный и притом насмешливый. Казалось бы, вольному—
воля: не могут же все любить то, что нравится Соловьеву. Но Соловьев,
хотя и был «друг своих друзей», — вдруг в этом случае обнаружил что-то
вроде их начальника, господина, вообще отнюдь не «равного с равными»:
он пригрозил полным своим отстранением от журнала, если означенная
рецензия не будет вынута (вырезана) из отпечатанной уже книжки, что на-
носило и материальный ущерб очень бедному изданию, и задерживало книж-
ку, и было оскорбительно для рецензента, наконец, оскорбительно и для
всей редакции. Весь тон был «диктования условий»... (См. его письмо к
Н. Я. Гроту.) Соловьев знал, что он есть первая фигура в философском жур-
нале, что «разойтись» с ним для журнала невозможно. Но он не понял или
никогда не чувствовал, что такое положение диктует изощренную деликат-
ность, уступчивость, «не гоньбу» даже и за бестактностью или кой-какой
обидой. Но он был поистине «на ты», как старший в артели с подручными;
он был внутри страшно горд и отнюдь «равным» себя ни с кем не считал.
Таким образом, «товарищество» его с «товарищами» было мнимое. И вот
тут хочется видеть причину его жизненных неудач, и причину притом ре-
93
лигиозную, настоящую. «Гордым Бог противится» — поговорка библейс-
кая и, кажется, русская народная. Над всеми «начинаниями» Соловьева не
было Божия благословения,—тихого, хорошего. Не было им и человечес-
кого долгого сочувствия. Он был так талантлив, что сразу все вставали на-
встречу ему... Катков, Ив. С. Аксаков, славянофилы и западники, — все
перед ним именно «вставали», когда он среди них появлялся. Достаточно
сказать, что Катков напечатал в своем «Русск. Вестнике», где тогда печата-
лись романы Достоевского и Толстого, его докторскую диссертацию —
«Критику отвлеченных начал»: вещь, совершенно самоубийственная для
журнала!! Таким образом, «все» были «готовы на все»... Но он был именно
одинок, а не «друг своих друзей». Правда, он как «зеркало»-то отражал со-
беседника: но за стеклом этого зеркала уже стояло или дерево, или пустое
пространство, или что-то. В этом «что-то» был и гений, и одушевление, и
высший полет, но ко всему была примешана огромная уединенная гордость,
уже ни с кем не считающаяся, никого не уважающая... Это шло бы к Напо-
леону, к Скобелеву. Им она была нужна, у них играла роль. Но зачем она
философу? Или—«Божьему человеку»? Незачем. И большинство, притом
не худших людей, оставляли его или даже делались его противниками. От-
сюда его судьба, довольно безрадостная. Он перерезал нашу «русскую ат-
мосферу», как пылающая, пугающая, необыкновенная комета; и — исчеза-
ющая с горизонта. Но при всем почитании его никак нельзя поместить его
в то высокое и вечное созвездие, которое протянула над землею история
философии. В нем не было той благородной тусклости лица, какую мы на-
ходим у всех философов, от Фалеса до Канта и Дж. Ст. Милля, «о жизни
которых что рассказать?». Есть великие качества в большой известности.
Но есть тоже великие качества в совершенной безызвестности. Философия
роднее второму. Почему-то роднее... Вот этого благородного «матового,
спокойного» цвета мы не читаем на лице Соловьева: который кипел, свер-
кал, блестел, может быть, как бриллиант — и все-таки как не философ.
Охотно соглашаемся, что он был «более чем философ»: но только духа фи-
лософа (при огромных философских способностях) в нем совершенно не
было. Совершенно другие все признаки, весь «абрис», весь «паспорт»...
«По этому виду,—сказал бы перевозчик Харон, — можно проехать в Цар-
ство Небесное, во дворцы, в общество, аристократию, к поэтам, к католи-
кам. Но где Платон и Кант, Малебранш и Спиноза — туда по приметам
этого паспорта дороги нет».
ТАИНСТВЕННАЯ ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА
Читатели, конечно, знают жизнь и людей больше, чем писатели, так как
живут не среди книг и печатных листов, не между типографией, редак-
цией и книжным магазином, образующими стены общей литературной
тюрьмы и маленьких личных писательских «одиночек»... Так-то так...
94
Но вследствие особенностей труда, занятий и приобретаемого значения
писателю иногда приходится натолкнуться на такие явления или встре-
титься с такими людьми, каких обыкновенный обыватель иногда всю
жизнь не встретит...
Весь вечер я в задумчивости от встречи, которая с утра раздражила и
рассмешила меня. Но передам все по порядку. Накануне, в завернутом
свертке, мне была оставлена кипа брошюр и книжек, которые я, как и все
печатное, с ненавистью отодвинул в сторону и покрыл тоже «новыми пе-
чатными произведениями», со всех сторон присылаемыми по почте: 1) о
спасении России; 2) о франкмасонстве; 3) о неверии или 4) излишней
вере... Ах, писатели, писатели: и болит о них душа, но, в конце концов, и
надоедают они. Я понимаю, и нельзя не понять, до какой степени автору,
«выступившему с книгой», необходим отзыв печати: без него, вернее, без
нескольких таких отзывов книги как бы не существует и автор как бы не
рождался еще... Никто этой книги не купит, и никто об этом авторе не
узнает. Вот почему хорошая и исчерпывающая библиография есть обя-
занность культурной страны, великая ее обязанность перед великим в
сущности трудолюбием, а очень часто и перед талантом, ученостью, об-
разованием, благородством настоящих книжных людей, тонущих и зады-
хающихся среди торговой книжной бесчестности, которая тоже есть, ко-
торая захватила себе темного, малообразованного читателя и огромной
массой своей и огромной своей наглостью не допускает до него хорошей
книги... Вот исчерпывающая библиография должна бы все это разделить
и расчистить; к сожалению, и она, т. е. душа всего дела, чуть ли тоже не
захвачена в цепкие руки тех же торговцев «книжным товаром», заинтере-
сованных не в хорошей книге, а в сбыте всякой книги, которая отпеча-
тана и на нее затрачен капитал. Прелестная благовоспитанная «Аза» —
драма из александрийской жизни, — г. Шульговского, отпечатанная года
два назад «самим автором», осталась никому не известною, а неестествен-
но-безграмотный роман на ту же историческую тему «Куртизанка Сонни-
ка», в каком-то еврейско-цыганском издании книгоиздательства «Сфинкс»,
мечется в глаза размалеванной обложкою и, конечно, поймал читателя...
Ах, кажется, есть не только борьба между «трудом и капиталом», но и
между «талантом и бесчестностью».
Но библиографами должны быть молодые люди, за это дело решитель-
но не может браться старый писатель, ясно видящий, что ему осталось жить
гораздо меньше лет, чем сколько он должен затратить на «приведение к
планомерному концу» уже начатых и доведенных до 2/з, до 9/ютрудов сво-
их. .. Молодые, энергичные, любознательные писатели, приват-доценты,
вообще «кончающие курс студенты» — вот кто естественно должен бы
выдвинуться в первый ряд библиографии и маленькой критики, отделяя
просто трудолюбивым чтением и самыми коротенькими rdsumd «овец» от
«козлищ» печатного станка...
95
* * *
После тихого, деликатного звонка, но нисколько не робкого, в кабинет во-
шла старушка, худенькая, красиво одетая, бледная...
—Я принесла вам вчера мои книги...
— Извините, я их не буду читать.
Изумление. Немного грусти, но без негодования.
—Отчего? Они так важны!
Я указал на серию присланных по почте книг, которые лежали на столе
неразрезанные:
— Если бы я стал только разрезать книги, авторы которых умоляют об
отзыве, я не мог бы уже ни строчки написать в день сам. А писательство —
и песнь моя, и хлеб мой. Не стыжусь в нем «хлеба» и безумно люблю
«песнь». Я запретил себе что-нибудь читать, чтобы иметь возможность
лет в пять остающейся жизни... ну, хоть издать поразительного интереса
и осмысленности египетские рисунки, столько лет собиравшиеся мною и
которые вот все лежат в сделанном от руки атласе... Да и мало ли еще
другого, задуманного, взлелеянного! Ах, жить, очевидно, так мало, а ра-
боты— гора!!!
Я смотрел на нее с ненавистью: «У, враг мой! лютый враг!» Это она
похищала у меня время.
Но она была тиха. Только тихо скорбь лилась из ее лица. Мне стало ее
ужасно жалко.
— Послушайте, я не обманываюсь в фамилии: ведь вы сочинили книгу...
—«Подарок молодым хозяйкам». Тридцать лет назад.
Боже мой, передо мной стоит «баба-повариха» всей России: называю
ее так стихом Пушкина из «Царя Салтана». Вот не ожидал: «баба-повари-
ха» должна быть естественно грубая, толстая, в засаленном платье, с крас-
ными руками. Между тем передо мною стоит старосветская помещица из
Гоголя, из его ранней поэтической поры творчества. Особенно мне нрави-
лось, что она так молчалива.
—Так я ошиблась и вам мои книги даже не нужны?
— Не нужны.
— Очень жаль.
И она стала прощаться, болезненно улыбаясь. Я встал. Должно быть,
лицо мое выражало участие, и она сказала:
— Как это ужасно: никто не хочет выслушать! Если бы люди, писатели,
общество были внимательнее к словам пророчеств, записанных в точных
словах Библии, — и она стала, с удивительным знанием и точностью, при-
водить места из Священного Писания, — Россию не постигли бы несчас-
тия последних лет... Но слепота всеобщая: и ее ждут еще большие несчас-
тия. .. Никто не хочет вдуматься в ход событий, в закон параллелизма их, в
«вечные повторения» на земле...
Я ушам не верил: «баба-повариха» была в то же время Кассандрой!
Хотя она говорила почти шепотом, но нельзя пересказать ее одушевления.
96
Но меня еще больше поразило то, что это был светский, отчетливый, почти
научный шепот, нисколько не «заскорузлый»... такой ветхой, милой ста-
рушки «из Гоголя».
Что-то речь коснулась Победоносцева, по моей или по ее инициативе,
не помню. Она быстро заговорила:
— Разве вы не помните слов Иеремии: «тьма обуяла нашими книжни-
ками». .. Я путаю слова и, может быть, имя пророка: она сказала строки три
такого словесного великолепия, такого чекана, что я, как немножко литера-
тор, окаменел от восхищения. «Вот-вот, — продолжала она, — Победонос-
цев и был этим. Он был учен, талантлив, соглашаюсь, — честен: но не дру-
гой кто, а он привел Россию чуть не к гибели, и оттого, что «не повиновался
воле Божией».
Слушаю, дивлюсь, не понимаю. А на письменном столе меня ждет работа.
— Идите, идите, — сказал я ей тихо. — Интересно, но некогда. Не су-
дите меня, что я эгоист. Но я умру через три недели, если стану разбирать
«присланные мне книги».
Я ей помог накинуть легкое пальто. Повторяю, она была прекрасно оде-
та. Дверь растворилась, но я удержал ее за руку.
— Извините: сколько вам лет? Вы всем интересуетесь, и в словах ва-
ших столько ясности.
— Восемьдесят...
— Восемьдесят!!! Но вам можно дать только шестьдесят, ну, шестьде-
сят пять.
Милая, тихая улыбка.
— У вас есть дети?
— Все сыновья. Дочь была одна, но умерла двух лет. Старший уже вы-
шел в отставку, генералом. Всего было десять детей.
— И вы все волнуетесь? Сын «в отставке», верно, уж успокоился: и
бабушка, конечно, множества внучат, пылает пылом молодости, каким я не
умею пылать. Ну, живуча же натура русская: и... «баба-повариха» на весь
свет: супы, пирожки, варенья, соленья...
—Да. Между книгами моими я составила особенную: «Стол для духо-
венства», — ведь у них особый стол, — и Победоносцев эту мою книгу
очень одобрил... Говорил, что ему нравится даже дух ее, как она написа-
на. .. И все-таки он вредный человек для России: для чего он не слушал
пророчеств, так явных.
— Идите, идите...
Затворив дверь, я вернулся к столу и пересмотрел заглавия вчера при-
несенных книжек:
«Русской женщине о великом значении нашего времени и о будущнос-
ти сынов ее».
«Опыт истолкования пророчества Исайи».
«Ветхозаветная история Иакова и семьи его как прообраз христианства
новозаветного».
97
«Голос русской женщины. По поводу государственного и духовно-ре-
лигиозно-нравственного возрождения России».
«Тайна горя и смут нашего времени».
«Монархизм, национализм и православие».
«Значение обрядностей таинств крещения и миропомазания».
«Краткое толкование некоторых выдающихся текстов православной па-
нихиды и чина церковного отпевания».
«По поводу недоразумений относительно проституции».
Ух... устал переписывать одни заглавия: еще пять брошюрок, книжек и
проч., изданных в последние три года, г-жою Е. Молоховец, творцом «По-
дарка молодым хозяйкам» и «Простой общедоступной кухни».
Что это, фантасмагория? Несбыточность, невероятное?
Все это написала женщина в 80 лет! Забыл сказать: уже затворяя дверь,
она проговорила совсем грустно:
— Вы по крайней мере прочтите хоть одну мою брошюру: «Якорь спа-
сения»...
Не знаю, что за книга: но не интересно ли и не великолепно ли, нако-
нец, что «якорь спасения» для России кидает 80-летняя женщина!!! Ну, та-
кие страны, с такими «гражданками», не вымирают. Я пишу эти строки,
чтобы сказать очень многим, и особенно сказать молодым меланхоликам,
что петь «панихиды» нашей России рано.
СКОРО ЛИ УЛУЧШЕНО БУДЕТ
ПОЛОЖЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ?
В нашей государственной машине есть одна сторона, не столько даже пе-
чальная, сколько постыдная. Всякий раз, когда какому-нибудь учрежде-
нию, а тем паче лицу, стоящему во главе его, угрожает какая-нибудь не-
приятность, разоблачение, уличение, —делаются быстрые распоряжения,
чтобы предупредить эту «историю»... Перед «историей» в этом нищен-
ском смысле бегут самые неустрашимые администраторы, самые храбрые
министры. Всякий пасует перед возможностью увидеть накинутым на плечи
свой грязный плащ, — в виде пересудов общества и шума печати. Хотя бы
«проносить на себе» этот плащ и пришлось всего несколько дней или не-
дель, пока «история» уляжется, пока все будет разъяснено и оправдано.
Повторяем, во всех подобных случаях, часто с ничтожным содержанием,
без всякого государственного значения и народного интереса, работа в ми-
нистерстве кипит, — все «сношения» производятся необыкновенно быст-
ро, «докладные записки» не залеживаются, «резолюции» министров не за-
держиваются...
Да, когда есть личная нужда; когда грязный плащ угрожает высокопо-
ставленным плечам... Но уберите эти два личные мотива, и вы найдете
государственную деятельность в какой-то вечной прострации... Ничего не
98
делается, ничего не шевелится; колеса «делопроизводства» медленно по-
вертываются, и из этого «делопроизводства» ничего осязательного не по-
лучается. .. Получается впечатление ворочанья бумаг, без дела и результа-
та. И это даже в тех случаях, когда замешан в дело самый высокий государ-
ственный интерес, самая горячая народная нужда. Без «подкалывания», как
выражаются хулиганы в темных закоулках, у нас дела не идут. И все «уп-
равление» у нас носит личный характер барского или помещичьего управ-
ления, где «барин-министр» лениво дремлет на ворохах бумаг, пока его что-
нибудь не «подкалывает». «Подкалывают»—и тогда он вскакивает и «ис-
полняет».
Все это очень мало государственно.
Посмотрите, как кипит работа около землевладения: худо ли, хорошо
ли, много ли, мало ли, но переменилась форма землевладения в России, т. е.
уклад веков, дело неизмеримой трудности, сложности, и все это совершено
около самого недвижного класса населения — крестьянства! А отчего?
«Подколола» революция, аграрные беспорядки, шатания и угрозы около
«земли». Мы приводим в пример эту массивную работу, чтобы указать, —
что и с нею государство справилось, когда пришла нужда. Что на самом
деле у государства — колоссальные силы, колоссальные возможности: соб-
ственное удовольствие, даже оскорбительное и мучительное для учителей!!!
Представьте, есть нечего (при большой семье), а перед носом у них рассуж-
дают, пишут и говорят, «в министерстве» и в печати, как этот учитель гим-
назии, с исхудавшей в заботах женою и пятерыми бледными, бескровными
детьми, будет «со временем сыт и даже повезет детей на дачу». Мука и
насмешка... И она тянется годы. Но почему?
А чем же лично заинтересована центральная организация министер-
ства просвещения в положении учителей средней школы? Что угрожает
министру? Составляет ему неприятность в этом деле? «Истории», он зна-
ет, никакой из-за учителей, «учительниц» не поднимется. Не поднимется
не только никогда и никакого шума, но и «петиций» ему не пошлют, ни
адресов, ничего. Только, может быть, в газеты пришлют две-три статейки в
год эти учителя, прося скрыть фамилию, — и притом статейки робкие и
скромные. Никто и не обратит внимания, и, во всяком случае, это—ровно
ничего. Министерству в его центральных, «правительствующих» органах
ничего не угрожает; и оно, медленно вороша «бумаги», год за годом откла-
дывает дело «в долгий ящик». Даже когда, по последнему сообщению, ко-
миссия при Г. Думе захотела несколько приподнять те меры улучшения,
которые как проект министерство внесло в Г. Думу, оно вдруг забеспокои-
лось, хватит ли на это средств в министерстве финансов и что на такое по-
вышение оно, министерство, не может согласиться, предварительно не по-
лучив ответа и согласия от министра финансов!! Значит,—опять «в долгий
ящик»... Еще не дело, а только проект, — но и его в «долгий ящик».
Да, «адреса» и «петиции», конечно, не грозят, о «забастовках» нечего и
думать: но от нищенского положения учителей личный состав их не может
99
не понижаться, ибо минует учительство и уходит в другие сферы деятель-
ности все талантливое, энергичное, даровитое. Может быть, и это мини-
стерству ничего не значит? Но это много значит для России, которая пред-
почитала бы видеть хороший состав учителей около детей своих, чем хоро-
шо расшитые мундиры у чиновников возле Чернышева моста. При ясном
понимании дела давно следовало бы увидеть, что удовлетворительное по-
ложение учителей гимназии — есть честь для министерства; и, vice-versa:
что невыносимое их положение, невыносимое особенно последние 5—6 лет,
когда цены на мясо и на фабрикаты поднялись на 30 процентов,—есть для
министерства затяжное бесчестие.
НЕВИДИМЫЕ ХРАНИТЕЛИ ЦЕРКВИ
(Памяти Н. Р. Щербовой)
Неожиданно скончалась, недолго и тяжко проболев, сотрудница «Паломни-
ка» и других духовных журналов Надежда Романовна Щербова, в полном
расцвете сил (39 или 40 лет). Она писала небольшие рассказы на темы из
евангельских событий и из церковных легенд. Остальное время посвящала
преподаванию в петербургском Исвдоровском училище, а дома много и с
увлечением рисовала, частью даже на религиозные темы. Принимала она
еще живое участие в выборе материала для «Религиозной библиотеки», из-
даваемой (в Новгородской губернии) М. А. Новоселовым и составленной из
лучших отрывков на вечные темы религии, какие есть у наших писателей,
начиная с Жуковского и Гоголя и кончая почти современными.
Уже в этом разнообразии направлений сказалась ее талантливая душа;
но все-таки главный ее талант лежал в самой душе и в жизни: для тех не-
многочисленных людей, которые 13 мая собрались к ее гробу на Волковом
кладбище, было ясно, что в лице Надежды Романовны потеряна одна из
незаметных тихих праведниц, составляющих нравственное украшение об-
щества. Куда бы она ни входила с своей бесшумной лаской, точно вноси-
лась свеча, при свете которой все делалось яснее. Происходило это от слия-
ния двух особенностей: от ее очевидной талантливости, через что она по-
вышала тон жизни и укрепляла чужую душу, и от того еще, что дарови-
тость ее была вся внутренняя, сосредоточенная, и ей совершенно посторонни
были обычные спутники таланта: шум, притязательность, крик своего «я».
Не было более тихого человека, но присутствие которого постоянно чув-
ствовалось. Всегда она была полна заботою не о себе, а о других; мыслью о
судьбе других и никогда—о собственной судьбе. Самая эта забота не была
объективною: в Над. Р—не как бы продолжалась забота этого другого. И
из «обремененных и труждающихся», которых так много в христианском
мире, каждый при входе ее чувствовал, что пришел не «друг помочь» ему, а
вошел обремененный этою самою нуждою, заботою, какие он несет. Так с
100
полной охапкою чужих слез, неладиц семейных, чужого унижения или ма-
териальных нужд, шла эта полная, молодая, красивая женщина, юная еще
по виду, но уже старая-старая душою. В поведении ее, в движениях души,
во всем образе мысли действительно не было ничего молодого. Сознание
великой тягости жизни, великой ответственности перед жизнью, рано при-
гнуло ее к земле. «Пригнутость к земле» увеличивалась тем еще, что она
никогда не умела осуждать, судить... Только — помощь, утешение, под-
держка: и никогда сурового слова даже в отношении определенно дурного
человека или определенно дурного поступка. Среди всех ее талантов от-
сутствовал один: талант борьбы. И так понятно, что она так рано износи-
лась, столь рано постарела.
В гробу лицо ее, так молодое и цветущее при жизни, — вдруг выдало
тайну свою: это было темное, старое, страшно уставшее лицо. Едва было
узнать... Под крепом и множеством цветов лежала вся израненная грудь.
Смяклые губы, ввалившиеся глаза, а главное, этот суровый темный цвет
кожи точно кричали из гроба: «Ах, как страшна жизнь! Как я боюсь жизни!
Как вы не боитесь, живущие, жить?!!» Какой-то магический испуг стоял
около гроба. И почему-то инстинктивно никто не стоял близко к нему. А
многие плакали. И я впервые в жизни тоже боялся «покойницы».
И так молода еще... И столько талантов...
Вся ее религия была какая-то уединенная, «про себя». Никогда ее нельзя
было увидеть «на пышном молебствии» или идущею к причастию «в луч-
шем платье». Но, усталая, спеша на службу, на урок, — возвращаясь от
больной матери, с заботливым словом о которой она умерла,—она любила
зайти в пустую церковь и одна перед образом хорошо помолиться. Из оце-
нок ее людей я запомнил следующее: «Когда где-нибудь бываешь и видишь
много людей или когда случается новая встреча, я по тону речи и ходу бесе-
ды замечаю, религиозен этот человек или — нет. И если — нет, то, как бы
он ни был умен или даровит, как бы ни был знаменит, наконец, какие бы
услуги и чему бы ни оказал, он для меня пуст по содержанию, и я ничего
дальше не жду от разговора, от знакомства и проч. И никогда не сближа-
юсь: он мне не нужен, а я не хочу быть ему нужна. Если жерелигиозен, то,
напротив... Религиозен, — значит, все понимает; не религиозен, — значит,
не понимает самых главных сторон в жизни и в человеке». Она сказала
короче и ярче (полновеснее); но мысль эта. «Религиозный человек — вот с
чего и начинается человек» — так можно резюмировать.
А кто ее знал в Петербурге? Не епископ, не священник, не проповед-
ник. Не богословствующий полемист... Но тяжелы были бы епископам их
митры, если бы незаметно из темных уголков церкви, как тихие ангелы, не
поддерживали эти митры на головах духовенства своим уважением, своей
любовью, своим почитанием и радостным сочувствием сонмы таких рус-
ских женщин.
Вечный тебе покой, чистейшая из женщин! Кто знал тебя, узнал самое
утешительное: как может высоко подниматься человек в простой частной
101
жизни, без общественной роли, без богатства, без знатности (она была жена
здешнего преподавателя семинарии и дочь банковского служащего). И не-
возможно знавшему тебя когда-нибудь окончательно разувериться в лю-
дях... Вечный покой тебе и благодарность за то, что тебя узнали...
ПАМЯТКА О КЛЮЧЕВСКОМ
О В. О. Ключевском долго еще будут думать, писать... Несомненно, что нау-
ка «русской истории» и кафедра русской истории сейчас находятся под силь-
нейшим давлением его личности, его письма, его речи, его манеры говорить
и судить... Он как-то оконкретил фигуру «русского историка»; и как теперь,
так и еще долго потом не будут представлять «русского историка» в ином
виде, чем Василий Осипович; или будут усиливаться повторить его в себе,
желать увидеть его повторение на кафедре...
Это—сильнейшее влияние личности. Ключевский был ярко выражен-
ная личность: это — первое, что о нем следует запомнить. Нельзя забыть
его жестов, его фигуры, его голоса, его манер выйти, войти, говорить с со-
беседником. Например, я ни разу не видал, чтобы он стоял «прямо, как пал-
ка», — обычное положение нормального человека; чтобы, слушая, он был
«невозмутим, как сонный пруд вечером»,—тоже обычная поза слушающе-
го человека; или чтобы говоря,—он «выпячивал грудь»,—тоже довольно
обычно. В сравнениях я немножко преувеличиваю, чтобы оттенить свою
мысль. В. О. Ключевский незабываем, между прочим, потому, что в самых
частых положениях человека, в обычных положениях ученого—слушание,
своя речь, момеиг собственного размышления или наблюдения толпы — он
нисколько не походил ни на какого обыкновенного человека.
Он весь был гибок, подвижен, необыкновенно жив. Живость, величай-
шая живость—вот качество, которое первым в нем бросалось в глаза. «Этот
человек не умеет спать», — хотелось сказать о нем. Или — «он спит, веро-
ятно, беспокойно» и постоянно «видит сны». Сумма того, о чем я говорю,
свидетельствует о крайнем переполнении его жизнью, жизненностью.
Это и есть талант. Ключевский был в высшей степени талантливый че-
ловек: не профессор, не ученый, но именно—человек. Из удивительного, на
редкость «талантливого человека» и вырос замечательный профессор, ученый.
Но это—«приложилось», пришло потом... Если бы судьба выкинула его на
совершенно другое поприще, если бы школьным учением и средой рождения
и воспитания он был выброшен, например, в администрацию—и там он за-
ставил бы «кипеть под собою дело»... Он немогбы заснуть. Не дал бы заснуть.
Богатая и яркая личность, — и именно русская. В нем не было ничего
схематического, общечеловеческого. Можно представить англичанина,
француза и немца в таком теле, в такой фигуре, с такими манерами, как
С. М. Соловьев, П. Г. Виноградов... Уже как Тихонравов—такие «немцы
не бывают»; а как Ключевский—совершенно не бывают, окончательно!
102
Как со словами «жид» (без порицания), «немчура», «французик» мы
соединяем что-то типичное-типичное, колоритное-колоритное, «что однаж-
ды Господь Бог вырезал, и на все времена», — так «москвич» и даже вот
именно «москвич, пришедший из Троице-Сергиева Посада», был точно
вырезан навеки в «Ключевском». Ничего «схематического», никакой «от-
влеченности»... Как писали после его кончины, — больше всего к нему
привязались, почему-то, питомцы московского Училища живописи и вая-
ния. Не университета и не духовной академии (где его тоже очень любили),
но вот эти будущие художники. Уверен, что в этой очевидной странности
сыграл свою роль глазок начинающих «ваятелей» и «живописцев»... Они
заприметили, как не могли в университете и в академии, — беспримерно
«изваянную Господом Богом фигурку»,—«фигурность» которой перели-
лась и в дух, в слово, в ум, в лекции... И отдались ей с восторгом...
Продолжу наблюдения, сравнения.
Между «Россией» и «Западом» та главная разница, что весь Запад «ро-
дился в столице», а Россия «родилась в уезде»; и даже, пожалуй, «где-то
под сосенкой». Так это отсвечивает в мелочах и важном. Параллельно этой
«национальной особенности» Ключевского нельзя представить, чтобы он
родился в Пензе «на главной улице». Непременно — «в переулочке». Не
знаю, но почему-то мне не кажется, чтобы он когда-нибудь получил «золо-
тую медаль». Вообще в нем была поразительная «невыставочность». Изве-
стно, мы «выставок» не умеем устраивать; и «монументы» у нас тоже вы-
ходят нелепые. Не ко двору... Так и Ключевский долго-долго «терся» где-
то в Троице-Сергиевой лавре; до середины своего возраста... И только к
концу жизни, без усилия, без старания, без соперничества, — решительно
«затенил» собою историков до него.
КАТОЛИЦИЗМ И РОССИЯ
(Владимир Соловьев. «Россия и вселенская церковь».
Перевод с французского Г. А. Рачинского.
Москва, 1911 г.)
Открой же им, ключарь Христов: и пусть
врата истории будут для них и для всего
мира вратами царства Божия.
Стр. 73
Только что появилась в превосходном переводе с французского языка Г. А.
Рачинского и очень изящно изданная книга Владимира Соловьева—«Рос-
сия и вселенская церковь». «Вселенская церковь», это — римская церковь,
римский католицизм. Книга впервые является на русском языке и является в
103
переводе, т. е. у Владимира Соловьева не нашлось ее русского оригинала, с
которого он сам или кто-нибудь из его друзей сделал бы перевод на фран-
цузский язык. Таким образом, Соловьев только отчасти писал ее для рус-
ских; он писал ее для Западной Европы, главным образом—для католиков
и еще частнее—для католического духовенства, для католической духов-
ной администрации, интимно сказать, —для папства и Рима. Книга эта сде-
лалась некоторым «камнем строительства» у католиков: по крайней мере,
нельзя перечислить всех уважительных ссылок на нее католических бого-
словов и просто священников, многочисленных католических публицистов,
с какими приходилось и приходится встречаться в жизни, в практической
деятельности, в печати. Для них книга эта сделалась пунктом отправления
всяких рассуждений о православии и в особенности всяких рассуждений с
православными, всякой с ними полемики, опросов. В книге Соловьева они
увидели новую приобретенную позицию, достигнув которой, совершенно
оставили прежние.
Чтб же это за позиция, в чем она состоит? Владимир Соловьев не при-
надлежал к тем открытым и ясным умам, как Белинский или Чернышевс-
кий, беря какое-нибудь «сочинение» которого в руки, берешь вместе с тем и
его «душу». У Владимира Соловьева, беря единичное «сочинение» в руки,
всегда берешь то или иное обращение к публике, притом данного момента и
данной местности, за которым какова вообще его душа, — неизвестно. Он
всегда был агитатор, и всякое сочинение его имеет подзаголовок «Ad
lectorem»*. «Душа» же его если и выразилась, то лишь в огромной груде
всех «сочинений», да и то не вполне, не окончательно. Но «Россия и все-
ленская церковь» есть один из задушевнейших его трудов; здесь изложена
его мысль, обнимавшая по крайней мере две трети его жизни, его биогра-
фии. И он не только написал его по-французски и для католиков, но и не
особенно желал, вероятно, чтобы труд этот широко распространялся в рус-
ской публике. Он знал, что здесь встретят его насмешки, непонимание, рав-
нодушие и вражда. Что же он в своей книге выразил? Что он сказал «Ad
Pontificem»**, которое в отношении этой книги заменяет его обычное «Ad
lectorem»?
В книге этой он выражает то отчаяние о светской культуре, светском
обществе и светском образовании, какое выразил на самом краю могилы, в
предсмертных разговорах с другом своим, проф. кн. С. Н. Трубецким. «Идей
теперь не больше, чем в эпоху Троянской войны», «мы опять троглодиты»,
«идти некуда и незачем», «всемирная история окончилась»,—говорил он
и саркастически, и тоскуя, глубоко тоскуя. Но этот предсмертный ропот
был, несомненно, прижизненною тоскою Влад. Соловьева. Таким образом,
его шумная публицистическая деятельность, его полемика со славянофиль-
ством, его проповедь западничества, вообще весь его «либерализм», до-
* Для читателей (лат.).
** Для властей (лат.).
104
вольно обширно и ярко выраженный, был не то чтобы совершенно ложен,
но был в высшей степени непрямодушен. Ну, да: он был и западником; ну,
да: он ненавидел и презирал славянофильство. Но все это — тем холодным
презрением и тою холодною любовью, которая неотделима при увереннос-
ти: «все это пройдет и всего этого не нужно». В книге «Россия и вселенская
церковь» Вл. Соловьев, в сущности, изменяет всей новой культуре, всей
новой цивилизации, всей новой образованности, включая сюда Ньютонов
и Байронов, и если одновременно с этим он посылает приветственную те-
леграмму критику Скабичевскому в день его юбилея или жарко полемизи-
рует с Лесевичем о позитивизме, — то это есть тот сарказм и шутка, тоном
коей преисполнена, например, вся его переписка с друзьями («Письма» в
изд. Радлова), те «пустяки», которым предается большой человек, с боль-
шим замыслом, но который временно и надолго поставлен в невозможность
что-нибудь сделать, что-нибудь предпринять. Это—Кутузов, читающий
роман г-жи Жанлис накануне Бородинской битвы (смотри «Войну и мир»).
На самом деле и в душе он готов был бы зажечь всемирный пожар, в кото-
ром сгорели бы... все эти Стасюлевичи, Пыпины, Лесевичи, славянофилы,
западники, Страхов, Данилевский, редакции «наши» и «не наши»... Сго-
рел бы Петербург и значительная часть Руси... но не Москва; сгорел бы
Париж с его кокотками и Сорбонной... но не Notre Dame de Paris.
«Соединить, слить, связать Notre Dame de Paris с Кремлем»,—вот идея
Соловьева. Слить величайшую поэзию, величайший пафос, самую «душу»
Запада и его католичества с самою «душою» Востока, с «святою право-
славною душою», в ее лирике, в ее экстазе, как она выразилась в одном
слове в четыре буквы: «Царь».
— Что же, в конце концов, сделал Петр Великий и вся его якобы «ре-
форма»? Он «прорубил окно» к французским парикмахерам, тогда как надо
было прорубить его в римскую «сакристию»... По грубости и необразова-
нию, весьма естественному и в те времена невольному, наконец, по всей
своей практической, а не теоретической, не созерцательной натуре, Петр
начал дело, которое и не могло окончиться успешно по его поверхностно-
сти, потому что он подвел заступ под русскую почву недостаточно глубо-
ко. .. Он исковеркал старую Русь, но не обновил ее. Нужно продолжить и
кончить дело Петра... нужно принять католичество и папу. Они—корень
всего на Западе, корень западной цивилизации, и ее Ньютонов в том числе,
и ее Байронов в том числе, всего, всего. Ну, не «принять сразу» католиче-
ство, но, во всяком случае, теперь же мы должны перестать «отделять себя»
от него, быть к нему враждебными, отвращаться от него. Мы должны на-
чать в него вдумываться, всматриваться, вникать, вслушиваться в поэзию
его, в звуки органов его, в его молитвы, в его мистицизм. Самарин писал об
иезуитах глупости и пустяки, Хомяков был только жаркий полемист с Со-
бачьей Площадки, на Арбате, — и все это в высшей степени мелко и недо-
стойно в отношении такой великой темы, такого неизмеримого предмета...
Неужели же западная цивилизация создалась на анекдотах и каверзах, кро-
105
ме которых ничего не умели указать и не умели ничего найти в католиче-
стве московские публицисты-богословы. Цивилизация велика. А следова-
тельно, велик и ее корень. Корень этот — католицизм. В основе его лежит
действительное слово Христа: «Тебе, Петр, — тебе одному даю ключи Цар-
ства небесного и земных». Если мы верим в Христа, — не можем не при-
знать и папу единственным, от самого Христа установленным, первосвя-
щенником на земле.
* * *
Слова, от которых у русских, что называется, «искры из глаз посыпались».
Такой «тумак по шее» не то что Скабичевскому или Лесевичу, не то что
Страхову или Данилевскому, — нои подальше, побольше, поглубже. «Ну
их, всех этих Белинских, декабристов, всех этих Радищевых, Новиковых...
все это — пустяки. Все мы, русские, занимались и занимаемся глупостями.
Все наши журналы и полемики яйца выеденного не стоят. Нет в них тона.
Тона, тона нет! Оркестра, музыки нет! Все «православные балалайки», —
но, ведь, это же глупости, это не инструмент. К настоящей музыке и присту-
пить нельзя, не сломав предварительно балалайки, этой национальной дичи
и национального простодушия.
Ив. Серг. Аксаков в «Руси», там же проф. и протоиерей Иванцов-Пла-
тонов, Фед. Ю. Самарин в «Нов. Врем.», Страхов и затем целый ряд бого-
словов в духовно-академических журналах накинулись на Соловьева, кото-
рый отвечал им как наездник наездникам, с шутками, с остроумием, может
быть, с успехом, но с успехом каким-то легким и неприятным и ронявшим
все дело. Ах, обилие всяческих талантов вредит всегда одному большому,
главному таланту. В конце концов, Соловьев не был гений. В том и горе или
для Руси — спасение, что он, в конце концов, был шутник. В душе его
заклубится черное облако, страшной силы, страшной грозы, угрозы, от ко-
торой некуда убежать, и, кажется, все от нее рассыплегся. Но... глядишь:
Влад. Соловьев написал стишки, написал шуточку-статейку против NN,
уязвил одного, плюнул на другого. И пролилось все мелким дождичком, и
нет грозы, бессильна угроза. Уже не «вселенский вопрос» перед нами, а
просто «одно коленце» «нашего Владимира Сергеевича». Все расплылось
в «русскую обывательщину», — ну, «литературную обывательщину», ко-
торая есть и которая не выше и не интереснее житейской.
Но я договорю мысль Соловьева в серьезных тонах:
«Идите же на Русь!» — «Католики, зову вас: идите на Русь». — «Тут
ничего нет, кроме провинциального хлама, захолустной копоти, сплетен,
мелкой раздраженности и ничтожества. Кроме одного...»
— Чего?
— «Кремль и Царь», «Москва и великое народное чувство Царя», «на-
конец, — религиозная идея Царя», уже не русская, не как она брезжит во
всемирной истории, мерцает на страницах Библии, где юный Соломон, под
Божием благословением, низложил одним жестом и словом первосвящен-
106
ника Садока... Не настоящего, ложного и лживого первосвященника, вот
как другие, некоторые у нас, вроде Никона, которого тоже без труда низ-
ложил одним словом кротчайший Алексей Михайлович. Русское духовен-
ство, русская иерархия церковная — ничтожны. Русь выработала только
одну живую, органическую идею—Царя, и в ней есть только один живой
светоч — Царь.
Это так противоречило «Белинским и Чернышевским», как не про-
тиворечил, конечно, ни Бенкендорф, ни Дубельт. Там что — «эмпирия»,
здесь — идея. Вся наша литература, животрепещущая свободою, «про-
глатывалась» Соловьевым, хотя в кабинете Стасюлевича он и любил по
часам играть в шахматы с А. Н. Пыпиным. Пыпин был маленького роста
и кудластый.
Соловьев — высокий и красивый. И чувствовался смех высокого над
маленьким:
— Ну, мы сыграли с вами партию, Александр Николаевич. Но пробила
полночь. Петух запел. Магическое колесо повернулось, и открылся новый
период всемирной истории. Вместо «домой» отправляйтесь, Александр
Николаевич, в «башню голода», куда за великие ваши грехи, словом и мыс-
лью, присудила вас святейшая римская инквизиция, коей я маленький и
покорный послушник, а впрочем, вместе и член ее и даже, в секрете, вели-
кий оной председатель.
* * *
Мне припоминаются лет шесть назад слышанные слова одной русской эмиг-
рантки. Друзья ее ссылались в Сибирь; и хотя сама она ни в чем не была
обвинена, но пошла в Сибирь же за этими друзьями. То ехала, то пешком
шла; «тащилась», как они же, медленно «по Владимирке». Время было ста-
рое, 80-е годы прошлого столетия. С медленностью-то передвижения и с его
огромным пространством и связалось ее впечатление:
— Ну, знаете... Идем недели, идем месяц, два месяца... Местность ме-
няется, все новое, другой вид деревень, другой говор города и человеческо-
го у него обличья. И вот: куда ни придешь, едва обогреешься, осмотришь-
ся, —спрашивают тебя: «Из России?» — «Из России». — «Может, из Мос-
квы?..» — «Из Петербурга». — «Из Петербурга!» Смесь удивления и вос-
хищения, —недоверия. Поверив, непременно и первым словом спрашивают:
«Значит, ты и Царя видела?» Я же была если и не ссыльная, то друг ссыль-
ных, ну, и все воззрение мое такое... И вот то, что во всякой деревне, куда
мы ни приходили, на всем неизмеримом пространстве, спрашивали одно
имя, об одном лице, — это меня подавило. Подавило мой ум. Как жить?
Нечем дышать! С моими-то воззрениями. Ведь я, бредущая от Нижнего до
Иркутска, чувствовала себя запавшей в щелочку соринкою в громадном,
неизмеримом доме, в постройке, которой конца нет. Этот однотонный воп-
рос, везде тот же, везде с одинаковым умилением предлагаемый,—он меня
раздробил в куски... Что же такое «мы», и что «мы» столько старались,
107
учили, писали: эта громада даже и не почувствовала ничего, да явно и не
почувствует, кроме каких-то оторванных единиц, которые суть такие же
«соринки по щелочкам», как «я» и мои «друзья»... Ни в чем я не перемени-
лась, убеждения мои не поколебались. Только я почувствовала, что все эти
убеждения — какой-то запутанный и чужой сон для России.
Говорившей было лет пятьдесят. Видела она меня впервые; пришла по
какому-то делу. Помнится,—дурно, неряшливо содержалась могила ее мужа,
и она просила в газетах обратить внимание на «безобразия на кладбищах». Я
спросил, «как», «что» и «почему»,—она разговорилась и рассказала.
Вот эту-то «идею» и поймал Соловьев. Как единый «столп», на кото-
ром держится Русь. И захотел связать ее с другою идеею, из которой вырос-
ла вся западная цивилизация: папа, папство, католичество. Но он менее имел
в виду и католичество, его службы, его музыку, его святых, его строй, зако-
ны и учреждения. Глубоко проницающим в сущность вещей глазом он ус-
мотрел во всем этом одно главное:
—Лицо папы.
Потому что за ним одним, именно за ним только, стоит завет Христов:
—Ты — Петр, и на сем камне созижду Церковь Мою...
И еще другое слово, сказанное и трижды повторенное именно Петру,
одному Петру, а не сонму всех 11 апостолов:
— Паси овцы Мои (людей, всех верующих во Христа).
В век безбожный, позитивный, в век, наконец, умирающий (предсмерт-
ные слова Трубецкому) Соловьев как бы перебросил нить от Ватикана к
Зимнему дворцу, и шепча, и вопя:
—Спасайтесь и спасайте. Порознь вы погибнете. Великую идею «царя»
подкопает революция, «интернационалка», социализм; великая идея «папы»
уже подкопана атеизмом. Порознь вы неминуемо падете, но, соединившись,
вы можете избежать гибели и, кроме того и важнее того, вы можете остано-
вить разрушительный поток времен и повернуть всемирную реку в другую
сторону,—повернуть ее к невероятным расширениям и углублениям... Все
это ради спасения самого гения человечества, его культуры в глубоком смыс-
ле, цивилизации тоже в глубоком смысле... Чтобы опять пришел Пушкин,
родился еще Гёте, чтобы опять мыслили Галилеи, Ньютоны и Декарты, а
не Спенсер с Боклем и около них наш Лейкин.
В страсти этой идеи, в азарте этой идеи Соловьев и напал на наших
«славянофилов», на нашу «обособленность» и «национализм», умалчивая
до времени о «западничестве», очень сильном в литературе, но которое ему
было так же чуждо в специфически русском выражении, как и специфичес-
ки русское славянофильство. Он стоял в точке зрения универсализма, где
эти «русские» явления тонули, как незначащие, где русские «течения мыс-
ли и души» исчезали, как ручейки в океане. Мысль его и не была специфи-
чески католической. Перед ним предносилась именно работа, именно за-
дача, а не догмат, предносилось уму его окончание «дела Петрова», вели-
кое «русское дело», последнее гигантское усилие.
108
Тут «догматы», «разницы в церквах» исчезали тоже как малое. «Прича-
ститесь ли вы по-католически?» — «О, причащусь!» — «Но, ведь, вы пра-
вославный?» — «Конечно, православный! Дед у меня священник, отец—
историк, а я верный внук их обоих!» — «Но как же, как же?» — «Да так же,
как протестант Генрих Валуа, когда ему надо было взять Париж и сделать-
ся королем Франции, пошел и отслушал католическую мессу, сказав: «Фран-
цузская корона стоит одной обедни». Ибо Париж объявил, что он лучше
весь вымрет с голода, нежели впустит в стены свои короля-еретика. Так и
теперь в наших других обстоятельствах, в обстоятельствах более страш-
ных. Нужно спасти цивилизацию, и ради этой великой задачи, которая раз-
решается чрез единство христианства, я преемственно приму все три при-
частия: католическое, протестантское и православное. И во всех трех церк-
вах помолюсь, притом усердно, набожно и чистосердечно».
* * *
Вот Соловьев, автор «России и вселенской церкви». Он был в то же время и
«русский интеллигент», т. е. с тою ослабленностью религиозного чувства,
христианского чувства, которая «столпам» Ватикана, Берлина и Москвы
мешает что-нибудь слышать и что-нибудь видеть, кроме «своего». Он не
пережил перелома «назад», но умер,—как вспоминает кн. С. Н. Трубецкой
и как этому есть много других свидетельств,—«столбовым православным».
Да и за много лет до смерти он посвящает большую и едва ли не главную
свою книгу—«Оправдание добра» — своему деду, священнику Михаилу
Соловьеву. «Не мудрствуя лукаво,—умрем как все...» Он просто ослабел в
своей задаче, охладел к своей задаче, видя всеобщее к ней равнодушие на
Руси. Ему враждебны были не только официальные сферы (Победоносцев),
но и все профессора духовных академий, все духовенство; его «католичес-
ким симпатиям» (хотя сказать так — значит сказать ложную формулу) не
было никакого ответа во всех, решительно во всех слоях и кружках литера-
туры, не только на ее улицах и площадях, но даже и в закоулках, наконец, в
щелях и «тупичках». Ничего. Тогда он просто перестал говорить.
Православие, лютеранство и католичество—члены одной системы. Не
«части», не «дробление», в особенности — не «противопоставление» друг
другу, а именно «члены», и исчезновение которого-нибудь разрушило бы
равновесие всей системы. К чему «унитарность», к чему «сплошь все то
же»; к чему «желтая казенная краска», в которую «окрасить бы все»? Не
надо. Нельзя доказать, что это «истина», что это «лучше». В эпоху католи-
ческую все равно католичество имело против себя «секты». Вся южная
Франция была охвачена «альбигойством» при Иннокентии III, — самом
царственном из пап. Да и вообще «тут что-то есть», в этих сектах, в этом
«разделении церквей». Разнообразие, а не унитарность: это принцип столь
же истинный, столь же жизненный, столь же исторический. Но члены «раз-
личны», а не «враждуют». Вот о примирении церквей, о примирении без
погашения можно говорить. Совсем другая задача. Соловьев поднял ружье,
109
выстрелил «в ту сторону», но он не попал в «цель». И его великолепный
труд останется памятником его ума, его способностей, — великолепным
литературным и философским явлением. Но жизненного значения он не
получит. Петр именно «преобразовывал» Россию и потому не смел кос-
нуться души ее: коснуться же внешними руками самой души — значит не
помочь ей, а умертвить ее. И так естественно, что «дело» Соловьева «не
вышло». Оно вовсе не «заканчивало Петра»; оно хоронило и «Петра», и
всех «Александров», начиная от Невского, и Мономаха, и Владимира... Ибо
Ватикан, конечно, и костей их не оставил бы в могилах...
ИЗ ЖИЗНЕННЫХ ВСТРЕЧ
(Памяти Железновой)
Присяжные признали экс-депутата,
трудовика, невменяемым и вынесли
ему оправдательный приговор.
Отчет судебной хроники
Так думный дьяк, в приказах поседелый.
Добру и злу внимает равнодушно.
Пушкин
Какая разница прочесть три строчки петита в газете или хоть случайно, «на
ходу жизни», прикоснуться боком к обрызганной кровью скамейке, к об-
рызганному кровью и пронизанному пулями стволу дерева, из-под которо-
го замертво вынесли человека.
Я был почти свидетелем убийства Железновой, поцеловал лоб усопшей
в гробу и помню все то живое волнение, смуту, крики о мести и злобный
шепот вокруг, какие поднялись тогда в Кисловодске. Даже не верится, что
это было уже в 1907 году,—кажется, позапрошлый год! Так свежо впечатле-
ние, и так быстро летит время. Летит-летит, — и не успеем оглянуться, как
мы все будем близки к этому ненавистному гробу, к этой ненавидимой моги-
ле. У, черное чудовище, яма... Боже, помолимся все, чтобы нам хотя бы в
горе и унижении, в нужде и заботах, но побыть еще на земле, с ее дождичка-
ми, с ее непогодкой, все равно, но живыми. Перебросимся картишками, по-
читаем книжку, может быть, кого-нибудь полюбим. Ну, так, приволокнемся,
черт возьми, пройдемся по улице с тросточкой, но все-таки же не лежать в
яме, обернутым в коленкор, с стеклянными глазами. Бррр... Не хочу!
Не хотим! Не хотим! Все! Никто не хочет... Ни Недоносков, который ее
убил. «И мне не хочется», — сказал бы он, если бы его спросили.
— Вы так несчастны, покинуты любимою женщиною, может быть, за-
путались в делах, может быть, нуждаетесь в деньгах... Умереть бы?
ПО
— Не хочу!
«Не хочется!»
Она вся цвела. Ложно ли, истинно ли, порочно ли, праведно ли, — ник-
то тогда в Кисловодске не знал, никто даже не интересовался знать. Но все
говорили: «Вот она прошла по аллее...» Оглядывались, старались встре-
титься. «В этот сезон это—самая красивая дама в Кисловодске». Прекрас-
но одевалась, и при ней постоянно был высокий, худощавый грузин-тех-
ник, в форменной тужурке, еще совсем юноша. Любили они или не любили
друг друга,—тоже никому не было интересно. Но общим мировым сочув-
ствием все предполагали, что «любили», и думали: «Ну и слава Богу, и — к
стороне: в печальном житейском море одна пара счастлива, денег не про-
сит, помощи не просит, в заботах не нуждается, никому не в тягость и про-
сто цветет, как две яблоньки рядом в саду, — и Бог с ними, о чем же тут
думать». И все любовались ими не с большим, но и не с меньшим чув-
ством, как двумя яблоньками в цвету.
О всем этом я узнал из шума... Сам же лично, много трудясь то лето,
просто многих из «публики» не замечал, в том числе ни Железнову, ни грузи-
на... Помню, я прошел в тот начинающийся вечер к «новым ваннам» нарза-
на... Отсидел свои пятнадцать минут и так же рассеянно и деловито, пройдя
часть «аллеи тополей» (совсем некрасива), вступил на площадку перед глав-
ною аллеею, когда, почти «пробужденный», увидел, что все в смятении...
Бежали, кричали:
—Убили! Убили!
— Кого убили?
— Ах, оставьте!! Женщину!
— Кто убил? Что такое?
Никто не знал. Толчея. Круговращение. Побросанные столики с карта-
ми и деньгами.
Хохот—грубый, сатирический:
—Деньги-то генералы побросали. Думали: бомба, — в них палят. Вот
они около кумысной... Теперь оправились, выходят. А то все кинулись в
кумысную, под защиту татарина.
Особенно потом над этим много смеялись. Время было «сатирическое»,
и наблюдательность направлена в эту сторону. Я уже передаю по слухам, а
в ту минуту искал: «Где? Кто? За что?»
Чуть-чуть темнело. На юге сумрак образуется чрезвычайно быстро. Иду
в гущу.
— Вот на этой скамейке.
Скамейка — как раз против «кумысной» и столиков для карточной
игры — в том «расширении» гулянья, где можно присесть, всех видя и ни-
кому не мешая. «Отсюда любуются, и на них любуются...» «По-русски...»
И я всмотрелся в капли крови, — человеческой крови, — на скамье. ..Ав
дереве указывали пули. Подошел: да, дырочка, дырочки...
— Где же она?
111
— Сейчас вынесли. Еще жива. Четыре пули, все в живот.
«В живот! Как Пушкину! Значит, смертельно».
Я мысленно «похоронил» виновную... Потому что кричали о «вине»:
— Муж! Она бежала от мужа и проживала здесь... Гуляла. Муж ей го-
ворит: «Поди ко мне!» Она не пошла. Он еще раз: «Поди!» Она опять не
идет. Ну, тогда рассвирепел и стал стрелять. Она была со студентом.
— Что же, что со студентом, — вступился я: вид человеческой крови
(незабываемый ужас!) помутил меня. — Муж, и все-таки не смеет убивать.
— Как это?
—Так это!
— А это кто?
— Т. е. студент? Ну, с ним гуляла, значит, он и есть муж! Убирайтесь!
Совсем не помнил себя и, как во всех подобных «воспламенениях мыс-
ли», готов хоть гору повалить, только чтобы отстоять «кровь». «Гора», это
— «муж». Против меня стоял полный, в широком пальто, господин, оче-
видно тоже «муж», и отстаивал «права мужа»...
— Раз она мужа оставила и ответила ему: «не хочу», через это он и
должен был понять, что он «более не муж». И должен был отстать... А
«муж» есть тот, кого она при себе оставила... И убил здесь не «муж жену»,
а «посторонний человек убил жену на глазах мужа»\ Вот вам...
Как всегда в жару: не помнишь, что говоришь и что отвечают. Но эта
физиономия, довольно толстая, господина в пальто была мне противна...
* * *
—Убили кого-то,—сказал я, входя домой.—Женщину. Молодую. Из рев-
ности. И кровь видел. И пули. Генералы бежали. Все пули в живот. Умрет.
На другой день стало известно, что убили «ту самую, — красивую»...
О фамилии несколько путались: называли «Недоноскову»... Потом при-
бавляли: «Того самого Недоноскова, который был депутатом в Думе». Так
вот, «депутат в Думе» связывалось с понятием чего-то «просвещенного и
передового», но я никак не мог связать с «депутатством» убийства «лишь
из ревности» и стал думать, что он какой-то «не настоящий депутат», а про-
шел в Думу «фуксом»... «Недоносков, — что за фамилия?»
— Недоносков и по виду, — отвечали мне. — Невзрачный, некраси-
вый. Ничего собой не представляет.
«А она такая красавица, — об этом все говорят».
Имя «Железновой» было названо совсем поздно: «Да она не Недоноско-
ва, и убийце своему вовсе не была жена. Она — Железнова, но с мужем
давно не живет, а жила с Недоносковым, депутатом Государсгвенной Думы.
Но потом разошлась. Он остался в Одессе, она приехала сюда. Постоянно
она была окружена молодежью, и у нее всегда бывали веселые вечеринки...»
В одну из таких вечеринок к ней постучался муж, приехавший из Одессы. Но
она уже его не впустила. Виновата ее служанка: чем промолчать бы или что
скрыть, а она все рассказала ему о поведении госпожи: может быть, и с при-
112
бавками рассказала. Но, во всяком случае, для Недоноскова не было никако-
го сюрприза; никакой не было «измены втайне» и «обмана». Еще в Одессе
все было кончено, она решительно порвала с ним все, — все порвала, — и
приехала сюда как совершенно свободная женщина, не связанная никакими
узами и обещаниями... И распоряжалась здесь собою как совершенно само-
стоятельная и независимая женщина. Тайны не было. И он мстил во всяком
случае не за «роковую измену» и не «коварной женщине».
«Коварства не было», «обмана не было», — на этом встал весь Кисло-
водск. «Судите ее за поведение, — но нельзя судить ее как обманщицу».
«Она не обманщица!»
Так стоял ропот в воздухе. Когда узнали, что Недоносков «даже и не
муж», — стали проклинать его. «Как он смел убить женщину, когда она
ушла от него, — когда он сам увел ее от мужа». В самый способ перехода к
нему Железновой уже входило как бы молчаливое условие, но условие оче-
видное, что она от него уйдет также, если разлюбит его. Очевидно! Или он
не вправе был сближаться с нею (чужая, неразведенная жена), или не впра-
ве был протестовать против ее ухода.
— Но страсть?
— Его или ее? Если он имеет страсть, — явно, и она имеет страсть! И
если его страсть пользуется правами, — явно, и ее страсть пользуется тоже
правами.
— Он «никак не мог с ней расстаться»...
— Вообразите: она «никак не могла расстаться с грузином-техником»!
Ну, решительно «никак», — «никаких сил»... До того «влюбилась». Что
делать, — «страсть».
—Должна была «удержаться»...
— Вот именно: почему он «не удержался» там, в Одессе, когда она ему
сказала, что «все кончено»... «Сделал бы усилие», «постарался». Он—муж-
чина, да и старше ее. Что за слабые нервы у члена Думы, у трудовика. Ей
же всего бьию 26 или 28 лет, и она вся была стройна и гибка, как еще моло-
денькое, недоформировавшееся деревцо... Если у кого быть самооблада-
нию, то, конечно, у него. У нее же, уже по годам, и страсть кипит сильнее, и
ей простительнее легкомыслие... По годам, по образованию, по всей прош-
лой жизни, так рано начавшейся ломкою семьи.
Весь Кисловодск встал на ее сторону... Главное, — эти ежечасно при-
ходившие известия: «лучше», «хуже», «пули вынули», но «все кишки пере-
рваны», тоже «печень прострелена»... Все пули — в мякоть, в нижние орга-
ны, ни одна—в кость. Верно, она привстала, когда показался револьвер, —
и была, очевидно, выше его ростом.
Передавали, что она мучительно боролась со смертью,—точнее, цеп-
лялась за жизнь, очевидно счастливую и обещающую. Это видно было из
жалобы, которую передавали: «Я хочу непременно, чтобы его засудили!» У
нее была месть. Так понятно: ну-ка, в вас, читатель, четыре пули в живот...
Среди расцвета жизни. От опостылевшего человека.
113
— У... все взял!!! Хоть бы цветочек еще, еще весну...
И умерла. Я пошел на похороны. Собрался весь Кисловодск. Множество
венков и лент с молодыми надписями: «Несравненному человеку», «Удиви-
тельной душе». .. Я приблизительно передаю, но совершенно точен смысл,
что в надписях на лентах сказалось то обожание молодежи, залитой вообра-
жением и туманом, когда она дает эпитеты, совершенно не соответствующие
делу и, во всяком случае, для посторонних неожиданные. В ее смерти было,
конечно, свое «все-таки», «однако»... Молодежь перескочила через всякие
«однако», смыла всякое неуважение, опрокинула, отшвырнула всякую тень
его и подняла и вознесла ее... Я не мог не улыбаться надписям: буквально
было что-то вроде: «Единственной в мире душе, после которой мир осиро-
тел». .. Или «Украшению мира»... Известно,—молодежь. Улыбаться ей улы-
баешься, а все-таки это нравится. Совершенно верно,—что она ей нашепты-
вала слова чудного содержания, в те вечеринки, в уголку, одному, каждому.
Сама была счастлива,—а в счастье приходят счастливые мысли.
В гробу она лежала угрюмая... «Где же молодость? Красота?» Ей каза-
лось лет 35: десять лет надбавили четыре дня мучений. Так ее молодою и
красивою я и не видал, потому что раньше не заприметил.
Поцеловал. Вышел. Огляделся. Искал, где же «он»... Вдали, в уголку
церковной ограды, кусая платок и залитый слезами, стоял тоненький, строй-
ный грузин, лет 20—21—22, в форменной тужурке. Усы и борода чуть про-
биваются. Как у всех грузин—тонкие, благородные черты лица. Он был
убит, и, очевидно, он ее чрезвычайно любил. Но как-то боялся, чтоб его все
видели... Когда я стоял около «скамейки» и толпа шумела, то на вопрос: «А
почему же возлюбленный не вступился?» — ответили: «Первым убежал».
И тогда я и все его осуждали, смеялись, презирали.
Известно, еще у Лермонтова сказано:
Бежали робкие грузины...
Теперь я ни капли не осуждал: нет, ему не было и 20 лет... Это был
совершенный еще мальчик, но только от южного солнца и по южной своей
породе кажущийся уже юношею. Как мальчик, он был испуган ужасом, ко-
торый начался,—испуган жертвой, жалостью, больше, чем страхом... Во-
обще, он, не «спасая шкуру», бежал, а бежал, точнее, упрыгал куда-то, как
заяц или зайчик, когда вдруг ужасный охотник застрелил его «матку»...
Убежал, зажав уши и глаза и, верно, твердя дома под подушкой: «Сон! Не
было! Сейчас проснусь и увижу, что она цела и ничего не было!»
Но не проснулся. И это был не сон.
* * *
Ужасно. ..Ив результате:
— Ничего!!!
Я помню, как тогда в Кисловодске клокотали при мысли, что он может быть
«оправдан». Огромное чувство толпы, которое чего-то стоит все-таки, не
114
допускало этого... Говорили: «Оправдают!..» Но и говорившие, и выслуши-
вавшие принимали это как кошмар...
В последующее время, месяцы, год, когда доносились печатные слухи,
что «дело отложено за неполностью данных», а г. Недоносков «остается
пока на свободе»,—было это же клокотание гнева и удивления. Естествен-
ное чувство справедливости возмущалось. «Как, застрелил среди нас... как
курицу или котенка... и ничего. На свободе». «Разве это возможно?!!»
Три года все «откладывали» дело. Наконец собралась вся «армада» суда.
Все принято во внимание, чтобы суд был «скор, милостив и справед лив».
Выслушали все, — уже по бумагам. Судили в Пятигорске, тогда как убили
в Кисловодске. Никто ее предсмертных стонов не слышал. Ни этого дохо-
дящего до дна души крика: «Я хочу, чтобы его засудили». О, ведь это так
основательно, т. е. что так гневалась так умиравшая.
— Вам, судьи, ничего, — а я умираю.
— Вы, судьи, стары, — а я молода.
— О, как хочу жить! Хочу! Хочу!!!
— Но нельзя жить; кишки порваны; пойду в могилу. Вы, живые, ото-
мстите за меня...
Поговорили, подумали. И сказали:
— Ну, что там... Уже, чай, и мясо черви съели. Не хлопотать же из-за
одних костей. Ступайте с миром и впредь так удерживайтесь поступать.
Вы — к обеду, и мы — к обеду...
* * *
Так Русь кушает и кушает. Крестит ли — кушает. Хоронит ли—кушает. И
будет она стоять своим стоянием еще тысячу лет.
«ДРУГ ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА»
В связи с литературным завещанием гр. Толстого и трагедиею его смерти
личность Черткова получила некоторый интерес для русского общества, хотя
и минутный, но острый. И сведения о нем или живые впечатления от него не
могут не возбудить внимания. Я позволю себе сделать небольшие извлече-
ния из «Дневника» г-жи Дьяконовой, одной из самых привлекательных рус-
ских книг по ее чистому и всеоживляющему тону, по множеству непосред-
ственных, «из природы» наблюдений. Рассказ относится к 1900 г., когда Черт-
ков жил в Лондоне. Русская курсистка, 26 лет, приехала сюда отдохнуть и
случайно узнала, что по соседству с нею живет Чертков.
28 августа. «Друг великого человека!» — уже это одно облекает лич-
ность каким-то ореолом: ведь когда солнце отражается в воде, то она блес-
тит так, что глазам больно.
И я была вся полна ожиданием увидеть существо высшего порядка.
Он встретил меня просто и приветливо.
115
— Очень приятно познакомиться. Вы где же учитесь?
— В Париже, на юридическом факультете.
—Это почему же вы избрали себе такие науки?
— Я хотела бы быть адвокатом.
— А-а... мужиков обирать будете?
Я была озадачена и обижена.
— Ну, перестань, пожалуйста, — видишь, как ты смутил барышню, —
примирительно заметила его жена, уже немолодая, замечательной красоты
женщина.
Я горячо стала доказывать ему, что у нас, юристов, и в мыслях нет за-
мышлять что либо против мужика, что мы, наоборот, хотим идти к нему на-
встречу, развивать в деревнях подачу юридической помощи населению; что,
кроме того, я лично хочу отстаивать право женщины на самостоятельное су-
ществование, чтобы она имела те же гражданские права, как мужчина.
— К чему права?—спросил он.
— Если отрицать всякое право вообще, то конечно да; но мы живем не
в мире грез, и женщине, при ее юридическом неравноправии, куда как трудно
бороться с тяжелой действительностью. Мы одинаково рождаемся на свет,
хотим жить, а в беспощадной борьбе за существование—как мы вооруже-
ны, позвольте спросить? Вот я и высшие курсы кончила, а прав у меня все
равно никаких. Даже заведывать учебной частью в женской гимназии не
могу, на это есть директор, хотя я образованна не менее его...
Он слушал молча, и мне казалось, что слова мои для него звучат чем-
то странным — точно все, о чем я говорила, имело самое ничтожное зна-
чение...
Я все-таки осталась довольна. Наверное, когда рассмотрю его побли-
же, то увижу в нем то необыкновенное, что привлекло к нему сердце вели-
кого писателя земли Русской».
31 августа. «Я мало-помалу перезнакомилась и ориентировалась в
обществе моих соотечественников. Они живут здесь целой дружной боль-
шой семьей — в большом доме на берегу моря. Сад, огород, чудное место-
положение делают этот уголок очаровательным. Русские путешественники
все находят здесь самое радушное гостеприимство, и потому можно уви-
деть самых разнообразных людей. Проезжают и ученые, и литераторы, и
просто так путешествующие...»
Описывается хозяйство... Дьяконова приняла самое деятельное учас-
тие в работах на огороде и—чего от нее не ожидалось—перевозила навоз
на тачке. Заведывавший огородом брат хозяйки называл ее «работницей»,
она его — «хозяином». Все в высшей степени нравилось свежей девушке.
«Не знаю, — пишет она, — что может быть лучше физического труда на
свежем воздухе, он действует на меня прекрасно: развивает силу, пробуж-
дает энергию, поддерживает какое-то ровное, спокойное настроение... К
вечеру, усталая, я возвращаюсь домой, чтобы заснуть крепким сном без
сновидений».
116
Таким образом, она не была против толстовства. И вообще на все дело
смотрела без «принципов».
2 сентября. «Никогда, кажется, не забыть вчерашнего дня. Мы ехали
на собрание какого-то общества в Bamemonth. Он (Чертков) предложил мне
сесть в экипаж, которым правил сам. И дорогой завел разговор о цели и
смысле жизни и попросил позволения указать их мне.
Хотя я и не нуждалась ни в чьих указаниях и выработала свое мировоз-
зрение не с чужих слов, а собственным нелегким и упорным трудом, все же
приготовилась выслушать с почтительным вниманием.
— Цель жизни—служение добру. Вы призваны здесь совершить свое
служение и сделать столько добра, сколько можете...
«Вот наконец начинается интересный разговор»,—с восторгом подума-
ла я и спросила, ожидая проникнутого необыкновенной мудростью ответа:
— Что же мне делать?
—Добро.
Это было совсем даже неопределенно. Добро—добро, но мне хоте-
лось бы, чтобы он говорил более реально и менее отвлеченно.
—Новы объясните мне, в чем оно должно заключаться, как проявлять-
ся?.. Хорошо, — вы можете жить, не ломая себе головы над вопросом о зара-
ботке, а мне в будущем он необходим. Помнится, я уже как-то объяснила вам,
что педагогики не люблю и считаю нечестным ею заниматься, раз не чув-
ствую в себе призвания. Медицина никогда меня не интересовала. Так что
вы, если хотите дать совет мне лично, должны принять сначала в соображе-
ние то, что я рано или поздно должна буду считаться с вопросом: чем жить?
— Живите и распространяйте кругом себя свет добра, насколько вы
можете.
— Да вы сначала ответьте на мой вопрос, — настаивала я, начиная
терять терпение от этого уклонения в сторону.
Он пожал плечами.
— Поступите в гувернантки.
«О, лучше бы ты была нема и лишена вовсе языка!» — вспомнилось
мне отчаянное восклицание героя гоголевского «Портрета», и я едва не по-
вторила его вслух.
... Я даже и не возразила ему ничего; а он был, очевидно, убежден, что
делал хорошее дело, наставляя на путь истины».
7 сентября. «... Какие это славные молодые люди, добродетельные и...
неинтересные! Толстовец (один из гостей) явно не симпатизирует мне. Он
какой-то односторонний, видно, что не одобряет во мне абсолютно ничего:
ни моих идей о равноправности женщин, ни того, что я на юридическом
факультете; даже то, что я усердно занимаюсь физическим трудом, не рас-
полагает его в мою пользу. И он при всяком удобном случае готов читать
мораль о братском отношении к людям. И каждый раз мне так и хочется
сказать ему, что в нем-то именно как раз я братского отношения к себе и не
вижу, а только скрытое молчаливое осуждение всего моего существования».
117
9 сентября. «Я все присматриваюсь к этим людям и чего-то жду от
них... Жду, чтобы они стали ко мне ближе, поняли бы, насколько нужны,
необходимы мне поддержка и участие.
Но нет... каждый из них слишком занят своими делами. Все относятся
просто вежливо, но, в сущности, безлично. ..Ия чувствую, что невидимая
стена отделяет меня от них, перешагнуть которую невозможно...
Я начинаю приходить к убеждению, что никакая проповедь любви не в
силах изменить природы человека. Если он рожден добрым, обладает от
природы чутким сердцем, он будет разливать кругом себя «свет добра» бес-
сознательно, независимо от своего мировоззрения. Если же нет этого при-
родного дара—напрасно все. Можно быть толстовцем, духобором, штун-
дистом, можно проповедывать какие угодно реформаторские идеи и... ос-
таться в сущности человеком весьма посредственного сердца.
Потому что как есть великие, средние и малые умы — так и сердца.
Человечеству одинаково нужны и те, и другие.
Характерно, что близкий друг нашего великого писателя обладает этим
«добрым сердцем» отнюдь не более, чем другие обыкновенные люди. Сей-
час видно, что он пришел к своим убеждениям сначала головой и уже по-
том сделал себя таким, каким он воображает, что должен быть.
Однообразно, точно заученно-спокойный тон голоса, одинаковый со все-
ми, а в жизни, в привычках остался тем же барином-аристократом, каким
был и раньше.
Он пишет книги по-русски, по-английски, принимает посетителей, уп-
ростил до крайности внешнюю обстановку: всюду, вместо дорогих пись-
менных, стоят столы простые, некрашеные, а весь его большой дом дер-
жится неустанной работой мужика, беглого солдата Мокея, который, копая
со мною картошку, как-то сказал: «Работы очень много! Вертишься, вер-
тишься день-деньской без устали, то туды, то сюды, а нет того, чтобы для
себя, значит, свободного времени».
И Дьяконова кончает, сравнивая с толстовцами свою хозяйку-англичанку:
«Я предпочитаю мою миссис Джонсон, гостиная которой обставлена
элегантно, но которая сама моет полы, стирает белье, и делает все это со-
вершенно просто, без всяких нравственных проповедей, потому что с дет-
ства привыкла к труду».
Последняя запись:
«На днях рубили капусту под окнами его кабинета. Он высунулся и
спрашивает:
— Что это такое?
— Капусту рубим, — ответила горничная.
— А-а-а! — снисходительно удивился он.
Я остолбенела. И этот человек, прожив столько лет в деревне, бывший
гласный земства, демократ,—не видал никогда, как рубят капусту'.»
Эти замечания натуральной русской девушки (всего 26 лет!) так хоро-
ши и свежи, они так везде бьют в цель, что перечесть их интересно будет
118
всему русскому обществу. «Толстовство» или, вернее, «чертковство» не
ложно, — о, нет! Оно—мертвенно, и в этом все дело. Оно все «сделано»
на верстаке человеческой мысли, человеческого измышления: и на нем не
растет ни одной зеленой травки. Якобы «из деревни»—оно коренным об-
разом расходится именно с «деревнею», понимая под нею не одни хижины
такого-то фасона, а вообще «натуру», «матушку-землю», «зеленый лесо-
чек», «чистое поле». И еще оно расходится с гением, с талантом. Чертков
беспримерно убогий человек, именно—убогонький. Он оттого и ненави-
дит «натуру», заменяя ее везде «рассуждениями», что «натура» всегда ге-
ниальна, везде сильна, везде «своя» и «сама»: и это все прямо ненавистно
убогонькому деспоту. «Натура» вот этой курсистки, юристки, ну—репей-
ника, ну — нелепо растущего, но, однако,—со своим стеблем, который по-
своему тянется к солнцу.
— Не надо натуры! Вот — я!
Боже, каким образом Толстой мог подчиниться такому... Старость, стар-
ческое изнеможение—только этим и можно объяснить.
ПАМЯТИ
ИВ. ЛЕОНТ. ЛЕОНТЬЕВА-ЩЕГЛОВА
... Я знал Ив. Леонт. Леонтьева-Щеглова уже в увядании сил: и образ его
неразделен для меня с образом человека в непрерывной грусти или недо-
умении. П. П. Перцов хорошо оттенил его литературное положение. Жить
бы Щеглову надо в беззаботное и остроумное время, время чисто литера-
турное. Тогда талант его ярко бы расцвел и сам он прожил бы счастливую
жизнь. Но он не гармонировал со средою, и среда не гармонировала с ним.
Он попал в сильную и мутную волну, которая смяла его вдохновение и «на-
делала грубостей» человеку. Не жаль было бы этого всего, если бы в силе
этой волны заключена была чистая правда. Но волна была поистине мутна
примесью множества поддельных чувств, множества притворных мыслей,
множества тех грязных струек, которые бегут за всякой побеждающею си-
лой. Леонтьеву пришлось переносить не от силы общественного движения
и не от сильных людей в нем, но вот от этой мути, бегущей кому-нибудь и
вечно «вслед»... Здесь, в судьбе своей, он невольно сближается с недавно
же умершим П. И. Горленко, этим образованнейшим и культурнейшим че-
ловеком наших дней, которого также отодвинула в тень грубая, толкающая-
ся локтями толпа, рвущаяся к успеху.
Ах, литература, литература... Так все «обстоит благополучно» в тебе,
если поглядеть сверху или сбоку; и так много неблагополучного, если заг-
лянуть туда же снизу. Кажется, что литература работает «поставщиком»
благородных чувств на всю страну; благородных чувств и благородных
мыслей, наконец,—способов наиболее благородно относиться к ближне-
му... Всех поучает, и «указательный перст» ее торчит высоко над страною;
119
но приглядитесь, как накидывается она скопом на жертву из своих же бра-
тьев, которая ослабела, упала; сделала ошибку и еще раз упала: а то так
просто молвила слово не «вовремя» или не в тон остальным. Казалось бы,
«поддержать», «поднять по человечеству», следуя «указательному персту»;
закрыть собою, затенить ошибку или же принять укор на всех, на корпора-
цию, на всю «писательскую братию». Куда!.. Нет «братьев» среди писате-
лей: на «упавшего» накидываются, и разом, решительно все, у кого есть
чем уязвить — зубом так зубом, когтем так когтем, клювом так клювом.
Иной, сам весь избитый, ударяет хоть хвостом с выпавшими волосами.
Вопрос только в том, чтобы не поднялся и не показал сам зубы тот, что
упал: если есть признаки, что он не подымется и не защитит себя, на него
наваливается вся писательская «лава»...
То-то «любовь к ближнему»...
Леонтьев-Щеглов имел мужество в самую пору образования толстов-
ства-чертковсгва написать остроумную сатиру на него в «Русск. Вестнике»
под названием «Около истины»... Уже метка эта приставка: «около», ука-
зывавшая на моральный промах учителей... Здесь даны черты биографии
Черткова. Хотя толстовство само по себе было враждебно радикальному и
политическому течению нашей журналистики, тем не менее один этот по-
вод, что Щеглов коснулся жизни частного человека, хотя и с большою об-
щественною ролью и особенно с претензиями на роль, поднял на него все
литературные «скорпионы»... Никто не говорил, чтобы Щеглов что-нибудь
исказил, что-нибудь прибавил или вообще сказал какую-нибудь неправду:
правды его не отрицали, но он формально нарушил формальное правило
литературы или, точнее, тб, «что общепринято»... Тут именно был случай
поставить все в тень: могла быть ошибка такта у писателя, при самых
чистых и очевидно чистых намерениях. Но это было время, когда милли-
онер Чертков приступал к изданию целой серии маленьких морализующих
книжек («Посредник»), в компилировании которых могли принять участие
многие силы; издание могло потребовать сотрудничества множества писа-
телей-компиляторов. .. Только этим и можно объяснить, что во всех газетах
и журналах, дотоле обходивших молчанием Щеглова, имя его вдруг сдела-
но было печально-знаменитым...
Правдолюбивый, тихий и скромный Щеглов не умел бороться; да и
борьба вообще не сфера беллетриста. Последовали неудачи с его пьеса-
ми для театра; они «не одобрялись» к представлению на Императорской
сцене. Ив. Л-ч здесь горько жаловался на покойного П. И. Вейнберга,
председателя или видного члена комитета для рассмотрения пьес для
Императорских театров. Подрывался успех, подрывались вообще кры-
лья; подрезывались и источники хлеба и жизни. Ив. Л-ч ни с чем не
умел бороться.
Я знал его только в эту пору жалоб, бессилия и начинающихся болез-
ней. Было явно, что он писать, по крайней мере ярко, не может: а для писа-
теля если не писать — значит и вообще не жить. В последние же годы его
120
постиг удар в личной жизни: опять пассивно, без всякой его вины, без по-
вода и неожиданно. Иван Леонтьевич все мерк: и чувствовалось, что этой
звездочке не разгореться.
Но его любили все, кто близко знал. За обеденным столом, вдень ангела,
собирались его друзья—И. И. Ясинский, Ал. Ал. Измайлов, М. М. Федоров,
редактор «Слова» и «Литературных прибавлений в Торгово-Промышленной
Газете», В. А. Амфитеатров (пока был здесь), непременно Горленко и еще не-
пременнее его как бы «телохранитель», В. М. Георгиевский, руководитель
школы церковной живописи... Среди них тихо ходил и тахо говорил хозяин. У
него все было тихо: давний и незаметный для друзей недуг подтачивал его
силы, и уже давно сточил их. В разговоре совершенно отсутствовало что-ни-
будь нелитературное. Я не знаю другого писателя, который был бы так... не
безразличен, но спокоен в отношении тем общественности и политики. В ком-
натках его как будто жили тени Гоголя и Пушкина, коих вещественные релик-
вии у него хранились крепко запертыми в шкафах... Все воспоминания о них;
маленькие рассказы; анекдоты; да еще о любимце его Джером-Джероме; да
еще о М. Г. Савиной... Еще—о Чехове.
Он был как бы ослабевшею няней около их памяти. Все шумело дру-
гим и новым; все бежало к новым и новым задачам. Вырастали новые сла-
вы, новые имена. Иван Леонтьевич ничему не мешал, ничему не противил-
ся: но только он отходил в сторону, отгораживаясь в свой угол со своими
воспоминаниями. И комнатки его напоминали «нянюшкину жизнь» и «ня-
нюшкино занятие»: это был маленький литературный музей, коего он был
искусным и умным собирателем и хранителем. Но он любил не вещи сами
по себе; к вещам у него не было никакой привязанности. Сквозь вещи он
любил людей, связываясь с ними как-то осязательно через эту осязаемую
вещь. — «Вы знаете ли, что такое этот красный графин? Мне его подарил
(такого-то числа, в день моего юбилея) Павлищев, вон тот старичок, сидит
в углу: это дорожная фляжка Пушкина. Ее он всегда клал с собою в сани...»
И портреты Чехова, Тургенева, Диккенса, все глубоко личное, особен-
ное, ничего торгового и шаблонного, кругом глядят со стен, с этажерочек, с
каких-то столиков... Избави Бог дотронуться и что-нибудь переместить...
И милая шутка хозяина вьется около всего этого. Он постоянно шутил.
Он никогда и ничего не «излагал»... Видно было, что юмор есть его врож-
денный и главный дар.
И все собирался писать, и все хотел писать, непременно писать... Ах,
если не «писать» писателю, как ему в самом деле жить? А между тем «пи-
сать» — это так часто зависит просто от подтачивающего нас недуга, кото-
рого и сам недужный не видит или не понимает, да и врач иногда ленится
на него внимательно взглянуть... И хочет поднять крылья писатель, а кры-
лья не поднимаются. А как сказать ему: «Сложи крылья и только сиди».
Именно перед писателем невозможны самые обыкновенные слова...
121
Или полет, или могила.
И путь его, и жизнь, и в особенности личность необыкновенно чисты.
Это главная черта Леонтьева-Щеглова. Опять соединяешь его в этом с Гор-
ленко. Литература в высшей степени неблагоприятна д ля сохранения в че-
ловеке именно чистоты. Вся шумная, имеющая главным мотивом в себе
самолюбие, вся пропитанная соперничеством и ревностью, она «коптит»
человека, едва он опустился в эту сферу. Нужно что-нибудь особенно лю-
бить, любить постороннее, вне себя, чтобы этого избегнуть; любить боль-
ше, чем себя. Вот одно спасение. Это спасение Леонтьев нашел.
—Народный театр...
—Гоголь...
Да будет земля тебе легка, наш тихий общий друг...
200 ЛЕТ «ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА»...
(В. К. Саблер прежде, теперь и в будущем)
В «событиях дня» можно усматривать и казусы, около которых есть повод
посмеяться или поплакать недолгим плачем; но можно усматривать в них и
«принцип» или продолжение «принципа», около которого, как около верев-
ки, протянутой неизмеримо далеко взад и вперед, трется и трется русский
корабль... И тут возможны более долгие размышления.
Собственно, надо удивляться, отчего так долго не назначался «на свое
место» В. К. Саблер. «Свое место» для него есть обер-прокуратура Синода.
Кому же не известно, что во все время управления Синодом К. Н. Победо-
носцевым им управлял, собственно, не Победоносцев, очень редко появ-
лявшийся в Синоде, никуда ни на какие ревизии не выезжавший, с личным
составом духовенства почти нс взаимодействовавший, в «делопроизводство»
духовного ведомства совершенно не вмешивавшийся, а управлял изо дня в
день, из месяца в месяц и из года в год В. К. Саблер. И потому если раз
было решено вообще «вернуться паки на прежняя», то какой смысл имело
появление в должности обер-прокурора Синода кн. Оболенского, Изволь-
ского, Лукьянова? Появление их здесь до такой степени явно случайно и
«преходяще», что удивительно, как им самим не приходила на ум эта мысль,
что их берут только «пока» и... из осторожного соображения, что «нельзя
же вдруг»... Все три лица эти были совершенно чужды Синоду, чужды во-
обще церкви, и в ее великом, и в ее малом, в ежедневном и вековом. Идей
они никаких не могли обнаружить, по самой отчужденности для них всей
этой области; а сверх этого, они и не знали вовсе самого «делопроизвод-
ства», т. е. ежедневности текущих дел, практических дел, которые надобно
знать, по крайней мере, с формальной стороны. Время управления этих трех
обер-прокуроров кажется просто «междуцарствием»... Так как они явно не
имели и не могли иметь власти, веса и авторитета, присущих уже целых
122
почти два века лицу и должности обер-прокурора, то единственный инте-
рес и ценность времени их управления заключались в ответе на вопрос: что
же именно может делать русское духовенство, когда почувствует наконец
себя развязанным? Какие новые события начнутся в церкви, когда пресс
обер-прокуратуры будет с нее снят?
Вот этот вопрос интересен. Не будем, однако, останавливаться на нем.
* * *
Победоносцев был слишком литературный ум, слишком философствующий
ум и, наконец, как все философы, был лично и практически слишком ленивый
человек, чтобы входить в «черную работу» Синода и его необозримых канце-
лярий. Он только клал свой «перст» на чашу весов в таких вопросах, как духо-
боры или пашковщина, как католичество в Северо-Западном крае, как креще-
ние детей не в православие в случаях смешанных браков. Здесь он выступал
страстно, настойчиво и обыкновенно добивался «своего». Он держал высоко
«знамя церкви», или, соответственнее, «хоругвь церкви»,—даже не столько
по вере в эту хоругвь, сколько «к досаде века». Вот «подосадовать свой век»,
«оспорить свой век» везде, где можно, склонить «чашу весов» против ожида-
ний века, к мучению века, к озлоблению человечества, — в этом состоял его
пафос, вовсе не консервативный в собственном смысле, отнюдь не ретроград-
ный, а какой-то мучительно спорящий и вечно спорящий. «Мне, при изуче-
нии истории земства в России, пришлось ознакомиться с массою секретных
документов о нем и, между прочим, с воззрениями великих сановников госу-
дарства на самое существо земства и его целесообразность в России, так как
об этом иногда подымался вопрос в высших сферах. И что же мне открылось?
Открылось, что единственно Победоносцеву земство обязано своим сохране-
нием в России. Гр. Д. А. Толстой, назначенный министром внутренних дел в
начале царствования Александра III и будучи в апогее своей силы и влияния,
решил совсем покончить с земством. Энергия его известна, упрямство его
еще никогда не поворачивало назад, а время было такое, что против него и не
смел никто поднять голоса. Не Делянов же стал бы отстаивать земство против
Толстого и Каткова. Восстал один Победоносцев, и тоже с такой решительно-
стью и горячностью, что Толстому пришлось помириться на урывках. Я при-
вожу только один пример, но, прочтя массу секретных бумаг, я с изумлением
увидел, до какой степени действительная и именно секретная роль Победо-
носцева светлее того представления о нем, какое имелось».
Эти слова (я привел их почти буквально) были сказаны г. Сазоновым,
соиздававшим «Россию» вместе с А. В. Амфитеатровым, в небольшом сла-
вянофильском собеседовании у А. В. Васильева, не терпевшего Победо-
носцева в такой степени, как я еще не видывал. Т. е. слова эти были сказаны
против общего течения беседы и, следовательно, «не в угоду» никому.
Вот эти и подобные предметы, т. е. только обширного и принципиаль-
ного государственного значения или церковного значения, занимали Побе-
доносцева. А «черную работу», собственно, в Синоде делал всю Саблер.
123
Как делал? Что делал?
В одном из мелких рассказов Толстого из кавказской жизни передается
об одном офицере, «уже обрусевшем», но с немецкой фамилией, что он до
того восхищался всем русским, что другим его слушать было и приторно, и
смешно. «Например, эта вещь называется портянкой, — говорил он, разу-
ваясь, товарищу по походной палатке. — Я вас спрошу: есть ли в чужих
языках, например в этом неблагозвучном немецком языке, такое красивое
слово, как портянка?» Не часто, но, признаюсь, и мне приходилось виды-
вать такое увлечение «русизмом», и почему-то преимущественно немцев.
Степени этого бывают разные. Но мы совершенно ничего не поняли бы ни
в многолетнем «прилеплении» умного, патетического и нервного Победо-
носцева к спокойному Владимиру Карловичу, ни в особой роли последнего
в Синоде, ни вообще во всей его личности, теперь уже довольно историчес-
кой, — если бы не вникли в эту бесспорную и в высшей степени доброде-
тельную его сторону, что он со всей верностью и целомудрием, на какие
способен, полюбил и привязался к церковному «делопроизводству», к са-
мому духу и формам этого делопроизводства, к его порядку и беспорядку...
как тот офицер Толстого — к «портянке». То, что всем внушило бы и вну-
шает отвращение и скуку, что полно всякой безнадежности, что не движет-
ся ни вперед, ни назад и что есть в точности только сумма «личных», «по-
именных» казусов: «рассудить такого-то попа с таким-то дьяконом», «раз-
вести» или «помешать разводу» такого-то супруга с такою-то супругою,
«произвести внезапную ревизию такой-то семинарии» или «сменить сек-
ретаря в такой-то консистории», — все это, в чем задохся бы всякий сво-
бодный и нервный ум, каждый человек с душою и мечтательностью, все
это для В. К. Саблера представляет ту сладкую и необходимую «воду», вне
которой он задыхается как «рыба». Нет мелочей, — и он не живет; есть
мелочи, — и он весел, упоен, сыт.
Как в «делопроизводителе», — это, конечно, — незаменимая способ-
ность. Победоносцев мог заснуть или не появляться в Синоде, — просто
даже «к лучшему».
* * *
Этому отвечают и мелочи, о которых сообщалось в газетах при сообщении об
его «опять восшествии»... «В 9 ‘/г утра, войдя в церковь при училищном сове-
те (огромная церковь, очень красивая, в старом византийском стиле, но с ис-
торическими изображениями и из русской великокняжеской истории), В. К.
Саблер попросил случившегося здесь протоиерея отслужить благодарствен-
ный молебен. В10 ч. поехал к митрополиту Антонию, в лавру. А в 11 часов, —
так как в этот день было заседание Синода, — он явился в Синод и, сев за
обер-прокурорский стол, потребовал текущие дела и повел все заседание».
Скоро, быстро, легко, привычно. Все отчетливо. «Какие же сомнения?»
И затем, недели через три после назначения, «выехал из Петербурга
для обозрения» какой-то далекой губернии. Все точно «по этому фельето-
124
ну». Ни речей, ни обещаний. «Что же случилось? С 1905 года? Было дело-
производство, — будет делопроизводство. А что показалось между двумя
делопроизводсгвами, то именно только показалось, а на самом деле ничего
не было».
Еще при Победоносцеве и до всяких «ожиданий» мне было рассказано
о В. К. Саблере:
— Нельзя достаточно изумиться его терпению при слушании разных
«дел», огромной памяти, живой, точной и отчетливой, и той быстроте яс-
ных резолюций, которые он кладет на «дела». Он никогда не устает, вечно
свеж... И при массе людей, ожидающих «резолюций», которых в былое
время приходилось ожидать годы, это качество—благодеяние для людей и
честь для всего Синода. Помилуйте, сколько людей от него зависит, сколь-
ко «дел» от него зависит.
Русский человек ленив, почти всякий ленив. И эта «немецкая выправ-
ка» в делах и деловитости драгоценна.
Но идея? Дух? Направление будущего?
— Терпеть я не могу,—сказал он однажды просто и прямо, — когда,
читая шестопсалмие (или кафизмы), читают его не полно, с пропусками.
Псаломщик, по-старому дьячок, утомляется читать, но Владимир Кар-
лович не утомляется слушать. Не помню, сказано ли им это было самим, и
я случайно услышал, или мне это кто-то передавал, но это, во всяком слу-
чае, точно. Нет человека, более преданного всему «обиходу» служб, всей
красоте и смыслу богослужения. Лично он двинул в нем только устную
проповедь, к чему Победоносцев был равнодушен, почти неприязнен. Но
вообще Саблер, «любя все это дело», в высшей степени усиливается внести
в него распорядок, просвещение (не очень большое), добросовестность в
несении каждым своих обязанностей. Все — «к лучшему». Но именно в
«делопроизводстве». Желательно, чтобы завтра мы жили лучше, чем вчера,
но по строгому методу этого «вчера».
«Созыв церковного собора»,—бумагу о чем он когда-то скрепил своею
подписью, — по всему вероятию, был в его «житии» афоризмом, который
может и не продолжаться. Он ни из чего не вытекает в его личности и всей
предыдущей деятельности. Сказать ли больше? Он не вытекает вообще из
«жития» русской церкви. Страстные жалобы, которые иногда несутся здесь,
несутся из среды самого духовенства, суть все жалобы на боль существова-
ния, на неудобство в существовании, униженность, бедность, несвободу,
тяжелую зависимость от архиерея или консистории, застарелость порядков
в семинарии или академии, деспотизм черного духовенства над белым и
проч., и проч. Боль... Но она устраняется административно еще удобнее,
чем при совещании, где будут «споры». Саблер—вершитель, а не диалек-
тик. «Спор» в самом существе своем чужд всей стихии его души. Гораздо
легче он устранит «боль» месяцем, годом, годами упорной работы, нежели
введет церковный корабль в столь смутное и волнующееся «море», как цер-
ковный собор. Последний в яркой нужде своей возникает только там, где
125
церковь вдруг сама в себе начинает что-нибудь не понимать, что-нибудь ей
самой становится неясным в собственном учении. Собор вообще возможен
в церкви не обрядовой, а философствующей. Но русская церковь обрядо-
вая; самые секты в ней всегда возникали на почве нарушения обряда, иска-
жения обряда, — вернейший признак, что это и есть ее центр, ее суть, ее
жизнь. Что же тут поможет собор? К чему он здесь? По духу и традиции
всей церкви, всех ее судеб, самый собор станет только обрядом, новым ве-
ликолепием в ризах церковных, без существенной в чем-нибудь прибавки.
«Собор» превратится в «великолепие соборного заседания», особенно пыш-
ного и торжественного, особенно умиляющего глаза верующих... Но что-
бы «уши» верующих что-нибудь особенное на нем услышали, то этого нельзя
ожидать потому уже, что они вообще 200 лет ничего не сл ышат, кроме «чте-
ния проповеди по тетрадке». Скажите, пожалуйста, как, говоря 40 лет «по
тетрадке», я на 41 -й год заговорю от себя, от сердца, от души и свободно?
Это делается постепенно.
В самой церкви для собора нет условий. Боли устраняются админист-
ративно, для болей просто смешно «собирать собор». «Собор»,—если не
копировать бессодержательные московские соборы, — всегда собирается
для определения вероучения. Но о «вероучении» сомнения существуют вне
церкви, а в самой церкви этих сомнений нет; вне церкви и «соборы» или
«соборики» существуют подспудно и тайно, — этим жил и двигался весь
русский раскол. Но раскол—не церковь. Церковь в собственном содержа-
нии, во внутреннем содержании условий не имеет.
Она держится или, точнее, она зиждется на безусловной, непререкае-
мой уверенности в совершенной, полной и окончательной истине всех тео-
ретических своих утверждений, принятых еще из Византии, — утвержде-
ний, которые даже и не перечитываются, не то чтобы передумываться...
Далее—на праведной жизни святых, обширно — на «человеке Божием»,
всегда лице, всегда светоче. Это—для совести, для душ. И на великолепии
культа. Это—для масс, для восхищения народа-художника. Таков внут-
ренний состав церкви, — «иже суть». Что же к этому составу прибавил бы
собор? Или что он с этим составом может сделать? Никакой «собор» свято-
го не создаст; к «культу» никакому собору не дадут дотронуться; об «уче-
нии» ни у кого никакого сомнения, кроме некоторых капризных светских
умов, по поводу которых духовенству нет причины волноваться потому, что
народная громада ими не волнуется. Что же «собор» сделает? Назначит
жалованье духовенству? Переменит устав семинарий? Введет в семинарии
физику или, наоборот, исключит и арифметику? Ревизует суммы и доходы
лавр? Еще отяготит или несколько облегчит участь снимающих сан? Ре-
формирует бракоразводный процесс? Но, поистине, не будет ли уничиже-
нием самой идеи «собора», — идеи великой в истории и имевшей свою
великую историю, если драгоценное имя его приложено будет к тому, что,
торжественно заседая, в «пламени и громе возвестит», что семинаристы по
126
воскресеньям могут посещать кинематографы, если в них не содержится
ничего соблазнительного или «поколику они не вредят христианской нрав-
ственности».
Все это Влад. Карлович может и «сам»... Побережем имя, побережем
идею... 'Не будем касаться их руками в безыдейное время. Я веду речь к
тому, что «собор» надо было заработать, и заработать во время предше-
ствующее, вот во все эти двести лет... Заработать чем? Как? Мыслью. Ее-то
и не было, и не было все 200 лет. Все «служили», «дослуживались», восхо-
дили совсем «наверх»... И когда оказывались совсем «наверху», — раски-
дывалось такое чванство, точно в Персии или в Китае.
Подите в Щукинский музей, остановитесь перед портретом митропо-
лита Платона, «иже в славе»,—еще молодого, опершегося рукою на стол и
выставившего как для поклонения грудь, живот и бока, увешанные свер-
кающими орденами, лентами, звездами... Простойте час, не менее, перед
портретом и думайте, все смотря на портрет, о судьбах «христианства на
Руси». Много поймете... много нового придет на мысль. Платон на соборе,
конечно, «возгремел» бы... о том, что не нужно семинаристов пускать в
кинематограф. Или, наоборот, что нужно... Все равно... И «нужно», и «не
нужно»... «Нужное»—не нужно, а «ненужное» — нужно. Решительно все
равно. Больше никакой мысли, и притом у первенствующих умов. Даже
Хомяков не разжеван, не прочитан. Для чего же собор? О чем он станет
думать? На бездумной глади Руси собор, так сказать, метафизически невоз-
можен, хотя бы он физически и был возможен и даже осуществился. И «осу-
ществится», — ничего не будет, ибо не потрудилась Русь трудом правед-
ным, трудом духовным...
ОБ ИНТЕНДАНТАХ
Неужели нет способа «принять товар в казну» без взятки, злоупотребления
и проч.? И суд в старое время, т. е. при прежней системе, брал взятки. Пере-
менили систему — и взятки исчезли. Явно, что в интендантских злоупот-
реблениях центр дела лежит не в лицах, а в системе. «Злоупотребительные
лица» всегда найдутся в стране, в службе. В интендантство явно и шли люди,
«чтобы злоупотреблять». Так уже туда и текли. Интендантство тянуло грязь
в себя, как насос.
В суде исчезли взятки, когда «решать вопрос о виновности», т. е. глав-
ный вопрос для того, кто «мог бы дать взятку», стали не коронные судьи, не
постоянные чиновники, служащие в данном месте много лет и преступни-
ку известные, — а «неизвестно кто, позванный со стороны», всегда вновь
для каждого дела и новый для каждого преступника. Тогда «подкупить не-
кого» и «подкуп исчез».
Неужели нельзя если не это, то что-нибудь подобное придумать д ля «при-
ема товаров в склады»?
127
Сделать, чтобы или 1) чиновнику, принимающему товар, было неизвес-
тно, чей товар, или 2) сдающему товар поставщику не было известно, кто
именно скажет решительное «да» о приеме.
Ведь подаются для рассмотрения сочинения или проекты памятников в
конкурсы, причем имена конкурентов хранятся в запечатанных конвертах,
которые вскрываются не ранее, чем когда проект памятника или поданное
сочинение уже «одобрены». К такому «одобрению» в интендантство могут
подаваться товары в один день и час разом от всех фирм: причем судьи-
интенданты входят в помещение, с разложенным по ларям товаром (от всех
фирм), и видят только товар, без всяких клейм фирмы, а только с условлен-
ными знаками, условленными сейчас перед приемом, в отсутствие интен-
дантов и каким-нибудь позванным со стороны человеком; наконец, «зна-
ки» могут выкидываться лотереей, каким-нибудь механизмом, без созна-
ния, автоматически. Тут достаточно час подумать искусному человеку, что-
бы придумать. Совершенно возможно лишить оценщика знания, чей товар
он принимает.
Товары десяти фирм внесены в помещение.
Перед ними лари за номерами: 1,2,3... 10.
Фамилии фирм написаны на билетиках, которые все смешаны и поло-
жены в урну.
Призывается гимназист I класса IV гимназии, и ему предлагается вы-
нуть билетики с фамилиями. Первая фамилия — «Алафузов». Товар его
кладется на ларь № 1. И т. д. до последнего. Когда кончено — все присут-
ствующие при процедуре размещения товаров выводятся в одну дверь и
остаются в комнате «с завтраками», дверь которой запечатывается.
Помещение с товарами—пусто. Только тогда отворяется другая дверь,
и в помещение входят приемщики, «уже позавтракавшие» и тоже сидевшие
в запечатанной комнате, пока производилось размещение товара. Результат
его осмотра они выражают в знаках, которые кладутся на кипы товара. За-
тем удаляются. Входят третьи лица, ну, рабочие с тачками, которые отвозят
товар с бляхами «одобрено» в интендантские склады, а с бляхами «не одоб-
рено» — на улицу.
Другая система. «Подошвы сапог ломались, как пряники,—и они при-
нимались», — сказано в обвинительном акте. Это слишком явно и слишком
элементарно. Т ут экспертом может быть всякий. Нои для более тонкой эк-
спертизы может быть сделано следующее: к «приемной комиссии» посто-
янных чиновников прибавляется всякое утро пять-шесть, два-три лица, из
приказчиков частных магазинов, из техников разных заводов и фабрик,
имена которых «вынулись жеребьем», и, следовательно, имен этих абсо-
лютно не знал никто за час. Наконец, таким же «жеребьем» могут выни-
маться прикомандировываемые в «приемную комиссию», имена просто
офицеров и унтер-офицеров из полков... наконец, — просто чиновников из
разных ведомств. Мало ли таких в Москве, — да и в каждом интендант-
ском городе. «Нужно взять человека со стороны, свежего»; взять в своем
128
роде «присяжного заседателя», или «присяжных заседателей», который
«пришел, сказал и ушел». Сами же поставщики говорят, что давать (взят-
ку) в первый раз ужасно трудно, мучительно, не знаешь, как, совестишь-
ся: вот этим и надо воспользоваться, устранив «проторенные пути» в сдаче
товаров; т. е. чтобы каждая сдача производилась «по новому пути» и перед
«новыми лицами».
Я подумал всего пять минут и вот сколько придумал. Неужели же нельзя
придумать лучше, придумать совершеннее, продумав месяц, год?
«ВПЕРЕДИ СЕБЯ ГИБЕЛИ НЕ ВИДИШЬ»...
(О гибели детей Нобеля)
Гибель детей Нобеля мерещится ночью...
Родители вчера были счастливы: богатство, положение, любимая деятель-
ность, «милая жена» и двое невинных, прекрасных детей...
Сегодня — ничего нет. И, главное, может быть, — никогда ничего не
нужно будет.
За несколько дней до этого сообщалось тоже об ужасной гибели детей.
Пятеро детей, очевидно совершенные малютки, оставшись одни, открыли
пустой сундук и все залезли в него. Известно, дети везде любят устраивать
«свою комнатку». Должно быть, крышку они прислонили к стене, и она сто-
яла круто. Должно быть, тронули тесемки, которые держат крышку, они—
натянулись, крышка, едва-едва бывшая вне «момента безразличия», пере-
шла «сюда» через него и захлопнула всех пятерых в сундуке. Конечно, они
кричали... Конечно, головками и ручками старались ее поднять,—но, вер-
но, петля попала «куда нужно» и заперла их... Долго не входил никто, а
когда вошли и, не найдя детей, подняли крышку — под нею нашли пять
задохшихся трупиков... Можно представить состояние родителей!!
И никто не спас, не помог, не услышал. Никогда никто не предупреж-
дал о возможности такого ужаса. Никто его не предвидел: самое главное!!
Если бы предвидели...
Ведь что же стоит запереть пустой сундук; что стоило схватить двух
малюток Нобеля и с ними выскочить в окно первого этажа. Но, «ничего не
предвидя», гувернантка пошла «в мезонин», должно быть написать письмо
родным. Днем — была занята, будить светом детей не хотела, и именно
«без барыни», без ее возможного косого взгляда «на свою работу», — от-
правилась. И об этой гувернантке можно сказать, что, если она с душою, —
она не может не быть близка к помешательству.
Такой ужас... «в сущности, я виновна». «На меня были оставлены дети».
«Но я ничего не предвидела»...
Никто не предвидел. Сама мать, отправившись в Петербург «за покуп-
ками», — ничего не предвидела. Купила «покупку».
129
На Волховом кладбище, не так давно, я вышел из церкви «покурить». И
закуриваю от мастерового с мальчиком. Молодой, лицо умное и энергич-
ное, с мыслью; очень красивое, немного угрюмое. Мальчик—должно быть,
сын. Смотрю (он сидел) — у него нет руки и ноги.
— Как же вы потеряли руку и ногу?
—Паровозом отрезало.
— Попали под поезд? Нетрезвы были?!!
— Нет, трезвый. Переходил через дорогу. Да не успел. Слава Богу, жив
остался.
Тут я заругался:
— Да куда же ты торопился? Да что же за дурак, чтобы не перейти
через дорогу позади поезда! Кто же переходит перед поездом!!
— И не торопился, — возразил он спокойно. — Разве б я сунулся, если
бы мысль, что не перейду. Думал спокойно, что перейду.
Помолчав:
— Впереди себя гибели не видишь.
Как дохнула история, как проговорили века... В самом деле, все не-
счастья по единственной причине происходят, что «впереди себя гибели
не видит человек» и что это уж так — данное, с чем рожден человек, одна
из черных полосок на судьбе его... Что-то злое, неведомое и несчастное,
что около каждого из нас кладется в колыбельку безыменной, злой вол-
шебницей. Болезни—откуда они приходят (некоторые, «беспричинные»)?
Откуда в них «поворот к худшему», часто непредугадываемый лучшим
врачом? И эти ужасные «случаи», как с детьми Нобеля и с теми пятью
детьми.
Разве бы их оставила мать, «не полагайся вполне на гувернантку»?
Разве гувернантка пошла бы «в мезонин», не будь самой тишиной и
миром засыпающего дома вполне обеспечена, что все «слава Богу» и «бла-
гополучно».
«Тихие ангелы летают»...
И вдруг «ведьма», — проскользнула как черная кошка в дом, — и
зажгла его... То, верно, потихоньку от барыни и гувернантки чистила
бензином какую-нибудь нарядную тряпку горничная, при зажженной
свече.
Бензин испаряется... Пар или газ его коснулся пламени свечки... Пла-
мя по струйке газа скользнуло в открытый пузырек с бензином: склянка
разорвалась, а кухня или девичья уже вся горела от пылающего газа бензи-
на. .. Все это прежде, чем горничная что-либо сумела понять. Так прибли-
зительно можно объяснить дело: ибо плита, очевидно, была погашена, ке-
росиновой лампе отчего же беспричинно опрокинуться, а от «папироски»
пожар не бывает так бурен и скор. Всего верней—бензин, самый опасный
(по свойству испарения) материал, которого следует избегать держать в дому,
по крайней мере не держать его в горючей даче.
130
И еще осторожность: взрослым и вообще «ответственным людям» нуж-
но к ночи обходить дом и лишь тогда ложиться спать, когда все огни в дому
погашены. Это — вообще говоря, хотя к случаю Нобелей это не примени-
мо. Шел всего одиннадцатый час ночи, и прислуга, естественно, не ложи-
лась, т. е. у нее, естественно, где-нибудь горел огонь.
* * *
Об этом и подобных случаях Христос сказал:
— И ни они не согрешили, ни родители их...
Он сказал это об убитых упавшею Силоамскою башнею, когда Его спраши-
вали: «Кто тут виною?»...
Как ни страшен здесь совет, но хочется о всех подобных случаях явного
несчастия сказать: не ищите виновного.
Только себя измучаете, отравите... Нет, это—чистое горе, из которого
нет исхода. «Хоть засудите весь мир» — легче не будет. Уже ничто их не
вернет...
А это одно бы нужно! Ах, как нужно! Вот где поверишь в «бессмертие
души» и что «встретимся там»...
* * *
Подобные случаи ужасно пугают. «Мерещится ночью»... Мыслью живешь
с родителями...
Народы, испуганные около таких «случаев», как и взволнованные око-
ло «нечаянных избавлений», тоже, слава Богу, бывающих, наполнили мир
«охраняющими добрыми духами», «ангелами-хранителями детей»; и на-
полнили его тоже «черными ведьмами», «черными тенями», «демонами»...
И поверишь в одних, поверишь в других. Ах, «суеверия народные» из боль-
шой глубины текут!
Нуте-ка, марксята, помогите-ка Нобелям; нуте-ка, строители социаль-
ного счастья, скажите им утешение.
Скажет старая няня, да скажет священник.
Скажет все-таки что-нибудь: «Со святыми упокой».
* * *
Вот случай, где никак нельзя выразить своего отношения к смерти и к усоп-
шему «вставанием». .. «Господа, ввиду горестного события, которое произош-
ло, предлагаю присутствующим (или читающим) — встать».
Только и можно на это «общественное отношение к смерти» отве-
тить:
— А подите вы к черту.
Ах, как меньше «общество», чем «человек»... чем «отец и мать», чем
вот эти Нобели.
131
«СТИЛЬ» В ВЕЩАХ
(К вопросу о реформе духовных училищ)
М. О. Меньшиков бьется-бьется над тем, чтобы объяснить духовным ли-
цам, поставленным во главе реформы духовных учебных заведений, соб-
ственно одно понятие, которого они не имеют... Это — понятие стиля.
Пока слово не выговорено, остается в неясности, о чем именно гово-
рится. Архиепископ Сергий финляндский, конечно, не менее нас всех же-
лает «добра церкви»; не меньше кого-либо желает, чтобы священники у нас
были «настоящие». В цели — нет разницы. Но орудием достижения цели
может быть только стиль. Дайте стильного священника', дайте русского
священника в нашем историческом стиле. Но этих вещей, этих возгласов,
этих лозунгов не понимают люди... лично, пожалуй, «стильные» (как очень
стилен архиепископ Сергий Страгородский), но в уме своем никогда не
останавливавшиеся на понятии стиля и на законах стильности.
Закон этот, собственно, один: отрицание «мешанины»; отрицание эк-
лектизма, чего-нибудь «сборного», «составленного»; отрицание полу-веры
и скопища вер. Всякий стиль, так сказать, глубоко монотеистичен... «Один
Бог и одна вера»... «Господи, Ты создал нас для Себя, и мы не успокоимся,
пока не успокоимся в Тебе».
Этот закон религиозной веры, переброшенный в культурную область, об-
разует понятие стиля. Его требование следующее: чтб бы ты ни созидал,
созидай так, как бы это созидаемое было одно на свете, и оканчивай его с
мыслью, что оно будет стоять вечно. Тогда созидаемое будет приблизитель-
но вечно и будет великолепно настолько, насколько это вообще достижимо
на земле. «Стильные вещи» вообще великолепны, и ими живет история.
Стильные вещи; стильные люди; стильные эпохи...
Вся история есть борьба и перемена стилей... Борьба вещей за их це-
лость; борьба вещей за их исключительность. Стиль — это всегда фана-
тизм; стиль — это всегда вера; стиль есть упоение: им упояются люди, он
упояет людей. Ради «стилей» велись войны, по преимуществу духовные,
но отчасти даже и физические. «Стиль католический», «стиль протестант-
ский!». Все понятно само собою.
М. О. Меньшиков говорит, конечно, о «стиле православном», который
есть, но как-то не открыт, не формулирован, не проведен через сознание; а
архиеп. Сергий финляндский хотя сам есть очень стильный православный
архиерей (мы все его знаем по Религиозно-философским собраниям), но
именно в силу «преизбыточествующей» в нем православной «стильности»
он мягок, уступчив, застенчив, скромен (всерусские черты) и когда начина-
ет говорить или писать, когда начинает действовать как «председатель», то
прячет куда-то в угол «свое», хоронит его, скрывает его: а наружу вытаски-
вает нисколько ему лично не нужное, не интересное, но что, по его мнению,
всеми требуется и ожидается, — «общее образование», которое в примене-
132
нии к духовным училищам есть просто «протестантская струя», «лютеран-
ская струя». Не углубясь в «науку стилей» (поистине, она есть), он не дога-
дывается, что его «духовные прогимназии» есть просто берлинская вещь,
штутгартская вещь, в которой не только нет ничего христианского или пра-
вославного, но ничего решительно нет и русского! А ведь он — русифика-
тор финляндских школ!
Вот что значит бессознательность, безотчетность... Мы, русские, очень
стильные люди: но в «наш стиль» входит именно мягкость, застенчивость,
конфузливость... И вот благодаря этой «предательской черте» в своем сти-
ле — мы решительно ему изменяем в каждом поступательном шаге исто-
рии и все более проникаемся чужими стилями. Ну, что архиеп. Сергию лю-
теранские веяния?.. Что ему «Гекуба». А вот подите: в самый важный дело-
вой миг своей биографии (реформа церковной школы!) он запел не как
южнорусский соловей, а как берлинский дрозд...
Суть лютеранства в этом применении к школе и есть раздвижение «об-
щего образования», при сужении собственно церковного. И только! Лютер
и лютеране, собственно, не имели силы создать своего церковного стиля;
сила их простерлась лишь на то, чтобы разрушить стиль католический.
Они это сделали: и по бессилию создать свой лютеранский стиль наполни-
ли школу «ботаниками и черчениями», а литургию заменили «публичной
речью господина в белых воротничках», который, Бог его знает почему, го-
ворит с высокого места в кирке... Да, еще: «петух на кирке» вместо «крес-
та». .. Стиль не так легко создать: и ни Лютер, ни Меланхтон решительно
не были гениальными людьми. «Честные филистеры»...
У нас, в России, — стиль есть данное, выработанное в истории. Со-
хранить его надо паче зеницы ока. В словах Государя о «церковном направ-
лении» духовно-училищной реформы выражена именно та мысль, чтобы
«школа, где готовятся священники, поддерживала исторический, налично
сущий стиль православия, а не расшатывала его впредь». — «Семинарии
суть кабак», — предсмертно выругался Победоносцев: конечно, не потому,
что там пьют водку, но вот по этой культурной бесстильности своей, по
«мешанине» программ своих, по эклектизму, безверию или смешению всех
вер; они «кабак» по разрушительному действию на единый, древний, пре-
красный стиль церкви.
♦ * *
Церковь вся зиждется на единстве души, полной наивной веры, упоенной и
восторженной в этой вере... Само собою разумеется, «алгебры» будут только
ее разрушать... Архиеп. Сергий пал на колени перед таким чудом, как «ал-
гебра», вероятно, потому, что сам ее плохо знает. Но кто «прошел алгебру»,
тому совершенно ясно, что это—наука «как все», чудес в себе не содержит,
а мешает тому единственному и нужному миру «чуду», целебному для мира
«чуду», которое заключается в молитве, в даре слез, в даре доверия (к Богу,
к людям), в даре какого-то святого воззрения на мир, как сотворенный Бо-
133
гом, где все люди—суть дети-младенцы Отца Небесного, волю Которого
они исполняют. Словом, «религия есть чепуха, ради которой не жаль жизнь
отдать» и еще «без которой мир не удержится», а полетит в тартарары. Вот.
Тут—все; ее «недоказуемость», ее «жизненность». Апостолы говорили не
иное, указывая, что они проповедуют то, что «миру кажется безумием». Воп-
рос семинарий и училищной реформы заключается в поддержании этого
«священного безумия», которое светит миру как солнце и без которого —
тьма, убийства, грабеж, разврат. Вот это — «чудо» уж не чета алгебре.
Как же это «чудо» подпереть ботаниками и черчениями? «Ботаники» и «чер-
чение» везде есть, часты — как булыжник на мостовой. Их вовсе не нужно.
Семинария должна быть «solo». Она должна поддержать «тайну мира», ир-
рациональную тайну, которую поэт так хорошо выразил, сказав:
И верится, и плачется,
И так легко, легко...
И еще тот же поэт:
Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно...
Вот... что такое «Свете тихий, святые славы»?.. «Видевше свет вечер-
ний, поем Отца, Бога»?.. Что такое «Иже херувимы»... Хоть убей, ничего не
понимаю в словах; но «хоть убей» — предпочитаю их достоверной алгебре.
Алгебра меня не утешит, а эти слова почему-то утешают. Почему?.. Кто
знает! Я — не знаю. Но когда умер у меня родной человек — как помогут
мне логарифмы? Изменил друг — в чем утешит языкознание? Потерял я
богатство: и что мне «русский язык и буква /Ь»?! Но «Свете Тихий» —
вдруг во всем необъяснимо утешает...
Утешает—здесь, укрепляет—там, светит душе в третьем случае. Везде
укрепляет, поддерживает, помогает жить.
«Алгебры» — как булыжник, везде. Оставьте же одно место, един-
ственное, где нас учили бы «Тихому Свету», навевали томления «вечер-
него света», откуда нам открывали бы эти непостижимые иррациональ-
ности, которые есть «чепуха», с одной стороны, для одного глаза, и «со-
кровище жизни», — с другой стороны, для другого глаза. Так хорошо и
сказано в этом нелепом языке: «сокровище благих»... Боже! да как мы
родимся? как умираем? Не все ли из «чепухи»?.. Родители «поиграли», а
потом «съела бацилла». Что за «чепуха»! Да, — не так ясно, как игра в
преферанс. Подумайте, все «науки» и есть эта «игра в преферанс», а «ре-
лигия» есть «чепуха», но из которой «весь свет вышел» и в которую «ухо-
дит весь свет».
Solo-семинария: и в ней, или еще бы лучше до нее, или в стороне от
нее — не больше года на «счет» (вместо «математики»), правописание, с
134
полным исключением «истории беллетристики», «французского языка» и
проч. Solo-семинария — как вероисповедная школа.
Но совсем другое дело... духовная академия и вообще высшие науки, эта
в своем роде «алгебра о молитве»... Она тоже вправе существовать, но как
совершенно отделенная от вероисповедности... Это есть анализ вероиспо-
ведное™, философия о вероисповедности. Вопрос этот совершенно другой,
и он даже не поднимается, когда поднят вопрос о духовных училищах...
ИЗ ВПЕЧАТЛЕНИЙ ДНЯ
Был на спуске «Полтавы»... Перекрестил ее «вслед», когда она скользнула в
воду... «В добрый путь! В добрый путь!»...
Было много дам, публики, «кого-то», корреспондентов, и ни одного учеб-
ного заведения в лице «учащих и учащихся». Конечно, процентов десять
их остались в Петербурге на лето, и для этих десяти процентов учеников и
учениц Петербурга можно было бы отвести место на подмостках. Чем учить
греческую «битву при Марафоне» для возбуждения русского патриотичес-
кого чувства, не яснее ли и ближе было бы показать им спуск на воду рус-
ского военного корабля? Но наше учебное ведомство никогда ни о чем не
догадалось, да и другие о нем, кажется, совсем забыли.
Спуск не произвел на меня того подавляющего, разбивающего нервы,
впечатления, какого я ожидал. По очень понятной причине: посмотрите в
улицу из окна 6-го этажа, и у вас закружится голова. Вы смотрите в про-
пасть. Но с мостовой поднимите глаза на 6-й этаж дома: ничего особенно-
го! Размеры здания, размеры горы, размеры всякого предмета, «вне вас»
лежащего, открываются, только когда вы взберетесь на него. Тут вдруг, как
высшая точка его же, этого предмета, вы вдруг осязаете глазом его неверо-
ятную массу!!.. Помню, как удивил меня «обыкновенностью величины»
даже собор св. Петра в Риме! И как, с другой стороны, я зажмуривался и
трепетал от страха, выглянув в окошечко колокольни Дом-Кирхе в Риге!
Ветер выл около меня, и мне казалось, сейчас все разрушится: а на площа-
ди было тихо, безветренно.
Поэтому учеников и учениц гимназий непременно надо будет провести
по борту спускаемого с эллинга судна, — если когда-нибудь вообще это
устроится или станет устраиваться.
Только войдя, после спуска, в эллинг, который весь, до потолка и стен
своих, был наполнен массою спущенного броненосца, я все-таки прибли-
зился к ощущению его величины: он был по размерам равен нескольким
пятиэтажным домам, поставленным в ряд! Таков и броненосец. Система
громадных домов, слитых в один организм и выпитых из стали!
Спуск произошел прекрасно, легко, «как с игрушечкой». «Играли» этой
игрушечкой, величиной с собор. Он скользил, ничего не задел и поплыл как
лебедь в водах при громе спускаемых якорей. «Слава Богу!» и «В добрый путь!»
135
* * *
Проезжая на спуск по набережной, я не мог не задуматься, видя и от Троицко-
го моста, и от Николаевского моста, как в виду одного подымается колоссаль-
ная мечеть, вновь отстроенная, а перед другим—синагога. Я не враг никаких
вер, но не странно ли, что с двух самых видных пунктов в Петербурге, и есте-
ственно наиболее проезжаемых, открывается архитектурная красота и не хри-
стианства, и не православия, а религий, их отрицающих? Я припомнил еще
реформатскую церковь на Морской улице, лютеранскую и католическую—
на Невском. Решительно, самые красивые пункты Петербурга, и вместе са-
мые парадные, выбраны иными верами как место для своих храмов. А где
православные храмы в Берлине, Вене, Париже, Лондоне, в Женеве (родине
реформизма)? Где-то «жмутся в уголке», надо «искать днем с огнем»?..
Что это? Темнота и безразличие городской администрации? Космополи-
тизм вообще русских и русского «петербургского периода»? Не понимаю...
Может быть, великая скромность русских... Их смирение, простота,
благодушие?
Дай Бог, чтобы последнее...
Повторяю, я никому не враг. Но все должно быть «в пропорции». Вот
пропорциональности и связанного с нею смысла я не вижу в соотношении
между религиями и церквами в Петербурге. Не странно ли, что для всех,
едущих через Троицкий мост, едущих и идущих «на острова», новая му-
сульманская мечеть закрыла массою прекрасный, старый Троицкий собор...
Странно, дико и смешно. Не исторично и не эстетично. Троицкий же собор
есть лучший в Петербурге по традициям, по историческим воспоминани-
ям... Это самое уютное религиозное место в Петербурге. И кто мог дать
Троицкий собор «в обиду»?!..
ФРАНЦУЗСКИЙ ТРУД О ВЛАД. СОЛОВЬЕВЕ
Очерк
Vladimir Soloviev. «Introduction et choix de textes
traduits pour la premiere fois» par J.B.-Severac,
docteur es-lettres, professeur de philosophic au
College de Chateau-Thierry. Paris, 1911*.
I
Талант быть громким, быть сразу заметным и оставаться заметным до
конца дней, — есть какой-то совсем другой талант, нежели быть глубоким,
интересным, значительным и плодотворным. Конечно, большей частью
* Владимир Соловьев. «Введение в избранные сочинения, переведенные впер-
вые» Ж. Б. Севераком, доктором литературы, профессором философии в Колледже
Шато-Тьере. Париж, 1911 (фр.).
136
первый дар и вторые дары совпадают, т. е. истинно значительное в то же
время есть и самое видное. Но не всегда. Достаточно напомнить о христиан-
стве, которое в первые годы существования и даже целый век не было «очень
заметно», гак что у языческих писателей-со времен ников не сохранилось даже
упоминания о нем. В параллель этому можно припомнить Ньютона: он от-
крыл «про себя» дифференциальное исчисление, названное им «теориею
флюксий»; но это открытие, составляющее целый и едва ли не главнейший
отдел теперешней высшей математики, лежало у него в письменном столе
неонубликованн ым целые тринадцать лет, пока то же открытие, сделанное и
опубликованное Лейбницем, не заставило и Ньютона наконец расстаться со
своими домашними бумагами и дать их на прочтение ученому миру Европы,
о котором он, очевидно, ничего не думал, ни «да», ни «нет».
Талант громкости проистекает из одного недостатка и одного достоин-
ства. Нельзя скрыть от себя, что он рождается от некоторого недостатка
внутреннего целомудрия, тишины и застенчивости; но в то же время нужно
признаться, что он проистекает и из подлинной любви к людям, братства с
людьми; из доброго и доверчивого к ним отношения. «Громкий человек»
вечно публикуется; не спешите думать, что это он «хвастается»: совсем нет!
Просто—он ничего в себе не удерживает, у него нет молчания. Если это и
«нехорошо» в некотором смысле, то превосходно в другом смысле. Если в
одном отношении «не совсем нравственно», то зато в другом отношении «в
высшей степени нравственно»! Что делать: есть такие противоречия и со-
вместность! Такой «вечно публикующийся человек», шумный, шипящий,
брызгающий пену во все стороны, привлекающий к себе всеобщее внима-
ние, в сущности, отдает себя в общую «еду», на «всеобщее употребление»,
делается некоторою «всеобщею евхаристиею», как в Мексике юноши, от-
давшие себя в жертву богу Солнца. Публика, обожавшая и даже «боготво-
рившая» юношу, разрывала его тело на куски и жадно поедала эти куски,
думая соединиться через это с «Солнцем»... Так в истории проходят эти
знаменитые «поедаемые» юноши и мужи, девы и женщины, которые с са-
мых юных лет необъяснимо волнуют около себя толпу, всегда любимы ею,
всегда сами ее любят; и не имеют другой жизни иначе, чем на глазах толпы.
Даже свои «тайны» они все публикуют; интимные переживания, задумчи-
вые грезы, передуманное и недодуманное, перепеченное и недопеченное,
по поговорке: «Что ни есть в печи — все на стол мечи».
Одни и другие люди, громкие и тихие, играют хотя совершенно раз-
ную, но одинаково необходимую роль в истории человечества. Без «шум-
ных людей» жизнь была бы как-то скучна, монотонна; уж слишком и до
зевоты добродетельна. Бог с нею,—нужно отдавать земле все земное. Пусть
мудрецы строят храм; в стороне от него, совсем в другой стороне, пусть
строят другие совсем иное здание—обширный театр, по древнему начер-
танию—«феатр», «позорище», «зрелище». И когда одним людям захочет-
ся помолиться, то пусть они помолятся; а когда другим людям захочется
сыграть комедию и даже водевиль, то пусть они тоже не стесняются.
137
Покойный Вл. Соловьев принадлежал, бесспорно, к категории этих не-
вольно-шумных и неодолимо-шумных людей. Что бы он ни пережил, даже
что бы с ним ни случилось, — он непременно об этом расскажет всем в
печати. Плыл он раз по Финскому заливу на пароходе, засыпал в каюте.
Вдруг вскочил в ужасе: ему показалось, что на плечо к нему уселся мохна-
тый чертенок. Можно было бы или испугаться до вечного молчания, или
рассмеяться как пустяку. Ибо есть люди, которые видят же «зеленого змия»...
Так и этак, но едва ли это есть тема для печати. Но Вл. Соловьев немедлен-
но изложил все в стихах:
Черти морские меня полюбили...
и проч. Из Лондона в Египет его позвала Небесная Дева... Он отправился в
Египет; затем, все манимый Девою, побрел пешком и без проводников в
пустыню и едва не был убит арабами, принявшими его за «шайтана», за
«духа»... И опять об этом подробнейше изложил «господам читателям» («Три
свидания»). По поводу этих «Трех свиданий», где Соловьев рассказывает, по
собственному признанию, о «самом важном в жизни, что он пережил», —
один глубокой мысли человек передал мне, что если зорко присмотреться ко
всем, и особенно к мистическим, самым задушевным его стихам, да и к его
богословской системе «богочеловечества», то можно не только в неясных
намеках, но и в совершенно отчетливых словах прочесть некоторую «навяз-
чивую идею», овладевшую философом, которая, содержа в себе высшее бо-
гохульство, имеет параллели только в средневековых каббалистических меч-
таниях и умозрениях. Что такое эти «свидания» его с Небесною Девою? Куда
и, в особенности, для чего он, стремительно и никому не сказав, уходил в
пустыню? На что надеялся, чего в особенности желал? Точные слова его,
пафос его в этих словах, их религиозный экстаз не оставляют сомнения, что
в «предмете свидания» он видел, чувствовал и обожал Божественное суще-
ство, —христианского или нехристианского значения, на это невозможно
ответить. Но мысль его, надежда и желание, в особенности желание, совер-
шенно ясно заключались в том, чтобы стать к этому существу в отношения
«возлюбленного» или «жениха»; точнее, он уже сознавал себя «женихом»,
он уже был «возлюбленным», об этом ясно говорят его слова: и, услышав
трижды «зов» прийти на свидание, спешил на него, как жених, порываю-
щийся стать супругом. Таким образом, у Соловьева на степени любимой
мечты, но неотступной и с болью, была мысль «овладеть Божественною суб-
станциею» через посредство одной из тех историй, какие рассказывают о
средневековых суккубах и инкубах, но дерзавших на отношения только с
мелкими, грубыми и, главное, грешными «духами». Особенность и новизна
мысли Соловьева заключалась в том, что ничего ни грешного, ни низкого в
предмете его «розовых мечтаний» (собственный его термин) не было. Со-
вершенно напротив... Но совершенно вместе с тем понятно, что, образовав
такую странную тенденцию и особенно охваченный этим желанием, он с
такою силой, как никто до него, с такой «осязательностью» и «очевиднос-
138
тью», с такою близостью ощущения заговорил об «Антихристе», как никто
ранее его не говорил у нас... Ну, что же... «неотвязчивая мысль»... которую
«побороть невозможно»... но которой очень естественно можно бояться,
можно пугаться. В литературной деятельности Соловьева заметно присут-
ствие этого постоянного испуга; и самая его «публичность», постоянное
публикование всего о себе, содержит как бы этот вечный крик: «Отворите
двери и войдите ко мне. Я боюсь быть один». Его «публичность» была тра-
гическою, и этим отличалась от обыкновенной, от житейской. Но потом и
сама собою она осложнилась житейской шумностью, шумностью вечного
публициста и вечного спорщика.
Если справедливо, что у Соловьева была эта концепция, для которой
никаких прецедентов в православии нет, но эти прецеденты косвенно име-
ются в мистических течениях католичества (например, экстазы св. Терезы)
и у нас в хлыстовстве,—то отсюда объясняются многие частности его био-
графии и его писаний: прежде всего, его непобедимое отвращение к зем-
ной, обыкновенной форме плотских отношений, решительная вражда к зем-
ному деторождению и семье, личный аскетизм и, наконец, параллельная
этому постоянная нескромность языка, мысли и, так сказать, смущающих
образов. О последнем с удивлением и очень многое рассказывала в своих
«Воспоминаниях» года два назад его замужняя сестра, г-жа Безобразова.
Как «уневестившиеся Христу» святые католичества отрекались от вступ-
ления в замужество, так и по тому же мотиву Вл. Соловьев сохранил, как об
этом существует всеобщее убеждение, свое девство ненарушенным. Это—
не скопчество, это — обратный ему полюс.
* * *
Образ Влад. Соловьева, естественно, сделался самым занимательным и вме-
сте шумно-известным среди русских мыслителей. Тихие тени таких затвор-
ников мысли, как братья Ив. В. и П. В. Киреевские, или таких спокойных
мыслителей, как Данилевский и Страхов, были совершенно заслонены им.
Как мы сказали выше, дар шумности не всегда совпадает с значительнос-
тью; и обратно: многое очень ценное остается совершенно в тени. Исследо-
ватель самой ранней поры нашего славянофильства М. О. Гершензон гово-
рит об И. В. Киреевском, что он на несколько десятилетий предвосхитил
мысли некоторых лучших западноевропейских философов... Но кому же до
этого дело?.. Нужен был специальный исследователь, нужно было появить-
ся специальной книге о Киреевском, чтобы уведомить самих русских о бы-
тии у них такого самостоятельного и оригинального мыслителя. Нечего и
говорить, что его имя осталось и, по всему вероятию, навсегда останется
вовсе неведомым западноевропейским читателям.
Столь же понятно, наоборот, что Влад. Соловьев, первый из русских
мыслителей, сделался известен в Западной Европе. Он сам проложил к это-
му дорогу, издав по-французски два своих труда: «Россия и всемирная цер-
ковь» («La Russie et 1’Eglise Universelle») и «Русская идея» («L’id^e russe»).
139
Только что вышло по-французски целое исследование о Соловьеве в со-
ставе библиотеки изданий под общим заглавием: «Les grands philosophes
fran^ais et etrangers». До сих пор вышли следующие томы этой «Библиоте-
ки», посвященные, каждый том отдельно, одному философу: «Платон», «Де-
карт», «Кант», «Габриэль Тард», «Ламарк», «Монтескьё», «Генри Бергсон», —
и предначертаны к изданию «Кабанис», «Бутру», «Гельвеций», «Лейбниц»,
«Аристотель» и «Дюркхейм». Среди первых книг, уже изданных, находится
и труд о Влад. Соловьеве, принадлежащий перу г. Северака, доктора словес-
ных наук и профессора философии в коллегии Chateau Thierry: «Vladimir
Soloviev. Introduction et choix de textes traduits pour la premiere fois». В изуче-
нии России, притом народной, автор этой книги не новичок: темою для док-
торской диссертации по предмету словесности он избрал «Духовные стихи
русской секты людей Божиих», и под этим заглавием и появился его труд на
французском языке. Книга о Владимире Соловьеве является довольно есте-
ственным продолжением этой диссертации, так как и у него много «Духов-
ных стихов», да и сам он без всякой натяжки может быть назван «человеком
Божиим». Именем этим называют себя последователи нашей «христовщи-
ны»—хлыстовщины, которой подлинный смысл гадателей, и, кажется, суть
этого сектантства заключается не столько в определенных мыслях, сколько в
довольно особливой и исключительной духовной организации, а можетбыть,
и в физиологической, мозговой организации.
Книга содержит небольшой (33 страницы) биографический очерк, пе-
реходящий, за бедностью внешних перемен, в историю философских и ре-
лигиозных переживаний Влад. Соловьева. Это как бы введение. Главною
же работою профессора Северака был умелый подбор текстов из всех его
сочинений, который связывался бы в целое и закругленное изложение его
главных мыслей, главных тенденций, главных тезисов. Работа эта как по
подбору, так и по переводу не могла не быть очень тяжелою, и нельзя не
заметить, что этого не сделано для Соловьева и в русской научно-популяр-
ной литературе. Вот перечень отрывков, данных г. Севераком, в той после-
довательности, как они у него стоят:
1. «Философия и богопознание (теория)». Перевод 2-й главы из «Фило-
софских начал цельного знания».
2. «Воплощение Бога-Слова». Перевод 11-й и 12-й глав из «Чтения о
богочеловечестве», содержащих рассуждения об искушении И. Христа
в пустыне и о роли Запада и Востока в боговоспитании человека и чело-
вечества.
3. «Христианство и революция». Перевод приложенного к русскому из-
данию «Сочинений Влад. Соловьева» — «Изложения его речи, произне-
сенной 13 марта 1881 г. на высших женских курсах в Петербурге».
4. «Природа и смерть. О грехе, законе и благодати». Перевод введения к
«Духовным основам жизни».
5. «Христос и совесть». Перевод «Заключения» к «Духовным основам
жизни».
140
6. «Аскетизм и нравственность». Перевод второй главы из первой час-
ти «Оправдания добра».
7. «Религиозно-нравственные добродетели». Перевод четвертого пара-
графа из пятой главы первой части «Оправдания добра».
8. «Личность, семья и государство». Перевод восьмого параграфа из
первой главы третьей части «Оправдания добра».
9. «Национализм и космополитизм». Перевод четырнадцатой главы из
третьей части «Оправдания добра».
10. «Вина и смерть». Перевод четвертой главы из «Права и нравствен-
ности. Очерков из практической этики».
11. «Антихрист». Перевод третьей и заключительной глав из «Трех раз-
говоров».
12. «Идея сверхчеловека». Перевод статьи 1899 г.
13. «Тайна прогресса». Перевод статьи.
* * *
Все это сделано и любовно и зорко. Ввиду популярных задач книги, г. Севе-
рак приложил к ней три портрета Владимира Соловьева, в возрасте 25 лет, в
зрелом возрасте и в старости, затем два снимка Московского университета,
его старого здания с актовым залом и библиотекой и нового здания с аудито-
риями историко-филологического факультета; вида пятой московской гим-
назии, где учился Владимир Соловьев; вида Москвы из Кремля; и портре-
тов двух писателей, Достоевского и Толстого, идеи которых Соловьев или
пламенно поддерживал (Достоевский), или жестоко на них нападал (Тол-
стой). Последнего, как известно, Соловьев даже сблизил (в «Трех разгово-
рах») с Антихристом за его мысль о возможности своими усилиями, без
благодати, церкви и таинств, достигнуть нравственного совершенства. Хотя
нельзя про себя не заметить, что ведь и либеральная полемика Влад. Соло-
вьева, как и множество глав его «Оправдания добра», где он ведет человека
к возможному «добру» средствами логики, средствами философии и, нако-
нец, зовом просто к чувству человеческой порядочности, — заключают в
себе ровно эту же долю «антихристовства». Нужно вообще раз и навсегда
спросить себя: что же трагедии Шекспира и Шиллера, где эти поэты без
ссылок на Христа взывают к человеческому сердцу, защищают человечес-
кую свободу, учат понимать человеческую душу, надеются на нее, верят в
нее, неужели это все «Антихристовы зовы», «Антихристовы предвестни-
ки»?! Неужели вообще то доброе, что по корню и происхождению лежит
действительно вне Христа и даже как бы вне памятования о Христе, тем
самым, т. е. вот этою своею самостоятельностью, направлено против Хрис-
та?! Конечно, — нет! Тут Соловьев дошел до средневеково-католического
изуверства, до концепций Данта в его «Аде». Скажем присловьем доброго
русского народа: «Волков бояться — в лес не ходить». Все православные
преспокойно верят, что всякое добро, и вне Христа сделанное, остается доб-
ром же, самостоятельным человеческим добром, Христу не противополож-
141
ным, а сродным. Как убеждены и в том, что всякое зло, «богомольно» сде-
ланное (есть такие святости), не искупается именем Христовым, «всуе про-
изнесенным», — и остается решительным и отвратительным злом. В про-
тивном случае в раю осталось бы много людей, от встречи с которыми «из-
бави Бог», а в ад попали бы люди «ничего себе», с которыми «можно водить
компанию». Куда при этой строгой концепции девать Любима Торцова? Да
даже и Ноздрева и Репетилова страшно запихивать в ад: а уж какие они все
«богословы».
П
Г-н Северак, не обратив внимания на таких мыслителей, как братья Ки-
реевские и А. С. Хомяков, впал в преувеличение, назвав Влад. Соловьева
«первым русским философом». Мысль эту он повторил вслед за проф. фи-
лософии в Московском университете, почтенным Лопатиным (автором
«Основ положительной философии», в 2 томах), который мотивированно и
все-таки преувеличенно дал Влад. Соловьеву этот титул. Он справедлив в
отношении преподавателей философии в наших высших школах (Лопатин
так и выразился), которые излагают философские системы, но до сих пор
ни разу не творили философских мыслей; но явно несправедлив, если взять
во внимание все умственное и литературное развитие России. Гораздо боль-
ше, чем томик, собранный г. Севераком из Владимира Соловьева, можно
было бы извлечь философских мыслей у Достоевского, особенно из «Днев-
ника писателя», у Толстого, наконец, даже у Гончарова (рассуждения в «Об-
рыве») и у Тургенева (как здесь и там разбросанные афоризмы). Наконец,
еще раз повторим имена Киреевских, Хомякова и прибавим к ним имена
Гилярова-Платонова и Герцена. У всех у них найдется совершенно доста-
точно философских мыслей, и, что касается компетентности мыслей, —
нисколько не уступающих соловьевским. Остается совершенно определен-
ным и твердым тезис, что Соловьев колебался во всех своих мыслях, то
расширял, то суживал одни из них и от некоторых совершенно отказывал-
ся. Само собою разумеется, что в этом ничего не было худого, а только
хорошее. Отказаться от неверной мысли—такой же выигрыш перед Богом
и миром, как и найти вновь самую лучшую мысль. Но все-таки процесс
умственной работы, состоящий в «восхвалениях» и «отречениях», не есть
философский. Мысли Соловьева всегда были более вдохновениями, чем
собственно доказанными мыслями, что тоже к лучшему: философия в гре-
ческом смысле и в смысле германо-английско-французском явно не сродна
русской душе, русскому уму... И, кажется, не к чему нам стремиться повто-
рять греков, немцев, англичан. У нас все же есть «мудрость» и «правда», от
народных пословиц до вдохновенных «дневников» Достоевского и коро-
теньких рассуждений Толстого. Выковырять ногтем у Неба его тайны рус-
ский человек не надеется: а ведь к этому рвались «систематики» в филосо-
фии. Боге ними. Эти «системы» все разрушились: а из русских «погово-
142
рок» и «пословиц», созданных 1 000 лет назад, многие остаются верными,
глубокими и правыми до сих пор, несмотря на весь совершившийся с тех
пор прогресс.
Влад. Соловьев был вдохновенный человек... очень большой сложнос-
ти. Конечно, он был универсально образован, но не это в нем главное. В сво-
их сочинениях он, действительно, коснулся, колеблясь, всех тем философии...
Но, именно, «коснулся»: а «прикосновение» только — всегда есть не глав-
ное. За восемью томами его сочинений лежит нечто более интересное, при-
влекательное, значительное, чем все они, это—сам наш бородатый и сухо-
щавый философ, с его странным смехом, постоянным впаданием в задумчи-
вость, с его сарказмами, шутками, балагурством и какою-то внутреннею ли-
тургиею... Не было человека, более сосредоточенного внутри, «до безумия»,
и более рассеянного, и как будто веселого снаружи. Его портрет, его лицо, его
фигура, перипетии его жизни в их мало известной сердцевине — вот что
занимательно. Словом, «Владимир Сергеевич Соловьев» занимательнее «Со-
брания сочинений Влад. Серг. Соловьева». Совершенно твердо можно ска-
зать, что в нем ужились гений и безумие; что он был в равной мере грешник
и святой, — ив церковном, и во всяческом смысле; неоспоримо то, что он
был вполне благородным человеком, т. е. благожелательным человеком в от-
ношении к родине своей и людям вообще. «Оправдание добра» это—харак-
терное название, и это есть программа его личности, как он «хотел бы», как
ему «мечталось». Но... не как у него выполнилось. Вся его критика славяно-
фильства слаба и ничтожна; врагов он побеждал более шумом призванного
«к шуму» человека, чем истиною. Наконец, при всем его благородстве «во
вдохновении»,—им владели слишком явно «слабости», «соблазны» и «гре-
хи» в эмпирической действительности; владели «духи низшего порядка»...
Это—у всех есть и, конечно, ему не упрек. Но все это—мелочи. Есть какая-
то загадка в нем как в человеке. Он так же темен, как Гоголь. По всему веро-
ятию, окончательно и он не будет никогда разгадан. Все его сочинения, все
восемь томов, есть какая-то пена, то белая, то темная, бьющая из водоема, в
который никогда никто не заглядывал, и теперь уже невозможно в него загля-
нуть. Он вечно был чем-то встревожен; вечно о чем-то тосковал: вечно куда-
то рвался... куда?—определенно никто не знает. Его «возлюбленною» оста-
лась все-таки «теософия», т. е. и не философия, и не богословие, а что-то
третье. С маниакальным постоянством ум и сердце его возвращаются сюда.
Он все говорит о «Божественной премудрости», а не о Христе и не об Иегове
Ветхого Завета, а вот об этой «Премудрости», «Софии» («Софийские хра-
мы» древнего православия), которая есть какая-то мечта Византии, никогда
явно не формулированная. Может быть, он старался разгадать, что содержа-
лось в этой мечте. Кидался за этим и к гностикам, и в Каббалу,—кидался в
языческие даже мифы. Здесь мы снова припоминаем его «роман с Богом»
(«Т ри свидания»).
Может быть, его увлекла мысль, что был же когда-то заключен «завет»
между Богом и человеком, как известно получивший себе физическую, те-
143
лесную и именно на поле мужчины и печать... Завет этот имел вид обоюд-
ного договора, связывавшего не только человека, но и связывавшего Бога.
В Ветхом Завете евреи представлены «требующими» от Бога, требующими
«по договору»... богатств, силы и прочего. «Значит, возможно», «значит,
бывало»... — подумал Влад. Соловьев... Если было «возможно», то отчего
невозможно «в будущем» или «теперь»... «Было раз» — может случиться
и «еще»...
Все хорошо сознают, что Соловьев писал свою «философию» не в по-
рядке «раз», «два», «три», а именно как что-то будущее, мечущееся и в кон-
це совершенно неясное... Все сознают или недалеки от сознания, что около
гения в нем жило и безумие или почти—даже безрассудство. Около свято-
сти был и «грех»... Не невозможно, в самом деле, думать, что им овладела
мысль еще «заключить союз с Богом», «третий завет»,—персонально, лич-
но, страстно, мучительно. «Удалось Аврааму, отчего не удастся мне?»...
Какой-то безвестный пришлец из Халдейской земли, из городка Ур... Ка-
кие у него особенные, исключительные, названные в Библии заслуги перед
Богом? Послушание да любовь, преданность. Но разве же Владимир Соло-
вьев не был всецело «предан Богу», «не любил Его», не «слушался Его»?!!
Все это было, все это он исполнил; больше, — он как бы вытянул жизнь и
личность по пути этого «повиновения, любви, преданности». Такой «бого-
словской» личности, до такой степени всецело и безраздельно поглощен-
ной Богом, действительно никогда у нас в России не появлялось, не было.
Ни один священник, ни одно духовное лицо не было до такой степени пере-
полнено, насыщено, почти до физического насыщения, мыслью, и заботой,
и надеждой, и восторгом о Боге, как Влад. Соловьев. Вот в этом его пер-
венство в литературе русской и в мысли русской. «Ну, так что же?.. Поче-
му же не завет?.. Где же завет, когда же завет?..»
Авраама «позвал Бог»... И все дело в «зове»... Бог «избирает» Сам,
неведомо кого, неведомо когда... Соловьев очень настоятельно и очень стра-
стно, горячо в биографии Магомета (для издания Павленкова) доказывает,
что и Магомет был «позван», «истинно позван». Значит, и не к одному Ав-
рааму были «зовы», через что возможность «зова» вообще увеличивает-
ся... Владимир Соловьев был «владеем» этою мыслью, — вот как «владее-
мы» бывают «одержимые», — кто знает, может быть, истинно. Мы входим
здесь в совершенно неисследимые изгибы души человеческой. В организа-
ции Владимира Соловьева лежало что-то, почему он думал, предчувство-
вал и ожидал, наконец, надеялся и молил, что «будет день и место, — и он
будет позван»... наречение совершится, завет состоится...
Наконец, ведь «заветы» бывают большие и малые, на определенную
миссию и вообще...
И он рвался, рвался...
И в этом рвении и сгорел...
«Хоть какой-нибудь» завет, «хоть что-нибудь»... И, конечно, он в са-
мом деле слышал «зовы», за которыми (не малое расстояние!!) без колеба-
144
ния проплыл из Лондона в Египет («Три свидания»),.. бросив все дела, ре-
альные дела, диссертацию, темы...
«Пророком» он не был, но полу-пророком был; и если он не сделался
Авраамом, то все же «грешным» Валаамом он был. В наш рациональный
век и это ново, громадно и исключительно.
Около «колодца, в который заглянуть никто не успел» мы можем есте-
ственно только гадать; но, может быть, некоторые почувствуют, что в изло-
женных догадках есть в самом деле частица личности Соловьева, что до-
гадки эти правдоподобны...
«Приди,—манила его «Премудрость»... И он шел... Но видение исчеза-
ло, —и он возвращался, расстроенный, измученный и опять надеющийся...
ЕЩЕ ДВА СЛОВА О С. Ф. ШАРАПОВЕ
... Какой-то «мор» в ряду писателей: на протяжении с немногим месяца чет-
вертый видный писатель сходит в могилу: Фофанов, Щеглов, Альбов и вот
теперь Шарапов... Гробы их закрываются, не дав передохнуть и очнуться
друзьям, свидетелям, читателям.
Над закрывшимся гробом Сергея Федоровича мне хочется отметить
черту его души, которая д ля многих покажется неожиданностью, когда я ее
назову, которая действительно была в нем и, собственно для меня, служи-
ла единственно связывавшим нас литературным качеством его. Ибо идеи и
темы его относились к тем областям, в которых я ничего не понимал, или
они мне были чужды, неинтересны.
Сергей Федорович Шарапов был до редкости скромным человеком.
Да, этот шумный, красивый, большерослый человек, с мягкими рука-
ми, с мягкими щеками, с жгучим взглядом смеющихся добрых глаз, с не-
прерывной улыбкой губ,—весь в речах, вечно что-то предпринимающий,
во что-нибудь веривший, в чем-нибудь убеждавший вас,—с сотнею мел-
ких талантов, так и лившихся с него оживлением и возбуждением, был бы,
пожалуй, неприятен, неприятен определенной группе людей, напр. созер-
цательных, если бы задумчивый взгляд не подмечал под всем этим шумом
скромной души, нисколько не занятой своим «я», а занятой действительно
теми темами, о которых он шумел, в которые действительно верил и кото-
рые, увы, часто были совершенно неосновательны. Он имел мало «крити-
ки» в себе, и от этого в основательности и неосновательности мог плохо
разбираться. Вечно с пылким «да» или «нет» на устах, он недоказателен
был и в «да», и в «нет». Но убеждал неустанно, по многу лет. Так, он выду-
мал «русские царские орлы»—особые бумажки с такими изображениями
и с денежною условною стоимостью, которые заменяли бы и червонцы, и
прежние кредитки. Но в чем заключалась бы их разница от прежних «кре-
диток» —он не мог объяснить. Прежних «кредиток», упавших до 60 коп.,
он не любил. Но вот, подите: «царские орлы» были совсем другое дело:
145
падать не могли, обесцениваться не могли, и при них никакого золота не надо
было, а печатать их можно было сколько угодно. Возможность-то печатать
их «сколько угодно» и с этим вместе безгранично двигать вперед русскую
промышленность и торговлю—и соблазняла его. На пропаганду этого он
потратил много лет; не только печатал статьи и брошюры об этом, но состав-
лял об этом «докладные записки», посылая их во всевозможные учреждения
и всевозможным высоким лицам, от которых могло бы зависеть решение
нашей денежной системы. С. Ю. Витте, осуществившего золотую валюту,
который в то время был в апогее славы и силы, он считал «убийцей России»,
или приблизительно так, и без стеснения это печатал. Это образец вообще
его мысли,—а она перекидывалась от финансов к церкви, к философии, к
вопросам нравственности. Не здесь, не в решении вопросов была его сила, а
в постановке их: здесь он был неистощим, неутомим, всегда рвался, надеял-
ся, верил. Всегда делал или задумывал делать. Вот по этим качествам новиз-
ны, постоянного искания,порыва—они был ценен в разнообразных ролях,
которые принимал на себя: журналиста, писателя, редактора, лектора. «Ша-
рапов» и «себе на уме» несовместимы: хотя нельзя с грустью не думать, что
иногда люди «без языка», стоявшие за ним и возле него, имели нередко это
«себе на уме». И когда он шумно в чем-нибудь «проваливался», всегда сме-
ясь и никогда не негодуя, по крайней мере никогда не ненавидя,—эти люди
«себе на уме» огходили осторожно в сторону.
Потребность служить чему-нибудь, России, партии, лицам, памяти
лиц, — была его потребностью. Он был или казался себе «преемником»
Аксакова (И. С.), Гилярова-Платонова и Скобелева: последнего—разуме-
ется, в качестве оруженосца, пажа или патетического корреспондента. Эпи-
теты мои нетверды, как нетвердо было все и в Сергее Федоровиче. Но он
непременно чему-нибудь «служил» и что-нибудь «славил». Иногда он «сла-
вил» совершенно незначительных лиц, безвестных лиц: и здесь на число
«удач» в общем можно полагать такое же число «неудач». Но здесь я и пе-
рехожу к его скромности и бескорыстию, которые всегда меня поражали:
много ли найдется писателей, которые, приобретя уже шумную известность,
с таким энтузиазмом и, наконец, даже вредя себе, — посвящали бы время,
заботу и типографские чернила другому имени, лицу, никогда его не могу-
щему отблагодарить. Между тем на пропагандирование «не себя» ушла треть
его жизни и всех писаний. И в разговорах, в личном общении ничего не
было обычнее, как увидеть его всецело подчиненным чужому авторитету,
чужому мнению, чужому вкусу, — и это не завистливо и тайно, но «с гро-
мом, свечами» и при «колокольном звоне». Всегда думалось: «Да когда же
вы начнете работать для себя?'.»
Нашу Россию он бесконечно любил. Это было первою причиною его
литературной неудачи, так как вот уже полвека, как в России имеет успех
только космополитическое, или прямо враждебное нашей земле. Второю
причиною его литературной неудачливости было то, что он всегда был
страшноличен в своих изданиях, журналах и статьях. Они не отвечали нужде
146
страны, как эта нужда слагалась объективно', они все выражали только его
самого, разумеется по преимуществу в его взглядах «на нужды страны».
Но «его взгляды» и «реальные нужды»—не одно и то же. Разумеется, нуж-
но было уже предварительно «поверить в него», чтобы начать читать его
шумные журналы. Но тут мы входим в тот логический круг, который носит
название «circulus vitiosus»*. Как «поверить», не читавши; и как, с другой
стороны, начать читать, когда знаешь, что все это «Сергей Федорович и его
ближние». Но зато эти личные его издания, какого-то странного частного
характера, — будто напечатанные «домашние рукописи»—были незаме-
нимы для начинающих, для людей новых, и молодых, и очень старых, но
которые раньше не могли пробиться в печать, и между тем мучительно это-
го хотели, и иногда несли в себе мучительно-интересную мысль.
Умер он в расцвете сил, неожиданно, и даже неизвестно отчего... Близ-
кие не сообщили, — а между тем о конце его все-таки, вероятно, хочется
узнать множеству читателей его, между которыми, мы хорошо знаем, были
горячие энтузиасты.
Мир его праху и добрая память.
НЕДОУМЕНИЯ И НЕДОУМЕНИЯ...
В последней книжке «Русск. Богатства» появились две статьи, посвящен-
ные памяти умершего месяца три назад Мельшина-Якубовича. Но, увы: не
цветут цветы, даже и надгробные, в социал-демократическом лагере! Авто-
ры статей—точно ничего не видели и не поняли в умершем и пишут о нем,
как канцелярскую «отписку» о столоначальнике,—с вялыми похвалами, с
схематическим очерком лица. Не говорю — взволноваться, но ничего по-
нять о человеке нельзя.
Напечатанный портрет Мельшина-Якубовича так замечательно-пре-
красен, а жизнь (по изложениям) оказалась так трогательна и (мне кажется)
полна запутанностей, что тут можно написать целую поэму... Я верю, что
лицо человека «что-нибудь значит», что Бог не без причины и «указания»
дает человеку наружность, фигуру, строение лба, глаз... Сейчас передо мною
нет портрета Мельшина: но едва месяц назад я открыл его (в книжке жур-
нала), мне показалось, я вижу человека такой необыкновенной душевной
организации, такой полной душевной чистоты, такой правильно и прекрас-
но прожитой жизни, как это редко приходится встретить в жизни и даже
редко увидать в «портретных галереях истории»... Не скрою: с чувством
национализма я подумал: «Э, если у русских есть такие лица, русским еще
долго жить. Не зачадит нас чад».
Мужество, открытость, героизм... Ничего нахального, бессовестного,
хвастающегося (обыкновенные черты радикалов)... Ничего из тех мелких
* порочный круг (лат.).
147
лиц, какие с ужасом я увидел на скамье подсудимых, когда судили рабочих
депутатов (по хвастовству чего одно лицо Авксентьева стоит; по серости,
тусклости чего стоит лицо знаменитого Носаря!)... В Мельшине была явно
аристократическая порода: и я не могу отделаться от мысли, что это арис-
тократ забрел в толпу «так себе людей» и почти задохся в ней... Отсюда его
усталость, эта ужасная усталость, которую указывает один из «воспомина-
телей», г. Муйжель, и которая доходила до того, что в разговоре иногда он
закрывал глаза и, долго так пробыв, открывал их и спрашивал: «О чем мы
говорили?» И что он никогда не поехал на «отдых» к рассказывающему о
нем радикалу, — ни «ловить язей под мостиком» в Псковскую губернию,
ни «на юг», несмотря на уверения радикала, что тот в вагоне «будет ухажи-
вать за ним, как за отцом...».
«Ах, канцелярия... Истомила ты меня, канцелярия, — мне кажется,
думал Мельшин.—И «с язями» все будем говорить о партийных делах, и в
вагоне мне не дадут покоя «новые начинания».
Он был поэт. С Верою Фигнер — единственные поэты радикализма.
Судя по надписи на стене одного из сибирских этапов, — горячо любил
Россию; не отвлеченно любил, а как родину... Этих двух черт достаточно,
чтобы догадаться, что за «принадлежностью к партии» в нем было и еще
«кое-что», чего никак не могли рассмотреть Муйжели, Мякотины, может
быть, не сумел рассмотреть и Михайловский, и оно осталось глубоко зата-
енным и отразилось только в нежном, благородном лице. Что же могло быть
общего в сдержанном и скромном Мельшине с прямо падающим вам на
лицо Авксентьевым, который лезет вам в глаза, в уши со своим «я», «я»,
«мы», а «главное—я». Между тем он не мог с ним не говорить, не видеть-
ся, даже не «действовать заодно», не делать вида уважения или по крайней
мере //^неуважения к «радикалу», и довольно видному...
Представляю, как стонала его душа... И он вынужден был молчать.
Вот родник его усталости, наверно! Не физической усталости, а ду-
шевной. Но уже «вода держала берега», а «берега воду»; уже он вплыл «в
это море», и раз вплыл, то куда же деться? На что надеяться? Где лучше? Я
как-то думаю, чувствую, что много, много тоски проходит в наших «ради-
кальных душах», вот со склонностью писать «и стихи». Недаром их недо-
любливают в том лагере. «Поэзия—опасная вещь». Да, опасная...
Не знаю, правильно ли, но думаю, что Мельшин вообще принадлежит
русской жизни, русскому уму, русскому строю души, — не без основания в
те мрачные годы (начало 80-х годов минувшего века) выбросившийся в ра-
дикальную волну и унесенный ею, но по душевному строю к ней вовсе не
принадлежавший, и во всяком случае не принадлежавший ей исключитель-
но и исчерпывающе. Эта мысль мелькнула мне год назад при чтении хоро-
шенького воспоминания Веры Фигнер о Лесгафте,—тогда казанской сту-
дентки. Страшно впечатлительная девушка, она обиделась за любимого,
доброго, ласкового учителя; оскорбилась за причиненное ему оскорбление,
и с этого начался ее радикализм. Потом ей «объяснили», что «все со всем
148
связано, и если не революция — то личной оскорбленности на Руси — не
избыть», и она ушла в революцию. Словом, ее «начинили начинкою» раз-
ные тупоумные Петры Лавровы; при общей неразвитости или полуразви-
тости юнейшей девушки (что-то 17 лет) это легко было сделать. В ту пору
нас всех «развивали», и мы все «верили». И замечательная девушка была
потеряна для русской действительности.
Мельшину и Фигнер я предложил бы один вопрос, так настойчиво сту-
чащий мне в голову, когда я прочел разные «мелочи» из жизни Белинского:
— Отчего Герцен, так ценивший Белинского, вероятно имевший автори-
тет для Краевского, наконец, друг Бакунина и, как он, отрицавший собствен-
ность, конечно в том числе и свою, не помог материально Белинскому, не «раз-
делил с ним чаши», просто не дал ему в своем дому сухой комнаты, когда тот
«глотал алебастровую пыль» и задыхался от кашля в сырой и холодной, вред-
ной квартиренке? Он красиво рассказывал, что «Белинский спорил опять до
крови» (у него, как чахоточного, при горячих спорах кидалась кровь горлом):
но ни разу себе не сказал: «Не буду жив, пока не помогу». Но даже известий не
дошло, чтобы он настаивал перед Краевским, его просил, его уличил. Чего же
стоят его окрики на Бенкендорфа, когда он морально трусил приятеля Краевс-
кого? И чего стоят его протесты против «буржуа», когда он приберег свои
полмиллиона и не спас друга, идейного друга, великую ценность для всей
России, от болезни, ужаса и отчаяния? Но я не сужу Герцена, потому что
пришлось бы судить раньше его—себя. Я открываю только этим вам, и Мель-
шин и Фигнер, чего же стоит вообще человеческая порода, даже при лучших
убеждениях и «лучшем развитии», и как после этого судить нам министров
или «постового городового», мокнущего на улице... Не в этом дело. Вам ка-
жется, «зло» лежит на аршин глубины в земле, и, стоит копнуть, и выдерешь
его и «осчастливишь землю» (идея революции, надежда ее, пафос ее). «Ах, в
другие руки бы власть'.» Но когда владел богатством и не помог Герцен, то
вы видите, что «зло» лежит не на аршин глубины, а оно пропитало землю до
центра: что отвратительны —лучшие', и что спасти может только Бог... Ре-
лигия, вера, таинство... Нужно возрождение человека, не одного, но вот и
Герцена. ..Дай бедному Белинскому, умершему в чахотке, нужна была вера в
«возрождаемость души человеческой», чтобы тоже собраться с силами пра-
вительства, перестать трусить умного Герцена и сказать ему, ну хоть в послед-
ние дни, встретясь в Париже, когда Белинский уже совсем умирал, а Герцен
был так же богат: «Эх, Александр Иванович! Врем мы все, как Чичиковы: не
в Мадзини дело и не в николаевском режиме, а в том, что ты видел, как я
умираю, и рассказывал анекдоты, а не дал мне чашки воды испить».
Вот ведь где ужас-то! Что «правительство»,—«правительство» легко
исправить. «Поправьте» вы Герцена, «поправьте» Белинского: ну, дайте ему
храбрости перед «своими»...
И когда бы вы почувствовали, что до «сердца» земли дошло горе, тос-
ка, лживость, сухость, ну тогда было бы то, причем незачем было бы писать
этих строк... Было бы совсем все новое, другое...
149
Не задохся бы Белинский.
Счастливее умер бы Мельшин.
Была бы Вера Фигнер (без шуток) «смотрительницей богоугодных за-
ведений», чем, если верить Гоголю, занимались на Руси «Земляники»...
Вот свет, вот заря... Но ее никогда не будет на Руси. Сказано: «Земля
произрастит вам терн и волчцы» и «будет скрежет зубовный». Стара сказка
и надоела, а все на глазах.
РЕЛИГИОЗНЫЙ «ЭКЛЕКТИЗМ»
И «СИНКРЕТИЗМ»
(Из воспоминаний о Влад. С. Соловьеве)
Г-н Н. Толстой напечатал письмо в редакцию «Нового Времени», в котором,
сославшись на свидетельство нескольких лиц, рассказывает о «католичес-
ком причащении» Вл. С. Соловьева.
Без сомнения, дело именно так и было, как передает он, и фактический
рассказ только подтверждает теоретические догадки. Т. е. что Влад. Соло-
вьев принял католическое причащение и благословение от папы, не отре-
каясь от православия', а с другой стороны, известно, что он предсмертно
исповедался и причастился у православного священника, не раскаиваясь и
не сожалея о католическом своем причащении.
Это—религиозный синкретизм.
Добавлю к воспоминаниям Толстого маленькую подробность из своих
воспоминаний, могущую внутренне объяснить поступок Вл. Соловьева и
вообще всю сумму его отношений к двум церквам.
* * *
В пору участия в «Мире Искусства» я написал маленькую статью: «Класси-
фикация славянофильских течений». Заглавие было другое, но тема—эта.
В конце ее было указано и «место Влад. Соловьева», так как уже постоян-
ным интересом к церковному вопросу он несомненно принадлежал к славя-
нофильскому крылу русской литературы, чуждой церковного интереса во
всяческих своих «крыльях» и всем вообще «оперении» и в целом теле. Ру-
копись (затерявшуюся потом у Д. В. Философова, соредактора «Мира Ис-
кусства») я показал Влад. Соловьеву, только что тогда со мною познакомив-
шемуся. Он ее принес мне через неделю с одобрением и с просьбой изме-
нить только одно слово.
— Какое?
— Вы даете мне историческое положение эклектизма...
—Ну, да! У вас есть много славянофильского, и в то же время вы—пыл-
кий западник. Вы православный—и в то же время защищаете католичество.
Когда вы полемизируете с позитивистами,—вы выступаете как христианский
150
философ или, по крайней мере, как представитель немецкого философского
идеализма, а когда вам надо поразить профессоров духовных академий, или
Грингмута и «Московские Ведомости», или Данилевского и Страхова,—вы
говорите жестким языком позитивистов и естественников, их тезисами, их ар-
гументами, их смехом. Вы ни в одном лагере и в то же время принадлежите ко
всем, смотря по моменту борьбы и позиции воина. Я не осуждаю этого и вооб-
ще не вмешиваюсь в это, а только определяю это как эклектизм.
—Против определения я и не спорю, а только хотел бы, чтобы вы упот-
ребили другое слово — синкретизм.
— Это еще что за зверь?
— Почти то же, что «эклектизм», но другого оттенка. Эклектизм есть
внешнее приспособление вещей друг к другу, понятий друг к другу, фило-
софских систем друг к другу. «Эклектик» обычно не имеет никакой своей
идеи; например, в философии — это вовсе не философ. Не дорожа, в сущ-
ности, никакою идеей, в вере — ни одною верой, в политике—ни одною
партией и программой, он старается их все «примирить» между собою,
согласовать между собою, отрезывая там одно, здесь—другое и все сши-
вая непрочными нитками приспособления и удобства. Это дело холодное и
бездушное. Прежде всего, дело внешнее. Когда философы умирают, свя-
щенники умирают, бойцы умирают,—на поле битв их выступают ловкачи-
«эклектики», уверяющие, что никакой борьбы и не надо было вести, что
все согласно между собою или согласуемо через самые маленькие уступки,
почти только в словах...
Я распространяю его мысль, но, конечно, «эклектизм»—именно это.
— Синкретизм же совсем другое. В философии Кузен был эклектик; но
если вы будете читать историю греческой философии, то вы найдете там це-
лые эпохи синкретизма, когда дотоле раздельно и противоположно суще-
ствовавшие философские течения неудержимо сливались в одно русло, в один
поток, преобразовывались в одно более сложное и величественное учение.
Это—дело внутреннее, дело горячее, дело плавки, а не сколачивания.
Он ходил по комнате.
— И вот мне хотелось бы, чтобы вы применили ко мне это понятие.
Потому что об «удобствах» идейных я не хлопочу; но мысль примирения и
слияния меня занимает... Точнее, я чувствую, что во мне сливаются многие
явления, дотоле существовавшие отдельно и даже враждебные...
Повторяю: к ходу разговора и мысли его я ничего не прибавляю и толь-
ко для читателя вставил побочные объясняющие слова и примеры. «Я —
синкретист, а не эклектик», — вот была защита Соловьева. Немного он
конфузился при этом, беря себе высший ранг, и вообще речь его была труд-
на, тяжела для него. Я немедленно согласился с ним и поправил всего одно
слово. Нужно заметить, однако, следующее: как статья была написана о
«классификации славянофильства», то «синкретизм» или «эклектизм» ка-
сался собственно западничества и славянофильства. Но едва он начал го-
ворить, как я почувствовал, — и он видел, что я это чувствую, — что «сла-
151
вянофилы» и «западники» совершенно исчезли из поля нашего общего ду-
ховного зрения, и мы говорили о христианстве и о церквах, вообще о рели-
гии и религиозных течениях. Все вероисповедание его, сверкнувшее в этой
борьбе слов, — «эклектизм» или «синкретизм», — можно выразить так:
«Весь христианский мир разделен... Это же—боль, скорбь и позор! Хри-
стос основал одно уже потому, что Он зерном всего дела поставил любовь и
мир. Вот я и есть эта пламенная личность, не напрасно родившаяся в мир,
которая сквозь слезы и муку начинает соединять в себе, сплавливать в себе
(синкретизм) противоположные исповедания, кляня распрю и раздор, на-
полняющие собою христианский мир».
Опять я ни на йоту не отклоняюсь от его мысли, хотя слова «вера» и
«христианство» не были даже произнесены. Но мы говорили только имен-
но о христианстве и вере. Слово «синкретизм» было просто смешно в при-
менении к литературным партиям... «Что им Гекуба?..» И в сущности как
он, так и я вовсе почти не интересовались «славянофилами» и «западника-
ми», хотя и ломали за них копья в печати. Всегда тут разумелось другое:
«вера» — «атеизм», «душа» — «материальный мир». Когда же зашел
разговор о «синкретизме» и «эклектизме», то мы уясняли роль Соловьева в
распре церквей, — в тысячелетней распре, — и только.
Сюда и падает рассказ г. Н. Толстого, конечно верный и точный, ибо он
вытекает из всего существа дела. Как сплавить церкви между собою? По-
дите-ка, созывайте «вселенские соборы» и вторично «пересматривайте на
них догматы». В дебри забредете, и никакой это личности не доступно. Что
же может сделать тут лицо, частный человек, Владимир Соловьев?
Были Волконские, Мартынов, Гагарин, Печерин, которые переходили в
католичество. Но это ни одной крупицы не клало на весы соединения цер-
квей, ибо все они в миг перехода отрекались от православия. Распря оста-
валась зияющая, та же.
Владимир Соловьев сделал шаг совершенно в сторону, глубочайше ори-
гинальный, личный, — и которого помешать ему сделать никто не мог: он
причастился Св. Тайн под одною формулою и под другою, признал своими
обе иерархии и через это стал католико-православным или православно-
католиком...
Факт этот был утаен им потому, что ни русская администрация, ни рус-
ский суд, конечно, не стали бы входить в его идеи о «синкретизме» церквей,
а просто и формально приняли бы причащение по католической форме и от
католического священника за переход в католичество, — у нас с мыслью и
движениями души обращаются не нежнее, чем с мешками овса в амбаре. И с
Соловьевым за выполнение замечательного религиозного начинания посгуп-
лено было бы суровее, чем с облившим серною кислотою чужое лицо. Меж-
ду тем, поступок его мог получить все свое значение только при открытости,
гласности,—только в случае, если бы из личного дела он превратился в об-
щий вероисповедный вопрос. «Можно ли так поступать?» «Что из этого вый-
дет?» «К чему это поведет или могло бы повести в веках?»
152
* * *
Г-н Н. Толстой говорит, что «достаточно прочесть сочинения Соловьева,
чтобы увидеть, что душою он был католик». Тут нужно много приписать
полемичности Соловьева. Он писал в России, где на католиков постоянно и
только нападали. Уже в силу совершившегося в нем «синкретизма» он не
мог не считать себя призванным отражать эти нападения. И, «отражая»,
естественно, казался как бы одетым в католическую пелерину. Затем, не-
сравненно большая активность католицизма, активность его в истории, в
междуплеменных отношениях, в высшей степени отвечала подвижной, не-
угомонной натуре философа. И последнее: его философским дарам просто
претила «короткость», условная правда, неискренность, уклончивость и,
особенно, во всех направлениях недоведенность до конца православного
умозрения, православной догматики, православных богословских систем.
Напротив, в католичестве «догматика» уже со средних веков была утончен-
нейшею философскою системою. Там «богослов» всегда был синонимом
«возвышенного философа»: история средневековой «философии» есть в то
же время история «католического богословия». Там умозрение—живой орел;
у нас—замерзшая на улице галка.
Но когда раз в полемике я заметил ему с негодованием, что в католичес-
ких храмах никогда не видно детей и что это надо связывать с тем, что там
детям не дается причастия, он в ответной бранчливой статье оговорился:
«Обычай католиков не давать причастия детям я не считаю правильным».
Это было в пору самых патетических выступлений его за католицизм и са-
мых желчных слов о «наших церковных делах»... Но и полемика не толк-
нула его высказаться за обычай, явно антипатичный. Между тем, этот «обы-
чай» столь же явно рационален, философичен, последователен. Причаще-
ние дается «во оставление грехов», и католики и дают его только возрасту
«грешному», зрелому, «искупительному»; дают лишь после исповеди, пос-
ле раскаяния. Таким образом, «Христовый момент» у них связан с непре-
менным «Предтеченским моментом»: сперва — покаяние, потом—избав-
ление. Но православные «все сбили в кучу». «Не надо философии, какая
философия»... «Какаярадость причаститься! А уж если радость, то как
же, взрослые, мы все причастие возьмем себе одним? Идем туда и с мамка-
ми, и с бабками, и с малыми детьми»... И вышло глупее, но народнее-, не
так закруглено в мысли, но как-то явно более «по-христианскому», чтобы
«всех заключить в любовь», всех «простить и помиловать». Больших «умо-
зрений» у нас оттого и не вышло, и никто у нас не придает им никакого
значения; с «умозрениями» непременно запутаешься; ведь все философ-
ские системы спорят между собою. А «спастись» всем нужно, и «уж Бог,
Батюшка, — Он спасет нас, как знает Сам...». На этом вся Русь, весь Вос-
ток стоит. С этим можно связать и отсутствие у нас, уже в светский период,
в XVIII и XIX века, философии: не изощрились, не приготовились, не ис-
тончили способностей, пока только верили. На Западе же после Дунс-Ско-
тов и Оккамов, естественно, родились сейчас же Декарт, Бэкон, Кант.
153
Вернемся к Соловьеву: как полемист, как писатель, он «был католи-
ком» (Н. Толстой о нем); но как «жилец мира» он оставался «православ-
ным». Сила православия — не в умозрении, а в быте. «Как жить», «как
чувствовать», как «созерцать», — не в диспутах, а «у себя дома», — вот на
что отвечает православие. Обращу внимание на следующее: с 90-х годов
прошлого века в русской литературе, в стихах, в рассуждениях, даже в кри-
тических статьях сделались весьма частыми ссылки на св. Франциска Ас-
сизского. Он сделался каким-то «литературным русским святым», притом
«единственным святым» русской интеллигенции. Казалось бы, Соловьеву,
как вот «католику», поддержать это, повторить это. Но можно поразиться,
наоборот, следующим: везде, где дело заходило о нравственном образе че-
ловека, об идеале души человеческой, Соловьев ссылался непременно на
«праведного русского человека» или на «греческого старца», т. е. непре-
менно брал примеры и образцы на Востоке, а не на Западе. И это—неволь-
но, непреднамеренно и бессознательно. Т. е. его «домашний идеал» был
православный, притом не ученый, вот «и с детьми». Франциска же Ассиз-
ского, великого светоча католического аскетизма, он даже ни разу не упо-
мянул. Но все помнят его старца «Пансофию» (в «Трех разговорах»), как и
ссылки на то, что вот так-то «водится в хороших монастырях», или «один
старец пустынник (греческий) сказал»... И проч. Вообще, «интимное его
души» жило, порхало и питалось нектаром восточно-греческим, а не запад-
но-латинским. Это явно! Этого можно не заметить, пока не обратить вни-
мания; но едва станешь всматриваться, как очевидно различишь, что пра-
вославие было Соловьеву сердечно ближе, сердечно понятнее, сердечно
достовернее католичества. В смерти и исповедании его (у православного
священника) — вся и окончательная истина.
Нельзя не сказать, что и в «синкретизме церквей в душе своей» он по-
ступил как русский: подобного поступка нельзя вообразить себе у католи-
ка! Католицизм не только как система, но и как всякая единичная душа,
неуступчив, воинствен, наступателен. «Римская душа» и «бронзовое ли-
тье». Напротив, у русских это — почти система: уступать, мириться, не
спорить. Оттого «миссионеры» у нас так несимпатичны (не народны), а в
католичестве это—«душа всего» (конгрегация «de propaganda fide»*, иезуи-
ты, да и все ордена раньше их). Соловьеву даже и на ум не пришло попро-
сить у папы, у кардиналов римских, у учителя и друга епископа Штрос-
смайера, чтобы они дали в обмен «на его душу» (Влад. Соловьева) «душу
какого-нибудь хоть завалящего католика», т. е. чтобы в то время, как он
(Соловьев) причастится по католическому обряду и от католического свя-
щенника, не отрекаясь от православия, — в это же время для полноты и
обоюдосторонности «синкретизма» какой-нибудь католик причастился у
православного священника, по православной формуле, и тоже не разрывая
с католичеством). Бедный, робкий и умный Соловьев, он знал, что этого
* «по распространению веры» (лат.).
154
никогда не будет1. Что ни папа, ни кардиналы, ни сам «отец духовный» и
вместе «друг-единомышленник» его, Штроссмайер, этого поступка своему
не разрешат1 Он видел и даже не решился попросить, — не спросил: «А
вы?» И тонкий ум его не мог не видеть, что никакого «синкретизма» нет, а
есть только русская мечта, русская тоска по «разделении», великодушный
порыв русского «всечеловека». ..Ив душе, в глубочайших ее тайниках, он
не мог не отпрянуть назад, к своим «старцам Пансофиям» и простым «стар-
цам» русских монастырей. В самом деле, сколько лет прошло, и ни один-
то, ни один католик не причастился «по-нашему», т. е. ни одному не указал
этого «синкретизма» его философствующий духовный отец в сутане. Ни-
чего взаимодействующего...
Поступок Соловьева единичен; но мысль этого поступка носится, и при-
том независимо от примера Соловьева. Русские, созерцая общую концеп-
цию христианства, действительно оплакивают его разделение и бытие от-
дельных, не сообщающихся между собою церквей принимают как упразд-
нение самой идеи «церкви», конечно единой. «Един Христос, едина цер-
ковь». Разнообразие обрядов и даже вероисповедных систем, самых,
наконец, «символов веры» еще не рушило бы дела, если бы над ними гос-
подствовала любовь, высший принцип христианства. Но вот этого-то и нет.
За разделением в догмате и обряде последовала вражда, т. е. угасание са-
мого света христианства. Где «вражда», взаимное «презрение», там уже
какой «Христос»? Его нет, Он удалился... Поэтому у многих русских бро-
дит мысль не о «соединении церквей» через гармонизацию вероисповед-
ных формул, чтб недостижимо по вечному свойству ума «спорить»,—а о
полном уравнении и примирении между собою церквей через выдвигание
высшего христианского принципа: любви и примирения. Пусть все и оста-
нется разделенным и разнообразным; но пусть верующие, исполняя «свое»
в каждой церкви, запретят себе всякую вражду к «не своему», православ-
ные — к католикам, католики—к православным, те и другие—к лютера-
нам и обратно. Конкретно: пусть каждый подходит «под благословение» и
священника иной церкви, а бывая в чужих странах, и принимает все таин-
ства другой церкви, «по нужде» и потому что «ближе», да и, наконец, с
полным сознанием, что это—«одно в разных формах», что исповедь, при-
частие, крещение действуют «во избавление грехов» везде, где они совер-
шаются с верою во Христа, Евангелие и апостолов. Мысль эта бродит, и
мне приходилось ее слышать от православных священников, притом тако-
го «строгого стиля» и такой «непоколебимости» в православии, что «даль-
ше некуда», — правда, в то же время очень разумных, очень размышляю-
щих (увы! — их немного). Таким образом, «синкретизм религиозный», о
котором мечтал Владимир Соловьев, есть факт в душе многих русских:
«никакого разделения не чувствуем! никакой вражды не ощущаем!». Это
только не выговорено вслух, не сложилось «в теорию», не стало предметом
обсуждения в печати. Но ожидать этого было очень естественно, и именно
с русской стороны, по объясненным чертам русского характера. Притом,—я
155
опять это повторяю,—мысль об том высказывается (мне устно, мне в пись-
мах) в самых «кряжах» православия без единой ниточки «отщепления» от
своего, без всякого «шатания» и «измены», — исключительно от боли о
«разделении» и «вражде», которая принимается за что-то темное и демони-
ческое. Это подспудное движение гораздо даже показательнее, чем случай
с Соловьевым, который все-таки был «литератор» и «интеллигент»...
* * *
Разница между католичеством, православием и лютеранством (включим и
его, ибо и о нем болит) следующая:
Католичество, это—великая сила организации, талант организации. У
нас все это слабо, у лютеран тоже слабо. Наконец, у католиков великий жар
нападения, атаки, боя. У нас этого совсем нет, у лютеран слабо (хотя все-
таки больше, чем у православных). Наконец, у католиков громада тонкой
мысли. У нас вместо этого—путаница, у лютеран—благочестивая жизнь,
«пиетизм». Сила мысли перешла у них в философию, в богословии ее не
осталось. У католиков—действительно слова Христа, сказанные одному,
и исключительно апостолу Петру («паси овцы Мои»),
Сила и красота лютеранства в честности. Честность эта обняла собою
и мысль, и жизнь. Возьмите суждение лютеранского богослова и церков-
ного историка, с одной стороны, и православного или католического, опять
церковного историка и богослова, — с другой. Русский, итальянец, фран-
цуз, грек, берясь за книги, за рукописи, за документы или начиная «стро-
ить умозаключения», смотрит не на материал свой, а на то, чтб «ему нуж-
но доказать». Истина у него «заранее существует», есть «данное», кото-
рое надо оправдать, и только. Эта истина есть просто «старое учение»,
есть «вчера» богословия или привычных исторических изложений. «Весь
вопрос идет об Иловайском»... «Святыня» — в Иловайском, т. е. в тради-
ции и в привычке. Это значит, что «святыни» вовсе нет и «истины» тоже
никакой нет. Нет и в высшей степени не нужно, окончательно неинтерес-
но. Это до такой степени есть «общий метод» и православия, и католиче-
ства, что он объемлет самые высокие умы, самые добросовестные харак-
теры, самые высоконастроенные души. «Все уже известно, и если мы
пишем вновь, то для того только, чтобы убедить темных и злых. Но ум-
ным и благим ясно: это — Иловайский». Поэтому подделка историческая
и «кривотолк» в суждении, это—две ноги, на которых стоит весь «чело-
веческий организм» восточного и западного «богомышления». Например,
ведь совершенно ясны, непререкаемы, не допускают ни перетолкований,
ни дополнений или упущений слова Христа апостолу Петру («паси овцы
Мои»), Явно, что тут стоит перед православием море, в которое оно ни-
когда не вплывало мыслью, умозрением. Но уже все равно, «не вплыва-
ло» и «решилось не вплывать»; многотомные труды исписаны о том, что
«Христос все говорил всем апостолам, толпе их, и ничего особенного и
исключительного не говорил одному Петру»; и подсунут нравственный
156
мотив французской революции: «fraternite, egalitd». «В толпе учеников
Христовых были fraternite и dgalite, а потому они все слушали разом, и
ничего для себя лично не было выслушано апостолом Петром». Это есть
явное вранье; но все равно, уж его нужно «доказать».
То же о монашестве. «Епископ должен быть единые жены мужем», —
слова апостола Павла. Да, но монашество — наличный факт, и все доказа-
тельства сводятся к тому, что «ни единый епископ не вправе иметь жену».
То же о времени и месте крещения св. Владимира: профессор Голубин-
ский нашел новые данные, говорящие, что он был крещен и не там, и не
тогда, как «все учили по Иловайскому». Ему дали медаль, выдали денеж-
ную награду, но печатать труд запретили.
То же изображения св. равноапостольного царя Константина Великого:
на тысячах монет, до того бесчисленных в нумизматике, что они ценятся по
50 копеек, он изображен без бороды, и вообще портрет его совершенно до-
стоверен. Но «уже Иловайский изобразил его с длинною брадою», — и те-
перь перемена невозможна. Все и всегда будут подписывать под иконою
славянскою вязью: «Св. Равноапостольный Константин», а рисовать над
подписью не его, а неведомое лицо, приблизительно отшельника из киев-
ских пещер.
Это—миниатюры. Но они — метод, прием. Иначе, чем эти миниатю-
ры, вообще нет ничего в католических и наших историях, в католических и
наших рассуждениях.
Истина дана. Это — «вчера». Ее нужно доказать. Вот для чего суще-
ствуют материал и библиотеки.
Лютеранин подходит к библиотеке, можно сказать, «перекрестясь»...
Подходит «со страхом и трепетом»... «Бедный я человек: ничего не знаю
сегодня... Но я буду сидеть дни и ночи, буду корпеть годы, и, может быть, в
конце ряда лет мне откроется, что Моисей перешел через Чермное море не
20 августа, как пишет Иловайский, а 21 августа. И я водружу в священной
науке новый факт\» Я несколько улыбаюсь, говоря о «20» и «21 августа»;
но в самом деле наука лютеранская вся проникнута этим: «Буду верен в
малом, — и Господь поставит меня над большим». Она начинает с мелочей,
с глубочайшим благоговением к мелочам и с клятвою верности—не слука-
вить в мельчайшем из мельчайшего. Но отсюда шаг за шагом она подня-
лась до вершин, до «столпов веры», до «звезд религии». Наука германская
вся свята, религиозна и есть в точности «sacra scriptura»*. Но все это — от
Лютера. До Лютера и немцы лгали, как итальянцы или французы, — как
все католики. Лютер дал «клятву верности» не говорить «лжи». Вся рефор-
мация в этом и состоит.
Это — в мышлении.
Но то же и в жизни. Немецкий негоциант, заехав в Суматру, не обсчита-
ет туземного царька на десять пфеннигов. И тоже — немецкая горничная
* «святоеписание» (лат.).
157
свою барыню; тоже—министр финансов свою страну. Это и образует «не-
мецкую культуру», не гениальную, но где «все в порядке».
Но организации таланта, гения и, наконец, «сокровенной сущности»
религии не ищите там. Все и кончается тем, «когда же Моисей перешел
через Чермное море: 20 или 21 августа?». «Скрижалей завета» никогда там
не читалось, ни с Синая и никаких. Произведя умопомрачительную «биб-
лиотеку» по предмету «церкви» и «религии», они лишены вовсе чувства
первой и чувства второй и даже не знают, что это такое, — иначе как в
форме представления о толпе добропорядочных людей, поющих по време-
нам псалмы и для чего-то читающих Евангелие.
«Честная жизнь» и «честное мнение» сделало для них как будто не-
нужным самое «искупление»... Для чего оно? Финансы в исправности, на
улице порядок.
Зачем заповедь «не укради», когда никто не крадет?
И они живут без заповедей, без тайны и Бога.
У них есть феномены религии.
Но ноумена религии у них нет.
* * *
Православие же и католичество различаются между собою, как деревня и
город; или даже не город, а его администрация, и даже одна центральная
администрация. «Бюро, превосходно работающее»—вот католицизм. Де-
ревня, с ее распущенностью, невзыскательностью, с «случайным» в житии
ее, с ее «претерпеванием», с ее «каждый может прийти и обидеть», «каждый
может прийти и обмануть», с вором, всегда «непойманным», с приказчиком
обсчитывающим, кулаком «прижимающим»,—вот Восток вообще и в част-
ности православие. Его привлекательная сторона—в безбрежности и про-
сторе. «Каноны» страшны, но никто их не исполняет, и никто не следит,
чтобы кто-нибудь исполнял. Во множестве случаев русский два раза сопри-
касается с православием: когда его крестят и когда его хоронят. Во всю ос-
тальную жизнь, т. е., в сущности, всю жизнь, работая, думая, живя, сочиняя,
он не имеет нужды «даже взглянуть в ту сторону, где лежит православие».
Это такая мера свободы, какой ни одна вера, ни синагога, ни старое языче-
ство не допустили бы; и ее нигде еще нет в христианском мире. Мы потому
только ее не чувствуем, что не знаем нигде из нее исключений. Вся русская
литература XVIII и XIX веков могла вырасти только при условии этой страш-
ной, хочется сказать,—дикой свободы. Тургенев как-то ответил, когда ему
в споре привели одно изречение Христа, что он этого не знал, потому что
«никогда не читал Евангелия». Есть такие и в католичестве; но отщепенцы
от веры, враги церкви. Между тем, Тургенев ни с кем во «вражде» не состо-
ял и ни от кого не «отщеплялся». «Жил православным и умер православ-
ным». Он «отщепился» было от молодежи, — от гуманной, свободолюби-
вой и великодушной молодежи. И какою мукою прошло по нему это «от-
щепление», чего оно ему стоило!! Вот синагога, строгая, взыскательная.
158
Самым видным журналом второй половины XIX века был у нас «Вестник
Европы»: за 43 года издательства его М. М. Стасюлевичем в нем не было
помещено не только ни одной статьи о православии, о русской церкви, о
христианстве, но даже не было дано места ни одной строке. Журнал имел
вид издававшегося в царстве полного, уже осуществившегося атеизма. Но
никто на это не обратил внимания, и никто об этом ничего не спросил. Ни-
кто этим нисколько не обеспокоился. Явление это станет еще поразитель-
нее, если принять к доверию то, что писал один кардинал,—если не ошиба-
юсь, Ванутелли, — бывший в Петербурге во время коронации и затем про-
ехавшийся в Москву и в Киев, чтобы «посмотреть русскую веру», — что
ббльшего усердия к вере и к церкви, чем какое он видел у русского народа,
он нигде не видал, и его не существует нигде в Европе. Таким образом, здесь
уживаются вместе самая горячая вера и полная в ней свобода... Но ужива-
ются не официально, а «само собой»; уживаются не в «законах», а в «быту»,
который, однако, над всем господствует, не давая особенно шириться и «за-
кону». Исключения, исходящие от «закона» и «администрации» (начало го-
рода, начало Рима и католичества), попадаются, но они до того тонут в об-
щей действительности, что их никто не замечает.
Возвращаясь к возможному «синкретизму», мы скажем, что вот в этих-
то вещах, относящихся до «души», ни Рим, ни Россия никак не могут по-
даться. Ни Россия не может «истаять» в своей «деревенщине», глупой и
славной, ни «Рим» убавиться в своей мудрости и власти, в своей гордости
стоять «столицею мира». Начала эти вечные, антагонизм этот вечен. Но
«деревенский житель» любит «побывать в столице». Вот Соловьев, вот Га-
гарин, Волконские, Мартынов. Однако поразительно, что эти «странствия
в столицу», в сущности, не переродили «русака-деревенщика»; они приня-
ли только догмат, только формулу, только одежду. Вот если бы был пример,
что русский, перейдя в католичество, дошел до высоких ярусов, например,
иезуитской иерархии, стал бы если не генералом ордена, то главою «про-
винции» (иезуиты весь земной шар поделили на «свои провинции»), т. е.
проводил бы «захват» католичества дальше и дальше, шире и шире, борясь
пламенно против «схизмы» православия, против «отступничества» люте-
ран и т. д., и т. д., то это было бы характерно и существенно. А то, ведь, и
великий автор «Единства физических сил», Секки, был «иезуитом»; но он
ничего не видел, кроме подзорной трубы и логарифмов. Так и Мартынов, и
Гагарин, и Волконские были прекрасные представители «человечности» и
выразители «христианских чувств» вообще, наконец, «единства церкви» в
его схеме, без специфически-католического привкуса. А в нем и дело. Дело
в Риме, а не в том, читать ли символ веры с «Filioque» или без «Filioque».
И многие русские будут странствовать «в столицу», наконец, вообще
потеряют предрассудки «против столицы». Т. е. «синкретизм», по идее Со-
ловьева и по мысли тех священников, каких я знаю, совершится. Но при
этом не следует забыть напомнить «столице», что и она должна взаимно
отпускать сынов своих «проехаться в деревню». При такой взаимности «го-
159
род» и «окрестности» могут жить в полной гармонии, не изменяясь в своих
нравах, обычаях и колорите, не меняясь даже в «антагонизме», который не
есть вражда и с нею правдоподобно «бесовское», а есть просто разное су-
щество вещей и предметов, которое каковым было, таковым и останется.
Христос об этом-то разнообразии изрек: «В Дому Отца Моего обителей
много». «В Дому», а не «.вне Дома», т. е. все — в вере, все — в спасении.
ОБИДЫ РУССКОМУ ЧУВСТВУ
Общий вид города, общий смысл города—необыкновенно важен, как и его
укромные, замечательные уголки. И каждое поколение несет на себе обязан-
ность сохранить этот смысл, не изуродовать этого вида, сберечь эти подробно-
сти. Мне пришлось недавно упомянуть о совершенной неуместности мусуль-
манской мечети противТроицкого моста, на которую все теперь «волей-нево-
лей» смотрят, кому случится ехать на излюбленные петербуржцами «остро-
ва». .. Самое имя «Троицкий мост» потеряло с постройкою мечети основание
и мотив: мост, очевидно, так назван от Троицкого собора, на который с этой
части Невы открывался вид; но теперь вида больше нет, собор задвинут, и
мост можно бы назвать, а петербуржцы, пожалуй, и станут называть «татарс-
ким». .. По тому же мотиву, по которому раньше называли «Троицким»...
Обыватель русский, имев всегда очень мало гражданских и политичес-
ких прав, тем ревнивее к своим художественным правам, хоть в качестве
зрителя, хоть в качестве жителя. И я не только с удовольствием, но и с чув-
ством некоторой обязанности довожу до сведения «кому ведать надлежит»
следующую жалобу петербургского «обывателя» (подпись на письме), от-
носящуюся к предмету моей заметки: ... «Вы заметили ту вопиющую и
преступную оплошность, с которою кто-то дозволил отстраиваемой татар-
ской мечети обезобразить историческое место Петербурга: то место, где
находятся Троицкий собор и часовня Спасителя,—с образом, который брал
с собою в походы Петр Великий. Ежедневно путешествуя по Неве, челове-
ку, по силам своим верующему и любящему свою родину, больно и тяжело
видеть все это; и особенно, когда подъезжаешь на пароходике к часовне
Спасителя. Матрос выкрикивает: «Спаситель»,—православный человек,
не потерявший веру, осеняет себя крестным знамением — и что же перед
собою видит, к ужасу: две противные рожи, вывезенные генералом Гроде-
ковым из Манчжурии, одна, как я заметил, с надписью «Ши-цзи». Неужели
не нашлось для этих китайских богов более подходящего места, а как будто
на поругание над исторической святыней избрали это самое драгоценное
для православного человека место? Неужели не догадались на этом месте
поставить копию со св. иконы Нерукотворенного Спаса*, с надписью круп-
* Икона в часовне Спасителя, которую брал с собою в походы основатель Пе-
тербурга.
160
ними буквами: «Пречистому Твоему Образу поклоняемся, Благий», и ка-
кое утешение было бы православному человеку видеть образ Спасителя
вместо кощунственного «Ши-цзи».
«Ради Бога, умоляю вас, обратите ваше внимание на это вопиющее горе
и зло (вот!—В. Р.), которое умышленно старается загасить и затемнить наши
вековые устои и вековые святыни, и покорнейше прошу написать по этому
поводу статью, дабы разбудить совесть (вот!—В. Р.) у кого следует; но прежде,
советую, сами лично проверьте все мною высказанное, израсходуйте немно-
го времени, и, увидевши это печальное зрелище, вы лучше поверите, как тя-
жело все это видеть православному человеку. С почтением, Обыватель».
Письмо это, в своей разумности, основательности, в своем натураль-
ном голосе, гораздо значительнее всякой статьи. За ним стоят десятки ты-
сяч голосов, которым только некогда писать, не умеют писать. Эти люди
имеют право видеть все так, как желают видеть; и этнографические дико-
винки ген. Гродекова, а по-русски просто «рожи», должны быть от «Спаси-
теля» убраны, и конечно,—немедленно. Это сделает градоначальник, дума
или «от кого это зависит». Такое физическое сближение есть, конечно, ко-
щунство, — и ему не место на улице, которая есть «общий наш дом», т. е.
всех петербуржцев «дом», всех православных. Управе и «кому следует»
вообще нужно считаться с «обывателем», который дает армии сынов, да и
вообще «как стена» держит нас всех, говорящих, пишущих, держит на себе
и собою и гг. «распоряжающихся». Мне, в заключение, хочется, чтобы кто-
нибудь из компетентных и знающих людей сообщил в печать сведение: ког-
да и кем было выбрано, разрешено и утверждено место для мечети, так
сказать, «на носу» троицких святынь и до известной степени «бьющее в
нос» всем православным... Ведь это не такая пустая и маленькая вещь, «от-
вести место для храма» (пусть мусульманского), и не писаря же в какой-
нибудь канцелярии это решали. Кто об этом советовался и кто думал? Ве-
роятно, — коллегиальное учреждение, и тогда хочется знать его имя...
Обижен русский человек. И все это — не хорошее дело. И «Колокол»
промолчал, и митрополит Антоний не вспомнил, и Св. Синод не озаботил-
ся. Вот чего никогда, никогда не допустил бы, не просмотрел бы «сквозь
пальцы» митрополит Филарет. А знаете, отчего все произошло? Нет пано-
рамы целого в уме...
Посмотрели план Петербурга. Вот «точка». Она «ничем не занята».
Нужно «место мечети». Тогда эту «вещественную мечеть» нанести на эту
«пустую точку». К «плану Петербурга», выраженному в отвлеченных ли-
ниях, без души, без смысла, без художества, без молитвы и воспоминаний,
прибавился «квадратик» с горошину величиной; и больше ничего. Так и
все и «разрешилось». Отвечу милому «Обывателю»:
—Терпи, русский человек, терпи, делать нечего: мы сами-то стали все,
над тобою сверху,—Ши-цзи: и зачем их было Гродекову вывозить из Манч-
журии, «эти рожи», если на Невском и в канцеляриях стоят и ходят все
сплошь такие же точно Ши-цзи...
161
НАШ ТОЛСТЫЙ ИСПРАВНИК
(Рассказ)
Зима стояла этот год до того студеная, что не было средства ничем согреть
квартиру... Впрочем, и квартира была с лукавством. Несмотря на «вдовье
положение», я решил взять себе квартиру-особняк и выглядел новенький
угловой домик, против Введенской церкви, в четыре и три окошка на две
стороны, одноэтажные, и со стенами чуть не в аршин толщиною. «Тут будет
уже тепло»,—думал я с удовольствием, измеряя глазом прорез стены в ок-
нах. — «Такую стену никакой мороз не прошибет». Но оказалось совсем
напротив...
Как начались морозы,—холодно и холодно в квартире... «Почему», —
ума не приложу. Стены стоят все такие же толстые, топлю жарко, наконец,
очень жарко; рамы вставлены отлично, сам досматривал: но в комнатах,
поутру истопленных, уже к полудню холодновато, а к вечеру так холодно,
что руки зябнут и «мешает писать». Черт знает, что такое. Кухарка говорит:
«Тепло уходит». Да куда оно к черту «уходит», когда трубы закрыты, окна
заделаны, а стены такие толстые? Наконец, по совету «ближних», которые
у хорошего христианина никогда не переводятся, купил теплого войлока и
клеенки и с помощью кухарки и, должно быть, тоже «ближнего» обили дверь
наружу, а с «этой» и «той» стороны — войлоком.
Холодно.
И наконец, эти неестественные морозы, уже после Рождества. Солнце
так и жарит... т. е. тепла не дает, а только ярко играет на окнах. И вся улица
голубая, должно быть от избытка голубого неба, точно валящегося снопа-
ми света на белоснежную землю, и наша церковь, эта милая, незабываемая
церковь Введения, на пригорочке... все так красиво! И прохожие бегут «по
морозцу» бодро и весело...
Все весело. Но в комнатах холодно, и на душе скверно.
Ругаю кухарку.
—Да уж, барин, дрова почти на исходе, скоро покупать надо опять...
«Покупать», — а у меня шесть рублей в кармане, и «двадцатое» через
неделю.
— Пошла вон, глупая, — кричу кухарке, — о дровах чтобы и запинки
не было. Должно хватить до месяца.
С воркотней ушла.
В форточку уж я давно вставил «бумажки» по пазам, т. е. «самодельщи-
ной» их законопатил. Конечно, никогда ее не открывал. «Форточки—это толь-
ко немецкая дурь»,—думал я с ненавистью. «Куда на такие морозы форточки:
это только в мокрой Германии хорошо». Наконец, не зная, что делать, я снял
ватное одеяло с кровати и, набив гвоздиков в косяк двери, а в одеяле проделав
дырочки острием ножниц, повесил их на дверь «отсюда».—Тепло, очевидно,
«уходит» в дверь: куда же к черту еще ему «уходить»?!!..
162
И сел за стол «писать сочинение». Я всегда писал какое-нибудь «сочи-
нение».
Прошел с час... Самый разгар дня. Было воскресенье. Я никого не ждал
к себе и сам, конечно, никуда не собирался, иначе как «вечерком» и, конеч-
но, к «ближним». Смотрю—одеяло мое зашевелилось.
Смотрю с изумлением и вижу, что кто-то в нем пробивается и, очевид-
но, запутался. Оно лежало краем и на полу, подотканное «туда», к коварной
«холодящей двери». С любопытством гляжу и наконец вижу: просовывает-
ся огромная, черная, кудластая голова...
Стыд залил мое лицо: «Боже мой, он увидал мои приспособления! Ведь
он же сразу не поймет, что это от холода, и примет меня за сумасшедшего,
который стелет одеяло не на кровать, а вешает перед дверью»...
Покраснел... Но и он красный от усилий. Извиняется, я тоже извиня-
юсь и торопливо спешу сказать, что это я защищаюсь от холода. Наконец
он «вырезался» весь из-под одеяла и сразу как-то наполнил собою всю ком-
натку, правда маленькую.
Он был в форме, не сразу мне понятной... Широченные шаровары в
сапогах, и сапоги до того огромные... И чем выше от полу — все ширится.
Фалды «формы» точно паруса или в своем роде «занавески на дверь»; раз-
далась грудь; ручищи ворочаются; и на всем—черная, бородатая (борода
подстрижена в бакенбарды), с пунцовым лицом—голова.
«Ну, рождаются на Руси люди,—думаю с удовольствием. — Куда же
он сядет? У меня венские стулья, а ему надо лавку. Пусть сам садится, как
знает». Молчу.
Он с преувеличенной бережливостью сел. И вообще весь был очень
учтив и деликатен. «Должно быть из родителей, — сообразил я, — о чем-
нибудь просить». И душа моя сморщилась в скуке.
— Позвольте раньше рекомендоваться: я здешний исправник...
Почему же «исправник», — думал я в себе, — у Гоголя написано —
«Городничий». По «городам» бывают естественно «городничие»: почему
же этот «исправник»? Разве переменилось? Но мне было все равно, и я
сидел со скукою.
— У вас учится мой сынок...
— Как фамилия?
Он назвал. И это сейчас нас сблизило: «сынок» его был прекрасный
мальчик III класса, тихонький, бледненький.
— Он не очень здоров?
—Да, не очень. Слабосильный. Это от второго брака моего. Бог даст,
выправится. Но очень старается; и по всем предметам успевает, кроме ма-
тематики. Вот я и пришел поговорить с вами, как с классным наставником
его класса: может быть, вы посоветовали бы взять репетитора? Может быть,
и так обойдется; у него пока «двойка» за одну учебную четверть. Не посо-
ветуете ли сходить и поговорить с Иваном Ивановичем?
Это — учитель математики, формальный и строгий.
163
— По всему видно — надо взять репетитора: мальчик ваш очень при-
лежный и внимательный на уроках, так что о «лени» и речи быть не может.
Он явно не может «справиться с курсом», и тут нужна помощь со стороны.
Но я боюсь советовать вам репетитора: Иван Иванович такой строгий и
нелюдимый, что мой авторитет классного наставника ничего не значит в
его глазах, и если вы пригласите репетитора по моему, а не по его указа-
нию, то это может только дурно отозваться на вашем сыне. Вам надо схо-
дить к Ивану Ивановичу, поговорить, где кроется причина неуспеха, не ус-
ваивает ли он теорию или несообразителен в решении задач, и уже если он
посоветует репетитора, то так и поступите. И попросите его рекомендации:
он укажет из любимых своих учеников старших классов. Тут ему открыты
все карты, а я вижу только одну, и ту неясно, — вашего сына.
Он благодарил.
Я пододвинул ему папиросы.
—Холодно?
—Холодно!
— Слава Богу, кому можно сидеть дома.
— Мне нельзя. Маешься-маешься по уезду... Я только вчера вернулся в
город. И мужики же у нас...
—Что?
—Лукавый народ.
— Почему?
— Не платят податей. И есть чем — не платят. Знаю, что есть, — не
платит. И пока ты его не принудишь, не уплатит ни за что и никогда, все
будет канючить и жаловаться, что совсем пропадает от нищеты.
— Ну?
— Ну, и назначишь корову в продажу. И тут канючит и доводит до пос-
леднего, но, как видит, что я не шучу и корова сторгована и сейчас уйдет из
рук, — вынимает из онуч деньги и вносит подать.
Мне было это в высшей степени несимпатично. «Как последнюю коро-
ву продавать?» «И на что столько податей?»—думал я по Златовратскому.
«Неприятная эта машина, государство! Несимпатичная. Жили бы так. Как
можно человека «принуждать».
— Но как же вы это действительно узнаете, у которого есть чем зап-
латить и у которого действительно нет? Можно ошибиться, и выйдет
жестоко.
—У всех есть чем заплатить, если уметь взяться за него. Все притвор-
ство и желание отлынить. Но нынешний год от казенной палаты вышло
строгое приказание, чтобы «недоимок не было; и у меня по уезду «недо-
имок нет». Нужно только не распускать вожжи.
«Вот как, — думал я с неудовольствием. — А по лицу — такой доб-
рый». Да и не «по лицу» только; видно, что в самом деле добрый, голос не
обманет,—но только взыскательный и строгий.
— Все-таки ошибиться можно, и выйдет жестокость, — повторил я.
164
— Не выйдет, — ответил он. — Я крестьянина очень хорошо знаю,
потому что знаю его на духу...
— Надуху?!!
— Я же был двадцать лет священником...
— Вы??! Священник?!!
Я посмотрел на его гигантский рост и тут только сообразил, что дей-
ствительно этого «киевского роста» богатыри, с роскошно развитою во все
стороны фигурою, попадаются почему-то именно в духовенстве. У купца
большой рост выйдет аляповатее, у помещика — рыхлее, у горожанина—
совсем не выйдет, или он вытянется в «дылду», в «жердь»: и только у удач-
ливого протоиерея или архиерея все как «расписано», и плечи, и лицо, и
торс. «Сейчас поборет половецкого Редедю, свалит печенега, поспорите
татарином». Одно слово — «духовное лицо».
Передо мною сидело «духовное лицо», в шароварах, едва ли не со шпо-
рами на сапогах, в кушаке и кафтане, со светлыми пуговицами.
Лицо мое являло, должно быть, изумление.
—Трудно мне это было, трудно... Кто не носил на себе благодати, не
знает, что значит «снять священство».
В первый раз слышал. Никогда не приходило на ум. Думал,—как «снять
мундир», «переменить платье». И должно быть, сказал в этом смысле.
— Совсем нет, совсем другое! Платье тут ни при чем. В «благодати» я
был, а теперь нет «благодати»...
У него были небольшие глаза, и мне почудились в них слезы.
— Ия снял эту «благодать»... Сам... Как преступление, как падение,
вот что я чувствовал. Совсем переменилась душа, пошла в грубость, и я
плачу, но ничего не могу поделать. Бог отошел от меня, т. е. я отошел от
Бога...
—Тогда зачем? Зачем?
— Пришла минута, хуже смерти. Хоть ложись в гроб и умирай, а уме-
реть нельзя. Четверо детей, малютки. Жена скончалась. И как войду я в
дом, почувствую, что в нем пусто, так не держат меня ноги, сам заливаюсь
и плачу, не помню, что нужно, что делать, кто ждет. А священнику нельзя
себя «не помнить»: поди туда, поди сюда, венчай, хорони, крести, испове-
дуй.. . Все ждут, всем нужно: но я не могу ничего делать, ноги никуда не
несут, службы служить не могу, «возгласы» забываю, «слова» путаю...
Помолчав:
— Нет жизни. Кончилась жизнь. Не могу быть священником, совсем не
могу. Очень я семью любил, очень жену любил.
— Ну?
— Ничего не умею и никому не нужен. Всем врежу только...
— Ну? Ну?
— Священник я и не священник... Только «место священническое» за-
нимаю, а «разума священнического» нет... «В благодати», а как «лишив-
шись разума»...
165
— Ну?..
— И так я промаялся немного... И стал думать, что я не вправе зани-
мать «место священническое», не имея «духа священнического». Решил
снять сан.
— Но ведь это, если не ошибаюсь, сопряжено с удалением из губернии
и с лишением права вступать в какую-либо должность?
Я и тогда «духовными вопросами» интересовался.
— Я был очень видный протоиерей, очень уважаемый, и меня знал даже
губернатор. Я ему раскрыл душу, и он, не в пример прочим, своей властью
назначил меня исправником.
«Вот как, — подумал я. — Вполне удивительно».
* * *
Видом, фигурой, лицом, душой, всем мне понравился «исправник». Я ре-
шился отдать ему визит. «И жену, и деток посмотрю». Мой ученичок был
положительно симпатичный. Где-то теперь? Уж лег двадцать тому минуло.
Вхожу. Дом большой, красивый... Из прихожей глянул «в комнаты», и
меня поразили редкие в уездном городе тюлевые, красивые, до полу гарди-
ны. Не как у нас, учителей, «занавесочки» с двух сторон: эти закрывали все
окно и белой паутиной на фоне темных обоев так красиво вырезывались.
Но в «зал» ли я вошел или «в церковь»?.. В «красном углу» зала, оче-
видно убранного женою, поместился «священник»; этот «красный угол»,
т. е. «передний», «куда молятся», весь был разработан, точно «в церковь»;
на столе, покрытом белоснежною чистой скатертью, стоял громадный об-
раз Божией Матери, совсем не комнатный, а именно церковный—велико-
лепной живописи и в богатейшей золотой (золоченой?) ризе, с каменьями и
всем, что «подобает»... И ленты, пунцовые и голубые, около... И громад-
ная лампада, и свечи... И Евангелие, молитвенник, акафистник, и много
еще книг, старых, с медными застежками. Все, очевидно, «в жизни»; все
для молитвы, «движется», «действует».
Перекрестился. Вошел. Познакомился. Жена худенькая, болезненная,
бледная. «Вот откуда дети худенькие». И мой ученичок. И дочери, уже взрос-
лые. «Дочери» от первой жены; «ученичок» явно от второй. И еще от вто-
рой — мелюзга.
Вышел и «наш толстый исправник». Тут уж он не был «взыскателен и
неуступчив», как с мужиками, куда!.. Худенькая и умная жена, очевидно,
его совершенно покорила, и он весь сыпался в нежности, угодливости, пре-
дупредительности ... Очевидно, «жена» и от нее «дети» действительно вос-
кресили «вторым воскресением» энергичного и умного человека, и он всю
энергию и ум перелил в ответную заботу и любовь к детям, а больше всего
к «ней» — причине его «воскресения»...
Бог ей здоровья не дал. Почему — неизвестно. Но зато он сам весь
пошел в «доброту», как хороший пирог на хороших дрожжах: цвел, и рос, и
здоровел, в счастье, трудах и работе.
166
«И слава Богу», — подумал я. Везде «слава Богу», где в натуре «слава
Богу». «Только вот дети без «благодати» не так хорошо выходят: ибо вообще
у духовенства дети бывают здоровые и способные до «преизбыточества».
* * *
Дальше я не помню, да и не нужно. «Наш толстый исправник», судя по тому,
что он воздвиг почти «иконостас» у себя в доме, по возможности «имитиро-
вал» у себя все церковное, явно «снял с себя сан» с тою мукою и вообще со
всею сложностью ощущений, которая не только не говорит об его «отщеп-
лении от церкви», но говорит о совершенно обратном! Говорит о мучитель-
ной и благородной к ней привязанности...
Все, что можно было ему сохранить «на своих плечах» церковного, он
сохранил, сберег, преизукрасил даже...
Это именно и врезалось в ум, в память, как что-то «нужное», что, мо-
жет быть, когда-нибудь «понадобится».
И мне кажется, вот в этот год случилось, что этот факт и понадобился.
С идеей «снятия сана», если это не есть «лишение сана за провинность»,
соединяется представление, будто это есть жест и поступок «оскорбления
церкви»... Тот, кто сам с себя «снимает сан», будто его сбрасывает, в чем-
то разочаровавшись, в чем-то разуверившись...
Это «веривший», ставший «невером», — и тогда, — говорит мститель-
но и наказующе общество и государство,—пусть он из «священника» ста-
новится «расстригою». Термин этот уничижителен, оскорбителен. «Ты —
дурной человек, собака, отходи прочь». «Мы, чистые люди, верующие люди,
не хотим иметь тебя в своем обществе». «Мы почитаем сан священства, в
котором ты был: и раз ты неглижёрски, нигилистически, цинично сбросил
его с себя, наругался (в этом сбрасывании) над ним, то не садись с нами за
один стол, не живи в одном жилище, в одном городе, не служи с нами в
одной службе». «Не работай с нами одну работу».
Таковы до подробностей, до буквальности чувства общества и государ-
ства к «снимающему с себя сан», и это открывается из подробностей зако-
на о «снявших сан». Все подробности суть подробности разобщения, от-
чуждения, изгнания. «Снявшие с себя сан священства» есть собственно
последние «изгнанники из отечества» по античному способу, в античном
духе, с античным великолепием: «нет тебе крова, гостеприимства; ни огня
у нашего очага, ни соли и воды за нашей трапезой». «Уходи: ты нам всем, в
городе, чужой, ты изгнанник».
Античный метод. Великолепный, как все «античное».
Я бы с ним и не спорил, если бы не «наш толстый исправник». Бог дал
мне увидеть, Бог показал мне, что в тысяче случаев мотива для этого оскор-
бительного отношения нет, ибо нет покидания церкви «виновным». Вся
любовь к ней сохранена. Весь культ ее жив. Есть «расстриги» и «расстри-
ги», из них есть «козлища», циники, не верящие или пошедшие к «жирно-
му куску». Но есть и «овцы» тут... Чистые, прекрасные, страдающие. Не-
167
возможно их не отделить и дать им одну судьбу с «козлищами». Это не был
бы Христов суд, христианский суд. Именно, пока существует закон об абсо-
лютном единобрачии священников, т. е. о недопущении д ля них второго бра-
ка, —закон, который многие оспаривают, например епископ Никодим,—до
тех пор «снятие сана по вдовству» не есть жест неуважения к церкви, а
только показатель чрезвычайной развитости семейной привязанности, се-
мейного инстинкта, в его поэзии, в его теплоте (ибо «возлюбленною на
стороне» кто же ему запрещает обзавестись?) и, как таковой показатель, не
может быть наказуем, отомщаем...
Самое большее—некоторая эпитимия. Но не то оскорбительное и уни-
чижительное, что содержалось в античном «изгнании» и перенесено в за-
кон о «снятии сана»...
К ИСКЛЮЧЕНИЮ «1270»
Неожиданно ни для кого, 15 июля распоряжением министра народного про-
свещения исключены из петербургского женского медицинского института
1270 слушательниц, т. е. почти полный состав учащихся, и оставлены толь-
ко 27 слушательниц. Из этих последних 15 нынче кончают курс и получат
звание врача, двенадцать должны еще проходить курс. Из открывшихся на
первом курсе 250 вакансий 150 уже замещены подачею прошений, а так как
прием прошений продлен до осени, то нет сомнения, что недостающий до
полноты контингент слушательниц будет заполнен к сентябрю месяцу и во-
обще институт, конечно, не будет пустовать. Ученье — всегда богатство,
всегда преимущество, и «отказ получать его» может быть рассматриваем не
иначе, как только минутное патологическое явление, и ничему серьезно не
угрожает, кроме самих «отказывающихся».
История этого события такова. Как все помнят, «забастовка» учащихся,
назначенная в начале этого года «коалиционным забастовочным комите-
том», негласно и закулисно принявшим на себя роль распорядителя выс-
шими учебными заведениями в России, проходила везде более или менее
бурно, с битьем и оскорблениями профессоров, с химическими и другими
обструкциями; но в медицинском женском институте она прошла совер-
шенно тихо, мирно и безбурно: слушательницы как один человек переста-
ли посещать лекции и тем «закрыли институт» фактически. Министерство
потребовало, однако, продолжения чтения лекций, и профессора продол-
жали их читать, как и являлись всегда готовыми к производству экзаменов;
но вследствие замечательной «выдержанности» забастовки никто на экза-
мены не являлся и никто лекций не слушал. Лекторы были «clamantes in
deserto», «вопиющими в пустыне» — в буквальном значении слова. Роль
их, если признать профессоров серьезными и искренними в этом чтении
фиктивных лекций, была невероятно смешна и унизительна, и они целых
полгода выносили этот позор и смех над собою слушательниц, этих 1270
168
теперь исключенных девиц. В таком случае положение их было, конечно,
тяжкое. Но возможно, что чтение ими лекций было фиктивно в более ин-
тимном смысле: именно вместе с слушательницами они смеялись над ми-
нистерством просвещения, требовавшим от них чтения лекций, и тем, во-
первых, избежали каких бы то ни было неприятных служебных послед-
ствий для себя, а с тем вместе они были единодушны и со слушательница-
ми, ни единым жестом одобрения не поощряя кого-либо являться в
аудитории. Не про медицинский институт, но про другие бастовавшие учеб-
ные заведения рассказывали в Петербурге в эту зиму, что иной профессор,
входя в аудиторию и видя перед собою небольшую кучку все-таки готовых
его слушать студентов, насмешливо спрашивал: «Это, верно, академисты?»
или: «Это подосланные полициею фиктивные слушатели?» — после чего
студентам оставалось только конфузливо скрыться из «учебного заведения»,
ставшего до такой степени «политическим учреждением».
Не предрешая в ту или иную сторону фиктивного смысла чтения лек-
ций в женском медицинском институте, мы останавливаемся только на той
непререкаемой истине, что оно во всяком случае было именно фиктивным
и что осмеянною в этой фикции стороною были или профессора и мини-
стерство, или министерство—одно. Насмехавшимися же были студентки-
медички, и это торжество их смеха продолжалось полгода.
Тогда министерство, видя полугодовую работу высшего учебного заве-
дения рухнувшею, объявило продолжение семестра на лето, предупредив,
что если и в летние месяцы студентки не будут слушать лекций, то они
будут уволены, а с тем вместе, может быть, и самый институт будет закрыт.
Но патриотических чувств к своей almae matri не пробудилось у студенток:
только 27 слушательниц института отозвались на это предложение и дер-
жали экзамены. 1270 слушательниц, по-видимому «отдохнувших» уже за
зиму, поехали «отдыхать» и на лето.
Когда срок минул, министерство исполнило меру, о которой оно пре-
дупреждало.
Вышло событие, до крайности простое в своей истории и до крайности
жгучее в своей нервности и болезненности.
В обществе, в учащемся мире, в печати все как будто забыли о создав-
шемся в женском медицинском институте положении и занимались Перси-
ей, Марокко и выборами в юго-западное земство, не произнося ни одного
слова в сторону смягчения создавшегося острого положения в одном из
самых дорогих и нужных для России учебных заведений. Конечно, если бы
была тревога о судьбе учащихся,—этого молчания бы не было, как и сами
учащиеся выразили бы некоторую тревогу о себе и обнаружили бы ее как-
нибудь осязательно. Но этого не было. Полный квиетизм царил повсюду. И
царил он оттого, что все были уверены, что против сплоченной массы уча-
щихся министерство не решится ничего предпринять.
Поэтому когда распространилось известие, что министр просвещения
не отступил назад и привел в исполнение меру, о которой он предупредил,
169
то повсюду раздалось глубокое изумление: как он решился на это? Как он
не пощадил стольких учащихся, удобно усевшихся на плечи министер-
ства и предполагавших, что они им правят, как послушною лошадью в
мундштуке, а никак не оно ими сколько-нибудь управляет? Конечно, ми-
нистр и министерство, а в последнем счете и вся русская государственная
власть должны были стать в еще более смешное, чем прежде, положение,
грозить и каяться, выступать и отступать и, словом, вести себя, как гене-
ралы на полях Манчжурии, — но не прибегнуть к мере, могущей оказать-
ся жестокою для тысячи трехсот молодых, и притом девичьих, жизней.
Евангелие, которое у нас топчется победителями, но всякий раз зовется
на помощь, когда эти победители оказываются в положении разбитых и
бегущих, — сыграло роль и на этот раз: министерство никак не могло, не
вправе было привести в исполнение меру, которая есть несчастие для
многих^. Об Евангелии не вспоминалось, когда учащиеся били по лицу
профессоров, но, когда их исключили, Евангелие вспомнилось! И это рас-
суждение слышится как лейтмотив во всем том, что сейчас пишется по
поводу министерского распоряжения. Но Евангелие нужно помнить по-
стоянно, помнить в поражении и в победе, — в торжестве и унижении: а
то никто не поверит искренности текстов от писания, приводимых только
«ad hoc»...
Власть не оказалась слабою и бегущею перед забастовкою—вот ее вся
вина. Она звала и учащих и учащихся к учению: не это ли ее право и обя-
занность? Если власть разыскивает и судит членов коалиционного забасто-
вочного комитета, то из этого все учащиеся, все 1270 исключенных теперь,
могли и в мае, и в июне, и в июле сообразить, что эта власть никак уж не
позволит сесть на свое место и не позволит распоряжаться в высших учеб-
ных заведениях этим преследуемым по закону и суду темным лицам. Власть
есть власть. Не все же рассчитывать встретить перед собою манчжурских
военачальников. Пора вырастать, пора созревать и юношеству. Пора пере-
стать ему рассчитывать на помощь и «верную защиту» тех, кто хвастает все
победить, всех победить и кто никак не смеет выйти из подполья и показать
свету свое благородное, великодушное и всепобедительное лицо. Пора рус-
ским девушкам сознать, что они работают в России и для России, а не в
социал-демократии и д ля социал-демократии. Пора проснуться и перестать
видеть грезы, похожие на сумбурные сны.
НРАВСТВЕННЫЙ ЦЕНЗ ВРАЧА
В ближайшее время, без сомнения, будут приняты все меры или, вернее,
мы услышим о всевозможных «хлопотах», направленных к тому, чтобы
свести «к нулю» министерское распоряжение об исключении забастовщиц
медицинского женского института. Будут хлопотать о сохранении за ними
права поступить в другие высшие медицинские заведения в России и та-
170
ким образом ограничить неприятность исключения стоимостью железно-
дорожного билета от Петербурга до Москвы или Харькова, что при деше-
вом опять-таки казенном тарифе не дорого обойдется... Будет ли г. ми-
нистр просвещения так благодушен, чтобы дать и на этот раз посмеяться
над собою, на это отвечать преждевременно. Но забастовщицы, как и сто-
ящие за их спиною распорядители самою забастовкою, должны помнить,
что в стороне от них стоит вся серьезная Россия, и в деле министерского
постановления г. Кассо, по-видимому, решился взаимодействовать с этою
Россиею, после того как учащиеся выдержанно и до конца остались глухи
к его голосу.
Кто слушает — с тем и говорят; а кто не слушает — с тем как же
говорить?
Обязанности врача слишком ответственны и морально серьезны: и если
исключенные слушательницы, по всему вероятию, и в состоянии усво-
ить, так сказать, техническую и материальную часть медицинских наук,
то они не показали в себе того духовного уровня, который абсолютен для
медика в жизни, для врача в действии, в практике. Способы учиться им во
всяком случае были даны: это—неоспоримо. Как «пешки» в шахматной
игре, как «болван» в карточной игре, профессора ходили целые полгода в
медицинский институт, готовые экзаменовать, спрашивать, говорить,
учить: но съехавшиеся со всей России молодые девицы не удостоили их
слушать и у них учиться. Зрительницею этого поразительного явления
была поставлена вся Россия: и мужественные девицы не опустили глаз
перед целою Россиею. Тщетно редкие голоса им указывали, что кроме
министерства просвещения есть Россия и десятки тысяч больных в ней,
болезнь которых не ждет, пока кончатся их «счеты с правительством», а
все прогрессирует и доводит тысячи людей до могилы. Голос «симпатич-
ных молодых людей», заправлявших забастовкою, был для них властнее
зова больных, голоса могил. Тут им «христианское чувство жалости» не
подсказало ничего, как и свой голос совести промолчал. После этого ис-
пытания «политической зрелости» экзамен на «медицинскую зрелость»
является провалившимся: совершенно нельзя сказать, какие побочные делу
соображения станут проноситься в голове у такого экс-медика, когда он
станет держать пульс больного в руке. Во всяком случае, больной будет
иметь перед лицом своим не просто человека, наделенного знаниями по-
мочь ему и волею непременно помочь, а какого-то «партийного субъек-
та», который помимо медицины и поверх медицины руководится еще по-
сторонними мотивами и, может быть, имеет посторонние себе приказа-
ния, подспудные и темные. Увы, болеть случается и «жирному буржуа», и
«вредоносному генералу», и всех измучившему «бюрократу», — и все
они как пациент и человек ждут и надеются себе одинаковой помощи,
одинаковой заботы, одинакового ухода. Персонал врачей—то же, что
армия воинов: армия защищает страну от врага на границе, а персонал
врачей защищает жителей от лютейшего врага их — болезней. Тут — все
171
умерло, и прежде всего — партии, разделения. Врачи, как и армия, не
имеют политики. Политика кассирует самое существо воина и врача, де-
лает ненужною их службу, невозможною или, лучше сказать, испорчен-
ною их службу. Бывавшие случаи, что врачи покидали службу земству в
то самое время, когда в данной местности появлялась эпидемия, т. е. что
они предоставляли умирать больным, и это тоже на глазах всей России,
не смутившись, — показывает, что предмет, о котором мы говорим, воз-
можен, реален. Другой факт, что самонужнейшие съезды врачей иногда у
нас переходили на социально-политические темы, и их принуждены бы-
вали закрывать до окончания,—тоже памятен всем и говорит о том же: о
забвении медиком своей священнейшей должности в самый момент ее
исполнения. Но государство, давая «звание врача», успокаивает всякого
пациента в том, что явившийся к нему с этим званием есть только медик,
исключительно могущий ему помочь и исключительно желающий ему
помочь. Государство, давая звание «врача» и связанное с ним право ле-
чить, не только гарантирует знания, но и гарантирует нравственный ценз.
И вот тут-то оно не вправе обманывать пациентов и дать нравственную
санкцию тому, кто нравственной высоты на самом деле в себе не имеет.
Исключенные не должны никогда получить право медицинской
практики в России, так как они могут оказаться «вихляющими» в своей
моральной и высокой деятельности, как были, как оказались действи-
тельно вихляющими в учении, в науке. Слишком нервны и податливы в
сторону, слишком впечатлительны и подчиняются чужому влиянию: а
путь врача — прямой и твердый. Медицинский институт быстро напол-
нится: исключенные же могут себе найти профессию в менее высоких
ярусах деятельности. Есть множество теперь всяких практических «кур-
сов», открытых от имени частных лиц. Государство для них — презрен-
но; пусть учатся у частных лиц. Не для чего им и искать диплома у «нена-
вистного правительства»: пусть они довольствуются дипломами от част-
ных лиц, их санкциею и авторитетом. Государство решительно не может
быть для них грязным корытом, из которого они то пьют, то топчут его
ногами. Государство должно уважать себя: и порвать связь свою, по край-
ней мере учебную и воспитательную, с теми лицами, которые определен-
но и решительно выразили, что они порвали связь с государственною вла-
стью и открыто презирают ее.
У страны есть решительное желание видеть над собою правительство
не только разумное и добросовестное, но и правительство с нравственною
гордостью в себе; не виляющее ни перед кем, не заискивающее ни перед
кем. Правительство, которое не допускало бы над собою открытого и наг-
лого смеха.
Русский народ—политический народ, с государственным смыслом.
Об этом слишком многими забыто, но пора это вспомнить. Русские—это
великороссы; это вовсе не помесь армянина, поляка и еврея, с дикой сме-
сью в голове сумбурных идей и нелепых чувств.
172
БУДЬТЕ ХРАБРЕЕ, ГОСПОДА...
Каждый должен иметь мужество своих поступков, своих слов, своих мыс-
лей. Это—первая черта героического и рыцарственного. Когда Чернышев-
ский, на вызов проф. философии Юркевича полемизировать с ним, — пере-
печатал разрешенное «Уставом о печати» число страниц из статьи против
него Юркевича, начав выдержку с полуслова и кончив ее на полуслове, в
заключение спросил: «Как же полемизировать с такою ерундойЪ> — то он
поступил, может быть, как дикий осел Азии, но тем не менее поступил чис-
то, без укрывательства, без фальши. «Презираю философию и хочу прези-
рать; в том числе и вас, господин Юркевич». Так же были открыты... хоть и
страшно сказать, «рыцарственные» монтаньяры Франции, потребовав каз-
ни поэта Шенье и величайшего ученого века, химика Лавуазье, отца этой
науки. Инквизиторы, жегшие еретиков, так же были открыты. Так же, по
предположению Достоевского, будет «рыцарственно ясен» тот социал-де-
мократ, который, в рабочей блузе и с кухонным ножом в руке, взлезет по
лестнице к «Пречистому Лику» Сикстинской Мадонны, — и раздерет его
ножом, при ликовании демократической толпы, во имя «свободы, равенства
и братства», чему, очевидно, живопись Рафаэля, которую и мог нарисовать
только один Рафаэль, и никто другой еще, — противоречила мучительным
образом...
— Courage, messieurs, plus de courage!..*
Что же такое случилось, что после ста лет триумфов и «храбрости» ее
высочество социал-демократия вдруг чувствует себя боязливою, прячется
под стол, хоронит «концы в воду», сваливает свое дело «на других», воро-
чает глазами, как повар в крыловской басне, и говорит:
Кот Васька вор...
Кот Васька плут...
— когда и «плутовство» и «воровство» у нее самой за пазухой? Были храб-
ры, когда свалили старуху, австрийскую императрицу Елизавету, ткнув в грудь
ей «ножиком тонким, как шило...». Не стеснялись объявить «своим делом»
и 1 марта. И вдруг такие относительные пустяки, как «разгром Московско-
го университета» и вот теперь женского Медицинского института,—вы-
зывает страх и желание свалить все дело на г. Кассо:
Кот Васька плут...
Кот Васька вор...
Просто читаю газеты и глазам не верю: я ли с ума сошел и ничего не
понимаю, или это какая-то условная ложь, которую победить невозможно
потому именно, что она условная, т. е. молча всеми разумеемая, — ну, разу-
меемая в Москве и Петербурге, — но которою нужно обмануть провинци-
* Смелее, господа, смелее!., (фр.)
173
альную Россию, всех этих «батюшек и матушек» студентов и курсисток, их
«тетенек» и прочую «обывательщину»...
Посмотрите, какая идиллия:
«Батюшки» и «матушки» взяли последние «сбережения», откладывав-
шиеся на черный день, по книжкам ссудо-сберегательных касс, и отправи-
ли свою «Наденьку» или «Вареньку» в Петербург. «Что ж, дочка, мы стары,
ты у нас—не одна, но старшая, деньги на тебя истратить — все равно как
в рост отдать их. Ученье — живой процент: все вернется с лихвою. Выу-
чишься, мы, может быть, помрем к тому времени: но ты, как врач, поды-
мешь братьев и сестер-малюток».
В «интересы науки» и даже «улучшения положения России», конечно,
провинциальные попы, диаконы, бухгалтеры, служащие управы, чиновни-
ки и проч, не могли вникать: куда тут «улучшать Россию», — «улучшить-
ся» бы самому...
Собрали, отправили; пишут «болезные письма», какие мне доводилось
иногда читывать... Не могу забыть вечный мотив: «учись, доченька; цер-
ковь не забывай»...
Встречно этому, предсмертно старушки и старички «завещают» на
стипендии и все такое десятки тысяч, сотни тысяч рублей...
Так «строится Россия»... Так она всегда строилась: там—копеечку, тут—
миллион, все—«в одну кучу». Известно—«калиты», все-то мы «калиты», и
вся Русь—одна «Калита» («денежный мешок», по летописям).
Все было хорошо, пока не пришел некий враг. Откуда взялся—неизве-
стно. Но откуда бы ни взялся: а пришел и стал разорять русского «кали-
ту». .. Мешок развязал, деньги разбросал. Говоря без иллюстраций, — про-
фессоров повыгнал, студентов тоже выгнал, выгнал и курсисток.
Бог знает чтб такое: и ни один исправник не схватит, ни сам департа-
мент государственной полиции не арестует.
Опустошает Россию. Я говорю о Кассо. Дали ему спокойное ведом-
ство, министерство. Он сказал: «Наука слаба» — и хотел отправлять за гра-
ницу больше молодых ученых для подготовки в профессора: но оказалось
это «уткой», ибо на самом деле коварный Кассо не только ни одного нового
профессора не сделал, а множество прежних умертвил... Ну, т. е. уволил.
Умерщвляет студентов и курсисток; умерщвляет профессоров. Просто —
людоед этот Кассо.
Такова версия, навеваемая в провинцию... Все газеты полны статьями,
печатающимися целый год: «Разгром Московского университета», «К раз-
грому. ..», «Еще о разгроме»... Во всех падежах. Витоге:
— Кассо, разгромщикрусского просвещения...
Во всех газетах не только единство тона и мысли, но одинаковые заго-
ловки статей... И по отсутствию всякой полемики, малейшего литератур-
ного спора, который, как известно, «выясняет истину», — заметно тут что-
то именно условленное и «сговорившееся», ну—«сговорившееся» не на
каком-нибудь заседании, даже не вслух, а сразу молча всеми понятое и ис-
174
полненное', ибо ведь мы «люди просвещенные» и очень элементарная мысль
усваивается всеми и моментально. Чего проще:
— Кассо — злодей'.
— Еще министр оказался злодеем...
—Да ведь мы же и говорили, еще со времен Щедрина, что они «все—
злодеи»...
Это просто гипноз, пропаганда, волевое нагнетание: а в таковом какие
споры, полемика, «выяснение истины»?
* * *
Спорю как-то с двумя публицистами и говорю:
—Социал-демократия разгромила Московский университет, теперь—вы-
гнала 1270 курсисток-медичек.
Отвечают, широко раскрыв глаза:
—Разве Кассо социал-демократ?
В свою очередь я широко раскрываю глаза:
—Да разве же Кассо разогнал московских профессоров?
— А кто же? Он писал бумагу.
— Господа, да вы говорите это кому-нибудь, а что же говорить мне,
который живет не в Чухломе и кончил курс не в уездном училище?
Не понимают или делают вид, что не понимают. И я не понимаю, не
делая никакого «вида».
Делаю аналогии:
1) Вы зовете гостей. Приходят другие люди, при входе сказавшие, что
они «гости»: но немедленно они хватают все со стола, самого хозяина вы-
талкивают с ругательствами вон и объявляют, что «собственники дома те-
перь — они», ибо «они — сила». Выгнанный вон хозяин зажигает дом.
Кто сжег дом, гости или хозяин!
По-моему, — гости; по речам споривших со мною публицистов, по го-
лосу всей печати—злодей своего дома хозяин, ибо физически он сжег дом.
Хозяин — Кассо, гости званые — студенты, пущенные в университет
для занятия наукою, «фальшивые гости»—социал-демократия.
2) В семью позван репетитор, который учит детей, что родители его—
отвратительны, и вся семья их — гадка, и что — учиться не надо, а лучше
бы сломать все это черное здание, в котором и они, дети, и родители их
живут. — И все это — громко. Родители выгнали репетитора: кто лишил
детей учения, родители или репетитор!
По-моему, — репетитор; но по голосу всей печати — «злые, невеже-
ственные родители, ничуть не дорожащие воспитанием детей».
3) Крым цвел виноградниками. Но появилась филлоксера, и хозяева ви-
ноградников их вырубили все, во всем Крыму. Кто истребил виноградники,
филлоксера или собственники виноградников!
Неужели не ясно? Но вся печать единогласно говорит: «Собственники
всех виноградников в Крыму сошли с ума: мы сами видели, как они взяли
175
топоры и начали рубить свои виноградники, сплошь все, и немного увяд-
шие, и такие, которые были совершенно свежи, в зелени, с гроздиями пло-
дов». Того же, чтб вы называете «филлоксерой», — мы даже и не видали.
Но разве может быть «невидимо» такое зло, которое, по вашим словам, в
силах опустошить Крым?»
«Филлоксера»—политическая пропаганда в учебных заведениях; «вла-
детели виноградников»—администрация учебных заведений.
* * *
Кто же произвел «разгром учебных заведений»? Злодей Кассо, сей «Васька
вор», сей «Васька плут», или... старая наша знакомка, «пропагандистка» с
60-х годов, уже тогда рвавшая на закуривание папирос драгоценные изда-
ния из библиотеки (Марк Волохов, обобщенный тип в «Обрыве» Гончаро-
ва) и говорившая, что «Публичную библиотеку в Петербурге надо сжечь,
потому что она набита старыми, содержащими множество суеверий и тьмы,
книгами» (слова Добролюбова, сказанные одному товарищу, когда они шли
мимо этой библиотеки). И, наконец, всего пять лет назад говорившая: «Уни-
верситеты — не для науки; молодежь не вправе предаваться науке, когда
страдает народ; университет—для политики».
Так все связно тут, в этих рассуждениях и требованиях, для человека об
одной идее, для л<оно-идеалиста.
Но зачем Кассо закрывать университеты? Явно, что это «опереточный
злодей», бедный актер Иванов, которого толкнули на сцену, сказав: «Играй
злодея».
Конечно,—университеты закрыты и профессора повыгнаны, как и сту-
денты и курсистки исключены, социал-демократией.
* * *
Но почему она струсила? Почему не говорит громко и смело: «Я сделала»"!
После 1 -го-то марта, после смерти императрицы Елизаветы можно бы?!
Потому что, как есть в каком-то мифе рассказ о «змее, кусающей свой
хвост», т. е. свое же тело, социал-демократия — в этом случае укусила свой
хвост. Она действительно совершила коллективное, ужасное злодейство
над «своим же элементом», беднейшими, обездоленными людьми в стране;
совершила его не только над массою студентов и курсисток, отнюдь к соци-
ал-демократии не принадлежащих, но насильственно в нее втягиваемых
теперь, но и над семьями, над родителями их, этою полуобразованною доб-
рою Россией «внутри», откуда всегда она брала себе рекрутов...
Она ужаснулась перед проклятием, которое могло бы пронестись над
ее головой из тысяч грудей этой темной, безвольной, доброй России...
Действительно, из тысячи исключенных, может быть, сотни две и вый-
дут в работники-социалисты. Ее право пропагандировать их: но около двух
сотен «сынов будущего» — погублено в житейском смысле столько тысяч
молодых жизней, что даже крепкая нервами социал-демократия смутилась.
176
Жгли еретиков ну по три, ну — пяток, десяток; но если бы сразу сожгли
население целого городка, то аутодафе, конечно, разом прекратились бы. С
«разгромом университетов» произошло это же; социал-демократия «трях-
нула» столькими жизнями, судьбою стольких людей, самых бедных, самых
жалких, что если бы вся Россия сознала и закричала:
— Социал-демократия в один год погубила тысячи ни в чем не повин-
ных, чуждых ей молодых жизней и лишила Россию нескольких высших
учебных заведений, по глубокому равнодушию к науке, к образованию...
Если бы, повторяем, такой вопль раздался,—то, может быть, стал бы
могилой социал-демократии.
И вот в предупреждение этого раздался молчаливо согласованный клич,
— невероятный, несбыточный, как сказка, но который громом своим, сво-
им единством духа, единством слова, до полного тожества в заголовках
статей, мог бы оглушить страну, ослепить ее, наконец, «заткнуть глотку»
вот хоть родителям, которым хотелось бы крикнуть правду, пожаловаться,
заплакать, но они теперь вынуждены печатью кричать в тон себе:
— Какой чудный виноград рос в Крыму, дешевый, сладкий, лечебных
сортов; но что-то приснилось их собственникам, и вот—мы сами видели'.
— в одно утро, проснувшись, они схватились за топоры и порубили все
виноградники! Горе! Безумие!
Когда все кричат, как не закричит каждый? «Все»—это сила. «Все»—
гипноз. Не такие еще «крики» проносились в истории...
* * *
Я говорю о вещи, до того очевидной, что ее трудно доказывать. Известно,
что в геометрии теоремы доказывают, но аксиомы, т. е. очевидности, не до-
казываются, — и они не доказуемы...
Cui prodest? Кому выгодно, кому это могло бы принести пользу? — пер-
вый вопрос юриста, который доискивается виновника преступления.
Ну, кому же «выгодно» исключение 1270 слушательниц Медицинского
института? Кассо? Да что он их в гарем что ли к себе возьмет? Лично он их
не знает ни одной и никогда не увидит, кроме, может быть, волонтерки с
браунингом в руке. Так что же за «выгода» рисковать жизнью?! Кассо, оче-
видно, натравлен на поступок; его жгли каленым железом, пока он не вско-
чил и не сделал...
И слишком понятно: назначен министром; «то-то хочется сделать», «уве-
личить число профессоров, поднять науку»; «наука в России слаба, бездея-
тельна, застарела»...
Вдруг, уже сущие профессора отказываются читать лекции; студенты
перестают ходить на лекции, целиком, разом...
Вскочишь, как укушенный...
Кассо вскочил. Распоряжается, приказывает. Никто его распоряжений
не слушается; один хохот кругом. Хохот профессоров, хохот студентов.
Еще распоряжается. Грозит.
177
— Ха! ха! ха! ха!..
— Хо! хо! хо! хо!..
Кто-то внутри и невидимо распоряжается в университетах. Распоряжа-
ется, как властитель, без всякой мысли о неповиновении... Если кто знал,
что его «все послушают»,—то это «коалиционный комитет», члены коего
все—вто же время члены социал-демократических организаций.
Cui prodest? Кому польза?
Кассо оплеван, осмеян. Кассо бессилен. «Король без королевства», в сво-
ем роде «Иоанн Безземельный»,—выгнанный собственными вассалами из
собственной земли. Но если в «Ревизоре» вдова унтер-офицерша, конечно,
не «секла себя самой», и Гоголь вложил это в уста Городничего как пример
несбыточной ерунды, какую говорит человек впопыхах и сгоряча, то, вот ви-
дите ли, по уверению всей печати, именно Кассо и есть эта «сама себя секу-
щая» вдова унтер-офицера... Взял и «высек самого себя»; «выгнал самого себя
из министерства», оставшись при одном мундире, жалованье и с орденами. И
это кричит, эту «ерунду Городничего» повторяет вся печать в сто голосов!..
— Ничего... провинция проста, поверит... Ведь все-таки «филлоксе-
ру»-™ рубил Иван Иванович... Сами видели топор в руках и как он замахи-
вается. Бумагу об исключении 1270подписал Кассо...
— Ха! ха! ха!..
— Го! го! го!.. Подписал, подписал!.. Кассо подписал! Людоед Кассо...
Ату его, ату, — ребята!!
* * *
Такой зрелый и властный поступок, конечно, не подготовляется в недели и
даже в немногие годы... Это — вековой поступок, «дозревавший» в ряде
поколений...
Это просто история, множество раз повторенная в мемуарах, печатав-
шихся на страницах «Былого»: как только аресты, высылки, ссылки разре-
жали ряды революции, делали ей временный паралич,—она, «прикоснув-
шись к молодежи», снова вставала молодая... «Разреженные» ряды опять
«густели»... Но «коснуться» молодежи она могла только тогда, когда по
чисто учебным делам в университете начиналось волнение и когда это чи-
сто учебное волнение революция переводила в волнение учебно-полити-
ческое, и в результате всего множество учащихся выбрасывалось за борт
учебного заведения... Этих «выброшенных» революция подхватывала, как
акула хватает все упавшее с корабля...
«Много выброшенных, исключенных — и мы богаты». Акула сыта.
Без «выброса» она решительно умирает с голода. Собственно «личный
состав» революции, ее солдаты и офицеры, весь «служебный персонал»,
«чиновничество» революции, «бюрократия» революции—почерпнуты из
«университетских волнений», навербованы в золотые дни таких волнений...
И не будь их — просто ничего бы не было в революции. Не «купцы» же, не
«чиновники» ее делают, не «отяжелевшие родители»...
178
Вся она сделана «молодежью»... Какой?Лично несчастною... О, него-
дование теоретическое никогда не будет так сильно, как негодование, когда
«сатана коснулся кожи» человека... Помните, в «Книге Иова» сатана про-
сит у Бога разрешения «коснуться кожи праведника», чтобы испытать
его... «Государство», «отечество», русская «история», для нас милая, — что
все эти слова значат для 22-летнего юноши, сосланного куда-то в снежные
поля Вологды или возвращенного «к родителям» на хлеба, — которым он
мог бы помочь трудом, работою... Хотел бы помочь...
— О, проклятие!..
— О, это «отечество»...
— О, эта «история», длинная, как моя ссылка, томительная, как моя
ссылка...
«Выбить из колеи» человека в 22 года—и значит порвать его реальную
связь с «бытом», «историей», «страной». — «Отечество я узнал только с
той стороны, что в нем очень крепкие замки да цепи, которые черт знает до
чего трут ноги!..» Вотумов «отечество»: другого не знал. Кто «узнал» —
пусть его и «любит»: у меня свои чувства и свой путь.
«Путь», конечно, революции... Конечно! Конечно!
— Cui prodest? Кому же «приносят пользу» волнения? Одной револю-
ции, ей единственной.
Отсюда, как опять же рассказано сто раз в «Былом», революция, ютясь
всегда около «молодежи», пользовалась всяким замешательством учебной
жизни, малейшим в ней неудовольствием, чисто учебного характера: что-
бы «соломинку» этих чувств, этих отношений превратить в «бревно» скан-
дала, шума, несчастия... и, главное, главное,—с выгоном студентов, с ссыл-
кою их, тюрьмой, карами. «Вдруг валит через борт выброс в сто голов»: у
акул—ликование, «Рождество Христово», «Пасха»!—«Будет розговенье:
красное яичко принесено»...
Все это могло бы «сфальшивить в тоне, если б не было совершенно
искренно: как «революционерам» не любить «молодежь», раз все «револю-
ционеры» суть «былая» учившаяся молодежь, «потерпевшая»-, и... «за
любовь—любовь»: неодолимо учащаяся молодежь любит революционе-
ров, ибо это «былыемы... особо несчастные мы»... Таким образом, связь
здесь так естественна, так органична, что разорвать ее невозможно. О «раз-
рыве» я и не говорю: я говорю об юридической границе. Все-таки револю-
ция — не университет, все-таки университет — не для революции, а для
себя...
И говорю еще о кровавом злодеянии, которое получается из этих «ис-
кренних отношений»...
Одно дело «сочувствовать революционерам», и совершенно другое
дело — самому сделаться революционером. «Натурально» всякий студент
и курсистка сочувствует, —лично сочувствует, —революционерам: как
«хорошим людям», как «пострадавшим», «потерпевшим»... Тут и русская
гуманность, и все...
179
И совершенно другое дело: толкнуть корабль университета, чтобы за
борт его вывалилось как можно больше жертв: это уже злодеяние!
И «интимное» университета так незаметно переходит в это «злодея-
ние», что уловить границу, момент перехода почти невозможно!!
«Любили», «дружились...»—«Читает плохо лекции тот-то...»—«Да
они все скверно читают: какие это профессора? Наймиты презренного пра-
вительства! Этого же непременно надо освистать»... «Вышел циркуляр
от министерства: требует таких-то формальностей...» — «Они только и
гонятся за формальностями, им чем же заниматься? Циркуляр бы ничего,
но ведь это—первая ласточка. Вас хотят скрутить и лишить всяких прав',
обратить в рабов, как их прочие чиновники... Нужно забастовать вот имен-
но, когда появилась первая ласточка...»
Конечно, во всяком университете есть неспособные профессора. Но
«обошлось бы». Циркуляры тоже не Пушкин сочиняет. И тоже «обошлось
бы». «Потерпели» бы и кончили: и стали бы сами, может быть, лучшими
профессорами, и, может быть, писали бы лучшие циркуляры. Во всяком
случае, родители старые были бы сыты и теперешние студенты сами
были бы при труде, при махоньком улучшении какого-нибудь дела в России.
Но революция напряглась и качнула корабль: искра разгорелась в пламя,
неудовольствие перешло в скандал, профессору устроили «вселенскую
мазь», а циркуляр, касавшийся даже только «управления университета», до
которого студентам вовсе и дела нет, и не знают они, и не интересно оно
им, — вдруг вызвал громадную, шумную сходку, с постановлением: «заба-
стовать».
Крайняя мера!
В студенчестве все — «крайние меры»: на средней, кажется, еще ни
разу не остановились.
Результат: запрещения, исключения, аресты, ссылки. «Акула сыта»...
Милая, прекрасная, интимная акула... О, и у акулы есть свои «детеныши»,
и она их «любит». В том и ужас, что диалектически «все» во «все» перехо-
дит. И будущий «хороший, настоящий хороший профессор» и «кормилец
семьи»—топчется ногами в снегу Вологды. Топчись, не топчись — счас-
тья не вытопчешь.
Теперь он сделался «славным» в рядах революции: только старый дом
у него на родине завалился; сгнил,—старики в нем померли, а братишки с
сестренками пошли в нищету, хулиганство и проституцию; да «свое дело
на Руси» перешло из рук «милого Иванова» в руки сметливого и осторож-
ного господина с фамилией на «янц» или на «берг»... «Саркисьянц» или
«Гольденберг» заживут в крепком, хорошем доме, со «своим садом», и у
них будет «в услужении» девушка Лиза, сестра того «сосланного», кото-
рый, кажется, умер, и, вообще, из его «революции» ничего не вышло, кро-
ме пяти строк «группового воспоминания» в каком-нибудь заграничном
«Былом»...
О, проклятие!..
180
О, «дела русские»... Дела вечные, неизбыточные...
Но, во всяком случае, при чем тут «Кассо»? Так и говорите:
— Это мы, революция!..
Courage, messieurs, plus de courage!..
ДЕСЯТИЛЕТИЕ КОНЧИНЫ Ф.Э. РОМЕРА
(8 августа 1901 г. — 8 августа 1911г.)
Сегодня исполнилось десять лет со дня кончины одного из самых достой-
ных русских деятелей и писателей, притом в области самой важной, — Фе-
одора Эмильевича Ромера, сотрудника «Нов. Вр.», «Русск. Вестника» и друг,
и редактора «Земледельческой Газеты». Поляк по отцу, русский и право-
славный по матери, уроженец Калужской губернии и землевладелец Орлов-
ской, — он, при спокойном и ясном характере и уме, дал редкий образец
кипучей деятельности, сосредоточенной на русском хозяйстве главным об-
разом, но легко и свободно перебрасывавшейся и на другие области. Он пи-
сал романы, повести, стихи, был публицистом, — и все эти сочинения его
составили пять томов, изданных три года назад: но это было «между де-
лом», которым оставалось во всю его жизнь — поднятие хозяйства средней
полосы России, поднятие его примером, образцом и постоянной работой в
журналах и газетах о частностях и подробностях земельной культуры, пре-
имущественно плодоводства и огородничества. Он первый основал цветоч-
ное семеноводство в России: до него семена цветов можно было только вы-
писать из-за границы. Нельзя лучше охарактеризовать его деятельность, как
приведя эти слова из его речи за шесть лет до кончины: «25 лет меня учила
земля и русская деревня,—теперь постараюсь говорить о том, что я вынес
из своей 25-летней практики». В 1898 году министерство земледелия пору-
чило ему обследовать сады, казенные и частные питомники, школы садо-
водства и прочее южной полосы России. Его отчет послужил основанием
для коренных перемен в постановке учебного дела в сельскохозяйственных
заведениях юга. Министр земледелия А. С. Ермолов, высоко ценивший его
ум и знания, поставил его во главе министерских изданий: «Сельское хозяй-
ство и лесоводство», «Земледельческая Газета», «Известия министерства
земледелия».
Начало широкой его известности и популярности в сельскохозяйствен-
ном мире положили ежемесячные обозрения сельскохозяйственной жизни
в России, печатавшиеся в «Русск. Вестнике», и фельетоны по тому же пред-
мету в «Нов. Времени»; наконец, огромное количество статей как в пере-
численных выше специальных изданиях, так и в журнале «Деревня». Со
всех сторон тянулись к нему в Богородское (имение Карачевского уезда,
Орловской губ.) крестьяне за советом, как и приезжали землевладельцы
научиться у него приемам интенсивной работы: и эта работа «показом, а не
181
наказом (словом)» составляет вторую половину его деятельности, тесно
переплетенную с первою, литературною. Человек 60-х годов, он остался в
стороне от литературных и идейных течений того времени, не разделяя их
отрицательности, радикализма, пессимизма; но он имел в своей натуре бод-
рую струю их, крепкий состав. Идейно он весь примыкал к «самодержав-
ным основам» царствования Александра III, которому по его кончине по-
святил прекрасные страницы. Память его сохраняется и надолго сохранит-
ся в истории земледельческой культуры России, которой он принес много-
ценные плоды своего ума, опытности и безграничной веры в будущее
великой родины.
Фед. Эм. Ромеру принадлежат, кроме классических «Бесед о практи-
ческом плодоводстве», романы: «Под разными флагами», «Нерешенные
задачи», «Дилетанты», — и повести: «В среде образов звериных», «Сест-
ры», «Деревенский линч», «Губернская Магдалина», «Последний этап»,
«М-Ие Катиш», «Пустое сердце», «Вымирающие», «Жизнь или сон», «Спе-
тая песня». Все эти сочинения изданы книгоиздательством Маркса.
ЕСТЬ ЛИ «НАУКА» В РОССИИ?
(К академическому «заявлению»...)
Академия наук—есть.
Восемь университетов — есть.
Четыре духовных академий—есть.
Да. Но это пока тринадцать кирпичных зданий, которые так же нельзя на-
звать «наукою», как «казармы» нельзя назвать «армиею».
Есть «штаты Академии Наук»... «штаты университета», «штаты духов-
ной академии»... Но пока это — бюрократия. Служа в контроле, я как-то
увидел «вновь учреждаемые штаты» небольшой службы. Знаете, что такое
это было? Я ужаснулся: лист превосходной бумаги, расчерченный верти-
кальными и горизонтальными линейками, между которыми, превосходным
спокойным почерком, было выведено:
класс должности,
причитающееся жалованье.
—«Нос modo mundi nascuntur», «так рождаются миры»,—прошептал
я, глядя со страхом на лист. — «Ведь вот, в самом деле — родилось-, и будет
существовать или будет мозолить глаза, пока не будет благоугодно напи-
сать такую же вновь бумажку, но с обратным смыслом: «сие упраздняет-
ся». .. Может существовать три года, тридцать лет, век. Историк скажет:
«Вековое учреждение»... И, может быть, это было вековое «просиживание
стульев»,—порча мебели, стальных перьев, бумаги и порча воздуха в кан-
целяриях...
182
Доселе — Акакий Акакиевич: но, переходя от примеров к делу, — где
же наука!
Медицина, конечно, есть: потому что, хорошо или худо, в России лечат-
ся и потому, что были... не говоря о меньших, Иноземцев, Пирогов, Бот-
кин, Захарьин. Т. е. были сильные своеобразные умы в ней, каждый — с
упором в себе, силою сопротивления и силою самоутверждения, с гордос-
тью и достоинством, с традицией), с духом; со «школою» в себе...
Где есть школа и традиция — есть и наука. Это вообще, однако, явно,
что «медицина» есть лишь тоненькая одиночная веточка на «дереве зна-
ния», так же к нему относящаяся, как Гиппократ—к Аристотелю. Странно
их сравнивать, странно их помещать в одну линию: «медицина», даже и с
духом и традицией), может быть там, где науки вовсе не существует и нет
самой ее идеи и существа. Просто это есть вековое лечение, вековое при-
сматривание, как «лучше и лучше лечить», с обстановкою приемов, мето-
дов, с воспособляющими подробностями... Могут «лечить в стране» пре-
восходно, строго, «в уровень с Европою», — и, тем не менее, во всем этом
только еле-еле может брезжить зародыш кое-чего, а не в самом деле креп-
кая и цветущая ветвь науки... Вот если бы мы имели Клода Бернара или
Пастера, то имели бы эту «крепкую и цветущую ветвь науки». Отчего? Тут
содержался бы.штаоЭ, теория. И Клод Бернар, и Пастер созидали или во-
обще работали в некоторой основной науке, а не в производной науке. Ме-
дицина —очевидно, производная наука от биологии. Но великого биолога у
нас не было; и биология не существует у нас иначе, как в переводах и ком-
пиляциях. «Медицина» в России есть; но о «биологии» в России странно
говорить, потому что ее явно нет. И, заметьте, соответственно этому нет
традиции и школы биологии, нет «духа» биологического. Нет и не было
Биша, Петтенкофера, Гельмгольца. Света на весь мир наук об организме—
из России никогда не было брошено.
Мечников, с его теориею фагоцитов, есть единоличное и исключи-
тельное движение сюда, в сторону великих обобщений, кладки осново-
положного фундамента', но, увы, он почему-то жил и работал и сделал
все свои открытия, пришел ко всем своим новым мыслям, — за грани-
цею. Можно думать, — под одушевлением того стихийного тысячелет-
него дуновения вообще научного духа там, — всего мира наук, всего их
«круга», — какой родился у арабов в Испании и не кончился сейчас в
Берлине.
В России (и везде) сейчас и почувствовали особый смысл и особое по-
ложение Мечникова. В науке важно сделать не открытие, а родить такую
мысль, из которой рождались бы потом «открытия» неопределенно далеко
и долго... Вот такая «мысль» кладет начало «науке»: а множество «откры-
тий» и «изобретений», будучи практически ужасно важно, наконец, пред-
ставляя собою вечный материал науки, не имеющий когда-нибудь умереть,
потерять важность и ценность, —тем не менее не образует ни капли соб-
ственно еще науки.
183
«Рецепты» составляются превосходно, «лечатся в стране» — отлично:
но первый шаг биологии сделан в лице Мечникова, который, может быть,
не вылечил ни одного больного.
Наука есть мысль.
Наука есть метод.
* * *
Как около «больных» наконец явился Мечников, так около множества за-
водов, фабрик, техники, горного производства и т. д. и т. д., около всего
этого мира движения веществ и переформирования веществ родился, к
исходу второго столетия, Менделеев: и тоже вся Россия почувствовала, что
его место совершенно особенное, параллельное Мечникову и не парал-
лельное «открывателям» и «изобретателям», не параллельное великой «ре-
цептуре» мира человеческих знаний. «Писать рецепт» не то, что бросить
«новую мысль»: из «рецепта» получится единоличное излечение; из «мыс-
ли» получится множество «рецептов». Мысль — «батюшка» всего в нау-
ке. И вот таких «батюшек» мы можем назвать почти только двух у нас:
Мечникова и Менделеева.
И «батюшки» есть в русской истории и филологии: общее—в русизме,
русской этнографии. Слава Богу, хоть «Россию»-то русские «обдумали». Тут
нам «не у немцев учиться»... От Карамзина до Ключевского, от Киреевского
до Ламанского мы имеем десятки светлых умов, в вековой преемственности
обдумавших «русскую этнографию».—«Тут нам Иеринга не надо».
Все эти «батюшки», однако, — второго порядка: «отцы семейств», но
не «родоначальники племен» и не основатели «великих городов», подоб-
ных Вавилону или Риму. Такие «деды науки» — Аристотель, Платон, Де-
карт, Ньютон, Бэкон, Гегель. Они уже не рождают из себя какую-нибудь
одну науку, а рождают циклы наук, оказывают давление или одушевление на
весь круг наук своего времени, с возможностью даже новых наук потом и
за ними, но вследствие их. Аристотель или Ньютон тоже в сущности, что
Ромул или Карл Великий: они родили «царства духа», как те основали по-
литические «царства», с линией преемников, династий. В сущности — это
уже планетные духи, планетные умы. С ними «земля выросла», «земля зре-
ет». Обнять их взглядом, от пяток до головы, невозможно, трудно: это —
ослепительное зрелище, от которого ум кружится.
Такого ума ни одного не дала Россия.
Ни одного!.. Странно произнести — но ни одного. И так как все усваи-
вается в национальных, этнографических гранках, то русские несчастным
образом не имеют самого ощущения, самого постижения того, чтб такое
«ум человеческий» в его полном, не преуменьшенном, не карликовом зна-
чении, характере, сиянии.
—У, чудище... Как от тебя страшно... Как с тобой хорошо...
Что такое «ум человеческий», можно судить из примера Декарта, кото-
рый 22 лет и будучи офицером в тридцатилетней войне, пришел к мысли
184
«аналитической геометрии»: и не разрешимые до него никакими способа-
ми, никакими умами, никакою наукою «геометрические задачи» и «геомет-
рические вопросы» и «построения» начали разрешаться с легкостью, быст-
ротою и удобствами, как разгрызаются грецкие орехи. «Никто не может
разломить камень», — говорят стоящие Геркулесы, с молотами, ломами;
пришел, в сущности, мальчик, пошептал, подул — и камень раздвоился.
Чудо. Ангел. Это ангельская,—ангельская и демоническая,—форма ума.
Все «Манфреды» и вообще поэтические воплощения демонизма, —
Манфреды и Мефистофели, — можно сказать, носа высморкать не умеют
около этих настоящих чудищ истории, чудищ могущества натуры рождаю-
щей ... Науки у них просто сыпятся из головы, готовые, с изяществом...
Ньютон открывает дифференциальное исчисление: и десять лет не выни-
мает из стола бумаг, чтобы напечатать. Только когда то же исчисление вдруг
открывает Лейбниц,—он опубликовывает и свое открытие. А раньше уже
его применял к астрономическим теориям и доказательствам.
Подумать только, что «периодический закон» завалялся у Менделеева в
хламе кабинетных бумаг, и он, за занятостью другими открытиями, все свои-
ми открытиями, говорит об опубликовании его: «Некогда и не стоит — у
меня более важное на уме».
Это—такая роскошь, такое богатство, что не умеешь выразить слова-
ми. «Дохнул»—и «наука».
Или Бэкон: первый министр королевства, приближенный короля. Ка-
жется бы, «некогда»... В своем роде «Витте» того времени... Но это «вит-
тевство» было только частностью его биографии, до того несуществен-
ною, что он даже «взятки» брал, не различая, куда кладет, в свой карман
или казенный. — «Все равно», в «мировой карман». Это — просто неря-
шество философа, ибо не в «обстановке» же для «приемов» он нуждался.
Он зарылся, будучи министром, в положение наук своего времени, в по-
ложение ее методов; он изучил и распределил на категории самые за-
блуждения наук, господствующие научные предрассудки, суеверия мыс-
лящего ума, его безотчетные, невольные и ошибочные тяготения... И, про-
изведя огненную критику этих форм человеческого заблуждения, зачерк-
нул все сущие при нем науки и из своей дьявольской башки извел
неопределенно длинный ряд совершенно новых наук, до того далеко иду-
щий, что множество из «пожеланий» Бэкона, его предположений и мыс-
лей — не осуществлено и не разработано даже до нашего времени! Все
знание своего времени «похерив», он начал совершенно новое знание, с
новым в себе методом, новым одушевлением, с совершенно новыми зада-
чами, с духом вот теперешних наших фабрик и заводов, это... после спо-
ров, даже еще среди продолжающихся споров о том, «сколько ангелов
может уместиться на острие иголки»...
Представьте себе, моментальное и в одном уме, перерождение киевско-
го Патерика в «Учебник химии» Менделеева.—«Невозможно»,—завопит
каждый.
185
«Невозможное для человеков возможно для Бога»: и Бог повелел быть
Бэкону. И он сразу, в одну свою жизнь, провел дух ее, запах ее, смысл ее,
вкус ее, как бы от Антония и Феодосия Печерских до Бутлерова и Менделе-
ева. Я не об «открытиях» говорю, которых у Бэкона не было ни одного. Но
этот великан взял и переставил «пекинский дворец богдыхана» на Сену, а
«Париж»—к Печелийскому заливу.
Как же ему было взяток не брать? Смешавший небо и землю мог сме-
шать кошельки. Его судили. Очень глупо. «Боги» законов—не знают. Су-
дить «Бэкона за кошелек» —то же, что судить Шекспира за то, что, «сверх
законной жены», он «раз увлекся барышней на паперти собора»...
— Ноя сам собор построю,—мог ответить Шекспир.
— Но мое «Restauratio magna» — даст Англии больше богатств, чем
сколько их было во всей Англии за время моей жизни и царствования моего
короля,—мог сказать Бэкон.
И вот если около этих умов поставить, положим, «трепет Белинского»,
воспетый в стихах и прозе, то при всем «отдании ему чести», особенно
невольном в юбилейный год, — как не сказать, однако, что все это были
«куриные трепетания», страшно маленькие, страшно бедные, страшно не-
интересные, нелюбопытные и никому решительно, кроме гимназистов, не
нужные. Просто — нет идей. Нет — головы. «Не выдумывается»... Слог
легкий — а больше ничего. И если инквизиторски приглядеться к нашим
«корифеям», колесницы которых торжественно прокатились по литерату-
ре, и о них в национальном славолюбии мы уже понаписали гору книг, то,
право, это определение: «легкий слог»—так и захватит их всех, и мрачно-
го Добролюбова, которого пугался Тургенев, и даже всеобъемлющего Гер-
цена. «Всего коснулся» легким словом, этим остроумным, светлым, как
лесной ручей, словом: но, однако, именно—словом, и только.
Дитя Писарев это пренаивно и выразил, в своей «Университетской нау-
ке», рассказав историю своих диссертаций. «Мне хотели, в совете профес-
соров, дать золотую медаль, а моему товарищу — серебряную. Товарищ
представил основательную работу, я же предмета диссертации совсем не
знал. И только когда в совете кто-то указал, что, по правилам о диссертаци-
ях, последние служат для удостоверения в знаниях, у студента же Писарева
ничего нет, кроме хорошего слога, тогда как у его товарища видна начитан-
ность в предмете, знакомство с литературою предмета,—то дали ему золо-
тую медаль, а мне серебряную». Так он рассказывал, не догадавшись про-
должить мысль:
—С тех пор мы все и пишем хорошим слогом, — я, Добролюбов, Чер-
нышевский, Шелгунов... Публика, однако, не разбирает, как и тогда про-
фессора: и всем нам выдает золотые медали, возводит нас в ранг истори-
ческой многозначительности, хотя сами по себе мы просто только писатели
хорошего слога.
Но никто себя «в зеркале не увидит»: и только всем другим подставля-
ет зеркало. «Там все тупицы Креозотовы», — блистал ядовито Писарев о
186
профессорах, не замечая, что между ними и им только и лежал «хороший
слог»...
Но литература как-никак все-таки хоть гимназистов учит; «хороший
слог» все-таки распространяет грамотность. Но университеты и в самом
деле «наука»?.. И, наконец, Академия Наук?
Да вот, что же: ругали 20 лет Иловайского, но ни один профессор не
мог написать лучше Иловайского даже учебника для гимназий... И не тб
чтобы «профессору стыдно писать учебник»: ведь «Основы химии» Мен-
делеева — учебник же. Нет, тут не в «стыде» штука. А в чем же? — Не
умеют.
«Не умеют» — и баста. Просто, не умеют изложить «Рюрика, Синеуса
и Трувора». Невероятно, но факт. Теперь есть уже учебники, помимо Ило-
вайского. Но еще 30 лет назад ничего не было, кроме Иловайского, и после
него сейчас — Карамзина. Дико и страшно сказать, но университетские
профессора не умели просто излагать обыкновенным, не очень отврати-
тельным языком общеизвестных вещей; и не умели «составить книгу», так
сказать, из пропорциональных частей, в пропорциональных формах, во
сколько-нибудь неотталкивающем виде.
Вы думаете, что я лгу, будто «не умеют излагать». Проверим, кроме
Иловайского, на других примерах. Порежем алмазом там и здесь стекло.
Историй философий, тоже до последних 10—15 лет, ни одной: кто же
не помнит, как все мы захлебывались томиком Льюиса, т. е. в сущности
популярным учебником, только написанным не для класса, а для «домаш-
него чтения». Вот для «домашнего чтения» наши профессора ничего не
умеют изложить; не умеют составить книгу, гармонизовать книгу. В пору
своих учебных лет, т. е. все-таки недавно, лет 20—30 назад, я ощущал жи-
вую потребность и живой интерес ознакомиться с историею философии в
биографиях философов и в изложении философских учений, в размерах
приблизительно на два, на три, на четыре тома (от Фалеса до конца); и, без
сомнения, юношей с этою потребностью, в восьми университетских горо-
дах, было не тысячи, а даже десятки тысяч. И чтб же: не было ничего, кро-
ме однотомных, т. е. уже совершенно коротеньких, вроде Иловайского, кни-
жек: вот—Льюис, потом — Целлер, потом — Швеглер, потом — какой-то
француз, но не из Парижа, а страсбургский профессор, и еще в этом роде:
все — «Иловайские» переведенные. Чтб же русские профессора делали,
чтб же совершали наши университетские кафедры, около которых толпи-
лись все-таки иногда любознательные студенты? Подумайте: тридцать лет
службы у каждого. В тридцать лет можно много сделать. Если не Акакий
Акакиевич, то в тридцать лет мало ли что сделаешь. Ну, в пять лет можно
написать томик, а за тридцать лет можно написать шесть томов. Если при-
бавить пятилетие «пенсии», когда человек еще не дряхл, то явно, что каж-
дый из профессоров восьми университетов мог дать русскому образован-
ному обществу, своим слушателям и решительно со всех сторон оплеван-
ной России: 1) трехтомную «Историю философии», вот с биографиями и
187
изложением учений, 2) изложение логики, 3) изложение психологии. Из
восьми профессоров, «процветающих» (термин историй философии) од-
новременно и параллельно, мог бы дать кто-нибудь, — ну если не в одном
поколении, то в следующем. Но «гений» русского университета оказался
так велик, трепетен, пламенеющ и созидателен, что, вообразите:
Не нашлось никогда и ни одного!!!
Вот вам и «фельдфебеля в Вольтеры дам». Да им и стоит дать «фельд-
фебеля». Чего же они еще-то заслужили кроме «фельдфебеля»? Да «фельд-
фебель» перед ними — преумница, разумное существо, трудолюбивое су-
щество, должностное существо, с добродетелью Сократа (исполняет
«долг»), с честью, совестью, Богом... «Фельдфебель» не спросит себе долж-
ности генерала, т. е. опять же он скромное и добродетельное существо. Да
посади меня в «начальство», — то я бы этих профессоров задушил цензу-
рой, просто для издевательства, для вызова в них реакции хоть на простое,
наглое, смеющееся притеснение. Чтобы они «бились лбами в стену» хоть
темницы, — если уж не умеют «стукнуться лбом» о пол храма... Нет, в
России было поистине мало «притеснений»: которое жжет, мучит и застав-
ляет говорить. А тб этим «котикам на Командорских островах» подложили
под бок жалованьице, подложили орденки, мундирчики шитые назначили,
«Иванами Ивановичами» называли, в благоустроенном отечестве женок им
дали и детишек на казенный счет стали воспитывать. И вот они, дремля и
просыпаясь и опять засыпая, бормотали:
— Какая дура Россия... Невежество кругом... Кнут визжит в воздухе...
Ай, кнут! кнут!.. Только еще в нас и горит святой огонь Весты... Мы —
весталки науки, не дающие угаснуть священному огню на жертвеннике.
Без него, без нас в несчастной России все погрузилось бы в полный мрак...
И вот, поворачиваясь с боку на бок, они дали России, за сто лет, трех
переведенных с немецкого, с французского и с английского «Иловайских»:
Иловайский «от Швеглера», Иловайский «от Целлера», Иловайский «от
Льюиса», Иловайский «от страсбургского профессора».
Чтб тут особенно глупо и, так сказать, ниже «фельдфебеля» даже по
уму, то это то, что на том же немецком языке и, напр., у того же Целлера
есть кроме гимназического учебника, который «нашими» переведен (переве-
ден профессором, притом с большим именем), еще двухтомное, уже инте-
ресное изложение истории философии — «для чтения и образованного об-
щества». И так как учебники уже были раньше переведены «от Швеглера и
Льюиса», то явно следовало перевести эту большую историю... Но нет—
дали третьего «Иловайского», а книги для чтения и интереса — так и нет
ни одной...
Только в самое последнее время, благодаря «трудоспособности» про-
фессора Высших женских курсов, А. И. Введенского, благодаря заботам
московского Психологического общества, благодаря переводам курсисток,
по указаниям и под руководством того же А. И. В—ского и людей парал-
лельного с ним умственного типа, — в русской печати появилось хоть что-
188
нибудь, кроме «Иловайских» в перефразировках. Право, посмеешься: «С
курсистками как-то работать симпатичнее»; и наши «котики» проснулись.
Нет, я бы или задушил наших профессоров цензурой, или романтизиро-
вал бы их: никакого другого средства «поднять науку в России» не вижу. «В
коммуне с женщинами» по крайней мере стали бы обильно переводить—
как это бывало в свое время, — и отлично, что бывало. Иначе—
Скука, холод и гранит.
Много я порицал в газетах профессора Кареева, а теперь приходится хоть
поклониться в ножки: заглянул этот год в его «Всеобщую историю»,—от-
дельные томы, посвященные отдельным эпохам. Оставив «прометейсгво» и
соперничество с «Манфредом», он взялся как бы «за Иловайского»... Это—
иносказательно. На самом деле, он выполнил скромное и самонужнейшее
дело—дать России то, что до сих пор она имела в переводных трудах былых
Шлоссера. Вебера и подобных. Ведь это так легко: ведь западные литературы
уже все разработали, все обработали, подобрали и систематизировали мате-
риалы, изложили «сколько угодно» точек зрения на каждый вопрос, на каждую
даже точку в вопросе всяком: оставалось быть «исполнительными, как фельд-
фебель», и, не генеральствуя около «очага Весты», смиренно и просто работать и
работать для отечества, компилировать и компилировать, излагать и излагать...
Куда!..
— Мы ниже Прометея не можем. Чин не позволяет... У нас чтобы с
искрами и с пламенем. Молот стучит, колокол звонит... А если меньше—
то мы лучше заснем...
Ходит Спесь надуваючись,
С боку на бок переваливаясь...
Шапка-то на Спеси в целый аршин.
Пузо-то все раззолочено...
Вот и вся «русская наука»... Ни вздохнуть, ни передохнуть в ней. Осуж-
дают духовенство: «Косно, черство». Да наши профессора коснее и чер-
ствее консисторских протоиереев.
Нет: в этой тайне, что студенчество овладело университетами и, по-
видимому, скоро будет сечь своих «наставников» или сажать их «на хлеб и
воду в карцер», есть свои неуловимые и сверхъестественные секреты...
Вспомнишь Гегеля и его «все действительное — тем самым и разумно»,
т. е. основательно, мотивированно... Не без «мотива» и это произошло, что
юноши сели на головы старичкам, а «науку», или «якобы науку», послали к
черту... Все дело и заключается в «якобы»...
Незабываемое впечатление: в Москве ожидался ученый диспут. По
обыкновению—запоздала «коллегия» (диспутирующие профессора). По-
года была хорошая, а может быть, и «назначенный зал» не отпирали. И вот,
прогуливаясь во дворе, вижу: на ступенях «юридического подъезда» (с пра-
вого бока, если входить) расселись, как мне показалось, скромные девушки
189
в простеньких шляпках и платьицах. Я их принял за курсисток. Только пом-
ню угрюмый студент Пусков сморщился и говорит:
— Что это студенты своих девочек понавели.
Тон не позволял колебаться в смысле. «Что это? Неужели бывает, слу-
чается?»
Тридцать лет прошло. И вот, поживши и подумавши, и размышляешь:
—А что же: чтб действительно—все разумно. От этих польза неболь-
шая, зато есть явное удовольствие. А от профессоров тоже пользы нет, а уж
удовольствия—решительно никакого.
И «секут»... И вытеснила их, бедных, «социал-демократия»... Да чтб
она «вытеснила»-то? Солома лежала. Пришел ветер и раздул солому. Кри-
ку много, все плачут: а в сущности, и «убытку» нет...
ЕЩЕ О «НАУЧНОМ СОСТОЯНИИ» РОССИИ
Вопрос о «науках в России» так интересен и со стороны фактов, и со сто-
роны вытекающих из фактов соображений, что о нем хочется говорить и
говорить...
Тут важны и мелочи, личные впечатления,—всегда и всякого толкаю-
щие к выводам; и проверяющие обозрения библиографии. Позволю себе
поделиться первыми...
Когда, лет десять назад, мне была принесена в подарок горсть серебря-
ных греческих монет, — Афин, Сикиона, Коринфа, Фессалии и т. п., — и я
жадно стал искать их понять, т. е. определить себе: 1) что на них изобра-
жено, 2) что значат буквы на них, т. е., как потом оказалось, инициалы имен
городов, 3) какого они времени и 4) какой страны и города, — то...
Пришлось все это узнать, и оказалось ед инственно возможным узнать, —
из показа добрейшему хранителю Императорского Эрмитажа, А. В. Мар-
кову. .. Это все равно как если бы кто-нибудь, желая узнать, «сколько ча-
сов», должен был в Петербурге бегать на Николаевский вокзал и там уз-
навать «время»... Это — мелочь, но «мелочи» всегда—иллюстрации сущ-
ности.
У него же «из рук» я узнал римский динарий... «Узнал», т. е. как бы
«снял шапку» перед знакомым. «Познакомился»...
—Да чтб, неужели в русской ученой литературе нет изображения рим-
ского динария? И нет изображения афинской монеты?
Он человек очень рассеянный, и сперва ответил:
— Нет.
А при втором или третьем свидании сказал:
—Есть какой-то атлас Цыбульского, преподавателя царскосельской гим-
назии. Но я не видал.
Он по добродетели не договорил: не видал, как дрянь, на что не стоит
смотреть... Ибо у русских в науках вообще ни на что не стоит смотреть.
190
Покупаю, однако... Откуда же узнать, какой вид имеет афинская моне-
та? Этот вид узнаю, — и еще узнаю вид нескольких монет, так сказать «об-
разцовых». .. «Ну, слава Богу, благодетель Цыбульский»... Все-таки, одна-
ко, не русский, а поляк. Читаю, рассматриваю и вижу: то снимок «монеты,
хранящейся в Берлинском музее», то «монеты, хранящейся в Британском
музее»... Еще при свидании спрашиваю Маркова:
—Да, но Цыбульский дал изображения «редчайших монет, хранящих-
ся в Берлине и Лондоне»... А как же я узнаю свои обыкновенные монеты:
вида их нет у Цыбульского.
— Позвольте взглянуть...
И, перелистав, ответил:
—Да это совершенно обыкновенные монеты, которые есть и в Эрмита-
же, и есть везде, решительно, где какие-нибудь монеты собираются. Зачем
Цыбульский писал «из Лондона и Берлина»—неизвестно. Но их у него так
мало вообще, что ваше «обыкновенное» не совпадает с «обыкновенным» у
Цыбульского. Бросьте! Т. е. не монеты, а книгу.
Все-таки беспокоюсь, недоумеваю, — и еще при следующем свидании
спрашиваю того же терпеливого Маркова:
— Отчего Цыбульский написал такую грубую и плоскую книгу или,
верней, — книжонку, которая стоит четыре рубля и ни к чему не пригодна?
Между тем ведь он ездил в Лондон и Берлин?..
— Да ни в какой «Берлин и Лондон» он не ездил, а сидел в царскосель-
ской гимназии, рисунки же взял он из атласов, приложенных к описанию
монет Берлинского и Лондонского мюнц-кабинетов.
— Отчего же «снимки монет» он не взял из Эрмитажа?
—Оттого, что они не изданы.
— Ничего?
— Ничего не издано.
— Отчего?
—Да мы задыхаемся в работе. Нас, «хранителей мюнц-кабинета», двое:
а в Берлине их шесть, в Лондоне восемь. Остальные четверо там и «изда-
ют», и «описывают»: а мы два—параллельны тем двум ученым Берлина и
Лондона, которые, как и у нас, «производят текущую работу», т. е. переби-
рают тот большею частью монетный мусор, который находится при архео-
логических раскопках, и редко-редко в нем найдется что-нибудь новое и
интересное; да производим «переписку» по нашему собранию с загранич-
ными учеными, составляем «отчеты» и пытаемся составить, хоть по час-
тям, каталог. Но не можем. И так мы уходим позднее «служебного срока» и
являемся на работу раньше тоже «служебного срока». Являемся так рано,
как ни в какую петербургскую канцелярию чиновники.
Терпеливый, стойкий, деятельный, — Марков действительно всегда
имел усталый вид.
«Двое»—и весь секрет. Но если Цыбульский брал образцы из «Лондо-
на и Берлина», то для кого же, для чего существует эрмитажное собрание
191
монет? Спрашиваю X. X. Г иля, умершего ныне, — об Эрмитаже (он был
его постоянный посетитель):
—Я думаю, — говорю я, — эрмитажное собрание монет стоит несколько
миллионов рублей?
Гиль поднял голову. В лице—упрек и строгость.
—О, не «несколько»... Много миллионов стоит...
— Отчего не издается каталог, атлас? Отчего не делается «описание»?
Ведь это какое же пособие для истории, какое собрание исторических па-
мятников.. . Прежде всего — это портретная галерея всех исторических
лиц, решительно всех... Статуи дают только тысячную долю того, что дают
монеты, часто в большой величине...
— О, да... Но нет времени. Их только двое, тогда как в Берлине, Вене,
Париже, Лондоне по шести, по восьми «хранителей». До Маркова «храните-
ли» ничего не делали и даже не распределяли монет по витринам, а новые
приобретения, пожсргвования и проч, складывали в сундуки и держали в чула-
нах. .. Марков теперь и приводит в наличность все эти склады, эти вороха мо-
нет. .. До него Эрмитаж даже не знал, чем он собственно владеет. Но издавать
трудно и... неловко перед иностранными учеными и перед иностранными ка-
бинетами еще отчасти и потому, что вследствие вековой беззаботливости и
небрежности эрмитажное собрание монет не имеет в себе логики...
Так и сказал. Я удивился: что общего между «логикой» и «монетами».
— Некоторые его отделы не имеют себе равных в свете по подробнос-
ти, по ценности, по редкости. Но зато другие отделы, и как раз самые цент-
ральные, например отдел греческих монет, так бедны, что «издавать» их—
значит стыдить себя и стыдить Эрмитаж... Нужно много еще работать, много
собирать и покупать: но это зависит от ассигнований... Сам по себе и в
целом Эрмитаж занимает по монетам пятое или шестое место в мире: но он
весь, так сказать, перекошен, однобок, односторонен... Надо много рабо-
тать, много еще работать...
Опять дивлюсь: его атласы какою были бы иллюстрацией при препода-
вании в гимназиях русской истории, греческой истории, римской истории,
да и истории всех европейских династий, истории реформации, папства...
Подобный атлас—настольное пособие для гимназии, для гимназиста...
Не понимаю ничего. Прохожу как-то по его пустынным, великолепным
залам, с такими чудными витринами «style empire...». Привычным взгля-
дом окидываю золото и серебро Селевкидов и Птоломеев... Подходит сто-
рож и застенчиво говорит:
— Как хорошо делали монету...
—Да. И все это до Рождества Христова.
— Как, неужели еще до Иисуса Христа?!!
—Да, все... И задолго.
— Но какая же это красота'...
Сторож сказал... Что же сказали бы гимназисты, студенты! Если бы им
послан был хотя «отброс», т. е. чуть-чуть испорченные экземпляры бесчис-
192
ленных эрмитажных дублетов? Отчего это не пришло в голову гр. Д. А.
Толстому, насадителю классического образования в России? Не пришло и
не приходит на ум ни Шварцу, ни Кассо?
«Странно,—думал я... — Залы пустынны... Их никто не посещает: и,
собственно, если инквизиторски допросить, для чего и кого существует это
пятое в свете по ценности собрание античных монет, то вот и придется
ответить, что лишь для восхищенного ответа сторожа-простачка: «Какое
это великолепие!»—Строго говоря, эрмитажное собрание монет существует
просто для любования охраняющих их сторожей-мужичков.
А для образования России они — ноль.
В «русской ученой литературе» нельзя отыскать изображения даже рим-
ского динария: и я ни в гимназии «классической», ни на историко-филоло-
гическом факультете Московского университета не видал этого динария ни
в «живом виде», ни хотя бы в рисунке!!!
А на Западе... Тот же трудолюбивый Марков составил (на французском
языке) описание парфянских и персидских монет, подаренных К. А. Губас-
товым музею азиатского департамента м-ва иностр, дел, приложил к опи-
санию библиографию книг по этим одним монетам (какая специальность!).
Список книг только по этому отделу, крошечному в нумизматике, занимает
двадцать страниц: и из многих сотен трудов на всех языках, в том числе и
на турецком даже, печатавшихся начиная с XVII века (время Алексея Ми-
хайловича), нет ни единого только на языке Пушкина и Ломоносова, на
языке русских университетов и русской Академии Наук!!
Куда «парфяне и персы»: римского динария нарисовать не сумели!! Ну,
т. е. не «распоясались». Просто—лентяи, тунеядцы.
Студенты тянут «Дубинушку», а профессора... должно быть, играют в
преферанс. Другого объяснения не могу найти. Никто не заинтересовался,
когда весь свет интересуется; никто ничего не написал, когда написано на
всех языках, написали даже турки, — и начали писать со времен еще наше-
го Алексея Михайловича!!
Скажут: «Это—мелочь». Да, но и всеобщей истории никто не изложил
до проф. Кареева: а кафедры всеобщей истории существовали сто лет до
него. О таланте я не говорю: за талант—Бог ответствен. Но за прилежание
уже люди ответственны. Вот прилежания-то, трудолюбия и не было в рус-
ских профессорах.
* * *
Сюда-то вот как раз и падают слова Академии Наук, удивившие своим то-
ном, я думаю, немало людей в России.
«Императорская Академия Наук хотела бы верить, что известия, по-
явившиеся в печати, о предположении министерства относительно загра-
ничной командировки для кандидатов на профессорские кафедры не име-
ют для себя оснований. Но если они истинны, то, приняв предполагаемую
меру, русское министерство народного просвещения объявит русскую шко-
193
лу несостоятельной; тем самым оно открыто признает и слабость русско-
го государства, будто бы лишенного того источника жизни, которым явля-
ется самостоятельное развитие науки. Оно всенародно заявит, что наше го-
сударство не в состоянии создать в нашем отечестве условия, необходимые
для свободного и здорового ее роста. Оно поколеблет веру в силу и значе-
ние русской науки, без которой не может быть и могущественного госу-
дарства».
Это заявление, очевидно коллективное, т. е. которое было или сочинено
сообща, или во всяком случае сообща выслушано и одобрено членами ака-
демии, может быть, и являет «силу науки», но странным образом не являет
даже знания русского языка, знания значения русских слов, а также и зна-
ния истории, хотя бы «по Иловайскому». Судите сами:
1) Если мера министерства «принята», то, значит, она не «предполагае-
ма», а если «предполагаема», то, значит, еще не «принята». И сказать —
«приняв предполагаемую меру» — невозможно по-русски. Нужно было
сказать: «приняв вышеупомянутую (нами) меру», или: «допустив справед-
ливость слухов, что министерство остановилось на этой мере», или «пред-
полагает принять эту меру». И т. д. Комбинаций — множество: но акаде-
мия выбрала невозможную.
2) При Филиппе Македонском, во времена Порция Катона, при Карле
Великом, Филиппе II испанском, при Петре Великом и при Екатерине II
«государство было сильно», но науки были в грубом, зачаточном состоя-
нии, почти отсутствовали. Напротив, Италия эпохи «Возрождения» не имела
ничего, кроме бессильных в нашем смысле князьков, а явила расцвет обра-
зованности, расцвет и наук, — в стадии того времени. То же Германия до
ее объединения под главенством Пруссии: именно тогда она явила расцвет
наук и философии; а после Бисмарка все это сравнительно увяло.
Но, самое главное, подписал «заявление» вице-президент академии, ака-
демик Никитин: тот самый, который перевел с немецкого компилятивный,
нис какой стороны не гениальный труд—«Словарь классических древнос-
тей» Любкера. Отчего же он, как «самостоятельный ученый», хотя бы в сооб-
ществе с другими тоже «самостоятельными русскими учеными», не соста-
вил сам и лучше коротенького, плохонького, в высшей степени недостаточно-
го «Словаря» Любкера: недостаточного для того, что в нем даже не названы
все (т. е. исчерпывающим образом) римские императоры. Почему он такого
«Иловайского» перевел на русский язык? Да потому, явно, что русские уче-
ные вообще ничего не умеют не только создать, сотворить в науке, задаться
новою в нем инициативою, загореться новым одушевлением, планом, мыс-
лью, —но даже не умеют и хорошо составить кой-какую книжку, кой-какую
компиляцийку, кой-какое изложеньице общеизвестных вещей.
И все оттого, что... «мы хотели бы верить»... Вот «задать тон» — они
умеют. О, это уже не труд, не работа: это — тщеславие. А тщеславный ин-
дейский петух, при самой плохой или, лучше сказать, немудреной его рабо-
те около кур, смотрите, как широко распускает хвост. Профессор Андреев-
194
ский тоже писал, что он изъявил согласие принять на себя «редактирова-
ние» первых томов «Словаря Брокгауза и Эфрона», когда посыпались, при
появлении первых томов, упреки за плохой их состав и невнимательное
редактирование: и тогда вся Россия смеялась этому величавому «изъявил
согласие». Да, как поется в «Прекрасной Елене»:
Шли величаво
Мы, два...
И все-то они «идут величаво», наши профессора, университеты, акаде-
мии: но что они несут «под мышкой»?
Переводные компиляции с немецкого...
* * *
Еще в практических науках, как медицина, техника, механика, как химия и
математика, в ответ на громадное требование жизни, в ответ на громадное
движение материала под рукою (фабрики, заводы, больницы, больные) су-
ществует у нас «школа», «традиция», «честь», «трудолюбие» и энергия...
Существует «наука» по крайней мере, как большие осязаемые куски ее, хотя
между собою не связанные и не растущие вперед непрерывно, непременно
и неодолимо. Афоризмы есть, целого нет; острова «вышли из тумана вод»,
как при сотворении мира, — но материка не показалось никакого. Были
Остроградский, Буняковский, Чебышев—теперь и таких нет; как Менделе-
ев и Бутлеров—тоже таких нет; как Буслаев и Тихонравов—нет. Это до-
вольно обширный круг наук, в котором всюду виден упадок, отступление
назад, понижение. Даже в вице-президенты Академии Наук пришлось выб-
рать или «избрать» переводчика немецкой компиляции: явно—«на безры-
бье и рак рыба». Вот такие-то «отступления назад» невозможны там, где
наука самостоятельна. Нет, — «русская наука» вся заимствованная, и вся
она какая-то «составленная из частиц», склеенная государственным клеем и
легко укладывается в рамки «по штатам и должностям». Отчего же нам не
ездить в страны древнего одушевления наукою—в Германию, Францию,
Англию? Т. е. почему не посылать туда начинающих ученых для приготов-
ления к занятию профессорских кафедр и каким образом можно отсовето-
вать такую посылку? Как расцвел Московский университет при попечителе
графе Строганове, который обильно применил к делу этот прием посылки в
заграничную выучку студентов, с успехом окончивших университет! Возьмем
юриспруденцию и нравственность: да все русские ученые работают «по
Иерингу», как до него применяли «социологический метод Спенсера». Все
русские диссертации писались и пишутся по заграничным шаблонам, на
заграничные темы, по заграничному методу и под влиянием заграничных
идей. Русского—только «гражданский шрифт» Петра Великого, да место
печатания — университетская или академическая типография. Но отчего?
Отчего? Таланта, что ли, нет? Во-первых, действительно таланта нет, а глав-
ное, нет вот этого векового, даже полутысячелетнего одушевления, еще со
195
времен реформации и даже схоластики. Посмотрите, какие умозрительные
труды создавались там еще в эпоху схоластики. Не все же были анекдоты,
вроде «числа ангелов, умещающихся на острие иглы». Это была острота
озлобленного ума, разгневанного ума, в своем роде «писаревская острота»
против великой западной эстетики, против схоластических систем, так же
величественных и изумительных, как готические кафедралы. Там были
«Пушкины мысли», «Гоголи мысли», — чего у нас решительно никогда не
было. У нас были высокие таланты, но собственно всеосвещающего гения в
науке не было ни одного,—включая даже и Ломоносова сюда. И выключая
единственного Лобачевского, который был какою-то «странностью» на рус-
ских полях и казался сотоварищам-профессорам «не совсем в здравом уме»
(слова мне вдовы одного профессора, товарища Лобачевского, г-жи Ляпуно-
вой). Ни одна новая наука в России не зародилась. А есть какое-то родство
между пунктом земли, «пупом земли», и между человеческим духом: поче-
му-то и герои, и цезари, и папы все росли в том же Риме, почему-то Париж
всегда был или «обворожителен», или любил «новинки» в идеях и людях.
Германия—страна «Фаустов». Россия—пока замечательная страна «лиш-
них людей». Энергией не страдаем, от излишества инициативы с ума не
сходим. «Полёживаем»... Что же тут делать министерству, которое долж-
но обо всем заботиться? «Сочинять диссертации» оно не может; и все, что
может,—это повторить метод Строганова. «Своего нет, может быть, за гра-
ницею наберутся духа». «За границею» они во всяком случае прикоснутся к
тем «пупам земли», откуда росла наука, росла по необъяснимым законам и
причинам; «попадут в сферу» тысячелетнего одушевления мыслью, стойко-
го, неутомимого, неутолимого в жажде... Вот «жажды знаний», простой жаж-
ды знаний, этого благородного любопытства ума, хотя бы даже на степени
«бабьего любопытства»,—у нас ужасно мало; а где меньше всего,—то это,
кажется, в университетах. От этого у нас «сообща пьют», но «сообща» не
путешествуют. Все вообще русские мало читают, да и избегают читать се-
рьезное. «Очень трудно», «серьезное содержание»... Ну, чтб же с ними де-
лать, когда им все «трудно», и все им только хочется «легкого чтения», всего
бы лучше «Вербицкую»... Великое русское «не хочется»... Вот вы с этим
«не хочется» поборитесь; одолейте вы его. Попробуйте, чтобы русские на-
чали читать, полюбили читать трудную книгу, чтобы полюбили «сухие на-
уки». .. Плохо-плохо наше «правительство», но под старость лет приходит
ужасно горькая мысль, что единственно «плохое правительство» еще к чему-
нибудь и подталкивает векового лежебоку, векового сонулю... к чему-ни-
будь его гонит, чего-нибудь от него требует. Водворись-ка «республика»,
т. е. «сами собой правим», наступил бы такой сон, такой чудовищный храп,
что домашний скот от звуков бы смутился. «Заснул мой хозяин»,—сказала
бы недоенная корова. В этом отношении удивительно показателен и доказа-
телен смысл учебных забастовок. Ну, казалось бы, что очевиднее в своем
внутреннем значении? Больными переполнена Россия, врачей нет, рожени-
цы, даже в столицах, разрешаются от бремени на тротуарах. «Сердись-не
196
сердись, ваше благородие, ссорься-не ссорься с начальством, а дела упус-
кать нельзя, клиник закрывать нельзя, на лекции не ходить стыдно, клиник
не посещать позорно». Ведь так? Ведь это нравственное «буки-аз-ба»? Но...
apr6s nous le ddluge: какой же русский соня не есть в то же время и тайный
Людовик XV, создавший этот исторический афоризм. Какое дело до «боль-
ных», до «больниц» русскому публицисту? «Aprds nous le deluge»*: и вся об-
разованная Россия вдруг показала себя безразличной к образованию, равно-
душною к больным, умирающим и поддержала могучее юное: «Не будем
учиться! Не хотим учиться!»
Никто, никто не выговорил:
— Нет, чтб угодно, но не — «не учиться». Деритесь, бросайте бомбы,
убивайте единолично: но чтобы всею массою перестать учиться... ведь
это такое же нравственное преступление, антикультурное преступление,
как если бы вы всею массою лишили себя невинности, — с мотивом: «это
мы в пику правительству». «Не учиться» — столь же дурно: и бороться
можно всем, но нельзя бороться, лишая себя нравственных ценностей, бу-
дет ли то даваемое вам образование, будет ли то ваша девичья невинность.
И неужели, неужели вы остановились на «необразовании» оттого, что это
народу тяжело, а не вам лично тяжело, как было бы при другом выборе?..
Никто не сказал. Ни один публицист, ни одна газета.
Странные сны снятся Обломову, и странные происшествия случаются
в «нашей Обломовке»...
ЦЕРКОВНЫЙ И ВМЕСТЕ
КОСМОЛОГИЧЕСКИЙ ВОПРОС...
... Нет, все это пустяки, о чем спорят и шумят сейчас в печати: «быть» при-
ходу или «не быть», «так» его организовать или «этак», «преобразовать»
или «не преобразовывать» семинарии, и пр., и пр., и пр., и т. д., и т. д., и т. д.
Все это—«пыль порошит в глаза и закрывает небо», все это—«горчичник
на шею», который оттягивает головную боль, но ее нимало не лечит.
Ну, вот, например, в виде предисловия к тому, о чем я хочу говорить: не
замечаете ли вы одной важной перемены, которая совершилась в церков-
ном управлении после смерти знаменитого духовника царского, протопрес-
витера И. Л. Янышева, бывшего профессора и ректора Петербургской ду-
ховной академии? Наверное, не замечаете, потому что вся печать не заме-
тила. Никто слова не промолвил, ни гугу. А перемена произошла громад-
ная, простирающая значение свое на все области церковной жизни, — и на
вопрос о приходе, и на вопрос о новом уставе семинарий, и на все будущие
вопросы, какие еще подымутся в Синоде. Но в то время, как об этих вопро-
сах шумят и дозволяют шуметь, — ибо это ничего принципиального для
* «После меня хоть потоп» (фр.).
197
церкви в себе не содержит,—сказанная перемена, о которой я две минутки
помолчу, произошла в полном безгласии, безгласии настолько выдержан-
ном, что о ней, может быть, лишь «бочком обмолвились» в самих сино-
дальных учреждениях, но ни в каком случае не официально, не в торже-
ственном и ответственном заседании с протоколом, записями и т. п. исто-
рическими документами, и она, эта перемена, решилась молча, бездоку-
ментально, по единогласному, всеобщему и страстному желанию всех членов
его, иерархов его...
— Какая? Какая?—залюбопытствует читатель.
— Да как же: ведь Янышев, протопресвитер дворцовый, и Желобовс-
кий, протопресвитер армии и флота, хоть и под старость лет, лишь только в
конце жизни, были, однако, введены в состав членов Святейшего Синода и
заседали в его заседаниях, решали вопросы и «о приходе», и «об уставе
академий и семинарий», и пр., и пр. И они были единственными в высшем
церковном управлении представителями священнического рода, священни-
ческого сана, — белого, семейного, женатого, детного духовенства. Только
они одни. И введены-то они были под старость, когда все «обновлялось в
церкви», в 1905— 1906 гг.; между тем, в ранней молодости, лет сорок назад,
Янышев тоже заседал в Синоде, да протопресвитеры и вообще в Синоде
заседали почти весь XIX и весь XVIII века. Но большое яблоко медленно
спеет. Участие и белого духовенства в высшем церковном управлении, бу-
дучи признано нормальным и непременным при учреждении Синода Пет-
ром Великим, впервые случайно поколебалось при обер-прокуроре Побе-
доносцеве: именно Янышев, с его светлым умом и обширным богословс-
ким образованием, с его культом просветительных реформ Александра II,
был в высшей степени неприятен как член Синода Победоносцеву, и эта
неприятность удесятерялась от того, что он был вместе с тем духовником
Императора Александра III, могшим иметь с ним беседы наедине о церков-
ных делах, о синодском делопроизводстве, о «делах» или об отсутствии
всякой деятельности, инициативы и творчества у самого обер-прокурора,
т. е. у Победоносцева. Это было неприятно, опасно и оскорбительно гордому
обер-прокурору. Тогда Победоносцев из архива «канонических правил»,
забытых и никогда не исполнявшихся или же исполнявшихся очень давно,
извлек одно, по которому запрещалось или будто бы запрещалось (древ-
ние каноны по языку часто невразумительны) лицу белого духовенства уча-
стие в управлении церковью, и Янышев был исключен из членов Синода на
основании этого указания. Благочестивый Александр III не решился идти
против канона. По поводу этого я справился у самого Победоносцева в
«Кратком очерке истории церкви», желая проверить, насколько он был ис-
кренен и прямодушен в данной мере, в настоянии перед Государем. Вот что
там он говорит по поводу возобладания монашествующего духовенства в
строе греческой церкви, в строе общехристианской церкви, до разделения
и папства: «Монашество первоначально вело отшельническую, уединен-
ную жизнь и в управление церковью никогда не вмешивалось. Но импера-
198
торы греческие, заметив из личного случайного общения высокую ревность
монахов по вере и о церкви, стали иногда призывать их и к делам церковно-
го управления; вскоре же, увидев всецелую их преданность делу церкви,
без личного начала и корыстолюбия, и, кроме того, высокую личную доб-
родетель и строгий образ жизни, начали призывать их по преимуществу и,
наконец, их одних исключительно, избегая белого духовенства, отягощен-
ного семьями и потому заботившегося о земных делах и к тому же неволь-
но корыстолюбивого. И так это вошло в практику церкви. Но под этим не
лежит и не лежало никакого исключительного права монахов на высшие
церковные должности, призыв к которым их был исключительно волею
константинопольских автократов». Итак, практика, и никакой теории. Явно,
что страстный обер-прокурор русского Синода выразил свое «хочу», но не
свое «знаю» в требовании удаления Янышева из Синода.
Итак, это был случай. Т. е. удаление было случаем, а присутствие в Си-
ноде двух протопресвитеров, двух священников было правилом, вытекаю-
щим из здравого смысла, из истории церкви и русской полуторавековой
практики.
Но слушайте, что вышло дальше: «случай» вдруг обращается в «прин-
цип», ему присваивается сила принципиального решения, а норма, история
и правило начинают исчезать, таять, испаряться.
Победоносцева нет, умер. Переменился ряд обер-прокуроров, которым
что до личного решения Победоносцева, — что до преобладания монаше-
ства над белым духовенством, и какое вообще у них могло быть опасение
перед духовником Государя? «Гекуба» их и не «тревожила». Без сомнения,
Оболенский, Извольский и Лукьянов не имели решительно ничего против
участия в заседаниях Синода двух просвещенных священников, никак не
менее могших помочь советом, чем заурядный «владыка» с Волги, Камы
или Балтики. Больше даже: против резких и оскорбительных для петербург-
ского управления выступлений таких «иноков», как Виталий и Илиодор,
кто же мог бы сыскать более веское слово, найти более искусное решение,
более разумный довод, как тот же Янышев, Желобовский или теперешний
образованный протопресвитер армии и флота? Явно, следовательно, что
после Победоносцева и Янышева обер-прокурорам решительно было бы
желательно, было бы выгодно иметь в составе Синода лиц белого духовен-
ства, двух наших протопресвитеров.
И так это, несомненно, чувствует и сознает и Вл. К. Саблер.
Но не остальные иерархи Синода,—монахи.
Власть и авторитет обер-прокурора явно ослабели, стали «тенью» срав-
нительно с тем, как это было не только при Победоносцеве, но было уже и
при Протасове, при Голицыне, при Ахматове, как было за весь XVIII и XIX
века. Иерархическое монашество за время «междуцарствия» в Синоде, на-
ступившего по смерти Победоносцева, чрезвычайно быстро воспользова-
лось положением и укрепилось. Сейчас епископская власть стоит так высо-
ко в России, как она ни разу не стояла за два последние века. Митрополит
199
Филарет говорил тихо, робко (смотри об этом у Барсукова, в «Жизни и тру-
дах Погодина») и ни в каком случае не в уровень с тем, как сейчас говорят
епископ Антоний волынский; Никон вологодский, Гермоген саратовский.
Монашеский голос окреп, монашеский ветер становится штормом. И обер-
прокуроры под действием этого шторма, без всяких слов, без всяких пере-
говоров, «в молчании все понимая», не решались просто «напомнить, где
следует».
— Умер И. Л. Янышев, — протопресвитер и вместе член Святейшего
Синода; кого бы ни благоугодно было избрать ему в преемники, но, по сто-
пам почившего Янышева, и он должен войти в состав Синода. Так уже два
века повелось и только при Победоносцеве случайно не исполнилось.
То же следовало бы сказать после кончины тоже члена Святейшего Си-
нода, протопресвитера армии и флота Желобовского.
На всякие слова о «канонах» было что возразить: да неужели же митро-
полит Филарет, составивший катехизис, не знал канонов, — а он заседал в
Синоде наряду с протопресвитером Баженовым. Неужели историк русской
церкви, митрополит Макарий, тоже канонов не знал? Ни Платон москов-
ский, ни Исидор петербургский? Это был «случай» при Победоносцеве, —
насилие над историей при нем: об этом говорят даже его книги, собствен-
ная его учебная и маленькая «История христианской церкви».
Да, и если бы так сказал обер-прокурор, «где следует», — конечно, два
священника были бы введены в Синод. Так все дело право и здравомыслен-
но. Но этим обер-прокурор, как личность, обратил бы на себя тот «ураган»
монашества, о котором я уже упомянул... И он сробел и не сделал.
«Случай» повернулся в «правило»... О, неоформленное, несказанное,
неузаконенное. Узаконить нет возможности, опасно. Об этом я сейчас буду
говорить. Но уже создан прецедент для «правила», уже начала укрепляться
привычка, обыкновение, которая практически и жизненно будет все равно
эквивалентна правилу...
Разве кто-нибудь вычеркивает из «Послания апостола Павла» слова:
«епископ должен быть единыя жены мужем»? Кто смог бы вычеркнуть,
решился вычеркнуть? Буквы и стоят на месте... Но уже «пошло», что в
епископы призываются только неженатые. Что такое «пошло»?.. «Привык-
ли», «обыкновение», — и теперь «не менять же».
«Привычка» или «слово», а факт тот:
Только одни монахи в епископах.
* * *
Католичество давно «дозрело», и у него, со времен Григория VIIГильде-
брандта, все духовенство—бессемейно, безженно.
Как только жена, дети, — не может быть духовным лицом.
—Да что, вражда, что ли?
—«Не говорим».
Не говорит. Как, в самом деле, выговорить:
200
— Мы враждебны семье.
— Мы we любим детей.
Относительно этого полное и глубокое молчание. Но только растет
факт, без теорий, без принципов, без заявлений. Факт состоит в том, что и
в XX веке, и в XIX, в XVII, XV, в X, в VIII, в VI, как только к сонму иерар-
хов подходит семейный человек, женатый человек, с кучею детей, притом
пылающий верой, благочестием, праведностью, и говорит:
—Дозвольте мне стать среди вас, как друг ваш, как один из вас...
Как тотчас в ответ слышит единогласное, единодушное:
— Не надо.
— Почему? Какая теория! Жены ли моей не любите, — но она еще
праведнее и богомольнее меня; детей ли моих не любите, — но они невин-
ны и научены закону Божию.
— Нет теории. Какая теория? И брак твой мы же благословили, и детей
твоих примем в свое учение... Окрестили, венчали, но...
— Но?!..
— Тебя самого не надо. Вот помрет жена, ступай в монахи,—и будешь
наш... И дети, может быть, пойдут в монашество, мы поманим туда их, —
и тогда они станут тоже нашими. Но до тех пор пропасть, яма меж нами,
которую ни тебе не переступить, ни нам не перешагнуть. Мы разных царств
люди, но об этом — ни гугу, молчать. Теорий нет никаких.
Это — и в VI веке, и в XIX... Течение никогда не дрогнуло в направле-
нии, не пошло вспять, не уклонилось в сторону. Но еще поразительнее, как
оно ползло, — всегда цепляясь за практические поводы, за «случаи», там
ссылаясь на то, что «монах, естественно, бессребреник», в другом месте, —
что, не обремененный заботами о семье, он будет всецело предан делу
одной службы, и т. д., и т. д. Везде повод практический и как будто в инте-
ресах службы, но на самом деле, на протяжении пятнадцати веков, везде,
в сущности, давление могущественной идеи, и самая идея эта заключа-
лась в возвышении безбрачного лица, в поднятии инока, которому служба
приносилась в жертву. Инока, т. е. у которого нет и не будет детей, нет и
не будет семьи!
— Да что такое? Скажите явно: вы ненавидите семью?
— Ни-ни... Мы весь мир благословляем. Мы благостны, благоуветливы.
— Как же так все вышло? Выходит?
— Что «выходит»?
—Да как же: вот все и цензора по всей России уже только одни монахи.
Какая связь между цензурой и монашеством? И начальники семинарий, рек-
торы и инспекторы также только монахи. Какая связь между педагогикой и
монашеством? Предполагается или был предположен церковный собор, и
уже за несколько лет до его созыва высказано было величайшее беспокой-
ство, как бы на него не попал кто-нибудь не из монахов, а если кто и попа-
дет, то чтобы он был лишь «в свите» монаха (епископов), без своего голоса
на соборе, во всяком случае—без решающего голоса... Что это такое? Т ут
201
вовсе важны не частности-, не цензуры жалко, не ректорства, не даже судь-
бы будущего и возможного собора... Бог с ним со всем; возьмите должнос-
ти себе, управляйте, законодательствуйте. Речь не о соперничестве, не о
зависти. Все преодолевает любопытство к самому течению и еще сильней-
шее любопытство к тому, что нет теории. Такой факт пятнадцать веков
тянется, все одолел собою, все окрасил в одну краску, а теории — никакой.
Нигде не сказано:
Монах есть власть и авторитет, высший на земле.
Высшие на земле власть и авторитет принадлежат тому, что дало зарок
себе не иметь детей и жен.
Это есть заповедь, завет: это-то и образует «новый завет» — не иметь
детей. Противоположный «ветхому завету», т. е. поветшавшему, износив-
шемуся, упраздненному, который начался со слов: «Плодитесь! Множитесь!»
Заветы один против другого, как два острия двух мечей, с рукоятками,
обращенными в противоположные стороны. Один завет прав,—тогда дру-
гой не прав. Другой прав, — тогда первый не прав. Борьба и смерть, но
никакой жизни и гармонии. Никакого мира и согласия.
И это — в самом сердце религии.
Это так интересно теоретически, философски, метафизически, что вся-
кие вопросы о «программах духовных семинарий» и о том, будет или не
будет у нас «приход» и «каков он будет», просто отлетают в сторону, как
неинтересная пыль, как подробность, которая может всякое десятилетие
решаться и, следовательно, перерешаться и в которой поэтому никакого
значения не содержится.
В церкви есть только один вопрос, исключительно единственный, за
все ее шестнадцать веков бытия:
— Вопрос о монахе.
Он важнее всего, что говорил Лютер, что произвел Лютер; важнее
30-летних войн и борьбы гугенотов и католиков; важнее не только «приема
английских духовных лиц в Петербурге», но и важнее самой английской
церкви, как, между прочим, лежащий и в основе ее... В самом деле, англи-
канская церковь сохранила у себя епископат, но иночества не сохранила.
Епископ английский, согласно повелению ап. Павла, едолжен быть единыя
жены мужем» и семеен, как и все прочие священники. Но вот что замеча-
тельно и поразительно: английская церковь, а за нею и английское образо-
ванное общество, культурное общество, высоконравственны и одновременно
высокопозитивны, совершенно светски, нисколько не спиритуалисгичны и
по существу нерелигиозны. Таким образом, оказывается, что в иночестве,
действительно, лежит зерно христианского спиритуализма, как спиритуа-
лизма совершенно нового и оригинального, отличного от языческого, от
греческого или римского, тоже бывшего, спиритуализма. И там были «фи-
лософы», —да, но «христианский философ» вырос только в иноке.
Эго подводит нас к таким загадкам, к таким тайнам, к таким «темно-
там» в религии, что ум кружится... «Светы» как будто распадаются; «солнц»
202
оказывается два, а не одно... «Белые одежды духовенства» и его же «чер-
ные одежды» несут на себе свет двух, и притом противоположных, враж-
дебных солнц... Отчего «белое духовенство» и «черное» на самом деле враж-
дуют между собою, хотя и глухо, тайно, больше в душе, нежели на словах,
но это еще страшнее, потому что внутреннее, и это опять какая-то тайна!!
Нет вопросов, кроме одного:
— Что такое монах?
— Кто он?
— Откуда пришел?..
* * *
«Откуда, вы спрашиваете?—ответил один прекраснейший лицом и пре-
краснейшей жизни инок 25-летней образованной девушке, которая не хоте-
ла сдаться сразу на его доводы о монашестве. — Из бессемейного зачатия,
каким зачат наш Господь Иисус Христос. Монашество не само из себя роди-
лось и не само себя выдумало. Вы верите в Евангелие и любите Христа?
Тогда вы вспомните тайную Его беседу с Никодимом, где он противопоста-
вил плотскому рождению духовное рождение. Церковь и есть область ду-
ховных рождений, только одних духовных: плотские рождения—за ее ог-
радою и, действительно, сами по себе, как натуральный факт, лежат вне церк-
ви. Оттого и сонм правящих в церкви именуется «духовенством», и оттого
же в сонм этот входят люди духовного рождения, отрекшиеся от плотского.
Вот монах, и вот откуда он вышел: из первого слова, которым началось
Новое Благовестие».
Девушка стояла пораженная... «В самом деле! В самом деле!» И она
отдалась иноку, его «духовному руководству», и зареклась от брака, пред-
почтя быть «совершенною христианкой».
В «христианстве» есть «совершенные» и «несовершенные»: «несовер-
шенные» — все, но «совершенные» — только одни монахи. И не по доб-
рым делам, не по образованию, не по заслугам. Даже если им случится
быть дурной нравственности и они не исполняют своих обетов, — они все
равно в «совершенных», по одному званию своему, по одному имени свое-
му, т. е. потому, что, «постригшись в монахи», тем самым провозгласили
первенство духовного рождения над плотским... А личные пороки—част-
ность и случайность.
Английский лучший воин, герой и рыцарь,—все-таки не «русский под-
данный», но «принявший присягу русский рядовой солдат» есть тем са-
мым «русский подданный», и вся армия России защитит его, а для «перво-
го англичанина» она и пальцем не шелохнет. То же самое и здесь: монаше-
ство и принятие его есть удостоверение в постижении самой главной исти-
ны Евангелия, — истины духовного рождения и бессемейного зачатия, и
признание этой истины, согласие на нее. А просто «добродетельная жизнь»,
«разумная жизнь», «благочестивая жизнь» есть только пока язычество и
ветхий завет, и ни одной капли нового. Это есть «верность Аврааму и Со-
203
крату», а не Христу: только инок объявляет себя «верным Христу»... И за
него вступится вся церковь,—за всякого инока, за рядового, даже за дур-
ного, т. е. она вступится за весь иноческий сонм и за существо иночества,
потому что тут взаимная клятва и взаимное понимание.
А за семейных и за семью церковь так не вступится, потому что это —
язычество и ветхий завет. И там семья была, и была такая же. А инока нигде
не было.
* * *
Вот теория, которую мне удалось подслушать или уловить в горячих, споря-
щих выкриках... Я только ее несколько закруглил или осознал. Выкрики
были короче, но они начались со слов: «Бессемейное зачатие нашего Спаси-
теля»— и состояли в этом, кружились около этого.
«В самом деле, так! Великая Эврика», — подумал я.
* * *
Но теория хорошо закругляется, только очень узко. И сказано ведь: «узкий
путь». Крепко кольцо, не разорвешь. Но весь мир остается вне этого кольца,
почти весь мир, и когда он надавит тоже страшною тяжестью своею, тоже
страшною ценностью своею, — не раздавит ли он кольца?
Вот вопрос. Тучи вопросов и тайн. И что перед ним какой-то «устав
семинарий», который можно поновить в среду и, значит, можно поновить
и в пятницу?
ПРИРОДА И ЦЕРКОВЬ
Мысли, изложенные мною в статье «Церковный и вместе космологичес-
кий вопрос», загорелись во мне невольно под впечатлением полученного
письма. В разных университетах, и в том числе в московском, образова-
лись «кружки христианской молодежи», может быть, в противовес и, во
всяком случае, «в разделение» с многочисленными кружками разных по-
литических оттенков. Что же, доброе дело. Политика не может же всего
и всех проглотить. Эти юноши, во всяком случае, культивируют особую
область всемирной цивилизации, область тоже страшно важную, и что
университет выделил в себе и эту группу, — показывает на широкий ох-
ват его, на его универсальность, а не узость. Это соответствует и имени
университета — universitas. В прошлом году один из членов такого мос-
ковского кружка обратился ко мне с письмом, содержащим разные воп-
росы; я на них ответил приблизительно и обще, а для более детального
обсуждения этих вопросов рекомендовал прочесть книгу «В мире неяс-
ного и нерешенного»... И вот это лето получаю из богородской земской
больницы, где, очевидно, работал на каникулах студент, следующее пись-
мо, возвращающееся к тревожившей его теме, которая по существу сво-
ему не может не тревожить вообще молодежь, и мужскую, и женскую, и
204
которая острою своею точкою касается мирообъемлющего вопроса «о
монахе», как я изложил его в предыдущей статье. Позволю себе привес-
ти это письмо:
«Книга, которую вы рекомендовали мне, была для меня совершен-
ною новостью. У нас, среди студентов, она вовсе неизвестна, а, между
тем, нет книги более интересной и важной именно для них. Я перечел ее
не раз. Но вот в одном журнале я наткнулся это лето на переданный раз-
говор Льва Толсгого с некиим Молочниковым о половом чувстве, кото-
рый в высшей степени взволновал меня в связи с книгою, вами рекомен-
дованной. Выписываю из этого разговора строки, относящиеся к теме:
Молочников. — Хочется уйти от соблазнов, которые особенно на-
вязчивы в супружеской жизни,—соблазнов половых. Так хочется лик-
видировать все это... Но именно когда ты подумаешь, что все кончено,
ты победил, то тут-то тебя грех и стережет, и ты попал в его сети, и
сегодня, и завтра...
Лев Толстой. — Борьба с половым соблазном очень трудна; но зато
как хорошо бывает, когда победишь его...
Молочников. — И такое же испытываешь отвращение к себе, когда
поддаешься...
Лев Толстой. — Я давно уже собираюсь описать со всем цинизмом
половой акт, от начала до конца. Хочу показать, что животная страсть
бывает так неодолима, что человек делается не в силах побороть тяго-
тения к этому акту, несмотря на всю его мерзость.
И опять, и опять при чтении этого разговора у меня поднялись, как
и в прошлом году, бесконечные вопросы «за» и «против»... «Мерзко», в
самом деле, или «нет»?.. Неужели прав был Толстой, говоря о половом
чувстве как о чем-то бесконечно мерзком и грязном? И не сотворил ли
бы он хулу на творение Божие, описывая половой акт со всем его «ци-
низмом», как он выразился... И все-таки в толстовских словах — опять
признание всего мира... о том, что «страсть так непреодолима, что че-
ловек не мог ее перебороть»... Но нужно ли «переборать»? Иначе, за-
чем говорить о детях-ангелах, «которые только и оправдывают нашу
мерзкую (т. е. супружескую) жизнь»? Зачем эти фокусы и... передерж-
ки? Грязное,—так пусть грязное. И почему из «грязи» родятся ангелы?
На основании какой логики, каких законов, физических или психичес-
ких, человеческих или божеских?..
Заврались, господа люди! И кого хотят обманывать? Молодежь ли,
которую не обманешь?! Недавно я сделал небольшую пешеходную про-
гулку, около 150 верст, в знаменитую Оптину пустынь, куда заезжал
перед смертьюТолстой. Конечно, вы помните, там есть скит, вдали от
монастыря, где живут монахи, вдали от всего, и куда никогда не пуска-
ют женщин... Сами скитники из скита выйти за ограду не могут без
разрешения начальника скита...
Я много там гулял... Пахнет цветами; зелень шумит; слышатся не-
ясные шорохи птиц, возящихся со своими птенцами; всюду жизнь, —
205
пусть животная, пусть «греховная»... Ужи неслышно скользят по тра-
ве, бабочки гоняются друг за другом... И на фоне этой жизни... глухая
тишина... И такой противоположностью кажется этот скит всей жизни,
так ненормален, нежизнен, так убог он кажется... Пахло жасмином, без
конца трещали кузнечики о жизни, о страсти, может быть... По дорож-
ке шел старик-монах, уже, видно, совсем ушедший от жизни... Я разго-
ворился с ним. Говорю: «Как у вас хорошо, цветов много». — «Да, —
говорит он,—у нас хорошо... Тихо. Женского пола совсем не живет»...
Знаете, я в этот момент посмотрел на лицо старика и заметил какие-то
искры, пробежавшие в его глазах. И в душе своей сказал: этот старик до
сих пор не угасил в себе «греховного чувства», не потому, что он был
«слаб», а потому, что он шел против своего «я», своей природы.
Вечером, когда все спали, я пошел кругом скита... Было темно от
старых елей, окружавших скит... Было тихо, тихо... Ни одного звука...
Только там и сям, на кустах, под травой сверкали как брильянты светля-
ки-самцы... Там, где ярче горел и переливался огонек, туда спешила
самка, сама не имеющая, как известно, такой способности издавать све-
чение ... А за оградой, уйдя от мира, но не уйдя от мысли о мире, спали
50 человек скитников...
И опять без конца лезли вопросы, и опять стал казаться таким анах-
ронизмом монастырь вообще и, в частности, этот скит.
Зачем кто-то когда-то неверно понял Христа?
Почему еще раз не пересмотрят сами этот вопрос, чтобы хотя на
ужасных ошибках отцов построить здание крепкое, без всяких шата-
ний, без всяких оговорок и умалчиваний?»
Вот письмо целиком, как оно вылилось непосредственно, без всякой
мысли о печати. И оно так же душисто и свежо, как та зелень ночью около
скита. Громадная сила «Крейцеровой сонаты» взволновала всю Россию, но
вопросы, в ней поставленные, никем не разрешены. Автор письма слишком
решительно говорит, что «когда-то кто-то неверно понял Христа»... А бес-
семейное зачатие? Тут нельзя обрубить узел, а надо его развязать, а чтобы
развязать один этот узел, нужен даже не один вселенский собор, а ряд собо-
ров. .. Это уже не «реформа академий»,—дело пятницы или четверга. Да,
может быть, и «ряд-то соборов» все-таки не развязал бы узла, ибо, возмож-
но, он не развязывается вообще, не развязывается никогда, без самых ужас-
ных потрясений... Ведь затрагивается, в самом деле, отношение двух заве-
тов, Ветхого и Нового, одного—явно семейного («плодитесь, множитесь»),
другого—явно иноческого («духовное рождение»), Влад. Соловьев не мог
бы никак разрешить этого вопроса; как и Толстой, в сущности, дал выкрик
в одну сторону, но ничего не доказал. Письмо студента оттого принципи-
ально важно, что он «погулял около скита», и вопрос бесконечно услож-
нился: а светляки-самцы, а шорохи птиц со своими «птенцами», ползущий
уж, гоняющийся за самкою мотылек и благоухающие жасмины? Увы! Толь-
ко цветы благоухают, — корни, стволы, ветви не благоухают. А «цветок»,
206
это—будущее, это — потомство. Вопрос о «монахе», таким образом, есть
не только церковный вопрос, — это есть космологический вопрос. Захотел
ли бы, с «Крейцеровой сонатой», с чувством «мерзости» к половому акту,
Толстой погасить запахи цветов, разорить гнезда птиц, растоптать ногами
светляков-самцов? Между тем, если «омерзителен» пол у человека, омер-
зителен он и во всей природе; и если «венцу природы», человеку, он не
нужен, то не нужен и всем. Тут вдруг связывается с «Крейцеровой сонатой»
все, что потом вытекло у Толстого: «загасить Шекспира», «загасить искус-
ство», загасить вообще «игру», от детских игр до старческих игр, как верно
обобщил Измайлов («У подножия Олимпа», статья о Толстом). Но тогда
вообще мир померкнет, потускнеет... и, — увы! — станет плоек, скучен,
сер, возвратится к убожеству и, в сущности, к мещанству. Вот куда ведет
спор «об иноке», неразрешенный спор «Крейцеровой сонаты», нераскушен-
ное и неразмолотое зерно христианства... Все это—тучи, из которых не
сверкнули молнии, не послышался гром, но он послышится, и молнии сверк-
нут. Повторяем, нет девушки и нет юноши, перед которыми бы он не встал
в кровавой нужности своей. И пусть он встанет не практически только, не
как «вопрос для себя», а как вопрос «для мира» и «о мире»... Добр ли он,
как сотворен уже Богом, с светляками, с жасминами, или все в нем—зло: и
дубрава, и звездное небо, и поэзия ночи, что все окутывает любовь, помо-
гает любви, из чего родятся «птенцы» и всякое вообще «будущее»?
ВЕКОВАЯ БЕЗДЕЙСТВЕННОСТЬ
РУССКОЙ ПРОФЕССУРЫ
Вполне поразительно, каким образом Академия Наук, в своем коллектив-
ном «заявлении» о достаточно высоком состоянии в России науки, упустила
из виду, что наши ученые не приняли никакого участия в создании целых
огромных областей знания, притом самое появление и рост которых было
одновременно с существованием у нас уже всех восьми университетов. Не
диво, что мы отстали в физике, биологии, философии, жизни которых на-
считываются тысячелетия. Но что наши университетские ученые «палец о
палец не ударили» в реставрации культур Вавилона, Ниневии и Египта, ко-
торые открыты и описаны в XIX веке,—это свидетельствует именно о том
потухшем любопытстве, которое является на конце «изболтанности» и «вы-
говоренное™», на конце вековой войны «Монтекки» и «Капулетти», како-
вою представляется столетие нашей «оппозиции правительству», где туск-
лую и нерешительную роль играли университеты, не «крася» ни одной сто-
роны, ни другой стороны... «Нелюбопытство» может быть двояким: моло-
дым и детским, или — старческим и изнеможенным. Нелюбопытство и
нелюбознательность наших университетов—решительно изнеможенная.
Усталая от «служебных мелочей» в себе, от какого-то уездного существова-
ния, — без широкого и жадного взора в сторону, кругом и вдаль.
207
Между тем «злое и бездарное наше правительство», вот которое «заве-
ло нас в Манчжурию и довело до Цусимы», как-никак все-таки основало
восемь историко-филологических факультетов и два специальных заведе-
ния, относящихся до затронутой стороны вопроса, — Институт восточных
языков в Петербурге и Лазаревский институт—в Москве.
И — ничего!
Не спорю, что-нибудь они, должно быть, и писали. Наверное, — писа-
ли. Издавали «Труды»... Но из читателей моих никто же не вспомнит и не
назовет сразу голову, которая осветила бы Восток и страны «восточных язы-
ков» таким светом, таким знанием и проницательностью, что имя этой го-
ловы повторялось бы на перекрестках улиц, оно было бы известно всякому
образованному человеку и называлось бы сразу. Имя Вильгельма Гумбольд-
та сразу назовешь; имя братьев Гриммов—тоже назовешь; как знают «на
перекрестках улиц» наших Буслаева и Даля. Вообще, тут вовсе не требует-
ся специальность знаний; требуется скорее — именно не специальность.
Ведь мы говорим о «науке в России», а не о том, что есть в своем роде
«почтенные диссертации» по разным наукам. Мы спорим о том, «нужно ли
посылать русских за границу учиться»: чтб же юный магистрант узнает,
приехав в Петербург «доучиваться» у какого-нибудь синолога (китайский
язык) или санскритолога? Тот ему покажет «Китайский словарь», доведен-
ный им до третьей буквы алфавита, или что-нибудь «О заклинании духов в
Пенджабе» — предметы своих двух диссертаций и своего «копательства».
Произнеся последнее слово, мы почти натолкнулись на «русский метод»...
Наши равнины — тихие, и наши реки — бесшумные. Водопадов нет.
Течет себе речка и течет; «склон равнины» Бог устроил — вот она и «те-
чет». Так «тихо текут» и наши ученые. Они «копаются», так как решитель-
но же невозможно, между прочим и физически невозможно, всю жизнь
ничего не делать; и, проведя 30—40 лет «ответственной жизни» среди гор
книг, не реагировать ничем на «окружающий материал». Хотя совершитель-
но поразительно, что есть и такие ученые профессора, из-под пера которых
совершенно не вышло ни одной печатной строчки (Гав. Аф. Иванов, лати-
нист и даже одно время «исправляющий обязанности ректора» Московско-
го университета) или которые, написав обязательную по уставу магистерс-
кую и докторскую диссертации, затем на всю жизнь умолкли, диссертацию
же съели мыши, потому что людям она совершенно не нужна. Последние
viri illustri simi ас doctissimi* уже исчисляются не десятками, а сотнями в
наших университетах.
У нас есть или, вернее, иногда встречается изумительная способ-
ность усвоения, — попадается какая-нибудь «техническая кнопка» в го-
лове, подобная тем, какая есть же у волшебных «счетчиков», дающих
публичные представления своей «способности считать», умножать пя-
тизначные числа на пятизначные почти моментально, почти — отгады-
* знаменитые ученые мужи (лат.).
208
вая, но — наверняка. Такие «изумительные счетчики», конечно, не суть
математики. У наших «копунов» есть не эта, но подобная способность
вдруг в три недели «овладеть санскритом» или удерживать в памяти ре-
шительно все, что ни прочтет, что ни услышит, что ни узнает. Но эта
изумительная восприимчивость почти всегда эквивалентна глубокой
мертвенности созидающих способностей, инициативы, «новой и своей
задумчивости». Кто его знает, может быть, Хлестаков мог бы быть «вир-
туозом-счетчиком», а Ноздрев даже наверно обладал каким-нибудь
«талантом». Но они жили в неучебное время; родясь полустолетием поз-
же, — и очень может быть, что они обнаружили бы необыкновенную
способность к какой-нибудь головоломной науке, которую иной и серь-
езный человек всю жизнь не осилит. Под человеческим черепом скры-
ваются удивительные «фокусы знаний», причем страшное развитие это-
го исключительного «фокуса» иногда совмещается с полною тусклос-
тью всей остальной головы. Из него может выйти изумительный «спе-
циалист» и в то же время совершенно посредственный ум, — чтобы не
сказать скромнее. Я говорю о вещи довольно-таки общеизвестной, удив-
лявшей людей, которые «привыкли толкаться в ученой среде». Вот та-
кие специалисты-виртуозы едва ли не образуют большинство нашей про-
фессуры: и так понятно, что «науки» пока нет в нашей земле, нет ее как
идеи, как великого воодушевленного любопытства'.
В 1882 году, окончив Московский университет и обернувшись мыс-
лью вспять, я был поражен: что же я собственно узнал? и чему собствен-
но учил и стремился учить университет, как «universitas scientiarum», т. е.
«всеобщность, обобщенность, универсальность знаний»? Да ничего по-
добного, соответственного имени! У всех, безусловно у всех профессо-
ров, в том числе и «светил» (были), — однако отсутствовала вовсе идея
знания, идея науки в целом... А профессор философии, у которого долж-
ны же были бы как-нибудь связываться в голове «все науки», просто чи-
тал нам логику — по Миллю, психологию — по Бэну и историю всех
философских систем по шаблону. Все-таки к философам именно — я по-
чему-то питал особенное благоговение: «Прочие — в сюртуках, а этот—
в хламиде». Вдруг, по какому-то торжественному случаю, я увидал наше-
го Матвея Михайловича, до того расшитого в золото (позументы парад-
ного мундира) и со столькими орденами на груди... что мой туман спал.
«Ах, вот отчего... университет не дает никакой идеи о науке: все они за-
нимают должность V класса, дослуживаются, к 40-летию службы, до тай-
ного советника и мирно прилагаются «к отцам» на Дорогомиловском или
Ваганьковском кладбище».
И больше ничего; т. е. в душе, в человеческом духе. И всю жизнь рабо-
тала только «тайная кнопка», неизвестный «фокус» в мозгу, давший и «сан-
скрит», и «дифференциалы» в руку.
Совершенно ясно, что у человека с этим «фокусом» воспринимающих
способностей нельзя ничему выучиться, нельзя выучиться существу на-
209
уки, «мудрости науки», которая есть; и она есть независимо от этих «фоку-
сов», а как результат громадной работы громадного и личного и собира-
тельного ума, с всеосвещающею в себе силою. Вот пример: в восьми уни-
верситетах и в четырех духовных академиях сколько людей преподавало
богословие', но освещающий луч на него был брошен только Хомяковым,
который даже не был профессором. Когда я говорю о «идее науки» и о «муд-
рости в науке»,—я и разумею подобные явления. Можно читать всю жизнь
лекции по богословию и знать и помнить все крупное и мелкое в этой обла-
сти: и не иметь ни одной новой и собственной мысли о богословии, о пред-
мете 30-летнего «читания». Что касается «философии в университете», то,
как и повелось, уже как закон и норма, из которой «совестно выходить»:
что профессор всех философов знает, но ему самому иметь хотя бы одну
философскую мысль—даже неловко. «Мы не Кифы Мокиевичи и глупос-
тями не занимаемся»,—покраснел бы наставник, тридцать лет читающий
«о философах» довольно несчастным русским студентам*. Наука для та-
ких людей с «кнопкой» или «фокусом» в голове представляется какою-то
каменною твердынею, каким-то скелетом «законченного человека», к кото-
рому что же прибавить или что же убавить? «Кончено», «осуществлено»: и
они перебирают и охраняют «архив науки», как директор музея восковых
фигур бережет и пересматривает эти фигуры.
Точная копия. Я говорю не сравнениями: я выговариваю точное суще-
ство «русского дела».
Этою весною я был на диспуте профессора Варшавского университета,
г. Шестакова. Диссертация была посвящена преданиям и сказаниям, воз-
никшим на пограничной линии соприкосновения умиравшего или истреб-
лявшегося языческого—с христианским миром, который недавно заро-
дился. Оказывается, есть «знаменитая книга» на эту тему германского уче-
ного (имя забыл). Вдруг диспутанты, и в том числе (если правильно по-
мню) «светило», проф. Зелинский, выразили полунеудовольствие,
полуизумление, что в таких-то частностях и новых задачах своей работы
проф. Шестаков вышел из рамок этой «знаменитой книги». Я не могу за-
быть и лукавой и удивленной улыбки молодого ученого, с какою он отве-
тил петербургским профессорам: «У (такого-то) ученого этого нет: но ведь
мог же я и сам поставить себе такую-то (правильную в научном смысле, и
этого диспутанты не отрицали) цель».
Просто я был поражен: вот до чего дело дошло в «самостоятельной
русской науке» (мнение Академии Наук): нельзя, неловко что-нибудь само-
му сказать, попытаться сказать. «Списывай extemporale — и шабаш», как
говорят бездарнейшие из гимназистов на уроке.
А знаний — бездна. «Все языки» знают, и «все книги» — прочли. Тут
именно ряды «кнопок» и никакой идеи науки.
* Только последние лет 15 изменилось это странное воззрение на себя и свою
задачу русских университетских философов (гг. Лопатин, Введенский, Лосский).
210
* * *
Оставим. Это общеизвестно. «Гадкое правительство» тоже собрало изуми-
тельную коллекцию этрусских ваз в Эрмитаже: но снимки ваз вообще я сту-
дентом университета рассматривал с восторгом в «Histoire des Romains» Дю-
Рюи и чуть было за эти вазы не выписал книги, стоящей около ста рублей
(нечем было бы платить за «дальнейшие выпуски»): но никогда в русской
книге*, ни в одной, я не видал изображения этрусской вазы. Эрмитажное
собрание ваз—не издано, как и эрмитажные монеты.
Да до чего не дотронься, зрелище все одно: «правительство», которое
нужно «ниспровергнуть», собрало груды памятников, груды научных со-
кровищ: а профессора, которые желали бы «ниспровергнуть», — ни еди-
ным лучом света не осветили этих сокровищ.
Вот и все. Оставим это дело. Оно общеизвестно. Только еще укажу:
1) В русской «самостоятельной науке» нет ни одного изложения римской
истории. Попытался Модестов: но не довел до Ромула и Рема книгу, Бог весть
почему озаглавленную «Римская история». Погрузился в «бронзовый век»
(Италии) — и даже до «Рима» не довел. Поразительно, что русские ученые
не умеют даже дать правильного заглавия труду; и совершенно не умеют, как
я ранее выразился, «гармонизовать книгу». «Начал», а там «что-нибудь» вый-
дет. Именно работающая «кнопка»,—без всякого «смысла».
2) Изложения греческой истории — ни одной.
3) Даже любимой «французской революции» — ни одного изложения.
4) Истории папства—нет.
5) Истории реформации — нет.
Просто черт знает что: ничего нет. Ничего осмысленного, разумного!
Вот уж истинно «темное царство», как писал Добролюбов; и никакого «луча
в темном царстве», — как писал он же. Он писал это по поводу замоскво-
рецких купцов Островского и по поводу Катерины в «Грозе». Но «гроз» в
нашей профессорской среде не разыгрывалось, «Катерина» там не гово-
рила своих протестующих речей: и вся эта среда профессуры—тоже «за-
москворецкое царство», только с претензиями и бахвальством.
* * *
Тут мы и подходим к разгадке удивительного явления: бессилия универ-
ситета над студенчеством. Просто — не может овладеть. Да почему «не
может»? Решительно каждый талант овладевает меньшим талантом: это
— закон его', и всякий ум овладевает меньшим умом: и это тоже его за-
кон. Не Вагнер владеет Фаустом, Фауст — Вагнером. Вагнеры, вообще
меньшие умы, меньшие таланты, могут уклониться от общения с талан-
том, с умом; Пушкина может публика не читать; но, раз соприкосновение
произошло, общение совершилось, — закон овладевания сильнейшим сла-
* Только недавно, года четыре назад, появились снимки с некоторых античных
ваз, — конечно, не с русских (Эрмитаж), — в труде проф. Фармаковского.
211
бейшего неизбежен. А студенты учат лекции профессоров (к экзамену), —
даже когда их лично и не слушают в году. Значит, соприкосновение в данном
случае есть, было.
Но «ряды кнопок», с виртуозными сведениями, еще не образуют ума...
А «овладевать»-то может именно ум, мысль. Овладевать может талант, ко-
торый чарует... Перед талантом и мыслью «руки опускаются»... Ну, что ты
поделаешь, когда «Мазини так поет»... Слушай и не рассуждай. Стрепето-
ва играет: молчи и не ворчи. Отчего же в университетах все «ворчат»? Про-
фессор читает, а они постукивают ногами. Конечно, — свинство вообще:
однако же и в свинстве есть разум (Гегель). Нет Стрепетовой. Нет Мазини.
Есть вообще «кнопки», как я объяснил: есть изумительное «помножение
пятизначных чисел на пятизначные» в один момент, которое... посмотришь
раз, посмотришь два—да и соскучишься.
Скучная газета—не читают.
Неинтересная книга — и залеживается в магазинах.
Что, господа, делать с этим убийственным и всеобщим фактом, что —
походив в аудитории в сентябре и октябре — студенты с ноября месяца
заваливаются в «злачные места» и возвращаются в аудитории в конце мар-
та, чтобы «приучить к своему лицу глаз профессора» (иначе на экзамене
озлобленное «3» или «2»).
Вот Академия Наук как-нибудь это бы дело поправила, вместо изложе-
ния своих «сентенций»...
* * *
Посмотрим инквизиторски дальше: ну, а на кого вообще университет влия-
ет? Студенты, пусть «отъявленные»: но не «погибшая же страна» вообще
Россия? Но вот, представьте, на Россию вообще, в ее историческом разви-
тии и созидании, университеты русские не влияли никак и не влияют те-
перь, если только не идут в хвосте за кем-нибудь, и тогда сподобливаются
«прославления» вообще «следующих», помогающих, хлопающих...
«Стрепетова играла... Замирал театр... Но особенно замирала одна ска-
мейка наверху... в райке».
Вот эту роль культурного «райка» играют профессора в своих «зами-
раниях».
Отмена смертной казни: «и.мы тоже»...
Забастовка... «Имы тоже»...
Все — «мы тоже». А вот чтобы первыми закричать, вырваться в ини-
циативу, сказать могучее «credo» и «volo» именем именно талантливой и
благодетельной в стране науки — на это у «кнопок» толку не хватает. И
решимости тоже не хватает.
Стрепетовой нет.
Мазини нет.
Никогда они не «играют на сцене», — никогда за весь век существова-
ния; а только «смотрят из райка» или из «первого ряда кресел» и тогда мед-
212
лительно тыкают пальцем правой руки в ладонь левой («заявление» Акаде-
мии Наук). Но всегда—зрители; и никогда — активной роли.
Студенчество же, хотя оно и «загулящее», а в деле забастовок (по моему
личному и определенному мнению)—забылось и ведет себя бессовестно в
отношении целой России, тем не менее, конечно, уровнем своим талантли-
вее, энергичнее и даже (в единичных попадающихся головах) умнее профес-
суры: и просто потому, что его сумма—это вся «завтрашняя Россия», в кото-
рой будут работать бесспорно не одни «кнопки». Секрет студенчества вовсе
не разгадан, ни секрет его смелых движений: конечно,—тут «толпа», и тол-
па решительно всегда бездарна («мир—дурак»—народная поговорка), но
не одна толпа, тогда как в профессуре, по существу «кнопок»—почти одна
«толпа». Но в студенчестве скрывается гораздо больше единичных талант-
ливостей, нежели сколько их есть в профессуре. Профессура же с ними не
завязала сношений, и просто потому, что их не понимает и даже не видит, не
различает в «толпе». Профессура понимает исключительно «толпу» (студен-
чества) и тащится вслед за «толпою». Но студенчество даже как толпа знает,
физически ощущает (от близости) эти таланты в себе, эту энергию в себе, эту
инициативу в себе: и «орет» с самосознанием и их в среде своей, хотя бы с
ними и не сливалась и их до тонкости не понимала.
Вот отношение, которое и решило участь университетов.
Это — отношение 140 «кнопок» и 10 талантов невысокого уровня к
5000 голов, из которых 4000—обыкновенные тусклые умы, даже без «кно-
пок», но остальная 1000 разделяется на 800 «кнопок» и полуталантов, в
уровень с профессурою, а человек 200 решительно превосходят профессу-
ру — скажем вообще и неопределенно — «личною интересностью», «лич-
ною занимательностью», каким-то «особенным светом в глазах и силою в
тоне». «Что-то такое», что ближе к Мазини и Стрепетовой.
Будь это «что-то такое» в профессуре—она бы победила.
Но это «что-то такое», наоборот, содержится в студенчестве: и победи-
ло оно.
Судьба и закон.
Из студенчества выйдет вся завтрашняя литература, вся завтрашняя тех-
ника, вся завтрашняя администрация государства, вся его адвокатура, вра-
чи, инженеры, может быть, агитаторы, может быть, политические бойцы.
Все, все это уже содержится в «теперешнем студенчестве», — я думаю, в
молчаливых, нерассмотренных уголках его, не «орущих». Но велика сти-
хия истории: студенчество «орет», оно чувствует и даже твердо знает, что и
эти «брильянты» запропастились в нем, и оно «кричит» массою, как горная
порода, в которой содержатся глина, кварц и изумруды. И отступает перед
нимщиникнет передними раек... ипартер... чиновных и полусановных
лиц, уже все в возрасте немалом, обремененных семьями, подаграми и ко-
торым вообще «осталось недолго дослужить».
Так «молодое вино»,—удачного или неудачного виноградного сбора, —
вытесняет «старый квас», застоявшийся на дне бочек.
213
ПЕТРИЩЕВ КАК 12-ДЮЙМОВАЯ ПУШКА
В только что появившейся августовской книжке «Русского Богатства» один
из виновников исключения 1270 слушательниц Спб. медицинского женско-
го института, г. Петрищев, пытается обелиться от этой вины. Петрищев—
автор ежемесячных «Обозрений внутренней жизни» в журнале, все время
подбивавший и медичек, и прочую молодежь к учебным забастовкам. Те-
перь он на целом печатном листе охает, ахает и ухает по поводу судьбы по
его вине исключенных, приставая, как говорится в поговорке, «с ножом к
горлу», чтобы ему «объяснили, почему исключили».
«В чем же виновны эти лица? Вероятно, они совершили нечто ужас-
ное, если от имени государственной власти последовало распоряжение,
равносильное стихийному бедствию. Что же именно они совершили?
Преступление 1300 слушательниц, в сущности, не объяснено в офици-
альном распоряжении министра. Указан лишь некоторый внешний при-
знак, и притом туманно и загадочно: слушательницы медицинского ин-
ститута не являлись к занятиям не только в течение весеннего семестра,
но не желали, несмотря на предъявленные к ним требования, присту-
пить к занятиям и после 18 апреля... В самой редакции этого пункта
есть что-то неладное: одно дело — «не являлись», не приступили к заня-
тиям, другое—«не пожелали». «Не являться я могу вопреки собственно-
му желанию,—по болезни (это 1300 сразу захворали™.!), по семейным (у
1300 сразу умерли родители?!!) и всяким другим причинам. Желая вы-
полнить в точности предъявленные ко мне требования,—я все-таки могу
оказаться вынужденным не выполнить их,—хотя бы, например, пото-
му, что мне надо заработать средства на будущий семестр, и, согласно
заключенному мною с N. N. условию, я должен именно с 18 апреля быть
в его имении и до сентября репетировать его детей»...
1300 репетиторниц, и все «заключили условия с 18 апреля по 1 сентяб-
ря». А говорят, «сказок не бывает»... Но очень интересно послушать этот
отчетливый, «как по пальцам», перечень мотивов, «по которым вы, слуша-
тельницы, всегда можете мотивировать свое нехождение в институт, и учеб-
ный округ и министерство ничего с вами не могут сделать». Кто только
увещевал их, несчастных, «по пальцам», — «неопределенные ли личности
на сходках» или гг. Салазкин, Кадьян и профессора, «разговаривая по груп-
пам». .. Судя по тожеству почти выражений у гг. Петрищева и Кадьяна,
нельзя сомневаться, что слушательницы повиновались одному указанию
сверху и были уговорены к забастовке именно этою мотивировкою, кото-
рая казалась и им, и руководителям забастовки рациональною, неопровер-
жимою и непобедимою...
«Наконец, пусть даже я не являлся именно потому, что не желал.
Ну, вот просто по разным причинам не желаю я учиться в этом полуго-
дии, — намерен возобновить занятия с будущего года и, пользуясь за-
конным правом сохранять свое место в учебном заведении, вношу ус-
214
тановленную плату. Спрашивается, с каких пор и на каком основании
это считается преступлением, за которое надо карать без суда не только
меня, моих родителей, мою семью, но и целое учреждение и все, что с
ним связано?»
Но когда «нехотящих» оказывается столько, сколько всех учащихся, то
ведь совершенно явно, что это неличная прихоть, против которой закон не
действует, а бунт и восстание учащихся против того учебного заведения, в
котором они учатся: а вовсе нет закона, который запрещал бы бороться с
восстанием, и даже есть, конечно, закон, предписывающий администрации
заведения борьбу с таким восстанием. Первая инстанция этой администра-
ции —директор института и совет профессоров. Но они пребыли пассив-
ными. Тогда выступила вперед следующая инстанция администрации—
учебный округ и министерство просвещения. Россия не оказалась мерт-
вою, безгласною, безвольною страною—вот и только, вот и вся «вина» и
все «беззаконие», приведшее г. Петрищева в такие «нервы»...
«За разъяснением газеты частным образом обратились к исполня-
ющему обязанности директора института проф. Кадьяну. Но, оказалось,
и для г. Кадьяна «распоряжение министра явилось совершенной нео-
жиданностью, —как снег на голову». О действительных мотивах кары
г. Кадьян высказал некоторые свои догадки. Но они —личное его мне-
ние, для нас теперь неинтересное. Нам нужно знать официальное объяс-
нение правительства. К сожалению, и профессору Кадьяну официально
известно только то, что из института почти все учащиеся исключены.
Что же касается «неявки на занятия», объяснил проф. Кадьян, «то, во-
первых, по уставу (этакие юристы-крючкотворы!), каждая слушатель-
ница имеет право оставаться в институте поличному желанию на вто-
рой год; а во-вторых, «по уставу института, исключение слушательниц
могло последовать по постановлению профессорского дисциплинарно-
го суда, но (курсив Петрищева и, очевидно, ударение на слове «разъяс-
нявшего дело» г. Кадьяна) у нас не было оснований предавать их дис-
циплинарному суду, так как они не совершили никаких проступков про-
тив института». Это понятно: административная кара тогда и приме-
няется, когда нет проступков, подлежащих ведению суда. Но тем более
загадочный оборот принимает дело: распоряжение, равносильное бед-
ствию, последовало за какую-то вину 1300 медичек, которые, однако,
никаких, даже дисциплинарных, проступков не совершили».
Какие невинные!! «Никакого проступка не сделали, и министр, здоро-
во живешь, — просто уволил их ни за чтб'М»
Медички, подговоренные печатью, Петрищевым, профессорами Салаз-
киным, Кадьяновым и проч., произвели тихий бунт, но такого объема, зна-
чительности и силы, что учебное заведение перестало существовать иначе,
как в форме кирпичного здания. Так как кирпичное здание не есть учебное
заведение, то министр, на обязанности которого лежит сохранение учеб-
ных заведений, а не стояние сторожем около каменных домов, — уволил
215
преступниц, чтобы с осени 1911 г. открыть учебное заведение, которого
они не давали открыть. Вот и только. Министр открыл, возобновил, воссоз-
дал женский медицинский институт, выстроенный на пожертвования всей
России и который, не спрашиваясь у России, закрыла известная, враждеб-
ная просвещению партия (Салазкины и Петрищевы).
«По поводу столь невероятного положения вещей выступили: «Рос-
сия», «Новое Время», «Голос Москвы»... Собственно, отзывы этих га-
зет для нас мало интересны. Наказаны, повторяю, не только 1300 меди-
чек и не только институт, наказаны мы (?!!) все, имеющие счастье или
несчастье быть обывателями государства Российского. И не «частные»
якобы издания, не официозы, — само правительство в порядке совер-
шенно официальном обязано объяснить нам, за что и на каком основа-
нии оно карает нас»...
Все «нас» и «мы». ..Тону Петрищева, как у Академии Наук. Прави-
тельство, вероятно, будет очень напугано голосом Петрищева, и со дня на
день мы должны теперь ожидать «правительственного сообщения», кото-
рое успокоило бы Петрищева или по крайней мере сделало бы его ярость
менее опасной... Чтб голод на Волге: Петрищев сердится — вот беда.
Вообще же до «правительственного сообщения», вероятно, всякий отец
говорит теперь вернувшейся «ни с чем» к нему из Петербурга дочери:
—Я тебя учиться посылал, а не читать книжки «Русского Богатства».
Эти книжки ты могла и в Новочеркасске читать, — в библиотеке есть,—а
ты села в вагон, переехала всю Россию поперек; мы с матерью последние
деньги на тебя истратили, у тебя маленькие братишки и сестренки есть, и
ты должна бы и о них подумать. Но ты променяла братьев и сестер на этого
брехуна Петрищева, который врет то же в январе, что в июле, и то же в 1911 го-
ду,чтов 1901 году. Что же ты сделала, куда же ты разбросала отцовские
гроши, которые я горбом зарабатываю? Ты должна была вертихвосткам-
бастовщицам сказать, что ты бедна, что ты приехала работать, что в твои
молодые годы сидеть без дела—позорно, что безделье—вообще позорно,
а неученье — вдвое. Ты должна была хоть одна пойти к профессорам и
потребовать, чтобы они тебе читали лекции и чтобы они тебя экзаменова-
ли, хоть даже одну. Но «одна» бы ты не осталась: видя твое мужество, сме-
лость и самостоятельность, за тобой пошли бы в первый день десятки, че-
рез неделю—сотни и через месяц—тысячи. И ты была бы лицом, челове-
ком, была бы в маленьких размерах и на маленьком месте героинею', но ты
струсила, спряталась под стол, испугалась Петрищева и Кадьяна, их высо-
комерной улыбочки и отказа «подать тебе руку», в рукопожатии которой ты
нисколько не нуждаешься. Ты променяла старого отца на этого, вероятно, в
цветущих годах черноволосого Кадьяна... Министр очень хорошо сделал,
что тебя выгнал. Так и следовало. Приехала, со своими семью целковыми в
кармане, и заявила: «Здесь все не по мне, а когда не по мне — то я не хочу
учиться». Какая барыня выискалась. Распорядительница. Скажите, пожа-
216
луйста: так Россия, поджав хвост, и побежит перед нашей Парасковьей из
Новочеркасска. Какая угроза! Какая страшная силища! Вместе-то с Петри-
щевым. Турку сломите, японца победите. Что ни слово—гром, что ни дви-
жение — победа. Ах ты, победительница Парасковья: дал тебе Бог куриные
мозги, и вот все твое оправдание...
Я не могу отказать в удовольствии напечатать обо всем этом мрачном
и бессмысленном деле следующее письмо, очевидно, знакомого с поло-
жением вещей человека. В высшей степени присоединяюсь к его упреку
г-ну Кассо за нерешительность и запоздалость его мер и за то, что мерами
этими он ударил в «хвост» движения, а не в его «голову». Самый тон объяс-
нений г-на Кадьяна показывает, что все дело с «забастовкой» проходило
как «по заученному», что теория ее была создана раньше практики. От того
Медицинский институт, можно сказать, «удивил всю Россию» стройнос-
тью и выдержанностью, а с тем вместе крайнею жестокостью «fait accompli»:
без шума, без единой выходки, в полной «невинности», студентки разру-
шали до основания все учебное заведение, кроме «гонораров профессорам»:
«Внесите нам гонорар за лекции, а сами на лекции не ходите, — очевидно,
это «программа» гонорарщиков. «Нам будет сытно, а вам — как угодно».
Министр, конечно, должен был покончить с этой гадостью, возмущавшей
всю Россию, измучившей всех родителей по провинциям: и жаль, что у
него недостало смелости сразу же кончить дело с «гонорарщиками».
Вот это любопытное письмо, которое г-н Петрищев может принять к
сведению уже как нисколько не официальное и не официозное:
«М. г. От вас, всегда сочувственно относившегося к труженицам
женского медицинского института, выгнанные 1700 девушек вправе
были ожидать прямой защитительной статьи; вместо этого вы в статье
своей (№ 12708) защищаете распоряжение министра Кассо. Разве он
нуждается в вашем или чьем-либо оправдании? Мне, как обыкновенно-
му обывателю, хотелось бы доказать, что в разгроме медицинского инс-
титута главный виновный именно и есть министр.
Он еще в начале февраля мог убедиться, что все переговоры мини-
стерства с советом института, в котором дела вершал директор Салаз-
кин, ни к чему путному не приведут и ту власть, которую он проявил в
конце апреля, ему надо было проявить месяца за два раньше.
У меня десятка полтора знакомых медичек разных курсов, и я в
некоторой степени полагаю, что министру не следовало вести перегово-
ры четыре месяца, а призвать Салазкина и прямо объявить ему, что он
должен немедленно подать в отставку. Назначить временного замести-
теля, приказав ему немедленно приступить к открытию второго семес-
тра учебного года, и если бы при этом слушательницы вызваны были в
институт для обсуждения вопроса о приступлении к занятиям, то, верь-
те, занятия бы начались, ибо в феврале и начале марта большинство и,
можно сказать, даже все, за малыми исключениями, тяготились забас-
товкою.
217
Что же сделал министр? Вместо властного слова он ведет перегово-
ры, тянет эти переговоры до конца апреля, пока Салазкин сам подал в
отставку, и тогда делается распоряжение о продлении второго семестра
до 15 июля. Это позднее распоряжение уже не застало в Петербурге и
слушательниц. Начали рассыпать пригласительные повестки. Я знаю,
что повестки доходили до медичек поздно, даже в июне месяце. Какой
же толк мог из этой затеи выйти? Ведь медицинский институт не юри-
дический или какой-либо другой факультет. Лекции без занятий в кли-
никах никакого значения не имеют. Ведь состряпанньш второй семестр
из 27 человек иначе назвать нельзя, как кукольною комед иею. Кому это
было нужно?Только самому Кассо.
Я попутно не могу не коснуться ожесточенных статей «Нового Вре-
мени», в которых прямо брошено медичкам обвинение в нежелании за-
ниматься. Да ведь это совершенная клевета. С самого начала забастов-
ки ни одна не сидела без дела. Больницы петербургские и городские
родильные приюты все были заполнены даровыми работницами. Авто-
ру этих жестоких статей стоило бы спросить хотя в одной больнице, и
тогда бы он убедился, что от работы медички не отказывались, а, наобо-
рот, жаждали работы.
Да, жестокое дело совершил г. Кассо!
Не подумайте, что я оправдываю медичек. Нет, они виноваты, как и
все прочие студенты, но почему же они должны поголовно страдать,
когда большинство, как я положительно знаю, не сочувствовало забас-
товке, а не имели лишь мужества идти против течения.
Большое спасибо сказали бы вам выгнанные медички за доброе пе-
чатное слово».
Жаль, конечно, медичек, но они обожглись на огне, на который сами
неудержимо летели. У кого-то, кажется у Берне, есть строчка: «Всякий имеет
право быть глупым (или простодушным, безвольным), но никто не имеет
права злоупотреблять своею глупостью (простодушием, безволием)». Что
делать: жизнь сурова и серьезна, и девушкам к этому тоже надо привыкать.
Зато, наверно, они второй раз не обожгутся на фатальном огне. С наукою не
шутят и с родною землею тоже нельзя шутить. От науки не отворачивают-
ся, и к больным в России нельзя на год опаздывать с помощью.
ТЕРРОР ПРОТИВ
РУССКОГО НАЦИОНАЛИЗМА
Нельзя не остановиться с вниманием на личности покушавшегося на жизнь
П. А. Столыпина: это — еврей, сам богатый и сын богатого отца, далеко
стоящий от «пролетарских кругов», с их голодом, безработицей и необеспе-
ченностью. У него совершенно не было тех мотивов к террористическому
акту, которые подымают на ноги и раскаляют докрасна душу бедняка-рабо-
чего или бедняка-студента. Самая его приписка к рядам социал-революцио-
218
неров искусственна и является своеобразным чванством, шиком и блажью:
потому что под почвою политических движений и социальных экстазов все-
гда являются реальные мотивы, реальное страдание или озлобление. Иначе
быть не может. Поэтому и в данном случае мы должны искать под мунди-
ром наружу—ближе к телу лежащую рубашку. Не страдания пролетариев
подняли руку убийцы, а чувство человека своего племени, которое со всех
сторон встречает в текущей русской политике преграду своим аппетитам,
распространению и экономическому захвату. П. А. Столыпин крупными бук-
вами начертал на своем знамени слова: «национальная политика». И принял
мучение за это знамя. Социал-демократия здесь только прикраса. Человек
своего племени только воспользовался оружием революции, средствами конс-
пирации, чтобы совершить деяние, желательное и революционерам, но ему-
то лично страстно желаемое по мотивам совсем другим!
Это показывает, как правильна точка зрения, кладущая национальную
идею в зерно политики. Центробежные силы в стране не ограничиваются
сдержанным ропотом, но выступают вперед с кровавым насилием. Они не
хотят примириться с главенством великорусского племени; не допускают
мысли, чтобы оно выдвигалось вперед в руководящую роль. Им мало того,
что торговля, промыслы и ремесла частью перешли и все более переходят в
их руки; перешли к ним хлеб, леса, нефть; им хотелось бы вообще разлить-
ся по лицу Русской земли и стать над темным и, к несчастью, малообразо-
ванным населением в положение руководящего интеллигентного верхнего
слоя. Этой вековечной и жадной мечте политика П. А. Столыпина, везде
отстаивавшего первенство русского племени, стояла поперек горла.
Вот мотив злобы, исступления и злодеяния.
«МАГНИТСКИЕ» И ФИЛОСОФОВ
Д. В. Философов на самом деле гораздо умнее своих писаний, т. е. остроум-
нее и проницательнее... И он постоянно несколько хитрит в них, как «хит-
рил» сорок лет покойный Н. К. Михайловский. В возражениях мне насчет
состояния наук в России он соглашается, что это состояние невысоко, но...
винит в этом, даже странно выговорить, Магнитского, который умер пять-
десятлет назад!! Магнитского и ещеУварова, Делянова, Боголепова. Но,
Боже, все эти люди давно уже померли, да и науки при них—сравнительно
с текущим временем и принимая во внимание раннюю фазу истории, — все-
таки цвели. При Толстом и Делянове были Менделеев, Бутлеров и Меншут-
кин, при У варове—Остроградский и Буняковский, минералог Кокшаров;
были при таких «варварах» историки Грановский, Кудрявцев, Ешевский,
Соловьев, Костомаров, Ключевский... Все это Философов знает, может быть,
даже тверже меня, — ибо это знает свет улиц. И пишет, все-таки, свои инси-
нуации на «несимпатичных» покойников: ибо уже таков шаблон журналь-
ного и газетного «катехизиса»...
219
Пиши «от сих до сих» и «от энтих до энтих»...
Эти министры, видите ли, «не дали возможности непрерывной беско-
рыстной работы в лабораториях, клиниках и библиотеках». Так и напечата-
но: хотя на глазах всех, кажется, десятый «Магнитский» гонит учащихся в
лаборатории и клиники, а общество и печать, и в числе их сам Философов,
навевают учащимся, что «не в лабораториях дело, а в чтении умных газет и
умных книжек», ни к какому учению не относящихся и ни с малейшей нау-
кой не связанных.
—Увольте еще «Магнитского», этого Кассо, — и науки расцветут.
Как много, подумаешь, зависит от их высокопревосходительств: раз-
мягчают сердца, ублажают душу, прибавляют фосфору в мозг.
И не замечает Философов, как не замечает вся наша печать, что этот взгляд
вовсе даже не либерален. Это—французский взгляд, взгляд «просвещенно-
го абсолютизма» XVIII века, французских «Людовиков», окруженных энцик-
лопедистами, нашей Екатерины и германских Фридриха II и Иосифа II. «Ну-
жен хороший министр, — а остальное все будет». Нисколько не пытаясь
быть оригинальным, я противоположу ему английский взгляд, что «все зави-
сит —от себя». Науку делают, как и ее задерживают, не министры: делает ее
население и великие условия его активности или пассивности, и условия
нравственного существования в нем. Вот если бы «мы», общество и печать,
были правдивы и мужественны, юноши и девушки наши, конечно, учились
бы, никаких в учебных заведениях забастовок бы не было; а оппозицию не-
правильной правительственной политике делали бы не дети, а отцы, прячу-
щиеся теперь за спинами «детей». Была бы серьезна политика, была бы серь-
езна и наука: а теперь ни серьезной политики, ни серьезной науки у нас нет.
Я упомянул о Михайловском, приводя его имя в связи с Философовым:
оба—приседают до публики, до «зауряд»-читателя, а не говорят полным
голосом ту очевидную истину, которую по степени своего ума не могут не
видеть. Оба представляются наивнее и (да будет прощено слово) глупее,
чем они есть в самом деле. Этот факт, что писатель пишет наивнее, проще и
глупее, чем сколько у него есть в голове, довольно общеизвестен: между
тем ведь это такой «антихристов факт», что голова кружится, если в него
вдуматься. Самая суть литературы, суть умственности, т. е. культуры, про-
свещения, —конечно есть ум и ум, талант и талант. Прежде, бывало, люди
из кожи лезли вон, чтобы «блеснуть дальновидностью», корпели годы в
библиотеках, чтобы «сказать новую мысль»; говорить «как все», говорить
«по шаблону» считалось унизительным: ибо тогда для чего же в самом деле
говорить, брать перо в руки, называться писателем? И так не только «преж-
де» было, а всегда так было: ибо таково, повторяем, существо литературы,
мысли и науки. Вдруг что-то сделалось, что писатели стали притворяться
«глупенькими», стали «скрывать свои мысли». Милюков три года держался,
чтобы сказать своих знаменитых «ослов», каковыми, конечно, и раньше это-
го словопроизнесения были его «друзья слева»; да и самый способ сказыва-
ния не оставлял сомнения, что он произнес это «наконец-то», а внутри себя и
220
всегда так думал. Но еще Милюков—политик, и у него литература—при-
кладное дело. Но когда всю жизнь, все 40 лет «приседает» Михайловский,
когда наивничают Мережковский и Философов и, словом, литература «пи-
шет глупее, чем думает», то, согласитесь, в одной области, в области слова,
точно «антихрист пришел...» Ибо как же и назвать такую литературу, как
не литературою «от лукавого»...
Удивительны наивности Толстого, который пытался нравственно возро-
дить человека на средневековый лад, или на буддийский лад. «Видали ли вы
святого, который, увидев голодного коршуна, дал ему клевать свою грудь?»
Очень нужны эти буддийские сказки. Хоть бы и был такой святой—никако-
го в нем проку. Сам себя утешал и сам на себя любовался в зеркало. Нам
нужно воскресение не этих нервно-патологических экстазов средневеко-
вья, а нужны добродетели поля, площади и улицы. Вот ты «в толпе» стой
прямо, не гнись, не льсти; это добродетель мужества, а не добродетель
сострадания, и она нужнее, важнее, наконец, даже благороднее. «Там, за
горами, коршун терзает грудь святого»,—а здесь, на площади, мы все пре-
усердно друг другу кланяемся и все преусердно друг другу лжем. Да и сам
Толстой не «согрешил» ли своим «Не могу молчать», как и Влад. Соловьев
в лекции после 1 марта: два нравственно самые авторитетные имени, са-
мые первые люди страны. Ибо за месяц, за год перед этим они вовсе не
«вопияли» на весь мир: «Спустите оружие! Бросьте покушения!» Вот бы
где яростной толпе «отдать грудь на растерзание», как тот святой отдал кор-
шуну. Но хороши «за горами» буддийские сказки: а «на площади» смирен-
номудрые лукавцы пожимают руку тому, кто в успехе, в нравственной силе,
в общепризнанном авторитете.
И долго еще эти «христолюбивые лгуны» будут мозолить нам глаза и
портить воздух истории. Долго не придет Катон: простой, необразованный,
грубый, который не покривит душой перед своим местным Капитолием.
* * *
Науки в России и учебные занятия в заведениях больше зависят «от нас с
Философовым», говоря иносказательно, чем от Кассо и «Магнитских», ко-
торые всего только «писали ц иркуляры». В одной канцелярии циркуляр «на-
писан», а в другой канцелярии циркуляр «читают»: и всего-то историческо-
го хода—от канцелярии до канцелярии. Не министры «делают погоду» в
стране. Ее делают бесчисленные, необозримые «мы»: и погода выходит «сля-
коть» —когда все лгут, притворяются вот «наивными», «невидящими», «не-
понимающими»; и могла бы сделаться как ясный морозный день или как
солнечный летний день, когда бы все решились мужественно описывать то,
что видят, и высказывать то, что понимают.
Бедная наша молодежь действительно запуталась. При изыскании мо-
тивов самоубийств в ее среде всего чаще жужжит напевание: «Это от при-
остановки активной политики в стране». Но не поискать ли причины в
страшной разочарованности молодежи вообще окружающим обществом,
221
и более всего стоящим близко к ней: своими наставниками, руководителя-
ми, своими недавними «вождями». О разочарованности с этой стороны
писала не так давно в «Рус. Вед.» г-жа Ел. Кускова, — не догадавшись спро-
сить себя, спросить внутри себя: не основательна ли эта разочарованность?
Но она полна самомнения: «Молодежь от нас уходит, виновная молодежь!..
Мы же правы, нам поправляться не в чем, и мы только должны опять, как в
70-х годах, приняться за наставничество, чтобы снова вернуть ее к себе».
Таков смысл ее длинного фельетона. Ей не приходит на ум, что людей тако-
го прямолинейного склада и упрощенного миросозерцания*, как она, мо-
лодежь переросла; а от людей, «приседающих до ее уровня», — отшатыва-
ется по непосредственному чувству правды и здоровья. В одном и другом
случае она глубоко одинока: и вот несосчитанный мотив ее пессимизма,
«серости» на душе, приостановки жизненных энергий, что в особенно ост-
рых случаях не может не привести к фатальной развязке.
К КОНЧИНЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
После кроваво-черного 1 марта Россия никогда еще не была так потрясена,
как сейчас. Обстановка убийства перед глазами Монарха, в минуту величай-
шего одушевления и ликования киевлян, при открытии памятника Александ-
ру II, убийства не моментального, а с трехдневною мукою страдальца, все
это заставило вздрогнуть русские сердца и заныть старой болью, как после
1 марта. Свергнут глава русского правительства, свергнут в момент, без раз-
говоров, без рассуждений. Это такой вызов русскому народу, такая пощечи-
на тысяче русских городов, такое заушение молодому русскому парламента-
ризму, такой плевок в глаза 17 октября, от которого Россия, покачнувшись,
не может не схватиться за сердце. Но за слугой мы должны видеть господи-
на. Двадцатишестилетний еврей социал-революционер—только исполни-
тель приговора еврейства и социализма. Вот они, полувековые смертельные
враги России, распинатели государственных людей ее, ее—по-старомос-
ковскому—«служилых людей»; издевающиеся надо всем русским, старым,
новым и будущим. До 1 марта и во время 1 марта, в первые дни после него
они говорили, что злодействуют потому, что нет конституции; но вот кон-
ституция дана, а они злодействуют и при ней, как злодействовали или пыта-
лись злодействовать все время между 1 марта 1881 года и между 1 сентября
1911 г. Теперь будут стараться все свалить на «режим» 3-й Думы и закон
3 июня: но не дастся им в обман русское общество, несколько уже поседев-
шее в пекле непрерывных заговоров и злодеяний и помнящее хорошо, что
кронштадтский и свеаборгский бунты были при 2-й и 1-й революционных
Думах, что члены 2-й Думы, социал-демократы, организовывали военный
* Так, о людях, преданных революционному интересу, она выразилась, что они
«Бога за ноги держат». Каково представление об истории и об религии??
222
заговор. России смеются в глаза социал-демократия и еврейство: им не та-
кой или иной Думы нужно, им нужен не парламентаризм, а исполнение соб-
ственной мечты, зародившейся в парижских и женевских конспирациях.
Россия для них,—да и не Россия одна, а все западноевропейские стра-
ны, — tabula rasa, чистый лист бумаги, где эти маньяки и злодеи чертят
свои сумасшедшие воздушные замки.
Социал-демократию и еврейство Россия должна взять в железо: это обя-
занность ее правительства, об этом нравственный крик ее населения. Здесь
не должно быть ни пощады, ни компромиссов, ни послаблений. Где с од-
ной стороны натиск бешенства, укусы бешеного животного,—там с дру-
гой стороны безумием или низкой трусостью было бы возиться с рецепта-
ми и гигиеною. Пусть и социал-демократия, и еврейство знают, что Россия
оскорблена, и что Россия — это не «труп», как они кричат о ней на весь
свет, и что на оскорбление она отвечает с военною быстротой и энергией.
Пусть злодеи трепещут, пусть они попятятся.
* ♦ *
В лице П. А. Столыпина сражен доблестнейший воин Русского государства,
хоть он и не носил военного мундира. Но как носивший военный мундир
Бисмарк исполнял штатское дело: так носивший штатское платье Столыпин
исполнял военное дело; он был в непрерывном бою со времени вызова своего
из Саратовской губернии,—и притом в бою на самые разнообразные фрон-
ты. Прямо перед собою он имел революцию; с боков под него подкапывались
темные невежественн ые круга; у самых кресел его вели тайные траншеи люди
в золоченых мундирах. Среди всех этих врагов его величавая фигура стояла
спокойно и не колеблясь, твердо и не дрожа; и его историческое слово—«не
запугаете!»—сказанное непосредственно после того, как дом его на Апте-
карском острове был разнесен в щепы, прекрасно прозвучало на весь мир.
Своим благородным, воистину дворянским характером, своею громад-
ною трудоспособностью — он привлек сердца и умы всех и сделался «на-
дёжею России». После развала революции, когда русские живьем испыта-
ли, что такое «безвластие» в стране и что такое стихии души человеческой,
предоставленные самим себе и закону своего «автономного» действия, —
все глаза устремились на эту твердую фигуру, которая сливалась с идеею
«закона» всем существом своим. Все начало отшатываться от болотных
огоньков революции,—особенно когда премьер-министр раскрыл в речах
своих в Г. Думе, около какого нравственного омута и мерзости блуждали
эти огоньки, куда они манили общество; когда в других речах он раскрыл
все двуличие и государственное предательство «передовых личностей» об-
щества, якшавшихся с парижскими и женевскими убийцами. Он вылущил
существо революции и показал всей России, что если снять окутывающую
ее шумиху фраз, притворства и ложных ссылок, то она сводится к убийству
и грабежу. Сколько ни щебетали социал-демократические птички, сколько
ни бились крылышками—они застряли в этом приговоре страны, который
223
похоронно прозвучи над ними после раскрытия закулисной стороны рево-
люции, ее темных подвалов и гнусных нор. Революция была побеждена, в
сущносги, через то, что она была вытащена к свету.
Но великая заслуга Столыпина состояла в том, что он боролся с рево-
люциею как государственный человек, а не как глава полиции. Он понял,
что космополитизм наш и родил революцию; и, чтобы вырвать из-под ног
ее почву, надо призвать к возрождению русское народное чувство, русское
государственное чувство, говоря обобщенно,—русский национализм. Здесь
революция уже помогла министру. Без ее великих испытаний голос всякого
человека к «возрождению русского национального чувства», может быть,
звучал бы напрасно, как бы он ни был талантлив, искренен и могуч. Здесь
он пошел дружно с обществом, общество пошло дружно с министром. После
целого века космополитических мечтаний «наверху»,—русская реальная
политика наконец-то пошла по руслу русских реальных интересов, гордого
сознания русского достоинства, гордого сознания русской чести.
Эго одно. Второе—его великие земельные реформы, которые начали под-
водить новый фундамент, взамен совершенно одряхлевшего, под весь эконо-
мический строй. Община давно развалилась; и если прежде кого-нибудь охра-
няла, то теперь всех истощала. Это была археологическая святыня наших на-
родников, на которую продолжали молиться, хотя все краски с нее слиняли и
она не являла никакого образа. Он покончил с нею и поставил народное хозяй-
ство на спину трудящегося, здорового, крепкого человека. Переворот этот да-
леко не закончился, но он таков, что, раз начатый, должен быть доведен до
конца. Эго его главное дело, это, наконец, как бы его завещание отечеству.
Закон 3 июня, с которым он вошел на министерство, в сущности, спас
наш только что зародившийся парламентаризм, который, вследствие нео-
пытно созданной системы выборов, грозил обратиться в хроническую, за-
тяжную, никогда не имеющую окончиться анархию. Он спас парламента-
ризм через легчайшую операцию, через какую он вообще мог быть спасен.
Ибо несомненно, что повторение первой и второй Думы, с их анархически-
ми призывами и лозунгами, привело бы через немного лет сперва к ряду
роспусков Дум, а затем и ликвидации вообще «думского режима», так как
государство не может, конечно, сознательно и добровольно переходить в
анархию, как живой и разумный человек не может зарезаться.
От этого политического безумия и вырождения, какое могло бы насту-
пить без закона 3 июня, также спас наше государство Столыпин; или, по
крайней мере, был в составе лиц, энергично решившихся и проведших этот
спасительный шаг.
* * *
Мы торопливо указываем эти две-три точки его деятельности: но, в сущно-
сти, теперь не время и здесь не место говорить о том, о чем уже исписаны
ворохи газет и будут написаны книги. Сегодня—день нравственной муки
русского общества. Мука эта так велика, что задвигает собою государствен-
224
ные соображения. Не осматривают хозяйство, не исчисляют богатство, не
считают убытки, когда в дому стоит гроб. Г роб — в России. Могильною
«тучею» задернулась наша земля. Много будет слез, много теперь уже слез.
Русской земле нужно хорошо выплакаться. Все должно посторониться пе-
ред этою потребностью.
ПРЕСТУПНАЯ АТМОСФЕРА
Если бы страшная кончина П. А. Столыпина имела своим действием сколь-
ко-нибудь нравственное объединение русского общества и русской печати,
можно было бы думать, что кошмар нового кровавого преступления не бес-
плодно повис над Россией. Об этом объединении кое-где и говорят. Но в
него плохо верится. Конечно, везде раздаются слова «негодования» против
зверского злодеяния. Но одно дело сказать: «Мы негодуем»—идругоедело
сказать: «Мы презираем»... Последнее слово раздается редко. Между тем
разница этих слов — «негодуем» и «презираем» — и проводит резкую гра-
ницу между лицами, между органами печати и между общественными груп-
пами, стоящими «вправо» от преступления и «влево» от преступления. Увы,
последних находится еще очень много. Не сказать, взглянув на прострелен-
ного человека: «Мы о нем сожалеем», а взглянув на стрелявшего: «Мы него-
дуем», — невозможно даже физически. Тут давление того нравственного
приличия, коего сила почти автоматически выталкивает эти необходимые
слова. Однако, читая их, всякий их понимает как дань невольного приличия,
— и только. Все, косвенно и отдаленно связанные с преступлением через
мысленные нити, через политические нити, хорошо понимают их смысл и
границы этого смысла; и остаются в полном душевном равновесии и в пол-
ном убеждении, что киевский выстрел отнюдь не вызывает отвращения и
презрения в стране и в населении, взгляд которого, по распространенному
мнению, выражается печатью, и притом достаточно выражается.
Разумеется, террористический акт всегда есть психологическая исклю-
чительность, как и «молодец», его совершающий, есть довольно исключи-
тельная личность. Но «смертельный вибрион» нуждается в питательном
бульоне. «Негодующие» органы печати и лица из общества нимало не убав-
ляют этого питательного бульона; убавка его начинается только там, где к
негодованию прибавляется «презрение». Несомненно, что террористичес-
кие покушения не могли бы возникнуть, а, возникнув, быстро бы погасли,
если бы их не окружал ореол героизма, не окружал подавленный восторг
слепой и невоспитанной политически толпы, местами и минутами проры-
вавшийся даже прямо. Вспомним всю разницу отношения «прогрессивной»
печати к застреленному генералу Игнатьеву и к застреленному Герценш-
тейну, из которых один не удостоился, кажется, ни одного доброго слова, а
второй был возведен в святые и мученики, — и мы поймем всю разность
психологии, с которою поднимается рука «слева» и поднимается рука «спра-
225
ва». Всякому очевидно, что поднявшаяся «справа» рука есть исключение,
ненормальность, буквально есть случай,—тот «вибрион», для которого нет
«бульона»; а «слева» поднявшаяся рука есть явление постоянной хроники,
которому никто не удивляется, потому что это всеми ожидается. После при-
творно-официальных слов «негодования» начинается всякий раз новый сыск
над «правительством» и развиваются доказательства, что его меры даже и
не могли не привести к последнему покушению. Наконец, та непрерывная
злоба, в которой воспитывается общество против «правительства»,—и это
воспитание почему-то называется газетной «политикою» и «тактикою
партий», — неужели это не есть именно тот гнилой и пунцовый туман, из
которого сами собою выползают жабы террора. Россия вернула два прихода
Выборгской губернии: и газетки, издающиеся не в Гельсингфорсе, а в Петер-
бурге и в Москве, объявили эту перепись двух приходов из одной русской
губернии в другую, тоже русскую губернию, равной «аннексии» Боснии и
Герцеговины Австриек), т. е. равной насилию над двумя славянскими земля-
ми чужеродной, враждебной по вере, по государственности и по националь-
ности державы! Явно, что Россия так же враждебна какой-нибудь «Речи» или
«Русским Ведомостям», как вообще русским и славянам враждебна Авст-
рия; что русское племя и Русская земля так же им невыносимы, противны и
возбуждают в них злобу, как в славянах—австрийцы. При таком патологи-
ческом состоянии печати и общества было бы невероятным, если бы не за-
рождались преступления. «Речь» сама заговорила, что важны и многозначи-
тельны не преступления вроде киевского, а тот «туман над обществом», в
котором преступления зарождаются. Но этим она назвала себя и указала на
себя. Кто же усерднее «Речи» изо дня в день твердил, что русское «прави-
тельство» есть единственное препятствие к русскому счастью, что, не будь
Столыпина, а сиди на месте его кто-нибудь из излюбленных имен «Речи»,
начиная с Кутлера, и у нас все не только расцвело бы, но престиж России
поднялся бы во всемирном уважении. Разве не Столыпин устроил голод на
Волге, которому «Речь» так обрадовалась? Не он устроил беспорядки и хи-
щения на Маньчжурской дороге? Не он исключил массами студентов, сту-
денток и профессоров? Он, словом, есть виновник всех стихийных и всех
социальных бедствий! По «Речи», по «Русск. Ведом.», по «Утру России», по
многому множеству левых и полулевых листков Столыпин до такой степени
и так давно во всем виноват, что поистине «случай» в Киеве пришел слиш-
ком поздно; и это «опоздание» объясняется только тем, что, как писали эти
дни, множество покушений на него же было ранее задумано, организовано и
только предупреждено. Мы имеем, таким образом, дело вовсе не с «преступ-
лением в Киеве», а мы имеем дело с постоянной преступностью в стране,
которая напряжена до крайней степени и только ищет случая и часа, где мог-
ло бы «удаться». Одно удавшееся приходится на д линный ряд погашенных и
неудавшихся. Не в Купеческом саду, так в театре, не в Киеве, так в другом
месте, не сегодня, так завтра. Все дело и заключается в этом напряжении и в
том, что и кто его под держивает. Но может ли оно не под держиваться, если
226
вся печать свела «политику» не к принципиальным и безличным обсуждени-
ям государственных вопросов, а к указаниям на личности, которые сидят на
местах, от века уготовленных Кутлеру и Милюкову? И когда совершенно
прямо печатается и громко возглашается с кафедры Г. Думы левыми депута-
тами, что «правительство», и следовательно глава его, есть «враг народа».
«Не будь у нас правительство враждебно народу»,—эта фраза как стереотип
передвигается из газеты в газету, из столбца той же газеты в другой столбец;
мелькает и в передовице, мелькает и в фельетоне, мелькает и в корреспон-
денции, при этом без всякого пояснения, что под «народом» в этой фразе
подразумеваются бердичевские обитатели, варшавские коммерсанты и
гельсингфорсские граждане. Без такого комментария все русские читатели
низменных газеток приучаются к мысли и начинают верить, что в самом деле
«русское правительство», и более всех глава его Столыпин, совершали по-
стоянно какие-то особенные злодеяния в России, которые известны осведом-
ленным редакторам и сотрудникам доверенной газеты, но они их не называ-
ют полным именем только «по независящим обстоятельствам». Стоило бы
произвести статистику этой излюбленной фразы, что «в России правительство
враждебно народу»,—не ошибается, не слепо, а именно враждебно, т. е. име-
ет злой умысел против населения, — чтобы совершенно понять ту неустан-
ность и непрерывность, с какою та или иная «рука» все подымается и подыма-
ется с смертельным оружием против правительства и членов его. Этому не
месяцы и не годы, этому—десятилетия. Специальной хвале этих «героичес-
ких поступков», этих «самоотверженных жертв», посвящена не книга и не книги,
а посвящена целая литература. Специально истории одних только «покуше-
ний», без всякого привхождения общей и принципиальной политики, был по-
священ даже специальный исторический журнал «Былое». Достаточно загля-
нуть в эту 20-томную историю русского подпольного заговора, чтобы понять и
удивиться не тому, как много делается «покушений» в России, но тому, как их
еще мало делается или, точнее, как мало и редко они удаются.
«Речь» именно по поводу киевского злодеяния начала сейчас же разво-
дить свои гнилые туманы. Вспомним ближайшие дни. Еще личность пре-
ступника не была окончательно установлена, пришли только первые извес-
тия, что он еврей, как «Речь» сейчас же бросила полуживого главу прави-
тельства и кинулась предупреждать всякую неприятность евреям. «Еще нет
вполне точных данных о личности преступника; не известно, еврей ли он,
крещеный ли или происходящий в отдаленном поколении от еврея, а уже в
печати есть слова об «еврейских выстрелах», способные только обострить и
без того тяжелую смуту. Если даже покушение сделано было и евреем, даже
некрещеным, разве можно, не отказываясь заведомо от элементарной добро-
совестности, перекладывать вину одного человека на пятимиллионный на-
род? Разве подливание масла в огонь, разжигание и без того искусственно
обостряемой национальной вражды, не является вредным, противогосудар-
ственным делом? Разве интересы государственности не взывают в такую
минуту к спокойствию и справедливости?»
227
Об этом «взывании к спокойствию и справедливости» и «неразжига-
нии национальной ненависти» в «государственном интересе» газета лучше
вспомнила бы, когда целый месяц до этого, вплоть до самого киевского
злодеяния, она «разжигала» еврейскую и финляндскую «ненависть» про-
тив России и русских, «подливала масла в огонь» по поводу двух ничтож-
ных приходов Выборгской губернии и изо дня в день травила русских ми-
нистров только потому, что они просто «крещены», а не «давно уже креще-
ны», как ее некрещеные или недавно крещенные редакторы.
К КОНЧИНЕ П. А. СТОЛЫПИНА
Киев. Переждав полчаса, пока семья П. А. Столыпина уединенно молилась
около гроба в передней части лаврского собора, задернутой во всю ширину
стеклом, я вошел почти вслед за митрополитом Флавианом и в 8 час. 5 мин.
вечера возложил венок на гроб убиенного. Надпись на венке: «Петру Аркадь-
евичу Столыпину от «Нового Времени». Помолясь за усопшего, поцеловал у
него руку, простреленную пулею. Рука страшно распухла, сине-багровая. Лицо
прекрасно и вполне спокойно, без всякого следа страдания. Бровь—полная
мысли. Сложение рта — полное власти. Впервые видя П. А., удивился кра-
соте. Многочисленная семья тут же молилась. Лица грустные, без слез, —
нельзя 24 часа плакать. Все впечатление благородное и грустное. Чудно не-
слось в прекрасном соборе пение митрополичьего хора полных смысла древ-
них славянских молитв. При слушании чувствовалось ярко, на что поднял
руку нигилизм, коего террор—естественное отродье.
* * *
Киев. Встреченный случайно А. И. Гучков в мелькающем и вне преднаме-
рения разговоре высказался о ближайшем будущем как о болоте и ряде
болот, в которых можно только вязнуть и, может быть, совсем увязнет Ко-
ковцов, ближайший очередной премьер. Я заметил, что капитал и финан-
сы вне нации и истории и человек финансов наверху положения обещает
не политику направления, а политику без направления по линии наимень-
шего трения и ближайших удобств. Он согласился. Еще он заметил, что
горе в отсутствии вообще ярких людей на горизонте, что и угрожает нуме-
рацией заурад-министров. На мои слова, что следовало бы ускорить созыв
Думы, образованной именно для помощи государству в таких экстраорди-
нарных случаях и для воодушевления власти на энергичную борьбу, А. И.
ответил, что это было бы необыкновенно, а мы можем ждать только обык-
новенного. О Столыпине Гучков сказал, что в нем русское было центром
всего. Его последняя забота в уединенном разговоре с Гучковым, накануне
отъезда в Киев, была о законопроекте на счет пенсии увечным нижним
чинам армии. П. А. усердно просил Гучкова как можно способствовать
ускорению в Думе движения этого проекта.
228
* * *
Киев. У Адриана Викторовича Прахова передали поразительный факт со
слов хирурга Дитрихса, русского и православного, который почему-то по-
любился Столыпину и был при нем непрерывно в больнице. П. А. говорил
ему о стрелявшем: «Какой он бедный, он думал дать счастье России, — я
видел по его бледному лицу и горящим глазам». И П. А. хотел непременно
просить Курлова за него. Это такое откровение психики человеческой, что
растериваешься. По словам А. И. Гучкова, постоянная поговорка П. А. была:
«На легком тормозе непрерывно вперед». По словам служебно-близкого ему
лица, он любил народное представительство, потому что в его инстинкте
была потребность общаться с массою, говорить с массой, убеждать ее, вы-
слушивать отпор от нее. И чем масса бывала больше, тем сильнее он разго-
рался и точно становился счастливее.
КИЕВ И КИЕВЛЯНЕ
Город тополей и старых святынь, напоенный океаном степного воздуха поч-
ти на тысячу верст кругом, — в углу, где сходятся племена великороссов,
малороссов и поляков, с их особою психикой и своей у каждого физиономи-
ей, — не столица и вместе несколько столица. Киев есть самый прелестный
город России. В нем нет той тяжеловесности и угрюмости, как в Москве, до
излишества трудившейся в делах «собирания Руси»; нет легкомыслия и по-
верхностности Петербурга, его скуки, серости, тоскливости, бессолнечнос-
ти; Варшавы он несравненно чище, изящнее, занимательнее; о прочих горо-
дах наших что же и говорить? Киев весь гармоничен, светел какою-то пре-
красною душевною светлостью, умен без тяжеловесности, весел без скан-
дала, шумен без оглушения. Он всегда будет надеяться, никогда не придет в
отчаяние; в Киеве, я думаю, менее всего совершается самоубийств, и они
как-то «на ум не идут»... Он весь почему-то и как-то не грязен-, а это так
присуще вообще городам, и особенно большим... И когда дышишь этим
воздухом, глядишь на эти виды, бродишь по захолустным улицам, то поды-
мающимся круто вверх, тб падающим вниз, с ларями каких-то игрушек, с
фруктами почти «даром», с веселой болтовней торговцев и торговок, с ли-
цами открытыми, доверчивыми, без привычной ужасной «ругани», как вез-
де на улицах в России,—то невольно мерцает мысль о какой-то «киевской
(местной) культуре», которая на фоне «общерусской культуры» так же вы-
деляется, как какая-нибудь «культура Микен» на фоне культуры «всей Элла-
ды». А так как «культура Киева» длится тысячелетие, то это и не случайно,
не момент и не впечатление. Нет: святые издревле в самом деле благослови-
ли Киев. И это благословение хранило его от больших грехов... А «большие
грехи» надолго кладут печать на город, на самый воздух его... Москва ни-
как и никогда не получит «невинного вида»; Петербург никогда не сумеет
стать грациозно веселым городом. Есть что-то родное и взаимно связываю-
229
щее между почвою и человеком, между самыми камнями мостовой и исто-
рией города.
Планета Земля крепко держит человека в своих объятиях; в этой плане-
те есть золотые кусочки. Такой «золотой кусочек»—и Киев. Я думаю, если
через две-три тысячи лет Россия будет умирать, то тоскливо подумает: «Пой-
ду-ко в Киев; если и не отживу там, то в Киеве легче умереть, чем где-
нибудь». Киев всегда надо беречь «на остаточек», «на кончик». Долго-дол-
го спустя после «теперь», в эпоху совсем иную, несбыточную и невероят-
ную для «теперь», Киев станет необыкновенно дорог.
Теперь это что же? Провинциальный город, с губернатором и полицей-
мейстером. И без единого министра.
Забавно было видеть, как торговцы, торговки, швейцары гостиниц, из-
возчики, «так прохожие», — в самом деле чувствовали себя виновными в
смерти Столыпина: «Опростоволосились мы», «не усмотрели», «не сбе-
регли». ..
—Да как же бы ты, брат Иван, дежурящий в коридоре гостиницы «На-
циональ», стал «уберегать Столыпина» в театре?! Ты что-то городишь не-
вместное...
— Ну, как!.. Он гость был наш... Такая честь, приехали все... А мы и
несберегли... Проворонили!
Нельзя переубедить. Стоят на своем. Из Петербурга, когда приходили
вести о тоске киевлян, мне это казалось выдумкой корреспондентов или
неприятным притворством на месте. Но нет: в самом деле тоскуют; и чув-
ствуют «срамом своей земли», «преступлением города».
— Ну, как! У нас случилось! Грех города?
—Дав чем «грех»? Летела ворона над городом и уронила свою нечис-
тоту на город: какая же его вина в том?! Чудаки!..
— Ну, как!..
Я уж не разубеждал... Но не понимал, как они «местным умом» не ви-
дят, что преступление притащилось к ним откуда-то, из России ли или, все-
го вернее, из Петербурга, и обмарало их город... И жаловаться собствен-
но они могли, что на них положено такое незаслуженное и беспричинное
пятно. Что Богров — местный житель, то ведь это ничего не значит: не
убил же он потому, что «в Киеве родился», а убил потому, где учился, «раз-
вивался», начинялся «идейностью»; все же «идеи» русские—из Петербур-
га; и он есть ученик Петербургского университета. Петербург и нанес эту
гадость на Киев, как он вообще разносит гадость по всей России; и разно-
сит потому, что он—бессолнечный, что в нем—болота; вечно дождь идет,
и всем сыро и холодно.
—Так промозгли все, что хоть около бомбы погреться.
Петербург не мог завести никаких благородных утешений, никакого
изящного веселья, не мог выдумать никакой яркой краски на жизнь, коло-
кола у него маленькие, звон пустой, души человеческие без звона, глаза у
жителей, как у рыбы, вместо литературы—сатира, дедовское он все проиг-
230
рал в карты и пропил, грудишки у всех впалые, плечонки узенькие. Да это
уже само по себе есть «нигилизм», физиологический нигилизм, из которо-
го родился естественно и духовный нигилизм, как ненависть вообще «ко
всему порядку вещей» и, в сущности, оттого, что у самого-то у него «по-
рядка нет в душе», т. е. нет в ней красоты, гармонии и звука. Нигилизм —
последнее историческое отчаяние души безнадежной...
И оно ударило комком грязи и в Киев.
Но мне нравилась эта скорбь киевлян «о своем преступлении».
* * *
— Вот тут бились печенеги! На этом самом месте!—сказал, топнув о глину
ногою, А. В. Прахов. Мы улыбнулись: он совсем был молод, 65-летний бе-
лый старец. Одному политическому деятелю с супругою и мне он показы-
вал древности «своего Киева».
Мы стояли у левой стены Св. Софии Киевской, — в отличие от Св.
Софии Новгородской, позднейшей. Впрочем, я могу путать, «левая» или
«правая» это была стена: и да не обрушатся за мои ошибки на меня ревни-
вые перуны Прахова. Он «ревнив» к своим святыням, к знанию их, к мель-
чайшей в них детали.
Мы входили в ограду Св. Софии с скептическим недоверием: «Ну, все,
конечно, заделано и переделано, ничего древнего решительно нет! самое
позднее—Алексея Михайловича». Но еще в воротах он закричал:
—Остановитесь и глядите. Вот эти части собора, окна, над ними фри-
зы, эти низенькие башенки — все Ярослава Великого... Я называю так
Ярослава Мудрого потому, что он был не просто «великий князь киевский»,
а был великий государь великого государства: и Киев при нем был третьим
городом в образованном мире, после Константинополя и Рима. Киев—не
город Владимира Святого; «Владимирова» тут ничего нет; да и было-то,
при самом Владимире, только урочище, маленький городок величиной в
теперешний наш «квартал». Потом я вам покажу (и он, действительно, по-
казал) черту, где оканчивался Владимиров город, этот Палатинский холм
Руси. Основателем и строителем Киева был на самом деле Ярослав, пере-
бросившийся мыслью далеко за рубеж родной земли, живший воображени-
ем и представлением в Европе, с великими династиями которой он пере-
роднился через браки дочерей и сыновей...
И к нашему ужасу, он начал исчислять и, главное, объяснять эти «бра-
ки» с такою подробностью и любовью, как бы дело шло об его тетках и
племянниках...
— Скажите, что это за проклятые «печенеги», которые столько нас му-
чили тогда?—перебил его кто-то из нас.
— Печенеги, несомненно, предки теперешних румын, — ваши пред-
ки, — обратился он к даме, которая сказала, что мать (или отец?) ее носила
румынскую фамилию.—Летописи указывают исход их всегда один—ни-
зовья Дуная, нынешнюю Бессарабию и Румынию. Но это — не славяне:
231
«печенеги» значит «печеные», и киевляне их назвали так за «печеный»,
смуглый, с бронзовым отливом, цвет кожи, который сохранился и до сих
пор в этих местах только у румын, потомков римлян...
В самом деле, «румынские» лица не похожи ни на какие: действитель-
но они все точно «печеные»... Приставить к лицу румына печеное яблоко—
и не отличишь, где яблоко, где живая кожа. Сливаются. Но почему это знает
один Прахов?
— Этих-то «печенегов», на этом самом месте, после упорной битвы,
и разбил Ярослав, и в благодарность за победу на месте крови воздвиг
Св. Софию в 1036 году.
В 1036 году! Неужели это сохранилось? И камни, и формы? Неужели в
самом деле мы входим в постройку Ярослава Мудрого?.. Мне даже каза-
лось, из Петербурга и Москвы, что это Иловайский наврал, будто были ка-
кие-то «Ярославы», а на самом деле ничего такого не было, были все булоч-
ники и все табачные лавочки, да университет, да гимназия, да квартальные
и пристава... Что Алексей Михайлович был — этому можно поверить, ибо
есть и я видел его терема в Москве... Но «Ярослав» — невообразимо, не-
вероятно. ..
— Войдем!
Мы вошли.
* * *
Возня реставраторов «с фресками и мозаиками» всегда представлялась мне,
издали и не видя, делом, может быть, и очень ученым, но антихудожествен-
ным. Ну, чтб можно «реставрировать» от 1036 года? Если и восстановишь,
то это будут какие-нибудь жалкие «пятна», тусклые, грязные, прости Госпо-
ди — «скверные», которые ни образа человеческого не дают, ни — сцены,
ни вида. Утешение—«реставраторам», а молящимся — ничего. Конечно,
нельзя не «реставрировать», раз уже заведены археологические институты
и есть такие ученые, как проф. Покровский, Успенский, вот Прахов... Что
же они будут делать, если им не дать «реставрировать»... Но это — новая
фабрика новых усилий, без действительного отношения собственно к Ярос-
лаву, которого, по всему вероятию, Иловайский ради патриотизма выдумал...
Что-то поговорив, куда-то ткнув пальцем, Прахов быстро подвел нас
под главный купол собора. И вот, закинув голову...
Я увидел Ярослава живого или как бы вчера умершего, в делах его,
вкусе его, в воображении тогдашнем... воображении 1036 года!!
Купол был весь цел, весь живой! И — живой алтарь!
Конечно, это — не мы, не наш век, не наш вкус\ Все было совершенно
иначе и несравненно лучше, изящнее, одухотвореннее и... к удивлению,
осмысленнее!!
Основное впечатление—бархатистость и нежность. Я говорю о всем,
о целом. Ни одна краска не кричала. Ни одна линия не проведена резко. В
самом деле это — молитва, с переливом тонов ее, с шепотом. Краски шеп-
232
тали, а не говорили. Это удивительно соответствует делу, цели. Конечно,
храм не должен иметь ничего «режущего», — глаз, ухо, все равно, что. Он
весь—в смягчениях, в успокоении. И «Ярославовы краски» были именно
таковы.
Кстати, в них ничего не потускнело: это — камень и его натуральный
цвет, который у «яхонта» такой же, конечно, в 1911 г., каким был в 1036 году.
Но почему «камешки не выпали», как я ожидал о всякой мелкой мозаике,
через 600—900 лет?!
Прахов даже удивился, что по моему представлению «некоторые камеш-
ки должны бы выпасть», а «остальные раздробиться»,—и сохраниться мог-
ло бы «лишь кое-что». Сейчас же он объяснил что-то об извести, масле и еще
о чем-то, что составляет минеральную массу, куда вставляются цветные ка-
мешки картины; и, наконец, что он нашел под всяким камешком, который
для исследования вынимал из гнездышка, раздавленное хлебное зерно. «Не
размолотое,—добавил он строго,—а раздавленное». Г реки были хитры, и
русские—за ними: строя свои «мозаики», они нашли какой-то вечный, не-
разрушимый состав той массы, в которую «элемент мозаики», цветной каме-
шек, вдавливался—и выходила вечная картина!! каменное впечатление!!!
Удивительно. Я стал всматриваться. Прахов объяснял.
В куполе, в его глубине—Иисус Христос, основатель нашей веры.
Ниже — четыре ангела, символизирующие четыре страны света: вос-
ток, запад, север и юг. Вера распространяется по всем странам горизонта.
Еще ниже — четыре евангелиста: те, через слово коих — узнано все в
вере, сохранено все в ней.
Еще ниже, на четырех столбах, сорок мучеников; «в знак того, в уразу-
мение того, — сказал Прахов, — что церковь вся зиждется на крови заму-
ченных за правду».
Как это хорошо... Храм научал! «Да, храм научал!—подтвердил и Пра-
хов, — научал видом своим», в котором нельзя было ничего перепутывать,
ибо тогда храм был бы книгою с перемешанными листами, которую невоз-
можно прочитать. Как все правильно, основательно и рационально... Бро-
сим, впрочем, это тощее слово «рационально», — и употребим древнее
полновесное выражение: как все было .мудро!!
— Ну, вот и Нерушимая Стена, — подвел он нас к Царским вратам,
указывая на «запрестольный образ». —Это была Богоматерь во всю вели-
чину стены, с согнутыми в локте руками и поднятыми ладонями, — тип,
хорошо известный и теперь. Так как, однако, я все рассматривал «в толикой
древности», то не мог не припомнить точь-в-точь таких же изображений,
именно в отношении полуприподнятыхрук, расставленных в сторону (впра-
во и влево), на бесчисленных античных монетах, где изображена Диана
Эфесская: и там, в локтях, эти руки (очевидно, тяжелые в статуе) подпира-
лись каждая жердочкою. Зрительное впечатление абсолютно—одно!
Тут я, к сожалению, не припомню в точности объяснений Прахова. Хо-
рошо помню, что он объяснял о «Св. Софии», — как об имени, о понятии,
233
принесенном к нам из Византии, — что она «обозначает просто Иисуса
Христа как Второе Лицо Пресвятой Троицы, и именно ее—Премудрость».
Это совершенно понятно и очевидно правильно, ибо так толкуется в бого-
словии, что «Христос» есть воплощение «Логоса», «Разума», или, иначе,
той же «Софии», «Мудрости». — «Только впоследствии, в более грубые
времена, — продолжал Прахов, — забыли это естественное понимание и
под «Софиею» или «Божественною Премудростью» начали рисовать в уме
своем какое-то четвертое божественное существо женственной природы.
Но это — невежество, искажение и вранье». Все эти слова — точны. Но я
не помню отчетливо, приурочил ли Прахов это объяснение к имени церкви,
«Святой Софии», — или не сказал ли он этого в отношении к «Нерушимой
Стене», что в ней представлена эта «София» в ее искаженном толковании, в
ее позднем толковании, позднем для Византии, но которое совпало с юнос-
тью Руси, только недавно крещенной. Здесь я оставляю дело в той неопре-
деленности, как это существует в моей памяти.
«Нерушимая Стена» была великолепна, впечатлительна. И эти же мяг-
кие, тусклые, осенние цвета.
Прахов так и бросился изъяснять подробности одежды. Его больше всего
занимало, что по этой одежде мы можем судить о женской одежде XI века
в Сирии, откуда заимствованы ее подробности; особенно он указывал на
покрывало на голове, чуть ли не в сочетании с диадемою. Это «головное
покрывало» действительно встречается уже на античных монетах Сирии,
Финикии, Египта, — но перенесено было и в другие страны. К XI веку, как
«живой теперешний костюм», это, очень может быть, удержалось только в
Сирии и Палестине. Прахов, конечно, тут везде знаток. Толковал он много
и о фиолетовой мантии, и о красных (тускло-краста) туфлях. На распро-
стертых руках она держала омофор.
Я припомнил из всенощного пения:
— «Покрый нас, Святая, — покрый твоим святым омофором...» Не
знаю, почему-то эти слова мне особенно помнятся; всегда я чувствовал в
них что-то глубоко воспитательное. Как-то «защищая человека», они «вос-
питывали его душу». Может быть, иллюзия.
Обращая наше внимание на молитвенное сложение образа,—с подня-
тыми руками, — Прахов заметил, что несомненно он выражал и олицетво-
рял собою «Церковь молящуюся». «Нерушимая Стена» — это «Церковь»,
это «молящийся народ». Как бы то, что Нестеров представил в своей «Мо-
лящейся Руси».
И опять я подумал: как все осмысленно! Это в самом деле академия в
картинах; академия до Гутенберга, до книги, до школ грамоты и гимназий.
Ниже, под «Нерушимою Стеною», изображение главного таинства хри-
стианства —евхаристии.
— Глядите: два Христа!—сказал Прахов.
Мы с изумлением смотрели: точно—два Христа, в обычном виде, ко-
торого нельзя смешать с другим.
234
— Причащение—под двумя видами: и в левой половине изображения
И. Христос причащает шестерых апостолов «хлебом» из своих рук; а в пра-
вой половине Христос же подает шестерым остальным апостолам чашу с
вином-кровью Своею.
Таким образом, «два Христа» разъяснились просто и понятно, как то
же вразумительное, понятное и для простецов изображение двух видов ев-
харистии. Все было применено к целям популярности и вместе догмати-
ческой точности и полноты.
За изображением евхаристии следует, ниже, изображение литургистов:
св. Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова и других, —
как строителей и творителей главной и основной церковной службы—ли-
тургии. Тут мне неясно одно: все «литургисты» лишь видоизменяли основ-
ной текст литургии, уже содержащийся в апокрифических «Апостольских
постановлениях», происхождение каковых гораздо древнее времени жизни
всех перечисленных «литургистов». Я об этом спрашивал священников, даже
очень образованных (авторов книг), но они, может быть как неспециалис-
ты по литургике (особая наука в семинариях и академиях), ничего мне не
могли разъяснить. В «Апостольских постановлениях»—памятник, проис-
шедший раньше возникновения монашества, ибо слово «монах» нигде не
упоминается в них—я читал почти все привычные и знакомые нам возгла-
сы диакона и священника на литургии, как и почти все пения клироса.
— Теперь обратите внимание, — говорил Прахов, — на эти кресты, в
длинной цветной ленте...
Это было просто живописное «украшение», — усеянное равноконеч-
ными крестами, как орарь диакона, как священнические одежды; как мы
ставим на вышивках «крестики».
Мы смотрели.
— Это—и кресты, и не кресты. Видите: вертикальная палочка имеет в
верхнем конце загиб вправо, а в нижнем конце загиб влево; поперечная же
палочка загибается вниз левым концом и вверх правым концом. На самом
деле это не крест, а изображение двух палок, через быстрое трение кото-
рых, в точке «перекрещивания», добывался в древности огонь. Этот инст-
румент для добывания огня назывался «свастикою»: и изображение ее в
храме, перенесенное из античных времен, показывает наглядно всю необы-
чайную древность храма и его живописи, всего!
Боже—«свастика»; да это нередкое изображение на монетах дохрис-
тианского мира. На монеты древние переносили все, что они любили, чем
любовались, чему удивлялись. И перенесли «свастику», — из волшебного
трения которой получалась стихия огня! Как не удивляться: дойти до этого
изобретения было трудней и волшебней, а уж нужнее-то несравненно, чем
нам дойти до электрического фонаря.
—Теперь я вам покажу гробницу Ярослава Великого...
— Неужели сохранилась? Отчего же русские не совершают паломни-
честв сюда? Паломничеств студентов, гимназистов, — к этим осязатель-
235
ным начаткам нашей истории, которые для русских то же, что «троянский
конь» для греков. Греки уж наверное побежали бы все смотреть «троянско-
го коня», если б он сохранился. У нас — сохранилось, но мы никуда не
бежим.
Он провел нас в боковой придел. Он узок, мал, безвиден, не великоле-
пен: а между тем, каким великолепием следовало бы окружить гробницу
Ярослава Мудрого!..
— Но почему вы знаете, что это гробница Ярослава Мудрого? Ведь
надписи нет или стерлась?
Он указал на стене прибитую дощечку с славянским текстом, это было
извлечение из Несторовой летописи: «1054 г. Преставися в. князь Ярослав
и положиша его в раце мраморяне, в церкви св. Софии».
— Но гробница гораздо древнее самого Ярослава. Гордый князь выпи-
сал ее из Цареграда, и ему был прислан великолепно украшенный сарко-
фаг, притом не новейшей работы, а старого мастерства, как показывают
украшения. Видите, по углам ее как бы головки, или шишки. В языческую
пору тут изображались страшные маски: они имели заклинательную силу
и оберегали тело усопшего от причинения ему вреда злыми духами. Так
это было в древности, в язычестве. Когда же победил христианский мир, то
вместо страшных масок начали помещать на этих возвышениях изображе-
ние креста, к которому перешла сила прогонять злых духов. Однако эти
характерные возвышения и сохраняются только на гробницах раннего хри-
стианства, когда еще была свежа его победа. Позднее они исчезают: и Ярос-
лаву была привезена из Цареграда гробница, на несколько веков сделанная
ранее, чем в нее лег наш великий князь.
Он задумался; и, очнувшись, продолжал:
—Я убежден, что сохранилась здесь и гробница Владимира Мономаха,
но только не опознана... Она пустая и громадного размера. Я покажу вам ее.
В летописи под 1126 годом записано, что Владимир Мономах погребен в
этой же церкви Св. Софии. Где же его гробница? Гробницы нет: но в церкви
найден громадный каменный саркофаг, и это совершенно отвечает летопис-
ному изображению Владимира Мономаха. Он был колоссального роста, по-
беждая вручную не только волков и медведей, но и туров, т. е. зубров. Поче-
му этот громадный каменный гроб не есть именно его, Мономахов гроб?
Мне казалось все так ясно и убедительно, что я удивлялся, почему ко-
леблются ученые. Раз в летописи не записано ни о ком еще другом, чтобы
он также был погребен в самом храме (что, как известно, запрещено миря-
нам), и раз в самом храме найден каменный гроб, притом исключительны-
ми размерами отвечающий исключительному росту именно этого князя, —
то совпадение кажется несомненным.
Он провел нас к этому исполинскому гробу. Он стоит совершенно ми-
зерно, в темноте, без страха и всякого уважения к нему. Размеры действи-
тельно циклопические: в этом гробу лежал исполин едва ли не более чем
саженного роста.
236
И около гробницы Ярослава, уже бесспорной и с его прахом, костями, —
ни лампад, ни зажженных свечей. Ни кануна, ни помина. Просто «археологи-
ческая, музейная вещь». Как это печально, как недостойно—и дела, и нас...
* * *
Мы выходили. А разговорчивый профессор продолжал:
— Некоторые фрески были покрыты новою живописью уже в XVIII веке:
между тем через 80 лет масляная краска превращается в камень, и ее не
берет даже отточенное долото. Что было делать? Как высвободить старую
живопись из-под позднейшего мазанья грубых ремесленников? Но я вспом-
нил, что мы живем в веке химии. Масло и известь в соединении с кали дает
мыло: я облил твердую как камень краску раствором кали, получилась гряз-
ная и обильная пена, которую я смыл водой, как мы смываем с рук мыло.
Старые фрески вышли из-под них в той самой сохранности, в какой их ви-
дел 80 лет назад художник, думавший, что навсегда погребает их под своею
кистью.
Мы стали всходить на «палата» (верх, хоры). В поворотах очень широ-
кой лестницы стены расписаны сценами княжеской жизни: большею час-
тью — охоты, на кабана, на медведя, на белку,—но также—суда и вверже-
ния в темницу; есть сцены конного нападения на врага. Живопись, к удив-
лению, нисколько не тускла, не «пятнами» или «отрывками», а полная; меж-
ду тем по костюмам и позам видишь, что это краски, положенные... еще до
покорения Руси монголами!
Наверху, — между двумя близко стоящими столбами,—прибита тол-
стая грубая темная доска: каково же было изумление, когда Прахов объяс-
нил, что это—великокняжеская еще доска! Тогда прибили, гвоздями в ка-
мень, — и до сих пор цела.
— Да почему вы знаете, что это того времени! — не удержался я вос-
кликнуть.
— По точным словам летописца: он говорит, что однажды «на палата»
набралось очень много народа, и так как сделалось очень жарко, то люди
«снята свои порты», — т. е. одежду вообще, — «повесили их на доску»,
что прибита между двумя столбами,—и точно указал место. Это—первая
вешалка или первый гардероб в цивилизации.
* * *
За нами украдкой и робко следовали какая-то чиновница и студент, стараясь
что-нибудь уловить в объяснениях. Я шепнул студенту, что объяснения де-
лает «такой-то»,—раскопавший всю эту древность и реставрировавший ее.
Он еще более стал ловить полуслова. Любознательность есть: но ничего не
сделано для ее удовлетворения. Нет ни гида, ни описания, ничего!
— Вы бы, Адриан Викторович, производя свои работы, взяли в при-
вычку водить с собою и вообще иметь у себя под рукою 3—4 студентов
университета: и они составили бы просто компиляцию всего того, что вот
237
вы сейчас говорите. И была бы польза городу, обывателям; и для них самих
это было бы отличною школою. Ведь не все же учиться из книг: очень скуч-
но. Нужно учиться уже работая, в процессе работы...
Он ответил что-то неясное и сбивчивое. Но, в самом деле: какая может
быть лучшая школа, чем эта помощь опытному ученому, сотрудничество
ему... Сколько узнаешь в одних беседах! Как отточится ум, когда сдела-
ешься зрителем его колебаний, недоумений, сомнений, самых ошибок, по-
том исправленных! «Учеными» делаются не иначе, чем ремесленниками:
нужно побывать «в мальчиках» около ученого, «на посылках» у него; быть
исполнителем около его мелочей, вспомогательных работ, предваритель-
ных работ. Это—лучший «семинарий», какой можно представить себе. И
Аристотель сказал: «Все незрелое становится зрелым через зрелого», т. е.,
в применении к данной теме, из «юноши вообще» можно стать ученым и
образованным человеком, лишь «побывав в руках» настоящего ученого,
послужив ему и созрев около него.
—Позвольте, не из простого любопытства, а в некоторых государствен-
ных целях, спросить вас: чем же вы были награждены за все эти работы по
реставрации, которые, очевидно, потребовали годов работы? Это так важ-
но и ценно, такой труд, полный осмысленной любви к родине?..
Мы уже выходили «на воздух», и чувствовался естественный отдых.
Лицо Прахова вдруг оживилось и повеселело. Заботы (объяснений) не бьию:
и он рассмеялся самым веселым смехом.
— А об этом есть классическое изречение Ивана Давыдовича Деляно-
ва, который был умнейшим человеком своего времени и лукавым циником
в размерах, каких я никогда не встречал. Так вот он, бывало, всем нам гова-
ривал: «Работать и служить—это одно: а получать награды — это зависит
от таланта, который дается Богом».
Он смеялся. И так как я восхитился этой почти римской поговорке, то
он прибавил и другую из своей памяти:
— Иван Давыдович тоже говаривал о студентах и гимназистах: «Их
надо просвещать, но только так, чтобы это на них не подействовало'».
Тут «наш былой Делянов» просто представился мне Сократом: нет, муж
Ксантиппы, конечно, никогда не был так остроумен. В этих двух изречени-
ях —целая эпоха. Это как-то полновеснее, многозначительнее, государствен-
нее, чем шутки Грибоедова, рассыпавшиеся легкими и безвредными брызгами.
Это уж не «брызги», а море, туча... скептицизма, гнева, слез и почти революции.
Во Владимирском соборе
Обращали ли вы внимание на установленный и принятый теперь везде, —
принятый и народом любовно,—образ св. Серафима Саровского. Конечно,
перед тем, как установить «тип», бьию много подумано, — притом подума-
но людьми долгой и твердой исторической традиции. Лично творцы образа,
238
может быть, и не были гениальны, даже не были талантливы: но они и не
заявляли об этом, не имели претензии на это, даже, может быть, были рады
этому. «Нужно писать не так, как мы хотим, а как понимает народ и он хо-
чет; по молитве — образ, по молящемуся — икона. Образа — не художе-
ство; образа—часть религии».
И вышло «хорошо». По крайней мере, так почувствовал народ. Зажига-
ют свечи. Теплят лампады. Икона Серафима Саровского становится люби-
мою. Ее вносят в домы; в церквах, на видном месте, в значительном разме-
ре, она уже везде есть, не только в России, но и за границею.
Что же выражает этот образ, д ля подробностей которого, о которых сей-
час скажем, вовсе не было подчеркнутых указаний в житии святого. Ибо
«бытовые» особенности его мы также знаем и видим на других его изобра-
жениях, не иконных.
Он выражает покорность, молитву и службу. Притом в таком их сочета-
нии, что ни одна не вырывается из состава трех, и две другие держат каж-
дую, —держат и ограничивают.
Лицо простое, ясное,—без всякого «умудрения». Хотя он был по жизни
«прозорливцем», но физического указания на это, во взоре, в сложении губ,
не перенесено на икону. «Не надо. Это—не главное, не всеобщее». Лицо в
высшей степени благостное, притом какою-то пантеистическою благостью,
обращенною на весь мир, ко всем существам. Нет ничего, чего бы он в душе
не благословил; нет ничего, с чем бы захотел бороться. Между тем уже Спа-
ситель удержал руку Петра, когда тот хотел мечом защитить Его; св. Николай
Чудотворец удержал руку с мечом, поднятую для казни. Наконец, Спаситель
изгнал торгующих из храма. Да, но русские, говорят, и ввели это в свою «рус-
скую веру». — «Знаем, читаем в евангелии, читаем в истории; но это все —
не главное. И не главного мы не хотим вводить в молитву».
Весь «лик» Серафима Саровского в высшей степени кроток, ясен и благ.
И вся фигура несколько склонена вперед. По житию мы знаем, что он, по-
лучив повреждения от разбойников, ходил совершенно согнутым, — как
бы переломившись в пояснице под прямым углом. Но это не взято в икону.
«Слишком... Зачем?» Лишнее, случайное в биографии — отметено. Изоб-
ражался идеал, прототип; что «должно» и «ожидается»; чему мы молимся.
И вот это «несколько склонился» — взято в схему, в обобщение, в
молитву.
«Русская святость» есть несколько склоненная; «не спорчивая» святость.
У греков Иоанн Златоуст боролся с византийским двором; обличал; был
послан в изгнание за это. Русские «и знают» это, и «не знают». Знают ка-
ким-то косым знанием, нетвердым, «не обращающим внимания». Как бы
говорят: «Знаем... Что делать, бывает необходимо и это, или, вернее, быва-
ет неизбежно. Но тут — горе, и все-таки лучше, если б этого не было. Вот
отчего хотя Златоуст и обличал, но его в момент обличения мы не возьмем
в икону. Как и Спасителя нашего мы никогда не изображаем с веревкою,
изгоняющим торговцев из храма. Ведь не этим Он спас мир? И Златоуст
239
просветился великим светом во вселенной не через борьбу с Феодорою, а
через то, что учил нас, устраивал нашу душу».
От этого, не возникни даже раскола, известный старообрядческий ве-
роучитель Аввакум все-таки не взят был бы никогда русским народом во
всеобщее поклонение; перед ним не зажгли бы лампады; ему не сотворили
бы иконы. «Не наш», «не наша вера». Между тем он был правдив, терпе-
лив, страдалец; и измученный и ревнивый его образ, биографически, так
трогателен и привлекателен. «Да, биография большая, но жития нет».
Митрополит Филипп, изобличавший Грозного, правдиво изобличавший, —
не взят в икону, как изобличающий. «Знаем, правду говорил... Но—не надо».
Изобличение, борьба, гнев признаются русским народом,—основным
его материком, этою «неизмеримою Русью», — как бывающее и неволь-
ное, но как всегда горькое, дымное, «пожарное». Пожар — не норма. На
пожаре ничего нельзя выстроить. Этого исторического «пожара» решитель-
но не переносит Русь, заливается при виде его слезами и отворачивается от
него, хотя бы в нем и была правда или необходимость. «Не надо! Все равно
не надо!» Единственное «пекло», какое представляет себе народ, есть пек-
ло против «грешников», т. е., в своем роде, против моральных «поджигате-
лей» и «зажигателей». Русский «ад» есть собственно вода на огонь. «В огне
горят», — это значит горят «в огне собственного греха и окаянства». Пламя
тут из них исходит, «из грешников», а не то, чтобы они, мокрые и холод-
ные, были «ввергнуты в пламя». Ведь все они — служители различных
«страстей», «окаянных страстей», т. е. служители разных «огоньков», си-
неньких, красненьких, желтеньких...
Вот этих «огоньков», ни в какой крупице их, ни в малейшем зародыше, —
народ не допускает в свой «иконостас»... Когда входишь в церковь и огля-
дываешь все лики ее, — оглядываешь взглядом обобщенным, без «придир-
чивости», без «мелочей», и спрашиваешь: чтб это и почему? — то отвеча-
ешь себе, чувствуешь и убеждаешься, что вошел в царство победы. Храм, в
собирательном и историческом виде своем, — есть «сборище» или «со-
бор» победителей; есть победное место Руси; религиозно-победное. Отто-
го он так любим. Входя в него, — священник, мужик, солдат, рабочий —
видят все то, для чего они живут, работают, трудятся, страдают, терпят, не-
доумевают, тоскуют, спрашивают и остаются без ответа, — видят в момен-
те завершения, конца и победы. В моменте покоя и удовлетворения. Смута
уже прошла. Смута была на земле, — при жизни, где спорили, обличали,
дрались, боролись. Это все — «не надо». И тогда, при жизни, «в пути»,
было «не надо»: но не удержались, отдали долг необходимости, подняли пыль
и оказали побои. От этого ничто так не «грязнит» церковь, как шум, беспоря-
док; возможная ссора, возможная брань. «Тише!»—душа и суть церкви. Это
«тише» слышится в напевах, в наклоне их; особенно—в живописи, в иконах
вот; во всем ходе службы. «Тише» — есть в просфоре, «тише» — есть в ок-
роплении водой. Когда безмолвно, именно бесшумно за всенощной подхо-
дят сотни людей к образу и целуют его, а стоящий тут же священник пома-
240
зует маслом «крест» на лбу каждого приложившегося, — и это длится дол-
го-долго, и все молящиеся как-то счастливы в то время,—то тут это «тише»,
как суть всего православия, выражено громовым образом. «Победа! Побе-
дили! Победная минута! Победное место!»
Вот в лике св. Серафима Саровского все это выражено и соединено уди-
вительным образом. Случайно так вышло, — но вышло. Но, затем, — он в
епитрахили. Это—служба.
Св. Серафим Саровский есть великое «служилое лицо» русской исто-
рии. На особом месте, в особом устроении, в совершенно особом виде, —
но он несет ту «службу», какую в другом виде и в другом месте несут сол-
дат, мужик, всякого звания человек, от низин до последней высоты. Рус-
ский человек не понимает «жизни как не «службы»: и будь ты без мундира,
без ранга, без положения — все равно «служи» и «служи». Это — не цве-
точное представление жизни. Какие на севере особенные «цветы»? Угрю-
мый север, угрюмый холод, огромный труд в стране неизмеримой, дикой,
необработанной,—создал концепцию жизни как труда, работы, до самого
конца, до самой могилы работы: и чем ее больше было, тем человек и «оп-
равдается» в смертный час. Это—ив подробностях, иногда скучных. «По-
повские проповеди» — это не выкрик души, с зигзагом «в небо»; «куда
такие зигзаги, и непонятно, и не нужно». Пусть «поп» скажет слово поучи-
тельное, длинное, вразумительное: чтобы молящийся, выслушав, перекре-
стился и пошел домой. «Пошел домой» — и больше ничего. Отнюдь не в
пустыню, не для экстазов и видений; а — «домой», для труда, для работы,
около семьи, дома, села, города. Проповедь — помогает работе, и больше
ничего не нужно. А «святой» Руси помогает работе всего царства, всей зем-
ли; отдаленно и обобщенно—всей истории.
«Святые» Руси—великие «трудовики» русской истории: и так это при-
нял народ, понял, утвердил. «Не иначе», — говорит вихрастый плотник,
кузнец, ямщик, пахарь. «Все пашем, работаем, молотим, куем железо, стро-
гаем дерево». От этого с правом и силою идут к нему сонмы народа, не
заботясь, что «обеспокоят», «помешают», что он «не захочет говорить». Он
правит свой «долг» около народа, и к нему идут с твердостью, как в казна-
чейство за рублем. «Нам этих акрид не надо»,—ни «бараньей шкуры, све-
шивающейся через плечо» (католическая живопись И. Крестителя; его же
фигура в «Явлении Христа народу» Иванова): а «ты дай совет в хозяйстве,
в семье, в запутанности житейской, в какой я сам не найдусь; помолись обо
мне в болезни', помолись о моем грехе; устрой мою душу».
Святой «строит душу человека», как мужик складывает избу. «Не ина-
че!» Экстазов не надо, выкриков не надо: а надобен совет от разума и по
молитве. «Тебя Бог устроил, а ты устрой меня»; или: «тебя Бог призвал,
вразумил, открылся тебе, в видениях и озарениях: а ты от всего этого богат-
ства и милости Божией удели и мне, ибо я грешен, слаб, весь в поту, в пыли,
в житейском, и мне Бог не открывается и открыться не может по черноте
моей. Однако же и я человек, перст, как и ты, и ты все это божественное
241
передай и мне: в боли — исцели, при смерти — помолись, в житейской
трудности—вызволи: советом, словом, молитвой, прозорливостью, чудом».
«Чуда» от своего «святого» народ требует, как от воина государство—под-
вига, победы или смерти на поле брани. «Коли не чудеса — какой же он
святой». «Чудеса» всегда в помощь человеку, главным образом чудеса ис-
целения, — в тягчайшем положении человека, в боли, болезни. И все это
есть необходимая доля, невольная подробность в представлении трудового
человека, и именно на холодном, трудном севере. «Чтб учение, подвиги,
житие в подробностях: есть чудеса, и спор кончен, вопрос исчерпан»: он —
«святой». Так ведь было и бывает дело в процессе всякого «объявления»
святого на Руси: все «объявления» суть не догматические, а как бы трудо-
вые. «Помог мне», «даровал чудо!» «Видено! Засвидетельствовано!» —
«Святой!»
Это—север; и пашня, пашня необозримая, трудная.
Сейчас мы и догадаемся, почему в жизни и на земле «споров не надо».
«Мешает в деле», «вносит смуту»... Пахарь никогда не спорщик, па-
харь не полемист. Пахарь ведет свою борозду с великою верою, что солн-
це согреет зерно в земле и к осени вырастет колос, почти «чудом» и во
всяком случае «не понятно». Вот этот основной —личный у каждого и
общий у всех в течение тысячи лет, — факт и основал великую народ-
ную «веру», которую никакой полемикой и никаким инквизиторством
не разрушишь. Во-первых: «все непонятно» — это первый догмат; и во-
вторых, «все благо» — это второй догмат. Не мы своими руками или
своим дыханием согреваем зерно, а Бог; но Бог именно дает мужичку к
осени урожай. «Все хорошо кончается, и правда всегда победит»: вот от
этого-то, единственно от этого, «смуты» не надо, «споров» не надо,
«гнев» совершенно неуместен и ничему не поможет. А помешать, —
потому что отвлечь — он может. Мужик, пошедший в город «за су-
дом», не вспахал поле: и если выиграл «процесс» на десять рублей, то
потерял сто рублей, потому что в августе остался без урожая. Потому
«гневаться не надо», «судиться грех», «обличать неистово другого» —
просто скверно, даже хуже греха, хуже воровства «по бедности». «Все
это смутьяны — в пекло их» — так говорит народ о человеке нервов,
говорит станом своим, говорит громадою своею; говорит такою окта-
вой, какую не заглушат «образованные» дисканта. Собственно, эти нервные
дискантишки только не умеют связать концы с концами в своих же вык-
риках. Известен лозунг: «растворить бы темницы», «судить не надо»,
«казнить — это ужас». Но договаривайте же, господа, договаривайте:
гнева — не нужно, сердиться — грех, Щедрин писал пошлости, Герцен
кипятился по-пустому. Ибо где «гнев» — там уже и одна «стенка» тюрь-
мы. Не вся тюрьма, но стенка — есть; не целый замок, а ключик к нему
— готов; не вся цепь, а звено ее, одно колечко — сковано. Народ берет
целостно: «не надо судить», и «я ни с кем не сужусь», «не подаю жало-
бы», а просто «терплю»; с надеждой, что «Бог меня не оставит и к осени
242
я буду иметь урожай». Добрая концепция. Но когда словесники журналь-
ного и всяческого слова подняли бурю полемики, распалили гневом всю
страну, ожесточили страсти, и, словом, зажгли по всем странам гори-
зонта зелененькие, красные, синенькие огоньки, да все чтобы «поядови-
тее», чтобы «подпекало больше», — и в то же время они же заявляют,
что «не надо бы тюрем и казни», то этому несведению концов с концами
можно только посмеяться.
Не надо казни: тогда откажитесь от Герцена.
Не надо тюрьмы: тогда в аутодафе Щедрина и Чернышевского.
«Ну их всех»... Все не «святые»... которые бы терпели, молились, со-
ветовали и не полемизировали.
Из сопоставления этого видно, до чего ни одна «йоточка», ни одно
зернышко из «богатств и милости» нашего образования, нашей культуры
или якобы культуры, народ никогда не возьмет в «иконостас» себе; и, с
другой стороны, — если взять из народных лампад горячего маслица и
помазать им «дела» наши, — дела и мысли и головы, — то это все «под
маслицем» вдруг начнет таять, слабеть, испаряться и обратится быстро в
ничто, «в воздух».
«Я есмь» образованных классов в переводе значит: «Не надо народа!
Смерть ему. Смерд он».
И обратно: «Я есмь народное» звучит для образованных как черное,
как похоронное: «В пёкло их». — «Пусть жарятся, окаянные».
И ничего третьего. Никакого облегчения. Если все брать в суровой прав-
де и неприкрашенной натуральности. Тут споры могут быть около подроб-
ностей; могут быть оговорочки, «увиливанья в сторону»; «отступления с
подходцем». Но черная правда такова.
«Не надо полемики»: отсюда покорность, работа с надеждою, отсюда
вера в будущее. Вера «в победу» в истории и в то, что вот во «всенощной»
исторического труда все потянемся к образу, и поцелуем его, и «Сам Хрис-
тос нам всем положит крест на лоб»... И уйдем. И уснем.
Народ в храме молится именно «концу» истории. Если бы не этот «ко-
нец», не октавная, громадная, могущественная вера в него: сегодня же на-
род поломал бы свои бороны, сохи, сжег бы собственные избы, выгнал в
поле жен, детей и устроил бы такой «пожар» и «кутеж» на весь мир, что
вселенная бы содрогнулась. И умер, — или уснул бы пьяным, непробуд-
ным, последним сном. А на слова: «Ты будешь сыт», «ты будешь счаст-
лив», «ты будешь Щедрина читать и яблоки есть», — махнул бы рукой,
сплюнул и не обернулся.
Так что продолжать нашу «интеллигентную работу» нужно очень и
очень «почесав затылок». Добросовестные, вдумчивые—«почешутся»...
А с недобросовестными тем, однако, народ справится, что не обратит на
них внимания. «Ну вас к лешему, с вашим всеобщим обязательным обуче-
нием: это чтобы Вербицкую-то вашу читать? Так у нас у самих скоромной
пакости в сказках не переслушаешь».
243
* * *
С этими мыслями я вошел во Владимирский собор: точнее, они все ярче
вспыхнули, эти старые мысли, столкнувшись в «бурном перекрещивании» с
зрелищем того, что я в нем увидел...
Чтб это: точно все краски замешены не на благочестивом деревянном
масле, а на уксусе и горчице. И огоньки, огоньки, зелененькие, желтенькие,
всякие...
Я говорю о живописи, которою восхитилась вся Россия; и художествен-
но, конечно, и я восхищался.
Ах, это личное вдохновение! Этот особенный талант'. В нем все и дело.
Писали бы «по-казенному» (говорю без порицания) эти Васнецов и Несте-
ров, Сведомский и Катарбинский... Но они бурные, страстные люди. Не-
стеров, которого всегда с таким интересом слушаешь, видишь, уже полон
«бури и натиска» (черносотенного — без порицания); но говорит: «Я —
что, вода: вот Васнецов—с ним разговаривать нельзя. Он может кричать
только и драться». Говорю обобщенно, но мысль эта: Васнецов весь горяч,
страстен, полон внутреннего спора, гнева... против «новшеств» (полити-
ческих, культурных).
Но это все равно: спор уже влез в его душу. Спор, гнев, полемика, —
пусть мысленная. Но это уже «душевный огонь», душевное «адское пла-
мя». Русский тезис: «Не спорь даже за правду; все равно к осени рожь вы-
растет». Это—основная вера, что «все победит правда». О ней народ гово-
рит: «Правда светлее солнца», и затмения ее, гибели ее, народ и в уме не
допускает, в сказках не предполагает. Как же это «сомнение» о победе, и
спокойной победе правды,—допустить в молитву, в храм?
Солнце поколебалось; или, как сказано в Евангелии о конце мира: что
перед ним «поколеблются основания вселенной». Допущение полемики в
душу есть именно такое колебание самых «оснований вселенной», ибо суть
ее есть личное сомнение о конечном торжестве правды, т. е. допущение в
душу подлой мысли: «А Бог, может быть, и не спасет»... Ужасно. Где же
«концы вселенной»? Тогда человек, вместо надежды на солнышко, сам ля-
жет брюхом на землю и начнет согревать посеянные зерна. Конечно, ника-
кого урожая не получится. Получится чепуха. Получится гибель к осени.
Разорение, голод. Может, к зиме—смерть... Это «конец мира»... И просто
оттого, что нет веры в солнце; в правду, в вечность; в тихую всенощную, с
помазанием глав елеем.
В нем-то вот и усомнились благородные живописцы, расписавшие Вла-
димирский собор, главным образом пламенный Васнецов, которому и по
объему, и по значительности принадлежит ’/«собора. Он, как и Нестеров,
выросли в нигилистическую пору русской истории: и перед их глазами про-
шла вся вакханалия поругания старых святынь, прежних святых, древнего
почерневшего в позолотах иконостаса. Они были (я представляю их дет-
ство) прежде всего благородные мальчики, с задумчивостью, с идеалом.
Видя, как «Герцены и Чернышевские» расправляются с Русью, а потом еще
244
пришел этот Щедрин, они заплакали оскорбленными и мстительными сле-
зами; мстительными как бы за «пощечину матери». Ведь весь наш ниги-
лизм есть «гнусное предложение на улице» нашей уже старушке-матери,
заплутавшейся в несчастные сумерки в городе.
Представим же себе мальчика-юношу Васнецова, приехавшего в Пе-
тербург, страшно бедного (рассказы о его юности), с его талантом, и вместе
с полным бессилием выразить мысль, сказать, защитить, заспорить, перед
этой грудой катящихся на него, катящихся кругом его журналов, газет, книг,
с «Ренаном, Боклем и Спенсером», которые все так образованны, когда он,
Васнецов, из глуши России, так необразован. Никакой гнев так не пылает,
как немой; никто так не мстителен, как бессильный. «Как одолеть Бокля?»
Мальчик затрепетал. В «категории слов» он не мог одолеть не только Бок-
ля, но и последнего журналиста в предпоследнем журнале: а душа, такая
талантливая, без слов, немая, — рвется...
Вдруг это предложение—«расписать Владимирский собор», казенная
задача в казенной истории. Прахов передал, все рассказывая и показывая,
маленькую подробность: собор стоил невероятно дешево, что-то 800 000,
что мне кажется даже неестественным. Боюсь ошибиться: не стоимость ли
это только одних работ внутри, внутренней отделки. По всему вероятию,
— последнее. Но следующее вполне точно: за все свои работы, т. е. глав-
ный труд всей жизни, за живопись, составившую эпоху в истории русского
искусства, Васнецов получил 50 000 руб., тогда как Репин за одну картину
«Государственного Совета» получил 100 000 руб. (слова мне гр. Ив. Ив.
Толстого). Прахов, ввиду малого ассигнования (он заведывал и руководил
расписанием собора), приглашая художников, говорил им: «Господа, если
кто-нибудь из вас хочет разбогатеть, надеется разбогатеть на этих работах
— не идите сюда; этого вы не найдете здесь, средств нет. Но для народа
храм есть училище; он не имеет наших наук, нашего просвещения, книг; он
не видит театра, наша музыка ему недоступна. Храм есть все для него: тут
он находит музыку, тут он видит зрелище, для него здесь живет единствен-
но понятная ему и нужная ему история. И вот если вы посмотрите с этой
стороны надело и захотите послужить народу, который всего был лишен,
то, может быть, вы найдете здесь величайшее удовлетворение вашему при-
званию». На призыв, так благородно выраженный,—не все художники, но
вот эти отозвались с величайшим энтузиазмом. «Вся история... все идеа-
лы... вся святая Русь...» Развернулось именно поле, на котором не словес-
но, но образно, художественно можно было победить всю эту катившуюся
волну отрицания, грубого, самоуверенного, как бы «до скончания века»...
(60-е и 70-е года нашей истории).
Победить и даже отомстить...
Зажглись огоньки... Позы встали, выпрямились. Ни одного «согбен-
ного», как Серафим Саровский; ни — с этой благостью «на все стороны»
и «до скончания века». Суд и борьба пронизывают весь храм; суд, рассуж-
дение, спор, желание «показать свое», в смысле доказать и утвердить. Все
245
это пламенно, лично; нигде—схемы, обобщения, нигде бесстрастия и...
покоя.
В котором и заключается все дело. Если «урожай сам вырастет к осе-
ни», то среди какого бы то ни было нигилизма, отрицания, даже среди глум-
ления, не было причин для беспокойства, ибо все это должно было пройти,
как мутные воды весны, кончающие зиму и предсказывающие лето и кото-
рые в себе самих не несут ничего сердцевинного и вечного. Момент, а не
век. Церковь наша и духовенство наше так и отнеслись к нигилизму; писа-
лись «протяженные полемики с г. Дарвином», но, в сущности, никакой тре-
воги о Дарвине не было. Во Владимирском соборе есть тревога. «Урожай
по осени может весь погибнуть»-, вот это отсутствие надежды на Бога уже
водило и водит кистью и Васнецова и Нестерова.
Это не Серафим Саровский, с приложенной к епитрахили рукою, —
который «вообще ни о чем не спорит» и потому всепобеден: но в благород-
ных формах и отдаленно—это уже Илиодор, возможность Илиодора, тень
его... Илиодор: но только не в торжестве, а в унижении, замученный или
как вот он будет перед кончиною, как его можно представить себе перед
кончиною. Тела нет, а дух горит; тело повержено — но дух встал, зовет,
заклинает. Таков весь Владимирский собор, с «опавшею плотью» и пылаю-
щим в груди огнем.
Тенденции или склон—католический, насколько он определился борь-
бою с гнилым (тогда) язычеством; или — реформационный, насколько он
определился борьбою с загнившим к тому времени католичеством. Сход-
ство положения создало общность и духа. В этом склонении духа есть ли
что-нибудь провиденциальное и «чему расти», или оно—случай и минует
«само собой», об этом трудно судить. Весь вообще XIX век Руси уже про-
низан «огоньками» — ив этом отношении Владимирский собор нов, ха-
рактерен и «историчен», ибо в нем «тревога XIX века» впервые перелилась
и в храм, проникла в религию. Как будто «протяженные проповеди» стали
более недостаточны, и понеслись «выкрики к небу». «Иеремия на развали-
нах Иерусалима» — непредставимый и недопустимый образ, недопусти-
мая концепция в старом православии. Но он, однако, всемирно-то и исто-
рически был: и это — часть тоже религиозной концепции, но только не на-
шей, не русской. Великое в старой вере Руси—это ее основной идеализм и
оптимизм. «В основе мира лежит и лишь до времени скрыто благо; благо
как чудо, святость и победа, которая непременно придет. Поэтому всякий
человек непременно должен трудиться, и из труда его вырастет непремен-
но доброе, как бы труд ни был мал и незаметен. Бог все устрояет, Бог под-
держивает и организует все человеческие труды, к благу конечному и за-
вершающему. Его мы должны ожидать терпеливо, не торопясь ни к чему,
не торопя других, зная, что времена и концы всех вещей у Бога. И не долж-
ны судить никого, веря, что все дурное—пройдет, что дурное ео ipso — не
вечно, а подано нам как испытание и урок». Нельзя не сказать, что эта кон-
цепция, с религиозным чувством к ней, с религиозным в ней одушевлени-
246
ем,—содержит удивительно благоприятное условие для труда, —для куль-
туры замешенной «на елее», а не замешенной на уксусе и горчице. Есть
одна, есть и другая. Одна пылает, жжет, разрывает, мучит. Она быстра и
ломка. «Продукты культуры» в ней все «скороспелки», вроде «всеобщего
обучения грамоте» как «всеобщего чтения Вербицкой». Ну, есть и лучше
Вербицкой, есть серьезнее. Скажем так: смесь одного Пастёра с сотнею
Вербицких. Но непременно — «с Вербицкой» и, может быть, без Пастё-
ра: основное горе и основное возражение. Вторая культура просто растет,
страшно медленно, «Пастёра» долго не дождаться, зато и Вербицких вовсе
нет. Может быть, Пастёра не появится, но «Вербицких»—во всяком случае
не появится. Культура эта—просто природа, с ее медленностью и вечнос-
тью. Первая культура—постройка, поделка. И она может бьггь изумитель-
но художественна; но только она неизбежно не вечна.
Л. Н. ТОЛСТОЙ И РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ
Настоящая статья была написана по просьбе г. редактора журнала «Revue
contemporaine»,—для ознакомления с вопросом о Толстом и Русской Церкви
западноевропейских читателей. К такому уху и уму она и приноровлена, —
подробностями своими, тоном своим, мелочами. Но тезисы, в ней высказан-
ные, суть в точности мои тезисы. Русская Церковь в 900-летнем стоянии
своем (как, впрочем, и все почти историческое) поистине приводит в смяте-
ние дух: около древнего здания ходишь и проклинаешь, ходишь и смеешься,
ходишь и восхищаешься, ходишь и восторгаешься. И недаром, — о, неда-
ром, — Бог послал Риму Каталину и Катона, Гракхов и Кесаря... Всякая
история непостижима: причина бесконечной свободы в ней, — и плакать и
смеяться. И как основательно одно, основательно и другое... Но все с осто-
рожностью. ..
Или, может быть, даже без осторожности?
И это—может быть. История не только бесконечна, но и неуловима.
Статья была переведена на французский язык редакциею журнала; рус-
ский ее оригинал печатается теперь впервые.
В.Р.
С.-Петербург.
25 сентября 1911 г.
Они не понимали друг друга; даже не знали. И—разошлись. До про-
клятия с одной стороны (отлучение Толстого от Церкви, с его впечатлением
в обществе), до полного пренебрежения—с другой (отношение Толстого к
Церкви). Софья Андреевна передала мне на вопрос, «как отнесся Толстой к
отлучению его», что он «выходил на свою обыкновенную прогулку, когда
принесли с почты письма и газеты. Их клали на столик в прихожей. Тол-
стой, разорвав бандероль, в первой же газете прочел о постановлении Си-
247
нода, отлучавшем его от Церкви. Надел, прочитав, шапку — и пошел на
прогулку. Впечатления никакого не было».
Потом, может быть, — было впечатление, но как последующая волна
от его собственных об этом предмете размышлений. Но никакой «волны»
не поднялось в момент удара и от самого удара.
* * *
Духовенство наше страшно невоспитанно художественно, поэтически, ли-
тературно. И это не только справедливо относительно простых священни-
ков, но и относительно епископов и даже митрополитов. Митрополит Фила-
рет Московский был последним всесторонне просвещенным и художественно
развитым лицом в составе русской иерархии. Его стихотворный ответ на
одно стихотворенье Пушкина, где говорилось о бесцельности жизни, ука-
зывает, что он был впечатлителен, и глубоко впечатлителен, к поэтическому
слову. Но Филарет был вообще человек исключительных способностей.
Чрезвычайно ученый архиепископ Херсонский и Одесский Никанор уже
писал профессору Н. Я. Г роту, что он «имел терпение прочитать всего не-
сколько глав Лины Карениной»', но роман ему «показался так неинтересен,
скучен и бессодержателен, что он его бросил, не дочитав». Между тем этот
архиеп. Никанор известен в нашей русской литературе как первый знаток
позитивной философии Огюста Конта и английских его последователей,
написавший самый серьезный разбор ее. Большинство же духовенства, и
высшего и низшего, не читало — иначе как случайно и в отрывках—даже
«Войну и мир» и совершенно не имеет понятия о других превосходных и
небольших произведениях Толстого. Оно так занято предметами своей цер-
ковной службы, вообще своею собственною «церковною историей», истек-
шею и текущею, неудовольствиями и затруднениями в своих отношениях к
светской власти, от которой зависима, наконец, экономическим своим обес-
печением или, вернее, полною необеспеченностью (русские священники не
получают жалованья), что ему «не до стихов и прозы». Если оно чтб и чита-
ет, то сочинения друг друга о разных духовных предметах; это — серьез-
ные; менее серьезные читают газеты и низменную беллетристику. Вообще
они придают значение жизни своей сословной и—жизни государственной;
но жизни литературной они не придают никакого значения, «не ставят ее ни
в какое число», говоря языком пифагорейцев. Поэтому когда вопрос зашел
об отлучении Толстого от Церкви, то духовенству субъективно он предста-
вился совершенно иначе, чем всему русскому обществу, наконец, — чем
России. Для Церкви и духовенства «отлучить Толстого»—значило выра-
зить, что начал еретичесгвовать и оскорблять Церковь «один из литерато-
ров, незаслуженно превознесенный, который писал романы из пустой жиз-
ни светского общества, совершенно уже не христианской по нравственнос-
ти и быту». О Толстом знали только, т. е. знало духовенство, что он изобра-
жал балы, скачки, увеселения, охоту, сражения, — все «до духовных
предметов не относящееся». И духовенство совершенно не знало, а в случа-
248
ях знания—совершенно не понимало, тот огромный, волнующийся и тон-
кий духовный мир, в который Толстой проник с небывалою проницательно-
стью. Духовенство наше не только литературно необразованно, но оно и
психологически неразвито: и сомнения, тревоги, колебания, мучения совес-
ти и ума Левина («Анна Каренина»), князя Андрея Болконского и Пьера
Безухого («Война и мир»), Оленина («Казаки»), Нехлюдова («Воскресенье»
и «Утро помещика»)—для него просто не существовали. Все это казалось
«вздором и баловством барской души», праздной, без работы и серьезного
служебного долга.
Это—понимание одной стороны. Мы видим, что оно граничит с пол-
ным непониманием.
Но и Толстой, со своей стороны, совершенно не понимал Церкви.
Он знал Евангелие—да.
Он видел темноту и корыстолюбие духовенства. Видел его мелкую быто-
вую неряшливость, сказывающуюся в мелкой боязни перед большою властью,
непрямоту в отношениях к богатым людям, от которых оно экономически за-
висимо; и равнодушие к нравственному состоянию народа. Действительно, ду-
ховенство сумело приучить весь русский народ, до одного человека, к стро-
жайшему соблюдению постов; но оно ни малейшее не приучило, а следова-
тельно и не старалось приучить, русских темных людей к исполнительности
и аккуратности в работе, к исполнению семейных и общественных обязаннос-
тей, к добросовестности в денежных расчетах, к правдивости со старшими и
сильными, к трезвости. Вообще не научило народ, деревни и селз.,упорядочен-
ной и трудолюбивой, трезвой жизни. Эго имело страшно тяжелые последствия.
Бывали случаи в России, что темный человек зарежет на дороге путника; об-
шаривая его карманы, найдет в них колбасу; тогда он ни за что не откусит от
нее куска, если даже очень голоден, если убийство случилось в постный день,
когда церковью запрещено употребление мяса. Это—ужасный случай, но он
действителен. Толстой вывел это во «Власти тьмы», где даже убивают ново-
рожденного ребенка, — но предварительно надев на него крест, т. е. приоб-
щив его к составу верующих, введя в Церковь. В России есть много святых
людей: и гораздо реже попадается просто честный, трудолюбивый человек,
сознательный в своем долге и совестливый в обязанностях.
Это — общее несчастие России. Сколько в обществе и печати ни гово-
рили об этом духовенству, оно было исторически глухо к этим словам. Оно
не замечало, не чувствовало укоров. Таков дух и история Русской Церкви и
русского духовенства, а известно каждому из личной жизни, как трудно
сознать, почувствовать и исправить специфические личные недостатки и
пороки. Таким образом, этот страшный проступок духовенства есть, одна-
ко же, проявление только общечеловеческой, мировой слабости, безволия,
бессознательности. Все — таковы: только мы и лично «таковы» в отноше-
нии других слабостей и пороков.
249
Толстой гневался и волновался около этих недостатков духовенства.
Около его бесчувственности к слову, к укору. И волнение, развиваясь даль-
ше, — выразилось в резком осуждении русских пышных церковных служб,
пышных облачений и присущего духовенству значительного властолюбия
и честолюбия. «К чему все это, когда вы не выучили народ даже воздержи-
ваться от водки».
* * *
Конечно, Толстой был прав здесь. Но мелкою правдою. Есть в мировых и ис-
торических вещах крупная правда и мелкая правда. Перикл украсил Афины
великими созданиями архитектуры и скульптуры: и истощил государствен-
ную казну на это. Афиняне бросились на него с жестокими упреками, и едва
он сам не принужден был пойти в изгнание. Он спасся только, сказав: «Хоро-
шо, граждане,—расходы на статуи и храмы я приму на свой личный счет; но
зато на них сотру надпись: воздвиг афинский демос, и выставлю подпись: это
сделал для города Афин Перикл». Афиняне взволновались и оставили преж-
ние надписи, но приняли на себя и расходы, т. е. увеличение налогов. Другой
пример: Сципион Африканский спас Рим, победив Аннибала; но на поход в
Африку истратил очень много денег, и, главное, не записал всех расходов и не
мог дать отчета. Народ, подговоренный агитаторами, в шумном собрании по-
требовал у него отчета. Молча он взглянул на неблагодарных граждан и ска-
зал: «Сегодня годовщина битвы при Заме (где он разбил Аннибала): я иду в
Капитолий принести благодарность богам. Кто хочет — пусть следует за
мною». Впечатлительный народ под обаянием благородного слова кинулся за
ним в Kai1ИТОЛИЙ, покинув клеветников. В обоих случаях народ, требуя отче-
та в деньгах, — был, разумеется, прав. Но он был мелочно прав: и оттого
вообще не прав. В такую неправоту впал и Толстой.
Он не понял или, лучше сказать, просмотрел великую задачу, над кото-
рою трудились духовенство и Церковь девятьсот лет, — усиливалось и бьию
чутко и умело здесь, и этой задачи действительно чудесно достигло. Это—
выработка святого человека, выработка самого типа святости, стиля свя-
тости', и — благочестивой жизни.
Конечно, если бы русский народ ограничивался представлением, что
убить не так грешно, как съесть мяса в постный день,—то в России не было
бы возможно вообще никакому человеку жить, сам народ давно погиб бы в
пороках, и Россия как государство и нация развалилась бы. Но чем-то она
держится. Чем? Тем, что от старика до ребенка 10 лет известно всем, чтб
такое «святой православный человек»; тем, что каждый русский знает, что
«такие святые — есть, не переведутся и не переводились»; и что в совести
своей, которая есть непременно у каждого человека, все русские вообще и
каждый в отдельности тревожится этим образом «святого человека», страда-
ет о своем отступлении от этого идеала и всегда усиливается вернуться к
нему, достигнуть его; достигнуть хотя бы частично и ненадолго.
250
«Святой человек» или «Божий человек» есть образ, именно художе-
ственный образ (а не понятие), совершенно неизвестный Западной Евро-
пе и не выработанный ни одною Церковью, — ни католицизмом, ни про-
тестантизмом.
Он заключается в полном и совершенном отлучении себя от всякого
своекорыстия; не говоря о деньгах и имуществе, даже вообще о собствен-
ности, — это отречение простирается и на славу, на уважение другими, на
почет и известность. «Святой человек» погружается в совершенную тиши-
ну безмолвной, глубоко внутренней жизни: но не пассивной и бездеятель-
ной, а глубоко напряженной. Усилие направляется на искоренение в себе
всяких «нечистых помыслов», т. е. на искоренение самых мыслей и жела-
ний, связанных с богатством, знатностью, женщинами, шумом городов и
базаров. Но это—только отрицательная половина дела, которая была бы
неисполнима без положительной: что же наполнило бы душу, опустевшую
от «нечистых помыслов»? Свобода от «нечистых помыслов» есть только
выметенная горница для принятия какого-то гостя. Этот «гость», в нее вхо-
дящий, есть Бог. Но не «Бог» как понятие, не «Бог» как религиозная исти-
на: а Живое Лицо Его, Живое Его Существо, наполняющее душу такого
«русского праведника», «русского юродивого», «русского святого» неопи-
суемым восторгом и счастьем. Но — не это одно, хотя это — главное. Рус-
ский не остается с этим. Иногда он на десять лет уходит в лес, выкапывает
себе пещеру, строит себе шалаш и в нем живет, на голоде и холоде и в пол-
ном безмолвии, чтобы «сподобиться узреть Бога», «почувствовать Бога»...
Он непрерывно молится: и молитва русского человека есть опять душев-
ный феномен, мало известный или вовсе не известный у других народов.
Этого ни описать, ни выразить нельзя, это нужно тайно подсмотреть или
случайно услышать. Вся молитва сплетается из глубокого сознания своей
греховности, своего ничтожества, из совершенной примиренности души
со всеми людьми, виденными и которых не видел он, из жажды Божией
помощи, из надежды на Божию помощь, из веры в чудо и чудесную Божию
помощь. Душа такого человека, за 5— 10 лет, прошла страшные отречения
и полна страшной жажды. И «по вере» дается: он «чувствует Бога около
себя», в своей пещере, шалаше, в келье; больше же всего, конечно, в душе и
пылающем сердце. И вот он закален: закален от «искушений», соблазнов,
от влечения к пустоте и ничтожеству мира. Но «русский святой» не бывает
без великой любви ко всем людям. «Русский святой» есть глубоко народ-
ный святой. Тогда он выходит из своего уединения и безмолвия: и одни из
таких людей делаются «странниками», т. е. переходят из места в место,
странствуют по всей России, идут в знаменитые величием и древнею сла-
вой монастыри России, Греции, Палестины. Или, чаще, поселяются где-
нибудь поблизости к монастырю (но никогда почти в самом монастыре) и
беседуют с теми людьми, которые к ним приходят искать утешения и сове-
та в несчастии жизни, в потере ближних, смерти жены или мужа, смерти
детей, в брошенности мужем или возлюбленным, в разорении, притесне-
251
ниях от людей и власти. Наконец, приходят люди, запутавшиеся со своим умом
и совестью; приходит убийца, приходит богач, кающийся в дурных способах
приобретения богатства. Приходят все «труждающиеся и обремененные», о
которых учил Спаситель, что Он «пришел исцелить их». Приходят, наконец,
неисцелимо больные тегом, чтобы он о болезни их «попросил Бога». Шалаш
или келья такого «святого» бывают окружены массою народа: и, проходя среди
его, «святой», по взгляду на лицо уже узнав, чем (приблизительно) томится
пришедший, дотрагивается до него рукою, уводит его к себе в келью или как-
нибудь уединяется и беседует, расспрашивает, советует. Такому «святому», по
общему народному убеждению, нельзя солгать, как и нельзя, «грех», что-ни-
будь ему недосказать. Таким образом, перед ним раскрывается вся душа и вся
жизнь пришедшего за помощью человека. И как за год он переговорит таким
образом с несколькими тысячами людей, а за много лет со многими десятками
тысяч человек, то душа и духовный взор и духовный разум такого «святого» до
того изощряется и утончается в постижении природы человеческой и всех ко-
лебаний жизни человеческой, что он становится—как народ называет—«про-
зорливым», т. е. он прозирает до самого дна душу человеческую, видит эту
душу в самом трепете, в самых потаенных волнениях, в самых скрытых по-
ползновениях и слабостях; и в то же время он видит в этой душе лучшие воз-
можности, находит такие силы, которых сам пришедший в себе не сознавал;
наконец, одушевляет и укрепляет к лучшей новой жизни своим святым оду-
шевлением. Он не просто советует, а повелевает пришедшему человеку сде-
лать то-то и то-то, всегда в глубочайшем соответствии с силами и способнос-
тями человека, никогда ее резко не насилуя и не ломая. Очень нуждающимся,
сиротам, вдовам, он помогает деньгами,—из тех, которые приносят «в дар»
ему другие. Толстой любил посещать таких «святых», ибо зрелище на-
родное нигде так не открывается, как около жилищ таких «святых». Один
такой русский отшельник дал ему сюжет для рассказа «Три старца»: он в
нем только несколько переиначил случай, которого случайно был зрите-
лем. Именно, — Толстой раз видел, как такой «старец», уже окончив бе-
седу с народом, шел к келье, а люди все бежали около него, и он от этого
еще более изнемогал. Вот один из таких «бегущих» схватил его за край
одежды. Старец к нему обернулся. — «Чтб тебе?» — «Как спастись?» —
Старец, совсем изнеможенный, в силах был только проговорить: «Да,
сколько вас в дому?» —- «Трое», — ответил пристававший. Тогда, остано-
вясь и задыхаясь, старец сказал: «Ну, так и спасайтесь, молясь: три вас,
три нас — спаси нас». Так мне рассказывал сам Толстой. Достоевский в
романе «Братья Карамазовы» вывел в лице старца Зосимы иеросхимона-
ха Амвросия, из той Оптиной пустыни, куда перед смертью поехал из
Ясной Поляны гр. Толстой. Здесь же у отца Амвросия бывали лучшие
русские философы, Страхов и Соловьев; первый был не только философом, но
и превосходным ученым по физиологии и физике. К старцу Амвросию (он
умер лет 18 назад) приезжали и купцы-миллионеры, и придворные лица, дво-
ряне, военные и последние бедняки и убогие. И он совершенно одинаково го-
252
ворил со всеми. Таким образом, подобный «святой» есть собственно «исцели-
тель» болящей душою России и болящей в жизни России, — иногда на свою
небольшую местность, иногда на несколько губерний, иногда даже на всю нашу
землю. Последнее было со священником города Кронштадта, Иоанном.
Но это — завершенный образ «святого». Однако приближения к нему
крупицами рассеяны во всем народе; или — редкий русский человек не
переживает порывов к этой святости, хотя недолгих и обрывающихся. Вот
этою стороною своей нравственной или, вернее, своей духовной жизни и
живет русский народ, ею он крепок, через нее встает изо всяких бед. Рус-
ский народ никогда не отчаивается, всегда надеется. Параллельно с грубос-
тью, ленью, пьянством, пороками, но в другом направлении, идет другая
волна — подъема, раскаяния, порывов к идеалу. И это в простом народе
еще сильнее и распространеннее, чем в образованных классах.
Но этот «святой человек» дан Церковью, церковным духом, церковною
историею. Молитвы, присущие нашей Церкви, которые непрерывно народ слы-
шит в храмах, полны совер! i юн но особен ного духовного настроения и жизнен-
ного понимания. Эго духовное настроение полно нежности, деликатности, глу-
бокого участия к людям, глубокой всемирное™... В храме постоянно слышат-
ся молитвы «о всех людях» (не об одних православных, не только о своей Пра-
вославной Церкви), о «примирении всех людей» (между прочим, — о
примирении и «всех Церквей»); о том, чтобы Бог укрепил в людях кротость,
прощение обиды; вместе с тем в храме упоминаются с молитвою о помощи
«все теперь болящие», все «путешествующие»; священник вслух молится, что-
бы Бог помог присутствующим «подавить свой гнев», «не осуждать своего
ближнего», «видеть собственные недостатки»; чтобы Бог помог каждому «рас-
сеять свое печальное настроение». Есть ежедневная молитва о том, чтобы Бог
каждому присутствующему послал в свое время «безболезненную кончину» и
«образ христианской смерти». Вместе с тем Церковь молится о плодородии
земли, о «мире всего мира», о «благорастворении воздуха», т. е. о хорошей
погоде для урожая, овощей и плодов. Все это очень народно и очень жизненно:
храмовая служба наша обнимает мелкое и великое жизни человеческой во всех
ее подробностях, в высшей степени понятных и в высшей степени нужных
каждому. Отсюда проистекает народный и любимый характер церковной служ-
бы. Не зная церковной службы, совершенно нельзя понять, что такое русский
народ и как он произошел. Если бы уничтожить церковную службу и разру-
шить действие ее на душу народную и на быт народный,—Россия немед лен-
но дезорганизовалась бы, пришла в хаос и пала. Храм вполне заменяет для
нашего народа гимназию, школу, университет, книгу и науку. Этого нельзя по-
нять, не зная универсальности нашей храмовой службы и того, что она вся
выражена поэтично, вдохновенно. Ее музыкальная сторона, заключающаяся
в повышениях и понижениях голоса, произносящего молитвы, в напевах мо-
литв, — удивительна. Таким образом она не только просвещает народ извест-
ными истинами, но и постоянно зовет его к идеалу, иритом к идеалу' жизненно-
му, простому, достижимому, практическому, трезвому и благородному.
253
* * *
Вот великий «Акрополь» русского народа; его «победа над Аннибалом»...
Здесь таится так много сокровищ, что в виду их совершенно невозможно
было подымать тех споров с богословием Церкви, т. е. с книжными теория-
ми о Церкви, которые начал Толстой. Пусть был бы во всем прав Толстой, и
«русское богословие» под его критикою превратилось бы в развалины. Это
ничего решительно не затронуло бы. И «русский святой», с помощью всему
слабому и болящему в народе, остался бы по-прежнему все так же нужен и
полезен народу, так же свят и прекрасен в своем образе; и «даруй, Господи,
мир всему миру, соедини всех верующих вместе, уничтожь разлад их сер-
дец, дай нам всем кончину жизни светлую, совестливую и безболезненную»—
все это осталось бы истиною, все это останется прекрасным и глубоким.
Толстой был очень похож, в своих богословских трудах, на медведя, кото-
рый, — желая согнать муху с лица своего заснувшего друга-человека, —
поднял бы против этой мухи камень, который может убить самого человека.
В этом он был не прав и бессилен. В России, в образованных классах,
очень развит полный атеизм: атеисты шумно приветствовали его критику,
воображая, что она что-то разрушает. Наконец, ей очень обрадовались тес-
нимые правительством сектанты, так как эта критика удовлетворяла их чув-
ству вражды к Церкви. Но на нее совершенно не обратила никакого внима-
ния вся масса серьезно образованного русского общества, которая знает
существо своей Церкви и знает ее корни.
* * *
Еще о последних, об этих «корнях»... Толстой учился в университете на
физико-математическом факультете, притом, по собственному воспомина-
нию, — учился плохо и небрежно. Хотя он потом всю жизнь очень много
читал и изучал, но это не могло заменить университетских лекций по исто-
рии. Дело в том, что никакая книга не содержит в себе интонации живого
голоса живого человека и не содержит «отступлений в сторону», оговорок и
замечаний,—которыми профессор сопровождает чтение в аудитории. На-
конец, ни в какую книгу нельзя уложить и ни в какой ученой форме нельзя
выразить тех частных бесед, бесед мелькающих, обрывающихся, недокон-
ченных, которые студент, заинтересованный наукою, может иметь с профес-
сором у него на дому или идя по коридору из аудитории. Ведь часто афо-
ризм скажет больше, чем рассуждение; насмешка, сарказм живого человека
или его восхищение, выраженное в блеске глаз и вибрации голоса, — ска-
жут больше, чем печатные строки с печатным знаком восклицания. Словом,
книга всегда «без штрихов»; и в книге говорит ученый «без тона»; а «тон
делает музыку»: и Толстой знал историю вот именно «без музыки». Т. е. в
сущности он ее вовсе не знал, иначе как скелетно и в одних фактах. Духа ее
не знал, аромата ее не обонял. Только ученый, уже всю жизнь посвятивший
на изучение эпохи перехода античного мира в новый христианский, мог бы
в четыре года университетского курса дать почувствовать Толстому такие
254
тайны античных чувств, такие тайны противоположных христианских
чувств, мог бы передать такую непостижимость древней смерти и нового
воскресения, какие поистине уловимы для голоса и уха и неуловимы для
бумаги и чтения. Толстой был просто необразован в этой области. Как ни
велик его гений, как ни глубоко и всемирно его сердце, он понял бы, что все-
таки это есть личный гений, личное сердце, что через голову его проходят
личные мысли, сегодня одни и завтра — другие: и все это только омывает
подножие того гигантского горного хребта, какой являет собою история в
бесчисленных пластах ее, твердынях и неисповедимостях. Как мал Шекс-
пир перед английскою историею! Может быть, он гениальнее всякого англи-
чанина: но все-то англичане, весь английский народ, все поколения этого
народа так велики, мудры, поэтичны, что Шекспир все-таки является среди
его как Монблан среди Альп. Он выше всех: но Альпы неизмеримо больше
его... То же и Толстой в религиозной критике Православия: в одежде му-
жичка и странника, подражая русскому мужику и страннику,—он входил в
толпу народную, где-нибудь около монастыря. И он тонул в ней, исчезал,
становился невидим. Это—физически, но также и духовно. Он вдруг дей-
ствительно перестает быть «великим» среди этого народа, болящего всеми
язвами человеческими и мучающегося всеми человеческими сомнениями.
Народ, простая обыкновенная толпа в тысячу человек, но измученная и ре-
лигиозно взволнованная, поднятая религиозно молитвой, надеждой, стра-
хом, отчаянием, принесенным сюда из домов своих, — она религиозно
была... не выше, но массивнее, серьезнее, страшнее всех учений Толстого о
«непротивлении ли злу» или каких других, все равно. Народ—гигант, все-
гда гигант. История—еще бблыпий гигант, колосс. И нельзя человеку, ни-
когда нельзя подходить к этим величинам иначе, чем с желанием вникнуть
сюда, уважать это, любить это...
Море всегда больше пловца... Оно больше Колумба, мудрее и поэтич-
нее его. И хорошо, конечно, что оно «позволило» Колумбу переплыть себя;
но могло бы и «не дозволить». Природа всегда более неисповедимая тайна,
чем разум человеческий. Толстой—был разум. А история и Церковь—это
природа.
О РОДИТЕЛЬСКИХ КОМИТЕТАХ
Наша левая печать, за неимением реального дела под рукою и за отсутстви-
ем действительного соучастия какому-нибудь реальному делу в России, изо
дня в день занимается мелкою шумихою слов, способною поднять какое-
нибудь возбуждение, протест и всякий шум. Конечно, для критики и осуж-
дения есть много сторон в России: но не ими она занята, не больными сто-
ронами нашей государственности и общественности. До реальных болей
России ей нет дела; до опасностей для России — еще меньше дела этой
печати, большею частью находящейся в руках инородцев. Она пробавляется
255
предлогами, и она выражается в придирках. Поднять возбуждение против
какого бы то ни было шага власти, забросить подозрение о всяком намере-
нии правительства—такова мелкая и мутная водица, в которой плещется
эта повседневная печатная злоба. К ней вполне применимы слова поэта об
«опиуме чернил, разведенных слюною бешеной собаки». По существу и
содержанию на нее можно было бы никогда не отвечать. Но малая граждан-
ская воспитанность общества, способного верить всяким слухам, всякому
«чтению в чужих сердцах», всяким инсинуациям и клевете, принуждает вре-
мя от времени заниматься этой словесной мутью и обтирать с платья брызги
бешеной пены.
Целое лето и вот теперь осень эта печать шумит за обиженные роди-
тельские комитеты, хорошо сознавая, в какую густую людскую массу пада-
ют ее ядовитые и возбуждающие слова. У кого нет учащихся детей: и вот
все эти родители своих детей, чувствуя себя в обиженном положении, чи-
тают с восторгом заступнические статьи в каком-нибудь еврейском лейб-
органе. Они совершенно не догадываются, как дезорганизуют эти публи-
цистические упражнения на педагогические темы учебное дело в России и
отражаются уродующим образом на душе и поведении их детей. Печать
дурного тона давно ведет постыдную игру около гимназистов и студентов,
с верным расчетом: «на наш век хватит» — и не заботясь о будущности ни
этих подростков, ни России.
Родительский совет, слово, родительское указание на ту или иную пе-
чальную сторону преподавания, на недостаток учебников, на односторон-
ность самых даже программ преподавания — могли бы быть драгоценны
для отдельного учебного заведения, даже для всего учебного ведомства,
для министерства. Но совет которых родителей? Увы, — трудовых роди-
телей, которые до того поглощены работою и заботою дома и на службе,
что им совершенно нет времени «объединяться в родительские комитеты»
и даже некогда посещать заседания «родительских кружков», на что жа-
луются председатели петербургских родительских комитетов, «докладная
записка» которых г. министру просвещения была помещена у нас в нумере
от 19 сентября. Вот отсутствие-то их и не дает требуемого теперь мини-
стерством «кворума» комитетским заседаниям, которые бы хотели дикто-
вать свою волю учебным заведениям и давать указания самому министер-
ству. Министерство потребовало, чтобы лишь те родительские собрания
признавались действительными и постановления их входили в силу, на ко-
торых присутствует не менее 2/з всех родителей, т. е. большинство. Такое
требование министерства вышеназванная «докладная записка» приравни-
вает к упразднению самих комитетов и родительских кружков и ходатай-
ствует перед министром, чтобы заседания признавались действительными
и их решения имеющими силу, если число заседающих равняется Vs всех
родителей. Таково, вероятно, или приблизительно таково число являющих-
ся на «родительские собрания» лиц. '/s—присутствует, 4/s—отсутствует. 'Is
«являющихся родителей» просит и требует себе прав за всех остальных.
256
Но совпадает ли их воля и компетенция суждения? Что такое эта Vs? Это те
обеспеченные и свободные от службы родители, которых среди общей мас-
сы родителей и наберется приблизительно Vs, a 4/s — это люди государ-
ственных и частных служб, добывающих ежедневным тяжелым трудом сред-
ства существования для семьи и плату за обучение детей. Совершенно не
трудно догадаться, что их воля далеко не та, как незанятой делом ‘А родите-
лей, и совершенно иные она имеет воззрения на школу, на преподавание, на
программу и предметы.
Из требований и пожеланий «собирающихся родителей», — вот этой
‘А части их, претендующей на «права», кое-что проникло в печать и далеко
не обрадовало остальных родителей, «не собирающихся». Конечно, каж-
дый может смотреть в астрономическую трубу, но увидит в нее нужную
планету только астроном; конечно, и родителям не воспрещается иметь вся-
кие суждения о воспитании и обучении детей, но пригодны будут только
взгляды тех, кто этим воспитанием по-настоящему занят, по-настоящему
предан, по-настоящему страдает за своих детей и о своих детях. Уже из
одного того, что родительские комитеты поднимают и усиливаются под-
нять шум в печати, от которой как можно дальше должна стоять всякая
здоровая школа и все здоровые дети, уже из этого можно заключить, что в
данном случае смотрят в астрономическую трубу вовсе не астрономы. В
самом деле, родительские комитеты ничего общего с педагогикою не име-
ют. Все их разглагольствования, или по крайней мере те, о которых дошли
сведения в печать, суть почти без исключений неисчислимые перебирания
газетного и журнального вороха мыслей и пожеланий, без единого живого
наблюдения, приносимого из дома над своими детьми и которое было бы
для школы драгоценно, для учителей вразумительно, для самого министер-
ства полезно. На самом деле «заседания комитетов» являются очень мало
«собраниями родителей», а главным образом — собранием «обществен-
ных деятелей», которым в то же время случилось быть и родителями и ко-
торые из своего родительства сделали придирку вторгнуться в запретный
для «общественных деятелей» мир школы, урока и класса. Они входят в
этот детский и учительский мире шумом, грубостью и требованиями, ко-
торым подчиниться—значило бы превратить школу в улицу. Отдаленно и
бессознательно это и имеют в виду «родительские комитеты» и их непеда-
гогичные «председатели». Ничем не засвидетельствовав своих педагоги-
ческих способностей, никому не внушив уважения к своему воспитатель-
ному дару и даже к своему общественному такту, они оповещают всю пе-
чать о том, что сокращение их «комитетских прав» может отозваться не-
благоприятно на «взаимном понимании учеников и учителей», закрыть ту
«отдушину», через которую уходило всякое взаимное недовольство и раз-
дражение. Как родители, конечно, они говорят не о довольстве и раздраже-
нии учителя, а своих детей, т. е. учеников: и эти слова получают вид угрозы
учебным заведениям и министерству, и так прочтутся не только учителями
и министерством, но и самими детьми, гимназистами. Можно представить
257
действие такой угрозы, — действие на детей в направлении распущеннос-
ти и грубости с учителями; можно оценить педагогический такт председа-
телей родительских комитетов в Петербурге, которым в то же время несча-
стным образом пришлось быть и «родителями». Так как не нужно доказы-
вать и разъяснять, должны ли родители внушать детям доверчивое и любя-
щее отношение к наставникам и учителям, притом каковы бы они ни были.
При всяких дурных качествах учителей,—с этим учителем должны иметь
дело сами родители, но никогда не должны они перепоручать это дело уче-
никам и детям, ни—даже делать их свидетелями своих разговоров, споров
и неудовольствия.
Это именно клуб, а не школа; улица и ее приемы, а не учебное заведе-
ние и его приемы. Самым опубликованием в печати своей «докладной
записки» председатели родительских комитетов засвидетельствовали о своей
полной педагогической неподготовленности и неспособности; а пересыпав
эту «записку» терминами вроде «кворума из '/s голосов», «кворума из
голосов» и т. под. терминами Г. Думы, они выдали затаенное и забавное
желание сделать из своих «родительских комитетов» какой-то маленький
парламент около гимназий, где директор и учащий персонал играли бы роль
министров и бюрократии, а гимназисты, очевидно, роль «народа», грозяще-
го неприятностями и забастовками по указаниям и мановению парламента-
риев-родителей. Но, говоря словами г. Коковцова, у нас «слава Богу—пар-
ламента нет», и конечно трижды нет его для малышей и школы. Все это
неуместно и неумно. Г-н Кассо, по-видимому, провел «3 июня» для роди-
тельских комитетов: и маленькой «Родительской Думе» остается только
самораспуститься. Нечего плакать, нужно уходить домой и вот дома серь-
езно-серьезно заняться воспитанием детей.
ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ
С РОДИТЕЛЬСКИМИ КОМИТЕТАМИ?
Высказавшись против родительских комитетов, их тона, их шума в печати, —
высказавшись особенно против усилий некоторых органов печати посеять
злобу и недоверие между семьею и школою, — мы должны оговориться об
огромных нравственных правах, какие есть у серьезной семьи в отношении
школы и, наконец, в отношении даже министерства. Но это именно нрав-
ственные права уважения и морального авторитета. В конце концов, и ми-
нистерство и школа, трудясь в одной половине для государства, для исто-
рии, говоря сухо и формально,—для «правительства», в другой и никак не
меньшей половине трудятся для семейного благополучия и семейной бу-
дущности своих питомцев и их родителей. Совсем недалеко то время, когда
министерство величаво не обращало никакого внимания на физическое вос-
питание детей, даже просто на физическое состояние каждого единичного
контингента учеников в каждом единичном учебном заведении: неслись, и
258
многие годы неслись, крики, жалобы, наконец, формальный плач родите-
лей, медиков, всех посторонних и незаинтересованных свидетелей об ис-
кривленных позвоночниках, впалых грудях, малокровии и неврастении, пе-
реходящей в истерию, детей и юношей гимназий, исступленно пичкаемых
латынью и греками, и эти стоны и жалобы не находили никакого отзвука,
никакого резонанса у самодовольного молоха министерства. Время Толсто-
го памятно еще родителям нашего поколения, и это время остается и навсег-
да останется незабываемой страницею в истории русских учебных заведе-
ний. Не дай Бог вернуться к нему, и министерство всегда должно помнить
этот черный маяк, который ему нужно далеко обходить...
Суть, очевидно, заключается в том, что участие родителей в жизни
школы должно быть преобразовано, но не устранено, не уничтожено. Та-
ков принцип и дело; такова кардинальная линия, с которою следует мини-
стерству сообразовать свои направляющие шаги. Как это сделать, в каком
виде это оформить, разумеется, об этом нельзя судить сплеча. Это задача
обстоятельной кабинетной работы, всестороннего обсуждения. Останутся
ли именно родительские комитеты, или они будут чем-нибудь заменены, но
все-таки непременно заменены, это дело дальнейшей и притом спешной
работы, необходимой для самого министерства. Хочется пожелать одного:
чтобы министерство совершило эту работу, — приобщение семьи к сотруд-
ничеству с собою,— не отступая нехотя перед требовательностью семьи,
т. е. не насильно, а с горячим собственным пожеланием, активно. В полови-
не своей деятельности министерство работает для семьи: этого нельзя за-
бывать. Министр просвещения — не только член правительства, но и член
общества — по существу воспитательного дела: и в этом он может даже
находить точку опоры в самостоятельности своего голоса в Совете Мини-
стров и для значительной своей автономности в том же Совете. Задача мысли
министра и министерства устранить из «родительских комитетов» разгла-
гольствования и вообще «общественный элемент», в сущности элемент
клубный и адвокатский, или элемент мелко-литературный, и выдвинуть
вперед и к силе элемент бытовой, житейский, домашний и профессиональ-
ный. Пусть министерству говорит нужда и потребность родителей, пусть
говорит их здравый смысл, их домашний и семейный разум, опыт и наблю-
дение, а не говорят семьянины, как читатели газет на сюжеты, вероятно
хорошо известные и в министерстве. Комитеты и родители, посещающие
сейчас «родительские кружки», явно увлеклись в одну сторону, подогрева-
емые газетным жаром, и отклонились как от учебного долга, так и от роди-
тельского даже здравого смысла. Они вводят «общественный элемент» в
училища, где ему вовсе не место. Но если комитеты впали в односторон-
ность, то министерству не следует впадать в обратную односторонность:
являться учебною бюрократиею, застегнутою на все пуговицы, при орде-
нах и лентах. Это Россия все видела, видела при Толстом и Делянове; это
все решительно не удалось, и не удалось потому, что это глубоко антипеда-
гогично. Повторяем: министр одной ногой стоит в кабинете министров, а
259
другою ногой стоит в доме серьезного обывателя. Нет воспитания там, где
нет теплоты; не может его быть там, где нет доверия; разрушено оно в кор-
не везде, где есть недовольство и взаимное отчуждение. Ничего подобного
как метода министерство не должно пускать и на порог своего управле-
ния. Ясно и добро оно должно взглянуть на родную страну; оно должно
прислушаться ко всякой жалобе, ко всякой боли в семье своего ученика,
разобрать ее невнятные слова и часто вполне основательный говор. Оно
должно учить и воспитывать; но оно должно и само учиться и воспиты-
ваться. Тени Делянова и Толстого об этом напоминают...
СОЧИНЕНИЯ
ЮРИЯ ФЕОДОРОВИЧА САМАРИНА
Том четвертый. Москва, 1911. Стр. LVI + 558
Сочинения Ю. Ф. Самарина издаются с тою роскошью и дешевизною, как
это присуще и возможно только для фамильных и «памятных» изданий. Из-
дание едва ли найдет толпу шумных читателей, но оно будет необходимос-
тью во всякой серьезной библиотеке, для всякого государственного челове-
ка, для тех многочисленных и государственных и общественных деятелей,
которые отдают жизнь и силы крестьянскому делу. Четвертый том посвя-
щен именно последнему. Содержание его не литературное, а государствен-
но-устроительное. В нем помещены «Труды по составлению проекта по-
ложения о крестьянах в редакционных комиссиях», обнимающие время с
3 июня 1859 г. по 10 октября 1860 г.; и немногие статьи, написанные Юр.
Фед. в аксаковском «Дне», в связи с тем же вопросом. Книге предпослано
обширное предисловие Ю. Ф. Самарина, которому принадлежит и самое
издание, и его редакция. Ю. Ф. Самарин принадлежит к высшему типу на-
ших государственников, тех государственников, не прислушавшись к голо-
су которых и не послушав совета их, пришлось чрез полвека отступать пе-
ред кричащей толпой и перед людьми, враждебными уже самому государ-
ству, самому, наконец, порядку и всякой правильной гражданственности. К
худу или к добру, но все вообще славянофилы, не исключая и Самарина,
были люди, так сказать, «комнатного характера». Между тем некоторая доля
истории делается «на свежем воздухе», и чем дальше, тем больше. От этого
своего характера славянофилы не получили шумного признания и даже ни-
когда не были очень распространены и общеизвестны. Но—каждому свое.
И вольное, и невольное уединение и непризнанность сохранили за ними то
целомудрие пера и ту чистоту и прямоту духа, мысли, всех суждений, кото-
рых остается в печати все меньше и меньше, и плоды этого духа, их сочине-
ния, потеряв в распространенности, приобрели в вечности. Так, IV том «Соч.
Ю. Ф. Самарина» читается и сейчас с интересом. Читатель, даже не специа-
лист, уходит в крестьянский мир, не только в одно его хозяйство, айв его
260
дух. «Мы—ваши, а земля—наша»—эта аксиома крестьянского мировоз-
зрения режет и сейчас ухо и давит недоумением ум, как и тогда, 50 лет на-
зад. «Нам воли не надо («мы—ваши»), и крепость нас не тяготит: а тяжело,
когда есть нечего, когда хлеба мало». Освобождение крестьян, как извест-
но, основывалось совершенно на противоположном: им давалась свобода,
зато часть прежде владеемой (фактически) земли — отходила к помещику.
Оказалось, что крестьяне были в полном от этого недоумении и не верили
даже, что это было «Царево решение». «За землю» они ничего не хотели
работать помещикам и ничего же и платить им: считая землю извечно своею.
Но соглашались, взамен всей земли, остаться «барскими», «в неволе». Спо-
ры, на этой почве, Юр. Ф. со своим братом Дим. Федор., который в качестве
мирового посредника проводил «на земле» реформу (в Самарской губ.), в
высшей степени любопытны. Но мы не можем входить в подробности, от-
сылая читателей к самой книге.
ГИМНАЗИИ КАЗЕННЫЕ И ЧАСТНЫЕ
(Маленькая философия
о государстве и обществе)
И простой обыватель, и вдумчивый мыслитель, остановясь перед желтым
или бурым зданием в два этажа с надписью: «костромская гимназия», «ни-
жегородская гимназия» или в Петербурге и Москве: «шестая гимназия»,
«восьмая гимназия», вздохнув, подумает:
— Вот строили тебя, старались. Из казначейства деньги выдавали и
выдают посейчас, и «перед началом учения» тогда в первый раз отслужили
молебен, и ежегодно теперь тоже служат такие же молебны. И учителя вхо-
дят в классы и выходят из классов с методичностью и безостановочностью
челнока, пропускаемого между двумя рядами нитей, когда ткут полотно; а по
городу, через площади и по улицам, спешат к 9 часам утра и в 2 'Л часа попо-
лудни сюда и обратно толпы мальчиков, девочек, юношей, девушек,—по-
бледнее, порозовее, пожелтее, посмуглее... И обращается, и действует эта
машина, пока стоит кирпичное здание, которое, впрочем, ремонтируют, и
потому оно очень долго стоит. Юноши превращаются в отцов, и тогда их
дети тоже начинают ходить в это же здание... И папаши эти служат, как
тоже служили в свое время их папаши... И эта неторопливая, стучащая и
скрипящая машина,—только без гудков фабрики, — составляет часть и
орган уже необозримой по величине и сложности машины, именуемой «пра-
вительственная Россия».
«Правительственная Россия» все выделывает: танцовщиц балета и свя-
щеннослужителей, офицеров и наставников философии, техников и акте-
ров. .. Что-то египетское, с «кастами» и «на всякое потребление». Нечто
законченное и закругленное или почти законченное и закругленное. «Про-
261
водит железные дороги» и «строит храмы»... И труд создания этой маши-
ны и этих машин, — на что пошло больше работы, нежели на все египетс-
кие пирамиды, — конечно, почтенен, уважителен... И невозможно отнес-
тись к нему легкомысленно, с остротами, смешком и т. д.
Как-то много-много лет назад мне пришлось прочесть книгу г. Матвее-
ва: «История освобождения Болгарии»; в ней остановило мое особенное
внимание не история сражений, дипломатических переговоров и последо-
вавшая за всем этим борьба политических партий, с Каравеловым, Стамбу-
ловым и другими во главе, а... как заводились в городках Болгарии первые
почтовые станции и в особенности первые казначейства, и как бы наши
«казенные палаты», и все прочее подобное, вся эта скучная губернская и
уездная дребедень. Матвеев рассказывает, что никто ничего не умел! Нет,
больше и хуже, хуже и страшнее: болгар, естественно взятых от сохи и от
стада, ну, наконец, повыучившихся в кое-каких школах грамоты, невозможно
было приучить к тому, чтобы они не только приняли заказное письмо, нои
записали его куда-нибудь, а запись чтобы не забросили, а сохранили, и при-
том так, чтобы ее всегда можно было быстро отыскать. И все другое в том
роде: выдача жалованья, приемка подати. Не умеют!!! Не проложено ка-
ких-то путей в мозгу; пути эти, тропинки и дорожки, все мозговые, все
нервные, все памятливые и сообразительные, заросли у них уже пятьсот
лет впечатлениями от стад и от пахоты, от войны и борьбы, от разбоя и
тюремной отсидки и решительно не принимали в себя никаких «бумажных
делопроизводсгв», «канцелярской записи» и т. п. Понимают «отнести пись-
мо» или «положить в почтовый ящик» и, следовательно, «отправить»; но
как доверенное письмо «доставить», и не просто из рук в руки, «от Ивана к
Петру через Семена», а почтовым способом, где все «доставляющие» лица
не знают друг друга, не чувствуют желания помочь друг другу и даже вовсе
друг с другом не знакомы, — этого они не могли ни понять, ни сообразить,
ни исполнить!! Русским, завоевавшим и освободившим страну, невозмож-
но же было всех чиновников выписать из России: и физически трудно, и
политически неделикатно. Между тем, ни один болгарин не даст материала
для «чиновника». И не понимают, и не могут, и, наконец, за трудностью
понимания, просто не хотят! Вот это было самою трудною частью для рус-
ских. Когда я это прочел, то впервые в жизни подумал ту мысль, которая,
вероятно, большинству русских никогда не приходит на ум: «Боже мой, да
до чего, в самом деле, важно, культурно ценно, а если заводить впервые в
истории, то и трудно вот это: сделаться просто чиновником». Да, «чинов-
ником», «чинушей», презренным существом, «получающим 20-го числа
жалованье». На взгляд — так мизерно! На оценку ума, особенно если он
прочел уже Байрона, — так жалко и отвратительно! Да, но не важны по
виду и дождевые черви, которые, пропуская через свой кишечник землю,
как-то нужно окисляют ее и через то делают усвояемою для корней ржи,
пшеницы и овощей. А без них нет красивого хлебного поля, зеленого ого-
рода и цветущего сада! С этих пор, т. е. после чтения книги Матвеева, хотя
262
я и ругательски ругаю иногда чиновников и чиновничество, потому что от
чиновника иногда не терпится, и нерв кричит, но за всем руганьем остав-
ляю за пазухой про себя молчаливую мысль:
— Как это важно! Как это, однако, важно!! Не «чиновник» бы—про-
сто переслать письма нельзя! Нельзя жить, никак нельзя жить. Вот уж сюда
применимо державинское:
Я червь, я царь...
Я раб, я Бог...
А не ругать его действительно невозможно: глуп, костен, вял, мешко-
тен, резонирует, не делает или мало делает, сопуля и о всем «пишет»; чем
малограмотнее, тем больше пишет; и извел душу решительно всему насе-
лению. Все—так! Червь — я и говорю. Все на него и «наступают» ногою,
как мы раздавливаем дождевого червяка, нимало не колеблясь, не размыш-
ляя, не сожалея и не раскаиваясь. А подите — питает сад. А без «чиновни-
ка» нет государства. Без Каравелова и без Стамбулова в государстве не было
бы только таких-то и таких-то событий, которые заменились бы событиями
другими; но без «Семен Семенычей», получающих по 25 руб. жалованья (в
Болгарии), нельзя ни прочесть газеты, ни выписать книги, ни замостить
улицы, ни сесть в вагон с уверенностью, что он куда-то довезет тебя. Ниче-
го! Дорог нет, «заведений» нет, никаких заведений! Черт знает: никаких
«заведений»!!! Ибо, где «заведение», там «чиновник».
Поэтому, несмотря на все его «треклятые свойства», о чиновнике прихо-
дится говорить как-то задумчиво. Раздавливать его, конечно, можно, ибо их
свойство в том, что они везде плодятся, везде есть, и заменить одних други-
ми всегда можно... «Этой нечисти не оберешься»... Но когда поднимается
вопрос вообще «о чиновнике», и с тенденцией, чтоб «его духу не было», то
язык как-то ничего не умеет выговорить, а рука поднимается, чтобы почесать
затылок. Недаром художественная литература всей Европы, все поэты ее, все
ее мудрецы и, наконец, без исключения (что-нибудь значит!) все публицисты
прокляли «чиновника»; а этот «проклятый» Каин все стоит и стоит.
Нет, тут что-нибудь есть... «Чур, меня!» «Да воскреснет Бог»... Пусть
другие проклинают чиновника, а я боюсь и обхожу это мучительное и опас-
ное место.
* * *
Но вот что, однако ж, ясно прямому созерцанию: что этот вялый «ежеднев-
ный» господин, с тусклою мыслью и никогда не загорающимся сердцем,
как-то не должен касаться «нервных центров» страны... Ну, пусть строит
мосты, пирамиды, каналы,—я бы отдал в его руки хлебную торговлю, как
Иосиф некогда советовал это фараону,—предоставил бы ему фабрики, за-
воды, — всеконечно уж в его руках и теперь армия, флоты, пушки, арсена-
лы, —и, словом, вся мускулатура государства, весь его костяк... Но не нер-
вы же ему предоставлять, не мозг, не душу! Т. е. в государстве не школу и мо-
263
литву (церковь, религия). Тут как же все это «по шаблону»? А суть чиновника
—«по шаблону». Не совпадают. Задачи не совмещаются. Существо не совме-
щается. Мне кажется, в ближайшие эпохи движение культуры пойдет в этом
направлении: общество, несмотря на весь свой «байронизм», смиренно будет
все более и более сознавать неизбежность «чиновника»; с десятилетиями и мало-
помалу, сперва давясь и морщась, проглотит этого «червяка»; и, в конце концов,
уважительно посадит около себя жалкого «чинушу», человека «20-го числа»,
без сердца и воображения, одну «форму», одно «делопроизводство». Но и, с
другой стороны, этот, наконец, «признанный» чиновник,—признанный не от
того, что «он есть», а ради того, что он «должен быть»,—тоже посторонится,
сознает недосягаемость для себя некоторых сфер, именно вот мозговых, имен-
но вот нервных, и тоже смиренно от них откажется и предоставит их обществу,
взглянув на него не как на мешающий его «делопроизводству» сор, а как на что-
то ценное, важное, большое, вековечное, созидательное. Вся история, повто-
ряю, давясь и морщась, повдетк этому примирению, совершенно неизбежному
и, наконец, даже справедливому. В механических своих частях общество под-
чинится чиновнику; в духовных своих сторонах сам чиновник подчинится об-
ществу. И все это на основании: «ты это умеешь делать, я то могу делать».
Философия небольшая, но которая прежде всего.
В медленном и трудном этом процессе и общество освободится от не-
которых байронических поз, завитушек, привычных жестов, которые про-
изошли у него главным образом от вечного протеста против этого жалкого
и всесильного «чиновника», на которого оно «плевало» и без которого обой-
тись не могло... Общество умудрится и посерьезнеет, поубавит в себе худо-
жественного смеха уже просто оттого, что потеряет повседневный объект
его в лице этого, наконец, «призванного» чинуши. Общество получит не-
множко другой колорит—и к лучшему. Колорит к некоторой торжествен-
ности. Колорит к некоторому «жречеству»...
Жрецы ли у вас.иепыу берут?..
Вот когда «метла» окончательно будет передана чиновнику и общество не
станет о «метле» препираться с ним, оно почувствует в себе больше «жреца».
* * *
Ну, а пока что вернемся к нашим дням. По «направляющей линии мысли»,
которую я выразил довольно обширно, я не могу не радоваться и, мне ка-
жется, со мною не может не радоваться все общество всякому движению в
сторону перехода «учебы» и молитвы, храмового дела и училищного дела, в
руки обывателя... Перехода не по жадности к власти, от которой общество
да будет навсегда свободно, но по мотиву, сказанному поэтом:
Здесь я владею, я люблю...
Т. е. «я овладеваю этим, потому что я это люблю, и люблю тою любовью,
какою никогда чиновник не может полюбить этого дела, где форма—послед-
нее, а дух, сердце, интимность—первое». Даже те серые, тусклые учителя, с
264
изображения «хождения которых на урок» и «с урока» я начал свое рассужде-
ние, мне кажется, пойдут в класс совсем иначе, если это будет училище в заве-
дывании обывателя, а не под контролем директора от округа, самого округа и
под третьим контролем еще министерства. Прежде всего, учителя рассортиру-
ются. Решительно никакой «обыватель» не возьмет учителя, который, уча де-
тей, только «лямку тянет» и «зарабатывает себе хлеб»; между тем, министер-
ство, хочет или не хочет, вынуждено держать в составе «служащего персона-
ла» всех этих людей одной «формы», потому что какой же собственно служеб-
ный проступок они совершают, если учат лениво, вяло, нехотя и лишь «для
виду». Государство—форма, министерство просвещения—еще того больше
форма, и когда «форма» не нарушена учителем, т. е. если на уроках он сидит,
учеников спрашивает, каждый день им задает «на завтра», то решительно ни-
чего с ним государство не может поделать, и не только директор, но и сам
министр его не может «уволить». А «обыватель», учредитель школы или вла-
детель ее скажет, как и говорят постоянно людям «лямки»: «Я поищу другого
преподавателя, ваше преподавание я нахожу недостаточно активным». «Недо-
статочно активное преподавание»,—проступок этот совершенно неизвестен
министерству просвещения, и даже термина этого там нет, самого понятия этого
нет, а в этом понятии—все. Им-то и различается одушевленное преподавание
и одушевленная школа от неодушевленного преподавания и неодушевленной
школы. Итак, отпадут и перейдут из школы в другие сферы труда, и именно в
сферы механические, все «чинуши» педагогики, которых, естественно, здесь
половина. Это—само собою, это—непременно и без всякого оскорбления,
без малейшей обиды тусклым учителям. Их просто перестанут приглашать в
частные школы, и по тому ясному мотиву, что в частную школу с тусклыми
учителями никто не станет отдавать своих детей. «В казну поневоле идешь»; в
казенную гимназию, если она единственная в городе, поневоле все отдают де-
тей; а «в частную лавочку» с дурным товаром кто же пойдет? Я говорю ком-
мерческим языком; простая коммерция избавит частную школу совершенно и
быстро от несостоятельного, негодного учительского персонала. Рассортирует
массу учителей, оставив у себя только лиц с призванием, с воображением, с
даром слова, с интересом к делу.
«Урок», решительно недостижимый для министерства, притом никог-
да не достижимый, до скончания века, достигается без всякого труда и бы-
стро тою же школою, как только она перестает быть «министерской». Это я
говорю не в похвалу, не с тенденцией) похвалить. Это само собою разуме-
ется, само собою устраивается, вытекает из существа дела, повинуется ав-
томатически надавливающему закону. «Выгодно — невыгодно», «все по
форме», все «вне формальностей»; «вы мне не нужны», — на что нечего
ответить частному предпринимателю; «я не совершил никакого проступ-
ка», — на что в свою очередь ничего не может ответить бездарному препо-
давателю его официальное, казенное начальство.
От этого не знаю, как в Москве, но в Петербурге частные учебные заве-
дения поставлены так высоко, как этого нет и как это недостижимо для
265
казенных учебных заведений соответствующего типа и разряда. Частные
учебные заведения, наконец, сделали шаг, который уже по существу дела не-
доступен никакой министерской школе: они стали реорганизовываться в са-
мом устройстве, в программах, а не только в духе преподавания, обучения,
поведения и дисциплины. Школа Тенишевой и еще более школа Левицкой,
будучи по объему преподавания «гимназиями», не приняли самого имени
«гимназий», потому что уже совершенно вышли из их шаблона. Обе школы
готовят в университет и во все высшие учебные заведения, между тем, одна
школа (Тенишевой) вся зиждется на развитии у питомцев наблюдательности,
интереса и внимания к окружающей природе, на пробуждении в них есте-
ственно-исторической любознательности и вообще живого, практического
взаимодействия с физическим, реальным миром; другая (Левицкой), будучи
классическою гимназией (с одним латинским языком), в то же время являет
выведенную за город усадьбу-школу, где совместно от первого и до восьмого
класса учатся, работают в саду, играют и производят гимнастику братья и
сестры, мальчики и девочки, вполне и безраздельно, как одна семья, где уст-
ранено «вы» и существует только братское и сестринское «ты». Составляет
что-то чарующее, что-то казавшееся невозможным в «гимназии»: видеть изящ-
но и просто одетых 18—19-летних юношей и 17—18-летних девиц, которые,
не будучи ни в каком родстве, на деле, в играх, забавах, предприятиях, в про-
гулках, в поездках (без провожатых) из Царского Села в Петербург близки и
просты между собою в обращении, как члены одной семьи. Это, кажется,
должно бы быть невероятным, но это есть. Убеждение единичного лица, ча-
стного предпринимателя, и упорная многолетняя работа, положенная на про-
ведение своей мысли, дали несбыточные результаты, которые даже и гре-
зиться не могли, при всех добрых намерениях, училищу министерскому, ка-
зенной гимназии. На одном из родительских собраний гимназии Стоюниной
одна пожилая мать не могла сдержаться и расплакалась, жалуясь... на что бы
вы думали? И представить нельзя: она жаловалась на превосходносгь препо-
давания, равномерного по всем предметам. Она говорила, обращаясь к таким
же, как сама, родителям:
— Ах, если бы были похуже учителя, хоть по некоторым предметам
похуже! Моим дочерям одной 16, другой 18 лет, и, приходя домой, они с
жаром принимаются за учебники и, сколько я им ни говорю, сидят до
поздней ночи, едва оторвавшись на несколько минут к чаю, на полчаса к
обеду. С чем же они кончат гимназию, с каким здоровьем?
Она совсем разрыдалась, что было очень неловко в многолюдном соб-
рании. Мать продолжала:
— Между тем, окончив, они, может быть, выйдут замуж; это так есте-
ственно, к этому не может не готовиться каждая мать взрослых дочерей, но
с чем же они выйдут замуж, с каким здоровьем, с какими силами? Какие из
них выйдут матери семейств, какие хозяйки, — притом они ничего по хо-
зяйству не знают. Они будут негодные семьянинки, они уже теперь негод-
ны к семье. И благодаря таланту учителей! В казенных гимназиях и напо-
266
ловину нет талантливых преподавателей, и там девицы, с одушевлением
занимаясь двумя-тремя предметами, зато отдыхают на других предметах,
относясь к ним формально и без старания. Но Марья Николаевна (имя г-жи
Стоюниной) по всем предметам набрала лучших учителей... и... и дочери
говорят, что это так интересно, и сочинения, и рефераты, и опыты с физи-
кой, и экскурсии, что они не могут кое-как относиться к делу. Девочки мои
счастливы: только я несчастна, видя, как они тают и худеют в нашей «об-
разцовой» (с иронией) гимназии с каждым годом и месяц за месяцем. К
весне же делаются совсем больными.
Я ничего не прибавил, не убавил. Речь была такая. Кое-кто улыбался;
многие матери опустили голову, очевидно то же самое думая, но не решаясь
высказать эту несколько интимную боль. Я был совершенно поражен и, при-
знаюсь, растроган. Во-первых, слово матери было глубоко основательно: дей-
ствительно, в 18 лет для девушки что священнее здоровья? Говорю—«свя-
щеннее», потому что это — настоящее слово. Вся будущность, именно для
девушки этих лет, построена на здоровье этих лет. Да не только на здоровье
в умеренных границах: на крепости организма, положительной крепости и
на свежести, цвете всех сил... «Школе» это не интересно; ей важна «про-
грамма». Но, ведь, у семьи есть тоже своя законная «программа», на кото-
рую школа не может закрыть глаз, не вправе это сделать.
Это — первое, главное. Но я был поражен и второю стороною дела.
Какая жалоба: на достоинство, на высоту преподавания! На интерес-
ность и увлекательность преподавания! Мать так и сказала: «Они увлека-
ются преподаванием». Но, вероятно, сначала существования школ в Рос-
сии впервые была принесена такая поразительная жалоба, по такому пора-
зительному мотиву!
—Слишком хорошо и потому... не здорово.
Тут один шаг, чтобы улучшить, поправить: ясно—программы должны
быть сокращены, должно быть уменьшено самое число предметов. Увы,
однако: это вне распоряжения единичных школ, тут—министерство и его
власть. Но видим, что частный талант (инициатива г-жи Стоюниной) под-
нялся необыкновенно высоко и еще выше бы взвился, не будь этого мерт-
вого, косного, слепого препятствия: казна, министерство, государство. Его
«не вижу, но хочу».
ПЕРЕД ГРОБОМ СТОЛЫПИНА
Что значит «заботиться о государстве», я, по свойству слишком частного
человека, — не очень понимаю; но по этому же свойству в высшей степени
понимаю, что значит «болит рука»: и когда в вечер четверга прошел к гробу,
то потому и стал толочься на совершенно чужом месте (ковер, разостлан-
ный для семьи Столыпина), что не мог отвести глаз от ужасной правой руки
покойника в гробу, почти вдвое большей, чем левая,—которая вся распухла
267
и была полусиняя, полубагровая. Мне все колотило в голову, что об этой руке
даже не писали, такие это были «пустяки», а какие же «пустяки», когда у нас
так болит даже распухшая заноза: и все писали о ране в животе... И вот я,
мысленно подымая сорочку на трупе, все думал о том, как свинец пробуравил
живое тело, как штопор буравит пробку... Но пробка мертвая и ничего не
чувствует, а человек—живой и все чувствует... «Что же это за ад, что может
человек человеку такое делать...» Потом, спустя дни, я сожалел, что не задер-
жался в Киеве дня на три и не пошел увидеть «историю с Богровым» на Лы-
сой горе. И думал и думаю, что мы все не имеем права ничего писать о рево-
люции и политике, не пережив со всем ужасом физических ощущений рево-
люции и политики; ничего не имеем права писать, потому что ничего в этом
не понимаем, а несем пустые слова в пустом воздухе. Политика, с наружной
стороны так красиво планирующаяся, на самом деле вовсе не есть красивый
«план»: внутри ее точно лежит черный котел с такими бешеными страстями,
с таким адом ненависти, гнева, всяких яростей, что вот... человек запускает
штопор в брюхо человека, и, как тот не кричит, он, нажимая коленом, ввинчи-
вает и ввинчивает его дальше, больше, «в кишку бы», «в печень бы», «в стано-
вой хребет», чтобы все хрустело, рвалось, язвилось...
— Боже мой, что же это за чудовище эта «политика»: да она злее всяко-
го зверя, послепотопного и допотопного; чудовищнее всяких сказочных
чудищ... Бешенее, отравленнее и ядовитее «политики» ничего не может
быть...
«Политика» — это не мудрость. Политика — это ярость. Та «ярь», о
которой говорят язычники, та другая «ярь», о которой говорят исследовате-
ли человеческого сладострастия. Вот что такое «политика». Муть и огонь.
— Ничегохоньки не понимаю! — говорю в себе, ощупывая как во сне
на себе пуговицы. «Чтобы я дал свой живот штопорить, чтобы стал друго-
му штопорить живот...» Кто это может понять? Никто!
А однако есть «политика» и есть «политики». Значит, «понимают».
Екатерина понимала. Понимал Шешковский. Понимал вот Столыпин. По-
нимал Цезарь. Понимают люди каких-то совсем не наших «измерений»—
не тех милых и добрых «измерений», в которых люди пьют чай с сахаром,
ходят в гости друг к другу, пишут статьи в газетах и журналах. Ум их, душа
их, сердце—из какой-то темной бронзы, как и их памятники.
Но уже Фонвизин, задававший какие-то вопросы Екатерине, на кото-
рые она насмешливо и уклончиво отвечала ему, а раз рассердилась на «не-
уместный вопрос», ни Радищев, «путешествовавший из Москвы в Петер-
бург», ни благородный книгоиздатель Новиков, ни позднее Капнист, Ка-
рамзин, Грибоедов, Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой, Тургенев, —
все homines privatissimi, которые бы никак никому не засадили штопора и
себе не дали бы bona fide засадить его, — ничего, решительно ничего, вот
как и я же, не понимали в политике. И оттого, просто, что не имели в себе
никакой доли «черного котла с кипящей смолой», — который и образует
сущность политики.
268
Есть это «дьяволово пекло»—есть политика и политик.
Нет их — и нет политики, ни — политика.
Отсюда большой вывод: что же такое все мы, которые «пишем» о
политике и, словесно, принимаем в ней участие? Да и не только словес-
но: хотим реально влиять на политику, сердимся, когда наших мнений
«не принимают во внимание»; сердился вот Фонвизин, когда ему улыба-
лись и не отвечали, сердился Радищев, напрасно «пропутешествовав-
ший», сердился утроенно Новиков, после всех книгоиздательств поса-
женный в тюрьму. Все умные люди, ряд умнейших в России; все благо-
роднейшие люди Руси. Да, но все — не «политики». Все, решительно
все — характерно, без «пекла». И все они решительно в сущности не
понимали того, о чем писали, горячились и обижались, что «мнения их
не приняты во внимание».
И не следовало принимать. Просто—не политики. Просто—частные
люди, «у которых когда болит палец, то они кричат». Сущность «политика»
заключается в том, что он никогда не закричит, если даже у него рвет брюхо
в клочки, а кричит, напротив, как только его отставляют от опасности, от
боли, от угрозы, и, словом, переносят в частный быт.
Больно — и он доволен.
Нет боли—и он кричит.
Совершенно странно. Совсем другая порода, чем «мы».
Политика есть боль и неутомимая потребность боли. Ну, победы, но,
однако, после борьбы, опасности и риска, т. е. боли, хотя бы душевной. Все-
таки зерно — боль и к ней страсть.
Поэтому, я думаю, «политика никогда не остановится», т. е. не то, «что-
бы в истории, там», но и для каждого отдельного исторического момента
или в каждой единичной биографии. Я хочу сказать, что ни единый настоя-
щий «политик» никогда не произнесет: «Ну, довольно: всех победил, во всем
успел; теперь успокоюсь». И ни в один момент истории «политические»
люди не почувствуют: «Ну, устали, ничего не выходит. Лучше—помирим-
ся, и давайте вместе завтракать». Это было бы так, если бы политика
была в самом деле «план» и не содержала в себе «дьяволова пекла». Но это
— зверь, из породы которого устранено насыщение, и он чем больше ест,
тем ему больше хочется. «Покорив весь свет, хочу покорить еще что-ни-
будь»-, «усмирив все партии, хочу усмирить... хоть свою комнатную собач-
ку». «Больше, дальше, вечно»—лозунги политики.
Таким образом, «окончательного мира» и «удовлетворения» никогда не
настанет в политике и у политиков; и, с другой стороны, не за «счастье
народов», партий, человечества они бьются: это только предлоги, поводы,
обстановка; спокойная ссылка под чертою на странице огненного текста.
Передо мною лежало тело повергнутого «политика». Всякий политик
ео ipso есть воин. Он всегда готов умереть, как и вопрос о пощаде никакой
частью не входит в его душу. Когда раздаются голоса об «амнистии», —
всегда это есть голоса третьих, со стороны.
269
Он был в черном сюртуке, красивый, правильный; лицо глубоко спо-
койное, без всякого следа и признака страдания... И вокруг все, — начина-
ющаяся панихида, все было правильное. «Ранка под сорочкой» была глубо-
ко задрапирована всею этою обстановкою.
Зрелище для меня связалось с другим... да оно и было частями одной
картины. Именно, после взрыва на Аптекарском острове я поехал посмот-
реть трупы убитых... В несколько саженях, в каком-то сарае, происходило
следствие или допрос; во всяком случае там был судебный следователь, у
которого надо было получить разрешение увидеть тела. С ответною запис-
кою о «позволении» я подошел к часовому с ружьем, он кивнул головой, и
я спустился вниз, ступени на три, в какой-то, по моему представлению,
погреб, полуосвещенный или тускло освещенный, и, сделав два шага, оста-
новился, не в силах будучи оторваться от зрелища. Я увидел колено с выр-
ванной чашечкой...
И как взглянул, все полчаса, отведенные на осмотр, простоял перед ней:
чашечки не было, а около вырванного места тело, шкура, что угодно, но не
что-нибудь человеческое, было обожжено, разорвано и все съежилось, как
на сильнейшем жару всякое мясо, в те закругляющиеся формы, какие мы
видим только в огне, на огне... Все было черно, грязно... И вокруг разры-
вов все было в мириадах черных точечек, глубоко внизывающихся, и каж-
дая точечка обожгла все вокруг... Я вспомнил гимназистом выслушанный
ответ переплетчика:
— От того и сошли буквы с корешка на этой книге, что они просто
положены на ней, оттиснуты. А те буквы никогда не сойдут, потому что это
позолота через огонь.
Должно быть, от новизны термина и абсолютной непонятности я его
навсегда запомнил; а в погребе, около дачи Столыпина, все твердил: «Ах,
вот что значит—позолота через огонь». Ибо здесь кожа, зарумяненная и
почерневшая, была обдана, осыпана какой-то вечной, несмываемой, невы-
нимаемой металлической пылью, а может, и обычной грязью, но которая,
пройдя через огонь, так впилась в кожу, так слилась с нею в одно, что, оче-
видно, никогда вымыть или промыть и вообще отделить это—невозможно
никому!
Точно ногу «позолотили через огонь», но не желтым и блестящим, а
черным и грязным.
На пах была накинута тряпка; говорили, он вырван. Все тело молодого
красавца-гиганта было «раскидано» в позе (на спине), и лицо: необразо-
ванное, простое, замечательно красиво, «тельно».
Потом, в последние минут пять, я осмотрел остальные трупы. Но душа
уже устала, и я ничего не чувствовал. Но это «колено» для меня сделалось
символом всей революции, слилось с сутью ее. «Вот оно что... Все через
огонь кладут... Никогда нельзя смыть... И все так и запекается, в огне и
брызгах... мясо, кровь, кость, земля, металл, в один кусок, слиток. А чело-
века, который был человеком, уж нет»...
270
— Вон там лежит, говорят, графиня, — шепнул сторож.
Что мне «графиня»,—даже не взглянул. Как «позолотят», так не отли-
чишь «графиню» от не графини.
А в сущности, ведь и «золотят» для иллюзии равенства, из-за равен-
ства, «чтобы все были одинаковы». Но какая это странная и ненужная оди-
наковость! Я предпочел бы бегать мышью под полом, нежели подойти под
эту «позолоту» и через нее войти в равенство с царями и богами.
Выходя, я рассмеялся: опять часовой с ружьем. «Отчего они никого не
пускают?» Петр Великий распорядился бы выставить трупы на Невском
проспекте,—провел бы мимо них учебные заведения, так заманиваемые в
«революцию»; всем бы дал увидеть, осязать, унюхать революцию в ее за-
вершении, а не в розовом и обещающем начале, — и это было бы воспита-
тельной политической школой, или ирогаиво-политической... Так бы он
застраховал от нее по крайней мере юность...
* * *
И в этот вечер, и назавтра утром было одно и то же... К утру лицо Столыпи-
на немного изменилось, — и подалось в той красоте и правильности, в том
«живом почти виде», в каком было накануне... Все было как у русских: учеб-
ных заведений при выносе не было, у гроба ночью не было же; утром, про-
езжая в лавру, я видел во множестве гимназистов и гимназисток, с ранцами
за спиной, спешивших в гимназии... Когда весь Киев потрясен, взволнован
и переживает событие, только одни ученики и ученицы «переживают» раз-
деление растений на односемядольные и двусемядольные или что-нибудь о
«сослагательном наклонении». Почему начальства учебных заведений и
учебные округа думают, что так важны эти «сослагательные наклонения»,
что с ними надо спешить и спешить, ежедневно спешить, не поднимая голо-
вы над книгою... Церковь была полна парадного и раззолоченного (камер-
геры) народа, приехавшего из Петербурга. Такой все хороший рост. Некра-
сивые, но видные лица. Но, мне казалось, все — не «политические», а при-
ватные. .. которые служили, служили, дослужились вот: но в «позолоту» не
пойдут. Частный наш, — житейский интерес,—слишком ясно сказывался.
Так как некоторые были чрезмерного роста, то шептались невольно две стро-
ки из Лермонтова:
И на челе его высоком
Не отразилось ничего.
Столыпин был один боевою фигурой среди небоевой армады, ему со-
трудничавшей и теперь съехавшейся его хоронить. Революция может быть,
оттого и выступает так бойко вперед, что не чувствует перед собою воина,
героя, а что-то мягкое, рыхлое, вот «кожу», которую можно «золотить че-
рез огонь»... Ее даже нельзя назвать сейчас храброю: она была бы таковою,
если бы боролась с Екатериною и в екатерининские времена, если бы боро-
лась между 1825 и 1855 годами. А теперь...
271
Меня поразило, что ни накануне, ни теперь никто не поставил ни одной
восковой свечи. Очевидно, — не обычай или не умеют; или до того забыли
«храм Божий», что не имеют простого воспоминания о нем, что вот там на
богослужении «народ ставит перед иконами свечи». Это особенно странно,
когда в церкви было столько «националистов» и «от монархических орга-
низаций». Очевидно, все это идет книжно и мозговым, надуманным обра-
зом, а не то, что есть выражение протеста непосредственной, народной Руси.
Потому что отчего же, иначе, не ставят свечки?
Когда стали подымать гроб,—все двинулось к нему, естественно смот-
ря на гроб, а не под ноги: и под ногами очутилось все то «венечное убран-
ство», которое было ему принесено и привезено. Через полминуты, когда
вынесли гроб, — это было что-то ужасное: пальмы и цветы обратились в
труху от веников, и ноги прошлись даже по серебряным венкам. Я поднял
дубовой серебряный лист, чтобы показать в Петербурге след этого вандаль-
ства. С тревогой я стал искать привезенный венок: его совсем не было; не
бьию на том месте, где он был прислонен к катафалку. «Неужели совсем в
глубине «под травой» (остатки живых венков)?» К счастью, — какая-то
добрая душа отнесла за ночь его и еще немного серебряных же венков на
солею, — и прислонила к иконостасу. Ленты, надписи, — все было варвар-
ски измято ногами; все, что было около катафалка, т. е. почти все — вся
масса. Уцелело лишь то, что впереди гроба и предварительно бьию проне-
сено на могилу. Но это была небольшая часть.
<О «ВЕСТНИКЕ ЕВРОПЬЬ»
В «Вестнике Европы» В. Беренштам, вспоминая некоторые случаи из своей
адвокатской практики, рассказывает действительно курьезный эпизод. Од-
нажды, опоздав к пассажирскому поезду, адвокат остался в ужасном поло-
жении: необходимо бьию ехать немедленно на защиту в соседний город, с
ним были все бумаги подсудимых, подзащитные могли остаться без защи-
ты, а поезда нет. Ехать с товарным поездом в качестве пассажира не разре-
шил начальник станции; во избежание того, чтобы адвокат самовольно не
сел на поезд, строгий начальник станции приставил к адвокату сторожа, хо-
дившего за ним по пятам. На выручку явился какой-то чуйка, посоветовав-
ший адвокату ехать в товарном поезде уже не в качестве пассажира, а только
проводника... хотя бы курицы или гуся.
Я пошел к начальнику станции. Иван следовал за мною, по-пре-
жнему, как тень.
— Господин начальник, но ведь вы можете меня пустить на поезд в
качестве проводника!.. С курицей или гусем?..
Не успел я договорить, как лицо его прояснилось. По-видимому,
начальника станции грызла совесть, что он не пускает меня. Да и отча-
яние мое было чересчур неподдельно...
272
— Конечно, конечно, могу, — заговорил он, радостно улыбаясь.
— Ну, так скажите, где тут купить курицу, утку или гуся. Я довезу
их до N. и подарю сторожу на станции.
Иван осклабился:
— Ваше благородие, у меня есть гусь... Возьмите его и свезите,
там тесть багажным служит. Спросите: все знают! Так вот вы туда и
отвезите, я с вас ничего за гуся не возьму. На чаек только пожалуйте!
Так и решили. Иван живо достал гуся и принес его в разваливаю-
щейся корзинке.
— В случае контроля, скажите, что ученый гусь...
Я дал Ивану полтинник, заплатил за провоз гуся «как за пуд» что-то
девять копеек, да за свой проезд по тарифу четвертого класса всего, ка-
жется, тридцать копеек и, держа гуся в руках, почувствовал, что готов
взлететь от радости на воздух.
Гусь, простой, необразованный гусь, вез меня на политическую за-
щиту!..
ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ СТОЛЫПИНА
Что ценили в Столыпине? Я думаю, не программу, а человека; вот этого
«воина», вставшего на защиту, в сущности, Руси. После долгого времени,
долгих десятилетий, когда русские «для успехов по службе просили переме-
нить свою фамилию на иностранную»*, явился на вершине власти человек,
который гордился тем именно, что он русский, и хотел соработать с русски-
ми. Это не политическая роль, а скорее культурная. Все большие дела реша-
ются обстановкою; всякая вещь познается из ее мелочей. Хотя, конечно, никто
из русских «в правах» не обделен, но фактически так выходит, что на Руси
русскому теснее, чем каждому инородцу или иностранцу; и они не так дале-
ки от «привилегированного» положения турок в Турции, персов в Персии.
Не в этих размерах, уже «окончательных», но приближение сюда — есть.
Дело не в голом праве, а в использовании права. Робкая история Руси при-
учила «своего человека» сторониться, уступать, стушевываться; свободная
история, притом исполненная борьбы, чужих стран, других народностей,
приучила тоже «своих людей» не только к крепкому отстаиванию каждой
буквы своего «законного права», но и к переступанию и захвату чужого пра-
ва. Из обычая и истории это перешло наконец в кровь; как из духа нашей
истории это тоже перешло в кровь. Вот это-то выше и главнее законов. Вез-
де на Руси производитель—русский, но скупщик—нерусский, и скупщик
оставляет русскому производителю 20 проц, стоимости сработанной им ра-
боты или вырабатываемого им продукта. Судятся русские, но в 80 проц, его
судят и особенно защищают перед судом лица не с русскими именами. Вез-
де русское население представляет собою темную глыбу, барахтающуюся и
бессильную в чужих тенетах. Знаем, что все это вышло «само собою», даже
* Известная насмешка Ермолова.
273
без ясных злоупотреблений; скажем,—вышло беспричинно. Но в это «само
собою» давно надо было начать вглядываться; и с этою «беспричинностью»
как-нибудь разобраться. Ничего нет обыкновеннее, как встретить в России
скромного, тихого человека, весь порок которого заключается в отсутствии
нахальства и который не находит никакого приложения своим силам, спо-
собностям, нередко даже таланту, не говоря о готовности и прилежании.
«Все места заняты», «всеработы исполняются» людьми, которые умеют
хорошо толкаться локтями. Это самое обычное зрелище; это зрелище везде
на Руси. Везде русский отталкивается отдела, труда, должности, от заработ-
ка, капитала, от первенствующего положения и даже от вторых ролей в про-
фессии, производстве, торговле и оставляется на десятых ролях и в один-
надцатом положении. Везде он мало-помалу нисходит к роли «прислуги» и
«раба»... незаметно, медленно, «само собою» и, в сущности, беспричинно,
но непрерывно и неодолимо. Будущая роль «приказчика» и «на посылках
мальчика» в своем же государстве, в своей родной земле, невольно вырисо-
вывается для русских. Когда, в то же время, никто русским не отказывает ни
вулл?, ни в таланте. Но «все само собою так выходит»... И вот против этого
векового уже направления всех дел встал большой своей и массивной фигу-
рой Столыпин, за спиной которого засветилась тысяча надежд, пробудилась
тысяча маленьких пока усилий... Поэтому, когда его поразил удар, все по-
чувствовали, что этот удар поразил всю Русь; это вошло не основною час-
тью, но это вошло очень большою частью во впечатление от его гибели. Вся
Русь почувствовала, что это ее ударили. Хотя главным образом вспыхнуло
чувство не к программе, а к человеку.
* * *
На Столыпине не лежало ни одного грязного пятна: вещь страшно редкая и
трудная для политического человека. Тихая и застенчивая Русь любила са-
мую фигуру его, самый его образ, духовный и даже, я думаю, физический,
как трудолюбивого и чистого провинциального человека, который немного
неуклюже и неловко вышел на общерусскую арену и начал «по-провинци-
альному», по-саратовскому, делать петербургскую работу, всегда запутан-
ную, хитрую и немного нечистоплотную. Так ей «на роду написано», так ее
«мамка ушибла». Все было в высшей степени открыто и понятно в его рабо-
те; не было «хитрых петель лисицы», которые, может быть, и изумительны
по уму, но которых никто не понимает, и в конце концов, все в них путаются,
кроме самой лисицы. Можно было кой-что укоротить в его делах, кое-что
удлинить, одно замед лить, другому, и многому, дать большую быстроту; но
Россия сливалась сочувствием с общим направлением его дел, — с боль-
шим, главным ходом корабля, вне лавирования отдел ьных дней, в смысле и
мотивах которого кто же разберется, кроме лоцмана. Все чувствовали, что
это—русский корабль и что идет он прямым русским ходом. Дела его прав-
ления никогда не были партийными, групповыми, не были классовыми или
сословными; разумеется, если не принимать за «сословие» — русских и за
274
«партию»—самое Россию; вот этот «средний ход» поднял против него грыз-
ню партий, их жестокость; но она, вне единичного физического покушения,
была бессильна, ибо все-то чувствовали, что злоба кипит единственно отто-
го, что он не жертвует Россиею—партиям. Inde ira, единственно... Он мог
бы составить быстрый успех себе, быструю газетную популярность, если бы
начал проводить «газетные реформы» и «газетные законы», которые извест-
ны наперечет. Но от этого главного «искушения» для всякого министра он
удержался, предпочитая быть не «м инистром от общества», а министром «от
народа», не реформатором «по газетному полю», а устроителем по «государ-
ственному полю». Крупно, тяжело ступая, не торопясь, без нервничанья, он
шел и шел вперед, как саратовский земледелец,—и с несомненными чертами
старопамятного служилого московского человека, с этою же упорною и не-
рассеянною преданностью России, одной России, до ран и изуродования и
самой смерти. Вот эту крепость его пафоса в нем все оценили и ей понесли
венки: понесли их благородному, безупречному человеку, которого могли не-
навидеть, но и ненавидящие бессильны были оклеветать, загрязнить, даже
заподозрить. Ведь ничего подобного никогда не раздалось о нем ни при жиз-
ни, ни после смерти; смогли убить, но никто не смог сказать: он был лживый,
кривой или своекорыстный человек. Не только не говорили, но не шептали
этого. Вообще, что поразительно для политического человека,—о которых
всегда бывают «сплетни»,—о Столыпине не было никаких сплетен, никако-
го темного шепота. Все дурное... виноват, все злобное говорилось вслух, а вот
«дурного» в смысле пачкающего никто не мог указать.
* * *
Революция при нем стала одолеваться морально, и одолеваться в мнении и
сознании всего общества, массы его, вне «партий». И достигнуто было это
не искусством его, а тем, что он был вполне порядочный человек. Притом, —
всем видно и для всякого бесспорно. Этим одним. Вся революция, без «при-
входящих ингредиентов», стояла и стоит на одном главном корне, который,
может, и мифичен, но в этот миф все веровали: что в России нет и не может
быть честного правительства; что правительство есть клика подобравшихся
друг к другу господ, которая обирает и разоряет отечество в личных интере-
сах. Повторяю, может быть, это и миф; наверно—миф; но вот каждая сплет-
ня, каждый дурной слух, всякий шепот подбавлял «веры в этот миф». Мож-
но даже так сказать, что это в общем есть миф, но в отдельных случаях это
нередко бывало правдой. Единичные люди—плакали о России, десятки—
смеялись над Россией. Это произвело общий взрыв чувств, собственно рус-
ских чувств, к которому присосалась социал-демократия, попыталась их
обратить в свою пользу и частью действительно обратила. «Использовала
момент и массу в партийных целях». Но не в социал-демократии дело; она
«пахала», сидя «на рогах» совсем другого животного. Как только появился
человек без «сплетни» и «шепота» около него, не заподозренный и не гряз-
ный, человек явно не личного, а государственного и народного интереса,
275
так «нервный клубок», который подпирал к горлу, душил и заставлял хри-
петь массив русских людей, материк русских людей, — опал, ослаб. А без
него социал-демократия, в единственном числе, всегда была и останется для
России шуткой. «Покушения» могут делать; «движения» никогда не сдела-
ют. Могут еще многих убить, но это — то же, что бешеная собака грызет
угол каменного дома. «Черт с ней» — вот все о ней рассуждение.
За век и даже века действительно «злоупотреблений» или очень яркой
глупости огромное тело России точно вспухло как бы сотнями, тысячами
остро болящих нарывов: которые не суть смерть и даже не суть болезнь всего
организма, а именно болячки, но буквально по всему телу, везде. Можно было
вскрывать их: и века пытались это делать. Вскроют: вытечет гной, заживет, а
потом тут же опять нарывает. Все-таки революция промчалась не напрасно:
бессмысленная и злая в частях, таковая особенно к исходу, при «издыхании»
(экспроприации, убийства), она в целом и особенно в ранней фазе оживила
организм, быстрее погнала кровь, ускорила дыхание, и вот это внутреннее
движение, просто движение, много значило. Под «нарывным телом» пере-
менилась постель, проветрили комнату вокруг, тело вытерли спиртом. Тело
стало крепче, дурных соков меньше—и нарывы стали закрываться без лан-
цета и операции. Россия сейчас несомненно крепче, народнее, государствен-
нее, — и она несомненно гораздо устойчивее против других держав и ино-
родцев, нежели не только в пору Японской войны, но и чем все последние
50 лет. Социально и общественно она гораздо консолидированнее. Всего этого
просто нельзя было ожидать, пока текли эти несчастные 50 лет, которые во-
обще можно определить как полвека русского нигилизма, красного и белого,
нижнего и верхнего. Русь перекрестилась и оглянулась. В этом оздоровлении
Столыпин сыграл огромную роль, — просто русского человека, и просто
нравственного человека, в котором не было ни йоты ни красного, ни белого
нигилизма. Это надо очень отметить: в эпоху типично нигилистическую и
всеобъемлюще нигилистическую, — Столыпин ни одной крупинкой тела и
души не был нигилист. Это очень хорошо выражается в его красивой, пра-
вильной фигуре; в фигуре «исторических тонов» или «исторического наслед-
ства». Смеющимся, даже улыбающимся я не умею его себе представить. Очень
хорошо шло его воспитание: сын корпусного командира, землевладелец, пи-
томец Московского университета, губернатор, — он принял в себя все эти
крупные бытовые течения, все эти «слагаемые величины» русской «суммы»,
без преобладания которой-нибудь. Когда он был в гробу так окружен бюрок-
ратией, мне показалось,—я не ошибался в чувстве, что вижу собственно
сраженного русского гражданина, отнюдь не бюрократа и не сановника. В
нем не было чванства; представить его себе осыпанным орденами—невоз-
можно. Все это мелочи, но характерна их сумма. Он занят был всегда мыс-
лью, делом; и никогда «своей персоной», суждениями о себе, слухами о себе.
Его нельзя представить себе «ожидающим награды». Когда я его слыхал в
Думе, ложилось впечатление: «Это говорит свой среди своих, а не инородное
Думе лицо». Такого впечатления не было от речи Горемыкина, ни других пред-
ставителей власти. Это очень надо оттенить. Он весь был монолитный, гро-
моздкий; русские черноземы надышали в него много своего воздуха. Он вы-
ступил в высшей степени в свое время и в высшей степени соответственно
своей натуре: искусственность парламентаризма в применении к русскому
быту и характеру русских как-то стушевалась при личных чертах его ума,
души и самого образа. В высшей степени многозначительно, что первым на-
стоящим русским премьером был человек без способности к интриге и без
интереса к эффекту,—эффектному слову или эффектному поступку. Это—
«скользкий путь» парламентаризма. Значение Столыпина как образца и при-
мера сохранится на многие десятилетия; именно как образца вот этой про-
стоты, вот этой прямоты. Их можно считать «завещанием Столыпина»: и
завещание это надо помнить. Оно не блестит, но оно драгоценно. Конститу-
ционализму, довольно-таки вертлявому и иногда несимпатичному на Западе,
он придал русскую бороду и дал русские рукавицы. И посадил его на креп-
кую русскую лавку,—вместо беганья по улицам, к чему он на первых шагах
был склонен. Он незаметно самою натурою своею, чуть-чуть обыватель-
скою, без резонерства и без теорий, «обрусил» парламентаризм: и вот это ни-
когда незабудется. Особенно это вспомнится в критические эпохи, — когда
вдруг окажется, что парламентаризм у нас гораздо национальнее и, следова-
тельно, устойчивее, гораздо больше «прирос к мясу и костям», чем это мож-
но вообще думать и чем это кажется, судя по его экстравагантному проис-
хождению. Столыпин показал единственный возможный путь парламента-
ризма в России, которого ведь могло бы не быть очень долго и, может, даже
никогда (теория славянофилов; взгляд Аксакова, Победоносцева, Достоевс-
кого, Толстого); он указал, что если парламентаризм будет у нас выражением
народного духа и народного образа, то против него не найдется сильного
протеста, и даже он станет многим и наконец всем дорог. Это—первое усло-
вие: народность его. Второе: парламентаризм должен вести постоянно впе-
ред, он должен быть постоянным улучшением страны и всех дел в ней, мириад
этих дел. Вот если он полетит на этих двух крыльях, он может лететь долго и
далеко; но если изменить хотя одно крыло, он упадет. Россия решительно не
вынесет парламентаризма ни как главы из «истории подражательности своей
Западу», ни как расширения студенческой «Дубинушки» и «Гайда, братцы,
вперед»... В двух последних случаях пошел бы вопрос о разгроме парламен-
таризма: и этого вулкана, который еще горяч под ногами, не нужно будить.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Одна мать (из провинции), перенеся страшную семейную потерю, обрати-
лась ко мне с письмом, прося как-нибудь помочь в том душевном и отчасти
религиозном мраке, который для нее настал: указать книги, чтение, сказать
какие-нибудь мысли. Все религиозное, весь обычный путь, она сделала, и
осталась с тою же сухою, бесслезною печалью. Но почему-то думая, что
277
мне «некогда» ответить на письма даже такого серьезного содержания, она
не дала адреса и просила сделать это литературно, т. е. изобразив такую
жизненную потерю и возможное религиозное в ней утешение темою статьи,
«не отрываясь от работы». Письмо получено несколько дней, и я тороплюсь
уведомить несчастную женщину, что сделаю усилия, чтобы ей ответить, но
это не может быть сделано быстро и необдуманно. И особенно затрудняет
меня сочетание литературы как формы и профессии, как и (увы!) неизбы-
точного шаблона,—с вещью столь внешаблонной, индивидуальной и ин-
тимной. Правда: тысячи таких; и тысячам бы можно говорить: но что делать
с обычаем, который есть lex dura barbarorum, sed lex*.
7 октября 1911 г.
ГДЕ «КУЛЬТУРА» РУССКАЯ...
Один умный немец и лютеранин, но родившийся в России, никогда из Рос-
сии не выезжавший, сказал в случайном разговоре, «вне темы»:
—Я всегда кладу на блюдо, когда собирают эти напти мужички «на построе-
ние храма»; а когда случается бывать в церкви, то кладу не на блюдо «с благо-
творительностью», а в кружку «на украшение храма». Потому что хоть я и не
православный, но мне очевидно, что вся русская культура выросла из право-
славия и созидается до сих пор главным образом им. Народная культура...
Между тем он и в храм заходит редко (с дочуркой от православной
жены), а читает все интеллигентские книжки последнего чекана. Так что
взгляд этот не только «вне темы», но и вне «предрассуждения»... Но немец
этот—любитель Гёте, о котором что-то последние годы ничего не слышно
на Руси, точно Гёте и не рождалось никогда. Так что он образован не только
последним чеканом, но и старым чеканом. И вот: «православие есть род-
ник культуры».
Чем? Православие родит мысли, задает вопросы, вызывает споры...
Возьмите всю необозримую литературу раскола и сектантства. Оно же дает
звуки, напевы, слуховые мотивы... Оно дает краски... Оно учит истории,
ну кой-какой, с вымыслами, легендами, даже пусть с враньем... «Допрежде
Руси еще греки были... И греки те жили за морем». Не велика история и
география, но «все-таки»... Видал я маляров: красит дверь, а сам все поет:
«Господи, воззвах Тебе, услыши мя»... Немного: но все-таки почему это
хуже граммофона с Вяльцевой? И почему эта история и география хуже
Вербицкой? Между тем все это народ получал от церкви, даже когда был
безграмотен, и получает везде еще и теперь, насколько тоже безграмотен.
Все это я измеряю наименьшею мерою, в какой уже решительно никто
не откажет размерам образовательного влияния церкви; у самого у меня
другие меры, но я о них помолчу.
* закон суров и варварский, но это закон (лат.).
278
Вспомнил же все это, просматривая и кой-где почитывая великолепное
издание общерусского значения, но крайне местного заглавия: «Картины
церковной жизни Черниговской епархии из IX-вековой ее истории»... —
«Ну, что,—скажут, — епархиальный труд и епархиальная история: кому
это интересно». Но, на самом деле, это кусочек общерусской жизни, обще-
церковной, которая решительно такая же везде по колориту, подуху, как в
Черниговской «епархии», а во-вторых: первым черниговским князем был
Мстислав Удалой, в местностях этих подвизался Феодосий Углицкий, мощи
которого собирают теперь тысячи народа, и там же трудился, говорил и
писал Лазарь Баранович... Из Черниговской «епархии» вышли созидатели
монастырской жизни в России, святители Антоний и Феодосий Печерские,
из нее же пришел на Москву митрополит св. Алексий, основатель Чудова
монастыря... Так что, с одной стороны, Черниговская епархия есть «кусо-
чек», а с другой стороны, — это «родительский кусочек», «родительское
место» всей православной Руси. Я назвал только десятую часть знамени-
тых имен, или здесь «подвизавшихся», или отсюда вышедших, «отъехав-
ших» и проч. Да ведь Михаил «Черниговский» и с ним «болярин» Феодор
были замучены перед глазами Батыя за отказ поклониться кумирам и прой-
ти через очистительный огонь: одно уже это делает Черниговскую «епар-
хию» священною для всей Руси! Нам только неприятно слово «епархия»,
напоминающее епархиальное «управление», епархиальное «училище» и
даже епархиальную консисторию, — слова и понятия новые и не совсем
симпатичные... На самом же деле это только в русский язык и в русскую
историю они еще недавно введены, а вот у греков, «которые за морем», два
слова — «архиерей» и «епархия» встречаются на монетах еще Августова
времени, до начала христианства! Это просто термины греко-римского уп-
равления областями и стариннее не только чего-нибудь русского, но и всей
Руси. На самом деле «Черниговская епархия» есть собственно древнейшее
Черниговское княжество, с первым легендарным князем «Черным» и доче-
рью его красавицею «Цорною», с знаменитыми князьями Мстиславом (Уда-
лым), Святославом Ярославичем, Владимиром Мономахом, святыми кня-
зьями Игорем (Ольговичем) и Михаилом, с преподобною княгинею Евфро-
синией Суздальской и Романом Михайловичем... Вот какое это гнездо, соб-
ственно, в царственном сложении Руси. А в церковном — отсюда изошли
или здесь временно проходили свое служение: Платон, митрополит мос-
ковский, Стефан Яворский, св. Димитрий Ростовский, Петр Могила и мно-
гие, многие другие. Зато и изукрасилась же Черниговская земля храмами,
монастырями и чудотворными иконами. Спасибо большое «ученику Импе-
раторской Академии Художеств» Н. А. Протопопову, коим выполнена ху-
дожественная сторона издания, — как и делает честь фотолитотипографии
С. В. Кульженко (в Киеве) отпечатание подобного по роскоши труда. Церк-
ви, иконостасы, живопись богородичных икон—изумительны по мастер-
ству работы и по художеству убранства. Трудно судить, так ли это велико-
лепно в натуре, как в фотографических снимках: но фотографии говорят о
279
роскоши и вкусе. Край этот боролся и страдал оттатар, от Литвы, от Польши:
и все вспыхнуло великолепием в усилиях перебороть иностранщину и ино-
родчину и остаться верными сперва Киеву и затем Москве. И к Москве
сильно «крепил» Чернигов, начав отставать уже от ближнего Киева, как
только «все потянуло» к Москве.
Признаюсь, до знакомства с этою книгою ни «Черниговская губерния»,
ни «Черниговская епархия» не представлялись так значительными; приоб-
ретение книги в высшей степени желательно в библиотеки, читальни, в гим-
назии училища всего Юго-Западного нашего края, да и сюда ближе, к севе-
ру и востоку: множеством нитей Черниговский край переплетен и связан со
всеми историческими местами, с историческими средоточиями Руси.
Книга написана обыкновенным слогом, коллективно и епархиально, —
вероятно, при помощи черниговских преподавателей и местных ученых
иереев; и это в том отношении любопытно и важно, что, очевидно, подоб-
ные местные истории и описания могут явиться и в Нижнем Новгороде, в
Казани, в Костроме, Ярославле, Твери, в Калуге, и в Рязани, и прочих мес-
тах, где есть чтб вспомнить, где сохранилась «дедина». Дай Бог успеха,
старания и прилежания. Я смотрю на местную «Черниговскую историю»
как на высококультурный пример-, ведь такая книга, хотя бы в фототипиях,
сохранит на все века все видимое сейчас на месте, все уцелевшее к нашему
году: а «дедина» растеривается в веках, растеривается и пропадает. Это ее
печальное свойство. Наконец, не важно ли, не просветительно ли, что каж-
дый «господин купец» в Чернигове, Конотопе, Нежине, Путивле (тамош-
ние городки), каждый «мещанин в чуйке», из которых есть очень и очень
много с острым глазком, с острым умом, могут сразу и из одной книги обо-
зревать и обдумывать свою «епархию» и свой, в сущности, чудный по цер-
ковному художеству край. Одна «Елецкая Богоматерь» чего стоит: она чуд-
но явилась «на дереве еловом, на горе Болдиной» в княжение благочести-
вого Святослава Ярославича, внука Владимира Святого... Икона ее вся изу-
крашена еловыми ветвями, что — по крайней мере в фотографической
передаче—являет изумительное и редкостное зрелище. Как бы не Богома-
терние иконы, куда бы Русь делась и чего бы она стоила: а такими иконами
она вся изукрасилась и под их покровом хранится. Иверская, Казанская,
Владимирская, Смоленская, вот узнал Елецкую дивную... следовало бы со-
ставить со всей роскошью, с затратой многих тысяч, великолепнейшее вос-
создание и историю этих Хранительниц Земли Русской, к которым примы-
кает, в сущности, все православие, все оно с ними слилось. О догматах куда
там судить: это «премудрость» и непонятно. А иконы — явно, зрительно и
вразумительно. Спасибо преосвященному черниговскому и нежинскому
владыке Василию, заботами которого сооружен сей труд. Он посвящен Го-
сударю Императору, пришедшему поклониться мощам св. Феодосия Углич-
ского. В заключение не могу отказаться от удовольствия привести былин-
ный отрывок, которым начинается изложение прекрасной книги; в отрывке
говорится о русском народе-этнографии:
280
По Киеву его звали Куянином,
По полям звали Полянином,
По лесам—Древлянином,
На западе звали Рутенином...
А на Буге—Бужанином,
На Днестре звали Тиверцем,
На Ильмене—Смолянином,
На Днепре—Северянином,
А в иных местах и никто не знал,
Какого он рода-племени,
Как звать-величать его по имени,
Как чествовать по изотчесгву;
И звали его просто богатырем северным.
Вот прочтешь это и подумаешь: а все мятутся люди, своего добра не ви-
дят и чужого ищут. Думают «завести культуру» через Богрова и Вербицкую.
И палят-палят, печатают-печатают; но хоть распечатайтесь и распалитесь,
господа, — Русь не дрогнет, не пошевелится: и посмотрит жалеючи на вас с
верхов тех елочек, откуда «дивно явились» ей хранительницы и защитницы
тишины и покоя нашего, а наконец, и красоты и богатства русского, и местно
чтимые, и всероссийски чтимые иконы Богородительниц русских.
«ОТОЙДИ, САТАНА»
Несчастную и благородную семью Столыпиных точно распинают... Изу-
родовали 10-летнюю девочку — молчание; убили отца и мужа — молча-
ние; но вот за убитого поднимает голос брат: и ему велят замолчать, ссыла-
ясь на заповедь Христа о любви, которую он обязан теперь исполнить. По-
чему же «о любви даже и к врагам» (политическим) ничего не говорил в
печати Мережковский, ничего не говорила Гиппиус, ничего не говорил
Философов, ничего не говорила Соловьева, когда случилось несчастие на
Аптекарском острове? Что, изранение 10-летней девочки сказало ли что-
нибудь их сердцу? Ничего. «Не наша кровь пролита, все равно». «Не наша,
и не наших». Подняли ли они голос с протестом, когда не год, не два шла
травля против убитого, — не критика его и не порицания, на что каждый
вправе, а травля,—и таким образом умы общества подготовлялись к убий-
ству, дабы, когда оно совершится, все остались равнодушными зрителями
и конвульсивным движением не причинили вреда убийцам. Мясник рань-
ше, чем заколоть быка, оглушает его ударом обуха по голове; роль такого
предварительного «оглушения» играет печать известного сорта: криками,
ложью, злобою изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц и из
года в год она доводит читающее общество до того, что кто-нибудь встает и
убивает... Убивает с чувством глубокого права, вот как Богров, как все они...
281
«Посланец народный», — думает о себе убийца; так он поверил печати,
подтасовавшей собою народную душу, народную волю, народный голос.
Почему же, пока литературою подготовлялось убийство, Мережков-
ский молчал? Гиппиус не протестовала? Философов «не присоединялся»?
и Соловьева не была «притянута за волосы»? Почему они тогда не говори-
ли устно в своих редакциях, не выступали гласно с протестом против тако-
го тона травли, почему тогда молчали о «христианской любви»?..
Христианская любовь и русские газеты... «Речь» и евангелие... Но чтб
же может быть кощунственнее этого соединения?! Если бы сколько-нибудь
было чувства уместности и гармонии у наших писателей, они на столбцы
газет никогда бы не тащили этих слов — «милосердие», «жалость», «лю-
бовь», «милость», «прощение»... Ибо слова это все домашние, слова — вы-
работавшиеся в благословенных странах и в благословенные минуты исто-
рии, когда политики не было и где газет тоже, слава Богу, не появлялось...
Когда теперь типографские чернила пачкают слово «любовь», то уже в двух
вершках расстояния чувствуется убийство, и когда заговаривают в газетах о
«милосердии»,—знайте, это готовят паспорт и переодевание убийцам, кото-
рые могли бы бежать... Христианская любовь и орган Гессена и Милюкова,
Гиппиус и человеческое милосердие: господа, смотрите же на этот маскарад,
вы невидали ничего подобного по водевильносги!
* * *
Отвратительно.
Боже, до чего стала отвратительна русская литература.
На газетном языке мы вправе говорить о гневе, мести, ярости, корысти, выго-
дах и победе партий. Это тоже не золотые речи: но по крайней мере без лжи.
Еще о софизмах Влад. Соловьева. Он разделил «национальность» и «на-
ционализм», одобряя один и призывая все египетские язвы на второй. Но
какая же между ними разница? Национализм есть заостренная националь-
ность, заостренная для битв и борьбы, для защиты своего «существова-
ния», говоря Дарвиновым языком,—когда этому существованию угрожает
гибель или тяжкий вред. Чтб же такое за «меч», который должен быть по-
стоянно туп; который нужно сломать, как только он отточен? Какая же дру-
гая, родовая разница между «национальностью» и «национализмом»? Ког-
да никто на Россию не нападает и она в мире и тишине растет из себя, из
своего зерна и на своем корню — она «национальна». Но на нее напада-
ют. .. Чтб же, и при ветре ей нужно не шелохнуться листьями? Вот филосо-
фия Соловьева, не то младенческая, не то шулерская. Нет, при ветре дерево
шумит листьями, перед битвой меч оттачивается... Мягкое железо в битвах
закаливается в сталь. «Но это уже национализм, а не национальность, кото-
рую я дозволил», — вопит длинноволосый философ, и за ним повторяют
сейчас кровенящимися ртами газетные писаки...
Оставьте, господа, шулерство. Бросьте связывание себя с философией
и с Христом. И вечно-то у наших либералов и социалов потребность но-
282
сить чужое имя и держать в кармане чужой паспорт. Какое-то «партийное»
недомогание!.. Мережковский—Г иппиус—Философов—Соловьева, имея
свои прямые чувства (ненавидения России и симпатии к еврейству), гово-
рят, будто они «проповедуют Соловьева»; а Соловьев, тоже за свой счет
браня Страхова, Данилевского и славянофилов, ссылался, будто бы он «дей-
ствует по Христу». Но ни Христу—Соловьев, ни Соловьеву — Гиппиус и
Мережковский—вероятно, не были нужны... «Отойди от Меня, сатана»...
* * *
Тот, кто начал гнуться, мало-помалу вырастает кривым. Есть закон «даль-
нейшего духовного развития». Уже Соловьев начал отречением от России;
ломался, истеричничал, — но, раз ступив на эту топкую почву, не мог по-
править своей «печальной судьбы»... Он отрекся нравственно и от Пушки-
на (в «Судьбе Пушкина») и гнулся дальше и дальше, до унылой смерти...
Но если бы он посмотрел на тех летучих мышей, которые теперь цепляются
когтями за его саван... Была литература... поэзия была... была философия...
И вдруг выглянул полицейский Кулябко: «Это—веемой друзья». И от «ин-
тимной близости» с Кулябкой некуда деться Мережковскому, Гиппиус, Со-
ловьевой и Философову. Одна душенька и одно исповеданьице.
ОПРАВДАННЫЕ НАДЕЖДЫ
НАШИХ ГЕРОСТРАТОВ
«Новый энциклопедический словарь» Брокгауза—Эфрона, как и первое его
издание, фабрикуется русскими профессорами-компиляторами и пропуска-
ется через еврейскую цензуру заправил издания. В силу этого в нем пропу-
щено много имен русских ученых и замечательных деятелей, зато уж разны-
ми «Аскинази» пестрят его столбцы. В первом издании его еврей-публи-
цист Слонимский поместил не только собственную биографию, но и био-
графию своего «папаши», когда-то что-то написавшего по агрономии.
Немного бы больше смелости, и он поместил бы биографию своей тещи;
может быть, для 2-го издания он не упустит это сделать. Во всяком случае
во 2-м издании вовсе пропущено имя ученого епископа Антонина, автора
репродукции, т. е. восстановления утерянного текста, пророка Варуха, по
его переводам на восемь древних языков, громадный филологический труд
более чем в 1 000 страниц. Не назван громадный труд В. И. Череванского
«Семирамида» в исчислении популярной русской литературы об Ассирии.
О г-же Балобановой, знатоке кельтических языков, в 11 строках дан только
перечень ее ученых и литературных трудов (с пропуском очень важного:
«Библиотековедение») и ничего не сказано о ее жизни и педагогических тру-
дах. Но вот рядом с нею излагается биография неразвитого и бесхарактер-
ного студента Балмашова, которому еврей-Гершуни дал в руки револьвер и
послал его застрелить русского министра Сипягина,—и тут столбцы «Сло-
283
варя» раздались. Не только приведены его предсмертные слова, но даже
приводится «литература» предмета: рассказ свящ. Петрова в «Рус. Сл.» от
27 мая 1907 г., заграничная брошюра «Памяти С. В. Б.» и брошюра, вышед-
шая в 1906 г. в Петербурге: «У бийство трех министров»,—Боголепова, Си-
пягина и Плеве, наконец, «Казнь С. В. Б.» в июньской книжке «Былого» за
1906 г. Всякий гимназист отсюда может заключить, что все свои двойки и
единицы в гимназии он может поправигь, если согласился кого-нибудь убить
по еврейской указке: они ему доставят в своих изданиях если не историчес-
кое бессмертие, то бердичевское бессмертие. Но все не заинтересованные в
еврействе люди могут смотреть только с отвращением на этот апофеоз «по-
лезных убийств», каким окружает недоучившихся мальчишек солидный по
объему и виду quasi-ученый «Словарь». Качества «Словаря» в высшей сте-
пени понижаются введением этой легкомысленной политики. И нельзя не
пожелать, чтобы наша Академия наук взялась за составление настоящего
солидного «Русского энциклопедического словаря»,—настолько нужного
каждому. Это было бы превосходною услугою русскому образованию, и это
есть прямая задача именно академии.
К 100-ЛЕТИЮ ПУШКИНСКОГО ЛИЦЕЯ
(19 октября 1811г. — 19 октября 1911 г.)
К. Я. Грот. Пушкинский лицей (1811—1817).
Бумаги первого курса, собранные академиком Я. К. Гротом.
Благочестивая в науке семья Гротов все продолжает подвизаться на сло-
весно-книжном поле: Конст. Яковл. Г рот, сын приснопамятного академика
Якова Карл. Г рота, наставника императора Александра III, издал к столе-
тию Александровского лицея, бывшего «Царскосельского», которое испол-
няется 19 октября 1911 года, огромный том, документально живописую-
щий быт, историю и нравы, капризы и веселости, успехи и неуспехи отро-
ческого гнездышка Пушкина... Бумаги, составляющие этот том, все были
собраны его отцом, и по ним он составил дважды изданную книгу: «Пуш-
кин, его лицейские товарищи и наставники». Конст. Як. Грот, однако, спра-
ведливо думает, что самые «бумаги» эти достойны издания во всей полно-
те своей, не только для ученых, для которых «все важно», но и для широ-
ких образованных слоев общества, для которых перелистать и местами
погрузиться в чтение этих «документов» так же занимательно, как и в каж-
дую новую книжку «Русск. Архива» или «Русск. Старины», а по питомцам
лицея и привлекательнее даже. Спасибо трудолюбивому профессору... Все
Гроты отличаются какою-то благочестивою, благородною памятью: для
первого «Большого Грота» лицей был священен, как место собственного
воспитания, сливавшееся с местом воспитания любимейшего и величай-
284
шего поэта Пушкина, посещения коего он еще помнил. Пушкин посетил
лицей два раза, в 1828г.ив 1831 году. О первом посещении Я. К. Г рот
рассказывает: «Мы (воспитанники лицея) следовали за ним тесною тол-
пою, ловя каждое его слово. Пушкин был в черном сюртуке и белых лет-
них панталонах. На лестнице оборвалась у него штрипка; он остановился,
отстегнул ее и бросил на пол; я с намерением отстал и завладел этою дра-
гоценностью, которая после долго хранилась у меня. Из разговоров Пуш-
кина я ничего не помню, да и почти не слышал: я так был поражен самим
его появлением, что не умел даже и слушать его, да притом по всегдашней
своей застенчивости шел позади других...» В словах «о своей застенчиво-
сти» будущего светилы науки сказалась вся его натура: а рассказ о «штрип-
ке» как-то символичен для всей его последующей биографии и даже для
биографии рода Гротов... Не улыбайтесь «штрипке»: ведь тогда он был
мальчиком. Но почтеннее и умнее поднять «штрипку» Пушкина, нежели
выругать Пушкина, над чем потом старались тысячи русских мальчиков,
именно этого возраста (нигилизм)... С умения благоговеть к крошке, к
незаметному, к мелочи, — благоговеть или быть внимательным — и начи-
нается человеческая культура. Цивилизацию начал не тот, кто разбил гор-
шок, а кто сделал горшок: вот ответ русскому нигилизму, который состоит
из разрушения, надеется на разрушение, возвел разрушение в религию и
построил теорию истории как теорию разрушения и разрушений. Это —
дикарь, изменник и разбойник, которого нужно умертвить, ибо он сам гро-
зит все умертвить: это единственный, который может быть умерщвлен.
Нигилизм — сатана прогресса, антихрист цивилизации, проклятие всего
на земле «лучше»; и все на земле, вся земля вправе на него восстать и
убить его, как своего единственного врага или, вернее, объединителя всех
враждебных сил... «Nihil» противоположно «Рап»: и «Рап» должно убить
«Nihil». А «Рап» начинается со «штрипки»; в том, чтобы «поднять» ме-
лочь и долго ее «хранить»: не унизить, не оплевать, а поднять и поцело-
вать. И «штрипку» Пушкина, и ученическое его стихотворение, — с ошиб-
ками в грамматике,—да еще дав fac simile этих ошибок. Пушкина, потом
Дельвига, потом всех, кого можно, о ком сохранилась память, кто жил и
даже если он не оставил памяти, то помянем и «безымянных»... Вот куль-
тура-. лес на останках леса же, город на пепелище города, слияние живых и
мертвых в универсальный и вечный организм любви, организм взаимного
уважения, где никто не забыт и не непочтен никто — самый безымянней-
ший\ Это и есть «Рап» культуры: антитезис ее нигилизму, где один таскает
другого за волосы и каждый только о себе кричит, что он что-нибудь зна-
чит. .. Грот именно шел «в застенчивости сзади»-, но благодарность к. любя-
щему (т. е. к Гроту) перенесла его через головы торжественной вереницы
нигилистов (Чернышевский, Писарев), которые все шествовали «впереди
всех» и теперь совершенно забыты, как самые последние, самые ненужные.
Но оставим их, вечную боль нашего ума. Вдень 100-летнего юбилея
К. Як. Г рот принесет в дар Пушкинскому музею, основанному при Алек-
285
сандровском лицее, все бумаги и документы, собранные его отцом, но пе-
ред этою сдачею подлинников он передаст в дар обществу их типографское
и фотографическое их воспроизведение. Тут и ученические журналы, и офи-
циальные отметки об успехах и прилежании всех питомцев во всех науках.
О Пушкине записано: «Более понятливости и вкуса, нежели прилежания,
но есть соревнование. Успехи хороши довольно (русск. и латинск. яз.); при
всей остроте и памяти нимало не успевает» (немецк. яз.); «худые успехи,
без способностей, без прилежания и без охоты, испорченного воспитания»
(у адъюнкт-профессора Рененкампфа); «весьма понятен, замысловат и ост-
роумен, но не прилежен вовсе и успехи незначащие» (по логике и нрав-
ственности); «острота, но для пустословия, очень ленив и в классе нескро-
мен, успехи посредственные» (по математике); «более дарования, нежели
прилежания, рассеян. Успехи довольно хороши» (по географии и истории);
и — «по нравственной части» оценка, которая, собственно, остается вер-
ною до конца жизни Пушкина и свидетельствует о незаурядном глазе на-
блюдателей-воспитателей лицея: «Мало постоянства и твердости, слово-
охотен, остроумен, приметно и добродушен, но вспыльчив с гневом и лег-
комысленен». Точь-в-точь таким он поднимал пистолет на Дантеса; «каков
в колыбельку, таков и в могилку».
Ни одно учебное заведение в России не имеет таких особенных, лич-
ных отношений к литературе, как Александровский лицей, бывший «Цар-
скосельский». .. и будущий «Пушкинский», как его уже поминутно пере-
именовывают в печати, всегда почти зовут в обществе, и, может быть,
когда-нибудь официальность уступит этому народному «крещению»...
«Александровских» заведений и учреждений так много, что лицей тонет
в их числе, теряет яркое и славное в своей истории, почему и за что его
любят; «Пушкинский лицей» — в самом названии говорит свою историю,
говорит о том, как он стал драгоценен «россиянам», и может стать сло-
вом. Имя императора Александра I так перегружено содержательностью:
Отечественная война и Священный союз, Сперанский и Аракчеев имеют
такой в себе вес и значительность, что свирель Пушкина как — мается
возле них; и уступить из этого мавзолея дел и событий один лицей —
имени «Пушкина», т. е. официально переименовать «Александровский
лицей» в «Пушкинский лицей», кажется естественным и естественною
благодарностью родины к памяти Пушкина. С этою мыслью соединяется
и другая: о возвращении лицея в Царское Село и водворении его в том
самом месте, где он был при Пушкине, и как он связался тысячью под-
робностей с его лицом, биографией и стихотворениями... Ах, эта наша
разрушительная, монгольская и нигилистическая вместе, тенденция ос-
тавлять старые пепелища, покидать старые места, все перефасонивать,
переделывать и, в сущности, разрушать. Нет, «нигилист» в нас давно си-
дит. С этими пожеланиями прекрасному лицею мы встречаем первый день
II века его существования.
286
КОСМОПОЛИТИЗМ И НАЦИОНАЛИЗМ
Замечательно, что «русское чувство», будучи очень сильно у народа, очень
слабо в образованном или, вернее, в полуобразованном обществе. Славяно-
филы, по уровню начитанности, по знанию языков, по лекциям, какие они
слушали в Москве и Берлине, были наиболее образованным слоем обще-
ства в России: и русское чувство в них было очень сильно. Но это был тон-
кий слой, лежавший на самом верху. Под ним сейчас же начиналась страш-
ная толща общества полуобразованного, которое с великим восхищением
начало носить иностранное имя, придуманное д ля него г. Петром Боборы-
киным, — «интеллигенция». Оно составило всю массу читателей наших
полуграмотно-семинарских журналов, вроде былого «Дела» Благосветлова;
раньше—«Русского Слова» и «Современника». Все безвкусие, вся грубость,
какая нанесена была в русскую литературу, была нанесена этими журнала-
ми, в которых малообразованные писатели вдохновляли еще менее образо-
ванных читателей. И вот этот толстый слой был совершенно лишен русско-
го сознания и русского чувства.
Под ним лежал уже народ, в котором опять «русское чувство» было
очень сильно.
Почему так все распределилось?
Народ, так сказать, дошкольного возраста и развития, естественно, на-
ционален, — всегда и везде. Потому что какое же другое исповедание он
может нести, когда он и есть только данный народ, с привычками и воззре-
нием, тысячелетие складывавшимся? «Народное чувство» самого народа
есть вещь, о которой не спорят и о которой не спрашивают, как никто не
спрашивает: «Какого цвета белый цвет?» Это—тавтология. Тавтологию
эту, однако, нужно очень помнить, ибо она играет решающую роль в тыся-
че вопросов, какие могут возникнуть в интеллигенции или в спорах с ин-
теллигенциею. «Опросить народ» в лице 80 миллионов безграмотных или
почти безграмотных людей невозможно; и тогда тавтология «белый цвет
всегда белый», «русский народ исповедует русские чувства и русское ми-
росозерцание» — вступает в свои права. На это можно сослаться всякий
раз, когда какой-нибудь интеллигент проповедует идею или лозунг заведо-
мо нерусского происхождения, но ссылается «на русский народ». Ему все-
гда можно ответить, что он может ссылаться на авторитет прочитанных им
книжек, на Маркса, Лассаля, Прудона и их русских подголосков и переви-
рателей (Бакунин), но с русским народом такой господин ни в воле, ни в
мыслях ничего общего не имеет, потому что русский народ ничего общего с
этими русско-немецко-французско-еврейскими умами не имеет.
Ссылаясь на эту тавтологию, можно бьию распустить первую и вторую
Думу и всегда распускать подобные Думы, без всяких единичных поводов,
без юридических мотивов, — по мотиву этнографическому, именно, что
эти Думы (1 -я и 2-я) не выражали русского образа мыслей и, следователь-
но, не представительствовали русский народ.
287
«Русское народное представительство» есть представительство именно
русского народа. Тавтология тоже очень значительная, пункт для многих
ссылок, во многих спорах. Как только «представительство» не выражает
«русского народа», так оно кассируется: само собою и тем самым, что та-
ково. Это—аксиома, сперва логическая, а затем и политическая.
Ясно, что первая и вторая Думы были «случайны» по отношению к
русскому народу. «Так сделала машинка» выборов, теоретически придуман-
ная и ни разу не испытанная. Попробовали раз — «не по-русски печет»;
попробовали два—тоже «не по-русски печет». Но может ли печь, сделан-
ная в русском дому и для печения русских хлебов, печь... страсбургский
пирог, варшавские крендельки или еврейскую мацу? Она может и вправе
печь только русский ржаной каравай, ни белее ни чернее, ни больше ни
меньше. Из лучшей муки — калач. И уже абсолютно ничего третьего. Все
«третье» случайно в отношении русского народа, и таковая печь должна
быть сломана. Ибо человеческая натура есть мера для потребляемых чело-
веком вещей: это есть еще более «основной закон», чем все основные. Этот
закон — от создания мира, и гораздо ранее 17 октября.
Правительство русское не только вправе было переменить избиратель-
ную «машинку», но оно не вправе было не изменить ее, как только она
начала печь «нерусские хлебы».
Я дал пример пользования тавтологиею; возвращусь к теме.
* * *
Отчего «национальная идея» трудно усвояема полуобразованными людьми?
И отчего она понятна была только людям, «изучавшим Гегеля и Гёте» (веч-
ный упрек славянофилам)?
Оттого, что это и действительно трудная идея.
Это есть идея органическая, в противоположность механическим идеям.
Механические идеи, в приложении к истории, есть космополитизм. «Бери
откуда бы ни было все лучшее» — вот всеобъемлющая идея космополити-
ческого прогресса. Но это есть просто идея столяра, человека даже безгра-
мотного, который одно делает из «палисандрового дерева», другое—из «крас-
ного», третье — из «ореха» и четвертое—из «березы». — «Из всего дела-
ем», —говорят столяр и космополит. Но возьмите ореховое дерево: оно рас-
тет только на своем грунте, вырастает из зернышка ореха же, не болеет только
в своем климате. Тысяча причуд, прихотей, каприза. Но, друзья мои: живое
ореховое дерево, выросшее на скалах Кавказа, можно ли сравнить с затхлой
мастерской еврея-столяра, который мастачит мебель «из всех сортов»?
Национальная идея есть святая и чудная идея. Эта идея—аристокра-
тическая и гордая. Она не «всего хочет». Она — не собака. А космополи-
тизм —именно собака, которая «ничем не брезгует». Собака и Мордка из
Киева, который «отовсюду брал лучшее»: просвещение—из университе-
та, деньги—из полиции, «великие идеи»—из «Рус. Богатства» и «вдохно-
вение на сегодня» — из «Речи».
288
Эти «кулябкины идеи» решительно доступны каждому: и вот почему
так много космополитов. Космополитизм естественно завершается в ниги-
лизм. Нигилизм оттого и неодолим в России, что от него некуда уклониться
космополитизму, с которого начала Россия: как пирамиде некуда убежать
от своей вершины. И хоть имей пирамида основанием всю землю, — кон-
чится она в одной точке: так между маркизом Позою и «Письмами русско-
го путешественника» начавшись, он кончился, пройдя невероятно много
фазисов, — прыжком зверя в Киевском театре. «Все ел—скушай и это».
Вред и опасность в самой идее, что человеческая личность, которая по
этому самому в высшей степени единична, может быть составлена как сто-
лярная поделка—из кусочков разной породы дерева, из всех стран, со всех
климатов. Будь то душа Шекспира—и она подавится от такого космополи-
тического глотания. Космополитизм—мертвечина и механизм. Начавшись
маркизом Позою—он кончит Богровым: ибо душа Позы умрет, задохнет-
ся, изломается, исказится... А когда она умрет, ее разложение явится в пре-
ступлении. Уже космополитизм — преступление, уже самая его идея. Не
почему-нибудь, а потому, что она мертвая, механическая. Потому что, от-
носясь к истории, — она внелична. Ибо история — это всегда личность, как
и человек—лицо. Национализм и есть не что иное, как построение исто-
рии на личности; правильнее — как laissez faire, laissez passer* личности,
которая есть факт раньше истории. Это есть «мой» рост, «наш» рост; «со-
сны» и соснового «бора»... В истории, так понимаемой, все — закон, все
правило, все стройность... Предвидение «на завтра» и мудрость веков. Этот
национализм так же практичен, как и интересен в теории.
Он, наконец, есть творчество, которое и может быть только личным,
«своим»... у каждого, у человека, у народа.
Космополитизм — это всеобщая подражательность... Всегда бездар-
ная подражательность, — как наша история последних лет.
КАК ТОРЖЕСТВУЕТ
«РУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ»
«Росту народной русской культуры вредит засилье националистов. После
битвы при Калке татары связали пленных противников, положили их под
доски и сами сели на доски обедать. Современные националисты вошли в
роль этих татар. Связав инородцев, они на их костях ораторствуют и пишут
на тему: Россия для русских»...
Так я прочел, в «Речи», за подписью социал-кулябки Философова, ста-
тью против себя, против А. А. Столыпина, покойной княжны Дондуковой-
Корсаковой, с которой «основательно» отказались говорить шлиссельбурж-
цы, против Пушкина и его «Клеветников России», против Лермонтова и
* позволяйте делать (кто что хочет), позволяйте идти (кто куда хочет) (фр.).
289
его «Бородина», против Толстого и его «Войны и мира»: все мы «осатане-
ли» (слово Философова), все сидим на костях инородцев и жирно едим,
жирно пьем, когда Мережковский и Философов по-христиански постятся
над местом, где зарыт прах Мордки.
Сидим, веселимся и кушаем, а косточки инородцев трещат...
Встал—и пошел к гипсовой маске, снятой с покойного русского фило-
софа Страхова, где у меня хранятся нужные бумажки. И вот достал доку-
мент о притесненных инородцах: это — «Повестка о назначении дела (ге-
нерала Петрова против меня) к слушанию»:
... «На основании 882-й ст. уст. уг. суд. защитником ему, Розанову, предсе-
дателем назначен присяжный поверенный Аркадий Львович Зильбериапейн».
При повестке приложен, на отдельном листочке: «Список, составленный на
основании 589-й ст. уст. уг. суд.». Вот его текст: «Именной список гг. судей и
товарищей прокурора 2-го уголовного д-та сбп. судебной палаты. Председа-
тель д-та А. И. Руадзе, члены палаты: Л. В. Позен, И. Д. Архангельский, М. В.
Лешко-Попель, И. П. Савастьянов, В. В. Граве и Г. И. Орлов. Товарищи про-
курора М. С. Тлустовский, А. С. Червинский, И. Н. Шведер, М. П. Стремоу-
хое, А. Н. Благовещенский, П. М. Устимович, О. Ю. Витер, А. П. Мякин, Е. О.
Шарко, Н. А. Громов и М. В. Литовченко. За секретаря В. Зек»...
Вот вам и «лежат под досками»... Не нашлось «Ивановых», «Семено-
вых», «Вознесенских» для суда в столице Империи... Но какой же «Ива-
нов» не дурак и какой же «Зильберштейн» не умница? «Зильберштейн»,
очевидно, талант, а вот, напр., присяжный поверенный А. М. К-нцов, мой
ученик по Елецкой гимназии, сидел-сидел в Петербурге, бился-бился, со-
ставил, несколько лет проработав (на невольном досуге), биографию К. Н.
Леонтьева: ждал, просил, искал, — и никакого не только дела, но и делишка
не нашел, с женой и ребенком, и вот сейчас собирается в провинцию что-
нибудь искать, как-нибудь устроиться... и, поистине, найти
Где оскорбленному есть сердцу уголок.
Когда судилась в той же спб. судебной палате моя брошюра «Русская
церковь», — то заседание началось часов в 8 вечера, и во всех отделениях
палаты заседания уже окончились, но присяжные поверенные, желая, веро-
ятно, послушать защищавшего меня С. А. Андриевского, задержались на
несколько минут—и вошли в зал...
Зрелище, которое мне открылось, было до того внушительно и страш-
но, что, признаюсь, я потерял способность следить за ходом защиты моей
брошюры: плохо освещенный большой зал весь наполнился темным лю-
дом, с адвокатскими значками, между которыми не было ни одного русско-
го лица, с этакою «русскою бородою» и русской походкой, словом, — при-
знаки есть, ошибиться нельзя... Весь русский суд уже захвачен нерусски-
ми, и тут «так сложилось дело», что вновь приходящему русскому «не про-
сунуть и носа»... Ну, есть Андриевский, есть Карабчевский, еще, конечно,
найдется десяток, может, два десятка на весь Петербург, которых уж никак
290
нельзя было не пустить, сила у них большая, талант слишком яркий... Но
все, что не «сом», все, что помельче «сома», — все это не пущено, в сущно-
сти, вовсе не «сомами», а «Зильберштейнами», которые «умны» и «подхо-
дящи» просто потому, что они «Зильберштейны» и что тут «свой своего
держит и чужого топит»...
«Чужой, которого топят» около русского суда — это «русский»...
Когда (с месяц назад) я это передавал с горем г-ну Фарбману, руководи-
телю книгоиздательства «Пантеон»,—мне симпатичному еврею—он улыб-
нулся какою-то «знающею улыбкою» (и сейчас стал мне от этого противен)
и ответил:
—Да, ну что же... евреев никуда не пускают, и они захватили суд...
Что «никуда не пускают» — я пропускаю: но что «захватили суд» —
это его слово, слово еврея, полное глубокого сознания и глубокого удовлет-
ворения. На «никуда не пускают» я имею только тот ответ, что, «куда бы
их ни пустили», они и там «все захватят»... Захватят и не оставят даже
«5-процентной нормы» русским...
Так что кто же «лежит под досками» и жирно кушает, г. Философов?
Ну, да возьмите русскую газету «Речь», печатающуюся в русской столице и
на русском языке: уж не Философов ли там «сидит на доске», а «под дос-
кою» лежит Гессен и Любош... Бедный Гессен: на нем сидит русский ба-
рин, русский помещик Философов, сын члена Г. Совета, и поет он, этот
Гессен, в глубокой зависимости от Философова, русскую песню нерусских
интересах...
Барин Философов, счастливый Философов... Он поет свободную песнь
и одному вдохновению покорен:
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв...
Ах, господа русские баре: скоро-скоро кошечка оближет ваши косточки
и умоется лапкой... И, ей-ей, даже не вспомнит вашего многострадального
терпения...
Это как в Великий Четверток поется на всенощной:
«Слава многотерпению Твоему, Иисусе»...
Вспомнишь и, обернувшись к русскому люду, скажешь:
— Слава многотерпению вашему, человецы...
К ОТКРЫТИЮ ЭТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
В воскресенье, 30 октября, в 1 Чг ч. дня, в помещении гимназии Е. М. Гедда
(ул. Глинки, д. 6) последует открытие Этического общества, которое кроме
обычных собраний, чтений, лекций и т. д. имеет задачею издавать полезные
книги, брошюры, сборники и т. д. по предмету своего ведения. Район его
291
действия—Петербург, слишком нуждающийся в «этическом воздействии».
Ближайшее участие в образовании нового общества принимает Мария Влад.
Безобразова (Верейская, д. 29), издавшая недавно прекрасную книжку на
тему о глубоком нравственном разложении современного общества, точнее,
современной души. Общество может, при успехе, объединить около себя
множество движений «против течения»; а этот успех—в руках чутких рус-
ских душ... При дружном подъеме — можно много сделать. И, кажется,
есть почва для этого подъема, в усталых и недоумевающих умах нашего
времени, нашего момента. Дай Бог... Г розные призраки надвигаются, все
чернее и чернее... Противопоставим им светлый взгляд и крепкую веру.
М. Вл. Безобразова, дочь покойного академика Безобразова, издавав-
шего в свое время «Сборник государственных знаний», который не забыт и
никогда не забудется русским правом,—уже много лет трудится в области
философии, и ей принадлежит ряд ценных трудов по истории философии
на русском и немецком языках. Жалко: уходит жестокое время, и она в той
поре жизни, когда человек больше хочет, нежели может. Но мы твердо
знаем, что есть много молодых душ, окрыленных теми целями, к каким
двигалась М. В. Б-ва всю жизнь: их дело встать, окружить и помочь изне-
могающему и благородному человеку.
С. ГРИГОРОВСКИЙ. О РАЗВОДЕ
Причины и последствия развода
и брачное судопроизводство.
Историко-юридические очерки. СПб., 1911
Не все в России знают, но всем в России пора узнать, что в авторе настоящей
книги, наполненной с виду сухими страницами на формальные темы, —
русская семья имеет долголетнего и преданного друга себе, 25 лет практи-
чески трудящегося для нее и чье имя не должно быть забыто в истории рус-
ской семьи. Незаметно и постоянно он двигал вперед, путем участия в ко-
миссиях, сложную, запутанную, застарелую и малоподвижную брачно-за-
конодательную и брачно-административную область в России, в то же вре-
мя служебно содействуя развязыванию тысяч тех ужасных петель, которые
нежны, как паутина, крепки, как железо,—и мучительны, а, наконец, иног-
да бывают и смертельны, для живых людей, в эти петли попавшихся, как и
настоящая паутина зоологического царства для мух, в нее запутывающих-
ся... Григоровский стоял 25 лет в узле, где решаются бракоразводные дела в
России, — в том отделе синодальной канцелярии, где все это «ведается».
Место это—легендарное по черствости, педантизму, в былое время по мздо-
имству и с заскорузлостью и злоупотреблениями которого ничего не могли
сделать даже императоры. «Каноны—и шабаш», «Церковь—и все замол-
чите»; и ничего с этим аргументом не могли сделать, в двух исторически
292
известных случаях, государи Николай I и Александр II. Все были ссылки
«на каноны», якобы «ученые ссылки»... На самом деле под всем лежало
личное злоупотребление и корыстолюбие, и именно история-то это и обна-
ружила: достаточно было появиться на этом самом «пёклом» месте челове-
ку с дружбою к семье, с заботою о семье, с доверием к ее собственным нрав-
ственным силам, — и вся картина изменилась. То, что прежде казалось
«нельзя затронуть», стало «можно затронуть», чего нельзя было «и обсуж-
дать, понеже каноны» — стало «возможно обсуждать — хотя и каноны».
«Нерасгоргаемость брака», мертвая, ужасная, механическая, гробовая, не-
заметно и чуть-чуть, крошечными, но уверенными шажками стала преобра-
зовываться в наступившую теперь «расторгаемость»... Ей-ей: тут лежит одна
истина подо всем, притом, казалось бы, для кого-кого оспоримая, а уж никак
не для «духовного мира»: «Человек не животное'. В человеке есть душа'.» И
только! Только всего!.. Достаточно было признать это, чтобы поверить, что
человек сам будет стараться устроить себе гнездо, самое для него дорогое,
ежедневное,—как можно чище, светлее, уютнее, спокойнее, удобнее, проч-
нее. .. «Интерес» человечества, жажда им «покоя» есть совершенно доста-
точное обеспечение устойчивости семьи: и об этом нечего мелочно и скру-
пулезно заботиться ни государству, ни церкви, а только нужно этому не ме-
шать. Едва вызрела эта мысль, одна эта мысль, единственная, как в сущно-
сти все уже совершилось в сфере развода, все и до конца : остались механика,
делопроизводство, борьба с задержками, препятствиями, но борьба в русле
реки, течение и направление которой дано. С. П. Григоровскому принадле-
жит историческая заслуга, что, будучи чиновником, «дельцом», он явился с
молодой душою на эту застарелую, испорченную почву, явился с нравствен-
ною совестью туда, где никогда совести не было, встал с верою на точку, где
царствовал скептицизм и поистине вольтеровская улыбка. Улыбка над «се-
мьею», над «господами супругами, хотящими разводиться и которым под-
спудно хочется только поразвратничать»... Вот этот «Вольтер» и создал весь
знаменитый бракоразводный процесс: с «волчьими ямами», «колючими про-
волоками», «заграждениями»... — «Хотите разводиться? Пожалуйста, —
можно. На основании XIX главы апостола Матфея о прелюбодеянии как
единой причине развода. Вот вы на площади, перед всем народом, и проде-
лайте прелюбодеяние, и чтобы это записано было в протокол свидетелями».
Все «по форме» в «формальном суде»... Но как никакая пытка не могла при-
нудить людей к такому бесстыдству, то и создались сами собою, а отчасти
подсказаны были, «обходцы», на оплату которых уходили состояния и на
устроение которых тратились годы и даже десятилетия... Пока разорятся,
coci ареются и умрут.
Однако начать побеждать дело, сложившееся веками, можно было только
«крошечными шагами»... 25 лет таких «шагов», но все в этом добром и
благородном направлении, и составляли «службу» С. П. Григоровского; а
письменным плодом этой «службы» является настоящая книга, на которую
с благодарностью должны посмотреть все русские семьи. Нельзя не вспом-
293
нить при появлении этой книги о доблестном и малопонятом государствен-
ном муже — К. П. Победоносцеве. Строгий судитель нравов, он был фана-
тическим противником развода и отправляемым в провинцию секретарям
духовных консисторий давал устную инструкцию: «Какие разводы? Разво-
дов никаких не должно быть. И не давайте». Из-за исполнения этой инст-
рукции и погиб секретарь полтавской духовной консистории,—памятное
дело об убийстве которого волновало всю Россию. Таков был взгляд Побе-
доносцева как плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»:
и что бы ему стоило одним дуновеньем сдуть молоденького чиновничка
синодальной канцелярии, который в таком нервном и вместе идейном деле
держался диаметрально противоположных убеждений, а главное,—и прак-
тически готов был действовать противно взглядам всемогущего обер-про-
курора. Но Победоносцев был русский, а не немец-, т. е. не резонер, тупица и
упрямство; он понял, что за это дело взялся человек с идеалистическими
взглядами, с идеальным уважением к семье. И (вероятно, ворча под нос)—
дал ему делать дело не как «начальство хотело», а как тот сам находил нуж-
ным. Но, повторяем: одним дуновением он мог бы сдуть человека. И что он
этого не сделал и как бы в старости сам переменился во взглядах, показы-
вает, что в этом старце тоже жила молодая душа, хотя и огорченная «рас-
стройством века сего». Хочется, чтобы история семьи связалась положи-
тельно и благодарно и с именем Победоносцева.
В книге, которую мы указываем, читатель найдет «последнее слово»
всего, что относится до предмета, указанного в ее заглавии. Здесь он най-
дет также и страницы о «раздельном сожительстве» супругов, этом сурро-
гате развода, когда он недостижим, пока он недостижим.
В БЕЗЫСХОДНОЙ ПЕЧАЛИ
Литература была бы суха, холодна, черства, если бы она являла собою про-
дукт мозговой деятельности некоторого количества лиц, именуемых «писа-
телями», и не связывалась с жизнью тысяч и миллионов людей, — притом с
жизнью дорогой, интимной, нужной. Жизнь всех—это та «мать сыра-зем-
ля», прижимаясь к которой встает всегда с помолодевшими силами Антей-
литература, —если не будет нескромно назвать ее этим именем. Называем
так не по сходству величины, а по сходству отношения к «земле» или к су-
щей кругом нас жизни. Что касается жизни материальной, «хлебной», то это
давно признано, давно есть: давно и всесторонне осуществлено. Но прихо-
дится стать под защиту великих слов: «Не о хлебе едином жив бывает чело-
век», чтобы выступить с требованием, что литература вправе связать себя
не только с материальными нуждами текущих дней, с этими «торговыми и
железнодорожными новостями», грозящими убытком или обещающими
богатство, но и с жизнью души, сердца, с ломками биографии, по крайней
мере когда единичное острое страдание имеет себе тысячу параллелей под
294
кровом других домов. Есть страдание души, невыносимейшее всякого фи-
зического страдания: вправе ли литература заняться таковым, если оно—
очевидно и общеизвестно для всякого—имеет себе параллели? Вправе ли с
таким страданием обратиться частный человек к писателю, с просьбою от-
ветить не письмом, а литературно, — ибо дело касается идей и книг? И мо-
жет ли писатель удовлетворить такую просьбу? Если пишутся «письма в
редакцию» по поводу нехватки билетов на поезд, о запоздании поездов, о
дороговизне квартир и мяса,—можно ли написать, — извиняешься всячес-
ки и на обе стороны за сравнение, — о горе смерти и связанном с ним, как
нередко случается, колебании религиозных устоев? С просьбою помочь вы-
путаться из душевного мрака, из которого выпутаться своими силами пишу-
щий письмо не может. Конечно, — это дело исповедальни: но и сам безу-
тешный человек не нашел помощи. Искал в книгах — и там не нашел. И
спрашивает о новых книгах, о чем-нибудь, за что бы мог ухватиться в пол-
ном душевном и, главное, религиозном мраке.
Но ведь «на религиозные темы вообще» пишутся же статьи. Об этом
спрашивают даже в анкетах; на это отвечают, и тоже печатно. Почему «во-
обще» можно, «в частности» — нельзя? «В частности» все наливается кро-
вью, «частность» — начало всего живого. «Частность» и есть та «земля», к
которой нужно прижиматься,—дабы не овоздушиться, испариться и даже
исчезнуть в схемах отвлеченности. Отвлеченность — «ну ее к черту», а
конкретность—«поди сюда». Я думаю, к этому передвигается незаметно и
литература, по крайней мере в ее живейших движениях. Более и более она
хочет отвечать человеку, людям, а не человечеству; хочет заниматься боль-
ше «Иваном», нежели всем календарем. Решительно наклоняя весы в эту
сторону, я предлагаю читателю выслушать эти слова, так сказанные, что
мне страшно их переделывать и изменить:
... «Недавно я пережила большое горе — смерть молодого сына,
прекрасного, полного жизни и счастья. Смерть эта произвела во мне
полное крушение всего, чем жила до 60 лет. Потеряла веру в Бога, и в
душе теперь мрак, пустота, могила... Чувствую, что схожу с ума, ме-
чусь и ищу спасения... Говела, приобщилась Св. Тайн, слушала слово
утешения духовных лиц, но осталась как каменная. Принялась читать
философские и теософские книги, но пока безрезультатно, вот уже пол-
года. Ничто меня не может вновь уверить, утешить, хотя бы смягчить,
растопить мое сердце. Оно застыло, очерствело, озлобилось. Мне тяжко
и страшно с таким душевным состоянием умереть. У меня мало време-
ни, мне уже 60 лет. Сомнения, конечно, и раньше были, в наш век как
им не быть! Тем более, что я всегда много читала. Вот недавно прочла
«Эволюция материи и эволюция сил» Лебона. В восторге от этих книг.
Преклоняюсь перед открытиями науки. Читая некоторые страницы, —
прямо дух захватывало! Думала: до чего еще дойдет наука! Что еще она
откроет и объяснит! Итак, сомнения были, не могли не быть. Но, не-
смотря на это, вместе с этим во мне жила вера в Бога, доброго Бога,
295
Отца Бога, Живого Бога, Бога наших детских лет. Как объяснить такое
противоречие? Которого (Бога) горячо любила и Который, думала я, и
меня любит, слушает и охраняет. По-моему, вера такая только и долж-
на быть. Она должна жить в душе человека непроизвольно, бессо-
знательно, как бьется в нем сердце. А рассудочная вера — что же это
за вера?! И отвлеченный Бог — что же это за Бог?! Так лучше и назы-
вайте Его прямо отвлеченной идеей, силой природы, всемогущей, вез-
десущей, всепроникающей, всетворящей, из которой все происходит,
все берет начало, в которую все возвращается и вновь возвращается.
Могущественная сила, действительно прямо поражающая, перед ко-
торой можно действительно преклониться (первобытные народы были
правы, поклоняясь силам природы), но все-таки это не Бог! Эфир, о
котором говорит Лебон, какие-то вихри, энергия, но не Бог! И уж луч-
ше сразу это себе сказать и поставить на всем, что было мило и доро-
го, чем жила до сих пор, — поставить на всем этом крест, застыть и
ничего не ждать. Да! Но это страшно тяжело! И не могу еще с этим
помириться! Страдаю; молча смотрю на свои с детства любимые и
чтимые иконы, к которым подхожу, по привычке всей жизни, ежед-
невно. Стою в церкви, но ничего нет в душе, молчит она, молчат и Они
все, которые, бывало, жили и говорили. Придет ли, вернется ли преж-
нее? Скажите, ради Бога! Ведь, однако, вижу столько людей умных,
образованных, развитых, которые верят, видимо, так, как я верила, не
отвлеченно, а попросту, по-детски. Не глупее меня, не менее развит и
образован был хоть бы воттолько что скончавшийся П. А. Столыпин,
а с какой верой он причащался... Скажите мне мнение ваше, на чем
вы сами успокоились? Я поняла, что вы религиозный человек, я поня-
ла, что вы глубоко преклоняетесь перед личностью Христа. Научите
меня этому, научите понять Его и Евангелие. Я никогда вполне ни Его,
ни Евангелия не понимала... Личность И. Христа высока, трогатель-
на, я Его всегда горячо любила и глубоко жалела. Но мне всегда каза-
лось мраком то, что Его окружало, и Он не мог разогнать этого мрака,
воскликнув на кресте: «Боже Мой! Боже Мой! Зачем Ты Меня оста-
вил». Слова эти прямо разрывают душу. И все мы, несчастные люди,
эти слова с Ним повторяем, и я лично — теперь их повторяю. Я поте-
ряла и сына моего, и Бога моего и не знаю, кого больше оплакиваю.
Повторяю, что люблю и жалею Его, но не могу понять, чем Он выше
других многих великих, являвшихся людям»...
Ну, это — безумие: да вот этим одним и выше, что воскликнул: «Боже,
почто Ты Меня оставил», — что пришлось о себе повторить несчастной
матери, что повторим в подобной потере мы все, со временем... И чему нас
никто еще не научил, ни Орфей, ни Пифагор, ни Сократ, ни Будда... О них
всех упоминается дальше в письме. — Христос—вне категорий, вне срав-
нений человеческих', и—также Евангелие. Тут «женский ум» изменил стра-
дающей матери. Я оставляю рассуждения и вернусь к делу.
296
Что же ей сказать? Возможно ли солгать? Возможно ли обмануть чело-
века в горести?—Ей нет утешения, нет утешительного слова, как не полу-
чим его и все мы в наш черный час, которого никто не избегнет. Что это
такое? Мрак действительно есть во мраке—судьба людей, и его не одоле-
вает даже и религия, т. е. им одет в последнем анализе и религиозный мир.
Это так страшно, что хочется кричать, выбежав из дома. Но вот что нужно
сказать, однако: что уж «эфиры»-то и Лебон никак не помогут в этом, но
если мы, все люди, все с такою одинаковою участью, возьмем друг друга за
руки, и так все — цепью, и так все — с предками, такими же несчастны-
ми, и вплоть далее до креста, с рыдавшею там Богоматерью тоже о смерти
Детища и Бога,—то чуть-чуть нам «в цепи» этой станет легче. А «цепь»
эта — церковь. И вне ее — нет утешения.
Согласен: и она не утешает. Но уж если где она не утешает, то совер-
шенно никто не утешает. А она еще «может быть»... Вот за это «может
быть», единственное на земле, мы и должны, и можем, и хочем ее безумно
любить.
К чему такая скорбь? Зачем эти матери без детищ, эти гробы? вдбвы,
вдовцы?..
Ангелы не печалятся.
А люди все печалятся. Почему? Какой смысл? Цель? Да что же бы мы
были без печалей? Ангелы совершенны без печали, а люди только в печа-
ли и приближаются к совершенству. Они вдруг начинают понимать, чув-
ствовать, общиться, вот «держаться за руки», связываться в «церковь».
Груб человек, ужасно груб; ужасное «толстокожее». Пусть мать окинет
скорбящим глазом жизнь кругом: и она ужасно будет поражена грубым и
легкомысленным зрелищем, которое раньше ее вовсе, может быть, и не
поражало. И ни за что не захочет с этим увиденным слиться в одно, сде-
латься его частью...
«Нет, я лучше к церкви, — пролепечет она. — Туда, где гроб мой, где
моя могила]» Что делать; гробы выше жизни! Ужасно, но правда. И если бы
этого не было, если бы, наоборот, жизнь была выше, одухотвореннее, чище,
священнее могил, — их бы не стало и человек бы не умирал. Да так рели-
гия и говорит, одна религия:
Согрешил —умер]
Вот этого никакой Лебон не скажет, как он ни кружись в своих «вих-
рях». Все эти «вихри»-то без души. Не плачут эти «вихри». А не плачут
они, — кой в них черт. «Вращайся» или не «вращайся», мне с гробиком
сына начихать на них. Силы природы, такие «всемогущие», на самом деле
«всемогущи» к смерти, к горю, к разрушению, а не к жизни, не к воскресе-
нью. Ничего не «воскресят», сколько ни вертись. Ну их, все эти «вихри».
Холодные они. Ледяные. На «погосте» все-таки лучше, около могил—ибо
они единственно священны на земле.
Чем «священны»? Скорбями. Тем, что плачет около них человек; что
тут—душа. И значит,—теплота, и значит, — начало жизни. Где «потеп-
297
лее»—там начало жизни; и где «все за руки»—там тоже начало жизни; и
вообще «начала жизни» — все-таки в церкви. Кой-какие, ну как «обеща-
ния», а все-таки только в церкви. И она—лучшее на земле. И старушка
«без дури» молилась на иконы 60 лет. Нет — это не обман, не иллюзия, а
верный инстинкт правды.
Смерти никто не избег. Даже Бог. Вот и Он, с Его мукой... «Зачем оста-
вил Меня». Что же мы можем сказать? Какое утешение, когда утешения не
имел наш Спаситель?
И Он все принял и все перенес. Но все это отразилось невероятными
последствиями на человечестве, которому стало легче умирать, припоми-
ная муки Богородицы перед крестом, и рыдания учеников Его, и весь ужас
и смятение тогда. Это тогдашнее смятение теперь входит в наше смятение
и поддерживает нас, освещает каким-то светом нашу муку, и мы уже не так
страшно умираем, как люди умирали до Христа—в холод, кусая язык, и не
понимали. И мы не понимаем. Но одну подробность понимаем: что умира-
ем от греха, и что, скорбя, мы поднимаемся над землею, и чуть-чуть, но все
же приближаемся к бессмертию. Ибо где «лучше» — там бессмертие; а в
скорби мы, бесспорно, «лучше». Христианские скорби, — все, — имеют
какой-то корешок самоисцеления, ибо все ведут к какому-то бесспорному
упразднению всех скорбей. В них содержится, как маленький лучик, обеща-
ние какого-то беспечального бытия, нового и земле вовсе не причастного.
Какое оно? Что такое? Но предчувствуем, что есть.
Церковь — единственное на земле придуманное, на земле осуществ-
ленное, земле данное (я думаю) свыше утешение именно в таком безмер-
ном горе, для которого собственно или главным образом церковь и суще-
ствует. Если не здесь, то уже нигде; и если здесь еще не все, то уже кое-
что. Здесь в черный мрак скорби, в его совершенно нерассветающую ночь—
брошен белый лучик. «Господь с нами»: именно в скорби—«с нами», осо-
бенно тут-то—«с нами». Мы все-таки не одни: а ведь главная мука поло-
жения, в каком находится эта мать, — чувство: «я—одна». Это такое страш-
ное одиночество, какого не испытавший страшных потерь не представляет
себе: исчез, зачеркнут единственный, с которым находился в единственном
отношении. Вырван прямо корень бытия; цветок жив, но сломан стебель,
на котором он цвел. Что ему делать, как не увядать ужасным медленным
увяданием? Вот это «увядание» и сказалось с несравненной силой в письме
матери, которое я привел и которое рассказать своими словами невозмож-
но, а нужно, чтобы люди о нем знали. И везде в мире эти увядания неисце-
лимы, непереносимы, необоримы,—так что люди часто тогда и с собой
кончают, по ритуалу и закону, и этот ритуал и закон не без разума вытек
из существа дела (индусские жены, славянские языческие вдовы): но в
христианстве, и именно в одной церкви, эти увядающие цветы на сломан-
ных ветвях все же остаются, спрыскиваются водою какой-то жизни, про-
должают благоухать, хотя и не тем уже благоуханием. Самоубийство в
скорби — немыслимая в христианстве вещь, и разрушило бы, зачеркнуло
298
бы суть, зерно христианства. Самоубийца-христианин—вот антихрист.
Да! Но, следовательно, суть христианства — «живи и живи, скорби и не
умирай!»
Не умирай! Ни за чтб, никогда! Но как же жить? Плача. Женщина, при-
славшая письмо, обо всем пишет, но не упоминает о слезах: и это — глав-
ное, почему ей трудно. В слезах дан какой-то физиологический, и тайный
и чудесный, источник перенесения таких скорбей. «Выплачешься, и легче
станет» — народная тысячелетняя примета. Женщины, которые «много
плачут», — терпеливее мужчин, переносливее мужчин; как с ними реже
случаются и самоубийства «от печали». Приславшей мне письмо надо най-
ти какой-то ею потерянный путь к слезам: может быть, в чем-нибудь раска-
явшись? Может быть, найдя свою вину перед потерянным, перед умершим?
Скорбь еще углубится на аршин: и вот, еще углубясь, — разольется в сле-
зах, и тогда получится общее облегчение. Вот все, чтб я умею сказать, — и
это «все» диктует не разум, а опыт. Нужно обозреть жизнь свою, вернуться
к ее исходу: и оросить слезами те ямки-гнездышки, те многозначительные
«минутки» в жизни, какие каждый помнит про себя, один их знает, и они
уже тогда в зародыше несли теперешнюю печаль.
ЛОМОНОСОВСКИЕ ИЗДАНИЯ,
СОВРЕМЕННЫЕ ЕГО ЖИЗНИ
С благоговением я снял с полок несколько книг в кожаных полуразвалив-
шихся переплетах, хранимых «через тридцать лет» (в течение тридцати лет),
говоря синтаксисом XVIII века. Книги сии суть:
Российская грамматика Михаила Ломоносова. Печатана в Санкт-Петер-
бурге. При Императорской Академии Наук. 1755.
В малую 8-ю долю листа. Перед заглавием картинка: солнце в лучах,
внутри коего инициал имени Елисаветы Петровны, с короною над буквою.
Под ним два гения (головки с крылышками) дуют изо всех сил. Еще ниже
три символических полунагих фигуры (муз? божеств?) стоят за спинкою
кресла. В широком кресле сидит, в лавровом венке и со скипетром, импе-
ратрица Елизавета. Перед нею на круглом столе, покрытом скатертью, раз-
вернутая книга с заглавием «Российская грамматика». Перед столом «на-
род» или «учащиеся»: безбородые фигуры времен Петра и Елизаветы (по
костюмам) и с краю бородатая фигура времен Московского царства. На сто-
ле: циркуль, наугольник (прямой угол из дерева), древесная листва и пло-
ды; у подножия стола—два мальчика-гения записывают в книги, должно
быть, «деяния Елизаветы» или имена славных ее сподвижников.
После титульного листа—лист с посвящением: «Пресветлейшему Го-
сударю Великому Князю Павлу Петровичу Герцогу Голстейн-Шлезвигско-
му, Стормапрскому и Дитмарсенскому, Г рафу Олденбургскому и Делмен-
горстскому и прочая, Милостивейшему Государю».
299
Собрание разных сочинений в стихах и в прозе Господина Коллежского
Советника и Профессора Михайла Ломоносова. Книга первая. Второе из-
дание с прибавлениями. Печатано при Императорском Московском Уни-
верситете 1757 года.
В 4-ю долю листа. Перед титульным листом великолепный портрет Ло-
моносова: гордое, вдохновенное и пренебрежительное (высокомерное?)
лицо повернуто в сторону (придумывает рифму? творит мысль стиха?). Одет
в великолепный расшитый кафтан того времени. На листе бумаги, поло-
женном на стол, вывел заглавие стихотворения:
Ода
Ее Имп. Велич-ву
Под портретом подпись:
Московский здесь Парнас изобразил витию,
Что чистой (sic) слог стихов и прозы ввел в Россию,
Что в Риме Цицерон и что Виргилий был,
То он один в своем понятии вместил,
Открыл натуры храм богатым словом россов
Пример их остроты в науках Ломоносов.
На столе, фигурном, без скатерти, стоит глобус и раскиданы циркуль и
транспортир. В шкафу, стоящем влево, на полках реторты и вообще при-
надлежности химии. Сзади, через окно, виден сельский ландшафт.
На титульном листе изображена: гора Парнас, на вершине коей четы-
рехстолбный храм. Около него Пегас, поднявшись на задних ногах и тоже
«вдохновенно отогнув в сторону голову», готовится полететь и уже почти
летит. Внизу, — полунагой Аполлон, в лавровом венке и сандалиях, играет
на лире. По скатам Парнаса—деревья, кусты и травы.
Впереди текста и впереди самого оглавления книги помещено: «Пре-
дисловие. О пользе книг церковных в российском языке». Это — знамени-
тое рассуждение, разучиваемое у нас в гимназиях.
Книга содержит: переложение псалмов 1,14,26,34,70,143,145; «Ода,
выбранная из Иова», «Утреннее размышление о Божием Величестве», «Ве-
чернее размышление о Божием Величестве при случае великого северного
сияния».
Затем — 12 од «торжественных» и «похвальных».
Далее—44 «надписи» (к статуе Петра Великого, — 5 отдельных надпи-
сей), «Надгробная Святому благоверному Князю Александру Невскому» и
современные, на разные случаи.
Еще далее—6 «Слов публичных», из них: «О пользе химии», «О элект-
рических явлениях на воздухе, с изъяснением», «О происхождении света»,
«О рождении металлов».
300
Позволим себе привести выдержку из 3-го «Слова»—о Петре Великом:
«И по окончании трудов военных, по укреплении со всех сторон безо-
пасности целого отечества, первое имел (Петр Вел.) о том попечение, что-
бы основать, утвердить и размножить в нем науки.
Блаженны те очи, которые божественного сего Мужа на земле видели!
Блаженны и треблаженны те, которые пот и кровь свою с Ним, за Него
и за Отечество проливали и которых Он за верную службу в главу и в очи
целовал помазанными Своими устами...
Но мы, которые на сего Государя при жизни воззреть не сподобились»...
И т. д. Какая красота, какая сила слова!!!
И в заключение знаменитое стихотворное рассуждение: «Письмо о
пользе стекла к Высокопревосходительному господину Генералу Поручи-
ку, Действительному Ея Императорского Величества Камергеру, Москов-
ского Университета Куратору и орденов Белого Орла, святаго Александра и
святыя Анны Кавалеру, Ивану Ивановичу Шувалову, писанное в 1752 году».
Это поистине великолепное издание следовало бы во всей благородной
обстановке тех дней, т. е. с соблюдением формата, цвета и всех качеств бумаги,
шрифта и драгоценных портрета и виньетки,—переиздавать стереотипно ad
usum scholarum*. Но наше параличное министерство просвещения (сегодня
день стьща его!) ни о чем не догадается, никогда ни о чем не догадывалось.
Краткой (sic) Российской (sic) Летописец с родословием. Сочинение
Михаила Ломоносова. В Санкт-Петербурге при Императорской А кадемии
Наук 1760 года.
В малую 8-ю долю листа. Посвящен великому князю Павлу Петровичу.
Эти, самим Л омоносовым изданные, книги нельзя почти читать: их мож-
но только целовать, с пылью, на них насевшею, с пятнышками на страницах,
с хлопочками тонкой, износившейся в веках кожи на переплете. Тут—все
древность, все—золото, везде—след забот, ума Ломоносова. Следующие
книги уже можно читать.
Краткое руководство к красноречию. Книга первая, в которой содер-
жится РИТОРИКА, показующая правила обоего красноречия, то есть
ОРА ТОРИИ и ПОЭЗИИ, сочиненная в пользу любящих словесные науки тру-
дами Михаила Ломоносова, Императорской Академии Наук и Историчес-
кого Собрания Члена, Химии Профессора. Шестым тиснением. В Санкт-
Петербурге, при Императорской Академии Наук. 1791.
Это — перепечатывающийся учебник, — обыкновенный школьный.
И наконец:
Покойного Статского Советника и Профессора МИХАЙЛЫ (sic) ВА-
СИЛЬЕВИЧА ЛОМОНОСОВА собрание разных сочинений в стихах и в про-
зе. В Типографии Императорского Московского Университета 1778 года.
Три книги. С трагедиями «Тамира и Селим», «Демофент», с героичес-
кою поэмою «ПЕТР ВЕЛИКИЙ», и т. д. и т. д., всякие прелести...
* для школьников (лат.).
301
* * *
Так трудился, думал, печатался наш славный «Михайла Васильевич», —
около Петра как бы его младший брат по гению или его сын по вдохнове-
ниям и неустанности, по оживлению, склонности к пирам и наукам, к
дерзости и надеждам, к войне (с академиками), к борьбе и вечному строи-
тельству России и для России. Имя — прекрасное, праведное, почти свя-
тое по всестороннему одушевлению, в то благодатное время, когда у всех
почти русских
Восторг внезапный ум пленил.
Что было за время... Какие они были все счастливые, в буклях, пари-
ках, в золоте кафтанов, с мечами, с гусиными перьями, с чернилицами и
астролябиями. Поистине:
Ступит на море—море кипит.
Так шли «походом» они на Запад за Русь, «брать штурмом» просве-
щение, «сравниваться» с Европой и, конечно, «завтра превосходить ее»...
Бодрое племя: где ты зародилось? Ты родилось в дворцах и в деревнях, в
морозах и в зное неизмеримых равнин Родины, от Астрахани и до Архан-
гельска. Тебя родили цари и мужики: и вся ты с «ура!» двинулась вперед,
на завоевание наук, искусств, стихотворчества, великолепной гордой про-
зы, «химии» и «похвальных слов». Да, «похвальных слов»: гиганты чув-
ствовали кровь в жилах.
Не то, что нынешнее племя.
И били вдребезги чернильницы, пиша все «оды» и «оды». Стоили «од»
и писали «оды». Естественно. Натурально.
Склонимся перед памятью великих. Соберем их книжечки. Эти старень-
кие, ветхие, священные книги. То «начало Руси», духовной, умственной,
волнующейся, огненной... Казалось, она вся «подражательна»: о, как в дей-
ствительности она была оригинальна и самостоятельна, самобытна—и
нова в истории. «Шире ворота», — сказала Русь всемирной истории: и с
колокольчиками, бубенцами, с лихим ямщиком на облучке, с пушками и
самопалами въехала в Германию, Францию, Голландию и Англию. И «от-
ворили» ей ворота...
Прошли ворота... Но, лихо въехав, мы неожиданно встретили какие-то
пески. Пески, пески... желтые, однообразные. Тонет тройка в них, храпят
лошади. Ямщик чешет затылок: или остановиться, или поворотить даже
«вспять»?.. И сам ездок — не тб дремлет в тарантасе, не тб видит какой-то
мутный сон, не то отчего-то опьянел и глубоко равнодушен к «вперед»,
«назад», «влево» и «вправо». «Куда-нибудь»...
Так пронеслось два века. Так мы живем и жили, под музыку «грустной
песни ямщика»...
302
МОСКОВСКИЕ ПОРЧЕНЫЕ
И НЕПОРЧЕНЫЕ МАЛЬЧИКИ...
Покойный Достоевский называл наших профессоров «мальчиками», а нау-
ку нашу несколько раз и желчно называл «полунаукою». Это не исключает
огромной пытливости русского ума, но только эта пытливость «где-то стран-
ствует» и не показывается там именно, где ожидалось бы, — в аудиториях.
Все это важно вспомнить ко дню двухвекового юбилея Ломоносова, по по-
воду которого все наши высшие учебные заведения и множество quasi-уче-
ных в них разукрасятся лавровыми венками.
Тема горькая и язвительная. При всех упреках надо все-таки оговорить-
ся, что профессора у нас отвратительно обставлены и обеспечены и что
занятие наукою, даже серенькое, есть наиболее почтенное дело в России,
где так много непочтенных дел и частью позорных профессий. Дело нельзя
смешивать со злоупотреблениями; дело профессуры свято, профессора...
выражаясь осторожно, оставляют многого желать.
Мне совершенно, напр., непонятно, морально непонятно, существова-
ние «профессорской газеты».
А там, где смешаны два эти ремесла и т. д. и т. д., сказал и осудил кто-
то. Конечно, газета выйдет плохая, потому что «некогда». Но и профессура
у журналистов тоже выйдет плохою, и тоже оттого, что «некогда». Нельзя,
мне кажется, уважать ни журналистики, берясь за нее не с полным внима-
нием, ни — профессуры, отвлекаясь от нее в такое хлопотливое и злобо-
дневное дело, как издательство, редактирование и «писание» всего текста
газеты. Тут что-то чему-то изменяет; а если симбиоз охотен и долголетен,
то тут есть «две обманутых жены» и ни одного «верного супруга».
Но оставим и эту тему, которая у меня, по крайней мере, связывается с
газетою «Русск. Ведомостями», которая издается вот уже «год сорок
восьмой». Нельзя представить себе, чтобы в них «пописывал» Ключевский;
и он в них действительно не «пописывал». Но обильно пишет Кизеветтер,
о важных трудах которого в науке едва ли кто-нибудь слыхал. «Пописыва-
ют», кажется, те, кого Достоевский звал «мальчиками»; и, конечно, они могут
«писать» очень долго, до тех пор вообще, пока есть ученые, которых не
очень влечет наука и которые в аудиториях делают «полунауку»...
Ну, и Господь бы с ними; о них я бы не говорил, как вообще о «Русск.
Вед.» никто не говорит, ибо их более не читая «уважают», нежели хотя бы
не уважая читали: «уважают», потому что «профессора» и потому что, по-
наслышке, «они все такое серьезное пишут», как серьезно рассуждал тот
дьячок у Гоголя, что, бывало, вынув фуляровый платок и распустив его пе-
ред носом, — говорил долго, солидно, внушительно и никому не понятно.
Но неожиданно, после защиты проф. Лебедева, после нападок на какого-то
едкого корреспондента из Москвы, мне попался кусок текста, который вну-
шил мысль уже не о «мальчиках», а об испорченных мальчиках, какие со-
ставляют несчастье школы и семьи, даже несчастье улицы. Судите сами:
303
«Что семейная форма, унаследованная нами от прошлого, — пар-
ная и нерасторжимая семья, — повсеместно понемногу разрушается в
цивилизованном мире, составляет факт общеизвестный. Она повсюду
потеряла, во-первых, характер нерасторжимости. Развод—явление в
наши дни нормальное, законное, и процедура развода облегчена в вы-
сокой степени. В общественное сознание, таким образом, проникла и в
нем укрепилась мысль, что брак есть добровольный союз мужчины и
женщины, сохраняющий свою силу только до тех пор, пока внешней
связи соответствует связь внутренняя, душевная. Исчезла она, исчез-
ло свободное согласие и стремление друг к другу — и ничто не препят-
ствует супругам разорвать формальный союз, утративший свое со-
держание.
Но право развода не уничтожает парности семьи. Однако мы еже-
дневно наблюдаем, что и этот брачный принцип подмывается в совре-
менном обществе, — по крайней мере в некоторых его слоях, — разно-
образными течениями. Я говорю не об адюльтере, не о тайных и скры-
ваемых изменах. Я говорю о множественной семье, о своеобразной
новой полигамии и полиандрии, понемногу входящей в нравы и легализи-
руемой общественным сознанием.
Сюда принадлежит и так называемый manage a trois, — форма по-
лиандрии, все чаще встречающаяся в наши дни в тех общественных сло-
ях, где есть потребность жить «прилично» и где заработок или вообще
доход мужа недостаточен, чтобы позволить жене без помощи сто-
роннего покровителя достаточно хорошо одеваться, достаточно хо-
рошо «принимать» etc. При наличности двух этих условий, при стрем-
лении к нарядной жизни и при недостаточности средств мужа, расходы
«по представительству» делятся пополам между легальным мужем и
мужем с левой руки. Муж мирится с этим положением, потому что оно
в интересах семьи и дома. Общество мирится с ним, потому что смеш-
но нападать на то, что общераспространено и вызвано материаль-
ной необходимостью. Жена мирится с двумужием, потому что оно иногда
приятно, всегда — выгодно. И, наконец, муж с левой руки может пред-
почитать относительно безответственную роль «друга дома» ответствен-
ному положению его хозяина. Так все устраивается к общему удоволь-
ствию. Говорят, что стоит только приехать в Румынию, в Бухарест, напр.,
чтобы увидеть этого рода menage a trois в качестве полулегального ин-
ститута, вкоренившегося в нравы.
Но в Рим ведет не одна дорога. Некоторые утверждают, что туда
ведут все пути» и т. д. («Русск. Вед.», № 250,30 октября. Статья «От-
клики жизни» г. Белоруссова).
Прислушайтесь к тону.
Строки скользят, как кильки в рот пьяницы за «пропускаемыми» рюм-
ками. Легко, приятно и никакого затруднения. Ни—у Белоруссова, напи-
савшего статью, ни у редактора профессорской газеты, ее читавшего пред-
варительно, ни у всей «коллегии» профессоров-сотрудников. И только, мо-
304
жет быть, «сплюнул на сторону» наборщик в типографии. Но ведь он—не
«интеллигент». «Интеллигентные» все прочли без запинки, не подумав, что
именно «Русские Ведомости», как «газета наших наставников», читается во
множестве студентами, курсистками и даже гимназистами старших классов,
«перед университетом»; читается как литературное к нему «введение». При-
знаюсь, о явлении, здесь описываемом, я впервые услышал сорока пяти лет,
— краем уха, и забыл. Вообще,—это случай, и конечно редкий; для юноши,
для девушки случай вполне поразительный, неожиданный, ибо этому возра-
сту свойственна мечтательная, исключительная и ревнивая любовь. Да и,
раскрыв глаза, они спросят: «За что же плещутся серною кислотою подмас-
терья и кухарки?»—«Вот как в новой цивилизации устраиваются, и дешево
и сердито». Статья Белоруссова, едва ли обогащая знанием старых, раскры-
вает перед юношеством обоего пола такие... странные горизонты, которые
можно сравнить только со светом, исходящим из «общества огарков».
В профессорской газете, в Москве, «среди бела света», как говорят, «Об-
щество огарков» пряталось (было анонимно), а туг полная подпись: «Белорус-
сов, из Парижа» (подпись под статьею: «Белоруссов, Париж, 21 октября»).
Хуже «портного из Лондона» у Гоголя. Не только хуже, — но и никако-
го сравнения...
Тон автора я сравнил с глотаемыми кильками. Просто,—одно удоволь-
ствие читать. Не «першит» ни у автора, ни у читающего студента. Автор
все преподносит как «культуру завтрашнего дня», и явно — это «история и
культура от Санина»: а между тем, она за подписью и одобрением профес-
соров. Придираясь к словам, можно бы сказать, что автор одобряет явле-
ние; «все дороги ведут в Рим», — это полновесно. Но никто даже и в микро-
скоп не рассмотрит, чтобы автор порицал явление.
—А наши бабушки? наши мамаши, сестры? дочери!! Может быть, мы,
дети их, ничего не знали и были только обмануты, или, может быть, они
все глупы и необразованны, потому что этот образованный Белоруссов из
Парижа говорит так свободно и спокойно, так самоуверенно. Он явно что-
то «больше знает», чем мы и родители наши, чем провинциалы. Мы к нему
«посланы учиться», к нему и целой коллегии единомышленных с ним лиц;
тогда как государство не пошлет же «доучиваться» к нам в Новочеркасск
или в Нижний.
Автор не замечает, что он пишет и не о браке, и не о семье, а о феноме-
нах пола, которые от проституции до всяких аномалий обнимают множе-
ство явлений, в том числе и указываемое. «Их много, — говорит он и добав-
ляет: — как осуждать, что общераспространено». Решительно возражая
против «обнуераспространенности», заметим, что и известная половая бо-
лезнь «распространена», и «отроческий порок», распространен: но это не
причина их одобрять, особенно устами профессоров. Итак, он говорит не о
семье и не о браке, а о том, что образуется там, где они исчезли... Он обма-
нут (именно как «мальчик») тем, что все-таки тут «повенчались двое»: но
ведь именно двое повенчались, а третий явно пришел обманом. Иначе и
305
венчались бы трое. Тут «хозяин раскрыл двери вору», и от этого существо
кражи не исчезает. Бывает «враг дома своего», что именно раскрывает дверь:
явление, конечно, редкое, и уже это одно указывает, что редка и эта аномалия
«семьи». Во всяком случае, как автор не понял, что существо брака и семьи
определяется не тем, как «живут вон в той толпе»,—это грубый эмпиризм; и
что на вопрос: «Чтб такое брак?» — всякий ответит: «Сожитие двух при ис-
ключении третьего», а на вопрос: «Что такое семья?»—скажет: «.Родители
и дети». Но родителей—два, о чем объяснять не надо. Таким образом, «брак»
определяется из существа своего понятия, а не из «как живут люди», не из
«как бывает», ибо последнее определяет только уличные явления. Каким об-
разом все это не понято в профессорской газете, непостижимо. Нельзя же
думать, что и «поджигатель», и «хозяин дома»—одно, ибо они оба—«хло-
почут около дома». Но профессора смешали именно это.
Явно — не профессора, а мальчики. И — испорченные. Вот пишешь о
разводе, пишешь о легализации «внебрачных сожитии»: но разумея, конеч-
но, здесь и там об исключении третьего, т. е. пишешь непременно о семье,
которая имеет вечное определение, и определение это (уже не номинально,
а натурально) выражается в высоте окружающих стен, в непереступаемос-
ти границы семьи. Как поле — так нет семьи. Где ровное место — нет се-
мьи. Полигамия и полиандрия не есть семья, а ее отрицание: в полигамии
семьянинки суть матери, а отец—не семьянин. Ведь семья есть не только
факт, но и психология: и психология-то эта и есть исключительность. Она
состоит в «единственном отношении к единственному», — состоит не в
одной половой связи, но и в «дружбе» связанных, доведенной до высшего
завершения, до совершенного чекана. Это часто не удается: но тут место
слезам, горю, уместно негодование: а не то, чтобы «как кильки плывут в
рот». Это просто—свинство, и никакой «цивилизации».
А между тем Белоруссов и коллеги-профессора говорят: «...культура,
цивилизация». От мальчиков и девушек из Новочеркасска скрывается, кто
«поджигатель», кто «хозяин». «Хлопочет около дома,—значит, хозяин»,
—говорят профессора слушателям о поджигателе. Понимают ли они «ци-
вилизацию»? Спросить бы Г изо, Маколея, Авг. Т ьери, Карлейля, у нас Т од-
етого и Достоевского, работавших над историею и теориею «цивилизации»,
как они думают «о румынских нравах». Они бы сказали, что этот глупень-
кий Белоруссов ничего не понимает; что он, как мальчик, под окном услы-
шал чужой разговор о «цивилизации» и начал применять это слово, совсем
не понимая его. «Чтб бы ни плыло вперед—это река» — ученое определе-
ние. Публицист, которому случилось быть и профессором, прибавляет: «Ура,
река! Она — чистая, она — живительная». Но «плывет вперед» и грязь из
опрокинутого ушата, и «плывет вперед водка» из разбитой бочки. Все —
«вперед»: нельзя же все глотать.
Мне рассказывали один бакинский случай; рассказывал член тамошне-
го суда. В лавку татарина вошла барышня (в 1905 г.) и стала говорить, что
«все идет вперед» и татарин должен тоже «двигаться вперед» и, должно
306
быть, «бастовать» или «выдать деньги на симпатичное предприятие». Тата-
рин помнил «закун», как говорит мусульманин у М. Горького в «На дне».
Он топнул ногой на барышню и закричал:
— Пошел вон! У нас ничего «вперед», у нас все «назад»!
Молодец татарин. И дал бы я хорошего «Магомет-оглы» в наставники
московским профессорам. Он бы у них убрал «фуляровый платок», и, взяв
за поднятый нос, — крепко пригнул его к земле.
ЦЕРКОВЬ И ДУМА
(По поводу речей гг. гр. Олсуфьева и Кони)
В прекрасной книге прекрасного писателя и прекрасного человека, С. Н. Бул-
гакова: «Два Г рада», том II, стр. 131, есть следующие строки:
.. .«Скажу прямо: только единицы в нашем обществе хранят еще рели-
гиозную веру. Масса же, почти вся наша интеллигенция, отвернулась от
простонародной, «мужицкой» веры, и духовное отчуждение создалось меж-
ду нею и народом. Мне вспоминается по этому поводу одна случайная кар-
тинка из жизни второй Государственной Думы»...
Булгаков был членом ее, — ив ту пору, я лично помню, он был радика-
лом куда левее кадетов; но, кажется, с задумчивостью... Он видел, на-
блюдал шумящее море; «благословлял» его шум... Но что-то увиденное,
услышанное, понятое заставило его решиться — никогда не входить бо-
лее членом в Г. Думу. Он снял свою кандидатуру в родном городе Ливнах,
Орловской губернии, где у него отец — священник, а сам Булгаков —
профессор-экономист, питомец Московского университета и личный друг,
не помню, Маркса или Энгельса (его мелькающие рассказы мне). Приво-
димая страница, где кинут такой свет на психологию нашей Думы, есть
именно как бы вероисповедная страница, где показано, как переломился
дух человека от полного религиозного отрицания к полному религиозно-
му утверждению:
«В один из весенних солнечных дней, когда во время думского заседания
многие депутаты и журналисты npoiуливались в Таврическом саду, мое вни-
мание привлекла собравшаяся группа нарядной петербургской публики из
депутатов и газетных сотрудников, к чему-то прислушивавшаяся и время от
времени покатывавшаяся от смеху: в середине толпы оказался забредший туда
волынский крестьянин, старик, с чудным скорбным лицом, с характерной
головой, с которой можно было лепить статую апостола или писать икону.
Прислушавшись, я понял, что старик рассказывает про какое-то бывшее ему
видение, в котором Бог послал его возвестить народным представителям Свою
волю. Речь его была сумбурна, но всякий раз, когда он возвращался к своей
миссии и говорил о Боге, слова его покрывались дружным смехом, а он крот-
ко и терпеливо, скорбя о смеющихся господах, снова начинал свою повесть.
307
Мне было невыразимо грустно и больно наблюдать эту сцену, в которой
так ярко отразилась духовная трагедия новой России, и я с горечью отошел
и лишь издали долго видел благородную голову старика, старавшегося что-
то разъяснить и убедить, и смеющуюся толпу любопытных. Впрочем, мо-
жет быть, я и не вполне точно воспроизвожу эту сцену, но так я ее тогда
воспринял. «Не строим ли мы Вавилонскую башню»,—тихо сказал мне по
этому поводу бывший здесь же католический священник-депутат».
Страница эта просится на картину Нестерова... Булгаков все так же
остался марксистом, оставался несколько месяцев... Впрочем, он был, ка-
жется, левее и марксистов: бывал в таких «собраниях», где «страшно быть»
(слова его, тоже в мелькающем разговоре, мне). Но... кое-что запомнилось
ему: и он вышел совершенно на новый путь, не пожелав не только больше
не смешиваться с марксистами, но даже и идти в Думу. Все ему мерещился
(я думаю) тот хохот и тот старик...
И старик тоже не знал, куда пало зернышко его слов; он видел только
смеющихся ему в рот и не заметил поодаль стоявшего человека, почти юно-
шу (Булгаков очень молод), отошедшего в сторону... Так «дело Божие неви-
димо делается»: делайте, господа,—делайте, верующие, и всегда делайте...
Хоть вы плода и не видите, а он всегда есть. Злодеяние — лопается, как
пузырь; а доброе дело—живое зернышко. Всегда вырастет, не затеряется.
Эх, «голосования», «голосования»...
«Машинка», господа: ну, вот тот старик и Булгаков — всего два, а над-
смеявшихся над стариком—два десятка. Кто же прав? По «голосованию»
правы смеявшиеся: но мы всем живым сердцем чувствуем, что тут было
два десятка безобразных людей и только двое—разумных, совестливых и
прекрасных.
Красота побеждает... Красота или «голосованье»? Я хочу сказать, что
Дума Государственная есть, конечно, великое учреждение, и слава Богу, что
она есть, и не дай Бог ей в чем-нибудь повредиться... Но когда ешь яблоки,
такие вкусные и для здоровья полезные, все-таки надо помнить, что это
обыкновенные яблоки, а не небесная амврозия... Членам Думы надо не-
пременно помнить, что они сидят в обыкновенном учреждении, очень нуж-
ном, очень полезном, и вообще «все слава Богу»: но нисколько не «священ-
ны» сами и не священна эта Дума...
Увы, не «священна»; а как бы вот этого хотелось, как бы вот это
нужно...
Представим-те-ка на секунду, как в «Тысяче и одной ночи»... Что-то слу-
чилось, что-то «поколдовалось», «заснули» и «проснулись» и не узнаем сво-
ей Думы; тот же Таврический дворец, и холодок на улице: но какое-то сияние
везде, и, войдя в Думу, видим все лица, «с которых бы писать апостола», и
речи... вот как у того «старика», немного сумбурные, но «священные».
Какой авторитет бы получился! Какая сила! Не надо доказывать: вся-
кий поймет, что после такой «Шехеразады» воскресла бы Русь, и в год-два
закрылись бы все ее раны... Раны вековые, неисцелимые.
308
Горько о нашей Думе: нет там священных речей. Маклаков? Чувствуете
ли вы, что около того старика с Волыни он сам почувствовал бы себя бол-
туном, пустым и ничтожным, речи которого решительно ни на что не нуж-
ны. Он «оратор» только потому, что все вокруг слишком светско, пусто-
звонно, «по машинке»... «Когда все по машинке, то я все-таки лучшая ма-
шинка». Вот его самосознание. Не менее, но и не вершка более.
Как только придвинешь нашу Думу к огромно-значительному, так по-
чувствуешь сейчас, до чего она незначительна.
И как это больно, и как это грустно. Все «считают голоса», иногда де-
рутся или «почти»... Говорят: ну, умно, дельно; ну, красноречиво. Да что
же: все это так обыкновенно. Ведь какой же столбец газеты или какая стра-
ница журнала по своим задачам не умна? И речи в Думе лишь «по задаче»
умны... т. е. то удаются, то не удаются. Все — ординарно, и притом сплошь
ординарно, включая и ум, и дело, и красноречие.
* * *
Все эти мысли приходят на ум при чтении речей Олсуфьева, Кони,—да и
приходили раньше, как только начался в Думе вопрос о церкви, напр., об
учитыванье денег, сюда отпускаемых, и т. д., и т. д. Тон не тот, если даже
речи и умны; точнее: они логически, может быть, и умны, но как они каса-
ются священной области, то они просто глупы вследствие взятого оратора-
ми тона, который является безобразием в этой сфере. Тон «Конька-Горбун-
ка» хорош в Коньке-Горбунке: но если этим стихотворчеством начать укра-
шать жития христианских мучеников, то все закричат: «Остановитесь!»
Отчего? Там — хорош, здесь—отвратителен.
Посмотрите: Дума, имея в «священствах» своих только счет голосов и вы-
ясняя «правду» только через «большинство» голосовавших,—смотрит на цер-
ковь сверху вниз и обсуждает касающиеся ее вопросы тоном судьи в отноше-
нии подсудимого. Почему? А видите ли: у нее формальное право, пошедшее от
прерогатив Думы в Основных законах. Но ведь и секретарь духовной консис-
тории стоит «на точной почве существующих законов», тесня священников и
измываясь над ними. И обер-прокурор Синода «повинуется закону», сведя прак-
тически на «нет» авторитет церковной иерархии. Однако эта «законная дея-
тельность» консисторских секретарей куда как не уважается по всей России,
да и должность «обер-прокурора» церкви не пользуется народным и истори-
ческим почетом. Отчего? По взгляду народному, может быть и не научному,
может даже «сумбурному», церковь и слитое с нею духовенство—неучитыва-
емы, неконтролируемы, свободны; они формально нестесняемы—ибо имеют
внутренний закон благодати, которому следуют; а когда не следуют—то им
«грех» и будут «отвечать перед Богом», а извне все-таки никто их не может
требовать к суду. Дума, в отношении церкви, и стала на почву вот несимпатич-
ной обер-прокуратуры Синода, и даже мелочного консисторского духа: так же
судит сверху, говорит авторитетно, распоряжается над всем, что по существу и
истории, и моральному уважению стоит гораздо выше судящего.
309
Кто выше: Дума или церковь? Даже странно спрашивать. Но тон у дум-
цев именно такой, как бы Дума была властью над церковью. Это не только
глупо, это оскорбительно.
Олсуфьев говорит о духовенстве явно сверху вниз: но чтб такое Олсуфь-
ев и даже роль всего дворянства перед тысячью годами службы духовенства
всей русской земле и даже, в частности, русскому государству? Не «один из
предков Олсуфьева» благословлял Д имитрия Донского на, может бьпъ, смер-
тельный бой с Ордою, но один из предков «теперешних попов». Да все дво-
рянство если поднимет кверху руки, чтобы благословить: то никто и не огля-
нется. А один «поп» поднимет руку благословить: и все наклонят голову.
Ведь это чтб-нибудь да значит же?! Ведь это же не вчера началось?'. И
вот, отчего же это началось, да и пребыло века, и укрепилось? Подумайте,
граф Олсуфьев, подумайте, г. Кони. Один—тайный советник, другой граф:
но ни перед «тайными советниками» вообще, ни перед «графами» вообще
же шапок не снимают, а перед сельским «батюшкою отцом Иоанном» шап-
ку снимет весь народ; да и перед каждым «отцом Иваном», во всяком селе.
Они не требуют, а сам народ шапку снимает.
Служба? Но ведь и «графы» всегда имели очень высокую службу, а уж
«тайным советникам» высокая служба и по чину полагается. Да. Но за высо-
кою службою у графов водились всегда «анекдоты», и у тайных совегников
тоже бывали разные «анекдоты»; почему «шапки и не снимают», ибо это
есть нравственный знак и вольный знак. За духовенством же хотя «анекдо-
ты» важивались, но в такой непропорционально-редкой степени, как такая
исключительность,—что диву давались и рассказывали тайком, а печатать
совсем не дозволяли, даже когда бывала правда.—«А,—закричат,—цензу-
ра!» —Да, цензура: но любопытно, откуда она взялась? Ибо решительно
все «откуда-нибудь да берется».
Дело в том, что в самом факте «анекдот» был величайшею редкостью у
духовенства, — первое. Второе: что оно так и ставилось на чреду свою,
призывалось на дело свое, чтобы быть без анекдота. И, в-третьих, что
красота души народной, что глубина души народной, а может бьггь, и запо-
ведная тайна истории требует, чтобы чтб-нибудь на земле, в мире, во все-
ленной, в мгле народной и мгле веков, стояло без «анекдота», мощно, недо-
сягаемо и страшно.
Вот!
И цензура явилась, и она свята.
— Прочь! Этого не трогайте! Хоть одного чего-нибудь не трогайте,
сальные руки, анекдотические уста, грязненькое воображеньице...
— Прочь! И — решительно!! Не то — убью.
Вот глухой, безговорный взгляд народа.
«Колоколов не трожь», «попа не трожь», «таинств не трожь». «Ничего
не трожь». «Это — мое и Божие».
И отступило все перед этим, даже цари. Даже — Г розный и Петр. Но
последний просунул «обер-прокуратуру» к церкви, но и на нее уже народ
310
«осерчал». Нужно и ее убрать или сократить. Все чувствуют, что этого «не
подобает». Церковь—только Богу отвечает, а судит о ней, т. е. об единицах
духовенства, — весь народ гробовым молчанием, или «молясь» за доброго
попа своего, или переставая за недоброго молиться. Но дальше и он не про-
стирает формального суда. «Дело Божие тайно делается».
Что же тут Дума кричит, шумит, — и, поистине, творит неприличный
анекдот? Какой тон обо всем! «Духовенство не воспитывает» (Олсуфьев).
Да оно «воспитывает» уже одним тем, что есть. Что это именно «духовен-
ство», с исключением «анекдота» в задаче своей, в жизни не только внеш-
ней, но и внутренней, не только на глазах у других, но и дома? Такой «служ-
бы» нет еще: и зовется она,—да будет известно «анекдотическому» графу
— «священством», а люди такие—«священниками»; и что подобного ти-
тула ничто не посмело присвоить себе, попросить себе, умолить себе. Един-
ственный титул и единственное значение. Вот никак не скажешь «Священ-
ная Дума», «священный депутат». Не выходит. Язык не складывается. Все
закричат, в сто голосов: «Врешь! Ничего священного^.» Да еще прибавят:
«Анекдот! Шут!!» Вот беда, что народ так закричит, что история скрепит
это. А о «батюшке Иване» из села Красного скажут:
— Благослови, батюшка! Ты нас с мужем венчал, детку нашу крестил,
отца с матерью хоронил! Потому — благослови и меня.
На это следует оглянуться и Олсуфьеву и Кони.
ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Сегодня исполнилось пятидесятилетие литературной деятельности В. П. Бу-
ренина. Самое раннее впечатление от его таланта для большинства из нас
сливается с светлой порою дней юности. Мы с ним учились шутить, мы по
нему учились беззаботно смеяться над тем, что смешно. Гораздо позднее мы
рассмотрели в нем за тоном непрерывной шутки другое, так сказать, от-
ветственное лицо. Шутка и пересмеивание бьию его «сегодня»: но источ-
ник и цель их лежали далеко «впереди» и далеко «позади». Пересмеивание
смешного вытекало из глубокого уважения к великому прошлому литерату-
ры и направлялось к тому, чтобы будущее литературы бьию достойно ее
прошлых времен, прошлых образцов. Своим остроумием он клал пределы
личной необузданности, личной разнузданности, учил быть сдержанными
и осмотрительными начинающих писателей. Словом, за шутящим писате-
лем с легко бегущими строками мы увидели в зрелые наши годы озабочен-
ного человека, с двойной ответственностью—писателя и гражданина. Он
никогда не бьш беззаботным писателем, он всегда был писателем долга.
Суждения его в запутанных иногда литературных делах и вопросах—
всегда были разумны, просты и ясны. В. П. Буренин вообще являет пре-
красную форму великорусского здравого смысла. Вот этот-то крепкий здра-
311
вый смысл великоросса и бросился, в лице русского критика, в борьбу с на-
хлынувшим на нас и литературу нашу инородческим ломаньем, мутью
и смутой, инородческим притворством и издерганностью. Он, человек
60-х годов, крепко отстаивал русский голос, русскую душу, русский нрав в
нашей литературе, делающейся все более и более смешною, космополити-
ческою, международною, бездушно-эсперантистскою, если можно так выра-
зиться. Казалось, враги одолевали, но он бодро греб «вперед», не обращая
внимания на мутные, заливающие корабль русской литературы волны...
Привет русскому писателю и мужественному воину в сегодняшний бод-
рый и светлый день! Пусть еще много лет, не уставая, трудится он, верный
хранитель и защитник лучших преданий великой русской литературы, и
пусть дождется он ее воскресения, для которого он так много трудился!
В. П. Буренин категорически отказался от всякого чествования вдень
50-летия его литературной деятельности. По желанию Виктора Петровича
деньги, предназначавшиеся его сотоварищами по работе в «Новом Време-
ни» на устройство юбилейного праздника, собрание сотрудников газеты
решило передать в пользу голодающих. На этом же собрании было поста-
новлено отчислять в пользу голодающих, кроме того, два процента с гоно-
рара сотрудников, делая эти отчисления до 1 октября 1912г.
ТАК ЛИ ХОЧЕТ УМИРАТЬ ЧЕЛОВЕК!..
(К самоубийству Лафаргов)
Социалисты сами о себе говорят, и о них говорят некоторые увлекающиеся,
что они несут «новую религию»... Но недоговаривают одного слова: «для
сытых». Смерть Лафаргов, мужа и жены, с осязательностью это показала. И
всего это яснее в той оценке, какую дают их смерти их друзья-социалисты
же. Некто г-н Русанов, из «Русск. Богатства», торопливо пишет несколько
строк, прочитав телеграфное сообщение о двойном самоубийстве:
«Телеграф принес известие о самоубийстве известного француз-
ского социалиста, Поля Лафарга, и его жены, второй дочери Маркса. Я
хорошо знал их и одно время был близок с ними (знались семьями).
Когда я увидал на первой странице газеты лаконическую строку «кон-
чили самоубийством Поль Лафарг и его жена», я был очень удивлен:
такой конец не вязался с моим представлением об этой в общем жизне-
радостной чете (курсивы мои). Но, прочитав в самой телеграмме до-
полнительные строки: «Отравились Поль Лафарг и его жена, оставив
записку, что не желают бороться со старостью», я подумал, что так и
должно было случиться. В их взглядах на жизнь и смерть было много
напоминавшего воззрения лучших людей древнего мира. И эти воззре-
ния были у них не чем-нибудь внешним, навеянным, но глубоко вросли
в их душу. Жизнь, заполненная интересным, разносторонним, высо-
312
кочеловеческим содержанием, и смерть, как последний акт этой самой
жизни, когда выгорела до конца лампа бытия. Никакой потусторонно-
сти у них не было, и никакого мистицизма, даже никакого сомнения
насчет того, что здесь все кончается для человека. Раз Лафарг и его жена
почувствовали, что, вследствие неумолимых физиологических процес-
сов дряхления, существование теряло для них прежний смысл и инте-
рес, они решили уйти из него, как должен был бы уходить с пира жиз-
ни, по словам великого Лукреция, всякий насыщенный бытием гость.
Но они не могли не уйти вместе, ибо вместе, дружно, по-товарищески,
они прожили эту хорошую, осмысленную, идейную жизнь, которая была,
впрочем, не простым эпикурейством, как может показаться поверхност-
ному читателю предшествующих строк, а именно образцом человечес-
кого существования. Она включила и благородный энтузиазм, и борьбу
за идеал, и готовность принести в жертву убеждениям все, все без ис-
ключения, что потребует от них дело международного социализма, ко-
торому они всегда служили.
О политической, публицистической, вообще общественной деятель-
ности Лафарга (Лаура Маркс участвовала в ней более, чем это могло ка-
заться со стороны) я скажу следующий раз, в особой статье, которую я
намерен посвятить воспоминаниям об этих умных, славных, добрых, бла-
городных людях. Теперь я ограничусь прощальным приветом товарищам
по великому мировоззрению труда, которые не претендовали на иное
бессмертие, кроме жизни в памяти людей, стремящихся, как и они, осу-
ществить здесь, на земле, царство общего счастия и свободы».
Интересное впечатление, как и интересна смерть.
В газетах сообщалось, что Лафарги умерли «в роскошной собственной
вилле», в которой и жили. Успешная литературная деятельность, слава на
два полушария, бездетность или дети, не дававшие никаких тревог (быва-
ют такие удачные дети), наконец, может быть, небольшие преследования
за агитацию, которые являются скорее чем-то «возбудительным» в ровной
жизни, чем в строгом смысле «наказанием»: все протянуло над ними то
ясное небо, под которым ясно протекла и ясно кончилась жизнь.
Текла и кончилась не так, каку чернорабочих. Не так, как «течет» во-
обще у "/ юс человечества.
«Она не была простым эпикурейством» (уже в нашем европейском, дур-
ном смысле), — пишет Русанов. Но не доказывает, почему? Кажется, была
именно эпикурейством, если не в «дурном», то в каком-то ничтожном смыс-
ле: жизнь, ежедневно занятая—агитациею, писаньем,—но без оглядки на
всю жизнь и без глубокого вопроса о ней. Вот поистине умерли «партий-
ные люди», и вопросы у них если и были, то «партийные», и «оглядка» —
тоже партийная. Странна была бы жизнь крестьянина, который, умирая,
«оглянулся» бы: «50 раз за жизнь выпахал поле. Как, так мало? и только»!
Мужик сгм ужаснулся бы так жить и так умереть. То, чем были сыты
Лафарги, оставило бы голодным нашего мужика. Сказать ли: Лафарги были
глуповатые люди и умерли глуповатою смертью, от которой с ужасом бы
313
попятился всякий темный человек, простой «мужик Семен» из села «Тре-
паного».
Глуповатые, но талантливые... Это бывает. Хорошо умели спорить,
блестяще вели беседу, писали хорошим французским языком, и с тем уме-
ренным темпераментом, живым и несжигающим, который не заставил их
продать виллу или поубавить в ней роскоши (писали о «роскоши»), чтобы,
ну, хоть до завтра прожил «пролетарий Жак», который (и они это знали)
умираете Париже от безработицы... Сочетание такой «талантливости тру-
да» и «талантливости жизни» с глуповатостью «вообще человека» попада-
ется: и она всего более скрывает истину. Все «партийные разговоры», —
вот с «этим Русановым»: и Русанову никогда не пришел на ум тот вопрос,
который пришел Вронскому, когда он смотрел на приехавшего в Петербург
английского принца, к которому был служебно приставлен.
—Глупая говядина, неужели я такой?
Принц действительно был похож на Вронского, но только был «еще
больше», — как Лафарг похож на Русанова, и тоже «еще больше».
Ах, большие и малые социалисты: скучна ваша вера. Скучна, ничтожна,
пуста и барабанна. «Полковник Скалозуб» не оттого нам противен, что был
«военный», а оттого, что он—«барабанный». Барабан, сухая кожа и две па-
лочки, о нее стучащие. Боже, и никакого бессмертного вопроса, — о себе, о
бытии человеческом! Никакого греха! Вот подумаешь: лучше бы уж они кого
убили, кого-нибудь обыграли в карты «до смерти», изменили бы друг другу,
обманул «дочь Маркса» с горничной: все-таки что-нибудь, тоска, отчаяние и
желание «еще пожить», чтобы «что-нибудь исправить». Но—ничего!! Черт
знает что!! 50 лет верен «дочери Маркса»: да ведь Давид, святой, — и тот
изменил'. Все лукавы: но это — какие-то «медные лбы» без лукавства, без
измены... Хорошо писали, нажили хорошую виллу; и в ней умерли. Да это
точно новенькая колода карт, невскрытая, о которой говорят:«.. .новень-
кие, чистенькие, неиграные, без пятнышка, без фальши, куплены на казен-
ной фабрике»...
Черт знает чтб: я бы голову разбил, если бы был Лафаргом. Такое чис-
тое существование? без тоски? без злобы? без тайного порока, который бы
«замолить». О, да, конечно, «Бога не нужно» для колоды карт с фабрики...
Но человечество на предложение «быть чистенькими картами с фабрики»
ответило бы таким ужасным воем тоски, отчаяния, исступления, что...
Но «Лафарги» бы не смутились... В том и штука, что не смутятся...
Чистенькие и без греха. «Живем в своей вилле, потому что хорошо пи-
сали. У нас талант». Нет, это с ума сойдешь от таких «Лафаргов». Только
ниточка одна отделяет мужиков, чернорабочих, людей «последних и отча-
явшихся», от сознания, что впереди них идут и ведут их какие-то уравнове-
шенные быки, которые... идут, идут, а потом покончат с собою от старости.
И—ничего больше, и — молчание. «Мы — колода карт... По правилам,
раз сыгранную колоду—бросают... И мы, когда в нас сыграли,—бросаем
себя сами... Прощайте... Merci и adieu».
314
Черт знает что...
Это «выравнивание», конечно под разными флагами и с разными про-
граммами, «первейших в свете социалистов» с «последними генералами»
александровской эпохи—достопримечательно. Ну, разговоры—разные: но
ведь и тогда были разные «петлички, выпушки». Да существо-то человека
уравнялось и стало на всем протяжении «барабанным». Господи, вот пишу о
Лафарге и в первый раз в жизни понял и осветился сознанием, почему в
самом деле по сторонам Христа очутились разбойники. Ведь мог бы быть
другой род смерти, и тогда «разбойников бы не было». Явно. А род смерти
Он избирал, ибо — Бог. Он показал этим, что весь род человеческий—по
уйме грехов на нем—есть «разбойники», и разница между ними, т. е. частя-
ми человечества, только в том, что одна часть «взглянет и приползет со слеза-
ми», а другая—отвернется и выругается. И только. А «разбойники»-то все,
как и Давид был с Вирсавией... и Байрон с разными «грешницами».
Но никто не ожидал и христианство никак не предвидело, что придут
некогда «супруги Лафарги», поиграют-поиграют в карты, все не крапле-
ные, и потом скажут:
—Душенька, нам пора спать... т. е. умереть...
Такого «раскладывания пасьянса» на конце «рабочего движения» и даже
на конце самой всемирной истории (по обещаниям) человечество никак не
ожидало.
Я бы на месте народов или хоть социалистов, если они вообще на лю-
дей похожи, послал им «туда» телеграмму:
- Nous sommes tous tres frappes*.
ВЕГОИСПОВЕДНЫЙ ВОПРОС В ГОС. ДУМЕ
Вы ездите по дороге, пользуетесь ею: и когда нужно, можете, конечно, с нее
съезжать. Но вы не можете ее портить, ни —давать поводов к распростране-
нию о ней худых слухов: так как по ней едут другие и еще долго будут ез-
дить, может быть, будут всегда ездить...
Вот слова, взятые из обыденщины и которые применимы к церкви, к
которой можно отнести слова Христа, сказанные о Себе: «Аз есмь путь».
«Выход из церкви» ломает церковь, потому что с ним соединено без-
молвное и понятное каждому: «Я ею недоволен, это — не истина, это — не
правда, я это презираю, я этим пренебрегаю».
«Церковь» есть «путь» не физический, а духовный: и из нее нельзя уйти,
не заявив: «Это ложный путь». Как книга, которую я не дочитываю или
которую бросаю на середине.
Церковь есть мнение, народное мнение о ней; это в объективных усло-
виях существования, не в зерне и сердцевине ее. Зерно, пожалуй, и жизнен-
* Мы все весьма потрясены (фр.).
315
но, вечно: но без почвы что оно? Зерно—Евангелие, почва—народ. Когда
люди «выходят из церкви», то они портят почву, оставляя не только пустоту
на месте своем (и на это каждый вправе), но расслабляя и расшатывая поч-
ву вокруг себя: вот на это уже нет у единиц права.
Разумеется, каждый, разорвавший в душе своей с церковью, не только
может, но должен «уйти», но как! Способ выхода должен быть таков, дабы
«грядка» не почувствовала, что «кто-то уходит». На расшатывание — ни у
кого права.
* * *
Это минимально, т. е. если отожествить церковь с дорогою. Но церковь, конеч-
но, требует высших сравнений. По ее долговечности, древности, происхожде-
нию, по тысяче причин. Вы внимательны к душе человека, требуя для нее сво-
боды: но почему вы невнимательны к коллективной душе народа, которая тоже
есть? Есть ли она? Платон говорил о «душе мира», не дробной, не составной, а
единой и целой. Неужели небыло «духа римского народа», «эллинского гения»?..
Неужели нет «русской души»? Что такое «талант и дух рода» как ряда генера-
ций, восходящих к одному предку? Есть ли все это? Или есть только «Иван не
помнящий родства», с позволения сказать,—каторжник, которому не столько
нужна «свобода», сколько темная тайга, где бы он мог кого-нибудь зарезать.
Мы живем в несчастнейшую пору «Иванов не помнящих родства»; но это,
конечно, момент в истории, за которым настанут другие, как и раньше были
совсем иные моменты. Требование «права выхода» есть требование прав «ча-
стнейшей души», animae privatissimae, в противоположность animae populi
Russorum. Явно, что как клеточками организма мы соединены все и «моя кле-
точка» зависима от материнской-отцовской: так вовне и в каждом русском
живет лишь тень «души народа», и я страдаю, когда что-нибудь умаляет в
жизни, в силах, в достоинстве «русскую душу», как она тянется одна от Рю-
рика до меня. Вотс этим страданием как обойтись: выходите из церкви, но
так, чтобы я этого не почувствовал и даже об этом не знал.
Живет древо жизни людской, и листья с него опадают: во-первых, мерт-
вые листья. А во-вторых: могут ли и вправе ли они гноить самое дерево или
как-нибудь ему повреждать?
Есть здоровье индивидуума, но есть и здоровье народное. Почему вы
бережете здоровье «Ивана» и не бережете «здоровье русское»?.. Почему вы
так деликатны к тому, «чего хочет Иван», и вам даже на ум не приходит
быть деликатным к тому, «чего хочет русский народ»?
А есть что-то, «чего хочет русский народ».
Что такое был бы «Иван в тайге» без этого «русского» за ним, «психеи
народной» от Рюрика до него? Ну, пускай тогда он отречется от языка и
будет безгласен; отречется от русского обличья, от русского костюма. Нет,
если ты хочешь «отрицать Русь» и отвергнуться от нее, то потрудись оста-
вить одежонку здесь: выходи голышом... нет, выходи глупым, слепым, глу-
хим, бессмысленным, без песни, без сказки, без воспоминаний, без надежд,
316
без «убеждений» из Руси. Ибо все это тебе Мать дала. Какая «Мать»? Вот
психея народная. Забудь, что ты «человек», и тогда «рождайся в немца»,
рождайся зверенышем, рождайся духовно голым: а тб ты уносишь одежон-
ку. Но это — не твое. Дело в том, что «Иван в тайге» есть, говоря словами
Карамзина, «в некотором смысле существо метафизическое», т. е. такового
совершенно нет. Есть именно «русские»: и право их свернуть с «русской
дороги» весьма и весьма проблематично.
Голышом—да. Но такового—нет. Это—метафизика, отвлечение «от
условий действительности». А в «условиях действительности» никто не впра-
ве сбросить с себя «Русь», сказав: «Эти сапоги старые, я уже их износил».
НЕИЗМЕРИМАЯ ЦЕННОСТЬ
Во всех суждениях о церкви, и в том числе в суждениях Г. Думы, слышится
одно: полное непонимание того, о чем идет речь. Судят как об «учрежде-
нии», судят как о «сословии», о «классе» людей; как «свои» о «своих». Но
это — совсем не то!!!
Церковь—это свет из бесконечности, кинутый на конечные вещи нашей
действительности; бесконечный смысл, охвативший и связавший «в одно» под-
робности нашей жизни, самую нашу личность, наконец, наше существование,
наше государство, наш народ. Есть церковь—и все это кажется таким-то;
нет ее: и сейчас все покажется другим. Если хотите и если уступить всем воз-
ражениям против нее,—церковь, пожалуй, есть «сновидение»: но от которого
мы не можем проснуться, пока «есьмы», и с которым, хорошо или плохо, к
пользе или ко вреду, но уже согласовалось расположение всего нашего тела,
всей нашей физики; и от которого «проснуться»—есть прежде всего «раз-
биться». Это—сердцевина дела, невидимая «душа» его. Другая сторона—
физическая, осязательная; это—история. Гораздо раньше реформы Петра и
гораздо могущественнее реформы Петра церковь сливает нас с всемирною
историею, и особенно сдревнею; она же примыкает нас теперь к западноев-
ропейской цивилизации, — опять теснее и действительнее, чем все журна-
лы, вместе взятые, и, может быть, чем все университеты, тоже вместе взятые.
Если бы можно было представить, что какой-нибудь злой дух, в одну ночь,
взяв «за кресты», снял со всей Руси ее бесчисленные церкви: то назавтра
русский народ «без церквей» был бы перекинут за Урал, отделился бы совер-
шенно от западноевропейской цивилизации, с тем чтобы вместе стал бы «но-
вичком, неизвестно откуда взявшимся» во всемирной истории,—и слился бы
в одно темное морестуркменами, персами, китайцами, Японцами, превосходя
одних техникою и уступая в технике другим; имея союзы в Азии и никакого не
имея союза в Европе; всем ненужный и никому не интересный.
Вот как много значат дьячки с косичкой и не очень образованный «поп».
И что еще удивительнее: эти «церковки», со славянским языком и «Гос-
поди, помилуй» 40 раз сряду, отделяют нас несливаемо от всемирной циви-
317
лизации и являются причиною нашей самостоятельности в мире от древ-
ности и до скончания веков. Так что они:
1)и—соединяют.
2) и—разделяют.
Чудесным и почти волшебным образом.
Если бы «церковки» вдруг были сняты с Руси: то парижский архиепис-
коп, так вообще враждебный православию, разрыдался бы, как великому
несчастью христианства; папа в Риме заплакал бы и сказал: «Как Бог пора-
зил нашу землю, — за что?» И весь западный мир опечалился бы черною
печалью: он, так враждебный вообще «православию»!..
«Нет христианства на Руси», Русь — «без веры»: и вся Западная Евро-
па заплакала бы! Горько, отчаянно, решительно «раздирая ризы на себе»...
Ну, а если бы закрылись разом все журналы и газеты и все «комедий-
ные действа»: то Европа бы только громко рассмеялась, расспрашивая с
живостью «кумушки»: «Что такое случилось в Руси?» Много смеха и ни
одной слезинки. «Журналы можно завтра открыть». Вот церковь никак не
«откроешь завтра».
Церковь—бесконечное.
Журналы, газеты, театры — конечное.
Это — вообще, в панораме.
* * *
Входим в село. Расспрашиваем крестьян: «Как у вас батюшка, каков?» Отве-
чают: «Пьет! Несправедлив! Ленив!» И с такой злобой, бесконечной злобой.
Ругаются, сквернословят, и что-то черное в глазах, гул и ругань вдет по улице:
— Какой это поп! С живого и мертвого дерет, бывает—даже службу не
кончает в церкви*.
Задумываемся: «Да чтб им? Мало ли кто пьет, мало ли кто дерет с жи-
вого и мертвого?! Дерет становой, дерет кулак. Пьют все. Почему же этого
темного света в глазах и циничной ругани нет, когда говорят о всех, и о
кулаке, и о становом?! Какая разница? Становой больнее дерет, а что пьют
все—то это, конечно, еще несчастнее, чем что пьет священник. Какая нуж-
да? Что им? В чем дело?»
Но тут мы вдруг открываем, почему «вся Европа бы заплакала, если бы
были сняты все церкви на Руси»: она бы заплакала от того, что на неизмери-
мом пространстве всей России все ее бесчисленные люди вдруг перестали
бы узнавать, где «левое» и где «правое», что «вперед» и что «назад», что
«бело» и что «черно»... Помутились бы в разуме, ослепли бы. «Поп пьет»
поправляется только тем, что «вон в том дальнем селе поп хороший, трезвен-
* Привожу конкретное обвинение, мною слышанное. Священник и службу слу-
жит нетрезвый, и к концу ее так ослабеет, что выйдет перед народ, скажет: «Больше
не могу служить, я болен», — разоблачится и уйдет домой. И молящиеся с ропотом
расходятся.
318
ный, правду знает, закону учит»; через это дело поправляется, и рана не пре-
вращается в неисцелимое. Но если бы и «в той дальней деревне» поп пил, и
налево—пил, и направо—пил, и «все они пьют», и еще страшнее и оконча-
тельнее—если бы «никаких попов не было» или вот вдруг бы «их не стало»:
то в первую минуту народ завыл бы страшным воем, а во вторую минуту—
подняв дубину, «размозжил бы все»... своих батюшек, матушек, «станово-
го» и т. д., и т. д., губернаторов, наши гимназии, наше «все» и—нас.
Размозжил бы; и, погуляв век, пошел бы в рабство туда, где есть «поп»,
какой-нибудь, который «закон знает». Закабалился бы в крепостное право,
только чтобы увидать «бел свет»... Ибо темнота иногда желается челове-
ком: но долго никакой человек не может вынести темноты.
* * *
Таким образом, наступающий ужас и смятение народное при зрелище «пью-
щего попа», начинающийся при таком зрелище «грех народный», «падение
народное», — именно и доказывают: что нет еще такого места, в жизни, в
быте, в истории, в цивилизации, которое равнялось бы «месту попа»... По-
чему оно одно и называется «священным», «святым».
Нет такого. Он — один. Место это—одно.
Пусто оно — и нет цивилизации.
Но если «на этом месте стоит настоящий человек»: то хотя бы вся ци-
вилизация зашаталась, она—не упадет. Плечи священнические, одетые в
епитрахиль, держат всю цивилизацию.
Тогда спокойны науки.
Спокойно царство.
Геометр спокойно меряет своим циркулем, моряк уверенно плывет че-
рез моря. Все спокойно и предано «своим целям», даже «забыв совсем цер-
ковь». Да: церковь до того важна, что если она есть, то даже «можно за-
быть церковь», а вот если ее нет — нельзя спокойно высморкать носа.
«Поп учит закону», «поп учит простить», «поп учит не осуждать».
И циркули движутся, и корабли плывут.
И цари царствуют, и народы спокойны.
Поп «молится». И «молитва его спасает все».
Но для этого поп должен быть «совсем, совсем не то, что мы» и «ни во
что наше не должен вмешиваться»... Совсем особое место и особая тро-
пинка, по которой он один идет. Он не ходит в театры и не читает светской
литературы (предмет упрека религиозно-философских собраний), не по
гордости и чванству, но по великому служению миру, которое бы вдруг рас-
строилось, если бы он стал, «как один из нас». Все планеты не могут сдер-
жать друг друга, как они ни хороши; все люди тоже не могут спасти себя,
хотя в них столько мудрости и добродетели. Есть какой-то мировой закон,
по коему «спасает иное», спасает мир — вне мира лежащее, человеков —
как бы не человек, вот, напр., людскую толпу — человек «не толпы», поп.
«Спасает театр» тот, кто никогда в театр не ходит; «танцовщицу» — кто не
319
танцует; и «всех людей» — кто наедине молится и людей совсем не видит.
Блюдо держаться в воздухе само не может: нужно, чтобы его кто-то дер-
жал за край. Так мир опрокинулся бы, с театрами, зрелищами, войнами,
интригами, если бы его не держало «за край» иное, чем мир. Это иное—
церковь.
Вот почему ее все усилия — быть иною.
Все усилия — не стать миром, «мирским».
«Мирская церковь»: и — нет церкви. И мир разрушится, как блюдо,
которое «выпало из рук» и «разбилось о пол».
НОВИНКИ НАУКИ
Оказывается, кроме разных социал-демократических глупостей, русские
занимаются и делом: преславный Пахомов, из Батума (!!), написал и издал
(1 -й том) превосходное систематическое описание монет Грузии, начиная
от древнейших времен Колхиды, куда Язон странствовал за золотым руном,
и кончая временами владычества мусульман. Пример этот показывает, что
можно и в глухой провинции трудиться для науки. Добрый пример для ум-
ных провинциальных отшельников. Граф И. И. Толстой издал «Деньги ве-
ликого князя Димитрия Иоанновича Донского» и «Монеты великого князя
Василия Димитриевича (1389—1425)», со многими историческими и архео-
логическими изысканиями об этих двух княжениях. И, наконец, почтенный
О. Ф. Ретовский издал огромный том: «Die Miinzen der Komnenen von
Thapezunt», с 15 листами фототипий. Все эти книги — последнее слово на-
уки. Нельзя не оплакать немецкого языка в труде г-на Ретовского. В более
строгие времена археологу-нумизмату не миновать бы Петропавловки ме-
сяца на три, за предпочтение бусурманского языка русскому. Наконец, по-
чтенный Б. М. Якунчиков всего на днях прочел в заседании Археологичес-
кого общества о недавно приобретенных им монетах-униках (т. е. неизвест-
ных до сих пор) древнего греческого чекана. Все сии труды одушевляют
русских надеждами на будущее родины. Нумизматы же могут повторять о
себе с Пушкиным:
Нас мало избранных, счастливцев праздных,
Пренебрегающих презренной пользой
Единого прекрасного жрецов.
Судьба, рок и, может быть, боги древности скрывают смысл и интерес
нумизматики от непосвященных, ибо
Тогда б не мог
И мир существовать: никто. Я не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни, —
Все предались бы вольному искусству.
320
И если политика существует, то только потому, что не распространена
нумизматика. Но Таврический дворец нигде не имеет себе такой угрозы,
как в тихих залах художественного Эрмитажа...
УДИВИТЕЛЬНАЯ КНИГА И ТЕМА
Чего-чего только на Руси не найдешь и каких людей не встретишь: превос-
ходный большой том, с фототипиями чудовищных быков, так старательно
воспроизведенных, точно это певцы из оперы, внутреннего устройства «боен
Либнза» (фирма), лошадей, земледельческих «сеялок» и вообще всего ин-
вентаря сельского хозяйства и земледелия, наконец, всяких зданий, кроме
церквей: и на обложке—«Аргентина». Глазам не верю и думаю: «Перевод с
немецкого». Оказывается, после каббалистических букв «Г. У. 3. и 3» —
русский государственный орел, «наша православная казенщина», и затем:
«Аргентина. Сельское хозяйство в Аргентине в связи с общим равитием стра-
ны. Н. А. Крюков. С 2 картами (Ю. Америки и Аргентины) и 128 рисунка-
ми». .. Ну, волшебник Крюков: если бы А. В. Кривошеин послал таких «Крю-
ковых» в Нижегородскую, Костромскую, Ярославскую губернии, да и вооб-
ще — по Волге, да и по всей России: ей-ей через 10 лет, ну, через 20, везде
бы начали превосходно пахать, мужики бы разбогатели и социалистам нече-
го было бы делать. Но волшебник «Крюков», очевидно, один в «Земледе-
лии» (министерство) и по русской фантастичности попросился ни ближе,
ни дальше, как в Аргентину, «креолок» посмотреть: и по такому несчастью
никто не поехал во внутреннюю Россию, и Нижегородская губерния или
описана в каких-то клочках и никому недоступных «статистических сведе-
ниях», а во всяком случае, не имеет о себе такой настолько ясной, настолько
нужной, «закругленной в сюжете и теме», книги, как эта счастливая Арген-
тина. .. Удивляюсь «Крюкову»: но не могу не плакать, как русский человек,
и не посетовать на министерство земледелия: отчего оно не даст, лет в
5 работы, 150 томов (по одному на губернию и на область) о «губернских
сельских хозяйствах» в России, после чего мы могли бы не конфузиться пе-
ред немцами и даже «чихать в нос» англичанину. Чудаки мы, русские: и от-
того биты и жалки.
БЛЯХА № 101
— Как же, голубчик, я найду свой багаж?
— Бляха № 101, — ответил «мужичок вообще» на вокзале и тронул рукой
медную бляху на груди, где была выставлена эта цифра.
Эту бляху № 101 и всякую другую подобную напомнил мне «Иванов-
Разумник», издающий книгу за книгою, где он зачем-то пересказывает сво-
ими словами всех новейших писателей, — ну, конечно, несколько сокра-
321
щая. Так, он томах в двух все копался с Михайловским. Конечно, выгоднее
купить Михайловского у Разумника за 3 р., чем самого Михайловского за
15 руб. Но все-таки самого Михайловского читать занимательнее: много
побочных интересных мыслей, отдельных ценных замечаний, которые в
«Разумник» не вошли.
Непонятно, зачем он столько пишет. К удовольствию Рубакина и его
«Среди книг»?
Он неверно множит. Читаю почти 100 страниц о Мережковском. На каж-
дой странице, от верхней строки до нижней, он утверждает, что у Мережков-
ского в душе 0, в таланте 0, в правде 0, во всем 0. Соглашаюсь и множу:
Ох 100 = 0
Но у «Разумника» и во введении к статье, и в заключении статьи: «зна-
чительный писатель», «крупная величина», etc. И нигде, ни в одной строч-
ке оговорки: «Ну, а вот в этом — он прав» (или «значителен», «интере-
сен»), Нигде не прав, — а в общем значителен.
О другом писателе (грешным делом, это я сам): «Передонов», «ходит в
белье», «все переврал», «ничего не знает». Опять множу:
- 1 х 20 (число страниц) = -20
Но в результате: «его будут всегда читать», «через несколько веков чи-
тать».
Отвертываю обложку: Иванов-Разумник без имени. Просто, с дивана чуть
не свалился (читал лежа). Все с именем: Виссарион Белинский, Александр
Пушкин, Димитрий Мережковский, Василий Розанов: почему же один, един-
ственно один во всей русской литературе Иванов-Разумник не зовется ни
«Семеном», ни «Петром», никак. Читатель не поверит, и потому выписываю
полное заглавие: «Творчество и критика. Иванов-Разумник. Жертвеннике
пылающим огнем (рисуночек). Издат. Прометей Н. Н. Михайлова». На обо-
роте: «Типография Энергия». У издателя—имя(Н. Н.),уавтора—нет!Тут
я связываю эту странность с тем, что Иванов-Разумник все излагает, причем
заглавия книгам дает изысканно-философские: «Великие искания» и, помнит-
ся, «Идеи жизни» или «Жизнь идей». Но и «Жизнь идей» открываешь: ви-
дишь —излагает своими словами Белинского. Он (Ив.-Раз.)работает вооб-
ще, везет воз вообще,—для Рубакина. Рубакин, вероятно, знает, что его зо-
вут, положим, «Петром Семенычем»; симпатичная жена или почтенная ма-
маша тоже зовут его, вероятно, «Петей». Но к мамаше и Рубакину он имеет
определенное и личное отношение: для читателя же, для которого он не имеет
никакого личного отношения,—он и не выставляет своего имени.
— Бляха № 101: она вам и принесет багаж.
Это, в сущности, верно, и он недаром «Разумник»: «Я — писатель, и
притом —разумный. А больше чего же вам спрашивать».
Положим, так... Но хочется чего-то симпатичного в литературе, с име-
нем и даже с отчеством. «Может, зашли бы в буфет выпить чайку». С «Ра-
322
зумником» ничего нельзя «выпить», можно сказать только—«принеси мне
вещь». И он «носит» на спине своей—Белинского, Михайловского, долж-
но быть, понесет скоро Лаврова, Огарева, Герцена.
Удивительно, что впервые в позитивном направлении литературы со-
вершилось это исчезновение личного имени. «Мы только рабочие»... Для
литературы мало. Я давно ною, указываю и немного капризничаю, что по-
зитивизм грозит повытоптать из жизни всякие цветочки и оставить только
булыжник. Булыжник, какое ему имя? Лежит. И без имени делает свое дело.
Так-то так. А жалко старинки.
Жалко красок, поэзии. Все уносит безжалостный позитивизм.
— У, чертов ты забор: тянешься, тянешься, все доски, все строганые, и
нет тебе конца... нет конца... нет конца... все один, везде один...
— Это мы по Петербургу,—язвительно возражает Разумник.
—Да, как коллежские асессоры... Все коллежский асессор: в Сенате—
он, в юстиции — он, в духовном ведомстве — он, в просвещении — он.
«Чиновник» — это позитивист в государстве, а позитивист—это чинов-
ник в природе. Связать бы вас «по ноге, да утопить в воде».
— А мы и в воде не тонем, — язвит Разумник.
— Ну, остается выбраниться крепко. Но, пожалуй, за это «чиновник» в
участок возьмет. Ничего нельзя поделать. Нужно молчать и терпеть.
А хороши были старые «крестильные» имена... Все уходит, линяет.
Какая-то мировая осень на дворе: и от этого так серо и скучно, в душе, на
улице, в литературе.
Рубакин оглядывается:
—А мне не скучно. Вот и еще книжка прибавилась, — и, значит, новая
страничка в мое «Среди книг». Умейте избирать занятия благоразумные,
полезные и спокойные.
- Ах вы, эдакие, Рубакины и Разумники: бомбу мне, ради Бога бомбу,
«полцарства за бомбу».
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
За время болезни митрополита Антония, прямого начальника петербургс-
кой епархии, и во время управления епархиею одного из его викариев (все
эти сведения даны в «Колоколе») случилось «большое неладное» в Петер-
бурге: епархиальным начальством издан циркулярный указ, воспрещающий
принтам домовых церквей в Петербурге совершать всякие требоисполнения
вне своей церкви, да и в самой церкви они могут совершать только молебны
и панихиды. «Циркуляр этот,—пишет «Колокол»,—вызван жалобами при-
нтов приходских церквей, у которых якобы принты домовых церквей отни-
мают доходы». «Колокол» называет это «великою опасностью» и так оза-
главливает свою статью. Дело в том, что в Петербурге, по его относительной
исторической молодости, чрезвычайно мало церквей: их, оказывается, всего
323
50!! И вот эти 50 принтов должны обслужить требами почти полуторамиллион-
ное население'. Туг и венчания, и крестины, и исповедание и причащение, и миро-
помазание, и отпевание, и похороны! Все это—50 причтов; или, полагая по три
священника в приходе (редко бывает больше), всю эту громадную работу долж-
ны будут производить и обещают производить 150 священников'.'. Конечно,они
будутполучать очень много доходов, и, само пооебе,—это дай Бог; их товарищи,
такие же священники, небудуг получать никаких доходов, кроме жалованья, все-
гда нищенского при домовых церквах: и их нельзя не пожалеть. Но есть тут тре-
тья сторона, если и безголосая, то очень существенная: это миллион православ-
ных верующих людей Петербурга'. Дело в том, что для священника, например,
венчание, крещение и похороны есть только «требоисполнение», зауряд, такое
же, как и всякое другое в этот день; а для венчающегося, например, это—цен-
тральное событие всей жизни; крестины — это огромное событие в семье,
похороны отца семьи — какое событие для его детей'.'. Этого никак нельзя
делать и нельзя заставить делать у «зауряд каждого священника», а необходимо
дозволить каждому совершать у «своего батюшки», как привычно называют в
русских семьях того священника, у которого постоянно много лет исповеда-
лись, причащались и проч. Со священником вся жизнь связана у доброго миря-
нина'. и это такая религиозная связь, которую разорвать—действительно впасть
в «великую опасность». Вот письмо, полученное мною касательно этого дела:
«Понадобилось мне окрестить ребенка, по обыкновению я обратилась
к своему духовнику, священнику домовой церкви, который всех нас крес-
тил, исповедывал, наставлял православной вере, венчал, —одним словом,
это наш батюшка; и вдруг этот батюшка отказывается крестить: вышел,
мол, такой приказ, чтобы все требы исполняли приходские священники.
Что же это такое значит? Ждала разъяснения вопроса из трех мест, куда
писала, но прошло три недели, и никакого ответа я не получила. И потому
вынуждена обратиться к вам».
«Колокол» указывает, что и до сего времени, вследствие малого числа
приходских церквей в Петербурге, священники приходские до того были пе-
регружены, если возможно так выразиться, требами, что в большинстве цер-
квей существует обычай нанимать для требоисполнения священников со
стороны, заштатных и т. д., передавая им менее доходные требы и в бедней-
ших домах, а себе (приходским штатным священникам) оставляя требы лишь
более оплачиваемые и в богатых домах; иногда этот наем совершался из про-
центного отчисления, т. е. часть полученной платы за требу сверхштатный
священник отдавал штатному, хотя он в ней и не участвовал, не работал и
даже не присутствовал. «Колокол» справедливо называет это «соблазном»,
—и это так и есть. Это — нехорошее дело и даже не нравственное, эти «най-
миты» в таинствах! Но что же будеттеперь, как будут 150 или 200 (не более)
священников справляться с делом, когда от него по новейшему циркуляру
отойдут сразу 400 священников (цифра «Колокола»), Явно, что «наймиты»
удвоятся, удвоится «наем» в таинствах: и самые таинства будут совершаться
буквально торговым образом, наспех, без души и внимания!!
324
Мы не только надеемся, но вполне уверены, что этот неосторожный
циркуляр, грозящий обезображением совершения церковных таинств в
Петербурге, будет немедленно отменен, ибо не сегодня-завтра против него
поднимется величайший ропот населения, окажется немедленное же ох-
лаждение к таинствам, к исповеди, к причащению и проч. («Колокол»
грозит развитием сектантства). Но сверх всего, он решительно нарушает
элементарнейшее право верующего: брать таинство у того священника,
который ему люб, ему привычен, с которым издавна связан он, его родите-
ли и теперешняя семья. Издание подобного циркуляра, который в моти-
вах своих (доходы) даже циничен, всего яснее показывает: до какой сте-
пени необходимо скорейшее разрешение вопроса о приходе, с каковым
разрешением издание подобных циркуляров и даже появление подобных
тенденций стало бы немыслимым.
А. Г.ТАБРУМ. РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРОВАНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ УЧЕНЫХ
Перевод с английского
под редакцией В. А. Кожевникова
и Н. М. Соловьева. Москва. Книгоиздательство
«Т ворческая мысль», 1912
Нельзя думать, чтобы «современные ученые», как равно и несовременные,
имели какое-нибудь преимущество авторитета в делах веры перед обык-
новенными людьми. Вера — дар души, в сложные нити которого входят
между прочим наивность и благородная доверчивость: качества, противоре-
чащие задачам научного исследования. Поэтому ничего нет обыкновеннее,
как зрелище «современного ученого», который, подобно Анютке из «Влас-
ти тьмы», знает только «Богородицу» до половины, да и то сбиваясь... Мне-
ния такого «ученого» совершенно не авторитетны и совершенно даже не
интересны, как суждения слепорожденного о цветах; тогда как мнения и
«Анютки», и учившего ее солдата, и дьячка из ближнего села—авторитеты
в качестве просто тактиков и очевидцев веры. «Доит корову» кто умеет «до-
ить корову», а не непременно тот, кто знает, что она «млекопитающее». Вот,
держа в уме эту мысль, можно взять и с интересом перелистать эту книгу,
собранную из книг более нежели ста современных ученых: президентов ко-
ролевского общества в Лондоне (величайшая и древнейшая английская ас-
социация наук), химиков, физиков, геологов, физиологов (более всего), фи-
лологов и ориенталистов, зоологов, анатомов, патологов, ботаников, антро-
пологов, гинекологов, психологов, математиков, астрономов, инженеров. По
этим рубрикам сгруппированы имена ученых. Мнения эти в высшей степе-
ни интересно прочесть, — между прочим, для экзамена ума или души уче-
ных: вещь интересная. Переводчиками (судя по предисловию) являются трое
325
религиозных москвичей, выдвигающих книгу как пропаганду мысли, что на-
ука не отрицает религии, что высшие авторитеты естествознания, напр., не
находили в Библии и Евангелии ничего противоречащего тому, ч то они знают
о мире. Тут можно сказать «гм... гм...» при воспоминании об Иисусе Навине
и об его словах во время битвы: «Стой, солнце, — и не движься, луна»... Но
это такое великолепное противоречие, из которого мы усматриваем недоста-
точность науки: солнце должно бы остановиться при таком восклицании, и
тем хуже для него, если оно этого не сделало. Вера же, вышедшая из пределов
естествознания, только превзошла его, чем и показала нужность свою, как
специального, как нового, как веры. Солнце (в случае, если оно не останови-
лось) показало себя бездушным, «неверующим»; человек же показал, до чего
его душа выше природы... Так и нужно: человек задохся бы, стой он в уровень
с природой. Ученые стоят в уровень с нею, тянут «параллельно ей»: верую-
щий пересекает природу и науку «параболой», встречаясь с ними, но не не-
пременно, и уносясь вдаль по своим особым законам и путям. Не смеем ска-
зать, но хочется: будет время, когда верующие начнут творить природу... И
тогда-то она из хилой и старой пополнеет и воскреснет в силах.
ЗИМНИЙ ПРАЗДНИК
Вот и праздничек
Христов...
Некрасов
Мы лишили себя и детей своих лучшего
цветочка в букете рождественских обря-
дов, обычаев и увеселений.
Швидченко. «Святочная хрестоматия»
Ну, довольно политики,—передвигаемых дивизий, дипломатических нот,
езды туда-сюда озабоченных министров; довольно думских речей и законо-
проектов, группировок и перегруппировок партий; довольно также газет-
ной ожесточенности, которая еще превосходит военную ожесточенность...
Задернем все это белою скатертью, все дела и делишки, сор и возню, весь
«ералаш» угрюмой и тоскливой жизни...
«Белая скатерть, — и на ней просто «Рождество», наше детское милое
Рождество, с санками и скрипучим снегом под полозьями, с забавами, гада-
ньем и елками.
Молодежь вступает в свои права и обязанности. Год взрослые заботи-
лись о детях, теперь дети должны позаботиться о взрослых. «Папы» и
«мамы» их устали за год, закоптились в черном труде. Эти две недели —
326
детские недели. Пусть дети войдут в угрюмые кабинеты и парадные гости-
ные и, взяв за пожелтевшие и усталые руки своих родителей, скажут им:
— Мы вам повиновались год, но эти две недели вы повинуйтесь нам.
И поведут их по всем удовольствиям, и введут их в свои детские комнаты.
Долгая, томительная и однообразная учеба, при всех своих (допустим)
педагогических качествах, имеет тот недостаток, что отняла у подростков и
юношества много их природной энергии, инициативы и самостоятельнос-
ти. И мы только не замечаем этой смешной стороны дела, ставшей зауряд-
ною и привычною, что теперь даже и елку устраивают родители детям, и
все праздничные удовольствия устраивают старики для молодежи; а моло-
дежь, как и дети, только пассивно и вяло ходит около родительских затей и
одобряет эти затеи, когда они удачны, а в случае неудачи — помолчит. Ко-
нечно, — это не праздник... Конечно, это угасающее «Рождество»... Гос-
пода молодежь, вперед! Переверните дело; возьмите в свои руки инициати-
ву; устройте, в самом деле, от себя праздник родителям, изобретайте, при-
думывайте, только прося у родителей немножко «раскошелиться»... Вот, в
самом деле, план в каждую семью: ограничиться, хоть на этот год, пассив-
ным положением старшим членам семьи и, дав предназначенную на рож-
дественские увеселения сумму денег в руки младших, — посмотреть, что
они с нею сделают, как распорядятся. Можно даже создать должность на
две недели, с вручением ее старшему из младших: «шеф увеселений», «свя-
точный князь» или «святочная княжна», с подчинением этому лицу всего
отроческого полка в дому, как помощников и пособников изобретений и
исполнения... Пусть себя покажет молодежь, а мы, старшие, посмотрим,
как она бегает на своих ногах, без привязи и указки.
Так ведь исторически и было: все украшение, какое получил себе цер-
ковный праздник Рождества Христова, он получил из рук молодого населе-
ния страны, городов, деревень и сел, старого поместного дворянства. Ста-
рики умели только не мешать молодежи; церковь смежила глаза на то, что к
христианскому празднику примешались языческие обычаи; или, лучше ска-
зать, примешались игры и забавы языческого оттенка. Но «языческого» в
каком смысле? Не в «вероисповедном», но в смысле красок и тонов, поло-
женных на христианскую картину.
* * *
Хотелось бы, чтобы молодежь, усиленно пичкаемая всякою недоброкаче-
ственною беллетристикою, на эти дни избрала лучшее чтение и оживила в
себе интерес к народному творчеству около праздника Рождества... Увы, из
всего пышного убора праздника у нас, по крайней мере в городском образо-
ванном классе, сохранилась одна только «елочка». Когда читаешь «Святоч-
ную хрестоматию», «литературно-музыкально-этнографический очерк для
семьи и школы» Швидченко (издана в 1903 году), то и удивляешься, и ужаса-
ешься, до чего в самом деле погас праздник к нашему времени. Автор и со-
327
бирал-то описание народных празднований Рождества у всех народов с мыс-
лью закрепить то, что еще осталось: и все-таки собранное им поражает
роскошью сравнительно с тем, что, напр., делается у нас, в Петербурге. Тут
и «колядки», и кукольный театр, и ряженье, и гаданье, и «христославленье».
Теперь двери богатых и образованных людей закрываются скупо и гор-
до даже перед гурьбой озябших мальчуганов с улицы, которые просятся
войти «пропеть славу Христу». Вот по крайней мерее этом маленьком и
важном деле пусть петербургские и московские гимназисты и гимназистки
«повернут дело назад», к доброй старине. Тут и испуг-то стоит перед мело-
чью: сапожонки мальчуганов, не знающих галош, наследят. Но ведь «хрис-
тославленье» тянется всего несколько минут, — и по минованьи их так лег-
ко прислуге смахнуть мокрые следы в одной комнате. И она это сделает тем
охотнее, что «христославящие» — родные братья ей, т. е. прислуге, идут из
того же класса, из которого набирается она. В наш демократический век, в
наш школьный и детский век каким диссонансом является это закрытие
дверей перед уличной толпой веселящихся ребятишек, которые тут и рабо-
тают, и гуляют, веселятся и вместе приносят в бедный-бедный дом кой-
какие гроши. Кстати, — многие еще скупятся давать эти гроши, и, пожа-
луй, это есть тайная причина отказа. «Не входить в расходы на праздник, и
без того большие». Но можно давать не больше гривенничка или неболь-
шие гостинцы: «христославленье» спустилось в такие нижние этажи, по-
чти ничего не дающие маленьким певцам, что им будет хорош и гривенник.
Поменьше конфуза, поменьше гордости и чванства, побольше душевной
дружбы с улицей и простонародьем — и дело будет сделано. Ваша обязан-
ность, краснощекие гимназисты и гимназистки!..
Почаще на улицу, кому можно — в поле, на простор снежных равнин,
которые не хуже зеленых лугов. Зима!.. Сколько русской души взято отсю-
да, сколько русского воображения, русской песни и русской сказки тянется
к зиме. Рождество — зимний праздник; это самые украшенные и веселые
дни, перерывающие на самой середине зимнюю страдную пору; страдную
для чиновников и для учеников бесчисленных училищ, от самых высших
до самых низших. Чтб лето в деревне для рабочих рук, тб зима в городе для
мозгов. Устали они за месяцы от августа до декабря. Кто в это время хоро-
шо работал, может со спокойной душой энергично отдохнуть. Полная без-
заботность и энергичное движение, всего лучше бы на воздухе, — вот пра-
во, купленное страдными месяцами. Молодежь и это может крепко «намо-
тать на ус», правда едва еще пробивающийся, и потребовать себе от взрос-
лых шири на широкие, шумные удовольствия. Беднея, праздник Рождества
стал сводиться к объеданию сластями, к чему в значительной степени све-
лась и «елочка». Это — упадок праздника. Средства, которые тратятся на
сласти, лучше употребить на небольшую загородную прогулку; и хорошо,
у кого на этот предмет есть знакомство и дружба где-нибудь в пригородном
имении... Вообще для настоящего широкого «Рождества» Петербург не-
много тесен. В этом отношении нельзя не позавидовать Москве, не позави-
328
довать провинции. Но если сейчас трудно что-нибудь устроить в Петербур-
ге по части загородного веселья, то недурно подумать об этом на будущий
год. Тут могут прийти своим ученикам на помощь учебные заведения, при-
нимающие в настоящее время в детской жизни большое участие. Универ-
ситет и высшие женские курсы могли бы прийти на помощь меньшим школь-
никам. Если где «коллективизм» уместен,—то в радости и удовольствиях.
Но удовольствие должно быть великодушно: без этого нет в нем полно-
ты и нравственной законченности. Дети и юношество сильны, предприим-
чивы, деятельны, безустанны: и в праздник Рождества они не должны за-
быть, что их отцам и матерям, а особенно их дедам и бабушкам, уже оста-
лось недолго повидать «елочку»... Ряд елочек, вытянутый для юношества
в длинный ряд, для этих старейших и добрейших членов семьи ограничи-
вается немногими: двумя, тремя, в печальных случаях — одною. Закат име-
ет свою зарю, как и всходит солнце в заре. Вот об этой вечерней заре любя-
щих их лиц должны подумать юноши и девушки в своей молодой заре.
Праздник в высшей степени для них увеличится в нравственной ценности,
если они ласкою, приветом, маленькими детскими стихотворениями и рас-
сказами «на тему праздника» и всякими выдумками, которых здесь незачем
исчислять и подсказывать, сумеют дать час уже редкой радости своим «зим-
ним дедам» и «зимним бабушкам», которые когда-то, лет 50 и 40 назад, так
же резвились, как теперешние их внуки и дети... Люди связываются в тру-
де: но единятся сердцем они только в радости.
Будь же едина в праздничной радости добрая русская семья. С Рожде-
ством Христовым все, от мала до велика!!..
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК
СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
Учебник, как и шапка, должен быть на голове.
А. Радонежский
Родной язык—жизнь, радость, воздух школы.
Ушинский
Сельская школа получила к новому, 1912 году превосходный подарок. Это—
«Грамматика в упрощенном изложении для сельских училищ. Этимология,
синтаксис и сочинение. Издал А. Радонежский». Знаете ли вы, чего стоит
хороший народный учебник! Ему и цены нет!! Потому ли, что великие умы,
пушкинского чекана, за составление учебников не берутся, а посредствен-
ные умы все запутывают, все любопытное и особенное в предмете изглажи-
вают, обходят или извращают,—но только хороших и отличных учебников
почти у нас не существует. Разительный пример этого мне пришлось испы-
тать в бытность учителем русского языка в 3-м классе гимназии: проходили
329
синтаксис по Поливанову, и поверит ли читатель, что некоторых задавае-
мых уроков я сам, учитель, не понимал: таким путаным, измочаленным язы-
ком, периодами строк по 13 в каждом, составитель учебника излагал свои
замечательные мысли о синтаксисе русского языка! Преподавать мне при-
шлось только один год, временно замещая умершего преподавателя, но я,
несмотря на все усилия и приготовляясь сам дома к урокам, — не мог ниче-
го понять в этом предмете, который должен был объяснять ученикам! Так
как, однако, занятия шли по министерской «программе» и ее надо было во
что бы то ни стало «выполнить» к концу года, то и учитель и ученики вместе
зубрили какую-то кашу, не разбирая в ней, говоря образно, ни «подлежаще-
го», ни «сказуемого». Это было в 1893 году, и впечатление муки и бессмыс-
лицы сохранилось до сего времени.
Может быть, этому полному отсутствию простых и ясных учебников нуж-
но приписать то, что поистине несчастное наше министерство просвещения
до 1897 года вовсе не вводило русской грамматики в программу сельской
школы'. Об этом мы узнаем из предисловия к «Грамматике» г. Радонежского,
члена ученого комитета министерства просвещения, и, следовательно, этот
невероятный факт есть полная действительность, не пугающаяся дневного
света! Но и в 1897 году министерство предписало проходить вместо девяти
частей речи русского языка только шесть!! Именно, исключены наречие, союз
и междометие, и от русских деревенских мальчиков скрыты министерством
«ура», «увы» и «ах». Эти известия, поразительные, как из Персии, передаю
добрым читателям всей России. Г. Радонежский указывает еще, что в усили-
ях как-нибудь поучить крестьянских ребят грамотно писать министерство
ввело в учебники какографию: ученик читает и видит напечатанною неве-
роятную фразу: клеп сол еж, а прафту режь, которую должен поправить в
надлежащую: «хлеб-соль ешь, а правду режь». Но кто знает рассеянность и
шаловливость детей, догадается, что лишь '/з их исполнит предписание ми-
нистерства зачеркнуть ложные буквы в чудовищной фразе и вставить на их
место верные, а 2/з мальчуганов, не сделав никаких поправок, так и запомнят
изумительную министерскую каллиграфию, столь яркую и достопамятную!
Г. Радонежский, рзруг детства теперешних даже пятидесятилетних ста-
риков, по «Родине» которого мы все учились в начале семидесятых годов
прошлого века, составил полную грамматику для двухклассных училищ, сде-
лав это с той простотою и твердостью определений, с той сжатой краткостью
объяснений и, наконец, наглядностью всего текста, которая почему-то была в
благодатные старые годы и почти исчезла в наше время. Почему,—трудно
сказать: язык книг, журналов, газет пал, и в этом всеобщем падении участву-
ют и учебники. Старые учебники, вот именно 60—70-х годов, нагляднее, про-
ще и усвоимее теперешних. Это могло бы послужить предметом сравнива-
ния, изучения и целого учено-литературного исследования. Ему здесь не ме-
сто. Мы только обращаем внимание учено-педагогического мира на замеча-
тельно-нужную книжку, и нам хочется поздравить деревенских ребят со
школьным гостинцем, который их вразумит и облегчит.
330
РОКОВОЕ В «НАСЛЕДИИ» ТОЛСТОГО...
Драгоценные произведения Л. Н. Толстого подобны «золоту Рейна» в три-
логии Вагнера: «кружат голову» своему благодетелю, внушают какое-то «бе-
зумие» и, в конце концов, несут несчастие и гибель. В образованном, исто-
рическом обществе «гибель», конечно, заключается не только в прекраще-
нии физического существования, но и в значительном ущербе нравственно-
го достоинства. Кто же не скажет, что около этого «золота Рейна» странным
образом и чрезвычайно померкло достоинство всех его обладателей или даже
только претендентов на обладание.
Всем очевидно, что около этого «достояния» могли бы быть «сыты и
довольны» все его дети, и с детьми своими, и с детьми детей своих... по-
библейски. Конечно, при условии несколько прирабатывать и, словом,
трудиться. Наследство в таких размерах, что оно погружает наследников в
праздность и тунеядство, — ядовито, исполнено «греха», говоря понятия-
ми Толстого; и, конечно, вся его мораль, все его идеи были против такого
«обеспечения праздности на всю жизнь». Отбрасывая эту развращенную
часть наследия, дети, внуки и правнуки Толстого имели в произведениях
его достаточный фонд, на котором могло бы сложиться их образование, вы-
ращивание и скромный, хотя бы какой-нибудь, труд. Повторяем, «на всех
бы хватило». Если бы не ссоры, раздор...
Все и на всех ожесточились около «золота Рейна». Софья Андреевна,
которая казалась столько лет его обладательницею, его крепкою держатель-
ницею, — вдруг оказалась лишенною всего. Самое сохранение им в тайне
нескольких уже законченных художественных произведений казалось всей
России сбережением дорогого подарка для 40-летней подруги жизни. Так и
она думала, так и все думали, в целой России, много лет. Она была заботли-
вой матерью; пока он мечтал и писал, воображал и философствовал, она
неустанно работала в семье: подняла всех детей, до единого всех выкорми-
ла своей грудью (ее слова мне), устроила, сколько было в ее силах, их судь-
бу, — что было вовсе не легко при постоянных менах его «убеждений», при
анархии в его философии и несколько в его быте или в его порывах быта...
Труд ее огромен; и для всей России «Софья Андреевна» есть очень дорогое
имя. Не забудем, что она была его вдохновительницею в лучшую, золотую
пору его деятельности. Свое огромное «я», упорно сопротивлявшееся в ней
«его учению», не уменьшает, а только увеличивает уважение к ней. Она не
была безжизненным зеркалом, отражавшим в себе фигуру великого чело-
века. Можно кое-что в ней не любить, кое-чему не сочувствовать: но реши-
тельно ни один человек не оспорит, что это была сила, характер и ум.
И была прекрасная мать, всю жизнь свою положившая не на свое «я»
(ведь у жен часто бывают и «свои интересы», замкнутый «свой мирок»), а
единственно на детей и на мысль о их будущем, единственно на мужа и на
заботы о его настоящем. Нет ни у кого и никакого подозрения, что у ней есть
хотя малейший «свой интерес» вне интереса семьи, кровных, домочадцев.
331
При таком положении вещей естественно было думать, что она остает-
ся наследницею всего, для дальнейшего устройства и направления всего
«яснополянского гнезда», яснополянского «выводка». Все так думали в Рос-
сии: и ее речи, поступки, взгляды на вещи, взгляды на «сочинения своего
мужа» не давали мысли, чтобы она сама сколько-нибудь колебалась, сколь-
ко-нибудь не была уверена в своем положении «госпожи дома» и госпожи
«всего»... Что именно она будет издавать сочинения Л. Н. после его смер-
ти, об этом ни у кого не было сомнения.
Вдруг в самый момент его смерти она оказалась лишенною всего. Все-
го — самого естественного! Даже не была допущена к его постели, когда
он умирал. Он умер — и они не простились?. Сорокалетние супруги!! Вся
Россия прямо вздрогнула за ее судьбу. Все сердца, которые, может быть,
что-нибудь и имели против нее раньше, в эти страшные минуты «астанов-
ской катастрофы», бесспорно, повернулись к ней с величайшей жалостью,
с величайшим сочувствием.
Ее имя и образ, хотя и «в контрасте» с мужем, до того связались с ним,
что невозможно думать «о Л. Н. Т-м», тотчас не дополнив и не отделив его
фигурою «Софьи Андреевны». «Где-то она всегда тут близко...», спорит,
шумит, но «около него». Для всей России это всегда будут «он и она», как
«Левин и Китти» или как «Пьер Безухов и Наташа».
И вдруг в последнюю минуту она отброшена, откинута... и все почув-
ствовали, что в жесте этом бьию что-то презрительное и негодующее, не-
уважительное и враждебное. Все в то же время почувствовали, что это что-
то совершенно ненормальное и случайное; не «решение всей жизни», а слу-
чайный эпизод последнего месяца жизни.
Всегда была ярка около Толстого любимица-дочь, Татьяна Львовна, и
сестра-монахиня, Мария Николаевна.
Но не они были около постели умирающего: был все «он», «муж рока»,
Чертков, и Александра Львовна, никому дотоль не приходившая на ум. На
вопрос, «что это такое», никто не сумеет ответить, кроме «девушка»... Про-
сто— «девушка», «одна из дочерей Толстого».
Она-то и оказалась наследницею всего, обладательницею «золота
Рейна»,—единственная младшая дочь, Александра Львовна. И как толь-
ко оно попало в ее руки, — оно начало свою гибельную работу. «Второе
несчастье» чуть ли не горше первого: дочь восстала на мать, отделилась
от матери и противоположила свое сухое, юридическое право, с «абла-
катами», которых так хорошо высмеял ее отец в «Воскресенье», и с «без-
законием в законе», ядовито выставленным там же, — против правды
внутренней, против правды по существу, против правды по взгляду всей
России.
Ведь так просто было бы «по-толстовски» поступить, даже «по-тол-
стовски и по-чертковски», — во имя мира сердец и всеобщей «округлос-
ти», какой научал всех словом и примером Платон Каратаев. Прийти к ма-
тери и сказать:
332
«Вот, мама, эта бумажка. Она мне совсем не нужна. Я не стяжательна и
живу в опрощении. Ты нас кормила, родила и воспитывала. И еще крепка и
здравомысленна. Делай привычное себе дело, а я и все мы будем жить по-
старому, по-привычному, возле тебя и по твоему руководству».
И даже в случае стяжательное™ и отъединения ожидалось бы, что она
скажет:
—Денежная сторона изданий принадлежит мне, по завещанию и зако-
ну. Доход от изданий — моя собственность. Но лучший редактор их была
ты и, очевидно, можешь быть только ты. Хорошее, осторожное издание—
дело почти науки, которое может быть уравновешено только близостью к
автору и чрезвычайным, интимным вхождением в мир его творчества. Я
совершенно в этом неопытна, и ты возьми весь этот привычный и знако-
мый труд на себя, за известный процент участия в его доходе.
Вот как дело должно бы быть поставлено, если даже ставить его на ком-
мерческую ногу. Издание должно быть «наилучшим» в интересах самой до-
чери; а «наилучшее издание» может дать только ее мать,—знаток рукописей
и корректур, 40-летний спутаик и почти сотрудник Л. Н-ча по технике писа-
нья, переписывания и исправления. Дочь тут едва ли что может; едва ли в чем
компетентна. Россия ни в каком случае не может положиться на «редактаро-
вание Александры Львовны Толстой», об умелоста которой, даже об образо-
вании которой она не имеет никакого представления.
А права России в «наследии Толстого» тоже есть. Сам Толстой ясно выра-
зил, что именно Россия есть настоящий наследник его произведений,—через
то, что отрекся от прав собственности на все (кроме рукописных) нехудоже-
ственные свои произведения, лично для него всего болеедорогие и одновре-
менно менее всего доходные. Явно, что он передал в «родовую собственность»,
в данном случае—Александре Львовне, только «дойную часть» своих произ-
ведений, а не их смысл, дух и оберегающую все это оболочку слова, формы.
Все это—в нравственном и, позволим сказать, в религиозном смысле—есть
достояние, наследие России. Он все взял от России как наблюдатель, как ху-
дожник и мыслитель; и все возвращает ей же, умноженное сторицею. Очевид-
но, «молоко от коровы» не может же выпить все одна хозяйка, как не вправе его
и расплескать. Молоко это русское и должно пойти в Россию, должно поить
Россию. Александра Львовна в собственном смысле есть владетельница той
суммы денег, какая получается от продажи «вечного молока». Ее собственность
есть касса, а не текст; ее право—в назначении цены издания, но никакого
права нет в установлении буквы и строк... Юридическое наследование все-
гда есть наследование ценности, а не фасона; и когда в «фасоне» заинтересо-
вана вся страна, то собственник ценности, наследник ценное™ должен дать
стране полное удостоверение <пропуск в тексте>... * «перефасонено», по не-
пониманию, неумелости, неопытности или, еще хуже, — по тенденции.
* В гранках—сбой одной газетной строки (40 знаков). По смыслу—могло бы
быть: в том, что ничто в этой ценности не будет (сост.).
333
Вот отчего вся Россия не может не стать на сторону Софьи Андреевны
в ее праве защитить и никому не выдать драгоценного рукописного ма-
териала, хранящегося в Историческом музее в Москве. Эти рукописи были
ей подарены мужем. Материально, вещественно, как бумага и буквы, как
текст и рукопись, как «весомое и осязаемое», они принадлежат ей с мо-
мента подарения', и еще не было юридического прецедента, чтобы после-
дующее завещание кассировало права на вещь того, кому эта вещь подаре-
на. Подарение есть отказ от собственности, и объектом завещания не мог
быть стародавний подарок, потому простому соображению, что в момент
писания завещания он уже не составлял собственности самого завещания.
Софья Андреевна не имеет права только издать рукописи «Исторического
музея»: но никому их не выдать, даже не дать никому к ним прикоснуться—
она вполне может, вполне вправе. Вполне вправе сказать: «Это — мое, и
только мое». Еще тоньше или «изумительнее» она может поступить, — раз
все поставлено на карту казуистики, — отпечатав текст; и предоставив «за-
конным наследникам» печатать только одну обложку, с обозначением цены,
и затем отпечатанные экземпляры забирать как товар вместе со счетами
типографии. Наследники по завещанию суть наследники только товарной
стороны сочинений Льва Николаевича, но собственницею текстуальной
их стороны является обладательница рукописного материала, ей вручен-
ного мужем, врученного не в последний месяц тревог и смятения, случай-
ностей и «моментальных решений», а в пору спокойную, рассудительную
и устойчивую.
Мучительные вопросы около «золота Рейна». О, если бы скорее кончи-
лось связанное с ним несчастие и зло, раздоры и отрава душ...
О САМОУБИЙСТВАХ
«Ты будешь звать смерть, и она не придет к тебе»,—предсказал императо-
ру Адриану один из его друзей, когда его вели на казнь. Предсказание ис-
полнилось совершенно буквально: Адриан умирал столь тягостно, что умо-
лял медиков дать ему яд. Но они не исполнили опасного приказания. В эти
длинные дни он мог вспомнить слова своего казненного друга и мучился
удвоенною мукою. Кто знает, выбрось он этот отвратительный поступок из
своей биографии, может быть, он не умер бы столь печально. Конечно, мы
не сделаем» свою жизнь; однако отчасти и «мы» ее делаем. Конечно, мы не
созидаем свою смерть, но мы отчасти ее подготовляем... Тут есть магия
громадных волевых напряжений, или страстных на одну минуту, или упор-
ных во всю жизнь. Таковое волевое напряжение не может не получить свое-
го разряда... и покачивает жизнь или смерть в одну или другую сторону.
Черное лучше рассматривается, если его положить на дно белого. В те
дни, когда я получил предложение написать «о самоубийствах», я решил,
что мне нечего писать и я не буду писать, — я услышал рассказ, до такой
334
степени противоположный этой теме, что он повернул мои мысли и к ней.
Вот он почти буквально.
«...Мы были довольно утомлены дорогою, продолжавшейся уже не одни
сутки... Все вагон и вагон... Утомленные дети капризничали, и я не знала, чем
занять их. На одном из переездов мне помогла старушка: видя, что я сама
валюсь от сна, она тотчас занялась детьми, спросила, какие у них книжки в
руках, и, взглянув на заглавия, стала говорить о них с полным знанием дела и
предметов. Кто она, я не знаю, но, судя по французскому разговору, минута-
ми вырывавшемуся у нее, она из образованных. Лицо и речь чисто русские, и
это была несомненно русская женщина... Я заинтересовалась... И от разгово-
ров с детьми она перешла к разговору со мною, и тут кое-что рассказала о
себе... Точнее, в ее суждениях мелькали упоминания «о себе», которые при-
влекли все мое внимание и до некоторой степени волновали меня.
«Мне вот 26 лет, и бывают утомительные дни и недели, когда я не знаю,
что с собою делать, для чего живу... когда чувствую истощающую тягость
жизни. Вообразите же, что старушке этой было восемьдесят лет, — восемь-
десят, а не семьдесят девять, — и она была полнее жизнью, чем я, свежее
меня и цветущее душою... Я устала жить, а она нисколько не устала, и в
таком возрасте, очевидно, уже в приближении к смерти, она о смерти ни-
сколько не думала, будто, даже забыла о ней... Будто смерть не для нее! На
вопрос «где вы живете», т. е. в каком городе, она ответила мне,—и так счаст-
ливо и вдохновенно, — что у нее «нет дома». «Я живу между своими, и вот
теперь еду к внуку, уже семейному, а погостив у него, поеду к старушке-
дочери»... «Когда же мне захочется увидеть всех вместе, я пишу им письма, и
они съезжаются туда, т. е. к той дочери или тому внуку, у которого я живу. Но
это для них, может быть, обременительно или не д ля каждого удобно в дан-
ное время. К тому же я люблю движение и вот езжу то к одному, то к друго-
му... И вся жизнь моя в странствии, счастливом странствии; и хотя я не имею
дома, но у меня в то же время множество мест, где я «у себя дома»...
Раз она встала и прервала речь: «Что с вами?»—спросила я. «Судорога
в ноге; в 17 лет я ее сломала... Она была залечена, но и до сих пор перелом
отзывается сливающими судорогами, не надолго и без большой боли»...
«Я прожила 80 лет и чувствую себя свежею потому, что я всегда берегла
себя и жила крайне осторожно. Ела умеренно, не доводила до переутомле-
ния и никогда не ложилась и не ложусь в постель позднее десяти часов... В
молодости я была близорука и сейчас близорука»... Обращаясь к детям, она
прибавила: «Все надо беречь у себя, но особенно надо беречь глаза»...
И все такое же простое... Я смотрела на нее и почти не понимала, что
вижу и что слышу. Так это необыкновенно для нашего «теперь»... Она была
маленькая и худенькая и вся свежая... Восемьдесят лет, и, значит, она виде-
ла почти все царствование Николая Павловича, все «преобразование Рос-
сии» прошло перед ее глазами... пронеслись Севастополь, освобождение
славян, минули царствования Александра II и Александра III... И все соста-
рилось, а она не состарилась.
335
Что она не состарилась, не одряхлела, не «впала в младенчество» или в
окостенелую тупость, — это я видела отчетливо».
Таков был рассказ, к которому можно бы прибавить:
«У нее еще не произошло склероза жизни... Сосуды не лопаются, жилы
наполнены кровью... жилы жизни, сосуды жизни, биографии. И она живет
и хочет жить'.»
* * *
Полная противоположность самоубийству'. Какая в самом деле противопо-
ложность самоубийцам эта восьмидесятилетняя старушка, каждый день ко-
торой наполнен заботой, ожиданием, встречею или разлукой!
* * *
— Кто же она?—наставал я.
—Приблизительно дворянка, помещица...
Неопытная 26-летняя девушка не расспросила подробнее. Она сохранила
только лицо, немногие речи и впечатление. Не сомневаюсь, что они точны.
Так как и переданы были случайно, вне «темы» и «доказательства».
Я подумал: «Так вот как можно еще жить и умирать. На этом русском
фоне, где-то в черноземных полях, какою страшною и отвратительною
представляется жизнь и смерть великого римского императора, без расска-
за о котором не может обойтись никакая история. Как, подумаешь, лживы
историки: они передают о том, о чем можно было бы промолчать, и не рас-
сказывают о многом, что было бы всем интересно узнать... О том, что «всем
интересно узнать», иной раз узнаешь на дороге или увидишь где-нибудь «в
соседстве»...
«Виллу Адриана»,—остатки его загородного дворца и строений око-
ло дворца, — я рассматривал где-то около Тиволи, в Италии... Г ид назы-
вал: «Вот это библиотека... здесь отдыхали после ванны... это — комна-
ты его друзей»... Все было страшно пустынно... О, как пустынно и поче-
му-то печально! Ведь не все «развалины» печальны, но эти были именно
таковы.
И когда—уже много позднее—я узнал о характере его смерти, я поду-
мал: «Он всю жизнь томился предчувствием именно такой своей смерти»...
* * *
Самоубийство всегда есть катастрофа...
Катастрофа биологическая: сего «малого мира», представляющего — на
худую оценку—машину такой сложности, тонкости и особенностей, какую
создать не в силах все средства трехтысячелетней науки.
Катастрофа личности, биографии...
Катастрофа экономическая: если «жизнь есть мастерская» с тысячью
«заданий» в ней,—то эта мастерская вдруг лишилась одного своего работ-
ника, причем какое-то «задание» ее осталось неисполненным.
336
Сломана скрипка посередине арии; лопнула струна в рояле с его мно-
жеством струн; что-то «недополучено» в «счетах человечества»... Катаст-
рофа во множестве отношений, из которых обыкновенно мы останавлива-
емся только на одном:
Катастрофа личности'.
Этот удар заливает все остальное. Не думают о теле с его чудесами, о
«недополучке» в мастерской... Видят гроб и человека в нем, видят, когда он
мог бы жить, и ужасаются, рыдают, спрашивают: «Зачем? Почему?»
Не все знают, что иногда «катастрофа» эта столь болезненно отзывает-
ся на других, что вызывает гнев к погибшему... Вызывает осуждение: как
он мог быть столь жесток к людям, с которыми была связана жизнь его,
которых жизнь была с ним связана... И вот он «выворотил дерево из поч-
вы», которая, как мать, стенает, плачет... и, наконец, если не клянет, то осуж-
дает за боль... за изуродование себя.
Самоубийца всегда «уродует», «обезображивает» вокруг себя... Этого
нельзя забыть.
Перед гробом самоубийцы всегда нужно подумать: «А ведь у него была
мать». Собирающиеся около гроба его всегда должны держать в мысли: «Кро-
ме нас есть кто-то другой, кто его жалеет, любит более, чем мы»; «кому он
ближе»; кому он не только «зрелище» и «случай» в жизни, каким вообще са-
моубийца бывает для толпы... Нельзя не отметить этой особенности, что «мно-
жество народное», «толпа» в обезличенном ее значении, «чужие» чувствуют
какое-то особенное право, и притом нравственное право, на «тело самоубий-
цы» и всегда горячо окружают его, со страшною силою вместе с тем прибли-
жая к себе и его душу или сближаясь сами с душою его... И как бы чувствуют
вынутою, изъятою и эту душу, и это тело из рук близких, в особенности род-
ных. Происходит как бы безмолвный диалог между «миром» и «домом»:
—Ты его не умел сберечь... не сделал всего, что нужно, чтобы сберечь.
И он теперь — наш...
— Да, он теперь ваш... У вы! — он не мой уже...
Этот безмолвный диалог между «домом» и «миром» всегда есть. Все-
гда ли он основателен, это невозможно решить для всех случаев. Но бес-
спорно, что для множества случаев он глубоко неправилен.
«Ведь он ушел от вас».
«Да, он ушел от нас».
Это другая форма того же разговора,—глубоко тягостного разговора.
Толпа приходит и берет; родство — уступает. Иногда это правильно. Но
иногда это жестоко неправильно.
«Отчего убивают себя?» — вопрос, который стучит в голову всех.
У бивают себя, потому что бывают одиноки.
Оттого, что «некуда пойти».
«Некому сказать»...
Убивают себя от безысходности... Самые грустные из самоубийств. «Об-
стоятельства так стеснились около меня, что задавили... Не было щелочки,
337
куда бы пролезть... и вылезть на свет Божий... И я умер оттого, что душно,
тесно».
Это самая кровавая часть самоубийств; и пробуждающая самую боль-
шую жалость тем, что в сущности и нужно-то было очень немного, чтобы
едать воздуху» задыхавшемуся, дать работишку, дать службу, дать долж-
ность...
Эти «бедные самоубийства», демократические самоубийства, суть са-
мые жалостливые. «Немного бы»... В самом деле, «много ли» человеку надо?
Не обделил бы всех, не обеднели бы все, если бы помогли. Но вовремя
никто не помог.
«Толпа», всегда так гордо берущая себе тела «аристократических само-
убийц», самоубийц богатых или обеспеченных и умирающих «без цели»,
сторонится от этих трупов «по бедности» и не считает их «своими», между
тем как они именно «свои» в толпе. Это она не собрала «с мира по нитке»,
чтобы «сшить бедному рубаху». Несовершенство социальной организации,
с одной стороны не доросшей до «научного совершенства», а с другой —
потерявшей «прежнее братство и простоту», есть причина этих самоубийств.
Они так страшны в предшествующей психологии, так горестны в под-
робностях, что около их благородного «одра» как-то не хочется говорить о
«ложе», на которое, как древний Сарданапал, кладут себя самоубийцы от
«одиночества», от «неясного пути впереди» и вообще с «никого не виню»,
«не видел смысла в жизни».
— Некуда было пойти?.. Да пошел бы к бедному'.
—Не было цели в жизни? Да помог бы в занятиях неуспевающему маль-
чику или приискал бы службу лишенному ее!
Эти короткие и грубоватые ответы мелькают в уме, когда в газетах чи-
таешь ужасные рубрики о самоубийствах и т явных категориях. Совер-
шенно очевидно, что стоило бы двум самоубийцам встретиться, чтобы не
было никоторого. Один самоубийца «нашел бы смысл в жизни», сплотив-
шись личною жизнью с тем, кто «дошел до самоубийства под гнетом
безысходной нужды». Но с грустью видишь, что не только для живых, но и
для умирающих есть «два хода»,—черный и парадный: и демократичес-
кий самоубийца никак не может встретиться с аристократическим само-
убийцею, так как «сходят» они по разным лестницам.
И одни сходят по «черному ходу» в мусорный двор, в безвестность.
Бедных самоубийц вообще не помнят, не считают. О них не спрашивают, не
задумываются. «Бедных всегда так много». Да и бедность так ясна, проста:
нет загадки, нет темы. «Тема» самоубийства собственно начинается с
разукрашенного, богатого ложа Сарданапала. Тут говор, молва и мифы.
«Человек убил себя среди полного довольства... Он ни в чем не нуж-
дался, был уважаем и любим, по-видимому... Отчего же он убил себя?»
«Отчего» в самом деле?
Я помню смертное ложе девушки 22 лет; при жизни она была (или каза-
лась) «так себе», но в гробу она лежала с таким достоинством, и это до-
338
стоинсгво так переливало, наконец, в красоту, что я не мог оторвать глаз.
Умирая—с часу ночи до 6 вечера, — она звала: «Мама! Мама!» Несчаст-
ная, по-видимому, не ожидала мучений собственно умирания, действия
яда, отравы... «Умереть» ей казалось «стоп», «точка», тьма. Между тем к
смерти ей пришлось перейти через огненную реку муки... И в ней она
ужасно кричала: «Спасите меня! Мама!» Совершенно непостижимые по
жестокости правила «Приемного покоя», — «правила», конечно, «для всех
случаев» написанные и не знающие «исключения», — не пропустили к
ней «маму»... Случай — спешный, доктора — хлопочут и обеспечили себе
правильность действия общею «невпускаемостью»... Тщетно «мама» тре-
бовала, чтобы ее пропустили, молила, — ее не впустили за двери, где бес-
сильно хлопотала наука. «Маме» вынесли только уведомление, что спасе-
ние было бы возможно, если бы она приняла яду после ужина и вообще
поевши, «на пищу», между тем она приняла его с пустым желудком, и он
всосался тотчас и весь или, скорее и точнее, всею своею массою «облил и
сжег стенки желудка... И вот она умерла. «Почему?» Она жила с бабуш-
кою, тетею (ее и звала «мама») и сестрою. Родителей уже не было в жи-
вых. Почти богатая, почти знатная, она отлично кончила, как и ее сестра,
среднюю школу и поступила на Бестужевские курсы... Семья была не-
сколько консервативна, несколько церковна, несколько барственна. Но все
это без преувеличения. Семья была очень образованна... Самоубийца по-
шла по пути демократических и вообще новых убеждений. Но также без
преувеличения, без фанатизма. Она дома спорила. И с нею спорили... Ведь
позволительно не только младшим оспаривать старших, но и старшим
оспаривать младших? Младшая одним годом сестра осталась дома, не
пошла на курсы, но когда она выразила желание поступить на них, никто
ни одним словом ее не удерживал. Вместе с семьей она путешествовала
за границею всего за два—за три месяца до смерти. Любовалась чужими
городами; была или казалась счастливою. Имела тот признак «счастья»,
что была весела: единственное, чтб могут уловить домашние, от которых
все скрывается. На курсах сблизилась с подругами, хорошо сблизилась.
Так как здание курсов было далеко от их дома, да и ее, очевидно, повлек-
ло пожить «студенческою» жизнью, — то она без всякого «разрыва» с
домом или с разрывом очень мягким и безболезненным, перешла на квар-
тиру. «Как хочешь живи, только будь счастлива»,—сказали ей дома. На
квартире она прожила около трех месяцев; особенного ничего в это время
не было, ничего не давало основания предполагать что-нибудь потрясаю-
щее. В вечер самоубийства у нее были подруги, — и все ели, только она
почему-то, очевидно, удержалась есть. И когда все ушли, решительно
ничего не заметив у своей хозяйки, она выпила в это же утро вместе «с
провизией купленного зелья... Выпила — и закричала, и стала звать на
помощь... Поздно!
«Отчего же она умерла?»
Полная неизвестность.
339
От тоски? Одиночества? Но решительно не было еще времени испы-
тать «одиночество»... Всего три месяца. «От разочарования в жизни?» Но,
ведь, это такая молодость, что никакого «опыта жизни» она, очевидно, не
имела. «От разочарования в любимом человеке?» Но опять 22 года отвер-
гают возможность «окончательного, полного и глубокого» разочарования...
Да о любви, по крайней мере яркой, которую невозможно было бы не за-
метить, не говорил никто ни в последнее время ее жизни, ни около гроба.
В линии этих чувств было «кое-что»... Но кто же из-за «кое-чего» убива-
ет себя?
Но все говорили, что она была ярка, талантлива... Была умна. Ее «спо-
ры» в этом смысле любили как проявление личности, — без сочувствия
темам спора. Но, повторяю, не может же молодежь потребовать молчания в
ответ на свои тезисы, и эта девушка по крайней мере была так умна, что
ничего подобного и не требовала, и не ожидала. Она была сама пылка, упор-
на и встречала упорные же отрицания от людей, во всяком случае несрав-
ненно более ее образованных.
«Но живи, матушка, как хочешь; наше желание—только видеть тебя
счастливой, довольной».
И она взяла курсы, квартиру и яд. Полная непостижимость!
К характеристике должен добавить, что ни в девушке, ни в среде окру-
жающей не было никакой экзальтированности, неуравновешенности и бес-
порядочности. Все было нормально, но не сухо и именно «без преувеличе-
ния» в какую-либо сторону. Ни старые деревья, ни которое-нибудь из моло-
дых не «шаталось на корню». Оно упало разом и все. Точно «Бог попалил»,
как сказали бы в древности...
Но никто из пораженных членов семьи не отрицал, что в погибшей была
яркость мысли, воли и движения... Наблюдая «самоубийц без причины»,
нельзя не отметить, что в разряд их вообще не попадают тусклые личности.
Этого нет. «Деревянный, сухой человек» вообще не наложит на себя рук.
Но это одна из двух линий, которые ограничивают «зону самоубийства»,
довольно определенную; другая—увы! — более грустная. Самоубийцами
также никогда не бывают настоящие творческие личности. Вертер покон-
чил самоубийством. Но ведь все интересные и глубокие мысли Вертера
принадлежат собственно Гёте, и вот он-то не был и никогда не смог бы
сделаться самоубийцею. Юношей, на переходе в зрелый возраст, он пере-
жил только «вертеровское настроение» и, очевидно, сердцем и умом загля-
нул в черную зону самоубийства; но, заглянув,—отошел. Почему? Спасло
творчество, напор творческих сил; спасли образы, реявшие в его воображе-
нии. Если бы он «закис» на Вертере, — может быть, он и кончил бы, как он;
«кончил бы с собою» «обещавший молодой поэт» Германии... Но у Гёте
около Вергера, юного разочарованного человека, уже мерцали железные и
здоровые черты Геца фон-Берлихингена, рыцаря и воина, героя и деятеля...
Т. е. сам Гёте был не только мечтатель, как Вертер; он был деятель и герой
германской истории, «рожденный» для этого. И «рождение» спасло его.
340
Спасли силы отца и матери, перешедшие могучим током в сына. «Ему лишь
80 лет», — могли сказать родители над его колыбелью. А Вольфганг, очер-
чивая образы отца и матери, почти говорит это: «От них могли рождаться
только столетние дубы».
* * *
Если где есть «вина родителей» перед самоубийцами,—то вот здесь. Само-
убийство — волевое явление... Та «катастрофа», которою является всякое
самоубийство, бывает собственно «катастрофою» воли как жизненного на-
пряжения, жизненной энергии.
Кто в этих звуках:
— В смерти моей прошу никого не винить...
— Я умираю, потому что не нашел смысла в жизни...
— Потому что в жизни слишком много темного...
— Потому что все безнадежно...
Кто, повторяю, прочтя эти строки, не заметит в тоне их чего-то извиня-
ющегося, уступающего, склоняющегося?.. О, не так боец идет на битву! Но
с битвы именно так уходит боец... «Мой меч не остр. Порох расстрелян...
Да и сам я устал, мал и слаб... Пойду лягу в канаву, пока бьются сильные...
Лягу один, незаметно»... и «чтоб никого не винили».
«Не надо суда... Ни над кем не надо суда», — вот последняя, неволь-
ная, всеобщая резигнация самоубийц.
Из-под земли бьют ключи толстой и тоненькой струей, и что толстою
струею бьют—дают начало рекам. А выйдя из камня тоненькой струей, —
побежит быстро... но иссохнет под солнечным лучом, потеряется в пес-
ках. .. И, отойдя немного, оглядываемся и не видим его. Вот «гроб само-
убийцы», явление страшное и органическое.
Никогда настоящего гения. Никогда настоящей творческой натуры. И
опять это сказывается в записочках:
«Чувствую себя несостоятельным для жизненной борьбы». Какое
страшное признание!
* * *
Сила рождения — это одно. Но и другое — ранняя трата жизненных сил.
Вспомним старушку на дороге: «Я всегда была осторожна». Вот неосторож-
ность жизни, и именно в самую раннюю ее пору, — до 20—22 лет и еще
много ранее этого, — является подспудною и тайною причиною, я думаю,
большинства «самоубийств без причины». Ручей не всегда бил тонкою струею
уже при исходе, не во всех случаях так бил: иногда сейчас из скалы он брыз-
нул толстою струею. Но сейчас почти попал на песок или рассекся на мелкие
части, — и все «ушло в землю» или «рассеялось по сторонам»... так что к
20 годам юноша чувствует себя старичком, бессильным, инвалидом.
«Сознание горит тысячею мыслей... В сознании — все освещено. Но
какая темь в воле... темь, уныние и безнадежность».
341
Вот тайная эпитафия над собою множества самоубийц. Всякий человек
один сам знает свои «внутренние счеты»... Один он только помнит свои
«расходы». ..Ион один знает итог: «все потеряно»... «Потеряно, когда я
только должен начинать жить».
Вот эти «тайные расходы» себя, своей личности, в особенности своей
энергии, органической своей энергии, «расходы тела», которые оказывают-
ся и «расходованием души», — являются едва ли не главным источником
«беспричинных самоубийств» или самоубийств за «потерею смысла жиз-
ни». И эти признания тоже «раскрывают скобки» именно около указывае-
мой здесь причины и тоном, и определенным смыслом. Уторопляющую
роль играют здесь преувеличения молодости. Молодость не знает, что то,
что растрачивается «неосторожностью», то вновь скапливается и вполне
возвращается последующею «осторожностью». Органические богатства
подобны денежным. Гераклитовское «все течет» ни к чему так не примени-
мо, как к биологии; правда, «много утекает» при неосторожности. Но юность
не знает той великой тайны поистине святого и вечного организма, что в
нем вечно и «притекает», т. е. создается вновь, творится, как бы «воскреса-
ет». «Все течет» разлагается на «все утекает» и «все притекает». Испуган-
ная молодость считает только первое: юноша не знает, девушка не знает,
что они при всех положениях, во всех состояниях, при всевозможных тра-
тах «из своего кошелька» все-таки остаются обладателями миллионов, не-
исчерпаемых богатств, которые немедленно же, с каждым днем, неделею,
месяцем, годом начинают «реализоваться», как только прекращена даль-
нейшая «утечка металла». Организм — рудник, жизнь — рудник; надейся
на него, счастливый человек, надейся всегда — и да не оставит тебя Бог!
Часть самоубийств «без цели» бесспорно ошибочны и случайны; это
совершенно ясно видно каждому, кто в молодости близко проходил около
этой «зоны», но был чем-нибудь спасен и затем в позднем возрасте огляды-
вает весь «путь жизни». Он ясно видит преувеличения мысли и воображе-
ния, преувеличения испуга. К тому же он знает ту страшную, но глубокую
истину, ту почти «магию» человеческой жизни, что два ее конца, первый и
второй, обыкновенно не походят друг на друга, но чаще всего находятся в
полном контрасте. Самоубийца не знает, сколько «неожиданностей» впере-
ди... Для «разочарованного»—сколько очарований! Для «утратившего
смысл» жизни — какой ее глубокий «смысл» потом откроется!
* * ♦
Худое и глубокое, грубое и трогательное, беспощадное и нежное странным
образом смешиваются в самоубийствах. В «катастрофах», оставляемых са-
моубийцами вокруг себя, среди оставшихся живыми, иногда бывает столько
грубости и жестокости, что хочется жестоко судить виновных в этом горе.
Ах, как бывает это горе черно, неизгладимо!.. Зарастет травой могила, но
рана в сердце матери самоубийцы никогда ничем не зарастет. Для нее не
будет отрады; не будет светлых дней; пение птиц ей ничего не скажет, зе-
342
лень леса ее никогда не освежит, никакому цветку она не порадуется. «Этот
цветок мог бы сорвать мой сын», — и не наклонится, и не сорвет сама. Да,
самоубийцы жестоки, — это должна сказать им вслед любовь человеческая.
— Как, жестокие, вы захотели уйти от нас всех?.. От всех людей! Дерз-
кие, скажете ли вы, что вы измерили все человеческие сердца и что во всех
вы не нашли ничего, что стоило бы полюбить, не нашли которое бы полю-
било вас?
В глубочайшем зерне своем самоубийство всегда есть клевета... Ме-
тафизическая клевета. В самоубийстве есть нечто демоническое. В самом
деле злое...
Пусть в то же время и несчастное. Ведь и демоны бывают «в прекрас-
ной печали»...
Во всяком случае с тем «апофеозом», который иногда рвется вспыхнуть
около гробов самоубийц, нужно быть очень осторожным. Не замечают, что это
—черная яма, которая тянет. Этот почти «народный траур», это «собрался весь
город» в наше прозаическое и сухое время,—признаться сказать, скверное
время,—не может не тревожить и не занимать и отчасти не манить молодое и
героическое воображение. Человеку мистически врождена идея великого по-
читания ... Ей отвечали «народные увенчания», которые были в античное вре-
мя и были в Средние века. Новнаше скверное время?.. Да победи хоть японца,
—дадут только важный знак отличия. «Народных увенчаний» нет, не оста-
лось. Сколько хочешь «пой песен»,—не получишь того, что получал простой
мейнезингер в Нюренберге. Между тем молодое воображение всегда поэтич-
но и всегда инстинктивно истерично. Оно ищет или может начать искать «хоть
на миг», хоть «после смерти» соединиться с сердцем народным, с сердцем об-
ширным и космическим—в этих волнах горя «по утраченном».
Древле так же, как и ныне,
Адониса погребали...
Это вечно... И «Адонис» даже умирал именно «пораженный вепрем»,
от раны, в крови... Повторяю, тут есть вечное. И вечная яма тянет...
Нужно быть осторожным: один гроб может потянуть за собою еще гроб.
Есть паника, ужас всех. Вообще есть коллективное, собирательное, народ-
ное в страстях, по-видимому индивидуальных. Обратно унизительной «па-
нике» может образоваться горделивый и горячий ток, увлекающий слабых
к мысли о волнах горя, тоски, недоумения около «моего гроба». Ведь есть
вообще посмертные мысли, посмертные чаяния, посмертные ожидания; есть
страстнейшие желания «того, что может произойти только после моей
смерти». Не на этом разве держится весь социализм, опирающийся на «то,
что будет после меня» и чего ни в каком случае не будет «при мне», не
«будет при жизни» вот этого социалиста. А идут... Умирают... Отчего же
не умереть «ради великих волн чувства» вслед за «моим гробом», вокруг
«моего гроба»? Самоубийца получит никак не меньше того, что «жертвую-
щий собою» социалист...
343
Громкий вопль стоял в пустыне,
Жены скорбные рыдали...
Прекрасно. Грустно. Величественно. Отчего, в самом деле, не умереть?
Для этого?! Осмысленнее, мистичнее и уж гораздо расчетливее, чем для
социализма. Тут не пропадаешь; и так скоро все, почти сейчас, и все зави-
сит «от моей воли».
* * *
Я не говорю, что это есть, но что это может быть, может начать случаться.
Кто изведал сумерки души человеческой, мерцания души человеческой?..
* * *
Перейдем к ясным фактам. Выдающаяся умом, знаниями студентка рас-
сказывала:
«Наша подруга умерла... «Тетя Клёня», как ее звали дети, которых она
учила, и так же приучились звать ее и мы, ее подруги. Кончила самоубий-
ством»...
Она, такая жизнерадостная, лица которой нельзя было представить без
улыбки! Да я без улыбки никогда и не видал ее...
Красивая, она не нравилась только тем, что казалась кокетливой: для
чего же всегда этот безукоризненно свежий воротничок и всегда завитые, в
кудряшках, волосы?
«Но они сами вились у нее. Что касается воротничков, то это простира-
лось и далее, на все белье; правда, она не имела средств шить себе часто
новые платья. Но на том платье, которое она носила, если оно и сшито бьию
давно, нельзя было никогда найти пятнышка. Что касается белья, то она
шила его из довольно дешевого материала, но зато очень много и чрезвы-
чайно часто меняла. Скудное свое жалованье она и тратила больше всего на
прачку и вот на воротнички и манжеты. Мы над нею смеялись, потому что
это переходило в какую-то манию: она была в постоянном страхе, что тело
ее нечисто, и постоянно мылась и одевала все чистое и чистое белье. Шею
же и лицо мыла по нескольку раз в день, — все смеясь. Потому что вы
знаете, что она постоянно смеялась»...
— Мне казалось, она кокетничает... т. е. желает нравиться.
«Ничуть, потому что она любила. Не было серьезнее девушки, но она за-
путалась в любви. Уже года три тянулся роман и не роман. Вы знаете, она вся
была воплощенная энергия и живость, он же был нерешительный и вялый. Все
кончал курс и никак не мог кончить... Дворянин, из хорошей семьи и такой
славный сам, но совершенно безвольный... Она решила, наконец, прийти к
какому-нибудь концу, и вот они все вместе ездили здесь по священникам,
ища, кто согласился бы обвенчать. Потому что, хотя никаких препятствий и
не было,—она—девушка, он—холостой, не родственники и совершенно-
летние, —однако была нужна еще бумага от учебного заведения, где они оба
учились, и никак они не могли ее достать (по причине летних каникул или по
344
другой причине, я не упомнил). Нашли, наконец, на каком-то кладбище или в
каком-то приюте. Но ее брака с этим довольно безнадежным студентом никак
не хотел ее брат, священник же: дело в том, что она нравилась другому молодо-
му человеку, инженеру, и с успехами в службе и жизни; и брат-священник на-
стаивал, чтобы она вышла за него. Когда она решила брак с вялым женихом
своим, то он объявил, что «этому не бывать», и разослал всем здешним свя-
щенникам письма, говоря, что они должны спросить у его сестры («имя рек»)
и ее жениха (тоже «имя рек») все до мельчайшего документа, иначе он подаст
жалобу на венчающего священника и привлечет его к ответу за неправильные
действия. Эго братнино письмо было получено священником, согласившимся
венчать, в самый день, когда было назначено таинство; молодые приехали в
церковь, а священник выходит к ним и говорит: «Я не могу венчать без разре-
шения от начальства (такого-то) учебного заведения»... Ничто не могло поко-
лебать его твердости... И вот, когда мы вместе с нею вернулись к ней в кварти-
ру, я увидела, что она—не жилица... Такой у нее был вид. Видно, что решение
это и все под готовления, все хлопоты ей стоили страшного усилия... И когда,
почти дотянув, она все-таки недотянула,—струна лопнула»...
Мне это было все-таки непонятно: два месяца подождать, еще похло-
потать...
«Не в этом дело, а в безволии жениха и, очевидно, в страшном собственном
колебании. Я также чувствую, что она, такая строгая и требовательная, такая
чистая идеалистка, стала ловить себя «на дурном». Именно в ней, по-видимому,
начало происходить колебание,—уж не выйти ли в самом деле за инженера, т. е.
за богатство, довольство и покой, хотя без любви. Торопливое ее желание обвен-
чаться с инвалидом было собственно убеганием от этой «подлой мысли»; и на-
стоящая причина самоубийства лежит, я думаю, в ставшем закрадываться не-
доверии к себе, презрении к себе. Впрочем, она ничего не говорила, и так я
думаю только, припоминая некоторые отрывистые ее слова да жалобы ночью,
«как все люди скверны, даже те, которых все любят за их высокие качества»...
Она поехала домой, к отцу, в село. Он тоже священник... Но прожила недол-
го... И там, как здесь, она была окружена детьми, которых учила, «чтобы не
терялось даром время». В ночь как умереть с нею лег ее маленький братишка.
Она с ним играла, разговаривала. И когда он уснул, она вынула из-под подушки
коробочку с цианистым кали и умерла моментально. Наутро нашли ее гроб»...
Я что-то воскликнул, — понятно, по адресу ее брата. Рассказывавшая
кончила:
«Множество детей шло за ее гробом, и эти же дети все носили цветы на
ее могилу». Наша тетя Клёня (Клеопатра) любила цветы, и ведь она все
жива, хотя и под землею. «Они не понимали, что она «умерла». Я была у
нее на похоронах. Смерть ее не произвела никакого впечатления на родных,
отца и мать, и за «похоронным обедом» они хорошо кушали и громко гово-
рили о таких мелочах своего обихода, что было страшно слушать. Умер-
шую никто не жалел и не вспоминал».
Должно быть, «братец» отписал домой о поступках сестрицы.
345
* * *
К рассказу я не прибавляю ни слова, не переиначиваю в нем слова. Рассказ-
чица жива, и каждое ее слово может быть перепроверено.
* * *
Кто не думает никогда о самоубийстве?
Те, к кому смерть сама идет.
В противоположность двум молодым цветущим самоубийцам я припоми-
наю приемную профессора-гинеколога Н. Н. Феноменова. О, как печальны
эти «приемные» докторов, как они страшны!.. Сколько уходят отсюда с на-
деждою и сколько потеряв надежду!..
Комната,—обширная, вся с мягкою мебелью,—тихая, страшно тихая,
полузатенена. В полуоткрытую дверь «в квартиру» я вижу мерцающую лам-
падку. «Вот и врач, материалист, а верит». Это как-то сроднило его со мною
и, я думаю, сродняет со всяким больным. Феноменов — вообще светило
науки, светило своего дела и, кажется, глубокий и прекрасный русский че-
ловек. В сумраке замечаю женщину, чрезвычайно худую и пожилую, осо-
бенностью которой было то, что, должно быть, припухшие ее жилы обра-
зовали на ее шее, лице, а главным образом на руках какие-то толстые и
синеватые узлы. Точно она вся состояла из костей, красноватой кожи и вот
этих синих сплетений жил.
Грустная, тяжелая. Полушепотом спрашиваю:
— Что у вас?
— Рак.
— Как рак?.. Почем вы знаете?
—Доктор сказал.
Пауза.
Год целый меня лечил. Я из Таганрога. Бедная. И я пролечила все день-
ги, какие у меня были, осталось чуть-чуть, и тогда эти последние деньги я
употребила, чтобы вот приехать сюда. Когда же отъезжала, то он и сказал,
что у меня рак. Но отчего же он раньше мне этого не сказал? Тогда бы я и
поехала тотчас сюда, может быть, здесь помогли бы... Но он все лечил и
ничего не говорил, и я думала, что он вылечит.
Я молчал растерянно... Она была очень грустна и, может быть, плака-
ла. Как будто в моем участии она тоже искала «исцеления» или какого-ни-
будь «может быть»... Об этом можно судить по следующим словам, кото-
рые поразили меня.
Она не была крестьянка или «совсем мещанка». Сельская учительница
или дочь учителя, священника, мелкого чиновника. И вот говорит, уже слыш-
но заплакав.
— Рак в неприличном месте... Но ведь я девушка...
Тут было столько мольбы к Богу, к миру, столько упрека (Богу?), такая
мольба, недоумение о себе...
«Я девушка и не грешила, за что же Бог так покарал меня?»
346
За что? За что?!
Вот к этой милой женщине, конечно уже умершей,—так отчаявшейся,
так одинокой, так покинутой Богом и людьми, — могли бы десятками под-
ползти «завтрашние самоубийцы» и, держа ее руки с жилами, вопить:
— Сестра, живи! Ради Бога живи!.. О, как прекрасна жизнь! Изтвоих
глаз мы видим, как нужно жить, как следует жить, какой это бесценный
дар, что сердце бьется, грудь дышит, руки шевелятся, ноги ходят... Нет
выше ничего, а мы, не понимая этого, бегая как на пружинах на молодень-
ких ногах, которые нам «ничего не стоили», вообразили, что самое главное—
«наши душевные муки», «измена друга или любовника» или «холодность
родителей»... И—собирались уже умирать. Но мы станем жить! Сестра, с
тобою мы станем жить, и ты не умрешь же, как мы тоже не хотим теперь
умирать. Жизни! Жизни!
* * *
Да, именно молодежь, столь далекая от естественной смерти, ищет искус-
ственной смерти, которою является всякое самоубийство. Страх, грех, отвра-
щение. ..
«Мои ноги еще ходят! Какое счастье, что я не на костылях и могу даже
побежать! Никакой Крез со мной не сравнится»...
Вот естественное чувство на протяжении всей жизни. Срезайте, юно-
ши, искусственные наросты на своей мысли, как мы срезаем мучительные
и уродливые мозоли.
ТУЛЬСКАЯ ИСТОРИЯ
(К истории и загадке Черткова)
София Андреевна Толсгая не отрицает, что
в последний год Лев Николаевич был пря-
мо влюблен в Черткова. Он весь изменял-
ся влице,когдаг. Чертков появлялся в доме.
Влияние Черткова росло...
С. А. Толстая в Петербурге.
Беседа с нашим сотрудником.
«Биржев. Вед.», 1911 г.
Легкая улыбка иногда уместней тяжеловесных громов. Прочел статью
г. Перцова—«Чертковсгво»... В «Людях лунного света» мною совершенно
разъяснены «духовные содружества», бы вшие в Греции и на Востоке до хри-
стианства, но затем особенно пышно расцветшие на внесемейной почве у
ранних христиан I—IV веков. В pendant к своей книге я не могу не указать
замечательное в самых разнообразных отношениях рассуждение проф. Мос-
ковской духовной академии П. А. Флоренского — «О дружбе», в двух пос-
347
ледних книжках «Богословского Вестника». Флоренский говорит (и дока-
зывает историческими примерами), что теснота духовного единения и сте-
пень экстаза в нем, при подобных «дружбах», совершенно эквивалентна
испытываемым в браке чувствам, и потому именно <рШа заменяла обьгчный
брак, становилась на его место и делала его ненужным. Все эти явления, до
мелких черт, можно наблюдать в истории якобы «гипноза», о каком говорит
г. Перцов в своей статье «Чертковство». Тут не «гипноз», носящий свои оп-
ределенные черты, — а нужно подобрать другое имя. Но напрасно П. П.
Перцов волнуется... Весь эпизод, постепенно разъясняясь, кажется, приоб-
ретает скорее комический оттенок, ибо на громадную, подавляющую и оба-
ятельную (как говорят) фигуру Черткова, вступившего неожиданно в сопер-
ничество с Софьею Андреевною Толстой, падает тень от маленького и тоже
очень серьезного Смердякова, играющего на гитаре и поющего куплеты:
Непостижимой силой
Связан я с милой;
Господи помилуй
Меня и ее...
* * *
Царская корона...
И прочее. Дочитать можно у Достоевского. Смердяков, конечно, усту-
пал морально Черткову; но зато очевидно Чертков умственно уступает Смер-
дякову, который был все-таки «философ». Но обоих единит то, что один и
другой презирали «отечество, страну и веру»... И если Чертков переехал в
Англию, то Смердяков думал эмигрировать во Францию. Россия могла бы
сказать обоим вслед:
Была бы милая здорова;
Господи помилуй
Меня и ее.
ПРОФ. В. И. ГЕРБЕ И ЕГО ТРУД
О ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Добрая профессура в университете—такая же непостижимая вещь, как и
урожай талантов в литературе. Откуда-то приходит... Куда-то уходит... «Бог
дал, Бог и взял», как говорит народ о счастии. Мы только пользуемся: и очень
мало понимаем источник, откуда нам является такое «благорастворение воз-
духов» и «изобилие плодов земных», говоря словами литургийной эктиньи.
Кажется, однако, есть два если не источника рождения талантов, то их хоро-
шей шлифовки и крепкого закала. Или — очень большое счастье, или —
348
острое страдание, в стране, обществе, историческом фазисе. Ну, как не по-
явиться талантам
В надежде славы и добра...
Талантливая эпоха Петра Великого и талантливая эпоха Екатерины II,
как и начало царствований Александра I и Александра II, были таким по-
ложительным стимулом. А отрицательным стимулом... их у нас было
сколько угодно. Сверху все чего-то «боялись» и «попридерживали»; и когда
это было «очень», как в николаевскую эпоху, то «закал» выходил хорош
(Лермонтов, Гоголь, Грановский и его современники, Хомяков и Герцен).
Но большею частью не было «очень», а сверху, в середине и снизу больше
все кисли, —друг на друга сердились, обвиняли и сплетничали, и тогда
получались «обыкновенная литература» и «обыкновенный университет»,
без тупости и без блеска. Щедрин все плел восьмитомную сплетню, Валуев
и Тимашев о чем-то мямлили и на что-то не решались, Никитенко граждан-
ствовал в потаенном «Дневнике», Некрасов процветал в клубе, на охоте и в
журналистике, прочая Русь—счастливая играла в карты, несчастная моли-
лась и умирала в больницах или чаще без больниц... и все передвигалось
медленно от Севастополя к Маньчжурии. Толстой один в этом, как и во
всем, был счастлив, независим и рос как-то только из себя. Он развернулся
в громадную силу, в пышное дерево, живя в эпоху, нисколько не осененную
«надеждами на славу и добро» и не очень угнетенную. Все вокруг него
было среднего роста, а он развился в громадный рост. Кажется, он питался
соками вообще русского дерева, всего русского дерева: ведь просто «исто-
рия», просто «прошлое» заняло половину его внимания, дало ему полови-
ну возбуждения, заполняет половину, и лучшую, его творчества...
Но оставим литературу и будем говорить об университете. Теперь он
далеко не в процветании, и причина так ясна, что ее нечего и указывать.
Извне он завован, а внутри сгноен в нищенстве. Завоеван, конечно, наши-
ми мужественными социал-«спасителями», давно обещающими отечеству
свободу и благоденствие; а сгноен просто тем, что, по-видимому, «обо-
зленность» сверху побуждает год за годом все отказывать в улучшении
положения вообще учащего у нас персонала. Кто же из талантов станет
искать профессуры, когда адвокатура и врачебная практика оплачивается
в шесть раз больше, журналистика—тоже, труд в банках, в промышлен-
ных предприятиях, на железных дорогах, в акцизе, в департаментах и кан-
целяриях — оплачивается в два, в три раза дороже. Профессура — ни-
щенство; этим из нее, по-видимому, «выбивается пух», убавляется «кра-
сивое перо»... «Перо»-то убавляется, «пуха» очень мало, наука и литера-
тура научная явно поблекла и почти только влачит существование... Но
обозленность тоже достигла каленого состояния, и это очень мало спо-
собствует пресловутому «успокоению», будто бы столь искомому. «Завое-
ванные» нищетою профессора не могут не шептать озлобленно: «А...
пусть же все довоевывает социал-демократия. Так плохо, что хуже все
349
равно никогда не будет». «Голод—не тетка»: за себя еще могут его нести
ученые, но могут и поколебаться перед тем, чтобы заставить нести его
жену и детей. Не забуду, как готовившийся на кафедру геологии молодой
ученый, лет 28, — объяснял мне, сидя в кухне, соединявшей «свои обя-
занности» с его кабинетом, что «вот если бы он мог занять уроки латин-
ского языка в 1 -м классе такой-то гимназии, то и совсем бы хорошо, для
приготовления к магистерскому экзамену оставалось бы время: теперь же
он не знает, что делать, так как утро уходит на занятие в минералогичес-
ком кабинете и слушание лекций, а вечер весь поглощается двумя урока-
ми в дальних и, главное, в разных частях города». Получал он, как «гото-
вящийся к кафедре», 50 р. в месяц, напечатал уже две работы по своей
науке, переведенные и на французский язык, относился к предмету так
внимательно, что к слушаемой лекции приготовлялся дома по книгам (не-
бывалое явление лет тридцать назад): но... имел неосторожность или, вер-
нее, добросовестность рано жениться, на дочери своего гимназического
учителя, и уже имел ребенка. Жена при ребенке, сама стряпала, он же не
имел другого помещения для своих «ископаемых остатков», кроме как
кухня, с единственным стулом и столиком, около глухой стены: у окна
шла стряпня. Но естествознание завлекает своей осязаемостью, и он уже
изучает «разрезы пластов» в двух губерниях: хотелось доискиваться еще,
и он шел вперед, несмотря на пугающую нищету... А что впереди? Тогда
как даже «хранящие дела» в канцеляриях того же министерства просве-
щения, т. е. только отпирающие и запирающие шкаф и достающие оттуда
«такое-то дело за таким-то номером», все-таки получают рублей 75 в ме-
сяц. «Пуха», конечно, нет у такого ученого: но невозможно осудить, если
раздражение его будет чрезмерно. Нельзя осудить вообще профессуры,
если она не горячо сочувствует «петербургскому начальству» или не «ис-
кореняет на месте крамолу», как бы следовало и ожидалось. Поставлен-
ная в положение непременного недовольства, — она недовольна; вечно в
большой или малой «репрессии», — она свободолюбива. «Где жмет, там
и охает»: уж это такой закон, которого даже святое правительство не уй-
мет. Нет, я вместо «успокоения», которое тоже денежек стоит, перекинул
бы несколько миллионов вообще на развитие науки, на ученые экспеди-
ции, на издания ученых книг и журналов, на обеспечение ученых, при-
смотрел бы за всем этим зорко и сам и... terribile dictu, в совершенно
серьезных консервативных целях дал бы автономию университетам и дух.
академиям, по принципу: divide et impera. Ну, если один сапог жмет ногу
профессору и студенту, явно они оба будут говорить, охать, критиковать,
жаловаться «в унисон». Университеты до тех пор не перестанут быть ар-
хирадикальными, пока не будет разрублен «унисон» профессуры и сту-
денчества... А пока они «согласны» и «дуют в одну сторону», ну что с
ними сделает попечитель, министр и, наконец, сам градоначальник? Вве-
дет полицию, уведет полицию; придут войска. «Выудят» что-нибудь ог-
непалительное или какие-нибудь такие «бумажки». Все это явно вздор и
350
ни к чему не ведет, ни к чему никогда не приведет, ибо всякие «бумажки»
очень недолго принести и опять. Конечно, вопрос в том, чтобы
1) университет в полном составе начал работать, учиться, интересо-
ваться наукою, увлекаться наукою. Т. е. чтобы профессора были талантли-
вы или, что то же, чтобы талантливые, энергичные лица начали искать
профессуры. Это возможно только при уничтожении равенства между «про-
фессурой», во всех ее степенях, и особенно в ранних, и между «нищен-
ством»;
2) чтобы совпадение в «образе мыслей» профессора и студенчества,
особенно в образе мыслей государственном, политическом, было только
случайным, но не массовым, не всеобщим и непременным. Т. е. удалите
общий и единый «пресс», нажим. Одинаковость положения «под ближай-
шим начальством».
Где «нажим», там и «отжим». «Отжим»-то и есть либерализм: но кто
его не хочет, для чего же «нажимать»? Однако самое положение «началь-
ства», это «верхнее положение», делать то, что всякое начальство вообще
«нажимает», в Китае и в Соединенных Штатах. Так как у нас вся профессу-
ра в оппозиции к начальству, то сделайте ее самое «начальством»—и тогда
она станет нажимать на «оппозицию». Совершится разделение между сту-
денчеством и профессурою: кроме случаев совместного и дружного служе-
нья за ученым столиком в ученом кабинете. Тут могут и будут «пить чай»
вместе. Но это не то же, что «вместе» на митинге, сходке или «согласно»
там и здесь, «единомысленно» там и здесь. Здесь будет полное «разделе-
ние», и просто оттого, что профессура «управляет»... А всякий «управляю-
щий» —даже и Клемансо — был против «сходок» и «забастовок».
Автономия—не сейчас, но лет в двадцать—совершенно «выправила»
бы ход университетского корабля; поставила бы науку и занятия «прямо»...
И кроме автономии («профессура — в начальство»), сделать это не способ-
но ничто. Вечно будут «согласны профессора и студенты», никогда их по-
печитель или министр не победит иначе как на неделю, на месяцы, самое
ббльшее на год; вечно будет сперва скрытое и потом явное возмущение «в
позволительных размерах», «докуда хватит», и всегда это будет очагом го-
тового распространения «неуспокоения» вообще в стране. Вечно будет «уни-
верситетский вопрос», пока не будет «корпорации профессоров, совершен-
но и хорошо обеспеченных, которые заведуют всеми учебными и учеными
делами в университете и управляют студенчеством, ответственные перед
общим правительством (Петербург) за тишину и безопасность для страны
и города студенчества и вообще университета».
Только в этом положении профессура будет всеми силами, какие у нее
есть, сопротивляться напору революции на университеты... сопротивляться
искренно и горячо. Без этого ни горячности, ни искренности добиться
нельзя. Может быть, особенно первые годы, она все-таки не выстояла бы:
но нельзя забывать, что не «выстаивали» против нее иногда и другие на-
чальства, не выстаивала полиция, администрация, министерства... Поэто-
351
му, напр., события в университете в 1905 — 1906 гг. нельзя класть «в за-
чет» автономии: очевидность и хроника тех дней показывали, что «авто-
номная коллегия профессоров» всеми силами боролась с революционным
натиском, всеми силами успокаивала и сдерживала студенчество, всегда
была против введения в стены университета или на студенческие сходки
«посторонних лиц»... Все и заключается в этом внутреннем желании и на-
правлении его: а что, напр., вторжения Желябова в Петербургский универ-
ситет «автономия» все-таки не сдержала бы, то это, во 1 -х, очевидно и, во
2-х, нисколько не важно, потому что и вся власть преемственно гр. Д. А.
Толстого как министра просвещения и гр. Лорис-Меликова как министра
внутренних дел тоже не предупредила и не сдержала этого естественно тай-
ного вторжения.
Но все-таки что-то говорит, что даже с Желябовым, его пронырством и
наглостью, «автономия» поспорила бы: именно, она предварительно, лет
за 20, развила бы настолько научного одушевления в университете, приви-
ла бы научные вкусы и предрасположения, наконец, приучила бы студенче-
ство к достоинству и самоуважению, что о подговоре этих студентов, как
баранов, к даче пощечины министру не могло бы быть и речи. В «автоном-
ных университетах» Англии и Германии, при этой университетской гордо-
сти, вырабатывающейся только в атмосфере независимости и благородства,
«история Желябова и Сабурова», конечно, немыслима. Ничего подобного
там и не было никогда.
Позволяю себе высказать эту гипотезу, многие годы томящую мою
душу. Есть упрощенные формы политического и национального суще-
ствования, когда «искусство управления» все разлагается на прямое «при-
казание» и прямое «послушание», не содержа в себе ничего третьего.
Но это — наивные времена, наивные эпохи. Совершенно явно, что Рос-
сия — поясним, Россия Толстого и Достоевского, — давно из этой поры
вышла. Она вошла в пору более сложного существования, когда «искус-
ство управления» должно заключаться в выработке, в выращивании вза-
имно противоположных и взаимно уравновешивающих сил, положений,
энергий. Из борьбы «центробежной» и «центростремительной» сил, из
которых одна толкает Землю прямо упасть на Солнце и сгореть, а другая
усиливается оторвать ее от Солнца и заморозить в межзвездных про-
странствах, получается гармония движения Земли около Солнца, устой-
чивого и равномерного, при котором Земля и никогда не сгорит, и никог-
да не замерзнет.
Но я, собственно, собрался говорить и не об автономии, и не об уни-
верситете, а о проф. Герье и его новом труде или, вернее, заново перера-
ботанном— «Французская революция 1789—95 гг. в освещении Ипполи-
та Тэна»: и только мысль об авторе этого труда, занявшем кафедру исто-
рии в Москве после Грановского, Кудрявцева и Ешевского, — вовлекла
меня в невольные воспоминания и мысли о профессуре вообще, об уни-
верситете вообще...
352
УБОГОНЬКИЕ В ИСТОРИИ
В свое время, размышляя над происхождением идеи «загробного мучения» в
средневековом католичестве, с его красками, с его подробностями, и затем
думая: откуда вытекло это тоскливое желание перетащить трансцендентную
«м^ку» сюда, на землю (инквизиция), я пришел почти к наблюдению, что в
основе его лежит юродство тела и духа, безобразия «я»... Не замечали ли вы,
что все красивые лицом—очень добры, ласковы, приветливы; а что благие в
душе своей, благие и чистые,—всегда веселы, легко прощают обиду, светлы
лицом и словом, не «привязываются» к другому, не «мстят» и проч, и проч.
Наконец, что большинство богатых людей—щедры и «хлебосольны». Логи-
ка души ясная: «Самому хорошо—хочу, чтобы всем было хорошо».
Не то юрод или урод... Уж он «не забудет»... Он схватит у человека ни-
точку, словцо: и за «словцо» будет тянуть у него душу. Тут есть что-то мота-
ющееся, тоскливое, вязнущее в зубах: и вот из мотка этих чувств или подоб-
ных ощущений возникла, в раннем и первом фазисе своем, инквизиция. Мир
цветет, счастлив; мир в существе своем, в веч ном зерне—Моцарт:
Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии! Но нет: тогда б не мог
И мир существовать...
Все предались бы вольному искусству...
Я говорю, что мир, вышедший из творческого акта Божества, в тайной
субъективности своей очень похож на это самоощущение, какое дивный
Пушкин вложил Моцарту. Нужно ли оговаривать, что «не мог бы суще-
ствовать» есть modus dicendi, для усиления впечатления. Напротив: гш-то и
живет, как своим «праздником», как «троицыной березкой» весна...
Но подходит к «вдохновению» сбоку хромой... С косым глазом... Немощ-
ный, без радости, таланта и света. Никогда, никогда он с этою радостью здорово-
го мира не сольется. И болит он весь, болит, как больной зуб. Болит грехом ума
своего, души своей. И, подойдя к радости мира, стряхивает с кистей рук свою
немощь на чужую радость, шепча: «Прими болезнь мою! Прими печаль мою»...
Вот инквизиция. Родник ее. Психологический и метафизический, не
говоря об исторической обстановке.
* * *
Что я такое сделал Струве?.. Отвечал ему вежливо... По пунктам, на все воп-
росы... Ни на одну грубость не дал реплики. И думал — все, дело кончено;
признаюсь, ждал интимно благодарящего письма от него (мы с ним шапоч-
но знакомы, и раза два он у меня был). Но в только что вышедшей январской
книжке «Русск. Мысли» он дошел до какого-то исступления... и в то же вре-
мя, чего никогда с ним не было, берет тексты из Евангелия, в слоге его вме-
сто грубости — мягкость, и он пишет решительно не своим тоном, даже два
раза процитировав Евангелие (никогда не делал!):
353
«Для меня Розанов—не ординарный нововременец, а один из первых
русских писателей, — человек, награжденный большим писательским да-
рованием и чисто художественным прозрением»... «Объективно — это
обстоятельство огромной важности: ибо в нем лежит большая величина и
большая сила, чем во множестве маленьких беспорочно-благонамеренных
писателей. И потому бесстыдство Розанова есть большое горе (подчеркну-
то Струве) русской литературы»... «Именно этот смысл она имела для меня
и должна иметь для моих читателей... И то, о чем я пишу со скорбью как о
горе (мой курс.), никто не должен принимать с радостью, вроде того ощу-
щения, какое овладевает стихийно толпой, когда раздается крик: «Вора пой-
мали» (словцо-то всунул-таки размякший от благочестия Струве). Моя ста-
тья написана в другом настроении. Не удовлетворение я испытывал, когда
я разоблачал Розанова, а огорчение. И не потому, что этот заведомый дву-
рушник, сотрудничающий в разных газетах»... (словцо опять пало читате-
лю в ухо). И т. д.
Какой тон! Сколько психологии в нем!! Так и видишь хромающего, со
стоном... «Ох, болит! Все болит!» И ползет он, ползет сюда... Иголочки-то
сейчас выпадут... Да уж и выпали, укололи...
«Никого я, в том числе и г. Розанова, не могу без тяжкого душевного
испытания (?!! — В. Р.) — счесть заведомо делающим дурное, нечестное.
Иные говорят, что «нельзя пить из колодца, в который, может быть, плю-
нуть придется». Какое противоестественное и жестокое изречение! Как от-
разилась в таких поговорках вся извращенность русской жизни и вся извра-
щенность нашей общественной психологии»...
Этот хромой — почти святой!
«Мне, конечно, скажут: в этой извращенности повинны «Новое Время»
(??!!), произвол, правительство и т. д., и т. д., и т. д. Да, конечно, совершенно
верно: повинны. Но, кто бы и что бы ни были в ней повинны, все-таки это—
психология извращенная: в ней таится жестокость, злоба и гордыня».
Осуждает злые чувства... Совсем святой человек! Но уж словечки-то
произнесены, и читатель их услышал! «Конечно, все скажут—он подлец,
и даже это так в самом деле: но мое благостное сердце не дозволяет мне
слиться с голосом всех».
И «все» уронены, и «подлец» пригвожден: только «хромец» стоит в сто-
ронке и молится Богу. Ах, Струве, Струве... где вы? где ваше?..
«Морально такой человек никогда не будет прав (курс. Струве). Это один
из тех случаев, когда мудрость житейская и мудрость этическая расходятся в
разные стороны. Житейская мудрость учит нас величайшему недоверию к
людям вообще, к «грешникам» в частности. Но житейски мудрый завет: «не
пей из колодца, опять плюнуть придется» — не может быть превращен в
общее моральное правило. В справед ливом гневе и негодовании»...
Подходит! Совсем подошел!
«...Можно или, вернее, извинительно плюнуть в лицо человеку, совер-
шившему мерзость (Струве раньше меня назвал «в корне безнравственным
354
человеком, не могущим удержать в себе лжи», — и конечно, читатель его
статей это запомнил и сейчас делает вывод о «можно плюнуть в лицо»), но
ни одного человека, самого дурного, самого грешного, нельзя раз навсегда
превратить в плевательницу».
Выпала иголочка... Это — новый оборот: «превратить в плевательни-
цу». Сладко заныло сердце Струве.
Сладко, еще перечту...
«Радуются изобличению Розанова... доволен всякий. Кто никогда не
верил Розанову, с ним не общался, а, наоборот, всегда готов был плюнуть
ему в лицо и за прошлое, и за настоящее, и за будущее!»
Ну, это—триумф. И сейчас падает на колени ханжа: «Но это была бы
злая радость и самодовольство: а такие чувства не одного ли духа с молит-
вой фарисея: Боже, благодарю тебя, что я» и проч.
Горничная плюнула. Фарисей помолился. «Вместе» составляют «Стру-
ве». Хорош соус...
Три времени: «и за прошедшее», и «за настоящее», и за «будущее». «Бу-
дущее»-то чем виновато? А в прошлом — «Семейный вопрос в России»,
«Сумерки просвещения». По деловому содержанию — всей России будет
жалко. Да и Струве так их хвалил, — выписывал страницами цитаты и все
восхищался почему-то слогу. Бедный Струве. Как ему теперь горько!! А уж
вошли эти похвалы в его книгу, и их «не вырубишь топором». Вот теперь
будет смотреть с ненавистью на собственную книгу...
* * *
Признаюсь, тех больших качеств, какие он видит во мне, — я не вижу. Но
уж все равно,—он видит. Я подскажу, что он видит: ибо его похвалы вра-
щаются около одного пункта, который он не умеет назвать. Это—психоло-
гичность самого языка, большая нагнетенность (как «нагнетают» воздух)
ее—качество новое... Ею-то, между прочим, угадываются «тайны» против-
ника: и он вдруг видит себя «яко бос, яко наг», когда вступает в препира-
тельство, задрапированный в высокие чувства... Напр., оскорбленного лите-
ратора или оскорбленного гражданина... Но не в них дело:
Труден первый шаг
И скучен первый путь... Ремесло
Поставил я подножием искусству;
Я сделался ремесленник... Поверил
Я алгеброй гармонию...
И все дальше... Все точно так, как вложил Пушкин Сальери. Ни один из
русских писателей так не озаглавливал своих, за много лет, трудов: «На
разные темы»... И не придавал же этого странного заглавия книге.
Я сделался ремесленник...
355
Бумагу положил перед собою, а мыслей — нет. «На разныетемы»... Да,
действительно «на разные темы». Кое-что и в сущности — ничего.
В тишине и тайне
Я стал творить...
Нередко просидев в безмолвной келье
Два, три дня, — позабыв и соль и пищу...
Но, Струве: надо быть скромным. Вы много понаписали о разных добро-
детелях, а не имеете простой и всем нужной: отчего вы не пришли никогда ко
мне вечером (только не когда я занимаюсь нумизматикой), мы бы почитали,
посмотрели вместе черняк, и, может быть, появилось бы что-нибудь другое,
чем что появляется теперь... уж сколько лет... и все с одним заглавием, без
«говора» в заглавии и в сущности—без темы («На разные темы»):
Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз,
Висит между плодов пришлец осиротелый.
И час их красоты—его паденья час.
И занимались бы нумизматикой. Ничто так не успокоит волнения пуб-
лициста, как нумизматика.
Струве дал толчок к говору обо мне: «Вести. Евр.» (январь) говорит,
что обо мне можно быть «только невысокого мнения как о человеке» (кто
его спрашивает об этом?), а «Русск. Бог.» по-демократически размахнулось:
«Розанов, как и один герой Достоевского, говорит о себе в ответах Струве:
«Нет, я не подл—я только широк». Язык, понятия и обвинения, совершен-
но небывалые у нас даже в 60-е годы! И что стольким людям за дело до
моей нравственности, души, совести... Какая забота о «спасении». Россия
так чиста, что больше и «спасать» некого. Струве, в той же книжке, где дал
мне «плевок в лицо», говорит, в споре с Жаботинским, что «допустить в
белорусских и малорусских губерниях школьное преподавание на местном
народном языке—значит готовить себе то, что Австрия имеет в Галиции»,
«раскалывать единство культуры и хода истории в России». Итак, он при-
нял уже самые крайние мысли «Нов. Вр.», с чем вовсе не согласны все со-
трудники «Нов. Вр.». (Я лично стою за этнографические языки в началь-
ных школах.) Явно, что не «душеспасение» им руководит, а, ругая «Нов.
Вр.», он маскирует источник, откуда берет темы, тон и мысли свои «на раз-
ные темы». Я не упоминал и стеснялся упоминать, что меня возмутило с
первого же взгляда в нападении Струве; стеснялся упомянуть потому, что
Струве имеет обыкновение или, может, имеет дух отрекаться от того, что
говорит устно: так, когда я привел рассказ его о провокаторе, заведшем для
них журнал «Начало», он печатно заявил, что никогда этого не говорил. В
своей полемике против меня он приводит устные со мной разговоры: итак,
я вправе сказать, отречется он от этого или нет, что именно его-то, Струве,
нападения на революцию в самом ее фундаменте, в самой ее идее, с злорад-
ным заявлением, что «жаль одного — не дали ей дойти до конца, и тогда
356
только все ужаснулись бы по-настоящему и Вехи получили бы надлежащее
оправдание» (это — буквально), далее — что «такого позора, какой пред-
ставляла наша радикальная журналистика в пору появления «Анны Каре-
ниной» и «Войны и мира», — никогда во всемирной литературе не было, и
следовало бы сделать хрестоматию из этих критических статей и прило-
жить к Вехам как образец радикальной бессмыслицы, злости и безвкусия»
(тоже—буквально),—все эти суждения Петра Бернгардовича, с большим
подъемом и характерными его «преткновениями» сказанные весной минув-
шего года на вечере у А. В. Вергежской, — подействовали на меня, а в сло-
вах моих о Чернышевском и Писареве прямо прозвучал тон слов Струве...
И вдруг именно эти слова взяв, свои слова,— из моих статей, он обвинил
меня как предателя освободительного движения, врага прогресса, врага всей
прогрессивной печати! Тут я пережил ощущение, каких в жизни и в деле
разочарования в человеческой природе переживаешь много раз...
Да: я один «день» говорю одно, «другой» день—другое. Ну, что: тяго-
тит, хочется сказать. Волнуешься, меняешься. Но ни один человек в мире не
может сказать, чтобы устно и дома я сказал хоть единый тон, единую
букву, какую не посмел бы сказать и не сказал бы в печати; или чтобы пе-
чатное — я говорил дома иначе, с друзьями иначе!! Никогда, ни один чело-
век, друг, знакомый, полузнакомый, этого не скажет: иначе как лжец и лжец
будет опровергнут другими свидетелями. Одни слова «за пазухой» и на стра-
ницах газет. Это-то, мне кажется, и есть все, что составляет нравствен-
ность писателя. Что еще иначе могу я сделать. Как не говорить, что думаю:
глупо, умно, порочно, добродетельно, безумно, гениально. Так что чита-
тель знает все мое «за пазухой». Но «Вести. Евр.», «Рус. Бог.», «Рус. Мысль»
и в перепечатках множество газет подняли камни: «нельзя уважать», «плю-
нуть бы в лицо», «подлец». Эх, господа, не знаете вы тайн писательства.
Для вас все это — улица, для меня — «дома», для вас — говор толпы, для
меня — мысль в уединении. А уединение имеет свои сладости, каких нет
на улице. Ну, представьте (секрет писательства, индивидуальный), — по-
лучить «плевок в лицо» составляет для меня удовольствие. Ну, так-таки и
удовольствие... Равно «подлец» и проч. Сперва болит, час-два: но потом
переходит в какую-то удивительную приятность, больше—в какое-то слад-
кое и нежное самоощущение. Не понимаю, «садизм», что ли: может быть,
расплюевская природа? Поймешь себя, когда будешь «на том свете»; а те-
перь просто—значительное равнодушие к похвалам (стучат колеса на ули-
це) и влечение быть обиженным, униженным, оскорбленным («заноза»
дома), какой-то работой перерабатываемая в сладкое, мирное, тихое, про-
щающее... Глубоко прощающее.
Таков, Фелица, я развратен.
КОММЕНТАРИИ
В томе сохраняются те же принципы публикации и комментирования тек-
стов, что и в вышедших ранее томах Собрания сочинений В. В. Розанова.
В настоящий двадцать первый том Собрания сочинений вошли его статьи
и очерки 1911 г.
Принятые сокращения: НВ — «Новое Время»; PC — «Русское Слово»;
Б. п. — без подписи.
В том не включены статьи Розанова 1911 г., опубликованные в вышедших
томах Собрания сочинений:
Т. 1. Среди художников (1994) — К всеобщему успокоению нервов (НВ.
1911.7 февр.); Домик Пушкина в Москве (НВ. 1911. 12марта); Неизданная
пьеса Толстого в чтении Влад. Ив. Немировича-Данченко (НВ. 1911.26апр.);
Как хорошо иногда «не понимать» (НВ. 1911.28 апр.); Возле «русской идеи»
(PC. 1911.19 июля).
Т. 4.0 писательстве и писателях (1995) — Не верьте беллетристам... (НВ.
1911.5 янв.); Одна из замечательных идей Достоевского (PC. 1911.1 марта);
Новые события в литературе (НВ. 1911. 31 марта); И шутя и серьезно... (НВ.
1911. 31 марта); В. Г. Белинский (НВ. 1911. 28 мая); Вековая годовщина
(PC. 1911.29 мая); Неоценимый ум (НВ. 1911.21 июня); Герцен (НВ. 1911.
8 июля); Чем нам дорог Достоевский? (Н В. 1911.6 авг.); Загадочная любовь
(PC. 1911.8сент.); Из житейских встреч К.М.Фофанова (Новое Слово. 1911.
№ 11 (ноябрь); К 20-летию кончины К. Н. Леонтьева (НВ. 1911. 12 нояб.);
Юбилейное издание Добролюбова (НВ. 1911.26 нояб.).
Т. 7. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского (1996) —
И. В. Киреевский и Герцен (НВ. 1911. 12 февр.); Памяти В. О. Ключевского
(PC. 1911.15 мая); О происхождении некоторых типов Достоевского (PC. 1911.
28 окт., 4 и 15 нояб.).
Т. 9. Сахарна (1998) — Есть ли у евреев «тайны»? (НВ. 1911.9 дек.); Иудей-
ская тайнопись (НВ. 1911.12 дек.).
Т. 13. Литературные изгнанники (2001) — Неузнанный феномен (СПб.,
1911); предисловие (без заглавия) к переписке Розанова с К. Н. Леонтьевым —
Русский Вестник. 1903.№4.
Значительная часть статей Розанова осени 1911г. связана с убийством пред-
седателя Совета министров П. А. Столыпина.
358
Культурная Океания. Очерк (с. 7)
Новое Слово. 1911.Янв. №1.С. 4—9.
... Соломон под конец жизни построил капища в Иерусалиме А старте... —
см. 3 Цар. 11,5.
... «стал неугоден в очах Божиих» — ср. 3 Цар. 11,6.
...об Иоаве, полководце Давида — ср. 2 Цар. 8,16.
...кспору «иконоборцев» и «православных» в Византии... — Иконоборче-
ство —движение против почитания икон—возникло в первой половине VIII в.
в Византии и существовало до середины IX в.; иконопочитание утвердилось
вместе с православием после Константинопольского собора 842 г.
.. .как в Москве начала XVIII века поступали Тверитинов и другие кальви-
нисты, за что... их живыми пожег Стефан Яворский. —Д. Е. Тверитинов,
московский еретик конца XVII — нач. XVIII в., отвергал почитание икон. След-
ствие по делу Тверитинова вел Стефан Яворский, но живым был сожжен по
царскому указу лишь его последователь Фома Иванов, рассекший косарем об-
раз св. Алексея чудотворца, Тверитинов же раскаялся и бьш полностью про-
щен в 1723 г.
.. .в Храме, вокруг Каабы... — Кааба—священный храм мусульман в Мек-
ке, стоящий в центре прямоугольного двора; вокруг храма в древности, по пре-
данию, стояло 300 идолов, после принятия ислама уничтоженных.
.. .«Бог есть Бог дыхания, Бог жизни» — ср. Быт. 2,7.
«А старта» есть «ничтожное дерево»... «царицы Шабаш»... — Во вре-
мена становления иудаизма с культом Астарты велась ожесточенная борьба;
царицей Шабаш, по средневековой легенде, избиралась одна из колдуний дья-
волом, который надрезал кору деревьев, извлекая оттуда вино, которое пили
присутствовавшие на шабаше — сборище ведьм.
Homunculus — гомункулус (лат.), по представлениям средневековых алхи-
миков, человеческое существо, созданное искусственно.
«Царица Шабаш», которую прославил и Гейне... — Имеется в виду сти-
хотворение Г. Гейне «Принцесса Шабаш» из цикла «Еврейские мелодии», из-
вестное в переводе А. Майкова.
«И было ко мне слово Господне...» — ср. Быт. 15,4.
Старый муж, грозный муж... — песнь Земфиры, ставшая популярным
романсом, из поэмы А. С. Пушкина «Цыганы» (1824).
.. .вспоминается из Иезекииля... — ср. Иез. 16,33.
... такразные АхавыиАхазы, Гофолииипроч. «приказали разыскать Илию,
чтобы распилить его пилою»... — О царе Израиля Ахаве и преследовании им
пророка Илии см. 3 Царств.; о царе Израиля Ахазе см. 2 Пар. 28,1 и др., оба
царя предавались идолопоклонству; о царице Гофолии, захватившей власть и
истребившей царское племя, см. 4 Царств. 11,1 —21.
Старый и новый годы (с. 15)
НВ. 1911.1 янв. №12502.
359
К 40-летию литературной деятельности
И. И. Ясинского (с. 17)
НВ. 1911.6янв.№ 12507.
... в редактируемых им газетах и журналах. — И. И. Ясинский был редак-
тором газеты «Биржевые Ведомости» (1898—1902) и литературного приложе-
ния к ней «Новое Слово» (1908—1914), журналов «Ежемесячные Сочинения»
(1900—1903), «Почтальон» (1903— 1909), «Беседа» (1903— 1907).
Литературный террор (с. 18)
НВ. 1911. 12янв.№ 12513.
Статья направлена против П. Б. Струве, выступившего со статьей «Боль-
шой писатель с органическим пороком. Несколько слов о Розанове» (Русская
Мысль. 1910. № 11). Среди эпиграфов использована строчка из статьи: По-
шехоновА. В. Бесстыжее светило, или Изобличенный двурушник И Русские
Ведомости. 1910. 2 дек.
Как пел Минский, присоседившийся на тот день к Горькому и к какому-
то «Богданову»... «Кто не с нами — против нас: он должен пасть» — не-
точная цитата из стихотворения Н. М. Минского «Гимн рабочих» (1905),
опубликованного в социал-демократической «Новой Жизни» (1905.13 нояб.),
которую редактировал Минский и где печатались М. Горький и А. Богда-
нов.
.. .он сам «упал» куда-то вон из России... — После закрытия газеты и аре-
ста Минский эмигрировал и пробыл за границей до 1913 г.
«Утро России» — ежедневная московская газета, выходившая в 1907,
1909—1917 гг.
...он «двурушник», работающий для торгово-промышленной партии в
Москве (об этом писалось в газетах). — Имеется в виду П. Б. Струве.
«Душеньки» завелись в литературе... — Имеется в виду героиня рассказа
А. П. Чехова «Душечка» (1898).
... седовласому «Вестнику Европы»... — Имеется в виду К. К. Арсеньев,
редактор «Вестника Европы» в 1909—1912 гг.
Письмо в редакцию (с. 21)
НВ. 1911.15 янв. № 12516.
Литературные типы (с. 23)
НВ. 1911.15янв. № 12516. Прилож.
«Словарь литературных типов». — Издание вышло в Петербурге в 1912 г.
в шести выпусках.
360
Лучшая книга по средневековой истории
(К воспоминаниям о М. М. Стасюлевиче) (с. 25)
НВ. 1911. 30янв.№ 12531.
Статья написана в связи с кончиной М. М. Стасюлевича 23 января 1911г.
.. .когда преподавал историю покойному цесаревичу Николаю Александро-
вичу. .. — Стасюлевич преподавал всеобщую историю великому князю Нико-
лаю Александровичу с февраля 1860 по июнь 1862 г.
... из учителей Ларинской гимназии... — Стасюлевич преподавал в Ларин-
ской гимназии с 1849 по 1853 г., а 7 мая 1852 г. был утвержден в звании доцента
Петербургского университета по кафедре всеобщей истории.
... «Хрестоматия по истории средних веков, в памятниках современных...
и в освещении новых ученых». — Имеется в виду «История средних веков в ее
писателях и исследованиях» (СПб., 1862—1865. Т. 1—3).
... циркуляры, изложенные изящным языком здания у Чернышева моста... —
У Чернышева моста (ныне мост Ломоносова) через Фонтанку находилось Ми-
нистерство народного просвещения.
.. .незабвенную книгу Барсукова... — Речь идет о труде Н.П. Барсукова
«Жизнь и труды М. П. Погодина» (СПб., 1888—1910. Кн. 1—22), о котором
Розанов не раз высоко отзывался.
«Сейтеразумное, доброе, вечное». —Н. А. Некрасов. Сеятелям (1876).
Юбилей высшего женского образования.
13 февраля 1861 г. — 13 февраля 1911 г. (с. 29)
PC. 1911.13февр.№35. Подпись: В. Варварин.
.. .первая русская женщина-врач Н. П. С. — Суслова Надежда Прокофьев-
на (1843—1918).
Великий день нашей истории. 19 февраля 1861 г. —
19 февраля 1911 г. (с. 33)
НВ. 1911. 19февр.№ 12551.
...три строчки Пушкина: «Была та славная пора...» — из поэмы
А. С. Пушкина «Полтава» (1828—1829).
... особенно после 17 октября... —17 октября 1905 г. Николаем II был под-
писан манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», провоз-
гласивший неприкосновенность личности, свободу совести, слова, собраний и
союзов и объявивший создание Г осу дарственной думы.
Последняя капля (с. 36)
PC. 1911.19 февр. № 40. Подпись: В. Варварин.
«Увижу ль я, друзья, народ неугнетенный...» — из стихотворения
А. С. Пушкина «Деревня» (1819).
361
В Бологом (с. 38)
НВ. 1911.24 февр. № 12555.
...«Передоновы». — Персонаж романа Ф. Сологуба «Мелкий бес» (1907)
Передонов — гротескный образ ограниченного гимназического учителя, став-
ший нарицательным.
«Колупаевы», «Разуваевы»... — Кабатчик Колупаев и купец Разуваев —
персонажи книги очерков М. Е. Салтыкова-Щедрина «Убежище Монрепо»
(1878—1880); как нарицательные фамилии они употреблены и самим автором.
Темный правовой вопрос (с. 40)
НВ. 1911.28 февр. № 12559.
...из теперешней учебной забастовки. — Студенческие волнения в Петер-
бурге начались со студенческой сходки в Петербургском университете 30 нояб-
ря 1910 г. и продолжались вплоть до весны 1911 г. К 5 февраля 1911 г. число
арестованных студентов только в университете достигло 500.21 февраля бюро
общегородского студенческого коалиционного комитета обратилось с призы-
вом продолжить забастовку.
...29-го была объявлена забастовка... — Январь был месяцем наиболее
бурных студенческих волнений; так, 22 января в университете появилась поли-
ция, 24 января профессора отказались читать лекции ввиду «неакадемической
обстановки», 26 января состоялась очередная сходка, а 28 и 29 января универ-
ситет был закрыт; то же происходило и во многих других учебных заведениях.
.. .в Польше один нахал имел право остановить решение всего государства... —
Имеется в виду право liberum veto, действовавшее в Польше с 1589 по 1791 г., когда
принятие Польским сеймом любых решений требовало единогласия.
Habeus corpus... — закон о неприкосновенности личности, принятый в 1679 г.
английским парламентом.
О «русском гражданине» (с. 42)
НВ. 1911.2марта.№ 12561.
Момзен хорошо говорит, что только один Юлий Цезарь был настоящим
«кесарем»...—см.: Моммзен Т. Римская история. М., 1877—1880. Т.1—3.
Как поручик Пирогов в «Невском проспекте» съел пирожок после порки... —
В «Невском проспекте» (1834) Н. В. Гоголя говорится, что «три ремесленни-
ка... поступили с ним так грубо и невежливо, что, признаюсь, я никак не нахо-
жу слов к изображению этого печального события», после чего поручик «съел
два слоеных пирожка».
...«власть исполнительная», по Монтескьё... — см. Ш. Л. де Монтескьё.
Дух законов (1748).
.. .совет десяти в Венецианской республике... — Совет десяти был введен
в Венецианской республике в 1310 г. и олицетворял ее аристократическо-оли-
гархическое политическое устройство.
«Предел ему такой положен», — как говорит купчиха у Островского. —
«Никто не знает, какой ему предел положен» — реплика Архипа из драмы А. Н.
Островского «Грех да беда на кого не живет» (1863). Д. I. Сц. 2.
362
Народные беды и утешения (с. 46)
НВ. 1911.2марта.№12561.
Люблю я наблюдать народные приметы... Е. Баратынский — такой стро-
ки у Е. А. Баратынского нет.
«К вопросу о способах борьбы с пьянством. По поводу законопроектов» —
брошюра А. Шилова; издана в Москве в 1911 г.
.. .хотя бы перечли Посошкова... — Имеется в виду труд И. Т. Посошкова
«Книга о скудости и богатстве» (1842); переиздан в 1911 г.
.. .книга, г. Андриевского... — брошюра «О сокращении праздничных дней».
... «баба в сарафане», какую только Малявину писать... — распростра-
ненный живописный мотив в творчестве Ф. А. Малявина.
Не водись-ка на свете вина...; Наточивши широкий топор... — Н. А. Не-
красов. Вино (1848).
Параскева Пятница — великомученица (начало III в.), была казнена за от-
каз отречься от христианской веры.
В духовно-училищном мире (с. 49)
PC. 1911.15марта. №60. Подпись: В. Варварин.
Тема Поль-де-Кока...— т. е. эротическая, фривольная тема, которая преоб-
ладала в популярных романах Поля Шарля де Кока.
... Петр Амьенский проповедывал, разъезжая на осле... — Имеется в виду ас-
кет Петр Амьенский, или Петр Пустынник; по преданию, он разъезжал на муле, из
которого верующие выдер!ивали шершъ, как свя1ыню.
Богатый и убогий (с. 53)
НВ. 1911.22 марта. №12581.
«История Российского государства»... Так назвал бы свой труд кн. Ми-
хайло Щербатов. — См.: Щербатов М. М. История Российская от древней-
ших времен. СПб., 1901—1904. Т. 1—7.
...встречаете книжку: «Критическиерассказы». — Чуковский К. Крити-
ческие рассказы. СПб., 1911.
.. .статья-лекция... о Нате Пинкертоне... — Имеется в виду книга К. И.
Чуковского «Нат Пинкертон и современная литература» (М., 1908); отчет о лек-
ции появился в газете «Голос Москвы» (1908.30 окт.).
Ад и рай юности (К университетскому
положению) (с. 55)
НВ. 1911.23 марта. №12582.
Заметка Розанова вызвана студенческим протестом на Высших женских
курсах 21 марта 1911г.
«Обращение к петербургским профессорам» коалиционного комитета». —
В общегородской студенческий коалиционный комитет входили (в конце 1910 г.)
363
18 социал-демократов, 9 эсеров и 4 кадета; в результате студенческих волне-
ний в январе 1911г. многие из членов комитета были арестованы, и обращение
принимали те, кто остался на свободе.
Один общественно-педагогический вопрос
(К сегодняшней лекции в Соляном Городке) (с. 62)
НВ. 1911.27 марта. №12586.
«Семейныйвопросе России» (СПб., 1903. Т. 1—2). — Эта книга Розанова
была одной из первых, глубоко затрагивавших тему семьи и брака в России
того времени.
.. .когда Ной «раскрылся» и Хам этому насмеялся... — см. Быт. 9,21—22.
Ходите мире, ходитгрех. —А. Н. Майков. Ктоон?(1841).
Первый дебют (с. 65)
НВ. 1911. Запр. № 12593.
Книга дочери Ф. М. Достоевского «Больные девушки» вышла в 1911 г.
По биографии Достоевского, написанной Н. Н. Страховым... — Речь идет
о «Воспоминаниях о Федоре Михайловиче Достоевском» Н. Н. Страхова, впер-
вые опубликованных под заглавием «Биография» в Полном собрании сочине-
нийФ. М. Достоевского (СПб., 1883. Т.1).
Вниманию кого следует (с. 67)
НВ. 1911.7апр.№ 12597.
«Коммисаржевскаяпредставляла св. Беатрису...» — В. Ф. Комиссаржев-
ская исполняла роль Беатрисы в пьесе М. Метерлинка «Сестра Беатриса» (1900),
поставленной в театре Комиссаржевской в 1907 г.
Народный светлый праздник (с. 69)
НВ. 1911.10 апр. № 12600.
... по точному заповеданию Спасителя — «не нарушив йоты» ...— см.Мф.5,18.
Религия унижения и торжества (с. 74)
PC. 1911.10апр.№82. Подпись: В. Варварин.
Кто разрешит мне, что тайна от века... — цитата из стихотворения
Г. Гейне «Вопрос» (правильнее: «Вопросы») из цикла «Северное море» в пере-
воде Н. А. Добролюбова (1857).
Когда для смертного умолкнет шумный день... — А. С. Пушкин. Воспо-
минание (1828).
«Истинно говорю вам...» — Мф. 19,24.
«Пастырь, найдя одну заблудшую овцу...»—см. Мф. 18,12—13; Лк. 15,4—6.
«Сыну Человеческому, Который не находил пристанища...» — ср. Мф. 8,
20; Лк. 9, 58.
364
... второму «Риму» не бывать... — перефразированные слова монаха Фи-
лофея из третьего послания (1523 или 1524) псковскому дьяку М. Мунехину:
«Москва—третий Рим, а четвертому не бывать...»
Чем ночь темней, — тем ярче звезды... — А. Н. Майков. Из цикла «Из
Аполлодора Гностика» («Не говори, что нет спасенья...») (1878).
Литературный род Соловьевых (с. 79)
НВ. 1911.14апр.№ 12602.
...М. К. Любавский, написал волюминозные труды по истории Литвы... —
Любавский, однокурсник Розанова по Московскому университету, автор тру-
дов «Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства
ко времени издания первого литовского статута» (1893), «Литовско-русский
сейм» (1901), «Очерк по истории Литовско-Русского государства до Люблинс-
кой унии включительно» (М., 1910).
Чулков, коего первым прославившим его произведением было «Письмо в
редакцию всех газет»... — Речь идет о выступлении Г. Чулкова с концепцией
«мистического анархизма» (Чулков Г. О мистическом анархизме. СПб., 1906),
которая сделала его имя известным; позднее Розанов писал о Г. Чулкове в ста-
тье «Двое Беспятовых, критик и беллетрист» (Новое Время. 1914.18 июня).
«.Русская Камена», «Позднее утро», «Полдень» — книги Б. Садовского:
Русская камена: Статьи. М.: Мусагет, 1910; Позднее утро: Стихотворения.
1904—1908. М.,1909; первая книга стихов Б. Садовского сборник «Полдень»,
вышедший в 1915 г., упоминался на контртитуле «Русской Камены» среди го-
товившихся к изданию книг автора.
«Апрель» — Соловьев Сергей. Апрель. Вторая книга стихов. 1906—1909
(М.: Мусагет, 1910).
«Братья! сестры! Облекайтесь в ризы светлые...» — последнее стихот-
ворение цикла «Шесть городов» — «Сион грядущий» (1908).
Анна Павловна Философова (К 50-летию
ее общественной деятельности) (с. 88)
НВ. 1911.18апр.№ 12606.
Об одном забытом человеке
(Пропущенный юбилей) (с. 89)
НВ. 1911.22 апр.№ 12610.
Об архимандрите Феодоре Бухареве Розанов писал еще в 1902 г. в статье
«Аскоченский и архимандрит Феодор Бухарев», включенной во 2 т. книги «Около
церковных стен».
«Толкование на Апокалипсис»... по проискам... Аскоченского... было... зап-
рещено. — Имеется в виду труд Ф. Бухарева «Исследования Апокалипсиса»,
запрещенный Св. Синодом в 1862 г. и опубликованный лишь в 1916 г. (Сергиев
Посад).
365
...по Фалесу, «вода родила богов и людей». —Древнегреческий философ
Фалес возводил все многообразие мира к единой первооснове, которой считал
«влажную природу», воду.
Окончание «Писем Соловьева» (с. 92)
НВ. 1911.1 мая. №12619.
В этой рецензии, как и в других работах Розанова о В. С. Соловьеве, сказа-
лись их сложные взаимоотношения; см. его работы: «На границах поэзии и
философии (стихотворения Владимира Соловьева)», «Памяти Вл. Соловьева»
(1900), «На панихиде по Вл. С. Соловьеву» и др.; см. также: Соловьев В. С.
Порфирий Головлев о свободе и вере (Вестник Европы. 1894. № 2); Голлербах Э.
Владимир Соловьев и Розанов И Стрелец. Сб. 3. СПб., 1922.
.. .третий и последний том... — Речь идет об издании: Письма Владимира
Сергеевича Соловьева/ Под ред. Э. Л. Радлова. СПб.: Общественная польза, 1911.
.. .усилиями Победоносцева были признаны «вредными вообще всякие его
сочинения по богословию...» — Об отношениях К. П. Победоносцева и В. С.
Соловьева см.: Лосев А. Владимир Соловьев и его время. М.,1990.С.472—476.
.. .Катков напечатал в своем «Русск. Вестнике»... «Критику отвлеченных
начал»... —Докторская диссертация В. С. Соловьева «Критика отвлеченных
начал» была опубликована в «Русском Вестнике» в 1877 (№ 11,12), 1878 (№ 1,
10), 1879 (№6,7,8,11), 1880 гг. (№1) и затем, 6 апреля 1880 г., была защищена
в Петербургском университете. Об отношениях с Катковым В. С. Соловьева
см. его «Несколько личных воспоминаний о Каткове» (Соловьев В. С. Соч.: В 2 т.
М„ 1989.Т. 2. С. 626—634).
Таинственная посетительница (с. 94)
НВ. 1911.10 мая. №12628.
«Аза» — Шульговский Н. Н. Аза: Историческая и религиозно-философ-
ская драма из жизни Александрии V в. по Р. X. СПб., 1910.
Скоро ли улучшено будет положение
учителей? (с. 98)
НВ. 1911.13 мая. №12631.
Невидимые хранители церкви
(Памяти Н. Р. Щербовой) (с. 100)
НВ. 1911. 17 мая. №12635.
«Паломник». — Имеется в виду журнал «Русский Паломник», выходив-
ший в Петербурге в 1885—1917 гг.; Н. Р. Щербова была сотрудницей этого
журнала.
. ..для «Религиозной библиотеки», издаваемой (в Новгородской губернии)
М. А. Новосёловым... — Речь идет о М. А. Новосёлове, выпускавшем «Религи-
озно-философскую библиотеку» (1902—1917), в которой вышло 39 книг, из-
данных в Вышнем Волочке, Москве и Сергиевом Посаде.
366
Памятка о Ключевском (с. 102)
НВ. 1911.20 мая. № 12638.
Во время учебы в Московском университете Розанов прослушал курс ис-
тории России, читавшийся В. О. Ключевским.
. ..Ключевский долго-долго «терся» где-то в Троице-Сергиевойлавре... —
В. О. Ключевский преподавал в Московской духовной академии с 1871 по 1906 г.
Католицизм и Россия (с. 103)
PC. 1911.21 мая. №115.
Эпиграф из рецензируемой книги В. С. Соловьева.
... в предсмертных разговорах с... проф. кн. С. Н. Трубецким. — Имеются в
виду воспроизводимые в воспоминаниях Трубецкого «Смерть В. С. Соловьева.
31 июля 1900 г.» (Вестник Европы. 1900. № 9) слова Соловьева, которые и при-
водит Розанов.
Сакристия — помещение в католическом храме, где хранятся предметы,
используемые в богослужении.
Самарин писал об иезуитах глупости... — Имеется в виду сочинение
Ю. Ф. Самарина «Иезуиты и их отношение к России»; впервые — под загл.
«Ответ иезуиту отцу Мартыну, письма I —V»); см.: Самарин Ю. Ф. Соч. М.,
1887. Т. 6. С. 196—243.
... Хомяков был только жаркий полемист с Собачьей Площадки... — Име-
ется в виду отмеченная многими мемуаристами любовь к спорам А. С. Хомяко-
ва, с осени 1844 г. жившего в Москве, в собственном доме на Собачьей Пло-
щадке.
«Французская корона стоит одной обедни» — слова, сказанные, согласно
легенде, Генрихом Бурбонским, когда он в 1593 г. отрекся от кальвинизма, при-
нял католичество и стал французским королем Генрихом IV.
Альбигойство — еретическое движение XII — XIII вв. во Франции, Ита-
лии и Германии; одним из центров его был г. Альби.
Из жизненных встреч (Памяти Железновой) (с. 110)
PC. 1911.4июня. № 127.
Бежали робкие грузины... — М. Ю. Лермонтов. Демон (1839).
Три года все «откладывали» дело. — Судебный процесс по делу Недонос-
кова, смертельно ранившего 21 июля 1907 г. Железнову, скончавшуюся 23 июля,
проходил в Кисловодском городском суде с 22 по 25 мая 1911 г. и вынес оправ-
дательный приговор убийце (см.: Дело Недоноскова// Пятигорское Эхо. 1911.
22,24,25 мая).
«Друг великого человека» (с. 115)
НВ. 1911.5 июня. № 12653.
«Дневник»—Дьяконова Е. Дневник. 1886—1902. СПб., 1902—1905; от-
зыв об этой книге Розанова см.: Новое Время. 1914.18нояб.
367
Памяти Ив. Леонт. Леонтьева-Щеглова (с. 119)
НВ. 1911.7 июня. № 12655.
200 лет «делопроизводства»... (В. К. Саблер
прежде, теперь и в будущем) (с. 122)
PC. 1911.9июня. № 131.
Пашковщина (пашковцы) — секта евангелических христиан в России, на-
званная по фамилии возглавлявшего ее в последние десятилетия XIX в. В. А.
Пашкова, полковника в отставке.
«Россия»—политическая и литературная газета, выходившая в Петербур-
ге в 1899—1902 гг.; редактор-издатель Г. П. Сазонов.
В одном из мелких рассказов Толстого из кавказской жизни...—Л. Н.Тол-
стой. Рубка леса (1855).
Об интендантах (с. 127)
НВ. 1911.12 июня. № 12660. Подпись: Ветерок.
«Впереди себя гибели не видишь»...
|О гибели детей Нобеля] (с. 129)
НВ. 1911.26 июня. № 12674.
Силоамская башня — стояла в Иерусалиме над Силоамским источником,
при ее падении погибло 18 человек; см. Лк. 13,4.
«Стиль» в вещах (К вопросу о реформе
духовных училищ) (с. 132)
НВ. 1911.27 июня. №12675.
Что ему «Гекуба» — слова Гамлета об актере, читавшем монолог о стра-
даниях Гекубы, жены троянского царя Приама: У. Шекспир. Гамлет. II, 2.
Иверится, иплачется...— М. Ю. Лермонтов. Молитва(1839).
Есть речи — значенье... — одноименное стихотворение М. Ю. Лермонто-
ва (1840).
«Свете тихий» — «Вечерняя песнь Сыну Божию священномученика Афи-
ногена», которая поется на вечерне.
«Иже херувимы»... — стих из «херувимской» песни Литургии.
Из впечатлений дня (с. 135)
НВ. 1911.28 июня. №12675.
Битва при Марафоне — победа греков над персами 13 сентября 490 г. до
н. э. в районе поселения Марафон в 40 км северо-восточнее Афин.
368
Французский труд о Влад. Соловьеве. Очерк (с. 136)
Новое Слово. № 7. Июль. С. 4—9.
«Три свидания» (1898) — поэма В. С. Соловьева.
Суккубы и инкубы— в средневековой мифологии женские и мужские
демоны, домогавшиеся от спящих любви (по-латыни: «ложиться под» и «ло-
житься на»).
.. .рассказывала в своих «Воспоминаниях»... г-жа Безобразова... — Речь
идет о написанном младшей сестрой философа мемуарном очерке «Воспоми-
нания о брате Владимире Соловьеве» (Минувшие годы. 1908. № 5—6).
М. О. Гершензон говорит об И. В. Киреевском... — Имеется в виду очерк
М.О. Гершензона «И. В. Киреевский» (Вестник Европы. 1908. №8), где гово-
рилось, что «учение Киреевского о психическом строе личности... было гени-
альное прозрение, на полвека опередившее развитие науки».
...издав по-французски два своих труда... — В 1888 г. в Париже вышел
труд В. С. Соловьева «Русская идея», а в 1889-м, там же, — «Россия и Вселен-
ская церковь». В. С. Соловьев следовал традиции: по-французски издавали свои
работы Ф. И. Тютчев, А. С. Хомяков и др.
Любим Торцов—герой комедии А. Н. Островского «Бедность не порок» (1853).
.. .назвав Влад. Соловьева «первымрусским философом»... вслед за... по-
чтенным Лопатиным. .. — Л. М. Лопатин в статье «Философское миросозер-
цание В. С. Соловьева» писал: «Он первый у нас стал заниматься темами или
предметами самой философии, а не мнениями об этих темах западных филосо-
фов; и через это стал первым русским философом» (Вопросы Философии и
Психологии. 1901. № 1. С. 54); далее речь идет о труде Л. М. Лопатина «Поло-
жительные задачи философии» (М., 1886—1891. Ч. 1—2).
... в биографии Магомета (для издания Павленкова)... — Речь идет о книге
В. С. Соловьева «Магомет, его жизнь и религиозное учение» (СПб., 1896).
Еще два слова о С. Ф. Шарапове (с. 145)
НВ. 1911.1 июля. №12679.
Недоумения и недоумения... (с. 147)
НВ. 1911.2 июля. № 12680.
Религиозный «эклектизм» и «синкретизм» (Из вос-
поминаний о Влад. С. Соловьеве) (с. 150)
PC. 1911.8 июля. № 156. Подпись: В. Варварин.
Г-н Н. Толстой напечатал письмо в редакцию «Нового Времени», в кото-
ром.. . рассказывает о «католическом причащении» Вл. С. Соловьева. — Речь
идет о письме Н. Толстого «Владимир Соловьев — католик», напечатанном в
газете «Русское Слово» № 192от21 августа 1910г.
... Франциска же А ссизского ...не упомянул... — У поминания Франциска
Ассизского, хотя и очень немногие, у Соловьева имеются, см. «Оправдание
добра. Нравственная философия», «Национальный вопрос в России» и др.
369
...писал один кардинал, — если не ошибаюсь, Ванутелли, — бывший в Пе-
тербурге во время коронации... — Видимо, речь идет о священнике Винченцо
Ваннутелли, двоюродном брате кардиналов В. и С. Ваннугелли; в апреле—июле
1891 г. он посетил Одессу, Киев, Москву и Петербург; о его сочинении, посвя-
щенном поездке в Россию, Розанов мог прочесть в отзыве о нем Н. Толстого
(Душеполезное чтение. 1893. № 3).
«Filioque» — и от Сына (лат.); один из основополагающих догматов като-
лической церкви, в котором признается исхождение Святого Духа не только от
Бога Отца, но и от Бога Сына, не признаваемый православием.
Обиды русскому чувству (с. 160)
НВ. 1911.9 июля. №12687.
«Колокол». — Речь идет о церковно-политической газете, выходившей в
Петербурге с 1905 по 1907 г.
Наш толстый исправник (Рассказ) (с. 162)
НВ. 1911.16 июля. №12694.
К исключению «1270» (с. 168)
НВ. 1911.21 июля. №12690. Б. п.
Нравственный ценз врача (с. 170)
НВ. 1911.22 июля. № 12700. Б. п.
Будьте храбрее, господа... (с. 173)
НВ. 1911. 30 июля. №12708.
Когда Чернышевский, на вызов проф. философии Юркевича полемизиро-
вать с ним... — Имеется в виду журнальная полемика вокруг статьи Н. Г. Чер-
нышевского «Антропологический принцип в философии» (1860). Возражения
П. Д. Юркевича «Из науки о человеческом духе» (Русский Вестник. 1861. № 2)
вызвали статью Чернышевского «Полемические красоты» (1861), о которой и
идет речь.
.. .монтаньяры Франции, потребовав казни поэта Шенье и... химика Лаву-
азье. .. — Поэт Андре Шенье был арестован 7 марта 1794 г. по закону о «подо-
зрительных лицах» и 25 июля того же года казнен, осужденный в составе спис-
ка «Врагов народа»; химик Антуан Лоран Лавуазье бьш арестован 24 ноября
1793 г. и по решению революционного трибунала 7 мая 1794 г. казнен.
.. .как повар в крыловской басне... — И. А. Крылов. Коти повар (1812).
Филлоксера — род паразитических насекомых, вредитель винограда и не-
которых других видов растений.
.. .рассказано в «Былом»... — «Былое» — журнал, освещавший историю
русского революционного движения; издавался за границей (1900—1904,1908—
1913) и в России (1906—1907,1917).
370
Десятилетие кончины Ф. Э. Ромера (с. 181)
НВ. 1911.8авг. № 12717. Подпись: В. Р.
«Земледельческая Газета» — петербургская газета, выходившая с 1834 по
1917 г.
«Сельское хозяйство и лесоводство» — журнал, выходивший в Петербур-
ге с 1865 по 1917 г. Редактор Ф. Э. Ромер.
«Известия министерства земледелия <и государственных имуществ>» —
журнал, выходивший в Петербурге в 1894 — 1917 гт. Редактор Ф. Э. Ромер.
Все эти сочинения изданы книгоиздательством Маркса. — См.: Ромер Ф. Э.
Соч.:В4т. СПб.: А. Ф. Маркс[1905].
Есть ли «наука» в России?
(К академическому «заявлению»...) (с. 182)
НВ. 1911.12авг.№ 12721.
Восемь университетов — есть. — Здесь Розанов не принимает во внима-
ние еще двух университетов Российской империи — Варшавского и Гельсинг-
форсского.
Мечников, с его теориею фагоцитов... пришел ко всем своим новым мыс-
лям, — за границею. — Й. И. Мечников с 1887 г. до конца жизни работал в
Париже, явление фагоцитоза было им открыто в 1882 г., когда он еще жил в
России.
« Тут нам Иеринга не надо». — Речь идет о немецком юристе Р. Неринге и
его теории понимания права как защищенного интереса.
.. .из примера Декарта, который 22 лет... пришел к мысли «аналитической
геометрии»... — Р. Декарт основы аналитической геометрии заложил в своем
труде «Геометрия» (1637), главный предмет исследования которого был им из-
ложен за 18 лет до этого.
.. .перерождение киевского Патерика... — Речь идет о «Киево-Печерском
патерике» — наиболее известном патерике (сборник житий местночтимых свя-
тых), относящемся к XV в.
«Restauratio magna» — «Великое восстановление наук», труд Ф. Бэкона.
.. .Писарев... в своей «Университетской науке»... — Имеется в виду статья
Д. И. Писарева «Наша университетская наука» (1863).
«Там все тупицы Креозотовы...» — Писарев в статье «Наша университет-
ская наука» под вымышленным именем Креозотова как образа ничего не знача-
щего ученого вывел М. И. Касторского (1809—1866), профессора Петербургс-
кого университета, сделав его имя нарицательным.
.. .не мог написать лучше Иловайского даже учебника для гимназий... —
Учебники Д. И. Иловайского по русской и всеобщей истории, следовавшие
официальным гимназическим программам, были широко распространены; Ро-
занов не раз выступал с их критикой.
.. .мы захлебывались томиком Льюиса... — Речь идет о труде английского
философа-позитивиста Д. Г. Льюиса «История философии от начала ее в Гре-
ции до настоящего времени», выходившем в нескольких русских переводах;
371
здесь говорится о переводе под редакцией В. Спасовича и А. Неведомского
(СПб., 1865—1867. Вып. 1—3).
.. .заглянул этот год в его «Всеобщую историю»... — Видимо, имеется в виду
«История Западной Европы в новое время». Т. 1—7. СПб., 1892—1917; крометого,
в 1910 г. вышла работа Н. И. Кареева «Общий курс истории 19 в.». 4.1.
... в переводных трудах былых Шлоссера, Вебера... — Речь идет о трудах
немецких историков Ф. К. Шлоссера «История 18 столетия» (1864—1866.
Т. 1—8; перевод Н. Г. Чернышевского), «Всемирная история» (1861—1869.
Т. 1—18; перевод под редакцией Н. Г. Чернышевского и В. А. Зайцева) и
Г. Вебера «Всеобщая история» (в 15т., 1857—1880).
Ходит Спесь надуваючись... — одноименное стихотворение А. К. Толсто-
го (1854).
Еще о «научном состоянии» России (с. 190)
НВ. 1911.20авг.№ 12729.
...гр.Д. А. Толстому, насадителю классического образования... —Толстой,
бывший с 1866 по 1889 г. министром народного просвещения, в 1871 г. утвер-
дил новый устав гимназий, в котором главной сделалась система классическо-
го образования.
«Словарь классических древностей» Любкера... — Любкер — общеприня-
тое сокращенное название популярного «Реального словаря классических древ-
ностей» немецкого историка искусств Ф. X. Любке, в переводе Никитина.
Профессор Андреевский... изъявил согласие принять на себя «редактиро-
вание» первых томов «Словаря Брокгауза и Эфрона»... — И. Е. Андреевский
был первым редактором Энциклопедического словаря; под его редакцией вышли
первые шесть полутомов (1890—1891).
«Прекрасная Елена» — оперетта французского композитора Жака Оффен-
баха.
.. .русские ученые работают «по Иерингу», как до него применяли «социо-
логический метод Спенсера». — В России учение Р. Неринга о праве, рассмат-
риваемом с точки зрения социологии, развивали С. А. Муромцев, Ю. С. Гамб-
ров,Н. М. Коркунов и др.; влияние «органической школы» социологии англий-
ского философа-позитивиста Г. Спенсера было особенно распространено в Рос-
сии в 1880—1890-е гг.
... «гражданский шрифт» Петра Великого... — В 1708 г. Петр I утвердил
«гражданский шрифт», ставший основой всех последующих русских типог-
рафских шрифтов.
Церковный и вместе космологический
вопрос... (с. 197)
PC. 1911.25авг. № 125. Подпись: В. Варварин.
.. .у... Победоносцева в «Кратком очерке истории церкви». — Речь идет о
книге К. П. Победоносцева «История православной церкви до начала разделе-
ния церквей» (СПб.,1891).
.. .«епископ должен быть единыя жены мужем»... — Тим. 3,2.
372
Природа и церковь (с. 204)
PC. 1911.26 авг. № 126. Подпись: В. Варварин.
.. .в одном журнале я наткнулся это лето на переданный разговор Льва
Толстого с некиим Молочниковым о половом чувстве... — Речь идет о заметках
В. А. Молочникова «Сутки в «Отрадном» с Л. Н. Толстым» в журнале «Жизнь
для Всех» (1910. № 8—9).
Вековая бездейственность русской
профессуры (с. 207)
НВ. 1911.27 авг. №12736.
Кифа Мокиевич — тип провинциального мудреца в «Мертвых душах»
Н. В. Гоголя (Т. 1. Гл. 11).
.. .я был на диспуте профессора Варшавского университета, г. Шестако-
ва. — Речь идет о труде Д. П. Шестакова «Исследования в области греческих
народных сказаний о святых» (1910), который был успешно защищен в Петер-
бургском университете как магистерская диссертация 3 апреля 1911г.
«Римская история» — Модестов В. И. Введение в римскую историю.
СПб.,1902—1904. Т. 1—2.
Петрищев как 12-дюймовая пушка (с. 214)
НВ. 1911. 31 авг. №12740.
Террор против русского национализма (с. 218)
НВ. 1911.4сент.№ 12744. Б. п.
Этой статьей открывается ряд откликов Розанова на убийство П. А. Столыпина.
... покушавшегося на жизнь П. А. Столыпина... — Речь идет об агенте ох-
ранки Д. Г. Богрове (наст, имя Мордехай (Мордко) Гершкович), смертельно ра-
нившем П. А. Столыпина 1 сентября 1911 г. в Киевском оперном театре.
«Магнитские» и Философов (с. 219)
НВ. 1911.5 сент. № 12745.
«Не могу молчать» — памфлет Л. Н. Толстого против казней, опублико-
ванный за границей в 1908 г.
.. .писала не так давно в «Рус. Вед.» г-жа Ел. Кускова... — Речь идет о статье
Е. Д. Кусковой «Раненые» в газете «Русские Ведомости» от 17 июля 1911г.
К кончине премьер-министра (с. 222)
НВ. 1911. бсент.№ 12746. Б. п.
.. .злодействовать все время между 1 марта 1881 года и между 1 сентяб-
ря 1911 г. —т. е. между покушением на Александра II и на П. А. Столыпина.
373
...со времени вызова своего из Саратовской губернии... — П. А. Столыпин
с 1903 по 1906 г. был губернатором Саратовской губернии, а 26 апреля 1906 г.
был назначен министром внутренних дел.
Преступная атмосфера (с. 225)
НВ. 1911.8сент. № 12748. Б. п.
«Речь» — ежедневная политическая, экономическая и литературная газе-
та, выходившая с 1906 по 1917 г. в Петербурге, официальный орган партии
кадетов.
«Русские Ведомости» — московская газета, выходившая с 1863 по 1917 г.
«Утро России»—ежедневная газета, выходившая в Москве в 1907,1909—
1917 гг.
К кончине П. А. Столыпина (с. 228)
НВ. 1911.9—11 сент. № 12749,12750,12751.
Киев и киевляне (с. 229)
НВ. 1911. 17 и 24 сент. № 12757,12764.
После покушения на Столыпина Розанов был откомандирован в Киев ре-
дакцией «Нового Времени», где пробыл с 6 по 14 сентября.
Нерушимая Стена... — Речь идет о мозаическом образе Богоматери, изоб-
раженной во весь рост на золотом мозаичном поле с воздетыми горе руками в
главном алтаре Софийского собора; это особо почитаемое изображение назва-
но Нерушимой Стеной, так как оно сохранялось неизменным в течение восьми
веков.
«Покрый нас, Святая, — покрый твоим святым омофором...» — Ср. сло-
ва из акафиста «Покрову Пресвятой Богородице»: «Радуйся Радосте наша, по-
крый нас от всякого зла омофором».
.. .что Нестеров представил в своей «Молящейся Руси». — Картины с та-
ким названием у Нестерова нет, но так называлась статья Розанова, посвящен-
ная выставке художника (1907); см.: Розанов В. В. Среди художников. М., 1994.
С. 243—246.
«А постольские постановления» — древние тексты, посвященные церков-
ному праву; см. о них заметки Розанова «Спор об апокрифах» в книге «Около
церковных стен» (М., 1995).
Орарь—принадлежность диаконского облачения вроде длинной ленты.
.. .извлечение из Несторовой летописи... — См.: Памятники литературы
Древней Руси. XI — начало XII в. М., 1978. С. 174—175.
Спаситель удержал руку Петра... — Лк. 22,38.
.. .св. Николай Чудотворец удержал руку с мечом, поднятую для казни. —
Евстафий, строитель города Миры, осудил на казнь трех граждан, оклеветан-
ных врагами. Узнавший об этом св. Николай прибыл туда и успел вырвать у
палача занесенный меч, повелев освободить осужденных (Жития святых. М.,
1910. Т. 9).
374
... Спаситель изгнал торгующих из храма. —Мф. 21,12—13; Мк. 11,15—19;
Лк. 19,45—48; 22.
Златоуст просветился... не через борьбу с Феодорою... — Св. Иоанн Зла-
тоуст обличал византийскую царицу Евдоксию (ум. 404), а не известную раз-
вратными нравами Феодору (508?— 548), жену византийского императора
Юстиниана.
Акриды—род саранчи, употребляемой древними аскетами в пищу.
«Ну вас к лешему, с вашим всеобщим обязательным обучением...» — Име-
ется в виду широкое обсуждение в тогдашней прессе необходимости всеобще-
го начального образования, закон о котором был принят в 1912 г. Государсгвен-
ной думой.
«Буря и натиск» — название литературного движения в Германии в 70-е гг.
XVIII в.
Л. Н. Толстой и Русская Церковь (с. 247)
Впервые в кн.: Розанов В. В. Л. Н. Толстой и Русская Церковь. СПб.: Тип.
А. С. Суворина, 1912. Окончена печатанием 20 сентября 1911 г.
Л. Н. Толстому и его творчеству Розанов посвятил более 30 публикаций,
впервые выступив со статьей о нем в 1895 г. (Розанов В. По поводу одной тре-
воги гр. Л. Н. Толстого И Русский Вестник. 1895. № 8).
.. .отлучение Толстого от Церкви... — Определение Синода об отлучении
Л. Н. Толстого от церкви от 20—22 февраля 1901 г. было впервые опубликова-
но в «Церковных Ведомостях» от 24 февраля 1901 г.
Его стихотворный ответ на одно стихотворенье Пушкина... — Имеется
в виду стихотворение митрополита Филарета «Не напрасно, не случайно...»
(1830), написанное в ответ на стихотворение А. С. Пушкина «Дар напрасный,
дар случайный...»(1828).
.. .архиеп. Никанор... знаток позитивной философии Огюста Конта... на-
писавший самый серьезный разбор ее. — Речь идет о его сочинении «Позитив-
ная философия и сверхчувственное бытие» (1875— 1888).
... битвы при Заме... — 19 октября 202 г. до н. э. близ города Зама в Север-
ной Африке римская армия Сципиона разбила армию Ганнибала.
Так мне рассказывал сам Толстой. — Розанов посетил Л. Н. Толстого в
Ясной Поляне 6 марта 1903 г.
.. .из той Оптиной пустыни, куда перед смертью поехал из Ясной Поляны
гр. Толстой. — Покинув Ясную Поляну 28 октября 1910г.,Л. Н. Толстой первую
половину следующего дня провел в Оптиной пустыни, откуда отправился в Ше-
мардино; там он, возможно, высказал сестре, М. Н. Толстой, пожелание остаться
жить в Оптиной (см.: МаковицкийД. П. Яснополянские записки//Л Н. М., 1979.
Т. 90, кн. 4. С. 407.
О родительских комитетах (с. 255)
НВ. 1911.21 сент. № 12761.
.. .слова поэта об «опиуме чернил, разведенных слюною бешеной собаки». —
А. С. Пушкин. «Охотник до журнальной драки...»(1824).
375
Что же делать с родительскими
комитетами? (с. 258)
НВ. 1911.22сент.№12762.Б.п.
Сочинения Юрия Феодоровича Самарина.
Том четвертый (с. 260)
НВ. 1911. ЗОсент. № 12770. Подпись: В. Р-в.
«День» — московская газета, выходившая в 1861—1865 гг. под редакцией
И. С. Аксакова.
Гимназии казенные и частные (Маленькая
философия о государстве и обществе) (с. 261)
PC. 1911. ЗОсент.№224. Подпись: В. Варварин.
«История освобождения Болгарии». — Очевидно, имеется в виду книга:
Матвеев П. А. Болгария после Берлинского конгресса: Исторический очерк.
СПб., 1887.
Я червь, я царь.. ./Я раб, я Бог... — Г. Р. Державин. Бог (1784).
Школа Тенишевой... школа Левицкой... — гимназии, где учились дети Ро-
занова.
Перед гробом Столыпина (с. 267)
НВ. 1911.1 окт. № 12771.
... после взрыва на Аптекарском острове... — Речь идет о покушении эсе-
ров на П. А. Столыпина 12 августа 1906 г., когда был осуществлен взрыв его
дачи на Аптекарском острове, от которого погибло 27 и было ранено 32 челове-
ка (среди них дочь и сын Столыпина).
...Ина челе его высоком... — М. Ю. Лермонтов «Демон».
<О «Вестнике Европы»> (с. 272)
НВ. 1911.1 окт. № 12771. Б. п.
Историческая роль Столыпина (с. 273)
НВ. 7 окт. №12777.
... студенческой «Дубинушки» и «Гайда, братцы, вперед»... — Имеется в
виду стихотворение В. И. Богданова, переработанное в конце 1870-х гг. пред-
положительно А. А. Ольхиным и ставшее революционной песней.
Письмо в редакцию (с. 277)
НВ. 1911.8 окт. № 12778.
376
Где «культура» русская... (с. 278)
НВ. 1911.11 окт.№ 12781.
«Елецкая Богоматерь» — чудотворная икона, находившаяся в соборной
церкви во имя Смоленской Богоматери г. Ельца; явилась около 1060 г. и обрете-
на Антонием Печерским стоящею на ели, откуда и получила название.
«Отойди, сатана» (с. 281)
НВ. 1911.14окт.№ 12784.
«Отойди, сатана» — Лк. 4,8.
. ..орган Гессена и Милюкова, Гиппиус... — Имеется в виду газета «Речь»,
редакторами которой были И. В. Гессен и П. А. Милюков.
... о софизмах Влад. Соловьева. Он разделил «национальность» и «нацио-
нализм». .. — Речь идет о взглядах В. С. Соловьева, высказанных в статьях сбор-
ника «Национальный вопрос в России».
«Судьба Пушкина»—статья В. С. Соловьева в «Вестнике Европы» (1897. №9).
Оправданные надежды наших Геростратов (с. 283)
НВ. 1911.14окт. № 12784. Подпись: Подписчик
«Словаря».
.. .епископа Антонина, автора репродукции... — Речь идет о его магистер-
ской диссертации «Книга пророка Варуха» (СПб., 1902).
Балобанова. Библиотековедение. — Имеется в виду книга: Балобанова Е. В.
Библиотечное дело. СПб., 1901.
К 100-летию Пушкинского лицея
(19 октября 1811 г. — 19 октября 1911 г.) (с. 284)
Впервые: Река времен (Книга истории и культуры). М., 1995. Кн. 3. С. 199—
201. Публ. В. Г. Сукача.
Благочестивая в науке семья Гротов... —Я. К. Грот был переводчиком, язы-
коведом и историком литературы, оставившим большое научное наследие. Его
жена, Н. П. Грот, писала на педагогические темы. Розанов откликнулся рецен-
зией на 2-е издание ее книги «Свобода в жизни и государстве. Этюд по Чаннин-
гу» (СПб., 1906) в приложении к «Новому Времени» (1906,16 нояб.). Их млад-
ший сын, К. Я. Грот, историк и литературовед, славист, кроме собственных
исследований многое сделал для издания наследия своего отца. Старший сын,
Н. Я. Грот, философ, профессор Московского университета, возглавлял Мос-
ковское психологическое общество и был основателем и соредактором журна-
ла «Вопросы Философии и Психологии».
377
Космополитизм и национализм (с. 287)
НВ. 1911.22окт.№12792.
...имя, придуманное... г. Петром Боборыкиным. —Термин «интеллиген-
ция» был введен П. Д. Боборыкиным в 1860-х гг.
Правительство русское не только вправе было переменить избиратель-
ную «машинку»... — Речь идет о новом избирательном законе о выборах в Го-
сударственную думу, принятом кабинетом П. А. Столыпина 3 июня 1907 г.
...Мордка из Киева... —Речь идет об убийце П. А. Столыпина Д. Г. Богрове.
«Русское Богатство» (СПб., 1879—1917) — журнал либерально-народни-
ческой ориентации под редакцией Н. К. Михайловского и В. Г. Короленко.
Маркиз Поза—персонаж трагедии Ф. Шиллера «Дон Карлос» (1783—1787).
... прыжком зверя в Киевском театре. — Речь идет об убийстве П. А. Сто-
лыпина Д. Г. Богровым.
Как торжествует «русский национализм» (с. 289)
НВ. 25 окт. №12795.
...А. М. К-нцов, мой ученик по Елецкой гимназии... составил... биографию
К. Н. Леонтьева... — Речь идет об А. М. Коноплянцеве; его статью о Леонтье-
ве см. в кн.: Памяти Леонтьева: Литературный сборник. СПб., 1911.
Где оскорбленному есть сердцу уголок. —А. С. Грибоедов. ГореотумаДУ, 14).
Не для житейского волненья... — А. С. Пушкин. Поэт и толпа (1828).
К открытию Этического общества (с. 291)
НВ. 1911.29 окт. №12799.
.. .издавшая недавно прекрасную книжку... — Речь идет о книге М. В. Бе-
зобразовой «О безнравственности» (СПб., 1911).
... издававшего в свое время «Сборник государственных знаний»... — Бе-
зобразов В. П. Сборник государственных знаний. СПб., 1873—1880. Т. 1—8.
С. Григоровский. О разводе (с. 292)
НВ. 1911.30 окт. №12800.
На основании XIX главы апостола Матфея о прелюбодеянии... — Мф. 19,
9—10.
...«умахолодных наблюдений...» — А. С. Пушкин. Евгений Огнегин. По-
священие.
В безысходной печали (с. 294)
НВ. 1911. Знояб.№ 12804.
Книги Г. Лебона «Эволюция материи» и «Эволюция сил» (1905—1907)
вышли в русском переводе в 1911—1912 гг.
«Боже Мой! Боже Мой! Зачем Ты Меня оставил». — Мф. 27,46
378
Ломоносовские издания, современные
его жизни (с. 299)
НВ. 1911.8 нояб. №12809.
Под портретом подпись: «Московский здесь Парнас изобразил витию...»—
Речь идет о гравюре резцом X. Вортмана; стихотворная подпись под ней при-
надлежит ученику Ломоносова — Н. Н. Поповскому.
.. .Восторг внезапный ум пленил... — первая строка «Оды блаженные па-
мяти государыне императрице Анне Иоанновне на победу над турками и тата-
рами и на взятие Хотина 1739года»(1739)М. В. Ломоносова.
Не то, что нынешнее племя... — М. Ю. Лермонтов. Бородино (1837).
Московские порченые и непорченые
мальчики... (с. 303)
НВ. 1911.15 нояб. №12816.
...«история и культура от Санина»... — Санин — герой одноименного
романа (1907) М. П. Арцыбашева.
Церковь и Дума (с. 307)
НВ. 1911.18 нояб. №12819.
... прекрасного человека, С. Н. Булгакова... — Знакомство Булгакова с Роза-
новым произошло в 1889 г., когда тот учился в 8-м классе Елецкой гимназии,
где преподавал Розанов.
Булгаков был членом ее... — С. Н. Булгаков избирался членом II Государ-
ственной думы от Орловской губернии.
.. .личный друг... Маркса или Энгельса... — Булгаков был в научной коман-
дировке в Берлине, Париже и Лондоне (1898—1900) уже после смерти осново-
положников коммунистической теории; он познакомился там с вождями не-
мецкой социал-демократии.
Пятьдесят лет служения русской литературе (с. 311)
НВ. 1911.24 нояб. №12825.
Так ли хочет умирать человек!.. (К самоубийству
Лафаргов) (с. 312)
НВ. 1911.27 нояб. №12828.
Вероисповедный вопрос в Гос. Думе (с. 315)
НВ. 1911.29 нояб. — 1 дек. № 12830—12832.
«Аз есмь путь» — Ин. 14,6.
379
Неизмеримая ценность (с. 317)
НВ. 1911. 5 дек. №12836.
Новинки науки (с. 320)
НВ. 1911.8 дек. № 12839.
...систематическое описание монет Грузии. — Имеется в виду книга:
Пахомов Е. А. Монеты Грузии. СПб.,1910.
Нас мало избранных, счастливцев праздных...— А. С. Пушкин. Моцарт и
Сальери (1830).
Удивительная книга и тема (с. 321)
НВ. 1911. 12дек.№ 12843.
Бляха № 101 (с. 321)
НВ. 1911.17 дек. № 12848.
...«Иванов-Разумник», издающий книгу за книгою... — В 1910—1916 гг.
вышло пятитомное издание сочинений Иванова-Разумника, с 1911 г. под редак-
цией Иванова-Разумника с его статьями и примечаниями стала выходить «Ис-
торико-литературная библиотека», проспект которой включал около 80 наиме-
нований (в 1911 г. в ней вышло пять книг).
К удовольствию Рубакина и его «Среди книг»?— Имеется в виду вышед-
ший первый том труда книговеда Н. А. Рубакина «Среди книг. Опыт обзора
русских книжных богатств в связи с историей научно-философских и литера-
турно-общественных идей» (1911).
Письмо в редакцию (с. 323)
НВ. 1911.21 дек. №12852.
А. Г. Табрум. Религиозные верования
современных ученых (с. 325)
НВ. 22 дек. №12853.
«Власть тьмы» (1887) — пьеса Л. Н. Толстого.
Зимний праздник (с. 326)
НВ. 1911.25дек.№ 12856.
Рождественский подарок сельской школе (с. 329)
НВ. 1911.29 дек. № 12858.
380
Роковое в «наследии» Толстого... (с. 331)
Печатается впервые. РГАЛИ. Ф. 419. On. 1. Ед. хр. 199. Л. 94—96. Гранки
с правкой автора. Первоначальное название — «Около «наследия» Толстого».
.. .подобны «золоту Рейна» в трилогии Вагнера... — Речь идет об оперной
тетралогии немецкого композитора Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга» (1876), в
сюжете которой символическое значение имеет золото, хранящееся на дне Рей-
на; кто скует кольцо из этого золота, говорится в прологе «Золота Рейна» (пер-
вая часть тетралогии), тот станет властелином мира.
.. .вся Россия не может не стать на сторону Софьи Андреевны... — С. А.
Толстая передала принадлежащие ей рукописи Л. Н. Толстого на хранение в
Исторический музей; А. Л. Толстая и В. Г. Чертков, опасавшиеся уничтожения
ею части их, предприняли меры, чтобы получить рукописи в свое распоряже-
ние. Эта тяжба закончилась лишь 6 декабря 1914 г., когда вышел указ Сената о
передаче рукописей С. А. Толстой.
О самоубийствах (с. 334)
Самоубийство. М.: Заря, 1911. С. 41—66.
Вилла А дриана—находилась возле Тибура (Тиволи) и представляла собой
архитектурный ансамбль с дворцами, библиотеками, театрами, термами и па-
лестрой.
« Тема» самоубийства... начинается с разукрашенного, богатого ложа Сар-
данапала... — По преданию, Сарданапал, последний ассирийский царь, жил ок-
руженный роскошью; и, когда на Ниневию напал мидийский наместник Арбан,
покончил с собой, взойдя со своими женами и богатствами на громадный костер.
Тульская история (с. 347)
Публикуется впервые по автографу. РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1.Ед. хр. 199. Л. 88.
Прочел статью г. Перцова — «Чертковство»... — Перцов П. П. Чертков-
ство//НВ. 1911.26 июня.
Проф. В. И. Герье и его труд о французской
революции (с. 348)
Публикуется впервые по автографу (ОР РГБ. Ф. 279. Картон 6. Ед. хр. 3.
Л. 1—4). Публ. А. В. Ломоносова.
381
Убогонькие в истории (с. 353)
Публикуется впервые по автографу (ОР РГБ. Ф. 249. Картон 6. Ед. хр. 7.
Л. 1—5). Публ. А. В. Ломоносова. В библиографии С. А. Цветкова приведено
пояснение В. В. Розанова: «Сам взял назад» (ОР РГБ. Ф. 249. Картон 11. Ед. хр. 11).
Статья Розанова была написана в ответ на статью П. Б. Струве «Жестокая
поговорка и извращенная психология» (Русская Мысль. М., 1911. Кн. 1. Ян-
варь. С. 184—186).
Когда бы все так чувствовали силу... — А. С. Пушкин. Моцарт и Сальери
(1830) (здесь и далее).
Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз... — М. Ю. Лермонтов. Дума (1838).
Расплюевская природа. — Речь идет о Расплюеве, персонаже комедии
А. В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» (1852—1854).
Таков, Фелица, я развратен. — Г. Р. Державин. Фелица (1783).
Б. Н. Романов
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Аввакум Петрович (1620/1621-1682),
протопоп, глава старообрядчества,
писатель, осужден на церковном со-
боре 1666-1667, сожжен - 240
Август Гай Юлий Цезарь Октавиан
(63 до н. э. - 14 н. э.), римский им-
ператор (с 27 до н. э.) - 279
Авксентьев Николай Дмитриевич
(1878-1943), один из лидеров
партии эсеров, был осужден по
делу Петербургского Совета рабо-
чих депутатов (1906), бежал из
ссылки, 1907-апрель 1917 за гра-
ницей, министр внутренних дел во
Временном правительстве, оконча-
тельно эмигрировал в 1919-148
А враам, в Ветхом Завете старший из
патриархов, прародитель еврейско-
го народа-9,12,77,144,145,203
Адонис, в финикийской мифологии
бог плодородия - 343
Адриан Публий Элий (76-138), римс-
кий император (с 117) - 334,336
Азеф Евно Фишелевич (Евгений Фи-
липпович) (1869-1918), один из ос-
нователей и лидеров партии эсеров,
секретный сотрудник департамен-
та полиции (с 1893), разоблачен
(1908), умер за границей - 20
А ксаков Иван Сергеевич (1823-1886),
публицист, поэт, общесз венный де-
ятель, издатель, один из идеологов
славянофильства-94,106,146
Аксаков Сергей Тимофеевич (1791—
1859), писатель - 24
Аксаковы - 15,277
Александр российский
император (с 1801) - 37,286,349
Александр /7(1818-1881), российский
император (с 1855)-35,37,89,198,
222, 293, 335, 349
Александр ///(1845-1894), российский
императору 1881)-123,182,198,
284, 335
Александр Невский (1220/1221-1263),
князь Новгородский (1236-1251),
великий князь Владимирский (с
1252), полководец -110,300
Алексей Михайлович (1629-1676), царь
(с 1645)- 107, 193,231,232
Алексий (90-е гг. XIII в. - 1378), мит-
рополит Московский, глава Русской
православной церкви (с 1354) - 279
Альбов Михаил Нилович (1851-1911),
писатель - 145
Амвросий Оптинский (Александр Ми-
хайлович Гренков) (1812-1891),
иеросхимонах, старец Оптиной пус-
тыни, православный подвижник-252
Амфитеатров Александр Валентино-
вич (1862-1938), писатель, публи-
цист, критик -121,123
Андреев Леонид Николаевич (1871-
1919), писатель - 16
АндреевскийИван Ефимович(1831-
1891), юрист, профессору 1864)и
383
ректор (1883-1887) Петербургско-
го университета, директор Архео-
логического института, главный ре-
дактор Энциклопедического слова-
ря Брокгауза и Эфрона (1890-1891)
-194
Андриевский (Андреевский) Владимир
Михайлович (1856-?), член Госу-
дарственного совета - 47,48
Андриевский (Андреевский) Сергей
Аркадьевич (1847/1848-1918), ад-
вокат, поэт, публицист, критик - 290
Аннибал (Ганнибал) (247/246-183 до
н. э.), карфагенский полководец,
одержал ряд побед над римлянами
во второй Пунической войне - 43,
44,250, 254
Антоний (Александр Васильевич
Вадковский) (1846-1912), митропо-
лит Санкг-Пегербург ский и Л адож-
ский (с 1898)- 124, 161,323
Антоний (Алексей Павлович Храпо-
вицкий) (1863-1936), архиепископ
Волынский и Житомирский (с
1902), Харьковский (с 1914) - 200
А нтоний Печерский (983-1073), осно-
ватель Киево-Печерского монасты-
ря (1051), один из родоначальников
русского монашества -186,279
А нтонин (Александр Андреевич Гра-
новский) (1865-1927), епископ
Нарвский, викарий Санкт-Петер-
бургской епархии (с 1903), епископ
Владикавказский (1913-1917)- 283
Аракчеев Алексей Андреевич (1769-
1834), политический и военный де-
ятель, пользовался большим влия-
нием при Александре I - 286
Аристотель (384—322 до н. э.), древ-
негреческий философ и ученый-эн-
циклопедист-53, 140,183,184,238
Аристофан (ок. 445 - ок. 385 до н. э.),
древнегреческий поэт-комедиограф
-74
Арсеньев Константин Константинович
(1837-1919), юрист, критик, публи-
цист, политический и обществен-
ный деятель -18
Архангельский И. Д., член Судебной
палаты - 290
Аскоченский (наст. фам. Оскошный,
затем Отскоченский) Виктор Ипа-
тьевич (1813-1879), писатель, исто-
рик, журналист, магистр богосло-
вия, издатель еженедельника «До-
машняя беседа» (1858-1877) -90,
91
Астарта, в финикийской мифологии
богиня плодородия, материнства и
любви - 8
Атилла (Аттила) (ум. 453), предводи-
тель гуннов (с 434), при котором
этот союз племен достиг наивыс-
шего могущества - 26
Ахав, в Ветхом Завете царь Северного
царства Израиль (871 -852 до н. э.)
- 14
Ахаз, в Ветхом Завете царь Южного
царства Иудея (736-725 до н. э.) -
14
Ахматов Алексей Петрович (1818—
1870), генерал-адъютант, обер-про-
курор Синода (1862-1865) - 199
Баженов Василий Борисович (1800—
1883), протопресвитер, религиоз-
ный писатель - 200
Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788—
1824), английский поэт, член пала-
ты лордов (1809) - 105,262,315
Бакунин Михаил Александрович
(1814-1876), революционер, теоре-
тик анархизма -149,287
Балмашов (Балмашёв) Степан Валери-
анович (1881-1902), эсер, убивший
Д. С. Сипягина, повешен - 283,284
Балобанова (Балабанова) Екатерина
Вячеславовна (1847-1927), историк
384
литературы, переводчица, писа-
тельница-283
Балтрушайтис Юргис (1873-1944),
поэт, переводчик, дипломат, писал
на русском и литовском языках - 84
Баранович Лазарь (Лазарь Баранович)
(ок. 1620-1693), украинский цер-
ковный деятель и писатель, архи-
епископ Черниговский (с 1657) -
279
Баратынский Евгений Абрамович
(1800-1844), поэт-46
Барсуков Николай Платонович (1838—
1906), историк литературы и обще-
ственной мысли, археограф, биб-
лиограф, издатель - 28,200
Батый (Бату) (1208-1255), монгольс-
кий хан, внук Чингисхана, хан Зо-
лотой Орды (с 1243) - 279
Безобразов Владимир Павлович
(1828-1889), экономист и географ
-292
Безобразова Мария Владимировна
(1857-1914), философ, историк фи-
лософии - 292
Безобразова (урожд. Соловьева) Ма-
рия Сергеевна (1863-1919), автор
воспоминаний, дочь историка С. М.
Соловьева -139
Бекетов Андрей Николаевич (1825-
1902), ботаник, основатель научной
школы, автор учебника «География
растений» - 30
Бёклин Арнольд (1827-1901), швей-
царский живописец - 82
Белинский Виссарион Григорьевич
(1811-1848), литературный критик,
публицист, мыслитель, обществен-
ный деятель-21, 104,106,107,149,
150, 186, 322, 323
Белоруссов (наст. фам. Белевский)
Алексей Степанович (1859-1919),
публицист, сотрудник газеты «Рус-
ские ведомости» - 304-306
Белый Андрей (наст, имя и фам. Бо-
рис Николаевич Бугаев) (1880—
1934), писатель, публицист, теоре-
тик символизма - 84,85
Бенкендорф Александр Христофоро-
вич (1781, по др. данным 1783-
1844), политический и военный де-
ятель, шеф корпуса жандармов и
начальник Третьего отделения -
107, 149
Бентам Иеремия (1748-1832), англий-
ский философ, экономист, юрист,
родоначальник утилитаризма - 62
Бергсон Ан ри (1859-1941), француз-
ский философ- 140
Беренштам Владимир Вильямович
(1871-1931), адвокат, выступал с
защитой на политических процес-
сах - 272
Берлихинген Гёц (Готфрцд) фон (1480-
1562), немецкий рыцарь, участник
Крестьянской войны 1524-1526 гт.
-340
Бернар Клод (1813-1878), французс-
кий физиолог- 183
Бёрне Людвиг(1786-1837), немецкий
публицист и литературный критик
-56,62,218
Бестужев-Рюмин Константин Нико-
лаевич (1829-1897), историк, пуб-
лицист, издатель, общественный
деятель, первый директор Высших
женских курсов (1877-1882) в Пе-
тербурге-30
Бисмарк Отто фон Шёнхаузен (1815—
1898), первый рейхсканцлер Гер-
манской империи (1871-1890) - 78,
194
Биша Мари Франсуа Ксавье (1771—
1802), французский врач -183
Блаватская Елена Петровна (1831—
1891), теософ, основательница Те-
ософического общества (1875), пи-
сательница-80
385
Благовещенский А. Н., товарищ про-
курора - 290
Благосветлов Григорий Евлампиевич
(1824-1880), публицист, журна-
лист, редактор-издатель журналов
«Русское слово» (с 1863) и «Дело»
(с 1866)-287
Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—
1921), писатель, мемуарист-287
Богданов (наст. фам. Малиновский)
Александр Александрович (1873—
1928), политический деятель (соци-
ал-демократ, большевик), философ,
экономист, врач -18,19
Боголепов Николай Павлович (1846-
1901), министр народного просве-
щения (с 1898), смертельно ранен
эсером-террористом - 219,284
Богров Дмитрий Григорьевич (Морд-
ко (Мордехай) Гершкович) (1887-
1911), по окончании Киевского уни-
верситета занимался адвокатской
практикой, член террористическо-
го кружка анархистов-коммунис-
тов, одновременно сотрудник
(агент) Киевского охранного отде-
ления (с 1906), одна из версий убий-
ства им П. А. Столыпина - стрем-
ление снять с себя подозрение в
связях с охранкой, повешен по при-
говору военного суда - 230, 268,
281,288-290
Бокль ГенриТомас(1821-1862),анг-
лийский историк и социолог-пози-
тивист-14, 57,61,62,108,245
Боткин Сергей Петрович (1832-1889),
терапевт, основатель школы рус-
ских клиницистов -31,183
Брокгауз Эдуард (1829-1914), не-
мецкий издатель русского Эн-
циклопедического словаря, внук
основателя фирмы Фридриха Ар-
нольда Брокгауза(1772-1823) -
195, 283
Брюсов Валерий Яковлевич (1873—
1924), поэт, критик, переводчик, об-
щественный деятель - 84
Будда (букв, просветленный), имя, по-
лученное основателем буддизма
Сиддхартхой Гаутамой (623-544до
н. э.)-296
Булгаков Сергей Николаевич (1871—
1944), философ, экономист, затем бо-
гослов, священник (с 1918) - 307,308
Буняковский Виктор Яковлевич (1804-
1889), математик -195,219
Буренин Виктор Петрович (1841—
1926), критик и писатель -311,312
Буслаев Федор Иванович (1818-1897),
языковед, фольклорист, литерату-
ровед, историк искусства - 27,195,
208
Бутлеров Александр Михайлович
(1828-1886), физик-органик, осно-
ватель научной школы - 186,195,
219
Бутру Эмиль (1845-1921), францу з-
ский философ - 140
Бухарев Александр Матвеевич (в мо-
нашестве архимандрит Феодор)
(1822, по др. данным 1824-1871),
богослов и философ, предтеча «но-
вого религиозного сознания» в Рос-
сии, идей сближения церкви с жиз-
нью, сложил сан в 1863 - 89-91
Бухарева (урожд. Родышевская) Анна
Сергеевна, сторонница идей А. М.
Бухарева, после сложения им сана
его жена - 90
Бэкон Фрэнсис (1561-1626), английс-
кий философ и политический дея-
тель- 153,184-186
Бэн Александер (1818-1903), англий-
ский психолог - 209
Ваал, древнейшее название бога или
богов в Финикии, Палестине, Си-
рии-8, 10, 15
386
Вагнер Рихард (1813-1883), немецкий
композитор, дирижер, реформатор
оперного искусства - 331
Валаам, ветхозаветный прорицатель -
145
Валуев Петр Александрович (1815—
1890), министр внутренних дел
(1861-1868), председатель Комите-
та министров (1879-1881), мемуа-
рист - 349
Ванутелли (Ваннутелли) Винченцо,
католический прелат -159
Варух, ветхозаветный пророк-283
Василий, епископ Черниговский и Не-
жинский-280
Василий I (Василий Дмитриевич)
(1371-1425), великий князь Мос-
ковский (с 1389), сын Дмитрия
Донского - 320
Василий Великий (Василий Кесарийс-
кий) (ок. 330-379), христианский
церковный деятель и богослов - 235
Васильев Афанасий Васильевич (1851
- после 1917), публицист, поэт, из-
датель, возглавлял департамент же-
лезнодорожной отчетности Госу-
дарственного контроля (1893-
1896), будучи непосредственным
начальником Розанова -123
Васнецов Виктор Михайлович (1848-
1926), живописец, в том числе и жи-
вописец-монументалист (роспись
Владимирского собора в Киеве,
1885-1896)-244-246
Введенский Александр Иванович
(1856-1925), философ, председа-
тель Санкт-Петербургского фило-
софского общества (1897-1917) —
188,210
Вебер Георг (1808-1888), немецкий
историк -189
Вейнберг Петр Исаевич (1831-1908),
поэт, переводчик, историк литера-
туры- 120
Вербицкая (урожд. Зяблова) Анаста-
сия Алексеевна (1861-1928), писа-
тельница - 54, 196, 243, 247, 278,
281
Вергежская (наст, имя и фам. Ариад-
на Владимировна Тыркова, Тырко-
ва-Вильямс) (1869-1962), входила
в число лидеров партии кадетов,
начиная с ее организации, член ее
ЦК, публицист (псевд. А. Вергежс-
кий), с 1918, окончательно после
1919 за границей - 357
Виноградов Павел Гаврилович (1854-
1925), историк, в 1902-1908 и с
1911в Великобритании - 33,102
Виргилий (Вергилий, Публий Верги-
лий Марон) (70-19 до н. э.), римс-
кий поэт-74, 300
Вирсавия, в Ветхом Завете жена царя
Давида, мать царя Соломона - 315
Виталий, иеромонах, черносотенец-
199
Витер О. Ю., товарищ прокурора -
290
Витте Сергей Юльевич (1849-1915),
председатель Комитета министров
(с 1903), Совета министров (1905-
1906), под его руководством состав-
лен Манифест 17 октября 1905, ме-
муарист - 46,47, 146,185
Владимир I (Владимир Святой) (ум.
1015), князь Новгородский (с 969/
970), великий князь Киевский (с
980), ввел на Руси в качестве госу-
дарственной религии христианство
(988-989)- НО, 157, 231,280
Владимир II Мономах (1053-1125), ве-
ликий князь Киевский (с 1113)-
110,236,279
Волконская Зинаида Александровна
(1789-1862), писательница, певица,
композитор, переехав в Италию,
приняла в конце жизни католицизм
- 152, 159
387
Вольтер (наст, имя и фам. Франсуа
Мари Аруэ) (1694-1778), француз-
ский писатель и философ-просве-
титель- 188,293
Вяльцева Анастасия Дмитриевна
(1871-1913), эстрадная певица (со-
прано) - 278
Гагарин Иван Сергеевич (1814-1882),
писатель, дипломат, уехав из Рос-
сии, перешел в католицизм и всту-
пил в орден иезуитов - 152,159
Галилей Галилео (1564-1642), италь-
янский ученый, один из основопо-
ложников точного естествознания
-108
Гегель Георг Вильгельм Фридрих
(1770-1831), немецкий философ -
184, 189,212, 288
Гейне Генрих (1797-1856), немецкий
поэт и публицист - 9,13,74
Гельвеций Клод Адриан (1715-1771),
французский философ -140
Гельмгольц Герман Людвиг Ферди-
нанд (1821-1894), немецкий физик,
физиолог, биофизик, психолог-183
Гельфман Геся Мироновна (1855—
1882), член партии «Народная
воля», участница покушения на
Александра II -14
Генрих I И(1553-1610), французский ко-
роль (с 1589, фактически с 1594), пер-
вый из династии Бурбонов-78, 109
Генрих Валуа, речь идет о Генрихе IV
Бурбоне -109
Георгиевский Василий Тимофеевич
(1861-1923), археолог, историк ис-
кусства, организатор иконописных
школ -121
Гераклит (ок. 576 - ок. 480 до н. э.),
древнегреческий философ - 342
Гермоген (Георгий Ефремович Долга-
нев) (1858—1918), епископ Саратов-
ский и Царицынский - 200
Гереон (Гершон) Бен Иегуда (XIII в.,
по др. данным XI в.), еврейский за-
коноучитель и поэт, прозванный
«Светило изгнания», узаконил во-
шедшую к тому времени в практи-
ку у евреев моногамию -12
Герцен Александр Иванович (1812-
1870), писатель, публицист, фило-
соф, общественный деятель - 24,
142, 149, 186, 242-244, 323, 349
Герценштейн Михаил Яковлевич
(1859-1906), экономист, один из ос-
нователей партии кадетов, депутат
I Государственной думы, убит чер-
носотенцами - 225
Гершензон Михаил Осипович (1869-
1925), историк русской литературы
и общественной мысли, публицист,
философ, переводчик -139
Гершуни Григорий Андреевич (Герш
Ицкович) (1870-1908), один из
организаторов и лидеров партии
эсеров, с 1906 в эмиграции -14,283
Герье Владимир Иванович (1837-
1919), историк, основатель и дирек-
тор Высших женских курсов в Мос-
кве (1872-1887, 1900-1905) - 27,
30, 348, 352
Гессен Иосиф Владимирович (1865, по
др. данным 1866-1943), юрист, пуб-
лицист, один из основателей и ли-
деров партии кадетов, депутат II Го-
сударственной думы, редактор га-
зеты «Речь», с 1919 в эмиграции -
282, 291
Гёте Иоганн Вольфганг (1749-1832),
немецкий писатель, мыслитель, ес-
тествоиспытатель - 108,278, 288,
340, 341
Гизо Франсуа (1787-1874), французс-
кий историк и политический дея-
тель - 306
Гилевич Андрей, инженер, аферист и
убийца-48
388
Гиль Христиан Христианович (1837—
1908), нумизмат, родился в Герма-
нии, с 1867 в России - 192
Гиляров-Платонов Никита Петрович
(1824-1887), публицист, философ,
историк, издатель -142,146
Гиппиус Зинаида Николаевна (1869-
1945), писательница, жена Д. С.
Мережковского - 281-283
Гиппократ (ок. 460 - ок. 370 до н. э.),
древнегреческий врач, реформатор
античной медицины -183
Гоголь Николай Васильевич (1809—
1852), писатель - 21,23,24,96,97,
100, 121, 122, 143, 150, 163, 178,
196, 268, 303, 305, 349
Голицын Александр Николаевич
(1773-1844), обер-прокурор Сино-
да (1803-1817)-199
Голубинский (наст. фам. Песков) Евге-
ний Евстигнеевич (1834-1912), ис-
торик церкви -157
Гомер, полулегендарный древнегре-
ческий эпический поэт - 79
Гончаров Иван Александрович (1812—
1891), писатель-24,142,176
Гораций (Квинт Гораций Флакк) (65-
8 до н. э.), римский поэт - 74,79
Горемыкин Иван Логгинович (1839—
1917), председатель Совета мини-
стров (1906, 1914-1916)-276
Горленко Василий Петрович (1853-
1907), литературный критик, этно-
граф, искусствовед, сотрудничал в
газете «Новое время» (с 1899), см.
отзыв Розанова о нем в книге «Сре-
ди художников» - 119,121,122
Горький Максим (наст, имя и фам.
Алексей Максимович Пешков)
(1868-1936), писатель, публицист,
общественный деятель-13,14,16,
18,307
Гофолия, в Ветхом Завете царица
Южного царства Иудея (845-840
до н. э.), дочь израильского царя
Ахава, была замужем за иудейским
царем Йорамом -14
Граве В. В., член Судебной палаты -
290
Гракхи, братья: Тиберий (162-133 до
н. э.) и Гай(153-121 дон. э.),рим-
ские трибуны, погибли при прове-
дении реформ - 247
Грановский Тимофей Николаевич
(1813-1855), историк и обществен-
ный деятель - 219,349,352
Грибоедов Александр Сергеевич
(1790, по др. данным 1795-1829),
писатель и дипломат - 24,238,268
Григорий Богослов (Григорий Назиан-
зин)(ок. 330-ок. 390), христианс-
кий церковный деятель, богослов,
поэт-23 5
Григорий VII Гильдебранд (1015/1020—
1085), папа римский (с 1073) - 200
Григорович Дмитрий Васильевич
(1822-1899/1900), писатель - 34
Григоровский С. П., юрист, чиновник
Синода, публицист-292,293
Гримм, братья: Якоб (1785-1863) и
Вильгельм (1786-1859), немецкие
филологи-208
Грингмут Владимир Андреевич
(1851-1907), публицист, критик,
редактор-издатель газеты «Москов-
ские ведомости» (с декабря 1896),
организатор Русского монархичес-
кого союза (1905) - 151
Гродеков Николай Иванович (1843—
1913), генерал от инфантерии, воен-
ный писатель, приамурский гене-
рал-губернатор (1898-1902), ко-
мандующий войсками на Дальнем
Востоке (1906), туркестанский гене-
рал-губернатор (1906-1908), член
Государственного совета -160,161
Громов Н. А., товарищ прокурора -
290
389
Громогласов Илья Михайлович (1869-
?), профессор Московской духов-
ной академии, занимался проблема-
ми церковного права, старообряд-
чества и сектантства, в 1911 был
вынужден подать прошение об от-
ставке из-за симпатии «к освободи-
тельному движению» - 52
Грот Константин Яковлевич (1853—
1934), историк, филолог-славист -
284,285
Грот Николай Яковлевич (1852—
1899), философ - 93,248
Грот Яков Карлович (1812-1893),
языковед, историк литературы, пе-
реводчик - 284,285
Губастое Константин Аркадьевич
(1846-1919), историк, дипломат,
посланник при Святом престоле в
Ватикане -193
Гумбольдт Вильгельм фон (1767—
1835), немецкий филолог, философ,
языковед, политический деятель,
дипломат-208
Густав I Ваза (1496/1497-1560),
шведский король (с 1523), основа-
тель династии Ваза - 78
Гутенберг Иоганн (1394/1399 или
1406-1468), немецкий изобрета-
тель книгопечатания - 234
Гучков Александр Иванович (1862—
1936), лидер октябристов, предпри-
ниматель, председатель IIIГосудар-
ственной думы, умер в Париже -
228,229
Давид, царь Израильско-Иудейского
государства (ок. 1004 - ок. 965 до
н. э.)-8, 76-78, 314, 315
Даль Владимир Иванович (1801—
1872), писатель, лексикограф, эт-
нограф, врач - 208
Данилевский Николай Яковлевич
(1822-1885), социолог, философ,
естествоиспытатель, публицист -
105, 106, 139, 151,283
Дант (Данте) Алигьери (1265-1321),
итальянский поэт и политический
деятель - 141
Дантес Жорж Шарль (барон Гекке-
рен) (1812-1895), французск ий мо-
нархист, в 1830-х гг. жил в России,
убийца на дуэли А. С. Пушкина -
286
Дарвин Чарлз Роберт (1809-1882), анг-
лийский естествоиспытатель - 246,
282
Декарт Рене (1596-1650), французс-
кий философ, математик, естество-
испытатель- 15,108,140,153,184
Де-Ласси (О’Бриен де-Ласси) Патри-
кей Петрович, граф, приговорен к
каторге по делу об убийстве - 48
Дельвиг Антон Антонович (1798—
1831), поэт, друг А. С. Пушкина-
285
Делянов Иван Давыдович (1818-1897),
министр народного просвещения (с
1882)- 123,219,238,259,260
Джером Джером Клапка (1859-1927),
английский писатель -121
Диккенс Чарлз (1812-1870), английс-
кий писатель -121
Димитрий (Дмитрий) Иванович Дон-
ской (1350-1389), великий князь
Московский (с 1359) и Владимирс-
кий (с 1 362), полководец - 310,320
Димитрий (Дмитрий) Ростовский
(Даниил Саввич Туптало) (1651—
1709), митрополит Ростовский и
Ярославский (с 1702), писатель -
279
Дитрихе, хирург-229
Добролюбов Николай Александрович
(1836-1861), литературный критик,
публицист, постоянный сотрудник
журнала «Современник» - 21,62,
176,186,211
390
Дондукова-Корсакова Мария Михай-
ловна (1828-1909), общественная
деятельница - 289
Достоевская Любовь Федоровна
(1869-1926), дочьФ. М. Достоевс-
кого, писательница, мемуаристка -
65-67
Достоевский Федор Михайлович
(1821-1881), писатель и мыслитель
- 13, 18, 24, 34, 54, 65, 67, 91, 94,
141, 142, 173, 252, 268, 277, 303,
306, 348, 352, 356
Дубельт Леонтий Васильевич (1792-
1862), генерал от кавалерии, началь-
ник штаба корпуса жандармов (с
1835), управляющий Третьим отде-
лением его императорского величе-
ства канцелярии(1839-1855)-107
Дунс Скот (Иоанн Дунс Скот) (ок.
1266-1308), философ и теолог,
представитель схоластики, монах-
францисканец-153
Дьяконова Елизавета Александровна
(1874-1902), публицист, автор
«Дневника», погибла в горах Тиро-
ля - 115,116, 118
Дюркхейм (Дюркгейм) Эмиль (1858—
1917), французский социолог -140
Дю-Рюи (Дюрюи) Виктор (1811-
1894), французский историк и по-
литический деятель, автор иллюс-
трированного труда «История рим-
лян» (7 т., 1879-1885)-211
Евфросиния Суздальская, княгиня (в
миру Феодулия), дочь князя Черни-
говского Михаила Всеволодовича
(XIII в.)-279
Екатерина II Алексеевна (урожд. Со-
фья Фредерика Августа Анхальт-
Цербстская) (1729-1796), российс-
кая императрица (с 1762)- 16,37,
134, 220, 268,271,349
Елена Павловна (урожд. Фредерика
Шарлотта Мария) (1806-1873),
великая княгиня, с 1824 жена млад-
шего сына Павла I Михаила Павло-
вича (1798-1849), занималась бла-
готворительной деятельностью, в
1854 основала Крестовоздвиженс-
кую общину сестер милосердия
(предшественницу Общества Крас-
ного Креста в России), способство-
вала организации Клинического ин-
ститута, названного ее именем - 89
Елизавета {1837-1898), австрийская
императрица, жена Франца Иоси-
фа I (с 1854), убита анархистом -
173,176
Елизавета Петровна (1709-1761/
1762), российская императрица (с
1741), дочь Петра 1-299
Ермолов Алексей Петрович (1772, по
др. данным 1777-1861), в войне
1812 начальник Главного штаба
1 -й западной армии, участник заг-
раничных походов 1813-1814, с
1816 командир Отдельного Грузин-
ского (Кавказского) корпуса, глав-
ноуправляющий в Грузии, оказывал
покровительство сосланным на
Кавказ декабристам, в отставке с
1827-273
Ермолов Алексей Сергеевич (1846, по
др. данным 1847-1917), министр
земледелия и государственных
имуществ (1894-1905) - 181
Ешевский Степан Васильевич (1829-
1865), историк, профессор Москов-
ского и Казанского университетов
-219,352
Жаботинский Зеев (Владимир Евгень-
евич) (1880-1940), писатель, публи-
цист, один из лидеров и идеологов
сионистского движения - 356
Жанлис Стефания Фелисите Дюкре де
Сент-Обен де (1746-1830), фран-
цузская писательница -105
391
Жаринцова (Жаринцева) Надежда
Алексеевна (ок. 1870-после 1930),
переводчица, публицист, автор книг
на педагогические темы, с 1901
жила в Англии - 64
Железнова, жертва убийства из ревно-
сти-1 10-113
Желобовский Александр Алексеевич
(1834-1910), протопресвитер воен-
ного и морского духовенства, член
Синода, религиозный писатель -
198-200
Желябов Андрей Иванович (1851—
1881), народник, организатор поку-
шения на Александра II (1 марта
1881), повешен - 352
Жуковский Василий Андреевич (1783—
1852), поэт, переводчик, критик -
100
Захарьин Григорий Антонович (1829-
1897/1898), терапевт, основатель
клинической школы, профессор
Московского университета -183
Зелинский Фаддей Францевич (1859-
1944), филолог, поэт, переводчик,
профессор Петербургского универ-
ситета по кафедре классической
филологии (1890—1922) - 210
Зильберштейн Аркадий Львович, при-
сяжный поверенный - 290,291
Златовратский Николай Николаевич
(1845-1911), писатель - 164
Знаменский Петр Васильевич (1836—
1917), церковный историк, профессор
Казанской духовной академии - 89
Иаков, ветхозаветный патриарх -97
Иван IVГрозный (1530-1584), первый
русский царь (с 1547) - 240,310
Иванов Александр Андреевич (1806-
1858), живописец - 241
Иванов Гавриил Афанасьевич (1826-
1901), филолог, профессор Москов-
ского университета по кафедре
римской словесности - 208
Иванов-Разумник (наст, имя и фам. Ра-
зумник Васильевич Иванов) (1878—
1946), историк общественной мыс-
ли, социолог, публицист, критик -
321-323
Иванцов-Платонов Александр Ми-
хайлович (1835-1894), протоиерей,
церковный историк и писатель,
профессор Московского универси-
тета- 106
Игнатьев Алексей Павлович (1842—
1906), генерал от кавалерии, гене-
рал-губернатор Иркутский (1885—
1889), Киевский (1889-1896), член
Государственного совета, убит эсе-
рами - 225
Игорь (Георгий) Ольгович (ум. 1147),
внук Святослава Ярославина, князь
Новгород-Северский, великий
князь Киевский, погиб как муче-
ник, канонизирован - 279
Иегова (Яхве), ветхозаветный Бог-8-
12, 14,15,143
Иезекииль, ветхозаветный пророк
(VII-VI вв. дон. э.)— 10,13
Иеремия, ветхозаветный пророк (VII
- нач. VI в. до н. э.) - 97,246
Иеринг Рудольф фон (1818-1892), не-
мецкий правовед -184,195
Извольский Петр Петрович (1863—
1928), обер-прокурор Синода (июнь
1906-февраль 1909)- 122,199
Изгоев (наст. фам. Ланде) Александр
(Аарон) Соломонович (1872-1935),
публицист, журналист, член ЦК
партии кадетов, выслан из страны
(1822)-55, 57
Измайлов Александр Алексеевич
(1873-1921), писатель, литератур-
ный критик -121,207
Иисус Христос - 10,22,49,68,69,72-
74, 76, 77, 79, 86, 87, 90, 106, 108,
392
131,139,140,143,152,155,156,158,
160, 168, 203, 204, 206, 233-235,
243, 281-283, 296, 298, 315, 328
Илиодор (Сергей Михайлович Труфа-
нов) (1880-1952), иеромонах, один
из организаторов «Союза русского
народа» - 199,246
Илия, ветхозаветный пророк -14
Иловайский Дмитрий Иванович
(1832-1920), историк и публицист
-58, 156, 157, 187-189, 194, 232
Иннокентий III (Джованни Л отарио,
граф де Сеньи) (1160-1216), папа
римский (с 1198) - 109
Иноземцев Федор Иванович (1802-
1869), врач, профессор Московско-
го университета -183
Иоав, в Ветхом Завете двоюродный брат
и военачальник царя Давида - 8
Иоанн Безземельный (1167-1216), ан-
глийский король (с 1199) -178
Иоанн Златоуст (между 344 и 354—
407), византийский церковный де-
ятель, проповедник, архиепископ
Константинопольский (397^104)-
73, 235,239
Иоанн Креститель (Иоанн Предтеча),
в Новом Завете пророк, предше-
ственник Христа - 241
Иоанн Кронштадтский (Иоанн Иль-
ич Сергиев) (1829-1908), протоие-
рей, православный проповедник и
писатель - 90,253
Иосиф, ветхозаветный патриарх - 263
Иосиф, в Новом Завете плотник, об-
рученный с Богоматерью Марией -
77
Иосиф II (1741-1790), австрийский
эрцгерцог (с 1780), император Свя-
щенной Римской империи (с 1765)
-220
Исаак, ветхозаветный патриарх - 12
Исаия, ветхозаветный пророк (IX в. до
н. э.) — 10, 11,97
Исидор (Яков (Иаков) Сергеевич Ни-
кольский) (1799-1892), митрополит
Новгородский и Санкт-Петербург-
ский (с 1860), богослов и проповед-
ник - 200
Кабанис Пьер Жан Жорж (1757-1808),
французский философ и врач -140
Кавелин Константин Дмитриевич
(1818-1885), историк, правовед, фи-
лософ, общественный деятель - 34
Кадьян Александр Александрович
(1849-?), врач, профессор (с 1900),
исполняющий обязанности дирек-
тора, помощник директора (с 1914)
Женского медицинского института
в Петербурге - 214-217
Кант Иммануил (1724-1804), немец-
кий философ - 94,140,153,221
Кантемир Антиох Дмитриевич (1708-
1744), поэт и дипломат - 23
Капнист Василий Васильевич (1758—
1823), драматург и поэт - 268
Карабчевский Николай Платонович
(1851-1925), адвокат и публицист
-290
Каравелов Петко (1843-1903), болгар-
ский политический деятель, один
из основателей (1879) и лидер Ли-
беральной партии,неоднократно
премьер-министр, регент (1886) -
262, 263
Карамзин Николай Михайлович
(1766-1826), историк и писатель -
53, 184, 187, 268,317
Кареев Николай Иванович (1850—
1931), историк и социолог - 189,
193
Карл Великий (742-814), франкский
король (с 768), император (с 800) -
184,194
Карлейль Томас (1795-1881), англий-
ский историк, философ, писатель,
публицист-306
393
Кассо Лев Аристидович (1865-1914),
министр народного просвещения (с
1911) - 42, 171, 173-178, 181, 193,
217,218,220, 221,258
Катарбинский (Котарбинский) Васи-
лий (Вильгельм) Александрович
(1849-1921), живописец, участво-
вал в работе над росписью Влади-
мирского собора в Киеве - 244
Катилина Луций Сергий (ок. 108-62
до н. э.), римский претор (68 до
н. э.), его заговор с целью захвата вла-
сти был раскрыт Цицероном - 247
Катков Михаил Никифорович (1818—
1887), публицист, издатель, критик
- 14, 15,94, 123
Катон Старший Марк Порций (234-
149 до н. э.), римский писатель и
государственный деятель - 194,
221,247
Каутский Карл (1854-1938), один из
лидеров и теоретиков германской и
международной социал-демокра-
тии- 14
Кизеветтер Александр Александро-
вич (1866-1933), историк, профес-
сор Московского университета,
член ЦК партии кадетов, депутат
II Государственной думы, с 1922 за
границей - 303
Киреевский Иван Васильевич (1806—
1856), философ, литературный кри-
тик, публицист, один из основате-
лей славянофильства - 139,142
Киреевский Петр Васильевич (1808—
1856), фольклорист, археограф,
публицист - 139,142,184
Клемансо Жорж (1841-1929), фран-
цузский политический деятель,
премьер-министр (1906-1909,
1917-1920)-351
Клеопатра (69-30 до н. э.), последняя
царица Египта, из династии Птоле-
меев -145
Ключевский Василий Осипович (1841—
1911), историк-53, 102, 103, 184,
219, 303
Кожевников Владимир Александро-
вич (1852-1917), историк культуры,
философ, публицист - 325
Кок Поль де (1793-1871), французс-
кий писатель - 50
Коковцов Владимир Николаевич
(1853-1943), министр финансов
(1904-1914, с перерывом в 1905—
1906), председатель Совета ми-
нистров (1911-1914), с 1918 в
эмиграции, мемуарист - 46, 47,
258
Кокшаров Николай Иванович (1818-
1892/1893), минералог и кристалло-
граф-219
Колумб Христофор (1451 -1506), мо-
реплаватель, открывший земли За-
падного полушария - 255
Комиссаржевская Вера Федоровна
(1864-1910), актриса, в 1904 созда-
ла свой театр - 68
Кони Анатолий Федорович (1844-
1927), юрист, судебный оратор -
307,309-311
Коноплянцев Александр Михайлович
(1875-?), присяжный поверенный,
биограф К. Н. Леонтьева-290
Константин I Великий Флавий Вале-
рий (ок. 285-337), римский импе-
ратор (с 306) -157
Константин Николаевич (1827-1892),
великий князь, второй сын Николая I,
возглавлял морское ведомство, ад-
мирал, участник подготовки крес-
тьянской реформы, наместник Цар-
ства Польского (1862-1863), пред-
седатель Государственного совета
(1865-1881)- 34
Конт Огюст (1798-1857), французс-
кий философ и социолог, один из
создателей позитивизма - 248
394
Костомаров Николай Иванович
(1817-1885), историк и писатель -
219
Краевский Андрей Александрович
(1810-1889), издатель, журналист,
публицист - 149
Крез (595-546 до н. э.), последний
царь Лидии (с 560), расширивший
территорию своего царства, обла-
дал огромным богатством - 247
Кривошеин Александр Васильевич
(1857-1921), главноуправляющий
землеустройством и земледелием
(1908-1915)-321
Крюков Н. А., автор книги о сельском
хозяйстве Аргентины - 321
Ксантиппа, жена древнегреческого
философа Сократа - 238
Кудрявцев Петр Николаевич (1816-
1858), историк и писатель, профес-
сор Московского университета (с
1855)-219, 352
Кузен Виктор (1792-1867), французс-
кий философ - 151
Кульженко С. В., владелец фотолито-
типографии в Киеве - 279
Кулябко Н. Н., подполковник, началь-
ник Киевского охранного отделения,
не раз встречался с Богровым - 283
Курлов Павел Григорьевич (1860—
1923), товарищ министра внутрен-
них дел и командир корпуса жан-
дармов (с 1909), после убийства
П. А. Столыпина уволен в отстав-
ку, началось расследование его дей-
ствий, прекращенное по высочай-
шему повелению (1913)- 229
Кускова (урожд. Есипова, в замуже-
стве Прокопович) Екатерина Дмит-
риевна (1869-1958), участница ре-
волюционного и общественно-по-
литического движения, публицист,
издательница, мемуаристка, высла-
на за границу (1922) - 222
Кутлер Николай Николаевич (1859-
1924), политический деятель,
юрист, предприниматель, один из
лидеров партии кадетов и авторов
ее аграрной программы, после ре-
волюции 1917 участвовал в прове-
дении денежной реформы (1922-
1924)-226, 227
Кутузов (Голенищев-Кутузов) Миха-
ил Илларионович (1745-1813), пол-
ководец, генерал-фельдмаршал,
главнокомандующий русской арми-
ей, разгромившей армию Наполео-
на 1-36, 105
Лавров Петр Лаврович (1823-1900),
философ, социолог, публицист,
один из идеологов революционно-
го народничества - 28,149,323
Лавуазье Антуан Лоран (1743-1794),
французский химик, будучи генераль-
ным откупщиком, по решению рево-
люционного трибунала казнен -173
Ламанский Владимир Иванович
(1833-1914), публицист, историк,
ученый-славист, общественный де-
ятель -184
Ламарк Жан Батист (1744-1829),
французский естествоиспытатель,
предшественник Ч. Дарвина - 140
Лассаль Фердинанд (1825-1864), не-
мецкий политический деятель, со-
циалист, публицист - 62,287
Лафарг (урожд. Маркс) Лаура (1845-
1911), жена П. Лафарга, вторая дочь
К. Маркса-312-315
Лафарг Поль (1842-1911), деятель
французского и международного
рабочего движения, публицист -
312-315
Лебедев Алексей Иванович (1851-?),
профессор гинекологии и акушерства,
ввел ряд новшеств в хирургическую
практику в этой области - 303
395
Лебон Г юстав (1841-1931), француз-
ский социолог, естествоиспыта-
тель, психолог, философ - 295-297
Левицкая Елена Сергеевна (ум. 1915),
директриса школы в Царском Селе,
знакомая Розанова - 266
Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646—
1716), немецкий философ, матема-
тик, физик, языковед -137,140,185
Лейкин Николай Александрович
(1841-1906), писатель-юморист и
журналист - 108
Леонтьев Константин Николаевич
(1831-1891), философ, писатель,
публицист, литературный критик -
290
Леонтьев-Щеглов (наст. фам. Леонть-
ев, псевд. Щеглов) Иван Леонтье-
вич (1855/1856-1911), писатель -
119-122
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—
1841), поэт и прозаик-21,24,114,
271,289, 349
Лесгафт Петр Францевич (1837-1909),
педагог, врач, анатом, основополож-
ник научной системы физического
воспитания в России -148
Лесевич Владимир Викторович (1837—
1905), философ и публицист - 105,
106
Лесков Николай Семенович (1831-
1895), писатель-91
Лешко-Попель М. В., член Судебной
палаты - 290
Ливий Тит (59 до н. э. -17 н. э.), рим-
ский историк - 53
Литовченко М. В., товарищ прокуро-
ра - 290
Лобачевский Николай Иванович
(1792-1856), математик, создатель
неевклидовой геометрии, назван-
ной его именем -196
Ломоносов Михаил Васильевич (1711-
1865), естествоиспытатель, поэт,
художник, историк, общественный
деятель-53, 193, 196,299-303
Лопатин Лев Михайлович (1855—
1920), философ и психолог - 142,
210
Лорис-Меликов Михаил Тариелович
(1825-1888), председатель Верхов-
ной распорядительной комиссии
(1880), министр внутренних дел
(1880-1881) - 352
Лосский Николай Онуфриевич (1870—
1965), философ, профессор Петер-
бургского университета, выслан за
границу(1922) - 210
Лукреций (Тит Лукреций Кар) (ок. 98-
55 до н. э.), римский поэт и фило-
соф - 313
Лукьянов Сергей Михайлович (1855—
1935), обер-прокурор Синода (фев-
раль 1909-май 1911)-122,199
Льюис Джордж Генри (1817-1878), ан-
глийский писатель, сторонник по-
зитивизма-57, 187,188
Любавский Матвей Кузьмич (1860—
1936), историк, профессор и ректор
(1911-1917) Московского универ-
ситета - 80
Любкер Фридрих (1811-1867), немец-
кий филолог-194
Любош Семен Борисович (1859-
1925), литератор, журналист - 291
Людовик XV (171О— 1774), французс-
кий король (с 1715), из династии
Бурбонов - 197
Лютер Мартин (1483-1546), немец-
кий религиозный реформатор -
133, 157,202
Ляпунова, жена астронома Михаила
Васильевича Ляпунова (1820-1868)
- 196
Л/агнметскпй (Магницкий) Михаил Ле-
онтьевич (1778-1844), член Главно-
го управления училищ и попечи-
396
тель Казанского учебного округа -
219-221
Магомет (Мухаммед, Мохаммед) (ок.
570-632), основатель ислама, в ко-
тором почитается как пророк, глава
теократического государства-8,144
Мадзини Джузеппе (1805-1872), руко-
водитель республиканско-демокра-
тического крыла движения за осво-
бождение и объединение Италии -
149
Мазини Анджело (1844-1926), италь-
янский певец (тенор) -212,213
Майков Аполлон Николаевич (1821—
1897), поэт-79
Макарий (Михаил Петрович Булгаков)
(1816-1882), богослов, церковный
историк, митрополит Московский и
Коломенский (с 1879) - 200
Маклаков Василий Алексеевич (1869—
1957), адвокат, один из лидеров
партии кадетов, депутат II—IV Го-
сударственных дум, мемуарист -
309
Маколей Томас Бабингтон (1800—
1859), английский историк - 306
Малебранш (Мальбранш) Никола
(1638-1715), французский философ
-94
Малявин Филипп Андреевич (1869—
1940), живописец - 47
Марков Алексей Константинович
(1858-?), нумизмат, хранитель Эр-
митажа по отделению восточных
монет - 190-193
Маркс Адольф Федорович (1838—
1904), издатель и книгопродавец-
80, 182
Маркс Карл (1818-1883), немецкий
мыслитель, основоположник ком-
мунистической теории, названной
его именем - 287,307, 312
Мартынов Иван Михайлович (ум.
1894), археолог, в 1860-х гг. эмиг-
рировал во Францию, принял като-
лицизм, вступил в орден иезуитов
-152,159
Матвеев Павел Александрович (1844-
?), правовед и историк - 262
Матвей Михайлович -см. Троицкий
М.М.
Матвей Ржевский (Матвей Алексан-
дрович Константиновский)(1791-
1857), протоиерей из Ржева, духов-
ник Н. В. Гоголя-89
Матфей, в Новом Завете апостол -
293
Меймонид (Маймонид) Моисей
(Моше Бен Маймон) (1135-1204),
еврейский философ, теолог, врач-
13
Меланхтон Филипп (1497-1560), не-
мецкий религиозный реформатор и
педагог, сподвижник М. Лютера -
133
Мельшин-Якубович (наст. фам. Якубо-
вич, псевд. Мельшин) Петр Филип-
пович (1866-1911), народоволец,
поэт - 147-150
Менделеев Дмитрий Иванович
(1834-1907), химик, педагог, об-
щественный деятель - 184-187,
195, 219
Мендельсон Мозес (1729-1786), не-
мецкий философ -13
Меншуткин Николай Александрович
(1842-1907), химик-219
Меньшиков Михаил Осипович (1859-
1918), публицист, сотрудник газе-
ты «Новое время» - 132
Мережковский Дмитрий Сергеевич
(1865-1941), писатель, публицист,
философ, общественный деятель -
221,281-283,290,322
Мечников Илья Ильич (1845-1916),
биолог и патолог, основоположник
отечественной эмбриологии -183,
184
397
Милль Джон Стюарт (1806-1873), ан-
глийский философ, экономист, об-
щественный деятель - 62,94,209
Милюков Павел Николаевич (1859—
1943), историк, лидер и теоретик
партии кадетов - 220,221,227,282
Милютин Николай Алексеевич (1818—
1872), экономист, товарищ мини-
стра внутренних дел (1859-1861),
руководил работой по подготовке
крестьянской и земской реформ,
член Государственного совета (с
1865)-34
Минский (наст. фам. Виленкин) Нико-
лай Максимович (1855-1937), пи-
сатель, публицист, философ- 18,19
Митридат VI Эвпатор (Евпатор)
(132-63 до н. э.), царь Понта, вое-
вал с Римом, потерпев поражение,
покончил с собой - 78
Михаил Всеволодович (1179-1246),
князь Черниговский, убит в Золо-
той Орде за отказ следовать язычес-
кому ритуалу, канонизирован - 279
Михайлов Н. Н., глава издательства
«Прометей» - 322
Михайловский Николай Константино-
вич (1 842-1904), социолог, публи-
цист, литературный критик, идео-
лог легального (либерального) на-
родничества - 22, 148, 219-221,
322, 323
Модестов Василий Иванович (1839-
1907), историк и филолог, автор со-
чинения «Введение в римскую ис-
торию» (ч. 1-2,1902-1909)- 211
Моисей, в Ветхом Завете предводитель
израильтян, основатель иудаизма,
пророк -157,158
Молоховец Е. И., автор популярных
поваренных книг - 98
Молочников Владимир Айфелович
(1871-1936), слесарь из Новгорода,
последователь Л. Н. Толстого - 205
Моммзен Теодор (1817-1903), немец-
кий историк-43
Монтескьё Шарль Луи (1689-1755),
французский просветитель, право-
вед, философ, писатель-44, 140
Моцарт Вольфганг Амадей (1756—
1791), австрийский композитор -
353
Мстислав Мстиславич Удалой (ум.
1228), князь, участник битвы на
реке Калка-279
Муйжель Виктор Васильевич (1880-
1924), писатель -148
Мышцин (Мышцын) Василий Никано-
рович (1866-?), профессор церков-
ного права в Демидовском юриди-
ческом лицее, религиозный писа-
тель - 52
Мякин А. П., товарищ прокурора-290
Мякотин Венедикт Александрович
(1867-1937), историк, публицист,
один из редакторов журнала «Рус-
ское богатство», один из создателей
и лидеров Трудовой народно-соци-
алистической партии (энесов), с
1922 в эмиграции - 148
Н. П. С. - см. Суслова Н. П.
Наполеон I (Наполеон Бонапарт)
(1769-1821), французский импера-
тор (1804-1814, март-июнь 1815)
- 36, 78, 94
Недоносков Владимир Васильевич
(1877-?), помощник присяжного
поверенного, депутат I Государ-
ственной думы (трудовая группа) -
110,112,113,115
Некрасов Николай Алексеевич (1821—
1877/1878), поэт, прозаик, издатель
-47-49, 80, 326, 349
Неплюев Николай Николаевич(1851-
1908), помещик, религиозный пуб-
лицист, общественный деятель,
сторонник переустройства кресть-
398
янской жизни на основе трудовых
братств - 90
Нестеров Михаил Васильевич (1862-
1942), живописец, был ближайшим
помощником В. М. Васнецова в ра-
боте над росписью Владимирского
собора в Киеве - 234,244,246,308
Никанор (Александр Иванович Бров-
кович) (1827-1890/1891), архиепис-
коп Херсонский и Одесский, бого-
слов, религиозный писатель и фи-
лософ - 248
Никитенко Александр Васильевич
(1804-1877), литературный критик,
историк литературы, цензор, автор
«Дневника» - 349
Никитин Петр Васильевич (1849—
1916), филолог, специализировался
по древнегреческой словесности,
вице-президент Академии наук -
194
Никодим, в Новом Завете фарисей,
законоучитель и член синедриона,
стал тайным учеником Христа, бе-
седовал с ним и участвовал в его
погребении - 203
Никодим (Никита Иванович Казан-
цев) (1803-1874), епископ Ени-
сейский и Красноярский (1861 —
1870), богослов, религиозно-об-
щественный публицист, перевод-
чик; его «Записки» начали
выходить в 1911 - 168
Николай I (1796-1855), российский
император (с 1825) - 37,293,335
Николай Александрович (1843-1865),
великий князь, старший сын Алек-
сандра II - 26
Николай Чудотворец (Николай Мир-
ликийский), епископ г. Миры в Ли-
кии (Малая Азия), облик которого
в значительной степени мифологи-
зирован (считается, что он жил в
260-343) - 239
Никон (Никита Минов) (1605-1681),
патриарх Московский и всея Руси
(с 1652), низложен на соборе 1666-
1667- 107
Никон (Николай Иванович Рожде-
ственский) (1851-1919), епископ
Вологодский (с 1906), религиозный
писатель и издатель - 68,200
Нобель, отец погибших детей - 129-
131
Новиков Николай Иванович (1744-
1818), просветитель, писатель, фи-
лософ, издатель -106,268,269
Новоселов Михаил Александрович
(1864-1938), религиозный мысли-
тель, организатор «Кружка ищущих
христианского просвещения», изда-
тель «Религиозно-философской
библиотеки» (1902-1917)- 100
Носарь (псевд. Хрусталев) Георгий
Степанович (1877-1918), занимал-
ся адвокатской практикой, в 1906
был осужден по делу Петербургс-
кого Совета рабочих депутатов, бе-
жал по дороге в ссьшку за границу,
после революции 1917 начальник
гайдамацкой полиции в Переяслав-
ле, расстрелян -148
Носков Николай Дмитриевич (1870-
?), историк литературы, публицист,
автор критико-биографических
очерков о писателях - 24
Ньютон Исаак (1643-1727), английс-
кий математик, физик, астроном,
создатель классической механики -
35,76,105, 108, 137, 184, 185
Оболенский Алексей Дмитриевич
(1855-1933), обер-прокурор Сино-
да (октябрь 1905-апрель 1906)-
122, 199
Овидий (Публий Овидий Назон) (43 до
н. э. - ок. 18 н. э.), римский поэт -
74, 79
399
Овсянико-Куликовский Дмитрий Нико-
лаевич (1853-1920), литературовед
и языковед-82
Огарев Николай Платонович (1813-
1877), поэт, публицист, обществен-
ный деятель - 323
Оккам Уильям (ок. 1285-1349), анг-
лийский философ, логик, предста-
витель схоластики, монах-францис-
канец -153
Олсуфьев Юрий Александрович
(1860-1939), юрист, искусствовед,
историк искусства, специалист по
иконописи, церковному и приклад-
ному искусству - 307, 309-311
Орлов Г. И., член Судебной палаты -
290
Орфей, в греческой мифологии певец
и музыкант, наделенный магичес-
кой силой искусства, покорявшей
не только людей, нои природу - 296
Островский Александр Николаевич
(1823-1886), драматург - 24,34,45,
195,211,219
Остроградский Михаил Васильевич
(1801-1861/1862), математик и ме-
ханик- 195,219
Павел, в Новом Завете апостол -157,
200, 202
Павел 7(1754—1801), российский им-
ператор (с 1796) - 299,301
Павленков Флорентий Федорович
(1839-1900), книгоиздатель - 144
Павлищев Лев Николаевич (1834—
1915), племянник А. С. Пушкина-
121
Пастер Луи (1822-1895), французс-
кий ученый, заложивший основы
современной эмбриологии и имму-
нологии- 183,247
Пахомов Е. А., грузинский нумизмат
- 320
Перикл (ок. 490-429 до н. э.), афинс-
кий стратег (главнокомандующий)
и политический деятель - 250
Перцов Петр Петрович (1868-1947),
критик, публицист, искусствовед,
поэт, издатель, мемуарист - 119,
347, 348
Петр, в Новом Завете апостол - 106,
108, 156, 157, 239
Петр Амьенский (Петр Пустынник)
(ок. 1050-1115), французский рели-
гиозный деятель, монах, один из
организаторов I Крестового похода
(1096-1099)-52
Петр I Великий (1672-1725), царь (с
1682, правил самостоятельно с
1689), первый российский импера-
тор (с 1721) - 105, 108, ПО, 160,
194, 195, 198, 271, 299-302, 310,
317, 349
Петр Могила (Могила Петр Семено-
вич) (1596/1597-1647), деятель ук-
раинской культуры, богослов, фи-
лософ, церковный писатель, митро-
полит Киевский и Галицкий (с
1632), основатель Киево-Могилян-
ской академии (до 1701 называлась
Киевской коллегией) - 279
Петрищев Афанасий Борисович (1872
- после 1942), публицист, сотруд-
ник журнала «Русское богатство»,
один из лидеров Трудовой народно-
социалистической партии (энесов),
с 1922 в эмиграции - 214-217
Петров Григорий Спиридонович
(1866-1925), священник, публи-
цист, был лишен сана (1908), умер
за границей - 284
Петров, генерал, один из инициаторов
судебного преследования книги Ро-
занова «Русская церковь» (вышла в
Петербурге в 1909) - 290
Петтенкофер Макс(1818-1901), не-
мецкий гигиенист, основополож-
400
ник экспериментальной гигиены -
183
Печерин Владимир Сергеевич (1807-
1885), общественный деятель, поэт,
философ, филолог, с 1836 эмигрант,
с 1840 католик -152
Пешехонов Алексей Васильевич
(1867-1933), экономист, публицист,
член редколлегии журнала «Рус-
ское богатство», один из основате-
лей Трудовой народно-социалисти-
ческой партии (энесов) - 18,22,23,
68
Пиндар (ок. 518-442/438 до н. э.),
древнегреческий поэт-лирик - 74,
79
Пирогов Николай Иванович (1810—
1881), хирург, естествоиспытатель,
педагог, общественный деятель -
183
Писарев Дмитрий Иванович (1840—
1868), публицист, литературный
критик, ведущий сотрудник ради-
кального журнала «Русское слово»
- 14,21,28,61, 186, 285,357
Писемский Алексей Феофилактович
(1821-1881), писатель-24
Пифагор (ок. 570 - ок. 496 до н. э.),
древнегреческий философ, матема-
тик, астроном, религиозно-нрав-
ственный реформатор - 296
Платон (428/427-348/347 до н. э.),
древнегреческий философ - 94,
140, 184,316
Платон (Петр Егорович Левшин)
(1737-1812), митрополит Москов-
ский (с 1775), богослов и философ
- 127, 200, 279
Плеве Вячеслав Константинович
(1846-1904), министр внутренних
дел и шеф корпуса жандармов (с
1902), убит эсерами - 37,284
Победоносцев Константин Петрович
(1827-1907), правовед, обер-проку-
рор Синода (1880-1905), член Го-
сударственного совета-93,97,109,
122-125, 133,198-200, 277,294
Погодин Михаил Петрович (1800—
1875), историк, писатель, издатель
- 28, 89, 200
Позен Л. В., член Судебной палаты -
290
Покровский Николай Васильевич
(1848-1917), историк искусства -
232
Поливанов Лев Иванович (1838-1899),
педагог, общественный деятель-
330
Попов Нил Александрович (1833—
1891/1892), историк - 80
Посошков Иван Тихонович (1652—
1726), экономист и публицист, ав-
тор сочинения «Книга о скудности
и богатстве»(1724)- 47
Прахов Адриан Викторович (1846-
1916), историк искусства, археолог,
исследователь древнерусской худо-
жественной культуры, председа-
тель комиссии по сооружению Вла-
димирского собора в Киеве - 229,
231-235,237, 238,245
Протасов Николай Александрович
(1798-1855), генерал-адъютант,
обер-прокурор Синода (с 1836) -
199
Протопопов Н. А., художник-иллюс-
тратор-279
Прудон Пьер Жозеф (1809-1865),
французский экономист, социалист,
теоретик анархизма - 287
Птолемеи (Лагиды), царская династия
в Египте (305-30 до н. э.) - 192
Пушкин Александр Сергеевич
(1799-1837), поэт и прозаик - 21,
24, 33, 38, 75, 76, 78,96, 108, 110,
117, 121, 180, 193, 196, 211, 248,
268, 283-286, 289, 320, 322, 353,
355
401
Пыпин Александр Николаевич (1833—
1904), литературовед - 105,107
Радищев Александр Николаевич
(1749-1802), писатель и философ -
106, 268, 269
Радлов Эрнест Леопольдович (1854-
1928), философ и переводчик - 92,
105
Радонежский Александр Анемподи-
стович, педагог - 329,330
Рафаэль Санти (1483-1520), итальян-
ский живописец и архитектор -173
Рачинский Григорий Алексеевич
(1859-1939), переводчик, философ,
публицист, председатель Религиоз-
но-философского общества в Мос-
кве- 103
Рем, брат-близнец Ромула, по преданию,
вместе с ним основавший Рим - 211
Ренан Жозеф Эрнест (1823-1892),
французский филолог, историк-во-
стоковед, писатель -71,245
Рененкампф (Ренненкампф), адъюнкт-
профессор в Лицее - 286
Репин Илья Ефимович (1844-1930),
живописец - 54,245
РетовскийО. Ф., археолог и нумизмат
-320
Рикардо Давид (1772-1823), английс-
кий экономист -13,15
Розанов Василий Васильевич (1856—
1919) - 10,18,21-23,161,247,290,
322, 354-356
Роман Михайлович, сын князя Черни-
говского Михаила Всеволодовича
(XIII в.)-279
Ромер Федор Эмильевич (1838-1901),
сотрудник газеты «Новое время» -
181,182
Ромул, легендарный основатель Рима
(вместе с братом-близнецом Ремом)
и первый его царь (VIII в. до н. э.)
-184,211
Ротшильды, семья банкиров, восхо-
дит к Майеру Амшелю Ротшильду
(1744-1812), основавшему банк во
Франкфурте-на-Майне (1766), сы-
новья которого открыли банки в
Вене, Неаполе, Париже и Лондоне
-14, 87
Руадзе А. И., председатель департа-
мента Судебной палаты - 290
Рубакин Николай Александрович
(1862-1946), библиограф, книговед,
писатель - 322,323
Румянцев Н. Е., психолог, педагог- 62
Русанов Николай Сергеевич (1859—
1939), политический деятель, пуб-
лицист, в основном сотрудничал с
журналом «Русское богатство» и
примыкал к партии эсеров, мемуа-
рист, умер за границей - 312-314
Рюрик (ум. ок. 879), согласно летопис-
ному преданию, предводитель ва-
ряжских дружин, обосновавшихся
в Новгороде, основатель династии
Рюриковичей - 46,187,316
Рябушинский Павел Павлович (1871-
1924), промышленник, банкир, по-
литический деятель - 42
Саблер (с 1915 Десятовский) Влади-
мир Карлович (1845-1929), това-
рищ обер-прокурора Синода (1892-
1905), обер-прокурор Синода
(1911-1915)-49,122-125,127,199
Сабуров Андрей Александрович
(1837-1916), управляющий Мини-
стерством народного просвещения
(1880-1881)-352
Саваоф, одно из имен Иеговы -11
Савастьянов И. П., член Судебной па-
латы - 290
Савва (Иван Михайлович Тихомиров)
(1819-1896), архиепископ Твер-
ской, археограф - 49,50
402
Савина Мария Гавриловна (1854—
1915), актриса - 121
Садовский (Садовской) Борис Алек-
сандрович (1881-1952), поэт, кри-
тик, историк литературы - 84
Садок, в Ветхом Завете первосвящен-
ник в правление Давида и Соломо-
на- 107
Сазонов Георгий Петрович (ум. после
1924), журналист, издатель газеты
«Россия» - 123
Салазкин Сергей Сергеевич (1862-
1932), биохимик и общественно-
политический деятель, директор
Женского мед ицинского института
в Петербурге (1903-1911) - 214—
218
Салтыков (Салтыков-Щедрин) (наст,
фам. Салтыков, псевд. Щедрин)
Михаил Евграфович (1826-1889),
писатель и публицист-24,45,175,
242, 243, 245, 349
Сальери Антонио (1750-1825), италь-
янский композитор и педагог, жил
в Вене (здесь персонаж «маленькой
трагедии» А. С. Пушкина) - 355
Самарин Дмитрий Федорович (1831—
1901), историк и публицист - 261
Самарин Юрий Федорович (1819—
1876), философ, историк, публи-
цист, один из идеологов славяно-
фильства - 105,106,260,261
Сарданапал, легендарный ассирийс-
кий царь, сменивший, согласно
древнегреческим источникам, Аш-
шурбанипала (достоверно извест-
ного последнего царя Ассирии, ум.
ок. 633 до н. э.) и покончивший
жизнь самоубийством - 338
Саул, в Ветхом Завете первый всеиз-
раильский царь (примерно до 1004
до н. э.)-76, 77
Сведомский Павел Александрович
(1849-1904), живописец; в работе
над росписью Владимирского собо-
ра в Киеве участвовал и его брат
Александр Александрович Сведом-
ский (1848-1911)-244
Святослав Ярославин (Святослав II)
(1027-1076), князь Черниговский
(с 1054), великий князь Киевский
(с 1073), сын Ярослава Мудрого -
279, 280
Северак Ж. Б., французский философ
и социолог, переводчик -136,140—
142
Секки Анджело (1818-1878), итальян-
ский астроном -159
Селевкиды, царская д инастия, правив-
шая на Ближнем и Среднем Восто-
ке (в основном в Сирии) (312-64 до
н. э.) — 192
Серафим Саровский (Прохор Сидоро-
вич (Исидорович) Мошнин) (1754,
по др. данным 1759-1833), право-
славный подвижник -91,238,239,
241,245,246
Сергий (Иван Николаевич Сграгород-
ский) (1867-1944), епископ Фин-
ляндский, с 1943 патриарх Москов-
ский и всея Руси - 132, 133
Серов Валентин Александрович (1865-
1911), живописец и график - 83
Сидоний А поллинарий Гай Соллий Мо-
дест (ум. ок. 483), епископ Арвер-
ны (ныне Клермон-Ферран) (с 471/
472), галло-римский писатель - 26
Синеус, брат Рюрика, правивший, со-
гласно преданию, в Белоозере -46,
187
Сипягин Дмитрий Сергеевич (1853—
1902), министр внутренних дел (с
1900), убит эсером С. В. Балмаше-
вым - 37,283, 284
Скабичевский Александр Михайлович
(1838-1910), литературный критик,
историк литературы, публицист -
105, 106
403
Скворцов Василий Михайлович
(1859-1932), чиновник Синода,
публицист, редактор-издатель ряда
церковных изданий - 68
Скобелев Михаил Дмитриевич (1843-
1882), генерал от инфантерии, в
русско-турецкую войну 1877-1878
командовал отрядом под Плевной
и дивизией в сражении при Шип-
ке-Шейново-94,146
Слонимский Людвиг Зиновьевич
(1850-1918), публицист, сотрудник
журнала «Вестник Европы» - 283
Смит Адам (1723-1790), английский
(шотландский) экономист и фило-
соф- 15
Сократ (ок. 470-399 до н. э.), древне-
греческий философ - 188,203,238,
296
Соловьев Владимир Сергеевич (1853—
1900), философ, поэт, публицист,
сын историка С. М. Соловьева-13,
79-81, 83, 84, 87, 90, 92, 94, ЮЗ-
НО, 136, 138-145, 150-156, 159,
206, 221,252, 282, 283
Соловьев Всеволод Сергеевич (1849-
1903), писатель, старший сын ис-
торика С. М. Соловьева - 79-81
Соловьев Михаил Васильевич (ум.
1861), протоиерей, законоучитель в
Московском коммерческом училище,
отец историка С. М. Соловьева-109
Соловьев Михаил Сергеевич (1862-
1903), филолог, историк, перевод-
чик, педагог, младший сын истори-
ка С. М. Соловьева-79,84,85
Соловьев Н. М., публицист-325
Соловьев Сергей Михайлович (1820—
1879), историк - 35, 53, 79-81, 85,
102, 103,219
Соловьев Сергей Михайлович (1885—
1942), поэт, религиозный публи-
цист, переводчик, племянник Вл. С.
Соловьева и его биограф-84, 85
Соловьева Наталья (вероятно, име-
ется в виду Надежда) Сергеевна
(1851-?), вторая дочь историка
С. М. Соловьева - 79
Соловьева Поликсена Сергеевна
(1867-1924), младшая дочь истори-
ка С. М. Соловьева, поэтесса, дет-
ская писательница (псевд. Allegro)
-79,81,83, 281-283
Соломон, царь Израильско-Иудейско-
го государства (ок. 965 - ок. 926 до
н. э.)-7, 8, 106
Спенсер Герберт (1820-1903), англий-
ский философ и социолог - 57,108,
195, 245
Сперанский Михаил Михайлович
(1772, по др. данным 1771-1839),
ближайший советник Александра I
(1807-1811), генерал-губернатор
Сибири (1819-1821), руководил
работой по законодательству (с
1826)-286
Спиноза Бенедикт (Барух) (1632—
1677), нидерландский философ -
13, 15,94
Стамбулов (Стамболов) Стефан
(1854-1895), болгарский полити-
ческий деятель, регент (1886—
1887), премьер-министр (1887—
1894), установил диктаторский ре-
жим - 262,263
Стасюлевич Михаил Матвеевич
(1826-1911), историк, издатель, об-
щественный деятель - 25-28, 105,
107, 159
Стефан Яворский (Симеон Иванович
Яворский) (1658-1722), церковный
деятель, писатель, местоблюсти-
тель патриаршего престола (1700-
1721)-8, 279
Столыпин Александр Аркадьевич
(1863-1925), публицист, сотрудник
газеты «Новое время», брат П. А.
Столыпина - 289
404
Столыпин Петр Аркадьевич (1862—
1911), председатель Совета мини-
стров (с 1906), провозгласил курс
на социально-политические рефор-
мы, проводил разработанную им аг-
рарную реформу - 56, 218, 219,
223-230, 267, 268, 270, 271, 273-
277, 296
Стороженко Николай Ильич (1836-
1906), историк литературы, профес-
сор Московского университета - 27
Стоюнина (урожд. Тихменева) Мария
Николаевна (1846-1940), директор
основанной ею гимназии в Петер-
бурге - 266,267
Страхов Николай Николаевич (1828-
1896), философ, публицист, литера-
турный критик - 65, 66, 105, 106,
139, 151,252, 283, 290,296
Стремоухое М., товарищ прокурора -
290
Стрепетова Полина (Пелагея) Анти-
пьевна (1850-1903), актриса - 212,
213
Строганов Сергей Григорьевич
(1794-1882), попечитель Московс-
кого учебного округа (1835-1847),
московский генерал-губернатор
(1859-1860)- 195, 196
Струве Петр Бернгардович (1870—
1944), экономист, философ, исто-
рик, публицист, один из лидеров
партии кадетов - 18-23, 83, 353—
357
Суслова Надежда Прокофьевна (1843-
1918), первая в России женщина-
врач, сестра первой жены Розанова
-А. П. Розановой-Сусловой-31
Сципион Африканский Старший Пуб-
лий Корнелий (ок. 235 - ок. 183 до
н. э.), римский полководец - 250
Сципионы, в Древнем Риме ветвь рода
Корнелиев, к которой принадлежа-
ли известные полководцы - 44
Табрум А. Г., английский историк на-
уки и публицист - 325
Тард Г абриель (1843-1904), француз-
ский социолог и криминалист- 140
Тареев Михаил Михайлович (1867-
1934), православный богослов и
философ - 52
Тверитинов Дмитрий Евдокимович
(1667 - не ранее 1742), сторонник
идей, близких к протестантизму,
был обвинен в ереси, благодаря за-
ступничеству Петра I и отречению
освобожден на поруки - 8
Тенишева (урожд. Пятковская) Мария
Клавдиевна (1861-1929), меценат,
художник-эмальер, коллекционер,
организовала училище и художе-
ственную студию в Петербурге, ху-
дожественные мастерские под Смо-
ленском, с 1916 за границей - 266
Тереза Авильская (Тереза де Хесус,
или Иисусова) (наст, имя и фам.
Тереса Санчес де Сепеда-и-Аума-
да) (1515-1582), испанская монахи-
ня-кармелитка, мистик -139
Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс
(ок. 160-после 220), христианский
теолог и писатель - 26
Тимашев Александр Егорович (1818—
1893), министр внутренних дел
(1868-1878)-37, 349
Тихонравов Николай Саввич (1832—
1893), литературовед и археограф
- 102, 195
Тлустовский М. С., товарищ прокуро-
ра - 290
Толстая Александра Львовна (1884-
1979), младшаядочь Л. Н.Толсто-
го-332,333
Толстая Мария Николаевна (1830—
1912), сестра Л. Н. Толстого-332
Толстая (урожд. Берс) Софья Андре-
евна (1844-1919), жена Л. Н. Тол-
стого-247, 331,332,334,347,348
405
Толстая (в замужестве Сухотина) Та-
тьяна Львовна (1864-1950), стар-
шаядочь Л. Н. Толстого-332
Толстой Дмитрий Андреевич (1823-
1889), министр народного просве-
щения (1866-1880), министр внут-
ренних дел (с 1882)-37, 123, 193,
219,259, 260, 352
Толстой Иван Иванович (1858-1916),
археолог и нумизмат, вице-прези-
дент Академии художеств (1893—
1905), министр народного просве-
щения (1905-1906) - 245, 320
Толстой Лев Николаевич (1828—
1910), писатель и мыслитель- 13,
16,19,24,34-36,49, 54,68,91,94,
115, 119, 124, 141, 142, 205-207,
221, 247-250, 252, 254, 255, 268,
277, 290, 306, 331-334, 347-349,
352
Толстой Николай Алексеевич, католи-
ческий священник восточного об-
ряда, знакомый В. С. Соловьева -
150, 152-154
Троицкий Матвей Михайлович (1835—
1899), психолог и философ, про-
фессор Московского университета
(с 1875)-27, 209
Трубецкой Евгений Николаевич (1863—
1920), философ, правовед, публи-
цист, общественный деятель - 42
Трубецкой Сергей Николаевич (1862-
1905), философ, публицист, обще-
ственный деятель, первый выбор-
ный ректор Московского универси-
тета- 104,108,109
Трувор, брат Рюрика, правивший, со-
гласно преданию, в Изборске - 46,
187
Тургенев Иван Сергеевич (1818-1883),
писатель -13,24,34,121,142,158,
186, 268
Тьерри Огюстен (1795-1856), фран-
цузский историк - 28,306
Тэн Ипполит (1828-1893), французс-
кий философ и социолог искусст-
ва, историк-352
Тютчев Федор Иванович(1803-1873),
поэт, публицист, дипломат - 83
Уваров Сергей Семенович (1786—
1855), министр народного просве-
щения (1833-1849) - 219
Успенский Глеб Иванович (1843-
1902), писатель - 24
Успенский Федор Иванович (1845—
1928), историк, археолог-232
Устимович П. М., товарищ прокуро-
ра - 290
Устьинский Александр Петрович
(1854/1855-1922), протоиерей из
Новгорода, друг Розанова и его
многолетний корреспондент - 89,
90
Ушинский Константин Дмитриевич
(1824-1870/1871), педагог, теоре-
тик педагогики, автор учебников
для начальной школы - 329
Фалес (ок. 625 - ок. 547 до н. э.), древ-
негреческий мыслитель - 91, 94,
187
Фарбман Михаил Семенович (1880-
1939), журналист, заведующий ре-
дакцией издательства «Пантеон»,
где сотрудничал Розанов - 291
Фармаковский Борис Владимирович
(1870-1928), археолог, автор трудов
по античной археологии и искусст-
ву-211
Федоров Михаил Михайлович (1858-
1949), редактор «Торгово-промыш-
ленной газеты» (1901-1902), това-
рищ министра торговли и ггромыш-
ленности (1905), управляющий
Министерством торговли и про-
мышленности (1906)- 121
406
Феноменов Николай Николаевич
(1855-?), специалист по гинеколо-
гии и акушерству - 346
Феодор (Федор) (ум. 1246), боярин,
убит вместе с князем Черниговским
Михаилом Всеволодовичем в Золо-
той Орде, канонизирован - 279
Феодора (ум. 548), византийская им-
ператрица-240
Феодосий Печерский (ок. 1036-1074),
один из основателей и игумен (с
1062) Киево-Печерского монасты-
ря-186, 279
Феодосий Углицкий (ум. 1696), архи-
епископ Черниговский - 279,280
Фигнер Вера Николаевна (1852-1942),
участница революционного движе-
ния, мемуаристка -148-150
Филарет (Василий Михайлович Дроз-
дов) (1782-1867), архиепископ (с
1821), митрополит Московский,
православный богослов, философ,
проповедник - 34, 35, 49, 89, 161,
200, 248
Филипп (Федор Степанович Колычев)
(1507-1569), митрополит Москов-
ский и всея Руси (с 1566), в 1568
низложен и убит по приказу Ивана
IV Грозного - 240
Филипп П (1527-1598), испанский ко-
роль^ 1556), из династии Габсбур-
гов- 194
Филипп Македонский (Филипп II) (ок.
382-336 до н. э.), царь Македонии
(с 359 до н. э.), отец Александра
Македонского -194
Философов Дмитрий Владимирович
(1872-1940), литературный критик,
публицист -150,219-221,281-283,
289-291
Философова (урожд. Дягилева) Анна
Павловна (1837-1912), деятельни-
ца российского женского движения
- 88, 89
407
Флавиан, митрополит Киевский и Га-
лицкий-228
Флоренский Павел Александрович
(1882-1937), православный свя-
щенник, философ, ученый, инже-
нер - 347,348
Фонвизин Денис Иванович (1744/
1745-1792), писатель - 23,268,269
Фофанов Константин Михайлович
(1862-1911),поэт-145
Франциск Ассизский (наст, имя и фам.
Джованни Бернардоне)(1181/1182—
1226), итальянский проповедник и
поэт, основатель ордена францис-
канцев -154
Фридрих //(1712-1786), прусский ко-
роль, из династии Гогенцоллернов,
полководец - 220
Хомяков Алексей Степанович (1804-
1860), философ, богослов, писа-
тель, публицист, общественный де-
ятель, один из основателей славя-
нофильства- 105,127,142,210,349
Цезарь Гай Юлий (102/100 - 44 до
н. э.), римский политический дея-
тель, диктатор, полководец -43,268
Целлер Эдуард (1814-1908), немецкий
историк античной философии -
187, 188
Цицерон Марк Туллий (106-43 до
н. э.), римский политический дея-
тель, оратор и писатель - 44,300
Цыбульский С., преподаватель гимна-
зии в Царском Селе -190,191
Чебышев Пафнутий Львович (1821-
1894), математик -195
Червинский А. С., товарищ прокуро-
ра - 290
Череванский Владимир Павлович
(1836-1914), чиновник Государ-
ственного koi про ля, писатель -283
Чернышевский Николай Гаврилович
(1828-1889), писатель, публицист,
критик, философ, общественный
деятель - 104, 107, 173, 186, 243,
244, 285, 357
Чертков Владимир Григорьевич
(1854-1936), общественный дея-
тель, издатель, друг Л. Н. Толстого
-115,117,119-121,347, 348
Чехов Антон Павлович (1860-1904),
писатель-24,121
Чуковский Корней Иванович (наст,
имя и фам. Николай Васильевич
Корнейчуков) (1882-1969), писа-
тель, литературный критик - 19,
53-55
Чулков Георгий Иванович (1879—
1939), прозаик, поэт, критик - 82
Шарапов Сергей Федорович (1855—
1911), экономист, публицист, изда-
тель- 145-147
Шарко Е. О., товарищ прокурора - 290
Шварц Александр Николаевич (1848-
1915), филолог, министр народно-
го просвещения (1908-1910) - 193
Швеглер Альберт (1819-1858), немец-
кий историк - 187,188
Шведер И. Н., товарищ прокурора -
290
Швидченко Евфимий Созонтович, со-
ставитель хрестоматии о святочных
праздниках - 326,327
Шекспир Уильям (1564-1616), англий-
ский драматург и поэт - 71,74,141,
186,207, 255, 289
Шелгунов Николай Васильевич (1824-
1891), публицист, критик, обще-
ственный деятель, мемуарист-186
Шенье Андре Мари (1762-1794),
французский поэт и публицист, каз-
нен якобинцами -173
Шестаков Дмитрий Петрович (1869-
1937), филолог, переводчик, поэт,
профессор Казанского университе-
та, автор книги «Исследования в об-
ласти греческих народных сказаний
о святых» (Варшава, 1910) - 210
ШешковскийСтепан Иванович (1720-
1794), обер-секретарь Тайной экс-
педиции, так называемый «кнуто-
боец» - 268
Шиллер Иоганн Фридрих (1759—
1805), немецкий поэт, драматург,
теоретик искусства - 74,141
Шилов А., автор работы «К вопросу о
способах борьбы с пьянством» - 46,
48
Шлоссер Фридрих Кристоф (1776—
1861), немецкий историк - 189
Шопенгауэр Артур (1788-1860), не-
мецкий философ -15
Штраус Давид Фридрих (1808-1874),
немецкий теолог и философ -71,
72
Штроссмайер (Штросмайер) Йосип
Юрий (1815-1905), епископ Дьяко-
варо-Боснийский (с 1850), один из
руководителей хорватской Нацио-
нально-либеральной партии(1860-
1873), был знаком с В. С. Соловье-
вым- 154, 155
Шувалов Иван Иванович (1727-1797),
генерал-адъютант, меценат, фаво-
рит Елизаветы Петровны, первый
куратор Московского университета
и инициатор (наряду с М. В. Ломо-
носовым) его создания - 301
Шувалов Петр Андреевич (1827—
1889), шеф корпуса жандармов и
начальник Третьего отделения, бли-
жайший советник Александра II -
37
Шульговский Николай Николаевич
(1880-после 1934), писатель-95
Щеглов-см. Леонтьев-Щеглов И. Л.
Щедрин-см. Салтыков М. Е.
408
Щербатов Михаил Михайлович
(1733-1790), политический дея-
тель, историк, публицист - 53
Щербова Надежда Романовна (1872-
1911), религиозная писательница,
журналист, жена богослова, препо-
давателя нравственного богословия
в Санкт-Петербургской духовной
семинарии Ивана Павловича Щер-
бова(1873-1925)- 100
Эллис (наст, имя и фам. Лев Львович
Кобылинский) (1879-1947), поэт,
переводчик, критик - 84
Энгельс Фридрих (1820-1895), немец-
кий мыслитель и политический де-
ятель, соратник К. Маркса - 307
Эфрон (Ефрон) Илья Абрамович
(1845/1847 - 1917, по др. данным
1919), издатель русского Энцикло-
педического словаря -195,283
Юркевич Памфил Данилович (1826-
1874), философ и богослов, про-
фессор Киевской духовной акаде-
мии, затем Московского универси-
тета (с 1861)- 173
Якунчиков Б. М., нумизмат - 320
Янышев Иоанн Леонтьевич (1828-
1910), протопресвитер придворно-
го духовенства, ректор Санкт-Пе-
тербургской духовной академии
(1866-1883), духовник Александ-
ра III и Николая II, член Государ-
ственного совета - 197-200
Ярослав Мудрый (ок. 978-1054), вели-
кий князь Киевский (с 1019), сын
Владимира I - 231-233,235-237
Ясинский Иероним Иеронимович
(1850-1931), журналист, писатель,
мемуарист - 17,121
Составитель В. М. Персонов
СОДЕРЖАНИЕ
Культурная Океания. Очерк............................. 7
Старый и новый годы.................................. 15
К 40-летию литературной деятельности И. И. Ясинского. 17
Литературный террор.................................. 18
Письмо в редакцию................................... 21
Литературные типы................................... 23
Лучшая книга по средневековой истории (К воспоминаниям о
М. М. Стасюлевиче).............................. 25
Юбилей высшего женского образования. 13 февраля 1861 г. —
13 февраля 1911 г............................... 29
Великий день нашей истории. 19 февраля 1861г. —19 февраля
1911г........................................... 33
Последняя капля...................................... 36
В Бологом............................................ 38
Темный правовой вопрос............................... 40
О «русском гражданине»............................... 42
Народные беды и утешения............................. 46
В духовно-училищном мире............................. 49
Богатый и убогий..................................... 53
Ад и рай юности (К университетскому положению)....... 55
Один общественно-педагогический вопрос (К сегодняшней
лекции в Соляном Городке)....................... 62
Первый дебют......................................... 65
Вниманию кого следует................................ 67
Народный светлый праздник............................ 69
Религия унижения и торжества......................... 74
Литературный род Соловьевых.......................... 79
Анна Павловна Философова (К 50-летию ее общественной
деятельности)................................... 88
410
Об одном забытом человеке (Пропущенный юбилей)..... 89
Окончание «Писем Соловьева»........................ 92
Таинственная посетительница........................ 94
Скоро ли улучшено будет положение учителей?........ 98
Невидимые хранители церкви (Памяти Н. Р. Щербовой). 100
Памятка о Ключевском................................ 102
Католицизм и Россия................................. 103
Из жизненных встреч (Памяти Железновой)............ 110
«Друг великого человека»............................ 115
Памяти Ив. Леонт. Леонтьева-Щеглова................. 119
200 лет «делопроизводства»... (В. К. Саблер прежде, теперь и
в будущем)..................................... 122
Об интендантах...................................... 127
«Впереди себя гибели не видишь»... (О гибели детей Нобеля) 129
«Стиль» в вещах (К вопросу о реформе духовных училищ)... 132
Из впечатлений дня................................ 135
Французский труд о Влад. Соловьеве. Очерк......... 136
Еще два слова о С. Ф. Шарапове.................... 145
Недоумения и недоумения........................... 147
Религиозный «эклектизм» и «синкретизм» (Из воспоминаний
о Влад. С. Соловьеве).......................... 150
Обиды русскому чувству............................ 160
Наш толстый исправник (Рассказ)................... 162
К исключению «1270»............................... 168
Нравственный ценз врача........................... 170
Будьте храбрее, господа........................... 173
Десятилетие кончины Ф. Э. Ромера (8 августа 1901 г. — 8 ав-
густа 1911 г.)................................. 181
Есть ли «наука» в России? (К академическому «заявлению»...) 182
Еще о «научном состоянии» России.................. 190
Церковный и вместе космологический вопрос......... 197
Природа и церковь................................. 204
Вековая бездейственность русской профессуры....... 207
Петрищев как 12-дюймовая пушка.................... 214
Террор против русского национализма............... 218
«Магнитские» и Философов.......................... 219
К кончине премьер-министра........................ 222
411
Преступная атмосфера........................................ 225
К кончине П. А. Столыпина................................... 228
Киев и киевляне............................................. 229
Л. Н. Толстой и Русская Церковь............................. 247
О родительских комитетах.................................... 255
Что же делать с родительскими комитетами?................... 258
Сочинения Юрия Феодоровича Самарина. Том четвертый ... 260
Гимназии казенные и частные (Маленькая философия о госу-
дарстве и обществе)............................ 261
Перед гробом Столыпина...................................... 267
<О «Вестнике Европы»>....................................... 272
Историческая роль Столыпина................................. 273
Письмо в редакцию........................................... 277
Где «культура» русская...................................... 278
«Отойди, сатана»............................................ 281
Оправданные надежды наших Геростратов....................... 283
К 100-летию Пушкинского лицея (19 октября 1811г. — 19 ок-
тября 1911 г.)........................................... 284
Космополитизм и национализм................................. 287
Как торжествует «русский национализм»....................... 289
К открытию Этического общества.............................. 291
С. Григоровский. О разводе.................................. 292
В безысходной печали........................................ 294
Ломоносовские издания, современные его жизни................ 299
Московские порченые и непорченые мальчики................... 303
Церковь и Дума (По поводу речей гг. гр. Олсуфьева и Кони)... 307
Пятьдесят лет служения русской литературе................... 311
Так ли хочет умирать человек!.. (К самоубийству Лафаргов) 312
Вероисповедный вопрос в Г ос. Думе.......................... 315
Неизмеримая ценность........................................ 317
Новинки науки............................................... 320
Удивительная книга и тема................................... 321
Бляха №101.................................................. 321
Письмо в редакцию........................................... 323
А. Г. Табрум. Религиозные верования современных ученых... 325
Зимний праздник............................................. 326
Рождественский подарок сельской школе....................... 329
412
Роковое в «наследии» Толстого................... 331
О самоубийствах................................. 334
Тульская история (К истории и загадке Черткова). 347
Проф. В. И. Герье и его труд о французской революции. 348
Убогонькие в истории............................ 353
КОММЕНТАРИИ..................................... 358
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН.................................. 383
Научное издание
Василий
Васильевич
Розанов
Собрание сочинений
ТЕРРОР
ПРОТИВ
РУССКОГО
НАЦИОНАЛИЗМА
Статьи и очерки 1911г.
На контртитуле фотография В. В. Розанова
с дочерью Варей (1911)
Ведущий редактор П. П. Апрышко
Художественный редактор £, А. Андрусенко
Технический редактор Т. А. Новикова
Корректоры Е. Н. Горбунова, Т. И. Андрианова,
Т. Ю. Коновалова
ЛРХ°010273 от 10.12.97.
Подписано в печать 08.12.10.
Формат 60x84'/i6.
Бумага офсетная № 1.
Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная.
Усл. печ. л. 22,32. Уч.-изд. л. 27,94.
Тираж 1000 экз. Заказ № 3132
Электронный оригинал-макет
подготовлен в издательстве.
ОАО «Издательство «Республика».
Ул. Пилота Нестерова, 5, Москва. 125167.
Отпечатано в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6
ISBN 978-5-250-01893-9
9
785250
018939
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИИ
В. В. РОЗАНОВА
в 30 томах
Т. 1 — Среди художников (1994)
Т. 2 — Мимолетное (1994)
Т. 3 — В темных религиозных лучах (1994)
Т. 4 — О писательстве и писателях (1995)
Т. 5 — Около церковных стен (1995)
Т. 6 — В мире неясного и нерешенного (1995)
Т. 7 — Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского (1996)
Т. 8 — Когда начальство ушло... (1997, 2005)
Т. 9 — Сахарна (1998, 2001)
Т. 10 — Во дворе язычников (1999)
Т. 11 —Последние листья (2000)
Т. 12 — Апокалипсис нашего времени (2000)
Т. 13 — Литературные изгнанники. Н. Н. Страхов. К. Н. Леонтьев (2001)
Т. 14 — Возрождающийся Египет (2002)
Т. 15 — Русская государственность и общество
(Статьи 1906-1907 гг.) (2003)
Т. 16 — Около народной души (Статьи 1906-1908 гг.) (2003)
Т. 17 — В нашей смуте (Статьи 1908 г.) (2004)
Т. 18 — Семейный вопрос в России (2004)
Т. 19 — Старая и молодая Россия (Статьи и очерки 1909 г.) (2004)
Т. 20 — Загадки русской провокации (Статьи и очерки 1910 г.) (2005)
Т. 21—Террор против русского национализма (Статьи и очерки 1911 г.)
(2005)
Т. 22 — Признаки времени (Статьи и очерки 1912 г.) (2006)
Т. 23 — На фундаменте прошлого (Статьи и очерки 1913-1915 гг.) (2007)
Т. 24 — В чаду войны (Статьи и очерки 1916-1918 гг.) (2008)
Т. 25 — Природа и история. - Статьи и очерки 1904-1905 гг. (2008)
Т. 26 — Религия и культура. - Статьи и очерки 1902-1903 гг. (2008)
Т. 27 — Юдаизм. - Статьи и очерки 1898-1901 гг. (2009)
Т. 28 — Эстетическое понимание истории (Статьи и очерки 1889-1897 гт.) -
Сумерки просвещения (2009)
Т. 29 — Литературные изгнанники. Книга вторая (2009)
Т. 30 — Листва (Уединенное. - Опавшие листья). (2010)