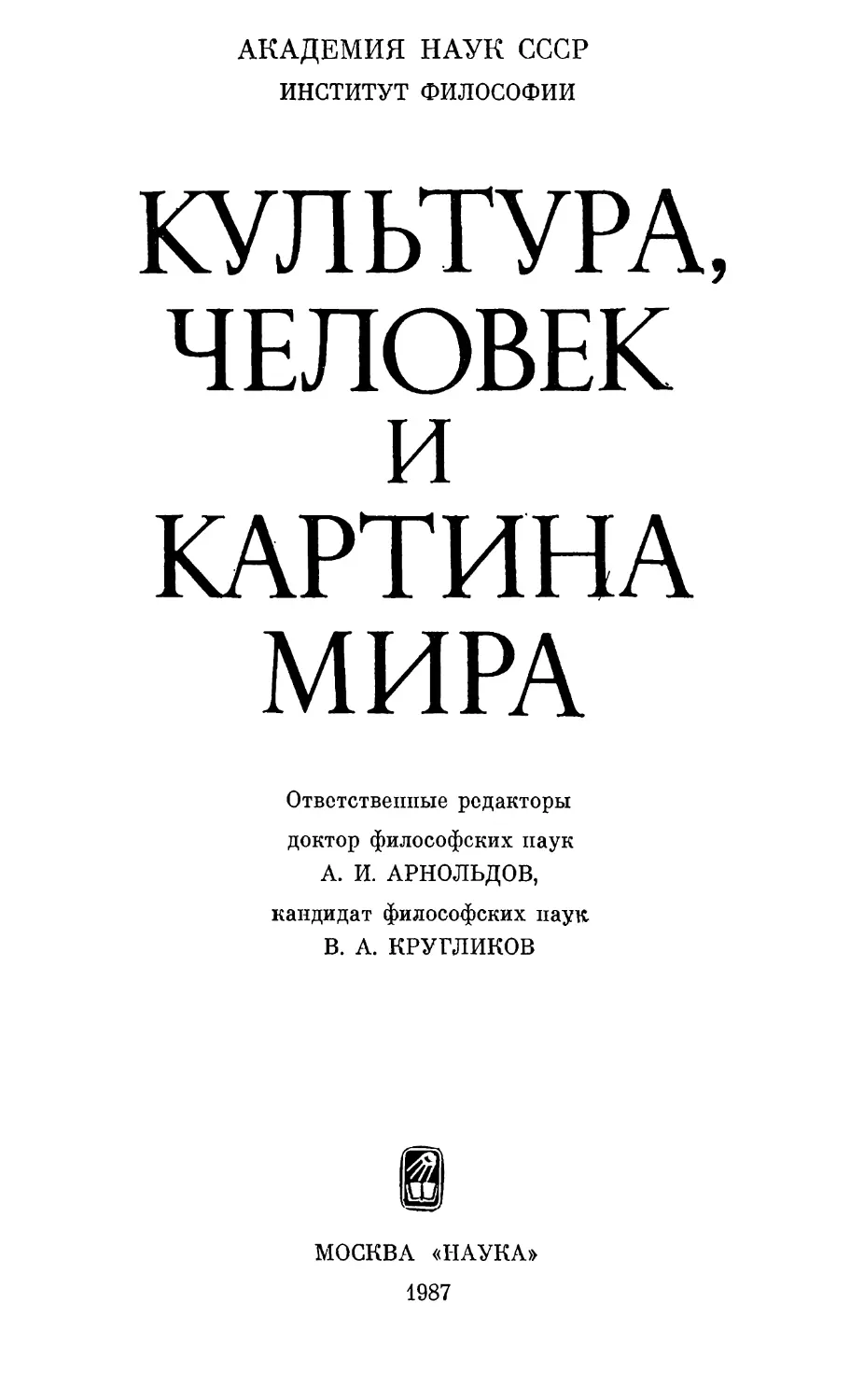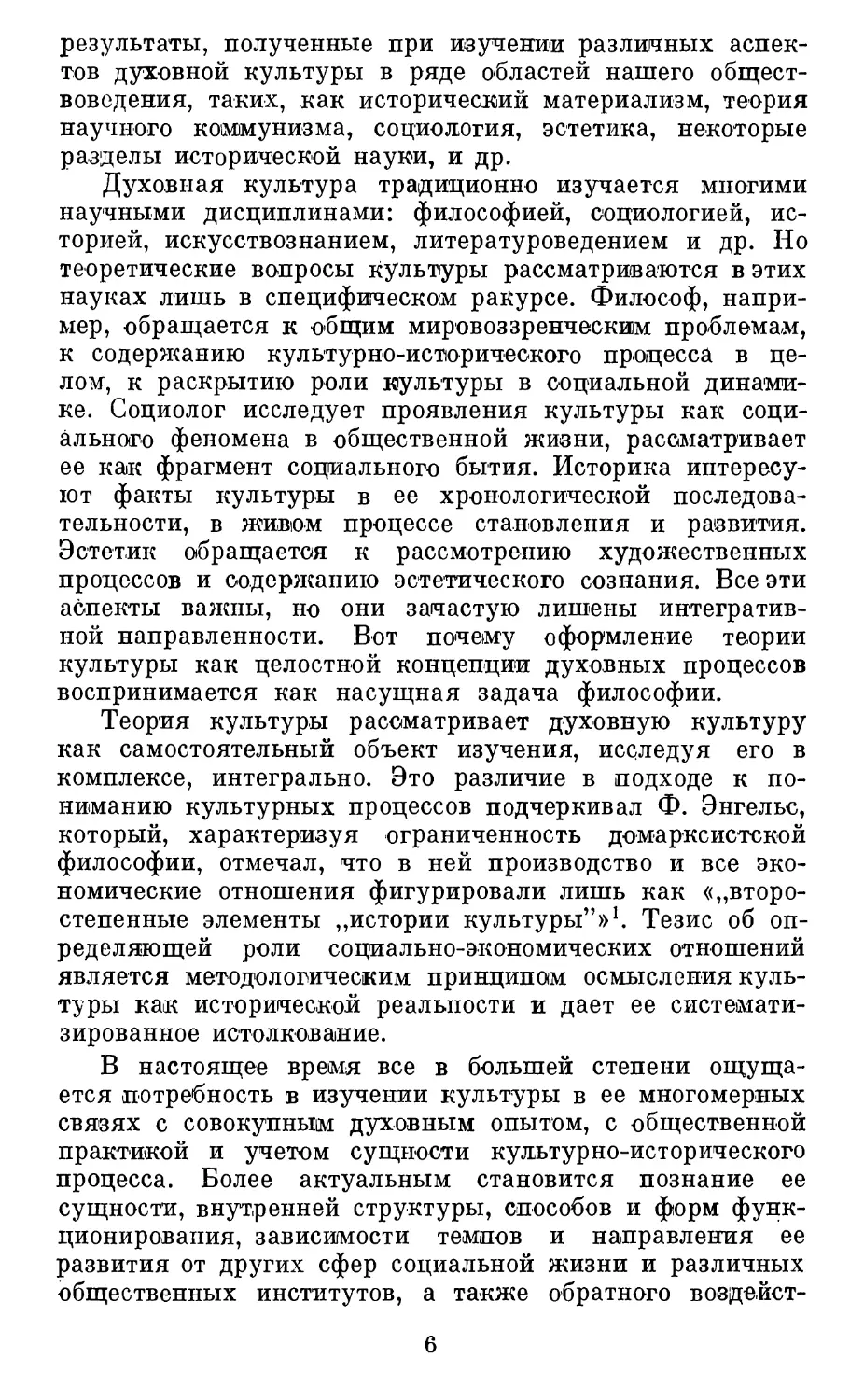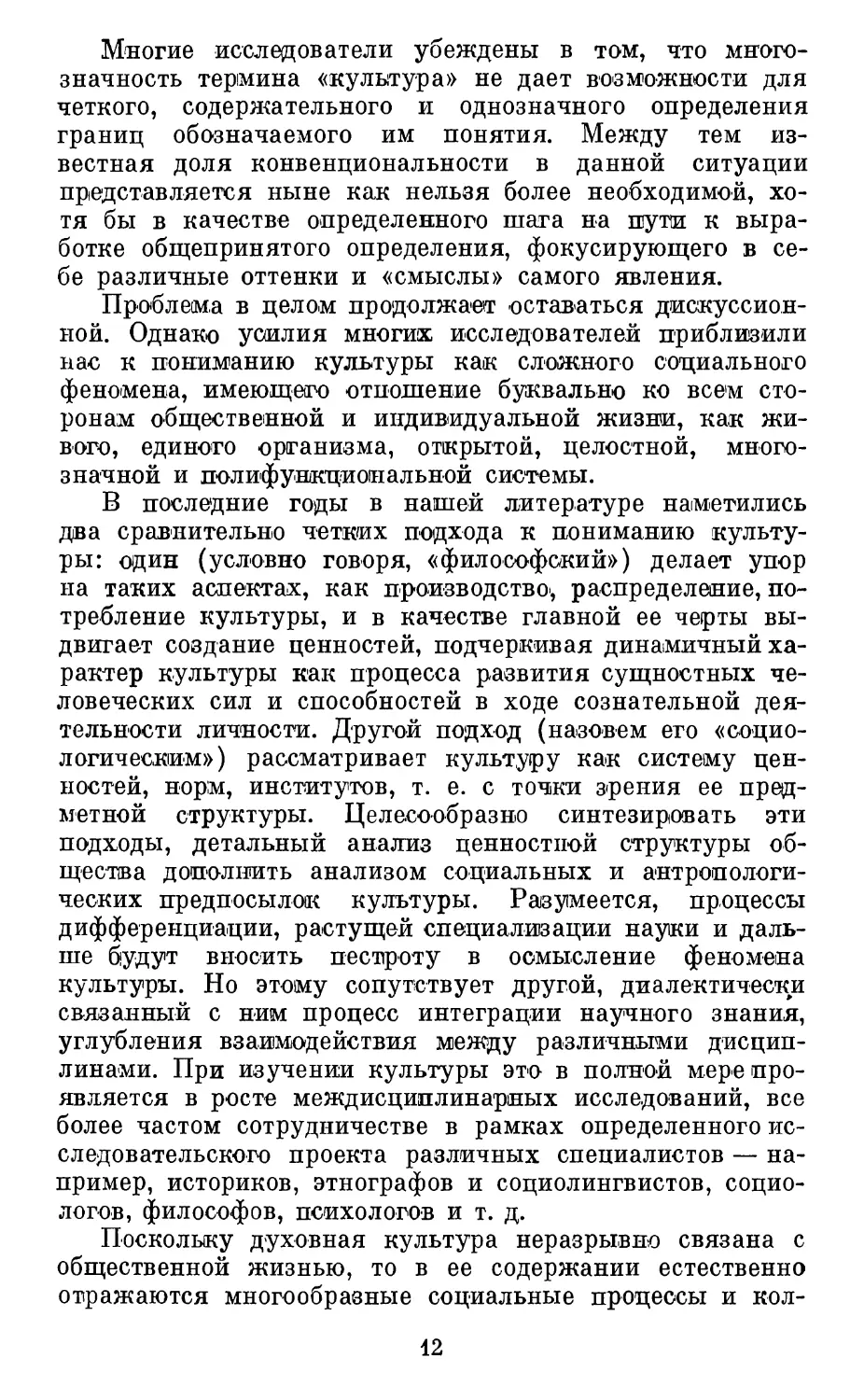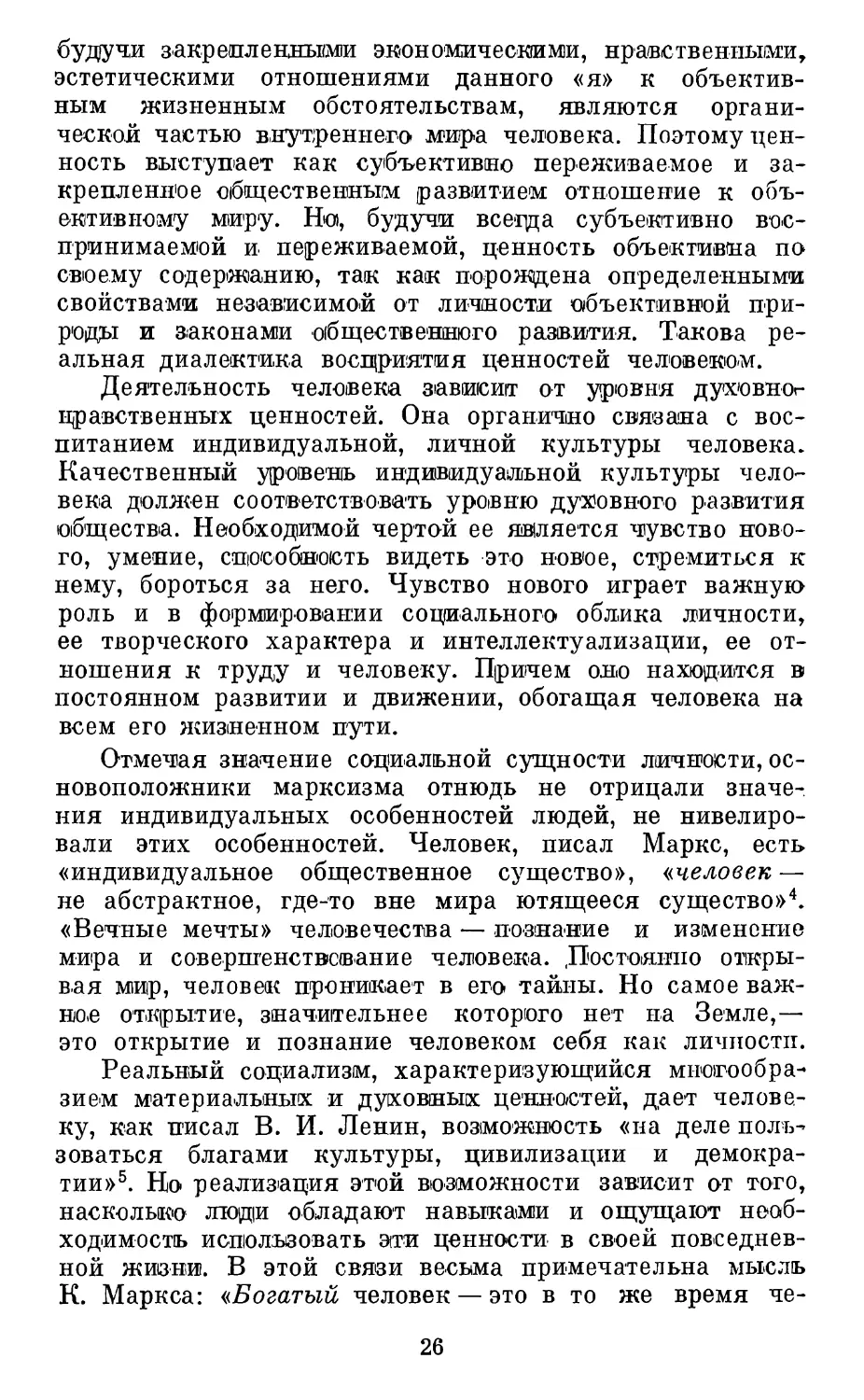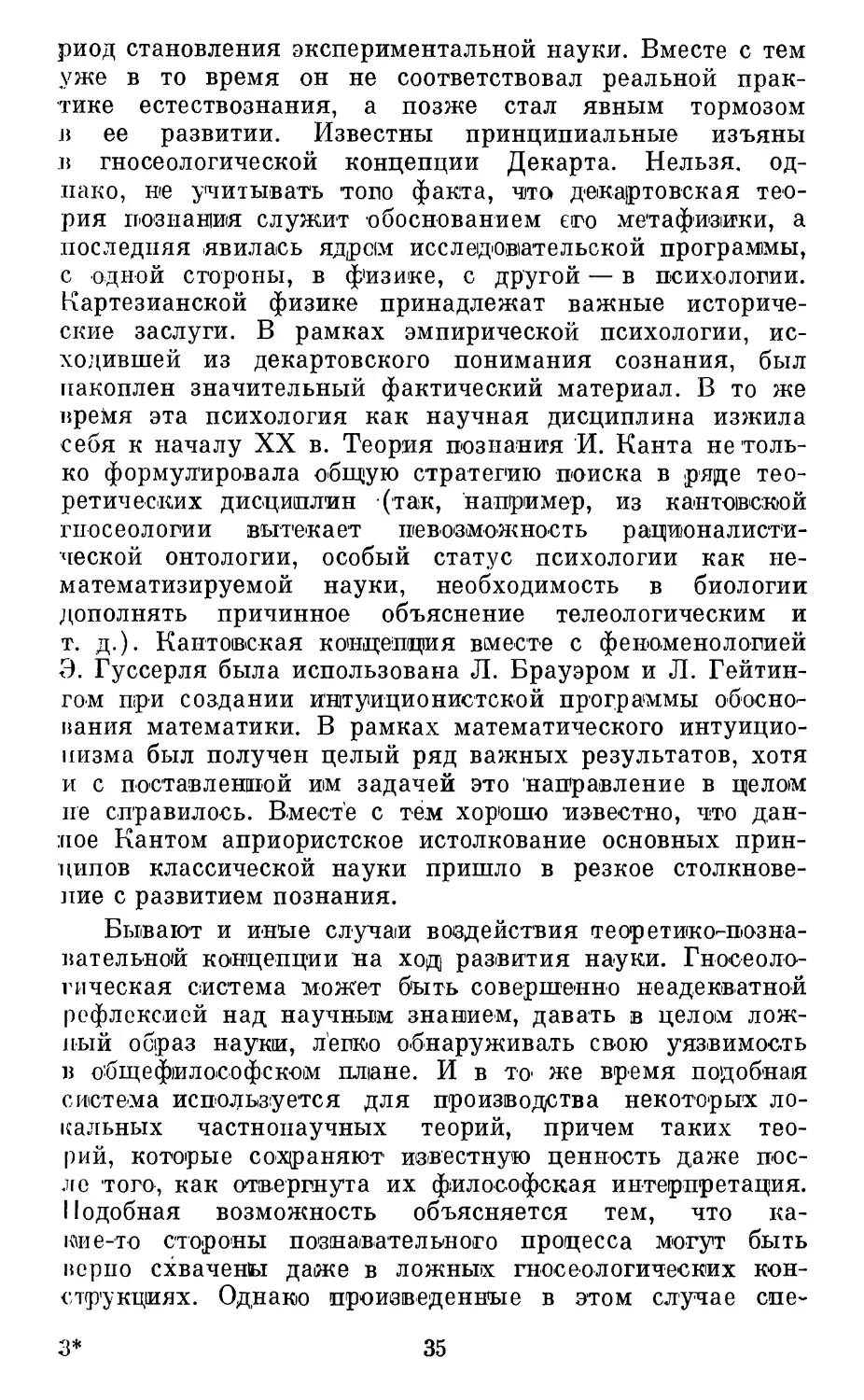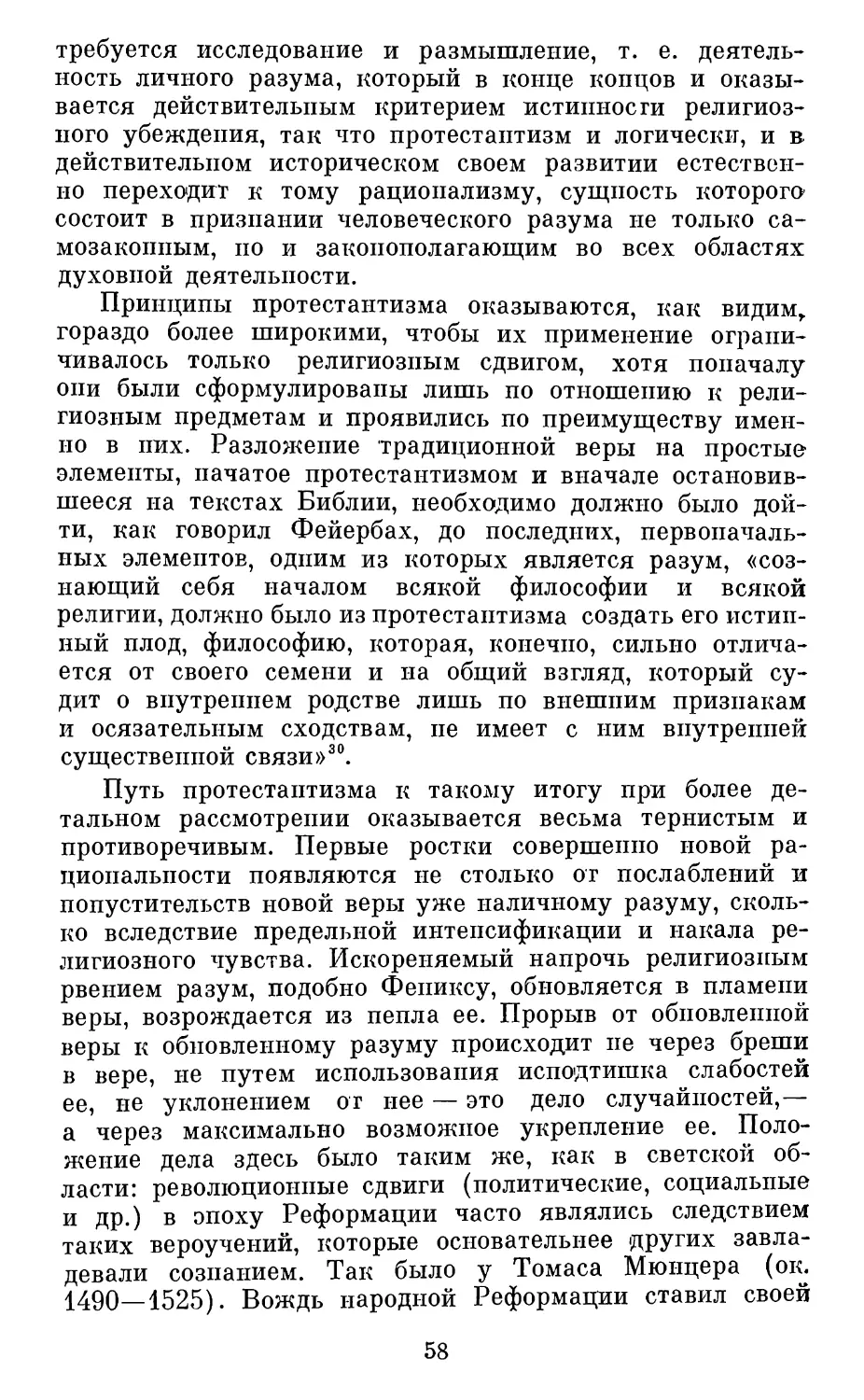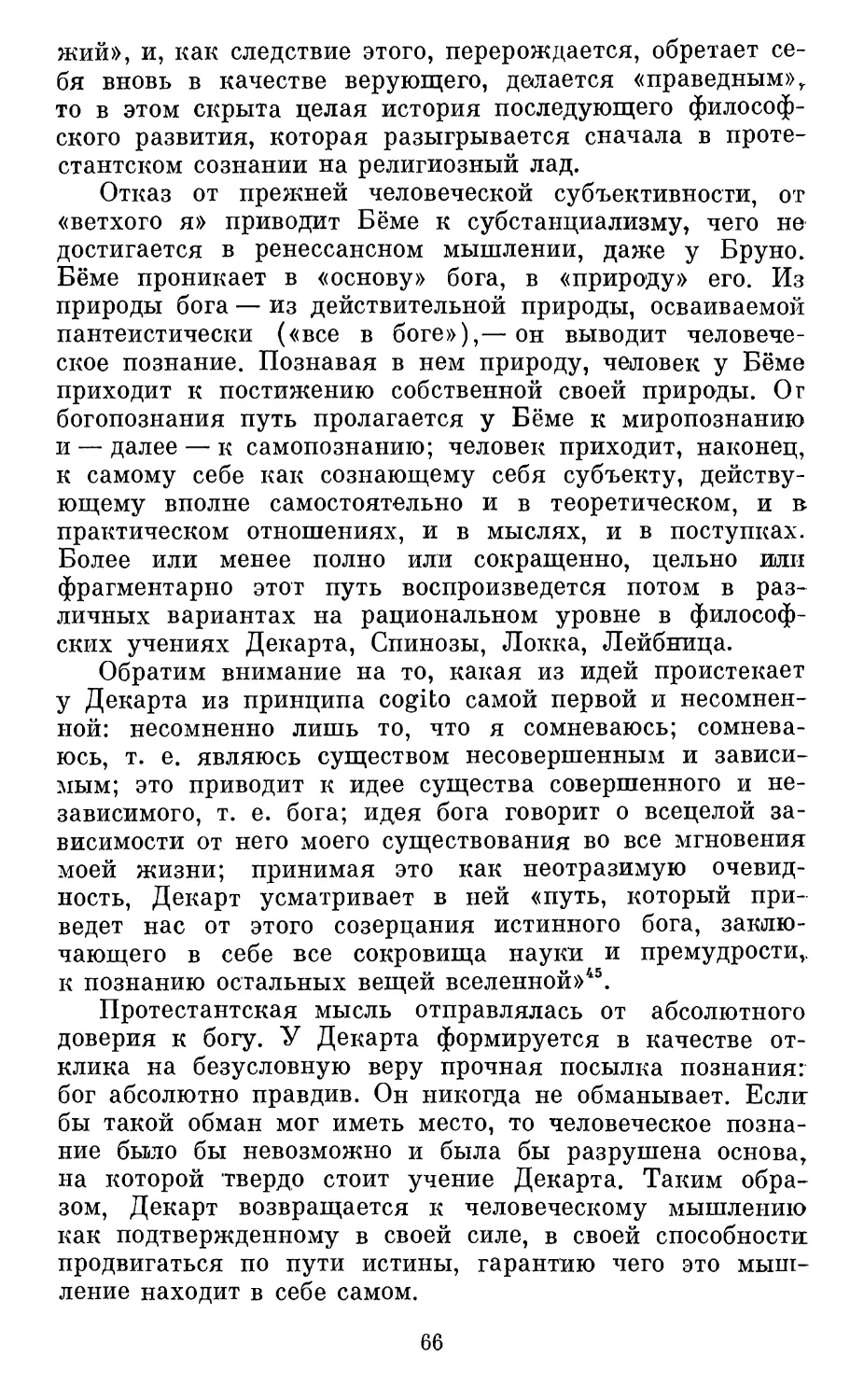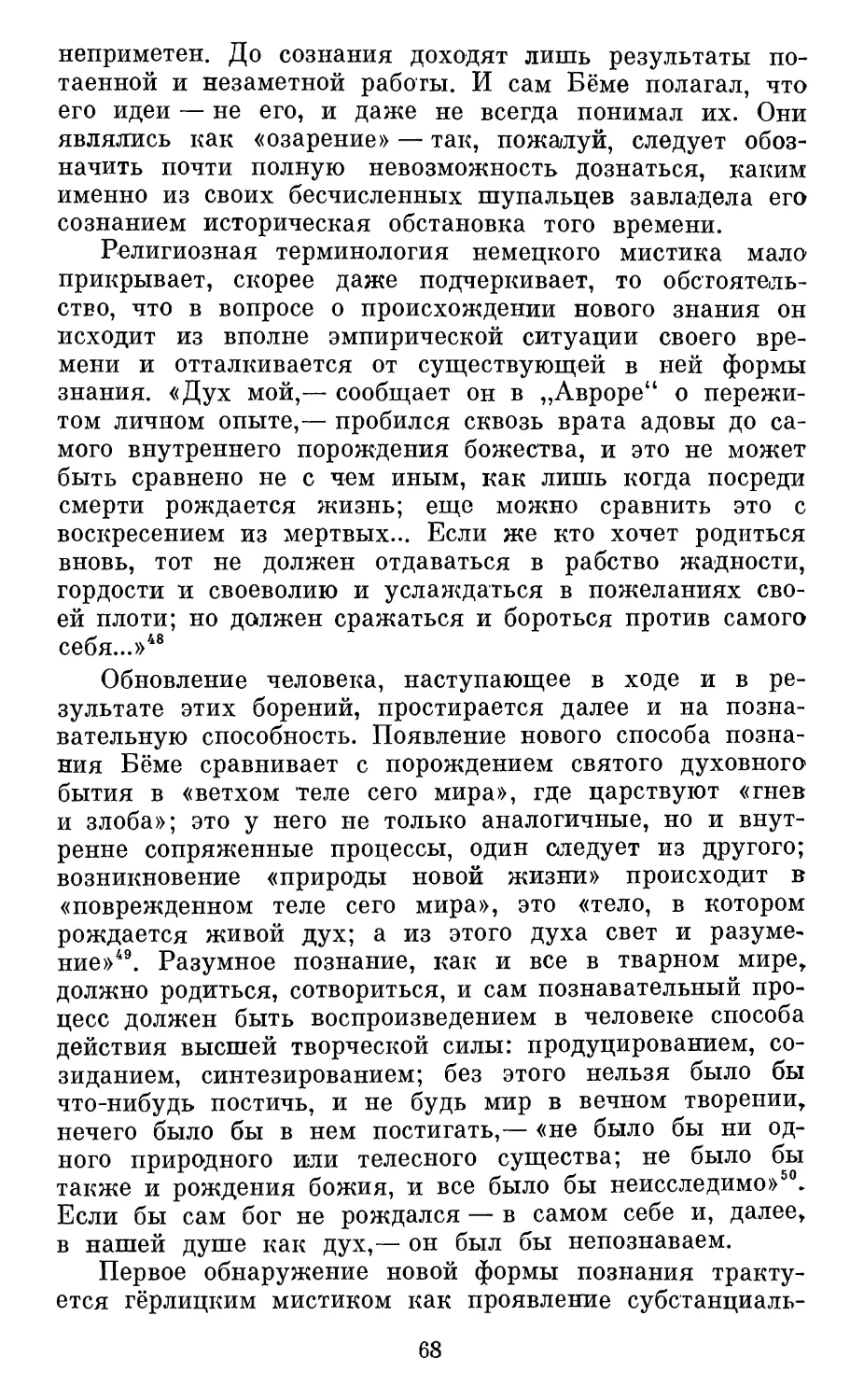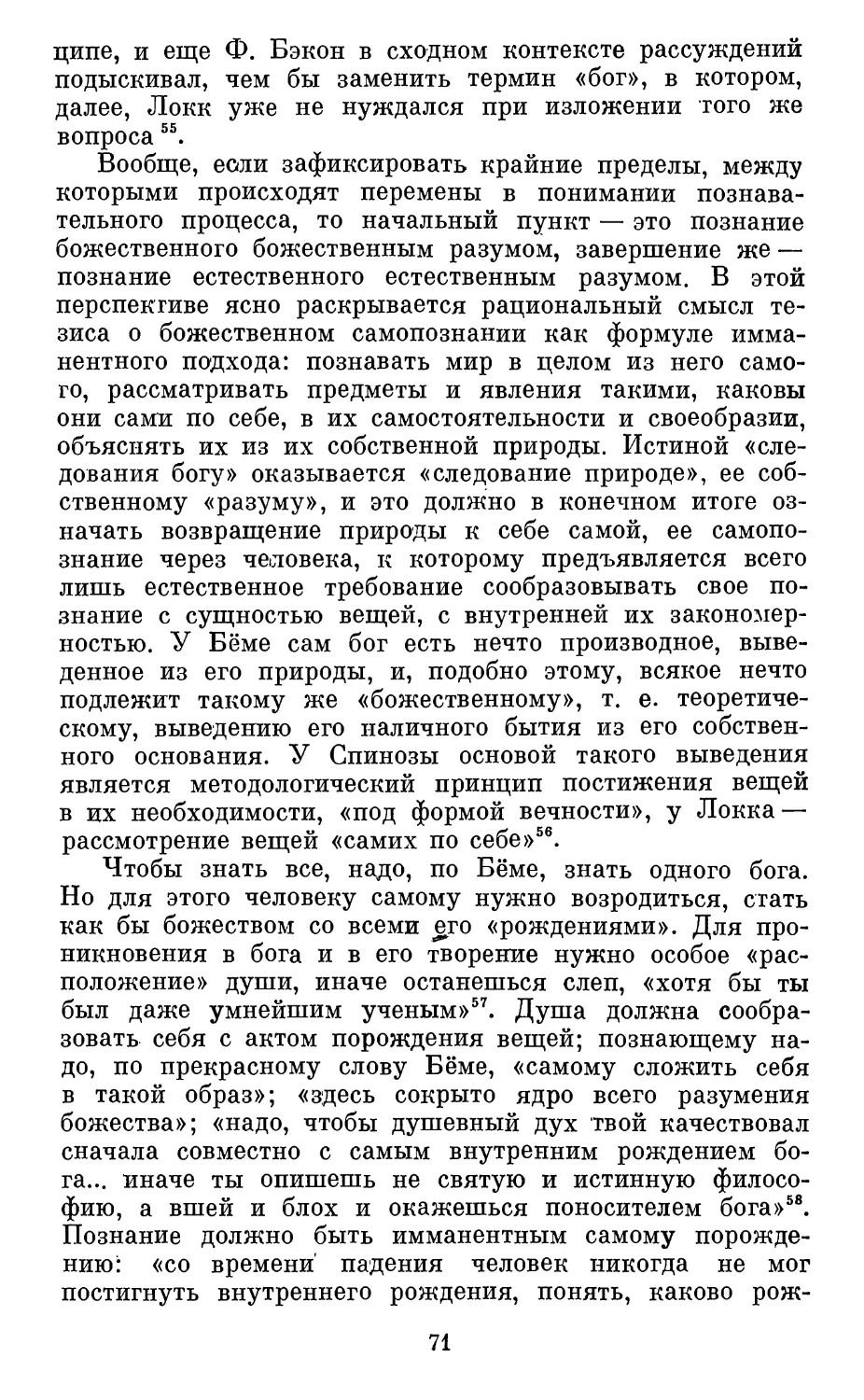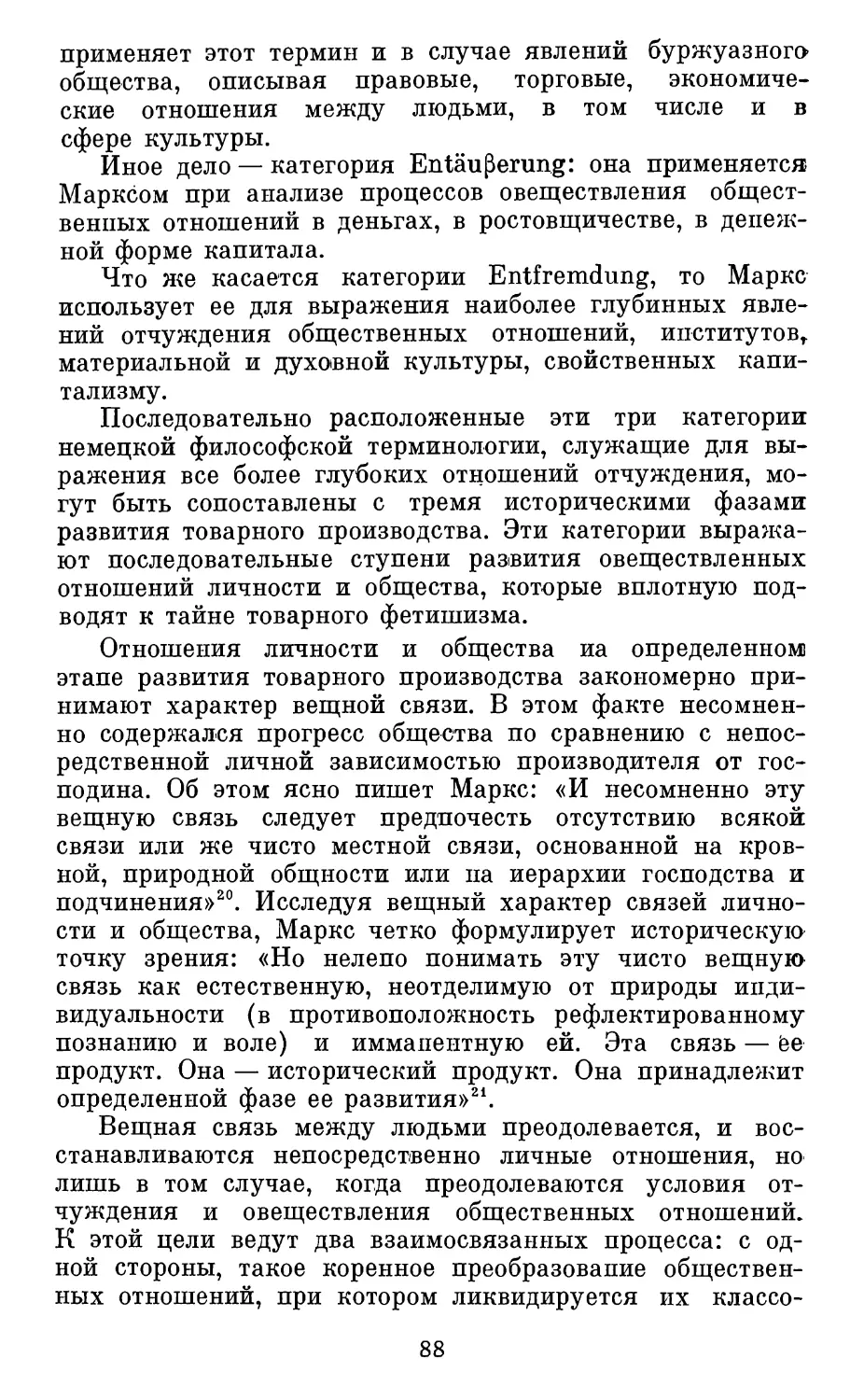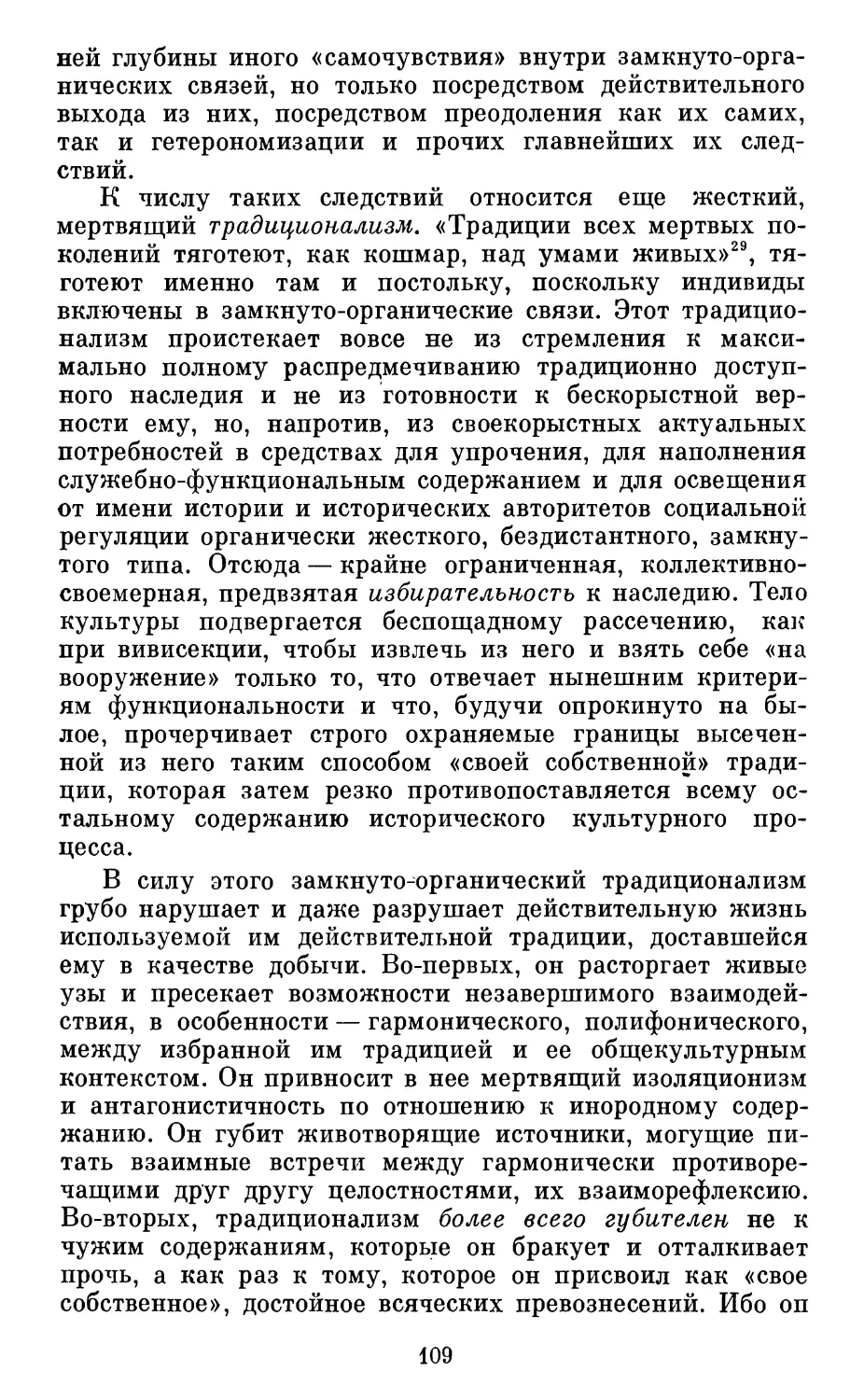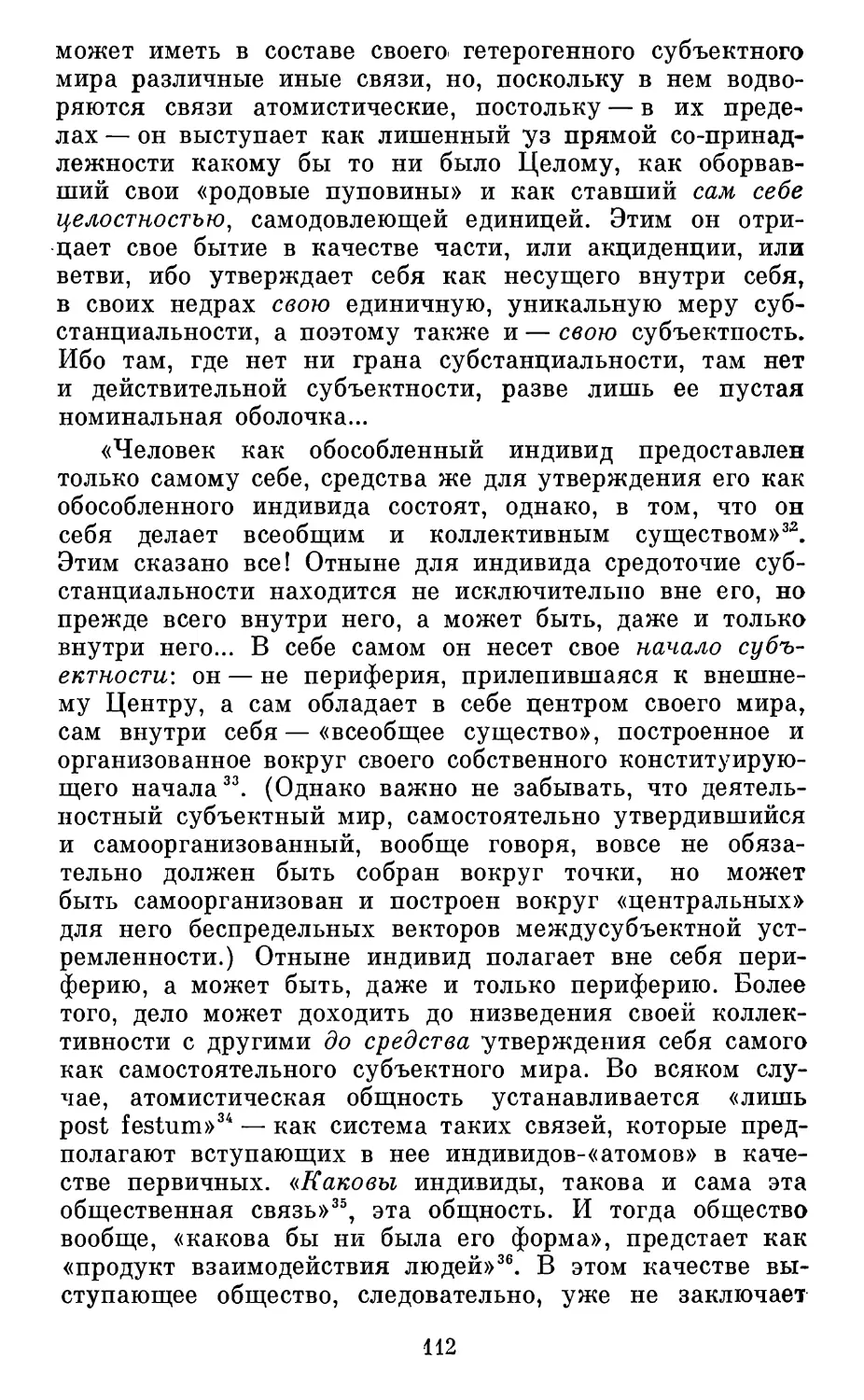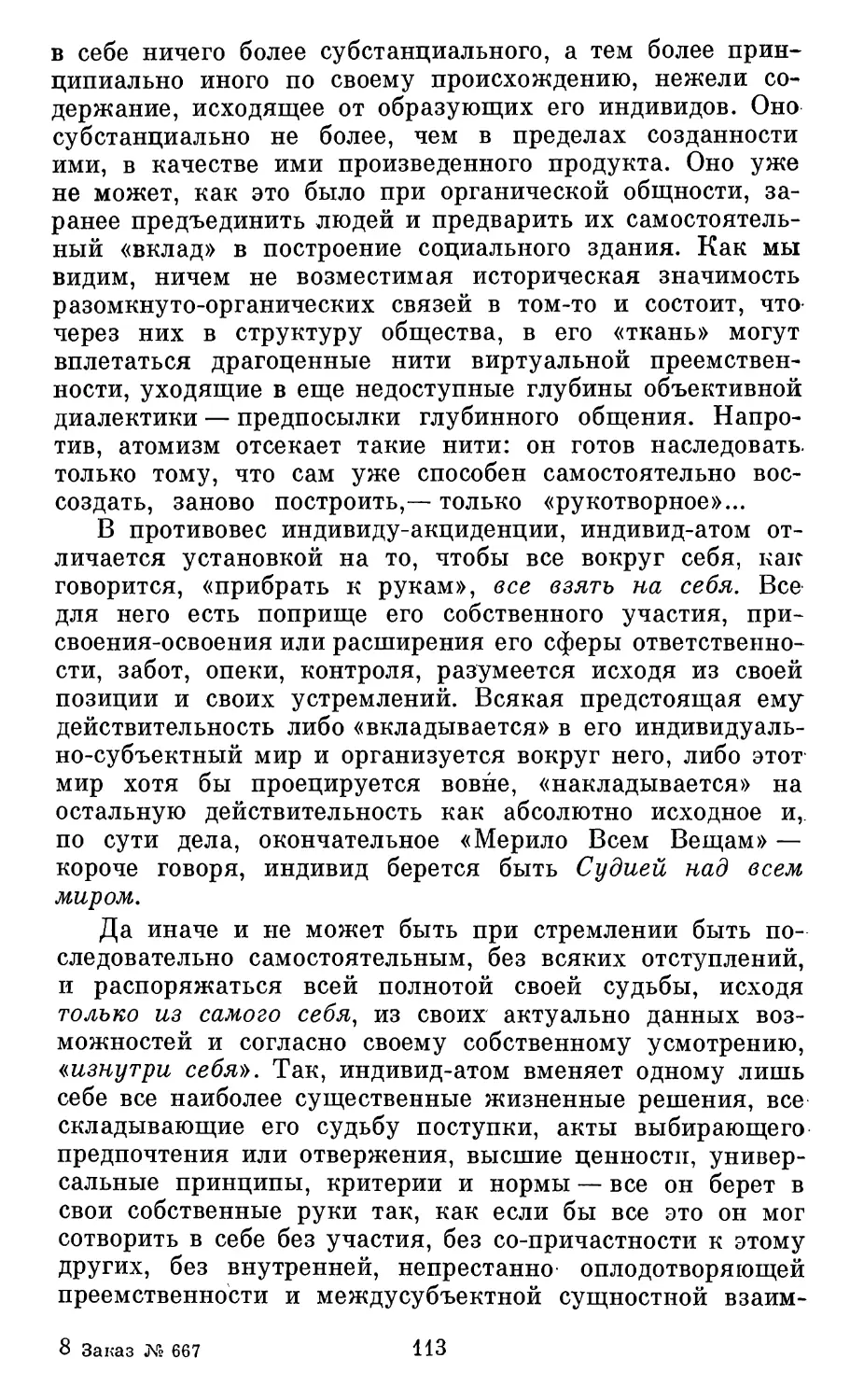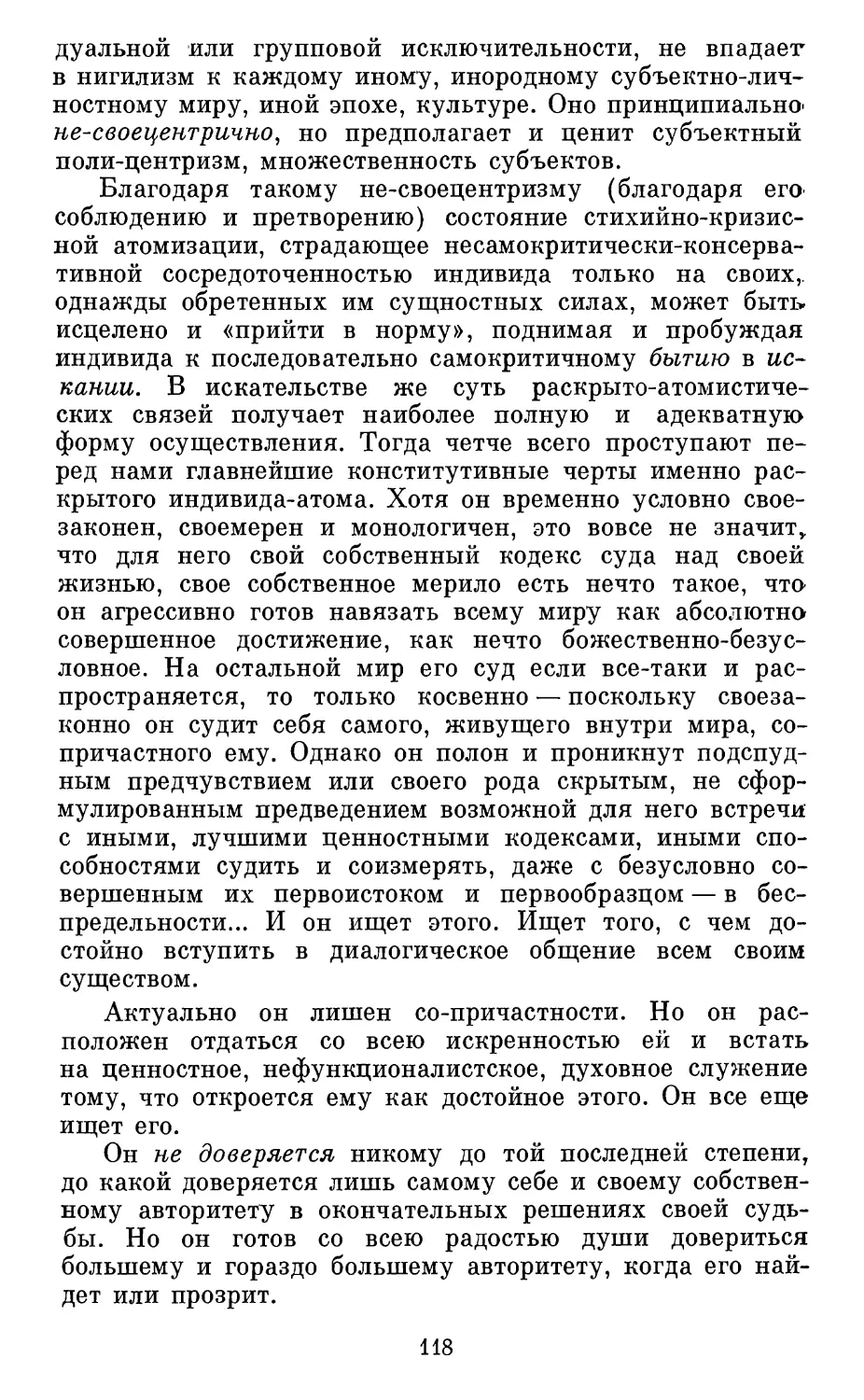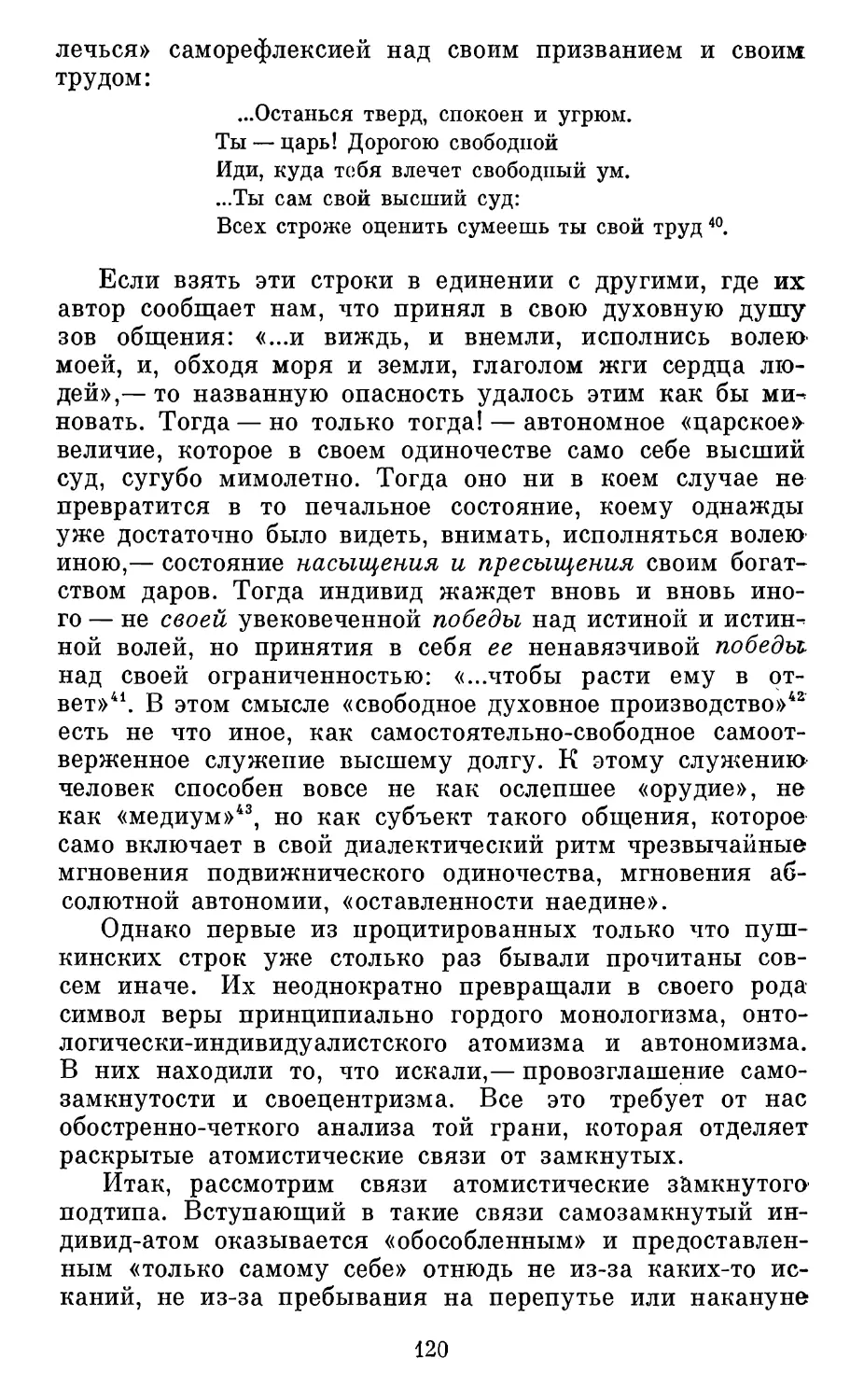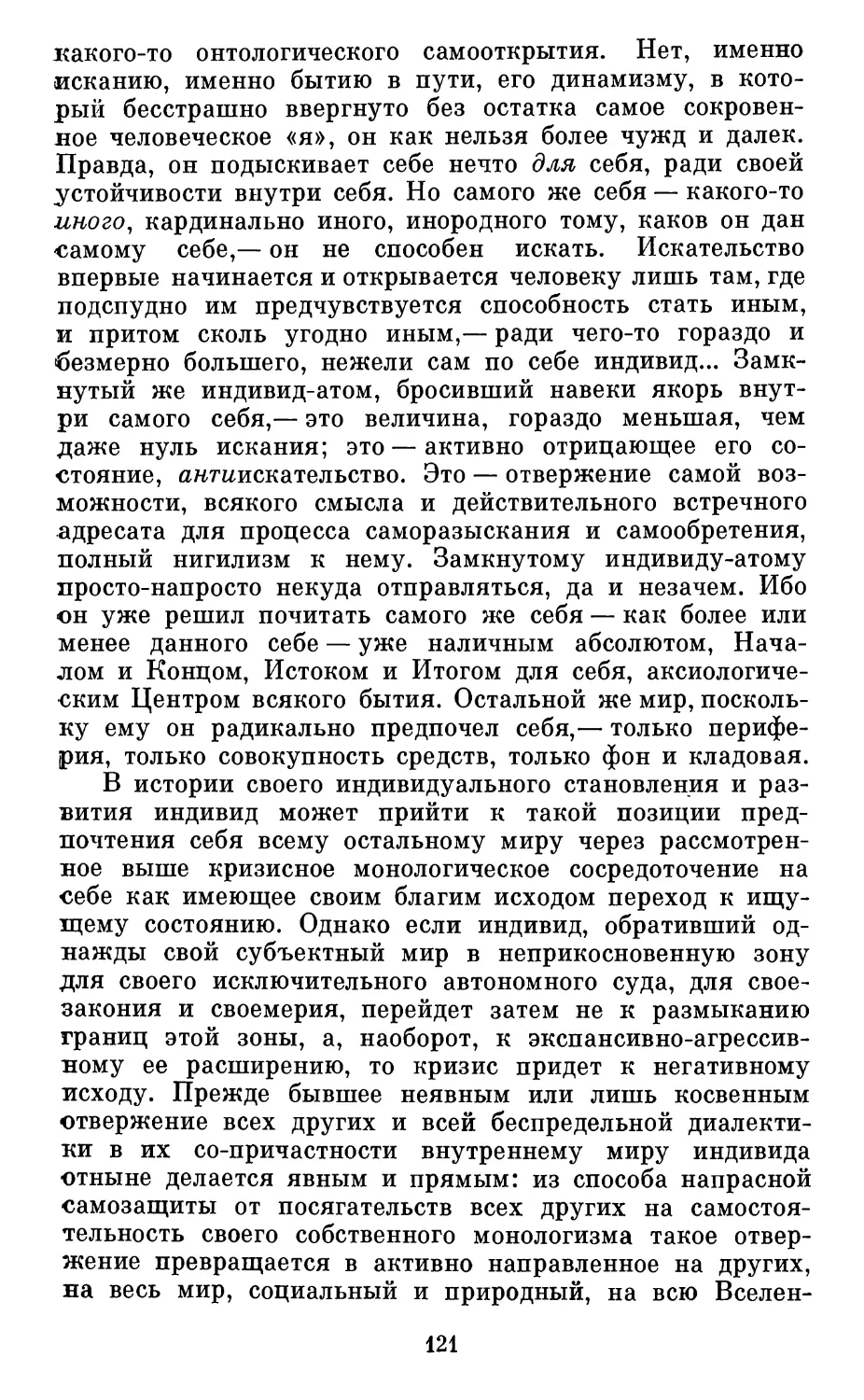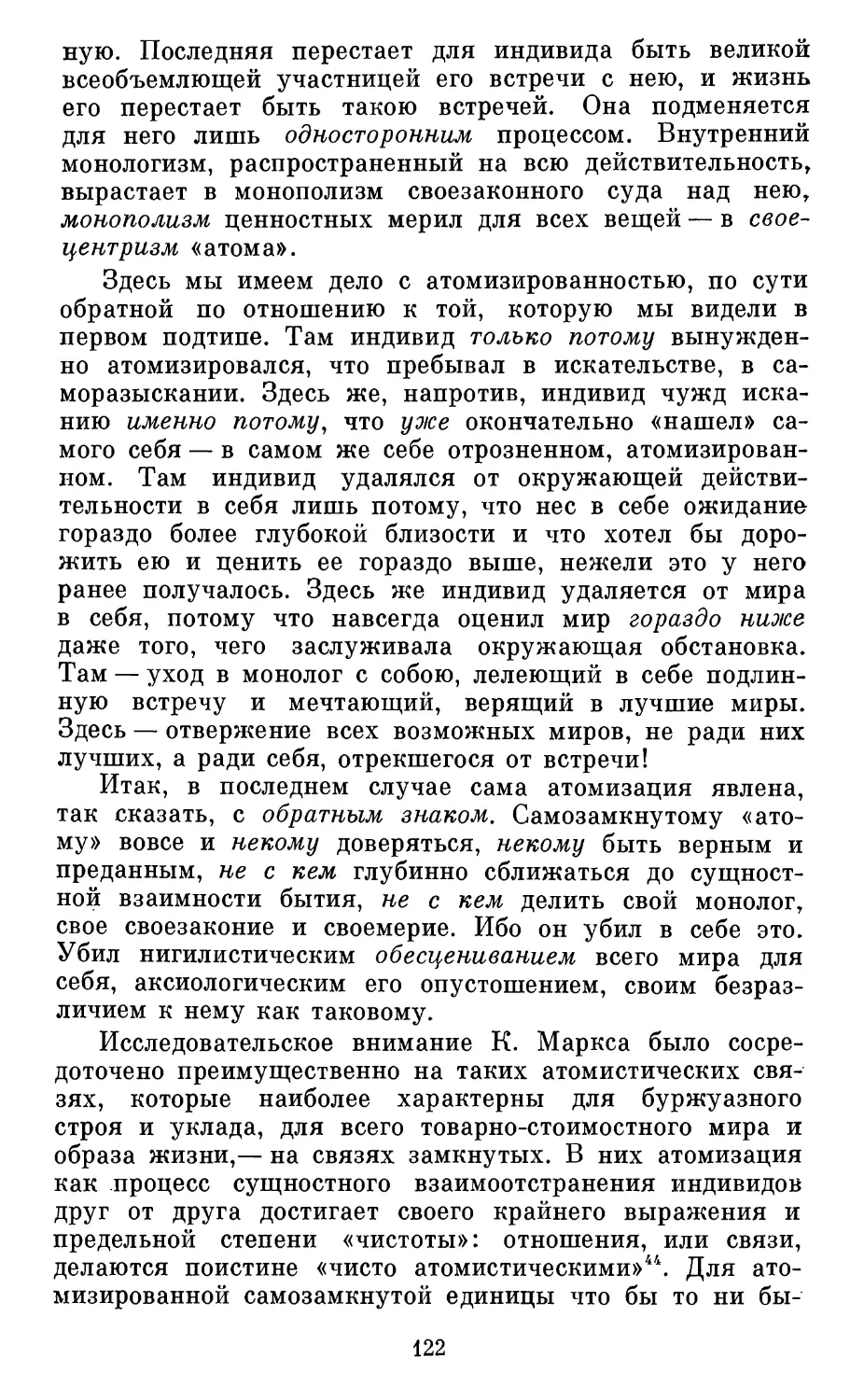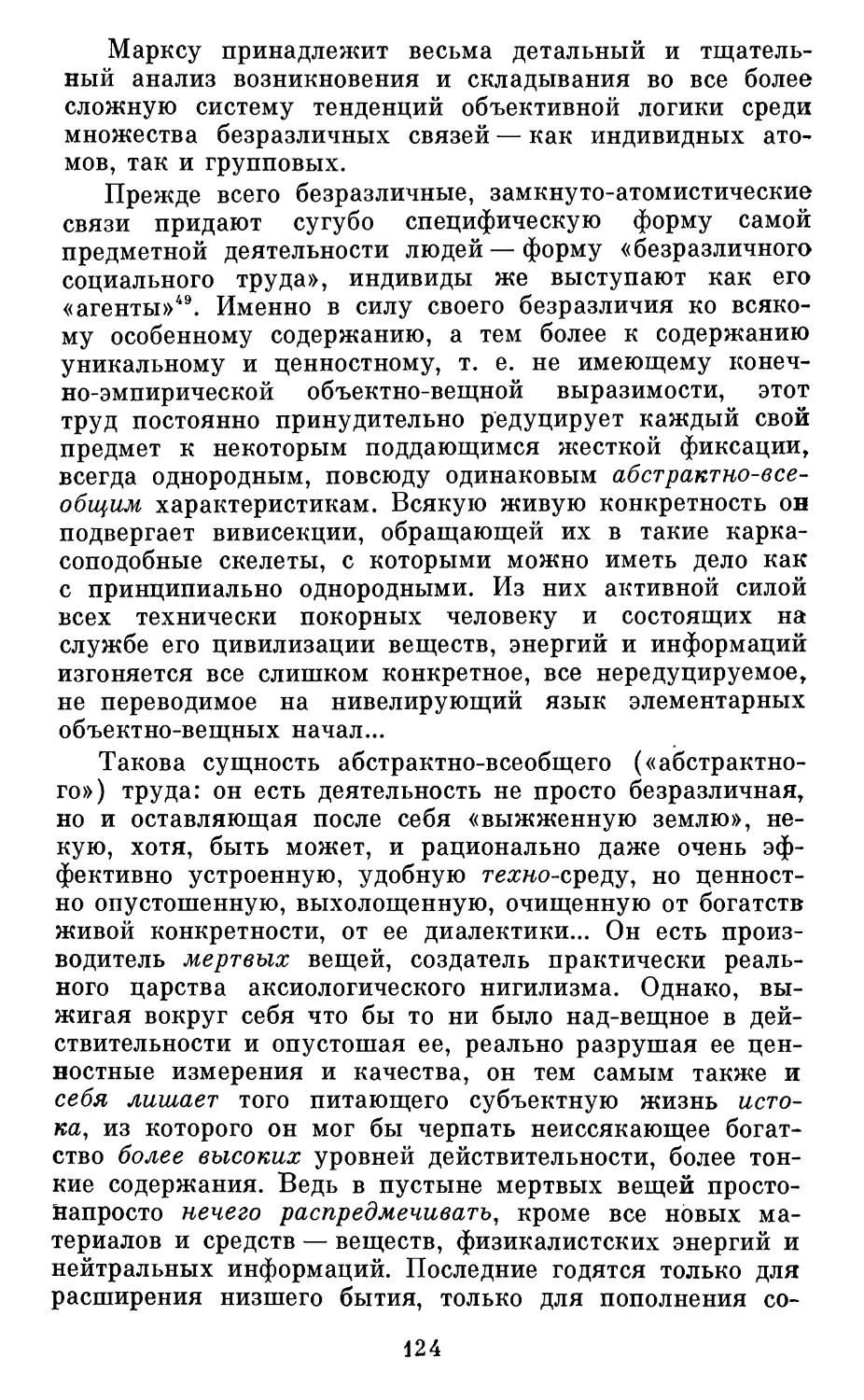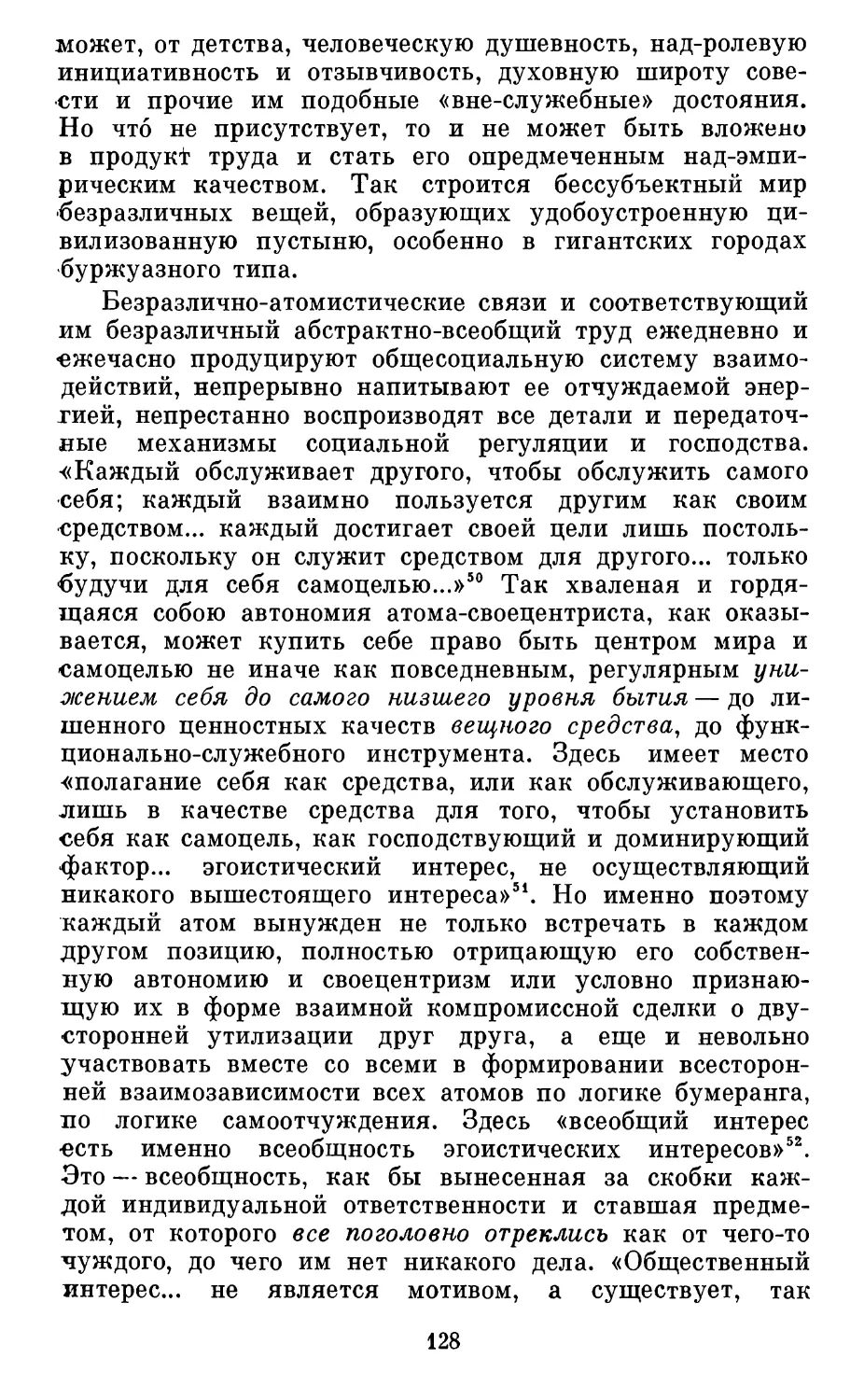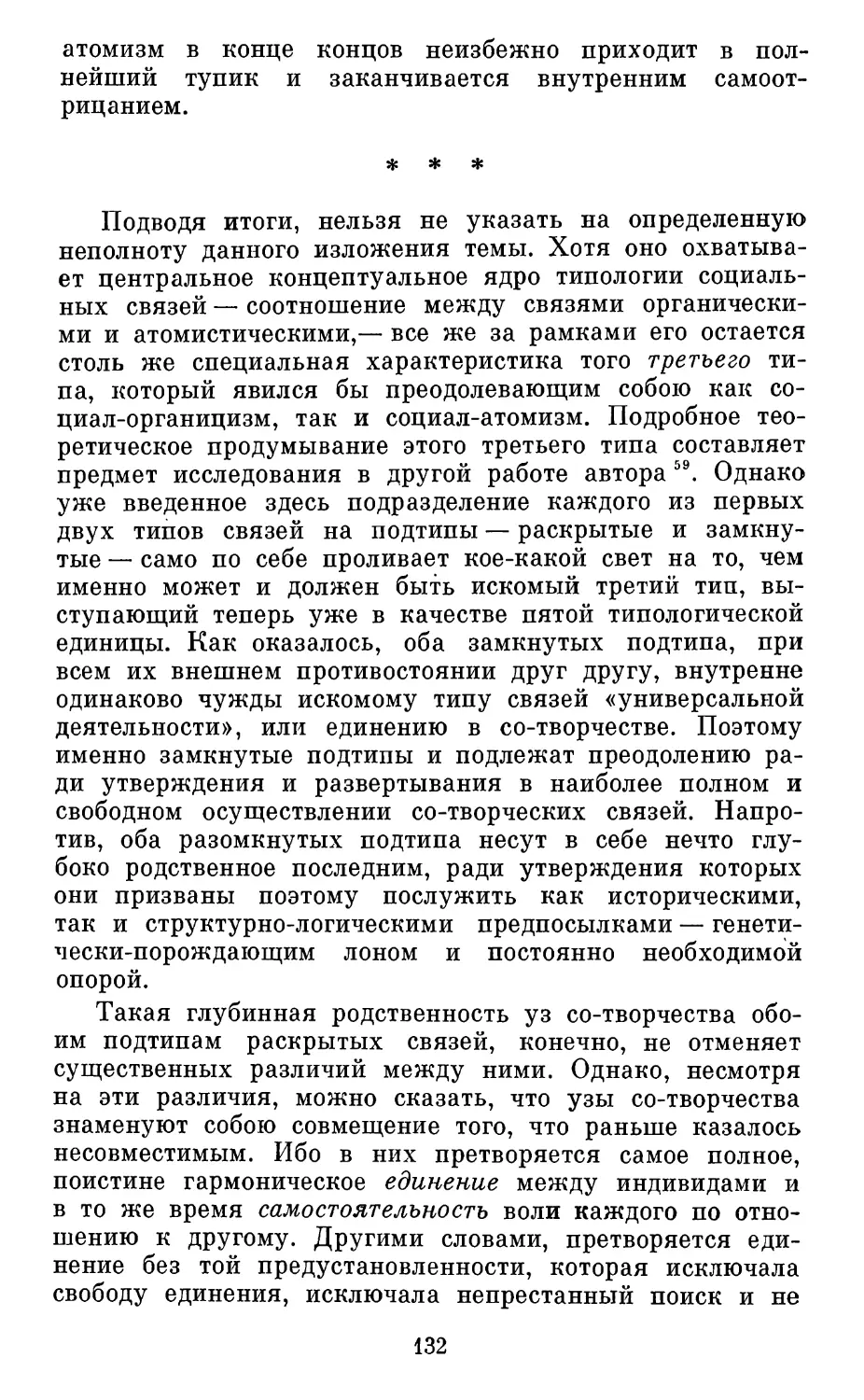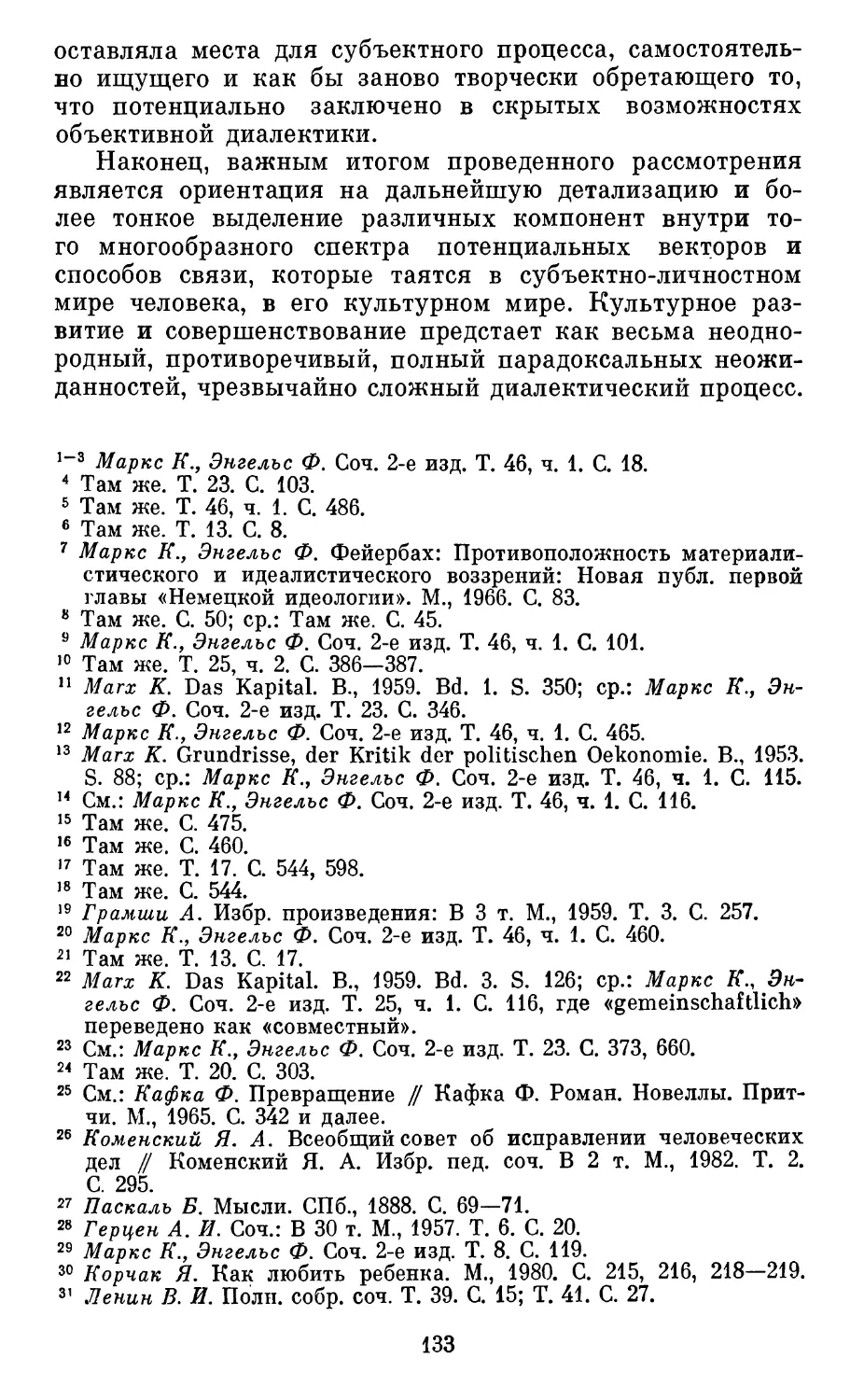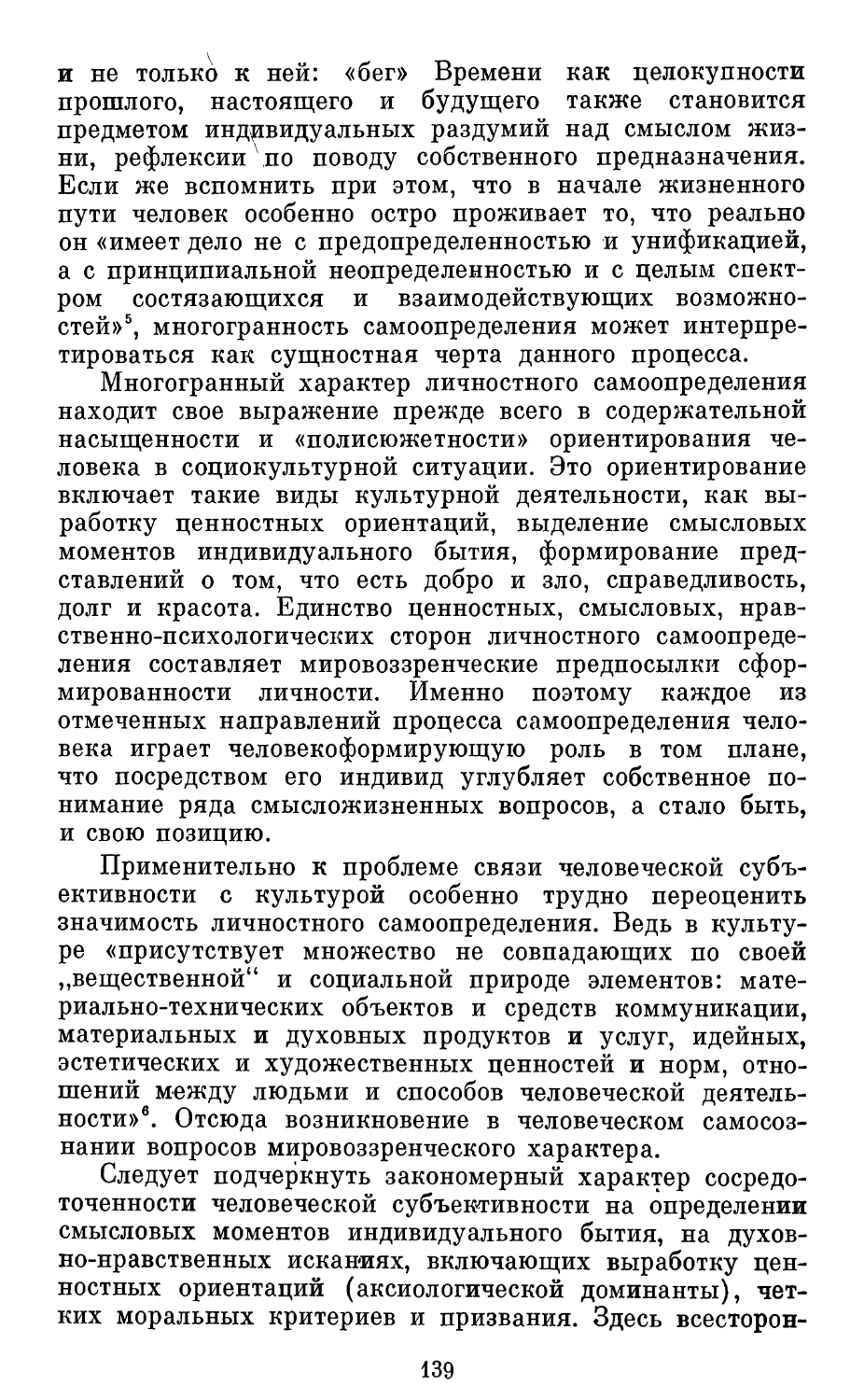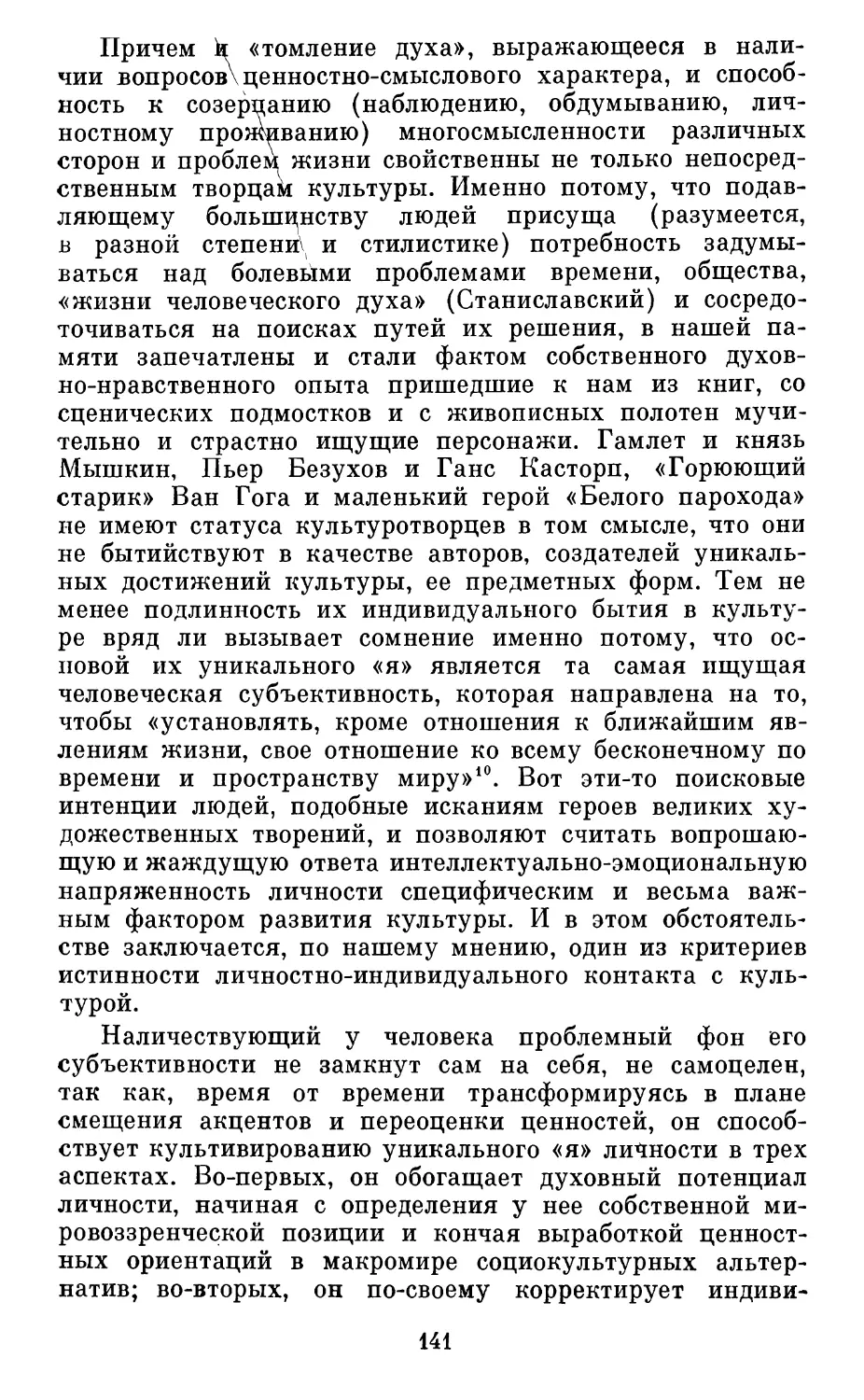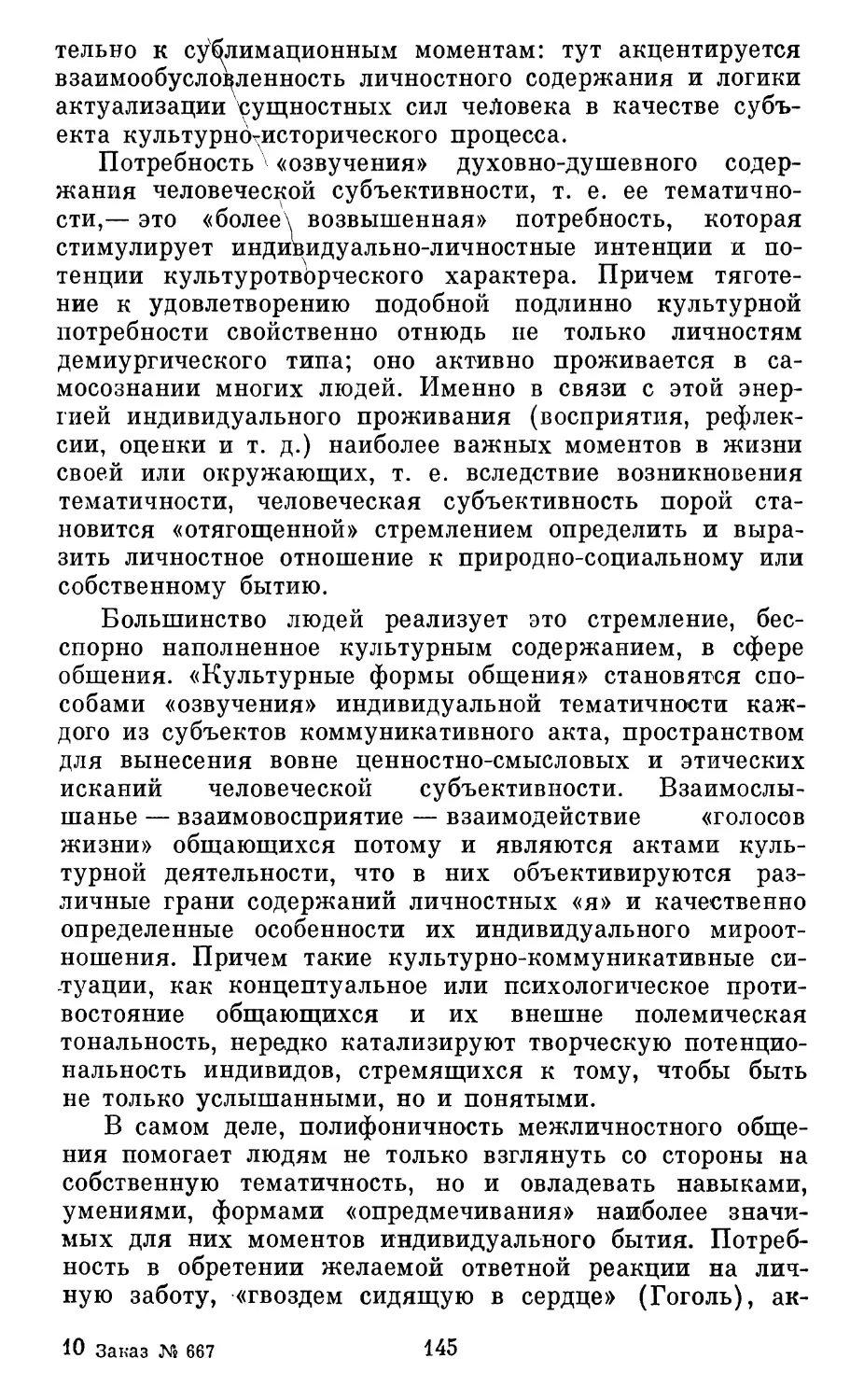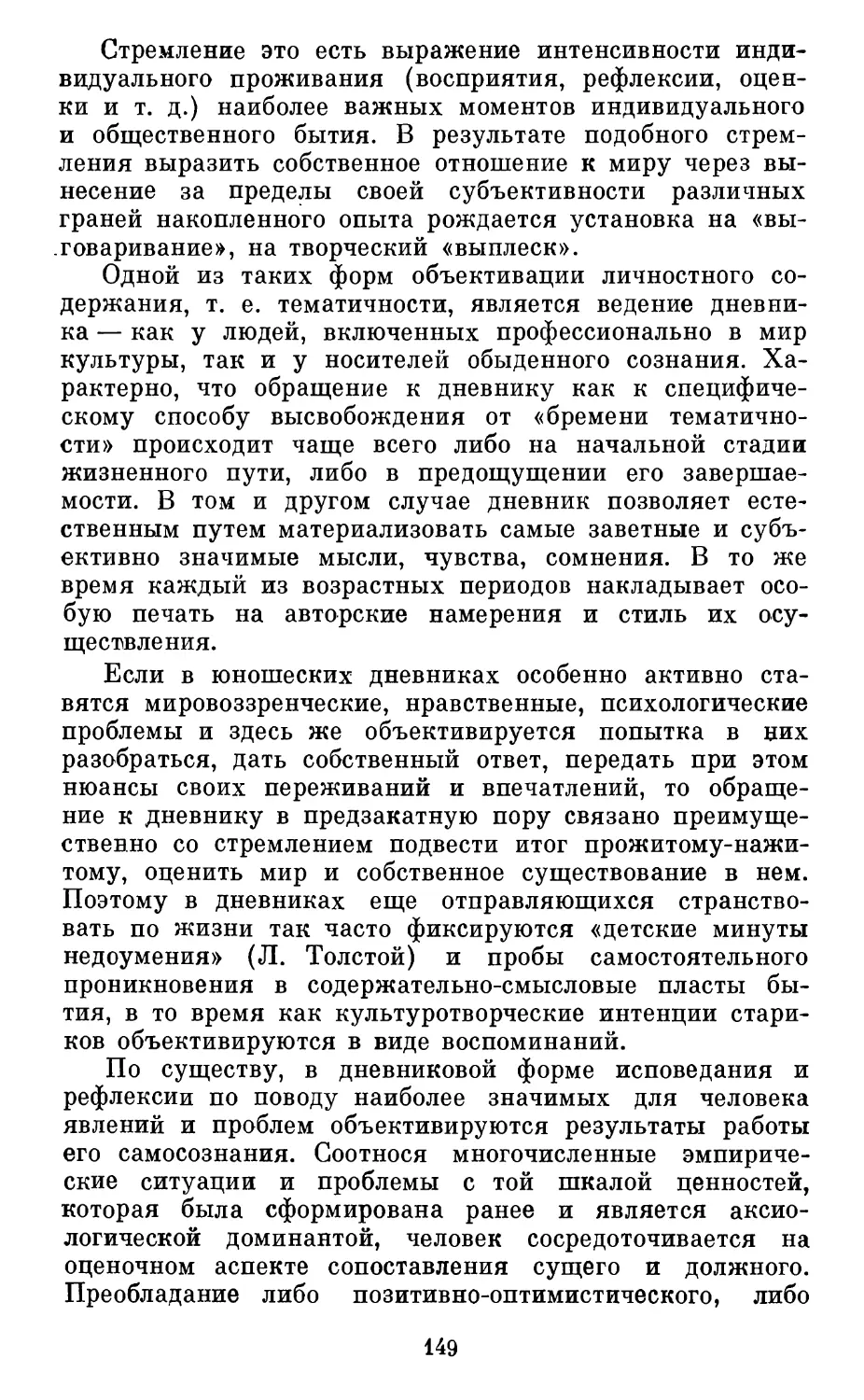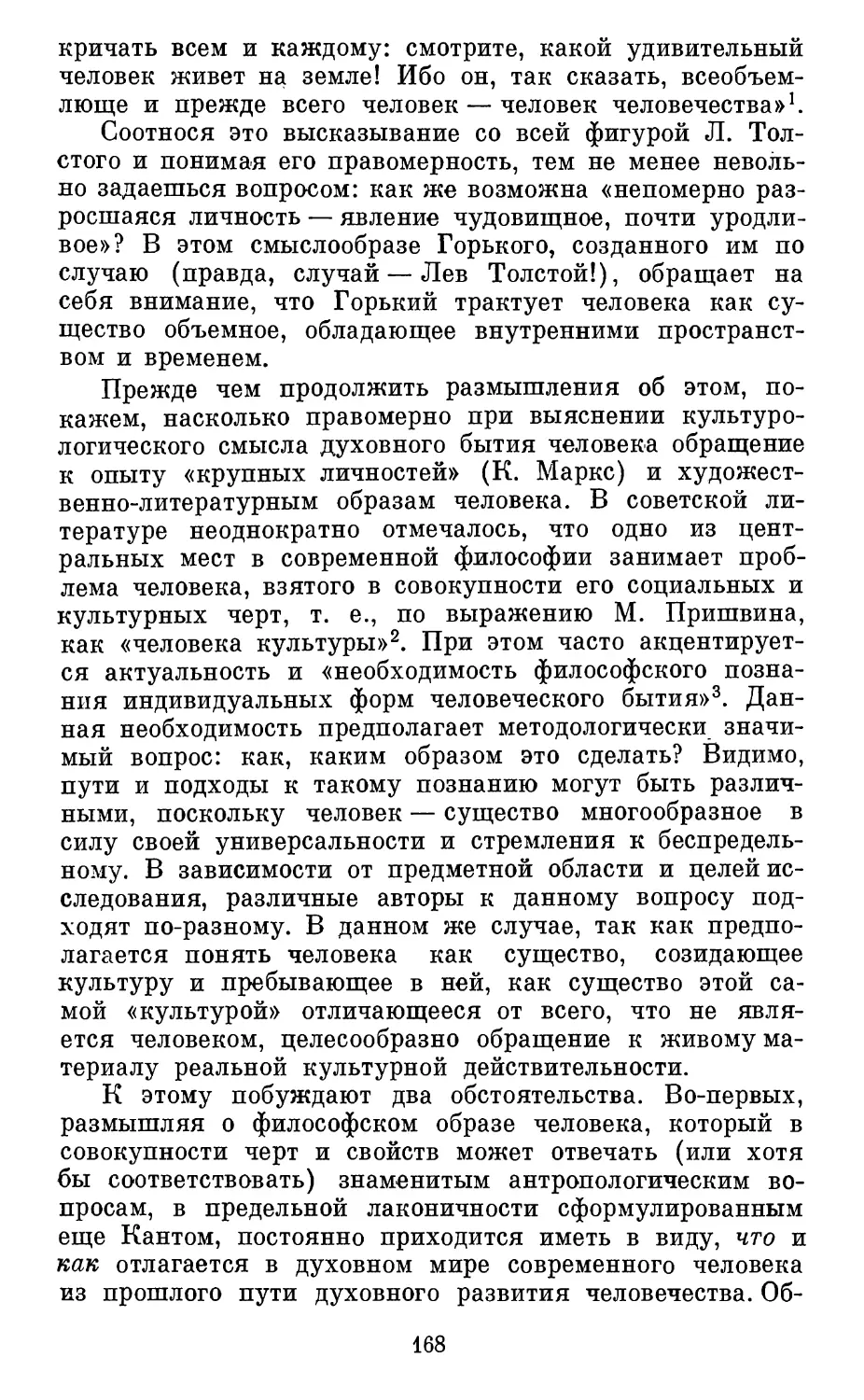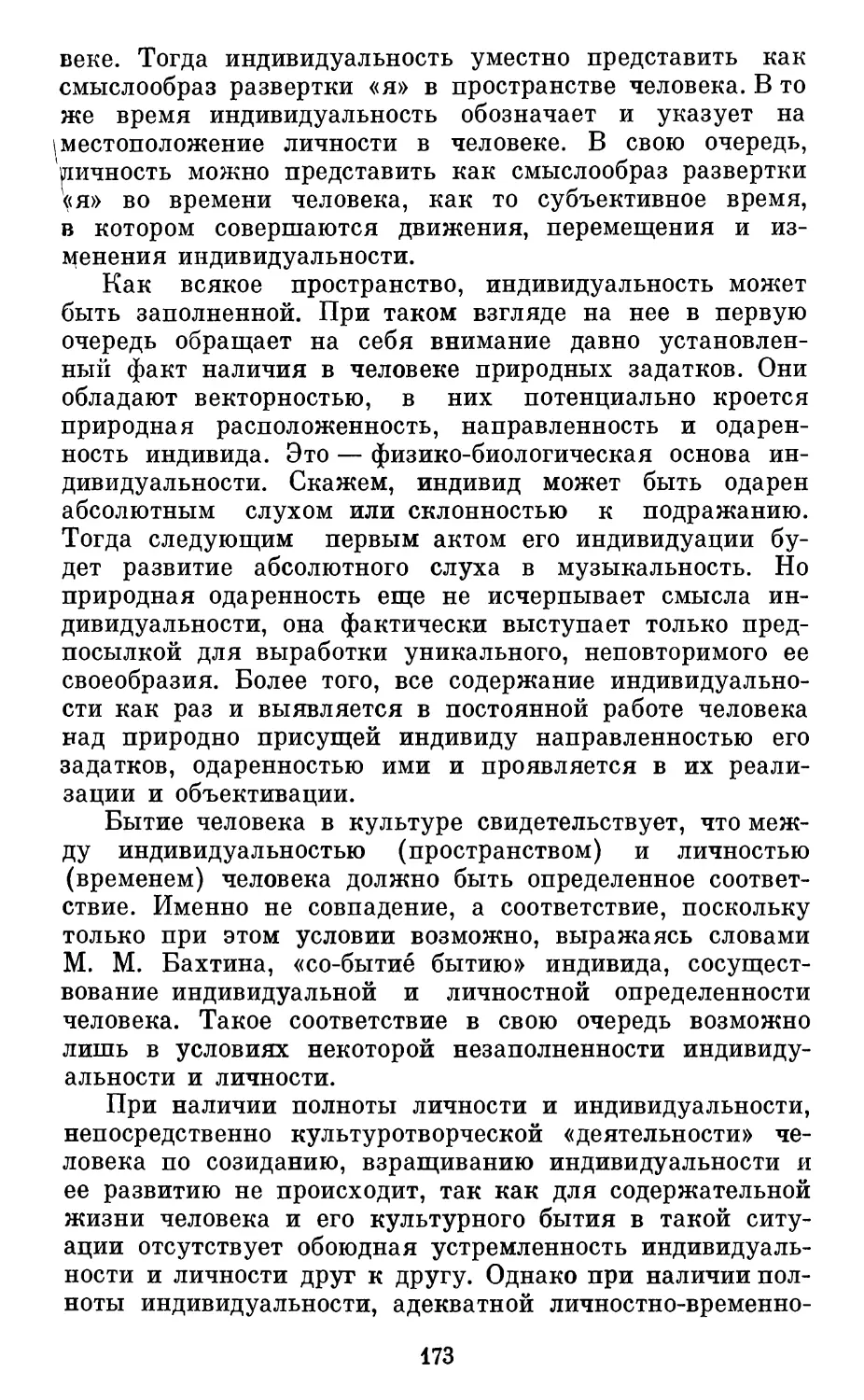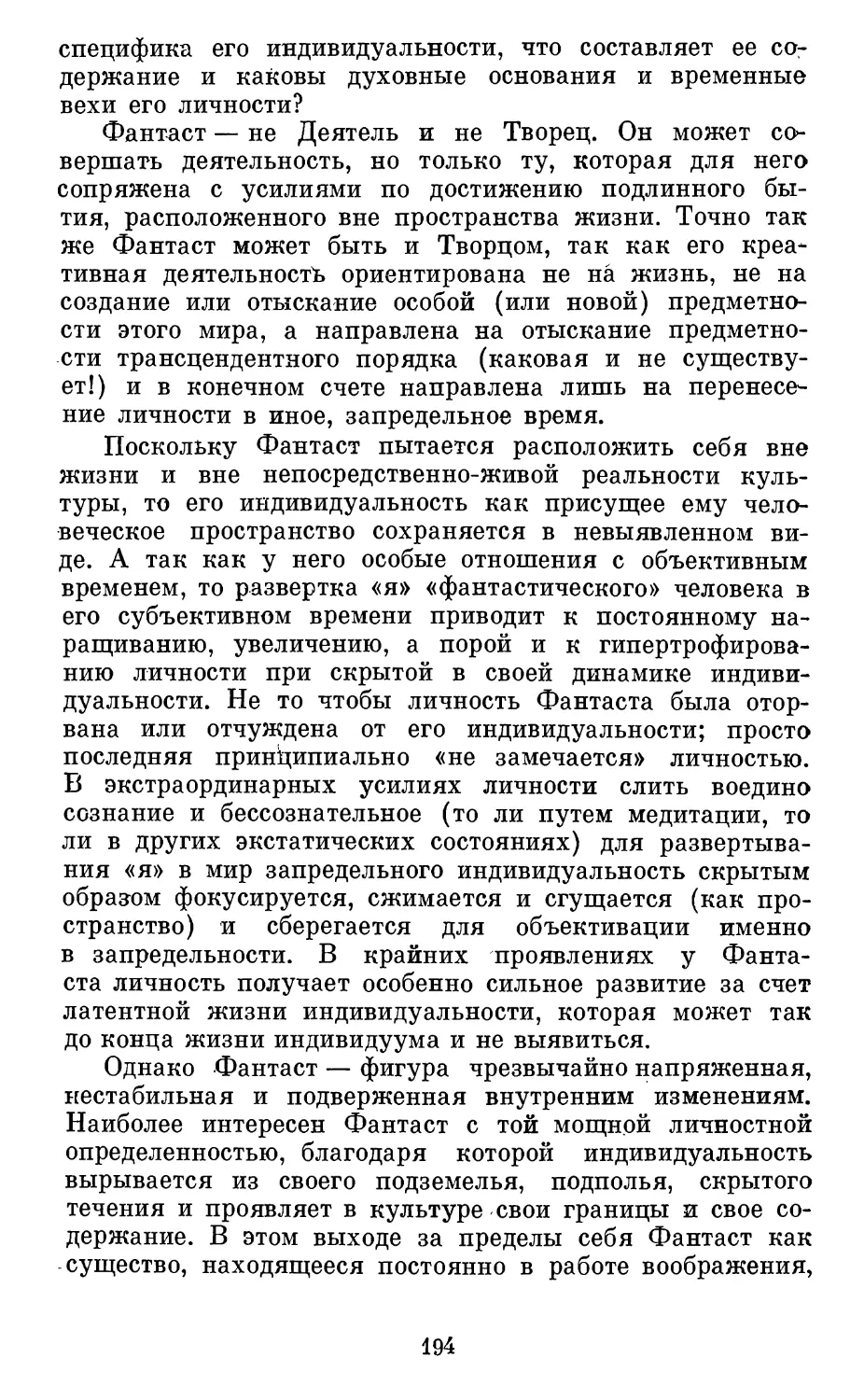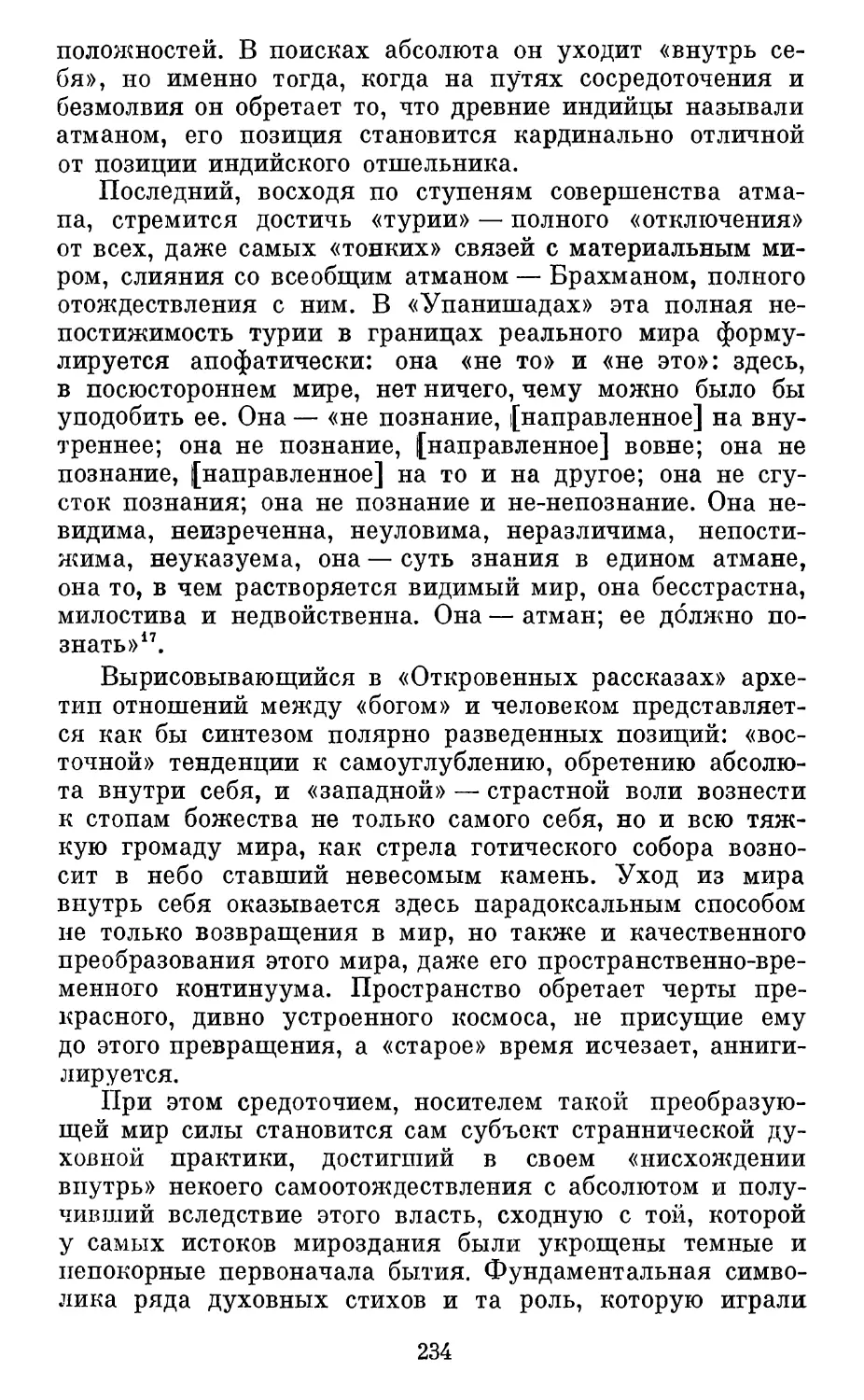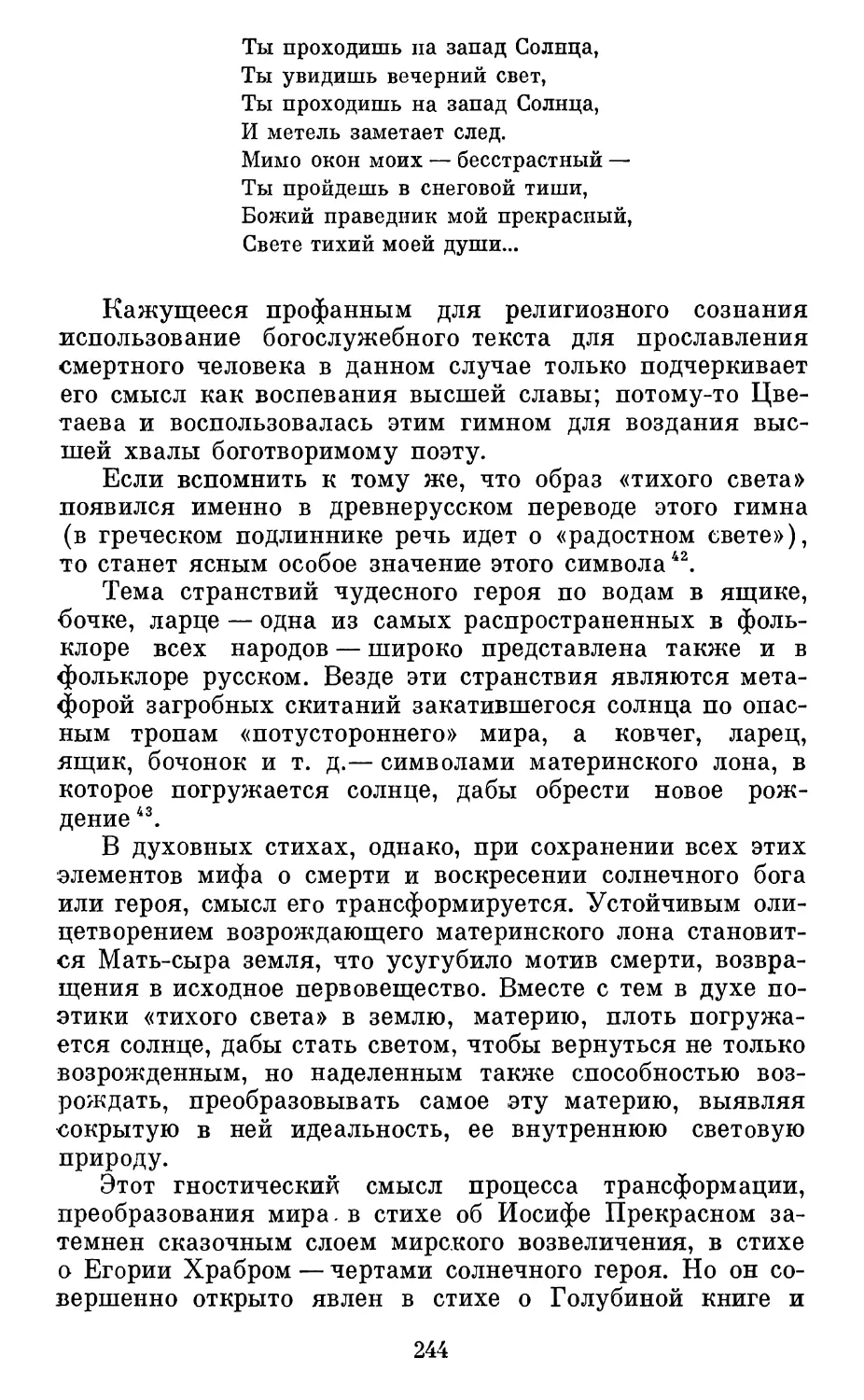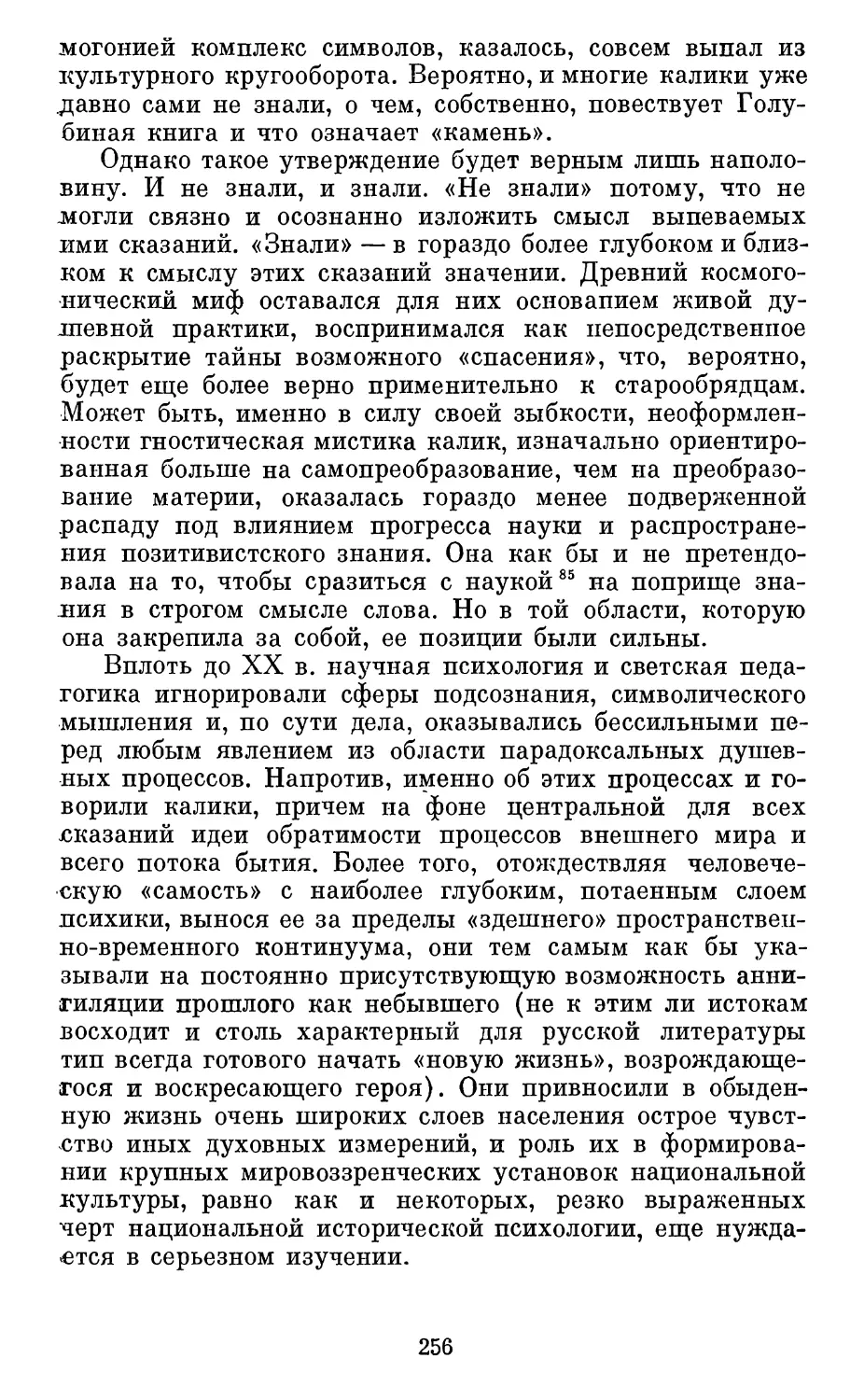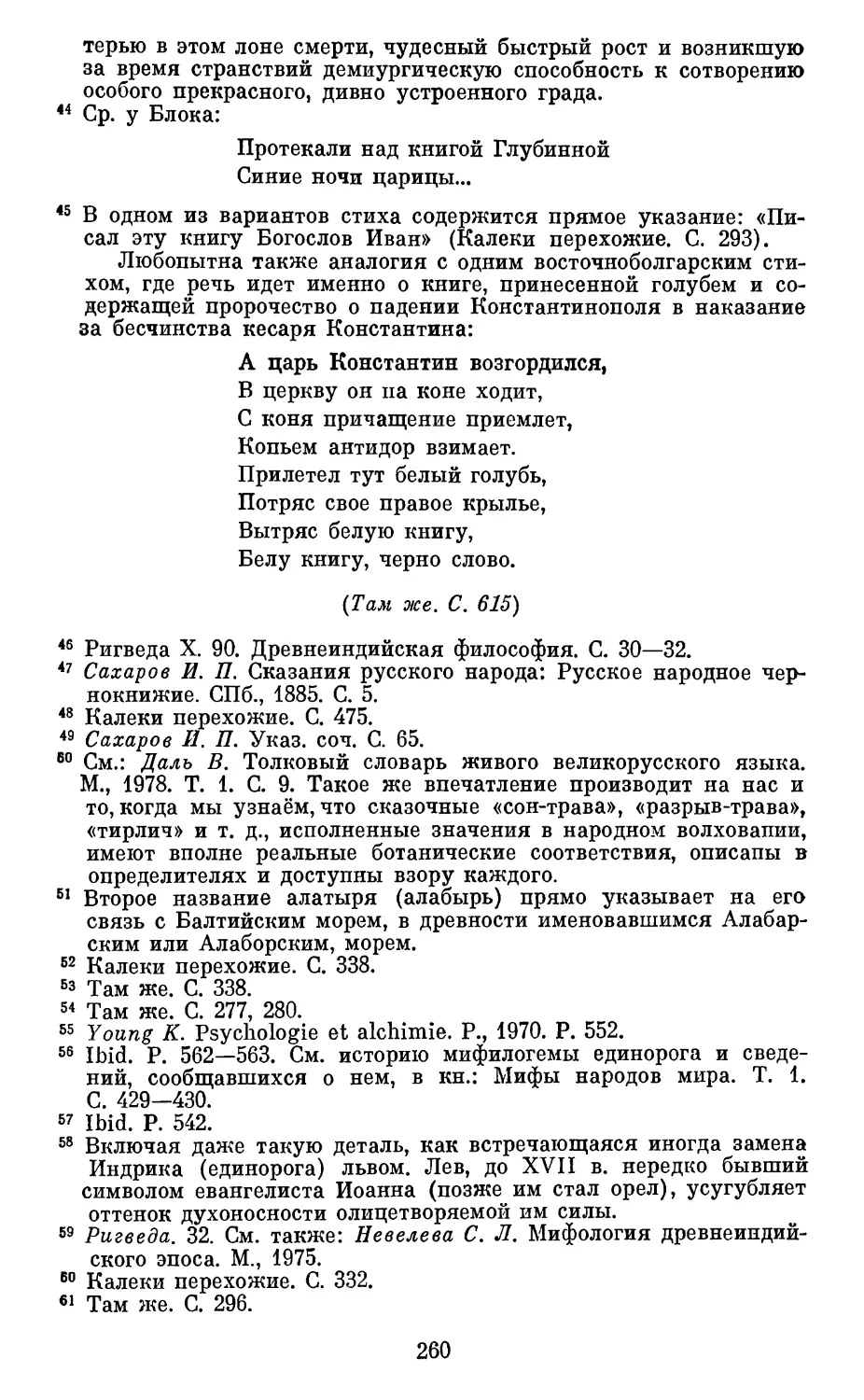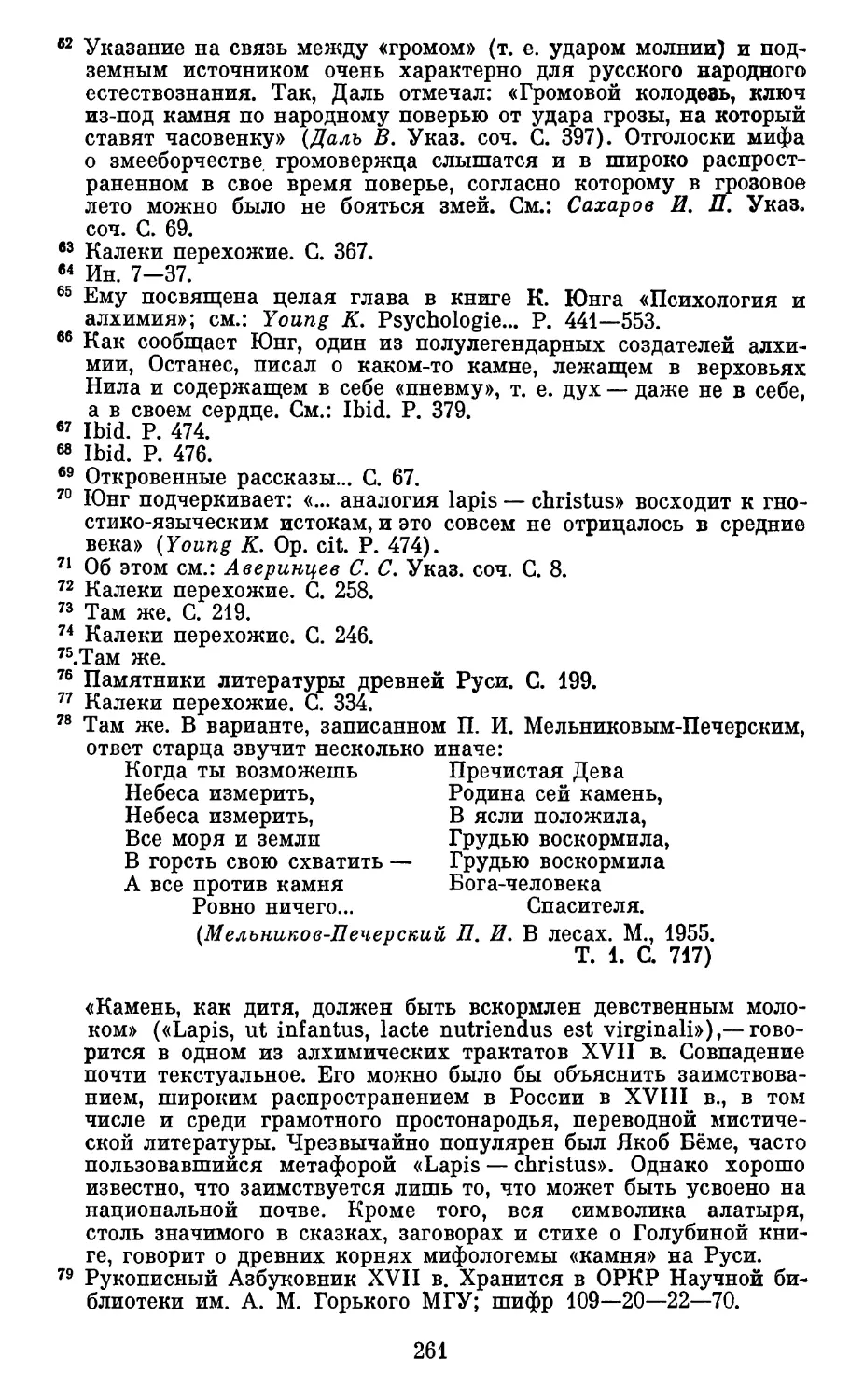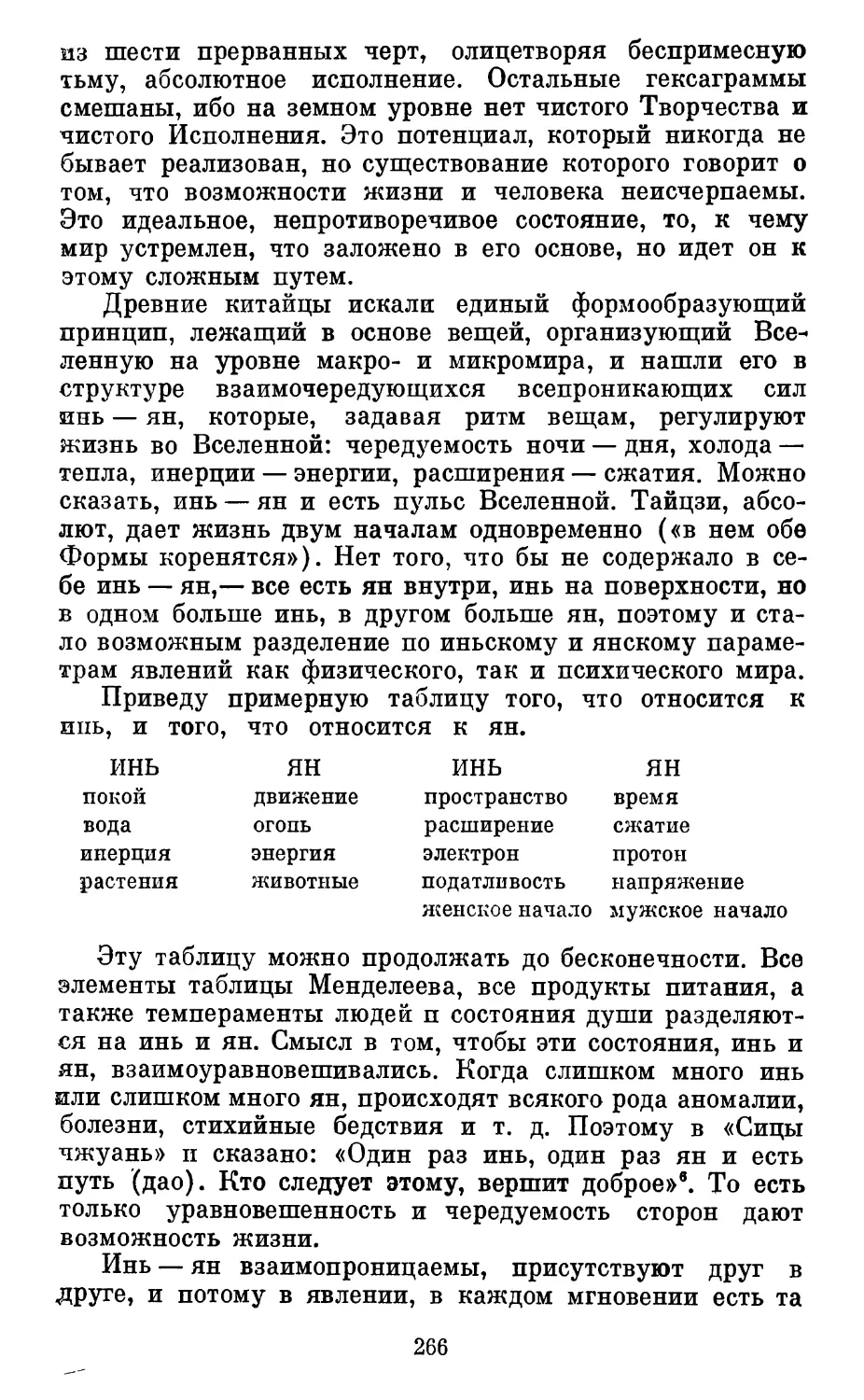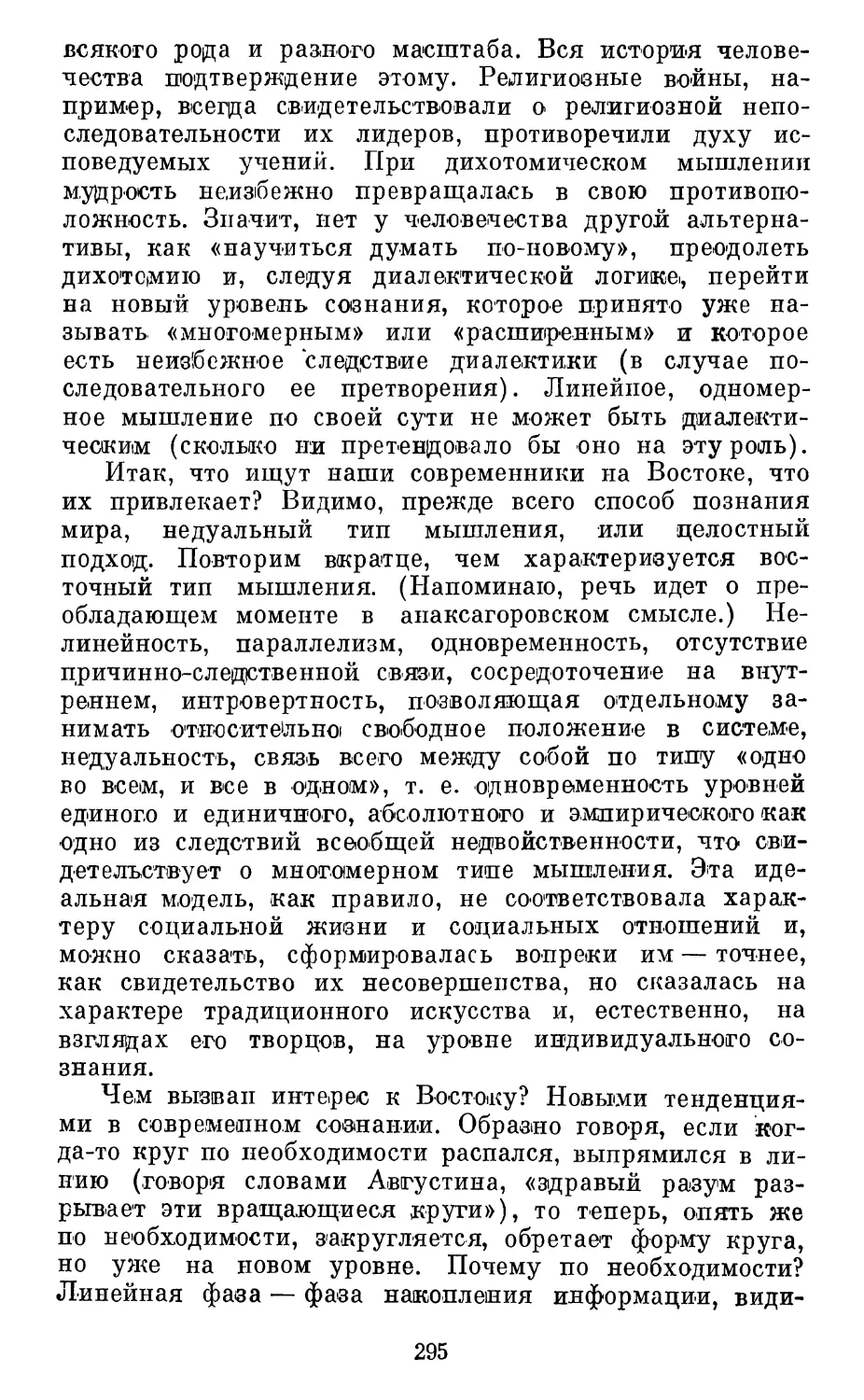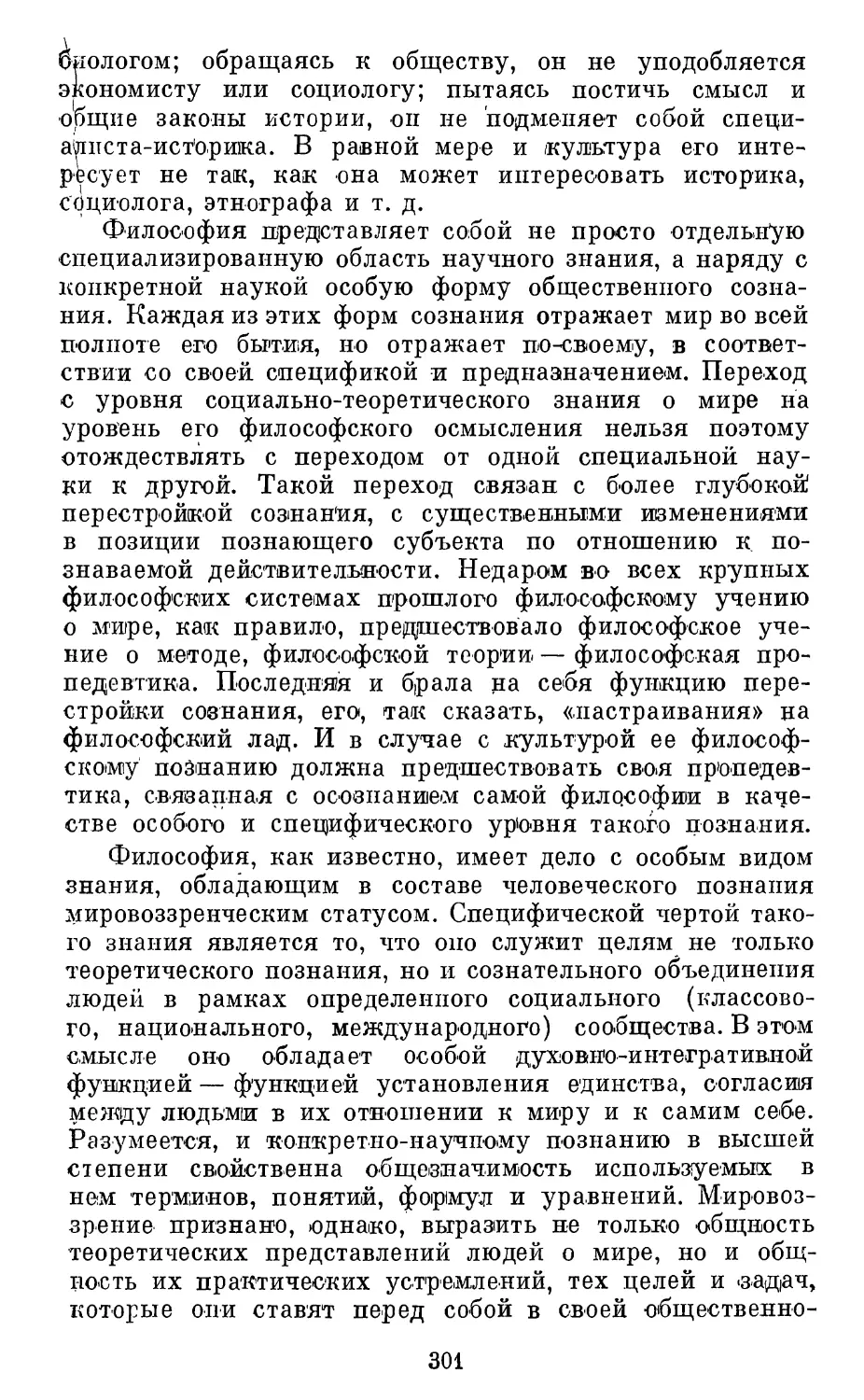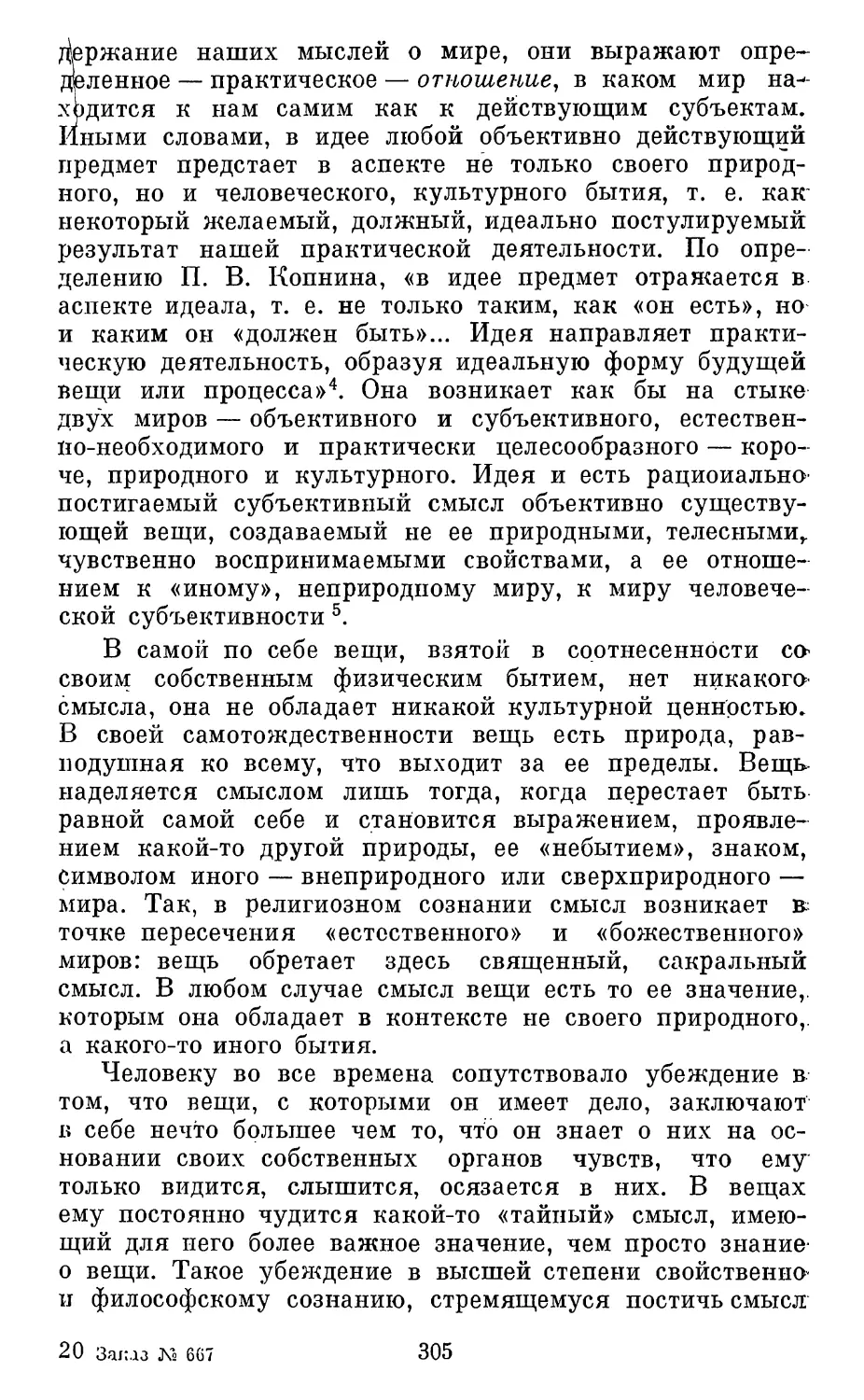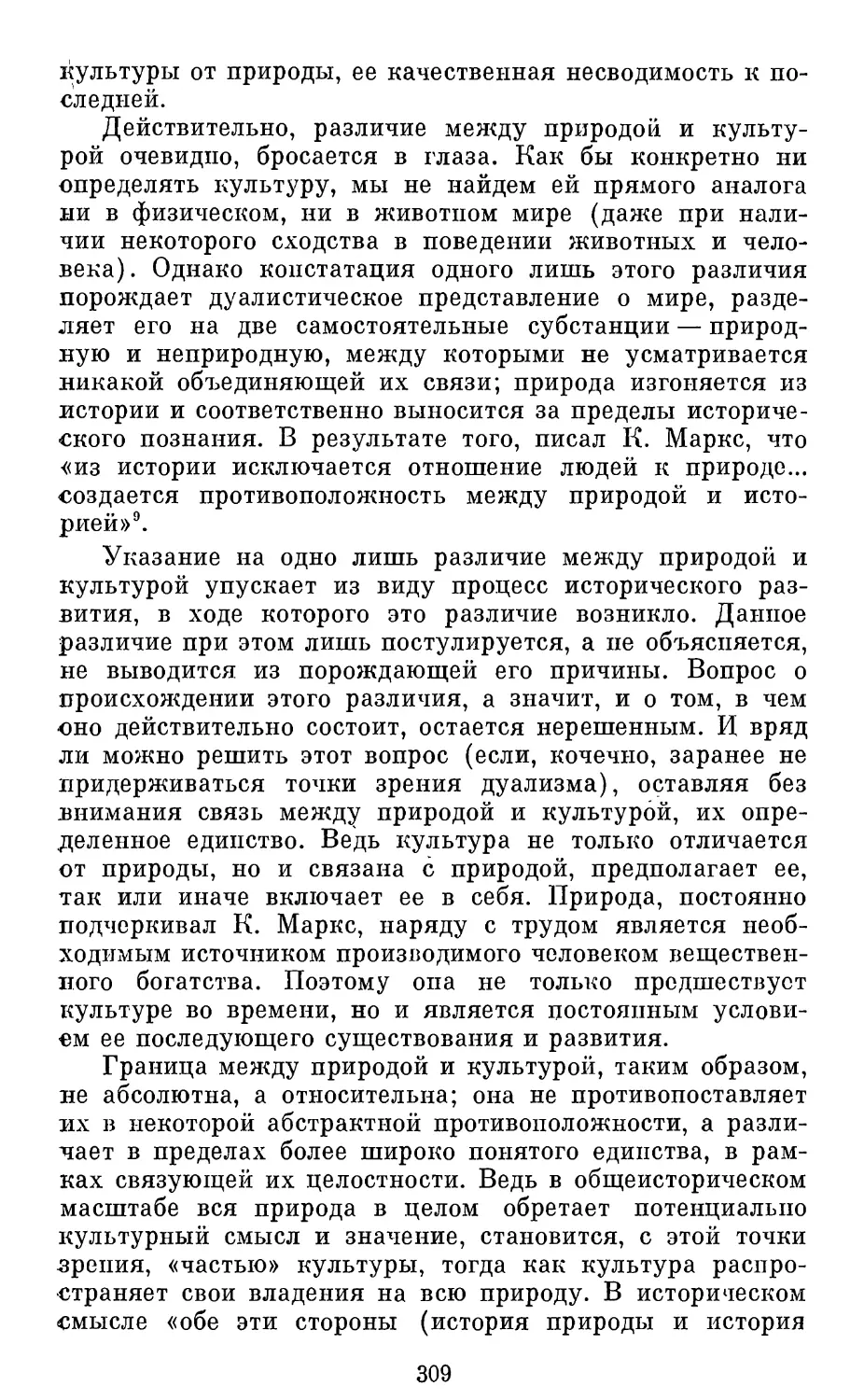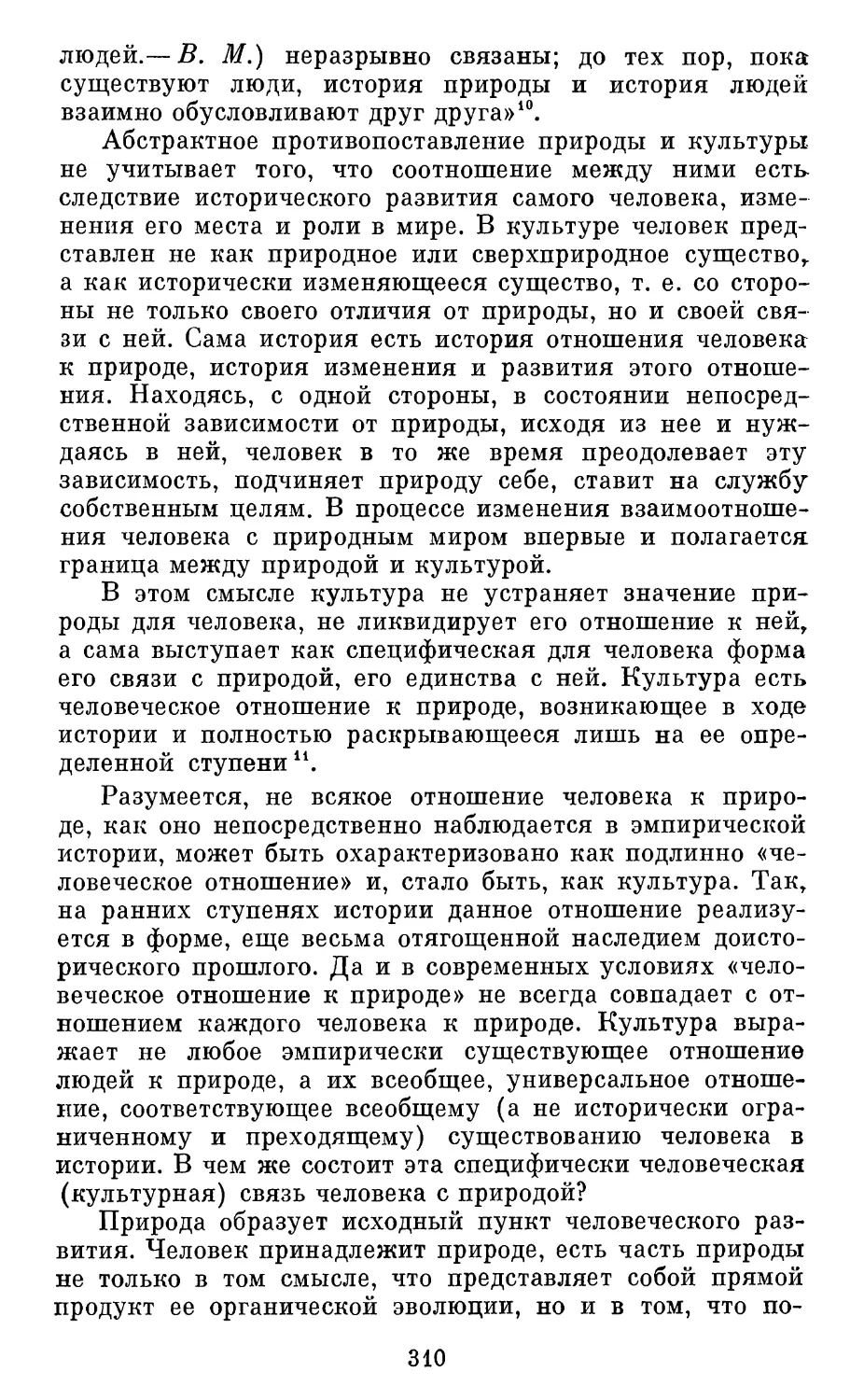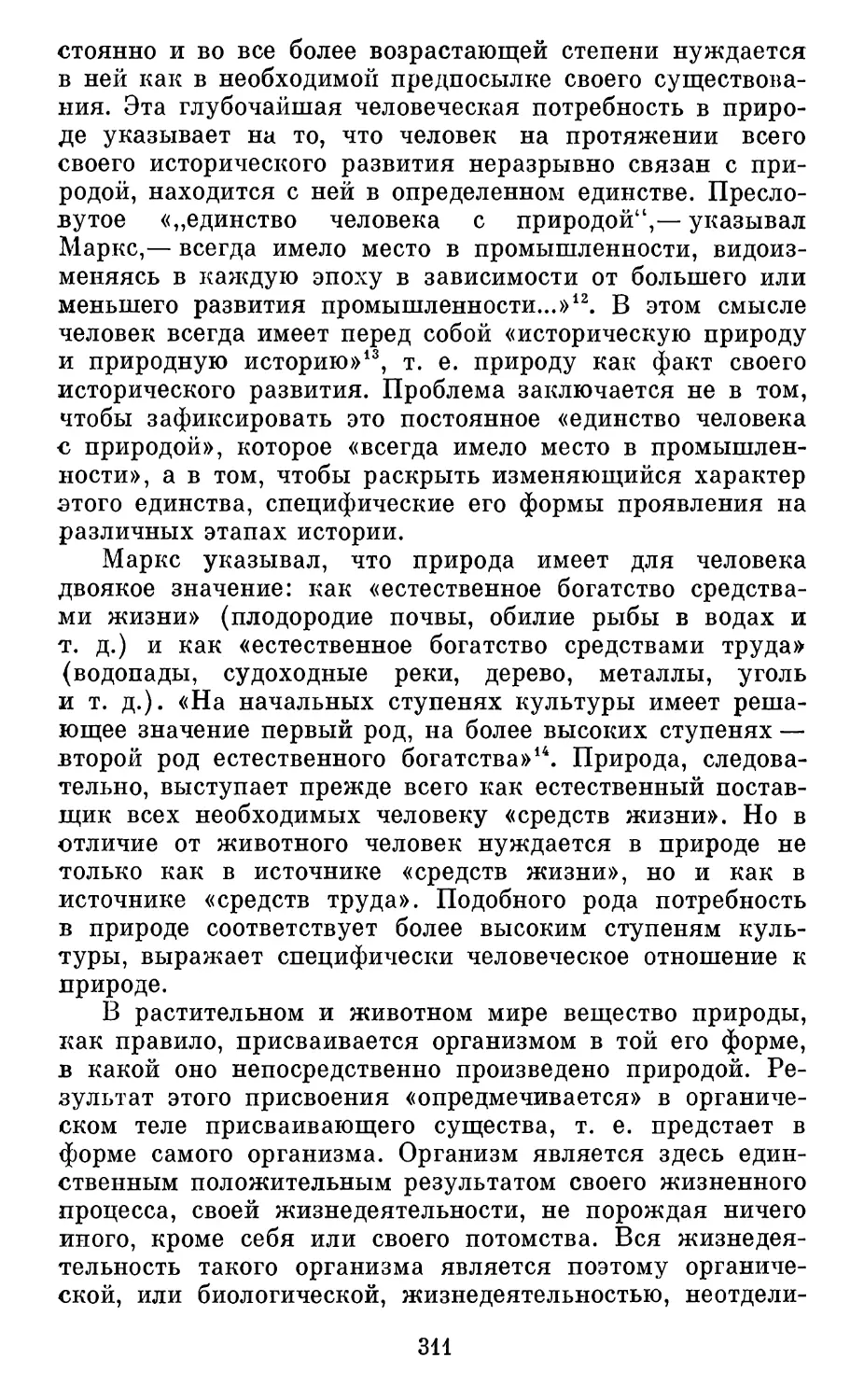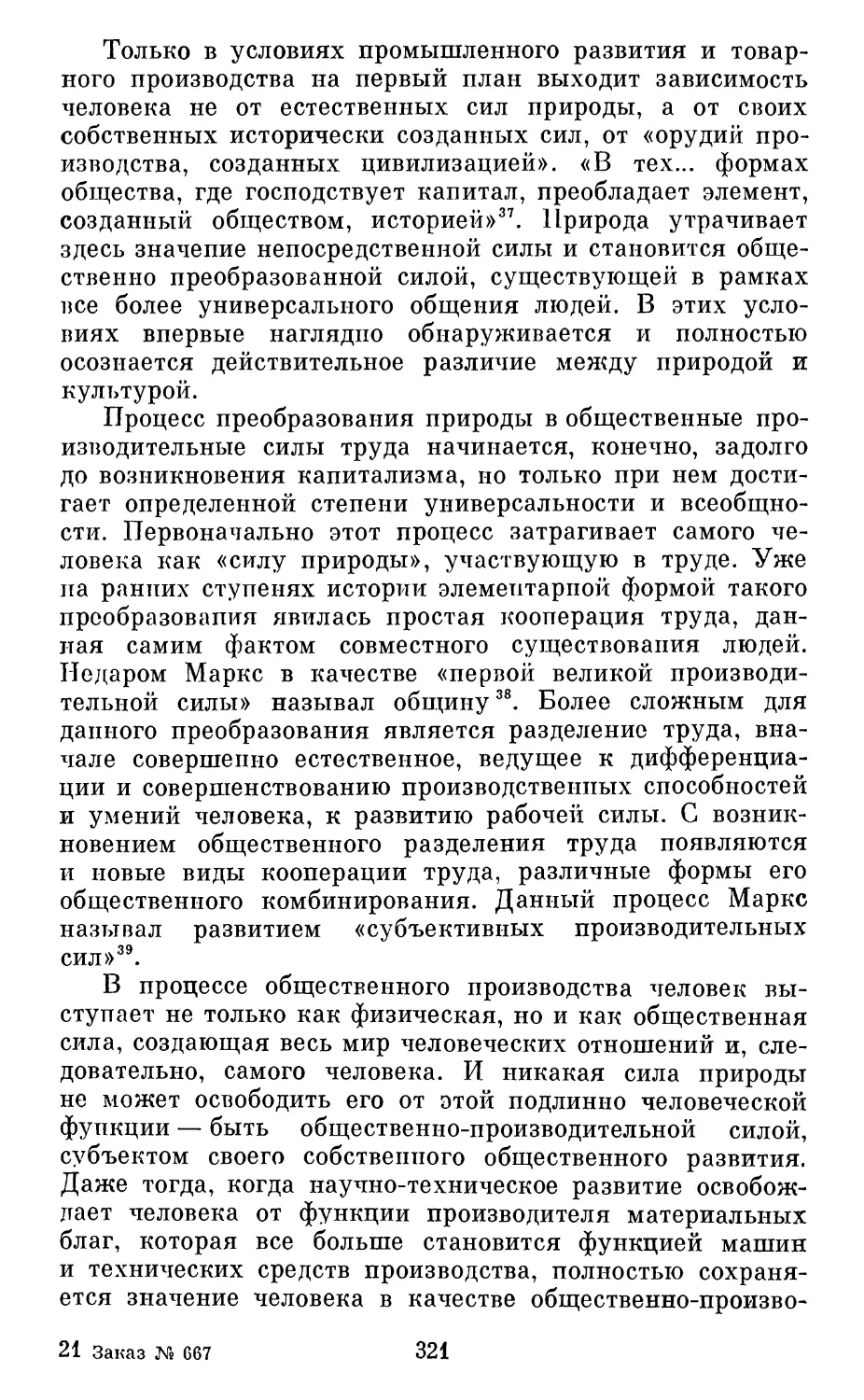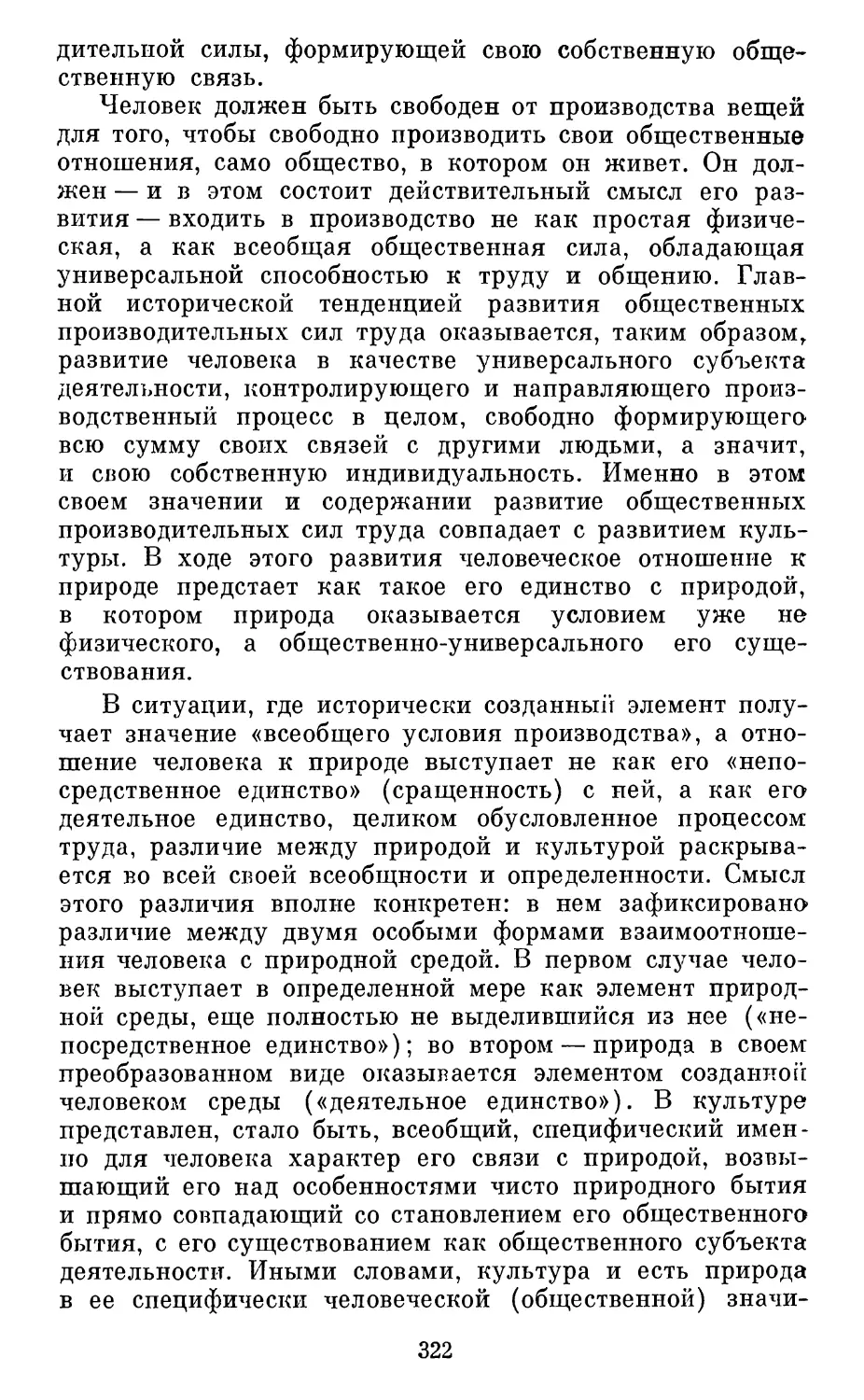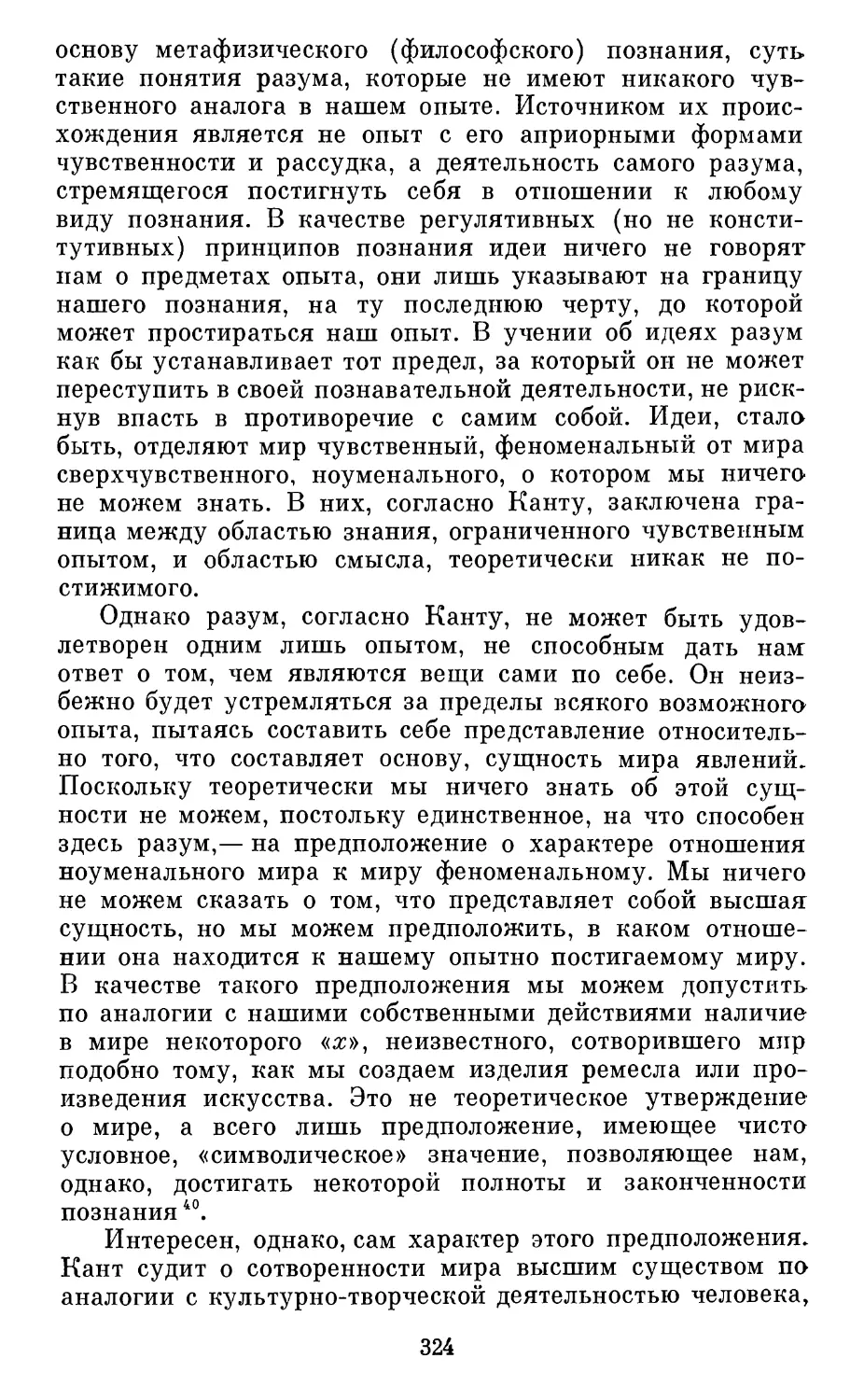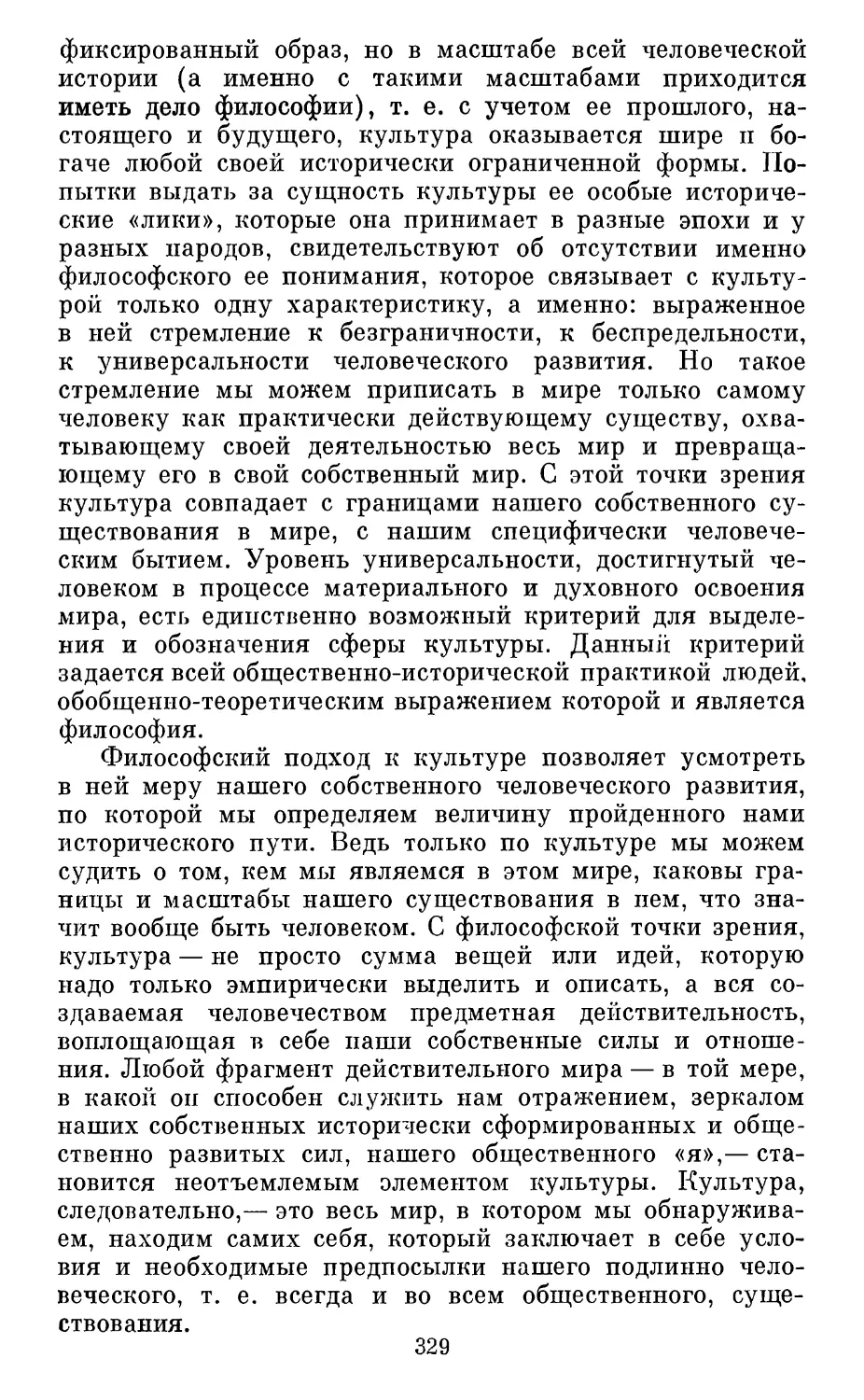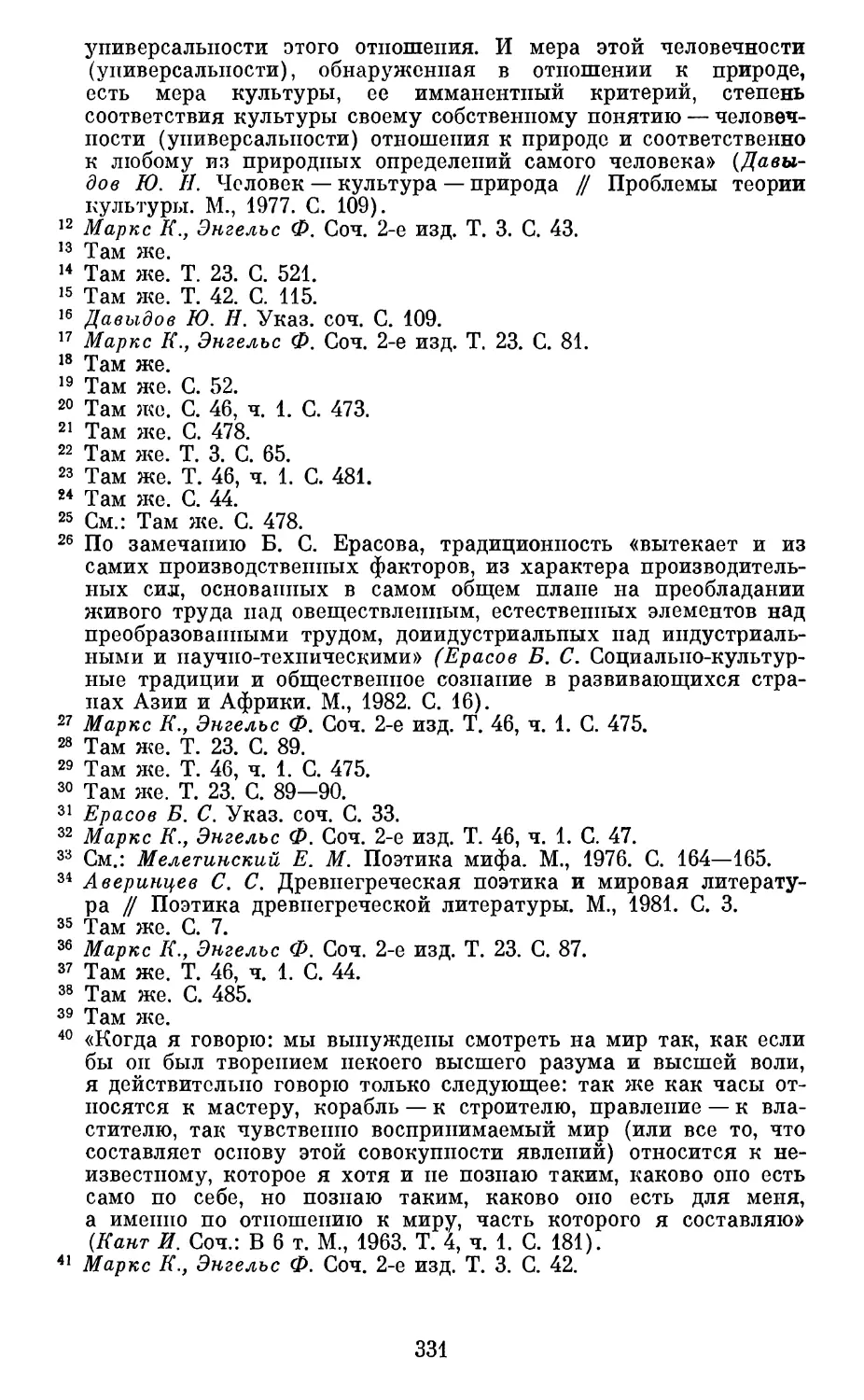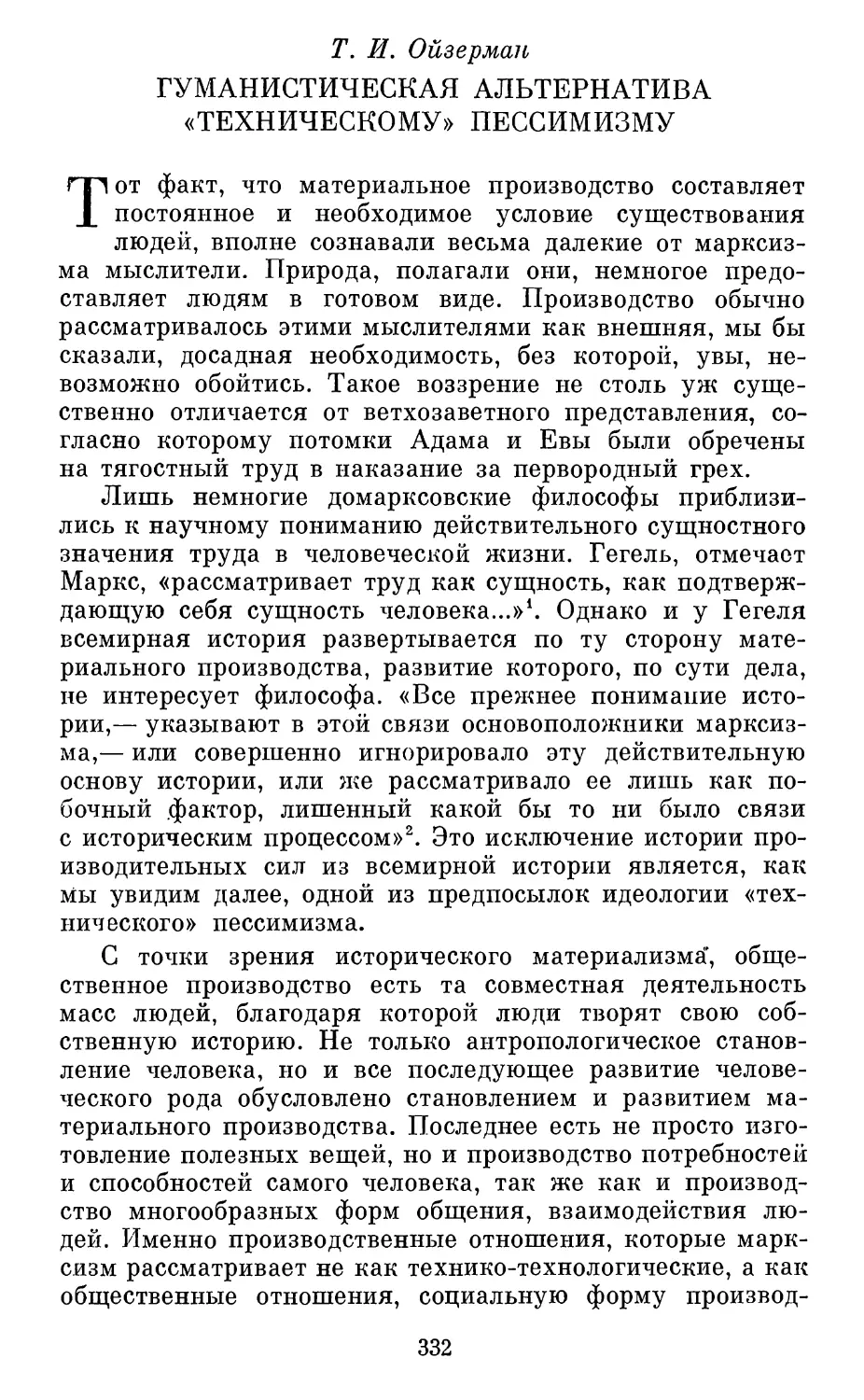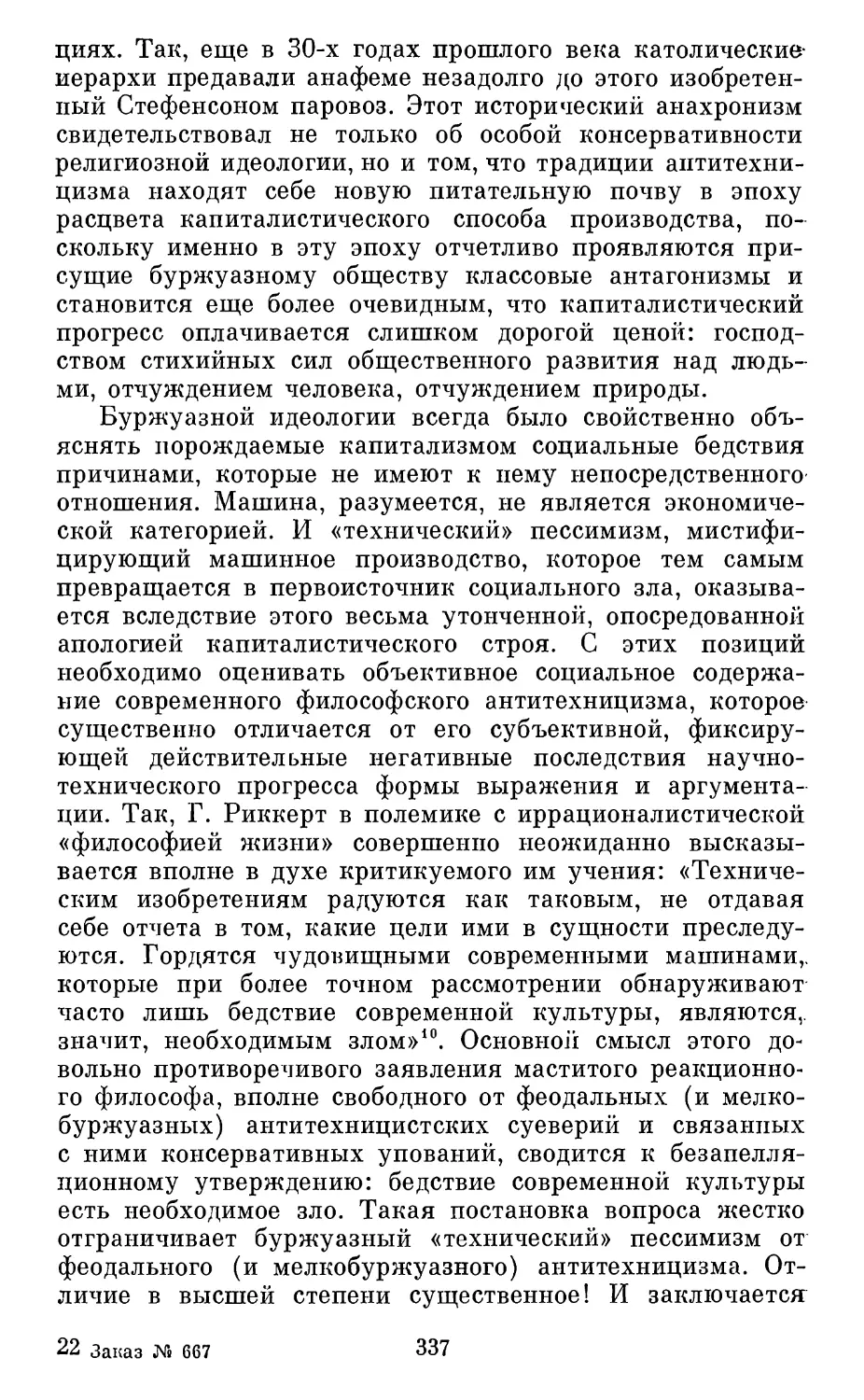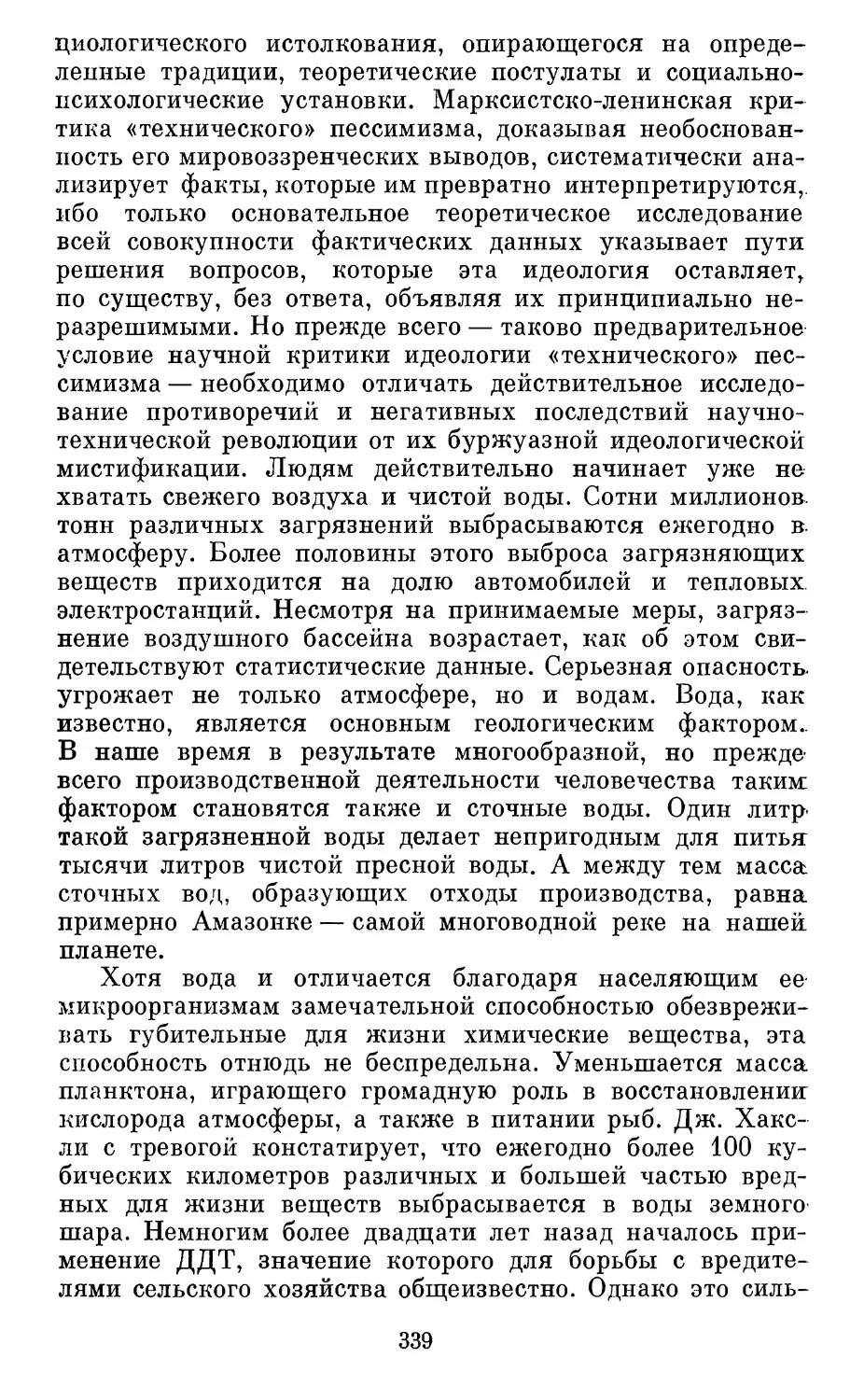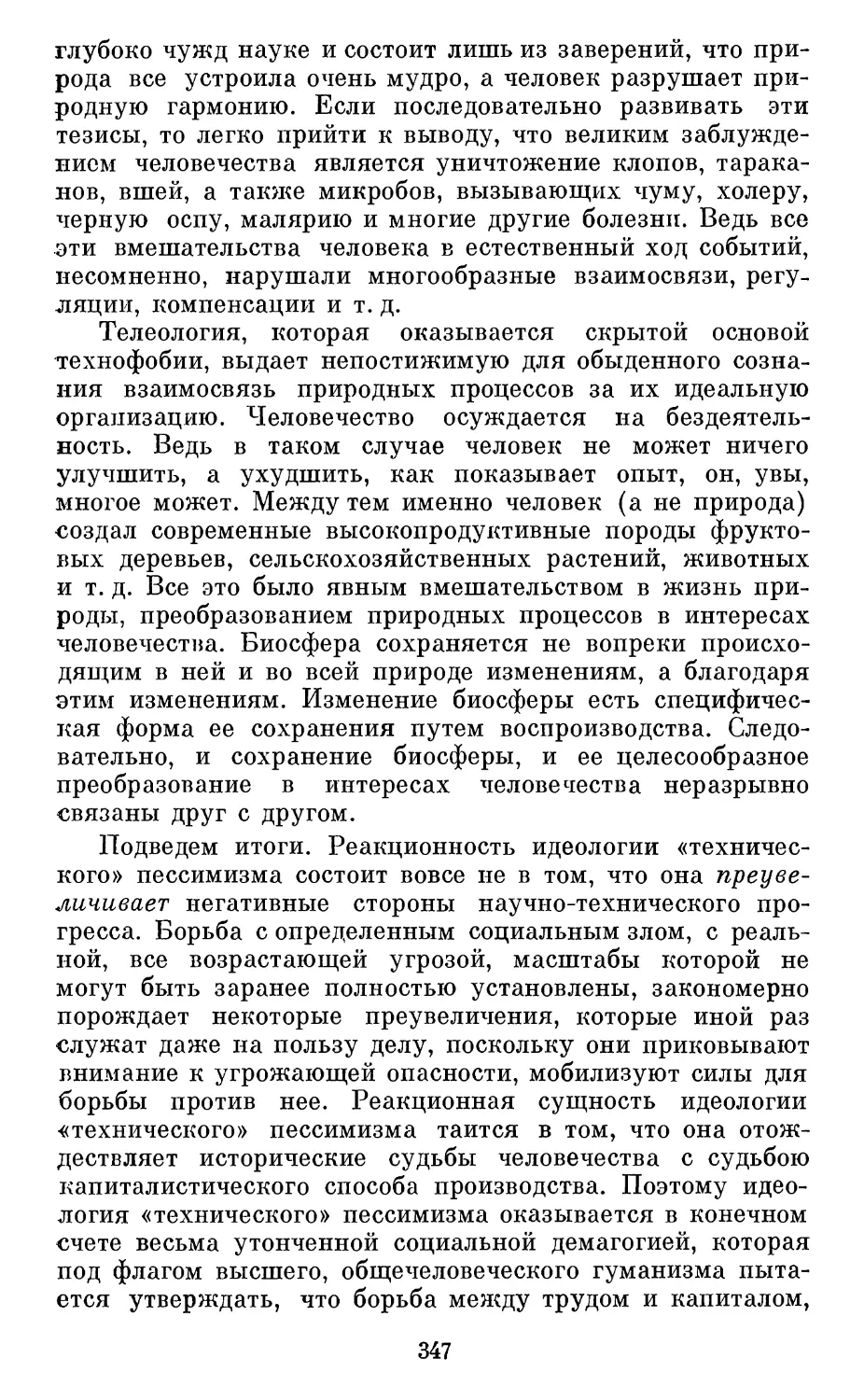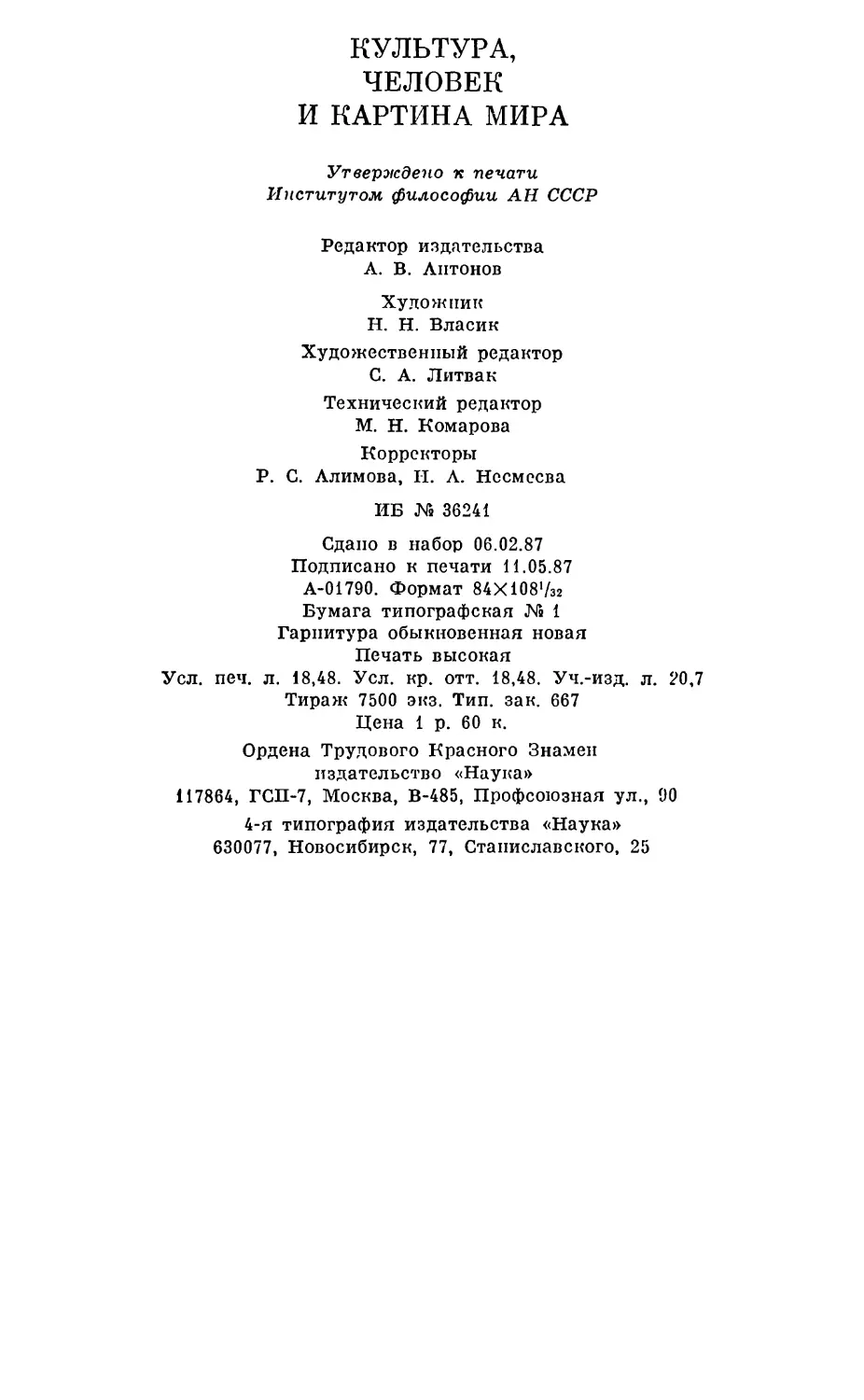Текст
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
КУЛЬТУРА,
ЧЕЛОВЕК
и
КАРТИНА
МИРА
Ответственные редакторы
доктор философских наук
A. И. АРНОЛЬДОВ,
кандидат философских наук
B. А. КРУГЛИКОВ
МОСКВА «НАУКА»
1987
Работа посвящена анализу философско-исторических
оснований культуры как социального феномена, проблем
преломления исторической реальности в духовно-ценностном
мире человека, культурной определенности его мировоззрения,,
формирования культурно-региональных картин мира в
философском сознании, а также проблем взаимосвязи
культуры и природы. Актуальные вопросы, связанные с
экологическими противоречиями современной эпохи, рассматриваются
в свете концептуальной марксистской альтернативы
«техническому пессимизму», широко распространенному в
современной буржуазной философии.
Рецензенты
Л. Я. ЗИСЬ, Т. А. КУЗЬМИНА,
Н. Л. ЛЕЙЗЕРОВ
© Издательство «Наука», 1987 г.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Пытаясь осмыслить культуру как человечески
наполненную временную протяженность, философ вынужден
размышлять о сущности культуры как социального
явления. И после интенсивной работы в области определения
культуры, после многочисленных дискуссий, в ходе
которых высказывались различные точки зрения на
культуру, больше свидетельствующие о специфичности
различных областей марксистско-ленинского философского
знания, нежели о различии в понимании сущности
культуры, в настоящее время в марксистской философии стал
постепенно очерчиваться круг проблем, составляющих
особую область исследования,— философия культуры.
Исследование сущностных свойств культуры, ее формы и
содержания, характер ее изменений и развития,
размышления о человеческой духовности и специфичности
общественных процессов, которые могут быть отнесены
к культуре со всей очевидностью, анализ философско-ис-
торического и историко-философского контекстов
культуры, осмысление процесса смыслообразования в
философском сознании культуры, качественные и количественные
характеристики культуры, исследование закономерностей
развития духовных течений и культурных процессов —
все это и составляет область, выступающую в качестве
предмета размышлений советских философов культуры.
Многие вопросы этой проблематики были намечены в
ходе дискуссий по вопросу определения культуры,
прошедших в отечественной литературе в 70-е годы. Уже
тогда стало ясно, что одна из важнейших задач
философии культуры — необходимость выяснения специфики
взаимосвязей между философией и культурой,
исследования культурологического содержания философского
сознания, необходимость выяснения пути становления
философского сознания в культурно-историческом процессе.
Внимание авторов предлагаемой книги направлено в пер-
3
вую очередь на анализ щей, способствовавших
укоренению в общественном сознании того феномена, который в
настоящее время получил название человеческой
духовности. Материалы, посвященные исследованию
взаимосвязей философии и культуры, вошли в раздел
«Философско-исторический контекст культуры».
Культура как социальный феномен в своих
пространственно-временных характеристиках и значениях
предстает как проблема перед современным человеком.
Именно в культуре сосредоточены коренные человеческие
проблемы. Здесь человек пытается раскрыть цель и смысл
своего подлинного бытия, возможности реализации своего
личностного существования. В разделе «Культура и
человек» сделана попытка представить человека во всей
его культурной протяженности, осмыслить и рассмотреть
органические и рационально сформированные связи
человека как существа социального, выявить возможности
обретения им подлинности в непосредственном бытии
культуры, вычленить простраиственночвременпые
характеристики человека, его связь с социокультурным
пространством-временем.
Индивидуальное сознание человека, его мировоззрение
тесно связано с проблемой его ориентации в мире
духовных ценностей, с определением своего места в уже
сложившихся и выработанных культурой картинах мира.
Поэтому мировоззренческие вопросы индивидуального
сознания в его связях с пространственно-временными
представлениями различных региональных культур
рассматриваются в специальных эссеистского характера
материалах в разделе «Культура и язык философского
сознания».
Поскольку мировоззрение современного человека
существенным образом связано с пониманием и
определением его места в мире природы, авторы книги
обращаются и к осмыслению современного понимания природы как
особой проблеме философии культуры в разделе
«Культура и природа в аспекте современности».
Книга подготовлена сектором философских проблем
культуры Института философии АН СССР.
Научно-вспомогательная и организационная работа осуществлена
научным сотрудником Института философии А. Н.
Лазаревой.
4
А. И. Арнольдов
ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ:
ИСТОРИЗМ И ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ
(Вместо введения)
Совершенствование духовной сферы
социалистического общества в настоящее время все в большей
степени зависит от разработки научных представлений
о культуре. Идет ли речь о человеке и человеческом
факторе, об углублении цивилизованности общества, о
накоплении идейно-нравственных сокровищ, об
обогащении ценностей, все эти стороны духовного бытия
требуют интенсивного и обостренного внимания. И тут
выясняется, что эти проблемы, требующие специального
рассмотрения, конституируют специфическую область
философского знания, тесно связанную с практикой
социалистического строительства. Это
марксистско-ленинская теория культуры.
Соотнесение теории культуры с практикой
культурной деятельности помогает решать ряд важных задач
формирования нового человека, улучшения
разносторонней деятельности социальных институтов культуры,
совершенствования системы нравственного и эстетического
воспитания трудящихся. Осмысление культуры во всем
богатстве ее проявлений обеспечивает широкое поприще
интеграции знаний, полученных отдельными науками
гуманитарного профиля. Теоретические и эмпирические
данные социологии, истории, этнографии, психологии,
лингвистики, социальной психологии, педагогики,
юридических наук могут приобрести новое звучание, если
будут обобщены и переосмыслены теорией культуры.
Марксистско-ленинская теория культуры как
самостоятельное научное направление внутри философии стала
активно развиваться в нашей стране за последние 15—
20 лет. На ее становление как науки оказала огромное
влияние систематизация богатейшего теоретического
наследия К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, творческая
культуросозидающая деятельность КПСС и других
марксистско-ленинских партий. Позитивное значение имели
5
результаты, полученные при изучении различных
аспектов духовной культуры в ряде областей нашего
обществоведения, таких, как исторический материализм, теория
научного коммунизма, социология, эстетика, некоторые
разделы исторической науки, и др.
Духовная культура традиционно изучается многими
научными дисциплинами: философией, социологией,
историей, искусствознанием, литературоведением и др. Но
теоретические вопросы культуры рассматриваются в этих
науках лишь в специфическом ракурсе. Философ,
например, обращается к общим мировоззренческим проблемам,
к содержанию культурно-исторического процесса в
целом, к раскрытию роли культуры в социальной
динамике. Социолог исследует проявления культуры как
социального феномена в общественной жизни, рассматривает
ее как фрагмент социального бытия. Историка
интересуют факты культуры в ее хронологической
последовательности, в живом процессе становления и развития.
Эстетик обращается к рассмотрению художественных
процессов и содержанию эстетического сознания. Все эти
аспекты важны, но они зачастую лишены интегратив-
ной направленности. Вот почему оформление теории
культуры как целостной концепции духовных процессов
воспринимается как насущная задача философии.
Теория культуры рассматривает духовную культуру
как самостоятельный объект изучения, исследуя его в
комплексе, интегрально. Это различие в подходе к
пониманию культурных процессов подчеркивал Ф. Энгельс,
который, характеризуя ограниченность домарксистской
философии, отмечал, что в ней производство и все
экономические отношения фигурировали лишь как
«„второстепенные элементы „истории культуры"»1. Тезис об
определяющей роли социально-экономических отношений
является методологическим принципам осмысления
культуры как исторической реальности и дает ее
систематизированное истолкование.
В настоящее время все в большей степени
ощущается потребность в изучении культуры в ее многомерных
связях с совокупным духовным опытом, с общественной
практикой и учетом сущности культурно-исторического
процесса. Более актуальным становится познание ее
сущности, внутренней структуры, способов и форм
функционирования, зависимости темпов и направления ее
развития от других сфер социальной жизни и различных
общественных институтов, а также обратного воздейст-
6
вия на них культурных факторов. Дальнейшее
обогащение духовного потенциала социалистического общества в
условиях ускорения научно-технического прогресса в
целом требует аналитического осмысления культуры и
разработки научно-теоретического аппарата для изучения
всех ее сфер, для исследования ее воздействия на
развитие общества как целостного организма, требует
расширения как фундаментальных, так и прикладных
исследований.
Развитие культуры специфично. Поэтому предстоит
осмыслить особенности ускоренного развития в этой
сфере, выявить уникальные, своеобычные черты этого
процесса. Особенно важно для практики социалистического
строительства в новых условиях фундаментальное
теоретическое исследование закономерностей
функционирования и развития культуры. В новой редакции Программы
КПСС отмечается: «Создание подлинно народной
многонациональной советской культуры, завоевавшей
международное признание,— историческое достижение нашего
строя. Истоки ее могучего влияния — в верности правде
жизни, идеалам социализма и коммунизма, глубоком
гуманизме и оптимизме, тесной связи с народом»2-
Особенности современного этапа изучения духовной
культуры состоят в комплексном подходе, в стремлении
исследовать ее связи со всеми сторонами и процессами
жизнедеятельности общества. Такая позиция позволяет
наиболее полно выявить как положительный опыт
социалистического культурного строительства, так и факторы,
отрицательно влияющие на формирование новой
культуры, а интегративный подход помогает вскрыть
механизмы воздействия культурных норм и ценностей на
динамику общественного бытия.
Разумеется, создание теории культуры не сводится
к простому суммированию результатов исследований
конкретных наук. В ходе исследования важно добиться
теоретического синтеза, в котором духовная культура
выступит как сложный социальный процесс развития потенций
человека, процесс, реализующийся в
конкретно-исторических формах материального и духовного производства*
История марксистско-ленинского обществоведения сви~
детельствует о том, что процесс «отпочкования»
отдельных его отраслей носит объективный характер и, как
правило, дает положительные результаты. Но углубление
исследований возможно лишь в том случае, если связь
между отдельными дисциплинами не будет утра-
7
чиваться или ослабевать. Роль теории культуры в
этом отношении, как уже отмечалось, особенно
велика.
Вычленение теории культуры как самостоятельного
научного направления имеет не только большое
теоретико-познавательное, методологическое, но и серьезное
практическое и политическое значение для научного
решения актуальных проблем коммунистического
культурного строительства, для усиления идеологической
борьбы с различными буржуазными и
мелкобуржуазными концепциями культурно-исторического процесса.
Вопросы теории культуры в марксистско-ленинской науке
до последнего времени были разработаны в меньшей
степени, чем ряд других проблем нашего
обществоведения, и буржуазные концепции культуры особенно
активно используются нашими противниками в
идеологической борьбе против научного коммунизма. Немалое
значение имеет и то обстоятельство, что классовый
характер многих элементов духовной культуры не
проявляется в открытой и очевидной форме, что служит
основой для различных буржуазных теорий «глобализации»
и «планетаризации» культурных процессов. В условиях,
когда происходит налаживание международного
общения в области науки и культуры, осмысление
содержания и обусловленности культурных явлений в теории
культуры может помочь международному культурному
сотрудничеству.
Для марксистско-ленинской теории культуры
характерны три основные содержательные функции:
— научнонпознавательная, призванная вырабатывать
знания об объективных закономерностях развития
культуры и движения культурно-исторического процесса в
целом, а также о культурных процессах в данный
исторический период;
— идеологическая, направленная на распространение
передовых мировоззренческих представлений среди
широких слоев общества, чтобы помочь им ориентироваться
в сложных современных социальных, политических и
идеологических условиях, способствовать их
коммунистическому воспитанию;
— практическая, цель которой — выработка научно
обоснованной государственной и партийной политики,
создание научной базы для планирования и
прогнозирования исторического развития различных сфер
духовной культуры.
8
Теория культуры, таким образом, изучает общие
законы и движущие силы развития духовной жизни
общества, место человека в социокультурных процессах
общества и в культуре, духовную культуру как сложный
процесс освоения членами общества своей
социокультурной реальности. Она исследует содержание культуры,
присущие ей социальные функции, ее структуру и ее
место в системе общественных отношений. К
компетенции теории культуры относится весь комплекс изучения
общих закономерностей становления и развития
духовной жизни, специфических закономерностей и
важнейших этапов ее развития в условиях коммунистической
формации. Теория культуры должна давать прогностиче^
ские представления о характере тех изменений в
духовном бытии людей, которые соответствуют переходу
человечества от классового общества к бесклассовому- Она
также исследует формы деятельности людей,
направленной на преобразование духовной практики общества.
Резюмируя эти положения, следует отметить, что
теории культуры присущи социальная значимость,
проявляющаяся в тесной связи с общественными запросами,
аналитический подход, позволяющий адекватно
познавать и исследовать закономерности духовной культуры,
и методологическая значимость, обеспечивающая
многосторонность отражения и решения новых общественных
и организационных проблем духовной жизни.
В последнее время в исследованиях культуры
обнаружились различные тенденции, специфику которых
определило разнообразие культурных процессов и явлений.
Так, наметилось широкое включение в русло теории
культуры историко-философских воззрений, описание и
анализ мировой культуры в целом, установление связи
культурных феноменов разных эпох, выявление
зависимости характера культуры от смены
общественно-экономических формаций. Особо можно отметить растущее
изучение культурного содержания конкретной эпохи,
позволяющее наиболее адекватно отличить один
исторический период от другого или выделить его специфику в
общем историческом процессе. Философы, историки,
искусствоведы и социологи исследуют специфические
культурные явления античности, Возрождения, Реформации,
локализуя свои научные интересы внутри каждой
конкретной эпохи. Это содействует расширению
эмпирической базы общетеоретических построений в области
истории мировой культуры.
9
В арсенале познавательных средств философской
теории культуры следует считать и структурные
исследования, в которых осмысливаются устойчивые и
универсальные принципы возникновения и «строения»
культурных феноменов, а также общесистемный подход. В
рамках последнего культура в широком, категориальном
значении этого слова рассматривается как определенная
целостность. Философы и социологи, работающие в этом
русле, ставят перед собой задачу выявить соотношение
природного, социального и культурного в человеческой
жизнедеятельности.
Явления культуры, в которых опредметились те или
иные человеческие ценности и значения, представляют
собой «мир оживших предметов» и требуют
ценностно-нормативного подхода к их изучению. В этом случае
аналитическое описание ценностей и норм дает
возможность разрабатывать конкретные модели культуры.
Марксистско-ленинская философская теория культуры
располагает сложным и разветвленным аппаратом.
Заимствуя у других наук некоторые понятия, она в то же
время наполняет их специфическим содержанием.
Вместе с тем она вводит собственные базовые понятия,
такие, как «культура», «культурные ценности»,
«культурно-исторический процесс», «структура духовного
производства», «культурный прогресс», «субъект культуры»,
«уровень культуры», «культурные слои», «культурная
среда», «культурная дифференциация», « культурный
факт», «феномен культуры», «культурное наследие», и
др. Подобная разработка категориального аппарата
диктуется логикой научного познания* стремлением
закрепить и осмыслить опыт культурно-исторического
процесса и социалистического культурного строительства.
Категории и понятия философской теории культуры
отражают такие черты человеческой деятельности,
которые связаны с созданием, распределением, обменом и
потреблением продуктов культурной деятельности. Они
позволяют выявить качественные особенности разных
исторических типов этой деятельности, а также то
новое, что характеризует ее при социализме. На их основе
распознаются механизмы формирования личности
социалистического типа, развития ее гражданских качеств и
творческих способностей. Стало быть, разработка
системы логико-методологических принципов комплексного
исследования культуры, а также выявление специфических
методов изучения культуры для фундаментальных иссле-
10
дований и прикладных разработок, связанных с
развитием социалистической культуры, весьма актуальны.
Прежде всего следует остановиться на самом понятии
«культура». Естественно, что марксистско-ленинская
теория культуры, выявляя и осмысливая закономерности
духовного развития общества, не может обойтись без
научного понятия культуры, без определения ее
общеисторического смысла и содержания, без осмысления
специфического места данного понятия в ряду других
культурологических категорий.
В последние годы в советской литературе вошло в
широкий обиход двоякое толкование категории духовной
культуры. В одном случае речь идет о широком
философском толковании, согласно которому «культура»
понимается как сложный общественный феномен,
охватывающий различные стороны духовной
жизнедеятельности общества и творческой самореализации человека. Но
рядом существует и стойко уже укоренилось, условно
говоря, «рабочее», узкопрофессиональное определение
духовной культуры как одной из многих сфер духовной
жизни народу с наукой, образованием, искусством. На
наш взгляд, в качестве научного понятия оно неточно и
не отражает современного уровня знаний, всей
сложности и богатства содержания духовной культуры.
Проблема определения культуры имеет и
многолетнюю историю и многотомную литературу. К сожалению,
в рамках марксистской общественной мысли пока не
выработано единое научное определение данного
феномена, нет единства по этому вопросу и среди западных
философов-культурологов.
На данном этапе развития научного знания с этим
приходится мириться: ведь марксистской теории культуры
еще предстоит решить многочисленные концептуальные
и терминологические проблемы. К тому же к
исследованию культуры все еще обращаются представители
самых различных, порой достаточно далеких друг от
друга, общественных наук. Естественно, что в каждом
случае исследователи рассматривают сходные, а порой —
одни и те же факты и явления под разным углом
зрения. При этом они по-разному представляют себе
исходную модель, применяя в своем анализе привычную для
них систему категорий, понятий, а также допущений,
способов аргументации, присущих именно данной
конкретной дисциплине. Это ведет к различиям, порой весьма
существенным, в трактовке самого исследуемого
феномена.
11
Многие исследователи убеждены в том, что
многозначность термина «культура» не дает возможности для
четкого, содержательного и однозначного определения
границ обозначаемого им понятия. Между тем
известная доля конвенциональности в данной ситуации
представляется ныне как нельзя более необходимой,
хотя бы в качестве определенного шага на пути к
выработке общепринятого определения, фокусирующего в
себе различные оттенки и «смыслы» самого явления.
Проблема в целом продолжает оставаться
дискуссионной. Однако усилия многих исследователей приблизили
нас к пониманию культуры как сложного социального
феномена, имеющеого отношение буквально ко всем
сторонам общественной и индивидуальной жизни, как
живого, единого организма, открытой, целостной,
многозначной и полифункциошальной системы.
В последние годы в нашей литературе наметились
два сравнительно четких подхода к пониманию
культуры: один (условно говоря, «философский») делает упор
на таких аспектах, как производство', распределение,
потребление культуры, и в качестве главной ее черты
выдвигает создание ценностей, подчеркивая динамичный
характер культуры как процесса развития сущностных
человеческих сил и способностей в ходе сознательной
деятельности личности. Другой подход (назовем его
«социологическим») рассматривает культуру как систему
ценностей, норм, институтов, т. е. с точки прения ее
предметной структуры. Целесообразно синтезировать эти
подходы, детальный анализ ценностной структуры
общества дополнить анализом социальных и
антропологических предпосылоогс культуры. Разумеется, процессы
дифференциации, растущей специализации науки и
дальше будут вносить пестроту в осмысление феномена
культуры. Но этому сопутствует другой, диалектически
связанный с ним процесс интеграции научного знания,
углубления взаимодействия между различными
дисциплинами. При изучении культуры это в полной мере
проявляется в росте междисциплинарных исследований, все
более частом сотрудничестве в рамках определенного
исследовательского проекта различных специалистов —
например, историков, этнографов и социолингвистов,
социологов, философов, психологов и т. д.
Поскольку духовная культура неразрывно связана с
общественной жизнью, то в ее содержании естественно
отражаются многообразные социальные процессы и кол-
12
лизни, отношения внутри общества. Культура служит
специфическим способом организации и развития
человеческой жизнедеятельности, включает в себя различные
стороны человеческого существования, многообразные
связи и отношения человека с окружающим миром и
другими людьми. Некоторые определения культуры,
встречающиеся в литературе, содержат в себе
абсолютизацию одной из ее сторон. При этом целостный характер
ее утрачивается- Так, например, нередко культура
сводится лишь к предметным результатам человеческой
деятельности, т. е. к объективной форме существования
культуры, и тогда ее личностная (субъективная) форма
остается вне поля зрения; в других же определениях,
напротив, подчеркивается роль традиции,
преемственности и тем самым упускается аспект творчества,
созидания нового и т. д.
При разработке категории «культура» важно
постоянно иметь в виду исторический контекст этого
социального явления. Историзм позволяет сочетать в понимании
культуры моменты особенного с признанием той связи
между ними, которая объединяет их в общий процесс
культурного развития человечества.
В марксизме проблема культуры раскрывается и
анализируется как проблема изменения, развития самого
человека, т. е. «очеловечения» человека, утверждения в
нем гуманистического начала. Объективным критерием
развития культуры является степень той
универсальности, с какой человек относится к природе, к другим
людям, к самому себе.
Таким образом, культура — это исторически
развивающаяся система созданных человеком материальных и
духовных ценностей, социокультурных норм, способов
организации поведения и общения, а также
обусловленный способом материального производства процесс
развития сущностных сил человека, его самореализации,
процесс его творческой деятельности, социально значимой
по своей сущности и направленной на освоение и
изменение мира, в котором живет человек. Кроме того, в
теоретическом понимании культуры учитываются и
всеобщие, универсальные, общечеловеческие характеристики,
и этим определяется та часть проблематики теории
культуры, которая связана с изучением
культурно-исторических универсалий. В этом случае понятие
«культура» используется в абстрагированном (или
генерализованном) смысле. При такой трактовке понятия речь, как
13
правило, идет о совокупности всех артефактов,
доступных изучению и сгруппированных вокруг двух полюсов,
отражающих наиболее общее разделение форм
человеческой деятельности на материальное и духовное
производство. Соответственно выделяются сферы материальной
к духовной культуры.
Относительная самостоятельность материального и
духовного аспектов культуры позволяют сделать
объектом изучения структуру связей между ними, пути и
способы их влияния друг на друга, что существенно
расширяет и углубляет область знания о человеке и его
окружении. С другой стороны, очевидная
взаимодополнительность этих двух аспектов культуры позволяет при
анализе рассматривать каждый из них (в зависимости
от уровня исследования) как совокупность объективных
условий, определяющих динамику функционирования
другого.
В сферу материальной культуры обычно включаются
все имеющиеся орудия и средства труда, относящиеся
к материальному производству, навыки обращения с
ними, способы производственной деятельности, а также
результаты труда. Сюда же в настоящее время можно
отнести совокупность знаний, непосредственно связанных
со сферой производства. Наконец, это также нормативно-
ценностные аспекты распределения материальных благ
и регуляции элементов социальной структуры,
обусловленных непосредственно материальной стороной
общественного бытия.
Последний аспект представляет собой в
аналитическом смысле промежуточную область между сферами
материальной и духовной культуры.
К сфере духовной культуры можно отнести знания,,
навыки и продукты деятельности, связанные с
порождением, поддержанием и изменением образцов и
механизмов, регулирующих отношения людей с окружающим
природным миром, миром артефактов (вещей «второй
природы» и идей) и друг с другом.
Что касается динамического аспекта культуры,
понимаемой в генерализованном смысле, то он
определяется следующими теоретическими положениями.
а) Развитие человеческих культур носит
поступательный характер. Направленность развития
определяется, с одной стороны, возможностями, содержащимися в
совокупности условий, задающих границы культуры, а
с другой — степенью и способами реализации этих воз-
14
можиостей представителями различных социальных групп
носителей этой культуры.
б) Объективный характер поступательного развития
культуры не означает, что оно происходит
автоматически. Изменения в социокультурной жизни совершаются
людьми, зависят от их знаний, энергии, воли.
в) Поступательное развитие рассматривается как
общая тенденция историко-культурного движения
человечества. В рамках локальных культур возможны спады и
застои как в отдельных культурных сферах, так и в
культуре в целом. Интенсивное развитие одних областей
культуры может сопровождаться более медленными
изменениями в других. Таково, например, в настоящее
время соотношение науки и искусства в рамках западной
цивилизации.
Для исследования динамики культурно-исторического
процесса понимание культуры в генерализованном
смысле становится недостаточным. Необходимым оказывается
иной угол зрения на культуру, позволяющий увидеть в
ней не только инвариантные, универсальные
характеристики. Для этого понятие «культура» используется в
конкретно-историческом смысле и относится к процессу
реализации накопленного человечеством культурного
потенциала (описываемого понятием «культура» в
генерализованном смысле) в рамках данных
конкретно-исторических условий. В этом случае в понятии «культура»
также целесообразно выделять аспекты, относящиеся к
сфере как материального, так и духовного производства.
Важнейший аспект культурной динамики,
определяющий воздействие тех или иных фактов и явлений
культуры на более широкий культурный контекст, связан
с наделением их смыслом, в частности с
перераспределением ценностных приоритетов в рамках культуры.
На конкретно-историческом уровне анализа определяется
ключ к интерпретации социокультурных фактов, их
сочетаний и их последствий благодаря изучению
механизмов смыслообразования.
При конкретно-историческом направлении анализа
термина «культура» акцент перемещается с явлений
всеобщего характера на единичные и особенные.
Границы охватываемых исследованием явлений
определяются понятием «исторический тип культуры»,
устанавливающим конкретную определенность культуры через
набор ее общественно-исторических (формационных),
национальных и классовых характеристик. В этом случае
15
закономерности развития культуры определяются через
изучение наблюдаемых событий социокультурной жизни
с точки зрения их соединения в процессы, формы и
структуры которых обусловливаются общей
совокупностью условий материального и духовного порядка, с
одной стороны, и их конкретно-историческим
смыслом — с другой. Совершенно очевидно, что последнее
подразумевает необходимость включать в аналитическую
схему человеческую деятельность. В рамках
марксистской философии такое включение предусмотрено
основополагающим представлением о человеке как о
единственном носителе активной силы, действие которой
направлено на освоение и создание материальных и духовных
ценностей.
Конкретно-исторический уровень анализа
культурного аспекта человеческого бытия требует концентрации
внимания на непосредственных процессах
социокультурной жизнедеятельности человека, протекающих в
изучаемых социально-исторических обстоятельствах, на
исследовании конкретных механизмов осмысления
окружающих условий, используемых людьми в данных
исторических условиях, на анализе используемых ими
способов поддержания или изменения ценностной иерархии
этих условий по отношению к изменениям,
происходящим в экономической, социальной, политической и
других сферах, на изучении процессов порождения новых
(или возрождения казавшихся архаическими)
культурных ценностей, образцов, институтов.
Совершенно очевидно, что каждая из этих двух
совокупностей проблем теории культуры предполагает
использование для изучения культуры различных
временных параметров. Так, в первом случае в сферу внимания
исследователя попадают долговременные процессы,
измеряющиеся временем жизни многих поколений людей.
Во втором же случае временные параметры изучаемых
процессов соизмеримы с жизненным циклом одного
поколения. Говоря о временном аспекте изучения
культуры, следует напомнить, что в рамках марксистской
культурологии человек рассматривается как единственный
субъект духовной деятельности, творец и носитель
культурных ценностей и в то же время как объект
культуры. С точки зрения этой теории жизнедеятельность
личности рассматривается как единичное по отношению к
особенному — ценностно-нормативному содержанию
личности, которое типично для социальной группы индиви-
16
да, и всеобщему — .культурному потенциалу общества в*.
рассматриваемый исторический период времени. Такое
рассмотрение позволяет систематически проследить
связи и взаимовлияния названных уровней в синхронном
и диахронном аспектах. Исследователь, фиксируя в этом
случае устойчивые и повторяющиеся во времени,
абстрагированные от человека аспекты культуры, имеет также
в веду, что социокультурной жизни присущи
подвижные, преходящие черты, связанные с поведением и
деятельностью людей в обществе.
Живя в культуре, люди осуществляют действия,
которые по отношению к динамике социокультурного
бытия можно разделить на две категории: а)
действия, протекающие в рамках установленных и
нормализованных отношений людей с окружающей средой и
друг с другом; б) действия, связанные с генезисом,
нециклическими изменениями или же распадом этих
отношений.
Это означает, что поступательное развитие культуры
обусловлено возможностью связи времен,
диалектической преемственности идей и способов деятельности
поколений, с одной стороны, и внесением в жизнь людей
культурных инноваций — с другой. Поэтому адекватный
анализ культуры связан как с выявлением исторических
корней ее фундаментальных оснований, так и с
рассмотрением генезиса новых культурных образований и
определением тенденций их развития.
Принцип историзма является существенной составной
частью марксистской теории культуры, выполняя в ее
рамках важные методологические функции. Вюнпервых,.
им обусловлено требование рассматривать культурные
явления и процессы как направленные, а их
направленность определяется как движение во времени от
прошлого к будущему. Во-вторых, он позволяет на оси
времени зафиксировать позицию наблюдателя, с которой
оказывается возможным следить за динамикой не только-
отдельных явлений и процессов определенной культуры
в ее конкретно-историческом понимании, но и
рассматривать развитие макроисторических процессов. Наконец,
принцип историзма позволяет выделять и сравнивать
друг с другом различные временные состояния одной и
той же культурной целостности с целью выявления
происходящих в ее рамках структурных и содержательных
изменений, т. е. определения различных ступеней ее
развития. При этом следует отметить, что процесс раз-
2 Заказ № 667
17
вития культуры, хотя и обладает определенной
самостоятельностью (в развитии сферы общественного
сознания, идей, символических систем), тем не менее
находится под воздействием ограничений и динамики
производительных сил общества и его
социально-экономической структуры, в силу того что определенный тип
духовного производства связан с определенным типом
материального производства. Производительные силы
общества в каждый исторический период обусловливают
совокупность требований к людям в отношении объема
знаний и навыков деятельности, а следовательно, влияют
на структуру и содержание определенных культурных
процессов (например, образование, нормы
профессиональной деятельности и т. п.).
Принцип историзма в теории культуры выполняет не
только важную познавательную функцию, но и имеет
существенное мировоззренческое значение.
Руководствуясь этим принципом, исследователь культуры
оказывается перед необходимостью решать ряд теоретических
проблем, имеющих фундаментальное значение для
понимания культурной жизнедеятельности людей как
динамического процесса. Первый круг проблем связан с
необходимостью следить за меняющимся в истории
положением человека по отношению к природному и
ценностному окружению. Иными словами, изучение
каждого историко-культурного периода следует начинать с
постановки вопроса: какое место занимает и какую роль
выполняет человек по отношению к природе и
выработанным практикой культурной деятельности духовным
ценностям. Второй круг проблем определяется задачей
выявления культурных универсалий.
Особую мировоззренческую функцию принцип
историзма выполняет при изучении культурной
жизнедеятельности людей в период переломов и революций.
Переломные, кризисные периоды в культурной жизни
общества или цивилизации обычно связаны с переходом
их из одного исторического состояния в другое. Эти
периоды характеризуются неопределенностью ориентации
движения культуры, размытостью, нечеткостью
культурных норм и ценностей. Существенные изменения в
процесс развития культуры вносят также социальные
революции. В эти периоды совершается быстрая и
полная замена одного типа общественных отношений —
устаревшего — другим, новым, более соответствующим
•изменившимся условиям.
18
Мировоззренческая значимость принципа историзма
особенно велика в периоды революционных бурь и
переломных эпох, ибо в это время он заставляет людей
обращаться к более четкому осознанию своего места и
роли в истории, к определению направления дальнейшего-
общественного развития. Своеобразие и различие сфер-
культуры, их относительная независимость друг от
друга, различие в скорости внутреннего движения делают
наблюдение за культурной динамикой сложным
аналитическим процессом. С другой стороны, тот факт, что*
соотношение универсального и конкретно-исторического,,
общечеловеческого и национально-специфического в;
каждой культуре обусловлено объективными факторами,,,
дает возможность реалистически и с научных позиций
подойти к решению проблем, возникающих в духовной:
жизни людей в связи с этим соотношением.
Поскольку трактовка понятия «культура» в
марксистско-ленинской философии подразумевает отражение
в нем и объективной и субъективной сторон
жизнедеятельности человека, адекватная философская оценка
культурного аспекта человеческого бытия означает
необходимость иметь дело не только с описанием
культурной реальности «как она есть», но и с ее нормативным
идеальным образом, системой представлений о том, что
должно быть при определенных исторических условиях.
Применение принципа историзма в марксистской
культурологии имеет существенное значение при
построении системы идеально^нормативных теоретических
представлений о культуре, об образе жизни людей. Историзм
является необходимым прежд,е всего для определения оо-
держания общественных идеалов с точки зрения
возможности их осуществления в настоящем или в будущем.
Идеалы, понимаемые как квинтэссенция системы
духовных ценностей общества, с одной стороны, и
источники целеполагания — с другой, являются значимой
характеристикой развития духовной стороны культуры и
образа жизни. Представляя собой динамичное по
структуре и содержанию духовное образование, идеалы
одновременно суть и продукт имеющихся
историко-культурных условий и обстоятельств, и нормативные
представления, устремленные в будущее.
Нормативный (или аксиологический) аспект
осмысления понятия «культура» обусловлен гуманистическими:
ценностями, составляющими основу
марксистско-ленинской философии и подчеркивающими существенную зна-
2*
19
чимостъ развития духовного потенциала человека,
являющегося мерилом оценки достижений общества.
Историческая цель развития культуры, согласно
идеально-ценно стной концепции в рамках
марксистско-ленинской философии,— построение и сохранение такой
культуры, которая активизировала бы социальное
творчество людей, побуждала бы членов общества к
самодеятельности во всех областях общественной явив нет,
способствовала бы их становлению как активного и
сознательного субъекта культурно-исторического цроцесса на
различных стадиях его развития.
В конкретно-историческом смысле понятие
«культура» характеризует процесс реализации людьми в данных
конкретно-исторических условиях накопленного
человечеством культурного потенциала, относящегося как к
материальному, так и духовному производству. Причем
главное в этом процессе — духовное воспитание
человека, его «возделывание». Личность рассматривается как
субъект кулътур'нонисторичеокого процесса, развитие
которого определяется активным участием в деятельности,
направленной на достижение высоких общественных
целей. Суть культуры, следовательно, в обеспечении таких
условий для человеческой деятельности, которые
помогают раскрывать творческий потенциал,
интеллектуальные и нравственные возможности личности.
Всестороннее развитие личности как проблема теории
культуры выдвигает перед исследователями целый
комплекс вопросов. Ваяшо уточнить само понятие субъекта
культуры. Очевидно, не всякое поведение человека в
культурно-историческом процессе позволяет говорить о
нем как о субъекте культуры. Характеризовать
индивида в этом качестве можно лишь тогда, когда он
включается в культурно-исторический процесс как
личность, как активная творческая духовная сила.
В этапах развития культуры прослеживается и
становление личности. Оно охватывает подготовку
человека к общественно полезной* творческой деятельности и
сферу его непосредственного участия в этой
деятельности. Культура выступает одновременно и как процесс
развития человеком своих творческих сил и
способностей, и как процесс реализации этих способностей в
социально значимых результатах деятельности.
Нетрудно заметить, что в таком понимании культуры
главный упор делается на развитие человека, на
формирование личности, способной взять на себя решение
20
сложных и трудных задач, стоящих перед обществом.
Общественная ценность культуры в том, что юна служит
необходимым условием практической деятельности масс,
направленной на преобразование окружающего мира и
самих себя. Иными словами, она выражает не пассивное,,
созерцательное, потребительское отношение человека к
миру, а его активно-творческое поведение,
непосредственно совладает с его существованием в качестве
активного субъекта истории. А субъект
культурно-исторического процесса связывает свою деятельность в
настоящем на основе прошлого с будущим. В результате и
культурное наследие, и современная культура
оцениваются, субординируются не только в историческом и
современном аспектах, но и на баве научного
прогнозирования.
В своем социальном бытии, в процессе материального
и духовного производства люди создают предметы и идеи,
продиктованные их потребностями и способностями. Но
социокультурная практика не ограничивается только
этим. Из этих предметов и идей люди выстраивают
упорядоченные совокупности, например, производственное
оборудование, определенные наборы вещей быта, а вг
духовной сфере — философские системы, эстетические
воззрения, которые выступают как компоненты
культурной среды. Их многообразие и подвижность, хотя они и
являются продуктами человеческой деятельности, ставят
перед людьми проблему упор.ядочентя своей
культурной среды, выбора наиболее значимых ее элементов,
как существующих, так и еще находящихся в процессе
созидания. Основой такого упорядочения служит
отношение людей к своему социальному бытию. В условиях-
социокультурной жизни постоянно реализуется
человеческое действие1, связанное с оценжой, с ценностными
ориентациями.
Оценивающая деятельность фиксирует
социокультурные предпочтения людей в мире предметов, идей, видов
деятельности. Подобного рода предпочтения, как
известно, определяют индивидуальный жизненный путь и
направленность групповых действий людей. В процессе
сопоставления предпочтений в ходе межличностного
общения или развития отношений между социальными
классами и группами складываются фиксированные и
разделяемые большинством людей данного класса или
группы представления о некоторых «ведущих» явлениях
культуры. С помощью такого сопоставления люди рас-
21
полагают, упорядочивают, ранжируют и
перераспределяют значения уже существующих и вновь создаваемых
предметов и представлений. Те из них, которые в
данный период времени принимаются как наиболее зна/чзи-
мые Д|ЛЯ жизни в обществе и культуре и в то же время
положительно оцениваемые, можно назвать культурными
ценностями, т. е. теми феноменами, которые
аккумулируют духовно-нравственные и технологические
приобретения. Культурные ценности, детерминированные
социально-политическим и экономическим факторами,
выражают общественное отношение социального субъекта
(класс, коллектив, личность) к различным явлениям,»
факторам и процессам духовной живдвси-. Эти ценности
образуют особые совокупности или системы в каждой из
сфер социокультурной жизни людей. Так, сфера
политики располагает своими ценностями — политическими;
искусство порождает художественные ценности; наука —
интеллектуальные. В обыденной жизни бытуют
моральные, нравственные ценности. Каждая система ценностей
представляет собой своего рода шкалу, в которой
объекты упорядочены соответствующим образом.
Естественно, что эта шкала предпочтений неодинакова у
различных членов общества. Одни и те же предметы и идеи
могут занимать высокое положение в системе ценностей
одних людей, среднее — у других и совсем не входить в
эту систему у третьих. В подобных случаях, видимо,
следует говорить не о «негативных ценностях», а о нега-
тивныж оценках определенных явлений культуры. Такой
подход, признающий как позитивные, так и негативные
оценки, очень важен при решении вопросов, связанных с
совершенствованием культурной политики, ибо ни один
тип оценок не может быть возведен в абсолют и
нуждается в исследовании причин и путей его влияния на
живые процессы культуры.
Культурные ценности разнообразны и отнюдь не
распространены равномерно среди всех членов
общества. В современном развитом обществе, неоднородной
по своему культурному составу, можно выделить, по
крайней мере, четыре уровня таких ценностей: общесо-
циалиные (общезначимые), классовые,
локально-групповые и индивидуально-личностные.
Общесоциальные ценности нередко по своему
содержанию совпадают с общечеловеческими. Например*
ценность рождения ребенка (продолжение рода),
ценность жизни, любви. Но они могут и отличаться от об-
22
щечеловеческих — (например, в одном обществе или
социальной группе ценностью может быть индивидуальное
самоутверждение личности, тоцца как в друопом —
следов аиие традиционно «безличностным» обычаям и
нормам; в одном обществе ценностным актам является
рождение любого ребейка, в другом — только мальчика. 06-
щесоциалъные ценности, несмотря на их универсальный
характер, могут не восприниматься как
общечеловеческие. Так, христианские этические ценности (любовь к
ближнему, милосердие, смирение) вступают в
противоречие с революционной преобразующей деятельностью.
Социалистические ценности (социальное равенство,
творческая деятельность, активная жизненная позиция) еще
не восприняты всем человечеством.
Классовые ценности, как правило, непосредственно
связаны с интересами отдельных классов в обществе и
входят в состав их идеологии. Предметы и идеи, отвечав
ющие классовым интересам, наделяются позитивной
оценкой и в качестве ценностных представлений и
суждений составляют содержание классовой идеологии. Для
идеологии, отражающей интересы трудящихся
(рабочего класса, крестьянства^ интеллигенции), ценностями
являются все идеи социалистического гуманизма,
социального и национального рав-енства, вюестороннеяо раз1вития
личности.
Локально-групповые ценности создаются людьми в их
повседневном общении и взаимодействии. Они отражают,
некоторые социально типичные предпочтения в сфере
культуры. Так, можно говорить о специфично
молодежных ценностях (сегодня эщ раскованность поведения,
определенные предпочтения в искусстве, в манере
одеваться, стремление к молодежной идентичности).
Индивидуальночличностные ценности включают в
себя предметы и идеи, соответствующие вкусам и
склонностям каждого отдельного члена общества, отобранные
им из тех, что уже имеются в окружающей его
социокультурной среде, или же созданные в результате
индивидуального творчества. В нашем обществе доступ к
культурным ценностям имеет широкий всенародный
характер. Однако наряду с людьми, активно
участвующими в освоении культурных ценностей, некоторая
часть населения глуха и равнодушна к ним, не
приучена к интеллектуальной работе, бедна
эмоционально. Культурные ценности кажутся ей
малозначительными.
23
Можно говорить и о другой крайности, когда
некоторые люди стремятся охватить «самое новое» в
культуре, ориентируются на количественное потребление
ценностей: успеть в течение дня посетить модную
выставку, побывать в музее, попасть на премьеру нового
фильма... А что касается художественной литературы,,
то здесь одна цель — стремительно «проглотить»
новинку, чтобы быть «на уровне века». Неудивительно, что
такая позиция порождает дилетантизм, поверхностное
и легкомысленное отношение к ценностям культуры.
Ценности в этом случае не проникают в глубинный
душевный мир человецса, не раввивают и не обогащают*
его. Для такого рода людей ценности приобретают чисто
внешний характер, служат трафаретами суждений.
Таким образом вырабатываются стандарты и стереотипы
восприятия культуры, модой становятся определенные
книги и спектакли, фильмы и песни, дричем не самог-а
лучшего качества. Естественно, что все Э1Ч> чрезвычайно
усложняет систему распределения культурных
ценностей в обществе.
Поскольку меняются условия социокультурной
жизни (создаются новые предметы и идеи, меняются
социальные отношения и т. п.), людям приходится
переопределять изменяющиеся элементы своего
окружения, перераспределять их места в своей картине мира,
т. е. «переоценивать ценности». Это относится ко всем
уровням ценностей. Так, каждая братская
национальная культура стала в нашей стране общесоциалыюй
ценностью, чего не было; до революции, в царской
России, а индивидуальная человеческая жизнь приобрела
общечеловеческую ценность. На региональном уровне
это изменение легко продемонстрировать в искусстве.
Известно, например, что признанные сейчас
художественной ценностью работы импрессионистов в период
становления этого стиля многими не удостаивались
ранга живописи. То же и в музыке: так, еще в 40-х годах
критике подвергались произведения С. Прокофьева и
Д. Шостаковича, а сегодня эти величайшие
композиторы признаны классиками не только в нашей стране, но*
и во всем мире.
Не остаются неподвижными и локально-групповые
ценности. Вспомним, как менялось отношение молодых
людей к модной одежде в разные периоды истории
Советской страны: нарочитое пренебрежение к моде в
20-е годы; респектабельность, желание подражать стар-
24
шему поколению *в 40—50-е; возникновение специфично
молодежных стилей поведения и моды в 50—60-е
(поклонников такой моды тогда называли «стилягами»);
специфично молодежная 'мода с ее динамикой,
обличающей юность от зрелости,— сегодня. Меняются и
индивидуально-личностные ценности: скажем, агрессивная
нетерпимость, свойственная юности, может в более
старшем возрасте уступить место снисходительности, тонкому
пониманию сложности жизни; художественная
'литература как ведущая эстетическая ценность может
уступить место у той или иной личности увлечению
живописью или музыкой.
Из скае»ан(но»гю видно, что люди используют ценности
в качестве устойчивых культурных ориентиров, с
которыми они соотносят свою обычную жизнь и
профессиональную деятельность. В антагонистическом обществе
индивидуальное бытие человека в «макромире»
культуры противоречиво уже в силу того обстоятельства, что
в условиях буржуазной действительности «чем
больше ценностей он создает, тем больше сам он
обесценивается и лишается достоинства»3. В социалистическом
же обществе вся культурная политика, опирающаяся
на вечные и высшие ценности Равенства,
Справедливости, Добра и Красоты, направлена на постепенное
высвобождение людей из-под гнета практицизма и власти
утилитарных ценностей (ибо при всей значимости их
функции жизнеобеспечения они не способны стать
идеально-духовными критериями человеческого бытия), их
«встречное» движение к культурным ценностям.
Если же говорить о функциях ценностей в культуре,
то их специфика хорошо видна в соотнесении с
культурными нормами и правилами, с одной стороны, и
непосредственным опытом людей — с другой. Ценности
как регулятор социокультурной жизни носят
значительно менее строгий характер по сравнению с
правилами и нормами. С этой точки зрения они более
связаны с субъективным аспектом социокультурной
жизни — предпочтениями, тогда как нормы имеют
предписывающую, «объективную» силу. Ценности занимают
своего рода промежуточное положение между
неоднородным многообразием индивидуальных суждений,
поведения, представлений и социально обязательными
действиями, соответствующими нормативным предписаниям.
Субъективный аспект ценностей характере« тем, что
сами они определяются личностью, существуют в ней.
25
будучи закрепленными экономическими, нравственными,
эстетическими отношениями данного «я» к
объективным жизненным обстоятельствам, являются
органической частью внутреннего мира человека. Поэтому
ценность выступает как субъективно переживаемое и
закрепленное общественным развитием отношение к
объективному миру. Но, будучи всегда субъективно
воспринимаемой и переживаемой, ценность объективна по
своему содержанию, так как порождена определенными
свойствами независимой от личности объективной
природы и законами общественного развития. Такова
реальная диалектика восщриятия ценностей человеком.
Деятельность человека зависит от уровня духовног
нравственных ценностей. Она органично связана с
воспитанием индивидуальной, личной культуры человека.
Качественный урове'ноь индивидуальной культуры
человека должен соответствовать уровню духовного развития
общества. Необходимой чертой ее яшяется чувство
нового, умение, способность видеть это новое, стремиться к
нему, бороться за него. Чувство нового играет важную
роль и в формировании социального облика личности,
ее творческого характера и интеллектуализации, ее
отношения к труду и человеку. Причем оло находится в
постоянном развитии и движении, обогащая человека на
всем его жизненном пути.
Отмечая значение социальной сущности личности,
основоположники марксизма отнюдь не отрицали
значения индивидуальных особенностей людей, не
нивелировали этих особенностей. Человек, писал Маркс, есть
«индивидуальное общественное существо», «человек —
не абстрактное, где-то вне мира ютящееся существо»4.
«Вечные мечты» человечества — познание и изменение
мира и соверпгенствссвание человека. .Постоянно
открывая мир, человек проникает в его тайны. Но самое
важное открытие, значительнее которого нет на Земле,—
это открытие и познание человеком себя как личности.
Реальный социализм, характеризующийся
многообразием материальных и духовных ценностей, дает
человеку, как писал В. И. Ленин, возможность «на деле
пользоваться благами культуры, цивилизации и
демократии»5. Ню реализация этой возможности зависит от того,
насколько люди обладают навыками и ощущают
необходимость использовать эти ценности в своей
повседневной ЖИ13НИ. В этой связи весьма примечательна мысль
К. Маркса: «Богатый человек —это в то же время че-
26
ловек, нуждающийся во всей полноте человеческих
проявлений жизни, человек, в котором его собственное
осуществление выступает как внутренняя необходимость,
как нужда»6.
Чтобы свободно и непринужденно жить в
современной культуре, человеку следуете малых лет
ориентироваться в ней, избирать для себя ценности,
соответствующие личным склонностям и не противоречащие
правилам социалистического общения. И хотя способность
воспринимать культурные ценности является
универсальным свойством человеческой жизни, ее нужно
специально развивать.
Жизненный пуггь человека зависит не только от
влияния внешней среды, но и в значительной мере от
индивидуальных способностей и желаний его самого,
обусловлен его личностными качествами и возможностями,
его пластичностью в сфере самореализации. В письме
П. Анненкову Маркс писал, что «общественная история
людей есть всегда лишь история их индивидуального
развития, сознают ли они это, или нет»7.
Несмотря на сохранение своей личностной
целостности, человек постоянно изменяется, сегодня он уже
отличается от своего вчерашнего «я». И в этих
переменах определяется и проявляется его характер, поиск
себя, его возросшие требования ж способность находить в
себе новые резервы в сфере социокультурной
деятельности. Вот почему к ценностям социалистической культуры
относятся духовное самосовершенствование, поиск
смысла жизни, стремление человека постичь свое
предназначение в обществ1е. 'Самореализация человека в
социально приемлемых формах, следование высоким
нравственным принципам не только по отношению к
внешнему миру, но и к своему внутреннему миру, к
самому себе — эти цендости становится не только
ориентирами в социокультурной деятельности личности, но и
способствуют развитию ее гражданского самосознания.
Проблема типологии ценностей и ценностных
ориентации имеет важную методологическую значимость,
позволяя выявить ценностную природу культуры и
анализировать разные вопросы теории культуры.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 25.
2 Материалы XXVII съезда КПСС. М., 1986. С. 169.
3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 42. С. 89.
4 Там же. Т. 1. С. 414.
5 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 38. С. 94.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 42. С. 125.
7 Там же. Т. 27. С. 402-403.
27
ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ
КОНТЕКСТ КУЛЬТУРЫ
В. А. Лекторский
НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ
КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ
В литературе по теории культуры можно иной
раз встретиться с противопоставлением
познания и культуры. Ход рассуждений в этом случае
можно представить следующим образом. Познание
относится к объектам, существующим нез*ав1исимо от созна^-
ния. Объективная истина, на получение которой
ориентирована познавательная деятельность, говорит о таком
положении дел, которое имеет моего безотносительно к
человеку. Между тем культура, рассуждают сторонники
этой точки зрения, выражает систему ценностных
ориентации человека в мире, характеризует человеческие
возможности и достижения, вследствие чего человек
является не только ее субъектом, но и непосредственным
предметом культуротворческой деятельности.
Хотя подобное рассуждение сможет показаться
убедительным, на самом деле оно исходит из ложной
предпосылки: из противопоставления познавательного
отражения объективной реальности и человеческой
творческой деятельности, ориентированной на определенные
системы ценностей. Дело в том, что познание как
высший тин отражения действительности опосредовано
исторически развивающейся социально-культурной
деятельностью, в основе которой лежит предметная
практика. Из этого положения, которое в марксистской
философии является (исходным при анализе познания,
вытекает необходимость исследования познавательной роли
созданных человечеством различных предметных
объективации культуры начиная от орудий труда и
воплощенных в них способов и «техник» деятельности и кончая
системами обыденных и специализированных языков,
научными приборами и т. д. Познание вообще, научное
познание в частности должны быть рассмотрены в качестве
28
«ультурообразующей и культуротворческой деятельности,,
а «установка на истину» — как невозможная и немыс-
1ЛИ1М.ая вне культуры (данная установка не существует
там, где имеет место до-челове*ческое, т. е. до-поен ава-
тельное отражение внешней реальности).
Поэтому, например, развитие научного познания не
только характеризует уровень человеческого постижения
внешнего -мира и овладения им, но не в меньшей мере
также и уровень развития культуры. Физические
концепции Аристотели, Ньютона и Эйнштейна — это не
только рае яичные представления о том, как устроена
природа. Каждая из них предполагает различный куль^
турный контекст, в который необходимо включен нет
только образ природы, но и образ человека.
Современный философский анализ познавательной
деятельности, претендующий на всесторонность и ос~
мысленно результатов специальных наук о познании,
невозможен без исследования задаваемых культурой
исторически изменяющихся идеалов и норм познания, без
изучения широкого круга проблем
социально-культурной детерминации научного звания. Такие
специфические процедуры, связанные с осмыслением предметов
культуры, как «понимание» и «интерпретация», которые
одно вр-емя казались не имеющими прямого отношения
к анализу механизмов развития науки, ныне
обнаружили значение' для исследования взаимоотношений между
сменяющими друг друга в процессе развития науки
«научными картинами мира», глобальными теориями,
стилями мышления и т. д.
Теория поен алия, пытающаяся иредста/витъ познание
как целостный феномен, во. всем многообразии его
типов и видов, и вместе с тем в его единстве, в его
историческом развитии и преемственности, не может не
изучать его в широком культурном контексте.
Сказанным, однако, не исчерпывается связь теории
познания с проблематикой культуры. Дело в том, что
сама теория познания, постановка ее задач и способы
их решения впключены в определенный культурный
контекст. Остановимся на этом »более подробно.
Историческое развитие теории познания
сопровождалось усложнением и конкретизацией проблематики,
выявлением ее связей не только с обыденным знанием, но
и с системами специализированного знания в виде на-
29
.уки. В составе современных исследований по теории
познания значительное место занимают такие вопросы,
которые имеют прямее отношение к анализу логической
■структуры научных теорий и к разработке методологии
научноло исследования.
Специализация и дифференциация исследования в
-области теории познания может затруднить осознание
•следующего принципиально важного обстоятельства.
Теория, познания, поскольку она остается философским
исследованием (а не перерастает в «техническое»
изучение логических структур обыденного языка или языка
науки), необходима вписана в целостную систему
философского (знани'я и в этом качестве существует и
разживается в определенном культурном контексте. Лишь в
таком контексте и может быть понят глубокий
мировоззренческий смысл исследований в данной области.
Включенность теории познания в культурный
контекст выражается двояким образом. Вонпервых, при всей
инвариантности основной проблематики теории
познания (проблема истины и заблуждения, достоверного и
вероятного знания, возможностей познания и т. д.) спо-
-собы ее формулирования и пути анализа имеют
конкретно-исторический характер и несут печать
определенной социально-культурной системы. Вонвторых, сама
теория познания как неотъемлемый компонент философии
выполняет определенную культур отворческую функцию.
Проиллюстрируем оба эти аспекта.
Связь теоретико-познавательных построений с
общими культурными установками легко обнаруживается в
отношении античной философии. Проблематика
различения истины и мнения в античной теории познания
непосредственно связывается с отношением бытия и
небытия. Это выражение специфически «онтологической» и
космологической направленности античной культуры в
целом. Все античные мыслители, рассуждая о
познании, исходят из того, что знание не может не быть
'едино с тем, знанием чего оно является. Эта
предпосылка принимается как нечто совершенно естественное
и даже не обсуждается, главный интерес дискуссии
лежит в выяснении процесса, посредством которого
предмет перевюдится в состояние знания. Тезис о единстве
-знания и предмета специфически сочетается в античной
философии с отсутствием ^о^м^шт^^тяв^осЧи^субъ-
окта в процессе познания, с неумением' разглядеть не-
юбходимость творческой деятельности субъекта как сред-
30
ства истинного воссоздания объекта. С точки зрения
античной философии истинный объект может быть только
«дан» познающему; тогда как ©се являющееся
продуктом его творчества, его субъективной познавательной'
деятельности — лишь «мнение», т. е. нечто неистинное,
не соответствующее бытию. И этот
теоретико-познавательный тезис выражает специфическую установку
античной культуры на «вписывание» человека в
космическую организованность.
В европейской философии нового времени,
развивающейся в рамках уже иного типа культуры и вместе с
тем в связи с возникшим экспериментальным
естествознанием, которое тоже во многом определяет особенности
новой культурной системы, проблематика теории
познания занимает центральное место, будучи исходной при
построении филюсофских систем (а иногда и совпадая"
с самой системой). С особой остротой ставится задача
отыскания абсолютно достоверного знания, которое
«было бы исходным пунктом и вместе с тем предельным
основанием всей остальной совокупности знаний, позволяя:
дать оценку этих знаний по степени их истинности.
Характерная черта теории познания в (это время —
обсуждение проблемы связи субъекта и материальной
субстанции, «я» и внешнего мира как следствие редкого
противопоставления субъективного и объективного миров.
Само это резкое противопоставлоние, которое наиболее
четко было сформулировано как раз в теории познанин,.
имеет глубокие корни в особенностях складывающейся^
буржуазной культуры, в частности в характерном для
нее резком противопоставлении человека и природы:
последняя превращается в объект технического
преобразования и утилизации.
Попытки снятия противостояния субъекта и объекта
были предприняты в немеп/кой классической
философии, которая опять-таки выражала новую культурную
ориентацию. Развеивая кантовскую мысль о субъекте как
самодеятельности, Гегель осмысливает последнюю как"
саморазвитие субъекта. Отсюда гегелевский те'йис о*
единстве субъекта и субстанции, о совладении
гносеологии -и онтологии. Важно заметить, что Гегель вполне
ясно понимал определяющую роль выработанной
обществом культуры для формирования индивидуального
сознания, производи ость индивида, осуществляющего акг
познания, от общественного субъекта. Общественный'
дух, считал Гегель, есть субстанция индивида, его «не-
31
•органическая природа», выступающая для каждого
отдельного индивида во внешне данных формах культуры.
Марксистско-ленинская теория познания, возникшая
в рамках такой философии, которая выражает мировоз!-
зрение новой социальной революционной 'силы —
рабочего класса и получает адекватную себе
социально-культурную базу в условиях социализма, исходит из
понимания п'ознания как вклиоч'енного в исторический процесс
развития социально-практической деятельности и в свете
этой принципиальной идеи формулирует всю
проблематику теории познания. Диалектижьматериалистическое
понимание познавательного отношения не только
позволяет ответить на те вопросы, в которых запуталась
немарксистская гносеология, не только дает научное»
объяснение тех реальных фактов дознания, на которые
натолкнулись, не будучи в состоянии их верно
осмыслить, представители буржуазной философии. Марксист-
око-ленинское понимание повнания открывает
принципиально новый горизонт теоретико-опознавательного
исследования, ставит перед гносеологией такие задачи -и
проблемы, которые невозможны в рамках теории
познания, традиционной для немарксистской философии
(например, проблема единства отражательной, предметно-
практической и коммуникационной деятельности, связь
■разшык типов предметно-практической и познавательной
деятельности, социально-культурная опосредованность
познания, диалектико-материалистическое понимание
истины как процесса и т. д.).
Таким образом, включенность проблематики теории
познания в культурный контекст, изменение способов
формулирования и методов исследования
гносеологических проблем в связи с историческим изменением
культурного поля вовсе не означает какой-либо
релятивизации этой цробл'ематики. Установка «на истину» остается
инвариантной для философии и культуры в целом.
Культурно-историческая обусловленность гносеологической
проблематики не исключает подлинного развития по-
следсней, накопления в ней определенных фактов и
решений, расширения ее проблематики и, наконец,
возможности появления такой теории по'знания, которая
имеет все основания считаться научной.
Формулирование проблем теории познания не только
выр ажает особе нности о'пред еленной коикретно-истори-
ческой системы культуры. Теория познания выступает
ж как один из важных способов культурного творчест-
32
ва. И в этом своем качестве она не только определяется
спецификой той или иной стадии в развитии культуры,
ио и выражает историческую преемственность процесса
этого развития в целом.
Дело в том, что именно средствами теории познания
решается задача обоснования того иди иного типа
знания как истинного -и, следовательно, выделение
определенного типа реальности, соответствующей этому
знанию, в качестве подлинной. Эта задача имеет и другую
сторону: .низведение того, что не соответствует
истинному знанию, на положение иллюзии, кажимости,
видимости, превращенной фюрмы и т. д. Очевидно, что то или
иное решение этой задачи имеет не только важный
мировоззренческий смысл, но и ведет к важным
практическим следствиям. Поскольку истинное и неистинное
знание, подлинная и мнимая реальность .оцениваются по-
разному, постольку и практическое поведение так или
иначе будет строиться с ориентацией на перовую часть
этих оппозиций и не будет принимать во внимание (или
принимать ВО' внимание лишь в негативном смысле) то>,
что интерпретируется в качестве мнимого.
Когда наука возникает как самостоятельная
подсистема культуры, задача теоретико-познавательного
обоснования знания значительно усложняется. Теперь речь
идет уж'е не просто об обосновании более или менее
единой системы знания, но также и о необходимости
согласования таких двух различных (и все более
расходящихся с течением времени) систем, как обыденное
знание и знание научное. А поскольку наука находится
в состоянии постоянного изменения и развития,
поскольку важной задачей философии становится, с одной сто^
роны, теоретик'о-познавательный анализ науки, а с
другой — вписывание науки в систему культуры в целом,
включая такие ее компоненты, как
неспециализированное донаучное знание, искусство,
нравственность и т. д.
Таким образом, обоснование знания вообще,
научного знания в частности выполняет важную культуротвор-
ческую задачу.
В этой связи теория познания обнаруживает ряд
важных особенностей. Дело в том, что в теории познания
попытки описания того, что является подлинным,
настоящим знанием, неразрывно связаны с явным или
неявным предписыванием определенного идеала
познавательной деятельности.
3 Заказ № 667
33
Формулировка теоретико-познавательной
концепции — это всегда попытка не просто констатировать
сложившуюся практику познания, но также стремление в
чем-то эту практику изменить, попытка отвергнуть
некоторые принятые каноны познавательной деятельности
в качестве приводящих познание к уклонению от
достижения его задач и в то же время стремление
узаконить новые стандарты этой деятельности. Создаваемый
теорией познания общий образ познания науки caiM
включается в реальный ход поеиашгя и ов известных
отношениях перестраивает его. Поэтому любые
влиятельные теоретико-познавательные концепции — это не
только осмысление существующей практики познания, но и:
критика ряда аспектов этой практики в свете того или
иного идеала знания, науки.
Сказанное не означает, что все
теоретико-познавательные системы — а история философии насчитывает
их довольно много — могли повлиять на реальный ход
познания. Не следует также думать, что в тех случаях,
когда такое влияние имело место, оно обязательно было
плодотворным. В истории философской и научной мысли
нередко дело обстояло так, что та или иная
гносеологическая концепция задавала ориентиры для производства
специально-научных теорий определенного типа и в то
же время формулировала неверное понимание природы
познания, знания, науки в целом, что приводило к
неразрешимым коллизиям в построении общей теоретико-
познавательной концепции и в то же время существенно
ограничивало возможности самой науки. Дело в том,
что не всякий задаваемый гносеологический образ науки
принимается самой наукой. Теоретико-познавательная
рефлексия может перестраивать свой объект—систему
научного знания лишь в той мере, в какой эта
перестройка служит выявлению таких концептуальных
структур, которые более точно отражают объективно
реальные процессы, воспроизводимые в научной теории, и в
то же время соответствуют объективным нормам развития
самого знания. В том случае, если это условие не
соблюдено, рефлексия оказывается ложной. В этом случае
рефлексивно воссозданный в теории познания образ знания и
само реальное знание могут в той или иной степени
не соответствовать друг другу. История знает немало
таких примеров.
Так, например, теоретико-познавательный эмпиризме
Ф. Бэкона сыграл весьма прогрессивную роль в пе-
34
риод становления экспериментальной науки. Вместе с тем
уже в то время он не соответствовал реальной
практике естествознания, а позже стал явным тормозом
в ее развитии. Известны принципиальные изъяны
в гносеологической концепции Декарта. Нельзя,
однако, не учитывать толо факта, что декартовская
теория позиаши служит обоснованием его метафизики, а
последняя явилась ядрам исследовательской программы,
с одной стороны, в физике, с другой — в психологии.
Картезианской физике принадлежат важные
исторические заслуги. В рамках эмпирической психологии,
исходившей из декартовского понимания сознания, был
накоплен значительный фактический материал. В то же
время эта психология как научная дисциплина изжила
себя к началу XX в. Теория познания И. Канта не
только формулировала общую стратегию поиска в ряде
теоретических дисциплин (так, например, из кантовской
гносеологии вытекает невозможность
рационалистической онтологии, особый статус психологии как не-
математизируемой науки, необходимость в биологии
дополнять причинное объяснение телеологическим и
т. д.). Кантовокая концепция вместе с феноменологией
Э. Гуссерля была использована Л. Брауэром и Л. Гейтин-
гом при создании интуиционистской программы
обоснования математики. В рамках математического
интуиционизма был получен целый ряд важных результатов, хотя
и с постав лентой им задачей это 'направление в целом
не справилось. Вместе с тем хорошо известно, что
данное Кантом априористское истолкование основных
принципов классической науки пришло в резкое
столкновение с развитием познания.
Бывают и иные случаи воздействия
теоретико-познавательной концепции на ход развития науки.
Гносеологическая система может быть совершенно неадекватной
рефлексией над научным знанием, давать в целом
ложный образ науки, легко обнаруживать свою уязвимость
в общефилософском шпане. И в то же время подобная
система используется для производства некоторых
локальных частнонаучных теорий, причем таких
теорий, которые сохраняют известную ценность даже
после того, как отвергнута их философская интерпретация.
Подобная возможность объясняется тем, что
какие-то стороны познавательного процесса могут быть
верно схвачены даже в ложных гносеологических
конструкциях. Однако произведенные в этом случае спе-
3*
35
циально-научные теории, как правило, имеют весьма
узкое (значение. В то же время главные пути разовития
научного' знания оказываются перекрытыми ложными
га-осе о логическими концепциями, развитие теоретической,
мысли в данной области знания в целом уводится в
сторону. TaiK обстояло дело, например, с гносеологией опе-
рационализма и с физическими теориями, полученными
по операционалистским рецептам.
Плодотворная же теория познания способна
существенно повлиять на ход развития науки. История
марксистской теории познания и ее взаимоотношений с
естественными и общественными науками подтверждает
эту мысль. Марксов «Капитал», воплощающий научную
теорию политической экономии, создан на основе
сознательного применения диалектико-материалистической
теории познания и методологии науки.
Исходя из научной концепции природы
теоретического мышления и сознательно пользуясь философски
обоснованным методом восхождения от абстрактного к
конкретному, К. Маркс строит научную экономическую
теорию. При этом он детально формулирует во^зникающие
в ходе теоретического исследования проблемы
методологии и последовательно их решает, используя общие
теоретико-познавательныо принципы. Критика
буржуазной политической экономии осуществляется К. Марксом
не просто в плоскости сопоставления содержания
научной теории с превратными истолкованиями тЬго же
самого предмета, а в-севда также и в плоскости
столкновения с принципиально ошибочными методологическими
подходами.
Главный изъян буржуазной политической экономии,
предопределяющий ее принципиальную ненаучность и
непосредственно связанный с ее социальной функцией,
это, как показывает К. Маркс, ложное понимание ее
представителями /характера познаваемого объекта и
путей и методов научного познания. Поэтому изменение
методологический, теоретико-познавательной ориентации
является необходимым условием создания научной
политической экономии.
Таким образом, включаясь в формирование и
развитие научных те/орий, непосредственно влияя ,на создание
научной картины мира и стиля мышления, давая
философскую интерпретацию результатов науки, теория
познания выступает как мощный культуротворческий
фактор.
36
В. В, Лазарев
ТРАНСФОРМАЦИИ
ФИЛОСОФСКОГО СОЗНАНИЯ
В КУЛЬТУРЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Предметом исследования мы выбираем становление
новоевропейской культуры в одном из ее важных
аспектов, а именно как определенной культуры
философского мышления. Речь будет идти не столько о
росте и совершенствовании мышления (хотя и в этом
смысле также говорят о повышении уровня или
культуры его), сколько о формировании нового стиля
мышления, отличного не только от средневекового, но и ре-
нессансного.
Общепризнано, что новая эпоха научного и
философского мышления начинается с Декарта. Он выдвинул
новое понимание научности, что и составило переворот,
именуемый картезианской революцией. В его
произведениях наука и философия (в ту эпоху во многом еще
не отделявшая себя от науки) обрели сознание
собственного метода. Метод картезианского философского
построения уясняется из его принципа cogito и состоит
в систематическом развертывании истин, с
необходимостью вытекающих из этого принципа. Декартовский
принцип служит основанием для системы истин;
система, в свою очередь, является раскрытием и
обоснованием принципа. Обоснование начала развертывается
имманентным образом, начало само показывает себя таковым,
раскрываясь в системе своих определенностей,
самоопределяясь, как начало. «Этот метод,— поясняет Декарт его
особенность,— подобен тем техническим искусствам,
которые не нуждаются в помощи извне, т. е. сами
указывают тому, кто желает ими заняться, способ
изготовления инструментов»1.
Чтобы выйти из круга, в котором принцип отсылает
к системе, а система к принципу, мыслитель берется
раскрыть путь поиска и обнаружения самого принципа.
В «Рассуждении о методе» Декарт описывает этот путь,
исходя из уже сформировавшейся системы, средствами
метода, при помощи которого он «достиг уже некоторых
результатов»2. Философ показывает нам путь не таким,
каким он был на самом деле, а таким, каким он должен
был быть, в его представлении, после завершения,—
очищенным, освобожденным от случайностей, опрометчивых
37
«ходов», ошибочных и излишних поворотов необходимым
продвижением. Философ дает скорее не историю, как он
уверяет, а теорию поиска. Взявшись обрисовать, «как на
картине», пути, которыми он следовал, Декарт в
неявной форме привносит в изображение и свой
руководящий метод, ipse post tabulam delitescens («скрываясь сам
за картиной»), как сказано в латинском издании
«Рассуждения».
Случайное открытие истины — вот то, против чего
восстает картезианский метод. Декарт готов скорее
выдать свой путь к истине за «вымысел», чем за
стихийное обнаружение ее в результате беспорядочных
произвольных блужданий, лишенных методичности. Словом,
изображение генезиса своего принципа дано Декартом в
рамках готового метода, в свою очередь уже
опирающегося на этот принцип. Прийти к системе Декарта при
таких условиях можно, как представляется, лишь
парадоксальным образом — заранее находясь в ней.
Подлинные предпосылки системы с помощью внутренних ее
средств на самом деле не проясняются.
Правда, Декарт знает, что одной из предпосылок
(негативной) выступает для него ренессансный скептицизм,
и поэтому сознательно начинает с анализа мышления,
сомневающегося во всем, испытывает крайние пределы
скептицизма и показывает, что в самом сомнении уже
невозможно сомневаться, что это — безусловная истина.
Но требуется доказать, что она заключает в себе также
и способ получения других истин. Как можно знать
заранее, что cogito должно быть именно основополагающей
истиной? У Августина и Кампанеллы, один из которых
на заре, другой — на закате средневековья приходил к
подобному положению (о несомненности существования
сомневающегося), эта истина никак не вырастала в
систему мыслей, не становилась принципом. У Декарта
же эта мысль внезапно получила внутреннее
расширение и наполнение, превратившись в нечто большее, чем
просто отдельное истинное положение или
неопровержимый аргумент.
Мелкие пузырьки воздуха пассивно пребывают в
воде, ничуть не возмущая водной среды, пока вода не
нагреется настолько, что внутреннее парообразование
нарушит это спокойствие и начнется быстрый переход в
другое агрегатное состояние. Нечто сходное произошло
с положением «Мыслю — следовательно, существую»:
до поры до времени оно как бы в дремотном состоянии
38
спокойно и мирно жило в контексте старого знания, не
выделяясь и оставаясь ничем не примечательным среди
других положений, покуда не создались предпосылки и
не созрели условия, при которых оно начало
преобразовывать и перестраивать на новый лад все добытое к
тому времени положительное знание.
Сам переход к новой познавательной форме так
поражает своей внезапностью, неожиданностью, что,
забывая о собственной мыслительной деятельности,
подготовившей такой результат, Декарт готов был приписать
это действию в себе божества. Изумление перед
достижением собственного ума, совершившего реформу в
философии, было у мыслителя столь велико, что он едва в
силах был признать за человеческим умом способность
такого свершения. «Еще десять лет назад я бы сам не
поверил,— признается он в письме Ватье от 23
февраля 1630 г.,— что человеческий ум в состоянии достичь
таких познаний, если бы кто-нибудь другой это
написал»3. Декарт имел в виду последствия, к которым
привело событие в ночь на 10 ноября 1619 г., когда его
посетили три сновидения и ему открылся свет
«удивительной науки». Он объяснил это как откровение духа
истины о пути, которому надлежит следовать. Озаренный в
ту ночь мыслью о новом методе философствования и
научного исследования, он с наивностью верующего
человека дал обет совершить паломничество в Лоретто (центр
культа Девы Марии) из благодарности тому, что он
почел божественным внушением.
Насколько величествен и значителен в глазах
Декарта достигнутый им новый способ познания, настолько
убого и примитивно первоначальное осознание его
происхождения. Сознание философа в этом отношении
напоминает сознание ребенка, который не знает, как он
родился. Чисто умозрительная форма картезианского
метода, при всех ее достоинствах, препятствует
конкретному уяснению его генезиса.
Между тем открытию этого метода предшествовало
мощное развитие культуры Возрождения, и имеет смысл
проследить, как в ней, в ее философском и
естественнонаучном продвижении создавались предпосылки
картезианства, как подготавливался и намечался переворот в
философии мышления. В самом деле, Галилей —
современник Бруно и Кампанеллы — хронологически
относится как будто к ренессансной эпохе и ее среде, но он
перерастает эту среду и его механика и астрономия при-
39
надлежат уже новому времени. Не менее примечателен
в качестве переходной фигуры И. Кеплер, развивающий
коперниканство на новоевропейский лад и сочетающий
новую астрономию с самыми причудливыми и наивными
фантазиями, относящимися к ренессансному взгляду на
мир. Бэкон Веруламский с его натурфилософией,
кишащей теологическими непоследовательностями, еще стоит
на почве Ренессанса, но для философии нового времени
он ценен тем, что является родоначальником «всей
современной экспериментирующей науки»4, поборником
рационального метода для эмпирического естествознания.
Эти переходные фигуры, в которых Возрождение и
новое время как бы пожимают друг другу руки, и в самом
деле создают внушительное впечатление непрерывности
не только естественнонаучной, но и философской
традиции. Чтобы увидеть, в какой мере это впечатление
справедливо, очертим сначала некоторые существенные
особенности ренессансного способа мышления.
Раскрепощая человеческие души от догматического
образа мышления, ренессансная философия давала право
делать предметом рассмотрения и изучения все — как
то, что считалось безусловно верным, не нуждающимся
в каких-либо дополнительных обсуждениях и
изысканиях, так и то, что до той поры принималось за
бессмыслицу. Небывалая открытость возможностей для
интеллекта нашла осознанное выражение в учении
Николая Кузанского (1401—1464). У него мы находим не
только предвосхищение космологических идей Николая
Коперника и Джордано Бруно, но и ренессансное
толкование самой возможности появления подобных идей, и
даже больше того: высшую санкцию и философскую
апологию интеллектуального права мыслить адогмати-
чески. Возможность человеческого интеллекта
проистекает, по Кузанцу, из мощи абсолюта как чистой
возможности (Posse), представляющей собою сущность бытия и
познания. Без этой возможности ничто не возможно.
Ничто не может быть первее, сильнее, прочнее, субстанци-
альнее Могу как такового. «Через саму по себе
возможность обозначается триединый бог, чье имя —
Всемогущий, или Могу всякой потенции. У него все
возможно и нет ничего невозможного»5. В абсолютной
возможности исчезает различие между противоположными
утверждениями, возможность стать и реализованная
возможность здесь не различаются по сущности.
Под покровом такой теории, ограждающей (но, ко-
40
нечно, не всегда спасающей) от нападок и обвинений в
ереси, ренессансное мышление оказывается способным
развить несовместимые со средневековыми схемами
новые взгляды, новое миропонимание, выдвигать новые
задачи, немыслимые и незнакомые раньше концепции,
ставить необычные проблемы. Мыслитель
Возрождения не настаивает на непререкаемости своих
положений, не утверждает: здесь истина, падите ниц перед
ней! Вопрос о постижении безусловной истины он
оставляет открытым и ведет речь о возможном. Все
утверждения об истине являются лишь предположениями6, все
они имеют право на существование, и самые различные
предположения и мнения могут согласовываться.
Чем шире охватывает и учитывает ренессансное
учение разного рода мнения (хотя бы они и оспаривали
друг друга), тем больше вероятности, что истина не
упущена (хотя бы и оставалось неизвестным, какое из
мнений соответствует истине). Конечно, различные мнения,
гипотезы, верования, содержащие большее или меньшее
правдоподобие или долю истины, соединяются и
уживаются, сосуществуют бок о бок на слишком уж широкой
основе, малопригодной для построения системы точного
знания. Но ущербность такого рода знания как
вероятностного, а не достоверного, выявится позднее. Пока
важны его достоинства. В таком знании, по существу,
заключалось возвеличение и утверждение царства
человеческой мечты, оно было раскрытием невиданного еще
простора для пробуждающихся сил, способностей,
стремлений человека. Могу — настоящая стихия ренессансно-
го мышления.
Как бы в оправдание собственных и следовавших
после него дерзаний мысли, Николай Кузанский
провозглашал, что сама по себе возможность мощно
проявляется в возможности ума: «Если мы хоть что-то
можем знать, мы во всяком случае ничего не можем знать
лучше возможности; если что-то бывает легким, никогда
нет ничего легче могу; если что-то может быть
достоверным, ничего нет достовернее могу»7.
Ренессансная мысль стала открытой всему и
допускала в себе пересечение и сочетание всего;
предполагалось, что никакое отдельное утверждение, даже учение,
взятое изолированно от всех прочих, не может
претендовать на непререкаемость, на абсолютную истину.
Другим выражением того же самого стал ренессансный
скептицизм: «Все относительно».
41
Философия этой эпохи, в отличие от средневековой,
утратила доминировавшую над другими связями и
отношениями специфическую привязанность к церковному
учению. Духовная монополия теологии, ее власть над
философией ослабела вследствие того, что связи
философии распространились по иным руслам: на
чувственно-практический опыт, на научное знание, на новое
учение о природе — внешней и человеческой, на учения
древних и новые открытия, на искусство, поэзию,
риторику, а также на мифологию, магию, алхимию,
астрологию. Философию стало волновать все, она сделалась
«всеядной».
Выявить стройную рациональную систему в такого
рода философии не удается — ренессансный мыслитель
не проводит от начала до конца какого-нибудь одного
определенного принципа, а следует сразу многим. Он сам
является потенцией их всех. Как истинный
представитель своей эпохи, он не стесняет себя никакими
пределами, никакими жестко определенными рамками. Он сам
«свободный и славный мастер», формирует себя в
образе, который предпочитает, и не в единственном, а в
различных, дополняющих друг друга, меняющихся,
текучих.
Никакой из принципов, содержащихся в учениях этой
эпохи, не может быть фиксирован как безусловно
самостоятельный, обособленный, независимый от другого,
так что синтез производится всякий раз еще до
сколько-нибудь строгого различения и концептуального
прояснения. Неразделенность предваряет синтез и является
непременным его условием. Мыслитель Возрождения
оперирует рационально не проработанными до конца
категориями, зачастую не абстракциями и отвлеченностя-
ми, а текучими и изменчивыми чувственными образами
и наглядными представлениями; они лишены
окостенелости как схоластических, так и позднейших
метафизических понятий именно из-за своей расплывчатости и
неопределенности. Поэтому в рамках своего
представления о Едином Джордано Бруно может утверждать
бесконечную множественность миров — у него Единое
допускает в себе и плюрализм, и его монадология не
означает отрицания холизма: к Единому приложимы
всякие определения, даже противоречащие друг другу.
«Началом и субстанцией всех вещей» он делает то
всеохватывающее Единое, «максимум», то неделимые
дискретные частицы, или атомы, представляющие противополож-
42
ный полюс, «минимум». Но эти противоположности у
него, как и у Николая Кузанского, соединяются и
совпадают.
Ни один из принципов у Кузанца не обособляется
настолько, чтобы сделаться безусловным началом
самостоятельного роста философской формы. Положение «все
во всем» мешает ему сосредоточиться на чем-либо одном
и последовательно развить и продвинуть вперед ту или
иную идею в строго понятийной форме. Поэтому не од-;
ними только психологическими особенностями или
складом характера Бруно объясняется то, что он не был си-;
лен в анализе, где он не проявлял терпения и зрелости
исследования, заменяя анализ воображением; и не
только особым талантом Бруно объясняется чрезвычайно
развитое умение его усматривать в различном общее,
сводить воедино противоположности и примирять
противоречия. В этом «искусстве» проявляется не столько
сознательное субъективное намерение, сколько стихийное,
объективно присущее ренессансному мышлению имма*
пентное свойство.
В самой форме философского сознания отражается
переходный характер эпохи Возрождения. Старое уже
поколеблено, но еще не распалось. Новое еще не
устоялось, а только становится, оно пока что не отделилось
от седой, но еще господствующей и полной сил старины
и пребывает в ней, как и она — в нем. Все находится во
внутреннем брожении, но ничто не распалось
окончательно, и нет еще, собственно, никаких
«первоэлементов» для конструирования философского синтеза, нет
ничего абсолютно первоначального. Как в предпосылке, так
и в результате синтеза должно быть некоторое
«соразмерное многообразие», ни к какому из его компонентов
не сводящееся. Поясняя эти идеи, Пьетро Помпонацци
говорит: «Действительно, если бы все члены [организма]
были сердцем или глазом, животное не могло бы
существовать: как в симфониях или концертах, если бы все
голоса были одного порядка, не возник бы ни концерт,
ни наслаждение [музыкой]»8.
С другой стороны, предполагается, что и обособление
не должно доходить до отпадения от единства.
Безусловное разделение как в предметах мысли, так и в ней
самой просто не допускается, поскольку разрушает
специфическую форму мысли, ее синтетичность. Выпадение
из связей, из взаимоопределений, одностороннее
самоопределение чего бы то ни было представляется мыслите-
43
лю Возрождения противоестественным, противочеловече-
ским, противобожественным, ведущим к разрушению и
падению, тогда как соединение, синтез, причастность к
единству являются условием достойного и возвышенного
существования.
Мыслитель Возрождения не желает доходить до
предельных разделений, до крайних обособлений и
расколов — он не смог бы тогда объединять, синтезировать,
разрушилась бы «общая материя», одна и та же природа
вещей и мысленных образований, пришлось бы
соединять несоединимое, начала, имеющие различную природу.
Ренессансная мысль чужда этому, она всегда
предполагает нечто общее, в чем различное объединяется. В
мировой гармонии единство должно перевешивать над
рознью. Противоположности не должны доходить до
разрыва, им надлежит быть всегда условными,
относительными, вражда между ними не должна выходить за
пределы «семейной ссоры», иначе распадется всеобщее
сцепление в мире и разрушится единая ткань мысли.
В таком духе разъясняет Пико делла Мирандола свою
формулу «дружественная вражда и согласный раздор».
Однако собственно рациональный синтез, как и
анализ, в ренессансном мышлении довольно скуден и по
своей логической оформленности не завершен. Мысль
Возрождения и не стремилась к интеллектуально точной
системе. Как в элементах синтеза, так и в нем самом мы
не находим ничего непререкаемого — все полемично
(отправной пункт особого направления ренессансной
мысли— скептицизма), никакое утверждение не является
окончательным перед лицом всеобъемлющей истины, не
умещающейся ни в какие рациональные построения.
Возрождение прославляло и всячески практиковало
эрудицию, развивало такую широту познаний, что
«знающему» грозила опасность утонуть в этом безбрежном
море, и его сила (а знание — сила) готова была
обернуться против него самого. Когда одни познания
теснятся другими, спорят между собой, когда одно не более
достоверно, чем прочие, когда есть много
правдоподобного и вероятного, много сомнительного и нет ничего
прочного, на что можно было бы опереться как на
безусловно достоверное, растет скепсис. Все относительно и
спорно. Кампанелла в письме Галилею (8 марта 1614 г.)
ропщет на такое состояние знаний: все уже так
поставлено под сомнение, что не ведаем, остался ли язык
языком. Скептицизм явился оборотной стороной познава-
44
тельного оптимизма в культуре Ренессанса, как
неизбежное его продолжение и дополнение. Несмотря на все
достижения, ренессансное знание само себя ведет к
некоторой внутренней подорваныости; оно непрестанно
пополняется непроверенными и недостоверными истинами;
значит, как говорит Монтень, чем шире ведение, тем
больше поводов к сомнению.
Чувство пресыщенности и смутное недовольство
внешними познаниями просвечивают уже на первых порах
реыессансной культуры. Петрарка в трактате «О
невежестве своем собственном и многих других» ставит
вопрос о направлении познания по иному руслу: «Какая
польза, спрашиваю я, в том, чтобы знать природу
зверей, птиц, рыб и змей и не знать природы людей, не
знать и даже не стремиться узнать, для чего мы
существуем, откуда пришли и куда направляемся»9. Франсуа
Вийон также подготавливал постановку проблемы
самопознания, привлекая внимание к загадочному
внутреннему миру, остающемуся, несмотря на всеведение, terra
incognita для самого познающего:
Я знаю, как на мед садятся мухи,
Я знаю смерть, что рыщет, все губя,
Я знаю книги, истины и слухи,
Я знаю все, но только не себя 10.
Монтень уже прямо предваряет картезианскую
проблематику. Ставя под сомнение достоверность миропо-
зыаыия, он выдвигает проблему самопознания. Приведя
легенду о Фалесе, которому созерцание звезд на небе
помешало увидеть то, что находится под ногами, он
призывает обратить взор на «ближайшее», попытаться
«познать свое собственное существо», себя самого. Что, если
более близкое, находящееся под руками или даже в нас
самих, не менее удалено и недосягаемо для познания,
чем небесные светила? Монтень не удовлетворяется
формой «известности» и ищет «понимания». А как может
понимать что-либо тот, кто не знает самого себя? Можем
ли мы с уверенностью утверждать, что понимаем самих
себя? Являемся ли мы действительно знающими? Знаем
ли мы, что такое знание? Существует ли оно в нас?
Наше ли это знание?
Монтень как бы стягивает нити, ведущие к точке
совпадения зиаемого с знающим, разумеемого с
разумеющим, к тождеству мысленного и мыслящего, к
картезианскому отправному пункту, в котором человеку надле-
45
жит прийти к своему «я» и приступить к постижению
себя как мыслящего, призвав, как этого требует логика
Декартовых рассуждений, что «я», строго говоря,—
только мыслящая вещь, то есть дух (esprit), или душа„
или разум (entendement), или ум (raison)11.
Но на точку зрения Декарта Монтень не встает, а
только приближается к ней, оставаясь при проблеме, не
решая ее; ибо решать — значит что-то утверждать и что-
то отвергать, а скептицизм не допускает категоричных
суждений, и не случайно Монтень держится только
постановки вопросов, но не отвечает на них там, где
требуется рассудить, покончить с неопределенностью и
сомнениями, принять одно из альтернативных решений.
Всякие утверждения представляются ему догматичными, и
«уверенность в несомненности» служит ему вернейшим
показателем «неразумия и крайней недостоверности»12.
Монтень выражает и отстаивает способ чувствования и
понимания человека, для которого достоверное еще не1
выкристаллизовалось, не обособилось от недостоверного,,
когда ко всякой истине припутано и заблуждение, а во»
всяком заблуждении предполагается доля истины, и нет
еще надежного метода отличения истины от лжи. Если:
даже истина дается в руки, человеку пока что
нечем схватить и удержать ее, его разум не в состоянии
воспользоваться ею.
Разрушая заодно с религиозными догмами и
достоверные научные истины (впрочем, не до основания) г
монтеневский скептицизм подрывает и себя (тоже не до-
конца, иначе это могло бы увести за пределы
скептической установки). Монтень рекомендует смягчать
скепсис и предостерегает против безудержного применения:
его: «Это — отчаянное средство... которым следует
пользоваться изредка и осторожно... Придерживайтесь,
советую вам, в ваших взглядах и суждениях, а также в
нравах и во всем прочем умеренности и
осмотрительности, избегайте новшеств и экстравагантности. Всякие
крайние пути меня раздражают»13. Чуждаясь
односторонних крайностей, он избегает и радикального
сомнения — крайности собственного подхода. Невольно
подготавливая постижение последней грани скептицизма, где
мера его исчерпывается и разрушается, мыслитель
впадает в растерянность перед последним решительным
шагом и сам себе ставит препоны, уравновешивая скепсис
познавательным оптимизмом, тоже умеренным, и
придерживаясь «средней дороги», между тем как дальнейшее^
,46
углубление скептицизма вывело бы его на совершенно
новый путь познания, к картезианству.
Расхождение Декарта с возрожденческой мыслью
касается прежде всего метода отыскания истины. Он
отмечает, что до сих пор на истину набредали стихийно,
блуждая самыми запутанными лабиринтами. Но
открытие истины не должно быть делом случайности. «Уж
лучше совсем не помышлять об отыскании каких бы то ни
было истин, чем делать это без всякого метода, ибо
совершенно несомненно то, что беспорядочные занятия и
темные мудрствования помрачают естественный свет и
ослепляют ум»14.
Характерные для ренессансного мышления
разносторонность и совмещение всякого рода спорных мнений
воспринимаются Декартом как разбросанность, как
отсутствие строгости и точности. В вероятностной форме
знания, позволяющей заводить речь «обо всем», он
видит лишь «тщеславную видимость всезнайства» и
противопоставляет этому постижение пусть немногих и
простых, но неколебимых в своей достоверности истин.
Мало цены в его глазах имеет стремительное интуитивное
схватывание глубочайших тайн бытия в нетерпеливом
полете мысли на крыльях фантазии, предчувствие и
угадывание величайших истин. «Всеобщий порок
смертных — Смотреть на мудреные вещи как самые лучшие»,
между тем как «не из многозначительных, но темных, а
только из самых простых и наиболее доступных вещей
должны выводиться самые сокровенные истины»15.
Метод Декарта требует неукоснительного соблюдения
выработанных им точных и простых «правил ума»,
препятствующих принятию ложного за истинное, требует
последовательности и систематичности, проработки всех
необходимых ступеней и звеньев в деле отыскания
истины, которая открывается лишь мало-помалу и только
в некоторых, а не во всех сразу вопросах.
Мы уже обращали внимание на синтетичность
ренессансного мышления, на логическую незавершенность
его синтезов и на такую же незавершенность его
анализов. Философия Декарта полагает в данном отношении
совершенно иное направление.
Необузданной торопливости в извлечении самых
отдаленных следствий Декарт противопоставляет
тщательный анализ, требуя разлагать сложное на предельно
простые составные части и повсюду доискиваться
первых начал. Это требование, которое Декарт не уставал
47
повторять в «Правилах для руководства ума»,
находилось в теснейшей связи с развивавшейся тем временем
капиталистической мануфактурой, принцип которой
заключался в расчленении производственного процесса на
ряд отдельных операций, и вместе с тем оно в высшей
мере отвечало аналитическим тенденциям
естественнонаучного познания: расчленение природы на ее
отдельные составные части стало, как отметил Ф. Энгельс,
«основным условием тех исполинских успехов, которые
были достигнуты в области познания природы»16.
Естествознание выступало ближайшей и ощутимой
предпосылкой философского метода Декарта; оно уже применяло
этот метод, однако стихийно, без достаточного
осознания, без систематической обработки и обобщения.
Блестящие естественнонаучные открытия периода
позднего Возрождения, по содержанию своему и па
скрытому в них способу их достижения относящиеся
уже к новому времени, все еще осмыслялись в системах
старых форм знания, само обобщение добытого нового
содержания зачастую было не чем иным, как
подключением его в круг наличного мировоззрения и уже
существующей идеологии. Словом, освоение новых открытий
все еще шло по старому руслу, осуществлялось старым
способом. Зачатки, ростки, элементы нового способа
понимания, зарождаясь и откладываясь в недрах старого,
почти тотчас же разлагаются, растворяясь снова в этом
старом способе понимания, в старом мировоззрении,
которое, в свою очередь, подвергаясь разложению в
естественном ходе своего развития и под воздействием этих
новых элементов, вместе с тем воссоздается вновь,
интегрируя последние, ассимилируя и выдерживая их в
себе.
Неизменное присоединение к добытому строго
научному знанию собственно ренессансной закваски — общая
черта науки того времени, сказывающаяся и в ее
формировании, и в ее дальнейшем возвышении на новые
уровни, и в выводимых ею следствиях. Этого не
избежали даже Галилей и Кеплер (последний особенно) :
создавая новую астрономию, они находились под большим
влиянием средневекового представления о небесном
совершенстве и о гармонии мира в целом.
В открытых им трех законах вращения планет
вокруг Солнца Кеплер видит не физическую необходимость,,
а следствие божественного стремления к самым
прекрасным линиям: найденные законы должны описывать из-
48
вечный лад и гармонию мира. Кеплер возвращается к
учению о «музыке небесных сфер». В его время
возрожденное пифагорейство было одной из форм освоения
коперииканства. Пифагорейский культ Солнца послужил
одним из мотивов, содействовавших утверждению его в
коперниканстве, хотя этот мотив и лежит целиком вне
сферы пауки. Так новые идеи не только
разрабатываются, но и передаются и воспринимаются
естествоиспытателями эпохи Возрождения в старых, даже архаичных
формах. Даже самые передовые ученые тогда еще
являли в своем сознании странную смесь точности,
глубокомыслия и поистине средневековых суеверий. Переживала
период своего подъема и расцвета астрология,
прикармливающаяся у астрономии как старыми, так и новыми,
ее данными. Составленные Коперником таблицы для
вычисления положений Солнца, Лупы и планет получили
в XVI в. широкое признание как у астрономов, так и
у астрологов.
В обновленной астрономии ученик Коперника
математик Георг Иоахим Ретик (1514—1574) видит опору
для предсказаний относительно смены мировых
монархий и для расчетов срока второго пришествия.
Отстаивая коперниканство, Ретик отстаивал также и
астрологию, а в осуждениях последней как лженауки видел
нанесение ущерба астрономии, старой и новой. Появись
теория Коперника хотя бы немного раньше, у Пико дел-
ла Мирандолы не было бы ни малейшего повода,
полагает Ретик, нападать «не только на астрологию, но и:
па астрономию»17. Ретик подчеркивал «музыкальность»
теории своего учителя, воспринимая ее через призму
представлений об эстетической целостности и в тесной:
связи с возрожденной, свободно интерпретированной
античной философией.
Такое представление само является стихийным
продолжением и обнаружением лежавшего в подоснове
коперииканства эстетического видения, пронизывающего*
это учение и проступавшего в окончательных
формулировках и заключениях. «В выводах Коперника,—
утверждают исследователи,— явственнее ощущается идея о
поиске гармонии в строении Вселенной, бывшая одним
из основных мотивов, которыми руководствовался
Коперник при создании новой революционной теории»18.
Реыессансные приверженцы и последователи
Коперника пролагали пути к распространению и успеху era
теории во многом иррациональными средствами, апелли-
4 Заказ № 667
49
решали к предрассудкам и эмоциям. Такой путь
внедрения в умы новой теории безусловно накладывал па нее
определенный отпечаток, она смешивалась со старыми
учениями, и действительные ее достоинства
стушевывались и исчезали именно благодаря способам ее
утверждения: с не меньшим успехом этими способами
поддерживалась и старая астрономическая теория. В результате
оказалось на некоторое время возможным
сосуществование противоречащих друг другу систем мира и даже
химерическое их сращение (Тихо Браге).
Гелиоцентрическая система делалась достоянием общей
образованности не столько в математическо-астрономическом виде,
сколько в виде попытки возрождения античных
представлений. Астрономов она привлекала больше
удобством расчетов, чем мировоззренческой направленностью,
и далеко не сразу была распознана как опасная для
церковного учения. Копериикаиство воспринималось
зачастую не как новая, революционная теория, а как еще
•одна, наряду с существовавшими до тех пор, вариация
привычного способа мышления в астрономии.
Если бы отличие картезианского способа мышления
от реиессаисного заключалось лишь в большей
интенсивности и экстенсивности рационалистического момента,
то связь, преемственность между этими двумя способами
легко было бы свести к количественному прогрессу и
постепенному перерастанию одного в другой. Обращая
внимание на предметы размышлений и содержание
передовых идей у философов Возрождения, легко обнаружить
сходство и близость их с новоевропейскими. Почти все
существенное в идеях нового времени — в философии
Декарта, Спинозы, Локка, Лейбница и даже просветителей
XVIII в.— можно найти в виде отдельных, пусть не
столь развитых, положений, намеков, афоризмов,
пророческих предвосхищений у Кампаиеллы, Бруно, Моитеия,
Шарроиа. В данном отношении продвижение от одних
к другим представляется как постепенное
совершенствование одного и того же идейного материала, и тогда у
Бруно усматривается лишь «плохой» спинозизм, у
Кампаиеллы — «недоразвитое» картезианство.
Так нередко и рассматривалась ренессаисиая
мысль,— в основу ее истолкования были положены
позднейшие концептуально разработанные философские
системы. Новоевропейская мысль стремилась выразить ре-
нессансиую, как правило, в своих, а не в ее собственных
понятиях, и степенью приближения к себе, как эталону
50
«совершенства», измеряла и оценивала достоинства и
недостатки ренессансной формы рационализма. Между тем.
достоиыства этой формы неотделимы от ее
«недостатков». Без того, что в более позднюю эпоху справедливо«
считалось устаревшим для рационализма, недостатками
в нем (магия, мифологичиость, гилозоизм и т. д.),
философия Возрождения не была бы тем, чем она была.
Мерило ее совершенства — не вне ее, а в ее собственном:
общем типе, в ней самой.
Конечно, она продвигается «от полного или
частичного признания средневекового мировоззрения к
частичному или полному его опровержению»19 и содержит в
себе тенденцию перехода от мистики к рационализму
(отличному от средневеково-схоластического), но не более
как тенденцию, к тому же не очень устойчивую.
Рационализм здесь пока еще спорадически возникает и угасает
в массе прочих оттенков, присущих философии этой
эпохи и содержащих зародыши совсем иных, расходящихся
и спорящих между собой направлений мышления. Такое
многоголосие по самой своей сути не может привести
к однозначному результату. Необходимость выхода к
картезианству, и только к нему,— это лишь одна из
возможностей. Исследователи справедливо подчеркивают
«многостороннюю» — даже «бесконечную» (Л. М. Бат-
кин) — переходность культуры Возрождения и его
философии. Переходность состояла не в механическом
прибавлении к средневековой доктрине новых элементов и
простом отбрасывании старых представлений, но в
удержании своеобразной и органичной цельности формы
знания20. Как цельность она продвигалась к своему концу
и как цельность была отброшена Декартом в его новом
начинании.
После картезианского переворота многое из
содержания ренессансной мысли воссоздается, даже и у самого
Декарта, но на расчищенном месте, реконструируется из-
разрушенной целостности ее, из «обломков» идей,
приобретающих в новой системе иной смысл, включаемых
в иную связь 21. Реиессансыая философия (как и всякая
предшествующая) воспринимается сначала негативист-
ски, чтобы затем, уже в новом концептуальном
освоении, можно было положительно использовать ее
интеллектуальные завоевания и развивать далее добытое в ней
ценное содержание. Без такого «перерыва
постепенности» не было бы и настоящей преемственности, а была
бы просто дальнейшее развертывание той же формы.
4*
51
Перенесение тех или иных положений из одной
системы мышления в другую, где они впервые получают
надлежащее развитие, еще совсем не указывает на то,
что последующая система — именно как система —
проистекает и формируется из первой и что первая
собственным своим продвижением «выливается» во вторую.
Конечно, каким-то образом новый строй мысли у Декарта
сложился, но явно не путем «сложения», и генезис
картезианской системы не сводится к заимствованиям.
Подмечаемое Герценом «что-то суровое и аскетическое»22 в
картезианском подходе указывает на внутреннюю
собранность и цельность совсем не ренессансиого
происхождения. Во внутренней установке Декарта, как и в
устройстве его системы, заключено прочное единство,
необъяснимое из ренессансных посылок, которые, в свою
очередь, несмотря на многообразие импликаций, или,
вернее, в силу этого, заключают в себе самих качественный
предел развертывания.
Возьмем, к примеру, Эразма Роттердамского, поя^алуй
самого выдающегося из гуманистов Северного
Возрождения. Исследователи отдают должное его замечательной
«широте охвата»: можно сказать, ничто не остается «не
высвеченным» им, в любой области этот активный,
беспокойный ум разведывает и пролагает путь для
позднейших интеллектуальных усилий. «...Он угадывает золотые
ж серебряные жилы проблем, которые надлежало вскрыть.
Он чует, он чувствует их, он на них указывает, но
этой радостью первооткрывателя чаще всего и
удовлетворяется его нетерпеливо рвущийся дальше интерес, и
собственно разработку, извлечение сокровищ, раскопку,
промывку, оценку он оставляет тем, кто идет за ним.
Тут его граница»23.
В своих предвосхищениях, предчувствиях и
предвидениях нового мира возрождеицы порой находятся у
порога новой философии, которого, однако, не
переступают. Кампаиелла провозглашал разум высшим сувереном,
который должен править миром и быть началом всему,
но это не означало и не могло означать систематического
проведения им такой точки зрения. Философия «великих
итальянцев», от которых «ведет свое летосчисление
новая философия»24, была только началом отсчета, не
тождественным тому, чему был положен отсчет.
В тех пунктах, где картезианство как теоретический
фундамент новоевропейской мысли и ренессансиая
форма мышления оказываются ближе всего по своему идей-
52
ному содержанию и хронологически примыкают друг к
ДРУГУ* по своей действительной исторической и
культурной принадлежности они остаются разведенными.
Расхождения между ними не только случайные и не только
частные, они необходимо вытекают из особенностей
одного целого, весьма отличного от другого, и
определяются несходными способами понимания, относящимися
к двум различным эпохам.
За множеством сходств в том, о чем и что мыслили и
к каким выводам и заключениям приходили философы
Возрождения и нового времени, кроется весьма
существенное различие в образе мышления тех и других.
Только когда мы обращаемся к способу мышления, к той
интеллектуальной форме, в которой осмысливаются и
развиваются в философии нового времени
возрожденческие идеи, тогда-то и уясняются различия не
количественного порядка, а качественного.
Каждая из обеих форм, в какой-то мере охватывая
(или простираясь в) содержание другой, не утрачивает
своей специфики, сохраняет свое «лицо». Не только
идейное содержание, но и сам рационализм у возрож-
деицев неизменно вписывается в своеобразный стиль,
или форму, их мышления. Поэтому если правильно будет
говорить о преемственности и единстве
рационалистической традиции, то все же при этом следует иметь в
виду, что единство это не непосредственное. Между той
и другой формой рационализма, между тем и другим
способом мышления существует грань, разделяющая обе
ступени развития. Процессу объединения их,
осуществляемому внутри самой новой философии, предпослан
основательнейший разрыв.
Между этими двумя типами мышления есть и нечто
сближающее, и нечто расталкивающее их. Если «между
ними что-то есть», то оно — можно заранее сказать —
должно выразиться в таком противоречивом феномене,
который разделяет и — именно благодаря разделению —
связывает обе формы, служит переходным звеном между
ними и делает их действительно двумя особыми
ступенями. С обеих сторон — с каждой по-своему — оно
должно находить определенное утверждение и вместе с
тем подвергаться негации. Как переходное звено, оно
должно быть некоторого рода продолжением
Возрождения — таким, которое явилось бы вместе с тем его
отрицанием и в свою очередь отрицалось бы им; оно
должно быть в какой-то мере и предпосылкой филосо-
53
фии нового времени и вместе с тем быть отрицаемо eio
и отрицать себя в качестве такой предпосылки. Этим
явлением была целая историческая полоса
революционного переворота — Реформация — с пронизывающим ее
духом протестантизма. Вклиниваясь в качестве сложного*
опосредствующего звена между философией Возрождения
и философией нового времени, протестантизм
оказывается в противоречивой — родственной и враждебной —
связи с каждой из них.
Мировоззренческое сходство Коперника с Декартом
несомненно. Коперник отвергает чувственную видимость
(вращение Солнца вокруг неподвижной Земли) и
утверждает свою гелиоцентрическую систему как истину.
Декарт также отвергает в теоретическом подходе
всякую чувственность, как не внушающую безусловного
доверия, и строит рассуждения на том, что внутренне
удостоверено как истина, от которой невозможно
отказаться. Следует иметь в виду, что труд Коперника был
опубликован в то время, когда в центре Западной Европы
уже совершилась Реформация и ренессансному
пробабилизму относительно научных положений (не совсем
чуждому католической доктрине) уже был противопоставлен
страстный протестантский ассерторизм, когда Мартин
Лютер, одолев колебания и сомнения, уже произнес на
знаменитом вормсском сейме слова, исполненные
мужества и твердости: «На этом стою и иначе
не могу!»
В ходе Реформации произошло столкновение Лютера
с Эразмом Роттердамским, пытавшимся в полемике с
ним придерживаться ренессансного способа обсуждения
вопросов и выступавшего в трактате «О свободе воли»
(1524) в качестве диспутанта, а не судьи, как
исследователь, а не как догматик. В своем трактате-отповеди:
«О рабстве воли» (1525) Лютер не соблюдает этих
условий диалога, он стремится не к увязыванию
разногласий, а к размежеванию и борьбе: нужны не
бесконечные обдумывания да рассуждения, а действия, не
исследования, а непреклонная вера, не колебания, а
решения, не лавирование между Сциллой и Харибдой, а
определенный выбор позиции — условия, несовместимые с
гуманистическими принципами полемики. «Да оставят
нас, христиан, скептики и академики,— гремит Лютер,—
да пребудут с нами те, которые высказывают
определенные утверждения вдвойне упорнее, чем сами стоики...
Сколь же смешон будет мне тот проповедник, который:
54
сам верит нетвердо и не настаивает на том, что
проповедует!.. Что же, ты все-таки утверждаешь,— вопрошает
далее Лютер Эразма,— что ты не любишь утверждения
и что этот образ мыслей тебе кажется лучше того,
который ему противостоит?»25
Породив ситуацию религиозного раскола,
протестантизм принуждает определиться со всей решительностью
и открыто заявить, на чьей ты стороне. Никакие
уклончивость и двусмысленность тут не допускаются. Речь
идет о выборе, которым либо достигают истины и с нею
обретают все, либо же впадают в заблуждение и все
теряют. Для протестанта — это насущный вопрос о
«спасении» или «вечном осуждении». Требование достичь
истины во что бы то ни стало выдвигается как властный
императив. Альтернатива: «знать или погибнуть!» —
понимается, конечно, в специфически сектантско-религиоз-
ном духе: на вечную погибель обречены маловеры,
сомневающиеся в «нашей» истине.
Ренессаисный мыслитель смотрит на дело иначе: за
истину повсюду выдаются лишь человеческие домыслы —
самые разноречивые «мнения», «гипотезы», «догмы»,
в конце концов «заблуждения»,— на каком же
основании предпочитать одно заблуждение другим? Не лучше
ли вообще воздерживаться от категорических суждений?
Ренессаисный разум направлен на поиск истины, но не
на установление ее, не на то, чтобы что-то решить и
сделать выбор. Истина недоступна познанию, вторит
древним скептикам Моитеиь, мы способны лишь
устремляться к ней, но не обладаем способностью точно
определять ее.
Воздерживаясь от окончательного суждения,
скептики проявляют интеллектуальную честность: мы не зна-
-ем, искренне заявляют они, как отделить истину от лжи,
не располагаем критерием их различения и не выдаем
незнаемое за постигнутое. Монтеиь достаточно ясно
показывает, что разум в том виде, в каком он
существовал до сих пор, не пригоден быть надежным средством
такого различения. «...Разум всегда идет нетвердой
походкой, ковыляя и прихрамывая. Он всегда перемешан
как с ложью, так и с истиной, поэтому нелегко
обнаружить его неисправность, его недочеты»26. Драматическая
ситуация, в которой оказался такой разум, изобличена
скептицизмом позднего Возрождения, подвергнута
критической (порой даже негативной) оценке, но не
превзойдена.
55
Взятому в качестве непреклонной веры (или
субъективного мнения, выдаваемого за истину) протестантизму
были противоположны как реыессаысиый скептицизм,
поскольку в последнем всякое утверждение означало не
более как мнение, так и новоевропейская
научно-философская мысль, которая требовала исходить из
достоверных истин, исключающих веру. Ренессансу,
протестантизму и философии нового времени, рассматриваемым
здесь в их типологических отношениях к вопросу об
истине, соответствуют три модуса признания истинности:
мнение, вера и знание, или три вида суждений:
проблематическое, ассерторическое и аподиктическое.
Протестантизм отвечает потребности в истине, но
иллюзорным образом. Разоблачая видимость знания,
мнимую истину, заключенную в вере, скептицизм тоже
откликается на ту же потребность, но негативно, т. е.
выдвигая сомнения, которыми подрывает всякое
встречаемое на пути верование, вскрывая в нем недостоверность
знания. Однако, сводя всякое утверждение, всякое
ассерторическое суждение к проблематическому, скептицизм
приходит к отрицанию положительного знания вообще,
поскольку обессмысливает все интеллектуальные усилия/
к достижению истины. А это снова подталкивает на
путь веры. Потревоженная сомнениями, она тем не
менее не разрушается. Лютер опять и опять готов
отодвигать сомнения, рассеивать их верой: «Святой
дух — не скептик, и начертал он в наших сердцах
не сомнения да размышления, а определенные
утверждения, которые крепче и самой жизни, и всяческого»
слова»27.
Совершенно иной предел скептицизму обозначился у
Декарта. Его задача — не только поиск истины, но и
установление ее. «Я не подражал...— говорит он,—
скептикам, которые сомневаются ради самого сомнения и
предпочитают пребывать всегда в нерешительности;
наоборот, мое стремление было целиком направлено к тому,
чтобы достичь уверенности, отметая зыбкую почву и
песок, чтобы найти гранит или твердую почву»'28. Сомнение-
преодолевается у Декарта не религиозным рвением, а
научным познанием, прочная истина достигается не верой,,
а разумом. В поисках «хоть одной достоверной и
несомненной вещи» он пришел к Архимедовой «твердой и
неподвижной точке» — к мышлению. В наличии
собственного мышления мы уже не можем сомневаться. Эта
истина «столь прочна и столь достоверна, что самые
56
причудливые предположения скептиков неспособны ее
поколебать»29.
Императив к обретению истины и уверенность в ее
достижимости Декарт усваивает не от скептиков.
Разделяя взгляд на слабость и несовершенство имеющейся
в распоряжении рациональной познавательной
способности, он не отвергает ее в пользу веры, а ищет и
открывает путь совершенствования и преобразования этой
•способности. Сомнение превращается у него из
умонастроения в метод, позволяющий не только избежать
заблуждений, но и напасть на след истины. Протестанты
обретают в вере лишь воображаемую истину, а скептики
именно отрицанием способности человека к достижению
достоверного знания и отказом от суждения сами
лишают себя истины. Напряженностью между догматизмом
протестантской веры и скептицизмом Ренессанса
создаются условия для новой постановки вопросов о познании
истины.
Столкновение обоих направлений предстало перед
Декартом проблемой: с одной стороны, в вопросе об
истине не должно быть индифферентизма, с другой — в
принятии и утверждении ее не должно быть ошибки. Истина
одна, и чтобы принять именно ее, и притом наверняка,
а не наугад, надо освободиться от шор скептической
теории и незнания и отважиться постигать. Если истина
постигнута, то для стремившегося к ней отпадают
затруднения в выборе,— она предстает ясной и
отчетливой, и ее остается только принять. Даже утверждая
истинное положение, мы продолжаем пребывать в
заблуждении, если выносим суждение вслепую, наудачу.
Ложность состоит в недостатке познания, и человеку
приходится расплачиваться за это. Неведение и
непонимание истины вменяется в вину: не знаешь? — обязан
знать! Невежество — не аргумент. На этом стоят Декарт
и Спиноза.
«Знать» истину, хотя и не в интеллектуальном
смысле, обязывает и протестантизм. Но выдвинутого в нем
принципа личной веры, простого заверения в том, что
владеешь истиной, совсем недостаточно для
действительного знания. Эта вера сама по себе, т. е. только как
субъективная уверенность, не заключает в себе
никакого ручательства своей истинности. Для такой веры
необходим критерий, им для протестантов поначалу
становится Библия, т. е. книга. Но книга нуждается в
понимании; для установления же правильного понимания
57
требуется исследование и размышление, т. е.
деятельность личного разума, который в конце концов и
оказывается действительным критерием истинности
религиозного убеждения, так что протестантизм и логически, и в
действительном историческом своем развитии
естественно переходит к тому рационализму, сущность которого
состоит в признании человеческого разума не только
самозаконным, но и законополагающим во всех областях
духовной деятельности.
Принципы протестантизма оказываются, как видим,
гораздо более широкими, чтобы их применение
ограничивалось только религиозным сдвигом, хотя поначалу
они были сформулированы лишь по отношению к
религиозным предметам и проявились по преимуществу
именно в них. Разложение традиционной веры на простые
элементы, начатое протестантизмом и вначале
остановившееся на текстах Библии, необходимо должно было
дойти, как говорил Фейербах, до последних,
первоначальных элементов, одним из которых является разум,
«сознающий себя началом всякой философии и всякой
религии, должно было из протестантизма создать его
истинный плод, философию, которая, конечно, сильно
отличается от своего семени и на общий взгляд, который
судит о внутреннем родстве лишь по внешним признакам
и осязательным сходствам, не имеет с ним внутренней
существенной связи»30.
Путь протестантизма к такому итогу при более
детальном рассмотрении оказывается весьма тернистым и
противоречивым. Первые ростки совершенно новой
рациональности появляются не столько от послаблений и
попустительств новой веры уже наличному разуму,
сколько вследствие предельной интенсификации и накала
религиозного чувства. Искореняемый напрочь религиозным
рвением разум, подобно Фениксу, обновляется в пламени
веры, возрождается из пепла ее. Прорыв от обновленной
веры к обновленному разуму происходит не через бреши
в вере, не путем использования исподтишка слабостей
ее, не уклонением от нее — это дело случайностей,—
а через максимально возможное укрепление ее.
Положение дела здесь было таким же, как в светской
области: революционные сдвиги (политические, социальные
и др.) в эпоху Реформации часто являлись следствием
таких вероучений, которые основательнее других
завладевали сознанием. Так было у Томаса Мюнцера (ок.
1490—1525). Вождь народной Реформации ставил своей
58
задачей активизировать веру, глубже внедрить ее в
сердце христианина, возвысигь ее до совершенной
уверенности, до знания, до разумного понимания.
Выход от протестантизма к новому разуму
намечается на пути не смягчения, а сгущения и сосредоточения
веры вплоть до полного подавления и искоренения в ней
прежней рассудочности, разрыва со всей той
разумностью, которая прежде раболепно служила старому
устройству жизни, оправдывая существующие порядки
или примиряясь с ними. Революционные низы, вставшие
на путь углубления и расширения преобразований,
начатых лютеровской реформой, шли, как это ни покажется
странным, на подчинение своего мирского
существования более жесткому ригоризму веры. В параграфах
крестьянского собрания во Фракоиии говорилось: «Общее
собрание хочет, во-первых, восстановить святое слово
Господне и евангельское учение и желает, чтобы отныне
юно громко проповедовалось во всей своей чистоте, без
примеси человеческих учений и прибавок. Чтобы все,
что признается в Евангелии, признавалось и в жизни,
и, наоборот, все, отвергаемое Евангелием, отвергалось в
действительности»31.
Чем жестче и суровее религиозное учение, тем
настойчивее и непреклоннее оно в требованиях коренных
преобразований,— это мы видим у Мюпцера, который
настаивает на последовательном проведении принципа
веры в его чистоте во всех сферах человеческой жизни.
Истинно верующим христианином Мюицер считает
того, кто достигает уверенности в единстве своей воли
с волей бога; того, кто абсолютно убежден, что в его
суждениях, выборе выражается царящая над всеми
частностями высшая справедливость, а в его действиях
реализуется правое дело — божественная правда,
единственная, которую должен признать и принять мир как
всеобщую, наряду с которой не должно быть ничего, ибо
все примешивающееся к ней или дополняющее ее есть
зло, ложь, безбожие. Преисполненный такой верой,
подлинность которой, по Мюицеру, испытывается как золото
в огне, христианин приходит к твердому убеждению, что
в нем, ревнителе дела божьего, действует начало
истинное и универсальное и что представлявшееся в его
поступках «безумным», с точки зрения того прежнего
робкого и неуверенного ума, от которого он теперь
отрешился, есть как раз, напротив, проявление подлинного,
божественно-возвышенного разума.
59
В условиях Реформации именно упрочение веры в
душах в предельной ее чистоте и ясности вело — в чем
Мюицер отдавал себе отчет и чего он страстно
добивался — к такому многозначительному следствию, как
«пробуждение разума в человеке». Истинное откровение,
которое несет в себе вера, есть разум. Речь идет у Мюн-
цера об обновленном разуме, способном к постижению
истины. Вера — лоно его возникновения и
первоначального бытия. Следует иметь в виду, что и сама вера у
Мюицера — уже особого рода: она заключает в себе
деятельное начало и понимается как активность в
реализации разумного.
Для возвышения познавательной способности
требуется, по Мюнцеру, предварительная деструктивная
работа, человек должен осознавать, что «он не может
умом пробегать по небу без того, чтобы раньше не
сделаться внутренним глупцом»32, т. е прийти сначала к
тому интелектуалыюму состоянию, которое
сформулировано Сократом: «Знаю, что ничего не знаю». «Более
высокий смысл познания» не достигается простым
приращением рассудочных познаний; напротив, рассудок
должен быть низведен к некоторому изначальному своему
состоянию, чтобы оттуда вся познавательная
деятельность была начата сызнова, в ином направлении, ибо
прежнее направление не развивает способности
овладения «божественными» предметами, но губит ее, развивая
и упрочивая именно неспособность в этом отношенииг
и вместо преодоления ограниченности происходит лишь
расширение ее. В отличие от всей предшествующей
традиции в христианской мистике, вплоть до Таулера и
«Немецкой теологии», у Мюицера дело заключалось
не просто в том, чтобы очиститься от человеческого
разума, а в том, чтобы его преобразовать, превратить из
противоположности божественному в положительную
форму проявления этого последнего, в осуществление,
«раскрытие» в человеке высшего, совершенного разума.
Рожденный в «истинной вере», обновленный разум
уже не слуга, а дитя ее. Здесь закладывается
представление о священстве человеческого разума,
воодушевлявшее многих мыслителей нового времени33. Сакральный
в своем появлении, он не нуждается больше ни в
оправдании, ни в прощении, ни в каком-либо внешнем
авторитете. Поэтому Мюнцер отваживался прямо
противопоставлять библейскому авторитету разумное начало —
святой дух, действующий в человеческой душе, или про-
60
сто разум человеческий, который он считал «чистейшим
и непосредственнейшим источником истины для
человечества»34. Мюнцер был полон доверия к такому разуму
и считал его единственным посредником между
человеком и богом. Суждения своего ума Мюнцер не очень
отличал от откровения свыше и не всегда мог дать себе
отчет, действует ли он по личному побуждению или его
влечет высший дух, вселившийся в него.
Мистицизм Мюнцера подытоживает собою тернистый
путь предшествующего религиозного развития в
протестантизме, а именно путь разложения ре«лигии через
сосредоточение в личной вере, расщепление догм и
проникновение в сокровенные недра религии, откуда
начинаются извлечения следствий, выводов уже
нерелигиозного порядка. Мистика приводит веру к непосредственному
знанию. Само по себе оно скудно. Все
предшествующее философское знание из него выветрено,
нового еще нет. Ему предстоит возникнуть на этом
расчищенном для него основании.
Отпадение от старой познавательной формы
существенно воспроизводит образ практического действования
в революционном протестантизме: интеллектуальный
аскетизм у порога нового познания соответствует общей
аскетической религиозной практике в начальной стадии
социальных движений в народных низах. Отказ миря-
иина-простолюдииа от остатков «человеческого» знания
есть лишь логическое довершение осуществлявшейся по
отношению к нему тысячелетней практики духовного
гнета, отчуждения его «я», лишения его самости.
Исключая себя из наличной формы знания, он лишь
осуществляет до конца ее отношение к нему,— он лишает
себя всякой ценности для нее и отвергает заодно ее
ценность для себя.
Прежде чем отвергать свою отверженность, нужно*
окончательно реализовать ее, т. е. решиться
распространить самоотрицание на самый внутренний круг
сознания. Смысл такого рода деструктивной работы
(осознаваемый лишь впоследствии) заключался в переходе на
точку зрения объективной («божественной») истины, не
зависящей ни от человека, ни от человечества.
Отречение от личных целей, интересов, убеждений
составляет существенную предпосылку подлинного
философствования. С такого акта очищения сознания
начинает Декарт: «...если я хочу установить в науках что-
нибудь прочное и постоянное, то мне необходимо хоть
61
раз в жизни предпринять серьезную попытку
отделаться от всех мнений, принятых мною некогда на веру,
и начать все сначала, с самого основания»35. Ф. Бэкон
как бы пророчествует об этом трудном акте на пути к
новому способу мышления: «Никто еще не был столь
тверд и крепок духом, чтобы предписать себе и
осуществить совершенный отказ от обычных теорий и понятий
и приложить затем заново к частностям очищенный и
беспристрастный разум. А поэтому наш человеческий
рассудок есть как бы месиво и хаос легковерия pi
случайностей, а также детских представлений, которые мы
первоначально почерпнули»36.
Ближайший результат освобождения от личных
мнений и внешних авторитетов может на первый взгляд
показаться безотрадным, удручающим своей ничтожностью,
так как ничего, по-видимому, пе достигается, но остается
лишь зияющая пустота, приводящая человека в
отчаяние. Все дело заключается в том, чтобы выдержать этот
критический момент, на острие которого происходит
переворот в видении.
Как Лютер отверг значимость внешней обрядности,
как Мюнцер противопоставил мертвой букве живой дух
Евангелия или как Коперник пренебрег чувственной
видимостью, так, вступая на новый путь
философствования, следует «отбросигь всякую тщету»,—
отважившемуся на такой шаг Бэкон предрекает судьбу Александра
Великого, преддверием славы которого стало то, что он
« только решился пренебречь тщетным»37. В русле
указанного направления находится и спинозовское
требование расстаться со своими особыми соображениями и
домыслами и предаться в мышлении общему,
существенному, субстанциальному, или «божественному». Обращаясь
к выросшему на реформациоииых сдвигах
мистическому учению герлицкого сапожника Якова Бёме,
«нового предвестника грядущих философов»38, мы
обнаруживаем, что аналогичный процесс уже совершался и
осознавался у него в форме, соответствующей
ближайшему пореформационному периоду в Германии,— в
форме религиозной.
Церковный раскол стал свершившимся фактом, с
которым приходилось считаться в очень различных
областях жизни. Целый мир раскололся, и трещина прошла
через сердце христианина. Новая интеграция души
должна была теперь осуществляться под условием
принятия чего-то одного через опровержение другого. Нельзя
62
долгое время пребывать в разорванности сознания, нада
принимать решение, безоговорочно выбирать в качестве
кредо только что-либо одно и отвергать все другое:
решимость и отвага в таких действиях сделались не
случайными свойствами индивидуального характера, а
общественно определяемыми, стали непреложным
требованием, предъявляемым к индивиду.
Не будь этого могучего императива, можно было бы
принять, поя^алуй, за случайный произвол намерение
Декарта решиться однажды усомниться во всем и
отвергнуть все в пользу лишь одного, не допускающего*
никаких сомнений, единственного безусловного
положения, на котором можно было бы с уверенностью строить
познание всего прочего.
Именно такой склад мыслей, такой подход и такой
способ понимания подготавливается и предваряется у
Якова Бёме. Его душою владеет только одно, и он
хочет показать, как из этого одного порождается и
познаётся все.
Новое философское знание представляется Якову
Бёме испосылаемым свыше как раз туда, где человечность
унижена, попрана, обесценена, где человеку уже нечем
«величаться» и где само тщеславие в нем побеждено,
т. е. туда, где субъективно и объективно подготовлено
место «вселению духа», откровению высшей — «боя^е-
ственной» — мудрости. Бёме убежден, что, «если бы
наши философы и ученые играли всегда не на скрипке
гордыни, а на скрипке пророков и апостолов, другое
было бы, пожалуй, в мире познание и другая философия»39.
Рождение нового, «божественного» знания в человеке,,
рождение «другой философии» должно произойти, по
Бёме, не там, где ныне процветает ученость богословов,
не в пышности и блеске эрудиции, не в высоте знания и
искусства, а «в глубине и великой простоте», так же
как появилась и христианская вера и как избавлялась
она от последующей католической «порчи»: очистить
веру дано было «бедному презираемому монаху»,
наделенному «властью бога-отца и силою бога духа
святого»40.
Полнота смысла перенесена у Бёме в боговдохповен-
ное мистическое сознание, а все, что от «человеческих»
мнений, домыслов, от «человеческой» разумности,
лишено содержательности. Человеческий разум представлен^
таким образом, совершенно выхолощенным, пустым,
сведенным к чистой форме; если угодно, профанирован-
63
иым. В таком виде он оказывается достоянием всякого
«простеца», перед которым знающий — богослов или
ученый схоласт — не имеет никаких преимуществ, ибо
совершенно девальвировано именно содержание всякой
наличной разумности, разум приведен к своей наивнейшей
простоте, к первобытию. С такого-то разума и начинает
движение философия нового времени.
Уже Ф. Бэкон подготавливал соответствующий
исходный пункт нового научного познания: вход в царство
человека, основанное на науках, он уподоблял
вступлению в царство небесное, «куда никому не дано войти,
не уподобившись детям»41. Декарт даже настаивает на
том, чтобы в теоретический разум не примешивалось
ничего извне; разум должен быть на первых порах просто
ничем не наполненным, голым существованием, он и
начинает с cogito, с утверждения мысли себя самой как
мысли, с: существования разумного мышления как
такового. У Локка разум — чистая доска, на которой заранее
ничего не начертано, в разуме самом по себе ничего нет
(кроме самого разума, добавит Лейбниц).
Культура языка и изложения у новых философов
лишь в малой мере может затушевать то обстоятельство,
что сами исходные пункты у них никак не унаследованы
от традиционной формы образованности, что в данном
отношении традиция прервана, что их философия
отправляется не от широты и обилия идей, оставленных
прежней мудростью, а от чего-то очень скудного, просто-
то и обыденного, лишенного пока что интеллектуальной
насыщенности и тем более — пестрого эмпирического
многообразия, чувственной расцвеченности.
У Бёме взята, можно сказать, пока что только
негативная форма картезианского cogito — полное
отсутствие всякой мысли, ыемыслие, блаженное неведение. До
такой степени должен был обесцениться и пасть
прежний интеллект, чтобы, сосредоточившись на знании чего-
то одного, но совершенно несомненного (а чем меньше
знаешь, тем меньше сомневаешься), душа могла развить
из себя вполне самостоятельную, обновленную мысль.
«Мы рождаемся невеждами во всем»,— говорит
Локк42. То же с духовным рождением. У Бёме «свет
разума» появляется из густого мрака невежества. Новое
знание рождается в глубоких и темных недрах старого
мировоззрения. Ближайший результат — только форма
истинного знания, в которой (по отношению к его
собственной перспективе — еще, а по отношению к прош-
64
лому — уже) нет никакого знания в прежнем его
значении, в смысле смеси истинного и ложного.
Заблуждения в ней (сращенность истинного и ложного)
отвергнуты, а соответствующим ей истинным содержанием она
еще не наполнена. Но именно такого отправного пункта
для развертывания истинного содержания добиваются и
Бсме, и новые философы.
Само развертывание дает и разрешение противоречий,
коренящихся в «начале» и заключающихся в том, что
сущностью полагается мышление, а генетической
основой — не-мыслие; содержанием должны быть мысли,
понятия, понимание, а предпосылкой — отсутствие всего
этого; у самых истоков разум противоречит своему
существу: он есть интеллект, который не содержит ничего
интеллектуального, мышление, в котором отсутствуют
мысли, разумение, которое еще ничего не разумеет,—
словом, чистая доска, скорее потемки разума, чем
свет его.
Это тот пункт, которым завершается одно движение
и начинается следующее, здесь происходит затишье
между двумя формами или ступенями интеллектуальной
деятельности и преобразование одной в другую. Когда
Декарт берется разъяснить такое вступление в новую
форму и когда он делает это в терминах предшествующего
воззрения (к чему он прибегает очень редко), он
истолковывает данное явление как «озарение ума,
посредством которого ум видит в свете бога вещи, кои богу
было угодно открыть человеку путем прямого напечат-
ления божественной ясности на наш рассудок, который
при этом уже следует рассматривать не как деятельный,
но только как получающий лучи божества»43.
Здесь отчетливо видна генетическая основа
картезианского воззрения, которое в дальнейшем развитии -уже
не только не покоится на ней, но существенно отделено
от нее, так что обновленный разум представлен
автономным по самой своей сути, основывающимся на себе
самом и не оставляющим «никакого сомнения в том, что
мы мыслим» и что божественное откровение уже ни при
чем, поскольку имеется «прочное понятие ясного и
внимательного ума, порождаемое лишь естественным светом
разума»44.
Если верующий-протестант добивается полнейшей
самоотдачи и в беспредельном доверии к всевышнему,
в мистическом единении с ним утрачивает свое особое
«я», свою самостоятельность, превращаясь в «сосуд бо-
5 Заказ № 667
65
жий», и, как следствие этого, перерождается, обретает
себя вновь в качестве верующего, делается «праведным»г
то в этом скрыта целая история последующего
философского развития, которая разыгрывается сначала в
протестантском сознании на религиозный лад.
Отказ от прежней человеческой субъективности, от
«ветхого я» приводит Бёме к субстанциализму, чего не
достигается в ренессансном мышлении, даже у Бруно.
Бёме проникает в «основу» бога, в «природу» его. Из
природы бога — из действительной природы, осваиваемой
пантеистически («все в боге»),— он выводит
человеческое познание. Познавая в нем природу, человек у Бёме
приходит к постижению собственной своей природы. От
богопознания путь пролагается у Бёме к миропознанию
и — далее — к самопознанию; человек приходит, наконец,
к самому себе как сознающему себя субъекту,
действующему вполне самостоятельно и в теоретическом, и в
практическом отношениях, и в мыслях, и в поступках.
Более или менее полно или сокращенно, цельно или
фрагментарно этот путь воспроизведется потом в
различных вариантах на рациональном уровне в
философских учениях Декарта, Спинозы, Локка, Лейбница.
Обратим внимание на то, какая из идей проистекает
у Декарта из принципа cogito самой первой и
несомненной: несомненно лишь то, что я сомневаюсь;
сомневаюсь, т. е. являюсь существом несовершенным и
зависимым; это приводит к идее существа совершенного и
независимого, т. е. бога; идея бога говорит о всецелой
зависимости от него моего существования во все мгновения
моей жизни; принимая это как неотразимую
очевидность, Декарт усматривает в ней «путь, который
приведет нас от этого созерцания истинного бога,
заключающего в себе все сокровища науки и премудрости,.
« *» 45
к познанию остальных вещей вселенной» .
Протестантская мысль отправлялась от абсолютного
доверия к богу. У Декарта формируется в качестве
отклика на безусловную веру прочная посылка познания:
бог абсолютно правдив. Он никогда не обманывает. Если
бы такой обман мог иметь место, то человеческое
познание было бы невозможно и была бы разрушена основа,
на которой твердо стоит учение Декарта. Таким
образом, Декарт возвращается к человеческому мышлению
как подтвержденному в своей силе, в своей способности
продвигаться по пути истины, гарантию чего это
мышление находит в себе самом.
66
Упомянем здесь также о Спинозе, посвятившем
такого рода переходу труд жизни—«Этику». С учетом
учения реформаторов о жесткой предопределенности
всего он начинает с признания, больше того — с
обоснования безусловной божественной определяемости и
упорядоченности в божественном строе существенного
содержания всего сущего: природных вещей, человека как
природного существа, его воли, поступков, мышления.
В частности, сам человеческий ум «должен быть
представляем через посредство абсолютного мышления, т. е.
через посредство некоторого атрибута бога»46. Далее,
через множество опосредовании, малых продвижений и
истолкований того, как они осуществляются и как должны
осуществляться внутри религии, внутри мышления
(равно и в переходах от веры к разуму), Спиноза
приходит наконец к заключительной части своего
исследования, носящей — уже в противоположность
фаталистическим по своему характеру исходным посылкам —
название: «О могуществе разума или о человеческой свободе».
В лице Декарта и Спинозы новоевропейская
философия реализует автономию человеческого разума, но
автономию по образу протестантской личной веры,
утверждает достоинство человеческой личности и ее свободу,
исходя при этом из завоеваний Реформации и затем
расставаясь в конечном итоге с ее собственно
христианскими посылками.
Новый рационализм «неожиданно» заявляет о себе
как ставший результат, в котором становление его
оказывается «снятым» и потому неприметным. Добытые в
процессе предшествующего развития и обработанные
далее философами XVII в. идеи представились новому
сознанию «вечными идеями разума». Пользуясь более
зрелыми плодами того же дерева, которое взращивал
Бёме< только более культивированного новаторской
философией XVII в., век Просвещения склонен был
относить и первые плоды к какому угодно, только не к
породившему их дереву. Лукавством любителя парадоксов
представлялось сказанное всерьез изречение
современника Бёме, И. Кеплера: «Если... считать Невежество —
матерью, а Разум — отцом науки, то ясно, что мать либо
вообще не знает отца, либо скрывает его»47.
Подспудная выработка идей под чуждым им
теософическим покровом и в самом деле незаметна при свете
дня и кажется несвойственной мраку теософской
мистики. Сова Минервы вылетает ночью, полет ее бесшумен и
5*
67
неприметен. До сознания доходят лишь результаты
потаенной и незаметной работы. И сам Бёме полагал, что
его идеи — не его, и даже не всегда понимал их. Они
являлись как «озарение» — так, пожалуй, следует
обозначить почти полную невозможность дознаться, каким
именно из своих бесчисленных шупальцев завладела его
сознанием историческая обстановка того времени.
Религиозная терминология немецкого мистика мало
прикрывает, скорее даже подчеркивает, то
обстоятельство, что в вопросе о происхождении нового знания он
исходит из вполне эмпирической ситуации своего
времени и отталкивается от существующей в ней формы
знания. «Дух мой,— сообщает он в „Авроре'1 о
пережитом личном опыте,— пробился сквозь врата адовы до
самого внутреннего порождения божества, и это не может
быть сравнено не с чем иным, как лишь когда посреди
смерти рождается жизнь; еще можно сравнить это с
воскресением из мертвых... Если же кто хочет родиться
вновь, тот не должен отдаваться в рабство жадности,
гордости и своеволию и услаждаться в пожеланиях
своей плоти; но должен сражаться и бороться против самого
себя...»48
Обновление человека, наступающее в ходе и в
результате этих борений, простирается далее и на
познавательную способность. Появление нового способа
познания Бёме сравнивает с порождением святого духовного
бытия в «ветхом теле сего мира», где царствуют «гнев
и злоба»; это у него не только аналогичные, но и
внутренне сопряженные процессы, один следует из другого;
возникновение «природы новой жизни» происходит в
«поврежденном теле сего мира», это «тело, в котором
рождается живой дух; а из этого духа свет и
разумение»49. Разумное познание, как и все в тварном мире,
должно родиться, сотвориться, и сам познавательный
процесс должен быть воспроизведением в человеке способа
действия высшей творческой силы: продуцированием,
созиданием, синтезированием; без этого нельзя было бы
что-нибудь постичь, и не будь мир в вечном творении,
нечего было бы в нем постигать,— «не было бы ни
одного природного или телесного существа; не было бы
также и рождения божия, и все было бы неисследимо»50.
Если бы сам бог не рождался — в самом себе и, далее,
в нашей душе как дух,— он был бы непознаваем.
Первое обнаружение новой формы познания
трактуется гёрлицким мистиком как проявление субстанциаль-
68
ной мощи через человека, продолжение в нем
божественного творчества. Деятельность со стороны человека
должна состоять лишь в том, чтобы сломить в себе своеволие
конечного человеческого разума, подчинить его
божественному и не препятствовать, а дать свободно
проявиться этому высшему разуму, следовать ему и
воспроизводить его в себе. Монизм гносеологический, как и
онтологический, в таком случае не только вводится в
качестве постулата, но и становится делом практического
осуществления: одной из сторон противоположности
представлена спонтанная активность, другая —
«пленяется» первою, приводится к затишью и безмолвию. Бёме
говорит о себе: «Я пробивался сквозь мертвый разум»;
«я предоставляю богу действовать во мне и пленять
плотский мой разум»51.
Предмет божественного разума — божественное
творение, и познается оно божественным же способом. Не я
познаю нечто, а бог познает через меня свое творение.
В сущности, этим выражается самопознание субстанции.
В отчужденной форме (т. е. как «божественное»
самопознание) у Бёме развертывается метафизика подлинно
человеческого познавания, теория познания. В ней
раскрывается принципиальный характер того, каким
надлежит сделаться познанию человека, чтобы стать
суверенным и объективно истинным. Сущность этого знания
полагается в некоторой спонтанной активности, в
самодеятельности, которая, однако, представляется Бёме
самодеятельностью высшего существа в человеке, божьим
творчеством в нем, сообщающим ясное видение: «И если
бы теперь дух мой не видел духом его, я был бы слепою
палкою»52.
Через человека бог приходит к познанию себя, своей
природы, становится действительно богом, порождает
себя как бога, открывается самому себе. Этот
познавательный акт носит творческий характер. Познание есть
творчество нового. Бог через человека продолжает свое
творчество, открывается в человеке. И дело не может
ограничиться отдельным актом откровения в человеке,
поскольку божественное творчество бесконечно. Внезапное
озарение — это только первый шаг в целой серии
«откровений», в цепи творческих актов в человеке,
«порождений духа» в нем, развертывающихся в процесс
систематического познания.
Заметим, что в ренессансной мысли почти вовсе не
получила разработки идея дедуктивного развертывания
69
высшего («божественного») методологического
познавательного принципа как такового, способного послужить
прочным и надежным отправным пунктом для
раскрытия более конкретных истин. Ф. Бэкон только
вдохновенно пророчествовал об этом. Между тем новая
философия — не только в лице Декарта — ставит задачей
открывать и развивать в первую очередь именно такие
принципы. Спиноза, касаясь геометрии, распространяет
и на другие области исследований положение о том, что
«нужно искать такую идею, из которой можно извлечь
все»53. Сам он стремится построить всю свою философию
на идее божества, и его «Этика» прямо начинается с
определения понятия божественной субстанции, к
которому примыкает весь строй его системы. Истинное
познание, божества, согласно пантеистической посылке
Спинозы, содержит в себе также и познание всех единичных
вещей, заключенных в божестве по закону вечного
порядка.
Путь Спинозы предваряется у Бёме: бог выступает
у него, по сути дела, не «существом» в смысле
религиозного поклонения, а общим принципом построения
системы знания. Мистическое познание бога переходиг у
него почти что в~ спинозовское рационалистическое,
первоначальный экстатический пыл религиозного чувства
превращается в интеллектуальное созерцание,
соответственно чему и теософия его делается все более
философичной; в ней получает первичную разработку такая
мыслительная форма, с помощью которой не только
знание о боге, но и все прочие знания о сущности всех
вещей, как ожидается, могут и должны быть выведены
только из идеи божества.
Подобный подход намечался и у Декарта. В качестве
существенного итога или развязки затруднений и
противоречий собственной дуалистической системы он открыто
провозгласил познавательную концепцию, существенно
сближавшую Бёме и Спинозу: «Таким образом, я узнаю
вполне ясно, что достоверность и истинность всякого
знания зависят только от одного познания истинного бога,
так что я не мог знать в совершенстве ни одной вещи
прежде, чем познал его. Теперь же когда я его знаю,
го имею возможность приобрести совершенное знание,
касающееся бесконечного числа вещей, и не только
вещей, находящихся в боге, но также и тех, которые
принадлежат к телесной природе»54. Должно быть ясно, что
речь идет совсем не о специфически религиозном прин-
70
ципе, и еще Ф. Бэкон в сходном контексте рассуждений
подыскивал, чем бы заменить термин «бог», в котором,
далее, Локк уже не нуждался при изложении того же
вопроса 55.
Вообще, еоли зафиксировать крайние пределы, между
которыми происходят перемены в понимании
познавательного процесса, то начальный пункт — это познание
божественного божественным разумом, завершение же —
познание естественного естественным разумом. В этой
перспективе ясно раскрывается рациональный смысл
тезиса о божественном самопознании как формуле
имманентного подхода: познавать мир в целом из него
самого, рассматривать предметы и явления такими, каковы
они сами по себе, в их самостоятельности и своеобразии,
объяснять их из их собственной природы. Истиной
«следования богу» оказывается «следование природе», ее
собственному «разуму», и это должно в конечном итоге
означать возвращение природы к себе самой, ее
самопознание через человека, к которому предъявляется всего
лишь естественное требование сообразовывать свое
познание с сущностью вещей, с внутренней их
закономерностью. У Бёме сам бог есть нечто производное,
выведенное из его природы, и, подобно этому, всякое нечто
подлежит такому же «божественному», т. е.
теоретическому, выведению его наличного бытия из его
собственного основания. У Спинозы основой такого выведения
является методологический принцип постижения вещей
в их необходимости, «под формой вечности», у Локка —
рассмотрение вещей «самих по себе»56.
Чтобы знать все, надо, по Бёме, знать одного бога.
Но для этого человеку самому нужно возродиться, стать
как бы божеством со всеми дго «рождениями». Для
проникновения в бога и в его творение нужно особое
«расположение» души, иначе останешься слеп, «хотя бы ты
был даже умнейшим ученым»57. Душа должна
сообразовать себя с актом порождения вещей; познающему
надо, по прекрасному слову Бёме, «самому сложить себя
в такой образ»; «здесь сокрыто ядро всего разумения
божества»; «надо, чтобы душевный дух твой качествовал
сначала совместно с самым внутренним рождением
бога... иначе ты опишешь не святую и истинную
философию, а вшей и блох и окажешься поносителем бога»58.
Познание должно быть имманентным самому
порождению: «со времени падения человек никогда не мог
постигнуть внутреннего рождения, понять, каково рож-
71
дение небесное; но разум его пребывал в плену внешней
постижимости»59.
Понимание познания как объективно
ориентированного и потому именно основательного, исключающего
прихоть и каприз, подлинно свободного творения, т. е.
не просто производительной деятельности, результат
которой — «изделие», а творчества, перешло в новую
философию 60. С особым энтузиазмом оно было подхвачено
Шеллингом. Последний более отчетливо выявляет
заложенное у Бёме стремление к цельности познания на
основе единого принципа; в противоположность
разбросанности и полифоничиости ренессансного мышления,
стремление придерживаться существенного,
субстанциального, обуздывая причуды воображения и
фантазирования, ибо «если влечение к познанию...— пишет
Шеллинг,— в высшей степени сходно с влечением к
воспроизведению, то в познании есть точно так же, с одной
стороны, нечто аналогичное воздержанности и
стыдливости и, с другой — распутство и бесстыдство, своего
рода вожделение фавна, хватающегося за всевозможные
предметы без любви и серьезной мысли о творчестве и
произрождении»61.
Потом в материалистическом направлении разовьется
понимание человеческого познания как продолжения и
дальнейшего осуществления творчества природы: в
человеческом сознании происходит отражение,
воспроизведение и новое творческое развертывание ее собственных
процессов. И в этом смысле сознание человека, как
отмечал Ленин, не только отражает, но и творит мир. Но
эту деятельную сторону человеческого познания
теоретически осмысляет на первых порах идеализм, вначале
в лоне теософии и в форме мистики.
Подражание образу действия бога — порождению,
творчеству — выступает у Бёме условием имманентного
созидания нового знания, так же как у Бэкона Верулам-
ского открытия (авторство которых закреплено у него
уже не за богом, как в случаях с откровениями, а за
человеком) «суть как бы новые создания и подражания
божественным творениям»62. У герлицкого мистика бог —
предпосылка появления объективного, истинного
постижения, основа превращения мышления человека в
самостоятельное. Понятие производной самостоятельности
не является для Бёме противоречивым ни в
эмпирическом смысле, ни в теоретическом: все, что является
автономным и самостоятельным, есть не что иное, как
72
ставшее самим собою, произведенное таковым из
некоторой основы,—даже бог имеет определенную
предпосылку и основу для становления суверенным. И таким
же должно быть продолжение и отражение
божественного творчества — человеческое познание,— производным,
продуктом творчества и в то же время самостоятельным
и творчески активным.
Отсюда становится понятным, почему Бёме видит в
старом знании омертвелость и безжизненность и в то же
время порицает его за субъективизм и произвол
(человеческие выдумки и мнения, своенравное «что хочу»),
свое же познание провозглашает в противоположность
этому как самостоятельное и свободное и вместе с тем
как объективно истинное; первый род познания для него
внешний, неспособный проникать в суть познаваемого,
второй — имманентный познаваемому.
Божественное творчество у Бёме как бы ненароком
превращается в совершеннейший образец для
человеческого творчества; откровение бога самому себе,
божественное самосознание — в общее выражение раскрытия
человеком своего «я», в образ возникающего
человеческого самосознания; божественное познание — в формулу
собственно человеческого познания, в познавательную
способность обновленного человека. Самопорождение и
самосознание бога — это лишь отчужденная форма для
выражения самостоятельности человека и абстракция
суверенности его познания. «Бог познает себя в человеке,
через человека». Если свести этот божественный
идеализм к человеческому, божественное «я» — к
человеческому «я», то перед нами явится чисто картезианское
начало человеческого самопознания. К такому
возвращению человека к самому себе и направлена мысль
самого Бёме.
Таким образом, можно наблюдать действительную
преемственность между ренессансной и новоевропейской
культурой интеллектуального развития и видеть их
единство, осуществлявшееся через крайне сложное явление,
обнаруживающее и снимающее себя в качестве
опосредствования, которое прерывает постепенное развитие и
вновь восстанавливает расторгнутую связь
предшествующей и последующей формы, скрепляя их более прочными
узами. В этом появляющемся и исчезающем
промежуточном звене как раз и разыгрываются те
«парадоксальные» трансформации, анализ развертывания которых
дает нам понимание противоречивого перехода, качествен-
73
ного «скачка» от одной формы мысли к другой,
преобразования прежнего способа постижения в новый.
Анализируя путь этой перестройки, мы попытались
реконструировать кажущуюся на первый взгляд распавшейся
цепь времен, теоретически восстановить и представить
глубинную историческую связь, которая реализуется
через диалектически противоречивое преобразование в
культурологическом процессе.
1 Декарт Р. Избр. произведения. М., 1950. С. 109.
2 Там же. С. 261.
3 Цит. по кн.: Быховский Б. Э. Философия Декарта. М.; Л., 1940.
С. 119.
4 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 2. С. 142.
5 Николай Куганский. Соч.: В 2 т. М., 1980. Т. 2. С. 430.
6 Там же. С. 187—189.
7 Там же. С. 421.
8 Антология мировой философии: В 4 т. М., 1970. Т. 2. С. 90.
9 Цит. по кн.: Абрамсон М. Л. От Данте к Альберти. М., 1979. С. 51.
10 Вийон Ф. Большое завещание // Вийон Ф. Стихи/Пер. Ф.
Мендельсона и И. Эренбурга. М., 1963. С. 584.
11 Декарт Р. Указ. соч. С. 344.
12 Монтенъ М. Опыты. М.; Л., 1958. Т. 2. С. 246.
13 Там же. С. 266—267.
14 Декарт Р. Указ. соч. С. 89.
15 Там же. С. 112, ИЗ.
16 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 20.
17 Коперник II. О вращениях небесных сфер. М., 1964. С. 448.
Впрочем, Пико известен не только своим осуждением астрологии, но
также и введением в герметическую традицию учения каббалы;
он добавил к магии слов магию чисел и тем самым
«компенсировал» свои нападки на одну лженауку утверждением другой,
родственной ей.
18 Рыбка Е., Рыбка П. Коперник: Человек и мысль. М., 1973. С. 219.
19 Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978. С. 291.
20 См.: Баткин Л. М. Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль
мышления. М., 1978. С. 84—85, 147—148,170,177; Горфункелъ А.Х.
Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения. М.,
1977. С. 5, 42, 342—344.
21 См.: Декарт Р. Указ. соч. С. 268.
22 Герцен А. И. Соч.: В 9-ти т. М., 1955, т. 2. С. 257.
23 Цвейг С. Триумф и трагедия Эразма Роттердамского. М., 1977.
С. 101.
24 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 508, 347.
25 Luther M. Werke. Weimar, 1908. Bd. 18. S. 603.
26 Монтенъ M. Указ. соч. Т. 2. С. 275.
27 Luther M. Op. cit. Bd. 18. S. 605.
28 Декарт Р. Указ. соч. С. 280.
29 Там же. С. 283.
80 Фейербах Л. История философии. М., 1967. Т. 1. С. 79.
81 Цит. по кн.: Циммерман В. История крестьянской войны в
Германии. М., 1937. Т. 2. С. 231.
32 Hütten. Müntzer. Luther. В.; Weimar, 1978. Bd. 1. S. 190.
38 Ср.: «Что касается разума в мыслящей вещи, то он... есть сын,
74
творение или непосредственное создание бога» (Спиноза Б. Избр.
произведения: В 2 т. М., 1957. Т. 1. С. 108).
34 Циммерман В. Указ. соч. Т. 1. С. 143.
35 Декарт Р. Указ. соч. С. 333.
36 Бэкон Ф. Соч.: В 2 т. М., 1972. Т. 2. С. 59.
37 Там же. С. 59.
38 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 18. С. 574.
39 Бёме Я. Аврора, или Утренняя заря в восхождении. М., 1914.
С. 262.
40 Там же. С. 107.
41 Бэкон Ф. Указ. соч. С. 34.
42 Локк Дж. Избр. филос. произведения. М., I960. Т. 2. С. 243.
43 Цит. по кн.: Асмус В. Ф. Декарт. М., 1956. С. 347. Не менее
отчетливо фиксируется этот момент у Спинозы: «Понимание...
есть простое или чистое страдание, т. е. наша душа
изменяется так, что приобретает другие модусы мышления, которых
раньше не имела» (Спиноза Б. Указ. соч. Т. 1. С. 136).
44 Декарт Р. Указ. соч. С. 86.
45 Там же. С. 371, 388, 417, 418.
46 Спиноза Б. Указ. соч. Т. 1. С. 388.
47 Кеплер И. О шестиугольных снежинках. М., 1982. С. 94.
48 Бёме Я. Указ. соч. С. 272, 379.
49 Там же. С. 383, 384, 373.
50 Там же. С. 383. 148.
51 Там же. С. 371.
52 Там же. С. 377.
53 Спиноза Б. Указ. соч. Т. 2. С. 598.
54 Декарт Р. Указ. соч. С. 388.
55 См.: Локк Дж. Указ. соч. Т. 2. С. 252.
56 Там же. С. 212, 235, 237.
57 Бёме Я. Указ. соч. С. 322.
58 Там же. С. 282.
59 Там же. С. 305.
60 На вопрос о том, как возможна история не прошлого, а
будущего времени или каким образом возможна история a priori,
Кант отвечает в «Споре факультетов»: предсказывающее
историческое знание возможно, «если предсказатель сам творит и
вызывает события, которые предрекает» (Кант И. Спор
философского факультета с юридическим // Кантовский сборник.
Калининград, 1981. Вып. 6. С. 96).
Шеллинг. Философские исследования о сущности человеческой
свободы. СПб., 1908. С. 72.
62 Бэкон Ф. Указ. соч. Т. 2. С. 80.
В. А. Карпу шин
К. МАРКС
О КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Известно замечание Ф. Энгельса о том, что в связи с
открытием материалистического понимания
истории придется всю историю человечества изучать и
переосмысливать заново. Эта задача в значительной мере
75
решается ныне советской и передовой мировой
исторической наукой. В особенно значимой мере указанное
замечание Ф. Энгельса приложимо к истории культуры. Если
история культуры в ее страноведческом или даже
региональном аспекте осваивалась в исторической науке
достаточно длительное время (по крайней мере 200 лет
спустя после Гоббса, Вико и Гердера), то всемирная
история культуры — наука, сравнительно молодая.
Полвека потребовалось Виллу и Ариэлу Дюрантам, чтобы в
своей многотомной истории культуры добрести до начала
XIX в.; Мунье в своей шеститомной истории мировой
цивилизации сделал попытку представить
социально-политическую историю человечества на фоне истории
мировой культуры. В «Бельзергешихте» история мировой
культуры представлена в виде картины исторически
меняющихся стилей материальной и духовной культур;
картина получилась очень впечатляющая.
Но где же марксистская история мирового
культурного процесса? К сожалению, марксистская история
мировой культуры до сих пор не написана. Отсутствуют
солидные исследования региональной истории культуры.
В нашей стране даже история родной русской культуры
не освоена ни фундаментально, ни целостно.
Исследования, подобные «Истории византийской культуры»,
воспринимаются как «первые ласточки», которые хотя и не
приносят весны, но, несомненно, ее предвещают.
В ряду исследований по культуре важное место
занимают труды по теории культуры, которых ныне
набирается более десятка. Однако разработка теоретического
наследия классиков марксизма-ленинизма по этим
проблемам все еще остается актуальной задачей. К тому же
новый уровень культурного развития общества дает
возможность под новым углом зрения рассмотреть
содержание и значение этого теоретического наследия. Поэтому
обратимся к культурно-исторической концепции К.
Маркса, которой ныне уже более ста лет, но она продолжает
поражать нас глубиною проникновения в тайны
процессов развития культуры.
Задача изучения всемирной истории заново,
поставленная когда-то Ф. Энгельсом, в наше время еще
остается весьма актуальной применительно к области истории
культуры. Для того чтобы убедиться в этом, следует
учесть одно важное обстоятельство. Дело в том, что по-
76
ыимание истории в науке до Маркса, да и в современной
буржуазной исторической науке, выражаясь
терминологией Маркса, было и остается идеологическим. Этим
термином Маркс обозначал идеалистическое понимание
истории, при котором социально-экономические силы
исторического процесса игнорировались либо оставались в
тени, а на первый план выдвигались исторические
деятели и творцы культуры. Именно реакцией на
идеологическое понимание истории было вызвано в нашей стране
появление исторической школы M. H. Покровского, в
которой место исторических и культурных деятелей заняли
рента, ссудный, промышленный капитал, торговля,
развитие ремесла и промышленности и т. д. На этот раз
игнорировалась роль культуры в историческом развитии
человечества. Так обстояло дело в нашей исторической
науке до тех пор, пока доминирующее влияние
исторической школы Покровского не было преодолено. И лишь
тогда перед исторической наукой в СССР открылись
новые горизонты, но предубеждение против
фундаментальных исследований в области истории мировой культуры
сохранилось. В результате этого предубеждения мы до
сих пор не имеем солидных исторических школ, которые
занимались бы, исследованием истории мировой и
отечественной культуры; в этой области работали и
продолжают работать, главным образом,
исследователи-одиночки (это Н. И. Конрад, Ш. И. Нуцубидзе, А. Ф. Лосев,
Б. А. Рыбаков, Д. С. Лихачев), труды которых,
составляя славу советской науки, намного превосходят средний
уровень нашей пропагандистской и учебной литературы
по истории культуры. В системе Академии наук СССР
до сего времени нет специализированного института по
изучению культуры и ее истории. Отсутствует, таким
образом, организационный центр, который мог бы стать
основой для собирания сил ученых, работающих в этой
области.
Обращаясь к наследию К. Маркса по вопросам
теории и истории культуры, прежде всего следует
рассмотреть введенную Марксом в науку категорию духовного
производства. Она имеет методологическое значение для
всей Марксовой концепции культуры.
Маркс отмечает, что «в духовном производстве в
качестве производительного выступает другой вид труда»,
который классиками политической экономии не
рассматривается \ Юдин и тот оке вид труда может быть как
производительным, так и непроизводительным... Напри-
77
мер, Мильтон, написавший „Потерянный рай" и
получивший за него 5 ф. ст., был непроизводительным
работником... Мильтон создавал „Потерянный рай" с той же
необходимостью, с какой шелковичный червь производит
шелк. Это было действенное проявление его натуры»2.
Как видим, Маркс рассматривает труд в области
духовного производства в качестве естественного проявления
творческой индивидуальности. Но при этом заметим, что
эта характеристика относится лишь к творческому труду
в области свободного духовного производства, от
которого он отличает «идеологические составные части
господствующего класса»3.
Как видим, уже в этом разграничении между
свободным духовным производством, где труд является
естественным проявлением природы, т. е. одаренности и
таланта художника, и идеологическими составными
частями господствующего класса Марксом поставлена
проблема соотношения культуры и идеологии. Всякая
идеология — конечно же элемент культуры определенного»
времени. Но не всякая культура совпадает с идеологией
того же времени. Свободное духовное производство в
культуре вдохновляется не узкоклассовыми идеями и
стремлением стоящих над народом социальных сил, но
широкими по времени и глубокими по народным
истокам идеями и принципами гуманизма в самых его
различных исторических формах.
В этой связи Маркс подчеркивает необходимость
историзма в подходе к исследованиям в области духовного»
производства. Он пишет: «Чтобы исследовать связь
между духовным и материальным производством, прежде
всего необходимо рассматривать само это материальное
производство не как всеобщую категорию, а в
определенной исторической форме. Так, например,
капиталистическому способу производства соответствует другой
вид духовного производства, чем средневековому способу
производства. Если само материальное производство не
брать в его специфической исторической форме, то
невозможно понять характерные особенности
соответствующего ему духовного производства и взаимодействия
обоих. Дальше пошлостей тогда не уйдешь»4.
Рассматривая отношения между двумя областями
производства, Маркс бросает упрек французскому
экономисту Анри Шторху, который устанавливал
механический диктат материального производства над духовным:
«Он не в состоянии выйти за пределы общих, бессодер-
78
жательыых фраз. Да и само это отношение совсем не так
просто, как он предполагает. Так, капиталистическое
производство враждебно известным отраслям духовного
производства, например искусству и поэзии»5.
Маркс, таким образом, подчеркивает сложность,
историческую специфичность и динамизм взаимоотношений
между материальным и духовным производством. Он не
только поставил проблему сложности этих
взаимоотношений, но и указал пути решения этой проблемы. Он
писал: «...из определенной формы материального
производства вытекает, во-первых, определенная структура
общества, во-вторых, определенное отношение людей к
природе. Их государственный строй и их духовный
уклад определяются как тем, так и другим.
Следовательно, этим же определяется и характер их духовного
производства»6.
Культура в самом широком ее понимании, как
выражение деятельной природы человека в ходе
производства, обмена и общения, выполняет функцию связи
между эпохами, народами, регионами, континентами. Она
передает по наследству и по соседству исторические
достижения, накопленные человечеством. Без такой
генетической функции культуры преемственность
исторического развития человечества была бы невозможной.
А безотносительно к историческому процессу, т. е. в
каждый данный момент истории, культура в любом
обществе выполняет функцию социализации индивида,
т. е. вовлечения его в социальную, производственную,
экономическую и духовную жизнь ближайшего
коллектива и в конечном итоге всего общества. Ясно при этом,
что формы такого «вовлечения» исторически специфичны
и определяются характером эпохи, классов, наций,
профессиональных групп, семьи и т. д.
Наблюдения над историей мировой культуры
показывают, что область свободного духовного производства во
всех антагонистических общественных формациях, как
правило, сокращалась, как только господствующий класс
достигал определенной стадии зрелости и подчинял
своему идеологическому диктату сферу культуры. В этой
связи законы материального производства,
опосредованные социальной жизнью общества и его специфической
структурой, в том числе системой отношений личности и
общества, выступают как все более определяющие силы
и в сфере духовного производства. И наоборот, в те
периоды истории, когда победивший класс идет к утверж-
79
дению своего господства и пока еще выступает в роли
выразителя всеобщей воли общества, сфера свободного
духовного производства, как правило, расширяется. Этой
динамикой свободного духовного производства и
идеологической части господствующего класса определяется
ныне все углубляющийся кризис культуры буржуазного
общества. Именно эта динамика привела к
возникновению якобы «полярных» тенденций в культуре позднего
капитализма, таких, как элитарная культура
буржуазных слоев интеллигенции и «массовая культура»,
которая служит средством манипулирования поведением
личности. При ближайшем анализе оказывается, что обе
указанные тенденции в современной буржуазной
культуре являются выражением «идеологической составной
части господствующего класса».
Перейдем теперь к проблемам периодизации мирового
культурно-исторического процесса.
В советской литературе по общим вопросам истории
культуры сложилась традиция, в которой
культурно-исторический процесс разделялся на исторические периоды
в соответствии с социально-экономическими
формациями. В наиболее яркой форме эта традиция проявилась в
социологии Фриче, где культура однозначно
определялась как рабовладельческая, феодальная, буржуазная
(капиталистическая) и социалистическая. Эта схема
периодизации крупных эпох в истории мировой культуры
имеет под собой определенное основание, поскольку
выработанное марксизмом понятие
общественно-экономической формации имеет методологическое значение для
гражданской и культурной истории человечества. Однако
ущербность формационной типологии истории мировой
культуры обнаруживается в двояком отношении:
во-первых, она снимает вопрос о специфике культурных эпох
в отличие от эпох гражданской истории человечества иг
во-вторых, закрывает возможность объяснения сходных
процесов в культуре в различных
общественно-экономических формациях. Например, трудности начинаются уже
при анализе такого явления в культуре разных народов,
как Возрождение, которое имело место в границах
различных общественных формаций.
В философском наследии К. Маркса имеется
множество указаний, имеющих методологически важное
значение для выяснения специфики культурно-исторического
процесса в отличие от гражданской истории. Маркс
тезисно формулирует принцип: «Неодинаковое отношение
80
развития материального производства, например, к
художественному»1. Этот тезис Маркса можно
иллюстрировать примером различия отношений ремесленного
(цехового) и промышленного производства к художественному
творчеству: первое тождественно художественному
творчеству, второе исключает его (или, во всяком случаег
враждебно ему). Следовательно, нельзя говорить о
равном, определяющем отношении материального
производства к художественному труду. Для решения проблемы
этого отношения, как показал Маркс, необходима
историческая точка зрения, учитывающая формы развития
разделения и кооперации труда.
В той же работе Маркс высказывается относительно
социальной детерминации искусства еще более определенно.
Он пишет: «Относительно искусства известно, что
определенные периоды его расцвета отнюдь не находятся в
соответствии с общим развитием общества, а следовательно,
также и с развитием материальной основы последнего,
составляющей как бы скелет его организации»8.
Иллюстрируя этот тезис, Маркс ссылался на творчество Шекспира..
Энгельс так же отмечал отсутствие строгого
соответствия между социальным развитием общества и
художественным творчеством на примере развития литературы в
конце XIX в. в Норвегии и в России. Он писал: «...за
последние 20 лет Норвегия пережила такой подъем в
области литературы, каким не может похвалиться за этот
период ни одна страна, кроме России»9.
Такова фактическая сторона дела, сравнительно
легко устанавливаемая историком культуры:
культурно-исторический процесс не совпадает с гражданской
историей, у него свои критерии прогресса, свои фазы развития,
множество стилей и форм даже внутри одной
исторической фазы, свои закономерности развития, свое (т. е.
особенное) единство исторического процесса. Но чем же
этот процесс определяется?
При решении этого вопроса, отделяя для целей
анализа культурный процесс от гражданской истории, не
следует их, однако, противопоставлять. Культурный
процесс при всех его своеобразиях вплетен в гражданскую
и экономическую историю человечества, составляет не
обособленную часть ее, а имманентно присущий ей
аспект жизнедеятельности общества.
В этой истории Маркс выделяет особо важные для
понимания жизни культуры три типологически важные
системы отношений личности и общества, определяющие
6 Заказ № 667
81
исторические формы творческой, т. е. культурообразую-
щей деятельности. Он пишет: «Отношения личной
зависимости (вначале совершенно первобытные) — таковы те
первые формы общества, при которых
производительность людей развивается лишь в незначительном объеме
и в изолированных пунктах. Личная независимость,
основанная на вещной зависимости,— такова вторая крупная
форма, при которой впервые образуется система
всеобщего общественного обмена веществ, универсальных
отношений, всесторонних потребностей и универсальных
потенций. Свободная индивидуальность, основанная на
универсальном развитии индивидов и на превращении их
коллективной, общественной производительности в их
общественное достояние,— такова третья ступень. Вторая
ступень создает условия для третьей. Поэтому
патриархальный, как и античный строй (а также феодальный)
приходит в упадок по мере развития торговли, роскоши,
денег, меновой стоимости, в то время как современный
общественный строй вырастает и развивается
одновременно с ростом этих последних»10.
Указанные здесь три типа взаимоотношений
общества и личности совпадают с учением Маркса о различиях
между первичной формацией (которую он не называет
экономической!), вторичной экономической формацией и
третьим типом общества, который является
преодолением экономической формации; первичная формация объ-
омлет родовой строй, общество азиатского способа
производства, рабовладельческую античность и феодализм;
вторичная формация, начинаясь с эпохи первоначалыюго
капиталистического накопления, совпадает с
капитализмом; наконец, третья фаза —это коммунизм, где теряют
силу экономические детерминанты общественного
развития, свойственные капитализму. В границах каждой из
этих общественных форм действуют свои закономерности
творческой деятельности, результатом которой является
рождение и жизнь культуры, характерной в самых
общих чертах для этой формы. При этом ясно, что внутри
этих общественных форм остается достаточно простора
для самобытных и даже типологически своеобразных
культур и их взаимодействия между собой.
Детально анализируя буржуазную фазу
общественного развития, Маркс подчеркивал великую
цивилизаторскую функцию капитала. Эта мысль проходит через все
его крупные работы, начиная от «Манифеста
Коммунистической партии» и до самых последних произведений.
82
Отмечая интернациональную и интегрирующую природу
капитала, Маркс писал: «Соответственно этой своей
тенденции капитал преодолевает национальную
ограниченность и национальные предрассудки, обожествление
природы, традиционное, самодовольно замкнутое в
определенных границах удовлетворение существующих
потребностей и воспроизводство старого образа жизни. Капитал
разрушителен по отношению ко всему этому, он
постоянно все это революционизирует, сокрушает все преградыг
которые тормозят развитие производительных сил,
расширение потребностей, многообразие производства,
эксплуатацию природных и духовных сил и обмен ими»11..
Итак, Маркс отмечает несовпадение ритмов и вех
гражданской и культурной истории. Главными
моментами гражданской истории являются коренные реформы,,
войны и, наконец, революции. В такие периоды мирное
течение культурной жизни, естественно, нарушается,,
а то и прерывается вообще, чтобы в новый мирный
период принести новые щедрые плоды. Именно в мирные
периоды своего развития нации как бы компенсируют
застойный характер своей социально-экономической
жизни взлетом творений культурного духа. В периоды
революционных бурь и потрясений ситуация в духовном
производстве резко меняется. Революции в духовной
культуре общества нередко образуют как бы пролог к
революции политической. Так было накануне 1789 г. во
Франции. Так случилось и в России в годы первой мировой
войны, когда темп событий гражданской истории резко
ускорился. В ходе самой революции обычно возникает
потребность в идеологических образах, нужных для
осмысления целей, сущности и перспектив революции.
При этом важно заметить, что характер идеологических
образов различен и определяется историческим типом
революции.
До сих пор дышит свежестью Марксов анализ
духовной атмосферы буржуазной революции. Маркс писал:
«Социальная революция XIX века может черпать свою
поэзию только из будущего, а не из прошлого. Она не
может начать осуществлять свою собственную задачу
прежде, чем она не покончит со всяким суеверным
почитанием старины. Прежние революции нуждались в
воспоминаниях о всемирно-исторических событиях
прошлого, чтобы обмануть себя насчет своего собственного
содержания. Революция XIX века должна предоставить
мертвецам хоронить своих мертвых, чтобы уяснить себе
6*
83
собственное содержание. Там фраза была выше
содержания, здесь содержание выше фразы»12.
Вот нарисованная Марксом картина духовного
облика буржуазной революции XVIII в.: «Буржуазные
революции, как, например, революции XVIII века,
стремительно несутся от успеха к успеху, в них драматические
эффекты один ослепительнее другого, люди и вещи как
бы озарены бенгальским огнем, каждый день дышит
экстазом, но они скоропреходящи, быстро достигают
своего апогея, и общество охватывает длительное похмелье,
прежде чем оно успеет трезво освоить результаты своего
периода бури ж натиска»13.
Совсем иная картина духовного облика революции
пролетарской: «Напротив, пролетарские революции,
революции XIX века, постоянно критикуют сами себя, то и
дело останавливаются в своем движении, возвращаются
к тому, что кажется уже выполненным, чтобы еще раз
начать это сызнова, с беспощадной основательностью
высмеивают половинчатость, слабые стороны и негодность
своих первых попыток, сваливают своего противника с
ног как бы только для того, чтобы тот из земли впитал
свежие силы и снова встал во весь рост против них еще
более могущественный, чем прежде, все снова и снова
отступают перед неопределенной громадностью своих
собственных целей, пока не создается положение,
отрезывающее всякий путь к отступлению...»14
Маркс настойчиво повторяет и в ранних и в зрелых
своих работах тезис о моментах возвращения революций
к уже сделанному, о репетициях и повторах в их пути.
«Последний фазис всемирно-исторической формы,—
пишет Маркс,— есть ее комедия. Богам Греции, которые
были уже раз — в трагической форме — смертельно
ранены в „Прикованном Прометее" Эсхила, пришлось еще
раз — в комической форме — умереть в „Беседах'4 Лукиа-
на. Почему такой ход истории? Это нужно для того,
чтобы человечество весело расставалось со своим
прошлым»15. Ответ явно шутливый. Но в шутке светится
глубокая мысль, идущая еще от Гегеля: победы,
одержанные господствующим классом ради стабилизации
отжившего строя, рано или поздно оборачиваются его
всемирно-историческим поражением; вот почему за трагедией в
гражданской истории народа нередко следует фарс. Эта
хитрость исторического разума вносила неизбежные
поправки в плавную эволюцию процесса истории. Так и в
наше время за великой трагедией немецкого народа,
84
превращенного фашизмом в орудие истребления
культуры, следует современный фарс возрождения неонацизма.
И не следует преуменьшать опасность этого фарса.
Хитрость путей истории, видимо, в том и состоит, чтобы
фарсом напомнить о незабываемой трагедии, чтобы
исключить ее повторение вновь. Фарс неонацизма взывает
к продолжению борьбы с современным возрождением
фашизма.
Марксов анализ противоречий
культурно-исторического процесса до сих пор является компасом
современных научных исследований духовной жизни буржуазного
общества. В нем глубоко вскрыты антагонизмы между
гражданским обществом и культурой, а также и внутри
самого поля культуры: «С одной стороны, пробуждены к
жизни такие промышленные и научные силы, о каких
даже подозревать не могла ни одна из
предшествовавших эпох истории. С другой стороны, обнаруживаются
признаки упадка, далеко превосходящего все занесенные
в летописи ужасы последних времен Римской империи»16.
Когда-то молодая буржуазия во Франции выдвинула
гордые лозунги — égalité, liberté, fraternité,— под
которыми прошумела Великая революция. Но вскоре стало
ясно, что лозунги оказались иллюзорными. Ни
равенства, ни свободы, ии братства массы народа, которые
проделывали путь революции, не получили. А полвека
спустя после революции сменились и сами лозунги. Вместо
прежнего девиза, восхищавшего граждан своими
гордыми словами, появились циничные требования власть
имущих: infanterie, artillerie, cavalerie. Место иллюзии
заступила горькая реальность. Порождение этой
реальности было не тайной, но мистерией. Маркс объяснял ее
так: «В наше время все как бы чревато своей
противоположностью. Мы видим, что машины, обладающие
чудесной силой сокращать и делать плодотворнее
человеческий труд, приносят людям голод и изнурение. Новые,
до сих пор неизвестные источники богатства благодаря
каким-то странным, непонятным чарам превращаются в
источники нищеты. Победы техники как бы куплены
ценой моральной деградации. Кажется, что, по мере того
как человечество подчиняет себе природу, человек
становится рабом других людей либо же рабом своей
собственной подлости. Даже чистый свет науки не может, по-
видимому, сиять иначе, как только на мрачном фоне не-
85
вежества. Все наши открытия и весь наш прогресс как
бы приводят к тому, что материальные силы наделяются
интеллектуальной жизнью, а человеческая жизнь,
лишенная своей интеллектуальной стороны, низводится до
степени простой материальной силы»17.
Идеология господствующего класса всегда выполняла
в истории роль культурной доминанты, поскольку
именно через культуру, через механизм духовного
производства, включая сюда также распределение и освоение
культуры, мысли господствующего класса становились
господствующими мыслями. Поэтому культура
становилась вовлеченной в сферу борьбы сословий и классов,
которые старались использовать в своих идеологических
и политических целях всю ее область, включая сюда не
только надстроечную часть, но и свободное духовное
производство.
Разграничение свободного духовного производства и
идеологической надстройки господствующего класса пе
является абсолютным и неизменным. Напротив, оно
всегда динамично и в значительной мере относительно. В
самом деле, идеологическая доминанта в той или иной
мере ограничивает всю область культуры, ставит ее на
службу господствующему классу, и свободное духовное
производство вынуждено либо сокращать свою сферу,
либо подчиняться диктату законов материального
производства. С другой стороны, было бы неверным
представлять саму идеологическую надстройку господствующего
класса как состоящую только из классовых иллюзий.
Например, классическая буржуазная политическая
экономия превосходила реакционные теории романтиков своим
трезвым цинизмом и полным отсутствием
морализаторства. Но именно в этой трезвой, научной стороне дела она
ближе всего подходила к требованиям идеологической
надстройки раннего буржуазного общества. Даже в
условиях современного поздыекапиталистического общества,
где так страшно сократилась область свободного
духовного творчества, где капитал сделал свободу творчества
почти повсеместно фиктивной, идеология современной
монополистической буржуазии, хотя и основывается на
иллюзорных прогнозах будущего, не перестает
нуждаться в некоторых элементах научного ^знания социальных
явлений. Повсеместное развитие научных центров,
занимающихся прогнозированием и разработкой научной
организации производства, является прямым
доказательством этой насущной потребности.
86
Развитие культуры уже в самом раннем
капиталистическом обществе совершалось в отчужденной форме.
Отчуждению была подвергнута не только
господствующая часть культуры (например, церковь), но и
продукция свободного духовного производства. Оказалось, что
плоды свободного духовного производства могут
подвергаться отчуждению в той же мере, как и
господствующая идеология.
Категория отчуждения первоначально использовалась
Марксом для выражения процессов, происходящих в
гражданской истории, в экономике и в культуре.
Первоначально эта категория применяется в «Экономическо-
философских рукописях 1844 года» в качестве
универсальной для анализа как социально-экономических
процессов, так и сферы культуры. Это объяснялось тем
обстоятельством, что категориальный аппарат
материалистического понимания истории еще не был разработан,
а правильному пониманию капитализма и его законов в
значительной мере мешало отрицательное отношение
Маркса в то время к трудовой теории стоимости Смита
и Рикардо. Категория отчуждения позволяла тогда
Марксу преодолеть донаучный горизонт морализаторской
критики буржуазного общества и с помощью понятия
«отчужденный труд» приблизиться к научному анализу
экономических процессов капитализма.
Коренным образом меняется использование Марксом
категории «отчуждение» в его зрелых работах 1850—
1860 гг 18. В чем же состоят эти перемены?
Прежде всего заметим, что понятие «отчуждение»
Маркс выражает тремя различными терминами, а
именно: Veräußerung, Entäußerung, Entfremdung19. В
качестве обобщающего термина, там, где нет необходимости в
тонких различениях, Маркс употребляет термин Freim-
dartigkeit. При этом заметим, что все указанные
термины строго отличаются Марксом от сходных терминов
Vergegenständlichung, Versachlichung, которые в точном
смысле слова к понятию «отчуждение» не относятся,
а выражают различные стороны процесса
опредмечивания.
Анализ немецких текстов зрелых экономических
работ К. Маркса 1850—1860 гг. показывает, что категория
Veräußerung применяется при описании экономических
(и лишь отчасти культурных) явлений, характерных
для простого товарного хозяйства. А поскольку
последнее сохраняется и при капитализме, то Маркс
87
применяет этот термин и в случае явлений буржуазного
общества, описывая правовые, торговые,
экономические отношения между людьми, в том числе и в
сфере культуры.
Иное дело — категория Entäußerung: она применяется;
Марксом при анализе процессов овеществления
общественных отношений в деньгах, в ростовщичестве, в
денежной форме капитала.
Что же касается категории Entfremdung, то Маркс
использует ее для выражения наиболее глубинных
явлений отчуждения общественных отношений, институтов,,
материальной и духовной культуры, свойственных
капитализму.
Последовательно расположенные эти три категории
немецкой философской терминологии, служащие для
выражения все более глубоких отношений отчуждения,
могут быть сопоставлены с тремя историческими фазами
развития товарного производства. Эти категории
выражают последовательные ступени развития овеществленных
отношений личности и общества, которые вплотную
подводят к тайне товарного фетишизма.
Отношения личности и общества иа определенном)
этапе развития товарного производства закономерно
принимают характер вещной связи. В этом факте
несомненно содержался прогресс общества по сравнению с
непосредственной личной зависимостью производителя от
господина. Об этом ясно пишет Маркс: «И несомненно эту
вещную связь следует предпочесть отсутствию всякой
связи или же чисто местной связи, основанной на
кровной, природной общности или иа иерархии господства и
подчинения»20. Исследуя вещный характер связей
личности и общества, Маркс четко формулирует историческую
точку зрения: «Но нелепо понимать эту чисто вещную
связь как естественную, неотделимую от природы
индивидуальности (в противоположность рефлектированному
познанию и воле) и имманентную ей. Эта связь — ее
продукт. Она — исторический продукт. Она принадлежит
определенной фазе ее развития»21.
Вещная связь между людьми преодолевается, и
восстанавливаются непосредственно личные отношения, но
лишь в том случае, когда преодолеваются условия
отчуждения и овеществления общественных отношений.
К этой цели ведут два взаимосвязанных процесса: с
одной стороны, такое коренное преобразование
общественных отношений, при котором ликвидируется их классо-
88
вал форма,- а с другой стороны, всестороннее развитие
каждой личности.
В соответствии с этим предвидением К. Маркса
культурно-исторический процесс уже при социализме утратил
свою антагонистическую форму и преодолевает остатки
былого отчуждения культуры, ставит себе на службу все
богатства прошлой культуры человечества.
В развитии современного буржуазного общества в
странах Запада все более обнаруживается возрастающее
подчинение всей области свободного духовного
производства диктату идеологического производства и законам
материального производства, присущим капитализму.
Область свободного духовного производства в буржуазном
обществе непрерывно сокращается, а значение
идеологической части надстройки господствующего класса во
всей культуре буржуазного общества закономерно
возрастает. В этой связи процессы отчуждения культуры,
противопоставления культуры всестороннему развитию
личности, стандартизация потребляемой культуры,
нетворческий характер труда — все это получает развитие,
а культура превращается в индустриальную,
обезличенную, поражающую своей бездуховностью.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 26, ч. I. С. 279.
2 Там же. С. 410. 9 Там же. Т. 37. С. 351.
3 Там же. С. 280. 10 Там же. Т. 46, ч. 1. С. 100—101.
4 Там же. С. 279. п Там же. С. 387.
5 Там же. С. 280. 12 Там же. Т. 8. С. 122.
« Там же. С. 279. 13 Там же. С. 122—123.
7 Там же. Т. 12. С. 736. 14 Там же. С. 123.
8 Там же. Т. 12. С. 736.
15 К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве. М., 1957. Т. 1. С. 53—54.
16 Там же. С. 227.
17 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 12. С. 4.
18 Это превосходно показано в исследованиях А. П. Огурцова. См.:
Огурцов А. П. Человек, творчество, наука. М., 1967.
19 Английский и французский термин alienation не передает этих
терминологических различий.
20 К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве. С. 219.
21 Там же. С. 219.
КУЛЬТУРА И ЧЕЛОВЕК
Г. С. Батищев
СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ ЧЕЛОВЕКА
В КУЛЬТУРЕ
ироко известно Марксово разделение истории на
сменяющие друг друга хронологические периоды,,
большие и малые, соподчиненные друг другу.
Правда, у него эта периодизация далеко не однолинейна.
Но кроме того есть у него и совершенно иное, нехроио-
логическое, непериодизирующее разделение
исторического бытия, хотя конечно же имеющее значение также и
для осмысления хода исторического процесса во времени.
Такова типология социальных связей, которые могут
противоречиво совмещаться или весьма парадоксально
соприсутствовать в жизни одного и того же человека, в
одном и том же «мире человека», делая его самого
внутренне неоднородным, сложным, исполненным
напряжений и таящим внутри себя принципиально новые
тенденции — к преображению всего образа жизни. Вникая в
эту неоднородность, мы можем надеяться подойти
ближе к раскрытию уникальных субъектно-личностных
миров каждого человека и их многообразия — гораздо
большего, нежели позволяет уловить принятый ныне аппарат
понятий.
Было бы неверно думать, будто подлежащая здесь
специальному анализу типология и вовсе не имеет
соприкосновения с временными измерениями истории.
Первоначально она была у К. Маркса не отделена от
прослеживания временных перспективных и
ретроспективных линий, от сопоставления разных эпох. Вот
характерное его наблюдение: «Чем дальше назад мы уходим в
глубь истории, тем в большей степени индивид, а
следовательно и производящий индивид, выступает
несамостоятельным, принадлежащим к более обширному
целому»1-3. Если же продвигаться все ближе к новейшим:
временам, то нарастает не только самостоятельность,.
ш
90
индивидуальное богатство развития, но и обособленность
индивидов, самозамкнутость лиц-«атомов», так что
становятся заметно преобладающими «связи... чисто
атомистические»4. «Человек обособляется как индивид лишь в
результате исторического процесса»5. Однако постепенно
выделяется то главное, логическое содержание
типологии, которое лежит вовсе не во временном, не в
хронологическом измерении, а вне его. Прежде всего
существенна та аытиномичность, которая сразу же проступает в
противостоянии связей со-принадлежности индивидов
«более обширному целому», с одной стороны, и связей
атомистических — с другой. Те и другие резко отрицают
и вытесняют друг друга, но одновременно с
необходимостью порождают своих антиподов, воспроизводят их в
новых модификациях, пронизанных взаимным влиянием,
опосредствованных узами негативной зависимости друг
от друга. Тем самым они подготовляют возможное
снятие их крайних форм и утверждение некоторого третьего
типа связей. Последний открывается не просто как
могущий прийти им на смену во времени, но, что весьма
существенно, как постоянно остававшийся скрытым как бы
под ними, в качестве их глубинной предпосылки и
условия их возможности. Более того, этот третий тип связей
именно благодаря тому и может действительно прпйти
им на смену на широкой общественно-исторической
арене массовых событий — в будущем, за пределами
«предыстории»6 человечества,— что он никогда не был чужд
всеобщей сущности человека и в латентной форме всегда
таился в ней, как неотъемлемо присущий ей, несмотря
ни на что.
Однако у К. Маркса эта типология не сразу
сложилась как трехчленная (которая, в свою очередь,
превращается здесь — при дальнейшем анализе и расчленении
типов связей на подтипы — в пятичленную). При первом
подходе его к этой проблеме, в «Немецкой идеологии»,
он вводит лишь двучленную типологию, которая касается
скорее еще не внутренней структуры «мира человека»,
а интегральных характеристик социальных общностей.
Такая двучленная типология построена на
противопоставлении общности социал-органической (Gemeinschaft),
характеризующейся слитной цельностью и теснейшим
внутренним единением всех индивидов, способных в нее
войти, с одной стороны, и общности
социал-атомистической (Gesellschaft), где индивиды внутренне
разъединены, притязают быть внутри себя самодовлеющими и
91
вступают лишь во внешние для них связи,— с другой.
Первая из этих двух общностей в то время заслуживает
в глазах К. Маркса безоговорочное признание и
утверждение в качестве подлинной, «действительной»7, так что
именно она составляет надежду всей исторической
драмы, и полное торжество этой общности призвана
принести с собой грядущая коммунистическая революция.
Вторая же, напротив, видится тогда Марксу как
сосредоточившая в себе всю превратность и испорченность, «всю
старую мерзость», котсфую надо «сбросить с себя», и
получает квалификацию неподлинной, «суррогата», даже
«мнимой» или «иллюзорной»8; против нее и должна
быть направлена вся сила революционного отрицания.
В последующий, классический период, обнимающий
собою конец 1850-х и 1860-е годы, Маркс существенна
пересматривает этот свой набросок типологии. Главное
изменение заключается в том, что понятие о
социал-органических связях разводится с понятием о грядущих
коммунистических отношениях, отграничивается от них
и выступает как характеризующее собою один из двух
противоположных полюсов, присущих всей истории, на
подлежащих снятию в грядущем обществе.
Социал-органические связи тем самым получают исторический
статус, уравненный со статусом связей
социал-атомистических: они одинаково необходимы на протяжении всей
«предыстории» человечества. Что же касается
сменяющего «предысторию» будущего состояния, то в него они
входят лишь как диалектический синтез, опосредствованный
их отрицанием,— как некий принципиально третий тип
связей, который, однако, в латентной форме всегда
таился в недрах «дремлющих» человеческих потенций... Так
типология превращается в трехчленную, и одновременно
в ней выходит на первый план та структурная логика,
которая внутренне присуща субъектному миру — «миру
человека». Торжество третьего типа связей приносит с
собою «свободная индивидуальность, основанная на
универсальном развитии индивидов»9, причем их
«производительность» наделяется атрибутами одновременно и
связей органических, и связей атомистических. «Третья
ступень» вбирает в себя от первой ступени (т. е. от
отношений личной зависимости) единение, от второй
ступени (т. е. от отношений личной независимости,
сопряженных с овещнением)—самостоятельность. Она
выступает как их синтез. Последний равносилен установлению
«истинного царства свободы», которое, однако, «начина-
92
ется в действительности лишь там, где прекращается
работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью»,
т. е., повторяет К. Маркс со всей категоричностью, «па
ту сторону собственно материального производства»10.
Способность же человека стать учредителем «истинного
царства свободы» глубоко коренится в его всеобщей
сущности — как способность к связям универсального
общения — преемства и со-творчества, актуализуемым
универсальной деятельностью.
Каждый человек, как бы сильно ни преобладали в его-
актуально претворяемом и явно зафиксированном образа
жизни связи какого-то одного определенного типа или
даже подтипа, тем не менее никогда не исчерпывается теми
аспектами своего бытия, которые включены в эти связи.
В каждом конкретном человеке всегда есть еще и иныег
инородные аспекты и стороны, включенные или могущие
быть включенными в совершенно другого типа связи.
В конечном счете в каждом виртуально таится весь
полный спектр возможных гетерогенных связей, как бы
резко они ни отрицали друг друга непосредственно и
несмотря на их прямую несовместимость и ыесогласуемость
между собой. Во всем последующем изложении
типологии придется попеременно сосредоточивать
концептуальный анализ то на одних специфических связях, то на
других, и всякий раз будет рассматриваться некоторый
заведомо абстрактный тип индивидов — носителей
анализируемых связей, но это отнюдь не будут человеческие1
субъекты во всей конкретной многосторонности и
гетерогенности их бытия. Это будут индивиды, взятые лишь
в пределах выделенного типа или подтипа связей, т. е.
ограниченные такими, и только такими,
характеристиками, которые по необходимости присутствуют и
культивируются в принятых для анализа пределах. Но всякий раз:
следует подразумевать, что кроме абстрагированных для
рассмотрения связей в любом конкретном человеке могут
и даже должны быть также и инородные, даже
противоположные связи и аспекты, временно не принимаемые
в непосредственное предметное поле исследования.
Внутри связей социал-органического типа индивид
находится реально еще не выделившимся, а постольку и
волей и сознанием своим еще не вышедшим из лона
некоторой над-индивидыой слитно-единой целостности.
Это — по их сути связи несвободной со-принадлежности
индивида вместе с другими, ему подобными, конечному
или (и) бесконечному Целому, по отношению к которо-
93
жу каждый из них есть не самостоятельный его
участник, но лишенная существенной самостоятельности его
составная часть, его малая частичка. Чтобы, однако, этот
-общий облик таких связей, взятых в их логически
чистом виде, не подменить нарочитой карикатурой, не надо
думать, будто они не оставляют места ни для какой
самостоятельности индивида, превращая его в
куклу-марионетку. Нет, самостоятельность и сознательная
самодисциплина, критическая самооценка и саморегуляция
здесь могут иметь достаточно широкую сферу, но только
если эта сфера, в свою очередь, сохраняется
по-прежнему жестко включенной — как часть в целое — внутрь
.еще более широкой сферы несвободы. При этом
индивидуально совершаемые поступки-решения сохраняют свою
.жесткую соподчиненыость более существенным
процессам, которые принципиально над-индивидны и приняты
каждым именно как стоящие безусловно превыше его
индивидуальной самостоятельности. Строго говоря,
последняя здесь всегда ограничена относительно
несущественным содержанием и сама помещается внутрь сферы
принципиальной несамостоятельности. Ибо в этих связях
центр действительного бытия человека, средоточие всей
его жизни и особенно ее объективного смысла, всех его
способностей и высших ценностей, критериев и норм для
воли и суждений вкуса находится не в самом человеке,
а вне его — в том Целом, которому он принадлежит
вместе с другими. Он живет, помнит, оценивает и
решает, в конечном счете не от самого себя, а лишь от имени
Целого. И не только единичный человек, но и все
индивиды, вместе взятые, и в их взаимных отношениях друг
к другу оказываются лишь выражающими своими
малыми жизнями Великую Жизнь Целого. Каждый доверяет
.этому Целому внутренне обладать его собственным
индивидуальным «я» и всей его судьбой гораздо больше и
глубже, нежели он сам мог бы собою обладать.
Символически-метафорически Маркс часто
характеризует эти связи несвободной со-принадлежности
сравнением их с младенческой пуповиной или со связями внутри
коллективных организмов у животных. Ибо здесь
«единичный индивид столь же мало в состоянии отделяться
от пуповины, связующей его с племенем или с общностью
(Gemeinwesen), как и индивидуальная пчела — от своего
улья»11. Философским же языком автор «Капитала»
формулирует это так: целое, или община, «выступает в
качестве субстанции, индивиды же как всего лишь акци-
94
денции ее или ее составные части...»12. Следовательно^
можно сказать, что социал-органические связи в их
наиболее обобщенном и частом выражении суть не что иное,
как отношения типа: акциденция—субстанция, и что
человек, как бы далек он ни был, вообще говоря, от того„
чтобы исчерпываться только такими связями, выступает
в их пределах именно как индивид-акциденция, индивид-
частичка, полностью погруженная в субстанциальное
Целое.
Если индивид-акциденция либо еще не покинул тога
первичного и объемлющего собою его «акцидентальную»
жизнь слитно-единого лона, которое он принимает за
свою субстанцию, либо вновь вернулся в состояние
погруженности в него, т. е. воспроизвел первичное
отношение несвободной со-принадлежности, то все высшие
обретения своей жизни — абсолютные для него ценности,
универсальные принципы, критерии и нормы — он вменяет
не себе, а этому лону. Так происходит независимо от того,
должен ли он нести свою ответственность за эти
обретения или нет,— все одинаково вкладывается им в
субстанциальное Целое. Здесь одинаково и как бы заодно
выступает и бытие индивида в качестве ветви на
взрастившем его природном и культурно-историческом древеу
и его же бытие как уже отделившееся от последнего, но'
потом вновь прилепившееся к нему или к тому, что он
принимает за свое «древо». В обоих случаях индивид
находится в теснейшем единении с чем-то таким, что-
выступает как заранее уготованное ему.
Здесь анализ доходит до того рубежа, за которым
единый общий тип социал-органических связей
раскалывается на два резко различных подтипа. Слишком уж
неодинаковое содержание может скрываться за не-свобод-
ной со-принадлежностью! Во-первых, это — со-принадлеж-
ность до-свободная, do-деятельностная и, следовательно,
<9о-субъектная, когда индивид несамостоятелен в том, но>
и только в том, в чем он по-настоящему и не способен
быть самостоятельным, инициативно-ответственным,
осуществляющим свободный выбор и находящим творческие
решения, надежно контролирующим принятое им
предметное содержание, деятельным субъектом... Не способен
же он просто потому и постольку, поскольку встречает
в себе самом и перед собою такую действительность,
которая объективно превышает уровень развития и
совершенства его сущностных сил, уровень его субъектности.
Такая действительность не поддается попытке ее распред-
95
метить — либо потому, что и вовсе недоступна индивиду,
так как относится к виртуальным слоям, к «дремлющим
потенциям» его бытия, либо потому, что она доступна
ему лишь поверхностно-формально, а по своему
содержанию, по своим насыщающим ее жизнь сложным
проблемам и парадоксальным трудностям — слишком
многомерным, «мировым» заботам или слишком
уникально-личностным тревогам — ему непосильна. У каждого человека
есть свой порог распредмечиваемости, или
содержательной доступности, за пределами которого его сознанию и
воле лучше бы было и не притязать на самодеятельность
и где он сам еще не готов быть субъектом на деле.
В своих связях с миром, касающихся его виртуального,
неактуализуемого для него бытия или же бытия, проблем-
ность которого ему непосильно трудна, индивид
объективно оправданно есть индивид-акциденция, или
частичка, органически со-принадлежащая некоторому Целому.
Но это так не потому, что индивид утрачивает или
отрицает свою субъектность, а просто-напросто потому, что
такие его связи существуют вне сферы его
индивидуальной субъектности и объективно предшествуют его
деятельности, его свободе выбора и решений, его инициативе
и его онтологической ответственности. На сферу его
субъектной деятельности, его свободы выбора и решений, его
ответственности, такие связи со-принадлежности отнюдь
не посягают. Они эту сферу лишь предваряют, оставляя
ее собою не захваченной, незамкнутой. Назовем поэтому
такие социал-органические связи раскрытыми (первый
их подтип).
Кардинально иначе обстоит дело тогда, когда связи
со-принадлежности несвободны вместо свободных, т. е.
когда они водворяются не в до-субъектной, до-деятельно-
-стной сфере, а как раз в сфере самого субъектного бытия,
посягая на его атрибуты, захватывая эту сферу и тем
самым ее десубъективируя по мере проникновения в
нее. Отсюда понятно, что такие социал-органические
связи не могут быть изначально первичными или им
адекватными. Напротив, они всегда вторичны, всегда
производит от процесса утраты людьми прежде обретенной
меры свободы, утраты былой относительной
самостоятельности, инициативности и ответственности. Они по самой
сути своей приходят только на место утрачиваемых
субъектных атрибутов, только посредством их вытеснения,
подобно тому как злокачественная опухоль сменяет собою
здоровую жизнеспособную ткань, или же заполняют со-
96
бою уже возникшую пустоту — вакуум субъектной жизни.
Такой процесс либо навязывается людям действующими
у них «за спиной», скрытыми от их сознания и воли
коварно-хищными силами, инфернально-паразитическими
и эксплуататорскими тенденциями (хотя обычные
носители последних могут вовсе и не разуметь их хитрых
«механизмов»), либо вызывается стихийным отказом
самих же индивидов от своих возможностей свободы и их
бегством от последних, сопряженным с бегством от
выпавшей на их долю социальной и исторической
ответственности, либо происходит под совместным влиянием
тех и других факторов.
Правда, социал-органические связи раскрытые, т. е.
связи первого подтипа, казалось бы, тоже могут быть
вторичными, заново восстановленными после более или
менее существенного их разрушения. Но это совсем иная
вторичность — такая, которая не отменяет их сугубо
предваряющего характера. Будучи разрушены, а затем заново
обретены, раскрытые связи по-прежнему сохраняются в
качестве таких, которые не вторгаются в сферу актуаль-
но-деятельностной, собственно субъектной жизни, они
по-прежнему несвободны только в смысле до-свободных,
а поэтому могут сами выступать (как мы увидим в
дальнейшем) праколыбелыо человеческой свободы, да и всех
других атрибутов субъектности индивида.
Напротив, вторичность социал-органических связей
второго подтипа всегда сопряжена с их вторжением и
утверждением себя вместо возможностей свободы, вместо
атрибутов субъектности. Они несут в себе тот ледяной
климат, который сковывает всякий простор
инициативного саморазвертывания каждого индивидуального мира.
Они как бы сминают каждый такой мир и
впрессовывают его в слитно-единый массив их общего «социального
тела». Они замыкают индивида внутри органического
единства, которому он принадлежит, подкрепляя и
обеспечивая эту замкнутость взаимной сомкнутостью
каждого со всеми, настолько тесной, настолько бездистантной,
что ни у кого не остается пространства для
развертывания субъектных атрибутов как междусубъектных, как
сущих между индивидуальными мирами... Слитно-единый
массив стискивает их до степени утраты таких атрибутов.
«Роскошь» обладания ими выпадает только на долю
общего «социального тела», а может быть, даже только
скрытой за последним отчужденной силы, которая тем
самым одна только и выступает как обладательница всей
7 Заказ № 667
97
коллективной субъектности — за всех и вместо каждого.
Здесь быть субъектом — прерогатива и монополия суб-
станциализованного Целого, а через него — таящихся за
ним сил. Уже этого достаточно, чтобы дать органическим
связям этого подтипа наименование замкнутых.
Индивиды застают себя бездистантно сближенными,
конечно, в любых социал-органических связях, причем
сближенными независимо от их деятельности, от их воли
и выбора, от их поисков и обретений, от их
созидательных усилий. Сближенность дана им как изначальная,
заранее теснейшим образом скрепляющая их друг с другом..
В этом смысле все такие связи суть предъединящие. Но
в пределах раскрытых связей индивиды предъединены
друг с другом только такими скрепами, которые и не
могут быть ими самими построены или выбраны, главным
образом относящимися к виртуальной родственности
людей между собою, родственности изначального
происхождения и до-свободной судьбы. Там, в недоступной
человеку глубине бытия, он застает себя имеющим
слитно-единый общий корень со всеми другими. Такая виртуальная
сращенность, однако, отнюдь пе исключает произрастания
из единого корня многих относительно свободно
направленных ветвей... Замкнутые же органические связи
контрастно отличаются тем, что сближают людей как раз в
том, в чем они должны были бы сами, самостоятельно
открыть друг друга и найти пути к взаимности бытия как
бы заново, своею волею. Эти связи предъединяют всех
так, что сами индивиды уже не могут сблизиться субъ-
ектно-личностно. По сути дела, такая их близость здесь
подменяется с самого начала данной стиснутостью,
которая есть скорее лишь «близость» их общего «социального
тела» к самому себе, предуготованная каждому
входящему в него члену как безличному.
Тогда как в раскрыто-органические связи человек
включается как индивид-акциденция своим до-деятельно-
стным, до-субъектным бытием, в пределах которого он
пока еще и не может быть чем-то большим, связи за-:
мкнуто-органические знаменуют собою низведение до
положения акциденции его более высокого, собственно суб-
ектного развития. Но по отношению к какой же
субстанции это происходит? Вот тут-то — при ответе на этот
вопрос — и выявляется еще более глубокое различие
между этими двумя подтипами связей. При раскрытых
связях субстанциальным вместилищем индивида-акциденции
выступает то и только то, что единственно достойно его
98
в себе вмещать как свою частичку,— бесконечная
Вселенная, вернее, царящая в ней беспредельная объективная
диалектика. «Нити» раскрытых связей простираются в
глубь неисчерпаемых актуальных и потенциальных недр
бытия в его необозримой для нас многоуровневости,
никогда не завершаясь, не заканчиваясь ни на чем
конечном. Поэтому всякое звено, всякая конечная инстанция
здесь никогда не наделяется значением большим, нежели
то, которое может иметь всего лишь промежуточный
представитель и посредник, сущий не от самого себя,
а «от имени и от лица» всей остальной, стоящей за ним
цепи звеньев и инстанций... А это и значит, что раскры-
то-органиче%ские связи по самой сути своей всегда суть
узы со-принадлежности самой беспредельности, что
поэтому они незавершимы. Любое их завершение или
«обрывание» грубо извращает их, подменяет суррогатом.
Во избежание недоразумений сказанное выше о
беспредельной диалектике Вселенной сопроводим следующим
пояснением. Хотя принципиально важно именно то, что
корни и истоки раскрыто-органических связей уходят
незавершимо глубоко в объективную неисчерпаемость
внечеловеческой действительности, взятой даже без тени
<юциоморфности или антропоморфности, тем не менее эту
вселенскую первоисточность нельзя мыслить
сколько-нибудь натуралистически. Надо строго помнить об
обязательной культурно-исторической опосредствованности:
если пытаться ее как-то миновать или игнорировать, то
ничего, кроме тощих абстрактов, не получится. Однако,
понимая, что объективная диалектика всегда выступает
в социально определенных и историчных образах и через
их посредство, мы все же не можем не выдерживать здесь
той меры отвлеченности, к которой нас обязывает
анализируемая проблематика, уровень и ракурс рассмотрения.
В противовес незавершенному характеру связей
раскрытых, связи замкнутые всегда иссякают и обрываются
на некоей будто бы уже последней инстанции как на
окончательной, самодовлеющей, ничего более
существенного и более глубокого за собой не имеющей. Эта
инстанция принимается и выдается за абсолютный центр, за
вершину всего мироздания, т. е. самонадеянно
обожествляется под гордым именем Субстанции-Субъекта. Вся
остальная действительность автоматически низводится
тем самым до положения периферии, фона и кладовой
для нас, воздвигших в оправдание нашего reo- и
антропоцентризма его символ — Субстанцию-Субъект. Особенно
7*
99
же существенно не упускать из виду то, что
включенность индивидов в связь органической со-принадлежности
такому конечному, но своецентричному Целому на деле
равносильна именно выключенности из уз, могущих
связывать их с бесконечной действительностью, с лоном
беспредельной объективной диалектики. И чем теснее
человек сближается со всем тем, что символизируется свое-
центричной Субстанцией-Субъектом, тем дальше он от
подлинной диалектики и тем враждебнее ей делает он
себя. Ибо вся логика замкнуто-органических связей
напитана антагонизмом против логики
раскрыто-органических уз.
Однако в классических исследованиях Маркса речь
идет почти исключительно о замкнуто-органических
связях, что в значительной степени отвечает специфике его
предметного материала — буржуазного общества и
товарного уклада вообще.
Маркс начинает свой анализ с особенностей
предметно-производственной деятельности, порождаемых
органической общностью в противоположность общности
атомистической. Если предположить первую из них как
таковую, то в ней «заранее данный
органически-общественный [gemeinschaftlicher] характер труда определял бы
участие работника в продуктах. Органически-обществен^-
ный характер производства с самого начала делал бы
продукт органически-общим»13. Однако это единение и
эта обобществленность ограничены всякий раз некоторым
конечным целым и отнюдь не распространяются за его
пределы, на «периферию». Такой, ориентированный на
четко очерченный социальный организм, общественный
характер производства не полагается лишь задним
числом, но, наоборот, всегда является той предпосылкой14,
которая изначально предъединяет производителей в
труде, да и вообще членов общества.
Наиболее ярко и беспримесно это проявляется в
архаической общине [Gemeinde]. Последняя представляет
собой всего лишь частный случай преобладания
замкнутых социал-органических связей, но именно в ней легче
усмотреть также и общие их черты. Здесь всякий раз
«основой развития является воспроизводство заранее
данных (в той или иной степени естественно сложившихся
или же исторически возникших, но ставших
традиционными) отношений отдельного человека к его общине и оп-
100
ределенное, для него предопределенное, объективное
существование... в силу чего эта основа с самого начала имеет
ограниченный характер... Здесь, в пределах определенного
круга, может иметь место значительное развитие.
Возможно появление крупных личностей. Но здесь
немыслимо свободное и полное развитие ни индивида, ни
общества...»15. При таких связях вся предметная деятельность
людей движется в формах воспроизводительного, так
называемого репродуктивного исполнительства и поэтому
даже свои обновляющие обретения вводит от имени и
ради устоявшейся культурной парадигмььобразца, от
имени и ради жесткой традиции. Когда индивиды
наследуют и воссоздают былые формы, то они это делают так,
как будто сами они тут ни при чем, как будто сами эти
формы способны продлить свое существование и актуали-
зовать себя без посредства своих возродителей. Все
вносимые в традиционное наследие модификации и даже
резкие изменения вменяются и приписываются самому
первоистоку, оригиналу. Дело совершается так, что не
люди преемствуют традиции, а сама по себе первозданная
традиция являет себя сквозь них и в них, что позволяет
им снять всякую ответственность за свое участие в
движении субстанциализованного Целого.
Весь механизм снятия с себя субъектных атрибутов
и прежде всего реальной, онтологической ответственности
и одновременного перекладывания их на сверхчеловечески
авторитетное Целое заложен уже в характере предметной
деятельности, в ее самозамкнутости
воспроизводительными формами, в закованности в них. Такая
самозамкнутость реально-практически ежедневно и ежечасно придает
всем деятельностным возможностям, всем имеющимся
(хотя бы и относительным) возможностям свободного
созидания омертвленный, уподобленный силе вещного
порядка, косный формообраз: индивиды непрерывно
вкладывают эти свои возможности в «фонд» инерции, обращая
бытие проблемное, исполненное жизненных задач — в
беспроблемное, погашенное, «заранее данное», безусловно
такое, каким оно было и каким оно будто бы только и
может быть в грядущем... Так происходит в самой
деятельности фатализация объективной логики бытия:
последнее выступает в силу этого для каждого индивида
поистине как «для него предопределенное» — в меру
действия фатализации. Разнообразные продукты этой фата-
лизации накопляются, объединяются, консолидируются в
виде сложной структуры социального организма и его
101
богатств, которые выступают уже не как богатство
возросших возможностей новой свободы, инициативного
поиска и созидания, а, наоборот, как возросшая сила
социальной инерции, во всей ее непреоборимости и готовности
буквально раздавить неконформную себе
индивидуальность. Вот почему здесь оказывается немыслимым
общественно-человеческое свободное и полное развитие...
Уходя, казалось бы, далеко от древней общины,
человечество, проходившее иные ступени своей
«предыстории», тем не менее многократно воспроизводило в самых
различных модификациях и различных обликах ту же
самую силу инерции социального целого в его
отчужденном самодвижении, шаг за шагом все больше увеличивая
ее, упрочивая, усложняя и совершенствуя способы и
механизмы ее воздействия на человеческую
индивидуальность. Но вместе с такого рода прогрессом все больше
стала проясняться и тайна фатализации и субстанциали-
зации людьми неких конечных (псевдобесконечных)
инстанций бытия. Разгадка этой тайны предстала как
вполне земная история вкладывания людьми в Субстанцию-
Субъект именно тех своих достояний, относительно
которых корыстно заинтересованные земные силы, классово-
эксплуататорские и родственные им, питали надежды на
скорое получение, их обратно в максимально
авторитарной, непререкаемо властной и сакрализованной форме.
Как показал Маркс, в классово-антагонистическом
обществе субстанциализация социального «общего тела» во
все более значительной степени делается продуктом
процесса отчуждения в узком смысле. Однако надо четко
помнить, что для индивида-акциденции или же для
человека, поскольку в нем есть также и индивид-акциденция,
совокупность отчужденных форм социальной жизни
вполне реальна, а потому она также и в сознании такого
индивида остается нисколько не далекой, не чуждой ему,
а именно «своей», субстанциальной для него. Новейшие
«достижения» прогрессирующего, все более изощренного
отчуждения научно-технических, экономических и иных
социальных сил капиталистического мира занимают для
него то же самое место, которое он в силу многовековой
привычки,-чрезвычайно прочно в нем закрепленной,
приноровился отводить для авторитарного традиционного
господства— для оплота «сильных мира сего». Созданное
органически обобществленным, сложно-комбинированным
трудом и наделенное превратно-отчужденной формой
бытия экономическое богатство, это настоящее «одушевлен-
.102
кое чудовище»™, для него вовсе и не чудовище, а
естественная форма консолидации общественных вещей в
сверхчеловеческом Целом. «Паразитический нарост на
гражданском обществе, выдающий себя за его идеального
двойника», этот гигантский «паразит, опутывающий, как
удав, общественный организм своими всеохватывающими
петлями»17, для него вовсе не нарост, не паразит и не
двойник даже, а единственно возможное воплощение его
же собственной социальной субстанциальности, т. е.
нечто такое, к чему он ощущает себя приросшим. То, что
для других уже раскрылось как их трагедия, как
«мертвящий кошмар»18, для индивида-акциденции, взращенного
замкнуто-органическими связями, есть
прозаически-нормальная, обычная обстановка, в которой он — у себя
дома... Ему нисколько не кажется нелепой фантасмагорией
«абстракция коллективного организма» — существо,
которое «не мыслит какой-то конкретной головой и тем не
менее мыслит, которое не передвигается с помощью
определенных человеческих ног и тем не менее передвигается
и т. д.»19. Ибо именно в таком Существе-Идоле для него
сосредоточиваются и обретают прочную
псевдоперсональную, сверхчеловеческую принадлежность все те его же
собственные (и других подобных ему индивидов)
способности, все те атрибуты субъектности, от которых он, как
от своих, отрекся, но лишь ради того, чтобы пользоваться
всей их общей, органически-единой совокупность^ ,вместо
своих, вместо индивидуально-личностных. Он приучил
себя постоянно нуждаться в таком Идоле, наделенном
умом, совестью, мужеством, щедростью вместо этих
качеств у индивидов-акциденций, ибо, теряя свое малое
достояние, он надеется обрести в Идоле эти утраченные
им качества в их предельной, до абсолютности
доведенной полноте и могуществе. Под сенью Идола он надеется
просуществовать в своем уюте «скромной»
беспроблемное™ и гарантированной сверху безответственности,
спрятавшись от мучительно-тревожных загадок его бытия, от
его так и не раскрытого личностного смысла, от высокого
человеческого назначения во Вселенной. Такова гетеро-
комичность индивида-акциденции.
В «Капитале» исследованы характерные для зрелого,
развитого капитализма модификации
замкнуто-органических связей, знаменующих собою нарастание тенденции к
гетерономизации индивидов. Прежде всего и больше
всего это касается положения рабочих и вообще всякого
функционального персонала внутри крупных и постоянно
103
укрупняющихся многоотраслевых (далеко не только
промышленных) экономических объединений. В сфере
отношений между такими объединениями существенное место
занимают связи совсем иного типа — атомистические,
безразличные,— но внутри каждого из hpix тем с большей
жесткостью воцаряется организационный порядок и
рационально-техническая дисциплина, все больше
проникнутые приложениями объектно-вещной научности,
ставшей непосредственной служанкой дегуманизированной
производительности, причем этот порядок и эта
дисциплина основаны на своего рода замкнуто-органических
связях и насаждают их. Экономически-бюрократические
гигантские организмы «подкупают» и затягивают
индивидов внутрь таких связей всеми средствами рекламно-
рыночного прельщения и манипулятивной обработки
сознания и воли. Там «совокупный труд как целостность
не является делом отдельного рабочего, и даже
совместным трудом различных рабочих совокупный труд как
целостность является лишь постольку, поскольку рабочие
не сами себя комбинируют, а комбинированы (внешней
силой)»20. Их труд «выступает в сущности не как труд
различных субъектов, а напротив, различные работающие
индивидуумы выступают как простые органы этого
труда»21. Такой посредством технологического распорядка
комбинированный органически-объединенный
(gemeinschaftlich Arbeit) труд по необходимости подлежит извне
навязываемой ему вещно-принудительной дисциплине и
постоянному мелочному пооператорному контролю, ибо
предполагает кооперацию не через посредство всех
возможностей междусубъектного общения, а через прямое,
грубо овещненное сцепление и стискивание всех работаю-
22
щих — «предполагает непосредственную кооперацию» .
При такой, предельно тесной, бездистантной коопери-
рованности индивиды приучаются все более послушно и
некритически следовать увлекающей их силе инерции
множественности, частное проявление которой известно
как «эффект толпы». Они привыкают настраивать и
подделывать все свое поведение, мысли, оценки, чувства,
мотивы, поступки — всю свою жизнь — под навязчивые
признаки стереотипных трафаретов («как все другие»),
страшась выйти за пределы этих трафаретов даже в
своем воображении. Но это означает отнюдь не повышенное
внимание к другим, не более настойчивое стремление
вникнуть в своеобразно-конкретный субъектный мир
каждого из них. Нет, замкнуто-органические связи несут с
104
собою переориентацию и как бы смещение жизни
индивида не на конкретность личностного авторитета Другого,
который заразительным примером своей непривычно
высокой субъектности звал бы каждого внутренне свободно
устремиться всей своей жизнью тоже к высшему, а на
абстрактные, массово-безличные признаки-требования,
соблюдение которых обещает избавление от трудной
повседневной и повсечасной работы над сами^с собою как
субъектом, от «вырабатывания внутреннего человека».
Все внутреннее заменяется внешним, данным в готовом
виде извне вместо собственной субъектности. И это
касается уже отнюдь не скрыто-глубинных, виртуальных
слоев бытия, не над-пороговых, непосильных трудностей
и загадочно-таинственных проблем, а той минимальной
сферы доступной самостоятельности и ответственности за
свою жизнь и ее смысл, без которой нет и собственно
человека как субъекта.
Гетерономизация — это и есть подмена своей
собственной жизни, с ее атрибутами субъектности, жизнью
за чужой счет, отологическим иждивенчеством, так
сказать— пара-жизныо, или ее суррогатом. Вместо
обогащения своего опыта — следование авторитарным
предписаниям-рецептам; вместо своих решений—«примыкание»
к решениям, вынесенным за индивидов-акциденций и
независимо от них, хотя бы и посредством формального
вотума одобрения; вместо своих суждений
художественного вкуса и суда нравственной совести — паразитирова-
ние на том, что внутри органической общности обладает
большей твердостью и устойчивостью; вместо
собственного мышления — использование чужих, неизвестно как
полученных выводов или даже просто-напросто конечных
прикладных лозунгов, символизирующих стопроцентную
приверженность к надежной традиции; вместо своей,
внутренней культуры — внешнеподражательное использо1
вание омертвленных ее форм без их живого, личностного,
трудного содержания, без проблем, без поисков, без рие-^
ка, без выбора, а поэтому — без ответственности и
жизненного смысла.
Маркс в «Капитале» обратил особенное внимание на
ту форму гетерономизации, которая внутри замкнуто-ор«-
ганической общности, внутри технологически
расчлененной целостности сопряжена с разделением деятельности
на частичные функции, на бессодержательные роли. Ста*
новясь «частичным рабочим», «частичным функционер
ром», индивид тем самым превращается также и в «ча*
105
стичного индивидуума», «неполного человека»'23. «Вместе
с разделением труда разделяется и сам человек»24. Но
сам человек делается лишь осколком, лишь уродливым
фрагментом самого себя как субъекта, т. е. буквально
лишь отчасти человеком, вовсе не в силу простого про-
фессионалистского сужения предметного поля
деятельности и сосредоточения только на нем сущностных
всеобщих сил. Ибо и чрезвычайно специализированный
предмет может быть той «каплей», в которой уникально
представлен весь Океан Вселенной, сверкающий в ней
своими многообразными красками универсальной
конкретности... Суть дела не в специализации, не в
содержательно-предметной односторонности, а совсем в ином: в
подмене действительного предметного содержания —
псевдопредметным, условно-бутафорским, в утрате содержания
как такового, в иссыхании его живого источника.
Замкнуто-органическая и к тому же технологически-рационально
построенная система частичных функций как раз и
отличается удивительно продуктивной способностью
плодить множество различных вторичных, третичных и т. д.
профессиональных занятий — таких, которые наделяются
только псевдопредметностыо и которые имеют
«оправдание» только внутри этой системы; перед лицом же
первичной, неумерщвленной действительности они не имеют
никакого оправдания. Но и не только псевдопредметные
занятия, роли, их сложные иерархии, а и самого
персонажа-исполнителя их она может из «ничего» сотворить,
подобно знаменитому поручику Киже. Здесь гетерономи-
зация человека доходит до степени его фантомизации,
так что даже и в живом индивиде поселяется и
действует как бы за него некий чисто учрежденческий, суетно-
канцелярский или химерически деловой Грегор Замза,
со всей «насекомой» серьезностью в его системных
функциях 2\ Такая фантомизирующая, псевдопредметная
«деятельность» может быть и достаточно широкого, как
говорится, «профиля», т. е. по-своему разносторонней.
Соответствующая замкнуто-органическим связям ге-
терономность имеет две формы своего осуществления,
внешне кажущиеся крайне далекими друг от друга, но,
по сути дела, идентичные: пассивную и активную.
Первую из них — покорность по видимости любой могущей
извне нахлынуть судьбе, как якобы абсолютно
непреоборимой, роковой, а поэтому готовность быть всего лишь
жалкой щепкой, уносимой потоком фатальных событий,—
нередко ошибочно считают единственно адекватной гете-
106
рономии вообще. Однако на самом деле только в схема-,
тически упрощенных «обобщениях» квиетизм поддается
такому изображению — в виде не знающего никаких
отступлений уповательства на некий всепронизывающий
автоматизм: что ни случись, все от абсолютной, роковой
судьбы и все к лучшему! Реально же претворяемый,
невыдуманный квиетизм гетерономных
индивидов-акциденций всегда имеет свой предел приемлемости судьбы, свой
«порог покорности и послушности», за которым
конформное поведение и сознание исчерпываются и уступают
место взрыву ропщущего и бунтующего неприятия
судьбы. Но если даже оставить пока в стороне, вне поля
нашего внимания этот поистине исключительный и
редкий случай, то и в своей обыденной повседневности, в
своей привычной рутинной практике гетерономный
квиетизм всегда принимает лишь некий вполне определенный,
«свой», «родной» для него конечный авторитарный
центр — своего Идола судьбы, а тем самым — столь же
резко и категорично не приемлет что бы то ни было
инородное, «чужое». Само по себе слепое, рабское
послушание своей конечной Инстанции, наделенной
атрибутами субъектности вместо каждого индивида, равносильно
отвержению каждым всей бесконечности иных влияний,
всего неисчерпаемо богатого множества иных
содержаний, которые могли бы войти в нефатализированную,
самостоятельно созидаемую им судьбу, но к которым
каждый сам сделал себя, мало сказать, непослушным —
просто не желающим даже и слышать их ненавязчивых
зовов, их бросающих ему вызов задач, проблем,
противоречий. Следовательно, отречение индивида от своей
свободной способности к субъектно-деятельностной жизни
на уровне доступных проблемных содержаний и
смыслов — в пользу подставного общего для него с другими
заместителя и монопольного субстанциализованного
носителя их общей роковой судьбы — есть сопротивление
всей беспредельной объективной диалектике, есть
решение, принимаемое именно вопреки и наперекор ей. Выбор
квиетизма как безволия уже и сам по себе есть
утверждение своеволия, ибо он знаменует собою предательство
человеком своего неотчуждаемого созидательного
назначения во Вселенной.
Но, кроме того, гетерономизация может быть еще и
активной — проявляющейся в виде конформизма действо-
вания, внешне энергичного бодрячества,
шумно-назойливого, экспансивного поведения. В этой форме суть гете-
107
рономизадии находит себе едва ли не самую адекватную
форму своего существования — посредством погружения
индивида в формально-исполнительную суету. Бурная
деловитость, калейдоскопическая беспросветная занятость
гораздо надежнее заслоняет человека от глубинных
проблем его жизни, от ценностных качеств и духовных
смыслов его поступков, нежели тишина отстранившегося от
потока дел, безмятежного квиетизма. Тишина чревата
пробуждением внутреннего смыслового слуха,
способностью внимать объективной ответственности человека
за каждое свое мгновение жизни, а это и есть то, чего
больше всего боится гетерономный индивид-акциденция,
уступивший свою субъектность авторитарной инстанции.
Поэтому он — сознательно или инстинктивно — старается
заполнить всю свою жизнь заданиями и заботами,
набирает их себе как можно больше, чтобы поддерживать
плотное состояние постоянного «некогда». «...Человек,
посланный в мир ради высоких целей, забыл о лучшей
части своего существа и всего меньше занят как раз
тем, для чего наделен жизнью. Приходят в мир — и не
знают откуда, живут в мире — и не знают зачем, уходят
из мира — и не знают куда. Да и пока ходят по земле,
главного не делают, относятся к жизни спустя рукава^
Думают о пустом, заняты пустым, рады пустякам,
питаются пустыми надеждами, словно во сне, и вечно из
одной пустоты впадают в другую, пока сами не
исчезнут...»26 «Ищут... той сутолоки, которая нас отвращает от
мысли... Так любят шум и движение... Покоя ищут в
борьбе с препятствиями, а если препятствия устранены,
покой становится невыносимым, ибо тогда вспоминаются
настоящие бедствия»27. «Жизнь наша — постоянное
бегство от себя, точно угрызения совести преследуют,
пугают, нас... Человек... начинает шуметь, чтоб не слыхать
речей, раздающихся внутри него... напивается допьяна
всем на свете... налагает на себя чудовищные труды,
и они ему все-таки легче кажутся, нежели какая-то
угрожающая истина, дремлющая внутри него. ...В этом
искусственном недосуге... мы проходим по жизни спросонья
и умираем в чаду нелепостей и пустяков, не пришедши
путем в себя»28.
При строго объективном подходе, в свете всего
контекста рассматриваемой типологии, должно быть ясно, что
жизненная задача — прийти «путем в себя», задача
пробуждения возможностей «внутреннего человека» —
разрешима не посредством одного лишь лишенного внутрен-
108
ней глубины иного «самочувствия» внутри
замкнуто-органических связей, но только посредством действительного
выхода из них, посредством преодоления как их самих,
так и гетерономизации и прочих главнейших их
следствий.
К числу таких следствий относится еще жесткий,
мертвящий традиционализм. «Традиции всех мертвых по-
колении тяготеют, как кошмар, над умами живых» ,
тяготеют именно там и постольку, поскольку индивиды
включены в замкнуто-органические связи. Этот
традиционализм проистекает вовсе не из стремления к
максимально полному распредмечиванию традиционно
доступного наследия и не из готовности к бескорыстной
верности ему, но, напротив, из своекорыстных актуальных
потребностей в средствах для упрочения, для наполнения
служебно-функциональным содержанием и для освещения
от имени истории и исторических авторитетов социальной
регуляции органически жесткого, бездистантного,
замкнутого типа. Отсюда — крайне ограниченная, коллективно-
своемерная, предвзятая избирательность к наследию. Тело
культуры подвергается беспощадному рассечению, как
при вивисекции, чтобы извлечь из него и взять себе «на
вооружение» только то, что отвечает нынешним
критериям функциональности и что, будучи опрокинуто на
былое, прочерчивает строго охраняемые границы
высеченной из него таким способом «своей собственной»
традиции, которая затем резко противопоставляется всему
остальному содержанию исторического культурного
процесса.
В силу этого замкнуто-органический традиционализм
грубо нарушает и даже разрушает действительную жизнь
используемой им действительной традиции, доставшейся
ему в качестве добычи. Во-первых, он расторгает живые
узы и пресекает возможности незавершимого
взаимодействия, в особенности — гармонического, полифонического,
между избранной им традицией и ее общекультурным
контекстом. Он привносит в нее мертвящий изоляционизм
и антагонистичность по отношению к инородному
содержанию. Он губит животворящие источники, могущие
питать взаимные встречи между гармонически
противоречащими друг другу целостностями, их взаиморефлексию.
Во-вторых, традиционализм более всего губителен не к
чужим содержаниям, которые он бракует и отталкивает
прочь, а как раз к тому, которое он присвоил как «свое
собственное», достойное всяческих превознесений. Ибо оп
109
по своей сути не способен самокритично учиться у своей
традиции, что потребовало бы раскрыть и развернуть все
многообразие и сложность, всю антиномичность
присущего ей одновременно и положительного, и
отрицательного культурно-исторического опыта былого при столь же-
непредубежденной готовности творчески-обновляюще
продлить жизнь традиции. Традиционализм никогда не
учится, но только поучает, декретируя от себя, какою именно
должна быть традиция сообразно с его не подлежащими
критике нуждами. Так традиционализм умерщвляет
живую традицию изнутри, своей корыстной любовью к ней.
Изготовление из материала культурных традиций
неких форм, тяготеющих, как кошмар, над умами людей,
известно под именем догматизации: Янушу Корчаку
принадлежит выразительная характеристика того, что он
называет догматическим образом жизни. К сожалений),
у него при этом неразличимо слиты воедино черты
разомкнуто-органической общности и черты собственно
догматической, замкнуто-органической. Но, если иметь в
виду лишь то, что относится к последней, получается
следующая картина: «Традиции, авторитеты, ритуалы...»
Лишенная самокритической рефлексии твердая
уверенность в себе и в правильности своих поступков.
«Благоразумие вплоть до полной пассивности, до игнорирования
всех прав и правил, не ставших традиционными, не
освященных авторитетами, не укоренившихся повторением
изо дня в день». «Догмой может стать все — и земля,
и костел, и отчизна, и добродетель, и грех; может стать
наука, общественная и политическая деятельность,
богатство, любое противостояние...»30 Этот образ жизни
всегда сопрягает приверженность индивидов
догматизированному эталону с противостоянием чему бы то ни было,
под него не подводимому, с доведением различий до
антагонизмов. Утверждая себя, он одновременно исключает
все непохожее, непонятное ему, кажущееся непривычным
и поэтому неприемлемым — «чужаческое». Он заковывает
себя в рутину инерции, в «громадную силу привычки и
косности», которая здесь обнаруживает себя как «самая
страшная сила»31, сила отрицания.
Социально-групповая исключительность всегда ставила
и ставит всех чужаков-изгоев вне закона, вне
нравственности, вне принадлежности к собратьям по человеческому
роду. На стадии примитивной дикости она
санкционировала просто-напросто съедание их даже живьем... В
наше же время эта исключительность приобрела более опо-
110
средствованные формы, в том числе и псевдоидейные,
хитро обосновываемые. Но всякое отлучение других есть
самоотлучение из глубинной общности. Похищая
замкнутую социальную группу из человечества, а
человечество — из общности Вселенной, позиция единственности и
исключительности убивает сокровенный жизненный нерв
универсальной со-причастности человека-субъекта всем
без изъятия, всем мирам... Она подытоживает
историческую самоубийственность реальной ориентации на
замкнуто-органические связи, на конечно-групповой свое-
центризм.
Принцип исключительности группы, или ее
самодовлеющей укорененности, повернутый извне вовнутрь
логикой бумеранга, раздробляет былое целое на такие
частицы, каждая из которых притязает быть внутри себя
целым, ничему, в сущности, не принадлежащим,—
«атомом». Атомистические связи вступают в действие вообще
всегда там, где прекращается органическая общность;
они приходят на ее место и водворяются вместо нее в
составе субъектного мира человека, т. е. как негативно
сменяющие ее собою. Они возникают, по излюбленному
выражению Маркса, на границах между органическими
общностями, в пространстве между цельными единицами.
По отношению к раскрыто-органической общности
атомистические связи выступают как их негативная смена в
том, что индивидуальная несамостоятельность уступает
место именно самостоятельности, бытие, прежде
прилеплявшееся к до-свободному, до-деятельностному единству,
выделяется из его лона как опирающееся и полагающееся
уже на себя самого. По отношению же к
замкнуто-органической общности атомистические связи оказываются
либо вырастающими на ее руинах, поскольку она уже
распалась, либо как активно разрушающие ее и
вытесняющие.
В общем их виде атомистические связи по существу
своему суть связи вторичного объективного
взаимодействия и взаимозависимости между обособленными,
выделившимися из взаимной со-принадлежности,
самостоятельными единицами-«атомами», в качестве которых
могут представать и какие-то группы, семьи, и отдельные
индивиды. Исторически атомизация далеко не сразу
дошла до индивида. Но в данном нашем исследовании от
этой постепенности мы отвлекаемся. Конкретный человек
111
может иметь в составе своего гетерогенного субъектного
мира различные иные связи, но, поскольку в нем
водворяются связи атомистические, постольку — в их
пределах — он выступает как лишенный уз прямой со-принад-
лежности какому бы то ни было Целому, как
оборвавший свои «родовые пуповины» и как ставший сам себе
целостностью, самодовлеющей единицей. Этим он
отрицает свое бытие в качестве части, или акциденции, или
ветви, ибо утверждает себя как несущего внутри себя,
в своих недрах свою единичную, уникальную меру
субстанциальности, а поэтому также и — свою субъектиость.
Ибо там, где нет ни грана субстанциальности, там нет
и действительной субъектности, разве лишь ее пустая
номинальная оболочка...
«Человек как обособленный индивид предоставлен
только самому себе, средства же для утверждения его как
обособленного индивида состоят, однако, в том, что он
себя делает всеобщим и коллективным существом»32.
Этим сказано все! Отныне для индивида средоточие
субстанциальности находится не исключительно вне его, но
прежде всего внутри него, а может быть, даже и только
внутри него... В себе самом он несет свое начало
субъектности: он — не периферия, прилепившаяся к
внешнему Центру, а сам обладает в себе центром своего мира,
сам внутри себя—«всеобщее существо», построенное и
организованное вокруг своего собственного
конституирующего начала33. (Однако важно не забывать, что деятель-
ностный субъектный мир, самостоятельно утвердившийся
и самоорганизованный, вообще говоря, вовсе не
обязательно должен быть собран вокруг точки, но может
быть самоорганизоваы и построен вокруг «центральных»
для него беспредельных векторов междусубъектной
устремленности.) Отныне индивид полагает вне себя
периферию, а может быть, даже и только периферию. Более
того, дело может доходить до низведения своей
коллективности с другими до средства утверждения себя самого
как самостоятельного субъектного мира. Во всяком
случае, атомистическая общность устанавливается «лишь
post festum»34 — как система таких связей, которые
предполагают вступающих в нее индивидов-«атомов» в
качестве первичных. «Каковы индивиды, такова и сама эта
общественная связь»35, эта общность. И тогда общество
вообще, «какова бы ни была его форма», предстает как
«продукт взаимодействия людей»36. В этом качестве
выступающее общество, следовательно, уже не заключает
112
в себе ничего более субстанциального, а тем более
принципиально иного по своему происхождению, нежели
содержание, исходящее от образующих его индивидов. Оно
субстанциально не более, чем в пределах созданности
ими, в качестве ими произведенного продукта. Оно уже
не может, как это было при органической общности,
заранее предъединить людей и предварить их
самостоятельный «вклад» в построение социального здания. Как мы:
видим, ничем не возместимая историческая значимость
разомкнуто-органических связей в том-то и состоит, что
через них в структуру общества, в его «ткань» могут
вплетаться драгоценные нити виртуальной
преемственности, уходящие в еще недоступные глубины объективной
диалектики — предпосылки глубинного общения.
Напротив, атомизм отсекает такие нити: он готов наследовать,
только тому, что сам уже способен самостоятельно
воссоздать, заново построить,— только «рукотворное»...
В противовес индивиду-акциденции, индивид-атом
отличается установкой на то, чтобы все вокруг себя, как
говорится, «прибрать к рукам», все взять на себя. Все
для него есть поприще его собственного участия,
присвоения-освоения или расширения его сферы
ответственности, забот, опеки, контроля, разумеется исходя из своей
позиции и своих устремлений. Всякая предстоящая ему
действительность либо «вкладывается» в его
индивидуально-субъектный мир и организуется вокруг него, либо этот
мир хотя бы проецируется вовне, «накладывается» на
остальную действительность как абсолютно исходное и,
по сути дела, окончательное «Мерило Всем Вещам» —
короче говоря, индивид берется быть Судией над всем
миром.
Да иначе и не может быть при стремлении быть
последовательно самостоятельным, без всяких отступлений,
и распоряжаться всей полнотой своей судьбы, исходя
только из самого себя, из своих актуально данных
возможностей и согласно своему собственному усмотрению,
«изнутри себя». Так, индивид-атом вменяет одному лишь
себе все наиболее существенные жизненные решения, все
складывающие его судьбу поступки, акты выбирающего
предпочтения или отвержения, высшие ценности,
универсальные принципы, критерии и нормы — все он берет в
свои собственные руки так, как если бы все это он мог
сотворить в себе без участия, без со-причастности к этому
других, без внутренней, непрестанно оплодотворяющей
преемственности и междусубъектной сущностной взаим-
8 Заказ № 667
113
ности со-бытия с другими. Кто бы ни были эти другие —
от ближнего до самого дальнего и даже до всей
Вселенной с ее объективной диалектикой, для индивида-атома
они оказываются посторонними для его
самостоятельности, а может быть, даже и угрожающими самим своим
существованием нанести ущерб ей, ущемить, оттеснить
или обесценить ее достоинство, принятое им за
абсолютное. Это-то и значит, что для индивида-атома
самостоятельность либо неполна, ущербна и скованна, либо
онтологически и аксиологически обособленна, односторонне-
монологична. Она для него либо по-настоящему не
осуществляется, либо осуществляется как обязательно
требующая возведения себя в ранг априорно авторитетного
Судии над миром по своему собственному Кодексу и
исходя из своего собственного Мерила. Она для него
возможна не иначе как в форме одностороннего своезапопия
и своемерия, т. е. при вольном или невольном лишении
всего остального мира, как лишь страдательного предмета
его суда, встречных прав быть «выслушанным» на этом
суде в качестве не менее авторитетного, не менее
самостоятельного обладателя Кодексов и Мерил, Ценностей
и Начал...
Так, мы видим, что для индивида-атома
самостоятельность достижима только ценой самовыключения из
сущностной со-причастности с другими, т. е. самоизоляции и
ценностного одиночества в качестве для себя самой
единственной онтологической единицы. Атомистические же
связи предстают как внешне суммирующие, собирающие
и комбинирующие вместе такие единицы, внутренне
остающиеся разъединенными — связи не-единых друг с
другом. Это — относительная сближенность далеких,
сосуществование самодовлеющих, совместность внутренне
несовместимых, сцепленность лишенных взаимности и
со-причастности, со-присутствие и взаимодействие множества
одиноких. Это — общность разрозненных, построенная на
забвении изначально роднящей первообщности, на ее
снятии.
Эта позиция ценностно одинокого своезакония и
своемерия есть онтологическая автономия, или, вернее, авто-
номизированность. Индивид-атом тем самым получает
характеристику автономного.
Однако автономизация индивида (или группы, семьи)
и стоящая за нею атомизация могут иметь крайне
неодинаковые, диаметрально противоположные векторы
направленности. И, соответственно этому, тип социал-атомисти-
114
ческих связей распадается на резко противостоящие друг
другу два подтипа. Поскольку они во многом аналогичны^
или, вернее, логически симметричны, двум подтипам
связей органических, то рассмотрим их в той же
последовательности.
Человек — в пределах определенных аспектов, которые-
на время способны оказаться доминирующими,
задающими тон,— может быть предоставлен только самому себе,
т. е. находиться в состоянии онтологической
самоизоляции («обособленный индивид») и ценностного
одиночества (в состоянии сущностного монолога, будучи на
очередном перепутье своей исторической судьбы). Это как
раз то состояние, когда человек уже покинул внутри себя
лоно какой-то одной формы со-причастностизт, но еще не
обрел другую, столь же внутреннюю, более высокую
общность, более совершенную форму со-причастности. Он
уже выключился из одной сущностной взаимности, но
пока еще не включился в иную, еще не дошел до неег
не преодолел всего того пути, того перепутья, которое
отделяет первую от второй. Такое промежуточное,
переходное состояние может быть достаточно длительным,,
мучительно сложным, трагически трудным, но никогда
не статичным, не успокоенным, не самодовольным —
напротив, всегда встревоженным, бодрствующим,
исполненным напряженного динамизма. В нем человек скорее
предпочтет предать себя рискованным метаниям, нежели
застыть и окаменеть в самотождественности. Утратив
былую близость, но все еще не найдя новой, человек
пребывает в онтологическом одиночестве, «отщепенчестве», как
если бы весь мир отодвинулся и отстранился от него, но
это— всецело и только вынужденное одиночество —
одиночество бытия в искании, которое все проникнуто
напряженным тяготением к самопреодолению, к выходу из
такого состояния. Поэтому и специфические связи между
индивидами, находящимися в таком состоянии,— связи
спутников и относительных союзников по процессу
искания,— заслуживают наименования
раскрыто-атомистических. Они всегда раскрыты в беспредельность, всегда
подвижны, динамичны — в противоположность тем узам,
которые подобны цепи, заканчивающейся спущенным
якорем.
Многоуровневый, внутренне гетерогенный субъектный
мир имеет свою драматическую историю, которая отнюдь
не вся бывает вынесена на сцену массовых наблюдаемых
событий. В этой истории есть и парадоксальные неравно-
115
мерности. Так, иногда происходит как бы внезапное
расширение возможностей субъектного мира — и человек
попадает словно в разреженное пространство. Тогда он
испытывает своего рода эйфорию или головокружение от
свалившихся ему «в руки» даров, от новой, непривычной
и негаданной меры свободы — не в смысле исчезновения
внешних препятствий (это было бы тривиальное
торжество прежних желаний), а в смысле внутренних способностей
к выбирающим судьбу самостоятельным
поступкам-решениям, к тому, чтобы внутренне дерзать быть тоже судией,
тоже авторитетом, подобно тем, чей суд и чей авторитет
он до сих пор принимал в своей жизни. Человека
опьяняет перспектива не только быть применяющим к себе
более высокие Мерила, а и самому тоже стать субъектом
таких Мерил, возможность не только чтить безусловные
ценности, а и самому тоже обрести их внутри себя и
понести в себе, в своей душе как свое неотъемлемое
достояние, как свой собственный атрибут субъектности. При
отсутствии или относительной слабости объективных
диалектически-гармонических отношений и отвечающей им
утонченно-духовной культуры междусубъектности, при
недостатке воспитанности человек теряет в такой
атмосфере былое равновесие от всякого резкого расширения
«степеней» внутренней свободы, от неподготовленного
пробуждения в нем или внезапного получения новых
даров — сущностных сил. Свою возросшую взрывоподобным
образом самостоятельность он не умеет и просто не в
состоянии сгармонизировать с самостоятельностью других
и удержать на уровне полифонического диалога,
глубинной встречи, междусубъектной взаимности человеческих
сущностей и ценностей. И вот дерзновение быть тоже
авторитетом для себя, тоже судией, тоже носителем
высоких ценностей и принципов, критериев и норм
принимает форму отстаивания индивидом своего
собственного «права» быть таковым и замкнуться в монологическом
сосредоточении на себе, предающем забвению всех
других, т. е. отключающем их от своей внутренней жизни,
от своей личностной38 самостоятельности, от процесса
принятия наиболее существенных, сугубо личностных
решений-поступков. Возникает неслышание ценностных
ориентации других при осуществлении ориентации своих
собственных, и складывается механизм монологической
самоизоляции в делах «своего мира», которые «никого
другого не касаются». Так субъектно-личностная жизнь
начинает вершиться в состоянии принципиального оди-
116
ночества — лишь ради самостоятельности,— как если бы
во всей беспредельной Вселенной и правда не было
ровным счетом никого, кто был бы достоин со-причастности
субъекту в его внутренней свободе, в его
самоопределении, в его способности быть себе судьей. Даже сама
совесть монологизируется — вопреки тому, что она по сути
своей есть взаимная весть: со-весть!
Так всякое новое обретение в сфере сущностных сил,
во внутренних возможностях и атрибутах субъектности,
поднимающее человека над прежним его положением,
несет с собою опасность, что, сосредоточившись на этих
обретениях, на этих дарах, он в них атомизируется и
автономизируется. Так может происходить многократно —
отнюдь не только в знаменитый кризисно-переломный
период в конце второго семилетия (так называемый
«переходный возраст»), но также и при любой
неравномерности восхождения на духовном пути: чем ускореннее
оно, тем сильнее риск впадения в эйфорию, толкающую
к монологизации. Тогда человек стихийно или
сознательно провозглашает свой внутренний мир и свою
собственную, сугубо личностную жизнь закрытым для всех
других «заповедником», неприкосновенной зоной своего
собственного суда и авторитета. Там он — монополист на
своезаконие и своемерие, там — царство его ценностного
одиночества, царство монологизма с самим собой наедине.
Тем не менее такое состояние монологизма, или ато-
мизированности, а поэтому — своезакония и своемерия,
даже и тогда, когда проходящий через него индивид, увы,
надолго в нем застревает и никак не может из него
выбраться, родственно состоянию вынужденной атомизации
и автономизации в процессе искания — одиночеству
ищущих. Поэтому и там и здесь мы имеем дело с
раскрыто-атомистическими связями между индивидами и,
соответственно, с раскрытыми автономными и своемерными
позициями, с таким внутренним монологизмом, который
отнюдь не исключает выхода к междусубъектному поли-
логизму (диалогам). И там и здесь своезаконие и
своемерие, да и весь монологизм, индивида-атома обращены
только внутрь его собственного (считаемого им
собственным) субъектного мира. Вовне, на других такое
сдержанное изнутри своезаконие и своемерие ничуть не
распространяется — оно уважительно-терпимо к собственным
«законам», к собственным кодексам и мерилам других.
Оно не предается экспансии за свои индивидуальные
«атомистические» пределы, не присваивает себе индиви-
117
дуальной или групповой исключительности, не впадает
в нигилизм к каждому иному, инородному субъектно-лич-
ностному миру, иной эпохе, культуре. Оно принципиально-
не-своецентрично, но предполагает и ценит субъектный
поли-центризм, множественность субъектов.
Благодаря такому не-своецентризму (благодаря его
соблюдению и претворению) состояние
стихийно-кризисной атомизации, страдающее
несамокритически-консервативной сосредоточенностью индивида только на своих,
однажды обретенных им сущностных силах, может быть
исцелено и «прийти в норму», поднимая и пробуждая
индивида к последовательно самокритичному бытию в
искании. В искательстве же суть
раскрыто-атомистических связей получает наиболее полную и адекватную
форму осуществления. Тогда четче всего проступают
перед нами главнейшие конститутивные черты именно
раскрытого индивида-атома. Хотя он временно условно свое-
законен, своемерен и монологичен, это вовсе не значит,,
что для него свой собственный кодекс суда над своей
жизнью, свое собственное мерило есть нечто такое, что
он агрессивно готов навязать всему миру как абсолютна
совершенное достижение, как нечто
божественно-безусловное. На остальной мир его суд если все-таки и
распространяется, то только косвенно — поскольку своеза-
конно он судит себя самого, живущего внутри мира,
сопричастного ему. Однако он полон и проникнут
подспудным предчувствием или своего рода скрытым, не
сформулированным предведением возможной для него встречи
с иными, лучшими ценностными кодексами, иными
способностями судить и соизмерять, даже с безусловно
совершенным их первоистоком и первообразцом — в
беспредельности... И он ищет этого. Ищет того, с чем
достойно вступить в диалогическое общение всем своим
существом.
Актуально он лишен со-причастности. Но он
расположен отдаться со всею искренностью ей и встать
на ценностное, нефункционалистское, духовное служение
тому, что откроется ему как достойное этого. Он все еще
ищет его.
Он не доверяется никому до той последней степени,
до какой доверяется лишь самому себе и своему
собственному авторитету в окончательных решениях своей
судьбы. Но он готов со всею радостью души довериться
большему и гораздо большему авторитету, когда его
найдет или прозрит.
118
Он все еще ничему до такой степени не верен, не
предан, в какой мечтает стать верным и преданным:
всем сердцем, всем, что ведомо ему и что неведомо,
виртуальным и актуальным, прошлым и будущим. Он хочет
этого не вопреки всей своей критичности и
требовательности, а по велению совести.
Он ни с кем не сближен, не взаимен весь до конца.
Но он мучительно жаждет найти именно такую близость
и сущностную взаимность, которая не знает ни границ,
ни пределов, ни условных ограничений.
Он все еще ни с кем не делит монологичного суда
своего, так как он наедине с тем, что ему дороже всего
на свете. Но он готов поделить — с тем, что явится ему,
как достойный того.
Все эти черты отличают только индивида-искателя,
именно раскрыто и лишь вынужденно атомизировап-
ного39.
Кроме того, и для человека, обретшего гораздо более
высокие, со-творческие узы, бывает иногда необходимо
предать себя состоянию строго ограниченного, сугубо
временного и его свободной волей контролируемого
одиночества, внешне уподобленного состоянию автономного
«атома» в особенных, чрезвычайных случаях. Этого могут
потребовать необычные проблемные задачи,
экстраординарные трудности, трагические ситуации, подвижнические
дела. Тогда человеку бывает нужно и важно остаться на
какое-то мгновение -один на один с испытанием судьбы,
лицом к лицу с крайне обостренной ситуацией, с
созидаемым трудным произведением, с великой проблемой...
Это — состояние самоотвержения, готовности принести
себя в жертву достойной задаче, ее ценностному смыслу.
Как бы вобрав в себя весь доступный ему опыт всяких
других субъектов, кто бы они ни были, человек должен
пребывать как бы оставленным всеми, чтобы им же
послужить посредством своего подвига, чтобы справиться
с ним, выдержать испытание, не дрогнуть. А тем самым
вернуть себе и существенно обогатить узы общительной
со-причастности всем.. Таково то особенное, преходящее
и чрезвычайное одиночество служения через подвиг,
творчество, духовную заботу, которое на самом деле
неизмеримо глубже и сильнее роднит подвижника со всем
человечеством, чем что-нибудь другое... Но роднит только
при условии строгого контроля над своим пребыванием
в одиночестве, без других... Иначе же гений переходит
границы служения... Опасно даже просто-напросто «ув-
119
саморефлексией над своим призванием и своим
...Останься тверд, спокоен и угрюм.
Ты — царь! Дорогою свободной
Иди, куда тебя влечет свободный ум.
...Ты сам свой высший суд:
Всех строже оценить сумеешь ты свой труд40.
Если взять эти строки в единении с другими, где их
автор сообщает нам, что принял в свою духовную душу
зов общения: «...и виждь, и внемли, исполнись волею
моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца
людей»,— то названную опасность удалось этим как бы ми^
новать. Тогда — но только тогда! — автономное «царское»
величие, которое в своем одиночестве само себе высший
суд, сугубо мимолетно. Тогда оно ни в коем случае не
превратится в то печальное состояние, коему однажды
уже достаточно было видеть, внимать, исполняться волею
иною,— состояние насыщения и пресыщения своим
богатством даров. Тогда индивид жаждет вновь и вновь
иного — не своей увековеченной победы над истиной и истин-
ной волей, но принятия в себя ее ненавязчивой победы.
над своей ограниченностью: «...чтобы расти ему в
ответ»41. В этом смысле «свободное духовное производство»42
есть не что иное, как самостоятельно-свободное
самоотверженное служение высшему долгу. К этому служению
человек способен вовсе не как ослепшее «орудие», не
как «медиум»43, но как субъект такого общения, которое
само включает в свой диалектический ритм чрезвычайные
мгновения подвижнического одиночества, мгновения
абсолютной автономии, «оставленности наедине».
Однако первые из процитированных только что
пушкинских строк уже столько раз бывали прочитаны
совсем иначе. Их неоднократно превращали в своего рода
символ веры принципиально гордого монологизма,
онтологически-индивидуалистского атомизма и автономизма,
В них находили то, что искали,— провозглашение
самозамкнутости и своецентризма. Все это требует от нас
обостренно-четкого анализа той грани, которая отделяет
раскрытые атомистические связи от замкнутых.
Итак, рассмотрим связи атомистические замкнутого
подтипа. Вступающий в такие связи самозамкнутый
индивид-атом оказывается «обособленным» и
предоставленным «только самому себе» отнюдь не из-за каких-то
исканий, не из-за пребывания на перепутье или накануне
лечься»
трудом:
120
какого-то онтологического самооткрытия. Нет, именно
исканию, именно бытию в пути, его динамизму, в
который бесстрашно ввергнуто без остатка самое
сокровенное человеческое «я», он как нельзя более чужд и далек.
Правда, он подыскивает себе нечто для себя, ради своей
устойчивости внутри себя. Но самого же себя — какого-то
иного, кардинально иного, инородного тому, каков он дан
самому себе,— он не способен искать. Искательство
впервые начинается и открывается человеку лишь там, где
подспудно им предчувствуется способность стать иным,
и притом сколь угодно иным,— ради чего-то гораздо и
безмерно большего, нежели сам по себе индивид...
Замкнутый же индивид-атом, бросивший навеки якорь
внутри самого себя,— это величина, гораздо меньшая, чем
даже нуль искания; это — активно отрицающее его
состояние, бшшискательство. Это — отвержение самой
возможности, всякого смысла и действительного встречного
адресата для процесса саморазыскания и самообретения,
полный нигилизм к нему. Замкнутому индивиду-атому
просто-напросто некуда отправляться, да и незачем. Ибо
он уже решил почитать самого же себя — как более или
менее данного себе — уже наличным абсолютом,
Началом и Концом, Истоком и Итогом для себя,
аксиологическим Центром всякого бытия. Остальной же мир,
поскольку ему он радикально предпочел себя,— только
периферия, только совокупность средств, только фон и кладовая.
В истории своего индивидуального становления и
развития индивид может прийти к такой позиции
предпочтения себя всему остальному миру через
рассмотренное выше кризисное монологическое сосредоточение на
себе как имеющее своим благим исходом переход к
ищущему состоянию. Однако если индивид, обративший
однажды свой субъектный мир в неприкосновенную зону
для своего исключительного автономного суда, для свое-
закония и своемерия, перейдет затем не к размыканию
границ этой зоны, а, наоборот, к
экспансивно-агрессивному ее расширению, то кризис придет к негативному
исходу. Прежде бывшее неявным или лишь косвенным
отвержение всех других и всей беспредельной
диалектики в их со-причастности внутреннему миру индивида
отныне делается явным и прямым: из способа напрасной
самозащиты от посягательств всех других на
самостоятельность своего собственного монологизма такое
отвержение превращается в активно направленное на других,
на весь мир, социальный и природный, на всю Вселен-
121
ную. Последняя перестает для индивида быть великой
всеобъемлющей участницей его встречи с нею, и жизнь
его перестает быть такою встречей. Она подменяется
для него лишь односторонним процессом. Внутренний
монологизм, распространенный на всю действительности
вырастает в монополизм своезаконного суда над неюг
монополизм ценностных мерил для всех вещей — в свое-
центризм «атома».
Здесь мы имеем дело с атомизированностью, по сути
обратной по отношению к той, которую мы видели в
первом подтипе. Там индивид только потому
вынужденно атомизировался, что пребывал в искательстве, в
саморазыскании. Здесь же, напротив, индивид чужд
исканию именно потому, что уже окончательно «нашел»
самого себя — в самом же себе отрозненном, атомизирован-
ном. Там индивид удалялся от окружающей
действительности в себя лишь потому, что нес в себе ожидание
гораздо более глубокой близости и что хотел бы
дорожить ею и ценить ее гораздо выше, нежели это у него
ранее получалось. Здесь же индивид удаляется от мира
в себя, потому что навсегда оценил мир гораздо ниже
даже того, чего заслуживала окружающая обстановка.
Там — уход в монолог с собою, лелеющий в себе
подлинную встречу и мечтающий, верящий в лучшие миры.
Здесь — отвержение всех возможных миров, не ради них
лучших, а ради себя, отрекшегося от встречи!
Итак, в последнем случае сама атомизация явлена,
так сказать, с обратным знаком. Самозамкнутому
«атому» вовсе и некому доверяться, некому быть верным и
преданным, не с кем глубинно сближаться до
сущностной взаимности бытия, не с кем делить свой монолог,
свое своезаконие и своемерие. Ибо он убил в себе это.
Убил нигилистическим обесцениванием всего мира для
себя, аксиологическим его опустошением, своим
безразличием к нему как таковому.
Исследовательское внимание К. Маркса было
сосредоточено преимущественно на таких атомистических
связях, которые наиболее характерны для буржуазного
строя и уклада, для всего товарно-стоимостного мира и
образа жизни,— на связях замкнутых. В них атомизация
как процесс сущностного взаимоотстранения индивидов
друг от друга достигает своего крайнего выражения и
предельной степени «чистоты»: отношения, или связи,
делаются поистине «чисто атомистическими»44. Для ато-
мизированной самозамкнутой единицы что бы то ни бы-
122
ло в мире и даже весь мир в целом, поскольку он для
нее возможен только сквозь такие связи,— все низведено
до уровня средств, ибо и сами эти связи «выступают по
отношению к отдельной личности как всего лишь
средство для ее частных целей, как внешняя
необходимость»45. Здесь {{общественное бытие является хотя и
необходимостью, но и не более, чем средством, и,
следовательно, самим индивидам представляется как нечто
внешнее... Они производят в обществе и для общества,
как общественные [gesellschaftliche] существа, но вместе
•с тем это выступает как всего лишь средство опредме-
46
тить их индивидуальность» .
Все пронизывает «безразличие по отношению друг
к другу», и при этом кажется, будто индивиды
совершенно независимо привходят во внешние формы
случайной для них общности, свободно-случайно, либо
сталкиваются и имеют друг с другом дело, либо не
сталкиваются. Однако «эта независимость вообще есть только
иллюзия, и ее правильнее было бы называть
безразличием в смысле индифферентности»47. Из самого этого
всеобщего, всепронизывающего безразличия, из того, что
жаждый для всех и все для каждого — посторонние,
возникает сугубо специфическая взаимозависимость,
которая и повязывает всех вместе цепями объективной
безразличной логики и вынужденной общности судеб. Этот
внешне условный «союз чужих», эта взаимная сцеплен-
ность посторонних, утверждаемая вместо органической
общности и вместо всеобщности, самую суть взаимной
общественной связи низводит до уравнивающей сделки
каждого с каждым и со всем обществом в целом48. Но
внутри совокупности этих вынужденных «сделок» между
всеми соприкасающимися атомами неявно воцаряется
скрытая объективная логика этих «сделок», которая,
подобно мощному магнитному полю, подчиняет все
«независимые» атомы своей слепой, упругой дисциплине
вероятностно-статистического типа. Эта объективная
логика, эта слепая стихийно-бессубъектная дисциплина тем
определеннее обнаруживает себя, чем больше число
атомов-участников и чем большее число «сделок-договоров»
они заключают. Именно так действует закон стоимости
и иные законы и тенденции товарной системы.
Подобным же образом действуют и все социологические
закономерности условно-договорных «сцеплений» между
самозамкнутыми атомами — закономерности безразличных
связей.
123
Марксу принадлежит весьма детальный и
тщательный анализ возникновения и складывания во все более
сложную систему тенденций объективной логики среди
множества безразличных связей — как индивидных
атомов, так и групповых.
Прежде всего безразличные, замкнуто-атомистические
связи придают сугубо специфическую форму самой
предметной деятельности людей —форму «безразличного
социального труда», индивиды же выступают как его
«агенты»49. Именно в силу своего безразличия ко
всякому особенному содержанию, а тем более к содержанию
уникальному и ценностному, т. е. не имеющему
конечно-эмпирической объектно-вещной выразимости, этот
труд постоянно принудительно редуцирует каждый свой
предмет к некоторым поддающимся жесткой фиксации,
всегда однородным, повсюду одинаковым
абстрактно-всеобщим характеристикам. Всякую живую конкретность он
подвергает вивисекции, обращающей их в такие карка-
соподобные скелеты, с которыми можно иметь дело как
с принципиально однородными. Из них активной силой
всех технически покорных человеку и состоящих на
службе его цивилизации веществ, энергий и информации
изгоняется все слишком конкретное, все нередуцируемое,
не переводимое на нивелирующий язык элементарных
объектно-вещных начал...
Такова сущность абстрактно-всеобщего
(«абстрактного») труда: он есть деятельность не просто безразличная,
но и оставляющая после себя «выжженную землю»,
некую, хотя, быть может, и рационально даже очень
эффективно устроенную, удобную техно-среду, но
ценностно опустошенную, выхолощенную, очищенную от богатств
живой конкретности, от ее диалектики... Он есть
производитель мертвых вещей, создатель практически
реального царства аксиологического нигилизма. Однако,
выжигая вокруг себя что бы то ни было над-вещное в
действительности и опустошая ее, реально разрушая ее
ценностные измерения и качества, он тем самым также и
себя лишает того питающего субъектную жизнь
истока, из которого он мог бы черпать неиссякающее
богатство более высоких уровней действительности, более
тонкие содержания. Ведь в пустыне мертвых вещей просто-
напросто нечего распредмечиватъ, кроме все новых
материалов и средств — веществ, физикалистских энергий и
нейтральных информации. Последние годятся только для
расширения низшего бытия, только для пополнения со-
124
вокупности инструментальных вооружений и оснащений,
но уже не годятся для не-технического, над-утилитарно-
го развития и совершенствования самого
человека-субъекта. Так, индивид-атом посредством своего абстрактно-
всеобщего, безразличного труда сам же и отсекает от
себя те предметные возможности субъектного
восхождения, которые он мог встретить в действительности и рас-
предметить — но только уже не в качестве средств.
Отношение к миру как к совокупности средств
умерщвляет его.
Сама предметная деятельность, становясь
безразличным, абстрактно-всеобщим трудом, претерпевает ряд
глубоко извращающих ее сущностных смещений, или
переориентации. Их можно подытожить следующими тремя
пунктами.
Во-первых, происходит смещение главенства и
преобладания от распредмечивания к опредмечиванию —
вплоть до почти полного поглощения вторым первого.
Господствующим мотивом становится — утвердить
предметно, закрепить, консолидировать, а может быть, даже
и пытаться увековечить все то, что составляет
сгруппированное вокруг своих интересов достояние. Важно дать
себе адекватное выражение, навязать себя миру —
наложить на действительность свое собственное своецентрич-
ное Мерило Всем Вещам. Подобно тому как в свое
время делали палимпсест: брали книгу старинных притч и,
замазав или соскоблив старый текст, писали на
пергаменте о своих беспутных приключениях или торговых
расчетах,— точно так же и всю Великую Книгу
Действительности пытаются «заасфальтировать» и навязать
ей свои собственные, служебно-удобные формы и
структуры. Опредмечивание в его безмерной гиперболизации
за счет распредмечивания становится процессом
вытеснения неугодной действительности, которая не вызвала
к себе благодарного отношения человека, своей
собственной «действительностью», посредством которой субъект
в максимальной степени адекватно выражает самого
себя как самодовлеющий центр мира. Такое засилье
самоопредмечивания на деле, конечно, предполагает, чта
в прошлом субъектом было кое-что почерпнуто из
действительности через ее распредмечивание, но затем
произошло его замыкание на своих достояниях. И тогда
субъектный прогресс потерял внутреннее
многомерно-качественное самоизменение, стал все более центробежно
ориентированным, объектно-вещноактивным.
125
Во-вторых, относящийся ко всему окружающему
миру как фону и средству для своего самоутверждения и
самовыражения, тем самым также и к своим собственным
сущностным силам, которыми он себя опредмечивает,
относится как к средствам, низводит их до «пособия»,
пригодного для употребления, ориентированного и
направленного вовне, лишь центробежно и, по сути дела,
объектно-вещно. Так сущностные силы из способностей
к внутренней и многомерной работе общительности
превращаются в силы объектно-вещной активности, а тем
самым лишаются своих ценностных качеств, аксиологи-
чески опустошаются. В особенности отношение
использования и эксплуатации чего бы то ни было, или
утилитарного употребления,— отношение, построенное на
абсолютизации и универсализации реального поля полез-
достей,— обращается индивидом-атомом внутрь своего
субъектного мира, так что его гордое своезаконие и свое-
мерие находят себе логичное продолжение в напористом,
ни с чем не считающемся использовании самого себя,
в позиции самоутилизации, в изнашивании и
израсходовании, в беспощадном «прожигании» также и своих
сил — ради того своецентристского эффекта, для
достижения которого он готов ничего не пожалеть и не
остановиться ни перед чем, ни перед какими табуирующими
нормами.
В-третьих, низведение предметной деятельности до
труда-средства создает извращающее и коверкающее всю
субъектную жизнь противопоставление трудностей,
проблемных задач, которыми она могла бы истинно питать
себя как объективным смысловым наполнением, с одной
стороны, и своего собственного существования,
выносимого за пределы всех «невыносимых» трудностей и
проблем,— с другой. Уже это само по себе делает такое
существование, замкнувшееся в консерватизме
самоотождествленности, псевдосубъектным, подменяющим
истинную наследующе-креативную субъектность. Но эта
подмена не остается лишь внутренним частным делом
изолированного одиночки-отщепенца. Она активно
распространяется вовне, заражая все пространство далеко вокруг
себя — через свои предметные воплощения, через
результаты труда. Ибо если труд стал для индивида только и
исключительно средством для его атомической «жизни»,
противопоставленной труду, то и сам процесс
опредмечивания выхолащивается и грубо извращается. Он,
собственно, и поддается неимоверной гиперболизации лишь
126
в этой извращенной, выхолощенной форме. Главное —
в нем полностью гасится субъектная самоадресованность,.
то, что в обиходе называют часто «самоотдачей», но что
на деле есть также и глубочайшее самообретение. Из
процесса опредмечивания выходят наружу в качества
массовой конечной продукции вещи мертвые, бесплодные
и холодные, такие, в которых никто не стремился дать
себе самому живое продолжение и в которые никто не
вложил себя самого, свою адресованную всем другим
общительную сущность, свою щедрую душу, свою
неугасимую смысловую энергию. Так труд-средство порождает
колоссальные нагромождения бездушно и бездуховна
выполненных вещей-результатов, каждая из которых
хотя и вполне социальна, ибо произведена по правилам
общественного производства, но тем не менее в глубоком
смысле бессубъектна. Хотя такая вещь тоже есть
«запись» в книге исторической, но скорее
отрицательная и даже отрицающая ценностно-смысловую
устремленность.
Поэтому и результативность труда-средства, или era
вещная эффективность, повышается по закону хитрости
и «экономии» — экономии собственно человеческого
содержания и призванной нести смысловую самоадресован-
ность создателей наполненности их труда субъектными
качествами. Складывается и закрепляется в виде своего
рода традиции переориентация с живого процесса на
голый, безразличный результат сам по себе, на мертвую
вещь, в которой якобы* и заключается единственный и
полный «деловой» итог процесса труда. Отсюда хитро-
экономная логика: получить как можно больше
формально удовлетворительных, стандартно-посредственных
безличных результатов, но в то же время как можно
меньше вложить в них себя как личность, как субъект. Таков
принцип максимума внешней продуктивности при
минимуме внутренней самоотдачи, сущностной причастности.
Трудовая деятельность превращается в своего рода
деловое, рациональное «искусство» отделываться внешними,
отделимыми, вещными или вещеподобными
(«идеальными») результатами от необходимости субъектно-личыост-
ного участия, как бы «покупая» ими право на изоляцию
своего самозамкнутого «я», или, вернее сказать, псевдо-
«я». Человек даже привыкает на работе, в деловой и
официальной обстановке никакими внутренними
атрибутами субтэектности вовсе и не присутствовать,
оставляя «у себя дома» всякую, еще сохранившуюся, быть
127
может, от детства, человеческую душевность, над-ролевую
инициативность и отзывчивость, духовную широту
совести и прочие им подобные «вне-служебные» достояния.
Но что не присутствует, то и не может быть вложено
в продукт труда и стать его опредмеченным над-эмпи-
рическим качеством. Так строится бессубъектный мир
безразличных вещей, образующих удобоустроенную
цивилизованную пустыню, особенно в гигантских городах
буржуазного типа.
Безразлично-атомистические связи и соответствующий
им безразличный абстрактно-всеобщий труд ежедневно и
«ежечасно продуцируют общесоциальную систему
взаимодействий, непрерывно напитывают ее отчуждаемой
энергией, непрестанно воспроизводят все детали и
передаточные механизмы социальной регуляции и господства.
ч<Каждый обслуживает другого, чтобы обслужить самого
себя; каждый взаимно пользуется другим как своим
средством... каждый достигает своей цели лишь
постольку, поскольку он служит средством для другого... только
•будучи для себя самоцелью...»50 Так хваленая и
гордящаяся собою автономия атома-своецентриста, как
оказывается, может купить себе право быть центром мира и
самоцелью не иначе как повседневным, регулярным
унижением себя до самого низшего уровня бытия — до
лишенного ценностных качеств вещного средства, до
функционально-служебного инструмента. Здесь имеет место
«полагание себя как средства, или как обслуживающего,
лишь в качестве средства для того, чтобы установить
себя как самоцель, как господствующий и доминирующий
фактор... эгоистический интерес, не осуществляющий
никакого вышестоящего интереса»51. Но именно поэтому
каждый атом вынужден не только встречать в каждом
другом позицию, полностью отрицающую его
собственную автономию и своецентризм или условно
признающую их в форме взаимной компромиссной сделки о
двусторонней утилизации друг друга, а еще и невольно
участвовать вместе со всеми в формировании
всесторонней взаимозависимости всех атомов по логике бумеранга,
по логике самоотчуждения. Здесь «всеобщий интерес
есть именно всеобщность эгоистических интересов»52.
Это — всеобщность, как бы вынесенная за скобки
каждой индивидуальной ответственности и ставшая
предметом, от которого все поголовно отреклись как от чего-то
чуждого, до чего им нет никакого дела. «Общественный
интерес... не является мотивом, а существует, так
128
сказать, лишь за спиной рефлектированных в самих себя
отдельных интересов»53.
Из множества утилитарных жизненных позиций
непрерывно складывается суммарно-общественный порядок,
пронизанный принципом взаимной пригодности для
использования, порядок, построенный по логике сделки, по
логике извлечения заранее требуемого утилитарного
эффекта, по логике эксплуатации каждым всех и всеми
каждого. «Так же, как для человека все полезно, он и
сам полезен, и равным образом его определение —
сделаться общеполезным и общепригодным членом
человеческого отряда»54. Так, полезность перестает быть всего
лишь способом подчиненного отношения служебно-техни-
ческой вещи к человеку, вынужденному в определенных
ограниченных пределах эту вещь всего лишь
использовать — принести ее в жертву, и распространяется на все
без исключения связи между человеком и миром, т. е.
универсализуется и заслоняет собою абсолютно все.
Таково, «выражаясь более вежливо: всеобщее отношение
полезности и годности для употребления», а менее
вежливо — «всеобщая проституция»55. Капитализм явился
для Маркса классическим выразителем и проводником
вытеснения всякой связи и подмены любых из них одной
лишь связью-сделкой, связью взаимной нивелирующей
продажности всего, что вступает в связь, т. е. не
локальной уступки, а всеохватывающей самопродажности. Ибо
вступающие в связь-сделку безразличные атомы именно
самих себя полностью ввергают в стихию беспощадного
употребления, не знающую никаких останавливающих
границ и не признающую ничего для себя
неприкосновенного, ничего святого. Кагг'лтализм создает «систему
всеобщей эксплуатации природных и человеческих
свойств, систему всеобщей полезности; даже наука, так
же как и все физические и духовные свойства человека,
выступает лишь носителем этой системы всеобщей
полезности, и [в ее сфере] нет ничего, кроме самого этого
круговорота общественного производства и обращения,
что выступало бы как само по себе более высокое, само
по себе правомерное»56.
Человек делает себя средством изготовления и
получения безразличных внешних результатов ъ\ которыми он
надеется «отделаться» от какой-то возникшей перед ним
задачи-трудности и тем самым оттолкнуть ее от себя
прочь, нимало не принимая ее внутрь себя.
Эффективностью и нормативной «стопроцентностью» этих резуль-
9 Заказ № 667
129
татов он хотел бы совершенно закрыть, замуровать
задачу-трудность, которая нисколько ему не дорога, не люба,
но, напротив, чужда и враждебна. Задача-трудность есть
то, против чего он борется, на что ведет наступление и
что стремится перехитрить, победить, обезвредить
посредством безразличных результатов. Последние он не
только отделяет от себя, как что-то внешнее ему,
«отскочившее», но и придает им вектор, противоположный
своему собственному: вовсе не они ему нужны, а только
лишь свой успех в их получении, успех в «отсылании»
их от себя ради связи-сделки. Но, отказываясь
продлевать себя самого и вкладывать свою душу в свои
результаты-детища как в воплощение своей субъектности, он
тем самым не только не возвышает себя, но обращает
себя в средство своих средств, в раба вещей-результатов,
признаков-показателей и т. п. Пытаясь откупиться
результатами от внутренней со-причастности другим и
остаться при своем «интересе», он тем самым распродает
и закладывает самого себя. Ибо логика связи-сделки
между безразличными атомами всегда заключает в себе
начало Фаустова «предания души»: сделка с
Мефистофелем есть символ своецентричного, на хитрости
построенного отношения к миру посредством связи-сделки,
т. е. замкнуто-атомистического вообще.
Разумеется, безразличие и хитрая утилитарность
индивида-атома ко всему миру вне себя не может в
конечном счете не вернуться к нему же обратно — по
логике бумеранга — и не явиться ему как заслуженная и
сложенная им самим самоубийственная судьба. Но как
долго может длиться процесс складывания и
многократного осложнения такой судьбы в условиях далеко
заходящего социального опосредствования ее судьбами
других атомов?.. Чем глубже социальная «болезнь» атоми-
зации и чем отягощеннее ее ход, тем дольше кажущийся
вечным процесс предрасплатного «процветающего»
существования и состояния наглой вседозволенности... Голоса
леденящего безразличия каждого к каждому
складываются в суммарное эхо, и вот тот самый «общий интерес»,
до которого никому нет дела, те самые заботы об общем
благе общества, которые преданы всеми и каждым как
чужие и чуждые, возвращаются к каждому, но уже не
как взаимное благо, а как слепая принудительная сила
социальной отчужденной системы атомарных связей.
На материале буржуазного общества Маркс показал,
как безразличие самозамкнутых атомов не только питает
130
евоей отчужденной энергией всю систему их связей
в целом, но и оказывается само включенным в общий
социальный механизм контроля и регуляции,
приводящий в движение каждого индивида. Коварная
негативная диалектика этого социального механизма такова, что,
ежедневно и ежечасно аннулируя высокомерный свое-
центризм каждого атома и утверждая за спиною у него
неоспоримый своецентризм отчужденной системы как
целого, этот механизм в то же время столь же постоянно
воспроизводит у каждого атома его позицию безразличия
и своецентризма. Более того, подобная позиция еще и
усиливается, усугубляется, непрерывно подпитываемая
ее сосредоточенностью только на себе, ее
изоляционизмом. Чем более холодным ко всему миру вокруг и
озабоченным только одним собой делается индивид, тем он
доступнее влиянию механизма регуляции по логике
сделки и тем полнее продает себя ему. Этот механизм про-
лагает дорогу господству системы над индивидом именно
тем, что поддерживает в индивиде притязание быть
монопольным господином своей судьбы, не только не
признающим ничьей причастности к ней, но и не
упускающим случая навязать свою монополию другим и
вмешаться в их жизни... Так взращивается конкурентно-
экспансивный и агрессивный своецентризм каждого
против каждого. Та самая индивидная исключительность,
которая ставит каждый атом в центр мира и превозносит
его в качестве единственно достойного, утверждается
именно для того, чтобы — опять-таки за спиною у
каждого — исключить его субъектность и подчинить
объектно-вещному управлению извне. Та самая ни с кем
не делимая автономия, которая исходит только из своего
закона, своего суда, своего мерила для всех вещей и
своей воли, оказывается всего лишь завлекательной
поверхностью, всего лишь слепым состоянием услажденного
опьянения, за спиною которого руками хваленой
«свободной воли» атома осуществляется именно гетерономия
общественного распорядка. Та самая гордая суверенность,
которая притязает решать все только сама, ни с кем не
советуясь в своем жизненном выборе и не принимая
никаких авторитетов, никакой взаимности, никакой
обязательности, никакой верности другим 58, служит тем
более прочному изъятию из-под контроля
индивидов-атомов всех общественных дел, от которых отреклась их
«частная» суверенность, а тем самым — претворению
манипуляции также и их «частной» волей. Так замкнутый
9*
131
атомизм в конце концов неизбежно приходит в
полнейший тупик и заканчивается внутренним
самоотрицанием.
* * *
Подводя итоги, нельзя не указать на определенную
неполноту данного изложения темы. Хотя оно
охватывает центральное концептуальное ядро типологии
социальных связей — соотношение между связями
органическими и атомистическими,— все же за рамками его остается
столь же специальная характеристика того третьего
типа, который явился бы преодолевающим собою как со-
циал-органицизм, так и социал-атомизм. Подробное
теоретическое продумывание этого третьего типа составляет
предмет исследования в другой работе автора 59. Однако
уже введенное здесь подразделение каждого из первых
двух типов связей на подтипы — раскрытые и
замкнутые — само по себе проливает кое-какой свет на то, чем
именно может и должен быть искомый третий тип,
выступающий теперь уже в качестве пятой типологической
единицы. Как оказалось, оба замкнутых подтипа, при
всем их внешнем противостоянии друг другу, внутренне
одинаково чужды искомому типу связей «универсальной
деятельности», или единению в со-творчестве. Поэтому
именно замкнутые подтипы и подлежат преодолению
ради утверждения и развертывания в наиболее полном и
свободном осуществлении со-творческих связей.
Напротив, оба разомкнутых подтипа несут в себе нечто
глубоко родственное последним, ради утверждения которых
они призваны поэтому послужить как историческими,
так и структурно-логическими предпосылками — генети-
чески-порождающим лоном и постоянно необходимой
опорой.
Такая глубинная родственность уз со-творчества
обоим подтипам раскрытых связей, конечно, не отменяет
существенных различий между ними. Однако, несмотря
на эти различия, можно сказать, что узы со-творчества
знаменуют собою совмещение того, что раньше казалось
несовместимым. Ибо в них претворяется самое полное,
поистине гармоническое единение между индивидами и
в то же время самостоятельность воли каждого по
отношению к другому. Другими словами, претворяется
единение без той предустановленности, которая исключала
свободу единения, исключала непрестанный поиск и не
132
оставляла места для субъектного процесса,
самостоятельно ищущего и как бы заново творчески обретающего то,
что потенциально заключено в скрытых возможностях
объективной диалектики.
Наконец, важным итогом проведенного рассмотрения
является ориентация на дальнейшую детализацию и
более тонкое выделение различных компонент внутри
того многообразного спектра потенциальных векторов и
способов связи, которые таятся в субъектно-личностном
мире человека, в его культурном мире. Культурное
развитие и совершенствование предстает как весьма
неоднородный, противоречивый, полный парадоксальных
неожиданностей, чрезвычайно сложный диалектический процесс.
1-3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46, ч. 1. С. 18.
4 Там же. Т. 23. С. 103.
5 Там же. Т. 46, ч. 1. С. 486.
6 Там же. Т. 13. С. 8.
7 Маркс К., Энгельс Ф. Фейербах: Противоположность
материалистического и идеалистического воззрений: Новая публ. первой
главы «Немецкой идеологии». М., 1966. С. 83.
8 Там же. С. 50; ср.: Там же. С. 45.
9 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46, ч. 1. С. 101.
10 Там же. Т. 25, ч. 2. С. 386—387.
11 Marx К. Das Kapital. В., 1959. Bd. 1. S. 350; ср.: Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 346.
12 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46, ч. 1. С. 465.
13 Marx К. Grundrisse, der Kritik der politischen Oekonomie. В., 1953.
S. 88; ср.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46, ч. 1. С. 115.
14 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46, ч. 1. С. 116.
15 Там же. С. 475.
16 Там же. С. 460.
17 Там же. Т. 17. С. 544, 598.
18 Там же. С. 544.
19 Грамши А. Избр. произведения: В 3 т. М., 1959. Т. 3. С. 257.
20 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46, ч. 1. С. 460.
21 Там же. Т. 13. С. 17.
22 Marx К. Das Kapital. В., 1959. Bd. 3. S. 126; ср.: Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25, ч. 1. С. 116, где «gemeinschaftlich»
переведено как «совместный».
23 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 373, 660.
24 Там же. Т. 20. С. 303.
25 См.: Кафка Ф. Превращение // Кафка Ф. Роман. Новеллы.
Притчи. М., 1965. С. 342 и далее.
26 Коменский Я. А. Всеобщий совет об исправлении человеческих
дел // Коменский Я. А. Избр. пед. соч. В 2 т. М., 1982. Т. 2.
С 295
27 Паскаль Б. Мысли. СПб., 1888. С. 69—71.
28 Герцен А. И. Соч.: В 30 т. М., 1957. Т. 6. С. 20.
29 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 8. С. 119.
30 Корчак Я. Как любить ребенка. М., 1980. С. 215, 216, 218—219.
31 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 39. С. 15; Т. 41. С. 27.
133
32 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46, ч. 1. С. 486.
33 Ср.: «Индивид есть общественное существо... есть также и
тотальность, идеальная тотальность ... общества», внутри него
представленного (Там же. Т. 42. С. 119).
34 См.: Там же. Т. 46, ч. 1. С. 116.
35 Там же. Т. 42. С. 24.
38 Там же. Т. 27. С. 402.
37 Поскольку здесь речь идет исключительно о внутренней
логической структуре субъектного мира, то сюда не должны
примешиваться никакие ассоциации с географическими
перемещениями.
38 История человеческой атомизации и автономизации
отложилась в обычном ныне понятии личности. Нередко считается, что
быть личностью (per-sona) — значит самоопределяться самому
по себе и только через себя (per se) безотносительно к другим:
это «не их дело, а мое»!
39 Данная здесь, по необходимости отвлеченная, логическая
характеристика раскрытого атомизма может быть сопоставлена с
полнокровным историческим его изображением. См.: Лосев А. Ф.
Эстетика Возрождения. М., 1978. Правда, там наивно-юношеское
искание нередко переходит в совсем иного рода своецентризм.
Но понадеемся иа то, что читатель сумеет отделить один
феномен от другого, руководствуясь предложенными здесь
критериями.
40 Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1959. Т. 2. С. 295 («Поэту»);
С. 150 («Пророк»).
41 Рильке Р. М. Новые стихотворения. М., 1977. С. 271
(«Созерцание»). Ср.:
Все, что мы побеждаем,—малость,
нас унижает наш успех.
Необычайность, небывалость
зовет борцов совсем не тех
(Там о/се)
42 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 26, ч. 1. С. 280. Типичным
олицетворением «свободного духовного производства» Маркс
считал великого поэта Джона Мильтона. «Мильтон создавал
„Потерянный рай" с той же необходимостью, с какой шелковичный
червь производит шелк» (Там же. С. 410). Это было деяние его
собственной «натуры».
41 Изображением человека-творца как «орудия», как «медиума»
нередко пытаются как бы уравновесить автономистское
представление о нем, но и то и другое одинаково далеко от между-
субъектиости.
44 См.. сноску 4.
45 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46, ч. 1. С. 18.
46 Там же. Ч. 2. С. 449.
47 Там же. Т. 46, ч. 1. С. 105, 107.
48 См.: Marx К. Grundrisse... S. 79; ср.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч.
2-е изд. Т. 46, ч. 1. С. 105.
49 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46, ч. 2. С. 453.
50 Там же. Ч. 1. С. 190.
51 Там же. С. 191.
52 Там же. «...Всеобщий или общественный интерес есть именно
лишь всесторонность эгоистического интереса» (Там же. Ч. 2.
С. 452).
134
Там же. Ч. 1. С. 191; ср.: Там же. Ч. 2. С. 452.
Гегель Г. В. Ф. Соч. М., 1959. Т. 4. С. 302.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46, ч. 1. С. 106.
Marx К. Grundrisse... S. 313; ср.: Маркс Я\, Энгельс Ф. Соч. 2-е
изд. Т. 46, ч. 1. С. 386—387.
Напомним, что «resultatio» есть «отскакивание». См.:
Дворецкий И. X. Латино-русский словарь. М., 1976. С. 877.
«Тенденция выпячивания „нравственной суверенности
личности"... выражается в формуле „верности самому себе4'... Но
порой за назойливым повторением призыва „будь верен самому
себе" ничего другого не стоит, кроме индивидуалистического
каприза: „не тронь меня, я сам суверенен, какое мне дело до
всех до вас"...» (Смирнов Г. Л. Советский человек. М., 1980.
С. 430). Поистине верность только одному себе единственному
неизбежно есть тем самым неверность всем другим, обществу,
человечеству. Это — релятивистская неверность абсолютным
началам бытия и их присутствию в каждом. Следовательно, в
конечном счете это есть неверность также и тому подлинному «я»,
которое несвоецентрично.
См.: Батищев Г. С. Диалектика творчества. М. 1984. 443 с. Деп.
в ИНИОН АН СССР. 1.11.84. № 18609.
M. M. Шибаева
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СУБЪЕКТИВНОСТЬ
И КУЛЬТУРА
Расширение границ проблемого поля отечественногр
культуроведения связано с постановкой и
осмыслением тех вопросов, которые еще не успели стать
традиционными, несмотря на свою актуальность.
Думается, что к числу таких вопросов правомерно отнести и
те, которые самим фактом своего существования
отражают сложность индивидуально-личностного аспекта
проблематики культурной динамики социума.
Богатство ценностного содержания культуры, разно-
уровневость форм и итогов ее исторического движения,
внутренняя противоречивость функционирования
культурных ценностей, образцов и норм порождают необходим
мость обращения исследователей к анализу такой
внутренней детерминанты культурной динамики, как
человеческий фактор, «мир человека»1. Осмысление узловых
моментов повседневной связи человеческой
субъективности с культурой позволит конкретизировать особенности
индивидуально-личностного вклада людей в
приумножение и совершенствование ценностного фонда человечества
в целом.
135
Сопряженность исторического движения культуры
в единстве ее предметной и личностной форм с
многообразием видов индивидуального бытия людей в
социокультурном контексте эпохи, страны, общности
представляет собой подвижное проблемное пространство,
привлекающее к себе различными своими гранями пристальное
внимание ученых. В орбиту исследовательских интересов
все чаще попадают вопросы о том, каким образом,
посредством каких источников и механизмов
осуществляется участие человека в процессах создания и
функционирования культурных ценностей, в развитии
«культурных форм общения» (Энгельс).
В размышлениях современных исследователей
феномена культуры смысловой акцент ставится
преимущественно на должном, нормативном в отношении людей
к социокультурным образцам, ценностям и нормам.
Ценность подобного подхода к проблеме связи
макромира культуры и микрокосма человека не вызывает
сомнения уже потому, что благодаря ему моделируются, по
сути, содержательные и методические основы
государственной культурной политики, намечаются критерии
оптимального функционирования культуры как на
общественном, так и на индивидуально-личностном уровнях.
В рамках нормативно-ценностного подхода к культуре
содержание, логика, итоги глобального исторического
процесса «очеловечивания обстоятельств жизни»
органично связываются с культивированием позитивных
свойств и широкого спектра способностей человека как
родового существа.
Однако то обстоятельство, что в повседневной
реальности наличествует весьма ощутимый разрыв между
должным (идеальным) и сущим (достигнутым) в сфере
связи людей с культурой, обусловливает правомерность
выделения тех моментов, которые в своей совокупности
составляют проблематику индивидуального бытия
человека в современной социокультурной ситуации. В
эмпирически фиксируемом факте существования различных
типов индивидуального отношения людей к социальным,
идеологическим, научным, эстетическим и нравственным
ценностям отражается наличие определенной
зависимости между неповторимостью жизненного пути, биографии
каждого человека и своеобразием его связи с культурой:
особенности его индивидуального бытия так или иначе
преломляются в содержании и стилистике его
приобщенности к культурным явлениям и процессам. Вот почему
136
«живое бытие культуры зиждется не только на
всеобщих формах освоения мира, но... и на таких уникально-
стях, каким является отдельный человек»2.
Существующее на практике разнообразие типов,
способов, форм включенности людей в культурную жизнь
человечества может быть сведено — с известной долей
условности, разумеется,— к трем основным «блокам»
проблем. Первый из них «замыкается» на трудностях,
неоднозначном характере повседневного освоения людьми
социально-культурных достижений прошлого и
настоящего. Основу второго проблемного блока составляют
различные коллизии (ситуации) бытия человека в качестве
носителя определенных, ранее освоенных культурных
смыслов и значений. В третьем же находят место
вопросы, связанные с особенностями процесса опредмечивания
культуротворческих интенций и возможностей личности
как субъекта культурно-исторического процесса; при
этом особую значимость обретает проблема создания
благоприятных условий для разностороннего развития
индивидуальных свойств и задатков.
Нетрудно заметить, что в целом проблематика связи
человеческой субъективности 3 с культурой отражает, по
сути, динамизм индивидуального бытия людей в
современном мире, сложность и содержательно-смысловую
насыщенность многогранного диалектического процесса
превращения индивида в подлинного субъекта
общественных, в том числе и культурных, отношений. Именно
поэтому столь ощутима потребность в раскрытии и анализе
тех проблем повседневного существования людей в
культурном макромире, которые в силу своей актуальности,
сложности и открытого характера нуждаются в
конструктивном решении. Кроме того, осмысление данных
проблем позволит, быть может, выявить наиболее
перспективные возможности совершенствования человека
средствами культуры.
Здесь мы обратим внимание на некоторые вопросы
самоопределения личности в природном и социально-
культурном окружении, на проблему многообразия видов
и способов реализации индивидом себя в качестве
субъекта культурно-исторического процесса, на анализ
факторов, воздействующих на сущностные силы человека,
совершенствование качества его контактов с культурой.
Важность выделенных граней проблематики связи «мира
человека» и культуры вытекает из того неоспоримого
обстоятельства, что индивид «вне своей деятельншйШи
137
предполагающей усвоение наличных форм культуры и
их дальнейшее развитие, пуст, бессодержателен и
попросту не существует как исторический субъект»4.
Хорошо известно, что реализация
(самоосуществление) человека в культуре представляет собой
многостадиальный, поэтапный процесс, органичной частью
которого является индивидуально-личностное становление,
т. е. самоопределение. Сложность, а в известном смысле
и драматизм этого этапа жизненного пути человека
порождают высокую степень познавательно-поисковой и
ориентационно-рефлексивной активности личности в пору
ее становления. Как правило, прежде чем в жизни
человека осуществляется в соответствии с его
стремлениями выбор своего пути в единстве профессиональных,
социально-психологических, нравственно-эстетических
моментов, ему дано не однажды пройти испытание
проблемой неисчерпаемости окружающего мира. Нередко
мировоззренческие искания личности и попытки
сформировать самостоятельно свой «жизненный замысел»
сопровождаются той переоценкой и переакцентировкой
ценностей-целей и ценностей-средств, которая в
обыденном сознании называется болезнью роста.
Причем плодотворность, можно сказать, и
гуманизирующий характер юношеского самоопределения
заключаются в том, что познавательно-поисковая и ориентацион-
но-рефлексивная деятельность самосознания
трансформируется со временем в содержательные пласты
внутреннего мира личности, в качественную определенность ее
реального отношения к природе, обществу, культуре,
к собственной судьбе. Иными словами говоря, и болезни
роста могут быть — при определенных условиях
становления человеческой индивидуальности —- катализатором
обогащения, углубления ценностно-смыслового
пространства эмпирического индивида.
Наряду с эмоциональной напряженностью (а порой и
избыточностью) индивидуальных исканий процесс
самоопределения человека характеризуется также и своей
многогранностью. Многогранность становления личности
в качестве носителя и творца культуры обусловлена
действием как объективных, так и субъективных факторов.
С одной стороны, сложностью, динамизмом,
многообразием окружающего мира, с другой — проблемным полем
человеческой субъективности. Человеку дано ощущать
(правда, не всегда в форме вербализированных
суждении и выводор) свою причастность к действительности,
138
и не только к ней: «бег» Времени как целокупности
прошлого, настоящего и будущего также становится
предметом индивидуальных раздумий над смыслом
жизни, рефлексии по поводу собственного предназначения.
Если же вспомнить при этом, что в начале жизненного
пути человек особенно остро проживает то, что реально
он «имеет дело не с предопределенностью и унификацией,
а с принципиальной неопределенностью и с целым
спектром состязающихся и взаимодействующих
возможностей»5, многогранность самоопределения может
интерпретироваться как сущностная черта данного процесса.
Многогранный характер личностного самоопределения
находит свое выражение прежде всего в содержательной
насыщенности и «полисюжетности» ориентирования
человека в социокультурной ситуации. Это ориентирование
включает такие виды культурной деятельности, как
выработку ценностных ориентации, выделение смысловых
моментов индивидуального бытия, формирование
представлений о том, что есть добро и зло, справедливость,
долг и красота. Единство ценностных, смысловых,
нравственно-психологических сторон личностного
самоопределения составляет мировоззренческие предпосылки
сформированное™ личности. Именно поэтому каждое из
отмеченных направлений процесса самоопределения
человека играет человекоформирующую роль в том плане,
что посредством его индивид углубляет собственное
понимание ряда смысложизненных вопросов, а стало быть,
и свою позицию.
Применительно к проблеме связи человеческой
субъективности с культурой особенно трудно переоценить
значимость личностного самоопределения. Ведь в
культуре «присутствует множество не совпадающих по своей
,вещественной" и социальной природе элементов:
материально-технических объектов и средств коммуникации,
материальных и духовлых продуктов и услуг, идейных,
эстетических и художественных ценностей и норм,
отношений между людьми и способов человеческой
деятельности»6. Отсюда возникновение в человеческом
самосознании вопросов мировоззренческого характера.
Следует подчеркнуть закономерный характер
сосредоточенности человеческой субъективности на определении
смысловых моментов индивидуального бытия, на
духовно-нравственных исканиях, включающих выработку
ценностных ориентации (аксиологической доминанты),
четких моральных критериев и призвания. Здесь всесторон-
139
не проявляет себя потребность человека / как можно
вернее определить собственную перспективу
последовательного осуществления жизненного назначения.
Возможность адекватного человеческой субъективности
самоопределения, т. е. постижения тайн мироздания, облек
в свое время в поэтическую формулу Б. Л. Пастернак.
Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины...7
В этой связи целесообразно подчеркнуть культурную
значимость созерцания как специфического способа
сосредоточения поисковых интенций личности на
безграничном множестве альтернативных проблем и
тенденций, событий и феноменов. Подлинность
индивидуального бытия людей в культуре соотносима не только
с критерием активно действенного, зримого по своей
процессуально-функциональной стороне участия в
культурной деятельности. Человеческому деянию, имеющему
свою культурную наполненность (содержательность),
предшествует акт погружения, вдумывания, вчувствова-
ния в те или иные «болевые точки» окружающей
действительности, с одной стороны, и личностного опыта
пережитого — с другой. Вот почему критерий внутренней
духовно-душевной самомобилизации личности с целью
внимательного всматривания в сущность происходящего
в природе, обществе, в людях также значим в решении
вопроса подлинности (истинности) связи человеческой
субъективности с культурой. Нерасторжимость,
взаимообусловленность созерцательного и деятельностного
подхода в осуществлении человека в качестве субъекта
культурно-исторического процесса предопределяет следующую
установку: «Не плыть по течению, а уметь задуматься и
оглянуться, подвергнуть сомнению правильность
принятого решения и опять искать, искать...»8 Следуя такой
логике, человек научается, привыкает и ощущает
потребность:
Все время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья9.
Причем к «томление духа», выражающееся в
наличии вопросовХ ценностно-смыслового характера, и
способность к созерцанию (наблюдению, обдумыванию,
личностному проживанию) многосмысленности различных
сторон и проблем жизни свойственны не только
непосредственным творцам культуры. Именно потому, что
подавляющему большинству людей присуща (разумеется,
в разной степени! и стилистике) потребность
задумываться над болевыми проблемами времени, общества,
«жизни человеческого духа» (Станиславский) и
сосредоточиваться на поисках путей их решения, в нашей
памяти запечатлены и стали фактом собственного
духовно-нравственного опыта пришедшие к нам из книг, со
сценических подмостков и с живописных полотен
мучительно и страстно ищущие персонажи. Гамлет и князь
Мышкин, Пьер Безухов и Ганс Касторп, «Горюющий
старик» Ван Гога и маленький герой «Белого парохода»
не имеют статуса культуротворцев в том смысле, что они
не бытийствуют в качестве авторов, создателей
уникальных достижений культуры, ее предметных форм. Тем не
менее подлинность их индивидуального бытия в
культуре вряд ли вызывает сомнение именно потому, что
основой их уникального «я» является та самая ищущая
человеческая субъективность, которая направлена на то,
чтобы «установлять, кроме отношения к ближайшим
явлениям жизни, свое отношение ко всему бесконечному по
времени и пространству миру»10. Вот эти-то поисковые
интенции людей, подобные исканиям героев великих
художественных творений, и позволяют считать
вопрошающую и жаждущую ответа интеллектуально-эмоциональную
напряженность личности специфическим и весьма
важным фактором развития культуры. И в этом
обстоятельстве заключается, по нашему мнению, один из критериев
истинности личностно-индивидуального контакта с
культурой.
Наличествующий у человека проблемный фон его
субъективности не замкнут сам на себя, не самоцелей,
так как, время от времени трансформируясь в плане
смещения акцентов и переоценки ценностей, он
способствует культивированию уникального «я» личности в трех
аспектах. Во-первых, он обогащает духовный потенциал
личности, начиная с определения у нее собственной
мировоззренческой позиции и кончая выработкой
ценностных ориентации в макромире социокультурных
альтернатив; во-вторых, он по-своему корректирует индиви-
141
дуальную жизненную концепцию человека,/соотнося ее
с тем нравственным императивом, который содержит
в себе хотя бы часть ответов на беспокоющие вопросы;
в-третьих, благодаря проблемному полю у личности
возникает собственная «тема», которая отражает, по сути,
определенность наличествующей в самосознании картины
мира. Своеобразие этой субъективной темы,
синтезирующей в себе вопросы ценностно-смыслового и этического
характера, оказывает влияние на содержание и характер
индивидуального отношения людей к культуре.
Углубляясь в процесс осмысления мировоззренческих
вопросов, человек как «субъективное для-себя-бытие
мыслимого и ощущаемого общества»11 постепенно
приобщается к самой реальности и со временем определяет для
себя собственное место в социально-культурной
действительности. Более того, благодаря сосредоточенности
личности на вопросах о смысле жизни в целом и о своем
предназначении выделяются цели, задачи, способы
самоосуществления. В поисках ответа на «вечные» вопросы
человеческого бытия определяются также культурные
предпочтения и объекты для творческого,
нравственного, гражданского приложения индивидуальных
способностей.
Отсюда особая роль в формировании
мировоззренческой позиции человека таких элементов культуры, как
образование, мораль, искусство: в сфере их наличествуют
реальные, и притом разнообразные, возможности
постижения узловых проблем связи человеческой
субъективности с прошлым и будущим, с различными гранями
действительности. Вероятно, поэтому так обостренно,
глубоко личностно воспринимаются, проживаются те встречи
человека с культурой, которые приближают его к
получению ответов на волнующие вопросы. А таких
вопросов, как известно, немало в пору становления:
Я вопрошал себя о смысле бытия,
О цели и пути всего, что вижу я,
О будущем души, о благе жизни бренной.
И я постичь хотел, зачем творец вселенной
Так нераздельно слил, отняв у нас покой,
Природы вечный гимн и вопль души людской 12.
По сути, необходимость поисков ответов на
мировоззренческие вопросы, глубокая заинтересованность в
самостоятельном постижении фуцдаментальных проблем
реальности и индивидуального бытия в природе, обще-
142
стве, культуре заметно стимулируют духовный рост
человека, повышают чувство социальной ответственности
за собственный стиль жизнедеятельности. По мере
включения — в поисках компетентных ответов — в мир
культурных смыслов, значений и символов человек
совершенствует не только мир своей индивидуальности, но и
свое отношение к жизни в целом. Иными словами,
выработка мировоззренческих взглядов личности
оказывается фактором обогащения и активизации связей
человека с культурой, а значит, и социумом в целом.
При такой логике самодвижения личности к освоению
социальной и культурной информации под углом зрения
мировоззренческих, а также нравственных исканий сам
процесс самоопределения человека в мире обретает все
большую содержательность и глубину. В сочетании с
индивидуальной одаренностью и развитой структурой
культурных потребностей обретение четкой
мировоззренческой позиции создает благоприятные внутренние
возможности для созревания собственной темы человека,
точнее — применительно к проблеме его реализации в
качестве субъекта культурно-исторического процесса — его
тематичности.
Сформированность же тематичности, ее качественная
определенность свидетельствуют о переходе связи
человеческой субъективности с культурой на новую ступень.
В этот период личность, говоря словами Гегеля, «уже не
есть легкомыслие прежней формы, которая желала
только единичного удовольствия, а есть серьезность некоторой
высокой цели, ищущая своего удовольствия в проявлении
своей собственной превосходной сущности и создании
блага человечества»™.
С этой точки зрения тематичность человека,
включенного в основные сферы социальной, в том числе и
духовной, жизни, представляет собой органичное соединение
индивидуальной интенциональности и содержательных
основ личностного мироотношения. Как производное
активной поисковой деятельности самосознания, как
определенный уровень сформированности
ценностно-смыслового и этического ядра личности тематичность как бы
задает человеку его жизненные перспективы. Она
становится фактором стимулирования сущностных сил
личности в направлении их интенсивного развертывания вовне
и актуализации в формах культуры.
Именно поэтому правомерно обратить внимание на то
прослеживаемое на протяжении всей обозримой истории
143
культурного развития человечества обстоятельство, что
возникновение, духовно-нравственная и сопйально-психо-
логическая насыщенность тематичности личности, «нерв»
индивидуальной рефлексии по поводу смысложизненных
проблем неотделимы от процесса опредмечивания
потенциала индивида. Творческая энергичность человека
усиливается благодаря тому, что его тематичность
«нуждается» в вынесении всех ее ценностно/смысловых,
этических и культуротворческих граней d мир человеческой
культуры.
Действительно, тематичность аккумулирует и
отражает качественную определенность конкретного человека,
который есть, говоря словами Гегеля, «особенная
действительность и специфическое содержание»14. Поэтому она
является той содержательно-смысловой компонентой
субъективной реальности, которая рождает в
человеческом самосознании, в сфере мыслей и чувств личности
особый, т. е. собственный, «голос жизни» (Пастернак),
жаждущий «озвучения». Чем интенсивнее протекает
процесс индивидуального освоения жизненной
проблематики (которая у натур наиболее восприимчивых к
самостоятельному миропостижению соотносится с Прошлым-и
Будущим, с абсолютными ценностями высшего порядка),
тем ощутимее крепнет и пульсирует этот голос. Многие
люди, слыша в своей душе вибрирующий от
разнообразных, подчас взаимоисключающих друг друга,
впечатлений «голос жизни», начинают — рано или поздно —
испытывать потребность быть услышанными. Так
пробуждается и активизируется стремление «излить»
собственное понимание жизни, а если не понимание, то хотя бы
отношение своего «я» как к вечным, так и насущным
проблемам бытия.
Не случайно исследователи проблем творчества,
особенно художественного, отмечают в качестве импульса
активизации потенциальных возможностей личности ее
тематичность, определенность преломления ее
самосознанием ценностно-смысловых, социально-нравственных,
эстетических аспектов человеческого бытия. Так, в
исследовании М. Арнаудова, посвященном сущности и
механизмам литературной творческой деятельности,
подчеркивается: «Решающее значение для творчества имеет
стремление раскрыть свою душу, выставить напоказ
пережитое, найти слово для боли, которая гнетет дух и
ощущается как помеха внутренней гармонии»15. При этом
смысл творчества ни в коей мере не сводим исключи-
144
тельно к сублимационным моментам: тут акцентируется
взаимообусловленность личностного содержания и логики
актуализации сущностных сил человека в качестве
субъекта культурно-исторического процесса.
Потребность \ «озвучения» духовно-душевного
содержания человеческой субъективности, т. е. ее тематично-
сти,— это «более\ возвышенная» потребность, которая
стимулирует индивидуально-личностные интенции и
потенции культуротворческого характера. Причем
тяготение к удовлетворению подобной подлинно культурной
потребности свойственно отнюдь не только личностям
демиургического типа; оно активно проживается в
самосознании многих людей. Именно в связи с этой
энергией индивидуального проживания (восприятия,
рефлексии, оценки и т. д.) наиболее важных моментов в жизни
своей или окружающих, т. е. вследствие возникновения
тематичности, человеческая субъективность порой
становится «отягощенной» стремлением определить и
выразить личностное отношение к природно-социальному или
собственному бытию.
Большинство людей реализует это стремление,
бесспорно наполненное культурным содержанием, в сфере
общения. «Культурные формы общения» становятся
способами «озвучения» индивидуальной тематичности
каждого из субъектов коммуникативного акта, пространством
для вынесения вовне ценностно-смысловых и этических
исканий человеческой субъективности. Взаимослы-
шанье — взаимовосприятие — взаимодействие «голосов
жизни» общающихся потому и являются актами
культурной деятельности, что в них объективируются
различные грани содержаний личностных «я» и качественно
определенные особенности их индивидуального мироот-
ношения. Причем такие культурно-коммуникативные
ситуации, как концептуальное или психологическое
противостояние общающихся и их внешне полемическая
тональность, нередко катализируют творческую потенцио^-
иальность индивидов, стремящихся к тому, чтобы быть
не только услышанными, но и понятыми.
В самом деле, полифоничность межличностного
общения помогает людям не только взглянуть со стороны на
собственную тематичность, но и овладевать навыками,
умениями, формами «опредмечивания» наиболее
значимых для них моментов индивидуального бытия.
Потребность в обретении желаемой ответной реакции на
личную заботу, «гвоздем сидящую в сердце» (Гоголь), ак-
Ю Заказ Ne 667
145
тивизирует развитие способностей к творческому
общению. Бытовое общение потому и располагает
творческими жанрами16, что стремление к/полному вы-
говариванию личностью того, что волнует, что значимо
и нуждается в признании другими, удовлетворяется в
немалой степени за счет овладения умением яркими
экспрессивными способами излагать, объяснять, отстаивать
свои мысли, свою ценностно-смысловую позицию и
этические убеждения.
Кроме того, общение как разнообразие
индивидуализированных форм общественных отношений 17 всегда
несет в себе импровизационное начало, обусловливающее
собой возникновение и обогащение творческих моментов
в человеческих контактах. К ним следует отнести не
только содержательно-смысловую гибкость диалогов
общающихся, но и использование таких средств
взаимовоздействия, которые креативны в силу их
«здесь-сейчас» отзывчивости на конкретные коллизии общения:
реплики, жесты, мимика, многообразие интонирования
и мизансценических «пристроек» друг к другу. Однако
главные творческие возможности для самовыражения и
самоутверждения тематичности личностного «я» несут в
в себе содержательные, культурно значимые пласты
общения.
В свете сказанного правомерно вспомнить о
творчестве Эрнеста Хемингуэя. В его произведениях у героев
возникают и развиваются по особой логике различные
ситуации в виде межличностного общения. Здесь
происходит как бы высветление личностного содержания
общающихся друг с другом, обнаруживается
определенность и своеобразие мировосприятия каждого из них.
Большинство хемингуэевских персонажей, как известно,
не относятся к разряду профессиональных деятелей
культуры, не обладают формально культуротворческим
статусом. Однако индивидуальный мир многих из них
отражает наличие подлинной связи человеческой
субъективности с культурой.
Не случайно так тщательно выписаны и подробно
проживают свои жизненные впечатления и события
характерные для Хемингуэя герои его книг: боксеры и
официанты, рыбаки и охотники, контрабандисты и
матадоры, добровольцы, сражающиеся за идеалы
республиканцев Испании, наконец, женщины, любимые и оставленные...
Все они равноправно входят в крут героев вместе
с такими типами творцов культуры, как писатель в
146
«Снегах Килиманджаро», художник Томас из
незавершенных «Островов в океане» или, наконец, как сам
автор «Праздника, который всегда с тобой», поведавший о
парижском периоде его самоопределения и первых
литературных проб. Внутреннее родство хемингуэевских
героев основывается на том, что при всей бесспорной
разнице профессиональных интересов, творческих дарований
и способов самоутверждения им свойственно главное:
проблемно-содержательная насыщенность человеческой
субъективности каждого, т. е. их тематичность. И
Хемингуэй убедительно демонстрирует через разнообразные
диалоги, как велика у людей потребность излить,
обнаружить для других годами накопленное и понятое,
независимо от того, творцы ли они культуры или ее
потребители.
Достаточно вспомнить в этой связи, как непрерывно,
интенсивно, глубоко мыслит старый рыбак в смертельном
поединке-сражении и поединке-диалоге с акулой
(причем его размышления поразительны и по своей логике и
многосмысленности), или о тех советах, которые дает
так увлеченно-личностно профессиональному художнику
бармен Бобби. Можно по-разному относиться к
предлагаемым им «грандиозным» сюжетам для нескольких
картин — про три смерча, или ураган, или гибель
«Титаника», или, наконец, про «конец света»; нельзя не уловить,
разумеется, и мягкой усмешки самого повествователя,
показывающего страстность Бобби, который сам «был
потрясен грандиозностью замысла» и верой в то, что из
картины по разработанному им сюжету «конца света»
получится шедевр, если «суметь придать ей нужный
размах и движение». Тут важна не культурная значимость
его сюжетов, а тот самоценный факт, что в разговоре с
художником через отбор ситуаций, героев, конкретных
примет быта и атмосферы проявляется тематичность
личности Бобби, а также его умение наблюдать жизненные
явления, постигать их суть и давать им имя.
В культуроведческом аспекте этот эпизод из романа
«Острова в океане» является одним из ярких
подтверждений того, что индивидуальная сосредоточенность людей
на различных сторонах и явлениях бытия (социальных,
нравственно-психологических, эстетических и др.) не
только способствует углублению содержания мира
человека: чем интенсивнее проживается в границах
субъективной реальности та или иная проблема, боль или
радость, тем сильнее потребность в ее выражении, в вынё-
10*
147
севии вовне. Иными словами, сформированность
собственного взгляда на мир,
интеллектуально-эмоциональная интенсиность проживания жизненных
впечатлений катализируют пробуждение и активизацию
творческих способностей, навыков и умений самовысказывания
и самоутверждения личности. Общение же
оказывается наиболее доступной, сущностно-творческой и
по-своему результативной сферой взаимообнаружения и
взаимопостижения тематичности человеческих
индивидуальностей 18.
И все же при несомненной своей
культурно-содержательной емкости и повседневной доступности общение
не исчерпывает собой всего комплекса возможностей
выражения тематичности людей. В связи с тем, что некоторые
грани этой тематичности глубоко интимны и с трудом
подвергаются «раскодированию» в ситуациях бытового
общения, а также из-за доминирования у
определенных человеческих типов тенденции «ухода в себя», т. е.
интровертности, проблема выплеска, выговаривания
собственного содержания остается открытой. Наличие же
этой открытости естественно подвигает личность на
поиски областей и способов «освобождения» от
переизбыточности «бремени» тематичности: так возникает попытка
самоисповедания в культуротворческих формах.
Потребность поведать о себе и глубже разобраться в смысло-
жизненных проблемах активизирует включение
достаточно большого числа людей в те или иные виды
креативно-эвристической деятельности, мало связанные с их
профессиональными обязанностями.
Не случайно одной из тем художественного анализа
становится пробуждение острой потребности людей,
которые бытуют в макромире культуры в качестве ее «вни-
мателей» (потребителей), самим сформулировать и
вынести за пределы своей субъективности индивидуальную
душевную заботу, ее специфический нерв и
интонационный строй в формах творческой деятельности. Раскрывая
художественными средствами различные побудительные
причины активизации культуротворческих интенций и
задатков людей, деятели искусства акцентируют особое
внимание на содержательных пластах человеческой
субъективности. Чем глубже осознание личностью
смысловых и деятельных связей с эпохой, чем активнее
осмысляются проблемы социального и духовно-нравственного
характера, тем интенсивнее «страстное желание выразить
действительную сущность собственной жизни»19.
148
Стремление это есть выражение интенсивности
индивидуального проживания (восприятия, рефлексии,
оценки и т. д.) наиболее важных моментов индивидуального
и общественного бытия. В результате подобного
стремления выразить собственное отношение к миру через
вынесение за пределы своей субъективности различных
граней накопленного опыта рождается установка на «вы-
говаривание», на творческий «выплеск».
Одной из таких форм объективации личностного
содержания, т. е. тематичности, является ведение
дневника — как у людей, включенных профессионально в мир
культуры, так и у носителей обыденного сознания.
Характерно, что обращение к дневнику как к
специфическому способу высвобождения от «бремени
тематичности» происходит чаще всего либо на начальной стадии
жизненного пути, либо в предощущении его завершае-
мости. В том и другом случае дневник позволяет
естественным путем материализовать самые заветные и
субъективно значимые мысли, чувства, сомнения. В то же
время каждый из возрастных периодов накладывает
особую печать на авторские намерения и стиль их
осуществления.
Если в юношеских дневниках особенно активно
ставятся мировоззренческие, нравственные, психологические
проблемы и здесь же объективируется попытка в них
разобраться, дать собственный ответ, передать при этом
нюансы своих переживаний и впечатлений, то
обращение к дневнику в предзакатную пору связано
преимущественно со стремлением подвести итог
прожитому-нажитому, оценить мир и собственное существование в нем.
Поэтому в дневниках еще отправляющихся
странствовать по жизни так часто фиксируются «детские минуты
недоумения» (Л. Толстой) и пробы самостоятельного
проникновения в содержательно-смысловые пласты
бытия, в то время как культуротворческие интенции
стариков объективируются в виде воспоминаний.
По существу, в дневниковой форме исповедания и
рефлексии по поводу наиболее значимых для человека
явлений и проблем объективируются результаты работы
его самосознания. Соотнося многочисленные
эмпирические ситуации и проблемы с той шкалой ценностей,
которая была сформирована ранее и является
аксиологической доминантой, человек сосредоточивается на
оценочном аспекте сопоставления сущего и должного.
Преобладание либо позитивно-оптимистического, либо
149
негативно-пессимистического момента в оценке мира
и своего места в нем накладывает свою печать на
характер объективации в дневниковых записях
духовно-душевного содержания конкретного
человеческого «я».
Примечательны в этом смысле два литературных
персонажа, каждый из которых обратился к дневнику как
возможности свободно, непринужденно, а главное —
откровенно «подвести счет миру»: горьковский Матвей
Кожемякин и Кола Брюньон Ромена Роллана. Степень
страстного проживания жизненной реальности высока
у обоих, но совершенно противоположны тональность и
содержательность тематичности каждого, выносимой на
страницы дневника, вернее воспоминаний.
У Матвея Кожемякина два побудителя к работе над
воспоминаниями: сама действительность городка Окуро-
ва и мотивы экзистенциальные, обращенные в
проблематику напрасно, не так прожитой жизни. Поэтому в
воспоминаниях под названием «Мысленные и сердечные
замечания, а также некоторые случаи из жизни города
Окурова, записанные неизвестным жителем города сего
по рассказам и собственному наблюдению» рефреном
проходит главная потаенная мысль о «лени духовной и
телесной», из-за которой «не понял я вовремя
наставительных и любовных усилий жизни и сопротивлялся им,
ленивый раб»20. Во всех фрагментах кожемякинских
воспоминаний выражается то осознание и неистовое
неприятие недоброты «дремучей размеренности»
бессодержательного существования окуровцев, которое активизирует
стремление автора дневника что-то изменить, улучшить,
наполнить хотя бы свою жизнь иным содержанием.
Поэтому, хотя в дневнике мало приобретений культурно-
эстетического порядка, его значимость несомненна с
точки зрения обращенности самосознания его автора к
духовно-нравственной проблематике, к вопросу о том,
что самое благополучное жизнеустройство людей
бескультурно, нецивилизованно, если оно лишено высокого
смысла, т. е. идеалов Добра, Красоты, Справедливости:
«Человек послан богом на землю эту для деяний добрых, для
украшения земли радостями — а мы для чего жили, где
деяния наши, достойные похвалы людской?»21 Таким
образом, тематичность Матвея Кожемякина предстает
как неудовлетворенность миром и собой, как открытие
истинных причин своей нереализованности: «Не
единожды чувствовал я, будто некая сила... толкала меня на
150
путь иной, неведомый мне, но — вижу — несравненно
лучший того, каким я ныне дошел до смерти по лени
духовной и телесной, потому что все так идут»22. Но
именно этот болезненно проживаемый разлад с самим
собой и окуровцами оказывается стимулом наполнения
оставшихся лет и дней жизни Кожемякина культурным
содержанием, моментами творческого «выплеска»
проблем его субъективной реальности, налагаемой на
повседневность окружающей действительности. Вот почему
«скрип пера стал для него музыкой, она успокаивала
изношенное, неверно работавшее сердце, и порою ему
было до слез приятно видеть на бумаге только что
написанные, еще влажные... слова»23.
Такого рода реализация тематичности героя горьков-
ской повести не есть одно из многочисленных
проявлений графомании, этого постоянно и, должно быть,
справедливо высмеиваемого «болезненного пристрастия к
сочинительству»24. Воспоминания, во-первых, имеют
богатый социокультурный контекст и несут на себе
качественную определенность содержания личности писавшего;
во-вторых, они с первой строки до последней
представляют собой результаты той работы самосознания, которая
исполнена не квазиписательского «зуда», а
духовно-нравственного стремления освободиться от чувства вины за
бесцельно растраченные десятилетия и попросить
«прощения у людей, мимо которых: прошел,— прощения себе
и всем, кто бесцветной жизнью обездолил землю»25;
в-третьих, свои культуро-созидательные силы, вернее
часть этих сил, он реализует совершенно бескорыстно:
тщеславие настолько чуждо ему, что свои тетради он
подписывает как «неизвестный житель города сего»
(курсив мой. — М. Ш.).
Кстати сказать, подобную же позицию полного
отрешения от целей самоутверждения за счет своих
любительских литературных трудов занимает и роллановский
Кола Брюньон, решившийся в свои пятьдесят лет
изложить «то, что видел, то, что сказал и сделал... Ну не
безрассудство ли? для кого я пишу? Разумеется, не для
славы: я, слава богу, не дурак, я знаю себе цену. Для
внуков? Что останется через десять лет от всех моих бумаг?..
Так для кого же? Да для самого себя... Мне нужно
поговорить; и мне мало словесных боев у нас в Кламси.
Я должен излиться...»28
Но в отличие от удрученного неудавшейся жизнью —
своей и окуровского окружения — Матвея Кожемякина
151
столяр из Кламси, «старый воробей, бургундских кровей,
обширный духом и брюхом»2', исполнен в своем
сочинительстве совсем иных стремлений и настроений. Он
изливает в своем дневнике бьющую через край, ничем не
перекрываемую любовь к земле, к людям, к делу, в
искусном выполнении которого ему нет равных. В
дневнике его разворачиваются бурные события, а точнее,
история его потерь—«жены, дома, денег и ног»28, но
оптимистический настрой, ощущение соединимости
собственных ценностей с ценностями Бытия
продолжают наполнять все его существо чувством
причастности и к галльской земле, и к судьбе каждого
живущего на ней.
У автора этого дневника тематичность насыщена
нравственными, эстетическими, культуросозидательными
установками на мужественное, более того —
оптимистическое противостояние жизненным испытаниям.
Абстрагируясь от специфической заданыости этого программного
(как, впрочем, и «Очарованная душа») произведения
Роллана и не принимая здесь в расчет стилизаторский
характер книги, целесообразно обратить внимание на то,
как решается здесь проблема удовлетворенности жизнью.
В ряду критериев подлинности индивидуального бытия
людей в культуре (в мире постигаемых, создаваемых и
передаваемых ценностей, смыслов и символов)
удовлетворенность тем, как сотворена человеком его жизнь (т. е.
субъективная реальность и уровень ее воплощения в
деяниях и поступках), занимает особое место.
Собственно говоря, в тематичности фиксируются и
проживаются как проблемы и концептуальный подход
личности к своему предназначению, и процессуальная
сторона проведения субъективных намерений в жизнь.
Мера совпадаемости мечтаемого (идеального) и
осуществившегося традиционно воспринимается как фактор и
признак достижения удовлетворенности жизнью в целом.
В «Кола Брюньоне» же все происходит наоборот —
вернее, соотношение должного и сущего предстает
совсем в ином выражении. Кола обретает согласие с
действительностью вопреки здравому смыслу, наперекор
стихии нахлынувших крушений и утрат. Да, он и
раньше декларировал, что «не бывает мрачных времен,
бывают только мрачные люди»29, но только ли у него
одного гнездилась в самосознании эта «оптимистическая
гипотеза»? Однако если для многих драматизм, а порой и
трагизм мироощущения рождается из7за того, что жиз-
152
ненная реальность опровергает своими «натисками»
первоначально светлые воззрения на объективную
действительность и перспективы собственного бытия в ней, то
мастер из Кламси приобретает тем больше, чем больше
теряет. Потери, способные любого загнать в тупик
растерянности и обиды на судьбу, на другие неведомые
силы, укрепляют в Кола самое ценное, что может быть
присуще личности: стойкость, духовно-нравственную
наполненность мироотношения и творчественность, обретшую
облик мудрости, «этики благоговения перед жизнью»
(А. Швейцер), но отнюдь не прекраснодушия.
Именно поэтому уникальный опыт Кола Брюньона,
рожденного воображением и страстностью (тематич-
ностыо) Роллана непосредственно вслед за Жаном Кри-
стофом, обнаруживает ряд моментов, имеющих
отношение к проблеме реализации личности в культуре. Вот
некоторые из них.
Примечательно прежде всего то обстоятельство, что
в дневнике Кола Брюньона параллельно с сюжетом
событий, характерных для периода Лиги и религиозных
войн во Франции, развивается и сюжет внутренней,
субъективной жизни в плане наполнения ее культурным
содержанием. На глазах читателей история житейских
бурь, крушений, преодолений становится одновременно
историей духовно-нравственного возвышения личности
Кола Брюньона, благодаря которому он в конце
книги предстает человеком свершившимся,
реализовавшимся.
Казалось бы, задача творческого вынесения вовне его
неповторимого человеческого «я» решена прежде, чем он
начал «рассказывать самому себе все то, что не успел
спокойно вкусить, пока ловил на лету...»30. Ведь он
непревзойденный резчик по дереву, славящий денно и
нощно «радость верной руки, понятливых пальцев, толстых
пальцев, из которых выходит хрупкое создание
искусства»31; кроме того, застолье и балагурство также дают
ему возможности «поделиться крупицами счастья... всеми
прекрасными воспоминаниями». И тем не менее, лишь
обогатив свой внутренний мир (тематичность) новыми
гранями постижения глубинного смысла и
духовно-нравственной ценности человеческого бытия, Кола обретает
то высшее согласие с непредсказуемой изменчивостью и
сложностью жизненной реальности, которая и делает его
и художником, и философом.
Показателен в этой связи эпизод с чтением Плутарха
153
после всех бед, так образно излитых на страницах
дневника. Отнесясь вначале снисходительно «к маленькому
пузатому томику, поперек себя толще, в тысячу триста
страниц, убористых и плотных, напичканных словами,
как мелким зерном»32, Кола постепенно открывает для
себя бесценность созерцания и осмысления культурного
контекста прошлого. Это открытие смысловых глубин
опыта минувших поколений происходит как бы в двух
планах: игры творческого воображения, вплоть до
перевоплощения в образы плутарховских героев, и осознания
несомненной причастности — своей и каждого
живущего—к тому, что было, и к грядущему. Вот эта высокая
степень соединимости целостной личности Кола с
ценностно-смысловым богатством Бытия, с духовной
проблематикой человечества как рода расширяет в конечном
счете горизонты его тематичности и делает последнюю
культурно определенной, концептуализированной и с
аксиологической, и с мировоззренческой, и с этической
точек зрения.
Второй момент, касающийся самореализованности
мастера из Кламси, связан с особенностями его
индивидуальности. В немалой мере обретение Кола Брюньоном
высокого уровня самоосуществления в добрых делах, в
мужественных поступках, в творении художественных
шедевров и в «выделывании» самого себя как
универсальной личности имеет своим источником специфичность
культурного содержания его эмпирического «я».
Специфичность эта состоит в соединении, причем
органичном и плодотворном, двух диаметрально
противоположных начал в отношении к жизни, к пониманию целей
своего существования и самоосуществления в сферах
познания, созидания и общения. В человеческой
субъективности автора столь же веселого, сколь и поучительного
дневника тесно, неразрывно переплетены внешне
несовместимые крайности: установка на беспредельный
гедонизм, с одной стороны, и на мудрое многотерпение,
мужественное несение креста жизненных испытаний — с
другой. Содержательность и творческая мощь натуры
Кола Брюньона питаются всеми жизненными соками
именно потому, что он не абсолютизирует в своем
самосознании и поведении ни одну из этих установок, а
синтезирует их. Синтез этот и есть та этика благоговения перед
Жизнью, о которой писал, которую утверждал
собственной жизнью один из величайших гуманистов нашего
века Альберт Швейцер.
154
Глубокое, бережное и ненасыщаемое благоговение;
кламсийского ремесленника вытекает, по сути, не из
самоценности гедонистических ориентации личности, а из
оснований более фундаментальных: из потребности и
привычки творить прекрасное на земле, из любви к
отечеству, к бессмертию природы, наконец, из осознания
добропорядочности того, что он делает и как относится
к окружающим. Вот почему, перепевая на всевозможные
лады свое признание в любви ко всему хорошему,
радостному на земле — к хорошему столу, хорошему вину,
сладостному безделью, а еще больше к «старому
товарищу труду», Кола утверждает после всего пережитого:
«Чем большего ты лишен, тем ты богаче: ибо дух
создает, чего ему недостает. Чем меньше у меня, тем сам я
больше...»33
«Болыпесть» бездомного, нищего, искалеченного, но
неповерженного Кола Брюньона не только в том, что он
умудрился сохранить и упрочить лучшее в себе:
«веселость, всю ту жизнерадостность и лукавство, всю ту
беспутную мудрость и мудрое беспутство», что были
скоплены «за полвека скитаний вдоль и поперек жизни»34.
Расширение границ тематичности, углубление
культурного содержания личности, наконец, понимание
смысловой и этической связи собственной бытийственности с
судьбой общечеловеческой — вот что обновляет и делает
несравненно более богаче (чем прежде)
индивидуальность Кола. Вероятно, поэтому сам Ромен Роллан
говорил о том, что его герой — «это Жан Кристоф в
галльском и народном духе»35.
Действительно, путь Кола Брюньона к обретению
подлинности его индивидуального бытия в мире
жизненных альтернатив есть один из образцов воплощения
гуманистической сущности человека как родового
существа, его реализованности в качестве носителя и творца
культурных ценностей и в то же время
незавершенности до тех пор, пока остается данностью, эмпирическим
фактом жизнь личности, а стало быть, и ее тематичность.
Открытый, незавершенный характер индивидуально-
личностной тематичности имманентно присущ каждому
человеку: динамизм и интеллектуально-эмоциональная
напряженность повседневного осуществления
функционально-ролевых обязанностей, постоянное обновление
«проблемного поля» как объективной, так и
субъективной реальности оказывают свое воздействие на
содержательную емкость человеческого «я». Еще Белинский об-
155
ращал внимание литераторов и читателей на то, что
«отдельный человек в различные моменты полон различным
содержанием. Хотя вся полнота духа доступна ему, но не
вдруг, а в отдельности, в бесконечном множестве
различных моментов»36. Модификация содержательно-смысловых
пластов человеческой субъективности эмпирически
проявляет себя в эволюции, в качественных изменениях той
индивидуальной темы, с которой человек продолжает
свой жизненный путь как мыслящее, чувствующее,
действующее существо.
Эволюция тематичности— это развитие, вернее,
продолжение развития индивидуальных воззрений на мир
и собственное «я», это чередование моментов
переосмысления известного, изведанного и переоценки ценностей.
Обогащенная тематичность создает новые предпосылки
для дальнейшего развертывания и объективирования
творческих возможностей личности, да и сущностных сил
в целом.
Плодотворность и позитивные формы актуализации
целостного потенциала личности имеют место тогда,
когда синтезируются следующие «слагаемые» в ее
самодвижении к подлинности своего бытия: интенциональность,
потенциальность и тот «круг действований» в основных
сферах человеческой жизнедеятельности, посредством
которого реализуются жизненные планы, потребности и
творческие задатки. На обоих уровнях индивидуального
бытия людей в культуре — демиургическом и
исполнительском — органичное соединение жизненного
призвания (направленности), креативно-эвристических и
коммуникативных способностей и сферы приложения
«положительной силы» рождает, как правило, чувство
удовлетворенности человека своим существованием и
заинтересованность в выходе за достигнутые пределы в труде,
познании, общении, в «свободной игре физических и
интеллектуальных сил» (Маркс).
В этой связи правомерно выделить и рассмотреть те
объективные факторы, которые обеспечивают в
современной социально-культурной ситуации процессы
универсализации человеческой индивидуальности, а также
разнообразие способов ее культурно ценной и значимой
реализации. К числу подобных факторов, детерминирующих
разностороннее развитие интенций и культуросозидатель-
ных сил личности, относится творческая среда как
неотъемлемый специфический элемент культурной среды.
Заметное возрастание человекоформирующей роли сов-
156
ременной творческой среды носит, думается,
закономерный характер. Именно потому, что с ростом
самосознания эмпирического индивида, с увеличением в структуре
его интересов и запросов удельного веса тех
потребностей, которые отражают индивидуальное стремление к
непосредственному участию в творческих видах
деятельности, в самовыражении в формах культуры, повышается
«спрос» на особые условия включения человека в
процессы творчества, трудно переоценить гуманистическое
значение творческой среды. Соотнесенность качественных
характеристик индивидуального бытия людей в
культуре с уровнем опредмечивания, воплощенности их
сущностных сил обусловливает перспективность тех видов
микросреды, для которых характерны наиболее действенные
и в то же время органично-непринужденные способы
выявления, оптимизации, развертывания в актах культуро-
творчества различных позитивных свойств и
способностей.
Более того, творческая среда нередко становится
своего рода фактором углубления связи человеческой
субъективности с культурой и придания этой связи
систематического, а главное — активного характера. Говоря
иначе, включение человека в творческую среду позволяет
ему расширить индивидуальный «круг действований»,
благодаря чему с большей полнотой реализуются куль-
туросозидательные наклонности личности. Объективный
характер возникновения творческой среды в связи с
усложнением спектра культурных потребностей человека
подтверждается реальными тенденциями самого
процесса гуманизации его бытия.
В самом деле, «если человек несвободен в
материалистическом смысле, т. е. если он свободен не вследствие
отрицательной силы избегать того или другого, а
вследствие положительной силы проявлять свою истинную
индивидуальность, то должно... предоставить каждому
необходимый общественный простор для его насущных
жизненных проявлений»37. Формирование и
функционирование творческой среды находятся, следовательно, в
русле движения нашего общества к богатству
практических возможностей самоосуществления личности в
качестве субъекта культурно-исторического процесса.
Кроме того, заметное возрастание роли творческой
среды в эффективном решении проблем реализации
личности связано и с вопросами достижения оптимальных
пропорций между: а) «пассивными» и «активными» спо-
157
собами освоения и интериоризации различных граней
ценностного фонда мировой и отечественной культуры;
б) индивидуально организованными и социально
регулируемыми формами культурной деятельности.
Вследствие того непреложного обстоятельства, что «уровень
индивидуализации человека... всегда адекватен степени
развития его связей с обществом, и чем шире его
социальные связи, тем более богатой становится его
индивидуальность»38, особую значимость обретают различные
типы современной творческой среды.
Отсюда перспективный характер тенденции
увеличения разнообразия творческой среды в жанрово-видовом
отношении. На сегодняшний день досуговая творческая
среда характеризуется достаточно широким набором
самодеятельных коллективов культуросозидательной
ориентации. По критерию доминирующих в них целей и
стилю функционирования правомерно выделить
авторские, экспериментально-поисковые,
образовательно-тренировочные, художественно-исполнительские
коллективы, а также различного рода клубы по интересам.
Существенным моментом развертывания и
объективации творческих возможностей человека выступает
процесс интеграции отмеченных типов самодеятельных
коллективов. В современной социокультурной ситуации все
более распространенной становится тенденция
возникновения комплексных форм самодеятельного творчества,
которые концентрируют в себе целевые установки и
содержательные грани жизнедеятельности различных дэ-
суговых объединений. В таких «синтетических» досугово-
творческих коллективах решаются одновременно и
учебные, и экспериментально-поисковые, и интерпретационно-
исполнительские задачи посредством обеспечения
основных видов культурной деятельности, начиная с общения
по интересам и кончая групповым участием в создании
ценностей культуры. Комплексный характер
неформальных референтных групп творческого досуга несет в себе
более широкие возможности для реализации проблемы
обогащения целостного потенциала личности и его
достойного воплощения в формах культуры.
С этой точки зрения заслуживает внимания
студийная форма целенаправленного развития и
опредмечивания сущностных характеристик человека как носителя
и творца культурных смыслов и значений. Будучи
специфическим явлением культурной жизни, студийность
как особая форма современной культурной практики
158
привлекает к себе интерес искусствоведов, педагогов,
работающих в творческих вузах, эстетиков; однако в
сферу культуроведческого анализа пока этот феномен не
введен. Между тем с распространением
социально-психологических граней ценностно-смыслового пространства
культуры связаны многие культурные инновации и
тенденции обновления художественно-образной системы
отражения мира.
Кроме того, студийность обладает уникальным
педагогическим потенциалом в плане выявления личностного
своеобразия ее участников, их талантов и дарований,
развертывания их культурных потенций. Проблемы их «я»
в поисково-творческой коллективной работе решаются во
имя более дальних и широких перспектив — это
несомненно. Но если в профессиональных творческих
организациях культуротворчество самоцельно и самоценно (что
обусловлено самим их функциональным назначением),
то в студиях движение к намеченным
креативно-эвристическим целям осуществляется через создание и
приумножение гражданского, этического, эстетического
потенциалов членов студийного «братства». Стимулирующая
роль студийности в деле разностороннего раскрепощения
человеческой субъективности воспитанников студий
заключается в следующих обстоятельствах.
Прежде всего функционирование студии — даже если
это изначально экспериментальная лаборатория типа
московской или петербургской студии В. Э. Мейерхольда
или ныне действующих объединений, существующих
при профессиональных коллективах или автономно,—
неизбежно включает в себя ученичество. При всей
неоспоримой «разности» культурных потенциалов студийцев
все они являются равными как ученики,
ориентированные на постижение и освоение определенных поисково-
творческих задач. Ученичество и по содержанию, и по
духу представляет собой процесс распознавания многих
неясных вопросов и загадок в культуре, ориентирования
в ее разнообразных явлениях и коллизиях, наконец,
овладения навыками и умениями органичного и
свободного существования в макромире культурных достижений
и процессов. В этом смысле ученичество действительно
раскрепощает и «разряжает» напряженность
субъективной реальности, а параллельно с высвобождением
потенций личности оптимизирует и делает более
содержательной ее связь с культурой. Важно подчеркнуть и тот
значимый в контексте проблемы связи человеческой субъ-
159
ективности с культурой факт, что в условиях студийного
ученичества происходит самопознание человека,
окончательное соотнесение им значений и смыслов,
открываемых студией, с собой. В результате такого самопознания
осуществляется выход «на себя» не только в плане
утверждения состоятельности своей направленности на
культуру, но и определения реальных возможностей
самоосуществления и самовыражения. Особенно
поразителен эффект психофизического раскрепощения и развития
духовно-творческого потенциала личности в тех студиях,
где процесс обучения, приобщения к ценностям
культуры лишен заформализованной методической заданности
и осуществляется в условиях игровой ситуации
постижения и освоения культурных феноменов. Иными
словами, раскрепощение и обогащение индивидуальности
студийцев осуществляются в особом культурном
пространстве, заполненном такими совместными исканиями
и открытиями, которые, с одной стороны, направлены на
сферу философии, искусства, психологии творчества, а с
другой — находятся в области познания человеческой
субъективности (внутреннего мира) режиссера,
партнеров по работе над этюдом или пьесой, исполняемых
персонажей, наконец, специфики собственного «я» (его
возможностей и «тормозов»). Результатом такого обучения
студийными средствами становится чаще всего (ибо нет
правил без исключения, нет абсолютного успеха и в
решении проблемы раскрепощения многомерного
человеческого «я») освобождение от оков неопределенности и
неумения жить в культуре индивидуальности,
подготовленной к плодотворному существованию в макромире
культурных ценностей.
Не менее результативен с точки зрения оптимизации
всех компонентов человеческой субъективности в
направлении совершенствования ее культурного потенциала и
такой момент, как специфическая атмосфера
студийности. При этом речь идет не об идеализации и
абсолютизации последней: свойственное некоторым
исследователям явления студийности представление об идилличности
студийной атмосферы на самом деле не соответствует
неоднозначности нравственно-психологического климата в
студиях. Суть стимулирующей роли атмосферы
студийности заключается в ее пронизанности поистине
рыцарской верностью основным принципам жизнедеятельности
студийного коллектива, которые особенно зримо и
выпукло выявляются на примере театральных студий — и
160
прошлого, и настоящего. Каждый из этих принципов
способствует, на наш взгляд, во-первых, обеспечению
подлинности индивидуального бытия студийцев в
макромире социокультурных норм, ценностей и образцов, а во-
вторых, сохранению жизнеспособности студийного
организма, служащего, по сути, высоким гражданским,
этическим и эстетическим началам.
Видя основной целью студийности «единение всех
через сцену в красоте и высших, лучших человеческих
силах»39, К. С. Станиславский, который стоял у истоков
студийного движения и до сих пор остается образцом
режиссера-педагога и подвижника искусства, утверждал,
что «студия только тогда может быть студией, если
каждый несет в нее все свое лучшее и чистое и все стоят
на страже общего уровня культуры... Только такое
единение должно быть роднящим и равняющим всех в
правах и обязанностях творчества»40.
Практика и логика развития студийного коллектива
выявили три принципа, на которых он основывается:
творческое единомыслие (подвижническое отстаивание
эстетического кредо) ; профессионализм (овладение
законами, навыками определенного вида искусства, ибо
«сфера высокой поэзии... не терпит дилетантства»41);
студийное самоуправление (обеспечивающее обстановку
страстного ученичества и культуротворческого
энтузиазма). Следование данным принципам помогает личности,
испытывающей потребность в культуре, а также в
культурных формах самовыражения и самоутверждения,
органично и плодотворно развивать свой потенциал в
условиях «организованного и воспитанного коллектива с
атмосферой чистоты и с зачатками художественных
возможностей»42.
Наличие атмосферы, основанной на этих принципах,
которые отражают единство этического и эстетического
начал в жизнедеятельности студийного коллектива,
создает, как правило, реальные предпосылки для
культурного развития личности, для включения ее в глубоко
осознанное отношение и к предметному миру культуры, и к
исторической судьбе, и к процессуально-функциональным
сторонам этого динамичного и полифоничного по своим
проблемам и ситуациям бытования феномена.
Вклад студийности в обеспечение подлинности
индивидуального бытия человека в культуре связан и с тем,
что в стенах студий, функционирующих на принципах
творческого единомыслия, профессионализма и студийно-
11 Заказ JSfi 667
161
го самоуправления, наличествуют реальные условия для
сосредоточенности на важных мировоззренческих,
этических, художественных проблемах. В начале
жизнедеятельности студий, т. е. в 10-х годах нашего столетия,
погруженность в философско-творческую проблематику
культуры являла собой своего рода эскапизм в смысле
избегания студийцами всего того, что их не
удовлетворяло в плане социальном, этическом, художественном: не
случайно для первых студийных коллективов Москвы,
Петербурга, Киева, Риги, Вильнюса были характерны не
только эстетические, но и нравственные искания, а ряд
театральных концепций содержал в себе наряду с
особым сценическим кредо качественно определенное
философское мировоззрение. В последующие десятилетия
студийные искания и новации пронизываются иным духом,
они соотносятся с другими ценностями — культура
вместе с временем не может стоять на месте, это очевидно.
Но остаются неизменными, т. е. имманентно присущими
феномену студийности, традиции неприятия штампов,
устаревших стандартов миропонимания, отказ от тех
изобразительно-выразительных средств, которые не
адекватны культурным изменениям содержательного и фор-
мотворческого характера. Поэтому закономерны и
разнообразные искания, требующие особой интеллектуально-
эмоциональной сосредоточенности и самоуглубления. При
этом реализация человеческого «я» обусловлена именно
тем, что сосредоточенность на поисках конструктивных
путей устранения «болевых точек» культурной и
собственно личностной реальности не носит характера
бунтарства или нигилистического протеста. В наиболее
жизнеспособных в ценностно-смысловом и
поисково-творческом (процессуальном) отношении студиях люди
сосредоточиваются на поисках выхода за пределы
завершенных, т. е. самоисчерпавших себя, явлений культуры.
Такое корректирование студийных исканий критериями
ценностного порядка также способствует тому, чтобы
повышался уровень духовности и моральности человека,
степени эмоциональной чуткости и отзывчивости на
жизненную и собственно культурную проблематику, чтобы
совершенствовались его способности продуктивного
воображения и эстетический вкус. Вне этих исполненных
культурной определенности и значимости «приобретений»
человеческой субъективности включенность личности в
макромир культуры не есть подлинность ее связи с
последней — при всей регулярности встреч с теми или ины-
162
ми результатами поисково-творческой деятельности
минувших и ныне живущих поколений.
Итак, завершая предпринятый в связи с
многоаспектной проблемой реализации (воплощения в жизнь, в
социокультурные реалии) индивидуально-личностной ин-
тенциональности как смыслообразующего и «сквозного»
компонента человеческой субъективности экскурс в
сферу студийности, обобщим ее «человекотворческие»
возможности. Являя собой специфический тип культурной
(а именно — учебно-творческой) микросреды,
студийность есть один из образцов плодотворного и гуманного
решения вопроса установления и поддержания истинных
контактов людей с культурой. Установки студии,
содержание и атмосфера ее жизнедеятельности, присущее
этому коллективу пристальное внимание к задачам
выявления, раскрытия и оптимизации духовно-творческого
потенциала студийцев — все эти обстоятельства создают
благоприятные (хотя и далеко не единственные)
условия для того, чтобы связь человеческой субъективности
с культурой была богатой и действительной, т. е.
подлинной содержательно и стилистически.
«Человекоразвивающая» роль феномена студийности
становится фактом, данностью ввиду того, что,
благодаря использованию методов импровизации и
коллективного творчества, можно более последовательно и
эффективно решать задачи культивирования наиболее ценных
свойств и задатков человека, совершенствования его
отношения к миру и к самому себе через призму
глубинного осознания общественной сути собственного
предназначения. То обстоятельство, что не только развитие куль-
туротворческих способностей личности обеспечивается
всем укладом жизнедеятельности студийных
коллективов, но и расширение индивидуальных жизненных
горизонтов и перспектив, позволяет определенно говорить о
человекоформирующей роли подобных досуговых
объединений. Человекоформирующая роль современной досуго-
вой творческой среды является монофункцией — вернее,
ведущей функцией. В настоящее время, когда проблемы
совершенствования человеческого фактора органично
вплетены в глобальную проблематику качественного
улучшения общественного и индивидуального бытия,
использование наиболее действенных способов и форм
развертывания сущностных сил каждого человека становится
особенно важным. Нынче вопросы самоопределения
личности в гражданском, нравственном, профессионально-
11*
163
творческом отношениях столь же значимы с
социокультурной точки зрения, как и сами реалии повседневного
бытия человека в качестве субъекта общественных
отношений. Не менее актуальны и задачи углубления
индивидуального миропонимания, развития у
эмпирического индивида навыков органичного соединения
сформированной картины мира с собственными деяниями как
подлинными актами гуманизации жизни.
Действительно, усложнение динамичных процессов в
окружающем мире, с одной стороны, и возрастание
уровня самосознания человека — с другой, обусловливают иа
сегодняшний день факт повышения значимости тех
видов деятельности, которые обеспечивают объективацию
индивидуальной мировоззренческой позиции личности в
содержательные пласты и характер ее повседневной
жизни. Наполнение индивидуальной жизни не только
заботами профессионально-производственного и семейно-бытово-
го порядка, но и собственно культурным содержанием все
в большей мере сопрягается с феноменом индивидуальной
ответственности как за собственную судьбу, так и за
результаты участия в общем процессе решения глобальных
проблем времени, эпохи.
Быть может, именно в связи с нарастающим
динамизмом окружающей действительности в единстве ее
многообразных сторон и явлений заметно активизировалась
работа самосознания современного человека.
Активизация познавательной, рефлексивной деятельности
человеческого самосознания стимулируется многогранностью и
многосмысленностью подвижных связей личности с
миром. Именно потому, что «внутреннее содержание
человека включает все его богатство отношений к миру в его
бесконечности»43, культивирование сущностных сил
человека включает в себя и повышение индивидуальной
культуры восприятия духа времени.
Ценностно-смысловая емкость жизни каждого человека, степень его
творческой реализации в качестве субъекта
культурно-исторического процесса, наконец, мера
индивидуально-личностной моральности оказываются неразрывно
связанными со спецификой отношения к собственному времени.
Не случайно в последние десятилетия ценостньтй
фонд многонациональной советской культуры обогатился
серьезными произведениями, выдвигающими вопросы
относительно сущности и критериев подлинно
гуманистического отношения к личностному времени. Особый упор
при этом делается на выявление, раскрытие причин и
164
последствий расточительного, т. е. бескультурного,
подхода к индивидуальному времени. Исходя из понимания
того, что «время — это мы сами... маленькие Хроносы,
живем сделанным, созданным, почувствованным,
переживаемым, а потому потерянное время — это наше
самоубийство»44, многие деятели культуры рассматривают
темпоральное мировосприятие человека в качестве одного из
смыслообразующих начал в актуализации жизненных
стремлений, гражданских чувств, творческих способностей
личности. Более того, эмпирически наблюдаемые факты
недостаточно полной свершенности, реализации человека
в качестве культуротворческого — в широком смысле
слова — субъекта связываются в ряде художественных
произведений с низкой культурой отношения к вопросам
ценностного содержания личностного времени и
стилистики его проживания.
Тезис Маркса о том, что личностное время
«фактически является активным бытием человека. Оно не
только мера его жизни, оно — пространство его развития»45,
актуален и современен. Ведь личностное время так или
иначе вплетается во временной континуум человеческой
истории, индивидуальное мировидение не может не
включать ключевые моменты темпорального мировосприятия.
Говоря иначе, жизнестроительные и человекоформирую-
щие проблемы решаются в настоящее время тем
успешнее, чем результативнее протекает процесс
индивидуального самоопределения личности во многих отношениях,
в том числе и в отношении к культурным формам
рационального использования собственных временных
ресурсов.
Таким образом, общественная потребность в
совершенствовании связей человека с миром, в активизации
у него чувства индивидуальной ответственности за
содержание, характер, основные итоги повседневного
существования обусловливает повышение значимости
проблематики бытия личности в современном природном и
социокультурном окружении. Установка на дальнейшее,
более интенсивное проникновение гуманистических
начал в жизнь нашего общества в целом и каждого его
члена в отдельности диктует целесообразность выявления
узловых вопросов обеспечения оптимальных, т. е.
постоянных и плодотворных, связей человеческой
субъективности с культурой.
Именно потому, что наличие данной связи «мира
человека» с культурными феноменами и процессами ока-
165
зывается весьма действенным фактором реализации
личности в качестве субъекта культурно-исторического
процесса, более пристального внимания заслуживают,
думается, формы и средства включения людей в различные
культуросозидательные акты. Поиск наиболее
перспективных способов творческой реализации личности
умножает возможности целенаправленного развития «всех
человеческих сил как таковых, безотносительно к какому
бы то ни было заранее установленному масштабу»46.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 1. С. 414.
2 Ватин И. В. Человеческая субъективность. Ростов н/Д, 1984.
С. 78.
3 Под человеческой субъективностью автор понимает совокупность
и взаимодействие таких компонентов целостного облика
личности, как ее интенционалыюсть (направленность), содержание
и эмоциональная окрашенность индивидуального жизненного
опыта, специфические характерологические черты, наличие и
степень развитости способностей, навыков и умений,
нравственное «кредо» и эстетические критерии.
4 Философская энциклопедия: В 5 т. М., 1970. Т. 5. С. 155.
5 Батищев Г. С. Понятие целостно развитого человека и
перспективы коммунистического воспитания // Проблема человека в
«Экономических рукописях 1857—1859 годов» К. Маркса. Ростов
н/Д, 1977. С. 164.
6 Вопр. философии. 1983. № 7. С. 60.
7 Пастернак Б. Л. Стихотворения и поэмы. М., 1965. С. 446.
8 Эфрос А. В. Репетиция — любовь моя. М., 1975. С. 53.
9 Пастернак Б. Л. Указ. соч. С. 446.
10 Толстой Л. П. Поли. собр. соч. Т. 35. С. 161.
11 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 42. С. 119.
12 Гюго В. Что слышится в горах: («Осенние листья»)/Пер. В. Ле-
вика / Гюго В. Собр. соч. М., 1953. Т. 1. С. 456.
13 Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа // Гегель Г. В. Ф. Собр.
соч. М., 1959. Т. 4. С. 162.
14 Там же.
15 Арнаудов М. Психология литературного творчества. М., 1970.
С. 181.
16 См. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 257.
17 См.: Буева Л. П. Человек: деятельность и общение. М., 1978.
С. 117.
18 Наиболее яркие образцы творческого характера
опредмечивания индивидуальной тематичности людей в различных формах
и коллизиях межличностного общения дает театр, особенно
драматический. Богатый смысловой подтекст и импровизационная
природа диалогического пространства спектакля столь же
притягательны для зрителя, как и зрелищность сценического
искусства. Более того, сама событийно-сюжетная динамика
развития и разрешения основного конфликта драматического
произведения обнаруживается именно через столкновение —
взаимопостижение — взаимодействие различных характеров, каждый из
которых предстает перед другим (а одновременно и перед
зрителем) носителем и защитником собственной тематичности или,
166
как звучит в одной из горьковских реплик, «своей правды».
В значительной мере эффект эмоционального соучастия
зрительской аудитории в судьбах сценических героев достигается
именно тем, что становится наглядной логика самопроявления,
самовыражения и самоутверждения тематичности всех
воплощаемых актерами персонажей. В этом одна из причин успеха
«разговорных» пьес, в которых внешняя занимательность сюжета
уступает место философско-иравственыой проблематике «жизни
человеческого духа в предлагаемых обстоятельствах»,
составляющей основную «пружину» сценического действия.
19 Зиммелъ Г. Конфликт современной культуры. Пг., 1923. G. 26.
20 Горький А. М. Поли. собр. соч.: В 25 т. М., 1971. Т. 10. С. 126,
21 Там же. С. 628.
22 Там же. С. 126.
23 Там же. С. 628.
24 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1972. С. 133.
25 Горький М. Указ. соч. С. 629.
26 Роллан Р. Собр. соч.: В 9 т. М., 1983. Т. 5. С. 9—10.
27 Там же. С. 10. 32 Там же. С. 173.
28 Там же. С. 191. 33 Там же. С. 192.
29 Там же. С. 14. 34 Там же. С. 193.
30 Там же. С. 10. 35 Там же. С. 333.
31 Там же. С. 15.
36 Белинский В. Г. Разделение поэзии на роды и виды JJ
Белинский В. Г. Соч.: В 3 т. М., 1960. Т. 2. С. 45.
37 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 2. С. 145.
38 Резвицкий И. И. Личность. Индивидуальность. Общество. М.,
1984. С. 42.
39 Станиславский К. С. Беседы в студии Большого театра/Под ред.
К. Е. Аытаровой. М., 1952. С. 123.
40 Там же. С. 54.
41 Крылова Н. А. Имена. М., 1971. С. 168.
42 Вахтангов Е. Б. Совету Первой студии Художественного
театра II Евгений Вахтангов. М., 1959. С. 142.
43 Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. М., 1976. С. 344.
44 Шагинян М. С. Человек и время. М., 1980. С. 371.
45 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 47. С. 517.
46 Там же. Т. 46, ч. 1. С. 476.
В. А. Кругликов
ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ
«ЧЕЛОВЕКА КУЛЬТУРЫ»
Пытаясь понять человеческую сущность Льва
Толстого, М. Горький писал в своих воспоминаниях о нем:
«Его непомерно разросшаяся личность — явление
чудовищное, почти уродливое, есть в нем что-то от Свя-
тогора-богатыря, которого земля не держит». И дальше:
«В нем есть нечто, всегда возбуждавшее у меня желание
167
кричать всем и каждому: смотрите, какой удивительный
человек живет на земле! Ибо он, так сказать,
всеобъемлюще и прежде всего человек — человек человечества»1.
Соотнося это высказывание со всей фигурой Л.
Толстого и понимая его правомерность, тем не менее
невольно задаешься вопросом: как же возможна «непомерно
разросшаяся личность — явление чудовищное, почти
уродливое»? В этом смыслообразе Горького, созданного им по
случаю (правда, случай — Лев Толстой!), обращает на
себя внимание, что Горький трактует человека как
существо объемное, обладающее внутренними
пространством и временем.
Прежде чем продолжить размышления об этом,
покажем, насколько правомерно при выяснении
культурологического смысла духовного бытия человека обращение
к опыту «крупных личностей» (К. Маркс) и
художественно-литературным образам человека. В советской
литературе неоднократно отмечалось, что одно из
центральных мест в современной философии занимает
проблема человека, взятого в совокупности его социальных и
культурных черт, т. е., по выражению М. Пришвина,
как «человека культуры»2. При этом часто
акцентируется актуальность и «необходимость философского
познания индивидуальных форм человеческого бытия»3.
Данная необходимость предполагает методологически
значимый вопрос: как, каким образом это сделать? Видимо,
пути и подходы к такому познанию могут быть
различными, поскольку человек — существо многообразное в
силу своей универсальности и стремления к
беспредельному. В зависимости от предметной области и целей
исследования, различные авторы к данному вопросу
подходят по-разному. В данном же случае, так как
предполагается понять человека как существо, созидающее
культуру и пребывающее в ней, как существо этой
самой «культурой» отличающееся от всего, что не
является человеком, целесообразно обращение к живому
материалу реальной культурной действительности.
К этому побуждают два обстоятельства. Во-первых,
размышляя о философском образе человека, который в
совокупности черт и свойств может отвечать (или хотя
бы соответствовать) знаменитым антропологическим
вопросам, в предельной лаконичности сформулированным
еще Кантом, постоянно приходится иметь в виду, что и
как отлагается в духовном мире современного человека
из прошлого пути духовного развития человечества. 06-
168
раз человека может быть вырисован через его бытие,
которое вне его субъективного времени, т. е. вне
движения человека от прошлого через настоящее к
будущему, не представимо. Это предполагает истолкование
смысла его наличной «живой историчности», взятой
в непосредственно-чувственном виде, в своей живой
смысловой предметности.
Во-вторых, дело в том, что повседневное,
ежеминутное, ежечасное существование личности в границах
временного объема не исполнено событиями культурной
значимости. Попытки в искусстве, особенно в искусстве
XX в.— литературе и кинематографе, зафиксировать
определенный отрезок жизни индивида в абсолютной
полноте физико-биологического и психологического
протекания личностного времени оказались безуспешными.
Более того, они еще раз подтвердили ту известную
истину, что для поддержания своего биологического,
социального и культурного бытия человек вынужден
совершать однообразные, повторяющиеся, монотонные
«движения» (употребим это слово здесь в фигуральном,
метафорическом и буквальном значениях). Личностное
время в достаточно большом количестве не имеет иного
смысла, кроме поддержания жизни, т. е. кроме условия
человеческого бытия. Личностное время оказывается
наполненным смыслом в определенных, отдельных
мгновениях, по отношению к которым предыдущее время
личности является лишь предуготовлением. В процессе
этого предуготовления происходит накопление, «иарабаты-
вание» духовного потенциала, который и проявляется
в экстремальные моменты субъективного времени
человека. Накопленные значения сгущаются в личности при
преодолении максимальных для данного конкретного
индивида жизненных барьеров. В мгновения этого
преодоления и проявляется смысл, выражающий
содержание предшествующего периода жизни человека.
Разумеется, этот смысл «индивидуальной формы бытия»
личности может иметь культурно значимую определенность
и конвенциональную ценность или же не иметь ее и
тогда в своей значимости быть суженным до
уникальности, единичности и быть значимым только для данного
конкретного индивида. Но это уже другой вопрос.
Сущность данного процесса может быть
проиллюстрирована на примере спортивной жизни. Здесь особенно
хорошо видно, как смысл повседневности и творческого
поиска, растянутый в длительной протяженности жизни
169
индивида, всплескивается в мгновение, в которое он,
условно говоря, как бы преодолевает пределы физического
пространства и времени, достигнутые человеком на
данном этапе. Другими словами, смысл наличного бытия
человека как существа культурного объективируется в ту
или иную предметность в периоды, которые С. Цвейг
назвал «звездными часами человечества»4. Наличие
подобных звездных часов говорит о том, что повседневное
существование растягивает смысловую определенность
индивида на всю его конкретную жизнь, содержание
которой объективируется в преодолении границ конкретной
«формы индивидуального бытия» и предстает в тех
следах, что могут быть включены в ценностное богатство
культуры.
Непосредственно живая культурная реальность
человека имеет как внешнюю, так и внутреннюю стороны.
И. Кант в свое время заметил, что «вся культура и
искусство, украшающие человечество, самое лучшее
общественное устройство — все это плоды
необщительности...»5. В тишине одиночества, погружая себя в
предмет, человек творит «плоды культуры». Однако
последние человек предназначает не только и не столько для
себя, сколько для другого, для передачи другому. Это —
внешняя сторона смысла культурного существования
человека, его наличного бытия. В этой внешней стороне
человек, как цивилизованное и социальное существо,
в своей повседневности практически всегда выходит за
собственные пределы, всегда «выходит из себя», в том
смысле, что он всегда живет и сосуществует с другими,
в других людях, в социальных связях, находится «в
миру». Однако в «овнешненном» выходе за свои пределы
в силу необходимости совершать повторяющиеся
действия по установлению контакта с другими существует
опасность иллюзорного объективирования человеческой
самости. Но здесь же наличествует возможность такого
контакта, который воплощается в равноправной
«встрече-диалоге» с другим, когда может происходить и
твориться совместное, обоюдное и общее постижение
объективного мира культуры. То есть в повседневном и
повторяющемся, необязательном общении человека с
человеком, человека с конкретной ценностью смысл растянут
в личностном времени и, лишь постепенно накапливаясь,
сгущается в единую точку времени, когда в один момент
всеобщезначимое время человечества и субъективное
время индивида предстает перед внутренним взором его,
170
т. е. когда прошлое и будущее личного бытия
соединяются и обретают значение культурно-вечного.
Аналогичным же образом выявляется смысл
внутренней стороны непосредственно-живой культурной
реальности человека, о которой уже говорилось выше. Но здесь
выход за пределы себя знаменует и обозначает
происходящее непосредственно внутри самости человека
погружение индивидуальности и личности в мир в качестве
сугубо творческой или, иначе, «творящей субъективности».
Таким образом, обе стороны
непосредственно-живой культурной реальности человека
свидетельствуют о наличии в его духовном мире определенного
«расстояния» между личностью и индивидуальностью,
которое человек пытается преодолеть в сосредоточении
себя на своей культурно значимой теме. В этом
процессе и творится культура из «звездных часов человека»,
поскольку эти часы, будь то в общении, встрече с
другими или во встрече с самим собой, являют прорыв
человека в свою подлинность, когда в человеке сущность
его являет себя с возможной в данных условиях
максимальностью.
В постоянно совершающихся выходах человечества за
собственные пределы, происходящих в истории,
культура и является той историей духовности человечества,
которая, по глубокому замечанию M. M. Бахтина, «вся
расположена на границах, границы проходят повсюду,
через каждый момент ее, систематическое единство
культуры уходит в атомы культурной жизни, как солнце
отражается в каждой капле ее»6. И здесь же M. M.
Бахтин ставит акцент на сугубо антропологическом моменте
выдвинутого им онтологического понимания культуры:
«Каждый культурный акт существенно живет на
границах; в этом его серьезность и значительность;
отвлеченный от границ, он теряет почву, становится пустым,
заносчивым и умирает»7. Но культурный акт — это акт
человеческий, и бытие культуры не есть бытие взятой
самой по себе предметности. Только человек «оживляет»
духовные ценности, преосуществляемые в культуре.
Но если культура — это всегда пограничная область,
граница, если культурный акт человека — это всегда
мгновение, момент преодоления пределов и бытие на
границе, существование на «лезвии бритвы» и если
человек есть культурномыслящая и культурночувствую-
щая материя, то естественным образом у него должны
быть формы бытия этой материи. Формы бытия материи
171
шшестны — это пространство и время. В то же время фи-
лософско-антропологически понятые культурные формы
бытия отдельного человека давно запечатлены в языке
философии как индивидуальность и личность.
Понятию «личность» в философии необычайно
повезло. В немарксистской философии целый ряд персо-
палистических концепций основан на выявлении
личностного начала. В персонализме личность — категория,
служащая для обозначения человеческого «я», на
котором и просматриваются духовно-содержательные
проблемы индивида. Проблема личности является одной из
центральных в философии экзистенциализма, где
философски осмысляются вопросы бытия человека в мире.
Понимание историко-материалистических основ личности
характерно для марксистско-ленинской философии,
исследующей личность как субъект социальных и культурных
отношений и сознательной деятельности8.
В то же время понятию «индивидуальность» повезло
гораздо менее9. Более того, даже в нашей литературе им
порой обозначалась природная в своей основе
уникальность человека. На неправомерность такой
интерпретации обратил внимание В. М. Межуев, справедливо
считающий, что индивидуальное своеобразие человека хотя
и основано на природных свойствах индивида, но
сформировано всем ходом истории 10. И действительно, в
одном ряду с чисто физиологическими органами
индивидуальности К. Маркс называл такие его свойства, как
«мышление, созерцание, ощущение, желание,
деятельность, любовь...»11.
При анализе понятия «человек культуры»
представляется возможным в качестве аналога пространства и
времени человека использовать обозначения
индивидуальности и личности. С одной стороны, это дает
возможность развести понятия «личность» и «человек»,
которые часто отождествляются, с другой — рассмотреть
различные проявления значений культуры в человеке. Не
отвергая сложившуюся традицию в употреблении
указанных понятий, а, наоборот, максимально на нее
опираясь, попытаемся использовать их для обозначения куль-
туроформ бытия человека. Однако для удобства
дальнейшего размышления о том, как происходит накопление
смысловой напряженности в человеке, обеспечивающее
его выходы за пределы себя, используем эти понятия в
качестве смысловых образов, обрисовывающих,
называющих и выражающих процессы бытия культуры в чело-
172
веке. Тогда индивидуальность уместно представить как
смыслообраз развертки «я» в пространстве человека. В то
же время индивидуальность обозначает и указует на
\ местоположение личности в человеке. В свою очередь,
личность можно представить как смыслообраз развертки
<<я» во времени человека, как то субъективное время,
в котором совершаются движения, перемещения и
изменения индивидуальности.
Как всякое пространство, индивидуальность может
быть заполненной. При таком взгляде на нее в первую
очередь обращает на себя внимание давно
установленный факт наличия в человеке природных задатков. Они
обладают векторностью, в них потенциально кроется
природная расположенность, направленность и
одаренность индивида. Это — физико-биологическая основа
индивидуальности. Скажем, индивид может быть одарен
абсолютным слухом или склонностью к подражанию.
Тогда следующим первым актом его индивидуации
будет развитие абсолютного слуха в музыкальность. Но
природная одаренность еще не исчерпывает смысла
индивидуальности, она фактически выступает только
предпосылкой для выработки уникального, неповторимого ее
своеобразия. Более того, все содержание
индивидуальности как раз и выявляется в постоянной работе человека
над природно присущей индивиду направленностью его
задатков, одаренностью ими и проявляется в их
реализации и объективации.
Бытие человека в культуре свидетельствует, что
между индивидуальностью (пространством) и личностью
(временем) человека должно быть определенное
соответствие. Именно не совпадение, а соответствие, поскольку
только при этом условии возможно, выражаясь словами
М. М. Бахтина, «со-бытие бытию» индивида,
сосуществование индивидуальной и личностной определенности
человека. Такое соответствие в свою очередь возможно
лишь в условиях некоторой незаполненности
индивидуальности и личности.
При наличии полноты личности и индивидуальности,
непосредственно культуротворческой «деятельности»
человека по созиданию, взращиванию индивидуальности и
ее развитию не происходит, так как для содержательной
жизни человека и его культурного бытия в такой
ситуации отсутствует обоюдная устремленность
индивидуальности и личности друг к другу. Однако при наличии
полноты индивидуальности, адекватной личностно-временно-
173
му полю человека, она оптимально реализуется в куль-
турозначимые продукты (идеи, ценности, образы и т. д.).
Но это может происходить лишь при заполненности «не/
до конца» сферы индивидуальности и личности. j
Абсолютная заполненность индивидуальности трагич-)
на для человека, так же как и абсолютная заполнен/-
ность личности. В этом случае, который можно
квалифицировать как завершенность, законченность, из человека
выдавливается его «я». В абсолютной заполненности
пространства-времени индивида человеку некуда
продолжаться — в нем все предельно самодостаточно, все
свершено; невозможно и движение «я» от внутреннего к
внешнему и наоборот, так как все в таком индивиде не
только «есть», но и явлено.
При абсолютной заполненности индивидуальности и
абсолютной «пустотности» личности индивидуальность
воспринимается ее носителем (и не может
восприниматься иначе) как сама его непосредственная личность, что
ведет к жизненным и культуротворческим неудачам.
Печальные примеры тому — не состоявшиеся во взрослости
вундеркинды или фанатики-неудачники, захваченные
моноидеей, в силу личностной недостаточности не смогшие
ее объективировать. При абсолютной пустотности
личности зачастую образуется разрыв между качеством
индивидуальности и качеством личности, и тогда возможен
высокопрофессиональный музыкант, художник, ученый с
той душевной недостаточностью, которая искажает
творческое постижение, «умельчает» результаты творчества,
огрубляет их и не дает возможности человеку выйти за
пределы своих природно данных границ.
Когда индивидуальность наполнена «не до краев» и
даже если такая наполненность не прояснена для
самосознания и на данном этапе не видна, тем не менее для
самосознания она предстает (или может предстать)
обозримой. Тогда, благодаря наличию данной пустотности,
личность пытается найти (ищет, находит или
выращивает) присущее только ей своеобразие и заполняет ею
свою индивидуальность, для того чтобы, постоянно
реализуя содержание индивидуальности, очищать ее и в
пустотности взращивать заново. Благодаря пустотности
как таковой, которая в определенной степени
наличествует в индивидуальности, и через нее личность может
и способна утвердиться в специфичности, в степени и
качестве задатков, т. е. одаренности, заполняющей
данное пространство. Сомнения личности в качестве своей
174
одаренности лишь укрепляют индивидуальность, придают
ей устойчивость. В этих сомнениях кроется возможность
наращивания, обогащения содержательных моментов
одаренности, а также возможность заполнения
своеобразием и одаренностью всего поля индивидуальности.
\Однако это возможно в свою очередь лишь при наличии
хотя бы некоторой незаполненности последней.
| Индивидуальность может быть и незаполненной,
Цистой или пустотной. Важно помнить, что выражение
«пустотное» неаксиологично и не означает «плохое»,
«низкое», неценное. Выражение «пустотное»
употребляется в данном случае не в привычном для европейского
сознания уничижительном смысле, имеющем в виду
несущностное и несуществующее, а в том значении,
которым пользуется восточная философская традиция: «Из
глины делают сосуды, но употребление сосудов зависит
от пустоты в них. Пробивают двери и окна, чтобы
сделать дом, но пользование домом зависит от пустоты в
нем»12. Это в целом. А в применении к человеку:
«Когда знания, уже накопленные сердцем, не мешают
дальнейшему восприятию вещей — это и называется
пустотой»13.
В последнем высказывании очень важно обратить
внимание на слова «знания, накопленные сердцем», так
как здесь имеются в виду не просто теоретические
знания, а вся сумма сведений, полученных в опыте жизни,
усвоенных человеком.
Имея в виду эту древнюю философскую истину и
используя ее в понимании хронотопических свойств
человека как культурного существа, условно говоря, можно
отметить, что пустотная индивидуальность может
свободнее «объективироваться», нежели абсолютно
заполненная индивидуальность. В этом случае усвоенное,
присутствующее в пространстве человека знание превратилось
в «естественную» культурную природу, понимаемую не
как изначальная определенность, задающая и
диктующая индивиду его бытие, а как «знания»,
заимствованные человеком из культуры и естественно и свободно
существующие в его душе. Иначе говоря, пустотная
индивидуальность — это индивидуальность, не сковывающая
личность в ее деятельности, в ее существовании,
предоставляющая и обеспечивающая личности свободу во
внутреннем мире человека. Существует крылатое
выражение «Стиль—это человек!». Когда индивидуальность но
связующа, свободна и личности есть где развернуться,
175
то личность способна совершенствовать качественную
специфичность индивидуальности, совершенствовать
собственный стиль, тем самым совершенствуя и человека
в целом.
Однако бывает и так, что индивидуальность настолько
свободна, настолько «чиста», что самосознанию она не/
предстает явственно и отчетливо, а только намечена в(
смутных контурах, так что самосознание фактически не
знает содержания индивидуальности, а лишь ощущает
его. Тогда личность взращивает в индивидуальности
соответствующее себе содержание. Соответствующее —
значит то, которое, во-первых, может уместиться в поле
индивидуальности, не разрушив ее, а во-вторых, то, которое
отвечает конфигурации индивидуальности, поскольку
последняя — не бесконечное пространство в человеке, но
часть пространства, т. е. место, имеющее свои
собственные хоть и размытые, но все же границы. Проявление
этих контуров, их отчетливость и зависит от деятельности
личностного начала, человека. Другими словами,
человек в самопознании, в процессе совершенствования
своей индивидуальности выясняет собственный стиль,
осмысливает его, следует ему, используя его
положительный потенциал и элиминируя по мере возможности его
слабые стороны.
Личность в пространстве индивидуальности ищет свою
предназначенность и свой стиль. И если находит, то
происходит (не совпадение — нет!) со-отнесение и в этом
соотнесении сочетание личности с индивидуальностью.
Выражаясь точнее, если в человеке личность «движется»,
т. е. изменяется и развивается, то она и стремится найти
в индивидуальности определенность, содержание
собственной одаренности, его предметную сущность.
Поиск (или взращивание) своей одаренности
составляет культурное наличное бытие человека, которое
отпечатывается в вехах человеческого пути, в его
результатах, в следах духовной биографии индивида. Этими
следами и являются результаты личностных и
индивидуальных усилий человека как произведения соотносимых
друг с другом интенций живого пространства и живого
времени.
В итоге неустанного поиска и постоянного
соотнесения личности с индивидуальностью наиболее полно
осуществляется проявление человека в своем человеческом
качестве, в наивысшем культурном значении (Платон,
Шекспир, Кант, Моцарт, Толстой...). Но часто, скорее
176
даже чаще, нежели такое удавшееся соотнесение,
бытие культуры являет тяжкий, страдальческий,
невыносимый, совершаемый личностью творческий поиск без--
нахождения собственной индивидуальности, ее
содержания, предметной сущности, и тогда перед нами —
трагедия человеческого бытия в культуре: «немой поэт»,
«слепой художник», «глухой музыкант». То есть
природой отпущенная человеку индивидуальность не
реализовалась, не объективировалась в силу того, что ее
духовная содержательность оказалась неявной и в силу этой
неявности была лишена одного из основных условий,
обеспечивающих процесс нахождения индивидуальностью*
самой себя — неповторимости и уникальности
конкретного человеческого пространства. Личность такого
индивида в силу различных причин (социальной макро- или
микросреды, свойств характера и темперамента,
воспитания, внешнего бытия и т. п.) не смогла (или сделала это
слишком поздно) найти присущие человеку контуры его^
пространства, которые в потенции и составляли
единичную одаренность как содержание индивидуальности.
В русской литературе XIX в. эта
человечески-культурная трагедия отразилась в образах так называемых
«лишних людей», начиная с Онегина, Печорина, Рудина,.
Бельтова, Обломова и кончая чеховскими Ивановым и
даже Оленькой Племянниковой (знаменитой
«душечкой»). Образ последней в своей гиперболизированности
наиболее ярко демонстрирует поиски личностью человека
своей индивидуальности. У людей, не знающих или не
нашедших свою индивидуальность, с наличием
абсолютно пустотной индивидуальности, т. е. индивидуальности,
которая осталась не явленной личности, у таких людей
порой, выражаясь словами Д. Писарева, «личность
сознает свою отдельность», «не осмеливаясь сдвинуться с
места, раздваивает свое существование, отделяет мир
мысли от мира жизни»14. Или, выражаясь языком того
же XIX в., «ум ума» так и не пробился, не нашел
дорогу к «уму сердца». Действительно, индивидуальности
у всей галереи «лишних людей» фактически нет, за
индивидуальность принимается иллюзорная, превращенная
форма личностного культурного бытия человека, которая
проявляется как единичность и характеризует индивида
лишь в том, что он ищет свою индивидуальность. И
хотя, разумеется, социальные условия типа «среда заела»
(как называли их Герцен с Достоевским) действительно
задавали возможность «не-прикрепления» человека к-
12 Заказ К« 667
177
конкретной предметности, то как раз опыт создателей
этих образов (Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Герцен,
Гончаров, Чехов и т. д.), опыт музыкантов, художников,
историков, естествоиспытателей и других деятелей
культуры всего этого блестящего в культурном отношении
русского XIX века свидетельствует и о том, что «лишние
люди» отличались от таких литературных образов, как
Константин Левин, Пьер Безухов, Андрей Болконский,
князь Мышкин, братья Карамазовы, и множества
других, взятых здесь в одном ряду лишь с тем, чтобы
показать, что индивидуальность была явлена самосознанию
личностей этих героев. Образы «лишних людей»
указывали на существование в непосредственно живой
реальности культуры людей, обладающих пустотной
индивидуальностью и мощной личностной одаренностью, людей, чье
наличное бытие в культуре было трагично. (Точно так же
как и образы Левина, Безухова, Мышкина и других
свидетельствовали о наличии в реальности культуры людей
с совершенно иным соотношением личности и
индивидуальности.)
Примеры «лишних людей» как людей с пустотной
индивидуальностью и сильной личностной
напряженностью говорят и о том, что личность таких людей
была не столь «очищенной». Более того — может быть,
в силу односторонне-ментального опыта жизни
содержание личности осознавалось человеком как содержание
его индивидуальности. Человек не следовал свободно
самому себе, опираясь на неисчерпаемость «знаний,
накопленных сердцем». Ведь «лишние люди» были
«теоретическими» людьми, они следовали за знаниями,
накопленными и полученными в «горячке сознания», т. е.
неорганичными для их сути. И в этом они отличались от
«теоретически распаленного сердца» Родиона Раскольни-
кова, индивидуальность которого была наполнена
«наполеонизмом» и стремлением проявить свою
сверхнравственную силу в утверждении уникального и
неповторимого своеволия. Но это иная трагедия по культурной
значимости.
Временное поле личностей «лишних людей» было
заполнено ненужными наслоениями (и в этом смысле их
действительно «среда заела»). Их личность, вместо того
чтобы рассмотреть замутненность поля
индивидуальности и вырастить ее качественно-единичное содержание,
стилевую уникальность и особенность, чтобы на этой
основе в самосознании ориентироваться в выборе адек-
178
ватной для себя предметности и приложения к
конкретной деятельности (следует иметь в виду, что опыг
умозрения, как и установление душевных контактов и
участие в них, также культурно значимая
деятельность) — вместо этого личность принимала самое себя за
индивидуальность, пребывая недостаточно пустотной,
становилась бессодержательной, беспредметной.
Богатство целостного человека в полной мере
проявляется в диалектической игре его индивидуальности и
личности. Человеческая индивидуальность являет себя
и выступает как культурно действенная и значимая в
бытии человека, когда она собирает и сосредоточивает
личность человека на чувственном,
предельно-чувственном и сверхчувственном переживании и проживании тех
абсолютов социокультурной действительности, которые
задают тон культуре, определяют общее звучание и
мелодию бытия культуры и человека, пребывающего в
ней. Индивидуальность тем самым предоставляет
личности материал для сосредоточенности (не одержимости,
а страстной концентрированной направленности на
конкретную предметность, находящуюся вне индивида).
Личность, сосредоточиваясь на материале
индивидуальности — его качественной единичности, специфике ее
стиля, выражающихся в предметности,— очищает свою
индивидуальность от обыденщины жизненных наслоений,
отвлекает ее от растрачивания своего «я», и тем самым
направляет индивидуальность на максимальную
объективацию и реализацию. В этом диалектическом
процессе происходит совершенствование и индивидуальности
и личности, которое только и может происходить в
условиях их полной сосредоточенности не друг на друге,
а на объекте, представляющем для них общий интерес и
расположенном в пространственно-временном отношении
вне человека. Человеческая субъективность в полной
мере может проявиться лишь в условиях, выражаясь
словами M. M. Бахтина, «вненаходимости» человеческого
«я» по отношению к иному, другому и всему миру и в то
же время при сохранении жизненного отношения
причастности к нему.
Говоря о чувственном и предельно-чувственном
переживании человеком мира идеального, мира ценностного
как «мира оживших предметов» (О. Г. Дробницкий),
подчеркнем, что такое переживание достаточно
односторонне, оно выявляет и демонстрирует лишь
эмоциональную сферу человека, так же как интеллектуальное и
12*
179
предельно-интеллектуальное отношение к этому миру
выявляет и демонстрирует только его рациональную
сферу. Но жизнь человека не есть жизнь животного или
функциональное бытие гомункулуса; природное,
натуральное в жизни человека осмыслено, так же как
рациональный автоматизм монотонной повседневности
оживлен чувством. Поэтому только синкретичное, слитное
отношение абсолютного участия индивида в делах мира,
т. е. его переживание конкретной предметности (в
которой чувственное в диалектической игре с
интеллектуальным выходит за пределы только чувственного и
приобретает облагораживающую значимость рационального),
выявляет культурную определенность человека. Такое
переживание может быть зафиксировано как
сверхчувственное.
Говоря о «пере-живании» и «про-живании»
человеком абсолютов (идей, ценностей и т. д.), хотелось бы
подчеркнуть целостность человеческого отношения к ним,
которое и есть совокупное духовно-душевное,
рационально-чувственное, сугубо ответственное присвоение и
усвоение смысла данных абсолютов с целью обретения
подлинности своего «для-себя-бытия». Строго говоря,
проживать и переживать ценность может лишь индивид как
целостность; абстрактно же взятая личность не может
ощущать, чувствовать, сознавать.
Парадоксально, но факт, что в художественной
литературе данный момент отмечен давно (что заставляло
Ф. М. Достоевского вполне правомерно открещиваться
от ярлыка «психолога») и выражен более точно, нежели
в философии. Стефан Цвейг, неоднократно повторяя свою
любимую мысль об истинной жизни человека как жизни,
наполненной страстным переживанием не-утилитарных
ценностей, писал: «В жизни человека внешнее и
внутреннее время лишь условно совпадают; единственно
полнота переживаний служит мерилом душе; по-своему, не
как равнодушный календарь отсчитывает она изнутри
череду уходящих часов... Лишь когда в человеке
взыграют все душевные силы, он истинно жив для себя и для
других...»15.
Психиатрия свидетельствует: в амнезии, теряя
память, человек теряет личностную определенность;
невозможность сориентировать себя в субъективном времени
лишает человека ощущения собственного «я»,
самосознания. В этом случае человек сохраняет свой стиль,
почерк, манеру своего «я», т. е. определенность индивиду-
180
альности, если... амнезия непродолжительна. При
достаточной же ее длительности человек погибает. Память
человека — это история жизни его индивидуальности и
личности. Эта история не может не быть связана с
историей общества, что проявляется в характере
социальных связей человека. Но история конкретного человека
связана и с историей культуры. Историчен каждый
индивид, историчен каждый человек, исторична не только
его личность, но и индивидуальность. Кроме своих
природных основ, как уже указывалось, индивидуальность
(так же как и личность) есть «живая историчность».
История как таковая пронизывает жизнь каждой
конкретной индивидуальности. И если не на протяжении
всего наличного бытия человека, то в качестве
основополагающего и стержневого фактора в ситуации
самоопределения человека, в ситуации «рождения» личности как
таковой. Способность человека к сверхчувственному
проживанию мира идеального, порожденного всей
социокультурной историей человечества, к преосуществлению
в индивиде смысла человечности содержит в себе в
слитном виде то, что И. Кант обозначил как способности
познания, желания и суждения. Под таким углом
зрения указанная способность человека выступает неким
фундаментальным свойством, в объективации которого
человек выявляет стержень собственной
индивидуальности и определяет себя как личность.
Человеческая индивидуальность живет не во
временном вакууме. Благодаря способности преосуществления
себя в мире духовных ценностей, человек с
необходимостью погружает свою индивидуальность в культуру как
в общечеловеческую память, запечатлевшую развитие
духовности в результатах событий культурного характера,
и, обращаясь к ней как к живому, говорящему
зеркалу, творит свою личность и свой образ.
Культура — не просто память человечества о самом
себе, но память, находящаяся в движении. Как граница,
она всегда создавалась и пребывала, поскольку
культурная деятельность не останавливается в истории ни на
минуту. В разные эпохи между разумом и верой, волей
и интеллектом, прекрасным и безобразным, истиной и
заблуждением, добром и злом, природой и
социальностью — культура всегда рождалась, формировалась и
пребывала на основе постоянной двойственности
человека, которую сам человек всегда стремился преодолеть
и преодолевал в гуманистическом становлении.
181
В культуре прошлое постоянно присутствует в
настоящем 16. Эта связь времен для человека культуры
всегда предстает как личная, экзистенциальная проблема, как
вопрос, вызывающий изумление и удивление (недаром
ивзестная максима утверждает, что философия родилась
из удивления человека перед миром) и ставящий
человека культуры в ответственнейшую позицию по
отношению ко всему духовно-ценностному содержанию
человечества. Этот вопоос человек должен решить для
себя. Такое решение он не может (ему не дано!) обрести
лишь частичным участием, частичным свершением,
частичным отношением. Отвечая на вопрос, как возможна
связь времен в культуре, обеспечивающая слияние
состояний «становления» и «бытия», человек пытается
соотнести субъективное время с теми событийными
мгновениями, в которых смысл культуры запечатлелся в
материализованном виде и исполнился как прошлое и
настоящее. Для этого человеку и приходится
погружать индивидуальность, личностно самоопределяясь, во
все ценностное содержание культуры и в беспредельно>-
чувственном проживании этого содержания
объективировать себя как человека. Соединение прошлого и
настоящего культуры, пережитое в субъективном времени,
выводит человека в сверхчувственном проживании
абсолютов за собственные пределы. Тогда и происходит
совпадение смысла наличного бытия культуры, которую
индивид застал и которая его определила, со смыслом его
собственного наличного бытия.
В этом отношении особенно показательна жизнь Льва
Толстого как человека «с непомерно разросшейся
личностью». Погружая свою индивидуальность (и тем
самым как бы раздвигая ее) в различные сферы культуры,
Л. Толстой, далеко не всегда преднамеренным образом,
взращивал, выстраивал свою личность в поиске смысла
жизни,, в поиске абсолюта, беспредельно-чувственно
проживая то, что вот «здесь-и-сейчас» представало
перед его взглядом как единственный смысл, как абсолют.
В оспитание, педагогика, литературно-художественное
творчество, история, философия, религиозные поиски и
критика церкви, военная служба и помощь
голодающим — все служило раздвижению пределов его
индивидуальности. Но это раздвижение проводила личность
человека Толстого, которая направляла (ведь одно иа
основных свойств личности — интенциональность,
направленность!) его индивидуальность на постижение
182
смысла культурной жизни человечества, жизни, понятой
как духовно-нравственная ценность. Раздвигая рамки
своей особости, своего стиля, индивидуальность человека
Толстого также скапливала, сгущала в его личности
энергию для его «звездных часов», увеличивая объем
его субъективного времени в духовно-ценностной
значимости.
Это меньше всего следует понимать в смысле объема
знаний, энциклопедичности Л. Толстого, хотя и в этом
отношении он достаточно выразителен. Здесь же
хотелось прежде всего подчеркнуть, что основная
направленность жизни Толстого выражала смысл не только его
личности, но всей целостности его человеческого
существа и заключалась в том, что он стремился не только
«личностно», но и «индивидуальностно» понять то, что
представало перед ним как другое, иное или даже
чуждое.
Никто из исследователей творчества Л. Толстого не
оспаривает того факта, что больше всего тревожила
Толстого непонятность жизни для «ума сердца». К
прояснению этой непонятности было устремлено все его
существо, ее он пытался избыть в сверхчувственном
переживании. Так, даже в известном факте непонимания и
непризнания Толстым творчества Шекспира поражает
даже не сам этот факт, а то упорство и предельная
честность человека-творца, с которыми личность Толстого
направляла его индивидуальность на постижение
Шекспира, заставляя еще и еще раз проживать искусство
английского драматурга. «Долго я не верил себе,— писал
Толстой в старости,— и в продолжение пятидесяти лет по
нескольку раз принимался, проверяя себя, читать
Шекспира во всех возможных видах: и по-русски, и
по-английски, и по-немецки в переводе Шлегеля, как мне
советовали; читал по нескольку раз и драмы, и комедии,
и хроники, и...»17. Не всякий шекспировед может
похвалиться такой настойчивостью в освоении предмета
своего изучения. Для Толстого творчество Шекспира —
конвенционально принятая ценность, сомнительная в
своей культурной значимости. Его личности творчество
Шекспира предстает не как искусство, а как
псевдоискусство, которому люди дали обмануть себя. Но, может
быть, ошибается он, Толстой? Тогда нужно проверить и
понять, превратить непонятное в понятное. Вот эта
страсть к пониманию «умом сердца», к пониманию не
только личностью, но и присущим человеку своеобразие
183
ем, индивидуальностью и творчества Шекспира, и тех
идей, что выражают смысл жизни, отвечают на вопрос
«как жить?», является свойством Толстого как
целостного человека.
Это фундаментальное свойство человека — поиск
смысла жизни — особенно характерно для человека
культуры нового и новейшего времени, живущего в эпоху
всеобщих «смыслоутрат». Для такого человека
устремленность к поиску смысла жизни связана, как точно
подмечает С. И. Великовский, с обозначившимся «в своей
почти беспримесной первозданности... сдвигом
умонастроений, который, собственно, и влечет за собой „смысло-
утрату" как некое... полое ядро пантрагического в жизни,
философии и культуре нашего времени»1'3.
Однако, если поставить вопрос, насколько утрата
смысла в духовной ситуации XX в., которая стала
точкой отсчета для многих западных философских течений,
тотальна, то обращает на себя внимание и тот факт, что
человек культуры нового времени, этот человек с
«планеты людей», упорно сопротивляется утрате смысла
своего бытия. И не только сопротивляется, но и активно
ищет его, порой находит, а чаще всего создает. Более
того, сам поиск смысла жизни человеком культуры
зачастую выступает тем абсолютом, который и предоставляет
индивиду оправдание его существования. Поиск смысла
жизни в беспредельно-чувственном его переживании
человеком и выступает той всеобщей культурно значимой
ценностью, в соответствии с которой человек
«конструирует» себя (употребим здесь этот термин в
шеллинговском смысле), т. е. «определяет свое место в универсуме»
культуры19, выстраивая тем самым свою жизнь, свою
индивидуальную форму бытия, свой образ.
Исходя из вышеизложенного, примем ценность поиска
смысла жизни за такой «мировоззренческий абсолют»г
на основании которого можно обрисовать конкретные
образы «человека культуры», существующего в
современной социокультурной реальности.
Сверхчувственное отношение к жизни как
переживание и поиск ее смысла конечно в своих возможностях.
Как основание для типологии оно ограничивает число
ситуаций, которые могут служить точкой отсчета для
построения индивидуальной формы бытия и в которых
человек создает и «сочиняет» себя и свой образ.
Говоря условно, человек «встречается» с культурой,,
ее ценностным содержанием, поскольку он застает то,,
184
что уже сделано в истории людьми. Содержание
культуры в различных логиках своего устройства являет ему
объективное пространство, точно так же как содержание
этого устройства накопленных ценностей в своей
длительности являет человеку объективное время.
Попытаемся представить основные «встречи»
человека с культурой в виде четырех идеальных ситуаций.
Ситуация первая. Погружая в культуру
индивидуальность, выявляя ее специфичность и самоопределяясь как
личность, человек приходит к выводу: жизнь не имеет
смысла. Не имеет, поскольку вся культура выступает для
него свидетельством негативного опыта человечества.
Пространство ценностного содержания культуры может
не воздействовать на отдельного индивида, оно может
целиком раствориться во времени. Тогда окажется, что
история ничему не учит, что человек не способен
разумно устроить свою жизнь, что идеалы, выработанные и
созданные им или девальвируются и разрушаются, или
превращаются в свою противоположность, обращая всю
культуру в хаос, жизнь в бессмыслицу, индивидуальное
существование — в фаталистическую нелепость.
Человеку не только некому и нечему поклоняться, не с кем и
не с чем соотносить себя, ему незачем и не для кого
совершенствовать свою индивидуальность, незачем и не
для кого выражать свою личность, раздвигать рамки
своего «я», преодолевать его конечность и выходить за
пределы себя. Тогда он становится настолько «свободным»,
что для него не существует уже необходимость в
духовных постижениях, в опредмечивании и выражении себя.
Ситуация человека, захваченного абсурдом бытия,
достаточно подробно описана в экзистенциалистской
философии, а механизм социальной детерминации Абсурдиста
раскрыт в марксистской философской критике, где дан
также и социально-психологический портрет его.
Абсурдист как фатально «заброшенный в бытие мира»
человек художественно выражен Ф. М. Достоевским в
образе Кириллова («Бесы») и исследован А. Камю в «Мифе
о Сизифе». Но, если для Абсурдиста XIX в. жизнь без
смысла и без поиска смысла ведет к логическому концу,
поскольку как целостное существо он в такой ситуации
абсолютно завершен, несмотря на все его «природное
здоровье», то в Абсурдисте XX в. поразительно то, что
он не сходит с ума и не кончает жизнь самоубийством,
а продолжает жить. А продолжать жить в бессмыслице
означает только одно — жить во зле, так как полюс доб-
185
pa для Абсурдиста уже не существует. Как это ни
парадоксально, для Абсурдиста XIX в. еще была
надежда. Для Абсурдиста XX в. никакой надежды нет и быть
не может. Да и сама надежда расценивается им как
зло. «Последней из ящика Пандоры,— писал А. Камю,—
где кишели беды человечества, греки выпустили именно
надежду как ужаснейшее из зол. Я не знаю более
впечатляющего символа. Ибо надежда, вопреки обычному
мнению, равносильна смирению. А жить означает не
смиряться»20.
Собственно говоря, Абсурдист XIX в.— «не чистый»
Абсурдист, он только приходит к абсурду бытия, а
придя к нему — погибает. Для Абсурдиста же XX в. жизнь
представлена абсурдом изначально. Это различие
отмечено С. И. Великовским как разница между «богоутра-
той» и «смыслоутратой»21. И действительно, если первый
Абсурдист спорил с богом и стремился занять его место,,
то второй знает, что и это бессмысленно и осталось лишь
одно — постоянное и лишенное смысла утверждение
своеволия как способа жить. Что из этого может
произойти — достаточно хорошо известно из социальных
катаклизмов XX в., когда в кризисе буржуазной культуры
мироощущение абсурдности жизни получило
историческую значимость в качестве духовной направленности
эпохи. Однако преодоление этих катаклизмов
свидетельствует о том, что хотя Абсурдист чрезвычайно опасен,
но в культуре нового времени он не тотален и в мире
есть иной, другой тип человека, во многом успешно
противостоящий ему.
Ситуация вторая антиномична поиску смысла жизни
по самому качеству его беспредельно-чувственного
переживания. «Встречаясь» с культурой и выявляя
специфичность собственной индивидуальности и личностно
самоопределяясь, человек устанавливает для себя, что
смысл жизни заключен непосредственно в самой жизни,
что жизнь наполнена смыслом. В сверхчувственном
поиске человек находит смысл своего бытия. Тогда
оказывается, что после этого смысл жизни искать уже не
нужно — он дан и задан непосредственно всей
социальной и культурной реальностью того конкретного
общества, в котором человек прошел путь самоопределения.
Социальная психология свидетельствует, что
наиболее активный поиск мировоззренческих основ жизни, тех
основ, на фундаменте которых человек выстраивает свое
индивидуальное бытие, проходит зачастую не на всей
186
жизненной протяженности индивида, а в конкретный,
небольшой по временному объему период, когда человек
«рождается» личностно и «узнает» специфичность
своего «я». У многих людей это период юности и
молодости. Характерно, что, по свидетельству психологических
исследований, если человек в данный период определяет
для себя личную философскую основу, цель и смысл
своего жизненного бытия, то в дальнейшем он уже, как
правило, живет деятельно, не погружаясь в страдания
рефлексивного поиска подлинности существования.
В этом случае человек уже нашел смысл жизни.
Осталось только жить, постоянно выстраивая и устраивая
свою жизнь в соответствии с той реальной личностной
задачей и индивидуальностной специфичностью, которые
были определены в период поиска. Но выстраивать
бытие можно лишь в процессе делания, деятельности.
Человек-индивид, устанавливая, что смысл жизни
заключается непосредственно в самом наличном бытии, с
необходимостью вынужден трудиться над объективным
миром, осуществлять деятельность по опредмечиванию
своих индивидуальности и личности. Человек с
необходимостью становится Деятелем.
Куда направлена его деятельность и какова она —
это другой вопрос. В зависимости от «дела»
деятельность может быть и позитивна и негативна, поэтому
Деятель сам по себе не плох и не хорош. Он получает
социальную значимость только в процессе и результате
деятельности. Культурно же такой человек значим уже
тем, что он соотносился с вопросом о смысле жизни и в
сверхчувственном переживании его, так сказать
«идеально», решил этот вопрос для себя. Вообще говоря,
период поиска смысла жизни для Деятеля
труднопереносим, дискомфортен. Ему нужно как можно скорее найти
хоть мало-мальски удовлетворяющее решение. Отсюда
часты заблуждения и ошибки Деятеля.
Все это не означает, что найденное решение
«закрывает» личность человека, что человек личностно
закончился. Более того, именно в деятельности
сориентировавший себя по отношению к абсолютным ценностям
(тем или иным образом) человек трудится над своим
объемом и «выделывает» собственную личность, так же
как ремесленник выделывает свое изделие. Смысл
личности и индивидуальности Деятеля постоянно
объективируется и проявляется в деятельности, которая в целом
и получает социокультурную значимость.
187
Поскольку «дело» может иметь различную
направленность, то и индивидуальная деятельность такого
человека многоаспектна и многопланова. Постольку и личность
свою Деятель может выстроить, «сделать» в
соответствии с тем или иным направлением деятельности.
Поэтому личность Деятеля может достичь значительного
объема и в то же время иметь позитивную или негативную
направленность и значимость. Кроме Деятелей
гуманистического характера истории известны чрезвычайно
масштабные личности тиранов, своей деятельностью
разрушающие мир.
Деятель противостоит Абсурдисту уже одним тем,
что радикально иначе решает вопрос о смысле жизни.
Деятель всегда стремится изменить мир в соответствии
с тем, для чего он конкретно живет. Он стремится
изменять бытие других, так как в деятельном отношении
к жизни он не может не включать их в орбиту своей
деятельности. Поскольку его действия по изменению
мира могут быть направлены не только на созидание, но
и на разрушение, то Деятель разрушающий часто
заканчивает свою жизнь как Абсурдист. То есть так, что
его личность (даже получившая максимальное развитие)
и его индивидуальность (даже полностью
выразившаяся) погибают в абсурде, поскольку разрушительными
действиями противополагают себя как единственный
смысл — смыслу других, смыслу всего человеческого
мира, истории и логике его социального и культурного
бытия. А это само по себе нелепость, бессмыслица, абсурд.
Деятель-разрушитель (тиранического типа), внося в
мир разрушение в качестве последней и окончательной
цели, задачи и смысла человеческой жизни, тем самым
«создает» абсурд жизни как ситуацию, в которой он —
главный участник, полностью получающий воздаяние за
попытку разрушить смысл жизни.
Деятель позитивного плана создает смысл жизни в
труде. Его индивидуальная деятельность — конкретный
труд. Но труд и деятельность — не всегда творчество.
В труде часты монотонное повторение, расширение,
увеличение, тиражирование, приложение того, что уже
творчески найдено или создано. Деятелю с творческой
направленностью всегда грозит опасность стать не-Деяте-
лем, своего рода интеллектуальной машиной.
Выдвигая и реализуя свои идеи, Деятель выносит в
мир других сознаний свое толкование, свою
интерпретацию направленности жизни. Навязывая собственное
188
понимание индивидуального бытия и сближаясь порой
по своему поведению в безудержной нерефлексивной
деятельности с человеком абсурда, Деятель пытается
бесконечно раздвинуть границы своих индивидуальности и
личности, с тем чтобы наиболее полно реализовать в
мире «свою истину». Реальные жизненные противоречия,
с которыми сталкивается Деятель в процессе
объективации «своей истины», порой заставляют его проверять ее
сомнением — не в способе объективирования, а
сомнением фундаментального порядка: действительно ли смысл
жизни заключен непосредственно в ней самой?
Однако кроме этих противоположных
индивидуальных решений о смысле жизни логически возможны
другие подходы, а в живой реальности культуры
существуют иные пути, «снимающие» тупиковую завершенность,
конечность Абсурдиста и нерефлексивные, безудержные,
бесконечные действия ради действий Деятеля.
В третьей ситуации «встречи» человека с культурой
выявление специфичности индивидуальности и
самоопределение личности не ограничивается временностью
этой «встречи». Данная ситуация фактически незавер-
шима: она протекает как диалогически бесконечный
процесс. Здесь индивидуальность и личность человека-
субъекта уже «есть» и продолжают «становиться» вновь
и вновь, когда человек в беспредельно-чувственном
переживании вопроса о смысле жизни постоянно находит
ответ, но «живая жизнь», накапливаясь и сгущаясь,
делает этот ответ недостаточным, частичным и человек
опять принужден искать новый ответ.
В этой ситуации человек фактически решает для
себя, что ценность — это поиск, что смысл жизни
заключен в поиске его, в том, чтобы находить или создавать
смысл жизни. Такое напряженное отношение к поиску
смысла жизни, как к идеалу, обрекает человека на
постоянную креативность. В процессе и результате этой
«встречи» человека с культурой человек формирует себя
как Творца. Его индивидуальность и личность постоянно
со-творяются и рас-творяются, опредмечивая и распред-
мечивая себя.
Творец во многом подобен Деятелю, поскольку он
также может находиться в процессе деятельности. Однако,
во-первых, его деятельность характерна большим
диапазоном и в то же время не вторична, так как не
объективирует идею, уже выработанную или найденную, а
направлена на поиск и пронизана поиском. Во-вторых, Тво-
189
рец в отличие от Деятеля многократно переживает, как
выразился Я. Парандовский, «акт призвания». В иных
терминах он отмечает то же различие: «Есть разница
между писателем, которого вдохновила идея, и
писателем, призванным самим писательским инстинктом.
Первый выбирает перо среди нескольких возможных орудий
деятельности и, если оно было для него единственной
возможностью, откладывает его, как только выполнит
свою миссию. Для второго же творчество чаще всего
прекращается вместе с жизнью»22. Иначе говоря,
бывают писатели-деятели и писатели-творцы.
Творцу знакомо и состояние (понимаемое здесь не
исихологчиески, а онтологически) бытия, в котором
совершается безудержная деятельность, когда созданный
или найденный ответ о смысле жизни личностно
«перегорел», а индивидуальность продолжает расширяться и
человек заходит в тот тупик деятельности, когда
действует по инерции и начинает повторять самого себя. От
этого он может спастись и спасается остановкой, чтобы
«перевести дух» и вновь пережить «акт призвания»,
раскрыв новые, иные возможности собственной
индивидуальности.
Ему также знакомо и понимаемо состояние
бездеятельности, которое может наплывать на него, как
период абсурда, когда индивидуальность кажется
исчерпанной до конца, а личность продолжает путь
самоувеличения. Творец может спастись от абсурда тем, что и в этом
состоянии бытия он стремится (чаще всего
бессознательно) к раздвижению индивидуальности и личности,
к взращиванию их, стремясь растворить их в мире
другого по принципу не-деяния (того, что в китайской
философской традиции получило обозначение «увэй»23),
стремясь в соответствии с движением себя как
целостного существа «туда-обратно» (дзюн-гяку)24
освободиться от сиюминутной абсурдности бытия и вновь
устремиться в поиск.
Преодоление недостаточности абсурдного и чисто де-
ятельностного отношения к смыслу жизни в творческом
бытии, где постоянно совершается поиск абсолюта, не
исчерпывает все возможности сверхчувственного
переживания вопроса о смысле жизни.
В социокультурной реальности логически возможна и
четвертая ситуация «встречи» человека с культурой.
Задавая себе вопрос о смысле жизни, человек (по тем или
иным причинам) делает вывод: смысл жизни (его един-
190
ственной!) заключен не в абсурдности бытия, не в
деятельности, не в поиске (творчестве), а лежит вне
жизни. При этом замечательно то, что этот человек не
утверждает абсурдность жизни, он — не Абсурдист,
поскольку жизнь для него может быть исполнена смысла
или не иметь его; для этого человека значимо лишь
ощущение потустороннего бытия. Другими словами, он
фактически оказывается в невероятной, фантастической и
парадоксальной ситуации: в сверхчувственном
переживании вопроса о смысле жизни он отвергает
непосредственно сам вопрос, корректность его постановки,
невзирая на то, что вопрос «что есть жизнь?» (вообще, в
целом, абстрактно и конкретно, применительно к нему,
отдельному индивидууму) поставлен перед ним его
собственным наличным бытием, его индивидуальным
существованием.
Фантастический характер ситуации проявляется
прежде всего в том, что человек, отказываясь от
выяснения и уяснения жизненной сути, убегая от вопроса о
содержательности жизни, тем не менее не может
избавиться от необходимости отвечать на него. Поскольку
уже существующие способы ответа на этот вопрос
(абсурдность бытия как позиция, полнота жизни как
наполненность смыслом и поиск его) не удовлетворяют
«фантастического» человека, то он не просто
придумывает, но сочиняет, воображает невероятный,
фантастический ответ на вопрос, в чем смысл его собственного
наличного бытия. Не принимая непреложных очевидных
ситуаций «встречи» человека с культурой,
«фантастический» человек начинает (но запомним, что это только
начало для него!) с отвержения, неприятия: «...какое
мне дело до законов природы и арифметики, когда мне
эти законы и дважды два четыре не нравятся?»25
(Знаменательно, что не абсурдны, а — «не нравятся»!)
Парадоксалист, утверждающий это, герой «Записок
из подполья» Ф. М. Достоевского, становится в позицию,
которую позже окрестили как позицию «частного
мыслителя», ищет смысл собственного бытия в уходе от
жизни, от ее вопросов и в то же время не может избежать
жизни. Выходя из подполья в «живую жизнь»,
парадоксалист, показывает Ф. М. Достоевский, сразу же терпит
поражение, пытаясь конкретно реализовать свое
фантастическое своевольное хотение, что «дважды два пять —
премилая иногда вещица»26. Более того, глупость и вред,
и просто злоба, выносимые им как знамя своеволия, ко-
191
торое, по его убеждению, «во всяком случае сохраняет
нам самое главное и дорогое, то есть нашу личность и нашу
индивидуальность»27, в столкновении с «живой жизнью»
обескровливают парадоксалиста и, оказывается, не
сохраняют его личность и индивидуальность, а лишают их
человечески-культурной живой силы. «„Живая жизнь"
с непривычки,— констатирует герой в конце
повествования-представления своего подполья,— придавила меня до
того, что даже дышать стало трудно»28.
Парадоксалист Достоевского фактически приходит к
абсурду. Однако если для Абсурдиста в нелепости бытия
вся трагедия, то для «фантастического» человека это
только момент; для него не в этом суть. Он всем
существом стремится отринуть, отторгнуть от себя вопрос о
смысле жизни. Он не желает, не хочет переживать и
проживать этот вопрос. И потому самое важное для него
то, что «мы даже и человеками быть тяготимся —
человеками с настоящим, собственным телом и кровью;
стыдимся этого, за позор считаем и норовим,— заключая
свою повесть, казнит он сам себя,— быть какими-то
небывалыми общечеловеками»29.
«Фантастический» человек тем-то и характерен, что
в сверхчувственном переживании ненавистного для
него вопроса «что есть жизнь?» он выбирает запредельную,
трансцендентную сферу. Но если герой Достоевского
казнит себя за это и не впадает в мистику, не доходит до
нее, то это потому только, что он больше парадоксалист
и еще не полностью фантастичен. В
непосредственно-живой реальности культуры этим дело часто не
ограничивалось.
Лев Шестов пишет, что подобно парадоксалисту
Достоевского проклятие своего жизненного бытия сходным
образом переживали святые: «Потребовалось, чтобы Бог
отдал своего единственного Сына, потребовалась такая
жертва из жертв — иначе нельзя было спасти
грешника. Так верили, так видели, так буквально говорили
святые. То же увидел и Достоевский, когда отлетел от
него ангел смерти, оставив ему неприметно новые глаза.
В этом смысле „Записки из подполья" могут быть
лучшим комментарием к писаниям прославленных
святых»30. Далее Шестов, усматривая свое родство с
парадоксалистом в единстве позиции «частного мыслителя»,
бросающего вызов культурной истории человечества,
пытается отождествить Достоевского с его литературным
персонажем: «И вот, этот „возможный опыт" и его „пре-
192
делы", как они рисовались Канту и Конту (Шестов
имеет здесь в виду непреложность истин типа «дважды
два четыре».— В. JT.), показались Достоевскому вновь
возведенной кем-то тюремной стеной»31. И еще
неоднократно этот мистически настроенный медиативный
экзистенциалист XX века32 прибегает к «Запискам из
подполья», пытаясь решить, как можно отторгнуть от
себя вопрос о смысле жизни, еще и еще раз оправдывая
свое религиозно-экзистенциальное решение. Шестовский
духовный опыт показывает путь от парадоксальности к
мистицизму.
Как «охотник за трансцендентностью»
«фантастический» человек (его можно было бы назвать и мистиком,
если б за этим словом не стояло слишком много
неадекватных ассоциаций), воображаемым, фантастическим
образом установив, что смысл его наличного бытия вне
этой «здесь-и-сейчас» протекающей жизни, устремляется
в свою «подлинность». Но коли во всей окружающей
жизни этой подлинности нет, то где и в чем конкретно
Фантаст (будем для краткости и дальше называть его так)1
может уяснить специфику и качественность своего вне-
жизненного бытия?
Для Фантаста трагично, что и в этой «очищенной»
установке он вынужден соизмерять и узнавать
собственную трансцендентную подлинность через конкретную
непосредственно-живую реальность культуры. Так, ему
постоянно приходится решать вопрос (в связи с его
устремленностью к трансцендентным постижениям)
соотнесения его субъективного времени и времени,
протекающего вне жизни, (т. е. времени хотя и объективного,
по принципиально отодвинутого за подлинность земной
жизни, запредельного, того времени, в которое только и
может проникнуть этот эзотерически отторгнутый от
всего окружающего индивидуум). Фантаст, отказавшись
решить проблему «что есть жизнь», сразу же вынужден
отвечать на вопросы: что есть смерть? что есть время?
каково содержание и смысл вечности?
Но, чтобы ответить на них, он вынужден продолжать
«встречи» с культурой и именно в культуре, во всем ее
ценностном содержании, искать и отыскивать ответы на
данные вопросы.
Кроме того, в этой, отличной от других,
воображаемой в качестве основы для, подлинности, позиции
Фантасту приходится заново выяснять для себя, в чем
непосредственно в мире трансцендентности выявляется
13 Заказ Кя 667
193
специфика его индивидуальности, что составляет ее
содержание и каковы духовные основания и временные
вехи его личности?
Фантаст — не Деятель и не Творец. Он может
совершать деятельность, но только ту, которая для него
сопряжена с усилиями по достижению подлинного
бытия, расположенного вне пространства жизни. Точно так
же Фантаст может быть и Творцом, так как его
креативная деятельности ориентирована не на жизнь, не на
создание или отыскание особой (или новой)
предметности этого мира, а направлена на отыскание
предметности трансцендентного порядка (каковая и не
существует!) ив конечном счете направлена лишь на
перенесение личности в иное, запредельное время.
Поскольку Фантаст пытается расположить себя вне
жизни и вне непосредственно-живой реальности
культуры, то его индивидуальность как присущее ему
человеческое пространство сохраняется в невыявленном
виде. А так как у него особые отношения с объективным
временем, то развертка «я» «фантастического» человека в
его субъективном времени приводит к постоянному
наращиванию, увеличению, а порой и к
гипертрофированию личности при скрытой в своей динамике
индивидуальности. Не то чтобы личность Фантаста была
оторвана или отчуждена от его индивидуальности; просто
последняя принципиально «не замечается» личностью.
В экстраординарных усилиях личности слить воедино
сознание и бессознательное (то ли путем медитации, то
ли в других экстатических состояниях) для
развертывания «я» в мир запредельного индивидуальность скрытым
образом фокусируется, сжимается и сгущается (как
пространство) и сберегается для объективации именно
в запредельности. В крайних проявлениях у
Фантаста личность получает особенно сильное развитие за счет
латентной жизни индивидуальности, которая может так
до конца жизни индивидуума и не выявиться.
Однако Фантаст — фигура чрезвычайно напряженная,
нестабильная и подверженная внутренним изменениям.
Наиболее интересен Фантаст с той мощной личностной
определенностью, благодаря которой индивидуальность
вырывается из своего подземелья, подполья, скрытого
течения и проявляет в культуре свои границы и свое
содержание. В этом выходе за пределы себя Фантаст как
существо, находящееся постоянно в работе воображения,
194
сходен и сближается с Творцом, а порой и
трансформируется в него.
До сих пор для характеристики Фантаста мы
сближали (иногда до синонимичности) понятия «запредель-
ность» и «трансцендентность». Однако это не одно и то
же, и склонность к трансцендентному и даже
мистическому не исчерпывает всей культурно-духовной
сущности этого человеческого типа. Стремление к
запредельному в сверхчувственном переживании ненавистного для
Фантаста вопроса о смысле жизни и отталкивании от
него при прорыве, а лучше сказать — «взрыве»
индивидуальности, мощный потенциал которой накопила его
личность, выливается и запечатлевается в личностно-инди-
видуальных произведениях и поступках. Позиция запре-
дельности, как позиция «частного мыслителя», в этом
случае не несет в себе негативного содержания и, как в
опыте А. Эйнштейна, дает возможность рассмотреть
проблему истинности жизни со стороны, извне. Позиция
запредельности — это возможность не только для
Фантаста стать Творцом, но и для Творца стать в
фантастическую позицию, возможность сфантазировать
принципиально иной взгляд на смысл жизни, и не только
сфантазировать, но именно воображением открыть или создать
новый, непривычный, небывалый, иной образ истинности
жизни, который может быть вполне адекватным ее еще
не раскрытому содержанию, и предложить его культуре.
Человек — не статичное существо. Не статичное, но
все же определенное. Эта определенность порой
проявляется самим человеком; или обстоятельства жизни
заставляют выводить ее вовне, или она погибает вместе с
человеком, не получив своего выражения. Однако сама
эта определенность обусловлена и всей совокупностью
социокультурных условий жизни человека и характером
избирательности его в построении индивидуальной
формы своего бытия. Обрисованные образы человечески-
культурного отношения к жизни не выражают жесткую
связанность человека с тем или иным способом
избирательности; человек может менять их и в течение жизни
быть разнообразным. Потерпев поражение в избранном
им способе индивидуального бытия, он может избрать
другой и выстраивать себя заново. Потерпев творческую
неудачу, Творец может прийти к абсурду или впасть в
безудержное фантазирование себя вплоть до
галлюцинаторного состояния бытия, Абсурдист, устав от
нелепости своеволия, может обратиться к деятельности, а Де-
13*
195
ятель, разменяв на мелочи свою индивидуальность,
начать фантазировать себе новую личность. Здесь важно
другое: избрав тот или иной способ индивидуального
бытия в соответствии с определяемой для себя
осмысленностью жизни, человек ответственно переживает свою
судьбу, содержание историчности в себе и свое место в
культурно-историческом процессе. Это не проходит
бесследно, а чаще всего на переживание судьбы в
избранной конкретной форме индивидуального бытия уходит
вся жизнь.
Предложенные образы выражают сущностные
свойства «человека культуры» как целостного существа и
вместе с тем жизнь культуры в «протяженности» и
«длительности» человека. Эти образы рисуют нам человека
как существо, способное отчаиваться и создавать,
находить и терять, искать и устремляться вовне себя,
способного свертывать и развертывать субъективное время
и присущее ему пространство, но только в соотнесении
с тем объективным временем и пространством
содержательного смысла человеческой духовности, за которой
стоит целостный хронотоп культуры человечества.
1 Горький М. Литературные портреты. М., 1963. С. 172—174.
2 Пришвин М. Сказка о правде. М., 1973. С. 392.
3 Григоръян В. Т. Философская антропология. М., 1982. С. 164.
4 «...Из миллионов впустую протекших часов только один
становится подлинно историческим — звездным часом человечества»
(Цвейг С. Избр. произведения: В 2 т. М., 1956. С. 16).
«Впустую»— сказано излишне категорично. Именно, на наш взгляд,
благодаря наличию этого «пустотного» времени и возможны
переполненные «звездные часы».
5 Кант И. Собр. соч. М., 1966. Т. 6. С. 11—13.
6 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 25.
7 Там же.
8 См.: Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 314—
315.
9 См.: Резвицкий И. И. Философские основы теории
индивидуальности. Л., 1973.
10 См.: Межу ев В. М. Культура и история. М., 1977. С. 75—76.
11 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 42. С. 120.
12 Древнекитайская философия. М., 1972. Т. 1. С. 118.
!з Там же. Т. 2. С. 185.
14 Писарев Д. И; Избр. произведения. Л., 1968. С. 64.
15 Цвейг С. Мария Стюарт. М., 1959. С. 20.
16 «...Если ее (истории.— В. К.) задача — говорить людям о
настоящем,— писал Р. Дж. Коллиигвуд,— постольку поскольку
прошлое, ее очевидный предмет, скрыто в настоящем и
представляет собой его часть, не сразу заметную для нетренированного
глаза, тогда история находится в теснейшей связи с
практической жизнью» (Коллингвуд Р. Док. Идея истории:
Автобиография. М., 1980. С. 383).
196
17 Толстой Л. H. О литературе: Статьи, письма,- дневники. М., 1955.
С. 512.
18 Великоеский С. И. Философия «смерти бога» и пантрагическое
во французской культуре XX в. / Философия, Религия.
Культура. М., 1982. С. 48. Об этом же см.: Беликов ский С. И. В поисках
утраченного смысла. М., 1979. С. 18.
19 Шеллинг Й. В. Ф. Философия искусства. М., 1966. С. 72.
20 Цит. по кн.: Великовский С. И. В поисках утраченного смысла.
С. 50.
21 Там же. С. 51.
22 Парандовский Ян. Алхимия слова. М., 1972. С. 22—23.
23 Е. В. Завадская, раскрывая значение этого термина, поясняет:
«...„бездеятельная деятельность (увэй)", та есть „внешняя
пассивность и внутренняя активность"» (Завадская Е. В.
Эстетические проблемы живописи старого Китая. М., 1975. С. 155).
24 «Дзюн-гяку — принцип движения туда-обратно,—разъясняет
значение данного термина Т. П. Григорьева,—лежащий в
основе традиционных представлений китайцев и японцев о типе
всеобщего развития» (Григорьева Т. П. Японская художественная
традиция. М., 1979. С. 346).
25 Достоевский Ф. М. Записки из подполья / Достоевский Ф. М.
Собр. соч. М., 1973. Т. 5. С. 105.
26 Там же. С. 119. 28 Там же. С. 176.
27 Там же. С. 115. 2{ГТам же. С. 105.
30 Шестов Л. На весах Иова: (Странствия по душам). Париж, 1973.
С. 38.
31 Там же.
32 Подробнее об этом см.: Гальцева Р. А. Иск к разуму как дело,
спасения индивида: (Гнрсеологическая утопия Льва Шестова) //
Социокультурные утопии XX века. М., 1983. Вып. 2. С. 45—46.
КУЛЬТУРА И ЯЗЫК
ФИЛОСОФСКОГО СОЗНАНИЯ
Г. Д. Гачев
ЕВРОПЕЙСКИЕ ОБРАЗЫ
ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ
Философия и наука в ходе тысячелетних усилий
вырабатывают абстрактные представления и понятия,
очищая их от первичных образов и смутных созер-
паний. Однако так ли уж чист сам суверенный «чистый
разум»? Не просачиваются ли из национальной
культуры, из языка и природы в построения мыслителей такие
интуиции, которые окрашивают их особенным образом,
так что инвариант Единого (а именно его всегда
домогается философ) неизбежно предстает каждый раз в
вариантах, определяемых во многом принадлежностью
мыслителя к той или иной национальной культуре? -1
Эти вопросы составляют содержание настоящей гла-
зы, посвященной исследованию национальных образов
Пространства и Времени в основном через анализ их
этимологии в разных языках, с привлечением метафор,
образов и других символических форм, характерных для на-
пиональных культур. Конечно, термины и понятия наук
чаще всего используются вне содержания, которое
залегает под этими образами, однако смысловые линии и следы
метафорического происхождения не могут не
сказываться в содержании, которое мыслится под термином.
Причем связь эта — не только ограничивающая универсализм
понятия, но и творчески-эвристическая.
Мы автоматически повторяем: «Пространство и вре*
мя»,— обязательно вместе, как уж неразложимое
сочетание, наподобие фольклорных сращений: «красна
девица», «бел-горюч камень» и т. д. А вот Рене Декарт,
например, в таковом сочетании не чувствовал
надобности.
Есть сплошняк протяжения-вытягивания (ex-tension)1,
все плотным веществом залито из частиц с разным дви-
жением-кишением: ну да, в кишках бытие; мир — как
198
сплошная внутренность без границ. Внутрь нас если
опустимся, понадобится ли нам там пространство и время?
Для физиологии и процессов ассимиляции-диссимиляции,
обмена формами, движениями, важно, чтоб шло
кругообращение вихря, потоков вверх-вниз, вбок — но нужно
ли там время? скорость? Тут даже естественная шкала и
мера есть: биение сердца, вдох-выдох, т. е. не
привнесенная извне (так, Кант увидал представления пространства
и времени как наши предписания Космосу), а своя,
внутренне присущая и сращенная. Время тут работает, а не
стоит извне, соглядатаем (как в Ньютоновой системе
мира как пустоты), так что его извне можно накладывать
и примерять.
Пространства в нутре вообще нет как об-шир-нрсти:
тут в-ширность, все притерто друг к другу, касается,
испытывает сжатия, разряжения-облегчения продохнуть,
толчки, и всё — от соседей (даже свет, по Декарту, есть
давление соседа-чаотицы в глаз), и никакого тебе
расстояния: оно — иллюзия (движение ведь, по. Декарту
есть всего лишь смена соседства). И не имеет охоты
Декарт измерять расстояния от Земли до Луны, Солнца,
орбиты планет, как это делают Кеплер, Галилей... Нет
у него охоты и к астрономическим числам, им
удивляться и ими поражать профанов.
Представим: если закроешь глаза — что тебе мир?
Облегание, которое то плотнее, то воздушнее — вот и все.
При чем тут пространство? В его понятие ведь прежде
всего входит рас-стояние, от-стояние и — кстати (и это
№)— от корня «стоять», distance — тоже. И это
логично: само пространство обозначается в философии
западной культуры латинским словом spatium — от spatior
(шагать). И французское espace и английское space
оттуда же. А вот немецкий термин для «пространства» —
Raum — прямо со значением «пусто», «чисто»; ср.:
«Räumen— убирать (комнату), очищать (улицу от снега),
уносить (мусор), отодвигать, отстранять, устранять;
освобождать»2.
Итак, германское чувство пространства есть «от-стран-
ство», у-странение, а не распро-странение —
протяжение — растекание некоей полноты-жидкости (как у
Декарта).
В словаре Пауля: «Raum (старонемецк. и среднене-
мецк. rum)—общегерманское слово (англ. room), корень
связан с лат. rus, Land — земля (деревня.— Г. Г.),
обозначает первоначально: пустое, незаполненное (das Lee-
199
re; Unausgefüllte) (откуда также значение производного
глагола räumen) ; и лишь вторично: нечто протяженное
(etwas Ausgedehates — „вытянутое" — вот немецкое
слово для Декартова „протяжения14, а не Raum.— Г. Г.),
растянутое определенным окружением (von bestimmter
Begrenzung...).
(Если у Декарта extension — само из себя вытяги-
ванье, растягиванье, без думы о том, куда, откуда, а
просто изнутри идущий импульс, то в германстве
протяжение сразу, изначально, в самом понятии связано с
границами, формой (стены всеопределяющего Haus'a маячат
в подсознании), которые извне соделывают себе нутрь,
пустоту. Стены (пределы) суть субъекты пространства-
отстояния: оно — их функция; и действительно, стены
от-стоят, рас-стоят, рас-ставлены. У Декарта есть где-то
рассуждение на тему: что, если бы между стенами дома
была подлинно пустота? Тогда они, по его суждению,
сошлись бы, ибо на них извне — давление всего мира без
противодавления: нарушен баланс. В германском же
понятии действие обратное: стены как бы начинают
отступать друг от друга (имеют эту способность и мощь) —
и образуют для себя пустоту, чистоту, нутрь. «...без
оглядки на то, исполнено оно содержимым или нет
(mit Inhalt ausgefüllt)»3.—Г. Г.).
Итак, Декартово extension — протяжение — это
самоучреждающая (ся) полнота матери(и): по образу и
подобию жидкости растекается и, растекаясь, именно творит,
образует протяжение. Ибо возникает вопрос: куда
растекается? Уж должно быть пустое место для них... Но это
тогда другое осиовоначало — и, кстати, оно-то и берется
германством, которое в мироощущении исходит не из
стихии теплой воды, которая через chaleur расширяется
и потягивается — как мы руки и ноги протягиваем после
сна (тоже важный внутренний образ чувственной неги,
покоя и блаженства — ср. и у Декарта, и у Пруста).
И это уподобление в духе Декарта: он все время
озабочен, чтоб пребывать в бодрствующем сознании; тоща и
мир — честен, предстает без обмана. Так что у него
законно вместе сопряжены ясное дневное очевидное — в
разуме — и дневное бодрствующее состояние вещества —
в растяжении, движении. Ибо, до того как бог его
толкнул, растолкал увальня и подвиг, оно было поистине
смертью, спало мертвым сном в состоянии абсолютно
твердого тела.
Итак, по. Декарту, важнее вытяжение, чем куда вы-
200
тягиваться: само вытяжение и творит себе «место».
В германстве же важнее и интимнее — Дом бытия: со
стенами и пустотой внутри — для жизни, воли, души,
духа. Так что — как пустота образуется, по-мещение,
жизненное пространство? — вот о чем его попечение,
а что она есть — это несомненно, аксиома, так же как
для француза: пустоты — нет, а все есть — полнота.
И extension полностью Декарта удовлетворяет, ибо
тут одновременно понятия матери (и), полноты, и того,
как она действует, живет, движется. Так что никакого
ему там еще дополнительного понятия пространства не
надо. Если б нужно было, он должен был бы прибегнуть
к слову espace, от латинского spatium (от spatior —
шагать, ступать; ср. немецкое spazieren —- гулять). Но ведь
оно обязывало бы его к другому внутреннему
созерцанию, представлению: шагать, ходить, твердотельно чрез
пустоту,— что вполне родно для римски-итальянского
мироощущения (Лукрециев космос: атомы и пустота):
твердые тела — камни — индивиды в пустоте. Spatium
есть пространство, творимое и меряемое шаганием, т. е-
дискретиое, рубленое, а не плавное, жидкостное,
континуум, как Декартово extension. Так что espace и
spatium — понятия совсем другой физики, чем Декартова. Им
соответствует (ими генерируется) физика наружи (а у
Декарта — физика нутра, скорее физиология бытия), где
наружа крепка: стены, границы, пределы (и там, как
координатные плоскости — балки и перекрытия,
выстраиваются Пространство и Время), а полость, нутрь —
пуста, и туда вступают с боков-границ твердые тела
(куски, что ли, отваливаются от стен?) и странствуют там,
кинематствуют — «кейфуют» в инерции, как сомнамбула
под эгидой содержащих их самодержавных координат —
мер наружных им: Пространства и Времени.
Новейшая физика наделила сами эти тела
априорными, врожденными им, ими генерируемыми
Пространством и Временем: «тело отсчета», как человек, наделяется
душой, нравом, как компасом, и свободой воли — для
относительного самодвижения в странствии по миру.
Теперь каждое тело совершает «the pilgrim's progress» —
«Путь Паломника»4.
А то, действительно, как было? Стоит наш ум где-то
на границе мира (где идут оси отсчета абсолютных
Пространства и Времени) и оттуда мгновенно все видит, что
на опустошенных от самости движущихся телах
происходит, отмеряет их. Слава богу, заподозрил, что не может
201
пз своего бесконечного прекрасного далека видеть и
разобраться, что там в теле действительно происходит:
заметил обманы, своеволия обнаружил в теле (Лоренцово
сокращение). Тут уж и надо стало Уму перестраивать
свой Дом бытия.
А ведь как он сложился, построился? У Декарта
«пространство» совпадало с материей-полнотой, которую
потом Ньютон начал расчищать. Разогнал и обессмыслил
зо многом материю, лишил ее полноты прав в бытии:
собрал ее в сгустки — города частиц: тела с
определенными массами. Далее и их упразднил, заменив
математическими точками в центре тяжести тел, так что и
понятие массы лишилось совсем своего, оамостного смысла,
а стало лишь коэффициентом (т. е. «со-деятелем», а не
деятелем-демиургом в мире), показателем, мерой F/a,
так что и вообще без нее можно. Недаром были и есть
основательные попытки строить физическую систему
единиц из двух составных: L и Т, без M5. И это вполне
законное доведение до конца математических принципов
натуральной философии Ньютона. Этот шаг,
философически, и сделал Кант.
Но еще о Ньютоне. Это был подлинный поход на
материю как протяжение-полноту. Он ее рассек и вычленил
как бы «сокрытые» в ней представления и обособил их:
зыделил массу, которая есть уже обессмысленная
материя, чистая пассивность; а смысл, выдавленный из
материи, представленной теперь как масса (а ее, материи,
свой смысл был: протяжение — это способность), извлек
как квинтэссенцию (но уже не материальную) и
представил ее как абстракцию нашего ума, и рас-ставил по
краям опустошенной таким образом Вселенной, как
координаты абсолютного «пространения» и абсолютного
<временения».
Итак, Пространство и Время были выужены из моря
Матери (и) и, родившись, убили и отменили собой мать:
сначала — почти, у Ньютона, а потом философски почти
совсем (Кант), а уж в энергетических теориях XIX в.
л в кинематических (квантовая, относительности) XX в.—
и физика стала без физики (ибо физика — от Oogiç,
природа). И у Эйнштейна, в формуле Е = тс2 масса
тоже заменима на L и Т, скорость, свет...
Но совесть в физике есть?!
И первородный грех убиения Матери (и) стал
сказываться в физике в парадоксах теории поля, изгибах —
искривлениях, чудесах и фокусах ползучих мер (растя-
202
жимых, т. е. вон где опять материя-протяжение
выскочила: в окно забралась, коль гонят в дверь). Вот и
лихорадит нынешнюю физику —как Ореста эринии за
матереубийство. Орестов грех в ней, комплексом Ореста она
одержима.
А что же сделал Ньютон, аннигилировав Материю?
Он создал свет — как бог. Воистину правильно понял его
дело поэт Поп:
Был этот мир глубокой тьмой окутан.
Да будет свет! И вот явился Ньютон6.
И свет стал константой непреложной: у Эйнштейна
скорость света постоянна — к этому вело учреждение
Ньютоновой вселенной, так что Эйнштейн — завершал.
У Декарта ж и свет есть давление тонкой материи,
жидкостно устроен, как полнота.
В пустом пространстве Ньютона — Эйнштейна свет
носится. В Библии божий дух носился над водой в день
первый творения, т. е. Декартов влаговоздух: дух ведь —
ruah, женского рода. Так что Декартово состояние
вселенной чуть раньше Ньютонова, хотя оба — в день
первый. И выходит, что последовательность
миропредставления в новой физике как бы воспроизводит
последовательность мифа о стадиях миротворения.
Итак, вынутые Ньютоном из материи мира смыслы
расположились по его пределам как стражи:
Пространство и Время; мир же сам по себе стал бессмыслен:
«пуст», «безвиден» = безыдеен. Следующий шаг был
вполне последователен: Пространство и Время суть не
объективные категории бытия7, но субъективные формы
нашего, человека, ума: априорные формы нашей
чувственности, т. е. ориентированности вовне, наружу
(Пространство) и внутрь себя (Время). Т. е. если по
Ньютону они еще оставались в бытии, онтологически как
Абсолютное Пространство и Абсолютное Время, но остались
там уже практически безработными (ибо работаем-то мы
с относительными пространством и временем), как и бог,
вместо которого в заведенном им однажды бытии
управляются со всем его наместники в природе — три закона
Ньютона, новая, земная Троица — то следующий шаг
Канта, был: раз они в бытии безработны, а работают
только через нас, значит, они не бытию нужны, а нам,
мы без них не можем, они суть объективные формы
сознания антропоса.
203
В этом кантовом жестком самоограничении и бьется
доселе наука.
Но что это я стал автоматически Время прихватывать,
хотя вмедитировался только в Пространство, в то разное,
что может под ним иметься в виду?
Время — tempus (лат.). В этимологии его связывают
опять же с «тянуть» (лат. teneo, tendo, откуда и
Декартовы термины extension — протяжение и entendement —
мышление-понимание-внимание). В Оксфордском словаре
английского языка (изд. 1955 г.) : «Time — староангл.
tima, старонемецк. timon — вероятно, от корня ti —
простирать, протягивать (to stretch, extend) абстр. суфф.—
mon-man». А германское ti в немецкой ziehen — тянуть,
влечь, протягивать — йе сопряжено ли с Zeit? Но у
немцев другое понятие времени — как рубленого отрезка:
время — срок; это вечность — тянется, длится. Потому
в «Этимологическом словаре латинского языка» д-ра
Алоиза Вальде8 так характеризуется tempus: «Zeitraum
(«пространство-времени» как промежуток, т. е. пустота,
назор между стенами, которые суть что-то; т. е. это —
между чем-то, не самостояние.—Г. Г.), Zeitpunkt
(«временная точка»: интересна здесь возможность схождения
зазора-отрезка пустоты, Zeitraum — в «точку»,
Zeitpunkt = «укол» «пункция».— Г. Г.): не бесконечно
простирающееся время» (nicht «die endlos sich
dehnende Zeit») и потому как временной отрезок
(Zeitabschnitt) ...
Т. е. рублено, трудово предстает «время», тогда как
«вечность», длительность — гонийна 9, самородна, мате-
ринска, женска. Недаром у Гёте все это сопряжено в
стихе: Das Ewig — Weibliche zieht uns hinan— «вечно
женское нас тянет»: ziehen — Zeit; Ewig же — из лат.
aevum— вечно, греч. ашу. И по звучности они сродны:
.ewig, Weib, ziehen (e—i)—ширь-даль; фрикативные
(«трущиеся») «W» и «h» означают трение-течение, суть
протискиванье струи воздуха в течении, как жидкость,
вода. Т. е. ощущение вечности сопряжено с женским,
с водой... с царством Матерей (о котором во II части
«Фауста» — жак самом глубоком и мистическом
измерении бытия).
Время же в германстве, и по звучанию «Zeit» — резко
отграничено, как стеной, смычным-взрывным t с обеих
сторон,-ибо аффриката z-ts^начинается с t, так. что> Zeit-
tsait обрамлено t, совершенно секущим бытие
твердотельным звуком: передним, зубным, верхним, приближенным
204
к верху и переду, где мозг и глаза, ум. Это звук
работающего духа: Zeit — брат Geist (тогда как Ewigkeit —
сестра Материи, Flùssigkeitfliehen — бежать, течь).
Zeit — слово-отрезок, temps — слово-струна, temps —
дрожит, как струна-волна; Zeit (жен. рода)—пряма, как
доска.
Отсюда, в свете врожденного германского ощущения
Zeit, у Вальде соответствующая трактовка и латинского
tempus: «Zeitabschnitt (отрезок времени)—ср. также
temperare по наиболее вероятному пониманию, его
первоначальное значение — «einen Einschnitt» ( = «врез»,
разрез, вырез, выемка — т. е. опять опустошение,
сотворение пустоты, Zeitraum — Г. Г.) oder Abschnitt («от-рез»,
от-брос наружу, в дверь Haus'a.— Г. Г.) machen, daher
ein Maß, eine Grenze setzen» = «pa3pe3 или отрез делать и
потому меру (а Maß — мера — от messen — тоже
„резать4', ср.: „нож"— Messer.— Г. Г.), границу ставить».
И темперированный клавир (для которого Бах
написал свои 48 прелюдий и фуг)—это именно хорошо
обрезанная длительность, по мере натянутость (струна ведь —
жила, т. е. сосуд-русло реки-воды, струна-волна,
женское, живое — гопия. Темперация же есть дело труда —
ургия: устанавливает в музыкальном инструменте —
строй, т. е. структуру, строго установленное соотношение
отрезков — длин струн, их толщин и натяжений, т. е.
устанавливает средь них социум, полис, ансамбль,
общество).
Отсюда и templum — храм, как вырезка из мира, его
макет и образ.
Так вот: германский филолог доктор Алоиз Вальде
далее в сомнительном наклонении сообщает о связи
tempus с ten — тянуть: «Так как tempus не обозначает
бесконечно тянущееся время, то едва ли (приводимо) к ин-
догерм. tem -p- (ten-, tendö) dehnen (простираться —
dehnen того же корня, наверное, что и ten.— Г. Г.) в лит.
tempiu, tempti чрез влечение (Ziehen) напрягать,
растягивать, timpsoti — «распростертым лежать»; староболг.
tetiva — «тетива».
«Время» обычно сопрягается с понятием «Вечность» —
aeternitas. Оно — от лат. aevum — «Ewigkeit (вечность);
Zeitlichkeit (временность), Lebensdauer (длительность
жизни); Zeittalter (век, возраст) ...= готск. aiws,
староверхнем, ewa англосакс, и, xw... («всегда») (immer), греч.
maw». (S. 13).
205
Если tempus — Zeit соединяется с операцией резанья
(schneiden), то aevum — Ewigkeit — с лат. jugis = вечно-
длящийся, постоянный, и далее iugum — связь, т. е.
любимое французское lien, liaison, учреждающее
непрерывную плавность, текучесть, континуум, волнообразность
в бытии. Недаром и лат. jugis — применяется к воде:
«beständig fliessend — постоянно текущий» (S. 14).
И если в tempus звуки действительно трудовые: водя-
но-носовое примордиальное «em» взято в жесткий оборот
смычными t и р, то в aevum — вольное непринужденное
растекание: а — звук чистого пространства, е — звук
шири, и — глубины. Между ними согласные: v и m —
звонкие, во-первых, т. е. не сухие, а влажные, водяные,
женские; во-вторых, длящиеся, текучие, а не дискретно-
взрывные-смычные (как мужские t и р в tempus). Далее
v — билабиально, губное, влажное, a m — носовое, влаго-
воздушное, сонорное — длящийся звук, дрожание тетивы-
струны.
Так вот: никаким боком не влезает и не нужен
Декарту в его коомогонии tempus этот рубитель-рубильник.
Достаточно, что бог первоактом насек сплошное твердое
тело материи-протяжения на куски-части; дальнейшая же
вся задача бытию — умягчение, умиротворение,
сглаживание, нивелированье, а это — работа, присущая стихии
воды: течению, движению, длительности, durée.
Хотя и тут у Декарта сходство с Августином:
согласно последнему, с творением бог внес и Время (до
творения не было времени, была вечность, так что время —
соприсуще тварям). Й в конце мира, о котором
Апокалипсис, сказано: «И будут новая земля, и новое небо
(т. е. упомянуты первые твари бога — Г. Г.), и времени
больше не будет».
Время есть очень отцовско-мужеское, ургийное,
понятие (недаром сопряжено с Творением, а о пространстве
такого что-то не слыхать в рассуждениях отцов церкви).
И в Декартовой, более женской, картине мира, его
(времени) жесткость, dureté не нужна. Тут вместо времени —
движение, течение, изменение, даже скорость разная. Но
именно оттого, что все там разно, текуче, переходяще, от-
дающе себя обменно, в целом так все гармонировано —
ничего тут и ню вычленишь как Zeitpunkt или Zeitraum:
нет им места и работы, ибо чтоб временную точку
отсчета установить, нужно иметь чем хоть на миг, но
останавливать движущееся тело (точку); это и делают дальше,
по Галилею — Ньютону: скорость за отрезок (промежу-
206
ток) пути, времени или мгновенную... А как же
«остановить мгновение» (по Фаусту, что надо и желанно) в
Космосе Декарта, где весь он целостно движется, все
частицы взаимно?..
Пожалуй, не только le temps, но и la durée, éternité
не нужно Декарту (редко у него это слово и аспект) :
ведь они взаимно сопряжены, одноуровневы, эти
понятия: время и вечность, так что привлечение одного
влечет за собой и другое. Ни времени, ни его антипода —
вечности ему не нужно: не работает жилка на это, нет
органа — нет и дилеммы (а как она раздирающе мучит
в гермаистве! Антиномия!). Dure y него рядом с dureté
длительность — твердость, жесткость, длительность есть
мера существования тела сомкнутым в себе, твердым,
ограниченным. И как твердое тело (стихия земли) не
родно психее Декарта, так с ним вместе — и durée. Это
уж в XX в. французы (Бергсон и Марсель Пруст) в
полемике с германским Zeit стали термин temps метафизи-
ровать и поднимать.
Итак, не нужно Декарту tempus, так как в своем
значении (ten — тянуть) оно уже содержится в протяжении,
а дискретное время германства ему чуждо: противокос-
мосное б ему это было понятие, ересь.
Поскольку и Кантово пространство для Декарта
тождественно с полнотой материи, а она — с протяжением
и время (tempus) в своем смысле «тянутия» тоже
утопает, где-то плавает в протяжении, как потенция, то
понятие extension (протяжение) для него вполне
достаточно, и незачем ему этих худосочных дублеров
(абстракций пространства, времени) оттуда вытягивать и
учреждать на самостояние.
Значит, Ньютон растаскал (абстрагировал) Декартово
протяжение: вытянул оттуда абстракции (=«выволочки>>,
лат.) «Пространство», «Время» и поставил их в качестве
скобок бытию, вынес в скобки.
Декартово бытие — это бесконечный многочлен.
Ньютон же учредил его биномом из двух членов: а —
Пространство (L), Ь — Время (Г),—и из них, в разной
степени сочетаний, стало возможно строить все.
Тянулось себе Декартово протяжение упруго, сильно,
довольно — живая матерь (я)-женщина, исполненная
«живых сил»10. А Ньютон вытянул из него содержимое, его
жизнь и силу, и образовал из этого две оси. И тогда
протяжение перестало быть протяжением, обмякло,
бессильно повисло, с ним стало возможным дёдать все, что угод-.
207:
но, как с массой: свернулось небо в овчинку; марево
материи, освобожденной от желаний (воли, потенции,
мощи), свилось в шагреневой кожи комок, а далее — в
математическую точку себя до-пустило (окружившись
пустотой и к ней причащаясь, по-свойски с нею став).
И из-под протяжения вылезло, выпотрошилось
пространство — как пустота, организованная куда-то
вынесенными, как скобки, осями. И хотя механико-матика помещает
эти оси в сердцевину, сюда, здесь (крест декартовых
координат), они, где-то там, оттуда, извне незримо
управляют, наводят, содержат, приписывают содержание
протекающим внутри себя процессам.
Медитацию над пространством я начал тем, что
закрыл глаза, отрешился от зрения — и ощутил кругом
себя (и на себе) упругие волны: давления, толкания —
и все (и больше ничего), так что солидаризировался с
Декартом в миропредставлении: кругом (и во мне) все
тянется, все есть вытяжение (extension = протяжение)
и втяжение (entendement = мышление). Но вот я открыл
глаза — и распахнулось бытие, ослепительно-огромно.
Без зрения я не знал бы величия, большого,
превосходящего меня. Ведь все, что воспринимается мною,
мельче меня, моего органа; вкус внемлет лишь то, что
поместилось в рот, обоняние — что вошло в ноздри,
осязание — что локально надавило в точке тела; слух даже —
ловит накат бытия лункой своей и не ведает, большое
там иль малое: океан или трещотка произвели звук? —
лишь мягко иль больно — вот мера в ухе. А зрение есть
вынос вне нас. Все остальные чувства — внос в нас::
в нос, в рот, в ухо, в кожу. А зрение — взлет: открыл
глаза — как вылетел из себя в мир. И зрение — более
своевольно, свободно, произвольно. Ухо всегда открыто
внешним в меня вхождениям; воля тут вне меня: чему-то
вздумается послать звук, волну — и она в меня входит,
хочу я того или нет. Так же самое боднет меня мир и в
обонянии, в осязании: кожа открыта морозу, теплу,
давлению, уколу, удару, а уж ты изволь ощущать, что
прикажут.
Но в зрении человек волен смотреть иль не смотреть:
я могу открыть иль закрыть глаза, отвернуться (от звука
как ни отворачивай ухо — все равно он тебя обнимет и
изгибом волны сбоку войдет). Конечно, предметы зрения
даны извне —. но можно на них смотреть иль не
смотреть. Сам акт приподымания век с ресницами — это как
взмах крыл. Недаром поэты ресницы с перьями сравни-
208
вают и крылатость взгляда, полет взора чувствуют. А
полет — свойство птицы по пространству, которое она
полетом описывает. Так и мы зрением — взглядом сотво-
ряем пространство, очерчиваем: носимся в нем, как
птица, как луч света. Потому и эллины считали, что глаз
лученосен, и Гёте («глаз не видел бы солнца, если бьг
не был солнцеподобен»). Именно в том, что зрению
присуща свобода воли, и есть совершаемое в смотрении
излучение. Ухо не излучает, и ноздри, и кожа, а лишь вос-
приемлют иль отражают невольно. Глаз, открываясь, дает
притекаемым образам согласие отражать — и этим своим
актом согласия, он их со-творяет, описывает, очерчивает
их формы. Когда смотрю, неизвестно, что тут: на меня
стекают образы — давления частицы — лучи иль глаз
снимает оболочки с дальнестоящих предметов, обводя их
лучами своими, как руками гладя, и чрез прикосновение,
по проводникам лучей, от них, от вещей, в человека
точки стекают?
Главное в воззрении — акт разжатия век: там, где
была просто кожа, пленка, т. е. продолжение щеки,
способность осязания, вдруг это само раздвигается — и
образуется щель, пустота, Тартар, бездна. Это в принципе
так. Так что естественно, что бездна тут же
распахивается перед индивидом («опредмечивается», в-представляет-
ся ему) как (пустое) пространство, бездонное, во всо
стороны,— и в то же время тому, кто смотрит в
человека: миру, Солнцу, другому человеку, раскрывается
бездна в субъекте —- внутренней жизни души, чьим
«зеркалом» и проводником являются глаза. Недаром говорят:
«бездонные глаза». Таким образом, раздвйженье век есть
воздвиженье вселенной, акт сотворения мира свободной
человеческой волею.
До начала зрения для человека все сомкнуто, глухо,
немо, безвидно (как земля до «да будет свет!»),
непроницаемо (тоже свойство первоматерии, в том числе и
твердого протяжения Декарта до первого рассечения
богом и раздвйженья)—и вдруг прорезалось что?
Открытость бытию навстречу, незакупоренность человека
(и бытия вообще), их обращенность, возникли перед
лицом, личностью. Свет выпорхнул через прорезь как
птица, с ликующим криком,— как прорезывается первозаяв-
ление жизни в новорожденном. И мир залился светом и
стал называться «свет».
Итак, безднетворен взмах век. Раскрывается в этой
связи и метафизический смысл гоголевского «Вия». «Под^
14 Заказ H 667
209
лимите мне веки!» — призывает железное чудовище.
Своею силою сомкнутое плотное вещество этого сделать
не может: сотворить свет и пустоту = пространство и
движение. Это сомкнутое плотное существо Вия — как
сплошняк недвижной Декартовой материи до распахи-
ванья ее богом. И когда прорезь (рассечение, разделение,
различение, раскол) совершается, тогда и сотворение
мира совершается (первый акт). Тогда все обретает вид
(идею) и форму и лицо — завязь идей. Понятно, почему
наш «хвилософ» Хома Брут, присутствуя при акте миро-
творения, получил молнию через глаза в сердце и упал
замертво. Ибо столько потенциальной лученосной
энергии было накоплено в материи за вечность безвидности и
несмотрения, что, когда совершился раскол — прорезь,
взрыв -и дан был выход джинну из бутылки, то такой
взрыв света* такое светоизвержение совершилось, что по
катастрофичности своей равномощно имеющему, по
мифам, быть светопреставлениюи, которое тоже вряд ли
будет постепенным затуханием последнего луча, но
самозамыканием Вселенной: ее створки, как веки Вия,
закроются навек, и образуется тьма кромешная. Жар-то будет,
а света не будет. Это и есть то, что именуется «адом» и
«геенной огненной»: жар распирает невыносимый, но
огонь не превращается в свет, не выходит светом. Ибо
для света именно нужен выход, пространство. Впритык
ничего не увидишь, нужен зазор.
Лицом к лицу лица не увидать:
Большое видится на расстоянии.
Т. е. само расстояние полагается светом как условие и
поле его бытия, творится, сотворяется с ним вместе и
сопряженно: одно творит и предполагает другое.
Так что категория пространства как рас-стояния и
пустоты есть светородная, есть жизненное пространство
свету, без которого ему не жить и где он — демиург и
мироустроитель: его скорость есть константа. А скорость
как константа есть просто бытие, пребывание, стояние.
Ведь не подлежит скорость света ускорению (насилию,
зависимости). Скорость света как константа есть свобода
и независимость: свет — самодержец пространства: его
устрояет по своему образу и подобию и содержит
скорость света («с» входит ныне во все уравнения всего
совершающегося в бытии прямо иль чрез промежуточные
звенья: микрочастицы и т. д.).
210;
Как птице нужен простор и свобода, так и свету —
пространство, пустота, чтоб их собою заполнять, быть
там чистым бытием («эфир»)—дрожать лучам, как
струнам, вибрировать световым связкам. Можно лучи
уподобить голосовым связкам (связные, вестники-«ангелы»12)'
пространства: тут его Логос — голос, все потенции его
звуков (волн) и слов.
Но Декарту было противопоказано так «видеть» свет.
Для французского сознания более характерным и
привычным было трактовать свет по образу и подобию своего
первочувства — осязания. Так Декарт и сделал в
«Трактате о свете»: свет-давление, нажим непрерывного столба
(= струи-луча) первого и второго элемента на точку
глаза. Зрение — пассивность, не лучеиспускание, а лучепо-
глощение. Тут все сопряжено: раз не допускается
пустота, значит, нет и свободы у зрения, выбора быть или не
быть. А выбор и есть акт воли. Воля ж в свете есть
излучение — как актуализация потенциала, накопленного
за время закрытия.
Почему мы мигаем, моргаем? А это такое же
тактовое биение, как у сердца пульс иль у дыхания
вдох-выдох. Человек этим то творит, то уничтожает мир,
разделяет или (соединяет) «я» и «не-я». Вот глаза закрыты —
и человек чувствует только себя: точнее — нет «я» и нет
«не-я», а всё — марево протяжения, сплошного.
Вот глаза открыты — и человек оставил себя и
испытывает острейшее чувство мира вне себя, «не-я»
в отличие от «я», мир — как Личность, лицо (ибо и
смотрит человек лицом, и его, лицо же, проецирует в
расстилающееся бытие)—и может к нему от-носиться,
любить...
Теперь, в свете этого различения, постигается разница
между гилозоизмом и представлением мира с богом.
Гилозоизм — это ощущение мира как живого существа, как
живой плоти. И это соответствует вчувствованию в мир,
в его марево. Океан, протяжение,— когда я с
закрытыми глазами в нем полощусь, плескаюсь в его
накатах-дыханиях, чувствую его грудь и пульс. Но не вижу лица.
И он — живое существо, но не личность.
Когда же глаза широко раскрываются, приходит
у-див-ление (по-украински «смотреть»
вообще—«дивиться»). А «див» — того же корня, что deus, fteoç— бог.
Бог же не просто живое существо, но идея (вид-эйдос),
«лик божий», лицо, Личность, т. е., как и «я», он
тоже «Я».
14*
211
И то, что у-див-ление — начало познания (по
Аристотелю), вполне верно, ибо это есть раз-лич-ение:
вычленение из марева — определенностей (ведь «лицо» уже есть
абстракция сложного Сфероса «головы», а именно —
плоскость, перед).
Мир рассекается перед светом: расступается,
разделяется, различается, обоготворяется — одухотворяется. И эту
мысль мира уже можно вторым тактом-актом в себя
вбирать — познавать.
Потому Логос ассоциируют со Светом (Свет знания)1
и в дышащем эллинским духом Евангелии от Иоанна
цепь отождествлений: Бог = Слово (Логос) = Свет =■
= Жизнь.
Но вернемся к Ньютонову выпотрашиванию Декартова
протяжения. Когда я взвидел там (с. 208) «небо с
овчинку», а вспомнил про «шагреневую кожу», которая
свивается по мере исхождеиия энергии желаний, мне
пришло на ум прочитанное у М. А. Маркова в статье
«О понятии первоматерии»: как тела слагаются не из
более мелких, нежели они, частиц, а суть свивание более
крупных масс, даже миров, Вселенных, с излучением
энергии: «В отличие от традиционной идеи о структуре
материи, согласно которой объекты строились из частиц
все меньших и меньших масс, возникла идея строить
частицы данных масс из более фундаментальных частиц,
обладающих большими массами.
Уменьшение массы результирующей системы
возникает за счет сильного взаимодействия тяжелых частиц,
составляющих систему. В результате этого сильного
взаимодействия часть общей массы покидает систему в виде
различного рода излучений.
Таким образом, в системе частиц из-за сильных
связей между частицами возникает так называемый
„дефект масс'1 системы. Именно эту массу надо затратить в
виде соответствующей ей энергии, чтобы расщепить
систему на ее „составные части" (каждая из которых
многократ больше членов внутри системы как ее
органов.— Г. Г.). Так возникла идея строить я-мезоны из
более тяжелых нуклонов и антинуклонов, нуклоны — из
частиц еще больших по массе •+- кварков. Кваркам
приписывается масса, равная массе многих нуклонов.
...Появление этой новой идеи можно расценивать как
самое яркое и значительное событие за всю
тысячелетнюю историю существования наших представлений о
веществе»13.
212
Ну да! Все норовили слагать сложное из простого,
полагая простое просто более малым по величине и
забывая об энергии (=смысле), которая должна идти на
связь между этими «простыми» на образование сложного.
А если учесть связь и взаимопереход массы в энергию,
то выйдет наоборот; чтобы образовалось вот это малое
сложное тело чрез сцепление иных, эти иные должны
быть гораздо больше по величине и силе (энергии), чем
образуемое, т. е. слагаемое (каждое!) больше суммы.
И не только больше, но, может быть, и выше
организованнее — как бы из богов (из идей) сотворять человека
(а йе из глины), из миров, Вселенных («фридмонов») —
наши атомы. И т. д.
Но подобное и совершалось при переходе от
Декартова представления о Вселенной и ее веществе как
протяжении— к Ньютонову. «Протяжение» — конечно, более
богатая субстанция, суть, *чем Ньютонова «масса».
В «.массе» ничего, кроме безвольной суммы, агрегата
простых частиц, а в «протяжении» — протягивание,
воля; дремлют и «тянутие» как пространство, и «тянутие»
как время. Вот сколь богато оно смыслами и сколь
сложно организовано.
Когда же понадобилось науке представлять для
математических операций мир как совокупность тел в
пустоте, а тела как точки, тут и излучалась из протяжения
колоссальная энергия и разбежалась вне нашего мира,
по ту сторону его полости, в виде тяжей Пространства
и Времени, как мироорганизующих потенций, и, может,
они и сопряжены с гравитацией, с кривизной
пространства и т. д.
А внутри, в мире, осталось последствие Декартова
протяжения — Ньютонова масса как бессмысленное
существование.
Энергия есть смысл. Смысл есть Пространство и
Время — они суть мера энергий, наливают тела масс
смыслами (импульс, скорость, мощность -^ все это
образования из L иТ),
«Эти идеи,— продолжает М. А. Марков,— могли
возникнуть только вместе с теорией относительности,
вернее, с установлением соотношения между массой и
энергией (Е — тс2). Согласно этому соотношению, энергия,
излучаемая при образовании системы, уменьшает ' полную
* массу системы на величину m = Е/с2.
Но только сильные взаимодействия способны повести
к большому выделению энергии при образовании сйсте-
213
мы, только они дают возможность обсуждать гипотезу
образования частиц данной массы из частиц больших
масс. Так, при образовании я-мезона из пары нуклон-
антинуклон должна выделяться энергия, превышающая
десять я-мезонных масс»14.
Но тут происходит как бы возврат науки в Декартово
лоно из Ньютонова соблазна и опустошения. Видимо
стало, какой ценой произошло Ньютоново упрощение,
чем было пожертвовано, чтоб спокойно толковать все
сложное как образуемое из более простого и малого.
Конечно, Декартово пространство как протяжение есть
натяжение и, значит, усиление, есть изгибаемая и
творимая физикой геометрия, т. е. то же, что и в общей
теории относительности, где кривизна пространства
сопрягается с гравитационным полем, одно является функцией
другого. И это есть опять заполнение бытия,
опустошенного Ньютоном ради чистой механики и математического
метода описания.
Но теперь это можно (на плечах-то его, гиганта!):
безопасно опять впустить бытие в вакуум — и
посмотреть... (Это и совершается уж сто лет в физике.) Так
что физика тоже дышит: волны сгущения-разряжения
прокатываются по ее предмету, по представляемой ею
Вселенной.
Теперь мне понятно то, чему удивлялся до сих пор:
почему свое изложение физики, трактат о мире, Декарт
называл «Трактатом о свете». Сначала подумалось:
может, это русский перевод такой? Ведь по-русски «мир»
есть «свет» («этот свет», «белый свет»). Но в заголовке
ясно-1-не «monde», a «lumière». «Monde» — это общая
шапка данных трактатов о свете и о человеке. А
читаешь текст трактата: там о материи, о движении, о
планетах, т. е. совершенно космогония, и лишь в конце
приводит к объяснению, что есть свет.
Но теперь ясно, почему Декарту надо было сначала
выстроить батарею своей физики, теорию вещества
развить, чтоб перейти к свету. Шутка ли — замахнуться на
свет и явить его не как свободный полет луча-бога в
пустоте, а как нажатие пальцем на кожу: как давление
столба жидкости и осязание! Т. е. свет, по сути, он
объясняет тьмой, «матьмой»15, материей, якобы «пустоту» —
полнотой жидкости, свет уравнивает в структуре с
плотным телом. Т. е. единая теория дается и для строения
вещества, и для света. Так ведь это опять же подобно
синтезу, к которому физика пришла в начале XX в.:
214
отождествить природу света (волновую) со строением
вещества (якобы корпускулярным): явления излучения
абсолютно черного тела, фотоэффект и т. д. Тут ведь
тоже свет как давление.
И у Декарта частицы света из вихря небесного давят
нам на глаз, как камень в праще стремится вывалиться
из трубки, отлететь от центра; как куча шариков в
коробке с одним отверстием давит друг на друга, в дверку
стремясь. Опять же уравнения с тяжелыми твердыми
телами; и не просто это сравнение для наглядности,
а именно тождество процессов имеется в виду мысли.
Однако Время еще слабо мною продумано.
Время! Целое (здоровое, heil) его не знает. Время
есть для частицы, для ее самочувствия, пульс ее
болезни, ибо частица — абсцесс, отрез, нарыв. Время —
функция отдельности-отделенности. От покинутости ее,
заброшенности — вот и счет ведет: от отрыва от пуповины
целого до возврата и слияния — ее срок отдельного бытия.
И хоть оно, как отрыв от Центра и Целого, есть мучение,
лишение полного бытия,— но и возврат в Целое,
лишение частичного бытия, ощущается как переход в небытие
(да: будет небытие частичного) — и оттого ужас. Но
это — чувство, переживание именно частичного
существования.
Чувство времени в человеке обостряется с усилением
отъединенности, распада Целого. Древнему достаточно
было мерить четырехлетиями (от олимпиады до
олимпиады) . Нынешнему нужны триллионные доли секунды, чтоб
иметь шкалу для срока жизни микрочастиц: пролетела —
и нет ее. Все совершенствование цивилизации сопряжено
с утончением времени. Часы — символ европейской
цивилизации. Минуты, секунды...— все это деления,
дробления. И их шкалу стали прикладывать к природе:
механика— скорость: L/T; в биологии век вида эволюции и
т. д. Дробление, бесконечно малые промежутки
времени — математический анализ. Наука стала проекцией
частичного индивида на природу.
Календарь природы, чем живет Космос, целое в себе:
смена сезонов года, дня и ночи не есть время. Это
такты, вдохи-выдохи, приливы-отливы. Тут нет начала,
конца, направления.
К чему идет дело сейчас, когда зима? К лету или к
зиме? Иль, может, к осени, что уже прошла, т. е. к
прошлому направлено течение? Это^ кровообращение внутри
здорового полного Целого не есть время, ибо не рублено
215
(Zeit, tempus), т. е. нет отдельностей, частиц, и ничта
нельзя взять за начало, откуда «только вперед!»...
И когда живешь натурально, вросши в природу и ее
календарь, не время, а бесконечный круговорот
чувствуешь: перемены и возвращения. А именно
необратимость есть признак научно-городского отсчета времени..
Русское слово «время» — от «веремя», «вертеть», т. е.
как раз со вращением, обращением, возвращением —
словом, с кругооборотом связано в душе и сознании16. Это
не рубленое tempus — как ступание римского легионера
по римской дороге (via roman a)—вперед, без оглядки.
Так что, пока у нас слово «веремя» для обозначения это-
го, собственно время (это научно-городское измерение
цивилизации) как tempus и Zeit в нашем сознании еще
не началось.
Ведь «время» — из круга корневых-семенных
природных понятий: «вымя», «семя», .«бремя», «племя», «имя»
(как «имение»: то, что имеется, есть: «есть — мя» = ес-
мя — есмь = семь), «знамя» (то, что «знаемо» : знание
как природная достоверность. Как говорят в народе: «зна-
мо = конечно, есть»). Недаром в народе «время»
означает «погоду» — природу. (Это, впрочем, и в других
языках: il fait beau temps—«стоит хорошая погода», франц.
и т. п.)
Итак, пока «время» — вертение, веретено Сфероса,
тут — круг (а время как необратимость — прямая), цикл
и цирк, веселое космическое, а не историческое дление.
Такое время—«обход круга», jxepioôoç — период, а не
такт. Zeit: «единичное» дискретное касание (tango), руб-
леность, отдельное.
Но то, что русское «время» сопряжено с санскритским
vartman — путь, колея, след колеса,-- многозначительно..
Тут, во-первых, есть путь, линейность. От этого слова
нащупывается, что время немыслимо в толще, в тесте
вещества с нерасчлененными направлениями, связями,
линиями. Есть ли время на срезе, если сделать срез
поперечный через грудь (как шашка,, допустим, сечет),, так
что идет мышца, сосуды, пищевод, сердце, легкие, мыш-.
цы, кожа? Тут — пространство, одно, рядом с другим.
Время можно увидеть в вертикалях: по трубке пищевода,,
трахее, по сосудам кровообращения, где однородно
внутри себя одно после другого в затылок, дицейно
вытянулось.
Отсюда уж ясно,, что. в Декартовом вихре, поскольку
он берется как толща, тесто, клубление всего без вычле-
216
нения нитей — путей частиц и линейного прослеживания
их судьбы,— для времени нет места и проблемы17.
Там, где есть сплошное самочувствие здорового тела
(целого), там нет времени. Время есть история болезни =
= жизни частицы, отпадшей. Оно начинается с расколом,
отколом и грехопадением бытия в частичность.
Хотя Декарт провозглашает космос разным движением
частиц разного рода, но берет их глобально. И так же как
его протяжение чревато вычлененными затем Ньютоном
категориями: Пространство и Время,— так и для
характеристики движения частиц он пользуется понятием
«скорость», в котором сращенно дремлют те же Пространство
и Время. Хоть их уже дискредитировал Галилей,
объяснив скорость как S/T, но это для Декарта не значит, не
важно. Континуалыцик, он и понятиями сращенными
пользуется, многоаспектными. Но ведь и в нынешней
физике фундаментальными мерами являются физические
реальности: с — скорость света; Ъ — квант действия,—
которые по размерностям сложны, суть LIT и ML2/T' —
а не абстракции L и Т: откуда взять им прообраз?
Пустышки это. Их самих из с и Ь надо выводить.
В этом смысл открытого Эйнштейном парадокса:
когда меры и времени и пространства сжимаются,
расширяются, ползучи... Они — функции непременной и первичной
инстанции скорости света, а не то чтобы сама скорость
составлялась из абстракций LIT, как это мы привыкли с
Галилея — Ньютона,— как будто бы из простых сложная.
Какие ж они простые, когда никак до них не доберешься,
что означают? ускользают всё, будто бы ясные!..
Итак, Время — линейность. Причем как «тянутие»
(tempus, Zeit) — еще и прямая линия (ибо попробуй
потяни вкривь и вкось, по синусоиде, не превращая
вытянутого в прямую!), и это есть собственно Время
рассудка, истории, науки — как необратимая шкала. Время же
как вертение есть линия кривая, круг — и сопряжена уже
с толщей, плоскостью (кривая и круг однозначно
декретируют свою плоскость, а прямая — нет), боковыми,
'(добро) соседскими отношениями в разные стороны:
плоскость есть смерть линии, линия — вдребезги на
бесконечность отрезков-осколков в разные стороны. Ведь
описываемая кривая, окружность привязана еще к угловой с ней
линии — радиусу, т. е. есть срезание (сечение)
плоскостное и связь: и перед собой, и за собой, и вбок от себя:
а в тянутии прямой — только в одну сторону связь и
усилие.
217
И опять же потому Декарт в своей аналитической
геометрии усиленно исследовал разного порядка кривые,
ибо они — толщинные, телесные, сопряжены с толщей
Целого и Движений в нем: завихрения, спирали,
описания, сложения разных движений-толканий.^
Как в нынешней физике стараются описывать
нелинейные процессы, когда меняются состояния систем и от
этого в каждой точке наступает другой закон
изменения,— такой Космос имел в виду и описывал Декарт,
правда, не математически, а словесно,— утверждая
бесконечную вариантность и взаимозависимую (т. е.
обратимую и с обратной связью) изменяемость. Тогда опять
Время ни к чему, ибо оно в своей абстракции — однона-
правленно; обратная же связь есть нарушение
последовательности, ибо в ней будущее, выходит, предшествует
прошлому. И так это и есть по категории энтелехии —
целевой причины, т. е. проистекающей из Целого.
Теперь она понятна: причинно-следственный ряд науки —
линеен и касается части в зависимости от другой части,
и тут царят линейность и Время, и post hoc и propter
hoc. Когда же часть, частица берется в отношении к
своему Целому (телу, организму — и тогда уже не как
часть, а член), то тут совершенное состояние части(цы),
осуществление ею своей роли, к которой она призвана и
насечена, эта идея ее призвания и совершенства
предшествует ее частичному существованию, и есть влечение,
которое осуществляет ее движение и развитие, т. е. цель
(Целое) полагает каждый шаг движения к себе, внутри
себя.
И тут характерна эта близость Декарта и Аристотеля
как умов и сродных космосов, где вода, непрерывность
и среда (средний термин) архетипичны и априорны для
миропредставления.
Если же еще раз возвратиться к этимологии русского
«веремя»: vartman «путь, колея, след колеса», то кроме
содержания линейности, которое уже отсюда вытянули и
использовали, в этих значениях времени есть еще и
содержание качения: прямая линия пути-дороги,
образуемая не тянутием, а циклоном. Недаром так по душе
пришлось на Руси выражение «колесо истории». Тут и
путь-дорога, и природный кругооборот18. Линия эта не
простая, а с закавыкой вспять. Ведь при качении
вперед — точка колеса идет назад, потом вперед, потом
назад, туда-сюда. Так что «время» есть колебание: такое
время есть трепет, дрожь. И тут — сближается с пульсом,
218
тактами вдоха-выдоха, которые суть тоже колебания
туда-сюда, и именно отсюда, изнутри человека, Кант
выводил Время как априорную форму нашей внутренней
чувственности.
И все же в русском чувстве из этой пары:
Пространство и Время — интимнее, роднее Пространство. Оно —
однокоренно и с понятиями «страна», «сторонка»
(родимая!) и «странник», что путь-дорогу осуществляет.
Но и тут акцент. Вспомним латинское spatium —
«шагание», германское Raum — «пустота». В отличие от
spatium, шагания, которое — вперед, линейно (лицо и перед
тут главные), в русском образе аналогичного понятия
акцентирована сторона, бока (то же и у Гоголя —
«косясь»: взгляд сбоку). Т. е. тут момент раздвиженья (не
воздвиженья: вертикаль в русском космосе выражена
слабо), распахиванья (душа ведь — нараспашку, и в
русской пляске 19 вприсядку ноги выкидывают коленца вбок,
и руками вбок; да и в женском плавном танце, когда
«выступает словно пава», руки разводятся в стороны и
сводятся: преобладающие это движения). Тут
телодвижениями описывается интимный образ пространства,
опредмечивается в магических силовых линиях. Так что по
национальным танцам мы бы наилучше смогли описать
национальные представления Пространства, а по ритмам
музыки — варианты Времени.
Так что в русском «Пространство» обращение лицом
вперед и движение вперед — не для себя, а для родимых
сторонок: не перед (и не высь, и не глубь, разумеется)
родим, а сторона: это и в выражении: «Мое дело —
сторона».
Потому в гоголевской Руси-тройке еще содержится и
то, что один целостный образ делания пространства
просто распределен на две роли меж «мы» и «они»: мы —
вперед, а они —вбок, «постораниваются». На самом же
деле продвиженье есть раз-движенье, для него, для
дифференциации сторон (света = мира, «белого света»;
«страны света...»).
Вот в чем дело! Вот к чему эта странность в
Пространстве русском: стороны — для света! они ему
функциональны, служебны; для него — раздвиженье как распахи-
ванье окон, души, дверей.
Перед важен с точки зрения лица: прямая вперед.
Но что лицо! Лицо —узко, лицо —плоско: взгляд перед
собой — и ничего не видит кроме своей цели. Так впору
разве что ино-странцу ( N3— то же этот корень: сторо-
219
ны суть оселок и мера различения народов) полагать о
мире. Мир же здесь есть—«белый свет», а свет — не
плоскостен, но заливает всю обширь разом: «Всю-то я
вселенную проехал!»20
Итак, русское Пространство ориентировано на бытие
Света, который есть в нем обитатель, а оно —его обитель.
Точнее — «светер» (свет + ветер) есть здесь житель —
жилец: в нем и движение вперед, и распахиваыье в
стороны сопряжены.
Но это налагает и на Логос русский подобную
структуру: прямое слово в нем — для косвенного, для
обертонов. Формула (прямое заявление тезиса) тут значит лишь
для бокового остранения, раздвиженья.
И в этом отличие от германской диалектики, которая
имеет моделью вертикаль растения, вырастания: тезис —
антитезис — синтез = зерно (семя) — растение — зерно
(плод). И действие — развитие русского романа идет не
вперед, а вширь, распахиваясь и захватывая новые
персонажи и проблемы («Евгений Онегин», «Мертвые души»,
«Война и мир», «Братья Карамазовы», «Жизнь Клима
Самгина»). Тут — не вперед сюжет, не судьба героя
прослеживается иль история одного действия — но панорама,
и не сверху вниз, а именно вширь. Потому так нужны
поездки, странствия героя (Чичиков, путешествие
Онегина), встречи и беседы-диалоги, что все распахивают но-,
вые бока, стороны, снимают очередные стены21, как
псевдограницы и ограничения. Поэтому в непрерывном и
поступательном раздвиженье стен, как бутафорских
декораций, и состоит развитие русского романа, да и
симфонизма русского.
Отсюда непрерывные «отступления» в «Онегине» и
необходимость «себя понукать»: «Вперед, вперед, моя
история!» — ибо вязнешь в раздвиженье в пространство:
бесконечны и засасывающи бока, Эрос родимых
сторонок...— потому усилье нужно, чтоб вытянуть себя и
сделать еще шаг вперед и чтоб открылись очередные
стороны-стены и начали б сниматься, падать, раздвигаться,
просвечивать.
Так что, пожалуй, и Бахтин слишком по
западноевропейскому образцу представил «русский роман» Достоев-^
ского, понаименовав его «полифоническим». Ведь
полифония есть плетение-сплетание линий-нитей сознаний
голосов, совокупно и неуклонно движущееся вперед. Fuga — »
«бегство» (лат.), а что есть более целеустремленное
вперед движение, чем бегство? Нельзя же им разбегаться*
220
вбок — как у Маяковского:
Чтобы врассыпную разбежался Коган,
Встреченных увеча пиками усов.
Движение ж лицом вперед в русском сюжете подсобно
для движения света-духа вбок, в стороны, как бы
елочкой:
«Пространство» не может быть «вперед!». А Время
можно понукать: «Время, вперед!» (название советского
индустриального романа 30-х годов). Оно--лично, пе-
редно, однонаправленно. И когда в истории России резкий
рывок был революцией дан, явились обращения ко
времени.
Маяковский обе свои государственно-политические
эпические поэмы «Ленин» и «Хорошо!» начинает
обращением ко Времени:
Время! Начинаю про Ленина рассказ.
Время — вещь необычайно длинная.
Время —как собеседник tête à tête, «ты». И это
возможно, ибо я — лицом к нему, и оно передо мною
Лично (сть). Обращение на «ты» к Пространству невозможно,
ибо оно передом-лицом только не может быть к тебе
повернуто, предстоять как Личность. Всегда ты в нем, оно
тебе безотчетно, а ты ему подотчетен. Оно всегда тебя
объемлет, как лоно матери: «И чудно объемлет меня
могучее пространство... Русь! Куда же несешься ты? Дай
ответ! — Не дает ответа».
А несется она не только вперед, а и вбок, в стороны
разбегается. Недаром в качестве ответа — «разорванный
ветром воздух» и постораниванье других народов и
государств.
Еще тут мы на важное напали: Пространство, раз
«объемлет», как лоно, значит, оно =гонийно, сопряжено
с природой. Объем — полость, протяжение.
Время же как линия, личность, плоскость, точка-миг,
«я», «ты», индивид—значит = ургийно, тварно,
сопряжено с этим кругом представлений.
221
И нападаем-то мы на важное тоже по русской логике:
делаем сначала в сравнении вроде маленький и ни к чему
особо не обязывающий шажок вбок, ллшоходом — для
хода мысли. Как вот тут выше, во фразе: «Оно всегда тебя
объемлет, как лоно матери». И тут же за этим отступ-
леньицем вбок потянулись ассоциации, виды,
дали-шири — началось раздвиженье мысли, и она пошла в эту
сторону развиваться. И, таким образом, «мимоход» для
хода оказался магистралью хода:
û'z ^—*~д
где О А — ход, OB — мимоход.
Но следующий шаг мысли уже свершится не прямо
из А, а из подсказки задетого и приоткрытого в В:
Е
1
F
Бросается А и зачинается от В, но так, что и
направление А тоже продолжается: например, по линии ВС. Тут
опять возникнет некое приоткрытие мимоходом CD,
которое уж потянет за собой всю линию развития мысли —
по пути некоего DE. Но в Е может возникнуть
ответвление в другую сторонку (ведь все они укоренены друг в
друге, поскольку наиболее родственно русскому
мироощущению понятие «сторонки»): F, и оттуда опять
поступательно— FG, возвращаясь к направлению мысли О А и
его продолжая.
Таковы же и наши дедукции воображения,
постигающие целое.
В других языках нет этого сопряжения понятий
Пространства и Страны. Франц. espace (от spatium —
шагание) и pays (от pagus —село, волость), нем. Raum и
Land — Земля. Хотя в английском языке и могло бы быть
слияние Raum как пространства и room как комнаты —
так что сразу бы оно ощущалось интимно, как
внутреннее, дом родной в бытии,— однако нет: для пространства
222
тут чужое, отвлеченное space—из латинского опять же
spatium.
В русском же слове «пространство» отвлеченность
очень привлеченна: слышится в нем «страна моя!»,
«сторонка» — интимное, сердечное, родно-коренное. Ведь не
от чужеземного корня это отвлеченное понятие
произведено (как во французском и английском), но от своего,
русского. Значит, здесь так и надо Пространство мыслить
более живым, родным и конкретным вместилищем жизни
живой, а не просто пустотой для неорганического
бытия тел.
Пушкин в Онегине отмечает «неподражательную
странность...». «Странный» в русском сознании — это
свой, родной; странник любим народом: «Угоден Зевсу
бедный странник» (Тютчев) ; у А. Н. Островского: «Все
мы, люди,— странники. И Земля наша, говорят,— в небе
тоже странница».
У Канта про линейность Времени: «Именно потому,
что это внутреннее наглядное представление не имеет
никакого внешнего образа, мы стараемся устранить этот
недостаток с помощью аналогий и представляем
временную последовательность с помощью бесконечно
продолжающейся линий, в которой многообразие составляет ряд,
имеющий лишь одно измерение (вот: для толщи нет
времени, даже для плоскости, круга, кривой...—Г. Г.),
и умозаключаем от свойств этой линии ко всем
свойствам времени, за исключением лишь того, что части
линии существуют все вместе, тогда как части времени
существуют друг после друга»22.
Вообще Кант не противоречит выкладкам о
национальных образах пространства и времени, а подводит к
ним. В самом деле: если Пространство и Время не
объективно живут, а суть наши представления, то это ж не
снимает следующего вопроса о том, какие это
представления, какой их состав и что они розны у различных
«нас» и рас, проистекая из разности Психей,— а только
расчищает к нему путь. Берутся-то эти представления не
из вещей, а из нас и не из рассудка, а из чувственности,
а чувственность — это материальность, природность, плот-
скость, и, значит, она сама имеет способ самомыслия,
само-по-нятия, способ представлять себя и самовливается
своим составом и окраской в представляемый рассудком
объект. Кант только говорит, что рассудок ничего не
может с этими априорными формами чувственности
поделать, управлять ими, ибо он застает их уже готовыми и
223
его работа начинается поверх них. Объект творим именно
рассудком. Формы ж чувственности до-объективны, на
более низовом-глубоком уровне.
Итак, Кант уводит их от уровня Логоса — в Психею,
вовнутрь и вглубь. Но тут они как чувства переливаются
в чувственность, а это уже есть плотский крен и
телесный акцент и поворот Психеи, где она в Космос глядится,
с натурой сращена.
Так что Пространство и Время суть формы и
категории Психо-Космоса, предваряющие Логос рассудка,
уровень его выкладок (так мы перескажем Канта на языке
наших категорий). Т. е. это прямо бытийственные
облучения Логоса, изнутри (из Психеи) и извне (из Космоса,
природы), и их состав — онтологический, догносеологи-
ческий. И набираются эти представления, образы,
архетипы, схемы из материала местного Космоса,
национальной натуры: и внешней, и соответствующей ей
внутренней.
Меж Космосом и Психеей есть свои заговор, язык и
диалог, взаимопонимание и сговор — за спиною Логоса,
минуя рассудок. Это называют «интуицией» и т. п.
1 О национальных образах мира см.: Гачев Г. Д. Ускоренное
развитие литературы: На материале болгарской литературы первой
половины XIX в. М., 1964; Он же. Образ в русской
художественной культуре. М., 1981; Он же. Чингиз Айтматов и мировая
литература. Фрунзе. 1982; Он же. О национальных картинах
мира II Народы Азии и Африки. 1967. № 1; Он же. О русском и
болгарском образах пространства и движения Ц Поэтика и
стилистика русской литературы. Л., 1971; Он же. Космос
Достоевского II Проблемы поэтики и истории литературы: Сб. к
75-летию M. M. Бахтина. Саранск, 1973; Он же Гроздь и гранат:
(Грузия и Армения) Ц Лит. Грузия. 1979. № 7; Он оке.
Гуманитарный комментарий к естествознанию // Вопр. философии.
1976. № 12; Он же. Английский образ мира и механика
Ньютона II Проблеми на културата. 1980. № 2; Он же. О возможном
содействии гуманитарных наук развитию естественных Ц
Методологические проблемы взаимодействия общественных,
естественных и технических наук. М., 1981; и др.
2 Немецко-русский словарь/Под ред. А. А. Лепинга и Н. Л.
Страховой. М., 1968.
3 Deutsches Wörterbuch/von H. Paul. Halle, 1959. S. 469.
4 Поэма английского визионера XVII в. Дж. Бэньяна.
5 П. Г. Кузнецов в докладе «Математические модели и анализ
размерностей», прочитанном в Институте истории естествознания
и техники в январе 1973 г., приводил мнения разных ученых о
возможности выразить массу M через длину L и время Т.
Академик Л. И. Седов: «Нетрудно видеть, что число основных
единиц измерения можно взять и меньшим трех. В самом деле, все
силы и можем сравнивать с силой тяготения, хотя это неудоб-
224
но и противоестественно в тех вопросах, в которых сила
тяготения не играет роли. В физической системе единиц сила вообще
определяется равенством F = та, а сила тяготения —
равенством F = 4m\m2lr2i гДе Y есть гравитационная постоянная,
имеющая размерность y = М~ХЬЪТ-^. Подобно тому как размерную
постоянную механического эквивалента тепла можно заменить
безразмерной постоянной при измерении количества тепла в
механических единицах, так и гравитационную постоянную можно
считать абсолютной постоянной. Этим определится размерность
массы в зависимости от L и Т: (m) = M = ЬЪТ~2.
Следовательно, в этом случае изменение единицы массы полиостью
определяется изменением единиц измерения для длины и времени.
Таким образом, рассматривая гравитационную постоянную как
абсолютную безразмерную постоянную, мы будем иметь всего
две независимые единицы измерения» {Седов Л. И. Методы
подобия и размерности в механике. М., 1967. С. 16).
Л. Д. Ландау, Л. И. Ахиезер, Е. М. Лифшиц: «...можно было
бы поступить аналогичным образом и с законом тяготения
Ньютона. Именно если положить равной единице гравитационную
постоянную, то тем самым мы установили бы некоторую
единицу для массы. Эта единица будет, очевидно, производной по
отношению к единицам см. и сек., и ее размерность по
отношению к ним будет см3/сек2...» (Ландау Л. Д., Ахиезер А. И.,
Лифшиц Е. М. Курс общей физики: Механика и молекулярная
физика. М., 1969. С. 67).
Но не забудем, что элиминироваиье категории массы (как
рудимента материи) осуществляется через абсолютизацию
понятия силы (тяготения), которая становится Единицей на правах
все-Единого...
6 Цит. по кн.: Эйнштейн А. Физика и реальность. М., 1965. С. 343.
7 А таковы они, когда мир есть материя-протяжение, суть
присущие ему смыслы, хотя они тогда из него химически не
выделены — как Декарт их ни выделял.
8 Lateinisches etymologisches Wörterbuch/Von Dr. Alois Walde.
Heidelberg, 1906. S. 620.
-гония — порождешюсть естеством; - ур г ия — трудом сотвореи-
ность.
10 Это и термин науки того времени.
11 Смерть существа и есть индивидуальное светопреставление.
Однако, по многим интуициям, умирающий в своем чувстве
шествует именно к свету: ср. умирание Андрея Болконского у
Толстого, а также «Я просиял бы — и погас» Тютчева и т. д.
12 ayyeXoc — по-гречески — «вестник», «связной».
13 Марков М. А. О понятии первоматерии // Сборник материалов в
помощь философским (методологическим) семинарам. Вып. 4.
Теория познания и современная физика. М., 1971. С. 14.
14 Там же. С. 15.
15 Что МА-ТЬ = ТЬ-МА, перестановка из одних слогов,— уразумел
я в 1970 г. и ввел тогда два термина-неологизма в свои миропо-
стросния: «матьма» и «тьмать» — вместе с такими, как «све-
тер», «лжизиь», «природииа» и др.
16 «Врем я. Заимств. из ст.-сл. яз. Исконно русск. в время
утрачено. Образовано с помощью суф.-тпеп (> мя) от той же
основы, что и вертеть: в *vertmen произошло упрощение групп
согласных и выпало t, er между согласными в ст.-сл. дало рЪ,
изменившееся затем в др.-русск. в ре, еп > с, давшее в др.-русск.
15 Заказ Ni CG7
225
V Первоначальное значение сущ. время.— „нечто вращающееся"»
(Шанский Н. М., Иванов В. В., Шанская Г. В. Краткий
этимологический словарь русского языка. М., 1971. С. 95. В
Этимологическом словаре А. Г. Преображенского «Время» связывается с
саискр. vartanan, «путь, колея, след колеса», и первоначальное
значение слова «время» указывается как «вращение,
коловращение» (С. 101).
17 Что же это выходит!— слышу недоумение читателя.— Взялся.'
толковать национальные варианты Пространства и Времени, а
вот вдруг выводишь нечто из русского, локального чувства
времени и термина о Времени вообще? Неувязочка! — сейчас
увяжу: национальные варианты исследуются здесь не сами для
себя, а чтобы проникнуть в инвариант Единого, ибо одни его
«стороны» особенно сильно ощутимы, проступают в одном Психо-
Космо-Логосе, другие — в другом.
18 Гоголевская мифологема «Русь-тройка» есть путь в бесконечный
простор как пролагаемый качением. «Другие» («народы и
государства») стоят: столбами; реализуя вертикали. Русь же
катится: ее царство — даль и ширь, горизонталь. Другие — «косясь,.
постораниваются». «Постораниваются» = дают пространство: оно-
образуется качением: его, как колобок-ковер пред собой катят
и раскатывают в равнину и «бесконечный простор», чтоб
«пройтись богатырю».
В немецком же мироощущении интимнее Время. Даже в
математической терминологии это сказывается. Для выражения
того содержания, что в русском языке передается через
«необходимо и достаточно», в английском и французском языках в
этом случае употребляется союз «если и только если» (if and
only if; si et seulement si), в немецком,— «тогда и только тогда»
(dann und nur dann). См.: Шиханович Ю. Л. Введение в
современную математику. М., 1965, с. 35.
Т. е. немецкий математический Логос выражает эту
ситуацию через время, тогда как («в то время как» — русский язык в
этих оборотах калькирует немецкий образ мышления — так
повелось в русской терминологии с XVIII в.— хотя Время не
присуще ему) английский и французский выражаются, минуя его.
Кстати, и другие термины дышат принципами национальных
Психо-Космо-Логосов. Например, «множество»: по-французски
это — ensemble — ансамбль = «собор», пекое социальное
единство, соединение в ...; по-английски — set — «установление», т. е.
указывает на труд людей, их учреждение, операциошюсть;
по-немецки: die Menge — «куча», «груда», «толпа», «сброд» — т. е.
нет идеи единства, целого как по-французски ensemble, а
подчеркнута дискретность, кваитоваииость составляющих частиц,
недаром Menge сопряжено с mang — ср. англ. among — значит
«между», т. е. промежуток, пустоту (между двумя стенами), зазор;
также и Mangel — недостаток, близкое к Not — нужда,
необходимость, «иетость».
19 А танец есть начертание национальной модели пространства.
20 В тактике тевтонской — клип = нос «свиньи», а в тактике
русской «мешок», «котел», т. е. обволочь со сторонок: они, родимые,
и спасают страну родную. И физиогномически: германский нос-
остер вперед, выпирает в Streben dahin! dahin!, а русский нос
часто кур-нос, короток-плосок, зато в стороны подался, их
уважил. А склад аитропоса — это письмена, живые скрижали
национального Космоса: тут вся плоть о присущем ей Логосе много-
226
глаголет, незаменимом и неповторимо ценном тембре в оркестре
человечества, исполняющем симфонию истории.
1 Стены сакраментальны для германского Haus'a. Русские ж
интимные точки в пространстве и времени: Берег, Порог и
Канун.
22 Кант И. Критика чистого разума/Пер. И. Лосского. Пг., 1915.
С. 50.
К. Г. Мяло
КОСМОГОНИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ МИРА:
МЕЖДУ ЗАПАДОМ И ВОСТОКОМ
Рассказ Сэлинджера «Фрэнни», появившийся в начале
60-х годов, был едва ли не первым художественным
предвосхищением «бегства на Восток» — реального
или духовного, которому предстояло позже стать одной
из самых отличительных черт психологического и
культурного климата эпохи «шестидесятых», заметно повлиять
и на комплекс вышедших за пределы этой эпохи
мировоззренческих исканий. Новелла, написанная еще до того,
как это «бегство» приобрело массовый характер и
неизбежно, как всякое входящее в моду духовное движение,
было вульгаризировано и измельчало, фиксировала его
исходный, непосредственный импульс. Как и всегда,
когда речь идет о подлинной душевной потребности,
требующей удовлетворения с такой же неистовой силой, с какой
его могут требовать голод или жажда \ она (т. е. эта
потребность) не нуждалась для своего выражения в
терминологических ухищрениях и скрупулезном различении
оттенков тех или иных философских учений.
Героиня Сэлинджера, резко отбрасывая ставшее в
новое время как бы олицетворением «Запада»
целенаправленное, «стяжательное» движение в линейном
пространстве и времени, обращается на «Восток» в поисках того,
что условно можно было бы назвать «возвращением
внутрь», движением по инволюте в противоположность
движению по эволюте. Для русского читателя весьма
неожиданным может показаться то, что этот свой путь «на
Восток» Фрэнни нащупывает через Россию. В развитии
ее душевного кризиса, при острой фазе которого и
присутствует читатель, решающая роль принадлежит книге, у
Сэлинджера именуемой «Путь странника» и появившейся,
как сообщается в новелле, в России где-то в XIX в.2
15*
227
Из этих скупых указаний советскому читателю
трудно даже представить, о какой, собственно, книге идет
речь. Что именно в нашем духовном наследии внезапно
приобрело столь актуальное, прямо-таки витальное
значение для юной американской студентки? И что общего
могло быть у нее с тридцатитрехлетним сухоруким
крестьянином, странствующим по России с торбой сухарей
в поисках «духовного окормления»?
Книга, в новелле Сэлинджера именуемая «Путь
странника», в подлиннике называемая «Откровенные рассказы
странника духовному своему отцу» и появившаяся в
России во второй половине XIX в., действительно обладает
весьма неординарной историей; во второй половине XX в.
она приобрела небычайную популярность на Западе,
оказавшись в чем-то очень созвучной охватившим его
духовным брожениям. Видимо, она действительно принадлежит
анонимному автору (возможно, даже записана со слов
рассказчика), и значение ее в истории как русской, так и
мировой культуры усугубляется тем, что она оказалась
едва ли не единственным столь полным письменным запе-
чатлепием обширной философской и поэтической
традиции, хранителем и носителем которой был по
преимуществу специфический социальный слой духовных
странников. Россия была, вероятно, единственной европейской
страной, почти в нетронутом виде сохранившей эту
традицию до порога новейшей истории. Эта древняя и
глубоко народная культура находилась в постоянном, живом и
органическом контакте с «большой» культурой, однако
сама оставалась замкнутой в собственных границах,
пребывая как бы вне потока исторического времени. Ее
стремительное исчезновение вместе с исчезновением ее
носителей, а вместе с тем та новая актуальность, которую
приобрела она на Западе, но и не только на Западе,
делают особенно настоятельной задачу выявления и
интерпретации ряда основополагающих символов этой
культуры в сравнительно широком философском и историческом
контексте.
Решающая роль принадлежит здесь мифологеме
возвращения внутрь. В огромной мере именно устойчивость
этой мифологемы в русской духовной традиции
превращает ее в своеобразный мост между «Востоком» и
«Западом». По этому-то мосту и пробегает героиня Сэлинджера,
переходя от практики «умного делания», о которой идет
речь в русской книге и которая являлась квинтэссенцией
целой эпохи утонченного византийского богословия, к буд-
228
де Амитабхе, к индийским медитациям над священным
словом «ОМ» и «поселяющемуся в сердце» атману.
Сочетание с научной точки зрения грубое и
эклектичное, по сути же — фиксирующее одну и ту же
душевную позицию: смиренномудрия, самососредоточения, «не-
стяжанья» и «ие-деянья». Речь идет, по сути дела, о том,
чтобы затормозить или даже вообще приостановить
всякое движение и деятельность во внешнем пространстве,
усилием самоконцентрации, сосредоточением духовной
энергии создать пространство внутреннее, обладающее
принципиально иными характеристиками, подобно тому
как внутри чувственно воспринимаемого нами
трехмерного мира существует мир (микромир), законы которого
описывает квантовая механика.
Парадигма такого вывернутого в глубь себя
пространства внешнего мира, равно как и «бездвижного движе^
ния», в древнерусской литературе может быть
обнаружена уже в XII в. в знаменитом «Хождении игумена
Даниила», послужившем позднее образцом для всех русских
описаний путешествия в Святую землю. Значение этого
образца становится особенно очевидным при
сопоставлении с духом соответствующей эпохи на Западе. С. С. Аве-
ринцев, говоря о западноевропейской религиозной поэзии
XII в., отмечал трудности ее осмысления «для русского
читателя, который знает родную старину и пытается
отыскивать в ее опыте опору для постижения чужой
старины. Мы привыкли к суровой простоте или слезной уми-
ленности древнерусского религиозного искусства. Но как
понять благочестивое рвение, которое неразрывно слито
с вызовом, с дерзостью, с игрой рассудка, которое может
выразить себя в интонациях задорных и горделивых, как
звуки рыцарского рога? Когда стрельчатая готическая
башенка, поднимаясь превыше всякого вероятия, в
последнем усилии выходит в небо,— что это: религиозный
порыв, или гордый вызов, или неразличимое единство того
и другого?
Таков внутренний склад западноевропейского
высокого средневековья»3.
Природа этого склада становится особенно ясной, если
вспомнить о почти полной исторической синхронности
крестовых походов (XI—XIII вв.) и готики, т. е. резко
выраженного пространственного — и по горизонтали, и по
вертикали — стремления к абсолюту, к предельной цели
бытия. Не случайно «путь Господень», как назвал
историограф первого крестового похода Гвиберт Ножанский
229
это реальное, «географическое» движение в Палестину,
физическое паломничество в Иерусалим в западной
традиции стало обязательным элементом агиографической
литературы.
Напротив, «Хождение», написанное уже тогда, когда
Палестина была завоевана крестоносцами, т. е. когда
«путь Господень» реализовался в пространстве
географическом, создает образец паломничества совершенно иного
типа: как духовного, душевного усилия, которое совсем
необязательно должно обнаружить себя зримым,
пространственным движением.
«...Может быть, кто-нибудь, слыша о местах этих
святых, потянется душой и мыслью к этим святым местам и
равную мзду примет от Бога с теми, кому удается дойти
до этих святых мест. Ибо многие добрые люди, находясь
дома, в своих местах, мыслью своею (подчеркнуто
мною.— К. М.) и милостыней к убогим, добрыми своими
делами достигают святых этих мест, и большую мзду
примут они от бога спаса нашего Иисуса Христа. Многие же,
дойдя до мест этих святых и до святого града
Иерусалима и вознесшись умом своим, будто нечто доброе
сотворили, теряют награду за свой труд, из них же первый
есть я...»4
Характерен сам пейзаж Палестины, каким видит его
Даниил: это пространство все время кривится,
изгибается, то создавая внутри себя ниши, полости
самососредоточения— «пещеры», то возносясь из этих пещер вверх,
и трансформируясь в «горы», как сферы особого,
просветленного состояния земли и вещества.
Единственное, чего нет в этом пейзаже (который
конечно же следует воспринимать не как реальный
«портрет» Палестины, а как «автопортрет» зарождающейся
духовной традиции), это чистых, спокойных, «эвклидовских»
линий. И «пещера», и «гора», выступая как знаки,
осязаемые символы определенных душевных состояний, в своем
двуедиистве создают чувственно-зримый образ духовно
преображенного мира. Именно так воспринимается Да-
ниилово описание Фаворской горы, которая «чудно, и
дивно, и несказанно, и красно уродилася есть; от бога
поставлена есть красно и высоко велми и велика... Тут же,
на той же горе Фаворской, есть весьма чудесная пещера
на ровном месте. Тако есть, яко погребец мал в камении
иссечен...»5.
Здесь глубина как бы «выворачивается» в вышину,
движение «внутрь», в темноту, оборачивается движением
230
к неизреченному «Фаворскому» свету, подобно тому как,
погружаясь «внутрь» внешне косного и инертного
вещества, физика обнаруживает в нем область внутриядерных
процессов и высоких энергий.
В «Рассказах странника» эти же парадоксы
разворачиваются в сфере духовной жизни их героя, ибо, хотя
речь идет здесь о странствиях, о неустанном движении,
идущий в процессе этого движения из пространства
внешнего мира неуклонно направляется в пространство
внутреннее. Не случайно герой (или автор) рассказов, на
протяжении всей книги стремящийся совершить
паломничество в Иерусалим, так и пе достигает его. Вместе с тем,
уходя «внутрь», он все же приближается к цели, чисто
внешним — и, возможно, неподлиныым — достижением
которой могло бы стать осуществившееся путешествие в
Святую землю. Этой целью является абсолют, некое
первоначало мира, с которым устанавливается связь не
чувственная, но и не умозрительная. Его не осязают
внешними органами чувств и не созерцают умственным
взором, но воспринимают сердцем, которое в данном случае
выступает как основная когнитивная способность. Это
восприятие слова можно было бы уподобить «познанию»
в архаическом смысле «обладания», настолько оно
непосредственно и достоверно, хотя и не чувственно. В этом
абсолюте пребывают, как пребывает младенец в лоне
матери, а вместе с тем живо ощущают его в себе — как
ощущает мать младенца в своем чреве.
Это двуедршство подобно двуединству «атмана —
Брахмана», которое Радхакришнаы определяет как одну
и ту же первичную реальность, созерцаемую с двух
сторон: внутренней, субъективной (атман) и объективной
(Брахман)6.
Согласно «Упаыишадам», «этот мир», все предметы pi
явления природы, в том числе и человек, «вышли» из
атмана — Брахмана; всему в этом мире уготован и возврат
в его лоно, который, стало быть, и есть истинная и
конечная цель бытия. Однако усилием самососредоточения
можно, пребывая в «этом» мире, узреть Брахмана,
открываемого в глубине своего сердца как атман. Так
повествуется об этом в Катха-Упанишада, где рассказывается о
бедном набожном брахмане, который отправил в качестве
жертвы богу смерти Яме своего сына Начикету. Основные
откровения «глубины» и делаются Ямой в его диалогах
с Начикетой, где Яма сообщает своему собеседнику
великую «паду» (слово, слог), вмещающую в себя конечную
231
истину Вед:
...Она гласит «ОМ».
Поистине этот слог есть Брахман.
Того, кого трудно увидеть, скрытого глубоко
в сердце,
Пребывающего в глубине, изначального,—
Этого бога постигает мудрец созерцанием
самого себя...
Тот, кто не прилагает усилий, кто без печали,
Видит величие атмана благодаря спокойствию.
Сидя, он идет далеко.
Лежа, он ходит всюду7.
Брахман, обнаруживаемый внутри себя как атман,
воспринимается подобно источнику внутреннего света,
природа которого несопоставима и несоизмерима со
всяким чувственно воспринимаемым светом. Речь идет о
самой субстанции света, по отношению к которой вторичны
и от которой питаются все реальные светила, в том числе
и самое великое из них — Солнце. В «Упанишадах»
читаем:
«В лучшей, золотой сокровищнице обитает Брахман...
Чист он, свет светов. Это то, что знают знатоки атмана.
Там не светит ни солнце, ни луна, ни звезды, не светят
эти молнии. Откуда же этот огонь? Все сияет лишь вослед
его сиянию. Его сиянием светит этот мир»8.
Этим же сиянием светится и внутренний, обитающий
в человеческом сердце атман — тот, что «меньше, чем
зернышко риса, чем зерно ячменя, чем горчичное семя, чем
семя проса, чем ядро семени проса», а вместе с тем
больше, чем земля, небо и «все эти миры»: «...то сияние, что
светится над этим небом, над всеми и надо всем в этом
высшем из миров, это поистине то же сияние, что и
внутри человека»9.
Образ, создаваемый русским странником, аналогичен,
но еще более интимен. Свое духовное состояние,
рождаемое «умным деланием», он описывает так: «...начало
являться какое-то благотворное растепливание в сердце, и эта
теплота простиралась и по всей груди»10. Такая
символика космического первоначала как «света» и «тепла»,
«низводимого» в сердце — центр человеческого существа, резко
контрастирует с мощной традицией западной мистики,
в которой светоносное начало мира стяжается страстным
усилием, почти эротически напряженным «стремлением
к». Так определил эту душевную' установку К. Юнг, опи-
232
савший ее как архетип «мотылька, летящего к солнцу»11.
Подобное «низведение в», противоположное
«восхождению к» и ставшее фундаментальной и устойчивой
характеристикой «восточного» мироощущения, кардинальным
его отличием от «западного», в своих самых далеких
истоках восходит к гнозису, понимаемому как некая
присутствующая во всех культурах и во все времена тенденция
мышления и человеческой психики. Как справедливо
отмечает М. К. Трофимова, «путь самопознания как путь к
сущему, самостоятельность и самобытность этого пути у
каждого, кто им идет, предположение о тождественности
абсолютного в божестве и человеке, а потому и
возможности слияния познаваемого и познающего... неоднократно
проявляются в культуре разных времен и народов»12.
В основе понимаемого таким образом гнозиса как
устойчивой и постоянно воспроизводящейся в истории
душевной установки лежит идея некой исходной субстанции
мира («дух», «свет»), ставшей пленницей косной материи.
«Существование духа внутри мира — это и есть драма
божества»13.
Эта разлитая повсюду субстанция14 создает абсолютно
новый мир буквально с той же минуты, как человек
узнает о ее существовании, но необходимым условием такого
проникновения за видимую оболочку вещей является
опознание этой субстанции в самом себе на путях
глубокого внутреннего сосредоточения.
Так возникает различие двух способов постижения
абсолюта, парадигмами которых стали категории «Запад» и
«Восток»15: страстного порыва и смиренного выжидания,
движения и покоя, жеста властного овладения и позиции
углубленного самосозерцания.
Таким образом, сэлинджеровское сближение «умного
делания» с медитацией над словом «ОМ» основывалось на
чертах реального сходства этих двух — противоположных
«Западу» — типов духовных упражнений, тем более
что яркий образ последней уже был нарисован Г. Гессе в
его «Сиддхарте», ставшей столь популярной среди
западных «востокоманов» 60-х годов. «Он уже знал, как
произносить ОМ в молчании — это слово слов, произносить его
внутри себя, задерживая дыхание и выдыхая так, что его
лоб светился отблеском чистого света. Он уже умел
опознавать атмана в глубине своего существа, неразрушимого
и нераздельного со всей Вселенной»16.
Однако позиция русского странника нетождественна
ни той, ни другой из этих полярно разведенных противо-
233
положностей. В поисках абсолюта он уходит «внутрь
себя», но именно тогда, когда на путях сосредоточения и
безмолвия он обретает то, что древние индийцы называли
атманом, его позиция становится кардинально отличной
от позиции индийского отшельника.
Последний, восходя по ступеням совершенства атма-
па, стремится достичь «турий» — полного «отключения»
от всех, даже самых «тонких» связей с материальным
миром, слияния со всеобщим атманом — Брахманом, полного
отождествления с ним. В «Упанишадах» эта полная
непостижимость турий в границах реального мира
формулируется апофатически: она «не то» и «не это»: здесь,
в посюстороннем мире, нет ничего, чему можно было бы
уподобить ее. Она — «не познание, [направленное] на
внутреннее; она не познание, [направленное] вовне; она не
познание, [направленное] на то и на другое; она не
сгусток познания; она не познание и не-непознание. Она
невидима, неизреченна, неуловима, неразличима,
непостижима, неуказуема, она — суть знания в едином атмане,
она то, в чем растворяется видимый мир, она бесстрастна,
милостива и недвойственна. Она — атман; ее должно
познать»17.
Вырисовывающийся в «Откровенных рассказах»
архетип отношений между «богом» и человеком
представляется как бы синтезом полярно разведенных позиций:
«восточной» тенденции к самоуглублению, обретению
абсолюта внутри себя, и «западной» — страстной воли вознести
к стопам божества не только самого себя, но и всю
тяжкую громаду мира, как стрела готического собора
возносит в небо ставший невесомым камень. Уход из мира
внутрь себя оказывается здесь парадоксальным способом
не только возвращения в мир, но также и качественного
преобразования этого мира, даже его
пространственно-временного континуума. Пространство обретает черты
прекрасного, дивно устроенного космоса, не присущие ему
до этого превращения, а «старое» время исчезает,
аннигилируется.
При этом средоточием, носителем такой
преобразующей мир силы становится сам субъект страннической
духовной практики, достигший в своем «нисхождении
внутрь» некоего самоотождествлеиия с абсолютом и
получивший вследствие этого власть, сходную с той, которой
у самых истоков мироздания были укрощены темные и
непокорные первоначала бытия. Фундаментальная
символика ряда духовных стихов и та роль, которую играли
234
они в народной философии — порою можно сказать,
натурфилософии,— думается, дают основание для подобной
постановки вопроса, равным образом как и для
рассмотрения в едином ряду этой символики и
мировоззренческого комплекса «Откровенных рассказов».
Наиболее яркими представителями и основными
носителями русской культуры духовного странничества были
слагатели и сказители духовных стихов, известные под
общим именем «калики перехожие». Видимо, именно
калики хранили и передавали из поколения в поколение^
в форме духовных стихов, тот, в средневековой Европе
обычно отождествлявшийся с восточным «тайнознанием»,
комплекс символов и образов, который на Западе был по
большей части достоянием эзотерических культов,
алхимии, еретических сект и тайных обществ и который
являлся выражением каких-то глубинных духовных
потребностей народа, не получавших удовлетворения в лоне
официальной церковности.
Что же до духовных стихов, то они были широко
распространены и частично сохранились по сей день также
и в старообрядческой среде, и в этих, столь любимых
народом, произведениях выражало себя, поверх
конфессиональных границ, народное христианство как по-своему
цельное и оригинальное мировоззрение, не тождественное
ни ученому богословию, ни мозаике из обрывков
евангельских представлений и рудиментов языческой обрядности.
У своих истоков и в первичном значении слова
калики — сказители духовных стихов — это по большей части
слепцы, что усиливает сопутствующие им обертоны тайно-
веденйя: они — люди, от которых «сокрыто явное», но
которым «открыто тайное».
В самых архаических стихах, которые объясняют
возникновение калик на Руси и смутно указуют на их
высокое (связанное с тайнами «будущего века») призвание,
проступают черты некоего своеобразного сообщества,
своего рода «ордена». Его нельзя назвать сектой в строгом
смысле слова — здесь отсутствуют строго разработанная
догматика, ритуал и другие типические черты
обособившейся конфессии. Скорее оно выступает как невидимая,
скрытая (и призванная оставаться таковой «до
наступления последних времен») церковь «истинно верующих» —
как постоянно присутствующее, но скрытое от «слепых»
(хотя физически и зрячих) духооткровение.
Не случайно в большинстве стихов, повествующих о
происхождении калик, они «рукоположены» самим Иоан-
235
ном Богословом, на имя и Евангелие которого опирались
также и ереси «святого духа» на Западе.
Один из самых интересных в этом плане стих —
«Сорок калик со каликою», где национальные эпические
(былинные ) мотивы органически сплетаются с
гностическими символами и библейскими легендами. Характерно,
что «сорок калик со каликою» здесь отнюдь не нищие и
убогие: это таящееся, самоумаляющееся до поры до
времени могущество, которое и заявляет о себе как таковое
в начальных строках стиха: «Из волынца города, из
Галича, / Из той же Корелы из богатые / Во ту ли пустыню
во Данилову, II Собиралося, собрунялося II Сорок калик
со каликою, / Сорок дородных, добрых молодцев. / Соби-
ралися калики на зеленый луг, / Становилися калики на
единый круг. / Клюшки, посохи все в землю испотыка-
ли. / Клюшки-посохи те были таволжевые, II Одна клю-
ша была кипарис-древо. / По сумочке на клюшу испове-
сили. II Те сумочки были рыта-бархата, II Одна сумочка
хущатой камки»18.
Упоминание круга (символа солнца и высшего
совершенства), кипариса (символа нетления и креста
животворящего) и «хущатой камки» (парчи — символа
просветленной божественным светом плоти) явственно указует на
сакральный характер собрания калик как особого, ду-
хоносного апостольства.
Вместе с тем уже в этом стихе возникает особая (как
мы увидим ниже — сквозная для данного жанра) тема са-
мосхоронения — не только как пребывания в затворе, в
пустыни, но в гораздо более архаическом первичном
смысле — как схоронения в земле, погребения заживо.
Именно таков был смысл популярного в византийско-пра-
вославной мистике апокрифического предания о кончине
Иоанна Богослова19. В Стихе о сорока каликах временное
погребение претерпевает их предводитель (здесь
именуемый атаманом) Касьян Михайлович.
Невинно оболганный женой князя Владимира
княгиней Апраксией, он, как нарушитель строгих
аскетических обетов, взятых на себя каликами при отправлении
в путь, должен претерпеть жестокую казнь:
Закопали атамана поплеча во сыру землю,
Едина оставили во чистом поле 20.
Но кара постигает и княгиню, пораженную ужасной и
внушающей всем отвращение болезнью. Никто не может
исцелить ее, и тогда совершается чудо: возвращающиеся
236
из Иерусалима калики находят в поле своего атамана,
выкапывают его и приводят к княгине. Здесь Касьян, не
бывавший в Иерусалиме, но обретший за время своего
пребывания в земле чудодейственную силу, дуновением этой
силы исцеляет Апраксию.
Думается, архетипическое значение этого стиха очень
велико. Именно здесь характерный для калик и народного
христианства в целом дух социального кенозиса21,
сочетавшись с архаической мифологемой умирающего и
возрождающегося в новой славе солнца22 и гностической
идеей мощного, пребывающего в темной материи
(видимым олицетворением которой и является мать-земля)
светлого духа, переходит в план метафизики временной
смерти ради вечной жизни. Временное погребение заживо,
являющееся, как и в апокрифической легенде об Иоанне
Богослове, условием и залогом будущего и уже
неподвластного времени могущества, в символическом строе
духовных стихов становится особым способом «подражания
Христу». Налицо буквальное, натуралистическое (что и
вообще характерно для народной мистики) истолкование
слов Христа в Евангелии от Иоанна: «Истинно, истинно
говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не
умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много
плода»23. Чтобы возродиться, нужно умереть, чтобы
возвеличиться, нужно умалиться, чтобы подняться вверх,
нужно опуститься вниз, чтобы достичь света, должно
погрузиться во тьму, чтобы сподобиться нетления, надлежит
стать прахом — таков этот специфический образ
саморазвития не только человека, но и космоса, который был
создан духовными стихами.
Восхождение вверх через нисхождение вниз
составляет смысловую ось одного из самых любимых и
распространенных в народе стихов — стиха об Иосифе Прекрасном.
Как временное погребение следует понимать низвержение
Иосифа братьями в «ров», и этот смысл еще усугубляется
предшествующим такому низвержению совлечением с
него «ризы»: «Цветну с его ризу скидывали, / Во глубокий
ров Осипа вверзили...»24. О том же говорит и плач
пребывающего во рву Иосифа: «Иосиф, свет, Прекрасный, II
Во рве сидя, слезы источает, / Ко сырой земле
припадает, / Устами своими глаголет: / кто бы мне дал
голубицу / Вещающу беседами, / послал бы я ко Иакову, /
Отцу моему Израилю...»25.
Если вспомнить, что голубь издревле во многих
традициях выступает как символ души умершего, небесный
237
вестник, то смысл низвержения Иосифа в ров как
погребения его в могиле вряд ли может вызывать сомнения.
Он подчеркивается также, как уже говорилось, и мотивом
совлечения «ризы», которая является устойчивым
символом сбрасываемой по смерти плоти. Этот образ, известный
в византийской житийной литературе, выразительно
развит в «Слове» Кирилла Туровского, где говорится о
состоянии души, когда «хощет разлучиться душа от телесик
Тогда душа «ужаснется, образ весь и лепота, и лице
изменится, руце и нозе премолкнут и слуха с нима, и язык
молчанием затворится, и будет весь уныл, и дряхл, и
скорбен, и за сим явится смерть. И тако, и нужею
страшною душа от телеси изыдет, и станет одержима душа, зря-
щи на свое тело, якоже бо кто изволкся из ризы своея, и
потом стал бы, зря ее: тако станет душа на свое тело зря-
щи, от негоже изыде...»26. Он же многократно
воспроизводился и в духовных стихах, чаще всего в цикле «Уж вы
голуби...».
Риза Иосифа и его плоть, видимо, отождествляются
также и в одном из вариантов плача Иакова: «С плачем моим,
во ад пойду / И там, сыне, тебя найду:. / Ризу вместо
тела положу пред ся, Иосифе...». По сравнению с этой
глубокой архаической и исполненной таинственного смысла
символикой плоти, ниспадающей с души, и души, птицей
взлетающей из могилы, возвышение Иосифа, описываемое
атрибутами мирского величия, царской власти, которую
передает ему фараон, представляется несоразмерным
грандиозности предшествовавшего этому возвышению
погребения:
Тогда возста с престола царь
Облек его в свою утварь
Царский жезл ему вручает
Князи же и боляри
Во всем царском его дворе
Иосифа проздравляют
Царский жезл ему вручают
Своим царем называют.
Люди же и вся чернь
Красную поют устами песнь
Богу славу возсылают.
Мирно житие провождают
Всегда и ныне и присно
И во вся веки аминь27.
238
Однако это по видимости прозаическое описание по
своей стилистике близко не только к сказочному пласту
фольклора, но также и к соответствующему рассказу из
Книги Премудрости Соломона, что сообщает этому
мирскому величию черты мистической небесной славы, осе-
ненности божественной премудростью («Софией»),
которая
...не оставила проданного праведника,
Но спасла его от греха.
Она нисходила с ним в ров
И не оставляла его в узах
И потом принесла ему скипетр царства
И власть над угнетавшими его...
И даровала ему вечную славу28.
Однако наиболее полно этот мотив сопряженности
славы земной и небесной, сопричастия какой-то изначальной,
тончайшей субстанции бытия, достигаемого погребением
в земле, был развит в цикле стихов о Егории Храбром,
представляющих собой оригинальную русскую
интерпретацию образа Георгия Победоносца.
Сохранившаяся здесь атрибутивная для этого образа
тема змееборчества получила развитие, совершенно
отличное от того, которое возобладало в западной традиции, где
центральным моментом является освобождение
прекрасной девушки, обреченной в жертву змею (мотив,
повторенный Б. Л. Пастернаком)29. Свой смысл и значение
змееборчество Егория обретает только в связи с его
временным погребением, после которого в нем явственно
проступают черты и могущество настоящего демиурга Руси,
собирающего бессмысленно клубящийся хаос в стройно
согласованный и просветленный космос30. Черты
солнечного бога или героя, олицетворения сил плодородия,
оттесняются — хотя и не вытесняются — здесь гораздо более
архаическими чертами космогонического принципа света
вообще.
Этими признаками он отмечен уже при своем
рождении. Егорий — сын «царицы Софеи Премудрой», в самой
плотп которого запечатлены знаки света:
По колена ноги в чистом серебре
По локоть руцы в красном золоте
Голова его вся жемчужная
По всем Егорие часты звезды31.
239
В этом облике Егория-младенца как бы чувственно
является образ светло и стройно устроенного мироздания.
Но образ этот, задав ведущую тему стиха, затем исчезает:
для того чтобы такая полнота слияния света и материи
осуществилась, для того чтобы светоносное могущество
Егория достигло своей высшей точки, он должен
сразиться и временно погибнуть в схватке со своим главным
врагом, который в стихе именуется «царища вор Демьяни-
ще». Как и в образе самого Егория, в образе его главного
противника слышатся отзвуки зороастрийского дуализма
светлого и темного начал, присутствующих и
противоборствующих у самых истоков мироздания.
На обоснованность такой догадки указывает не только
роль, принадлежащая Демьянищу в стихе, но и
встречающаяся в некоторых вариантах стиха огласовка этого
имени как Диоклетианище. Здесь главный противник Георгия
отождествляется с известным гонителем христиан (что
естественно для христианского фольклора), а вместе с
тем — со всемогущим духом бездны и тьмы, каковым
выступает Диоклетиан («Дуклиан») в древнеболгарском
стихе о Дуклиане и Иоанне Крестителе. Могущество
этого князя бездны так велико, что само солнце, т. е. свет,
Иоанну удается похитить у него только хитростью.
Первое столкновение светлого и темного начал в
русском стихе кончается поражением и погребением света.
Царь Демьянище похищает у Софии чудесного отрока и
начинает мучениями отвращать его от истинной веры.
Егорий, однако, остается тверд, и тогда его враг
Повелел Егорья в погреб сажать...
Посадили Егорья во глыбок погреб,
Закрывал досками он дубовыми,
Запирал замками он немецкими.
Засыпал песками крутожелтыми
Уж и сам злодей все притоптывал
Оп притоптывал, приговаривал:
— Уж не быть Егорыо па святой Руси,
— Не видать Егорыо света белого,
— Свету белого, солнца красного 32.
В этом заточении Егорий пребывал 33 года — срок
предуготовлеиия к подвигу или пребывания в узилище,
ставший почти каноном в русском фольклоре 33. Затем
ветер, поднявшийся со стороны Иерусалима, разметал era
временную могилу, и Егорий вышел на свет. За зто время
мир исчез, разрушился, и по его скончании сохранилось
240
лишь то, что было у его начала: божественная
премудрость, София:
Все разорено да разломано,
Нет ни старого, нет ни малого,
Только стоит церковь мать соборная,
А соборная церковь, богомольная.
Что во той во церкви во соборные
Что честная Софея мать Премудрая
На молитвах стоит на Иисусовых34.
София Премудрая выступает здесь как неуничтожимое
духовное первоначало мира, как исток не только
космогонического, но даже и теогонического процесса, как
божественное в самом боге — подобно тому, чем является она
в Книге Премудрости Соломона: «Она есть дыхание силы
Божией... Она есть отблеск вечного света и чистое зеркала
действия Божия и образ благости Его. Она — одна, но
может все и, пребывая в самой себе, все обновляет...»35
Испросив благословения у матери, Егорий, как сила
действующая, приступает к своему труду, который есть
труд не столько созидания, сколько просветления мира-
О таком просветлении как бы взывает сама корчащаяся r
муках собственного бессмыслия материя, где элементы
бытия сплетаются в тесный, змеевидный клубок.
Поэтические образы этой метафизической тесноты, в которой
деревья, горы, реки и звери душат, давят друг друга, не
в силах понять и обрести закон собственного движения*
господствуют в этой части стиха:
Егорий то наезжает на «леса дремучие», где:
Древо с древом совивалося,
Ко сырой земле преклонялося
Не добре Егорию льзя проехати,—
то
На те горы, на высокие, на толкучие
Гора с горою сойдется, не разойдется
Не добре Егорию льзя проехати 36.
Всему он дает «закон», во всем открывает дремлющий"
«софийный» смысл, выводит каждое существо на
предназначенную ему орбиту, и змеящийся тесный хаос,
покорно повинуясь этой силе, раздвигается в просторный и
светлый космос.
Как известно, А. Н. Афанасьев в своих «Поэтических
воззрениях славян на природу» в соответствии с общей
концепцией этой книги толкует образ Егория как персо-
16 Заказ № 6G7
241
еификацию молнии, разрывающей тучи. Однако весь
контекст стиха о Егорий, а также более широкий контекст
стиховой и апокрифической народной культуры, дает
основания толковать его космогонически и в терминах ма-
нихейского дуализма37.
С принципом тьмы и сражается Егорий, которому
повинуется даже Острафил-птица (иногда — Ног, Ногайская
птица), еще в архаической мифологии Востока
олицетворявшая силу хаоса как таковую, и завершается стих
победоносным поединком Егория с персонифицирующим
принцип тьмы Демьянищем, или Дуклианом.
Несомненно, существует тесная смысловая связь между
временным погребением Егория и приобретенной им
светоносной мощью, между его пребыванием в земле и со-
причастием «Софии», между «возвращением внутрь» и
вторичным рождением в качестве Победоносца.
Разумеется, в определенной мере, поскольку в облике
Георгия выражены и черты солнечного героя, здесь можно
говорить также об архаической символике временной
смерти солнца для нового его рождения. В некоторых
вариантах стиха Егорий в своем мироустрояющем движении
идет с востока на запад, что, очевидно, указывает на
движение солнца по небосводу. Однако и в этих вариантах
его высшая сила оказывается приуроченной не к восходу
или к зениту, а к закату, т. е. связанной с его умиранием.
Именно на закате и достигает он Руси, которую берет под
свой «светлый покров».
Само по себе это почитание закатного солнца
является в той или иной мере элементом почти всех солнечных
мифов и, видимо, даже более древних, чем мотив славы
восходящего солнца. Поскольку заход солнца — условие
его восхождения, в некоторых мифологических системах
наибольшее сакральное значение приобрело именно
таинство заката. Наивысшего развития оно достигло в
древнеегипетском культе Озириса как персонификации
заходящего, склоняющегося солнца, как владыки «страны
Заката», ще умершие обретают бессмертие38. Согласно
широко распространенным (скорее народным, чем жреческим)
верованиям, умерший входил в эту страну как в царство
света и делался образом бога, светоподобным или
просветленным.
«Я-Озирис» — такова была священная формула вечной
жизни, надписываемая от лица усопшего, и,
следовательно, ему не должно было приписывать никакого ущерба,
слабости, затемнения.
242
Однако эту свою способность даровать бессмертие ж
просветление Озирис приобрел, лишь претерпев смерть и
умаление своей плодородящей силы. Заточенный в некое
подобие саркофага духом тьмы Сетом, он странствовал по
водам Нила, был выброшен на берег, где его оплел куст
вереска, затем вновь растерзан Сетом.
Воскрешенный своей супругой Исидой, он, однако,,
стал солнцем-светом, перестав быть солнцем —
оплодотворяющим началом. Его могущество возросло и вместе с тем
умалилось, оно выросло потому, что оно умалилось,
солнце стало светом потому, что оно погрузилось во тьму,—
такова суть этого превращения.
Трудно не заметить сходство этого образа владыки
«страны Заката» с той поэтикой «тихого света»,
склоняющегося солнца, которая неоднократно находила
выражение в русской классической литературе, запечатлена ею
как оригинальная особенность национального «богочув-
ствования». Эта особая атмосфера была воплощена
Ф. М. Достоевским в излюбленном им образе «косых
лучей» заходящего солнца, тех, которые так запали в душу
Алеши Карамазова39 и о которых говорит старец Зосима:
«...благословляю восход солнца ежедневный, и сердце мое
по-прежнему поет ему, но уже более люблю закат егог
длинные косые лучи его... Кончается жизнь моя, знаю
и слышу это, но чувствую на каждый оставшийся день
мой, как жизнь моя земная соприкасается уже с новою,,
бесконечною, неведомою, но близко грядущею жизнью, от
предчувствия которой трепещет душа моя, сияет ум и
радостно плачет сердце»40.
Поэтическое свидетельство этого особого чувства
«заката» оставил Бунин в «Жизни Арсеньева»: «Нет, это
неправда — то, что я говорил о готических соборах, об
органах: никогда не плакал я в этих соборах так, как в
церковке Воздвижения, слушая скорбно-смиренное „Да
исправится молитва моя4' или сладостно-медлительное
„Свете тихий— святыя славы бессмертного — отца
небесного...44 — мысленно упиваясь видением какого-то
мистического Заката, который представлялся мне при этих
звуках: „Пришедше на запад солнца,— видевше свет
вечерний...44»41. Можно было бы привести еще ряд свидетельств
этого остро развитого в русской культуре чувства
закатного часа как часа высшей славы, но ограничимся —
цветаевским славословием Блоку, написанным как парафраз
Вечерней песни:
16*
243
Ты проходишь на запад Солнца,
Ты увидишь вечерний свет,
Ты проходишь на запад Солнца,
И метель заметает след.
Мимо окон моих — бесстрастный —
Ты пройдешь в снеговой тиши,
Божий праведник мой прекрасный,
Свете тихий моей души...
Кажущееся профанным для религиозного сознания
использование богослужебного текста для прославления
смертного человека в данном случае только подчеркивает
его смысл как воспевания высшей славы; потому-то
Цветаева и воспользовалась этим гимном для воздания
высшей хвалы боготворимому поэту.
Если вспомнить к тому же, что образ «тихого света»
появился именно в древнерусском переводе этого гимна
(в греческом подлиннике речь идет о «радостном свете»),
то станет ясным особое значение этого символа42.
Тема странствий чудесного героя по водам в ящике,
бочке, ларце — одна из самых распространенных в
фольклоре всех народов — широко представлена также и в
фольклоре русском. Везде эти странствия являются
метафорой загробных скитаний закатившегося солнца по
опасным тропам «потустороннего» мира, а ковчег, ларец,
ящик, бочонок и т. д.— символами материнского лона, в
которое погружается солнце, дабы обрести новое
рождение 43.
В духовных стихах, однако, при сохранении всех этих
элементов мифа о смерти и воскресении солнечного бога
или героя, смысл его трансформируется. Устойчивым
олицетворением возрождающего материнского лона
становится Мать-сыра земля, что усугубило мотив смерти,
возвращения в исходное первовещество. Вместе с тем в духе
поэтики «тихого света» в землю, материю, плоть
погружается солнце, дабы стать светом, чтобы вернуться не только
возрожденным, но наделенным такя^е способностью
возрождать, преобразовывать самое эту материю, выявляя
сокрытую в ней идеальность, ее внутреннюю световую
природу.
Этот гностический смысл процесса трансформации,
преобразования мира. в стихе об Иосифе Прекрасном
затемнен сказочным слоем мирского возвеличения, в стихе
о Егории Храбром — чертами солнечного героя. Но он
совершенно открыто явлен в стихе о Голубиной книге и
244
стихе о царевиче Иоасафе, пустыннике: в первом — в
своей космогонической грандиозности, во второй — в
своей личной, глубоко интимной сокровенности.
Более того, основные символы, которые несут в себе
гностический смысл обоих стихов, обнаруживают
очевидное сходство с гностической символикой алхимии и
эзотерической западной мистики в целом. Такое сходство
может указывать на общность дохристианских или
апокрифических истоков этой мистики, не случайно питавшей
народные, плебейские ереси.
Существует устойчивая традиция толкования названия
«Голубиная книга» как «глубинная», т. е. мудрая44.
Однако если учесть особую связь культуры калик с образом
Иоанна Богослова как носителя «евангелия духа»
(символом которого является голубь)45, то можно с основанием
говорить именно о «Голубиной», т. е. духооткровенной,
книге. Это усугубляет особое, сакральное значение стиха
как открывающего тайны тайн.
Наибольшее внимание исследователей привлекала и
лучше всего изучена первая часть стиха, повествующая о
собственно космогеиезе, причем в основном в астральном
измерении:
Отчего зачался у нас белый свет,
Отчего зачалось солнце красное...
Уже отмечавшееся сходство этого зачина с ведийским
гимном о первочеловеке Пуруше46, создавшем мир из
элементов своего тела, и строгий монизм, контрастирующий с
политеизмом, непосредственно предшествовавшим
крещению Руси, указывают на его очень древнее
происхождение.
И все-таки, думается, центр тяжести приходится на
вторую часть стиха, где раскрываются потаенные и
небезопасные смыслы основных явлений, как бы «прафеноме-
нов» земного космоса, а вместе с тем открываются и пути
к спасению, о которых повествует третья часть. Явно
присутствует и оттенок противопоставления голубиной
(т. е. «белой») книги книге «черной», т. е. колдовской,
книги спасения — книге погибели.
И «белую», и «черную» книги прочно соединяет
фундаментальный и, как мы увидим ниже, первостепенный по
своему значению символ — камень алатырь (он же бела-
тырь, белый латарь и т. д.). Уже эта его
амбивалентность— он может освящать как «белое», так и «черное»
тайиознание — указует на его мощь и значение. Так,
245
И. П. Сахаров отмечал, говоря о русском народном
чернокнижии: «Рассказы бывалых людей о существовании
Черной книги исполнены странных нелепостей. В их
заповедных рассказах мы слышим, что Черная книга хранилась
на дне морском, под горячим камнем Алатырем...»47
Со своей стороны, Голубиная («белая») книга также
является по большей части от алатыря:
И от нашея от Аладыри
И от той главы от Адамовы
Посреди поля сарачиыского
Выпадала Книга Голубиная48.
Алатырю принадлежит центральная роль в заговорах:
обычно под него либо прячутся ключи от заговора
(«Замыкаю свои приговорные словеса замком и ключ кидаю
в окиян-море, под горюч камень Алатырь»), либо сам он
выступает как олицетворение крепости, несокрушимости,,
мощи: «Кто камень Алатырь изгложет, тот мой заговор
переможет». И наконец: «На море на Окиане есть бел-
горюч камень Алатырь, никем неведомой; под тем камнем
сокрыта сила могуча, и силы нет конца»49.
Здесь алатырь очевидным образом становится
олицетворением какой-то покоящейся в самой себе чудовищной
мощи — в «чернокнижной» традиции, очевидно, хтониче-
ской в своих истоках.
Сколь это ни странно, когда речь идет о таком
универсальном и насыщенном значением символе, как
камень «алатырь», но необходимо отметить, что
существовало и нечто вполне реальное, обозначаемое этим
словом: янтарь50. Между тем, слово «янтарь» пришло в
русский язык из литовского (jantaras, geûtaras), где янтарь,
являлся атрибутом змеевидного духа Балтийского моря51
(возможно, одной из модификаций прусского Аутримпса).
Вполне реально допустить, что и сам камень, и его
название пришли на Русь вместе с окутывавшими их
значениями хтонической, основополагающей для мироздания
силы — и, как все силы этого ряда, опасной.
Отзвуки этой «чернокнижной» ауры алатыря
слышатся и в некоторых вариантах стиха о Голубиной книге.
Везде он принадлежит к ряду могучих первоэлементов
мира («всем камням мати») и сохраняет связь с водной,
морской стихией, хотя зачастую переносится уже на Хва-
лынское (т. е. Каспийское) море, играющее основную
роль в заговорах. Так, в варианте, записанном Языковым»
он, именуемый здесь «Илитор»,
246
Или:
лежит у моря Теплого
На восточном устье Волгском;
А коя рыба с моря пойдет
И о камень потрется
И на Руси той рыбы ловцам не добыть
И птицам не убить
И того году смерти ей не будет52.
Ах, Латырь моря всем морям отец,
А Латырь каминь камням отец:
Лежит ен сириди моря,
Сириди моря сириди синява,
Идут по морю много корабельщиков,
Гли тово камия останавливаются,
Яны берут много с яво снадобья,
Посылают по всяму свету белому...53
Однако в другом ряду алатырь получает целый ряд
новых значений: главы Адамовой, на которой был
утвержден крест Христа, горы Нагорной проповеди, камня,
завалившего вход в место погребения Христа и
отваленного по его воскресении, камня, на котором была
утверждена «вера христианская». Он все больше приближался
к тому, чтобы отождествиться с самим Христом (что
будет сделано в стихе о царевиче Иоасафе), и рядом
превращений, претерпеваемых им в границах стиха,
свидетельствует о безграничной мощи Христа, преобразующего мир,
но также и о безграничной способности мира к этому
самонреобразованию.
Олицетворением этого амбивалентного и сокровенного
могущества материи, вещества является уже известная по
стихам о Егории Храбром Острафил (Стрепеюн, Востоо-
тор и т. д.) птица, но в особенности Иыдрик-зверь —
существо, о котором упоминает только Голубиная книга, но
символическая наполненность которого сравнима лишь со
спектром значений алатыря.
Иыдрик (он же Вындрик, Белояыдрих, Индра и,
наконец, Единорог) — обитатель подземного мира, и ему нет
равных по силе.
Уж и Иидрик-зверь всем зверям мати...
Что живет тот зверь во святой горе,
И он ходит зверь по подземелью
Яко солнышко по поднебесью.
Когда Индрик-зверь разыграется,
Вся вселенная всколыбается...
247
В другом варианте:
Он и ходит рогом по подземелью
Аки солнце по поднебесью...54
Символика Единорога как олицетворения девственности
и чистоты в средневековом европейском искусстве хороша
изучена. Однако это всего лишь одна — и достаточно
внешняя — сторона огромного пласта связанных с
единорогом значений. Даже в богословской традиции, в
частности у Тертуллиаиа, единорог, порою уподобляется
самому Христу — чистому, но грозному судии мира и его
кроткому искупителю. Он (т. е. единорог в своем
уподоблении Христу) «суров и неприступен (férus) как судия,
он смиренен (mansuetus) как Спаситель»55.
Юнг подчеркивал, что в церковной традиции «символ
единорога обладает более, чем... одним значением. Он
может олицетворять также и зло... Поскольку он изначальна
является сказочным чудовищем, он несет в себе
внутреннее противоречие, conjunctio oppositorum (единство
противоположностей) ...»56.
В таком же двойственном значении, по наблюдениям
Юнга, выступает единорог в зороастрийской,
талмудической, древнекитайской мистике, и, как глубоко
амбивалентный, этот символ стал одним из ведущих в алхимии.
Своей «черной», хтонической стороной единорог
сливается здесь с драконом Ураборосом, олицетворяющим
дикое, хаотическое состояние материи. Своей «белой»
ипостасью он становится олицетворением Христа и Святога
духа, превращаясь в белого голубя57.
Сходство этой символики с символикой Индрика в
Голубиной книге отрицать невозможно58, а сам его образ;
восходит, видимо, к древнейшему ведийскому пласту. Ин-
дрик уникальным образом соединяет в себе главного бога
древнеиндийского пантеона, громовержца Индру и его
основного противника змеевидного демона Вритру (это
смешение слышится даже в огласовке имени персонажа
русского стиха). Индра, победивший Вритру, освободил
скованные демоном воды 59 и повелевание водами —
обязательной атрибут Индрика:
Да Индрик-зверь всем зверям мати.
Он ходит по подземелью,
Пропущает реки, кладязи студеные...60
248
В другом варианте:
Единорог звирь над звирями звирь.
Как живет тот звирь, во Фаор-горы,
Проходит он по подземелью,
Прочищает ручьи и проточины,
Куда зверь пойдет,
Тут ключ кипит...61
В этом своем качестве хозяина и распорядителя вод
Индрик-Единорог, соединивший в себе змея и змееборца62
и сопряженный в одно целое с Фавор-горою (иногда —
Афоном), сближается с белым латырем, по отношению к
которому воды также часто атрибутивны:
С-под камешка, с-под белого Латыря
Протекли реки, реки быстрыя
По всей земле, по всей вселенную,
Всему миру на исцеление,
Всему миру на пропитание...63
Могучая, колебавшая мир сила становится силой, на-
пояющей его водой живою. Эту «воду», как и всякий
такого рода символ, следует понимать и буквально (камень,
из-под которого бьет источник) и в соотнесении с целым
рядом ассоциативно связанных значений — разумеется,
включая в этот ряд слова Евангелия от Иоанна: «В
последний же великий день праздника стоял Иисус и
возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует
в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут
реки воды живой. Сие сказал Он о духе, которого имели
принять верующие в Него...»64
«Hydrolitus» (камень-вода, камень, источающий
воду) — таково было в алхимической традиции одно из
наименований философского камня, который, в свою
очередь, уподоблялся Христу в основополагающем тождестве
«lapis — christus».
Это тождество65 наиболее полно выражало и основную
цель алхимической процедуры, и ее метафизические
предпосылки. Такой целью было пресуществление материи
силой таящегося в ней духа, замена дикого и
беспорядочного состояния элементов в хаотическом веществе (prima
materia) их стройным и согласованным союзом в «камне»
(lapis). Возможность такого пресуществления
основывалась на гностической идее «света» (lumen), сокрытого в
черном веществе хаоса (nigredo). Однако именно в силу
249
того, что дух, пленник материи, в то же время как бы
имманентно присущ ей, «камень», т. е. первый член
тождества, оказывается поливалентным в своем значении: это
и первичная материя, заключающая в себе дух или свет 6%
но это также и самый заключенный в ней дух, который
описывался иногда как белоснежное летучее вещество,
символизируемое голубем. Он и тяжесть, но он же и
эфирная легкость, он чернота земли, но он же и
белоснежность беспорочной жемчужины, он дракон Ураборос,
и он же — голубь. Он, в сущности, недоступен
чувственному созерцанию и не поддается никакому описанию, ибо
он — «камень таинственный, не воспринимаемый
чувствами, но одним лишь умственным взором, по божественному
откровению или вследствие изучения науки
посвященных67. Такое определение в чем-то сближается с
определением атмана в «Упанишадах» как «тончайшего из
тонкого», «состоящего из света и чистоты». Вместе с тем
свой полный смысл «камень» раскрывает лишь в плане
совершенно чуждого «Упанишадам» натуралистического
мистицизма, о котором уже говорилось выше.
Для человека средневековья глубинный смысл этого
ряда символов связывался с ответом на кардинальный
для него вопрос о посмертном состоянии его души и тела и
с верой в то, что после Страшного суда и воскресения из
мертвых плоть и дух, насильственно разъединенные
смертью, соединятся в веществе нового, преображенного
мира. В отличие от атмана «камень» и является
олицетворением не только духовной субстанции бытия, но
также и его качественно новой вещественности, которая
будет обретена им по окончании вре'мен.
«Драгоценная жемчужина» описывает это так:
«...душа навеки воссоединится со своим прежним телом. Тело
же будет полностью преображено (glorificatium), станет
нетленным и прозрачности почти невероятной... Когда
камень рассыпается в прах, как тело в могиле, Бог
возвращает ему душу и дух и очищает его от всякого
несовершенства...»68 В параллель этому отрывку из
эзотерического средневекового трактата нельзя не привести сходные^
хотя и наивные, наблюдения «Странника». Герой, у
которого отнялись ноги, лечится у некоего мужика, для
получения лекарственного снадобья совершающего именно
такой процесс перегонки праха: собранные на пустырях и
почти уже истлевшие кости животных он подвергает
интенсивному тепловому воздействию в примитивном
подобии алхимической реторты: «...кости, бывшие в корчаге,
250
сделались из черных и гнилых так белы, чисты и
прозрачны, как бы перламутр или жемчуг...»69 Они видимо
«оживают», и если выделяемый ими красноватый сок и
является при этом необходимым лекарством, то в духовной
жизни странника весь эксперимент приобретает значение
неоспоримого доказательства возможного будущего
воскресения и преображения мертвых.
У истоков этой веры в преображение плоти лежит
какая-то догадка о сокрытых в материи гигантских
возможностях самопреобразования, и потому «камень» в
традиции» «Lapus — christus» (или «алатырь» русского
фольклора) имеет значение двоякое: он обозначает как саму
хтоническую мощь, тяжесть непросветленного вещества^
так и заключенную в нем «пневму» (энергию, сказали бы
мы теперь), которая, вздымаясь, вырываясь из этой
материи, сообщает ей новое состояние.
Вряд ли можно заходить так далеко, чтобы
предполагать, как это делают некоторые из современных
оккультистов, некое смутное знание древними гностиками и их
последователями алхимиками тайны ядерного распада.
Однако есть много оснований думать, что в архаической
дохристианской космогонии, во многом опиравшейся на
эмпирические данные народного естествознания, в
символической и превращенной форме сохранилось какое-то
знание о заключенных в веществе энергиях, опасных или
благотворных для человека. Органическая близость
символических рядов алхимии и народной космогонии,
запечатленной в ряде духовных стихов, не может быть
случайной и, безусловно, свидетельствует об общности древних
истоков. Вместе с тем в алхимических трактатах и
духовных стихах попытки овладения этой тайной
расщепляются на два потока: путем манипуляций, производимых
с самой материей, и путем исследования глубин
собственного сознания.
Сколь бы близко ни подходила Голубиная книга к
тождеству «Lapis — christus», как таковое оно здесь не
формулируется. В русских духовных стихах мы
встречаем его в совсем ином плане: в плане интимного,
сокровенного душевного опыта, гораздо более близкого к духу
«Упанишад», нежели к технологической активности
алхимии. Ищут в обоих случаях одно— «камень», тончайшую
субстанцию мира. Но в одном случае этот поиск
совершается в реторте, в другом — в глубинах своей души, в
одном он все более направляется вовне, в другом —
сворачивается внутрь.
251
Русская версия прямого отождествления «камня» и
Христа дана в стихе о царевиче Иоасафе-пустыннике.
Как полагают, литературной, книжной основой стиха
послужила «Повесть о Варлааме и Иоасафе» — одно из
самых распространенных произведений в литературе
средневековья70. Однако, по сути дела, стих представляет
собой совершенно оригинальное произведение. В том же,
что касается двух основных символов, вокруг которых он
сосредоточен,— пустыни и волшебного камня,— то они
внутренне связаны со всем вышеописанным рядом
временного погребения (здесь уже вполне метафорического) и
достигаемого посредством его просветления.
В большинстве вариантов стих строится как «плач»
царевича перед пустыней. Между тем эта часть совсем
отсутствует в литературном источнике и, как и плачи в
стихе об Иосифе Прекрасном, вырастет из обширной
поэтической традиции народных плачей. Предыстория
обычно опускается, но в одном из вариантов присутствует, и
в ней явно прочитывается сходство с житием Будды,
которое, вероятно, еще раз указывает на близость
апокрифических истоков самых, казалось бы, далеких друг от
друга народных культур71. Отец «индейского царевича
Асафа» приказывает никому из стариков не показываться
на улице, дабы царевич не узнал о старости и смерти.
Напротив, всюду должны быть праздничные гулянья
молодежи и т. д. Но, повествует рассказчик, Асаф-царевич
не глядит ни на молодцев, ни на девок, идет за город.
Встретился ему стар человек, такой ветхий, что и поле
пахать не может. Говорит Асаф-царевич: «Батюшка
сказал мне, что в его царстве не стареют и не умирают, а
вот какой есть стар человек». Отвечает ему стар
человек: «Ой, дитятко! Как в лета войдешь, хуже меня
будешь, да и помереть надо, дитятко». С этого слова,
сообщал далее рассказчик, пошел Асаф в пустыню и: «Стоит
пустыня заперта II Никого в ней нет»72.
Следующий затем диалог царевича с пустыней и
составляет основное содержание большинства вариантов.
Иосаф «плачет» перед матерью-пустыней, отрекается от
всего прошлого в чаянии нового бытия, обрести которое
можно, лишь погрузившись в ее недра. Материнская
символика пустыни выражена необычайно ярко, что
усиливает звучание мифологемы «второе рождение». Она
подчеркивается сугубо детскими, почти младенческими
обращениями царевича: «Прекрасная пустыня! / Восприми
меня, пустыня, / Яко матерь своего чаду, / На белыя
руци!»73
В то же время это материнское лоно (лесная пустынь,
а не пустыня) осмысляется как сакральное пространство
особой красоты и совершенства, каковым для
архаического мышления очень часто бывала именно священная
роща. Это потаенное, как бы очерченное магическим кругомг
пространство внутри себя обладает необыкновенным
очарованием. В этих случаях то, что извне описывается как
пустыня, оказывается для вступившего в нее образцом
вечного совершенства, явленным внутри земного времени
и пространства райским садом, некогда «насажденным на
Востоке». Этот сад расцвечивается всеми украшениями
народной поэзии: «кудрявые дерева», «райские птицы».
Дивен во твой прекрасный сад.
И жити в тебе всегда рад,—
Дерева, цветы лазоревые,
И листвие зеленое.
Зыблют бо ся и без ветра,
Проводят шумя вся лета74.
В то же время этот райский сад никак не может быть
обретен в пространстве внешнем. Он не существует «вне»г
он существует лишь «внутри» и в религиозной символике
описывается как «царствие божие», достигаемое, однако,
еще во время пребывания на земле:
Отвещует прекрасная пустыня
Ко младому царевичу к Осафыо:
Свет младый царевич Осафий
Чадо ты мое милое.
Когда ты из пустыни вон не выдешь
И меня, мать прекрасную, не покинешь.
Дарую я тебя златым веицом
Возьму я тебя, младый царевич,
На небеса царствовати...75
Здесь предельно ясное выражение получает движение
в вышину через глубину, достигаемое практикой затвора
и самоуглубления и преобразующее того, кто совершает
это движение.
В некоторых вариантах стиха олицетворением этой
преобразующей тайны и выступает камень, о котором
таинственный купец Варлаам говорит: «Я купец, есть у
меня драгоценный камень, подобного которому нет нигде;
может он тем, кто слеп сердцем, даровать свет мудрости,
глухим открыть уши, немьгм дать голос...»76.
253
В стихе символ камня облекается гораздо большим
рядом значений, восходящих к общезначимому
гностическому пласту. Как и у алхимиков, здесь он прямо
уподобляется Христу.
Из пустыни старец
В царский дом приходит.
Он принес с собою
Толь прекрасный камень77.
Царевич хочет увидеть и оценить камень, на что
получает ответ, что это невозможно: легче «солнце взять
рукою». Тогда царевич спрашивает, как явился на свет
этот камень и где он сейчас пребывает. Старец
ответствует:
Пречистая Дева
Родила сей камень.
Положен во яслях
Прежде всех явился пастухам.
Он ныне пребывает
Выше звезд небесных.
Солнце со звездами,
А земля с морями
Непрестанно славят Творца78.
После чего царевич и решает идти в пустыню, дабы
обрести этот «камень»: «Буду светозарен от него».
Об этом «камне камней», «камне-Христе» повествует
один из Азбуковников XVII в., причем речь идет в нем
именно об «электроне (т. е. янтаре), что подтверждает то
символическое значение камня алатыря, о котором
говорилось выше.
«...Илектрон бо,— читаем мы здесь,— есть камень зело
честен, едина от драгих камений тако имеем. Златовиден
ибо, вкупе и сребровиден. Златовидным блистанием
прообразует божество, сребровидиым человечество... Яко
камень сей зрится двоеличен, так и Христос Бог наш сугуб
естеством. Единосущна бо исповедую Отцу по божеству,
единосущна Матери по человечеству... О Христе камень
илектрон»79.
Таким образом, все движение переносится в сферу
индивидуальную и духовную, где «пустынь» — это глубина
собственной души, «камень» — нечто, уже вполне подобное
атману, что обретается в этой глубине. Однако такое
обретение предполагает какое-то сокровенное равенство чело-
254
века и бога (т. е. первоначала мира), на которое и
опирается отношение «атман — Брахман». А если это так, то
все, что локализовано во времени и пространстве, уже
здесь, в этом бытии, обладает трансцендентностью,
существует вне времени и пространства. Более того: всякое-
активное движение внутри этих глубоко условных и
относительных понятий только препятствует выявлению
такой имманентной трансцендентности.
«Он — величайший покой и тишина миров. Он —
тончайший из тонкого. Он — вечный. И ты есть Он, и Ок
есть ты. То, что ты видишь в бодрствовании, во сне и во
сне без сновидений — это Он, и знай, что Он есть ты.,
Когда ты это поймешь, то с тебя спадут оковы80.
Гнозис русских духовных стихов все время тяготеет
к такому уравниванию человека и абсолюта, опираясь при
этом и на ту традицию, которая обнаруживалась и в
заговорах. В последних большую роль играли приемы
самоуподобления мирозданию81, в особенности в его
астральных проявлениях: «Еду я из поля в поле, в зеленые луга,
в дольные места, по утренним, вечерним зорям, умываюсь
медяною росою, утираюсь солнцем, облекаюсь облаками,,
опоясываюсь частыми звездами...»82. Или же (при
собирании трав): «...стану я, рабица божия, во чистом поле на
ровном месте, что на том ли на престоле на
господнем... облаками облачусь, небесами покроюсь, на главу
положу венец-солнце красное, подпояшусь светлыми
зорями, обтычусь частыми звездами, что вострыми
стрелами...»83
При всей напряженности самоумаления, достигаемого
«погребением», затвором или «вхождением в сердце»,
такое самоумаление — внешне прямая противоположность
заговора,— в сущности, опирается на ту же
фундаментальную посылку о потенциальном равенстве человека и
космоса, человека и бога.
Судьба постепенно изживавшей себя гностической
космогонии на Западе изучена хорошо — в ее связях как с
зарождавшейся наукой84, так и с историей разнообразных
мистических учений и тайных обществ. Иначе обстоит
дело с вопросом о ее роли в русской культуре.
Хранившаяся аморфным и подвижным слоем калик, а также в
достаточно замкнутой и отрезанной от общего потока
общественной жизни старообрядческой среде, она никогда
не достигала здесь того уровня изощренности,
философской и терминологической разработанности, который
отличал ее на Западе. В новое время связанный с этой кос-
255
могонией комплекс символов, казалось, совсем выпал из
культурного кругооборота. Вероятно, и многие калики уже
давно сами не знали, о чем, собственно, повествует
Голубиная книга и что означает «камень».
Однако такое утверждение будет верным лишь
наполовину. И не знали, и знали. «Не знали» потому, что не
мотзш связно и осознанно изложить смысл выпеваемых
ими сказаний. «Знали» —в гораздо более глубоком и
близком к смыслу этих сказаний значении. Древний
космогонический миф оставался для них основанием живой
душевной практики, воспринимался как непосредственное
раскрытие тайны возможного «спасения», что, вероятно,
будет еще более верно применительно к старообрядцам.
Может быть, именно в силу своей зыбкости,
неоформленности гностическая мистика калик, изначально
ориентированная больше на самопреобразование, чем на
преобразование материи, оказалась гораздо менее подверженной
распаду под влиянием прогресса науки и
распространения позитивистского знания. Она как бы и не
претендовала на то, чтобы сразиться с наукой85 на поприще
знания в строгом смысле слова. Но в той области, которую
она закрепила за собой, ее позиции были сильны.
Вплоть до XX в. научная психология и светская
педагогика игнорировали сферы подсознания, символического
мышления и, по сути дела, оказывались бессильными
перед любым явлением из области парадоксальных
душевных процессов. Напротив, именно об этих процессах и
говорили калики, причем на фоне центральной для всех
оказаний идеи обратимости процессов внешнего мира и
всего потока бытия. Более того, отождествляя
человеческую «самость» с наиболее глубоким, потаенным слоем
психики, вынося ее за пределы «здешнего»
пространственно-временного континуума, они тем самым как бы
указывали на постоянно присутствующую возможность
аннигиляции прошлого как небывшего (не к этим ли истокам
восходит и столь характерный для русской литературы
тип всегда готового начать «новую жизнь»,
возрождающегося и воскресающего героя). Они привносили в
обыденную жизнь очень широких слоев населения острое чувст-
ство иных духовных измерений, и роль их в
формировании крупных мировоззренческих установок национальной
культуры, равно как и некоторых, резко выраженных
черт национальной исторической психологии, еще
нуждается в серьезном изучении.
256
1 В новелле нарочито прочеркнуты физиологические симптомы
душевного кризиса Фрэнни: бледность, тошнота, обморок и т. д.
2 Между Фрэнни и ее другом происходит в этой связи
характерный диалог:
«— А кто написал?
— Не знаю,— небрежно бросила Фрэнни.— Очевидно, какой-то
русский крестьянин... Он себя не назвал. Он ни разу за весь
рассказ не сказал, как его зовут. Только говорит, что он
крестьянин, что ему тридцать три года и что он сухорукий. И что
жена у него умерла. Все это было в тысяча восемьсот каких-то
годах» (Современная американская новелла: 60-е годы. М., 1971.
С. 314.)
3 Памятники средневековой латинской литературы X—XII веков.
М, 1972. С. 313.
4 Памятники литературы древней Руси: XII век. М., 1980. С. 25—
26. Если добавить, что именно в XII в. были созданы храмы
Спаса Нередицы в Новгороде и Покрова на Нерли, которые можно
считать архитектурной антитезой готики, то различие двух
типов духовного устремления станет особенно очевидным.
5 Там же. С. 97.
6 См.: Радхакришнан С. Индийская философия. М., 1956. Т. 1,
гл. 4. С. 320.
7 Там же. С. 229—230.
8 Там же. С. 242.
9 Там же. С. 90—91.
10 Откровенные рассказы странника духовному своему отцу. М.,
1884. С. 25.
11 В точном этимологическом значении слова «libido» как^
«безграничного алкания». См.: Young К. Métamorphoses de l'âme et
ses symboles. Genève, 1967. P. 174. В качестве замечательного
образца такого «алкания» он цитирует строки Мехтильды Маг-
дебургской («Моя душа рыкает, подобно голодному льву» —
Ibid. P. 181).—Таков созданный ею образ души, стремящейся
к богу.
12 Трофимова М. К. Историко-философские вопросы гностицизма.
М., 1979. С. И.
13 Там же. С. 22.
14 «Иисус сказал: Я — Свет, который на всех. Я —все: все вышло
из меня, и все вернулось ко мне. Разруби дерево, я —там;
подними камень, и ты найдешь меня там» (Там же. С. 34).
15 Разумеется, как все подобные глобальные характеристики, обе
эти парадигмы не исчерпывают ни культуры Запада, ни
культуры Востока. Речь идет скорее о двух постоянно
воспроизводящихся в истории культуры парнопротивоположных позициях.
16 Hesse H. Siddhartha. L., 1974. P. 3. Здесь Гессе расшифровывает
«сокровенное» (heynilish) и как «внутреннее святилище», и как
«место обитания Атмана».
17 Древнеиндийская философия. С. 247.
18 Калеки перехожие: Сб. стихов и исследование П. Бессопова. М.,
1861. С. 21. В одном из вариантов шествие калик обладает
очевидными чертами астрального шествия, что подчеркивает
внеземной, сверхъестественный характер их могущества: «...Шили
они подсумки рыта бархата // И шили лапотки из семи шелков
Шемаханских, // У них вплетено в лапотиках в пятке-носке /
По ясному по камешку самоцветному... // Они день идут по
красному по солнышку, // А в ночь идут по самоцветиому по
17 Заказ № 667
257
камешку ...» (Там же. С. 8—9). Интересный очерк истории
калик, и свидетельств их древнего могущества был дан О. В.
Максимовым в его известной книге «Бродячая Русь» (СПб., б. г.
Т. 1).
19 «Его прощание с людьми было отмечено таинственностью
мистерии: он выходит из дома с семью ближайшими учениками,
ложится живым в могилу, обращаясь к ученикам: „Привлеките
матерь мою землю, покройте меня!" Ученики целуют его,
покрывают землей до колен, снова целуют, засыпают до шеи, кладут
на лицо плат, целуют в последний раз и засыпают до конца»
(Аверинцев С. С. Иоанн Богослов // Мифы народов мира. М.,
1980. Т. 1. С. 550).
20 Калеки перехожие. С. 15.
21 Этот дух кенозиса, самоумаления, нашел отражение не только
в характерных для калик приемах самообличения, но был
поэтически воплощен в таких чрезвычайно любимых в народе
стихах, как сказание о двух Лазарях и особенно стих об
Алексее, человеке божьем.
22 Как возникающее из ночного мрака солнце и является Касьян
своим сотоварищам, так что они даже не могут смотреть на
него, как не может человек смотреть прямо на солнце. Сила
присутствующего в нем отныне огненного духа подчеркивается
символами сокола (атрибут солнечных героев) и длинных волос
(распространенная в фольклоре метафора солнечных лучей):
«Молодой Касьян сын Михайлович // Выскакивал из сырой
земли, / Как ясен сокол из тепла гнезда; // А все они, молодцы,
дивуются, II На его лицо молодецкое // Не могут зреть добры
молодцы... II К ж кудри на нем молодецкие до самого пояса»
(Там же. С. 16).
2* Ин. 12, 24.
24 Калеки перехожие. С. 156.
25 Там же. С. 185.
26 Цит. по кн.: Калайдович К. Памятники российской словесности
XII в. М., 1881. С. 75.
27 Калеки перехожие. С. 98.
28 Книга Премудрости Соломона. 6, 13—14.
29 Эта тема также развивалась в духовных стихах (цикл о Егории
и Лизавете Прекрасной), но по глубине и оригинальности
разработки этот цикл сильно уступает циклу о Егории Храбром.
30 Черты Георгия (Юрия) как олицетворения оплодотворяющей
силы весеннего солнца очевидно присутствуют в одном из
болгарских стихов, где Егории «златой палицей» (т. е. солнечным
лучом) побивает силы зимы и мрака («змею серу»), кровь
которой растекается реками изобилия:
Перва река пахарям —
Та ль пшеница
Другая река пастухам —
Молоко свеже
Третья река виноградарям
Вино рьяно.
(Калеки перехожие. С, 503—504)
81 Калеки перехожие. С. 313. Эти образы часто употребляются в
русских сказках для описания чудесного младенца («По колена
ноги в золоте, по локоть руки в серебре»), равно как и образ
258
горящей во лбу звезды. См.: Афанасьев А. Н. Народные русские
сказки. М., 1976. С. 380—383.
32 Калеки перехожие. С. 395.
83 От известного «сидения сиднем» Ильи Муромца до исторических
песен, в одной из которых, например, работник сообщает царю
Петру, что сидит в яме уже 33 года. Царь считает этот срок
достаточным для искупления вины.
В основе самой идеи срока выживания, собирания,
вызревания (так, 33 года покоятся в земле кости Бориса и Глеба,
пока не является связанное с ними чудо) лежит острое чувство
внутреннего развития при внешнем покое. Очевидно,
интуитивно нащупывался также закон психологического развития,
который Юнг описал как «кризис зрелого возраста»: резкая
перемена личности, взглядов, вкусов, склонностей — короче,
перерождение всего существа, чаще всего происходящее в середине
четвертого десятилетия жизни. Ему может предшествовать
болезненное чувство «иссыхания», как бы отмирания всей
прожитой до сих пор жизни, нашедшее великие поэтические
воплощения в первой песне Дантова «Ада», в пушкинском «Пророке».
84 Калеки перехожие. С. 447.
35 Прем., 7, 25—27.
36 Калеки перехожие. С. 448.
37 Значение манихейской компоненты народной культуры, ее
«траисгеографическая» и «трансисторическая»
распространенность недавно были убедительно подчеркнуты С. С. Аверинце-
вым. См.: Аверинцев С. С. На границе цивилизаций и эпох... /
Восток — Запад. М., 1985. «...В истории культуры,— отметил он,—
границы пролегают существенно иначе, чем в истории
религиозных учений» (Там же. С. 8).
38 Именно в стране солнечного заката, на западе, были
расположены города мертвых в Мемфисе и Фивах. Переезд через Нил
знаменовал собою переезд в «тот» мир — а вместе с тем и
переезд из бренности в вечность.
39 «Он запомнил один вечер, летний, тихий, отворенное окно,
косые лучи заходящего солнца (косые-то лучи и запомнились
больше всего), в комнате, в углу, образ, перед ним зажженную
лампадку...» (Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Л., 1971. Т. 14.
С 18). „
40 Там же. С. 264. Слова Зосимы хочется сравнить с близкой по
духу и очень поэтичной характеристикой «склоняющихся дней»
Иакова в стихе об Иосифе Прекрасном:
Стал Иаков от сего мира отходен
Стал Иаков до Бога доходен.
Имепно о закатном солнце говорит и Хромоножка в своем
разговоре с Шатовым. Подробнее об этом см.: Дурылин С, Н. Об
одном символе у Достоевского / Достоевский. М., 1928.
41 Бунин И. А. Соч. М., 1966. Т. 6. С. 76. «Да исправится молитва
моя...»— начальные строки 140-го псалма, исполняемого во
время вечерни. «Свете тихий...»— начальные строки из Вечерней
песни Афиногена Великомученика, восходящей еще к раннему
христианству.
42 Ср.: Иванов В. Родное и вселенское. М., 1918. С. 136.
43 См.: Young К. Op. cit. P. 856. Пушкин в «Сказке о царе Салтане»
сохранил все основные элементы этой мифологемы: бочку с
младенцем, брошенную в океан, его как бы воссоединение с ма-
7*
259
терыо в этом лоне смерти, чудесный быстрый рост и возникшую
за время странствий демиургическую способность к сотворению
особого прекрасного, дивно устроенного града.
44 Ср. у Блока:
Протекали над книгой Глубинной
Синие ночи царицы...
45 В одном из вариантов стиха содержится прямое указание:
«Писал эту книгу Богослов Иван» (Калеки перехожие. С. 293).
Любопытна также аналогия с одним восточноболгарским
стихом, где речь идет именно о книге, принесенной голубем и
содержащей пророчество о падении Константинополя в наказание
за бесчинства кесаря Константина:
А царь Константин возгордился,
В церкву он на коне ходит,
С коня причащение приемлет,
Копьем антидор взимает.
Прилетел тут белый голубь,
Потряс свое правое крылье,
Вытряс белую книгу,
Белу книгу, черно слово.
(Там о/се. С. 615)
46 Ригведа X. 90. Древнеиндийская философия. С. 30—32.
47 Сахаров И. П. Сказания русского народа: Русское народное
чернокнижие. СПб., 1885. С. 5.
48 Калеки перехожие. С. 475.
49 Сахаров И. П. Указ. соч. С. 65.
Б0 См.: Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка.
М., 1978. Т. 1. С. 9. Такое же впечатление производит на нас и
то, когда мы узнаём, что сказочные «сон-трава», «разрыв-трава»,
«тирлич» и т. д., исполненные значения в народном волховании,
имеют вполне реальные ботанические соответствия, описаны в
определителях и доступны взору каждого.
51 Второе название алатыря (алабырь) прямо указывает на его
связь с Балтийским морем, в древности именовавшимся Алабар-
ским или Алаборским, морем.
52 Калеки перехожие. С. 338.
53 Там же. С. 338.
54 Там же. С. 277, 280.
55 Young К. Psychologie et alchimie. P., 1970. P. 552.
56 Ibid. P. 562—563. См. историю мифилогемы единорога и
сведений, сообщавшихся о нем, в кн.: Мифы народов мира. Т. 1.
С. 429-430.
57 Ibid. P. 542.
58 Включая даже такую деталь, как встречающаяся иногда замена
Индрика (единорога) львом. Лев, до XVII в. нередко бывший
символом евангелиста Иоанна (позже им стал орел), усугубляет
оттенок духоносности олицетворяемой им силы.
59 Ригведа. 32. См. также: Шевелева С. Л. Мифология
древнеиндийского эпоса. М., 1975.
Б0 Калеки перехожие. С. 332.
61 Там же. С. 296.
260
62 Указание на связь между «громом» (т. е. ударом молнии) и
подземным источником очень характерно для русского народного
естествознания. Так, Даль отмечал: «Громовой колодезь, ключ
из-под камня по народному поверью от удара грозы, на который
ставят часовенку» (Даль В. Указ. соч. С. 397). Отголоски мифа
о змееборчестве громовержца слышатся и в широко
распространенном в свое время поверье, согласно которому в грозовое
лето можно было не бояться змей. См.: Сахаров И. Я. Указ.
соч. С. 69.
63 Калеки перехожие. С. 367.
64 Ин. 7-37.
65 Ему посвящена целая глава в книге К. Юнга «Психология и
алхимия»; см.: Young К. Psychologie... P. 441—553.
66 Как сообщает Юнг, один из полулегендарных создателей
алхимии, Останес, писал о каком-то камне, лежащем в верховьях
Нила и содержащем в себе «пневму», т. е. дух — даже не в себе,
а в своем сердце. См.: Ibid. P. 379.
67 Ibid. P. 474.
68 Ibid. P. 476.
69 Откровенные рассказы... С. 67.
70 Юнг подчеркивает: «... аналогия lapis — christus» восходит к гно-
стико-языческим истокам, и это совсем не отрицалось в средние
века» (Young К. Op. cit. P. 474).
71 Об этом см.: Аверинцев С. С. Указ. соч. С. 8.
72 Калеки перехожие. С. 258.
73 Там же. С. 219.
74 Калеки перехожие. С. 246.
75.Там же.
76 Памятники литературы древней Руси. С. 199.
77 Калеки перехожие. С. 334.
78 Там же. В варианте, записанном П. И. Мельниковым-Печерским,
ответ старца звучит несколько иначе:
Когда ты возможешь Пречистая Дева
Небеса измерить, Родина сей камень,
Небеса измерить, В ясли положила,
Все моря и земли Грудью воскормила,
В горсть свою схватить — Грудью воскормила
А все против камня Бога-человека
Ровно ничего... Спасителя.
(Мелъников-Печерский П. И. В лесах. М., 1955.
Т. 1. С. 717)
«Камень, как дитя, должен быть вскормлен девственным
молоком» («Lapis, ut infantus, lacté nutriendus est
virginali»),—говорится в одном из алхимических трактатов XVII в. Совпадение
почти текстуальное. Его можно было бы объяснить
заимствованием, широким распространением в России в XVIII в., в том
числе и среди грамотного простонародья, переводной
мистической литературы. Чрезвычайно популярен был Якоб Бёме, часто
пользовавшийся метафорой «Lapis — christus». Однако хорошо
известно, что заимствуется лишь то, что может быть усвоено на
национальной почве. Кроме того, вся символика алатыря,
столь значимого в сказках, заговорах и стихе о Голубиной
книге, говорит о древних корнях мифологемы «камня» на Руси.
79 Рукописный Азбуковник XVII в. Хранится в ОРКР Научной
библиотеки им. А. М. Горького МГУ; шифр 109—20—22—70.
261
80 Древнеиндийская философия. С. 45.
Cl Характерная черта магии вообще. См.: Гуревич А. Я. Проблемы
средневековой народной культуры. М., 1981. С. 163.
€2 Сахаров И. П. Указ. соч. С. 41.
63 Мелъников-Печерский П. И. Указ. соч. С. 195.
*4 См.: Рабинович В. Л. Алхимия как феномен средневековой
культуры. М., 1979.
гз В отличие от алхимии — «магико-экспериментального образа
рукотворного действия» (Рабинович В. Л. Указ. соч. С. 191) — гно-
зис калик принципиально пе-технологичен и имеет своей целью
только «нерукотворное».
Т. П. Григорьева
ОБРАЗЫ МИРА В КУЛЬТУРЕ:
ВСТРЕЧА ЗАПАДА С ВОСТОКОМ
Великие силы Поднебесной, будучи
долго разобщенными, стремятся
соединиться вновь и после продолжительного
единения опять распадаются — так
говорят в народе
(Ло Гуанъ-чжун. «Троецарствие»)
В традиционных учениях китайцев не случайно
Великий Предел (тайцзи) играет роль абсолюта, роль
вселенского регулирующего начала: движение в одну
сторону может продолжаться до какой-то границы, а
потом поворачивает назад, чтобы не впасть в губительную
односторонность. Как сказано в даосском памятнике
«Чжуан-цзы»; «В крайнем пределе холод замораживает,
в крайнем пределе жар сжигает. Холод уходит в небо,
жар движется на землю. Обе (силы), взаимно проникая
друг в друга, соединяются, и (все) вещи рождаются.
Нечто создало (этот) порядок, но (никто) не видел (его
телесной) формы... Уменьшение и увеличение, наполнение я
опустошение, жар и холод, изменения солнца и луны,—
каждый день что-то совершается, но результаты этого
незаметны. В жизни существует зарождение, в смерти су-»
ществует возвращение...»1
Впервые понятие «тайцзи» появляется в древнем
комментарии к «Ицзину» («Книге Перемен») и потом
становится одним из центральных понятий тех учений, где из-
262
лагаются мировоззренческие принципы китайцев. Как
абсолют Великий Предел всеобъемлющ; он мера и
Вселенной и каждого индивидуального существования, он
олицетворяет всеобщую связь вещей и беспредельное. Но нам
в данном случае интересно одно его свойство. Говоря
словами сунского философа Чжу Си (ИЗО—1200): «И
понял я Предел Великий: в нем обе Формы коренятся».
И эта мысль всеобъемлюща: двуединство — свойство
вещей; мир бинарен, амбивалентен по своей природе. В тай-
цзи в потенции содержатся все пары: темное и светлое,
покой и движение (инь — ян). Само движение двуедино,
едино с покоем, исходит из покоя и возвращается в него, и
двусторонне, направлено «туда-обратно», не только
последовательно, но и одновременно, движение и прерывно и
непрерывно одновременно. Все развивается в прямом и
обратном порядке. «Изменения есть образ движения
туда-обратно»,— сказано в том же комментарии к «Ицзи-
ну» — «Сицычжуань»2. Все по необходимости проходит
стадии сжатия — расширения, вдоха — выдоха, прилива —
отлива.
И древние греки знали, что без пульсации нет жизни,
хотя, в отличие от китайцев, брали за основу, как
правило, нечто определенное. В трактате Лаоцзы «Даодэцзип»
говорится: «Дао туманно и неопределенно. Однако в его
неопределенности и туманности содержатся образы. В его
туманности и неопределенности содержатся вещи. В его
глубине и неясности содержится жизненная сила. Эта
жизненная сила и есть истина. Это — искренность»3.
Акцент делается на неопределенности, потому что
определенность есть остановка, а мир для древних китайцев —
не огонь и не вода, а путь. (Отсюда, к слову, склонность
одних к завершенности, четкой форме, склонность других
к незавершенности, некоей расплывчатости формы в
искусстве.) У Анаксимена это сгущение и разрежение
воздуха, у Гераклита — огонь, мерами разгорающийся и
мерами погасающий, у Эмпедокла — четыре стихии: вода,
воздух, огонь, земля, которые, движимые силами любви и
ненависти, то распадаются, то вновь соединяются.
Понадобилось, однако, более двух тысяч лет, чтобы
наука экспериментальным путем подтвердила правоту
древних, открыв закон пульсации всего в этом мире, от
атома до Солнца, от электрона до галактики. Совсем
недавно наши астрофизики открыли глобальные колебания
Солнца с периодом 160 минут и амплитудой 10 км.
Геологи доказали, что и поверхность Земли подвержена про-
263
цессам расширения и сжатия, притом в периоды
глобального расширения могут происходить процессы локального
сжатия и наоборот, что свидетельствует о
принципиальном единстве процессов. И Солнце и Земля будто дышат,
как всякий живой организм. Уже и Солнце
воспринимается как гигантский «акустический резонатор».
Становятся доступнее мысли Чижевского. «В этом бесконечном
числе разной величины подъемов и падений сказывается
биение общемирового пульса, великая динамика природы,
различные части которой созвучно резонируют одна с
другой»4.
Лишь несколько десятилетий назад физиологами
осознано явление гомеостаза — относительного, подвижного
равновесия, обуславливающего постоянство внутренней
среды — крови, лимфы — и устойчивость основных
функций организма — кровообращения, дыхания, обмена
веществ и т. д. Значит, постоянство, покой обеспечиваются
движением, двусторонним, колебательным движением в
оптимальных пределах (тайцзи). Значит, пульсация —
одно из всеобщих свойств материи, обуславливающая жизнь
во всех ее проявлениях: где есть пульсация, там жизнь.
Благодаря движению «туда-обратно» и существует целое.
Двустороннее движение как бы связывает стороны, не
дает им распасться. При этом движение на одном
уровне (функции отдельных органов) обуславливает
постоянство или покой на другом уровне, на уровне организма в
целом, что подтверждает изначальное единство покоя и
движения.
Раз пульсация — всеобщее свойство материи, она
должна быть присуща и мельчайшим частицам — атому,
электрону. Если это всеобщее свойство материи, оно не
может не влиять и на сознание людей, на ритм их жизни.
В духовной истории человечества нетрудно обнаружить
этапы приливов и отливов, подъемов и спадов. И это
естественно, если сознание способно отражать объективный
мир, резонировать на естественные явления. Не
составляет исключения и наука, путь которой так же
зигзагообразен. По свидетельству А. Пуанкаре, «когда-нибудь
потребуется между атомами нашей первой среды вообразить
вторую, более тонкую среду, предназначенную для
передачи действия между ними. Эти доводы поясняют, почему
наука всегда обречена периодически переходить от
атомизма к непрерывности, от механицизма к динамизму и
обратно и почему эти колебания никогда не прекратятся.
Однако это не должно мешать нам подводить итог совре-
264
менному положению вещей и задавать вопрос, в какой ж&
фазе колебания мы находимся теперь, хотя мы и уверены,,
что через некоторое время окажемся в противоположной
фазе. И вот я, не колеблясь, утверждаю, что в данный
момент мы продвигаемся в сторону атомизма, а механицизм
преображается, уточняется...»5.
Это знаменательное признание. Перефразируя слова
Екклесиаста: «Время говорить, время молчать», можно
сказать: и в жизни человечества есть время сходиться,
есть вррмя расходиться, есть время раскрываться, есть
время закрываться, «атомизироваться», но, действительно,
ни то, ни другое состояние не абсолютно, можно говорить
лишь о том, что какое-то из состояний преобладает.
Такова диалектика жизни, противоположные стороны то
соединяются, взаимотяготея друг к другу, то разъединяв
ются, взаимоотталкиваются. Человеку остается понять,
какую стадию переживает мир, окружающий его,-—
прилива или отлива, чтобы действовать сообразно ситуации.
Этому и учит «Книга Перемен».
Шестьдесят четыре гексаграммы «Ицзина»
олицетворяют шестьдесят четыре стадии мирового становления.
Ситуации сменяют одна другую под действием закона,
который современники назвали бы переходом количества
в качество. Каждая ситуация — неизбежный этап в
процессе становления мира. Бессмысленно пытаться
предотвратить какую-то стадию, следует действовать в
соответствии с ней. Для этого к гексаграммам прилагаются
афоризмы; положим, в ситуации Упадка (пи) —12-я
гексаграмма; «Великое отходит, малое приходит.
Неблагоприятна благородному стойкость». Значит, не нужно
пытаться остановить ход событий, следует переждать ситуацию,
не усугублять ее несообразными действиями.
Каждая гексаграмма состоит из шести черт. Целая,
сильная черта олицетворяет все, что связано со свойством
ян; прерванная черта олицетворяет все, что связано с
началом инь. Возможно, уже здесь графически изображена
идея двуединой природы всего сущего, как сущего и
несущего, непрерывного и прерывного одновременно; как
мы сказали бы теперь, континуального и дискретного.
Единое, неявленное, вечное, неизменное существует в
форме единичного, явленного, изменчивого. Но
соотношение прерванных и целых черт не повторяется, и потому
нет двух одинаковых гексаграмм. Лишь первая
гексаграмма состоит из шести целых черт, олицетворяя чистый
свет, чистое творчество; лишь вторая гексаграмма состоит,
265
из шести прерванных черт, олицетворяя беспримесную
тьму, абсолютное исполнение. Остальные гексаграммы
смешаны, ибо на земном уровне нет чистого Творчества и
чистого Исполнения. Это потенциал, который никогда не
бывает реализован, но существование которого говорит о
том, что возможности жизни и человека неисчерпаемы.
Это идеальное, непротиворечивое состояние, то, к чему
мир устремлен, что заложено в его основе, но идет он к
этому сложным путем.
Древние китайцы искали единый формообразующий
принцип, лежащий в основе вещей, организующий
Вселенную на уровне макро- и микромира, и нашли его в
структуре взаимочередующихся всепроникающих сил
инь — ян, которые, задавая ритм вещам, регулируют
жизнь во Вселенной: чередуемость ночи — дня, холода —
тепла, инерции — энергии, расширения — сжатия. Можно
сказать, инь — ян и есть пульс Вселенной. Тайцзи,
абсолют, дает жизнь двум началам одновременно («в нем обе
Формы коренятся»). Нет того, что бы не содержало в
себе инь — ян,— все есть ян внутри, инь на поверхности, но
в одном больше инь, в другом больше ян, поэтому и
стало возможным разделение по иньскому и янскому
параметрам явлений как физического, так и психического мира.
Приведу примерную таблицу того, что относится к
инь, и того, что относится к ян.
ИНЬ ЯН ИНЬ ЯН
покой движение пространство время
вода огонь расширение сжатие
инерция энергия электрон протон
растения животные податливость напряжение
женское начало мужское начало
Эту таблицу можно продолжать до бесконечности. Все
элементы таблицы Менделеева, все продукты питания, а
также темпераменты людей п состояния души
разделяются на инь и ян. Смысл в том, чтобы эти состояния, инь и
ян, взаимоуравновешивались. Когда слишком много инь
или слишком много ян, происходят всякого рода аномалии,
болезни, стихийные бедствия и т. д. Поэтому в «Сицы
чжуань» и сказано: «Один раз инь, один раз ян и есть
путь (дао). Кто следует этому, вершит доброе»8. То есть
только уравновешенность и чередуемость сторон дают
возможность жизни.
Инь — ян взаимопроницаемы, присутствуют друг в
друге, и потому в явлении, в каждом мгновении есть та
266
и другая тенденция: сжатия и расширения, движения s
покоя, та и другая сила — центробежная и
центростремительная, но какая-то из них преобладает. Иначе ситуации
не чередовались бы и явление исчерпало бы себя.
Значит, и дао есть пульсация, расширение-сжатие. Время от
времени происходит разрыв, распадается то, что было
единым. Так, в ситуации Упадка, по «Ицздну», происходит
разрыв всеобщих связей, но на этом не кончается процесс
мирового становления. Это лишь стадия пути. Разрыв,
видимо, служит условием формирования новой сущности,
ибо сформироваться, обрести полноту нечто может, лишь
отделившись, обретая независимость, что и обуславливает
восхождение, но не в гегелевском смысле, когда новая
сущность рождается за счет гибели одной или обеих сторон0
Противоположности здесь не сталкиваются.
Собственно, инь — ян — не противоположности и по существу, и
позиционно; присутствуют друг в друге, акцент — на их
взаимодополнительности. Возможна ситуация разрыва (а
не столкновения), инь — ян не сталкиваются, ибо следуют
друг за другом, но могут разойтись в разные стороны,.
как в ситуации Упадка, когда три янских черты
расположены сверху, а три иньских — внизу, ибо тенденция
легких ян тянуться вверх, а тенденция тяжелых инь
тянуться вниз. Все в этой ситуации как бы перевернуто: то, что»
должно быть наверху, оказывается внизу, то, что
должно быть внизу, оказывается наверху. Постепенно
происходит выправление ситуации, поворачивание к
правильному порядку. Это во-первых, а во-вторых, в данной
системе мышления исключается появление чего-то
принципиально нового, в виде новой сущности, ибо все уже-
есть, пребывает в Небытии и время от времени возникает-
из Небытия, чтобы вновь вернуться в Небытие.
Собственно, сам процесс взаимодействия, когда нечто
расходится и сходится, возможен благодаря несовпадение
сторон, различных форм движения — скажем,
центробежного и центростремительного, правостороннего и
левостороннего (что и образует двойную спираль). С точкр1
зрения современной физики, частицы, образующие мврг
кварки и лептоиы, имеют левоспиральную и правоспираль-
ную форму. При бросающейся в глаза симметрии
(природа так устроила — всего по два) обнаруживается
функциональная асимметрия, взаимодополняемость сторон
(скажем, правое и девое полушарие мозга), что не
только не противоречит единству целого, но обуславливаем
его. Функциональная асимметрия и создает устойчивое?
равновесие сил.
267
Следовательно, одновременность симметрии и
асимметрии — еще одно всеобщее свойство материи, не вполне
осознанное наукой. Современное философское сознание,
несмотря на то что научные открытия XX в. настойчиво
толкают его к этому, с трудом допускает одновременность
правого — левого, покоя — движения, волны —
корпускулы, Востока — Запада, хотя принцип дополнительности
был открыт Н. Бором почти полвека назад.
Неспособность схватить одновременность разного,
несовместимого с точки зрения формальной логики —
скажем, симметрии и асимметрии, прерывного и
непрерывного — служила главным препятствием на пути познания
мира. Отсюда взрыв интереса к проблемам методологии.
Господствующий в последние века «метафизический
способ мышления», который в наше время принято называть
линейным, «одномерным», не в состоянии охватить
явление в целом, с разных сторон, в его многомерности, что и
делает насущной проблему нового типа мышления. Более
того, по мнению ведущих ученых мира, жизнь на земле
пришла в зависимость от того, научатся ли люди думать
по-новому. Можно вспомнить манифест Пагуошского
движения ученых: «„Научиться мыслить по-новому11, чтобы
сохранить жизнь на нашей планете,— это лейтмотив
обращения к человечеству в историческом Манифесте
Рассела — Эйнштейна»7. И речь, конечно, идет не только о
содержании мышления, но и о его форме. Как говорится,
это требование носится в воздухе, пронизывает научную
мысль, попадает на страницы газет: «Не надо забывать,
что логика, ее правила позволяют лишь грамотно
оперировать уже известным знанием, но не всегда помогают
открывать новые закономерности природы. Не случайно
многие выдающиеся ученые, описывая тот путь, которым
они шли к познанию нового, ссылались на некий процесс
озарения, мгновенного решения задачи, что являлось им
не в какой-то словесной форме, а именно как схваченное
разом п целиком, верное представление о предмете
размышлений... речь идет о некоей самостоятельной,
образной форме познания»8. Это мнение советского психолога
сейчас уже никого не удивляет. Но в таком случае
понятен интерес к Востоку, где «образная форма познания»
оказалась преобладающей.
Впрочем, понят ли? Откуда тогда этот вопль души:
«С некоторых пор я: возненавидел слово „профиль": везде,
Куда ни предложу свои тексты, мне отвечают: „Все это
ючень интересно, но — увы! — не по нашему профилю'4.
26Й
Но ведь „профиль" — это линия, плоскость, а у меня —
тело, шар, объем, трехмерность (по крайней мере). Так
нет: изволь сплющиться и вытянуться в линию — тогда
проползешь...
Есть мысль — как четкая форма, рациональное
понятие, рассудочное определение, „атом", „мысль-частица" и
есть „мысль-волна", „поле"... некий „мыслеобраз", где
рациональное сплавлено с эстетическим и эмоциональным.
Если работа „мыслями-частицами" совершается путем
рассудочной логики — линейно и шаг за шагом, то работа
„мыслями-волнами" — проникновенна и переносна,
летуча и ассоциативна. Идет диалог и переплетение мысли
рациональной и ассоциативной, и в этом действии мысли
добываются новые смыслы...
Итак: образное мышление мыслями — так можно
означить это дело... если я воображаю не людей и не
чувства, а идеи, проблемы, научные теории, эпохи
культуры — они мои персонажи, и они в моем тексте вступают
в образные коллизии,— почему же невозможна такая
художественная работа?»9 Это целая программа на будущее.
Но почему в одной части света с душевной болью
приходится доказывать то, что в другой части света
существовало тысячелетиями и было нормой?!
Невольно вспоминаются слова Ромена Роллана:
«Огромное большинство наших европейских умов запираются в
своем этаже Жилища человека, и хотя этот этаж полон
книг, пространно повествующих об истории этажей
прошлого, — остальная часть дома кажется им
необитаемой»10. И ведь, известно, образ шире идеи, «образная
информация,— по мнению итальянского психолога Э. Баро-
ло, на которого в упомянутой статье ссылается Ю.
Забродин, — непосредственно и без критического анализа
проникает в самые потаенные уголки нашей психики».
«Учитель сказал: письмо не до конца выражает
слово, слово не до конца выражает мысль, как же понять
мысли совершенномудрых? Учитель сказал: совершенно-
мудрые создали образы, чтобы до конца выразить мысли,
начертали гексаграммы, чтобы отличить истинное от
ложного, приложили афоризмы, чтобы до конца выразить
слова»11. Синолог А. А. Петров так комментирует это место
из «Сицычжуань»: «„Образ" здесь выступает как средство
выражения „мысли", содержа в себе, таким образом, и
элементы чувственного познания (наблюдение,
созерцание), и элементы рационального познания (обобщение
наблюдаемого, выделение в нем основного смысла)».
269
И далее приводит рассуждение на этот счет китайского
мыслителя III в. Ван Би: «В образе проявляется мысль.
В слове объясняется образ. Для выражения мысли дан
образ, для выражения образа дано слово»12.
Свои идеи восточные мудрецы излагали, как правило,
не в форме научных гипотез, не языком науки, а именно
языком образа, нередко в форме притч, бесед, суждений,
что, собственно, и позволило им избежать
односторонности и обусловило жизненность их учений. Иначе и быть
не могло, ибо мудрецы говорили об общих свойствах
вещей или о тех законах, которые приложимы к любому
явлению, большому и малому, к миру физическому и
психическому.
Попробуем взглянуть на проблему Восток — Запад
под углом зрения целого как взаимодействия разного
взаимодополняющего. Если функциональная асимметрия
есть условие нормальной жизнедеятельности целого, то
становится понятной необходимость расхождений на
уровне макро- и микромира. Это те расхождения, которые
обусловливают единство. Говоря словами Гераклита,
«противоречивость сближает, разнообразие порождает
прекраснейшую гармонию». А по Гегелю, «восток и запад
присущи каждой вещи». Понимание целого как
подвижного диалектического единства дает методологическую
основу для правильного подхода к проблеме Восток —
Запад, не совместимого ни с востокоцентризмом, ни с
европоцентризмом в силу их односторонности. Центр
(истина)— серединен по существу, не может быть присущ
чему-то одному, одной из сторон феноменального мира.
Значит, не правы и те, кто нивелирует различия между
Западом и Востоком (без этих различий невозможна была бы
мировая общность), и те, кто их усугубляет.
Сравнивая Восток и Запад на современном уровне,
начинаешь осознавать правоту древних, в частности
прозорливость Анаксагора, глубину идеи «универсальной
смеси»: «все есть во всем», в мельчайшей частице
присутствуют все элементы, но какой-то из них преобладает.
Преобладающий элемент и определяет характер явления.
Сам Анаксагор, в учении которого немало общего с
учениями восточных мудрецов (под Востоком я имею в виду
буддийский регион, главным образом страны Дальнего
Востока), не стал ориентиром для западных мыслителей
и долго оставался в тени, как «темный», неясный,
парадоксальный философ, пока в XX в. щ пришло его время.
Сама фигура Анаксагора как бы иллюстрирует идеях
270
«универсальной смеси»: в Древней Греции в какой-то
дозе было то, что нашло завершенную форму на
Востоке, и наоборот: на Востоке можно найти в зачаточной
форме то, что нашло завершенную форму на Западе.
«В каждом большем содержится меньшее — без конца и
предела,— говорится в древнем даосском трактате.— Как
в небе и земле содержится тьма вещей, так же и небо
с землей в чем-то содержатся. То, в чем содержится
тьма вещей, несомненно, бесконечно; то, в чем
содержатся небо и земля, несомненно, беспредельно. Как
мне знать, нет ли за пределами неба и земли еще
больших небес и земель?»13 И это почти буквально совпадает
с тем, что говорил Анаксагор.
Но если устойчивость целого зависит от
взаимодействия разного, то не следует ли задуматься над тем, что
же обусловливает устойчивость мира и что угрожает ей.
Попробуем, сравнивая различные системы взглядов,
убедиться в том, какой же из элементов «универсальной
смеси» преобладал в каждом отдельном случае и как
преобладающее взаимодействовало между собой.
Попробуем сравнить древнегреческую и древнекитайскую
модели мира, которые оказали решающее воздействие на
сознание, а стало быть, и на культуру.
Если принять во внимание, что традиционная
картина мира, т. е. представления о мире и его законах,
которые за века становятся органичны сознанию,
выступает как формообразующее начало человеческой
деятельности, в значительной степени определяя характер
мышления и то, что этим мышлением производится, тип
духовного производства, то и начинать, видимо, следует с
анализа картины мира. Это и позволит понять, чем
отличаются национальные культуры и как дополняют друг
друга, образуя целое на уровне мировой культуры.
Задача, таким образом, заключается в том, чтобы понять сам
процесс, механизм взаимодействия культур, а это
предполагает знание кода каждой из них, или того
неповторимого ядра, которое делает данную национальную или
региональную культуру именно данной национальной или
региональной культурой. А делает, положим, японскую
культуру японской, а китайскую — китайской,
естественно, не общее, а различное, то, что их отличает, но
служит залогом единства. «Подобное тянется к
подобному»,— говорили и древние греки, и древние китайцы.
Но «подобное тянется к подобному» по-разному: от
простых форм соединения на низших уровнях животного
271
существования (стадность) до единства высшего
порядка — свободного общения свободных. Высшее единство
предполагает самобытие, полноту отдельного, что
достижимо в состоянии независимости, простора. Если
предположить, что какая-то из культур лишена
самобытности, то она, не вызывая интереса у других народов,
осталась бы в стороне и, не получая и не отдавая,
неизбежно бы зачахла. С присущей ему страстностью
Р. Тагор говорил об этом, выступая перед японцами в
1916 г.: «Долг каждой нации выразить себя перед
миром. Если же ей нечего сказать другим, это следует
понимать как национальное преступление, это хуже смерти
и не прощается человеческой историей. Нация обязана
сделать всеобщим достоянием то лучшее, что есть у
нее»14.
Как ни различны греческие философы, есть у них и
общее, и это общее становится заметнее, когда
сравниваешь греческую философию с философиями других
народов. Попробуем выделить те черты, которые отличают
греческую философию, положим, от китайской.
В греческой философии преобладала идея о
неизменности и пространственной конечности космоса как
единого, организованного, упорядоченного некоей силой
целого. Если они и говорили о беспредельности мира, то
все же ограничивали его одной из стихий. Философы
элейской школы провозглашали существование единого
бытия, неизменного и непрерывного (Парменид),
вездесущего, присутствующего в зачаточном виде в любой
частице (Анаксагор). Для Аристотеля пространственная
конечность земного мира была условием реализации
конечной цели бытия — высшей формы, мышления,
мыслящего само себя15. Насколько оказалось устойчивым это
представление о неизменности космоса, позволяют
судить, в частности, европейские хроники XIV в.:
«Ориентируя всей своей культурой на неизменность
миропорядка, каждый из элементов которого постоянно
воспроизводит одну и ту же функцию, следуя раз и навсегда
установленному образцу, хронисты в процессе познания
событий прошлого не обращали почти никакого
внимания на индивидуальное, неповторимое, единичное,
стремясь обнаружить только повторяющееся, типичное и
общее с помощью универсальных прообразов — событий
библейской истории...»16
Отсюда следуют некоторые общие основополагающие
идеи, обусловившие основные парадигмы европейской
272
культуры, в частности те ее) тенденции, которые в наше
время подвергаются переоценке.
1. Тенденция разделения, противопоставления
одного другому: непрерывного («все- есть эфир»)
прерывному («все есть атом»), совершенного несовершенному,
активного, благого, разумного начала, призванного
упорядочить хаос (будь то Логос-Слово, Нус, Демиург),
пассивной, инертной материи, что üe могло не привести к
дуализму, к дуалистическому, альтернативному
принципу мышления (или то, или это) и что наиболее четко
было сформулировано Аристотелем в «Метафизике»:
«Невозможно, чтобы одно и то же вместе было и не было
присуще одному и тому же и в одном и том же
смысле...— это, конечно, самое достоверное из всех начал»17.
2. Отсюда следовал вывод об изначальном
несовершенстве мира: он хаотичен в своей основе и нуждается
в переделывании, в участии извне. Эта точка зрения
оказала решающее влияние на психологию людей, на
содержание и тонус культуры. Гармония творится при
участии Лотоса, извлекающего мир из хаоса. (С точки
зрения древневосточных учении, гармония изначально
присуща миру, поэтому не- вужно ничего творить, нужно
лишь не мешать ее проявлению, следовать закону
Великого Предела, не нарушать естественный ритм,
естественную игульсацию всего в этом мире.) В этом
психологическая предпосылка отрицательного отношения к
Небытию как к меону, исчезновению, внушающему ужас,
хотя и к небытию отношение не было однозначным.
Апофатическое богословие отождествляло ничто с богом
по причине его непознаваемости, неизреченности, что
отразилось, в частности, в мистике Экхарта, в его
главной идее — «прорыва» души к «божественному Ничто».
И повышенный интерес к проУэлеме Ничто у
экзистенциалистов не случаен, и ему есть основание в
европейской традиции, хотя, признавая универсальность
небытия, они склонны видеть в нем «уничтожительную
активность» (Хайдеггер). (Разве что у Сартра
присутствует идея созидательной возможности небытия как
преодоления того, что себя исчерпало.)
3. Поскольку мир нужно усовершенствовать,
организовать, становится естественной идея творения,
установка на творчество, творческую силу человека,
призванного преобразовать мир. Сознание сориентировано
на цринцип «действ'ия» (в!эй, в противоположность
«недеянию»— увэй). «...Что деятельность первее,— говорит
18 Заказ № 667
273
Аристотель,— это признает Анаксагор (ибо ум есть
деятельность)... Поэтому первое предпочтительнее: оно ведь
и было причиной постоянного единообразия»18.
В общем, этот постулат — ориентация на
деятельность — вряд ли нуждается в особых доказательствах,
ибо доказательством служит характер всей цивилизации
Запада. Здесь хотелось бы обратить внимание на то-, что
в основе этой тенденции лежит антропоцентризм: че^
ловек спроецирован на космос, человек — точка отсчета,,
«(мера всех в^ещей». В этом нетрудно убедиться, обраь
тившись к искусству древних греков. Любование
обнаженным телом, физической красотой человека — вещь
немыслйшая в восточном искусстве. У греков — (идеал
героя, боточеловека; у китайцев—идеал совершеннО-
мудрого, «забывшего о себе», созерцающего небесные»
письмена (хотя и эдеческие философы видели путь к
истинному знанию в созерцании вечного и неизменного
бытия). Эта же. вера в деятельность, в творческие силы
человека послужила одной из главных причин расцвета
науки в Греции- Признавая дозволенность
экспериментов в истории, вмешательство в ход событий, греки
придали своей истории динамичный характер. К тому же
представление о законченности мира порождало
желание преодолеть ее. Человеку присуща неприязнь к
пределу, ограничению, свойственно стремление к свободе,
высвобождению своей энергии, рано или поздно он
склонен разрушать законченные системы — социальные,
научные, технические, как мешающие его росту.
4. Наконец, вера в существование первоначала (ар-
хе) — по Аристотелю, самотождественной сущности все-
движущего неподвижного перводвигателя — или
предпочтение чего-то одного (bio/ды ли, огвя, воздуха)
приводило к признанию последовательного,
причинно-следственного типа связи, к вытягиванию круга в линию, к
идее восхождения. «Мы считаем себя знающими в том
случае,— говорит Аристотель,— когда знаем начало
движения». Но если есть предшествующее, должно быть и
последующее, если есЛ» начало, должен быть и конец.
Так складывается представление о поступательном
характере движения, самой истории, в основе чего лежит
опять-таки антропоцентризм, вера в движущую силу
человеческого разума. Таким образом, с одной стороны, ду-
.ализм, альтернативный принцип; с другой — принцип
.последовательности, в основе которого лежит представ-
.ле'ние о цр'ичинно-следственной свя!зи, что со временем
274
привело к тому типу мышления, которое в наше время
называется «линейным», «одномерным».
Итак, у Гераклита еще присутствует идея
спонтанности, самодвижений мира, но уже вводится понятие
Логоса и выделяется одно начало мира — огонь. «Этот
космос, тот ж;ф самый для всех, не создал никто из
богов, ни из людей, "но он всегда был, есть и будет вечно
живым огнем, мерами разгорающимся и мерами
погасающим». Логос же «пронизывает субстанцию
Вселенной», «созидая сущее из противоположных стремлений»»
Наверное, определеннее других мысль о конечности юос-
моса выразил Парме'нид в поэме «О природе»:
«Могучая необходимость держит в оков&х .его, пределом
вокруг ограничив... /Есть же последний предел, ш все
бытие отовсюду / Замкнуто, массе равно вполне,
совершенного шара, II С правильным центром внутри» (фр. 8,
30, 42). И хотя (ему же, принадле'жмт мысль о том, что
истинное бытие пребывает в покое, «существует все
целиком сейчас, единое', непрерывное» (фр. 8, ,5, 6), а
мир единичных вещей, множественности, находится за
его пределами, он, как истинный fpeiK, верит во
всесилие челов'ека. «Сл'ово и мысль бытием должны быть»
(6, 1). «Быть или вовсе не быть — вот здесь разрешенье
вопроса» (8, 15). «Есть бытие, а небытия вовсе
нету, / Здесь достоверности путь, и к истине он
приближает» (4, З)19. И опять предпочтение чему-то одному.
Анаксагор в чем-то следовал Пармениду, в чем-то
отошел от него. «О возникновении и уничтожении у
эллинов нет правильного мнения: ведь ,никакая вещь не
возникает и .не уничтожается, но соединяется из
существующих вещей и разделяется. И, таким образом,
правильнее было бы назвать во-зшикновение соединением, а
уничтожение разделением». И это 'близко к тому, что
говорили китайцы: соберется ци (энергия), образуются
вещи, рассеется — вещи исчезают. Сближает
Анаксагора с восточными учениями и идея «универсальной
смеси», и принцип относительности большого и
малого— «все во всем». В позинеаитичном Сексте о нем
сказано: «Он говюрмт это не только о телах, во и о
цветах, ибо (по его мнению) в белом имеется черное, а в
черном — белое. То же самое он полагал/ о весе», думая,,
что к тяжелому всегда примешано легкое, а к
легкому—тяжелое»20. По свидетельству Цицерона, Анаксагор
говорил: снег только кажется нам белым, так как он есть
замерзшая вода, а вода на самом деле черная.
275
Признание относительности противоположного и
смутила Аристотеля. Он обратил на это внимание в
«Метафизике»: «...конечно, нелепо и вздорно утверждать,
что все изначально находилось в смешенной,— и
потому, что оно в таком случае должно было бы ранее
существовать в несмешанном виде, и потому, что от
природы не» свойственно смешиваться чему попало с чем
попало»21. В «Категориях» он будто возражает Анакса-г
гору: «Так, цвет, единый и тождественный по числу, не
может быть Оелым и черным; равным образом, то же
самое действие, единое по числу, не будет плохим и
хорошим»22. А в одном из главных текстов махаяны,
«Ланкаватара сутре», буквально говорится: «И все-таки,
Махамат1и, что же значит недуальность? Это значит, что
свет и тень, длинный и короткий, черное и белое суть
относительные названия, Махамати, они зависимы друг
от друга, как нирвана и сансара,— все вещи
^(раздельны. Нирвана есть только там, где есть сансара. Сансара
есть только там, где есть нирвана. Одно другое не
исключает, поэтому и говорят: все вещи недуалъны, как
недуальны нирвана и сансара»23.
Точка зрения Аристотеля, заложившего основы
формальной логики, стала преобладающей в европейском
мышлении.
И все же даже Анаксагор не свободен от общих
тенденций греческой мысли. Во-первых, он делает акцент
на разделении: «Плотное, влажное, холодное и темное
собралось там, где теперь Земля, редкое же, теплое и
сухое ушло в дали эфира» (фр. 15)24. Казалось бы,
блш(к1о концепции инь—1ян: лешкие, чистые ян-ци
поднялись кверху и образовали Небо, темные, мутные инь-
ци опустились вниз и образовали Землю, но между
Небом и Земл'ей идет постоянная циркуляция, в процессе
которой и образуются все вещи, акцент стоит на
единстве, взаим'ообратимост^: инь—ян. «Небо и Земля не
связаны: это — упадок»,—сказано в древнем
комментарии к «Ицзину» — «Дасянчжуань»25. Во-вторых,
Анаксагор вводит понятие мирового разума, Нуса: «Один он
существует сам по себе», «содержит полное знание обо
всем и имеет величайшую силу» (фр. 12)26. Разум
сообщает пассивной материи «первичный т;олгаок», заставляя
ее круговращаться, чт*о и приводит к образованию
вещей, к все большей организации, упорядоченности
космоса. При этом Разум ответствен не» только за
организацию космоса, НО' и за развитие любого организма. По-
276
хоясе на китайское понятие «ли» — закона,
определяющего природу каждой вещи, но «ли» не существует
само по себе», оно имманентно вещам.
Эти общи© тенденции мировоззрения греков
нетрудно обнаружить и в христианской средневековой
философии. Сошлюсь на мнение А. X. Горфункеля:
«Средневековая философия hi астрономия восприняли и
усвоили космологическую концепцию Аристотеля — Птолемея.
Мир конечен. Он один — этот единственно известный
нам мир, мир земли и окружающего ее небесного
пространства, в центре которого находится Земля...
Геоцентризм как нельзя более соответствовал
антропоцентризму религиозного мировоззрения. „Подобно тому как
человек сотворен ради бога,— писал Петр Ломбардский,—
для того, чтобы служить ему, так и Вселенная
сотворена ради человека...'4»27.
Какова физическая картина мира, таково и
сознание, ибо последнее, как известно, есть субъективный
образ объективного мира. Говоря словами Гегеля:
«Каков человек, таков и мир, и (каков мир, таков ш человек:
один акт создает обоих»28.
Восточная система знаний представляет собой некую
противоположность западной. Об этом нередко пишут,
но не всегда находят в этом закономерность,
гарантирующую существование целого. То есть речь ищет о той
противоположности, бе*з которой мир превратился бы в
односторонность и перестал бы существовать. Чтобы ,не
быть голословной, остановлюсь на некоторых
несовпадениях.
При всем многообразии школ и направлений в
буддизме и в традиционных китайских учениях (даосизм,
конфуцианства) здесь также есть общие черты, общие
тенденции, обусловленные традиционной моделью
мира, которую можно охарактеризовать как недуальную.
Акцент ставится зде,сь не столько на единству, сколько
на «недуальности», недвойственности сущего. «В основе
мира нет ни многого, ни единого,— говорит японский
философ Ниоида Китаро (1870—1945).— Эт'о мир
абсолютного тождества противоположностей, где многое и
единое не отрицают друг друга»29. Утверждалась иде1Я
металогического единства микро- ж макрокосмоса (как
уже говорилось, нирваны и сане ары) в буддийской
психокосмической системе. «Все противоположности — плод
нашего неведения»,— говорит третий патриарх чань
(японские дзэн) Сэн-цань в поэме «Доверяющий разум»
(VI в.)30.
277
Все различия относительны. Уже «Ицзин»
утверждает идею одновременности изменчивого и неизменного^
прерывного и непрерывного, единичного и единого, что
приводит к недуальному принципу мышления («и то-, и
это», или, говоря словами упанишад, «это есть то» —
«тат твам аси»).
2. Мир изначально совершенен, гармония ему
имманентна, поэтому его не нужно переделывать. Напротив»
нужно самоустраниться, уподобиться природе (даосский
идеал), чтобы не мешать осуществлению гармонии. Об
этом свидетельствует и конфуцианское учение о
совершенстве изначальной природы всего сущего (син),
которой присущи пять постоянств: человечность (жэнь),
чувство долга — справедливости (и), благопристойность
(ли), искренность (синь) и мудрость (чжи). И махаян-
ские тексты свидетельствуют о том, что все сущее
обладает природой будды и лишь авидья (неведение,
невежество) мешает это осознать.
3. Отсюда естественно происходит ориентация не на
активное, деятельное начало, а на принцип недеяния
(ув'эй) — действие, сообразуемое с космическим ритмом.
Творчество принадлежит Небу. Это следует уже из
первой гексаграммы «Ицзина» (Цянь— Творчество).
Потому и Конфуций говорил: «Излагаю, а не творю». По
мнению известного китаиста А. С. Мартынова,
«конфуцианская личность получала свое содержание
непосредственно от природы, в силу чего оценивалась
государственным аппаратом как природное дарование, как
„талант" (цай). Китайские средневековые тексты
буквально пестрят „удивительными талантами" .»(щи цай)... Все
эти „удивительные таланты" возникли непосредственно
как следствие могучего креативного процесса
закономерно функционирующего космоса»31.
Суть даосского пути — в естественности (цзыжань) :
«Человек следует земле, земля — небу, небо — дао, а
дао — самому себе (цзыжань)»,— говорится в трактате
Лао-цзы «Даодэцзин». Суть буддийского пути в
правильном ненарочитом действии. Восьмеричный путь
ведет к спасению, освобождению от майи, а сводится-он к
правильному взгляду, правильному намерению,
правильной ре»чи, правильному действию (акарма, <как и увэй,
•абсолютно свободное, необусловленное, спонтанное
действие), правильному образу Жизни, правильному
усердию, правильному .вниманию и правильному
сосредоточению (самадхи — возвращение' сознания к своему ёс-
278
тественному состоянию недуальности, когда мир
отражается как в зеркале)- Суть того и другого, даосского и
буддийского, пути — в ненарушении естественного
ритма, что и позволяет восстановить или выявить
изначальную природу, достичь просветления, состояния
успокоенности, нирваны. Достижение покоя как
непротиворечивого существования — конечная цель пути:
человек сливается с высшим началом, уподобляется космосу,
«Возвращение к истоку есть действие дао. Слабость
(ненасилие) есть средство дао»32. Высшее достигается
ненасилием, забвением своего вторичного «я» во имя Я
истинного.
Стало быть, »не всякое действие отвергается, а лишь
неистинное, не соответствующее! законам природы,
увеличивающее энтропию. И здесь двусторонняя связь
(туда-обратно): космос не только посылает творческий
импульс, но и созидается упорядоченным, освобожденным
сознанием. «Весь космос есть не что иное, как
непрекращающаяся манифестация неумолимого проявления
моральных и аморальных действий всех бесчисленных
живых существ»33. ^
4. Наконец, если отсутствует представлению о
первоначале Небытие, откуда все появляется на время, ще
в потенции все уже существует, не может быть точкой
отсчета (как не может служить точкой отсчета «все»,
полнота непроявленного мир'а), то и не могло
появиться представление о поступательном характере движения.
Все вещи проявленного мира (сансары) соединяются
между собой не линейным типом связи, а путем
непосредственного отклика одного на другое, по принципу
эха, резонанса, взаимного притяжения, прилива-отлива.
Таким образом, в этой системе! мышления складывается
свое понимание закона причинности: с одной стороны,
отражение во всех вещах высшей причины (все
обладает щриродой будды, все имеет свое неаговторимоо дао),
с другой стороны, или по «той же причине, все
взаимосвязано, взаимопроницаемо. Суть Закона (дхарма-дхату),
согласно «Аватамшака сутре», несводима к
материальной причинности. «Как день не являемся причиной ночр,
так *и ночь не является причиной дня, хотя они без
конца следуют друг за другом. Это цричина высшего или
внутреннего порядка, а не внешнего. Схождение все<х
вещей в одной точке и есть причина каждой из них.
Говоря словами Сэн-Цаня, «одно во всем, и все в
одном». Иначе говоря, связь отдельных вещей между со-
279
бой выступает не в виде линейного,
причинно-следственного ряда, а в виде, скажем, условного круга, внутри
которого каждый элемент связи является условием
другого и обусловлен им-
Bcei явления мира подчиняются закону причинного
возникновения, или двенадцатичленному колесу
зависимого происхождения (иратитья самутпада), которое»
вращается в прямом и обратном порядке (туда-обратно) г
элементы как бы идут рядом в вечном потоке жизни от
рождения к смерти. Они присутствуют всегда
одновременно, в любом моменте, только какой-то из них
оказываемся преобладающим, и соединяются по принципу
взаимного отклика, так что последующий элемент может
служить причиной предыдущего. «Из неведения
возникают санскары (очертания), из санснар возникает
сознание, из сознания возникают ими и форма, из имени
и формы возникают шесть областей (области шести
органов чувств, т. е. глаза, уха, носа, языка, тел!а и ума),
из шести областей возникает соприкосновение» и т. д.34
Безначальный круговорот жизни может быть
остановлен лишь просветленным сознанием или —
самопознанием, прекращением волнения дхарм (элементов бытия
или психофизической .энергии), достижением нирваны.
Можно сказать, у одних преобладал
последовательный, у других параллельный тип связи с тенденцией
свести ее до минимума или вовсе пресечь, чтобы
отдельное достигало полноты самобытия. Идеал —
освобождение от всякой связанности, от всякой
привязанности к внешнему миру. Все вещи порождаются
действием закона причинного возникновения и поэтому не
имеют собственной природы, пусты (шунья). Элементы
бытия, дхармы, моментальные вспышки непроявленного
мира, которые возникают из Небытия, чтобы исчезнуть
в нем, сравниваются с точкой во времени и
пространстве. (Правда, некоторые школы, в частности сарвасти-
вадины, признают истинную природу дхарм — дхарма-
свабхава, которые существуют в прошлом, настоящем и
будущем, и их мгновенные проявления — дхарма-лак-
шана).
И точку, как и линию, можно воспринимать
по-разному. Для Аристотеля точка — «начало линии»:
«...точка в линии — то же, что единица в числе (ибо каждое
из них есть начало)... единица — начало числа, а точка
начало линии...»35. Естественно, и древним грекам
близка идея тождества макро- и микрокосмоса. Для Пло-
28Э
тина точка — синоним единства. Николай Кузанский
говорит о совпадении «абсолютного (минимума» с
«абсолютным максимумом», всем миром. Но и Лейбниц, хотя
и называл монады «сжатыми вселенными», которые, с
одной стороны, замкнуты, с другой — сопряжены со всем
миром, все же не свободен от обпщх тенденций
европейской «мысли: «Монада... есть не что -иное, как простая
субстанция, которая входит в состав сложных;
простая — значит не имеющая частей... сложная субстанция
есть не что иное, как собрание или агрегат... Нельзя
представить себе, как может простая субстанция
получить начало естественным путем, ибо она не может
образоваться путем сложения... монады могут получить
начало только путем творения и погибнуть только через
уничтожение; тогда как то, что сложно, начинается или
кончается по частям»36.
С точки зрения буддийско-даосского мышления,
целое, «сложная субстанция», не конструируется, не
складывается по частям, а произрастает или выплывает из
Небытия. Природа будды неделима, не знает частей и
делений. Можно, сказать, здесь отсутствует понятие
части: часть тоже есть целое, только меньшего размера.
Почти как у Анаксагора. Но у последнего — идея
«универсальной смеси» существующих вещей («все во всем»),
а здесь — «одно во всем, и все в одном», приобщенность
к единому, т. е. каждая частица не только содержит
все другие, но и сама по себе приобщена к высшему
началу. Все есть будда: «одно во всем». Потому
невозможно' и само делейие на сложное и простое, то и
другое! не творится, а существует вечно и лишь в
разной мере выявляется в феноменальном мире. Отсюда
вытекает немоиоцентрический характер мышления: центр
везде, в каждой точке, ибо каждая малость приобщена
к абсолюту (и понятие «абсолюта» можно употребить
лишь условно).
Все моноцентрические системы, будь то
гелиоцентризм, геоцентризм или антропоцентризм, опирались на
идею единого центра, будь то человек, Земля или
Солнце. При дуальном мышлении все остальное, (кроме
центра, воспринимается как периферия, второстепенное по
отношению к центру. Положим, при антропоцентричег-
ской модели человек — центр, природа, весь тварный
мир — периферия. Это располагало к неравенству, к
идее господства одного над другим, порождало иллюзию
свободы от необходимости. (Это не значит, что в буд-
281
дийских странах существовало равенство, вытекающее
из идеи полицентризма, при котором уникален каждый,
миг; речь здесь идет о мировоззренческих идеалах, о
теории, а не о практике.)
Если за центр принимается нечто конкретное, то это
неизбежно ведет к абсолютизации относительного.
Согласно традиционным учениям Востока, центр вееде шли
в Ничто, потому и может оказаться в чем угодно, в
каждой точке- Важно, что он не в чем-то одном (не
оказываемся предпочтение чему-то одному), можно сказать,
центр посередине, между сторонами, между
крайностями. Дао — это ооь мира. Даосы говорят: колесо
движется потому, что ось неподвижна.
Это не могло не сказаться на самоощущении
личности, на социальной психологии, о че<м пишет
современный японский ученый в статье «Индивидуум в махаян-
ской философии»: «Каждый индивид должен быть готов
отказаться от своего благополучия, если того требует
благополучие общества. Это значит, что один
представляет всех, а все» есть отрицание одного. Это означает
самоотрицание, или несуществование, субъекта («не-я»)
и существование общества или исторического мира»37.
Как видите«, легко происходит соскальзывание идеи с
одного смысла на другой. Идея неизбежно принимает
обличье той социальной среды, ще ей приходится
функционировать. И дальше тот *ке автор пишет: «Фа-цань,
буддийский мыслитель, внес ясность в структуру
подобного соотношения одного и многих, назвав этот тип
отношений взаимным становлением господина и
вассала. В том случае, когда один представляет всех, каждый
индивид соответственно есть центр Вселенной. Когда
индивид А — господин, все остальные индивиды и
природа, т. е. весь мир,— его вассалы. В то же время А —
вассал по отношению к В и С, т. е. каждый индивид
одновременно и господин и вассал»38. С одной стороны,
принцип одновременности, параллельности, взаимюобра-
тимости (инь-ян) как принцип мышления сказывается
на характере социальной психологии и структуре,
©другой — жы убеждаемся *в неабсолютности самого центра,
по крайней мере на практике. Хотя в теории, как
продолжает тот же автор, «„одно во всем, и все в одном",
один идентичен многим, и многие идентичны одному.
Мир творится каждым существом. Индивидуум и мир
взаимно создают друг друга. Но если многие
соединяются в одном, здатеит, каждый индивид есть центр
Вселенной»39. _j
282
Естественно, принцип мышления не может не
сказаться на том, что делают люди своими ручками, на
законах искусства, на представлении ь пространстве и
времени. Время состоит из отдельных мгновений,
музыка состоит из отдельных звуков. «Одна 'минута
содержит тысячу лет, а тысяча лет — одну минуту»,—
говорит в поэме «Доверяющий разум» Сэн-цань. Как
человек видит мир, так и строит свои жилища. Весь дом
у японцев «состоит та совокупности равноценных
пространств. В пространстве, отсутствует наглядно
выраженное направление или ось здания, отсутствует и
кульминационная точка пространства, которая могла бы
служить началом или концом. Одна комната
соединяется с другой, как равная с равной... И тем не менее
общее пространство, несмотря на гибкость и подвижность
отдельных частей, остается уравновешенным и
статичным»40 («одно во всем, и все в одном»). Японцы
говорят: любая часть круга обладает т^акой же ценностью,
как и его центр.
Естественно, характер мышления не может не
сказаться на характере языка. «Японское имя — это слово,
в котором отражено единство целого и части, т. е. то
понимание целого и части, которое характерно Для эр-
гативного строя, то понимание, ще единица и
множество если и имеют место, то присутствуют на заднем
плане, в тени, „вне светлого поля сознания". И это —
господствующее отношение в японском языке»41.
В классической живописи японцев пространство
изображается по принципу '«фукинуки ятай» (сорванная
крыша), т. е. изображение дано не с одной, а с разных
точек зрения одновременно, и потому позволяет
увидеть изображение сразу, в целом. В поэзии
и прозе отдельное суверенно, соединяется по принципу
эха, резонанса, волнообразного движения.
Наконец, сошлюсь на мнение еще одного
авторитета — К. Г. Юнга: «Разум Будды, Единое, Дхармакая —
все существующее аманирует из нею, и все отдельные
формы возвращаются в него. Это основная
психологическая предпосылка, которая, независимо от убеждений,
пронизывает каждую фибру существования (восточного
человека, проникая во все его мысли, чувства и
дела»42.
Единое дао пронизывает ©се вещи, это — единый путь
мира и каждой вещи в отдельности. В 'то|чку
стягивается Вселенная для новой развертки, в миг — вечность,
283
истинно-сущее проявляется в Ъиде мгновенных
вспышек. Все> едино в своей основе, но каждый миг
уникален, неповторим, ибо в вечжщ потоке Перемен ничто
в строгом смысле но повторяется. Каждое явление имеет
свой закон, свое ли *, которое всем общо и у каждого
ев Oie.
Традиционная картина мира обусловила не только
специфику культуры, но и философских понятии, их
многомерный, многоуровневый, подвижный характер,
специфику логической структуры, что» обнаруживается
при анализе буддийских, 'даосских и конфуцианских
текстов, т. е. соответствующий тип познания. Если все
связано между собой по принципу «одно bo всем, и все
в одном», то нельзя вычленить объект, подвергнуть
анализу, обойти закон взаимного возникновения. Задача —
уловить невидимое, то, »что за феноменами, но движет
ими, обусловливает их, схватить нечто одновременно в
его проявленной и непрояв ленной сути, на грани бытия-
небытия, в единстве субъекта-объекта, познающего и
познаваемого, которые зависимы друг Ьт друга. Рее вза-
имшроницаемо, все находится на грани видимого и
невидимого, эмпирического, и абсолютного (постоянного
дао и явленного, нирваны ж сансары). Все едино и
неедино, вечно и мгновенно, континуально и дискретно,
одновременно. За единичным должно ощущаться
Единое, 'за прерывным — непрерывность потока, два —
едины, одного нет без другого. Отсюда стремление вывести
сознание на уровень недуального мышления, te
буддийской терминологии — праджни, всезнания, или «знания
без знания», интуиции, которая способна схватить
бытие т!ерасчлененно, в высшем миге, в той точке, которая
дает переяшть Единое. Для этого нужно освободить
сознание от конвенционального знания, предоставить его
самому себе, чтобы Ъно вошло в естественный ритм
изначально-сущего. Как говорил дзэнский мыслитель До-
гэн (1200—1253), нужно разорвать цепь причин ш
следствий, чтобы воспринять дерево в его древесности, огонь
в его огаенности, т. е. каждое явление в его полноте-, в
его собственной природе, «такюрости». Положим, *ггобы
сутра произвела должное действие1, она должна
прежде погасить логическое мышление в 'общепринятом
смысле, очистить сознание от знаков, восстановить его
изначальную незамутненность. Этому подчинена сама
структура сутр, призванная сначала убедить в
относительности всяких противопоставлений: «А есть не-4», а
284
потом вывести из осознания всеединства мира: «Л есть
ие-А, и потому есть Л». Таков ход мысли «Алмазной
сутры» («Ваджра чхедика праджня парамита сутра»,
буквально: «Сутра о праджне, рассекающей как
громовая молния»): '«Существа, существа, Субхути, обо всех
них Татхагата (будда) говорил как о несуществах.
Поэтому говорят: существа» (§ 21). «Благие дхармы,
благие дхармы, Субкутл, Татхагата говорил о них как не
о дхармах. Поэтому говорят: благие дхармы» (§ 23)43.
Буддийская логика обусловлена и пониманием
Небытия как истинжьсущего. Отрицательные формы могут
восприниматься как положительные- Отрицание' в
.буддизме махаяны выглядит как утверждение того, что
выходит 'за пределы эмпирического мира. По мнению
профессора Сасаки, отрицание в буддизме выражает и
абсолютную позитивную сущность факта. Абсолют в
буддизме интерпретируется »через логику отрицания.
(Вообще восточное Небытие напоминает состояние
физического вакуума—ноля, когда положительные- тй
отрицательные заряды уравновешены, пребывают в покое, но
обладают потенцией бытия, движения.)
Адепты дзен говорят: праджня, мудрость, присуща
изначальной природе, пронизывает Вселенную и не
может быть исчерпана, она и дает осознание всего в
едином, единого во всем, но нужно позволить своей
собственной (праджне выйти изнутри, раскрепостить сознание.
Тогда мысли будут проплывать свободно, приходить и
уходить сами по себе, ибо праджня снимает все
преграды.
Другой тип структуры или ход логической мысли мы
обнаруживаем в китайских канонических текстах. Мысль
как бы движется по спирали (туда-обратно), в
соответствии с законом дао: '«один раз инь, один раз ян и есть
путь». Положим, как сказано в «Великом учении»: «Кто
хотел приобщить мир к мудрости древних, прежде
учился управлять своим государством. Кто учился управлять
своим государством, прежде устанавливал порядок в
своей семье. Кто устанавливал порядок в своей семье,
прежде учился владеть самим собой. »Кто учился
владеть самим собой, прежде очищал свое се'рдце» и т. д.44
Мысль движется туда-обратно, посылка "и ответ вз^аи-
мопроникаются, как инь—ян. Нельзя сказать, что это
единственный тип связи между словами, обусловленный
структурой сознания, но это очень характерный способ
изложения мыслей, позволяющий о-щутшгть взаимопро-
285
никновение, одновременность разного — постепенное
приближение круг за кругом к центру, к сердцу
человека, к той точке, через которую человек сообщается с
небом и землей.
О своеобразии мышления китайцев писали многие
ученые, в частности К. Г. JOh-г: «То, что мы называем
случайностью, для этого своеобразного мышления
является, судя по всему, главным принципом, а то, что мы
превозносим как причинность, не имеет почти
никакого значения... Их, видимо, интересует сама
конфигурация случайных событий в момент наблюдения, а вовсе
не гипотетические причины, которые якобы обусловили
случайность. В то время как западное мышление
заботливо анализирует, взвешивает, отбирает,
классифицирует, изолирует, китайская картина момента все
сводит к незначительной детали, ибо все ингредиенты и
составляют наблюдаемый момент... Этот любопытный
принцип я назвал синхронностью... и он диаметрально
противоположен нашей причинности. Мышление
древних китайцев рассматривает космос как и современный
физ(ик, который не в состоянии отрицать, что его
модель мира есть не что иное, как псикофизичеокая
структура»45.
Другое дело XX век! Здесь закономерно появляется
В1зглад, что ре, линия состоит из точек, а точки
составляют линию,— как у П. А. Флоренского. Точка обретает
статус целого, двуединого, она и свет и тьма, полнота
и пустота, бытие и небытие,— она на грани того и дру^
того. Для сознания характерен бунт против «линии», у
Флоренского — против прямой перспективы, которую он
называет «мапйшой [для уни[чтожения реальности»,
противопоставляя ей перспективу обратную, как бы
позволяющую явлению самоотождествиться. «С началом
текущего века,— пишет он \в «Пифагоровых числах»,—
научное понимание претерпело сдвиг, равного которому
не найти, кажется, на всем протяжении человеческой
истории. Эт*и дв!а признака суть прерывность и форма...
Непрерывность изменений имеет предпосылкою
отсутствие» формы: такое явление не стянуть в одну сущность
изнутри. Эволюционизм, [как учение, о непрерывности,
существенно подразумевает и отрицанию формы, а
следовательно — индивидуальности явлений»46.
Фактически о том же писал в 1906 г. японский
ученый-литератор Окакура Какудзю: «XIX век с его идеей
эволюции приучал нас думать о, человечестве, не думая
286
о человеке. Коллекционер усердно собирает образцы,
чтобы осветить период или школу, забывая о том, что
одно прекрасное произведение искусства может научить
нас больше, чем многочисленные примеры
посредственной работы целого периода или школы»47. Бунт против
«линии», одномерности, не позволяющих раскрыться
отдельному, и приводит к тому, что А. Пуанкаре называл
«атомизацией».
Но если так, если меняется тип, или структура со-
звания, если линия распадается на множество то«чек
(что, в общем, имеет психологическое основание в
самоосознании индивида), то становится понятен интерес
ученых к восточной системе знания- Лравда, мнения о
характере меняющейся структуры сознания и
вытекающих отсюда последствий расходятся. Так, одни
социологи Запада говорят об угрожающем процессе
деперсонализации (Маркузе, Фромм), другие, напротив, о
пробуждении внутренней свободы (Т. Парсонс). Но, видимо,
здесь нет противоречия: есть 'то и другое. Возможно, и
даже наверняка, преобладают пока негативные явления
в человеческом мире, и, можно сказать, Разум Дремлет,
но возникает такое чувство, что он на грани
пробуждения. И когда (те же западные социологи говорят о
движении общества от гомогенности к гетерогенности, от
единообразия к многообразию, то они всекгаки
угадывают ту тенденцию, которая стоит на пороге будущего и
от которой это будущее зависит. Залогом тому
изменение самого характера научного мышления, вызванного
новыми открытиями в науке, формирующими новую
физическую картину мира.
На смену эволюционизму, детерминизму, в основе
которых лежит закон механической причинности, приходит
признание дискретного характера действительности
(наименьшие доли энергии подчиняются лишь
вероятностным законам). На рмену восприятия времени как
«чистой последовательности» приходит ощущение его
мгновенности, точечности. Наконец, над этими явлениями
начинают вновь размышлять философы: «Ряд
фундаментальных вопросов, в особенности те, которые
касаются макроскопической необратимости, анизотропности
времени, барионной асимметричности вещественного
состава Вселенной, однородности и нестационарности ее
пространственной структуры стягиваются в один
генетический узел, называемый начальной космологической
сингулярностью»48. Т. е. речь идет о той самой полицент-
287
рической системе: центр везде, в каждой точке.
Современная космология признает изотропность пространства,
сингулярное существование материи, пространства,
времени, все направления и точки во Вселенной
эквивалентны. Подобное мироощущение не может не привести
к поискам целостного подхода, к принципиально новым
методологическим принципам познания, к обновлению
сознания, самого вектора культуры.
Естественно, это касается не только точных наук, но
и медицины, и {конечно же искусства. Говорят, поэты
раньше других предчувствуют перемены. Один из
исследователей пишет о Гете: «В „Поэзии и раравде" в
Заключении восьмой книги та же мысль облечена ta
гностический миф. Люцифер своим отпадением от бога,
которое состояло в том, что „он весь сосредоточился в
себе", придал становящемуся миру „одностороннее
направление". Таким образом, исчезла „лучшая половина"
и возникла опасность, •что „даюе творение в целом в силу
постоянной концентрации истончит себя, уничтожится
вместе со своим отцом Люцифером и утеряет все свои
права на равную с божеством вечность". Слово
«концентрация» означает здесь всеисключающую занятость
собой, устремленность к центру своего „я", сшшнность
в себе самом видеть начало и конец мироздания»49.
Удивителен ли в таком случае |бунт против
«одномерности», захватившей мысль Запада, '«одномерности»,
выросшей на почве эгоцентризма и породившей
зауженное, «усеченное» сознание '.и соответствующую ему
культуру, разрушающую соматическое единство
человека, ощущение единородства с природой? Разрушение
связи с природой внешней, отчуждение, неизбежно
кончается внутренним разрушением личности, потерей
'инстинкта жизни. Отсюда крик души: «Я жизнь, которая
хочет жить в среде жизни, которая хочет жить»
(А. Швейцер). Говоря словами Л. Толстого, «самое
короткое выражение смысла жйвни такое: *мир движется,
совершенствуется, задача человека участвовать в этом
движении И1 подчиняться и содействовать ему»50. И не
потому Толстой думал об этом, что Лао-цзы
подействовал на его 'воображение, а дачза ощущения всеобщего
распада, которое появляется при утрате пути, из-за
ощущения единства мира, выразимого .поэтической cTpoi
кой Тютчева: «Все во мне —;и я во всем».
Бунт против линейного мышления не мог не
затронуть поэзию и наших дней: «Речь идет о „Третьем со-
288
знании" („Первое сознание" — первооткрыватели
Америки, супермены, индивидуалисты. Его сменило
„Второе сознание" — винтики технократической машины).
„Третье" — новая (волна, молодежь с антилинейиым
мышлением. Самое преступное ддя нее — убить в себе
себя»51. Что уж говорить ю теоретиках контркультуры?!
По мнению, например, Т. Роезака, ,по:ро>ждеашая
буржуазной цивилив&цией технологическая среда не
только« лишила человека духовности, но и сделала
«усеченным» его сознание, откуда и еозникло
«одномерно-плоскостное» видение мира. Выход из тупика Розяак видит
в новом типе сознания, при котором
«одномерно-плоскостное» видение мира сменится многомерным,
соединятся логика и интуиция, наука и искусство, логическое и
оюразное мышление, что приведет к образованию нового
типа культуры. (Человечество, по его мнению, стоит
«между смертью и трудными родами»52.)
Действительно, искусственный мир, созданный
человеком, живет по иным законам, чем мир естественный.
Ритмическое несоответствие между искусственным и
естественным мирами не может не вызвать аритмии,
аритмия же неизбежно ведет к краху. Поэтому истинное ,
знание, умение думать по-новому приобретают в наше \
время особый смысл. Теперь жизнь на земле ставится в \
прямую зависимость от умения думать по-новому. \
Вопрос этот не новый, ß начале векаГ русский
ученый-естествоиспытатель В. И. Вериадск/ий, который
верил в эволюционную неизбежность смены биосферы
ноосферой, эрой разума, заострял на этом внимание:
«Основное представление, на котором построена
(спекулятивная) философия, абсолютная непреложность
разума и реальная его неизменность не отвечают
действительности!. Мы 'столкнулись реально в научной работе с
несовершенством и сложностью научного аппарата
Homo, sapiens... Homo sapiens не есть завершение создания,
он не является обладателем совершенного мыслительного
аппарата. Он служит промежуточным звеном в длинной
цепи существ, которые имеют прошлое и,
несомненно, будут иметь будущее. И если его предки имели
'менее совершенный мыслительный аппарат, то его
потомки будут иметь более совершенный, чем он имеет. В тех
затруднениях понимания реальности, которые мы
переживаем, мы имеем дело не с кризисом науки, как
думают некоторые, а с медленно и с затруднениями
идущим улучшением нашей научной основной методи-
19 Заказ № 667
289
ки»53. И дальше: «Создается новая своеобразная
методика проникновения в неизвестное, которая
оправдывается успехом, но которую образно (моделью) мы
не можем себе представить. Это как бы выраженное
в виде «символа», создаваемого интуицией, т. е.
бессознательным для исследователя охватом
бесчисленного множества фактов, новое понятие, отвечающее
реальности»54.
Строго говоря, это процесс необратимый, независимый
от желания или воли отдельных людей. Дискурсивный
принцип мышления просто не справляется с потоком
информации*. Возможно, произойдет новый
информационный взрыв, количество накопленного знания перейдет
в его новое качество. Сам процесс накопления знаний,
привел к необходимости новых методов познания, нового
типа мышления, суть которого — в подключении чувства
к разуму, интуиции к логике. Естественно, так было,
всегда, без этого не произошло) 'ни одного открытия (на
уровне интуиции возникают идеи, логика претворяет
их в жизнь), но этот тип мышления или способ
познания не был преобладающим. Обе формы знания —
условно говоря, интуитивное, иррациональное (инь) и
аналитическое, рациональное (ян) —смогут
оплодотворить одна другую, если придут в правильное
отношение В1заимопрон1ицаемости, единства.
Можно думать, что метод мышления будет меняться
именно в том направлении, которое предполагает
способность к скачку, к восхождению с уровня
множественности, единичного на уровень единого1, и не только
в связи с огромным потоком информации, а в связи
с насущной потребностью целостного подхода — как
условия перехода в любой сфере с уровня функции»
(линия) на уровень сущности! (точка). Одномерное
мышление неизбежно превращает все (и человека ;в том
числе) в функцию. Если нарушено правильное
отношение между двуми сторонами (что мы имеем при
альтернативном типе мышления: «или то, или это»), то
неизбежно страдают обе. Например, известно, что труд
создает человека. Но вед£ и человек создает труд, и
только очеловеченный, одухотворенный, творческий труд
создает человека. Одну и ту же работу можно
выполнять во благо и во зло: труд насильственный, т. е.
через насилие над собой, не по внутренней потребности,
столь же разрушителен, сколь труд, доставляющий
человеку радость, созидателен. Труд может перейти с уров-
290
ня функции на уровень сущности (это ксшца он
перестанет быть необходимостью, а станет потребностью).
Таким его может сделать только человек, а для
этого он сам должен перейти с уровня функции
на уровень сущности, т. е. очеловечиться, иначе он
будет создавать цивилизацию не человеческую в своей
основе, которую легко можно направить против самого
человека.
Именно подобный тип двусторонней связи, или)
целостного подхода, и привлекает ученых и людей
искусства в традиционных учениях Востока. По крайней
мер©, тому же В. И. Вернадскому принадлежат слова:
«Величайшим îb истории культуры фактом, только что
выявляющим глубин^ своего значения, явилось то, что
научное знание Запада глубоко и неразрывно уже
связалось в конце XIX столетия с учеными, находящимися
под влиянием великих восточных философских
построений, чуждых ученым Запада, но философакая мысль
Запада пока слабо, отразила собой это вхождение в
научную мысль живой, чуждой ей философии 'Востока;
этот процесс только что начинает сказываться»55.
В наше время изменилось отношение к Востоку.
Запад ощущает насущную потребность в знании
восточной мудрости), которая на протяжении последних веков
была в пренебрежении и в силу господствующего
европоцентризма, и в силу того, что европейское сознание
не готово |было- ее принять. Одна из причин интереса к
восточному знанию в том, что научные открытия
нашего века удивительным образом совпадают с
принципиальными идеями восточных учений о законах
становления мира. Речь здесь идет не о заимствовании, а об
общих законах развития человеческой мысли, которая
разным образом проявляет себя на разных этапах
истории. Европа как бы толчками приближалась к тому,
что открыто было на Востоке в более древние
времена и воспроизводилось из века в век. Закон отрицания
отрицания не был преобладающим в этой системе
мышления, а преобладающим оказался закон постоянного
воспроизведения традиционной формы в новом цикле.
Речь может идти о некоем стадиальном совпадении,
совпадении фаз; но если б не было стадиального
совпадения на каком-то уровне — скажем, духовного
проникновения в законы бытия,— то и невозможна была бы
встреча или правильное понимание восточных учений,
т. е. оно было невозможно без структурного обновления
19*
291
сознания (еще в прошлом веке эта встреча не могла
состояться,, по крайней мере в таком масштабе).
Осознавая связь законов физических с законами
человеческой психики, связь наблюдателя и
наблюдаемого, субъекта ш объекта, стремясь гуманизировать
науку, ученые обращаются к тем формам знания,
которые служат этой цели. Датский физик Нильс Борг
открывший принцип дополнительности
(пространственную непрерывность распространения света и
атомистичность световых эффектов — взаимодополняющие
состояния одного и того же явления — света), сделал
древнекитайскую модель инь — ян своей эмблемой, как
символ закона дополнительности или одновременности
разного (волны и частицы). И. Бор открыл дискретное
движение электрона по орбитам: электрон скачками
приближается к ядру (или пульсирует). Эйнштейн
назвал его открытие «музыкальным». Эти открытия
настолько противоречили законам классической физики и
законам логики, что требовали особого языка для своего
описания (язык науки неизбежно должен был
приблизиться к языку искусства). Де Бройль открыл, что
частица — тоже волна, может выполнять волновую функцию,
чем подтверждалась идея взаимоперехода,
взаимообращения явлений. При определенных условиях частицы с
отрицательной энергией могут возникать из частиц с
положительной энергией, и наоборот. Швейцарский
теоретик В. Паули показал уникальность каждого электрона,
в том смысле, что несколько электронов не могут
одновременно иметь одинаковые параметры. Наконец,
открытие свойств физического вакуума: рождение вещества из
ничего, из пустоты, полное преобразование вещества в
излучение, в энергию, можно сказать, опровергает Пар-
менида и подтверждает восточную концепцию Небытия.
И не удивляет вьквод Бора: «В поисках параллели к
вытекающему из атомной теории уроку об
ограниченной применимости обычных идеализации мы
должны'обратиться к совсем другим областям науки, например,
к психологии или даже к особого рода философским
проблемам; это ре проблемы, с которыми уже
столкнулись такие мыслители, как Будда и Лао-цзы,
когда пытались согласовать наше положение как
зрителей и как действующих лиц в великой
драме существования. Признание аналогий чисто
логического характера в тех проблемах, которые возникают в
292
столь далеких друг от друга областях человеческих
интересов, ни в коем случае не означает, однако, что в
атомной физике допускается какой-то мистицизм,
чуждый истинному духу науки... Не может ли прямое
решение тех парадоксов, которые неожиданно встретились
в атомной области... помочь нам разъяснить аналогичные
затруднения в других областях знания?»56. Такой не-
объективизированный подход, (когда ученый ощущает
себя одновременно и «зрителем, и действующим лицом
в великой драме существования», характерен для
современной науки не в количественном, а в
качественном смысле; эта тенденция, которая выражается пока
что лучшими умами, относится к той категории
тенденций, которые набирают силу, становятся
преобладающими.
В поисках адекватного метода познания Бор
пришел к открытию принципа дополнительности, который
бл'иоок модели тины— ян и принципу недвойственности.
В буддизме махаяиы, может быть, более, чем в каком-
либо другом учении, выявлены оба
структурообразующих начала как разные состояния одного и того же;
их можно назвать точечным (корпускулярным) и
линейным (волновым). Сознание — это мгновенное,
точечное проявление океана бессознательного. В каждом
моменте сознания присутствует прошлое, настоящее и
будущее, миг (кшаиа) есть сжатая вечность, так же
как точка есть пера-звериутая Вселенная, и они суть
одно и то же, только пребывают в разных состояниях:
явленного и неявленного мира.
Наконец, разве не удивительно, что появляются
такие статьи, как «Физика до физики» С. Смирнова, где
сопоставляются физика наших дней с идеями древних
китайцев: «Оказывается, этому Ли в квантовой ме»ха-
нике соответствует знаменитое уравнение Шредингера:
оно позволяет рассчитывать будущие состояния
физической системы по ее начальному состоянию. Таким
образом, представлены: (Дэ) группы симметрии
вакуума (Дао) определяют симметрию уравнения Шредии-
гера (Ли), а симметрия уравнения определяет вид его
решений, т. е. ход природных процессов, их узор
(Вэнь). Это и есть пересказ, а точнее —
переосмысление на основе современных знаний древнекитайской
модели мира в терминах нынешней физики»57.
Не вдаваясь в сущность сопоставлений, мне бы
хотелось отметить правомерность и закономерность по-
293
добпого пути в пауке: перевести истины, открытые
древними, ла язык современных понятий, hoi так,
чтобы не лишить эти истины присущей им полноты.
Сейчас идет процесс осмысления, нового открытия
Востока, проникновения в во-сточную мудрость, что связано,
как уже говорилось, с качественным обновлением
самого сознания, по своим основным параметрам, по еще
неизведанным законам сблизившимся с мудростью
древних. Отсюда время от времени, и чем дальше, тем
чаще, появляются статьи в научно-популярных
журналах, ще так или ипаче присутствует Восток. В одной
из них физик В. Скурлатов как бы ведет внутренний
диалог с буддийским понятием праджни. Квантовая
механика установила, что твердая корпускула может
вести себя как пакет волн: любая свободная частица,, не
привязанная силовыми нитями к другим материальным
объектам, разматывается noi пространству и заполняет
весь мир... но брошенная частица мгновенно же
стягивается в одну точку, когда сталкивается с преградод.
С квантомаханической точки зрения, если человек
освободится от действия внешних сил и полностью
погрузится в себя, он расплывается по космическому
пространству (но то же самое говорят буддисты). Акад.
В. Фо« называет квантомехадгическую мгновенную
связь каждой микрочастицы с мировым целым
«несиловым взаимодействием». Ударьте данный протон,
говорят физики, и тотчас все протоны мира почувствуют
одну и ту же боль (люди утратили это свойство, но,
похоже, оно к .ним возвращается).
Наука своим самостоятельным путем приближается
к открытию законов, которые способны дать
адекватную картину мира и которые свидетельствуют о
способности человеческого ума постигать абсолютную
истину. Антисциентивм, тревожащий сейчас
современников, будет идти на убыль по мере того, как наука
будет расширять свои границы до их полного устранения,
путем преодолели я самой возможности одностороннего
подхода, когда каждый ученый будет чувствовать себя
одновременно «зрителем и действующим лицом в
великой драме существования». Но тогда, по-видимому,
человеческое существование уже не будет столь
драматичным, ибо, сколь ни вторично сознание, оно повинно
во многих человеческих бедах. Дихотомический
принцип мышления (или то, или это) не может привести к
мирному исходу в принципе, найдет повод для козней,
294
всякого рода и разлого масштаба. Вся история
человечества подтверждение этому. Религиоэные войны,
например, всегда свидетельствовали о религиозной
непоследовательности их лидеров, противоречили духу
исповедуемых учений. При дихотомическом мышлении
мудрость неизбежно превращалась в свою
противоположность. Значит, нет у человечества другой
альтернативы, как «научиться думать по-новому», преодолеть
дихотомию и, следуя диалектической логике), перейти
на новый уровень сознания, которое принято уже
называть «многомерным» или «расширенным» и которое
есть неизбежное следствие диалектики (в случае
последовательного ее претворения). Линейное,
одномерное мышление по своей сути не может быть
диалектическим (ско'лыко ни претендовало бы оно на эту роль).
Итак, что ищут наши современники на Востоке, что
их привлекает? Видимо, прежде всего способ познания
мира, недуальный тип мышления, или целостный
подход. Повторим вкратце, чем характеризуется
восточный тип мышления. (Напоминаю, речь идет о
преобладающем моменте в анаксагоровском смысле.)
Нелинейность, параллелизм, одновременность, отсутствие
причинно-следотвенной связи, сосредоточение на
внутреннем, интровертность, позволяющая отдельному
занимать относительно свободное положение в системе,
недуальность, связь всего между собой по типу «одно
во всем, и все в одном», т. е. одновременность уровней
единого и единичного, абсолютного и эмпирического (как
одно из следствий всеобщей недвойственности, что
свидетельствует о многомерном типе мышления. Эта
идеальная модель, как правило, не соответствовала
характеру социальной жизни и социальных отношений и,
можно сказать, сформировалась вопреки им—точнее,
как свидетельство их несовершенства, но сказалась на
характере традиционного искусства и, естественно, на
взглядах его творцов, на уровне индивидуального
сознания.
Чем вызван интерес к Востоку? Новыми
тенденциями в современном сознании. Образно говоря, если
когда-то круг по необходимости распался, выпрямился в
линию (говоря словами Августина, «здравый разум
разрывает эти вращающиеся круги»), то теперь, опять же
по необходимости, закругляется, обретает форму круга,
но уже на новом уровне. Почему по необходимости?
Линейная фаза — фаза накопления информации, види-
295
мо, завершилась. Переходу сознания в новое качество,
на новый уровень эволюции предшествует фаза
свертывания, стягивашия отдельного к своему центру, для
его вызревания, полноты, так сказать, для переработки
информации. Сознание на какое-то время ка« бы
замыкается на себе, чтобы развернуться с новой
силой. (Как говорилось в начале, есть время расходиться
и есть время сходиться.) Т. е. линия, как символ
единого, континуального, не исчезает, она переходит в новое
качество.
Насколько актуальна эта проблема, свидетельствуют
выступления наших писателей, îb частности Чингиза
Айтматова в Ташкенте, на Конференции писателей
стран Азии и Африки: «...сейчас человечество
переступило новый порог познания и явно оказалось
неподготовленным к этому ни в социальном, ни в
нравственном отношении. Оно получило в руки энергию
космической мощи и угрожает ею себе же — caiMo себе(»58.
Идеи мудрецов, постигших объективные з-аконы
мира, доступны были немногим и выступали на
протяжении истории, как правило, на. уровне функции,
сущность оставалась прерогативой самих мудрецов или
конгениальных им комментаторов. Учения становились
узкими и гибли, когда функцию выдавали за сущность.
В новой стадии сознания идеи вновь переходят на
уровень сущности, или между сущностью и функцией
исчезает противоречие: какова есть идея по своей
сути, таковой она должна быть и в жизни. Это ка« бы
третья ступень сознания, когда функция и сущность
становятся едины, что я имел в виду, по-видимому
В. И. Вернадский, говоря о неизбежности перехода в
ноосферу. Человек перестает ощущать себя центром;
Вселенной, тогда и огдутит этот центр в себе: центр из.
сферы внешнего переместится в сферу внутреннего.
Когда ощутит этот центр в себе, 'тогда и достигнет пол-
поты. Когда достигнет полноты, тоща и ощутит свое
единство с другими. Это не тот индивидуализм, который
порождает чувство одинокости (и чувство одинокости
есть следствие одномернсго отношения — «или я, или
мир»), нет, это та мера независимости,
самостоятельности, при которой не обрываются связи, они
просто становятся свободнее, не стесняют движений,
что дается ощущением свободы как «осознанной
необходимости», что и служит залогом единства
высшего порядка. Говоря словами Маркса, «свободное
296
развитие каждого является условием свободного
развития всех».
К случаю ли этот разговор? Спору пего, мир
пребывает в состоянии дисгармонии, .аритмии, переживает
предельную ситуацию: полное уничтожение или
полное обновление. Можно понять, когда наши философы
заостряют проблему', выступая на международных
конгрессах. «Проблема Восток—Запад порождена
неравномерностью прохождения формациолных ступеней
социально-исторического развития человечества раз-личными
регионами (кстати, нельзя забывать, что ритм
содержателен.—Г. Г<). Дважды в истории она вставала
чрезвычайно "остро. Первый раз — в связи с процессом
колониальных завоеваний и промышленной революцией,
второй — в период деколонизации и научно-технической
революции»59. Этот тезис развивают в овоем интересном
докладе «Проблема Восток — Запад в эпоху научно-
технической революции» Н. Н. Козлова и В. Г.
Федотова. И это закономерный и нео^бходимый, но не
единственно возможный угол зрения иа сложнейшую и
многогранную проблему. Здесь нет противоречия —
напротив, и тот и другой подход взаимообусловлены (если
следовать диалектической логике: и то, и это). Та же
самая «научно-техническая революция» изменила
физическую картину мира, щ пожалуй, высшим ее
достижением можно считать обновленное сознание,
преобразующее человека, которое сказывается уже и теперь
(хотя не стало еще преобладающим) в новом типе
отношений. Нельзя не отдавать себе отчета в том, что
набирает силу тенденция соединения в одно
распавшихся по необходимости сторон: субъекта — объекта,
человека — природы, пространства — времени, чувства —
разума, интуиции — логики, науки — искусства,
Востока — Запада,— тенденция, которая может привести
человечество на новый уровень — уровень гармонического
существования. Почему в это можно верить? Потому,
что Человек 'универсален, в нем самом заключены и
Запад и Восток, и все, что выстрадано тем и другим.
1 Атеисты, материалисты, диалектики древнего Китая. М., 1967.
С. 241. Вступ. ст., перевод Л. Д. Поздиеевой.
2 Книга Перемен / Сочинения китайской классики. Токио, 1966.
Т. 1. С. 481. Иа яп. и кит. яз.
3 Даодэцзии Л Сочинения китайской классики. Токио, 1968. Т. 6.
С. 123. На яп. и кит. яз.
4 Чижевский А. Л. Земное эхо солнечных бурь. М., 1973. С. 43.
5 Пуанкаре А. О пауке. М., 1983. С. 491.
297
6 Сочинения китайской классики. Т. 1. С. 489.
7 См.: Марков М. А. Научились ли мы мыслить по-новому? //
Вопр. философии. 1977. № 9. С. 30.
8 Забродин Ю. Откуда исходит реальная опасность // Лит. газ.
1983. 21 сеит. С. 15.
9 Гачев Г. В погоне за жар-птицей мысли // Там же. 1983.14 сент.
С 3
10 Роллан Р. Собр. соч. Л., 1936. Т. 19. С. 7.
11 Сочинения китайской классики. Т. 1. С. 517.
12 Петров А. А. Ван Би. М.: Л., 1936. С. 78.
13 Атеисты, материалисты, диалектики древнего Китая. С. 84.
14 Цит. по кн.: Кавабата Ясунари. Существование и открытие
красоты. Токио. 1969. С. 34. На яп. яз.
15 Точка зрения Анаксагора на расширяющуюся,
эволюционирующую Вселенную не получила широкого признания в
европейском сознании, как не получила признания 24 века спустя и
идея Канта о естественноисторическом возникновении и
развитии космоса. Вплоть до середины XX в., как известно,
астрономия придерживалась взгляда на космос как на внутренне
уравновешенное, стационарное состояние небесных тел и систем.
16 Хлопин А. Д. О способах интерпретации причинно-следственных
связей в хрониках XIV в. // Из истории культуры средних веков
и Возрождения. М., 1976. С. 153.
17 Аристотель. Соч. М., 1975. Т. 1. С. 125.
18 Там же. С. 308.
19 Антология мировой философии. М., 1969. Т. 1. С. 295—296.
20 Цит. по кн.: Рожанский И. Д. Анаксагор. М., 1983. С. 83, 116.
21 Аристотель. Соч. Т. 1. С. 83—84.
22 Антология мировой философии. Т. 1. С. 433.
23 Suzuki D. Т. The Lankavatara Sutra. L., 1966. P. 67.
24 Рожанский И. Д. Указ. соч. С. 134.
25 Цит. по кн.: Шуцкий Ю. К. Китайская классическая «Кпига
перемен». М., 1960. С. 106.
26 Цит. по кн.: Рожанский И. Д. Указ. соч. С. 132—133.
27 Горфункель А. X. Джордано Бруно. М., 1965. С. 102—103.
28 Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет: В 2 т. М., 1970. Т. 1. С. 385.
29 Nishida К. Intelligibility and the Philosophy of Nothingness.
Tokio, 1958. P. 168.
30 Цит. по кн.: Suzuki D. T. Zen Buddhism: Selekted Writings/Ed.
W. Barret. N. Y., 1956. P. 197—201.
31 Мартынов А. С. Конфуцианская личность и природа //
Проблема человека в традиционных китайских учениях. М., 1983. С. 180.
32 Даодэцзин. С. 233. Как сказано в том же параграфе: «Все в
Поднебесной рождается из бытия, а бытие рождается из небытия».
33 Glasenapp H. von. Buddhism: A non-theistic Religion. L., 1970.
P. 49.
34 Радхакришнан С. Индийская философия. M., 1965. T. 1. С. 348.
35 Аристотель. Соч. M., 1978. T. 2. С. 372.
36 Антология мировой философии. М., 1970. Т. 2. С. 450—451.
37 The Japanese Mind: Essentials of Japanese Philosophy and
Culture/Ed. by Ch. A. Moore. Honolulu, 1981. P. 172.
38 Ibid.
39 Ibid. P. 170—171.
40 Engel H. The Japanese House. Rutland; Tokio, 1964. P. 249.
41 Холодович А. А. Проблемы грамматической теории. Л., 1979.
С. 185.
298
\
A2\Jung С. G. Psychology and Religion: West and East. L., 1958.
1 P. 482.
43 Conze Ed. Séria oriental. 13. Roma. 1957. P. 87.
44 Сочинения китайской классики. Токио, 1967. T. 4. С. 39. На яп.
яз
45 Jung С. G. Op. cit. P. 591.
46 Флоренский П. А. Пифагоровы числа // Труды по знаковым
системам. Тарту, 1971, № 5. С. 504—505.
47 Окакура Какудзо. Книга о чае. Токио, 1973. С. 68. На яп. яз.
48 Турсунов А. Мировоззренческие проблемы научной космологии Ц
Вопр. философии. 1977. № 8. С. 76.
49 Кесселъ Л. М. Гёте и «Западно-восточный диван». М., 1973.
С. 107.
50 Толстой Л. Н. Дневник / Толстой Л. Ы. Собр. соч.: В 20 т. М.,
1965. Т. 20. С. 98.
51 Вознесенский А. Взгляд. М., 1972. С. 85.
53 Roszak Th. Where the wasteland ends. N. Y., 1972. P. XVII.
53 Вернадский В. И. Размышления натуралиста: Научная мысль
как планетное явление. М., 1977. Кн. 2. С. 55.
54 Там же. С. 57.
55 Там же. С. 75.
56 Бор И. Атомная физика и человеческое познание. М., 1961. С. 35,
36.
57 Смирнов С. Физика до физики / Знание — сила. 1981. № 8. С. 34.
58 Донести до сердец людей // Лит. газ. 1983. 21 сент. С. И.
59 Цивилизация и культура в историческом процессе: Докл. к
XVII Всемирному филос. коигр. «Философия и культура»
(Монреаль, 1983). М., 1983. С. 47.
/
КУЛЬТУРА И ПРИРОДА (
В АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННОСТИ
В. М. Межуев
КУЛЬТУРА КАК
ПРОБЛЕМА ФИЛОСОФИИ
В научной литературе наличие различных
познавательных задач при изучении феномена культуры
является общепризнанным, Из этого следует, в
частности, что философия в своем познании культуры
должна руководствоваться собственными, вытекающими из
ее природы задачами, которые следует отличать от
задач других наук — истории, социологии, этнографии,
искусствознания и т. д. Философия, разумеется, должна
считаться с результатами исследования культуры в
конкретных науках, учитывать их в своэдх выводах и
обобщениях. Но разве ее роль сводится лишь к тому,
что она суммирует и повторяет за ними эти
результаты? Для философа, приступающего к анализу
культуры, здесь кроется целая проблема: в ходе такого
анализа оп вынужден отдавать себе полный отчет в
характере философского интереса к культуре, в специфиь
чески-филоеофском отношении к этому сложному и
многогранному феномену. В дном случае ему грозит
опасность подмены философского истолкования
культуры какой-либо частной ее интерпретацией, что. в
конечном счете приводит не только к искажению смысла и
сути философской работы, но к абсолютизации
отдельной (и не всегда существенной) стороны культурного
процесса.
Философскому познанию вообще свойственна
постоянная саморефлексия относительно природы, границ и
целей своего собственного, знания. Это и попятно, если
учесть, что философия имеет дело с теми же объектами
действительного мира, что и специальные науки. К
тому же природа, общество, человек, история подлежат
одновременно как философскому, там и
специально-научному рассмотрению. Однако, интересуясь природой,
философ не становится от этого физиком, химиком или
300
биологом; обращаясь к обществу, он не уподобляется
экономисту или социологу; пытаясь постичь смысл и
общие законы истории, он не подменяет собой специ-
аЬиста-исторшка. В равной мере и /культура его
интересует не так, как она может интересовать историка,
социолога, этнографа и т. д.
Философия представляет собой не просто отдельною
специализированную область научного знания, а наряду с
конкретной наукой особую форму общественного
сознания. Каждая из этих форм сознания отражает мир во всей
полноте его бытия, но отражает по-своему, в
соответствии со своей спецификой и предназначением. Переход
€ уровня социально-теоретического знания о мире на
уровень его философского осмысления нельзя поэтому
отождествлять с переходом от одной специальной
науки к другой. Такой переход связан с более глубокой
перестройкой сознания, с существенными изменениями
в позиции познающего субъекта по отношению к
познаваемой действительности. Недаром во всех крупных
философских системах прошлого философскому учению
о мире, как правило, предшествовало философское
учение о методе, философской теории — философская
пропедевтика. Последняя и брала на себя функцию
перестройки сознания, его, таек сказать, «настраивания» на
философский лад. И в случае с культурой ее
философскому познанию должна предшествовать своя
пропедевтика, связанная с осознанием самой филреофии в
качестве особого и специфического уровня такого познания.
Философия, как известно, имеет дело с особым видом
знания, обладающим в составе человеческого познания
мировоззренческим статусом. Специфической чертой
такого знания является то, что оно слуяшт целям не только
теоретического познания, но и сознательного объединения
людей в рамках определенного социального
(классового, национального, международного) сообщества. В этом
смысле оно обладает особой духовьго-интегративной
функцией — функцией установления единства, согласия
между людьми в их отношении к миру и к самим себе.
Разумеется, и конкретно-научиому познанию в высшей
степени свойственна общезначимость используемых в
нем терминов, понятий, формул и уравнений.
Мировоззрение признано, однако, выразить не только общность
теоретических представлений людей о мире, но и
общность их практических устремлений, тех целей и «задач,
которые они ставят перед собой в своей общественно-
301
практической деятельности. Мировоззрение заключает в
себе теоретически осознанное выражение практической
позиции человека в мире, его связи с ним как
практически действующего субъекта.
В своем отношении к миру философия исходит,,
стало быть, не только из интересов его теоретического
объяснения и познания, по и из потребностей его
практического изменения и преобразования. Мир
интересует ее не сам по себе, в своем натуралистическом, чисто
природном существовании, но прелюде всего в
отношении к практическим целям человеческой деятельности,,
т. е. в своем специфически человеческом значении. Эта
и означает, говоря словами К. Маркса, что предмет,
действительность берется здесь не «в форме объекта, или в
форме созерцания», а как «человеческая чувственная
деятельность, практика», т. е. «субъективно»1. Если
конкретные науки, вырабатывающие
специализированное теоретическое знание о мире, ориентированы, как
правило, на отдельные участки и весьма
дифференцированные области практической деятельности людей я
связаны с ними целым рядом промежуточных звеньев
(отсюда — разделение наук на фундаментальные и
прикладные, а также разделение функций выработки
теоретического знания и ее тграктического
использования), то философия, во-первых, исходит из
потребностей целостной общественно-исторической практики
людей, а во-вторых, реализует эти потребности
непосредственно в рамках своей познавательной деятельности.
Подобно тому как человек в реальной практической
деятельности осуществляет «свою сознательную цель,
которая как закон определяет способ и характер era
действий и которой он должен подчинять свою волю»2,
философия в своей познавательной деятельности также*
исходит из определенной цели, сознательно подчиняя
ей ходы своей мысли, превращая ее в принцип
объяснения и истолкования действительного мира. Она
непросто исследует человеческую практику (последняя
анализируется и в других науках), она смотрит навесь
мир глазами Практика, практически действующего
субъекта, т. е<. в соответствии с некоторой практически
-заданной целью. В философии, таким образом, соединены,
органически слиты теоретическая и практическая
стороны отношения человека к миру, 'точнее, практическое»
отношение получает здесь теоретическую форму
выражения. Можно сказать, что в деятельности1 философа
302
функции теоретика и практика еще не отделены друг
от друга и сама теория выступает вдесь как форома его
мысленного, идеального- преобразования. Недаром.
Маркс сопоставлял философию не только с наукой, но
ц с практикой, усматривая в ней особую форму духов-1
по-практического освоения действительности.
В чем же состоит специфически практическая цель
философской деятельности? В конечном счете в том же,
в чем состоит и цель всей общечеловеческой практики,
а именно — в освоении, «очеловечивании»
действительного мира, в превращении его в мир культуры.
Философия «на свой манер», в духовной форме выражает
практическую позицию человека в мире. Если в
материальной практике люди реально преобразуют природу в
культуру, то в практике духовной, в том числе и
философской, этот же процесс осуществляется в сознании и
посредством сознания. Так, если «всякая мифология
преодолевает, подчиняет и преобразовывает силы
природы в воображении и при помощи воображения»3, то, в
отличие от мифологии, искусства и т. п., философия
подменяет собой всю практику, или сама по себе есть
практика. Это свидетельствует о том, что философия
есть специфически особая форма практического
преобразования мира — его мысленное, духовное
преобразование.
В отличие от реального преобразования мира, его
мысленное преобразование означает изменение не самого
мира, а нашего представления о нем. В ходе такого
преобразования внешний мир обретает идеальную форму
существования, соответствующую реальному положению
индивида в мире, его исторически конкретному
общественному бытию. Изменяя свое осознание мира, человек
стремится привести его в согласие с самим собой, со
своим собственным существованием, со своей
действительной жизнью. Он как бы пытается установить единство
между тем, кем он является в мире, и тем, как он
понимает мир, между своим бытием и своим сознанием.
Но тем самым он и придает миру мысленную,
идеальную форму, соответствующую его действительному месту
и положению в мире.
В границах философского сознания этот идеальный
образ мира создается путем его особого рода
истолкования, его рациональной реконструкции. Смысл такой
реконструкции заключается в установлении соответствия
между миром и действующим в нем человеком, между
303
объективным порядком вещей и субъективными (практи-)
ческими) целями и намерениями людей. Всё существу!
ющее философия стремится понять и представить не как
некоторую натуральную данность, неизвестно зачем и отА
куда возникшую, а как внутренне причастную человеку,
исполненную для него глубокого человеческого смысла и
значения действительность. В философии мир
раскрывается не в своем природном, безразличном к человеку
бытии, а в своем культурном, человеческом бытии, т. е.
как человеческий мир, как мир самого человека.
Философское преобразование мира и есть его теоретическое
истолкование как мира культуры.
Отсюда вытекает и особое отношение философии к
культуре. Культура для нее — не просто внешний
объект наблюдения и созерцания, но в определенной мере
и продукт, результат ее собственной деятельности. В
философии культура не только изучается (подобно тому
как природа изучается в естественных науках), но и
творится. Вот почему философские системы живут в
истории культуры подобно величайшим созданиям
человеческого духа. Как бы ни изменялось и ни
совершенствовалось наше теоретическое знание о мире, творения
Платона и Аристотеля, Декарта и Спинозы, Канта и
Гегеля сохраняют свое культурное значение в качестве
уникальных и неповторимых произведений человеческого
духовного творчества.
Разумеется, культурное творчество, осуществляемое в
рамках философской деятельности, обладает по
сравнению с другими видами духовно-практической
деятельности специфическими особенностями. Культура в
философии обретает особукк—не материально-вещественную, н&
символически-образную, а идейно-теоретическую,
рационально осознанную форму. Она предстает здесь в виде
рационально, выработанной системы идей о мире и
образующих его объектах. Производство идей,
осуществляемое в рамках философской деятельности, представляя
собой особую отрасль духовного производства, выступает
вместе с тем и как специфический способ созидания,:
производства самой культуры.
Следует отличать идеи как продукт философской
деятельности от понятий как только теоретической формы
знания. Идеи в качестве рациональных конструкций
также имеют теоретическую форму понятий, однако, f
отличие от последних, фиксирующих в
обобщенно-логическом виде объективное (независимое от человека) со-
304
Держание наших мыслей о мире, они выражают
определенное — практическое — отношение, в каком мир
находится к нам самим как к действующим субъектам.
Иными словами, в идее любой объективно действующий
предмет предстает в аспекте не только своего
природного, но и человеческого, культурного бытия, т. е. как
некоторый желаемый, должный, идеально постулируемый
результат нашей практической деятельности. По
определению П. В. Копнина, «в идее предмет отрая^ается в
аспекте идеала, т. е. не только таким, как «он есть», но
и каким он «должен быть»... Идея направляет
практическую деятельность, образуя идеальную форму будущей
вещи или процесса»4. Она возникает как бы на стыке
двух миров — объективного и субъективного,
естественно-необходимого и практически целесообразного —
короче, природного и культурного. Идея и есть рационально-
постигаемый субъективный смысл объективно
существующей вещи, создаваемый не ее природными, телесными,,
чувственно воспринимаемыми свойствами, а ее
отношением к «иному», неприродиому миру, к миру
человеческой субъективности 5.
В самой по себе вещи, взятом в соотнесенности со
своим собственным физическим бытием, нет никакого
смысла, она не обладает никакой культурной ценностью.
В своей самотождественности вещь есть природа,
равнодушная ко всему, что выходит за ее пределы. Вещь
наделяется смыслом лишь тогда, когда перестает быть
равной самой себе и становится выражением,
проявлением какой-то другой природы, ее «небытием», знаком,
Символом иного — внеприродного или сверхприродного —
мира. Так, в религиозном сознании смысл возникает в
точке пересечения «естественного» и «божественного»
миров: вещь обретает здесь священный, сакральный
смысл. В любом случае смысл вещи есть то ее значение,,
которым она обладает в контексте не своего природного,
а какого-то иного бытия.
Человеку во все времена сопутствовало убеждение в
том, что вещи, с которыми он имеет дело, заключают
в себе нечто большее чем то, что он знает о них на
основании своих собственных органов чувств, что ему
только видится, слышится, осязается в них. В вещах
ему постоянно чудится какой-то «тайный» смысл,
имеющий для него более важное значение, чем просто знание-
о вещи. Такое убеждение в высшей степени свойственна
и философскому сознанию, стремящемуся постичь смысл:
20 Заказ N° 6G7
305
вещи средствами рационального мышления, выразить его
в идее. Иное дело, как именно та или другая
философская система пытается объяснить наличие и
происхождение этого смысла и обосновать тем самым свое
убеждение в его существовании. Но независимо от этого
философия каждый раз апеллирует к смыслу вещи, а не
просто к ее творчески постигаемой сущности6.
Убеждение в том, что вещи существуют не сами по
себе, а обладают каким-то важным и существенным для
человека «смыслом», растет из особого положения
человека в мире. В своем стремлении постичь смысл вещи,
раскрыть его средствами мифологического, религиозного,
художественного или философского сознания люди
исходят не из своей чисто природной потребности в ней, а
из своей общественной, «родовой» потребности,
определяемой существованием того общественного целого, к
которому они принадлежат. Они как бы смотрят на вещь
глазами этого целого, пытаясь увидеть в ней то, что
имеет значение для их жизни в границах данного
целого. Будучи сам «родовым» существом, человек и в
вещах ищет то, что составляет их общий «вид», «эйдос»,
«идею», что образует их «родовую» сущность. Его
интересует в вещах не столько их природная данность,
сколько их общечеловеческая значимость и ценность.
Последняя и выступает для него как смысл вещи. В
зависимости от того, как люди включены в общественное
целое, раскрывается перед ними и смысловая картина
мира. Наблюдаемое нами в истории многообразие
духовно-культурных смыслов, которыми человек наделяет мир,
есть лишь следствие его изменяющегося положения в
обществе, а значит, и его изменяющегося отношения к
миру.
Способность вещи как бы излучать из себя
человеческий смысл, служить человеку его собственным
отражением характеризует ее не как природный объект, а
как предмет культуры. Ведь вещи обретают такой смысл
не в силу своих природных свойств, а в силу каких-то
иных — неприродных — свойств, которые они обретают
за пределами своего вещественного бытия — в мире
человеческих отношений и взаимодействий. В качестве
предметов культуры, обладающих человеческой
значимостью и ценностью, вещи перестают быть просто
чувственными вещами и становятся
«чувственно-сверхчувственными вещами», заключающими в себе нечто такое,
что не может быть постигнуто лишь в акте их внешне-
306
rta наблюдения и созерцания. Поэтому стремление
философии на протяжении всех веков ее существования вы-
яЬить смысл вещи, мира в целом средствами
рационального познания, представить так сказать, не физическую,,
а сверхфизическую («метафизическую») картину мира
нельзя понять и оценить иначе, как постоянно
осуществляемую попытку мысленного преобразования всего
видимого мира в человеческий мир, в мир человеческой:
культуры.
Особенностью классической философии нового
времени явилось то, что она попыталась решить эту задачу
как чисто научную проблему, т. е. на путях ее
теоретического осмысления. Свою собственную цель она
видела в том, чтобы представить мир по образу и подобию
действующего в нем субъекта, осуществляющего акт
мысли, самосозиательно ориентирующегося в мире.
В классической философии «мир представлялся в
качестве хотя и несоизмеримой по масштабу с самим
человеком, но вместе с тем соразмерной его мысленным
действиям рациональной конструкции, в качестве
объективного целого, самоупорядоченного,
самовоспроизводящегося и законосообразного»7. Объективное строение
мира, присущий ему внеличностный естественный порядок
внутренне соотнесены здесь со всеобщими формами
человеческой деятельности, с характером и способом
организации человеческой субъективности, которая сама, в
свою очередь, приравнена здесь к деятельности сознания.
Классическая философия пыталась тем самым
усмотреть в мире не его чуждость, «инаковость» человеку, а
его глубоко субстанциональное сродство с ним.
Философское познание мира — даже тогда, когда оно
принимало форму научной системы,
рационально-теоретического построения,— оказывалось познанием его не как
натуральной данности, а как действительности, до предела
наполненной человеческим смыслом и содержанием.
«Космическая организация, мировой порядок не
мыслились в качестве чего-то антитетичного по отношению к
всеобщим формам человеческой деятельности. Напротив,
предполагалась своего рода изначальная соотнесенность
космического порядка с этими всеобщими формами»8.
Пронизывающее классическую философию убеждение
в том, что мир внутренне соотнесен с человеческой
субъективностью, находится с ней в гармоническом единстве
и, следовательно, исполнен человеческого смысла и
содержания, определило все своеобразие ее рационально-теоре-
20*
307
тических построений. Стремясь выразить это убеждение
на языке рационального мышления, придать ему, так
сказать, теоретическую форму, форму научной системы,
классическая философия сформулировала и свое особое
требование к науке — быть средством познания мира не
только в его независимости от человека, но и в его связи,
единстве с ним. Другими словами, философия в форме
науки претендовала на то, чтобы быть знанием не только
о мире природы, но и о человеческом мире, мире
культуры. В этом смысле всю классическую философию можно
охарактеризовать как философию культуры, т. е. как
знание о мире, которое истолковывает, интерпретирует мир
в качестве не природного, а культурного явления.
Какой же должна быть наука, взявшая на себя
функцию философского осмысления мира или его истолкования
как мира культуры? В этом вопросе, на наш взгляд,
заключена центральная методологическая проблема всей
классической философии. Пытаясь решить ее,
классическая философия натолкнулась на следующую дилемму:
либо такая наука должна быть во всем подобна «наукам
о природе», получившим к тому времени наибольшее
развитие, либо она должна представлять собой
совершенно особую форму знания, базирующуюся на иных, чем
естественные науки, принципах и основаниях. В
зависимости от того, как решался этот вопрос, классическая
философия склонялась либо в сторону истолкования
мира культуры, человеческого мира по прямой аналогии с
миром природы (линия натурализма), либо в сторону его
осознания как действительности, имеющей исключительно
субъективный, духовный источник происхождения
(линия трансцендентализма и идеализма). Соответственно
этому культура либо уподоблялась природным объектам,
феноменальному миру вещей, подлежащему лишь
внешнему наблюдению и описанию (подобно тому, как
изучаются природные явления), либо рассматривалась как
чисто духовное порождение, уходящее своими корнями
в глубины человеческой субъективности.
В современной культурологической литературе весьма
распространены определения культуры как «внебиологи-
чески выработанных» орудий, средств и механизмов
человеческой деятельности, как «внебиологического» способа
адаптации, приспособления человека к окружающему
миру, как «вненаследственной» (внегенетической) системы
хранения и передачи информации и т. д. Во всех этих
определениях подчеркивается принципиальное отличие
308
^ультуры от природы, ее качественная несводимость к
последней.
Действительно, различие между природой и
культурой очевидно, бросается в глаза. Как бы конкретно ни
определять культуру, мы не найдем ей прямого аналога
ни в физическом, ни в животном мире (даже при
наличии некоторого сходства в поведении животных и
человека). Однако констатация одного лишь этого различия
порождает дуалистическое представление о мире,
разделяет его на две самостоятельные субстанции —
природную и неприродную, между которыми не усматривается
никакой объединяющей их связи; природа изгоняется из
истории и соответственно выносится за пределы
исторического познания. В результате того, писал К. Маркс, что
«из истории исключается отношение людей к природе...
создается противоположность между природой и
историей»9.
Указание на одно лишь различие между природой и
культурой упускает из виду процесс исторического
развития, в ходе которого это различие возникло. Данное
различие при этом лишь постулируется, а не объясняется,
не выводится из порождающей его причины. Вопрос о
происхождении этого различия, а значит, и о том, в чем
оно действительно состоит, остается нерешенным. И вряд
ли можно решить этот вопрос (если, конечно, заранее не
придерживаться точки зрения дуализма), оставляя без
внимания связь между природой и культурой, их
определенное единство. Ведь культура не только отличается
от природы, но и связана с природой, предполагает ее,
так или иначе включает ее в себя. Природа, постоянно
подчеркивал К. Маркс, наряду с трудом является
необходимым источником производимого человеком
вещественного богатства. Поэтому она не только предшествует
культуре во времени, но и является постоянным
условием ее последующего существования и развития.
Граница между природой и культурой, таким образом,
не абсолютна, а относительна; она не противопоставляет
их в некоторой абстрактной противоположности, а разли-
нает в пределах более широко понятого единства, в
рамках связующей их целостности. Ведь в общеисторическом
масштабе вся природа в целом обретает потенциально
культурный смысл и значение, становится, с этой точки
зрения, «частью» культуры, тогда как культура
распространяет свои владения на всю природу. В историческом
смысле «обе эти стороны (история природы и история
309
людей.— В. M.) неразрывно связаны; до тех пор, пока
существуют люди, история природы и история людей
взаимно обусловливают друг друга»10.
Абстрактное противопоставление природы и культуры
не учитывает того, что соотношение между ними есть
следствие исторического развития самого человека,
изменения его места и роли в мире. В культуре человек
представлен не как природное или сверхприродное существо,,
а как исторически изменяющееся существо, т. е. со
стороны не только своего отличия от природы, но и своей
связи с ней. Сама история есть история отношения человека
к природе, история изменения и развития этого
отношения. Находясь, с одной стороны, в состоянии
непосредственной зависимости от природы, исходя из нее и
нуждаясь в ней, человек в то же время преодолевает эту
зависимость, подчиняет природу себе, ставит на службу
собственным целям. В процессе изменения
взаимоотношения человека с природным миром впервые и полагается
граница между природой и культурой.
В этом смысле культура не устраняет значение
природы для человека, не ликвидирует его отношение к ней,
а сама выступает как специфическая для человека форма
его связи с природой, его единства с ней. Культура есть
человеческое отношение к природе, возникающее в ходе
истории и полностью раскрывающееся лишь на ее
определенной ступени11.
Разумеется, не всякое отношение человека к
природе, как оно непосредственно наблюдается в эмпирической
истории, может быть охарактеризовано как подлинно
«человеческое отношение» и, стало быть, как культура. Так,
на ранних ступенях истории данное отношение
реализуется в форме, еще весьма отягощенной наследием
доисторического прошлого. Да и в современных условиях
«человеческое отношение к природе» не всегда совпадает с
отношением каждого человека к природе. Культура
выражает не любое эмпирически существующее отношение
людей к природе, а их всеобщее, универсальное
отношение, соответствующее всеобщему (а не исторически
ограниченному и преходящему) существованию человека в
истории. В чем же состоит эта специфически человеческая
(культурная) связь человека с природой?
Природа образует исходный пункт человеческого
развития. Человек принадлежит природе, есть часть природы
не только в том смысле, что представляет собой прямой
продукт ее органической эволюции, но и в том, что по-
310
стоянно и во все более возрастающей степени нуждается
в ней как в необходимой предпосылке своего
существования. Эта глубочайшая человеческая потребность в
природе указывает на то, что человек на протяжении всего
своего исторического развития неразрывно связан с
природой, находится с ней в определенном единстве.
Пресловутое «„единство человека с природой",— указывал
Маркс,— всегда имело место в промышленности,
видоизменяясь в каждую эпоху в зависимости от большего или
меньшего развития промышленности...»12. В этом смысле
человек всегда имеет перед собой «историческую природу
и природную историю»13, т. е. природу как факт своего
исторического развития. Проблема заключается не в том,
чтобы зафиксировать это постоянное «единство человека
€ природой», которое «всегда имело место в
промышленности», а в том, чтобы раскрыть изменяющийся характер
этого единства, специфические его формы проявления на
различных этапах истории.
Маркс указывал, что природа имеет для человека
двоякое значение: как «естественное богатство
средствами жизни» (плодородие почвы, обилие рыбы в водах и
т. д.) и как «естественное богатство средствами труда»
(водопады, судоходные реки, дерево, металлы, уголь
и т. д.). «На начальных ступенях культуры имеет
решающее значение первый род, на более высоких ступенях —
второй род естественного богатства»14. Природа,
следовательно, выступает прежде всего как естественный
поставщик всех необходимых человеку «средств жизни». Но в
отличие от животного человек нуждается в природе не
только как в источнике «средств жизни», но и как в
источнике «средств труда». Подобного рода потребность
в природе соответствует более высоким ступеням
культуры, выражает специфически человеческое отношение к
природе.
В растительном и животном мире вещество природы,
как правило, присваивается организмом в той его форме,
в какой оно непосредственно произведено природой.
Результат этого присвоения «опредмечивается» в
органическом теле присваивающего существа, т. е. предстает в
форме самого организма. Организм является здесь
единственным положительным результатом своего жизненного
процесса, своей жизнедеятельности, не порождая ничего
иного, кроме себя или своего потомства. Вся
жизнедеятельность такого организма является поэтому
органической, или биологической, жизнедеятельностью, неотдели-
311
мой от его физических и физиологических функций.
Способом такой жизнедеятельности оказывается не
преобразование природы в культуру, а приспособление к
природе, имеющее единственной «целью» сохранение и
выживание органического вида. «Производящая» функция
здесь принадлежит окружающей среде, тогда как на
долю организма падает в основном «потребляющая»
функция, функция усвоения и органической переработки тогог
что дано природой в готовом виде.
Разумеется, и человек трудится для того, чтобы жить.
Однако способ производства и воспроизводства человеком
своей жизни отличается от жизнедеятельности животного.
Он есть воспроизводство не столько его физического,,
сколько общественного существования, поскольку человек
может жить только в обществе. Как общество находит
в органической природе индивидов естественную
предпосылку своего существования, так и индивиды находят в
обществе условие своей органической жизни. Без
общества не было бы и человеческой жизни. Поэтому человек
трудится не как животное, движимое лишь своей
органической потребностью, а как существо, свободное в
процессе труда от этой потребности. Точнее, его естественная
потребность в природе реализуется в общественной форме,,
в форме деятельности, имеющей не органический, а
общественный характер.
Отсюда следует, что природа существует для человека
в той мере, в какой он является общественным существом,
в какой он нуждается в ней как в условии своей
общественной жизни. Вые этого отношения нет и никакой
природы для человека: пока человек не выделяет себя иа
природы, а следовательно, не отличает себя от нее, он
слит с ней, подобно тому как слито с природой животное.
Природа существует только для общественного человека,
только как проявление его человеческой —
общественной — сущности, или, что то же самое, она существует
только как факт его культуры. По тому, писал Маркс,
«насколько стала для человека природой человеческая
сущность, или насколько природа стала человеческой
сущностью человека... можно... судить о ступени общей
культуры человека»15.
Вые культуры нет и отношения человека к природе.
Ведь за ее пределами человек — только часть природы,,
а говорить об отношении к природе ее части можно лишь,
в условном смысле. Поэтому, как справедливо отмечает
Ю. Н. Давыдов, «способность относиться к природе*
312
к каждому из своих природных определений это — по
Марксу — уже есть чисто человеческое свойство,
отличающее людей от животных»16. Отношение к природе
возникает у человека потому, что он оказывается частью
более широкого, чем природа,— общественного —
универсума, охватывающего собой всю сумму его отношений
с другими людьми. Его отношение к природе оказывается
следствием обретения им иной природы — общественной,
развитие которой и составляет факт человеческой
культуры.
Именно потому, что природа существует для человека
только «внутри» его культуры, он способен отличать себя
от нее, противопоставлять ее себе, ибо «относиться» к
природе — это и значит видеть в ней другое, отличное от
себя, усматривать в ней то, чем ты сам не являешься.
Чем более человек реально выступает и осознает себя
общественным существом, чем более он приобщается к
универсуму культуры, тем более он выделяет себя из
природы и, следовательно, тем более универсальным
становится его отношение к ней. Человеческое отношение
к природе возникает в силу того, что человек перестает
быть природным существом, отделяет себя от нее, или,
по выражению Ю. Н. Давыдова, «дистанцирует» ее от
себя. Здесь отличие человека от природы выступает как
свидетельство его отношения к ней, его единства с ней —
правда, уже не природного, а культурного.
Отличая природу от себя (в результате становления
своей общественной природы), человек отличает и себя
(как общественное существо) от своей физической
природы, вступает в отношение с самим собой. Будучи
общественным существом, он как бы утрачивает
самотождественность своего природного бытия, усматривая в
последнем только естественную предпосылку своего
человеческого бытия. Для человека его органика отнюдь не
тождественна ему самому, отнюдь не исчерпывает всей
его «человечности», а является всего лишь «телом»,
«вмещающим» в себя нечто несравненно более важное и
существенное, чем оно само. Отсюда и вопрос, столь
волнующий людей на протяжении всей их истории,— об
отношении «тела» и «духа». «Дух» здесь — символ иной,
общественной, природы человека, которая делает его как
бы «шире» и «больше» своего «тела».
И в качестве общественного существа человек,
разумеется, не утрачивает своей естественной, физической связи
с природой, без которой была бы невозможна его жизнь.
313
Однако по мере становления человека общественным
существом его общественное отношение к природе
отделяется от его естественной связи с ней, обретая значение
решающего и определяющего фактора человеческой
жизни. Именно данный фактор обретает в истории
способность к развитию, коренным образом преобразуя всю
сумму человеческих взаимоотношений, а в конечном счете
и самого человека. По мере того как общественная жизнь
человека обретает всеобщий, в пределе — универсальный
характер, его отношение к природе, в том числе к своей
собственной, получает столь же универсальный характер,
оказывается выражением уже не естественного, а
общественного единства с ней. Культура и характеризует
общественно-универсальное отношение человека к природе
в отличие от его еще чисто естественной связи с ней.
Данное различие находит свое объяснение в
«двойственном характере» труда и, значит, в двойственном
отношении человека к природе. В той мере, в какой труд
является для человека лишь естественным условием его
жизни, средством физического выживания (через
создание полезных предметов, потребительных стоимостей), его
отношение к природе не выходит еще за рамки чисто
естественной связи с ней. Сам человек предстает здесь
лишь как одна из сил природы, включенная в общий
процесс природного взаимодействия. В той же мере, в
какой труд обретает значение производства и
воспроизводства общественной жизни человека, становится
общественным трудом, природа получает функцию, никак не
предусмотренную ее естественным существованием,— функцию
общественно-производительной силы труда. В качестве
такой силы природа и включается в культуру. Процесс
превращения естественных сил природы в общественно-
производительные силы труда составляет объективную и
наиболее глубокую основу культурно-исторического
развития.
Различие между природой и культурой есть,
следовательно, различие между природой как еще естественной
силой и природой как общественной силой людей,
существующей в границах их взаимного общения. Говоря
проще, культура и есть природа в качестве общественной
производительной силы человеческого труда. Это различие
обнаруживается в истории не сразу, а па той ее ступени,
на которой общественно развившиеся производительные
силы труда получают в процессе производства
преобладающее значение, вытесняя все прежние формы непосред-
314
ственной зависимости человека от естественных сил
природы.
Единственным источником производительных сил
труда могут быть, как известно, только силы самой
природы — как внешней, так и той, которая естественным
образом присуща каждому индивиду. В процессе труда
человек прежде всего приводит в движение принадлежащие
ему от природы физические и умственные силы.
Веществу природы он сам противостоит как сила природы17.
Как бы ни различались между собой отдельные виды
труда, «с физиологической стороны это — функции
человеческого организма... затрата человеческого мозга,
нервов, мускулов, органов чувств и т. д.»18.
Производительными силами труда, с другой стороны, могут быть силы
внешней природы — твердых тел, ветра, воды, пара,
электричества, атомного ядра и т. д. Природа,
следовательно, представляет собой естественный резервуар всех
производительных сил человеческого труда. Действуя в
процессе труда, «как действует сама природа», человек
в то же время «постоянно опирается на содействие сил
природы»19.
Природные силы — как внешние, так и собственно
человеческие — становятся силами труда либо в своем
непосредственном, либо в преобразованном виде. Процесс
преобразования первых во вторые и есть развитие
производительных сил труда. В качестве производительной
силы труда сила природы обретает иную форму
существования и иную функцию: она становится средством
производства того, чего нет в природе. Потенциально все
силы природы -— физические, химические, биологические,
космические — могут стать производительными силами
труда, реально же ими становятся только те, которые
преобразованы человеком, присвоены им в качестве сил
собственного труда.
На ранних ступенях истории человек использует силы
природы в качестве производительных сил труда почти
еще в непреобразованыом, малоизмененном виде. Примером
здесь может служить плодоносная сила земли, тягловая
сила животных и т. д. Главным объективным условием,
по словам К. Маркса, выступает здесь не продукт труда,
а находимая трудом природа. «С одной стороны, имеется
налицо живой индивид, с другой — земля как объективное
условие его воспроизводства»20. Эти условия не созданы
трудом, существуют до и независимо от труда, являются
его природной предпосылкой, а не историческим резуль-
315
татом. «Иными словами: первоначальные условия
производства выступают как природные предпосылки, как
природные условия существования производителя; точно так
же как его живое тело, воспроизводимое и развиваемое
им, создано не им самим, а является предпосылкой его
самого; существование (телесное) его самого есть такая
природная предпосылка, которая не им создана»21.
Человек, таким образом, вынужден первоначально
действовать в обстоятельствах, которые созданы не им самим,,
а даны ему в виде природных предпосылок его
деятельности.
Уже в «Немецкой идеологии» К. Маркс и Ф. Энгельс
выделяли в исторической эволюции человечества два
важнейших этапа, один из которых основывается на
«естественно возникших орудиях производства», а другой — на
«орудиях производства, созданных цивилизацией». «В
первом случае, при естественно возникших орудиях
производства, индивиды подчиняются природе, во втором же
случае они подчиняются продукту труда»22.
Историческое (и культурное) развитие человечества, при
любых возможных подразделениях его на отдельные
периоды, идет по линии все большего высвобождения людей
из-под власти природы и вовлечения в такую социальную
связь, которая опосредуется результатами совокупного
человеческого труда.
Само существование человека как субъекта
деятельности предопределено в этой ситуации условиями,
носящими еще чисто природный характер. Как субъект
деятельности человек зависит здесь от «естественно
сложившегося коллектива»23 (род, племя, община), в которой
не труд опосредует отношение одного члена коллектива
к другому, а, наоборот, их совместное существование
делает возможным их производственную деятельность.
Состояние «природной сращенности» индивида с
естественными (объективными и субъективными)
предпосылками своего производства — исходный пункт истории.
Однако Маркс обнаруживает признаки такого состояния
(в той или иной его модификации) на огромном
историческом отрезке времени — вплоть до окончательного
утверждения буржуазного способа производства.
«Природа, еще почти не видоизмененная ходом истории»
образует естественный базис всех докапиталистических форм
производства. Так, на стадии развития и широкого
распространения земледелия — этой «первоначальной формы
производства», куда Маркс относит восточное (азиатское) ^
316
античное и феодальное общества, «преобладают еще
отношения, определяемые природой»24. «Непосредственная
сращенность» производителя с природными условиями
дополняется здесь, однако, отношениями личной
зависимости и подчинения (рабство, крепостничество), которое
фактически сводит производителя к неорганическим
условиям производства 25. Эти отношения сами являются лишь
проявлением природной ограниченности человека как
производящего существа.
Поскольку уже в дайной ситуации человек выступает
как общественный субъект деятельности, постольку она
предстает как определенное культурное состояние
человечества. Но поскольку эта деятельность ограничена здесь
условиями, являющимися не результатом, а предпосылкой
труда, т. е. чисто природными условиями, постольку
можно говорить о природной ограниченности культурного
развития на данном этапе. Человек здесь «культурен» в
меру своего деятельного единства с природой и
«некультурен» в меру своего «непосредственного» (не
опосредованного трудом) единства с ней. Этому нисколько не
противоречит тот факт, что данная ступень представлена
достаточно богатым набором памятников материальной и
духовной культуры. Критерием «культурности» эпохи
служит в данном случае не простая количественная
фиксация результатов человеческой деятельности, а
качественная определенность отношения человека к природе в
данную эпоху.
Как же конкретно проявляется природная
ограниченность культурного развития в эту эпоху?
Во-первых, это развитие носит локальный
(ограниченный в пространстве) характер. Поскольку здесь
отсутствует общественно развитая и всеобщая система обмена
продуктами материального и духовного труда, постольку
развитие культуры ограничено рамками местных,
территориальных, племенных, этнических, региональных связей
и отношений между людьми. Отсюда пестрота и
многообразие культурных форм, их кажущаяся иесводимость
друг к другу, отсутствие какого-либо унифицирующего
начала, их своеобразие и самобытность, что в более
позднюю эпоху порождало представление об этой эпохе как
об эпохе подлинного расцвета культур. В
действительности же миогоцветие культурной жизни произрастало здесь
на социально еще не обработанной почве и по-своему
выражало природную ограниченность человеческого
развития.
317
Во-вторых, всему развитию культуры присущ здесь
ярко выраженный традиционализм, что позволяет многим
исследователям говорить о традиционном типе культуры
в этот период. Традиционалистский характер культуры
-здесь прямо связан с преобладающей ролью природного
элемента в общественной жизнедеятельности людей26.
В силу своих природных предпосылок труд носит
характер простого воспроизводства, сохранения, повторения на
прежней основе этих предпосылок. Природный элемент,
преднаходимый человеком в готовом виде, как правило,
лишь воспроизводится в прежнем качестве, не
подвергаясь существенным изменениям. Во всех
докапиталистических формах, отмечал Маркс, «основой развития
является воспроизводство заранее данных (в той или иной
степени естественно сложившихся или же исторически
возникших, но ставших традиционными) отношений
отдельного человека к его общине и определенное, для него
предопределенное, объективное существование как в его
отношении к условиям труда, так и в его отношении
к своим товарищам по труду, соплеменникам и т. д.,—
в силу чего эта основа с самого начала носит
ограниченный характер, но с устранением этого ограничения она
вызывает упадок и гибель»27. Будучи выражением
природной ограниченности развития людей, традиционализм
как специфическая черта всего жизненного уклада в
докапиталистических формациях характеризует не весь тип
культуры, а лишь ее определенную ступень.
И, наконец, в-третьих, развитие культуры в данный
период характеризуется отсутствием развитого
индивидуального начала. «...Древние
общественно-производственные организмы...— писал Маркс,— покоятся или на
незрелости индивидуального человека, еще не
оторвавшегося от пуповины естественнородовых связей с другими
людьми, или на непосредственных отношениях господства
и подчинения»28. Несамостоятельность отдельного
индивида, безличный характер его деятельности,
усиливающийся по мере углубления в историю, во многом объясняется
природной ограниченностью его коллективной жизни и
его труда. «Здесь, в пределах определенного круга, может
иметь место значительное развитие. Возможно появление
крупных личностей. Но здесь немыслимо свободное и
полное развитие ни индивида, ни общества, так как такое
развитие находится в противоречии с первоначальным
отношением [между индивидом и обществом] »29.
318
Природная ограниченность отношений людей к
природе и друг к другу находит идеальное отражение в их
взглядах и представлениях. «Эта действительная
ограниченность отражается идеально в древних религиях,
обожествляющих природу, и народных верованиях»30.
Сознание с самого начала выступает как коллективный
продукт, как результат коллективной жизни людей. Оно
становится достоянием отдельного индивида в силу его
принадлежности к коллективу, его изначальной связи с ним.
Здесь нет еще различия между «моим» и «чужим»
сознанием, между собственными убеждениями и убеждениями
других. «На характере массового сознания в
докапиталистической среде определяющим образом сказывается
нерасчлененность субъективных и объективных,
материальных и духовных сторон повседневной деятельности,
слитность индивидуального и коллективного, человека и
природы, человека и земли, что сказывается в тенденции к
мифологизации восприятия внешнего мира»31.
Сознание людей, живущих в условиях доиндустриаль-
ных обществ, по-своему воспроизводит основные
особенности данного этапа истории — его традиционализм,
локальную замкнутость, отсутствие индивидуального
начала. Развитие общественного сознания в этот период даже
в высших своих проявлениях свидетельствует об особом
уровне культуры, на котором люди находятся еще в
ограниченном отношении к природе, а значит, и в природио
ограниченном отношении друг к другу и самим себе.
Исходным и наиболее адекватным отражением такого
состояния является мифологическое сознание, в котором
реальная зависимость человека от сил природы
преодолевается лишь путем их «бессознательно-художественной»
переработки. «Всякая мифология преодолевает, подчиняет
и преобразовывает силы природы в воображении и при
помощи воображения; она исчезает, следовательно, вместе
с наступлением действительного господства над этими
силами природы»32. Важнейшие особенности
мифологического сознания, отмеченные многими его
исследователями,— неосознанность (анонимность) авторства,
отождествление вымысла с действительностью, отсутствие
жанровой определенности (синкретизм) и т. д.— являются
прямым следствием невыделепности человека из окружающего
природного мира, а значит, и отсутствия у него сколько-
нибудь развитого индивидуального самосознания33.
Даже тогда, когда духовное творчество выделяется в
относительно самостоятельную область деятельности, на*
319
лример художественную, оно сохраняет свою связь с
традиционалистским типом мышления, жестко
регламентирующим границы и возможности индивидуального
авторства. Неоспоримая власть традиции над своеволием
индивидуального замысла — характерная черта всей
художественной культуры Востока, античности и средневековья
(вплоть до нового времени). Так, анализируя особенности
.древнегреческой поэтики, С. С. Аверинцев пишет, что
«эллинская классика подготовила и осуществила, а позд-
неантичный эпилог этой классики расширил и упрочил
всемирно-исторический поворот от дорефлективного
традиционализма, характеризовавшего словесную культуру
и на дописьменной стадии, и в литературах древнего
Ближнего Востока, и у архаических истоков самой
греческой литературы, к рефлективному традиционализму,
остававшемуся константой литературного развития для
средневековья и Возрождения, для барокко и
классицизма и окончательно упраздненному лишь победой антитра-
.диционалистских тенденций индустриальной эпохи »34.
Соответственно он устанавливает три качественно
отличных состояния литературной культуры: «(1) дорефлек-
тивно-традиционалистское, преодоленное греками в V—
IV вв. до н. э.; (2) рефлективно-традиционалистское,
оспоренное в конце XVIII в. и упраздненное
индустриальной эпохой; (3) конец традиционалистской
установки как таковой»35. Общим для первых двух
является господство традиционалистской установки —
сначала в дорефлективиой, а затем в рефлективной
форме.
Существование культуры в условиях
докапиталистического развития в природно ограниченной форме
объясняет отсутствие различия между природой и культурой
(в истории европейской мысли понятие «культура» в
своем собственном содержании и значении возникает, как
отмечалось выше, лишь в XVIII в.). Речь идет не об
отсутствии культуры в эту эпоху, а лишь о той ее
особенной форме существования, которая не позволяет еще
отграничить ее от чисто природных элементов в составе
человеческой деятельности. В ситуации, когда
общественной формой труда является «его натуральная форма, его
особенность, а не его всеобщность, как в обществе,
покоящемся на основе товарного производства»36, культура
осознается преимущественно в мифологизированной
форме, приписывающей природе то, что в действительности
принадлежит человеку.
320
Только в условиях промышленного развития и
товарного производства на первый план выходит зависимость
человека не от естественных сил природы, а от своих
собственных исторически созданных сил, от «орудий
производства, созданных цивилизацией». «В тех... формах
общества, где господствует капитал, преобладает элемент,
созданный обществом, историей»37. Природа утрачивает
здесь значение непосредственной силы и становится
общественно преобразованной силой, существующей в рамках
все более универсального общения людей. В этих
условиях впервые наглядно обнаруживается и полностью
осознается действительное различие между природой и
культурой.
Процесс преобразования природы в общественные
производительные силы труда начинается, конечно, задолго
до возникновения капитализма, но только при нем
достигает определенной степени универсальности и
всеобщности. Первоначально этот процесс затрагивает самого
человека как «силу природы», участвующую в труде. Уже
на ранних ступенях истории элементарной формой такого
преобразования явилась простая кооперация труда,
данная самим фактом совместного существования людей.
Недаром Маркс в качестве «первой великой
производительной силы» называл общину38. Более сложным для
данного преобразования является разделение труда,
вначале совершенно естественное, ведущее к
дифференциации и совершенствованию производственных способностей
и умений человека, к развитию рабочей силы. С
возникновением общественного разделения труда появляются
и новые виды кооперации труда, различные формы его
общественного комбинирования. Данный процесс Маркс
называл развитием «субъективных производительных
сил»39.
В процессе общественного производства человек
выступает не только как физическая, но и как общественная
сила, создающая весь мир человеческих отношений и,
следовательно, самого человека. И никакая сила природы
не может освободить его от этой подлинно человеческой
функции — быть общественно-производительной силой,
субъектом своего собственного общественного развития.
Даже тогда, когда научно-техническое развитие
освобождает человека от функции производителя материальных
благ, которая все больше становится функцией машин
и технических средств производства, полностью
сохраняется значение человека в качестве общественно-произво-
21 Заказ № 667
321
дителыюй силы, формирующей свою собственную
общественную связь.
Человек должен быть свободен от производства вещей
для того, чтобы свободно производить свои общественные
отношения, само общество, в котором он живет. Он
должен — ив этом состоит действительный смысл его
развития — входить в производство не как простая
физическая, а как всеобщая общественная сила, обладающая
универсальной способностью к труду и общению.
Главной исторической тенденцией развития общественных
производительных сил труда оказывается, таким образом,
развитие человека в качестве универсального субъекта
деятельности, контролирующего и направляющего
производственный процесс в целом, свободно формирующего
всю сумму своих связей с другими людьми, а значит,
и свою собственную индивидуальность. Именно в этом
своем значении и содержании развитие общественных
производительных сил труда совпадает с развитием
культуры. В ходе этого развития человеческое отношение к
природе предстает как такое его единство с природой,
в котором природа оказывается условием уже не
физического, а общественно-универсального его
существования.
В ситуации, где исторически созданный элемент
получает значение «всеобщего условия производства», а
отношение человека к природе выступает не как его
«непосредственное единство» (сращенность) с ней, а как его
деятельное единство, целиком обусловленное процессом
труда, различие между природой и культурой
раскрывается во всей своей всеобщности и определенности. Смысл
этого различия вполне конкретен: в нем зафиксировано
различие между двумя особыми формами взаимоотноше-
ния человека с природной средой. В первом случае
человек выступает в определенной мере как элемент
природной среды, еще полностью не выделивпгайся из нее
(«непосредственное единство»); во втором — природа в своем
преобразованном виде оказывается элементом созданной
человеком среды («деятельное единство»). В культуре
представлен, стало быть, всеобщий, специфический
именно для человека характер его связи с природой,
возвышающий его над особенностями чисто природного бытия
и прямо совпадающий со становлением его общественного
бытия, с его существованием как общественного субъекта
деятельности. Иными словами, культура и есть природа
в ее специфически человеческой (общественной) значи-
322
мости и ценности в отличие от природы, лишенной еще
этого значения.
Такое различение природы и культуры вовсе не
стремится устанавливать абсолютную границу между
«биологическим» и «внебиологическим», между «врожденным»
и «сформированным при жизни», между
«наследственностью» и «средой». Вообще любая попытка представить
культуру как нечто совершенно «другое» по отношению
к природе, как внеприродную или сверхприродную сферу
человеческого существования весьма далека от такой
постановки вопроса. Никакого «субстанциального» различия
между природой и культурой не существует. Человек
всегда и во всем есть «природное существо», находится
в единстве с природой, хотя это единство и получает
различную форму проявления. Разграничение между
природой и культурой указывает лишь на различные формы
взаимодействия человека с природной средой,
принимающей все более универсальный характер, и имеет
поэтому чисто исторический смысл: в нем зафиксирована не
двойственная, а изменяющаяся, развивающаяся природа
человека, и уровень такого развития служит
единственным критерием отличения культуры от природы.
Классическая философия, отмечая качественное
отличие мира культуры от мира природы, ставит своей
задачей представить мир в форме, согласующейся с целями
человеческого существования. В лице прежде всего
немецкого классического идеализма философия апеллирует в
конечном счете не к опыту теоретического познания мира
природы в рамках естественных наук, а к опыту его
осмысления человеком в рамках его же практической
деятельности, в рамках существования человека как
морального и правового существа. Мир интересует философию
не так, как он дан ученому-естествениику, а как он дан
человеку в качестве морального субъекта деятельности и
«гражданина» государства. Но это и означает, что
философия в своем стремлении познать мир обращается не к
миру природы, а к миру культуры. Соответственно и
знание об этом мире получает здесь форму не теоретических
понятий, с которыми имеют дело «науки о природе»,
а философских идей о мире, заключающих в себе
сверхприродную, сверхнатуральную сущность мира. Эта
сущность оказывается за пределами того, что может быть
постигнуто в границах естественнонаучного опыта.
Уже Кант в противоположность догматизму
предшествующей философии установил, что идеи, составляющие
21*
323
основу метафизического (философского) познания, суть
такие понятия разума, которые не имеют никакого
чувственного аналога в нашем опыте. Источником их
происхождения является не опыт с его априорными формами
чувственности и рассудка, а деятельность самого разума,
стремящегося постигнуть себя в отношении к любому
виду познания. В качестве регулятивных (но не
конститутивных) принципов познания идеи ничего не говорят
нам о предметах опыта, они лишь указывают на границу
нашего познания, на ту последнюю черту, до которой
может простираться наш опыт. В учении об идеях разум
как бы устанавливает тот предел, за который он не может
переступить в своей познавательной деятельности, не
рискнув впасть в противоречие с самим собой. Идеи, стала
быть, отделяют мир чувственный, феноменальный от мира
сверхчувственного, ноуменального, о котором мы ничего
не можем знать. В них, согласно Канту, заключена
граница между областью знания, ограниченного чувственным
опытом, и областью смысла, теоретически никак не
постижимого.
Однако разум, согласно Канту, не может быть
удовлетворен одним лишь опытом, не способным дать нам
ответ о том, чем являются вещи сами по себе. Он
неизбежно будет устремляться за пределы всякого возможного
опыта, пытаясь составить себе представление
относительно того, что составляет основу, сущность мира явлений.
Поскольку теоретически мы ничего знать об этой
сущности не можем, постольку единственное, на что способен
здесь разум,— на предположение о характере отношения
ноуменального мира к миру феноменальному. Мы ничего
не можем сказать о том, что представляет собой высшая
сущность, но мы можем предположить, в каком
отношении она находится к нашему опытно постигаемому миру.
В качестве такого предположения мы можем допустить
по аналогии с нашими собственными действиями наличие
в мире некоторого «я», неизвестного, сотворившего мир
подобно тому, как мы создаем изделия ремесла или
произведения искусства. Это не теоретическое утверждение
о мире, а всего лишь предположение, имеющее чисто
условное, «символическое» значение, позволяющее нам,
однако, достигать некоторой полноты и законченности
познания40.
Интересен, однако, сам характер этого предположения.
Кант судит о сотворенности мира высшим существом по
аналогии с культурно-творческой деятельностью человека,
324
отталкиваясь от которой разум как бы умозаключает
о высшей причине мира. Если теоретически постигаемый
нами чувственный мир есть природа, то, взятый в
отношении к своей порождающей сверхчувственной сущности,
он как бы уподобляется культуре. Мы не знаем, говорит
Кант, кем и как сотворен этот мир, но мы вынуждены
смотреть на него, «как если бы» он был сотворен высшим
разумом и волей. И основанием для такого суждения
является для нас аналогия с теми отношениями, которые
существуют между чувственно воспринимаемыми вещами
и создавшим их человеком.
В философии Канта доминирует мысль о
теоретическом бессилии нашего разума перед лицом действия
сверхприродных сил, определяющих существование мира. Тем
самым конституируется область «вещей самих по себе»,
принципиально недоступная для нашего познания, о
которой можно судить лишь по аналогии с нашей
собственной культурно-производящей деятельностью. В
последующем развитии философской мысли (от Фихте до Гегеля)
кантовское ограничение разума «вещью в себе» снимается
посредством указания на то, что разум находится к
чувственному, феноменальному миру не только в
познавательном, теоретическом, но и практическом отношении,
что он является условием не только познания, но и
порождения, развития мира, главной причиной его
существования. Разум не может не знать о том, что он сам
породил, и поэтому действительное знание о мире есть
знание о законах деятельности самого разума,
являющихся одновременно и законами развития мира. Философия,
с этой точки зрения, оказывается знанием о мире в его
«разумном» существовании, т. е. в качестве результата,
продукта деятельности самого разума.
Действительный смысл такой постановки вопроса
заключался в предельной абсолютизации механизмов
культурного творчества, которые приравнивались здесь лишь
к деятельности сознания. Если у Канта эти механизмы
служат только аналогом для понимания конечной
сущности мира и его происхождения, то у Гегеля под видом
«абсолютной идеи» они превращаются в единственно
возможный способ существования и развития. Подобная
абсолютизация культурно-творческой деятельности,
отождествляющая ее законы с законами всего мирового, в том
числе и природного, развития, оказывается возможной
лишь в результате отрыва, абстрагирования этой
деятельности от ее реального и вполне конкретного субъекта.
325
Приписывая способность к творчеству, к
духовно-продуктивной деятельности «трансцендентальному» или
«абсолютному» субъекту, лишенному конкретных черт живой
человеческой личности, идеализм мистифицировал
характер самого творчества, вывел его за пределы человеческой
культуры и возвел в силу, стоящую над миром. Вот
почему в классической философии термин «культура»,
фиксирующий реальные продукты человеческого ума и рук,
как правило, не используется при характеристике
деятельности «разума» или «духа». Будучи по существу
философией культуры, положив в основу истолкования
и осмысления мира принципы духовно-культурной
деятельности человека, классическая философия как бы еще
не осознает характера используемых ею принципов, их
действительную природу и происхождение.
Достаточно было в деятельности «мирового духа»
усмотреть реальное, земное содержание, увидеть в нем
лишь отвлеченное и абстрактное выражение деятельности
вполне конкретных, эмпирически существующих
индивидов, проходящих свою материальную и шире — всю
общественную жизнь, как сразу же обнаружилось
действительное существо дела, прикрытое до того идеалистической
оболочкой. К. Маркс заметил по этому поводу, что
идеализм развивал деятельную сторону отношения человека
к миру, однако, лишь абстрактно, поскольку не знал
действительной, чувственной деятельности как таковой.
Иными словами, идеалистическая философия прошлого в
сугубо абстрактной форме выражала точку зрения
человеческой практики, пытаясь в понятиях и категориях этой
практики истолковать весь реально существующий мир.
Если старый, созерцательный материализм в какой-то
мере натурализовал действительность, в том числе и
человеческую, распространяя на пее принципы
естественнонаучного видения мира, то идеализм, наоборот,
абсолютизировал духовно-практические формы освоения
человеком действительности, распространяя их на всю природу.
Можно сказать, что для старого материализма все было
природой, для идеализма все — культурой, причем только
духовной культурой. Материализм пытался саму
культуру истолковать по аналогии с природой, идеализм
усматривал в духовной культуре аналог объяснения природы.
Абсолютизация духовно-культурного творчества
оборачивалась предельной идеализацией действительного мира.
Критика Марксом как созерцательного материализма,
так и идеализма отнюдь не отбрасывает точку зрения
326
практики в процессе объяснения и истолкования
действительного мира. Наоборот, Маркс подчеркивает
необходимость понимать предмет, действительность как
человеческую чувственную деятельность, как практику, т. е.
субъективно. Сама философия осознается здесь как
неотъемлемый элемент общественно-преобразовательной
деятельности людей, как особый — духовно-практический —
способ освоения ими мира. Но это и означает, что
философия имеет дело с миром как с объектом практической
заинтересованности человека, с миром, взятым под углом
зрения его человеческой значимости и ценности. Мир —
природа, общество, вся окружающая действительность —
интересует ее не сам по себе, а лишь в отношении к
человеческим целям и интересам. Именно поэтому
философия есть знание о мире в его единстве с человеком, а не
в отрыве от него.
В философии марксизма мир в целом предстает
прежде всего как человеческий мир, как мир культуры, т. е. не
в своей натуральной, чувственно-природной и
безразличной к человеку данности, а в своей созданности,
произведенное™ человеком. Возражая Л. Фейербаху по поводу
его понимания чувственного мира, ограниченного лишь
рамками созерцания и ощущения, К. Маркс и Ф. Энгельс
писали: «...он не замечает, что окружающий его
чувственный мир вовсе не есть некая непосредственно от века
данная, всегда равная себе вещь, а что он есть продукт
промышленности и общественного состояния, притом в том
смысле, что это — исторический продукт, результат
деятельности целого ряда поколений...»41 Мир есть
«произведение» человека и как таковой он есть не столько явление
природы, сколько продукт культуры. Однако в
противоположность старому идеализму творцы марксизма
усматривали в мире продукт не духовной, а всей совокупной
общественной и прежде всего материальной деятельности
людей. Ставя своей задачей понять и отобразить мир в
конкретных формах материально-практической
деятельности людей, философия марксизма и решает проблему
его осмысления и истолкования как мира человеческой
культуры.
Еще раз подчеркнем главную мысль данного
исследования: философия, будучи знанием о мире в целом,
стремится придать ему такую идеальную, мысленную форму,
которая соответствовала бы реальному положению
человека в мире, потому как он осознает себя в той или иной
конкретной исторической ситуации. Она ищет в мире
327
ne то, что отделяет, обособляет его от человека, а то, что
/{елает его человеческим миром — миром, в котором
человек узнает и созерцает самого себя. Но тем самым она
пытается собственными средствами «очеловечить» мир,
представить его как мир культуры.
Только теперь можно поставить вопрос о
специфически философском понимании культуры. Такое понимание
имеет дело с культурой не как с особым объектом,
подлежащим специальному изучению (наряду, например,
с природой, обществом, человеком и т. д.) в границах
отдельной дисциплины, а как с всеобщей характеристикой
всего действительного мира. Весь мир в целом есть для
философии мир культуры, существующий в
непосредственном единстве с человеком. К какой бы области
действительности ни обращалась философия, она всегда
стремится усмотреть в ней человеческий смысл и
содержание, раскрыть ее значение для человека и тем самым
«вписать» ее в сферу культуры. Даже тогда, когда
философ обращается к природе, последняя интересует его не
с точки зрения физических, химических или
биологических характеристик (чем бы тогда философия отличалась
от «наук о природе»?), а с точки зрения ее человеческих
характеристик, т. е. как определенная культурная
ценность, если угодно, как «идея природы», имеющая для
человека культурный смысл. Целостность
философского видения мира в отличие от дифференцированного
подхода к нему со стороны конкретных наук как раз и
объясняется тем, что в философии мир берется в едином
контексте его культурного существования, т. е. со
стороны того, чем он является для человека, находящегося на
определенной ступени своего общественного и
исторического развития.
При таком понимании культура не имеет четко
выраженных и эмпирически фиксируемых границ, отделяющих
ее от других сфер деятельности. Она как бы постоянно
выходит за пределы любой натурально существующей
данности, любого естественного или социального
образования, любой предметно очерченной области
действительности. Будучи потенциально всем, она не может быть
сведена ни к какому отдельному виду природного или
общественного бытия. Как нельзя указать границы
познанию и творчеству человека (ибо человек есть существо,
постоянно выходящее за пределы любых границ), так
нельзя указать и границы культуре. В каждый отдельный
исторический отрезок времени она, конечно, имеет четко
328
фиксированный образ, но в масштабе всей человеческой
истории (а именно с такими масштабами приходится
иметь дело философии), т. е. с учетом ее прошлого,
настоящего и будущего, культура оказывается шире и
богаче любой своей исторически ограниченной формы.
Попытки выдать за сущность культуры ее особые
исторические «лики», которые она принимает в разные эпохи и у
разных народов, свидетельствуют об отсутствии именно
философского ее понимания, которое связывает с
культурой только одну характеристику, а именно: выраженное
в ней стремление к безграничности, к беспредельности,
к универсальности человеческого развития. Но такое
стремление мы можем приписать в мире только самому
человеку как практически действующему существу,
охватывающему своей деятельностью весь мир и
превращающему его в свой собственный мир. С этой точки зрения
культура совпадает с границами нашего собственного
существования в мире, с нашим специфически
человеческим бытием. Уровень универсальности, достигнутый
человеком в процессе материального и духовного освоения
мира, есть единственно возможный критерий для
выделения и обозначения сферы культуры. Данный критерий
задается всей общественно-исторической практикой людей,
обобщенно-теоретическим выражением которой и является
философия.
Философский подход к культуре позволяет усмотреть
в ней меру нашего собственного человеческого развития,
по которой мы определяем величину пройденного нами
исторического пути. Ведь только по культуре мы можем
судить о том, кем мы являемся в этом мире, каковы
границы и масштабы нашего существования в нем, что
значит вообще быть человеком. С философской точки зрения,
культура — не просто сумма вещей или идей, которую
надо только эмпирически выделить и описать, а вся
создаваемая человечеством предметная действительность,
воплощающая в себе наши собственные силы и
отношения. Любой фрагмент действительного мира — в той мере,
в какой он способен служить нам отражением, зеркалом
наших собственных исторически сформированных и
общественно развитых сил, нашего общественного «я»,—
становится неотъемлемым элементом культуры. Культура,
следовательно,— это весь мир, в котором мы
обнаруживаем, находим самих себя, который заключает в себе
условия и необходимые предпосылки нашего подлинно
человеческого, т. е. всегда и во всем общественного,
существования.
329
Такой подход к культуре противостоит любым
попыткам сводить ее к ограниченному и часто произвольно
выделенному классу элементов (например, только духовных
или только технологических), а ставит своей целью
представить весь мир как мир нашей собственной культуры.
Но тем самым он совпадает с реальным, действительным
отношением человека к миру, с его универсальным
присвоением мира в качестве условия своего собственного
всестороннего развития. В качестве общего вывода важно
еще раз подчеркнуть, что философское понимание
культуры соответствует не частной позиции исследователя,
стремящегося анализировать культуру под углом зрения
той или иной специализированной области знания, а
всеобщей — общественно-исторической и
социально-практической — позиции человека в мире, стремящегося
превратить его в «человеческий мир», в мир человека. Вот
почему философия культуры есть в конечном счете
философия самого человека, осознавшего себя в качестве
единственного источника, цели и результата всего
общественно-исторического развития, в качестве подлинного
демиурга действительного мира, изменяющего и преобразующего
его по законам истины, свободы, добра и красоты.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 1.
2 Там же. Т. 23. С. 189.
3 Там же. Т. 46, ч. 1. С. 47.
4 Философская энциклопедия. М., 1962. Т. 2. С. 236.
5 Ср. в «Немецкой идеологии»: «Отношение для. философа
равнозначно идее» (Маркс К., Энгельс Ф. Фейербах:
Противоположность материалистического и идеалистического воззрений. М.,
1966. С. 99). И еще четче: «...отношение, то, что философы
называют идеей...» (Там же).
6 Так, для Платона, согласно А. Ф. Лосеву, идея «есть смысл,
смысловая сущность и определение той или иной вещи, самый
принцип ее осмысления, ее порооюдающая модель. Ведь всякая
вещь, будучи сама собой, всегда нечто значит, т. е. имеет свою
собственную сущность, а платоновская идея как раз и
является приципом конституирования этой сущности вещи и,
следовательно, самой вещи, то есть смысловой моделью вещи» (А. Ф.
Лосев. История античной эстетики: Софисты. Сократ. Платой. М.,
1969. С. 158).
7 Мамардашвили М. К., Соловьев Э. 10., Швырев В. С. Классика и
современность: две эпохи в развитии буржуазной философии //
Философия в современном мире: философия и наука. М., 1973.
С. 38.
8 Там же.
9 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 38.
10 Там же. Т. 3. С. 16.
11 По словам Ю. П. Давыдова, «культура... есть выражение
человеческого отношения к природе, выражение человечности —
330
универсальности этого отношения. И мера этой человечности
(универсальности), обнаруженная в отношении к природе,
есть мера культуры, ее имманентный критерий, степень
соответствия культуры своему собственному понятию —
человечности (универсальности) отношения к природе и соответственно
к любому из природных определений самого человека»
(Давыдов Ю. II. Человек — культура — природа // Проблемы теории
культуры. М., 1977. С. 109).
12 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 43.
13 Там же.
14 Там же. Т. 23. С. 521.
15 Там же. Т. 42. С. 115.
16 Давыдов Ю. II. Указ. соч. С. 109.
17 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 81.
18 Там же.
19 Там же. С. 52.
20 Там же. С. 46, ч. 1. С. 473.
21 Там же. С. 478.
22 Там же. Т. 3. С. 65.
23 Там же. Т. 46, ч. 1. С. 481.
24 Там же. С. 44.
25 См.: Там же. С. 478.
26 По замечанию Б. С. Ерасова, традиционность «вытекает и из
самих производственных факторов, из характера
производительных сил, основанных в самом общем плане на преобладании
живого труда над овеществленным, естественных элементов над
преобразованными трудом, доиидустриальиых над
индустриальными и научно-техническими» (Ерасов Б. С.
Социально-культурные традиции и общественное сознание в развивающихся
странах Азии и Африки. М., 1982. С. 16).
27 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46, ч. 1. С. 475.
28 Там же. Т. 23. С. 89.
29 Там же. Т. 46, ч. 1. С. 475.
30 Там же. Т. 23. С. 89—90.
31 Ерасов Б. С. Указ. соч. С. 33.
32 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46, ч. 1. С. 47.
33 См.: Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1976. С. 164—165.
34 Аверинцев С. С. Древнегреческая поэтика и мировая
литература I/ Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981. С. 3.
35 Там же. С. 7.
36 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 87.
37 Там же. Т. 46, ч. 1. С. 44.
38 Там же. С. 485.
39 Там же.
40 «Когда я говорю: мы вынуждены смотреть на мир так, как если
бы он был творением некоего высшего разума и высшей воли,
я действительно говорю только следующее: так же как часы
относятся к мастеру, корабль — к строителю, правление — к
властителю, так чувственно воспринимаемый мир (или все то, что
составляет основу этой совокупности явлений) относится к
неизвестному, которое я хотя и не познаю таким, каково оно есть
само по себе, но познаю таким, каково оно есть для меня,
а именно по отношению к миру, часть которого я составляю»
(Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1963. Т. 4, ч. 1. С. 181).
41 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 42.
331
Т. И. Ойзерман
ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
«ТЕХНИЧЕСКОМУ» ПЕССИМИЗМУ
Тот факт, что материальное производство составляет
постоянное и необходимое условие существования
людей, вполне сознавали весьма далекие от
марксизма мыслители. Природа, полагали они, немногое
предоставляет людям в готовом виде. Производство обычно
рассматривалось этими мыслителями как внешняя, мы бы
сказали, досадная необходимость, без которой, увы,
невозможно обойтись. Такое воззрение не столь уж
существенно отличается от ветхозаветного представления,
согласно которому потомки Адама и Евы были обречены
на тягостный труд в наказание за первородный грех.
Лишь немногие домарксовские философы
приблизились к научному пониманию действительного сущностного
значения труда в человеческой жизни. Гегель, отмечает
Маркс, «рассматривает труд как сущность, как
подтверждающую себя сущность человека...»1. Однако и у Гегеля
всемирная история развертывается по ту сторону
материального производства, развитие которого, по сути дела,
не интересует философа. «Все прежнее понимание
истории,— указывают в этой связи основоположники
марксизма,— или совершенно игнорировало эту действительную
основу истории, или же рассматривало ее лишь как
побочный фактор, лишенный какой бы то ни было связи
с историческим процессом»2. Это исключение истории
производительных сил из всемирной истории является, как
мы увидим далее, одной из предпосылок идеологии
«технического» пессимизма.
С точки зрения исторического материализма',
общественное производство есть та совместная деятельность
масс людей, благодаря которой люди творят свою
собственную историю. Не только антропологическое
становление человека, но и все последующее развитие
человеческого рода обусловлено становлением и развитием
материального производства. Последнее есть не просто
изготовление полезных вещей, но и производство потребностей
и способностей самого человека, так же как и
производство многообразных форм общения, взаимодействия
людей. Именно производственные отношения, которые
марксизм рассматривает не как технико-технологические, а как
общественные отношения, социальную форму производ-
332
ства, обусловленную уровнем и характером развития
производительных сил, определяют в конечном счете все
историческое многообразие политических и
идеологических институтов, а также духовную культуру общества.
Исторический оптимизм марксизма, марксистское
понимание объективной обусловленности социального
прогресса развитием производительных сил общества,
высокая оценка поступательного развития производительных
сил как основного критерия социального прогресса — все
эти черты материалистического понимания истории
неразрывно связаны друг с другом. Следует, однако,
подчеркнуть, что внутренне присущее марксизму оптимистическое
понимание исторических перспектив общественного
развития принципиально несовместимо с однозначной
интерпретацией развития производительных сил, так же как
и с игнорированием противоречивости этого процесса.
Исследование антагонистического характера
капиталистического прогресса является, как известно, одной из
основных научных заслуг Маркса и Энгельса.
Основоположники марксизма вскрыли
антагонистическое единство противоположных социальных процессов:
овладение стихийными силами природы и порабощение
человека человеком. Они доказали, что при капитализме
развитие самодеятельности индивидов обусловлено
господством стихийных сил общественного развития над
людьми. Капиталистический способ производства,
постоянно воспроизводя социальные предпосылки своего
существования, непрерывно деформирует, ухудшает и
разрушает естественные условия человеческой жизни,
хищническая эксплуатация которых является одним из условий
капиталистического прогресса. Но Маркс и Энгельс не
делали пессимистических выводов из этого исследования
социальных антагонизмов: они доказали, что капитализм
(а с ним и антагонистический характер социального
прогресса) является исторически преходящей фазой
развития человечества.
Современники Маркса и Энгельса, видевшие в
капитализме абсолютную, единственно возможную (во всяком
случае, в цивилизованном обществе) систему
производства, единодушно отвергли марксистское положение об
антагонистическом характере капиталистического
прогресса, несмотря на всю очевидность подтверждающих его
фактов. В те времена буржуазные идеологи апеллировали
к будущему, которое представлялось им расширенным
и улучшенным переизданием капиталистического настоя-
333
щего. Эти идеологи утверждали, что негативные
последствия капиталистической индустриализации так же
преходящи, как и другие, свойственные буржуазному
обществу «аномалии». Все это, полагали они, будет устранена
путем дальнейшего прогресса и совершенствования
производства.
Буржуазные идеологи XIX в. непоколебимо герили в
вечность капиталистического строя и беспредельное
развитие производительных сил, разумеется, на
капиталистической основе. В наше время они вынуждены
пересматривать эти догматические убеждения: слишком уж очевиден
конфликт между созданными капитализмом
производительными силами и частнособственническими
производственными отношениями. «Техника капитализма,— писал
В. И. Ленин,— с каждым днем все более и более
перерастает те общественные условия, которые осуждают
трудящихся на наемное рабство»3. Удивительно ли, что
идеологи современной буржуазии в отличие от либералов
прошлого века все чаще и чаще выступают против
«необузданного» развития производительных сил, призывая
обуздать научно-технический прогресс?
В ракурсе современного «технического» пессимизма
марксизм представляется технологической концепцией
всемирно-исторического процесса, абсолютизирующей
производительные силы. Марксизм, утверждает католический
иррационалист Я. Хоммес, представляет собой «учение-
о технике как одной из форм эроса», «абсолютный
индустриализм», отождествляющий научно-технический
прогресс с имманентным движением человеческого бытия.
А1аркс, заявляет Хоммес, является пророком
«технического эроса», обосновывающим «экстатическое господство
производительных сил»4.
В этих искажающих материалистическое понимание
истории утверждениях четко проявляется реакционная
сущность идеологии «технического» пессимизма, которая
противопоставляет современному научно-техническому
прогрессу иррационалистическую концепцию
человеческого бытия. Марксизм истолковывается как некритическая
философия техники и подвергается осуждению с позиций
религиозного иррационализма.
Чтобы рельефнее подчеркнуть основные тенденции
религиозной интерпретации научно-технического
прогресса, сошлемся на другого католического философа, Ф. Дес-
сауэра, который в отличие от Хоммеса непосредственна
связывает «дехристианизацию» современного буржуазного
334
общества с научно-техническим прогрессом, с этой, по его
выражению, «концентрацией человеческой мощи, не
только отчужденной от бога, но и непосредственно
направленной на то, чтобы низвергнуть бога и возвести па
божественный престол человека»5.
Ф. Дессауэр изображает развитие производительных
сил человечества как всемирно-историческое продолжение
борьбы мифологического Прометея против всемогущего
Зевса. «Мы несем в себе наказание Прометея»,— пишет
Дессауэр, имея, конечно, в виду бремя первородного
греха 6. «Прометей,— продолжает он в другом месте
цитируемой книги,— занял место бога»7. А вот и конечный вывод:
«Дух нагорной проповеди все же выше духа Прометея»8.
Мы намеренно остановились на
религиозно-философской интерпретации современного научно-технического
прогресса, так как именно она в силу своей органической
связи с библейскими эсхатологическими мотивами
непосредственно указывает на предысторию новейшего
«технического» пессимизма. А поскольку в наше время эта
идеология сплошь и рядом выступает как иррелигиозное
учение, занимающееся по видимости научным анализом
негативных последствий научно-технической революции,
рассмотрение ее исторического прошлого безусловно
необходимо для правильной оценки этого специфического
феномена духовной культуры буржуазного общества.
«Технический» пессимизм исторически складывается в
эпоху разложения феодализма, когда развившиеся внутри
этого общества новые производительные силы вступают
в конфликт с цеховой организацией ремесленного
производства, с феодальным землевладением, крепостничеством
и т. п. Социальные группы, противостоящие развитию
производительных сил, обретают свое
социально-психологическое выражение в технофобии. Страх перед
революционными техническими преобразованиями оказывается,
как нетрудно понять, лишь упорным стремлением
сохранить исторически изжившие себя общественные
отношения производства. И господствующие сословия
феодального общества преследуют не только «ведьм», «колдунов»,
еретиков, но также изобретателей, которые тоже
считаются людьми, вступившими в интимную связь с нечистой
силой. Ф. Меринг в работе «Исторический материализм»
рисует впечатляющую картину совершенно непонятной
на первый взгляд расправы с замечательными
изобретателями этой эпохи, провозвестниками грядущего научно-
технического прогресса. Немецкий ремесленник А. Мюл-
335
лер, изобретший примерно в 1529 г. новый ткацкий
станок, значительно превосходивший по своей
производительности старые станки, был по распоряжению городских
властей посажен в тюрьму, где его тайком умертвили,
а станок уничтожили. Почти столь же трагичной была
судьба Д. Папина, одного из первых изобретателей
паровой машины. Как подчеркивает Ф. Меринг,
идеалистическое понимание истории не способно объяснить
многочисленные факты ожесточенной борьбы против технического
прогресса, характерные для критических, переломных
периодов всемирной истории. Эти факты объясняет лишь
материалистическое учение о противоречиях между
производительными силами и социальной формой их
развития — производственными отношениями.
Идеология «технического» пессимизма, особенно в
своем первоначальном виде, тесно связана с оправданием
и защитой ремесленного, ручного труда и рутинных,
застойных форм производства, с интересами тех слоев
трудящихся, которым капиталистический прогресс несет
разорение и пролетаризацию. Некоторые черты этой
идеологии проявляются и в XIX в., например в прудонизме.
Как отмечал Энгельс, «всему прудонизму свойственна
реакционная черта — отвращение к промышленной
революции и то явно, то скрыто выраженное стремление
вышвырнуть вон всю современную промышленность,
паровые машины, прядильные машины и прочие напасти и
вернуться к старому, надежному ручному труду»9.
Не случайно, конечно, главным объектом
романтической критики капитализма становятся машины. Их
гневно обличают не только идеологи господствующих
феодальных сословий, но и мелкобуржуазные
теоретики-утописты, учения которых нередко фиксируют
действительные антагонизмы капиталистического прогресса. Против,
машин выступают и пролетарии (луддитское движение) г
поскольку они еще не проводят различия между
машинами и их капиталистическим применением.
Таким образом, уже на заре капитализма
«технический» пессимизм становится своеобразным массовым
сознанием, которое лишь после промышленной революции
конца XVIII — начала XIX в. вытесняется все более
утверждающимся убеждением в безусловной
необходимости и благодетельности технического прогресса.
Носителем такого сознания становится прежде всего либеральная
буржуазия. Что же касается консервативных слоев, то
они долго еще остаются на старых идеологических пози-
336
циях. Так, еще в 30-х годах прошлого века католические-
иерархи предавали анафеме незадолго до этого
изобретенный Стефенсоном паровоз. Этот исторический анахронизм
свидетельствовал не только об особой консервативности
религиозной идеологии, но и том, что традиции
антитехницизма находят себе новую питательную почву в эпоху
расцвета капиталистического способа производства,
поскольку именно в эту эпоху отчетливо проявляются
присущие буржуазному обществу классовые антагонизмы и
становится еще более очевидным, что капиталистический
прогресс оплачивается слишком дорогой ценой:
господством стихийных сил общественного развития над
людьми, отчуждением человека, отчуждением природы.
Буржуазной идеологии всегда было свойственно
объяснять порождаемые капитализмом социальные бедствия
причинами, которые не имеют к нему непосредственного*
отношения. Машина, разумеется, не является
экономической категорией. И «технический» пессимизм,
мистифицирующий машинное производство, которое тем самым
превращается в первоисточник социального зла,
оказывается вследствие этого весьма утонченной, опосредованной
апологией капиталистического строя. С этих позиций
необходимо оценивать объективное социальное
содержание современного философского антитехницизма, которое
существенно отличается от его субъективной,
фиксирующей действительные негативные последствия научно-
технического прогресса формы выражения и
аргументации. Так, Г. Риккерт в полемике с иррационалистической
«философией жизни» совершенно неожиданно
высказывается вполне в духе критикуемого им учения:
«Техническим изобретениям радуются как таковым, не отдавая
себе отчета в том, какие цели ими в сущности
преследуются. Гордятся чудовищными современными машинами,,
которые при более точном рассмотрении обнаруживают
часто лишь бедствие современной культуры, являются,
значит, необходимым злом»10. Основной смысл этого
довольно противоречивого заявления маститого
реакционного философа, вполне свободного от феодальных (и
мелкобуржуазных) антитехницистских суеверий и связанных
с ними консервативных упований, сводится к
безапелляционному утверждению: бедствие современной культуры
есть необходимое зло. Такая постановка вопроса жестко
отграничивает буржуазный «технический» пессимизм от
феодального (и мелкобуржуазного) антитехницизма.
Отличие в высшей степени существенное! И заключается:
22 Заказ № 667
337
оно вовсе не в том, что буржуазная критика
научно-технического прогресса (хотя бы уже потому, что она не
может игнорировать его выдающиеся позитивные
результаты) носит умеренный характер. Совсем наоборот, эта
критика, особенно в эпоху общего кризиса капитализма,
отнюдь не отличается умеренностью, рассудительностью.
Она сплошь и рядом становится истеричной, как это
характерно, например, для О. Шпенглера, который свыше
полувека назад писал: «Машина — дело рук дьявола»11.
В другой своей книге, вышедшей накануне фашистского
переворота в Германии, Шпенглер, повторяя те же
«средневековые» идейки относительно машины, которая якобы
«влечет поверженного победителя к смерти»,
истерически вещал вполне в духе идеологической демагогии
фашизма: «Мы — дети своего времени и должны смело идти
до конца, который предопределен нам. Ничего другого
не остается. Отстаивать проигранные позиции без
возможности спасения — в этом долг»12. Социальный смысл
приведенных высказываний Риккерта и Шпенглера, вопреки
их демонстративному антитехницизму, достаточно
очевиден: буржуазия, разумеется, не думает отказываться от
научно-технического прогресса, но она стремится снять
с себя ответственность за его социальные последствия.
Буржуазия вынуждена развивать производительные силы,
несмотря на то, что это уже подрывает капиталистические
производственные отношения. Капиталисты наживаются
на научно-технической революции, но вместе с тем
страшатся ее дальнейшего развития, угрожающего
существованию капитализма.
Предыстория буржуазной идеологии «технического»
пессимизма, которой мы бегло коснулись, разумеется,
не может объяснить его порожденного современной
эпохой содержания. Исторический экскурс подсказывает
вывод, что идеологическая форма современного
антитехницизма во многом заимствована из прошлого. Но его
антитехницистский пафос, несомненно, отражает
противоречия новейшей стадии научно-технического прогресса.
Современная научно-техническая революция достигает,
казалось бы, невозможного. Это рождает не только
надежды, но и опасения: умножаются негативные
последствия стремительно развивающегося производства.
Идеология «технического» пессимизма фиксирует это
противоречие и делает из него далеко идущие
мировоззренческие выводы. Следует поэтому отделять факты, на которые
ссылаются ее представители, от философского и со-
338
циологического истолкования, опирающегося на
определенные традиции, теоретические постулаты и социально-
психологические установки. Марксистско-ленинская
критика «технического» пессимизма, доказывая
необоснованность его мировоззренческих выводов, систематически
анализирует факты, которые им превратно интерпретируются,,
ибо только основательное теоретическое исследование
всей совокупности фактических данных указывает пути
решения вопросов, которые эта идеология оставляет^
по существу, без ответа, объявляя их принципиально
неразрешимыми. Но прежде всего — таково предварительное
условие научной критики идеологии «технического»
пессимизма — необходимо отличать действительное
исследование противоречий и негативных последствий научно-
технической революции от их буржуазной идеологической
мистификации. Людям действительно начинает уже не
хватать свежего воздуха и чистой воды. Сотни миллионов
тонн различных загрязнений выбрасываются ежегодно в
атмосферу. Более половины этого выброса загрязняющих
веществ приходится на долю автомобилей и тепловых,
электростанций. Несмотря на принимаемые меры,
загрязнение воздушного бассейна возрастает, как об этом
свидетельствуют статистические данные. Серьезная опасность,
угрожает не только атмосфере, но и водам. Вода, как
известно, является основным геологическим фактором..
В наше время в результате многообразной, но прежде
всего производственной деятельности человечества таким
фактором становятся также и сточные воды. Один литр
такой загрязненной воды делает непригодным для питья
тысячи литров чистой пресной воды. А между тем масса
сточных вод, образующих отходы производства, равна
примерно Амазонке — самой многоводной реке на нашей
планете.
Хотя вода и отличается благодаря населяющим ее
микроорганизмам замечательной способностью
обезвреживать губительные для жизни химические вещества, эта
способность отнюдь не беспредельна. Уменьшается масса
планктона, играющего громадную роль в восстановлении
кислорода атмосферы, а также в питании рыб. Дж.
Хаксли с тревогой констатирует, что ежегодно более 100
кубических километров различных и большей частью
вредных для жизни веществ выбрасывается в воды земного
шара. Немногим более двадцати лет назад началось
применение ДДТ, значение которого для борьбы с
вредителями сельского хозяйства общеизвестно. Однако это силь-
339
но действующее вещество отравляет воды и населяющие
их живые организмы. Идут поиски заменителя ДДТ,
а тем временем даже в Антарктиде, где никогда ДДТ не
применяли, выпало вместе с осадками свыше двух тысяч
тонн этого вещества.
Содержащиеся в фосфатных удобрениях
незначительные примеси ртути и мышьяка, постепенно накапливаясь
в озерах, реках и морях, усваиваются микроорганизмами
и поедающими их рыбами. В некоторых закрытых
водоемах примесь соединений ртути достигает половины
процента, что составляет уже смертельную дозу для человека.
Если насыщение вод этими ядовитыми соединениями
будет продолжаться такими же темпами еще полвека, то не
только все рыбное богатство нашей планеты будет
непригодным для питания людей, но и очистка пресной воды
станет сложнейшей технической и экономической
проблемой.
Наша планета, по образному выражению Тура Хейер-
дала, представляет собой «не что иное, как одинокий кос^
мический корабль, не имеющий ,,выхлопной" трубы.
У нас нет ни достаточно высоких дымоходов для
выбрасывания в космос вредоносных испарений, ни достаточно
протяженных систем стока для отвода загрязненных вод
за пределы Мирового океана»13. Иными словами, Земля
является замкнутой экологической системой, т. е. то
обстоятельство, что она образует частицу бесконечной
Вселенной, не сказывается, во всяком случае
непосредственно, на ее экологическом статусе.
Таковы факты, и они, разумеется, не случайны.
Материальное производство — социальный процесс, который
вместе с тем, в силу присущих ему технологических
характеристик (механических, физических, химических и
т. д.), подчиняется и законам природы. И хотя ни
природа вне нас, ни наша собственная природа не определяют
характера общественной жизни, они принимают в ней,
можно сказать, самое непосредственное участие. Мы,
люди, не находимся вне природы, и, как говорил Энгельс,
«нашей плотью, кровью и мозгом принадлежим ей»14.
Производство есть специфический, можно, пожалуй,
сказать, социоприродный процесс. Это значит, что единство
человека и природы, которое осуществляется посредством
общественного производства, образует вместе с тем и
первоначальные, естественные, но преобразуемые развитием
общества предпосылки общественного производства.
Последнее не только не отменяет законов природы, но само
340
образует, именно в качестве технологического процесса,
социальную форму их функционирования. Но социальная
форма производительной деятельности людей обусловлена
не законами природы, а уровнем развития
производительных сил. Налицо, таким образом, весьма сложное,
противоречивое взаимоотношение противоположностей
природного и социального.
Природные условия — первичные предпосылки
целесообразной деятельности людей, в ходе которой люди
преобразуют эти условия и притом не только сознательно,
целесообразно, планомерно, но и стихийно, т. е. не
осознавая, не контролируя ближайших, а тем более
отдаленных последствий своей деятельности. В процессе
общественного производства люди добиваются результатов,
которые составляют их цели. Но вследствие зависимости
процессов производства от законов природы результаты
производительной деятельности заключают в себе и нечто
иное, кроме овеществленных в них человеческих целей.
Эти непредусмотренные, незапланированные последствия
целесообразной человеческой деятельности не являются
ни непознаваемыми, ни непредотвратимыми.
Следует, однако, иметь в виду, что система
«общество — природа» образует противоречивое единство, в
частности потому, что законы функционирования природы и
общества качественно различны. Но люди познают законы
природы и, действуя в согласии с ними, удовлетворяют
свои потребности, осуществляют свои цели. Характер
человеческих потребностей и целей, в свою очередь,
обусловлен наличными производительными силами и
соответствующими им производственными отношениями.
Развитие производительных сил и всего общества в целом
обуславливает постоянное обогащение системы
потребностей и целей, которые постепенно начинают включать в
свой состав не только производство определенных вещей,
но и сохранение, а также улучшение тех естественных
условий, которые необходимы для жизни людей.
С научно-технической точки зрения современное
общественное производство, несомненно, может быть
организовано таким образом, чтобы обеспечить полное
использование или обезвреживание своих отходов. Однако такая
всесторонняя рационализация производства экономически
невыгодна и в значительной степени неосуществима в
частнособственнической системе экономики. И хотя в
настоящее время капиталисты (не говоря уже о
правительствах капиталистических государств) осознают, какую
341
угрозу существованию общества представляют
применяемые ими методы производства, законы
капиталистического бизнеса оказываются могущественнее права, морали,
гуманизма. «Защита природы,— трезво констатирует
французский исследователь Ф. Сен-Марк,— это прежде всега
политическая проблема»15. И, развивая свою мысль, Сен-
Марк приходит к вполне логичному выводу:
«Социализировать природу — вот сегодня единственный шанс спасти
жизнь на Земле»16. Это значит, что частная собственность
на природные объекты должна быть заменена
общественной, общенародной, поддающейся эффективному контролю
собственностью. Следует подчеркнуть, что это не
абстрактное гуманистическое требование, а констатация
действительной тенденции общественного развития, реальной
исторической перспективы, которая осуществляется в ходе
строительства бесклассового коммунистического общества,,
как об этом свидетельствует исторический опыт СССР и
других социалистических стран.
Социализм есть первая, низшая фаза
коммунистической формации, в силу чего при социализме задача
развития производства «в гармонии с познанными законами
природы»17 еще не может быть разрешена в полном
объеме. Капиталистический способ производства на
протяжении столетий своего существования создавал такие
материально-технические условия и технологические формы
развития производства, которые, обеспечивая минимум
трудовых затрат для получения максимума прибыли,
закономерно вызывали и вызывают разрушение
окружающей природной среды. Уничтожение капиталистической
формы развития производительных сил не означает,,
разумеется, ликвидации ее материально-технического
базиса, который становится исходным пунктом
социалистического переустройства общества и, следовательно, может
быть преобразован лишь в ходе последующего развития
социалистического строя благодаря созданию более
высокой, чем при капитализме, производительности труда.
Таким образом, материально-техническое наследие
капитализма надолго еще переживает этот осужденный
историей общественный строй. Характеризуя низшую фазу
коммунизма, Маркс писал: «Мы имеем здесь дело не с
таким коммунистическим обществом, которое развилось
на своей собственной основе»18. И это особенно относится
к социалистическим странам, начавшим переход от
капитализма к социализму в условиях технико-экономической
отсталости, преодоление которой, во всяком случае
342
в период становления нового строя, в значительной
мере сводится к освоению передовой капиталистической
техники.
Не следует полагать, что историчность техники
выражается лишь в уровне ее развития, в большем или
меньшем ее совершенстве и т. д. Она проявляется также и в
социальных характеристиках техники. И это позволяет
говорить не только о рабовладельческой и феодальной,
но также и о капиталистической технике. Маркс
подчеркивал, что общественно-экономические формации
различаются не только тем, что производится, но и тем, как
производится, какими орудиями труда. Создание
материально-технической базы коммунизма и, следовательно,
дальнейшее углубление коренной противоположности
социализма капитализму — таковы пути установления
полной гармонии между общественным производством и
законами природы. Само собой разумеется, что такая
фундаментальная перестройка общественного производства
означает далеко не в последнюю очередь пересмотр всей
системы целей, не говоря уже о создании новых отраслей
производства, непосредственной задачей которых
становится регенерация, воспроизводство, улучшение условий
человеческого обитания. С точки зрения долговременных
интересов производства и общества в целом, интересов,
значение которых полиостью выявляется в результате
коммунистического преобразования общественных
отношений, всесторонний учет экологических факторов
оказывается не только необходимым, но и экономически
перспективным, рентабельным.
Буржуазный, реакционный характер идеологии
«технического» пессимизма наглядно проявляется в том, что
она совершенно игнорирует качественное отличие
социализма от капитализма и переносит на социалистическое
общество основные характеристики капиталистического
прогресса. Для этой идеологии существует лишь
«индустриальное общество», «техническая цивилизация»,
законы которой объявляются независимыми от социальной и
экономической структур общества. Общественные
отношения характеризуются как производные от
технико-технологических. При таком подходе к развитию общества даже
эмпирическое описание негативных последствий научно-
технической революции нередко превращается в их
мистификацию.
С точки зрения «технического» пессимиста техника
является спонтанной стихийной силой, которая лишь по ви-
343
димости служит человеку, но в действительности
порабощает его. Тот факт, что производство предполагает
подчинение его участников ими же установленному
технологическому режиму, истолковывается как превращение
человека в «технического», деперсонализированного
субъекта. «Техника материалистична,— заявляет один из
философов иррационалистического толка,— она отчуждает
человека, оболванивает его, угрожает его поглотить»19.
Истолкование философского материализма как
мировоззренческого выражения технологического процесса
обнаруживает идеалистическую подоплеку «технического»
пессимизма, который извращает органическую связь
материалистической философии с опытом, практикой и
разумеется, производством. Что же касается сведения
порождаемого капитализмом отчуждения к сущности
технологического процесса, то оно лишь подчеркивает
апологетический характер идеологии «технического» пессимизма,
которая культивирует страх перед изменением природы,
выдавая его за безответственное отношение к ужасающей
действительности. Преобразование природы при этом
изображается как самонадеянное и, в сущности,
некомпетентное вмешательство в непостижимые природные
механизмы, а господство человека над стихийными природны-
им силами как пиррова победа. Производство, основанное
на научных открытиях, характеризуется как
авантюристический экспансионизм человеческого разума. Всякое
стремление перестроить условия человеческого
существования на разумных началах третируется как фактическое
уничтожение этих условий. Разум, заявляют
«технические» пессимисты, может быть только технологическим,
функциональным, практически ориентированным разумом;;
его якобы непреодолимая «одномерность» ослепляет
человека. Таким образом, идейной основой этой
трансформировавшейся в новейшее философское мировоззрение
технофобии является философский иррационализм.
Теоретики «технического» пессимизма призывают
отбросить наивные просветительские иллюзии. Человек,
уверяют они, отнюдь не господствует над стихийными силами
природы, вовлеченными в общественное производство.
Объектом господства является сам человек. Но что же
господствует над ним? На этот вопрос обычно не дается
ответа. Некоторые философы, правда, превращают
Господство (с большой буквы!) в онтологическую категорию, в
некую самодовлеющую действительность, подавляющую
человека.
344
Было бы опасным легкомыслием преуменьшать
негативные последствия той специфической формы научио-
техиичеакого прогресса, которая исторически связана с
капиталистическим способом производства и будет
полностью преодолена путем создания материально-технической
базы коммунизма. Но увековечивать эти противоречия, как
это делают теоретики «технического» пессимизма, значит
признавать их фатально неизбежными, непреодолимыми и
в настоящем и в будущем. Такого рода выводы лишь но
видимости основываются на фактах. Их действительный
источник составляет современная буржуазная идеология,
которая исключает всякую социальную альтернативу
капитализму и поэтому изображает негативные
последствия научно-технического прогресса как фатальное
выражение трагической диалектики, в силу которой прогресс
будто бы уничтожает свою основу. Между тем, как
свидетельствует исторический опыт, научно-техническая
революция создает (могущественные средства предотвращения
и преодоления своих негативных последствий. Именно в
этом, в частности, заключается диалектика научио-техни-
чеакого прогресса.
Иеремиады «технических» пессимистов поражают не
только своей непререкаемостью (и это несмотря на явный
агностицизм, который провозглашается высшим
требованием научности и выражением интеллектуальной
честности ученого), но и недвусмысленным фатализмом,
безапелляционно наст айв ающим на однозначной определенности
будущего настоящим. Чем объяснить, что мыслители,
третирующие детерминизм как рационалистический
предрассудок, проповедуют, в сущности, предетерминизм? Не
скрывается ли за такой философией техники нечто
большее, чем факт, на который настойчиво указывают и из
которого делаются основные выводы? Мы имеем в виду
факты, о которых умалчивают: неспособность
капитализма, именно капитализма, а не общества, человечества
вообще, покончить с развившимися в его лоне
трагическими противоречиями. Однако то, о чем умалчивают
апологеты частной собственности на средства производства,
высказывают прогрессивные мыслители, зачастую
независимо от своей конкретной политической ориентации. Так,
американский ученый Б. Коммонер заявляет: «Мы
должны принять наконец разумное решение: развивать
производство не ради личной выгоды, а для блага народа; не
для эксплуатации одних людей другими, а во имя
равенства всех людей; не для создания оружия, которое губит
345
Землю и людей и угрожает миру катастрофой, а ради
желания каждого человека жить в гармонии с природой
и в мире со всеми людьми на Земле»20.
Б. Коммонер — не коммунист. Но марксисты,
коммунисты солидаризируются с ним, так как он обосновывает
гуманистическую экологическую программу.
Идеология «технического» пессимизма в отличие от
научного исследования действительных противоречий науч~
но-технического прогресса представляет собой систему
иррационалистических убеждений, весьма родственных
телеологии. Указывая на нарушения человекам
экологического равновесия в природе, теоретики «технического»
пессимизма создают впечатление, будто бы природные
процессы идеально сбалансированы и лишь вмешательства
человека вызывает эрозию почвы, вымирание животных,
обмеление рек, высыхание морей, исчезновение лесов и т. д.
Согласно логике этих рассуждений, возвращающих нас к
наивным концепциям «натюризма», все, что «делает»
природа,—хорошо, а все, что создается человеком,— плохо;
природа никогда не заблуждается, не совершает
«аморальных» поступков и т. д. и т. п. Между тем научные данные
и повседневный опыт целиком опровергают это
одностороннее представление о процессах, совершающихся в природе.
Убеждение, будто бы разрушительные процессы в живой
природе происходят лишь вследствие интервенции
человечества, явно ненаучно, так как оно приписывает природе
какую-то однозначную направленность, игнорируя
гетерогенность, противоречивость совершающихся в ней
процессов и изменений.
Телеологические рассуждения сторонников
«технического» пессимизма основываются на догматическом
противопоставлении изменению природы ее сохранения. Но
изменение природы — всеобщий закон, который
осуществляется отнюдь не по принципу «от лучшего к худшему».
Отождествление изменения (и развития) с деградацией
есть не что иное, как давно известная концепция крайнего
консерватизма, которая в данном случае экстраполируется
на природу. Все это напоминает обыденные
разглагольствования вроде того, что жили же люди в течение многих
тысячелетий, не имея того, чем они располагают теперь, и,
наверно, были не менее счастливы, здоровы и т. д. При
этом, однако, никто не предлагает отказаться от
канализации, достижений медицины, телевидения и т. п.
Телеологический подход к природным процессам
нередко прикрывается экологической терминологией, хотя он
346
глубоко чужд науке и состоит лишь из заверений, что
природа все устроила очень мудро, а человек разрушает
природную гармонию. Если последовательно развивать эти
тезисы, то легко прийти к выводу, что великим
заблуждением человечества является уничтожение клопов,
тараканов, вшей, а также микробов, вызывающих чуму, холеру,
черную оспу, малярию и многие другие болезни. Ведь все
эти вмешательства человека в естественный ход событий,
несомненно, нарушали многообразные взаимосвязи,
регуляции, компенсации и т. д.
Телеология, которая оказывается скрытой основой
технофобии, выдает непостижимую для обыденного
сознания взаимосвязь природных процессов за их идеальную
организацию. Человечество осуждается на
бездеятельность. Ведь в таком случае человек не может ничего
улучшить, а ухудшить, как показывает опыт, он, увы,
многое может. Между тем именно человек (а не природа)
создал современные высокопродуктивные породы
фруктовых деревьев, сельскохозяйственных растений, животных
и т. д. Все это было явным вмешательством в жизнь
природы, преобразованием природных процессов в интересах
человечества. Биосфера сохраняется не вопреки
происходящим в ней и во всей природе изменениям, а благодаря
этим изменениям. Изменение биосферы есть
специфическая форма ее сохранения путем воспроизводства.
Следовательно, и сохранение биосферы, и ее целесообразное
преобразование в интересах человечества неразрывно
связаны друг с другом.
Подведем итоги. Реакционность идеологии
«технического» пессимизма состоит вовсе не в том, что она
преувеличивает негативные стороны научно-технического
прогресса. Борьба с определенным социальным злом, с
реальной, все возрастающей угрозой, масштабы которой не
могут быть заранее полностью установлены, закономерно
порождает некоторые преувеличения, которые иной раз
служат даже на пользу делу, поскольку они приковывают
внимание к угрожающей опасности, мобилизуют силы для
борьбы против нее. Реакционная сущность идеологии
«технического» пессимизма таится в том, что она
отождествляет исторические судьбы человечества с судьбою
капиталистического способа производства. Поэтому
идеология «технического» пессимизма оказывается в конечном
счете весьма утонченной социальной демагогией, которая
под флагом высшего, общечеловеческого гуманизма
пытается утверждать, что борьба между трудом и капиталом,
347
антиимпериалистические движения народов Азии,
Африки, Латинской Америки — все это-де утеряло всякий
смысл перед лицом угрожающей человечеству
экологической катастрофы. Но все дело в том, что именно
капитализм является главным виновником прогрессирующего
ухудшения естественных условий обитания человечества.
Исторический материализм, теоретически
подытоживающий тысячелетия человеческого опыта, доказывает, что
люди сами делают свою историю, ибо только люди —
следующие одно за другим поколения людей — создают и
изменяют объективные условия, которые решающим
образом определяют физиономию общества на каждом этапе
его развития. И настоящая гуманистическая
озабоченность вопросами сохранения и улучшения естественных
условий существования человечества не имеет ничего
общего с культивированием страха и отчаяния. Идеология
«технического» пессимизма обезоруживает человека перед
лицом действительной и, несомненно, возрастающей
опасности. И преодоление этой опасности, безусловно,
предполагает научную критику мистификаций
научно-технического прогресса.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956. С. 627.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 38.
3 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 23. С. 95.
4 Hommes J. Der technische Eros. Freiburg, 1955. S. 23—24, 496.
5 Dessauer F. Streit um die Technik. Frankfurt a/M. 1956. S. 241—
242.
6 Dessauer F. Prometheus und das Weltübel. Frankfurt a/M. 1959.
S. 176.
7 Ibid. S. 14-15.
8 Ibid. S. 193.
9 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 18. С. 216.
10 Риккерт Г. Философия жизни. Пг., 1922. С. 145.
11 Шпенглер О. Деньги и машина. Пг., 1922. С. 66.
12 Spengler О. Der Mensch und die Technik. В., 1931. S. 88—89.
13 См.: Коме, правда. 1972. 22 июля.
14 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. Ö. 496.
15 Сен-Марк Ф. Социализация природы. М., 1977. С. 57.
16 Там же. С. 421.
17 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 117.
18 Там же. Т. 19. С. 18. , 1 . п т
19 Caruso J. A. Crise du monde technique et psychologique // La
technique et l'homme. P., 1960. P. 59.
20 Коммонер В. Технология прибыли. M., 1976. С. 106.
СОДЕРЖАНИЕ
37
Предисловие 3
Теория культуры: историзм и вопросы методологии
(Вместо введения) 5
A. И. Арнольдов
ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ
КОНТЕКСТ КУЛЬТУРЫ
Научное позиаиие как феномен культуры 28
B. А. Лекторский
Трансформации философского сознания в культуре
нового времени
В. В. Лазарев
К. Маркс о культурно-историческом процессе 75
В. А. Карпу шин
КУЛЬТУРА И ЧЕЛОВЕК
Социальные связи человека в культуре 90
Г С. Батищев
Человеческая субъективность и культура 135
M. M. Шибаева
Пространство и время «человека культуры» 167
В. А. Кругликов
КУЛЬТУРА И ЯЗЫК
ФИЛОСОФСКОГО СОЗНАНИЯ
Европейские образы Пространства и Времени 198
Г. Д. Гачев
Космогонические образы мира: между Западом и
Востоком . 227
К. Г. Мяло
Образы мира в культуре: встреча Запада с Востоком
Т. П. Григорьева 262
КУЛЬТУРА И ПРИРОДА
В АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННОСТИ
Культура как проблема философии 300
В. M. M ежу ев
Гуманистическая альтернатива «техническому»
пессимизму . 332
Т. И. Ойзерман
КУЛЬТУРА,
ЧЕЛОВЕК
И КАРТИНА МИРА
Утверждаю к печати
Институтом философии АН СССР