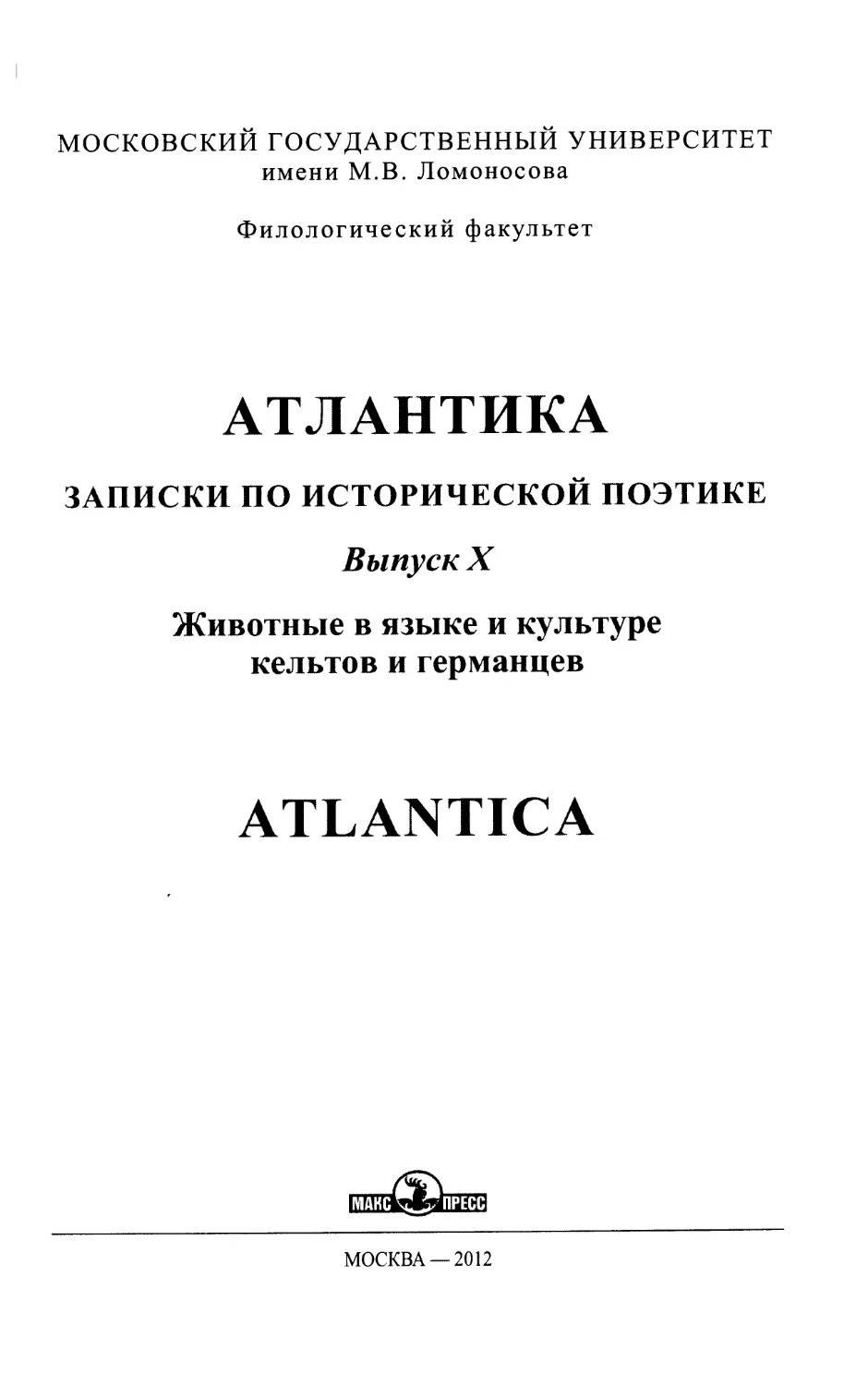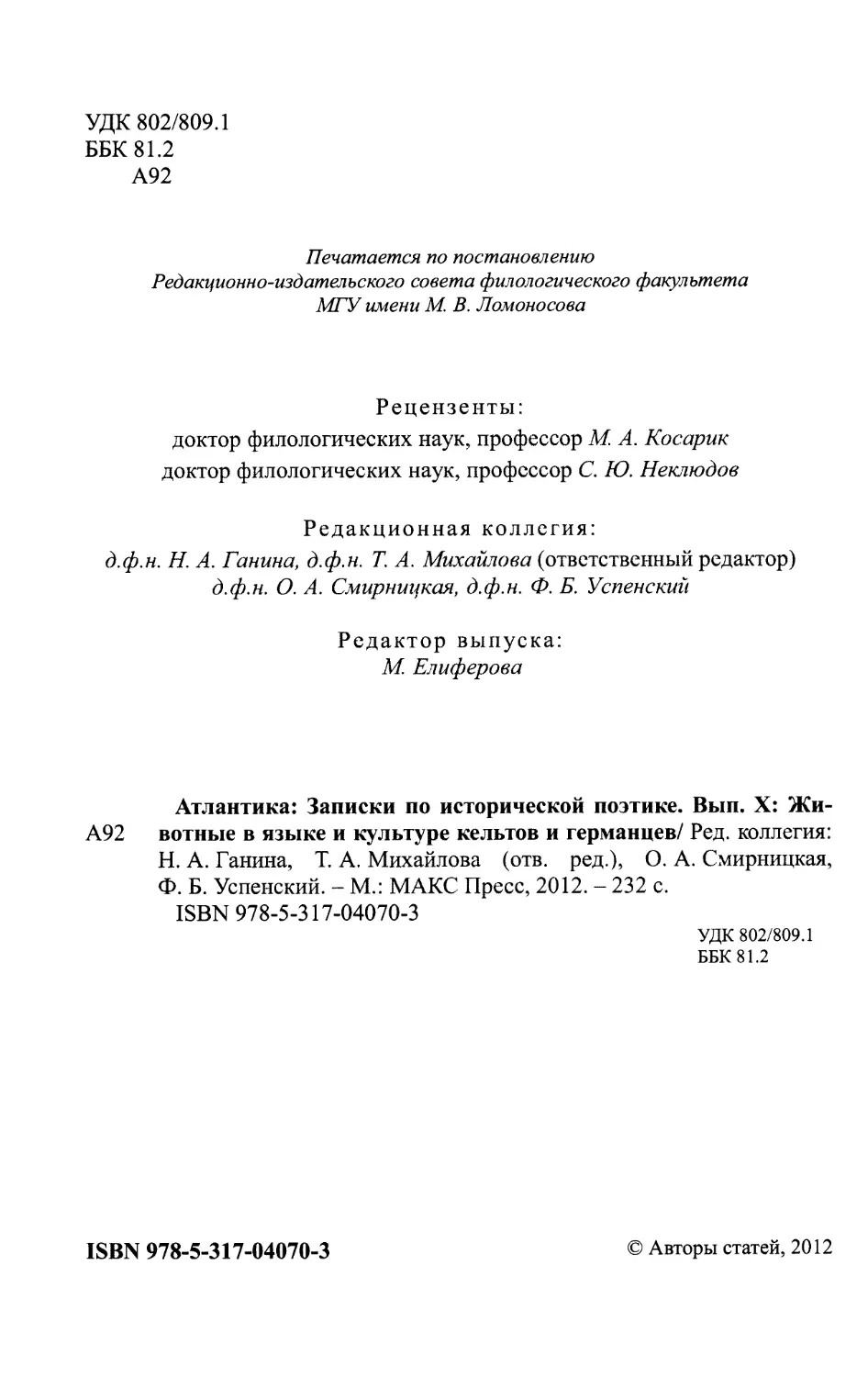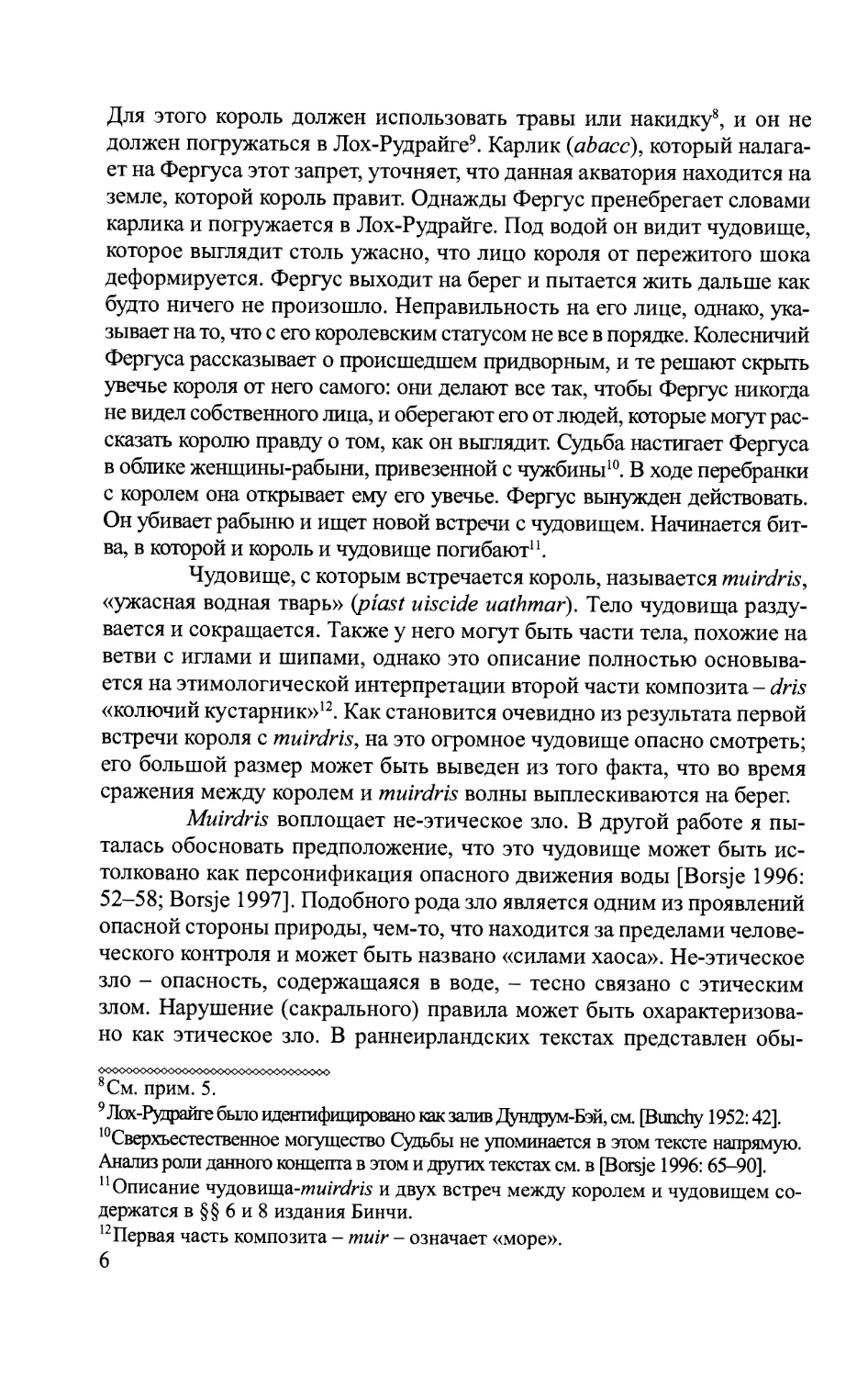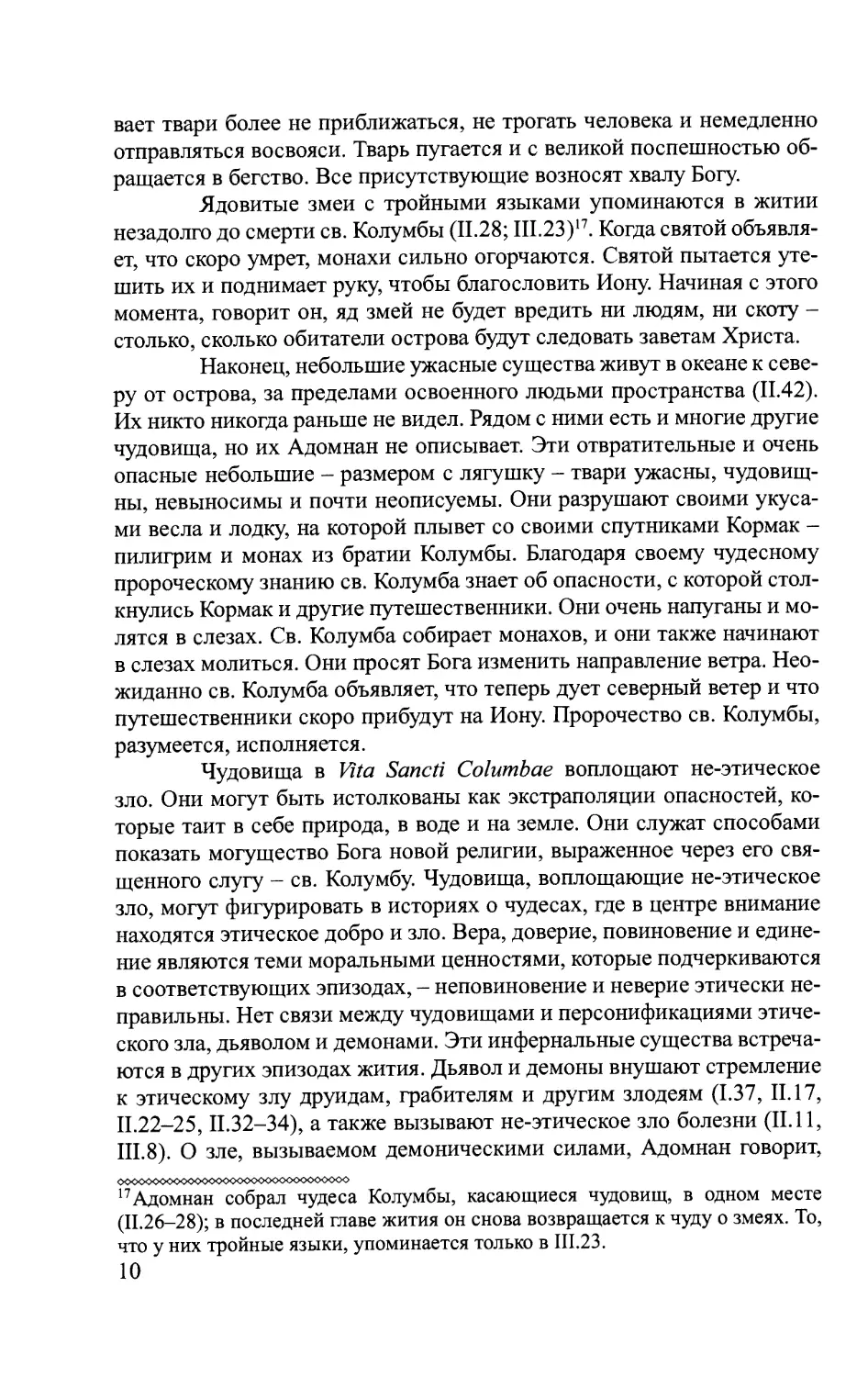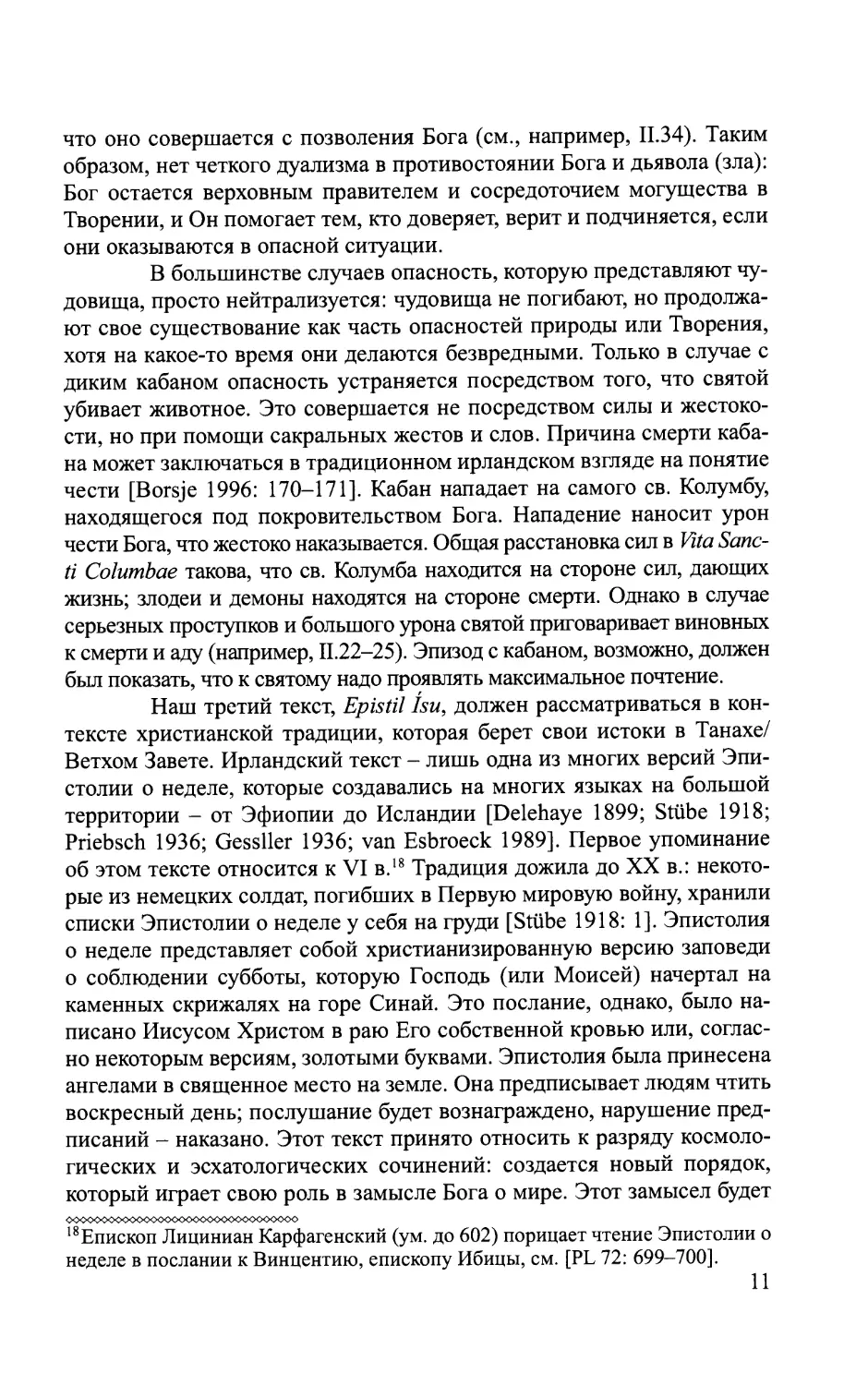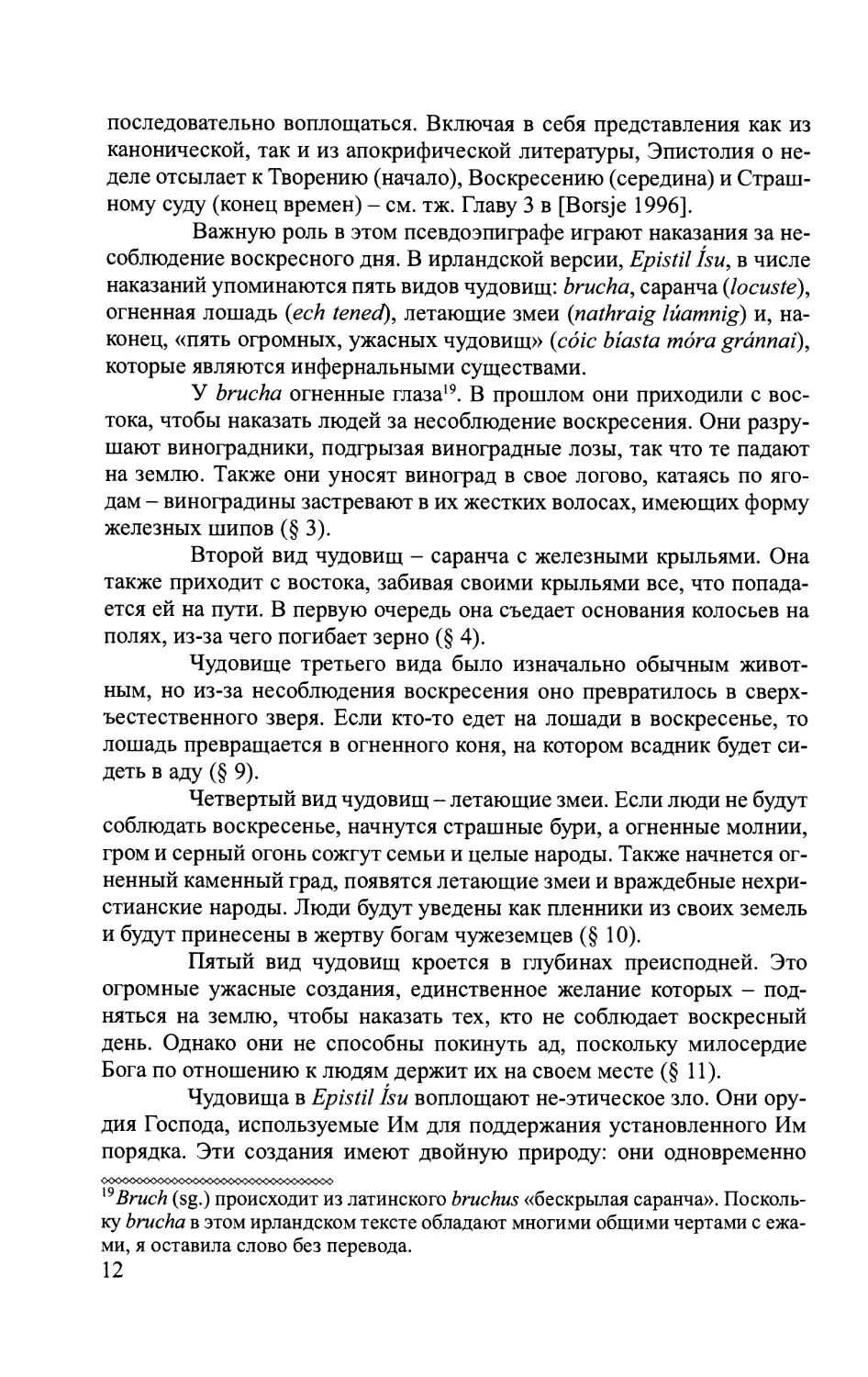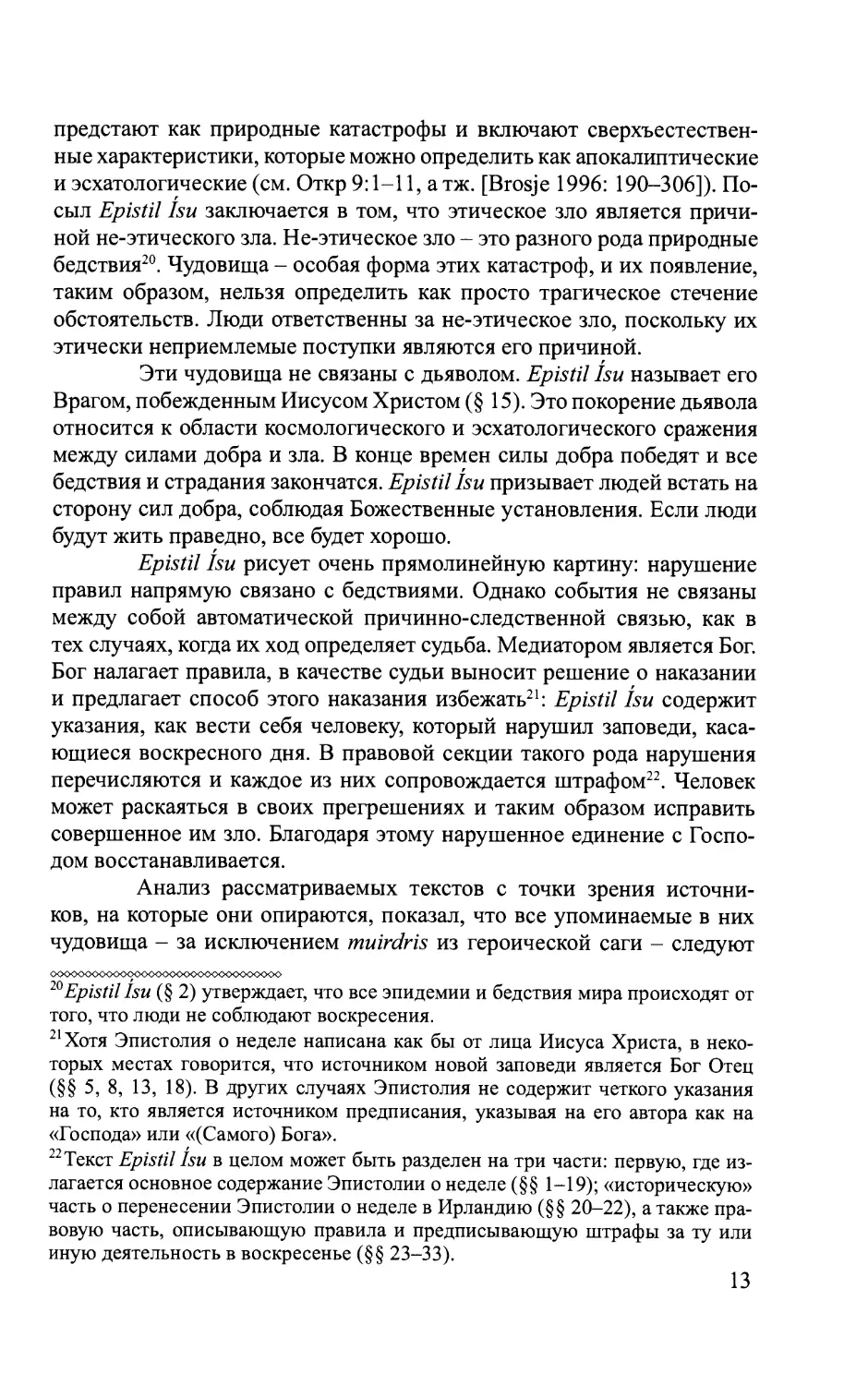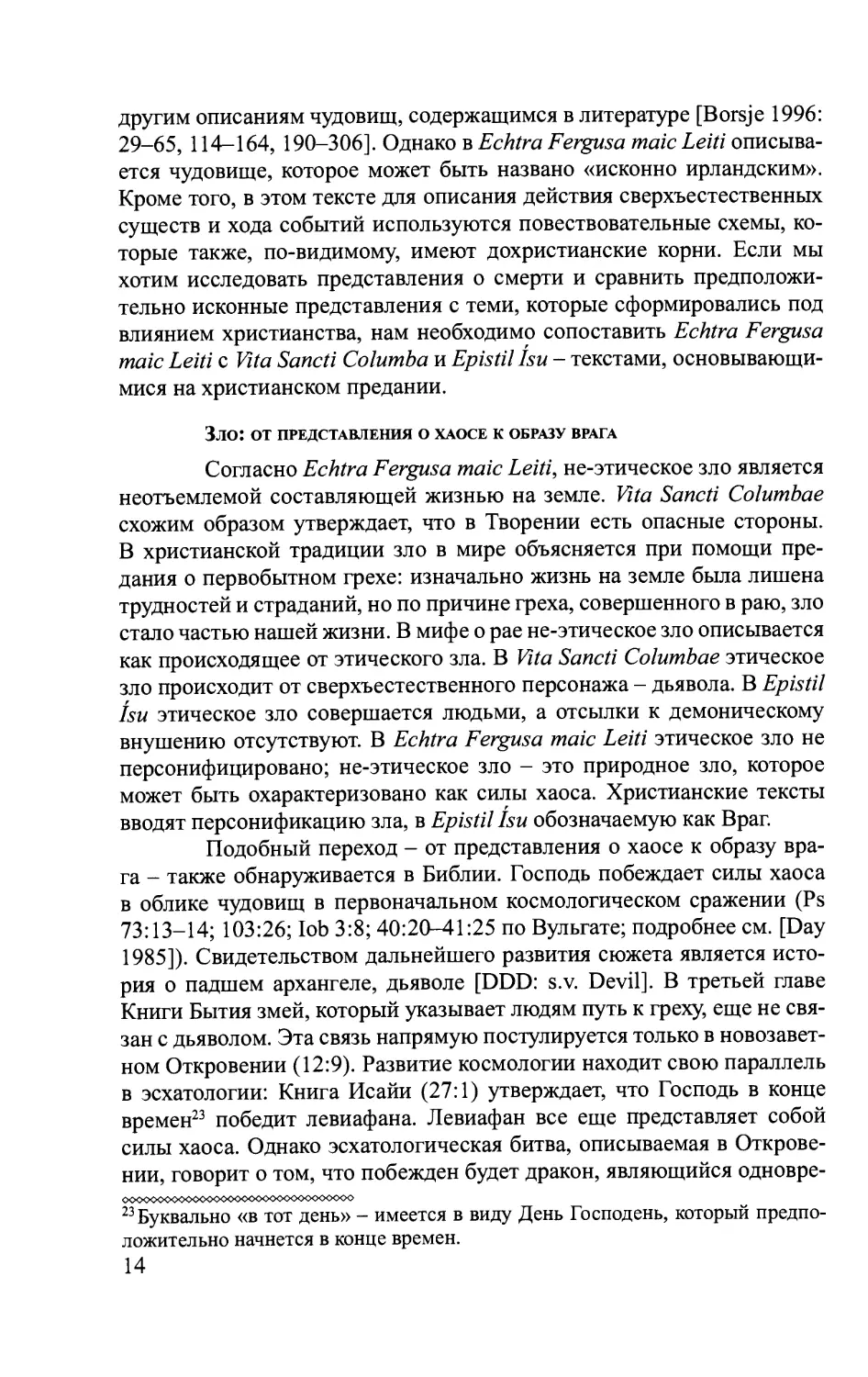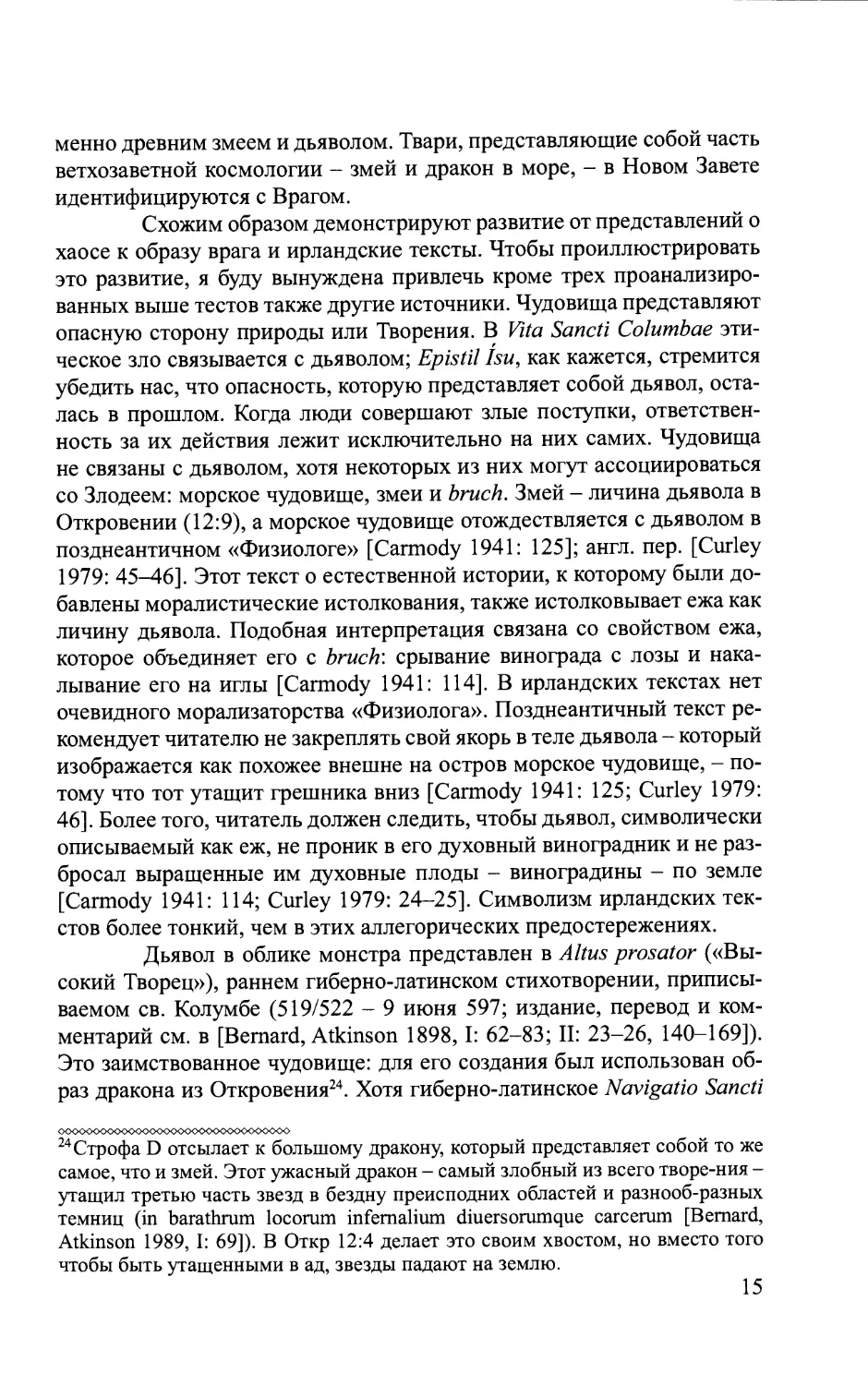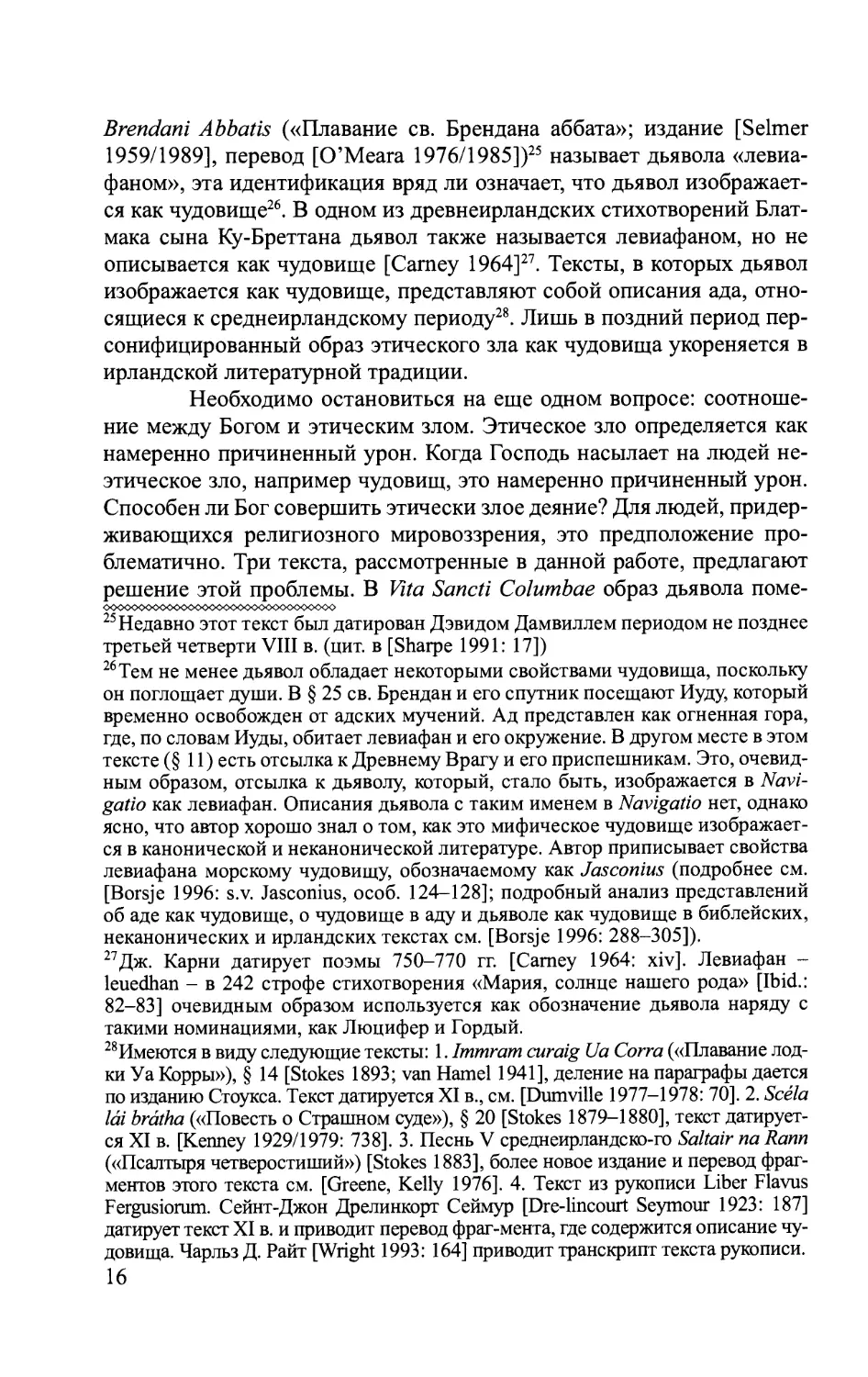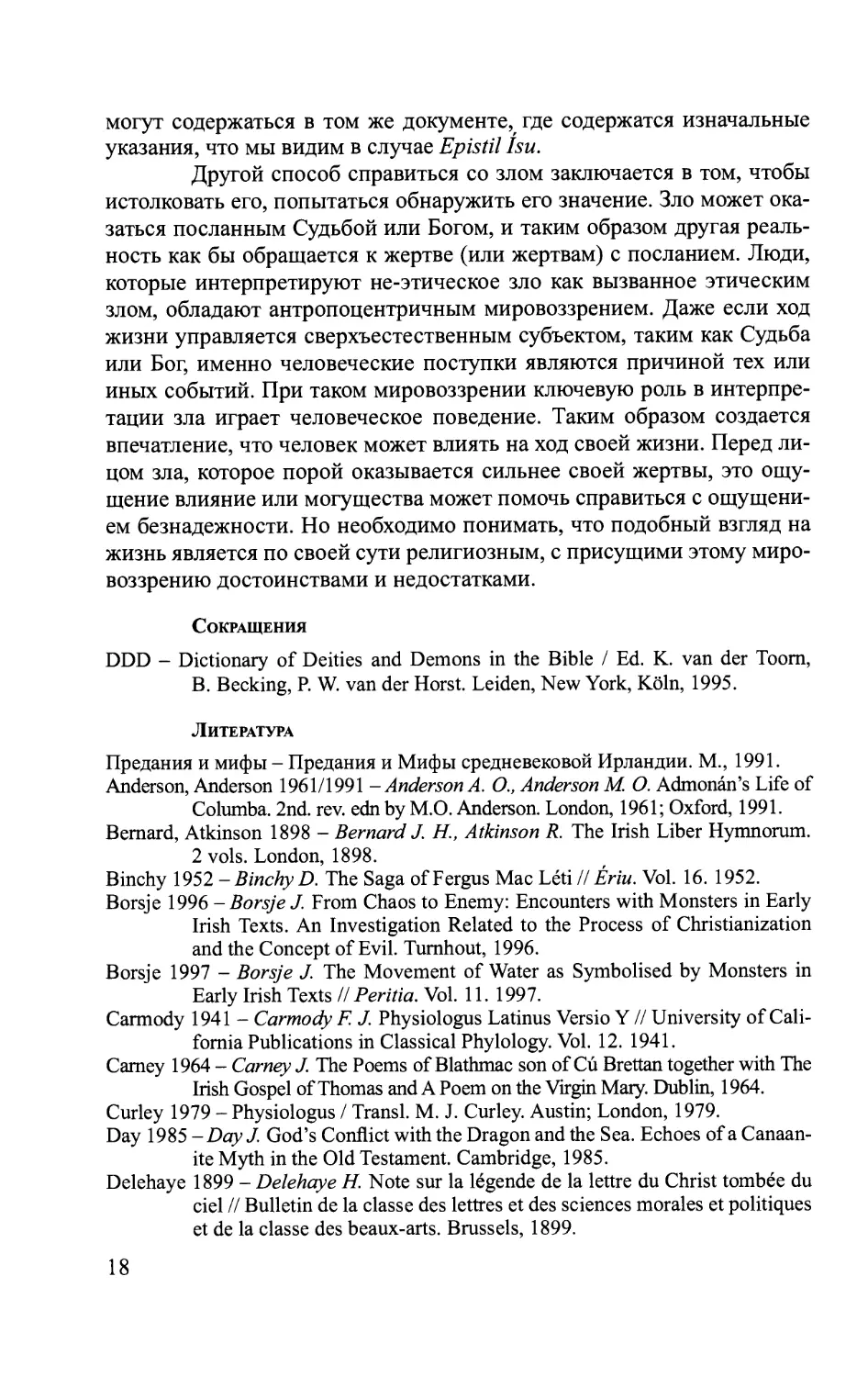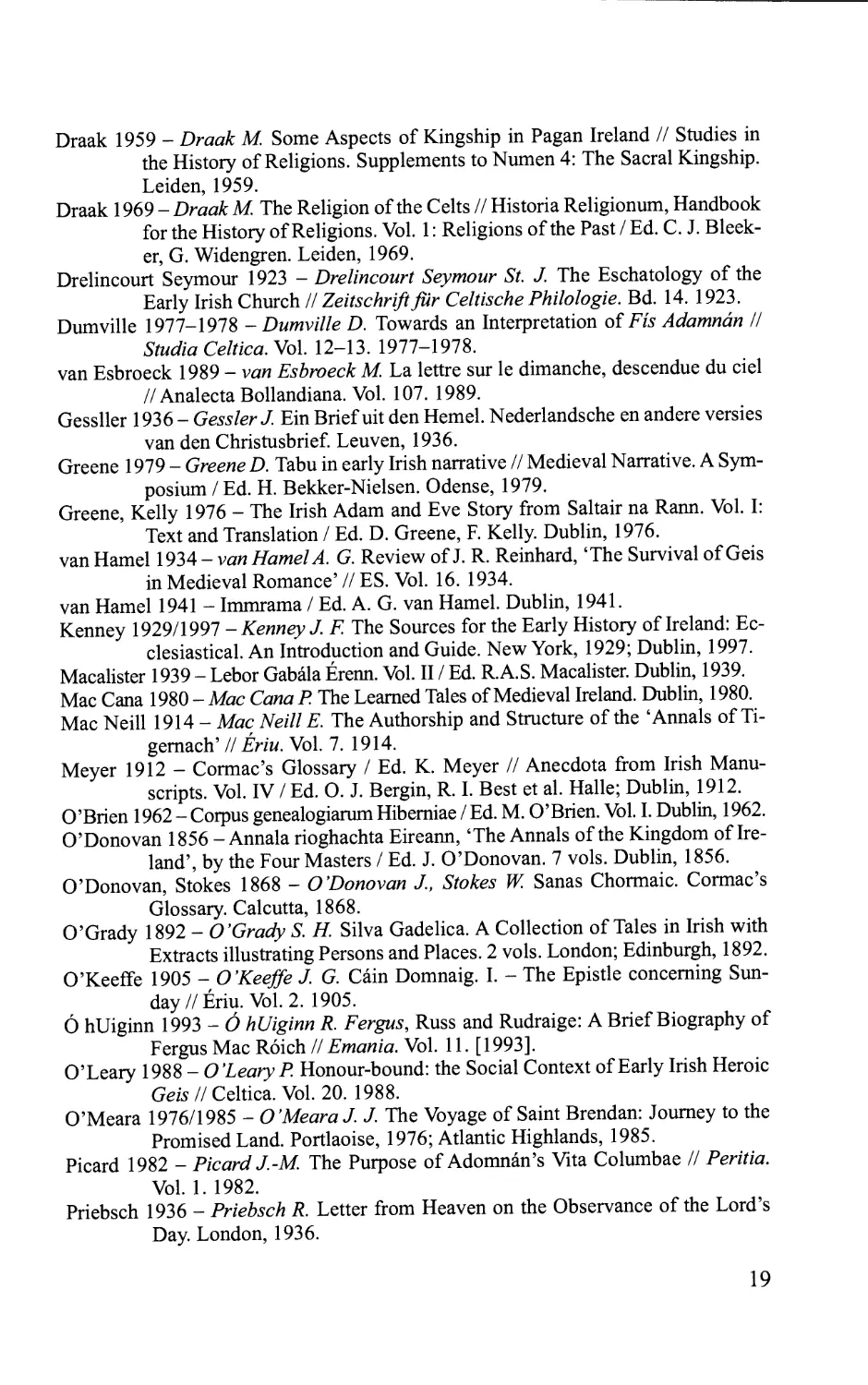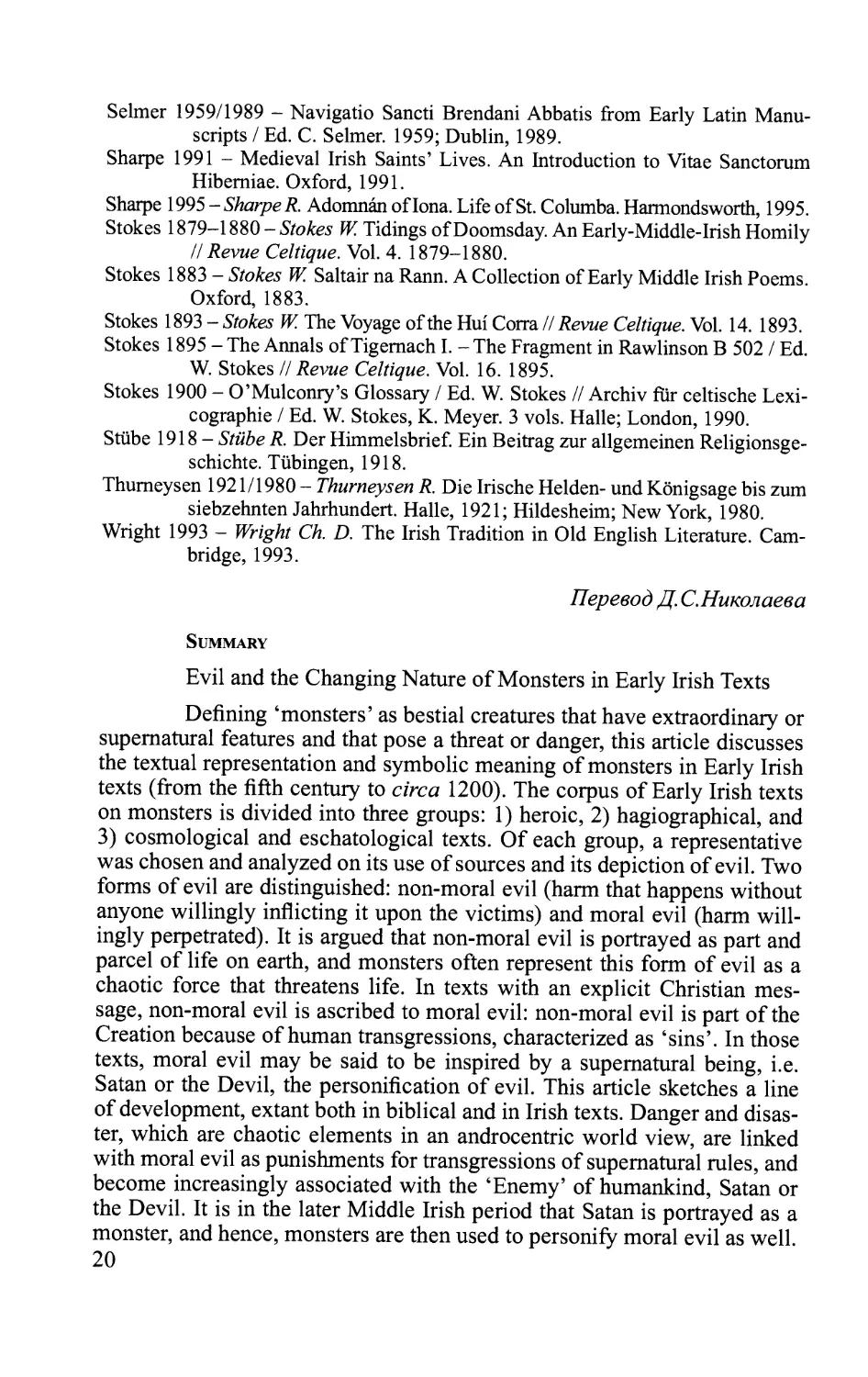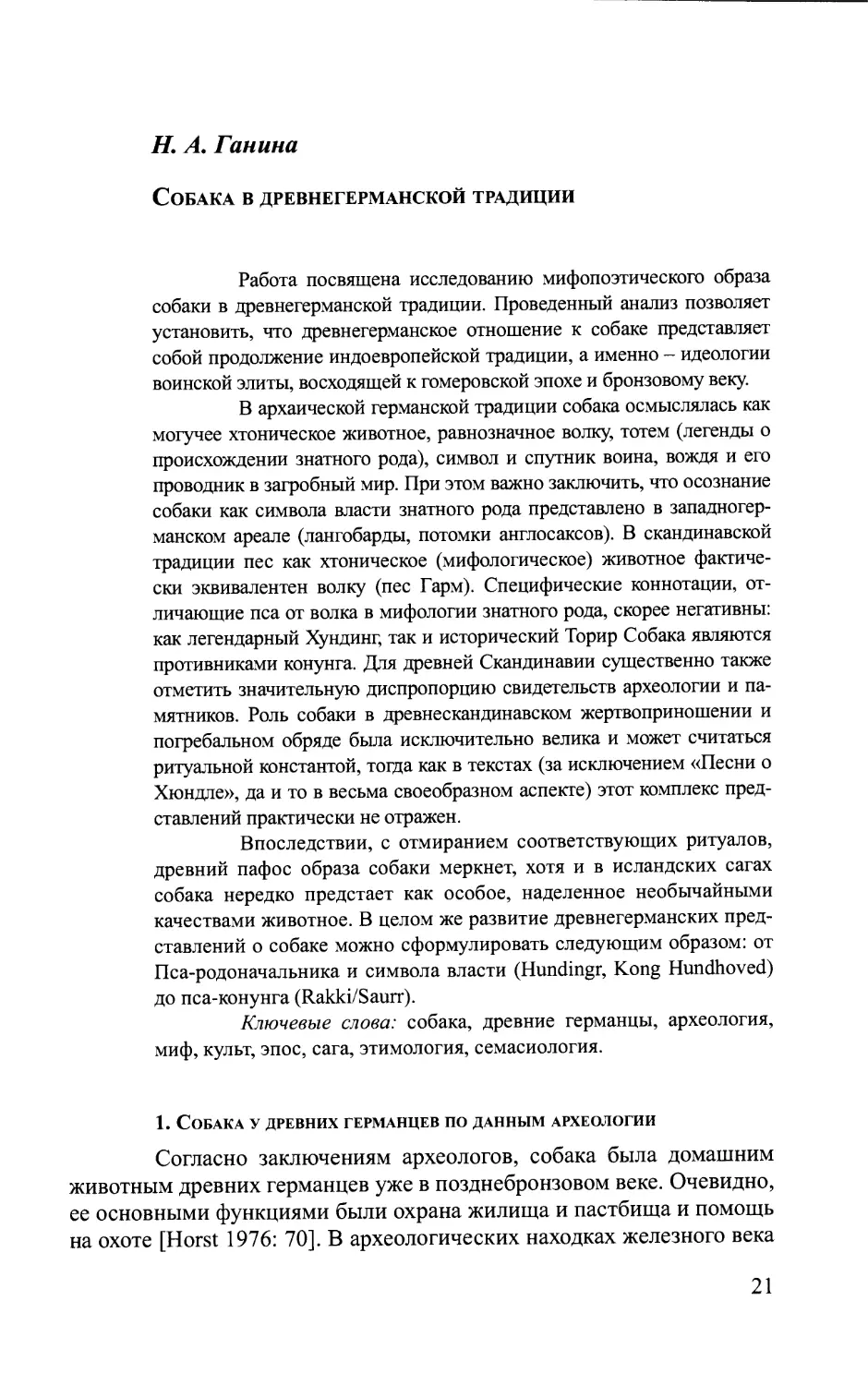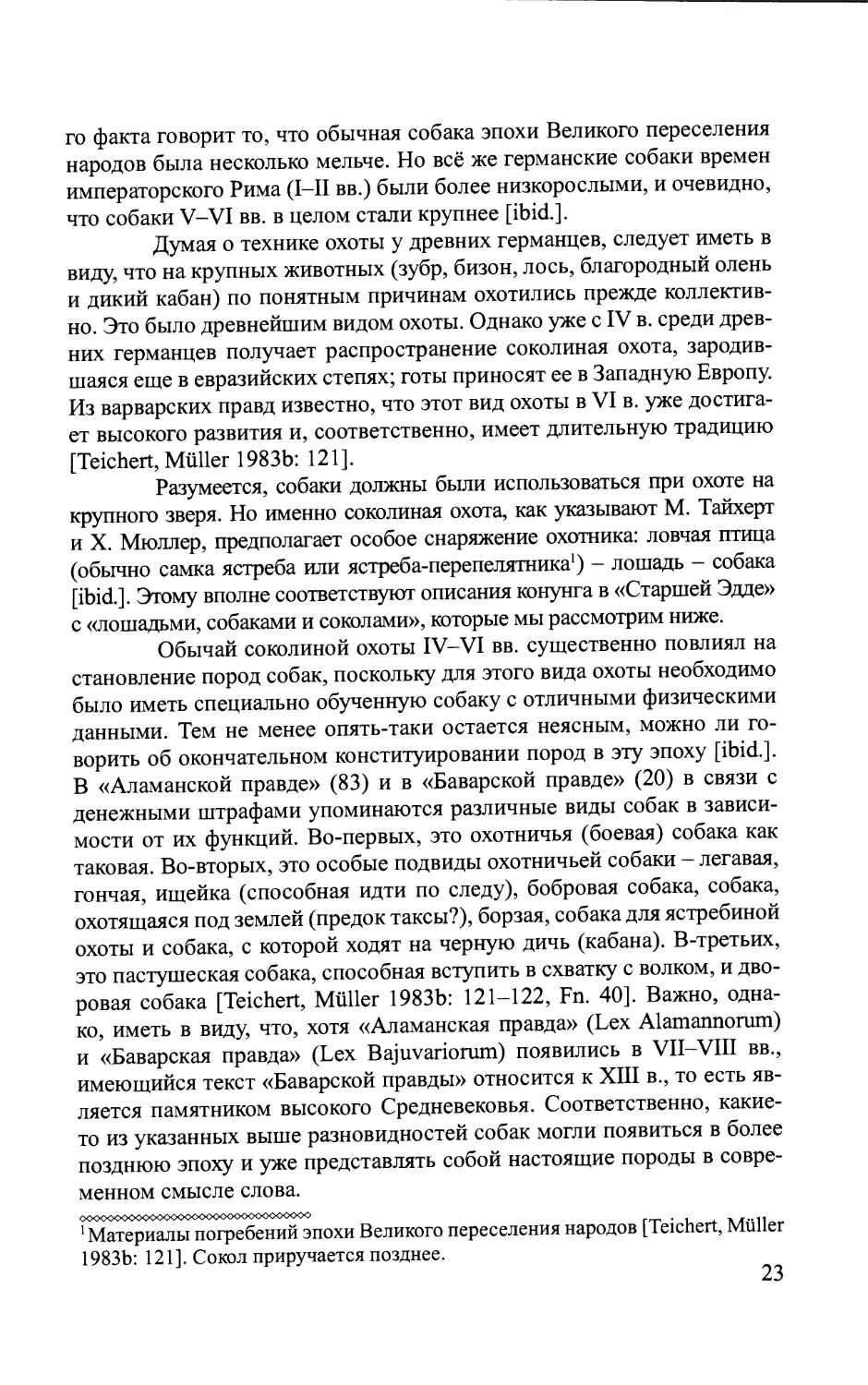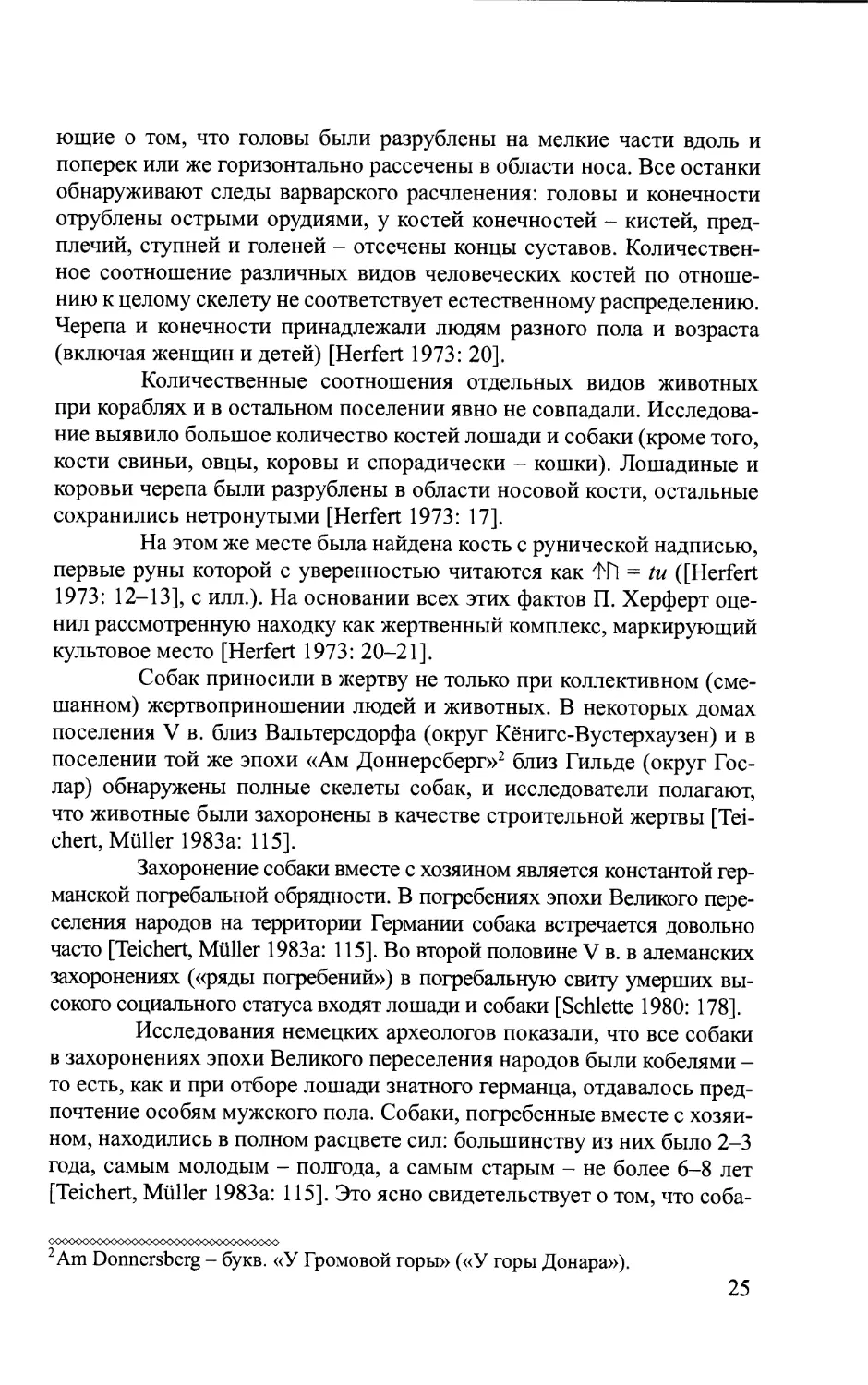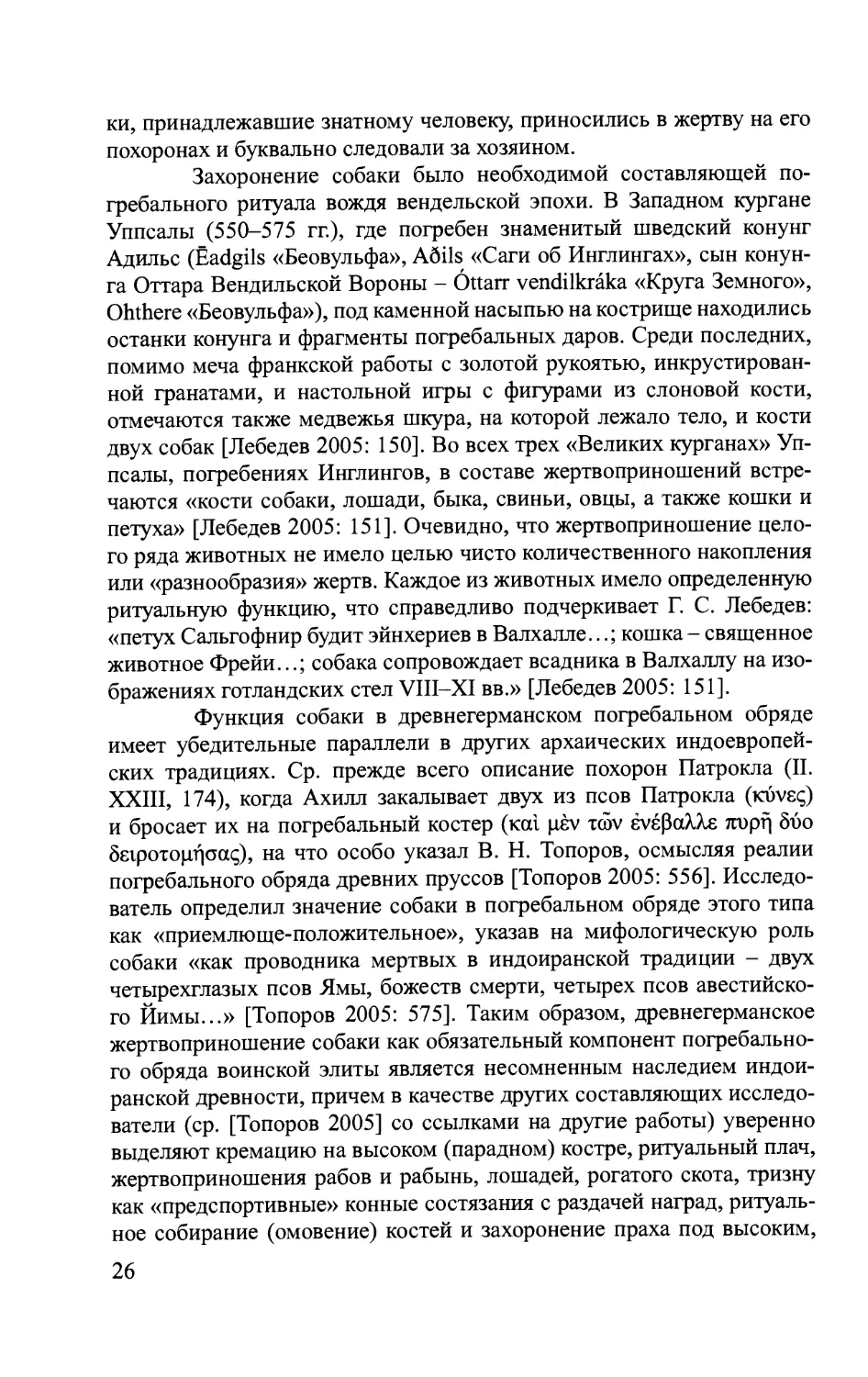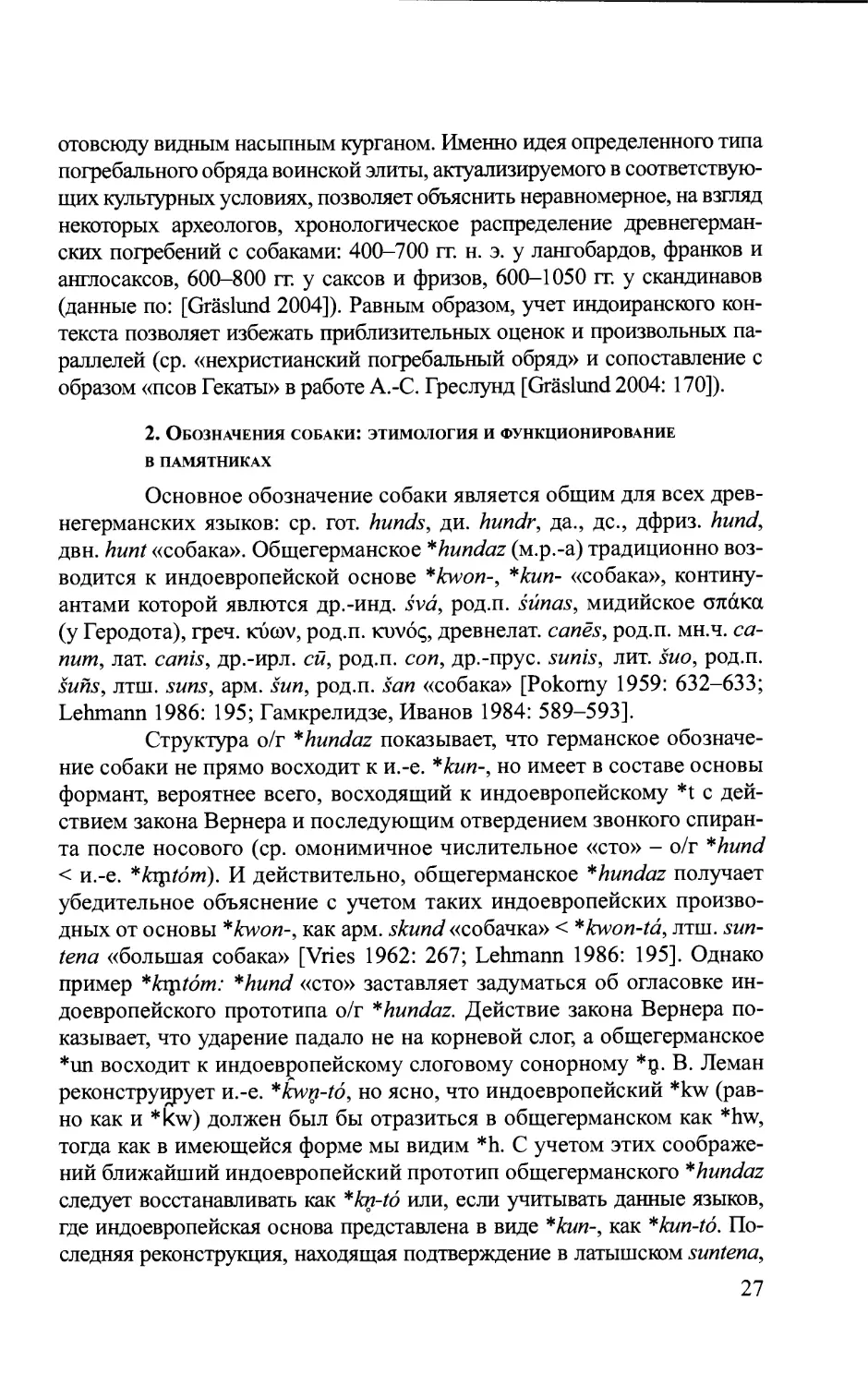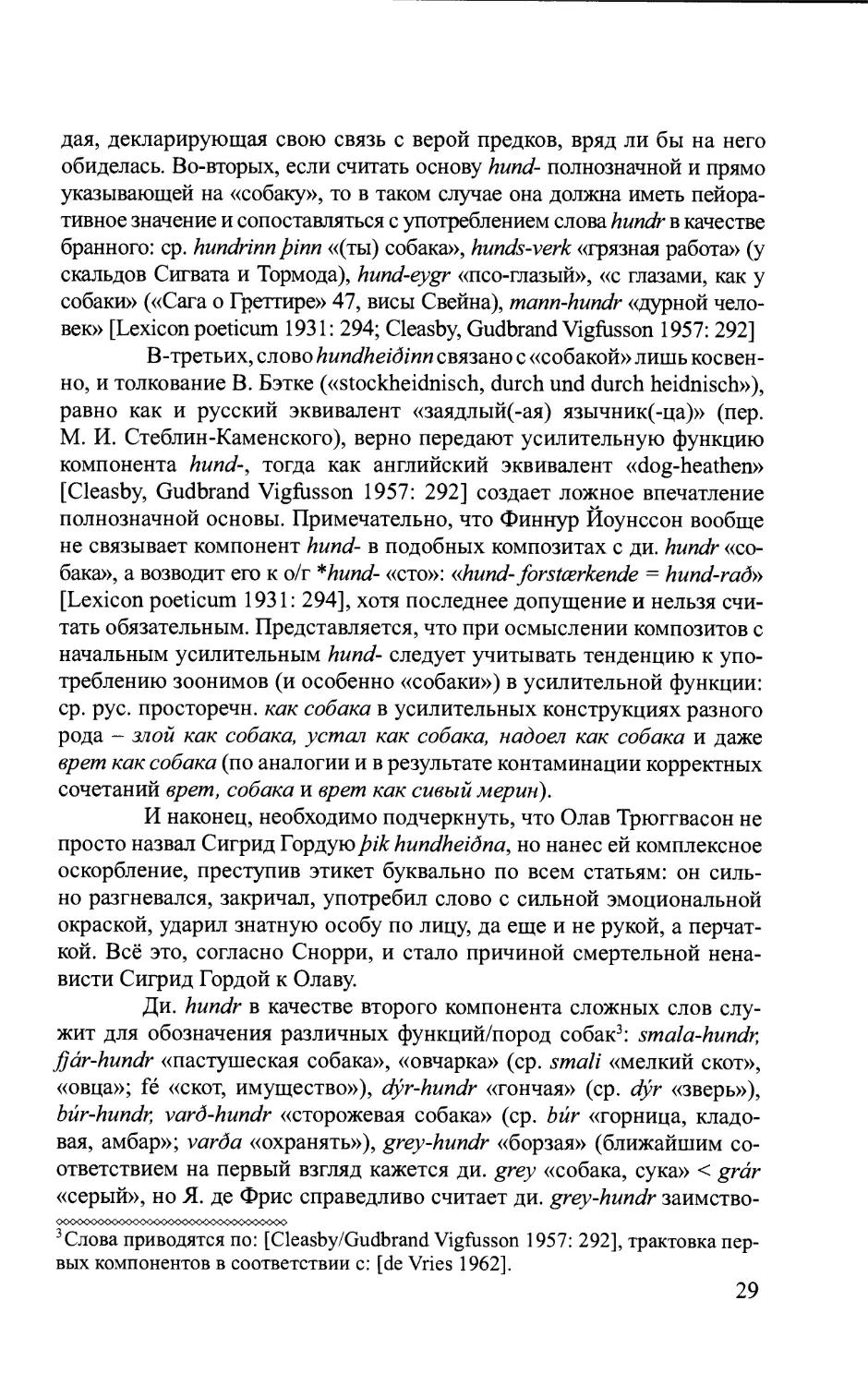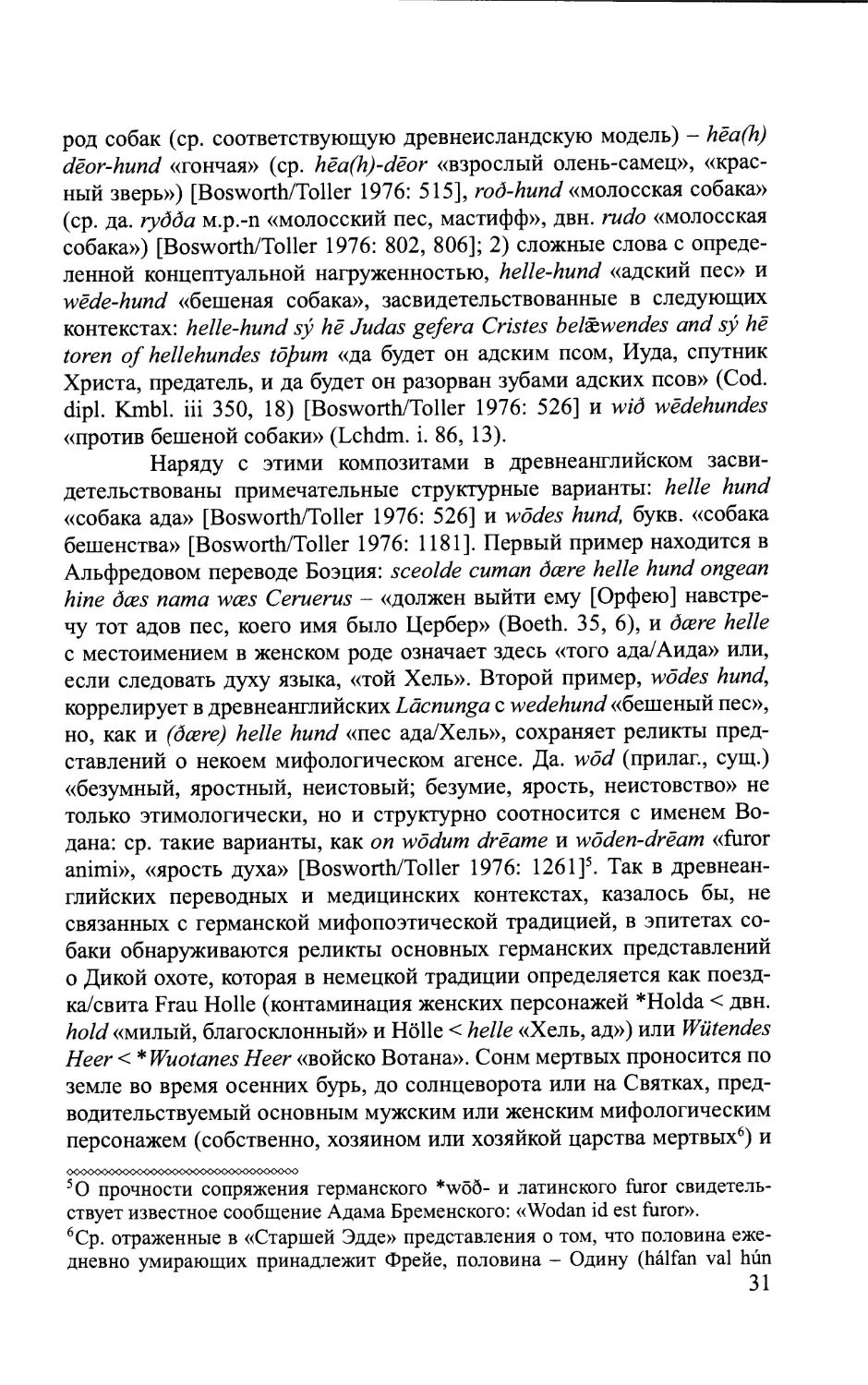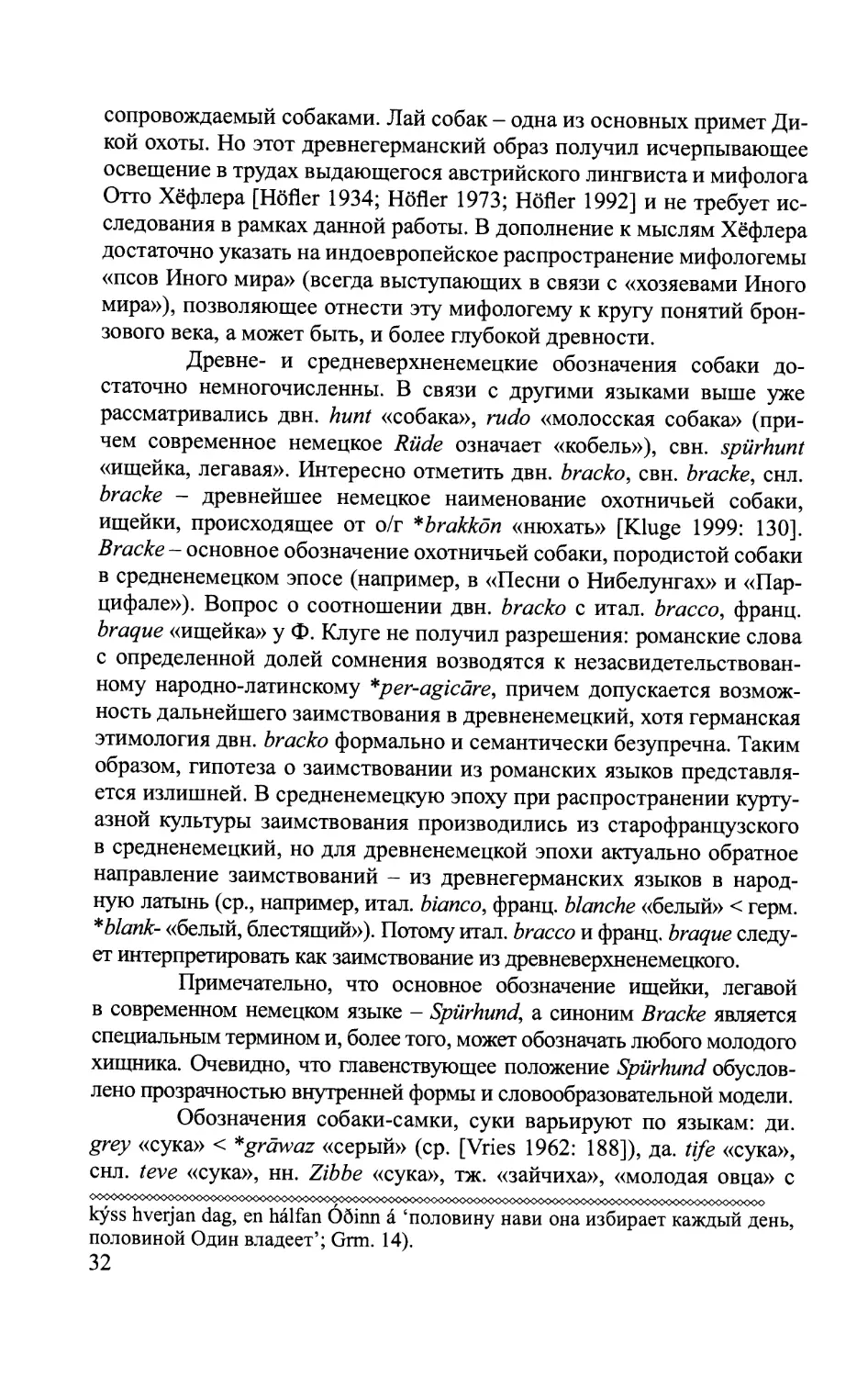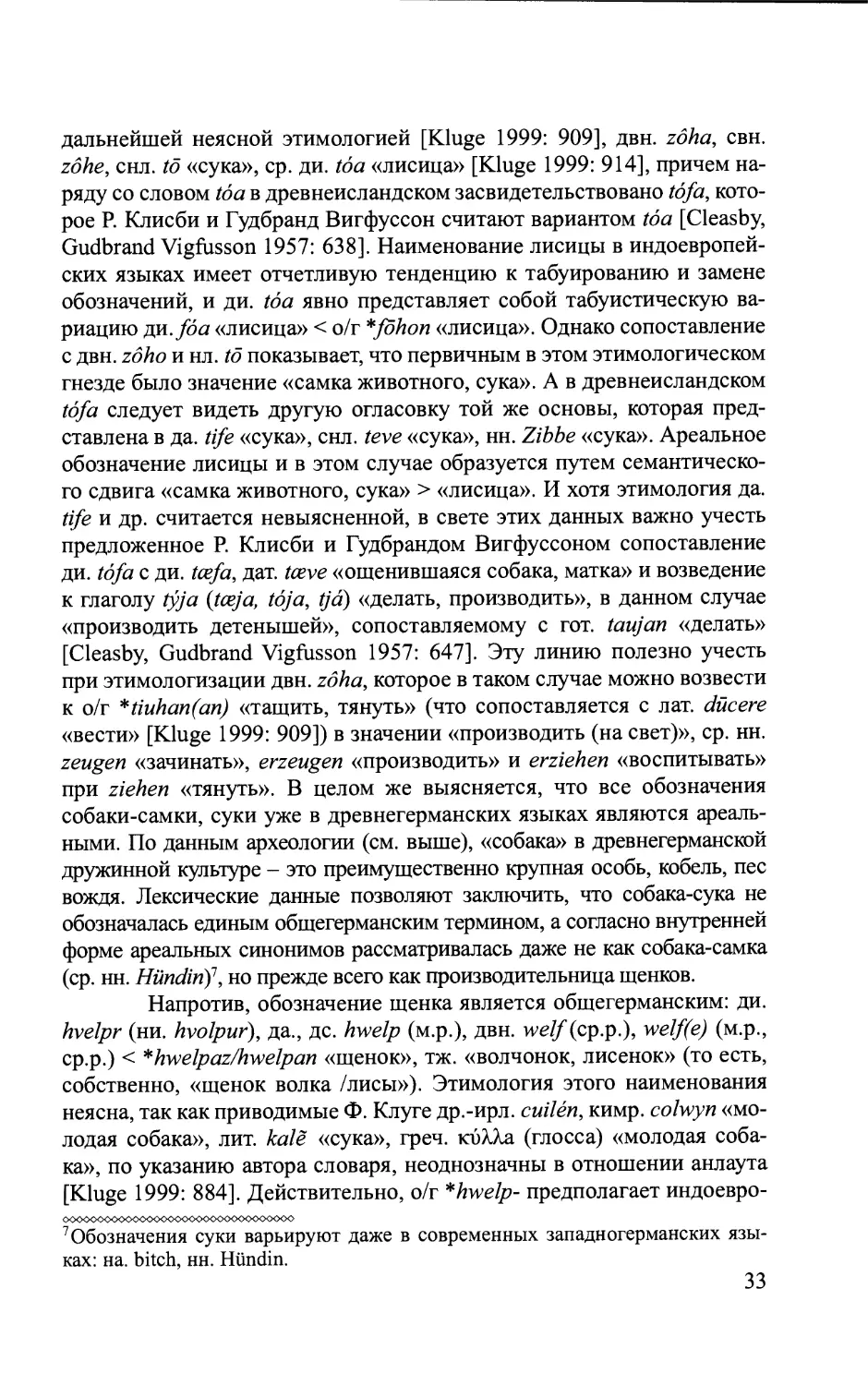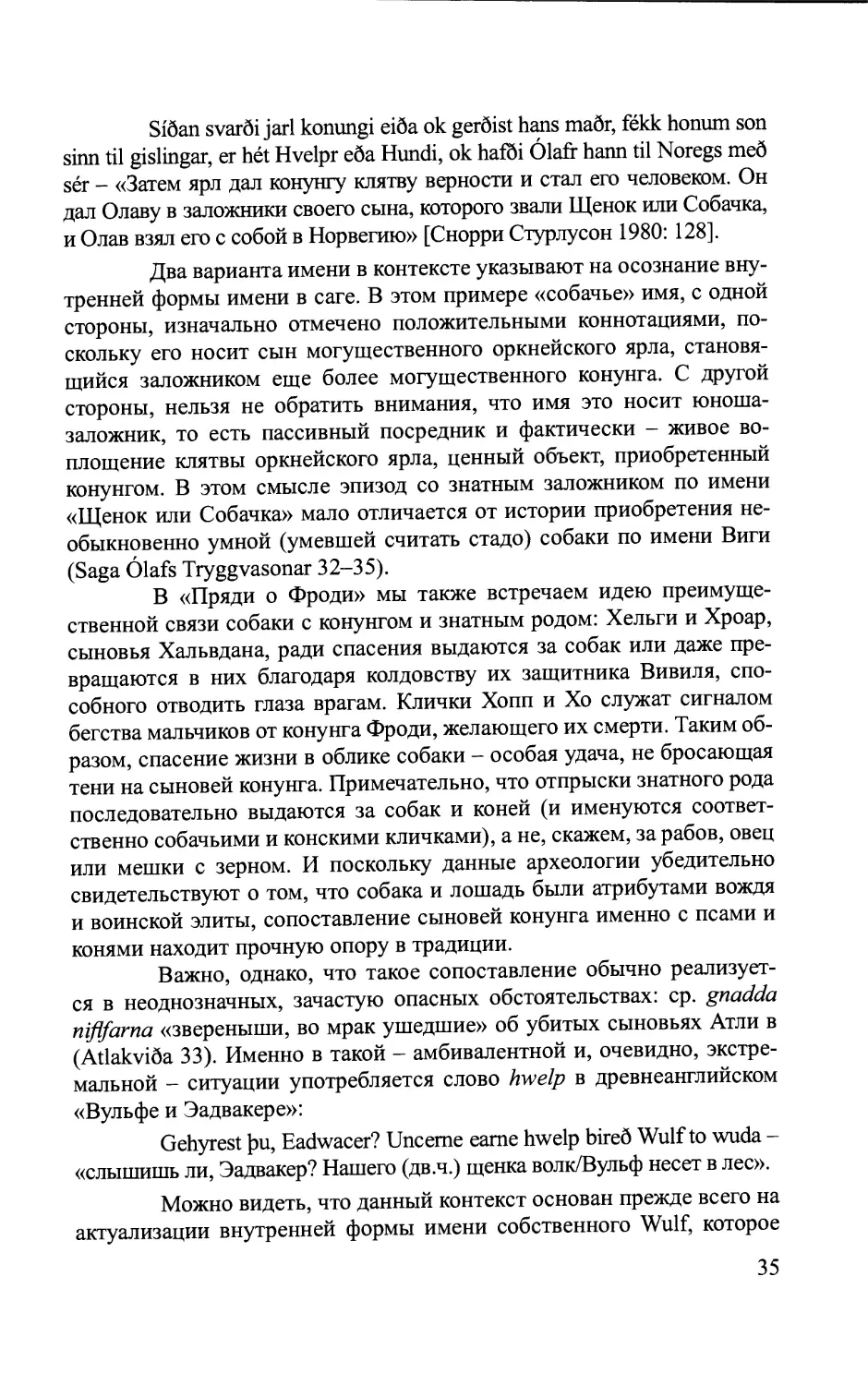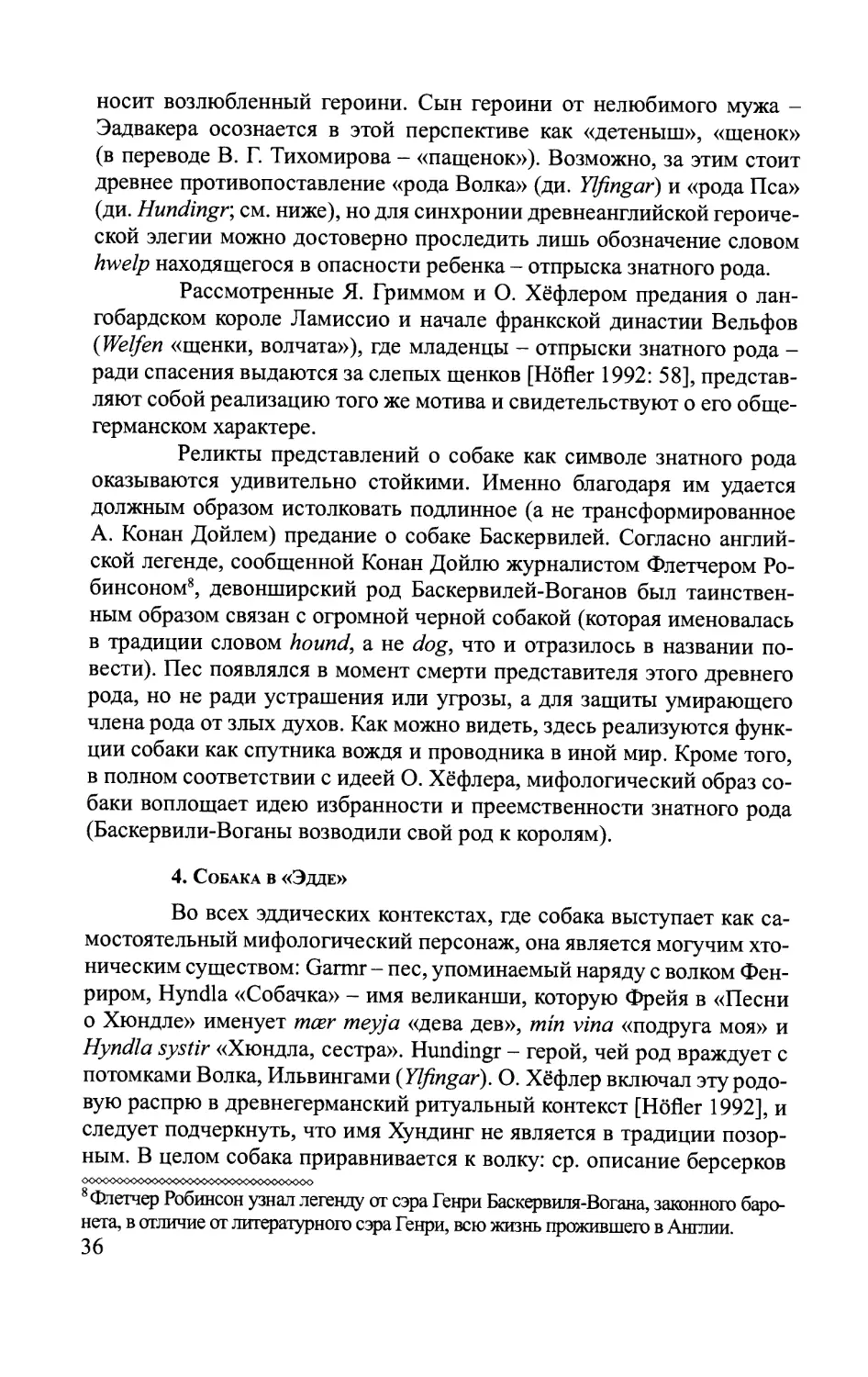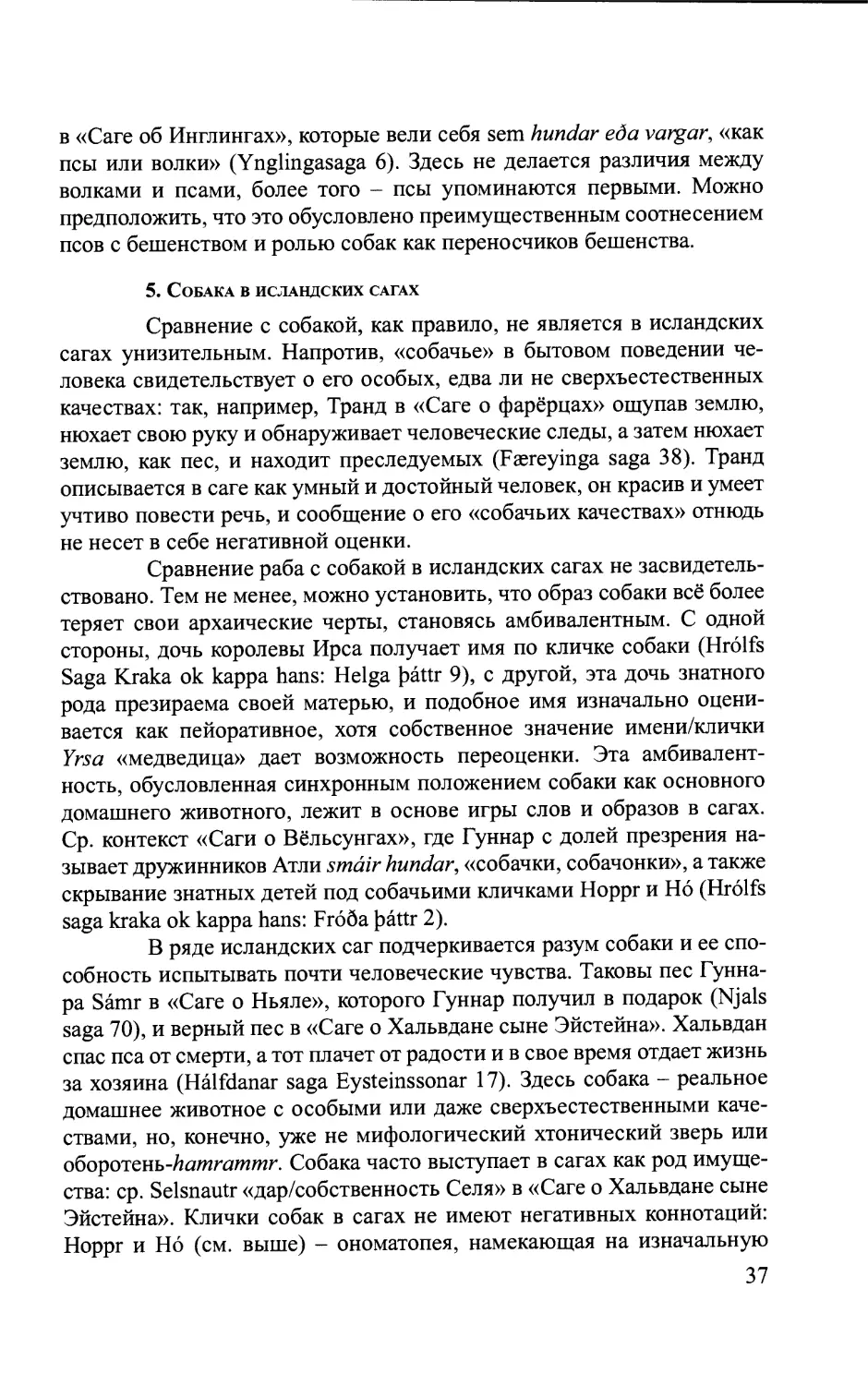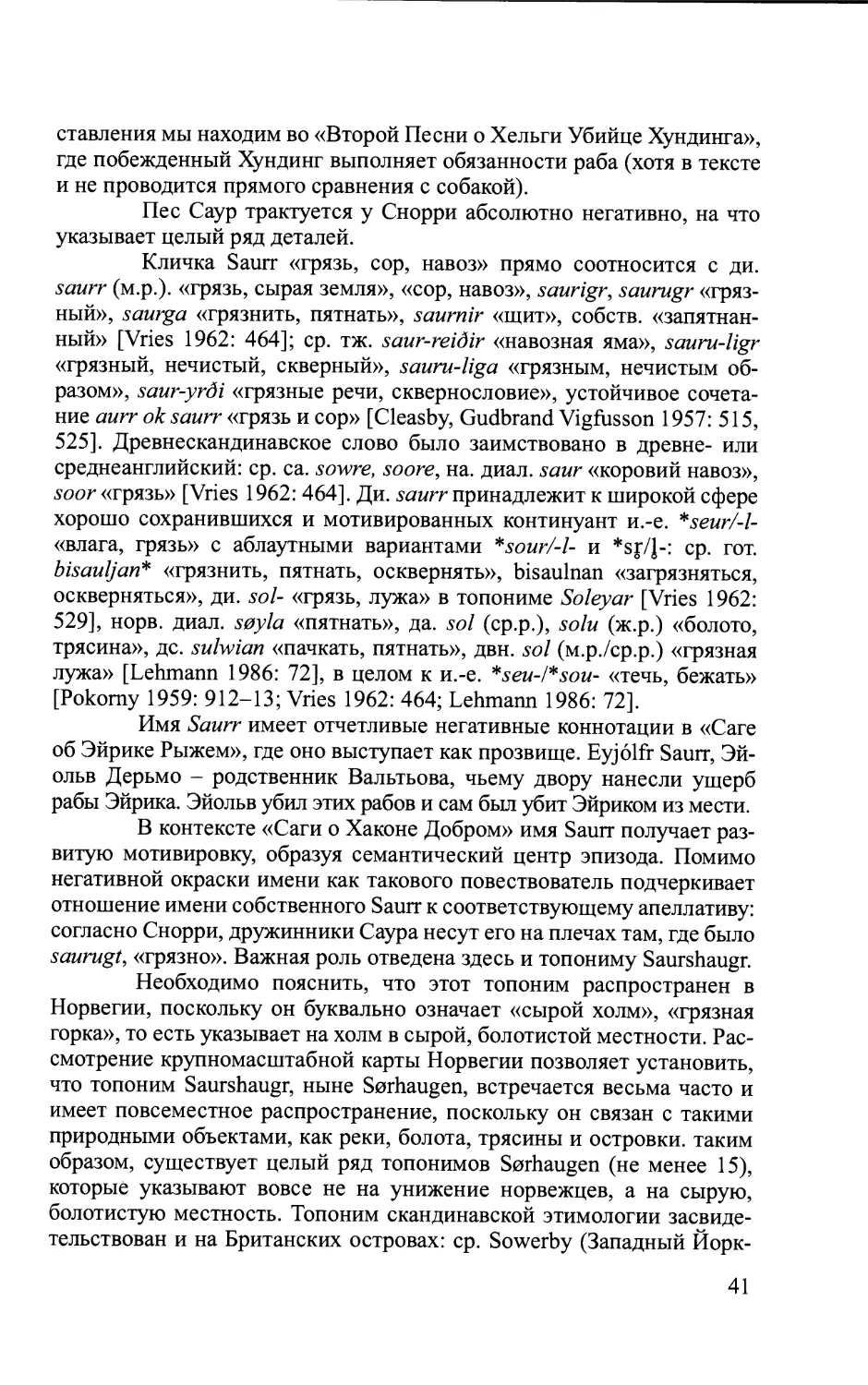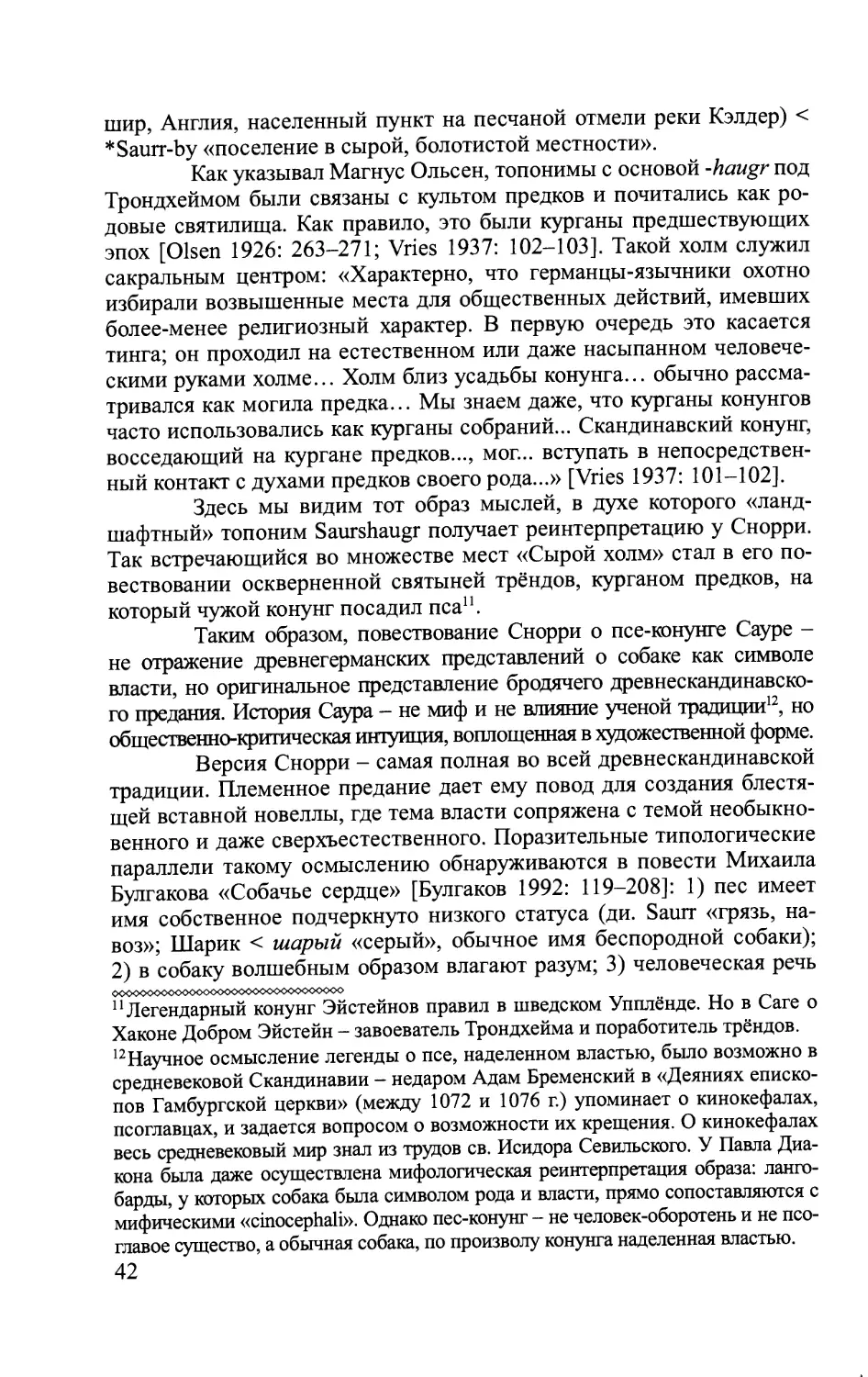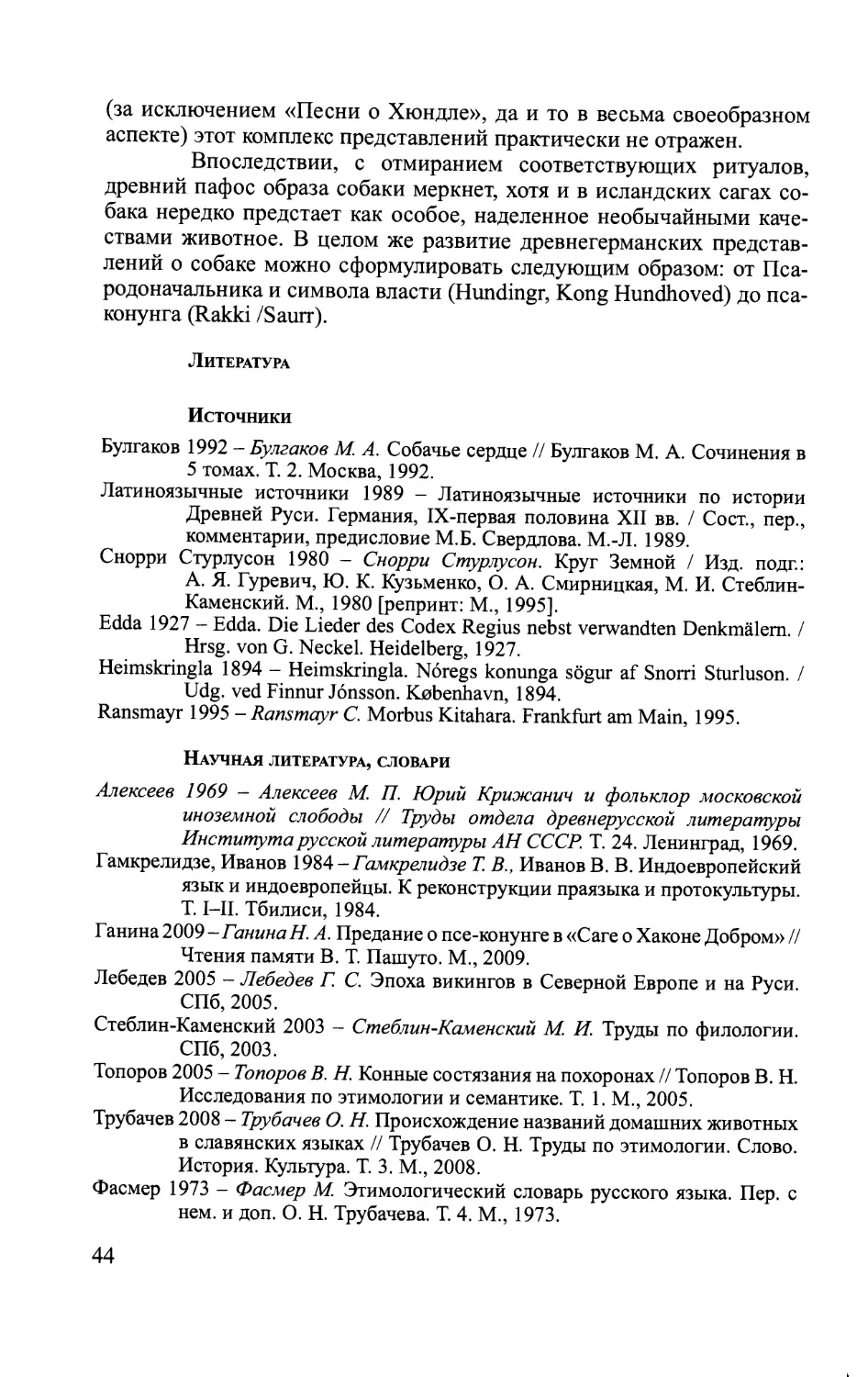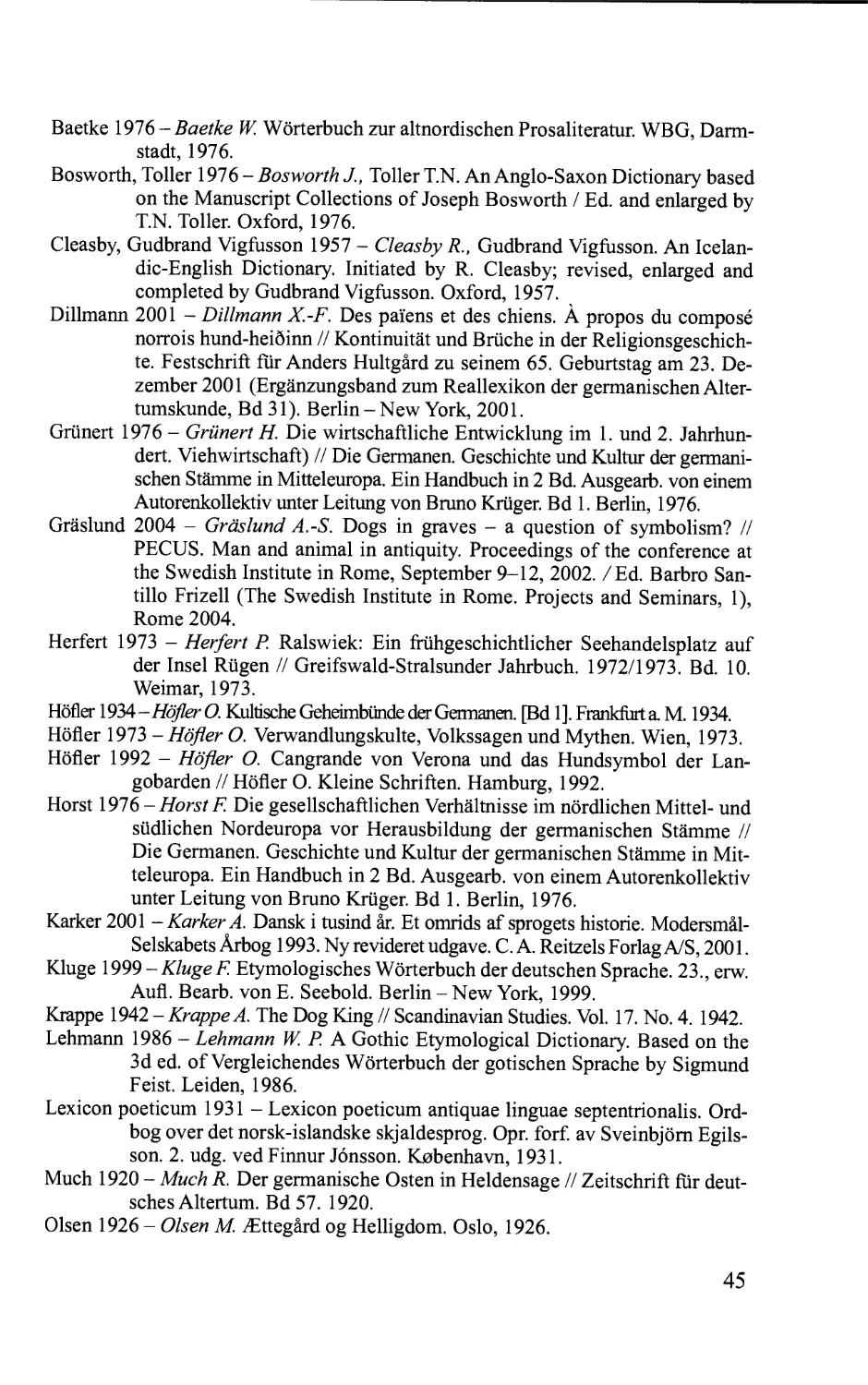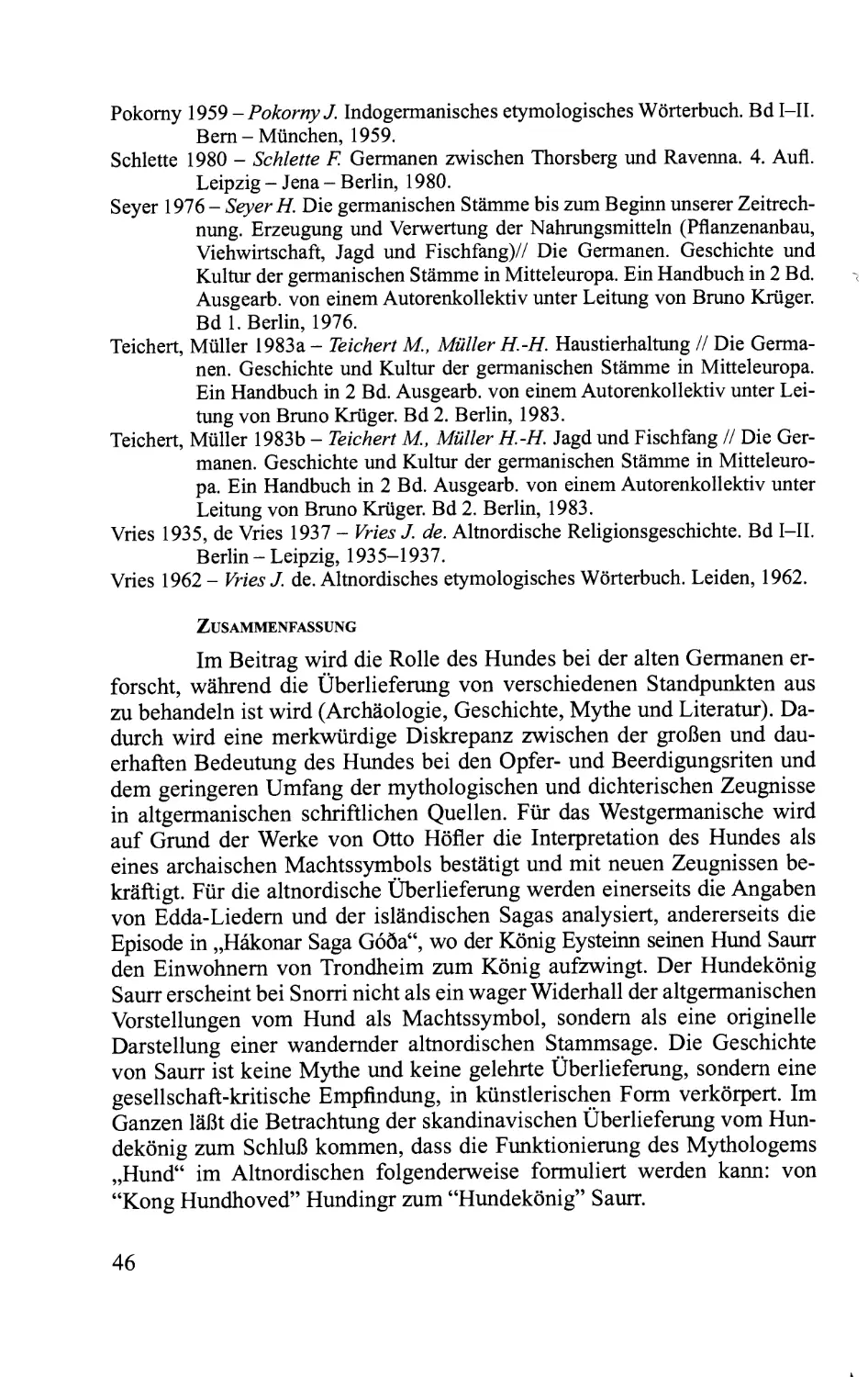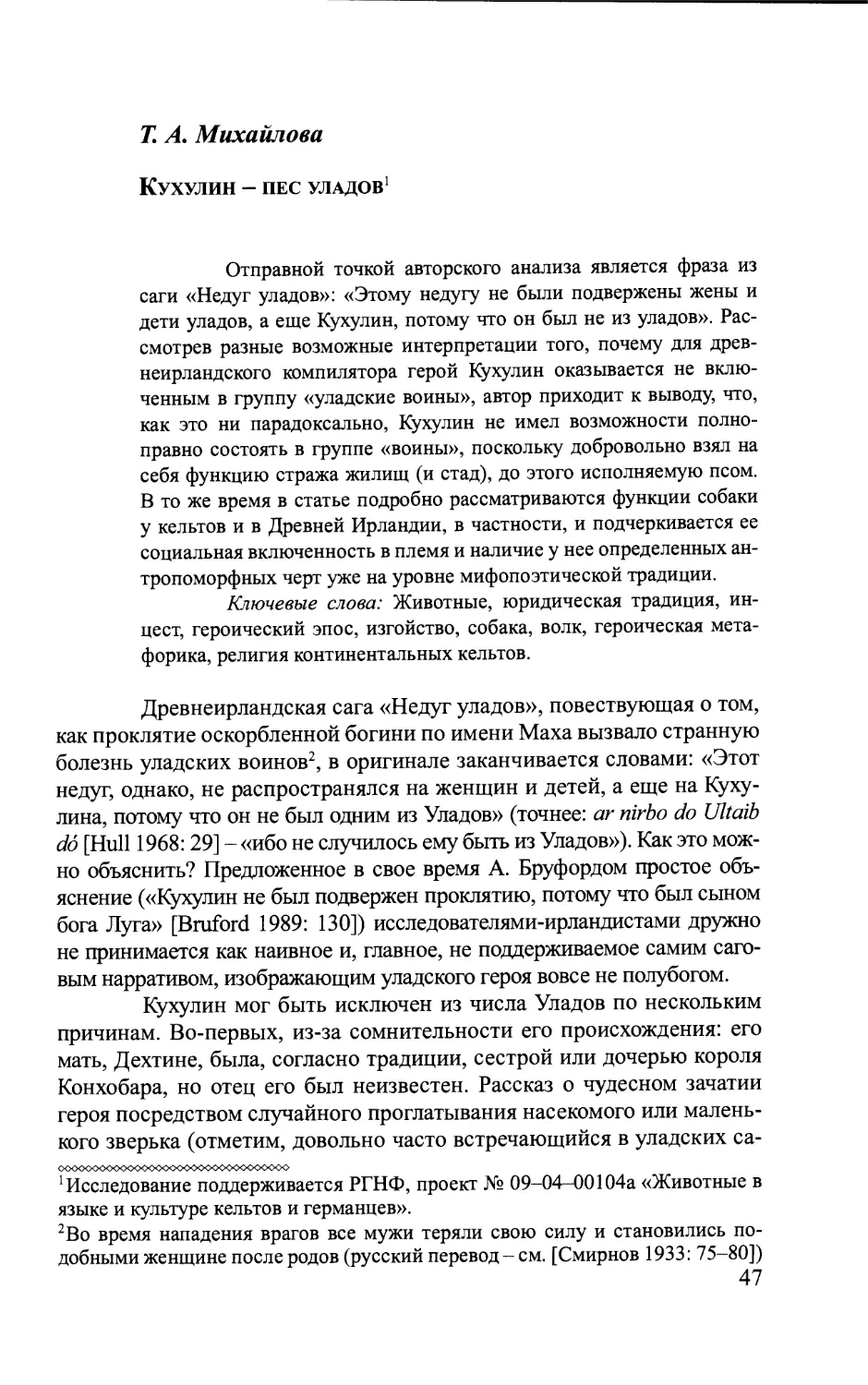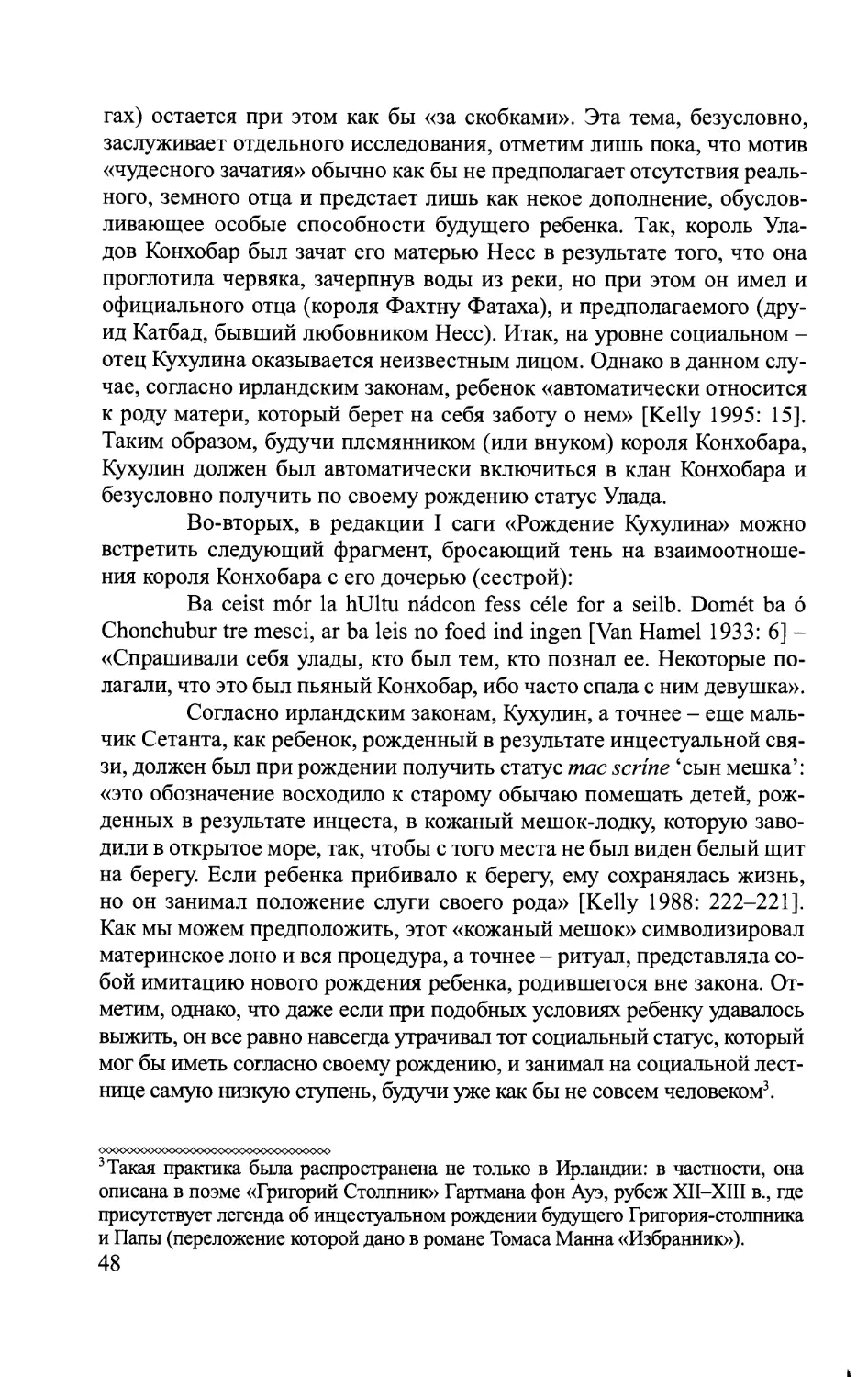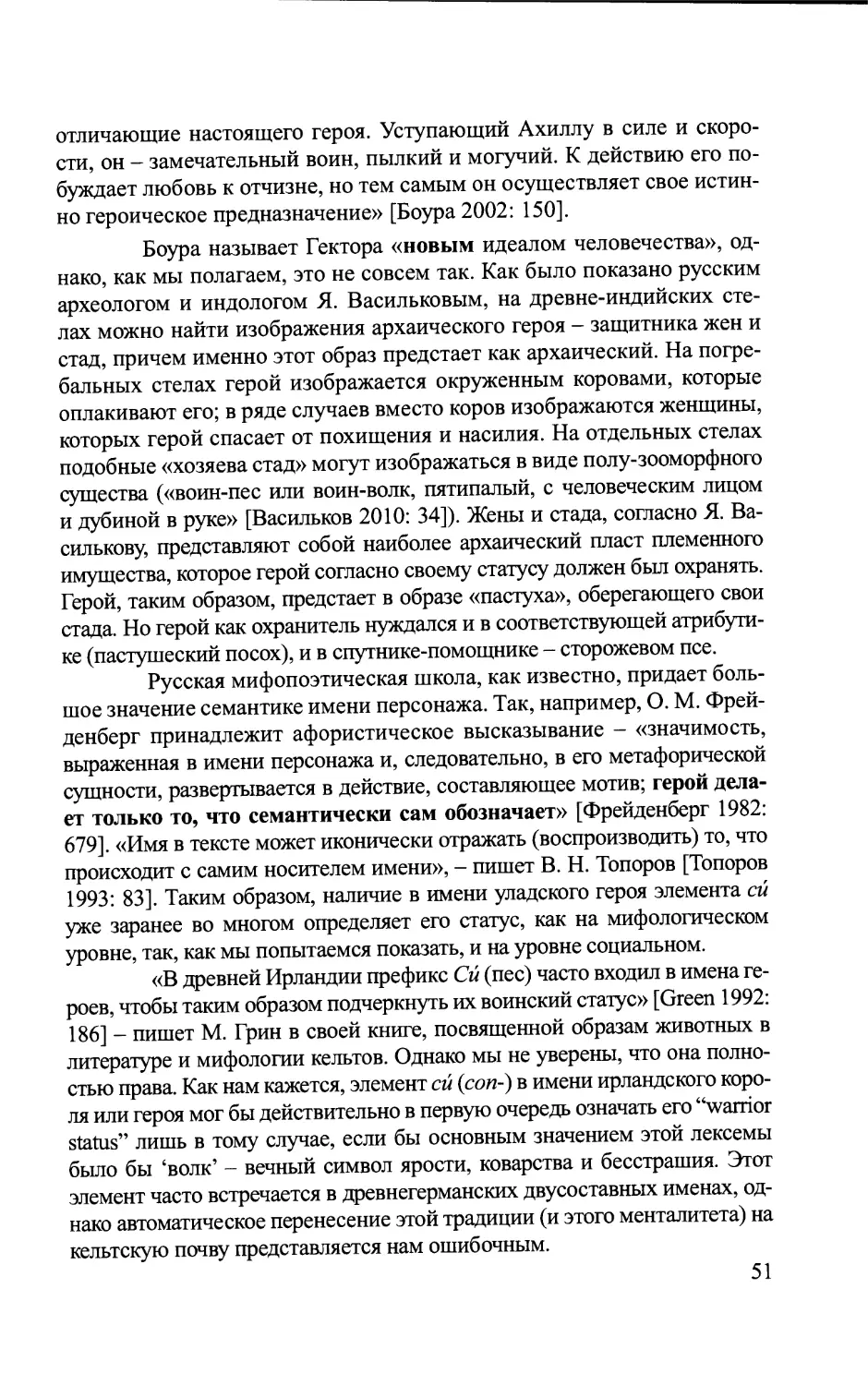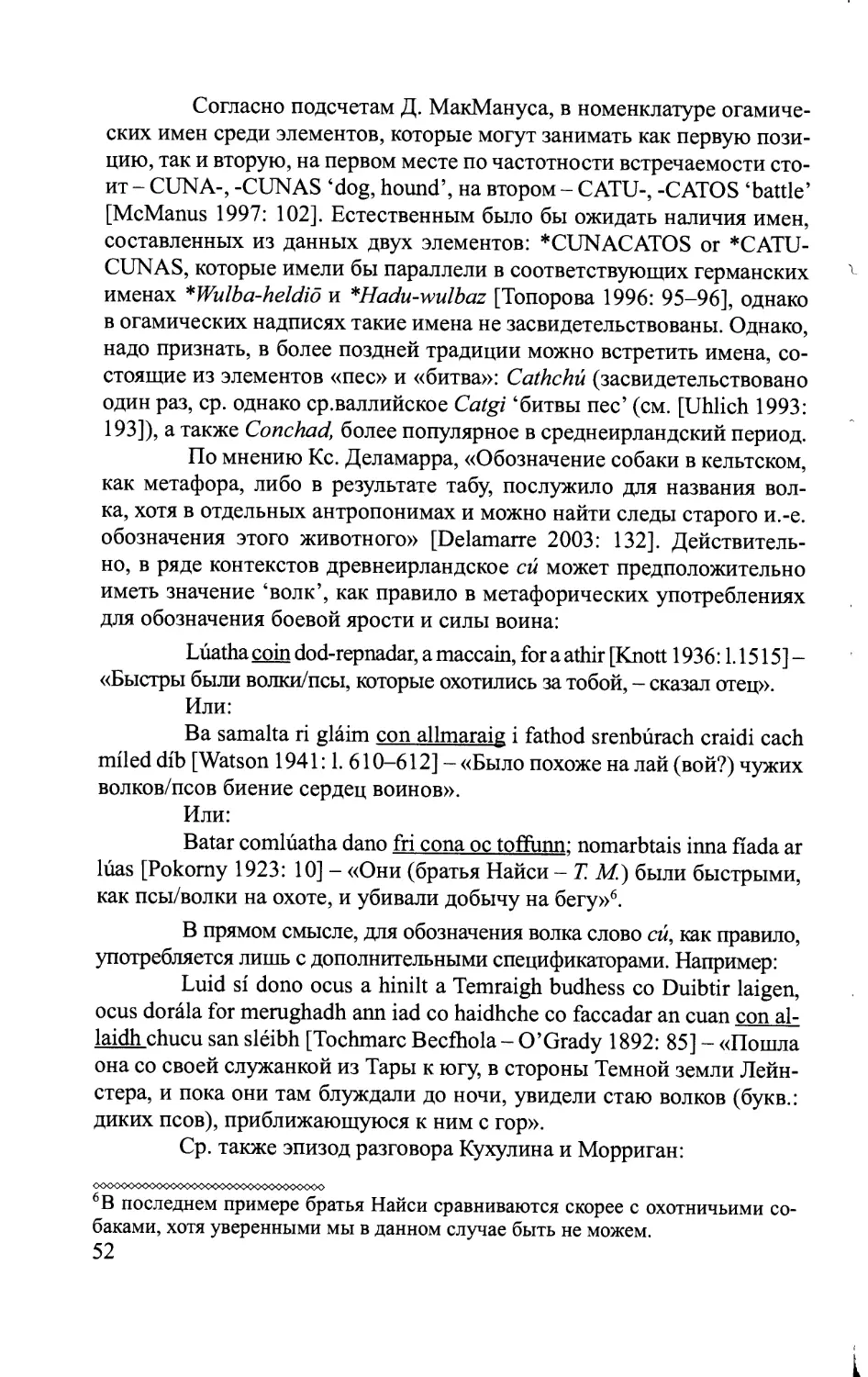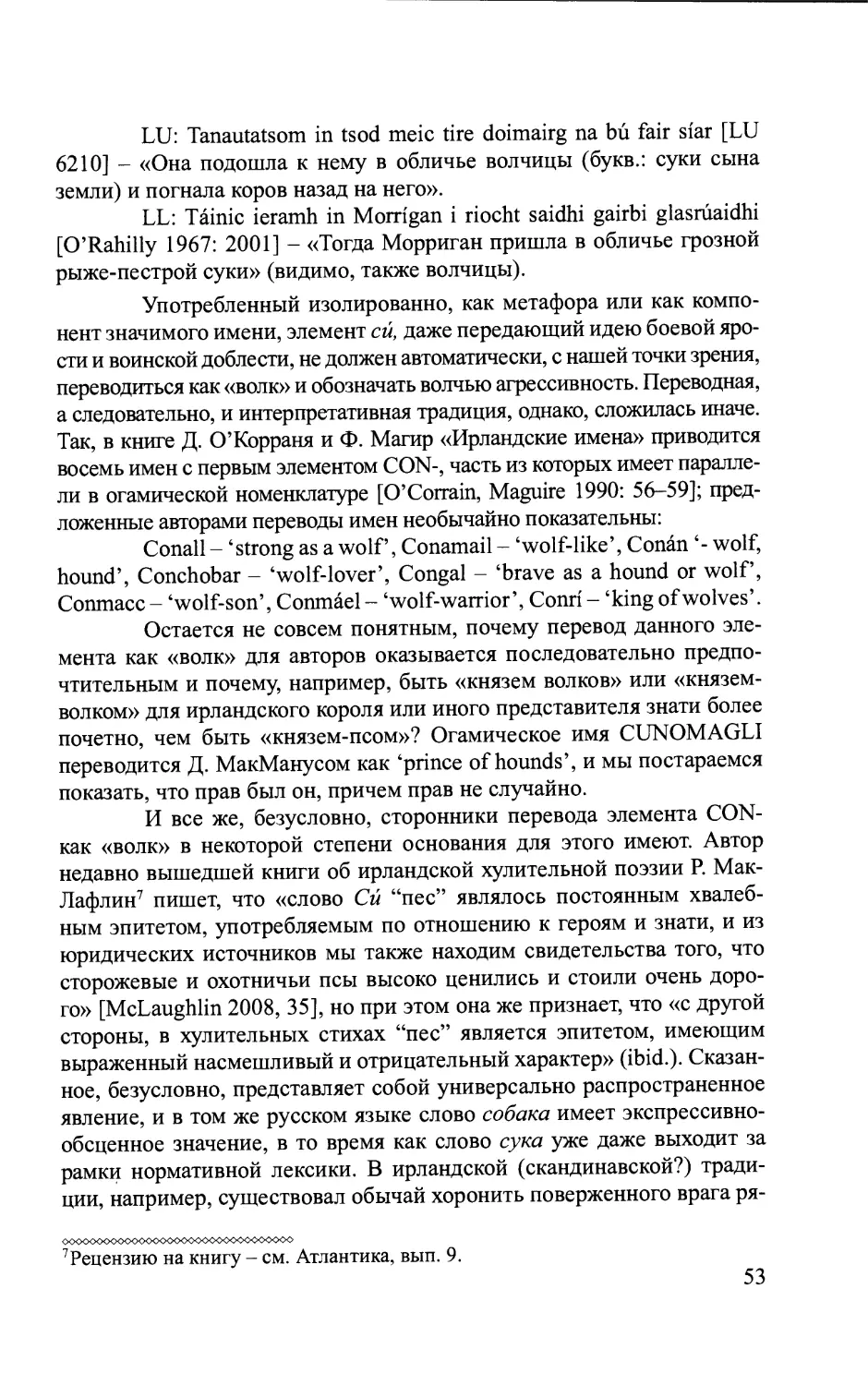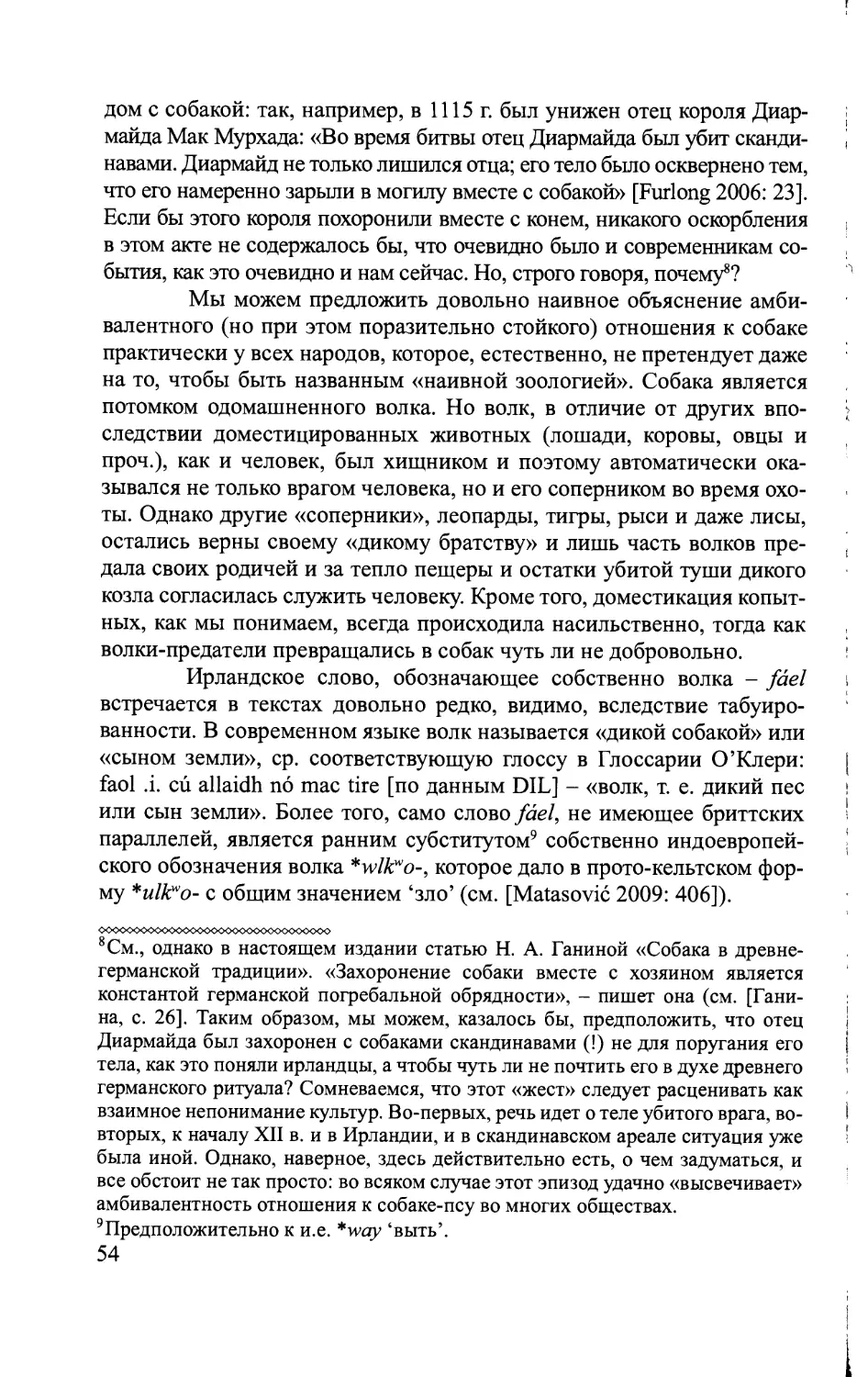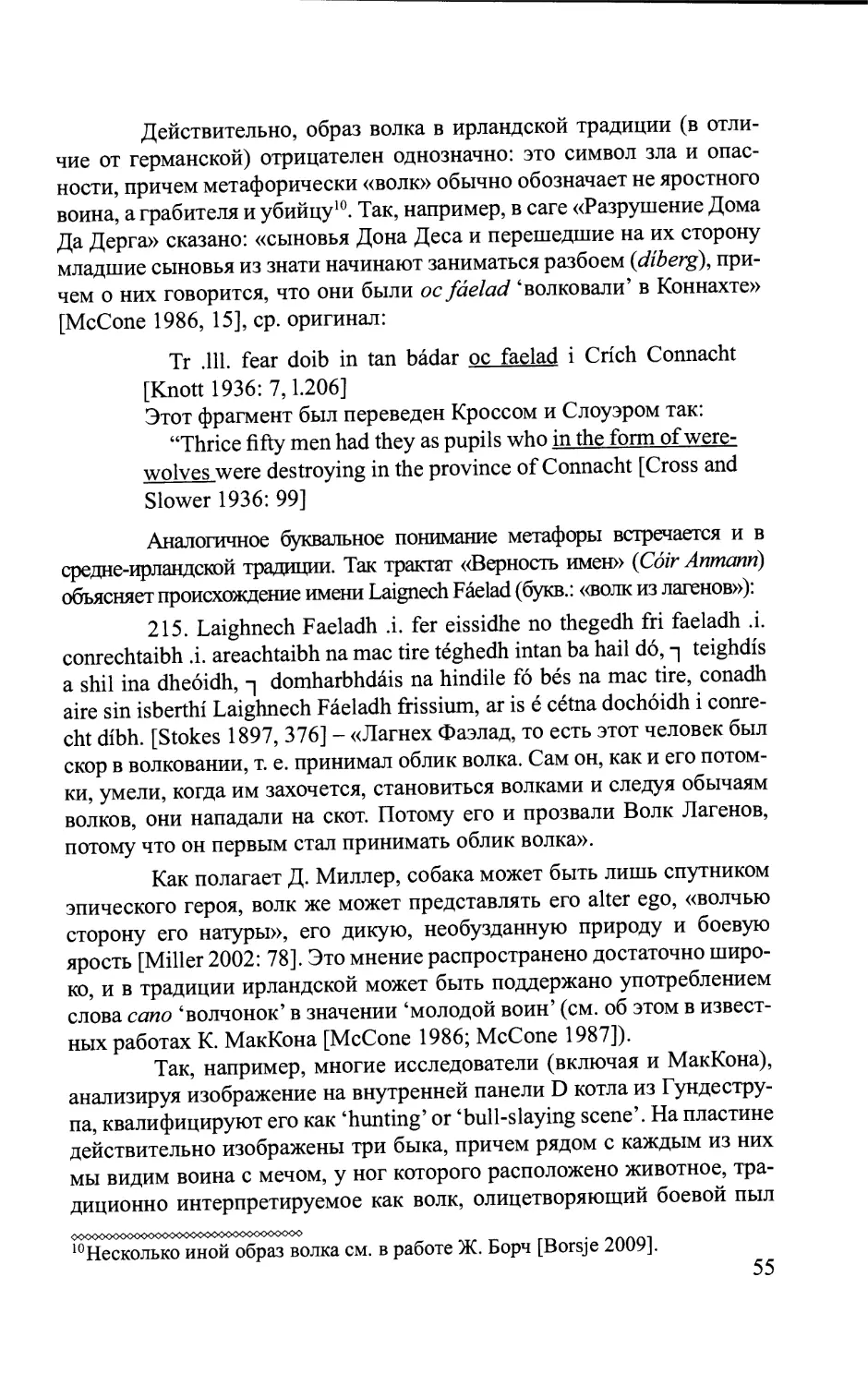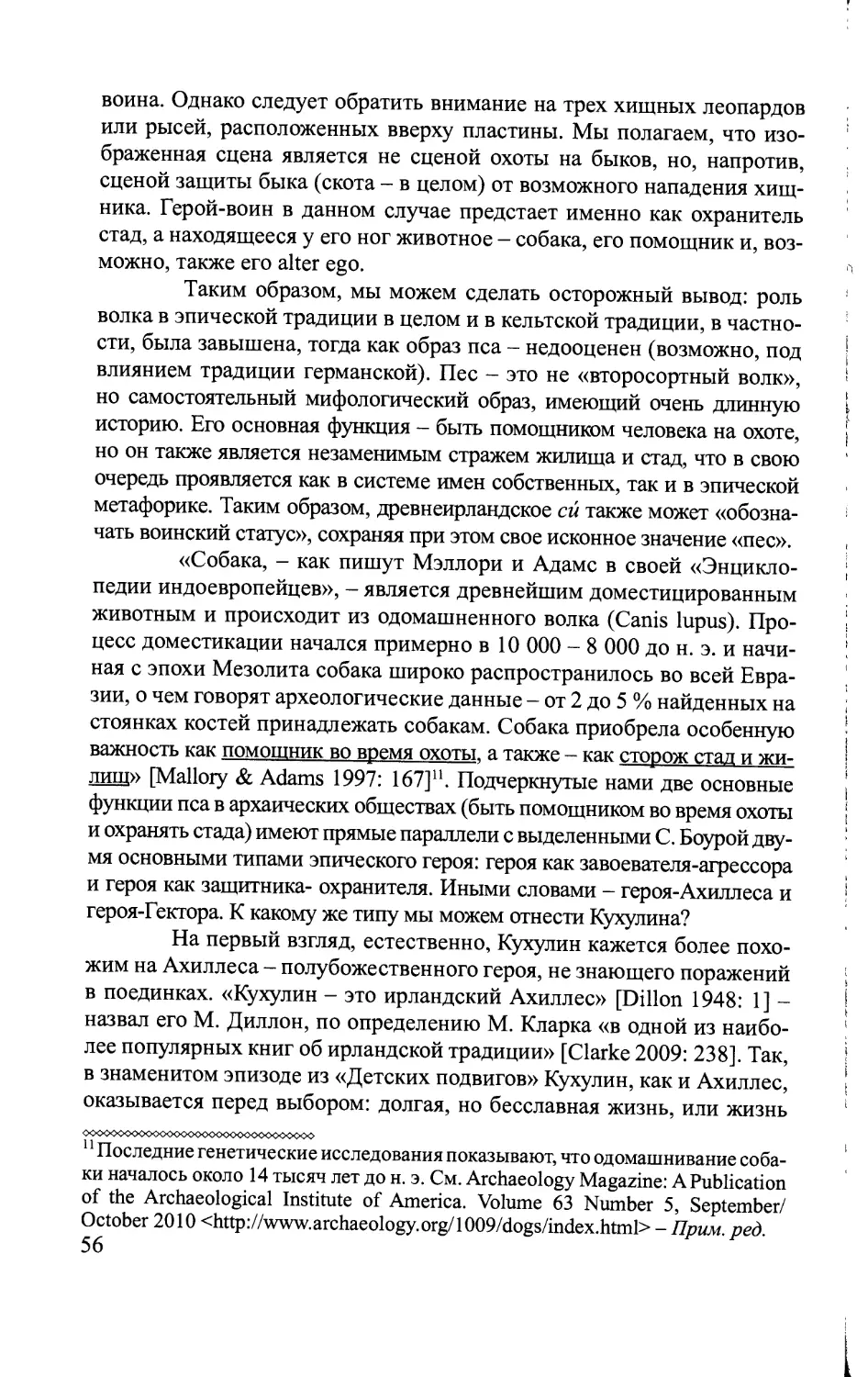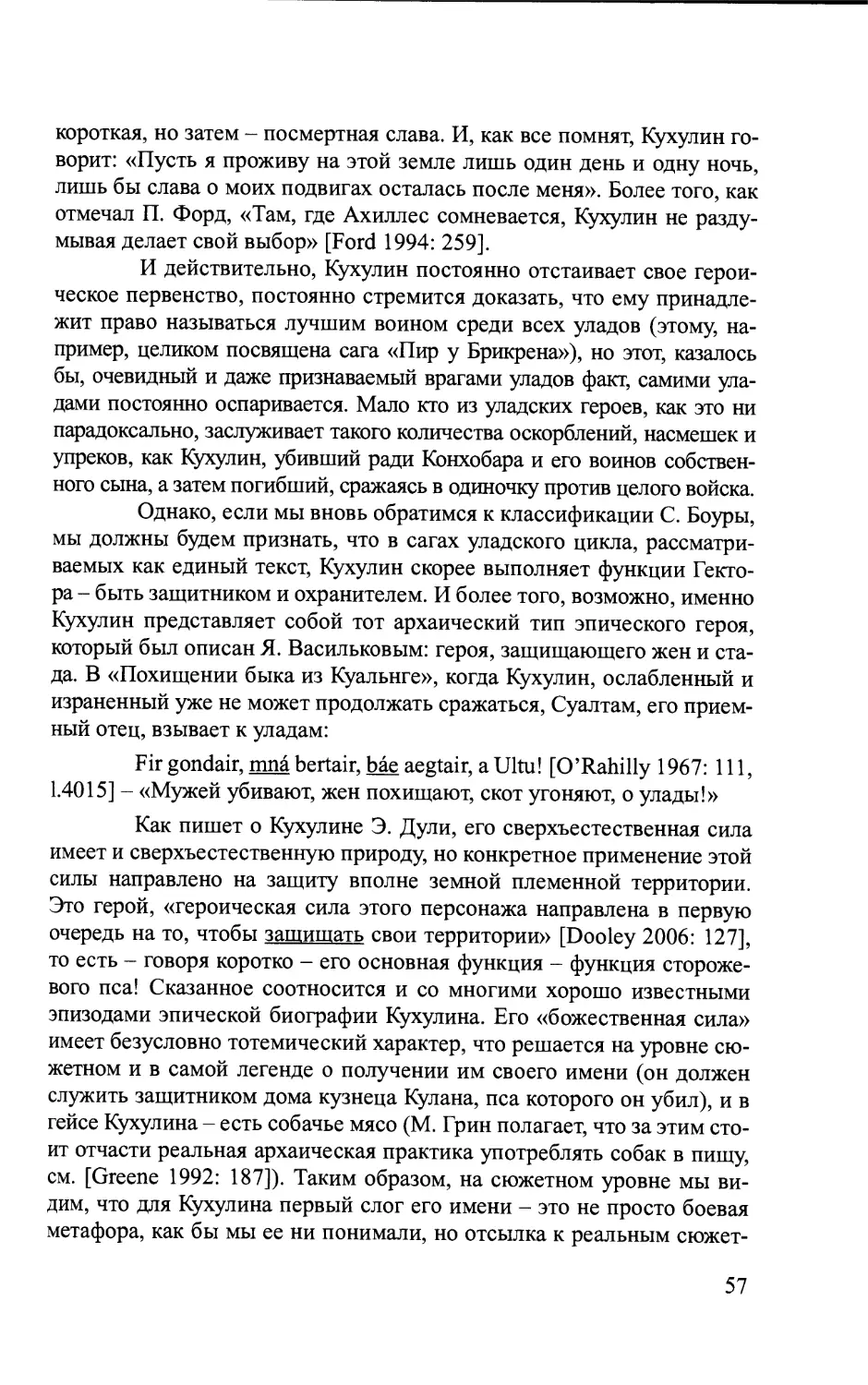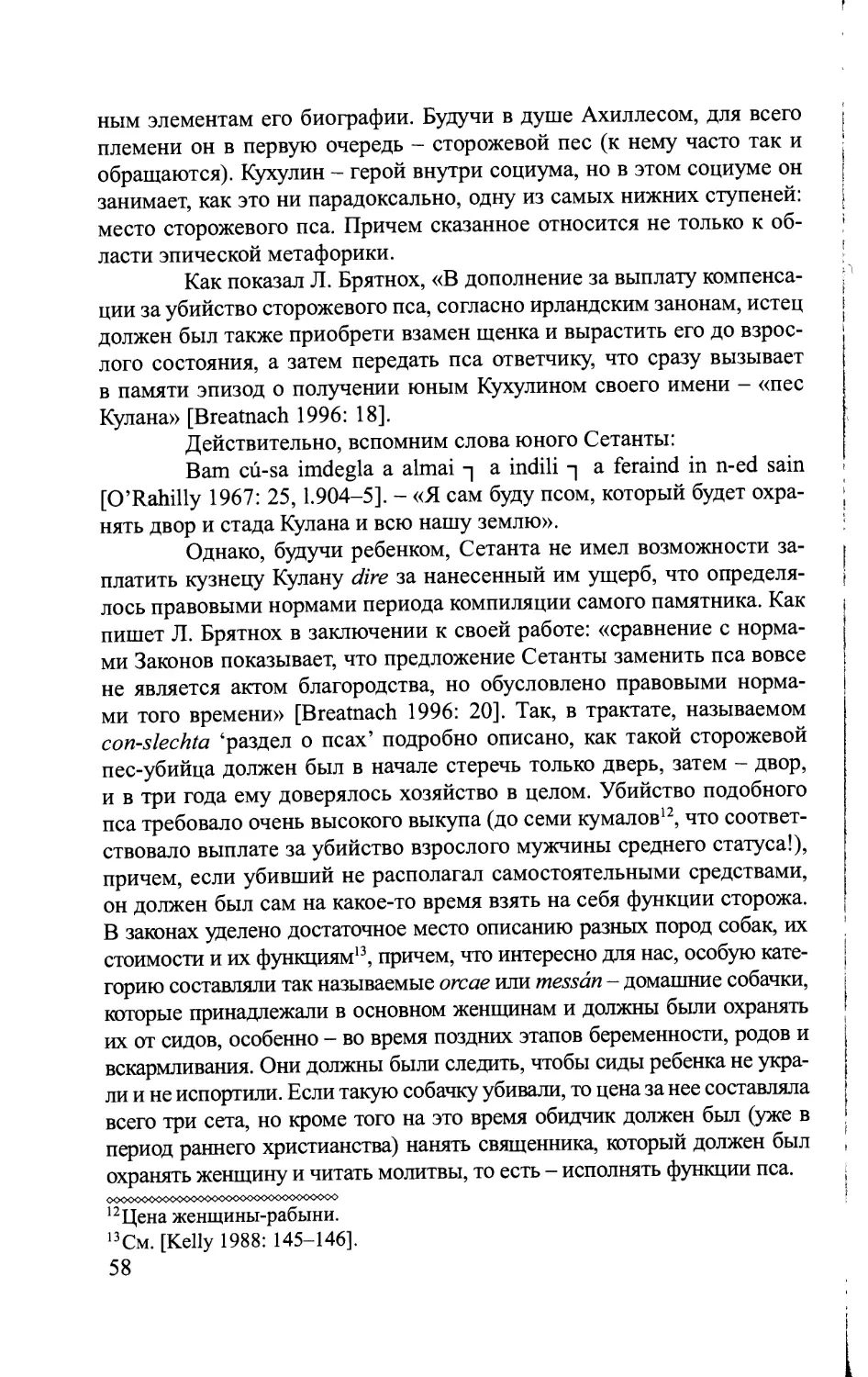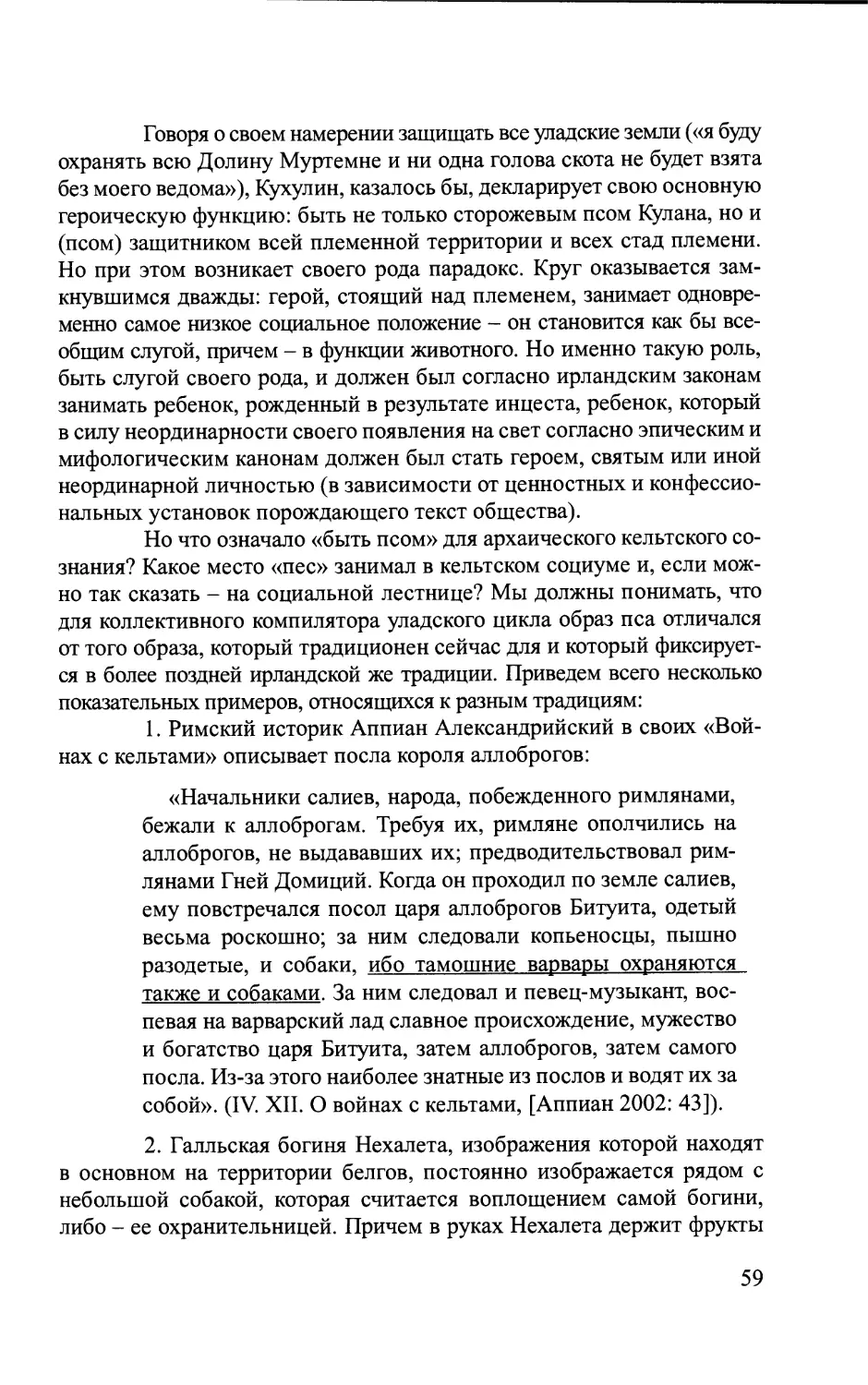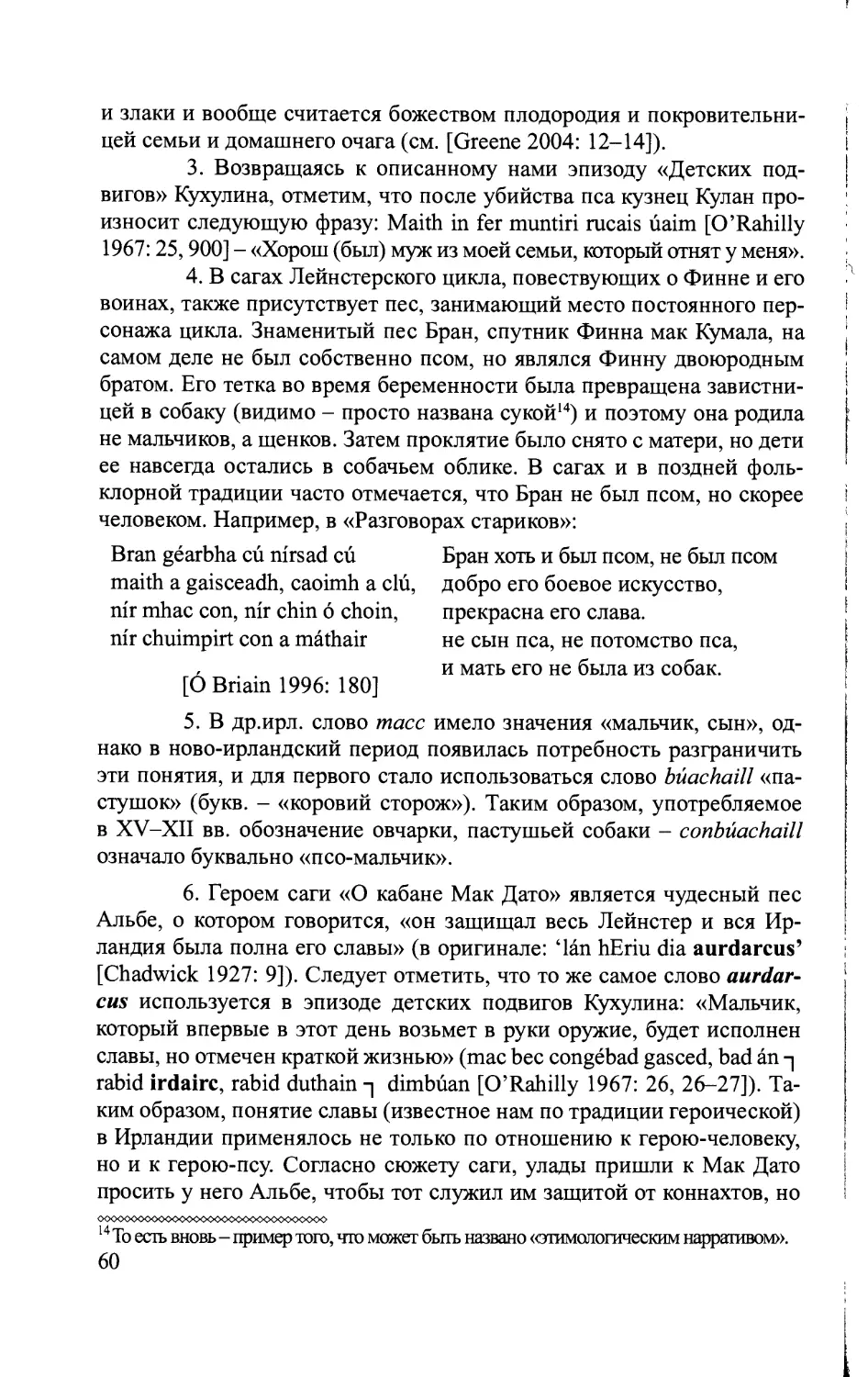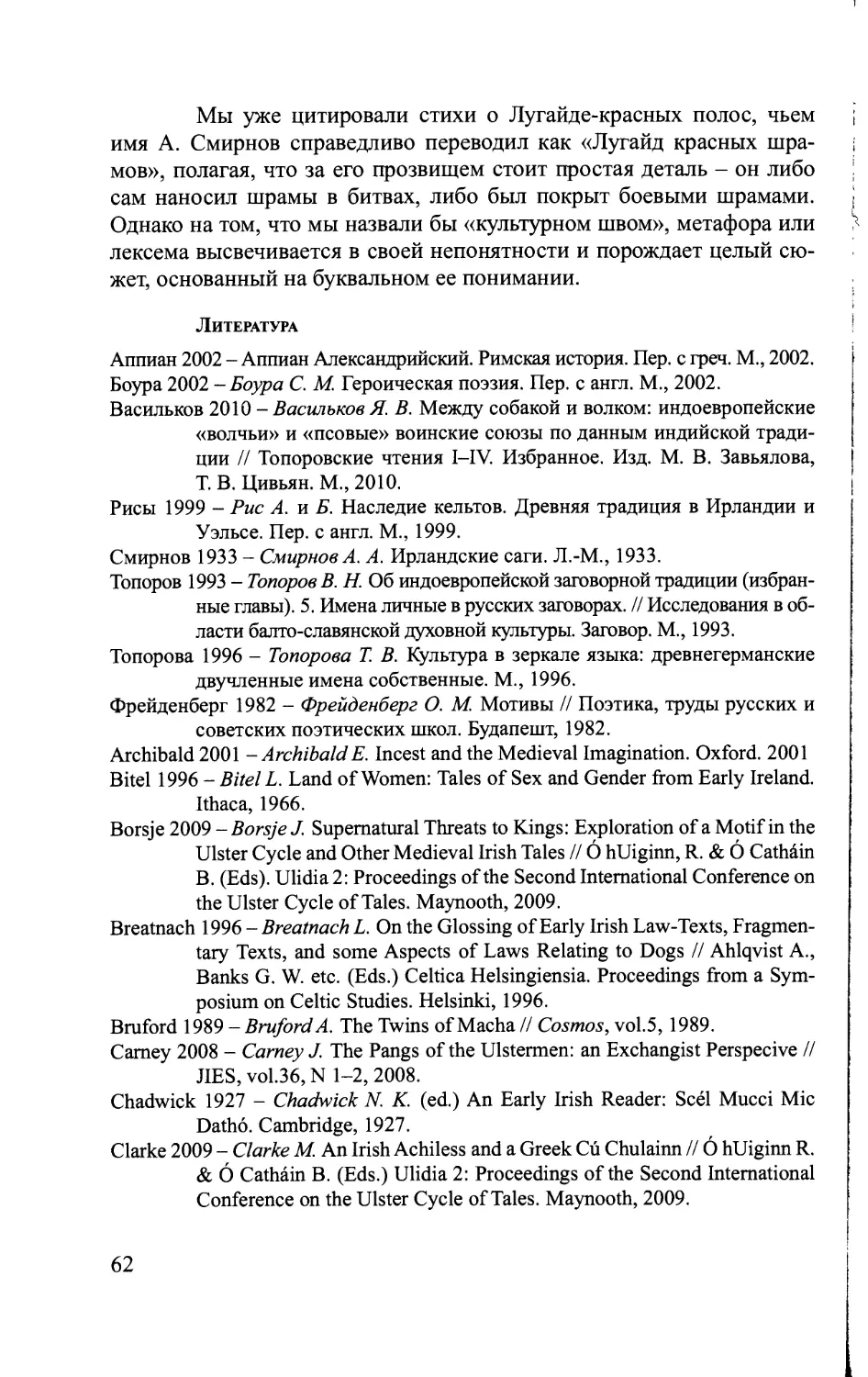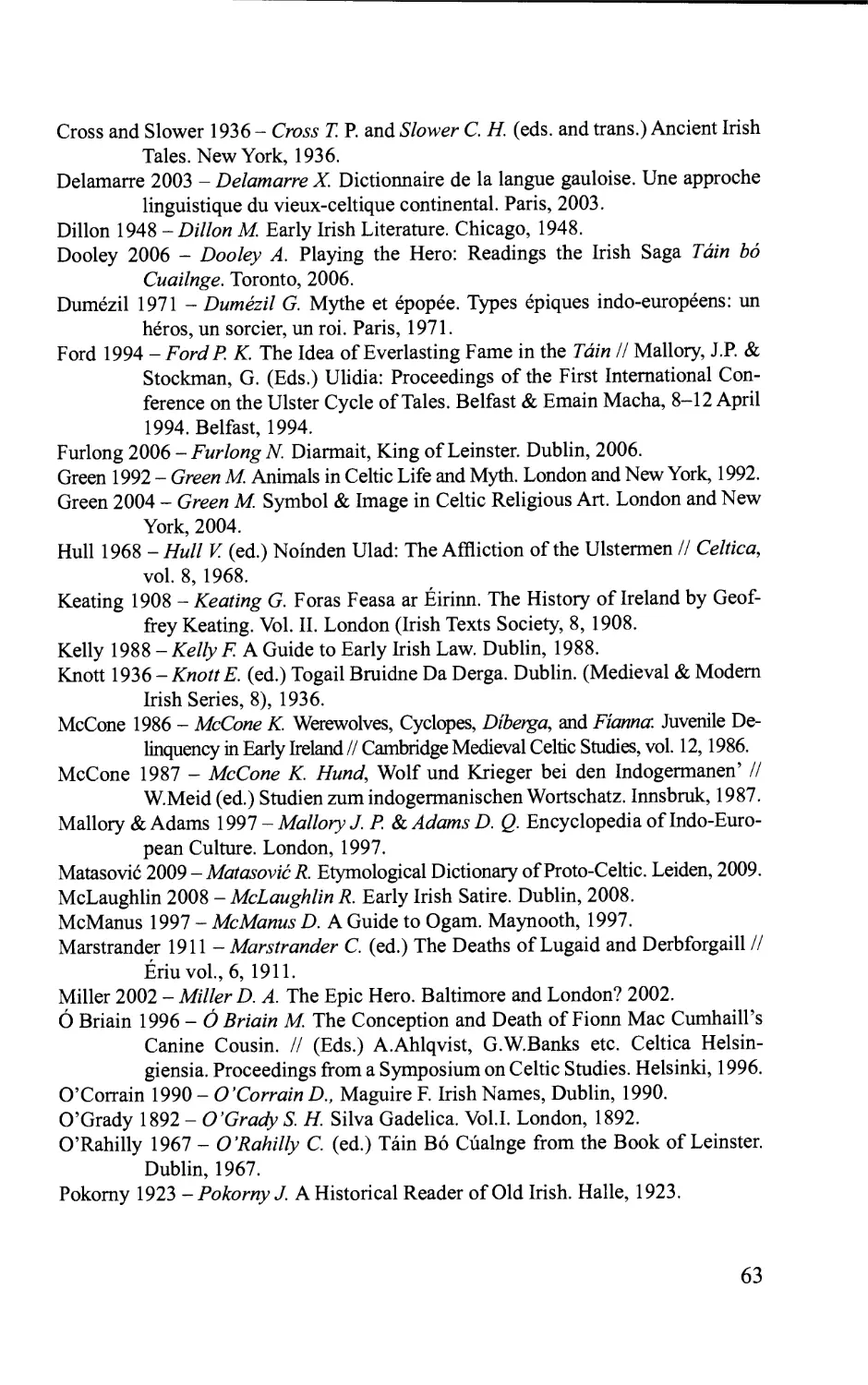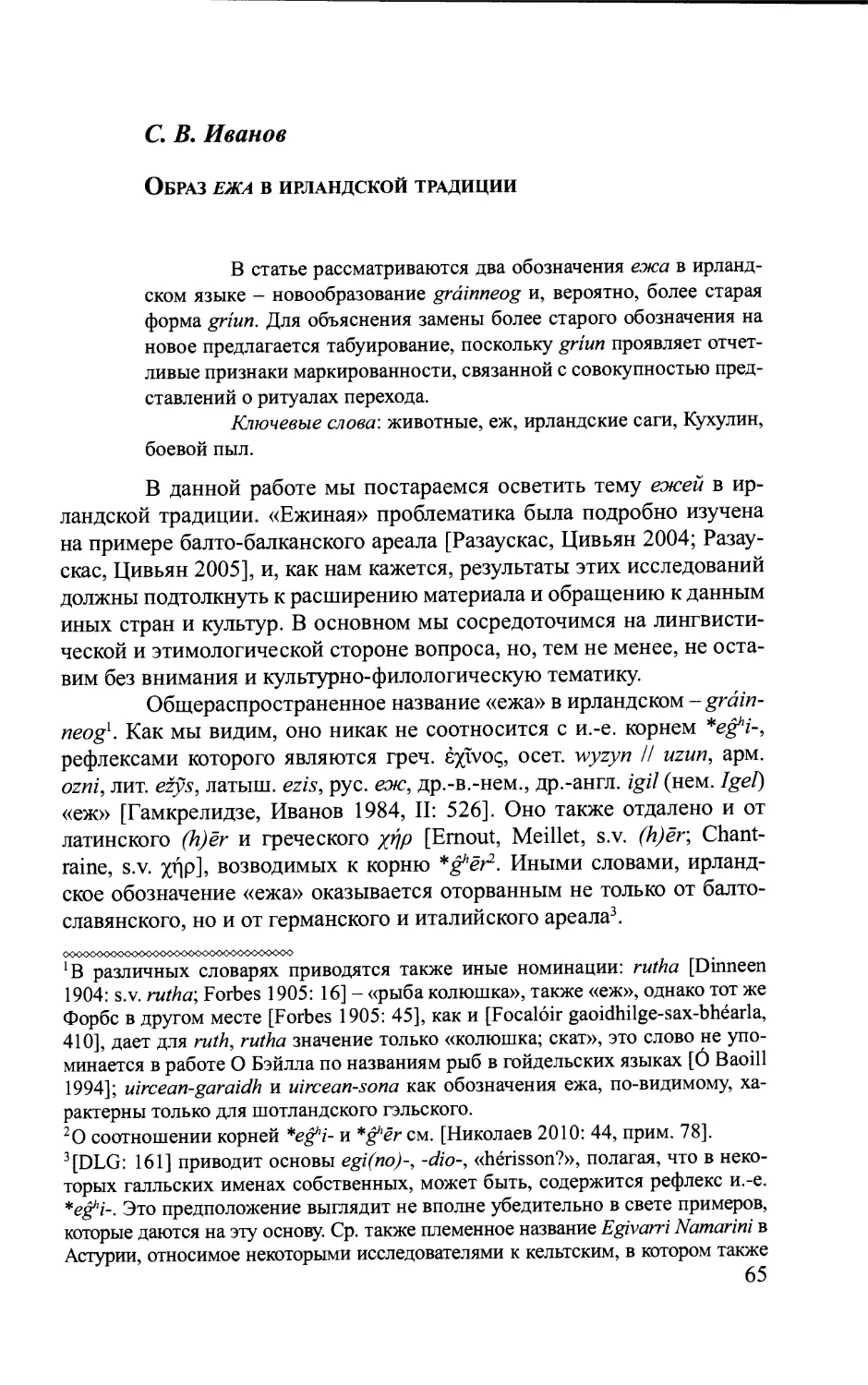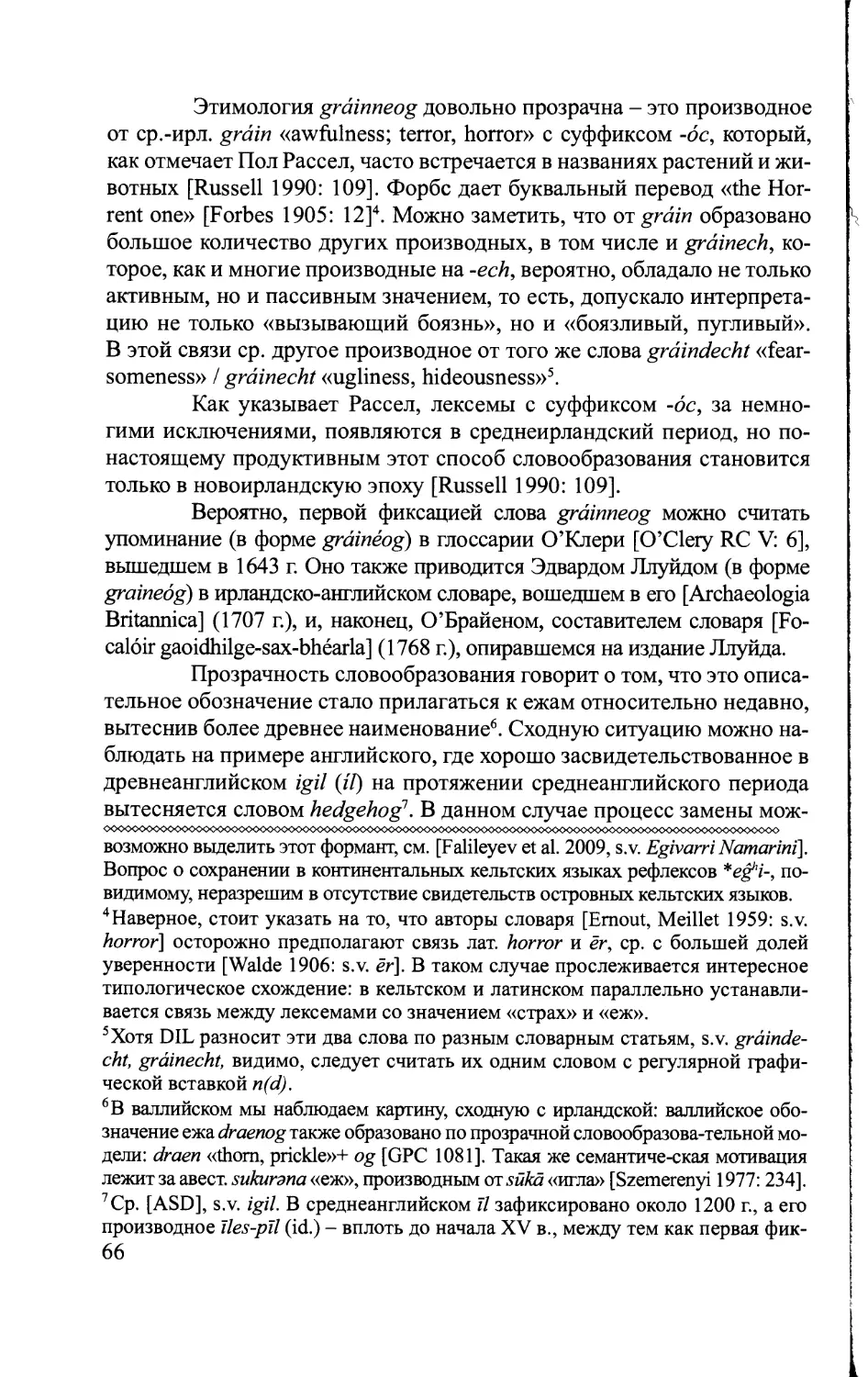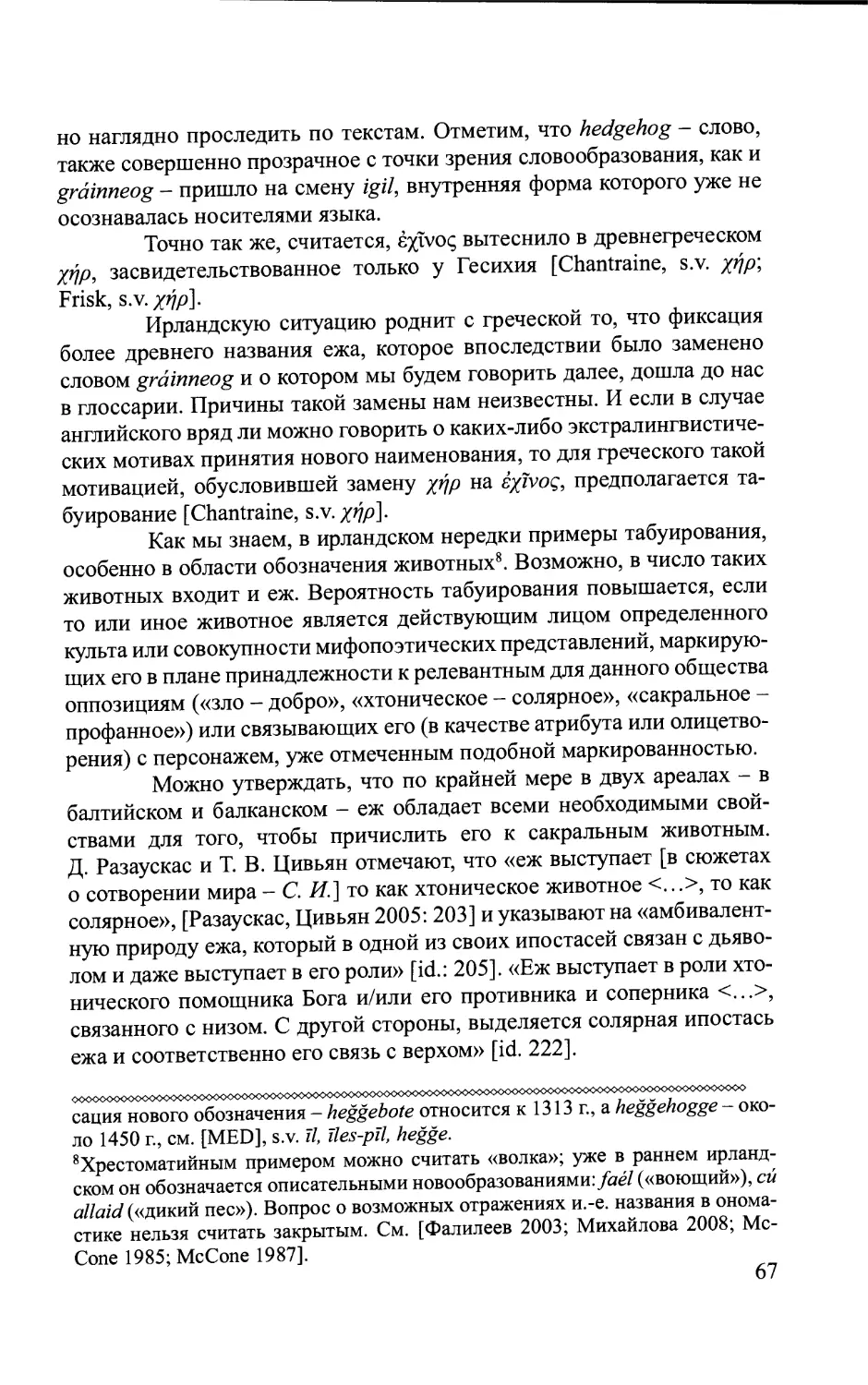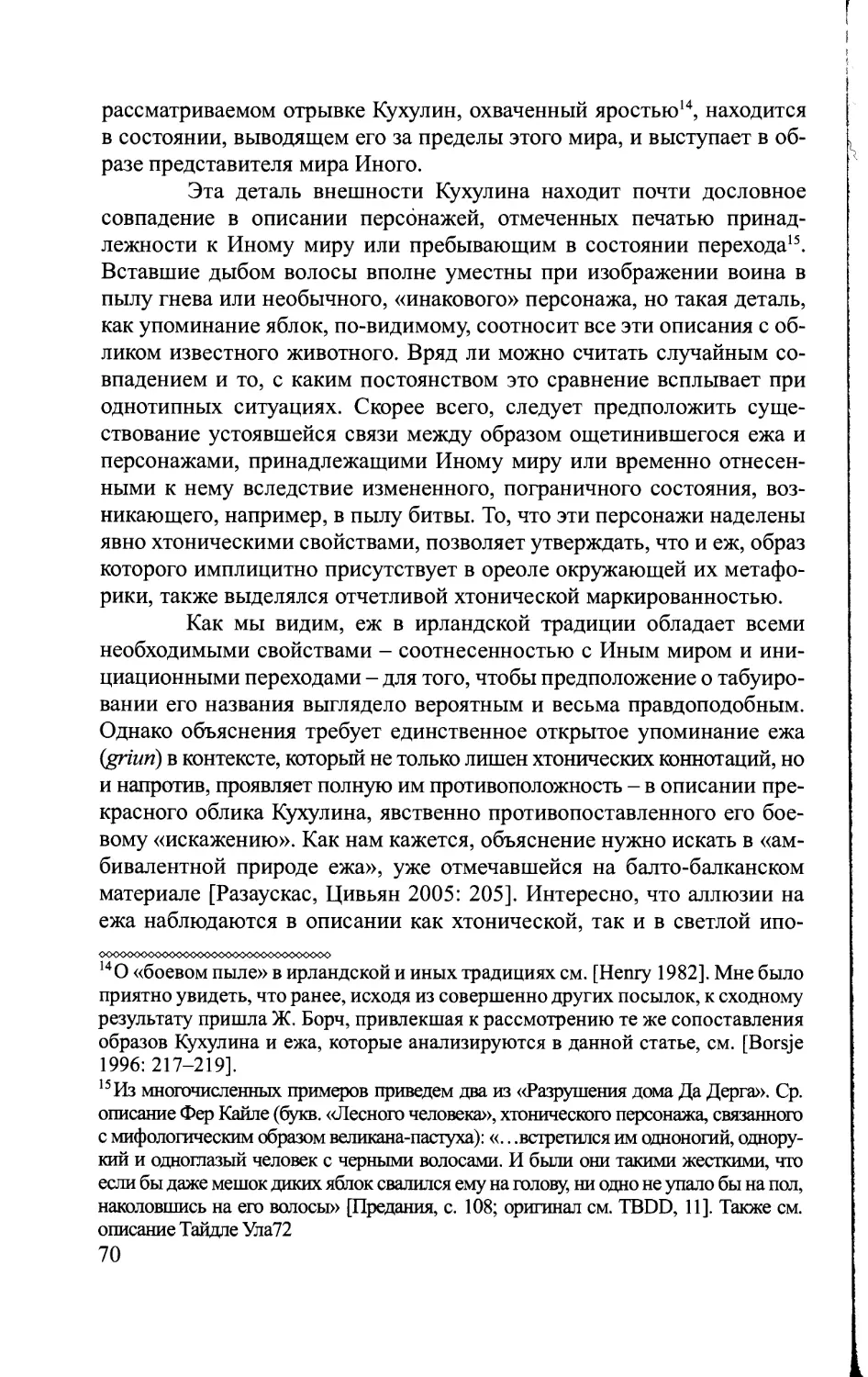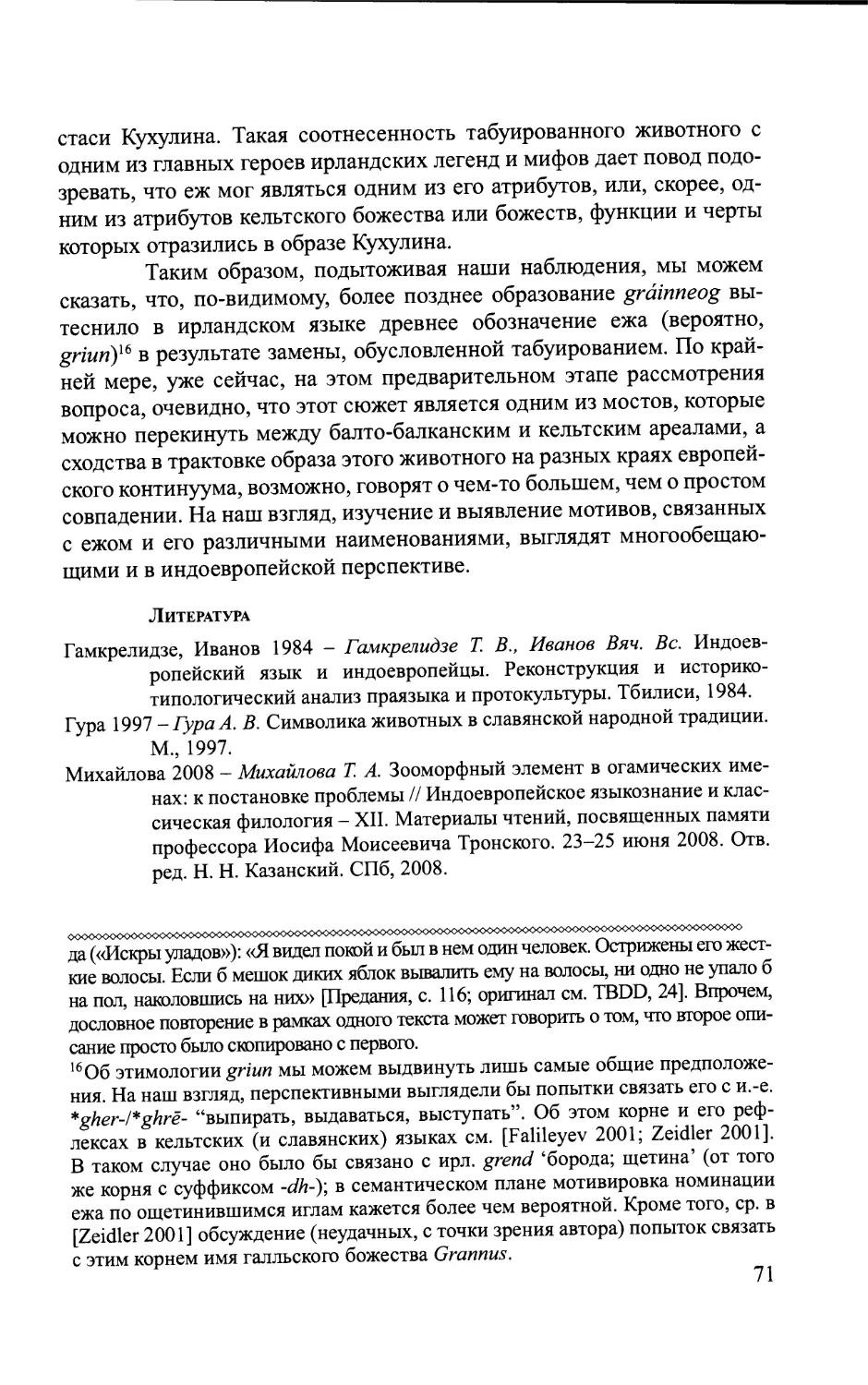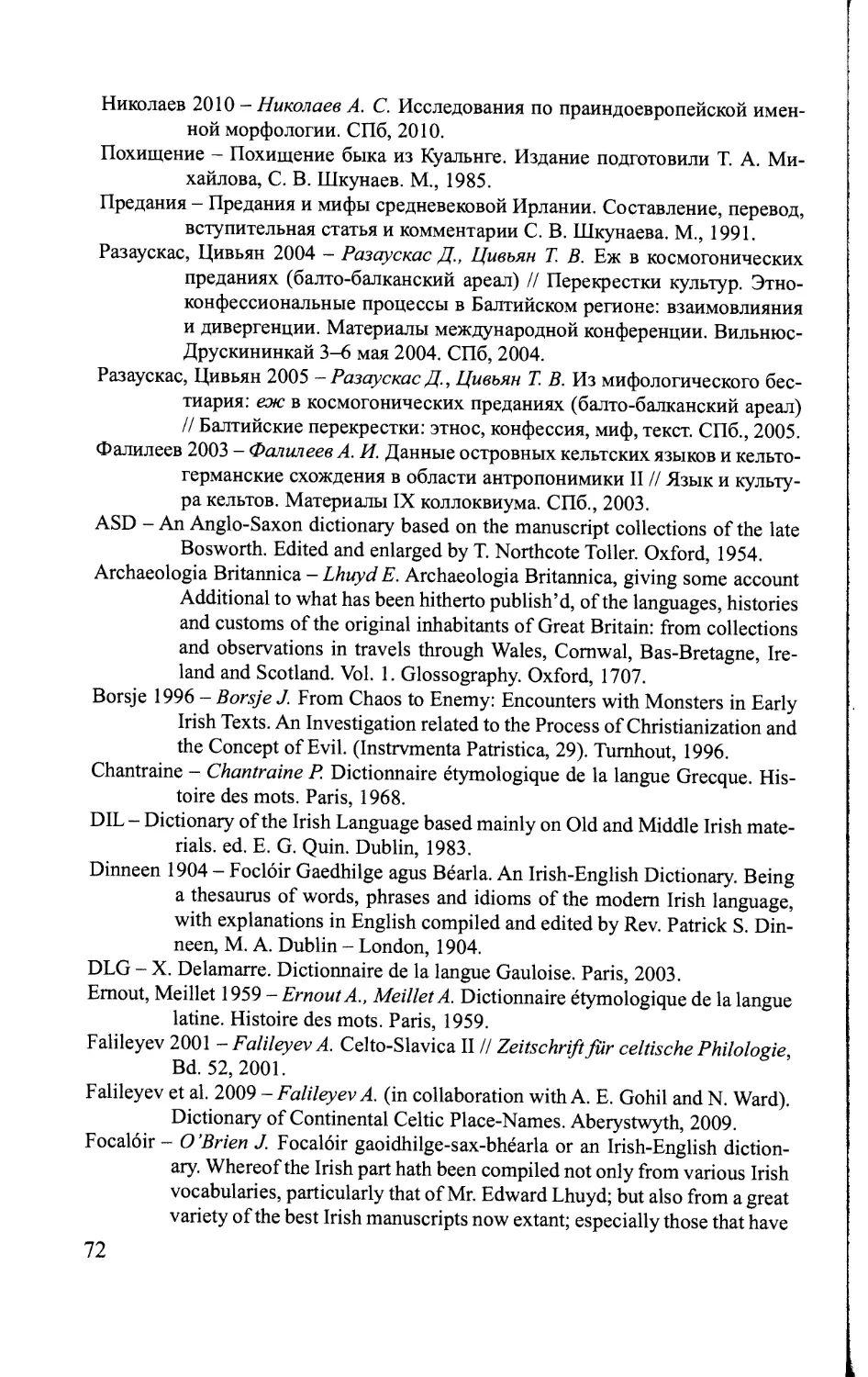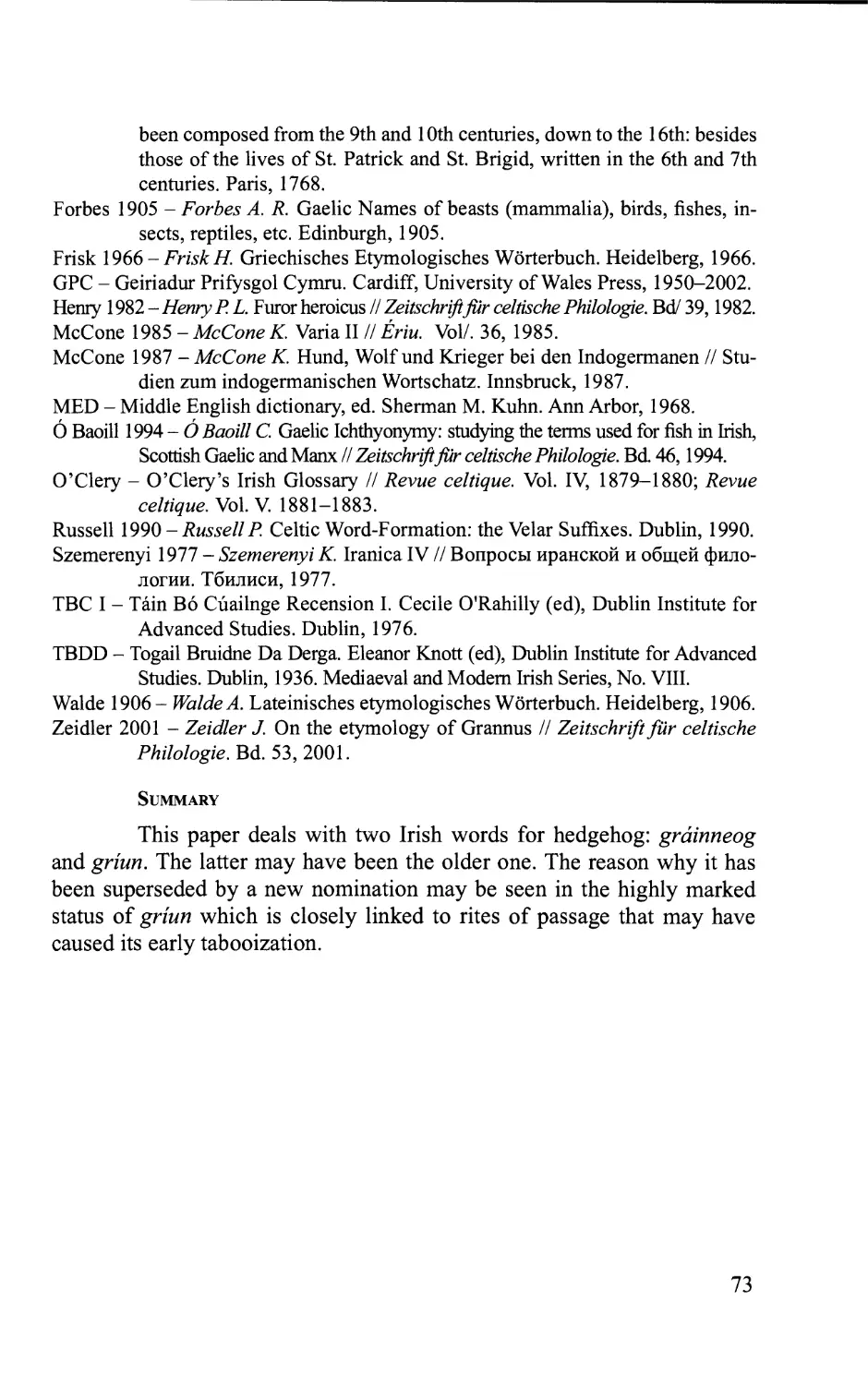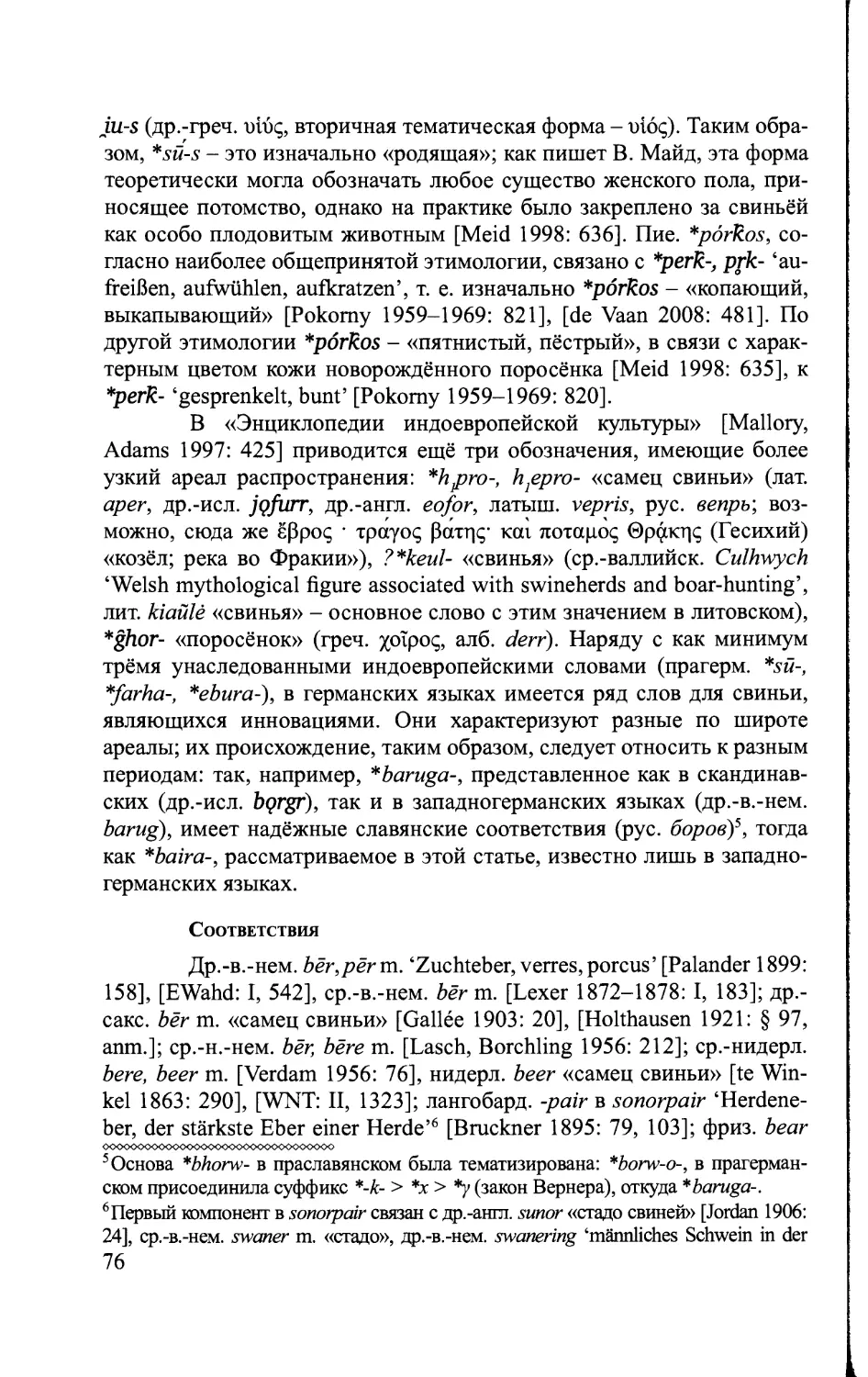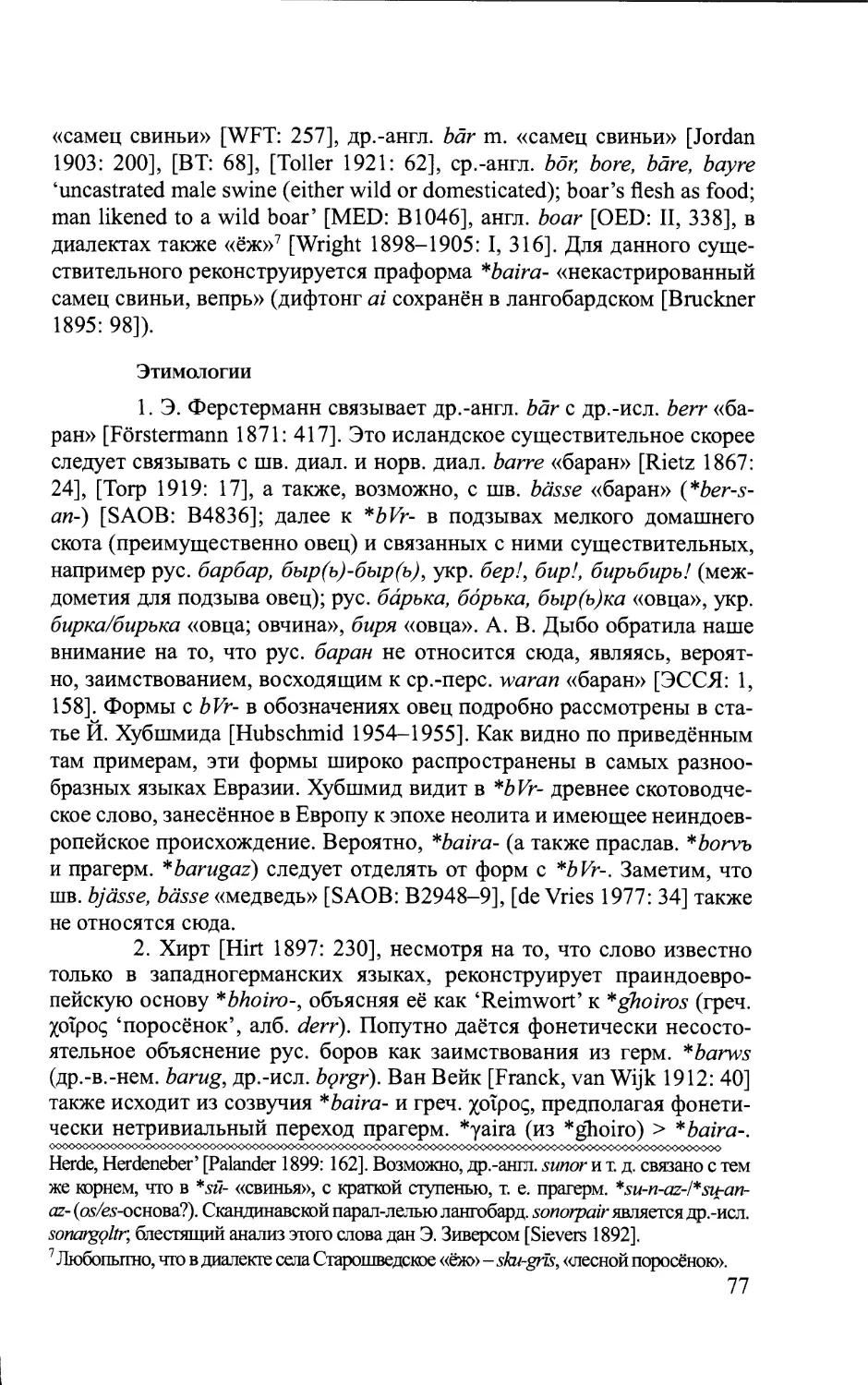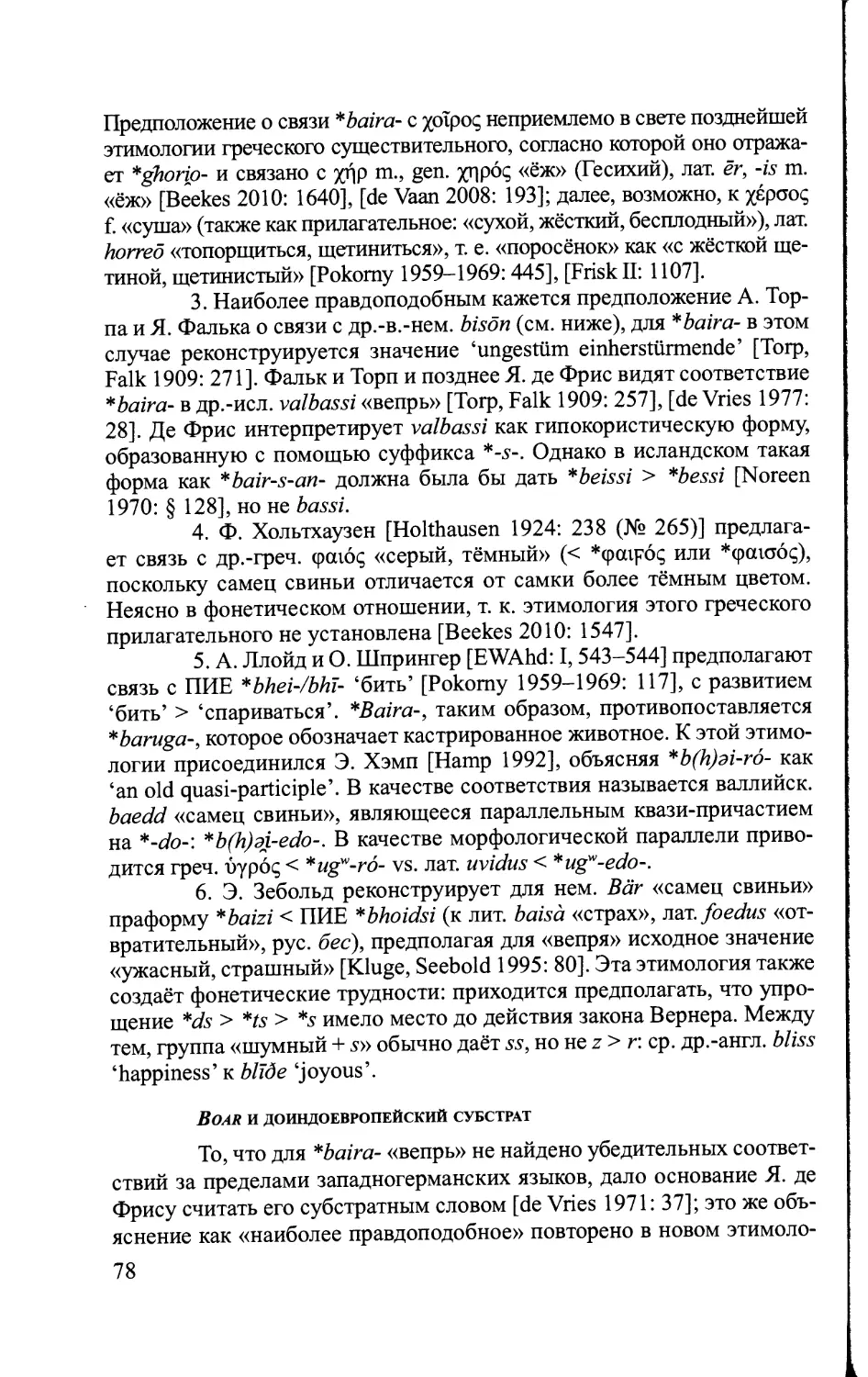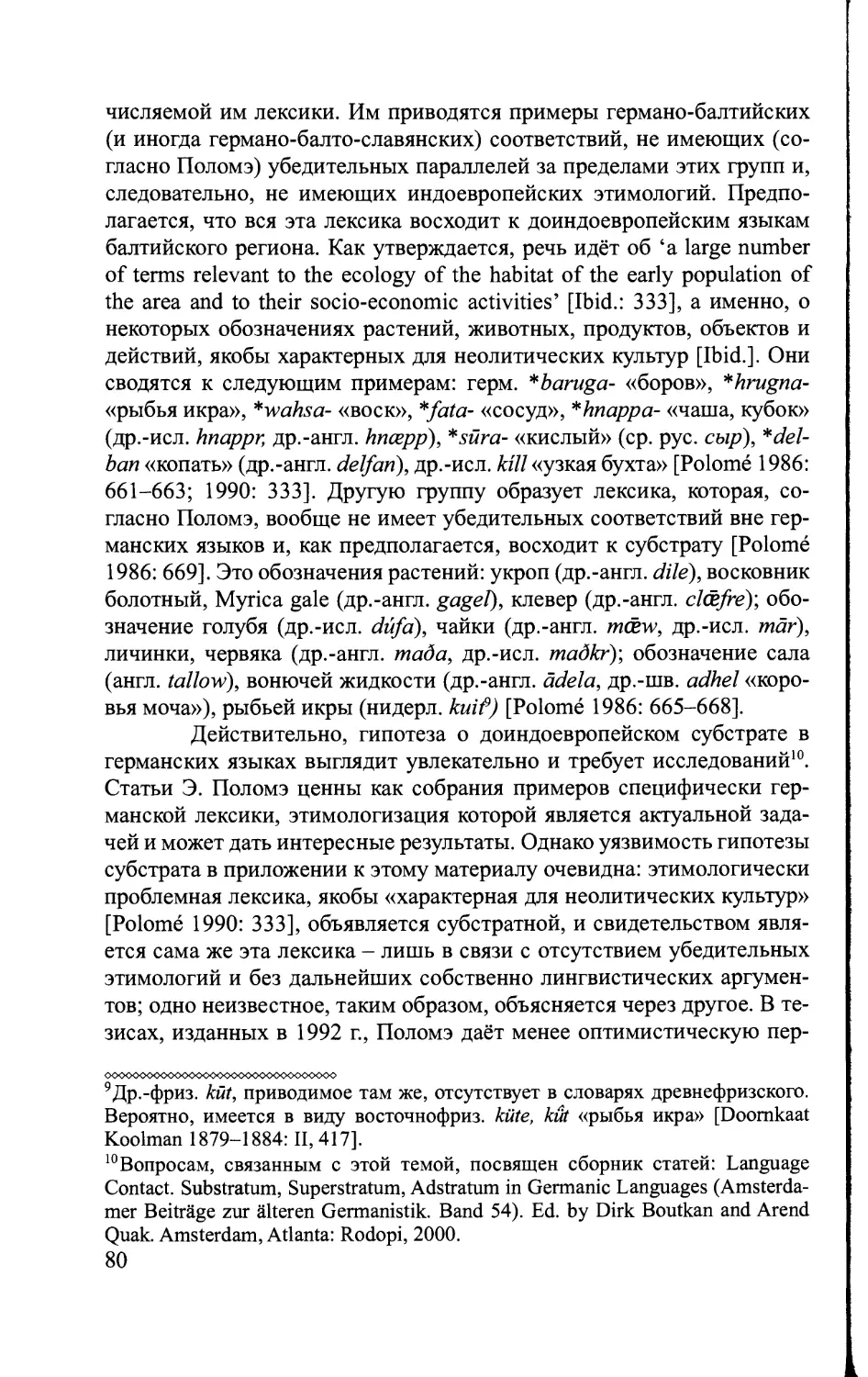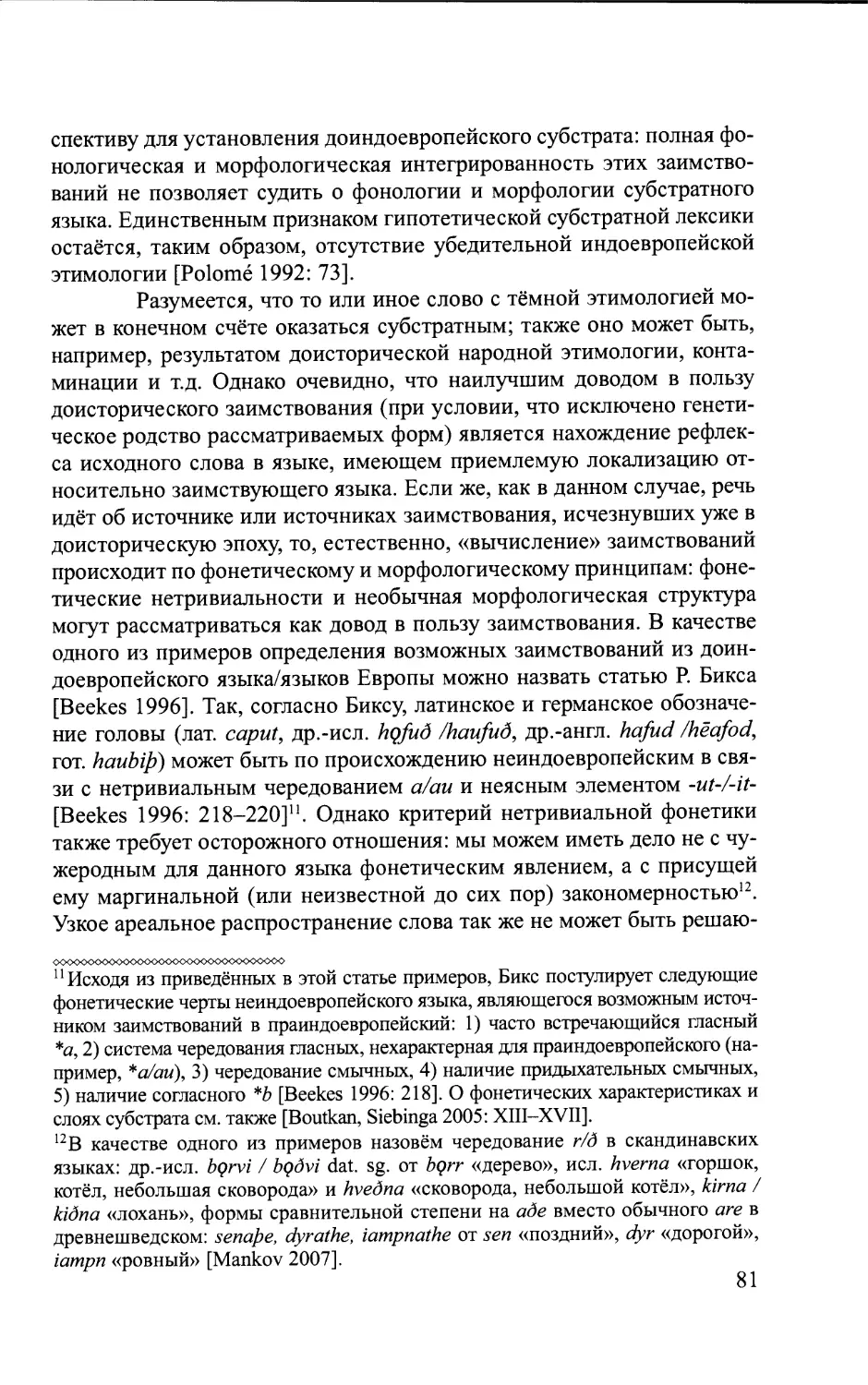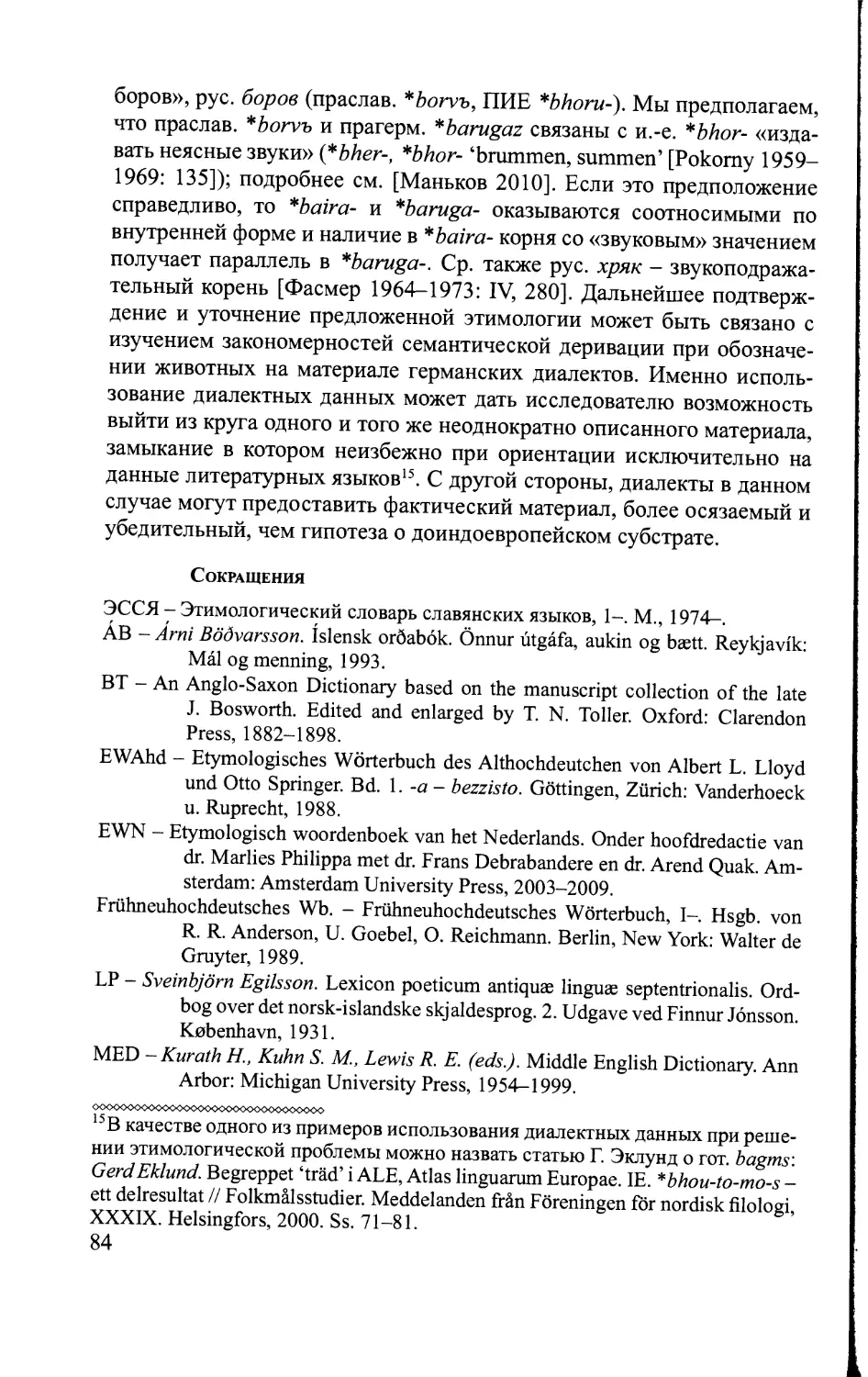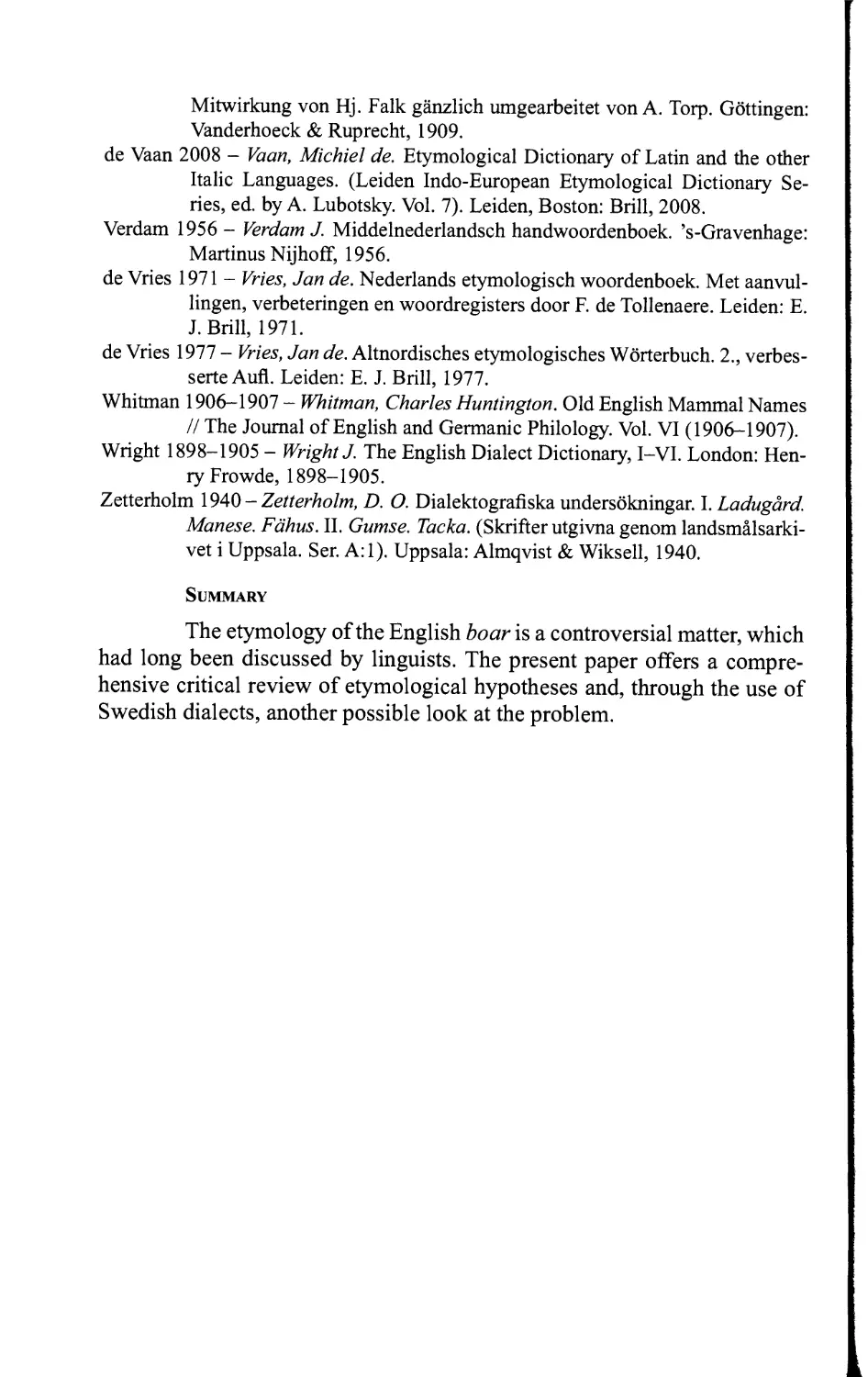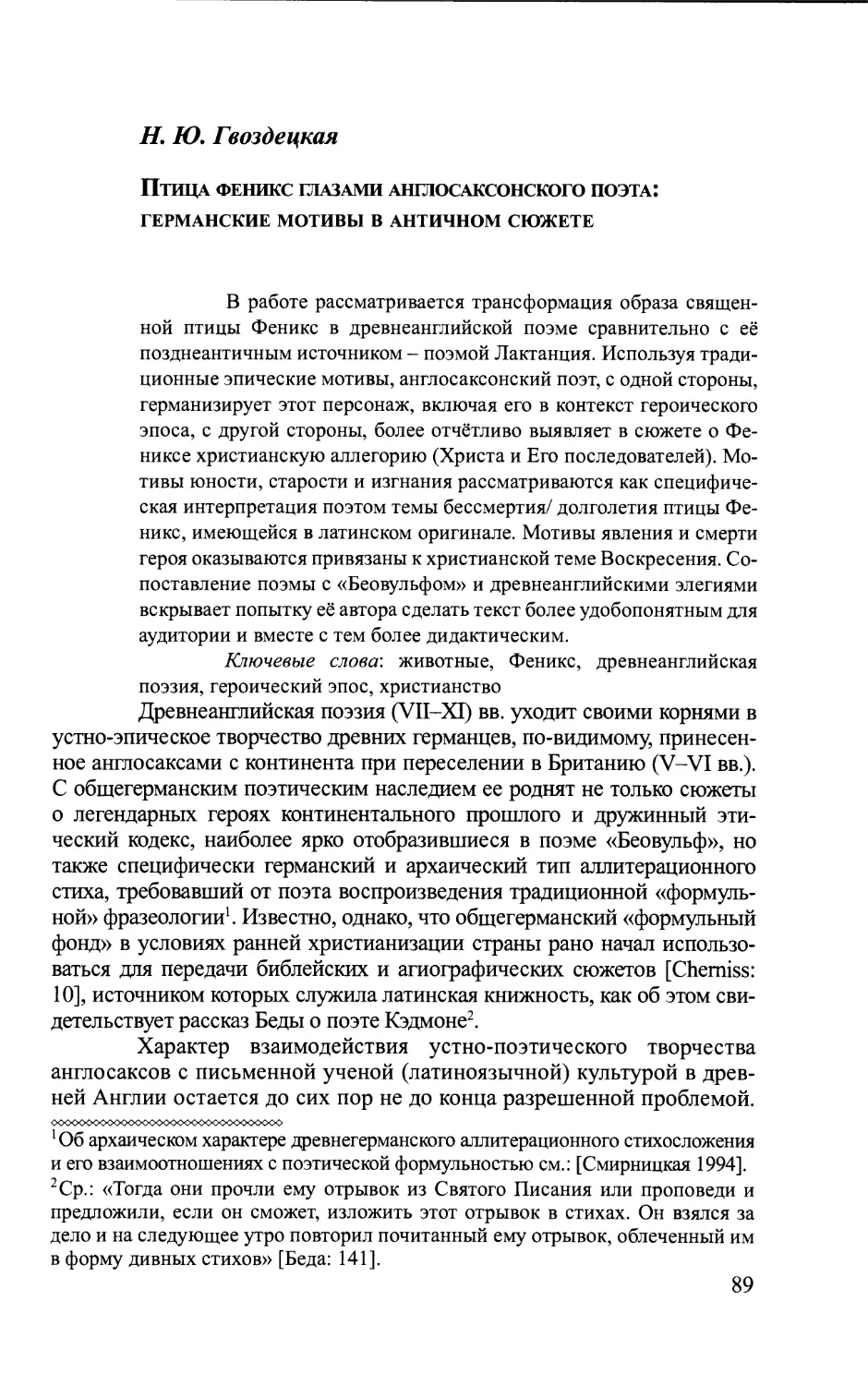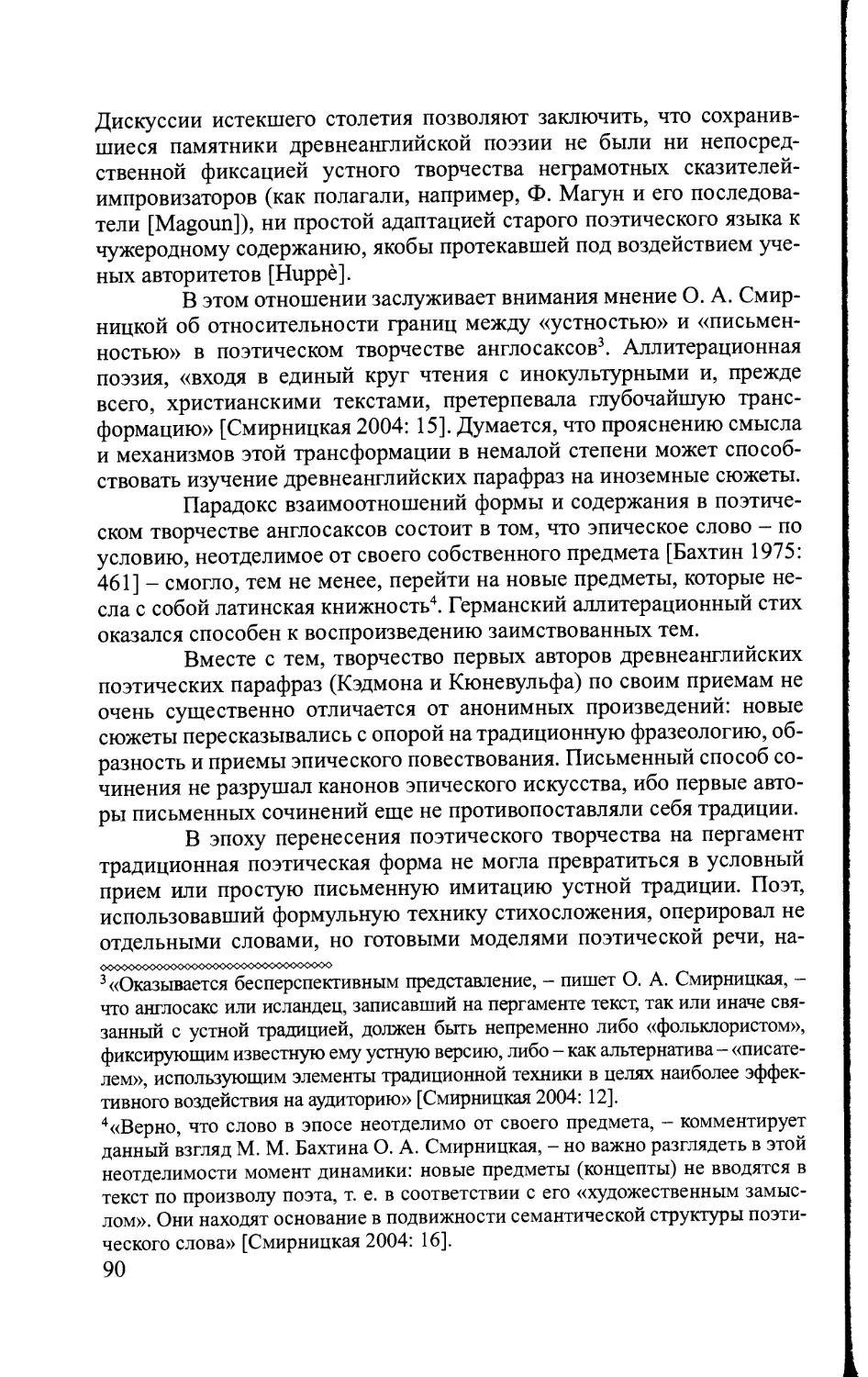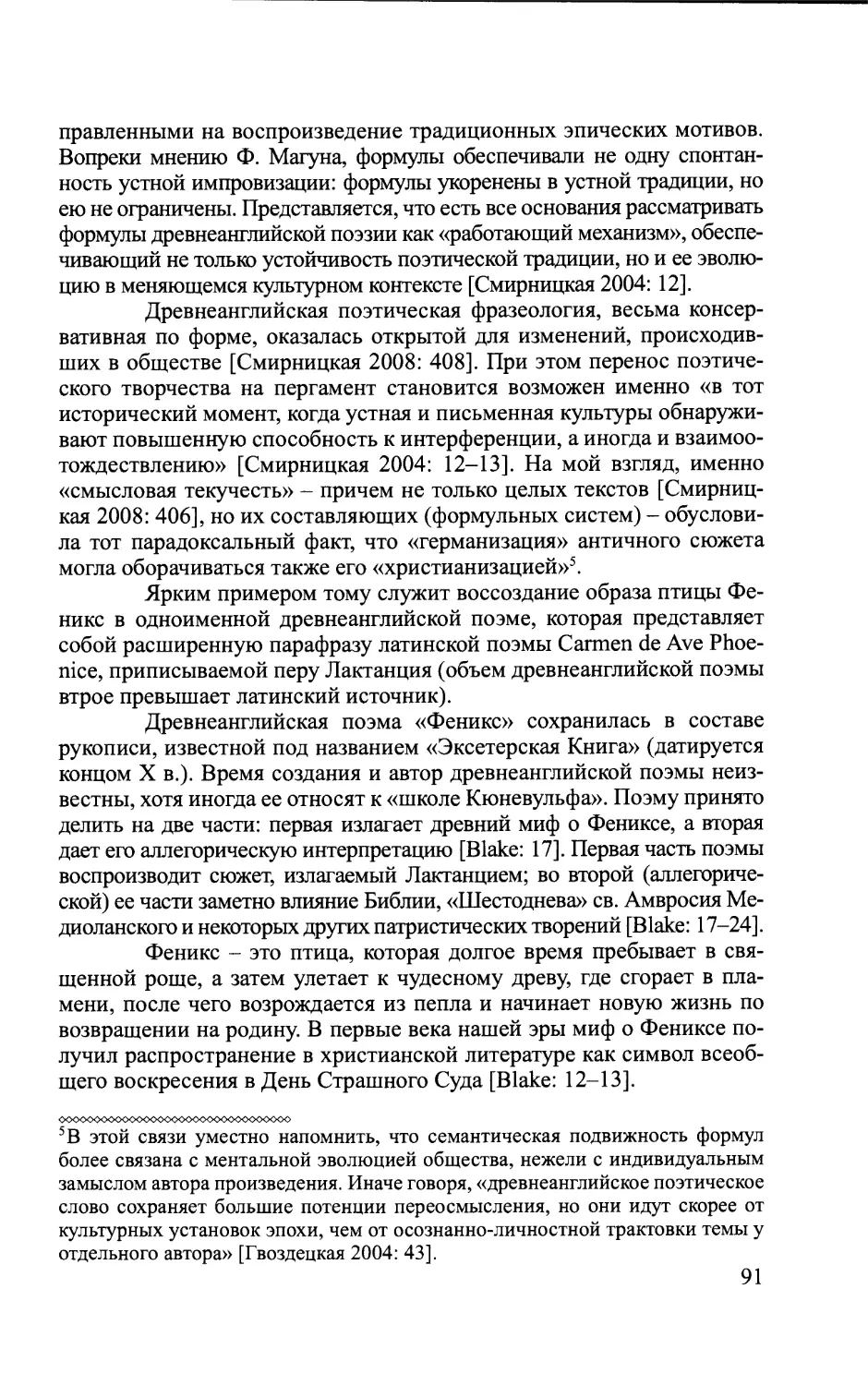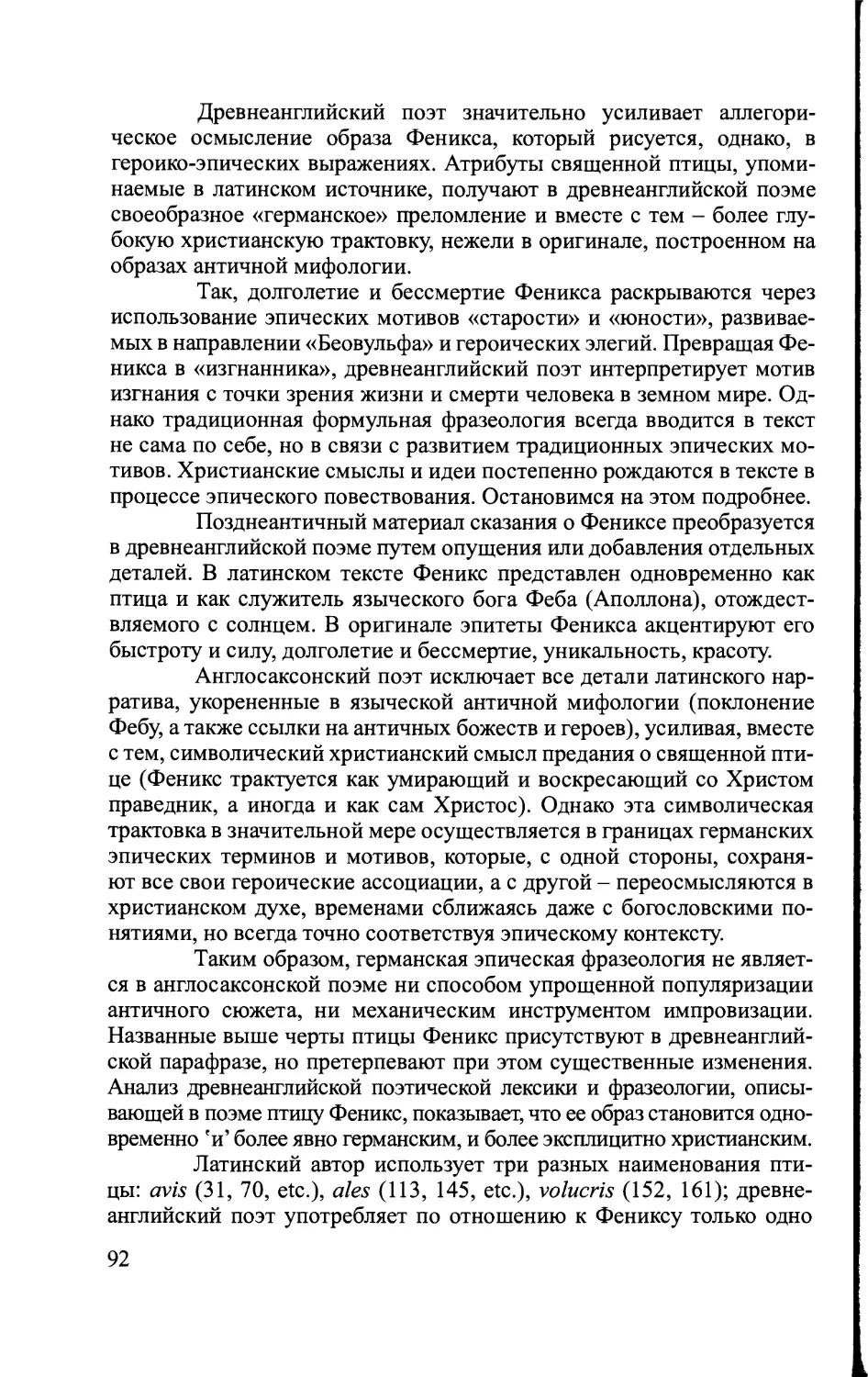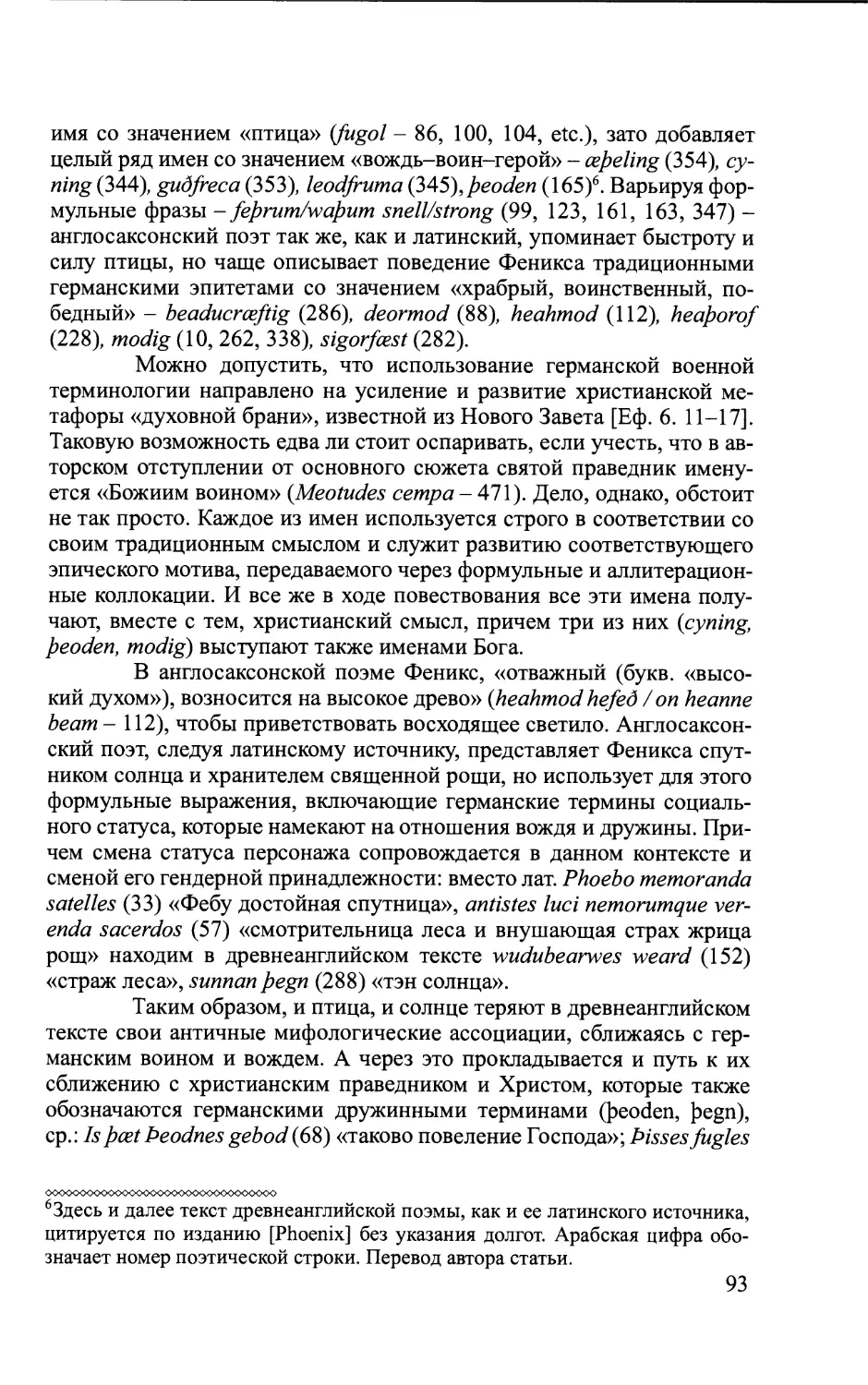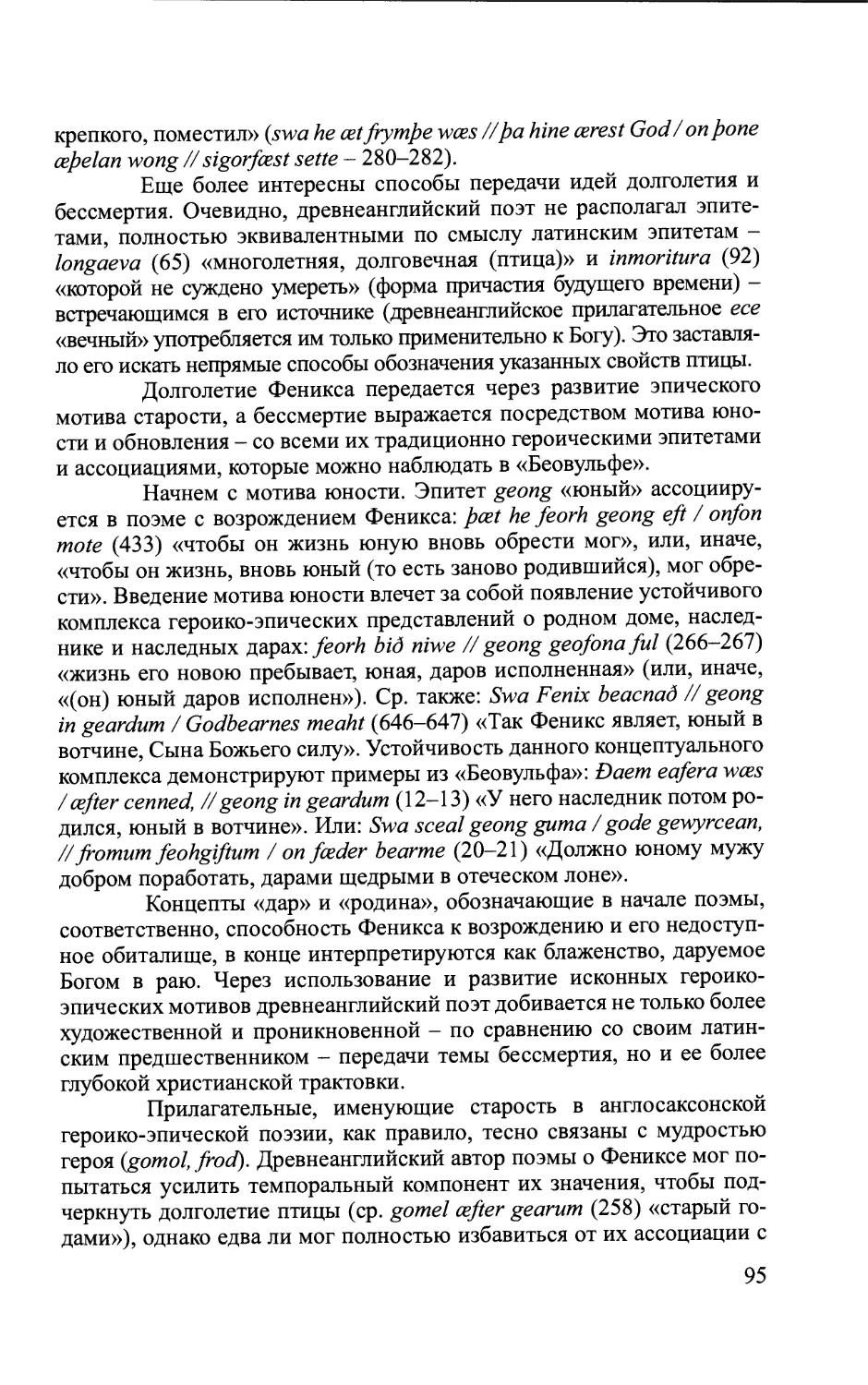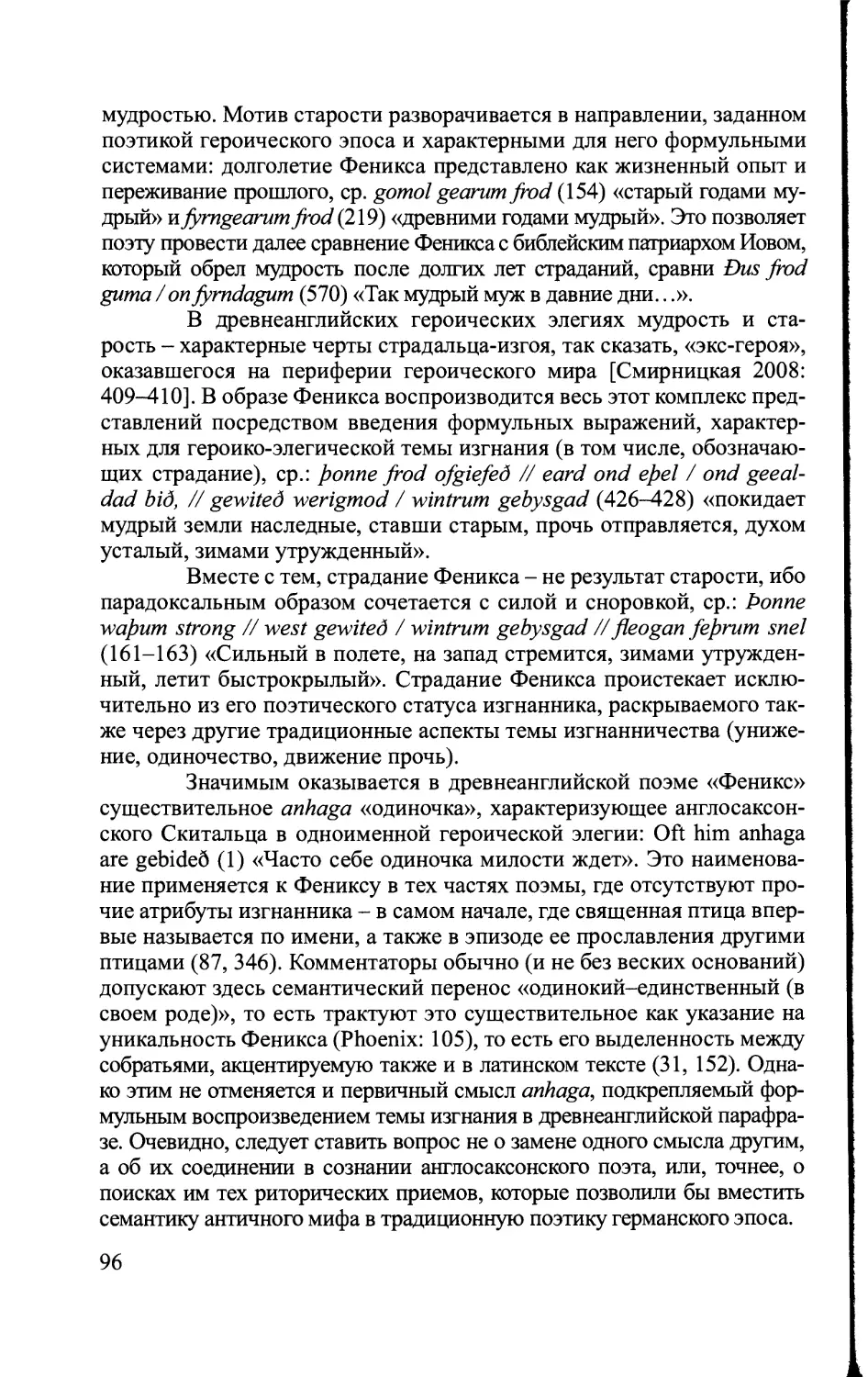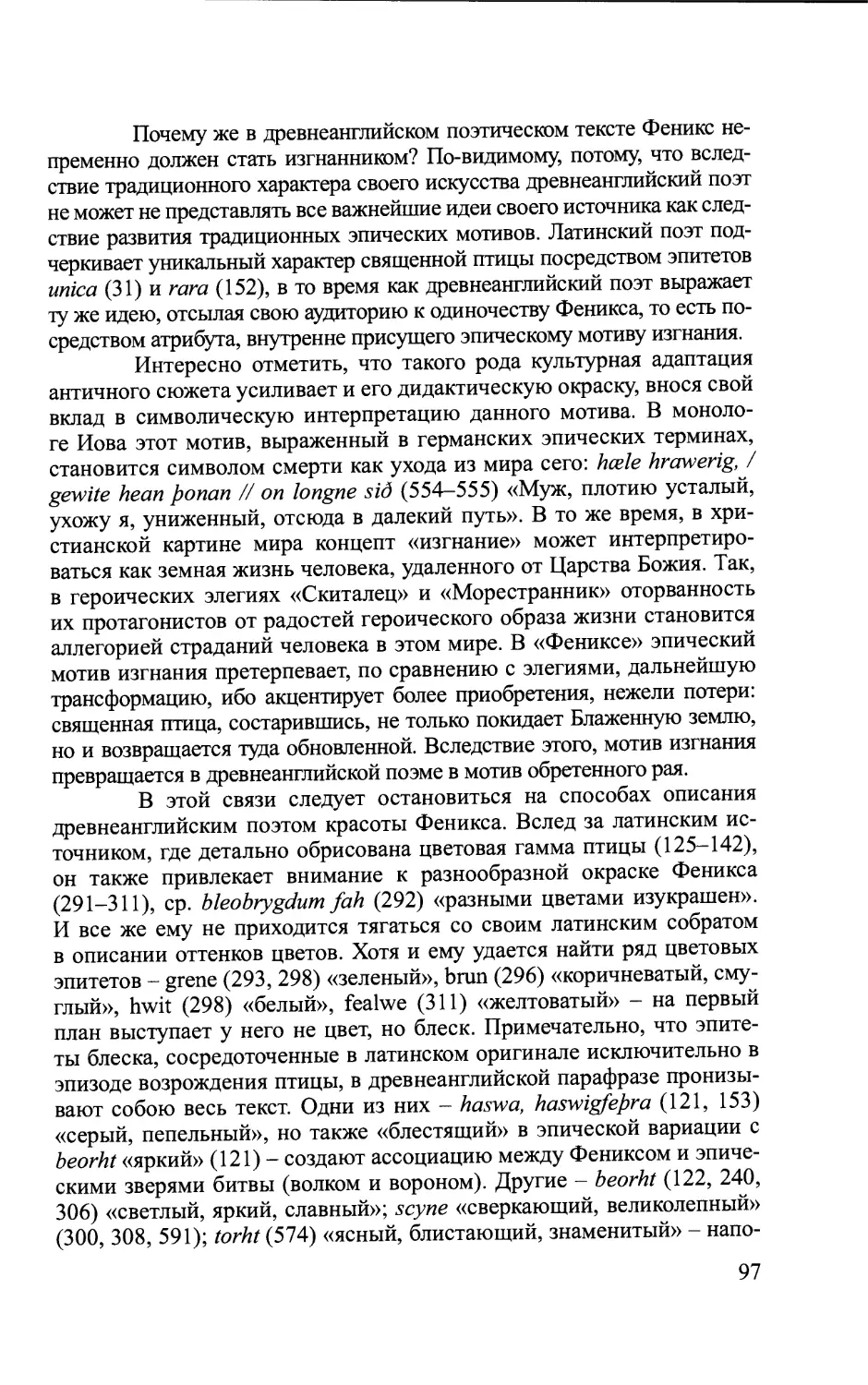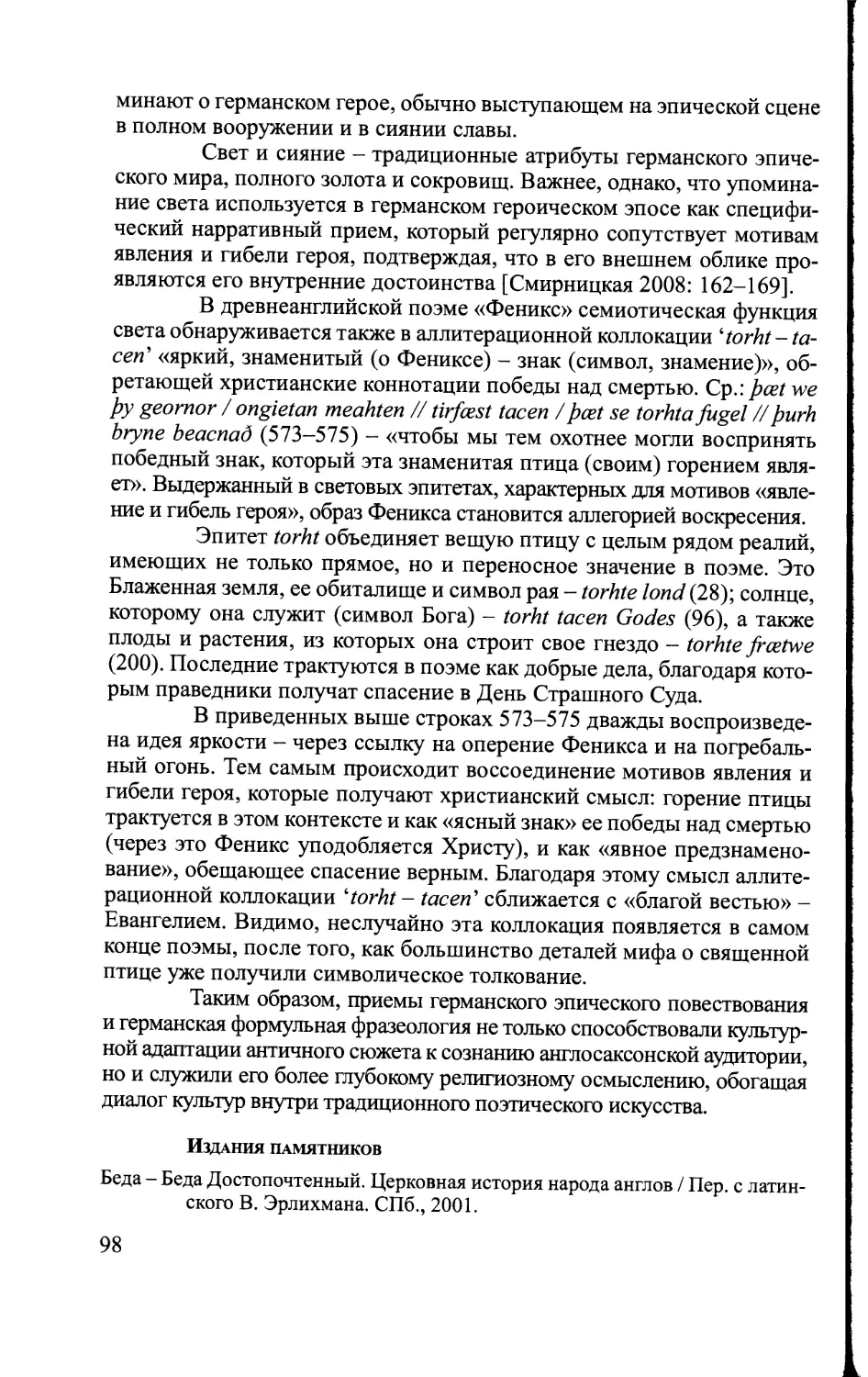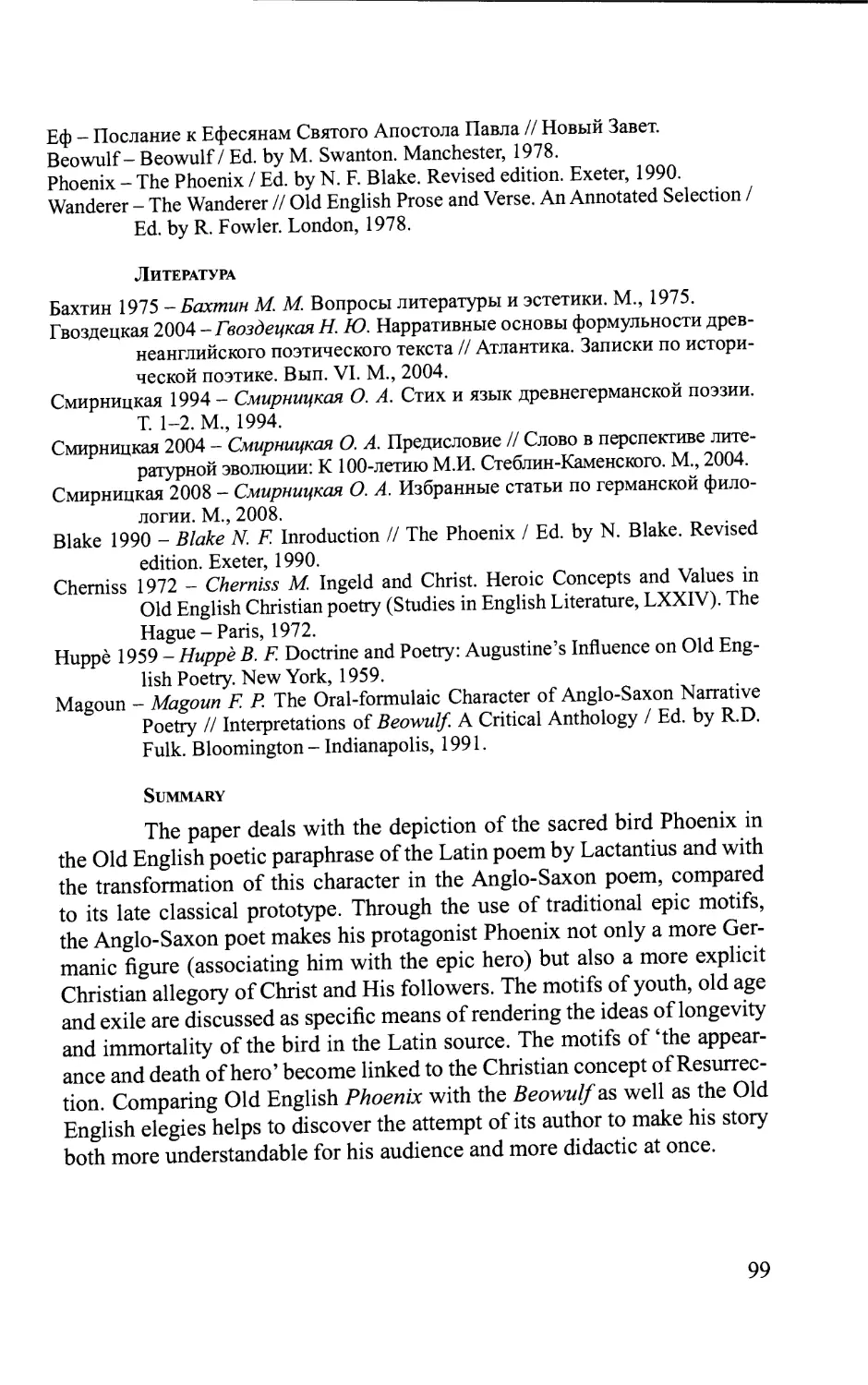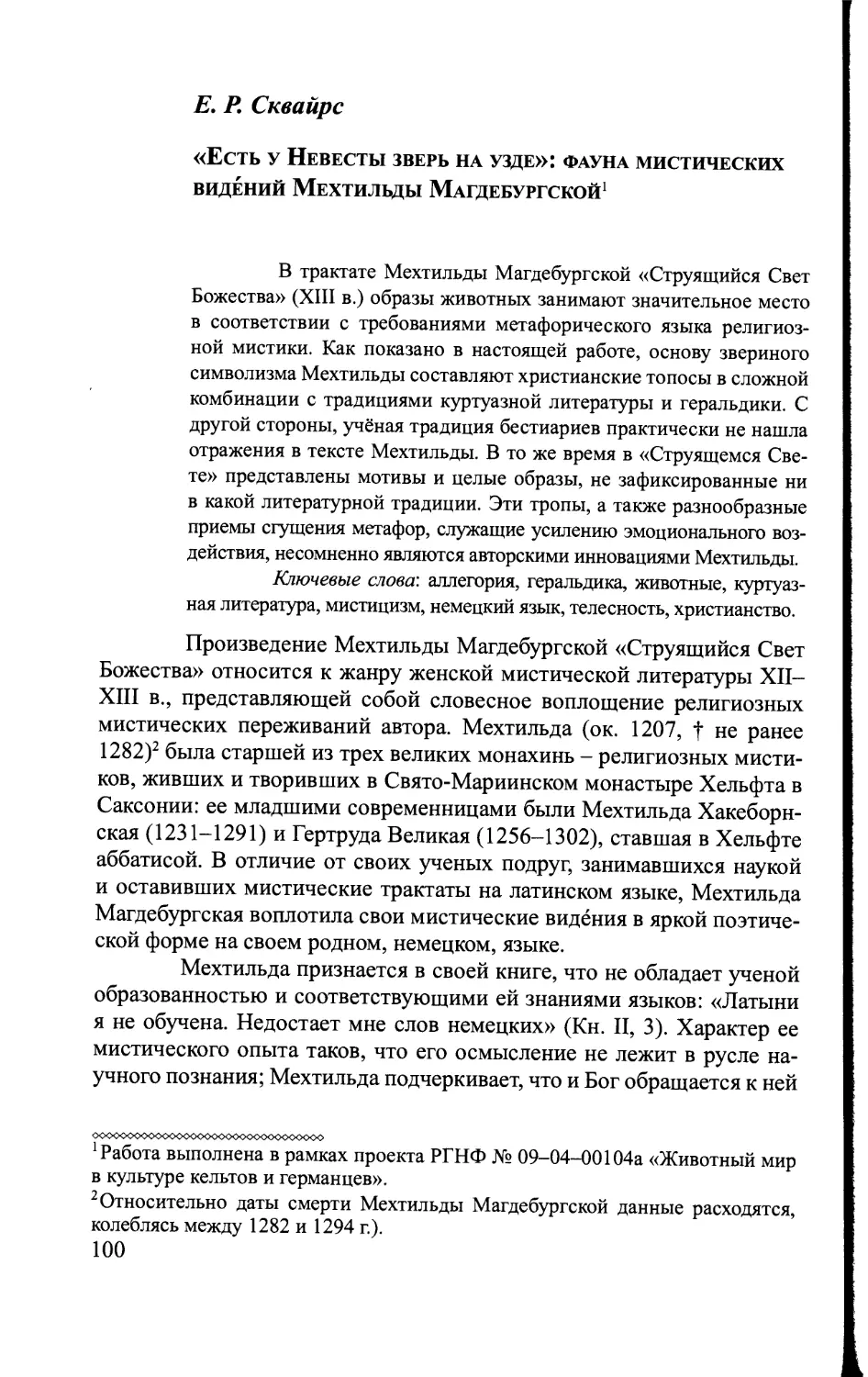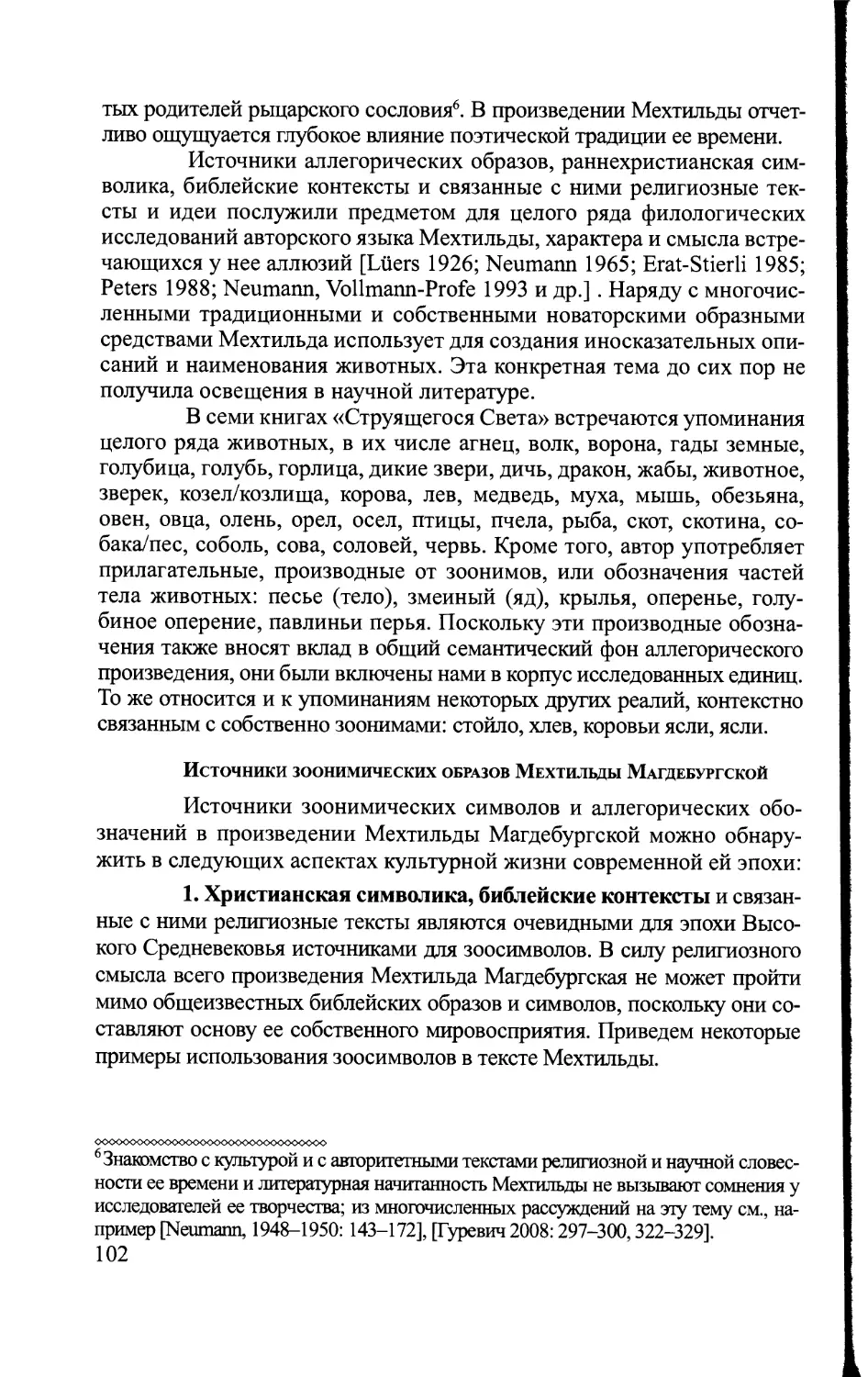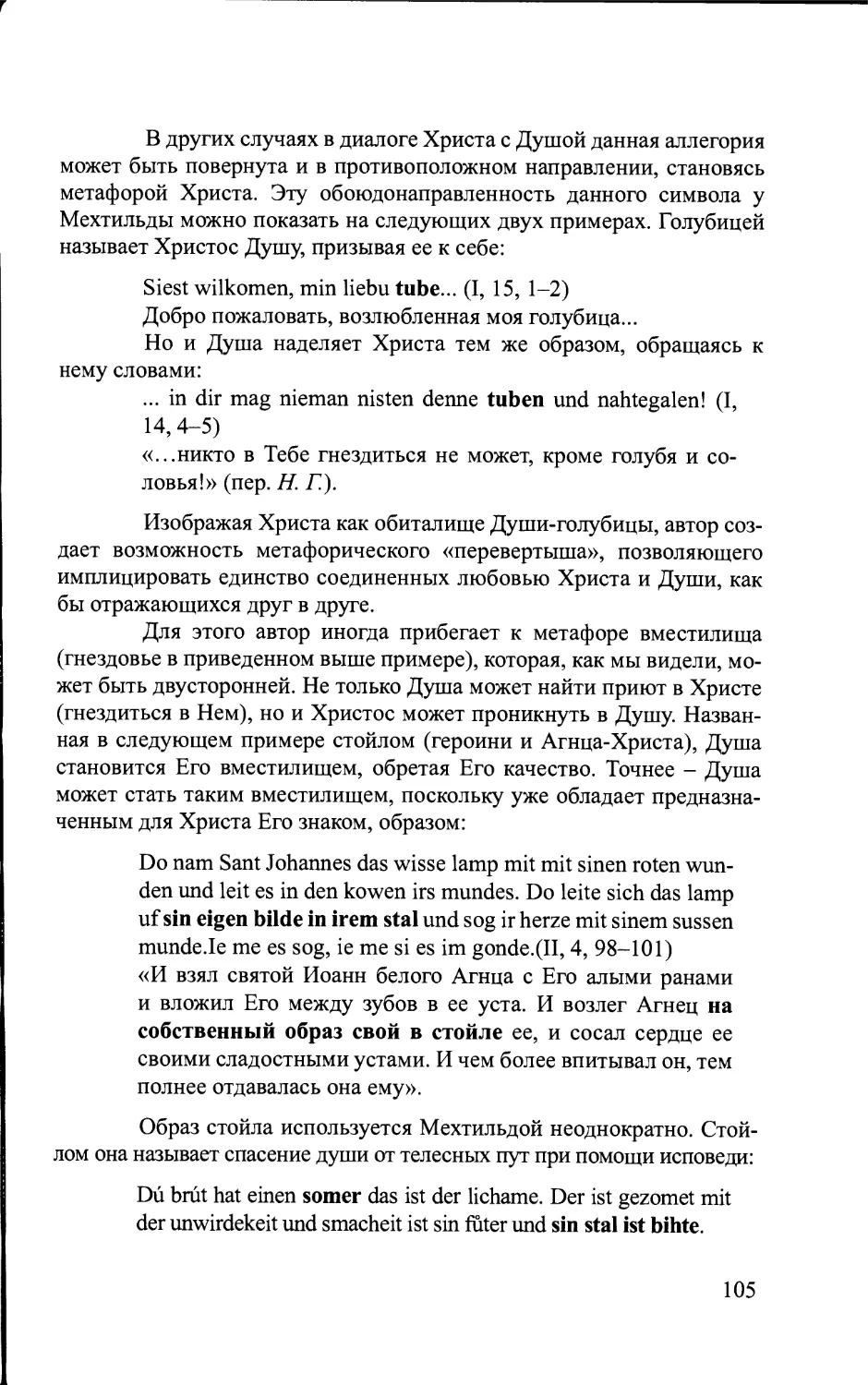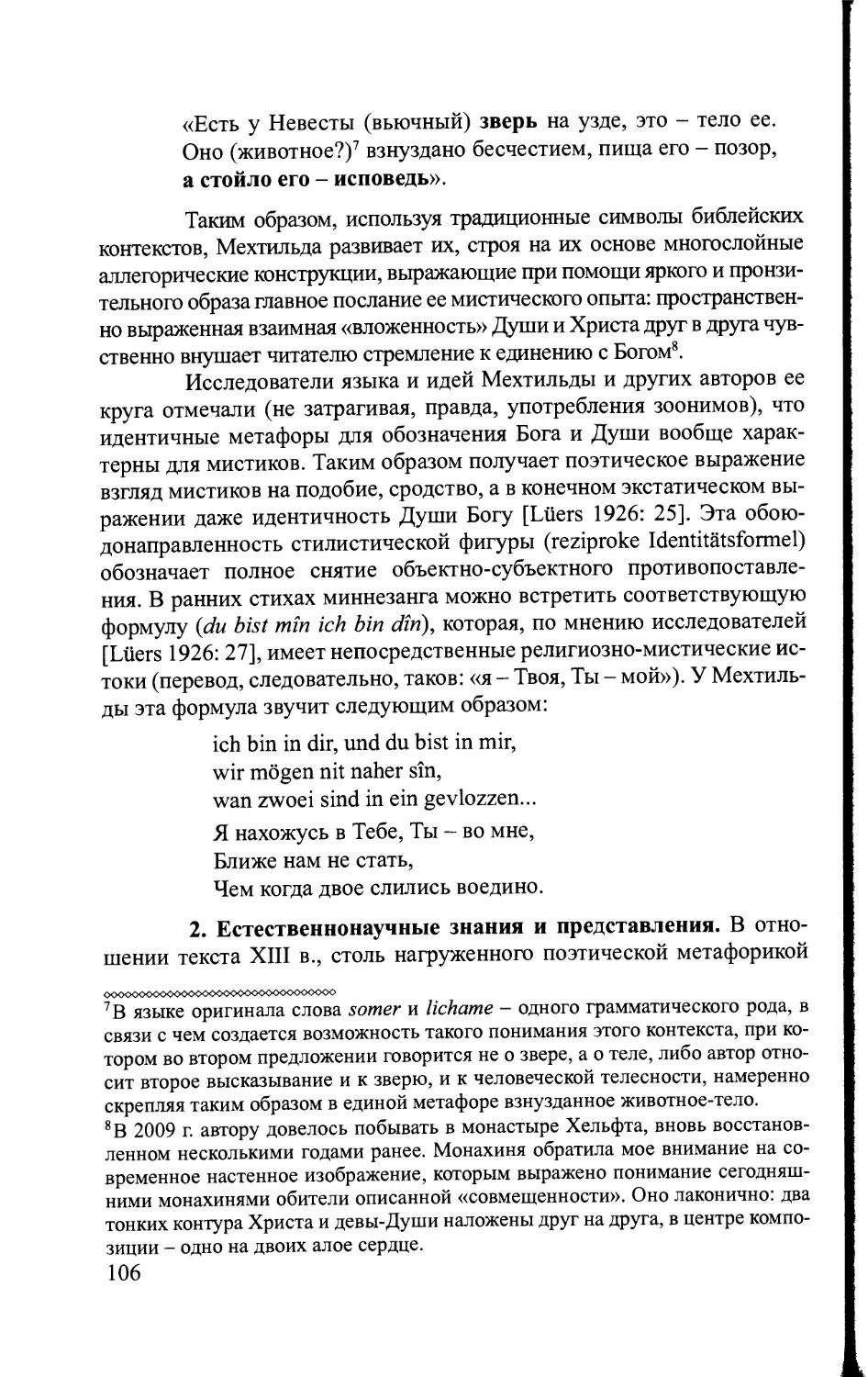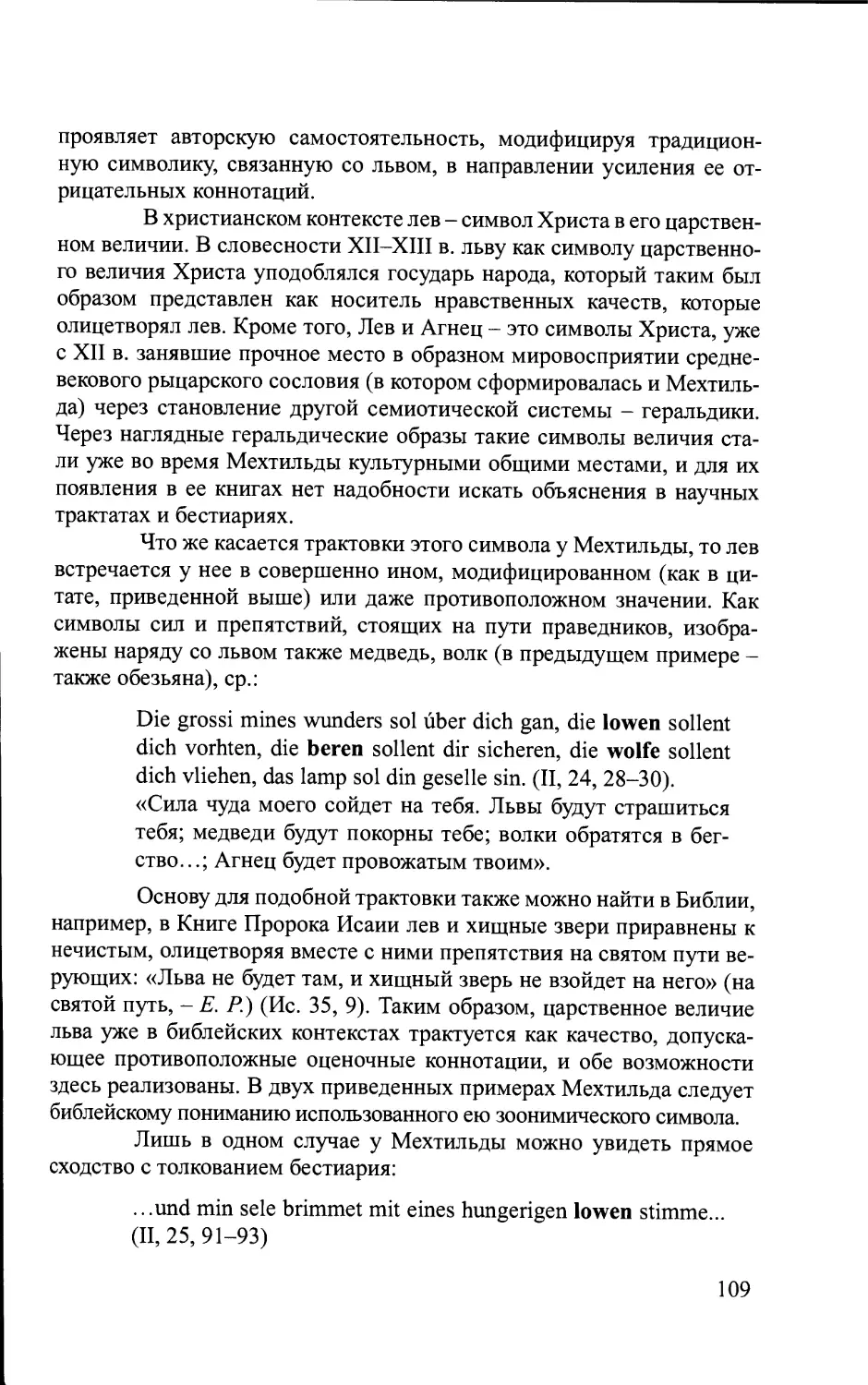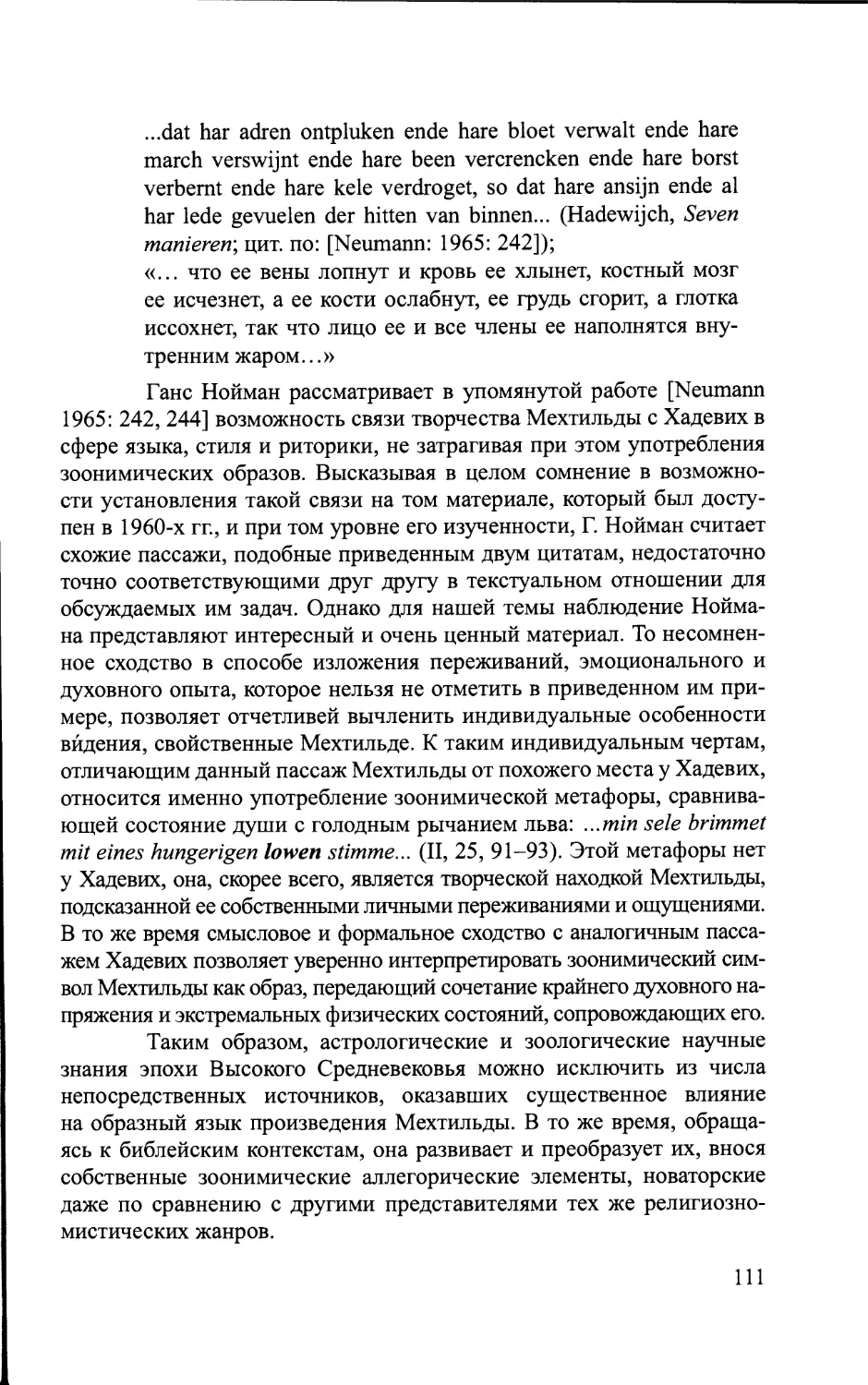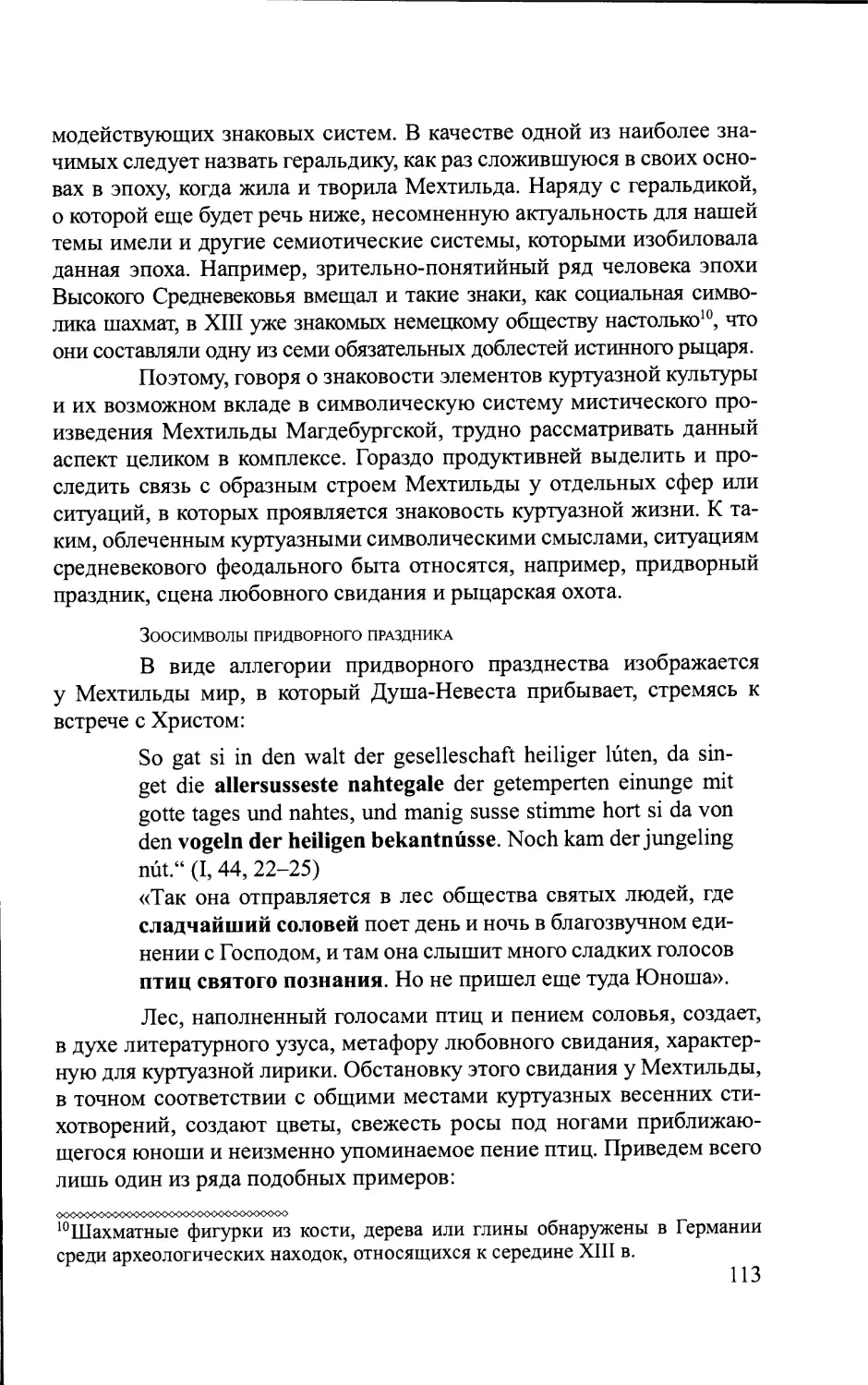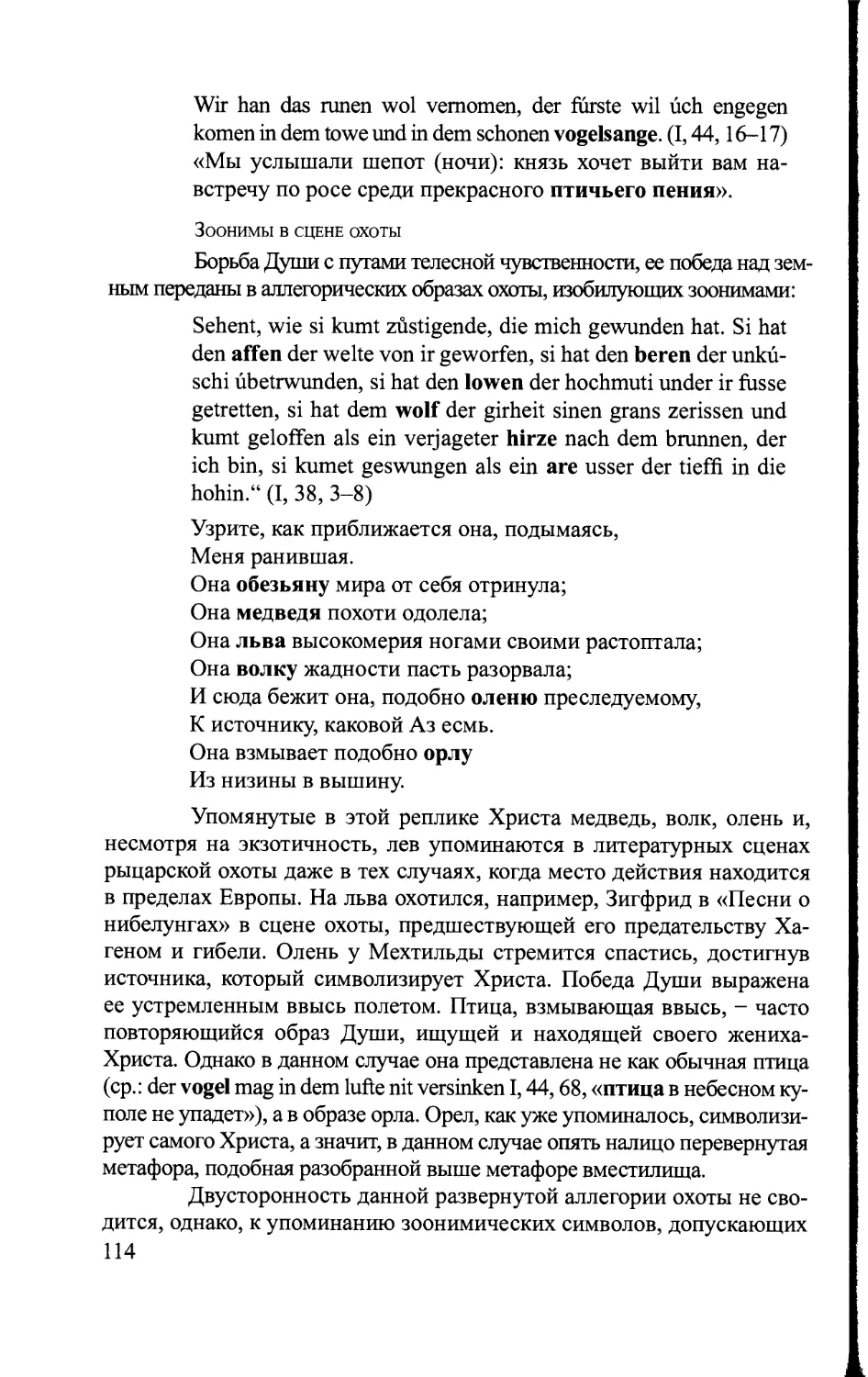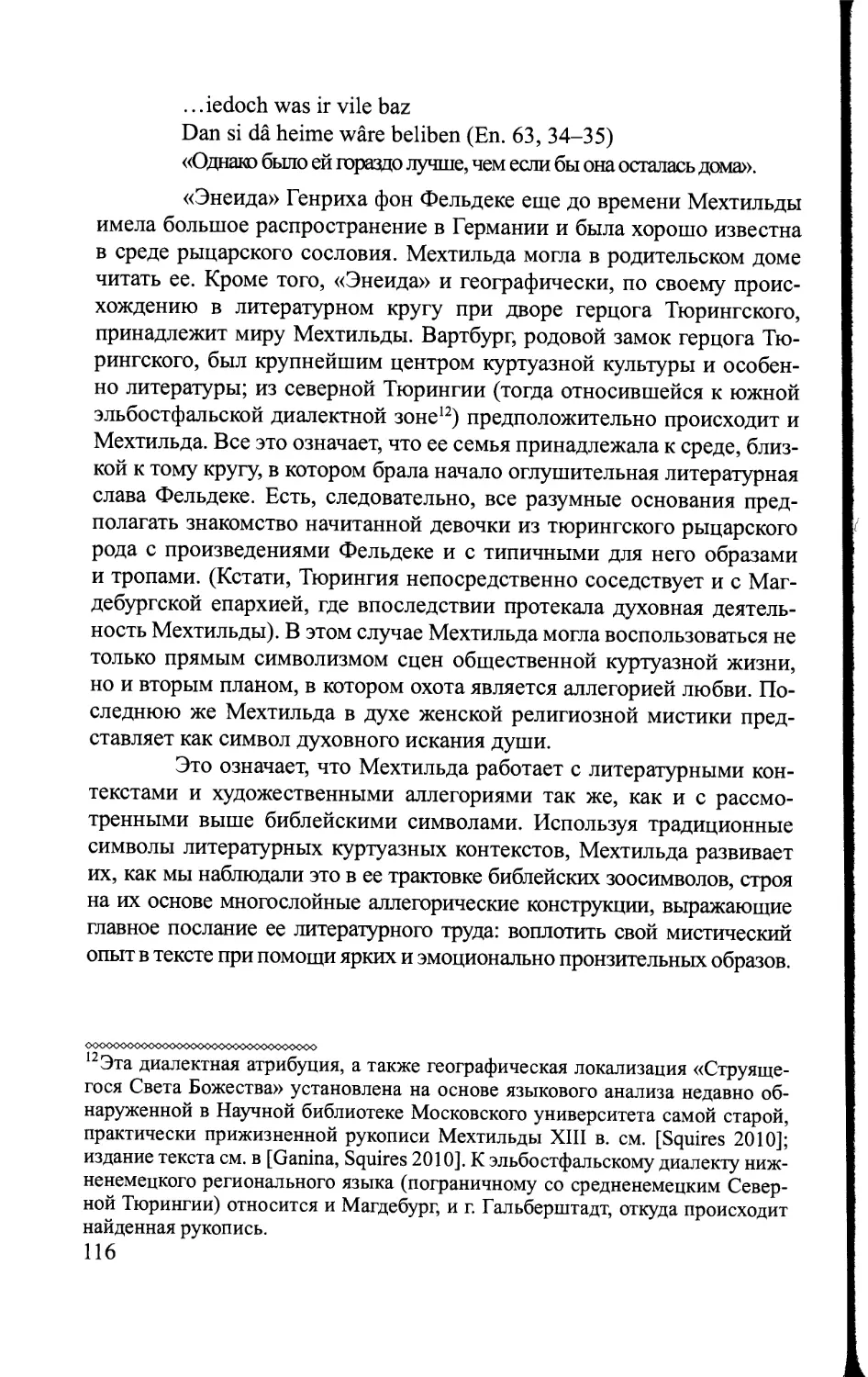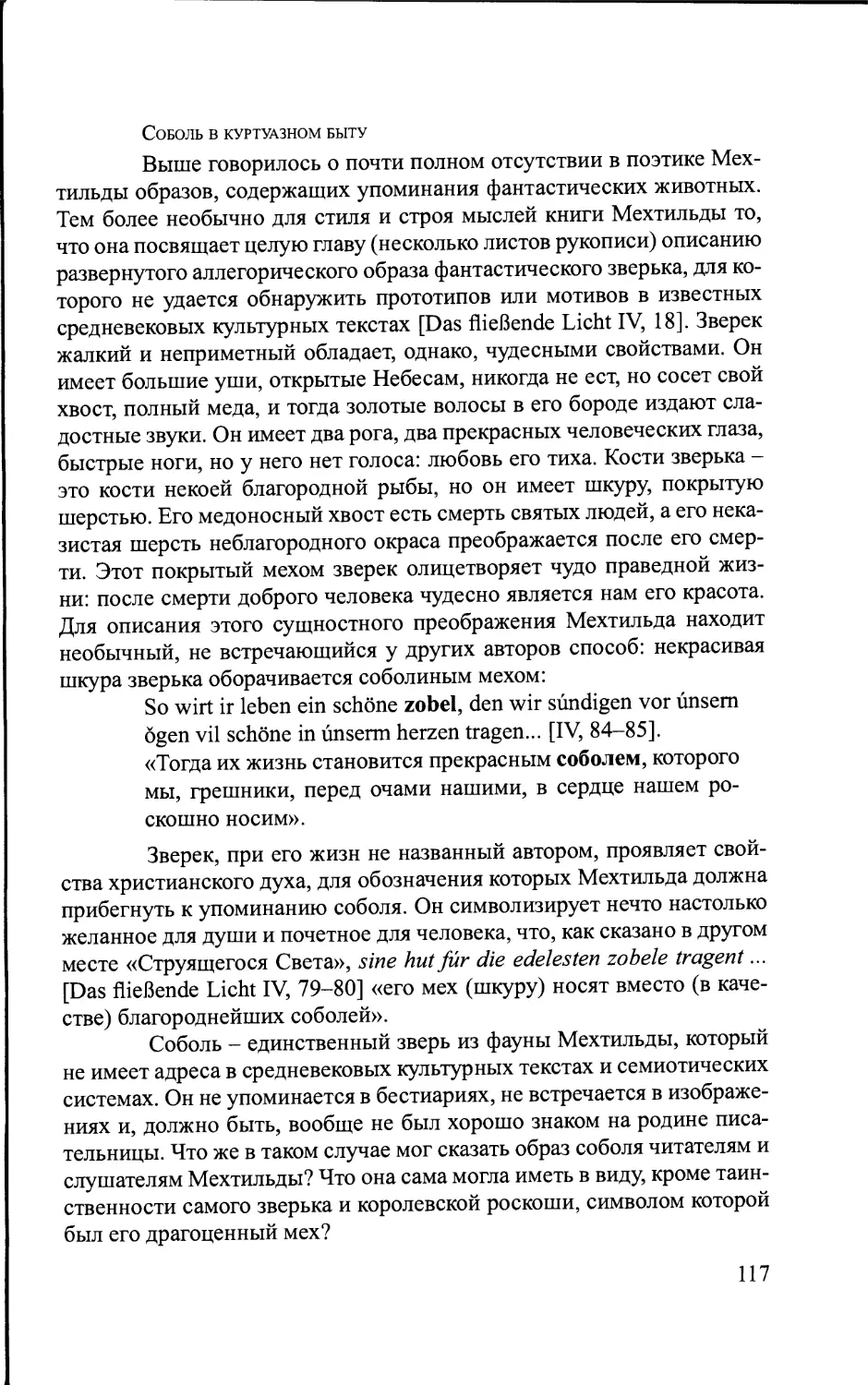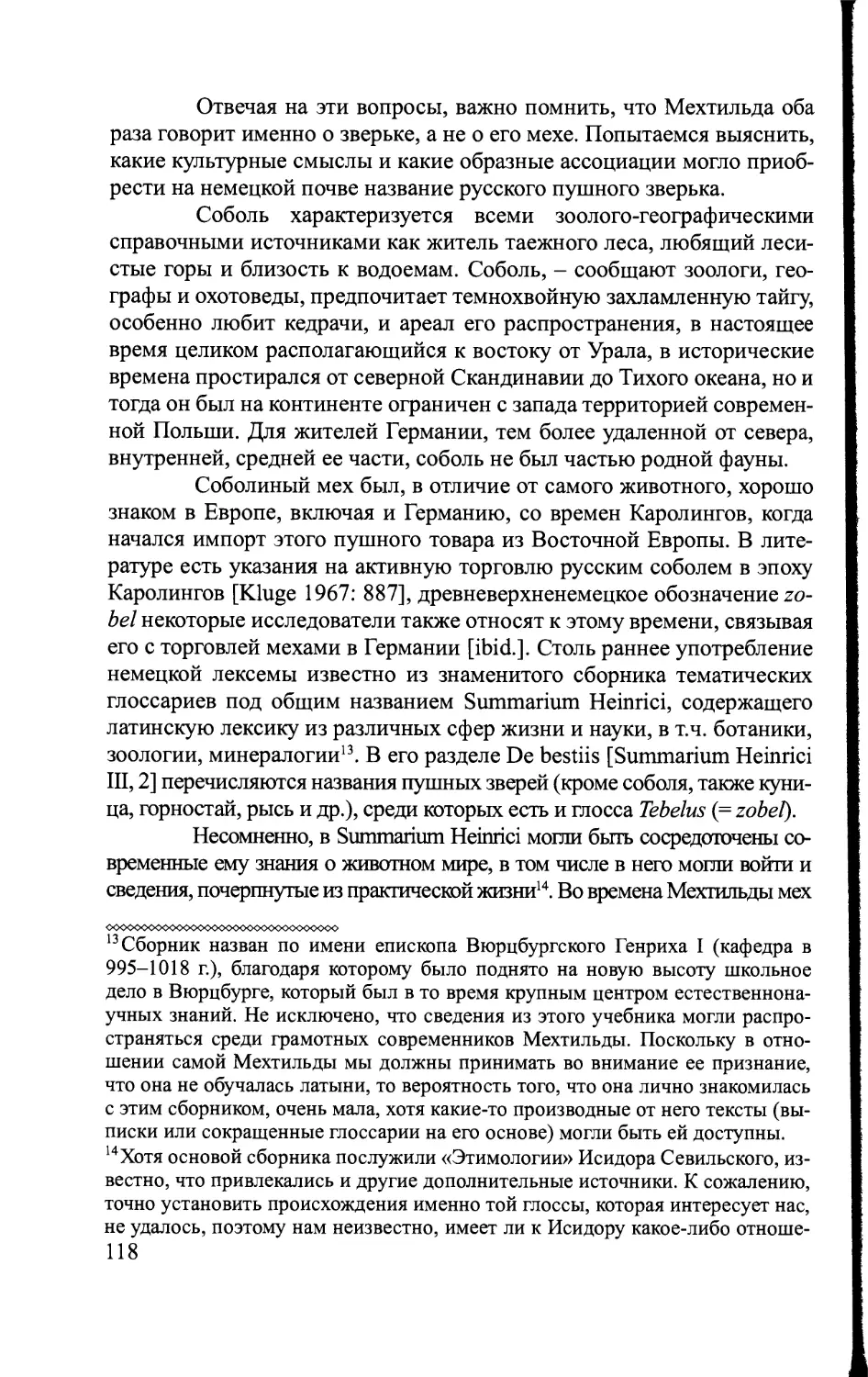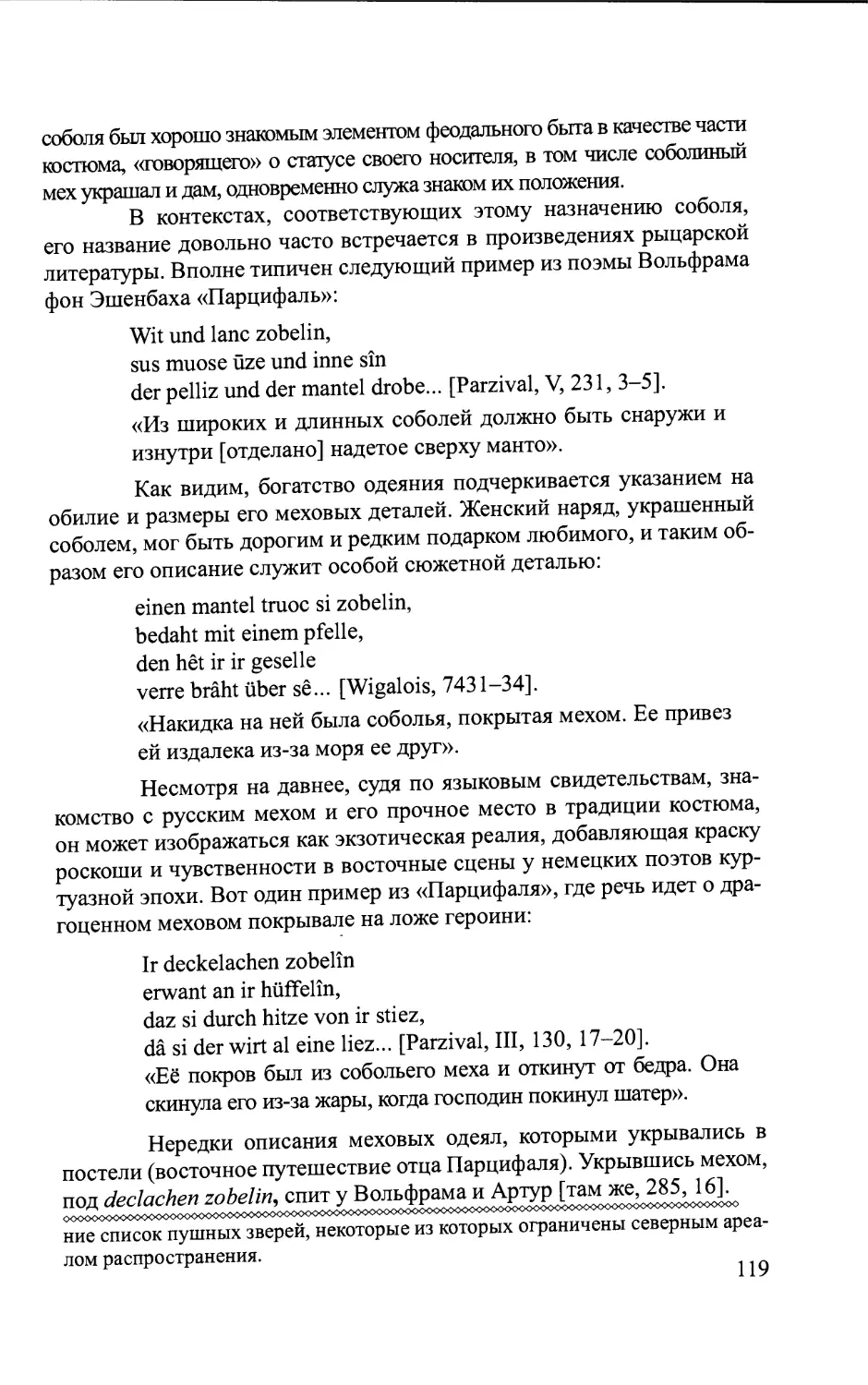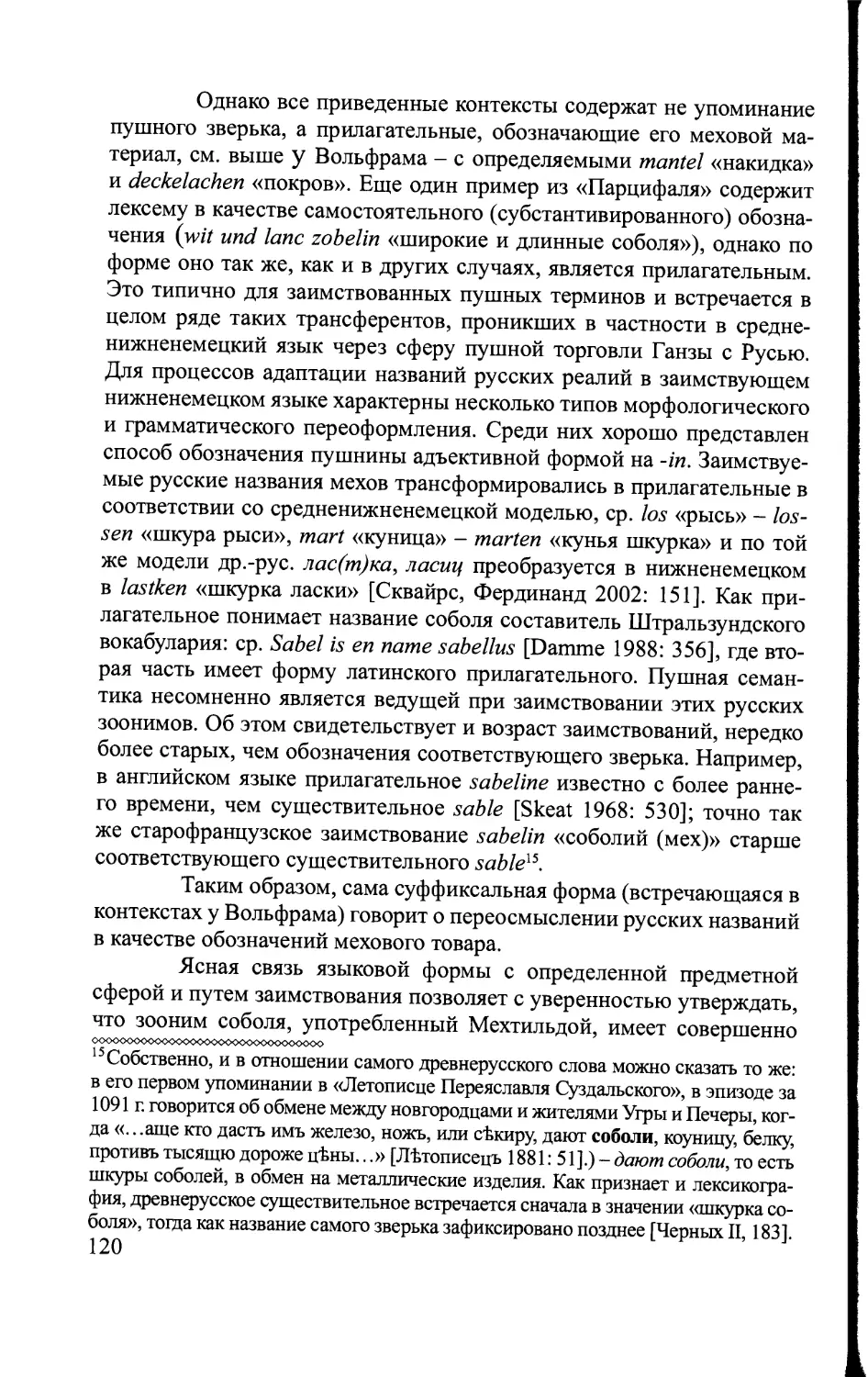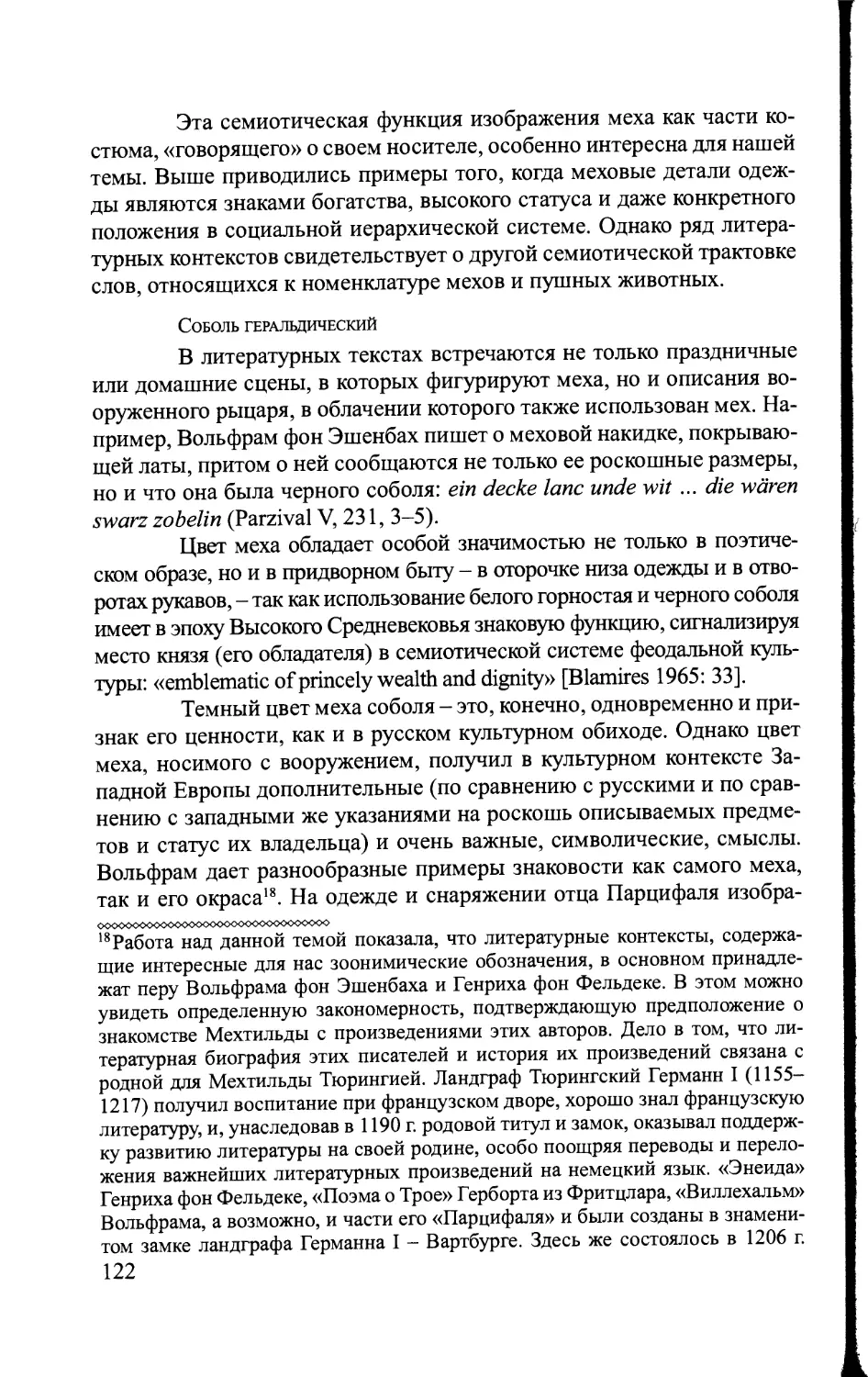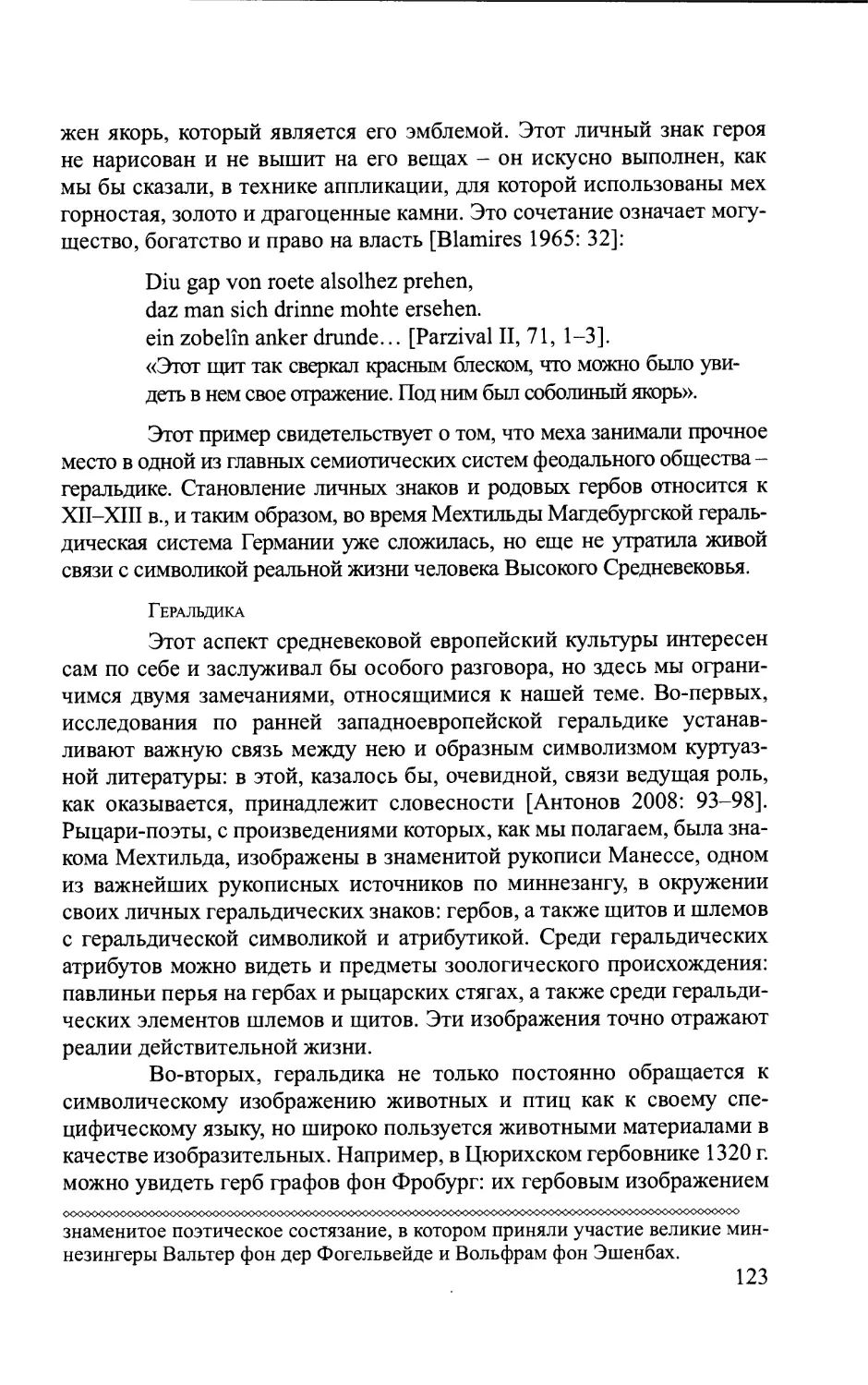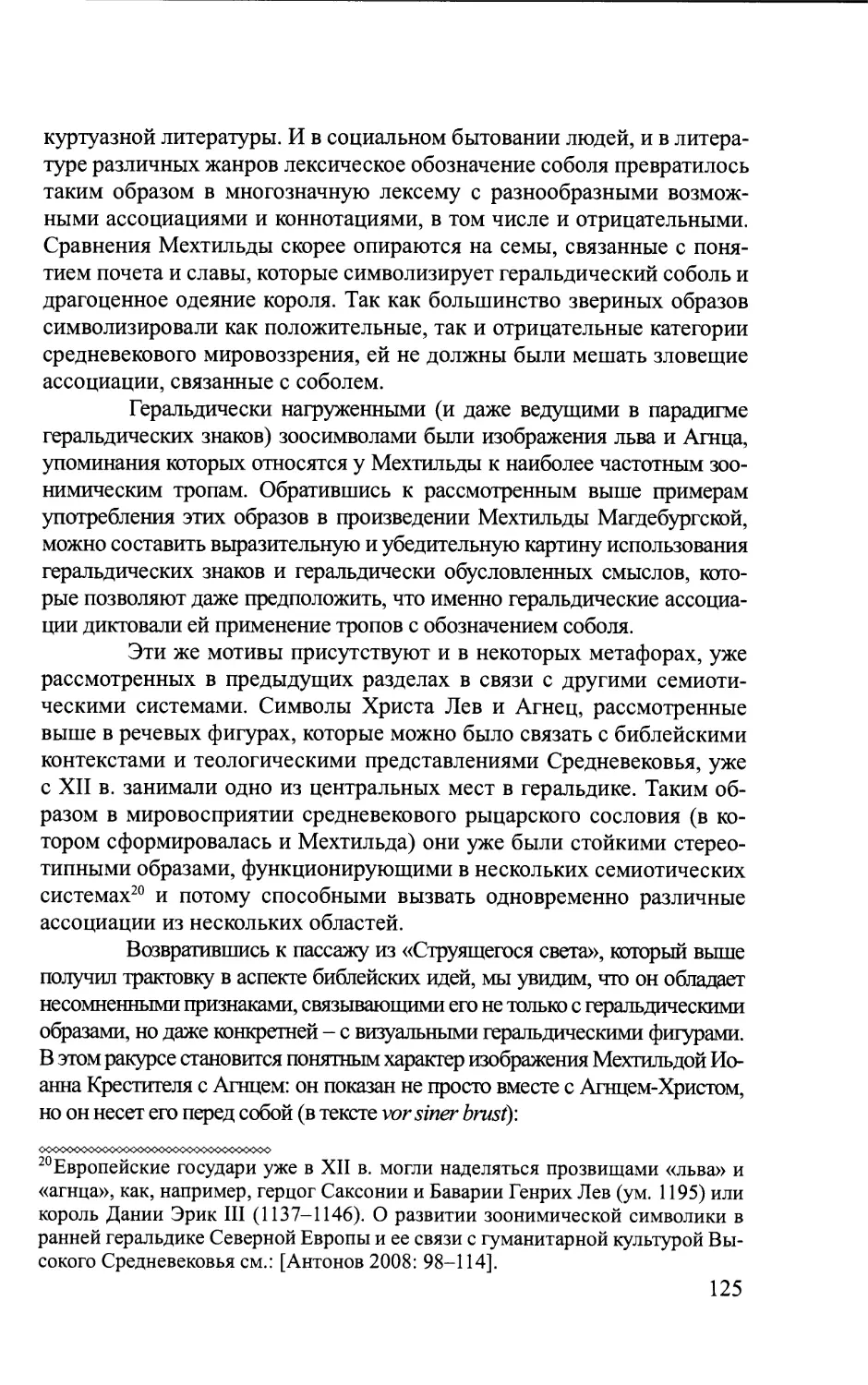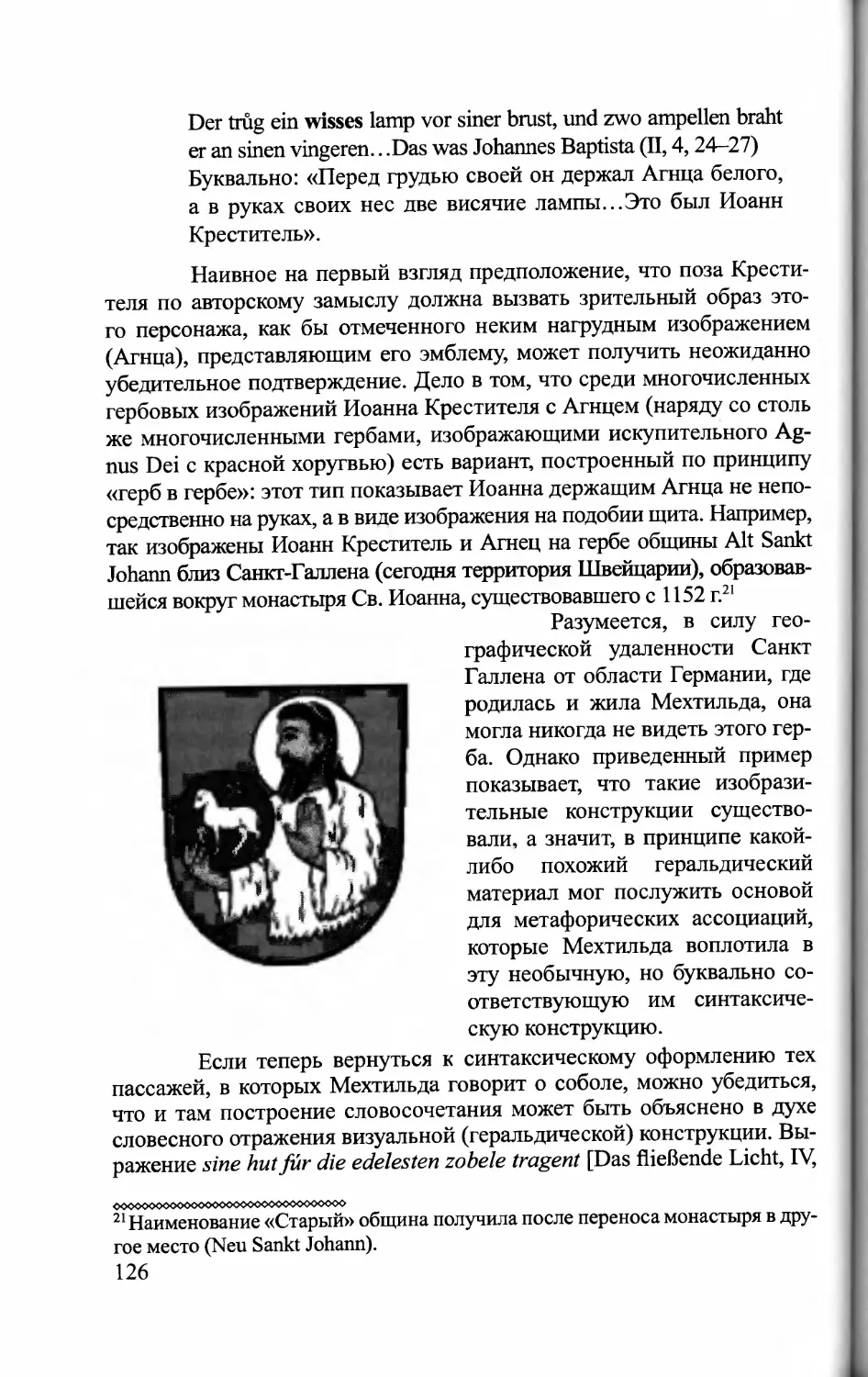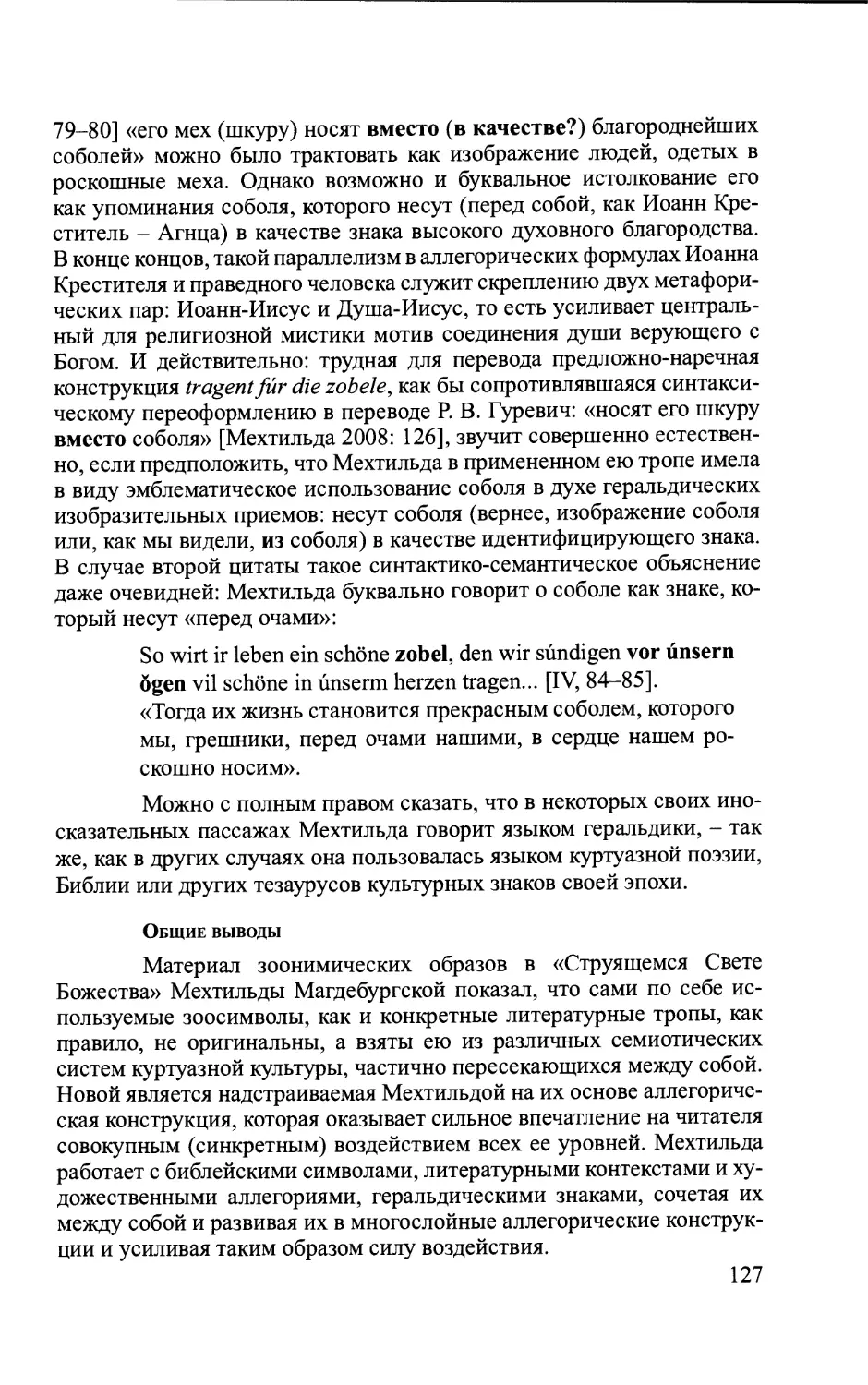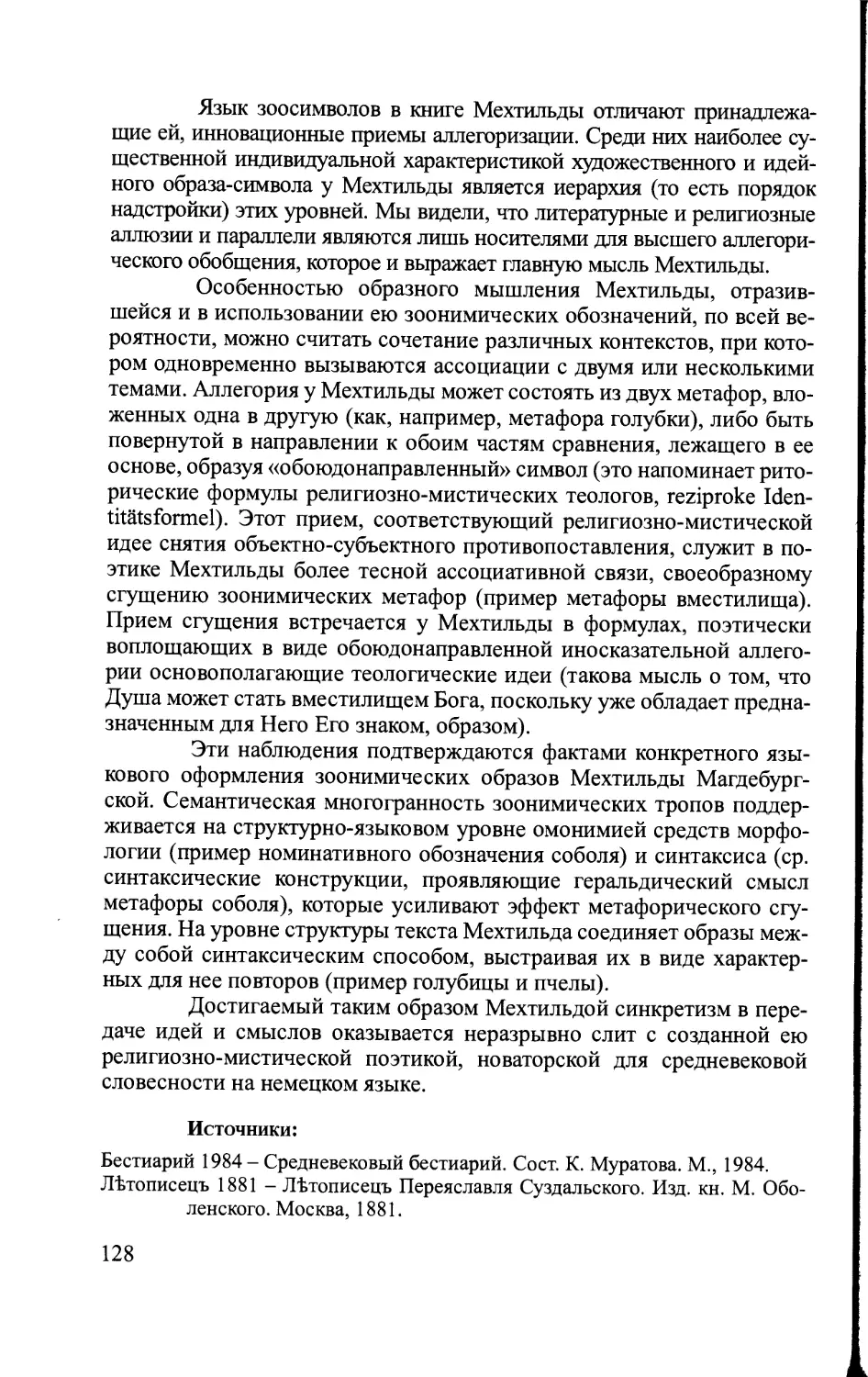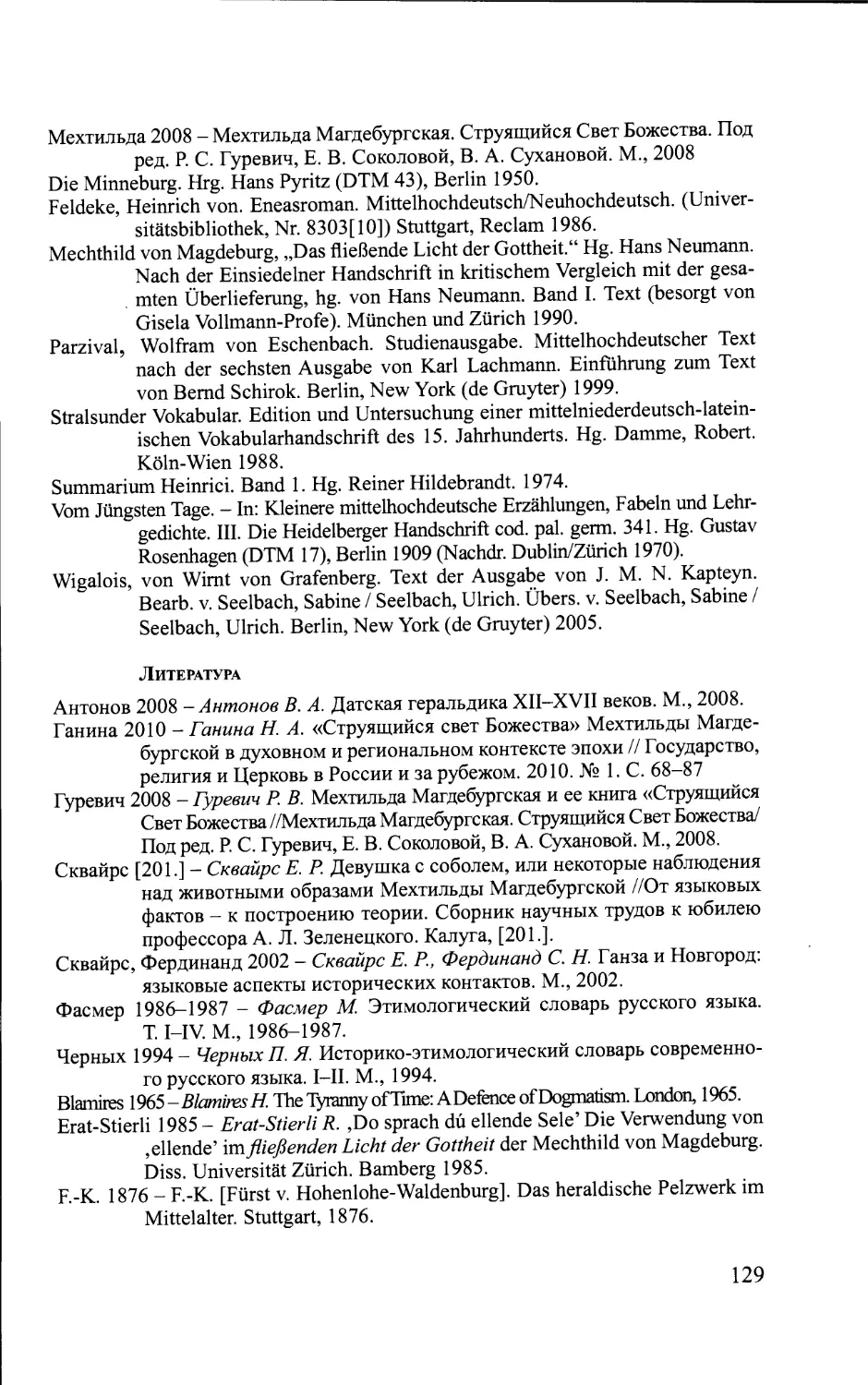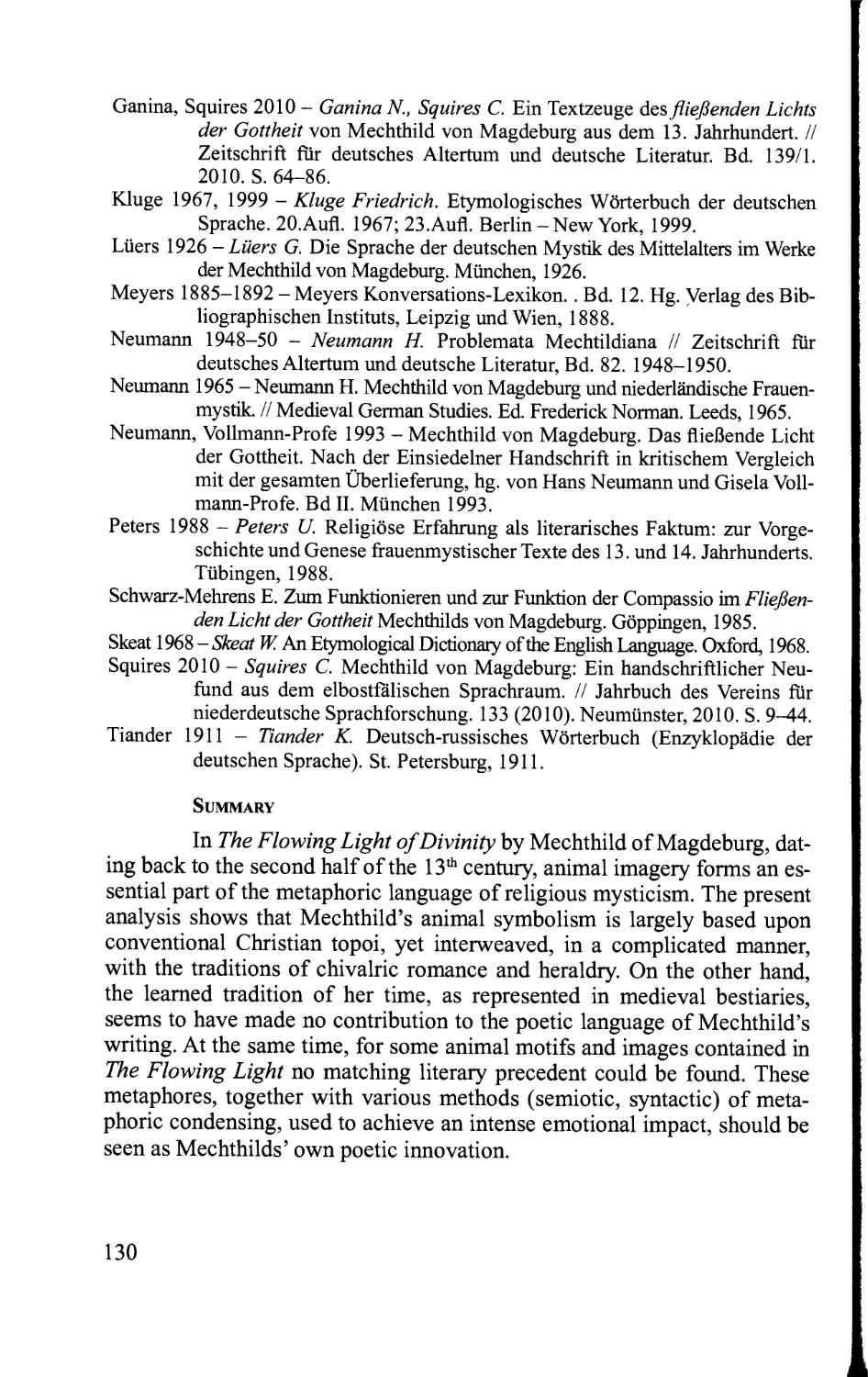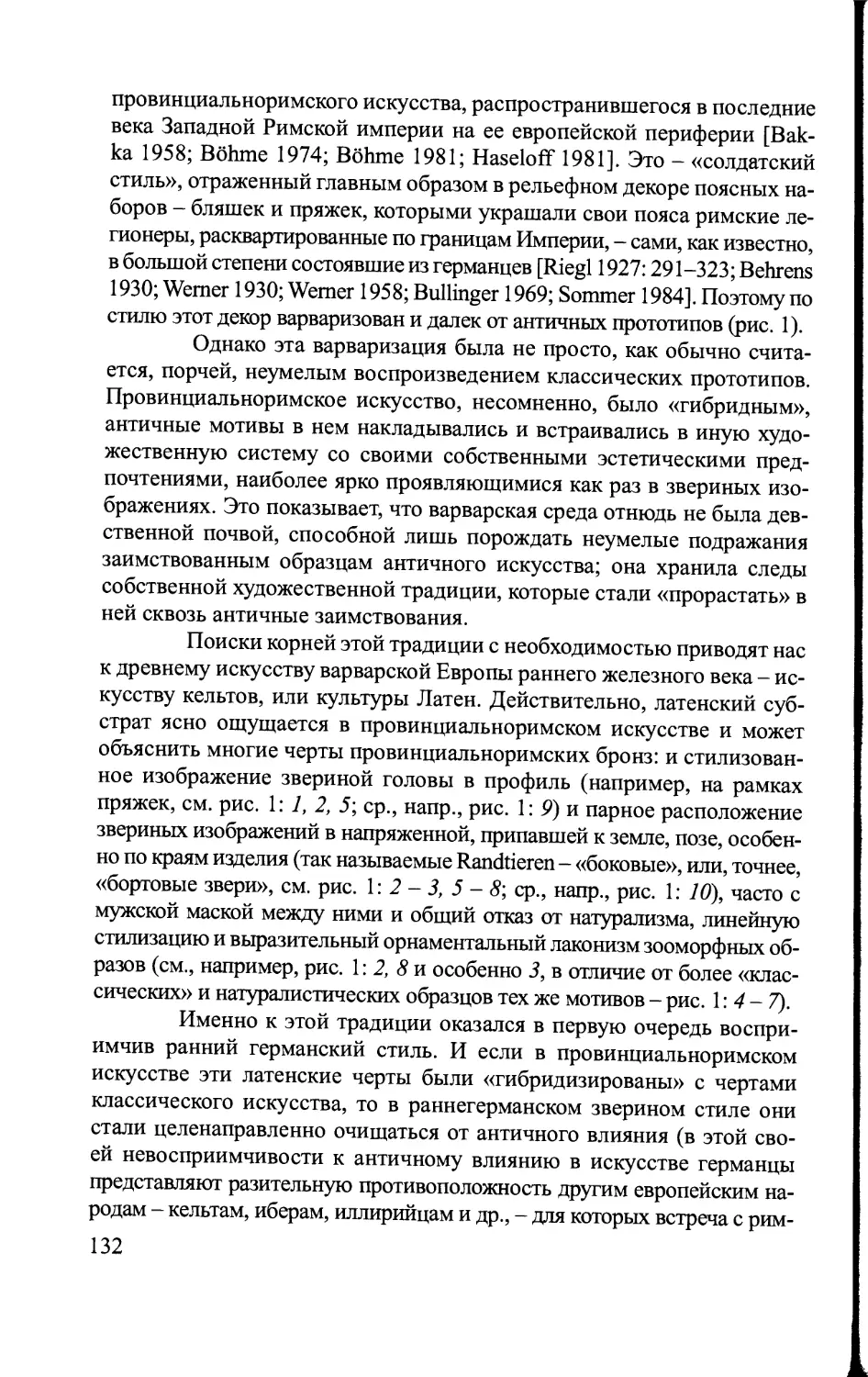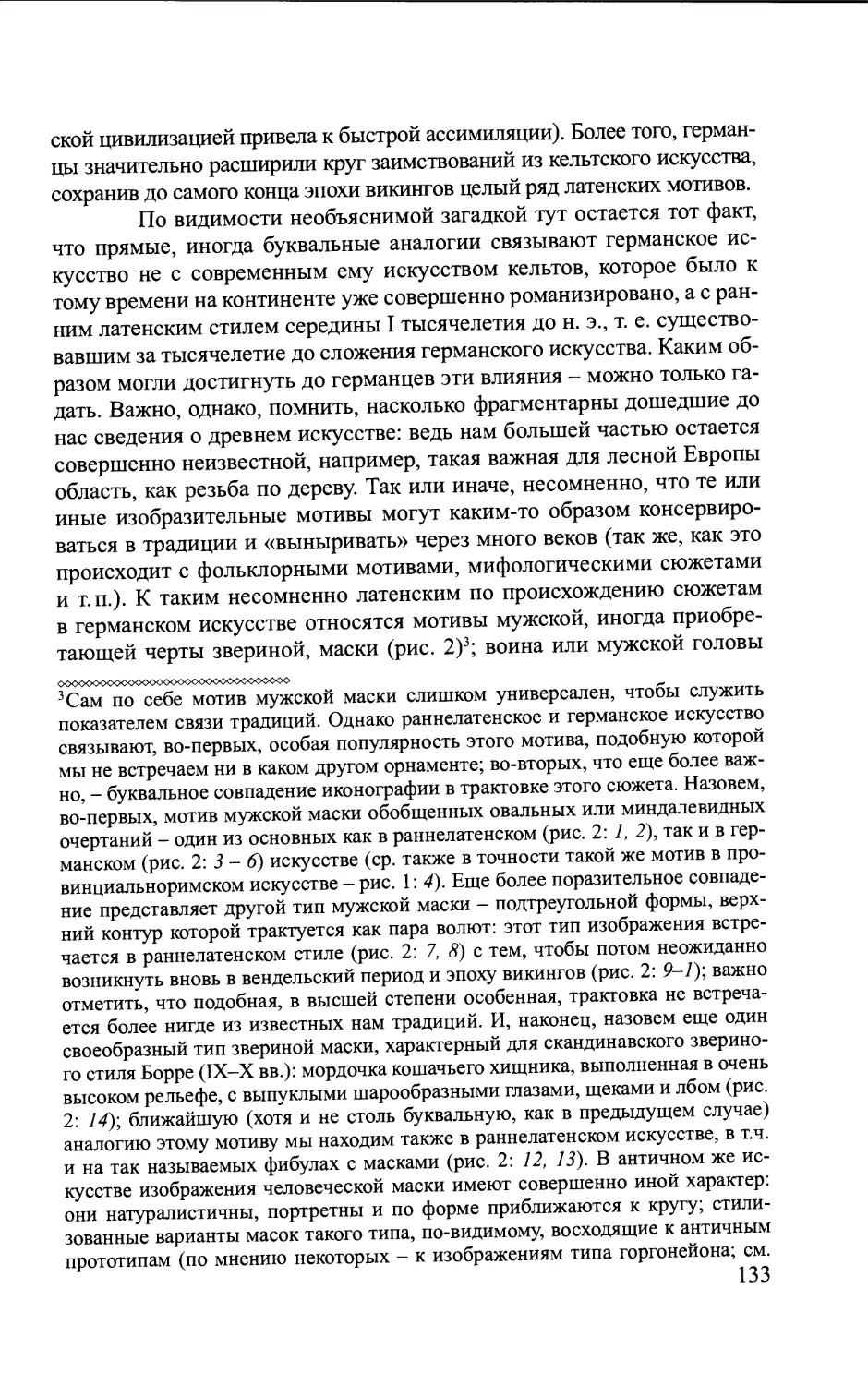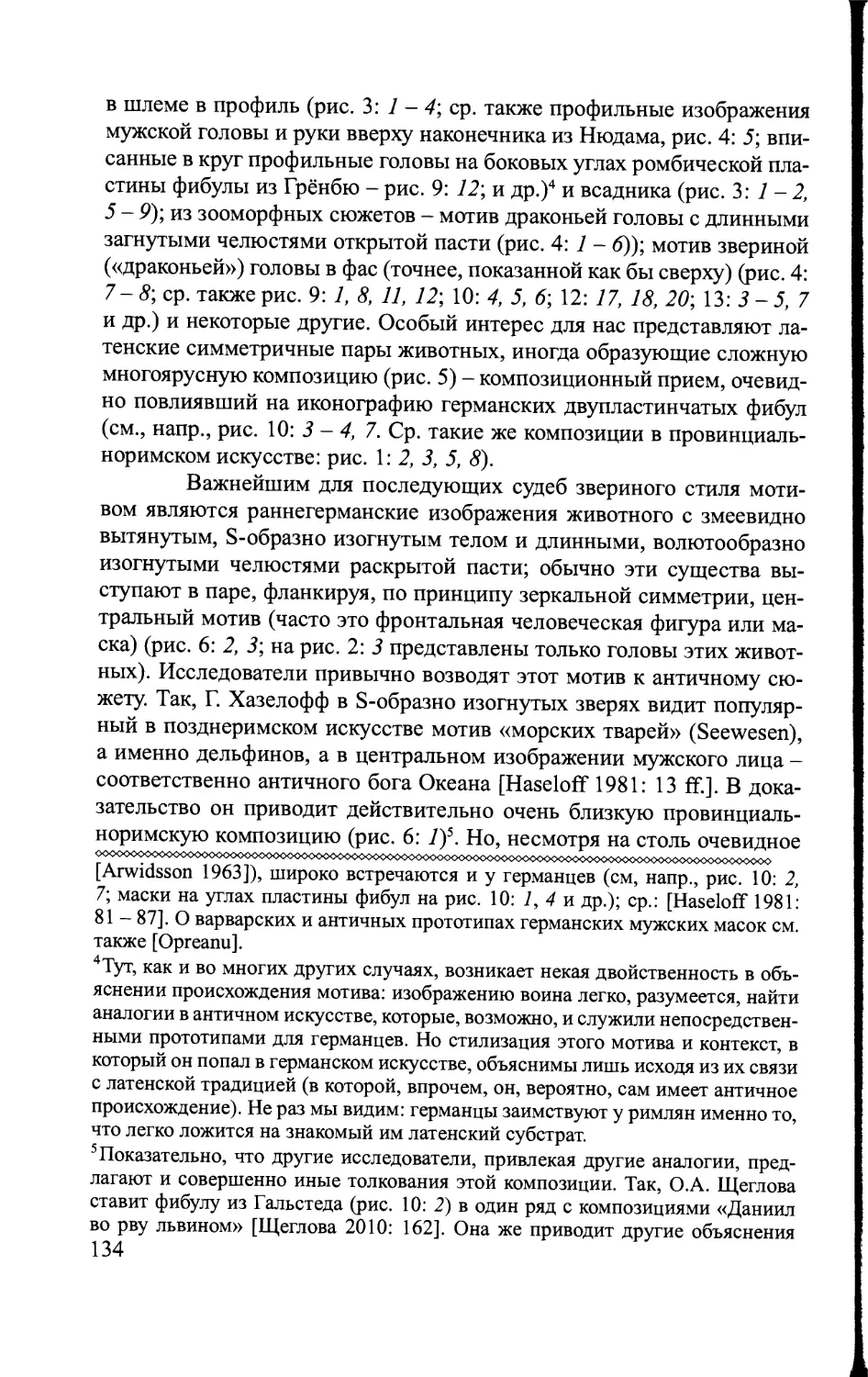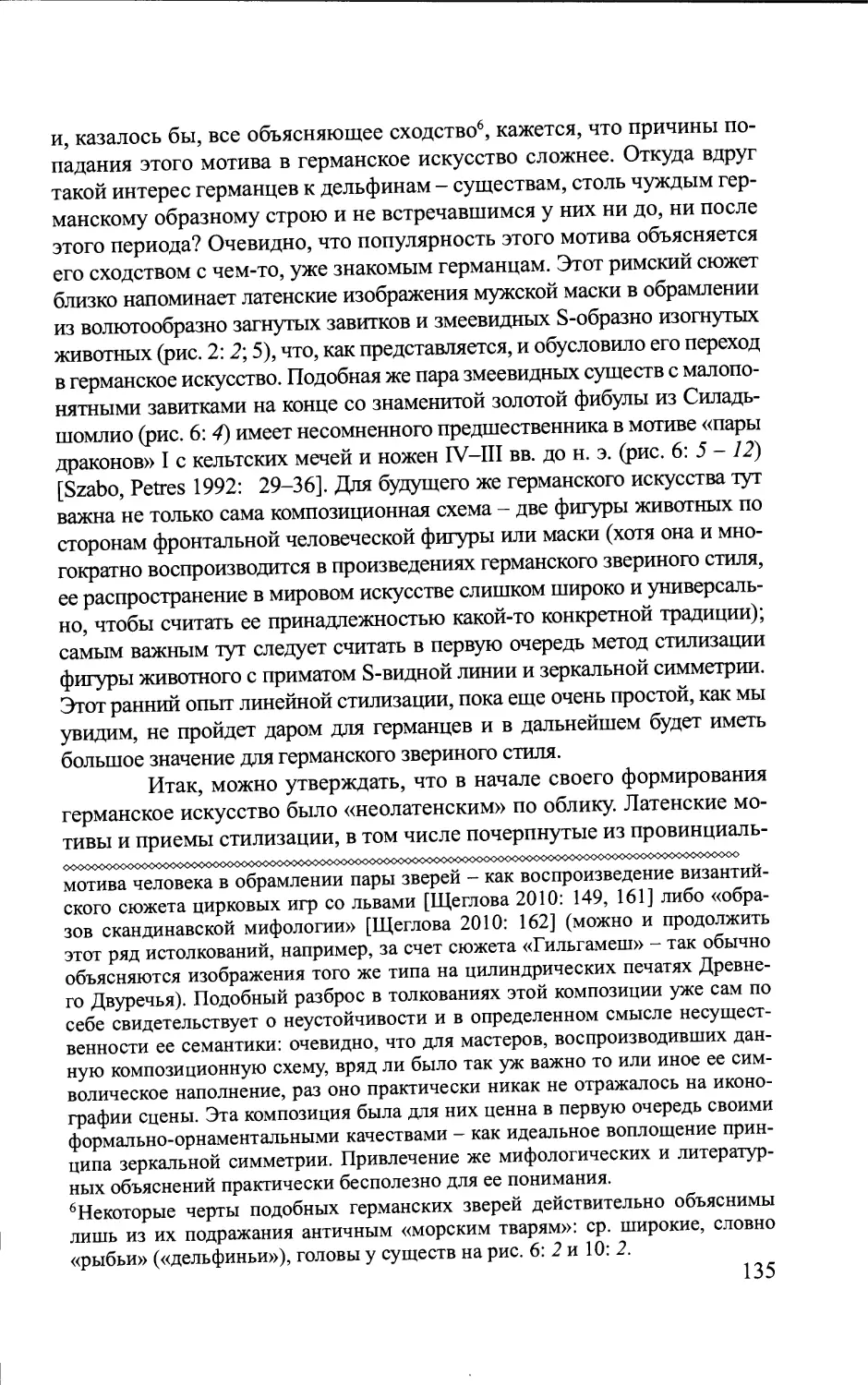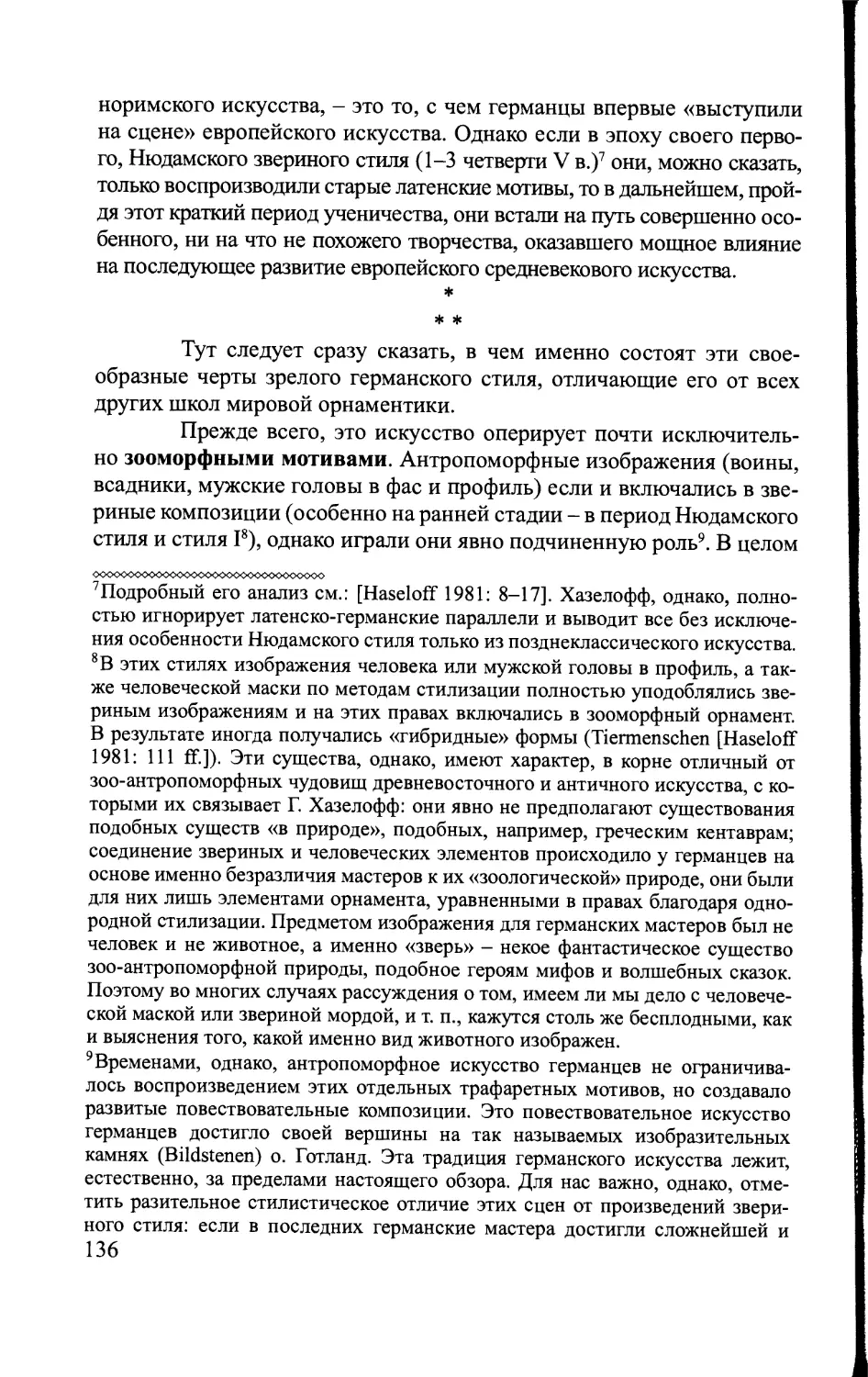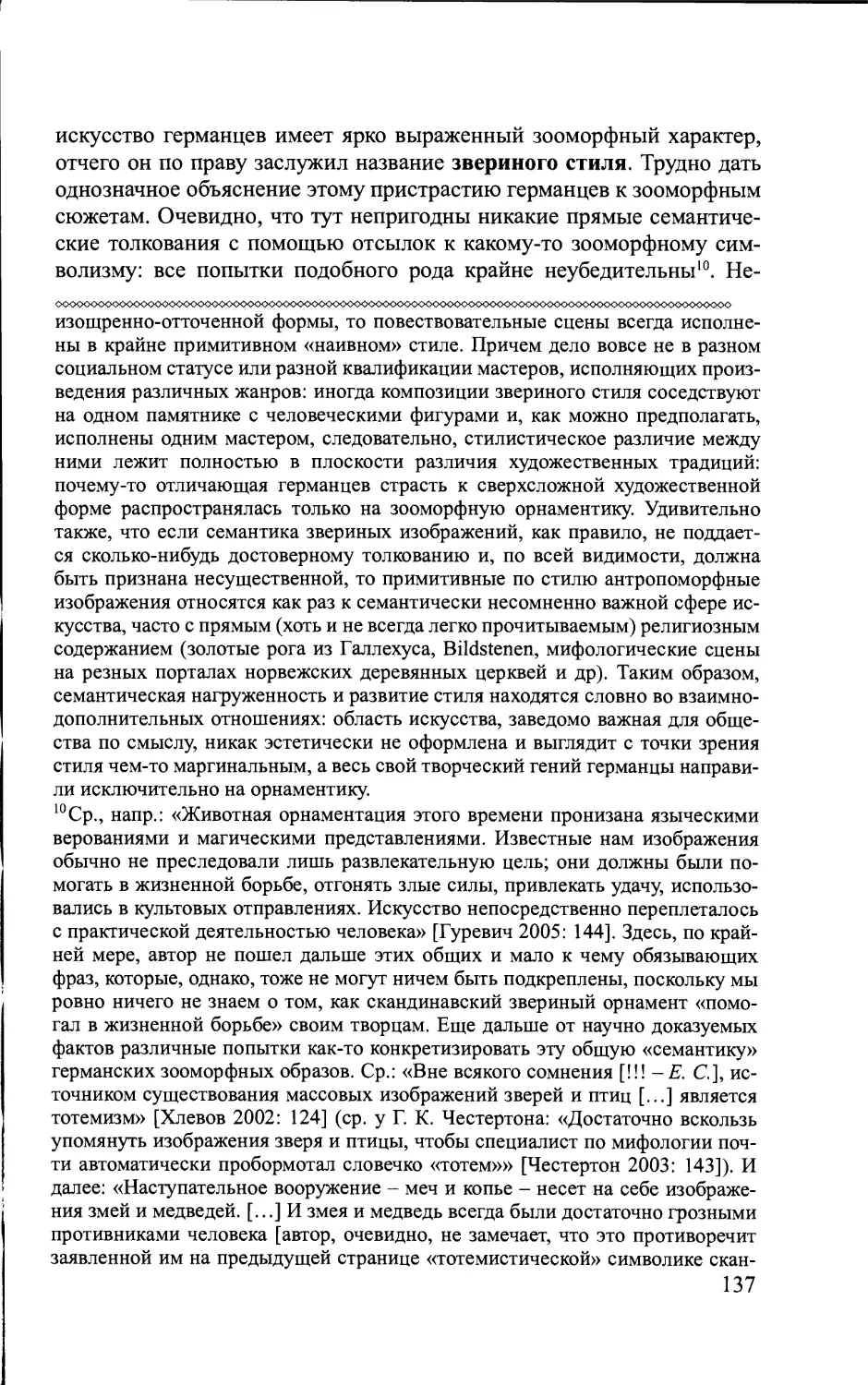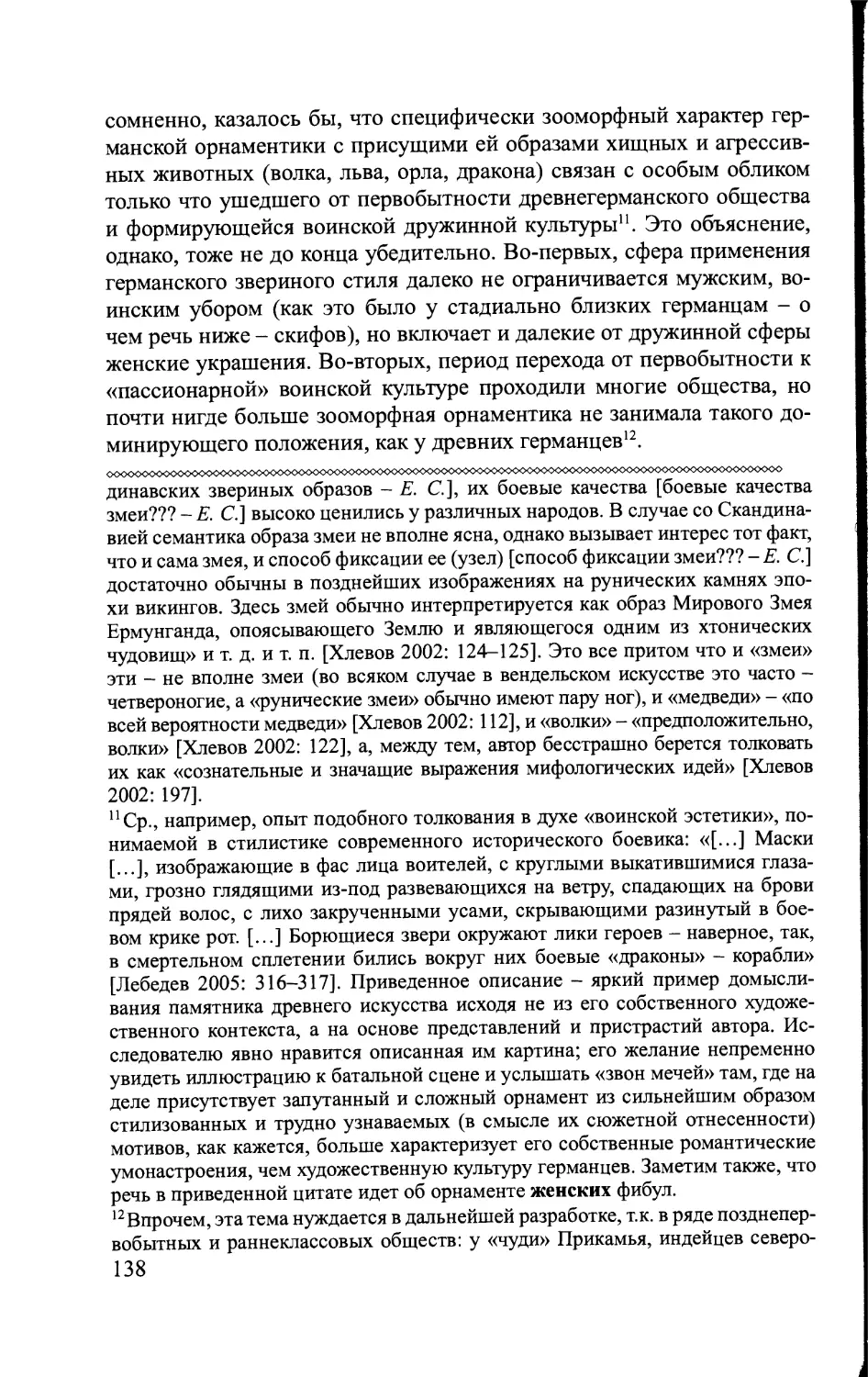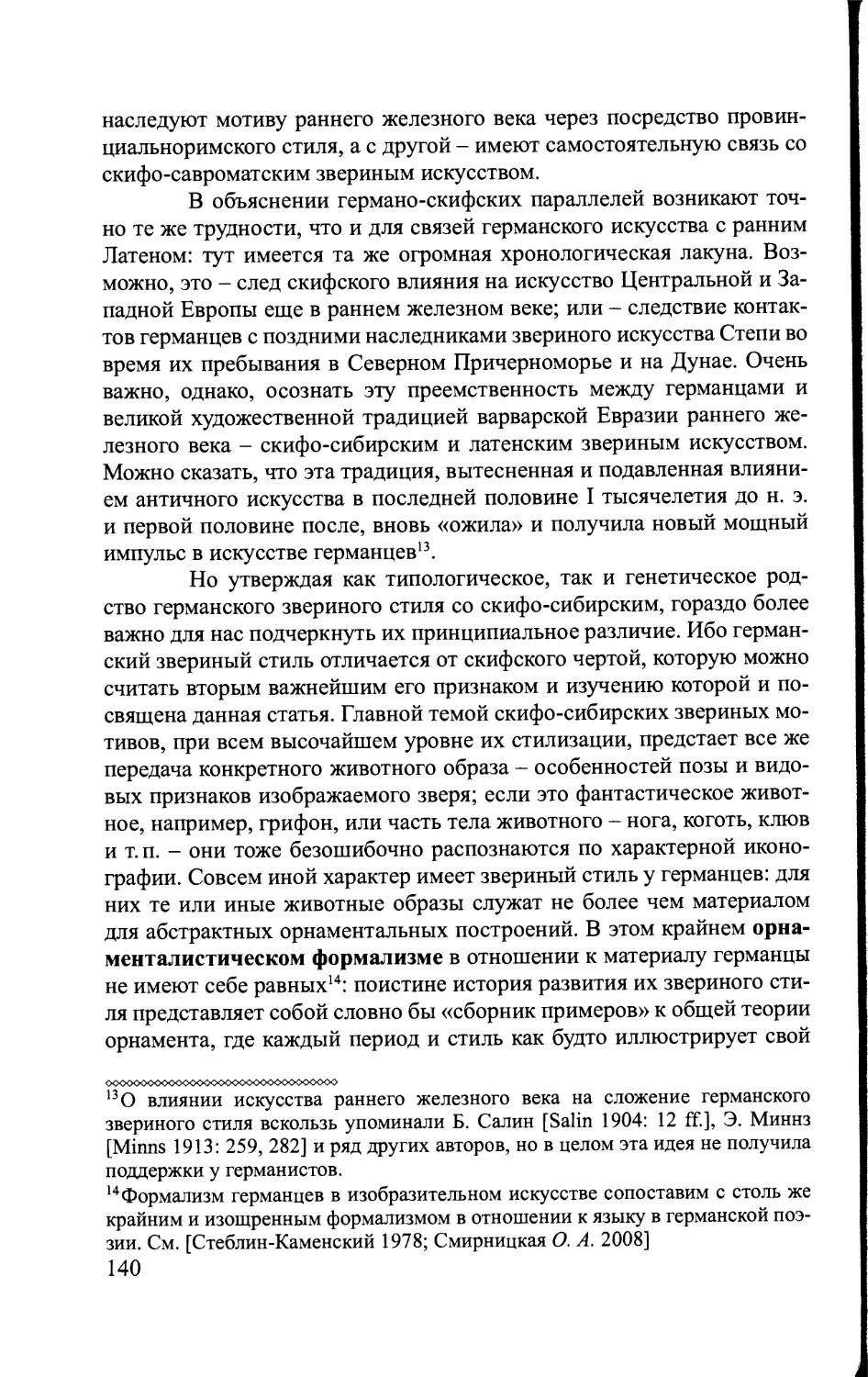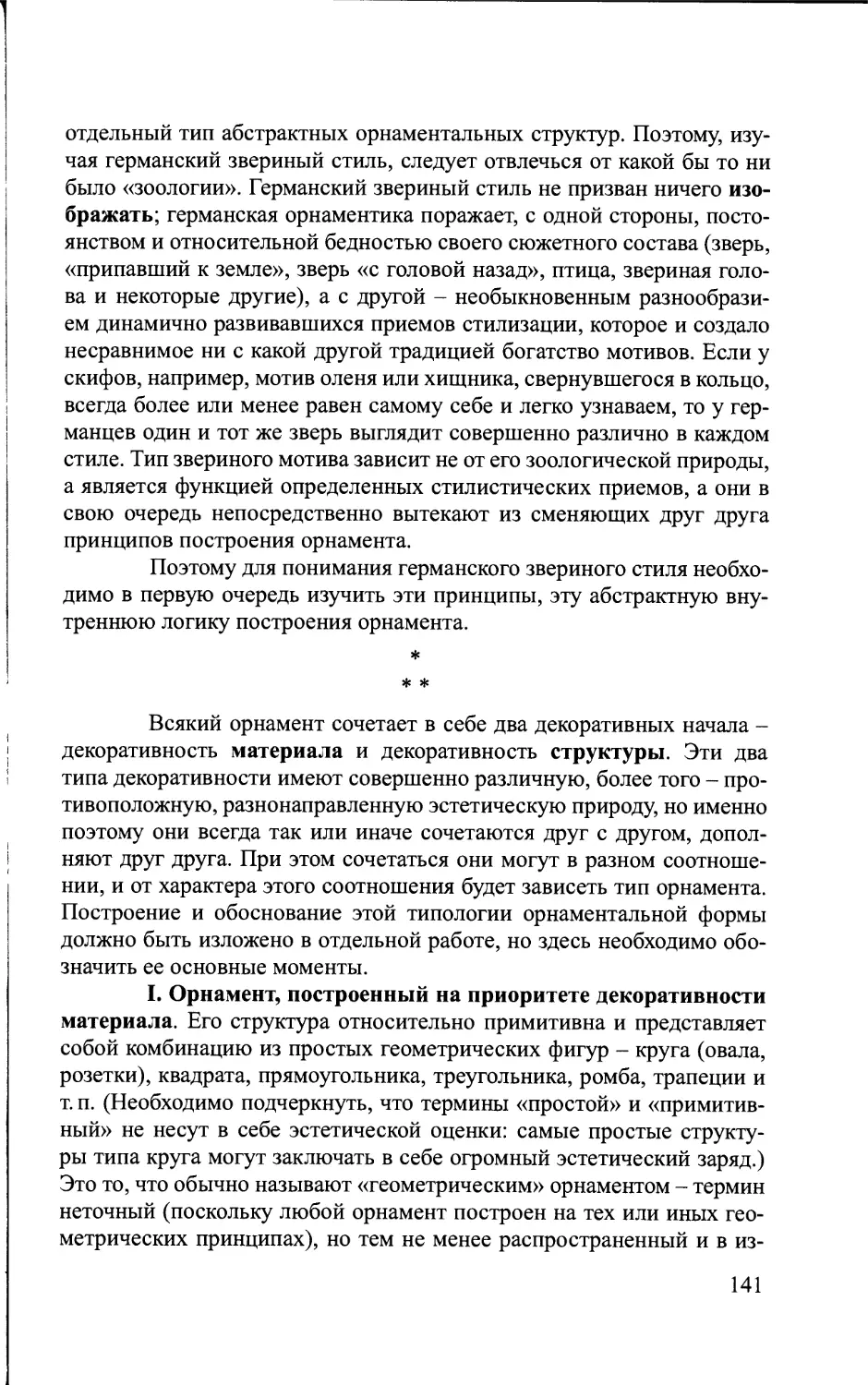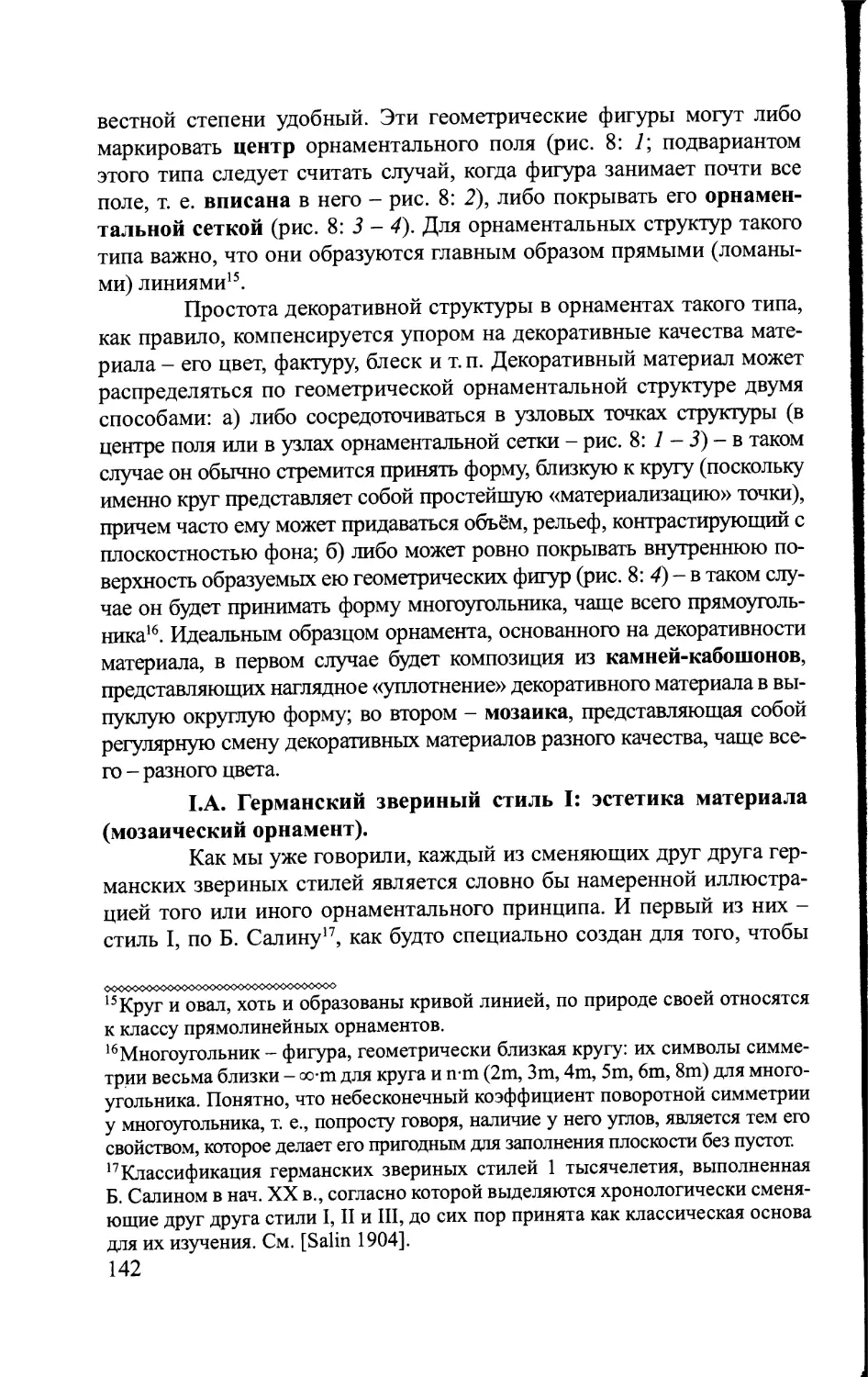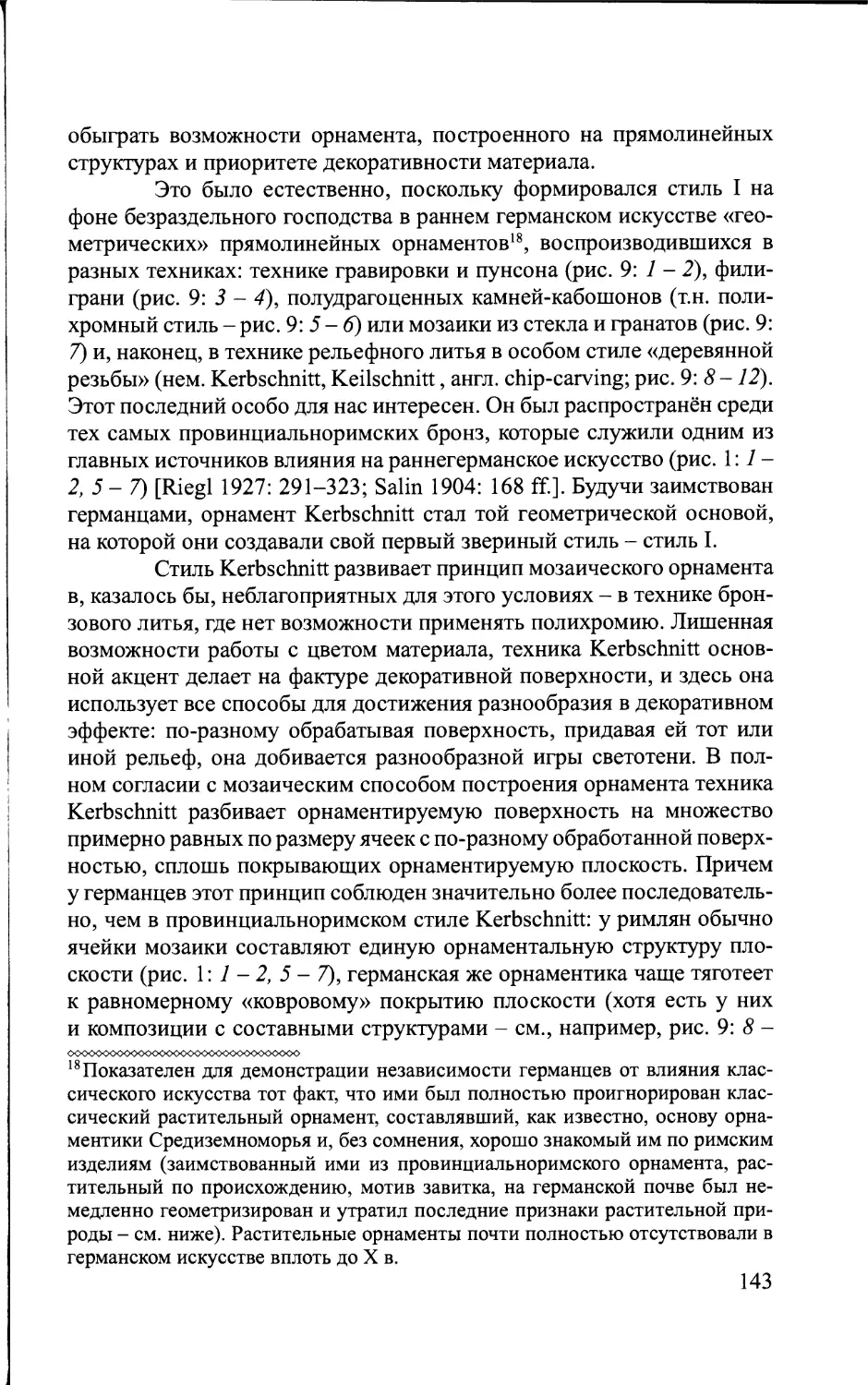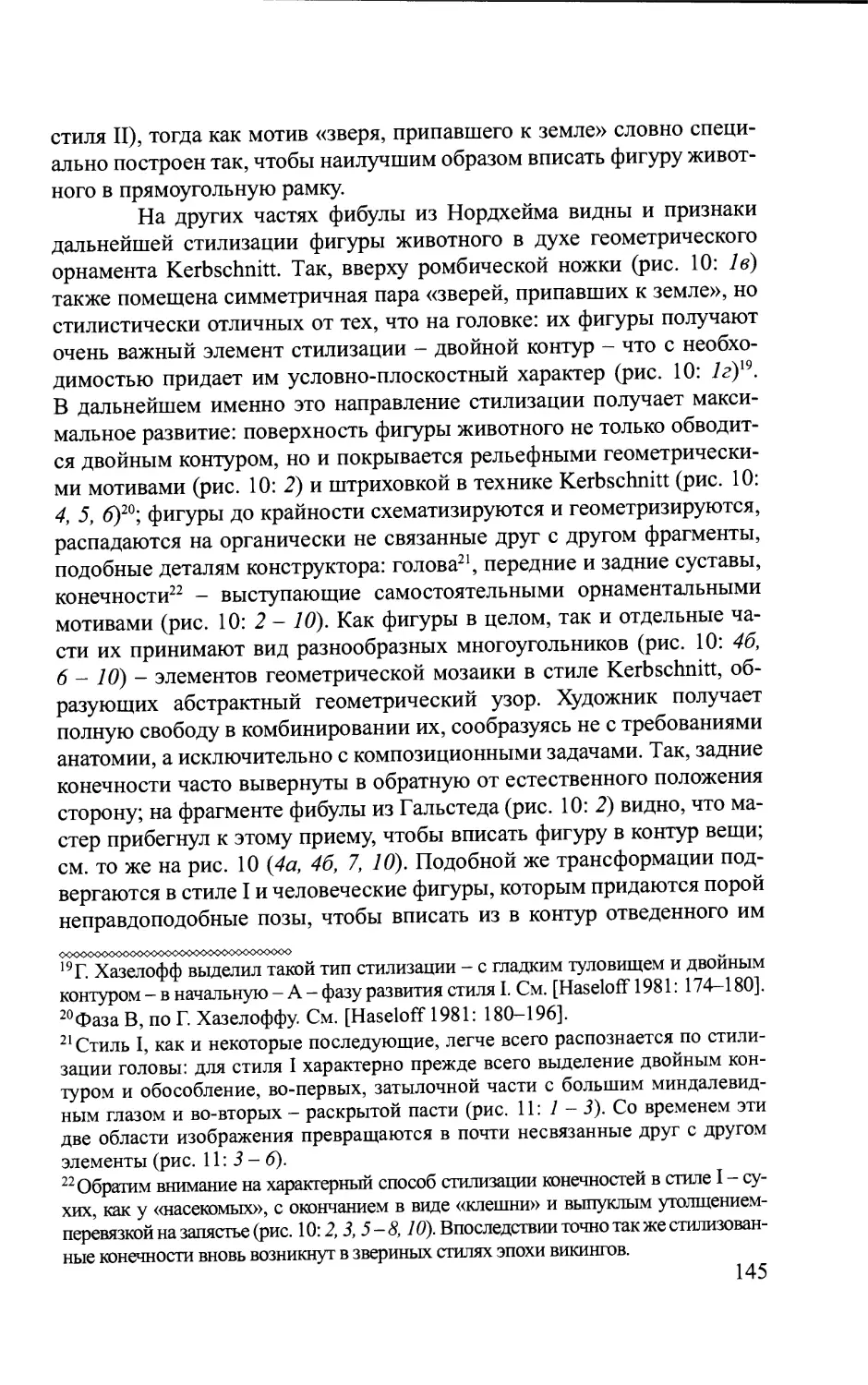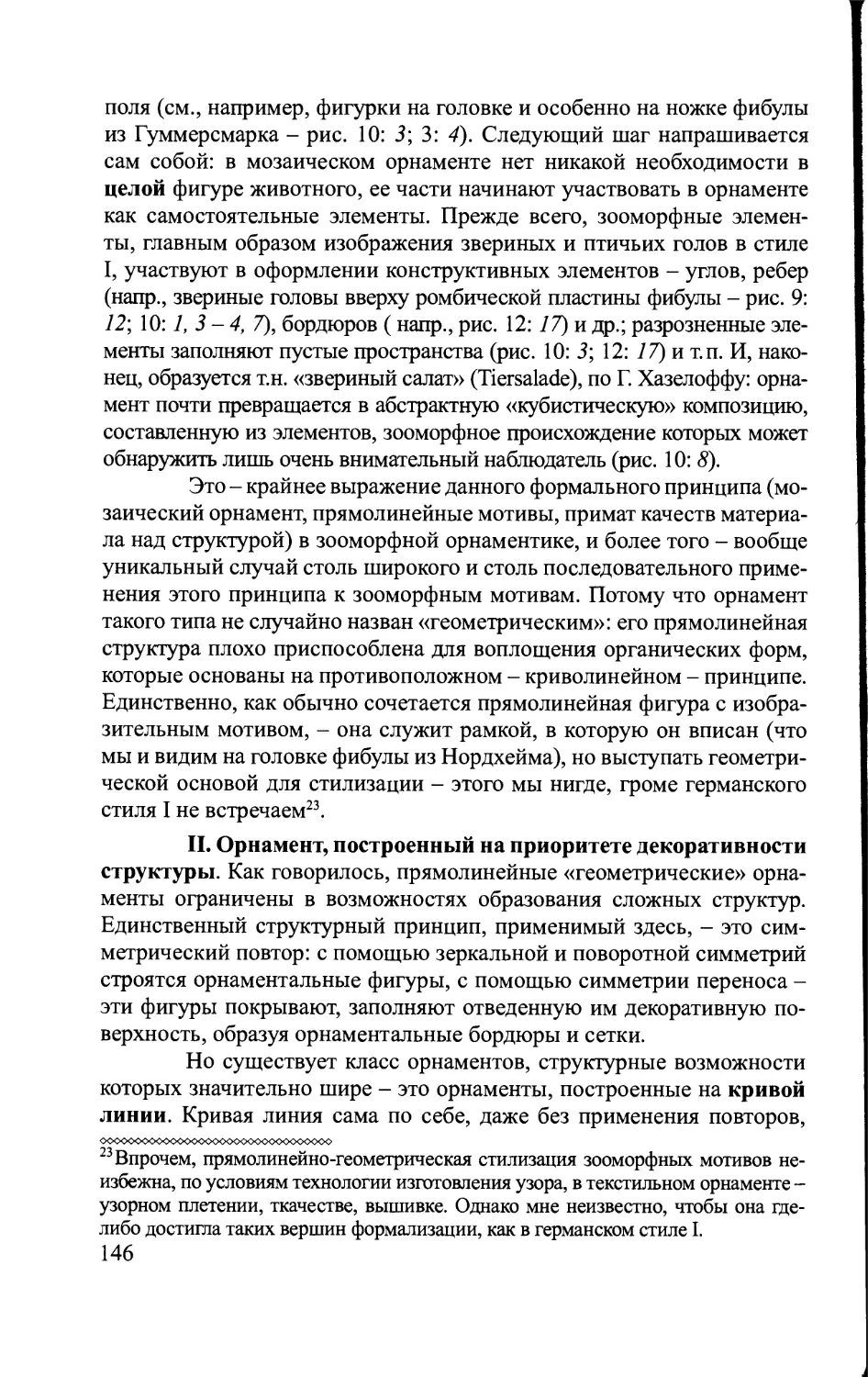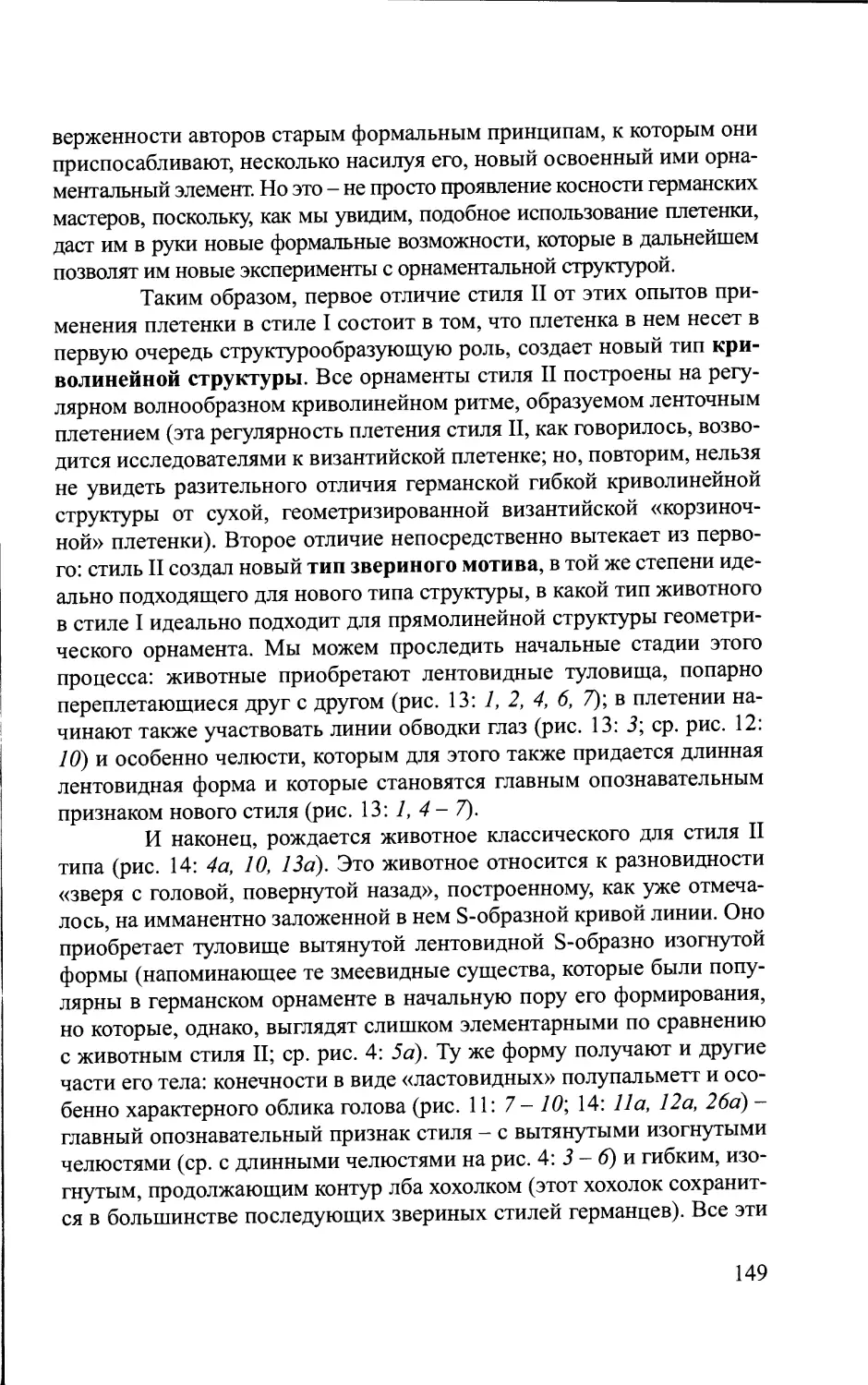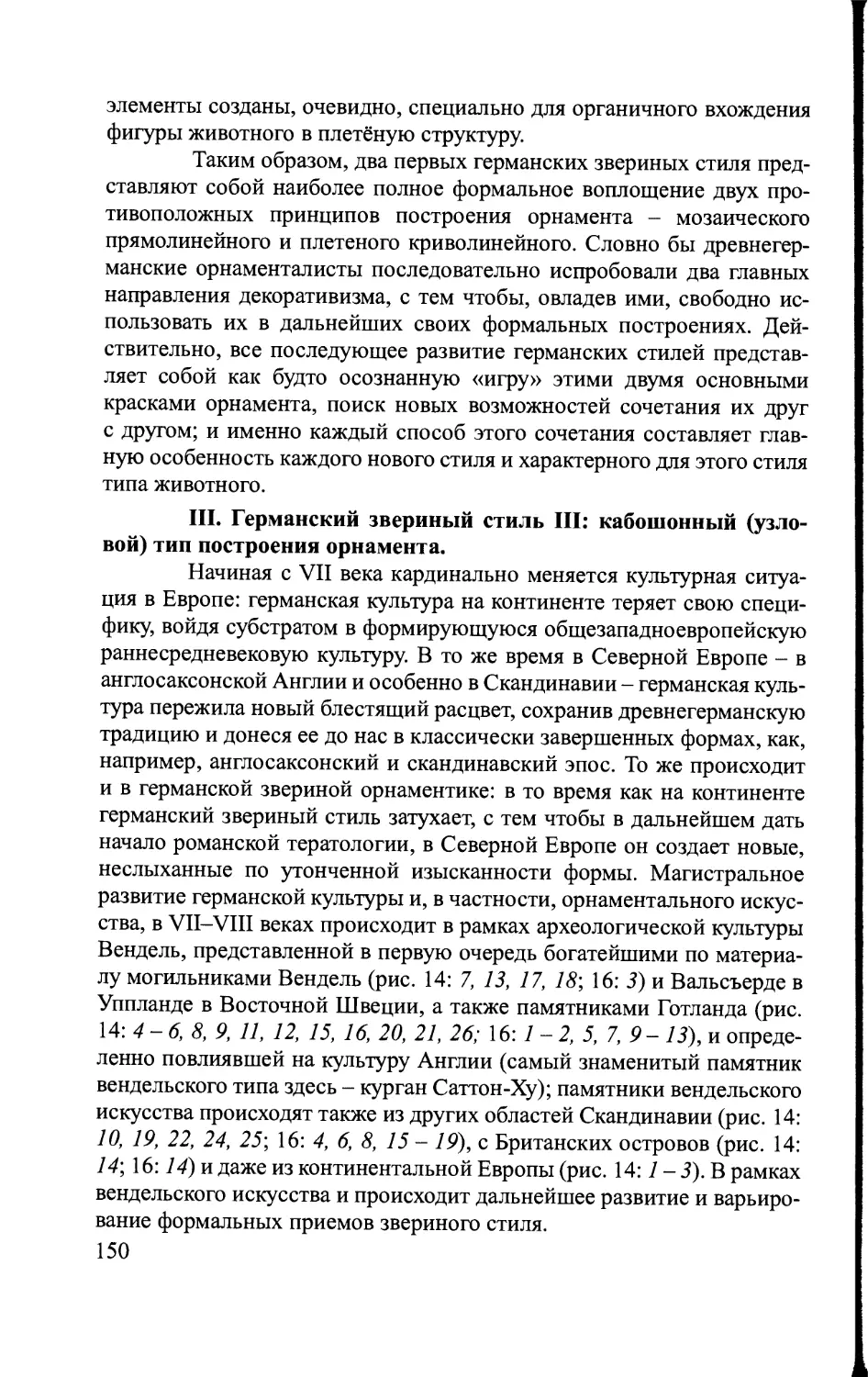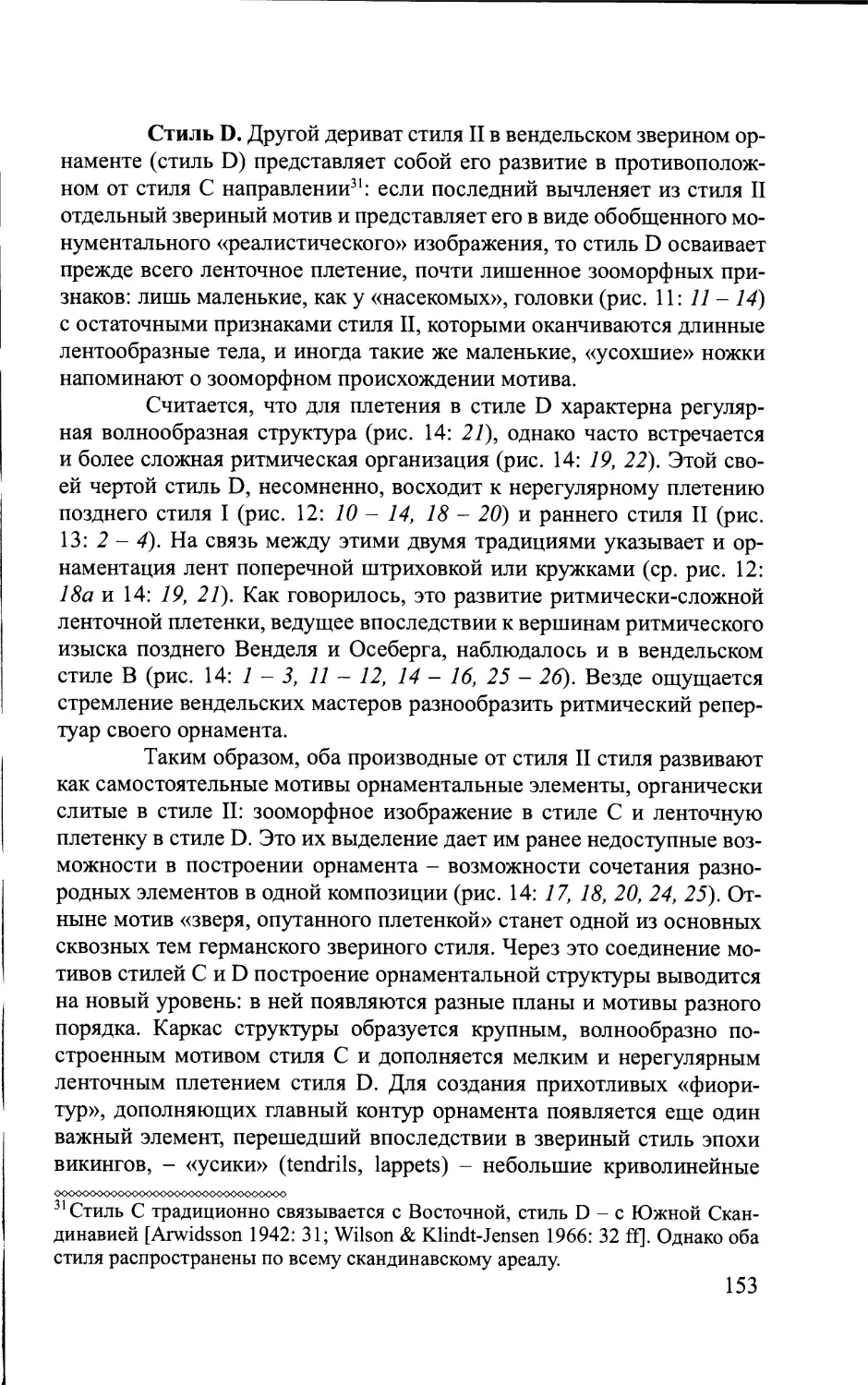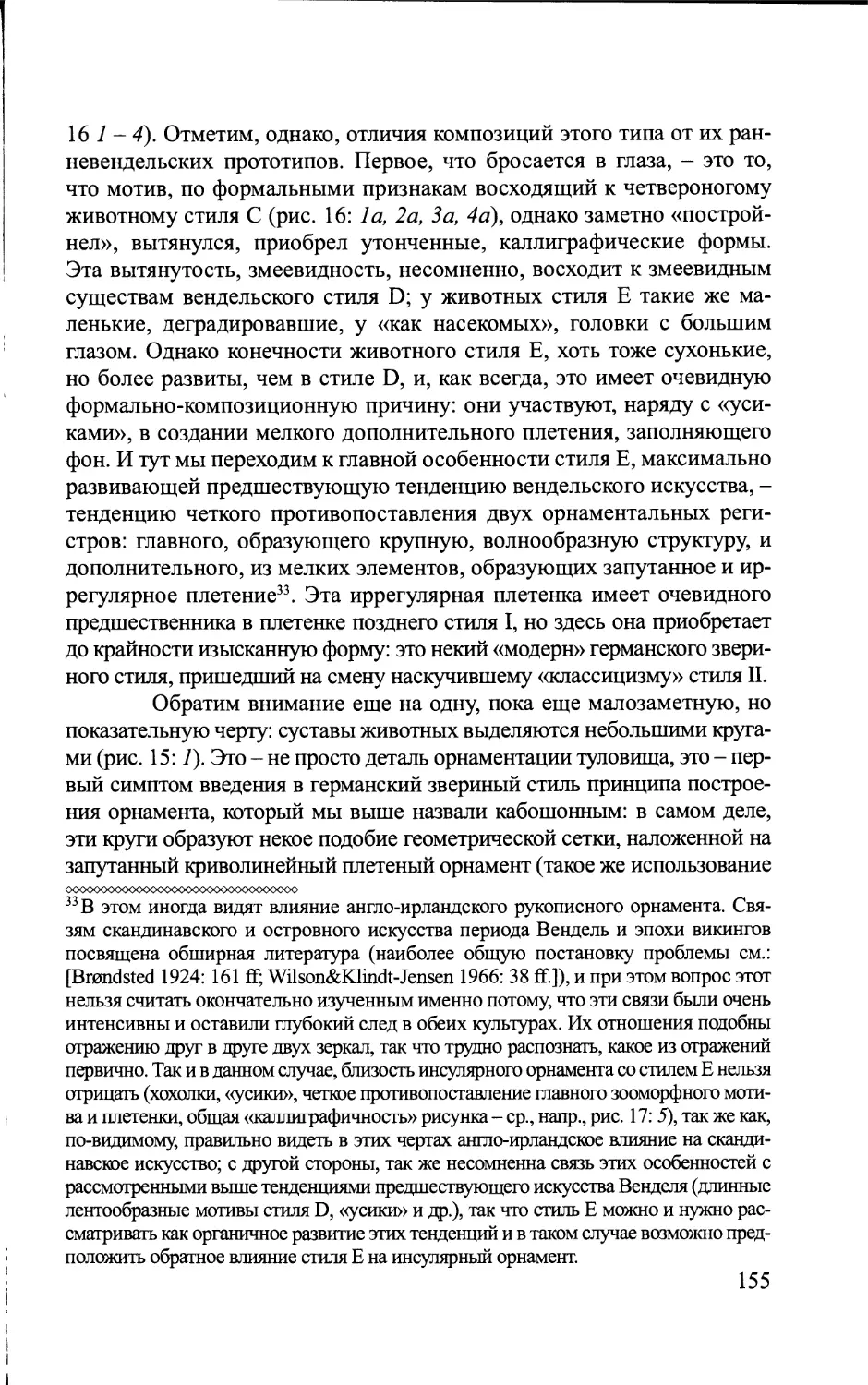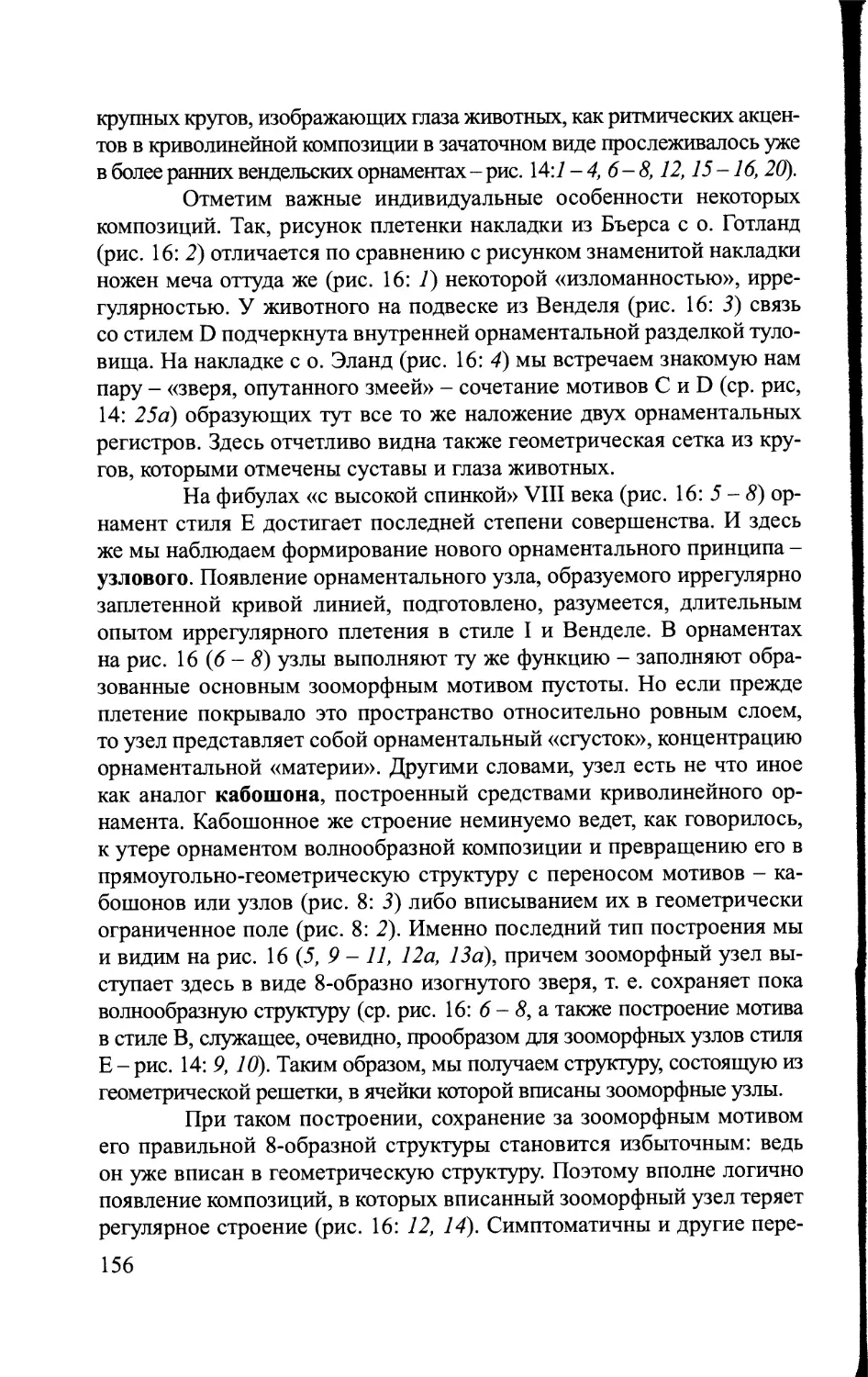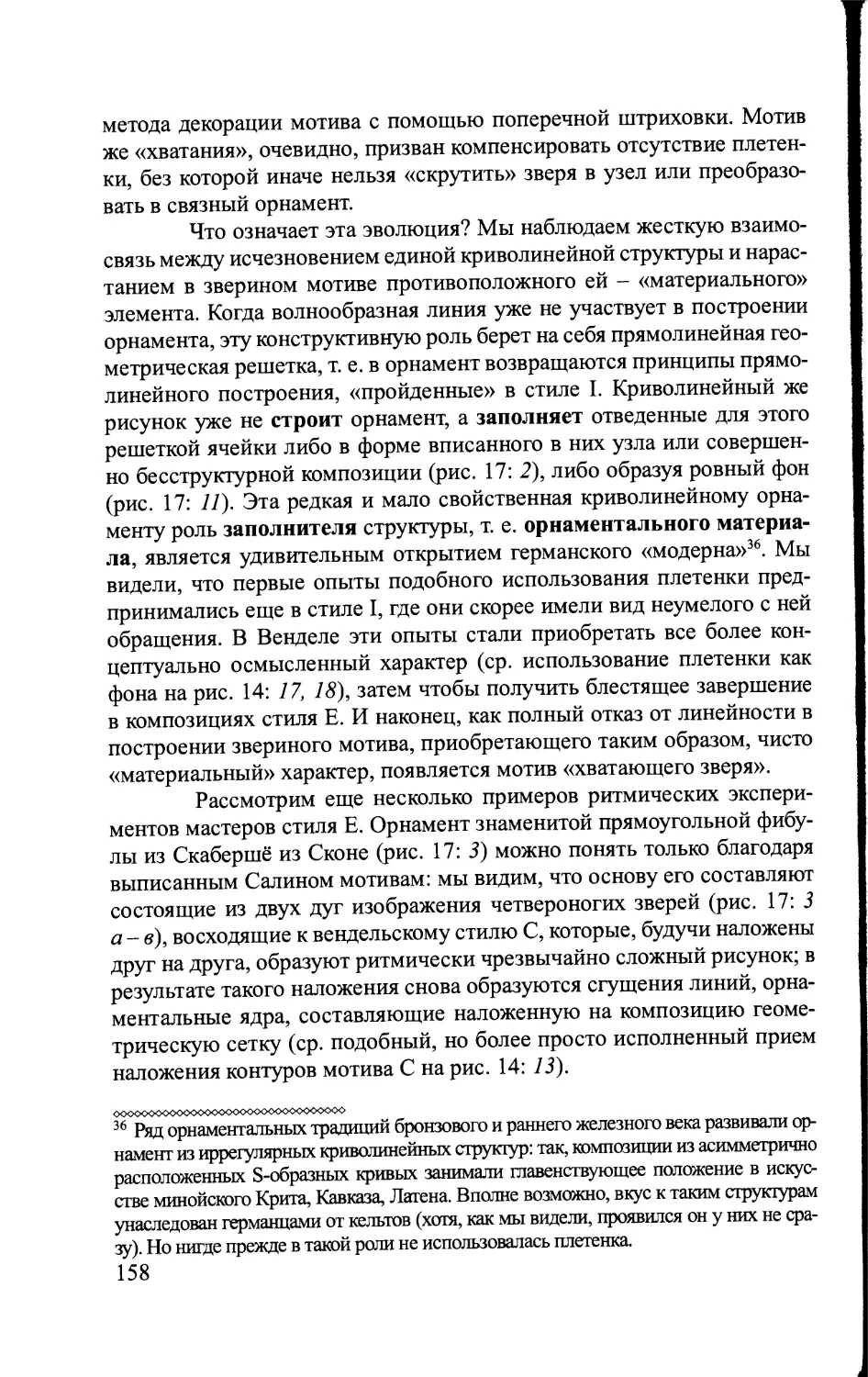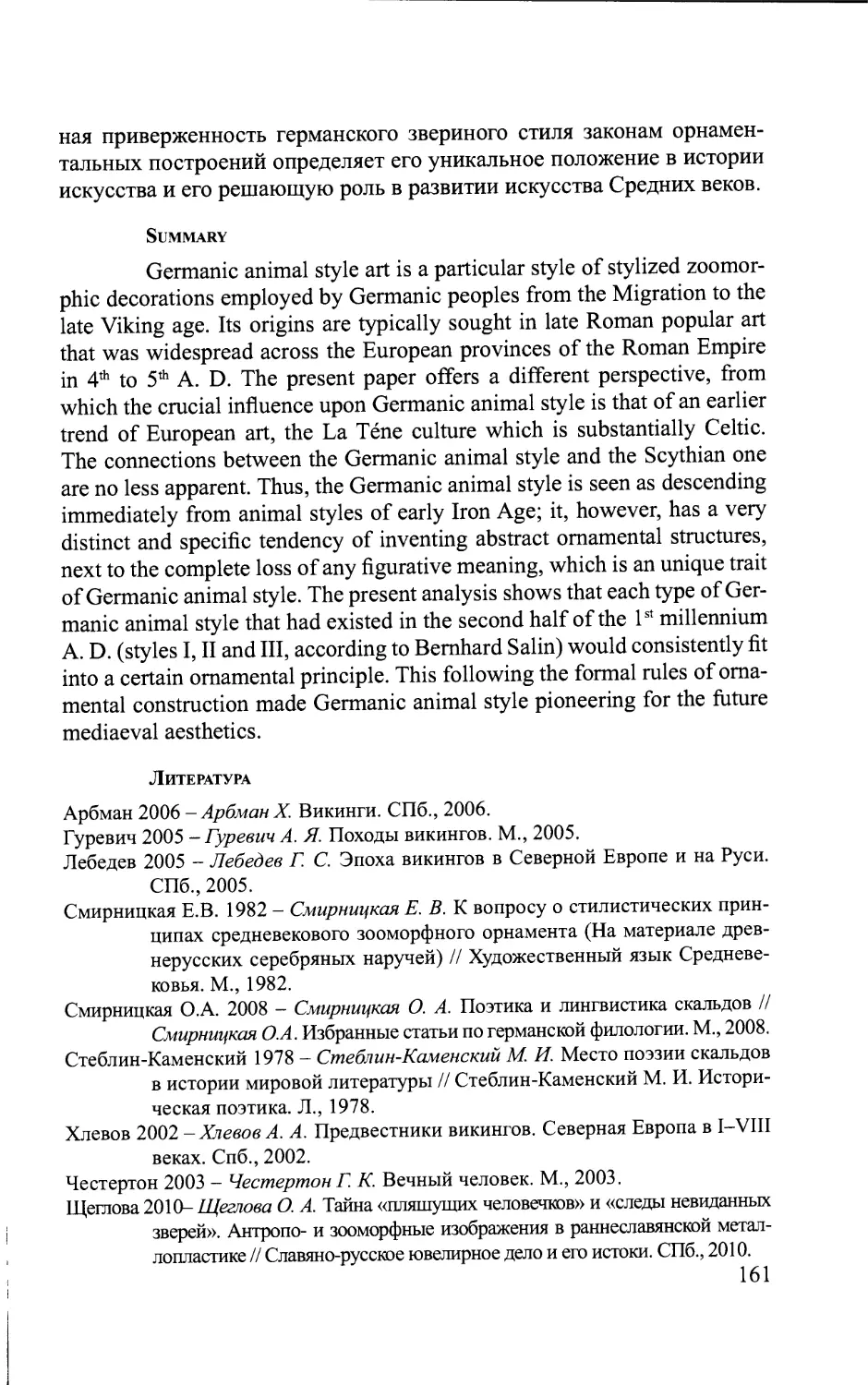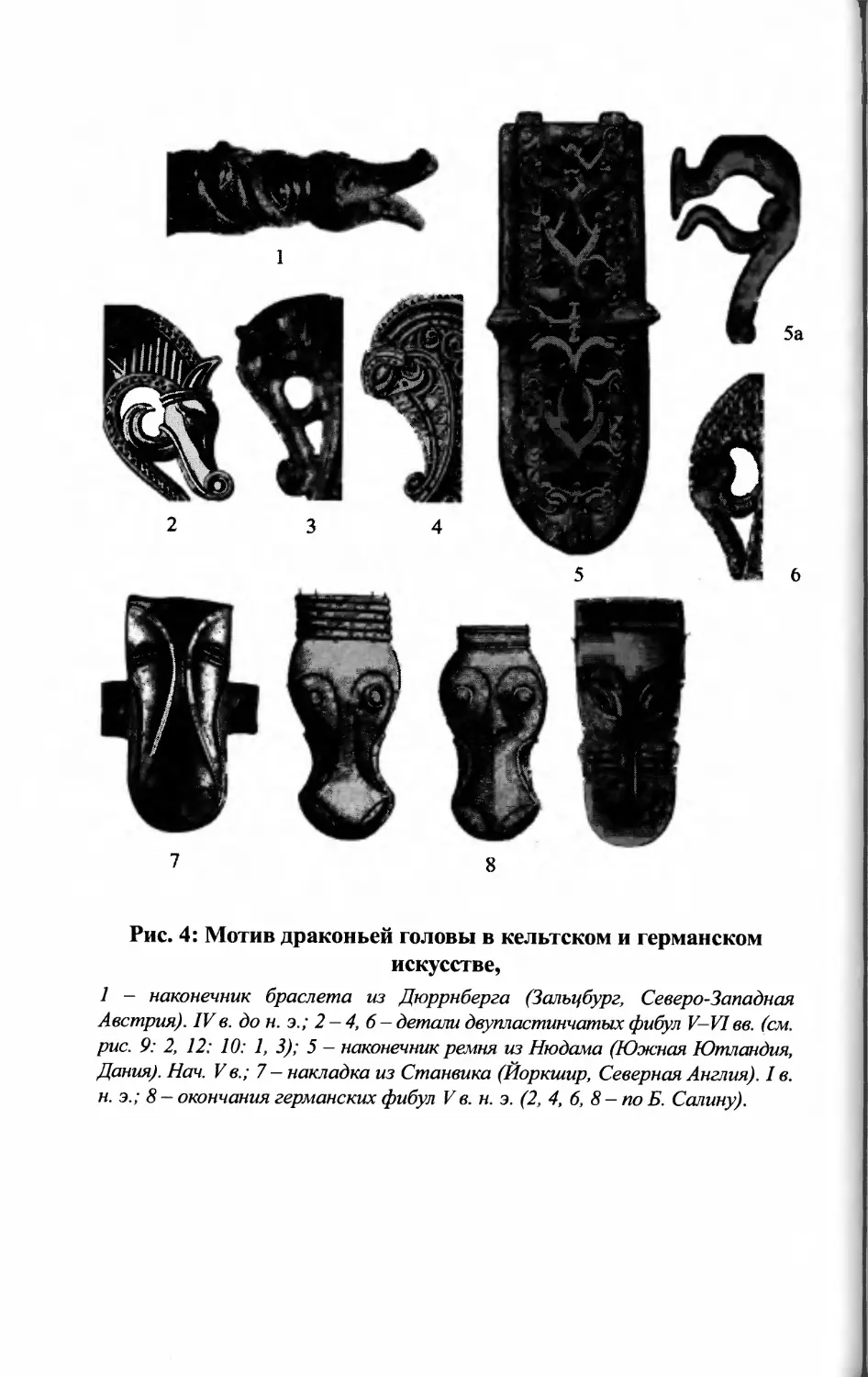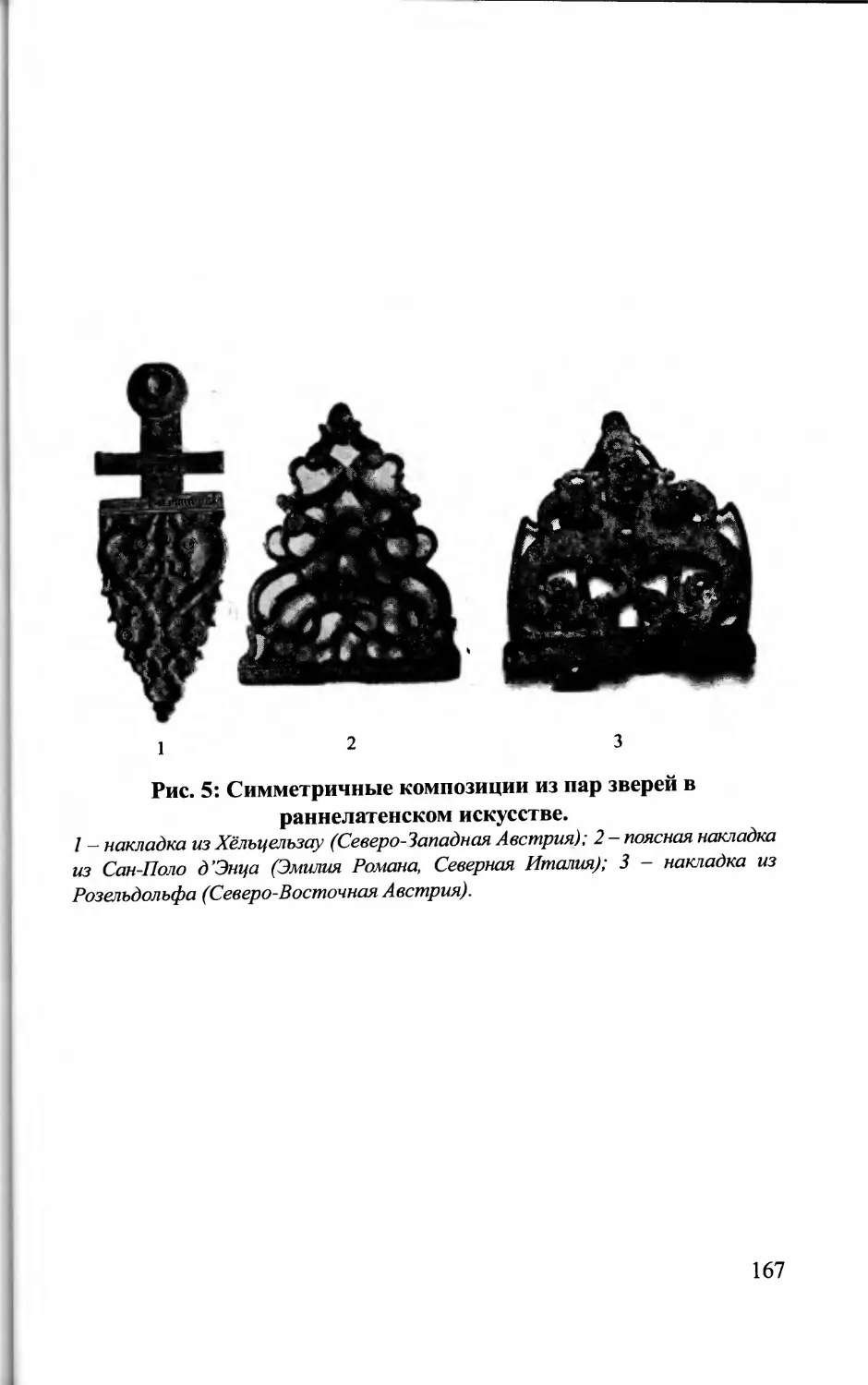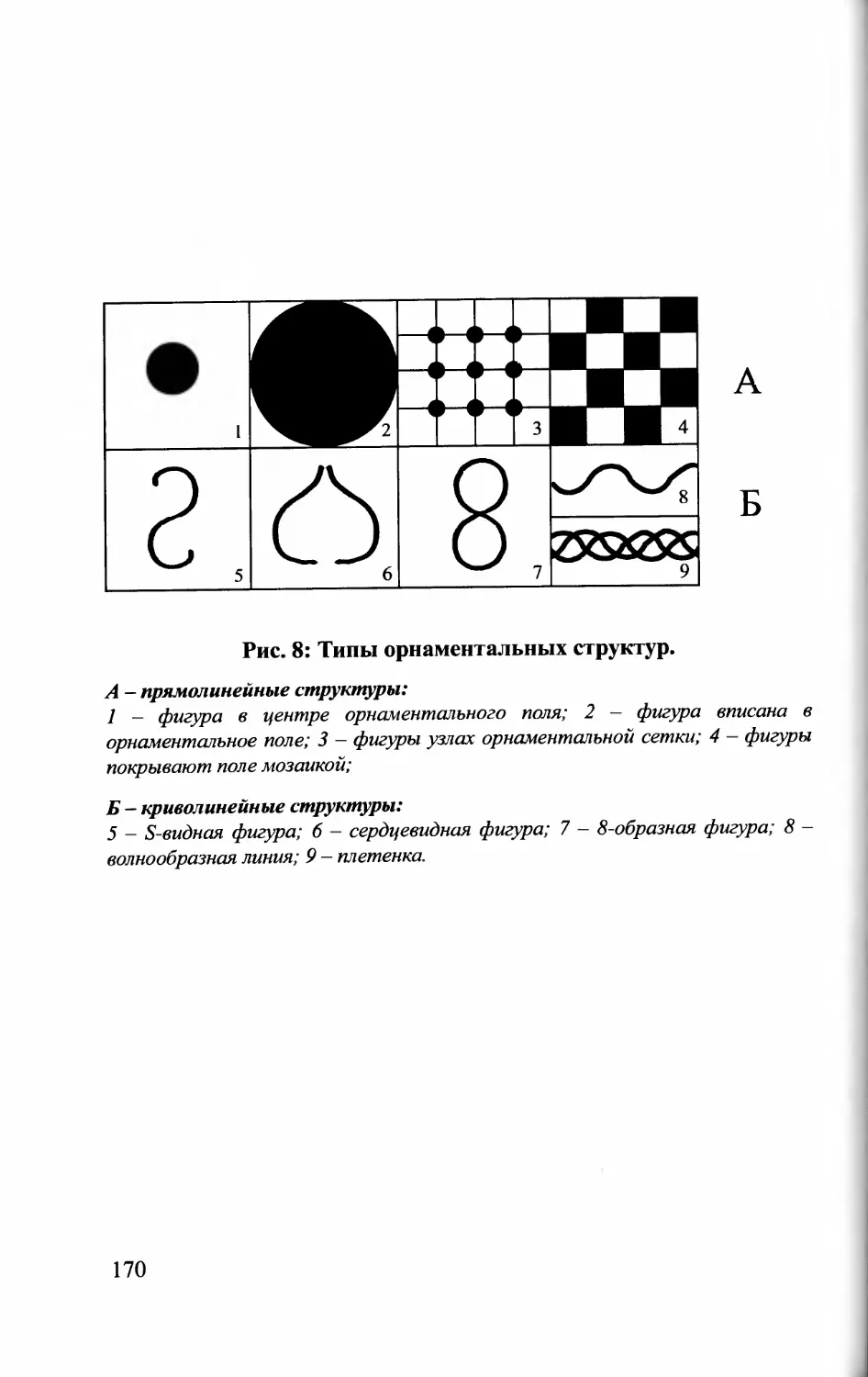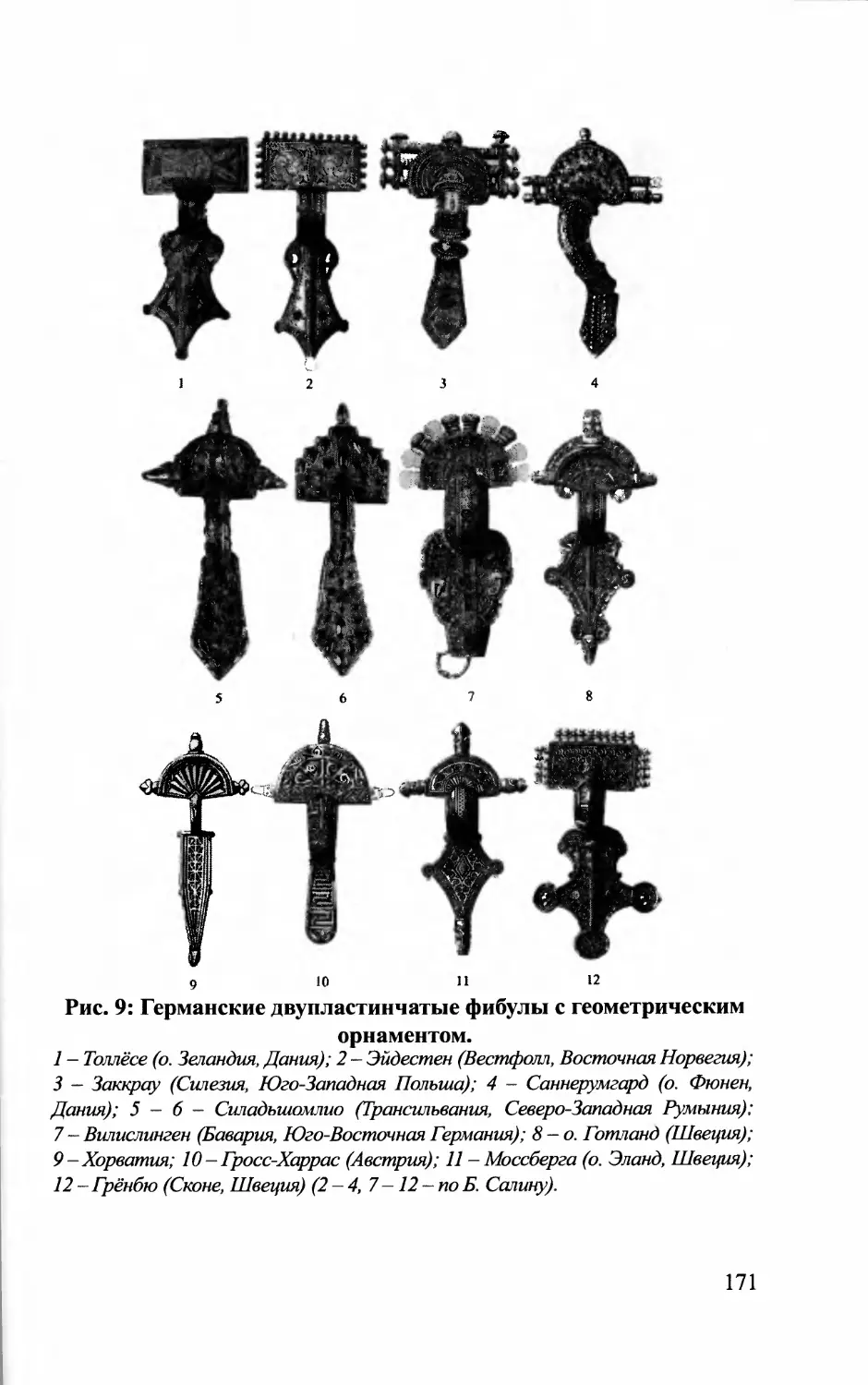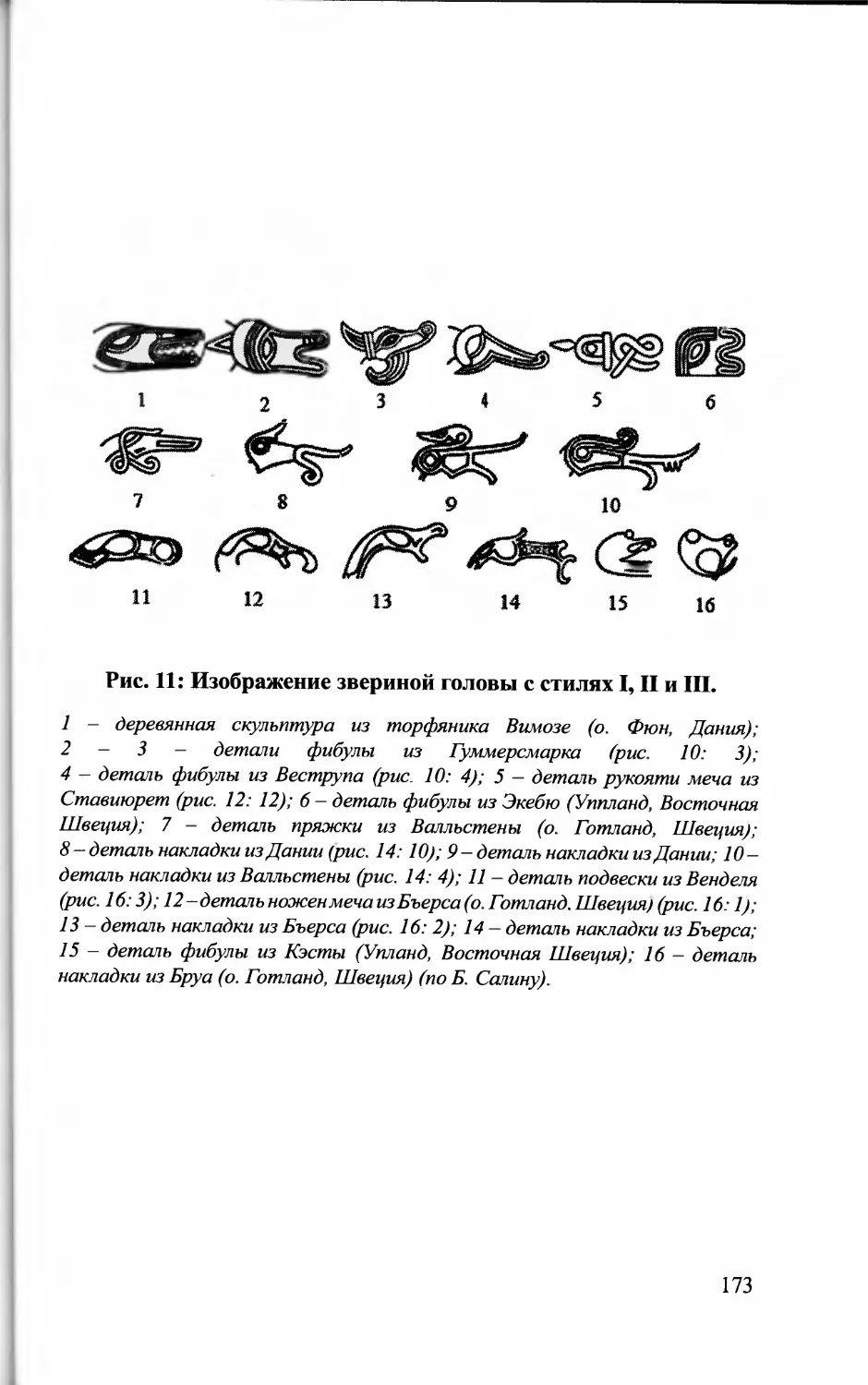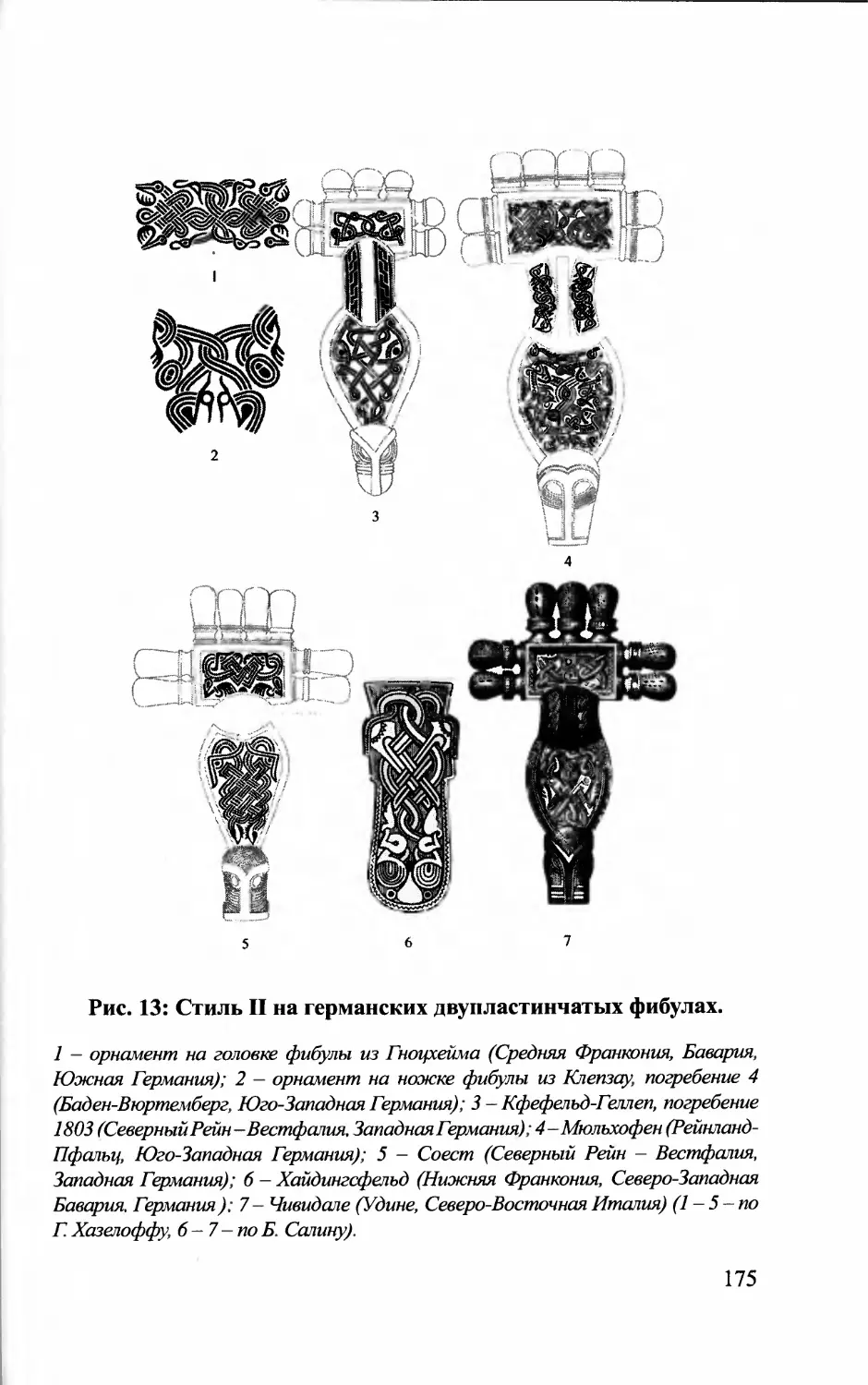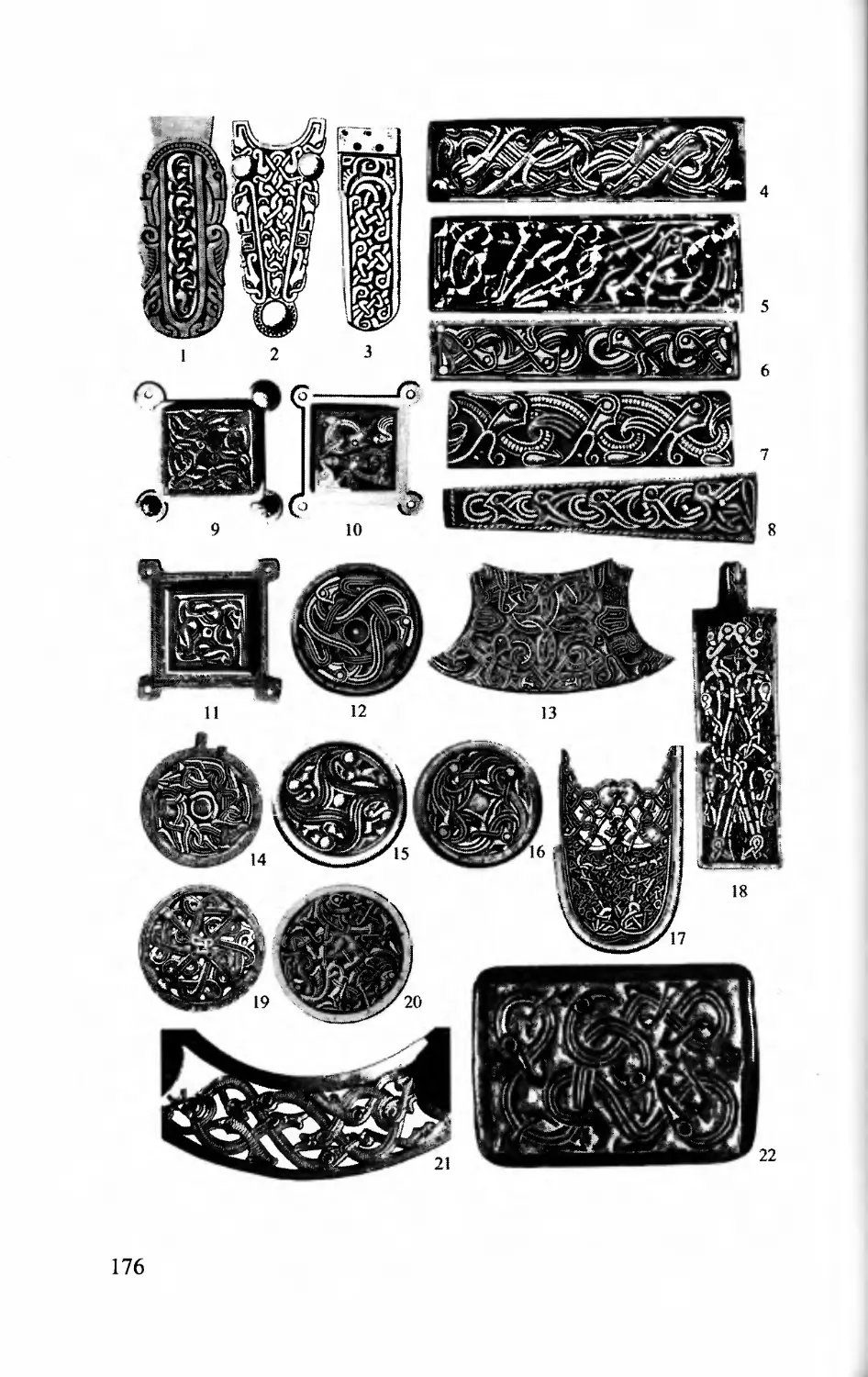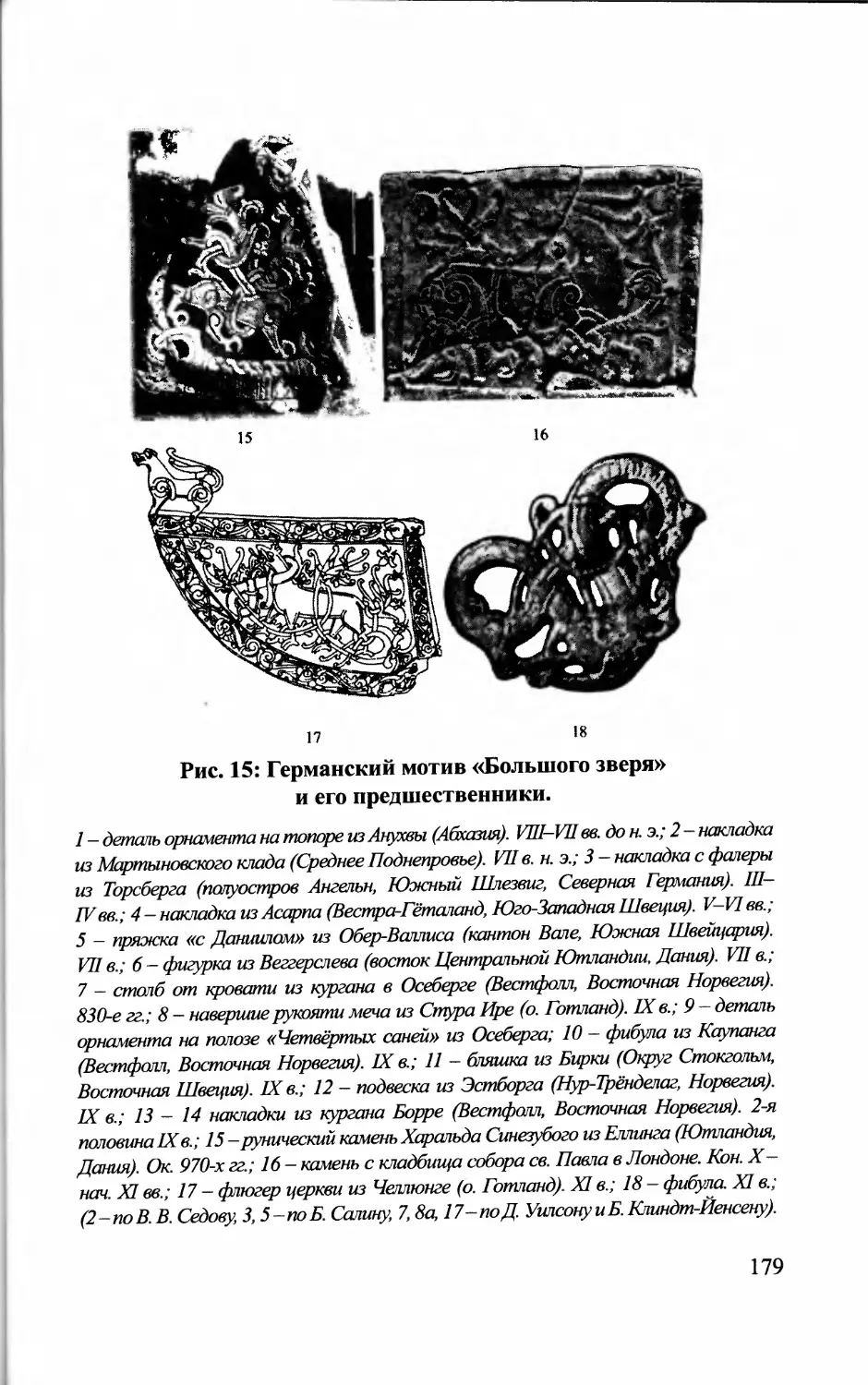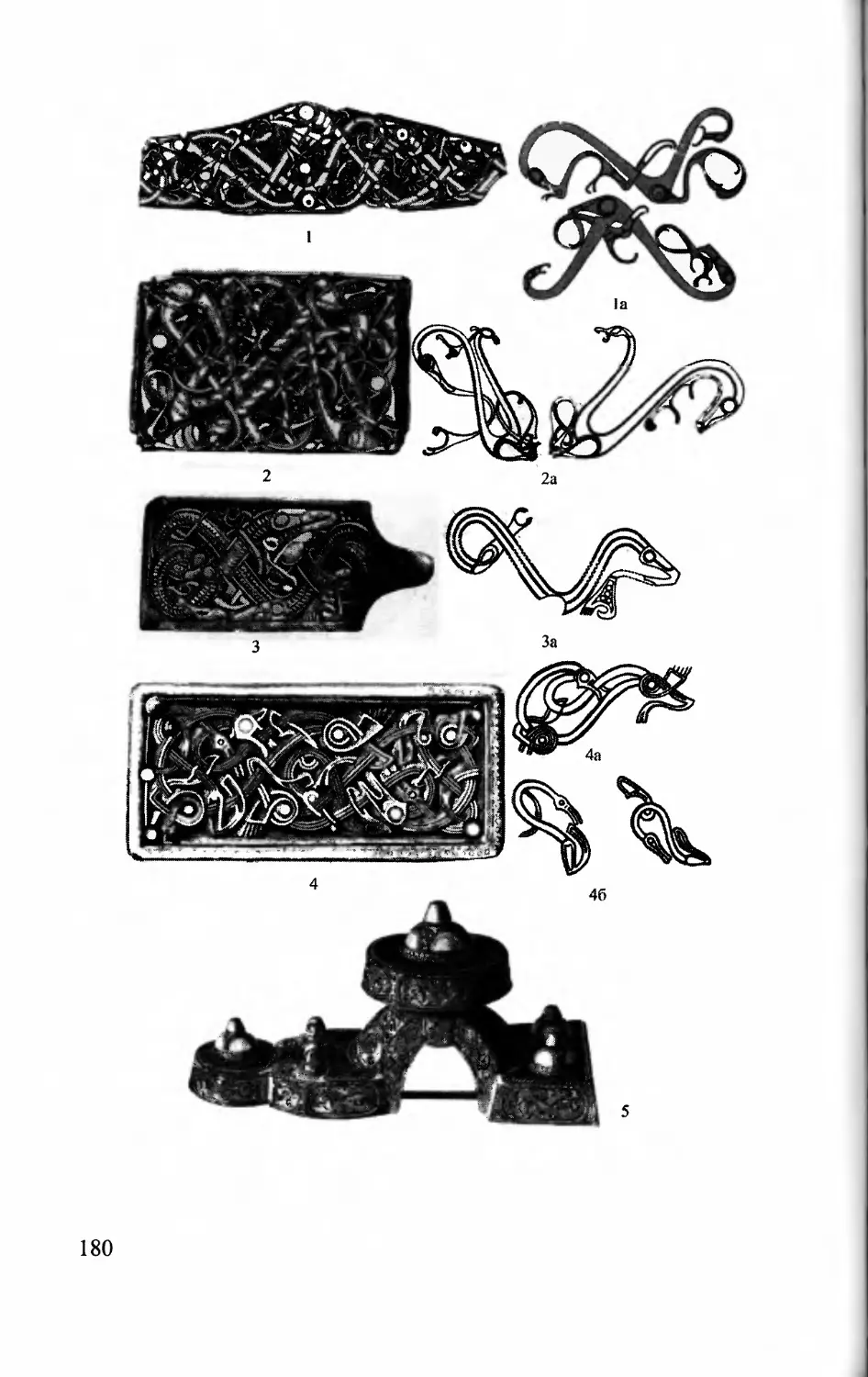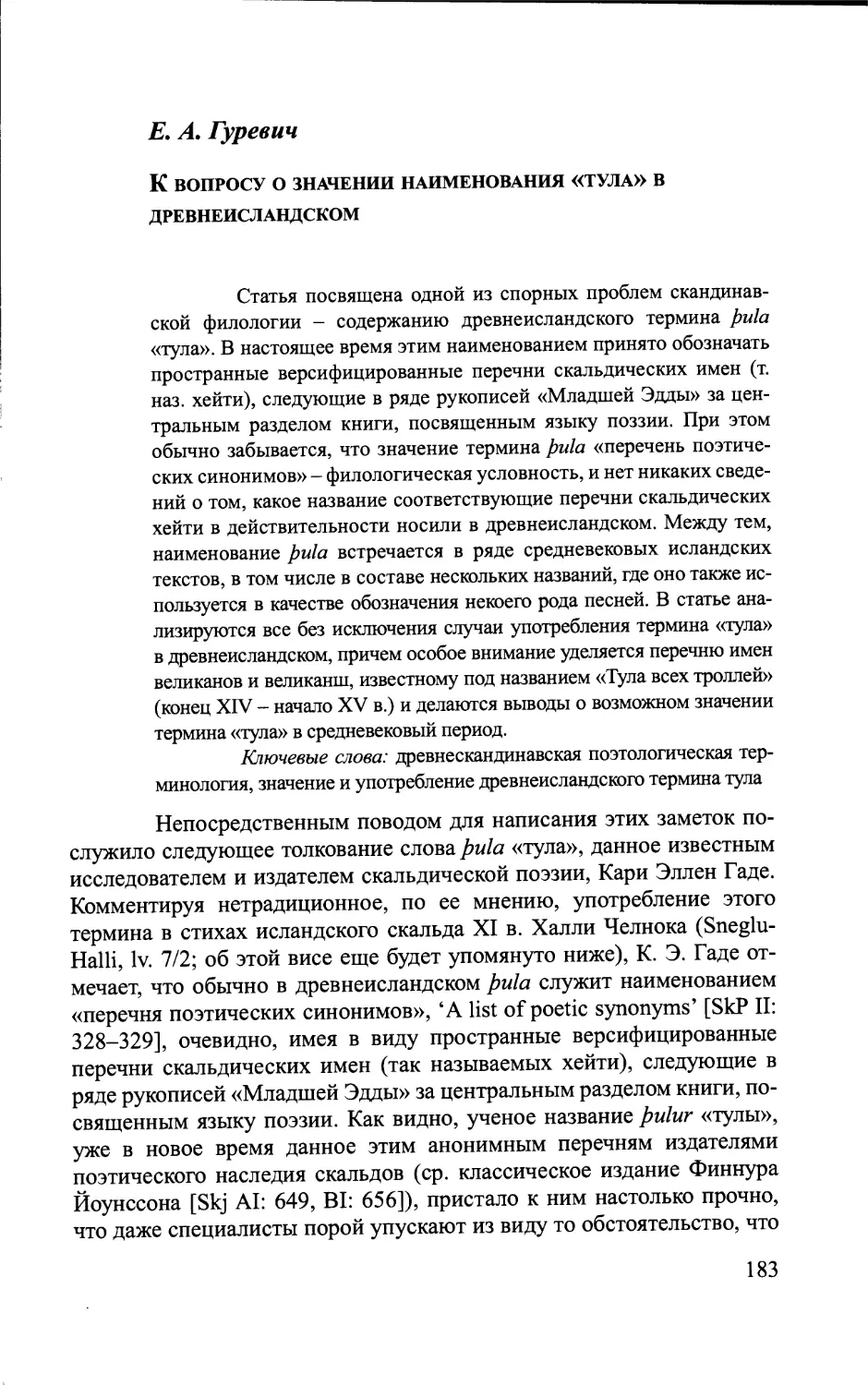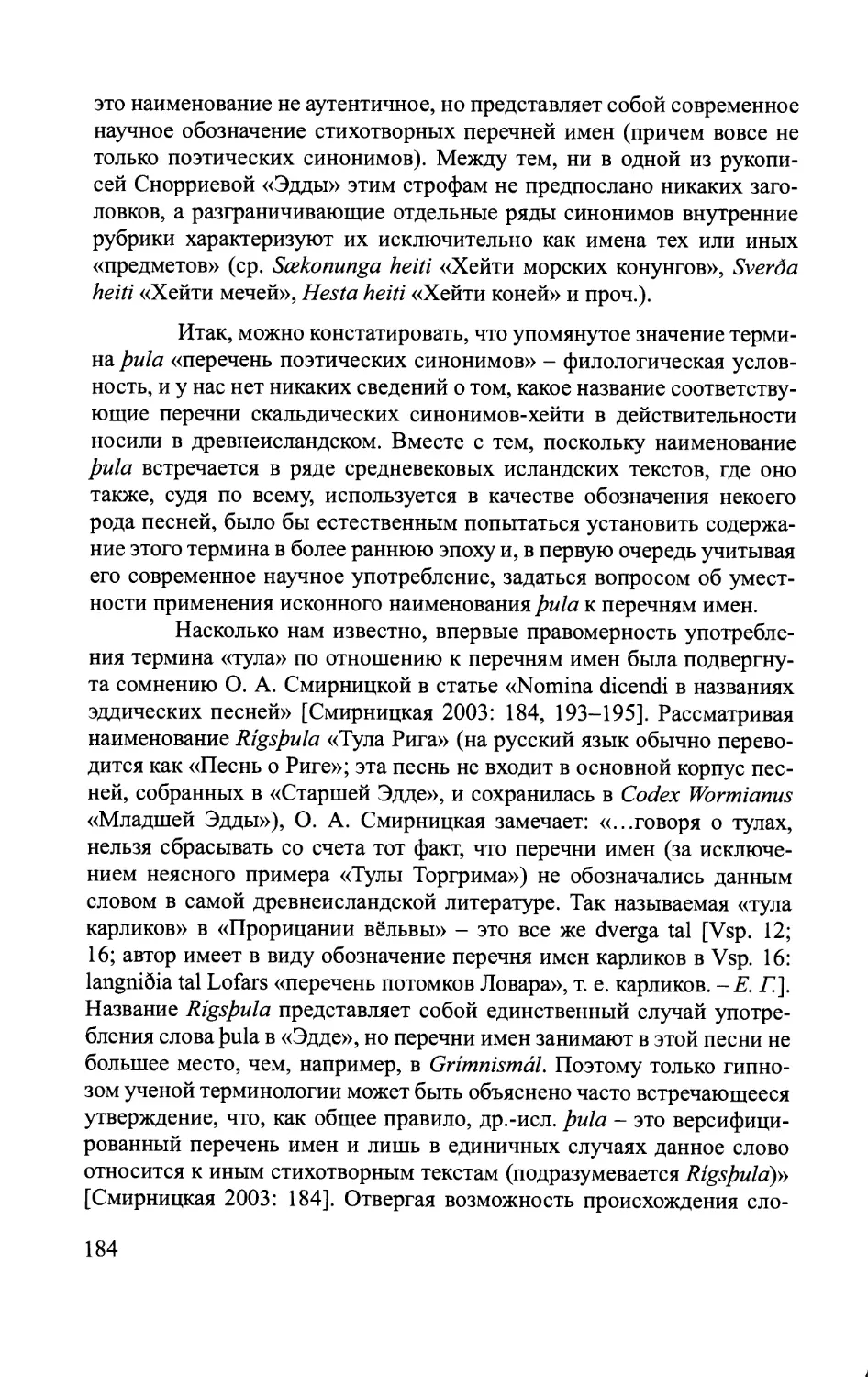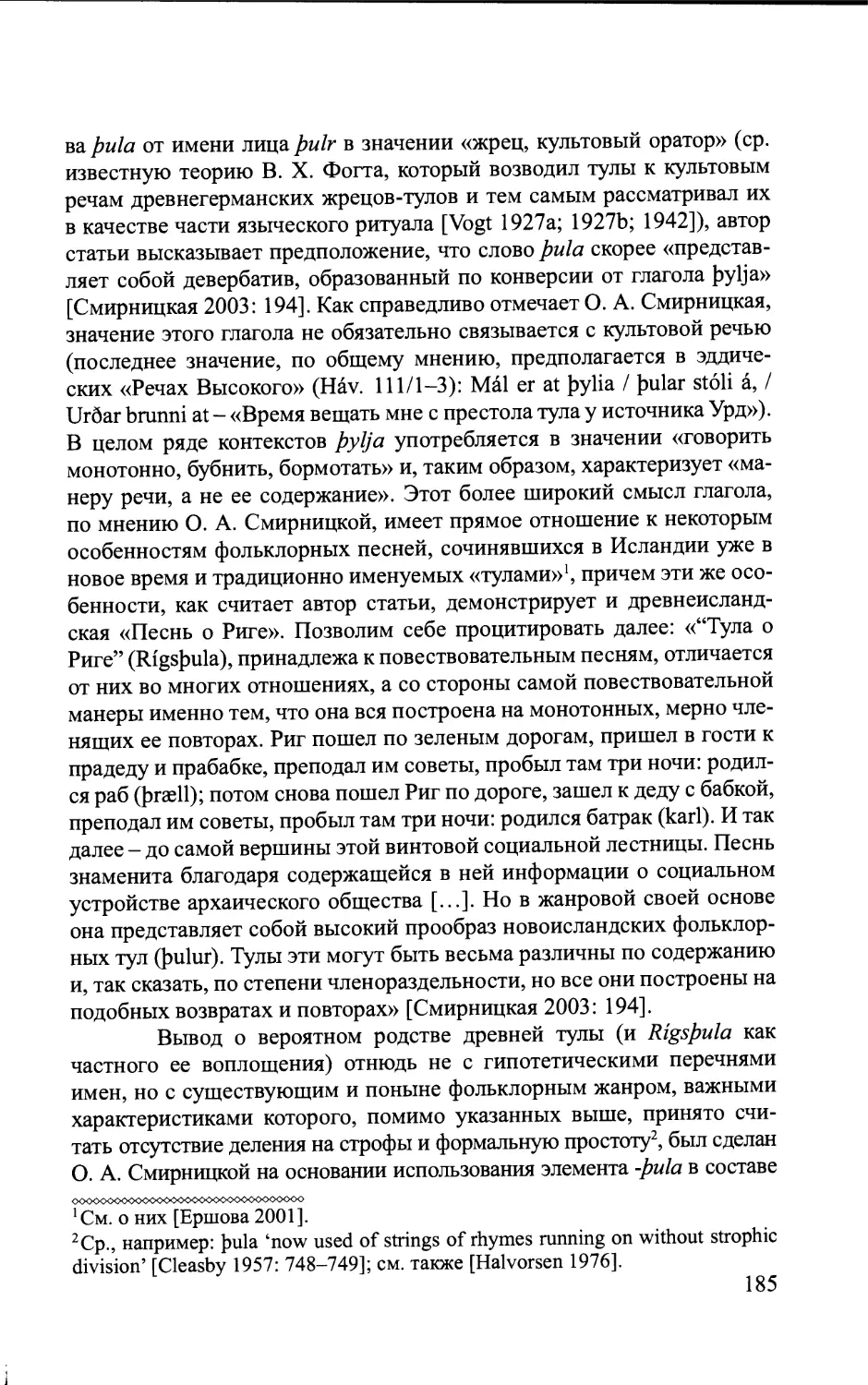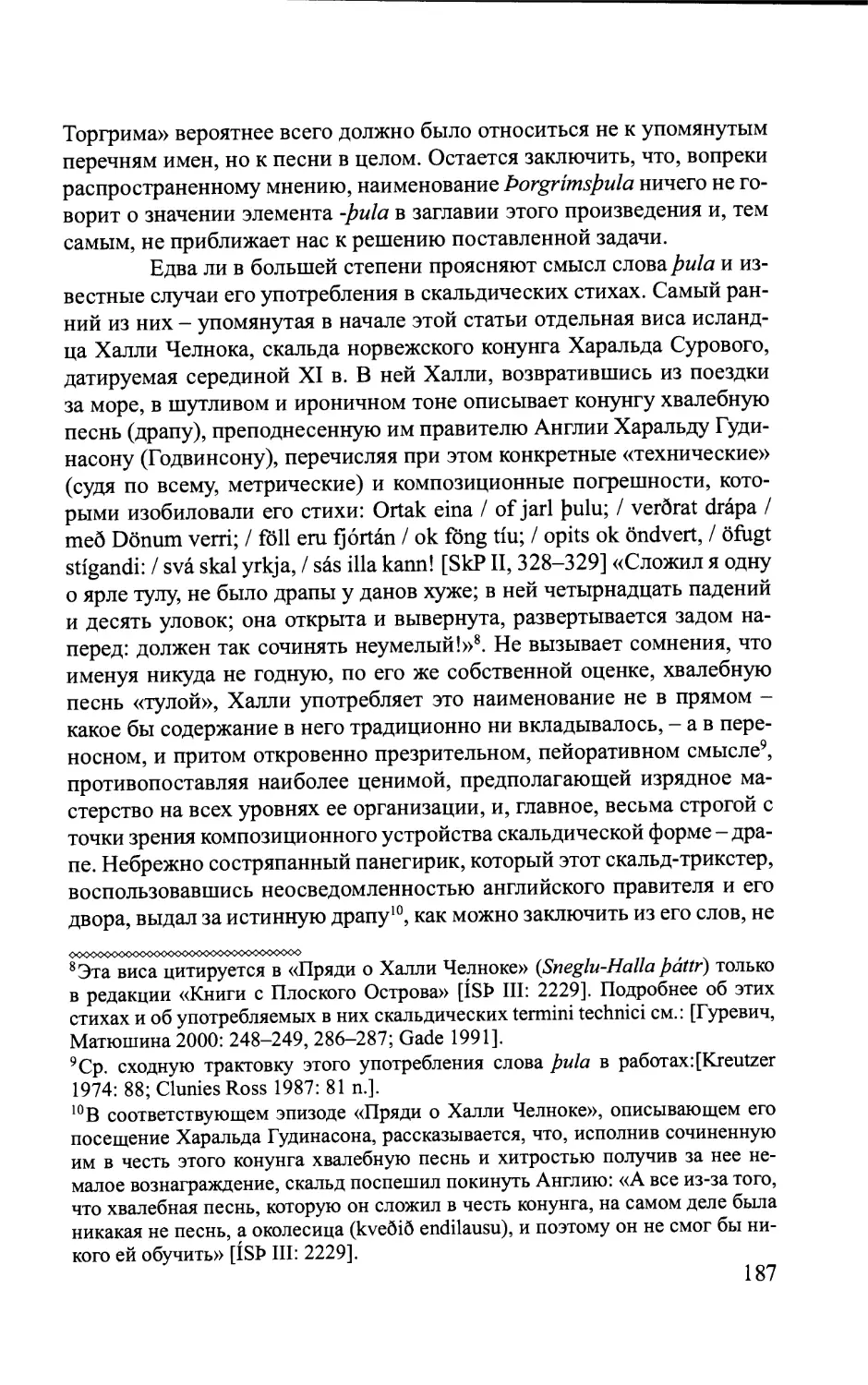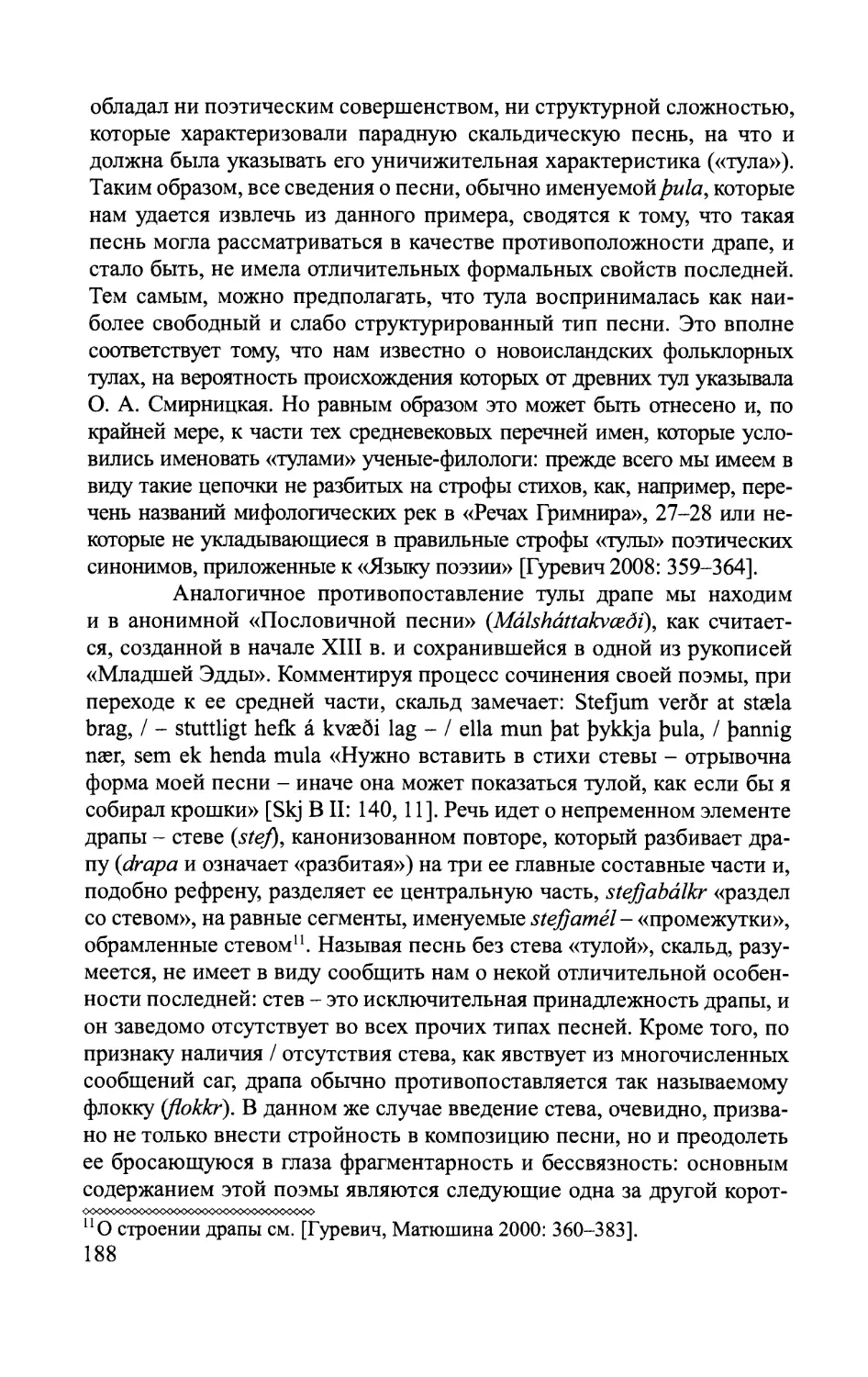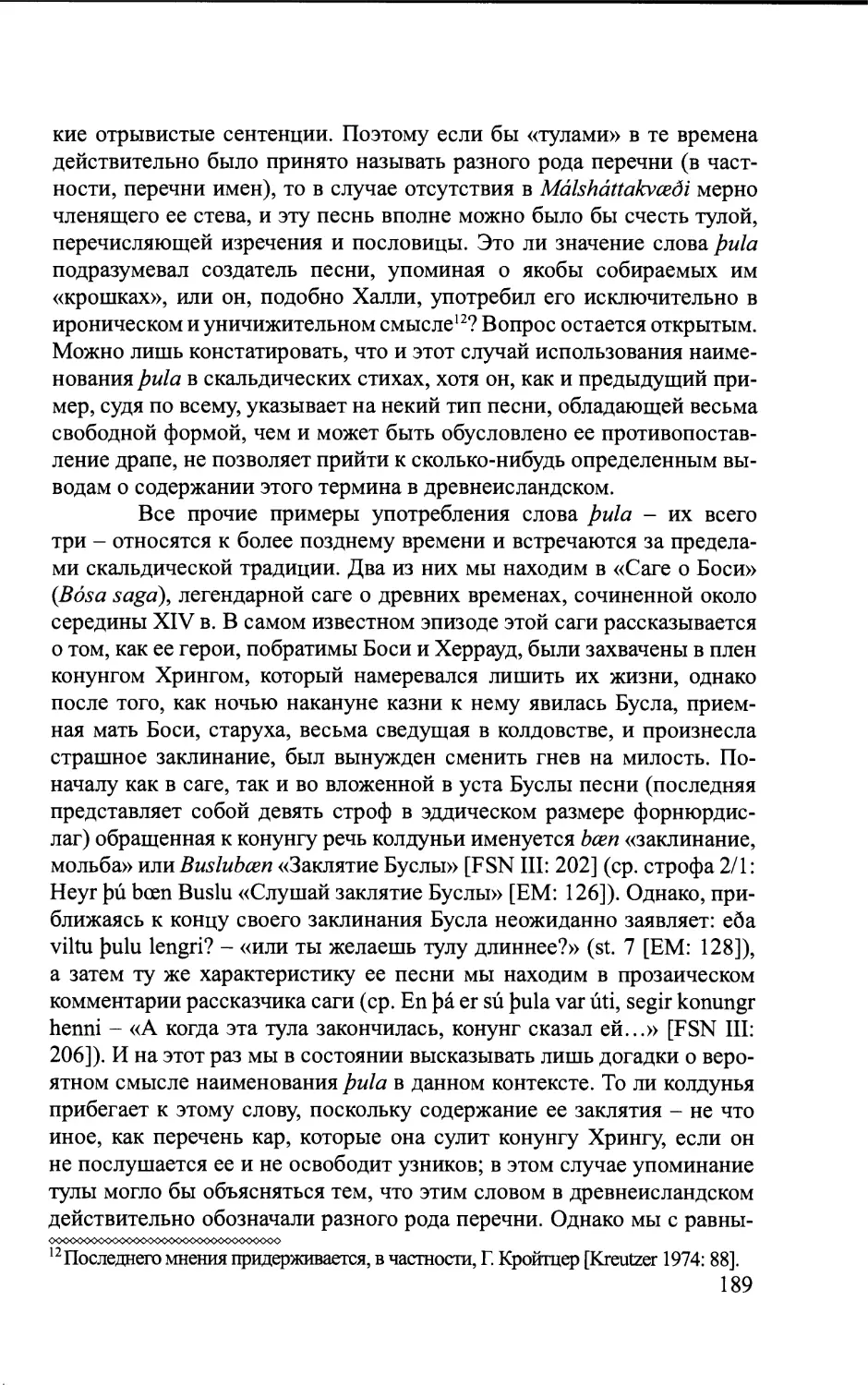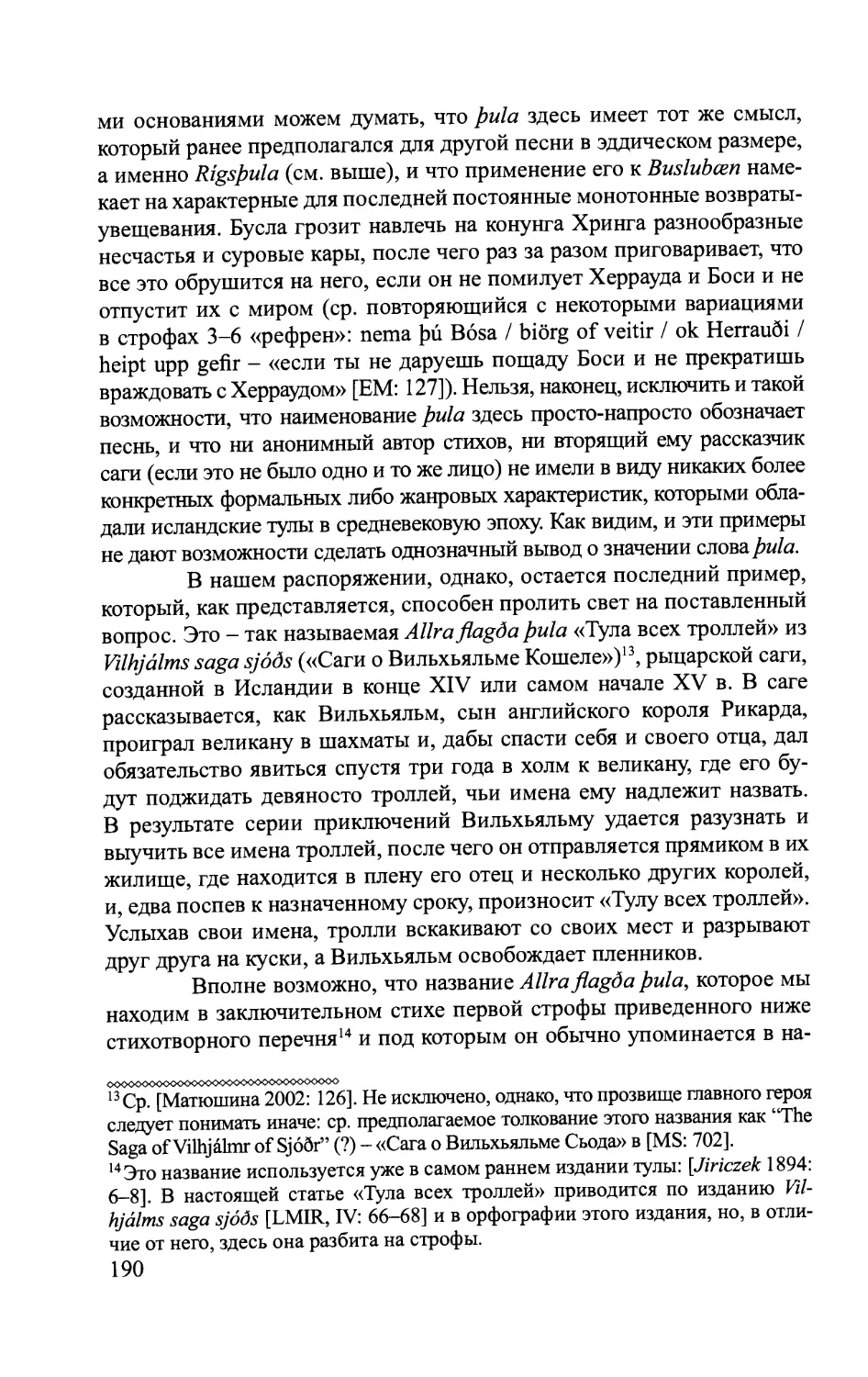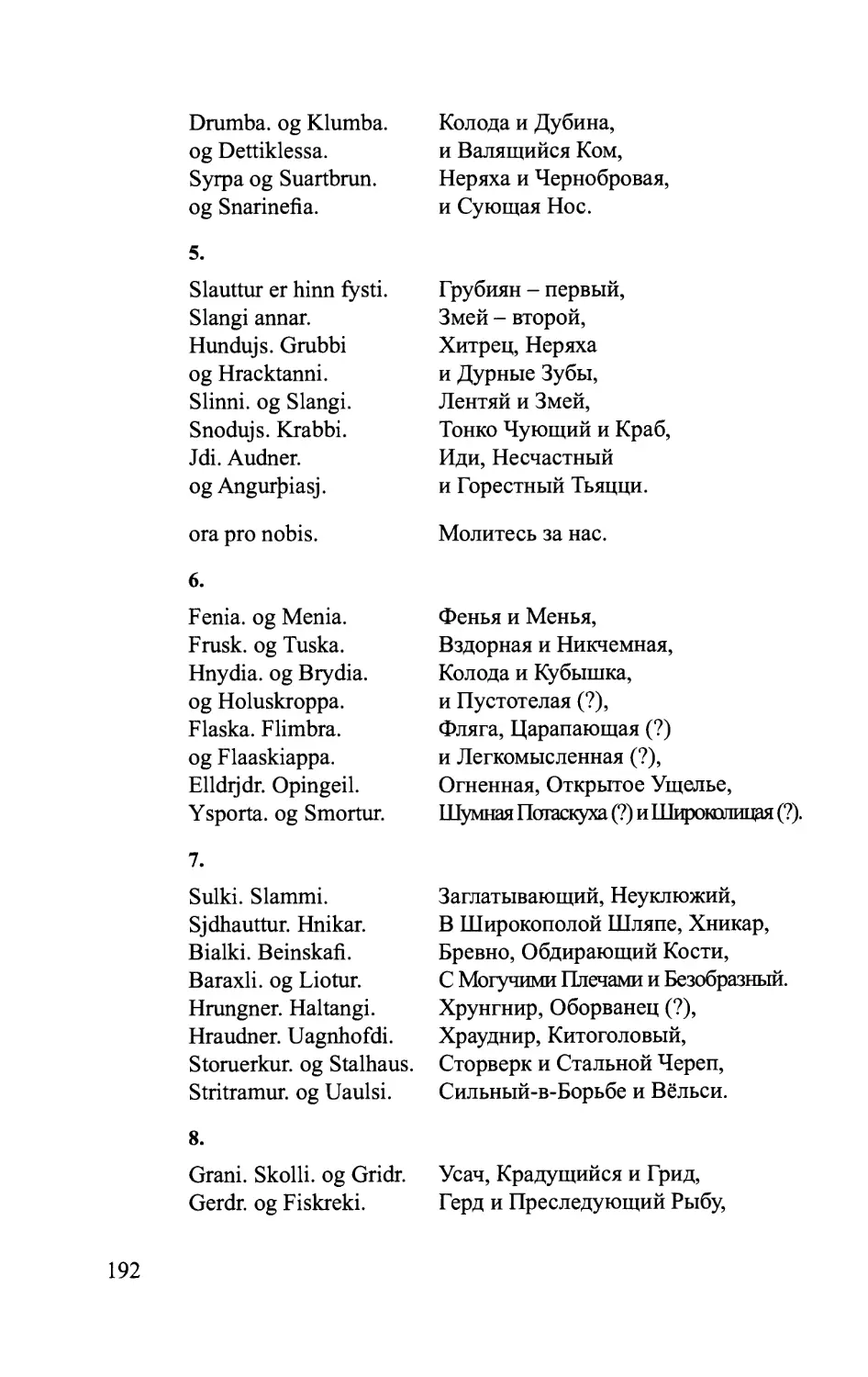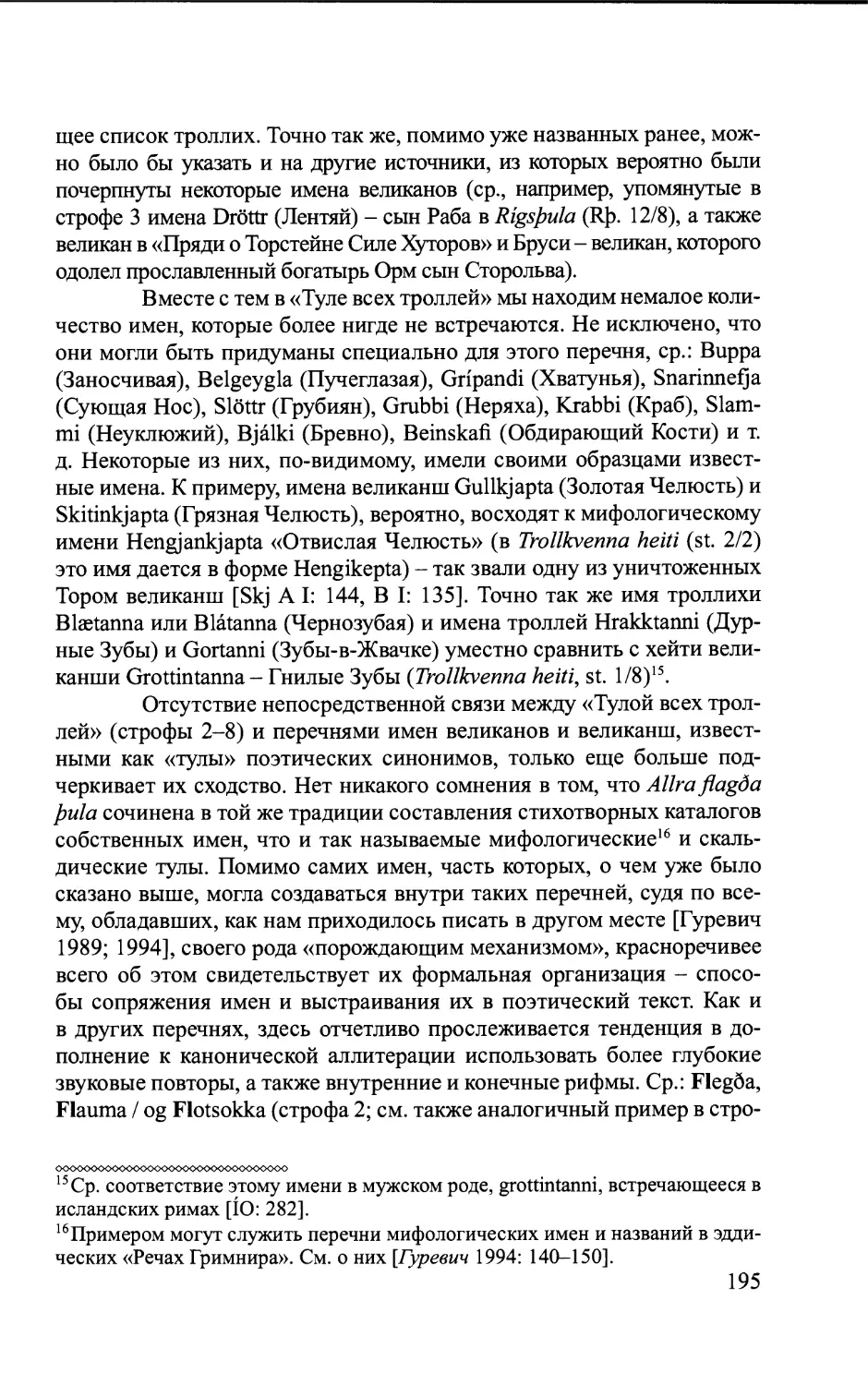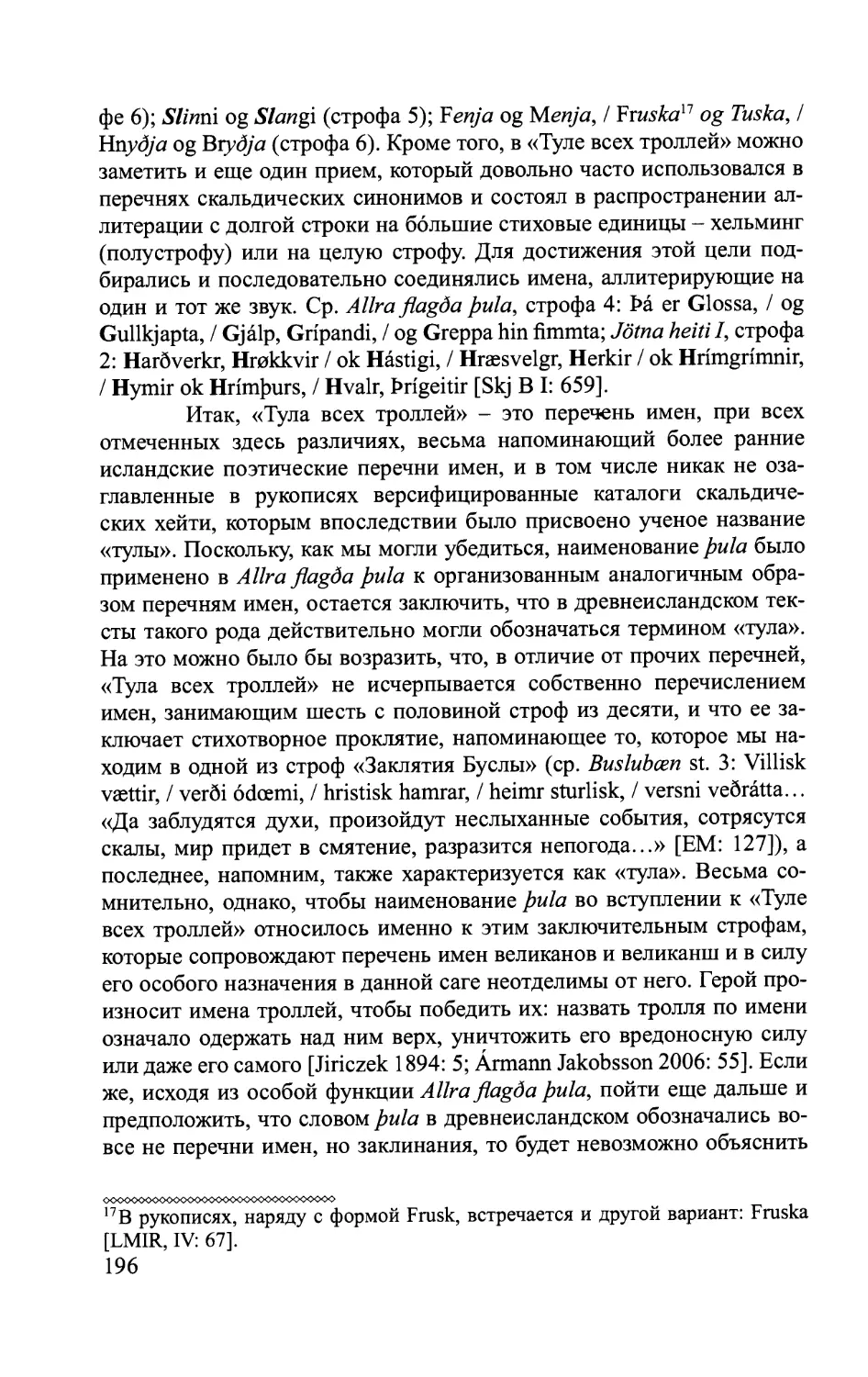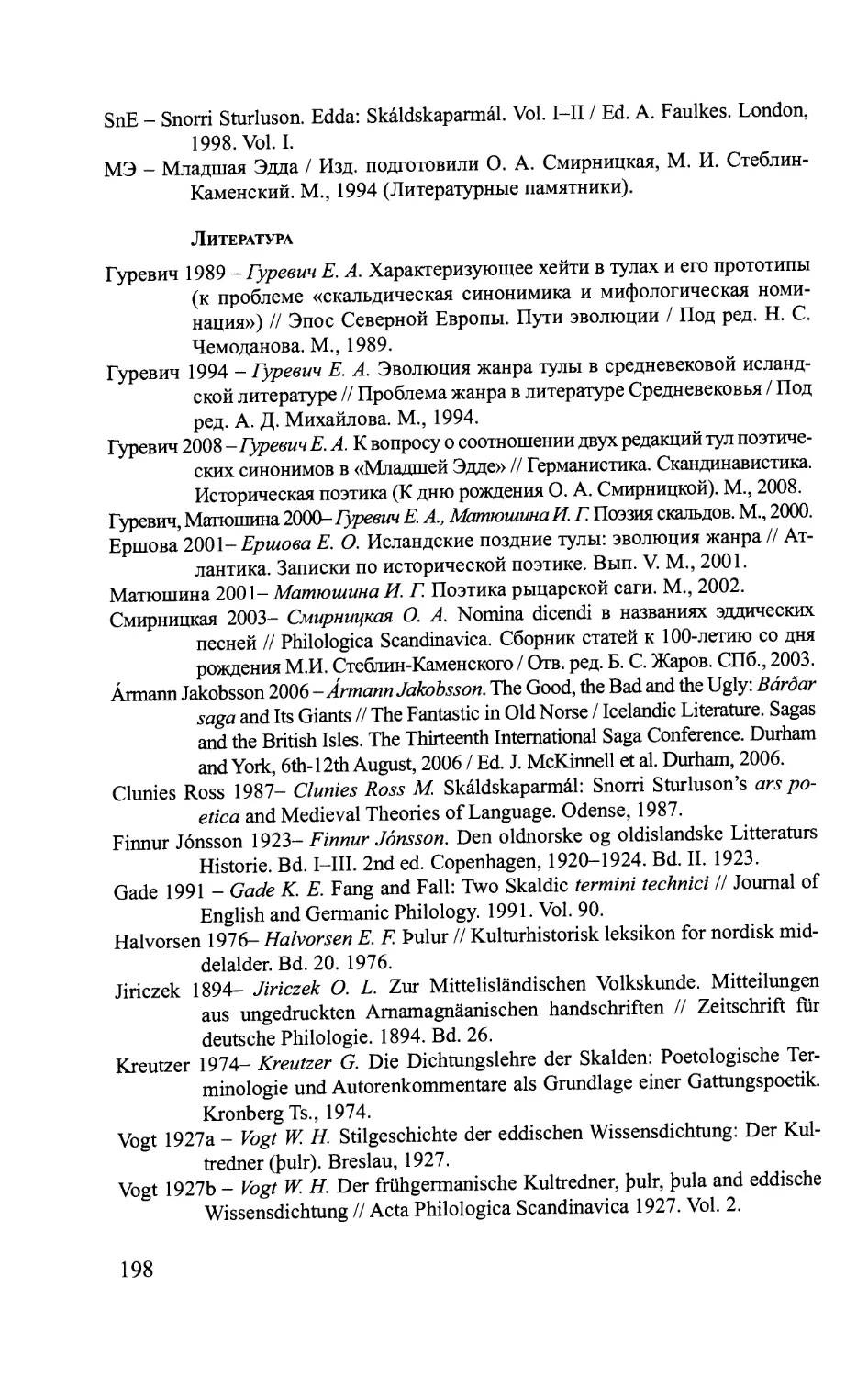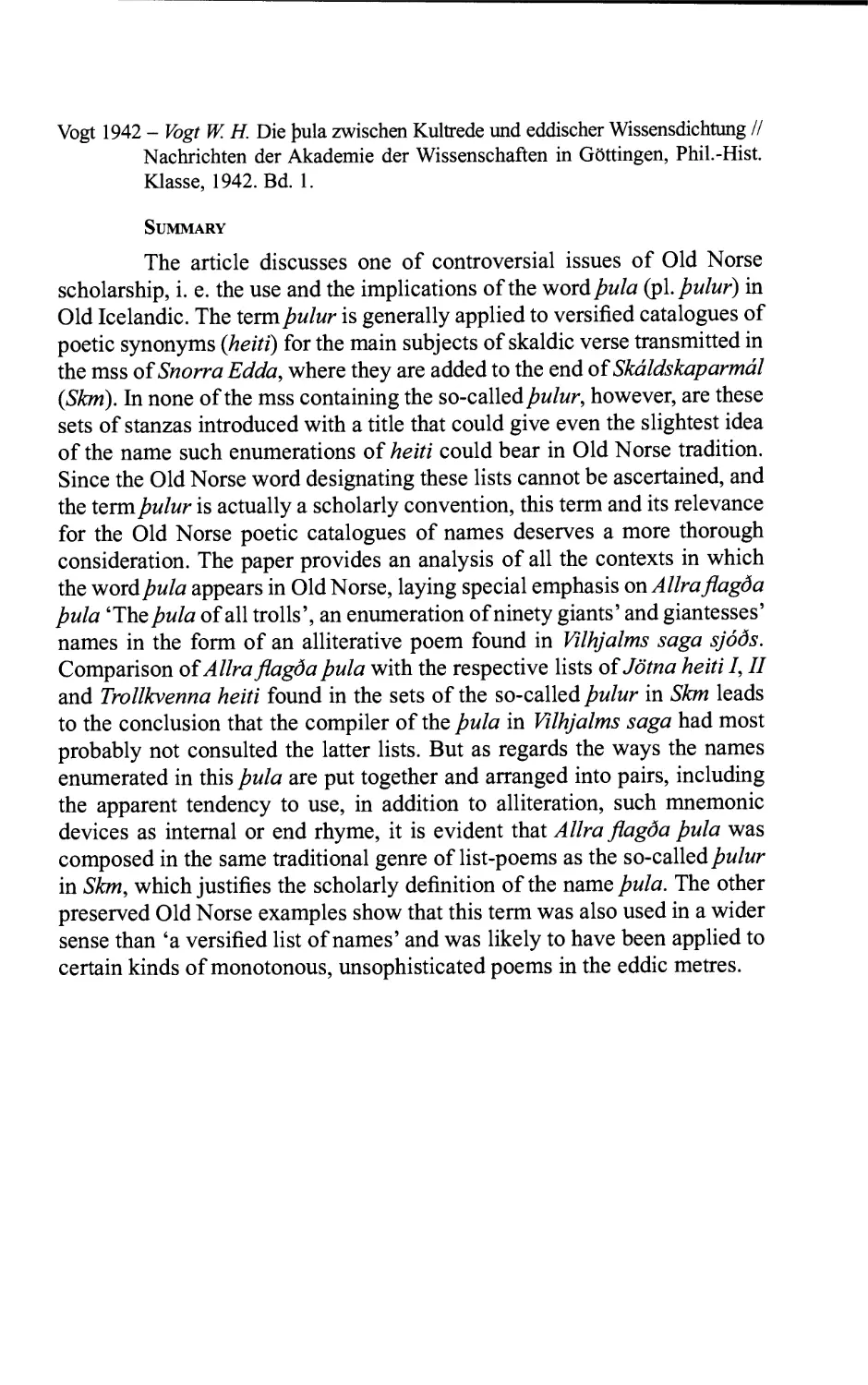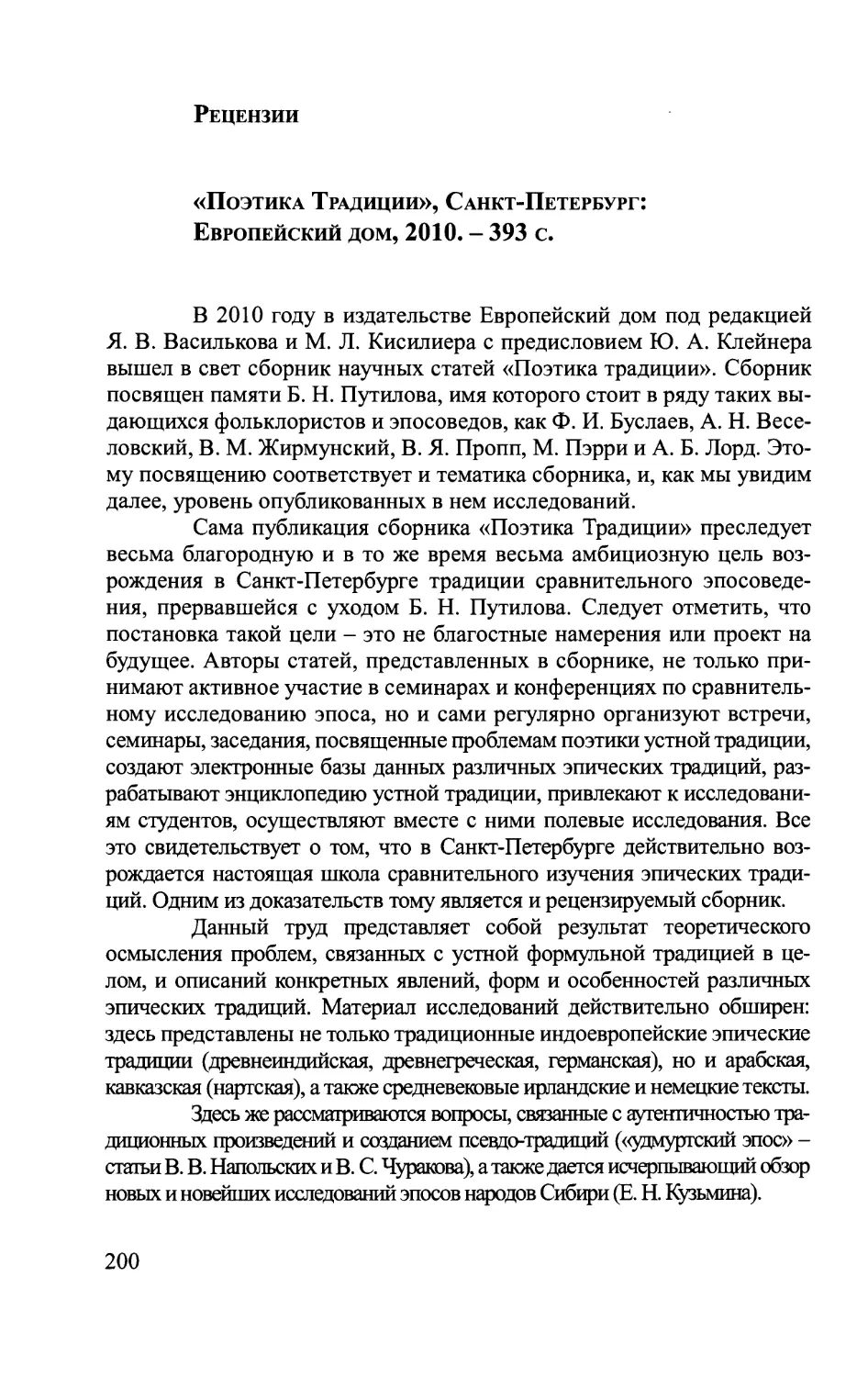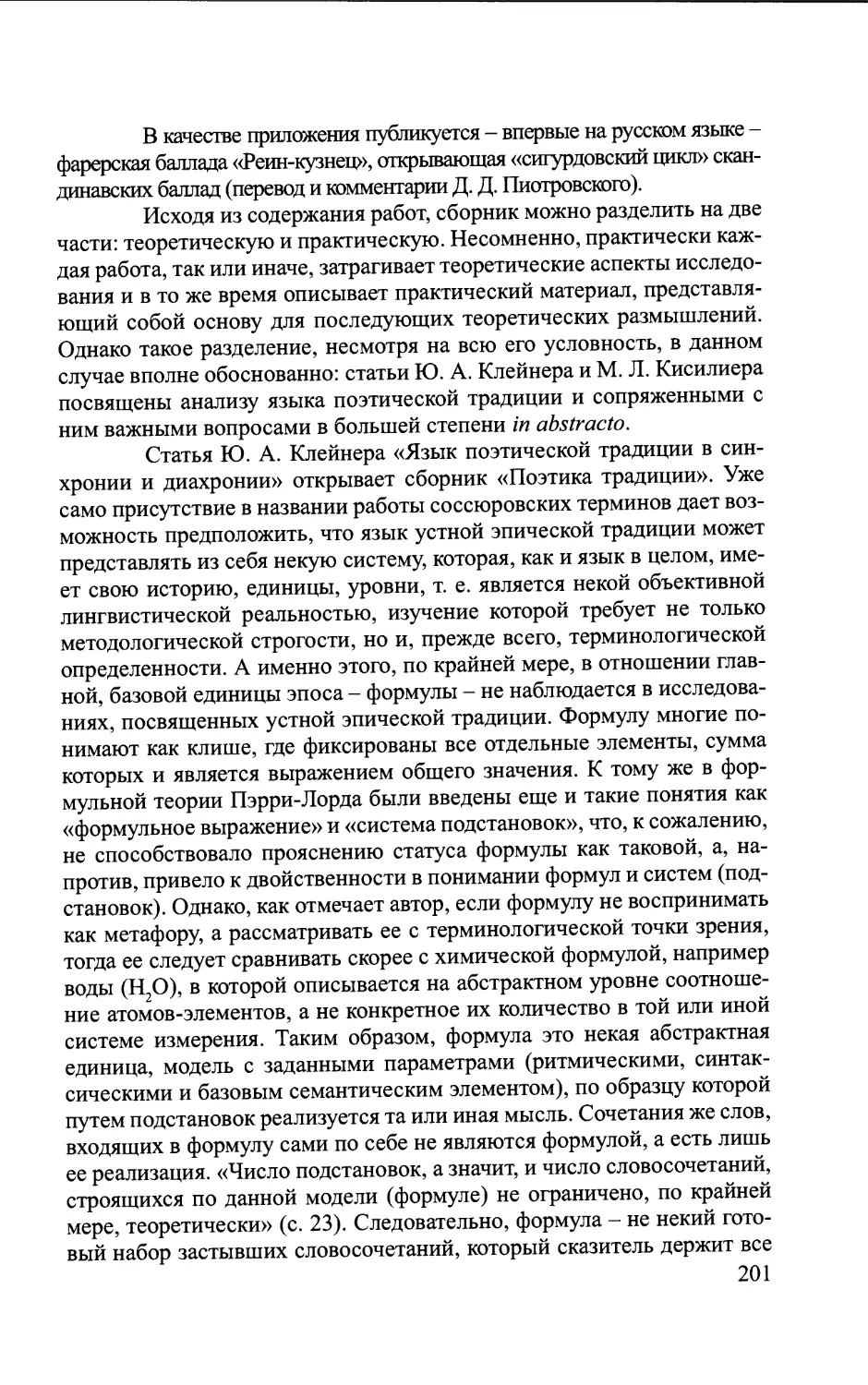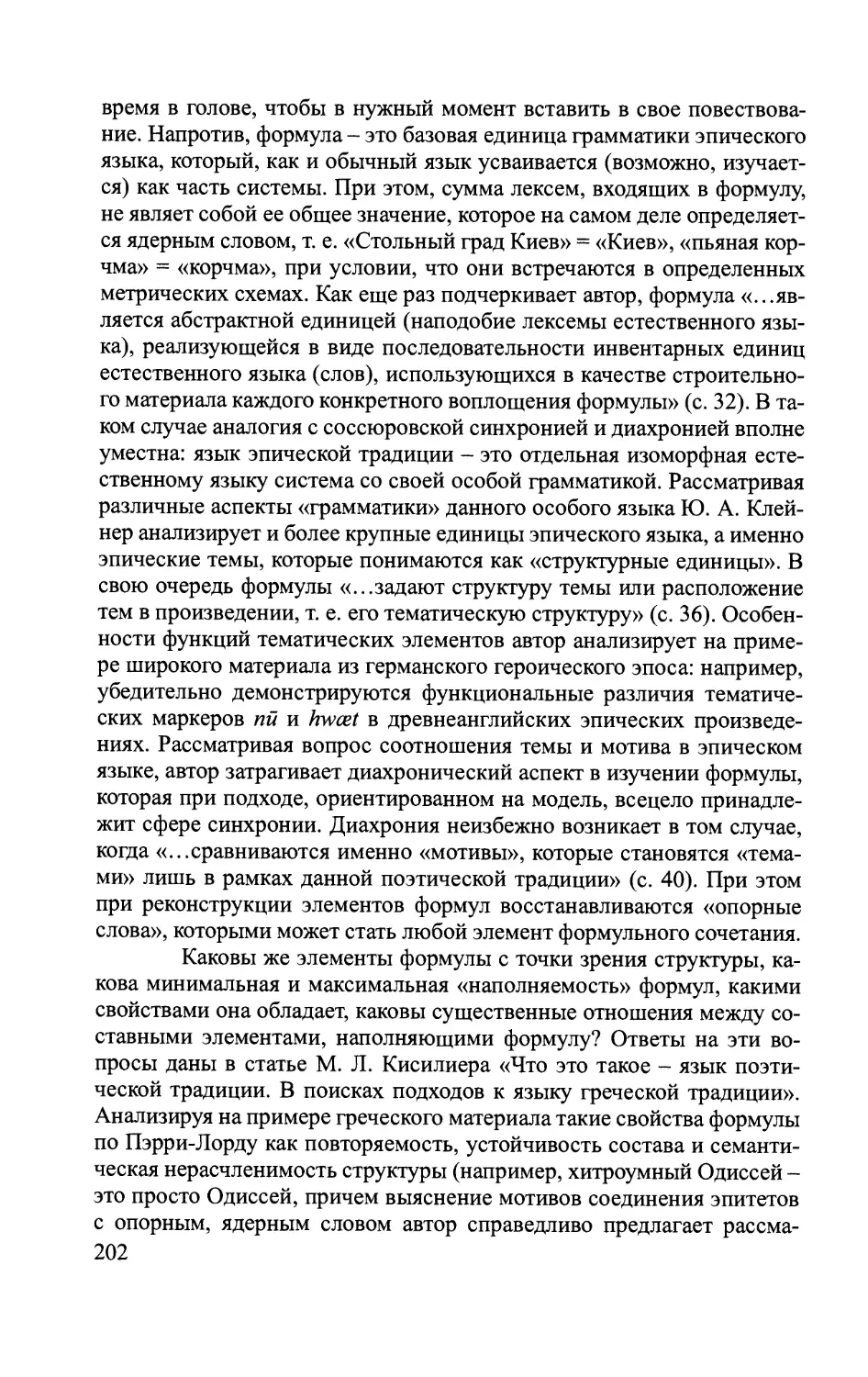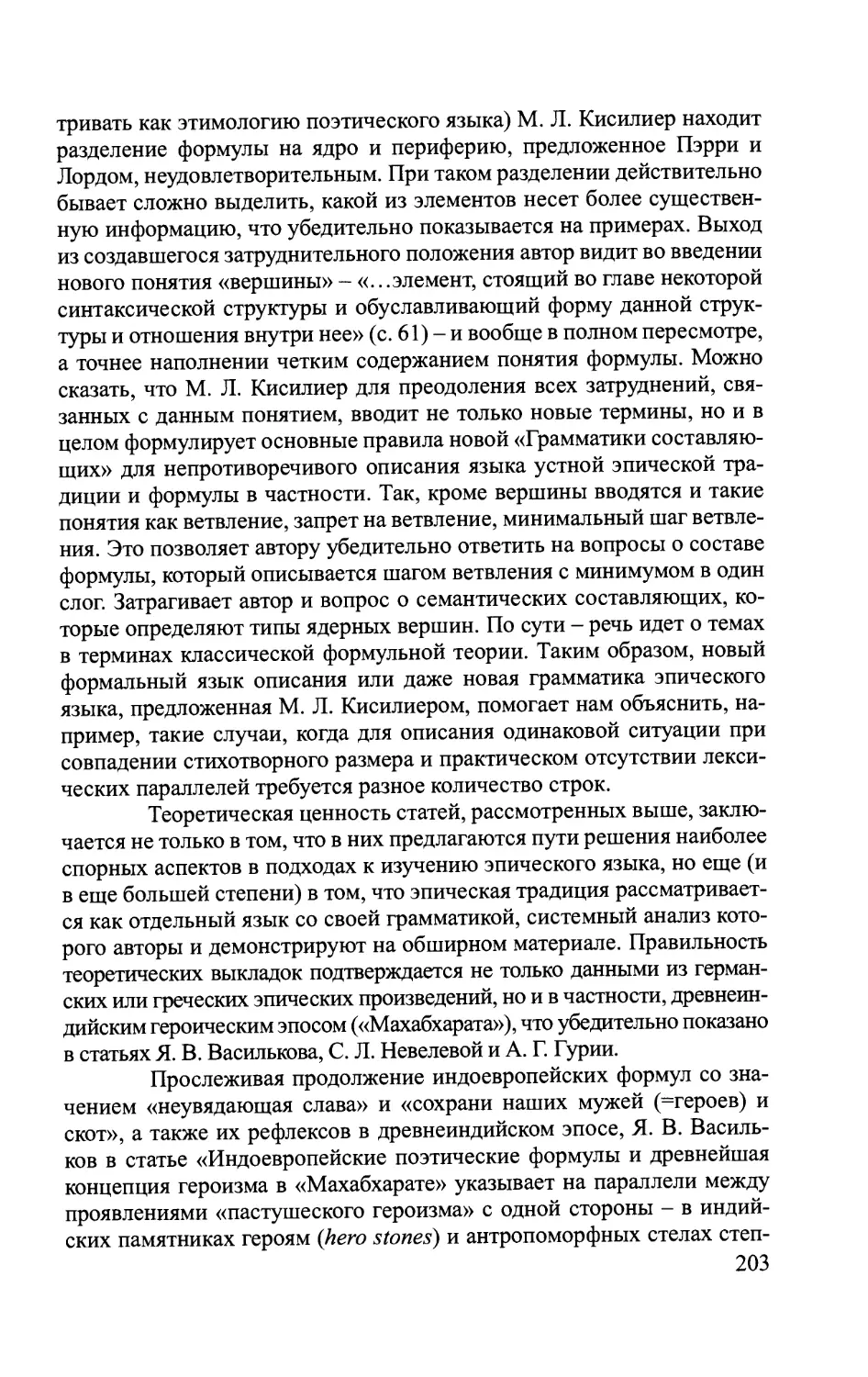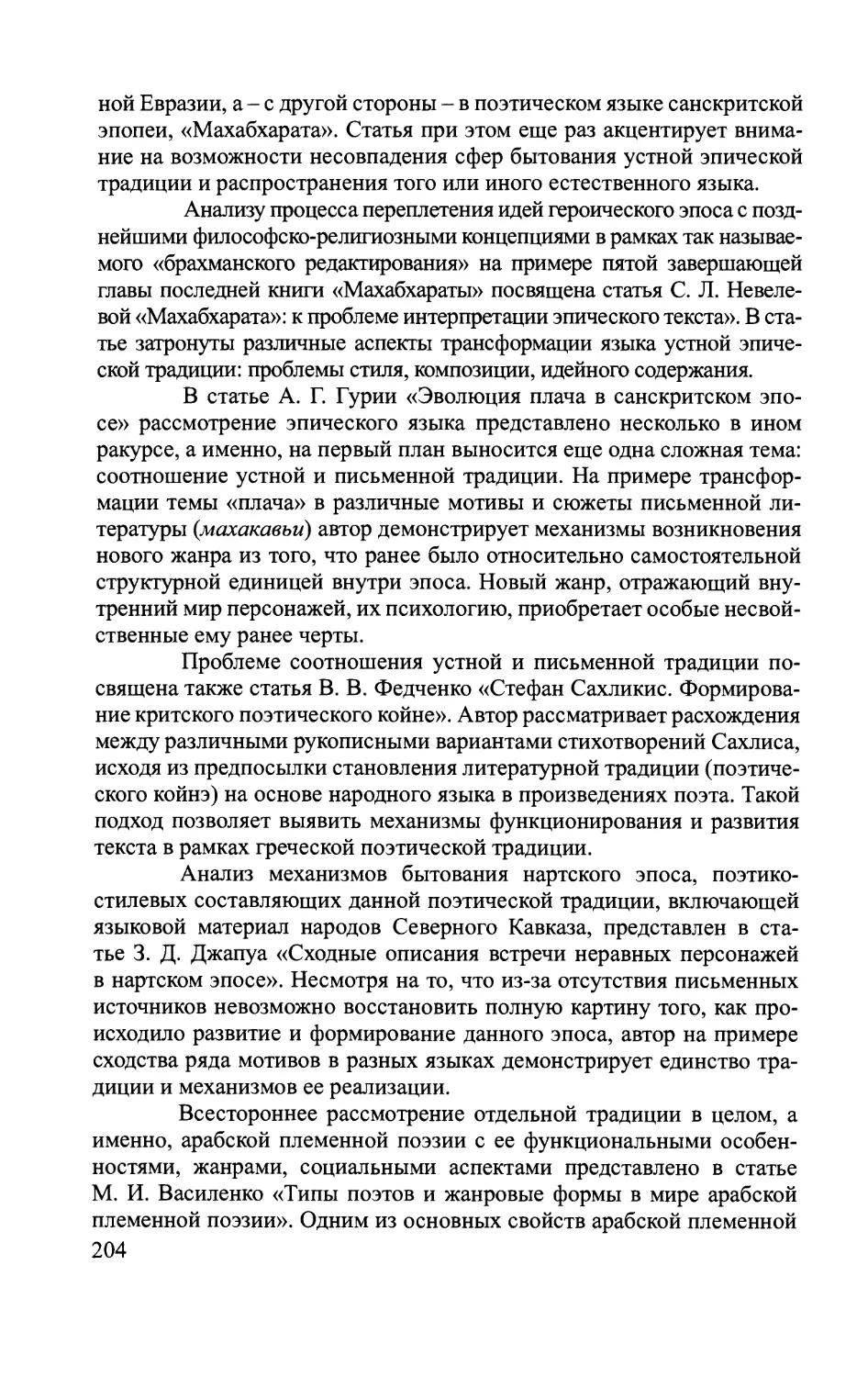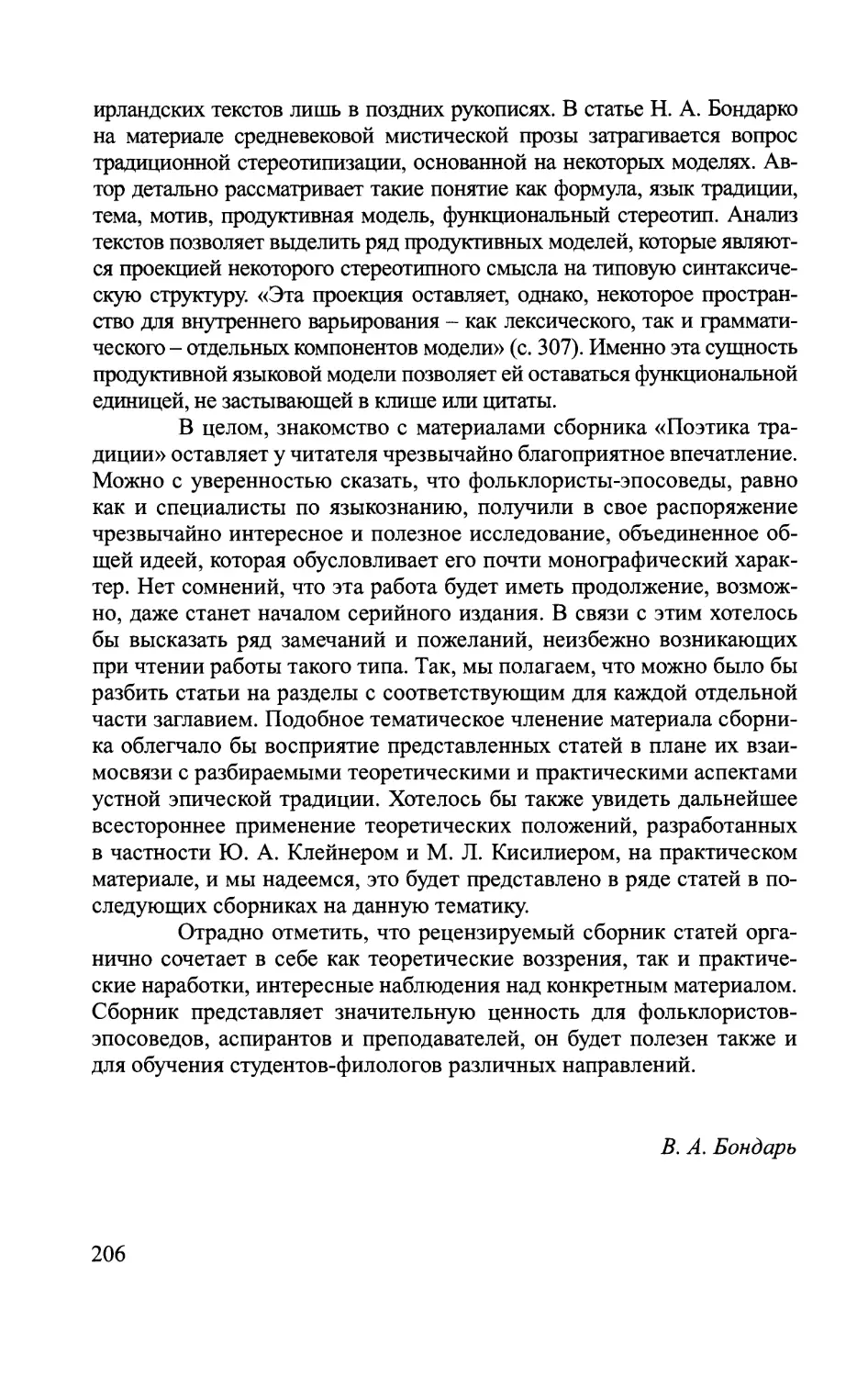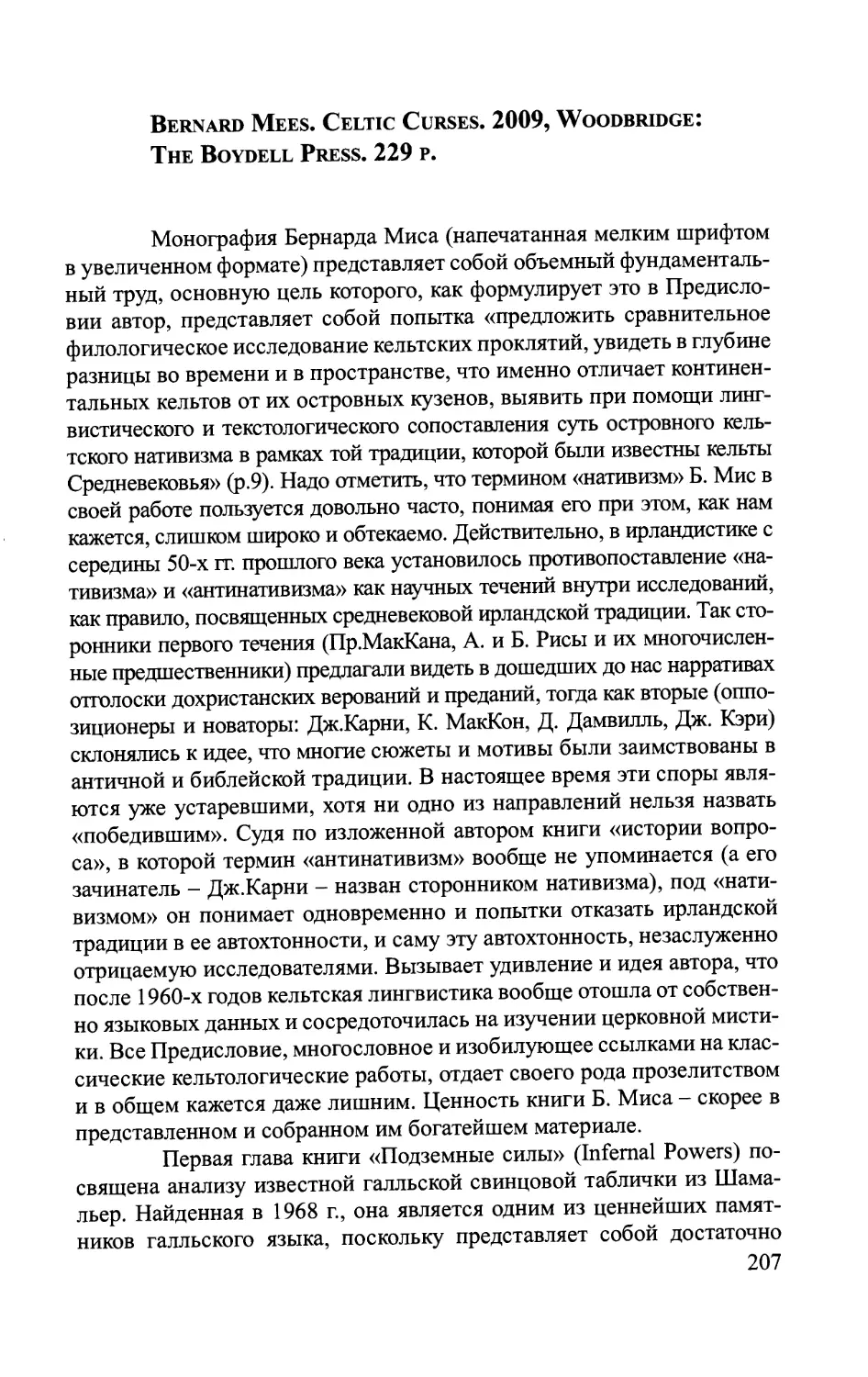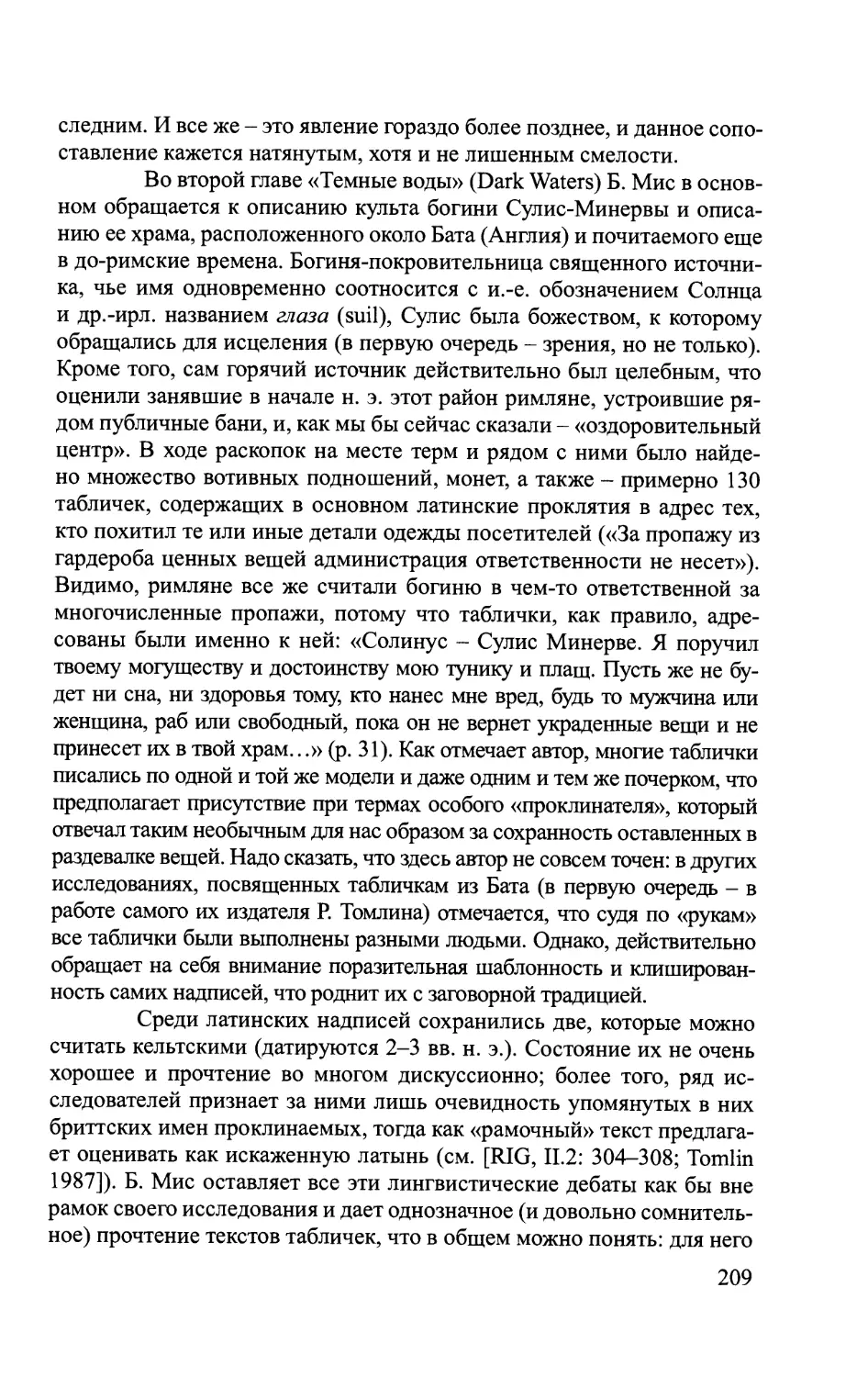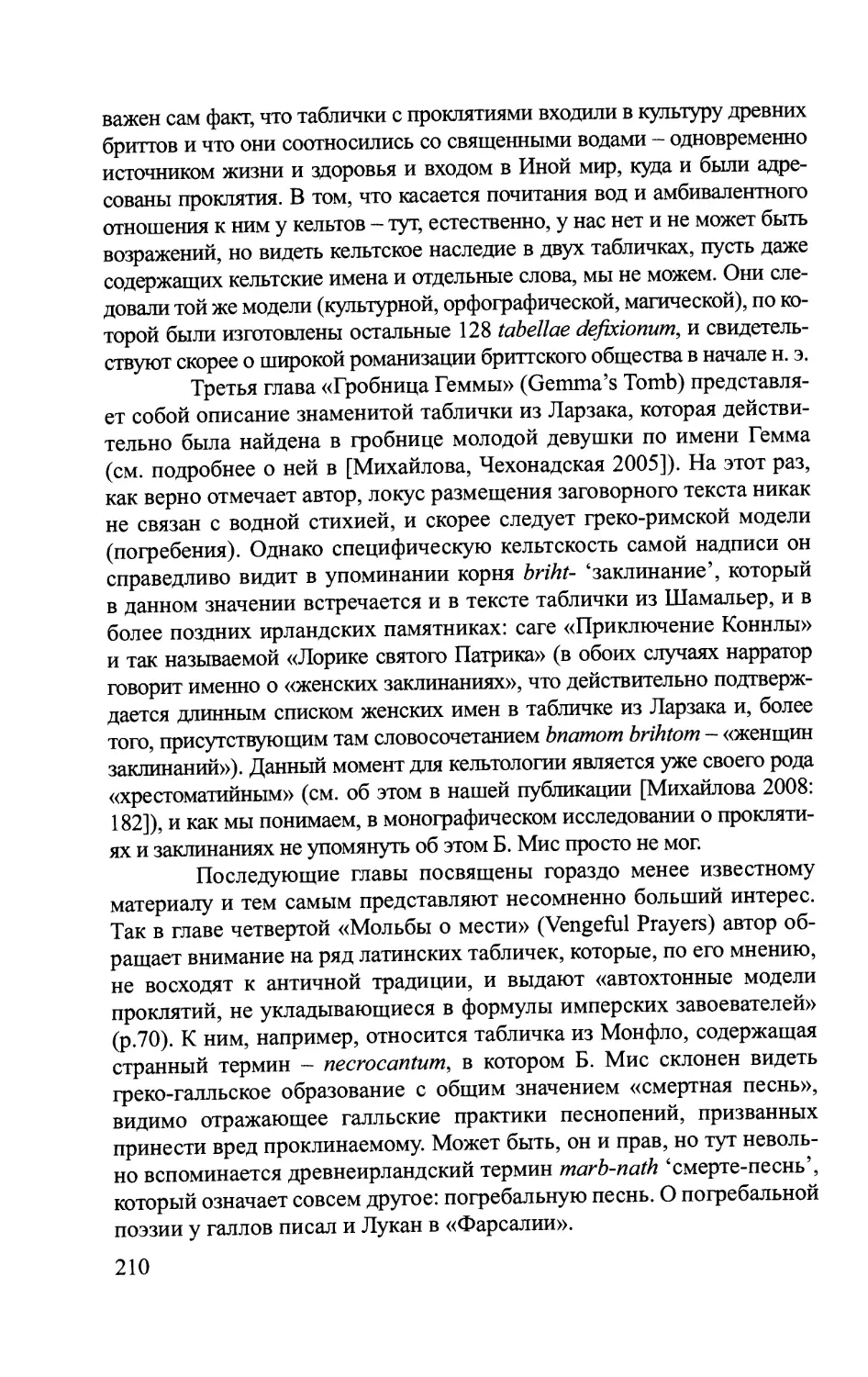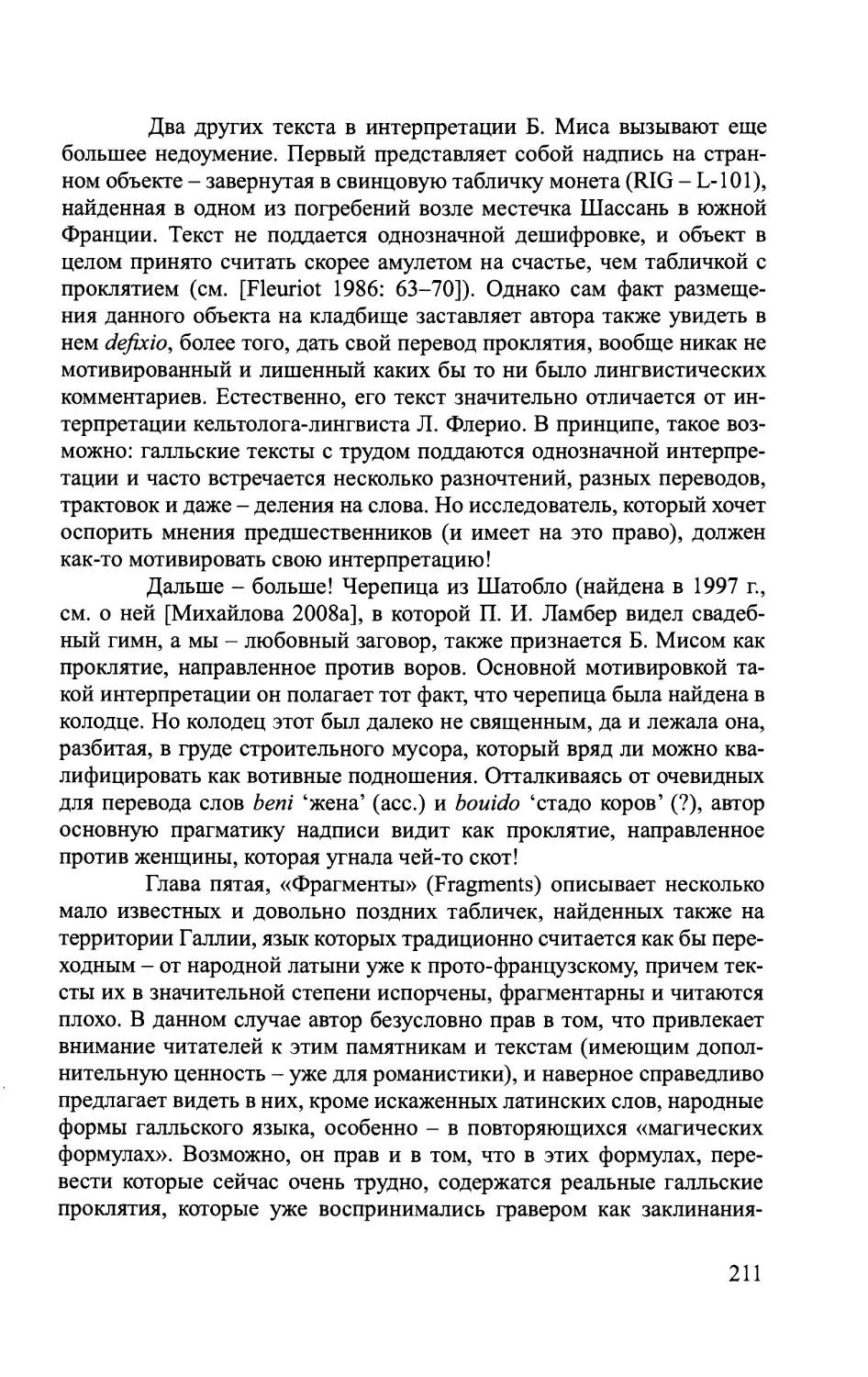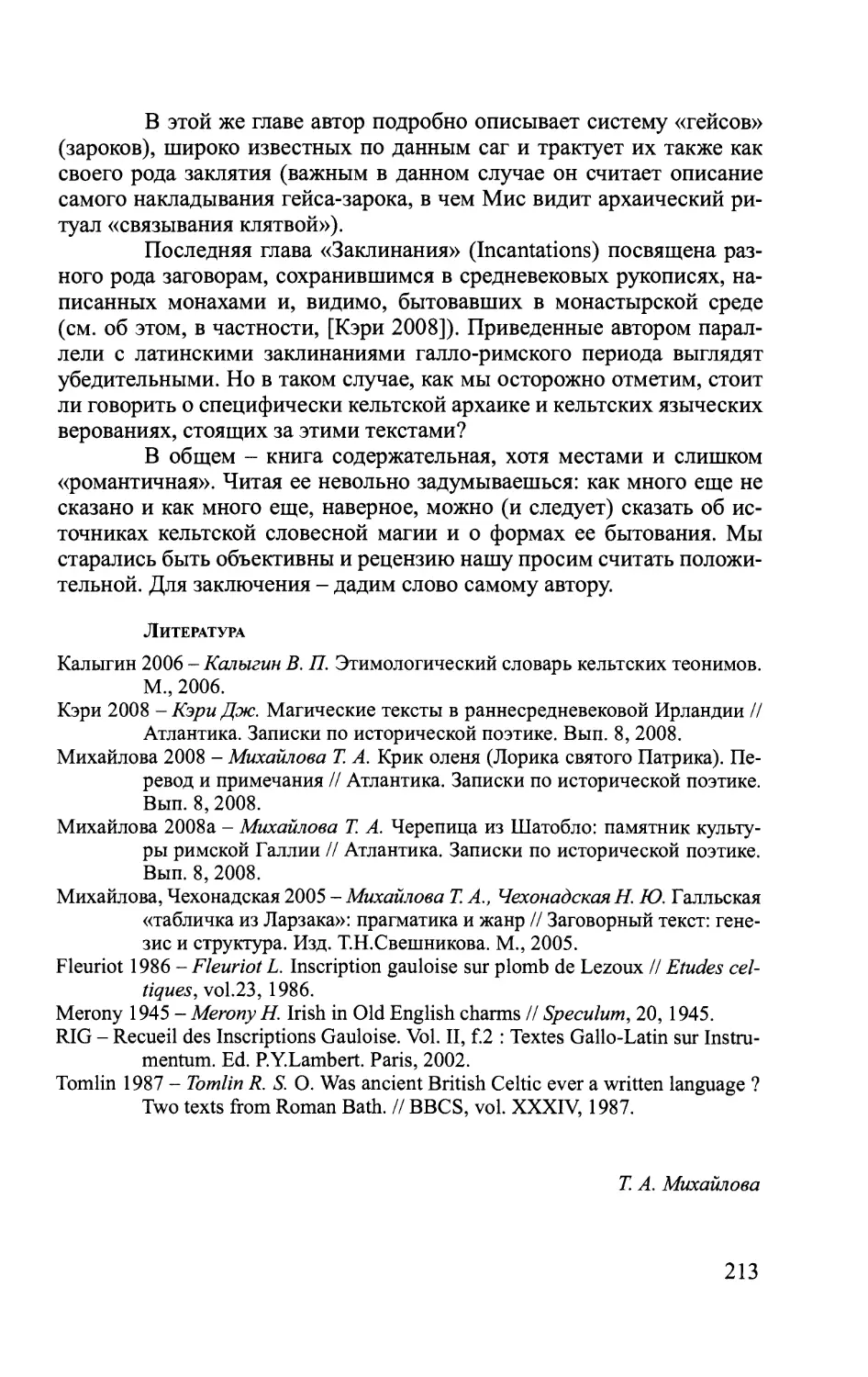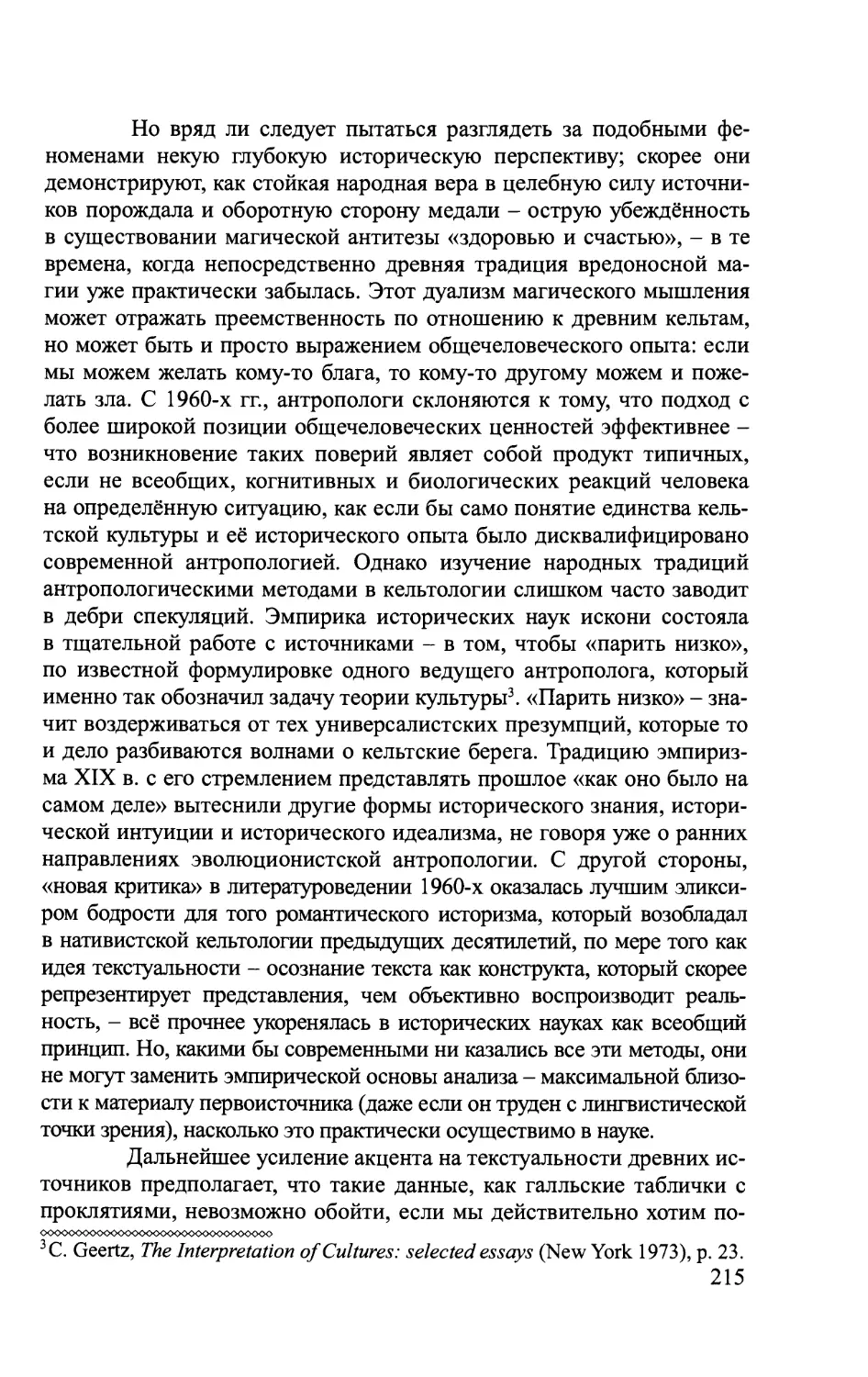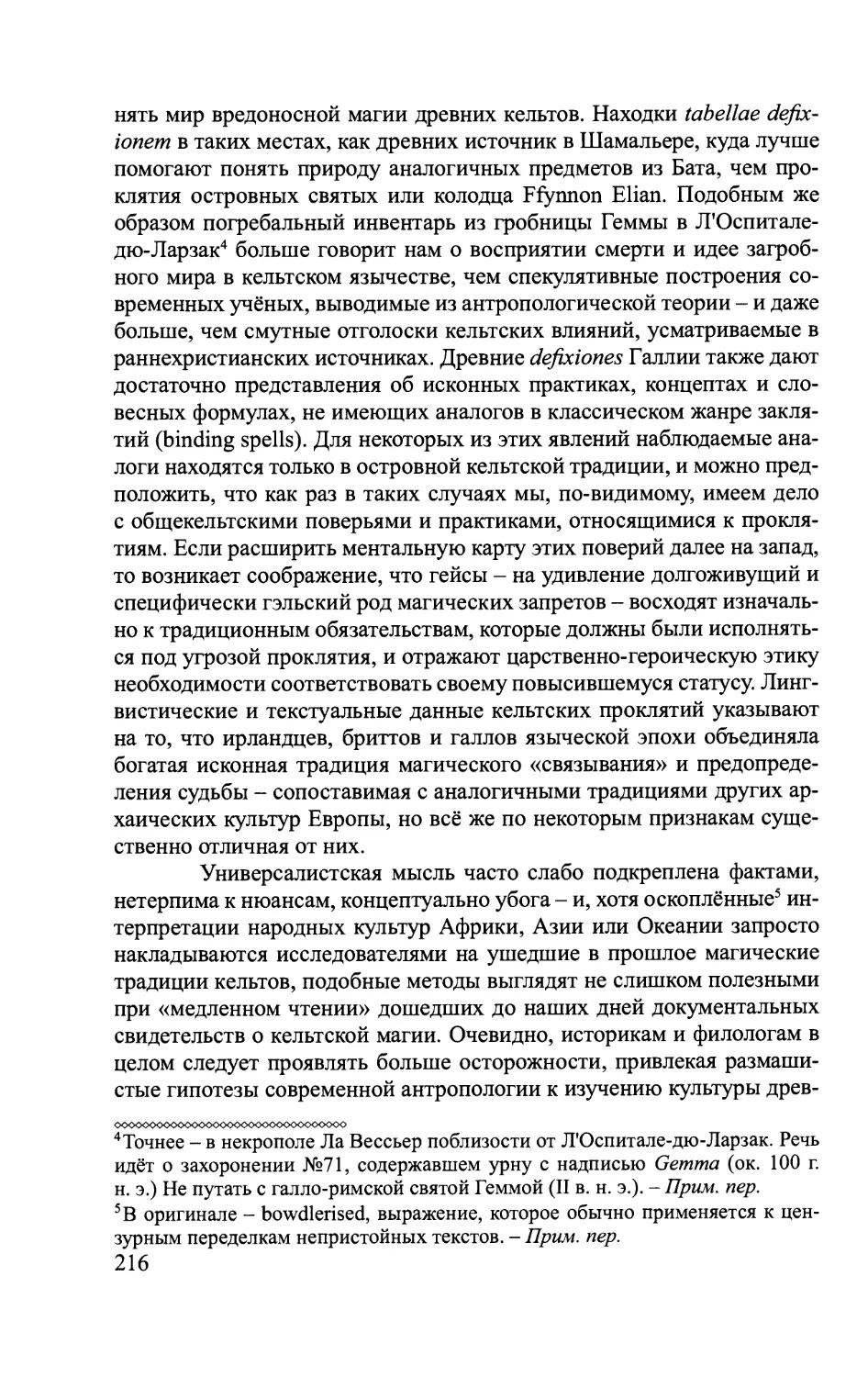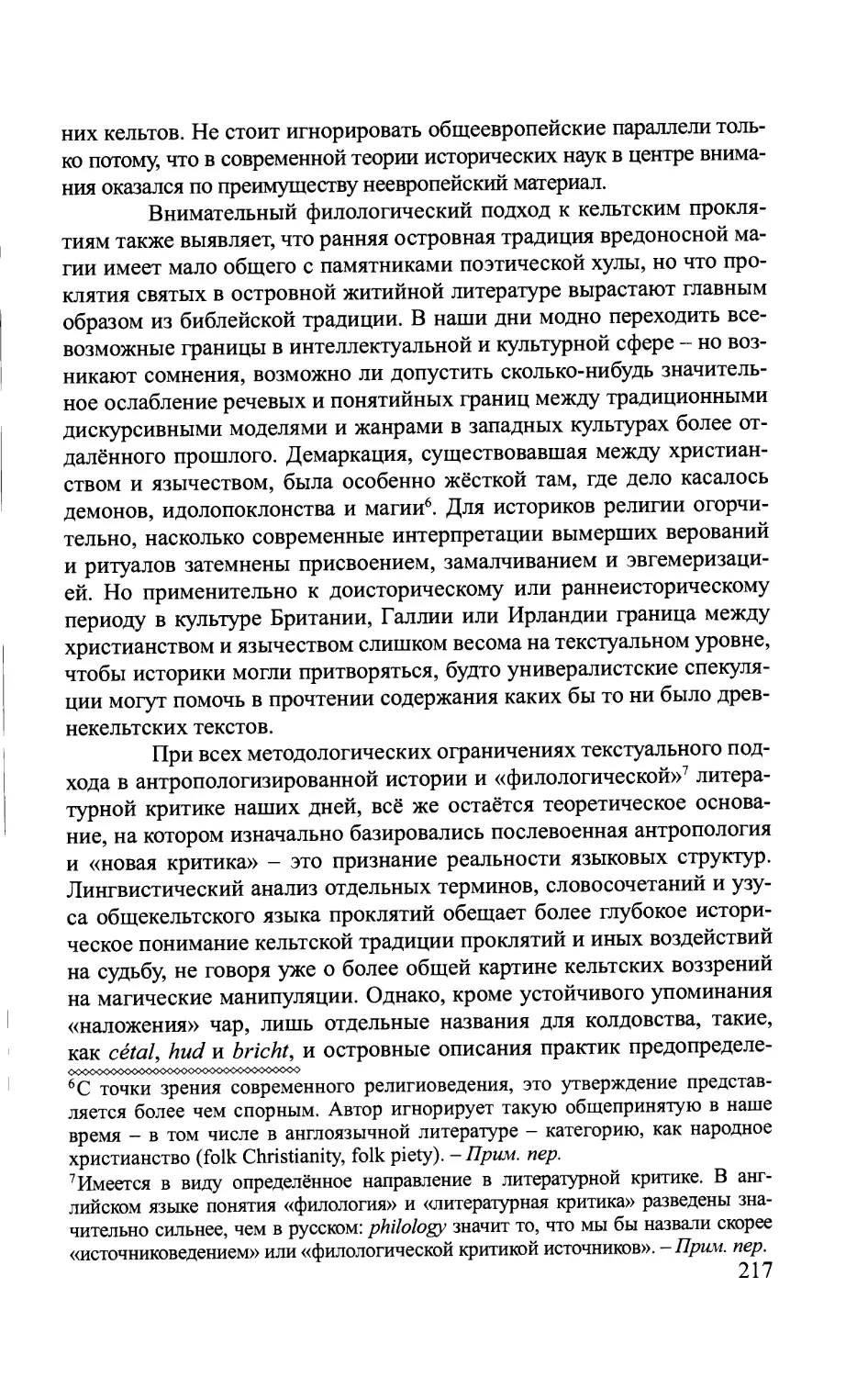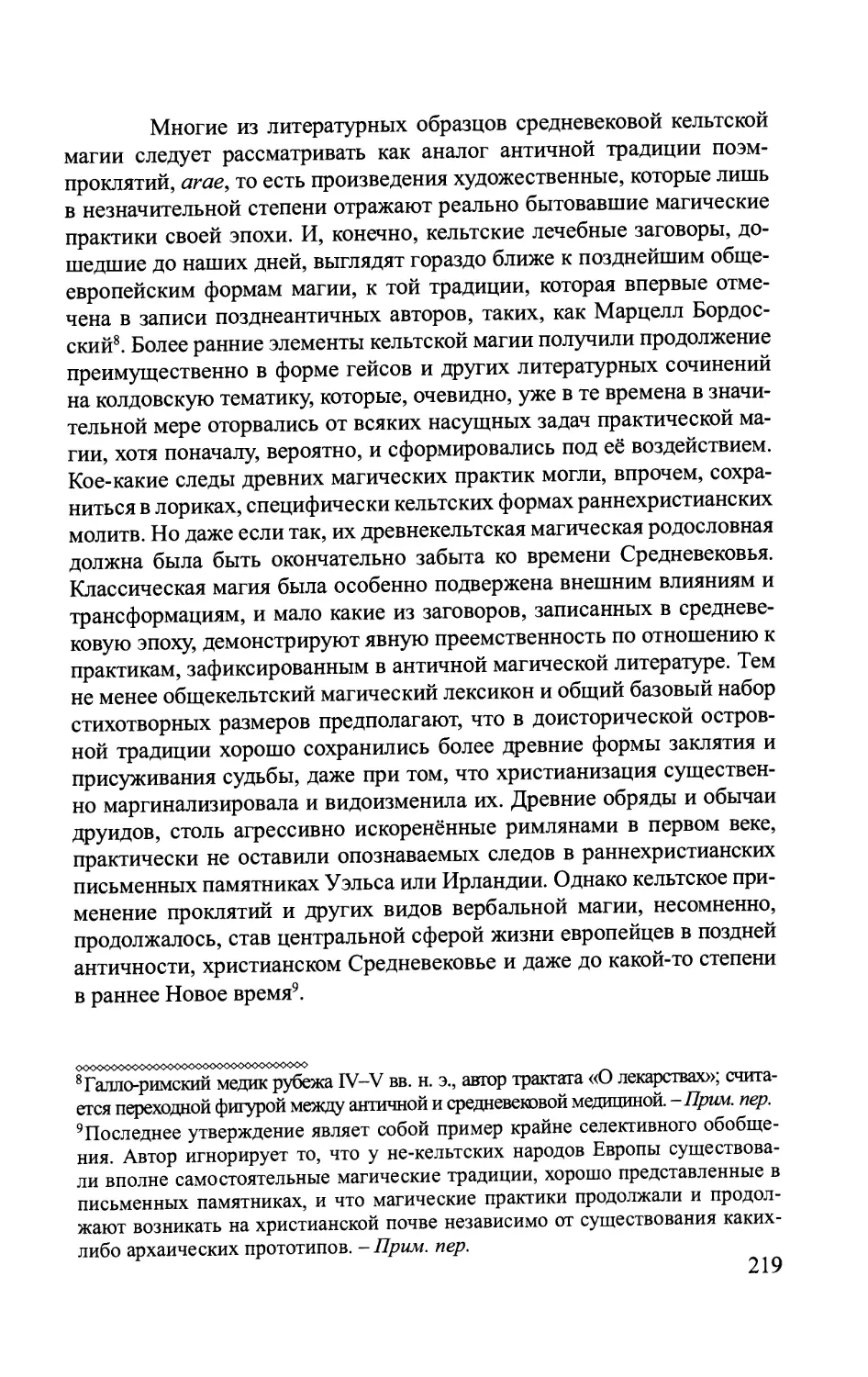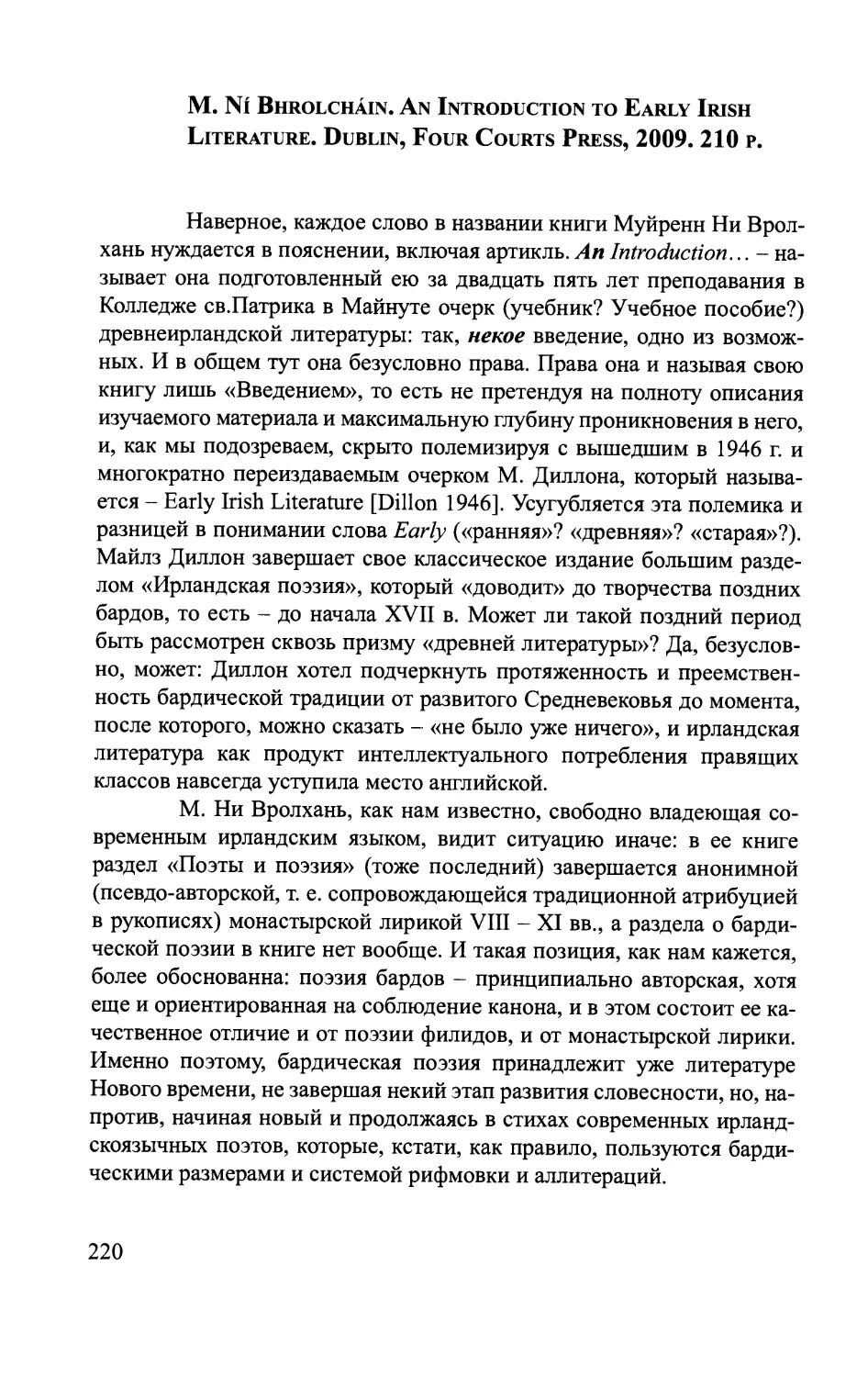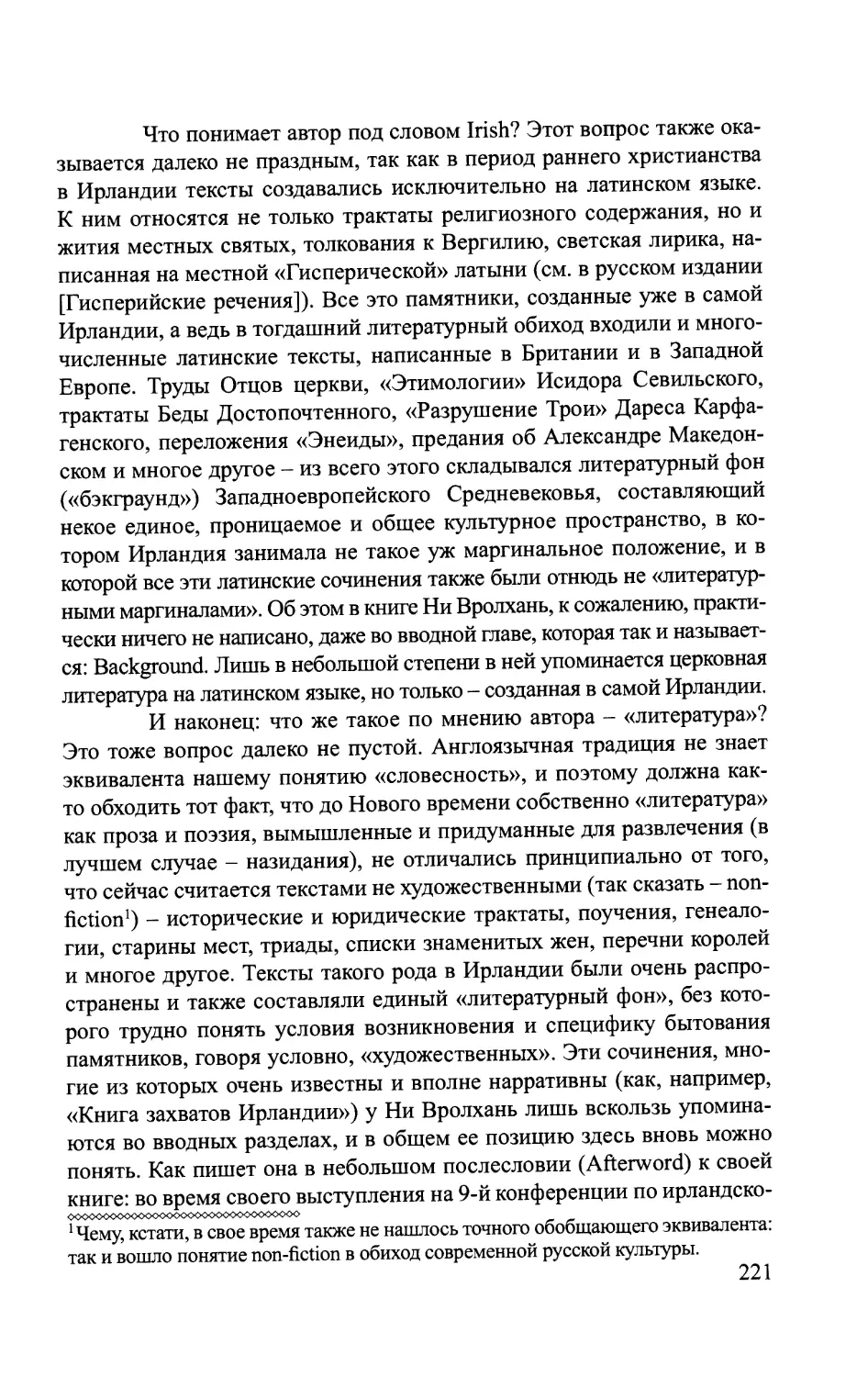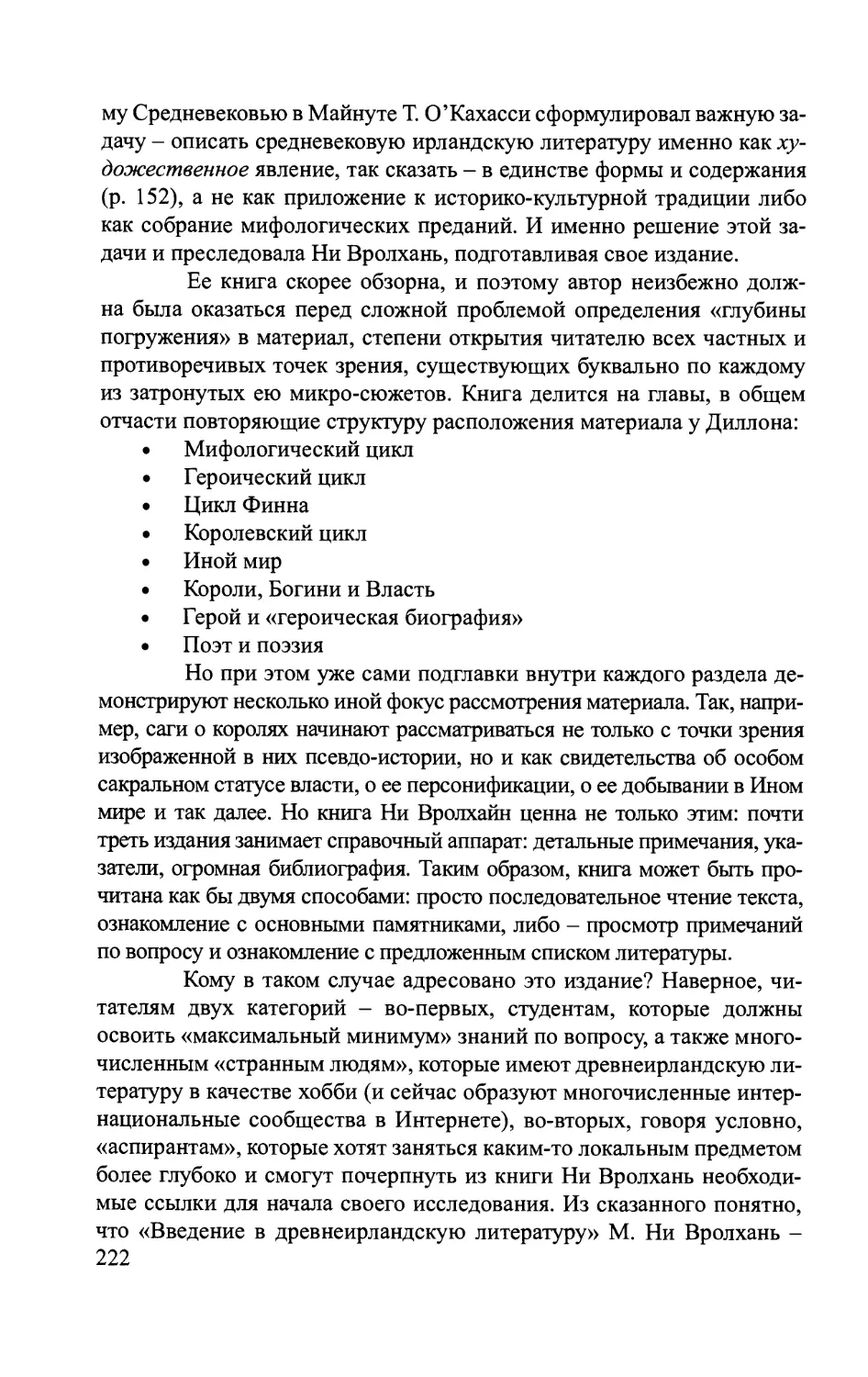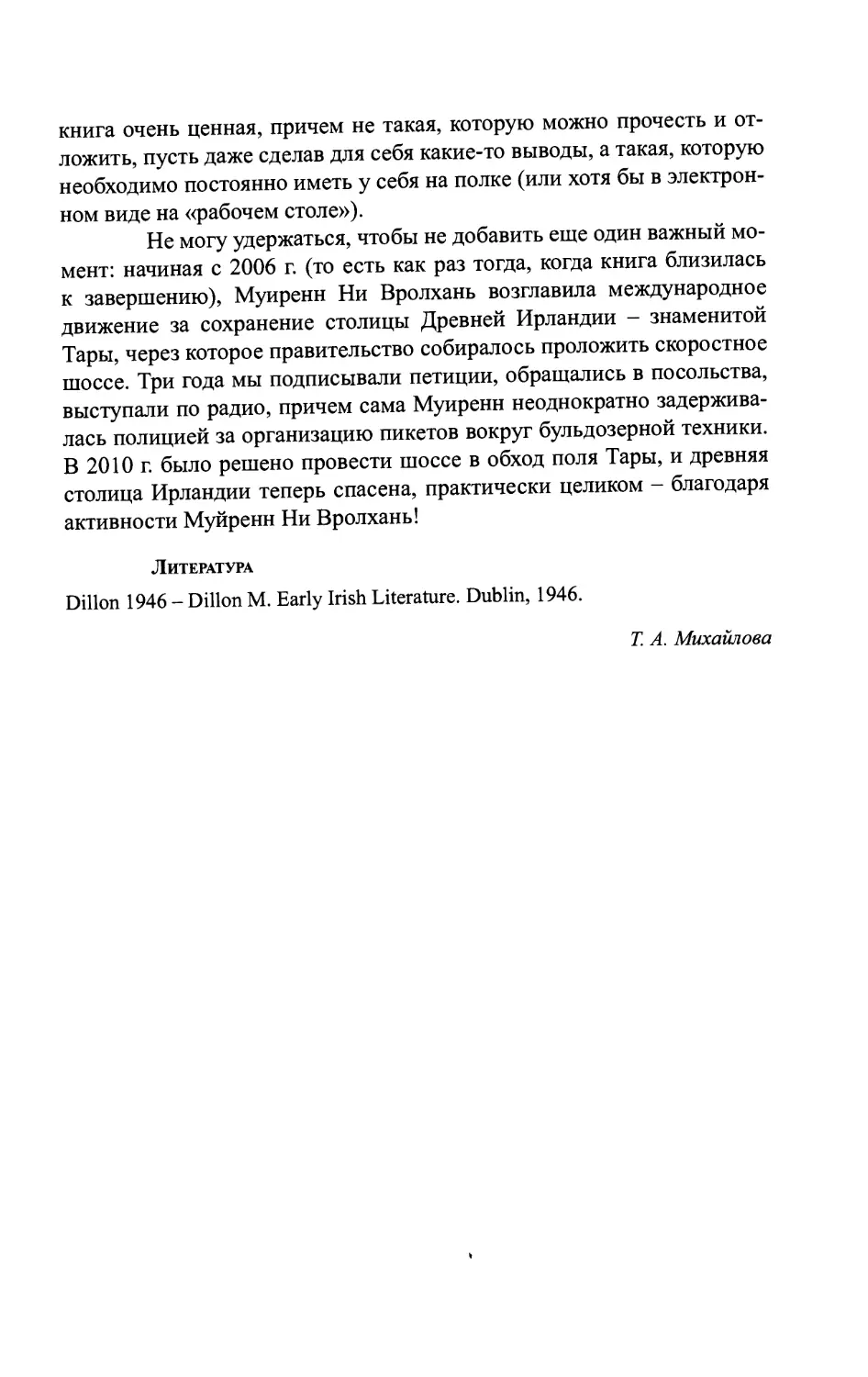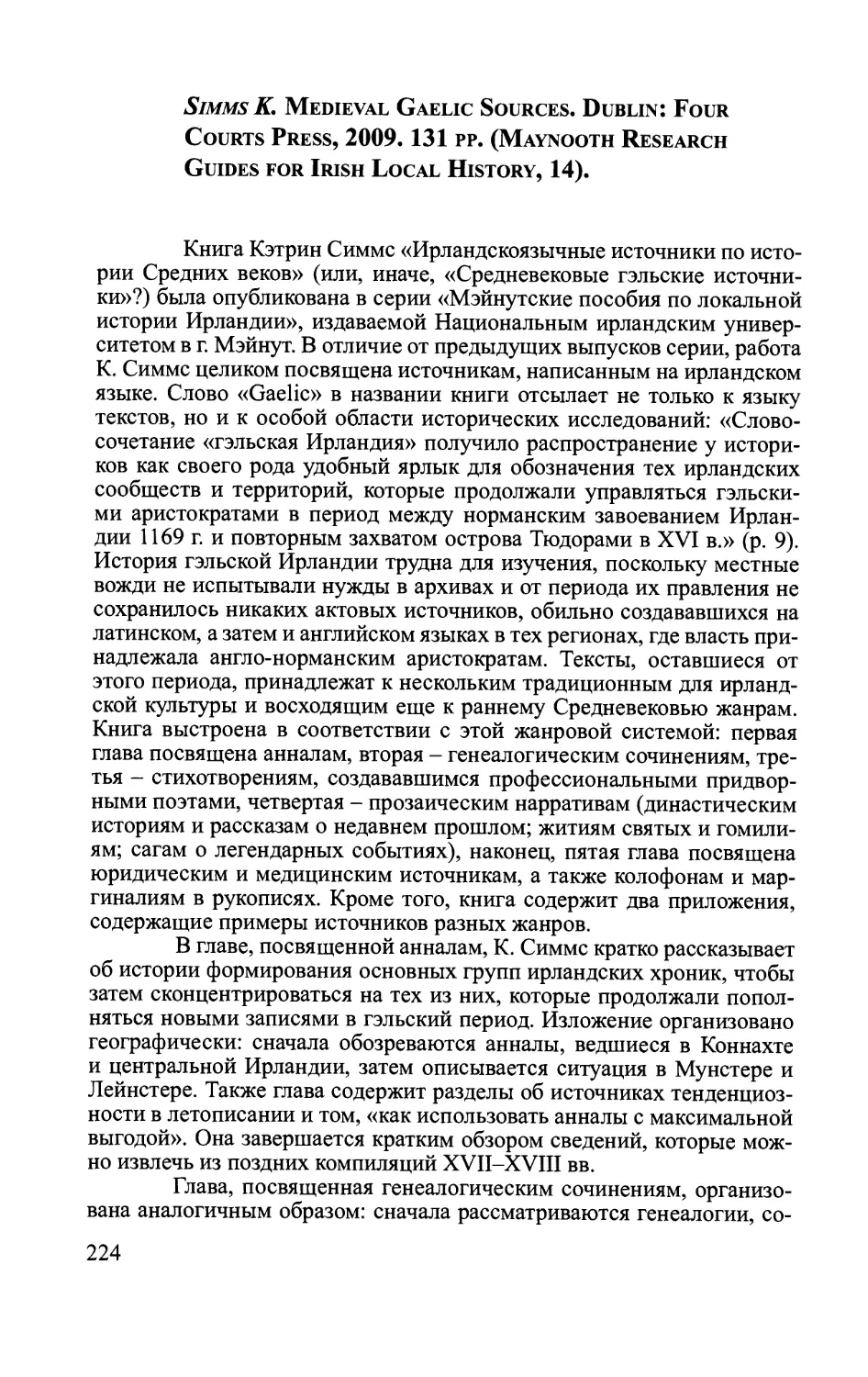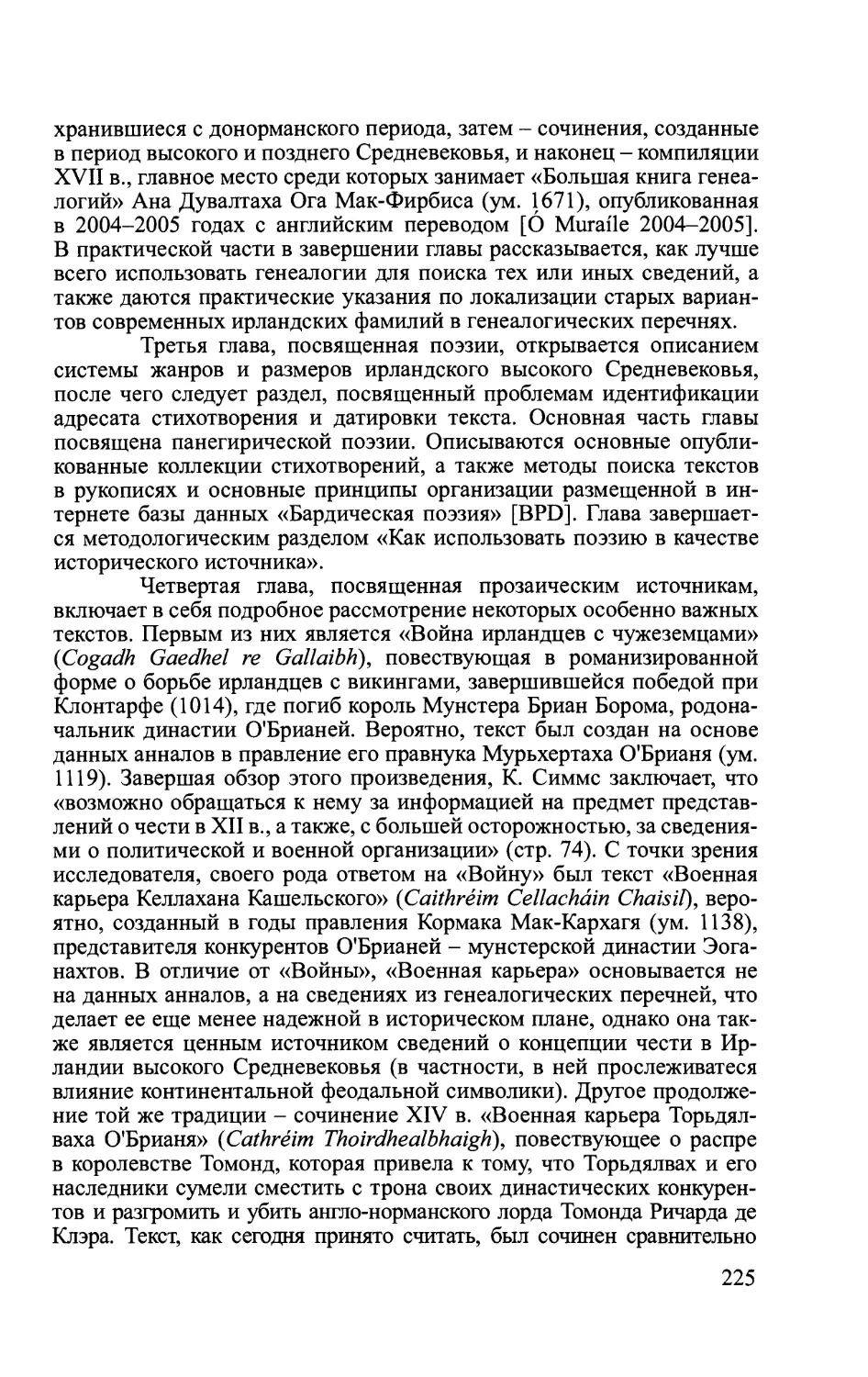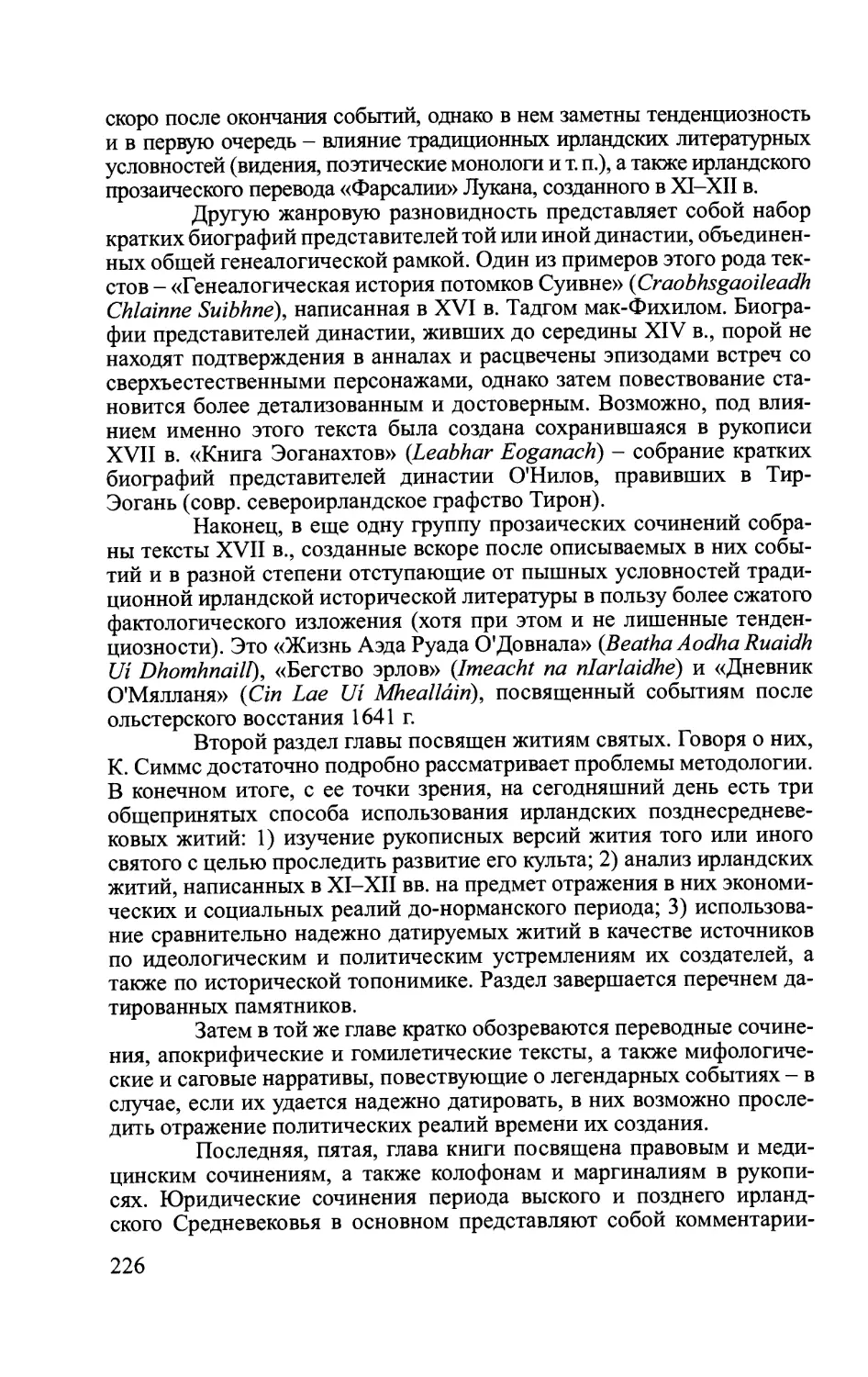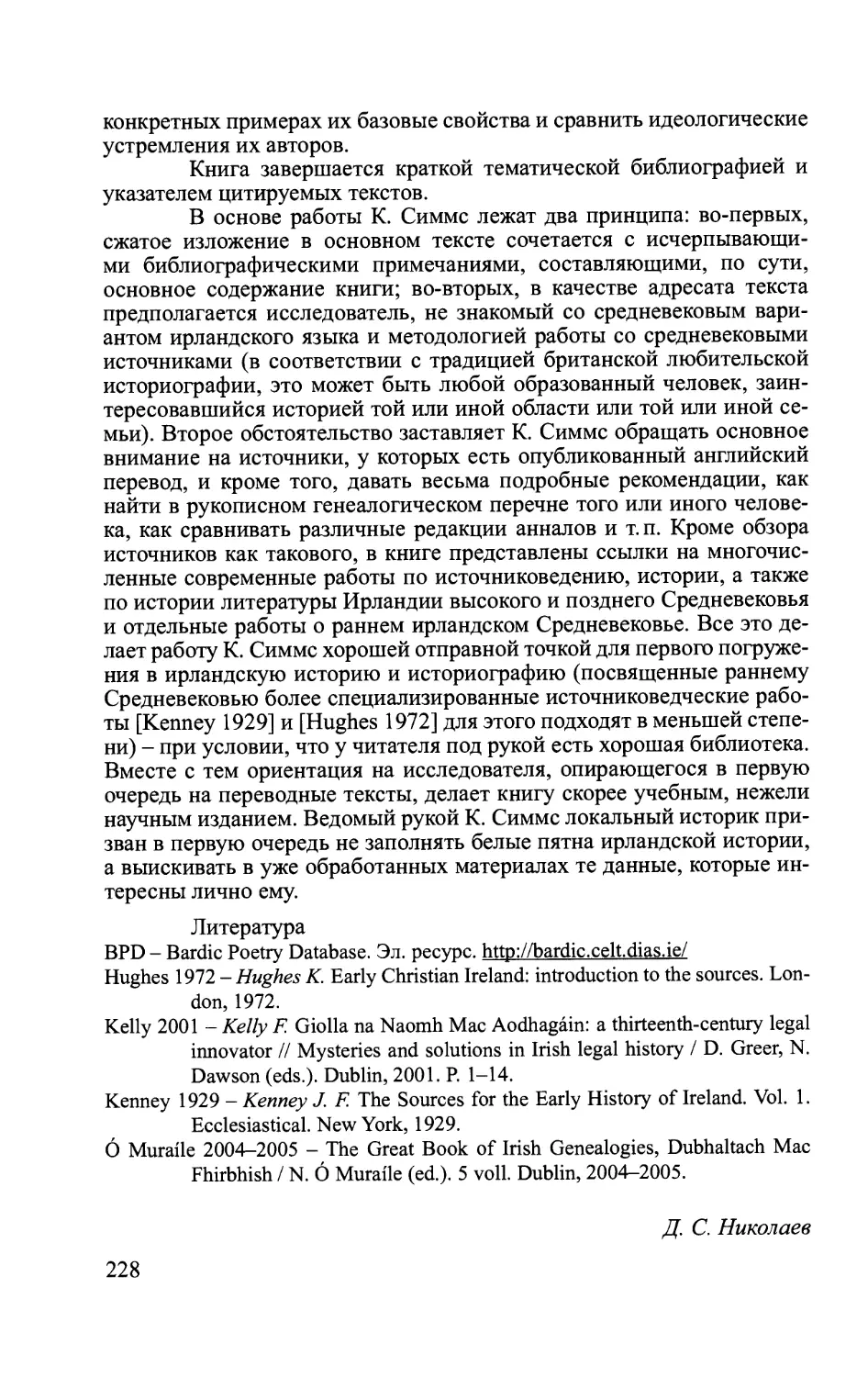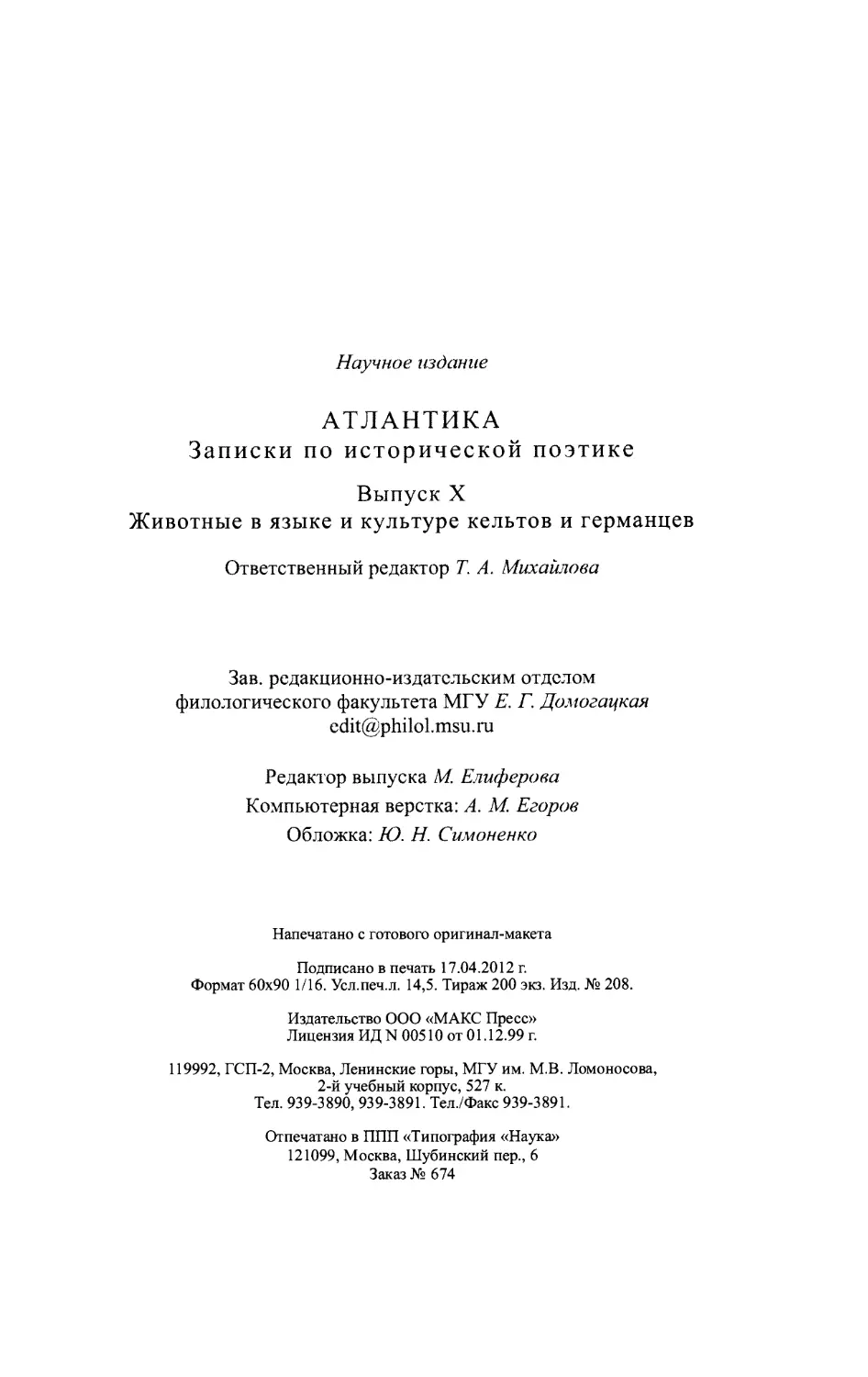Автор: Смирницкая О.А. Михайлова Т.А. Ганина Н.А.
Теги: общие вопросы лингвистики, литературы и филологии языки мира культурология поэтика
ISBN: 978-5-317-04070-3
Год: 2012
Текст
ATLANTICA
ВЫПУСК ДЕСЯТЫЙ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. Ломоносова
Филологический факультет
АТЛАНТИКА
ЗАПИСКИ ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЭТИКЕ
Выпуск X
Животные в языке и культуре
кельтов и германцев
ATLANTICA
МОСКВА —2012
УДК 802/809.1
ББК81.2
А92
Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета филологического факультета
МГУ имени М. В. Ломоносова
Рецензенты:
доктор филологических наук, профессор М. А. Косарик
доктор филологических наук, профессор С. Ю. Неклюдов
Редакционная коллегия:
д.ф.н. Н. А. Ганина, д.ф.н. Т. А. Михайлова (ответственный редактор)
д.ф.н. О. А. Смирницкая, д.ф.н. Ф. Б. Успенский
Редактор выпуска:
М. Елиферова
Атлантика: Записки по исторической поэтике. Вып. X: Жи-
А92 вотные в языке и культуре кельтов и германцев/ Ред. коллегия:
Н. А. Ганина, Т. А. Михайлова (отв. ред.), О. А. Смирницкая,
Ф. Б. Успенский. - М.: МАКС Пресс, 2012. - 232 с.
ISBN 978-5-317-04070-3
УДК 802/809.1
ББК81.2
ISBN 978-5-317-04070-3
© Авторы статей, 2012
Жаклин Борч
Зло И МЕНЯЮЩАЯСЯ ПРИРОДА ЧУДОВИЩ В
РАННЕИРЛАНДСКИХ ТЕКСТАХ1
Исходя из определения «чудовища» как существа живот-
ной природы, обладающего фантастическими или сверхъестествен-
ными свойствами и при этом представляющего угрозу, в статье рас-
сматривается текстуальная репрезентация и символическое значение
чудовищ в древних ирландских памятниках (от V до XII вв. вклю-
чительно). Корпус древнеирландских текстов, связанных с чудови-
щами, подразделяется на три группы: 1) героические; 2) житийные;
3) космологические и эсхатологические. Из каждой группы берётся
репрезентативный пример и анализируется с точки зрения исполь-
зования литературных источников и изображения зла. Вычленяются
две формы зла: внеморальное зло (вред, причиняемый без чьей-либо
злой воли) и моральное зло (вред, причиняемый осознанно). В ста-
тье демонстрируется, что внеморальное зло изображается как неот-
ъемлемый элемент земной жизни, и эта форма зла часто воплощает-
ся в монстрах - как своего рода хаос, угрожающий жизни. Тексты,
идейное содержание которых эксплицитно христианское, склонны
сводить внеморальное зло к моральному: внеморальное зло оказыва-
ется частью Творения в силу того, что люди нарушают некие нормы
(т. е. грешат). В этих текстах источником морального зла может быть
сверхъестественная сущность (Сатана, или дьявол, как персонифи-
кация зла). Статья прочерчивает линию эволюции, проглядывающую
как в библейских, так и в собственно ирландских текстах: опасности
и катастрофы (элементы хаоса с точки зрения андроцентрической
картины мира) связываются с моральным злом, выступая как наказа-
ние за нарушение божественных установлений, и всё теснее ассоци-
ируются с «врагом человечества», т. е. Сатаной. Позже, в среднеир-
ландский период, сам Сатана начинает изображаться как чудовище,
и таким образом, монстры как таковые становятся персонификацией
морального зла.
Ключевые слова: животные, чудовища, христианство, древ-
неирландская литература, среднеирландская литература, средневеко-
вая этика, природа зла.
О<><ЖхХ><>О<Ж^
1 Borsje J. Evil and the Changing Nature of Monsters in Early Irish Texts // К. E. Ol-
sen & L. A. J. R. Houwen (eds.). Monsters and the Monstrous in Medieval Northwest
Europe. Leuven; Paris; Sterling Virginia, 2001. P. 59-77. Статья представляет со-
бой обобщение основных наблюдений и выводов, сделанных в работе [Borsje
1996]. Текст публикуется с сокращениями с разрешения автора. - Прим. пер.
3
Методология
Поскольку раннеирландские источники, посвященные чудо-
вищам (monsters), достаточно многочисленны, материал был подвер-
гнут тщательному отбору2. Во-первых, наше исследование обращено
на тексты - иконография не принималась во внимание. Во-вторых,
чудовища определяются как представители животного мира, облада-
ющие необыкновенными или сверхъестественными чертами и пред-
ставляющие угрозу или опасность. Следовательно, не рассматрива-
лись гуманоидные чудовища. Тексты, содержащие сведения о чудови-
щах, были разделены на три группы: героическую, агиографическую
и космологически-эсхатологическую - каждая из них представлена в
исследовании одним текстом. Первый текст - написанная на древне-
ирландском языке сага Echtra Fergusa maic Leiti3 4 («Приключение Фер-
гуса сына Лейте»; издание и английский перевод см. [Binchy 1952]),
датируемая VIII в. и представляющая героическую группу. Второй
текст - гиберно-латинская Vita Sancti Columbae, житие св. Колумбы
(см. в [Anderson, Anderson 1961/1991; Sharpe 1995], написанное Адам-
наном ок. 700 г. [Picard 1982]. Третий текст - древнеирландское Epistil
Isu («Письмо Иисуса»; см. в [O’Keeffe 1905]), созданное в IX или, воз-
можно, в VIII в. (о датировке текстов см. в [Borsje 1996: 335-341]).
Все три текста относятся к древнеирландскому периоду, являются ха-
рактерными представителями соответствующих групп, и во всех них
чудовища играют важную символическую роль.
Для того чтобы проанализировать представления о зле, отра-
женные в этих текстах, предварительно выделяются две формы зла.
Не-этическое (non-moral) зло определяется как урон, который нано-
сится без сознательного умысла. Не-этическое зло также иногда обо-
значается как природное (natural), поскольку оно воплощается в уроне,
который причиняют природные катастрофы, такие, как землетрясения
или наводнения. Этическое (moral) зло определяется как урон, кото-
рый был нанесен намеренно. Основываясь на этих двух формах зла,
я предварительно сформулировала следующую гипотезу: изначально
чудовища относились к области не-этического зла, но под влиянием
христианства они начали также символизировать собой этическое зло.
Эту гипотезу сразу пришлось модифицировать, поскольку в ее рамках
понятие зла разделялось на две части - между тем очевидно, что два
2Предварительный список раннеирландских текстов, посвященных чудови-
щам, приведен в [Borsje 1996: 342-343].
3 Следуя Рори О’Хигину, продемонстрировавшему ([6 hUiginn 1993]), что е в третьем
элементе имени Fergus mac Leite - короткое, я приняла это чтение, несмотря на то, что
Дэниел Винчи постулировал долгий е. (Выполненный С. В. Шкунаевым сокращен-
ный русский перевод саги см. в [Предания и мифы: 171-172]. -Прим, пер.)
4
вида зла порой тесно связаны. Дело в том, что люди часто пытаются
объяснить не-этическое зло и таким образом поместить его в рамки
своего мировоззрения. Предлагая интерпретации зла, люди могут по-
стулировать связь между не-этическим и этическим злом: этическое
зло может быть причиной не-этического. Функции чудовищ в отобран-
ных средневековых ирландских текстах анализируются в рамках дан-
ной модифицированной гипотезы.
Тексты и описываемые в них чудовища
Первый нарратив, Echtra Fergusa maic Leiti, представлен в по-
этической и прозаической версиях и связан с юридическим трактатом
о процедуре затребования земли4. Сага используется в качестве преце-
дента, но она могла также существовать и независимо от этого собра-
ния законов. Данное предположение подтверждается тем фактом, что
в тексте саги содержатся отсылки к другим вариантам отдельных эпи-
зодов4 5. Традиционно сага, по-видимому, относилась к жанру echtrai -
«приключения» (adventures) или «путешествия с приключениями» (ad-
venturous journeys)6. И действительно, основная ее тема - приключения
короля Фергуса сына Лейте. Однако здесь, по-видимому, присутствует
пересечение с жанром aideda, «повестей о смерти» (death-tales). Более
поздняя версия текста соотносится с этим ключевым словом, и пове-
ствование в ней заканчивается смертью короля (см. в [O’Grady 1892 I:
238-252, II: 269-285])7.
Герой саги встречается с чудовищем дважды; происходит это
следующим образом. Однажды король Фергус спал на берегу моря.
Появляются небольшие создания (luchorpdin - «маленькие тела»), они
забирают у короля меч и несут его самого к воде. Фергус успевает про-
снуться и схватить троих из этих карликов. Он сохраняет им жизнь в
обмен на секретное знание (edlas) о том, как передвигаться под водой.
4Нарративная часть принадлежит к рукописной традиции Senchus Маг, «Вели-
кой [юридической] старины».
5 Подобного рода альтернативные версии вводятся словами «другие говорят»
и относятся к магическому дару карлика [dwarf, в переводе Шкунаева - «де-
мон», - прим. пер.]', это травы, но согласно другому мнению - накидка, а также
к имени Огма: оно может принадлежать слуге или псу.
6 О жанрах и принципах классификации текстов в сохранившихся среднеир-
ландских списках саг см. [Мас Сапа 1980]. Название Echtra Fergusa maic Leiti
встречается в одном из них [Мас Сапа 1980: 53].
7Название рассказа приводится в конце повествования: «Imtechta tuaithe ocus
aided Fergus», («Путешествия/приключения народа лухра и смерть Фергуса»)
[O’Grady 1892,1: 252]. Рудольф Турнейзен в [Thumeysen 1921/1980: 541] дати-
рует эту позднюю версию XIII-XIV вв.
5
Для этого король должен использовать травы или накидку8, и он не
должен погружаться в Лох-Рудрайге9. Карлик (abacc), который налага-
ет на Фергуса этот запрет, уточняет, что данная акватория находится на
земле, которой король правит. Однажды Фергус пренебрегает словами
карлика и погружается в Лох-Рудрайге. Под водой он видит чудовище,
которое выглядит столь ужасно, что лицо короля от пережитого шока
деформируется. Фергус выходит на берег и пытается жить дальше как
будто ничего не произошло. Неправильность на его лице, однако, ука-
зывает на то, что с его королевским статусом не все в порядке. Колесничий
Фергуса рассказывает о происшедшем придворным, и те решают скрыть
увечье короля от него самого: они делают все так, чтобы Фергус никогда
не видел собственного лица, и оберегают его от людей, которые могут рас-
сказать королю правду о том, как он выглядит. Судьба настигает Фергуса
в облике женщины-рабыни, привезенной с чужбины10. В ходе перебранки
с королем она открывает ему его увечье. Фергус вынужден действовать.
Он убивает рабыню и ищет новой встречи с чудовищем. Начинается бит-
ва, в которой и король и чудовище погибают11.
Чудовище, с которым встречается король, называется muirdris,
«ужасная водная тварь» (piast uiscide uathmar). Тело чудовища разду-
вается и сокращается. Также у него могут быть части тела, похожие на
ветви с иглами и шипами, однако это описание полностью основыва-
ется на этимологической интерпретации второй части композита - dris
«колючий кустарник»12. Как становится очевидно из результата первой
встречи короля с muirdris, на это огромное чудовище опасно смотреть;
его большой размер может быть выведен из того факта, что во время
сражения между королем и muirdris волны выплескиваются на берег.
Muirdris воплощает не-этическое зло. В другой работе я пы-
талась обосновать предположение, что это чудовище может быть ис-
толковано как персонификация опасного движения воды [Borsje 1996:
52-58; Borsje 1997]. Подобного рода зло является одним из проявлений
опасной стороны природы, чем-то, что находится за пределами челове-
ческого контроля и может быть названо «силами хаоса». Не-этическое
зло - опасность, содержащаяся в воде, - тесно связано с этическим
злом. Нарушение (сакрального) правила может быть охарактеризова-
но как этическое зло. В раннеирландских текстах представлен обы-
<ххх><ххх>о<хххххх>о<хх><х><>о><х>с><><>оо<х>
8 См. прим. 5.
9 Лох-Рудрайге было идентифицировано как залив Дундрум-Бэй, см. [Bunchy 1952:42].
^Сверхъестественное могущество Судьбы не упоминается в этом тексте напрямую.
Анализ роли данного концепта в этом и других текстах см. в [Borsje 1996:65-90].
11 Описание чудовища-гчшга'т и двух встреч между королем и чудовищем со-
держатся в §§ 6 и 8 издания Винчи.
12Первая часть композита - muir - означает «море».
6
чай излагать сакральные правила в форме gessi, или табу [van Hamel
1934; Draak 1959: 662-663; Draak 1969: 640-642; Greene 1979; O’Leary
1988]. Такого рода geis, или табу, может быть обнаружен и в Echtra
Fergusa maic Leiti. Хотя в самом тексте не фигурирует термин geis,
именно как таковой может быть охарактеризован запрет, касающийся
Лох-Рудрайге: этот запрет призван защищать короля и, таким образом,
все общество (см. ниже) от скрытых сил, он налагается созданиями,
которые не принадлежат к роду людей. Необходимо отметить, что эти
создания каким-то образом связаны с водой: по-видимому, они живут
в воде (весьма вероятно, что они приходят оттуда и пытаются забрать
Фергуса к себе); у них есть тайное знание касательно воды (как пере-
двигаться под водой и куда не следует идти); наконец, средневековые
этимологии также ассоциируют их с водой13.
Когда правило было Сформулировано, силы хаоса (опасные
воды Лох-Рудрайге) получили определенное место в мире людей.
Muirdris располагается одновременно в рамках этого мира и за его
пределами. С одной стороны, оно живет в Лох-Рудрайге, являющемся
частью королевства Фергуса сына Лейте. С другой стороны, Фергусу
запрещено входить в эти воды, которые таким образом оказываются за
пределами сферы влияния людей. Опасность, которую представляет
собой чудовище, все еще остается неизвестной и будет оставаться та-
ковой, пока король соблюдает запрет.
Фергус нарушает свой geis\ он входит в запретные воды. Со-
вершая этот поступок, он действует вопреки правилам, связанным с
сакральной королевской властью. Представление о сакральной ко-
ролевской власти представлено в нескольких ранних ирландских
текстах: с праведным королем его королевство будет процветать, но
король, который не справляется с какими-то из своих обязанностей,
принесет своему королевству бедствия. В частности, король должен
хранить в неприкосновенности свою честь, или «лицо», его тело долж-
но быть безупречным, и он должен соблюдать свои gessi [Draak 1959:
660-663]. Из-за увечья на своем лице Фергус уже не способен быть
королем. Кроме того, настоящий король не бежит перед лицом опасно-
сти, но сражается. Наконец, Фергус должен был соблюдать свой geis.
Нарушение табу, которое приводит к первой встрече с muirdris, про-
буждает силы хаоса - социальная и сакральная структура общества те-
ряет устойчивость. Это нарушение порядка «активирует» судьбу, которая
пАЬасс объясняется как небольшое существо, живущее в реке (а£>), a luchorpdin
объясняются как «наследники озера» (oirb loch а). Этимология слова abacc со-
держится к Глоссарии Кормака [Meyer 1912: 9; англ, пер.: O'Donovan, Stokes
1868: 13] и в Глоссарии О'Мулконри [Stokes 1900, I: 235]. Этимология слова
luchorp - только в Глоссарии О'Мулконри [Stokes 1900,1: 270].
7
действует одновременно по неким свойственным ей законам и как сила
капризная и непредсказуемая. Судьба восстановит порядок, но людям не-
известно, когда и как. В данном случае проходит некоторое время (руко-
писные варианты дают промежуток времени в три и семь лет) перед тем,
как судьба «наносит свой удар». Привезенная с чужбины рабыня может
рассматриваться как орудие судьбы - так же, как и чудовище.
Фергус убивает muirdris. Происхождение чудовища - и этого
типа зла - не объясняется. Это опущение выглядит логичным в свете
предложенной интерпретации чудовища как персонификации опас-
ного движения вод. Возможно, определенное значение имеет выбор
Лох-Рудрайге в качестве места действия. Залив получил свое имя в
честь предка Фергуса Рудрайге, который в нем утонул [Thumeysen 92;
O’Brien 1962: 276; Macalister 1939 (Lebor Gabala Erenn), II: 268-269;
O’Donovan 1856,1: 6-7]14. Имя водоема, таким образом, может содер-
жать в себе предупреждение: эти воды оказались смертельными для
предка короля - вероятно, они будут опасны и для самого Фергуса.
Высказывалось предположение, однако, что традиция о важности Ру-
драйге для исторической традиции Ольстера является поздней иннова-
цией [О hUiginn: 34]. Поскольку мы не знаем, является ли связь между
Рудрайге и Фергусом столь же древней, как и сам рассматриваемый
текст, мы можем только делать предположения о возможной интер-
претации. Другая возможность заключается в том, что выбор места
действия говорит нечто о месте человека в космосе. Лох-Рудрайге на-
ходится на территории королевства Фергуса, но то, что он содержит в
себе, Фергусу не подчиняется. Человеческому могуществу положены
границы. Героически убив muirdris, Фергус заявляет, что выжил, но
в итоге он также умирает. Вода, хотя и красная от крови участников
сражения, остается.
Второй из рассматриваемых нами текстов - Vita Sancti Colum-
bae - был создан в монастыре на острове Иона. Рассказ о жизни св. Ко-
лумбы был написан Адомнаном, аббатом Ионы, по просьбе братии15.
Биография святого описывается не в хронологической последователь-
ности, но сосредотачивается на чудесах, совершенных св. Колумбой:
они разделены на три книги по тематическому принципу16. Адомнан
14«Согласно Анналам Тигернаха», Фергус также тонет [Stokes 1895: 404]; этот
фрагмент анналов датируется XII в., см. [Mac Neill 1914: 108].
15 Адомнан сам рассказывает об этом в первом из двух своих предисловий к
Vita Sancti Columbae.
16Книга Первая рассказывает о пророчествах; Книга Вторая - о сверхъесте-
ственном могуществе святого; Книга Третья - о чудесах, связанных со светом
и посещениями ангелов.
8
опирался на некоторые жанры классической биографии, христианскую
агиографию и раннеирландские нарративы [Picard 1985, особ. 74-82].
В Vita Sancti Columbae встречается пять видов чудовищ: круп-
ное морское чудовище (различно обозначаемое как cetus «крупное
морское животное, морское чудовище», monstruorum prodigium «чу-
десное чудовище» и belua «крупный или опасный зверь, чудовище»);
ужасный дикий кабан (арег «дикий кабан», ferus «дикое животное,
зверь»); речное чудовище (aqualitis bestia «водное чудовище», bestia)\
змеи (yiperae «гадюки, змеи») с тройными языками и опасные неболь-
шие морские чудовища (terrores «ужасные объекты/существа», bestio-
lae «небольшие животные»).
Необычайно крупное морское чудовище обычно обитает на
дне моря. В тех эпизодах, где описываются две встречи чудовища с
людьми, оно поднимается над водой, напоминая собой гору (Книга
I, глава 19). Св. Колумба чудесным образом знает, что чудовище под-
нялось на поверхность моря между островами Иона и Тайри (Tiree).
Поэтому он говорит монаху, который собирается плыть в Тайри, вы-
брать кружной путь. Монах не следует этому указанию - он, а также
моряки, вместе с которыми он плывет, до смерти пугаются при виде
чудовища. Тварь открывает рот и показывает множество зубов. Дви-
жения чудовища поднимают такие волны, что путешественникам едва
удается спастись. Другой монах отправляется вплавь на лодке. Он не
получает никаких предписаний - св. Колумба говорит ему, что вера в
Христа защитит его от опасности. Вновь, когда чудовище показывает-
ся над водой, все люди, находящиеся в лодке, смертельно напуганы.
Монах, однако, не теряет присутствия духа. Он благословляет море и
саму тварь, чем заставляет ее опять уйти в глубину.
Другое чудовище - ужасный кабан - живет в лесу на острове
Скай (11.26). Этот кабан необычайно велик. Собаки преследуют его,
когда сам зверь мчится по направлению к святому. Колумба поднимает
руку, призывает имя Господне, сосредоточенно молится и повелевает
кабану не делать больше ни шагу и умереть в том месте, где он засты-
нет. Кабан немедленно падает на землю мертвым.
Стремительное и яростное чудовище живет в реке Несс, делая
ее опасной (11.27). Оно напало на пикта и убило его своими укусами.
Оно скрывается в глубине вод. Когда чудовище снова нападает, оно
поднимается на поверхность, громко ревя, и с открытым ртом при-
ближается к следующей жертве - ей становится один из монахов св.
Колумбы, добровольно прыгнувший в реку, чтобы забрать лодку с дру-
гой стороны реки. Все, кто находится на берегу - пикты и монахи, - с
ужасом наблюдают за происходящим. Св. Колумба поднимает руку, со-
вершает крестное знамение и призывает имя Господне. Святой повеле-
9
вает твари более не приближаться, не трогать человека и немедленно
отправляться восвояси. Тварь пугается и с великой поспешностью об-
ращается в бегство. Все присутствующие возносят хвалу Богу.
Ядовитые змеи с тройными языками упоминаются в житии
незадолго до смерти св. Колумбы (11.28; III.23)17. Когда святой объявля-
ет, что скоро умрет, монахи сильно огорчаются. Святой пытается уте-
шить их и поднимает руку, чтобы благословить Иону. Начиная с этого
момента, говорит он, яд змей не будет вредить ни людям, ни скоту -
столько, сколько обитатели острова будут следовать заветам Христа.
Наконец, небольшие ужасные существа живут в океане к севе-
ру от острова, за пределами освоенного людьми пространства (11.42).
Их никто никогда раньше не видел. Рядом с ними есть и многие другие
чудовища, но их Адомнан не описывает. Эти отвратительные и очень
опасные небольшие - размером с лягушку - твари ужасны, чудовищ-
ны, невыносимы и почти неописуемы. Они разрушают своими укуса-
ми весла и лодку, на которой плывет со своими спутниками Кормак -
пилигрим и монах из братии Колумбы. Благодаря своему чудесному
пророческому знанию св. Колумба знает об опасности, с которой стол-
кнулись Кормак и другие путешественники. Они очень напуганы и мо-
лятся в слезах. Св. Колумба собирает монахов, и они также начинают
в слезах молиться. Они просят Бога изменить направление ветра. Нео-
жиданно св. Колумба объявляет, что теперь дует северный ветер и что
путешественники скоро прибудут на Иону. Пророчество св. Колумбы,
разумеется, исполняется.
Чудовища в Vita Sancti Columbae воплощают не-этическое
зло. Они могут быть истолкованы как экстраполяции опасностей, ко-
торые таит в себе природа, в воде и на земле. Они служат способами
показать могущество Бога новой религии, выраженное через его свя-
щенного слугу - св. Колумбу. Чудовища, воплощающие не-этическое
зло, могут фигурировать в историях о чудесах, где в центре внимание
находятся этическое добро и зло. Вера, доверие, повиновение и едине-
ние являются теми моральными ценностями, которые подчеркиваются
в соответствующих эпизодах, - неповиновение и неверие этически не-
правильны. Нет связи между чудовищами и персонификациями этиче-
ского зла, дьяволом и демонами. Эти инфернальные существа встреча-
ются в других эпизодах жития. Дьявол и демоны внушают стремление
к этическому злу друидам, грабителям и другим злодеям (1.37, 11.17,
П.22-25, II.32-34), а также вызывают не-этическое зло болезни (11.11,
III.8). О зле, вызываемом демоническими силами, Адомнан говорит,
<Х><ХХХХХ><ХХХ><Х>О<><ХХ><><><><ХХ><>О^^
17 Адомнан собрал чудеса Колумбы, касающиеся чудовищ, в одном месте
(П.26-28); в последней главе жития он снова возвращается к чуду о змеях. То,
что у них тройные языки, упоминается только в III.23.
10
что оно совершается с позволения Бога (см., например, 11.34). Таким
образом, нет четкого дуализма в противостоянии Бога и дьявола (зла):
Бог остается верховным правителем и сосредоточием могущества в
Творении, и Он помогает тем, кто доверяет, верит и подчиняется, если
они оказываются в опасной ситуации.
В большинстве случаев опасность, которую представляют чу-
довища, просто нейтрализуется: чудовища не погибают, но продолжа-
ют свое существование как часть опасностей природы или Творения,
хотя на какое-то время они делаются безвредными. Только в случае с
диким кабаном опасность устраняется посредством того, что святой
убивает животное. Это совершается не посредством силы и жестоко-
сти, но при помощи сакральных жестов и слов. Причина смерти каба-
на может заключаться в традиционном ирландском взгляде на понятие
чести [Borsje 1996: 170-171]. Кабан нападает на самого св. Колумбу,
находящегося под покровительством Бога. Нападение наносит урон
чести Бога, что жестоко наказывается. Общая расстановка сил в Vita Sanc-
ti Columbae такова, что св. Колумба находится на стороне сил, дающих
жизнь; злодеи и демоны находятся на стороне смерти. Однако в случае
серьезных проступков и большого урона святой приговаривает виновных
к смерти и аду (например, П.22-25). Эпизод с кабаном, возможно, должен
был показать, что к святому надо проявлять максимальное почтение.
Наш третий текст, Epistil Isu, должен рассматриваться в кон-
тексте христианской традиции, которая берет свои истоки в Танахе/
Ветхом Завете. Ирландский текст - лишь одна из многих версий Эпи-
столии о неделе, которые создавались на многих языках на большой
территории - от Эфиопии до Исландии [Delehaye 1899; Stube 1918;
Priebsch 1936; Gessller 1936; van Esbroeck 1989]. Первое упоминание
об этом тексте относится к VI в.18 Традиция дожила до XX в.: некото-
рые из немецких солдат, погибших в Первую мировую войну, хранили
списки Эпистолии о неделе у себя на груди [Stube 1918: 1]. Эпистолия
о неделе представляет собой христианизированную версию заповеди
о соблюдении субботы, которую Господь (или Моисей) начертал на
каменных скрижалях на горе Синай. Это послание, однако, было на-
писано Иисусом Христом в раю Его собственной кровью или, соглас-
но некоторым версиям, золотыми буквами. Эпистолия была принесена
ангелами в священное место на земле. Она предписывает людям чтить
воскресный день; послушание будет вознаграждено, нарушение пред-
писаний - наказано. Этот текст принято относить к разряду космоло-
гических и эсхатологических сочинений: создается новый порядок,
который играет свою роль в замысле Бога о мире. Этот замысел будет
18Епископ Лициниан Карфагенский (ум. до 602) порицает чтение Эпистолии о
неделе в послании к Винцентию, епископу Ибицы, см. [PL 72: 699-700].
И
последовательно воплощаться. Включая в себя представления как из
канонической, так и из апокрифической литературы, Эпистолия о не-
деле отсылает к Творению (начало), Воскресению (середина) и Страш-
ному суду (конец времен) - см. тж. Главу 3 в [Borsje 1996].
Важную роль в этом псевдоэпиграфе играют наказания за не-
соблюдение воскресного дня. В ирландской версии, Epistil Isu, в числе
наказаний упоминаются пять видов чудовищ: brucha, саранча (locuste),
огненная лошадь (ech tened), летающие змеи (nathraig luamnig) и, на-
конец, «пять огромных, ужасных чудовищ» (coic biasta тога grannai),
которые являются инфернальными существами.
У brucha огненные глаза19. В прошлом они приходили с вос-
тока, чтобы наказать людей за несоблюдение воскресения. Они разру-
шают виноградники, подгрызая виноградные лозы, так что те падают
на землю. Также они уносят виноград в свое логово, катаясь по яго-
дам - виноградины застревают в их жестких волосах, имеющих форму
железных шипов (§ 3).
Второй вид чудовищ - саранча с железными крыльями. Она
также приходит с востока, забивая своими крыльями все, что попада-
ется ей на пути. В первую очередь она съедает основания колосьев на
полях, из-за чего погибает зерно (§ 4).
Чудовище третьего вида было изначально обычным живот-
ным, но из-за несоблюдения воскресения оно превратилось в сверх-
ъестественного зверя. Если кто-то едет на лошади в воскресенье, то
лошадь превращается в огненного коня, на котором всадник будет си-
деть в аду (§ 9).
Четвертый вид чудовищ - летающие змеи. Если люди не будут
соблюдать воскресенье, начнутся страшные бури, а огненные молнии,
гром и серный огонь сожгут семьи и целые народы. Также начнется ог-
ненный каменный град, появятся летающие змеи и враждебные нехри-
стианские народы. Люди будут уведены как пленники из своих земель
и будут принесены в жертву богам чужеземцев (§ 10).
Пятый вид чудовищ кроется в глубинах преисподней. Это
огромные ужасные создания, единственное желание которых - под-
няться на землю, чтобы наказать тех, кто не соблюдает воскресный
день. Однако они не способны покинуть ад, поскольку милосердие
Бога по отношению к людям держит их на своем месте (§ 11).
Чудовища в Epistil Isu воплощают не-этическое зло. Они ору-
дия Господа, используемые Им для поддержания установленного Им
порядка. Эти создания имеют двойную природу: они одновременно
<ХХХХКХХХ><><><Х><Х><><Х><Х><><ХХХ>О<Х><Х>^^
19Bruch (sg.) происходит из латинского bruchus «бескрылая саранча». Посколь-
ку brucha в этом ирландском тексте обладают многими общими чертами с ежа-
ми, я оставила слово без перевода.
12
предстают как природные катастрофы и включают сверхъестествен-
ные характеристики, которые можно определить как апокалиптические
и эсхатологические (см. Откр 9:1-11, а тж. [Brosje 1996: 190-306]). По-
сыл Epistil tsu заключается в том, что этическое зло является причи-
ной не-этического зла. Не-этическое зло - это разного рода природные
бедствия20. Чудовища - особая форма этих катастроф, и их появление,
таким образом, нельзя определить как просто трагическое стечение
обстоятельств. Люди ответственны за не-этическое зло, поскольку их
этически неприемлемые поступки являются его причиной.
Эти чудовища не связаны с дьяволом. Epistil Isu называет его
Врагом, побежденным Иисусом Христом (§ 15). Это покорение дьявола
относится к области космологического и эсхатологического сражения
между силами добра и зла. В конце времен силы добра победят и все
бедствия и страдания закончатся. Epistil Isu призывает людей встать на
сторону сил добра, соблюдая Божественные установления. Если люди
будут жить праведно, все будет хорошо.
Epistil Isu рисует очень прямолинейную картину: нарушение
правил напрямую связано с бедствиями. Однако события не связаны
между собой автоматической причинно-следственной связью, как в
тех случаях, когда их ход определяет судьба. Медиатором является Бог.
Бог налагает правила, в качестве судьи выносит решение о наказании
и предлагает способ этого наказания избежать21: Epistil Isu содержит
указания, как вести себя человеку, который нарушил заповеди, каса-
ющиеся воскресного дня. В правовой секции такого рода нарушения
перечисляются и каждое из них сопровождается штрафом22. Человек
может раскаяться в своих прегрешениях и таким образом исправить
совершенное им зло. Благодаря этому нарушенное единение с Госпо-
дом восстанавливается.
Анализ рассматриваемых текстов с точки зрения источни-
ков, на которые они опираются, показал, что все упоминаемые в них
чудовища - за исключением muirdris из героической саги - следуют
20Epistil Isu (§ 2) утверждает, что все эпидемии и бедствия мира происходят от
того, что люди не соблюдают воскресения.
21 Хотя Эпистолия о неделе написана как бы от лица Иисуса Христа, в неко-
торых местах говорится, что источником новой заповеди является Бог Отец
(§§ 5, 8, 13, 18). В других случаях Эпистолия не содержит четкого указания
на то, кто является источником предписания, указывая на его автора как на
«Господа» или «(Самого) Бога».
22Текст Epistil Isu в целом может быть разделен на три части: первую, где из-
лагается основное содержание Эпистолии о неделе (§§ 1-19); «историческую»
часть о перенесении Эпистолии о неделе в Ирландию (§§ 20-22), а также пра-
вовую часть, описывающую правила и предписывающую штрафы за ту или
иную деятельность в воскресенье (§§ 23-33).
13
другим описаниям чудовищ, содержащимся в литературе [Borsje 1996:
29-65, 114-164, 190-306]. Однако в Echtra Fergusa maic Leiti описыва-
ется чудовище, которое может быть названо «исконно ирландским».
Кроме того, в этом тексте для описания действия сверхъестественных
существ и хода событий используются повествовательные схемы, ко-
торые также, по-видимому, имеют дохристианские корни. Если мы
хотим исследовать представления о смерти и сравнить предположи-
тельно исконные представления с теми, которые сформировались под
влиянием христианства, нам необходимо сопоставить Echtra Fergusa
maic Leiti c Vita Sancti Columba и Epistil Isu - текстами, основывающи-
мися на христианском предании.
Зло: ОТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ о ХАОСЕ к ОБРАЗУ ВРАГА
Согласно Echtra Fergusa maic Leiti, не-этическое зло является
неотъемлемой составляющей жизнью на земле. Vita Sancti Columbae
схожим образом утверждает, что в Творении есть опасные стороны.
В христианской традиции зло в мире объясняется при помощи пре-
дания о первобытном грехе: изначально жизнь на земле была лишена
трудностей и страданий, но по причине греха, совершенного в раю, зло
стало частью нашей жизни. В мифе о рае не-этическое зло описывается
как происходящее от этического зла. В Vita Sancti Columbae этическое
зло происходит от сверхъестественного персонажа - дьявола. В Epistil
Isu этическое зло совершается людьми, а отсылки к демоническому
внушению отсутствуют. В Echtra Fergusa maic Leiti этическое зло не
персонифицировано; не-этическое зло - это природное зло, которое
может быть охарактеризовано как силы хаоса. Христианские тексты
вводят персонификацию зла, в Epistil Isu обозначаемую как Враг.
Подобный переход - от представления о хаосе к образу вра-
га - также обнаруживается в Библии. Господь побеждает силы хаоса
в облике чудовищ в первоначальном космологическом сражении (Ps
73:13-14; 103:26; lob 3:8; 40:20-41:25 по Вульгате; подробнее см. [Day
1985]). Свидетельством дальнейшего развития сюжета является исто-
рия о падшем архангеле, дьяволе [DDD: s.v. Devil]. В третьей главе
Книги Бытия змей, который указывает людям путь к греху, еще не свя-
зан с дьяволом. Эта связь напрямую постулируется только в новозавет-
ном Откровении (12:9). Развитие космологии находит свою параллель
в эсхатологии: Книга Исайи (27:1) утверждает, что Господь в конце
времен23 победит левиафана. Левиафан все еще представляет собой
силы хаоса. Однако эсхатологическая битва, описываемая в Открове-
нии, говорит о том, что побежден будет дракон, являющийся одновре-
<ххх><>о<><><><х><><><х>^^
23 Буквально «в тот день» - имеется в виду День Господень, который предпо-
ложительно начнется в конце времен.
14
менно древним змеем и дьяволом. Твари, представляющие собой часть
ветхозаветной космологии - змей и дракон в море, - в Новом Завете
идентифицируются с Врагом.
Схожим образом демонстрируют развитие от представлений о
хаосе к образу врага и ирландские тексты. Чтобы проиллюстрировать
это развитие, я буду вынуждена привлечь кроме трех проанализиро-
ванных выше тестов также другие источники. Чудовища представляют
опасную сторону природы или Творения. В Vita Sancti Columbae эти-
ческое зло связывается с дьяволом; Epistil Isu, как кажется, стремится
убедить нас, что опасность, которую представляет собой дьявол, оста-
лась в прошлом. Когда люди совершают злые поступки, ответствен-
ность за их действия лежит исключительно на них самих. Чудовища
не связаны с дьяволом, хотя некоторых из них могут ассоциироваться
со Злодеем: морское чудовище, змеи и bruch. Змей - личина дьявола в
Откровении (12:9), а морское чудовище отождествляется с дьяволом в
позднеантичном «Физиологе» [Carmody 1941: 125]; англ. пер. [Curley
1979: 45-46]. Этот текст о естественной истории, к которому были до-
бавлены моралистические истолкования, также истолковывает ежа как
личину дьявола. Подобная интерпретация связана со свойством ежа,
которое объединяет его с bruch\ срывание винограда с лозы и нака-
лывание его на иглы [Carmody 1941: 114]. В ирландских текстах нет
очевидного морализаторства «Физиолога». Позднеантичный текст ре-
комендует читателю не закреплять свой якорь в теле дьявола - который
изображается как похожее внешне на остров морское чудовище, - по-
тому что тот утащит грешника вниз [Carmody 1941: 125; Curley 1979:
46]. Более того, читатель должен следить, чтобы дьявол, символически
описываемый как еж, не проник в его духовный виноградник и не раз-
бросал выращенные им духовные плоды - виноградины - по земле
[Carmody 1941: 114; Curley 1979: 24-25]. Символизм ирландских тек-
стов более тонкий, чем в этих аллегорических предостережениях.
Дьявол в облике монстра представлен в Altus prosator («Вы-
сокий Творец»), раннем гиберно-латинском стихотворении, приписы-
ваемом св. Колумбе (519/522 - 9 июня 597; издание, перевод и ком-
ментарий см. в [Bernard, Atkinson 1898,1: 62-83; II: 23-26, 140-169]).
Это заимствованное чудовище: для его создания был использован об-
раз дракона из Откровения24. Хотя гиберно-латинское Navigatio Sancti
24 Строфа D отсылает к большому дракону, который представляет собой то же
самое, что и змей. Этот ужасный дракон - самый злобный из всего творе-ния -
утащил третью часть звезд в бездну преисподних областей и разнооб-разных
темниц (in barathrum locorum infemalium diuersorumque carcerum [Bernard,
Atkinson 1989, I: 69]). В Откр 12:4 делает это своим хвостом, но вместо того
чтобы быть утащенными в ад, звезды падают на землю.
15
Brendani Abbatis («Плавание св. Брендана аббата»; издание [Selmer
1959/1989], перевод [O’Meara 1976/1985])25 называет дьявола «левиа-
фаном», эта идентификация вряд ли означает, что дьявол изображает-
ся как чудовище26. В одном из древнеирландских стихотворений Блат-
мака сына Ку-Бреттана дьявол также называется левиафаном, но не
описывается как чудовище [Carney 1964]27. Тексты, в которых дьявол
изображается как чудовище, представляют собой описания ада, отно-
сящиеся к среднеирландскому периоду28. Лишь в поздний период пер-
сонифицированный образ этического зла как чудовища укореняется в
ирландской литературной традиции.
Необходимо остановиться на еще одном вопросе: соотноше-
ние между Богом и этическим злом. Этическое зло определяется как
намеренно причиненный урон. Когда Господь насылает на людей не-
этическое зло, например чудовищ, это намеренно причиненный урон.
Способен ли Бог совершить этически злое деяние? Для людей, придер-
живающихся религиозного мировоззрения, это предположение про-
блематично. Три текста, рассмотренные в данной работе, предлагают
решение этой проблемы. В Vita Sancti Columbae образ дьявола поме-
<><>о<><х><><><><><><><><><><х^
25 Недавно этот текст был датирован Дэвидом Дамвиллем периодом не позднее
третьей четверти VIII в. (цит. в [Sharpe 1991: 17])
26 Тем не менее дьявол обладает некоторыми свойствами чудовища, поскольку
он поглощает души. В § 25 св. Брендан и его спутник посещают Иуду, который
временно освобожден от адских мучений. Ад представлен как огненная гора,
где, по словам Иуды, обитает левиафан и его окружение. В другом месте в этом
тексте (§11) есть отсылка к Древнему Врагу и его приспешникам. Это, очевид-
ным образом, отсылка к дьяволу, который, стало быть, изображается в Navi-
gatio как левиафан. Описания дьявола с таким именем в Navigatio нет, однако
ясно, что автор хорошо знал о том, как это мифическое чудовище изображает-
ся в канонической и неканонической литературе. Автор приписывает свойства
левиафана морскому чудовищу, обозначаемому как Jasconius (подробнее см.
[Borsje 1996: s.v. Jasconius, особ. 124-128]; подробный анализ представлений
об аде как чудовище, о чудовище в аду и дьяволе как чудовище в библейских,
неканонических и ирландских текстах см. [Borsje 1996: 288-305]).
27Дж. Карни датирует поэмы 750-770 гг. [Сатеу 1964: xiv]. Левиафан -
leuedhan - в 242 строфе стихотворения «Мария, солнце нашего рода» [Ibid.:
82-83] очевидным образом используется как обозначение дьявола наряду с
такими номинациями, как Люцифер и Гордый.
28Имеются в виду следующие тексты: 1. Immram curaig Ua Corra («Плавание лод-
ки У a Корры»), § 14 [Stokes 1893; van Hamel 1941], деление на параграфы дается
по изданию Стоукса. Текст датируется XI в., см. [Dumville 1977-1978: 70]. 2. Scela
lai bratha («Повесть о Страшном суде»), § 20 [Stokes 1879-1880], текст датирует-
ся XI в. [Kenney 1929/1979: 738]. 3. Песнь V среднеирландско-го Saltair па Rann
(«Псалтыря четверостиший») [Stokes 1883], более новое издание и перевод фраг-
ментов этого текста см. [Greene, Kelly 1976]. 4. Текст из рукописи Liber Flavus
Fergusiorum. Сейнт-Джон Дрелинкорт Сеймур [Dre-lincourt Seymour 1923: 187]
датирует текст XI в. и приводит перевод фраг-мента, где содержится описание чу-
довища. Чарльз Д. Райт [Wright 1993: 164] приводит транскрипт текста рукописи.
16
щен между человечеством и Богом: урон вызывает дьявол. Бог позво-
ляет это, но в то же время является источником поддержки. В Epistil
Isu решение проблемы достигается благодаря концепту греха: если Го-
сподь насылает на людей кары, люди сами в этом виноваты. В Echtra
Fergusa maic Leiti эта проблема в принципе не может быть поставлена,
поскольку наказание за неправильные поступки осуществляет не Бог.
Причиной всему - действия безличного субъекта под именем Судьба,
который восстанавливает баланс и с этой целью «карает». Таким об-
разом, ответственность лежит на людях, которые нарушают предпи-
сания, так же как и в Epistil Isu. В Echtra Fergusa maic Leiti проступки
определяются не как грех, а как нарушение табу.
Жизнь на земле полна опасностей, и людям приходится как-
то справляться со злом, которое является частью их существования.
На основании проведенного исследования можно заключить, что сре-
ди многих способов, которые люди используют, чтобы справиться с
угрожающим им злом, наиболее важны два: формулирование правил
и интерпретация зла.
Правила, которые формулируются с целью попытаться опре-
делить, ограничить и уменьшить деструктивные силы, угрожающие
жизни, относятся к не-этическому и этическому злу. Опасных мест и
ситуаций следует избегать, или же необходимо быть подготовленным к
тому, чтобы встретиться с опасностью. Примерами правил подобного
рода являются gessi и пророческие рекомендации. Друиды, провидцы
и другие люди, владеющие сведениями о скрытых сторонах жизни,
также знают правила, которые могут помочь уберечься от опасности.
Порой это тайное знание напрямую открывается «другой реально-
стью», как это произошло в случае с небольшими водными существа-
ми, которые наложили на Фергуса его geis, и Эпистолией о неделе, от-
правленной на землю с небес. Поиски безопасности иногда приводят к
обретению весьма конкретных объектов, которые должны защитить их
обладателя: заклинание, при помощи которого можно передвигаться
под водой; предметы, благословленные святым, или копия Эпистолии
о неделе, которую человек носит с собой, чтобы защититься от урона.
В других случаях необходимо обращаться к Богу или его представите-
лю, наподобие святого, чтобы попросить о помощи и таким образом
встать на путь веры и доверия.
Правила также устанавливаются, чтобы ограничить этическое
зло. Эти правила, в облике обычаев сообщества или божественных
установлений, дают людям ощущение безопасности: столько, сколько
человек будет им следовать, ничего злого не случится. В случае с хри-
стианством есть способ спастись и в той ситуации, когда человек со-
грешил: святой может сказать грешнику, что ему необходимо сделать,
чтобы искупить свою вину, или же правила поиска пути к примирению
17
могут содержаться в том же документе, где содержатся изначальные
указания, что мы видим в случае Epistil Isu.
Другой способ справиться со злом заключается в том, чтобы
истолковать его, попытаться обнаружить его значение. Зло может ока-
заться посланным Судьбой или Богом, и таким образом другая реаль-
ность как бы обращается к жертве (или жертвам) с посланием. Люди,
которые интерпретируют не-этическое зло как вызванное этическим
злом, обладают антропоцентричным мировоззрением. Даже если ход
жизни управляется сверхъестественным субъектом, таким как Судьба
или Бог, именно человеческие поступки являются причиной тех или
иных событий. При таком мировоззрении ключевую роль в интерпре-
тации зла играет человеческое поведение. Таким образом создается
впечатление, что человек может влиять на ход своей жизни. Перед ли-
цом зла, которое порой оказывается сильнее своей жертвы, это ощу-
щение влияние или могущества может помочь справиться с ощущени-
ем безнадежности. Но необходимо понимать, что подобный взгляд на
жизнь является по своей сути религиозным, с присущими этому миро-
воззрению достоинствами и недостатками.
Сокращения
DDD - Dictionary of Deities and Demons in the Bible / Ed. K. van der Toom,
B. Becking, P. W. van der Horst. Leiden, New York, Koln, 1995.
Литература
Предания и мифы - Предания и Мифы средневековой Ирландии. М., 1991.
Anderson, Anderson 1961/1991 - Anderson А. О., Anderson М. О. Admonan’s Life of
Columba. 2nd. rev. edn by M.O. Anderson. London, 1961; Oxford, 1991.
Bernard, Atkinson 1898 - Bernard J. H., Atkinson R. The Irish Liber Hymnorum.
2 vols. London, 1898.
Binchy 1952 -Binchy D. The Saga of Fergus Mac Leti // Eriu. Vol. 16. 1952.
Borsje 1996 - Borsje J. From Chaos to Enemy: Encounters with Monsters in Early
Irish Texts. An Investigation Related to the Process of Christianization
and the Concept of Evil. Turnhout, 1996.
Borsje 1997 - Borsje J. The Movement of Water as Symbolised by Monsters in
Early Irish Texts // Peritia. Vol. 11. 1997.
Carmody 1941 - Carmody F. J. Physiologus Latinus Versio Y // University of Cali-
fornia Publications in Classical Phylology. Vol. 12. 1941.
Carney 1964 - Carney J. The Poems of Blathmac son of Cu Brettan together with The
Irish Gospel of Thomas and A Poem on the Virgin Mary. Dublin, 1964.
Curley 1979 - Physiologus / Transl. M. J. Curley. Austin; London, 1979.
Day 1985 -Day J. God’s Conflict with the Dragon and the Sea. Echoes of a Canaan-
ite Myth in the Old Testament. Cambridge, 1985.
Delehaye 1899 - Delehaye H. Note sur la legende de la lettre du Christ tombee du
ciel // Bulletin de la classe des lettres et des sciences morales et politiques
et de la classe des beaux-arts. Brussels, 1899.
18
Draak 1959 - Draak M. Some Aspects of Kingship in Pagan Ireland // Studies in
the History of Religions. Supplements to Numen 4: The Sacral Kingship.
Leiden, 1959.
Draak 1969 - Draak M. The Religion of the Celts // Historia Religionum, Handbook
for the History of Religions. Vol. 1: Religions of the Past / Ed. C. J. Bleek-
er, G. Widengren. Leiden, 1969.
Drelincourt Seymour 1923 - Drelincourt Seymour St. J. The Eschatology of the
Early Irish Church // Zeitschrift fur Celtische Philologie. Bd. 14. 1923.
Dumville 1977-1978 - Dumville D. Towards an Interpretation of Fis Adamnan //
Studia Celtica. Vol. 12-13. 1977-1978.
van Esbroeck 1989 - van Esbroeck M. La lettre sur le dimanche, descendue du ciel
//Analecta Bollandiana. Vol. 107. 1989.
Gessller 1936 - GesslerJ Ein Brief uit den Hemel. Nederlandsche en andere versies
van den Christusbrief. Leuven, 1936.
Greene 1979 - Greene D. Tabu in early Irish narrative // Medieval Narrative. A Sym-
posium/Ed. H. Bekker-Nielsen. Odense, 1979.
Greene, Kelly 1976 - The Irish Adam and Eve Story from Saltair na Rann. Vol. I:
Text and Translation / Ed. D. Greene, F. Kelly. Dublin, 1976.
van Hamel 1934 - van Hamel A. G. Review of J. R. Reinhard, ‘The Survival of Geis
in Medieval Romance’ // ES. Vol. 16. 1934.
van Hamel 1941 - Immrama / Ed. A. G. van Hamel. Dublin, 1941.
Kenney 1929/1997 -Kenney J. F The Sources for the Early History of Ireland: Ec-
clesiastical. An Introduction and Guide. New York, 1929; Dublin, 1997.
Macalister 1939 - Lebor Gabala Erenn. Vol. II / Ed. R.A.S. Macalister. Dublin, 1939.
Mac Cana 1980 - Mac Cana P The Learned Tales of Medieval Ireland. Dublin, 1980.
Mac Neill 1914 - Mac Neill E. The Authorship and Structure of the ‘Annals of Ti-
gemach’ // Eriu. Vol. 7. 1914.
Meyer 1912 - Cormac’s Glossary / Ed. K. Meyer // Anecdota from Irish Manu-
scripts. Vol. IV / Ed. O. J. Bergin, R. I. Best et al. Halle; Dublin, 1912.
O’Brien 1962 - Corpus genealogiarum Hibemiae / Ed. M. O’Brien. Vol. I. Dublin, 1962.
O’Donovan 1856 - Annala rioghachta Eireann, ‘The Annals of the Kingdom of Ire-
land’, by the Four Masters / Ed. J. O’Donovan. 7 vols. Dublin, 1856.
O’Donovan, Stokes 1868 - O’Donovan J., Stokes W Sanas Chormaic. Cormac’s
Glossary. Calcutta, 1868.
O’Grady 1892 - O’Grady S. H. Silva Gadelica. A Collection of Tales in Irish with
Extracts illustrating Persons and Places. 2 vols. London; Edinburgh, 1892.
O’Keeffe 1905 - O’Keeffe J. G. Cain Domnaig. I. - The Epistle concerning Sun-
day//Eriu. Vol. 2. 1905.
6 hUiginn 1993 - 6 hUiginn R. Fergus, Russ and Rudraige: A Brief Biography of
Fergus Mac Roich // Emania. Vol. 11. [1993].
O’Leary 1988 - O’Leary P. Honour-bound: the Social Context of Early Irish Heroic
Geis // Celtica. Vol. 20. 1988.
O’Meara 1976/1985 - O’Meara J. J. The Voyage of Saint Brendan: Journey to the
Promised Land. Portlaoise, 1976; Atlantic Highlands, 1985.
Picard 1982 - Picard J. -M. The Purpose of Adomnan’s Vita Columbae // Peritia.
Vol. 1. 1982.
Priebsch 1936 - Priebsch R. Letter from Heaven on the Observance of the Lord’s
Day. London, 1936.
19
Selmer 1959/1989 - Navigatio Sancti Brendani Abbatis from Early Latin Manu-
scripts / Ed. C. Selmer. 1959; Dublin, 1989.
Sharpe 1991 - Medieval Irish Saints’ Lives. An Introduction to Vitae Sanctorum
Hibemiae. Oxford, 1991.
Sharpe 1995 - Sharpe R. Adomnan of Iona. Life of St. Columba. Harmondsworth, 1995.
Stokes 1879-1880 - Stokes W Tidings of Doomsday. An Early-Middle-Irish Homily
11 Revue Celtique. Vol. 4. 1879-1880.
Stokes 1883 - Stokes W Saltair na Rann. A Collection of Early Middle Irish Poems.
Oxford, 1883.
Stokes 1893 - Stokes W. The Voyage of the Hui Corra // Revue Celtique. Vol. 14. 1893.
Stokes 1895 - The Annals of Tigemach I. - The Fragment in Rawlinson В 502 / Ed.
W. Stokes П Revue Celtique. Vol. 16. 1895.
Stokes 1900 - O’Mulconry’s Glossary / Ed. W. Stokes I I Archiv fur celtische Lexi-
cographie / Ed. W. Stokes, K. Meyer. 3 vols. Halle; London, 1990.
Stiibe 1918 - Stiibe R. Der Himmelsbrief. Ein Beitrag zur allgemeinen Religionsge-
schichte. Tubingen, 1918.
Thumeysen 1921/1980 - Thurneysen R. Die Irische Helden- und Konigsage bis zum
siebzehnten Jahrhundert. Halle, 1921; Hildesheim; New York, 1980.
Wright 1993 - Wright Ch. D. The Irish Tradition in Old English Literature. Cam-
bridge, 1993.
Перевод Д. С.Николаева
Summary
Evil and the Changing Nature of Monsters in Early Irish Texts
Defining ‘monsters’ as bestial creatures that have extraordinary or
supernatural features and that pose a threat or danger, this article discusses
the textual representation and symbolic meaning of monsters in Early Irish
texts (from the fifth century to circa 1200). The corpus of Early Irish texts
on monsters is divided into three groups: 1) heroic, 2) hagiographical, and
3) cosmological and eschatological texts. Of each group, a representative
was chosen and analyzed on its use of sources and its depiction of evil. Two
forms of evil are distinguished: non-moral evil (harm that happens without
anyone willingly inflicting it upon the victims) and moral evil (harm will-
ingly perpetrated). It is argued that non-moral evil is portrayed as part and
parcel of life on earth, and monsters often represent this form of evil as a
chaotic force that threatens life. In texts with an explicit Christian mes-
sage, non-moral evil is ascribed to moral evil: non-moral evil is part of the
Creation because of human transgressions, characterized as ‘sins’. In those
texts, moral evil may be said to be inspired by a supernatural being, i.e.
Satan or the Devil, the personification of evil. This article sketches a line
of development, extant both in biblical and in Irish texts. Danger and disas-
ter, which are chaotic elements in an androcentric world view, are linked
with moral evil as punishments for transgressions of supernatural rules, and
become increasingly associated with the ‘Enemy’ of humankind, Satan or
the Devil. It is in the later Middle Irish period that Satan is portrayed as a
monster, and hence, monsters are then used to personify moral evil as well.
20
Н. А. Ганина
Собака в древнегерманской традиции
Работа посвящена исследованию мифопоэтического образа
собаки в древнегерманской традиции. Проведенный анализ позволяет
установить, что древнегерманское отношение к собаке представляет
собой продолжение индоевропейской традиции, а именно - идеологии
воинской элиты, восходящей к гомеровской эпохе и бронзовому веку.
В архаической германской традиции собака осмыслялась как
могучее хтоническое животное, равнозначное волку, тотем (легенды о
происхождении знатного рода), символ и спутник воина, вождя и его
проводник в загробный мир. При этом важно заключить, что осознание
собаки как символа власти знатного рода представлено в западногер-
манском ареале (лангобарды, потомки англосаксов). В скандинавской
традиции пес как хтоническое (мифологическое) животное фактиче-
ски эквивалентен волку (пес Гарм). Специфические коннотации, от-
личающие пса от волка в мифологии знатного рода, скорее негативны:
как легендарный Хундинг, так и исторический Торир Собака являются
противниками конунга. Для древней Скандинавии существенно также
отметить значительную диспропорцию свидетельств археологии и па-
мятников. Роль собаки в древнескандинавском жертвоприношении и
погребальном обряде была исключительно велика и может считаться
ритуальной константой, тогда как в текстах (за исключением «Песни о
Хюндле», да и то в весьма своеобразном аспекте) этот комплекс пред-
ставлений практически не отражен.
Впоследствии, с отмиранием соответствующих ритуалов,
древний пафос образа собаки меркнет, хотя и в исландских сагах
собака нередко предстает как особое, наделенное необычайными
качествами животное. В целом же развитие древнегерманских пред-
ставлений о собаке можно сформулировать следующим образом: от
Пса-родоначальника и символа власти (Hundingr, Kong Hundhoved)
до пса-конунга (Rakki/Saurr).
Ключевые слова: собака, древние германцы, археология,
миф, культ, эпос, сага, этимология, семасиология.
1. Собака у древних германцев по данным археологии
Согласно заключениям археологов, собака была домашним
животным древних германцев уже в позднебронзовом веке. Очевидно,
ее основными функциями были охрана жилища и пастбища и помощь
на охоте [Horst 1976: 70]. В археологических находках железного века
21
на территории Северной Германии (побережье Северного моря, по-
селение в насыпных обитаемых холмах) отмечаются следующие про-
центные соотношения костей отдельных домашних животных: коро-
ва - 63%, овца /коза - 17%, свинья - 10%, лошадь - 10% и собака - 1%
[Schlette 1980:45]. Германцы железного века иногда даже ели собак, на
что указывают раздробленные кости собаки, найденные при раскопках
поселений наряду с костями лошади [Seyer 1976: 128]. По мнению ис-
следователя, поедание собаки, как и лошади, было призвано «покрыть
потребность в мясе» [ibid.], но вопрос о ритуальном характере трапезы
остается открытым.
Археологический материал позволяет дать точное описание
«рядовой» германской собаки I—II вв. Это были крупные животные,
от 48 до 67 см высотой, в среднем 54 см, служившие, по всей очевид-
ности, в качестве охотничьих, пастушьих и сторожевых собак. Череп
собаки из Обердорлы наряду с признаками одомашнения обнаружи-
вает особенности, характерные для волка, причем исследователи до-
пускают как возможность случайного скрещивания домашней собаки
и волка, так и приручение пойманного волка и скрещивание с собакой
в домашних условиях [Grunert 1976: 441]. Интересно, что домашние
собаки в римских поселениях на территории Германии больше отли-
чаются по своим размерам. Наряду со средними и крупными собаками
там жили и карликовые собачки, достигавшие в высоту всего 20-30 см
[Grunert 1976: 441, Fn. 29].
В V в. доля костей собаки в пищевых остатках германских по-
селений составляет не более 5%. Археологи объясняют это тем, что
собаки были охотничьими и сторожевыми, и в пищу употреблялись
редко. Гораздо более часты находки целых скелетов. Германские со-
баки этой эпохи были средними или крупными, как правило, достигая
50-65 см в загривке. Однако в поселениях, восходящих к римским, из-
редка встречаются более мелкие экземпляры, высотой 25-35 см. Воз-
можно, это были представители особой породы, разводившейся рим-
лянами и попавшей в германские земли. Собачка 30 см высотой, чей
скелет был найден в поселении близ Мюльберга, также могла проис-
ходить из Рима [Teichert, Muller 1983а: 115].
Самыми крупными были собаки, обнаруженные в погребени-
ях эпохи Великого переселения народов на территории Германии - их
рост составлял 62-68 см в загривке (в среднем 64,6 см). По строению
скелета они больше всего похожи на современную немецкую овчарку.
Исследователи задаются вопросом, была ли то настоящая германская
порода собаки, или же из обширного и весьма разнообразного пого-
ловья животных (недифференцированной популяции) просто выбира-
лись самые крупные собаки для использования на охоте. В пользу это-
22
го факта говорит то, что обычная собака эпохи Великого переселения
народов была несколько мельче. Но всё же германские собаки времен
императорского Рима (I—II вв.) были более низкорослыми, и очевидно,
что собаки V-VI вв. в целом стали крупнее [ibid.].
Думая о технике охоты у древних германцев, следует иметь в
виду, что на крупных животных (зубр, бизон, лось, благородный олень
и дикий кабан) по понятным причинам охотились прежде коллектив-
но. Это было древнейшим видом охоты. Однако уже с IV в. среди древ-
них германцев получает распространение соколиная охота, зародив-
шаяся еще в евразийских степях; готы приносят ее в Западную Европу.
Из варварских правд известно, что этот вид охоты в VI в. уже достига-
ет высокого развития и, соответственно, имеет длительную традицию
[Teichert, Muller 1983b: 121].
Разумеется, собаки должны были использоваться при охоте на
крупного зверя. Но именно соколиная охота, как указывают М. Тайхерт
и X. Мюллер, предполагает особое снаряжение охотника: ловчая птица
(обычно самка ястреба или ястреба-перепелятника1) - лошадь - собака
[ibid.]. Этому вполне соответствуют описания конунга в «Старшей Эдде»
с «лошадьми, собаками и соколами», которые мы рассмотрим ниже.
Обычай соколиной охоты IV-VI вв. существенно повлиял на
становление пород собак, поскольку для этого вида охоты необходимо
было иметь специально обученную собаку с отличными физическими
данными. Тем не менее опять-таки остается неясным, можно ли го-
ворить об окончательном конституировании пород в эту эпоху [ibid.].
В «Аламанской правде» (83) и в «Баварской правде» (20) в связи с
денежными штрафами упоминаются различные виды собак в зависи-
мости от их функций. Во-первых, это охотничья (боевая) собака как
таковая. Во-вторых, это особые подвиды охотничьей собаки - легавая,
гончая, ищейка (способная идти по следу), бобровая собака, собака,
охотящаяся под землей (предок таксы?), борзая, собака для ястребиной
охоты и собака, с которой ходят на черную дичь (кабана). В-третьих,
это пастушеская собака, способная вступить в схватку с волком, и дво-
ровая собака [Teichert, Muller 1983b: 121-122, Fn. 40]. Важно, одна-
ко, иметь в виду, что, хотя «Аламанская правда» (Lex Alamannorum)
и «Баварская правда» (Lex Bajuvariorum) появились в VII—VIII вв.,
имеющийся текст «Баварской правды» относится к XIII в., то есть яв-
ляется памятником высокого Средневековья. Соответственно, какие-
то из указанных выше разновидностей собак могли появиться в более
позднюю эпоху и уже представлять собой настоящие породы в совре-
менном смысле слова.
<>ООООО<Х>О<><><Х^Х><><><>О<ХХХХХХХХХХХХХ>
1 Материалы погребений эпохи Великого переселения народов [Teichert, Muller
1983b: 121]. Сокол приручается позднее.
23
Таким образом, собака присутствовала в германских поселениях
с древнейшей эпохи, и со временем ее распространение явно превышает
«один процент», обычный для раннегерманского хозяйства. А если об-
ратиться к описанию культовых действий, ритуальных комплексов и по-
гребений (захоронений знати), то присутствие собаки можно оценивать
как постоянное. Особый статус собаки в германском языческом ритуале
прослеживается с древнейших времен. Отчасти это объясняется тем, что
у индоевропейцев было принято приносить в жертву исключительно
домашних животных [Vries 1935: 253; Vries 1937: 97], а собака была по-
стоянным спутником человека. Но жертвоприношение собаки и помимо
этого должно иметь свой особый смысл и многообразные коннотации. К
сожалению, Я. де Фрис практически не уделяет внимания роли собаки
в древнегерманской мифологии и языческом культе. Однако существует
круг широкий круг фактов, требующих осмысления.
В ямном поселении ясторфской культуры (Остерниенбург,
округ Кётен) было обнаружено отдельное погребение собаки, веро-
ятно, имевшее культовый характер [Seyer 1976: 129]. Ритуальные по-
гребения собаки засвидетельствованы в германских поселениях рим-
ской императорской эпохи [Griinert 1976: 444]. Я. де Фрис, ссылаясь
на сообщение Адама Бременского, указывает, что наряду с лошадью
собака была традиционным жертвенным животным древних скандина-
вов [Vries 1937: 97]. Приведем этот контекст «Деяний архиепископов
Гамбургской церкви» (Gesta Hammaburg. Eccl. Pontif. IV, 27): «Вот как
происходит жертвоприношение. Из всей живности мужского пола при-
носится девять голов: считается, что их кровь умилостивит богов. Тела
же этих животных развешиваются в близлежащей роще. Эта роща свя-
щенна для свеонов, потому что, согласно поверью, благодаря смерти и
разложению жертв ее деревья становятся божественными. Один христиа-
нин рассказывал мне, что видел в этой роще висевшие вперемежку тела
собак, лошадей и людей, общим числом 72. А о многочисленных нечести-
вых магических песнопениях, которые они обычно исполняют; совершая
обряд жертвоприношения, лучше будет вообще умолчать» (пер. В. В. Ры-
бакова и М. Б. Свердлова; цит. по: [Латиноязычные источники 1989]).
Сохранились археологические свидетельства о жертвоприно-
шении собаки наряду с лошадью в эпоху викингов. Так, в Ральсвике на
балтийском острове Рюген при раскопках на южной оконечности по-
селения в прибрежном песке были обнаружены остатки трех больших
килевых лодок славянского типа. В этом комплексе содержались так-
же многочисленные кости животных и человеческие останки [Herfert
1973: 14-18]. Человеческие черепа хорошо сохранились (в одном слу-
чае - с шейными позвонками), но у всех отсутствует нижняя челюсть.
В комплексе представлены также фрагменты черепов, свидетельству-
24
ющие о том, что головы были разрублены на мелкие части вдоль и
поперек или же горизонтально рассечены в области носа. Все останки
обнаруживают следы варварского расчленения: головы и конечности
отрублены острыми орудиями, у костей конечностей - кистей, пред-
плечий, ступней и голеней - отсечены концы суставов. Количествен-
ное соотношение различных видов человеческих костей по отноше-
нию к целому скелету не соответствует естественному распределению.
Черепа и конечности принадлежали людям разного пола и возраста
(включая женщин и детей) [Herfert 1973: 20].
Количественные соотношения отдельных видов животных
при кораблях и в остальном поселении явно не совпадали. Исследова-
ние выявило большое количество костей лошади и собаки (кроме того,
кости свиньи, овцы, коровы и спорадически - кошки). Лошадиные и
коровьи черепа были разрублены в области носовой кости, остальные
сохранились нетронутыми [Herfert 1973: 17].
На этом же месте была найдена кость с рунической надписью,
первые руны которой с уверенностью читаются как ФП = tu ([Herfert
1973: 12-13], с илл.). На основании всех этих фактов П. Херферт оце-
нил рассмотренную находку как жертвенный комплекс, маркирующий
культовое место [Herfert 1973: 20-21].
Собак приносили в жертву не только при коллективном (сме-
шанном) жертвоприношении людей и животных. В некоторых домах
поселения V в. близ Вальтерсдорфа (округ Кёнигс-Вустерхаузен) и в
поселении той же эпохи «Ам Доннерсберг»2 близ Гильде (округ Гос-
лар) обнаружены полные скелеты собак, и исследователи полагают,
что животные были захоронены в качестве строительной жертвы [Tei-
chert, Muller 1983а: 115].
Захоронение собаки вместе с хозяином является константой гер-
манской погребальной обрядности. В погребениях эпохи Великого пере-
селения народов на территории Германии собака встречается довольно
часто [Teichert, Muller 1983а: 115]. Во второй половине V в. в алеманских
захоронениях («ряды погребений») в погребальную свиту умерших вы-
сокого социального статуса входят лошади и собаки [Schlette 1980: 178].
Исследования немецких археологов показали, что все собаки
в захоронениях эпохи Великого переселения народов были кобелями -
то есть, как и при отборе лошади знатного германца, отдавалось пред-
почтение особям мужского пола. Собаки, погребенные вместе с хозяи-
ном, находились в полном расцвете сил: большинству из них было 2-3
года, самым молодым - полгода, а самым старым - не более 6-8 лет
[Teichert, Muller 1983а: 115]. Это ясно свидетельствует о том, что соба-
2 Am Donnersberg - букв. «У Громовой горы» («У горы Донара»).
25
ки, принадлежавшие знатному человеку, приносились в жертву на его
похоронах и буквально следовали за хозяином.
Захоронение собаки было необходимой составляющей по-
гребального ритуала вождя вендельской эпохи. В Западном кургане
Уппсалы (550-575 гг.), где погребен знаменитый шведский конунг
Адильс (Eadgils «Беовульфа», Adils «Саги об Инглингах», сын конун-
га Оттара Вендильской Вороны - Ottarr vendilkraka «Круга Земного»,
Ohthere «Беовульфа»), под каменной насыпью на кострище находились
останки конунга и фрагменты погребальных даров. Среди последних,
помимо меча франкской работы с золотой рукоятью, инкрустирован-
ной гранатами, и настольной игры с фигурами из слоновой кости,
отмечаются также медвежья шкура, на которой лежало тело, и кости
двух собак [Лебедев 2005: 150]. Во всех трех «Великих курганах» Уп-
псалы, погребениях Инглингов, в составе жертвоприношений встре-
чаются «кости собаки, лошади, быка, свиньи, овцы, а также кошки и
петуха» [Лебедев 2005: 151]. Очевидно, что жертвоприношение цело-
го ряда животных не имело целью чисто количественного накопления
или «разнообразия» жертв. Каждое из животных имело определенную
ритуальную функцию, что справедливо подчеркивает Г. С. Лебедев:
«петух Сальгофнир будит эйнхериев в Валхалле...; кошка - священное
животное Фрейи...; собака сопровождает всадника в Валхаллу на изо-
бражениях готландских стел VIII-XI вв.» [Лебедев 2005: 151].
Функция собаки в древнегерманском погребальном обряде
имеет убедительные параллели в других архаических индоевропей-
ских традициях. Ср. прежде всего описание похорон Патрокла (II.
XXIII, 174), когда Ахилл закалывает двух из псов Патрокла (icuveg)
и бросает их на погребальный костер (ка1 pev tcdv evepaXXe тгорц ббо
бегротощрас;), на что особо указал В. Н. Топоров, осмысляя реалии
погребального обряда древних пруссов [Топоров 2005: 556]. Исследо-
ватель определил значение собаки в погребальном обряде этого типа
как «приемлюще-положительное», указав на мифологическую роль
собаки «как проводника мертвых в индоиранской традиции - двух
четырехглазых псов Ямы, божеств смерти, четырех псов авестийско-
го Йимы...» [Топоров 2005: 575]. Таким образом, древнегерманское
жертвоприношение собаки как обязательный компонент погребально-
го обряда воинской элиты является несомненным наследием индои-
ранской древности, причем в качестве других составляющих исследо-
ватели (ср. [Топоров 2005] со ссылками на другие работы) уверенно
выделяют кремацию на высоком (парадном) костре, ритуальный плач,
жертвоприношения рабов и рабынь, лошадей, рогатого скота, тризну
как «предспортивные» конные состязания с раздачей наград, ритуаль-
ное собирание (омовение) костей и захоронение праха под высоким,
26
отовсюду видным насыпным курганом. Именно идея определенного типа
погребального обряда воинской элиты, актуализируемого в соответствую-
щих культурных условиях, позволяет объяснить неравномерное, на взгляд
некоторых археологов, хронологическое распределение древнегерман-
ских погребений с собаками: 400-700 гг. н. э. у лангобардов, франков и
англосаксов, 600-800 гг. у саксов и фризов, 600-1050 гг. у скандинавов
(данные по: [Graslund 2004]). Равным образом, учет индоиранского кон-
текста позволяет избежать приблизительных оценок и произвольных па-
раллелей (ср. «нехристианский погребальный обряд» и сопоставление с
образом «псов Гекаты» в работе А.-С. Греслунд [Graslund 2004: 170]).
2. Обозначения собаки: этимология и функционирование
в ПАМЯТНИКАХ
Основное обозначение собаки является общим для всех древ-
негерманских языков: ср. гот. hunds, ди. hundr, да., дс., дфриз. hund,
двн. hunt «собака». Общегерманское *hundaz (м.р.-а) традиционно воз-
водится к индоевропейской основе *kwon~, *кип- «собака», контину-
антами которой явлются др.-инд. svd, род.п. sunas, мидийское оттока
(у Геродота), греч. kucdv, род.п. kuvoc;, древнелат. cands, род.п. мн.ч. са-
пит, лат. canis, др.-ирл. ей, род.п. соп, др.-прус. sunis, лит. suo, род.п.
suns, лтш. suns, арм. sun, род.п. san «собака» [Рокоту 1959: 632-633;
Lehmann 1986: 195; Гамкрелидзе, Иванов 1984: 589-593].
Структура о/г *hundaz показывает, что германское обозначе-
ние собаки не прямо восходит к и.-е. *кип-, но имеет в составе основы
формант, вероятнее всего, восходящий к индоевропейскому *t с дей-
ствием закона Вернера и последующим отвердением звонкого спиран-
та после носового (ср. омонимичное числительное «сто» - о/г *hund
< и.-е. *hp/dw). И действительно, общегерманское *hundaz получает
убедительное объяснение с учетом таких индоевропейских произво-
дных от основы *kwon~, как арм. skund «собачка» < *kwon-td, лтш. sun-
tena «большая собака» [Vries 1962: 267; Lehmann 1986: 195]. Однако
пример *kr$tdm: *hund «сто» заставляет задуматься об огласовке ин-
доевропейского прототипа о/г *hundaz. Действие закона Вернера по-
казывает, что ударение падало не на корневой слог, а общегерманское
*un восходит к индоевропейскому слоговому сонорному *р. В. Леман
реконструирует и.-е. *kwn-td, но ясно, что индоевропейский *kw (рав-
но как и *kw) должен был бы отразиться в общегерманском как *hw,
тогда как в имеющейся форме мы видим *h. С учетом этих соображе-
ний ближайший индоевропейский прототип общегерманского *hundaz
слеруея восстанавливать как *kn-td или, если учитывать данные языков,
где индоевропейская основа представлена в виде *кип-, как *kun-td. По-
следняя реконструкция, находящая подтверждение в латышском suntena,
27
очень важна: она передает идею широкого ареального (а не изолированно-
го германского) развития индоевропейского слогового сонорного *n > un.
Представляют интерес древнеисландские композиты с осно-
вой hund(a)- в качестве первого компонента. Так, наряду с нейтральны-
ми обозначениями лая - hund-ga. (hunds-gd) и hunda-gnoll - существу-
ет слово hunda-hljdd, засвидетельствованное в составе формулы vera
kominn dr hundahljodum собств. «уйти на такое расстояние, с которого
уже не слышно собак», «оказаться в безопасности» [Baetke 1976: 281].
Здесь собака оказывается своего рода пространственным маркером,
постоянным признаком жилья/присутствия людей, и композит hunda-
hljdd имеет терминологический оттенок.
В других древнеисландских композитах основа hund- выполня-
ет усилительную функцию: hund-viss «необыкновенно умный», hund-villr
«совершенно дикий» (в обороте fara hundvillr «совершенно заблудиться,
сбиться с пути»), hund-heidinn «заядлый язычник» [ibid.]. Последнему
композиту посвящена работа Ф.-Х. Дилльмана [Dillmann 2001], посколь-
ку это слово является ключевым в описании распри Олава Трюггвасона и
Сигрид Гордой («Сага об Олаве сыне Трюггви», LXI). В этом контексте
речь идет о давнем намерении Олава и Сигрид заключить брак:
ba rnaslti Olafr konungr, at Sigridr skyldi taka skim ok retta tru.
Hon sagdi sva: Ekki mun ek ganga af tru peirri, er ek hefi fyrr haft, ok
frasndr minir fyrir mer; mun ek ok ekki at pvi telja, pott Jdu truir a pann gud,
er per likar. ba vard Olafr konungr reidr mjok ok rnaslti bradliga: Hvi mun
ek vilja eiga pik hundheidna. Ok laust i andlit henni med glofa sinum, er
hann helt a. Stod hann upp sidan, ok basdi pau. ba rnaslti Sigridr: betta rnastti
verda vel pinn bani - «Но тут Олав конунг сказал, что Сигрид должна
принять крещение и правую веру. Она отвечает так:
- Я не намерена отказываться от веры, которая у меня была
раньше и у моих родичей до меня. Но я не буду возражать против того,
чтобы ты верил в того бога, который тебе нравится. Тогда Олав конунг
очень разгневался и вскричал:
- С какой стати я буду жениться на заядлой язычнице?
И ударил ее по лицу перчаткой, которую держал в руке. Затем
он встал, и она тоже. Сигрид сказала:
- Эго может привести к твоей смерти» [Снорри Стурлусон 1980:137].
По мнению Дилльмана, отрицательные коннотации слова
hundheidinn обусловлены не чем иным, как сугубо положительной
ролью собаки и лошади в древнескандинавской языческой тради-
ции. Этот вывод представляется неоправданным по ряду причин.
Во-первых, если композит hundheidinn так прочно связан с положи-
тельными коннотациями скандинавского язычества, то Сигрид Гор-
28
дая, декларирующая свою связь с верой предков, вряд ли бы на него
обиделась. Во-вторых, если считать основу hund- полнозначной и прямо
указывающей на «собаку», то в таком случае она должна иметь пейора-
тивное значение и сопоставляться с употреблением слова hundr в качестве
бранного: ср. hundrinn pinn «(ты) собака», hunds-verk «грязная работа» (у
скальдов Сигвата и Тормода), hund-eygr «псо-глазый», «с глазами, как у
собаки» («Сага о Греттире» 47, висы Свейна), mann-hundr «дурной чело-
век» [Lexicon poeticum 1931: 294; Cleasby, Gudbrand Vigfusson 1957: 292]
В-третьих, слово hundheidinn связано с «собакой» лишь косвен-
но, и толкование В. Бэтке («stockheidnisch, durch und durch heidnisch»),
равно как и русский эквивалент «заядлый(-ая) язычник(-ца)» (пер.
М. И. Стеблин-Каменского), верно передают усилительную функцию
компонента hund-, тогда как английский эквивалент «dog-heathen»
[Cleasby, Gudbrand Vigfusson 1957: 292] создает ложное впечатление
полнозначной основы. Примечательно, что Финнур Иоунссон вообще
не связывает компонент hund- в подобных композитах с ди. hundr «со-
бака», а возводит его к о/г *hund- «сто»: «hund- forstcerkende = hund-гад»
[Lexicon poeticum 1931: 294], хотя последнее допущение и нельзя счи-
тать обязательным. Представляется, что при осмыслении композитов с
начальным усилительным hund- следует учитывать тенденцию к упо-
треблению зоонимов (и особенно «собаки») в усилительной функции:
ср. рус. просторечн. как собака в усилительных конструкциях разного
рода - злой как собака, устал как собака, надоел как собака и даже
врет как собака (по аналогии и в результате контаминации корректных
сочетаний врет, собака и врет как сивый мерин).
И наконец, необходимо подчеркнуть, что Олав Трюггвасон не
просто назвал Сигрид Гордую pik hundheidna, но нанес ей комплексное
оскорбление, преступив этикет буквально по всем статьям: он силь-
но разгневался, закричал, употребил слово с сильной эмоциональной
окраской, ударил знатную особу по лицу, да еще и не рукой, а перчат-
кой. Всё это, согласно Снорри, и стало причиной смертельной нена-
висти Сигрид Гордой к Олаву.
Ди. hundr в качестве второго компонента сложных слов слу-
жит для обозначения различных функций/пород собак3: smala-hundr,
fjdr-hundr «пастушеская собака», «овчарка» (ср. smali «мелкий скот»,
«овца»; fe «скот, имущество»), dyr-hundr «гончая» (ср. dyr «зверь»),
bur-hundr, vard-hundr «сторожевая собака» (ср. bur «горница, кладо-
вая, амбар»; varda «охранять»), grey-hundr «борзая» (ближайшим со-
ответствием на первый взгляд кажется ди. grey «собака, сука» < grdr
«серый», но Я. де Фрис справедливо считает ди. grey-hundr заимство-
3Слова приводятся по: [Cleasby/Gudbrand Vigfusson 1957: 292], трактовка пер-
вых компонентов в соответствии с: [de Vries 1962].
29
ванием из древнеанглийского - ср. да. grieghund, на. greyhound «бор-
зая», «грейхаунд»4 [Vries 1962: 188]), spor-hundr «легавая» (ср. ди. spor
«след» и свн. spurhunt «легавая», нн. Spurhund), mjd-hundr «декоратив-
ная собака» (ср. mjdr, тсег «узкий, стройный»), В словаре Клисби/Гуд-
бранда Вигфуссона ди. mjd-hundr сопоставляется с дат. mynde и получает
истолкование «а spaniel» [Cleasby, Gudbrand Vigfiisson 1957: 292]. Однако,
как говорилось выше, вопрос становления современных пород собак не
поддается точному разрешению, и, говоря о древнескандинавской «овчар-
ке» или «декоративной собаке», не следует сразу представлять себе ны-
нешние популярные породы типа немецкой овчарки или спаниеля.
Небольшая собака, в том числе декоративная, обозначалась
древнеисландским словом rakki (ср. тж. skikkju-rakki «комнатная со-
бачка» - «Сага об оркнейцах» 114). Это слово имеет такие параллели,
как др.-дат. и дат. диал. гакке, фарер. rakki, ншвед. гаска, шетл. rakki
(табуистическое обозначение собаки), да. гсесс, гасса ‘легавая, гон-
чая’, на. диал. гаке «овчарка», нн. диал. rache «легавая, гончая», снн. и
нидерл. rekel «большая пастушеская собака»; в саамском языке пред-
ставлены древнегерманские заимствования - гакка, гаке «небольшая
собака, собачка» [Vries 1962: 432]. Рассматриваемое обозначение со-
баки восходит к основе *rakjan- «гнать», ср. ди. rekja «гнать» [Vries
1962: 432,440], то есть по внутренней форме rakki оказывается «гончей»,
хотя, как можно видеть по приведенным выше лексическим единицам, в
синхронии это отнюдь не обязательно гончая. Основа rakki выступает в
древнеисландских обозначениях куницы и лисицы (песца) - ask-rakki и
mel-rakki (ср. askr «ясень» и melr «песчаный холм, дюна»), что также сви-
детельствует об актуальности значения «собака, собачка», а не «гончая».
Древнеанглийские контексты, в которых употребляется сло-
во hund, на первый взгляд менее показательны ввиду своего преиму-
щественно переводного характера (переводы псалмов, Евангелия от
Матфея, «Обязанностей пастыря» и «Утешения философией»; ср.
[Bosworth /Toller 1976: 565-566]). В оригинальных прозаических тек-
стах (Lacnunga и грамматика Эльфрика) упоминания собаки являются
нейтральными и вполне бытовыми: wzd hundes slite «от укуса собаки»
(Lchdm. i. 310, 8), hunda gebeorc «собачий лай» (?Elfr. Gr. I). И даже в
«Беовульфе» собака упоминается один раз и косвенным образом: ска-
зано, что даже олень, hundum geswenced «гонимый собаками» (Вео.
1368), скорее пожертвует жизнью, чем захочет ступить в страшные
места, где обитает Грендель. Более показательны композиты со вто-
рым компонентом -hund. Они делятся на два типа: 1) обозначения по-
<xxxxxxxxx>oo<><><><x><xxxxx><xxxx><x><><><>
4Да. grieg-hund букв, «серая собака» (ср. да. groeg, greg «серый»), тогда как
для ди. greyhundr без учета заимствования пришлось бы предполагать весьма
странную внутреннюю форму ‘сука-собака’.
30
род собак (ср. соответствующую древнеисландскую модель) - hea(h)
deor-hund «гончая» (ср. кёа(к)^ёог «взрослый олень-самец», «крас-
ный зверь») [Bosworth/Toller 1976: 515], rod-hund «молосская собака»
(ср. да. гудда м.р.-п «молосский пес, мастифф», двн. rudo «молосская
собака») [Bosworth/Toller 1976: 802, 806]; 2) сложные слова с опреде-
ленной концептуальной нагруженностью, helle-hund «адский пес» и
v^de-hund «бешеная собака», засвидетельствованные в следующих
контекстах: helle-hund sy Ьё Judas gefera Cristes bel&wendes and sy he
toren of hellehundes tdpum «да будет он адским псом, Иуда, спутник
Христа, предатель, и да будет он разорван зубами адских псов» (Cod.
dipl. Kmbl. iii 350, 18) [Bosworth/Toller 1976: 526] и wzd widehundes
«против бешеной собаки» (Lchdm. i. 86, 13).
Наряду с этими композитами в древнеанглийском засви-
детельствованы примечательные структурные варианты: helle hund
«собака ада» [Bosworth/Toller 1976: 526] и wodes hund, букв, «собака
бешенства» [Bosworth/Toller 1976: 1181]. Первый пример находится в
Альфредовом переводе Боэция: sceolde ситап дсеге helle hund ongean
hine dees пата wees Ceruerus - «должен выйти ему [Орфею] навстре-
чу тот адов пес, коего имя было Цербер» (Boeth. 35, 6), и дсеге helle
с местоимением в женском роде означает здесь «того ада/Аида» или,
если следовать духу языка, «той Хель». Второй пример, wodes hund,
коррелирует в древнеанглийских Lacnunga с wedehund «бешеный пес»,
но, как и (дсеге) helle hund «пес ада/Хель», сохраняет реликты пред-
ставлений о некоем мифологическом агенсе. Да. wod (прилаг., сущ.)
«безумный, яростный, неистовый; безумие, ярость, неистовство» не
только этимологически, но и структурно соотносится с именем Во-
дана: ср. такие варианты, как on wodum ёгёате и woden-dream «fiiror
animi», «ярость духа» [Bosworth/Toller 1976: 1261]5. Так в древнеан-
глийских переводных и медицинских контекстах, казалось бы, не
связанных с германской мифопоэтической традицией, в эпитетах со-
баки обнаруживаются реликты основных германских представлений
о Дикой охоте, которая в немецкой традиции определяется как поезд-
ка/свита Frau Hoile (контаминация женских персонажей *Holda < двн.
hold «милый, благосклонный» и Hoile < helle «Хель, ад») или Wutendes
Heer < * Wuotanes Heer «войско Вотана». Сонм мертвых проносится по
земле во время осенних бурь, до солнцеворота или на Святках, пред-
водительствуемый основным мужским или женским мифологическим
персонажем (собственно, хозяином или хозяйкой царства мертвых6) и
<ХХ><><><><>О<><>ОС><><><><Х><><><><^^
5 О прочности сопряжения германского *wod- и латинского furor свидетель-
ствует известное сообщение Адама Бременского: «Wodan id est furor».
6Ср. отраженные в «Старшей Эдде» представления о том, что половина еже-
дневно умирающих принадлежит Фрейе, половина - Одину (halfan val hun
31
сопровождаемый собаками. Лай собак - одна из основных примет Ди-
кой охоты. Но этот древнегерманский образ получил исчерпывающее
освещение в трудах выдающегося австрийского лингвиста и мифолога
Отто Хёфлера [Hofler 1934; Holler 1973; Holler 1992] и не требует ис-
следования в рамках данной работы. В дополнение к мыслям Хёфлера
достаточно указать на индоевропейское распространение мифологемы
«псов Иного мира» (всегда выступающих в связи с «хозяевами Иного
мира»), позволяющее отнести эту мифологему к кругу понятий брон-
зового века, а может быть, и более глубокой древности.
Древне- и средневерхненемецкие обозначения собаки до-
статочно немногочисленны. В связи с другими языками выше уже
рассматривались двн. hunt «собака», rudo «молосская собака» (при-
чем современное немецкое Rude означает «кобель»), свн. spurhunt
«ищейка, легавая». Интересно отметить двн. Ъгаско, свн. Ъгаске, снл.
Ъгаске - древнейшее немецкое наименование охотничьей собаки,
ищейки, происходящее от о/г *Ьгаккдп «нюхать» [Kluge 1999: 130].
Вгаске - основное обозначение охотничьей собаки, породистой собаки
в средненемецком эпосе (например, в «Песни о Нибелунгах» и «Пар-
цифале»). Вопрос о соотношении двн. Ъгаско с итал. Ъгассо, франц.
braque «ищейка» у Ф. Клуге не получил разрешения: романские слова
с определенной долей сомнения возводятся к незасвидетельствован-
ному народно-латинскому *per-agicare, причем допускается возмож-
ность дальнейшего заимствования в древненемецкий, хотя германская
этимология двн. Ъгаско формально и семантически безупречна. Таким
образом, гипотеза о заимствовании из романских языков представля-
ется излишней. В средненемецкую эпоху при распространении курту-
азной культуры заимствования производились из старофранцузского
в средненемецкий, но для древненемецкой эпохи актуально обратное
направление заимствований - из древнегерманских языков в народ-
ную латынь (ср., например, итал. bianco, франц, blanche «белый» < герм.
* blank- «белый, блестящий»). Потому итал. Ьгассо и франц, braque следу-
ет интерпретировать как заимствование из древневерхненемецкого.
Примечательно, что основное обозначение ищейки, легавой
в современном немецком языке - Spiirhund, а синоним Вгаске является
специальным термином и, более того, может обозначать любого молодого
хищника. Очевидно, что главенствующее положение Spiirhund обуслов-
лено прозрачностью внутренней формы и словообразовательной модели.
Обозначения собаки-самки, суки варьируют по языкам: ди.
grey «сука» < *grawaz «серый» (ср. [Vries 1962: 188]), да. tife «сука»,
снл. teve «сука», нн. Zibbe «сука», тж. «зайчиха», «молодая овца» с
kyss hverjan dag, en halfan Odinn а ‘половину нави она избирает каждый день,
половиной Один владеет’; Grm. 14).
32
дальнейшей неясной этимологией [Kluge 1999: 909], двн. zoha, свн.
zdhe, снл. to «сука», ср. ди. toa «лисица» [Kluge 1999: 914], причем на-
ряду со словом toa в древнеисландском засвидетельствовано tofa, кото-
рое Р. Клисби и Гудбранд Вигфуссон считают вариантом toa [Cleasby,
Gudbrand Vigfusson 1957: 638]. Наименование лисицы в индоевропей-
ских языках имеет отчетливую тенденцию к табуированию и замене
обозначений, и ди. toa явно представляет собой табуистическую ва-
риацию ди.уоя «лисица» < о/г *fohon «лисица». Однако сопоставление
с двн. zoho и нл. to показывает, что первичным в этом этимологическом
гнезде было значение «самка животного, сука». А в древнеисландском
tofa следует видеть другую огласовку той же основы, которая пред-
ставлена в да. tife «сука», снл. teve «сука», нн. Zibbe «сука». Ареальное
обозначение лисицы и в этом случае образуется путем семантическо-
го сдвига «самка животного, сука» > «лисица». И хотя этимология да.
tife и др. считается невыясненной, в свете этих данных важно учесть
предложенное Р. Клисби и Гудбрандом Вигфуссоном сопоставление
ди. tofa с ди. tcefa, дат. tceve «ощенившаяся собака, матка» и возведение
к глаголу tyja (tceja, tdja, tjd) «делать, производить», в данном случае
«производить детенышей», сопоставляемому с гот. taujan «делать»
[Cleasby, Gudbrand Vigfusson 1957: 647]. Эту линию полезно учесть
при этимологизации двн. zoha, которое в таком случае можно возвести
к о/г *tiuhan(an) «тащить, тянуть» (что сопоставляется с лат. diicere
«вести» [Kluge 1999: 909]) в значении «производить (на свет)», ср. нн.
zeugen «зачинать», erzeugen «производить» и erziehen «воспитывать»
при ziehen «тянуть». В целом же выясняется, что все обозначения
собаки-самки, суки уже в древнегерманских языках являются ареаль-
ными. По данным археологии (см. выше), «собака» в древнегерманской
дружинной культуре - это преимущественно крупная особь, кобель, пес
вождя. Лексические данные позволяют заключить, что собака-сука не
обозначалась единым общегерманским термином, а согласно внутренней
форме ареальных синонимов рассматривалась даже не как собака-самка
(ср. нн. Hundinf, но прежде всего как производительница щенков.
Напротив, обозначение щенка является общегерманским: ди.
hvelpr (ни. hvolpur), да., дс. hwelp (м.р.), двн. welf (ср.р.), welf(e) (м.р.,
ср.р.) < *hwelpaz/hwelpan «щенок», тж. «волчонок, лисенок» (то есть,
собственно, «щенок волка /лисы»). Этимология этого наименования
неясна, так как приводимые Ф. Клуге др.-ирл. сиПёп, кимр. colwyn «мо-
лодая собака», лит. kale «сука», греч. кбХХа (глосса) «молодая соба-
ка», по указанию автора словаря, неоднозначны в отношении анлаута
[Kluge 1999: 884]. Действительно, о/г *hwelp- предполагает индоевро-
7 Обозначения суки варьируют даже в современных западногерманских язы-
ках: на. bitch, нн. Hundin.
33
пейский прототип *kwelb-, и в таком случае мы вообще не находим
каких-либо убедительных параллелей этому германскому обозначению
щенка. Неудивительно, что о/г *hwelp- может трактоваться как онома-
топоэтическое образование [ibid.] или заимствование из неизвестного
неиндоевропейского языка. Последняя гипотеза сомнительна, ибо со-
баководство у древних германцев вполне вписывается в индоевропей-
скую традицию. Напротив, идея об ономатопее находит убедительное
подтверждение в словаре Я. де Фриса, где исследователь привлекает
для сопоставления да. hwilpe, ннл. wilp, wulp «морская птица» и ре-
конструирует исходное значение «визжащий, скулящий» [Vries 1962:
271]. В современных германских языках наименования щенка согла-
суются с общими принципами построения соответствующей лексико-
тематической группы: ни. hundur «собака» - grey «сука» - hvolpur «ще-
нок» (сохранение архаической системы), нн. Hund «собака» - Hundin
«сука» - Hundchen «щенок» (унификация по важнейшей основе, тогда
как нижненемецкое Welpe, вытеснившее форму Welf, становится спе-
циальным охотничьим термином), на. dog «собака» - bitch «сука» - cub
«щенок» (с полной заменой общегерманских обозначений).
3. Собака и мифология знатного рода
Как убедительно показал Отто Хёфлер, собака была симво-
лом власти у лангобардов: ср. описание лангобардов как Cynocephali у
Павла Диакона (Hist. Langobard. I, 11), их старое племенное прозвище
Winnili «бешеные псы» (этимология Р. Муха) и традиционную «песью»
символику в именах и прозвищах Скалигеров, герцогов Веронских, и
их родичей: Cangrande I, Cangrande II, Mastino I, Mastino II, Cansigno-
rio, Canfrancesco, Cagnola. При этом собачья голова была символом
рода Скалигеров - «песий шлем» Кангранде и увенчанные коронами
псы, держащие герб Скалигеров. Исследователь подчеркнул, что даже
в поздней датской традиции Дикий Охотник (= Один) называется Kong
Hundhoved «Король Псоглав» [Holier 1973: 249]. В связи с этим Хёф-
лер отметил, что вождь северонорвежских бондов в их борьбе против
Олава Святого Торир носил прозвище Собака (I>6rir Hundr): «Личные
имена типа Wolf, Wolfgang или столь обычное в Скандинавии Bjorn и в
поздние времена свидетельствуют о древних идеях некого сущностно-
го родства. Но “Hund”, „собака“, в столь многих языках употребляемое
как ругательство, кажется нам мало подходящим в качестве мужского
имени. И всё же оно встречается, и в весьма устойчивом смысле, и в
высоких стратах древней культуры» [Holler 1992: 52].
В дополнение к этому следует указать, что имя Hvelpr еда
Hundi собств. «Щенок или Собачка» в «Саге об Олаве сыне Трюггви»
носит сын оркнейского ярла Сигурда:
34
Sidan svardi jarl konungi eida ok gerdist hans madr, fekk honum son
sinn til gislingar, er het Hvelpr eda Hundi, ok hafdi Olafr hann til Noregs med
ser - «Затем ярл дал конунгу клятву верности и стал его человеком. Он
дал Олаву в заложники своего сына, которого звали Щенок или Собачка,
и Олав взял его с собой в Норвегию» [Снорри Стурлусон 1980: 128].
Два варианта имени в контексте указывают на осознание вну-
тренней формы имени в саге. В этом примере «собачье» имя, с одной
стороны, изначально отмечено положительными коннотациями, по-
скольку его носит сын могущественного оркнейского ярла, становя-
щийся заложником еще более могущественного конунга. С другой
стороны, нельзя не обратить внимания, что имя это носит юноша-
заложник, то есть пассивный посредник и фактически - живое во-
площение клятвы оркнейского ярла, ценный объект, приобретенный
конунгом. В этом смысле эпизод со знатным заложником по имени
«Щенок или Собачка» мало отличается от истории приобретения не-
обыкновенно умной (умевшей считать стадо) собаки по имени Виги
(Saga Olafs Tryggvasonar 32-35).
В «Пряди о Фроди» мы также встречаем идею преимуще-
ственной связи собаки с конунгом и знатным родом: Хельги и Хроар,
сыновья Хальвдана, ради спасения выдаются за собак или даже пре-
вращаются в них благодаря колдовству их защитника Вивиля, спо-
собного отводить глаза врагам. Клички Хопп и Хо служат сигналом
бегства мальчиков от конунга Фроди, желающего их смерти. Таким об-
разом, спасение жизни в облике собаки - особая удача, не бросающая
тени на сыновей конунга. Примечательно, что отпрыски знатного рода
последовательно выдаются за собак и коней (и именуются соответ-
ственно собачьими и конскими кличками), а не, скажем, за рабов, овец
или мешки с зерном. И поскольку данные археологии убедительно
свидетельствуют о том, что собака и лошадь были атрибутами вождя
и воинской элиты, сопоставление сыновей конунга именно с псами и
конями находит прочную опору в традиции.
Важно, однако, что такое сопоставление обычно реализует-
ся в неоднозначных, зачастую опасных обстоятельствах: ср. gnadda
niflfarna «звереныши, во мрак ушедшие» об убитых сыновьях Атли в
(Atlakvida 33). Именно в такой - амбивалентной и, очевидно, экстре-
мальной - ситуации употребляется слово hwelp в древнеанглийском
«Вульфе и Эадвакере»:
Gehyrest pu, Eadwacer? Unceme eame hwelp hired Wulf to wuda -
«слышишь ли, Эадвакер? Нашего (дв.ч.) щенка волк/Вульф несет в лес».
Можно видеть, что данный контекст основан прежде всего на
актуализации внутренней формы имени собственного Wulf, которое
35
носит возлюбленный героини. Сын героини от нелюбимого мужа -
Эадвакера осознается в этой перспективе как «детеныш», «щенок»
(в переводе В. Г. Тихомирова - «пащенок»). Возможно, за этим стоит
древнее противопоставление «рода Волка» (ди. Ylfingar) и «рода Пса»
(ди. Hundingr, см. ниже), но для синхронии древнеанглийской героиче-
ской элегии можно достоверно проследить лишь обозначение словом
hwelp находящегося в опасности ребенка - отпрыска знатного рода.
Рассмотренные Я. Гриммом и О. Хёфлером предания о лан-
гобардском короле Ламиссио и начале франкской династии Вельфов
(Weifen «щенки, волчата»), где младенцы - отпрыски знатного рода -
ради спасения выдаются за слепых щенков [Hofler 1992: 58], представ-
ляют собой реализацию того же мотива и свидетельствуют о его обще-
германском характере.
Реликты представлений о собаке как символе знатного рода
оказываются удивительно стойкими. Именно благодаря им удается
должным образом истолковать подлинное (а не трансформированное
А. Конан Дойлем) предание о собаке Баскервилей. Согласно англий-
ской легенде, сообщенной Конан Дойлю журналистом Флетчером Ро-
бинсоном8, девонширский род Баскервилей-Воганов был таинствен-
ным образом связан с огромной черной собакой (которая именовалась
в традиции словом hound, а не dog, что и отразилось в названии по-
вести). Пес появлялся в момент смерти представителя этого древнего
рода, но не ради устрашения или угрозы, а для защиты умирающего
члена рода от злых духов. Как можно видеть, здесь реализуются функ-
ции собаки как спутника вождя и проводника в иной мир. Кроме того,
в полном соответствии с идеей О. Хёфлера, мифологический образ со-
баки воплощает идею избранности и преемственности знатного рода
(Баскервили-Воганы возводили свой род к королям).
4. Собака в «Эдце»
Во всех эддических контекстах, где собака выступает как са-
мостоятельный мифологический персонаж, она является могучим хто-
ническим существом: Garmr- пес, упоминаемый наряду с волком Фен-
риром, Hyndla «Собачка» - имя великанши, которую Фрейя в «Песни
о Хюндле» именует mcer meyja «дева дев», min vina «подруга моя» и
Hyndla systir «Хюндла, сестра». Hundingr - герой, чей род враждует с
потомками Волка, Ильвингами (Ylfingar). О. Хёфлер включал эту родо-
вую распрю в древнегерманский ритуальный контекст [Hofler 1992], и
следует подчеркнуть, что имя Хундинг не является в традиции позор-
ным. В целом собака приравнивается к волку: ср. описание берсерков
<Х><Х><ХхХХХх>Х><Х><ХХ><><ХЮ<><ХХХХХХХ><><>
8 Флетчер Робинсон узнал легенду от сэра Генри Баскервиля-Вогана, законного баро-
нета, в отличие от литературного сэра Генри, всю жизнь прожившего в Англии.
36
в «Саге об Инглингах», которые вели себя sem hundar еда vargar, «как
псы или волки» (Ynglingasaga 6). Здесь не делается различия между
волками и псами, более того - псы упоминаются первыми. Можно
предположить, что это обусловлено преимущественным соотнесением
псов с бешенством и ролью собак как переносчиков бешенства.
5. Собака в исландских сагах
Сравнение с собакой, как правило, не является в исландских
сагах унизительным. Напротив, «собачье» в бытовом поведении че-
ловека свидетельствует о его особых, едва ли не сверхъестественных
качествах: так, например, Транд в «Саге о фарерцах» ощупав землю,
нюхает свою руку и обнаруживает человеческие следы, а затем нюхает
землю, как пес, и находит преследуемых (Fasreyinga saga 38). Транд
описывается в саге как умный и достойный человек, он красив и умеет
учтиво повести речь, и сообщение о его «собачьих качествах» отнюдь
не несет в себе негативной оценки.
Сравнение раба с собакой в исландских сагах не засвидетель-
ствовано. Тем не менее, можно установить, что образ собаки всё более
теряет свои архаические черты, становясь амбивалентным. С одной
стороны, дочь королевы Ирса получает имя по кличке собаки (Hrolfs
Saga Kraka ok kappa hans: Helga pattr 9), с другой, эта дочь знатного
рода презираема своей матерью, и подобное имя изначально оцени-
вается как пейоративное, хотя собственное значение имени/клички
Yrsa «медведица» дает возможность переоценки. Эта амбивалент-
ность, обусловленная синхронным положением собаки как основного
домашнего животного, лежит в основе игры слов и образов в сагах.
Ср. контекст «Саги о Вёльсунгах», где Гуннар с долей презрения на-
зывает дружинников Атли smdir hundar, «собачки, собачонки», а также
скрывание знатных детей под собачьими кличками Норрг и Ho (Hrolfs
saga kraka ok kappa hans: Froda Jjattr 2).
В ряде исландских саг подчеркивается разум собаки и ее спо-
собность испытывать почти человеческие чувства. Таковы пес Гунна-
ра Samr в «Саге о Ньяле», которого Гуннар получил в подарок (Njals
saga 70), и верный пес в «Саге о Хальвдане сыне Эйстейна». Хальвдан
спас пса от смерти, а тот плачет от радости и в свое время отдает жизнь
за хозяина (Halfdanar saga Eysteinssonar 17). Здесь собака - реальное
домашнее животное с особыми или даже сверхъестественными каче-
ствами, но, конечно, уже не мифологический хтонический зверь или
оборотень-h атгат тг. Собака часто выступает в сагах как род имуще-
ства: ср. Selsnautr «дар/собственность Селя» в «Саге о Хальвдане сыне
Эйстейна». Клички собак в сагах не имеют негативных коннотаций:
Норрг и Но (см. выше) - ономатопея, намекающая на изначальную
37
аллитерацию скрываемых имен Helgi и Нгбагг (далее, в эпизоде с ло-
шадьми, сыновей Хальвдана именуют Hamr и Hrani), Vigi в «Саге об
Олаве Трюггвасоне» - от ди. vigja «гнать», Samr в «Саге о Ньяле» -
собственно «черный», «Черныш».
Однако справедливости ради надо сказать, что слово hundr
может употребляться в сагах как ругательство: ср. hundrinn pinn «ты
собака» и еще несколько примеров такого рода [Cleasby, Gudbrand
Vigfusson 1957: 292], причем слово mann-hundr означает здесь уже
не «человека-пса» в древнегерманском смысле, а «дурного человека»
(«wicked man» [ibid.]). Это также является свидетельством снижения
исконного мифологического образа собаки.
6. Предание о псе-конунге у Снорри Стурлусона
Рассказ об избрании пса конунгом («Сага о Хаконе Добром»
12 и краткое изложение сюжета в «Саге об Олаве Святом» 37) - один
из ярких эпизодов «Круга Земного»: «Эйстейн, конунг в Упплёнде,
которого одни называют Могущественным, а другие Злым, совершил
набег на Трандхейм и подчинил себе фюльки Эйна и Спарбюггва, и
посадил там своего сына, которого звали Энунд. Но трандхеймцы уби-
ли его. Эйстейн конунг вторично пошел походом в Трандхейм и разо-
рял страну и подчинил ее себе. Он предложил трандхеймцам выбор:
взять в конунги его раба, которого звали Торир Гривастый, или пса,
которого звали Саур. Они выбрали пса, так как полагали, что тогда
они скорее сохранят свободу. В пса они вложили колдовством ум трех
людей, и он лаял два слова, а третье говорил. Ему был сделан ошейник
и поводок из серебра и золота. А когда было грязно, его свита несла
его на плечах. Ему был сделан престол, и он сидел на кургане, как
конунг. Он жил в Эйин Идри, а его обычное местопребывание назы-
валось Саурсхауг. Рассказывают, что смерть ему пришла от того, что
волки напали на его стадо, и свита понуждала его защитить свой скот,
он и сошел с кургана и бросился на волков, а они сразу же растерзали
его» [Снорри Стурлусон 1980: 73]. Этот эпизод сопоставляется иссле-
дователями с рассказами Плутарха и Клавдия Элиана о царе-собаке у
эфиопов [Кгарре 1942; Алексеев 1969]. Но как предание о псе-конунге
соотносится с древнескандинавскими представлениями о собаке?
Рассказ Снорри имеет многочисленные параллели в средневе-
ковой скандинавской традиции. Ср. контекст краткой саги «О конун-
гах Упплёнда» I: «Его звали Хальвдан Белая Кость. Он был конунгом
на Солейяр после Сёльви конунга. Он взял в жены Асу, дочь конунга
Эйстейна Злого из Хейда. Этот Эйстейн подчинил себе Эйнафюльки в
Трондхейме и поставил над ними там конунгом своего пса, которого
звали Сор; по нему назван Сорсхауг» (пер. Н. Г.), «Перечень скаль-
38
дов»: «Эрп поклоняющийся совершил убийство в святилище и был
приговорен к смерти. Он сложил драпу о Сауре, псе конунга, и тем
спас свою голову» (пер. Н. Г.). В этих источниках пса зовут Sauir/S6rr
‘грязь, навоз’. Другая группа источников («Рюдские анналы», «Как за-
селялась Норвегия», «Хроника Лейре»9) именует пса Rakki/Raki «(не-
большая) собака». В этом случае можно говорить об апеллативе или о
переходной ступени от апеллатива к имени собственному. Ср.: Rakkce
koning sprang i bland andcer hundce [Karker 2001: 114], что в современ-
ном издании переводится как hundekongen «конунг-собака», а не как
Rakke kongen «конунг Ракке»; «конунг-собака прыгнул к другим соба-
кам». Предание о псе-конунге засвидетельствовано также в VII книге
«Деяний датчан» Саксона Грамматика.
Назначение пса правителем является, согласно всем сканди-
навским источникам, актом унижения побежденных. Равным образом,
приказ скальду Эрпу сложить драпу о Сауре - псе конунга - является
унижением скальда. Легенда о псе соотносится с разными конунгами,
как правило - шведскими: Гуннар («Деяния датчан», победа над нор-
вежцами), Эйстейн («О конунгах Упплёнда»), Адильс («Рюдские анна-
лы»), Хакун (Hakun, «Хроника Лейре», унижение датчан; в «Лундских
анналах» XIV в. конунга зовут Athisl).
Снорри соотнес конунга Эйстейна, навязавшего людям пса,
с эпохой Хакона Доброго (X в.). Однако представляется, что внима-
ние автора к Эйстейну обусловлено не особой ролью этого конунга, но
связью Эйстейна с сюжетом о псе-конунге. В контексте «Саги о Хако-
не Добром» 12 Эйстейн появляется только для того, чтобы завоевать
Трондхейм и поставить своего пса конунгом. Дальнейшее упоминание
Эйстейна в «Саге об Олаве Святом» 37 вновь отсылает к истории Саура.
Согласно другим памятникам, содержащим этот сюжет, Эй-
стейн - легендарный шведский конунг значительно более ранней эпо-
хи, а именно, VI в. Эйстейн, сын Адильса из династии Инглингов (ср.
упоминание Адильса в «Хронике Лейре» и «Рюдских анналах»), был
тестем Хальвдана Белая Кость. Интересно, что Снорри рассказывает
об Эйстейне, сыне Адильса, в «Саге об Инглингах», не делая никаких
отсылок к сюжету о псе-конунге. Эйстейн-Инглинг для Снорри Стур-
лусона связан исключительно с топикой «Перечня Инглингов».
В скупых строках «Перечня скальдов» (см. выше), где множе-
ство скальдов перечислено только по именам, всё же нашлось место для
истории скальда Эрпа Поклоняющегося, чьи произведения до нас не дош-
ли. Согласно «Перечню», Эрп сложил драпу по приказу конунга Eysteinn
<ххх><хх>о<><><х><х><><х><>о<х><><^^
9Annales Ryenses (Дания, аббатство Рюд, конец XIII в.), Hversu Noregr byggdist
(отрывок, сохранившийся в Книге с Плоского Острова; краткое упоминание);
Chronicon Lethrense (Дания, Лейре, XII в.)
39
beli, Эйстейна Обжоры (он же Eysteinn hinn illradi, Эйстейн Злой), совре-
менника легендарного Рагнара Кожаные Штаны (конец VIII в.).
Таким образом, предание о псе-конунге связано в скандинав-
ской традиции с легендарными шведскими конунгами, прежде всего
с героями вендельской эпохи - Адильсом и его сыном Эйстейном, да-
лее - с Эйстейном эпохи викингов10. В целом можно говорить об ин-
вариантной легендарной фигуре злого конунга Эйстейна, имеющего
целый ряд прозвищ - hardrddi «суровый», «суровый правитель», «гроз-
ный» («Сага об Инглингах» 44 об Эйстейне, сыне Адильса), illradi «злой»,
«злой правитель» (все три источника, объединенные именами конунга
Эйстейна и пса Саура/Сора, а также «Сага об Олаве Святом» 37), hinn ПИ
«злой» («Сага о Хаконе Добром»), beli «обжора» («Перечень скальдов»).
Картину усложняет смешение этого Эйстейна с Эйстейном Могуществен-
ным (hinn riki), также легендарным конунгом из рода Инглингов.
Предание о псе-конунге в скандинавской традиции имеет ста-
тус местной легенды (недаром имя Saurr призвано объяснить норвеж-
ский микротопоним Saurshaugr), в одних случаях с преобладанием по-
литической окраски (ср. древнерусское летописное «пищанцы волчья
хвоста бегают», Ипатьевская летопись под 984 г.), в других - сказоч-
ного колорита (имя пастуха Snio «снег» в «Рюдских анналах», вели-
кан в «Хронике Лейре», сказочные условия в ряде версий: «конунгом
станет первая голова, которую вы повстречаете», «тот, кто первым со-
общит конунгу о смерти пса, подлежит смерти»). Но в любой интер-
претации присутствует то, что резко отличает скандинавское предание
от эфиопской легенды: выбор пса конунгом является актом унижения
побежденных. Равным образом, приказ конунга скальду Эрпу также
имеет целью унижение скальда, совершившего тяжкое преступление
(убийство в святилище). И это унижение особо подчеркивается пейо-
ративной кличкой собаки.
В этом и состоит своеобразие истории Саура. Ни собака, ни
сравнение знатного человека с собакой, ни кличка собаки у древних
скандинавов сами по себе не несут бесчестья. Напротив, как было по-
казано выше, образ собаки в архаической традиции преимущественно
связан с положительными коннотациями. Как же понимать предание о
бесславном правлении пса-конунга?
Рассматриваемый сюжет следует сопоставить с мотивом «со-
бака как имущество конунга» - ср., например, «Песнь о Трюме», где
великан-владыка сидит на кургане, окруженный своими собаками
(I>rymskvida 6). Примечательно, что во всех версиях предания о псе-
конунге собака описывается как имущество конунга: ср. Saur konungs-
hund (в вин.п.) «Саура, пса конунга» в «Перечне скальдов». Именно по
этой причине пес приравнивается к рабу. Возможность такого сопо-
<ХХХ><Х><><>0<><>0<><^^
10Напомним, что с именем Адильса связано погребение с собакой в курганах
Старой Уппсалы (см. выше).
40
ставления мы находим во «Второй Песни о Хельги Убийце Хундинга»,
где побежденный Хундинг выполняет обязанности раба (хотя в тексте
и не проводится прямого сравнения с собакой).
Пес Саур трактуется у Снорри абсолютно негативно, на что
указывает целый ряд деталей.
Кличка Saurr «грязь, сор, навоз» прямо соотносится с ди.
saurr (м.р.). «грязь, сырая земля», «сор, навоз», saurigr, saurugr «гряз-
ный», saurga «грязнить, пятнать», saurnir «щит», собств. «запятнан-
ный» [Vries 1962: 464]; ср. тж. saur-reidir «навозная яма», sauru-ligr
«грязный, нечистый, скверный», sauru-liga «грязным, нечистым об-
разом», saur-yrdi «грязные речи, сквернословие», устойчивое сочета-
ние aurr ok saurr «грязь и сор» [Cleasby, Gudbrand Vigfusson 1957: 515,
525]. Древнескандинавское слово было заимствовано в древне- или
среднеанглийский: ср. са. sowre, soore, на. диал. saur «коровий навоз»,
soor «грязь» [Vries 1962: 464]. Ди. saurr принадлежит к широкой сфере
хорошо сохранившихся и мотивированных континуант и.-е. *seur/-l-
«влага, грязь» с аблаутными вариантами *sour/-l- и *sj7J-: ср. гот.
bisauljan* «грязнить, пятнать, осквернять», bisaulnan «загрязняться,
оскверняться», ди. sol- «грязь, лужа» в топониме Soleyar [Vries 1962:
529], норв. диал. soyla «пятнать», да. sol (ср.р.), solu (ж.р.) «болото,
трясина», дс. sulwian «пачкать, пятнать», двн. sol (м.р./ср.р.) «грязная
лужа» [Lehmann 1986: 72], в целом к и.-е. *seu-/*sou- «течь, бежать»
[Рокоту 1959: 912-13; Vries 1962: 464; Lehmann 1986: 72].
Имя Saurr имеет отчетливые негативные коннотации в «Саге
об Эйрике Рыжем», где оно выступает как прозвище. Eyjolfr Saurr, Эй-
ольв Дерьмо - родственник Вальтьова, чьему двору нанесли ущерб
рабы Эйрика. Эйольв убил этих рабов и сам был убит Эйриком из мести.
В контексте «Саги о Хаконе Добром» имя Saurr получает раз-
витую мотивировку, образуя семантический центр эпизода. Помимо
негативной окраски имени как такового повествователь подчеркивает
отношение имени собственного Saurr к соответствующему апеллативу:
согласно Снорри, дружинники Саура несут его на плечах там, где было
saurugt, «грязно». Важная роль отведена здесь и топониму Saurshaugr.
Необходимо пояснить, что этот топоним распространен в
Норвегии, поскольку он буквально означает «сырой холм», «грязная
горка», то есть указывает на холм в сырой, болотистой местности. Рас-
смотрение крупномасштабной карты Норвегии позволяет установить,
что топоним Saurshaugr, ныне Sorhaugen, встречается весьма часто и
имеет повсеместное распространение, поскольку он связан с такими
природными объектами, как реки, болота, трясины и островки, таким
образом, существует целый ряд топонимов Sorhaugen (не менее 15),
которые указывают вовсе не на унижение норвежцев, а на сырую,
болотистую местность. Топоним скандинавской этимологии засвиде-
тельствован и на Британских островах: ср. Sowerby (Западный Йорк-
41
шир, Англия, населенный пункт на песчаной отмели реки Кэлдер) <
*Saurr-by «поселение в сырой, болотистой местности».
Как указывал Магнус Ольсен, топонимы с основой -haugr под
Трондхеймом были связаны с культом предков и почитались как ро-
довые святилища. Как правило, это были курганы предшествующих
эпох [Olsen 1926: 263-271; Vries 1937: 102-103]. Такой холм служил
сакральным центром: «Характерно, что германцы-язычники охотно
избирали возвышенные места для общественных действий, имевших
более-менее религиозный характер. В первую очередь это касается
тинга; он проходил на естественном или даже насыпанном человече-
скими руками холме... Холм близ усадьбы конунга... обычно рассма-
тривался как могила предка... Мы знаем даже, что курганы конунгов
часто использовались как курганы собраний... Скандинавский конунг,
восседающий на кургане предков..., мог... вступать в непосредствен-
ный контакт с духами предков своего рода...» [Vries 1937: 101-102].
Здесь мы видим тот образ мыслей, в духе которого «ланд-
шафтный» топоним Saurshaugr получает реинтерпретацию у Снорри.
Так встречающийся во множестве мест «Сырой холм» стал в его по-
вествовании оскверненной святыней трендов, курганом предков, на
который чужой конунг посадил пса11.
Таким образом, повествование Снорри о псе-конунге Сауре -
не отражение древнегерманских представлений о собаке как символе
власти, но оригинальное представление бродячего древнескандинавско-
го предания. История Саура - не миф и не влияние ученой традиции12, но
общественно-критическая интуиция, воплощенная в художественной форме.
Версия Снорри - самая полная во всей древнескандинавской
традиции. Племенное предание дает ему повод для создания блестя-
щей вставной новеллы, где тема власти сопряжена с темой необыкно-
венного и даже сверхъестественного. Поразительные типологические
параллели такому осмыслению обнаруживаются в повести Михаила
Булгакова «Собачье сердце» [Булгаков 1992: 119-208]: 1) пес имеет
имя собственное подчеркнуто низкого статуса (ди. Saurr «грязь, на-
воз»; Шарик < гиарый «серый», обычное имя беспородной собаки);
2) в собаку волшебным образом влагают разум; 3) человеческая речь
ООООООООООООООООООООООООООООООООО
11 Легендарный конунг Эйстейнов правил в шведском Упплёнде. Но в Саге о
Хаконе Добром Эйстейн - завоеватель Трондхейма и поработитель трендов.
12 Научное осмысление легенды о псе, наделенном властью, было возможно в
средневековой Скандинавии - недаром Адам Бременский в «Деяниях еписко-
пов Гамбургской церкви» (между 1072 и 1076 г.) упоминает о кинокефалах,
псоглавцах, и задается вопросом о возможности их крещения. О кинокефалах
весь средневековый мир знал из трудов св. Исидора Севильского. У Павла Диа-
кона была даже осуществлена мифологическая реинтерпретация образа: ланго-
барды, у которых собака была символом рода и власти, прямо сопоставляются с
мифическими «cinocephali». Однако пес-конунг - не человек-оборотень и не псо-
главое существо, а обычная собака, по произволу конунга наделенная властью.
42
дается ему с трудом, остаются рудименты лая; 4) пес оказывается на
вершине власти, причем ассоциируется с грубыми и неразумными ра-
бами (Торир Гривастый у Снорри - «пролетарии» во главе со Швон-
дером у Булгакова); 5) пес возвращается в «первобытное состояние».
В финале повести профессор Преображенский прямо именуется «вол-
шебником». Примечательно, что в романе современного австрийского
писателя Кристофа Рансмайра Morbus Kitahara один из главных ге-
роев, бывший заключенный, надсмотрщик в каменоломне, где после
войны работают его побежденные соотечественники, носит прозвище
der Hundekonig [Ransmayr 1995].
В отличие от литературы Нового времени, авторство Снорри
является неосознанным (см.: [Стеблин-Каменский 2003: 125-129]).
Снорри интерпретирует известную в традиции историю о псе-конунге
разными средствами: 1) подробное указание имен (включая имя раба),
топонимов и микротопонима Saurshaugr; 2) яркие детали; 3) народная
или поэтическая этимология (Саур - Саурсхауг - особое указание на
«грязь»: «а когда было грязно (епpegar ersaurugt var), его свита несла его
на плечах» [Снорри Стурлусон 1980: 73]). Эта интерпретация создает впе-
чатление абсолютного знания повествователя о событиях и его общности
с «мудрыми людьми древности» [Снорри Стурлусон 1980: 9].
7. Заключение
Проведенный в настоящей работе анализ позволяет устано-
вить, что древнегерманское отношение к собаке представляет собой
продолжение индоевропейской традиции, а именно - идеологии воин-
ской элиты, восходящей к гомеровской эпохе и бронзовому веку.
В архаической германской традиции собака осмыслялась как
могучее хтоническое животное, равнозначное волку, тотем (легенды о
происхождении знатного рода), символ и спутник воина, вождя и его
проводник в загробный мир. При этом важно заключить, что осозна-
ние собаки как символа власти знатного рода представлено в запад-
ногерманском ареале (лангобарды, потомки англосаксов). Именно для
этого ареала можно говорить о цельном и непротиворечивом мифопоэ-
тическом образе пса - родоначальника.
В скандинавской традиции пес как хтоническое (мифологиче-
ское) животное фактически эквивалентен волку (пес Гарм). Специфи-
ческие коннотации, отличающие пса от волка в мифологии знатного
рода, скорее негативны: как легендарный Хундинг, так и исторический
Торир Собака являются противниками конунга. Для древней Сканди-
навии существенно также отметить значительную диспропорцию сви-
детельств археологии и памятников. Роль собаки в древнескандинав-
ском Жертвоприношении и погребальном обряде была исключительно
велика и может считаться ритуальной константой, тогда как в текстах
43
(за исключением «Песни о Хюндле», да и то в весьма своеобразном
аспекте) этот комплекс представлений практически не отражен.
Впоследствии, с отмиранием соответствующих ритуалов,
древний пафос образа собаки меркнет, хотя и в исландских сагах со-
бака нередко предстает как особое, наделенное необычайными каче-
ствами животное. В целом же развитие древнегерманских представ-
лений о собаке можно сформулировать следующим образом: от Пса-
родоначальника и символа власти (Hundingr, Kong Hundhoved) до пса-
конунга (Rakki /Saurr).
Литература
Источники
Булгаков 1992 - Булгаков М. А. Собачье сердце // Булгаков М. А. Сочинения в
5 томах. Т. 2. Москва, 1992.
Латиноязычные источники 1989 - Латиноязычные источники по истории
Древней Руси. Германия, IX-первая половина XII вв. / Сост., пер.,
комментарии, предисловие М.Б. Свердлова. М.-Л. 1989.
Снорри Стурлусон 1980 - Снорри Стурлусон. Круг Земной / Изд. подг.:
А. Я. Гуревич, Ю. К. Кузьменко, О. А. Смирницкая, М. И. Стеблин-
Каменский. М., 1980 [репринт: М., 1995].
Edda 1927 - Edda. Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmalem. I
Hrsg. von G. Neckel. Heidelberg, 1927.
Heimskringla 1894 - Heimskringla. Noregs konunga sogur af Snorri Sturluson. /
Udg. ved Finnur Jonsson. Kobenhavn, 1894.
Ransmayr 1995 -Ransmayr C. Morbus Kitahara. Frankfurt am Main, 1995.
Научная литература, словари
Алексеев 1969 - Алексеев М. П. Юрий Крижанич и фольклор московской
иноземной слободы // Труды отдела древнерусской литературы
Института русской литературы АН СССР. Т. 24. Ленинград, 1969.
Гамкрелидзе, Иванов 1984 - Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. Индоевропейский
язык и индоевропейцы. К реконструкции праязыка и протокультуры.
Т. I—II. Тбилиси, 1984.
Ганина 2009 - Ганина Н. А. Предание о псе-конунге в «Саге о Хаконе Добром» //
Чтения памяти В. Т. Пашуто. М., 2009.
Лебедев 2005 - Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси.
СПб, 2005.
Стеблин-Каменский 2003 - Стеблин-Каменский М. И. Труды по филологии.
СПб, 2003.
Топоров 2005 - Топоров В. Н. Конные состязания на похоронах // Топоров В. Н.
Исследования по этимологии и семантике. Т. 1. М., 2005.
Трубачев 2008 - Трубачев О. Н. Происхождение названий домашних животных
в славянских языках // Трубачев О. Н. Труды по этимологии. Слово.
История. Культура. Т. 3. М., 2008.
Фасмер 1973 - Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Пер. с
нем. и доп. О. Н. Трубачева. Т. 4. М., 1973.
44
Baetke 1976 -Baetke W. Worterbuch zur altnordischen Prosaliteratur. WBG, Darm-
stadt, 1976.
Bosworth, Toller 1976 - Bosworth J., Toller T.N. An Anglo-Saxon Dictionary based
on the Manuscript Collections of Joseph Bosworth / Ed. and enlarged by
T.N. Toller. Oxford, 1976.
Cleasby, Gudbrand Vigfusson 1957 - Cleasby R., Gudbrand Vigfusson. An Icelan-
dic-English Dictionary. Initiated by R. Cleasby; revised, enlarged and
completed by Gudbrand Vigfusson. Oxford, 1957.
Dillmann 2001 - Dillmann X.-F. Des paiens et des chiens. A propos du compose
norrois hund-heidinn // Kontinuitat und Briiche in der Religionsgeschich-
te. Festschrift fur Anders Hultgard zu seinem 65. Geburtstag am 23. De-
zember 2001 (Erganzungsband zum Reallexikon der germanischen Alter-
tumskunde, Bd 31). Berlin - New York, 2001.
Griinert 1976 - Grilnert H. Die wirtschaftliche Entwicklung im 1. und 2. Jahrhun-
dert. Viehwirtschaft) // Die Germanen. Geschichte und Kultur der germani-
schen Stamme in Mitteleuropa. Ein Handbuch in 2 Bd. Ausgearb. von einem
Autorenkollektiv unter Leitung von Bruno Kruger. Bd 1. Berlin, 1976.
Graslund 2004 - Graslund A.-S. Dogs in graves - a question of symbolism? //
PECUS. Man and animal in antiquity. Proceedings of the conference at
the Swedish Institute in Rome, September 9-12, 2002. / Ed. Barbro San-
tillo Frizell (The Swedish Institute in Rome. Projects and Seminars, 1),
Rome 2004.
Herfert 1973 - Herfert P Ralswiek: Ein fruhgeschichtlicher Seehandelsplatz auf
der Insel Rugen // Greifswald-Stralsunder Jahrbuch. 1972/1973. Bd. 10.
Weimar, 1973.
Hofler 1934-Hdfler O. Kultische Geheimbunde der Germanen. [Bd 1]. Frankfurt a. M. 1934.
Hofler 1973 - Hofler O. Verwandlungskulte, Volkssagen und Mythen. Wien, 1973.
Hofler 1992 - Hofler O. Cangrande von Verona und das Hundsymbol der Lan-
gobarden // Hofler O. Kleine Schriften. Hamburg, 1992.
Horst 1976 - Horst F. Die gesellschaftlichen Verhaltnisse im nordlichen Mittel- und
sudlichen Nordeuropa vor Herausbildung der germanischen Stamme //
Die Germanen. Geschichte und Kultur der germanischen Stamme in Mit-
teleuropa. Ein Handbuch in 2 Bd. Ausgearb. von einem Autorenkollektiv
unter Leitung von Bruno Kruger. Bd 1. Berlin, 1976.
Karker 2001 -Karker A. Dansk i tusind ar. Et omrids af sprogets historie. Modersmal-
Selskabets Arbog 1993. Ny revideret udgave. C. A. ReitzelsForlagA/S, 2001.
Kluge 1999-Kluge F. Etymologisches Worterbuch der deutschen Sprache. 23., erw.
Aufl. Bearb. vonE. Seebold. Berlin-New York, 1999.
Krappe 1942 -Krappe A. The Dog King // Scandinavian Studies. Vol. 17. No. 4. 1942.
Lehmann 1986 - Lehmann W P A Gothic Etymological Dictionary. Based on the
3d ed. of Vergleichendes Worterbuch der gotischen Sprache by Sigmund
Feist. Leiden, 1986.
Lexicon poeticum 1931 - Lexicon poeticum antiquae linguae septentrionalis. Ord-
bog over det norsk-islandske skjaldesprog. Opr. forf. av Sveinbjom Egils-
son. 2. udg. vedFinnur Jonsson. Kobenhavn, 1931.
Much 1920 - Much R. Der germanische Osten in Heldensage // Zeitschrift fur deut-
sches Altertum. Bd 57. 1920.
Olsen 1926 - Olsen M. /Ettegard og Helligdom. Oslo, 1926.
45
Рокоту 1959 - Рокоту J. Indogermanisches etymologisches Worterbuch. Bd I—II.
Bern - Munchen, 1959.
Schlette 1980 - Schlette F. Germanen zwischen Thorsberg und Ravenna. 4. Aufl.
Leipzig - Jena - Berlin, 1980.
Seyer 1976 - Seyer H. Die germanischen Stamme bis zum Beginn unserer Zeitrech-
nung. Erzeugung und Verwertung der Nahrungsmitteln (Pflanzenanbau,
Viehwirtschaft, Jagd und Fischfang)// Die Germanen. Geschichte und
Kultur der germanischen Stamme in Mitteleuropa. Ein Handbuch in 2 Bd.
Ausgearb. von einem Autorenkollektiv unter Leitung von Bruno Kruger.
Bd 1. Berlin, 1976.
Teichert, Muller 1983a - Teichert M., Muller H.-H. Haustierhaltung // Die Germa-
nen. Geschichte und Kultur der germanischen Stamme in Mitteleuropa.
Ein Handbuch in 2 Bd. Ausgearb. von einem Autorenkollektiv unter Lei-
tung von Bruno Kruger. Bd 2. Berlin, 1983.
Teichert, Muller 1983b - Teichert M., Muller H.-H. Jagd und Fischfang // Die Ger-
manen. Geschichte und Kultur der germanischen Stamme in Mitteleuro-
pa. Ein Handbuch in 2 Bd. Ausgearb. von einem Autorenkollektiv unter
Leitung von Bruno Kruger. Bd 2. Berlin, 1983.
Vries 1935, de Vries 1937 - Vries J. de. Altnordische Religionsgeschichte. Bd I—II.
Berlin - Leipzig, 1935-1937.
Vries 1962 - Vries J. de. Altnordisches etymologisches Worterbuch. Leiden, 1962.
ZUSAMMENFASSUNG
Im Beitrag wird die Rolle des Hundes bei der alten Germanen er-
forscht, wahrend die Uberlieferung von verschiedenen Standpunkten aus
zu behandeln ist wird (Archaologie, Geschichte, Mythe und Literatur). Da-
durch wird eine merkwurdige Diskrepanz zwischen der groBen und dau-
erhaften Bedeutung des Hundes bei den Opfer- und Beerdigungsriten und
dem geringeren Umfang der mythologischen und dichterischen Zeugnisse
in altgermanischen schriftlichen Quellen. Fur das Westgermanische wird
auf Grund der Werke von Otto Hofler die Interpretation des Hundes als
eines archaischen Machtssymbols bestatigt und mit neuen Zeugnissen be-
kraftigt. Fur die altnordische Uberlieferung werden einerseits die Angaben
von Edda-Liedem und der islandischen Sagas analysiert, andererseits die
Episode in „Hakonar Saga G6da“, wo der Konig Eysteinn seinen Hund Saurr
den Einwohnem von Trondheim zum Konig aufzwingt. Der Hundekonig
Saurr erscheint bei Snorri nicht als ein wager Widerhall der altgermanischen
Vbrstellungen vom Hund als Machtssymbol, sondem als eine originelle
Darstellung einer wandemder altnordischen Stammsage. Die Geschichte
von Saurr ist keine Mythe und keine gelehrte Uberlieferung, sondem eine
gesellschaft-kritische Empfindung, in ktinstlerischen Form verkorpert. Im
Ganzen laBt die Betrachtung der skandinavischen Uberlieferung vom Hun-
dekonig zum SchluB kommen, dass die Funktionierung des Mythologems
,,Hund“ im Altnordischen folgenderweise formuliert werden kann: von
“Kong Hundhoved” Hundingr zum “Hundekonig” Saurr.
46
Т А. Михайлова
КУХУЛИН - ПЕС УЛАДОВ1
Отправной точкой авторского анализа является фраза из
саги «Недуг ул адов»: «Этому недугу не были подвержены жены и
дети уладов, а еще Кухулин, потому что он был не из уладов». Рас-
смотрев разные возможные интерпретации того, почему для древ-
неирландского компилятора герой Кухулин оказывается не вклю-
ченным в группу «уладские воины», автор приходит к выводу, что,
как это ни парадоксально, Кухулин не имел возможности полно-
правно состоять в группе «воины», поскольку добровольно взял на
себя функцию стража жилищ (и стад), до этого исполняемую псом.
В то же время в статье подробно рассматриваются функции собаки
у кельтов и в Древней Ирландии, в частности, и подчеркивается ее
социальная включенность в племя и наличие у нее определенных ан-
тропоморфных черт уже на уровне мифопоэтической традиции.
Ключевые слова: Животные, юридическая традиция, ин-
цест, героический эпос, изгойство, собака, волк, героическая мета-
форика, религия континентальных кельтов.
Древнеирландская сага «Недуг уладов», повествующая о том,
как проклятие оскорбленной богини по имени Маха вызвало странную
болезнь уладских воинов2, в оригинале заканчивается словами: «Этот
недуг, однако, не распространялся на женщин и детей, а еще на Куху-
лина, потому что он не был одним из Уладов» (точнее: ar nirbo do Ultaib
do [Hull 1968:29] - «ибо не случилось ему быть из Уладов»). Как это мож-
но объяснить? Предложенное в свое время А. Бруфордом простое объ-
яснение («Кухулин не был подвержен проклятию, потому что был сыном
бога Луга» [Bruford 1989: 130]) исследователями-ирландистами дружно
не принимается как наивное и, главное, не поддерживаемое самим саго-
вым нарративом, изображающим уладского героя вовсе не полубогом.
Кухулин мог быть исключен из числа Уладов по нескольким
причинам. Во-первых, из-за сомнительности его происхождения: его
мать, Дехтине, была, согласно традиции, сестрой или дочерью короля
Конхобара, но отец его был неизвестен. Рассказ о чудесном зачатии
героя посредством случайного проглатывания насекомого или малень-
кого зверька (отметим, довольно часто встречающийся в уладских са-
<хххххх><х><><><хх><><ххх>о<>^^
Исследование поддерживается РГНФ, проект № 09-04-00104а «Животные в
языке и культуре кельтов и германцев».
2Во время нападения врагов все мужи теряли свою силу и становились по-
добными женщине после родов (русский перевод - см. [Смирнов 1933: 75-80])
47
гах) остается при этом как бы «за скобками». Эта тема, безусловно,
заслуживает отдельного исследования, отметим лишь пока, что мотив
«чудесного зачатия» обычно как бы не предполагает отсутствия реаль-
ного, земного отца и предстает лишь как некое дополнение, обуслов-
ливающее особые способности будущего ребенка. Так, король Ула-
дов Конхобар был зачат его матерью Несс в результате того, что она
проглотила червяка, зачерпнув воды из реки, но при этом он имел и
официального отца (короля Фахтну Фатаха), и предполагаемого (дру-
ид Катбад, бывший любовником Несс). Итак, на уровне социальном -
отец Кухулина оказывается неизвестным лицом. Однако в данном слу-
чае, согласно ирландским законам, ребенок «автоматически относится
к роду матери, который берет на себя заботу о нем» [Kelly 1995: 15].
Таким образом, будучи племянником (или внуком) короля Конхобара,
Кухулин должен был автоматически включиться в клан Конхобара и
безусловно получить по своему рождению статус Улада.
Во-вторых, в редакции I саги «Рождение Кухулина» можно
встретить следующий фрагмент, бросающий тень на взаимоотноше-
ния короля Конхобара с его дочерью (сестрой):
Ba ceist mor la hUltu nadcon fess cele for a seilb. Domet ba 6
Chonchubur tre mesci, ar ba leis no foed ind ingen [Van Hamel 1933: 6] -
«Спрашивали себя улады, кто был тем, кто познал ее. Некоторые по-
лагали, что это был пьяный Конхобар, ибо часто спала с ним девушка».
Согласно ирландским законам, Кухулин, а точнее - еще маль-
чик Сетанта, как ребенок, рожденный в результате инцестуальной свя-
зи, должен был при рождении получить статус mac serine ‘сын мешка’:
«это обозначение восходило к старому обычаю помещать детей, рож-
денных в результате инцеста, в кожаный мешок-лодку, которую заво-
дили в открытое море, так, чтобы с того места не был виден белый щит
на берегу. Если ребенка прибивало к берегу, ему сохранялась жизнь,
но он занимал положение слуги своего рода» [Kelly 1988: 222-221].
Как мы можем предположить, этот «кожаный мешок» символизировал
материнское лоно и вся процедура, а точнее - ритуал, представляла со-
бой имитацию нового рождения ребенка, родившегося вне закона. От-
метим, однако, что даже если при подобных условиях ребенку удавалось
выжить, он все равно навсегда утрачивал тот социальный статус, который
мог бы иметь согласно своему рождению, и занимал на социальной лест-
нице самую низкую ступень, будучи уже как бы не совсем человеком3.
3 Такая практика была распространена не только в Ирландии: в частности, она
описана в поэме «Григорий Столпник» Гартмана фон Ауэ, рубеж XII—XIII в., где
присутствует легенда об инцестуальном рождении будущего Григория-столпника
и Папы (переложение которой дано в романе Томаса Манна «Избранник»).
48
Но будучи повсеместно осужденным в законах и в реальной
практике, в традиции мифологической (причем до очень позднего вре-
мени) инцест был окружен ореолом сакральности. Э. Арчибальд в своей
книге об инцесте в средневековых преданиях, отмечает, что «Святой Кум-
миний, Кухулин, Хрольф и Зигфрид4 - все это примеры того, что ребенок,
родившийся в результате инцестуальной связи, часто оказывается святым
или героем. Мотив обладания необычными способностями ребенка, рож-
дение которого было связано с нарушениями сексуальных запретов, рас-
пространен практически во всем мире» [Archibald 2001: 238], при этом
она добавляет, ссылаясь на Л. Битель, что, «в ирландских сагах и житиях
святых женщины часто соединяются со своими отцами или братьями -
иногда даже более, чем с одним - и в результате рождаются героические
короли или святые люди» (см. [Bitel 1996: 60]).
Мотив инцестуального рождения героя представляет собой
общее место эпической традиции. Как пишут братья Рисы: «С точки
зрения “нормального порядка вещей” способ зачатия и рождения ге-
роя представляется “совершенно неправильным”. Обыкновенно дети
рождаются у женатых родителей, которые не состоят между собой в
кровном родстве. Герой же, как правило, оказывается зачат “незакон-
но” - мать его не замужем, и родится он вне брака. /.../ В довершение
всего мы сталкиваемся с попранием неприкосновенности семьи: отец
зачинает героя с дочерью, сын - с матерью, брат - с сестрой» [Рисы
1999: 257]. Но при этом герой не оказывается стоящим вне общества.
Выделяясь, он остается одним из его членов. В связи с этим, возвра-
щаясь к уладскому циклу, мы должны будем вспомнить странную фи-
гуру Лугайда-красных-полос (Lugaid Riab-nDerg): он получил свое
прозвище из-за красных полос, которые пересекали его тело и грудь5;
так отмечались части его тела, принадлежащие трем его отцам, трем
^><ХХК><Х><Х><><ХХХ><ХХ>О<ХХ>О<Х^^
4Фактическая неточность Э. Арчибальд. Мотив «рождения от инцеста» при-
менительно к Зигфриду (Сигурду) в средневековой эпической традиции от-
сутствует и является авторской инновацией Р. Вагнера. В «Песни о нибелун-
гах» рождение Зигфрида не отмечено никакими девиациями. В скандинавской
традиции мотив «рождения от инцеста» отнесён не к Сигурду, а к его едино-
кровному брату Синфьотли. - Прим. ред.
5 Тема инцестуального происхождения героя не находится в фокусе нашего иссле-
дования. Однако, как мы полагаем, в случае с Лугайдом данный мотив появился
достаточно поздно, уже в среднеирландский период, и явился пере-осмыслением
его прозвища, которое в свое время было переведено А. Смирновым как «Лугайд
красных шрамов». Таким образом, герой-воин, который либо наносил раны вра-
гам, либо сам был покрыт «почетными шрамами» превратился, в духе традиции, в
сакральное инцестуальное дитя, что, надо сказать, его биографией не поддержива-
ется. Сказанное, естественно, не перечеркивает архаическую традицию в целом, и
ирландский Лугайд занимает достойное место в череде чудесных рождений, опи-
санных Ж. Дюмезилем (см. [Dumezil 1971: 350-353]).
49
Финнам, которые зачали его в результате инцестуальной связи с соб-
ственной сестрой Клотрой. В дальнейшем Клотра вступила в связь со
своим сыном, результатом которой явился Кримтанн Ниа Нарь. Как
пишет об этой традиции уже в XVII в. историк Дж.Китинг,
Лугайд Красных полос Кримтану
милому
Был и отцом, и братом;
А Клотра прекрасная обликом
Была своему сыну бабушкой.
Lughaidh Riabh nDearg do Chriom-
hann chain
Fa athair is fa brathair;
Is Clothra an chrotha ghnathaigh
Dam ac rob a seanmhathar
[Keating 1908: 232]
Однако в дальнейшем, как мы видим из нарративного мате-
риала, составляющего корпус саг уладского цикла, Лугайд ничем не
выделялся среди других уладских воинов, если не считать того, что в
дальнейшем он женился на собственной матери, а затем вступил в брак
с женщиной-лебедем (см. [Marstrander 1911: 201-18]).
Что же «не так» было с Кухулином?
В отличие от фольклорной, эпическая традиция не повествует
об искаженной истории и поверьях «давних времен». Эпос внеистори-
чен и представляет собой систему «функций». Главной функцией Ку-
хулина в сагах уладского цикла было - быть героем. Однако какой именно
тип героя он представлял собой? На этот вопрос не так просто ответить
и сама его постановка не полностью очевидна. С. Боура в своей книге,
посвященной героическому эпосу, сравнивает два типа эпического героя,
называя их условно «тип Ахиллес» и «тип Гектор». Так, он пишет:
«Гектор думает не столько о славе, сколько о доме, семье и
городе. В глубине души он знает, что Троя падет, но готов сделать все
возможное, чтобы отвратить этот зловещий день или отсрочить его.
Он действует как герой и торжествует славную победу, когда ему поч-
ти удается сжечь корабли ахейцев. И все же он едва ли занят демон-
страцией личной доблести. Во многих отношениях самый гуманный
и привлекательный персонаж «Илиады», он - не главный герой. Го-
мер подчеркивает контраст между ним и Ахиллом, между человеком,
защищающим свой дом и очаг, и полубожественным героем, почти
лишенным привязанностей или обязательств. По-видимому, в образе
Гектора мы сталкиваемся с возникновением нового идеала мужествен-
ности, с рождением идеи, согласно которой человек лучше реализует
себя, служа своему городу, нежели удовлетворяя собственную честь.
В том случае Гектор занимает пограничное положение между герои-
ческим миром и пришедшим ему на смену городом-государством. При
этом ему во многом свойственны привлекательность и благородство,
50
I
отличающие настоящего героя. Уступающий Ахиллу в силе и скоро-
сти, он - замечательный воин, пылкий и могучий. К действию его по-
буждает любовь к отчизне, но тем самым он осуществляет свое истин-
но героическое предназначение» [Боура 2002: 150].
Боура называет Гектора «новым идеалом человечества», од-
нако, как мы полагаем, это не совсем так. Как было показано русским
археологом и индологом Я. Васильковым, на древне-индийских сте-
лах можно найти изображения архаического героя - защитника жен и
стад, причем именно этот образ предстает как архаический. На погре-
бальных стелах герой изображается окруженным коровами, которые
оплакивают его; в ряде случаев вместо коров изображаются женщины,
которых герой спасает от похищения и насилия. На отдельных стелах
подобные «хозяева стад» могут изображаться в виде полу-зооморфного
существа («воин-пес или воин-волк, пятипалый, с человеческим лицом
и дубиной в руке» [Васильков 2010: 34]). Жены и стада, согласно Я. Ва-
силькову, представляют собой наиболее архаический пласт племенного
имущества, которое герой согласно своему статусу должен был охранять.
Герой, таким образом, предстает в образе «пастуха», оберегающего свои
стада. Но герой как охранитель нуждался и в соответствующей атрибути-
ке (пастушеский посох), и в спутнике-помощнике - сторожевом псе.
Русская мифопоэтическая школа, как известно, придает боль-
шое значение семантике имени персонажа. Так, например, О. М. Фрей-
денберг принадлежит афористическое высказывание - «значимость,
выраженная в имени персонажа и, следовательно, в его метафорической
сущности, развертывается в действие, составляющее мотив; герой дела-
ет только то, что семантически сам обозначает» [Фрейденберг 1982:
679]. «Имя в тексте может иконически отражать (воспроизводить) то, что
происходит с самим носителем имени», - пишет В. Н. Топоров [Топоров
1993: 83]. Таким образом, наличие в имени уладского героя элемента ей
уже заранее во многом определяет его статус, как на мифологическом
уровне, так, как мы попытаемся показать, и на уровне социальном.
«В древней Ирландии префикс Си (пес) часто входил в имена ге-
роев, чтобы таким образом подчеркнуть их воинский статус» [Green 1992:
186] - пишет М. Грин в своей книге, посвященной образам животных в
литературе и мифологии кельтов. Однако мы не уверены, что она полно-
стью права. Как нам кажется, элемент ей (соп-) в имени ирландского коро-
ля или героя мог бы действительно в первую очередь означать его “warrior
status” лишь в тому случае, если бы основным значением этой лексемы
было бы ‘волк’ - вечный символ ярости, коварства и бесстрашия. Этот
элемент часто встречается в древнегерманских двусоставных именах, од-
нако автоматическое перенесение этой традиции (и этого менталитета) на
кельтскую почву представляется нам ошибочным.
51
Согласно подсчетам Д. МакМануса, в номенклатуре огамиче-
ских имен среди элементов, которые могут занимать как первую пози-
цию, так и вторую, на первом месте по частотности встречаемости сто-
ит - CUNA-, -CUNAS ‘dog, hound’, на втором - CATU-, -CATOS ‘battle’
[McManus 1997: 102]. Естественным было бы ожидать наличия имен,
составленных из данных двух элементов: *CUNACATOS or *CATU-
CUNAS, которые имели бы параллели в соответствующих германских
именах *Wulba-heldio и *Hadu-wulbaz [Топорова 1996: 95-96], однако
в огамических надписях такие имена не засвидетельствованы. Однако,
надо признать, в более поздней традиции можно встретить имена, со-
стоящие из элементов «пес» и «битва»: Cathchu (засвидетельствовано
один раз, ср. однако ср.валлийское Catgi ‘битвы пес’ (см. [Uhlich 1993:
193]), а также Conchad, более популярное в среднеирландский период.
По мнению Кс. Деламарра, «Обозначение собаки в кельтском,
как метафора, либо в результате табу, послужило для названия вол-
ка, хотя в отдельных антропонимах и можно найти следы старого и.-е.
обозначения этого животного» [Delamarre 2003: 132]. Действитель-
но, в ряде контекстов древнеирландское ей может предположительно
иметь значение ‘волк’, как правило в метафорических употреблениях
для обозначения боевой ярости и силы воина:
Luatha coin dod-repnadar, a maccain, for a athir [Knott 1936:1.1515]-
«Быстры были волки/псы, которые охотились за тобой, - сказал отец».
Или:
Ba samalta ri glaim con allmaraig i fathod srenburach craidi each
miled dib [Watson 1941:1. 610-612] - «Было похоже на лай (вой?) чужих
волков/псов биение сердец воинов».
Или:
Batar comluatha dano fri cona ос toffunn; nomarbtais inna fiada ar
luas [Pokorny 1923: 10] - «Они (братья Найси - T. М.) были быстрыми,
как псы/волки на охоте, и убивали добычу на бегу»6.
В прямом смысле, для обозначения волка слово ей, как правило,
употребляется лишь с дополнительными спецификаторами. Например:
Luid si dono ocus a hinilt a Temraigh budhess co Duibtir laigen,
ocus dorala for merughadh ann iad co haidhehe co faccadar an cuan con al-
laidh chucu san sleibh [Tochmarc Becfhola - O’Grady 1892: 85] - «Пошла
она co своей служанкой из Тары к югу, в стороны Темной земли Лейн-
стера, и пока они там блуждали до ночи, увидели стаю волков (букв.:
диких псов), приближающуюся к ним с гор».
Ср. также эпизод разговора Кухулина и Морриган:
<КХ><Х>О<Х><><Х<><Х><Х>О<ХХ><><><^^
6 В последнем примере братья Найси сравниваются скорее с охотничьими со-
баками, хотя уверенными мы в данном случае быть не можем.
52
L
LU: Tanautatsom in tsod meic tire doimairg na bu fair siar [LU
6210] - «Она подошла к нему в обличье волчицы (букв.: суки сына
земли) и погнала коров назад на него».
LL: Tainic ieramh in Morrigan i riocht saidhi gairbi glasruaidhi
[O’Rahilly 1967: 2001] - «Тогда Морриган пришла в обличье грозной
рыже-пестрой суки» (видимо, также волчицы).
Употребленный изолированно, как метафора или как компо-
нент значимого имени, элемент ей, даже передающий идею боевой яро-
сти и воинской доблести, не должен автоматически, с нашей точки зрения,
переводиться как «волк» и обозначать волчью агрессивность. Переводная,
а следовательно, и интерпретативная традиция, однако, сложилась иначе.
Так, в книге Д. О’Корраня и Ф. Магир «Ирландские имена» приводится
восемь имен с первым элементом CON-, часть из которых имеет паралле-
ли в огамической номенклатуре [O’Corrain, Maguire 1990: 56-59]; пред-
ложенные авторами переводы имен необычайно показательны:
Conall - ‘strong as a wolf’, Conamail - ‘wolf-like’, Conan ‘- wolf,
hound’, Conchobar - ‘wolf-lover’, Congal - ‘brave as a hound or wolf’,
Conmacc - ‘wolf-son’, Conmael - ‘wolf-warrior’, Conri - ‘king of wolves’.
Остается не совсем понятным, почему перевод данного эле-
мента как «волк» для авторов оказывается последовательно предпо-
чтительным и почему, например, быть «князем волков» или «князем-
волком» для ирландского короля или иного представителя знати более
почетно, чем быть «князем-псом»? Огамическое имя CUNOMAGLI
переводится Д. МакМанусом как ‘prince of hounds’, и мы постараемся
показать, что прав был он, причем прав не случайно.
И все же, безусловно, сторонники перевода элемента CON-
как «волк» в некоторой степени основания для этого имеют. Автор
недавно вышедшей книги об ирландской хулительной поэзии Р. Мак-
Лафлин7 пишет, что «слово Си “пес” являлось постоянным хвалеб-
ным эпитетом, употребляемым по отношению к героям и знати, и из
юридических источников мы также находим свидетельства того, что
сторожевые и охотничьи псы высоко ценились и стоили очень доро-
го» [McLaughlin 2008, 35], но при этом она же признает, что «с другой
стороны, в хулительных стихах “пес” является эпитетом, имеющим
выраженный насмешливый и отрицательный характер» (ibid.). Сказан-
ное, безусловно, представляет собой универсально распространенное
явление, и в том же русском языке слово собака имеет экспрессивно-
обсценное значение, в то время как слово сука уже даже выходит за
рамки нормативной лексики. В ирландской (скандинавской?) тради-
ции, например, существовал обычай хоронить поверженного врага ря-
7Рецензию на книгу - см. Атлантика, вып. 9.
53
дом с собакой: так, например, в 1115 г. был унижен отец короля Диар-
майда Мак Мурхада: «Во время битвы отец Диармайда был убит сканди-
навами. Диармайд не только лишился отца; его тело было осквернено тем,
что его намеренно зарыли в могилу вместе с собакой» [Furlong 2006: 23].
Если бы этого короля похоронили вместе с конем, никакого оскорбления
в этом акте не содержалось бы, что очевидно было и современникам со-
бытия, как это очевидно и нам сейчас. Но, строго говоря, почему8?
Мы можем предложить довольно наивное объяснение амби-
валентного (но при этом поразительно стойкого) отношения к собаке
практически у всех народов, которое, естественно, не претендует даже
на то, чтобы быть названным «наивной зоологией». Собака является
потомком одомашненного волка. Но волк, в отличие от других впо-
следствии доместицированных животных (лошади, коровы, овцы и
проч.), как и человек, был хищником и поэтому автоматически ока-
зывался не только врагом человека, но и его соперником во время охо-
ты. Однако другие «соперники», леопарды, тигры, рыси и даже лисы,
остались верны своему «дикому братству» и лишь часть волков пре-
дала своих родичей и за тепло пещеры и остатки убитой туши дикого
козла согласилась служить человеку. Кроме того, доместикация копыт-
ных, как мы понимаем, всегда происходила насильственно, тогда как
волки-предатели превращались в собак чуть ли не добровольно.
Ирландское слово, обозначающее собственно волка - fdel
встречается в текстах довольно редко, видимо, вследствие табуиро-
ванное™. В современном языке волк называется «дикой собакой» или
«сыном земли», ср. соответствующую глоссу в Глоссарии О’Клери:
faol .i. ей allaidh no mac tire [по данным DIL] - «волк, т. e. дикий пес
или сын земли». Более того, само слово fdel, не имеющее бриттских
параллелей, является ранним субститутом9 собственно индоевропей-
ского обозначения волка *wlkwo-, которое дало в прото-кельтском фор-
му *и1к"о- с общим значением ‘зло’ (см. [Matasovic 2009: 406]).
8См., однако в настоящем издании статью Н. А. Ганиной «Собака в древне-
германской традиции». «Захоронение собаки вместе с хозяином является
константой германской погребальной обрядности», - пишет она (см. [Гани-
на, с. 26]. Таким образом, мы можем, казалось бы, предположить, что отец
Диармайда был захоронен с собаками скандинавами (!) не для поругания его
тела, как это поняли ирландцы, а чтобы чуть ли не почтить его в духе древнего
германского ритуала? Сомневаемся, что этот «жест» следует расценивать как
взаимное непонимание культур. Во-первых, речь идет о теле убитого врага, во-
вторых, к началу XII в. и в Ирландии, и в скандинавском ареале ситуация уже
была иной. Однако, наверное, здесь действительно есть, о чем задуматься, и
все обстоит не так просто: во всяком случае этот эпизод удачно «высвечивает»
амбивалентность отношения к собаке-псу во многих обществах.
9Предположительно к и.е. *way ‘выть’.
54
Действительно, образ волка в ирландской традиции (в отли-
чие от германской) отрицателен однозначно: это символ зла и опас-
ности, причем метафорически «волк» обычно обозначает не яростного
воина, а грабителя и убийцу10. Так, например, в саге «Разрушение Дома
Да Дерга» сказано: «сыновья Дона Деса и перешедшие на их сторону
младшие сыновья из знати начинают заниматься разбоем (diberg\ при-
чем о них говорится, что они были ос faelad ‘волковали’ в Коннахте»
[McCone 1986, 15], ср. оригинал:
Tr .111. fear doib in tan badar ос faelad i Crich Connacht
[Knott 1936: 7,1.206]
Этот фрагмент был переведен Кроссом и Слоуэром так:
“Thrice fifty men had they as pupils who in the form of were-
wolves were destroying in the province of Connacht [Cross and
Slower 1936: 99]
Аналогичное буквальное понимание метафоры встречается и в
средне-ирландской традиции. Так трактат «Верность имен» (Coir Аптапп)
объясняет происхождение имени Laignech Faelad (букв.: «волк из лагенов»):
215. Laighnech Faeladh .i. fer eissidhe no thegedh fri faeladh .i.
conrechtaibh .i. areachtaibh na mac tire teghedh intan ba hail do, q teighdis
a shil ina dheoidh, q domharbhdais na hindile fo bes na mac tire, conadh
aire sin isberthi Laighnech Faeladh ffissium, ar is e cetna dochoidh i conre-
cht dibh. [Stokes 1897, 376] - «Лагнех Фаэлад, то есть этот человек был
скор в волковании, т. е. принимал облик волка. Сам он, как и его потом-
ки, умели, когда им захочется, становиться волками и следуя обычаям
волков, они нападали на скот. Потому его и прозвали Волк Лагенов,
потому что он первым стал принимать облик волка».
Как полагает Д. Миллер, собака может быть лишь спутником
эпического героя, волк же может представлять его alter ego, «волчью
сторону его натуры», его дикую, необузданную природу и боевую
ярость [Miller 2002: 78]. Это мнение распространено достаточно широ-
ко, и в традиции ирландской может быть поддержано употреблением
слова сапо ‘волчонок’ в значении ‘молодой воин’ (см. об этом в извест-
ных работах К. МакКона [McCone 1986; McCone 1987]).
Так, например, многие исследователи (включая и МакКона),
анализируя изображение на внутренней панели D котла из Гундестру-
па, квалифицируют его как ‘hunting’ or ‘bull-slaying scene’. На пластине
действительно изображены три быка, причем рядом с каждым из них
мы видим воина с мечом, у ног которого расположено животное, тра-
диционно интерпретируемое как волк, олицетворяющий боевой пыл
0<><><ХК><ХХХ>0<ХХ>0<ХХХхХ>0<<><>0<><>00<К><>
10Несколько иной образ волка см. в работе Ж. Борч [Borsje 2009].
55
воина. Однако следует обратить внимание на трех хищных леопардов
или рысей, расположенных вверху пластины. Мы полагаем, что изо-
браженная сцена является не сценой охоты на быков, но, напротив,
сценой защиты быка (скота - в целом) от возможного нападения хищ-
ника. Герой-воин в данном случае предстает именно как охранитель
стад, а находящееся у его ног животное - собака, его помощник и, воз-
можно, также его alter ego.
Таким образом, мы можем сделать осторожный вывод: роль
волка в эпической традиции в целом и в кельтской традиции, в частно-
сти, была завышена, тогда как образ пса - недооценен (возможно, под
влиянием традиции германской). Пес - это не «второсортный волк»,
но самостоятельный мифологический образ, имеющий очень длинную
историю. Его основная функция - быть помощником человека на охоте,
но он также является незаменимым стражем жилища и стад, что в свою
очередь проявляется как в системе имен собственных, так и в эпической
метафорике. Таким образом, древнеирландское ей также может «обозна-
чать воинский статус», сохраняя при этом свое исконное значение «пес».
«Собака, - как пишут Мэллори и Адамс в своей «Энцикло-
педии индоевропейцев», - является древнейшим доместицированным
животным и происходит из одомашненного волка (Canis lupus). Про-
цесс доместикации начался примерно в 10 000 - 8 000 до н. э. и начи-
ная с эпохи Мезолита собака широко распространилось во всей Евра-
зии, о чем говорят археологические данные - от 2 до 5 % найденных на
стоянках костей принадлежать собакам. Собака приобрела особенную
важность как помощник во время охоты, а также - как сторож стад и жи-
лищ» [Mallory & Adams 1997: 167]11. Подчеркнутые нами две основные
функции пса в архаических обществах (быть помощником во время охоты
и охранять стада) имеют прямые параллели с выделенными С. Боурой дву-
мя основными типами эпического героя: героя как завоевателя-агрессора
и героя как защитника- охранителя. Иными словами - героя-Ахиллеса и
героя-Гектора. К какому же типу мы можем отнести Кухулина?
На первый взгляд, естественно, Кухулин кажется более похо-
жим на Ахиллеса - полубожественного героя, не знающего поражений
в поединках. «Кухулин - это ирландский Ахиллес» [Dillon 1948: 1] -
назвал его М. Диллон, по определению М. Кларка «в одной из наибо-
лее популярных книг об ирландской традиции» [Clarke 2009: 238]. Так,
в знаменитом эпизоде из «Детских подвигов» Кухулин, как и Ахиллес,
оказывается перед выбором: долгая, но бесславная жизнь, или жизнь
<ххк><х><х><><х><><ххххххх><хх><ххх><х
11 Последние генетические исследования показывают, что одомашнивание соба-
ки началось около 14 тысяч лет до н. э. См. Archaeology Magazine: A Publication
of the Archaeological Institute of America. Volume 63 Number 5, September/
October 2010 <http://www.archaeology.org/1009/dogs/index.html> - Прим. ped.
56
короткая, но затем - посмертная слава. И, как все помнят, Кухулин го-
ворит: «Пусть я проживу на этой земле лишь один день и одну ночь,
лишь бы слава о моих подвигах осталась после меня». Более того, как
отмечал П. Форд, «Там, где Ахиллес сомневается, Кухулин не разду-
мывая делает свой выбор» [Ford 1994: 259].
И действительно, Кухулин постоянно отстаивает свое герои-
ческое первенство, постоянно стремится доказать, что ему принадле-
жит право называться лучшим воином среди всех уладов (этому, на-
пример, целиком посвящена сага «Пир у Брикрена»), но этот, казалось
бы, очевидный и даже признаваемый врагами уладов факт, самими ута-
дами постоянно оспаривается. Мало кто из уладских героев, как это ни
парадоксально, заслуживает такого количества оскорблений, насмешек и
упреков, как Кухулин, убивший ради Конхобара и его воинов собствен-
ного сына, а затем погибший, сражаясь в одиночку против целого войска.
Однако, если мы вновь обратимся к классификации С. Боуры,
мы должны будем признать, что в сагах уладского цикла, рассматри-
ваемых как единый текст, Кухулин скорее выполняет функции Гекто-
ра - быть защитником и охранителем. И более того, возможно, именно
Кухулин представляет собой тот архаический тип эпического героя,
который был описан Я. Васильковым: героя, защищающего жен и ста-
да. В «Похищении быка из Куальнге», когда Кухулин, ослабленный и
израненный уже не может продолжать сражаться, Суалтам, его прием-
ный отец, взывает к уладам:
Fir gondair, mnabertair, bae aegtair, aUltu! [O’Rahilly 1967: 111,
1.4015] - «Мужей убивают, жен похищают, скот угоняют, о улады!»
Как пишет о Кухулине Э. Дули, его сверхъестественная сила
имеет и сверхъестественную природу, но конкретное применение этой
силы направлено на защиту вполне земной племенной территории.
Это герой, «героическая сила этого персонажа направлена в первую
очередь на то, чтобы защищать свои территории» [Dooley 2006: 127],
то есть - говоря коротко - его основная функция - функция стороже-
вого пса! Сказанное соотносится и со многими хорошо известными
эпизодами эпической биографии Кухулина. Его «божественная сила»
имеет безусловно тотемический характер, что решается на уровне сю-
жетном и в самой легенде о получении им своего имени (он должен
служить защитником дома кузнеца Кулана, пса которого он убил), и в
гейсе Кухулина - есть собачье мясо (М. Грин полагает, что за этим сто-
ит отчасти реальная архаическая практика употреблять собак в пищу,
см. [Greene 1992: 187]). Таким образом, на сюжетном уровне мы ви-
дим, что для Кухулина первый слог его имени - это не просто боевая
метафора, как бы мы ее ни понимали, но отсылка к реальным сюжет-
57
ным элементам его биографии. Будучи в душе Ахиллесом, для всего
племени он в первую очередь - сторожевой пес (к нему часто так и
обращаются). Кухулин - герой внутри социума, но в этом социуме он
занимает, как это ни парадоксально, одну из самых нижних ступеней:
место сторожевого пса. Причем сказанное относится не только к об-
ласти эпической метафорики.
Как показал Л. Брятнох, «В дополнение за выплату компенса-
ции за убийство сторожевого пса, согласно ирландским законам, истец
должен был также приобрети взамен щенка и вырастить его до взрос-
лого состояния, а затем передать пса ответчику, что сразу вызывает
в памяти эпизод о получении юным Кухулином своего имени - «пес
Кулана» [Breatnach 1996: 18].
Действительно, вспомним слова юного Сетанты:
Bam cu-sa imdegla a almai q a indili q a feraind in n-ed sain
[O’Rahilly 1967: 25,1.904-5]. - «Я сам буду псом, который будет охра-
нять двор и стада Кулана и всю нашу землю».
Однако, будучи ребенком, Сетанта не имел возможности за-
платить кузнецу Кулану dire за нанесенный им ущерб, что определя-
лось правовыми нормами периода компиляции самого памятника. Как
пишет Л. Брятнох в заключении к своей работе: «сравнение с норма-
ми Законов показывает, что предложение Сетанты заменить пса вовсе
не является актом благородства, но обусловлено правовыми норма-
ми того времени» [Breatnach 1996: 20]. Так, в трактате, называемом
con-slechta ‘раздел о псах’ подробно описано, как такой сторожевой
пес-убийца должен был в начале стеречь только дверь, затем - двор,
и в три года ему доверялось хозяйство в целом. Убийство подобного
пса требовало очень высокого выкупа (до семи кумалов12, что соответ-
ствовало выплате за убийство взрослого мужчины среднего статуса!),
причем, если убивший не располагал самостоятельными средствами,
он должен был сам на какое-то время взять на себя функции сторожа.
В законах уделено достаточное место описанию разных пород собак, их
стоимости и их функциям13, причем, что интересно для нас, особую кате-
горию составляли так называемые огсае или messdn - домашние собачки,
которые принадлежали в основном женщинам и должны были охранять
их от сидов, особенно - во время поздних этапов беременности, родов и
вскармливания. Они должны были следить, чтобы сиды ребенка не укра-
ли и не испортили. Если такую собачку убивали, то цена за нее составляла
всего три сета, но кроме того на это время обидчик должен был (уже в
период раннего христианства) нанять священника, который должен был
охранять женщину и читать молитвы, то есть - исполнять функции пса.
12 Цена женщины-рабыни.
13См. [Kelly 1988: 145-146].
58
Говоря о своем намерении защищать все уладские земли («я буцу
охранять всю Долину Муртемне и ни одна голова скота не будет взята
без моего ведома»), Кухулин, казалось бы, декларирует свою основную
героическую функцию: быть не только сторожевым псом Кулана, но и
(псом) защитником всей племенной территории и всех стад племени.
Но при этом возникает своего рода парадокс. Круг оказывается зам-
кнувшимся дважды: герой, стоящий над племенем, занимает одновре-
менно самое низкое социальное положение - он становится как бы все-
общим слугой, причем - в функции животного. Но именно такую роль,
быть слугой своего рода, и должен был согласно ирландским законам
занимать ребенок, рожденный в результате инцеста, ребенок, который
в силу неординарности своего появления на свет согласно эпическим и
мифологическим канонам должен был стать героем, святым или иной
неординарной личностью (в зависимости от ценностных и конфессио-
нальных установок порождающего текст общества).
Но что означало «быть псом» для архаического кельтского со-
знания? Какое место «пес» занимал в кельтском социуме и, если мож-
но так сказать - на социальной лестнице? Мы должны понимать, что
для коллективного компилятора уладского цикла образ пса отличался
от того образа, который традиционен сейчас для и который фиксирует-
ся в более поздней ирландской же традиции. Приведем всего несколько
показательных примеров, относящихся к разным традициям:
1. Римский историк Аппиан Александрийский в своих «Вой-
нах с кельтами» описывает посла короля аллоброгов:
«Начальники салиев, народа, побежденного римлянами,
бежали к аллоброгам. Требуя их, римляне ополчились на
аллоброгов, не выдававших их; предводительствовал рим-
лянами Гней Домиций. Когда он проходил по земле салиев,
ему повстречался посол царя аллоброгов Битуита, одетый
весьма роскошно; за ним следовали копьеносцы, пышно
разодетые, и собаки, ибо тамошние варвары охраняются
также и собаками. За ним следовал и певец-музыкант, вос-
певая на варварский лад славное происхождение, мужество
и богатство царя Битуита, затем аллоброгов, затем самого
посла. Из-за этого наиболее знатные из послов и водят их за
собой». (IV. XII. О войнах с кельтами, [Аппиан 2002: 43]).
2. Галльская богиня Нехалета, изображения которой находят
в основном на территории белгов, постоянно изображается рядом с
небольшой собакой, которая считается воплощением самой богини,
либо - ее охранительницей. Причем в руках Нехалета держит фрукты
59
и злаки и вообще считается божеством плодородия и покровительни-
цей семьи и домашнего очага (см. [Greene 2004: 12-14]).
3. Возвращаясь к описанному нами эпизоду «Детских под-
вигов» Кухулина, отметим, что после убийства пса кузнец Кулан про-
износит следующую фразу: Maith in fer muntiri rucais uaim [O’Rahilly
1967:25,900] - «Хорош (был) муж из моей семьи, который отнят у меня».
4. В сагах Лейнстерского цикла, повествующих о Финне и его
воинах, также присутствует пес, занимающий место постоянного пер-
сонажа цикла. Знаменитый пес Бран, спутник Финна мак Кумала, на
самом деле не был собственно псом, но являлся Финну двоюродным
братом. Его тетка во время беременности была превращена завистни-
цей в собаку (видимо - просто названа сукой14) и поэтому она родила
не мальчиков, а щенков. Затем проклятие было снято с матери, но дети
ее навсегда остались в собачьем облике. В сагах и в поздней фоль-
клорной традиции часто отмечается, что Бран не был псом, но скорее
человеком. Например, в «Разговорах стариков»:
Bran gearbha ей nirsad ей
maith a gaisceadh, caoimh а с1й,
nir mhac con, nir chin 6 choin,
nir chuimpirt con a mathair
[6 Briain 1996: 180]
Бран хоть и был псом, не был псом
добро его боевое искусство,
прекрасна его слава.
не сын пса, не потомство пса,
и мать его не была из собак.
5. В др.ирл. слово тасс имело значения «мальчик, сын», од-
нако в ново-ирландский период появилась потребность разграничить
эти понятия, и для первого стало использоваться слово buachaill «па-
стушок» (букв. - «коровий сторож»). Таким образом, употребляемое
в XV-XII вв. обозначение овчарки, пастушьей собаки - conbuachaill
означало буквально «псо-мальчик».
6. Героем саги «О кабане Мак Дато» является чудесный пес
Альбе, о котором говорится, «он защищал весь Лейнстер и вся Ир-
ландия была полна его славы» (в оригинале: ‘lan hEriu dia aurdarcus’
[Chadwick 1927: 9]). Следует отметить, что то же самое слово aurdar-
cus используется в эпизоде детских подвигов Кухулина: «Мальчик,
который впервые в этот день возьмет в руки оружие, будет исполнен
славы, но отмечен краткой жизнью» (mac bee congebad gasced, bad an q
rabid irdairc, rabid duthain q dimbdan [O’Rahilly 1967: 26, 26-27]). Та-
ким образом, понятие славы (известное нам по традиции героической)
в Ирландии применялось не только по отношению к герою-человеку,
но и к герою-псу. Согласно сюжету саги, улады пришли к Мак Дато
просить у него Альбе, чтобы тот служил им защитой от коннахтов, но
о<х><><>о<><><><><><х><><><><><>^^
14 То есть вновь - пример того, что может быть названо «этимологическим наррат ивом».
60
Альлиль и Медб, как известно, обратились к Мак Дато с аналогичной
просьбой, откуда и вся коллизия саги. В этой саге Кухулин еще не дей-
ствует и видимо, действие ее происходит до его рождения. Уладам ну-
жен был пес-защитник, но не получив Айльбе, они позднее получили
другого пса-защитника, которым и стал Кухулин.
Итак, в кельтской традиции, пес - это больше, чем просто жи-
вотное. Однако это и не героический божественный тотем. Мы дей-
ствительно можем согласиться с Д. Миллером, писавшим, что «для
кельтов пес был не совсем животным, но и не совсем человеком»
[Miller 2002: 76]. Его статус - быть внутри племени, являясь одним
из его членов, но статус его низок и приближен к статусу раба. При-
чем интересно, что если мы обратимся к биографии Кухулина, то мы
увидим, что в самом начале, несмотря на сомнительность его рождения,
он воспринимался как прекрасный принц и «все улады спорили между
собой, кому быть его воспитателем». Однако после убийства пса ситуация
меняется и заметно меняется отношение к нему. Поэтому, видимо, в саге
«Недуг уладов» о нем и говорится, что он «не был из уладов».
В недавно вышедшей работе о «Недуге уладов» затрагивается
примерно та же проблема и вывод, к которому приходит автор, отча-
сти оказывается близким нашему: «Кухулин не подвластен проклятию
богини, потому что согласился охранять дом кузнеца, тем самым до-
бровольно перейдя в третью функцию» [Сатеу 2008: 62]. Дж.Карни
справедливо отмечает при этом, что судя по сюжету «Похищения быка
из Куальнге» Фергус, Кормак сын Конхобара и другие изгнанники ула-
дов, перешедшие на сторону Коннахта, также почему-то не подверже-
ны недугу. По его мнению, и Кухулин, и «изганники» добровольно по-
кидают сообщество «уладских воинов», на которых «по умолчанию»
проклятие Махи должно было распространяться. Таким образом, Ку-
хулин перестал быть «воином», а Фергус и другие, оставаясь воинами,
перестали быть уладами.
Естественно, мы не можем обсуждать биографию эпического
героя или фольклорного персонажа так, будто речь идет о реальных
исторических личностях. Вспомним слова Фрейденберг, что «герой
является тем, что значит его имя». Возможно, элемент ей в имени-
источнике Си-сис (предположительно - «кукушка») в духе традиции
«этимологического нарратива» послужил толчком к созданию всего
сюжета и уточнил образ героя-пса, который, естественно, имеет архаи-
ческие корни. Причем мифологический подтекст продолжает «рабо-
тать» на уровне более позднего нарратива, стремящегося рационали-
зировать свое сюжетное полотно: занимая самое низшее положение,
Кухулин одновременно возвышается над другими уладскими воинами.
61
Мы уже цитировали стихи о Лугайде-красных полос, чьем ;
имя А. Смирнов справедливо переводил как «Лугайд красных шра- j
мов», полагая, что за его прозвищем стоит простая деталь - он либо !
сам наносил шрамы в битвах, либо был покрыт боевыми шрамами. [
Однако на том, что мы назвали бы «культурном швом», метафора или
лексема высвечивается в своей непонятности и порождает целый сю-
жет, основанный на буквальном ее понимании.
Литература !
Аппиан 2002 - Аппиан Александрийский. Римская история. Пер. с греч. М., 2002.
Боура 2002 -Боура С. М. Героическая поэзия. Пер. с англ. М., 2002.
Васильков 2010 - Васильков Я. В. Между собакой и волком: индоевропейские
«волчьи» и «псовые» воинские союзы по данным индийской тради-
ции // Топоровские чтения I-IV. Избранное. Изд. М. В. Завьялова,
Т. В. Цивьян. М., 2010. |
Рисы 1999 - Рис А. и Б. Наследие кельтов. Древняя традиция в Ирландии и
Уэльсе. Пер. с англ. М., 1999.
Смирнов 1933 - Смирнов А. А. Ирландские саги. Л.-М., 1933.
Топоров 1993 - Топоров В. Н. Об индоевропейской заговорной традиции (избран-
ные главы). 5. Имена личные в русских заговорах. // Исследования в об-
ласти балто-славянской духовной культуры. Заговор. М., 1993.
Топорова 1996 - Топорова Т. В. Культура в зеркале языка: древнегерманские
двучленные имена собственные. М., 1996.
Фрейденберг 1982 - Фрейденберг О. М. Мотивы // Поэтика, труды русских и
советских поэтических школ. Будапешт, 1982.
Archibald 2001 - Archibald Е. Incest and the Medieval Imagination. Oxford. 2001
Bitel 1996 - Bitel L. Land of Women: Tales of Sex and Gender from Early Ireland.
Ithaca, 1966.
Borsje 2009 - Borsje J. Supernatural Threats to Kings: Exploration of a Motif in the
Ulster Cycle and Other Medieval Irish Tales // 6 hUiginn, R. & 6 Cathain
B. (Eds). Ulidia 2: Proceedings of the Second International Conference on
the Ulster Cycle of Tales. Maynooth, 2009.
Breatnach 1996 - Breatnach L. On the Glossing of Early Irish Law-Texts, Fragmen-
tary Texts, and some Aspects of Laws Relating to Dogs // Ahlqvist A.,
Banks G. W. etc. (Eds.) Celtica Helsingiensia. Proceedings from a Sym-
posium on Celtic Studies. Helsinki, 1996.
Bruford 1989 -BrufordA. The Twins of Macha// Cosmos, vol.5, 1989.
Carney 2008 - Carney J. The Pangs of the Ulstermen: an Exchangist Perspecive //
JIES,vol.36,N 1-2, 2008.
Chadwick 1927 - Chadwick N. K. (ed.) An Early Irish Reader: Seel Mucci Mic
Datho. Cambridge, 1927.
Clarke 2009 - Clarke M. An Irish Achiless and a Greek Cu Chulainn // 6 hUiginn R.
& 6 Cathain B. (Eds.) Ulidia 2: Proceedings of the Second International
Conference on the Ulster Cycle of Tales. Maynooth, 2009.
62
Cross and Slower 1936 - Cross T. P. and Slower С. H. (eds. and trans.) Ancient Irish
Tales. New York, 1936.
Delamarre 2003 - Delamarre X. Dictionnaire de la langue gauloise. Une approche
linguistique du vieux-celtique continental. Paris, 2003.
Dillon 1948 -Dillon M. Early Irish Literature. Chicago, 1948.
Dooley 2006 - Dooley A. Playing the Hero: Readings the Irish Saga Tain bd
Cuailnge. Toronto, 2006.
Dumezil 1971 - Dumezil G. Mythe et epopee. Types epiques indo-europeens: un
heros, un sorcier, un roi. Paris, 1971.
Ford 1994 - Ford P K. The Idea of Everlasting Fame in the Tain // Mallory, J.P. &
Stockman, G. (Eds.) Ulidia: Proceedings of the First International Con-
ference on the Ulster Cycle of Tales. Belfast & Emain Macha, 8-12 April
1994. Belfast, 1994.
Furlong 2006 - Furlong N. Diarmait, King of Leinster. Dublin, 2006.
Green 1992 - Green M. Animals in Celtic Life and Myth. London and New York, 1992.
Green 2004 - Green M. Symbol & Image in Celtic Religious Art. London and New
York, 2004.
Hull 1968 - Hull V. (ed.) Noinden Ulad: The Affliction of the Ulstermen // Celtica,
vol. 8, 1968.
Keating 1908 - Keating G. Foras Feasa ar Eirinn. The History of Ireland by Geof-
frey Keating. Vol. II. London (Irish Texts Society, 8, 1908.
Kelly 1988 - Kelly F. A Guide to Early Irish Law. Dublin, 1988.
Knott 1936 -KnottE. (ed.) Togail Bruidne Da Derga. Dublin. (Medieval & Modem
Irish Series, 8), 1936.
McCone 1986 - McCone К Werewolves, Cyclopes, Diberga, and Fianna:. Juvenile De-
linquency in Early Ireland // Cambridge Medieval Celtic Studies, vol. 12,1986.
McCone 1987 - McCone К Hund, Wolf und Krieger bei den Indogermanen’ //
WMeid (ed.) Studien zum indogermanischen Wortschatz. Innsbruk, 1987.
Mallory & Adams 1997 - Mallory J.P. & Adams D. Q. Encyclopedia of Indo-Euro-
pean Culture. London, 1997.
Matasovic 2009 - Matasovic R. Etymological Dictionary of Proto-Celtic. Leiden, 2009.
McLaughlin 2008 - McLaughlin R. Early Irish Satire. Dublin, 2008.
McManus 1997 - McManus D. A Guide to Ogam. Maynooth, 1997.
Marstrander 1911 - Marstrander C. (ed.) The Deaths of Lugaid and Derbforgaill //
Eriu vol., 6, 1911.
Miller 2002 - Miller D. A. The Epic Hero. Baltimore and London? 2002.
6 Briain 1996 - О Briain M. The Conception and Death of Fionn Mac Cumhaill’s
Canine Cousin. // (Eds.) A.Ahlqvist, G.W.Banks etc. Celtica Helsin-
giensia. Proceedings from a Symposium on Celtic Studies. Helsinki, 1996.
O’Corrain 1990 - O’Corrain D., Maguire F. Irish Names, Dublin, 1990.
O’Grady 1892 - O’Grady S. H. Silva Gadelica. Vol.I. London, 1892.
O’Rahilly 1967 - O’Rahilly C. (ed.) Tain Bo Cualnge from the Book of Leinster.
Dublin, 1967.
Pokorny 1923 - Pokorny J. A Historical Reader of Old Irish. Halle, 1923.
63
Stokes 1897 - Stokes, W (ed.) CoirAnmann. ‘Fitness of Names’. // Irische Texte mit
Ubersetzungen und Worterbuch, herausg. von Wh. Stokes undE.Windisch.
Dritte Serie. 2 Heft. Leipzig, 1897, 285-444.
Uhlich 1993 - Uhlich J. Die Morphologie der komponierten Personennamen des
Altirishen. Bonn, 1993.
Van Hamel 1933 - Van Hamel A. G. (ed.) Compert Con Culainn and Other Stories.
Dublin, 1933. (Medieval & Modem Irish Series, 3).
Watson 1941 - Watson J. C. (ed.) MescaUlad. Dublin, 1941. (Medieval & Modem
Irish Series, 13).
Summary
The Debility of the Ulidians ends with the words: ‘This affliction,
however, did not used to be upon women and boys and upon Cu Chulainn,
for he was not one of the Ulidians... ’ (ar nirbo do Ultaib do).
Cu Chulainn could be excluded from the tribe because of the doubt
to his paternity, but, as the present article argues, the reason for his non-
Ulidian status lies in his ambivalent, half-animal nature. His own idea to ‘be
the hound to protect Culand’s flocks and cattle and land’ (TBC-LL), being
in accord with the requirements of early Irish law (as L.Breatnach showed
in Celtica Helsingiensia) is supported by an old I.E. concept of a hero as
shepherd and protector of cows (and women) of the tribe.
The canine nature of Cu Chulainn could explain some features of
his behavior and strange attitudes of other Ulstermen towards him.
At the same time we can remember Finn’s hound Bran whose hu-
man nature represents a constant motif of Fenian tradition (cf. also 01 con-
buachaill ‘herding dog’, literally ‘ boy-hound’).
The article also considers 01 compound names with the element con-,
especially in Ulster cycle. Some Germanic and Indian parallels are given.
С. В. Иванов
Образ ежа в ирландской традиции
В статье рассматриваются два обозначения ежа в ирланд-
ском языке - новообразование grdinneog и, вероятно, более старая
форма griun. Для объяснения замены более старого обозначения на
новое предлагается табуирование, поскольку griun проявляет отчет-
ливые признаки маркированности, связанной с совокупностью пред-
ставлений о ритуалах перехода.
Ключевые слова', животные, еж, ирландские саги, Кухулин,
боевой пыл.
В данной работе мы постараемся осветить тему ежей в ир-
ландской традиции. «Ежиная» проблематика была подробно изучена
на примере балто-балканского ареала [Разаускас, Цивьян 2004; Разау-
скас, Цивьян 2005], и, как нам кажется, результаты этих исследований
должны подтолкнуть к расширению материала и обращению к данным
иных стран и культур. В основном мы сосредоточимся на лингвисти-
ческой и этимологической стороне вопроса, но, тем не менее, не оста-
вим без внимания и культурно-филологическую тематику.
Общераспространенное название «ежа» в ирландском - grdin-
neog1. Как мы видим, оно никак не соотносится с и.-е. корнем
рефлексами которого являются греч. e/ivoc, осет. wyzyn // uzun, арм.
ozni, лит. ezys, латыш, ezis, рус. еж, др.-в.-нем., др.-англ, igil (нем. Igel)
«еж» [Гамкрелидзе, Иванов 1984, II: 526]. Оно также отдалено и от
латинского (h)er и греческого /г/р [Emout, Meillet, s.v. (h)er, Chant-
raine, s.v. /f|p], возводимых к корню ^ёг. Иными словами, ирланд-
ское обозначение «ежа» оказывается оторванным не только от балто-
славянского, но и от германского и италийского ареала3.
<хХ>О<Х><ХХ><>г>ОО<Х><><ХХКХХХХ><х>О<х><ХхХ>
‘В различных словарях приводятся также иные номинации: rutha [Dinneen
1904: s.v. rutha', Forbes 1905: 16] - «рыба колюшка», также «еж», однако тот же
Форбс в другом месте [Forbes 1905: 45], как и [Focaloir gaoidhilge-sax-bhearla,
410], дает для ruth, rutha значение только «колюшка; скат», это слово не упо-
минается в работе О Бэйлла по названиям рыб в гойдельских языках [О Baoill
1994]; uircean-garaidh и uircean-sona как обозначения ежа, по-видимому, ха-
рактерны только для шотландского гэльского.
2О соотношении корней *е@Ч- и *g?er см. [Николаев 2010: 44, прим. 78].
3[DLG: 161] приводит основы egi(no)-, -dio-, «herisson?», полагая, что в неко-
торых галльских именах собственных, может быть, содержится рефлекс и.-е.
*eg/7-. Это предположение выглядит не вполне убедительно в свете примеров,
которые даются на эту основу. Ср. также племенное название Egivarri Namarini в
Астурии, относимое некоторыми исследователями к кельтским, в котором также
65
Этимология grdinneog довольно прозрачна - это производное
от ср.-ирл. grain «awfulness; terror, horror» с суффиксом -дс, который,
как отмечает Пол Рассел, часто встречается в названиях растений и жи-
вотных [Russell 1990: 109]. Форбс дает буквальный перевод «the Hor-
rent one» [Forbes 1905: 12]4. Можно заметить, что qt grain образовано
большое количество других производных, в том числе и grdinech, ко-
торое, как и многие производные на -ech, вероятно, обладало не только
активным, но и пассивным значением, то есть, допускало интерпрета-
цию не только «вызывающий боязнь», но и «боязливый, пугливый».
В этой связи ср. другое производное от того же слова grdindecht «fear-
someness» / grdinecht «ugliness, hideousness»5.
Как указывает Рассел, лексемы с суффиксом -дс, за немно-
гими исключениями, появляются в среднеирландский период, но по-
настоящему продуктивным этот способ словообразования становится
только в новоирландскую эпоху [Russell 1990: 109].
Вероятно, первой фиксацией слова grdinneog можно считать
упоминание (в форме grdineog) в глоссарии О’Клери [O’Clery RC V: 6],
вышедшем в 1643 г. Оно также приводится Эдвардом Ллуйдом (в форме
grainedg) в ирландско-английском словаре, вошедшем в его [Archaeologia
Britannica] (1707 г.), и, наконец, О’Брайеном, составителем словаря [Fo-
caloir gaoidhilge-sax-bhearla] (1768 г.), опиравшемся на издание Ллуйда.
Прозрачность словообразования говорит о том, что это описа-
тельное обозначение стало прилагаться к ежам относительно недавно,
вытеснив более древнее наименование6. Сходную ситуацию можно на-
блюдать на примере английского, где хорошо засвидетельствованное в
древнеанглийском igil (il) на протяжении среднеанглийского периода
вытесняется словом hedgehog1. В данном случае процесс замены мож-
возможно выделить этот формант, см. [Falileyev et al. 2009, s.v. Egivarri Namarini],
Вопрос о сохранении в континентальных кельтских языках рефлексов *е$Ч~, по-
видимому, неразрешим в отсутствие свидетельств островных кельтских языков.
4Наверное, стоит указать на то, что авторы словаря [Emout, Meillet 1959: s.v.
horror] осторожно предполагают связь лат. horror и ёг, ср. с большей долей
уверенности [Walde 1906: s.v. ёг]. В таком случае прослеживается интересное
типологическое схождение: в кельтском и латинском параллельно устанавли-
вается связь между лексемами со значением «страх» и «еж».
5 Хотя DIL разносит эти два слова по разным словарным статьям, s.v. grdinde-
cht, grdinecht, видимо, следует считать их одним словом с регулярной графи-
ческой вставкой n(d).
6 В валлийском мы наблюдаем картину, сходную с ирландской: валлийское обо-
значение ежа draenog также образовано по прозрачной словообразова-тельной мо-
дели: draen «thorn, prickle»+ og [GPC 1081]. Такая же семантиче-ская мотивация
лежит за авест. sukurana «еж», производным от suka «игла» [Szemerenyi 1977:234].
7Ср. [ASD], s.v. igil. В среднеанглийском il зафиксировано около 1200 г., а его
производное Tles-pll (id.) - вплоть до начала XV в., между тем как первая фик-
66
но наглядно проследить по текстам. Отметим, что hedgehog - слово,
также совершенно прозрачное с точки зрения словообразования, как и
grdinneog - пришло на смену igil, внутренняя форма которого уже не
осознавалась носителями языка.
Точно так же, считается, e/ivoc вытеснило в древнегреческом
/г/р, засвидетельствованное только у Гесихия [Chantraine, s.v. /г/р;
Frisk, s.v./T/p].
Ирландскую ситуацию роднит с греческой то, что фиксация
более древнего названия ежа, которое впоследствии было заменено
словом grdinneog и о котором мы будем говорить далее, дошла до нас
в глоссарии. Причины такой замены нам неизвестны. И если в случае
английского вряд ли можно говорить о каких-либо экстралингвистиче-
ских мотивах принятия нового наименования, то для греческого такой
мотивацией, обусловившей замену %jjp на fyivoq, предполагается та-
буирование [Chantraine, s.v./^o].
Как мы знаем, в ирландском нередки примеры табуирования,
особенно в области обозначения животных8. Возможно, в число таких
животных входит и еж. Вероятность табуирования повышается, если
то или иное животное является действующим лицом определенного
культа или совокупности мифопоэтических представлений, маркирую-
щих его в плане принадлежности к релевантным для данного общества
оппозициям («зло - добро», «хтоническое - солярное», «сакральное -
профанное») или связывающих его (в качестве атрибута или олицетво-
рения) с персонажем, уже отмеченным подобной маркированностью.
Можно утверждать, что по крайней мере в двух ареалах - в
балтийском и балканском - еж обладает всеми необходимыми свой-
ствами для того, чтобы причислить его к сакральным животным.
Д. Разаускас и Т. В. Цивьян отмечают, что «еж выступает [в сюжетах
о сотворении мира - С. И.] то как хтоническое животное <...>, то как
солярное», [Разаускас, Цивьян 2005: 203] и указывают на «амбивалент-
ную природу ежа, который в одной из своих ипостасей связан с дьяво-
лом и даже выступает в его роли» [id.: 205]. «Еж выступает в роли хто-
нического помощника Бога и/или его противника и соперника <...>,
связанного с низом. С другой стороны, выделяется солярная ипостась
ежа и соответственно его связь с верхом» [id. 222].
сация нового обозначения - heggebote относится к 1313 г., a heggehogge - око-
ло 1450 г., см. [MED], s.v. il, iles-pil, hegge.
8Хрестоматийным примером можно считать «волка»; уже в раннем ирланд-
ском он обозначается описательными новообразованиями: fael («воющий»), ей
allaid («дикий пес»). Вопрос о возможных отражениях и.-е. названия в онома-
стике нельзя считать закрытым. См. [Фалилеев 2003; Михайлова 2008; Mc-
Cone 1985; McCone 1987].
67
Как кажется, ирландский материал позволяет говорить о том,
что в мировоззрении ирландцев и шотландских гэлов еж также был
вписан в систему подобных противопоставлений. А. Форбс пишет, что
«в Адви встретить ежа, особенно после наступления сумерек, счита-
ется несчастливой приметой» [Forbes 1905: 170]9 10. В словаре Focaloir
gaoidhilge-sax-bhearla приводится устойчивое выражение cnuasach па
graineoige, «клад ежа», приводимое в насмешку над суетными людьми,
которым приходится расставаться со всем нажитым у могилы, как ежу,
который вынужден складывать яблоки у входа в свою узкую норку [Fo-
caloir 287, ср. также Forbes, ibid.].
Очевидно, что и неблагоприятные предзнаменования, и мета-
форическая связь с кладбищем, могилой, то есть, смертью и умира-
нием недвусмысленно относят ежа к области хтонического, темного
мира. Вероятно, можно с осторожностью предположить, что эта соот-
несенность ежа с Иным миром характерна не только для гойделов, но
является представлением, восходящим к общекельтским верованиям.
По крайней мере, это объяснило бы параллельное замещение древнего
названия ежа в валлийском.
Конечно, все это остается гипотезами, не подкрепленными
никакими конкретными данными, кроме общих типологических сооб-
ражений. Однако, как нам кажется, ирландские источники дают нам
в руки материал, позволяющий подвести под эти рассуждения доста-
точно прочное основание. В упоминавшемся уже глоссарии О’Клери
grdineog приводится в качестве толкования к слову griun [O’Clery RC
V: 6]. По данным DIL s.v. griuin™, это слово встречается еще только в
одном контексте, но этот контекст весьма любопытен сам по себе:
Secht meoir cechtar a da choss, secht meoir cechtar a da lam
co n-gabail ingni sebaic, co forgabail ingne griuin ar each n-af
fo leith diib-sin [TBC1: 71] —
9 Ср. русскую параллель: «Бегающий еж предвещает смерть или тяжелую бо-
лезнь» [Гура 1997: 261].
10Видимо, словарной формой (Nom.sg.) все-таки следует считать форму griun.
Форма griuin - по-видимому, регулярный Gen.sg. от griun. Следует отметить,
что в [DIL] приводится также слово criun с отсылкой к griuin, что, по-видимому,
должно указывать на возможную, по мнению составителей словаря, связь этих
лексем. Форма criun дошла до нас в глоссариях, где она толкуется как ей allaid
«волк». Обратим внимание на то, что она приводится и в глоссарии О’Клери
[RC IV: 392 criun ,i. mac tire «волк»], который не смешивает ни формы griun и
criun, ни их значения.
68
«Семь пальцев было на каждой его ноге, семь пальцев на
каждой руке и всякий был цепок, как коготь ежа или ястре-
ба» [Похищение: 224, пер. С. В. Шкунаева]11.
Этот фрагмент входит в описание внешности Кухулина, воз-
вращающегося из боя к мирным жителям и являющегося девушкам и
женщинам уладов в облике прекрасного юноши. Вряд ли здесь мож-
но предполагать присутствие «хтонического» элемента, ведь Кухулин
осознанно принимает мирный вид после только что завершившейся
битвы, во время которой он выступал в искаженном, отчетливо хтони-
ческом обличье, одержимый боевым пылом, «ибо не почитал он до-
стойным и славным тот темный магический образ, который явил он им
ночью» [Похищение: 223, пер. С. В. Шкунаева]. Впрочем, и в знамени-
том отрывке, изображающем «искажение» Кухулина, можно найти весьма
показательные и наводящие на некоторые соображения аллюзии:
Ra chasnig a folt imma chend imar craibred n-dergsciach i
m-bemaid athalta. Ce ro cratea rigaball fo rigthorad immi iss ed
mod da risad ubull dib dochum talman taris acht ro sesed ubull
for each oenfinna and re frithchassad na ferge atracht da fult
uaso [TBC I: 69]12-
«Словно ветви боярышника, которыми заделывают дыру
в изгороди, свились волосы на голове юноши. Если бы кло-
нящуюся под тяжестью плодов благородную яблоню по-
трясли над его головой, ни одно яблоко не упало бы наземь,
наколовшись на его грозно топорщащиеся волосы» [Похи-
щение, 220-221, пер. С. В. Шкунаева].
Трудно не заметить, что это описание воспроизводит хресто-
матийный образ ежа, с яблоками, наколотыми на иглы.13 Напрашива-
ется параллель с приведенным выше ирландским идиоматическим вы-
ражением enuasdeh па graineoige «клад ежа», не только повторяющим
это иконическое изображение, но и явно несущим в себе аллюзии на
Иной мир, загробную жизнь и хтонические мотивы. Напомним, что в
11 Ближе к тексту оригинала перевод С. О’Рейлли: Seven toes on each of his feet;
seven fingers on each of his hands with the grasp of a hawk’s claws and the grip of
a hedghog’s claws in each separate toe and finger. [TBC I: 190]
12Ср. более буквальный перевод С. О’Рейлли [TBC I: 187]: His hair curled about his
head like branches of red hawthorn used to re-fence a gap in a hedge. If a noble apple-
tree weighed down with fruit had been shaken about his hair, scarcely one apple would
have reached the ground through it, but an apple would have stayed impaled on each
separate hair because of the fierce bristling of his hair above his head.
13 На полях отметим интересный мотив: сравнение спутанных волос с ветвями,
используемыми для починки изгороди, представляет любопытную параллель
к англ, номинации hedgehog (hedge «изгородь»).
69
рассматриваемом отрывке Кухулин, охваченный яростью14, находится
в состоянии, выводящем его за пределы этого мира, и выступает в об-
разе представителя мира Иного.
Эта деталь внешности Кухулина находит почти дословное
совпадение в описании персонажей, отмеченных печатью принад-
лежности к Иному миру или пребывающим в состоянии перехода15.
Вставшие дыбом волосы вполне уместны при изображении воина в
пылу гнева или необычного, «инакового» персонажа, но такая деталь,
как упоминание яблок, по-видимому, соотносит все эти описания с об-
ликом известного животного. Вряд ли можно считать случайным со-
впадением и то, с каким постоянством это сравнение всплывает при
однотипных ситуациях. Скорее всего, следует предположить суще-
ствование устоявшейся связи между образом ощетинившегося ежа и
персонажами, принадлежащими Иному миру или временно отнесен-
ными к нему вследствие измененного, пограничного состояния, воз-
никающего, например, в пылу битвы. То, что эти персонажи наделены
явно хтоническими свойствами, позволяет утверждать, что и еж, образ
которого имплицитно присутствует в ореоле окружающей их метафо-
рики, также выделялся отчетливой хтонической маркированностью.
Как мы видим, еж в ирландской традиции обладает всеми
необходимыми свойствами - соотнесенностью с Иным миром и ини-
циационными переходами - для того, чтобы предположение о табуиро-
вании его названия выглядело вероятным и весьма правдоподобным.
Однако объяснения требует единственное открытое упоминание ежа
(griun) в контексте, который не только лишен хтонических коннотаций, но
и напротив, проявляет полную им противоположность - в описании пре-
красного облика Кухулина, явственно противопоставленного его бое-
вому «искажению». Как нам кажется, объяснение нужно искать в «ам-
бивалентной природе ежа», уже отмечавшейся на балто-балканском
материале [Разаускас, Цивьян 2005: 205]. Интересно, что аллюзии на
ежа наблюдаются в описании как хтонической, так и в светлой ипо-
о<ххххххх>ооо<х><ххххх><хххххх>«>о<хх>
14О «боевом пыле» в ирландской и иных традициях см. [Henry 1982]. Мне было
приятно увидеть, что ранее, исходя из совершенно других посылок, к сходному
результату пришла Ж. Борч, привлекшая к рассмотрению те же сопоставления
образов Кухулина и ежа, которые анализируются в данной статье, см. [Borsje
1996: 217-219].
15 Из многочисленных примеров приведем два из «Разрушения дома Да Дерга». Ср.
описание Фер Кайле (букв. «Лесного человека», хтонического персонажа, связанного
с мифологическим образом великана-пастуха):«.. .встретился им одноногий, однору-
кий и одноглазый человек с черными волосами. И были они такими жесткими, что
если бы даже мешок диких яблок свалился ему на голову, ни одно не упало бы на пол,
наколовшись на его волосы» [Предания, с. 108; оригинал см. TBDD, 11]. Также см.
описание Таидле Ула72
70
стаей Кухулина. Такая соотнесенность табуированного животного с
одним из главных героев ирландских легенд и мифов дает повод подо-
зревать, что еж мог являться одним из его атрибутов, или, скорее, од-
ним из атрибутов кельтского божества или божеств, функции и черты
которых отразились в образе Кухулина.
Таким образом, подытоживая наши наблюдения, мы можем
сказать, что, по-видимому, более позднее образование grdinneog вы-
теснило в ирландском языке древнее обозначение ежа (вероятно,
griuri)16 в результате замены, обусловленной табуированием. По край-
ней мере, уже сейчас, на этом предварительном этапе рассмотрения
вопроса, очевидно, что этот сюжет является одним из мостов, которые
можно перекинуть между балто-балканским и кельтским ареалами, а
сходства в трактовке образа этого животного на разных краях европей-
ского континуума, возможно, говорят о чем-то большем, чем о простом
совпадении. На наш взгляд, изучение и выявление мотивов, связанных
с ежом и его различными наименованиями, выглядят многообещаю-
щими и в индоевропейской перспективе.
Литература
Гамкрелидзе, Иванов 1984 - Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоев-
ропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-
типологический анализ праязыка и протокультуры. Тбилиси, 1984.
Гура 1997 -Гура А. В. Символика животных в славянской народной традиции.
М., 1997.
Михайлова 2008 - Михайлова Т. А. Зооморфный элемент в огамических име-
нах: к постановке проблемы // Индоевропейское языкознание и клас-
сическая филология - XII. Материалы чтений, посвященных памяти
профессора Иосифа Моисеевича Тройского. 23-25 июня 2008. Отв.
ред. Н. Н. Казанский. СПб, 2008.
да («Искры уладов»): «Я видел покой и был в нем один человек. Острижены его жест-
кие волосы. Если б мешок диких яблок вывалить ему на волосы, ни одно не упало б
на пол, наколовшись на них» [Предания, с. 116; оригинал см. TBDD, 24]. Впрочем,
дословное повторение в рамках одного текста может говорить о том, что второе опи-
сание просто было скопировано с первого.
16 Об этимологии griun мы можем выдвинуть лишь самые общие предположе-
ния. На наш взгляд, перспективными выглядели бы попытки связать его с и.-е.
*gher-/*ghre- “выпирать, выдаваться, выступать”. Об этом корне и его реф-
лексах в кельтских (и славянских) языках см. [Falileyev 2001; Zeidler 2001].
В таком случае оно было бы связано с ирл. grend ‘борода; щетина’ (от того
же корня с суффиксом -dh-\, в семантическом плане мотивировка номинации
ежа по ощетинившимся иглам кажется более чем вероятной. Кроме того, ср. в
[Zeidler 2001] обсуждение (неудачных, с точки зрения автора) попыток связать
с этим корнем имя галльского божества Grannus.
71
Николаев 2010 - Николаев А. С. Исследования по праиндоевропейской имен-
ной морфологии. СПб, 2010.
Похищение - Похищение быка из Куальнге. Издание подготовили Т. А. Ми-
хайлова, С. В. Шкунаев. М., 1985.
Предания - Предания и мифы средневековой Ирлании. Составление, перевод,
вступительная статья и комментарии С. В. Шкунаева. М., 1991.
Разаускас, Цивьян 2004 - Разаускас Д., Цивьян Т. В. Еж в космогонических
преданиях (балто-балканский ареал) // Перекрестки культур. Этно-
конфессиональные процессы в Балтийском регионе: взаимовлияния
и дивергенции. Материалы международной конференции. Вильнюс-
Друскининкай 3-6 мая 2004. СПб, 2004.
Разаускас, Цивьян 2005 - Разаускас Д., Цивьян Т. В. Из мифологического бес-
тиария: еж в космогонических преданиях (балто-балканский ареал)
// Балтийские перекрестки: этнос, конфессия, миф, текст. СПб., 2005.
Фалилеев 2003 - Фалилеев А. И. Данные островных кельтских языков и кельто-
германские схождения в области антропонимики IIИ Язык и культу-
ра кельтов. Материалы IX коллоквиума. СПб., 2003.
ASD - An Anglo-Saxon dictionary based on the manuscript collections of the late
Bosworth. Edited and enlarged by T. Northcote Toller. Oxford, 1954.
Archaeologia Britannica - Lhuyd E. Archaeologia Britannica, giving some account
Additional to what has been hitherto publish’d, of the languages, histories
and customs of the original inhabitants of Great Britain: from collections
and observations in travels through Wales, Comwal, Bas-Bretagne, Ire-
land and Scotland. Vol. 1. Glossography. Oxford, 1707.
Borsje 1996 - Borsje J. From Chaos to Enemy: Encounters with Monsters in Early
Irish Texts. An Investigation related to the Process of Christianization and
the Concept of Evil. (Instrvmenta Patristica, 29). Turnhout, 1996.
Chantraine - Chantraine P Dictionnaire etymologique de la langue Grecque. His-
toire des mots. Paris, 1968.
DIL - Dictionary of the Irish Language based mainly on Old and Middle Irish mate-
rials. ed. E. G. Quin. Dublin, 1983.
Dinneen 1904 - Focloir Gaedhilge agus Bearla. An Irish-English Dictionary. Being
a thesaurus of words, phrases and idioms of the modem Irish language,
with explanations in English compiled and edited by Rev. Patrick S. Din-
neen, M. A. Dublin - London, 1904.
DLG - X. Delamarre. Dictionnaire de la langue Gauloise. Paris, 2003.
Emout, Meillet 1959 - ErnoutA., MeilletA. Dictionnaire etymologique de la langue
latine. Histoire des mots. Paris, 1959.
Falileyev 2001 - Falileyev A. Celto-Slavica II11 Zeitschrift fur celtische Philologie,
Bd. 52, 2001.
Falileyev et al. 2009 - Falileyev A. (in collaboration with A. E. Gohil andN. Ward).
Dictionary of Continental Celtic Place-Names. Aberystwyth, 2009.
Focaloir - O’Brien J. Focaloir gaoidhilge-sax-bhearla or an Irish-English diction-
ary. Whereof the Irish part hath been compiled not only from various Irish
vocabularies, particularly that of Mr. Edward Lhuyd; but also from a great
variety of the best Irish manuscripts now extant; especially those that have
72
been composed from the 9th and 10th centuries, down to the 16th: besides
those of the lives of St. Patrick and St. Brigid, written in the 6th and 7th
centuries. Paris, 1768.
Forbes 1905 - Forbes A. R. Gaelic Names of beasts (mammalia), birds, fishes, in-
sects, reptiles, etc. Edinburgh, 1905.
Frisk 1966 - Frisk H. Griechisches Etymologisches Worterbuch. Heidelberg, 1966.
GPC - Geiriadur Prifysgol Cymru. Cardiff, University of Wales Press, 1950-2002.
Henry 1982 - Henry P. L. Furor heroicus I I Zeitschriftfur celtische Philologie. Bd/ 39,1982.
McCone 1985 - McCone K. Varia II11 Eriu. Vol/. 36, 1985.
McCone 1987 - McCone K. Hund, Wolf und Krieger bei den Indogermanen 11 Stu-
dien zum indogermanischen Wortschatz. Innsbruck, 1987.
MED - Middle English dictionary, ed. Sherman M. Kuhn. Ann Arbor, 1968.
6 Baoill 1994 - 6 Baoill C Gaelic Ichthyonymy: studying the terms used for fish in Irish,
Scottish Gaelic and Manx I I Zeitschriftfur celtische Philologie. Bd. 46,1994.
O’Clery - O’Clery’s Irish Glossary H Revue celtique. Vol. IV, 1879-1880; Revue
celtique. Vol. V. 1881-1883.
Russell 1990 -RussellP Celtic Word-Formation: the Velar Suffixes. Dublin, 1990.
Szemerenyi 1977 - Szemerenyi K. Iranica IV // Вопросы иранской и общей фило-
логии. Тбилиси, 1977.
ТВС I - Tain Во Cuailnge Recension I. Cecile O'Rahilly (ed), Dublin Institute for
Advanced Studies. Dublin, 1976.
TBDD - Togail Bruidne Da Derga. Eleanor Knott (ed), Dublin Institute for Advanced
Studies. Dublin, 1936. Mediaeval and Modem Irish Series, No. VIII.
Walde 1906- WaldeA. Lateinisches etymologisches Worterbuch. Heidelberg, 1906.
Zeidler 2001 - Zeidler J. On the etymology of Grannus 11 Zeitschrift fur celtische
Philologie. Bd. 53, 2001.
Summary
This paper deals with two Irish words for hedgehog: grdinneog
and griun. The latter may have been the older one. The reason why it has
been superseded by a new nomination may be seen in the highly marked
status of griun which is closely linked to rites of passage that may have
caused its early tabooization.
73
A. E. Маньков
К ЭТИМОЛОГИИ АНГЛИЙСКОГО BOAR
В статье рассматривается спорная на сегодняшний день
этимология английского слова boar («кабан»). После критического
обзора существующих на этот счёт гипотез предлагается новое объ-
яснение, учитывающее данные шведской диалектной лексики.
Ключевые словах животные, зоонимы, германские языки,
английский язык, этимология, наименования свиньи
Введение
Германские языки относятся к числу наиболее изученных в
этимологическом отношении языков мира. Большинство германских
языков имеет как минимум один объёмный этимологический словарь1;
существуют многочисленные исследования по отдельным группам
лексики, уделяющие внимание этимологическому аспекту2. Важным
<ХХ>О<ХХ><Х><ХХ>Ск><ХХ>О<><Х><><><ХХХ>^^
*В этой связи следует указать на «Этимологический словарь древневерхне-
немецкого языка» [EWAhd], являющийся беспрецедентным (по крайней мере,
среди этимологических словарей германских языков) по объёму фактиче-ского
материала и охвату литературы. Относительно недавно вышедший словарь
прагерманских лексем и базовых соответствий - Vladimir Orel. A Handbook of
Germanic Etymology. Leiden, Boston: Brill, 2003.
2 Отметим, что всестороннее описание определённой группы лексики какого-
либо древнегерманского языка было распространённой темой диссертаций (в
основном немецких), особенно в первой половине XX в. Назовём в хроноло-
гическом порядке некоторые из этих работ. Обозначения одежды в древнеан-
глийском: L. L. Stroebe. Die altenglischen Kleidemamen. (Inaugural-Dissertation.)
Boma-Leipzig, 1904; обозначения рыб: J. J. Kohler Die altenglischen Fischna-
men. Heidelberg, 1906; обозначения болезней: J. Geldner. Untersuchung einiger
altenglischer Krankheitsnamen. (Inaugural-Dissertation.) Braunschweig, 1906; на-
секомых: J. van Zandt Cortelyou. Die altenglischen Namen der Insekten, Spinnen
und Krustentiere. Heidelberg, 1906; орудий: C. Brasch. Die Namen der Werkzeuge
im Altenglischen. (Inaugural-Dissertation.) Leipzig, 1910; строений: H. Jacobs.
Die Namen der profanen Wohn- und Wirtschafts-Gebaude im Altenglischen. Eine
kulturgeschichtliche u. etymologische Untersuchung. (Inaugural-Dissertation.)
Kiel, 1911; сосудов: T. Krofi. Die Namen der GefaBe bei den Angel-Sachsen. (In-
augural-Dissertation.) Erlangen, 1911; частей тела: F. Thone. Die Namen der men-
schlichen Korperteile bei den Angelsachsen. (Inaugural-Dissertation.) Kiel, 1912;
денежных единиц и мер: J. Matzerath. Die altenglischen Namen der Geldwerte,
MaBe und Gewichte. Bonn, 1912; обозначения детей: H. Back. The Synonyms for
‘child’, ‘boy’, ‘girl’ in Old English. An etymological-semasiological investigation.
Lund, 1934; обозначения работы и труда в древнеанглийском (weorc, gewinn,
geswinc, gedeorf ear fop, broc, bisgu, tilp): K. R. Grinda. ‘Arbeit’ und ‘Miihe’.
Untersuchungen zur Bedeutungsgeschichte altenglischer Worter. Munchen, 1975;
74
событием явился недавно выход «Библиографии по английской эти-
мологии» Анатолия Либермана, а также его «Аналитического словаря
английской этимологии» [Liberman 2010; 2008]. «Библиография» была
использована нами при написании этой статьи, и, как мы убедились,
она должна стать одним из важных инструментов в работе этимолога-
германиста (разумеется, при условии доступности для него приве-
дённой там литературы3). Из работ, посвящённых германским обо-
значениям животных, следует прежде всего назвать монографии Хуго
Паландера [Palander 1899] и Рихарда Йордана [Jordan 1903]4. В них
собран исчерпывающий материал по употреблению данных слов в
текстах, в чём заключается основная ценность этих работ. Имеются
также монографии, посвящённые отдельным обозначениям животных
в том или ином языке, например [Ptatscheck 1957; Sperlbaum 1957; Ti-
berg 1972; Zetterholm 1940]. Однако несмотря на значительный объём
этимологической литературы, многие ключевые элементы германско-
го лексикона и, в частности, обозначения животных, часто далеки от
ясности и по-прежнему представляют собой поле для исследований.
В этой работе мы рассмотрим обозначение самца-производителя сви-
ньи в западногерманских языках, являющееся одной из германских
этимологических загадок, и предложим этимологию, основанную на
скандинавских диалектных данных.
В компендиуме The Oxford Introduction to Proto-Indo-European
and the Proto-Indo-European World Мэллори и Адамса (большая часть
которого посвящена анализу реконструированной индоевропейской
лексики, распределённой по тематическим группам) даётся список
обозначений животных (62 лексические единицы), допускающих с
большей или меньшей уверенностью праиндоевропейскую рекон-
струкцию [Mallory, Adams 2006: 134-142]. Для праиндоевропейского
восстанавливается три слова для свиньи: *siis «свиноматка», *porRos
‘поросёнок’, ?*tworkos «самец свиньи». Первые два слова широко
представлены в исторических языках, в том числе в германских (англ.
sow, farrow), третье реконструируется только на основании др.-ирл.
tore и авест. Ofarasa- [Ibid.: 139]. ПИЕ *su-s связывается с корнем *5Й-
«рожать» (санскр. silJ-te ‘gives birth’). Производным от него является
также обозначение «сына»: *su-nu-s и менее распространённое *$й-
бесчестия и позора: I. Lohmander Old and Middle English Words for ‘Disgrace’
and ‘Dishonour’ (Acta Universitatis Gothoburgensis. Gothenburg Studies in English
49). Goteborg, 1981; обозначения Бога: A. Scheller. Bezeichnungen fur die christ-
liche Gottheit im Altenglischen. Hamburg, 2010.
3Нами были прочитаны и учтены все работы, указанные для boar, за исключе-
нием статьи Д. Боуткана в Philologia Frisica, оставшейся недоступной.
4Слова, отсутствующие у Йордана, рассмотрены в [Whitman 1906-1907].
75
iu-s (др.-греч. Dili;;, вторичная тематическая форма - шод). Таким обра-
зом, *sii-s - это изначально «родящая»; как пишет В. Майд, эта форма
теоретически могла обозначать любое существо женского пола, при-
носящее потомство, однако на практике было закреплено за свиньёй
как особо плодовитым животным [Meid 1998: 636]. Пие. *pork.os, со-
гласно наиболее общепринятой этимологии, связано с *perk~, prk- ‘аи-
freifien, aufwuhlen, aufkratzen’, т. е. изначально *porkos - «копающий,
выкапывающий» [Pokorny 1959-1969: 821], [de Vaan 2008: 481]. По
другой этимологии *pork.os - «пятнистый, пёстрый», в связи с харак-
терным цветом кожи новорождённого поросёнка [Meid 1998: 635], к
*perk- ‘gesprenkelt, bunt’ [Pokorny 1959-1969: 820].
В «Энциклопедии индоевропейской культуры» [Mallory,
Adams 1997: 425] приводится ещё три обозначения, имеющие более
узкий ареал распространения: *hpro-, hfpro- «самец свиньи» (лат.
арег, др.-исл. jofurr, др.-англ, eofor, латыш, vepris, рус. вепръ\ воз-
можно, сюда же еррод • трауод ратцд' каг лотацод 0рфкг|(; (Гесихий)
«козёл; река во Фракии»), ?*keul- «свинья» (ср.-валлийск. Culhwych
‘Welsh mythological figure associated with swineherds and boar-hunting’,
лит. kiaule «свинья» - основное слово с этим значением в литовском),
*ghor- «поросёнок» (греч. %о!род, алб. derr). Наряду с как минимум
трёмя унаследованными индоевропейскими словами (прагерм. *su~,
*farha~, *ebura~), в германских языках имеется ряд слов для свиньи,
являющихся инновациями. Они характеризуют разные по широте
ареалы; их происхождение, таким образом, следует относить к разным
периодам: так, например, *baruga~, представленное как в скандинав-
ских (др.-исл. bprgr), так и в западногерманских языках (др.-в.-нем.
barug), имеет надёжные славянские соответствия (рус. боров)5, тогда
как *baira~, рассматриваемое в этой статье, известно лишь в западно-
германских языках.
Соответствия
Др.-в.-нем. Ьёг,рёгт. ‘Zuchteber, verres,porcus’ [Palander 1899:
158], [EWahd: I, 542], ср.-в.-нем. Ьёг m. [Lexer 1872-1878: I, 183]; др.-
сакс. Ьёг m. «самец свиньи» [Gallee 1903: 20], [Holthausen 1921: § 97,
anm.]; ср.-н.-нем. Ьёг, Ьёге m. [Lasch, Borchling 1956: 212]; ср.-нидерл.
bere, beer m. [Verdam 1956: 76], нидерл. beer «самец свиньи» [te Win-
kel 1863: 290], [WNT: II, 1323]; лангобард, -pair в sonorpair ‘Herdene-
ber, der starkste Eber einer Herde’6 [Bruckner 1895: 79, 103]; фриз, bear
<XXXX><><XXX><XX>C<X><XXX><>O<X><><XX^^
5 Основа *bhorw- в праславянском была тематизирована: *borw-o~, в прагерман-
ском присоединила суффикс *-к- > *х > *у (закон Вернера), откуда *baruga~.
6Первый компонент в sonorpair связан с др.-ант. sunor «стадо свиней» [Jordan 1906:
24], ср.-в.-нем. swaner m. «стадо», др.-в.-нем. swanering ‘mannliches Schwein in der
76
«самец свиньи» [WFT: 257], др.-англ. bar m. «самец свиньи» [Jordan
1903: 200], [ВТ: 68], [Toller 1921: 62], ср.-англ. bor, bore, bare, bayre
‘uncastrated male swine (either wild or domesticated); boar’s flesh as food;
man likened to a wild boar’ [MED: В1046], англ, boar [OED: II, 338], в
диалектах также «ёж»7 [Wright 1898-1905: I, 316]. Для данного суще-
ствительного реконструируется праформа *baira- «некастрированный
самец свиньи, вепрь» (дифтонг ai сохранён в лангобардском [Bruckner
1895: 98]).
Этимологии
1. Э. Ферстерманн связывает др.-англ. bar с др.-исл. berr «ба-
ран» [Forstermann 1871: 417]. Это исландское существительное скорее
следует связывать с шв. диал. и норв. диал. barre «баран» [Rietz 1867:
24], [Тогр 1919: 17], а также, возможно, с шв. basse «баран» (*ber-s-
ап-) [SAOB: В4836]; далее к *bVr- в подзывах мелкого домашнего
скота (преимущественно овец) и связанных с ними существительных,
например рус. барбар, быр(ъ)-быр(ъ), укр. бер!, бир!, биръбиръ! (меж-
дометия для подзыва овец); рус. баръка, бдръка, быр(ъ)ка «овца», укр.
бирка/биръка «овца; овчина», биря «овца». А. В. Дыбо обратила наше
внимание на то, что рус. баран не относится сюда, являясь, вероят-
но, заимствованием, восходящим к ср.-перс. waran «баран» [ЭССЯ: 1,
158]. Формы с bVr- в обозначениях овец подробно рассмотрены в ста-
тье Й. Хубшмида [Hubschmid 1954-1955]. Как видно по приведённым
там примерам, эти формы широко распространены в самых разноо-
бразных языках Евразии. Хубшмид видит в *bVr- древнее скотоводче-
ское слово, занесённое в Европу к эпохе неолита и имеющее неиндоев-
ропейское происхождение. Вероятно, *baira- (а также праслав. *Ьогуъ
и прагерм. *barugaz) следует отделять от форм с *bVr-. Заметим, что
шв. bjasse, basse «медведь» [SAOB: В2948-9], [deVries 1977: 34] также
не относятся сюда.
2. Хирт [Hirt 1897: 230], несмотря на то, что слово известно
только в западногерманских языках, реконструирует праиндоевро-
пейскую основу *bhoiro-, объясняя её как ‘Reimwort’ к *ghoiros (греч.
/унрод ‘поросёнок’, алб. derr). Попутно даётся фонетически несосто-
ятельное объяснение рус. боров как заимствования из герм. *barws
(др.-в.-нем. barug, др.-исл. bqrgr). Ван Вейк [Franck, van Wijk 1912: 40]
также исходит из созвучия *baira- и греч. %oipog, предполагая фонети-
чески нетривиальный переход прагерм. *yaira (из *ghoiro) > *baira-.
Herde, Herdeneber’ [Palander 1899: 162]. Возможно, др.-англ. sunor и т. д. связано с тем
же корнем, что в *sw- «свинья», с краткой ступенью, т. е. прагерм. *su-n-az-l*su-an-
az- (os/es-основа?). Скандинавской парал-лелью лангобард, sonorpair является др.-исл.
sonargqltr, блестящий анализ этого слова дан Э. Зиверсом [Sievers 1892].
7 Любопытно, что в диалекте села Старошведское «ёж» - sku-gns, «лесной поросёнок».
77
Предположение о связи *baira- с /otpog неприемлемо в свете позднейшей
этимологии греческого существительного, согласно которой оно отража-
ет *ghorip- и связано с ХПР m-, gen. ХПР^ «ёж» (Гесихий), лат. ёг, -is m.
«ёж» [Beekes 2010: 1640], [de Vaan 2008: 193]; далее, возможно, к yepoog
f. «суша» (также как прилагательное: «сухой, жёсткий, бесплодный»), лат.
horreo «топорщиться, щетиниться», т. е. «поросёнок» как «с жёсткой ще-
тиной, щетинистый» [Рокоту 1959-1969:445], [Frisk II: 1107].
3. Наиболее правдоподобным кажется предположение А. Тор-
па и Я. Фалька о связи с др.-в.-нем. bison (см. ниже), для *baira- в этом
случае реконструируется значение ‘ungestum einhersturmende’ [Torp,
Falk 1909: 271]. Фальк и Торп и позднее Я. де Фрис видят соответствие
*baira- в др.-исл. valbassi «вепрь» [Torp, Falk 1909: 257], [de Vries 1977:
28]. Де Фрис интерпретирует valbassi как гипокористическую форму,
образованную с помощью суффикса *-s-. Однако в исландском такая
форма как *bair-s-an- должна была бы дать *beissi > *bessi [Noreen
1970: § 128], но не bassi.
4. Ф. Хольтхаузен [Holthausen 1924: 238 (№ 265)] предлага-
ет связь с др.-греч. (раюд «серый, тёмный» (< *(paipog или *(paia6g),
поскольку самец свиньи отличается от самки более тёмным цветом.
Неясно в фонетическом отношении, т. к. этимология этого греческого
прилагательного не установлена [Beekes 2010: 1547].
5. А. Ллойд и О. Шпрингер [EWAhd: 1,543-544] предполагают
связь с ПИЕ *bhei-/bhi- ‘бить’ [Рокоту 1959-1969: 117], с развитием
‘бить’ > ‘спариваться’. *Baira-, таким образом, противопоставляется
*baruga-, которое обозначает кастрированное животное. К этой этимо-
логии присоединился Э. Хэмп [Натр 1992], объясняя *b(h)ai-rd- как
‘ап old quasi-participle’. В качестве соответствия называется валлийск.
baedd «самец свиньи», являющееся параллельным квази-причастием
на *-do< *b(h)oi-edo-. В качестве морфологической параллели приво-
дится греч. бурбд < *wgw-rd- vs. лат. uvidus < *ugw-edo-.
6. Э. Зебольд реконструирует для нем. Ваг «самец свиньи»
праформу *baizi < ПИЕ *bhoidsi (к лит. baisa «страх», лат. foedus «от-
вратительный», рус. бес), предполагая для «вепря» исходное значение
«ужасный, страшный» [Kluge, Seebold 1995: 80]. Эта этимология также
создаёт фонетические трудности: приходится предполагать, что упро-
щение *ds > *ts > *s имело место до действия закона Вернера. Между
тем, группа «шумный + 5» обычно даёт ss, но не z > г: ср. др.-англ. bliss
‘happiness’ к blide ‘joyous’.
Boar и доиндоевропейский субстрат
То, что для *baira- «вепрь» не найдено убедительных соответ-
ствий за пределами западногерманских языков, дало основание Я. де
Фрису считать его субстратным словом [de Vries 1971: 37]; это же объ-
яснение как «наиболее правдоподобное» повторено в новом этимоло-
78
гическом словаре нидерландского языка [EWN: I, 245]. Э. Поломэ идёт
далее, разрабатывая теорию доиндоевропейского субстрата в североза-
падном ареале индоевропейских языков [Polome 1986,1990, 1992]. На-
ряду с *ё!а- ‘угорь’ *bairaz включается им в субстратную (доиндоев-
ропейскую) лексику германских языков [1990: 336]. Вслед за А. Мейе
он указывает на ряд слов, имеющихся в кельтских, германских, бал-
тийских, славянских и италийских языках (северо-западный ареал), и
отсутствующих в индоиранских, армянском и греческом [Polome 1990:
331-332]8. Как утверждает Мейе, в совокупности эта лексика является
следствием общности культурного развития, характерной для носите-
лей северо-западной группы индоевропейских диалектов [Meillet 1967:
34]. Поломэ считает возможным перебросить отсюда мост к утвержде-
нию о возможности субстратного происхождения этой и другой пере-
<*ХХХ*><><><>О<Х><><Х><Х><><Х><Х^
8 Книга А. Мейе «Индоевропейские диалекты», материал которой использует
Поломэ, вышла во 2-м издании в 1922 г., поэтому приводимые в ней примеры
требуют отдельного рассмотрения, учитывающего данные более поздней индоев-
ропеистики. Однако для понимания контекста, в котором строится рассуждение
Поломэ, перечислим здесь некоторые слова, которые, согласно Мейе и впослед-
ствии Поломэ, характеризуют северо-западный ареал индоевропейских языков в
противоположность индоиранскому, армянскому и греческому: 1) слова, связан-
ные с сельским хозяйством: «сеять» (гот. saian), «зерно» (гот. kaurri), «пищевой
продукт из зерна» (др.-исл. barr «ячмень; пища», гот. barizeins «ячменный»), «бо-
розда» (др.-в.-нем. wagcmleisa «колея»), «яблоко» (др.-англ. ceppel), «поросёнок»
(др.-англ. fearh), «мох, плесень» (др.-исл. most «мох»), «копать» (лат. fodid, этот
корень сохранён в германском обозначении «постели» - гот. badi и т. д., перво-
начально «выкопанное углубление»); 2) птицы и насекомые: «дрозд» (др.-исл.
prgstr), «оса» (др.-англ. weeps), «шершень» (др.-в.-нем. homuz), «гнездо» (англ.
nest, с утратой исходного значения «сидение, место для сидения», сохранённого
в армянском и в санскрите); 3) деревья: «ольха» (др.-англ. alor), «вяз» (др.-исл.
almr), «тис» (др.-англ. iw); 4) слова, связанные с ремёслами: «бить, ковать» (др.-
англ. heawan), «плести» (др.-в.-нем. flehtari), «колесо» (др.-в.-нем. rad), «дышло»
(др.-англ. pisl), «рукоять» (др.-исл. ces «отверстие в обуви для шнурка»); 6) обще-
ственные отношения: «враг, гость» (гот. gasts), «долг» (гот. dulgs), «залог» (гот.
wadi), «господствовать» (гот. waldan)', 6) отдельные слова: «человек» как «земной,
принадлежащий земле» (гот. guma, в отличие от человека как «смертного» - греч.
рротбд), «борода» (англ, beard), «холод» (гот. kalds), «слово» (гот. waurd), «море»
(гот. marei), «верный» (др.-в.-нем. war), «многочисленный» (гот. manags) [Meillet
1967: 34—39]. В современной индоевропеистике вопрос о степени генетической
близости лексиконов «северо-западных» индоевропейских языков далёк от одно-
значного решения. Так, по подсчёту С. А. Бурлак, количество надёжных славяно-
германских лексических схождений на праязыковом уровне едва ли больше, чем
между любыми другими языками-потомками праиндоевропейского, что говорит
о длительном независимом развитии праславянского и прагерманского. При этом
количество этих схождений по мере учёта нового фактического материала, в том
числе анатолийского и тохарского, может только уменьшаться [Бурлак 2002: ИЗ-
126 (раздел «Проблема славяно-германских изоглосс»)].
79
числяемой им лексики. Им приводятся примеры германо-балтийских
(и иногда германо-балто-славянских) соответствий, не имеющих (со-
гласно Поломэ) убедительных параллелей за пределами этих групп и,
следовательно, не имеющих индоевропейских этимологий. Предпо-
лагается, что вся эта лексика восходит к доиндоевропейским языкам
балтийского региона. Как утверждается, речь идёт об ‘a large number
of terms relevant to the ecology of the habitat of the early population of
the area and to their socio-economic activities’ [Ibid.: 333], а именно, о
некоторых обозначениях растений, животных, продуктов, объектов и
действий, якобы характерных для неолитических культур [Ibid.]. Они
сводятся к следующим примерам: герм. *baruga- «боров», *hrugna-
«рыбья икра», *wahsa- «воск», *fata- «сосуд», *hnappa- «чаша, кубок»
(др.-исл. hnappr, др.-англ. hncepp), *siira- «кислый» (ср. рус. сыр), * del-
ban «копать» (др.-англ. delfari), др.-исл. kill «узкая бухта» [Polome 1986:
661-663; 1990: 333]. Другую группу образует лексика, которая, со-
гласно Поломэ, вообще не имеет убедительных соответствий вне гер-
манских языков и, как предполагается, восходит к субстрату [Polome
1986: 669]. Это обозначения растений: укроп (др.-англ. dile), восковник
болотный, Myrica gale (др.-англ. gagel), клевер (др.-англ. clokfre)', обо-
значение голубя (др.-исл. dufa), чайки (др.-англ. mdew, др.-исл. таг),
личинки, червяка (др.-англ. тада, др.-исл. тадкг)-, обозначение сала
(англ, tallow), вонючей жидкости (др.-англ. adela, др.-шв. adhel «коро-
вья моча»), рыбьей икры (нидерл. kuif) [Polome 1986: 665-668].
Действительно, гипотеза о доиндоевропейском субстрате в
германских языках выглядит увлекательно и требует исследований10.
Статьи Э. Поломэ ценны как собрания примеров специфически гер-
манской лексики, этимологизация которой является актуальной зада-
чей и может дать интересные результаты. Однако уязвимость гипотезы
субстрата в приложении к этому материалу очевидна: этимологически
проблемная лексика, якобы «характерная для неолитических культур»
[Polome 1990: 333], объявляется субстратной, и свидетельством явля-
ется сама же эта лексика - лишь в связи с отсутствием убедительных
этимологий и без дальнейших собственно лингвистических аргумен-
тов; одно неизвестное, таким образом, объясняется через другое. В те-
зисах, изданных в 1992 г., Поломэ даёт менее оптимистическую пер-
<х>о<><><><><><><х><><><^^
9Др.-фриз. kUt, приводимое там же, отсутствует в словарях древнефризского.
Вероятно, имеется в виду восточнофриз. kilte, kut «рыбья икра» [Doomkaat
Koolman 1879-1884: II, 417].
10Вопросам, связанным с этой темой, посвящен сборник статей: Language
Contact. Substratum, Superstratum, Adstratum in Germanic Languages (Amsterda-
mer Beitrage zur alteren Germanistik. Band 54). Ed. by Dirk Boutkan and Arend
Quak. Amsterdam, Atlanta: Rodopi, 2000.
80
спективу для установления доиндоевропейского субстрата: полная фо-
нологическая и морфологическая интегрированность этих заимство-
ваний не позволяет судить о фонологии и морфологии субстратного
языка. Единственным признаком гипотетической субстратной лексики
остаётся, таким образом, отсутствие убедительной индоевропейской
этимологии [Polome 1992: 73].
Разумеется, что то или иное слово с тёмной этимологией мо-
жет в конечном счёте оказаться субстратным; также оно может быть,
например, результатом доисторической народной этимологии, конта-
минации и т.д. Однако очевидно, что наилучшим доводом в пользу
доисторического заимствования (при условии, что исключено генети-
ческое родство рассматриваемых форм) является нахождение рефлек-
са исходного слова в языке, имеющем приемлемую локализацию от-
носительно заимствующего языка. Если же, как в данном случае, речь
идёт об источнике или источниках заимствования, исчезнувших уже в
доисторическую эпоху, то, естественно, «вычисление» заимствований
происходит по фонетическому и морфологическому принципам: фоне-
тические нетривиальности и необычная морфологическая структура
могут рассматриваться как довод в пользу заимствования. В качестве
одного из примеров определения возможных заимствований из доин-
доевропейского языка/языков Европы можно назвать статью Р. Бикса
[Beekes 1996]. Так, согласно Биксу, латинское и германское обозначе-
ние головы (лат. caput, др.-исл. hqfud /haufud, др.-англ, hafud /heafod,
гот. haubip) может быть по происхождению неиндоевропейским в свя-
зи с нетривиальным чередованием а/аи и неясным элементом -ut-/~it-
[Beekes 1996: 218-220]11. Однако критерий нетривиальной фонетики
также требует осторожного отношения: мы можем иметь дело не с чу-
жеродным для данного языка фонетическим явлением, а с присущей
ему маргинальной (или неизвестной до сих пор) закономерностью12.
Узкое ареальное распространение слова так же не может быть решаю-
11 Исходя из приведённых в этой статье примеров, Бикс постулирует следующие
фонетические черты неиндоевропейского языка, являющегося возможным источ-
ником заимствований в праиндоевропейский: 1) часто встречающийся гласный
*я, 2) система чередования гласных, нехарактерная для праиндоевропейского (на-
пример, *а/аи\ 3) чередование смычных, 4) наличие придыхательных смычных,
5) наличие согласного [Beekes 1996: 218]. О фонетических характеристиках и
слоях субстрата см. также [Boutkan, Siebinga 2005: ХШ-XVII].
12В качестве одного из примеров назовём чередование г/д в скандинавских
языках: др.-исл. bqrvi / bqdvi dat. sg. от bqrr «дерево», исл. hverna «горшок,
котёл, небольшая сковорода» и hvedna «сковорода, небольшой котёл», kirna /
kidna «лохань», формы сравнительной степени на аде вместо обычного аге в
древнешведском: senape, dyrathe, iampnathe от sen «поздний», dyr «дорогой»,
iampn «ровный» [Mankov 2007].
81
щим аргументом в пользу субстратного происхождения: так, в случае
*baira- и *baruga~, слов, имеющих ограниченный ареал распростране-
ния, германская и индоевропейская этимология по крайней мере до-
пускается (даже если она не является полностью прозрачной)13 14. Нако-
нец, отсутствие ясности относительно степени генетической близости
праславянского и прагерманского в области лексики ставит под вопрос
не только отражение в этих языках специфических для их носителей
‘shared cultural items, values and concepts’, о которых пишет Поломэ
[Polome 1990: 333], но и делает менее весомым предположение об об-
щем для этих языков субстратном элементе.
У. Леман обращает внимание на существование в германских
языках двойных обозначений одного и того же объекта, одно из кото-
рых унаследовано от праиндоевропейского, другое является специфи-
чески германским. Индоевропейское слово при этом может характери-
зоваться более узкой сферой употребления и вытесняться новообра-
зованиями. Примером являются обозначения корабля: др.-исл. nor vs.
skipu. Возникновение неологизмов, подобных skip, может относиться,
согласно Леману, к периоду расселения индоевропейских предков гер-
манцев в балтийском регионе около 2000 г. до н. э. [Lehmann 1977:
280-284]. Появление нового слова для самца свиньи, *baira- (наряду
с *galtuz > др.-исл. gqltr), относится Леманом к этому периоду [Ibid.].
Другими относящимися сюда неологизмами являются слова для птицы
(гот./wg/s), коня (*hrussa- - др.-исл. hross и *hangista- - др.-в.-нем. hen-
gist), руки (гот. handus), дерева (гот. bagms и др.-исл. badmr /-barmr).
Теоретически, появление разного рода новообразований в этот период
закономерно - расселение скотоводов-кочевников в приморском реги-
оне, контакты с автохтонным населением и его ассимиляция должны
были, вероятно, отразиться в языке. Говоря об этом, Леман справедли-
во указывает, что достаточные основания для приписывания этой лек-
сики до индоевропейскому языку отсутствуют [Ibid.: 284].
Boar и прагерм. *beis-/bais-/bis- «двигаться с шумом, бросаться,
носиться (о животных)»
Поскольку внешние соответствия этого существительного не
обнаружены, его, вероятно, следует считать специфически западногер-
манским, что, однако, не отменяет возможности объяснить его проис-
хождение, исходя из германского материала. В поисках соответствий
рассматриваемого существительного мы обратили внимание на такие
шведские диалектные формы, как besa «носиться (о животных), ме-
13 В связи с этим трудно согласиться с предположением о субстратном проис-
хождении /oipoq [Beekes 2010: 1641].
143аметим, что в древнегреческом vaug также было вытеснено rcXolov.
82
таться от жары и слепней; вести себя непристойно; быть в периоде теч-
ки (о диких животных)» [Rietz 1867: 29]; шв. lopa i bes, lopa bes, ga i bes
«носиться (о животных); вести себя распущенно (о людях)» [SAOB:
В1402]. Дальнейшие параллели: др.-шв. bisa «носиться (о животных)»
[Soderwall 1884-1918:1, 112]; исл. bisn. «изнурительная работа», bisa,
-adi «тащить с трудом, надрываться» [АВ: 76], [Blondal 1920-1924: 77,
78]; норв. (нюношк) bes m. «волокита», bes п. «виляние хвостом; бол-
товня, сплетни, заигрывание», besa, bisa «болтать, сплетничать, лебе-
зить, заигрывать, ныть», besar m. «сплетник» [NO: 576], [Torp 1919:
24], biss, bisse междометие для науськивания собак, bissa «науськи-
вать; убаюкивать ребёнка», bisla «сплетничать» [NO: 627, 624]; дат.
bisse «носиться, метаться (о скоте)» [ODS: 701]; др.-в.-нем. * bison (за-
свидетельствовано только причастие) 1) «веселиться; носиться, буй-
ствовать», bisa f. «вихрь» [Starck, Wells 1990: 58, 60], [EWAhd: II, 105,
117] (ср. исл. bisingur «сильный ветер»), ср.-в.-нем. bisen «носиться
(о скоте)», bise f. «северный или восточный ветер» [Lexer 1872-1878:
I, 283, 284], ранний ново-в.-нем. beise f., beiswind «северный ветер»
[Fruhneuhochdeutsches Wb.: Ill, 994, 1031], нем. bisen, biesen «метать-
ся (о животных)»’, ср.-н.-нем. bis(s)en, besen «быть в периоде течки»
[Lasch, Borchling 1956: I, 284]; ср.-нидерл. bisen «носиться (о скоте),
сбиться с пути, заблудиться», bise m. «северный (холодный) ветер»
[Verdam 1956: 100], нидерл. bijzen «носиться, беситься» [WNT: 11:2,
2671]. Для перечисленных форм реконструируется корень *beis-/bais-/
bis- со значением «двигаться с шумом, бросаться, носиться (о живот-
ных)». В качестве возможного внешнего соответствия назовём литов-
ские формы bisuoti, bizoti, bizuoti, bizaliuoti «носиться (о скоте)» [Kur-
schat 1968-1973:1, 307]. Для основы *baira- (*baiza-, *baisa-) в случае
связи с этим корнем реконструируется значение «бросающийся, дви-
гающийся с шумом».
Наряду с *baira- «самец-производитель свиньи, вепрь» в за-
пади огерманских языках имеется основа *baruga-, причём они диф-
ференцированы по значению, т.к. вторая из них обозначает борова:
др.-в.-нем. barug «боров; поросёнок», др.-сакс, barug, фриз, baarch
«свинья», др.-англ, bearug «боров». По-видимому, значение «боров» у
рефлексов *baruga- характерно лишь для западногерманских языков,
т.к. в исландском bqrgr означает «вепрь» [LP: 76] (в скандинавских ли-
тературных языках это существительное оказалось малоупотребитель-
ным и было вытеснено другими обозначениями: новоисл. goltur «са-
мец свиньи», villisvin п. «дикая свинья», villigoltur «вепрь»). В отличие
от *baira-, основа *baruga- имеет надёжные внешние соответствия:
ст.-слав. Ьгауъ т. «мелкий домашний скот», сербохорв. брав «голова
мелкого домашнего скота: баран, овца, ягнёнок, козёл, коза, козлёнок,
83
боров», рус. боров (праслав. *Ьогуь, ПИЕ *bhoru-). Мы предполагаем,
что праслав. *Ьотъ и прагерм. *barugaz связаны с и.-е. *bhor- «изда-
вать неясные звуки» (*bher-, *bhor- ‘brummen, summen’ [Pokorny 1959—
1969: 135]); подробнее см. [Маньков 2010]. Если это предположение
справедливо, то *baira- и *baruga- оказываются соотносимыми по
внутренней форме и наличие в *baira- корня со «звуковым» значением
получает параллель в *baruga-. Ср. также рус. хряк - звукоподража-
тельный корень [Фасмер 1964—1973: IV, 280]. Дальнейшее подтверж-
дение и уточнение предложенной этимологии может быть связано с
изучением закономерностей семантической деривации при обозначе-
нии животных на материале германских диалектов. Именно исполь-
зование диалектных данных может дать исследователю возможность
выйти из круга одного и того же неоднократно описанного материала,
замыкание в котором неизбежно при ориентации исключительно на
данные литературных языков15. С другой стороны, диалекты в данном
случае могут предоставить фактический материал, более осязаемый и
убедительный, чем гипотеза о доиндоевропейском субстрате.
Сокращения
ЭССЯ - Этимологический словарь славянских языков, 1-. М., 1974—.
АВ - Ami Bodvarsson. Islensk ordabok. Onnur utgafa, aukin og baett. Reykjavik:
Mai og menning, 1993.
ВТ - An Anglo-Saxon Dictionary based on the manuscript collection of the late
J. Bosworth. Edited and enlarged by T. N. Toller. Oxford: Clarendon
Press, 1882-1898.
EWAhd - Etymologisches Worterbuch des Althochdeutchen von Albert L. Lloyd
und Otto Springer. Bd. 1. -a - bezzisto. Gottingen, Zurich: Vanderhoeck
u. Ruprecht, 1988.
EWN - Etymologisch woordenboek van het Nederlands. Onder hoofdredactie van
dr. Marlies Philippa met dr. Frans Debrabandere en dr. Arend Quak. Am-
sterdam: Amsterdam University Press, 2003-2009.
Fruhneuhochdeutsches Wb. - Fruhneuhochdeutsches Worterbuch, I-. Hsgb. von
R. R. Anderson, U. Goebel, O. Reichmann. Berlin, New York: Walter de
Gruyter, 1989.
LP - Sveinbjorn Egilsson. Lexicon poeticum antiquae linguae septentrionalis. Ord-
bog over det norsk-islandske skjaldesprog. 2. Udgave ved Finnur Jonsson.
Kobenhavn, 1931.
MED -Kurath H., Kuhn S. M., Lewis R. E. (eds.). Middle English Dictionary. Ann
Arbor: Michigan University Press, 1954-1999.
<XXXXXXX><X><XXX><><X><><><><>O<><X><><X><><X><X>
15B качестве одного из примеров использования диалектных данных при реше-
нии этимологической проблемы можно назвать статью Г. Эклунд о гот. bagms'.
Gerd Eklund. Begreppet ‘trad’ i ALE, Atlas linguarum Europae. IE. *bhou-to-mo-s -
ett delresultat // Folkmalsstudier. Meddelanden fran Foreningen for nordisk filologi,
XXXIX. Helsingfors, 2000. Ss. 71-81.
84
NO - Norsk ordbok. Ordbok over det norske folkemalet og det nynorske skriftmalet,
I- Utgjeven av Det norske Samlaget. Oslo: Det Norske Samlaget, 1966-
ODS - Ordbog over det danske sprog, I-XXVIII. Kobenhavn, 1919-1956.
OED - The Oxford English Dictionary, I-XX. 2nd ed., prepared by J. A. Simpson &
E. S. C. Weiner. Oxford: Clarendon Press, 1989.
SAOB - Ordbok over svenska spraket utgiven av Svenska akademien, I-. Lund:
Gleerups, 1893-
WFT - Wurdboek fan de Fryske taal, I-. Leeuwarden: Fryske Akademy, 1984-.
WNT - Woordenboek der nederlandsche taal, I-XXIX. ’s-Gravenhage en Leiden, 1882-1998.
Литература
Бурлак 2002 -Бурлак С. А., Мельников А. С., Циммерлинг А. В. Параллели меж-
ду славянскими и германскими языками: индоевропейское наследие
и типологическое сходство // Т. М. Николаева (отв. ред.). Славянская
языковая и этноязыковая системы в контакте с неславянским окруже-
нием. М.: Языки славянской культуры, 2002.
Маньков 2010 - МаньковА. Е. К этимологии праслав. *borvb и прагерм. *baru-
gaz // Этимология 2007-2009. М.: Наука, 2010.
Фасмер 1964-1973 - Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка, I-
IV. Пер. с нем. и дополнения О.Н. Трубачёва. М., 1964-1973.
Beekes 1996 - Beekes, Robert. Ancient European Loanwords // Historische Sprach-
forschung. 109. Band (1996).
Beekes 2010 - Beekes, Robert. Etymological Dictionary of Greek, I—II. (Leiden
Indo-European Etymological Dictionary Series, ed. by A. Lubotsky. Vol.
10). Leiden, Boston: Brill, 2010.
Blondal 1920-1924 - Blondal, Sigfus. Islandsk-dansk ordbog. Reykjavik: Verslun
borarins B. borlakssonar; Kobenhavn, Kristiania: H. Aschenhoug & Co.
(W. Nygaard), 1920-1924.
Boutkan, Siebinga 2005 - Introduction // Old Frisian Etymological Dictionary. (Leiden
Indo-European Etymological Dictionary Series, ed. by A. Lubotsky. Vol. 1).
Leiden, Boston: Brill, 2005.
Bruckner 1 %95-Bruckner W. Die Sprache der Langobarden. (Quellen undForschun-
gen zur Sprach- und Culturgeschichte der germanischen Volker, LXXV).
Strassburg: Trubner, 1895.
Doomkaat Koolman 1879-1884 - Worterbuch der ostfriesischen Sprache, I—III.
Etymologisch bearbeitet von J. ten Doomkaat Koolman. Norden: Verlag
von Herm. Braams, 1879-1884.
Forstermann 1871 - Forstermann, E. Der urdeutsche Sprachschatz // Germania. Vi-
erteljahrsschrift fur deutsche Altertumskunde. 16. Jahrgang (neue Reihe
4. Jahrgang). Wien: Verlag von Carl Gerold’s Sohn, 1871.
Franck, van Wijk 1912 - WijkN. van. Franck’s etymologisch woordenboek der ne-
derlandsche taal. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1912.
Frisk -Frisk, Hjalmar. Griechisches etymologisches Worterbuch, I—III. Heidelberg:
Carl Winter Universitatsverlag, 1960-1972.
Gallee 1903 - Gallee, J. H. Vorstudien zu einem altniederdeutschen Worterbuche.
Leiden: Buchhandlung und druckerei vormals E. J. Brill, 1903.
85
Hamp 1992-Hamp, EricP Eng. boar, OHG berllNOWELE. North-Western Euro-
pean Language Evolution. Vol. 20 (1992). Odense University Press, 1992.
Hirt 1897 - Hirt H. Grammatisches und etymologisches // Beitrage zur Geschichte
der deutschen Sprache und Literatur. XXII. Band. Halle, 1897.
Holthausen 1921 - Holthausen, F. Altsachsisches Elementarbuch. 2. verbesserte
Aufl. Heidelberg: Carl Winter’s Universitatsbuchhandlung, 1921.
Holthausen 1924 - Holthausen, F. Zur englischen Wortkunde. VII // Beiblatt zur
Anglia. Mitteilungen uber englische Sprache und Literatur und uber eng-
lischen Unterricht. 35. Bd. (1924).
Hubschmid 1954-1955-HubschmidJ. HaustiemamenundLockrufe alsZeugenvorhi-
storischer Sprach- und Kulturbewegungen // Vox Romanica 14 (1954-1955).
Jordan 1903 - Jordan, Richard. Die altenglischen Saugetiemamen. (Anglistische
Forschungen, Heft 12). Heidelberg: Winter, 1903.
Jordan 1906 - Jordan, Richard. Eigentiimlichkeiten des anglischen Wortschatzes.
Eine wortgeographische Untersuchung mit etymologischen Anmerkun-
gen. (Anglistische Forschungen. Heft 17). Heidelberg: Carl Winter’s Uni-
versitatsbuchhandling, 1906.
Kluge, Seebold 1995 -Kluge, Friedrich. Etymologisches Worterbuch der deutschen
Sprache. Bearbeitet von E. Seebold. 23., erweiterte Aufl. Berlin, New
York: Walter de Gruyter, 1995.
Kurschat 1968-1973 - Kurschat A. Litauisch-deutsches Worterbuch, I-IV. Gottin-
gen: Vanderhoeck & Ruprecht, 1968-1973.
Lasch, Borchling 1956 -LaschA., Borchling C. Mittelniederdeutsches Worterbuch.
Fortgefuhrt von G. Cordes. 1. Band: a - f/v. Neumunster: Karl Wachholtz
Verlag, 1956.
Lehmann 1977 - Lehmann, Winfred P. Language Contacts and Interference in the
Germanic Period // Sprachliche Interferenz. Festschrift fur Werner Betz
zum 65. Geburtstag. Tubingen: Max Niemeyer Verlag, 1977.
Lexer 1872-1878 - Lexer, Matthias. Mittelhochdeutsches Handworterbuch, I—III.
Leipzig: Verlag von S. Hirzel, 1872-1878.
Liberman 2008 - Liberman, Anatoly. An Analytic Dictionary of English Etymology.
An Introduction. Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 2008.
Liberman 2010 - Liberman, Anatoly. A Bibliography of English Etymology. Sources
and Word List. Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 2010.
Mallory, Adams 1997 - Mallory J. P, Adams D. Q. (eds.) Encyclopedia of Indo-Eu-
ropean Culture. London and Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers, 1997.
Mallory, Adams 2006 - Mallory J. P, Adams D. Q. The Oxford Introduction to
Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World. Oxford: Uni-
versity Press, 2006.
Mankov 2007- Mankov A. Germanic Etymologies: Goth, ba gms, OE. Ьёат, OI.
badmr ‘tree’ // Аспекты компаративистики 2 (Orientalia et Classica:
Труды Института восточных культур и античности РГГУ). М.: Из-
дательство РГГУ, 2007. С. 375-392.
Meid 1998- Meid, Wolfgang. Uber Tierbezeichnungen im Indogermanischen // Man and
the Animal World. Studies in Archaeozoology, Archaeology Anthropology
and Palaeolinguistics in memoriam Sandor Bokonyi. Budapest, 1998.
86
Meillet 1967-Meillet, Antoine. The Indo-European Dialects. University of Alabama
Press, 1967 (пер. с франц, изд. 1922 г.)
Noreen \97Q-Noreen, Adolf. Altnordische Grammatik I. Altislandische und altnor-
wegische Grammatik (Laut- und Flexionslehre) unter Beriicksichtung des
Umordischen. 5. Aufl. Tubingen: Niemeyer, 1970.
Palander 1899 - Palander, Hugo. Die althochdeutschen Tiemamen. I. Die Namen
der Saugetiere. Darmstadt: G. Otto’s Hof-Buchdruckerei, 1899.
Pokorny 1959-1969 - Pokorny, Julius. Indogermanisches etymologisches Worter-
buch, I, II. Bern, Munchen: Francke, 1959, 1969.
Polome 1986 - Polome, Edgar. The Non-Indo-European Component of the German-
ic Lexicon // o-o-pe-ro-si. Festschrift fur Ernst Risch zum 75. Geburtstag.
Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1986.
Polome 1990-Po/ome, Edgar. The Indo-Europeanization of Northern Europe: The Lin-
guistic Evidence H The Journal of Indo-European Studies, vol. 18 (1990).
Polome 1992 - Polome, Edgar. Indo-European and Substrate Languages in the West //
Reconstructing Languages and Cultures. Abstracts and materials from the
first International Interdisciplinary Symposium on Language and Prehis-
tory, Ann Arbor, 8-12 November, 1988. Ed. by Vitaly Shevoroshkin. Bo-
chum: Universitatsverlag Dr. Norbert Brockmeyer, 1992.
Ptatscheck 1957 - Ptatscheck, Maria. Lamm und Kalb. Bezeichnungen weiblicher
Jungtiere in deutscher Wortgeographe. (Beitrage zur deutschen Philolo-
gie. Bd. 13). Giessen: Wilhelm Schmitz Verlag, 1957.
Rietz 1867 - Rietz, Johan Ernst. Svensk dialekt-lexikon. (Ordbok ofver svenska
allmoge-spr^ket). Lund: Lundbergs boktryckeri, 1867. (Register och ratt-
telser av E. Abrahamson. Uppsala: Lundequistska bokhandeln, 1955).
Sievers 1 %92-Sievers, Eduard. Sonargqltr // Beitrage zur Geschichte der deutschen
Sprache und Literatur. XVI. Band (1892).
Soderwall 1884-1918- Soderwall K. F. Ordbok over svenska medeltids-spraket, I-
II. Lund: Berlingska boktryckeri- och stilgjuteri aktiebolaget, 1884-1918.
Sperlbaum 1957 - Sperlbaum, Margret. Tiemamen mit k-Suffix in diachronischer
und synchronischer Sicht. (Beitrage zur deutschen Philologie. Bd. 16).
Giessen: Wilhelm Schmitz Verlag, 1957.
Starck, Wells 1990 - Starck T, Wells J. C. Althochdeutsches Glossenworterbuch.
Heidelberg: Carl Winter, 1990.
Toller 1921 - An Anglo-Saxon Dictionary based on the manuscript collection of the
late J. Bosworth. Supplement by T. N. Toller. Oxford: Clarendon Press, 1921.
Torp 1919 - Torp, Alf. Nynorsk etymologisk ordbok. Kristiania: Forlagt av H. Asch-
enhoug & Co. (W. Nygaard), 1919.
te Winkel 1863 - te Winkel, Lammert Allard. Beer, beren en beeren П De Taalgids.
Tijdschrift tot uitbreiding van de kennis der Nederlandsche taal, 5. Utre-
cht: C. van der Post Jr., 1863.
Tiberg 1972 - Tiberg, Nils. Estlandssvenska husdjumamn (jamte en dialektuppsats:
Husdjuren pa Runo av F. Lonnlund och T. Dreijer). Uppsala: AB Lunde-
quistska bokhandeln, 1972.
Torp, Falk 1909 -FickA. Vergleichendes Worterbuch der Indogermanischen Spra-
chen. 4. Aufl. 3. Teil: Wortschatz der Germanischen Spracheinheit. Unter
87
Mitwirkung von Hj. Falk ganzlich umgearbeitet von A. Torp. Gottingen:
Vanderhoeck & Ruprecht, 1909.
de Vaan 2008 - Vaan, Michiel de. Etymological Dictionary of Latin and the other
Italic Languages. (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Se-
ries, ed. by A. Lubotsky. Vol. 7). Leiden, Boston: Brill, 2008.
Verdam 1956- Verdam J. Middelnederlandsch handwoordenboek. ’s-Gravenhage:
Martinus Nijhoff, 1956.
de Vries 1971 - Vries, Jan de. Nederlands etymologisch woordenboek. Met aanvul-
lingen, verbeteringen en woordregisters door F. de Tollenaere. Leiden: E.
J. Brill, 1971.
de Vries 1977 - Vries, Jan de. Altnordisches etymologisches Worterbuch. 2., verbes-
serte Aufl. Leiden: E. J. Brill, 1977.
Whitman 1906-1907 - Whitman, Charles Huntington. Old English Mammal Names
// The Journal of English and Germanic Philology. Vol. VI (1906-1907).
Wright 1898-1905 - Wright J. The English Dialect Dictionary, I-VI. London: Hen-
ry Frowde, 1898-1905.
Zetterholm 1940 - Zetterholm, D. O. Dialektografiska undersokningar. I. Ladugard.
Manese. Fahus. II. Gumse. Таска. (Skrifter utgivna genom landsmalsarki-
vet i Uppsala. Ser. A:l). Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1940.
Summary
The etymology of the English boar is a controversial matter, which
had long been discussed by linguists. The present paper offers a compre-
hensive critical review of etymological hypotheses and, through the use of
Swedish dialects, another possible look at the problem.
Н, Ю. Гвоздецкая
Птица феникс глазами англосаксонского поэта:
ГЕРМАНСКИЕ МОТИВЫ В АНТИЧНОМ СЮЖЕТЕ
В работе рассматривается трансформация образа священ-
ной птицы Феникс в древнеанглийской поэме сравнительно с её
позднеантичным источником - поэмой Лактанция. Используя тради-
ционные эпические мотивы, англосаксонский поэт, с одной стороны,
германизирует этот персонаж, включая его в контекст героического
эпоса, с другой стороны, более отчётливо выявляет в сюжете о Фе-
никсе христианскую аллегорию (Христа и Его последователей). Мо-
тивы юности, старости и изгнания рассматриваются как специфиче-
ская интерпретация поэтом темы бессмертия/ долголетия птицы Фе-
никс, имеющейся в латинском оригинале. Мотивы явления и смерти
героя оказываются привязаны к христианской теме Воскресения. Со-
поставление поэмы с «Беовульфом» и древнеанглийскими элегиями
вскрывает попытку её автора сделать текст более удобопонятным для
аудитории и вместе с тем более дидактическим.
Ключевые слова: животные, Феникс, древнеанглийская
поэзия, героический эпос, христианство
Древнеанглийская поэзия (VII-XI) вв. уходит своими корнями в
устно-эпическое творчество древних германцев, по-видимому, принесен-
ное англосаксами с континента при переселении в Британию (V-VI вв.).
С общегерманским поэтическим наследием ее роднят не только сюжеты
о легендарных героях континентального прошлого и дружинный эти-
ческий кодекс, наиболее ярко отобразившиеся в поэме «Беовульф», но
также специфически германский и архаический тип аллитерационного
стиха, требовавший от поэта воспроизведения традиционной «формуль-
ной» фразеологии1. Известно, однако, что общегерманский «формульный
фонд» в условиях ранней христианизации страны рано начал использо-
ваться для передачи библейских и агиографических сюжетов [Chemiss:
10], источником которых служила латинская книжность, как об этом сви-
детельствует рассказ Беды о поэте Кэдмоне2.
Характер взаимодействия устно-поэтического творчества
англосаксов с письменной ученой (латиноязычной) культурой в древ-
ней Англии остается до сих пор не до конца разрешенной проблемой.
00<Х><><>0<>00<ХХХ><><><>0<><Х><>5<ХХХ
1 Об архаическом характере древнегерманского аллитерационного стихосложения
и его взаимоотношениях с поэтической формульностью см.: [Смирницкая 1994].
2Ср.: «Тогда они прочли ему отрывок из Святого Писания или проповеди и
предложили, если он сможет, изложить этот отрывок в стихах. Он взялся за
дело и на следующее утро повторил почитанный ему отрывок, облеченный им
в форму дивных стихов» [Беда: 141].
89
Дискуссии истекшего столетия позволяют заключить, что сохранив-
шиеся памятники древнеанглийской поэзии не были ни непосред-
ственной фиксацией устного творчества неграмотных сказителей-
импровизаторов (как полагали, например, Ф. Магун и его последова-
тели [Magoun]), ни простой адаптацией старого поэтического языка к
чужеродному содержанию, якобы протекавшей под воздействием уче-
ных авторитетов [Ниррё].
В этом отношении заслуживает внимания мнение О. А. Смир-
ницкой об относительности границ между «устностью» и «письмен-
ностью» в поэтическом творчестве англосаксов3. Аллитерационная
поэзия, «входя в единый круг чтения с инокультурными и, прежде
всего, христианскими текстами, претерпевала глубочайшую транс-
формацию» [Смирницкая 2004: 15]. Думается, что прояснению смысла
и механизмов этой трансформации в немалой степени может способ-
ствовать изучение древнеанглийских парафраз на иноземные сюжеты.
Парадокс взаимоотношений формы и содержания в поэтиче-
ском творчестве англосаксов состоит в том, что эпическое слово - по
условию, неотделимое от своего собственного предмета [Бахтин 1975:
461] - смогло, тем не менее, перейти на новые предметы, которые не-
сла с собой латинская книжность4. Германский аллитерационный стих
оказался способен к воспроизведению заимствованных тем.
Вместе с тем, творчество первых авторов древнеанглийских
поэтических парафраз (Кэдмона и Кюневульфа) по своим приемам не
очень существенно отличается от анонимных произведений: новые
сюжеты пересказывались с опорой на традиционную фразеологию, об-
разность и приемы эпического повествования. Письменный способ со-
чинения не разрушал канонов эпического искусства, ибо первые авто-
ры письменных сочинений еще не противопоставляли себя традиции.
В эпоху перенесения поэтического творчества на пергамент
традиционная поэтическая форма не могла превратиться в условный
прием или простую письменную имитацию устной традиции. Поэт,
использовавший формульную технику стихосложения, оперировал не
отдельными словами, но готовыми моделями поэтической речи, на-
ОО<><>С><><><><Х><><><><><><><><><><^^
3 «Оказывается бесперспективным представление, - пишет О. А. Смирницкая, -
что англосакс или исландец, записавший на пергаменте текст, так или иначе свя-
занный с устной традицией, должен быть непременно либо «фольклористом»,
фиксирующим известную ему устную версию, либо - как альтернатива - «писате-
лем», использующим элементы традиционной техники в целях наиболее эффек-
тивного воздействия на аудиторию» [Смирницкая 2004: 12].
4«Верно, что слово в эпосе неотделимо от своего предмета, - комментирует
данный взгляд М. М. Бахтина О. А. Смирницкая, - но важно разглядеть в этой
неотделимости момент динамики: новые предметы (концепты) не вводятся в
текст по произволу поэта, т. е. в соответствии с его «художественным замыс-
лом». Они находят основание в подвижности семантической структуры поэти-
ческого слова» [Смирницкая 2004: 16].
90
правленными на воспроизведение традиционных эпических мотивов.
Вопреки мнению Ф. Магуна, формулы обеспечивали не одну спонтан-
ность устной импровизации: формулы укоренены в устной традиции, но
ею не ограничены. Представляется, что есть все основания рассматривать
формулы древнеанглийской поэзии как «работающий механизм», обеспе-
чивающий не только устойчивость поэтической традиции, но и ее эволю-
цию в меняющемся культурном контексте [Смирницкая 2004: 12].
Древнеанглийская поэтическая фразеология, весьма консер-
вативная по форме, оказалась открытой для изменений, происходив-
ших в обществе [Смирницкая 2008: 408]. При этом перенос поэтиче-
ского творчества на пергамент становится возможен именно «в тот
исторический момент, когда устная и письменная культуры обнаружи-
вают повышенную способность к интерференции, а иногда и взаимоо-
тождествлению» [Смирницкая 2004: 12—13]. На мой взгляд, именно
«смысловая текучесть» - причем не только целых текстов [Смирниц-
кая 2008: 406], но их составляющих (формульных систем) - обуслови-
ла тот парадоксальный факт, что «германизация» античного сюжета
могла оборачиваться также его «христианизацией»5.
Ярким примером тому служит воссоздание образа птицы Фе-
никс в одноименной древнеанглийской поэме, которая представляет
собой расширенную парафразу латинской поэмы Carmen de Ave Phoe-
nice, приписываемой перу Лактанция (объем древнеанглийской поэмы
втрое превышает латинский источник).
Древнеанглийская поэма «Феникс» сохранилась в составе
рукописи, известной под названием «Эксетерская Книга» (датируется
концом X в.). Время создания и автор древнеанглийской поэмы неиз-
вестны, хотя иногда ее относят к «школе Кюневульфа». Поэму принято
делить на две части: первая излагает древний миф о Фениксе, а вторая
дает его аллегорическую интерпретацию [Blake: 17]. Первая часть поэмы
воспроизводит сюжет, излагаемый Лактанцием; во второй (аллегориче-
ской) ее части заметно влияние Библии, «Шестоднева» св. Амвросия Ме-
диоланского и некоторых других патристических творений [Blake: 17-24].
Феникс - это птица, которая долгое время пребывает в свя-
щенной роще, а затем улетает к чудесному древу, где сгорает в пла-
мени, после чего возрождается из пепла и начинает новую жизнь по
возвращении на родину. В первые века нашей эры миф о Фениксе по-
лучил распространение в христианской литературе как символ всеоб-
щего воскресения в День Страшного Суда [Blake: 12-13].
<><><><><><><><><><><><^^
5В этой связи уместно напомнить, что семантическая подвижность формул
более связана с ментальной эволюцией общества, нежели с индивидуальным
замыслом автора произведения. Иначе говоря, «древнеанглийское поэтическое
слово сохраняет большие потенции переосмысления, но они идут скорее от
культурных установок эпохи, чем от осознанно-личностной трактовки темы у
отдельного автора» [Гвоздецкая 2004: 43].
91
Древнеанглийский поэт значительно усиливает аллегори-
ческое осмысление образа Феникса, который рисуется, однако, в
героико-эпических выражениях. Атрибуты священной птицы, упоми-
наемые в латинском источнике, получают в древнеанглийской поэме
своеобразное «германское» преломление и вместе с тем - более глу-
бокую христианскую трактовку, нежели в оригинале, построенном на
образах античной мифологии.
Так, долголетие и бессмертие Феникса раскрываются через
использование эпических мотивов «старости» и «юности», развивае-
мых в направлении «Беовульфа» и героических элегий. Превращая Фе-
никса в «изгнанника», древнеанглийский поэт интерпретирует мотив
изгнания с точки зрения жизни и смерти человека в земном мире. Од-
нако традиционная формульная фразеология всегда вводится в текст
не сама по себе, но в связи с развитием традиционных эпических мо-
тивов. Христианские смыслы и идеи постепенно рождаются в тексте в
процессе эпического повествования. Остановимся на этом подробнее.
Позднеантичный материал сказания о Фениксе преобразуется
в древнеанглийской поэме путем опущения или добавления отдельных
деталей. В латинском тексте Феникс представлен одновременно как
птица и как служитель языческого бога Феба (Аполлона), отождест-
вляемого с солнцем. В оригинале эпитеты Феникса акцентируют его
быстроту и силу, долголетие и бессмертие, уникальность, красоту.
Англосаксонский поэт исключает все детали латинского нар-
ратива, укорененные в языческой античной мифологии (поклонение
Фебу, а также ссылки на античных божеств и героев), усиливая, вместе
с тем, символический христианский смысл предания о священной пти-
це (Феникс трактуется как умирающий и воскресающий со Христом
праведник, а иногда и как сам Христос). Однако эта символическая
трактовка в значительной мере осуществляется в границах германских
эпических терминов и мотивов, которые, с одной стороны, сохраня-
ют все свои героические ассоциации, а с другой - переосмысляются в
христианском духе, временами сближаясь даже с богословскими по-
нятиями, но всегда точно соответствуя эпическому контексту.
Таким образом, германская эпическая фразеология не являет-
ся в англосаксонской поэме ни способом упрощенной популяризации
античного сюжета, ни механическим инструментом импровизации.
Названные выше черты птицы Феникс присутствуют в древнеанглий-
ской парафразе, но претерпевают при этом существенные изменения.
Анализ древнеанглийской поэтической лексики и фразеологии, описы-
вающей в поэме птицу Феникс, показывает, что ее образ становится одно-
временно 'и’ более явно германским, и более эксплицитно христианским.
Латинский автор использует три разных наименования пти-
цы: avis (31, 70, etc.), ales (113, 145, etc.), volucris (152, 161); древне-
английский поэт употребляет по отношению к Фениксу только одно
92
имя со значением «птица» (fugol - 86, 100, 104, etc.), зато добавляет
целый ряд имен со значением «вождь-воин-герой» - cepeling (354), су-
ning (344), gudfreca (353), leodfruma (345),peoden (165)6. Варьируя фор-
мульные фразы - feprum/wapum snell/strong (99, 123, 161, 163, 347) -
англосаксонский поэт так же, как и латинский, упоминает быстроту и
силу птицы, но чаще описывает поведение Феникса традиционными
германскими эпитетами со значением «храбрый, воинственный, по-
бедный» - beaducrceftig (286), deormod (88), heahmod (112), heaporof
(228), modig (10, 262, 338), sigorfcest (282).
Можно допустить, что использование германской военной
терминологии направлено на усиление и развитие христианской ме-
тафоры «духовной брани», известной из Нового Завета [Еф. 6. 11-17].
Таковую возможность едва ли стоит оспаривать, если учесть, что в ав-
торском отступлении от основного сюжета святой праведник имену-
ется «Божиим воином» (Meotudes сетра - 471). Дело, однако, обстоит
не так просто. Каждое из имен используется строго в соответствии со
своим традиционным смыслом и служит развитию соответствующего
эпического мотива, передаваемого через формульные и аллитерацион-
ные коллокации. И все же в ходе повествования все эти имена полу-
чают, вместе с тем, христианский смысл, причем три из них (cyning,
peoden, modig) выступают также именами Бога.
В англосаксонской поэме Феникс, «отважный (букв, «высо-
кий духом»), возносится на высокое древо» (heahmod hefed / on heanne
beam - 112), чтобы приветствовать восходящее светило. Англосаксон-
ский поэт, следуя латинскому источнику, представляет Феникса спут-
ником солнца и хранителем священной рощи, но использует для этого
формульные выражения, включающие германские термины социаль-
ного статуса, которые намекают на отношения вождя и дружины. При-
чем смена статуса персонажа сопровождается в данном контексте и
сменой его гендерной принадлежности: вместо лат. Phoebo memoranda
safeties (33) «Фебу достойная спутница», antistes luci nemorumque ver-
enda sacerdos (57) «смотрительница леса и внушающая страх жрица
рощ» находим в древнеанглийском тексте wudubearwes weard (152)
«страж леса», sunnan pegn (288) «тэн солнца».
Таким образом, и птица, и солнце теряют в древнеанглийском
тексте свои античные мифологические ассоциации, сближаясь с гер-
манским воином и вождем. А через это прокладывается и путь к их
сближению с христианским праведником и Христом, которые также
обозначаются германскими дружинными терминами феобеп, j?egn),
ср.: Is pcetPeodnes gebod (68) «таково повеление Господа»; Pisses fugles
6Здесь и далее текст древнеанглийской поэмы, как и ее латинского источника,
цитируется по изданию [Phoenix] без указания долгот. Арабская цифра обо-
значает номер поэтической строки. Перевод автора статьи.
93
gecynd/felagelices //bipam gecornum /Cristespegnum (387-388) «этой
птицы природа во многом похожа на тех избранных Христа слуг».
Тема почитания священной птицы всем птичьим родом, лишь
кратко обозначенная в латинском источнике (155-160), в древнеанглий-
ской поэме разрабатывается детально, в терминах верности дружинников
своему вождю, составлявшей основу германского кодекса героического
поведения. Покидая Блаженную землю, Феникс обретает владычество
над птичьим родом, причем каждая из птиц желает «стать слугою (тэ-
ном) славному господину» (wesan pegn ondpeow / peodne mcerum - 165).
А эпизод его возвращения на родину являет образец преданности героев
вождю: все птицы «славят отважного чистыми голосами» (тсегад modigne
/meaglum reordum - 338); «величают его как конунга, вождя любимого,
провожают в веселии» (pnd for cyning тсегад // leofne leodfruman, / Icedad
mid wynnum - 344—345); оставляют «воина, скорбные духом» (from pam
gudfrecan /geomormode - 353), а «княжич пребывает юный в вотчине» (se
cepeling bid //giong in geardum - 354-355).
В указанном эпизоде каждое из «героических» обозначений
Феникса семантически мотивировано в пределах смыслового периода,
а в последних двух случаях присутствуют даже прямые словесные пе-
реклички с текстом «Беовульфа». Ср.: Swa giomormod / giohdo mcende, //
an cefter eallum (2267-2268) «Так скорбный духом горе оплакивал, один
после всех»; Daem eafera wees/cefter cenned, //geong in geardum (12-13)
«У него наследник потом родился, юный в вотчине».
Вместе с тем, необычное сопряжение в данном контексте печа-
ли с радостью («в веселии» - «скорбные духом»), не вполне понятное в
пределах героического кодекса, намекает на аллегорический смысл всей
этой церемонии: отбытие Феникса на родину символизирует вхождение
праведника в Царство Небесное, о чем прямо говорится в конце поэмы.
Вполне отвечая развитию эпического мотива «славная смерть
героя», «героические» эпитеты Феникса, вместе с тем, вносят свой
вклад в аллегорическое переосмысление данного мотива. В самом
деле - «храбрый в бою» птенец (heathorof- 228) не боится разрушаю-
щего пламени, «сильный духом» (modig - 262) проявляет после вто-
рого рождения своеобразную аскезу (живет на одной медвяной росе -
259-261); «искусный в сражении» (beaducrceftig - 286) умело погреба-
ет свои испепеленные останки.
В подобном контексте эпитет «победный» - sigorfeest (282),
букв, «крепкий победой» - может быть понят и как соответствующий
мотиву битвы, и как предвосхищающий победу Феникса над самой
смертью. Его победа трактуется в древнеанглийской поэме как бо-
жественное предназначение священной птицы, получающей данный
атрибут еще до эпизода возрождения из пепла. Поэт отмечает, что воз-
родившийся Феникс выглядит точно таким же, «каким он при сотво-
рении был, каким его вначале Бог в той блаженной земле, к победе
94
крепкого, поместил» (swa he cetfrympe wees //pa hine cerest God/on pone
cepelan wong //sigorfeest sette - 280-282).
Еще более интересны способы передачи идей долголетия и
бессмертия. Очевидно, древнеанглийский поэт не располагал эпите-
тами, полностью эквивалентными по смыслу латинским эпитетам -
longaeva (65) «многолетняя, долговечная (птица)» и inmoritura (92)
«которой не суждено умереть» (форма причастия будущего времени) -
встречающимся в его источнике (древнеанглийское прилагательное есе
«вечный» употребляется им только применительно к Богу). Это заставля-
ло его искать непрямые способы обозначения указанных свойств птицы.
Долголетие Феникса передается через развитие эпического
мотива старости, а бессмертие выражается посредством мотива юно-
сти и обновления - со всеми их традиционно героическими эпитетами
и ассоциациями, которые можно наблюдать в «Беовульфе».
Начнем с мотива юности. Эпитет geong «юный» ассоцииру-
ется в поэме с возрождением Феникса: pcet he feorh geong eft / onfon
mote (433) «чтобы он жизнь юную вновь обрести мог», или, иначе,
«чтобы он жизнь, вновь юный (то есть заново родившийся), мог обре-
сти». Введение мотива юности влечет за собой появление устойчивого
комплекса героико-эпических представлений о родном доме, наслед-
нике и наследных дарах: feorh bid niwe // geong geofona ful (266-267)
«жизнь его новою пребывает, юная, даров исполненная» (или, иначе,
«(он) юный даров исполнен»). Ср. также: Swa Fenix Ъеаспад //geong
in geardum / Godbearnes meaht (646-647) «Так Феникс являет, юный в
вотчине, Сына Божьего силу». Устойчивость данного концептуального
комплекса демонстрируют примеры из «Беовульфа»: Daem eafera wees
/cefter cenned, //geong in geardum (12-13) «У него наследник потом ро-
дился, юный в вотчине». Или: Swa sceal geong guma /gode gewyrcean,
//fromum feohgiftum / on feeder bearme (20-21) «Должно юному мужу
добром поработать, дарами щедрыми в отеческом лоне».
Концепты «дар» и «родина», обозначающие в начале поэмы,
соответственно, способность Феникса к возрождению и его недоступ-
ное обиталище, в конце интерпретируются как блаженство, даруемое
Богом в раю. Через использование и развитие исконных героико-
эпических мотивов древнеанглийский поэт добивается не только более
художественной и проникновенной - по сравнению со своим латин-
ским предшественником - передачи темы бессмертия, но и ее более
глубокой христианской трактовки.
Прилагательные, именующие старость в англосаксонской
героико-эпической поэзии, как правило, тесно связаны с мудростью
героя (gomol, frod). Древнеанглийский автор поэмы о Фениксе мог по-
пытаться усилить темпоральный компонент их значения, чтобы под-
черкнуть долголетие птицы (ср. gomel cefter gearum (258) «старый го-
дами»), однако едва ли мог полностью избавиться от их ассоциации с
95
мудростью. Мотив старости разворачивается в направлении, заданном
поэтикой героического эпоса и характерными для него формульными
системами: долголетие Феникса представлено как жизненный опыт и
переживание прошлого, ср. gomol gearum frod (154) «старый годами му-
дрый» иfymgearum frod (219) «древними годами мудрый». Это позволяет
поэту провести далее сравнение Феникса с библейским патриархом Иовом,
который обрел мудрость после долгих лет страданий, сравни Dus frod
guma/onfymdagum (570) «Так мудрый муж в давние дни...».
В древнеанглийских героических элегиях мудрость и ста-
рость - характерные черты страдальца-изгоя, так сказать, «экс-героя»,
оказавшегося на периферии героического мира [Смирницкая 2008:
409-410]. В образе Феникса воспроизводится весь этот комплекс пред-
ставлений посредством введения формульных выражений, характер-
ных для героико-элегической темы изгнания (в том числе, обозначаю-
щих страдание), ср.: роппе frod ofgiefed // eard ond epel / ond geeal-
dad bid, // gewited werigmod / wintrum gebysgad (426-428) «покидает
мудрый земли наследные, ставши старым, прочь отправляется, духом
усталый, зимами утружденный».
Вместе с тем, страдание Феникса - не результат старости, ибо
парадоксальным образом сочетается с силой и сноровкой, ср.: Роппе
жарит strong // west gewited / wintrum gebysgad // fleogan feprum snel
(161-163) «Сильный в полете, на запад стремится, зимами утружден-
ный, летит быстрокрылый». Страдание Феникса проистекает исклю-
чительно из его поэтического статуса изгнанника, раскрываемого так-
же через другие традиционные аспекты темы изгнанничества (униже-
ние, одиночество, движение прочь).
Значимым оказывается в древнеанглийской поэме «Феникс»
существительное anhaga «одиночка», характеризующее англосаксон-
ского Скитальца в одноименной героической элегии: Oft him anhaga
аге gebided (1) «Часто себе одиночка милости ждет». Это наименова-
ние применяется к Фениксу в тех частях поэмы, где отсутствуют про-
чие атрибуты изгнанника - в самом начале, где священная птица впер-
вые называется по имени, а также в эпизоде ее прославления другими
птицами (87, 346). Комментаторы обычно (и не без веских оснований)
допускают здесь семантический перенос «одинокий-единственный (в
своем роде)», то есть трактуют это существительное как указание на
уникальность Феникса (Phoenix: 105), то есть его выделейность между
собратьями, акцентируемую также и в латинском тексте (31, 152). Одна-
ко этим не отменяется и первичный смысл anhaga, подкрепляемый фор-
мульным воспроизведением темы изгнания в древнеанглийской парафра-
зе. Очевидно, следует ставить вопрос не о замене одного смысла другим,
а об их соединении в сознании англосаксонского поэта, или, точнее, о
поисках им тех риторических приемов, которые позволили бы вместить
семантику античного мифа в традиционную поэтику германского эпоса.
96
Почему же в древнеанглийском поэтическом тексте Феникс не-
пременно должен стать изгнанником? По-видимому, потому, что вслед-
ствие традиционного характера своего искусства древнеанглийский поэт
не может не представлять все важнейшие идеи своего источника как след-
ствие развития традиционных эпических мотивов. Латинский поэт под-
черкивает уникальный характер священной птицы посредством эпитетов
unica (31) и гага (152), в то время как древнеанглийский поэт выражает
ту же идею, отсылая свою аудиторию к одиночеству Феникса, то есть по-
средством атрибута, внутренне присущего эпическому мотиву изгнания.
Интересно отметить, что такого рода культурная адаптация
античного сюжета усиливает и его дидактическую окраску, внося свой
вклад в символическую интерпретацию данного мотива. В моноло-
ге Иова этот мотив, выраженный в германских эпических терминах,
становится символом смерти как ухода из мира сего: hcele hrawerig, /
gewite hean ponan // on longne sid (554-555) «Муж, плотию усталый,
ухожу я, униженный, отсюда в далекий путь». В то же время, в хри-
стианской картине мира концепт «изгнание» может интерпретиро-
ваться как земная жизнь человека, удаленного от Царства Божия. Так,
в героических элегиях «Скиталец» и «Морестранник» оторванность
их протагонистов от радостей героического образа жизни становится
аллегорией страданий человека в этом мире. В «Фениксе» эпический
мотив изгнания претерпевает, по сравнению с элегиями, дальнейшую
трансформацию, ибо акцентирует более приобретения, нежели потери:
священная птица, состарившись, не только покидает Блаженную землю,
но и возвращается туда обновленной. Вследствие этого, мотив изгнания
превращается в древнеанглийской поэме в мотив обретенного рая.
В этой связи следует остановиться на способах описания
древнеанглийским поэтом красоты Феникса. Вслед за латинским ис-
точником, где детально обрисована цветовая гамма птицы (125-142),
он также привлекает внимание к разнообразной окраске Феникса
(291-311), ср. bleobrygdum fah (292) «разными цветами изукрашен».
И все же ему не приходится тягаться со своим латинским собратом
в описании оттенков цветов. Хотя и ему удается найти ряд цветовых
эпитетов - grene (293, 298) «зеленый», brun (296) «коричневатый, сму-
глый», hwit (298) «белый», fealwe (311) «желтоватый» - на первый
план выступает у него не цвет, но блеск. Примечательно, что эпите-
ты блеска, сосредоточенные в латинском оригинале исключительно в
эпизоде возрождения птицы, в древнеанглийской парафразе пронизы-
вают собою весь текст. Одни из них - haswa, haswigfepra (121, 153)
«серый, пепельный», но также «блестящий» в эпической вариации с
beorht «яркий» (121) - создают ассоциацию между Фениксом и эпиче-
скими зверями битвы (волком и вороном). Другие - beorht (122, 240,
306) «светлый, яркий, славный»; scyne «сверкающий, великолепный»
(300, 308, 591); torht (574) «ясный, блистающий, знаменитый» - напо-
97
минают о германском герое, обычно выступающем на эпической сцене
в полном вооружении и в сиянии славы.
Свет и сияние - традиционные атрибуты германского эпиче-
ского мира, полного золота и сокровищ. Важнее, однако, что упомина-
ние света используется в германском героическом эпосе как специфи-
ческий нарративный прием, который регулярно сопутствует мотивам
явления и гибели героя, подтверждая, что в его внешнем облике про-
являются его внутренние достоинства [Смирницкая 2008: 162-169].
В древнеанглийской поэме «Феникс» семиотическая функция
света обнаруживается также в аллитерационной коллокации ‘torht-ta-
сеп' «яркий, знаменитый (о Фениксе) - знак (символ, знамение)», об-
ретающей христианские коннотации победы над смертью. Ср.: pcet we
ру geornor / ongietan meahten // tirfcest tacen /pcet se torhta fugel //purh
bryne beacnad (573-575) - «чтобы мы тем охотнее могли воспринять
победный знак, который эта знаменитая птица (своим) горением явля-
ет». Выдержанный в световых эпитетах, характерных для мотивов «явле-
ние и гибель героя», образ Феникса становится аллегорией воскресения.
Эпитет torht объединяет вещую птицу с целым рядом реалий,
имеющих не только прямое, но и переносное значение в поэме. Это
Блаженная земля, ее обиталище и символ рая - torhte lond (28); солнце,
которому она служит (символ Бога) - torht tacen Godes (96), а также
плоды и растения, из которых она строит свое гнездо - torhte frcetwe
(200). Последние трактуются в поэме как добрые дела, благодаря кото-
рым праведники получат спасение в День Страшного Суда.
В приведенных выше строках 573-575 дважды воспроизведе-
на идея яркости - через ссылку на оперение Феникса и на погребаль-
ный огонь. Тем самым происходит воссоединение мотивов явления и
гибели героя, которые получают христианский смысл: горение птицы
трактуется в этом контексте и как «ясный знак» ее победы над смертью
(через это Феникс уподобляется Христу), и как «явное предзнамено-
вание», обещающее спасение верным. Благодаря этому смысл аллите-
рационной коллокации 'torht - tacen' сближается с «благой вестью» -
Евангелием. Видимо, неслучайно эта коллокация появляется в самом
конце поэмы, после того, как большинство деталей мифа о священной
птице уже получили символическое толкование.
Таким образом, приемы германского эпического повествования
и германская формульная фразеология не только способствовали культур-
ной адаптации античного сюжета к сознанию англосаксонской аудитории,
но и служили его более глубокому религиозному осмыслению, обогащая
диалог культур внутри традиционного поэтического искусства.
Издания памятников
Беда - Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов / Пер. с латин-
ского В. Эрлихмана. СПб., 2001.
98
Еф - Послание к Ефесянам Святого Апостола Павла // Новый Завет.
Beowulf - Beowulf / Ed. by M. Swanton. Manchester, 1978.
Phoenix - The Phoenix / Ed. by N. F. Blake. Revised edition. Exeter, 1990.
Wanderer - The Wanderer // Old English Prose and Verse. An Annotated Selection I
Ed. by R. Fowler. London, 1978.
Литература
Бахтин 1975 - Бахтин M. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
Гвоздецкая 2004 -Гвоздецкая Н. Ю. Нарративные основы формульности древ-
неанглийского поэтического текста // Атлантика. Записки по истори-
ческой поэтике. Вып. VI. М., 2004.
Смирницкая 1994 - Смирницкая О. А. Стих и язык древнегерманской поэзии.
Т. 1-2. М„ 1994.
Смирницкая 2004 - Смирницкая О. А. Предисловие // Слово в перспективе лите-
ратурной эволюции: К 100-летию М.И. Стеблин-Каменского. М., 2004.
Смирницкая 2008 - Смирницкая О. А. Избранные статьи по германской фило-
логии. М., 2008.
Blake 1990 - Blake N. F. Inroduction // The Phoenix / Ed. by N. Blake. Revised
edition. Exeter, 1990.
Chemiss 1972 - Cherniss M. Ingeld and Christ. Heroic Concepts and Values in
Old English Christian poetry (Studies in English Literature, LXXIV). The
Hague-Paris, 1972.
Huppe 1959 - Ниррё B. F. Doctrine and Poetry: Augustine’s Influence on Old Eng-
lish Poetry. New York, 1959.
Magoun - Magoun F. P The Oral-formulaic Character of Anglo-Saxon Narrative
Poetry // Interpretations of Beowulf A Critical Anthology / Ed. by R.D.
Fulk. Bloomington - Indianapolis, 1991.
Summary
The paper deals with the depiction of the sacred bird Phoenix in
the Old English poetic paraphrase of the Latin poem by Lactantius and with
the transformation of this character in the Anglo-Saxon poem, compared
to its late classical prototype. Through the use of traditional epic motifs,
the Anglo-Saxon poet makes his protagonist Phoenix not only a more Ger-
manic figure (associating him with the epic hero) but also a more explicit
Christian allegory of Christ and His followers. The motifs of youth, old age
and exile are discussed as specific means of rendering the ideas of longevity
and immortality of the bird in the Latin source. The motifs of ‘the appear-
ance and death of hero’ become linked to the Christian concept of Resurrec-
tion. Comparing Old English Phoenix with the Beowulf as well as the Old
English elegies helps to discover the attempt of its author to make his story
both more understandable for his audience and more didactic at once.
99
Е. Р. Сквайре
«Есть у Невесты зверь на узде»: фауна мистических
видений Мехтильды Магдебургской1
В трактате Мехтильды Магдебургской «Струящийся Свет
Божества» (XIII в.) образы животных занимают значительное место
в соответствии с требованиями метафорического языка религиоз-
ной мистики. Как показано в настоящей работе, основу звериного
символизма Мехтильды составляют христианские топосы в сложной
комбинации с традициями куртуазной литературы и геральдики. С
другой стороны, учёная традиция бестиариев практически не нашла
отражения в тексте Мехтильды. В то же время в «Струящемся Све-
те» представлены мотивы и целые образы, не зафиксированные ни
в какой литературной традиции. Эти тропы, а также разнообразные
приемы сгущения метафор, служащие усилению эмоционального воз-
действия, несомненно являются авторскими инновациями Мехтильды.
Ключевые слова: аллегория, геральдика, животные, куртуаз-
ная литература, мистицизм, немецкий язык, телесность, христианство.
Произведение Мехтильды Магдебургской «Струящийся Свет
Божества» относится к жанру женской мистической литературы XII-
XIII в., представляющей собой словесное воплощение религиозных
мистических переживаний автора. Мехтильда (ок. 1207, f не ранее
1282)2 была старшей из трех великих монахинь - религиозных мисти-
ков, живших и творивших в Свято-Мариинском монастыре Хельфта в
Саксонии: ее младшими современницами были Мехтильда Хакеборн-
ская (1231-1291) и Гертруда Великая (1256-1302), ставшая в Хельфте
аббатисой. В отличие от своих ученых подруг, занимавшихся наукой
и оставивших мистические трактаты на латинском языке, Мехтильда
Магдебургская воплотила свои мистические видения в яркой поэтиче-
ской форме на своем родном, немецком, языке.
Мехтильда признается в своей книге, что не обладает ученой
образованностью и соответствующими ей знаниями языков: «Латыни
я не обучена. Недостает мне слов немецких» (Кн. II, 3). Характер ее
мистического опыта таков, что его осмысление не лежит в русле на-
учного познания; Мехтильда подчеркивает, что и Бог обращается к ней
Работа выполнена в рамках проекта РГНФ № 09-04-00104а «Животный мир
в культуре кельтов и германцев».
2 Относительно даты смерти Мехтильды Магдебургской данные расходятся,
колеблясь между 1282 и 1294 г.).
100
на ее же языке - языке, принадлежащем к обиходу высших феодаль-
ных сословий:
So grusset er si mit der hovesprache, die man in dirre kuchin
nut vemimet, und kleidet su mit den kleidem, die man ze dem
palaste tragen sol, und git sich in ir gewalt. (I, 2, 9-11)3
«И обращается Он к ней на языке придворном, который
непонятен на кухне сей, и облачает Он ее в одежды, каковые
во дворце носить пристало, и предает Он себя ее власти»4.
Содержание и характер произведения Мехтильды обусловили
его сложный, насыщенный метафорами, аллегорический язык. Мета-
форика вообще составляла сущностную особенность языка духовных
исканий и откровений. «Мистическая метафорика есть религиозная
необходимость, а не средство поэтического стиля», пишет исследователь-
ница языка Мехтильды Грета Люерс [Liters 1926]. Она указывает на тео-
логическое обоснование метафоричности языка религиозных произведе-
ний в трудах отцов церкви, ссылаясь, в частности, на Фому Аквинского,
который определяет метафорический язык Св. Писания как единственно
допустимую форму передачи его содержания (ср. в его Summa theologiae,
I: sacra doctrina utitur metaphoris propter repreaesentationem5).
Мистические видения посещали Мехтильду с раннеотроче-
ского возраста (в выражении Мехтильды: So grusset er si, см. цитату
выше), однако лишь значительно позднее ее духовнику удалось убе-
дить Мехтильду в необходимости предать ее откровения словесному
воплощению и записать. Она происходила из рыцарского рода и полу-
чила, судя по ее несомненному поэтическому мастерству и обилию лите-
ратурных аллюзий в тексте «Струящегося Света», основательное светское
образование - такое, какое соответствовало положению дочери родови-
3 Оригинал цитируется по рукописи из монастыря Айнзидельн в издании
[Neumann, Vbllmann-Profe 1990].
4При цитировании обширных кусков из текста произведения, иллюстрирую-
щих общие положения, автор опирался на русский перевод по изданию: Мех-
тильда Магдебургская. Струящийся Свет Божества. Под ред. Р. С. Гуревич,
Е. В. Соколовой, В. А. Сухановой. М., 2008 (далее [Мехтильда 2008]); в этих
случаях авторство переводов обозначено пометой (Р. Г). В ходе работы над
материалом зоонимов, однако, выяснилось, что изданный в «Литературных па-
мятниках» перевод недостаточно точно передает важные системно-языковые
и смысловые нюансы текста Мехтильды. Поэтому конкретные примеры, со-
держащие анализируемый языковой материал, приводятся в более точном и
удачном переводе Наталии Ганиной, любезно предоставившей его автору (см.
помету Н. Г). В некоторых случаях, однако, для более точного освещения темы
данной работы пришлось предпочесть максимально дословный способ передачи;
эти переводы, не сопровожденные отметкой об авторстве, принадлежат автору
данной статьи.
5Цит. по: Liters 1926: 15.
101
тых родителей рыцарского сословия6. В произведении Мехтильды отчет-
ливо ощущуается глубокое влияние поэтической традиции ее времени.
Источники аллегорических образов, раннехристианская сим-
волика, библейские контексты и связанные с ними религиозные тек-
сты и идеи послужили предметом для целого ряда филологических
исследований авторского языка Мехтильды, характера и смысла встре-
чающихся у нее аллюзий [Liters 1926; Neumann 1965; Erat-Stierli 1985;
Peters 1988; Neumann, Vollmann-Profe 1993 и др.]. Наряду с многочис-
ленными традиционными и собственными новаторскими образными
средствами Мехтильда использует для создания иносказательных опи-
саний и наименования животных. Эта конкретная тема до сих пор не
получила освещения в научной литературе.
В семи книгах «Струящегося Света» встречаются упоминания
целого ряда животных, в их числе агнец, волк, ворона, гады земные,
голубица, голубь, горлица, дикие звери, дичь, дракон, жабы, животное,
зверек, козел/козлища, корова, лев, медведь, муха, мышь, обезьяна,
овен, овца, олень, орел, осел, птицы, пчела, рыба, скот, скотина, со-
бака/пес, соболь, сова, соловей, червь. Кроме того, автор употребляет
прилагательные, производные от зоонимов, или обозначения частей
тела животных: песье (тело), змеиный (яд), крылья, оперенье, голу-
биное оперение, павлиньи перья. Поскольку эти производные обозна-
чения также вносят вклад в общий семантический фон аллегорического
произведения, они были включены нами в корпус исследованных единиц.
То же относится и к упоминаниям некоторых других реалий, контекстно
связанным с собственно зоонимами: стойло, хлев, коровьи ясли, ясли.
Источники зоонимических образов Мехтильды Магдебургской
Источники зоонимических символов и аллегорических обо-
значений в произведении Мехтильды Магдебургской можно обнару-
жить в следующих аспектах культурной жизни современной ей эпохи:
1. Христианская символика, библейские контексты и связан-
ные с ними религиозные тексты являются очевидными для эпохи Высо-
кого Средневековья источниками для зоосимволов. В силу религиозного
смысла всего произведения Мехтильда Магдебургская не может пройти
мимо общеизвестных библейских образов и символов, поскольку они со-
ставляют основу ее собственного мировосприятия. Приведем некоторые
примеры использования зоосимволов в тексте Мехтильды.
6 Знакомство с культурой и с авторитетными текстами религиозной и научной словес-
ности ее времени и литературная начитанность Мехтильды не вызывают сомнения у
исследователей ее творчества; из многочисленных рассуждений на эту тему см., на-
пример [Neumann, 1948-1950:143-172], [Гуревич 2008:297-300,322-329].
102
Агнец.
Как можно было ожидать, наиболее частотным употреблени-
ем характеризуется лексема lamp «агнец», встречающаяся в тексте не
менее 30 раз. В соответствии с христианской традицией это слово упо-
треблено у Мехтильды в отношении Христа:
О edler am, о susses lamp, о fures glut, entzunde mich! (II, 2, 17)
«О благородный Орел, о сладостный Агнец, о жар Огня,
воспламени меня!» (Пер. Н. Г.)
В Библии с образом Агнца связано два основных цикла кон-
текстов. Один из них относится к Евангелию от Иоанна, где описыва-
ется встреча Иоанна Крестителя с Иисусом, пришедшим к нему для
того, чтобы принять от него крещение. Креститель дважды называет
в этой сцене Иисуса Агнцем: «На другой день видит Иоанн идущего
к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет на Себя
грех мира» (Иоан. 1, 29); там же, несколько далее: «И, увидев идущего
Иисуса, сказал: вот Агнец Божий» (там же, 36).
В первом Послании Св. Павла к Коринфянам Иисус представ-
лен как Агнец, закланный в качестве пасхальной жертвы, кровь кото-
рого является искуплением человеческих грехов (1 Кор. 5, 7) Агнец,
уже как бы закланный, представляет также символ крови, пролитой
за людей (Откр. 5, 6). Этот апокалиптический образ (Agnus Dei, нем.
Lamm Gottes) из Откровения Иоанна Богослова связывали как с Иису-
сом, так и с Богом-Отцом, но общим центральным идейным элементом в
его образе являлось преодоление зла и греховности. Соответственно этим
двум, связанным между собой, аспектам в средневековом изобразительном
искусстве среди множества вариантов преобладают два основных типа изо-
бражения Агнца: (1) с Иоанном Крестителем и (2) апокалиптического Агнца
искупительной жертвы, несущего красную хоругвь с белым крестом.
Контексты Мехтильды Магдебургской, в которых упоминает-
ся агнец /ягненок, восходят скорее к первому кругу. Эта связь может
быть прямо указана в тексте Мехтильды:
Der trug ein wisses lamp vor siner brust, und zwo ampellen braht er an
sinen vingeren.. .Das was Johannes Baptista (П, 4,24-27)
«На груди своей он держал Агнца белого, а в руках своих
нес две висячие лампы... Это был Иоанн Креститель».
В ряде случаев можно увидеть и мотив искупительного агнца,
как в следующем примере:
Du bist min lamp an diner pine (I, 34, 1)
«Ты агнец Мой в муке твоей».
103
Однако и в этих контекстах прочитывается отсылка к еван-
гельскому образу Агнца-Христа. Эту связь реализует присутствие в
этих контекстах самой Мехтильды (вернее, ее души), которая либо на-
ходится в диалоге с Христом (как в предыдущем примере), или же ока-
зывается помещенной непосредственно в мизансцену изображаемой
картины. Например, по Мехтильде, праведная любящая душа, побе-
дившая силы греховного мира, приблизится к Христу. На языке Мех-
тильды это обозначено тем, что она получает Агнца в провожатые:
das lamp sol din geselle sin. (II, 24, 28-30)
«Агнец будет провожатым твоим».
В других образах Душа соединяется с Ним в типичном для
произведений средневековой женской мистики экстатическом пережи-
вании, оказываясь, таким образом, «в кадре» вместе с Христом :
Do nam Sant Johannes das wisse lamp mit sinen roten wunden
und leit es in den kowen irs mundes. Do leite sich das lamp uf sin eigen
bilde in irem stal und sog ir herze mit sinem sussen munde. le me es sog, ie
me si es im gonde.(II, 4, 98-101)
«И взял святой Иоанн белого Агнца с Его алыми ранами и
вложил Его между зубов ее уст. И возлег Агнец на собственный образ
свой в стойле ее, и сосал сердце ее своими сладостными устами. И чем
более впитывал он, тем полнее отдавала она ему».
Особенностью образного мышления Мехтильды, по всей веро-
ятности, можно считать сочетание различных контекстов, при котором
одновременно вызываются ассоциации с двумя или несколькими темами.
Голубь (голубица), пчела
Столь же традиционно образное упоминание голубя (голуби-
цы) liebu tube «милая голубица» в качестве символа праведной любя-
щей души. Символом души, собирающей богатства духовного позна-
ния, традиционно служит также образ пчелы. Этой знакомой аллегори-
ей пользуется и Мехтильда, при этом она соединяет оба образа - голу-
бицы и пчелы - в одним тексте, построенном в виде характерных для
Мехтильды повторов:
Got gelichet die sele funf dingen.
О du schone rose in dem dome, о du vliegendes bini in dem
honge, о du reinu tube an dinem wesende... (I, 18, 1-2)
«Бог уподобляет душу пятерице.
О прекрасная роза между тернами, о пчела, летающая при
меде, о чистая голубица в существе своем...» (пер. Н. Г).
104
г
В других случаях в диалоге Христа с Душой данная аллегория
может быть повернута и в противоположном направлении, становясь
метафорой Христа. Эту обоюдонаправленность данного символа у
Мехтильды можно показать на следующих двух примерах. Голубицей
называет Христос Душу, призывая ее к себе:
Siest wilkomen, min liebu tube... (I, 15, 1-2)
Добро пожаловать, возлюбленная моя голубица...
Но и Душа наделяет Христа тем же образом, обращаясь к
нему словами:
... in dir mag nieman nisten denne tuben und nahtegalen! (I,
14,4-5)
«...никто в Тебе гнездиться не может, кроме голубя и со-
ловья!» (пер. Н. Г).
Изображая Христа как обиталище Души-голубицы, автор соз-
дает возможность метафорического «перевертыша», позволяющего
имплицировать единство соединенных любовью Христа и Души, как
бы отражающихся друг в друге.
Для этого автор иногда прибегает к метафоре вместилища
(гнездовье в приведенном выше примере), которая, как мы видели, мо-
жет быть двусторонней. Не только Душа может найти приют в Христе
(гнездиться в Нем), но и Христос может проникнуть в Душу. Назван-
ная в следующем примере стойлом (героини и Агнца-Христа), Душа
становится Его вместилищем, обретая Его качество. Точнее - Душа
может стать таким вместилищем, поскольку уже обладает предназна-
ченным для Христа Его знаком, образом:
Do nam Sant Johannes das wisse lamp mit mit sinen roten wun-
den und leit es in den kowen irs mundes. Do leite sich das lamp
uf sin eigen bilde in irem stal und sog ir herze mit sinem sussen
munde.Ie me es sog, ie me si es im gonde.(II, 4, 98-101)
«И взял святой Иоанн белого Агнца с Его алыми ранами
и вложил Его между зубов в ее уста. И возлег Агнец на
собственный образ свой в стойле ее, и сосал сердце ее
своими сладостными устами. И чем более впитывал он, тем
полнее отдавалась она ему».
Образ стойла используется Мехтильдой неоднократно. Стой-
лом она называет спасение души от телесных пут при помощи исповеди:
Du brut hat einen somer das ist der lichame. Der ist gezomet mit
der unwirdekeit und smacheit ist sin hater und sin stal ist bihte.
105
«Есть у Невесты (вьючный) зверь на узде, это - тело ее.
Оно (животное?)7 взнуздано бесчестием, пища его - позор,
а стойло его - исповедь».
Таким образом, используя традиционные символы библейских
контекстов, Мехтильда развивает их, строя на их основе многослойные
аллегорические конструкции, выражающие при помощи яркого и пронзи-
тельного образа главное послание ее мистического опыта: пространствен-
но выраженная взаимная «вложенность» Души и Христа друг в друга чув-
ственно внушает читателю стремление к единению с Богом8.
Исследователи языка и идей Мехтильды и других авторов ее
круга отмечали (не затрагивая, правда, употребления зоонимов), что
идентичные метафоры для обозначения Бога и Души вообще харак-
терны для мистиков. Таким образом получает поэтическое выражение
взгляд мистиков на подобие, сродство, а в конечном экстатическом вы-
ражении даже идентичность Души Богу [Ltiers 1926: 25]. Эта обою-
донаправленность стилистической фигуры (reziproke Identitatsformel)
обозначает полное снятие объектно-субъектного противопоставле-
ния. В ранних стихах миннезанга можно встретить соответствующую
формулу {du bist min ich bin din), которая, по мнению исследователей
[Ltiers 1926: 27], имеет непосредственные религиозно-мистические ис-
токи (перевод, следовательно, таков: «я - Твоя, Ты - мой»). У Мехтиль-
ды эта формула звучит следующим образом:
ich bin in dir, und du bist in mir,
wir mogen nit naher sin,
wan zwoei sind in ein gevlozzen...
Я нахожусь в Тебе, Ты - во мне,
Ближе нам не стать,
Чем когда двое слились воедино.
2. Естественнонаучные знания и представления. В отно-
шении текста ХШ в., столь нагруженного поэтической метафорикой
<хххх><хх><><х>о<хх><><хх><><><х>о<х
7 В языке оригинала слова somer и lichame - одного грамматического рода, в
связи с чем создается возможность такого понимания этого контекста, при ко-
тором во втором предложении говорится не о звере, а о теле, либо автор отно-
сит второе высказывание и к зверю, и к человеческой телесности, намеренно
скрепляя таким образом в единой метафоре взнузданное животное-тело.
8 В 2009 г. автору довелось побывать в монастыре Хельфта, вновь восстанов-
ленном несколькими годами ранее. Монахиня обратила мое внимание на со-
временное настенное изображение, которым выражено понимание сегодняш-
ними монахинями обители описанной «совмещенности». Оно лаконично: два
тонких контура Христа и девы-Души наложены друг на друга, в центре компо-
зиции - одно на двоих алое сердце.
106
и духовной символикой, как произведение Мехтильды Магдебург-
ской, логичен вопрос о происхождении ее зоонимической аллегорики
из естественнонаучных представлений, воплощенных в современных
Мехтильде бестиариях, версиях «Физиолога», астрологических систе-
мах. Однако даже сам состав используемых Мехтильдой обозначений
говорит о том, что зоонимические системы этих авторитетных средне-
вековых текстов не имели существенного влияния на фауну создавае-
мого ею аллегорического мира. Сравнение с бестиариями показывает,
что из представленных в них реальных и фантастических животных
у Мехтильды встречаются лишь лев, обезьяна, собака, волк, олень,
медведь, овца, ягненок, осел, мышь, соловей, ворона, пчелы, павлин
(в форме прилагательного «павлиньи»), горлица, голубь, рыбы, змеи
(в форме прилагательного «змеиный») и дракон. Кроме последней лек-
семы, все перечисленные слова обозначают реальных животных, из
которых к тому же все, кроме льва, обезьяны и, возможно, павлина,
относятся к природной среде и обстановке, в которой выросла и жила
сама Мехтильда. Упоминаемый в тексте состав зоонимов не содержит
ничего, что заставляло бы обращаться к бестиариям в качестве основы
для примененных автором аллегорических ходов. Фауну средневеко-
вых бестиариев и «Физиологов» отличают, наряду с реальными, мно-
гочисленные фантастические животные персонажи, как онокентавр,
единорог, гидра, василиск и т.д., которые совершенно отсутствуют в
мире мистических видений Мехтильды Магдебургской.
То же можно сказать и в отношении системы астрологических
символов: из звездного «звериного круга» у Мехтильды встречаются
только рыбы, лев и баран (вернее, овца), то есть наименее характер-
ные, а потому не позволяющие говорить о прямой связи аллегориче-
ского мира Мехтильды с астрологическим кругом. В то же время не-
сомненно присутствие стереотипных представлений, почерпнутых из
астрологии, в общем культурном контексте Мехтильды, так как они
составляли неотъемлемую часть миропонимания и мировосприятия
людей ее времени. В этом смысле астрологические идеи и зрительные
образы принадлежат к тому общему культурному фону эпохи, на кото-
ром разворачивалось индивидуальное видение Мехтильды.
То же относится и к бестиариям. Отдельные символические
характеристики, происходящие из бестиариев, конечно, входят и в об-
щий знаковый фон ее повествования. Это, по-видимому, характерно и
для мистической поэтики рассматриваемой эпохи. Однако большого
содержательного вклада в систему зоонимических образов Мехтильды
этот пласт не сделал. Достаточно хотя бы на одном примере сравнить
аллегорику бестиариев с контекстами Мехтильды, чтобы убедиться в
справедливости такого заключения. В качестве такой иллюстрации рас-
107
смотрим семантику символического образа льва у Мехтильды и в бес-
тиарии XIII в. из собрания Российской Национальной (Государственной
Публичной) библиотеки в Санкт-Петербурге (по изд.: [Бестиарий 1984]).
Лев
В средневековых бестиариях лев - прежде всего, как и в би-
блейских контекстах, символ Христа (ср. Откр., 5, 5). Кроме этого,
лев - также символический образ евангелиста Марка. Вместе с аспи-
дом, василиском и драконом лев символизирует в Псалтири сатану
(Пс. 90, 13). Однако в бестиариях символическая трактовка образа
значительно разнообразней по сравнению с Библией. Из «Физиоло-
га» перешло в бестиарии представление о трех свойствах льва: 1) лев
уходит гулять в горы, заметая след хвостом; 2) лев спит с открытыми
глазами (бодрствование Христа); 3) львята рождаются мертвыми, и
только через три дня их вызывает к жизни лев своим дыханием. Все
три свойства получили затем интерпретацию в связи с библейскими
контекстами. Например, третье из перечисленных свойств связыва-
лось с воскресением Христа.
Однако целый ряд мотивов, появляющихся в бестиариях, вы-
ходит за пределы библейской трактовки. Например, считалось, что лев
исцеляется от болезней, съев обезьяну, и что он боится белого петуха.
У Исидора Севильского позаимствована характеристика льва как жи-
вотного, которое можно умертвить, подмешав в его пищу пепел фанта-
стического зверя леонтофонта. Ни один из этих мотивов, восходящих к
бестиариям, не нашел отражения у Мехтильды Магдебургской.
В ее книге лев упомянут несколько раз. В реплике Христа го-
ворится о душе:
Si hat den affen der welte von ir geworfen, si hat den beren der
unkuschi ubetrwunden, si hat den lowen der hochmuti under ir
fusse getretten, si hat dem wolf der girheit sinen grans zerissen
und kumt geloffen als ein verjageter hirze nach dem brunnen,
der ich bin, si kumet geswungen als ein are usser der tieffi in
die hohin. (I, 38, 3-8)
«Она прогнала от себя обезьяну мира, она поборола мед-
ведя нецеломудрия, она попрала ногами льва гордости,
она разодрала пасть волку алчности и бежит сюда, как за-
гнанный олень к источнику, который Аз есмь, она взмывает
сюда подобно орлу из дольних в горняя».
У Мехтильды лев изображается в этом пассаже в самом об-
щем смысле как царственный зверь, символизирующий соответствен-
но этому пониманию величие, гордость, а возможно и с отрицательной
моральной коннотацией - гордыню и высокомерие. В этом Мехтильда
108
проявляет авторскую самостоятельность, модифицируя традицион-
ную символику, связанную со львом, в направлении усиления ее от-
рицательных коннотаций.
В христианском контексте лев - символ Христа в его царствен-
ном величии. В словесности ХП-ХШ в. льву как символу царственно-
го величия Христа уподоблялся государь народа, который таким был
образом представлен как носитель нравственных качеств, которые
олицетворял лев. Кроме того, Лев и Агнец - это символы Христа, уже
с XII в. занявшие прочное место в образном мировосприятии средне-
векового рыцарского сословия (в котором сформировалась и Мехтиль-
да) через становление другой семиотической системы - геральдики.
Через наглядные геральдические образы такие символы величия ста-
ли уже во время Мехтильды культурными общими местами, и для их
появления в ее книгах нет надобности искать объяснения в научных
трактатах и бестиариях.
Что же касается трактовки этого символа у Мехтильды, то лев
встречается у нее в совершенно ином, модифицированном (как в ци-
тате, приведенной выше) или даже противоположном значении. Как
символы сил и препятствий, стоящих на пути праведников, изобра-
жены наряду со львом также медведь, волк (в предыдущем примере -
также обезьяна), ср.:
Die grossi mines wunders sol uber dich gan, die lowen soilent
dich vorhten, die beren sollent dir sicheren, die wolfe soilent
dich vliehen, das lamp sol din geselle sin. (II, 24, 28-30).
«Сила чуда моего сойдет на тебя. Львы будут страшиться
тебя; медведи будут покорны тебе; волки обратятся в бег-
ство. ..; Агнец будет провожатым твоим».
Основу для подобной трактовки также можно найти в Библии,
например, в Книге Пророка Исаии лев и хищные звери приравнены к
нечистым, олицетворяя вместе с ними препятствия на святом пути ве-
рующих: «Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него» (на
святой путь, - Е. Р.) (Ис. 35, 9). Таким образом, царственное величие
льва уже в библейских контекстах трактуется как качество, допуска-
ющее противоположные оценочные коннотации, и обе возможности
здесь реализованы. В двух приведенных примерах Мехтильда следует
библейскому пониманию использованного ею зоонимического символа.
Лишь в одном случае у Мехтильды можно увидеть прямое
сходство с толкованием бестиария:
.. .und min sele brimmet mit eines hungerigen lowen stimme...
(11,25,91-93)
109
«.. .и душа моя рычит голодного льва голосом».
Здесь, как в бестиариях, находит воплощение мотив льва как
грозного зверя, своим рычанием наводящего ужас на других живот-
ных, однако и он был уже общим местом в современной Мехтильде
литературе, ср. то же словоупотребление с глаголом brimmen «рычать»
у Вольфрама фон Эшенбаха в его «Парцифале»: als ein lowe brimmen
«рычать как лев» (о гневе, Parzival 1,42,14). Поэтому трудно сказать, явля-
ется ли данное сравнение у Мехтильды библейской аллюзией или литера-
турным оборотом, вычитанным ею у авторов куртуазного эпоса и романа.
(О взаимодействии библейского и куртуазно-литературного в системе зоо-
нимических образов Мехтильды Магдебургской будет еще сказано ниже.)
Однако нельзя не заметить, что при всем сходстве и возмож-
ном происхождении данного образа из контекстов Библии или средне-
вековых бестиариев, Мехтильда придает сравнению со львом, отно-
сящемуся к Душе, совершенно иной смысл. Этот смысл становится
ясней при рассмотрении более широкого контекста, в котором встре-
тился данный образ:
Когда плоть моя иссыхает,
кровь иссякает, кости леденеют,
жилы цепенеют,
и сердце мое в тоске по любви Твоей тает,
и рыкает душа, чуть жива,
голосом голодного льва... (II, 25, 91-93; Н. Г.)
Здесь целью Мехтильды является не изображение грозного
зверя, наводящего ужас на других животных, а передача крайнего, экс-
татического состояния души, стремящейся к Богу, ср. далее:
.. .и все во мне к тебе взывает., о где же Ты, где? (П, 25,94),
и подтверждающую такое толкование ответную реплику:
Ты чувствуешь себя в сей миг,
словно дева, какую во сне оставил жених (Р. Г.).
Описание мучительного физического состояния верующей,
данное в приведенной цитате, встречается в мистической литературе,
причем в подобных же контекстах, передающих муки преодоления
физического в момент соединения с Богом. Близкую аналогию при-
водит Ганс Нойман, сравнивая Мехтильду с ее нидерландской совре-
менницей, другой великой представительницей женской религиозной
мистики - Хадевих. У последней та же крайняя степень переживания
души изображается при помощи ужасающей картины физического со-
стояния верующей женщины:
ПО
...dat har adren ontpluken ende hare bloet verwait ende hare
march verswijnt ende hare been vercrencken ende hare borst
verbemt ende hare kele verdroget, so dat hare ansijn ende al
har lede gevuelen der hitten van binnen... (Hadewijch, Seven
manieren\ цит. no: [Neumann: 1965: 242]);
«... что ее вены лопнут и кровь ее хлынет, костный мозг
ее исчезнет, а ее кости ослабнут, ее грудь сгорит, а глотка
иссохнет, так что лицо ее и все члены ее наполнятся вну-
тренним жаром...»
Ганс Нойман рассматривает в упомянутой работе [Neumann
1965: 242, 244] возможность связи творчества Мехтильды с Хадевих в
сфере языка, стиля и риторики, не затрагивая при этом употребления
зоонимических образов. Высказывая в целом сомнение в возможно-
сти установления такой связи на том материале, который был досту-
пен в 1960-х гг., и при том уровне его изученности, Г. Нойман считает
схожие пассажи, подобные приведенным двум цитатам, недостаточно
точно соответствующими друг другу в текстуальном отношении для
обсуждаемых им задач. Однако для нашей темы наблюдение Нойма-
на представляют интересный и очень ценный материал. То несомнен-
ное сходство в способе изложения переживаний, эмоционального и
духовного опыта, которое нельзя не отметить в приведенном им при-
мере, позволяет отчетливей вычленить индивидуальные особенности
видения, свойственные Мехтильде. К таким индивидуальным чертам,
отличающим данный пассаж Мехтильды от похожего места у Хадевих,
относится именно употребление зоонимической метафоры, сравнива-
ющей состояние души с голодным рычанием льва: ...min sele brimmet
mit eines hungerigen lowen stimme... (II, 25, 91-93). Этой метафоры нет
у Хадевих, она, скорее всего, является творческой находкой Мехтильды,
подсказанной ее собственными личными переживаниями и ощущениями.
В то же время смысловое и формальное сходство с аналогичным пасса-
жем Хадевих позволяет уверенно интерпретировать зоонимический сим-
вол Мехтильды как образ, передающий сочетание крайнего духовного на-
пряжения и экстремальных физических состояний, сопровождающих его.
Таким образом, астрологические и зоологические научные
знания эпохи Высокого Средневековья можно исключить из числа
непосредственных источников, оказавших существенное влияние
на образный язык произведения Мехтильды. В то же время, обраща-
ясь к библейским контекстам, она развивает и преобразует их, внося
собственные зоонимические аллегорические элементы, новаторские
даже по сравнению с другими представителями тех же религиозно-
мистических жанров.
111
3. Окружающий Мехтильду природный мир и быт несо-
мненно также оказал влияние на образный строй ее видений. Этот
аспект исследователи связывают обычно с социально-культурным фо-
ном ее жизни в родительском доме.
Особую любовь Мехтильды вызывает образ собаки, о чем сви-
детельствует многократное сравнение себя с «собакой» (hund) не толь-
ко в пейоративном, но и в высоком ключе: Мехтильда сравнивает себя с
собакой, которую «господин манит белой булочкой», когда речь идет об
экстазе (FL II, 3). Образ собаки восходит у нее к общему топосу самоуни-
чижения (см. далее примеры 1,2), однако подразумевается и игра слов на
сходстве с наименованием доминиканцев domini canes - «псы Господни»9.
(1) Das wisete got eim lamen hunde, der noch mit
jamerlekket sine wunden. (II, 20, 2-3)
«Сие явил Господь некоему псу хромому,
еще скуля лижущему свои раны».
(2) ...so la mir doch von gnade die selben gabe,
Die du von nature einem hunde hast gegeben
das ist, das ich dir getruwe si in miner not (II, 25, 33-34) 63
.. .так оставь мне из милости один лишь дар,
каким Ты пса наделил от природы:
верной хочу Тебе быть в невзгоде.
Выше было уже сказано, что сам состав упоминаемой Мех-
тильдой фауны скорее отражает виденное героиней в ее реальной
жизни, нежели книжную (научную) картину животного мира. Однако
вывод о том, что «безусловно, быт и нравы рыцарского уклада жиз-
ни - основной источник образов и тем Мехтильды» [Гуревич 2008:
300] является значительным и несправедливым упрощением вопроса.
Влияние быта и нравов рыцарского уклада жизни следует рассмотреть
отдельно, и ему посвящен следующий раздел.
4. Культурный фон куртуазной эпохи. Знаковость куртуаз-
ной культуры несомненно представляет наиболее интересный и своео-
бразный источник символики и аллегорики для поэта XIII в., каким
была Мехтильда Магдебургская. Понятия, обряды и церемонии, музы-
кальные и литературные вкусы, сами словесные штампы и привычки
являются составными частями семиотического единства куртуазной
культуры, дозволявшей в то же время и многоаспектность символа.
Современники Мехтильды жили в окружении целого множества взаи-
О<ХХХ>О<ХХ><ХХ><><хХх><Х><К><ХХ><ХХХ><>Х><><>
9 Это наименование обосновано в наиболее раннем латинском житии отца-
основателя ордена: по преданию, матери Доминика перед рождением сына
приснился пес, несущий в зубах зажженный факел, см. об этом [Ганина 2010].
112
модействующих знаковых систем. В качестве одной из наиболее зна-
чимых следует назвать геральдику, как раз сложившуюся в своих осно-
вах в эпоху, когда жила и творила Мехтильда. Наряду с геральдикой,
о которой еще будет речь ниже, несомненную актуальность для нашей
темы имели и другие семиотические системы, которыми изобиловала
данная эпоха. Например, зрительно-понятийный ряд человека эпохи
Высокого Средневековья вмещал и такие знаки, как социальная симво-
лика шахмат, в XIII уже знакомых немецкому обществу настолько10, что
они составляли одну из семи обязательных доблестей истинного рыцаря.
Поэтому, говоря о знаковости элементов куртуазной культуры
и их возможном вкладе в символическую систему мистического про-
изведения Мехтильды Магдебургской, трудно рассматривать данный
аспект целиком в комплексе. Гораздо продуктивней выделить и про-
следить связь с образным строем Мехтильды у отдельных сфер или
ситуаций, в которых проявляется знаковость куртуазной жизни. К та-
ким, облеченным куртуазными символическими смыслами, ситуациям
средневекового феодального быта относятся, например, придворный
праздник, сцена любовного свидания и рыцарская охота.
Зоосимволы ПРИДВОРНОГО ПРАЗДНИКА
В виде аллегории придворного празднества изображается
у Мехтильды мир, в который Душа-Невеста прибывает, стремясь к
встрече с Христом:
So gat si in den wait der geselleschaft heiliger luten, da sin-
get die allersusseste nahtegale der getemperten einunge mit
gotte tages und nahtes, und manig susse stimme hort si da von
den vogeln der heiligen bekantnusse. Noch kam der jungeling
nut.“ (I, 44, 22-25)
«Так она отправляется в лес общества святых людей, где
сладчайший соловей поет день и ночь в благозвучном еди-
нении с Господом, и там она слышит много сладких голосов
птиц святого познания. Но не пришел еще туда Юноша».
Лес, наполненный голосами птиц и пением соловья, создает,
в духе литературного узуса, метафору любовного свидания, характер-
ную для куртуазной лирики. Обстановку этого свидания у Мехтильды,
в точном соответствии с общими местами куртуазных весенних сти-
хотворений, создают цветы, свежесть росы под ногами приближаю-
щегося юноши и неизменно упоминаемое пение птиц. Приведем всего
лишь один из ряда подобных примеров:
10Шахматные фигурки из кости, дерева или глины обнаружены в Германии
среди археологических находок, относящихся к середине XIII в.
113
Wir han das runen wol vemomen, der furste wil uch engegen
komen in dem towe und in dem schonen vogelsange. (1,44,16-17)
«Мы услышали шепот (ночи): князь хочет выйти вам на-
встречу по росе среди прекрасного птичьего пения».
Зоонимы В СЦЕНЕ охоты
Борьба Души с путами телесной чувственности, ее победа над зем-
ным переданы в аллегорических образах охоты, изобилующих зоонимами:
Sehent, wie si kumt zustigende, die mich gewunden hat. Si hat
den affen der welte von ir geworfen, si hat den beren der unku-
schi ubetrwunden, si hat den lowen der hochmuti under ir fusse
getretten, si hat dem wolf der girheit sinen grans zerissen und
kumt geloffen als ein verjageter hirze nach dem brunnen, der
ich bin, si kumet geswungen als ein are usser der tieffi in die
hohin.“ (I, 38, 3-8)
Узрите, как приближается она, подымаясь,
Меня ранившая.
Она обезьяну мира от себя отринула;
Она медведя похоти одолела;
Она льва высокомерия ногами своими растоптала;
Она волку жадности пасть разорвала;
И сюда бежит она, подобно оленю преследуемому,
К источнику, каковой Аз есмь.
Она взмывает подобно орлу
Из низины в вышину.
Упомянутые в этой реплике Христа медведь, волк, олень и,
несмотря на экзотичность, лев упоминаются в литературных сценах
рыцарской охоты даже в тех случаях, когда место действия находится
в пределах Европы. На льва охотился, например, Зигфрид в «Песни о
нибелунгах» в сцене охоты, предшествующей его предательству Ха-
геном и гибели. Олень у Мехтильды стремится спастись, достигнув
источника, который символизирует Христа. Победа Души выражена
ее устремленным ввысь полетом. Птица, взмывающая ввысь, - часто
повторяющийся образ Души, ищущей и находящей своего жениха-
Христа. Однако в данном случае она представлена не как обычная птица
(ср.: der vogel mag in dem lufte nit versinken 1,44,68, «птица в небесном ку-
поле не упадет»), а в образе орла. Орел, как уже упоминалось, символизи-
рует самого Христа, а значит, в данном случае опять налицо перевернутая
метафора, подобная разобранной выше метафоре вместилища.
Двусторонность данной развернутой аллегории охоты не сво-
дится, однако, к упоминанию зоонимических символов, допускающих
114
двойную трактовку. Обоюдозначимым символом является у Мех-
тильды сама картина охоты. Дело в том, что указание на рану, кото-
рую Душа нанесла Христу (ср. в приведенной выше цитате: «Меня
ранившая»), несет двойной смысл. Наряду с конкретным значением
«нанести рану оружием, например, во время охоты», глагол wunden на-
деляется у Мехтильды специфическим для ее тематики значением «по-
разить любовью, внушить (духовную) любовь». Такое употребление
глагола свн. wunden «ранить» вполне традиционно для религиозно-
мистических произведений, написанных женщинами (им обозначает-
ся момент, когда верующая ощущает призвание посвятить себя святой
жизни, соединившись с Христом). Не вдаваясь в историю этой (еще
античной) эротической аллегории, отметим важное обстоятельство ее
употребления в тексте Мехтильды: не только героиня ранена (пораже-
на) любовью к Христу, но, в духе двусторонности аллегорических ме-
тафор автора, душа героини тоже, в свою очередь, ранила этой любо-
вью Христа. Двусторонность, взаимность наносимых друг другу ран
соединяет символический план охоты с символическим же любовным
планом, который, собственно, и является для Мехтильды идейной и
содержательной целью ее мистического послания.
В каком взаимном отношении находятся в аллегорической систе-
ме Мехтильды план социальной аллегории (охота, празднество) и план
любовной встречи-борьбы? Какое место занимают в сложном мире ми-
стического видения Мехтильды эротические мотивы, сопутствующие по-
добным контекстам в куртуазной культуре? Параллели с литературными
произведениями помогут до некоторой степени прояснить этот вопрос в
отношении эротики и символизма в книге Мехтильды.
Daz tier was rehte getriben
So der man so schuzet
Daz her sin genuzet
So liebet ime diu vart (Eneasroman 63, 36-39)11.
Дичь преследовалась удачно,
Раз мужчина сумел выстрелить (столь метко),
Что уложил ее,
И охота принесла ему радость.
В этой сцене изображена не охота, а любовная борьба Энея
и Дидоны в «Энеиде» Генриха фон Фельдеке, фламандского рыцаря
и поэта второй пол. XII в. Как мы это видели у Мехтильды, здесь так-
же налицо двусторонность: несмотря на поражение и рану Дидоны,
радость от аллегорической охоты обоюдна, как свидетельствует поэт в
строках, непосредственно предшествующих приведенной выше цитате:
11 Здесь и далее по изд. [Feldeke 1986].
115
.. .iedoch was ir vile baz
Dan si da heime ware beliben (En. 63, 34-35)
«Однако было ей гораздо лучше, чем если бы она осталась дома».
«Энеида» Генриха фон Фельдеке еще до времени Мехтильды
имела большое распространение в Германии и была хорошо известна
в среде рыцарского сословия. Мехтильда могла в родительском доме
читать ее. Кроме того, «Энеида» и географически, по своему проис-
хождению в литературном кругу при дворе герцога Тюрингского,
принадлежит миру Мехтильды. Вартбург, родовой замок герцога Тю-
рингского, был крупнейшим центром куртуазной культуры и особен-
но литературы; из северной Тюрингии (тогда относившейся к южной
эльбостфальской диалектной зоне12) предположительно происходит и
Мехтильда. Все это означает, что ее семья принадлежала к среде, близ-
кой к тому кругу, в котором брала начало оглушительная литературная
слава Фельдеке. Есть, следовательно, все разумные основания пред-
полагать знакомство начитанной девочки из тюрингского рыцарского
рода с произведениями Фельдеке и с типичными для него образами
и тропами. (Кстати, Тюрингия непосредственно соседствует и с Маг-
дебургской епархией, где впоследствии протекала духовная деятель-
ность Мехтильды). В этом случае Мехтильда могла воспользоваться не
только прямым символизмом сцен общественной куртуазной жизни,
но и вторым планом, в котором охота является аллегорией любви. По-
следнюю же Мехтильда в духе женской религиозной мистики пред-
ставляет как символ духовного искания души.
Это означает, что Мехтильда работает с литературными кон-
текстами и художественными аллегориями так же, как и с рассмо-
тренными выше библейскими символами. Используя традиционные
символы литературных куртуазных контекстов, Мехтильда развивает
их, как мы наблюдали это в ее трактовке библейских зоосимволов, строя
на их основе многослойные аллегорические конструкции, выражающие
главное послание ее литературного труда: воплотить свой мистический
опыт в тексте при помощи ярких и эмоционально пронзительных образов.
<х><х>оо<ххххххх>о<х><><х><>^^
12 Эта диалектная атрибуция, а также географическая локализация «Струяще-
гося Света Божества» установлена на основе языкового анализа недавно об-
наруженной в Научной библиотеке Московского университета самой старой,
практически прижизненной рукописи Мехтильды XIII в. см. [Squires 2010];
издание текста см. в [Ganina, Squires 2010]. К эльбостфальскому диалекту ниж-
ненемецкого регионального языка (пограничному со средненемецким Север-
ной Тюрингии) относится и Магдебург, и г. Гальберштадт, откуда происходит
найденная рукопись.
116
Соболь в куртуазном быту
Выше говорилось о почти полном отсутствии в поэтике Мех-
тильды образов, содержащих упоминания фантастических животных.
Тем более необычно для стиля и строя мыслей книги Мехтильды то,
что она посвящает целую главу (несколько листов рукописи) описанию
развернутого аллегорического образа фантастического зверька, для ко-
торого не удается обнаружить прототипов или мотивов в известных
средневековых культурных текстах [Das flieBende Licht IV, 18]. Зверек
жалкий и неприметный обладает, однако, чудесными свойствами. Он
имеет большие уши, открытые Небесам, никогда не ест, но сосет свой
хвост, полный меда, и тогда золотые волосы в его бороде издают сла-
достные звуки. Он имеет два рога, два прекрасных человеческих глаза,
быстрые ноги, но у него нет голоса: любовь его тиха. Кости зверька -
это кости некоей благородной рыбы, но он имеет шкуру, покрытую
шерстью. Его медоносный хвост есть смерть святых людей, а его нека-
зистая шерсть неблагородного окраса преображается после его смер-
ти. Этот покрытый мехом зверек олицетворяет чудо праведной жиз-
ни: после смерти доброго человека чудесно является нам его красота.
Для описания этого сущностного преображения Мехтильда находит
необычный, не встречающийся у других авторов способ: некрасивая
шкура зверька оборачивается соболиным мехом:
So wirt ir leben ein schone zobel, den wir sundigen vor unsem
ogen vil schone in unserm herzen tragen... [IV, 84-85].
«Тогда их жизнь становится прекрасным соболем, которого
мы, грешники, перед очами нашими, в сердце нашем ро-
скошно носим».
Зверек, при его жизн не названный автором, проявляет свой-
ства христианского духа, для обозначения которых Мехтильда должна
прибегнуть к упоминанию соболя. Он символизирует нечто настолько
желанное для души и почетное для человека, что, как сказано в другом
месте «Струящегося Света», sine hut fur die edelesten zobele tragent...
[Das flieBende Licht IV, 79-80] «его мех (шкуру) носят вместо (в каче-
стве) благороднейших соболей».
Соболь - единственный зверь из фауны Мехтильды, который
не имеет адреса в средневековых культурных текстах и семиотических
системах. Он не упоминается в бестиариях, не встречается в изображе-
ниях и, должно быть, вообще не был хорошо знаком на родине писа-
тельницы. Что же в таком случае мог сказать образ соболя читателям и
слушателям Мехтильды? Что она сама могла иметь в виду, кроме таин-
ственности самого зверька и королевской роскоши, символом которой
был его драгоценный мех?
117
Отвечая на эти вопросы, важно помнить, что Мехтильда оба
раза говорит именно о зверьке, а не о его мехе. Попытаемся выяснить,
какие культурные смыслы и какие образные ассоциации могло приоб-
рести на немецкой почве название русского пушного зверька.
Соболь характеризуется всеми зоолого-географическими
справочными источниками как житель таежного леса, любящий леси-
стые горы и близость к водоемам. Соболь, - сообщают зоологи, гео-
графы и охотоведы, предпочитает темнохвойную захламленную тайгу,
особенно любит кедрачи, и ареал его распространения, в настоящее
время целиком располагающийся к востоку от Урала, в исторические
времена простирался от северной Скандинавии до Тихого океана, но и
тогда он был на континенте ограничен с запада территорией современ-
ной Польши. Для жителей Германии, тем более удаленной от севера,
внутренней, средней ее части, соболь не был частью родной фауны.
Соболиный мех был, в отличие от самого животного, хорошо
знаком в Европе, включая и Германию, со времен Каролингов, когда
начался импорт этого пушного товара из Восточной Европы. В лите-
ратуре есть указания на активную торговлю русским соболем в эпоху
Каролингов [Kluge 1967: 887], древневерхненемецкое обозначение zo-
bel некоторые исследователи также относят к этому времени, связывая
его с торговлей мехами в Германии [ibid.]. Столь раннее употребление
немецкой лексемы известно из знаменитого сборника тематических
глоссариев под общим названием Summarium Heinrici, содержащего
латинскую лексику из различных сфер жизни и науки, в т.ч. ботаники,
зоологии, минералогии13. В его разделе De bestiis [Summarium Heinrici
III, 2] перечисляются названия пушных зверей (кроме соболя, также куни-
ца, горностай, рысь и др.), среди которых есть и глосса Tebelus (= zobel).
Несомненно, в Summarium Heinrici могли быть сосредоточены со-
временные ему знания о животном мире, в том числе в него могли войти и
сведения, почерпнутые из практической жизни14. Во времена Мехтильды мех
ООО<Х><>ООО<ХХ><ХХХ><><ХХХХХ><ХХ><><><ХХ>ОС>
13 Сборник назван по имени епископа Вюрцбургского Генриха I (кафедра в
995-1018 г.), благодаря которому было поднято на новую высоту школьное
дело в Вюрцбурге, который был в то время крупным центром естественнона-
учных знаний. Не исключено, что сведения из этого учебника могли распро-
страняться среди грамотных современников Мехтильды. Поскольку в отно-
шении самой Мехтильды мы должны принимать во внимание ее признание,
что она не обучалась латыни, то вероятность того, что она лично знакомилась
с этим сборником, очень мала, хотя какие-то производные от него тексты (вы-
писки или сокращенные глоссарии на его основе) могли быть ей доступны.
14Хотя основой сборника послужили «Этимологии» Исидора Севильского, из-
вестно, что привлекались и другие дополнительные источники. К сожалению,
точно установить происхождения именно той глоссы, которая интересует нас,
не удалось, поэтому нам неизвестно, имеет ли к Исидору какое-либо отноше-
118
соболя был хорошо знакомым элементом феодального быта в качестве части
костюма, «говорящего» о статусе своего носителя, в том числе соболиный
мех украшал и дам, одновременно служа знаком их положения.
В контекстах, соответствующих этому назначению соболя,
его название довольно часто встречается в произведениях рыцарской
литературы. Вполне типичен следующий пример из поэмы Вольфрама
фон Эшенбаха «Парцифаль»:
Wit und lane zobelin,
sus muose uze und inne sin
der pelliz und der mantel drobe... [Parzival, V, 231, 3-5].
«Из широких и длинных соболей должно быть снаружи и
изнутри [отделано] надетое сверху манто».
Как видим, богатство одеяния подчеркивается указанием на
обилие и размеры его меховых деталей. Женский наряд, украшенный
соболем, мог быть дорогим и редким подарком любимого, и таким об-
разом его описание служит особой сюжетной деталью:
einen mantel truoc si zobelin,
bedaht mit einem pfelle,
den het ir ir geselle
verre braht uber se... [Wigalois, 7431-34].
«Накидка на ней была соболья, покрытая мехом. Ее привез
ей издалека из-за моря ее друг».
Несмотря на давнее, судя по языковым свидетельствам, зна-
комство с русским мехом и его прочное место в традиции костюма,
он может изображаться как экзотическая реалия, добавляющая краску
роскоши и чувственности в восточные сцены у немецких поэтов кур-
туазной эпохи. Вот один пример из «Парцифаля», где речь идет о дра-
гоценном меховом покрывале на ложе героини:
Ir deckelachen zobelin
erwant an ir huffelin,
daz si durch hitze von ir stiez,
da si der wirt al eine liez... [Parzival, III, 130, 17-20].
«Её покров был из собольего меха и откинут от бедра. Она
скинула его из-за жары, когда господин покинул шатер».
Нередки описания меховых одеял, которыми укрывались в
постели (восточное путешествие отца Парцифаля). Укрывшись мехом,
под declachen zobelin, спит у Вольфрама и Артур [там же, 285, 16].
ние список пушных зверей, некоторые из которых ограничены северным ареа-
лом распространения.
119
Однако все приведенные контексты содержат не упоминание
пушного зверька, а прилагательные, обозначающие его меховой ма-
териал, см. выше у Вольфрама - с определяемыми mantel «накидка»
и deckelachen «покров». Еще один пример из «Парцифаля» содержит
лексему в качестве самостоятельного (субстантивированного) обозна-
чения (wit und lane zobelin «широкие и длинные соболя»), однако по
форме оно так же, как и в других случаях, является прилагательным.
Это типично для заимствованных пушных терминов и встречается в
целом ряде таких трансферентов, проникших в частности в средне-
нижненемецкий язык через сферу пушной торговли Ганзы с Русью.
Для процессов адаптации названий русских реалий в заимствующем
нижненемецком языке характерны несколько типов морфологического
и грамматического переоформления. Среди них хорошо представлен
способ обозначения пушнины адъективной формой на -in. Заимствуе-
мые русские названия мехов трансформировались в прилагательные в
соответствии со средненижненемецкой моделью, ср. los «рысь» - les-
sen «шкура рыси», mart «куница» - marten «кунья шкурка» и по той
же модели др.-рус. лас(т)ка, ласиц преобразуется в нижненемецком
в lastken «шкурка ласки» [Сквайре, Фердинанд 2002: 151]. Как при-
лагательное понимает название соболя составитель Штральзундского
вокабулария: ср. Sabel is еп name sabellus [Damme 1988: 356], где вто-
рая часть имеет форму латинского прилагательного. Пушная семан-
тика несомненно является ведущей при заимствовании этих русских
зоонимов. Об этом свидетельствует и возраст заимствований, нередко
более старых, чем обозначения соответствующего зверька. Например,
в английском языке прилагательное sabeline известно с более ранне-
го времени, чем существительное sable [Skeat 1968: 530]; точно так
же старофранцузское заимствование sabelin «соболий (мех)» старше
соответствующего существительного sableX5.
Таким образом, сама суффиксальная форма (встречающаяся в
контекстах у Вольфрама) говорит о переосмыслении русских названий
в качестве обозначений мехового товара.
Ясная связь языковой формы с определенной предметной
сферой и путем заимствования позволяет с уверенностью утверждать,
что зооним соболя, употребленный Мехтильдой, имеет совершенно
СХ>О<><><><><Х><Х><>О<>^^
15 Собственно, и в отношении самого древнерусского слова можно сказать то же:
в его первом упоминании в «Летописце Переяславля Суздальского», в эпизоде за
1091 г. говорится об обмене между новгородцами и жителями Угры и Печеры, ког-
да «.. .аще кто дасть имъ железо, ножь, или еккиру, дают соболи, коуницу, белку,
противъ тысящю дороже ц^ны...»[Лктописецъ 1881: 51].) - дают соболи, то есть
шкуры соболей, в обмен на металлические изделия. Как признает и лексикогра-
фия, древнерусское существительное встречается сначала в значении «шкурка со-
боля», тогда как название самого зверька зафиксировано позднее [Черных II, 183].
120
иное происхождение, поскольку он имеет номинативное оформление
(zobel). Значит, он не связан с «товароведческой» тематикой и с путями
лексического заимствования от русских торговых партнеров в процес-
се северной ганзейской торговли с Новгородом или средненемецких
торговых контактов с Полоцком и Смоленском16. Настораживает уже
сама верхненемецкая форма наиболее «ходового» для Германии на-
звания. Особенно в отношении Мехтильды, происходящей из нижне-
немецкого региона (его эльбостфальской диалектной области) можно
было бы ожидать нижненемецкой формы лексемы, если бы она была
заимствована ганзейскими путями. Следовательно, лексема, употре-
бленная Мехтильдой, происходит из других географических контак-
тов, имеет иную хронологию (не время проникновения Ганзы на Русь
в ХП-ХШ в.), иной языковой путь (не через нижненемецкий) и другую
культурно-историческую природу17, а значит, возможно, иным являет-
ся и смысл этого употребления у Мехтильды, и культурный контекст,
из которого оно происходит.
Какие же в таком случае изменения претерпел пушной торго-
вый термин на немецкой почве, каким образом был он освоен и каки-
ми семантическими, стилистическими или иными образными нюан-
сами обогатилось его употребление в феодальных кругах Германии со
времени его заимствования до второй пол. XIII в. (времени активного
творчества Мехтильды Магдебургской), чтобы она могла вот так, лако-
нично, - как мы видели в процитированном примере, - воспользовать-
ся аллегорией соболя как посмертного проявления духовной красоты?
Мех соболя в средневековой Европе не столько предмет ро-
скоши, сколько феодальный знак. Собственно, следует признать, что
говоря о моде и обычаях, связанных с применением тех или иных мате-
риалов, красителей, украшений и т.д., мы затрагиваем еще одну соци-
ально релевантную и культурно нагруженную семиотическую систему.
16 Смоленск был центром пушной торговли наряду с Новгородом, см. под-
робнее о путях пушной торговли с Германией и о распространении названия
соболя в: [Сквайре 201.].
17Подробнее языковые и исторические аспекты, связанные с возможными пу-
тями заимствования обозначения славянского (древнерусского) обозначе-ния
соболя в немецкий язык рассмотрены в другой работе, см. [Сквайре 201.].
В результате анализа различных фонетических, графических и морфологиче-
ских вариантов этой лексемы, распространившихся в различных западноев-
ропейских языках до английского на-западе и итальянского на юге Европы,
удалось выяснить, что лексема в той форме, какая встречается у Мехтильды,
не связана с международной торговлей Ганзы в Европе и вообще с пушной
номенклатурой, а, значит, и с предметной сферой одежды, предметов роскоши
и материалов, бытовавших в обиходе высших слоев европейского общества
Высокого Средневековья.
121
Эта семиотическая функция изображения меха как части ко-
стюма, «говорящего» о своем носителе, особенно интересна для нашей
темы. Выше приводились примеры того, когда меховые детали одеж-
ды являются знаками богатства, высокого статуса и даже конкретного
положения в социальной иерархической системе. Однако ряд литера-
турных контекстов свидетельствует о другой семиотической трактовке
слов, относящихся к номенклатуре мехов и пушных животных.
Соболь геральдический
В литературных текстах встречаются не только праздничные
или домашние сцены, в которых фигурируют меха, но и описания во-
оруженного рыцаря, в облачении которого также использован мех. На-
пример, Вольфрам фон Эшенбах пишет о меховой накидке, покрываю-
щей латы, притом о ней сообщаются не только ее роскошные размеры,
но и что она была черного соболя: ein decke lane unde wit ... die waren
swarz zobelin (Parzival V, 231, 3-5).
Цвет меха обладает особой значимостью не только в поэтиче-
ском образе, но и в придворном быту - в оторочке низа одежды и в отво-
ротах рукавов, - так как использование белого горностая и черного соболя
имеет в эпоху Высокого Средневековья знаковую функцию, сигнализируя
место князя (его обладателя) в семиотической системе феодальной куль-
туры: «emblematic of princely wealth and dignity» [Blamires 1965: 33].
Темный цвет меха соболя - это, конечно, одновременно и при-
знак его ценности, как и в русском культурном обиходе. Однако цвет
меха, носимого с вооружением, получил в культурном контексте За-
падной Европы дополнительные (по сравнению с русскими и по срав-
нению с западными же указаниями на роскошь описываемых предме-
тов и статус их владельца) и очень важные, символические, смыслы.
Вольфрам дает разнообразные примеры знаковости как самого меха,
так и его окраса18. На одежде и снаряжении отца Парцифаля изобра-
000<Х><Х>0<><><Х><ХХ><Х>0<><>0<^^
18 Работа над данной темой показала, что литературные контексты, содержа-
щие интересные для нас зоонимические обозначения, в основном принадле-
жат перу Вольфрама фон Эшенбаха и Генриха фон Фельдеке. В этом можно
увидеть определенную закономерность, подтверждающую предположение о
знакомстве Мехтильды с произведениями этих авторов. Дело в том, что ли-
тературная биография этих писателей и история их произведений связана с
родной для Мехтильды Тюрингией. Ландграф Тюрингский Германн I (1155-
1217) получил воспитание при французском дворе, хорошо знал французскую
литературу, и, унаследовав в 1190 г. родовой титул и замок, оказывал поддерж-
ку развитию литературы на своей родине, особо поощряя переводы и перело-
жения важнейших литературных произведений на немецкий язык. «Энеида»
Генриха фон Фельдеке, «Поэма о Трое» Герборта из Фритцлара, «Виллехальм»
Вольфрама, а возможно, и части его «Парцифаля» и были созданы в знамени-
том замке ландграфа Германна I - Вартбурге. Здесь же состоялось в 1206 г.
122
жен якорь, который является его эмблемой. Этот личный знак героя
не нарисован и не вышит на его вещах - он искусно выполнен, как
мы бы сказали, в технике аппликации, для которой использованы мех
горностая, золото и драгоценные камни. Это сочетание означает могу-
щество, богатство и право на власть [Blamires 1965: 32]:
Diu gap von roete alsolhez prehen,
daz man sich drinne mohte ersehen.
ein zobelin anker drunde... [Parzival II, 71, 1-3].
«Этот щит так сверкал красным блеском, что можно было уви-
деть в нем свое отражение. Под ним был соболиный якорь».
Этот пример свидетельствует о том, что меха занимали прочное
место в одной из главных семиотических систем феодального общества -
геральдике. Становление личных знаков и родовых гербов относится к
XII—XIII в., и таким образом, во время Мехтильды Магдебургской гераль-
дическая система Германии уже сложилась, но еще не утратила живой
связи с символикой реальной жизни человека Высокого Средневековья.
Геральдика
Этот аспект средневековой европейский культуры интересен
сам по себе и заслуживал бы особого разговора, но здесь мы ограни-
чимся двумя замечаниями, относящимися к нашей теме. Во-первых,
исследования по ранней западноевропейской геральдике устанав-
ливают важную связь между нею и образным символизмом куртуаз-
ной литературы: в этой, казалось бы, очевидной, связи ведущая роль,
как оказывается, принадлежит словесности [Антонов 2008: 93-98].
Рыцари-поэты, с произведениями которых, как мы полагаем, была зна-
кома Мехтильда, изображены в знаменитой рукописи Манессе, одном
из важнейших рукописных источников по миннезангу, в окружении
своих личных геральдических знаков: гербов, а также щитов и шлемов
с геральдической символикой и атрибутикой. Среди геральдических
атрибутов можно видеть и предметы зоологического происхождения:
павлиньи перья на гербах и рыцарских стягах, а также среди геральди-
ческих элементов шлемов и щитов. Эти изображения точно отражают
реалии действительной жизни.
Во-вторых, геральдика не только постоянно обращается к
символическому изображению животных и птиц как к своему спе-
цифическому языку, но широко пользуется животными материалами в
качестве изобразительных. Например, в Цюрихском гербовнике 1320 г.
можно увидеть герб графов фон Фробург: их гербовым изображением
знаменитое поэтическое состязание, в котором приняли участие великие мин-
незингеры Вальтер фон дер Фогельвейде и Вольфрам фон Эшенбах.
123
был орел (разновидность Fehadler), изображение которого на боевых
щитах графов выкладывалось из кусочков меха северной белки (нем.
Feh) [Meyers 12, 822]. Как видим, использование именно этого меха
объясняется не только подходящим цветом, но и связью его названия
с гербовым знаком. Кстати, немецкое слово Feh даже имеет второе,
геральдическое значение «железный шлемик19, выложенный беличьим
мехом» [Tiander 1911: 404].
Пушной ассортимент служил как бы палитрой для геральдики.
Для изображения белых элементов использовался мех горностая, черной
«краской» служил соболь темного окраса, в качестве красного использо-
вали куницу, рыжую белку - и также соболя, его «воротовой» мех на шее
коричневого тона, либо часть с большим ярким горловым пятном оранже-
вого, охристого цвета. В качестве голубого применялся мех серой белки,
имеющий серо-голубоватый тон [Meyers, ibid.; Е К. 1876].
Этот «меховой язык» цветов используется и в поэтических тек-
стах, например, у Генриха фон Фельдеке в его романе «Энеида» читаем:
Ir belliz der was hermelin,
wiz unde vile gut;
die kelen rot alse ein blut... (Eneasroman 59, 34-36).
«Её накидка была горностаевой, белой и роскошной; горло-
вые части (меха) были красны как кровь».
Встречаются свидетельства символической нагрузки в упо-
треблении названия соболиной масти, например: Ir banir ... Waz von
zobel totlich varbe... [Die Minneburg 3646-3648] «их стяг был смертель-
ного соболиного цвета». Отрицательными, даже зловещими коннота-
циями могло обрастать название собольего черного цвета в литературе
религиозно-духовной направленности, например:
wo ist daz hermelin, zobel, vech,
des dir der teufel vil verleich?.. (Vom Jungsten Tage, 5.175).
Где горностай, где соболь, белка,
Которыми тебя снабжает дьявол?
Что же удается выяснить для понимания замысла Мехтильды,
когда она сравнила духовную реализацию человека, покидающего этот
мир ради лучшего, с прекрасным соболем, оставленным нам для при-
мера? Приведенный литературный материал показывает, что наряду с
единицей торговой номенклатуры наименование соболя существовало
в культурном контексте эпохи как ссылка на парадигму геральдиче-
ских знаков, которая параллельно вербализовалась в словесные тропы
о<х>ооо<>с><>о<><х><х>^^
19 Очевидно, имеется в виду Eisenhut-Muster - один из типов орнаментов, вы-
кладываемых мехом на средневековых гербах.
124
куртуазной литературы. И в социальном бытовании людей, и в литера-
туре различных жанров лексическое обозначение соболя превратилось
таким образом в многозначную лексему с разнообразными возмож-
ными ассоциациями и коннотациями, в том числе и отрицательными.
Сравнения Мехтильды скорее опираются на семы, связанные с поня-
тием почета и славы, которые символизирует геральдический соболь и
драгоценное одеяние короля. Так как большинство звериных образов
символизировали как положительные, так и отрицательные категории
средневекового мировоззрения, ей не должны были мешать зловещие
ассоциации, связанные с соболем.
Геральдически нагруженными (и даже ведущими в парадигме
геральдических знаков) зоосимволами были изображения льва и Агнца,
упоминания которых относятся у Мехтильды к наиболее частотным зоо-
нимическим тропам. Обратившись к рассмотренным выше примерам
употребления этих образов в произведении Мехтильды Магдебургской,
можно составить выразительную и убедительную картину использования
геральдических знаков и геральдически обусловленных смыслов, кото-
рые позволяют даже предположить, что именно геральдические ассоциа-
ции диктовали ей применение тропов с обозначением соболя.
Эти же мотивы присутствуют и в некоторых метафорах, уже
рассмотренных в предыдущих разделах в связи с другими семиоти-
ческими системами. Символы Христа Лев и Агнец, рассмотренные
выше в речевых фигурах, которые можно было связать с библейскими
контекстами и теологическими представлениями Средневековья, уже
с XII в. занимали одно из центральных мест в геральдике. Таким об-
разом в мировосприятии средневекового рыцарского сословия (в ко-
тором сформировалась и Мехтильда) они уже были стойкими стерео-
типными образами, функционирующими в нескольких семиотических
системах20 и потому способными вызвать одновременно различные
ассоциации из нескольких областей.
Возвратившись к пассажу из «Струящегося света», который выше
получил трактовку в аспекте библейских идей, мы увидим, что он обладает
несомненными признаками, связывающими его не только с геральдическими
образами, но даже конкретней - с визуальными геральдическими фигурами.
В этом ракурсе становится понятным характер изображения Мехтильдой Ио-
анна Крестителя с Агнцем: он показан не просто вместе с Агнцем-Христом,
но он несет его перед собой (в тексте vor siner brust}.
20Европейские государи уже в XII в. могли наделяться прозвищами «льва» и
«агнца», как, например, герцог Саксонии и Баварии Генрих Лев (ум. 1195) или
король Дании Эрик III (1137-1146). О развитии зоонимической символики в
ранней геральдике Северной Европы и ее связи с гуманитарной культурой Вы-
сокого Средневековья см.: [Антонов 2008: 98-114].
125
Der trug ein wisses lamp vor siner brust, und zwo ampellen braht
er an sinen vingeren.. .Das was Johannes Baptista (II, 4,24-27)
Буквально: «Перед грудью своей он держал Агнца белого,
а в руках своих нес две висячие лампы...Это был Иоанн
Креститель».
Наивное на первый взгляд предположение, что поза Крести-
теля по авторскому замыслу должна вызвать зрительный образ это-
го персонажа, как бы отмеченного неким нагрудным изображением
(Агнца), представляющим его эмблему, может получить неожиданно
убедительное подтверждение. Дело в том, что среди многочисленных
гербовых изображений Иоанна Крестителя с Агнцем (наряду со столь
же многочисленными гербами, изображающими искупительного Ag-
nus Dei с красной хоругвью) есть вариант, построенный по принципу
«герб в гербе»: этот тип показывает Иоанна держащим Агнца не непо-
средственно на руках, а в виде изображения на подобии щита. Например,
так изображены Иоанн Креститель и Агнец на гербе общины Alt Sankt
Johann близ Санкт-Галлена (сегодня территория Швейцарии), образовав-
шейся вокруг монастыря Св. Иоанна, существовавшего с 1152 г.21
Разумеется, в силу гео-
графической удаленности Санкт
Гал лена от области Германии, где
родилась и жила Мехтильда, она
могла никогда не видеть этого гер-
ба. Однако приведенный пример
показывает, что такие изобрази-
тельные конструкции существо-
вали, а значит, в принципе какой-
либо похожий геральдический
материал мог послужить основой
для метафорических ассоциаций,
которые Мехтильда воплотила в
эту необычную, но буквально со-
ответствующую им синтаксиче-
скую конструкцию.
Если теперь вернуться к синтаксическому оформлению тех
пассажей, в которых Мехтильда говорит о соболе, можно убедиться,
что и там построение словосочетания может быть объяснено в духе
словесного отражения визуальной (геральдической) конструкции. Вы-
ражение sine hut fur die edelesten zobele tragent [Das flieBende Licht, IV,
<>СХ>Ф<><Х><>О<><><Х><Х><><><^
21 Наименование «Старый» община получила после переноса монастыря в дру-
гое место (Neu Sankt Johann).
126
79-80] «его мех (шкуру) носят вместо (в качестве?) благороднейших
соболей» можно было трактовать как изображение людей, одетых в
роскошные меха. Однако возможно и буквальное истолкование его
как упоминания соболя, которого несут (перед собой, как Иоанн Кре-
ститель - Агнца) в качестве знака высокого духовного благородства.
В конце концов, такой параллелизм в аллегорических формулах Иоанна
Крестителя и праведного человека служит скреплению двух метафори-
ческих пар: Иоанн-Иисус и Душа-Иисус, то есть усиливает централь-
ный для религиозной мистики мотив соединения души верующего с
Богом. И действительно: трудная для перевода предложно-наречная
конструкция tragent fur die zobele, как бы сопротивлявшаяся синтакси-
ческому переоформлению в переводе Р. В. Гуревич: «носят его шкуру
вместо соболя» [Мехтильда 2008: 126], звучит совершенно естествен-
но, если предположить, что Мехтильда в примененном ею тропе имела
в виду эмблематическое использование соболя в духе геральдических
изобразительных приемов: несут соболя (вернее, изображение соболя
или, как мы видели, из соболя) в качестве идентифицирующего знака.
В случае второй цитаты такое синтактико-семантическое объяснение
даже очевидней: Мехтильда буквально говорит о соболе как знаке, ко-
торый несут «перед очами»:
So wirt ir leben ein schone zobel, den wir sundigen vor unsern
ogen vil schone in unserm herzen tragen... [IV, 84-85].
«Тогда их жизнь становится прекрасным соболем, которого
мы, грешники, перед очами нашими, в сердце нашем ро-
скошно носим».
Можно с полным правом сказать, что в некоторых своих ино-
сказательных пассажах Мехтильда говорит языком геральдики, - так
же, как в других случаях она пользовалась языком куртуазной поэзии,
Библии или других тезаурусов культурных знаков своей эпохи.
Общие выводы
Материал зоонимических образов в «Струящемся Свете
Божества» Мехтильды Магдебургской показал, что сами по себе ис-
пользуемые зоосимволы, как и конкретные литературные тропы, как
правило, не оригинальны, а взяты ею из различных семиотических
систем куртуазной культуры, частично пересекающихся между собой.
Новой является надстраиваемая Мехтильдой на их основе аллегориче-
ская конструкция, которая оказывает сильное впечатление на читателя
совокупным (синкретным) воздействием всех ее уровней. Мехтильда
работает с библейскими символами, литературными контекстами и ху-
дожественными аллегориями, геральдическими знаками, сочетая их
между собой и развивая их в многослойные аллегорические конструк-
ции и усиливая таким образом силу воздействия.
127
Язык зоосимволов в книге Мехтильды отличают принадлежа-
щие ей, инновационные приемы аллегоризации. Среди них наиболее су-
щественной индивидуальной характеристикой художественного и идей-
ного образа-символа у Мехтильды является иерархия (то есть порядок
надстройки) этих уровней. Мы видели, что литературные и религиозные
аллюзии и параллели являются лишь носителями для высшего аллегори-
ческого обобщения, которое и выражает главную мысль Мехтильды.
Особенностью образного мышления Мехтильды, отразив-
шейся и в использовании ею зоонимических обозначений, по всей ве-
роятности, можно считать сочетание различных контекстов, при кото-
ром одновременно вызываются ассоциации с двумя или несколькими
темами. Аллегория у Мехтильды может состоять из двух метафор, вло-
женных одна в другую (как, например, метафора голубки), либо быть
повернутой в направлении к обоим частям сравнения, лежащего в ее
основе, образуя «обоюдонаправленный» символ (это напоминает рито-
рические формулы религиозно-мистических теологов, reziproke Iden-
titatsformel). Этот прием, соответствующий религиозно-мистической
идее снятия объектно-субъектного противопоставления, служит в по-
этике Мехтильды более тесной ассоциативной связи, своеобразному
сгущению зоонимических метафор (пример метафоры вместилища).
Прием сгущения встречается у Мехтильды в формулах, поэтически
воплощающих в виде обоюдонаправленной иносказательной аллего-
рии основополагающие теологические идеи (такова мысль о том, что
Душа может стать вместилищем Бога, поскольку уже обладает предна-
значенным для Него Его знаком, образом).
Эти наблюдения подтверждаются фактами конкретного язы-
кового оформления зоонимических образов Мехтильды Магдебург-
ской. Семантическая многогранность зоонимических тропов поддер-
живается на структурно-языковом уровне омонимией средств морфо-
логии (пример номинативного обозначения соболя) и синтаксиса (ср.
синтаксические конструкции, проявляющие геральдический смысл
метафоры соболя), которые усиливают эффект метафорического сгу-
щения. На уровне структуры текста Мехтильда соединяет образы меж-
ду собой синтаксическим способом, выстраивая их в виде характер-
ных для нее повторов (пример голубицы и пчелы).
Достигаемый таким образом Мехтильдой синкретизм в пере-
даче идей и смыслов оказывается неразрывно слит с созданной ею
религиозно-мистической поэтикой, новаторской для средневековой
словесности на немецком языке.
Источники:
Бестиарий 1984 - Средневековый бестиарий. Сост. К. Муратова. М., 1984.
Лктописедъ 1881 - ЛЬтописецъ Переяславля Суздальского. Изд. кн. М. Обо-
ленского. Москва, 1881.
128
Мехтильда 2008 - Мехтильда Магдебургская. Струящийся Свет Божества. Под
ред. Р. С. Гуревич, Е. В. Соколовой, В. А. Сухановой. М., 2008
Die Minneburg. Hrg. Hans Pyritz (DTM 43), Berlin 1950.
Feldeke, Heinrich von. Eneasroman. Mittelhochdeutsch/Neuhochdeutsch. (Univer-
sitatsbibliothek, Nr. 8303[10]) Stuttgart, Reclam 1986.
Mechthild von Magdeburg, „Das flieBende Licht der Gottheit.“ Hg. Hans Neumann.
Nach der Einsiedelner Handschrift in kritischem Vergleich mit der gesa-
, mten Uberlieferung, hg. von Hans Neumann. Band I. Text (besorgt von
Gisela Vollmann-Profe). Munchen und Zurich 1990.
Parzival, Wolfram von Eschenbach. Studienausgabe. Mittelhochdeutscher Text
nach der sechsten Ausgabe von Karl Lachmann. Einfuhrung zum Text
von Bernd Schirok. Berlin, New York (de Gruyter) 1999.
Stralsunder Vbkabular. Edition und Untersuchung einer mittelniederdeutsch-latein-
ischen Vbkabularhandschrift des 15. Jahrhunderts. Hg. Damme, Robert.
Koln-Wien 1988.
Summarium Heinrici. Band 1. Hg. Reiner Hildebrandt. 1974.
Vom Jungsten Tage. - In: Kleinere mittelhochdeutsche Erzahlungen, Fabeln und Lehr-
gedichte. III. Die Heidelberger Handschrift cod. pal. germ. 341. Hg. Gustav
Rosenhagen (DTM 17), Berlin 1909 (Nachdr. Dublin/Zurich 1970).
Wigalois, von Wimt von Grafenberg. Text der Ausgabe von J. M. N. Kapteyn.
Bearb. v. Seelbach, Sabine / Seelbach, Ulrich. Ubers, v. Seelbach, Sabine /
Seelbach, Ulrich. Berlin, New York (de Gruyter) 2005.
Литература
Антонов 2008 - Антонов В. А. Датская геральдика XII-XVII веков. М., 2008.
Ганина 2010 - Ганина Н. А. «Струящийся свет Божества» Мехтильды Магде-
бургской в духовном и региональном контексте эпохи // Государство,
религия и Церковь в России и за рубежом. 2010. № 1. С. 68-87
Гуревич 2008 - Гуревич Р В. Мехтильда Магдебургская и ее книга «Струящийся
Свет Божества //Мехтильда Магдебургская. Струящийся Свет Божества/
Под ред. Р. С. Гуревич, Е. В. Соколовой, В. А. Сухановой. М., 2008.
Сквайре [201.] - Сквайре Е. Р. Девушка с соболем, или некоторые наблюдения
над животными образами Мехтильды Магдебургской //От языковых
фактов - к построению теории. Сборник научных трудов к юбилею
профессора А. Л. Зеленецкого. Калуга, [201.].
Сквайре, Фердинанд 2002 - Сквайре Е. Р, Фердинанд С. Н. Ганза и Новгород:
языковые аспекты исторических контактов. М., 2002.
Фасмер 1986-1987 - Фасмер М. Этимологический словарь русского языка.
Т. I-IV. М., 1986-1987.
Черных 1994 - Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современно-
го русского языка. I—II. М., 1994.
Blamires 1965-BlamiresH The Tyranny of Time: A Defence of Dogmatism. London, 1965.
Erat-Stierli 1985 - Erat-Stierli R. ,Do sprach du ellende Sele’ Die Verwendung von
,ellende’ im fliefienden Licht der Gottheit der Mechthild von Magdeburg.
Diss. Universitat Zurich. Bamberg 1985.
F.-K. 1876 - F.-K. [Furst v. Hohenlohe-Waldenburg]. Das heraldische Pelzwerk im
Mittelalter. Stuttgart, 1876.
129
Ganina, Squires 2010 - Ganina N., Squires C. Ein Textzeuge des fliefienden Lichts
der Gottheit von Mechthild von Magdeburg aus dem 13. Jahrhundert. //
Zeitschrift fur deutsches Altertum und deutsche Literatur. Bd. 139/1.
2010. S. 64-86.
Kluge 1967, 1999 - Kluge Friedrich. Etymologisches Worterbuch der deutschen
Sprache. 2O.AufL 1967; 23.Aufl. Berlin-New York, 1999.
Liters 1926 - Liters G. Die Sprache der deutschen Mystik des Mittelalters im Werke
der Mechthild von Magdeburg. Munchen, 1926.
Meyers 1885-1892 - Meyers Konversations-Lexikon.. Bd. 12. Hg. Verlag des Bib-
liographischen Institute, Leipzig und Wien, 1888.
Neumann 1948-50 - Neumann H. Problemata Mechtildiana // Zeitschrift fur
deutsches Altertum und deutsche Literatur, Bd. 82. 1948-1950.
Neumann 1965 - Neumann H. Mechthild von Magdeburg und niederlandische Frauen-
mystik. // Medieval German Studies. Ed. Frederick Norman. Leeds, 1965.
Neumann, Vollmann-Profe 1993 - Mechthild von Magdeburg. Das flieBende Licht
der Gottheit. Nach der Einsiedelner Handschrift in kritischem Vergleich
mit der gesamten Uberlieferung, hg. von Hans Neumann und Gisela Voll-
mann-Profe. Bd II. Munchen 1993.
Peters 1988 - Peters U. Religiose Erfahrung als literarisches Faktum: zur Vorge-
schichte undGenese frauenmystischer Texte des 13. und 14. Jahrhunderts.
Tubingen, 1988.
Schwarz-Mehrens E. Zum Funktionieren und zur Funktion der Compassio im Fliefien-
den Licht der Gottheit Mechthilds von Magdeburg. Goppingen, 1985.
Skeat 1968 - Skeat W An Etymological Dictionary of the English Language. Oxford, 1968.
Squires 2010 - Squires C. Mechthild von Magdeburg: Ein handschriftlicher Neu-
fund aus dem elbostfalischen Sprachraum. H Jahrbuch des Vereins fur
niederdeutsche Sprachforschung. 133 (2010). Neumunster, 2010. S. 9-44.
Tiander 1911 - Tiander K. Deutsch-russisches Worterbuch (Enzyklopadie der
deutschen Sprache). St. Petersburg, 1911.
Summary
In The Flowing Light of Divinity by Mechthild of Magdeburg, dat-
ing back to the second half of the 13th century, animal imagery forms an es-
sential part of the metaphoric language of religious mysticism. The present
analysis shows that Mechthild’s animal symbolism is largely based upon
conventional Christian topoi, yet interweaved, in a complicated manner,
with the traditions of chivalric romance and heraldry. On the other hand,
the learned tradition of her time, as represented in medieval bestiaries,
seems to have made no contribution to the poetic language of Mechthild’s
writing. At the same time, for some animal motifs and images contained in
The Flowing Light no matching literary precedent could be found. These
metaphores, together with various methods (semiotic, syntactic) of meta-
phoric condensing, used to achieve an intense emotional impact, should be
seen as Mechthilds’ own poetic innovation.
130
Е. В. Смирницкая
Германский звериный стиль как орнаментальное
искусство1
Германский звериный стиль - особый вид искусства, осно-
ванного на стилизованных изображениях животных, существовав-
ший у древних германцев с эпохи Переселения народов до конца
эпохи викингов. Его происхождение, как правило, связывают с про-
винциальноримским искусством, распространенным на европейской
периферии Римской империи в IV-V вв. Автор полагает, что наи-
большее значение для германского звериного стиля имеет наследие
более раннего европейского искусства - искусства эпохи Латен, при-
надлежавшего главным образом кельтам; несомненны и связи гер-
манского звериного стиля со скифо-сибирским звериным стилем.
Таким образом, германский звериный стиль является прямым про-
должателем звериного стиля раннего железного века. Его, однако,
отличает исключительная приверженность принципам построения
абстрактных орнаментальных структур, которая составляет уникаль-
ную черту германского звериного стиля. В статье показывается, что
каждая из разновидностей германского звериного стиля, сменявших
друг друга на протяжении второй половины I тысячелетия, - стили I,
II и III, по Б. Салину, - представляет собой последовательное вопло-
щение того или иного орнаментального принципа. Это следование
германского звериного стиля формальным законам орнаментальных
построений сделало его зачинателем средневековой эстетики.
Ключевые слова: животные, орнаментика, германский зве-
риный стиль, скифы, ранний железный век, викинги, декоративные
функции орнамента, кельтское искусство.
Германский звериный стиль2 - одно из уникальных явлений
в истории искусства. Он возник в эпоху падения античной цивилиза-
ции и впервые явил новые принципы формирующейся средневековой
эстетики. Его начало обычно связывают с влиянием так называемого
<>о<х>о<х><><><><><><хх>о<х><>х><х><х^
1 Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект № 09-04-00104а.
2 Под германским звериным стилем мы будем понимать анималистическое ис-
кусство эпохи культурной целостности и самобытности германских народов
(V-XI вв.). При этом если в начале этого периода германские стили были рас-
пространены по всему германскому миру - практически по всей Европе, то на-
чиная с VII в. германское искусство на континенте теряет свою самобытность
(передав, однако, многие свои черты формирующемуся искусству европейско-
го Средневековья) и его ареал сужается до Северной Европы (Скандинавии и
Англии), где оно переживает бурный и блестящий расцвет периода Бендель и
эпохи викингов.
131
провинциальноримского искусства, распространившегося в последние
века Западной Римской империи на ее европейской периферии [Вак-
ка 1958; Bohme 1974; Bohme 1981; Haseloff 1981]. Это - «солдатский
стиль», отраженный главным образом в рельефном декоре поясных на-
боров - бляшек и пряжек, которыми украшали свои пояса римские ле-
гионеры, расквартированные по границам Империи, - сами, как известно,
в большой степени состоявшие из германцев [Riegl 1927:291-323; Behrens
1930; Werner 1930; Werner 1958; Bullinger 1969; Sommer 1984]. Поэтому no
стилю этот декор варваризован и далек от античных прототипов (рис. 1).
Однако эта варваризация была не просто, как обычно счита-
ется, порчей, неумелым воспроизведением классических прототипов.
Провинциальноримское искусство, несомненно, было «гибридным»,
античные мотивы в нем накладывались и встраивались в иную худо-
жественную систему со своими собственными эстетическими пред-
почтениями, наиболее ярко проявляющимися как раз в звериных изо-
бражениях. Это показывает, что варварская среда отнюдь не была дев-
ственной почвой, способной лишь порождать неумелые подражания
заимствованным образцам античного искусства; она хранила следы
собственной художественной традиции, которые стали «прорастать» в
ней сквозь античные заимствования.
Поиски корней этой традиции с необходимостью приводят нас
к древнему искусству варварской Европы раннего железного века - ис-
кусству кельтов, или культуры Латен. Действительно, латенский суб-
страт ясно ощущается в провинциальноримском искусстве и может
объяснить многие черты провинциальноримских бронз: и стилизован-
ное изображение звериной головы в профиль (например, на рамках
пряжек, см. рис. 1: 7, 2, 5; ср., напр., рис. 1: 9) и парное расположение
звериных изображений в напряженной, припавшей к земле, позе, особен-
но по краям изделия (так называемые Randtieren - «боковые», или, точнее,
«бортовые звери», см. рис. 1: 2 - 3, 5 - 8; ср., напр., рис. 1: 30), часто с
мужской маской между ними и общий отказ от натурализма, линейную
стилизацию и выразительный орнаментальный лаконизм зооморфных об-
разов (см., например, рис. 1: 2, 8 и особенно 3, в отличие от более «клас-
сических» и натуралистических образцов тех же мотивов - рис. 1:4-7).
Именно к этой традиции оказался в первую очередь воспри-
имчив ранний германский стиль. И если в провинциальноримском
искусстве эти латенские черты были «гибридизированы» с чертами
классического искусства, то в раннегерманском зверином стиле они
стали целенаправленно очищаться от античного влияния (в этой сво-
ей невосприимчивости к античному влиянию в искусстве германцы
представляют разительную противоположность другим европейским на-
родам - кельтам, иберам, иллирийцам и др., - для которых встреча с рим-
132
ской цивилизацией привела к быстрой ассимиляции). Более того, герман-
цы значительно расширили круг заимствований из кельтского искусства,
сохранив до самого конца эпохи викингов целый ряд латенских мотивов.
По видимости необъяснимой загадкой тут остается тот факт,
что прямые, иногда буквальные аналогии связывают германское ис-
кусство не с современным ему искусством кельтов, которое было к
тому времени на континенте уже совершенно романизировано, а с ран-
ним латенским стилем середины I тысячелетия до н. э., т. е. существо-
вавшим за тысячелетие до сложения германского искусства. Каким об-
разом могли достигнуть до германцев эти влияния - можно только га-
дать. Важно, однако, помнить, насколько фрагментарны дошедшие до
нас сведения о древнем искусстве: ведь нам большей частью остается
совершенно неизвестной, например, такая важная для лесной Европы
область, как резьба по дереву. Так или иначе, несомненно, что те или
иные изобразительные мотивы могут каким-то образом консервиро-
ваться в традиции и «выныривать» через много веков (так же, как это
происходит с фольклорными мотивами, мифологическими сюжетами
и т.п.). К таким несомненно латенским по происхождению сюжетам
в германском искусстве относятся мотивы мужской, иногда приобре-
тающей черты звериной, маски (рис. 2)3; воина или мужской головы
3Сам по себе мотив мужской маски слишком универсален, чтобы служить
показателем связи традиций. Однако раннелатенское и германское искусство
связывают, во-первых, особая популярность этого мотива, подобную которой
мы не встречаем ни в каком другом орнаменте; во-вторых, что еще более важ-
но, - буквальное совпадение иконографии в трактовке этого сюжета. Назовем,
во-первых, мотив мужской маски обобщенных овальных или миндалевидных
очертаний - один из основных как в раннелатенском (рис. 2: 1, 2), так и в гер-
манском (рис. 2: 3 - б) искусстве (ср. также в точности такой же мотив в про-
винциальноримском искусстве - рис. 1: 4). Еще более поразительное совпаде-
ние представляет другой тип мужской маски - подтреугольной формы, верх-
ний контур которой трактуется как пара волют: этот тип изображения встре-
чается в раннелатенском стиле (рис. 2: 7, 8) с тем, чтобы потом неожиданно
возникнуть вновь в вендельский период и эпоху викингов (рис. 2: 9-7); важно
отметить, что подобная, в высшей степени особенная, трактовка не встреча-
ется более нигде из известных нам традиций. И, наконец, назовем еще один
своеобразный тип звериной маски, характерный для скандинавского зверино-
го стиля Борре (IX-X вв.): мордочка кошачьего хищника, выполненная в очень
высоком рельефе, с выпуклыми шарообразными глазами, щеками и лбом (рис.
2: 14); ближайшую (хотя и не столь буквальную, как в предыдущем случае)
аналогию этому мотиву мы находим также в раннелатенском искусстве, в т.ч.
и на так называемых фибулах с масками (рис. 2: 72, 73). В античном же ис-
кусстве изображения человеческой маски имеют совершенно иной характер:
они натуралистичны, портретны и по форме приближаются к кругу; стили-
зованные варианты масок такого типа, по-видимому, восходящие к античным
прототипам (по мнению некоторых - к изображениям типа горгонейона; см.
133
в шлеме в профиль (рис. 3: 1 - 4; ср. также профильные изображения
мужской головы и руки вверху наконечника из Нюдама, рис. 4: 5; впи-
санные в круг профильные головы на боковых углах ромбической пла-
стины фибулы из Грёнбю - рис. 9: 72; и др.)4 и всадника (рис. 3: 1-2,
5 - 9); из зооморфных сюжетов - мотив драконьей головы с длинными
загнутыми челюстями открытой пасти (рис. 4: 7 - 6)); мотив звериной
(«драконьей») головы в фас (точнее, показанной как бы сверху) (рис. 4:
7-8; ср. также рис. 9: 7, 8, 11, 12; 10: 4, 5, 6; 12: 17, 18, 20; 13: 3-5,7
и др.) и некоторые другие. Особый интерес для нас представляют ла-
тенские симметричные пары животных, иногда образующие сложную
многоярусную композицию (рис. 5) - композиционный прием, очевид-
но повлиявший на иконографию германских двупластинчатых фибул
(см., напр., рис. 10: 3-4, 7. Ср. такие же композиции в провинциаль-
норимском искусстве: рис. 1: 2, 3, 5, 8).
Важнейшим для последующих судеб звериного стиля моти-
вом являются раннегерманские изображения животного с змеевидно
вытянутым, S-образно изогнутым телом и длинными, волютообразно
изогнутыми челюстями раскрытой пасти; обычно эти существа вы-
ступают в паре, фланкируя, по принципу зеркальной симметрии, цен-
тральный мотив (часто это фронтальная человеческая фигура или ма-
ска) (рис. 6: 2, 3; на рис. 2: 3 представлены только головы этих живот-
ных). Исследователи привычно возводят этот мотив к античному сю-
жету. Так, Г. Хазелофф в S-образно изогнутых зверях видит популяр-
ный в позднеримском искусстве мотив «морских тварей» (Seewesen),
а именно дельфинов, а в центральном изображении мужского лица -
соответственно античного бога Океана [Haseloff 1981: 13 ff.]. В дока-
зательство он приводит действительно очень близкую провинциаль-
норимскую композицию (рис. 6: 7)5. Но, несмотря на столь очевидное
[Arwidsson 1963]), широко встречаются и у германцев (см, напр., рис. 10: 2,
7; маски на углах пластины фибул на рис. 10: 7, 4 и др.); ср.: [Haseloff 1981:
81 - 87]. О варварских и античных прототипах германских мужских масок см.
также [Оргеапп].
4Тут, как и во многих других случаях, возникает некая двойственность в объ-
яснении происхождения мотива: изображению воина легко, разумеется, найти
аналогии в античном искусстве, которые, возможно, и служили непосредствен-
ными прототипами для германцев. Но стилизация этого мотива и контекст, в
который он попал в германском искусстве, объяснимы лишь исходя из их связи
с латенской традицией (в которой, впрочем, он, вероятно, сам имеет античное
происхождение). Не раз мы видим: германцы заимствуют у римлян именно то,
что легко ложится на знакомый им латенский субстрат.
5 Показательно, что другие исследователи, привлекая другие аналогии, пред-
лагают и совершенно иные толкования этой композиции. Так, О.А. Щеглова
ставит фибулу из Гальстеда (рис. 10: 2) в один ряд с композициями «Даниил
во рву львином» [Щеглова 2010: 162]. Она же приводит другие объяснения
134
и, казалось бы, все объясняющее сходство6, кажется, что причины по-
падания этого мотива в германское искусство сложнее. Откуда вдруг
такой интерес германцев к дельфинам - существам, столь чуждым гер-
манскому образному строю и не встречавшимся у них ни до, ни после
этого периода? Очевидно, что популярность этого мотива объясняется
его сходством с чем-то, уже знакомым германцам. Этот римский сюжет
близко напоминает латенские изображения мужской маски в обрамлении
из волютообразно загнутых завитков и змеевидных S-образно изогнутых
животных (рис. 2:2; 5), что, как представляется, и обусловило его переход
в германское искусство. Подобная же пара змеевидных существ с малопо-
нятными завитками на конце со знаменитой золотой фибулы из Силадь-
шомлио (рис. 6: 4) имеет несомненного предшественника в мотиве «пары
драконов» I с кельтских мечей и ножен IV—III вв. до н. э. (рис. 6: 5 - 72)
[Szabo, Petres 1992: 29-36]. Для будущего же германского искусства тут
важна не только сама композиционная схема - две фигуры животных по
сторонам фронтальной человеческой фигуры или маски (хотя она и мно-
гократно воспроизводится в произведениях германского звериного стиля,
ее распространение в мировом искусстве слишком широко и универсаль-
но, чтобы считать ее принадлежностью какой-то конкретной традиции);
самым важным тут следует считать в первую очередь метод стилизации
фигуры животного с приматом S-видной линии и зеркальной симметрии.
Этот ранний опыт линейной стилизации, пока еще очень простой, как мы
увидим, не пройдет даром для германцев и в дальнейшем будет иметь
большое значение для германского звериного стиля.
Итак, можно утверждать, что в начале своего формирования
германское искусство было «неолатенским» по облику. Латенские мо-
тивы и приемы стилизации, в том числе почерпнутые из провинциаль-
мотива человека в обрамлении пары зверей - как воспроизведение византий-
ского сюжета цирковых игр со львами [Щеглова 2010: 149, 161] либо «обра-
зов скандинавской мифологии» [Щеглова 2010: 162] (можно и продолжить
этот ряд истолкований, например, за счет сюжета «Гильгамеш» - так обычно
объясняются изображения того же типа на цилиндрических печатях Древне-
го Двуречья). Подобный разброс в толкованиях этой композиции уже сам по
себе свидетельствует о неустойчивости и в определенном смысле несущест-
венности ее семантики: очевидно, что для мастеров, воспроизводивших дан-
ную композиционную схему, вряд ли было так уж важно то или иное ее сим-
волическое наполнение, раз оно практически никак не отражалось на иконо-
графии сцены. Эта композиция была для них ценна в первую очередь своими
формально-орнаментальными качествами - как идеальное воплощение прин-
ципа зеркальной симметрии. Привлечение же мифологических и литератур-
ных объяснений практически бесполезно для ее понимания.
6 Некоторые черты подобных германских зверей действительно объяснимы
лишь из их подражания античным «морским тварям»: ср. широкие, словно
«рыбьи» («дельфиньи»), головы у существ на рис. 6: 2 и 10: 2.
135
норимского искусства, - это то, с чем германцы впервые «выступили
на сцене» европейского искусства. Однако если в эпоху своего перво-
го, Нюдамского звериного стиля (1-3 четверти V в.)7 они, можно сказать,
только воспроизводили старые латенские мотивы, то в дальнейшем, прой-
дя этот краткий период ученичества, они встали на путь совершенно осо-
бенного, ни на что не похожего творчества, оказавшего мощное влияние
на последующее развитие европейского средневекового искусства.
*
* *
Тут следует сразу сказать, в чем именно состоят эти свое-
образные черты зрелого германского стиля, отличающие его от всех
других школ мировой орнаментики.
Прежде всего, это искусство оперирует почти исключитель-
но зооморфными мотивами. Антропоморфные изображения (воины,
всадники, мужские головы в фас и профиль) если и включались в зве-
риные композиции (особенно на ранней стадии - в период Нюдамского
стиля и стиля I8), однако играли они явно подчиненную роль9. В целом
<ХХХ><><><><>О<><><><><Х>^^
7Подробный его анализ см.: [Haseloff 1981: 8-17]. Хазелофф, однако, полно-
стью игнорирует латенско-германские параллели и выводит все без исключе-
ния особенности Нюдамского стиля только из позднеклассического искусства.
8В этих стилях изображения человека или мужской головы в профиль, а так-
же человеческой маски по методам стилизации полностью уподоблялись зве-
риным изображениям и на этих правах включались в зооморфный орнамент.
В результате иногда получались «гибридные» формы (Tiermenschen [Haseloff
1981: 111 ff.]). Эти существа, однако, имеют характер, в корне отличный от
зоо-антропоморфных чудовищ древневосточного и античного искусства, с ко-
торыми их связывает Г. Хазелофф: они явно не предполагают существования
подобных существ «в природе», подобных, например, греческим кентаврам;
соединение звериных и человеческих элементов происходило у германцев на
основе именно безразличия мастеров к их «зоологической» природе, они были
для них лишь элементами орнамента, уравненными в правах благодаря одно-
родной стилизации. Предметом изображения для германских мастеров был не
человек и не животное, а именно «зверь» - некое фантастическое существо
зоо-антропоморфной природы, подобное героям мифов и волшебных сказок.
Поэтому во многих случаях рассуждения о том, имеем ли мы дело с человече-
ской маской или звериной мордой, и т. п., кажутся столь же бесплодными, как
и выяснения того, какой именно вид животного изображен.
9 Временами, однако, антропоморфное искусство германцев не ограничива-
лось воспроизведением этих отдельных трафаретных мотивов, но создавало
развитые повествовательные композиции. Это повествовательное искусство
германцев достигло своей вершины на так называемых изобразительных
камнях (Bildstenen) о. Готланд. Эта традиция германского искусства лежит,
естественно, за пределами настоящего обзора. Для нас важно, однако, отме-
тить разительное стилистическое отличие этих сцен от произведений звери-
ного стиля: если в последних германские мастера достигли сложнейшей и
136
искусство германцев имеет ярко выраженный зооморфный характер,
отчего он по праву заслужил название звериного стиля. Трудно дать
однозначное объяснение этому пристрастию германцев к зооморфным
сюжетам. Очевидно, что тут непригодны никакие прямые семантиче-
ские толкования с помощью отсылок к какому-то зооморфному сим-
волизму: все попытки подобного рода крайне неубедительны10. Не-
изощренно-отточенной формы, то повествовательные сцены всегда исполне-
ны в крайне примитивном «наивном» стиле. Причем дело вовсе не в разном
социальном статусе или разной квалификации мастеров, исполняющих произ-
ведения различных жанров: иногда композиции звериного стиля соседствуют
на одном памятнике с человеческими фигурами и, как можно предполагать,
исполнены одним мастером, следовательно, стилистическое различие между
ними лежит полностью в плоскости различия художественных традиций:
почему-то отличающая германцев страсть к сверхсложной художественной
форме распространялась только на зооморфную орнаментику. Удивительно
также, что если семантика звериных изображений, как правило, не поддает-
ся сколько-нибудь достоверному толкованию и, по всей видимости, должна
быть признана несущественной, то примитивные по стилю антропоморфные
изображения относятся как раз к семантически несомненно важной сфере ис-
кусства, часто с прямым (хоть и не всегда легко прочитываемым) религиозным
содержанием (золотые рога из Галлехуса, Bildstenen, мифологические сцены
на резных порталах норвежских деревянных церквей и др). Таким образом,
семантическая нагруженность и развитие стиля находятся словно во взаимно-
дополнительных отношениях: область искусства, заведомо важная для обще-
ства по смыслу, никак эстетически не оформлена и выглядит с точки зрения
стиля чем-то маргинальным, а весь свой творческий гений германцы направи-
ли исключительно на орнаментику.
10Ср., напр.: «Животная орнаментация этого времени пронизана языческими
верованиями и магическими представлениями. Известные нам изображения
обычно не преследовали лишь развлекательную цель; они должны были по-
могать в жизненной борьбе, отгонять злые силы, привлекать удачу, использо-
вались в культовых отправлениях. Искусство непосредственно переплеталось
с практической деятельностью человека» [Гуревич 2005: 144]. Здесь, по край-
ней мере, автор не пошел дальше этих общих и мало к чему обязывающих
фраз, которые, однако, тоже не могут ничем быть подкреплены, поскольку мы
ровно ничего не знаем о том, как скандинавский звериный орнамент «помо-
гал в жизненной борьбе» своим творцам. Еще дальше от научно доказуемых
фактов различные попытки как-то конкретизировать эту общую «семантику»
германских зооморфных образов. Ср.: «Вне всякого сомнения [!!!-£. С.], ис-
точником существования массовых изображений зверей и птиц [...] является
тотемизм» [Хлевов 2002: 124] (ср. у Г. К. Честертона: «Достаточно вскользь
упомянуть изображения зверя и птицы, чтобы специалист по мифологии поч-
ти автоматически пробормотал словечко «тотем»» [Честертон 2003: 143]). И
далее: «Наступательное вооружение - меч и копье - несет на себе изображе-
ния змей и медведей. [...] И змея и медведь всегда были достаточно грозными
противниками человека [автор, очевидно, не замечает, что это противоречит
заявленной им на предыдущей странице «тотемистической» символике скан-
137
сомненно, казалось бы, что специфически зооморфный характер гер-
манской орнаментики с присущими ей образами хищных и агрессив-
ных животных (волка, льва, орла, дракона) связан с особым обликом
только что ушедшего от первобытности древнегерманского общества
и формирующейся воинской дружинной культуры11. Это объяснение,
однако, тоже не до конца убедительно. Во-первых, сфера применения
германского звериного стиля далеко не ограничивается мужским, во-
инским убором (как это было у стадиально близких германцам - о
чем речь ниже - скифов), но включает и далекие от дружинной сферы
женские украшения. Во-вторых, период перехода от первобытности к
«пассионарной» воинской культуре проходили многие общества, но
почти нигде больше зооморфная орнаментика не занимала такого до-
минирующего положения, как у древних германцев12.
динавских звериных образов - Е. С], их боевые качества [боевые качества
змеи??? - Е. С.] высоко ценились у различных народов. В случае со Скандина-
вией семантика образа змеи не вполне ясна, однако вызывает интерес тот факт,
что и сама змея, и способ фиксации ее (узел) [способ фиксации змеи??? - Е. С.]
достаточно обычны в позднейших изображениях на рунических камнях эпо-
хи викингов. Здесь змей обычно интерпретируется как образ Мирового Змея
Ермунганда, опоясывающего Землю и являющегося одним из хтонических
чудовищ» и т. д. и т. п. [Хлевов 2002: 124-125]. Это все притом что и «змеи»
эти - не вполне змеи (во всяком случае в вендельском искусстве это часто -
четвероногие, а «рунические змеи» обычно имеют пару ног), и «медведи» - «по
всей вероятности медведи» [Хлевов 2002:112], и «волки» - «предположительно,
волки» [Хлевов 2002: 122], а, между тем, автор бесстрашно берется толковать
их как «сознательные и значащие выражения мифологических идей» [Хлевов
2002: 197].
11 Ср., например, опыт подобного толкования в духе «воинской эстетики», по-
нимаемой в стилистике современного исторического боевика: «[...] Маски
[...], изображающие в фас лица воителей, с круглыми выкатившимися глаза-
ми, грозно глядящими из-под развевающихся на ветру, спадающих на брови
прядей волос, с лихо закрученными усами, скрывающими разинутый в бое-
вом крике рот. [...] Борющиеся звери окружают лики героев - наверное, так,
в смертельном сплетении бились вокруг них боевые «драконы» - корабли»
[Лебедев 2005: 316-317]. Приведенное описание - яркий пример домысли-
вания памятника древнего искусства исходя не из его собственного художе-
ственного контекста, а на основе представлений и пристрастий автора. Ис-
следователю явно нравится описанная им картина; его желание непременно
увидеть иллюстрацию к батальной сцене и услышать «звон мечей» там, где на
деле присутствует запутанный и сложный орнамент из сильнейшим образом
стилизованных и трудно узнаваемых (в смысле их сюжетной отнесенности)
мотивов, как кажется, больше характеризует его собственные романтические
умонастроения, чем художественную культуру германцев. Заметим также, что
речь в приведенной цитате идет об орнаменте женских фибул.
12Впрочем, эта тема нуждается в дальнейшей разработке, т.к. в ряде позднепер-
вобытных и раннеклассовых обществ: у «чуди» Прикамья, индейцев северо-
138
Есть только одна художественная традиция, стадиально близ-
кая к германской и сопоставимая с нею по господству звериных мо-
тивов в искусстве - это, разумеется, искусство скифов, в отношении
которого и было впервые введено в отечественной литературе понятие
«звериного стиля» (и специалисты-скифологи часто с неодобрением
относятся к переносу этого понятия в другой культурный контекст).
Но германский и скифский звериные стили (в отношении
последнего ныне употребляется более точное название «скифо-
сибирского») связаны между собой не только этой типологической бли-
зостью, но и определенной преемственностью. Действительно, среди
раннегерманских звериных образов мы различаем мотивы не только
латенского происхождения, но и восходящие к скифо-сибирскому зве-
риному стилю. К ним, несомненно, относятся профильное изображе-
ние птицы или птичьей головы с большим, волютообразно загнутым
клювом (рис. 7: 2, 5) и особенно важный для последующих судеб гер-
манского звериного стиля мотив «зверя, припавшего к земле» (нем.
kauemde Tier). Провинциальноримские бронзы тоже часто изображали
четвероногих зверей в такой позе - в частности, к ним относятся все
Randtieren (рис. 1: 2, 3, 5 - <?), почему этому мотиву у германцев при-
писывается однозначно римское происхождение [Haseloff 1981: 14; 99
fif]. Однако, во-первых, если некоторые германские kauemden Tieren
действительно буквально воспроизводят позу Randtieren провинциаль-
норимских бронз (рис. 10: 3 - 10), то другие, в том числе на наиболее
ранних вещах (фалера из Торсберга, филигранная гривна из Оллебер-
га, фибула из Нордхейма), изображены иначе: морда у них не вытянута
вперед, а уткнута в землю (рис. 7: 8; 10: 1а, 1г; 15: 3). И такой способ
изображения имеет буквальную аналогию и несомненный прототип
в скифо-сибирском зверином стиле (рис. 7: 7). Во-вторых, в том же
скифо-сибирском искусстве мы находим и изображения «припавших к
земле» зверей с вытянутой мордой (рис. 7: 6), то есть в точности таких
же, как провинциальноримские Randtieren. Выше мы приводили так-
же аналогию этому типу изображения и в раннелатенском искусстве
(рис. 1: 10). Таким образом, провинциальноримские kauemde Tieren,
возможно, сами прямо или опосредованно (через латенское искусство)
восходят к мотиву скифо-савроматского звериного стиля, то есть име-
ют варварское происхождение. Что же касается германских kauemde
Tieren, то они, по-видимому, как и в случае некоторых других звери-
ных мотивов, имеют двойственное объяснение: с одной стороны, они
западного побережья Северной Америки, народов малайско-океанийского ре-
гиона и др. - также наблюдается бурное развитие зооморфной орнаментики,
возможно, заслуживающей название «звериных стилей», нигде, впрочем, не
достигших уровня развития, сравнимого со скифским и германским.
139
наследуют мотиву раннего железного века через посредство провин-
циальноримского стиля, а с другой - имеют самостоятельную связь со
скифо-савроматским звериным искусством.
В объяснении германо-скифских параллелей возникают точ-
но те же трудности, что и для связей германского искусства с ранним
Латеном: тут имеется та же огромная хронологическая лакуна. Воз-
можно, это - след скифского влияния на искусство Центральной и За-
падной Европы еще в раннем железном веке; или - следствие контак-
тов германцев с поздними наследниками звериного искусства Степи во
время их пребывания в Северном Причерноморье и на Дунае. Очень
важно, однако, осознать эту преемственность между германцами и
великой художественной традицией варварской Евразии раннего же-
лезного века - скифо-сибирским и латенским звериным искусством.
Можно сказать, что эта традиция, вытесненная и подавленная влияни-
ем античного искусства в последней половине I тысячелетия до н. э.
и первой половине после, вновь «ожила» и получила новый мощный
импульс в искусстве германцев13.
Но утверждая как типологическое, так и генетическое род-
ство германского звериного стиля со скифо-сибирским, гораздо более
важно для нас подчеркнуть их принципиальное различие. Ибо герман-
ский звериный стиль отличается от скифского чертой, которую можно
считать вторым важнейшим его признаком и изучению которой и по-
священа данная статья. Главной темой скифо-сибирских звериных мо-
тивов, при всем высочайшем уровне их стилизации, предстает все же
передача конкретного животного образа - особенностей позы и видо-
вых признаков изображаемого зверя; если это фантастическое живот-
ное, например, грифон, или часть тела животного - нога, коготь, клюв
и т. п. - они тоже безошибочно распознаются по характерной иконо-
графии. Совсем иной характер имеет звериный стиль у германцев: для
них те или иные животные образы служат не более чем материалом
для абстрактных орнаментальных построений. В этом крайнем орна-
менталистическом формализме в отношении к материалу германцы
не имеют себе равных14: поистине история развития их звериного сти-
ля представляет собой словно бы «сборник примеров» к общей теории
орнамента, где каждый период и стиль как будто иллюстрирует свой
О<>Х><ХХХ><><><Х>С<«ХХ><><ХхХХ><Х><ХК><><ХХ>О
13 О влиянии искусства раннего железного века на сложение германского
звериного стиля вскользь упоминали Б. Салин [Salin 1904: 12 ff.], Э. Миннз
[Minns 1913: 259, 282] и ряд других авторов, но в целом эта идея не получила
поддержки у германистов.
14Формализм германцев в изобразительном искусстве сопоставим с столь же
крайним и изощренным формализмом в отношении к языку в германской поэ-
зии. См. [Стеблин-Каменский 1978; Смирницкая О. А. 2008]
140
отдельный тип абстрактных орнаментальных структур. Поэтому, изу-
чая германский звериный стиль, следует отвлечься от какой бы то ни
было «зоологии». Германский звериный стиль не призван ничего изо-
бражать; германская орнаментика поражает, с одной стороны, посто-
янством и относительной бедностью своего сюжетного состава (зверь,
«припавший к земле», зверь «с головой назад», птица, звериная голо-
ва и некоторые другие), а с другой - необыкновенным разнообрази-
ем динамично развивавшихся приемов стилизации, которое и создало
несравнимое ни с какой другой традицией богатство мотивов. Если у
скифов, например, мотив оленя или хищника, свернувшегося в кольцо,
всегда более или менее равен самому себе и легко узнаваем, то у гер-
манцев один и тот же зверь выглядит совершенно различно в каждом
стиле. Тип звериного мотива зависит не от его зоологической природы,
а является функцией определенных стилистических приемов, а они в
свою очередь непосредственно вытекают из сменяющих друг друга
принципов построения орнамента.
Поэтому для понимания германского звериного стиля необхо-
димо в первую очередь изучить эти принципы, эту абстрактную вну-
треннюю логику построения орнамента.
*
* *
Всякий орнамент сочетает в себе два декоративных начала -
декоративность материала и декоративность структуры. Эти два
типа декоративности имеют совершенно различную, более того - про-
тивоположную, разнонаправленную эстетическую природу, но именно
поэтому они всегда так или иначе сочетаются друг с другом, допол-
няют друг друга. При этом сочетаться они могут в разном соотноше-
нии, и от характера этого соотношения будет зависеть тип орнамента.
Построение и обоснование этой типологии орнаментальной формы
должно быть изложено в отдельной работе, но здесь необходимо обо-
значить ее основные моменты.
I. Орнамент, построенный на приоритете декоративности
материала. Его структура относительно примитивна и представляет
собой комбинацию из простых геометрических фигур - круга (овала,
розетки), квадрата, прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции и
т. п. (Необходимо подчеркнуть, что термины «простой» и «примитив-
ный» не несут в себе эстетической оценки: самые простые структу-
ры типа круга могут заключать в себе огромный эстетический заряд.)
Это то, что обычно называют «геометрическим» орнаментом - термин
неточный (поскольку любой орнамент построен на тех или иных гео-
метрических принципах), но тем не менее распространенный и в из-
141
вестной степени удобный. Эти геометрические фигуры могут либо
маркировать центр орнаментального поля (рис. 8: 7; подвариантом
этого типа следует считать случай, когда фигура занимает почти все
поле, т. е. вписана в него - рис. 8: 2), либо покрывать его орнамен-
тальной сеткой (рис. 8:3 — 4). Для орнаментальных структур такого
типа важно, что они образуются главным образом прямыми (ломаны-
ми) линиями15.
Простота декоративной структуры в орнаментах такого типа,
как правило, компенсируется упором на декоративные качества мате-
риала - его цвет, фактуру, блеск и т. п. Декоративный материал может
распределяться по геометрической орнаментальной структуре двумя
способами: а) либо сосредоточиваться в узловых точках структуры (в
центре поля или в узлах орнаментальной сетки - рис. 8: 1 - 3) - в таком
случае он обычно стремится принять форму, близкую к кругу (поскольку
именно круг представляет собой простейшую «материализацию» точки),
причем часто ему может придаваться объём, рельеф, контрастирующий с
плоскостностью фона; б) либо может ровно покрывать внутреннюю по-
верхность образуемых ею геометрических фигур (рис. 8: 4) - в таком слу-
чае он будет принимать форму многоугольника, чаще всего прямоуголь-
ника16. Идеальным образцом орнамента, основанного на декоративности
материала, в первом случае будет композиция из камней-кабошонов,
представляющих наглядное «уплотнение» декоративного материала в вы-
пуклую округлую форму; во втором - мозаика, представляющая собой
регулярную смену декоративных материалов разного качества, чаще все-
го - разного цвета.
I.A. Германский звериный стиль I: эстетика материала
(мозаический орнамент).
Как мы уже говорили, каждый из сменяющих друг друга гер-
манских звериных стилей является словно бы намеренной иллюстра-
цией того или иного орнаментального принципа. И первый из них -
стиль I, по Б. Салину17, как будто специально создан для того, чтобы
<Х>ООО^ОО^<>О<«Х><>С><><><Х><><><>О<><ХХ><>О<ХХ>
15 Круг и овал, хоть и образованы кривой линией, по природе своей относятся
к классу прямолинейных орнаментов.
16Многоугольник - фигура, геометрически близкая кругу: их символы симме-
трии весьма близки - оо-т для круга и п-т (2т, Зт, 4т, 5т, 6т, 8т) для много-
угольника. Понятно, что небесконечный коэффициент поворотной симметрии
у многоугольника, т. е., попросту говоря, наличие у него углов, является тем его
свойством, которое делает его пригодным для заполнения плоскости без пустот.
17 Классификация германских звериных стилей 1 тысячелетия, выполненная
Б. Салином в нач. XX в., согласно которой выделяются хронологически сменя-
ющие друг друга стили I, II и III, до сих пор принята как классическая основа
для их изучения. См. [Salin 1904].
142
обыграть возможности орнамента, построенного на прямолинейных
структурах и приоритете декоративности материала.
Это было естественно, поскольку формировался стиль I на
фоне безраздельного господства в раннем германском искусстве «гео-
метрических» прямолинейных орнаментов18, воспроизводившихся в
разных техниках: технике гравировки и пунсона (рис. 9: 1 - 2), фили-
грани (рис. 9: 3 - 4\ полудрагоценных камней-кабошонов (т.н. поли-
хромный стиль - рис. 9:5-6) или мозаики из стекла и гранатов (рис. 9:
7) и, наконец, в технике рельефного литья в особом стиле «деревянной
резьбы» (нем. Kerbschnitt, Keilschnitt, англ, chip-carving; рис. 9: 8-12).
Этот последний особо для нас интересен. Он был распространён среди
тех самых провинциальноримских бронз, которые служили одним из
главных источников влияния на раннегерманское искусство (рис. 1:7-
2, 5 - 7) [Riegl 1927: 291-323; Salin 1904: 168 ff.]. Будучи заимствован
германцами, орнамент Kerbschnitt стал той геометрической основой,
на которой они создавали свой первый звериный стиль - стиль I.
Стиль Kerbschnitt развивает принцип мозаического орнамента
в, казалось бы, неблагоприятных для этого условиях - в технике брон-
зового литья, где нет возможности применять полихромию. Лишенная
возможности работы с цветом материала, техника Kerbschnitt основ-
ной акцент делает на фактуре декоративной поверхности, и здесь она
использует все способы для достижения разнообразия в декоративном
эффекте: по-разному обрабатывая поверхность, придавая ей тот или
иной рельеф, она добивается разнообразной игры светотени. В пол-
ном согласии с мозаическим способом построения орнамента техника
Kerbschnitt разбивает орнаментируемую поверхность на множество
примерно равных по размеру ячеек с по-разному обработанной поверх-
ностью, сплошь покрывающих орнаментируемую плоскость. Причем
у германцев этот принцип соблюден значительно более последователь-
но, чем в провинциальноримском стиле Kerbschnitt: у римлян обычно
ячейки мозаики составляют единую орнаментальную структуру пло-
скости (рис. 1: 1 - 2, 5 - 7), германская же орнаментика чаще тяготеет
к равномерному «ковровому» покрытию плоскости (хотя есть у них
и композиции с составными структурами - см., например, рис. 9: 8 -
18 Показателен для демонстрации независимости германцев от влияния клас-
сического искусства тот факт, что ими был полностью проигнорирован клас-
сический растительный орнамент, составлявший, как известно, основу орна-
ментики Средиземноморья и, без сомнения, хорошо знакомый им по римским
изделиям (заимствованный ими из провинциальноримского орнамента, рас-
тительный по происхождению, мотив завитка, на германской почве был не-
медленно геометризирован и утратил последние признаки растительной при-
роды - см. ниже). Растительные орнаменты почти полностью отсутствовали в
германском искусстве вплоть до X в.
143
11). Особенно наглядно это их равнодушие к образованию составных
структур видно на примере мотива завитка (нем. Ranken). В римском
орнаменте завиток всегда составляет мотив волнообразной лозы - до
предела стилизованный вариант основного мотива растительной ор-
наментики (рис. 1: 1, 5, 6); германцы же, со свойственной им невос-
приимчивостью к растительным мотивам, часто использовали мотив
завитка как отдельный геометрический элемент, заполняющий свою
ячейку, ровно покрывающий орнаментальную плоскость и тем самым
окончательно утративший какую бы то ни было связь с растительной
орнаментикой (рис. 9: 72; 10:2 — 3; ср., однако, с сохранившимся моти-
вом лозы в «классическом» варианте - рис. 9: 8, 10, 77).
Как говорилось, именно стиль Kerbschnitt с до предела дове-
денным мозаическим структурным принципом составил геометриче-
ский контекст для формирующегося звериного стиля I. Как это отраз-
илось на свойствах этого стиля? Начальный этап адаптации звериных
мотивов к мозаическому орнаменту Kerbschnitt наглядно предстает на
двупластинчатой фибуле из Нордхейма (рис. 10: 7). Ее прямоугольная
головка покрыта геометрическим орнаментом в технике Kerbschnitt;
но некоторые ячейки мозаики заполнены не геометрическими, а зоо-
морфными мотивами: вверху помещается пара симметричных «зве-
рей, припавших к земле» (рис. 10: 1а), внизу - такая же пара «зверей
с головой, повернутой назад» (рис. 10: 16). Здесь симптоматично, во-
первых, перенесение звериных мотивов с боковых граней пластин фи-
булы (Randtieren), как это почти всегда было в провинциальноримских
бронзах и стиле Нюдам, на их плоскость, благодаря чему они полно-
правным элементом входят в покрывающую ее геометрическую мо-
заику. Это - первый шаг в превращении изображения из натуралисти-
ческого образа зверя в абстрактный орнаментальный мотив. Фибула из
Нордхейма, как говорилось, представляет самый начальный этап при-
способления фигур животных к условиям геометрического орнамента:
они еще очень мало стилизованы и, можно сказать, натуралистичны.
Заметно только стремление мастера как можно точнее вписать их в
предоставленное им прямоугольное пространство, отчего их фигуры
приобретают характерные подпрямоугольные очертания. На фибуле из
Нордхейма видно также, почему из двух основных раннегерманских
зооморфных мотивов - «зверя с головой, повернутой назад» и «зве-
ря, припавшего к земле» - именно последний оказался более подходя-
щим к условиям стиля I: в геометрической структуре «зверя с головой
назад» основным элементом выступает S-образно изогнутая кривая
линия, что несколько диссонирует с прямолинейной структурой орна-
мента в стиле Kerbschnitt (и именно это качество, как мы увидим в
дальнейшем, сделают этот мотив идеально подходящим для будущего
144
стиля II), тогда как мотив «зверя, припавшего к земле» словно специ-
ально построен так, чтобы наилучшим образом вписать фигуру живот-
ного в прямоугольную рамку.
На других частях фибулы из Нордхейма видны и признаки
дальнейшей стилизации фигуры животного в духе геометрического
орнамента Kerbschnitt. Так, вверху ромбической ножки (рис. 10: 7 в)
также помещена симметричная пара «зверей, припавших к земле», но
стилистически отличных от тех, что на головке: их фигуры получают
очень важный элемент стилизации - двойной контур - что с необхо-
димостью придает им условно-плоскостный характер (рис. 10: 7г)19.
В дальнейшем именно это направление стилизации получает макси-
мальное развитие: поверхность фигуры животного не только обводит-
ся двойным контуром, но и покрывается рельефными геометрически-
ми мотивами (рис. 10: 2) и штриховкой в технике Kerbschnitt (рис. 10:
4, 5, б)20; фигуры до крайности схематизируются и геометризируются,
распадаются на органически не связанные друг с другом фрагменты,
подобные деталям конструктора: голова21, передние и задние суставы,
конечности22 - выступающие самостоятельными орнаментальными
мотивами (рис. 10: 2 - 10). Как фигуры в целом, так и отдельные ча-
сти их принимают вид разнообразных многоугольников (рис. 10: 46,
6 - 10) - элементов геометрической мозаики в стиле Kerbschnitt, об-
разующих абстрактный геометрический узор. Художник получает
полную свободу в комбинировании их, сообразуясь не с требованиями
анатомии, а исключительно с композиционными задачами. Так, задние
конечности часто вывернуты в обратную от естественного положения
сторону; на фрагменте фибулы из Гальстеда (рис. 10: 2) видно, что ма-
стер прибегнул к этому приему, чтобы вписать фигуру в контур вещи;
см. то же на рис. 10 (4а, 46, 7, 10). Подобной же трансформации под-
вергаются в стиле I и человеческие фигуры, которым придаются порой
неправдоподобные позы, чтобы вписать из в контур отведенного им
19 Г. Хазелофф выделил такой тип стилизации - с гладким туловищем и двойным
контуром - в начальную - А - фазу развития стиля I. См. [Haseloff 1981: 174-180].
20Фаза В, по Г. Хазелоффу. См. [Haseloff 1981: 180-196].
21 Стиль I, как и некоторые последующие, легче всего распознается по стили-
зации головы: для стиля I характерно прежде всего выделение двойным кон-
туром и обособление, во-первых, затылочной части с большим миндалевид-
ным глазом и во-вторых - раскрытой пасти (рис. 11: 7 - 5). Со временем эти
две области изображения превращаются в почти несвязанные друг с другом
элементы (рис. 11:5-6).
22 Обратим внимание на характерный способ стилизации конечностей в стиле I - су-
хих, как у «насекомых», с окончанием в виде «клешни» и выпуклым утолщением-
перевязкой на запястье (рис. 10:2,3,5 - 8,10). Впоследствии точно так же стилизован-
ные конечности вновь возникнут в звериных стилях эпохи викингов.
145
поля (см., например, фигурки на головке и особенно на ножке фибулы
из Гуммерсмарка - рис. 10: 3; 3: 4). Следующий шаг напрашивается
сам собой: в мозаическом орнаменте нет никакой необходимости в
целой фигуре животного, ее части начинают участвовать в орнаменте
как самостоятельные элементы. Прежде всего, зооморфные элемен-
ты, главным образом изображения звериных и птичьих голов в стиле
I, участвуют в оформлении конструктивных элементов - углов, ребер
(напр., звериные головы вверху ромбической пластины фибулы - рис. 9:
12; 10:1, 3 - 4, 7), бордюров (напр., рис. 12:17) и др.; разрозненные эле-
менты заполняют пустые пространства (рис. 10: 3; 12: 17) и т.п. И, нако-
нец, образуется т.н. «звериный салат» (Tiersalade), по Г. Хазелоффу: орна-
мент почти превращается в абстрактную «кубистическую» композицию,
составленную из элементов, зооморфное происхождение которых может
обнаружить лишь очень внимательный наблюдатель (рис. 10: 8).
Это - крайнее выражение данного формального принципа (мо-
заический орнамент, прямолинейные мотивы, примат качеств материа-
ла над структурой) в зооморфной орнаментике, и более того - вообще
уникальный случай столь широкого и столь последовательного приме-
нения этого принципа к зооморфным мотивам. Потому что орнамент
такого типа не случайно назван «геометрическим»: его прямолинейная
структура плохо приспособлена для воплощения органических форм,
которые основаны на противоположном - криволинейном - принципе.
Единственно, как обычно сочетается прямолинейная фигура с изобра-
зительным мотивом, - она служит рамкой, в которую он вписан (что
мы и видим на головке фибулы из Нордхейма), но выступать геометри-
ческой основой для стилизации - этого мы нигде, громе германского
стиля I не встречаем23.
II. Орнамент, построенный на приоритете декоративности
структуры. Как говорилось, прямолинейные «геометрические» орна-
менты ограничены в возможностях образования сложных структур.
Единственный структурный принцип, применимый здесь, - это сим-
метрический повтор: с помощью зеркальной и поворотной симметрий
строятся орнаментальные фигуры, с помощью симметрии переноса -
эти фигуры покрывают, заполняют отведенную им декоративную по-
верхность, образуя орнаментальные бордюры и сетки.
Но существует класс орнаментов, структурные возможности
которых значительно шире - это орнаменты, построенные на кривой
линии. Кривая линия сама по себе, даже без применения повторов,
<хх>оооооо<><х><><><><>о<><><хххх><><>^^
23 Впрочем, прямолинейно-геометрическая стилизация зооморфных мотивов не-
избежна, по условиям технологии изготовления узора, в текстильном орнаменте -
узорном плетении, ткачестве, вышивке. Однако мне неизвестно, чтобы она где-
либо достигла таких вершин формализации, как в германском стиле I.
146
обладает чрезвычайной декоративной привлекательностью, содержит
начала симметрии, позволяет строить орнаменты бесконечной протя-
женности и сложности. Разумеется, и здесь применимы повторы: двой-
ной поворотный (в результате образуется S-образная фигура - рис. 8:
5), зеркальный (сердцевидная и 8-образная фигуры - рис. 8: 6 - 7) и
переносный (волнообразная кривая; рис 8: 8) и их разнообразные со-
четания24. Все эти свойства кривой линии нашли максимальное вопло-
щение в особом роде криволинейного орнамента - в плетенке (рис. 8:
9). Можно сказать, что как кабошонный и мозаичный орнаменты пред-
ставляют собой крайнее воплощение «материальности» в декоратив-
ном искусстве, так плетенка - крайнее воплощение «структурности».
II.A. Германский звериный стиль II: эстетика криволи-
нейной структуры (плетеный орнамент).
Во второй половине VI века сложился новый тип германско-
го звериного орнамента, названный Б. Салином стилем II. Его главная
черта в том, что за основу геометрической стилизации звериных моти-
вов была взята не прямолинейная мозаическая структура, как в стиле
I, а криволинейная плетенка. Значение этого события не только для
германской, но и для всей средневековой орнаментики трудно пере-
оценить. Открыв в плетенке возможности для построения орнаментов
неслыханной ранее сложности, германцы уже никогда с нею не расста-
нутся и передадут ее в наследство искусству зрелого Средневековья.
Соединение плетенки с зооморфным орнаментом дало начало такому
новому явлению орнаментики, как тератология, расцвет которой про-
исходил как в раннем Средневековье у германцев, так и затем в орна-
менте западноевропейского и русского Средневековья.
Считается, что толчком для развития нового стиля было зна-
комство германцев с византийской плетенкой в Северной Италии25.
Но, как всегда, сам по себе факт заимствования ничего не объясняет
в стиле II. Несомненно, что появление и распространение плетеного
орнамента прежде всего обусловлено внутренними потребностями
германской орнаментики, поисками германцами новых путей для по-
строения орнаментальных структур26. Германцы могли заимствовать
ООООС<ХХ>Х><><Х><>О<ХХ>О<Х>С><ХХ><Х><ХХ>^^
24Некоторые из свойств кривой линии и вытекающие из них возможности ор-
наментальных построений разобраны в статье: [Смирницкая Е. В. 1982].
25 Г. Хазелофф отдает приоритет освоения плетеного орнамента и создания
стиля II алеманнам. См. [Haseloff 1981: 597 ff.]. Однако алеманнские орнамен-
ты, в которых он видит рождение нового стиля, на самом деле еще очень дале-
ки как от стиля II, так и от византийских образцов.
26 Автохтонное зарождение стиля II в Южной Скандинавии допускает и Г. Ха-
зелофф, противореча тем самым своему собственному постулату о его визан-
тийском происхождении. См.: [Haseloff 1981: 215].
147
из византийской плетенки первичную идею косого переплетения не-
скольких лент, но сразу они стали открывать в этом принципе такие
возможности, которые византийцев никогда не интересовали. Так же,
как и в случае с техникой Kerbschnitt, они в первую очередь восприня-
ли в плетенке новый формальный метод орнаментальных построе-
ний. Если сухая, однообразно покрывающая прямоугольные панели,
византийская плетенка, в сущности, представляла собой вариант гео-
метрического орнамента, то у германцев она стала настоящей криво-
линейной структурой с увлекательно-сложным, запутанным ритмом,
который только и мог стать основой для зарождающейся тератологии.
Более того, тенденция к выработке сложного криволинейного
орнамента развивалась еще в недрах стиля I, на поздних этапах которо-
го в стилизации все больше начинают использоваться отрезки кривой
линии (рис. 12:1 - 5, 9, 15, 77)27. Линии обводки глаза, двойного конту-
ра, штриховки начинают образовывать самостоятельный рисунок, об-
разуя изящные криволинейные мотивы (рис. 12:13,14,16; особенно есте-
ственно это получается в технике филиграни - рис. 12: 3 - 72), временами
с элементами плетения (рис. 12: 6- 7,10-12,14, 21). В финале этого раз-
вития (на норвежских фибулах - рис. 12: 18 - 20) животное приобре-
тает длинное лентообразное криволинейно изгибающееся туловище,
сочетающееся с чрезвычайно сложным, запутанным плетением28. Эти
переходные между стилями I и II формы, где старые, типичные для
стиля I, приёмы стилизации соединяются с элементами криволиней-
ного орнамента, показывают, что приход к тератологии был внутренне
обусловлен и неизбежен для германцев.
Подобные орнаменты позднего стиля I отличаются от настоя-
щего стиля II двумя важными признаками. Во-первых, плетенка в них
используется, можно сказать, в несвойственной ей функции: она, как
правило, образует нерегулярный, плотно «запутанный» рисунок (рис.
12:18а, 19а, 20а, 21), который поэтому не может служить для построе-
ния ритмически организованной регулярной орнаментальной структу-
ры, что как раз является главным достоинством плетеного орнамента
(см., впрочем, правильную криволинейную структуру на рис. 12: 16).
Вместо этого плетенка в стиле I используется так же, как и остальные
орнаментальные элементы этого стиля - для заполнения отведенного
ей пространства. В этом смысле ее орнаментальная функция не отлича-
ется от функции других компонентов «звериного салата», будь то изо-
бражение головы, лап или заштрихованного туловища. Эта, казалось
бы, неорганичная для плетенки форма (насколько мне известно, нигде
более не встречающаяся) свидетельствует, с одной стороны, о при-
<хх><хх><хххх><хх><х><х><х><хххх
27Фаза С по Хазелоффу. См.: [Haseloff 1981: 196].
28Фаза D по Г. Хазелоффу. См.: [Haseloff 1981: 204].
148
верженности авторов старым формальным принципам, к которым они
приспосабливают, несколько насилуя его, новый освоенный ими орна-
ментальный элемент. Но это - не просто проявление косности германских
мастеров, поскольку, как мы увидим, подобное использование плетенки,
даст им в руки новые формальные возможности, которые в дальнейшем
позволят им новые эксперименты с орнаментальной структурой.
Таким образом, первое отличие стиля II от этих опытов при-
менения плетенки в стиле I состоит в том, что плетенка в нем несет в
первую очередь структурообразующую роль, создает новый тип кри-
волинейной структуры. Все орнаменты стиля II построены на регу-
лярном волнообразном криволинейном ритме, образуемом ленточным
плетением (эта регулярность плетения стиля II, как говорилось, возво-
дится исследователями к византийской плетенке; но, повторим, нельзя
не увидеть разительного отличия германской гибкой криволинейной
структуры от сухой, геометризированной византийской «корзиноч-
ной» плетенки). Второе отличие непосредственно вытекает из перво-
го: стиль II создал новый тип звериного мотива, в той же степени иде-
ально подходящего для нового типа структуры, в какой тип животного
в стиле I идеально подходит для прямолинейной структуры геометри-
ческого орнамента. Мы можем проследить начальные стадии этого
процесса: животные приобретают лентовидные туловища, попарно
переплетающиеся друг с другом (рис. 13: 1, 2, 4, 6, 7); в плетении на-
чинают также участвовать линии обводки глаз (рис. 13: 3; ср. рис. 12:
10) и особенно челюсти, которым для этого также придается длинная
лентовидная форма и которые становятся главным опознавательным
признаком нового стиля (рис. 13: 1, 4 - 7).
И наконец, рождается животное классического для стиля II
типа (рис. 14: 4а, 10, 13а). Это животное относится к разновидности
«зверя с головой, повернутой назад», построенному, как уже отмеча-
лось, на имманентно заложенной в нем S-образной кривой линии. Оно
приобретает туловище вытянутой лентовидной S-образно изогнутой
формы (напоминающее те змеевидные существа, которые были попу-
лярны в германском орнаменте в начальную пору его формирования,
но которые, однако, выглядят слишком элементарными по сравнению
с животным стиля II; ср. рис. 4: 5а). Ту же форму получают и другие
части его тела: конечности в виде «ластовидных» полупальметт и осо-
бенно характерного облика голова (рис. И: 7- 10; 14: 11а, 12а, 26а) -
главный опознавательный признак стиля - с вытянутыми изогнутыми
челюстями (ср. с длинными челюстями на рис. 4: 3 - 6) и гибким, изо-
гнутым, продолжающим контур лба хохолком (этот хохолок сохранит-
ся в большинстве последующих звериных стилей германцев). Все эти
149
элементы созданы, очевидно, специально для органичного вхождения
фигуры животного в плетёную структуру.
Таким образом, два первых германских звериных стиля пред-
ставляют собой наиболее полное формальное воплощение двух про-
тивоположных принципов построения орнамента - мозаического
прямолинейного и плетеного криволинейного. Словно бы древнегер-
манские орнаменталисты последовательно испробовали два главных
направления декоративизма, с тем чтобы, овладев ими, свободно ис-
пользовать их в дальнейших своих формальных построениях. Дей-
ствительно, все последующее развитие германских стилей представ-
ляет собой как будто осознанную «игру» этими двумя основными
красками орнамента, поиск новых возможностей сочетания их друг
с другом; и именно каждый способ этого сочетания составляет глав-
ную особенность каждого нового стиля и характерного для этого стиля
типа животного.
III. Германский звериный стиль III: кабошонный (узло-
вой) тип построения орнамента.
Начиная с VII века кардинально меняется культурная ситуа-
ция в Европе: германская культура на континенте теряет свою специ-
фику, войдя субстратом в формирующуюся общезападноевропейскую
раннесредневековую культуру. В то же время в Северной Европе - в
англосаксонской Англии и особенно в Скандинавии - германская куль-
тура пережила новый блестящий расцвет, сохранив древнегерманскую
традицию и донеся ее до нас в классически завершенных формах, как,
например, англосаксонский и скандинавский эпос. То же происходит
и в германской звериной орнаментике: в то время как на континенте
германский звериный стиль затухает, с тем чтобы в дальнейшем дать
начало романской тератологии, в Северной Европе он создает новые,
неслыханные по утонченной изысканности формы. Магистральное
развитие германской культуры и, в частности, орнаментального искус-
ства, в VII-VIII веках происходит в рамках археологической культуры
Бендель, представленной в первую очередь богатейшими по материа-
лу могильниками Бендель (рис. 14: 7, 13, 17, 18; 16: 3) и Вальсъерде в
Уппланде в Восточной Швеции, а также памятниками Готланда (рис.
14: 4-6,8, 9, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 26; 16:1 - 2, 5, 7, 9 - 13), и опреде-
ленно повлиявшей на культуру Англии (самый знаменитый памятник
вендельского типа здесь - курган Саттон-Ху); памятники вендельского
искусства происходят также из других областей Скандинавии (рис. 14:
10, 19, 22, 24, 25; 16: 4, 6, 8, 15 - 19), с Британских островов (рис. 14:
14; 16:14) и даже из континентальной Европы (рис. 14:1 - 3). В рамках
вендельского искусства и происходит дальнейшее развитие и варьиро-
вание формальных приемов звериного стиля.
150
В отношении вендельских звериных стилей обычно при-
меняется классификация шведских археологов, выделяющих стили
A,B,C,D и Е, частично накладывающиеся на салиновские стили II и III
[Arwidsson 1942]. Начальный этап вендельского искусства (стиль В)
совпадает с расцветом стиля II (стиль А, примерно соответствующий
салиновскому стилю I, дал немного маловыразительных памятников).
В рамках вендельского стиля В приемы стиля II были отточены до по-
следней степени совершенства (рис. 14: 4 - 5). И именно в его рамках
стали ощущаться некоторая усталость от его однообразных повторов
и поиски новых формальных возможностей. Это проявлялось прежде
всего в применении более разнообразных форм симметрии (розетка
вместо бордюра - рис. 14: 9 - 16, 20) и схем плетения (рис. 14: 1 - 3,
11, 12, 14 - 16, 256, 26а), благодаря чему рисунок приобрел большую
изысканность и прихотливость. С той же целью вендельские мастера
стали варьировать и сам звериный мотив
Стиль С. Один из выходов был найден в возвращении к
«старой доброй» традиции - к отдельному изображению четвероно-
гого зверя обобщенного подтреугольного силуэта29. Классическим
памятником этого стиля (стиля С по вендельской классификации) по
праву считается фигурка «лошади» (напомним, что все зоологические
определения в германском искусстве чаще всего условны и малодосто-
верны) из Веггерслева в Восточной Ютландии (рис. 15: 6). Ее лакони-
ческий «реализм» может показаться неожиданным после формальных
изысков «звериного салата» стиля I и тератологии стиля II. Несомнен-
но, изображения такого типа и стали реакцией на сверхусложненный
орнамент предшествующих стилей.
Но «лошадка» из Веггерслева далеко не так проста, как может
показаться. В ее выразительном лаконичном силуэте, ограниченном
гибкими волнообразными линиями, ясно ощущается школа линейной
стилизации, пройденная германцами в стиле II. Необходимо отметить
также, что изображения четвероногих, подобных основному мотиву
стиля С, несомненно, восходят к давней традиции. Крупные, обобщен-
но трактованные, фигуры четвероногого животного, изображенного в
беге или сильном движении, силуэт которого описан волнообразными
линиями, распространены в искусстве I тысячелетия до н. э. - I ты-
сячелетия н. э. от северокавказских бронз (рис. 15: 7) до памятников
29Для германских звериных стилей вообще характерно такое возвращение к,
казалось бы, давно оставленной позади традиции на новом этапе развития.
Можно выделить несколько таких «сквозных мотивов» на протяжении вось-
мивековой истории германского звериного искусства. Этот консерватизм, пара-
доксально сочетающийся с беспрецедентным динамизмом смены и развития
стилистических приемов, объясняет сохранение не только раннегерманских,
но и латенских мотивов вплоть до поздневикингской эпохи.
151
круга Мартыновского клада (рис. 15: 2) и близких им по композиции
«пряжек с Даниилом» (то есть, как предполагается, восходящих к ком-
позиции «Даниила во рву львином») Западной Европы (рис. 15: 5)30.
В германском искусстве подобные изображения, хоть и в миниатюр-
ном варианте и несколько отличной позе, встречаются с середины I
тысячелетия н. э. (рис. 15:3, 4), причем здесь ясно ощущается продол-
женная затем веггерслевской «лошадкой» тенденция к сведению фигу-
ры к двум примерно равным дугам - тенденция, в которой в очередной
раз проявляет себя стремление германцев к превращению звериного
изображения в однообразно организованный орнаментальный мотив.
В вендельском искусстве мотив стиля С предстает как в виде,
близком к «лошадке» из Веггерслева (подтреугольное туловище, голова,
обращенная вперед, клювовидное окончание морды-рис. 14:17, 20, 24),
так и приближенном к стилю В (вытянутое туловище, голова, повернутая
назад, длинные челюсти - рис. 14: 9, 10, 13, 18, 25а), что указывает на
несомненную близость этих двух стилей (см. также «гибридизированное
и усложненное ритмически изображение мотива стиля С на рис. 14: 266,
соседствующее с такими же по типу мотивами стиля В на рис. 14: 26а).
Кроме четвероногих, в вендельском стиле С изображались
также птицы в профиль с большим волютообразно загнутым клювом
(рис. 14: 23), как мы говорили выше, несомненно, восходящие к отда-
ленным скифским прототипам. Птичьи фигуры стиля С столь же едино-
образны, и обладают столь же выверенным лаконичным силуэтом, что
и фигурки четвероногих.
Оба мотива стиля С связаны также с сюжетными композиция-
ми, получившими распространение в германском искусстве вендель-
ского и более позднего времени, где одним из главных мотивов были
изображения всадников с лошадью, близкою по облику к четвероного-
му животному стиля С (рис. 3: 9). В сюжетных композициях встреча-
ются и фигурки птиц, стилизованных по типу птичьих изображений
стиля С. Можно сказать, что оба мотива стиля С представляют собой
проникновение изображений из повествовательных композиций в зве-
риный орнамент, где они, возможно, сохраняют след прежней семантики,
но в общем входят в совершенно новую для них декоративную систему.
Мотив четвероногого животного в стиле С представляет со-
бой первое явление в германском зверином стиле мотива, получившего
впоследствии название «Большого зверя», прошедшего длинный путь
от Веггерслева через Осеберг и близкие ему памятники (рис. 15: 7-14)
до Еллингского камня (рис. 15: 75) и более поздних памятников стиля
Рингерике (рис. 15:16, 17) и Урнес (рис. 15:18).
<>ооо<х>о<ххх><><><><ххх><><>><хх><х><>^^
30 См.: [Щеглова 2010].
152
Стиль D. Другой дериват стиля II в вендельском зверином ор-
наменте (стиль D) представляет собой его развитие в противополож-
ном от стиля С направлении31: если последний вычленяет из стиля II
отдельный звериный мотив и представляет его в виде обобщенного мо-
нументального «реалистического» изображения, то стиль D осваивает
прежде всего ленточное плетение, почти лишенное зооморфных при-
знаков: лишь маленькие, как у «насекомых», головки (рис. 11: 11-14)
с остаточными признаками стиля II, которыми оканчиваются длинные
лентообразные тела, и иногда такие же маленькие, «усохшие» ножки
напоминают о зооморфном происхождении мотива.
Считается, что для плетения в стиле D характерна регуляр-
ная волнообразная структура (рис. 14: 27), однако часто встречается
и более сложная ритмическая организация (рис. 14: 19, 22). Этой сво-
ей чертой стиль D, несомненно, восходит к нерегулярному плетению
позднего стиля I (рис. 12: 10 - 14, 18 - 20) и раннего стиля II (рис.
13: 2-4). На связь между этими двумя традициями указывает и ор-
наментация лент поперечной штриховкой или кружками (ср. рис. 12:
18а и 14: 19, 21). Как говорилось, это развитие ритмически-сложной
ленточной плетенки, ведущее впоследствии к вершинам ритмического
изыска позднего Бенделя и Осеберга, наблюдалось и в вендельском
стиле В (рис. 14: 1 - 3, 11 - 12, 14 - 16, 25 - 26). Везде ощущается
стремление вендельских мастеров разнообразить ритмический репер-
туар своего орнамента.
Таким образом, оба производные от стиля II стиля развивают
как самостоятельные мотивы орнаментальные элементы, органически
слитые в стиле II: зооморфное изображение в стиле С и ленточную
плетенку в стиле D. Это их выделение дает им ранее недоступные воз-
можности в построении орнамента - возможности сочетания разно-
родных элементов в одной композиции (рис. 14: 17, 18, 20, 24, 25). От-
ныне мотив «зверя, опутанного плетенкой» станет одной из основных
сквозных тем германского звериного стиля. Через это соединение мо-
тивов стилей С и D построение орнаментальной структуры выводится
на новый уровень: в ней появляются разные планы и мотивы разного
порядка. Каркас структуры образуется крупным, волнообразно по-
строенным мотивом стиля С и дополняется мелким и нерегулярным
ленточным плетением стиля D. Для создания прихотливых «фиори-
тур», дополняющих главный контур орнамента появляется еще один
важный элемент, перешедший впоследствии в звериный стиль эпохи
викингов, - «усики» (tendrils, lappets) - небольшие криволинейные
31 Стиль С традиционно связывается с Восточной, стиль D - с Южной Скан-
динавией [Arwidsson 1942: 31; Wilson & Klindt-Jensen 1966: 32 ff]. Однако оба
стиля распространены по всему скандинавскому ареалу.
153
элементы, заполняющие пустоты орнамента (рис. 14: 15, 16, 20, 25,
26а). Отметим также, что сочетание мотивов стилей С и D, как на рис.
14 (25 а), в сюжетном отношении представляет не что иное как сцену
«борьбы льва со змеей». Именно отсюда берет свое начало этот зна-
менитый сюжет, отразившийся затем в стилях ранней эпохи викингов
(рис. 15: 7, 8а, 9 - 12, 14), с тем чтобы найти потом свое классическое
воплощение на Еллингском камне (рис. 15: 75)32 и последующих про-
изведениях стилей Рингерике (рис. 15:17) и Урне с (рис. 15:18). За этим
сюжетом обычно находят мифологическое и идеологическое содержание,
мы же видим, что он берет начало от чисто формальной причины - особо-
го вида орнаментальной структуры, что не исключает, впрочем, возмож-
ности того, что временами он мог приобретать и символическое значение.
Описанное выше развитие вендельских стилей подводит нас к
VIII веку. Мы видим, что германские мастера к этому времени прошли
длительный «курс обучения» орнаментальной «премудрости» и овла-
дели практически полным спектром приемов орнаментальных постро-
ений - ни до ни после этого ни одна орнаментальная школа не имела
в своем распоряжении такого разнообразия художественных средств.
Основу германского орнамента по-прежнему составляла криволиней-
ная структура и плетенка. Но помимо волнообразных структур класси-
ческого стиля II они умели строить и изысканные плетенки сложного
ритмического рисунка, сочетать крупные волнообразные зооморфные
мотивы с мелким ассимметричным плетением и кроме того имели «в
анамнезе» опыт построения геометрических мозаических орнаментов
с разделкой поверхности в технике Kerbschnitt - и мы увидим вскоре,
что этот опыт им тоже пригодится и эти, казалось бы, давно остав-
ленные позади приемы, будут вновь извлечены ими из «запасников»
традиции для поисков новых стилистических возможностей.
Стиль Е. В этом всеоружии орнаментальных приемов гер-
манские мастера создали последний вендельский стиль - стиль Е (со-
ответствующий салиновскому стилю III), который можно без преуве-
личения назвать вершиной развития германского звериного стиля.
Орнаменты стиля Е чрезвычайно разнообразны по своим сти-
листическим приемам и композиционным принципам. Во-первых, они
продолжали традицию волнообразной плетенки в духе стиля II (рис.
о<х><><>о<><><><><хх><><х><х><><><><х><><>>>х><><^
32 Предостережем от распространенной ошибки: изображение на Еллингском камне,
хоть и находится в Еллинге, не относится к еллингскому стилю (этот стиль назван
по орнаменту на другом знаменитом предмете из еллингского кургана - Еллингском
кубке); этой ошибки не избежали даже такие ведущие археологи-викинговеды, как
X. Арбман [Арбман 2006:224] и Г. С. Лебедев [Лебедев 2005: 312; заметим, что очерк
по звериному стилю в этой книге вообще, к сожалению, изобилует многочисленными
неточностями]. На самом деле по формальным признакам зверя на Еллингском камне
следует считать ранним произведением стиля Рингерике.
154
16 7-4). Отметим, однако, отличия композиций этого типа от их ран-
невендельских прототипов. Первое, что бросается в глаза, - это то,
что мотив, по формальными признакам восходящий к четвероногому
животному стиля С (рис. 16: 1а, 2а, За, 4а), однако заметно «построй-
нел», вытянулся, приобрел утонченные, каллиграфические формы.
Эта вытянутость, змеевидность, несомненно, восходит к змеевидным
существам вендельского стиля D; у животных стиля Е такие же ма-
ленькие, деградировавшие, у «как насекомых», головки с большим
глазом. Однако конечности животного стиля Е, хоть тоже сухонькие,
но более развиты, чем в стиле D, и, как всегда, это имеет очевидную
формально-композиционную причину: они участвуют, наряду с «уси-
ками», в создании мелкого дополнительного плетения, заполняющего
фон. И тут мы переходим к главной особенности стиля Е, максимально
развивающей предшествующую тенденцию вендельского искусства, -
тенденцию четкого противопоставления двух орнаментальных реги-
стров: главного, образующего крупную, волнообразную структуру, и
дополнительного, из мелких элементов, образующих запутанное и ир-
регулярное плетение33. Эта иррегулярная плетенка имеет очевидного
предшественника в плетенке позднего стиля I, но здесь она приобретает
до крайности изысканную форму: это некий «модерн» германского звери-
ного стиля, пришедший на смену наскучившему «классицизму» стиля II.
Обратим внимание еще на одну, пока еще малозаметную, но
показательную черту: суставы животных выделяются небольшими круга-
ми (рис. 15:7). Это - не просто деталь орнаментации туловища, это - пер-
вый симптом введения в германский звериный стиль принципа построе-
ния орнамента, который мы выше назвали кабошонным: в самом деле,
эти круги образуют некое подобие геометрической сетки, наложенной на
запутанный криволинейный плетеный орнамент (такое же использование
<ххк>о<хх><><><х>о<>оо<ххх><>о<хххххххх^
33 В этом иногда видят влияние англо-ирландского рукописного орнамента. Свя-
зям скандинавского и островного искусства периода Вендель и эпохи викингов
посвящена обширная литература (наиболее общую постановку проблемы см.:
[Brondsted 1924: 161 ff; Wilson&Klindt-Jensen 1966: 38 ff.]), и при этом вопрос этот
нельзя считать окончательно изученным именно потому, что эти связи были очень
интенсивны и оставили глубокий след в обеих культурах. Их отношения подобны
отражению друг в друге двух зеркал, так что трудно распознать, какое из отражений
первично. Так и в данном случае, близость инсулярного орнамента со стилем Е нельзя
отрицать (хохолки, «усики», четкое противопоставление главного зооморфного моти-
ва и плетенки, общая «каллиграфичность» рисунка - ср., напр., рис. 17:5), так же как,
по-видимому, правильно видеть в этих чертах англо-ирландское влияние на сканди-
навское искусство; с другой стороны, так же несомненна связь этих особенностей с
рассмотренными выше тенденциями предшествующего искусства Венделя (длинные
лентообразные мотивы стиля D, «усики» и др.), так что стиль Е можно и нужно рас-
сматривать как органичное развитие этих тенденций и в таком случае возможно пред-
положить обратное влияние стиля Е на инсулярный орнамент.
155
крупных кругов, изображающих глаза животных, как ритмических акцен-
тов в криволинейной композиции в зачаточном виде прослеживалось уже
в более ранних вендельских орнаментах - рис. 14:7 -4,6-8,12,15-16, 20).
Отметим важные индивидуальные особенности некоторых
композиций. Так, рисунок плетенки накладки из Бъерса с о. Готланд
(рис. 16: 2) отличается по сравнению с рисунком знаменитой накладки
ножен меча оттуда же (рис. 16: 7) некоторой «изломанностью», ирре-
гулярностью. У животного на подвеске из Бенделя (рис. 16: 3) связь
со стилем D подчеркнута внутренней орнаментальной разделкой туло-
вища. На накладке с о. Эланд (рис. 16: 4) мы встречаем знакомую нам
пару - «зверя, опутанного змеей» - сочетание мотивов С и D (ср. рис,
14: 25 а) образующих тут все то же наложение двух орнаментальных
регистров. Здесь отчетливо видна также геометрическая сетка из кру-
гов, которыми отмечены суставы и глаза животных.
На фибулах «с высокой спинкой» VIII века (рис. 16: 5 - 8) ор-
намент стиля Е достигает последней степени совершенства. И здесь
же мы наблюдаем формирование нового орнаментального принципа -
узлового. Появление орнаментального узла, образуемого иррегулярно
заплетенной кривой линией, подготовлено, разумеется, длительным
опытом иррегулярного плетения в стиле I и Бенделе. В орнаментах
на рис. 16 (6 - 8) узлы выполняют ту же функцию - заполняют обра-
зованные основным зооморфным мотивом пустоты. Но если прежде
плетение покрывало это пространство относительно ровным слоем,
то узел представляет собой орнаментальный «сгусток», концентрацию
орнаментальной «материи». Другими словами, узел есть не что иное
как аналог кабошона, построенный средствами криволинейного ор-
намента. Кабошонное же строение неминуемо ведет, как говорилось,
к утере орнаментом волнообразной композиции и превращению его в
прямоугольно-геометрическую структуру с переносом мотивов - ка-
бошонов или узлов (рис. 8: 3) либо вписыванием их в геометрически
ограниченное поле (рис. 8: 2). Именно последний тип построения мы
и видим на рис. 16 (5, 9 - 11, 12а, 13а), причем зооморфный узел вы-
ступает здесь в виде 8-образно изогнутого зверя, т. е. сохраняет пока
волнообразную структуру (ср. рис. 16: 6 - 8, а также построение мотива
в стиле В, служащее, очевидно, прообразом для зооморфных узлов стиля
Е - рис. 14: 9, 10). Таким образом, мы получаем структуру, состоящую из
геометрической решетки, в ячейки которой вписаны зооморфные узлы.
При таком построении, сохранение за зооморфным мотивом
его правильной 8-образной структуры становится избыточным: ведь
он уже вписан в геометрическую структуру. Поэтому вполне логично
появление композиций, в которых вписанный зооморфный узел теряет
регулярное строение (рис. 16: 12, 14). Симптоматичны и другие пере-
156
мены в зооморфном мотиве: он становится более «корпулентным», в
нем нарастает материальное начало, начинающее преобладать над ли-
нейным. Появляется новый тип 8-видного зверя (рис. 16: 126, 12г),
у которого восьмерка образована не кривой линией, как в предыду-
щих примерах, а также на других фрагментах той же фибулы (рис. 16:
12а), а чрезвычайно пополневшими, словно «надутыми» передней и
задней частями туловища, соединенными тонкой, «осиной» талией
(эта тонкость и гибкость талии в дальнейшем даст возможность гнуть
этот мотив в разные стороны и закручивать узлом). Таким образом, сам
животный мотив превращается в соединение двух орнаментальных
«кабошонов». Как еще один, третий, небольшой «кабошон» в строе-
нии 8-видного зверя трактуется и головка животного, приобретающая
весьма характерный облик: с выпуклым лбом, огромным выпуклым
глазом, птичьим клювом и традиционным хохолком, а иногда и высу-
нутым языком (рис. 16: 126). В целом мотив производит впечатление
чрезвычайно запутанной структуры с явным преобладанием узлово-
го и кабошонного принципа; и это впечатление резко контрастирует с
четкой геометрической рамкой, в которую он вписан. Узловое строе-
ние подчеркивается еще одной характерной для стиля Е деталью: наи-
более широкая часть туловища дополняется плетеным узлом (ибо мастер
еще сохраняет приверженность плетеному орнаменту), для чего в ней об-
разуется круглое «окошечко», в которое этот узел вписывается. Этот узел
соединяется, разумеется, с другими линейными элементами композиции,
образующими такие же дополнительные узлы (рис. 16:2а, 6, 7, 9-12, 13а)^.
И, наконец, появляются композиции, где вместо зооморфного
узла в рамку вписан совсем другой мотив: это знаменитый «хватаю-
щий зверь» (gripping beast) - изображение, совершенно лишенное ли-
нейных элементов (рис. 16: 13). Много высказывалось предположений
о происхождении и источниках заимствования этого мотива35. Меж-
ду тем, мы снова видим, что появление его полностью обусловлено
внутренними тенденциями развития орнамента: при геометрической
рамке орнамент не нуждается в криволинейной структуре и «можно
позволить себе» совершенно бесструктурный элемент; исчезновение
структуры закономерно компенсируется в нем подчеркиванием его ма-
териальности - и мы видим возрождение оставленного еще в стиле I
34 Тенденция строить орнамент как цепочку узлов полностью соответствует бордю-
рам из плетеных узлов на боковых гранях тех же фибул (рис. 16: 75). Этот мотив
имеет многочисленные и буквальные аналогии в инсулярном орнаменте.
35 «Его источники ищут в каролингской Франции, у кельтов, в Англии, на Вос-
токе» [Гуревич 2005:142]. Не имея возможности здесь далее вникать в этот, сам по
себе интересный, вопрос, отметим лишь, что каково бы ни было его решение, оно
никак не может прояснить характера этого мотива, его роли в системе германского
искусства и, следовательно, причин его появления в Скандинавии.
157
метода декорации мотива с помощью поперечной штриховки. Мотив
же «хватания», очевидно, призван компенсировать отсутствие плетен-
ки, без которой иначе нельзя «скрутить» зверя в узел или преобразо-
вать в связный орнамент.
Что означает эта эволюция? Мы наблюдаем жесткую взаимо-
связь между исчезновением единой криволинейной структуры и нарас-
танием в зверином мотиве противоположного ей - «материального»
элемента. Когда волнообразная линия уже не участвует в построении
орнамента, эту конструктивную роль берет на себя прямолинейная гео-
метрическая решетка, т. е. в орнамент возвращаются принципы прямо-
линейного построения, «пройденные» в стиле I. Криволинейный же
рисунок уже не строит орнамент, а заполняет отведенные для этого
решеткой ячейки либо в форме вписанного в них узла или совершен-
но бесструктурной композиции (рис. 17: 2), либо образуя ровный фон
(рис. 17: 77). Эта редкая и мало свойственная криволинейному орна-
менту роль заполнителя структуры, т. е. орнаментального материа-
ла, является удивительным открытием германского «модерна»36. Мы
видели, что первые опыты подобного использования плетенки пред-
принимались еще в стиле I, где они скорее имели вид неумелого с ней
обращения. В Венделе эти опыты стали приобретать все более кон-
цептуально осмысленный характер (ср. использование плетенки как
фона на рис. 14: 17, 18), затем чтобы получить блестящее завершение
в композициях стиля Е. И наконец, как полный отказ от линейности в
построении звериного мотива, приобретающего таким образом, чисто
«материальный» характер, появляется мотив «хватающего зверя».
Рассмотрим еще несколько примеров ритмических экспери-
ментов мастеров стиля Е. Орнамент знаменитой прямоугольной фибу-
лы из Скабершё из Сконе (рис. 17: 3) можно понять только благодаря
выписанным Салином мотивам: мы видим, что основу его составляют
состоящие из двух дуг изображения четвероногих зверей (рис. 17: 3
а - в), восходящие к вендельскому стилю С, которые, будучи наложены
друг на друга, образуют ритмически чрезвычайно сложный рисунок; в
результате такого наложения снова образуются сгущения линий, орна-
ментальные ядра, составляющие наложенную на композицию геоме-
трическую сетку (ср. подобный, но более просто исполненный прием
наложения контуров мотива С на рис. 14: 13).
36 Ряд орнаментальных традиций бронзового и раннего железного века развивали ор-
намент из иррегулярных криволинейных структур: так, композиции из асимметрично
расположенных S-образных кривых занимали главенствующее положение в искус-
стве минойского Крита, Кавказа, Лагена. Вполне возможно, вкус к таким структурам
унаследован германцами от кельтов (хотя, как мы видели, проявился он у них не сра-
зу). Но нигде прежде в такой роли не использовалась плетенка.
158
Орнамент скорлупообразной фибулы (одной из первых пред-
ставительниц этого преобладающего в эпоху викингов типа женских
фибул) из Гудъема с о. Борнхольм (рис. 17: 4) имеет более простое
строение. Согласно канонам стиля Е, поле фибулы поделено на гео-
метрические ячейки, причем в роли разделяющей рамы выступают
два зигзагообразно построенные изображения четвероногих зверей -
доведенное до крайности развитие тенденции использования волно-
образного мотива как структурообразующего каркаса (ср., например,
рис. 14: 18). Ячейки, расположенные ближе к бортам фибулы (рис. 7:
4 а - б), заполнены линейно стилизованными животными, которые
могут быть приняты за вариант стиля Е. Звери же, заполняющие вну-
тренние ячейки (рис. 17: 7 в), приводят в изумление: по всем приемам
стилизации они могли бы помещаться на какой-нибудь фибуле стиля I!
Те же геометризированные формы, жестко подчиненные вписыванию
фигуры в геометрическую рамку, та же поперечная штриховка, то же
механическое соединение частей тела, те же вывернутые против есте-
ственного положения конечности (ср., например, рис. 10: 2)! Это - яр-
чайший пример того, как ничто не исчезает в германском искусстве, ни
один из освоенных ими приемов не оставляется ими навсегда и извле-
кается из «запасников», как только для этого создаются подходящие
условия. Так и здесь: возвращение принципов геометрических компо-
зиций сделало вновь «актуальными» приемы мозаического построе-
ния и соответствующие мотивы, оставленные несколько веков назад.
Итак, мы видим, что вендельский стиль Е по разнообразию и
сложности приемов, по смелости экспериментов, да и просто по красо-
те действительно должен быть назван вершиной развития германского
звериного стиля37.
Подведем итоги рассмотрения развития германского зверино-
го стиля на протяжении второй половины I тысячелетия н. э. Мы виде-
ли, что каждая из выделенных Салином трех фаз этого развития - сти-
37 Ему, однако, не повезло во мнении исследователей: его называли «монотонной
стилизацией» [Shetelig 1949: 104], «бездушным» [Holmqvist 1955: 58] и т. д. Вслед
за классиками изучения звериного стиля и отечественные скандинависты харак-
теризуют его как «бескровную, вялую стилизацию» [Гуревич 2005: 141] и «тя-
желовесный, вычурный, перегруженный множеством второстепенных деталей»
[Лебедев 2005: 308]. Эта уничижительная характеристика дается стилю Е обычно
ради противопоставления новому «стилю хватающего зверя», якобы ведущему
стилю эпохи викингов (некоторые исследователи даже придают мотиву «хватаю-
щего зверя» значение отличительного признака, якобы определяющего границу
между эпохами Вендель и викингов - см. [Rundkvist 2003]) - противопоставления
искусственного, поскольку и линейный орнамент стиля Е был во многом унасле-
дован эпохой викингов, и «хватающий зверь», как мы видели, также явился одним
из открытий поздневендельской эпохи.
159
ли I, II и III - действительно основана на одном из принципов орнамен-
тального построения, согласно предложенной нами типологии; при-
чем вместе они образуют классическую триаду «тезиса», «антитезиса»
и «синтеза». Если стиль I полностью основан на примате декоратив-
ных качеств материала (реализуемых прежде всего с помощью техни-
ки Kerbschnitt) и вытекающих из него прямолинейно-геометрических
структур (нигде более, как говорилось, не получивших такого развития
в зооморфном орнаменте), то стиль II столь же бескомпромиссно разви-
вает противоположный орнаментальный принцип - принцип примата
структуры, и, соответственно, криволинейного (плетеного) орнамента.
Стиль III (вендельский стиль Е) «синтезирует» орнаментальные прин-
ципы предшествующих стилей: с одной стороны, он возвращается к
примату материальности и возрождает прямолинейно-геометрические
структуры (ромбо-круговая, ромбо-овальная или треугольно-овальная
геометрическая решетка), а также, временами, старые, присущие сти-
лю I, принципы стилизации животного (геометризация форм, попереч-
ная штриховка и др.); с другой - он в большинстве случаев не расста-
ется с линейным орнаментом и плетенкой, которая в новых условиях
господства прямолинейно-геометрических структур приобретает фор-
му кабошонного (узлового) орнамента. На том же кабошоном принци-
пе построен новый, изобретенный стилем Е (и получивший ведущую
роль в эпоху викингов), тип зооморфного мотива - 8-образный зверь.
И, наконец, как наиболее радикальный отказ от криволинейной струк-
туры, стилем Е испробован совершенно новый тип зооморфного моти-
ва - «хватающий зверь», полностью лишенный линейной стилизации
и плетения и образующий многофигурные связные композиции с по-
мощью натуралистического мотива «хватания». В этом своем качестве
стиля, синтезирующего все мыслимое богатство приемов построения
орнамента, стиль Е послужил мощным фундаментом для последующего
развития германского звериного искусства и сокровищницей, из которой
черпали свои навыки орнаментального искусства все стили эпохи викин-
гов.
Мы видели также, что законы построения орнамента объяс-
няют все без исключения, вплоть до малейших деталей, особенности
развития германского звериного стиля, способного таким образом дей-
ствительно служить своего рода «хрестоматией» по теории орнамента;
что эти законы, вытекающие из внутренних потребностей орнамен-
тальной формы, могут в большинстве случаев гораздо удовлетвори-
тельнее объяснить эти особенности, чем приводимые теми или иными
исследователями объяснения через заимствования из различных худо-
жественных традиций, или, вернее, они могут объяснить сами эти за-
имствования. И, наконец, мы можем заключить, что эта исключитель-
но
ная приверженность германского звериного стиля законам орнамен-
тальных построений определяет его уникальное положение в истории
искусства и его решающую роль в развитии искусства Средних веков.
Summary
Germanic animal style art is a particular style of stylized zoomor-
phic decorations employed by Germanic peoples from the Migration to the
late Viking age. Its origins are typically sought in late Roman popular art
that was widespread across the European provinces of the Roman Empire
in 4th to 5th A. D. The present paper offers a different perspective, from
which the crucial influence upon Germanic animal style is that of an earlier
trend of European art, the La Тёпе culture which is substantially Celtic.
The connections between the Germanic animal style and the Scythian one
are no less apparent. Thus, the Germanic animal style is seen as descending
immediately from animal styles of early Iron Age; it, however, has a very
distinct and specific tendency of inventing abstract ornamental structures,
next to the complete loss of any figurative meaning, which is an unique trait
of Germanic animal style. The present analysis shows that each type of Ger-
manic animal style that had existed in the second half of the 1st millennium
A. D. (styles I, II and III, according to Bernhard Salin) would consistently fit
into a certain ornamental principle. This following the formal rules of orna-
mental construction made Germanic animal style pioneering for the future
mediaeval aesthetics.
Литература
Арбман 2006 - Арбман X. Викинги. СПб., 2006.
Гуревич 2005 - Гуревич А. Я. Походы викингов. М., 2005.
Лебедев 2005 - Лебедев Г С. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси.
СПб., 2005.
Смирницкая Е.В. 1982 - Смирницкая Е. В. К вопросу о стилистических прин-
ципах средневекового зооморфного орнамента (На материале древ-
нерусских серебряных наручей) // Художественный язык Средневе-
ковья. М., 1982.
Смирницкая О.А. 2008 - Смирницкая О. А. Поэтика и лингвистика скальдов //
Смирницкая О.А. Избранные статьи по германской филологии. М., 2008.
Стеблин-Каменский 1978 - Стеблин-Каменский М. И. Место поэзии скальдов
в истории мировой литературы // Стеблин-Каменский М. И. Истори-
ческая поэтика. Л., 1978.
Хлевов 2002-Хлевов А. А. Предвестники викингов. Северная Европа в I—VIII
веках. Спб., 2002.
Честертон 2003 - Честертон Г. К. Вечный человек. М., 2003.
Щеглова 2010- Щеглова О. А. Тайна «пляшущих человечков» и «следы невиданных
зверей». Антропо- и зооморфные изображения в раннеславянской метал-
лопластике // Славяно-русское ювелирное дело и его истоки. СПб., 2010.
161
Arbman 1940-3 - Arbman H. Birka I. Uppsala, 1940; Stockholm, 1943.
Arwidsson 1942 -Arwidsson G. Vendelstile, Email und Gias. Valsgardestudien. Up-
psala, 1942.
Arwidsson 1963 - Arwidsson G. Demonmask och gudabild I germansk folkvand-
ringstid//Tor. 9. 1963.
Вакка 1958 - Вакка E. On the beginning of Salin’s Style I in England // Universitet
I Bergen Arbok 1958. Historisk-antikvarisk rekke. № 3.
Behrens 1930 - Behrens G. Spatromische Kerbschnittschnallen // Schumacher Festschrift.
Zum 70. Geburtstag Karl Schumachers-14. Oktober 1930. Mainz, 1930.
Bohme 1974 - Bohme H. W. Zum Beginn des germanischen Tierstils auf dem conti-
nent // Studien zur vor- und fruhgeschichtlichen Archaologie. Fs. Werner
2, 1974, wieNr.445.
Bohme 1981 - Bohme H W. Comments on Nordic animal style - background and origin on
continental aspects//Norwegian Archaeological Review, V. 14, Issue 2. 1981.
Brendsted - Brondsted J. Early english ornament. London, 1924.
Bullinger 1969 - Bullinger H. Spatantike Gurtelbeschlage. Typen, Herstellung, Trageweise
und Datierung. DissertationesArchaeologicae Gardenses. 12. Brugge, 1969.
Haseloff 1981 - Haseloff G. Die Germanische Tieromamentik der Volkerwan-
derung. Studien fiber Salin’s Stil I. Bd. 3. Berlin - New York, 1981.
Holmqvist 1955 - Holmqvist W. Germanic Art during the First Millennium A. D. /
Kungl. Vitterhets Historic och Antikvitets Akademiens Handlingar. Del
90. Stockholm, 1955.
Minns - Minns E. H. Scythians and Greeks. A survey of ancient history and archaeo-
logy on the North Coast of the Euxine from the Danube ro the Caucasus.
Cambridge, 1913.
Riegl 1927 -Riegl A. Spatromische Kunstindustrie. Wien, 1927.
Rundkvist - Rundkvist M. Barshalder 1. A cemetery in Grotlingbo and Fide par-
ishes, Gotland, Sweden, c. AD 1-1100. Stockholm, 2003.
Salin 1904 - Salin B. Die altgermanische Thieromamentik. Stockholm 1904.
Shetelig 1949 - SheteligH. Classical Impulses in Scandinavian art from the Migra-
tion period to the Viking Age. Oslo, 1949.
Sommer 1984 - Sommer M. Die Giirtel und Gurtelbeschlage des 4. und 5. Jahrhun-
dertsin Romischen Reich. Bonn, 1984.
Szabo, Petres 1992 - Szabo M., Petres E. F. Decorated Weapons of the La Tene Iron
Age in the Carpathian Basin. Budapest, 1992.
Werner 1930 - Werner J. Spatromische Gurtelgamituren in Keilschnitt-Technik aus
Niederdsterreich // Jahreshefte des Osterreichischen Archaologischen In-
stituts. 26. 1930.
Werner 1958 - Werner J. Kriegsgraber aus der ersten Halfte des 5 Jahrhunderts zwi-
schen Schelde und Weser. Bonner Jahrbuch. 158. 1958.
Wilson&Klindt-Jensen - Wilson D. M. & Klindt-Jensen O. Viking art. London, 1966.
162
Рис. 1.
1 - 8 - Провинциальноримские поясные наборы в стиле Kerbschnitt
(по Б. Салину, А. Риглю, Г. Хазелофу, П. Инкеру); 9 - фрагмент фибулы из
Парсберга (Австрия). V в. до н. э.; 10 - фрагмент кувшина из Дюррнберга
(Южная Германия). Нан. IVв. до н. э.
163
Рис. 2: Мотив мужской или звериной маски в латенском и
германском искусстве.
1 - деталь повозки из Бад Дюркхайм (Рейнланд-Пфальц, Юго-Западная
Германия). Кон. V - нач. IV вв. до н. э.; 2 - наверише из Унтеррадльберга
(Австрия). Vв. до н. э.; 3 - наверишерукояти меча из Вейена (Норвегия). Vв.
н. э.; 4, 5 - фрагменты накладок в вендельском стиле (см. рис. 14: 10, 13).
Vile.; 6-деталь «ткацкого ножа» из Гнездова (Смоленская область, Россия),
кург. 74 (раскопки С. И. Сергеева 1900 г.). X в.; 7 - накладка из Жерковице
(Чехия). Ок. 400 г. до н. э.; 8- накладка из Вайскирхен (Саар, Юго-Западная
Германия). Vв. до н. э.; 9- подвеска из Гнездова. Xв.; 10- фрагмент навершия
рукояти меча из Паппиланмяки (рис. 14: 24) VII-VIII вв.; 11 - фрагмент
филигранной фибулы из Варне Клостер (Норвегия). Хв.; 12 - деталь кувшина
из Кляйнаспергле (Баден-Вюртембург, Юго-Западная Германия) V в. до н. э.;
13 - фибула «с маской» из Парсберга (Верхний Пфальц, Южная Германия,).
V в. до н.э.; 14- подвеска из Эстборга (Нур-Трёнделаг, Норвегия). Xв. (6- по
А. А. Спицыну; благодарим Т. А. Пушкину за любезное разрешение поместить
неопубликованную ранее илл. 9).
164
7
8 9
Рис. 3: Мотив пешего воина и всадника в искусстве раннего
железного века и германцев.
1 - пояс из Галъштадта (Австрия). V в. до н. э.; 2 - фрагмент котла из
Гундеструпа (Северо-Западная Ютландия, Дания). I в. до н. э.; 3 - деталь
филигранной гривны. Дания. V в.; 4 - деталь фибулы из Гуммерсмарка (см.
рис. 10: 3). V-VI вв.; 5 - брактеат из Слетнера (Норвегия) V-VI вв.; 6 - под-
веска из Баден-Вюртемберга (Юго-Западная Германия). VII в.; 7 - камень
из Хорнхаузена (Саксония-Анхальт, Германия) VII в.; 8 - ковер из Осеберга
(Вестфолл, Восточная Норвегия). 930-е гг.; 9- накладка из Бирки (Швеция). Xв.
165
7 8
Рис. 4: Мотив драконьей головы в кельтском и германском
искусстве,
1 - наконечник браслета из Дюррнберга (Зальцбург, Северо-Западная
Австрия). IVв. до н. э.; 2- 4, 6-детали двупластинчатых фибул V-V1 вв. (см.
рис. 9: 2, 12: 10: 1, 3); 5 - наконечник ремня из Нюдама (Южная Ютландия,
Дания). Нач. V в.; 7 - накладка из Станвика (Йоркшир, Северная Англия). I в.
н. э.; 8 - окончания германских фибул V в. н. э. (2, 4, 6, 8- по Б. Салину).
Рис. 5: Симметричные композиции из пар зверей в
раннелатенском искусстве.
I - накладка из Хёлъцелъзау (Северо-Западная Австрия); 2 - поясная накладка
из Сан-Поло д’Энца (Эмилия Романа, Северная Италия); 3 - накладка из
Розелъдольфа (Северо-Восточная Австрия).
167
Рис. 6: Композиции с S-видными зверями в кельтском,
раннегерманском и провинциальноримском искусстве.
1 - пряжка из Хонтхейма (Рейнланд-Пфальц, Юго-Западная Германия) IV в.;
2-фибула из Лунде (Вест-Агдер, Южная Норвегия). Ve.; 3-«изобразительный
камень» из Хавора (о. Готланд). Vв.; 4 - фрагмент фибулы из Силадыиомлио
(рис. 9: 5) V в.; 5 - 12 - фрагменты кельтских мечей «с парой драконов» из
Венгрии IV-III вв. до н. э. (5-8- тип I, 9 - 12 - тип II) (2 - по Б. Салину, 5 -
12 - по М. Сабо и Э. Петрегиу).
168
Рис. 7: Скифо-савроматские и германские мотивы птичьей
головы и «зверя, припавшего к земле».
I - Ново-Привольное (Саратовская обл.). VI- IVвв. до н. э.; 2- Окер (Хедмарк,
Восточная Норвегия). VII в.; 3 - с. Яблоновка (Черкасская обл., Украина). Vв.
до н. э.; 4 - Журовка (Черкасская обл., Украина). V в. до н. э.; 5 - Вимозе (о.
Фюн, Дания). VII в.; 6 - Абрамовка (Оренбургская обл.). VI-IVвв. до н. э.; 7 -
Суслы (Саратовская обл.). VI-IVвв. до н. э.; 8-деталь филигранной гривны из
Оллеберга. Вестрагёталанд (Швеция). V в.
169
A
Б
Рис. 8: Типы орнаментальных структур.
А - прямолинейные структуры:
1 — фигура в центре орнаментального поля; 2 — фигура вписана в
орнаментальное поле; 3 - фигуры узлах орнаментальной сетки; 4 - фигуры
покрывают поле мозаикой;
Б - криволинейные структуры:
5 - S-видная фигура; 6 - сердцевидная фигура; 7 - 8-образная фигура; 8 -
волнообразная линия; 9 - плетенка.
170
Рис. 9: Германские двупластинчатые фибулы с геометрическим
орнаментом.
1 - Толлёсе (о. Зеландия, Дания); 2 - Эйдестен (Вестфолл, Восточная Норвегия);
3 - Заккрау (Силезия, Юго-Западная Польша); 4 - Саннерумгард (о. Фюнен,
Дания); 5 - б - Силадъшомлио (Трансильвания, Северо-Западная Румыния);
7 - Вилислинген (Бавария, Юго-Восточная Германия); 8-о. Готланд (Швеция);
9-Хорватия; 10 - Гросс-Харрас (Австрия); 11 - Моссберга (о. Эланд, Швеция);
12-Грёнбю (Сконе, Швеция) (2-4, 7-12-поБ. Салину).
171
Рис. 10: Германские двупластинчатые фибулы
с орнаментом в стиле I.
1 — Нордхейм (Вестфолл, Восточная Норвегия); 2 — Гальстпед (Шлезвиг,
Южная Дания); 3 - Гуммерсмарк (о. Зеландия, Дания); 4 - Веструп
(о. Зеландия, Дания); 5 - Чивидале (Удине, Северо-Восточная Италия);
6 - Бесенъе (Венгрия); 7 -Бифронс (Кент, Англия); 8 — Бъелъста (Швеция); 9 -
головка фибулы из Донцдорфа (Баден-Вюртемберг, Германия): 10 - головка
фибулы изДжилтона (Кент, Англия). (3-6, 8-по Б. Салину, 4а, 7, 9- 10-по
Г. Хазелоффу).
172
I 2 3 4 5 6
7 8 9 10
И 12 13 14 15 16
Рис. 11: Изображение звериной головы с стилях I, II и III.
1 - деревянная скульптура из торфяника Вимозе (о. Фюн, Дания);
2 - 3 - детали фибулы из Гуммерсмарка (рис. 10: 3);
4 - деталь фибулы из Веструпа (рис. 10: 4); 5 — деталь рукояти меча из
Ставиюрет (рис. 12: 12); 6 - деталь фибулы из Экебю (Уппланд, Восточная
Швеция); 7 - деталь пряжки из Валлъстены (о. Готланд, Швеция);
8 - деталь накладки изДании (рис. 14:10); 9 - деталь накладки изДании; 10-
деталъ накладки из Валлъстены (рис. 14: 4); 11 - деталь подвески из Бенделя
(рис. 16:3); 12-деталь ножен меча изБъерса (о. Готланд. Швеция) (рис. 16:1);
13 - деталь накладки из Бъерса (рис. 16: 2); 14 — деталь накладки из Бъерса;
15 - деталь фибулы из Кэсты (Упланд, Восточная Швеция); 16 - деталь
накладки из Бруа (о. Готланд, Швеция) (по Б. Салину).
173
3
Рис. 12: Криволинейные элементы в орнаментах стиля I.
1-2- детали фибул, изображенных на рис. 10: 5,7; 3 - детали филигранной гривны
из Феръестаден (о. Эланд, Швеция); 4-7 - детали филигранной гривны. Дания; 8 -
перекрестие рукояти меча из Бакки (Бохуслен, Юго-Западная Швеция); 9 - навершие
меча из Скурупа (Сконе, Южная Швеция); 10 - перекрестье рукояти меча из Туны
(Сёдерманланд, Юго-Восточная Швеция) 11 — перекрестье рукояти меча из Омдаля
(Вест-Агдер,ЮжнаяНорвегия); 12 перекрестьерукоятимечаизСтавиюрет (Акерсхус,
Юго-Восточная Норвегия); 13-брактеат.Дания; 14 брактеат из Веттлёзы (Вестра-
Гёталанд Юго-Западная Швеция); 15 - наконечник ремня из Фэрфорда (Глостершир
Юго-Западная Англия); 16 - накладка из Кента (Юго-Восточная Англия); 17, 21 -
фибулы из Эрпе (Аквитания Западная Франция); 18 - фибула из Эйдестена (Вестфолл,
Восточная Норвегия); 19 - фибула из Халъдена (Эстфолл, Восточная Норвегия);
20 - фибула из Фонноса (Хедмарк, Восточная Норвегия) (2-8,12,14-21 -по Б. Салину).
174
4
Рис. 13: Стиль II на германских двупластинчатых фибулах.
1 - орнамент на головке фибулы из Гноцхейма (Средняя Франкония, Бавария,
Южная Германия); 2 - орнамент на ножке фибулы из Клепзау, погребение 4
(Баден-Вюртемберг, Юго-Западная Германия); 3 — Кфефелъд-Геллеп, погребение
1803 (Северный Рейн-Вестфалия, Западная Германия); 4-Мюлъхофен (Рейнланд-
Пфальц, Юго-Западная Германия); 5 - Соест (Северный Рейн - Вестфалия,
Западная Германия); 6 - Хайдингсфельд (Нижняя Франкония, Северо-Западная
Бавария, Германия): 7- Чивидале (Удине, Северо-Восточная Италия) (1-5-по
Г Хазелоффу, 6-7-по Б. Салину).
175
176
Рис. 14: Орнаменты в вендельских стилях В, С и D.
1 - Висбаден (Гессен, Юго-Западная Германия); 2 - Нойцинген (Баден-
Вюртемберг. Юго-Западная Германия); 3 - Абенхайм, Рейнланд-Пфальц,
Юго-Западная Германия; 4 - 6, 8, 9, 11,12, 15,16, 20. 21, 26-о. Готланд; 7,13,
17, 18-Бендель (Уппланд, Восточная Швеция); 10, 23-Дания; 14-Джилтон
(Кент, Юго-Восточная Англия); 19 - Пяркё (Финляндия); 22 — Биллингстад
(Акерсхус, Восточная Норвегия); 24 - Паппиланмяки (Финляндия) ; 25 -
Ультуна (Уппланд, Восточная Швеция) (1-3, 6-20, 25, 26 - по Б. Салину).
177
178
17 18
Рис. 15: Германский мотив «Большого зверя»
и его предшественники.
1 - деталь орнамента на топоре из Анухвы (Абхазия). VUI-VU вв. до н. э.; 2 - накладка
из Мартыновского клада (Среднее Поднепровъе). VII в. н. э.; 3 - накладка с фалеры
из Торсберга (полуостров Ангелън, Южный Шлезвиг, Северная Германия). III-
IVвв.; 4 — накладка из Асарпа (Вестра-Гёталанд, Юго-Западная Швеция). V-V1 вв.;
5 - пряжка «с Даниилом» из Обер-Валлиса (кантон Вале, Южная Швейцария).
VII в.; 6 - фигурка из Веггерслева (восток Центральной Ютландии, Дания). VII в.;
7 — столб от кровати из кургана в Осеберге (Вестфюлл, Восточная Норвегия).
830-е гг.; 8 - навершие рукояти меча из Стура Ире (о. Готланд). IX в.; 9 - деталь
орнамента на полозе «Четвёртых саней» из Осеберга; 10 - фибула из Каупанга
(Вестфолл, Восточная Норвегия). IX в.; 11 - бляшка из Бирки (Округ Стокгольм,
Восточная Швеция). IX в.; 12 - подвеска из Эстборга (Нур-Трёнделаг, Норвегия).
IX в.; 13 - 14 накладки из кургана Борре (Вестфолл, Восточная Норвегия). 2-я
половина IX в.; 15 - рунический камень Харальда Синезубого из Еллинга (Ютландия,
Дания). Ок. 970-х гг.; 16 - камень с кладбища собора св. Павла в Лондоне. Кон. X-
нач. XI вв. ; 17 - флюгер церкви из Челлюнге (о. Готланд). XI в. ; 18 - фибула. XI в.;
(2-поВ. В. Седову, 3,5-поБ. Салину, 7,8а, 17-поД. УилсонуиБ.Клиндт-Йенсену).
179
180
Рис. 17: Вендельский стиль Е.
1 - 2, 5, 7, 9-13-0. Готланд; 3 - подвеска из Бенделя (Уппланд, Восточная
Швеция); 4 - накладка из Хультерстада (юго-восток о. Эланд, Юго-
Восточная Швеция); 6 - орнамент фибулы из Стурхёуген (Ругаланн, Западная
Норвегия); 8 - орнамент фибулы из Викестада (Нурланн, Северная Норвегия);
14 — фибула из Ирландии; 15 — орнамент фибулы из Торбъёрнсторпа (Вестра-
Гёталанд, Юго-Западная Швеция). (1 - 14„ 18, 20 - по Б. Салину, 19 - по
Д. Уилсону и О. Клиндт-Йенсену).
181
Рис. 17: Вендельский стиль Е (продолжение).
1 - фибула из Ворбю (Дания); 2 - фибула из Робюлилле (о. Мён, Юго-Восточная
Дания); 3 - фибула из Скабершё (Сконе, Южная Швеция); 4 - фибула из
Гудъема, (о. Борнхольм); 5 - орнамент из Линдисфарнского Евангелия (3, 5 -
по Б. Салину, 4 - по Д. Уилсону и О. Клиндт-Йенсену).
182
Е. А. Гуревич
К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ «ТУЛА» В
ДРЕВНЕИСЛАНДСКОМ
Статья посвящена одной из спорных проблем скандинав-
ской филологии - содержанию древнеисландского термина pula
«тула». В настоящее время этим наименованием принято обозначать
пространные версифицированные перечни скальдических имен (т.
наз. хейти), следующие в ряде рукописей «Младшей Эдды» за цен-
тральным разделом книги, посвященным языку поэзии. При этом
обычно забывается, что значение термина pula «перечень поэтиче-
ских синонимов» - филологическая условность, и нет никаких сведе-
ний о том, какое название соответствующие перечни скальдических
хейти в действительности носили в древнеисландском. Между тем,
наименование pula встречается в ряде средневековых исландских
текстов, в том числе в составе нескольких названий, где оно также ис-
пользуется в качестве обозначения некоего рода песней. В статье ана-
лизируются все без исключения случаи употребления термина «тула»
в древнеисландском, причем особое внимание уделяется перечню имен
великанов и великанш, известному под названием «Тула всех троллей»
(конец XIV - начало XV в.) и делаются выводы о возможном значении
термина «тула» в средневековый период.
Ключевые слова: древнескандинавская поэтологическая тер-
минология, значение и употребление древнеисландского термина тула
Непосредственным поводом для написания этих заметок по-
служило следующее толкование слова pula «тула», данное известным
исследователем и издателем скальдической поэзии, Кари Эллен Гаде.
Комментируя нетрадиционное, по ее мнению, употребление этого
термина в стихах исландского скальда XI в. Халли Челнока (Sneglu-
Halli, lv. 7/2; об этой висе еще будет упомянуто ниже), К. Э. Гаде от-
мечает, что обычно в древнеисландском pula служит наименованием
«перечня поэтических синонимов», ‘A list of poetic synonyms’ [SkP II:
328-329], очевидно, имея в виду пространные версифицированные
перечни скальдических имен (так называемых хейти), следующие в
ряде рукописей «Младшей Эдды» за центральным разделом книги, по-
священным языку поэзии. Как видно, ученое название pulur «тупы»,
уже в новое время данное этим анонимным перечням издателями
поэтического наследия скальдов (ср. классическое издание Финнура
Йоунссона [Skj AI: 649, BI: 656]), пристало к ним настолько прочно,
что даже специалисты порой упускают из виду то обстоятельство, что
183
это наименование не аутентичное, но представляет собой современное
научное обозначение стихотворных перечней имен (причем вовсе не
только поэтических синонимов). Между тем, ни в одной из рукопи-
сей Снорриевой «Эдды» этим строфам не предпослано никаких заго-
ловков, а разграничивающие отдельные ряды синонимов внутренние
рубрики характеризуют их исключительно как имена тех или иных
«предметов» (ср. Scekonunga heiti «Хейти морских конунгов», Sverda
heiti «Хейти мечей», Hesta heiti «Хейти коней» и проч.).
Итак, можно констатировать, что упомянутое значение терми-
на pula «перечень поэтических синонимов» - филологическая услов-
ность, и у нас нет никаких сведений о том, какое название соответству-
ющие перечни скальдических синонимов-хейти в действительности
носили в древнеисландском. Вместе с тем, поскольку наименование
pula встречается в ряде средневековых исландских текстов, где оно
также, судя по всему, используется в качестве обозначения некоего
рода песней, было бы естественным попытаться установить содержа-
ние этого термина в более раннюю эпоху и, в первую очередь учитывая
его современное научное употребление, задаться вопросом об умест-
ности применения исконного наименования pula к перечням имен.
Насколько нам известно, впервые правомерность употребле-
ния термина «тула» по отношению к перечням имен была подвергну-
та сомнению О. А. Смирницкой в статье «Nomina dicendi в названиях
эддических песней» [Смирницкая 2003: 184, 193-195]. Рассматривая
наименование Rigspula «Тула Рига» (на русский язык обычно перево-
дится как «Песнь о Риге»; эта песнь не входит в основной корпус пес-
ней, собранных в «Старшей Эдде», и сохранилась в Codex Wormianus
«Младшей Эдды»), О. А. Смирницкая замечает: «...говоря о тулах,
нельзя сбрасывать со счета тот факт, что перечни имен (за исключе-
нием неясного примера «Тулы Торгрима») не обозначались данным
словом в самой древнеисландской литературе. Так называемая «тула
карликов» в «Прорицании вёльвы» - это все же dverga tai [Vsp. 12;
16; автор имеет в виду обозначение перечня имен карликов в Vsp. 16:
langnidia tai Lofars «перечень потомков Ловара», т. е. карликов. -Е. Л].
Название Rigspula представляет собой единственный случай употре-
бления слова pula в «Эдде», но перечни имен занимают в этой песни не
большее место, чем, например, в Grimnismdl. Поэтому только гипно-
зом ученой терминологии может быть объяснено часто встречающееся
утверждение, что, как общее правило, др.-исл. pula - это верифици-
рованный перечень имен и лишь в единичных случаях данное слово
относится к иным стихотворным текстам (подразумевается Rigspula)»
[Смирницкая 2003: 184]. Отвергая возможность происхождения сло-
184
ва pula от имени лица pulr в значении «жрец, культовый оратор» (ср.
известную теорию В. X. Фогта, который возводил тулы к культовым
речам древнегерманских жрецов-тулов и тем самым рассматривал их
в качестве части языческого ритуала [Vogt 1927а; 1927b; 1942]), автор
статьи высказывает предположение, что слово pula скорее «представ-
ляет собой девербатив, образованный по конверсии от глагола pylja»
[Смирницкая 2003: 194]. Как справедливо отмечает О. А. Смирницкая,
значение этого глагола не обязательно связывается с культовой речью
(последнее значение, по общему мнению, предполагается в эддиче-
ских «Речах Высокого» (Hav. 111/1-3): Mai er at Jjylia / Jnilar stoli a, /
Urdar brunni at - «Время вещать мне с престола тула у источника Урд»).
В целом ряде контекстов pylja употребляется в значении «говорить
монотонно, бубнить, бормотать» и, таким образом, характеризует «ма-
неру речи, а не ее содержание». Этот более широкий смысл глагола,
по мнению О. А. Смирницкой, имеет прямое отношение к некоторым
особенностям фольклорных песней, сочинявшихся в Исландии уже в
новое время и традиционно именуемых «тулами»1, причем эти же осо-
бенности, как считает автор статьи, демонстрирует и древнеисланд-
ская «Песнь о Риге». Позволим себе процитировать далее: «“Тула о
Риге” (Rfgspula), принадлежа к повествовательным песням, отличается
от них во многих отношениях, а со стороны самой повествовательной
манеры именно тем, что она вся построена на монотонных, мерно чле-
нящих ее повторах. Риг пошел по зеленым дорогам, пришел в гости к
прадеду и прабабке, преподал им советы, пробыл там три ночи: родил-
ся раб фгае11); потом снова пошел Риг по дороге, зашел к деду с бабкой,
преподал им советы, пробыл там три ночи: родился батрак (karl). И так
далее - до самой вершины этой винтовой социальной лестницы. Песнь
знаменита благодаря содержащейся в ней информации о социальном
устройстве архаического общества [...]. Но в жанровой своей основе
она представляет собой высокий прообраз новоисландских фольклор-
ных тул фи1ш). Тулы эти могут быть весьма различны по содержанию
и, так сказать, по степени членораздельности, но все они построены на
подобных возвратах и повторах» [Смирницкая 2003: 194].
Вывод о вероятном родстве древней тулы (и Rigspula как
частного ее воплощения) отнюдь не с гипотетическими перечнями
имен, но с существующим и поныне фольклорным жанром, важными
характеристиками которого, помимо указанных выше, принято счи-
тать отсутствие деления на строфы и формальную простоту2, был сделан
О. А. Смирницкой на основании использования элемента -pula в составе
^м. о них [Ершова 2001].
2Ср., например: Jmla ‘now used of strings of rhymes running on without strophic
division’ [Cleasby 1957: 748-749]; см. также [Halvorsen 1976].
185
названия одной из эддических песней. С тем, чтобы оценить справедли-
вость этого, а также иных предположений относительно значения слова
pula, обратимся к другим случаям его употребления в древнеисландском3.
Прежде всего, это уже упоминавшееся выше название еще
одного поэтического произведения, сложенного в эддическом размере
(вернее сказать, размерах) - «Тула Торгрима» (Porgrimspula). В отли-
чие от «Тулы о Риге», Porgrimspula принято считать настоящей тулой,
чье заглавие соответствует ее содержанию, т. е. перечням имен [Finnur
Jonsson 1923: 174-175]. Подобно Rigspula, Porgrimspula известна ис-
ключительно из «Младшей Эдды», где она приводится в «Языке по-
эзии» в разделе, отведенном скальдическим синонимам. Рассказывая
о хейти разнообразных животных, которые следует употреблять в
поэзии, Снорри цитирует стихотворный перечень имен мифологиче-
ских и легендарных коней, содержащийся в некой песни, которую он
именует «Тулой Торгрима»4, а вслед за перечнем имен коней - причем
последний представлен не только тремя строфами «Тулы Торгрима»,
но и следующей за ними «Висой Кальва», в которой отчасти повторя-
ются имена тех же коней, но уже с их наездниками [SnE: 88-89; МЭ:
163-164], - приводит еще одну строфу из Porgrimspula, на этот раз - с
именами волов. Таким образом, «Тула Торгрима» ныне известна в виде
двух, очевидно, не связанных между собой частей, к тому же, что, воз-
можно, немаловажно, сложенных в разных размерах: тогда как размер
строф, перечисляющих имена коней, это по преимуществу льодахатт
(«песенный размер»)5, строфа, содержащая имена волов, сложена в ма-
лахатте («размере речей»)6. Есть поэтому все основания полагать, что
перед нами отнюдь не цельное и законченное произведение, а лишь
отдельные фрагменты песни, об истинных размерах и содержании ко-
торой остается только гадать7. Из этого следует, что и название «Тула
<х<><хххх><х><><><х><хххххххх><ххх><х><ххх>
3 Благодаря ставшему с недавнего времени доступным обширному собранию
цитат к «Словарю древнеисландской прозы» (ONP), дополнившему данные
поэтического словаря (LP), можно не сомневаться в полноте имеющегося в
нашем распоряжении материала.
4Ср.: I?essi eru hesta heiti i Forgrimspulu - «Вот хейти коней в “Туле Торгри-
ма”» [SnE: 88].
5 Строфа 1 представляет собой смесь малахатта (стихи 1-4) и льодахатта
(стихи 5-7), а строфы 2 и 3 сочинены исключительно в льодахатте. Подроб-
нее о «Туле Торгрима» см. подготовленное нами издание: Anonymous Poems,
Porgrimspula I, II [SkP III].
6См. [SnE: 90]. Следует иметь в виду, что в [Skj В I: 656] эта строфа претерпе-
ла существенные изменения по воле издателя.
7В процитированной выше статье О. А. Смирницкая также совершенно спра-
ведливо замечает, что нам ничего не известно о том, что представляло собой
это произведение в целом. См. [Смирницкая 2003: 195, примеч. 4].
186
Торгрима» вероятнее всего должно было относиться не к упомянутым
перечням имен, но к песни в целом. Остается заключить, что, вопреки
распространенному мнению, наименование Porgrlmspula ничего не го-
ворит о значении элемента -pula в заглавии этого произведения и, тем
самым, не приближает нас к решению поставленной задачи.
Едва ли в большей степени проясняют смысл слова pula и из-
вестные случаи его употребления в скальдических стихах. Самый ран-
ний из них - упомянутая в начале этой статьи отдельная виса исланд-
ца Халли Челнока, скальда норвежского конунга Харальда Сурового,
датируемая серединой XI в. В ней Халли, возвратившись из поездки
за море, в шутливом и ироничном тоне описывает конунгу хвалебную
песнь (драпу), преподнесенную им правителю Англии Харальду Гуди-
насону (Годвинсону), перечисляя при этом конкретные «технические»
(судя по всему, метрические) и композиционные погрешности, кото-
рыми изобиловали его стихи: Ortak eina I of jarl Jsulu; I verdrat drapa /
med Donum verri; / foil eru fjortan / ok fong tiu; / opits ok ondvert, / ofugt
stigandi: / sva skal yrkja, / sas ilia kann! [SkP II, 328-329] «Сложил я одну
о ярле тулу, не было драпы у данов хуже; в ней четырнадцать падений
и десять уловок; она открыта и вывернута, развертывается задом на-
перед: должен так сочинять неумелый!»8. Не вызывает сомнения, что
именуя никуда не годную, по его же собственной оценке, хвалебную
песнь «тулой», Халли употребляет это наименование не в прямом -
какое бы содержание в него традиционно ни вкладывалось, - а в пере-
носном, и притом откровенно презрительном, пейоративном смысле9,
противопоставляя наиболее ценимой, предполагающей изрядное ма-
стерство на всех уровнях ее организации, и, главное, весьма строгой с
точки зрения композиционного устройства скальдической форме - дра-
пе. Небрежно состряпанный панегирик, который этот скальд-трикстер,
воспользовавшись неосведомленностью английского правителя и его
двора, выдал за истинную драпу10, как можно заключить из его слов, не
<хХ><>Х><>О<><><><><><><><Х><>^^
8 Эта виса цитируется в «Пряди о Халли Челноке» (Sneglu-Halla pattr) только
в редакции «Книги с Плоского Острова» [ISI? III: 2229]. Подробнее об этих
стихах и об употребляемых в них скальдических termini technici см.: [Гуревич,
Матюшина 2000: 248-249, 286-287; Gade 1991].
9Ср. сходную трактовку этого употребления слова pula в работах: [Kreutzer
1974: 88; Clunies Ross 1987: 81 n.].
10 В соответствующем эпизоде «Пряди о Халли Челноке», описывающем его
посещение Харальда Гудинасона, рассказывается, что, исполнив сочиненную
им в честь этого конунга хвалебную песнь и хитростью получив за нее не-
малое вознаграждение, скальд поспешил покинуть Англию: «А все из-за того,
что хвалебная песнь, которую он сложил в честь конунга, на самом деле была
никакая не песнь, а околесица (kvedid endilausu), и поэтому он не смог бы ни-
кого ей обучить» [fSI> III: 2229].
187
обладал ни поэтическим совершенством, ни структурной сложностью,
которые характеризовали парадную скальдическую песнь, на что и
должна была указывать его уничижительная характеристика («тула»).
Таким образом, все сведения о песни, обычно именуемой pula, которые
нам удается извлечь из данного примера, сводятся к тому, что такая
песнь могла рассматриваться в качестве противоположности драпе, и
стало быть, не имела отличительных формальных свойств последней.
Тем самым, можно предполагать, что тула воспринималась как наи-
более свободный и слабо структурированный тип песни. Это вполне
соответствует тому, что нам известно о новоисландских фольклорных
тулах, на вероятность происхождения которых от древних тул указывала
О. А. Смирницкая. Но равным образом это может быть отнесено и, по
крайней мере, к части тех средневековых перечней имен, которые усло-
вились именовать «тулами» ученые-филологи: прежде всего мы имеем в
виду такие цепочки не разбитых на строфы стихов, как, например, пере-
чень названий мифологических рек в «Речах Гримнира», 27-28 или не-
которые не укладывающиеся в правильные строфы «тулы» поэтических
синонимов, приложенные к «Языку поэзии» [Гуревич 2008: 359-364].
Аналогичное противопоставление тулы драпе мы находим
и в анонимной «Пословичной песни» (Mdlshdttakvcedi), как считает-
ся, созданной в начале XIII в. и сохранившейся в одной из рукописей
«Младшей Эдды». Комментируя процесс сочинения своей поэмы, при
переходе к ее средней части, скальд замечает: Stefjum verdr at staela
brag, / - stuttligt hefk a kvaedi lag - / ella mun pat pykkja pula, / pannig
naer, sem ek henda mula «Нужно вставить в стихи стевы - отрывочна
форма моей песни - иначе она может показаться тулой, как если бы я
собирал крошки» [Skj ВII: 140,11]. Речь идет о непременном элементе
драпы - стеве (step), канонизованном повторе, который разбивает дра-
пу (drара и означает «разбитая») на три ее главные составные части и,
подобно рефрену, разделяет ее центральную часть, stejjabdlkr «раздел
со стевом», на равные сегменты, именуемые stejjamel - «промежутки»,
обрамленные стевом11. Называя песнь без стева «тулой», скальд, разу-
меется, не имеет в виду сообщить нам о некой отличительной особен-
ности последней: стев - это исключительная принадлежность драпы, и
он заведомо отсутствует во всех прочих типах песней. Кроме того, по
признаку наличия / отсутствия стева, как явствует из многочисленных
сообщений саг, драпа обычно противопоставляется так называемому
флокку (flokkr). В данном же случае введение стева, очевидно, призва-
но не только внести стройность в композицию песни, но и преодолеть
ее бросающуюся в глаза фрагментарность и бессвязность: основным
содержанием этой поэмы являются следующие одна за другой корот-
<>>><><><><><><><><Х><><><><><>^^
110 строении драпы см. [Гуревич, Матюшина 2000: 360-383].
188
кие отрывистые сентенции. Поэтому если бы «тулами» в те времена
действительно было принято называть разного рода перечни (в част-
ности, перечни имен), то в случае отсутствия в Malshattakvcedi мерно
членящего ее стева, и эту песнь вполне можно было бы счесть тулой,
перечисляющей изречения и пословицы. Это ли значение слова pula
подразумевал создатель песни, упоминая о якобы собираемых им
«крошках», или он, подобно Халли, употребил его исключительно в
ироническом и уничижительном смысле12? Вопрос остается открытым.
Можно лишь констатировать, что и этот случай использования наиме-
нования pula в скальдических стихах, хотя он, как и предыдущий при-
мер, судя по всему, указывает на некий тип песни, обладающей весьма
свободной формой, чем и может быть обусловлено ее противопостав-
ление драпе, не позволяет прийти к сколько-нибудь определенным вы-
водам о содержании этого термина в древнеисландском.
Все прочие примеры употребления слова pula - их всего
три - относятся к более позднему времени и встречаются за предела-
ми скальдической традиции. Два из них мы находим в «Саге о Боси»
(Bosa saga), легендарной саге о древних временах, сочиненной около
середины XIV в. В самом известном эпизоде этой саги рассказывается
о том, как ее герои, побратимы Боси и Херрауд, были захвачены в плен
конунгом Хрингом, который намеревался лишить их жизни, однако
после того, как ночью накануне казни к нему явилась Бусла, прием-
ная мать Боси, старуха, весьма сведущая в колдовстве, и произнесла
страшное заклинание, был вынужден сменить гнев на милость. По-
началу как в саге, так и во вложенной в уста Буслы песни (последняя
представляет собой девять строф в эддическом размере форнюрдис-
лаг) обращенная к конунгу речь колдуньи именуется been «заклинание,
мольба» или Buslubcen «Заклятие Буслы» [FSNIII: 202] (ср. строфа 2/1:
Неуг pu been Buslu «Слушай заклятие Буслы» [ЕМ: 126]). Однако, при-
ближаясь к концу своего заклинания Бусла неожиданно заявляет: еда
viltu pulu lengri? - «или ты желаешь тулу длиннее?» (st. 7 [ЕМ: 128]),
а затем ту же характеристику ее песни мы находим в прозаическом
комментарии рассказчика саги (ср. En pa er su pula var uti, segir konungr
henni - «А когда эта тула закончилась, конунг сказал ей...» [FSN III:
206]). И на этот раз мы в состоянии высказывать лишь догадки о веро-
ятном смысле наименования pula в данном контексте. То ли колдунья
прибегает к этому слову, поскольку содержание ее заклятия - не что
иное, как перечень кар, которые она сулит конунгу Хрингу, если он
не послушается ее и не освободит узников; в этом случае упоминание
тулы могло бы объясняться тем, что этим словом в древнеисландском
действительно обозначали разного рода перечни. Однако мы с равны-
<ХХ><>ОО<><><><Х><><>О<><><><Х^
12Последнего мнения придерживается, в частности, Г. Кройтцер [Kreutzer 1974: 88].
189
ми основаниями можем думать, что pula здесь имеет тот же смысл,
который ранее предполагался для другой песни в эддическом размере,
а именно Rigspula (см. выше), и что применение его к Buslubcen наме-
кает на характерные для последней постоянные монотонные возвраты-
увещевания. Бу ела грозит навлечь на конунга Хринга разнообразные
несчастья и суровые кары, после чего раз за разом приговаривает, что
все это обрушится на него, если он не помилует Херрауда и Боси и не
отпустит их с миром (ср. повторяющийся с некоторыми вариациями
в строфах 3-6 «рефрен»: пета фй Bosa / biorg of veitir / ok Herraudi /
heipt upp gefir - «если ты не даруешь пощаду Боси и не прекратишь
враждовать с Херраудом» [ЕМ: 127]). Нельзя, наконец, исключить и такой
возможности, что наименование pula здесь просто-напросто обозначает
песнь, и что ни анонимный автор стихов, ни вторящий ему рассказчик
саги (если это не было одно и то же лицо) не имели в виду никаких более
конкретных формальных либо жанровых характеристик, которыми обла-
дали исландские тупы в средневековую эпоху. Как видим, и эти примеры
не дают возможности сделать однозначный вывод о значении слова pula.
В нашем распоряжении, однако, остается последний пример,
который, как представляется, способен пролить свет на поставленный
вопрос. Это - так называемая Allra flagdapula «Тула всех троллей» из
Vilhjdlms saga sjods («Саги о Вильхьяльме Кошеле»)13, рыцарской саги,
созданной в Исландии в конце XIV или самом начале XV в. В саге
рассказывается, как Вильхьяльм, сын английского короля Рикарда,
проиграл великану в шахматы и, дабы спасти себя и своего отца, дал
обязательство явиться спустя три года в холм к великану, где его бу-
дут поджидать девяносто троллей, чьи имена ему надлежит назвать.
В результате серии приключений Вильхьяльму удается разузнать и
выучить все имена троллей, после чего он отправляется прямиком в их
жилище, где находится в плену его отец и несколько других королей,
и, едва поспев к назначенному сроку, произносит «Тулу всех троллей».
Услыхав свои имена, тролли вскакивают со своих мест и разрывают
друг друга на куски, а Вильхьяльм освобождает пленников.
Вполне возможно, что название Allra flagda pula, которое мы
находим в заключительном стихе первой строфы приведенного ниже
стихотворного перечня14 и под которым он обычно упоминается в на-
<х><хх>оо<хх><><х><х><х><х><><><>>ск^
13 Ср. [Матюшина 2002: 126]. Не исключено, однако, что прозвище главного героя
следует понимать иначе: ср. предполагаемое толкование этого названия как “The
Saga of Vilhjalmr of Sjodr” (?) - «Сага о Вильхьяльме Сьода» в [MS: 702].
14Это название используется уже в самом раннем издании тулы: [Jiriczek 1894:
6-8]. В настоящей статье «Тула всех троллей» приводится по изданию Vil-
hjdlms saga sjods [LMIR, IV: 66-68] и в орфографии этого издания, но, в отли-
чие от него, здесь она разбита на строфы.
190
учной литературе, на самом деле - не более, чем вводное замечание,
предваряющее произнесение имен великанов и великанш. Как бы то ни
было, существенно, что по условию сюжета Vilhjdlms saga sjods главное
содержание этого верифицированного каталога - имена собственные,
что он характеризуется в саге как «тула» и приводится в ней целиком, а по-
тому перед нами действительно открывается возможность судить о том, к
какому типу поэтических текстов применялось наименование pula.
1.
Lijttu upp leikbroder Поднимите-ка глаза, приятели,
og lattu folk J?eigia и пусть народ хранит молчание,
medan at eg nefni когда я буду называть
niutigi traulla. девять десятков троллей.
aull skulu J)ier standa Все вы должны стоять,
sem stiaki bundinn словно привязанные к столбу,
unzs at eg hefi vt kuedit пока я не произнесу до конца
allra flagda Jnilu. тулу всех великанов.
2.
Fyrst situr Ysia Впереди сидит Крикунья
og Arinefia. и Орлиноклювая,
Flegda. Flauma. Троллиха, Шумная
og Flotsocka. и Засаленный Чулок.
Skrucka. Skinnbrok. Морской Ёж, Мохнатые Штаны
og Skitinkiapta. и Грязная Челюсть.
Buppa. Blaetanna. Заносчивая, Чернозубая
og Belgeygla. и Пучеглазая.
3.
Hier er Surtur og Haki. Тут Сурт и Хаки,
Hrymur. og Skotti. Хрюм и Бродяга,
brymur. og Saurkuer. Трюм и Сёрквир,
Hrotti. og Modi. Хротти и Моди,
Glaamur. og Geiter. Глам и Гейтир
og Gortanni. и Зубы-в-Жвачке
Grimner. Brusi. Гримнир, Бруси,
Drauttur. og Hausuer. Лентяй и Серый Волк.
4.
ba er Glossa. Еще тут Пламя
og Gullkiapta. и Золотая Челюсть,
Gialp. Gripandi. Гьяльп, Хватунья,
og Greppa. hin fimta. и Чудище пятая.
191
Drumba, og Klumba. og Dettiklessa. Syrpa og Suartbrun. og Snarinefia. Колода и Дубина, и Валящийся Ком, Неряха и Чернобровая, и Сующая Нос.
5.
Slauttur er hinn fysti. Грубиян - первый,
Slangi annar. Змей - второй,
Hundujs. Grubbi Хитрец, Неряха
og Hracktanni. и Дурные Зубы,
Slinni. og Slangi. Лентяй и Змей,
Snodujs. Krabbi. Тонко Чующий и Краб,
Jdi. Audner. Иди, Несчастный
og Angurjnasj. и Горестный Тьяцци.
ora pro nobis. Молитесь за нас.
6.
Fenia. og Menia. Фенья и Менья,
Frusk. og Tuska. Вздорная и Никчемная,
Hnydia. og Brydia. Колода и Кубышка,
og Holuskroppa. и Пустотелая (?),
Flaska. Flimbra. Фляга, Царапающая (?)
og Flaaskiappa. и Легкомысленная (?),
Elldrjdr. Opingeil. Огненная, Открытое Ущелье,
Ysporta. og Smortur. Шумная Потаскуха (?) и Широколицая (?).
7.
Sulki. Slammi. Заглатывающий, Неуклюжий,
Sjdhauttur. Hnikar. В Широкополой Шляпе, Хникар,
Bialki. Beinskafi. Бревно, Обдирающий Кости,
Baraxli. og Liotur. С Могучими Плечами и Безобразный.
Hrungner. Haltangi. Хрунгнир, Оборванец (?),
Hraudner. Uagnhofdi. Храуднир, Китоголовый,
Storuerkur. og Stalhaus. Сторверк и Стальной Череп,
Stritramur. og Uaulsi. Сильный-в-Борьбе и Вёльси.
8.
Grani. Skolli. og Gridr. Усач, Крадущийся и Грид,
Gerdr. og Fiskreki. Герд и Преследующий Рыбу,
192
Kampa. og Kolfrosti. Kiaptlangur. og Flangi. Dumbur j dag springi. og drepi huert annat. Illr sie ender Бородатая и Угольно-Морозный, Большеротый и Льстец. Да вскочит сегодня Немой и все поубивают друг дружку! Да несдобровать вам
adr ])ier deyit. прежде, чем вы помрете!
9. bungar hefer J?u mier l?rauter fengit. leidr loddari lymskur j ordum. фи munt sialfur Suelner heita. hefer moder J?in Тяжелую мне ты задал работу, ненавистный обманщик, коварны твои речи. Верно, ты сам зовешься Свёльнир, в том твоя мать
mig um J?at fraeddann. меня наставляла.
10. Hraerizt heimar. hristizt steinar. uautn uid leysizt. uillizt diser. aull odaemi aeri j)ussa. helueg trodi heimskar traullkonur. Мир да придет в движенье, сотрясутся скалы, вскроются воды, заплутаются дисы! Пускай все неслыханные события сведут с ума турсов, да пойдут дорогой в Хель глупые великанши!
Уже первый издатель Allraflagdapula, Отто Л. Йиричек [ Jiric-
zek 1894: 8] заметил ее сходство со стихотворными перечнями имен
великанов и великанш, которые мы находим среди так называемых
тул поэтических синонимов, приложенных к «Языку поэзии»; он же
высказал мнение о том, что тула имен троллей из Vtlhjdlms saga sjods
была сочинена независимо от последних. И действительно, в отличие
от перечней хейти в рукописях «Младшей Эдды», где имена вели-
канов и великанш даются раздельно в самостоятельных списках (их
три - Jotna heiti I, Jotna heiti II, Trollkvenna heiti [Skj A I: 654—658, В I:
658-660]), «Тула всех троллей» содержит как мужские, так и женские
имена, причем, как можно заметить, приводит то одни, то другие, по-
следовательно чередуя строфы: имена троллих перечислены в строфах
2-ой, 4-ой и 6-ой, а имена троллей - в строфах 3-ей, 5-ой и 7-ой; муж-
ские и женские имена впервые приводятся вместе лишь в строфе 8-ой,
последней строфе перечня.
193
Кроме того, в более ранних перечнях имен великанов и вели-
канш (обычно их датируют второй половиной XII - началом XIII в.)
содержится лишь малая часть имен, упомянутых в приведенных здесь
строфах, и, как правило, они принадлежат персонажам, хорошо из-
вестным из древнескандинавской мифологии, а также легендарных
саг о древних временах или иных источников, так что нет никаких
оснований полагать, что эти имена могли быть заимствованы в «Тулу
всех троллей» непосредственно из каталогов скальдических хейти.
Прежде всего это имена мифологических великанов - Сурт, Хрунгнир,
Иди и Трюм; великан Гримнир, упомянутый в «Саге о Хрольве сыне
Гаутрека»; Storverkr (Сторверк), по-видимому, вариант Storvirkr - имя
отца Старкада Старого; Глам - в первую очередь известное как имя
противника Греттира (в «Саге о Греттире» это похожий на тролля па-
стух, впоследствии живой мертвец), однако имя Glamr также носит
великан в Bardar saga Sncefellsdss, из которой анонимный автор Allra
flagda pula мог почерпнуть и имя великанши Skrukka (Морской Ёж);
Vagnhofdi (Китоголовый) - согласно Саксону Грамматику, так звали
великана-воспитателя легендарного героя Хаддинга (Uagnhofthus или
Uagnhophtus); Dumbr (Немой), имя, известное также из «Саги об Эгиле
Одноруком»; Храуднир и Гейтир - в тулах поэтических синонимов оба
имени также включены в перечень хейти морских конунгов. Несколько
имен - Sidhottr (В Широкополой Шляпе), Hnikarr и Svelnir (Svolnir,
букв. «Остужающий») - известны как принадлежащие Одину, и поэто-
му в тулах синонимов приведены в соответствующем перечне (это же
относится и к упомянутому выше имени Гримнир, помещенному как в
список имен великанов, так и в список хейти Одина). Что же касается
названных здесь женских имен, то среди шести десятков хейти вели-
канш (Trollkvenna heiti) можно встретить лишь два из них, причем оба
они связаны с мифом о победе Тора над великаном Гейррёдом. Это -
Грид (Неистовая), великанша, от которой Тор получил Пояс Силы, же-
лезные рукавицы и посох, что зовется посохом Грид, и Гьяльп (Визгу-
нья), одна из дочерей Гейррёда, которую убил Top [SnE: 25; МЭ: 119].
Если автор Allra flagda pula был, по всей видимости, незна-
ком с содержащими почти вдвое большее число имен перечнями хейти
великанов и великанш - в противном случае можно было бы ожидать
совпадений совсем иного масштаба и характера - то, как можно за-
метить, он использовал немало других источников. Так, упомянутые
в строфе 6 Фенья и Менья - великанши-рабыни конунга Фроди, о ко-
торых повествуется в «Песни о Гротти»; Drumba og Klumba (Колода
и Дубина) в строфе 4 могут быть возведены к перечню имен дочерей
Раба в «Туле о Риге» (ср. Drumba ос Kumba, RJ?. 13/2), в нем же мы
находим и еще одно имя - Ysja (Крикунья, RJ). 13/5), здесь открываю-
194
щее список троллих. Точно так же, помимо уже названных ранее, мож-
но было бы указать и на другие источники, из которых вероятно были
почерпнуты некоторые имена великанов (ср., например, упомянутые в
строфе 3 имена Drottr (Лентяй) - сын Раба в Rigspula (RJ). 12/8), а также
великан в «Пряди о Торстейне Силе Хуторов» и Бруси- великан, которого
одолел прославленный богатырь Орм сын Сторольва).
Вместе с тем в «Туле всех троллей» мы находим немалое коли-
чество имен, которые более нигде не встречаются. Не исключено, что
они могли быть придуманы специально для этого перечня, ср.: Вирра
(Заносчивая), Belgeygla (Пучеглазая), Gripandi (Хватунья), Snarinnefja
(Сующая Hoc), Slottr (Грубиян), Grubbi (Неряха), Krabbi (Краб), Slam-
mi (Неуклюжий), Bjalki (Бревно), Beinskafi (Обдирающий Кости) и т.
д. Некоторые из них, по-видимому, имели своими образцами извест-
ные имена. К примеру, имена великанш Gullkjapta (Золотая Челюсть) и
Skitinkjapta (Грязная Челюсть), вероятно, восходят к мифологическому
имени Hengjankjapta «Отвислая Челюсть» (в Trollkvenna heiti (st. 2/2)
это имя дается в форме Hengikepta) - так звали одну из уничтоженных
Тором великанш [Skj А I: 144, В I: 135]. Точно так же имя троллихи
Blaetanna или Blatanna (Чернозубая) и имена троллей Hrakktanni (Дур-
ные Зубы) и Gortanni (Зубы-в-Жвачке) уместно сравнить с хейти вели-
канши Grottintanna - Гнилые Зубы (Trollkvenna heiti, st. 1/8)15.
Отсутствие непосредственной связи между «Тулой всех трол-
лей» (строфы 2-8) и перечнями имен великанов и великанш, извест-
ными как «тулы» поэтических синонимов, только еще больше под-
черкивает их сходство. Нет никакого сомнения в том, что Allra flagda
pula сочинена в той же традиции составления стихотворных каталогов
собственных имен, что и так называемые мифологические16 и скаль-
дические тулы. Помимо самих имен, часть которых, о чем уже было
сказано выше, могла создаваться внутри таких перечней, судя по все-
му, обладавших, как нам приходилось писать в другом месте [Гуревич
1989; 1994], своего рода «порождающим механизмом», красноречивее
всего об этом свидетельствует их формальная организация - спосо-
бы сопряжения имен и выстраивания их в поэтический текст. Как и
в других перечнях, здесь отчетливо прослеживается тенденция в до-
полнение к канонической аллитерации использовать более глубокие
звуковые повторы, а также внутренние и конечные рифмы. Ср.: Flegda,
Flauma / og Flotsokka (строфа 2; см. также аналогичный пример в стро-
15 Ср. соответствие этому имени в мужском роде, grottintanni, встречающееся в
исландских римах [10: 282].
16Примером могут служить перечни мифологических имен и названий в эдди-
ческих «Речах Гримнира». См. о них [Гуревич 1994: 140-150].
195
фе 6); Slinni og Slangy (строфа 5); Fenja og Menja, I Fruska17 og Tuska, I
}Ax\ydja og Bryd/я (строфа 6). Кроме того, в «Туле всех троллей» можно
заметить и еще один прием, который довольно часто использовался в
перечнях скальдических синонимов и состоял в распространении ал-
литерации с долгой строки на большие стиховые единицы - хельминг
(полустрофу) или на целую строфу. Для достижения этой цели под-
бирались и последовательно соединялись имена, аллитерирующие на
один и тот же звук. Ср. Allra flagda pula, строфа 4: М ег Glossa, / og
Gullkjapta, / Gjalp, Gripandi, / og Greppa hin fimmta; Jotna heiti I, строфа
2: Hardverkr, Hrokkvir / ok Hastigi, / Hrassvelgr, Herkir / ok Hrimgrimnir,
/ Hymir ok Hrimjnirs, / Hvalr, brigeitir [Skj В I: 659].
Итак, «Тула всех троллей» - это перечень имен, при всех
отмеченных здесь различиях, весьма напоминающий более ранние
исландские поэтические перечни имен, и в том числе никак не оза-
главленные в рукописях версифицированные каталоги скальдиче-
ских хейти, которым впоследствии было присвоено ученое название
«тулы». Поскольку, как мы могли убедиться, наименование pula было
применено в Allra flagda pula к организованным аналогичным обра-
зом перечням имен, остается заключить, что в древнеисландском тек-
сты такого рода действительно могли обозначаться термином «тула».
На это можно было бы возразить, что, в отличие от прочих перечней,
«Тула всех троллей» не исчерпывается собственно перечислением
имен, занимающим шесть с половиной строф из десяти, и что ее за-
ключает стихотворное проклятие, напоминающее то, которое мы на-
ходим в одной из строф «Заклятия Буслы» (ср. Buslubcen st. 3: Villisk
vasttir, / verdi odoemi, / hristisk hamrar, / heimr sturlisk, / versni vedratta...
«Да заблудятся духи, произойдут неслыханные события, сотрясутся
скалы, мир придет в смятение, разразится непогода...» [ЕМ: 127]), а
последнее, напомним, также характеризуется как «тула». Весьма со-
мнительно, однако, чтобы наименование pula во вступлении к «Туле
всех троллей» относилось именно к этим заключительным строфам,
которые сопровождают перечень имен великанов и великанш и в силу
его особого назначения в данной саге неотделимы от него. Герой про-
износит имена троллей, чтобы победить их: назвать тролля по имени
означало одержать над ним верх, уничтожить его вредоносную силу
или даже его самого [Jiriczek 1894: 5; Armann Jakobsson 2006: 55]. Если
же, исходя из особой функции Allra flagda pula, пойти еще дальше и
предположить, что словом pula в древнеисландском обозначались во-
все не перечни имен, но заклинания, то будет невозможно объяснить
17В рукописях, наряду с формой Frusk, встречается и другой вариант: Fruska
[LMIR, IV: 67].
196
все прочие рассмотренные выше случаи употребления этого слова, за
исключением, разумеется, примера из «Заклятия Буслы».
Между тем, то обстоятельство, что «тулами», судя по всему,
и в самом деле именовали перечни имен, не исключает возможности
того, что наряду с nafna-pulur (тулами имен) название pula применя-
лось и к песням, обладавшим некоторыми общими с ними свойствами,
и прежде всего простотой формы и монотонностью, что, по всей види-
мости, и нашло отражение, как в наиболее ранних доступных нам при-
мерах употребления этого слова в скальдических стихах, так и в наиме-
новании существующего и по сей день в Исландии фольклорного жанра.
Издания памятников и словари
Edda. Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmalem / Hrsg. von
G. Neckel. I: Text. Vierte, umgearb. Aufl. von H. Kuhn. Heidelberg, 1962.
Названия эддических песней:
Vsp. - Voluspa «Прорицание вёльвы»
Hav. - Havamal «Речи Высокого»
Rp. - Rigspula «Песнь о Риге»
Cleasby 1957- Cleasby R., Gudbrand Vigfusson, Craigie W A. An Icelandic-Eng-
lish Dictionary. 2nded. Oxford, 1957.
EM - Eddica Minora. Dichtungen Eddischer Art aus den fomaldarsogur und an-
deren prosawerken / Hrsg. von A. Heusler und W. Ranisch. Unveranderter
Nachdruck der ersten Aufl. Darmstadt, 1974.
FSN - Fomaldar sogur Nordrlanda. Bd. I—III / Udg. C. Ch. Rafn. Kobenhavn, 1829-
1830.
IO - Asgeir Blondal Magnusson. Islensk ordsifjabok. Reykjavik, 1989.
LMIR - Late Medieval Icelandic Romances. Vol. IV. / Ed. A. Loth. (Editiones ama-
magnaeanae). Copenhagen, 1964.
LP - Finnur Jonsson. Lexicon poeticum antiquae linguae septentrionalis: Ordbog
over det norsk-islandske skjaldesprog oprindelig forfattet af Sveinbjom
Egilsson. 2. Udg. Kobenhavn, 1966.
MS - Medieval Scandinavia. An Encyclopedia / Ed. Ph. Pulsiano, K. Wolf. New
York and London, 1993.
ONP - Ordbog over det norrone prosasprog. A Dictionary of Old Norse Prose.
Udgivet af Den amamagnaeanske kommission / Ed. H. Degnbol et al.
Kobenhavn, 1989- <www.onp.hum.ku.dk>
Skj - Den norsk-islandske skjaldedigtning (A I—II: Tekst efter handskrifteme; Bd. I—II:
Rettet tekst) / Udg. ved Finnur Jonsson. 2. udg. Kobenhavn, 1967-1973.
SkP II - Poetry from the Kings’ Sagas 2: From c. 1035 to 1300. Skaldic Poetry of
the Scandinavian Middle Ages / Ed. by К. E. Gade. Turnhout, Belgium,
2009. Vol. II. Two parts.
SkP III - Poetry from Treatises on Poetics. Skaldic Poetry of the Scandinavian Mid-
dle Ages / Ed. by К. E. Gade and E. Marold. Vol. III. (forthcoming).
197
SnE - Snorri Sturluson. Edda: Skaldskaparmal. Vol. I—II / Ed. A. Faulkes. London,
1998. Vol. I.
МЭ - Младшая Эдда / Изд. подготовили О. А. Смирницкая, М. И. Стеблин-
Каменский. М., 1994 (Литературные памятники).
Литература
Гуревич 1989 -Гуревич Е. А. Характеризующее хейти в тулах и его прототипы
(к проблеме «скальдическая синонимика и мифологическая номи-
нация») // Эпос Северной Европы. Пути эволюции / Под ред. Н. С.
Чемоданова. М., 1989.
Гуревич 1994 - Гуревич Е. А. Эволюция жанра тулы в средневековой исланд-
ской литературе // Проблема жанра в литературе Средневековья / Под
ред. А. Д. Михайлова. М., 1994.
Гуревич 2008 -Гуревич Е. А. К вопросу о соотношении двух редакций тул поэтиче-
ских синонимов в «Младшей Эдде» // Германистика. Скандинавистика.
Историческая поэтика (К дню рождения О. А. Смирницкой). М., 2008.
Гуревич, Матюшина 2000-Гуревич Е. А., Матюшина И. Г Поэзия скальдов. М., 2000.
Ершова 2001- Ершова Е. О. Исландские поздние тулы: эволюция жанра // Ат-
лантика. Записки по исторической поэтике. Вып. V. М., 2001.
Матюшина 2001- Матюшина И. Г Поэтика рыцарской саги. М., 2002.
Смирницкая 2003- Смирницкая О. A. Nomina dicendi в названиях эддических
песней // Philologica Scandinavica. Сборник статей к 100-летию со дня
рождения М.И. Стеблин-Каменского / Отв. ред. Б. С. Жаров. СПб., 2003.
Armann Jakobsson 2006 -Armann Jakobsson. The Good, the Bad and the Ugly: Bardar
saga and Its Giants // The Fantastic in Old Norse / Icelandic Literature. Sagas
and the British Isles. The Thirteenth International Saga Conference. Durham
and York, 6th-12th August, 2006 / Ed. J. McKinnell et al. Durham, 2006.
Clunies Ross 1987- Clunies Ross M. Skaldskaparmal: Snorri Sturluson’s ars po-
etica and Medieval Theories of Language. Odense, 1987.
Finnur Jonsson 1923- Finnur Jonsson. Den oldnorske og oldislandske Litteraturs
Historie. Bd. I—III. 2nd ed. Copenhagen, 1920-1924. Bd. II. 1923.
Gade 1991 - Gade К. E. Fang and Fall: Two Skaldic termini technici H Journal of
English and Germanic Philology. 1991. Vol. 90.
Halvorsen 1976- Halvorsen E. F. bulur // Kulturhistorisk leksikon for nordisk mid-
delalder. Bd. 20. 1976.
Jiriczek 1894- Jiriczek O. L. Zur Mittelislandischen Vblkskunde. Mitteilungen
aus ungedruckten Amamagnaanischen handschriften // Zeitschrift fur
deutsche Philologie. 1894. Bd. 26.
Kreutzer 1974- Kreutzer G. Die Dichtungslehre der Skalden: Poetologische Ter-
minologie und Autorenkommentare als Grundlage einer Gattungspoetik.
Kronberg Ts., 1974.
Vogt 1927a - Vogt W H. Stilgeschichte der eddischen Wissensdichtung: Der Kul-
tredner фи1г). Breslau, 1927.
Vogt 1927b - Vogt W. H. Der fruhgermanische Kultredner, J)ulr, J)ula and eddische
Wissensdichtung//ActaPhilologica Scandinavica 1927. Vol. 2.
198
Vogt 1942 - Vogt W. H. Die hula zwischen Kultrede und eddischer Wissensdichtung //
Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Gottingen, Phil.-Hist.
Klasse, 1942. Bd. 1.
Summary
The article discusses one of controversial issues of Old Norse
scholarship, i. e. the use and the implications of the word pula (pl. pulur) in
Old Icelandic. The termpulur is generally applied to versified catalogues of
poetic synonyms (heiti) for the main subjects of skaldic verse transmitted in
the mss of Snorra Edda, where they are added to the end of Skdldskaparmdl
(Skm). In none of the mss containing the so-called pulur, however, are these
sets of stanzas introduced with a title that could give even the slightest idea
of the name such enumerations of heiti could bear in Old Norse tradition.
Since the Old Norse word designating these lists cannot be ascertained, and
the term pulur is actually a scholarly convention, this term and its relevance
for the Old Norse poetic catalogues of names deserves a more thorough
consideration. The paper provides an analysis of all the contexts in which
the word pula appears in Old Norse, laying special emphasis on Allra flagda
pula ‘The pula of all trolls’, an enumeration of ninety giants’ and giantesses’
names in the form of an alliterative poem found in Vilhjalms saga sjods.
Comparison of Allra flagdapula with the respective lists of Jotna heiti I, II
and Trollkvenna heiti found in the sets of the so-called pulur in Skin leads
to the conclusion that the compiler of the pula in VUhjalms saga had most
probably not consulted the latter lists. But as regards the ways the names
enumerated in this pula are put together and arranged into pairs, including
the apparent tendency to use, in addition to alliteration, such mnemonic
devices as internal or end rhyme, it is evident that Allra flagda pula was
composed in the same traditional genre of list-poems as the so-called pulur
in Skm, which justifies the scholarly definition of the name pula. The other
preserved Old Norse examples show that this term was also used in a wider
sense than ‘a versified list of names’ and was likely to have been applied to
certain kinds of monotonous, unsophisticated poems in the eddic metres.
Рецензии
«Поэтика Традиции», Санкт-Петербург:
Европейский дом, 2010. - 393 с.
В 2010 году в издательстве Европейский дом под редакцией
Я. В. Василькова и М. Л. Кисилиера с предисловием Ю. А. Клейнера
вышел в свет сборник научных статей «Поэтика традиции». Сборник
посвящен памяти Б. Н. Путилова, имя которого стоит в ряду таких вы-
дающихся фольклористов и эпосоведов, как Ф. И. Буслаев, А. Н. Весе-
ловский, В. М. Жирмунский, В. Я. Пропп, М. Пэрри и А. Б. Лорд. Это-
му посвящению соответствует и тематика сборника, и, как мы увидим
далее, уровень опубликованных в нем исследований.
Сама публикация сборника «Поэтика Традиции» преследует
весьма благородную и в то же время весьма амбициозную цель воз-
рождения в Санкт-Петербурге традиции сравнительного эпосоведе-
ния, прервавшейся с уходом Б. Н. Путилова. Следует отметить, что
постановка такой цели - это не благостные намерения или проект на
будущее. Авторы статей, представленных в сборнике, не только при-
нимают активное участие в семинарах и конференциях по сравнитель-
ному исследованию эпоса, но и сами регулярно организуют встречи,
семинары, заседания, посвященные проблемам поэтики устной традиции,
создают электронные базы данных различных эпических традиций, раз-
рабатывают энциклопедию устной традиции, привлекают к исследовани-
ям студентов, осуществляют вместе с ними полевые исследования. Все
это свидетельствует о том, что в Санкт-Петербурге действительно воз-
рождается настоящая школа сравнительного изучения эпических тради-
ций. Одним из доказательств тому является и рецензируемый сборник.
Данный труд представляет собой результат теоретического
осмысления проблем, связанных с устной формульной традицией в це-
лом, и описаний конкретных явлений, форм и особенностей различных
эпических традиций. Материал исследований действительно обширен:
здесь представлены не только традиционные индоевропейские эпические
традиции (древнеиндийская, древнегреческая, германская), но и арабская,
кавказская (нартская), а также средневековые ирландские и немецкие тексты.
Здесь же рассматриваются вопросы, связанные с аутентичностью тра-
диционных произведений и созданием псевдо-традиций («удмуртский эпос» -
статьи В. В. Напольских и В. С. Чуракова), а также дается исчерпывающий обзор
новых и новейших исследований эпосов народов Сибири (Е. Н. Кузьмина).
200
В качестве приложения публикуется - впервые на русском языке -
фарерская баллада «Реин-кузнец», открывающая «ситурдовский цикл» скан-
динавских баллад (перевод и комментарии Д. Д. Пиотровского).
Исходя из содержания работ, сборник можно разделить на две
части: теоретическую и практическую. Несомненно, практически каж-
дая работа, так или иначе, затрагивает теоретические аспекты исследо-
вания и в то же время описывает практический материал, представля-
ющий собой основу для последующих теоретических размышлений.
Однако такое разделение, несмотря на всю его условность, в данном
случае вполне обоснованно: статьи Ю. А. Клейнера и М. Л. Кисилиера
посвящены анализу языка поэтической традиции и сопряженными с
ним важными вопросами в большей степени in abstracto.
Статья Ю. А. Клейнера «Язык поэтической традиции в син-
хронии и диахронии» открывает сборник «Поэтика традиции». Уже
само присутствие в названии работы соссюровских терминов дает воз-
можность предположить, что язык устной эпической традиции может
представлять из себя некую систему, которая, как и язык в целом, име-
ет свою историю, единицы, уровни, т. е. является некой объективной
лингвистической реальностью, изучение которой требует не только
методологической строгости, но и, прежде всего, терминологической
определенности. А именно этого, по крайней мере, в отношении глав-
ной, базовой единицы эпоса - формулы - не наблюдается в исследова-
ниях, посвященных устной эпической традиции. Формулу многие по-
нимают как клише, где фиксированы все отдельные элементы, сумма
которых и является выражением общего значения. К тому же в фор-
мульной теории Пэрри-Лорда были введены еще и такие понятия как
«формульное выражение» и «система подстановок», что, к сожалению,
не способствовало прояснению статуса формулы как таковой, а, на-
против, привело к двойственности в понимании формул и систем (под-
становок). Однако, как отмечает автор, если формулу не воспринимать
как метафору, а рассматривать ее с терминологической точки зрения,
тогда ее следует сравнивать скорее с химической формулой, например
воды (Н2О), в которой описывается на абстрактном уровне соотноше-
ние атомов-элементов, а не конкретное их количество в той или иной
системе измерения. Таким образом, формула это некая абстрактная
единица, модель с заданными параметрами (ритмическими, синтак-
сическими и базовым семантическим элементом), по образцу которой
путем подстановок реализуется та или иная мысль. Сочетания же слов,
входящих в формулу сами по себе не являются формулой, а есть лишь
ее реализация. «Число подстановок, а значит, и число словосочетаний,
строящихся по данной модели (формуле) не ограничено, по крайней
мере, теоретически» (с. 23). Следовательно, формула - не некий гото-
вый набор застывших словосочетаний, который сказитель держит все
201
время в голове, чтобы в нужный момент вставить в свое повествова-
ние. Напротив, формула - это базовая единица грамматики эпического
языка, который, как и обычный язык усваивается (возможно, изучает-
ся) как часть системы. При этом, сумма лексем, входящих в формулу,
не являет собой ее общее значение, которое на самом деле определяет-
ся ядерным словом, т. е. «Стольный град Киев» = «Киев», «пьяная кор-
чма» = «корчма», при условии, что они встречаются в определенных
метрических схемах. Как еще раз подчеркивает автор, формула «...яв-
ляется абстрактной единицей (наподобие лексемы естественного язы-
ка), реализующейся в виде последовательности инвентарных единиц
естественного языка (слов), использующихся в качестве строительно-
го материала каждого конкретного воплощения формулы» (с. 32). В та-
ком случае аналогия с соссюровской синхронией и диахронией вполне
уместна: язык эпической традиции - это отдельная изоморфная есте-
ственному языку система со своей особой грамматикой. Рассматривая
различные аспекты «грамматики» данного особого языка Ю. А. Клей-
нер анализирует и более крупные единицы эпического языка, а именно
эпические темы, которые понимаются как «структурные единицы». В
свою очередь формулы «...задают структуру темы или расположение
тем в произведении, т. е. его тематическую структуру» (с. 36). Особен-
ности функций тематических элементов автор анализирует на приме-
ре широкого материала из германского героического эпоса: например,
убедительно демонстрируются функциональные различия тематиче-
ских маркеров пй и hwcet в древнеанглийских эпических произведе-
ниях. Рассматривая вопрос соотношения темы и мотива в эпическом
языке, автор затрагивает диахронический аспект в изучении формулы,
которая при подходе, ориентированном на модель, всецело принадле-
жит сфере синхронии. Диахрония неизбежно возникает в том случае,
когда «...сравниваются именно «мотивы», которые становятся «тема-
ми» лишь в рамках данной поэтической традиции» (с. 40). При этом
при реконструкции элементов формул восстанавливаются «опорные
слова», которыми может стать любой элемент формульного сочетания.
Каковы же элементы формулы с точки зрения структуры, ка-
кова минимальная и максимальная «наполняемость» формул, какими
свойствами она обладает, каковы существенные отношения между со-
ставными элементами, наполняющими формулу? Ответы на эти во-
просы даны в статье М. Л. Кисилиера «Что это такое - язык поэти-
ческой традиции. В поисках подходов к языку греческой традиции».
Анализируя на примере греческого материала такие свойства формулы
по Пэрри-Лорду как повторяемость, устойчивость состава и семанти-
ческая нерасчленимость структуры (например, хитроумный Одиссей -
это просто Одиссей, причем выяснение мотивов соединения эпитетов
с опорным, ядерным словом автор справедливо предлагает рассма-
202
тривать как этимологию поэтического языка) М. Л. Кисилиер находит
разделение формулы на ядро и периферию, предложенное Пэрри и
Лордом, неудовлетворительным. При таком разделении действительно
бывает сложно выделить, какой из элементов несет более существен-
ную информацию, что убедительно показывается на примерах. Выход
из создавшегося затруднительного положения автор видит во введении
нового понятия «вершины» - «.. .элемент, стоящий во главе некоторой
синтаксической структуры и обуславливающий форму данной струк-
туры и отношения внутри нее» (с. 61) - и вообще в полном пересмотре,
а точнее наполнении четким содержанием понятия формулы. Можно
сказать, что М. Л. Кисилиер для преодоления всех затруднений, свя-
занных с данным понятием, вводит не только новые термины, но и в
целом формулирует основные правила новой «Грамматики составляю-
щих» для непротиворечивого описания языка устной эпической тра-
диции и формулы в частности. Так, кроме вершины вводятся и такие
понятия как ветвление, запрет на ветвление, минимальный шаг ветвле-
ния. Это позволяет автору убедительно ответить на вопросы о составе
формулы, который описывается шагом ветвления с минимумом в один
слог. Затрагивает автор и вопрос о семантических составляющих, ко-
торые определяют типы ядерных вершин. По сути - речь идет о темах
в терминах классической формульной теории. Таким образом, новый
формальный язык описания или даже новая грамматика эпического
языка, предложенная М. Л. Кисилиером, помогает нам объяснить, на-
пример, такие случаи, когда для описания одинаковой ситуации при
совпадении стихотворного размера и практическом отсутствии лекси-
ческих параллелей требуется разное количество строк.
Теоретическая ценность статей, рассмотренных выше, заклю-
чается не только в том, что в них предлагаются пути решения наиболее
спорных аспектов в подходах к изучению эпического языка, но еще (и
в еще большей степени) в том, что эпическая традиция рассматривает-
ся как отдельный язык со своей грамматикой, системный анализ кото-
рого авторы и демонстрируют на обширном материале. Правильность
теоретических выкладок подтверждается не только данными из герман-
ских или греческих эпических произведений, но и в частности, древнеин-
дийским героическим эпосом («Махабхарата»), что убедительно показано
в статьях Я. В. Василькова, С. Л. Невелевой и А. Г. Гурии.
Прослеживая продолжение индоевропейских формул со зна-
чением «неувядающая слава» и «сохрани наших мужей (=героев) и
скот», а также их рефлексов в древнеиндийском эпосе, Я. В. Василь-
ков в статье «Индоевропейские поэтические формулы и древнейшая
концепция героизма в «Махабхарате» указывает на параллели между
проявлениями «пастушеского героизма» с одной стороны - в индий-
ских памятниках героям (hero stones) и антропоморфных стелах степ-
203
ной Евразии, а - с другой стороны - в поэтическом языке санскритской
эпопеи, «Махабхарата». Статья при этом еще раз акцентирует внима-
ние на возможности несовпадения сфер бытования устной эпической
традиции и распространения того или иного естественного языка.
Анализу процесса переплетения идей героического эпоса с позд-
нейшими философско-религиозными концепциями в рамках так называе-
мого «брахманского редактирования» на примере пятой завершающей
главы последней книги «Махабхараты» посвящена статья С. Л. Невеле-
вой «Махабхарата»: к проблеме интерпретации эпического текста». В ста-
тье затронуты различные аспекты трансформации языка устной эпиче-
ской традиции: проблемы стиля, композиции, идейного содержания.
В статье А. Г. Гурии «Эволюция плача в санскритском эпо-
се» рассмотрение эпического языка представлено несколько в ином
ракурсе, а именно, на первый план выносится еще одна сложная тема:
соотношение устной и письменной традиции. На примере трансфор-
мации темы «плача» в различные мотивы и сюжеты письменной ли-
тературы (махакавьи) автор демонстрирует механизмы возникновения
нового жанра из того, что ранее было относительно самостоятельной
структурной единицей внутри эпоса. Новый жанр, отражающий вну-
тренний мир персонажей, их психологию, приобретает особые несвой-
ственные ему ранее черты.
Проблеме соотношения устной и письменной традиции по-
священа также статья В. В. Федченко «Стефан Сахликис. Формирова-
ние критского поэтического койне». Автор рассматривает расхождения
между различными рукописными вариантами стихотворений Сахлиса,
исходя из предпосылки становления литературной традиции (поэтиче-
ского койнэ) на основе народного языка в произведениях поэта. Такой
подход позволяет выявить механизмы функционирования и развития
текста в рамках греческой поэтической традиции.
Анализ механизмов бытования нартского эпоса, поэтико-
стилевых составляющих данной поэтической традиции, включающей
языковой материал народов Северного Кавказа, представлен в ста-
тье 3. Д. Джапуа «Сходные описания встречи неравных персонажей
в нартском эпосе». Несмотря на то, что из-за отсутствия письменных
источников невозможно восстановить полную картину того, как про-
исходило развитие и формирование данного эпоса, автор на примере
сходства ряда мотивов в разных языках демонстрирует единство тра-
диции и механизмов ее реализации.
Всестороннее рассмотрение отдельной традиции в целом, а
именно, арабской племенной поэзии с ее функциональными особен-
ностями, жанрами, социальными аспектами представлено в статье
М. И. Василенко «Типы поэтов и жанровые формы в мире арабской
племенной поэзии». Одним из основных свойств арабской племенной
204
поэзии, по мнению автора, можно считать то, что Б. Н. Путилов назы-
вал в применении к фольклору «инклюзивность» («включенность»),
т. е. непосредственная соотнесенность поэзии с той или иной социаль-
ной сферой деятельности людей.
Отдельный цикл статей посвящен изучению эпической тра-
диции народов Сибири и Волго-Камья (удмуртский героический
эпос). Вопрос о создании общеудмуртского героического эпоса непо-
средственно связан с уже затрагиваемой темой соотношения устной
и письменной традиции, а также роли автора в создании письменно-
го эпоса. В статье «К проблеме реконструкции удмуртской эпической
традиции» В. В. Напольских, проанализировав обширный материал
удмуртских эпических преданий, полагает, что ни эпическое произ-
ведение «Дорвыжы» («Родные корни») М. Г. Худякова, переведенное
на удмуртский поэтом В. М. Ванюшевым, ни какие либо другие из-
вестные нам произведения авторов не смогут претендовать на роль на-
циональной эпопеи в силу их слабой связи с национальной культурно-
исторической спецификой удмуртов, с одной стороны, и завершенно-
сти процесса формирования их национального самосознания, с дру-
гой. Не могут использоваться в качестве фольклорной иллюстрации
в историко-археологических исследованиях и «Легенды о богатырях
«Дондинского круга». К такому выводу приходит автор статьи «Из
истории работы Н. Г. Первухина над циклом удмуртских легенд о бо-
гатырях «Дондинского круга» В. С. Чураков. Причиной этого является
то, что «Н. Г. Первухин произвел глубокую и целенаправленную пере-
работку имевшегося у него фольклорного материала, в результате чего
получилось произведение, не несущее той историко-культурной ин-
формации, которая содержалась в его первоисточниках» (с. 256).
Из статьи Е. Н. Кузьминой «Сибирское эпосоведение на ру-
беже XX-XXI веков» читатель узнает об истории и методиках работы
фольклористов-эпосоведов по сохранению, изучению и изданию па-
мятников живых и частично ушедших эпических традиций Сибири,
а также о проблемах сибирской фольклористики в целом, существую-
щих на сегодняшний момент.
Анализ средневековых рукописных традиций представлен в
двух статьях: С. В. Иванов «Латинские источники и ирландская тра-
диция в тексте Airdena inna coic la n-dec ria m-Brath» и H. А. Бондарко
«Продуктивные модели в языке немецкой средневековой мистической
традиции и проблема их структурного описания». На примере текста
«Знамений пятнадцати дней перед Страшным судом» С. В. Иванов де-
монстрирует сложности в определении направления заимствования мо-
тивов и способов их выражения не только между ирландскими текстами,
но и (как видно из самого названия статьи) между ирландскими и латин-
скими источниками, что во многом определяется проблемой сохранности
205
ирландских текстов лишь в поздних рукописях. В статье Н. А. Бондарко
на материале средневековой мистической прозы затрагивается вопрос
традиционной стереотипизации, основанной на некоторых моделях. Ав-
тор детально рассматривает такие понятие как формула, язык традиции,
тема, мотив, продуктивная модель, функциональный стереотип. Анализ
текстов позволяет выделить ряд продуктивных моделей, которые являют-
ся проекцией некоторого стереотипного смысла на типовую синтаксиче-
скую структуру. «Эта проекция оставляет, однако, некоторое простран-
ство для внутреннего варьирования - как лексического, так и граммати-
ческого - отдельных компонентов модели» (с. 307). Именно эта сущность
продуктивной языковой модели позволяет ей оставаться функциональной
единицей, не застывающей в клише или цитаты.
В целом, знакомство с материалами сборника «Поэтика тра-
диции» оставляет у читателя чрезвычайно благоприятное впечатление.
Можно с уверенностью сказать, что фольклористы-эпосоведы, равно
как и специалисты по языкознанию, получили в свое распоряжение
чрезвычайно интересное и полезное исследование, объединенное об-
щей идеей, которая обусловливает его почти монографический харак-
тер. Нет сомнений, что эта работа будет иметь продолжение, возмож-
но, даже станет началом серийного издания. В связи с этим хотелось
бы высказать ряд замечаний и пожеланий, неизбежно возникающих
при чтении работы такого типа. Так, мы полагаем, что можно было бы
разбить статьи на разделы с соответствующим для каждой отдельной
части заглавием. Подобное тематическое членение материала сборни-
ка облегчало бы восприятие представленных статей в плане их взаи-
мосвязи с разбираемыми теоретическими и практическими аспектами
устной эпической традиции. Хотелось бы также увидеть дальнейшее
всестороннее применение теоретических положений, разработанных
в частности Ю. А. Клейнером и М. Л. Кисилиером, на практическом
материале, и мы надеемся, это будет представлено в ряде статей в по-
следующих сборниках на данную тематику.
Отрадно отметить, что рецензируемый сборник статей орга-
нично сочетает в себе как теоретические воззрения, так и практиче-
ские наработки, интересные наблюдения над конкретным материалом.
Сборник представляет значительную ценность для фольклористов-
эпосоведов, аспирантов и преподавателей, он будет полезен также и
для обучения студентов-филологов различных направлений.
В. А. Бондарь
206
Bernard Mees. Celtic Curses. 2009, Woodbridge:
The Boydell Press. 229 p.
Монография Бернарда Миса (напечатанная мелким шрифтом
в увеличенном формате) представляет собой объемный фундаменталь-
ный труд, основную цель которого, как формулирует это в Предисло-
вии автор, представляет собой попытка «предложить сравнительное
филологическое исследование кельтских проклятий, увидеть в глубине
разницы во времени и в пространстве, что именно отличает континен-
тальных кельтов от их островных кузенов, выявить при помощи линг-
вистического и текстологического сопоставления суть островного кель-
тского нативизма в рамках той традиции, которой были известны кельты
Средневековья» (р.9). Надо отметить, что термином «нативизм» Б. Мис в
своей работе пользуется довольно часто, понимая его при этом, как нам
кажется, слишком широко и обтекаемо. Действительно, в ирландистике с
середины 50-х гг. прошлого века установилось противопоставление «на-
тивизма» и «антинативизма» как научных течений внутри исследований,
как правило, посвященных средневековой ирландской традиции. Так сто-
ронники первого течения (Пр.МакКана, А. и Б. Рисы и их многочислен-
ные предшественники) предлагали видеть в дошедших до нас нарративах
отголоски дохристанских верований и преданий, тогда как вторые (оппо-
зиционеры и новаторы: Дж.Карни, К. МакКои, Д. Дамвилль, Дж. Кэри)
склонялись к идее, что многие сюжеты и мотивы были заимствованы в
античной и библейской традиции. В настоящее время эти споры явля-
ются уже устаревшими, хотя ни одно из направлений нельзя назвать
«победившим». Судя по изложенной автором книги «истории вопро-
са», в которой термин «антинативизм» вообще не упоминается (а его
зачинатель - Дж.Карни - назван сторонником нативизма), под «нати-
визмом» он понимает одновременно и попытки отказать ирландской
традиции в ее автохтонности, и саму эту автохтонность, незаслуженно
отрицаемую исследователями. Вызывает удивление и идея автора, что
после 1960-х годов кельтская лингвистика вообще отошла от собствен-
но языковых данных и сосредоточилась на изучении церковной мисти-
ки. Все Предисловие, многословное и изобилующее ссылками на клас-
сические кельтологические работы, отдает своего рода прозелитством
и в общем кажется даже лишним. Ценность книги Б. Миса - скорее в
представленном и собранном им богатейшем материале.
Первая глава книги «Подземные силы» (Infernal Powers) по-
священа анализу известной галльской свинцовой таблички из Шама-
льер. Найденная в 1968 г., она является одним из ценнейших памят-
ников галльского языка, поскольку представляет собой достаточно
207
длинный связный текст (12 строк). Литература «по вопросу» огромна
и во многом противоречива, как в том, что касается прагматики текста
(проклятие или апотропеический заговор), так и в прочтении состав-
ляющих текст лексем и их синтаксиса. Последней проблеме Б. Мис
уделяет мало внимания и, признаемся, нам не совсем понятно, на ка-
кой из вариантов прочтения он опирается в своем переводе, называя
его «лучшим» (р. 14). Важным наблюдением автора выглядит поста-
новка самого объекта в историко-мифологический контекст: он спра-
ведливо полагает, что на трактовку текста, как и объекта в целом, дол-
жен проецироваться тот факт, что табличка была найдена в священном
источнике, среди других объектов вотивного характера, не имеющих
надписей (фигурки, изображения рук, ног и других органов, види-
мо, излеченных покровителем источника). Причем, как он отмечает,
многие объекты датируются уже христианским периодом, что демон-
стрирует сохранность и преемственность традиции в данном регио-
не. Божеством данного источника, видимо, является Мапон (Мароп),
имя которого автор справедливо соотносит с валлийским божеством
Мабоном, а также - ирландским Энгусом Юным Сыном (Мас 6с), яв-
ляющимся богом любви, возрождающейся природы, а также - лекарем
(соотносился с Аполлоном, см. об этом [Калыгин 2006: 109]). Не со-
всем ясным при этом оказывается мотивировка прагматики таблички
(автор все же склоняется к идее, что это - проклятие, а не заговор на
здравие). Сравнивая данный памятник с одной из самых ранних свин-
цовых табличек, найденных возле города Италика (на юге Испании),
в которой анонимный автор текста также обращается к покровитель-
нице источника и просит ее наказать того, кто украл его сандалии,
Б. Мис, как мы понимаем, предполагает своего рода функциональную
универсальность галльских божеств, которые одновременно могли и
излечивать больных, и наказывать виновных (каковыми он полагает 12
перечисленных в табличке лиц). Кроме того, не следует забывать, что
непосредственным адресатом текста таблички являются «подземные
боги», упомянутые в первой строке: andedion uediiumi - «к подземным
взываю». Таким образом, в контексте Греко-римской магии, использу-
ющей для проклятий свинцовые таблички, текст которых был адресован
обычно подземным богам и которые содержали списки проклинаемых,
табличка из Шамальер действительно выглядит скорее как проклятие.
Интересно предположение автора о том, что зачин «прокля-
тия» представляет собой метрический текст (что кельтологами обсуж-
далось неоднократно), при чем его первое слово andedion оказывается
как бы параллельным последнему - anderon ‘внизу’. Автор в данном
случае проводит параллель с правилом средневековой ирландской
поэзии, в которой первое слово поэмы должно было совпадать с по-
208
следним. И все же - это явление гораздо более позднее, и данное сопо-
ставление кажется натянутым, хотя и не лишенным смелости.
Во второй главе «Темные воды» (Dark Waters) Б. Мис в основ-
ном обращается к описанию культа богини Сулис-Минервы и описа-
нию ее храма, расположенного около Бата (Англия) и почитаемого еще
в до-римские времена. Богиня-покровительница священного источни-
ка, чье имя одновременно соотносится с и.-е. обозначением Солнца
и др.-ирл. названием глаза (suil), Сулис была божеством, к которому
обращались для исцеления (в первую очередь - зрения, но не только).
Кроме того, сам горячий источник действительно был целебным, что
оценили занявшие в начале н. э. этот район римляне, устроившие ря-
дом публичные бани, и, как мы бы сейчас сказали - «оздоровительный
центр». В ходе раскопок на месте терм и рядом с ними было найде-
но множество вотивных подношений, монет, а также - примерно 130
табличек, содержащих в основном латинские проклятия в адрес тех,
кто похитил те или иные детали одежды посетителей («За пропажу из
гардероба ценных вещей администрация ответственности не несет»).
Видимо, римляне все же считали богиню в чем-то ответственной за
многочисленные пропажи, потому что таблички, как правило, адре-
сованы были именно к ней: «Солинус - Сулис Минерве. Я поручил
твоему могуществу и достоинству мою тунику и плащ. Пусть же не бу-
дет ни сна, ни здоровья тому, кто нанес мне вред, будь то мужчина или
женщина, раб или свободный, пока он не вернет украденные вещи и не
принесет их в твой храм...»(р. 31). Как отмечает автор, многие таблички
писались по одной и той же модели и даже одним и тем же почерком, что
предполагает присутствие при термах особого «проклинателя», который
отвечал таким необычным для нас образом за сохранность оставленных в
раздевалке вещей. Надо сказать, что здесь автор не совсем точен: в других
исследованиях, посвященных табличкам из Бата (в первую очередь - в
работе самого их издателя Р. Томлина) отмечается, что судя по «рукам»
все таблички были выполнены разными людьми. Однако, действительно
обращает на себя внимание поразительная шаблонность и клиширован-
ность самих надписей, что роднит их с заговорной традицией.
Среди латинских надписей сохранились две, которые можно
считать кельтскими (датируются 2-3 вв. н. э.). Состояние их не очень
хорошее и прочтение во многом дискуссионно; более того, ряд ис-
следователей признает за ними лишь очевидность упомянутых в них
бриттских имен проклинаемых, тогда как «рамочный» текст предлага-
ет оценивать как искаженную латынь (см. [RIG, II.2: 304-308; Tomlin
1987]). Б. Мис оставляет все эти лингвистические дебаты как бы вне
рамок своего исследования и дает однозначное (и довольно сомнитель-
ное) прочтение текстов табличек, что в общем можно понять: для него
209
важен сам факт, что таблички с проклятиями входили в культуру древних
бриттов и что они соотносились со священными водами - одновременно
источником жизни и здоровья и входом в Иной мир, куда и были адре-
сованы проклятия. В том, что касается почитания вод и амбивалентного
отношения к ним у кельтов - тут, естественно, у нас нет и не может быть
возражений, но видеть кельтское наследие в двух табличках, пусть даже
содержащих кельтские имена и отдельные слова, мы не можем. Они сле-
довали той же модели (культурной, орфографической, магической), по ко-
торой были изготовлены остальные 128 tabellae defixionum, и свидетель-
ствуют скорее о широкой романизации бриттского общества в начале н. э.
Третья глава «Гробница Геммы» (Gemma’s Tomb) представля-
ет собой описание знаменитой таблички из Ларзака, которая действи-
тельно была найдена в гробнице молодой девушки по имени Гемма
(см. подробнее о ней в [Михайлова, Чехонадская 2005]). На этот раз,
как верно отмечает автор, локус размещения заговорного текста никак
не связан с водной стихией, и скорее следует греко-римской модели
(погребения). Однако специфическую кельтскость самой надписи он
справедливо видит в упоминании корня briht- ‘заклинание’, который
в данном значении встречается и в тексте таблички из Шамальер, и в
более поздних ирландских памятниках: саге «Приключение Коннлы»
и так называемой «Лорике святого Патрика» (в обоих случаях нарратор
говорит именно о «женских заклинаниях», что действительно подтверж-
дается длинным списком женских имен в табличке из Ларзака и, более
того, присутствующим там словосочетанием bnamom brihtom - «женщин
заклинаний»). Данный момент для кельтологии является уже своего рода
«хрестоматийным» (см. об этом в нашей публикации [Михайлова 2008:
182]), и как мы понимаем, в монографическом исследовании о прокляти-
ях и заклинаниях не упомянуть об этом Б. Мис просто не мог.
Последующие главы посвящены гораздо менее известному
материалу и тем самым представляют несомненно больший интерес.
Так в главе четвертой «Мольбы о мести» (Vengeful Prayers) автор об-
ращает внимание на ряд латинских табличек, которые, по его мнению,
не восходят к античной традиции, и выдают «автохтонные модели
проклятий, не укладывающиеся в формулы имперских завоевателей»
(р.70). К ним, например, относится табличка из Монфло, содержащая
странный термин - necrocantum, в котором Б. Мис склонен видеть
греко-галльское образование с общим значением «смертная песнь»,
видимо отражающее галльские практики песнопений, призванных
принести вред проклинаемому. Может быть, он и прав, но тут неволь-
но вспоминается древнеирландский термин marb-nath ‘смерте-песнь’,
который означает совсем другое: погребальную песнь. О погребальной
поэзии у галлов писал и Лукан в «Фарсалии».
210
Два других текста в интерпретации Б. Миса вызывают еще
большее недоумение. Первый представляет собой надпись на стран-
ном объекте - завернутая в свинцовую табличку монета (RIG - L-101),
найденная в одном из погребений возле местечка Шассань в южной
Франции. Текст не поддается однозначной дешифровке, и объект в
целом принято считать скорее амулетом на счастье, чем табличкой с
проклятием (см. [Fleuriot 1986: 63-70]). Однако сам факт размеще-
ния данного объекта на кладбище заставляет автора также увидеть в
нем defixio, более того, дать свой перевод проклятия, вообще никак не
мотивированный и лишенный каких бы то ни было лингвистических
комментариев. Естественно, его текст значительно отличается от ин-
терпретации кельтолога-лингвиста Л. Флерио. В принципе, такое воз-
можно: галльские тексты с трудом поддаются однозначной интерпре-
тации и часто встречается несколько разночтений, разных переводов,
трактовок и даже - деления на слова. Но исследователь, который хочет
оспорить мнения предшественников (и имеет на это право), должен
как-то мотивировать свою интерпретацию!
Дальше - больше! Черепица из Шатобло (найдена в 1997 г.,
см. о ней [Михайлова 2008а], в которой П. И. Ламбер видел свадеб-
ный гимн, а мы - любовный заговор, также признается Б. Мисом как
проклятие, направленное против воров. Основной мотивировкой та-
кой интерпретации он полагает тот факт, что черепица была найдена в
колодце. Но колодец этот был далеко не священным, да и лежала она,
разбитая, в груде строительного мусора, который вряд ли можно ква-
лифицировать как вотивные подношения. Отталкиваясь от очевидных
для перевода слов beni ‘жена’ (асе.) и bouido ‘стадо коров’ (?), автор
основную прагматику надписи видит как проклятие, направленное
против женщины, которая угнала чей-то скот!
Глава пятая, «Фрагменты» (Fragments) описывает несколько
мало известных и довольно поздних табличек, найденных также на
территории Галлии, язык которых традиционно считается как бы пере-
ходным - от народной латыни уже к прото-французскому, причем тек-
сты их в значительной степени испорчены, фрагментарны и читаются
плохо. В данном случае автор безусловно прав в том, что привлекает
внимание читателей к этим памятникам и текстам (имеющим допол-
нительную ценность - уже для романистики), и наверное справедливо
предлагает видеть в них, кроме искаженных латинских слов, народные
формы галльского языка, особенно - в повторяющихся «магических
формулах». Возможно, он прав и в том, что в этих формулах, пере-
вести которые сейчас очень трудно, содержатся реальные галльские
проклятия, которые уже воспринимались гравером как заклинания-
211
«абракадабры»1. Кажется правомерным желание автора увидеть в этих
смешанных текстах элементы метризованности. Но попытка переве-
сти их вновь предстает как фантастическая! Так, например, в переводе
довольно длинной надписи из Ром (RIG: L-99) несколько раз повто-
ряющееся слово рига Б. Мис переводит как «сжигание», видимо, видя
здесь продолжение одной из и.-е. основ, обозначающих огонь (см.
[IEW 828]), но забывая при этом о падении и.-е. р- в кельтском.
В шестой главе «Доспехи и заклинания» (Breastplates and
clamours) Б. Мис обращается уже к материалу более позднему и в
основном - ирландскому. Он упоминает традицию ирландских поэтов
исполнять поэтические хулительные стихи против королей и сравни-
вает эти поэмы с также широко представленными в местной традиции
описаниями проклятий святых (направленных против тех же королей).
При этом он совершенно справедливо полагает, что если поэтическая
хула и восходит к какой-то архаической кельтской устной традиции,
то проклятия святых в качестве образца имеют скорее традицию би-
блейскую, в частности - псалмы, некоторые из которых действительно
представляют собой проклятия против врагов. Сходство, таким обра-
зом, оказывается мнимым.
Вторая часть главы описывает так называемые «лорики» (лат.
lorica) - оградительные песни, бытовавшие в основном в монастыр-
ской среде. Здесь автор солидарен с другими исследователями, кото-
рые считают, что сам жанр «лорик» восходит все к тем же табличкам с
проклятиями, как бы перевернутыми наизнанку: так, вместо проклина-
ния частей тела врага в тексте говорится о благословлении и спасении
тех же частей тела, но на этот раз обычно - своих.
Глава «Гейсы и обязательства» (Geases and Binding) посвяще-
на в основном материалу ирландских саг. Автор анализирует сюжеты,
в которых упоминается магия друидов и филидов, как правило, направ-
ленная против врагов и используемая как своего рода дополнительное
оружие во время сражений. Особый интерес с данной точки зрения
представляет приведенный им заговор-проклятие из мало известной
саги королевского цикла - «Осада Дром Давгайре» (Forbais Droma
Damhghaire), одним из героев которой является друид короля Кормака
по имени Муг Руит. Перед сражением он не только проклинает врагов,
лишая их силы, но и при помощи особого поэтического заклинания
(которое приведено в книге) изготовляет особый «камень проклятия».
Во время битвы он бросает его в реку (опять - вода!) и поражает лежа-
щего на дне угря - одну из ипостасей короля Кольпы, врага Кормака.
Это решает исход сражения. Судя по приведенным в книге отрывкам,
сага - довольно поздняя, что не лишает ее интереса: в ней можно уви-
деть отголоски преданий, бытовавших в устной народной традиции.
<хххх><><х><><><х><х><><><>^^
!Ср. аналогичное употребление ирландских формул в древнеанглийских за-
говорах, описанное в [Мегопу 1945].
212
В этой же главе автор подробно описывает систему «гейсов»
(зароков), широко известных по данным саг и трактует их также как
своего рода заклятия (важным в данном случае он считает описание
самого накладывания гейса-зарока, в чем Мис видит архаический ри-
туал «связывания клятвой»).
Последняя глава «Заклинания» (Incantations) посвящена раз-
ного рода заговорам, сохранившимся в средневековых рукописях, на-
писанных монахами и, видимо, бытовавших в монастырской среде
(см. об этом, в частности, [Кэри 2008]). Приведенные автором парал-
лели с латинскими заклинаниями галло-римского периода выглядят
убедительными. Но в таком случае, как мы осторожно отметим, стоит
ли говорить о специфически кельтской архаике и кельтских языческих
верованиях, стоящих за этими текстами?
В общем - книга содержательная, хотя местами и слишком
«романтичная». Читая ее невольно задумываешься: как много еще не
сказано и как много еще, наверное, можно (и следует) сказать об ис-
точниках кельтской словесной магии и о формах ее бытования. Мы
старались быть объективны и рецензию нашу просим считать положи-
тельной. Для заключения - дадим слово самому автору.
Литература
Калыгин 2006 - Калыгин В. П. Этимологический словарь кельтских теонимов.
М., 2006.
Кэри 2008 - Кэри Дж. Магические тексты в раннесредневековой Ирландии //
Атлантика. Записки по исторической поэтике. Вып. 8, 2008.
Михайлова 2008 - Михайлова Т. А. Крик оленя (Лорика святого Патрика). Пе-
ревод и примечания // Атлантика. Записки по исторической поэтике.
Вып. 8, 2008.
Михайлова 2008а - Михайлова Т. А. Черепица из Шатобло: памятник культу-
ры римской Галлии // Атлантика. Записки по исторической поэтике.
Вып. 8, 2008.
Михайлова, Чехонадская 2005 - Михайлова Т. А., Чехонадская Н. Ю. Галльская
«табличка из Ларзака»: прагматика и жанр // Заговорный текст: гене-
зис и структура. Изд. Т.Н.Свешникова. М., 2005.
Fleuriot 1986 - Fleuriot L. Inscription gauloise sur plomb de Lezoux // Etudes cel-
tiques, vol.23, 1986.
Merony 1945 - Merony H. Irish in Old English charms // Speculum, 20, 1945.
RIG - Recueil des Inscriptions Gauloise. Vol. II, f.2 : Textes Gallo-Latin sur Instru-
mentum. Ed. P.Y.Lambert. Paris, 2002.
Tomlin 1987 - Tomlin R. S. O. Was ancient British Celtic ever a written language ?
Two texts from Roman Bath. // BBCS, vol. XXXIV, 1987.
T. А. Михайлова
213
Приложение:
Б. Мис
Заключение: Колодцы проклятий1
Священные источники, пруды и колодцы разбросаны по всем
Британским островам, а вообще водоёмы с подобной репутацией - как,
например, древнее культовое место в Шамальере, во Франции, - из-
вестны на всей территории европейского континента. Хотя в наши дни
они интересуют не столько верующих, сколько краеведов, некоторым
из них издавна приписываются и более зловещие свойства. В местном
кельтском фольклоре упоминается несколько колодцев, которым при-
суща скорее вредоносная, чем полезная, магия; вероятно, эта традиция
является пережитком вековой связи между водоёмами и злыми чара-
ми. На первый взгляд, сохранение подобных верований в местной тра-
диции представляет собой чрезвычайно убедительное свидетельство
культурной непрерывности, восходящей непосредственно к древним
кельтам и их поверьям насчёт проклятий.
Особенно знаменитый пример такого водоёма - Финнон Эли-
ан, или Колодец святого Элиана в Лланелиан-ин-Рос (Клуйд). Согласно
местным легендам, колодцу изначально поклонялись как целебному,
но Новое время уже не застало этого культа. В XVIII веке вокруг этого
древнего уэльского колодца возник целый бизнес на наведении пор-
чи - с желающих использовать чары колодца во вред своему ближнему
брали определённую плату. Устраивалось это так: имя будущей жерт-
вы писали на клочке пергамента или грифельной дощечке и бросали
в колодец. Затем «страж» Финнон Элиан читал отрывок из Библии и
брызгал водой из колодца на проклинающего. Этот ритуал повторялся
трижды. Иногда использовалась также восковая фигурка жертвы, ко-
торую протыкали булавками (аналог античного «колоссоса»). За всё это
сторож брал с проклинающего один шиллинг, и говорят, что один из сто-
рожей зарабатывал на этой якобы древней практике до 300 фунтов в год. В
1831 г. уэльский «колдун» Джон Эванс за семь шиллингов обещался снять
порчу с предполагаемой жертвы чар колодца и был приговорён к шести
месяцам каторжных работ как мошенник. И всё же сотни местных жите-
лей продолжали использовать Колодец Святого Элиана для наведения чар
или утверждать, будто сами околдованы с его помощью, до тех пор, пока
он не был заколочен по приказу местной администрации2.
<Ю<хХ>О<><>ОО<>О<ХХ><><ХХ><><Х><><Х>С<>>О<Х>О<>
’Пер. с англ. М. В. Елифёровой.
2Е. Peacock, ‘A Welsh conjuror, 1831’, Folk-lore 1 (1890), 131-3; F. Jones, The Holy
Wells of Wales (Cardiff 1954), pp. 119-23; Bord and Bord, Sacred Waters, pp. 64-7.
214
Но вряд ли следует пытаться разглядеть за подобными фе-
номенами некую глубокую историческую перспективу; скорее они
демонстрируют, как стойкая народная вера в целебную силу источни-
ков порождала и оборотную сторону медали - острую убеждённость
в существовании магической антитезы «здоровью и счастью», - в те
времена, когда непосредственно древняя традиция вредоносной ма-
гии уже практически забылась. Этот дуализм магического мышления
может отражать преемственность по отношению к древним кельтам,
но может быть и просто выражением общечеловеческого опыта: если
мы можем желать кому-то блага, то кому-то другому можем и поже-
лать зла. С 1960-х гг., антропологи склоняются к тому, что подход с
более широкой позиции общечеловеческих ценностей эффективнее -
что возникновение таких поверий являет собой продукт типичных,
если не всеобщих, когнитивных и биологических реакций человека
на определённую ситуацию, как если бы само понятие единства кель-
тской культуры и её исторического опыта было дисквалифицировано
современной антропологией. Однако изучение народных традиций
антропологическими методами в кельтологии слишком часто заводит
в дебри спекуляций. Эмпирика исторических наук искони состояла
в тщательной работе с источниками - в том, чтобы «парить низко»,
по известной формулировке одного ведущего антрополога, который
именно так обозначил задачу теории культуры3. «Парить низко» - зна-
чит воздерживаться от тех универсалистских презумпций, которые то
и дело разбиваются волнами о кельтские берега. Традицию эмпириз-
ма XIX в. с его стремлением представлять прошлое «как оно было на
самом деле» вытеснили другие формы исторического знания, истори-
ческой интуиции и исторического идеализма, не говоря уже о ранних
направлениях эволюционистской антропологии. С другой стороны,
«новая критика» в литературоведении 1960-х оказалась лучшим эликси-
ром бодрости для того романтического историзма, который возобладал
в нативистской кельтологии предыдущих десятилетий, по мере того как
идея текстуальности - осознание текста как конструкта, который скорее
репрезентирует представления, чем объективно воспроизводит реаль-
ность, - всё прочнее укоренялась в исторических науках как всеобщий
принцип. Но, какими бы современными ни казались все эти методы, они
не могут заменить эмпирической основы анализа - максимальной близо-
сти к материалу первоисточника (даже если он труден с лингвистической
точки зрения), насколько это практически осуществимо в науке.
Дальнейшее усиление акцента на текстуальности древних ис-
точников предполагает, что такие данные, как галльские таблички с
проклятиями, невозможно обойти, если мы действительно хотим по-
<хх><хххх><х><><хх><ххх><><>оо<х><х><><хххх^
3С. Geertz, The Interpretation of Cultures: selected essays (New York 1973), p. 23.
215
нять мир вредоносной магии древних кельтов. Находки tabellae defix-
ionem в таких местах, как древних источник в Шамальере, куда лучше
помогают понять природу аналогичных предметов из Бата, чем про-
клятия островных святых или колодца Ffynnon Elian. Подобным же
образом погребальный инвентарь из гробницы Геммы в Л'Оспитале-
дю-Ларзак4 больше говорит нам о восприятии смерти и идее загроб-
ного мира в кельтском язычестве, чем спекулятивные построения со-
временных учёных, выводимые из антропологической теории - и даже
больше, чем смутные отголоски кельтских влияний, усматриваемые в
раннехристианских источниках. Древние defixiones Галлии также дают
достаточно представления об исконных практиках, концептах и сло-
весных формулах, не имеющих аналогов в классическом жанре закля-
тий (binding spells). Для некоторых из этих явлений наблюдаемые ана-
логи находятся только в островной кельтской традиции, и можно пред-
положить, что как раз в таких случаях мы, по-видимому, имеем дело
с общекельтскими поверьями и практиками, относящимися к прокля-
тиям. Если расширить ментальную карту этих поверий далее на запад,
то возникает соображение, что гейсы - на удивление долгоживущий и
специфически гэльский род магических запретов - восходят изначаль-
но к традиционным обязательствам, которые должны были исполнять-
ся под угрозой проклятия, и отражают царственно-героическую этику
необходимости соответствовать своему повысившемуся статусу. Линг-
вистические и текстуальные данные кельтских проклятий указывают
на то, что ирландцев, бриттов и галлов языческой эпохи объединяла
богатая исконная традиция магического «связывания» и предопреде-
ления судьбы - сопоставимая с аналогичными традициями других ар-
хаических культур Европы, но всё же по некоторым признакам суще-
ственно отличная от них.
Универсалистская мысль часто слабо подкреплена фактами,
нетерпима к нюансам, концептуально убога - и, хотя оскоплённые5 ин-
терпретации народных культур Африки, Азии или Океании запросто
накладываются исследователями на ушедшие в прошлое магические
традиции кельтов, подобные методы выглядят не слишком полезными
при «медленном чтении» дошедших до наших дней документальных
свидетельств о кельтской магии. Очевидно, историкам и филологам в
целом следует проявлять больше осторожности, привлекая размаши-
стые гипотезы современной антропологии к изучению культуры древ-
о<><х><х><><хх><><><>о<><х><х>^^
4 Точнее - в некрополе Ла Вессьер поблизости от Л'Оспитале-дю-Ларзак. Речь
идёт о захоронении №71, содержавшем урну с надписью Gemma (ок. 100 г.
н. э.) Не путать с галло-римской святой Геммой (II в. н. э.). - Прим. пер.
5 В оригинале - bowdlerised, выражение, которое обычно применяется к цен-
зурным переделкам непристойных текстов. - Прим. пер.
216
них кельтов. Не стоит игнорировать общеевропейские параллели толь-
ко потому, что в современной теории исторических наук в центре внима-
ния оказался по преимуществу неевропейский материал.
Внимательный филологический подход к кельтским прокля-
тиям также выявляет, что ранняя островная традиция вредоносной ма-
гии имеет мало общего с памятниками поэтической хулы, но что про-
клятия святых в островной житийной литературе вырастают главным
образом из библейской традиции. В наши дни модно переходить все-
возможные границы в интеллектуальной и культурной сфере - но воз-
никают сомнения, возможно ли допустить сколько-нибудь значитель-
ное ослабление речевых и понятийных границ между традиционными
дискурсивными моделями и жанрами в западных культурах более от-
далённого прошлого. Демаркация, существовавшая между христиан-
ством и язычеством, была особенно жёсткой там, где дело касалось
демонов, идолопоклонства и магии6. Для историков религии огорчи-
тельно, насколько современные интерпретации вымерших верований
и ритуалов затемнены присвоением, замалчиванием и эвгемеризаци-
ей. Но применительно к доисторическому или раннеисторическому
периоду в культуре Британии, Галлии или Ирландии граница между
христианством и язычеством слишком весома на текстуальном уровне,
чтобы историки могли притворяться, будто универалистские спекуля-
ции могут помочь в прочтении содержания каких бы то ни было древ-
некельтских текстов.
При всех методологических ограничениях текстуального под-
хода в антропологизированной истории и «филологической»7 литера-
турной критике наших дней, всё же остаётся теоретическое основа-
ние, на котором изначально базировались послевоенная антропология
и «новая критика» - это признание реальности языковых структур.
Лингвистический анализ отдельных терминов, словосочетаний и узу-
са общекельтского языка проклятий обещает более глубокое истори-
ческое понимание кельтской традиции проклятий и иных воздействий
на судьбу, не говоря уже о более общей картине кельтских воззрений
на магические манипуляции. Однако, кроме устойчивого упоминания
«наложения» чар, лишь отдельные названия для колдовства, такие,
как cetal, hud и bricht, и островные описания практик предопределе-
О<Х>ОО<><><><Х><Хх><Х«<><ХХ>О<><>С^
6 С точки зрения современного религиоведения, это утверждение представ-
ляется более чем спорным. Автор игнорирует такую общепринятую в наше
время - в том числе в англоязычной литературе - категорию, как народное
христианство (folk Christianity, folk piety). - Прим. nep.
7 Имеется в виду определённое направление в литературной критике. В анг-
лийском языке понятия «филология» и «литературная критика» разведены зна-
чительно сильнее, чем в русском: philology значит то, что мы бы назвали скорее
«источниковедением» или «филологической критикой источников». -Прим. пер.
217
ния судьбы и наложения заклятий могут быть доказательно связаны
со специфически древнекельтскими поверьями и представлениями. В
той же мере, в какой стихотворные размеры древнейшей островной
поэзии скорее на описательном уровне, чем на структурном или ти-
пологическом, схожи с дошедшим до наших дней континентальным
древнекельтским стихом, древнекельтские магические верования и
обряды, по видимости, находят лишь туманные отголоски в быту и
традициях средневековых Ирландии и Уэльса. Несомненно, остров-
ные и континентальные кельты сохраняли значительную социальную
и культурную общность между собой, о чём свидетельствует сохра-
нение таких общих обозначений статуса, как «филиды», «барды» и
«друиды». Более того, лексические параллели существуют в остров-
ной магической практике, хотя эту общность не всегда легко разгля-
деть. Но только чужеродность древней традиции заклятий (binding
curses) - той разновидности магических текстов, которые обнаружи-
ваются на древнекельтских пластинках - может быть причиной столь
заметных отличий древнекельтской магической традиции от того, что
наблюдается в дошедших до нас ирландских и валлийских источниках.
Соотношение между островной кельтской магией и тем, что известно
применительно к древним бриттам и галлам, по-видимому, аналогич-
но соотношению между про-клятием (conventional curses) и за-клятием
(binding spells): у них в целом много общего, даже на лингвистическом
уровне, но они представляют собой существенно различающиеся жан-
ры магической практики. Подобно тому, как идея «зрения» формирует
в кельтской традиции этимологическое ядро, вокруг которого образу-
ется семантическое поле «знания» и «поэтического вдохновения», раз-
личные лексические единицы для обозначения присуживания судьбы,
прядения судьбы, отмаливания, наложения и околдовывания - общие
для трёх наиболее надёжно засвидетельствованных кельтских тради-
ций, - по-видимому, отражают общекельтскую языковую культуру ма-
гического воздействия на судьбу, предопределения и связывания, даже
притом, что островные представления о проклятии явно претерпели
значительное переосмысление по библейским и церковным образцам
после крещения. В этом свете неудивительно, что некоторые комбина-
ции признаков общекельтской магии обнаруживаются и в континен-
тальных, и в островных жанрах: от этимологических и стилистических
параллелей в изображении «присуживания судьбы» до более широко-
го контекста, связанного с проклятиями, на который указывает образ
«ранящего острия», подобные выражения свидетельствуют о том, что
галльские воззрения на колдовство и наложение чар отчасти пересе-
кались с теми, которые имелись у островных кельтов в раннюю эпоху.
218
Многие из литературных образцов средневековой кельтской
магии следует рассматривать как аналог античной традиции поэм-
проклятий, агае, то есть произведения художественные, которые лишь
в незначительной степени отражают реально бытовавшие магические
практики своей эпохи. И, конечно, кельтские лечебные заговоры, до-
шедшие до наших дней, выглядят гораздо ближе к позднейшим обще-
европейским формам магии, к той традиции, которая впервые отме-
чена в записи позднеантичных авторов, таких, как Марцелл Бордос-
ский8. Более ранние элементы кельтской магии получили продолжение
преимущественно в форме гейсов и других литературных сочинений
на колдовскую тематику, которые, очевидно, уже в те времена в значи-
тельной мере оторвались от всяких насущных задач практической ма-
гии, хотя поначалу, вероятно, и сформировались под её воздействием.
Кое-какие следы древних магических практик могли, впрочем, сохра-
ниться в лориках, специфически кельтских формах раннехристианских
молитв. Но даже если так, их древнекельтская магическая родословная
должна была быть окончательно забыта ко времени Средневековья.
Классическая магия была особенно подвержена внешним влияниям и
трансформациям, и мало какие из заговоров, записанных в средневе-
ковую эпоху, демонстрируют явную преемственность по отношению к
практикам, зафиксированным в античной магической литературе. Тем
не менее общекельтский магический лексикон и общий базовый набор
стихотворных размеров предполагают, что в доисторической остров-
ной традиции хорошо сохранились более древние формы заклятия и
присуживания судьбы, даже при том, что христианизация существен-
но маргинализировала и видоизменила их. Древние обряды и обычаи
друидов, столь агрессивно искоренённые римлянами в первом веке,
практически не оставили опознаваемых следов в раннехристианских
письменных памятниках Уэльса или Ирландии. Однако кельтское при-
менение проклятий и других видов вербальной магии, несомненно,
продолжалось, став центральной сферой жизни европейцев в поздней
античности, христианском Средневековье и даже до какой-то степени
в раннее Новое время9.
8 Галло-римский медик рубежа IV-V вв. н. э., автор трактата «О лекарствах»; счита-
ется переходной фигурой между античной и средневековой медициной. -Прим. пер.
9Последнее утверждение являет собой пример крайне селективного обобще-
ния. Автор игнорирует то, что у не-кельтских народов Европы существова-
ли вполне самостоятельные магические традиции, хорошо представленные в
письменных памятниках, и что магические практики продолжали и продол-
жают возникать на христианской почве независимо от существования каких-
либо архаических прототипов. - Прим. пер.
219
M. Ni Bhrolchain. An Introduction to Early Irish
Literature. Dublin, Four Courts Press, 2009. 210 p.
Наверное, каждое слово в названии книги Муйренн Ни Врол-
хань нуждается в пояснении, включая артикль. An Introduction... - на-
зывает она подготовленный ею за двадцать пять лет преподавания в
Колледже св.Патрика в Майнуте очерк (учебник? Учебное пособие?)
древнеирландской литературы: так, некое введение, одно из возмож-
ных. И в общем тут она безусловно права. Права она и называя свою
книгу лишь «Введением», то есть не претендуя на полноту описания
изучаемого материала и максимальную глубину проникновения в него,
и, как мы подозреваем, скрыто полемизируя с вышедшим в 1946 г. и
многократно переиздаваемым очерком М. Диллона, который называ-
ется - Early Irish Literature [Dillon 1946]. Усугубляется эта полемика и
разницей в понимании слова Early («ранняя»? «древняя»? «старая»?).
Майлз Диллон завершает свое классическое издание большим разде-
лом «Ирландская поэзия», который «доводит» до творчества поздних
бардов, то есть - до начала XVII в. Может ли такой поздний период
быть рассмотрен сквозь призму «древней литературы»? Да, безуслов-
но, может: Диллон хотел подчеркнуть протяженность и преемствен-
ность бардической традиции от развитого Средневековья до момента,
после которого, можно сказать - «не было уже ничего», и ирландская
литература как продукт интеллектуального потребления правящих
классов навсегда уступила место английской.
М. Ни Вролхань, как нам известно, свободно владеющая со-
временным ирландским языком, видит ситуацию иначе: в ее книге
раздел «Поэты и поэзия» (тоже последний) завершается анонимной
(псевдо-авторской, т. е. сопровождающейся традиционной атрибуцией
в рукописях) монастырской лирикой VIII - XI вв., а раздела о барди-
ческой поэзии в книге нет вообще. И такая позиция, как нам кажется,
более обоснованна: поэзия бардов - принципиально авторская, хотя
еще и ориентированная на соблюдение канона, и в этом состоит ее ка-
чественное отличие и от поэзии филидов, и от монастырской лирики.
Именно поэтому, бардическая поэзия принадлежит уже литературе
Нового времени, не завершая некий этап развития словесности, но, на-
против, начиная новый и продолжаясь в стихах современных ирланд-
скоязычных поэтов, которые, кстати, как правило, пользуются барди-
ческими размерами и системой рифмовки и аллитераций.
220
Что понимает автор под словом Irish? Этот вопрос также ока-
зывается далеко не праздным, так как в период раннего христианства
в Ирландии тексты создавались исключительно на латинском языке.
К ним относятся не только трактаты религиозного содержания, но и
жития местных святых, толкования к Вергилию, светская лирика, на-
писанная на местной «Гисперической» латыни (см. в русском издании
[Гисперийские речения]). Все это памятники, созданные уже в самой
Ирландии, а ведь в тогдашний литературный обиход входили и много-
численные латинские тексты, написанные в Британии и в Западной
Европе. Труды Отцов церкви, «Этимологии» Исидора Севильского,
трактаты Беды Достопочтенного, «Разрушение Трои» Дареса Карфа-
генского, переложения «Энеиды», предания об Александре Македон-
ском и многое другое - из всего этого складывался литературный фон
(«бэкграунд») Западноевропейского Средневековья, составляющий
некое единое, проницаемое и общее культурное пространство, в ко-
тором Ирландия занимала не такое уж маргинальное положение, и в
которой все эти латинские сочинения также были отнюдь не «литератур-
ными маргиналами». Об этом в книге Ни Вролхань, к сожалению, практи-
чески ничего не написано, даже во вводной главе, которая так и называет-
ся: Background. Лишь в небольшой степени в ней упоминается церковная
литература на латинском языке, но только - созданная в самой Ирландии.
И наконец: что же такое по мнению автора - «литература»?
Это тоже вопрос далеко не пустой. Англоязычная традиция не знает
эквивалента нашему понятию «словесность», и поэтому должна как-
то обходить тот факт, что до Нового времени собственно «литература»
как проза и поэзия, вымышленные и придуманные для развлечения (в
лучшем случае - назидания), не отличались принципиально от того,
что сейчас считается текстами не художественными (так сказать - non-
fiction1) - исторические и юридические трактаты, поучения, генеало-
гии, старины мест, триады, списки знаменитых жен, перечни королей
и многое другое. Тексты такого рода в Ирландии были очень распро-
странены и также составляли единый «литературный фон», без кото-
рого трудно понять условия возникновения и специфику бытования
памятников, говоря условно, «художественных». Эти сочинения, мно-
гие из которых очень известны и вполне нарративны (как, например,
«Книга захватов Ирландии») у Ни Вролхань лишь вскользь упомина-
ются во вводных разделах, и в общем ее позицию здесь вновь можно
понять. Как пишет она в небольшом послесловии (Afterword) к своей
книге: во время своего выступления на 9-й конференции по ирландско-
'Чему, кстати, в свое время также не нашлось точного обобщающего эквивалента:
так и вошло понятие non-fiction в обиход современной русской культуры.
221
му Средневековью в Майнуте Т. О’Кахасси сформулировал важную за-
дачу - описать средневековую ирландскую литературу именно как ху-
дожественное явление, так сказать - в единстве формы и содержания
(р. 152), а не как приложение к историко-культурной традиции либо
как собрание мифологических преданий. И именно решение этой за-
дачи и преследовала Ни Вролхань, подготавливая свое издание.
Ее книга скорее обзорна, и поэтому автор неизбежно долж-
на была оказаться перед сложной проблемой определения «глубины
погружения» в материал, степени открытия читателю всех частных и
противоречивых точек зрения, существующих буквально по каждому
из затронутых ею микро-сюжетов. Книга делится на главы, в общем
отчасти повторяющие структуру расположения материала у Диллона:
• Мифологический цикл
• Героический цикл
• Цикл Финна
• Королевский цикл
• Иной мир
• Короли, Богини и Власть
• Герой и «героическая биография»
• Поэт и поэзия
Но при этом уже сами подглавки внутри каждого раздела де-
монстрируют несколько иной фокус рассмотрения материала. Так, напри-
мер, саги о королях начинают рассматриваться не только с точки зрения
изображенной в них псевдо-истории, но и как свидетельства об особом
сакральном статусе власти, о ее персонификации, о ее добывании в Ином
мире и так далее. Но книга Ни Вролхайн ценна не только этим: почти
треть издания занимает справочный аппарат: детальные примечания, ука-
затели, огромная библиография. Таким образом, книга может быть про-
читана как бы двумя способами: просто последовательное чтение текста,
ознакомление с основными памятниками, либо - просмотр примечаний
по вопросу и ознакомление с предложенным списком литературы.
Кому в таком случае адресовано это издание? Наверное, чи-
тателям двух категорий - во-первых, студентам, которые должны
освоить «максимальный минимум» знаний по вопросу, а также много-
численным «странным людям», которые имеют древнеирландскую ли-
тературу в качестве хобби (и сейчас образуют многочисленные интер-
национальные сообщества в Интернете), во-вторых, говоря условно,
«аспирантам», которые хотят заняться каким-то локальным предметом
более глубоко и смогут почерпнуть из книги Ни Вролхань необходи-
мые ссылки для начала своего исследования. Из сказанного понятно,
что «Введение в древнеирландскую литературу» М. Ни Вролхань -
222
книга очень ценная, причем не такая, которую можно прочесть и от-
ложить, пусть даже сделав для себя какие-то выводы, а такая, которую
необходимо постоянно иметь у себя на полке (или хотя бы в электрон-
ном виде на «рабочем столе»).
Не могу удержаться, чтобы не добавить еще один важный мо-
мент: начиная с 2006 г. (то есть как раз тогда, когда книга близилась
к завершению), Муиренн Ни Вролхань возглавила международное
движение за сохранение столицы Древней Ирландии - знаменитой
Тары, через которое правительство собиралось проложить скоростное
шоссе. Три года мы подписывали петиции, обращались в посольства,
выступали по радио, причем сама Муиренн неоднократно задержива-
лась полицией за организацию пикетов вокруг бульдозерной техники.
В 2010 г. было решено провести шоссе в обход поля Тары, и древняя
столица Ирландии теперь спасена, практически целиком - благодаря
активности Муйренн Ни Вролхань!
Литература
Dillon 1946 - Dillon М. Early Irish Literature. Dublin, 1946.
T. А. Михайлова
Simms К. Medieval Gaelic Sources. Dublin: Four
Courts Press, 2009.131 pp. (Maynooth Research
Guides for Irish Local History, 14).
Книга Кэтрин Симмс «Ирландскоязычные источники по исто-
рии Средних веков» (или, иначе, «Средневековые гэльские источни-
ки»?) была опубликована в серии «Мэйнутские пособия по локальной
истории Ирландии», издаваемой Национальным ирландским универ-
ситетом в г. Мэйнут. В отличие от предыдущих выпусков серии, работа
К. Симмс целиком посвящена источникам, написанным на ирландском
языке. Слово «Gaelic» в названии книги отсылает не только к языку
текстов, но и к особой области исторических исследований: «Слово-
сочетание «гэльская Ирландия» получило распространение у истори-
ков как своего рода удобный ярлык для обозначения тех ирландских
сообществ и территорий, которые продолжали управляться гэльски-
ми аристократами в период между норманским завоеванием Ирлан-
дии 1169 г. и повторным захватом острова Тюдорами в XVI в.» (р. 9).
История гэльской Ирландии трудна для изучения, поскольку местные
вожди не испытывали нужды в архивах и от периода их правления не
сохранилось никаких актовых источников, обильно создававшихся на
латинском, а затем и английском языках в тех регионах, где власть при-
надлежала англо-норманским аристократам. Тексты, оставшиеся от
этого периода, принадлежат к нескольким традиционным для ирланд-
ской культуры и восходящим еще к раннему Средневековью жанрам.
Книга выстроена в соответствии с этой жанровой системой: первая
глава посвящена анналам, вторая - генеалогическим сочинениям, тре-
тья - стихотворениям, создававшимся профессиональными придвор-
ными поэтами, четвертая - прозаическим нарративам (династическим
историям и рассказам о недавнем прошлом; житиям святых и гомили-
ям; сагам о легендарных событиях), наконец, пятая глава посвящена
юридическим и медицинским источникам, а также колофонам и мар-
гиналиям в рукописях. Кроме того, книга содержит два приложения,
содержащие примеры источников разных жанров.
В главе, посвященной анналам, К. Симмс кратко рассказывает
об истории формирования основных групп ирландских хроник, чтобы
затем сконцентрироваться на тех из них, которые продолжали попол-
няться новыми записями в гэльский период. Изложение организовано
географически: сначала обозреваются анналы, ведшиеся в Коннахте
и центральной Ирландии, затем описывается ситуация в Мунстере и
Лейнстере. Также глава содержит разделы об источниках тенденциоз-
ности в летописании и том, «как использовать анналы с максимальной
выгодой». Она завершается кратким обзором сведений, которые мож-
но извлечь из поздних компиляций XVII-XVIII вв.
Глава, посвященная генеалогическим сочинениям, организо-
вана аналогичным образом: сначала рассматриваются генеалогии, со-
224
хранившиеся с донорманского периода, затем - сочинения, созданные
в период высокого и позднего Средневековья, и наконец - компиляции
XVII в., главное место среди которых занимает «Большая книга генеа-
логий» Ана Дувалтаха Ога Мак-Фирбиса (ум. 1671), опубликованная
в 2004-2005 годах с английским переводом [6 Muraile 2004-2005].
В практической части в завершении главы рассказывается, как лучше
всего использовать генеалогии для поиска тех или иных сведений, а
также даются практические указания по локализации старых вариан-
тов современных ирландских фамилий в генеалогических перечнях.
Третья глава, посвященная поэзии, открывается описанием
системы жанров и размеров ирландского высокого Средневековья,
после чего следует раздел, посвященный проблемам идентификации
адресата стихотворения и датировки текста. Основная часть главы
посвящена панегирической поэзии. Описываются основные опубли-
кованные коллекции стихотворений, а также методы поиска текстов
в рукописях и основные принципы организации размещенной в ин-
тернете базы данных «Бардическая поэзия» [BPD]. Глава завершает-
ся методологическим разделом «Как использовать поэзию в качестве
исторического источника».
Четвертая глава, посвященная прозаическим источникам,
включает в себя подробное рассмотрение некоторых особенно важных
текстов. Первым из них является «Война ирландцев с чужеземцами»
(Cogadh Gaedhel re Gallaibh), повествующая в романизированной
форме о борьбе ирландцев с викингами, завершившейся победой при
Клонтарфе (1014), где погиб король Мунстера Бриан Борома, родона-
чальник династии О'Брианей. Вероятно, текст был создан на основе
данных анналов в правление его правнука Мурьхертаха О'Брианя (ум.
1119). Завершая обзор этого произведения, К. Симмс заключает, что
«возможно обращаться к нему за информацией на предмет представ-
лений о чести в XII в., а также, с большей осторожностью, за сведения-
ми о политической и военной организации» (стр. 74). С точки зрения
исследователя, своего рода ответом на «Войну» был текст «Военная
карьера Келлахана Кашельского» (Caithreim Cellachdin Chaisil), веро-
ятно, созданный в годы правления Кормака Мак-Кархагя (ум. 1138),
представителя конкурентов О'Брианей - мунстерской династии Эога-
нахтов. В отличие от «Войны», «Военная карьера» основывается не
на данных анналов, а на сведениях из генеалогических перечней, что
делает ее еще менее надежной в историческом плане, однако она так-
же является ценным источником сведений о концепции чести в Ир-
ландии высокого Средневековья (в частности, в ней прослеживатеся
влияние континентальной феодальной символики). Другое продолже-
ние той же традиции - сочинение XIV в. «Военная карьера Торьдял-
ваха О'Брианя» (Cathreim Thoirdhealbhaigh), повествующее о распре
в королевстве Томонд, которая привела к тому, что Торьдялвах и его
наследники сумели сместить с трона своих династических конкурен-
тов и разгромить и убить англо-норманского лорда Томонда Ричарда де
Клэра. Текст, как сегодня принято считать, был сочинен сравнительно
225
скоро после окончания событий, однако в нем заметны тенденциозность
и в первую очередь - влияние традиционных ирландских литературных
условностей (видения, поэтические монологи и т. п.), а также ирландского
прозаического перевода «Фарсалии» Лукана, созданного в XI-XII в.
Другую жанровую разновидность представляет собой набор
кратких биографий представителей той или иной династии, объединен-
ных общей генеалогической рамкой. Один из примеров этого рода тек-
стов - «Генеалогическая история потомков Суивне» (Craobhsgaoileadh
Chlainne Suibhne), написанная в XVI в. Тадгом мак-Фихилом. Биогра-
фии представителей династии, живших до середины XIV в., порой не
находят подтверждения в анналах и расцвечены эпизодами встреч со
сверхъестественными персонажами, однако затем повествование ста-
новится более детализованным и достоверным. Возможно, под влия-
нием именно этого текста была создана сохранившаяся в рукописи
XVII в. «Книга Эоганахтов» (Leabhar Eoganach) - собрание кратких
биографий представителей династии О'Нилов, правивших в Тир-
Эогань (совр. североирландское графство Тирон).
Наконец, в еще одну группу прозаических сочинений собра-
ны тексты XVII в., созданные вскоре после описываемых в них собы-
тий и в разной степени отступающие от пышных условностей тради-
ционной ирландской исторической литературы в пользу более сжатого
фактологического изложения (хотя при этом и не лишенные тенден-
циозности). Это «Жизнь Аэда Руада О'Довнала» (Beatha Aodha Ruaidh
Ui Dhomhnaill), «Бегство эрлов» (Imeacht na nlarlaidhe) и «Дневник
О'Мялланя» (Cin Lae Ui Mhealldiri), посвященный событиям после
ольстерского восстания 1641 г.
Второй раздел главы посвящен житиям святых. Говоря о них,
К. Симмс достаточно подробно рассматривает проблемы методологии.
В конечном итоге, с ее точки зрения, на сегодняшний день есть три
общепринятых способа использования ирландских позднесредневе-
ковых житий: 1) изучение рукописных версий жития того или иного
святого с целью проследить развитие его культа; 2) анализ ирландских
житий, написанных в XI-XII вв. на предмет отражения в них экономи-
ческих и социальных реалий до-норманского периода; 3) использова-
ние сравнительно надежно датируемых житий в качестве источников
по идеологическим и политическим устремлениям их создателей, а
также по исторической топонимике. Раздел завершается перечнем да-
тированных памятников.
Затем в той же главе кратко обозреваются переводные сочине-
ния, апокрифические и гомилетические тексты, а также мифологиче-
ские и саговые нарративы, повествующие о легендарных событиях - в
случае, если их удается надежно датировать, в них возможно просле-
дить отражение политических реалий времени их создания.
Последняя, пятая, глава книги посвящена правовым и меди-
цинским сочинениям, а также колофонам и маргиналиям в рукопи-
сях. Юридические сочинения периода выского и позднего ирланд-
ского Средневековья в основном представляют собой комментарии-
226
разъяснения к правовым текстам, записанным в период VII-IX вв. Они
с большим трудом поддаются датировке и в лучшем случае лишь кос-
венным образом указывают на состояние ирландского права в период
после XI в. Исключением в этом ряду является юридический свод, соз-
данный в XIII в. Гиллой на-Наэвом сыном Дуннслеве сына Аэдагана
(текст еще не издан, см. статью [Kelly 2001]).
Ценными юридическими документами являются так назы-
ваемые «брехонские хартии» (brehon law charters) - тексты догово-
ров, составленных позднесредневековыми ирландскими юристами-
брехонами. Они содержат в себе краткое описание сделки и списки
свидетелей соглашения и являются источниками по топонимии и оно-
мастике, однако суть описанных в них правовых действий зачастую
остается неясной из-за непонятности используемой терминологии.
Другого рода юридические документы - трактаты о правах и обязан-
ностях, которые регулировали отношения между представителями той
или иной династии и их подданными. Суть этих отношений состояла
в продовольственной или денежной ренте, взаимных обязательствах
гостеприимства и помощи в военное время. Несмотря на свой дело-
вой харакер, такого рода сочинения также порой не лишены тенден-
циозности. Как отмечает К. Симмс, в некоторых случаях перечни прав
представляют собой свод того, на что та или иная династия имела при-
тязания на протяжении всей своей истории: «Такого рода утверждения
являются свидетельством выполнения seanchaidh'oM (традиционный
историк - Д. Н.) своего долга по восхвалению патрона за счет описа-
ния его прошлой славы; также они призваны сохранить в письменной
форме более не актуальные права на тот случай, если когда-либо их
снова можно будет возвратить к жизни» (р. 100).
Ирландские средневековые медицинские трактаты представ-
ляют собой собрание переводов, адаптаций и резюме медицинских,
астрономических и философских текстов, составлявших программу
обучения на медицинских факультетах средневековых европейских
университетов, «следовательно, их использование в качестве истори-
ческих источников в основном предполагает получение сведений о со-
стоянии медицинского знания в Ирландии XIV-XVI вв. и о именах и
месте жительства представителей династий врачей» (р. 100).
В разделе о колофонах и маргиналиях рассматриваются све-
дения, которые можно извлечь из замечаний писцов, а также роль ко-
лофонов в атрибуции текстов и возможности использования сохранив-
шихся на полях рукописей стихотворений.
В приложениях приведены источники, касающиеся двух
эпизодов ирландской средневековой истории: убийства коннахтского
короля Аэда О'Конхобара в 1356 г. и заключения договора аристокра-
том по имени Мак-Суивьне и О'Довналом, королем Тир-Кональ (совр.
терр. графства Донегол, а также частично Слайго, Лейтрим, и Тирон
и Фермана) в конце XIV в. Привлечение источников разных жанров
(анналы, бардическая элегия, генеалогический перечень, отрывок из
династической истории) позволяет К. Симмс продемонстрировать на
227
конкретных примерах их базовые свойства и сравнить идеологические
устремления их авторов.
Книга завершается краткой тематической библиографией и
указателем цитируемых текстов.
В основе работы К. Симмс лежат два принципа: во-первых,
сжатое изложение в основном тексте сочетается с исчерпывающи-
ми библиографическими примечаниями, составляющими, по сути,
основное содержание книги; во-вторых, в качестве адресата текста
предполагается исследователь, не знакомый со средневековым вари-
антом ирландского языка и методологией работы со средневековыми
источниками (в соответствии с традицией британской любительской
историографии, это может быть любой образованный человек, заин-
тересовавшийся историей той или иной области или той или иной се-
мьи). Второе обстоятельство заставляет К. Симмс обращать основное
внимание на источники, у которых есть опубликованный английский
перевод, и кроме того, давать весьма подробные рекомендации, как
найти в рукописном генеалогическом перечне того или иного челове-
ка, как сравнивать различные редакции анналов и т. п. Кроме обзора
источников как такового, в книге представлены ссылки на многочис-
ленные современные работы по источниковедению, истории, а также
по истории литературы Ирландии высокого и позднего Средневековья
и отдельные работы о раннем ирландском Средневековье. Все это де-
лает работу К. Симмс хорошей отправной точкой для первого погруже-
ния в ирландскую историю и историографию (посвященные раннему
Средневековью более специализированные источниковедческие рабо-
ты [Kenney 1929] и [Hughes 1972] для этого подходят в меньшей степе-
ни) - при условии, что у читателя под рукой есть хорошая библиотека.
Вместе с тем ориентация на исследователя, опирающегося в первую
очередь на переводные тексты, делает книгу скорее учебным, нежели
научным изданием. Ведомый рукой К. Симмс локальный историк при-
зван в первую очередь не заполнять белые пятна ирландской истории,
а выискивать в уже обработанных материалах те данные, которые ин-
тересны лично ему.
Литература
BPD - Bardic Poetry Database. Эл. ресурс, http://bardic.celt.dias.ie/
Hughes 1972 - Hughes К. Early Christian Ireland: introduction to the sources. Lon-
don, 1972.
Kelly 2001 - Kelly F. Giolla na Naomh Mac Aodhagain: a thirteenth-century legal
innovator // Mysteries and solutions in Irish legal history / D. Greer, N.
Dawson (eds.). Dublin, 2001. P. 1-14.
Kenney 1929 - Kenney J. F. The Sources for the Early History of Ireland. Vol. 1.
Ecclesiastical. New York, 1929.
6 Muraile 2004-2005 - The Great Book of Irish Genealogies, Dubhaltach Mac
Fhirbhish / N. 6 Muraile (ed.). 5 voll. Dublin, 2004-2005.
Д. С. Николаев
228
Содержание
Ж. Борч. Зло и меняющаяся природа чудовищ
в раннеирландских текстах.................................3
Н. А. Ганина. Собака в древнегерманской традиции...........21
Т. А. Михайлова. Кухулин - пес уладов......................47
С. В. Иванов. Образ ежа в ирландской традиции..............65
А. Е. Манъков. К этимологии английского boar..............74
Н. Ю. Гвоздецкая. Птица феникс глазами англосаксонского поэта:
германские мотивы в античном сюжете......................89
Е. Р. Сквайре. «Есть у Невесты зверь на узде»: фауна
мистических видений Мехтильды Магдебургской.............100
Е. В. Смирницкая. Германский звериный стиль
как орнаментальное искусство............................131
Е. А. Гуревич. К вопросу о значении наименования «тупа»
в древнеисландском......................................183
Рецензии..................................................200
«Поэтика Традиции», Санкт-Петербург:
Европейский дом, 2010. (В. А. Бондарь)..................200
В. Mees. Celtic Curses. 2009, Woodbridge:
The Boydell Press. (T. А. Михайлова)......................207
Приложение: Б. Мис. Заключение: Колодцы проклятий
(пер. М. Елиферовой)....................................214
М. Ni Bhrolchain. An Introduction to Early Irish Literature.
Dublin, Four Courts Press, 2009. (T. А. Михайлова)......220
К. Simms Medieval Gaelic Sources. Dublin: Four Courts Press,
2009. (В. С. Николаев)..................................224
Content
Borsje, Jaqueline. Evil and the Changing Nature of Monsters
in Early Irish Texts............................................3
GaninaN. A. Dogs in the Germanic Cultural Tradition..............21
Mikhailova T. A. Cu Chulainn: the Watch-Dog of Ulster............47
Ivanov S. V. Representation of the Hedgehog in Early Irish Tradition.... 65
MankovA. E. On the Etymology of the English Boar.................74
Gvozedtskaya N. Yu. The Phoenix as Seen by an Anglo-Saxon Poet:
Germanizing the Classical Source...............................89
Squires C. R. Du brut hat einen somer : The Mystical Visionary
Fauna of Mechthild of Magdeburg...............................100
Smirnitskaya E. V. Germanic Animal Style as a Form
of Ornamental Art.............................................131
Gurevich E. A. On the Application of the Term Jnila in Old Norse.183
Book Reviews.....................................................200
Poetic of Tradition. St. Petersbourg. 2010. (V. A. Bondar)......200
B. Mees. Celtic Curses. Wood bredge, 2009. (T. A. Mikhailova)....207
Appendix: B. Mees. Cursing wells................................214
M. Ni Bhrolchdin. An Introcuction toEarly Irish Literature.
Dublin. 2009. (T. A. Mikhailova)..............................220
K. Simms. Medieval Gaelic Sources. Dublin: Four Courts Press,
2009. (D. S. Nikolaev)........................................224
Научное издание
АТЛАНТИКА
Записки по исторической поэтике
Выпуск X
Животные в языке и культуре кельтов и германцев
Ответственный редактор Т. А. Михайлова
Зав. редакционно-издательским отделом
филологического факультета МГУ Е. Г. Домогацкая
edit@philol.msu.ru
Редактор выпуска М. Елиферова
Компьютерная верстка: А. М. Егоров
Обложка: Ю. Н. Симоненко
Напечатано с готового оригинал-макета
Подписано в печать 17.04.2012 г.
Формат 60x90 1/16. Усл.печ.л. 14,5. Тираж 200 экз. Изд. № 208.
Издательство ООО «МАКС Пресс»
Лицензия HH,N 00510 от 01.12.99 г.
119992, ГСП-2, Москва, Ленинские горы, МГУ им. M.B. Ломоносова,
2-й учебный корпус, 527 к.
Тел. 939-3890, 939-3891. Тел./Факс 939-3891.
Отпечатано в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6
Заказ № 674