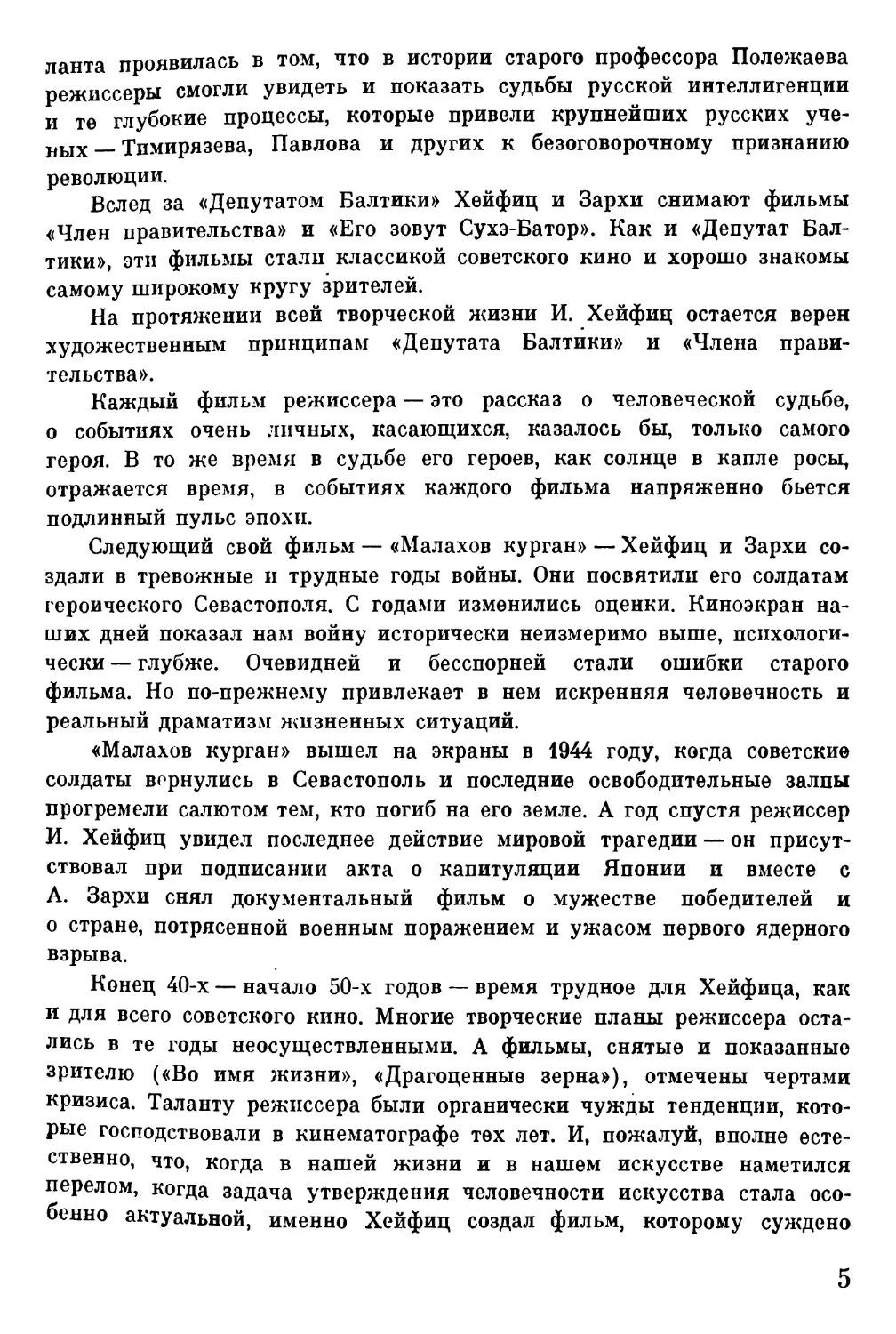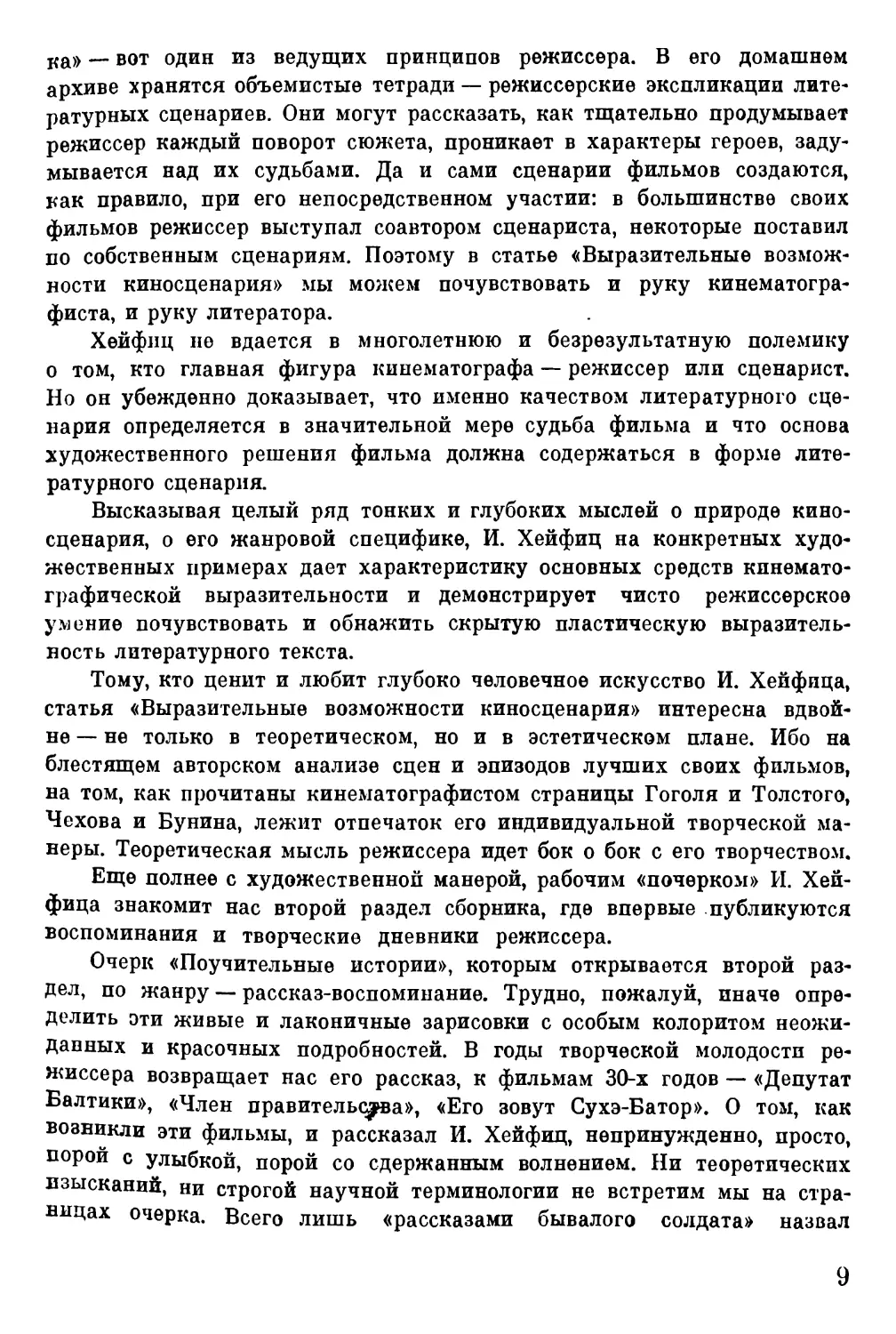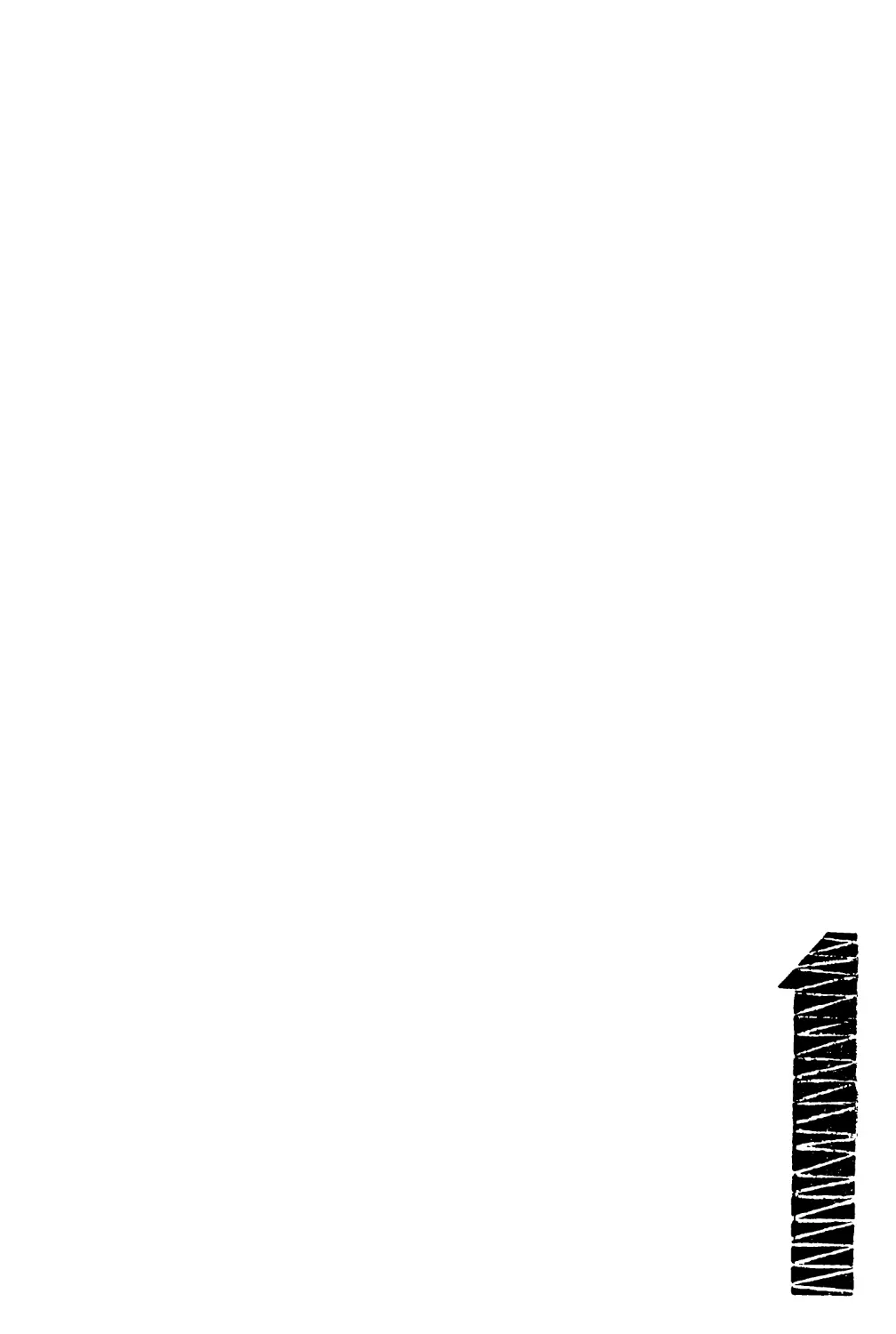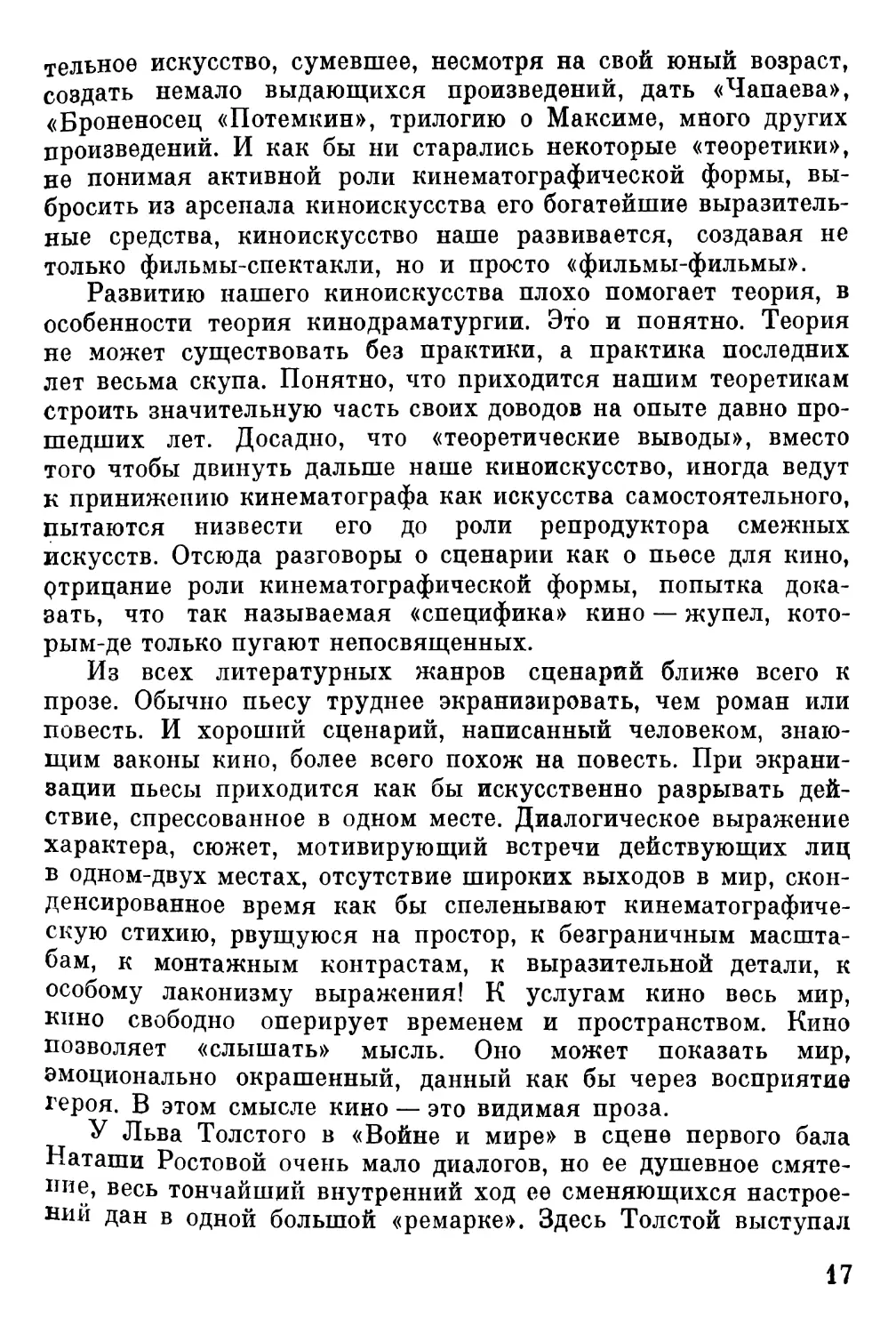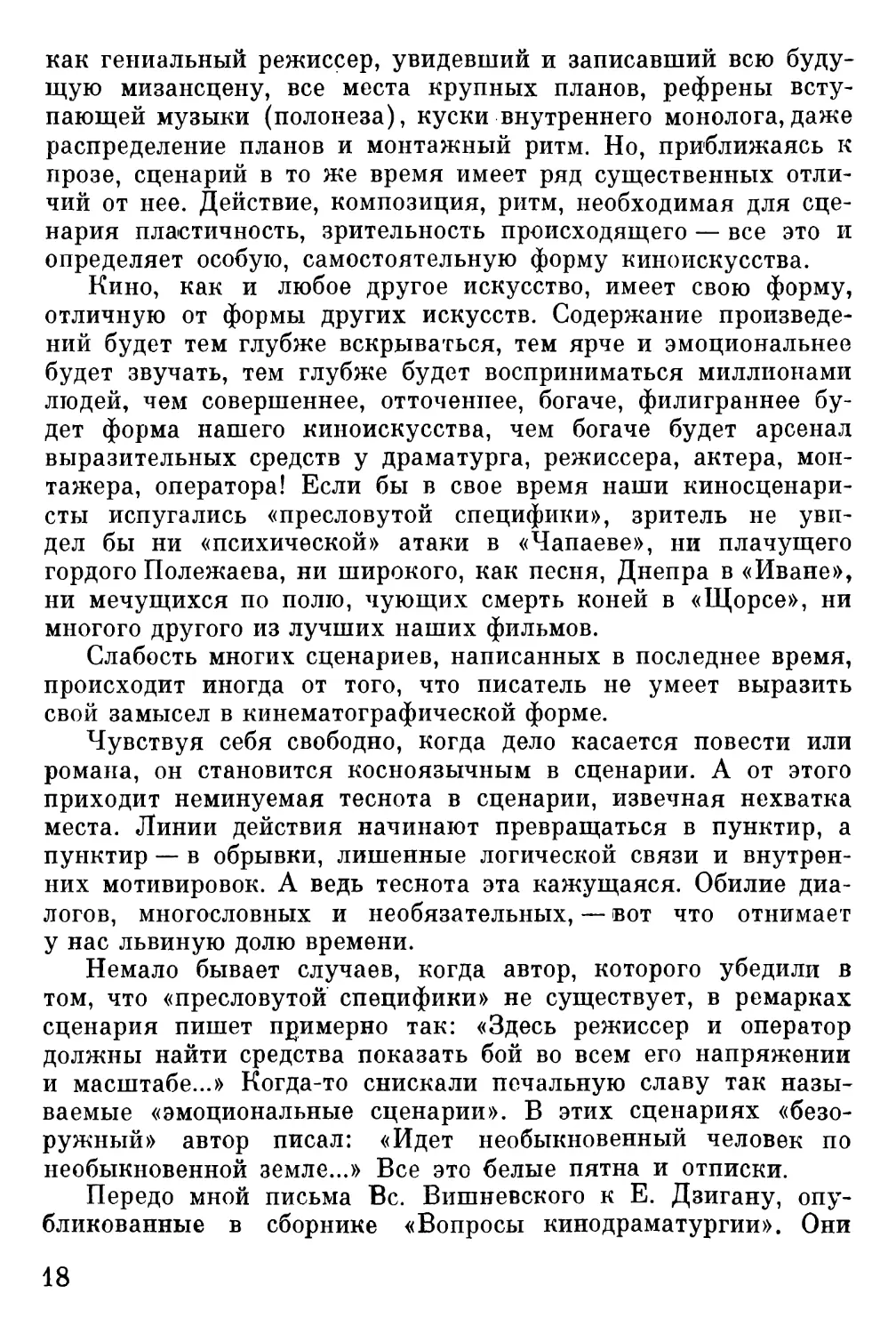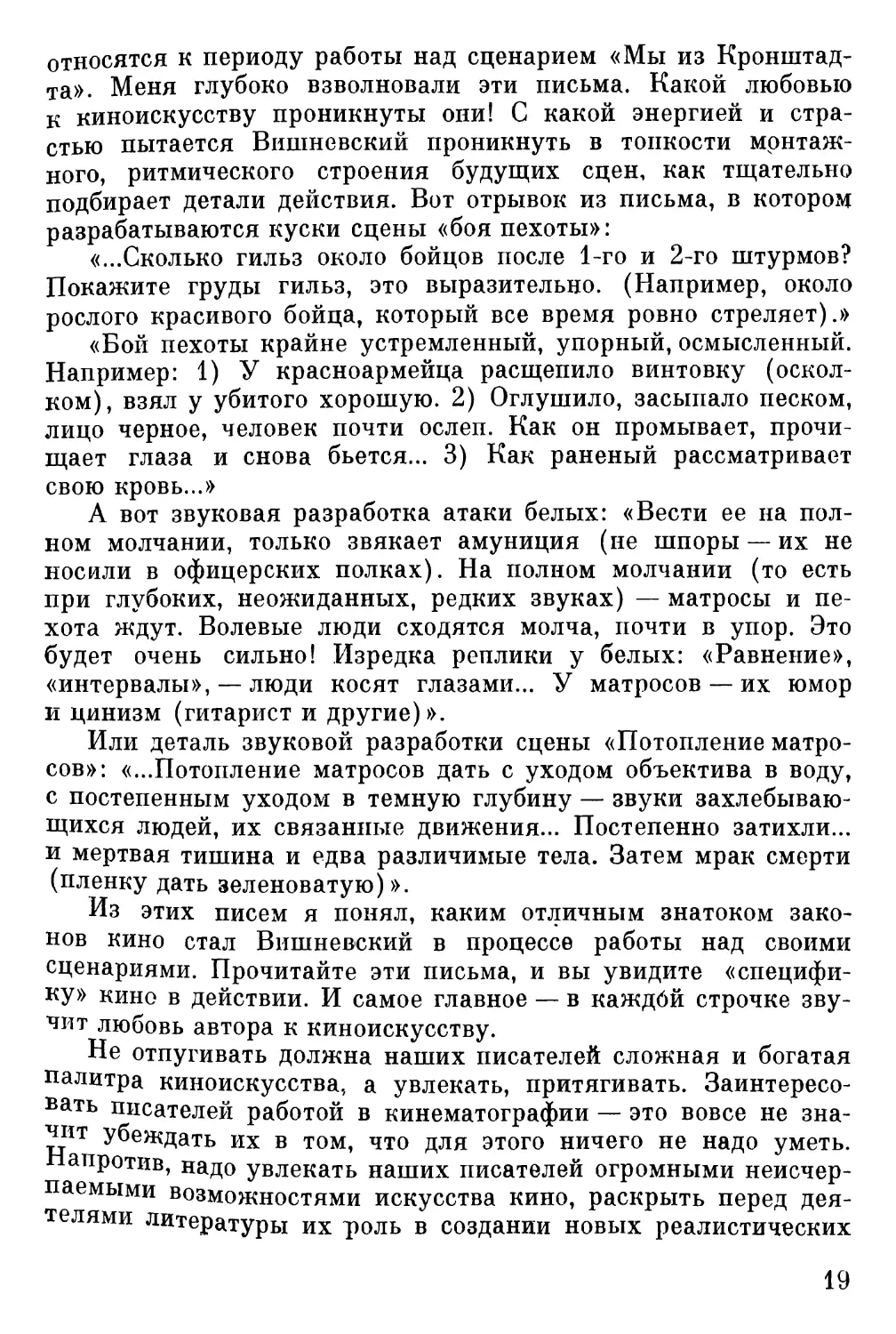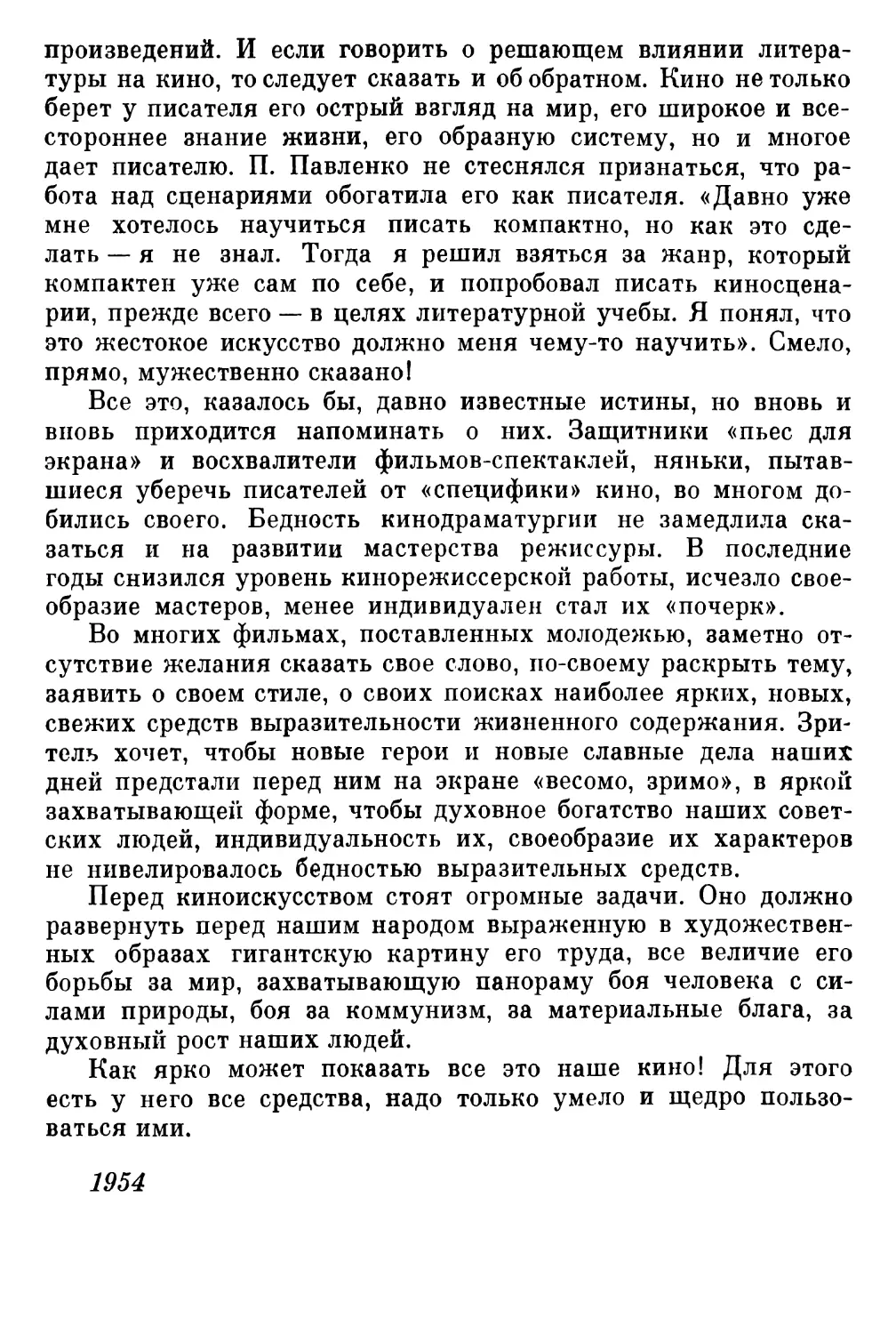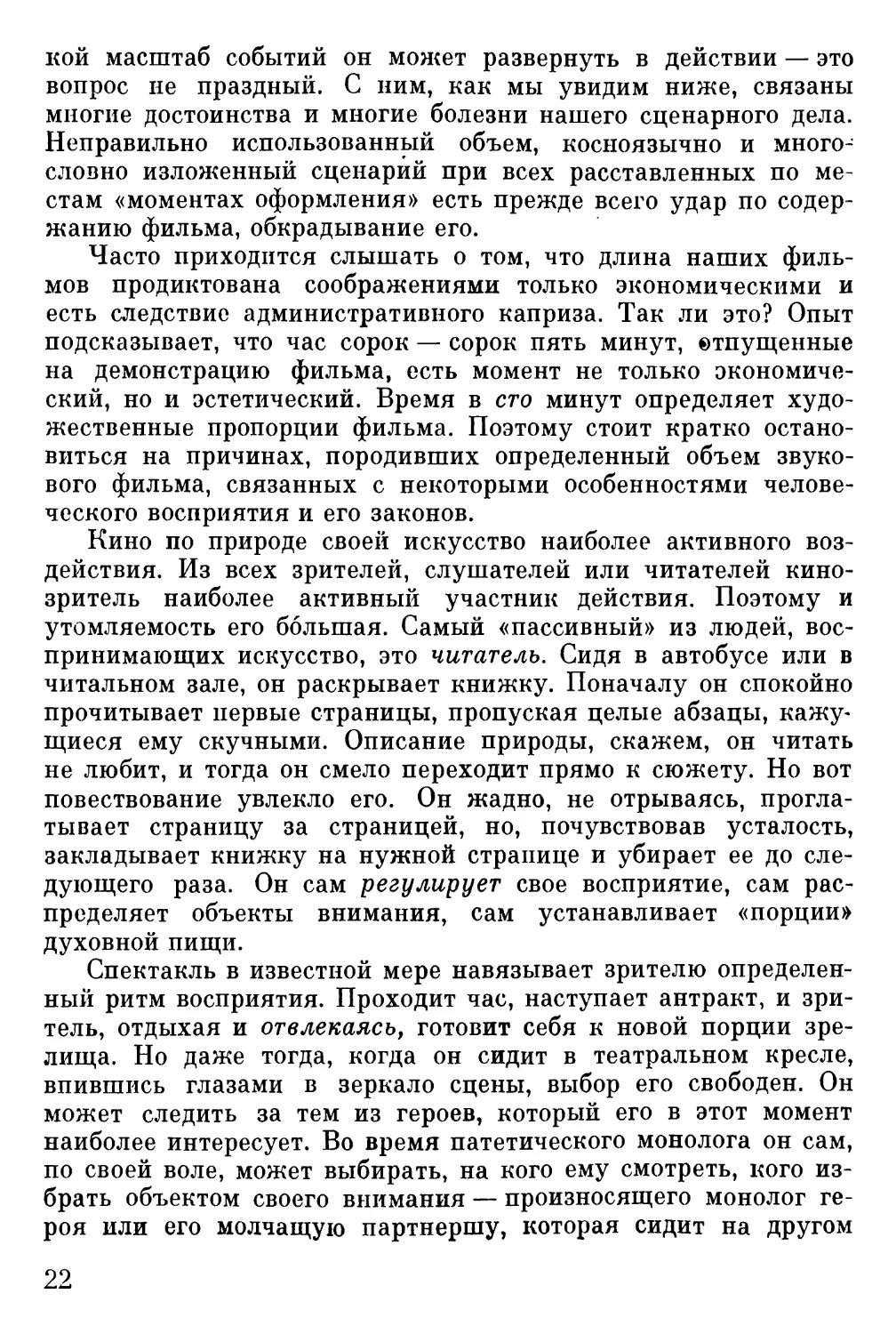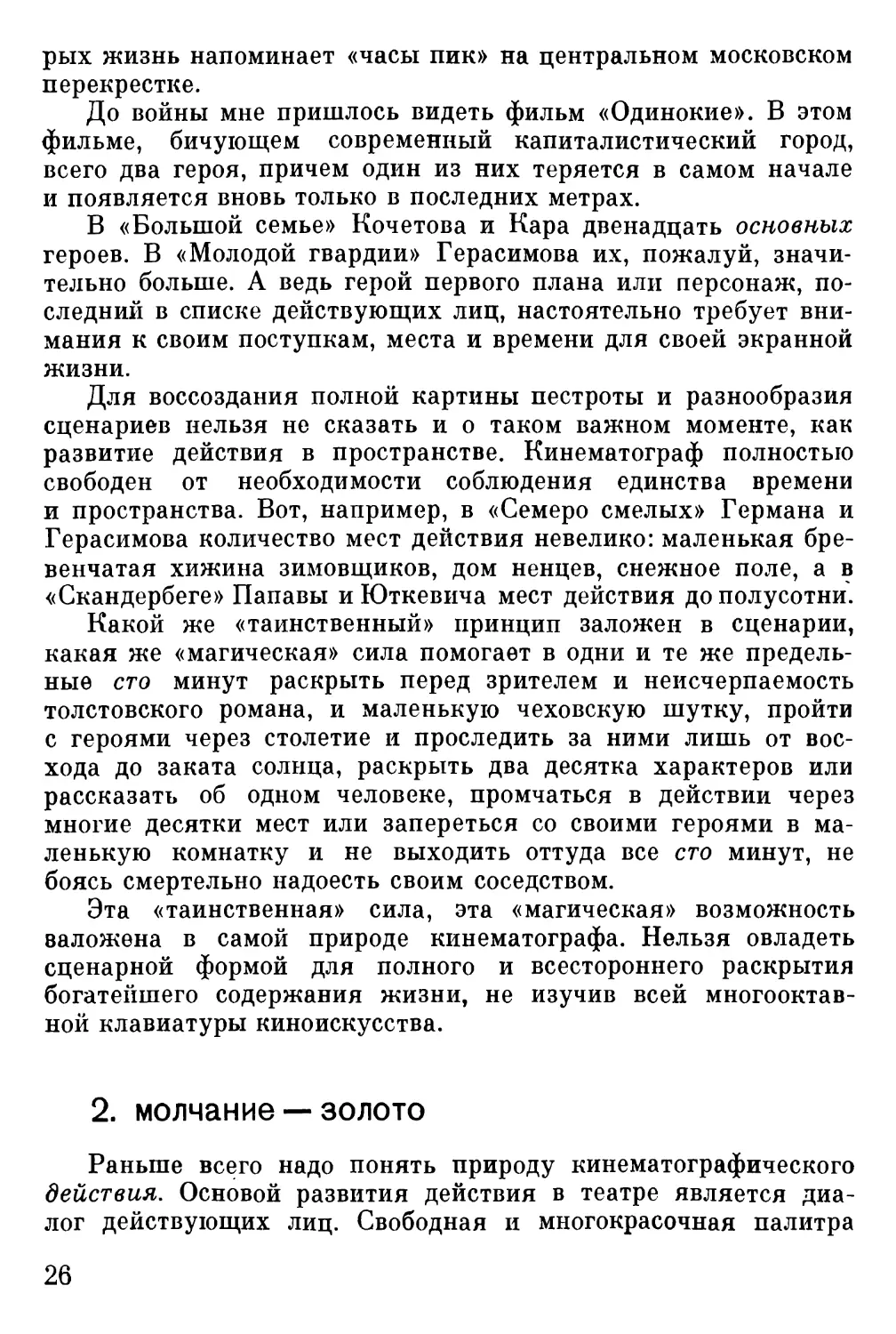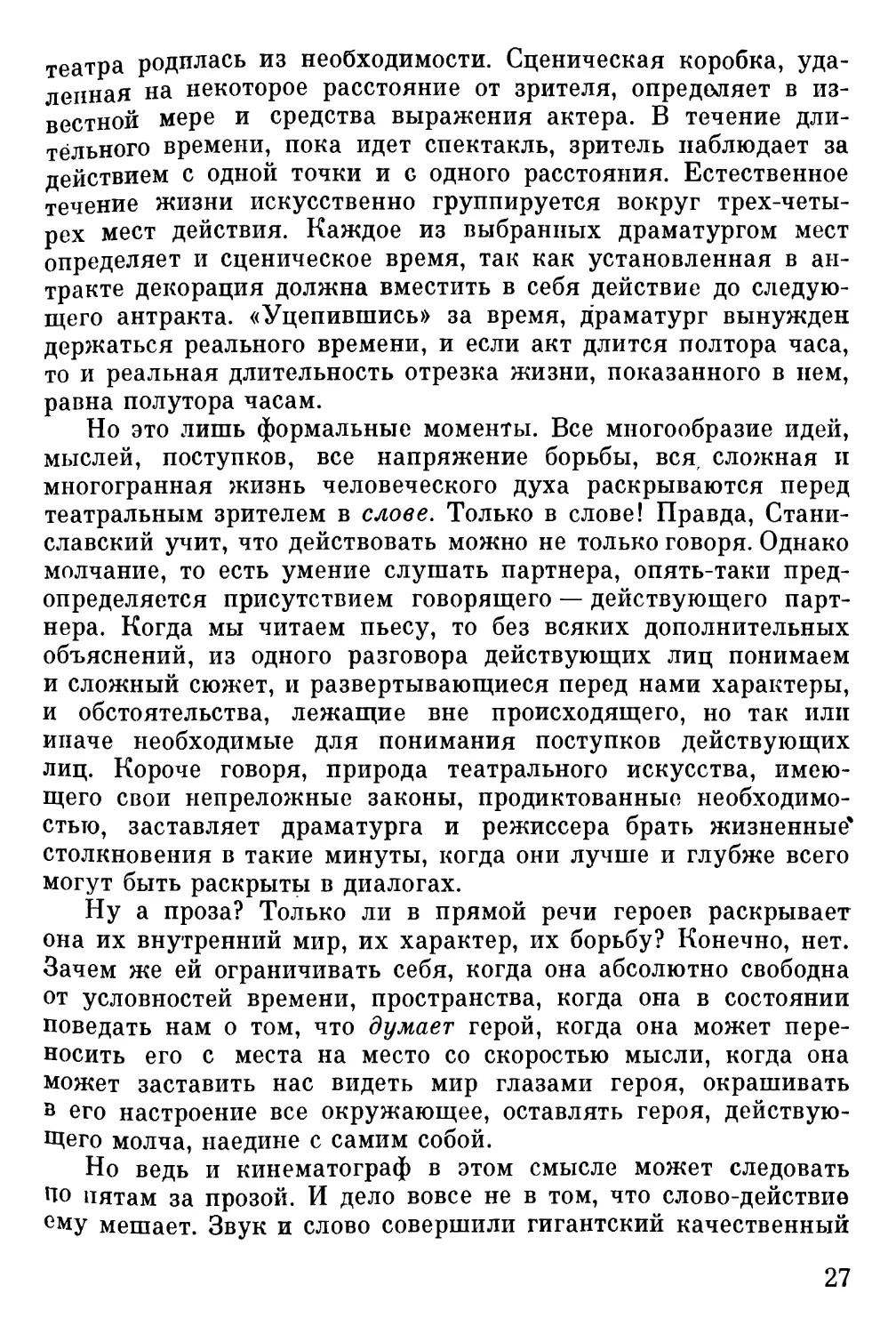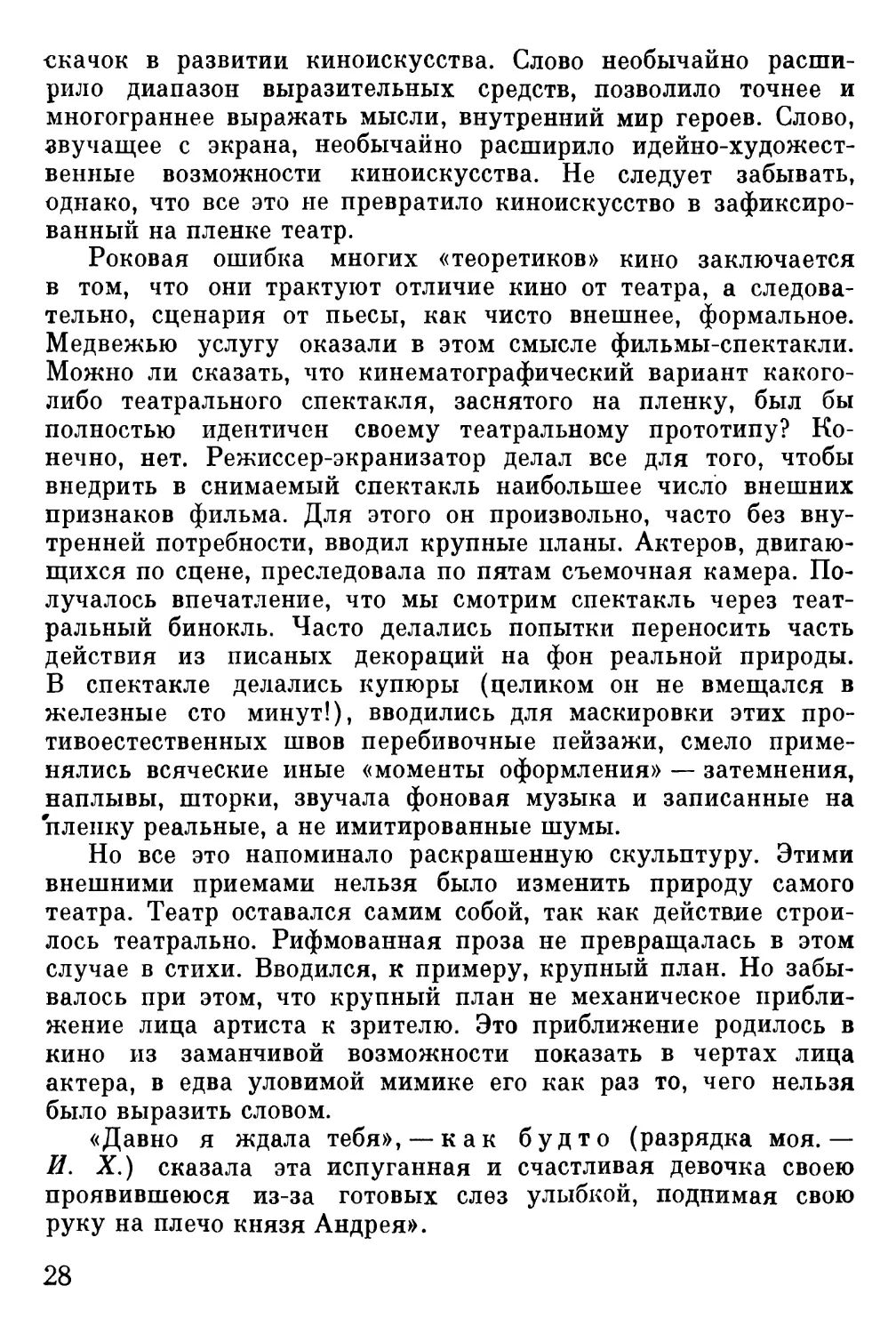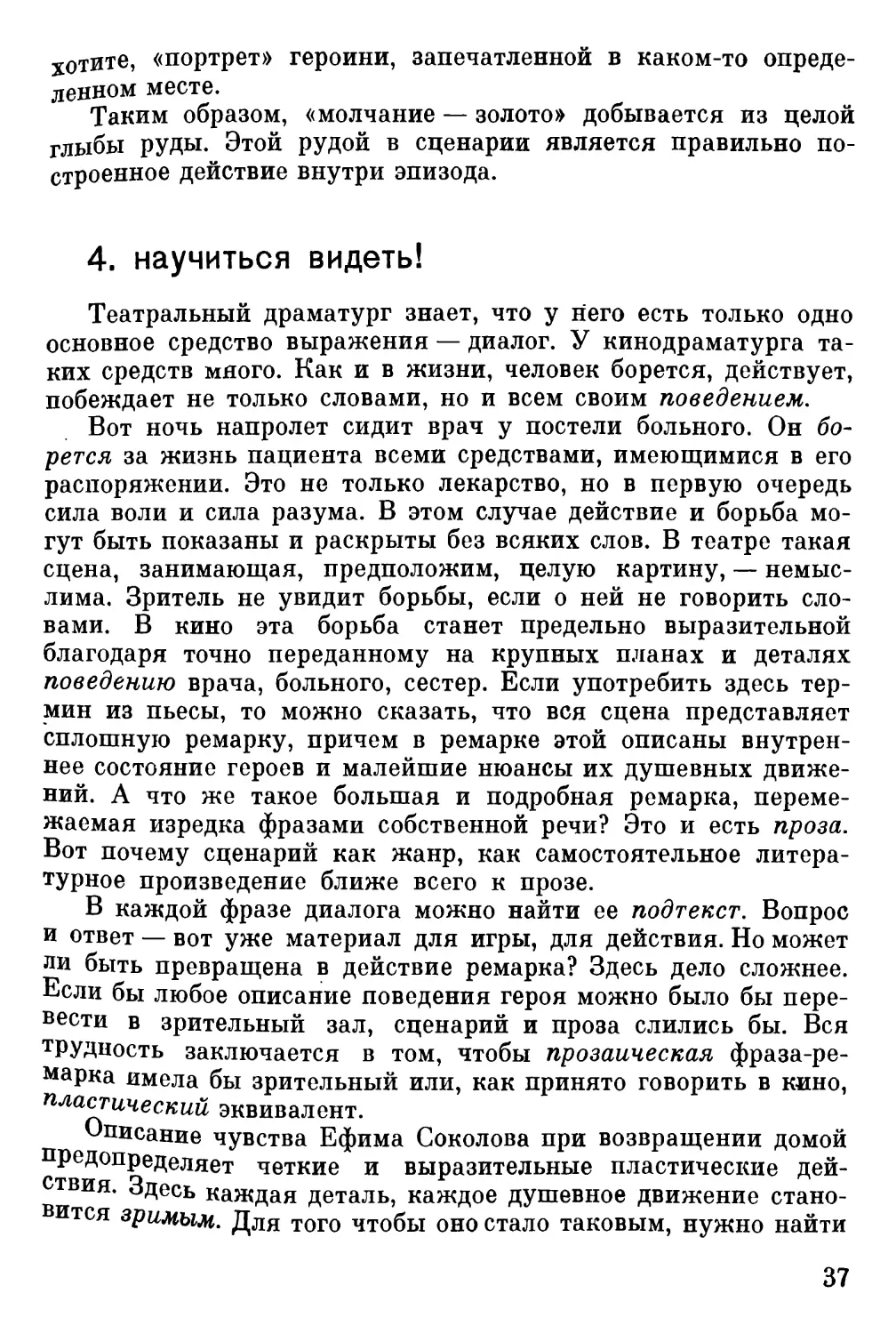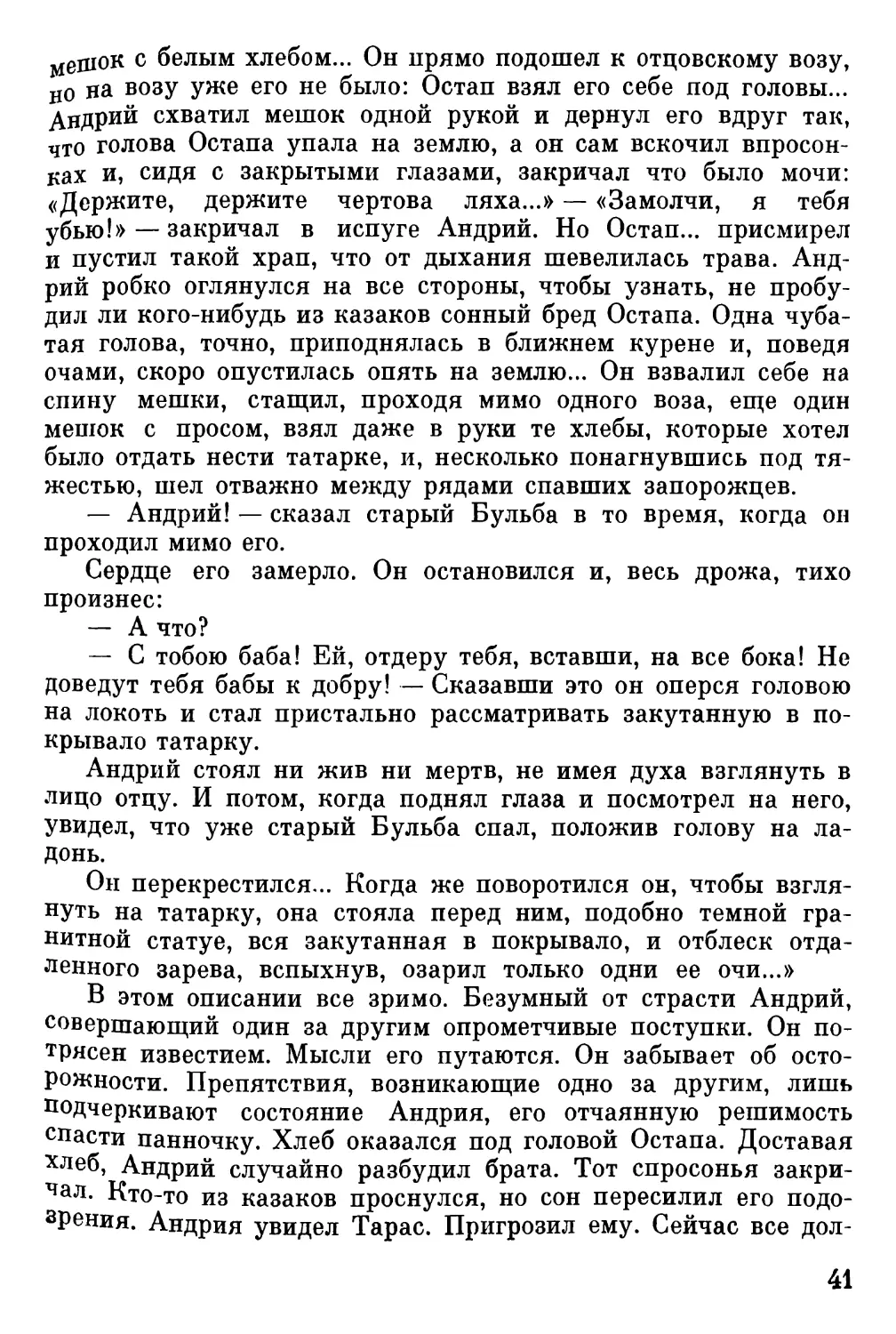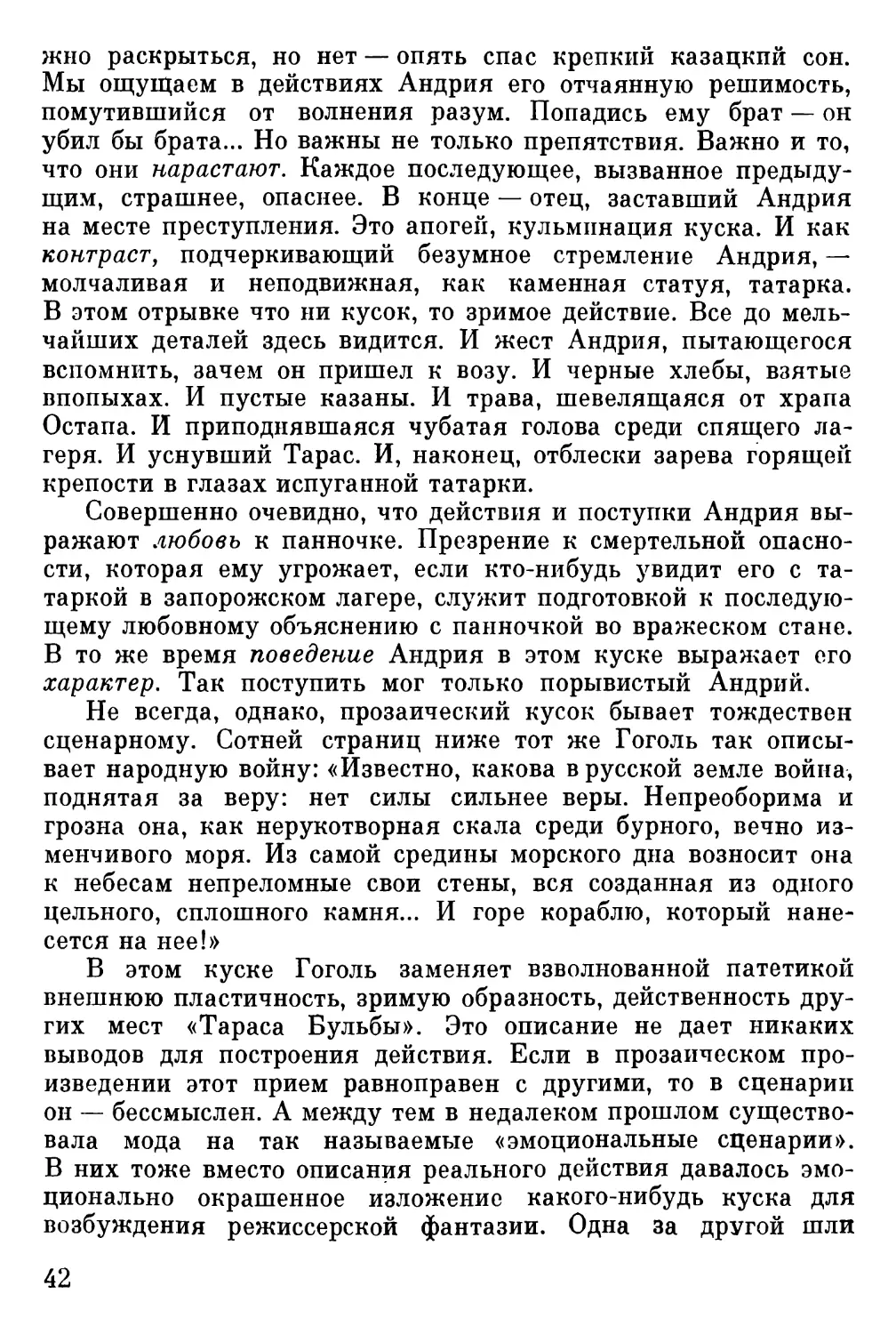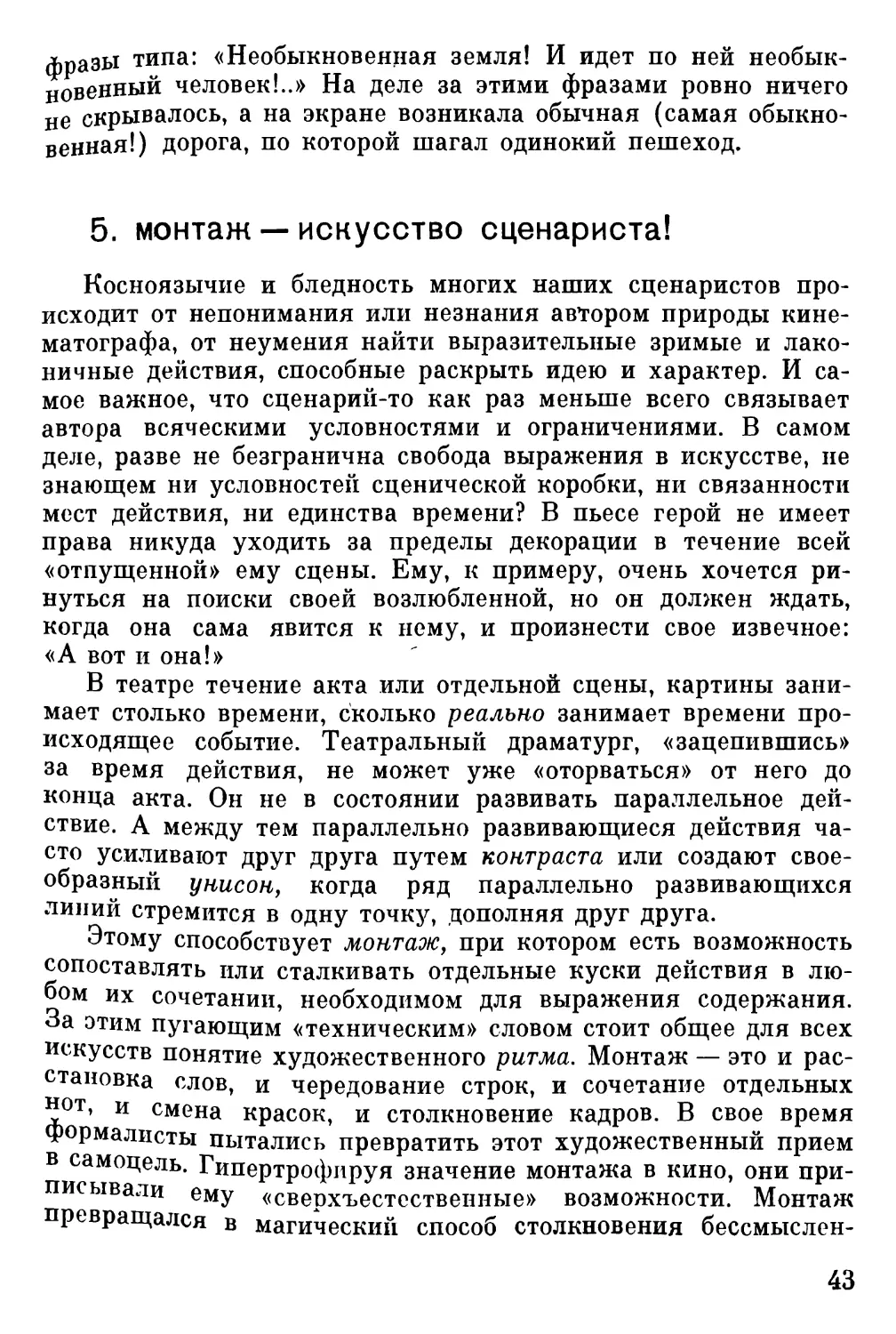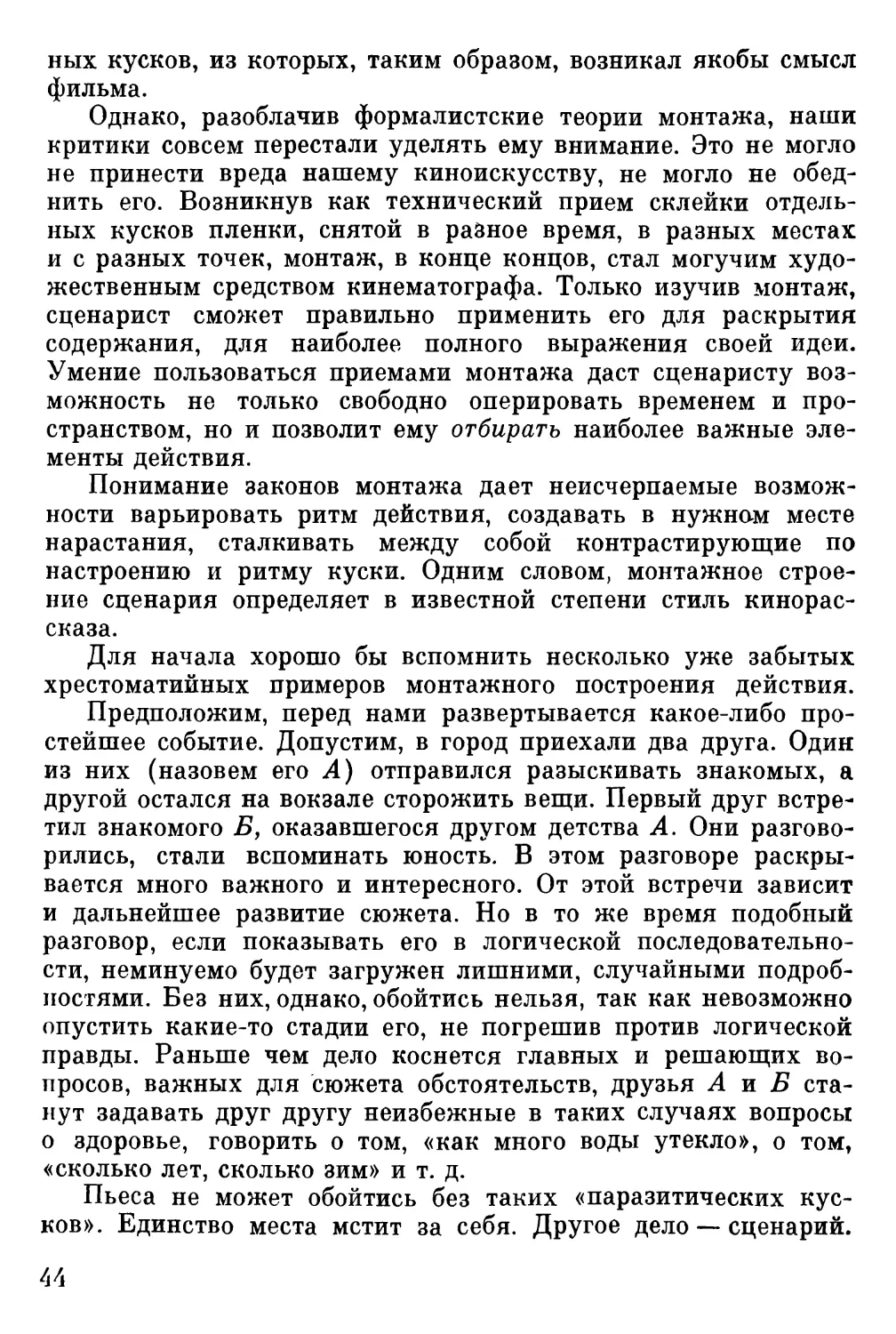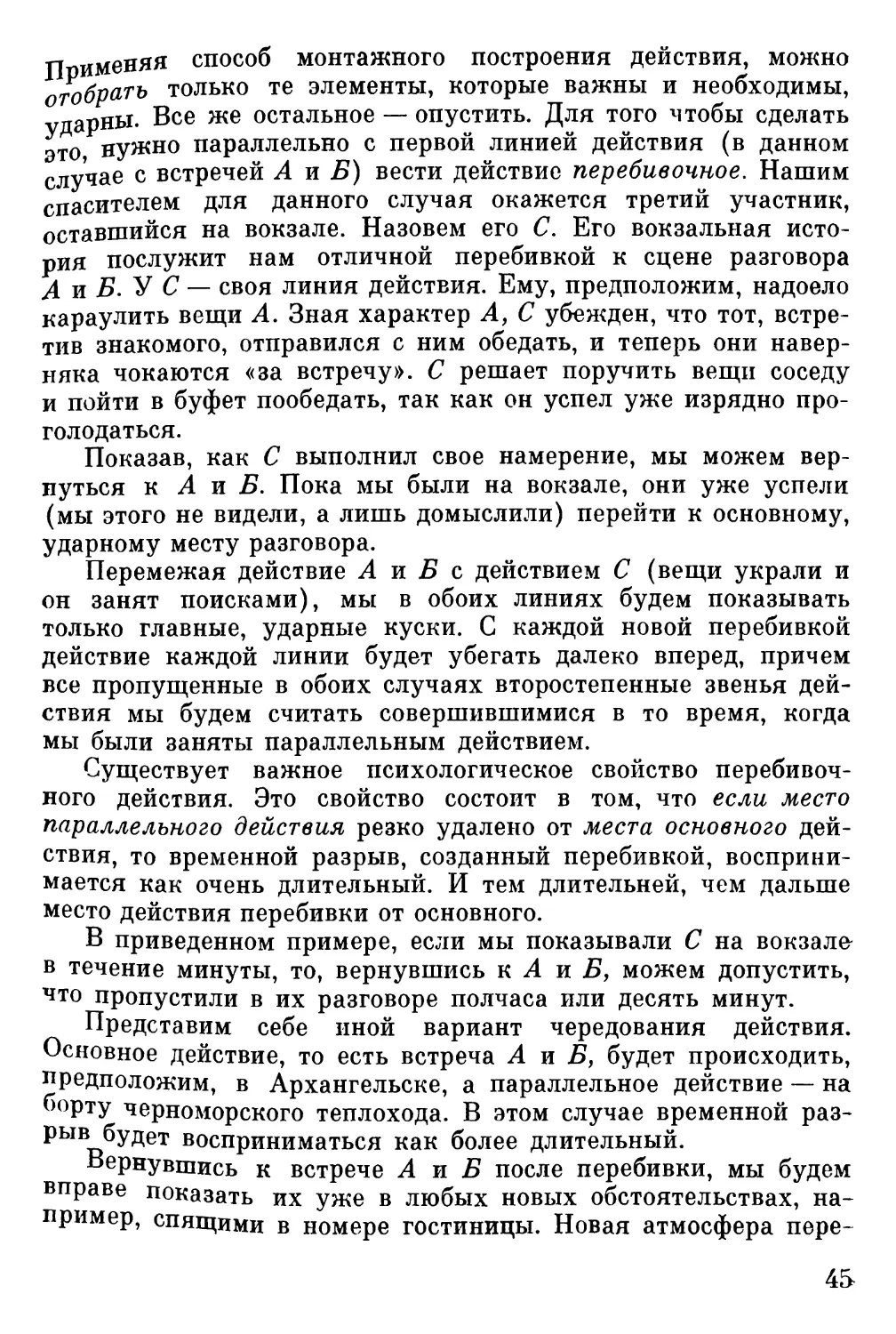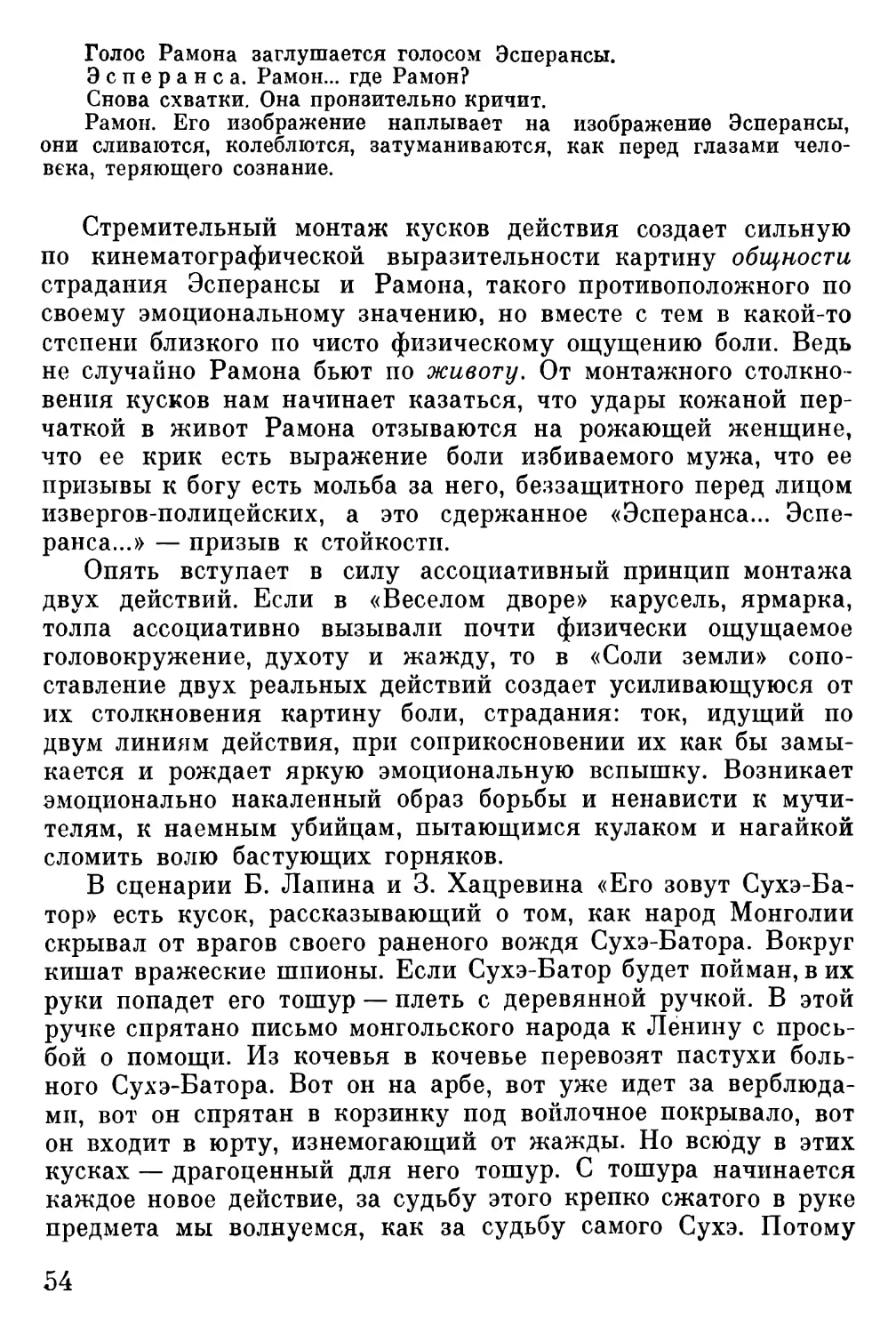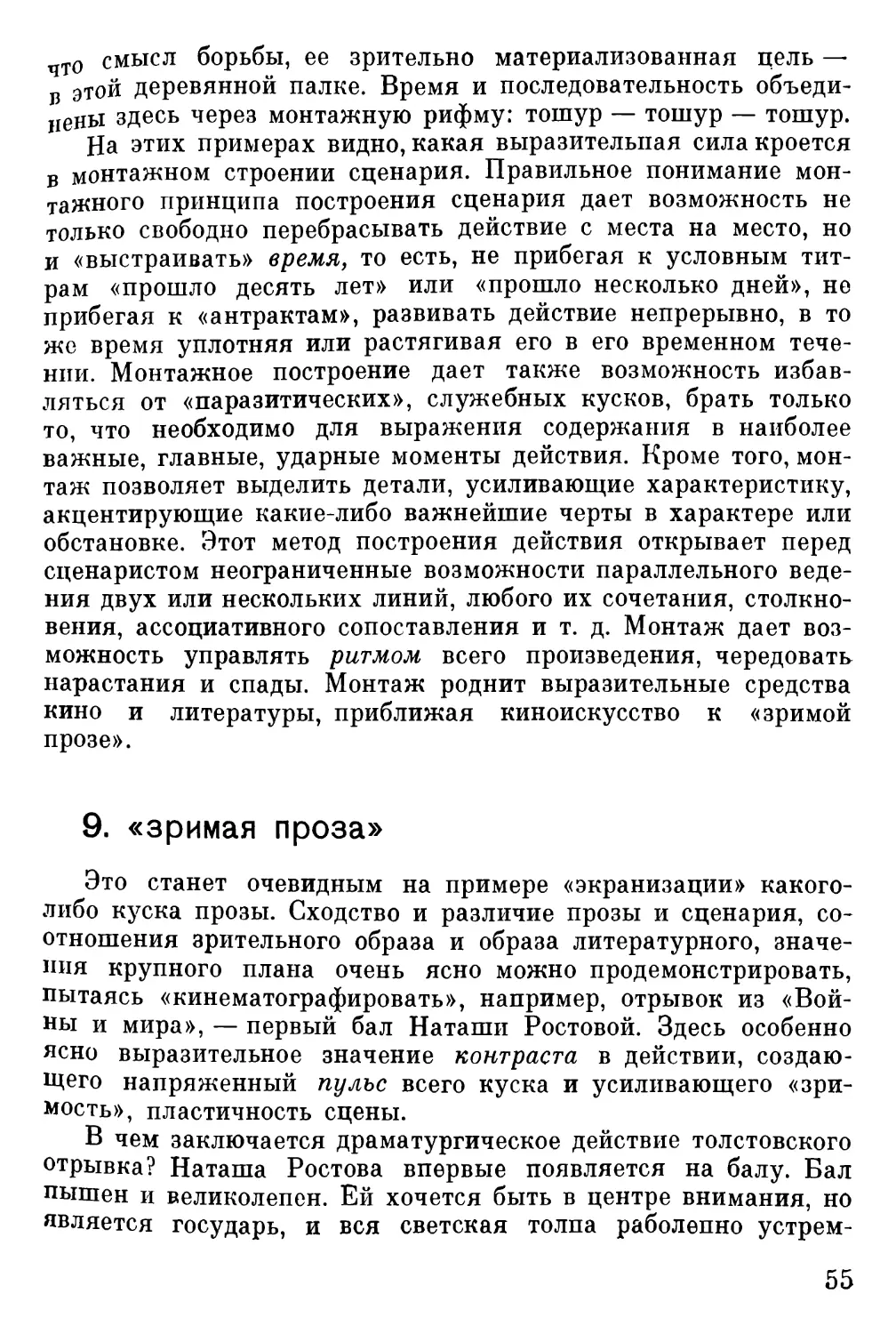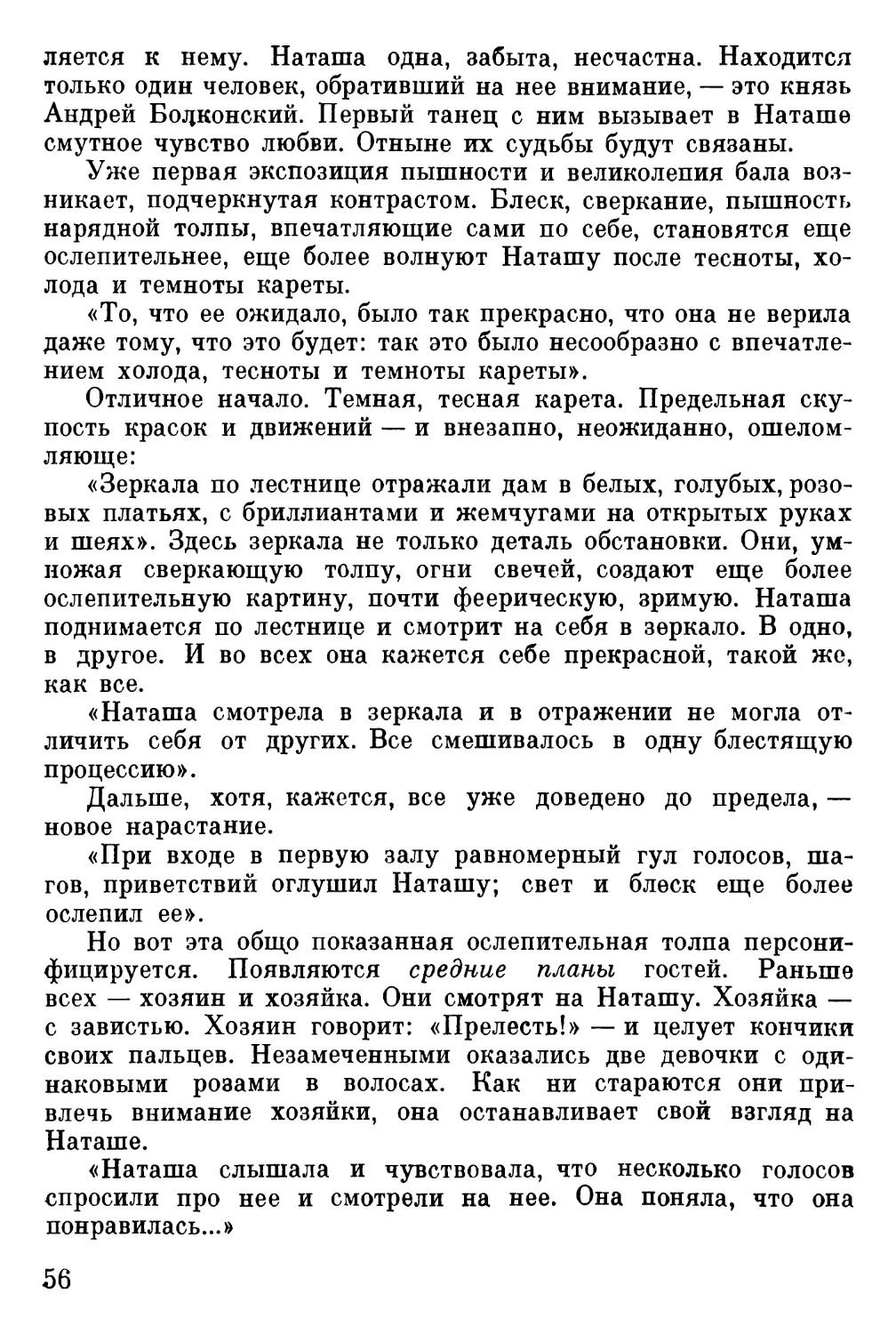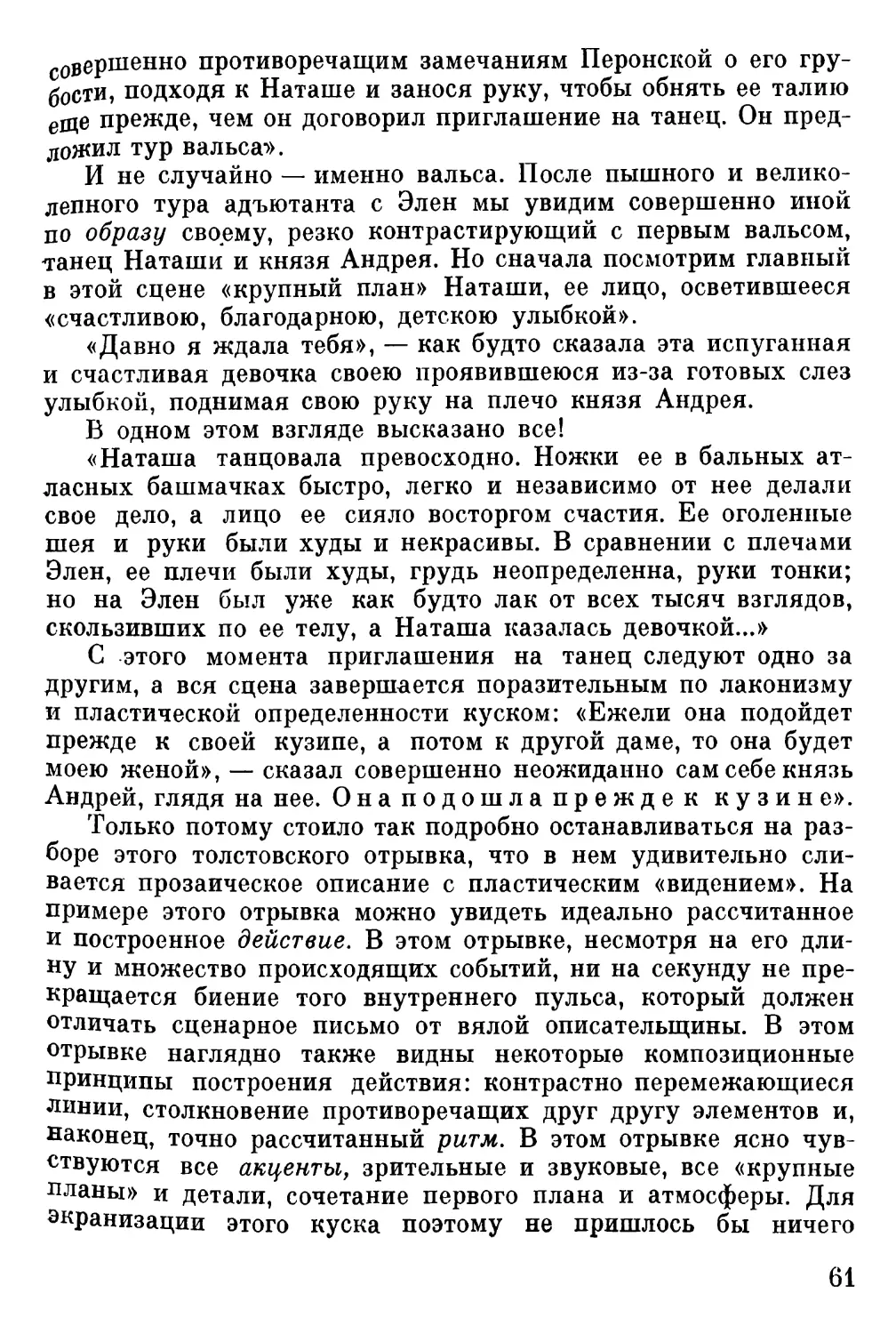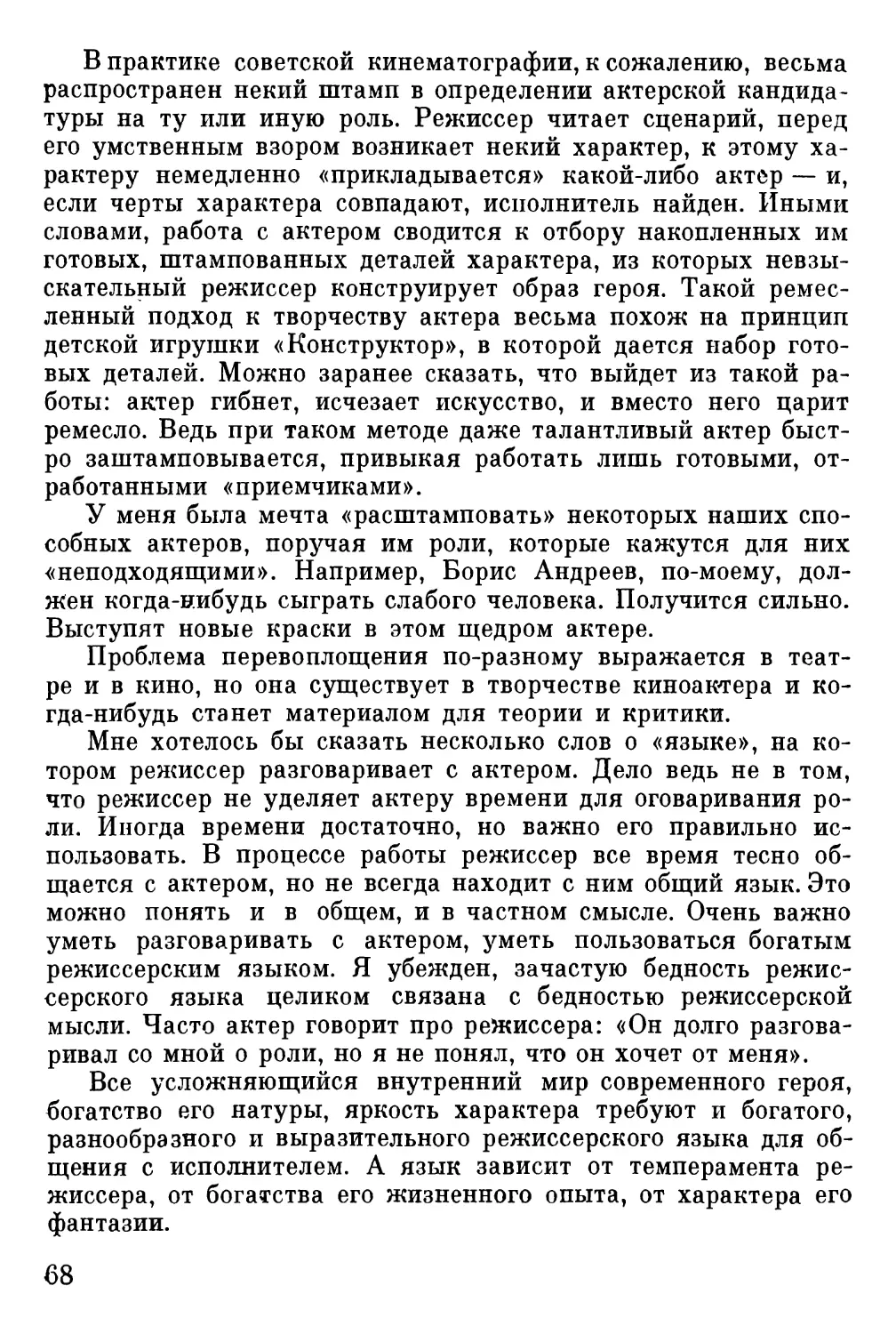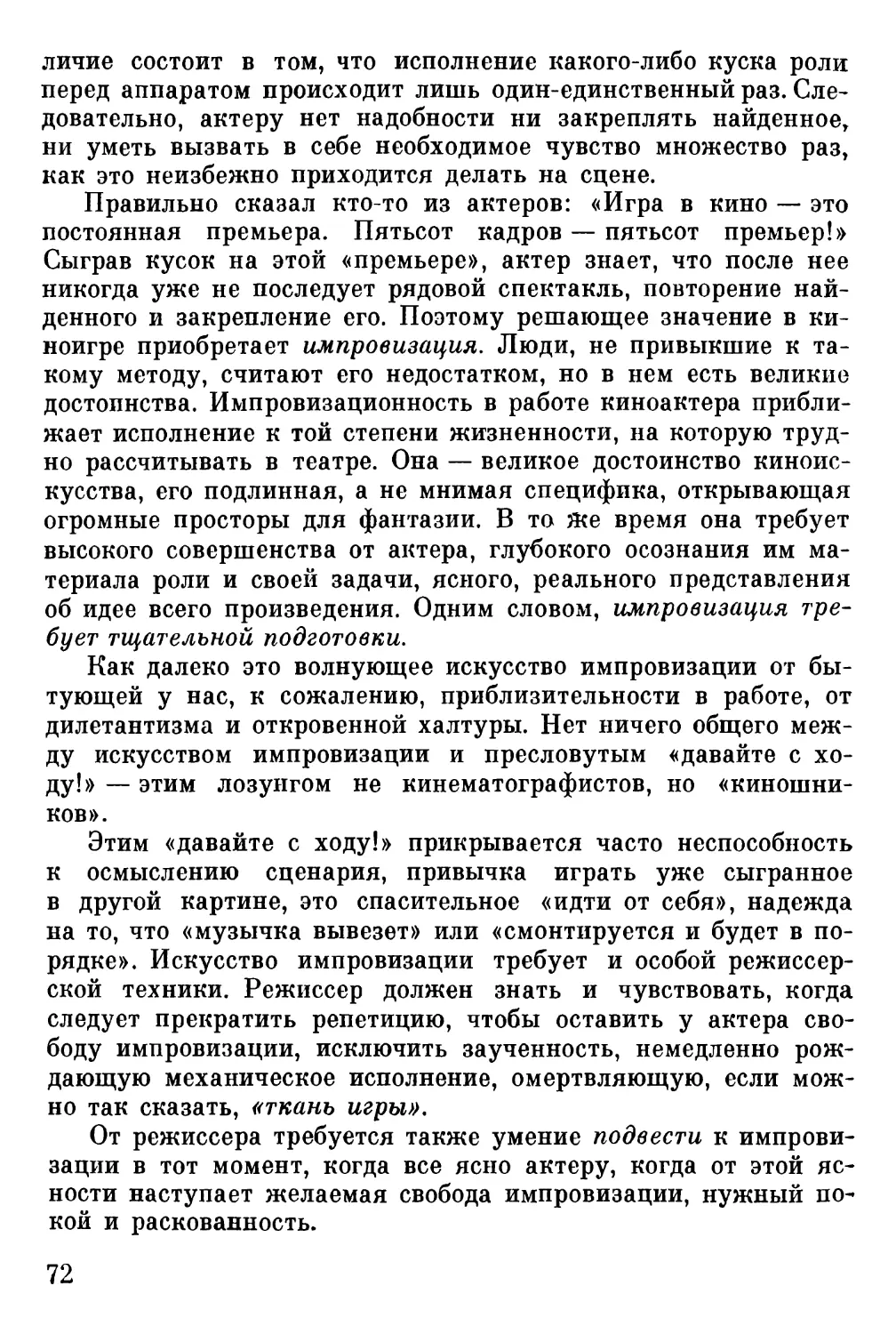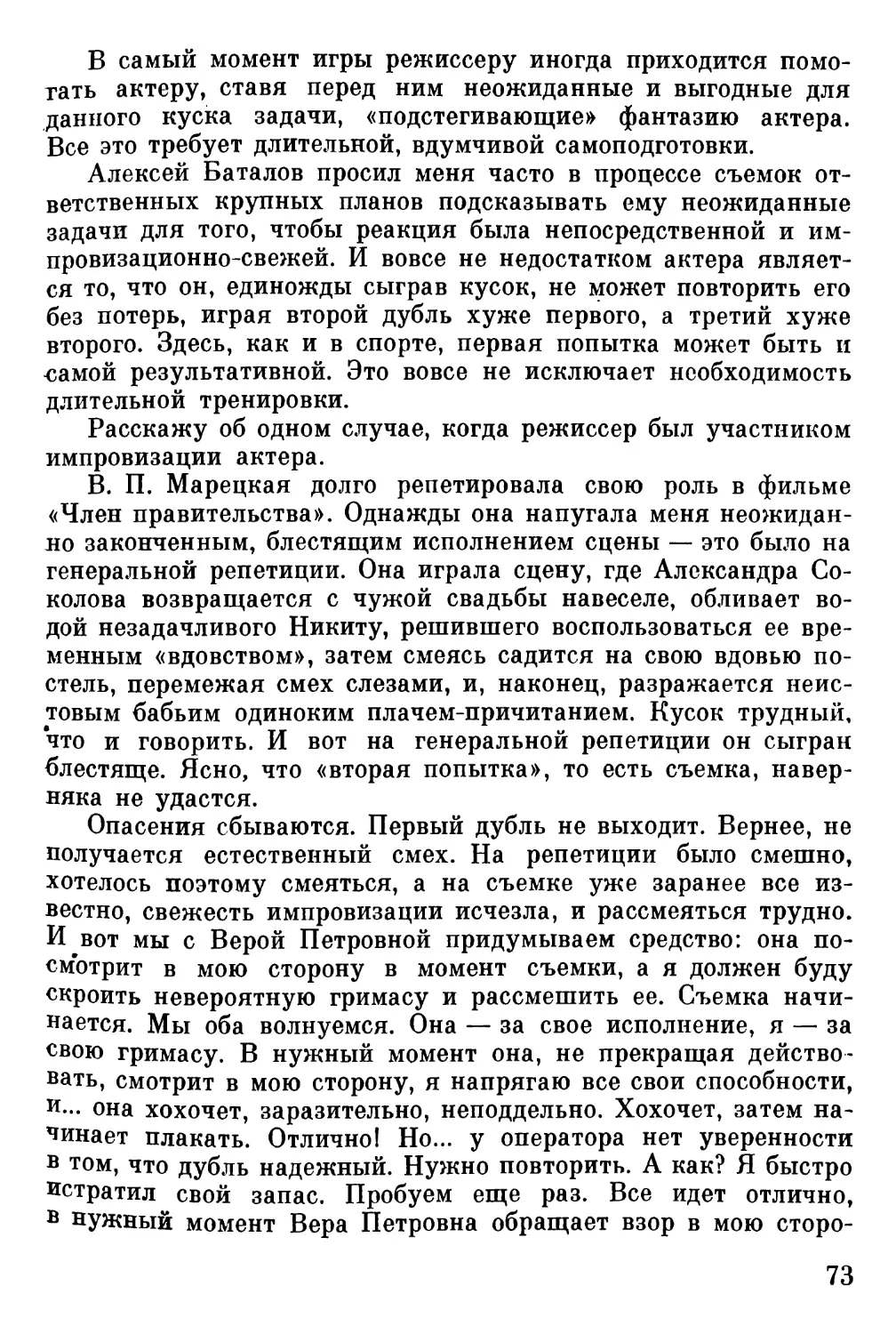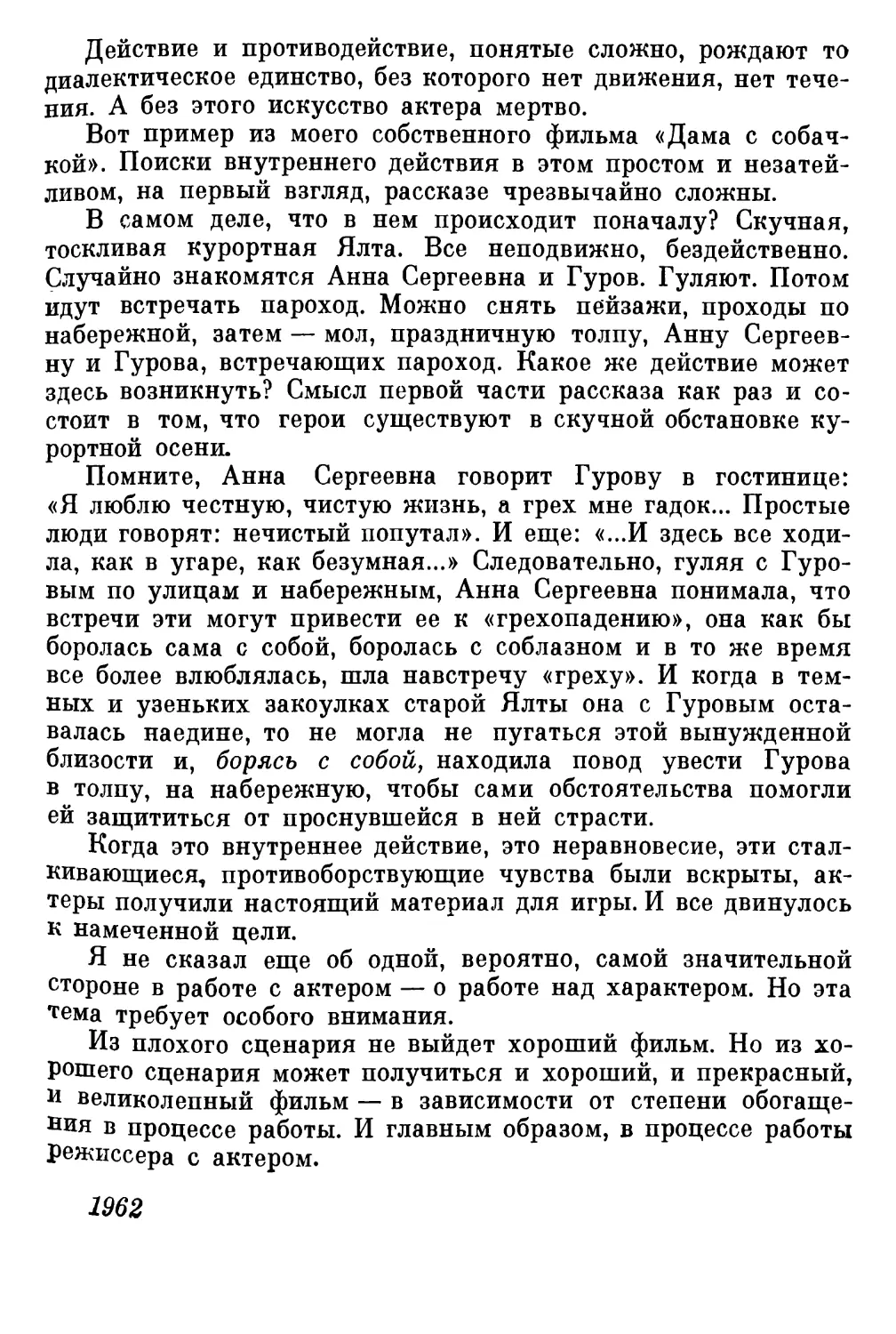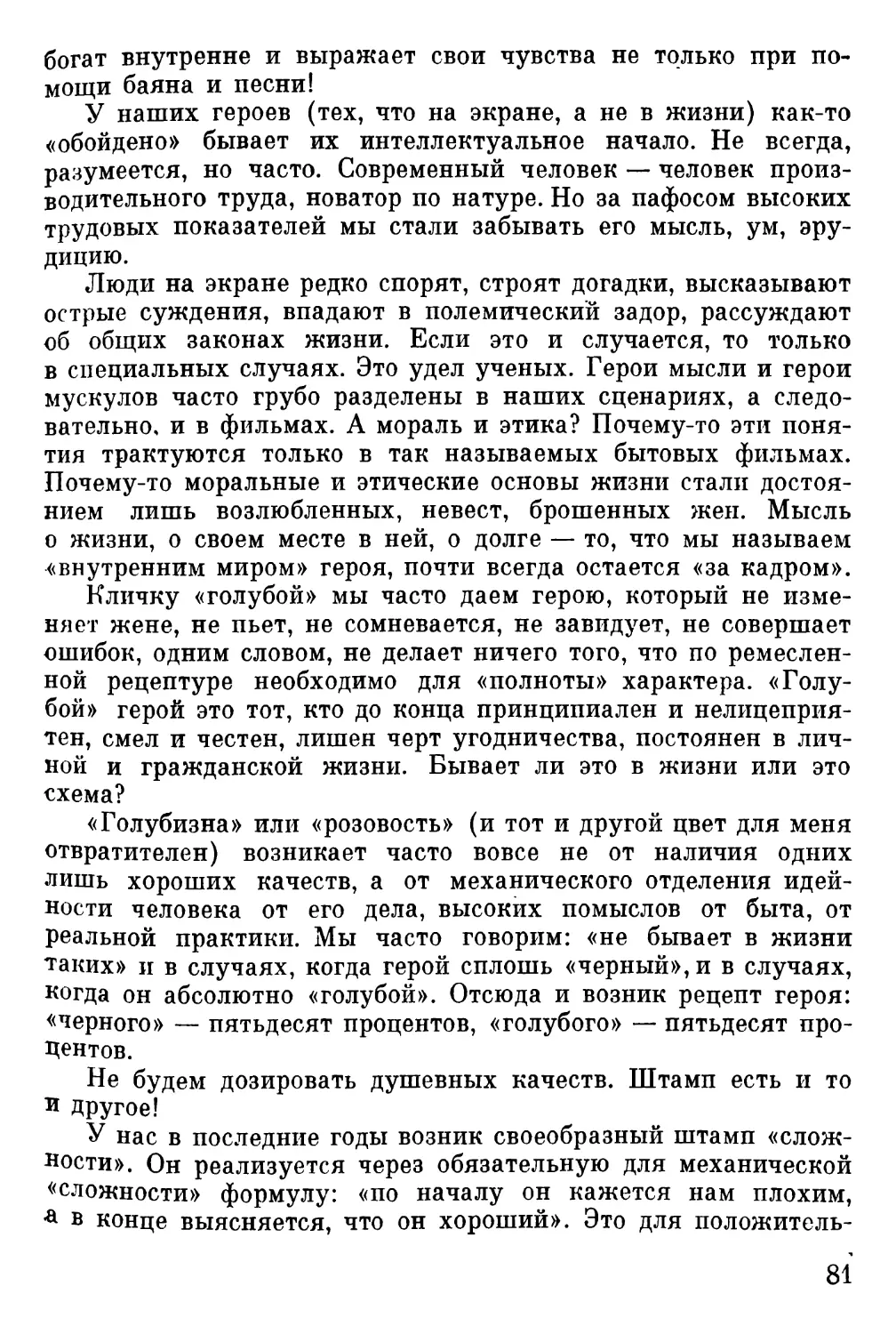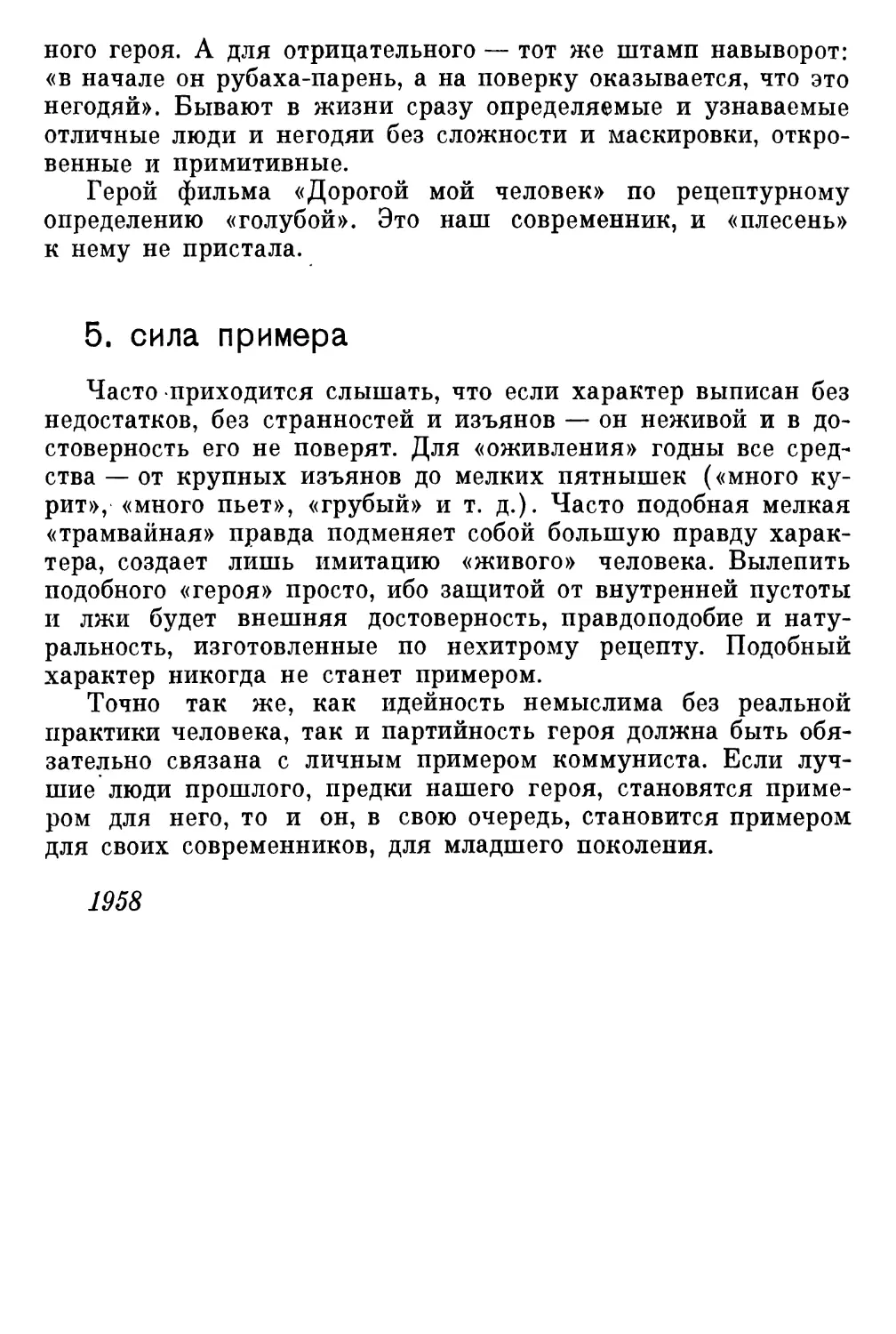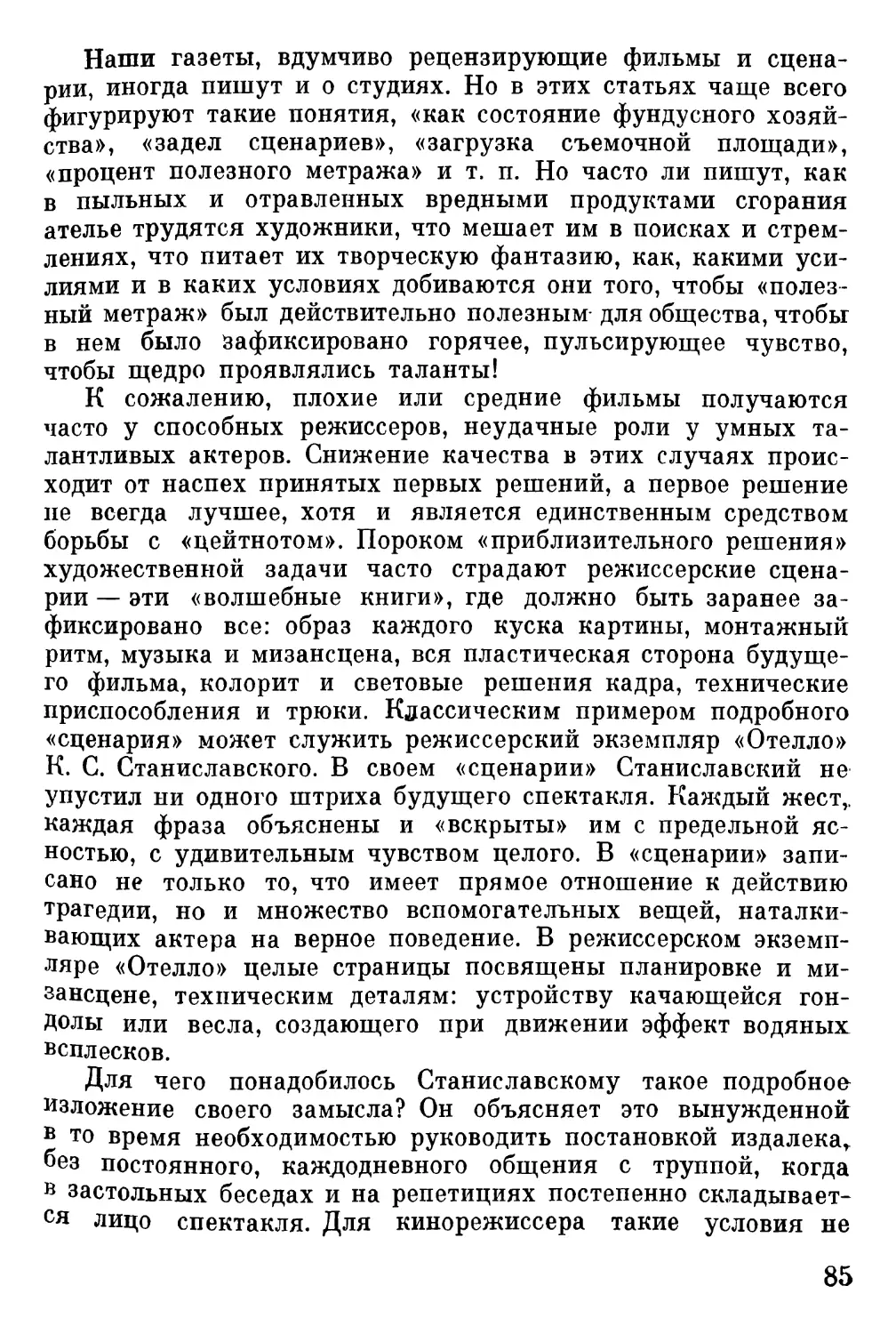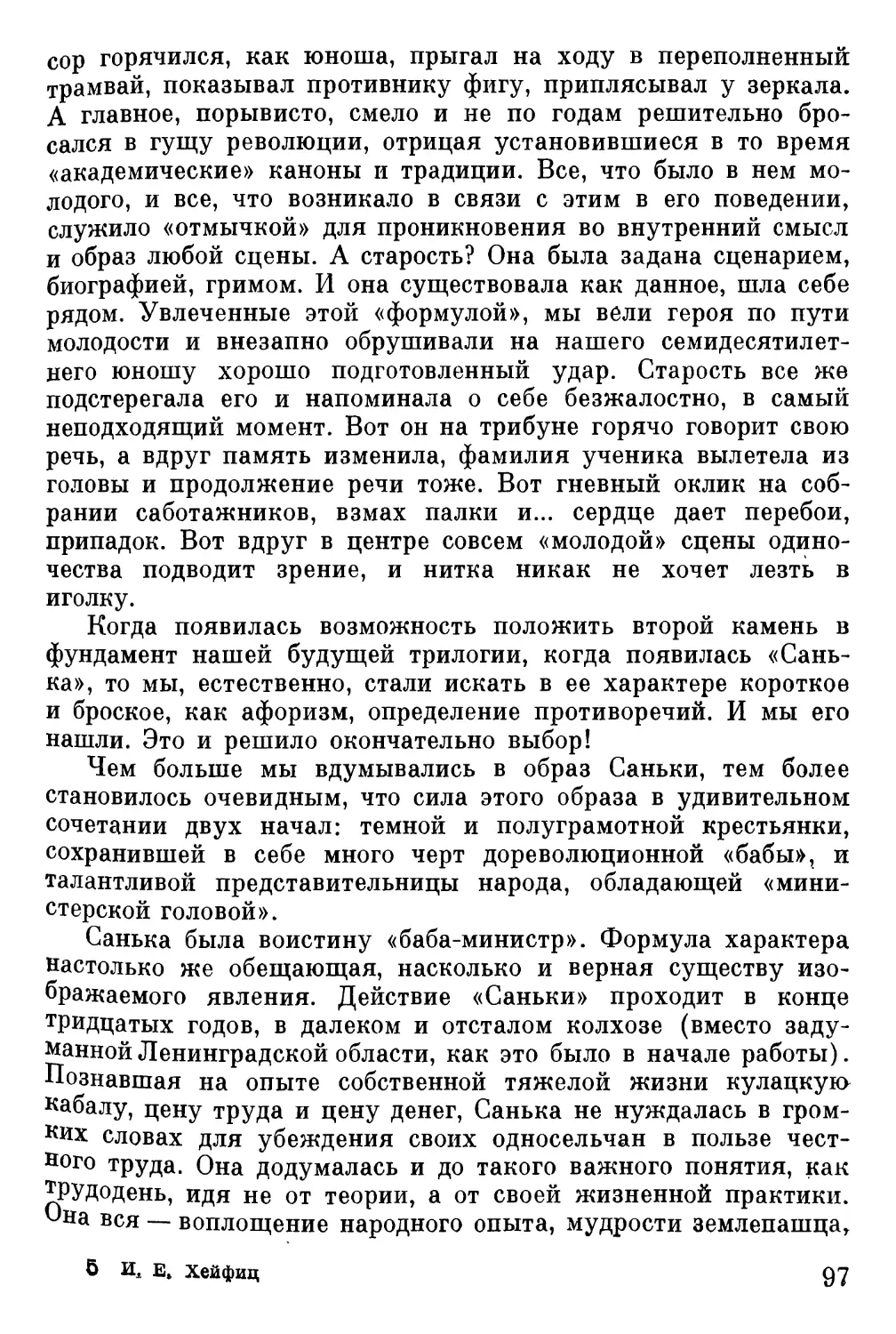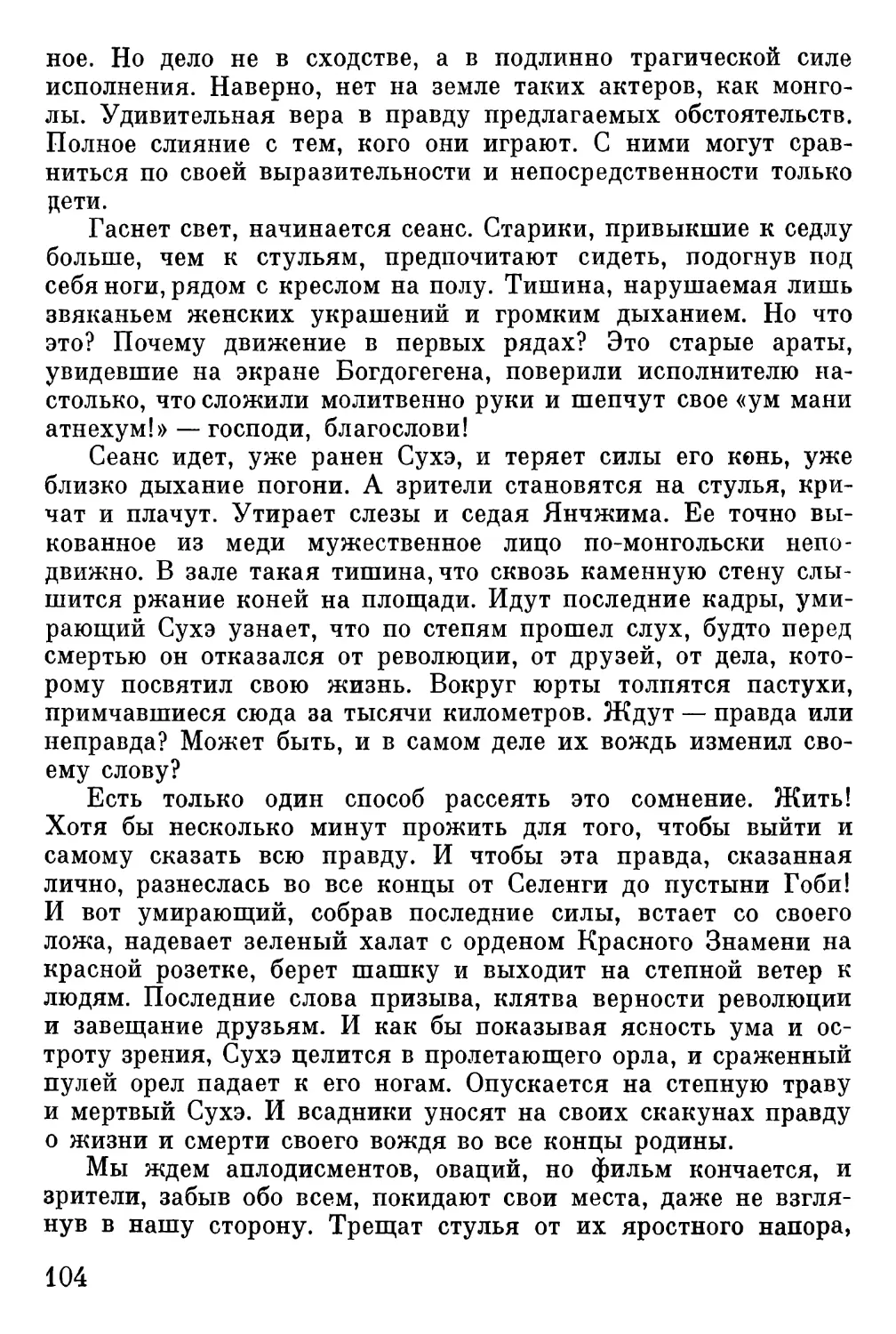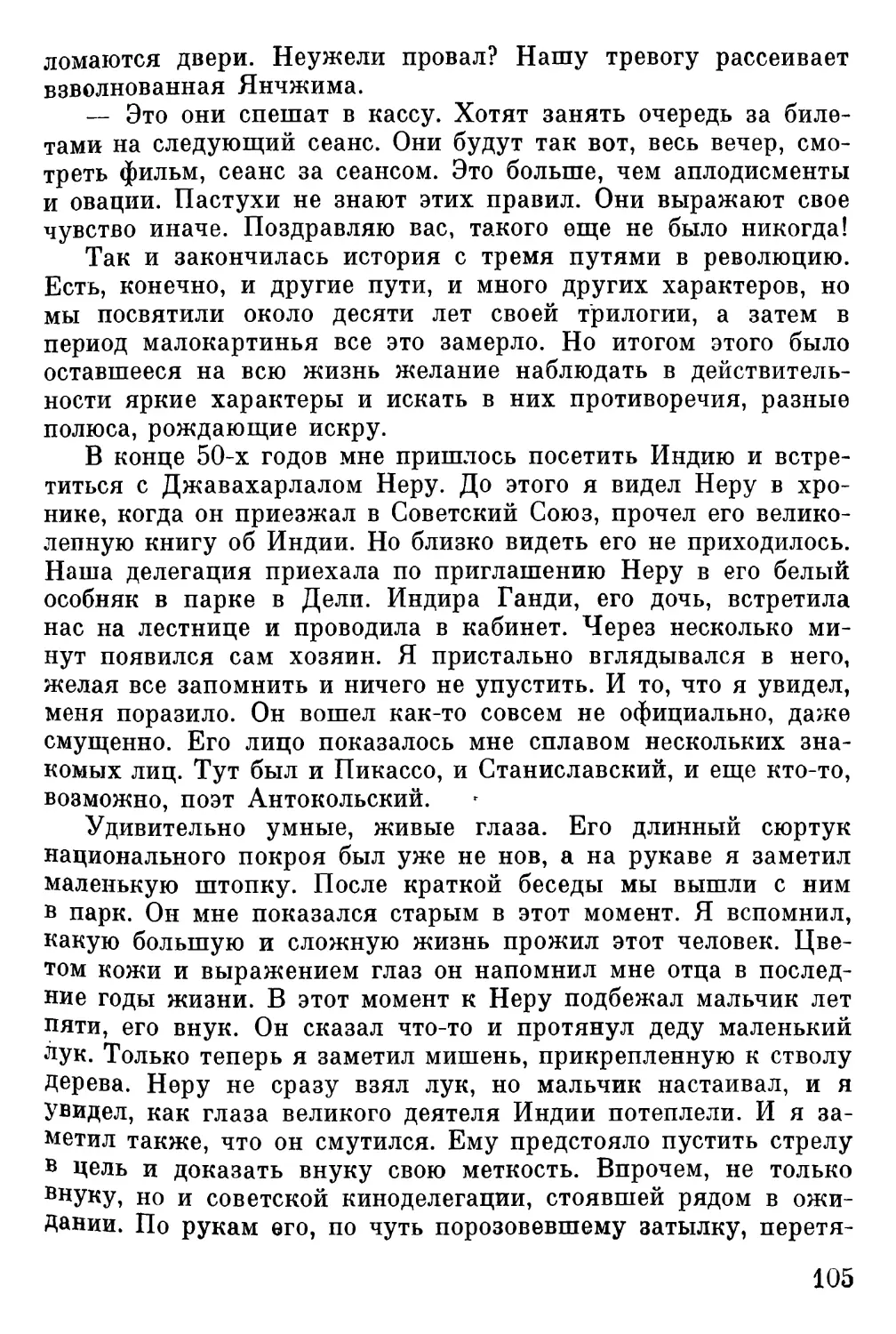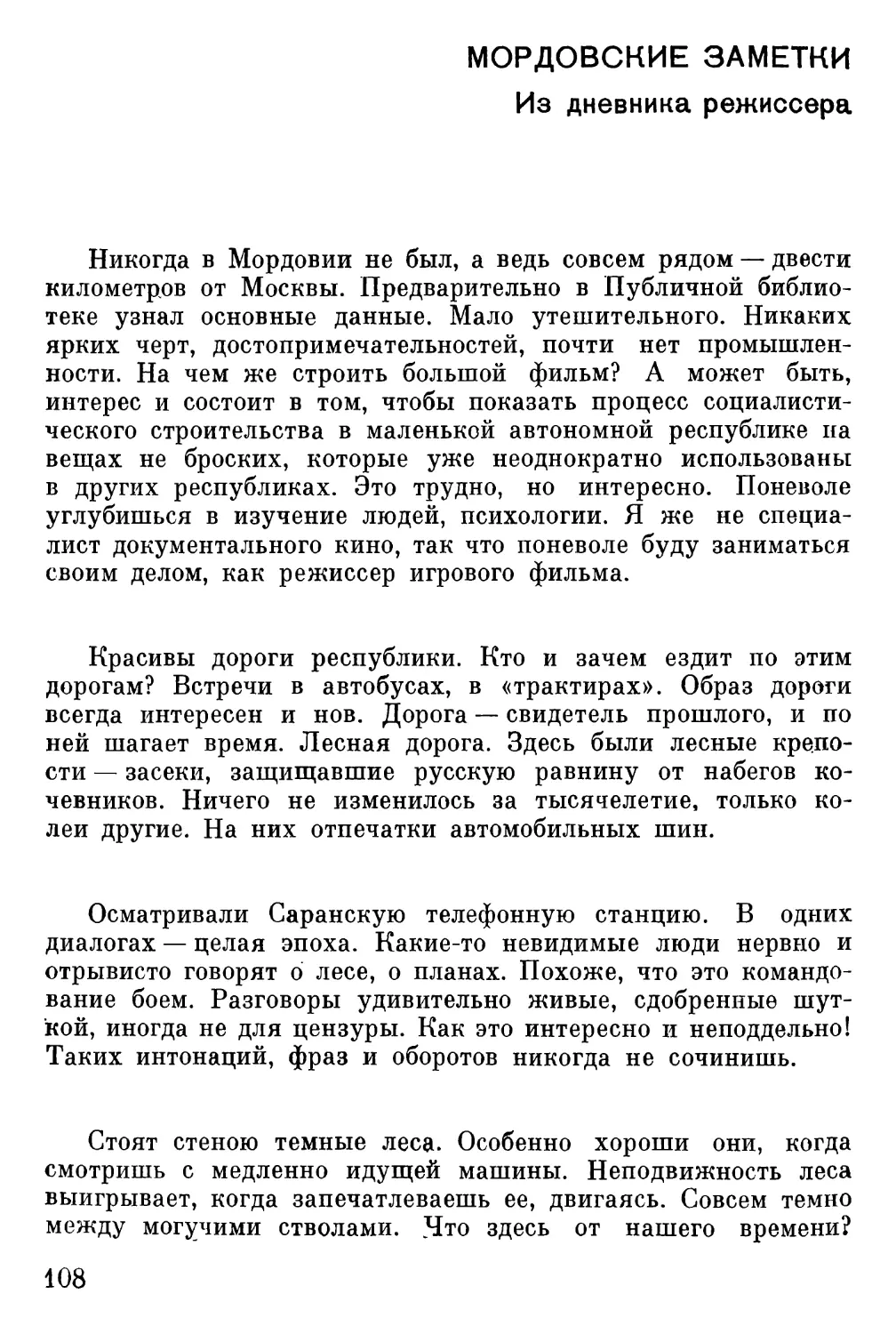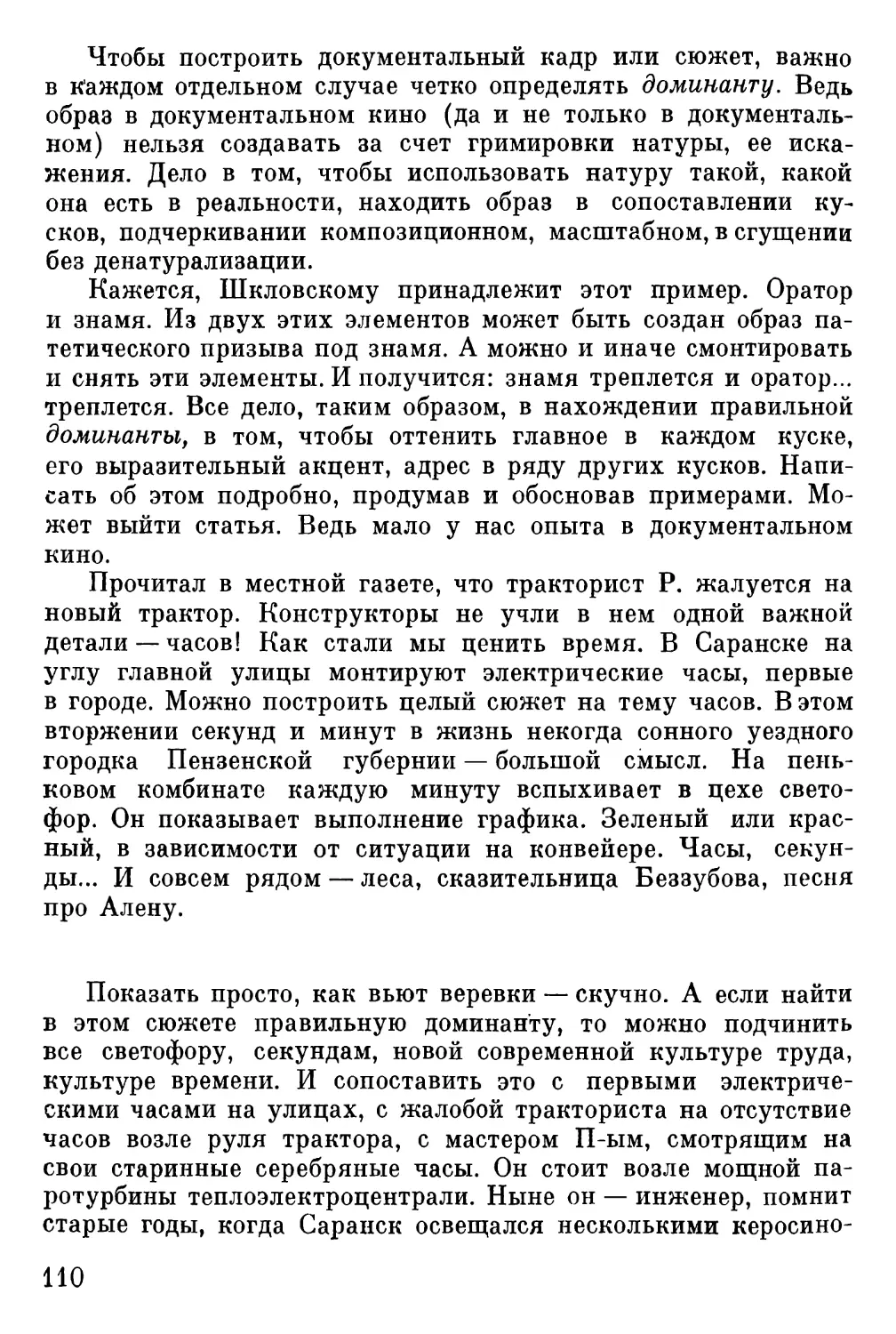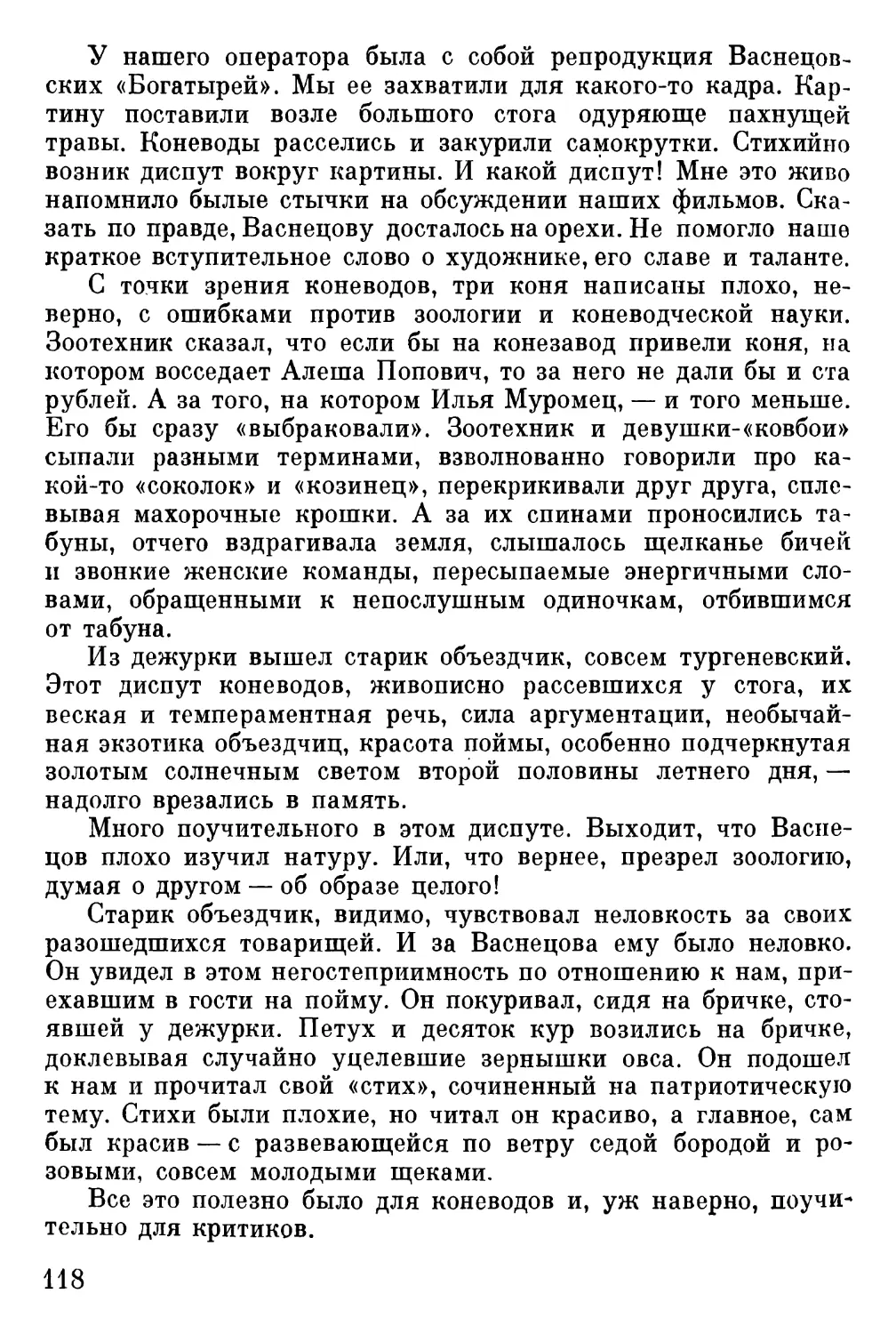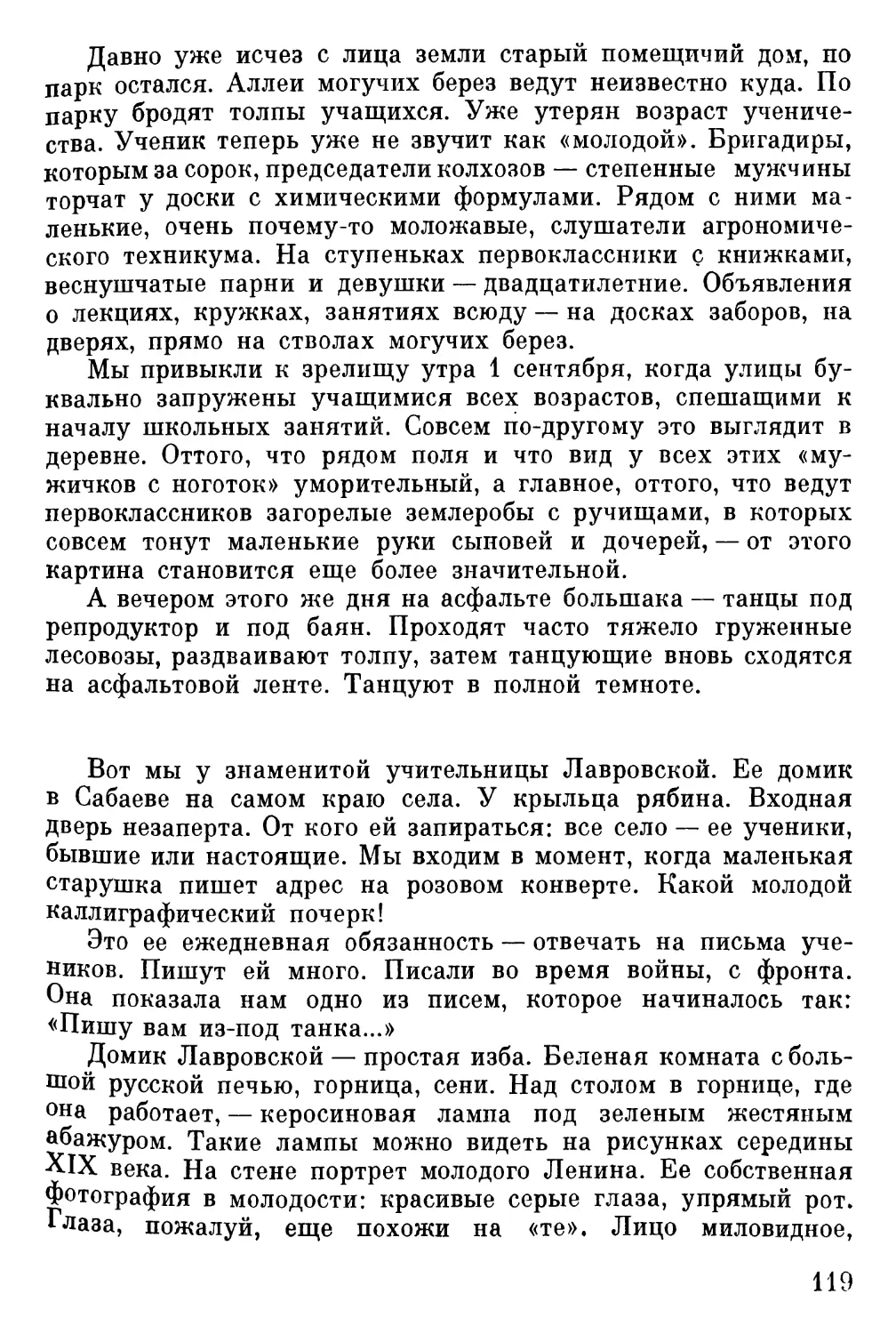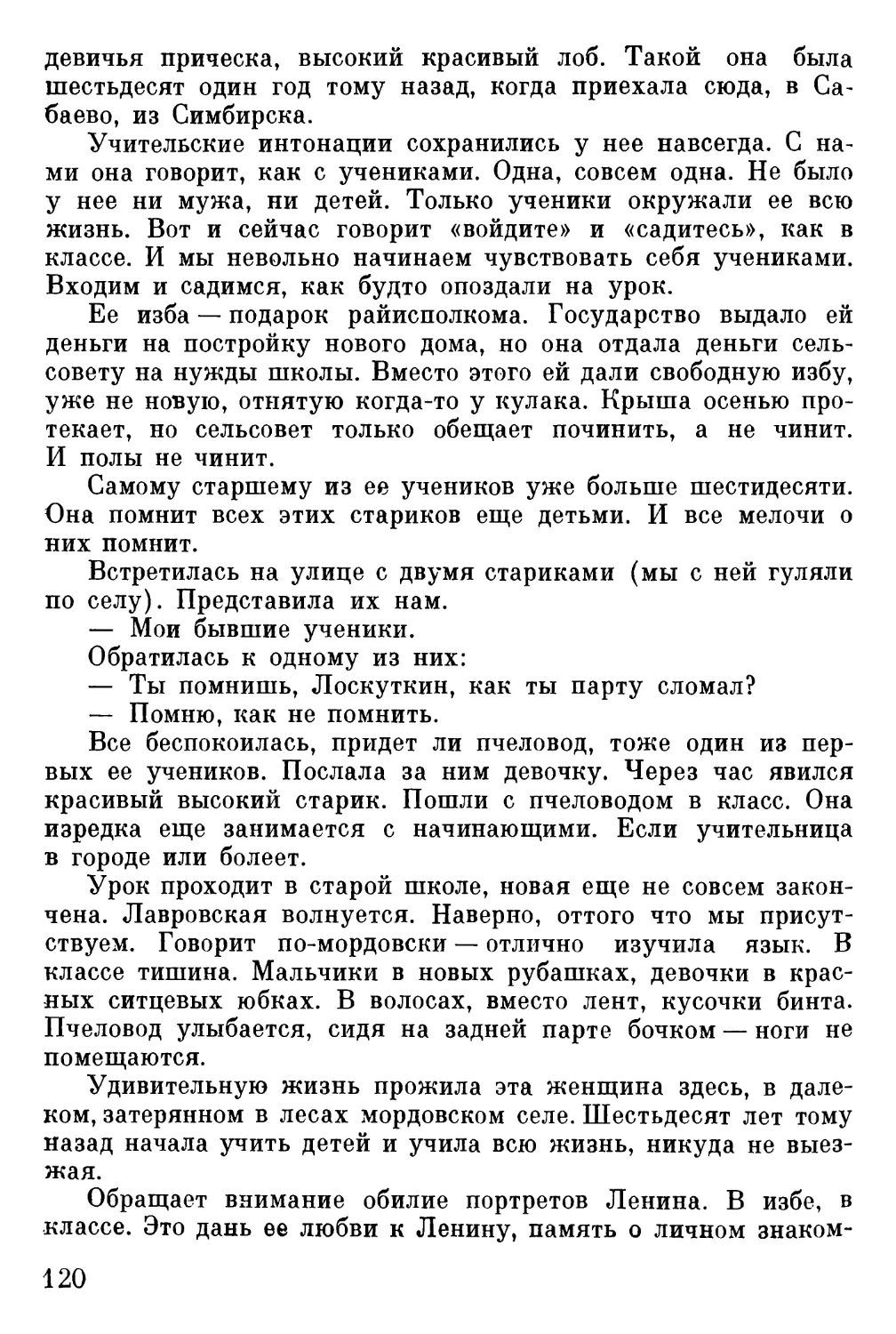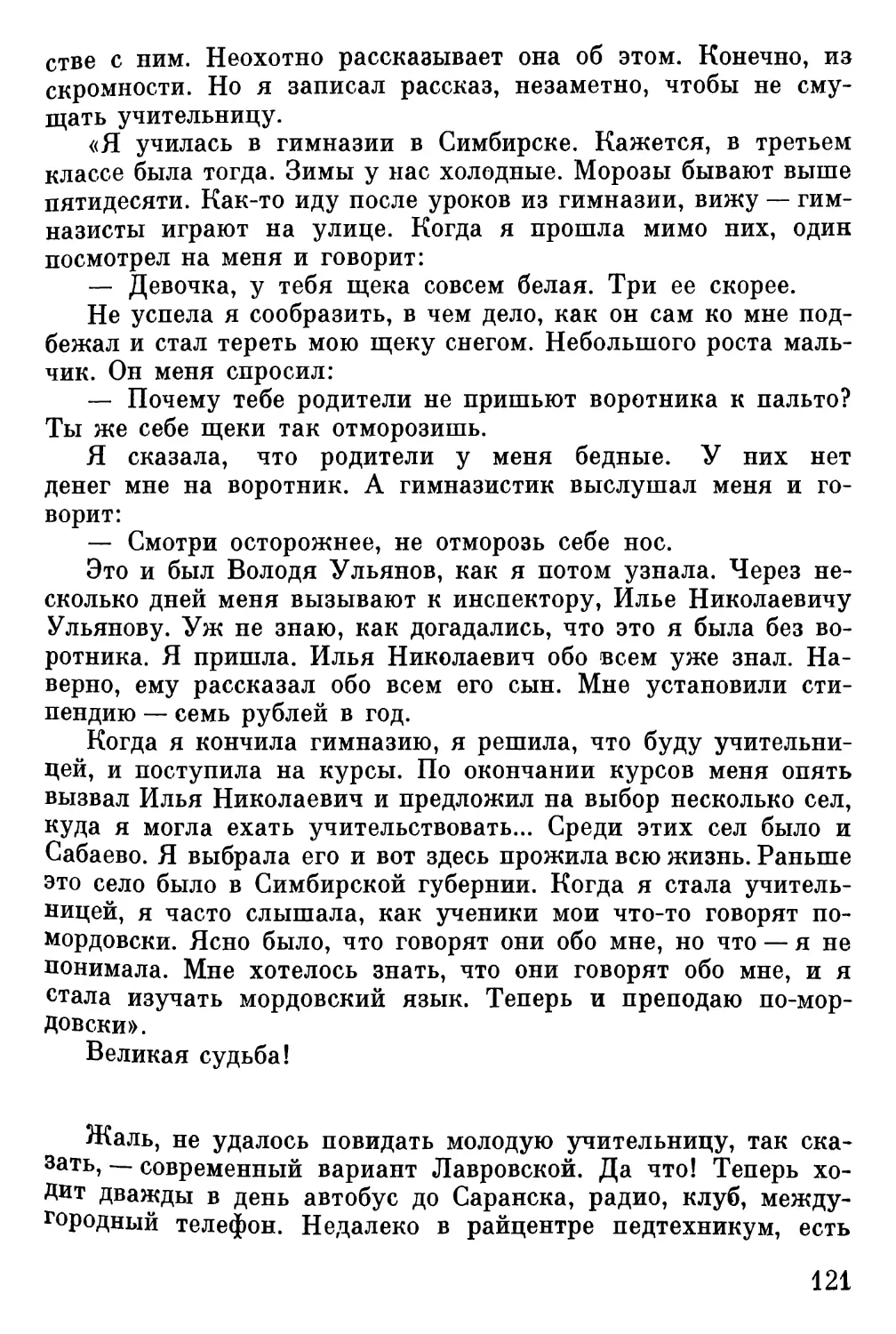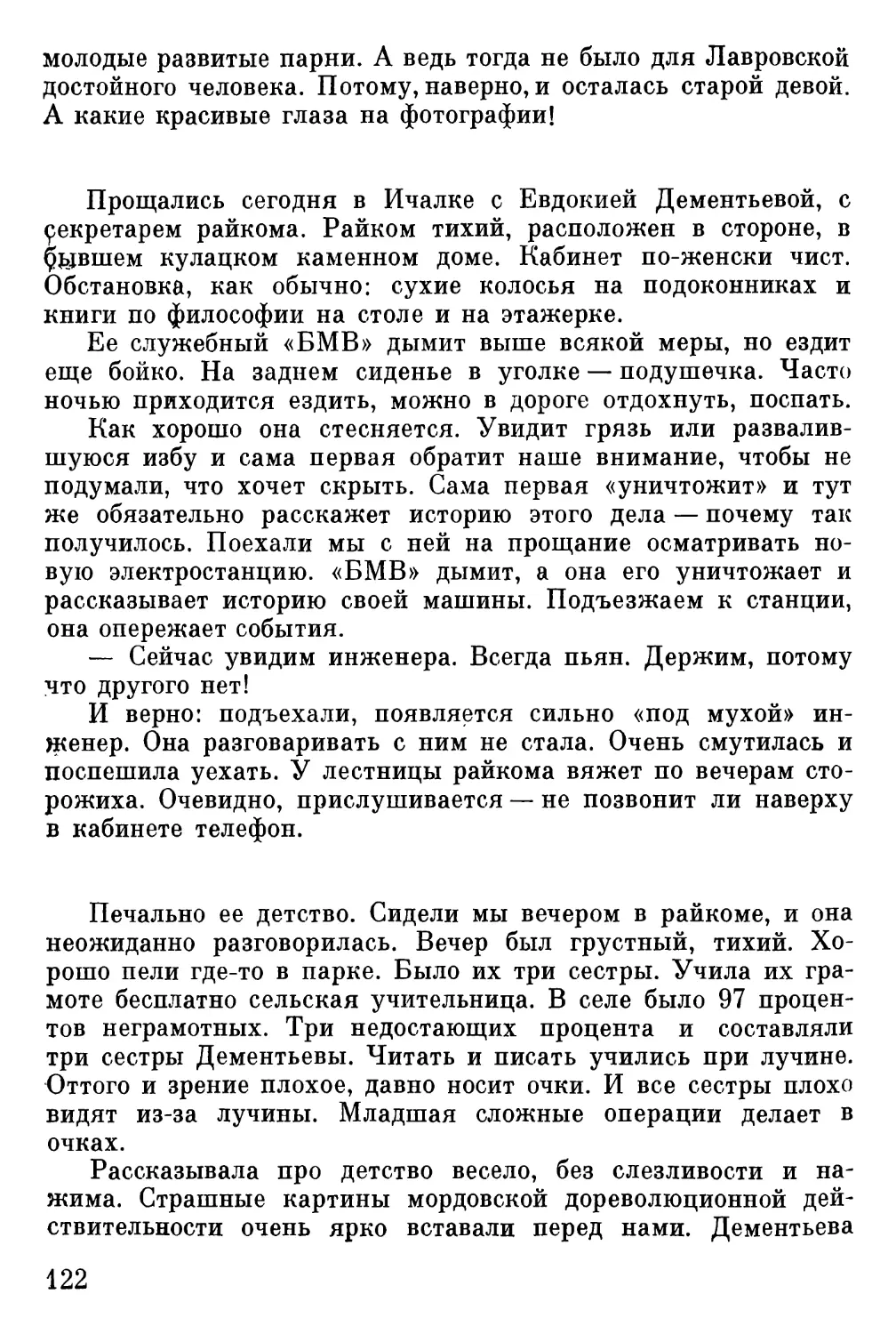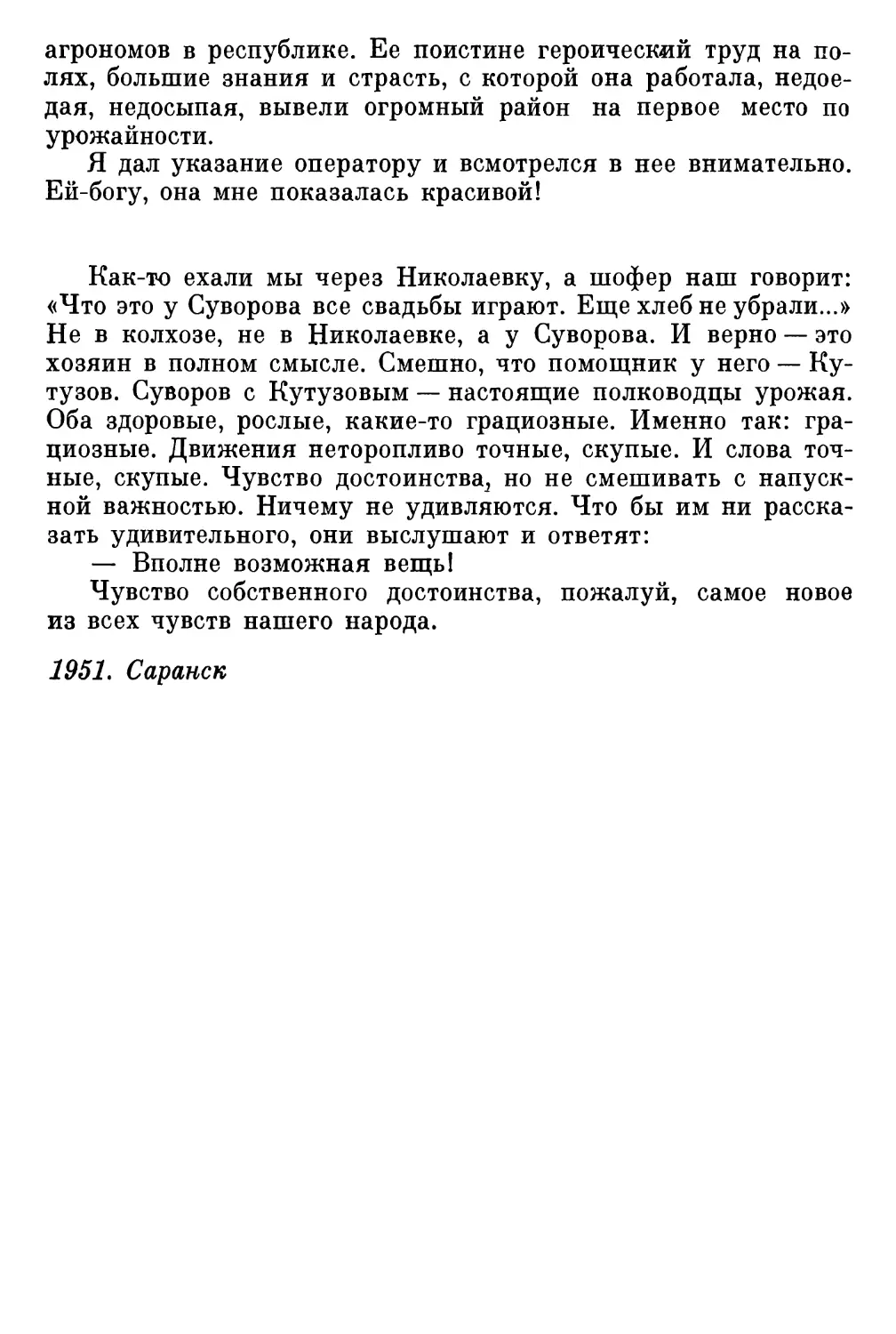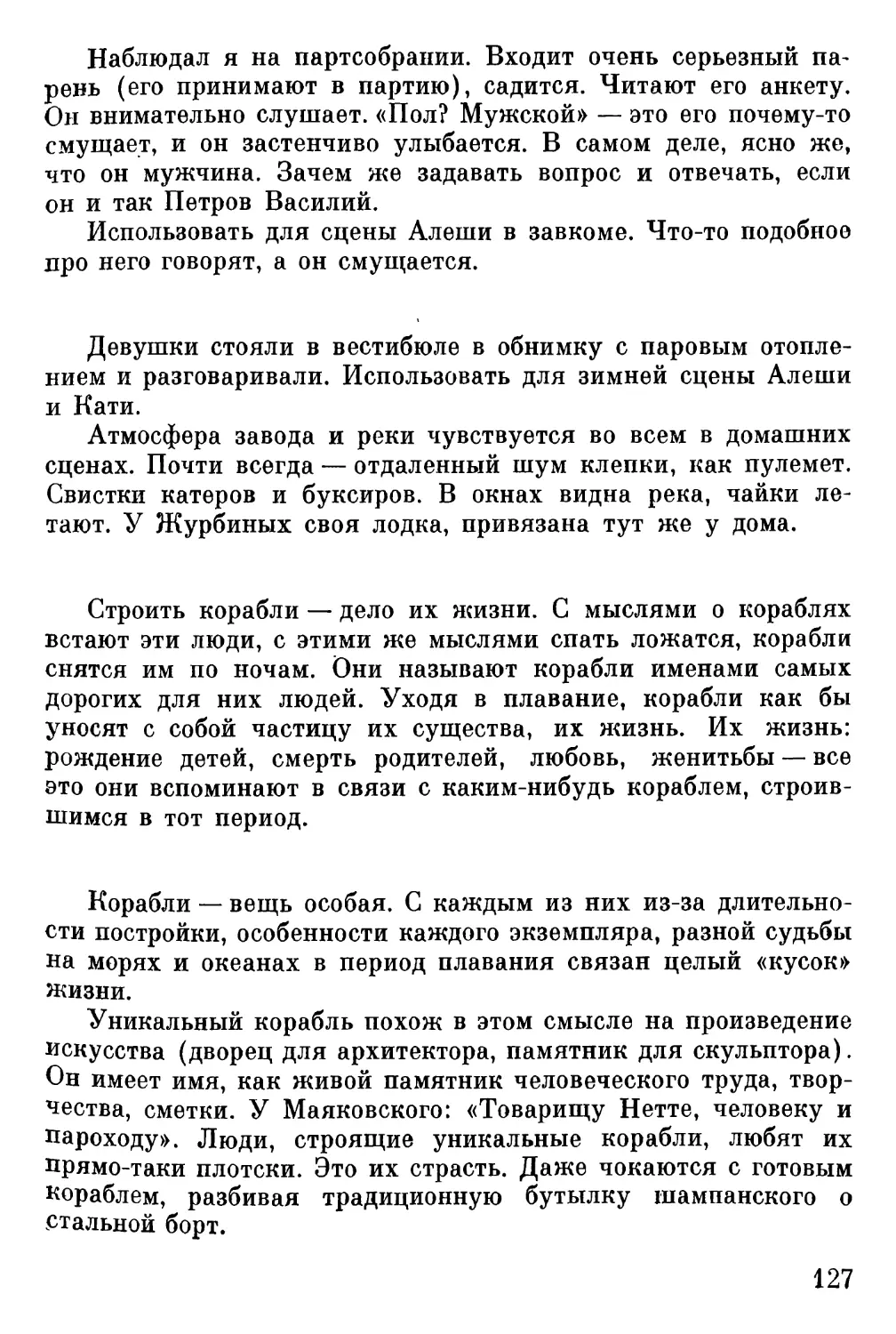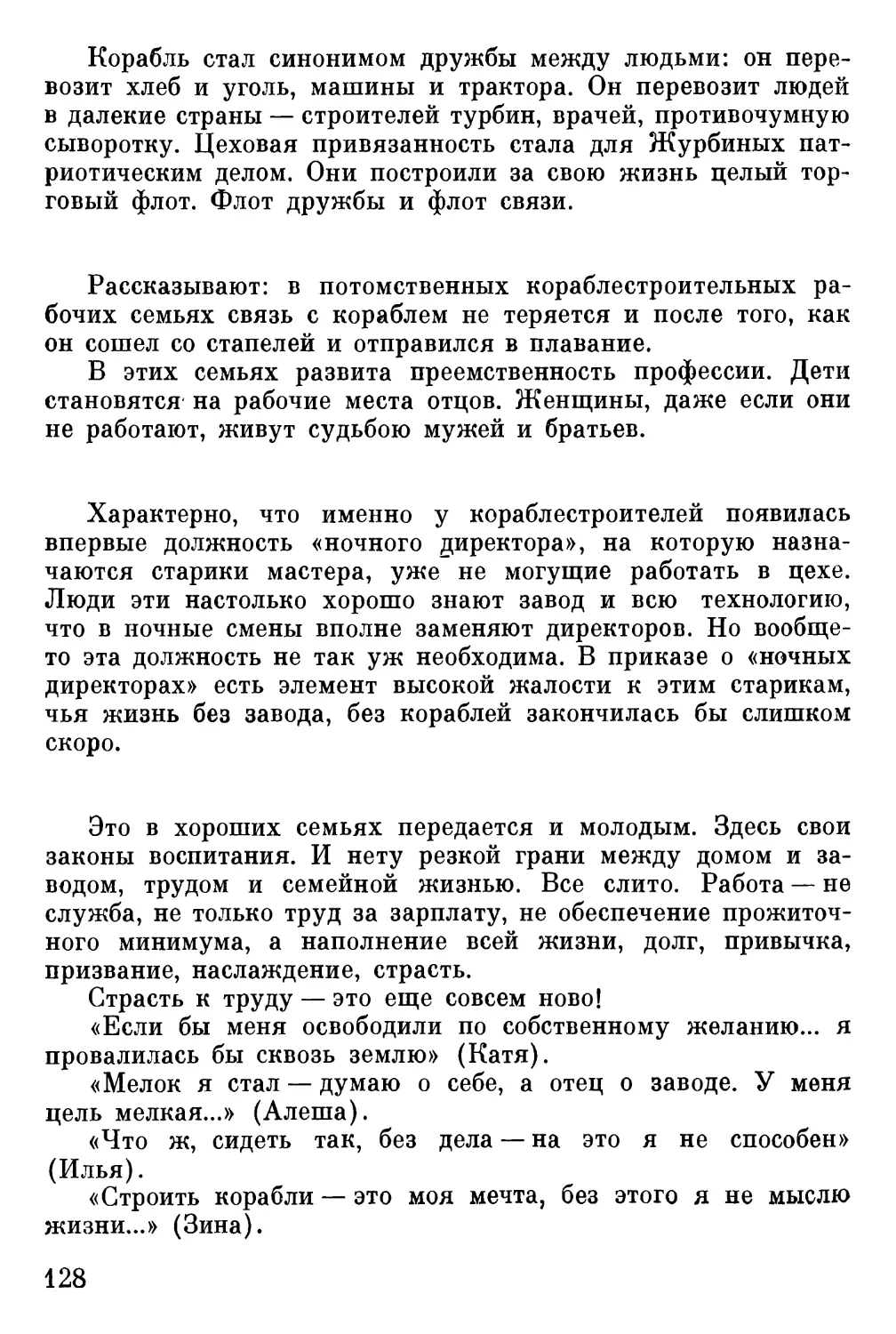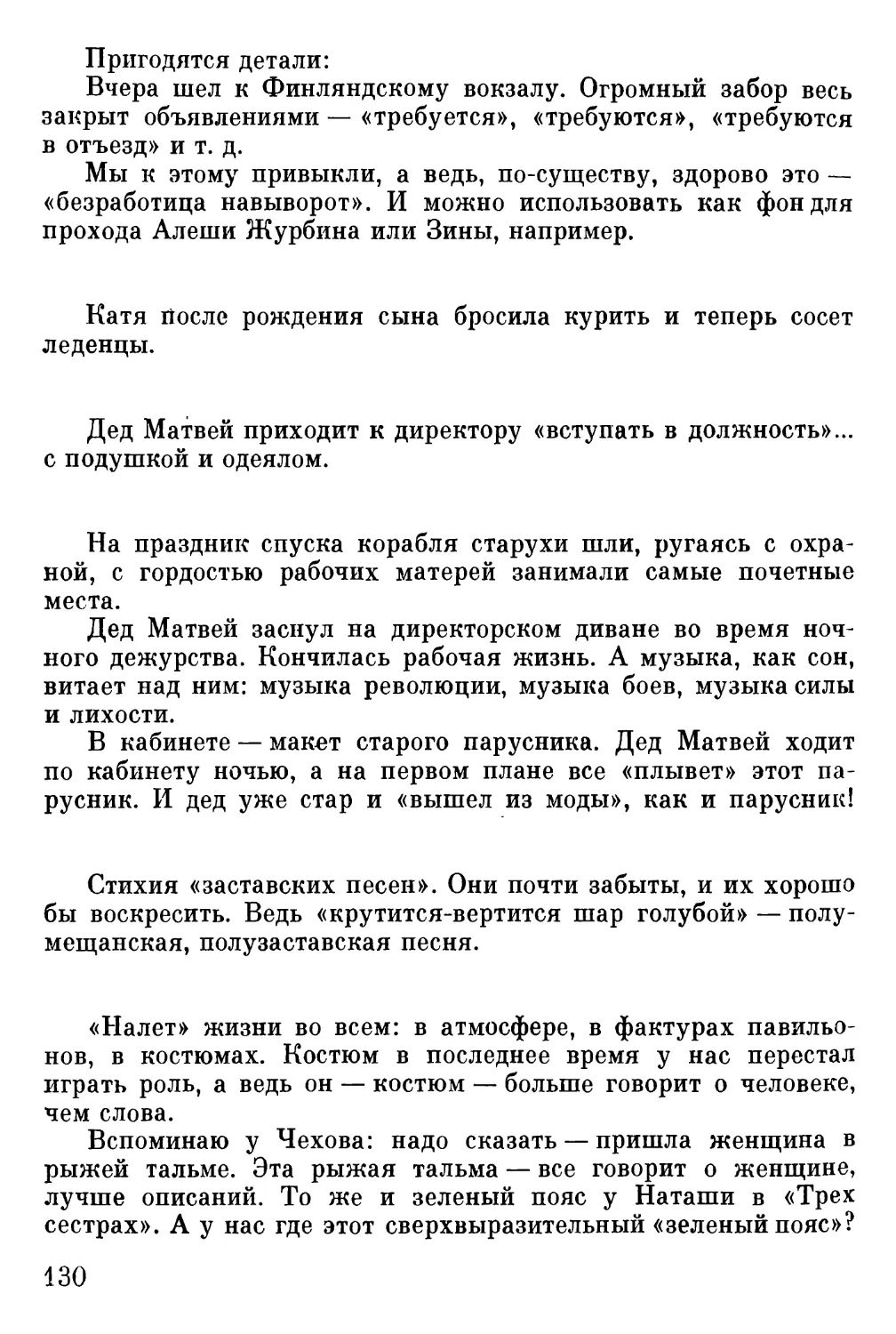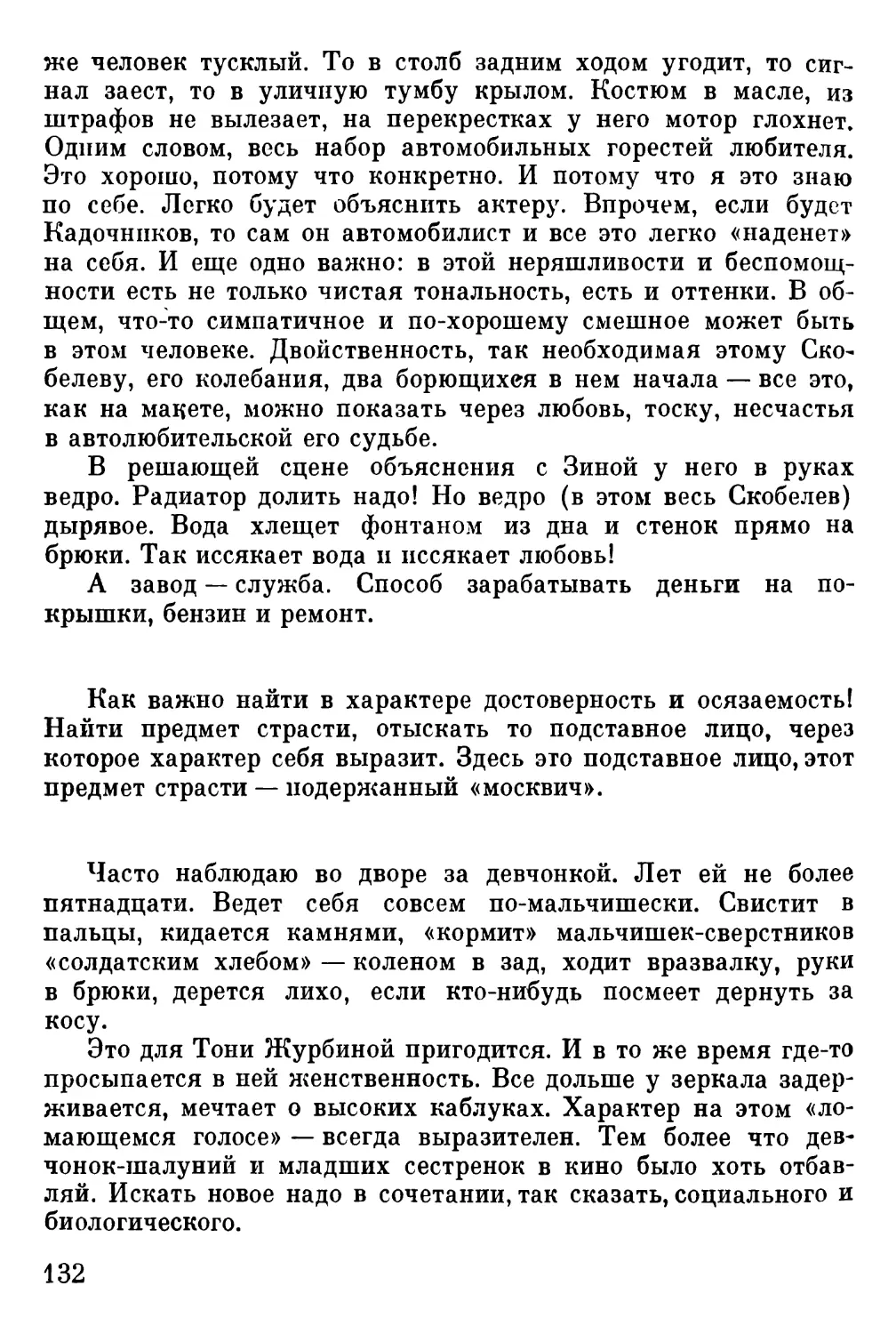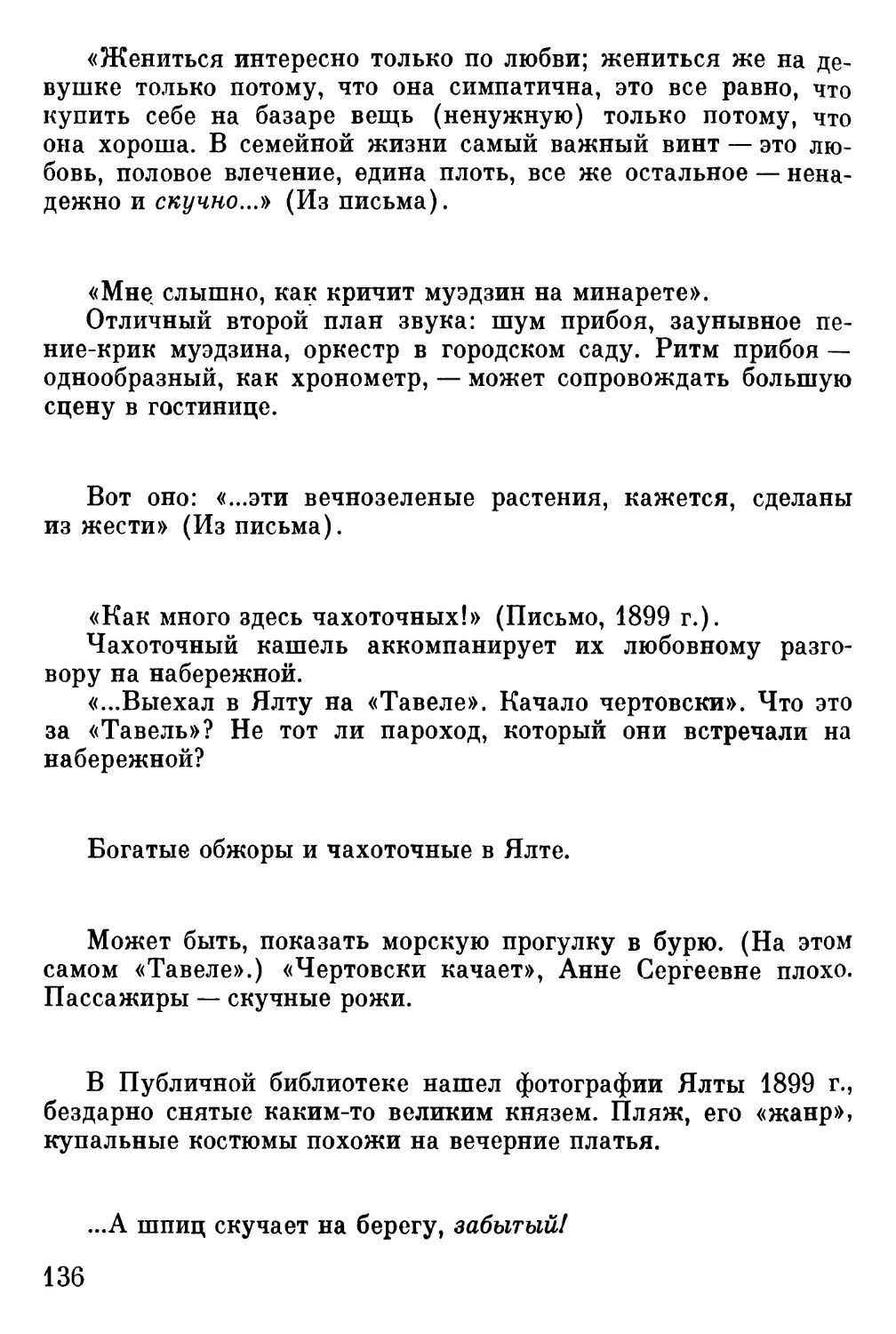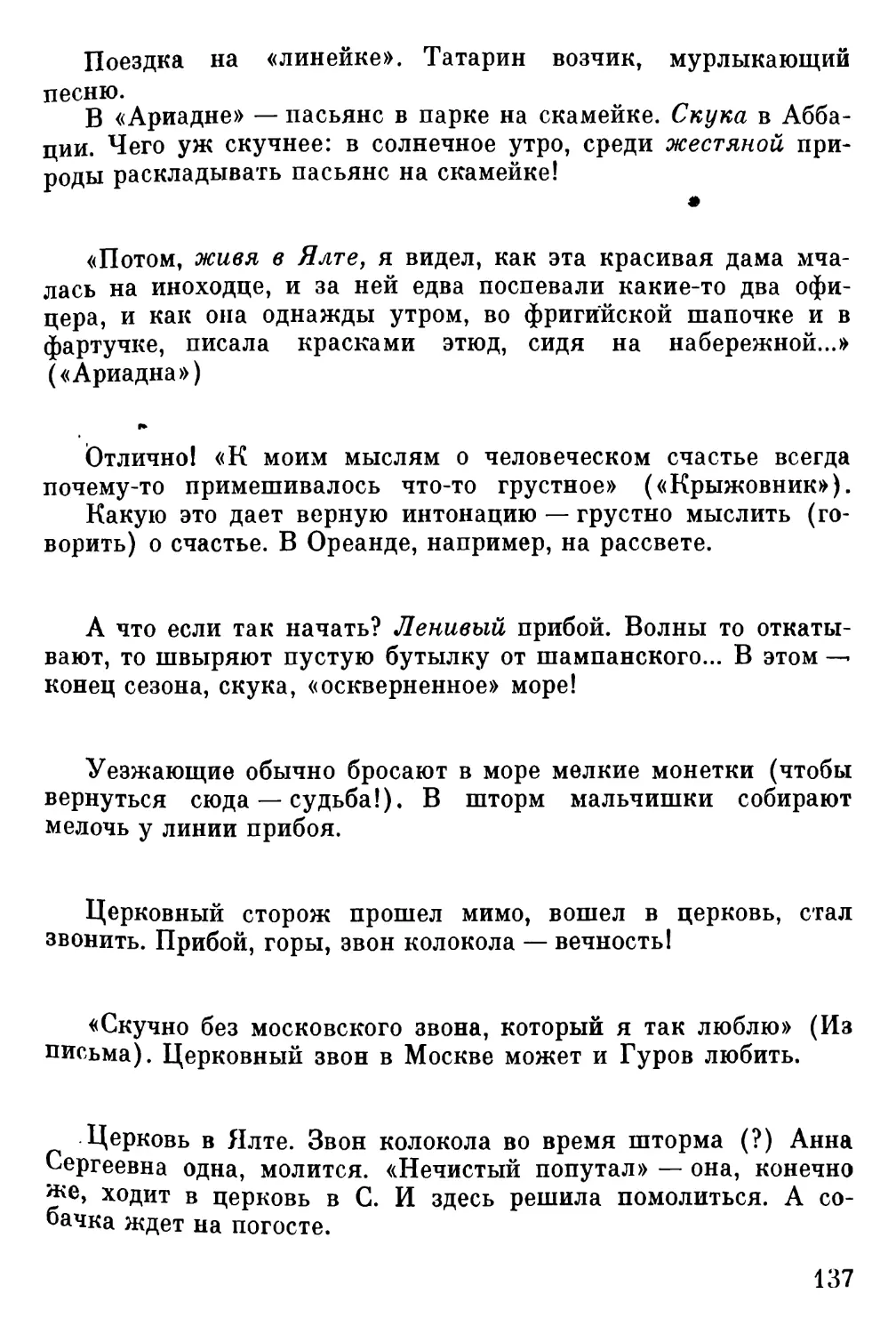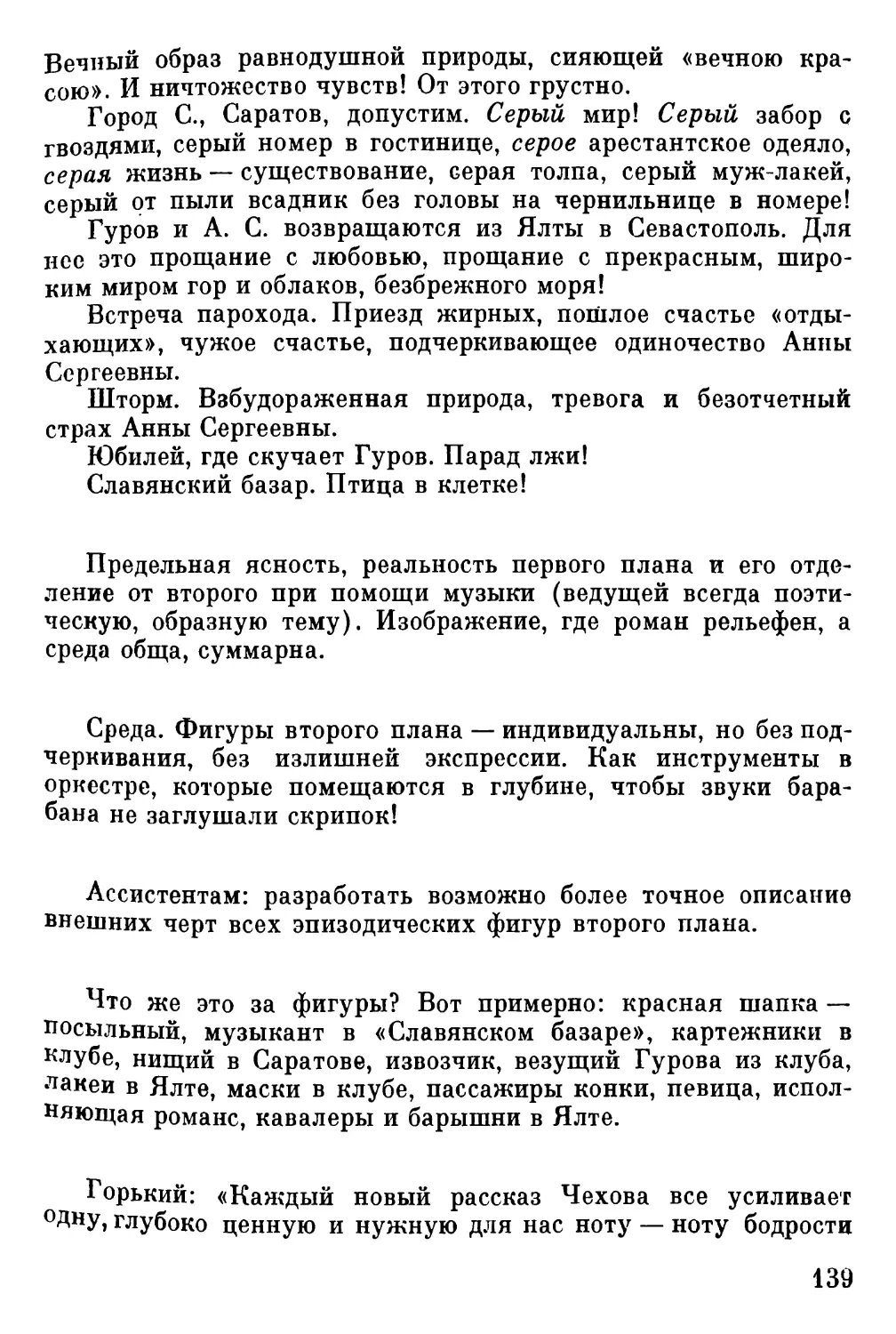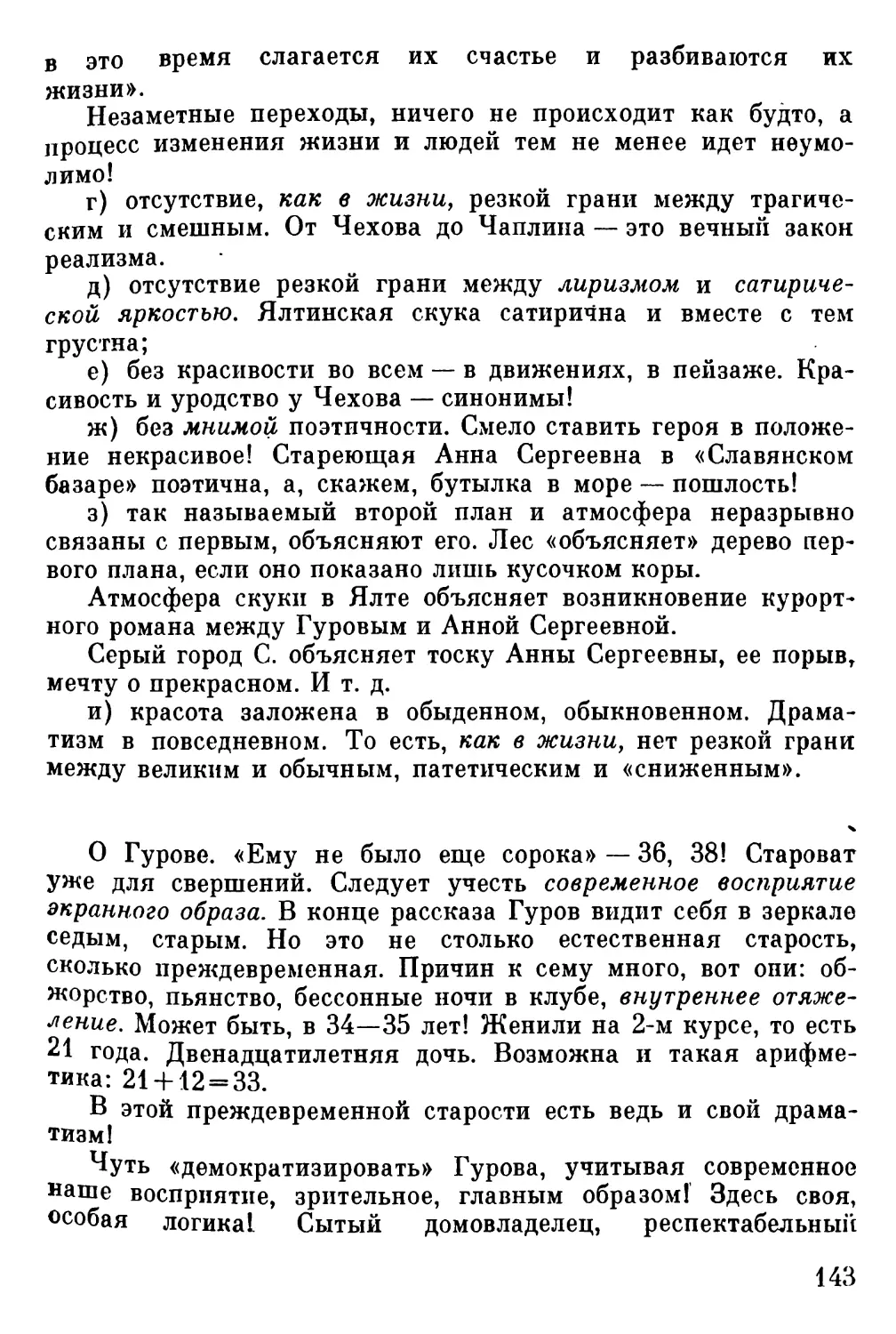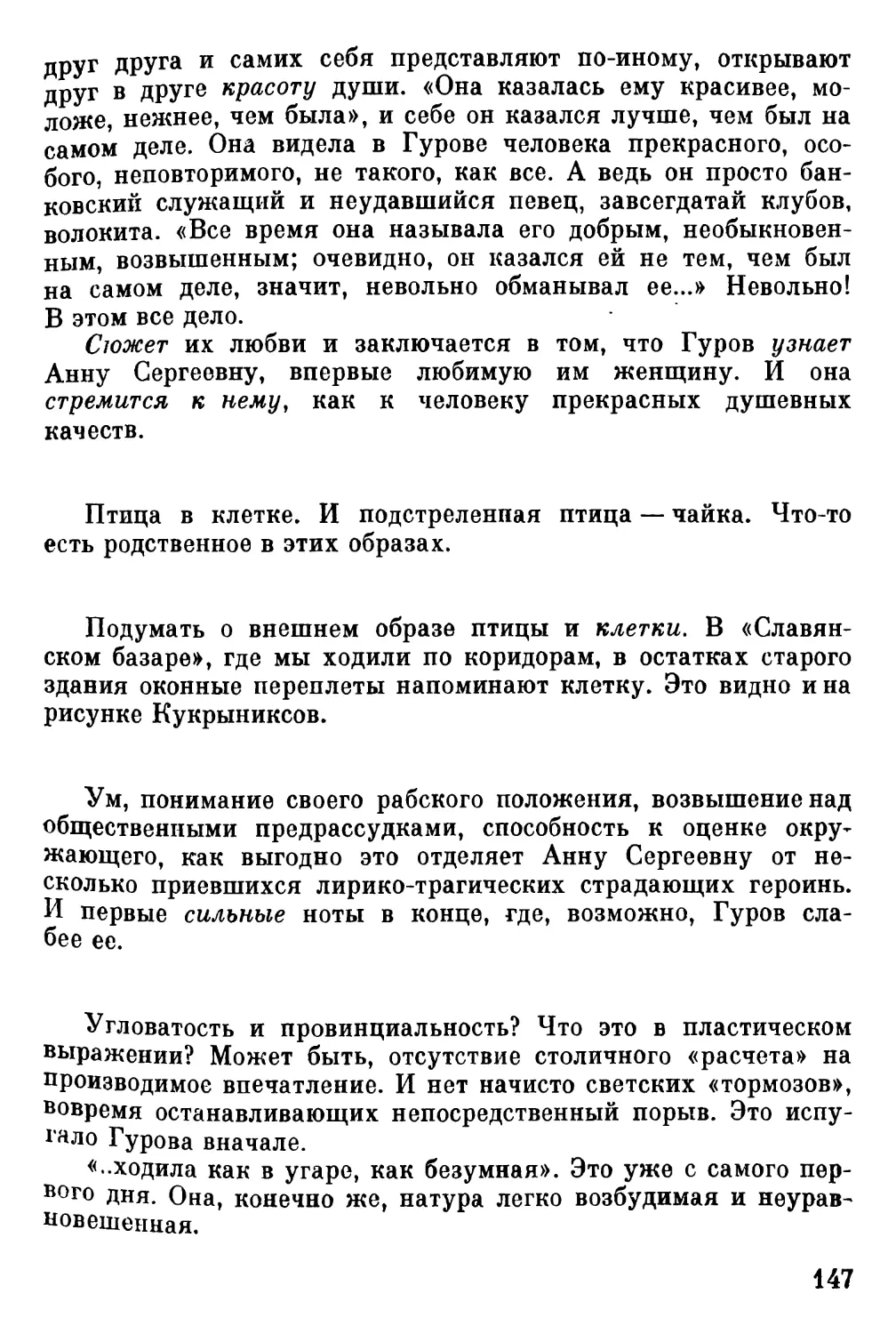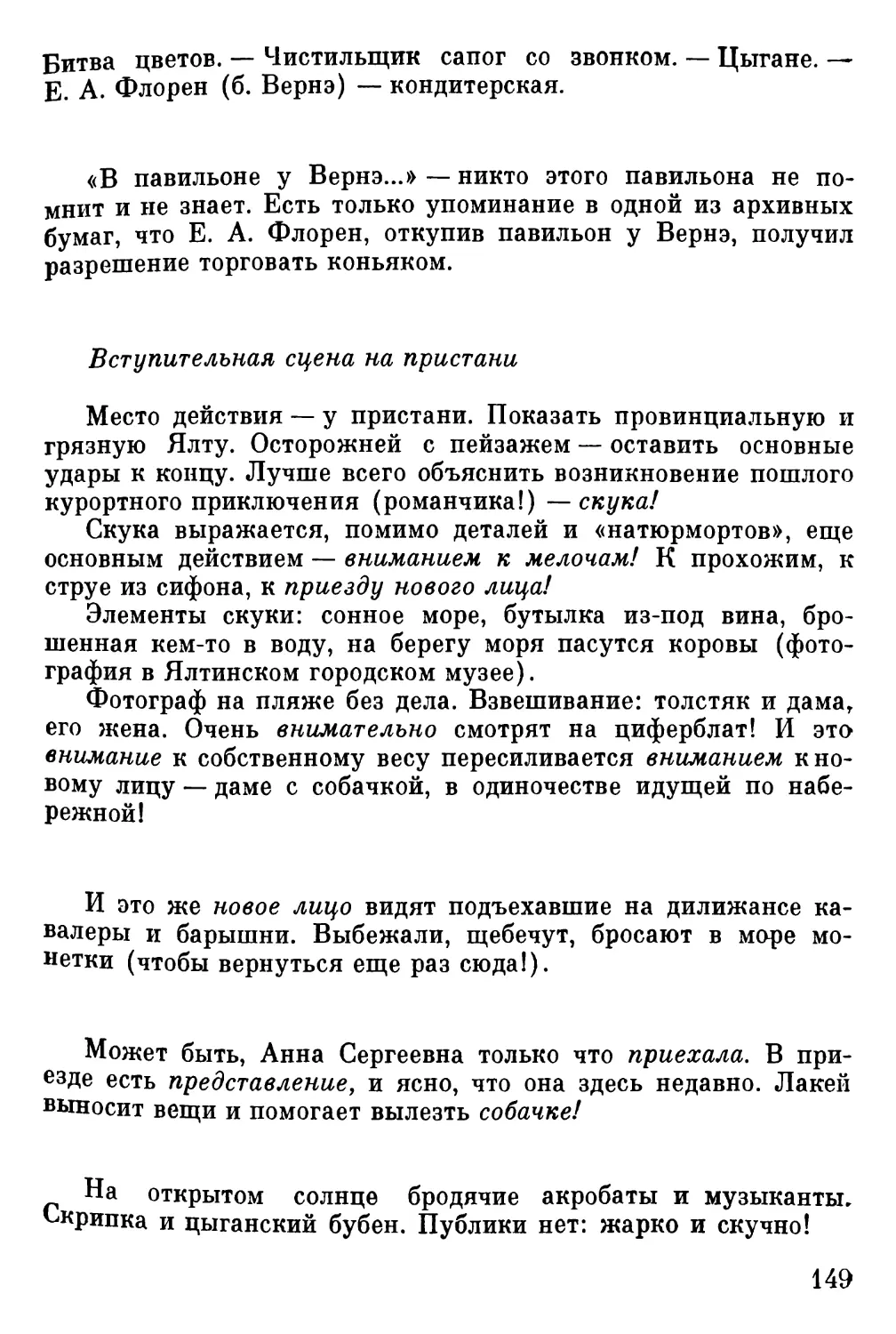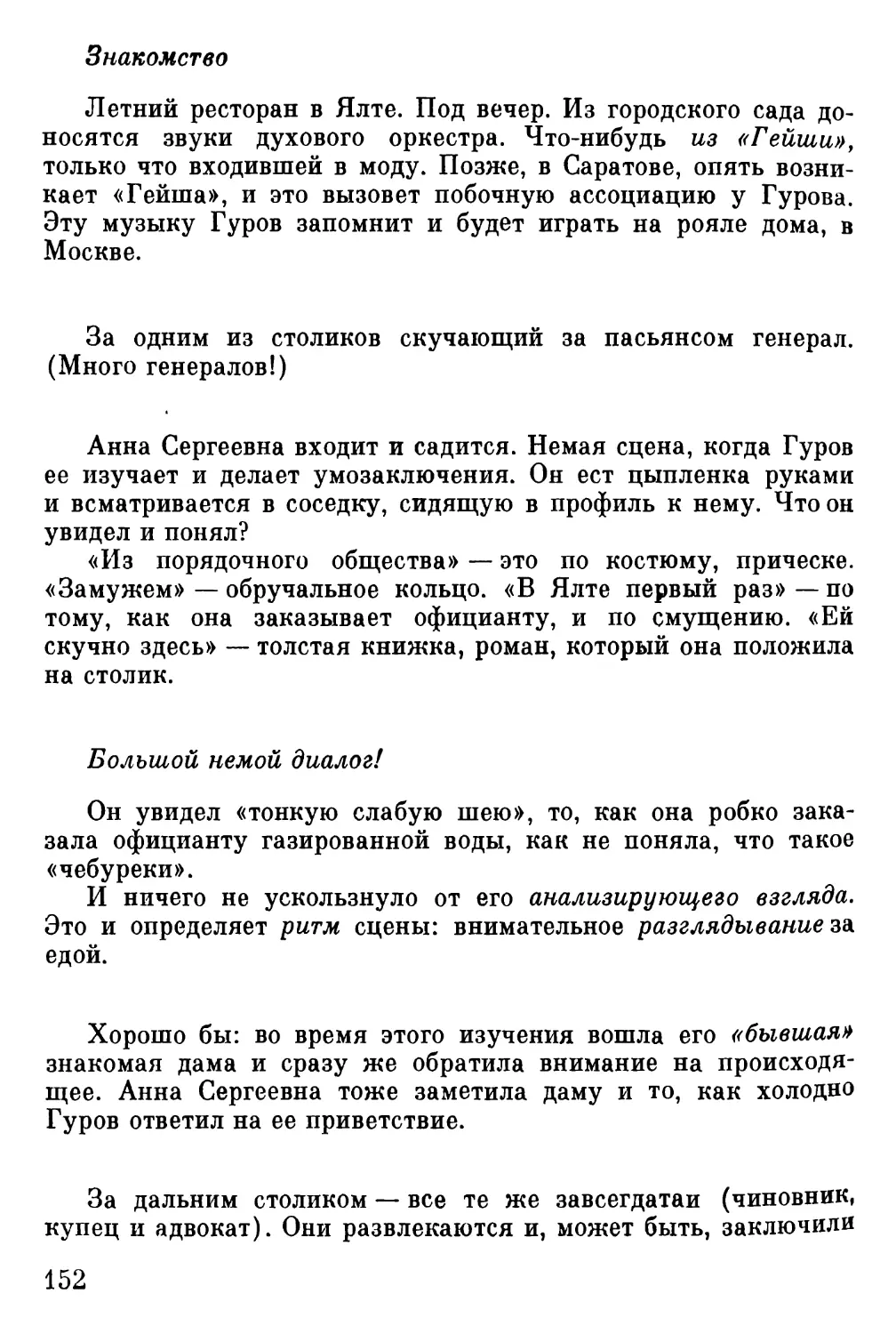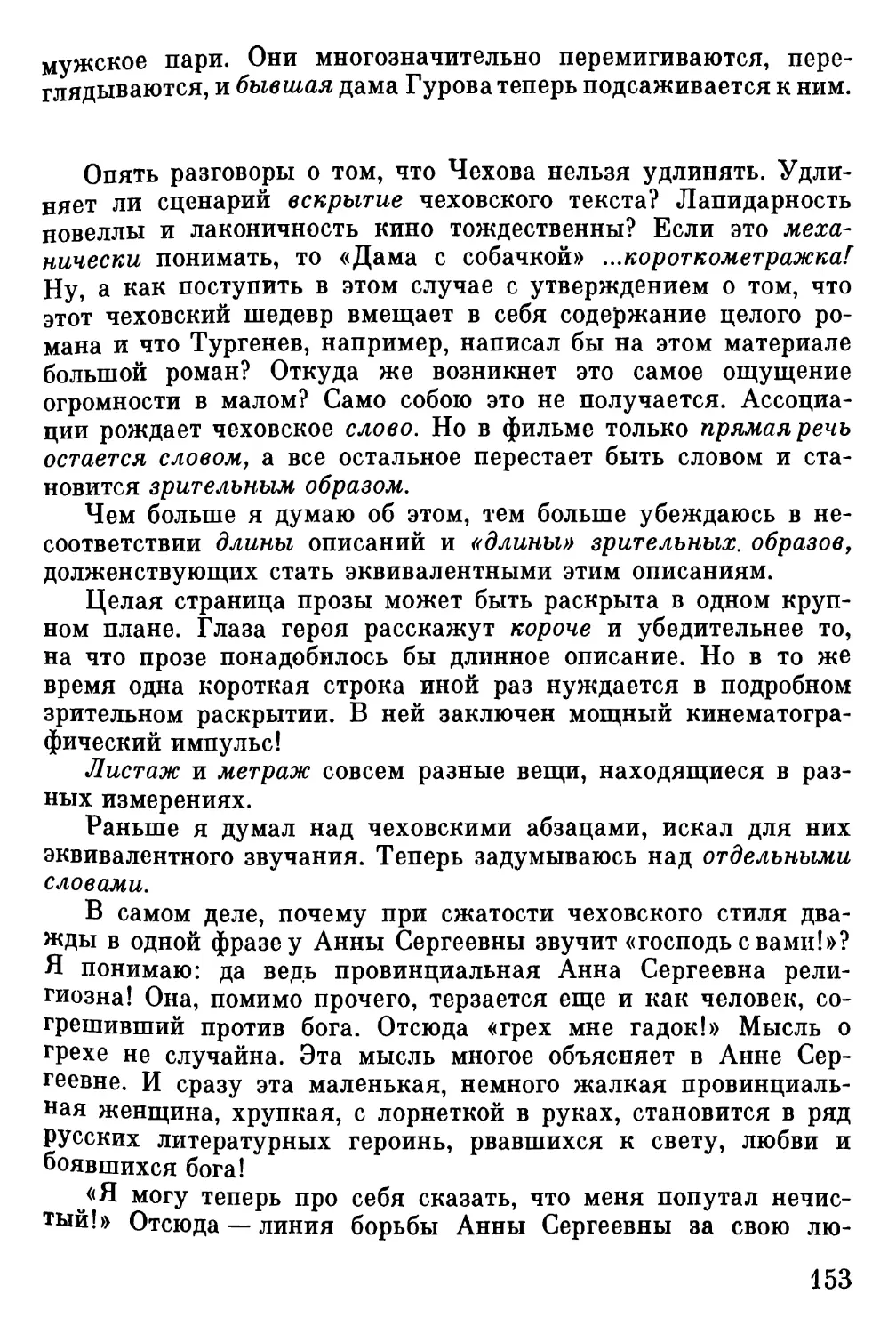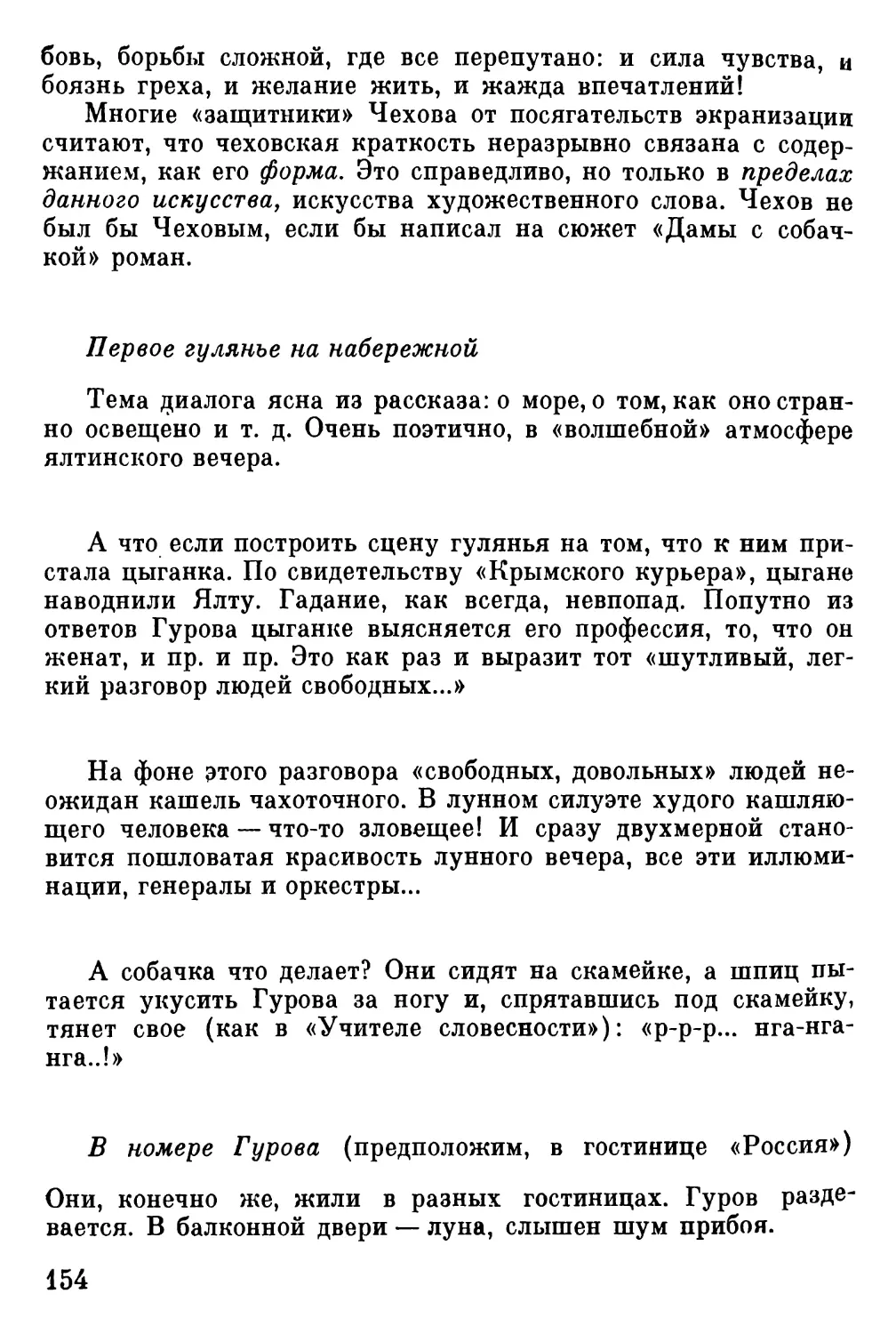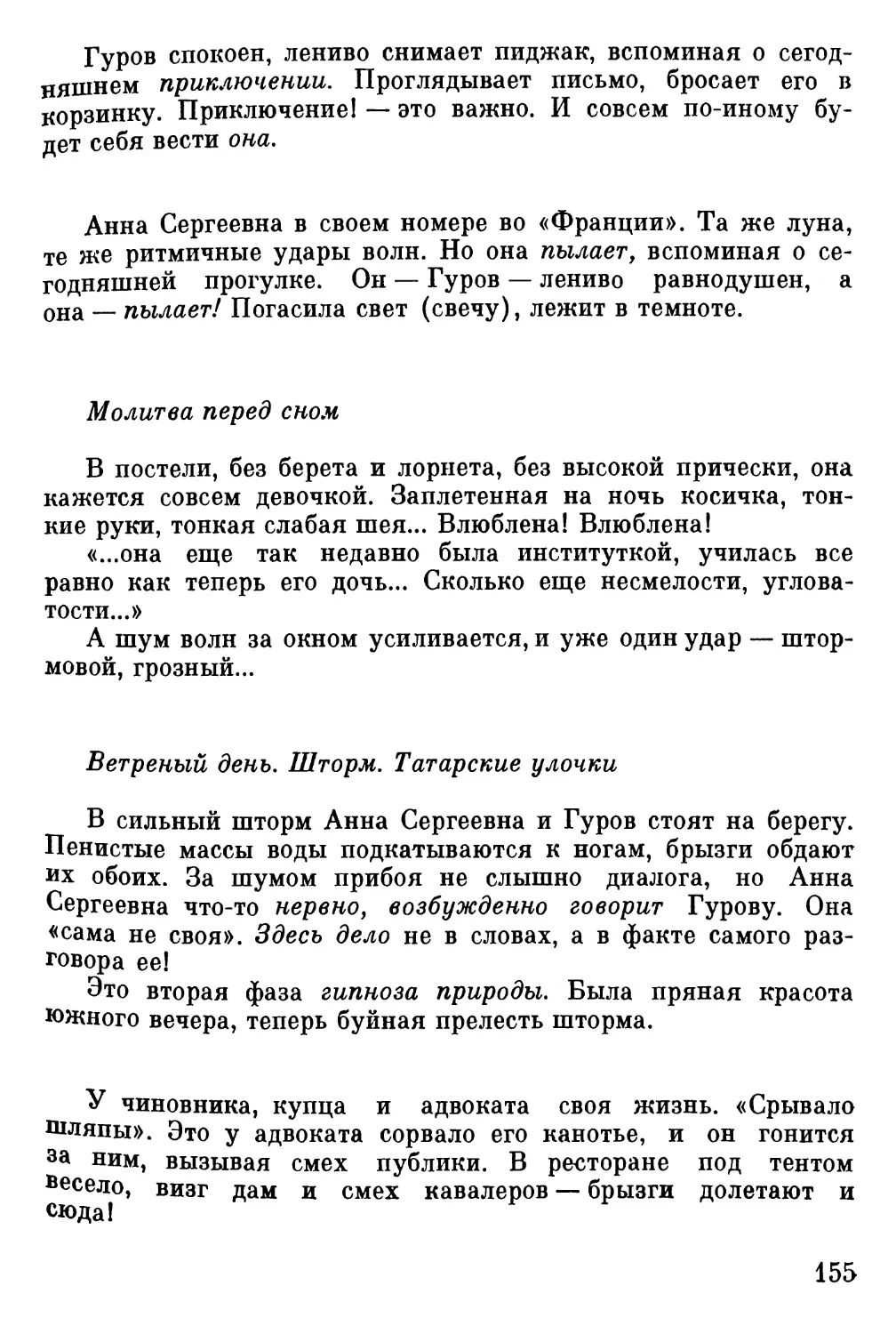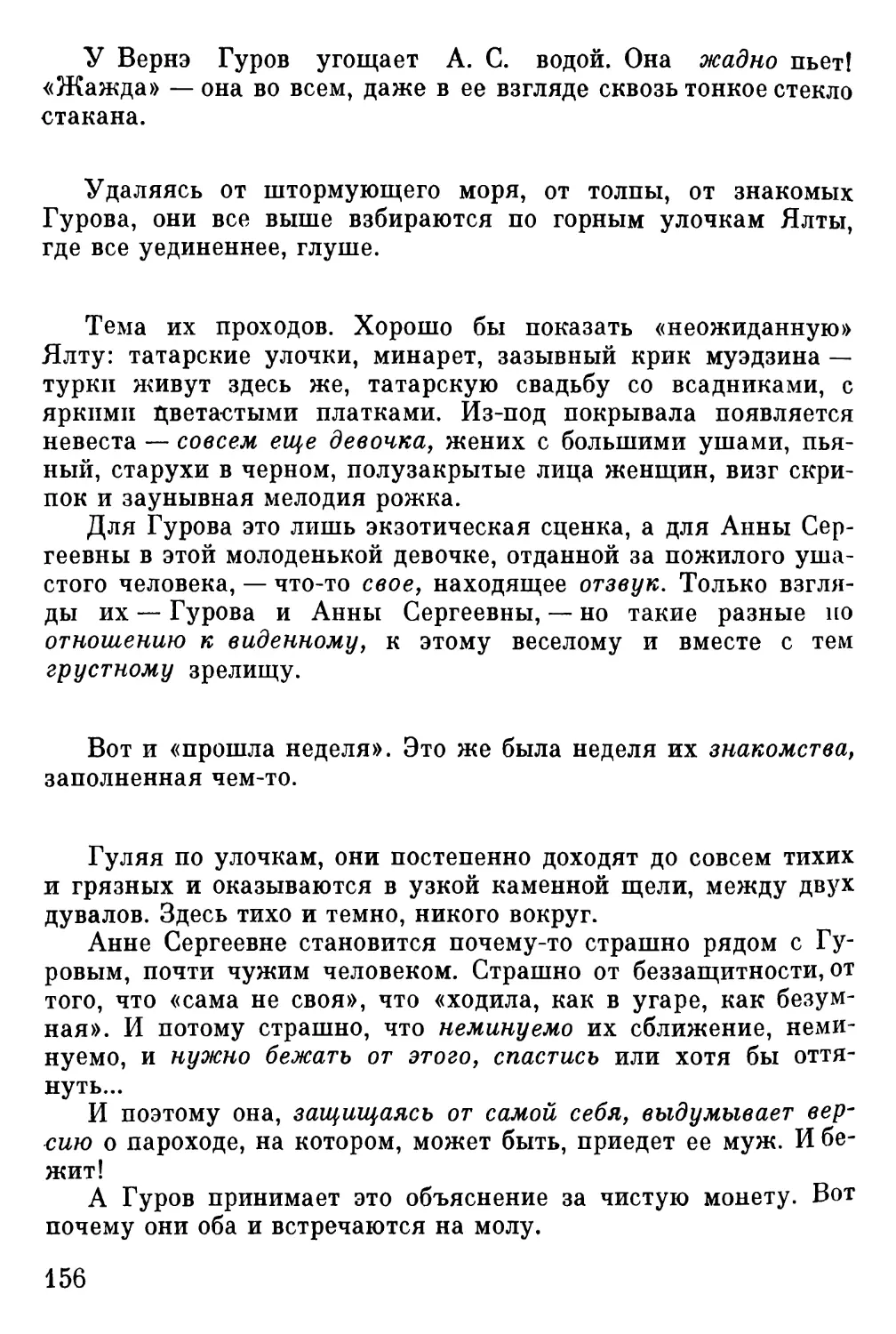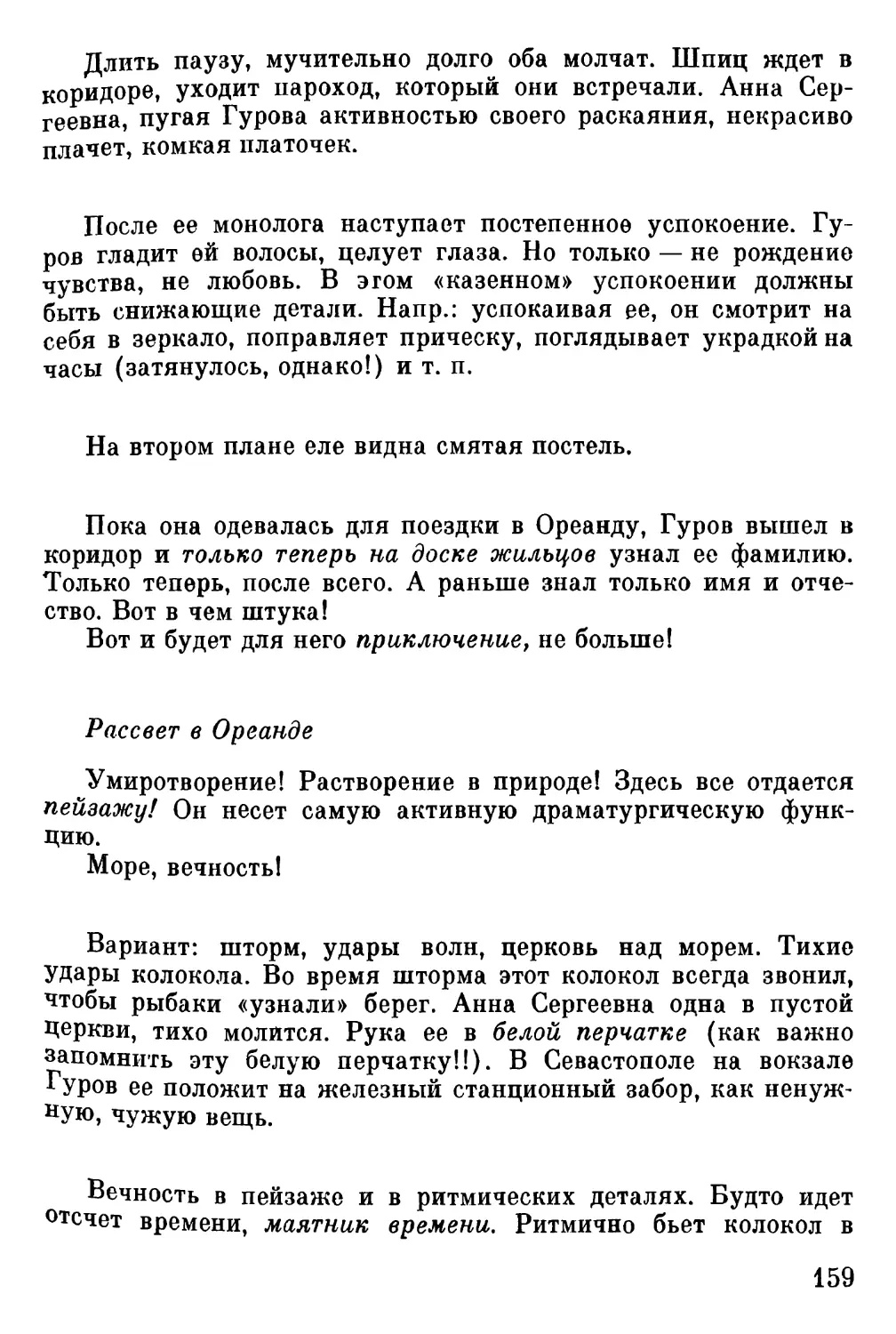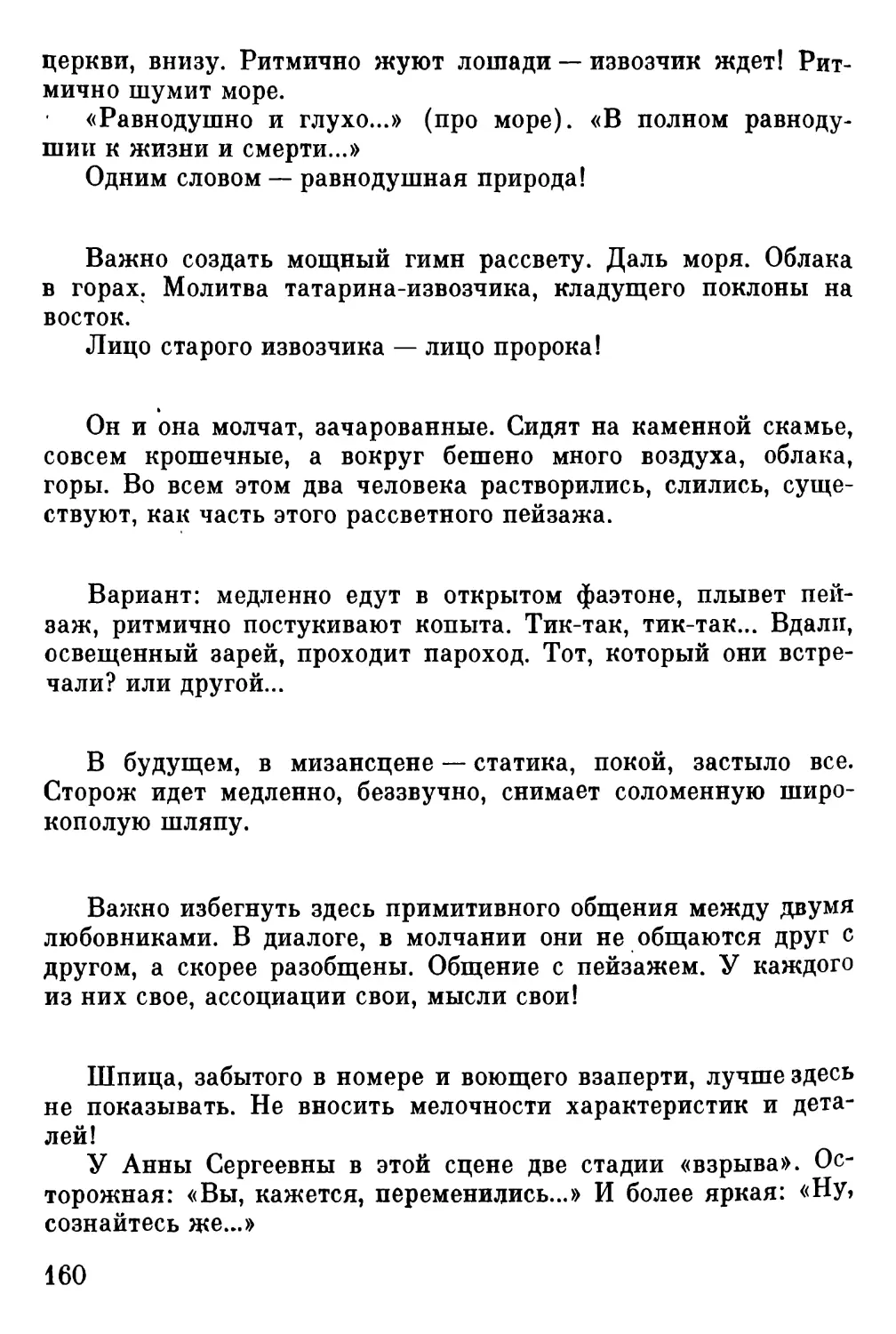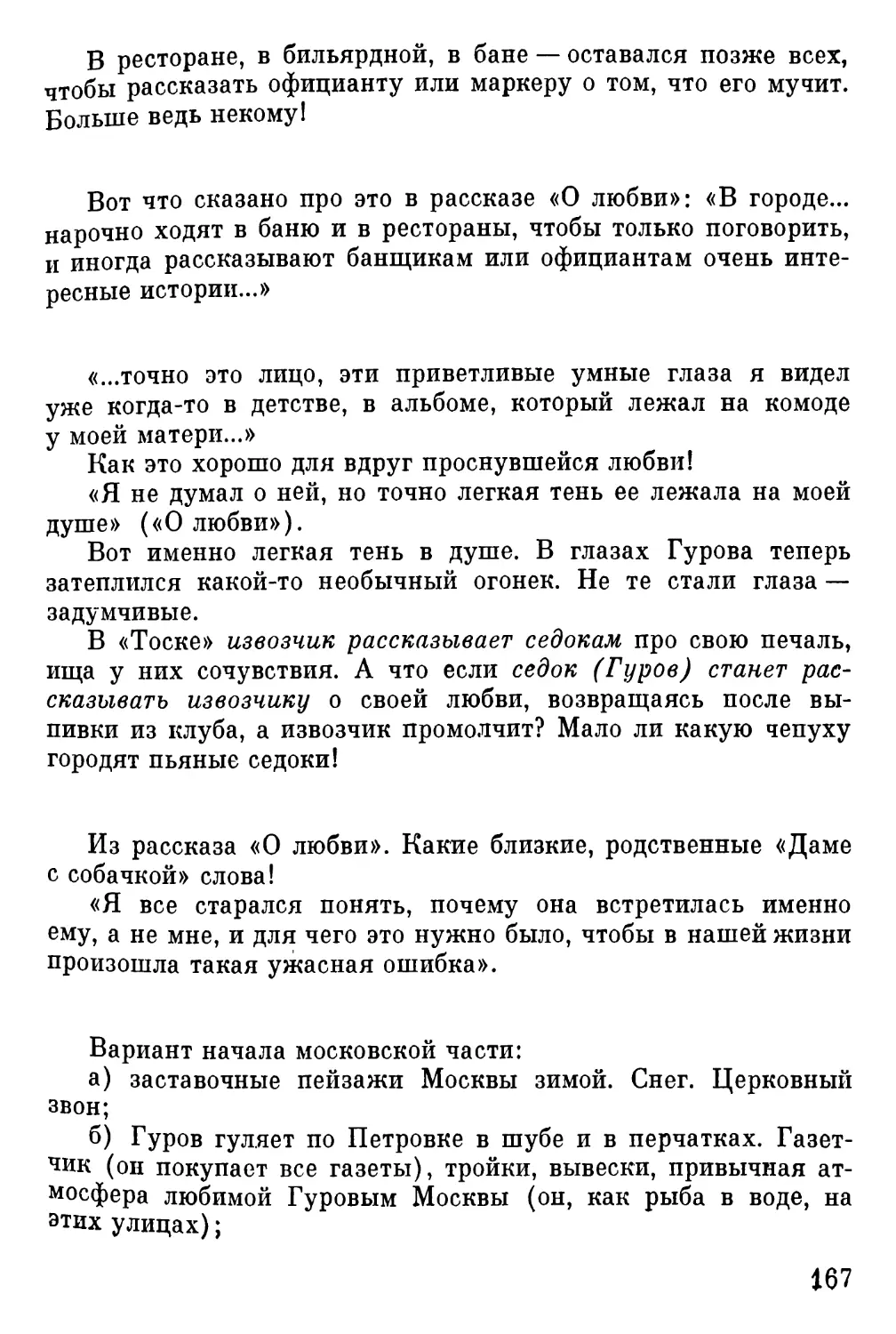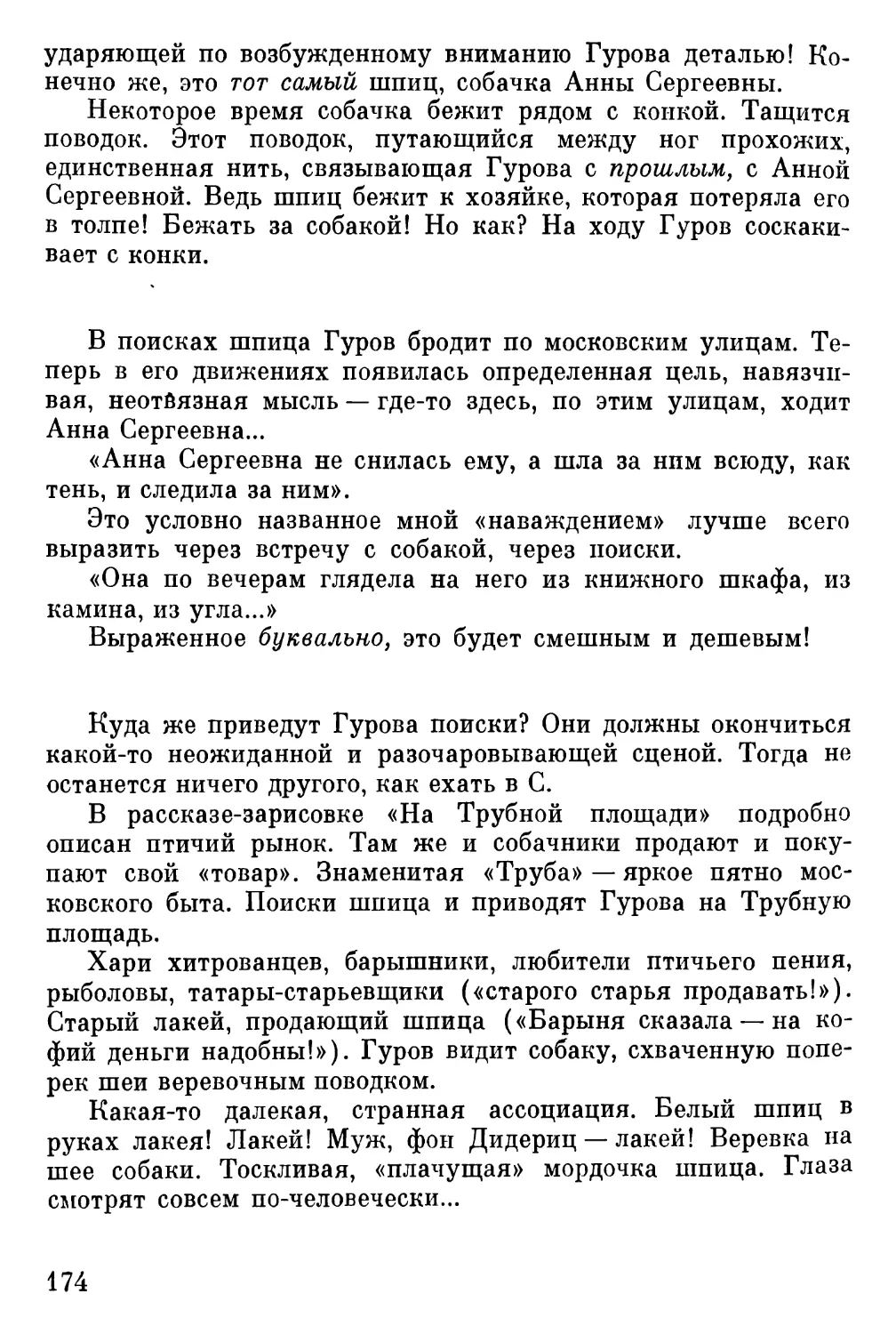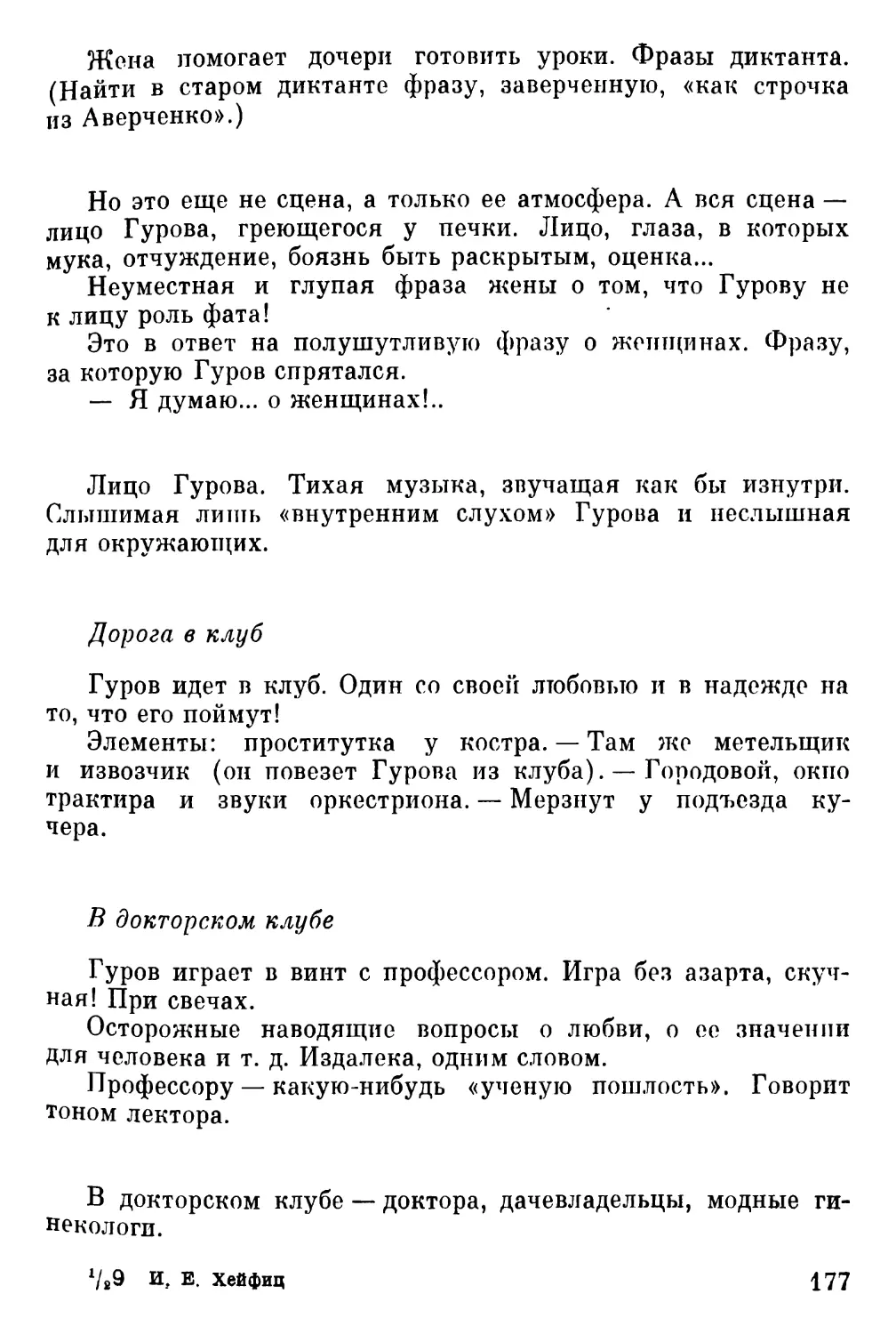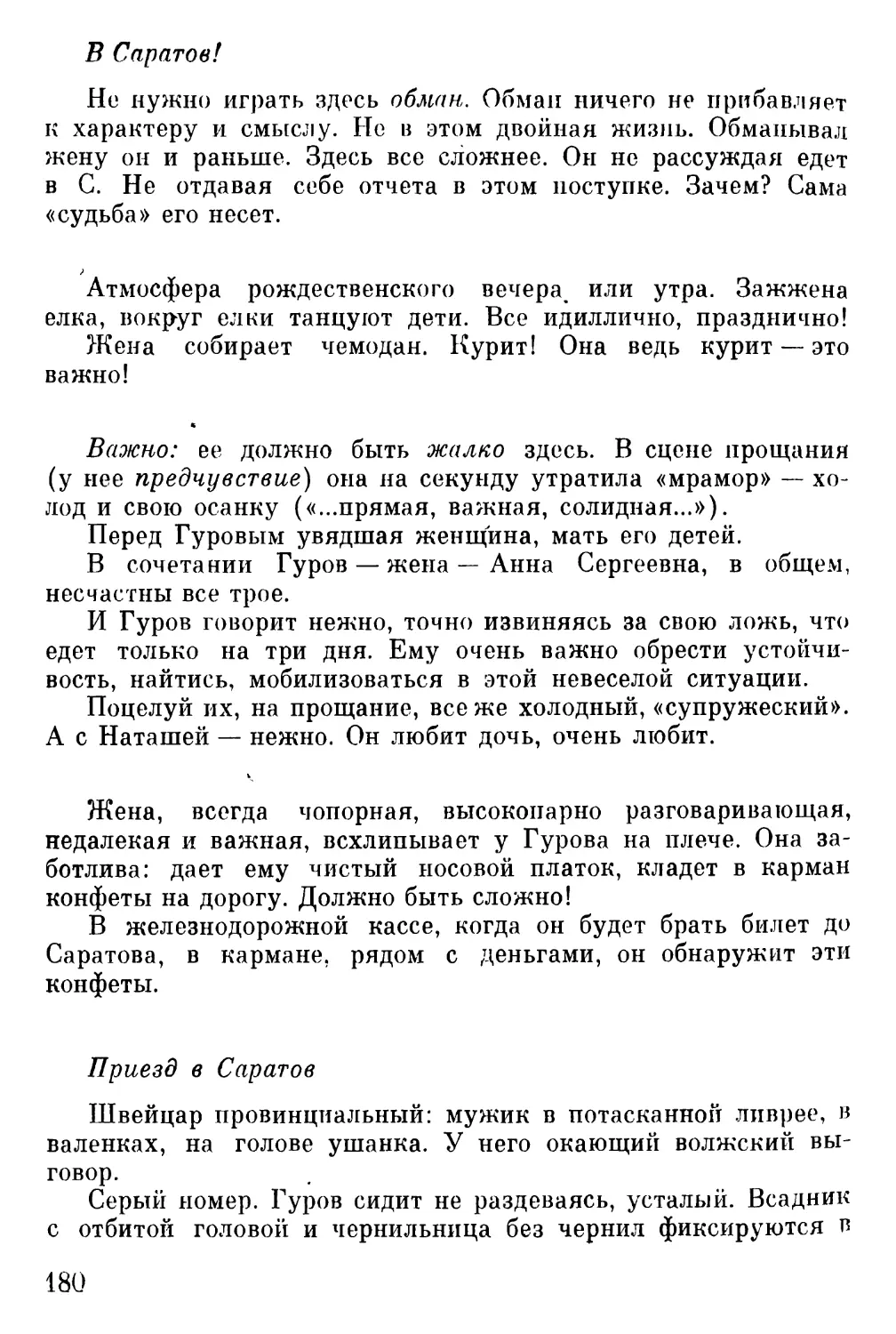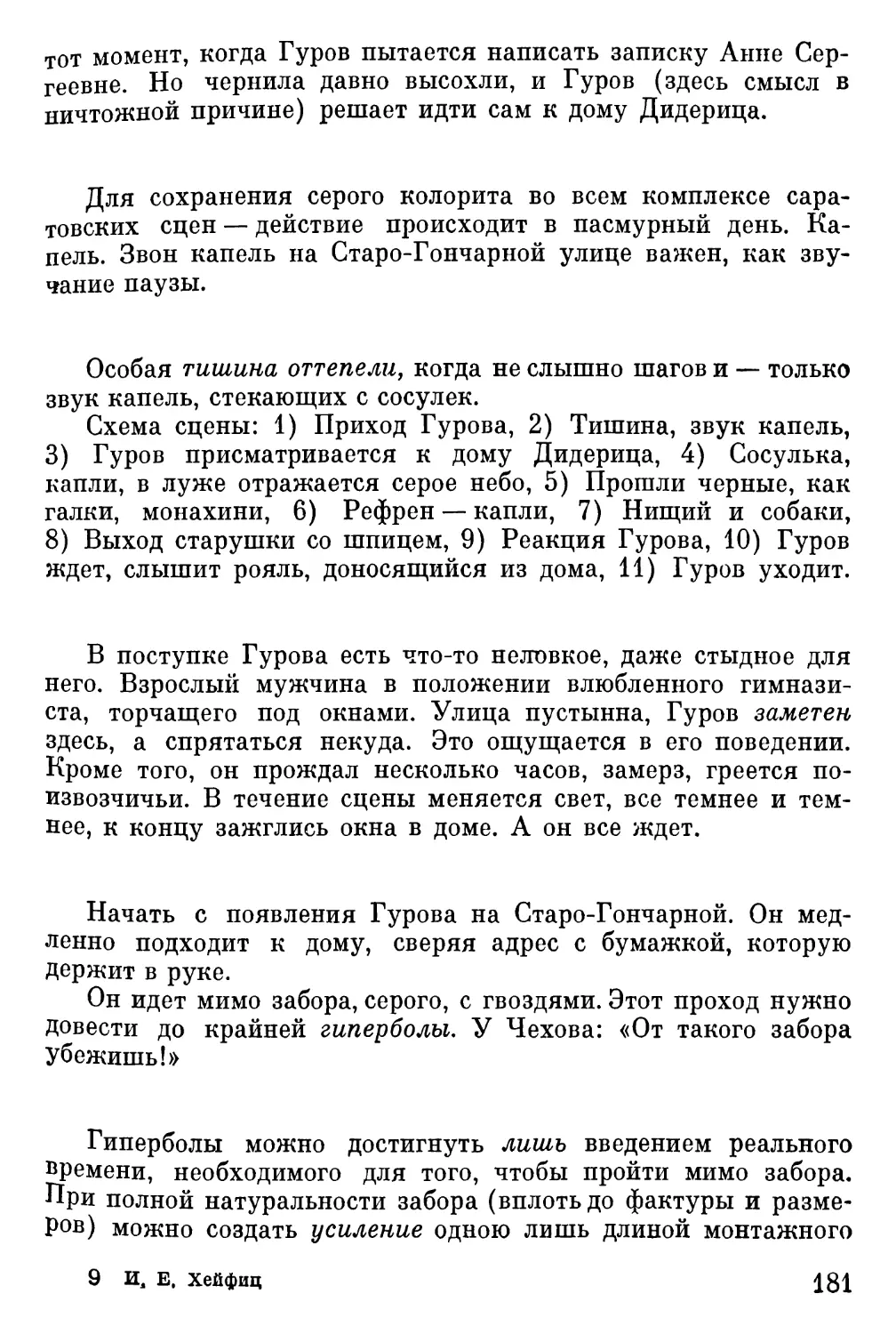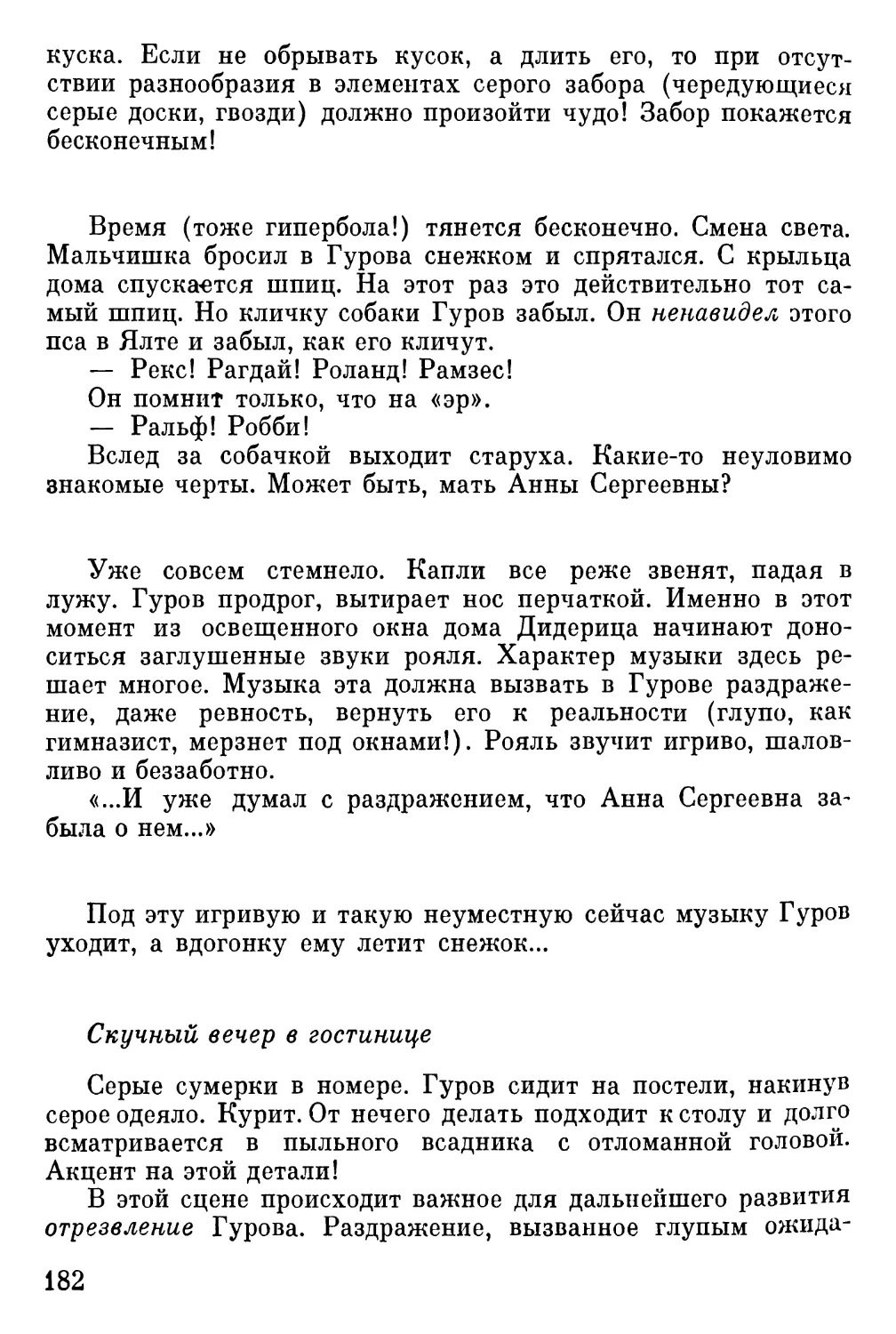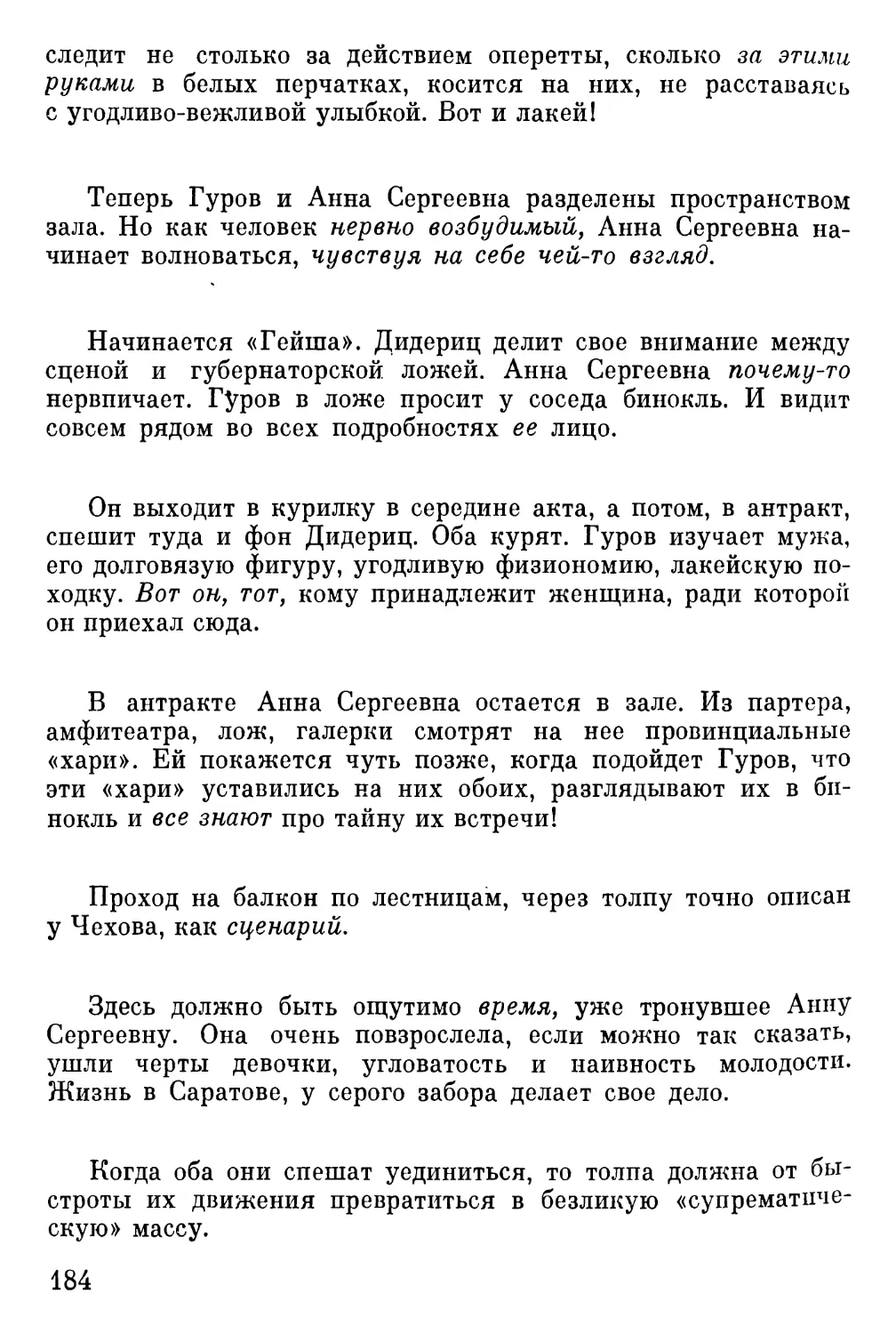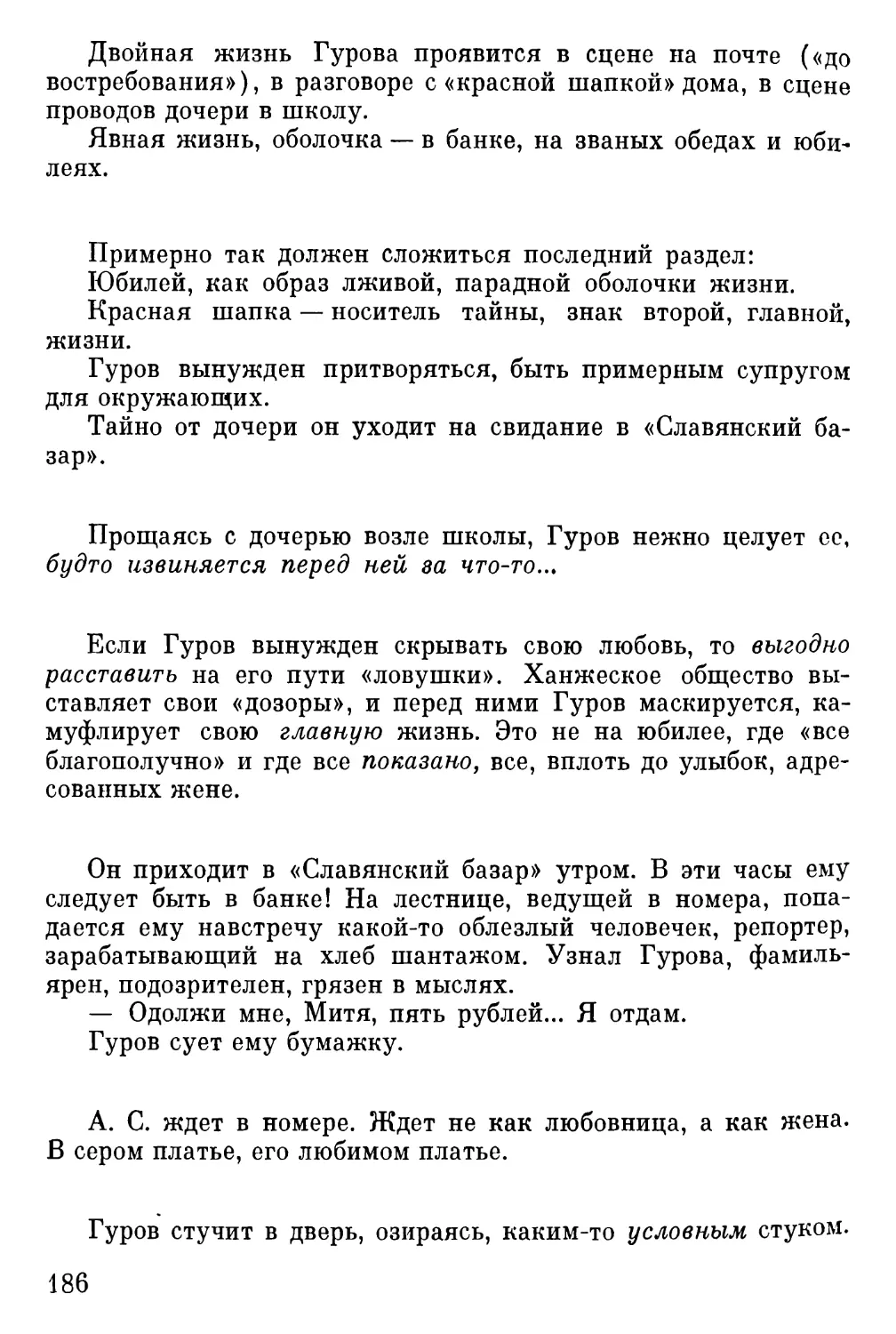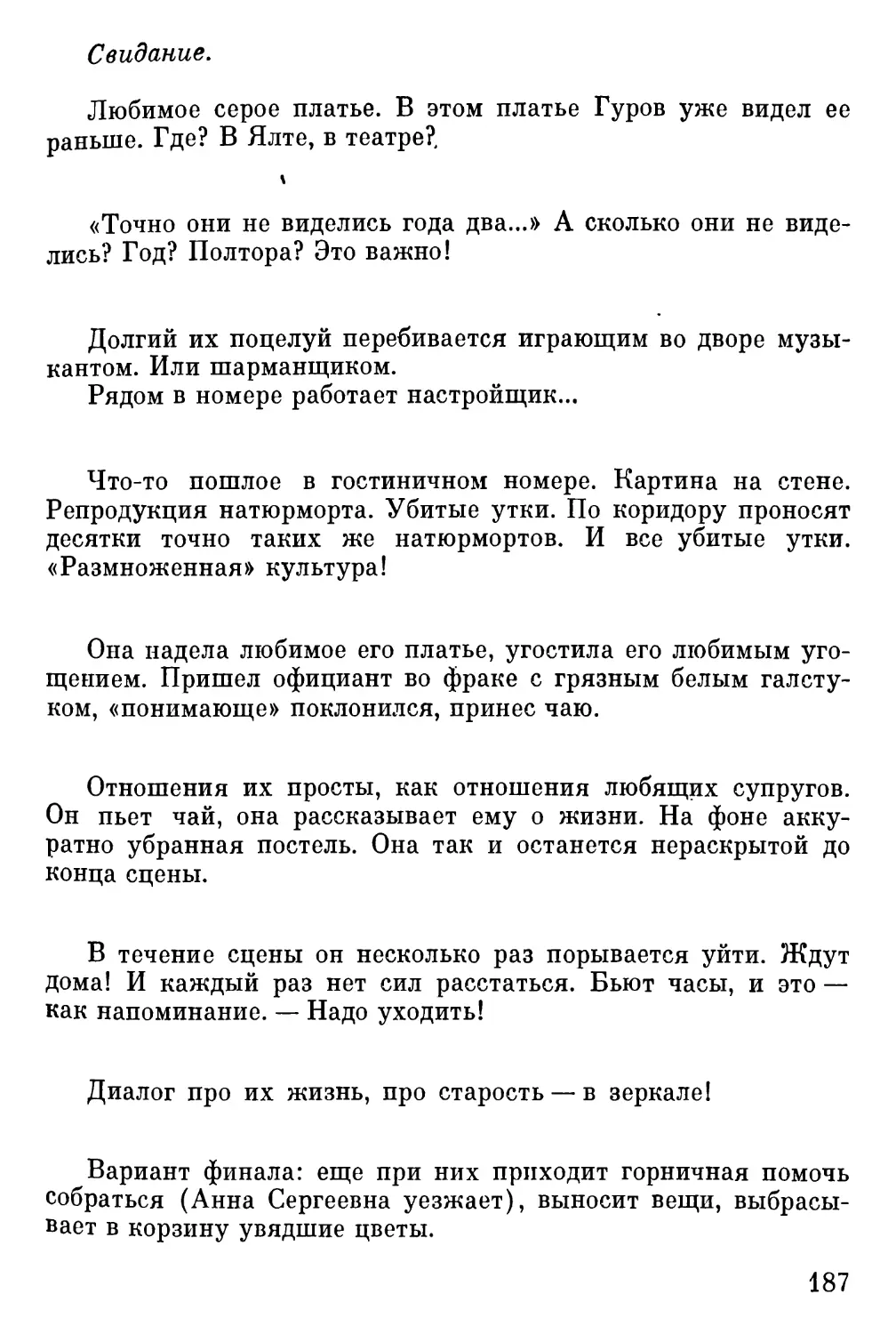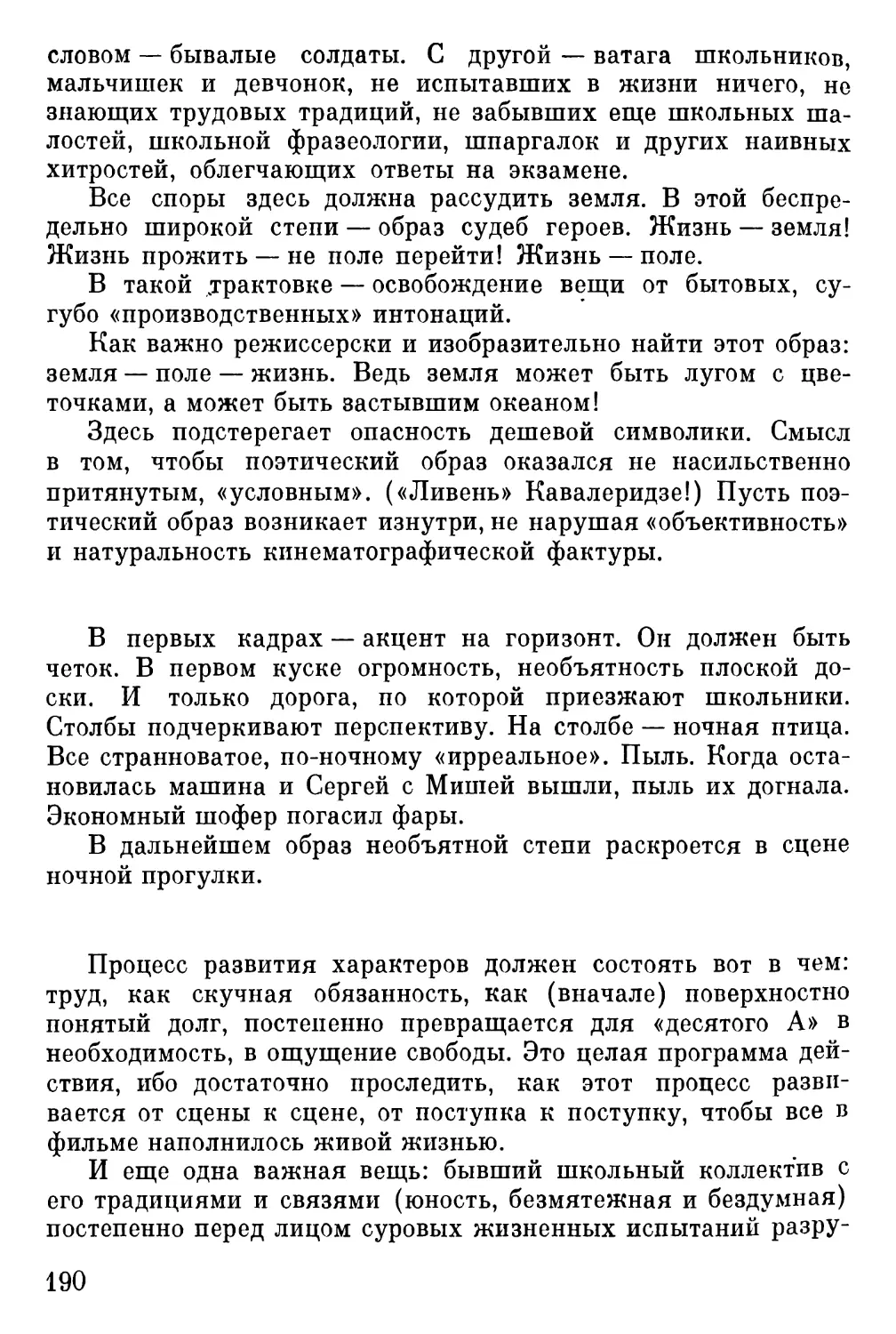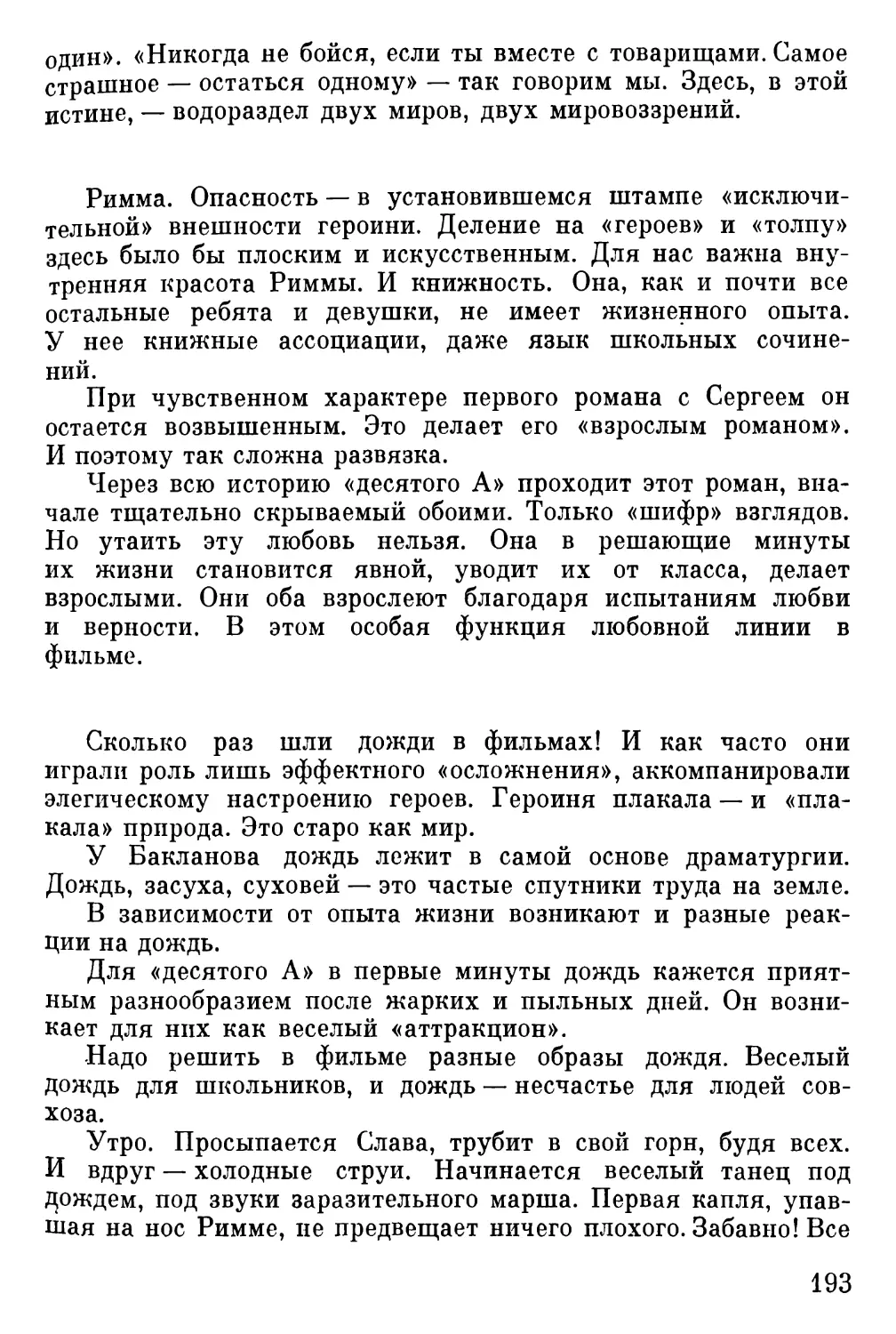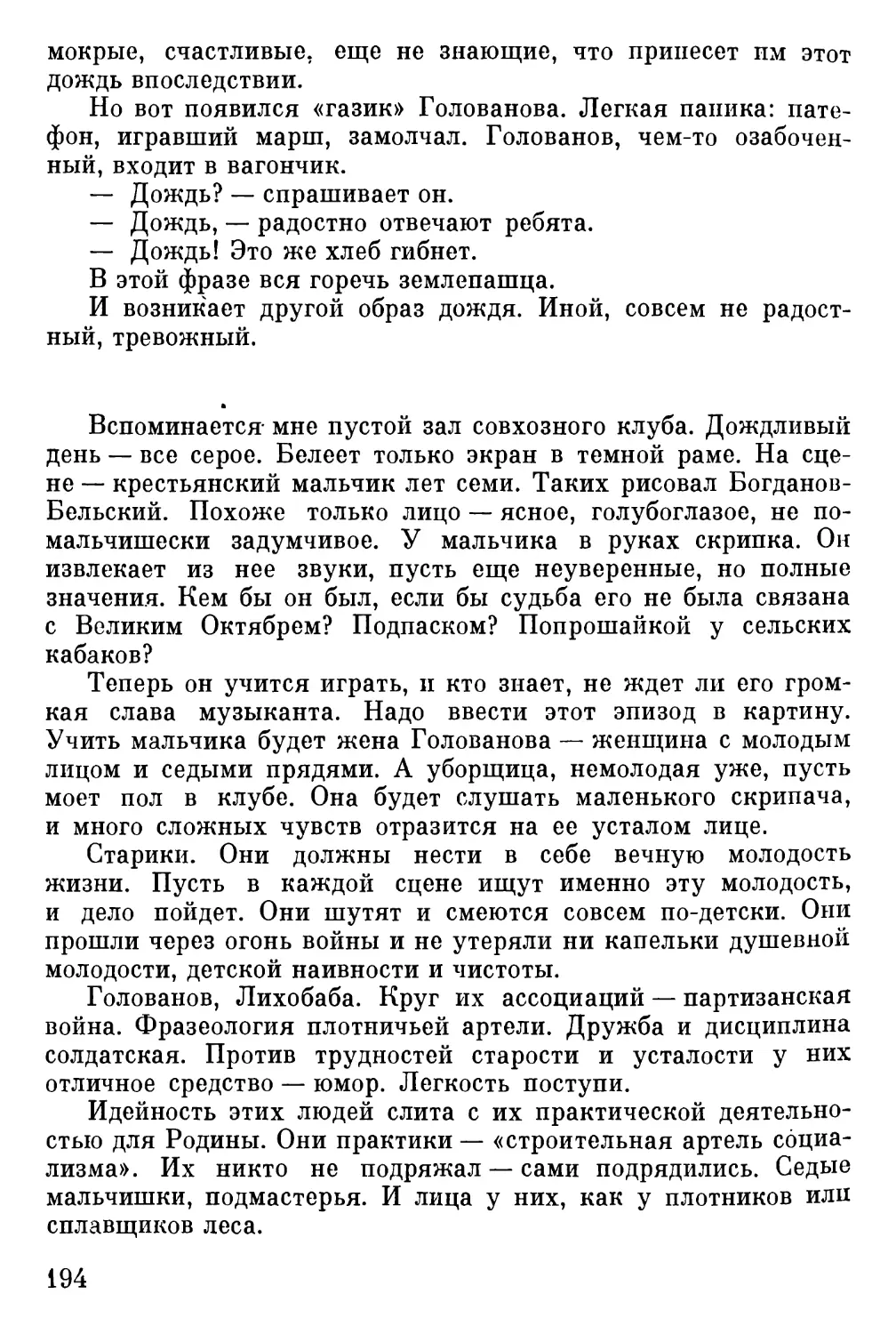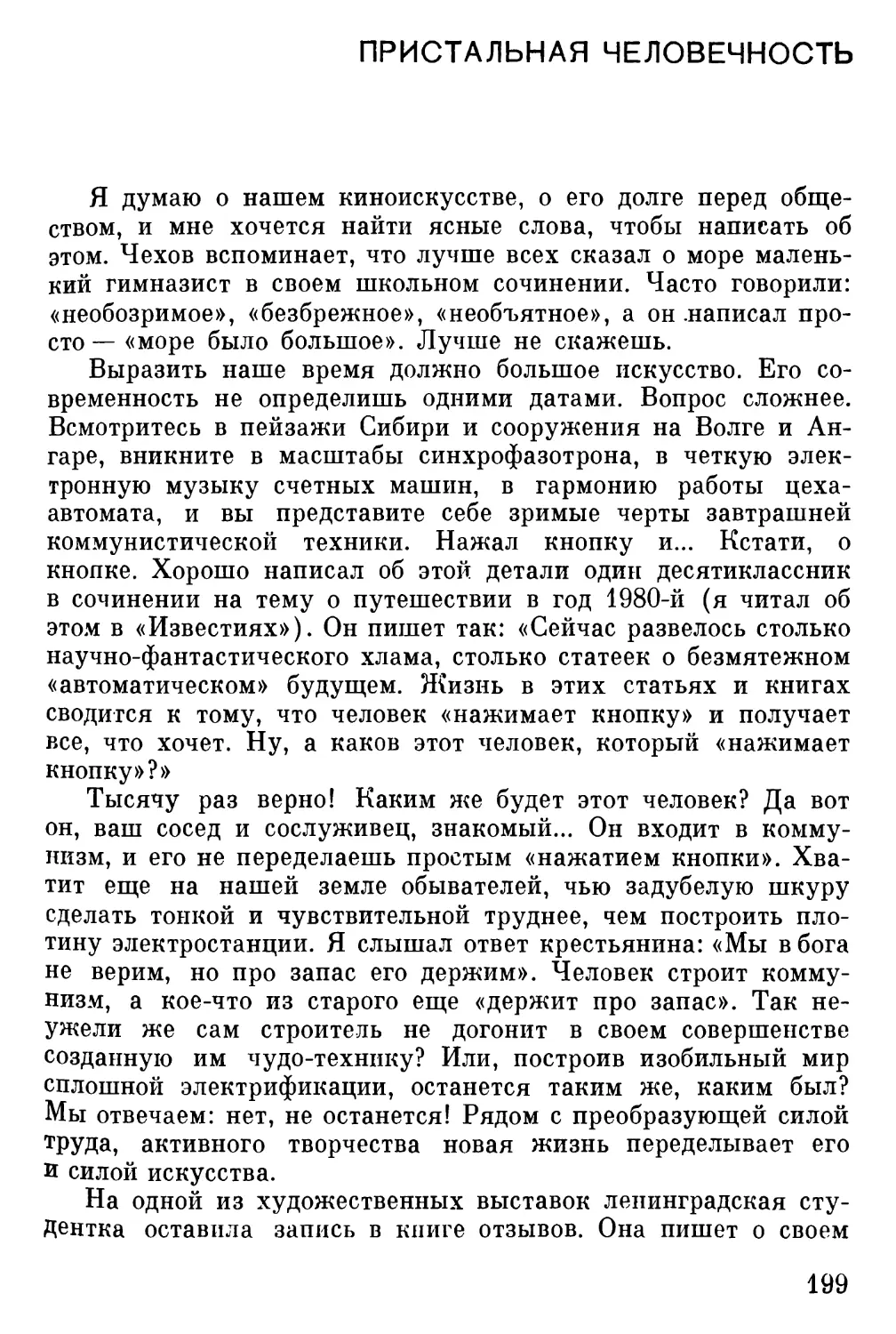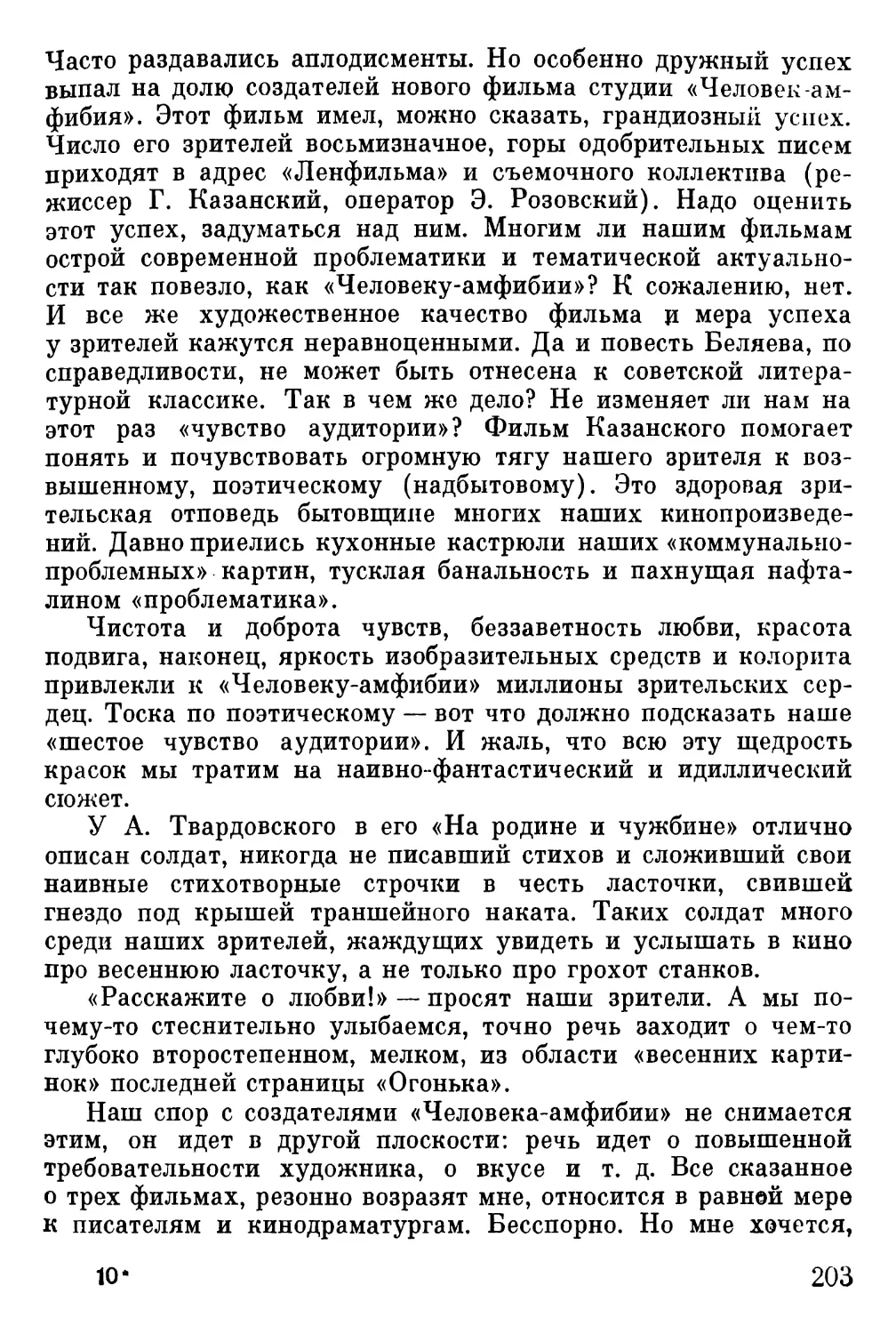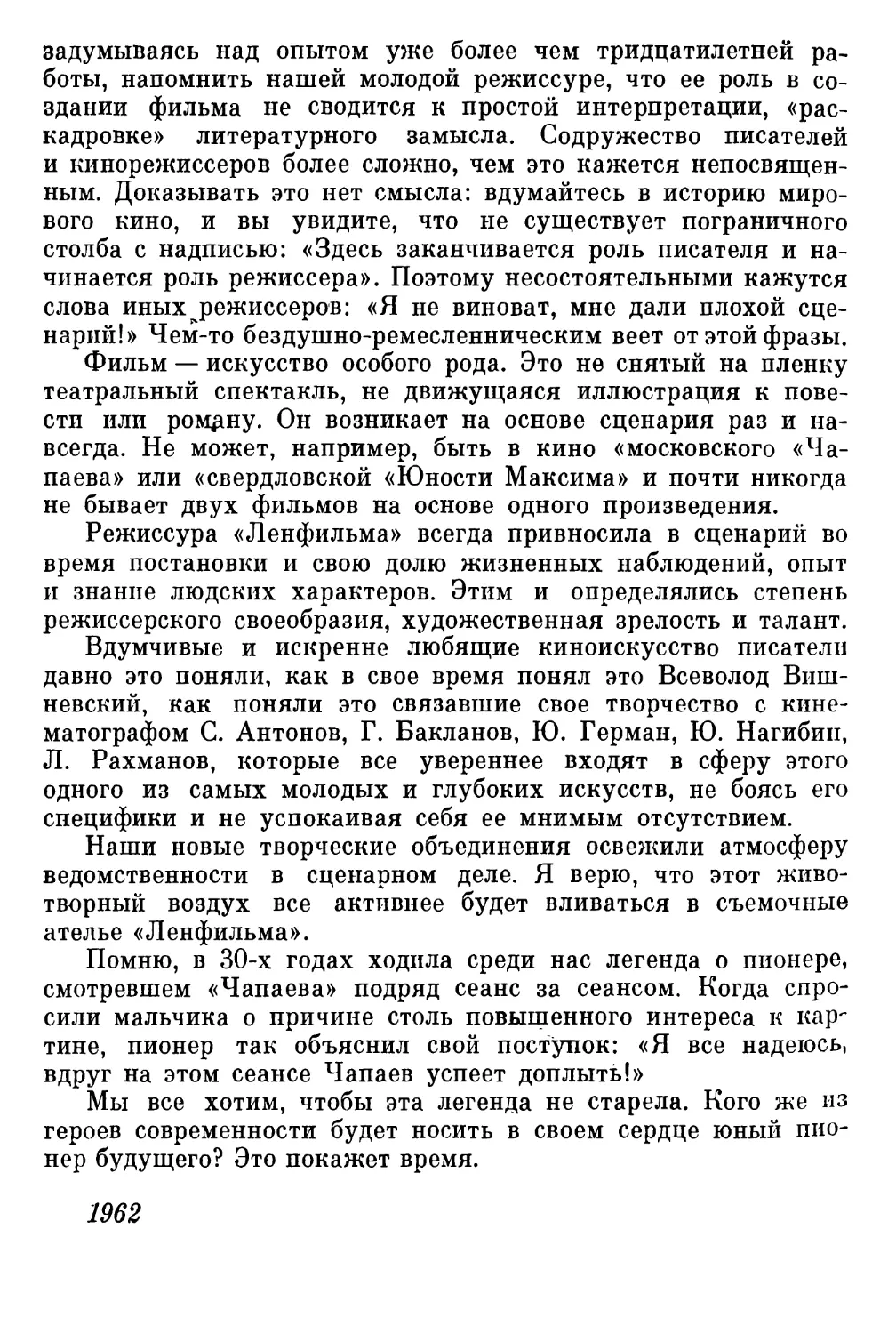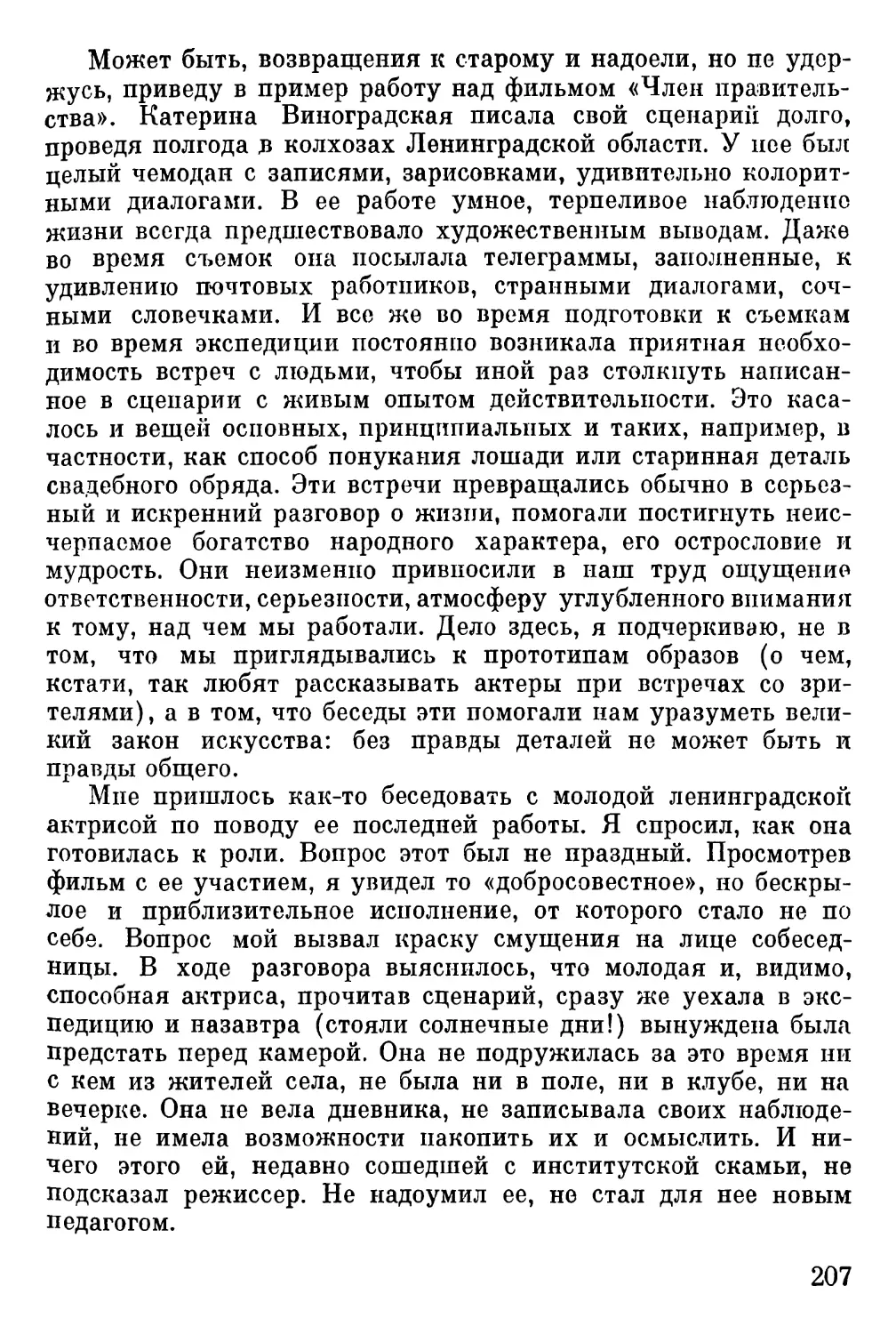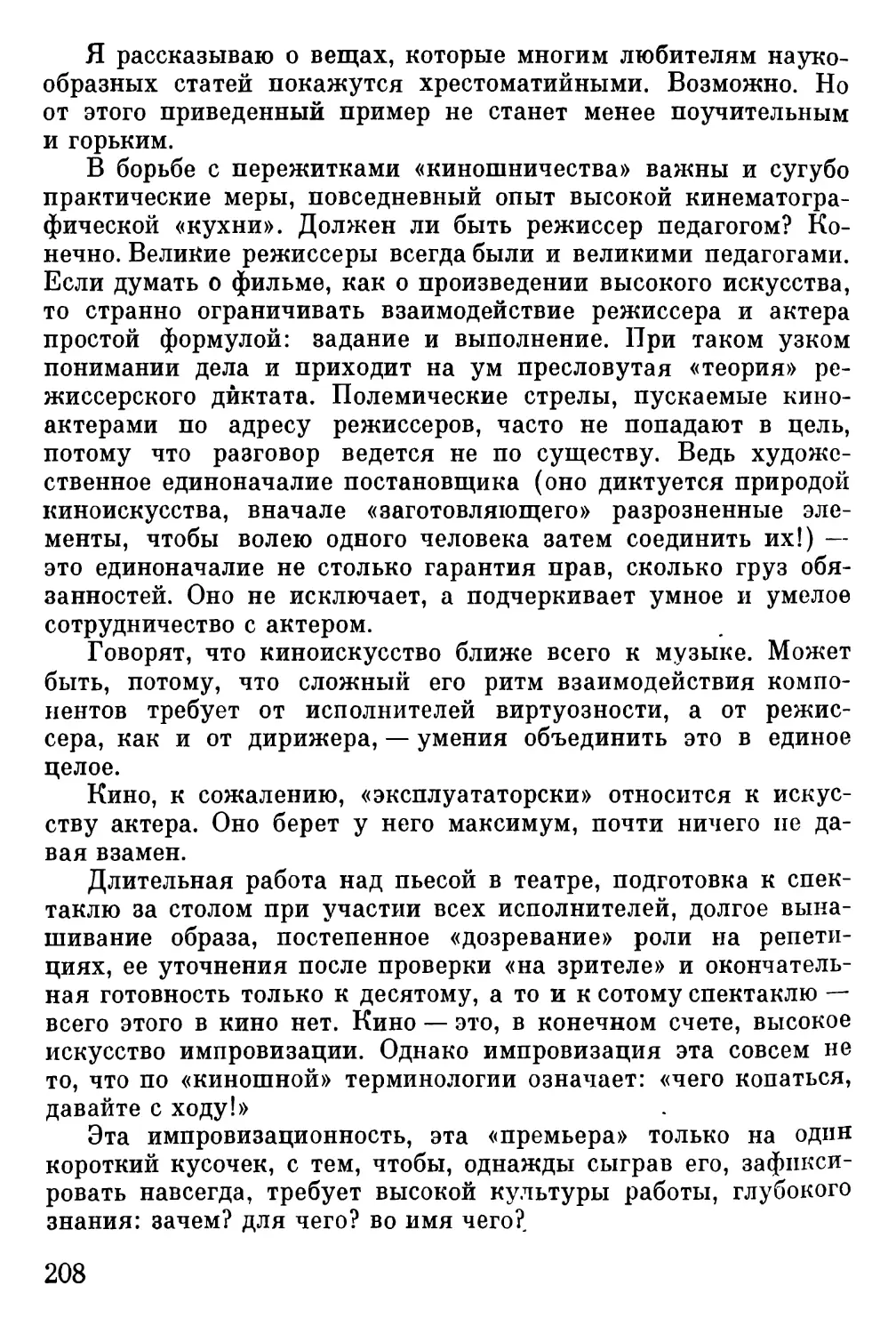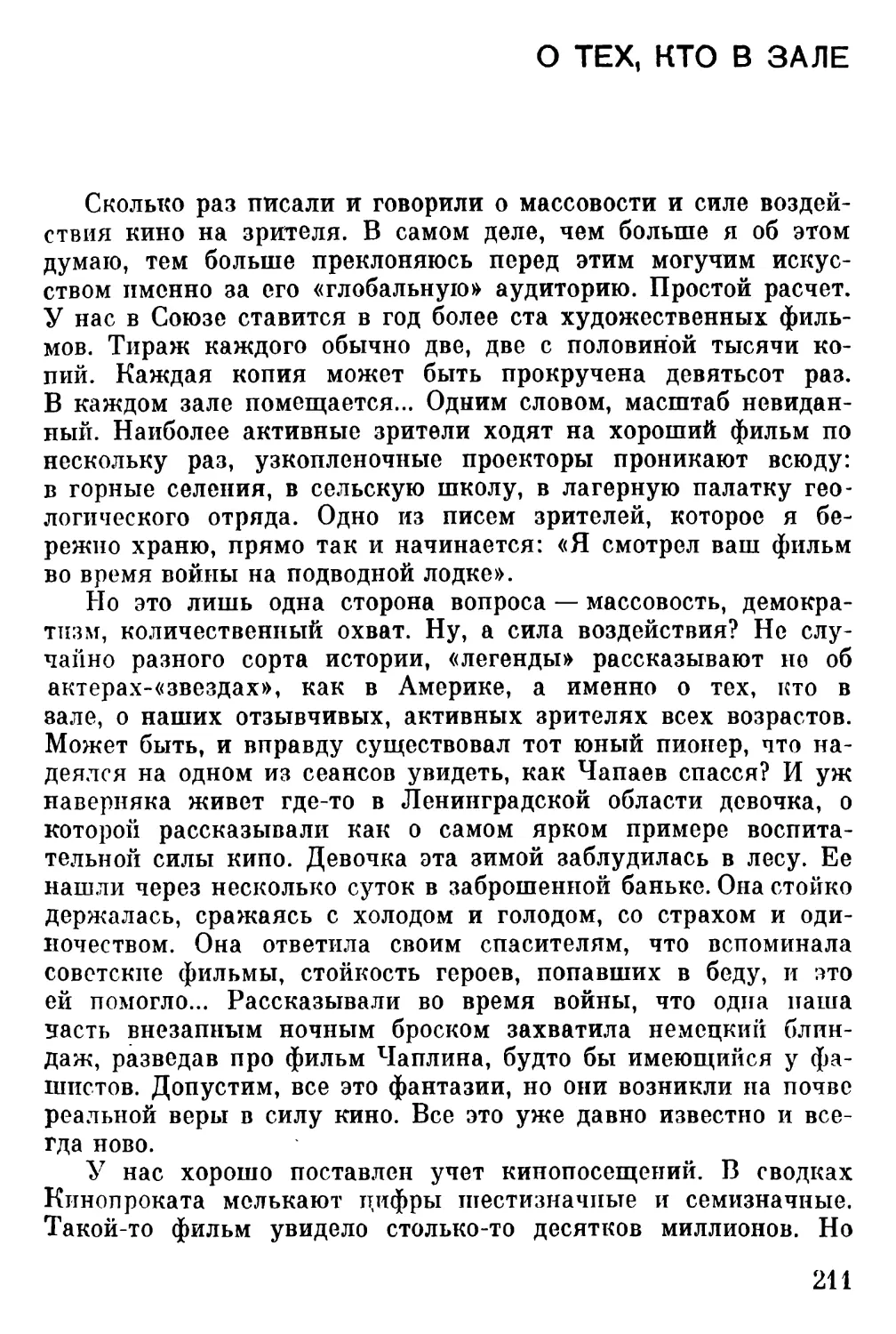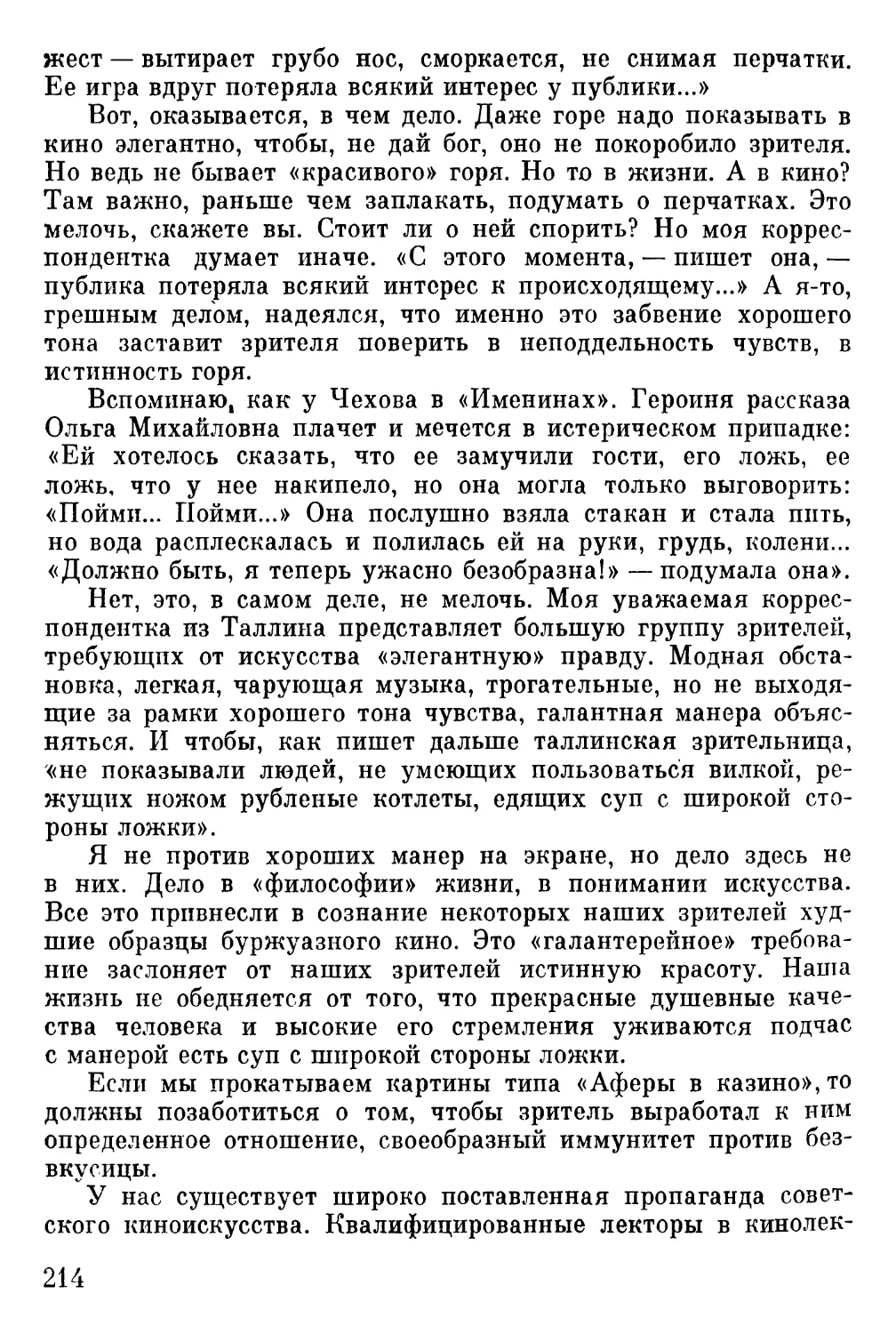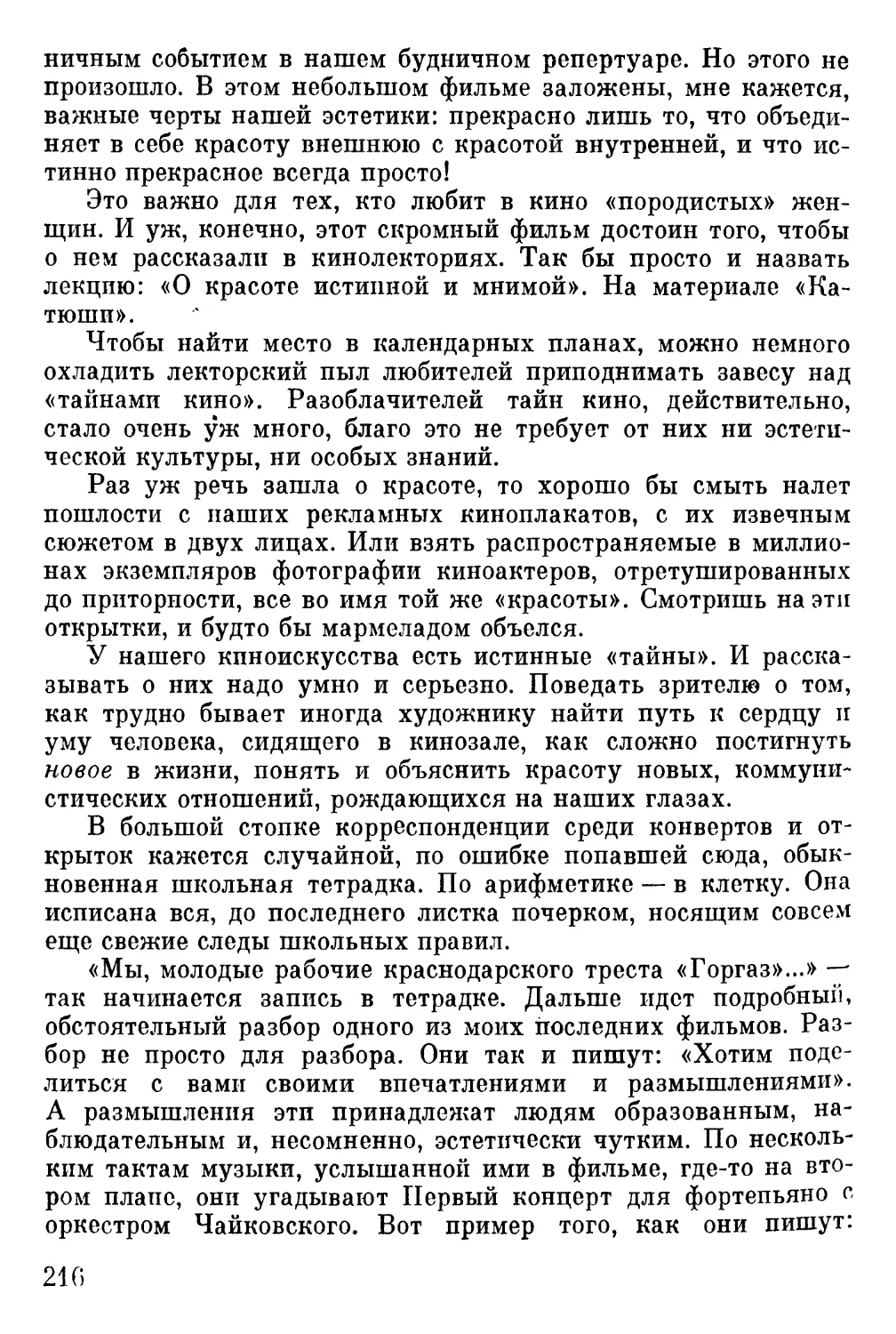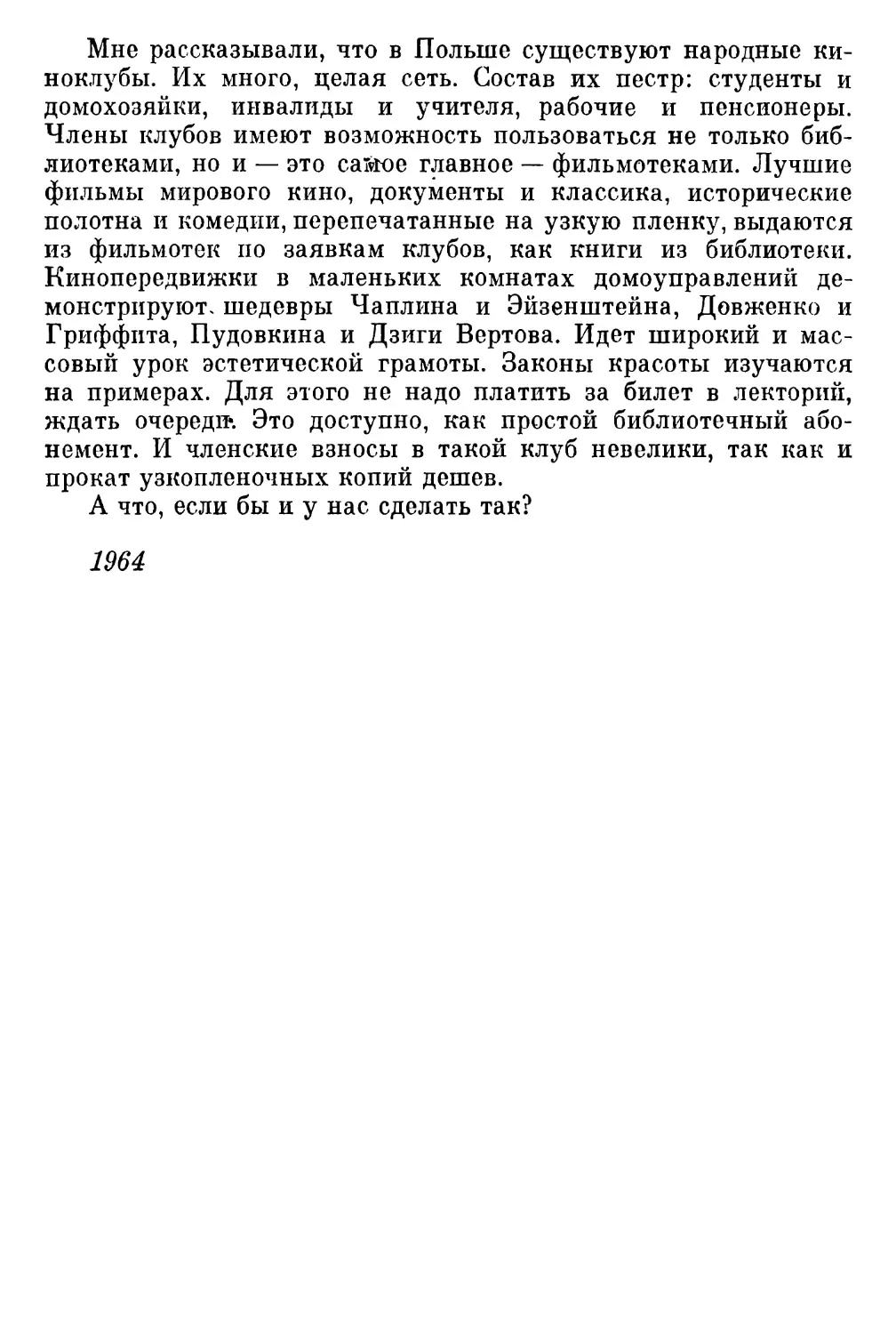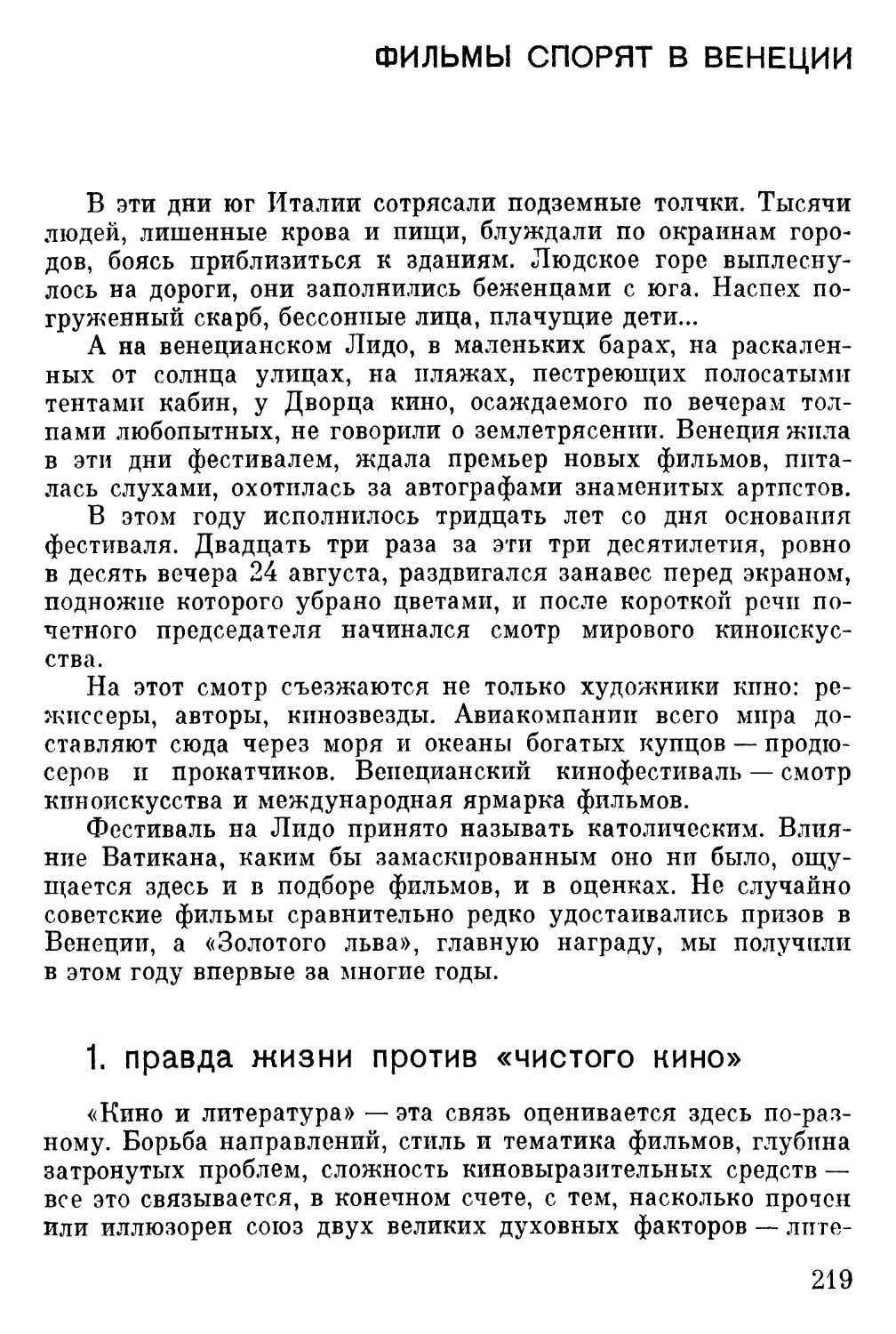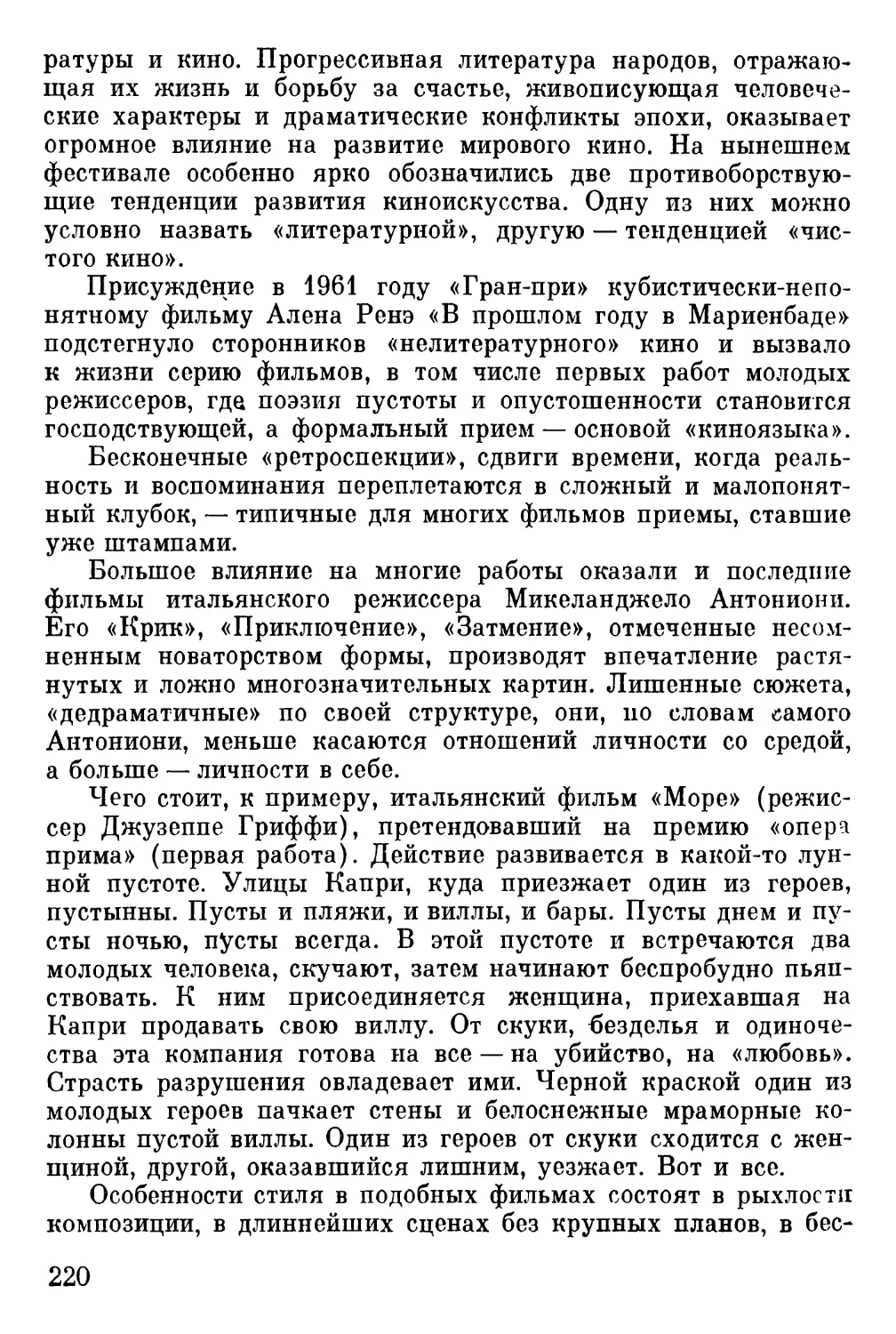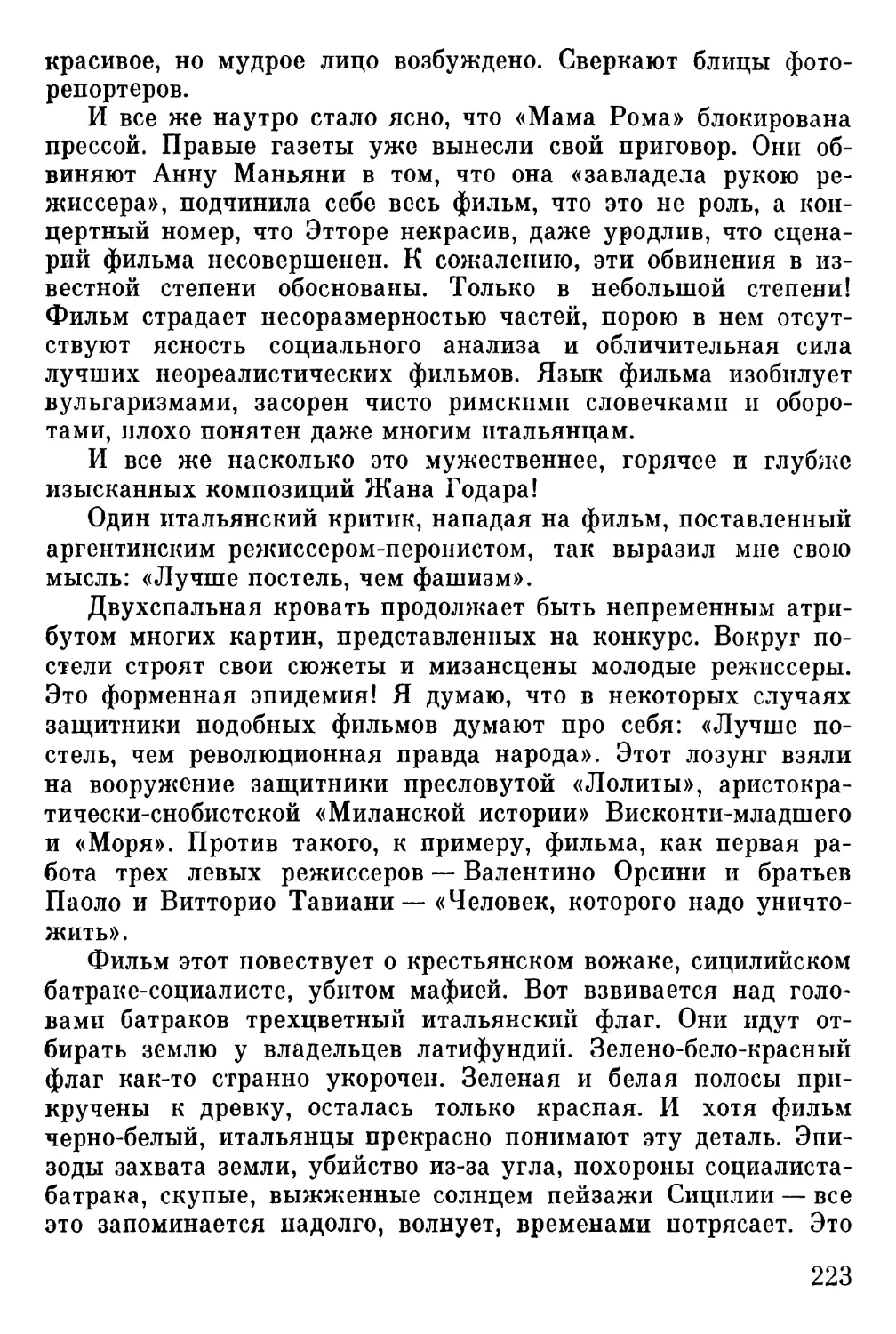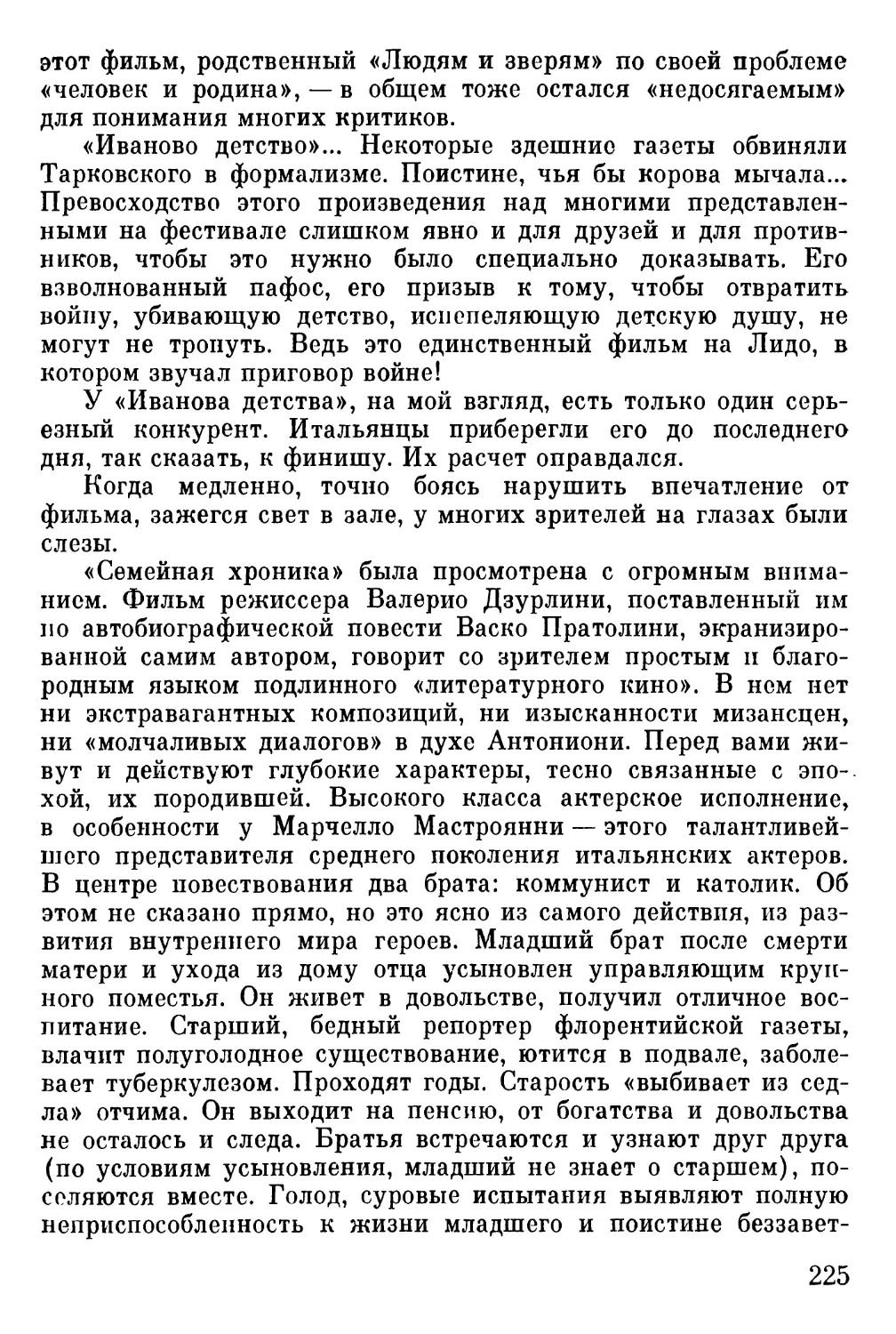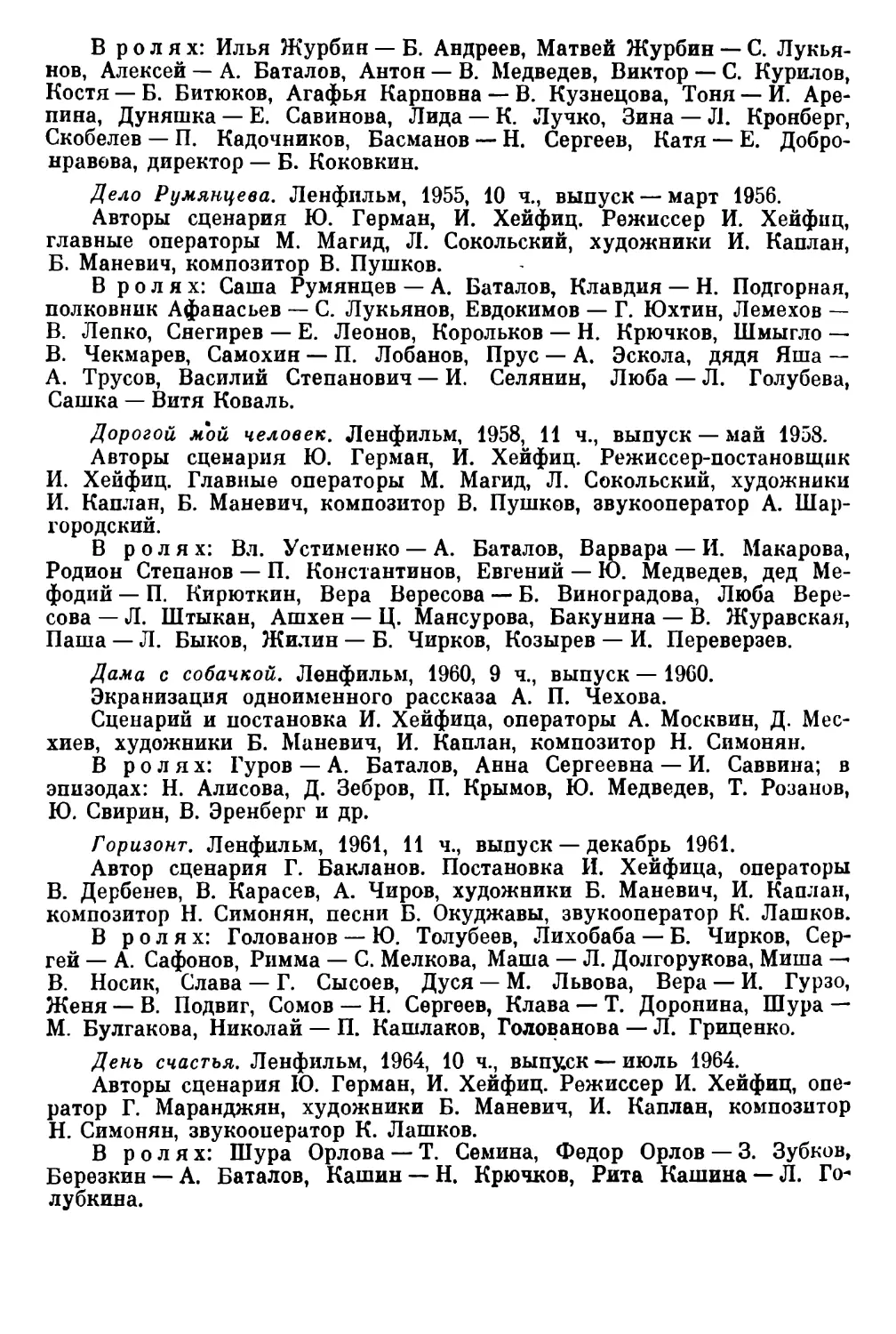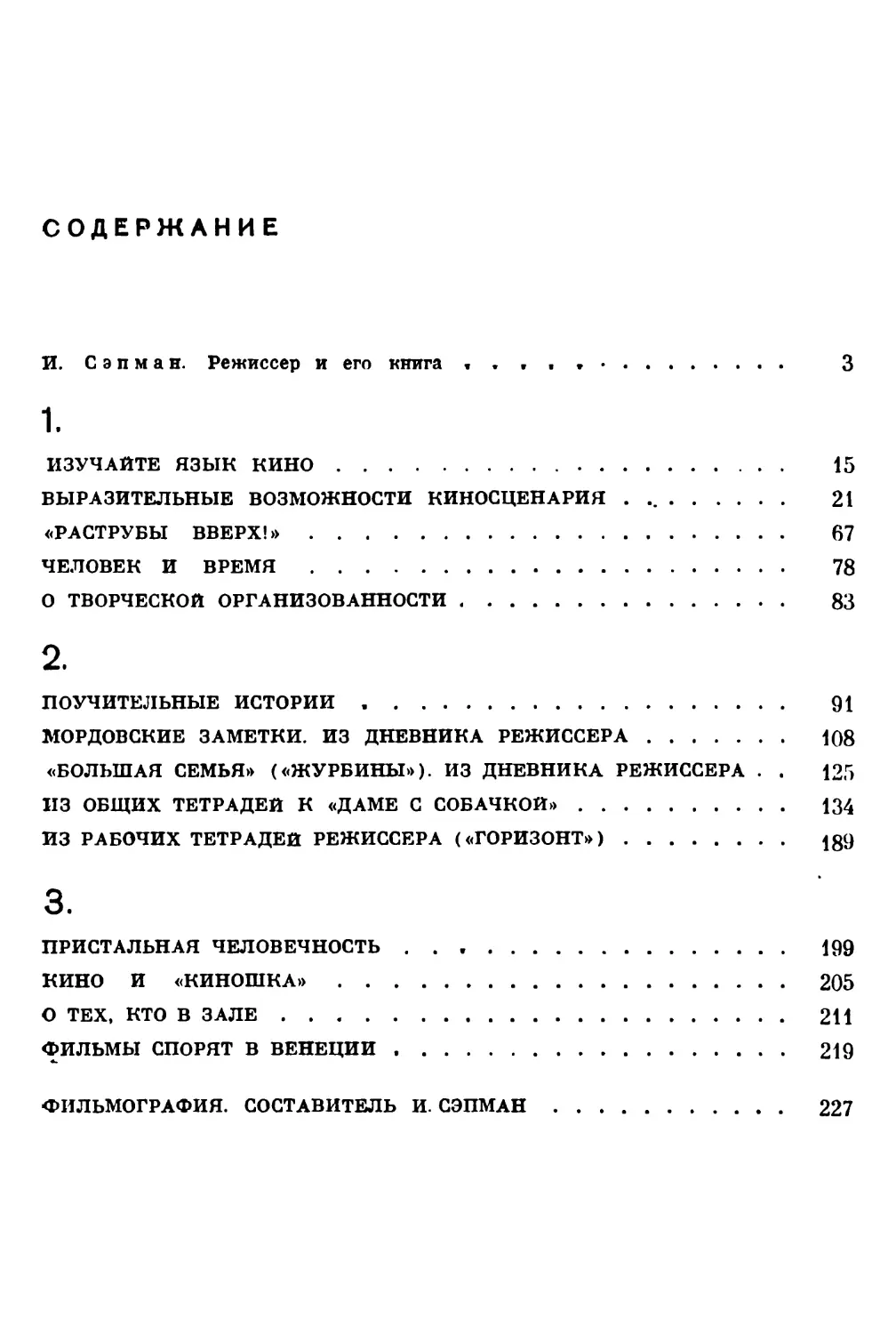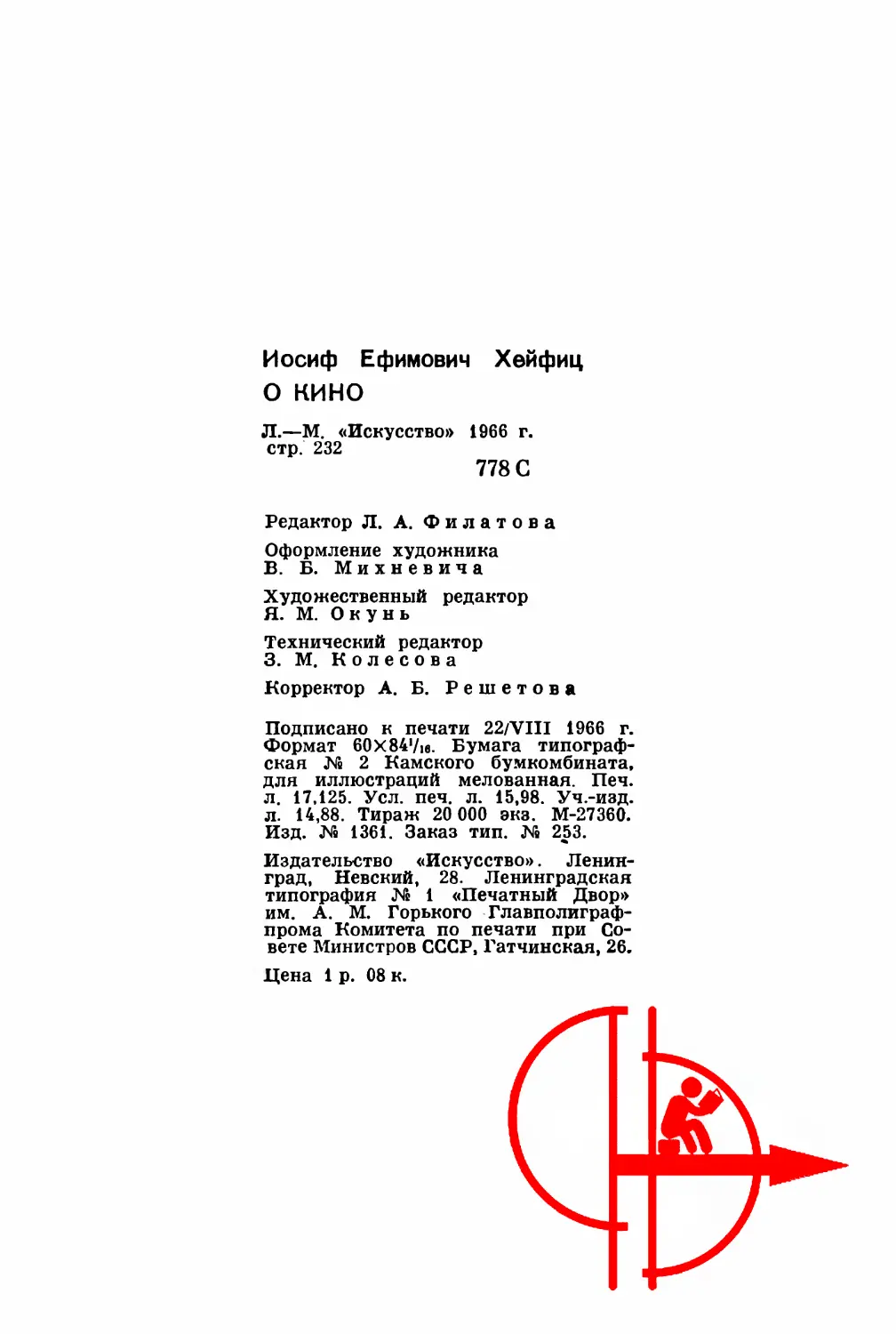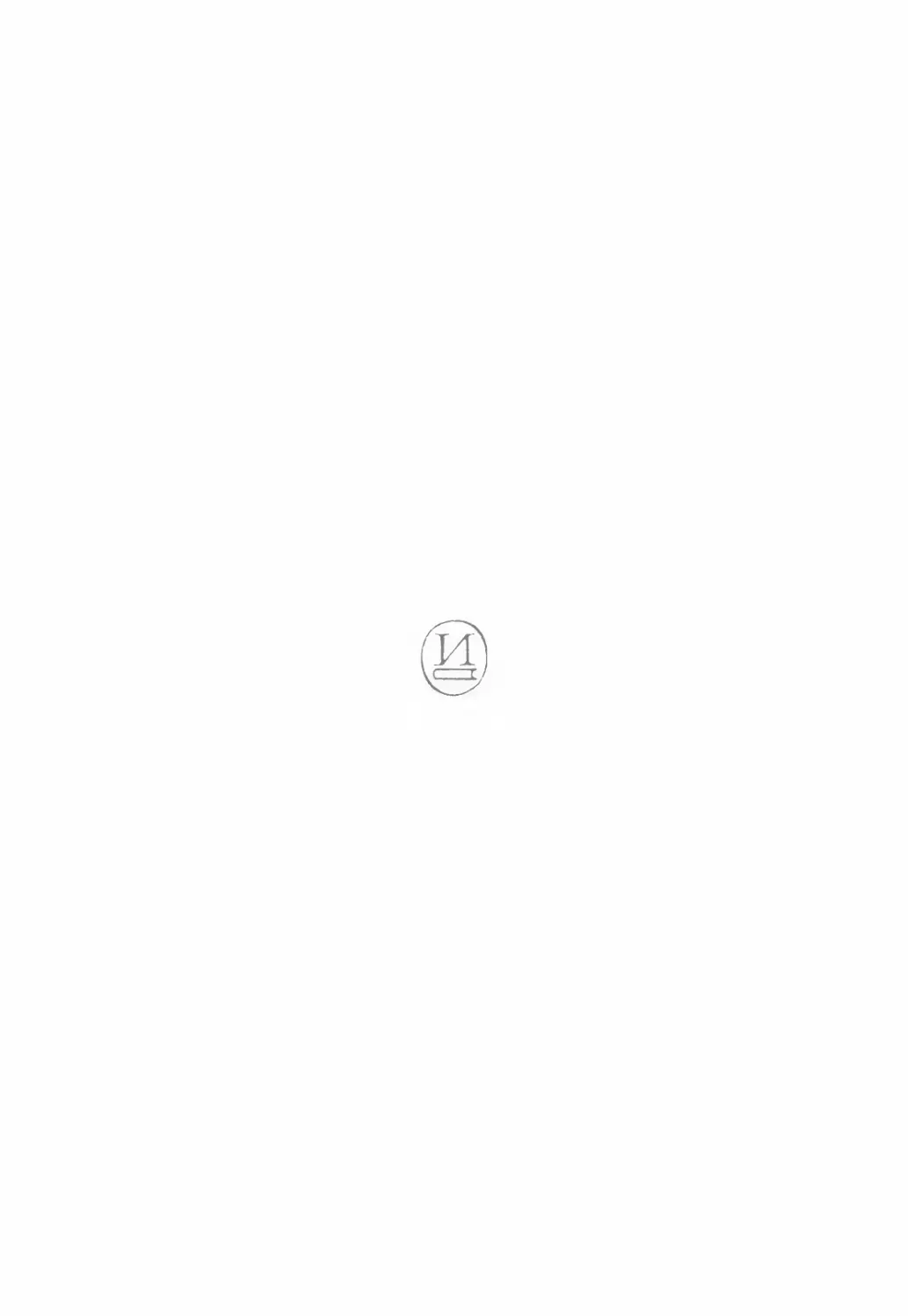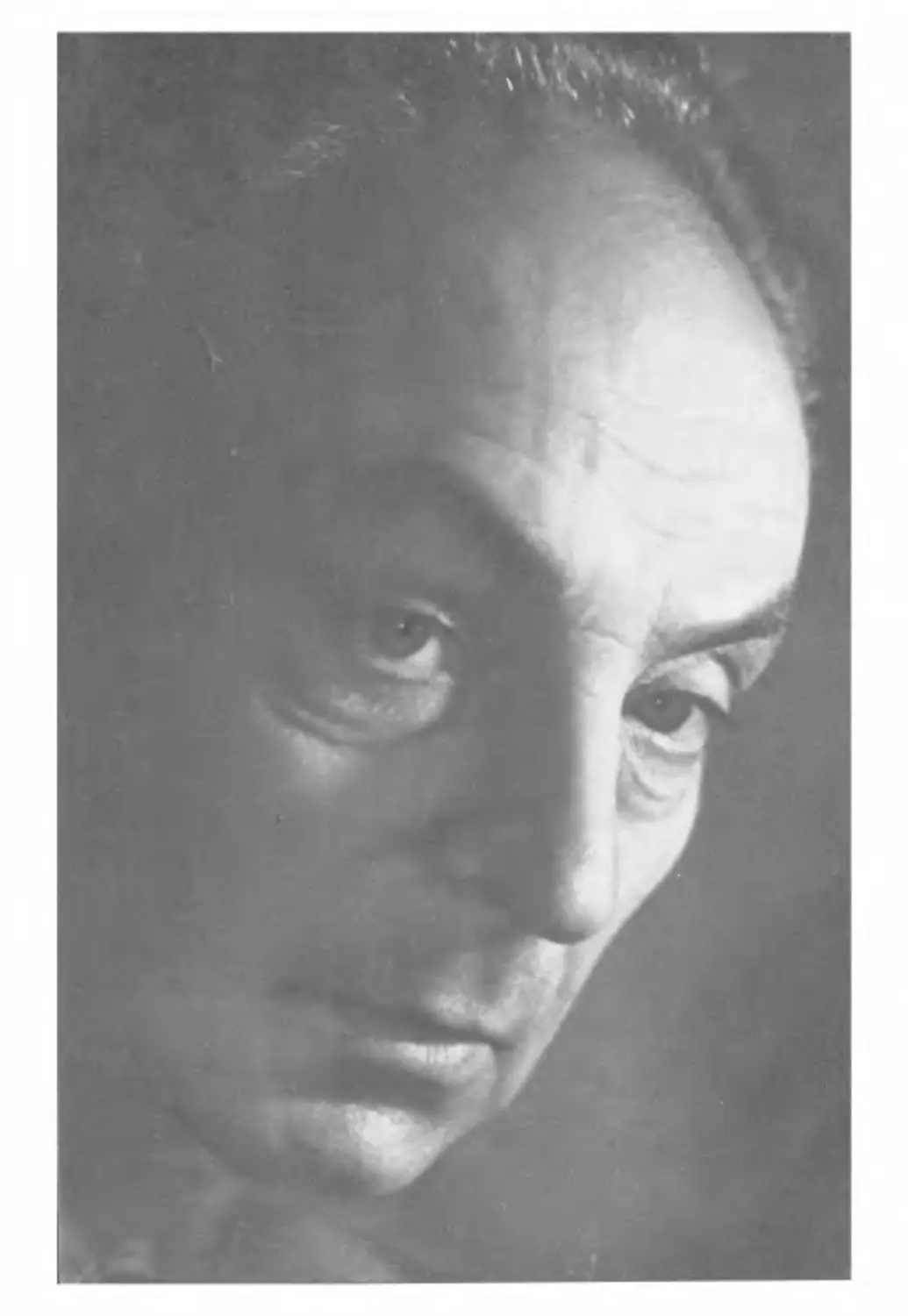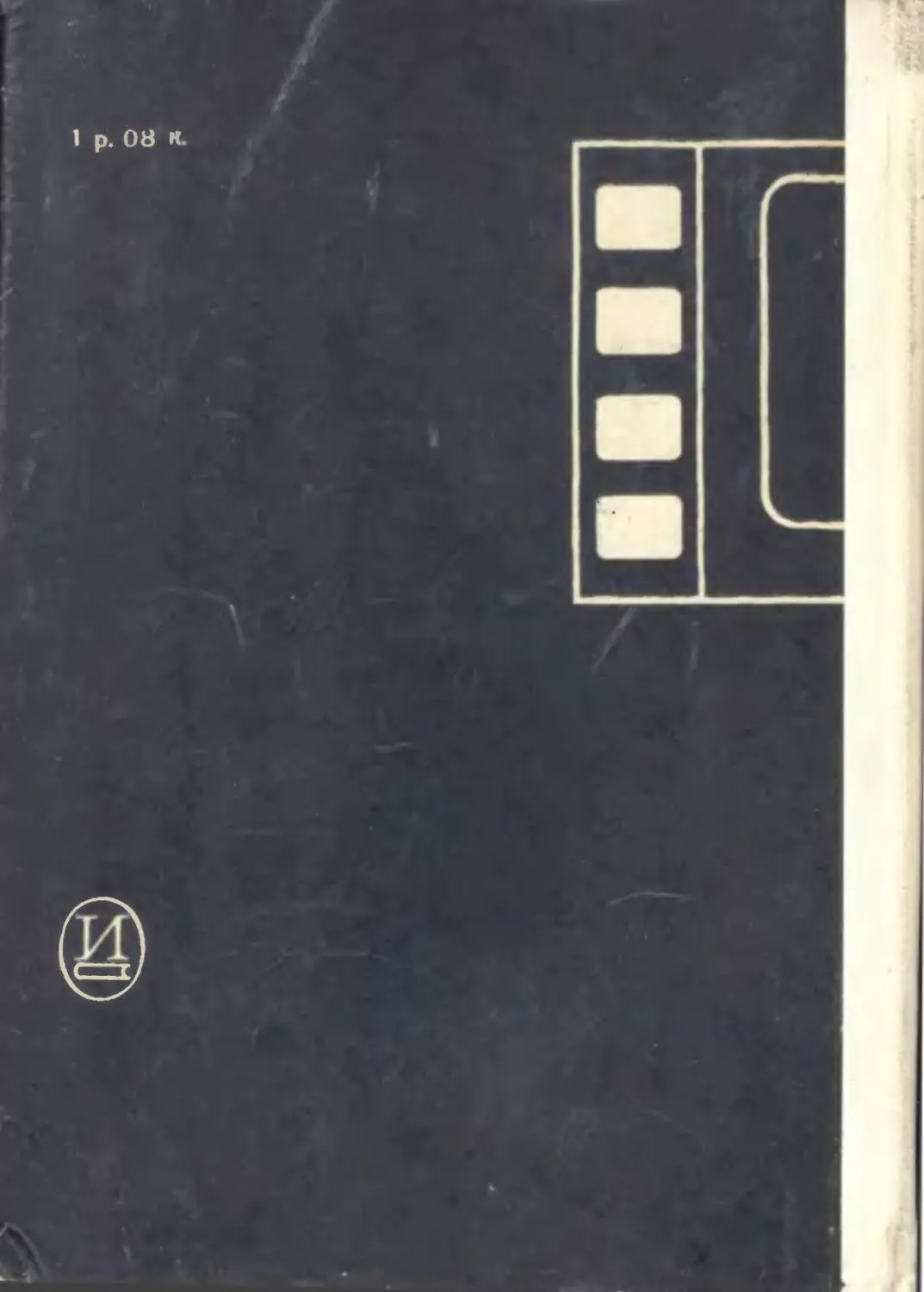Текст
и. х© й (©и ад,
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИСКУССТВО» ЛЕНИНГРАД 1966 МОСКВА
778G
X 35
Вступительная статья (и составление)
И СЭПМАН
8—1—5
75—66
В сборник статей Иосифа Хейфица «О кино» включены
наиболее значительные работы крупнейшего совет-
ского режиссера кино. Режиссер как бы вводит нас
в свою творческую лабораторию, рассказывает о по-
ставленных им фильмах. Его статьи обладают высо-
кими литературными достоинствами, они написаны
живо, образно, популярны в лучшем смысле этого
слова и, несомненно, вызовут широкий читательский
интерес.
РЕЖИССЕР И ЕГО КНИГА
Говорят, биография режиссера в его фильмах. Пожалуй, это верно.
Время стремительно. За спиной кинорежиссера Иосифа Ефимовича
Хейфица немало лет напряженной работы. Шаг за шагом меняется
наша страна, меняются люди, для которых и о которых снимает он
своп фильмы. И, оглядываясь на пройденный путь, режиссер, наверное,
измеряет его не годами, а фильмами, в каждый из которых вложена
частица его души.
Для И. Е. Хейфица тридцать пять лет творческой биографии — это
почти два десятка полнометражных художественных фильмов. Конечно,
они неравноценны, различно приняты зрителем п критикой, больше или
меньше любимы самим их создателем. Но многие из них, выйдя на
экраны, по праву обрели столь редкое в кинематографе долголетие.
Иосиф Хейфиц вошел в советскую кинематографию в конце 20-х го-
дов. В те времена к профессии кинорежиссера приходили по-разному:
Пудовкин был инженером-химиком, Довженко — школьным учителем,
Эрмлер — чекистом. В основном же кадры режиссеров кино пополня-
лись за счет смежных искусств: Юткевич п Козинцев, Эйзенштейн и
Ромм пришли в кино из театра и живописи.
Иосиф Хейфиц пришел в кино... из кино. Никаких иных профессий,
иных пристрастий и увлечений не было в его жизни. Ему не было еще
двадцати лет, когда он приехал из маленького украинского городка в
Ленинград с твердым желанием посвятить свою жизнь киноискусству.
Знаний было мало. Опыта — никакого. Начались годы учебы: сначала
в Институте экранного искусства, а потом, когда Хейфиц в числе
небольшой группы студентов, недовольных методами институтского пре-
подавания, ушел из него, — в кпномастерской при Ленинградском Про-
леткульте. Здесь будущие мастера изучали теорию кино — она тогда
еще только создавалась, писали сценарии, внимательно присматрива-
лись к кинозрителю. Здесь воспитывалось их отношение к искусству.
Отсюда в конце 1927 года Иосиф Хейфиц в качестве ученика-практи-
канта пришел на «Ленфильм».
Получилась любопытная вещь: в стенах кпномастерской Хейфиц,
несмотря на свой юный возраст, числился в «маститых». Он имел уже
солидный теоретический опыт, занимался литературной работой —
и небезуспешно: вместе с А. Зархи (а к тому времени этот творческий
союз, в течение долгих лет столь плодотворный, уже сложился) он при-
нял участие в создании сценариев фильмов А. Иванова «Луна слева»
1*
3
и «Транспорт огня». На студии же путь режиссера начался с самой
нижней ступеньки крутой лестницы кинематографических профессий.
Будущие создатели «Депутата Балтики» и «Члена правительства» в те-
чение рабочего дня таскали аппаратуру и носились по павильону с ды-
мовыми шашками, составляли списки участников массовок, а случалось,
бегали за папиросами по просьбе главного героя фильма.
Но зато они имели возможность наблюдать за работой режиссера и
с самых азов постигать сложную механику кинопроизводства. А по ве-
черам можно было пробраться через опустевшую студию в монтажную
и на ненужных обрезках пленки учиться монтажу.
Накапливался опыт, воспитывалось умение работать. Своеобразной
«пробой пера» стали для Хейфица п Зархи короткометражные фильмы
«Война войне» и «Песнь о металле». Созданные в очень короткий срок
из случайного фильмотечного материала, они обратили на себя внима-
ние остротой и злободневностью, сценарной выдумкой и энергичным
монтажом. Так завоевывали Хейфиц и Зархи право на самостоятельную
постановку.
И когда в 1928 году на фабрике «Совкино» по инициативе комсо-
мольцев была организована молодежная постановочная бригада, ее воз-
главили режиссеры Иосиф Хейфиц и Александр Зархи.
Молодые художники решили посвятить свое творчество сверстни-
кам — комсомольцам 30-х годов. Первые их фильмы — «Ветер в лицо» и
«Полдень», «Моя родина» и «Горячие денечки» действительно сняты
о ровесниках: о молодежи фабрик и заводов, о комсомольцах советской
деревни и армии.
Эти ранние фильмы, которые давно уже стали достоянием кино-
архивов, могли бы рассказать о многом. В них самостоятельность про-
бивается сквозь ученичество и удачные режиссерские находки чере-
дуются с серьезными художественными срывами. Но в целом они
говорят о неослабном поиске непроторенных путей, о трудном и упор*
ном восхождении к высотам подлинного мастерства.
И вот в 1936 году выходит фильм, с которого, по существу, и начи-
нается для современного зрителя режиссер Иосиф Хейфиц, — «Де-
путат Балтики». К Хейфицу и Зархи приходит большая и заслу-
женная слава, далеко перешагнувшая рубежи нашей страны.
Творческая зрелость авторов «Депутата Балтики» сказалась не
только в сложившейся глубоко индивидуальной манере, но и в том, что
молодые режиссеры вышли из рамок ранее избранной проблематики.
Героем нового фильма был всемирно известный ученый, временем дей-
ствия — ставшие уже историей дни Октябрьской революции. Но, что
еще существеннее, фильм оказался гораздо значительнее, чем просто
рассказ о единичной человеческой судьбе. Зрелость режиссерского та-
4
ланта проявилась в том, что в истории старого профессора Полежаева
режиссеры смогли увидеть и показать судьбы русской интеллигенции
и те глубокие процессы, которые привели крупнейших русских уче-
ных — Тимирязева, Павлова и других к безоговорочному признанию
революции.
Вслед за «Депутатом Балтики» Хейфиц и Зархи снимают фильмы
«Член правительства» и «Его зовут Сухэ-Батор». Как и «Депутат Бал-
тики», эти фильмы стали классикой советского кино и хорошо знакомы
самому широкому кругу зрителей.
На протяжении всей творческой жизни И. Хейфиц остается верен
художественным принципам «Депутата Балтики» и «Члена прави-
тельства».
Каждый фильм режиссера — это рассказ о человеческой судьбе,
о событиях очень личных, касающихся, казалось бы, только самого
героя. В то же время в судьбе его героев, как солнце в капле росы,
отражается время, в событиях каждого фильма напряженно бьется
подлинный пульс эпохи.
Следующий свой фильм — «Малахов курган» — Хейфиц и Зархи со-
здали в тревожные и трудные годы войны. Они посвятили его солдатам
героического Севастополя. С годами изменились оценки. Киноэкран на-
ших дней показал нам войну исторически неизмеримо выше, психологи-
чески — глубже. Очевидней и бесспорней стали ошибки старого
фильма. Но по-прежнему привлекает в нем искренняя человечность и
реальный драматизм жизненных ситуаций.
«Малахов курган» вышел на экраны в 1944 году, когда советские
солдаты вернулись в Севастополь и последние освободительные залпы
прогремели салютом тем, кто погиб на его земле. А год спустя режиссер
И. Хейфиц увидел последнее действие мировой трагедии — он присут-
ствовал при подписании акта о капитуляции Японии и вместе с
А. Зархи снял документальный фильм о мужестве победителей и
о стране, потрясенной военным поражением и ужасом первого ядерного
взрыва.
Конец 40-х — начало 50-х годов — время трудное для Хейфица, как
и для всего советского кино. Многие творческие планы режиссера оста-
лись в те годы неосуществленными. А фильмы, снятые и показанные
зрителю («Во имя жизни», «Драгоценные зерна»), отмечены чертами
кризиса. Таланту режиссера были органически чужды тенденции, кото-
рые господствовали в кинематографе тех лет. И, пожалуй, вполне есте-
ственно, что, когда в нашей жизни и в нашем искусстве наметился
перелом, когда задача утверждения человечности искусства стала осо-
бенно актуальной, именно Хейфиц создал фильм, которому суждено
5
было пробить первую брешь в глухой стене, отгородившей кинематогра-
фию тех лет от реальной жизни.
В 1954 году вышла на экраны «Большая семья» — спокойный не-
громкий рассказ о рабочей династии потомственных кораблестроителей
Журбиных. Все в нем было неожиданно и привлекательно для зрителя:
давно уже не появлялось на советских экранах фильмов, где тема
рабочего класса была бы поставлена так широко и масштабно и рабочий
был бы не пассивным придатком к станкам и стапелям, а полнокров-
ным живым человеком. Впервые за много лет экран показался не ра-
мой, в которую вправлена схематичная и бездушная картина, а окном,
распахнутым в живую жизнь.
«Большая семья» и следующие за ней фильмы «Дело Румянцева»
(1955) и «Дорогой мой человек» (1957) показали, что И. Хейфиц до
конца овладел необыкновенно нужным для людей искусством в самой
прозаической профессии открывать поэзию, в самом незаметном чело-
веке угадывать героя, в самой обычной судьбе улавливать дыхание
времени.
Важнейшей вехой на режиссерском пути И. Хейфица стал фильм
«Дама с собачкой», которую он снял в 1960 году по рассказу
А. П. Чехова.
Тонкое кинотолкование чеховской новеллы, психологическая много-
гранность и реальность образов принесли фильму Хейфица всеобщее
признание и пальму первенства в длинной галерее чеховских фильмов.
Внешне история Гурова и Анны Сергеевны — как и весь облик,
атмосфера, жизненный ритм воссозданной эпохи — не походила на
прежние работы режиссера. Но бесспорно одно — в главном режиссер не
изменил себе. В центре его фильма, как и прежде, был конкретный
человек с миром индивидуальных мыслей и эмоций, житейских поступ-
ков и психологических мотивировок. Той же проникновенной человеч-
ностью интонации, живым интересом к жизни, желанием разобраться
в серьезном общественном смысле ее явлений был отмечен режиссер-
ский почерк. И вместе с тем «Дама с собачкой» открывает новый этап
в творчестве И. Хейфица. Не случайно, думается, обратился режиссер
к прозе Чехова. Работа над чеховскими образами стала для него бле-
стящей школой, в которой оттачивалось особое, углубленное, «чехов-
ское» видение человека, его психологии, его души.
Фильмы последних лет — «Горизонт» и «День счастья», столь не-
схожие между собой, полны одним и тем же стремлением проник-
нуть в сложный, порой противоречивый духовный мир человека, дать
своеобразный психологический поворот современной темы. И сами
фильмы, и споры, которые кипели вокруг них, еще свежи в нашей
памяти. Споры были жаркие и непримиримые: сшибались самые про-
6
тивоположные мнения, у обоих фильмов находились и горячие сторон-
ники и убежденные противники. И острота этой дискуссии служит
лишним подтверждением того, что творческий путь режиссера И. Хей-
фица остается путем интересных и глубоких исканий.
...Биография режиссера — это его фильмы. Это верно, но, пожалуй,
не до конца. Ведь зрители видят на экране готовый результат режиссер-
ского творчества. А для самого художника за каждым фильмом — целая
эпоха: долгие месяцы поисков и ослепительные мгновения открытий,
размышления об искусстве и раздумья о жизни, множество тонких и
точных наблюдений, выводы, обобщения, оценки. Обидно, если все это
богатство остается достоянием только самого художника. Радостно,
когда художник щедро делится им с людьми, когда возникают книги,
подобные этой.
Трудно определить жанр этой книги. Здесь есть короткие публици-
стические заметки и серьезные искусствоведческие статьи, стенограммы
выступлений и отрывки из рабочих режиссерских тетрадей. Может
быть, это больше всего похоже на дневник, потому что, о чем бы ре-
жиссер ни писал — о Венецианском кинофестивале 1962 года или о кине-
матографической выразительности литературного сценария, о своей
работе над «Дамой с собачкой» или об отношении зрителей к филь-
му, — на всем лежит отпечаток личности художника.
Хейфиц не только делится с читателем свежими и интересными
мыслями об искусстве, но и с подкупающей искренностью рассказывает
о себе — об интересных фактах своей творческой биографии, о том, как
создавались фильмы, об актерах, с которыми он работал, о людях, с ко-
торыми он встречался. Поэтому его книга одинаково интересна для
специалиста и для широкого читателя, для тех, кто делает фильмы,
и кто их смотрит.
В книге три тематических раздела.
Статьи первого раздела посвящены общим вопросам киноискусства.
Эти статьи уже публиковались ранее. Сейчас, впервые собранные вместе,
они поражают широтой тематического диапазона. По сути, в этих
статьях раскрывается целая система эстетических воззрений большого
художника. И очевиден их глубоко научный, теоретический интерес.
Впрочем, И. Хейфиц обладает счастливым качеством. Он умеет
о сложном и профессиональном сказать просто и интересно, предпочи-
тая отвлеченному теоретическому рассуждению образный язык конкрет-
ных примеров, фактов.
Примечательное достоинство статей Хейфица в том, что за каждой
строкой в, них чувствуется и жизнь современного искусства, и годы
творческой работы самого художника. Теоретические обобщения режис-
сера теснейшим образом связаны с его художественной практикой.
7
Когда в статье «Человек и время» Хейфиц начинает разговор о
положительном образе в кино, для режиссера это не умозрительное
рассуждение на модную тему, а решение конкретной художественной
задачи. Статья написана в 1958 году, когда режиссер закончил работу
над фильмом «Дорогой мой человек». В герое фильма Владимире Усти-
менко, человеке незаурядного ума, бесценной глубины и цельности
души, видел Хейфиц нравственный идеал, подлинного героя наших
дней. Но Устименко ни сложным своим бескомпромиссным характером,
ни драматичной судьбой не соответствовал упрощенным и трафаретным
представлениям о положительном образе. И, выступая в защиту своего
любимого героя, Хейфиц тем самым определил свою позицию в развер-
нувшейся дискуссии о положительном герое в советском искусстве. Он
отстаивает право своего героя на сложность и драматизм характера,
в равной мере выступая и против канонизированного «голубого» героя,
и против искусственно сконструированного «положительного» характера,
разбавленного для правдоподобия двумя-тремя отрицательными чертами.
Начиная разговор о работе кинорежиссера с актером («Раструбы
вверх»), Хейфиц стремится поделиться с молодыми режиссерами и
актерами своими знаниями и ценным практическим опытом.
И. Хейфиц придает исключительное значение работе режиссера
с актером и по праву считается актерским режиссером в лучшем
смысле этого слова. Он умеет открывать неожиданные грани актерских
дарований. В свое время он поверил, что тридцатидвухлетний Черкасов,
известный тогда, главным образом, как эксцентрический актер, сможет
сыграть старика профессора Полежаева. Он уговорил комическую
актрису Веру Марецкую выступить в роли Александры .Соколовой, а
для современного кино открыл Алексея Баталова. Фильмы Хейфица
всегда радуют отличными актерскими работами.
Теперь с теоретической трибуны режиссер серьезно и убедительно
развивает свои взгляды на специфику актерской игры в кино, на твор-
ческий союз кинорежиссера с актером в работе над образом. И разви-
вает их, опираясь на убедительные примеры из собственной практики,
вложив в свое выступление не только знания, но и убежденность, более
того — горячую увлеченность художника.
Следует сказать, что в каждой из статей И. Хейфиц не ограничи-
вается одним узким вопросом, а касается целой суммы смежных про-
блем киноискусства и касается их в форме интересной, наглядной и
поучительной.
Центральное место в первом разделе занимает большая статья
«Выразительные возможности киносценария».
Интерес к проблемам кинодраматургии для Хейфица не случаен.
«Не пускаться в плавание, пока скрипит хоть одна сценарная заклеп-
8
ка)) — вот один из ведущих принципов режиссера. В его домашнем
архиве хранятся объемистые тетради — режиссерские экспликации лите-
ратурных сценариев. Они могут рассказать, как тщательно продумывает
режиссер каждый поворот сюжета, проникает в характеры героев, заду-
мывается над их судьбами. Да и сами сценарии фильмов создаются,
как правило, при его непосредственном участии: в большинстве своих
фильмов режиссер выступал соавтором сценариста, некоторые поставил
по собственным сценариям. Поэтому в статье «Выразительные возмож-
ности киносценария» мы можем почувствовать и руку кинематогра-
фиста, и руку литератора.
Хейфиц не вдается в многолетнюю и безрезультатную полемику
о том, кто главная фигура кинематографа — режиссер или сценарист.
Но он убежденно доказывает, что именно качеством литературного сце-
нария определяется в значительной мере судьба фильма и что основа
художественного решения фильма должна содержаться в форме лите-
ратурного сценария.
Высказывая целый ряд тонких и глубоких мыслей о природе кино-
сценария, о его жанровой специфике, И. Хейфиц на конкретных худо-
жественных примерах дает характеристику основных средств кинемато-
графической выразительности и демонстрирует чисто режиссерское
умение почувствовать и обнажить скрытую пластическую выразитель-
ность литературного текста.
Тому, кто ценит и любит глубоко человечное искусство И. Хейфица,
статья «Выразительные возможности киносценария» интересна вдвой-
не — не только в теоретическом, но и в эстетическом плане. Ибо на
блестящем авторском анализе сцен и эпизодов лучших своих фильмов,
на том, как прочитаны кинематографистом страницы Гоголя и Толстого,
Чехова и Бунина, лежит отпечаток его индивидуальной творческой ма-
неры. Теоретическая мысль режиссера идет бок о бок с его творчеством.
Еще полнее с художественной манерой, рабочим «почерком» И. Хей-
фица знакомит нас второй раздел сборника, где впервые публикуются
воспоминания и творческие дневники режиссера.
Очерк «Поучительные истории», которым открывается второй раз-
дел, по жанру — рассказ-воспоминание. Трудно, пожалуй, иначе опре-
делить эти живые и лаконичные зарисовки с особым колоритом неожи-
данных и красочных подробностей. В годы творческой молодости ре-
жиссера возвращает нас его рассказ, к фильмам 30-х годов — «Депутат
Балтики», «Член правительства», «Его зовут Сухэ-Батор». О том, как
возникли эти фильмы, и рассказал И. Хейфиц, непринужденно, просто,
порой с улыбкой, порой со сдержанным волнением. Ни теоретических
изысканий, ни строгой научной терминологии не встретим мы на стра-
ницах очерка. Всего лишь «рассказами бывалого солдата» назвал
9
«Поучительные истории» их автор. Но тем не менее история возникно-
вения трех замечательных фильмов И. Хейфица и А. Зархи и впрямь
поучительна. В том, что рассказано, мы найдем и глубокую мысль, и
убеждающую логику живого примера.
Вспоминая прихотливую цепочку жизненных случайностей, которая
предшествовала рождению его фильмов, режиссер, по сути говоря, рас-
сказывает, как зарождалась и в ворохе второстепенных обстоятельств
прокладывала себе путь большая и цельная тема его творчества. Как
ни случайны были обстоятельства, в которых начиналась работа ре-
жиссеров над каждым из трех фильмов, все три в конечном счете
явились развитием и победой единого глубоко продуманного режиссер-
ского замысла. Несмотря на то что столь различны герои этих фильмов,
среда, в которой они живут, исторические условия, в которых происхо-
дит действие, «Депутат Балтики», «Член правительства» и «Его зовут
Сухэ-Батор» образуют своеобразную трилогию. Они рассказывают о том,
какими разными путями, но одинаково властно овладевают сердцами
людей идеи революции и социализма. С высот человеческого разума
приходит к признанию революции профессор Полежаев. Из забитой
темной крестьянки вырастает в государственного деятеля Александра
Соколова. От полудикой и отягощенной предрассудками жизни к вели-
чию революционного борца и героя делает титанический шаг пастух
Сухэ-Батор.
Вспоминая о поисках «своего» героя, а в конце очерка — очень
кратко — о некоторых интересных жизненных встречах (с Джавахарла-
лом Неру, Антонином Запотоцким), Хейфиц открывает читателю не
только тайну рождения, но и жизненные корни образов, ставших по-
истине классическими.
И, пожалуй, в каком-то смысле следующий очерк раздела — «Мор-
довские заметки» — это тоже рассказ о поисках «своих» героев.
Формально «Мордовские заметки» — путевые очерки. Хейфиц их вел
летом 1951 года, когда приехал в Мордовию снимать документальный
фильм об этой республике. К жанру путевых очерков многие относятся
предубежденно: слишком часто под этим заголовком появляются в пе-
чати сухие этнографическо-экономические отчеты, угнетающие обилием
цифр и полным отсутствием людей. Но путевые заметки Хейфица носят
совсем иной характер. В небольших мордовских городках и затерянных
в лесах деревушках режиссеру, как всегда и везде, были прежде всего
интересны люди. И просто диву даешься, чкак много успел он увидеть
за свою короткую поездку, сколько необычных судеб, волнующих и дра-
матичных, открылось ему. Читая эти путевые заметки, задумываешься,
не в этой ли поездке встретил Хейфиц таких обыденно простых и в
то же время интересных героев своих художественных фильмов. Может
10
быть не в просторных целинных степях, а в небогатом мордовском селе
заметил он председателя Голованова из кинофильма «Горизонт» или
старого учителя из «Дня счастья». Может быть, на мордовских дорогах
встречал грубоватых, занозистых и верных в своем рабочем братстве
шоферов, которых мы увидели в «Деле Румянцева».
А возможно, мы и ошиблись. Так ли это важно? Ведь главное —
не где режиссер встречает своего героя, а как он умеет увидеть и по-
нять кипучую и увлекательную жизнь.
Если в «Мордовских заметках», да отчасти и в «Поучительных исто-
риях» мы глазами художника видим мир, то отрывки из рабочих днев-
ников к трем фильмам — «Большая семья», «Горизонт» и «Дама с со-
бачкой» — делают нас соучастниками творческого процесса, свидетелями
того, как на основе реального жизненного материала режиссер создает
фильм.
Творческая лаборатория режиссера — заповедная область, о кото-
рой не может рассказать никто, кроме самого творца, — обладает осо-
бенной притягательной силой для всех, кто по-настоящему любит
искусство. Режиссерские тетради Хейфица — спутники и свидетели
художественного поиска. И могут они рассказать о многом.
Особенно интересный характер носят странички тетрадей к «Даме
с собачкой». Яркое воображение кинематографиста здесь сочетается
с зоркостью вдумчивого читателя. Трудно провести грань, которая
отделила бы углубленный анализ чеховской новеллы от начала творче-
ского синтеза, от первых шагов к фильму.
Читая Чехова, Хейфиц прослеживает в рассказе скрытое внутрен-
нее движение, глубокий психологический процесс. А поняв существо
этого процесса, открывает в скупой сюжетной канве новеллы неоцени-
мые кинематографические возможности: острую динамику и будущее
изобразительное богатство своего фильма.
Просто, искренне и щедро Хейфиц раскрывает перед читателем
процесс рождения фильма. И знакомясь с этими удивительными режис-
серскими записями, испытываешь чувство приобщения к подлинному
творчеству. А это — всегда радость.
Статьям третьего раздела свойственна скорее острая постановка
проблемы, чем се углубленное исследование. Это и понятно: в разделе
собрана публицистика, рассчитанная не на специалистов, работников
кино, а на самую широкую читательскую аудиторию. Темы статей
актуальны, подсказаны автору жизнью.
Вот своеобразный рассказ-отчет о Венецианском фестивале
1962 года. Хейфиц был в Венеции в качестве члена жюри, хо-
рошо знает атмосферу фестиваля, умеет в коротком, ярком рассказе
передать не только содержание, но и поэтический образ фильма. Вот
горячий заинтересованный отклик на последние картины «Ленфильма»,
студии, с которой связано столько лет творчества, чьи успехи и пора-
жения давно уже стали частью собственной жизни режиссера. Вот
раздумье над письмами зрителей, письмами, которых так много прихо-
дит к Хейфицу в связи с каждым фильмом.
В этих коротких статьях, мгновенных откликах на конкретные
события есть качество, которое не позволяет им превратиться в газет-
ные однодневки; и дело не только в литературном мастерстве, с кото-
рым они написаны, а прежде всего в том пафосе борьбы за высокое
киноискусство, которым они проникнуты. За простоту и правду против
пышности и лакировки, за творческий огонь против делячества, за глу-
бину против верхоглядства, короче — за подлинное кино против «ки-
ношки» выступает режиссер с неустанностью и темпераментом настоя-
щего борца.
Хейфиц пишет лаконично и вместе с тем эмоционально. Он бывает
в своих статьях взволнованным и приподнятым, а бывает полемичным,
непримиримым. Он только не бывает равнодушным и не оставляет рав-
нодушными читателей.
И. С э пм ан
mi
изучайте язык кино
Есть много примеров, говорящих о поразительной силе воз-
действия киноискусства, о его способности проникать в глу-
бины человеческой психологии, делать достоянием зрителя
мельчайшие детали поведения героев и одновременно развер-
тывать перед ним безграничные масштабы’ событий. Хорошему
реалистическому фильму зритель верит, как подлинной жизни!
Отсюда народная любовь к кинематографу.
К сожалению, в предыдущие годы недопустимо мало было
картин, после которых зритель уходил бы потрясенным, цели-
ком захваченным ими. Об этом часто говорят и пишут зрители,
говорят иногда сурово, с болью за наше киноискусство.
Тем ценнее, что за последнее время на экране мы все чаще
видим простых советских людей, наших хороших знакомых...
Радости и горести их пробуждают живой отклик у зрителя;
подвиги их, совершаемые просто, без позы, без шума и треска,
вызывают чувство гордости за наше время, за нашего совре-
менника. Важно также, что герои наших фильмов понемногу
сбрасывают с себя парадные одежды, поселяются в обыкновен-
ных квартирах, курят не только «Казбек», но и махорку.
От правдивой разработки бытового фона еще больше вы-
игрывает правда главного в них, правда их жизненного по-
двига, ибо жизнь героев фильма становится предельно кон-
кретной, осязаемой, доподлинной. Надо, чтобы оскорбительная
для кинематографистов фраза «совсем как в кино!» — синоним
фальши и лакировки — была окончательно забыта.
Вместе с тем, когда думаешь о многообразии жизни, о ду-
шевном богатстве наших людей, о самобытности их характе-
ров, о новых чувствах, рожденных новыми отношениями ме-
жду людьми, о своеобразии и глубине жизненных конфликтов,
о красоте и необъятности пространств, на которых развернута
гигантская битва с природой, обидно становится за то, что
бедна бывает порой палитра нашего киноискусства, что она
иной раз бывает бессильна передать все многообразие мира.
Однообразны иногда наши режиссерские приемы, беден
режиссерский почерк. А как неистощимо богат, красочен,
вдохновенно выразителен кинематографический язык в лучших
наших фильмах!
15
Разве забудутся когда-нибудь каменные львы в «Броне-
носце «Потемкине», подскочившие при звуках залпа. Это маги-
ческая сила киноискусства заставила ожить камень. И этот
оживший камень, так же как детская коляска, катящаяся к
обрыву по одесской лестнице, как и другие изумительные
кадры «Броненосца «Потемкина», потряс зрителя не трюковой
стороной, а огромной силой образности, силой и яркостью со-
держания. Вот уже два десятилетия ничуть не тускнеют яркие
образы наших лучших немых фильмов!
Еще светла в памяти печально вздохнувшая гармонь, вы-
брошенная из эшелона в «Арсенале»; все звучат падающие из
умывальника в таз капли («Мать» В. Пудовкина).
Незабываемы полные тоски глаза парня из «Конца Санкт-
Петербурга»... Эти куски запомнились, как слова песни, как
символы, обобщившие в себе важное и емкое содержание.
Два с лишним десятилетия тому назад немое киноискусство
обрело дар речи. Все знают, что слово — могучая сила. Со сло-
вом пришли в наше кино и новые возможности. Мы получили
возможность при помощи слова нести в мир наши бессмертные
идеи. Но слово и мстит за себя, когда плохо, неэкономно, сле-
довательно, неискусно с ним обращаются.
Ударившись в крайность, выбросив, как ненужный хлам,
многое, что было самой природой нового искусства, мы стали
в кино болтливы, многословны. Слово стало чуть ли не един-
ственным способом выражения характера героя. Действие иной
раз локализуется в наших картинах в двух-трех местах, как в
театре. То, что театр вынужден делать в силу своей природы,
из необходимости, кинематограф стал применять добровольно.
Случилось так, что нашему кпно пришлось взять на себя
роль пропагандиста лучших достижений других искусств. И в
этом немалая его заслуга. Жителю далеких окраин, да и не
только окраин, кинематограф помог увидеть танец Улановой,
услышать и увидеть в исполнении лучших артистов драматиче-
ские спектакли и оперы...
Зритель был благодарен кинематографу за эту его работу.
Тысячи писем подтвердили это. Их, правда, следовало бы боль-
шей частью переадресовать нашим инженерам и изобретателям,
сделавшим возможной движущуюся цветную фотографию, усо-
вершенствовавшим звукозапись, оптику.
Кино, радио и телевидение — мощные пропагандисты теат-
ра и музыки. В этом случае кино выступает скорее как искус-
ство репродукции. Но есть еще кино — великое самостоя-
16
тельное искусство, сумевшее, несмотря на свой юный возраст,
создать немало выдающихся произведений, дать «Чапаева»,
«Броненосец «Потемкин», трилогию о Максиме, много других
произведений. И как бы ни старались некоторые «теоретики»,
не понимая активной роли кинематографической формы, вы-
бросить из арсенала киноискусства его богатейшие выразитель-
ные средства, киноискусство наше развивается, создавая не
только фильмы-спектакли, но и просто «фильмы-фильмы».
Развитию нашего киноискусства плохо помогает теория, в
особенности теория кинодраматургии. Это и понятно. Теория
не может существовать без практики, а практика последних
лет весьма скупа. Понятно, что приходится нашим теоретикам
строить значительную часть своих доводов на опыте давно про-
шедших лет. Досадно, что «теоретические выводы», вместо
того чтобы двинуть дальше наше киноискусство, иногда ведут
к принижению кинематографа как искусства самостоятельного,
пытаются низвести его до роли репродуктора смежных
искусств. Отсюда разговоры о сценарии как о пьесе для кино,
ртрицание роли кинематографической формы, попытка дока-
зать, что так называемая «специфика» кино — жупел, кото-
рым-де только пугают непосвященных.
Из всех литературных жанров сценарий ближе всего к
прозе. Обычно пьесу труднее экранизировать, чем роман или
повесть. И хороший сценарий, написанный человеком, знаю-
щим законы кино, более всего похож на повесть. При экрани-
зации пьесы приходится как бы искусственно разрывать дей-
ствие, спрессованное в одном месте. Диалогическое выражение
характера, сюжет, мотивирующий встречи действующих лиц
в одном-двух местах, отсутствие широких выходов в мир, скон-
денсированное время как бы спеленывают кинематографиче-
скую стихию, рвущуюся на простор, к безграничным масшта-
бам, к монтажным контрастам, к выразительной детали, к
особому лаконизму выражения! К услугам кино весь мир,
кино свободно оперирует временем и пространством. Кино
позволяет «слышать» мысль. Оно может показать мир,
эмоционально окрашенный, данный как бы через восприятие
героя. В этом смысле кино — это видимая проза.
У Льва Толстого в «Войне и мире» в сцене первого бала
Наташи Ростовой очень мало диалогов, но ее душевное смяте-
ние, весь тончайший внутренний ход ее сменяющихся настрое-
ний дан в одной большой «ремарке». Здесь Толстой выступал
17
как гениальный режиссер, увидевший и записавший всю буду-
щую мизансцену, все места крупных планов, рефрены всту-
пающей музыки (полонеза), куски внутреннего монолога,даже
распределение планов и монтажный ритм. Но, приближаясь к
прозе, сценарий в то же время имеет ряд существенных отли-
чий от нее. Действие, композиция, ритм, необходимая для сце-
нария пластичность, зрительность происходящего — все это и
определяет особую, самостоятельную форму киноискусства.
Кино, как и любое другое искусство, имеет свою форму,
отличную от формы других искусств. Содержание произведе-
ний будет тем глубже вскрываться, тем ярче и эмоциональнее
будет звучать, тем глубже будет восприниматься миллионами
людей, чем совершеннее, отточенпее, богаче, филиграннее бу-
дет форма нашего киноискусства, чем богаче будет арсенал
выразительных средств у драматурга, режиссера, актера, мон-
тажера, оператора! Если бы в свое время наши киносценари-
сты испугались «пресловутой специфики», зритель не уви-
дел бы ни «психической» атаки в «Чапаеве», ни плачущего
гордого Полежаева, ни широкого, как песня, Днепра в «Иване»,
ни мечущихся по полю, чующих смерть коней в «Щорсе», ни
многого другого из лучших наших фильмов.
Слабость многих сценариев, написанных в последнее время,
происходит иногда от того, что писатель не умеет выразить
свой замысел в кинематографической форме.
Чувствуя себя свободно, когда дело касается повести или
романа, он становится косноязычным в сценарии. А от этого
приходит неминуемая теснота в сценарии, извечная нехватка
места. Линии действия начинают превращаться в пунктир, а
пунктир — в обрывки, лишенные логической связи и внутрен-
них мотивировок. А ведь теснота эта кажущаяся. Обилие диа-
логов, многословных и необязательных, — вот что отнимает
у нас львиную долю времени.
Немало бывает случаев, когда автор, которого убедили в
том, что «пресловутой специфики» не существует, в ремарках
сценария пишет примерно так: «Здесь режиссер и оператор
должны найти средства показать бой во всем его напряжении
и масштабе...» Когда-то снискали печальную славу так назы-
ваемые «эмоциональные сценарии». В этих сценариях «безо-
ружный» автор писал: «Идет необыкновенный человек по
необыкновенной земле...» Все это белые пятна и отписки.
Передо мной письма Вс. Вишневского к Е. Дзигану, опу-
бликованные в сборнике «Вопросы кинодраматургии». Они
18
относятся к периоду работы над сценарием «Мы из Кронштад-
та». Меня глубоко взволновали эти письма. Какой любовью
к киноискусству проникнуты они! С какой энергией и стра-
стью пытается Вишневский проникнуть в топкости монтаж-
ного, ритмического строения будущих сцен, как тщательно
подбирает детали действия. Вот отрывок из письма, в котором
разрабатываются куски сцены «боя пехоты»:
«...Сколько гильз около бойцов после 1-го и 2-го штурмов?
Покажите груды гильз, это выразительно. (Например, около
рослого красивого бойца, который все время ровно стреляет).»
«Бой пехоты крайне устремленный, упорный, осмысленный.
Например: 1) У красноармейца расщепило винтовку (оскол-
ком), взял у убитого хорошую. 2) Оглушило, засыпало песком,
лицо черное, человек почти ослеп. Как он промывает, прочи-
щает глаза и снова бьется... 3) Как раненый рассматривает
свою кровь...»
А вот звуковая разработка атаки белых: «Вести ее на пол-
ном молчании, только звякает амуниция (не шпоры — их не
носили в офицерских полках). На полном молчании (то есть
при глубоких, неожиданных, редких звуках) — матросы и пе-
хота ждут. Волевые люди сходятся молча, почти в упор. Это
будет очень сильно! Изредка реплики у белых: «Равнение»,
«интервалы», — люди косят глазами... У матросов — их юмор
и цинизм (гитарист и другие)».
Или деталь звуковой разработки сцены «Потопление матро-
сов»: «...Потопление матросов дать с уходом объектива в воду,
с постепенным уходом в темную глубину — звуки захлебываю-
щихся людей, их связанные движения... Постепенно затихли...
и мертвая тишина и едва различимые тела. Затем мрак смерти
(пленку дать зеленоватую)».
Из этих писем я понял, каким отличным знатоком зако-
нов кино стал Вишневский в процессе работы над своими
сценариями. Прочитайте эти письма, и вы увидите «специфи-
ку» кино в действии. И самое главное — в каждбй строчке зву-
чит любовь автора к киноискусству.
Не отпугивать должна наших писателей сложная и богатая
палитра киноискусства, а увлекать, притягивать. Заинтересо-
вать писателей работой в кинематографии — это вовсе не зна-
??т убеждать их в том, что для этого ничего не надо уметь,
апротив, надо увлекать наших писателей огромными неисчер-
паемыми возможностями искусства кино, раскрыть перед дея-
телями литературы их роль в создании новых реалистических
19
произведений. И если говорить о решающем влиянии литера-
туры на кино, то следует сказать и об обратном. Кино не только
берет у писателя его острый взгляд на мир, его широкое и все-
стороннее знание жизни, его образную систему, но и многое
дает писателю. П. Павленко не стеснялся признаться, что ра-
бота над сценариями обогатила его как писателя. «Давно уже
мне хотелось научиться писать компактно, но как это сде-
лать — я не знал. Тогда я решил взяться за жанр, который
компактен уже сам по себе, и попробовал писать киносцена-
рии, прежде всего — в целях литературной учебы. Я понял, что
это жестокое искусство должно меня чему-то научить». Смело,
прямо, мужественно сказано!
Все это, казалось бы, давно известные истины, но вновь и
вновь приходится напоминать о них. Защитники «пьес для
экрана» и восхвалители фильмов-спектаклей, няньки, пытав-
шиеся уберечь писателей от «специфики» кино, во многом до-
бились своего. Бедность кинодраматургии не замедлила ска-
заться и на развитии мастерства режиссуры. В последние
годы снизился уровень кинорежиссерской работы, исчезло свое-
образие мастеров, менее индивидуален стал их «почерк».
Во многих фильмах, поставленных молодежью, заметно от-
сутствие желания сказать свое слово, по-своему раскрыть тему,
заявить о своем стиле, о своих поисках наиболее ярких, новых,
свежих средств выразительности жизненного содержания. Зри-
тель хочет, чтобы новые герои и новые славные дела наших
дней предстали перед ним на экране «весомо, зримо», в яркой
захватывающей форме, чтобы духовное богатство наших совет-
ских людей, индивидуальность их, своеобразие их характеров
не нивелировалось бедностью выразительных средств.
Перед киноискусством стоят огромные задачи. Оно должно
развернуть перед нашим народом выраженную в художествен-
ных образах гигантскую картину его труда, все величие его
борьбы за мир, захватывающую панораму боя человека с си-
лами природы, боя за коммунизм, за материальные блага, за
духовный рост наших людей.
Как ярко может показать все это наше кино! Для этого
есть у него все средства, надо только умело и щедро пользо-
ваться ими.
1954
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КИНОСЦЕНАРИЯ
1. сто минут — не больше!
Что же за «тайна» сокрыта в этом гадком утенке, вскорм-
ленном литературой, но не похожем на нее, существующем
рядом с театром и вместе с тем поглядывающем на театр
несколько свысока? Слово «сценарий» в словаре иностранных
слов истолковывается как «кинопьеса, подробно излагающая
содержание кинокартины с указанием моментов ее оформле-
ния». Вот видите — «кинопьеса». Но пьеса состоит из диалогов
героев и кратких ремарок в том случае, когда без них мысль
автора непонятна. «Моментов оформления» в пьесе почти нет.
А зачем они в сценарии? И что это за такие «моменты оформ-
ления»? Может быть, это кинематографические термины, вроде
«затемнения» или «вытеснения», которыми так любят щего-
лять начинающие сценаристы?
Мне приходилось читать немало сценариев, в которых все
знание автором киноискусства заключалось в этих «затемне-
ниях» и «вытеснениях», старательно поставленных после каж-
дой сценки. А сама сцена — какой-то адский «коктейль» из
пьесы и литературного либретто, излагающего содержание
действия в перерывах между диалогами. Выразительные воз-
можности продолжают оставаться «белым пятном».
Взять хотя бы такую простую и ясную для театра и лите-
ратуры проблему, как объем. Конечно, понимая его не как
момент формальный, а как самое существо жанра. Кто же ста-
нет, например, размышлять над тем, новелла ли «Война
и мир» или роман. Или почему чеховская «Степь» — повесть.
Ясно, что глубокое философское содержание симфонии не мо-
жет вместиться в объем прелюда, а поэма не может состоять
из четырех-пяти строф. А между том объем сценария был
и остается предметом спора, хотя практика советского и миро-
вого кино давно решила этот спор. В состоянии ли сценарий
стать кинороманом или это тщательно разработанная новелла?
Как ни странно это покажется на первый взгляд, но для
Решения спора о емкости сценария, то есть о том, что же в
состоянии вобрать в себя сценарий современного фильма, ка-
21
кой масштаб событий он может развернуть в действии — это
вопрос не праздный. С ним, как мы увидим ниже, связаны
многие достоинства и многие болезни нашего сценарного дела.
Неправильно использованный объем, косноязычно и много-
словно изложенный сценарий при всех расставленных по ме-
стам «моментах оформления» есть прежде всего удар по содер-
жанию фильма, обкрадывание его.
Часто приходится слышать о том, что длина наших филь-
мов продиктована соображениями только экономическими и
есть следствие административного каприза. Так ли это? Опыт
подсказывает, что час сорок — сорок пять минут, отпущенные
на демонстрацию фильма, есть момент не только экономиче-
ский, но и эстетический. Время в сто минут определяет худо-
жественные пропорции фильма. Поэтому стоит кратко остано-
виться на причинах, породивших определенный объем звуко-
вого фильма, связанных с некоторыми особенностями челове-
ческого восприятия и его законов.
Кино по природе своей искусство наиболее активного воз-
действия. Из всех зрителей, слушателей или читателей кино-
зритель наиболее активный участник действия. Поэтому и
утомляемость его большая. Самый «пассивный» из людей, вос-
принимающих искусство, это читатель. Сидя в автобусе или в
читальном зале, он раскрывает книжку. Поначалу он спокойно
прочитывает первые страницы, пропуская целые абзацы, кажу-
щиеся ему скучными. Описание природы, скажем, он читать
не любит, и тогда он смело переходит прямо к сюжету. Но вот
повествование увлекло его. Он жадно, не отрываясь, прогла-
тывает страницу за страницей, но, почувствовав усталость,
закладывает книжку на нужной странице и убирает ее до сле-
дующего раза. Он сам регулирует свое восприятие, сам рас-
пределяет объекты внимания, сам устанавливает «порции»
духовной пищи.
Спектакль в известной мере навязывает зрителю определен-
ный ритм восприятия. Проходит час, наступает антракт, и зри-
тель, отдыхая и отвлекаясь, готовит себя к новой порции зре-
лища. Но даже тогда, когда он сидит в театральном кресле,
впившись глазами в зеркало сцены, выбор его свободен. Он
может следить за тем из героев, который его в этот момент
наиболее интересует. Во время патетического монолога он сам,
по своей воле, может выбирать, на кого ему смотреть, кого из-
брать объектом своего внимания — произносящего монолог ге-
роя или его молчащую партнершу, которая сидит на другом
22
конце сцены. Наконец, никто не может запретить ему интере-
соваться двумя стражами в глубине сцены на лестнице, раз-
глядывать, как хорошо ведет себя первый страж и как безраз-
личен к происходящему второй, зевнувший в кулак.
В совершенно иное положение попадает кинозритель. Сто
минут без всяких антрактов держит его и не отпускает ни на
секунду чужая воля. У него начисто отнята возможность вы-
бора. Выбор сделал за него режиссер. Он, а не зритель выде-
ляет крупный план действия, насильственно заставляя всма-
триваться в то, что кажется ему, режиссеру, наиболее важным.
Он ведет покорившегося зрителя вслед за героями, неотрывно
следя за ними глазом операторской камеры, которая стано-
вится глазом зрителя. Но мало того — режиссер смело бросает
в бой весь зрительный зал, заставляя всех зрителей, хотят ли
они того или нет, прыгать с парашютной вышки вместе со
сброшенной оттуда на парашюте камерой. Он усаживает зри-
телей на переднюю площадку паровоза, заставляя их нестись
вперед со скоростью ветра, он без всякого спроса кидает их под
ноги мчащихся лошадей... Одним словом, он, кинорежиссер, не
дает зрителю опомниться, вздохнуть. Сто минут, отпущенные
ему, он насыщает действием до отказа. И, надо сказать, делает
это по-хозяйски: ни секунды не теряется впустую.
Восприятие искусства требует известного напряжения
умственных и духовных сил человека. Но существует предел,
далее которого художник идти не должен. Потому что напря-
жение переходит в утомление, а утомление противоречит насла-
ждению искусством. Эта предельная черта и проходит где-то в
зоне ста минут. Вот откуда железная мера длины фильма, его
эстетическая пропорция.
В практике кино, естественно, бывают и отступления от
этой меры. Мы знаем фильмы, идущие 120 минут и более.
Вот таблица сравнительной длительности нескольких из-
вестных наших фильмов:
«Чапаев» — 88 минут.
«Юность Максима» — 91 минута.
«Поколение победителей» — 101 минута.
«Минин и Пожарский» — 121 минута.
Из этой таблицы видно, что содержательность, глубина
фильма не всегда прямо пропорциональны его длительности.
Длинные фильмы — часто результат нерешенного противо-
речия между желанием автора сказать многое о многом и вре-
менем, которым он располагает.
23
Это противоречие между идейно-смысловой нагрузкой сце-
нария и ограниченным его размером «снимается» тем, что
выразительные возможности киноискусства позволяют говорить
о большом и важном кратко. Поэтическая строка скупее, ко-
роче прозаической, но разве она от этого беднеет? Язык кино-
искусства краток, как язык поэзии. Кинематографическая
«фраза» не терпит лишней секунды точно так же, как строка
поэтическая не терпит лишнего слога. Нельзя понять особен-
ностей образной системы сценария, не поняв и не изучив ху-
дожественных средств и возможностей самого фильма.
Только у неопытных сценаристов возникает в сценарии
бедственная теснота. В сценарии может вместиться многое и
может ничего не вместиться. В истории русского кино суще-
ствует пример самого короткого сценария. Этот сценарий был
записан, по рассказам одного известного в дореволюционном
кино режиссера, на его манжете. То был сценарий... «Анны
Карениной»! Лаконизм косноязычия! С тех пор из наивной
пантомимы кино превратилось в искусство, в котором богатство
и глубина прозы сочетаются с чеканными ритмами поэзии.
В чем же заключались «моменты оформления», которые
записал на манжете режиссер кинематографа перед началом
съемок «Анны Карениной»? Это был, несомненно, краткий
перечень кусков в их внешнем пантомимическом выражении.
Запись эта напоминает по своей примитивности способ, каким
дети рисуют человеческое лицо: «точка, точка, запятая, ми-
нус — рожица кривая». Такой «метод экранизации» великого
толстовского романа вполне соответствовал тогдашнему уровню
развития немого кино, не перешагнувшего еще за грань ат-
тракциона — движущейся фотографии.
В те далекие годы возникло и само слово «сценарий» от
театрального «сценариуса» — человека за сценой, указываю-
щего актерам, когда выходить и с какой стороны кулис. Сце-
нариус также следил за тем, чтобы вовремя вступали в дей-
ствие всевозможные эффекты — выстрелы, вспышки молнии,
гром и т. д. Это и были те «моменты оформления», которые
заносились в тетрадку сценариуса рядом с репликами на выход.
За полвека, отделяющие нас от предысторической эпохи
кино, оно превратилось в искусство, способное выражать глу-
бочайшие идеи. Оно обогатилось и многими средствами, рас-
ширившими его выразительные возможности. Появился круп-
ный план, а за ним монтаж. Возникла школа актерской игры
перед аппаратом, родился звук — это чудо из чудес, затем
24
волшебство цвета. Неподвижная камера сдвинулась с места, из
бесстрастной, фотографирующей действие с одной точки, она
превратилась в подвижную, проникающую повсюду, подчиняю-
щуюся мысли автора. Зазвучала во «внутреннем монологе»
мысль действующих лиц. Достоянием киноискусства стал весь
неохватный мир зрительных образов, ошеломляющее много-
образие звуков в их сложных и бесконечных сочетаниях. Все
стало под силу «доброму молодцу» — младшему в семье
искусств, но уже удивившему человечество своим недавно про-
резавшимся голосом. Великие идеи борьбы за лучший мир
вознесли дотоле презренный «иллюзион» к высотам, которые
не снились ни одному зрелищу в мире. Не пантомиму, запи-
санную на манжете, а тончайшие нюансы характера, внутрен-
ний мир героев и вместе с тем раскрытие целой исторической
эпохи, художественное обобщение самых существенных и ос-
новных черт в жизни целого поколения должен вместить
современный вариант той же «Анны Карениной». Огромный
роман в семьсот с лишним страниц — все это «уложить» в ста
минут! Не более!
А с другой стороны, в эти же сто минут вполне уклады-
ваются, к примеру, девятнадцать страниц «Шведской спички»
Чехова. Какое удивительное разнообразие приемов должно
этому сопутствовать, какой богатый арсенал художественных
средств! Или взять охват фильмом времени. Ряд биографических
сценариев, таких, как «Павлов» Папавы, «Попов» Разумов-
ского, «Ломоносов» Рахманова, «Человек с планеты Земля»
Соловьева, знакомят нас с целыми десятилетиями, «Сельская
учительница» Смирновой начинается, как вы помните, с вы-
пускного гимназического бала, а заканчивается годами глубо-
кой старости героини. А в «Депутате Балтики», например,
действие укладывается в несколько дней. «Рим в одиннадцать
часов» — история одного дня. Действие в этом фильме дви-
жется вместе с солнцем. Во французском фильме «Клео от
пяти до семи» все происходит в течение двух часов жизни
героини. И действие становится равным реальному времени
жизни, синхронным с жизненным ритмом.
От многих веков до нескольких часов — таков диапазон
временного охвата действия в сценарии.
Так же обстоит дело и с «плотностью населения» сценария.
Есть произведения, где «плотность населения» ничтожна, где,
как в пустынях, на безграничных пространствах движутся оди-
нокие фигуры действующих лиц. А бывают сценарии, в кото-
25
рых жизнь напоминает «часы пик» на центральном московском
перекрестке.
До войны мне пришлось видеть фильм «Одинокие». В этом
фильме, бичующем современный капиталистический город,
всего два героя, причем один из них теряется в самом начале
и появляется вновь только в последних метрах.
В «Большой семье» Кочетова и Кара двенадцать основных
героев. В «Молодой гвардии» Герасимова их, пожалуй, значи-
тельно больше. А ведь герой первого плана или персонаж, по-
следний в списке действующих лиц, настоятельно требует вни-
мания к своим поступкам, места и времени для своей экранной
жизни.
Для воссоздания полной картины пестроты и разнообразия
сценариев нельзя не сказать и о таком важном моменте, как
развитие действия в пространстве. Кинематограф полностью
свободен от необходимости соблюдения единства времени
и пространства. Вот, например, в «Семеро смелых» Германа и
Герасимова количество мест действия невелико: маленькая бре-
венчатая хижина зимовщиков, дом ненцев, снежное поле, а в
«Скандербеге» Папавы и Юткевича мест действия до полусотни.
Какой же «таинственный» принцип заложен в сценарии,
какая же «магическая» сила помогает в одни и те же предель-
ные сто минут раскрыть перед зрителем и неисчерпаемость
толстовского романа, и маленькую чеховскую шутку, пройти
с героями через столетие и проследить за ними лишь от вос-
хода до заката солнца, раскрыть два десятка характеров или
рассказать об одном человеке, промчаться в действии через
многие десятки мест или запереться со своими героями в ма-
ленькую комнатку и не выходить оттуда все сто минут, не
боясь смертельно надоесть своим соседством.
Эта «таинственная» сила, эта «магическая» возможность
заложена в самой природе кинематографа. Нельзя овладеть
сценарной формой для полного и всестороннего раскрытия
богатейшего содержания жизни, не изучив всей многооктав-
ной клавиатуры киноискусства.
2. молчание — золото
Раньше всего надо понять природу кинематографического
действия. Основой развития действия в театре является диа-
лог действующих лиц. Свободная и многокрасочная палитра
26
театра родилась из необходимости. Сценическая коробка, уда-
ленная на некоторое расстояние от зрителя, определяет в из-
вестной мере и средства выражения актера. В течение дли-
тельного времени, пока идет спектакль, зритель наблюдает за
действием с одной точки и с одного расстояния. Естественное
течение жизни искусственно группируется вокруг трех-четы-
рех мест действия. Каждое из выбранных драматургом мест
определяет и сценическое время, так как установленная в ан-
тракте декорация должна вместить в себя действие до следую-
щего антракта. «Уцепившись» за время, драматург вынужден
держаться реального времени, и если акт длится полтора часа,
то и реальная длительность отрезка жизни, показанного в нем,
равна полутора часам.
Но это лишь формальные моменты. Все многообразие идей,
мыслей, поступков, все напряжение борьбы, вся сложная и
многогранная жизнь человеческого духа раскрываются перед
театральным зрителем в слове. Только в слове! Правда, Стани-
славский учит, что действовать можно не только говоря. Однако
молчание, то есть умение слушать партнера, опять-таки пред-
определяется присутствием говорящего — действующего парт-
нера. Когда мы читаем пьесу, то без всяких дополнительных
объяснений, из одного разговора действующих лиц понимаем
и сложный сюжет, и развертывающиеся перед нами характеры,
и обстоятельства, лежащие вне происходящего, но так или
иначе необходимые для понимания поступков действующих
лиц. Короче говоря, природа театрального искусства, имею-
щего свои непреложные законы, продиктованные необходимо-
стью, заставляет драматурга и режиссера брать жизненные'
столкновения в такие минуты, когда они лучше и глубже всего
могут быть раскрыты в диалогах.
Ну а проза? Только ли в прямой речи героев раскрывает
она их внутренний мир, их характер, их борьбу? Конечно, нет.
Зачем же ей ограничивать себя, когда она абсолютно свободна
от условностей времени, пространства, когда она в состоянии
поведать нам о том, что думает герой, когда она может пере-
носить его с места на место со скоростью мысли, когда она
может заставить нас видеть мир глазами героя, окрашивать
в его настроение все окружающее, оставлять героя, действую-
щего молча, наедине с самим собой.
Но ведь и кинематограф в этом смысле может следовать
По пятам за прозой. И дело вовсе не в том, что слово-действие
ему мешает. Звук и слово совершили гигантский качественный
27
скачок в развитии киноискусства. Слово необычайно расши-
рило диапазон выразительных средств, позволило точнее и
многограннее выражать мысли, внутренний мир героев. Слово,
звучащее с экрана, необычайно расширило идейно-художест-
венные возможности киноискусства. Не следует забывать,
однако, что все это не превратило киноискусство в зафиксиро-
ванный на пленке театр.
Роковая ошибка многих «теоретиков» кино заключается
в том, что они трактуют отличие кино от театра, а следова-
тельно, сценария от пьесы, как чисто внешнее, формальное.
Медвежью услугу оказали в этом смысле фильмы-спектакли.
Можно ли сказать, что кинематографический вариант какого-
либо театрального спектакля, заснятого на пленку, был бы
полностью идентичен своему театральному прототипу? Ко-
нечно, нет. Режиссер-экранизатор делал все для того, чтобы
внедрить в снимаемый спектакль наибольшее число внешних
признаков фильма. Для этого он произвольно, часто без вну-
тренней потребности, вводил крупные планы. Актеров, двигаю-
щихся по сцене, преследовала по пятам съемочная камера. По-
лучалось впечатление, что мы смотрим спектакль через теат-
ральный бинокль. Часто делались попытки переносить часть
действия из писаных декораций на фон реальной природы.
В спектакле делались купюры (целиком он не вмещался в
железные сто минут!), вводились для маскировки этих про-
тивоестественных швов перебивочные пейзажи, смело приме-
нялись всяческие иные «моменты оформления» — затемнения,
наплывы, шторки, звучала фоновая музыка и записанные на
пленку реальные, а не имитированные шумы.
Но все это напоминало раскрашенную скульптуру. Этими
внешними приемами нельзя было изменить природу самого
театра. Театр оставался самим собой, так как действие строи-
лось театрально. Рифмованная проза не превращалась в этом
случае в стихи. Вводился, к примеру, крупный план. Но забы-
валось при этом, что крупный план не механическое прибли-
жение лица артиста к зрителю. Это приближение родилось в
кино из заманчивой возможности показать в чертах лица
актера, в едва уловимой мимике его как раз то, чего нельзя
было выразить словом.
«Давно я ждала тебя», — как будто (разрядка моя.—
И. X.) сказала эта испуганная и счастливая девочка своею
проявившеюся из-за готовых слез улыбкой, поднимая свою
руку на плечо князя Андрея».
28
Недаром в этом куске первого бала Наташи в момент, когда
князь Андрей пригласил ее па танец, Толстой не дает Наташе
прямых слов. Лицо ее говорит гораздо больше того, что можно
выразить словом. Вот в этом «как будто» и есть подлинная
природа крупного плана. И здесь бессилен театр, так как он
не может приблизить к зрителю лицо Наташи настолько,
чтобы можно было разглядеть, прочитать гамму сложных
чувств на ее молчаливом лице. А кинематограф это может.
Для того чтобы крупный план был правомерен и необхо-
дим, он должен быть заранее учтен драматургом и написан
им, как пишутся монолог или финальная реплика под за-
навес.
А разве перенесение части действия на фон природы могло
изменить существо театрального спектакля? От этого перене-
сения нестерпимо выпирала театральная манера игры, орга-
нически сливающаяся с условными декорациями и не смеши-
вающаяся, как масло с водой, с натуральным фоном «живого»
неба, колеблющейся от ветра листвы. Вспомните, как Стани-
славский рассказывает о жестоком провале попытки репети-
ровать спектакль на реальном фоне природы.
Как бы ни старался режиссер-экранизатор придать «види-
мость» фильма своему фильму-спектаклю, все равно театр
будет доминировать во всем. Очаровывающая нас в театре
театральность, принимаемая нами сознательно условность всех
элементов спектакля, вызванная самой природой театра, будет
в фильме инородным телом. Нам будет казаться, что и дей-
ствие развивается медленно и что движения актеров неесте-
ственны и рассчитаны на определенную точку восприятия (со
стороны четвертой стены), и что искусственны мотивировки
появления действующих лиц в одном месте, а главное, что
слово доминирует над всем остальным.
К сожалению, многие наши сценарии больны детской бо-
лезнью болтливости. Как часто они представляют собой не
литературную основу фильма, а пьесу для фильма-спектакля,
то есть противоестественный гибрид театра и кино, причем
кино присутствует в них главным образом в виде тех же «мо-
ментов оформления». Подобные сценарии страдают одним
общим недостатком. Они демонстрируют полное неумение ав-
тора строить кинематографическое действие, развивать его,
пользуясь всей «клавиатурой» киноискусства. Впечатление
создается, что автор играет чижика на трех-четырех нотах,
пытаясь этими «искусными» средствами выразить большую
29
и важную идею, раскрыть перед нами сложные характеры с их
богатым внутренним миром.
Что же из этого может выйти, кроме «попытки с негод-
ными средствами?»
Помимо всего прочего, диалогическое построение действия
создает в сценарии ту неизбежную тесноту, из-за которой
фильм становится отрывочным, поверхностным, из него исче-
зают подробности, а его внутренний ритм подчиняется только
одной задаче — успеть произнести все нужные слова, которые
одни только в данном случае двигают действие и живописуют
характеры.
Едва ли многие из начинающих в области кинодраматургии
отдают отчет в том, что слово в фильме — самый протяженный
во времени его элемент. Это легко доказать на опыте. Возьмем,
для примера, какое-либо обыкновенное слово и измерим его
протяженность на пленке. Вот входит человек и говорит: «Доб-
рый вечер, товарищи!» Этот «добрый вечер» более двух с по-
ловиной метров фонограммы, и, значит, ему должны соответ-
ствовать два с половиной метра изображения. Но ведь испуг
и счастье Наташи Ростовой в момент, когда она отвечала на
приглашение Андрея Болконского, своею проявившеюся из-за
готовых слез улыбкой как будто сказала ему: «Давно я ждала
тебя» — ведь это тоже на прозаическом языке монтажа «ве-
сит» два с половиной метра. Но сколько сложных чувств, какая
сверкающая гамма человеческих эмоций, какое яркое внутрен-
нее действие выражено в этом коротком куске. Сколько же
понадобилось бы места и времени, сколько неумолимых секунд
и метров ушло бы на выражение этого куска в диалоге! Да и
вообще, можно ли было высказать все это словами?
Знаменитый «каппелевский бой» в «Чапаеве», «психическая
атака», со сложным действием, с непрекращающейся дробью
барабана, от которой холодеют руки, все это сложное «кре-
щендо» и его великолепное завершение по метражу равно чет-
верти страницы разговорного текста! Характер воздействия
зрительного образа в кино таков, что он кажется более дли-
тельным, чем слово.
Слово в кино представляет колоссальную ценность. Слово
сделало кинематограф умным, глубокомыслящим, но оно же
заразило многие наши сценарии и фильмы болтливостью. Диа-
лог, который, естественно, занимает в фильме одно из основ-
ных мест, диалог, при помощи которого герои выражают свои
30
идеи и мысли, является в то же время наименее скупым по
времени элементом сценария.
Значит ли это, что признаком кинематографического героя
должна быть обязательная скупость на слова, этакая суровая
молчаливость, привычка говорить одними междометиями? Та-
кое понимание кинематографического диалога встречается
иногда в сценариях, причем недоработанный диалог создает
прорывы в действии. Он так же мало выразителен, как и не-
нужный поток красноречия, как словоизвержение. Дело здесь,
как было сказано выше, в способе построения кинематографи-
ческого действия.
3. слово и действие
Когда-то, в эпоху немого кино, синонимом кинематографи-
ческого действия был темп, быстрота переброски событий с ме-
ста на место. «С кинематографической быстротой» герой
перескакивал от куска к куску. «Немой» от рождения герой
выражал свои мысли и действия при помощи монтажного
нагромождения всяких ассоциативных деталей. Так как он
не мог сказать «я хочу есть», то он молча смотрел на тарелку
дымящегося супа, его лицо, голодные глаза, жадные губы по-
казывались отдельно и каждый раз в монтажном сочетании
с тарелкой супа, также показанной отдельно. Пять или десять
кадров монтировались в целую «фразу», которая должна была
вызвать у зрителя соответствующую эмоцию. Если для этой
эмоции не хватало монтажных кадров самой сцепы, смело при-
бавлялись другие, внешние. Для передачи чувства голода
можно было показать голодную собаку, стоящую у двери, и
таким образом вызвать нужную ассоциацию. Для контрастного
оттенения показать человека, уплетающего с аппетитом бутер-
брод за соседним столом. В немом кино все, что должно
было выражаться словом, совершалось молча, даже тогда,
когда слово было необходимым, естественным компонентом
действия.
В звуковом кино зачастую слово стало заменять все другие
компоненты, даже тогда, когда естественным и необходимым
казалось молчание.
Читая любой отрывок пьесы, можно по одному только диа-
логу действующих лиц понять все, что происходит в этом от-
рывке. А вот пример диалога, взятого отдельно от других эле-
31
ментов действия, в сцене «Обыск» в сценарии «Депутат Бал-
тики». Попробуем из диалога понять, что в ней происходит.
Полежаев (жене). Муся, я ведь просил не мешать мне.
Муся. Полежаев, к тебе с обыском.
Матрос (входя с понятыми). По постановлению Революционного
комитета... Буржуазия скрывает излишки. Мы должны выявить. Город
находится в кризисе.
Полежаев. Вы мне лекций не читайте! Лекции я сам умею
читать! Садитесь! Куда вы садитесь? Раз вы уже сняли рукопись, поло-
жите ее на стол. А, черт, что вы делаете? (Поднимает оброненные матро-
сом листки.) Боже мой, он ничего не понимает. Это же моя книга. Ну,
раз вы уже положили книгу, то садитесь теперь. Что же вы сидите?
Обыскивайте. Время-то идет!
Матрос (заметив мантию в шкафу). Архирейская, что ли?
Полежаев. Он ничего не понимает. Архирейская... Такую мантию
носил сам великий Ньютон!
Матрос. Кто?
Полежаев. Ньютон, физик.
Матрос. А-а-а. Ньютон... (Понятым.) Пошли! (Уходят.)
Напомню теперь смысловую нагрузку сцены. В этих пятна-
дцати коротких репликах должно быть раскрыто очень много
важных обстоятельств. Во-первых, в этом кусочке дается экс-
позиция образа профессора Полежаева. Это ученый с мировым
именем. Он напряженно трудится. Труд его вдохновенен. Эпо-
ха — 1917 год. За стенами — революционная буря. Профессор —
рыцарь науки, «огненный старик». Приходит с обыском матрос.
Темный, малокультурный. Ему приказано обыскивать буржуев
и спекулянтов, забирать у них продовольственные излишки.
Внешне профессор — «буржуй». Это упрощает задачу матроса.
Но профессор, оказывается, не трусит, а нападает. И он вовсе
не буржуй. Начинается взаимопознание будущих друзей.»
В этом взаимопознании, в разведке «боем», матрос оказывается
побежденным. У него рождается уважение к науке, с предста-
вителем которой он столкнулся впервые. Матрос проникает в
неведомые для него тайники научного творчества. Экспони-
руется книга — цель творчества профессора. Место действия —
обыкновенный, довольно тесный кабинет. Никаких иных эле-
ментов, никаких иных средств в этой сцене нет.
Как видите, нагрузка немалая. Из диалога между профес-
сором и матросом выясняются только внешние обстоятельства:
обыск, отпор, ошибка матроса, принявшего кембриджскую
мантию профессора за архиерейскую. И все.
Кинематографический принцип построения действия в этой
сцене состоит в использовании для раскрытия характеров, их
32
борьбы не только диалога, но и ряда других компонентов,
маловыразительных для театра и нечитаемых со сцены. В то же
время кинематограф делает на них ставку. Объясним подроб-
нее сценарное изложение сцены. Мы входим вначале в каби-
нет, погружаемся в обстановку.
«...Большое окно, стен нет. Есть полки с книгами от пола
до потолка. Книгами завален стол, книги лежат на полу.
Книга, раскрытая в кресле, перед столом...»
Казалось бы, обычное описание декорации, совсем как в
пьесе. Но в театре воздействие обстановки пассивно. Зритель
не обязан по своей воле делать на ней акцент. Он неминуемо
сразу же обратит внимание на сидящего за столом профес-
сора, а книги воспримет как обычные предметы обстановки.
В кино же сценарист и режиссер, скрывая до поры до вре-
мени «за кадром» главного героя, акцентируют обстановку,
и она становится не «обстановочным реквизитом», а стихией,
в которой живет Полежаев. И даже керосиновая лампа на
столе, на описании которой в сценарии сделан определенный
акцент, начинает «говорить» об эпохе, о том, что в петроград-
ской квартире не горит электричество, что «Россия во мгле».
Таким образом, книги, лампа, а затем портреты Дарвина
и Менделеева, висящие на стене рядом с портретом хозяина
кабинета, еще до его появления в кадре начинают действовать.
Затем в действие вступает рука Полежаева. «...Его рука
спешно дописывает страницу».
О том, как пишет эта рука, какая она, можно в сценарии
и в фильме рассказать подробно. Не надо для этого никаких
реплик и разговоров. У Черкасова, помимо других достоинств,
сделавших его отличным Полежаевым, великолепные руки,
необычайно тонкие руки интеллигента, нервные и выразитель-
ные. Рука быстро и нервно пишет, и по тому, как она пишет,
как спешит, как «думает», мы можем составить точное пред-
ставление о работе профессора, о том, что писать книгу для
него привычное и вместе с тем чрезвычайно важное, самое
главное в эти дни занятие.
Так, шаг за шагом, кадр за кадром в действие входят, по-
мимо слов, другие его элементы: изучающие непонятного
«буржуя» глаза матроса, выделенные деталью листки рукописи,
упавшие на ковер; пустое в начале сцены кресло, пламя свечи,
колеблющееся от холодного воздуха в нетопленной квартире,
молчаливая переглядка понятых в дверях кабинета, матрос,
заблудившийся среди бесконечных книжных шкафов.
2 И. Е. Хейфиц
33
Все эти детали действия, молчаливые взгляды, дрожащая
рука, тикание часов помогают нам понять смысл ссоры и при-
мирения двух разных людей, представителей разных классов,
проследить за их взаимопознанием, в котором мы уже видим
зерно будущей дружбы на благо великой социалистической
революции.
Своеобразие кинематографического воздействия здесь не
только в выборе всех этих деталей — они могут быть и в
театре, но главным образом в том, что метод кинематографиче-
ского изложения позволяет в нужный момент выделить эти
детали, сконцентрировать на них все внимание, заставить их
«говорить» наравне с героями.
Приведем еще один пример того, как наравне с диалогом
действуют в киноискусстве другие компоненты.
В сценарии «Член правительства» есть очень насыщенная
содержанием сцена встречи Александры Соколовой с вернув-
шимся мужем. Приревновав жену, недовольный ее активной
общественной деятельностью в колхозе, дав волю оскорблен-
ному самолюбию, Ефим Соколов уходит в город на заработки.
Он убежден, что с его уходом дела в колхозе завалятся, что
Александра без него не справится со сложной работой предсе-
дателя, и тогда его, незаменимого, позовут и станут просить
взяться за руководство хозяйством. Через несколько лет Ефим
возвращается. Отхожий промысел не принес ему ни славы, ни
денег. И вот Ефим Соколов входит в новую избу своей жены.
Во время его скитаний все здесь изменилось, жизнь в колхозе
стала богаче. Он вернулся, как «бродяга», чужой, незваный.
Неожиданные обстоятельства, этот новый раскрывшийся перед
ним мир настолько потрясают его, что он решает остаться в
колхозе, в подчинении у жены.
Диалогической основой этой сцены служат главным обра-
зом всего три фразы.
Александра. Небось проголодался с дороги-то.
Ефим. Сегодня воскресенье?
Александра. Нет, пятница.
Все остальное выражается здесь без слов.
Вот описание действия сцены. В новую избу, озираясь, как
чужой, тихо входит Ефим Соколов. За дверью на него накину-
лась собака: не узнала. Он торопливо закрывает за собой
дверь. Молча оглядывает новую обстановку, уже полугород-
скую: часы на стене, шкафчик с книгами. За пологом — дет-
34
скан городская кроватка. В ней спит сын. Ефим оставил его
маленьким. Теперь сын вырос, неузнаваем. Глупой и ненуж-
ной кажется Ефиму купленная им в подарок сыну дурацкая
дудка. Лицо мальчика. Он улыбается во сне. Осторожно присев
у кровати, долго изучает сына Ефим. В руках он вертит яр-
марочную’ дудку и не знает, куда ее деть. Все другое, все
новое. И сын, и сами стены избы, и городская кроватка, и кру-
жевные занавески, и новые ботиночки, стоящие у постели
мальчика. Хорошие, добротные ботиночки. Ефим помял, потро-
гал товар: кожа хороша. Да и верх неплох. Раньше, при нем,
таких в деревне не носили. Шаги. Входит Александра. Он!
Ноги подкашиваются, она падает на стул, выронив из рук
учебники и тетрадки. Он молчит, выглянув из-за полога, вино-
ватый, растерянный. Мнет в руках шапку, как проситель. Он
любит ее — эта любовь светится в его глазах. Александра бро-
сается к нему на шею, по-бабьи начинает плакать у него на
груди, а он все молчит, сдерживая себя. Потом, как бы спо-
хватившись, что муж пришел издалека, Александра говорит:
«Небось проголодался в дороге». А он все молчит. Он действи-
тельно голоден, как волк. Стыдясь, садится на кончик стула.
Она приносит тарелку жирных щей. И пироги. Эти пироги,
такие пахучие и мягкие, потрескивающие корочкой под нажи-
мом его грубых пальцев, изумляют его. Сегодня как будто не
праздник. Что же случилось? Ведь только по большим празд-
никам и иногда по воскресеньям бывали у Соколовых такие
пироги. И он, не выдержав, спрашивает у жены: «Сегодня во-
скресенье?» И тогда она, как бы не поняв причины его изум-
ления, говорит тихо и просто: «Нет, пятница».
Но в этом деловом и обыденном «нет, пятница» все внут-
реннее торжество Александры, ее победа над мужем, над его
самоуверенностью, над гордостью его. Ведь он не верил в
ее силы и способность построить новую жизнь, о которой она
«может, сто лет мечтала». А вот теперь пришел и среди недели,
в пятницу, ест праздничные пироги.
Ефим, сраженный ее ответом, молча и жадно ест. Долго
и сосредоточенно жует. А она сидит против него и сильная, и
в то же время по-женски слабая, гордая и вместе с тем изго-
лодавшаяся по его ласке. Сидит и смотрит на него, на родного,
но уже ставшего немного чужим, непривычным...
Сколько слов потратил бы сценарист, не чувствующий
гигантской силы выразительного молчания, на то, чтобы в не-
скончаемом диалоге выразить удивление мужа новым в семье,
2
35
рассказать о тяжести разлуки, поведать о любви Александры,
о богатой жизни в колхозе, о сыне и пр. А ведь все это заме-
нили пироги, да глаза Александры, да глупая дудка — жалкий
и дешевый гостинец, свидетельство того, что дела в городе
у Ефима шли неважно.
ГТоистине верна русская поговорка «слово серебро, а мол-
чание — золото».
Как недостает драгоценного этого золотого молчания в на-
ших сценариях! Сколько невыгодных мен совершает сцена-
рист, когда золото молчаливого взгляда, золото «говорящей»
лучше всяких слов детали меняет на фальшивый звон рито-
рики, неестественной и ненужной в данных предлагаемых
обстоятельствах!
Приведенные примеры говорят о том, что роль диалога в
фильме, а следовательно, в сценарии и в пьесе различны.
Однако было бы ошибкой считать, что достаточно отнять у дей-
ствующих лиц слова и заменить их паузами и многозначи-
тельными взглядами — и действие станет развиваться кине-
матографически выразительно. Часто бывает, что авторы
сценариев нагружают непосильную ношу на актера, который
в каком-либо угодном автору месте должен одним взглядом
«выразить» сложнейшую гамму чувств. Актер, поставленный
в тупик таким требованием, для решения которого у него нет
никаких подготовленных сценарием обстоятельств, начинает
требовать слов для объяснения своих поступков. И он прав.
Потому что недостаточно поставить в сценарии задачу. Надо
помочь ее решить. Не будь в фильме «Член правительства»
целой сюжетной линии, ряда обстоятельств, предшествующих
сцене встречи, не будь пирогов, спящего сына, прихода в дом
голодного «бродяги»-мужа, не было бы у актеров возможности
молча выразить сложную гамму чувств. Искусству пантомими-
ческого развертывания действия мы учимся у литературы.
Ведь и Наташа Ростова должна была пережить и первое ослеп-
ление великолепием бала, и постепенное забвение ее всеми;
и одиночество среди пышного общества, всецело увлеченного
приходом государя, чтобы в одном коротком взгляде выразить
свое — «давно я ждала тебя». Этот предельно выразительный
«крупный план» отлично подготовлен течением всей огромной
сцены бала. Если бы не было предшествовавшего накопления
чувств, разве могла бы Наташа выразить так много одним ко-
ротким взглядом? Конечно, нет. Это был бы просто взгляд, если
36
хотите, «портрет» героини, запечатленной в каком-то опреде-
ленном месте.
Таким образом, «молчание — золото» добывается из целой
глыбы руды. Этой рудой в сценарии является правильно по-
строенное действие внутри эпизода.
4. научиться видеть!
Театральный драматург знает, что у него есть только одно
основное средство выражения — диалог. У кинодраматурга та-
ких средств много. Как и в жизни, человек борется, действует,
побеждает не только словами, но и всем своим поведением.
Вот ночь напролет сидит врач у постели больного. Он бо-
рется за жизнь пациента всеми средствами, имеющимися в его
распоряжении. Это не только лекарство, но в первую очередь
сила воли и сила разума. В этом случае действие и борьба мо-
гут быть показаны и раскрыты без всяких слов. В театре такая
сцена, занимающая, предположим, целую картину, — немыс-
лима. Зритель не увидит борьбы, если о ней не говорить сло-
вами. В кино эта борьба станет предельно выразительной
благодаря точно переданному на крупных планах и деталях
поведению врача, больного, сестер. Если употребить здесь тер-
мин из пьесы, то можно сказать, что вся сцена представляет
сплошную ремарку, причем в ремарке этой описаны внутрен-
нее состояние героев и малейшие нюансы их душевных движе-
ний. А что же такое большая и подробная ремарка, переме-
жаемая изредка фразами собственной речи? Это и есть проза.
Вот почему сценарий как жанр, как самостоятельное литера-
турное произведение ближе всего к прозе.
В каждой фразе диалога можно найти ее подтекст. Вопрос
и ответ — вот уже материал для игры, для действия. Но может
ли быть превращена в действие ремарка? Здесь дело сложнее.
Если бы любое описание поведения героя можно было бы пере-
вести в зрительный зал, сценарий и проза слились бы. Вся
трудность заключается в том, чтобы прозаическая фраза-ре-
марка имела бы зрительный или, как принято говорить в кино,
пластический эквивалент.
Описание чувства Ефима Соколова при возвращении домой
предопределяет четкие и выразительные пластические дей-
ствия. Здесь каждая деталь, каждое душевное движение стано-
вится зримым. Для того чтобы оно стало таковым, нужно найти
37
и подготовить целый ряд обстоятельств, по примеру того, как
подыскиваются слова диалога в пьесе для выражения тех же
чувств. И точно так же, как за каждым словом-репликой встает
могучая сила подтекста, выражающая скрытое чувство героя;
его отношение к окружающему, цели его борьбы, — за каждым
жестом, за каждым элементом поведения героя может быть
найден, вскрыт внутренний смысл.
Тысячи раз человек входит в дверь. Но в каждом отдель-
ном случае он будет входить по-разному, в зависимости от
того, каковы обстоятельства этого входа, какова скрытая при-
чина его. Ефим Соколов вернулся к себе домой, как чужой.
Он вошел в чужую дверь, он закрыл ее, как вор, больше всего
избегающий встреч с людьми, могущими помешать его одино-
честву. Он прошел по половицам, изучая каждый метр новой
избы. Он присел у кроватки сына. Уходя, он вместо сеней по-
пал в кухню, потому что расположение дверей в новой избе
было ему незнакомо. Он пришел и ушел, как чужой человек,
как чужой в своем доме. Все это сложное поведение обозна-
чено одной ремаркой. Но все действия героя пластически ося-
заемы. То, что он, Ефим, чужой, высказано не описательной
фразой: «он пришел сюда чужим человеком». Это отчуждение
его выражено и отношением к спящему сыну, к его новым бо-
тинкам, и дудкой, купленной для маленького (таким он помнил
сына, когда уходил), и лаем собаки, не узнавшей хозяина,
и пирогами, которые он, как давно не бывший дома человек,
считал признаком воскресного дня.
Уметь видеть действие — не это ли одно из главных качеств
сценариста?
Жизнь на каждом шагу дает нам примеры подобной «кине-
матографической» выразительности поведения людей. Подобно
тому как драматург вслушивается в разговорную речь, собирая
словесный материал для будущих персонажей пьес, сценарист
должен всматриваться в едва уловимые нюансы поведения
людей глазами режиссера. В этом смысле границы, разделяю-
щие режиссера и сценариста, теряются.
Сценарий в гораздо меньшей степени, чем пьеса, позво-
ляет отделить замысел от его интерпретации. Читая пьесу,
режиссер театра может видеть будущий спектакль в десятках
вариантов. За строчками диалога пьесы остается нераскрытым
весь комплекс пластического поведения героев.
В сценарии не может существовать в скрытом виде ни
один жест, ни одно движение. Они ведь наравне с диалогом
38
являются авторской записью будущего фильма. В одном-един-
ственном варианте! Может быть, поэтому так часто в истории
мировой кинематографии имя режиссера стоит в числе сцена-
ристов фильма.
В самом деле, где кончается дело сценариста и начинается
дело режиссера в таком, например, «сценарном куске», наблю-
денном в жизни.
Недавно мне пришлось быть свидетелем следующей сцены.
Молодой человек в форме курсанта морского училища уезжал
из Москвы в Ленинград. На вокзал его пришли провожать ро-
дители: капитан первого ранга и его жена. Сын уезжал, оче-
видно, впервые, и родители были взволнованы предстоящей
разлукой. Минут за пять до отхода поезда молодой моряк во-
шел в вагон и остановился у окна (окно было закрыто, дело
происходило зимой), а родители остались на перроне. В тече-
ние пяти минут на моих глазах происходила трогательная
п полная значения сцена прощания. Все трое ее участников
молчали. Сын старался держаться непринужденно и деланно
улыбался. Он едва сдерживал слезы. Мать вытирала глаза
платком и показывала сыну на дверь купе. Там на столике
стояла бутылка кефиру. Она, видимо, не могла примириться
с тем, что сын ее уже большой и не нуждается в материнской
опеке. Отец тоже держался бодро, отвечал на приветствия
проходящих по перрону военных и скрывал слезы, под-
ставляя лицо под капли дождя, шедшего вперемешку с мокрым
снегом.
Незадолго до отхода поезда сын стал смотреться в стекло
окна, как в зеркало, желая этим показать, что ему «море по
колено». И тогда капитан и его жена переглянулись. Глаза их
говорили: «какой он уже большой, какой он красивый...»
Военная выправка на секунду исчезла у капитана, он стал про-
сто «папой», но когда поезд медленно тронулся, отец встал
«смирно», выпятил грудь и приложил руку к козырьку. Ему
хотелось, видимо, чтобы сын почувствовал, что это прощание
мужчин, что расстаются два моряка и что надо быть достой-
ным этого звания.
Я подумал, что эта сцена могла составить содержание целой
части фильма и что сила ее еще возросла бы при воспроизве-
дении ее в искусстве, потому что каждый из миллиона смот-
ревших на эту сцену зрителей захотел бы присоединить свои
Догадки к тому важному, что говорили друг другу молчаливые
згляды трех людей. Зритель стал бы соучастником действия,
39
а это — высшее наслаждение для человека, воспринимающего
искусство.
Я подумал также, что в подобной сцене невозможно прове-
сти грань между сценарной записью и режиссерским «раскры-
тием». Записать такую сцену можно, только увидев ее режис-
серски.
Таким образом, в построении кинематографического дей-
ствия важно найти не только словесное, диалогическое выра-
жение столкновений, борьбы действующих лиц, но и все много-
плановое поведение человека.
Найти точный образ и выражающее его действие значит
отобрать из множества возможного то, что предельно плас-
тично, «весомо, зримо». Далеко не всякое описание поведения
героя, борьбы его обладает этим свойством. Умение так опи-
сать событие и характер, чтобы вызвать яркую зрительную
ассоциацию, обязательно для человека, пишущего для кине-
матографа. Часто такими качествами обладает и проза. Для
примера такого «зримого», действенного описания можно при-
вести хотя бы следующий, совершенно сценарный кусок из
«Тараса Бульбы».
Вот его содержание. Полк Тараса расположился у стен оса-
жденной крепости Дубно. Ночью из крепости в лагерь запо-
рожцев пробралась татарка и сообщила Андрию, что в крепо-
сти голод и что панночка, дочь воеводы, испытывает страдания.
И вот Андрий, движимый любовью к панночке, решает измен-
нически покинуть лагерь, пробраться к возлюбленной и спасти
ее от голодной смерти. Это описано у Гоголя так (с неболь-
шими сокращениями):
«Он шел, а биение сердца становилось сильнее, сильнее при
одной мысли, что увидит ее опять, и дрожали молодые колени.
Пришедши к возам, он совершенно позабыл, зачем пришел:
поднес руку ко лбу и долго тер его, стараясь припомнить, что
ему нужно делать... ему вдруг пришло на мысль, что она уми-
рает от голода. Он бросился к возу и схватил несколько боль-
ших черных хлебов себе под руку, но подумал тут же, не будет
ли эта пища... груба и неприлична ее нежному сложению...
В полной уверенности, что он найдет вдоволь саламаты в ка-
занах, он вытащил отцовский походный казанок и с ним отпра-
вился к кашевару их куреня, спавшему у двух десятиведерных
казанов... Заглянувши в них, он изумился, видя, что оба пу-
сты... Он заглянул в казаны других куреней — нигде ничего...
Был, однако же, где-то, кажется на возу отцовского полка,
40
мешок с белым хлебом... Он прямо подошел к отцовскому возу,
но на возу уже его не было: Остап взял его себе под головы...
длдрий схватил мешок одной рукой и дернул его вдруг так,
что голова Остапа упала на землю, а он сам вскочил впросон-
ках и, сидя с закрытыми глазами, закричал что было мочи:
«Держите, держите чертова ляха...» — «Замолчи, я тебя
убью!» — закричал в испуге Андрий. Но Остап... присмирел
и пустил такой храп, что от дыхания шевелилась трава. Анд-
рий робко оглянулся на все стороны, чтобы узнать, не пробу-
дил ли кого-нибудь из казаков сонный бред Остапа. Одна чуба-
тая голова, точно, приподнялась в ближнем курене и, поведя
очами, скоро опустилась опять на землю... Он взвалил себе на
спину мешки, стащил, проходя мимо одного воза, еще один
мешок с просом, взял даже в руки те хлебы, которые хотел
было отдать нести татарке, и, несколько понагнувшись под тя-
жестью, шел отважно между рядами спавших запорожцев.
— Андрий! — сказал старый Бульба в то время, когда он
проходил мимо его.
Сердце его замерло. Он остановился и, весь дрожа, тихо
произнес:
— А что?
— С тобою баба! Ей, отдеру тебя, вставши, на все бока! Не
доведут тебя бабы к добру! — Сказавши это он оперся головою
на локоть и стал пристально рассматривать закутанную в по-
крывало татарку.
Андрий стоял ни жив ни мертв, не имея духа взглянуть в
лицо отцу. И потом, когда поднял глаза и посмотрел на него,
увидел, что уже старый Бульба спал, положив голову на ла-
донь.
Он перекрестился... Когда же поворотился он, чтобы взгля-
нуть на татарку, она стояла перед ним, подобно темной гра-
нитной статуе, вся закутанная в покрывало, и отблеск отда-
ленного зарева, вспыхнув, озарил только одни ее очи...»
В этом описании все зримо. Безумный от страсти Андрий,
совершающий один за другим опрометчивые поступки. Он по-
трясен известием. Мысли его путаются. Он забывает об осто-
рожности. Препятствия, возникающие одно за другим, лишь
водчеркивают состояние Андрия, его отчаянную решимость
спасти панночку. Хлеб оказался под головой Остапа. Доставая
хлеб, Андрий случайно разбудил брата. Тот спросонья закри-
чал. Кто-то из казаков проснулся, но сон пересилил его подо-
зрения. Андрия увидел Тарас. Пригрозил ему. Сейчас все дол-
41
жно раскрыться, но нет — опять спас крепкий казацкий сон.
Мы ощущаем в действиях Андрия его отчаянную решимость,
помутившийся от волнения разум. Попадись ему брат — он
убил бы брата... Но важны не только препятствия. Важно и то,
что они нарастают. Каждое последующее, вызванное предыду-
щим, страшнее, опаснее. В конце — отец, заставший Андрия
на месте преступления. Это апогей, кульминация куска. И как
контраст, подчеркивающий безумное стремление Андрия, —
молчаливая и неподвижная, как каменная статуя, татарка.
В этом отрывке что ни кусок, то зримое действие. Все до мель-
чайших деталей здесь видится. И жест Андрия, пытающегося
вспомнить, зачем он пришел к возу. И черные хлебы, взятые
впопыхах. И пустые казаны. И трава, шевелящаяся от храпа
Остапа. И приподнявшаяся чубатая голова среди спящего ла-
геря. И уснувший Тарас. И, наконец, отблески зарева горящей
крепости в глазах испуганной татарки.
Совершенно очевидно, что действия и поступки Андрия вы-
ражают любовь к панночке. Презрение к смертельной опасно-
сти, которая ему угрожает, если кто-нибудь увидит его с та-
таркой в запорожском лагере, служит подготовкой к последую-
щему любовному объяснению с панночкой во вражеском стане.
В то же время поведение Андрия в этом куске выражает его
характер. Так поступить мог только порывистый Андрий.
Не всегда, однако, прозаический кусок бывает тождествен
сценарному. Сотней страниц ниже тот же Гоголь так описы-
вает народную войну: «Известно, какова в русской земле война,
поднятая за веру: нет силы сильнее веры. Непреоборима и
грозна она, как нерукотворная скала среди бурного, вечно из-
менчивого моря. Из самой средины морского дна возносит она
к небесам непреломные свои стеньг, вся созданная из одного
цельного, сплошного камня... И горе кораблю, который нане-
сется на нее!»
В этом куске Гоголь заменяет взволнованной патетикой
внешнюю пластичность, зримую образность, действенность дру-
гих мест «Тараса Бульбы». Это описание не дает никаких
выводов для построения действия. Если в прозаическом про-
изведении этот прием равноправен с другими, то в сценарии
он — бессмыслен. А между тем в недалеком прошлом существо-
вала мода на так называемые «эмоциональные сценарии».
В них тоже вместо описания реального действия давалось эмо-
ционально окрашенное изложение какого-нибудь куска для
возбуждения режиссерской фантазии. Одна за другой шли
42
фразы типа: «Необыкновенная земля! И идет по ней необык-
новенный человек!..» На деле за этими фразами ровно ничего
не скрывалось, а на экране возникала обычная (самая обыкно-
венная!) дорога, по которой шагал одинокий пешеход.
5. монтаж — искусство сценариста!
Косноязычие и бледность многих наших сценаристов про-
исходит от непонимания или незнания автором природы кине-
матографа, от неумения найти выразительные зримые и лако-
ничные действия, способные раскрыть идею и характер. И са-
мое важное, что сценарий-то как раз меньше всего связывает
автора всяческими условностями и ограничениями. В самом
деле, разве не безгранична свобода выражения в искусстве, не
знающем ни условностей сценической коробки, ни связанности
мест действия, ни единства времени? В пьесе герой не имеет
права никуда уходить за пределы декорации в течение всей
«отпущенной» ему сцены. Ему, к примеру, очень хочется ри-
нуться на поиски своей возлюбленной, но он должен ждать,
когда она сама явится к нему, и произнести свое извечное:
«А вот и она!»
В театре течение акта или отдельной сцены, картины зани-
мает столько времени, сколько реально занимает времени про-
исходящее событие. Театральный драматург, «зацепившись»
за время действия, не может уже «оторваться» от него до
конца акта. Он не в состоянии развивать параллельное дей-
ствие. А между тем параллельно развивающиеся действия ча-
сто усиливают друг друга путем контраста или создают свое-
образный унисон, когда ряд параллельно развивающихся
линий стремится в одну точку, дополняя друг друга.
Этому способствует монтаж, при котором есть возможность
сопоставлять пли сталкивать отдельные куски действия в лю-
бом их сочетании, необходимом для выражения содержания.
За этим пугающим «техническим» словом стоит общее для всех
искусств понятие художественного ритма. Монтаж — это и рас-
становка слов, и чередование строк, и сочетание отдельных
и°т> и смена красок, и столкновение кадров. В свое время
формалисты пытались превратить этот художественный прием
в самоцель. Гипертрофируя значение монтажа в кино, они при-
писывали ему «сверхъестественные» возможности. Монтаж
превращался в магический способ столкновения бессмыслен-
43
ных кусков, из которых, таким образом, возникал якобы смысл
фильма.
Однако, разоблачив формалистские теории монтажа, наши
критики совсем перестали уделять ему внимание. Это не могло
не принести вреда нашему киноискусству, не могло не обед-
нить его. Возникнув как технический прием склейки отдель-
ных кусков пленки, снятой в разное время, в разных местах
и с разных точек, монтаж, в конце концов, стал могучим худо-
жественным средством кинематографа. Только изучив монтаж,
сценарист сможет правильно применить его для раскрытия
содержания, для наиболее полного выражения своей идеи.
Умение пользоваться приемами монтажа даст сценаристу воз-
можность не только свободно оперировать временем и про-
странством, но и позволит ему отбирать наиболее важные эле-
менты действия.
Понимание законов монтажа дает неисчерпаемые возмож-
ности варьировать ритм действия, создавать в нужном месте
нарастания, сталкивать между собой контрастирующие по
настроению и ритму куски. Одним словом, монтажное строе-
ние сценария определяет в известной степени стиль кинорас-
сказа.
Для начала хорошо бы вспомнить несколько уже забытых
хрестоматийных примеров монтажного построения действия.
Предположим, перед нами развертывается какое-либо про-
стейшее событие. Допустим, в город приехали два друга. Один
из них (назовем его Л) отправился разыскивать знакомых, а
другой остался на вокзале сторожить вещи. Первый друг встре-
тил знакомого В, оказавшегося другом детства А. Они разгово-
рились, стали вспоминать юность. В этом разговоре раскры-
вается много важного и интересного. От этой встречи зависит
и дальнейшее развитие сюжета. Но в то же время подобный
разговор, если показывать его в логической последовательно-
сти, неминуемо будет загружен лишними, случайными подроб-
ностями. Без них, однако, обойтись нельзя, так как невозможно
опустить какие-то стадии его, не погрешив против логической
правды. Раньше чем дело коснется главных и решающих во-
просов, важных для сюжета обстоятельств, друзья А и Б ста-
нут задавать друг другу неизбежные в таких случаях вопросы
о здоровье, говорить о том, «как много воды утекло», о том,
«сколько лет, сколько зим» и т. д.
Пьеса не может обойтись без таких «паразитических кус-
ков». Единство места мстит за себя. Другое дело — сценарий.
44
Применяя способ монтажного построения действия, можно
отобрать только те элементы, которые важны и необходимы,
ударны. Все же остальное — опустить. Для того чтобы сделать
это нужно параллельно с первой линией действия (в данном
случае с встречей А и Б) вести действие перебивочное. Нашим
спасителем для данного случая окажется третий участник,
оставшийся на вокзале. Назовем его С. Его вокзальная исто-
рия послужит нам отличной перебивкой к сцене разговора
А и Б. У С — своя линия действия. Ему, предположим, надоело
караулить вещи А. Зная характер А, С убежден, что тот, встре-
тив знакомого, отправился с ним обедать, и теперь они навер-
няка чокаются «за встречу». С решает поручить вещи соседу
и пойти в буфет пообедать, так как он успел уже изрядно про-
голодаться.
Показав, как С выполнил свое намерение, мы можем вер-
нуться к А и Б. Пока мы были на вокзале, они уже успели
(мы этого не видели, а лишь домыслили) перейти к основному,
ударному месту разговора.
Перемежая действие А и Б с действием С (вещи украли и
он занят поисками), мы в обоих линиях будем показывать
только главные, ударные куски. С каждой новой перебивкой
действие каждой линии будет убегать далеко вперед, причем
все пропущенные в обоих случаях второстепенные звенья дей-
ствия мы будем считать совершившимися в то время, когда
мы были заняты параллельным действием.
Существует важное психологическое свойство перебивоч-
ного действия. Это свойство состоит в том, что если место
параллельного действия резко удалено от места основного дей-
ствия, то временной разрыв, созданный перебивкой, восприни-
мается как очень длительный. И тем длительней, чем дальше
место действия перебивки от основного.
В приведенном примере, если мы показывали С на вокзала
в течение минуты, то, вернувшись к А и Б, можем допустить,
что пропустили в их разговоре полчаса или десять минут.
Представим себе иной вариант чередования действия.
Основное действие, то есть встреча А и Б, будет происходить,
предположим, в Архангельске, а параллельное действие — на
борту черноморского теплохода. В этом случае временной раз-
рыв будет восприниматься как более длительный.
Вернувшись к встрече А и Б после перебивки, мы будем
вправе показать их уже в любых новых обстоятельствах, на-
пример, спящими в номере гостиницы. Новая атмосфера пере-
45
бивки и логическое ощущение дальности параллельного дей-
ствия позволяют монтажно перестраивать реальное время
действия в условно-кинематографическое. Мы, как зрители,
потратили на просмотр этих смонтированных действий только
десять реальных минут. А кинематографическое время, в тече-
ние которого произошла встреча А и Б и перебивка, будет вос-
приниматься, как длившееся несколько часов. Если бы мы
показали в параллельном, перебивочном действии далекую,
чужую страну, то, вернувшись к нашим друзьям А и Б, ощу-
тили бы, что беседа их длится несколько суток. Способность
при помощи параллельного монтажа показывать сразу не-
сколько действий позволяет в сценарии не только длить или
сокращать время, но и отбирать в каждом из них самое важ-
ное и самое нужное для движения сюжета. В таком контра-
пунктном построении действия заложена огромная компози-
ционная возможность. Но это только одно из свойств монтажа.
6. «зрительная рифма»
Монтажное сопоставление кусков иногда позволяет сво-
бодно оперировать временем параллельного действия. Я имею
в виду соединение кусков действия по их сложности или по
принципу контраста. Возникает в этом случае своеобразная
«зрительная рифма», усиливающая смысловое значение всей
«фразы».
Человек вышел в дверь — так заканчивается действие од-
ного куска. Этот же человек вошел в другую дверь — так начи-
нается действие второго куска. Между этими двумя действиями
в реальной жизни должны быть промежуточные стадии. Выйдя
из одной двери, человек должен пройти через коридор, очу-
титься на лестнице, сесть в трамвай, проехать в нем несколько
остановок, вновь войти в парадную, подняться в лифте на ше-
стой этаж, позвонить и т. д. и т. п. Все эти паразитические для
основного сюжета куски убираются, а остаются только монтаж-
ные сопоставления: вышел из двери — вошел в другую дверь.
Реальность событий от этого не нарушается и не создается
ощущения провала, пропуска. Но такая монтажная услов-
ность будет правомочна, если объединение кусков действия
произойдет путем ассоциативного сопоставления: дверь —
дверь. Здесь объединяющим началом служит как бы «зритель-
ная рифма». Дверь с дверью рифмуется монтажно. Но стоит
46
тему действующему лицу в одном случае выйти в дверь, а в
*м — сесть в кресло, как ассоциативная логика исчезает и
создается ощущение пропуска, купюры. Эта «зрительная
рифма» Уже равнодушна к тому, какой пропуск в действии
произошел, какое пропущено время или как далеко отстоят
друг от друга пространственно монтируемые куски. Можно
выйти из двери сегодня, а войти в другую через год. Можно
также выйти из двери в Москве, а войти в другую дверь в
Киеве. Наконец, выйти из двери может один человек, а войти —-
другой.
В «Щорсе» Александра Довженко есть сцена, в которой
Щорс приказывает Боженко отбить у белых Винницу. Старый
«батько» медленно идет к двери... и через мгновение возвра-
щается в другом костюме и говорит, что Винница взята. Уход
и возвращение монтажно объединили два действия и «прогло-
тили» огромное третье, то есть бой и взятие Винницы. Оно, это
третье, не было нужно автору. Для него важно было только
следствие, то есть возвращение довольного Боженко. Здесь и
рождалось самое важное для раскрытия характера старого
«батьки». А именно: его реакция на новый приказ Щорса —
сдать Винницу белым по тактическим соображениям! Старый
Боженко, услышав это, произнес свое знаменитое: «Пропала
работа!» Вот что здесь важнее всего! Для Боженко бить вра-
га — это работа, а человек, привыкший работать, жалеет зря
затраченный труд. Сам же бой за Винницу не прибавлял к уже
известным чертам его характера новых, так как Боженко-пол-
ководец был нам уже ко времени этой сцены знаком и из-
вестен. Таким монтажным приемом построения действия Дов-
женко опускал второстепенные, служебные куски, а оставлял
только основные. Из множества кирпичей он выбирал только
те, которые помогали ему складывать характер человека.
Остальные были для него лишь строительным мусором. Но,
владея принципом монтажного построения действия, можно не
только произвольно орудовать временем, сокращая его. Иногда
содержание требует, чтобы секунда действия была растянута,
удлинена. Так, скоростная съемка «рапид» растягивает пры-
жок пловца, длящийся секунды, на целую минуту. Это недаром
называется «лупой времени». «Лупа времени» бывает и в сце-
нарии. Сценарист как бы командует: «остановись, мгновение!»
мгновение останавливается, чтобы мы успели как следует
распознать его, почувствовать всю его глубину, все его траги-
ческое либо прекрасное значение. В одном хроникальном
47
фильме показана «минута молчания» в день похорон
В. И. Ленина. Вот перед нами цех, завод. Рабочие обнажили
головы, молча стоят у станков. Трюм корабля, субтропический
пейзаж, далекая Арктика, деревня, полузанесенная снегом,
вершина Эльбруса. И всюду молча стоят люди, обнажив го-
ловы. По закону длительности действия в далеко отстоящих
друг от друга перебивках минута молчания превращается в час
безмолвия. Возникает обобщенный образ народной. скорби.
Способы монтажного построения действия позволяют, как
мы видим, одновременно вести несколько параллельных сю-
жетных линий, выделять только необходимое, основное, сво-
бодно обращаться со временем, удлиняя либо сокращая его. Но
это не является лишь механическим спрессовыванием, уплот-
нением событий в сценарии. Каждая из названных возможно-
стей превращается в мощное средство образного раскрытия
содержания. Огромную выразительную силу обретает деталь.
7. язык детали
Вот известный пример монтажного строения сцены, когда
метко выбранная и монтажно выделенная деталь поворачивает
всю сцену. В фильме Ф. Ллойда «Кавалькада» проходит жизнь
супружеской пары. Один из эпизодов написан сценаристом так:
лунная тихая ночь на палубе корабля. У борта стоят молодые
влюбленные. Молодые люди строят планы своей будущей
жизни. Она рисуется им счастливой и радостной. Упоенные
красотой ночи, музыкой, доносящейся из кают-компании,
и мечтаниями о будущем, они стоят и смотрят на море. Рядом
с ними, на борту, висит спасательный круг. Монтажно выде-
ленный круг опрокидывает, озаряет, как вспышка молнии, всю
сцену, трагически окрашивает происходящее, придавая всему
иной смысл. На спасательном круге, к которому теперь,
волею автора и режиссера, приковано наше внимание, напи-
сано «Титаник»! Такова ассоциативная сила детали. Целый
кусок напряженного действия, огромное событие, катастрофа,
изменившая дальнейшее течение судеб действующих лиц, рас-
крываются перед нами в одно мгновение силой детали, обре-
тающей значение символа.
Деталь пришла в киноискусство из литературы. У Бунина
есть прекрасный рассказ «Веселый двор». Он настолько кине-
матографичен и «зрителей», что стоит разобрать его подробно,
48
как пример «сценарного» письма. В этом рассказе удиви-
тельно точно выбраны детали. Оставаясь реальными подробно-
стями, они в то же время звучат как символы, эмоционально
окрашивающие рассказ.
Основное действие первой главы рассказа «Веселый двор»
заключается в следующем: одиноко доживает последние дни
старуха Анисья, мать печника Егора. У нее никого нет на бе-
лом свете, кроме сына, но и тот, видимо, забыл мать, оставил
ее одну в старой полуразрушенной избе умирать с голоду. Го-
лод выгоняет ее из избы. Собрав последние силы, она решает
отправиться в соседнюю деревню, возле которой на лесном
участке стоит караулка сына, нанявшегося сторожить помещи-
чий лес. По дороге ее начинают одолевать сомнения. А вдруг
сын ушел в город! Он частенько пропадал там, напивался с
горя. Вернуться обратно? Но дома — пустая изба, голод, смерть.
Надежда толкает вперед Анисью. Егор, может быть, покормит
ее. Да и как умереть, не увидев сына. Она идет, отчаянно бо-
рясь со слабостью, с приступами голода, в деревню к малень-
кой караулке, в которой теперь ее спасение, ее надежда...
«...Анисья спешила, спотыкалась, путаясь в цветах и тра-
вах. Вот и караулка. Но висит на ее дверке большой рыжий
замок. И, увидев его, Анисья вдруг сморщила лицо и заголо-
сила».
Так и видится этот выделенный из окружающего пейзажа
большой рыжий замок, в котором как бы символ непоправи-
мого несчастья матери, крушения ее последней надежды, сим-
вол голодной смерти. Это необычайно точный образ. Обыкно-
венный замок. А в нем — итог всего: надежд, стремлений, всей
жизни.
«Везде буйно заросла земля... Травы — по пояс; где кусты —
не прокосишь. По пояс и цветы... Целые поляны залиты ими,
такими красивыми, что только в березовых лесах растут...» Но
чем великолепнее красота природы, чем ярче краски, тем
страшнее и безысходнее горе матери, умирающей с голоду
среди этой пышной и щедрой природы. А смерть неминуема.
Об этом «кричит», «вопит»... большой рыжий замок на двери
караулки. Все внимание матери обращено теперь на замок.
Может быть, его можно открыть и тем спастись.
«Шатаясь, плача, шурша по лопухам, Анисья подошла к
дверке, пошарила по притолоке, — нет ли ключа. Не нашла —
догадалась: отогнула дужку замка, — он, конечно, был неза-
перт, — и потянула за скобку, перешагнула высокий порог...»
49
В караулке не оказалось никакой еды. Просидев много вре-
мени в голодном оцепенении, мать начинает обыскивать ка-
раулку. Нигде — ничего. Но вот в полутьме пустой караулки
она заметила махоточку.
«Махоточка стояла на подоконнике, прикрытая дощечкой».
В этой заманчивой для нее посудине, прикрытой дощечкой, так
и ожидается спасительное молоко!
«Она подняла ее (дощечку. — И. X.): в махоточке загудела
большая страшная муха...» Какой точный и выразительный
образ запустения! Вместо молока, которое продлит жизнь
Анисьи, — большая муха. Такая же страшная в этих обстоя-
тельствах, как и большой рыжий замок на двери.
«...Поднесла дощечку к глазу, стала разглядывать: так и
есть, образок. Греховодник Егор, за то-то и не дает ему бог
счастья!»
Пустая махоточка прикрыта... иконой. В одной мимоходом
показанной детали убийственная для нее характеристика сына.
Мы не видели его ни разу, но уже составили о нем определен-
ное мнение, как о человеке безбожном, грешном. Замок, махо-
точка, муха, образок, употребленный вместо крышки! Цепь
деталей растет, двигая действие. Одна за другой возникают
они перед матерью, обманывая ее надежды.
«На загнетке раскрытой печки на куче золы лежала сково-
родка с присохшими к ней корочками яичницы: видно, Егор
из птичьих яиц делал, — скорлупа-то возле сковородки
валялась пестрая. Анисья подумала: чем спасается ба-
тюшка, вроде хорька живет!»
Опять из детали возникает характер сына, опустившегося,
нищего человека, влачащего полудикое и безбожное существо-
вание. От такого не дождешься помощи. По мере того как
через детали все яснее выступает характер человека, все без-
надежнее становится картина, все осложняется действие —
борьба за жизнь, все меньше надежды на спасение. И вот начи-
нается медленное умирание матери. Она ложится на лавку, и
в ее больном воображении встают картины ярмарки. Появ-
ляется параллельное действие, вступающее в кричащий конт-
раст с происходящим в караулке. Этот контраст, данный парал-
лельным монтажом, вызывает ассоциацию голодного голово-
кружения, полуобморока. Мы начинаем вместе с матерью
ощущать это головокружение. «Ах, да ведь Егор идет на
ярмарку, — надо догнать его! И она видела ярмарку. Там
гомон, говор, скрип телег, ржание лошадей, народ валит валом —
50
все пьяный, страшный; бьет, гремит оркестрион на кару-
селях, кругом летят на деревянных конях девки в красных
басках и ребята в канареечных рубахах — и от этого тошнит,
мутит...»
Смысл параллельного монтажа здесь и в контрастном
столкновении тихого умирания с буйным весельем, и в физи-
ческом ощущении головокружения. Быстро проносящиеся фи-
гуры, яркие, рябящие в глазах краски — от этого в самом деле
начинает кружиться голова. Вспомните ощущение дурноты,
когда вы впервые попробовали прокатиться на карусели. Голо-
вокружение от карусели и головокружение от голода сливают-
ся здесь благодаря монтажу двух действий и создают гигант-
ский по силе образ.
Но сквозь полудремоту умирающая мать начинает ощущать
приступы жажды.
«Жарко, тяжко, а Мирон (умерший муж Анисьи. — И. X.),
молодой, веселый, со сдвинутой на затылок шапкой, проди-
рается к ней через толпу (ей кажется, что это от толпы
трудно дышать и душно! — И. X.), несет целый узел гостин-
цев — р о ж к о в, су с л и к о в, ж а м о к — и не дает ей до-
пить бутылку квасу, только что откупоренную квасником...»
Опять монтажное сопоставление двух параллельных дей-
ствий, одно из которых реальное (борьба со смертью), а дру-
гое воображаемое (картины ярмарки) вызывает почти физи-
ческое ощущение жажды и усиливает эмоциональное воздей-
ствие всего куска на зрителя.
8. сплав немого и звукового кино
Подобных примеров литература знает множество. Кинема-
тографическое монтажное изложение двух параллельных дей-
ствий, как бы сплавленных вместе и дающих в этом своеобраз-
ном сплаве новое качество, перешло в звуковой кинематограф
по наследству от немого. Звуковой кинематограф не возник на
голом месте. Получив могучее художественное оружие — слово,
он вобрал в себя и то лучшее, что имел на вооружении «вели-
кий немой». Слово не могло убить киноискусство и превратить
его в театр на пленке. Аскетизм формы, пренебрежение к вы-
разительным возможностям киноискусства под видом борьбы
с формализмом есть формализм навыворот, так как он ведет
к отрыву формы от содержания.
51
Мировое прогрессивное киноискусство во многом находится
под творческим влиянием советского кино. Ранние картины
Эйзенштейна, его «Броненосец «Потемкин» главным образом,
лучшие фильмы Пудовкина и других мастеров режиссуры и
кинодраматургии не могли не сказаться на работах масте-
ров-реалистов зарубежного кино. Социальная острота содер-
жания, свойственная произведениям прогрессивного кино, от-
ражение в них борьбы прогрессивных сил внутри буржуазного
общества против эксплуатации, рабства и нищеты сочетаются
с яркой и выразительной формой, в которой мы порой узнаем
«почерк» таких мастеров советского кино, как Эйзенштейн,
Пудовкин, Довженко. Этот почерк, в частности, характерен ис-
пользованием в драматургии монтажных возможностей по-
строения действия. Очевидно, большинству советских кинема-
тографистов знаком напечатанный в седьмом номере «Нового
мира» за 1954 год сценарий Майкла Уилсона «Соль земли».
В этом сценарии, рассказывающем об истории победоносной
стачки американских горняков, есть эпизод большой вырази-
тельной силы. Главная героиня сценария Эсперанса — жена
мексиканца-горняка — вынуждена оставить пикет, защищаю-
щий ворота шахты от штрейкбрехеров. У нее начинаются ро-
довые схватки. Женщины отводят ее в будку. В это время
помощники шерифа нападают на мужа Эсперансы Рамона и
запирают его в полицейский автомобиль. Все дальнейшее раз-
вивается одновременно в будке и в автомобиле. Доведенное до
предела динамическое монтажно-перемежающееся действие
создает потрясающую по силе картину. Здесь кинематограф
вступает в свою полную силу благодаря сплаву «немых» и
«звуковых» выразительных средств.
Сначала оба действия экспонируются в отдельности; они
идут параллельно, но еще не пересекаются:
На краю дороги стоит Эсперанса. Приступ боли вдруг заставляет ее
согнуться, словно в судороге. Она хватается за живот.
Лицо Эсперансы искажено болью. Понимая, что начинаются роды,
она беспомощно оглядывается и кричит.
Эсперанса. Луис! Луис! Ребенок...
Луис и рудокопы прислушиваются, словно окаменев.
Голос Эсперансы (по-испански). Ребенок! Позови женщин^
Скорее!..
После этой краткой экспозиции сцены начинающихся родов
возникает экспозиция второй линии действия. Она так же
мгновенна, внезапна.
52
Заднее сиденье автомобиля шерифа. Рамон сидит, выпрямившись,
и в наручниках закинуты за спину... Справа — Вэнс, бледный, худой
Руловек, с впалыми щеками и отвисшей челюстью. Вэнс медленно на-
тягивает на руку перчатку из свиной кожи. Рамон, бросив взгляд на
перчатку, смотрит в окно.
рамон (голос его слегка дрожит). Почему вы остановились:
Кимброу (со смехом). Хотим с тобой потолковать... выяснить,
ваяем ты стукнул того парня.
Рамон. Ложь. Я не...
Рука в перчатке бьет Рамона по лицу.
Дальше идет ряд параллельных кусков-. Эсперансу кладут
на одеяло и несут в будку. Рамона бьют в живот кулаками по-
мощники шерифа. С каждой следующей сменой все короче
куски действия, все нервнее ритм. Линии начинают сбли-
жаться.
Будка. Рядом с самодельными носилками идет госпожа Салазар.
Она велит мужчинам внести Эсперансу в будку.
Госпожа Салазар. Мы не успеем донести ее домой. Давайте
ее сюда.
В автомобиле шерифа. Рамон скорчился от боли. Его голова повисла
меж колен. Вэнс рывком приподнимает его.
Вэнс. Выше голову, панчо. Порядочные люди так не сидят.
Рамон (сквозь зубы по-испански). Все равно я переживу вас
всех, сволочи...
Вэнс (тихо). Что ты лопочешь? Это еще что за жаргон?
Бьет Района в живот. Рамон издает заглушенный крик.
Еще динамичнее ритм. Оба действия сблизились, и кажется,
что они происходят в одном месте, как будто наплывают друг
на друга.
На экране быстрая смена кадров.
Эсперанса лежит на койке в будке. Ее лицо искажено болью. Она
тяжело дышит.
Эсперанса. Горподи, прости меня... я хотела... чтобы этот ребе-
нок никогда не родился.
Снова Рамон. Кимброу держит голову Рамона, а Вэнс методически
наносит ему удар за ударом. Рамон с трудом произносит по-испански.
Рамон. Матерь божья, сжалься...
Опять Эсперанса.
Эсперанса (по-испански). Сжалься над этим ребенком... Пусть
он живет...
Рамон кусает губы от нестерпимой боли.
Рамон (по-испански). О боже... Эсперанса... Эсперанса...
Наконец оба действия слились. Они превратились в один
общий образ страдания;
53
Голос Рамона заглушается голосом Эсперансы.
Эсперанса. Рамон... где Рамон?
Снова схватки. Она пронзительно кричит.
Рамон. Его изображение наплывает на изображение Эсперансы,
они сливаются, колеблются, затуманиваются, как перед глазами чело-
века, теряющего сознание.
Стремительный монтаж кусков действия создает сильную
по кинематографической выразительности картину общности
страдания Эсперансы и Рамона, такого противоположного по
своему эмоциональному значению, но вместе с тем в какой-то
степени близкого по чисто физическому ощущению боли. Ведь
не случайно Рамона бьют по животу. От монтажного столкно-
вения кусков нам начинает казаться, что удары кожаной пер-
чаткой в живот Рамона отзываются на рожающей женщине,
что ее крик есть выражение боли избиваемого мужа, что ее
призывы к богу есть мольба за него, беззащитного перед лицом
извергов-полицейских, а это сдержанное «Эсперанса... Эспе-
ранса...» — призыв к стойкости.
Опять вступает в силу ассоциативный принцип монтажа
двух действий. Если в «Веселом дворе» карусель, ярмарка,
толпа ассоциативно вызывали почти физически ощущаемое
головокружение, духоту и жажду, то в «Соли земли» сопо-
ставление двух реальных действий создает усиливающуюся от
их столкновения картину боли, страдания: ток, идущий по
двум линиям действия, при соприкосновении их как бы замы-
кается и рождает яркую эмоциональную вспышку. Возникает
эмоционально накаленный образ борьбы и ненависти к мучи-
телям, к наемным убийцам, пытающимся кулаком и нагайкой
сломить волю бастующих горняков.
В сценарии Б. Лапина и 3. Хацревина «Его зовут Сухэ-Ба-
тор» есть кусок, рассказывающий о том, как народ Монголии
скрывал от врагов своего раненого вождя Сухэ-Батора. Вокруг
кишат вражеские шпионы. Если Сухэ-Батор будет пойман, в их
руки попадет его тошур — плеть с деревянной ручкой. В этой
ручке спрятано письмо монгольского народа к Ленину с прось-
бой о помощи. Из кочевья в кочевье перевозят пастухи боль-
ного Сухэ-Батора. Вот он на арбе, вот уже идет за верблюда-
ми, вот он спрятан в корзинку под войлочное покрывало, вот
он входит в юрту, изнемогающий от жажды. Но всюду в этих
кусках — драгоценный для него тошур. С тошура начинается
каждое новое действие, за судьбу этого крепко сжатого в руке
предмета мы волнуемся, как за судьбу самого Сухэ. Потому
54
чТо смысл борьбы, ее зрительно материализованная цель —
р этой деревянной палке. Время и последовательность объеди-
нены здесь через монтажную рифму: тошур — тошур — тошур.
На этих примерах видно, какая выразительная сила кроется
в монтажном строении сценария. Правильное понимание мон-
тажного принципа построения сценария дает возможность не
только свободно перебрасывать действие с места на место, но
и «выстраивать» время, то есть, не прибегая к условным тит-
рам «прошло десять лет» или «прошло несколько дней», не
прибегая к «антрактам», развивать действие непрерывно, в то
же время уплотняя или растягивая его в его временном тече-
нии. Монтажное построение дает также возможность избав-
ляться от «паразитических», служебных кусков, брать только
то, что необходимо для выражения содержания в наиболее
важные, главные, ударные моменты действия. Кроме того, мон-
таж позволяет выделить детали, усиливающие характеристику,
акцентирующие какие-либо важнейшие черты в характере или
обстановке. Этот метод построения действия открывает перед
сценаристом неограниченные возможности параллельного веде-
ния двух или нескольких линий, любого их сочетания, столкно-
вения, ассоциативного сопоставления и т. д. Монтаж дает воз-
можность управлять ритмом всего произведения, чередовать
нарастания и спады. Монтаж роднит выразительные средства
кино и литературы, приближая киноискусство к «зримой
прозе».
9. «зримая проза»
Это станет очевидным на примере «экранизации» какого-
либо куска прозы. Сходство и различие прозы и сценария, со-
отношения зрительного образа и образа литературного, значе-
ния крупного плана очень ясно можно продемонстрировать,
пытаясь «кинематографировать», например, отрывок из «Вой-
ны и мира», — первый бал Наташи Ростовой. Здесь особенно
ясно выразительное значение контраста в действии, создаю-
щего напряженный пульс всего куска и усиливающего «зри-
мость», пластичность сцены.
В чем заключается драматургическое действие толстовского
отрывка? Наташа Ростова впервые появляется на балу. Бал
пышен и великолепен. Ей хочется быть в центре внимания, но
является государь, и вся светская толпа раболепно устрем-
55
ляется к нему. Наташа одна, забыта, несчастна. Находится
только один человек, обративший на нее внимание, — это князь
Андрей Болконский. Первый танец с ним вызывает в Наташе
смутное чувство любви. Отныне их судьбы будут связаны.
Уже первая экспозиция пышности и великолепия бала воз-
никает, подчеркнутая контрастом. Блеск, сверкание, пышность
нарядной толпы, впечатляющие сами по себе, становятся еще
ослепительнее, еще более волнуют Наташу после тесноты, хо-
лода и темноты кареты.
«То, что ее ожидало, было так прекрасно, что она не верила
даже тому, что это будет: так это было несообразно с впечатле-
нием холода, тесноты и темноты кареты».
Отличное начало. Темная, тесная карета. Предельная ску-
пость красок и движений — и внезапно, неожиданно, ошелом-
ляюще:
«Зеркала по лестнице отражали дам в белых, голубых, розо-
вых платьях, с бриллиантами и жемчугами на открытых руках
и шеях». Здесь зеркала не только деталь обстановки. Они, ум-
ножая сверкающую толпу, огни свечей, создают еще более
ослепительную картину, почти феерическую, зримую. Наташа
поднимается по лестнице и смотрит на себя в зеркало. В одно,
в другое. И во всех она кажется себе прекрасной, такой же,
как все.
«Наташа смотрела в зеркала и в отражении не могла от-
личить себя от других. Все смешивалось в одну блестящую
процессию».
Дальше, хотя, кажется, все уже доведено до предела, —
новое нарастание.
«При входе в первую залу равномерный гул голосов, ша-
гов, приветствий оглушил Наташу; свет и блеск еще более
ослепил ее».
Но вот эта общо показанная ослепительная толпа персони-
фицируется. Появляются средние планы гостей. Раньше
всех — хозяин и хозяйка. Они смотрят на Наташу. Хозяйка —
с завистью. Хозяин говорит: «Прелесть!» —и целует кончики
своих пальцев. Незамеченными оказались две девочки с оди-
наковыми розами в волосах. Как ни стараются они при-
влечь внимание хозяйки, она останавливает свой взгляд на
Наташе.
«Наташа слышала и чувствовала, что несколько голосов
спросили про нее и смотрели на нее. Она поняла, что она
понравилась...»
56
Все действие сначала идет к тому, что Наташа станет цент-
ром внимания. Чем сильнее будет ее уверенность в этом, тем
более жестоко для нее будет дальнейшее разочарование. Здесь
подготавливается контрастирующее действие. Наташа как бы
поднимается все выше и выше в глазах окружающих. Как это
поможет усилить драматизм в момент удара! Между тем
экспозиция бала развивается.
«Перонская называла графине самых значительных лиц,
бывших на бале».
Дается экспозиция «царицы Петербурга» Элен Безуховой.
Затем появляется Пьер. Наташа следит за ним. Пьер ведет ее
взгляд к князю Андрею, к которому он подошел. Наташа узнала
князя. А Перонская в это время аттестует Андрея Болкон-
ского. В этой аттестации есть такие важные слова: «По нем
теперь все с ума сходят» — и еще: «Смотрите, как с дамами
обращается! Она с ним говорит, а он отвернулся!..»
Как это важно для Наташи будет в дальнейшем. Победа
ее будет полной, торжествующей. Этот гордый и неприступ-
ный человек изберет среди множества красавиц и светских
львиц ее одну! Опять — контрастирующее действие!
«Вдруг все зашевелилось, толпа заговорила, подвинулась,
опять раздвинулась, и между двух расступившихся рядов, при
звуках заигравшей музыки, вошел государь».
Для этого «вдруг» выбрано самое удачное место. Наступило
относительное затишье. Шум, голоса, сверкание — все это как
бы немного забылось. Внимание, отвлеченное от блеска бала,
сконцентрировалось на представлении князя Андрея, разгово-
рах Перонской. И царь вошел «вдруг», в момент, когда его,
казалось, меньше всего ожидали все, и в особенности Наташа.
К общей «панике» светской толпы прибавилась музыка. Этот
новый компонент действия будет дальше чрезвычайно вырази-
тельно использован. Пока он только экспонируется, и на нем
делается небольшой акцент.
«Музыканты играли польский, известный тогда по словам,
сочиненным на него. Слова эти начинались: «Александр, Ели-
завета, восхищаете вы нас».
Возникает впервые тема полонеза. Этот польский будет
преследовать Наташу в течение всего бала, то веселя и дразня
се, то как бы издеваясь над ней, то наводя на нее грусть.
С появлением государя контрастно развивающееся действие
еще сильнее начинает пульсировать. Появившийся государь
отвлек внимание гостей от Наташи. Это — первая ступенька
57
«падения». Толпа теперь занята одним делом, она «играет
царя». Чем ярче и активнее старается толпа угодить своим
вниманием государю, тем все более заброшенной, забытой ста-
новится Наташа. Она и государь сейчас конкуренты, причем
силы их так трагически для Наташи неравны. Отношение
толпы к государю и к ней представляет собой разительный
контраст, этот контраст с каждой секундой нарастает.
Проследим, как растет внимание светской толпы к госу-
дарю. Оно так всеобъемлюще, что переходит в своеобразную
«панику», в которой забыты все светские манеры, вся чопор-
ность. Игра в достоинство друг перед другом исчезла бес-
следно.
«Государь прошел в гостиную, толпа хлынула к дверям; не-
сколько лиц с изменившимися выражениями поспешно прошли
туда и назад. Толпа опять отхлынула от дверей гостиной, в ко-
торой показался государь, разговаривая с хозяйкой. Какой-то
молодой человек с растерянным видом наступал на дам, прося
их посторониться. Некоторые дамы с лицами, выражавшими
совершенную забывчивость всех условий света, портя свои
туалеты, теснились вперед».
Здесь что ни жест, что ни движение, то яркая и отчетливая
тема светской «паники», так разительно контрастирующей
с помпезностью начала бала. Все предельно зримо не только
по общему характеру действия, но и во всех его деталях. Но
главная сила всего этого куска, главная его пружина, натяги-
вающаяся с каждой секундой, — тема оставленной всеми На-
таши. В сценарии этот кусок, очевидно, был бы написан как
параллельный монтаж кадров идущего царя, все растущей, до-
ходящей до сатирического звучания паники и убийственно
контрастирующей со всем этим безразличной к царю, одинокой,
забытой всеми Наташи.
«Наташа чувствовала, что она оставалась с матерью и Со-
ней в числе меньшей части дам, оттесненных к стене и не взя-
тых в польский. Она стояла, опустив свои тоненькие руки, и с
мерно-поднимающеюся, чуть определенною грудью, сдерживая
дыхание, блестящими испуганными глазами глядела перед со-
бой, с выражением готовности на величайшую радость и на
величайшее горе. Ее не занимали ни государь, ни все важные
лица, на которых указывала Перонская, — у ней была одна
мысль: «Неужели так никто не подойдет ко мне...»
Центр действия, смысл драматического конфликта предельно
выражается ожидающей одиноко Наташей и несущимися
58
мПмо нее’ не замечающими ее, наступающими друг на друга
и грубо толкающимися кавалерами и дамами. Но вот возник-
шая в момент появления государя тема польского начинает
развиваться. Государь с хозяйкой, а за ними выстроившиеся
в пары гости танцуют польский. Кавалеры разбирают дам, а к
Наташе никто не подходит. Ее забыли. Она одна. Неожиданно
вся картина танца начинает восприниматься через Наташу. Ее
глазами. Даже мелодия польского, торжественное «Александр,
Елизавета, восхищаете вы нас...» звучит для Наташи
грустно.
«Звуки польского, продолжавшегося довольно долго, уже
начали звучать грустно — воспоминанием в уш^х Наташи.
Ей хотелось плакать».
Как отчетливо видится и слышится весь этот контраст-
ный кусок: пышный танец и одинокая Наташа, торжественный
для всех полонез и грустная, преображенная мелодия танца
в ушах бедной Наташи. Но этого еще мало. Теперь мимо неег
совсем рядом начинают проходить танцующие пары знако-
мых ей людей, мужчин и среди них князь Андрей. И он не за-
мечает ее!
«Князь Андрей прошел с какою-то дамой мимо них, оче-
видно их не узнавая. Красавец Анатоль, улыбаясь, что-то гово-
рил даме, которую он вел, и взглянул на лицо Наташи тем
взглядом, каким глядят на стены. Борис два раза прошел мимо
них и всякий раз отворачивался».
И, наконец, удивительно контрастирующий с ее горем, та-
кой оскорбительный для нее в этот момент глупый разговор
Веры о зеленом платье. То, что Вера говорит ей, а Наташа не
смотрит на нее и не отвечает ей, как нельзя лучше зримо,
пластически, действенно выражает смятение Наташи.
«Она не слушала и не смотрела на Веру, что-то говорившую
ей про свое зеленое платье».
Но вот закончился польский, и после короткой паузы за-
звучал вальс. Наташа мечтала об этом вальсе. Она ждала, что
именно ее пригласят на первый тур. Ждала с момента появле-
ния на балу. Но опять не она, а красавица Элен становится
Центром внимания. И если столкновение Наташи с государем
было столкновением резко неравных сил, — ибо, как она, ма-
ленькая, никому не известная девочка могла противостоять
фигуре властелина, — то теперь ей предстояло состязаться
с женщиной, с «царицей Петербурга» — Элен. Официальный и
чопорный польский уступил место «увлекательно-мерным зву-
59
кам» вальса. В полонезе участвовали почти все гости, а в валь-
се — только Элен и адъютант. В этом куске Наташа и Элен
начинают оспаривать успех на балу. Критическая точка для
Наташи наступила. Во время польского Наташа не следила за
танцем, он развивался помимо нее. Она не обращала внимания
и на государя — он ее не интересовал. Теперь же Наташа вни-
мательно будет следить за вальсом, она будет оценивать кра-
соту Элен и завидовать ей. С каждым новым поворотом дей-
ствия — все новые и новые оттенки основной темы. Как пышно,
ритмически остро, дразняще разработан этот первый тур
вальса!
«Адъютант-распорядитель подошел к графине Безуховой и
пригласил ее. Она, улыбаясь, подняла руку и положила ее, не
глядя на него, на плечо адъютанта. Адъютант-распорядитель,
мастер своего дела, уверенно, неторопливо и мерно, крепко об-
няв свою даму, пустился с ней сначала глиссадом, по краю
круга, на углу залы подхватил ее левую руку, повернул ее,
и из-за все убыстряющихся звуков музыки слышны были
только мерные щелчки шпор быстрых и ловких ног адъютанта,
и через каждые три такта на повороте как бы вспыхивало,
развеваясь, бархатное платье его дамы».
Удивительно яркий, зримый и слышимый образ вальса!
И эти щелчки шпор, и вспыхивающее платье, и убыстряю-
щийся темп, и ловкость кавалера!
«Наташа смотрела на них и готова была плакать, что это
не она танцует этот первый тур вальса».
Теперь действие доведено до ярчайшего внутреннего накала.
Поражение Наташи, крушение ее надежд, ее девичье горе,
ее одиночество подготавливают второе в этой сцене «вдруг».
Это «вдруг» — приход к ней князя Андрея и приглашение на
танец. Вся предыдущая сцена, вся цепь испытаний и униже-
ний, вся мера одиночества Наташи, сначала загнанной в угол
угодливой светской толпой, ринувшейся к государю, а затем
легко побежденной «царицей Петербурга», отнявшей у нее
первый тур вальса, — все это подготовило точку кульминации.
К Наташе подошел и пригласил ее на тур вальса человек,
о котором она тайно мечтала еще с той памятной ночи в От-
радном. Подошел человек, о котором вначале говорилось, что
«по нем теперь все с ума сходят».
«Я имею удовольствие быть знакомым, ежели графиня пом-
нит меня, — сказал князь Андрей с учтивым и низким поклоном,
60
совершенно противоречащим замечаниям Перонской о его гру-
бости, подходя к Наташе и занося руку, чтобы обнять ее талию
еще прежде, чем он договорил приглашение на танец. Он пред-
ложил тур вальса1».
И не случайно — именно вальса. После пышного и велико-
лепного тура адъютанта с Элен мы увидим совершенно иной
по образу своему, резко контрастирующий с первым вальсом,
танец Наташи и князя Андрея. Но сначала посмотрим главный
в этой сцене «крупный план» Наташи, ее лицо, осветившееся
«счастливою, благодарною, детскою улыбкой».
«Давно я ждала тебя», — как будто сказала эта испуганная
и счастливая девочка своею проявившеюся из-за готовых слез
улыбкой, поднимая свою руку на плечо князя Андрея.
В одном этом взгляде высказано все!
«Наташа танцовала превосходно. Ножки ее в бальных ат-
ласных башмачках быстро, легко и независимо от нее делали
свое дело, а лицо ее сияло восторгом счастия. Ее оголенные
шея и руки были худы и некрасивы. В сравнении с плечами
Элен, ее плечи были худы, грудь неопределенна, руки тонки;
но на Элен был уже как будто лак от всех тысяч взглядов,
скользивших по ее телу, а Наташа казалась девочкой...»
С этого момента приглашения на танец следуют одно за
другим, а вся сцена завершается поразительным по лаконизму
и пластической определенности куском: «Ежели она подойдет
прежде к своей кузине, а потом к другой даме, то она будет
моею женой», — сказал совершенно неожиданно сам себе князь
Андрей, глядя на нее. Онаподошлапреждек кузине».
Только потому стоило так подробно останавливаться на раз-
боре этого толстовского отрывка, что в нем удивительно сли-
вается прозаическое описание с пластическим «видением». На
примере этого отрывка можно увидеть идеально рассчитанное
и построенное действие. В этом отрывке, несмотря на его дли-
ну и множество происходящих событий, ни на секунду не пре-
кращается биение того внутреннего пульса, который должен
отличать сценарное письмо от вялой описателыцины. В этом
отрывке наглядно также видны некоторые композиционные
принципы построения действия: контрастно перемежающиеся
линии, столкновение противоречащих друг другу элементов и,
наконец, точно рассчитанный ритм. В этом отрывке ясно чув-
ствуются все акценты, зрительные и звуковые, все «крупные
планы» и детали, сочетание первого плана и атмосферы. Для
экранизации этого куска поэтому не пришлось бы ничего
61
менять, а лишь подчеркнуть уже существующее. На опыте раз-
бора этого отрывка видно также, что в споре о том, что явля-
ется ближайшим родственником кино — театр или "проза, —
победа на стороне прозы!
Но можно ли из этого заключать, что сценарий — это
раскадрованная проза? Думать так — значит упрощать во-
прос.
Как часто, смотря фильм, поставленный по какому-либо
широко известному роману, с досадой видишь, что от полно-
кровного объемного мира романа остался лишь линейный рису-
нок сюжета, лишь поверхностная канва, «киноэрзац». Глубина
мыслей, выпуклость характеров, внутренний мир героев, осо-
бая прелесть атмосферы — все это исчезло. Произошло это по-
тому, что вместо трудных и настойчивых поисков кинематогра-
фического эквивалента для ряда важных прозаических кусков
автор просто опустил их, оставив только то, что прямо и непо-
средственно «ложится на действие».
Представим себе, что получилось бы, если бы, предположим,
«Даму с собачкой» поставить в кино таким образом? Куда деть,
например, такие строчки чеховского шедевра:
«У него были две жизни: одна явная, которую видели и
знали все, кому это нужно было, полная условной правды и
условного обмана, похожая совершенно на жизнь его знакомых
и друзей, и другая — протекавшая тайно. И по какому-то
странному стечению обстоятельств, быть может случайному,
все, что было для него интересно, важно, необходимо, в чем он
был искренен и не обманывал себя, что составляло зерно его
жизни, происходило тайно от других, все же, что было его
ложью, его оболочкой, в которую он прятался, чтобы скрыть
правду... — все это было явно».
Опустить их? Но это значит потерять самое главное,
суть!
Выразить в зрительных образах, в сценах, полных внутрен-
него действия, в деталях жизненного поведения, в картинах
быта и общественных нравов эти десять строк прозы — это и
значит перевести «Даму с собачкой» в новое качество, из ряда
литературного в ряд кинематографический. Правда, для этих
десяти строк прозы придется написать целый сценарий!
Кино — это не только взгляд человека на крупном плане,
говорящий больше, чем целая страница описания. Это и рас-
крытие одной прозаической строки в пластических образах
целого сценария!
62
10. атмосфера действия
Выразительные возможности сценария позволяют тонко и
точно передать атмосферу действия. Очень часто сценаристы,
тщательно выписывая героев и характеры, забывают о том, что
кинематограф по своей природе и по своим возможностям —
искусство широкого охвата, могущее сочетать действие первого
плана с необычайной глубиной фона. Имеется в виду, ко-
нечно, не только зрительный «заспинник», на фоне которого
действуют и двигаются люди. Второй план, если его понимать
широко, — это фон, воспроизводящий эпоху, это события, кото-
рые непосредственно не входят в сюжет, но в то же время
характеризуют его, дополняют и воссоздают ту широкую пано-
раму жизни, без которой первоплановое действие всегда будет
искусственно выделенным, оторванным от среды, неправдопо-
добно изолированным. Театр, зажатый в свои три стены, огра-
ничен в своих возможностях. В то же время воздух эпохи,
«ветер времени» — это стихия киноискусства. Не случайно кино-
экспедиции бороздят нашу необъятную страну в поисках раз-
нохарактерной натуры, а съемочная аппаратура перевозится
на оленях в тундру, грузится в самолеты, отлетающие в аркти-
ческие широты, и путешествует на верблюдах по пустыням
Средней Азии. Пейзаж входит в сценарий, как фон, как атмо-
сфера действия, как никогда не приедающееся лирическое от-
ступление.
Место действия придает самому действию порой совершенно
иной акцент. Мне пришлось случайно наблюдать, как резкое,
неприятное объяснение двух молодых людей, очевидно супру-
гов, происходило в середине дня на самом людном перекрестке
Охотного ряда. Вокруг бушевал поток пешеходов, мчались,
гудя, сотни машин, на автобусной остановке у Колонного зала
выстраивалась очередь, а они, эти двое, шли по тротуару и,
с тРУДОм сдерживая себя, забыв о том, где они находятся, бро-
сали друг другу горькие слова упреков.
Образ этого семейного объяснения был настолько ярок, что
запомнился мне надолго. Смысл этой сцены стал удивительно
выпуклым оттого, что сама жизнь подсказала наиболее выра-
зительное место действия. Ничто так не говорило о внутреннем
накале объяснения мужчины и женщины, ничто не подчерки-
вало значения их разговора, должно быть, решавшего их судьбу,
нак то, что они чувствовали себя абсолютно одинокими
среди тысячи людей, в самой гуще уличной суеты. Под впечат-
63
леиием этой сцены я попросил автора сценария «Большой
семьи» переписать сцену любовного объяснения Виктора и Ли-
ды Журбиных. Решающий разговор их теперь был перенесен
в проходную завода во время прихода утренней смены. То, что
Виктор и Лида вынуждены были не дома, а здесь, среди тыся-
чи людей, идущих через проходную, выяснить свои отношения,
как нельзя лучше подчеркивало их внутренний разлад и от-
чужденность Лиды, нелюбовь ее к дому Журбиных.
А ведь часто сценарист помещает своих героев в первую
пришедшую ему на ум обстановку, забывая, что это не театр,
где целый акт в силу необходимости происходит в одном
странно разнохарактерном месте, о котором говорится в ремар-
ке: «справа дом, слева лес, а в глубине беседка». Поэтому так
трудно бывает экранизировать пьесу. При экранизации пьесы
сценаристу приходится как бы насильственно разрывать дей-
ствие, спрессованное в одном месте. Здесь сразу же обнаружи-
вается, что мотивировки, по которым люди сходятся в одном
месте, а затем уходят, уступая место другим, лежат в самом
сюжетном развитии, в логике его. И так же как трудно бывает
свести в пьесе в одном месте многих персонажей, так же бы-
вает и трудно их впоследствии развести в сценарии. Отсутствие
выхода на подлинную «натуру», органически вплетающуюся
в действие, отсутствие параллельного действия, внутренней ди-
намики «перебросок», замена показа событий театральным рас-
сказом о них — все это сковывает кинематографическую сти-
хию, рвущуюся на простор. Кинематографу становится «душ-
но» без улиц и дорог, полей и рек, без огромных по масштабу
народных сцен! При экранизации пьесы кинематографу почти
никогда не удается «поработить» театр. Победителем в этом
«скрещивании» искусств всегда остается пьеса, ее язык, ее
условность.
Атмосферу действия не следует путать, как это часто де-
лают, с местом действия. Оттого, что диалог будет вынесен из
директорского кабинета в директорскую машину или из ком-
наты общежития в трамвай или метро, появится только разно-
образие съемочных объектов. Речь идет о другом. Чтобы не
заниматься теоретизированием, я расскажу о возникновении
в сценарии и фильме «Большая семья» сцены концерта на
заводе. Мне кажется, этот пример наиболее удачен для объяс-
нения того, что я имею в виду под термином атмосфера дей-
ствия.
64
Сюжет этого куска фильма в своем зародыше заключался
в следующем: Алексей Журбин в обеденный перерыв сталки-
вается на заводском дворе с завклубом, который в это время
провожал Катю Травникову и угощал ее апельсином. Это вы-
звало естественную ревность у Алексея. Для большей локаль-
ности куска его решено было разыграть в конторке мастеров,
где до этого уже происходила сцена между Ильей Журбиным
и мастером Басмановым. По законам театра такая экономная
монтировка была бы идеальной: выходят из конторки мастера,
входит Алексей (он пришел, чтобы позвонить по телефону),
замечает через окно идущих завклубом и Катю. И все. Но эта
кажущаяся локальность была вредна для фильма. Один весьма
важный образ оставался за кадром. Это — образ завода, на ко-
тором работают и набираются жизненного опыта герои. Завод,
его атмосфера, и не вообще атмосфера, а, если так можно вы-
разиться, лицо завода — советского предприятия — все это,
описанное в романе «Журбины», не переходило в сценарий.
А от этого и сами герои теряли свою достоверность. Они как бы
повертывались к нам все одной и той же стороной — домаш-
ней, бытовой. Поэтому из тесной конторки со слепыми окошеч-
ками действие необходимо было вынести на завод. Но что пред-
ставляет собой завод в обеденный перерыв? Это пустые ста-
пеля, безлюдные дворы, тишина. Для образа завода — это, пря-
мо скажем, материал малоподходящий. Но необходимость
столкнуть героев во время обеденного перерыва диктовалась
логикой жизни. Во время работы герои на своих местах, а не
ходят по двору. И вот из этих противоречий постепенно стала
складываться идея драматургическая по своей природе — пока-
зать, что все действие сцены развертывается во время кон-
церта.
Приезд артистов, музыкантов прямо в цех, к рабочим лю-
дям — это обычай наш, советский. На сочетании темных, по-
крытых масляным загаром лиц, могучих стотонных кранов,
легкой фигуры скрипача, «нежных» звуков рахманиновской
серенады — удивительно взволнованно прозвучали и слова
Алексея, обращенные к фотографу, и молчаливое горе деда
Матвея, впервые почувствовавшего свою неспособность угнать-
ся за темпами завода, и еще пошлее, гаже показалось «ухажи-
вание» завклубом и его «стандартный» подарок — апельсин.
Как часто в наших сценариях искусственно сужается атмо-
сфера, как однообразны бывают зачастую места действия. Все
кабинеты, проходные, квартиры! Разве только в директорских
4 и. е. Хейфиц
65
кабинетах да за столом решаются жизненные конфликты! Где
же поля и дороги, автобусы и трамваи, кабины полуторок?
Часто ли вы видите в наших сценариях аптеку или сберкассу,
окошко на почте или гастрономический магазин, курилку или
умывальную, загс или прачечную? Дело, конечно, не в чисто
формальной «свежести», необыгранности всех этих мест дей-
ствия, а в том, что наши герои — это люди действующие и бо-
рющиеся, растущие и преуспевающие в конкретно-историче-
ской и конкретно-бытовой атмосфере. Только проза с ее уме-
нием широко и многосторонне охватывать жизнь да сценарий
свободны от театральных ограничений, могут показать чело-
века в бесконечном разнообразии его поступков, в бесконечно
многообразной среде, в комнатном уюте и на ветру народных
сцен, в шахте и на балетном спектакле, в кабине самолета и
тридцатом этаже высотцого дома! И использование этих воз-
можностей углубляет истолкование идей, заложенных в сцена-
рии, увеличивает выразительные возможности раскрытия ха-
рактера.
У нас мало увлекательных, ярких, подлинно кинематогра-
фических по стилю сценариев. Некоторые наши режиссеры и
сценаристы обеднили свою палитру, погрязли в штампованных
приемах. Их работа лишена зачастую необходимого чувства
новаторства, желания сказать что-то новое, еще несказанное,
и выразить это новыми яркими средствами! Я полностью от-
ношу этот упрек и к части наших сценаристов, потому что от
них зависит многое. Дело не в том, что специфика кино пугало
для непосвященных; она — эта так называемая «специфика»,
а на самом деле форма — должна привлекать и увлекать сво-
ими возможностями тех, кто любит и ценит наше киноискус-
ство.
1956
«РАСТРУБЫ ВВЕРХ!»
Лекция о работе режиссера с актером,
прочитанная на Таллинской киностудии
Искусство актера — одна из самых важных проблем на-
шего кино. Нельзя себе представить наше кино без Щукина и
Штрауха, которые создали на экране образ Ленина, без Чир-
кова, Марецкой, Бондарчука, Черкасова, Баталова,. Андреева,
без Самойловой, Смоктуновского, Толубеева... Мировое кино
трудно представить без Чаплина, Спенсера Трэси, Джульетты
Мазины, Анны Маньяни, без Одри Хэпберн и Генри Фонда,
без Фернанделя и Жерара Филипа.
Все они раскрыли нам характеры современников, душу на-
рода.
Искусство работы с актером, с моей точки зрения, главное
в кинорежиссуре.
Мне кажется по меньшей мере странным, что иногда у ре-
жиссера есть «заместитель» по работе с актером, то есть лицо,
выполняющее главную его задачу. По умению работать с ис-
полнителями определяется ценность того или иного режиссера.
Как ни странно, мы часто забываем это.
Режиссура, как известно, начинается с выбора актера на
роль. Среди многих актерских индивидуальностей режиссер
должен увидеть ту, которая наиболее близка к задуманному
характеру по своим внешним и, главным образом, внутренним
данным. Однако понятие «близка» — сложное понятие. Полное
отождествление характера актера как человека с его ролью
может привести (и зачастую приводит) к натуралистическому
и бескрылому результату. Получается то, что принято назы-
вать «играет себя». Но сыграть себя можно в лучшем случае
один раз. Дальше уже идет повторение и штамп либо сведе-
ние актера к пресловутому квалифицированному натурщику.
В то же время кино по своей природе не терпит приблизи-
тельности в фактуре, оно чуждо «перевоплощению», достигае-
мому внешним приемом, то есть при помощи грима; объектив
легко обнаруживает малейшую фальшь в возрасте исполни-
теля, пытающегося либо омолодить, либо подстарить своего
героя. Кино — искусство натуральное.
4*
67
В практике советской кинематографии, к сожалению, весьма
распространен некий штамп в определении актерской кандида-
туры на ту или иную роль. Режиссер читает сценарий, перед
его умственным взором возникает некий характер, к этому ха-
рактеру немедленно «прикладывается» какой-либо актер — и,
если черты характера совпадают, исполнитель найден. Иными
словами, работа с актером сводится к отбору накопленных им
готовых, штампованных деталей характера, из которых невзы-
скательный режиссер конструирует образ героя. Такой ремес-
ленный подход к творчеству актера весьма похож на принцип
детской игрушки «Конструктор», в которой дается набор гото-
вых деталей. Можно заранее сказать, что выйдет из такой ра-
боты: актер гибнет, исчезает искусство, и вместо него царит
ремесло. Ведь при таком методе даже талантливый актер быст-
ро заштамповывается, привыкая работать лишь готовыми, от-
работанными «приемчиками».
У меня была мечта «расштамповать» некоторых наших спо-
собных актеров, поручая им роли, которые кажутся для них
«неподходящими». Например, Борис Андреев, по-моему, дол-
жен когда-нибудь сыграть слабого человека. Получится сильно.
Выступят новые краски в этом щедром актере.
Проблема перевоплощения по-разному выражается в теат-
ре и в кино, но она существует в творчестве киноактера и ко-
гда-нибудь станет материалом для теории и критики.
Мне хотелось бы сказать несколько слов о «языке», на ко-
тором режиссер разговаривает с актером. Дело ведь не в том,
что режиссер не уделяет актеру времени для оговаривания ро-
ли. Иногда времени достаточно, но важно его правильно ис-
пользовать. В процессе работы режиссер все время тесно об-
щается с актером, но не всегда находит с ним общий язык. Это
можно понять и в общем, и в частном смысле. Очень важно
уметь разговаривать с актером, уметь пользоваться богатым
режиссерским языком. Я убежден, зачастую бедность режис-
серского языка целиком связана с бедностью режиссерской
мысли. Часто актер говорит про режиссера: «Он долго разгова-
ривал со мной о роли, но я не понял, что он хочет от меня».
Все усложняющийся внутренний мир современного героя,
богатство его натуры, яркость характера требуют и богатого,
разнообразного и выразительного режиссерского языка для об-
щения с исполнителем. А язык зависит от темперамента ре-
жиссера, от богатства его жизненного опыта, от характера его
фантазии.
68
Важно не только, что сказать, важно, как это сказать, что-
бы мысль дошла и стала ясной актеру.
Иной раз язык режиссера бывает катастрофически беден,
несмотря на то что произносятся чрезвычайно длинные тирады.
Все дело в том, что длинные режиссерские разговоры зачастую
не содержат той реальной, заражающей актера истины, кото-
рая высекает в нем искру творчества.
Стоит вчитаться в записи репетиций наших великих теат-
ральных учителей, чтобы понять, насколько живым, образным
и пластически-выразительным был их режиссерский язык.
Мне жаловались актеры, что иные режиссеры, приходя на
репетицию, подробно излагают общегосударственные, общепар-
тийные задачи, читают пространную лекцию, а когда прихо-
дится приступать к репетициям и съемкам, то на это не хва-
тает ни времени, ни внимания, а может быть, и... мыслей.
Есть и другая крайность. Один молодой актер рассказывал
мне, что его вызывали на пробу на одну из студий и сказали
ему и его партнеру так: «Ты — председатель колхоза, выхо-
дишь справа, а ты — колхозник, выходишь слева. Если вы
знаете текст, давайте начнем пробу...»
Не могу не вспомнить, как однажды в юности я стал жерт-
вой собственного режиссерского косноязычия. Шла запись му-
зыки к одной из первых картин. Я пришел в ателье, где репе-
тировал оркестр. Дирижер, будучи человеком вежливым, обра-
тился ко мне как к режиссеру:
— Какие есть у вас пожелания к записываемому номеру?
Чувствуя, что должен выразить что-то «квалифицирован-
ное» и «сложное», я пятнадцать минут объяснял ему, что хо-
тел бы услышать в этом музыкальном куске. Дирижер меня
внимательно выслушал, сказал, что так и сделает, подошел к
дирижерскому пульту и, обратившись к оркестру, произнес три
слова: «Медь, раструбы вверх!» ...И стал дирижировать. Всю
сложную тираду, произнесенную мной, он вложил в одну ко-
роткую и понятную оркестру фразу. С того времени моим де-
визом в работе с актером является: «Раструбы вверх!» (Разу-
меется, нужно сначала самому ясно представить, чего ты хо-
чешь добиться от актера.)
Мне кажется, что самым большим недостатком режиссер-
ского языка является рационализм, образная и эмоциональная
бедность. Часто правильная мысль, выраженная не образным,
не метафорическим языком, а сухим, рациональным, может
отбить у актера всякую охоту к действию.
69
Один начинающий режиссер, не обладавший достаточным
опытом работы с актером, пришел на репетицию, что назы-
вается, «пустой». Он предложил актеру сыграть кусок, пред-
назначавшийся для пробной съемки, но путного ничего расска-
зать не мог.
— Вы действуйте, — сказал он актерам, — а я пойду за ва-
ми. Мне не хочется сковывать вашу фантазию.
Из пробы ничего не вышло.
Горечь этого случая должна стать наукой для тех, кто пы-
тается отделить искусство режиссуры от искусства работы
с актером.
Не могу не поведать об одном весьма примечательном слу-
чае, про который мне рассказывали товарищи.
Дело было в далекой степной республике. Там только что
организовали драматический театр из непрофессиональных ак-
теров. Зная хорошо быт и обычаи своей страны, эти самодея-
тельные актеры неплохо разыгрывали на сцене пьесы о своем
народе. Приехавший руководитель не нашел ничего лучшего,
как с места в карьер учить своих учеников всем терминологи-
ческим тонкостям системы Станиславского.
Это несколько испугало учеников, и они все реже и реже
стали посещать репетицию.
Когда наша экспедиция приехала на место съемок и я за-
хотел познакомиться с актерами местного театра, то почти ни-
кого не застал. Оказывается, руководитель сказал ученикам:
«Езжайте в степь, и пусть каждый из вас найдет себя» (то есть
свое призвание, хотел он сказать). Несколько недель молодые
актеры не являлись в театр. Все «искали себя». И не найдя,
почли за благо заняться более понятным и нужным делом —
пасти стада!
Как важно найти общий язык с актерами!
Чему я отдаю предпочтение в языке режиссера? Рассказу!
Но в том случае, если рассказ — образный, яркий, если он вы-
зывает зримые и, так сказать, пластические ассоциации; ведь
только в результате такого рассказа возникает, что называется,
аппетит к игре. Если режиссер сможет рассказать, кто такой
Петр Петрович, и вызвать своим рассказом у актера реальное
представление, то тот скажет: сейчас я его вижу, как живого,
мне хочется его сыграть.
Вспомним, каким удивительным рассказчиком был Всево-
лод Пудовкин, какие яркие и неповторимые образы возникали
в рассказах Довженко!
70
Никогда не забуду ощущения головокружения, возникшего
у меня от рассказа Пудовкина о первом его полете в открытом
самолете на большую для того времени высоту. Это был удиви-
тельный, эмоциональный и в то же время пластически точный
рассказ (до сих пор помню ощущение от замерзающих на
большой высоте ресниц, которые склеиваются и мешают смот-
реть).
Сила ассоциации в рассказе чрезвычайно важна.
В романе братьев Гонкур «Актриса» есть отличная сцена,
изображающая репетицию «Федры». Талантливая актриса, об-
ладающая удивительной способностью проникновения в образ,
ищет нужных интонаций для своей героини, а режиссер встав-
ляет свои замечания в таком духе: «Эту сцену, как мне кажет-
ся, надо начать с большой глубиной чувства», «эти слова надо
произнести так, чтобы в них чувствовалась какая-то затаенная
мысль», «здесь резкий переход и понижение голоса на слове
«но» ...» и т. д.
К сожалению, подобная несложная фразеология режиссеров
XIX века нередко повторяется и в наше время. Как часто вме-
сто точного и образного подсказывания рождаются эти пресло-
вутые «играйте по жизнй» или «бытовее», «больше жизни»
и т. п. Как часто большая правда искусства подменяется ма-
ленькой правденкой бытовых интонаций и тусклого говорка.
Возникает иногда вопрос: нужен ли режиссерский показ?
Нужен, отвечаю я, но тогда, когда показ лаконичен и точен.
Показ — чрезвычайно ответственное дело. В нем проявляет-
ся иногда своеобразное режиссерское щегольство, страсть де-
лать все за всех. Я знаю режиссера, который любил показы-
вать абсолютно все, не давая актеру никакого простора для
самовыявления и сковывая его творческую фантазию. Никогда
не забуду также, как однажды солидный и толстый дядя ре-
жиссер показывал маленькому мальчику, как надо играть.
Через несколько минут непосредственный и искренний малень-
кий актер (дети всегда таковы) превратился в скучный мане-
кен, послушно исполнявший все то, что ему показывал «дядя».
Основы искусства актера, конечно же, общи для театра и
Для кинематографа. Трудно представить себе современного
актера, который не старался бы в своем творчестве применять
великие уроки Станиславского, не овладел бы, в той или иной
степени, его системой.
Однако принципы игры перед аппаратом имеют отличие от
принципов театральной системы. Основное, на мой взгляд, от-
71
личие состоит в том, что исполнение какого-либо куска роли
перед аппаратом происходит лишь один-единственный раз. Сле-
довательно, актеру нет надобности ни закреплять найденное,
ни уметь вызвать в себе необходимое чувство множество раз,
как это неизбежно приходится делать на сцене.
Правильно сказал кто-то из актеров: «Игра в кино — это
постоянная премьера. Пятьсот кадров — пятьсот премьер!»
Сыграв кусок на этой «премьере», актер знает, что после нее
никогда уже не последует рядовой спектакль, повторение най-
денного и закрепление его. Поэтому решающее значение в ки-
ноигре приобретает импровизация. Люди, не привыкшие к та-
кому методу, считают его недостатком, но в нем есть великие
достоинства. Импровизационность в работе киноактера прибли-
жает исполнение к той степени жизненности, на которую труд-
но рассчитывать в театре. Она — великое достоинство киноис-
кусства, его подлинная, а не мнимая специфика, открывающая
огромные просторы для фантазии. В то Же время она требует
высокого совершенства от актера, глубокого осознания им ма-
териала роли и своей задачи, ясного, реального представления
об идее всего произведения. Одним словом, импровизация тре-
бует тщательной подготовки.
Как далеко это волнующее искусство импровизации от бы-
тующей у нас, к сожалению, приблизительности в работе, от
дилетантизма и откровенной халтуры. Нет ничего общего меж-
ду искусством импровизации и пресловутым «давайте с хо-
ду!» — этим лозунгом не кинематографистов, но «киношни-
ков».
Этим «давайте с ходу!» прикрывается часто неспособность
к осмыслению сценария, привычка играть уже сыгранное
в другой картине, это спасительное «идти от себя», надежда
на то, что «музычка вывезет» или «смонтируется и будет в по-
рядке». Искусство импровизации требует и особой режиссер-
ской техники. Режиссер должен знать и чувствовать, когда
следует прекратить репетицию, чтобы оставить у актера сво-
боду импровизации, исключить заученность, немедленно рож-
дающую механическое исполнение, омертвляющую, если мож-
но так сказать, «ткань игры».
От режиссера требуется также умение подвести к импрови-
зации в тот момент, когда все ясно актеру, когда от этой яс-
ности наступает желаемая свобода импровизации, нужный по-
кой и раскованность.
72
В самый момент игры режиссеру иногда приходится помо-
тать актеру, ставя перед ним неожиданные и выгодные для
данного куска задачи, «подстегивающие» фантазию актера.
Все это требует длительной, вдумчивой самоподготовки.
Алексей Баталов просил меня часто в процессе съемок от-
ветственных крупных планов подсказывать ему неожиданные
задачи для того, чтобы реакция была непосредственной и им-
провизационно-свежей. И вовсе не недостатком актера являет-
ся то, что он, единожды сыграв кусок, не может повторить его
без потерь, играя второй дубль хуже первого, а третий хуже
второго. Здесь, как и в спорте, первая попытка может быть и
еамой результативной. Это вовсе не исключает необходимость
длительной тренировки.
Расскажу об одном случае, когда режиссер был участником
импровизации актера.
В. П. Марецкая долго репетировала свою роль в фильме
«Член правительства». Однажды она напугала меня неожидан-
но законченным, блестящим исполнением сцены — это было на
генеральной репетиции. Она играла сцену, где Александра Со-
колова возвращается с чужой свадьбы навеселе, обливает во-
дой незадачливого Никиту, решившего воспользоваться ее вре-
менным «вдовством», затем смеясь садится на свою вдовью по-
стель, перемежая смех слезами, и, наконец, разражается неис-
товым бабьим одиноким плачем-причитанием. Кусок трудный,
что и говорить. И вот на генеральной репетиции он сыгран
блестяще. Ясно, что «вторая попытка», то есть съемка, навер-
няка не удастся.
Опасения сбываются. Первый дубль не выходит. Вернее, не
получается естественный смех. На репетиции было смешно,
хотелось поэтому смеяться, а на съемке уже заранее все из-
вестно, свежесть импровизации исчезла, и рассмеяться трудно.
И вот мы с Верой Петровной придумываем средство: она по-
смотрит в мою сторону в момент съемки, а я должен буду
скроить невероятную гримасу и рассмешить ее. Съемка начи-
нается. Мы оба волнуемся. Она — за свое исполнение, я — за
свою гримасу. В нужный момент она, не прекращая действо-
вать, смотрит в мою сторону, я напрягаю все свои способности,
и... она хохочет, заразительно, неподдельно. Хохочет, затем на-
чинает плакать. Отлично! Но... у оператора нет уверенности
в том, что дубль надежный. Нужно повторить. А как? Я быстро
истратил свой запас. Пробуем еще раз. Все идет отлично,
в нужный момент Вера Петровна обращает взор в мою сторо-
73
ну, и я скраиваю рожу такую невероятную, что осветители на
вышках покатываются со смеху, приборы и лучи света подра-
гивают, но Вера Петровна уже не может рассмеяться так же
естественно, как в первый раз. Мой запас импровизации
иссяк!
Через несколько лет мы встретились с В. П. Марецкой
в Кисловодске. Там гастролировал Театр имени Моссовета, и
она играла «Хозяйку гостиницы». Мы вспомнили историю со
смехом и долго смеялись. Вера Петровна пригласила меня
в театр и попросила, чтобы я сел в первом ряду. Она сказала:
«В нужный момент я посмотрю на вас, и вы, незаметно для
публики, скорчите рожу». Я так и поступил. Она отлично про-
вела заключительную часть сцены, ее заразительный смех вы-
звал бурную реакцию ничего не подозревавших зрителей.
Существуют, как вы знаете, и другие особенности игры
перед аппаратом. Безусловность обстоятельств действия (река
с ее быстрым течением в «Чапаеве» требует и всамделишного
умения плавать, и дрожать от холода приходится естественно,
и тонуть опасно, и усталость не надо изображать — она прихо-
дит сама по себе).
Но не только в этом отличие кино от театра.
Игра «вразброд», отсутствие длительности эпизода с посте-
пенным развитием линии действия, нарушение естественной
логики и последовательности поступков, «чересполосица» эмо-
ционального, логического, ритмического рядов, необходимость
«собираться» мгновенно для короткого куска, не связанного
непосредственно с предыдущим, и отсутствие, таким образом,
нужного «разгона» перед прыжком, отсутствие зачастую есте-
ственного общения с партнером, игра в «пустоту», без партне-
ра, без ответного тока с его стороны, игра без зрителя, без его
контроля ц без поправки на его реакцию. И, наконец, особая,
сковывающая точность мизансцены (на сантиметры!), свет и
микрофон, ограниченность кадра, постоянная мысль о том, что-
бы «не срезаться», чувство камеры, которую нельзя перегнать
и от которой нельзя отстать! Эта осознанная актером необходи-
мость должна превратиться для него в подлинную свободу
творчества перед аппаратом.
Но главное в том, что все эти и многие другие свойства
кинематографической природы придают особое значение ре-
жиссеру и его взаимодействию с актером.
Сама технология киноискусства создает режиссера-едино-
начальника. Только он в состоянии держать в уме целое,
74
контролировать и управлять всем процессом съемки, заменять
актеру зрителя, то есть вторую сторону любого зрелища, без ко-
торой оно, зрелище, не существует. Этот единственный зритель
не имеет права быть холодным, лишать актера счастья прове-
рять на нем результат своей игры и получать тут же, на месте,
взамен отсутствующих аплодисментов одобрительный кивок,
комплимент либо ощущать холодок несогласия. Актер по своей
природе — тонкая и нервная личность, возбудимая и впечатли-
тельная. Режиссер должен уметь управлять настроением акте-
ра, беречь в нем священный огонь творчества, который легко
гаснет от присутствия бесстрастного человека с рупором, в за-
щитных очках, из-под которых не видно живых глаз. Этих глаз
больше всего ищет актер после сыгранного куска.
Общеизвестно, что играть — значит действовать. Нельзя
уяснить себе понятие игры, не отождествляя ее с понятием
действия. Многие из нас, режиссеров, часто упрощенно пони-
мают действие лишь как внешнее. Жизнь, сложная в своих
проявлениях, дает нам бесконечно разнообразные примеры
действия — внешнего и внутреннего. Рассматривая и вскрывая
какой-либо кусок сценария, вы неминуемо находите в нем эле-
менты как внутреннего, так и внешнего действия. Ведь, как
известно, можно действовать, преодолевая собственную инер-
цию либо собственное активное сопротивление. Простейший
пример: человек идет на опасное и трудное дело, преодолевая
чувство страха, чувство самосохранения. Его сознание стано-
вится сильнее инстинкта.
Как часто бывает, что актер, выучивший наизусть текст
роли и твердо знающий «анкету» своего героя вплоть до ба-
бушки и дедушки, не видит в куске сложности действия и по-
этому старается выразить самую поверхность происходящего,
так сказать, «сценарный факт». Но «сценарный факт» еще не
становится фактом искусства, если он не выражен актером,
нашедшим сложную гамму внутренних и внешних дей-
ствий.
Все это, повторяю, общеизвестно, но мы часто либо об этом
забываем, либо упрощаем важнейший процесс работы с акте-
ром.
Бывают, к сожалению, случаи, когда очень талантливые
исполнители не идут дальше простого описательного изобра-
жения происходящего. Это значит, что режиссер не помог им
найти в сцене какого-то «короткого замыкания» и не вызвал
искры.
75
Недавно на «Ленфильме» был снят маленький дипломный
фильм по чеховскому «Дипломату». Как читатель помнит,
в этом рассказе описан некий полковник Пискарев, которому
поручается деликатная и сложная миссия: дипломатично под-
готовить чиновника Кувалдина к страшному горю — внезапной
смерти жены. Юмор рассказа заключается в том, что «дипло-
мат» оказывается не на высоте, пробалтывается и повергает
Кувалдина в истерику.
Фильм получился плохим, несмотря на то что Пискарева и
Кувалдина играли очень способные, серьезные актеры. Остро-
та и юмор ситуации исчезли, линии действия были вскрыты
неточно и невыгодно для исполнителей. Чиновник Кувалдин
уже в начале фильма сидел понуро за своим столом. Создалось
впечатление, что он либо уже знает о случившемся, либо внут-
ренне к нему подготовился. Таким образом, и функции «дип-
ломата» обеднились. Миссия его кажется нам, зрителям, не
такой уж сложной. Одним словом, притупленное действие
обеднило и юмор ситуации, исполнители, утеряв какую-то
«изюминку», действовали вяло, чувствуя, что выходит не
смешно.
Я спросил у режиссера, почему он заставил чиновника стра-
дать уже в самом начале фильма. Он мне ответил, что, так как
дело происходит в конце рабочего дня, Кувалдин наверняка
устал, поэтому он и попросил актера выразить своим поведе-
нием эту усталость. Найдя, таким образом, совершенно не обя-
зательные и не выгодные для игры обстоятельства, режиссер
упустил главное и наиболее выгодное действие. А ведь если бы
Кувалдин был в начале фильма весел и беспечен, то «дипло-
мат» Пискарев очутился бы перед большим и сложным
препятствием и действие приобрело бы необходимое напря-
жение.
Вскрывая внутреннее действие, мы должны направлять
поиски в наиболее выгодном направлении, а не вообще искать
«обстоятельства ради обстоятельств». Поясню мысль на при-
мере того же «Дипломата». Можно было продолжать усложне-
ния в поведении чиновника Кувалдина. Режиссер мог предпо-
ложить, что Кувалдин напился и у него болит голова. Сами по
себе эти обстоятельства, может быть, и выражают режиссер-
скую фантазию, но фантазия эта направлена не по главному
стратегическому направлению, не помогает выиграть целое, не
создает разницы уровней в действии героев. А раз нет разницы
уровней, то не возникнет и течения.
76
Действие и противодействие, понятые сложно, рождают то
диалектическое единство, без которого нет движения, нет тече-
ния. А без этого искусство актера мертво.
Вот пример из моего собственного фильма «Дама с собач-
кой». Поиски внутреннего действия в этом простом и незатей-
ливом, на первый взгляд, рассказе чрезвычайно сложны.
В самом деле, что в нем происходит поначалу? Скучная,
тоскливая курортная Ялта. Все неподвижно, бездейственно.
Случайно знакомятся Анна Сергеевна и Гуров. Гуляют. Потом
идут встречать пароход. Можно снять пейзажи, проходы по
набережной, затем — мол, праздничную толпу, Анну Сергеев-
ну и Гурова, встречающих пароход. Какое же действие может
здесь возникнуть? Смысл первой части рассказа как раз и со-
стоит в том, что герои существуют в скучной обстановке ку-
рортной осени.
Помните, Анна Сергеевна говорит Гурову в гостинице:
«Я люблю честную, чистую жизнь, а грех мне гадок... Простые
люди говорят: нечистый попутал». И еще: «...И здесь все ходи-
ла, как в угаре, как безумная...» Следовательно, гуляя с Гуро-
вым по улицам и набережным, Анна Сергеевна понимала, что
встречи эти могут привести ее к «грехопадению», она как бы
боролась сама с собой, боролась с соблазном и в то же время
все более влюблялась, шла навстречу «греху». И когда в тем-
ных и узеньких закоулках старой Ялты она с Гуровым оста-
валась наедине, то не могла не пугаться этой вынужденной
близости и, борясь с собой, находила повод увести Гурова
в толпу, на набережную, чтобы сами обстоятельства помогли
ей защититься от проснувшейся в ней страсти.
Когда это внутреннее действие, это неравновесие, эти стал-
кивающиеся, противоборствующие чувства были вскрыты, ак-
теры получили настоящий материал для игры. И все двинулось
к намеченной цели.
Я не сказал еще об одной, вероятно, самой значительной
стороне в работе с актером — о работе над характером. Но эта
тема требует особого внимания.
Из плохого сценария не выйдет хороший фильм. Но из хо-
рошего сценария может получиться и хороший, и прекрасный,
и великолепный фильм — в зависимости от степени обогаще-
ния в процессе работы. И главным образом, в процессе работы
режиссера с актером.
1962
ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ
1. любить своих героев
Каждого, кто берется за фильм о нашей современности,
волнует «проблема героя». «Герой нашего времени» — об этом
много спорят, пишут, но из всего этого можно сделать лишь
один твердый и бесспорный вывод — нельзя создавать рецеп-
тов, по которым следует «приготовлять» героя! Современный
герой сам, своими поступками и мыслями должен завоевать
любовь зрителя. Не надо делать это за него, не надо бояться
ставить своего героя (любимого!) в невыгодное положение, не
надо пытаться очаровать зрителя заранее приготовленным
«обаянием».
В сценарии написано про героя все, но этого мало. Процесс
работы над фильмом — это беспрерывное обогащение первона-
чального замысла. Ведь и автор, раздумывающий над жизнью,
не просто списывает своих героев с живых прототипов. От про-
тотипа до типа — огромная дистанция. Такая же дистанция от
того, что написано пером, до живого, зримого и весомого чело-
века на экране.
2. современный герой и его предки
Раньше всего нужно, видимо, сказать о том, что герои не
рождаются заново, не возникают на пустом месте — они имеют
в жизни и в искусстве прототипов, родственников, предков.
Ведь и вся наша культура, наше новое, социалистическое ис-
кусство родилось не по пролеткультовским рецептам в реторте.
Наша культура возникла на базе всей прошлой культуры чело-
вечества как ее высшая стадия. Наш общественный строй так-
же рождался, зачинался в недрах прошлого, наши люди — за-
конные наследники всех богатств прошлого своего народа, хотя
сами целиком уже в новом обществе, и души у них новые, и
ум, и сердце особые.
Новый наш герой (я имею в виду фильм «Дорогой мой че-
ловек») — врач, интеллигент. Он новый человек и вместе с тем
имеет родственников в живой жизни и в литературе. Кто же
78
они? Их надо знать, обязательно знать, и вовсе не для
абстрактных рассуждений, от которых часто ничего не остает-
ся «в кадре», а для реального дела, для лепки характера. От-
личительные черты нашего героя — чувство долга, гуманизм,
служение народу. Но и русское, дореволюционное общество,
русская литература прошлого знали немало отличных людей,
людей долга, гуманистов, смысл жизни которых был в служе-
нии народу. Если применительно к моему герою врачу брать
только врачей, то первые же имена, что приходят в голову, это,
к примеру, Пирогов, Вересаев или литературные герои — Ды-
мов, Астров. И многие, многие другие.
А каких замечательных героев ежедневно рождает наша
советская действительность — людей великого подвига, окры-
ленных благородной идеей, людей умных, скромных! Но часто
ли мы видим их на экране? Именно таких — умных, скромных,
идейных, умеющих мечтать и, мечтая, совершать поступки,
действовать.
Идейный? Значит ли это только идейно «подкованный»,
владеющий знаниями марксизма-ленинизма и часто об этом
громогласно заявляющий? Очевидно, что только тогда, когда
революционная теория переходит в естественное жизненное
стремление, в обыденную каждодневную программу жизни,
когда она без слов, без риторических клятв и торжественных
обязательств начинает владеть существом человека, она стано-
вится составной частью характера, его «зерном». Нам надо
учиться раскрывать в наших героях это ставшее естественным,
органическое чувство высокой идейности.
3. патетика истинная и ложная
Очень часто в фильмах ставится вопрос — жить или суще-
ствовать? «Жизнь для личной жизни» — эта формула мещан-
ского эгоизма, индивидуализма, стяжательства, стихии шкур-
нических интересов еще, к сожалению, не сдана в архив. Это
наиболее стойкое проявление того старого, которое еще путает-
ся под ногами у шествующего вперед нового. Жить — значит
служить общему делу, отдавать все лучшее, что есть у тебя,
твоему народу, это значит дерзать, презирать покой, быть го-
товым к подвигу. Подвиг всегда звучит красиво, но часто
в существе своем подлинный подвиг более труден и прозаичен,
чем это кажется любителям красивой позы.
79
Мы часто называем патетикой лишь внешнее, открытое
проявление чувств. В наших современных героях мы очень
редко пытаемся найти ту внутреннюю патетику, которая пред-
ставляет великую ценность в человеке.
У Льва Толстого в его «Севастопольских рассказах» герои
сдержанны, лишены внешнего блеска и позы, молчаливы и
скромны. Патриотизм русского народа изображен Толстым как
простое и само собой разумеющееся дело. В этой застенчи-
вости, скромности, когда дело касается внешнего, громоглас-
ного выражения любви к родине, Толстой, как известно, видел
одну из типичных черт русского национального характера. Это
качество и теперь присуще нашим людям.
Но скромность в выражении чувств — одно, а тонкие наме-
ки вместо прямых слов — другое. Прямые и открытые слова
утверждения вовсе не всегда «лобовые», точно так же как не
всегда признак глубины и глубокомыслия — намеки вместо
фраз, иносказания и пришептывание вместо ясно выраженной
мысли.
4. простота или убогость
В последнее время приходится слышать странные разгово-
ры о так называемом психологизме. Причем любопытно, что
этим жупелом пугают актеров чаще всего режиссеры, не умею-
щие с ними работать. Глубокое проникновение во внутренний
мир героя, в его «диалектику души» часто понимают как
интеллигентскую рефлексию и ненужную усложненность.
Наш человек, видите ли, прямой, как столб, ясный, непо-
средственный — нечего копаться в его нутре. Это «удел
Чехова»!
О, эта «простота»! Она действительно хуже воровства. Хо-
рошая вещь песня! Но нельзя же всегда петь, когда герою не-
чего сказать или когда неизвестно, о чем он думает. «Психоло-
гизм» с приставкой «интеллигентский» несправедливо перено-
сится от рефлектирующих «героев» декаданса к интеллигент-
ным людям нашего общества. Помимо идейной и исторической
путаницы, это служит прикрытием художественной убогости,
ведет к притуплению требовательности художника, к обедне-
нию его мастерства.
В эпоху, когда постепенно стирается грань между трудом
умственным и физическим, человек любой профессии сложен,
80
богат внутренне и выражает свои чувства не только при по-
мощи баяна и песни!
У наших героев (тех, что на экране, а не в жизни) как-то
«обойдено» бывает их интеллектуальное начало. Не всегда,
разумеется, но часто. Современный человек — человек произ-
водительного труда, новатор по натуре. Но за пафосом высоких
трудовых показателей мы стали забывать его мысль, ум, эру-
дицию.
Люди на экране редко спорят, строят догадки, высказывают
острые суждения, впадают в полемический задор, рассуждают
об общих законах жизни. Если это и случается, то только
в специальных случаях. Это удел ученых. Герои мысли и герои
мускулов часто грубо разделены в наших сценариях, а следо-
вательно, и в фильмах. А мораль и этика? Почему-то эти поня-
тия трактуются только в так называемых бытовых фильмах.
Почему-то моральные и этические основы жизни стали достоя-
нием лишь возлюбленных, невест, брошенных жен. Мысль
о жизни, о своем месте в ней, о долге — то, что мы называем
«внутренним миром» героя, почти всегда остается «за кадром».
Кличку «голубой» мы часто даем герою, который не изме-
няет жене, не пьет, не сомневается, не завидует, не совершает
ошибок, одним словом, не делает ничего того, что по ремеслен-
ной рецептуре необходимо для «полноты» характера. «Голу-
бой» герой это тот, кто до конца принципиален и нелицеприя-
тен, смел и честен, лишен черт угодничества, постоянен в лич-
ной и гражданской жизни. Бывает ли это в жизни или это
схема?
«Голубизна» или «розовость» (и тот и другой цвет для меня
отвратителен) возникает часто вовсе не от наличия одних
лишь хороших качеств, а от механического отделения идей-
ности человека от его дела, высоких помыслов от быта, от
реальной практики. Мы часто говорим: «не бывает в жизни
таких» и в случаях, когда герой сплошь «черный», и в случаях,
когда он абсолютно «голубой». Отсюда и возник рецепт героя:
«черного» — пятьдесят процентов, «голубого» — пятьдесят про-
центов.
Не будем дозировать душевных качеств. Штамп есть и то
и другое!
У нас в последние годы возник своеобразный штамп «слож-
ности». Он реализуется через обязательную для механической
«сложности» формулу: «по началу он кажется нам плохим,
а в конце выясняется, что он хороший». Это для положитель-
81
ного героя. А для отрицательного — тот же штамп навыворот:
«в начале он рубаха-парень, а на поверку оказывается, что это
негодяй». Бывают в жизни сразу определяемые и узнаваемые
отличные люди и негодяи без сложности и маскировки, откро-
венные и примитивные.
Герой фильма «Дорогой мой человек» по рецептурному
определению «голубой». Это наш современник, и «плесень»
к нему не пристала.
5. сила примера
Часто приходится слышать, что если характер выписан без
недостатков, без странностей и изъянов — он неживой и в до-
стоверность его не поверят. Для «оживления» годны все сред-
ства — от крупных изъянов до мелких пятнышек («много ку-
рит», «много пьет», «грубый» и т. д.). Часто подобная мелкая
«трамвайная» правда подменяет собой большую правду харак-
тера, создает лишь имитацию «живого» человека. Вылепить
подобного «героя» просто, ибо защитой от внутренней пустоты
и лжи будет внешняя достоверность, правдоподобие и нату-
ральность, изготовленные по нехитрому рецепту. Подобный
характер никогда не станет примером.
Точно так же, как идейность немыслима без реальной
практики человека, так и партийность героя должна быть обя-
зательно связана с личным примером коммуниста. Если луч-
шие люди прошлого, предки нашего героя, становятся приме-
ром для него, то и он, в свою очередь, становится примером
для своих современников, для младшего поколения.
1958
О ТВОРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗОВАННОСТИ
Наконец возник у нас кинематографический поток. Совер-
шилось как бы второе рождение советского киноискусства.
Увеличение количества картин привело, как это и нужно было
ожидать, к качественному сдвигу. Пришли новые люди, моло-
дые силы, и это — самое отрадное. Формируется и новый опыт,
который, несомненно, двинет вперед порядком застоявшуюся
теорию нашего киноискусства.
Однако общее приподнятое настроение при просмотре, на-
пример, «Чужой родни», «Тревожной молодости», «Сорок пер-
вого» омрачается целым «косяком» посредственных, серых и
маловыразительных «товарных единиц». Все эти фильмы —
«Посеяли девушки лен», «Яхты в море», «Есть такой парень»
и, к сожалению, многие другие — заставляют серьезно приза-
думаться над причинами неудач произведений, сделанных
в спешке, точно ударом одного и того же штампа.
Совершив огромный количественный скачок, наше киноис-
кусство, естественно, не могло сразу и полностью освободиться
от лакировки, схематизма и конъюнктурщины. В этом смысле
киноискусство нельзя изолировать от недостатков сценариев,
этого наиболее отсталого участка нашей литературы. Но есть,
на мой взгляд, и другие причины, снижающие художественный
уровень кинокартин и мешающие росту режиссуры.
Эти причины кроются в организации создания фильма.
Я не буду сейчас затрагивать сценарных вопросов, о которых
уже много писали, а попытаюсь изложить некоторые обстоя-
тельства — возможно, и не главные, но весьма существенные.
Важнейший фактор в искусстве — талант. Больше будет
талантливых людей в кино — больше будет и талантливых
картин. Но надо развивать талант, создавать условия, в кото-
рых талантливый человек может проявить себя. А что значит
проявить себя? Это значит, в первую голову, много работать,
уметь сконцентрировать ум, волю и все. свои духовные силы
на главном, то есть на творческом процессе.
В кинопроизводстве это не всегда зависит от самого худож-
ника — режиссера или актера (ограничусь только этими дву-
мя профессиями, так как лучше знаю условия их деятель-
83
ности). Создание фильма — коллективный труд, здесь тесно
переплетаются искусство, техника, экономика. К сожалению, в
нынешних условиях кинопроизводства большая часть времени
уходит не на художество, не на проявление таланта.
Конструктор станка заботится о том, чтобы максимально
увеличить рабочее время машины, то есть выиграть секунды
или доли секунды, которые идут непосредственно на дело, а
не на холостой ход, подготовительные операции и т. д. Нам на-
до всерьез подумать о том, как, не удлиняя работу над филь-
мом, увеличить время, идущее непосредственно на творчество,
на проявление таланта, на обдумывание и фантазию.
Наши плохие фильмы, помимо всего, скороспелые. Кино
по своей природе — искусство во многом импровизационное,
искусство моментального штриха. В съемке, как бы ее ни под-
готовили, всегда множество моментов импровизации. В отличие
от театра система актерской игры перед аппаратом не рассчи-
тана на многократные повторения в течение многих лет жизни
спектакля. Прелесть и своеобразие киноигры как раз заклю-
чаются в том, что нужная степень совершенства в каждом
куске достигается лишь на одно мгновение один раз и навсегда
(пленка фиксирует навсегда!). Но импровизационный харак-
тер творчества не исключает, а подтверждает необходимость
целенаправленной, глубокой подготовки свободного и созна-
тельного владения мастерством. Талант растет и проявляется
лучше всего в напряженном, деятельном ритме. То, что сдела-
но «на едином дыхании», не только доставляет наслаждение,
но и приносит наилучшие плоды. Но делать быстро — еще не
значит спешить. Спешка, отсутствие творческого раздумья —
плохие союзники искусства. Надо ставить фильмы быстро, но
нельзя делать их наспех.
Как это ни парадоксально звучит, но, заботясь о художе-
ственности фильмов, приходится думать не столько о творче-
ских категориях, сколько о перестройке техники, общей куль-
туре производства. Недостатки в этих вопросах отнимают самое
ценное у режиссера и актера — их творческое время.
Особенность кино, его «романтика» состоит в противоречи-
вом единстве искусства и промышленности. Тончайшие нюан-
сы в работе актера в ателье идут рука об руку с электриче-
скими агрегатами, вдохновение — с геометрической точностью
движения камеры, капризная фантазия — с железными зако-
нами оптики. Но не следует забывать, что идея, мысль, искус-
ство есть цель, а все остальное — лишь средство.
84
Наши газеты, вдумчиво рецензирующие фильмы и сцена-
рии, иногда пишут и о студиях. Но в этих статьях чаще всего
фигурируют такие понятия, «как состояние фундусного хозяй-
ства», «задел сценариев», «загрузка съемочной площади»,
«процент полезного метража» и т. п. Но часто ли пишут, как
в пыльных и отравленных вредными продуктами сгорания
ателье трудятся художники, что мешает им в поисках и стрем-
лениях, что питает их творческую фантазию, как, какими уси-
лиями и в каких условиях добиваются они того, чтобы «полез-
ный метраж» был действительно полезным для общества, чтобы
в нем было зафиксировано горячее, пульсирующее чувство,
чтобы щедро проявлялись таланты!
К сожалению, плохие или средние фильмы получаются
часто у способных режиссеров, неудачные роли у умных та-
лантливых актеров. Снижение качества в этих случаях проис-
ходит от наспех принятых первых решений, а первое решение
не всегда лучшее, хотя и является единственным средством
борьбы с «цейтнотом». Пороком «приблизительного решения»
художественной задачи часто страдают режиссерские сцена-
рии — эти «волшебные книги», где должно быть заранее за-
фиксировано все: образ каждого куска картины, монтажный
ритм, музыка и мизансцена, вся пластическая сторона будуще-
го фильма, колорит и световые решения кадра, технические
приспособления и трюки. Классическим примером подробного
«сценария» может служить режиссерский экземпляр «Отелло»
К. С. Станиславского. В своем «сценарии» Станиславский не
упустил ни одного штриха будущего спектакля. Каждый жест,,
каждая фраза объяснены и «вскрыты» им с предельной яс-
ностью, с удивительным чувством целого. В «сценарии» запи-
сано не только то, что имеет прямое отношение к действию
трагедии, но и множество вспомогательных вещей, наталки-
вающих актера на верное поведение. В режиссерском экземп-
ляре «Отелло» целые страницы посвящены планировке и ми-
зансцене, техническим деталям: устройству качающейся гон-
долы или весла, создающего при движении эффект водяных
всплесков.
Для чего понадобилось Станиславскому такое подробное
изложение своего замысла? Он объясняет это вынужденной
в то время необходимостью руководить постановкой издалека,,
без постоянного, каждодневного общения с труппой, когда
в застольных беседах и на репетициях постепенно складывает-
ся лицо спектакля. Для кинорежиссера такие условия не
85
исключение, а правило: едва ли найдется в истории советского
кино несколько примеров, когда фильм предварительно репети-
ровался с полным составом актеров, как это бывает в любом,
даже самом маленьком местном театре. Обычно фильм репети-
руется кусочками в случайной последовательности, чаще всего
в день съемки, или не репетируется вовсе. Тогда сцена рож-
дается прямо на съемочной площадке. Для режиссера поэтому
подобная предварительная запись будущего фильма во всех его
мельчайших подробностях — единственно возможный метод. Но
съемочная площадка с ослепляющим светом и производствен-
ной суетой — плохое место для обдумывания сложных художе-
ственных задач. И режиссер, у которого не сложилось подроб-
ного представления обо всех деталях фильма до съемки, всегда
может стать жертвой спешки или грубой и непоправимой
ошибки в момент импровизации на съемочной площадке.
А между тем часто съемочная площадка единственное место,
где режиссер думает о сцене. Ведь нельзя же всерьез рассчи-
тывать, что полтора месяца, предоставленные ему на режис-
серский сценарий, — достаточный срок для зарождения и фик-
сации, по существу, всего самого главного и ответственного в
постановке (обычно в эти же полтора месяца режиссер должен
провести актерские пробы и работу с художником, композито-
ром и оператором). А как же быть с изучением жизни? Когда
же отыскивать живые и типичные штрихи характеров, знако-
мясь с их прототипами — окружающими людьми, когда выез-
жать в цехи или колхозы, присутствовать на операции или
спускаться в шахту? Когда, наконец, читать литературу, посе-
щать музеи? Нет, здесь очень трудно свести концы с концами!
Никогда не забуду мучительного ощущения стыда и боли,
которое не оставляло меня во время просмотра «Дела Румян-
цева». Сколько я увид'ел своих ошибок, в спешке недодуман-
ных решений! А ведь фильмы наши рассчитаны на многомил-
лионные аудитории во многих странах мира. Чтобы снимать
быстро, готовиться надо медленно и до того, как включится
неумолимый «счетчик такси» — дни, отпущенные на постанов-
ку. Нужно точно соблюдать технологию фабричного производ-
ства фильма, выработать график съемок и монтажа. Но как
быть с фантазией? Она не всегда действует по графику. Все
это отнюдь не означает, что режиссерский сценарий в его про-
изводственной форме должен стать многотомным трудом или
что производство фильма должно превратиться в некую худо-
жественную «вольницу».
86
Дело совсем в другом. В истории съемки любой картины
существуют два периода. Первый — назовем его студийным, —
когда подготовка не требует никаких вспомогательных средств
техники. Этот период напоминает студийную работу над спек-
таклем. Единственные участники здесь — режиссер, актеры,
художник. Результатом этого периода должен явиться подлин-
ный сценарий. Второй период — назовем его фабричным, —
когда выношенный замысел начинает воплощаться при помощи
многих людей, техники, когда вступают в силу железный гра-
фик и вся сложная фабричная технология.
Два эти периода, совершенно разные по своему характеру,
должны быть разграничены. Режиссер, предположим, вступаю-
щий в производство в ноябре, может готовить свой фильм
с мая (когда еще не включен счетчик).
Для этого он должен иметь возможность студийно работать
с художником и актерами, иметь право и финансы для поездок,
если они ему понадобятся. Студийный период не только удли-
нит творческое время режиссера, но и позволит ясно представ-
лять будущий фильм во всех его подробностях, а не ограничи-
ваться ни к чему не обязывающей декларацией при утвержде-
нии режиссерского сценария в художественном совете студии.
Разделяя эти два периода, надо отдать предпочтение худо-
жественному началу перед производственно-фабричным. Но и
в фабричный период кинофабрика должна быть организована,
как цех экспериментальных машин, где каждая единица про-
дукции — не сошедшая с конвейера штампованная консервная
банка, а уникальная, своеобразная отдельная вещь. Вот о чем
должны подумать наши плановики и экономисты, часто сочи-
няющие на редкость оторванные от жизни нормативы и инст-
рукции. Беда всех этих руководств в том, что они рассчитаны
на некие идеальные условия. Почитаешь эти инструкции и
спрашиваешь себя: видели ли эти люди когда-нибудь не «об-
щие и средние данные», а живую съемку? Потолкались ли
хоть несколько дней в ателье или на солнцепеке натуры?
Все эти причины свели на нет и такой важный для разви-
тия киноискусства фактор, как художественный эксперимент,
поиски новых выразительных средств фильма, новых возмож-
ностей отобразить многоликую жизнь во всех ее проявлениях.
В этом деле нет недостатка в призывах к дерзанию, к новатор-
ству в содержании и форме. Однако смелость и дерзание свя-
заны с риском, а на пути риска стоит во всеоружии железная,
неумолимая, установившаяся система создания фильма. Риско-
87
вать в нынешних условиях режиссер может только наверняка,
да и то, если он может обойти целый ряд условий и правил.
Вот и появляются на экране в большом количестве «верня-
ки» — это плоды производственного и творческого стереотипа.
Все, о чем было сказано выше, мешает нам работать луч-
ше, увереннее, плодотворнее. И тем не менее нет никакого
сомнения, что советское киноискусство рождает новую свою
славу, которая, несомненно, будет громче былой его славы.
Наши художники преодолевают стоящие на их пути пре-
грады и все дальше уходят от сомнительного благополучия
средних «удач». Надо так перестроить и нашу производствен-
ную систему, чтобы сберечь силы творческих работников и на-
править эти силы на главное — на создание ярких и правди-
вых фильмов о нашей жизни.
1956
ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
Чтобы отдохнуть от наукообразных докладов, где часто за
терминами плохо угадывается живая жизнь искусства, я рас-
скажу просто несколько поучительных историй. Как это любят
делать «бывалые солдаты». И не беда, если в этих историях
кое-что, за давностью времени, будет не точно или приукра-
шено вымыслом.
Думаю, что полезно будет для начала рассказать, как воз-
никали разные замыслы. Ведь замысел — корень, из которого
потом вырастет либо куст роз, либо чертополох. Бывает ино-
гда, что разного рода советчики не разглядят таящуюся в за-
мысле возможность и не посадят этот корешок в землю. И он
засохнет, так и не дав ростков. Правда, люди, стоящие напо-
добие повитух у колыбели рождающегося замысла, не хотят
зла. Они просто «не видят», а вы «видите». Все зависит от
глаза и от того, у кого какие очки. У кого розовые, у кого
темные, кто близорук, а кто и дальнозорок. Доказывать друг
Другу свою правоту бесполезно. Каждый по-своему прав, как
и тот дальтоник, что вместо красного видит зеленое.
Те, у кого никогда не рождались замыслы, думают, что
процесс творчества строго укладывается в определенную
схему, примерно такую. Вот — жизнь, действительность. Ху-
дожник суммирует свои впечатления, типизирует их, и у него
рождается формула замысла. Эту формулу он начинает «ожив-
лять» разного рода деталями, сюжетными хитросплетениями,
и получается произведение искусства согласно формуле. Ре-
жиссерский замысел примерно такой же. От общего к част-
ному: сценарий, сцена, кадр, деталь.
Великий художник Суриков не знал этого правила. Долго
не мог представить себе, какой же должна быть на его кар-
тине боярыня Морозова. Историю раскола изучил доско-
нально, сюжет картины был ясен, а центра — боярыни — все
не было. Потом увидел ворону на снегу и сразу все понял.
Возник образ.
Свой замысел сценарист или режиссер обычно излагает
в заявке, а редактор — в аннотации. Это вещь нужная. Без
нее не уяснить, хотя бы примерно, о чем пойдет речь в буду-
щем сценарии или фильме. Но аннотация и заявка вещи
91
служебные, приблизительные. И не в них беда, а в том, что мы
и думать начинаем аннотационно, то есть по формуле.
И зрители от нас научились подходить к делу с точным ле-
калом. Не все, конечно, но некоторые. Те, что учились пони-
мать искусство по плохим нашим картинам, которые столько
же похожи на искусство, как робот на человека.
Часто, просмотрев картину, «аннотационно» мыслящий
товарищ задает убийственный вопрос: о чем, собственно, ваш
фильм? Как это о чем? — удивляетесь вы. — Да о том, что вы
видели, и ни о чем больше. Разве можно рассказать об этом
в двух словах!
Лев Толстой очень хорошо сказал на этот счет. Рассказать
о содержании произведения может только само это произведе-
ние. А Чехов однажды делился своим замыслом примерно
так: «Думаю писать роман. Какие там будут женщины! Какие
свадьбы! Какие похороны!» Наш бы опытный «аннотацион-
щик» сразу догадался: наверно про загс!
Однако вернемся к замыслам. Вот хотя бы к возникнове-
нию «Депутата Балтики. Эта история в известном смысле по-
учительная, поэтому и входит в тему нашего разговора.
Я и А. Г. Зархи никогда и не помышляли ставить фильм
об ученом. Считалось, что поскольку мы сами были тогда в
комсомольском возрасте, то и ставить должны фильмы о мо-
лодежи. А люди преклонного возраста пусть занимаются ста-
риками. Но судьба решила посмеяться над нами и заодно над
теми, кто так думал. Одним из первых наших фильмов стал
фильм о семидесятилетием ученом Полежаеве. А в пятьдесят
шесть лет я поставил фильм о десятиклассниках. Если о по-
следнем фильме спорят — хорош он или плох, то — самое за-
бавное — «Депутат Балтики» вышел, по общему мнению, са-
мым лучшим нашим фильмом. Не знаю, как относится к этому
старейший наш режиссер А. В. Ивановский. Ведь именно ему
предназначался сценарий о Полежаеве, по возрастному при-
знаку.
Но и это еще не самая суть истории. Бывает так: хочешь
ставить про одно, а потом охладеваешь к первоначальному за-
мыслу и берешься за другое.
Так сказать, увидел ворону на снегу и — осенило. Но с
«Депутатом Балтики» вышло по-иному. Попал к нам сценарий
случайно, в силу стечения самых что ни на есть второстепен-
ных обстоятельств.
92
Написал для нас писатель Ю. П. Герман заявку по своему
роману «Наши знакомые». Роман этот нам очень нравился.
Интересные, сложные характеры, драматическая судьба ге-
роини, эпоха нэпа, почти не показанная в советском кино. Мы
увлеклись работой, массу выслушивали историй, ходили в
порт (один из героев — Скворцов — был торговым моряком),
приглядывались к старым официантам (все искали свою чер-
ную ворону на снегу). А тем временем сценарий «Беспокой-
ная старость» Л. Рахманова медленно плыл в руки А. В. Ива-
новского.
Здесь сюжет нашей поучительной истории делает еще один
неожиданный поворот. Незадолго до истории с заявкой
Ю. П. Германа вышел фильм, где героями были моряки тор-
гового флота. Не был ли это «Танкер «Дербент»? Боюсь точно
сказать. Но факт, что наш Скворцов показался любителям ан-
нотаций не ко времени. Будь эти два фильма хоть сколько-
нибудь сходны по смыслу, по сюжету — другое дело. Но нет,
дело в профессии героя. Там торговый моряк и здесь. Там
темно-синяя форма и фуражка с «капустой» и здесь тоже.
Одним словом, мы остались без сценария и нам угрожало
то, что у железнодорожников называется «выбиться из гра-
фика». Из Москвы пришла телеграмма, смысл которой был те-
леграфно краток: либо годичное безделье, либо сценарий «Бес-
покойная старость» (так первоначально назывался «Депутат
Балтики»). Пришлось согласиться. Так что не только случайно
взялись мы за свой лучший фильм, но и под давлением, без
всякого увлечения и вопреки желанию.
Вот и выходит, что не всегда навязывание темы вредно,
бывает и наоборот. Об этом поучительно вспомнить сегодня,
потому что вокруг «сватовства» режиссера к тому или иному
сценарию существует много путаницы. Бесспорно одно: нужно
иметь талант «свахи», нужно уметь увлечь замыслом, найти
такие художественные аргументы, которые окажутся сильнее
административных. Такой талантливой «свахой» и оказался
незабвенный Адриан Иванович Пиотровский — главный редак-
тор «Ленфильма» в те годы.
С каждым днем навязанный нам «старик» все больше на-
чинал нам нравиться. И то, что мы тогда были в три раза мо-
ложе своего героя, стало из недостатка достоинством, повлияло
на весь ход художественного замысла характера, во многом
решило успех фильма. Но об этом — ниже.
93
Итак, один замысел погиб, что называется, на корню, а дру-
гой — чужой — был нам навязан почти насильно.
Что из этого вышло, читатель знает, и не об этом здесь
речь. Когда «Депутат Балтики» был поставлен, прошел с ус-
пехом по всему миру, мы подумали: «Пролетарии приходят к
коммунизму низом...» — сказал Маяковский, а про себя: «Я ж
с высот поэзии бросаюсь в коммунизм...» В профессоре Поле-
жаеве мы видим человека, бросившегося в революцию с высот
науки. И это в нем главное, а в фильме самое замечательное.
Неисповедимы пути людей в революцию. Она тем и сильна,
тем и непобедима, что каждый находит в ней свою правду:
ученый — торжество своих научных мечтаний, пролетарий —
освобождение от рабства, крестьянин — свершение вековой
мечты о земле. Наверно, есть еще многие пути и разные ха-
рактеры, типы, отражающие приход к революции различных
классов и групп.
В «Потомке Чингиз-хана» Всеволода Пудовкина просыпается
революционное сознание кочевника, полудикаря. Вчера он еще
молился деревянным богам, верил в духов, в переселение душ,
а сегодня мчится с красным знаменем во главе восстания. Как
интересно было бы создать трилогию, три фильма о трех раз-
личных путях в революцию. Основной камень уже положен,
это «Депутат Балтики», а другие надо найти. Какие разные
получились бы фильмы и какие сильные характеры могли бы
родиться. А какие разные аспекты самой революции возникли
бы из атмосферы этих фильмов!
С этими мыслями уехали мы в очередной отпуск. Подумали
о погибшем замысле «Наших знакомых». Он все еще привлекал
нас и будил фантазию. Но к задуманной трилогии это не очень
подходило, и поэтому пыл наш постепенно остывал.
И опять, как это ни странно, — телеграмма. Это было крат-
кое телеграфное предложение. Автор ее, начальник производ-
ства, не задавался целью воздействовать на нашу фантазию,
как это умел делать А. И. Пиотровский. Дело шло совсем о
другом. Я эту телеграмму записал в свою записную книжку,
как большую редкость и поучительный документ. Вот она:
«Лен-долгунец отцветает тчк сообщите срочно согласие
ставить сценарий Виноградской «Санька» учтите до конца года
вы должны сдать одиннадцать товарных частей».
Сказать по правде, телеграмма эта нас сильно озадачила.
Во-первых, мы не знали, что это за сорт льна — «долгунец».
Во-вторых2 не понимал^ почему именно одиннадцать, да еще
94
товарных частей должны мы сдать до конца года. Каких ча-
стей? Частей чего? Какого произведения? А если оно, это про-
изведение, будет состоять из девяти частей? Где взять осталь-
ные две? И вообще, какое все это имеет отношение к нашему
замыслу? Знали ли мы тогда и могли ли думать, что эта бю-
рократическая телеграмма будет означать начало второй части
нашей трилогии и что фильм, который будет создан в резуль-
тате начавшейся переписки о льне-долгунце, проживет много
лет и войдет в историю советского кино.
Несмотря на наш холодный ответ начальнику производства,
нам через неделю принесли увесистый пакет-бандероль. Это
был литературный сценарий Катерины Виноградской «Санька»,
где рассказывалось об одном из льноводческих колхозов Ленин-
градской области и о женщине, ставшей во главе колхоза, не-
смотря на протесты ревнивого мужа. Откровенно говоря —
сценарий нам не понравился. В нем было много сентименталь-
ности и женских слез, а пресловутому льну-долгунцу отводи-
лось уж очень много места. Но образ Саньки — Александры
Соколовой — был написан автором интересно и по-новому. Чем
больше мы думали о сценарии, тем становилось яснее, что дело
не в льне и не в личной драме героини, а в том, что перед
нами судьба, толкнувшая на революционный путь простую
бабу, темную полуграмотную крестьянку. Ту самую кухарку,
которая, по словам Ленина, должна научиться управлять го-
сударством.
Так вот же оно, второе звено трилогии! Путь в революцию,
к социализму, идущий не с высот поэзии и науки, а «низом
шахт, полей и вил». И конечно же, фильм должен быть моно-
драматический: в центре — один главный характер, как в «Де-
путате Балтики». И в конце, как и там, — высокая трибуна и
героиня лицом к лицу с народом. Там голодный и темный Пет-
роград, здесь — заброшенный, отсталый колхоз, там — саботаж
интеллигенции и чиновников, здесь — бездельники и лодыри,
там — болезнь профессора, здесь — пуля классового врага, чуть
не оборвавшая жизнь героини. Все это, естественно, было не
механическим сопоставлением. Жизненные обстоятельства,* ти-
пичные коллизии классовой борьбы были в этих двух картинах
разные, в то же время в чем-то сходные. Это были трагические
и патетические столкновения классовых сил, рождавшие круп-
ные характеры. И главное: и в том и в другом замысле было
то’ о чем в письме к нам, после просмотра во Франции «Депу-
тата Балтики», писал Ромен Роллан:
95
«Вы показываете, как вырастает личность под влиянием ре-
волюционного круговорота масс...»
Надо отдать справедливость автору сценария — он не стал
настаивать на сохранении полностью всего им написанного.
Отпал за ненадобностью лен-долгунец, забыты были и один-
надцать товарных частей, осталась Санька — зерно, из кото-
рого после почти годичного труда выросла в сценарии Алек-
сандра Соколова, «простая русская баба, попами пуганная,
мужем битая, врагами стрелянная, но живучая...» Вот какие
всходы может дать лен-долгунец, так сказать, погибнув, ро-
дить новое большое растение, могучее дерево жизненной правды.
Здесь самое время вернуться к Полежаеву и рассказать о
том, что произошло с молодостью и старостью, так плохо соче-
тавшимися в начале работы над фильмом. И какие последствия
все это имело для дальнейшей работы.
То, что мы в то время не имели за спиной жизненного ба-
гажа, не были «отягощены» мудростью лет и солидностью воз-
раста, настроило нас, с самого начала, на особую волну. Мы
стали искать в образе профессора не старческие черты, а зна-
комые нам черты молодости. Пускай, рассуждали мы, исполни-
тель будет с седою бородой и со старческой походкой, но пусть
он будет молод, внутренне молод. Этакий седой юноша, неуто-
мимый, порывистый, лишенный солидности и презирающий
старческую медлительность. И чем настойчивее стали мы ис-
кать черты молодости в старом человеке, тем выразительнее,
острее, эксцентричнее, индивидуальнее становился характер.
Кажущееся противоречие старость — молодость рождало
гармоническое единство. От соединения этих противозначных
полюсов возникала «электрическая искра», озарявшая харак-
тер особым светом. Оказывается, важно не только в злом искать
доброе, но и в старом искать молодое, находить противополож-
ности в едином.
Может быть, именно поэтому и молодой исполнитель, трид-
цатидвухлетний Черкасов, был ближе к задуманному образу,
чем многие талантливые пожилые кандидаты на роль Поле-
жаева. Для нас тогда это был рабочий прием, способ «обра-
ботки» сценарного и жизненного материала.
Все стало подчиняться «формуле» — седой юноша. Не для
всякого характера может быть найдена ясная и лаконичная
формула. Но для профессора Полежаева она была ясна. И если
седой парик был вначале «академическим», то затем мы его
взлохматили, и появилась непослушная прядь на лбу. Профес-
96
сор горячился, как юноша, прыгал на ходу в переполненный
трамвай, показывал противнику фигу, приплясывал у зеркала.
А главное, порывисто, смело и не по годам решительно бро-
сался в гущу революции, отрицая установившиеся в то время
«академические» каноны и традиции. Все, что было в нем мо-
лодого, и все, что возникало в связи с этим в его поведении,
служило «отмычкой» для проникновения во внутренний смысл
и образ любой сцены. А старость? Она была задана сценарием,
биографией, гримом. И она существовала как данное, шла себе
рядом. Увлеченные этой «формулой», мы вели героя по пути
молодости и внезапно обрушивали на нашего семидесятилет-
него юношу хорошо подготовленный удар. Старость все же
подстерегала его и напоминала о себе безжалостно, в самый
неподходящий момент. Вот он на трибуне горячо говорит свою
речь, а вдруг память изменила, фамилия ученика вылетела из
головы и продолжение речи тоже. Вот гневный оклик на соб-
рании саботажников, взмах палки и... сердце дает перебои,
припадок. Вот вдруг в центре совсем «молодой» сцены одино-
чества подводит зрение, и нитка никак не хочет лезть в
иголку.
Когда появилась возможность положить второй камень в
фундамент нашей будущей трилогии, когда появилась «Сань-
ка», то мы, естественно, стали искать в ее характере короткое
и броское, как афоризм, определение противоречий. И мы его
нашли. Это и решило окончательно выбор!
Чем больше мы вдумывались в образ Саньки, тем более
становилось очевидным, что сила этого образа в удивительном
сочетании двух начал: темной и полуграмотной крестьянки,
сохранившей в себе много черт дореволюционной «бабы», и
талантливой представительницы народа, обладающей «мини-
стерской головой».
Санька была воистину «баба-министр». Формула характера
настолько же обещающая, насколько и верная существу изо-
бражаемого явления. Действие «Саньки» проходит в конце
тридцатых годов, в далеком и отсталом колхозе (вместо заду-
манной Ленинградской области, как это было в начале работы).
Познавшая на опыте собственной тяжелой жизни кулацкую
кабалу, цену труда и цену денег, Санька не нуждалась в гром-
ких словах для убеждения своих односельчан в пользе чест-
ного труда. Она додумалась и до такого важного понятия, как
трудодень, идя не от теории, а от своей жизненной практики.
Она вся воплощение народного опыта, мудрости землепашца,
Ь И± Е* Хейфиц 97
воплощение раскрепощенной революцией созидательной энер-
гии народа. У нее и в самом деле государственный ум, ми-
нистерская голова, глубокое знание народной психологии. И в
этом первая существенная сторона ее характера. Но рядом с
этой живет другая, «бабья», сторона: покорность мужу, не-
грамотность, вера во всякого рода приметы, забитость и в то
же время — мечта об облегчении бабьей доли. «Мы, может
быть, этого колхоза сто лет ждали», — говорит Санька в при-
падке отчаяния, когда муж пытается удержать ее от общест-
венных порывов.
Каждая из этих черт в отдельности не давала сколько-ни-
будь нового и глубокого представления о советской крестьянке.
Много было и в кино, и в литературе подобных характеров,
состоявших либо из сплошной «новизны», либо из кондовой,
деревенской «стихии». Но только в сочетании, в противоречи-
вом столкновении эти два начала сливались в единство, глу-
бокое и правдивое в своем существе.
Драматизм Санькиного порыва к общественной жизни со-
стоит именно в мучительном и иной раз в трагическом преодо-
лении вековых религиозных, семейных традиций.
В этих резких противоречиях ее характера и состояла не-
повторимость его. Революция существовала не как картинный
фон, а проходила как бы сквозь душу героини, и каждое ее
мощное движение соответствовало такому же мощному движе-
нию исторического процесса ломки старой деревни. Революция
жила в нашей героине, в ее смятении, в ее порыве к труду,
в энергии, которая, как своеобразная пружина, распрямлялась
неудержимо. Ветер времени веял над нею, независимо от того,
выступала ли она на собрании или ссорилась с мужем, пы-
тавшимся удержать ее дома, возле ухвата и печи.
И подобно тому как в Полежаеве молодость души лишь
оттеняла старость, помогала ей выразить себя, в Александре
Соколовой ее темнота, бабья плаксивость и причитания лишь
оттеняли непреклонность ее воли, веру в социализм. Она вы-
страдала свою свободу, выстрадала свое новое свободное су-
ществование как хозяйки жизни. В этом была не только выра-
зительная сила, но, главное — правда, правда и еще раз правда.
В «бабьих» сценах мы искали «министерское» начало, в об-
щественных, народных сценах — «бабье». На первом собрании
правления колхоза, сидя на председательском месте, среди бо-
родатых мужиков, с удивлением поглядывавших на новое «на-
чальство», Санька нянчила ребенка, сунув ему вместо погре-
98
мушки колхозную печать. Она начала свое председательство-
вание с того, что вымыла пол в колхозной конторе. Она начала
читать свою речь на сессии в Кремле по заранее подготовлен-
ным тезисам, а закончила «от себя», высказав все, что набо-
лело, накопилось за всю трудную жизнь. И в этом была неот-
разимая правда ее речи, патетика которой не стала лишь
громким и пустым звуком, а исторгалась из глубины души. Это
была патетика, выстраданная героиней, подготовленная всей
ее судьбой и потому неотразимая в своем эмоциональном и
идейном значении. Те, кто часто говорит о «боязни патетики»
в советском кино, должны призадуматься над этим. О патети-
ческих концах хочется сказать подробнее, но об этом немного
позже.
Так был заложен второй камень задуманной трилогии.
И создан характер-формула, характер, как единство противопо-
ложностей. И через оба эти характера просвечивала революция,
питавшая эти противоречия своим движением.
В свое время — об этом вкратце — нашлись хулители и того
и другого фильма. О первом, о «Депутате Балтики», говорили,
что это «гимназист, обклеенный ватой», о втором, о Саньке,
что это «плакса», а не та сила, что помогла создать колхозы.
Это было то самое аннотационное мышление, которое всегда
механически конструирует жизнь, рисуя то черной, то белой
краской, не утруждает себя поиском противоречий и не пони-
мает, что сила действия всегда предопределяется силой проти-
водействия, что героизм — в преодолении страха, а вера в
победу побеждает сомнение, что характер есть движение и из-
менение, отход от чего-то и приход к чему-то.
Так понимали мы это, стараясь постичь истину характеров
Двух героев, приходящих к революции с диаметрально противо-
положных позиций.
И еще убедились мы воочию, что сильный характер и вы-
разительная роль искусства рождаются в случае, когда водо-
раздел времени, ломка отношений проходят через душу героя.
Но это уже трюизм и подробно говорить об этом не буду.
Хочется только, рассказывая эту поучительную историю,
вспомнить об одном факте, повергнувшем в некоторое смятение
любителей аннотаций.
Через несколько лет после выхода на экран «Члена прави-
тельства», когда утихли критические нотки по поводу «плаксы»,
в секретариат ВЦСПС, на имя товарища Шверника (он
был тогда председателем ВЦСПС) пришло письмо от одной
б* 99
колхозницы, Героя социалистического труда. Не помню ее фами-
лию, так как разговор о ее письме велся по телефону. Эта жен-
щина запрашивала ВЦСПС о том, кто авторы картины «Член
правительства», которую она недавно смотрела, и как случи-
лось, что эти товарищи точно во всех деталях узнали про ее
жизнь. В письме выражалась благодарность авторам за то, что
они рассказали народу об этой поучительной жизни, так полно
прослеженной по секрету от самой «виновницы».
Так чистейший художественный вымысел, рожденный на
основе наблюдений над жизнью и рассуждений о ней, был
воспринят как документально-биографический очерк. В этом
факте, на мой взгляд, заложен глубокий смысл. Как часто
факты, Списанные протокольно с самой жизни, превращаются
в ложь и фальшь. «Чистое кино», якобы освобождающее наше
искусство от вымысла, приводит его к неправде общего, а вы-
мысел, если он опирается на типичность и правду, — сливается
с нею.
Но пора подумать над третьим камнем, завершающим три-
логию. Он не сразу попался нам на дороге, много пришлось
передумать, пока случай (опять случай!) не помог нам.
В конце тридцать девятого года правительство Монгольской
Народной Республики решило сделать фильм о вожде народ-
ной Монголии и основателе Монгольской народно-революцион-
ной партии Сухэ-Баторе. Монгольская кинематография в те
годы только еще зарождалась, людей, способных создать боль-
шой историко-революционный фильм, среди молодых кинема-
тографистов «Монголкино» не было. Правительство Монголии
обратилось за помощью к Советскому Союзу. Тогдашний ру-
ководитель Кинокомитета Борис Шумяцкий предложил нам
взяться за эту постановку.
О легендарном Сухэ-Баторе (в переводе «топор-богатыре»)
мы знали мало. Интересно писали о нем побывавшие в Монго-
лии советские писатели Б. Лапин и 3. Хацревин. Храбрый сын
кочевника-арата, и сам — простой пастух, первый добрался из
далеких монгольских степей в Москву к Ленину. В истории
монгольской революции было много ярких эпизодов, колорит-
ных фигур. Феодально-ламская страна, не имевшая ни своих
врачей, ни учителей, далекая от культурных центров, пасла
свои стада, как и сотни лет назад, поклонялась «живому богу»
Богдогегену — больному и темному старику, болела туберку-
лезом и сифилисом, не умела производить даже простого гво-
здя. Банды барона Унгерна, выброшенные Красной Армией
100
с Советской земли во время гражданской войны, нашли себе
пристанище в степях за Селенгой. Они наводили ужас на мир-
ных аратов грабежами и разбоем. Но ветер великого Октября
донесся и до монгольских необъятных степей. В юртах кочев-
ников заговорили о Ленине, о свободе, о том, что есть земля на
севере, где простые пастухи не поклоняются языческим богам
и где стада не гибнут от морозов и бескормицы. Сухэ-Батор
был человеком, в котором стихийная тяга к революции ужива-
лась еще с пережитками ламаизма, со слепой верой в тайные
силы природы. Этот сын степей храбро сражался во главе своей
конницы с бандитами барона Унгерна, но принял «лекарство»
из рук тибетского врача-монаха. Это зелье, освященное «жи-
вым богом», оказалось впоследствии отравленной змеиным
ядом «божественной мочой». И заболевший воспалением лег-
ких Сухэ был залечен насмерть темным и коварным знахарем.
В образе молодого пастуха Сухэ, погонщика почтовых ло-
шадей, никогда не видевшего поезда и смело метнувшегося к
социалистической революции, и был тот третий путь, который
давал нам возможность рассказать о революции через неповто-
римый характер полудикаря-полусолдата, ставшего народным
героем Монголии, вождем бедняков аратов.
Это опять был яркий пример, когда «революционный круго-
ворот масс» выдвигал человека, судьба которого была неотде-
лима от судьбы народа, и характер героя формировался в огне
революции. Молодому Сухэ надо было не только помочь своему
народу преодолеть вековую инертность, отсталость, наивную
веру в «живого бога», но одновременно и самому вырваться из
плена предрассудков, соединить в себе революционный ин-
стинкт с первыми уроками революционной теории. Степной
скакун и шашка, книга и спотыкающаяся на бумаге кисточка
для письма, ярость язычника, секущего нагайкой реку за то,
что она помогла затеряться врагу, и мудрость народного вождя,
научившегося понимать ленинскую правду, — все эти удиви-
тельно сочетающиеся черты жили в образе «топор-богатыря»
и помогали нам раскрывать этот исключительный характер,
как единство противоположностей, заложенных в нем.
Мы отправились в Монголию сразу же, получив предложе-
ние Б. Шумяцкого. Его хорошо знали в Монголии и почитали.
Он первый из русских большевиков познакомился с Сухэ-Ба-
тором и его товарищами, помог Сухэ добраться до Москвы, ру-
ководил организацией помощи молодой революции. Он же
своими руками прикрепил к зеленому халату Сухэ орден
101
Красного Знамени, которым молодой вождь аратов был награ-
жден за победу над контрреволюцией. Из товарищей, лично знав-
ших и помнивших Сухэ-Батора, были живы в то время немногие
и среди них жена Сухэ-Батора Янчжима. Они нам и помогли
нарисовать его образ. Много в характере Сухэ придумано ав-
торами, но фантазия их вырастала из фактов истории. И бы-
вало так, что выдуманная деталь или ситуация впоследствии
оказывались подтвержденными, фактически существовавшими.
И вновь, как и в первых двух частях трилогии, фильм за-
вершался народной сценой, где герой как бы исповедовался
перед народом, завещал ему свою веру и свою борьбу. Пройдя
сквозь огонь революционных боев, умирая от отравы, подослан-
ной «богом», Сухэ, раньше чем упасть на сухую степную траву,
опровергал вражеские слухи об отказе от идей революции.
И опять пафос его прощальных слов был итогом всего фильма,
был выстрадан в буквальном смысле, и право на эти громкие
и страстные слова было куплено ценою собственной жизни.
На опыте трилогии о трех путях в революцию мне хочется
сделать несколько выводов. Первый вывод. Характер патетики
этих трех картин, о котором я говорил, поучительно вспомнить
теперь, когда торжественно-патетические финалы считаются
чуть ли не пороком и пережитком далекого наивного времени.
Патетика нашей трилогии закономерно и органически выте-
кала из самого действия и характеров героев. Следовательно,
если взглянуть на это исторически, то станет ясным, что может
идти речь не о патетике вообще, а лишь об органическом или
об искусственном, о внешнем или внутреннем поводе для вы-
соких слов и приподнятых ситуаций. Второй вывод. Все три
фильма были фильмами надбытовыми, исключавшими обыден-
ность и бытовую детализацию. Жизнь в них бралась лишь в
своих главных проявлениях, и действия героев были свободны
от отягчающих пут бытовой правды. Высокая правда вытесняла
сцены еды, чаепитий, стирки белья и объяснений супругов
перед сном. Все три фильма были как бы овеяны могучим вет-
ром времени, и ветер этот изгонял кухонный чад и папиросный
дым мелких страстей и бытовых мотивировок. И третий вывод.
Все три фильма своей патетической основой не отпугивали зри-
теля, а увлекали его и заражали.
В них начисто отсутствовал элемент «утепления», того бы-
тового и любовного гарнира, которым обычно сдабривают скуч-
ный пафос для большей доходчивости. В «Депутате Балтики»
стратегия постановки заключалась в том, чтобы освободить
102
сценарий и фильм от семейных коллизий. Так исчезла из сце-
нария дочь профессора Полежаева, влюбленная в его ученика
Воробьева, исчез милый казанский профессор Бочаров, влюб-
ленный в дочь. Исчез, таким образом, привычный треугольник.
В «Члене правительства» тоже выкорчевывались утепляющие
элементы, и чем больше углублялся сценарий, тем теснее се-
мейная жизнь Саньки сливалась с ее гражданской линией. Все
взаимодействовало и взаимозависело, гарнир исчез за ненадоб-
ностью. В «Сухэ-Баторе» вообще не было ничего, что так или
иначе не было связано с революцией, борьбой, атаками и
смертью. А ведь сколько соблазнительной для автора и режис-
сера «экзотики» содержит в себе монгольский быт. Тут и юрты,
и скачки, и молитвы, и еда без вилки и ножа, и сотни других
деталей, предназначенных для того, чтобы их «обыгрывать».
Фильм о Сухэ-Баторе был закончен в самый разгар Великой
Отечественной войны. Шла решающая битва на берегах Волги,
а монгольский всадник скакал по малочисленным тогда экра-
нам, и Сухэ-богатырь сек своей плеткой упрямую реку.
До нас не дошли ни рецензии (кроме одной, написанной в
«Красной звезде» К. Симоновым), ни письма зрителей, ни
цифры кинопосещений. Слишком тревожное было время. Но
на всю жизнь останется неизгладимым впечатление от премь-
еры фильма в Монголии. Об этом вспоминается, когда заходят
разговоры о том, что открытая патетика фильмов будто бы
оставляет зрителя холодным.
В центральном кинотеатре монгольской столицы «Арад»
собрались соратники Сухэ-Батора и степные зрители. Черный
лак машин и привязанные к коновязям лошади, темные офи-
циальные костюмы государственных чиновников и пестрые ха-
латы пастухов, запах дорогих духов и конского пота — все сме-
шалось у кинотеатра к назначенному часу. Ждали жену Сухэ-
Батора Янчжиму. Но вот на горизонте показалась серая от
пыли большая машина. Тысячу двести километров от далекого
аймака до Улан-Батора проделала Янчжима, чтобы полтора
часа провести в кинозале и сразу же отправиться обратно. Две
с половиной тысячи километров по знойной безводной пустыне
ради одного сеанса — это, пожалуй, рекорд зрительской безза-
ветности!
В ложе — монгольские артисты и Лев Свердлин, игравший
Сухэ-Батора. Вот и Чимит-Дорджи — живой исполнитель «жи-
вого бога». Низкий лоб, медные скулы, тяжелая нижняя че-
люсть. Те, кто видел «бога», говорят, что сходство поразитель-
103
ное. Но дело не в сходстве, а в подлинно трагической силе
исполнения. Наверно, нет на земле таких актеров, как монго-
лы. Удивительная вера в правду предлагаемых обстоятельств.
Полное слияние с тем, кого они играют. С ними могут срав-
ниться по своей выразительности и непосредственности только
дети.
Гаснет свет, начинается сеанс. Старики, привыкшие к седлу
больше, чем к стульям, предпочитают сидеть, подогнув под
себя ноги, рядом с креслом на полу. Тишина, нарушаемая лишь
звяканьем женских украшений и громким дыханием. Но что
это? Почему движение в первых рядах? Это старые араты,
увидевшие на экране Богдогегена, поверили исполнителю на-
столько, что сложили молитвенно руки и шепчут свое «ум мани
атнехум!» — господи, благослови!
Сеанс идет, уже ранен Сухэ, и теряет силы его конь, уже
близко дыхание погони. А зрители становятся на стулья, кри-
чат и плачут. Утирает слезы и седая Янчжима. Ее точно вы-
кованное из меди мужественное лицо по-монгольски непо-
движно. В зале такая тишина, что сквозь каменную стену слы-
шится ржание коней на площади. Идут последние кадры, уми-
рающий Сухэ узнает, что по степям прошел слух, будто перед
смертью он отказался от революции, от друзей, от дела, кото-
рому посвятил свою жизнь. Вокруг юрты толпятся пастухи,
примчавшиеся сюда за тысячи километров. Ждут — правда или
неправда? Может быть, и в самом деле их вождь изменил сво-
ему слову?
Есть только один способ рассеять это сомнение. Жить!
Хотя бы несколько минут прожить для того, чтобы выйти и
самому сказать всю правду. И чтобы эта правда, сказанная
лично, разнеслась во все концы от Селенги до пустыни Гоби!
И вот умирающий, собрав последние силы, встает со своего
ложа, надевает зеленый халат с орденом Красного Знамени на
красной розетке, берет шашку и выходит на степной ветер к
людям. Последние слова призыва, клятва верности революции
и завещание друзьям. И как бы показывая ясность ума и ос-
троту зрения, Сухэ целится в пролетающего орла, и сраженный
пулей орел падает к его ногам. Опускается на степную траву
и мертвый Сухэ. И всадники уносят на своих скакунах правду
о жизни и смерти своего вождя во все концы родины.
Мы ждем аплодисментов, оваций, но фильм кончается, и
зрители, забыв обо всем, покидают свои места, даже не взгля-
нув в нашу сторону. Трещат стулья от их яростного напора,
104
ломаются двери. Неужели провал? Нашу тревогу рассеивает
взволнованная Янчжима.
— Это они спешат в кассу. Хотят занять очередь за биле-
тами на следующий сеанс. Они будут так вот, весь вечер, смо-
треть фильм, сеанс за сеансом. Это больше, чем аплодисменты
и овации. Пастухи не знают этих правил. Они выражают свое
чувство иначе. Поздравляю вас, такого еще не было никогда!
Так и закончилась история с тремя путями в революцию.
Есть, конечно, и другие пути, и много других характеров, но
мы посвятили около десяти лет своей трилогии, а затем в
период малокартинья все это замерло. Но итогом этого было
оставшееся на всю жизнь желание наблюдать в действитель-
ности яркие характеры и искать в них противоречия, разные
полюса, рождающие искру.
В конце 50-х годов мне пришлось посетить Индию и встре-
титься с Джавахарлалом Неру. До этого я видел Неру в хро-
нике, когда он приезжал в Советский Союз, прочел его велико-
лепную книгу об Индии. Но близко видеть его не приходилось.
Наша делегация приехала по приглашению Неру в его белый
особняк в парке в Дели. Индира Ганди, его дочь, встретила
нас на лестнице и проводила в кабинет. Через несколько ми-
нут появился сам хозяин. Я пристально вглядывался в него,
желая все запомнить и ничего не упустить. И то, что я увидел,
меня поразило. Он вошел как-то совсем не официально, даже
смущенно. Его лицо показалось мне сплавом нескольких зна-
комых лиц. Тут был и Пикассо, и Станиславский, и еще кто-то,
возможно, поэт Антокольский.
Удивительно умные, живые глаза. Его длинный сюртук
национального покроя был уже не нов, а на рукаве я заметил
маленькую штопку. После краткой беседы мы вышли с ним
в парк. Он мне показался старым в этот момент. Я вспомнил,
какую большую и сложную жизнь прожил этот человек. Цве-
том кожи и выражением глаз он напомнил мне отца в послед-
ние годы жизни. В этот момент к Неру подбежал мальчик лет
пяти, его внук. Он сказал что-то и протянул деду маленький
лук. Только теперь я заметил мишень, прикрепленную к стволу
Дерева. Неру не сразу взял лук, но мальчик настаивал, и я
увидел, как глаза великого деятеля Индии потеплели. И я за-
метил также, что он смутился. Ему предстояло пустить стрелу
в цель и доказать внуку свою меткость. Впрочем, не только
внуку, но и советской киноделегации, стоявшей рядом в ожи-
дании. По рукам его, по чуть порозовевшему затылку, перетя-
105
нутому узким воротом индийского сюртука, я понял, что он
волнуется. Волновался ли он так в решающие минуты индий-
ской истории? Дрожали ли у него руки тогда? А теперь дро-
жат. Не хочется сознаться в своей старости перед внуком и
перед гостями. Он стал на колено, натянул лук и долго, больше
чем этого требовали обстоятельства, прицеливался. Он отпустил
тетиву и промахнулся. А внук, он был мал еще, не понял си-
туации и громко стал смеяться над своим дедом, над его ста-
ростью и неловкостью. Вдруг Неру густо покраснел и быстро
пошел прочь к своим гималайским медведям.
Я подумал — живут рядом, подчеркивая друг друга, сила
и слабость, обыденность и величие. Кто был передо мной? Ве-
ликий преобразователь и национальный герой Индии или про-
сто дедушка, как все дедушки, обожающий своего внука? В не-
раздельном единстве противоречивых качеств был передо мной
человек!
Если уж речь зашла о государственных умах, то стоит
вспомнить о встрече с президентом Чехословакии Антонином
Запотоцким. Мне и моим товарищам из советской делегации
посчастливилось провести с президентом несколько часов в
маленьком вале карловарского отеля. Кинофестиваль 1956 года
закончился, и президент принял нас. Он любил кино и вообще
искусство, был писателем, провел несколько лет в гитлеров-
ских лагерях. О его скромности слагались легенды. Один чеш-
ский журналист рассказывал мне, как неохотно переехал пре-
зидент в свою резиденцию на Градчанах. Он мечтал о малень-
ком домике на окраине Прави, о лужайке с сочной травой, где
можно пасти корову. Еще сидя в тюрьме, он думал о тех днях,
когда фашизм будет уничтожен и можно будет вдыхать весен-
ний воздух где-нибудь на берегу Влтавы. И пасти собственную
корову в свободное от работы время. А тут вдруг дворец и
вместо лужайки строгий парк, аккуратные дорожки и статуи.
Президент вдохновенно говорил нам о значении кино, о
том, как лучшие советские фильмы помогали воспитывать на-
род в духе коммунизма. А рядом с ним сидела его милая се-
дая жена и нежно смотрела на мужа, гордилась им. В этой
супружеской паре было что-то удивительно благородное и по-
своему красивое. Президент говорил стоя, и я обратил внима-
ние, что пола его темного пиджака медленно, но верно прибли-
жается к вазочке с мороженым. Вот она дотронулась до розо-
вых шариков и, продолжая двигаться при каждом жесте пре-
зидента, все больше и больше утыкалась в них. Жена заметила
106
это первая и неодобрительно взглянула на мужа. Он, видимо,
тоже почувствовал свою оплошность и прервал речь. Ему стало
досадно на собственную неаккуратность, на то, что придется
выводить пятна и что пиджак совсем еще новый. И при
помощи салфетки он принялся вытирать следы мороженого.
Делая это, он поглядывал в сторону жены, как бы извиняясь
за свою рассеянность.
Оттого, что это был жест простого, милого и скромного че-
ловека, высокие слова, только что произнесенные им, приоб-
рели особую силу и весомость. Я почувствовал, что, говоря о
воспитательном значении кино, он менее всего думал поль-
стить нам, киноработникам, а высказал лишь то, что было его
каждодневной заботой, органически слитой с его существом,
жизненным опытом, возрастом, скромностью. И слова эти, не
новые и уже не раз слышанные, как-то сразу запали в душу,
обновились.
А он все стоял смущенный и вытирал салфеткой полы пид-
жака...
Адриан Иванович Пиотровский — один из создателей ле-
нинградской кинематографии — был, если хотите, воплощением
кабинетного ученого. В его характере, при поверхностном на-
блюдении, были все присущие штампу черточки. Он был рас-
сеян, близорук, часто терял галоши. Крупный эллинист, пере-
водчик, теоретик театра, драматург, обладавший поистине
энциклопедическими знаниями, он забывал завязывать шнур-
ки, а однажды пришел на студию, повязав сразу два галстука.
Как-то приехали из далекой экспедиции операторы и расска-
зали:
— Видели мы вашего Пиотровского.
— Где?
— Где-то на Памире, на перевале.
1— Что он там делал?
—- Помогал шоферу вытаскивать грузовик из грязи. Не-
чего было бросить под буксующие колеса. Он бросил свое
пальто. А сам остался на ледяном ветре в какой-то странной
рубашке, повязанной двумя галстуками!
И это человек, который жил, окруженный книгами, перево-
дил с листа греческих поэтов!
Вот несколько поучительных историй о замыслах и харак-
терах.
1965
МОРДОВСКИЕ ЗАМЕТКИ
Из дневника режиссера
Никогда в Мордовии не был, а ведь совсем рядом — двести
километров от Москвы. Предварительно в Публичной библио-
теке узнал основные данные. Мало утешительного. Никаких
ярких черт, достопримечательностей, почти нет промышлен-
ности. На чем же строить большой фильм? А может быть,
интерес и состоит в том, чтобы показать процесс социалисти-
ческого строительства в маленькой автономной республике па
вещах не броских, которые уже неоднократно использованы
в других республиках. Это трудно, но интересно. Поневоле
углубишься в изучение людей, психологии. Я же не специа-
лист документального кино, так что поневоле буду заниматься
своим делом, как режиссер игрового фильма.
Красивы дороги республики. Кто и зачем ездит по этим
дорогам? Встречи в автобусах, в «трактирах». Образ дороги
всегда интересен и нов. Дорога — свидетель прошлого, и по
ней шагает время. Лесная дорога. Здесь были лесные крепо-
сти — засеки, защищавшие русскую равнину от набегов ко-
чевников. Ничего не изменилось за тысячелетие, только ко-
леи другие. На них отпечатки автомобильных шин.
Осматривали Саранскую телефонную станцию. В одних
диалогах — целая эпоха. Какие-то невидимые люди нервно и
отрывисто говорят о лесе, о планах. Похоже, что это командо-
вание боем. Разговоры удивительно живые, сдобренные шут-
кой, иногда не для цензуры. Как это интересно и неподдельно!
Таких интонаций, фраз и оборотов никогда не сочинишь.
Стоят стеною темные леса. Особенно хороши они, когда
смотришь с медленно идущей машины. Неподвижность леса
выигрывает, когда запечатлеваешь ее, двигаясь. Совсем темно
между могучими стволами. Что здесь от нашего времени?
108
Разве вот этот пионер с нахлобученной по самые уши военной
фуражкой. Красный галстук скручен в косичку, помят и
давно не стиран. А все равно горит среди зелени. Или это
кажется?
В городском саду в Саранске стоит памятник великому
уроженцу нынешней мордовской столицы поэту Полежаеву.
Памятник прескверный, покрашен белой краской, чуть под-
синенной. Кажется, что сделан из зубного порошка. Надпись
на нем — четверостишие поэта:
Где ж вы, громы-истребители;
Что вы кроетесь во мгле?
Между тем как притеснители
Властелины на земле.
«Истребители» — это звучит ныне особо, и кажется, что поэт
имел в виду боевые самолеты, с громом устремляющиеся на
врага. Что если снять крупным планом звено «громов-истреби-
телей», пролетающих над памятником поэта?
«Ехал я все время один, как в пустыне, не встретил ни
одного цивилизованного человека...» (Из письма Л. Н. Тол-
стого о поездке в Саранск).
Были в селе Старое Акшино. Ныне это Старо-Шайговский
район, а когда-то был Инсарский уезд. Николай Платонович
Огарёв провел здесь свое детство.
С душой печальной и суровой
Останусь я, как здесь бывал,
Где столько скорбного встречал...
Много сказаний сохранили эти темные леса. Познакоми-
лись с Беззубовой, старой сказительницей. Еще плотная, здоро-
вая старуха. Ничего экзотического. Спела нам свою тягучую
песню про какую-то Алену. Про то, как «мордовка Алена
эрзю-мокшу собирала». Она собрала отряд и привела его к Ра-
зину. Сражалась во главе отряда против бояр, за свободу. Но
У Алены отряд был маленький, против бояр не устоял. Алену
заковали в кандалы и привязали к столбу. Зажгли под ней ко-
стер. «Алена в огне пылает». Она говорит своим палачам: «Не
радуйтесь, душегубы, не смейтесь, палачи. Останутся мои това-
рищи...» Удивительно, как сохранилась эта песня, не вытесня-
лась более поздними подвигами в Великой Отечественной войне.
Впрочем, кое-что от Зои привнесено сюда, какие-то интонации.
109
Чтобы построить документальный кадр или сюжет, важно
в каждом отдельном случае четко определять доминанту. Ведь
образ в документальном кино (да и не только в документаль-
ном) нельзя создавать за счет гримировки натуры, ее иска-
жения. Дело в том, чтобы использовать натуру такой, какой
она есть в реальности, находить образ в сопоставлении ку-
сков, подчеркивании композиционном, масштабном, в сгущении
без денатурализации.
Кажется, Шкловскому принадлежит этот пример. Оратор
и знамя. Из двух этих элементов может быть создан образ па-
тетического призыва под знамя. А можно и иначе смонтировать
и снять эти элементы. И получится: знамя треплется и оратор...
треплется. Все дело, таким образом, в нахождении правильной
доминанты, в том, чтобы оттенить главное в каждом куске,
его выразительный акцент, адрес в ряду других кусков. Напи-
сать об этом подробно, продумав и обосновав примерами. Мо-
жет выйти статья. Ведь мало у нас опыта в документальном
кино.
Прочитал в местной газете, что тракторист Р. жалуется на
новый трактор. Конструкторы не учли в нем одной важной
детали — часов! Как стали мы ценить время. В Саранске на
углу главной улицы монтируют электрические часы, первые
в городе. Можно построить целый сюжет на тему часов. В этом
вторжении секунд и минут в жизнь некогда сонного уездного
городка Пензенской губернии — большой смысл. На пень-
ковом комбинате каждую минуту вспыхивает в цехе свето-
фор. Он показывает выполнение графика. Зеленый или крас-
ный, в зависимости от ситуации на конвейере. Часы, секун-
ды... И совсем рядом — леса, сказительница Беззубова, песня
про Алену.
Показать просто, как вьют веревки — скучно. А если найти
в этом сюжете правильную доминанту, то можно подчинить
все светофору, секундам, новой современной культуре труда,
культуре времени. И сопоставить это с первыми электриче-
скими часами на улицах, с жалобой тракториста на отсутствие
часов возле руля трактора, с мастером П-ым, смотрящим на
свои старинные серебряные часы. Он стоит возле мощной па-
ротурбины теплоэлектроцентрали. Ныне он — инженер, помнит
старые годы, когда Саранск освещался несколькими керосино-
110
выми фонарями. Потом бельгийское общество «Гелиос» уста-
новило первый дизель.
П-ов в период первых пятилеток был монтажником на
Штеровской ГРЭС в Донбассе, монтировал Балахнинскую стан-
цию, своими руками делал подводку к первому блюмингу на
Макеевском заводе имени Кирова.
Он живет на тихой саранской улочке, где после дождя не
пройдешь без глубоких галош. По этой улочке, когда мы гу-
ляли, шла свадебная процессия. Из соседнего села шли люди,
немолодые. Лица их были красны от выпитого и от свеколь-
ного сока, которым полагается мазаться по древнему обычаю.
Обряд этот называется «поиски невесты». Ходят по домам
знакомых и соседей, ищут невесту. А она, между прочим, идет
здесь же в толпе, молодая еще, с заметным животом. Рядом
жених в фуражке ученика ФЗО.
Все рядом — древняя языческая свадьба, счет на секунды,
библиотечный институт, ТЭЦ, мордовские вышивальщицы,
знаменитые на весь мир, как брабантские кружевницы.
Шел я по берегу маленькой реки Саранки. Она пересекает
город. На окраине уцелели дома с колоннами, садики, березы.
Посмотрел на эти березы и подумал о трех сестрах, чехов-
ских затворницах, мечтавших о Москве. А что если поискать
в Мордовии современных трех сестер, рассказать об их судьбе?
Как их найти? Возможно, знают мордовские писатели.
Сейчас в этом доме с колоннами поликлиника. Зашелк по-
смотрел. Комнаты перегорожены, не узнать, как было раньше.
Отсюда виден мост через Саранку из деревянных бревен,
книжный магазин, где всегда полно народу.
А что если применить телеобъектив для натуральной съем-
ки людей на расстоянии? Строить на этом сюжеты, когда че-
ловек не подозревает, что его снимают, и поэтому естествен.
А что если в приевшемся жанре документально-очеркового
фильма ударить внезапно «человеческим», наблюденным и под-
робным. Не в этом ли новое в подобном фильме?
Нашлись три сестры. И очень подходят под задуманный
план. Одна из них секретарь сельского райкома партии. Вто-
рая — врач в Ардатове, третья — в Москве, учится на выс-
птих партийных курсах.
111
Встретились где-то на дороге, познакомились. Я, узнав,
что это секретарь райкома, рассказал о поиске трех сестер.
Она говорит: «Зачем искать, я одна из них». И все рассказала
про свою семью. Сироты были, отец рано умер, мать бил
очень, в особенности когда бывал пьян. Рано свел в могилу.
И сам вскоре умер. Беспризорничали. Теперь вот вышли на
дорогу жизни.
Приехали в гости к секретарю райкома, к этой самой Де-
ментьевой, одной из трех сестер. В селе Ичалка — райцентр.
Удивительная женщина. Скромная, без позы. Все показы-
вает — и хорошее и плохое, не прячет недостатков. Это так
редко встретишь. Ведь обычно перед кинематографистами,
в особенности документалистами, всегда выставляют напоказ
парадную сторону жизни.
А что если показать историю этого райцентра за тридцать
три года Советской власти? Здесь, в затерянном селе, среди
лесов ходит эта умная женщина и показывает, как было и как
есть.
В прошлом нищая сирота-мордовка, теперь секретарь рай-
кома, прекрасно образована. Район самый обыкновенный, не
показательный. Деревенька, «где столько скорбного встречал»
Николай Огарёв. В стационарной больнице чисто и просторно.
В поликлинике принимают врачи по всем специальностям,
есть рентген. Чудесный, заботливый персонал родильного дома,
где применяется обезболивание родов.
Что это за Ичалка? Наверно, ни на одной карте нет. Вдали
на горизонте синеют леса. От Саранска можно проехать только
в хорошую погоду. Спрашиваю шофера: «А как же осенью
ёздите?» — «Не ездим, — отвечает, — только телефонная связь».
Далеко, ох как далеко от Москвы, хотя всего ночь езды
почтовым поездом.
На пригорке возле промкомбината в шесть этажей громоз-
дятся новые парты, еще не крашенные. В педучилище на
триста слушателей — все необходимые кабинеты для практиче-
ских занятий. А в промкомбинате делают «стильную» мебель
для колхозников. Мебель тяжелая, из дуба, «вечная». На пло-
щади книжная лавка с последними новинками художественной
литературы и классики. И даже подписные издания. Малень-
112
кий, но свой кинотеатрик с ежедневной свежей программой,
сельскохозяйственный техникум, маслосырозавод, радиостудия,
откуда ежедневно два, а то и три раза ведутся местные пере-
дачи. В столовой в меню десять-пятнадцать блюд, официантки
в наколках.
Мне думается, масштаб и смысл великих преобразований
не так чувствуется где-нибудь в областном центре. Там все это
неохватно, да и город вроде бы должен все иметь. А здесь, в
этой деревеньке, которую пройти можно вдоль и поперек за
полчаса, все как на ладони.
И маленький «мужичок» в сапожках с непослушными, как
стерня, волосиками держит скрипку-четвертушку. В классе
музыкальной школы несколько таких вот «мужичков», лет по
семи. На стене портрет Глинки. В коридоре, возле двери, что
выходит прямо в поля, ждут бабки и деды. Сидят молча, при-
слушиваются к визгливым звукам скрипки. До слез это про-
нимает своим воистину огромным смыслом. Это капиллярные
сосуды нашей революции, по которым течет ее горячая алая
кровь, проникающая в такую глубь лесов, что и не найдешь
на карте.
Неверно, что дикторский текст должен быть только про-
стым, точным, ясным. Этого мало. Диктор не гид. Он — голос
йвтора фильма. Автор имеет право быть и сухим, и точным, и
кратким. Но он может размышлять вслух, быть эмоциональ-
ным, насмешливым. Самое страшное — создание канонов. Луч-
ший дикторский текст написал бы Гоголь. Здесь и острота
образа, и юмор, и... «Тройка, птица-тройка!..»
Слово плюс изображение — не сумма, а скорее «химиче-
ская реакция». От разных сочетаний зрительных и словесных
образов рождается и множество «эмоциональных реакций»,
совершенно неожиданных. И то, что получается в результате
такой реакции, не похоже на составляющие элементы. Это
уже новое качество.
Вот ходит по деревне Кемля задумчивая женщина в
очках — секретарь райкома Дементьева. В маленьком парке
смущенно здоровается влюбленная пара. Он — студент сель-
скохозяйственного техникума, она — молодой педагог.
113
А слова звучат про Алену: «Алену к столбу привязали, под
Аленой костер зажгли... Бояры-душегубы сожгли нашу Але-
ну... Алена перед смертью говорила — остаются мои товарищи,
они вас победят, народ будет свободен!»
Горит огромный костер на берегу Мокши. Такая это краси-
вая речка. Возле костра — пионеры. И Беззубова поет им пес-
ню про Алену.
Много было встреч на дорогах, в деревнях, на полевых
станах. Вот, например, Видманов. По виду не скажешь, кто
он: рядовой колхозник или бригадир, механизатор или конюх.
Два года назад закончил он курсы колхозных механизаторов.
Чему там учат, я видел. Более чем скромные программы. И
с этакими скромными знаниями Видманов отважился сам
проектировать и строить маленькую сельскую гидростанцию.
На «базе» мельничного колеса. Построил. И станция работает,
снабжает энергией промкомбинат. Только часто плавятся где-
то подшипники. Поэтому если вечером Видманов в гостях, на
свадьбе или на заседании, то все его внимание сосредоточено
на лампочке. Если начинает мигать, он сразу же ставит диаг-
ноз за глаза и посылает кого-нибудь с распоряжением о по-
чинке. Но в общем станция свое дело делает, и не раз сидел
я и писал при мигающем свете ее.
Эту вечно портящуюся станцию Видманов любит, как жен-
щину, к ее качествам, он, как и всякий влюбленный, относится
не объективно и ревнует к другим электростанциям района.
По его мнению, все они строились долго, стоили дорого, и по-
этому нет ничего удивительного в том, что подшипники там
никогда не плавятся и свет не мигает. Свою же любимую
«на базе мельничного колеса» Видманов построил за несколь-
ко месяцев. Люди работали зимой, по колено в ледяной воде.
Сегодня Видманов угощал нас. Хотели мы отказаться, но
он обиделся. Решил, что мы гнушаемся его угощением. Уди-
вительно разносторонний талант в этом с виду простоватом
человеке. Он и электрик, даже проектировщик, знает ремес-
ла, столярное дело. В промкомбинате под его руководством де-
лают все, кроме колесных ободьев и дуг. Для этого суще-
ствуют особые умельцы с традицией, идущей чуть ли не о
пугачевских времен. Старые колесники сошли точно с картины
114
Репина. Что-то есть в них бурлацкое. Высоченные мужики
с бородами, в войлочных шляпах. Удивляет сохранившийся
в первозданном виде костюм и облик. Одеты старики колес-
ники в длинные холщовые рубахи, подпоясаны красным ку-
мачом. На ногах лапти. Трудно поверить, что рядом в лавке
сельпо — мотоциклы, лампа, питающая радиоприемник, чеш-
ская обувь.
Гигантские ручищи ловко орудуют топором и еще каким-
то древним инструментом — не знаю, как он называется. Всю
жизнь одним только занимались: гнули ободья и дуги. Вспом-
нил про крыловскую басню: «А дуги гнут с терпеньем и не
вдруг...» Это «терпенье» и «не вдруг» сформировало их харак-
тер. Живут они в отдельной комнате, освещаемой по вечерам
мигающей лампочкой Видмановской электростанции. Столо-
вой они не признают, готовят себе сами. Огромные ржаные
караваи лежат на топчанах, а режут хлеб, прижимая к груди,
тем же инструментом, что и обтесывают дуги.
Поражает в стариках чувство достоинства. Еще со времен
помещиков колесные мастера ценились высоко. На лицах
стариков, в их медленных, важных движениях ощущается не-
поколебимая уверенность в том, что никакие технические до-
стижения современности не имеют отношения к делу произ-
водства колесных ободьев и дуг. Если старики не захотят
больше работать, то и не станет вовсе крестьянских телег!
Смотрю и думаю: покажи такого старика в кино — скажут
выдумка!
Весь день провели на комбинате. Дементьева привела нас,
не стала показывать сама, хотя знает здесь все до мельчайших
деталей. Поинтересовалась только ценами на мебель и пожу-
рила, что дорого. Поразило нас обилие школьных парт. Всюду:
в цехе, во дворе, где их красят, на складе готовой продукции.
Эти маленькие коряво сделанные парты очень выразительны
и дополняют пейзаж. А главное, говорят о растущей куль-
туре и грамотности народа гораздо нагляднее газетных сводок.
Назойливость этих парт кажется нам даже несколько «спе-
циальной», придуманной. Да нет, все это обычно и не для нас
приготовлено!
Мебель для колхозных домов довольно изысканная. Резьба
и зеленый бархат говорят о желании обставить дома побогаче
и не грубо утилитарно. Наши кинохудожники каждый раз
115
ломают себе голову, как обставить декорацию «колхозной
избы». Теряются в догадках: «древтрестом» или «модерном»
обставлять. А надо обставлять «промкомбинатом». Это мебель
уникальная. И реквизит весь уникален. Стиль «промкомбинат»
отражается во всем: и в форме дверных ручек и щеколд, и в
печных душниках, и в плитах, в посуде, и в кузовах для бри-
чек, в дугах и рукомойниках.
Отличное зрелище — очередь у мельницы. Колхозники
приехали молоть свое зерно. Вспоминаешь невольно и гоголев-
скую ярмарку, и колхозную сходку. На всем печать изоби-
лия — урожай был в этом году намного выше среднего. На
подводах много зерна, и прямо на нем сидят целые семьи.
Ребятишки «купаются» среди мешков с пшеницей, а то и прямо
в зерне, аккуратно насыпанном на рядно. Медленно жуют
волы. Гармонист, непременный участник любого схода или
ожидания, уже раздувает мехи трехрядки. Из-под большого
навеса мельницы, перекрывая шум плотины, доносится серди-
тое бормотание жерновов.
Кони, жеребята, молодухи, детский визг, оголенные икры
баб и голые зады ребятишек, ленивые овчарки, хлопающие че-
люстями на надоедливых мух, степенные хозяева с кнутами,
в кожаных пальто или брезентовых плащах — все это сочно,
дородно.
Здесь самое место для бесед, сплетен, соленых анекдотов,
страшных историй и грубого флирта!
Никогда не видел в наших фильмах всего этого. Оттого, что
все приблизительно: правление, изба, кузница, снова правле-
ние, клуб. Никогда не строят действие в очереди, в сберкассе,
на почте или в очереди к мельнице, в парикмахерской. В ма-
газине герои не платят за покупку, не получают сдачу, не
прицениваются. Узнают ли зрители будущего по нашим филь-
мам — какие были деньги при социализме?
Жаркий день, на реке много купальщиков, все больше слу-
жащие из учреждений района. Финработники, почтовики, про-
давцы сельской кооперации, чины милиции и прокуратуры,
заготовители — все используют обеденный перерыв, чтобы
освежиться. Одежда (часто с ведомственными погонами), порт-
фели и папки лежат на берегу. Эта идиллическая картинка.
116
совсем в духе Чехова, все же полна знаков нашего времени.
Это — темы разговоров, обрывки фраз, которыми перебрасы-
ваются купальщики, фыркая и отплевываясь.
Слышу, что вчера было собрание райпотребсоюза, что при-
езжал какой-то Никодим Петрович из города и отчитал район-
ную заготконтору. И что была свадьба в Ардатове, председа-
тель колхоза напился и улегся спать во ржи. А ночью выполз
на дорогу, и его проутюжили лесовозы... В темноте не за-
метили.
Смотрю на часы: перерыв уже давно кончился, а купание
продолжается. Доносится из городского сада репетиция ме-
стного песенного ансамбля. Какие мелодичные и заунывно-
широкие мордовские песни! Мелодии древние, как эти вот си-
неющие на горизонте леса, как черные стволы окаменевшего
дерева, добытого со дна Суры. Это дерево вывозят за границу,
оно ценится не ниже красного и черного.
За этими стволами ныряют водолазы. Интересный сюжет
для нашего фильма.
Видел в местном музее чугунную скульптуру известного
мордовского скульптора Эрзи. Необычайной силы вещь — чу-
гунные тела расстрелянной семьи. Скульптура огромная, ле-
жит нераспакованная в сенях, наверно, потому, что экспозиция
не организована. А может быть, считают, что лежащие чугун-
ные люди, отлитые грубо, без деталей, ресничек и завитушек
причесок — это формализм.
Недалеко от Кемли есть широкая пойма. Трудно передать
совершенно первобытную свежесть, нетронутость поймы. За-
пахи трав буквально «валят с ног». Встретился мне старик,
лет ему больше семидесяти, но свеж и бодр необыкновенно.
Старик — здешний начальник, объездчик. На пойме выгули-
вают табуны. Пасут табуны в большинстве молодые де-
вушки. Это, так сказать, местные «ковбои». Лихие, в синих
хлопчатобумажных штанах и залихватски повязанных косын-
ках, они мчатся на своих скакунах, щелкают бичами и ру-
гаются совсем по-мужски. Пришли и «зоотэхники». Почему-то
не только на Украине, но и в центральных районах России
говорят «зоотэхник».
117
У нашего оператора была с собой репродукция Васнецов-
ских «Богатырей». Мы ее захватили для какого-то кадра. Кар-
тину поставили возле большого стога одуряюще пахнущей
травы. Коневоды расселись и закурили самокрутки. Стихийно
возник диспут вокруг картины. И какой диспут! Мне это живо
напомнило былые стычки на обсуждении наших фильмов. Ска-
зать по правде, Васнецову досталось на орехи. Не помогло наше
краткое вступительное слово о художнике, его славе и таланте.
С точки зрения коневодов, три коня написаны плохо, не-
верно, с ошибками против зоологии и коневодческой науки.
Зоотехник сказал, что если бы на конезавод привели коня, на
котором восседает Алеша Попович, то за него не дали бы и ста
рублей. А за того, на котором Илья Муромец, — и того меньше.
Его бы сразу «выбраковали». Зоотехник и девушки-«ковбои»
сыпали разными терминами, взволнованно говорили про ка-
кой-то «соколок» и «козинец», перекрикивали друг друга, спле-
вывая махорочные крошки. А за их спинами проносились та-
буны, отчего вздрагивала земля, слышалось щелканье бичей
и звонкие женские команды, пересыпаемые энергичными сло-
вами, обращенными к непослушным одиночкам, отбившимся
от табуна.
Из дежурки вышел старик объездчик, совсем тургеневский.
Этот диспут коневодов, живописно рассевшихся у стога, их
веская и темпераментная речь, сила аргументации, необычай-
ная экзотика объездчиц, красота поймы, особенно подчеркнутая
золотым солнечным светом второй половины летнего дня, —
надолго врезались в память.
Много поучительного в этом диспуте. Выходит, что Васне-
цов плохо изучил натуру. Или, что вернее, презрел зоологию,
думая о другом — об образе целого!
Старик объездчик, видимо, чувствовал неловкость за своих
разошедшихся товарищей. И за Васнецова ему было неловко.
Он увидел в этом негостеприимность по отношению к нам, при-
ехавшим в гости на пойму. Он покуривал, сидя на бричке, сто-
явшей у дежурки. Петух и десяток кур возились на бричке,
доклевывая случайно уцелевшие зернышки овса. Он подошел
к нам и прочитал свой «стих», сочиненный на патриотическую
тему. Стихи были плохие, но читал он красиво, а главное, сам
был красив — с развевающейся по ветру седой бородой и ро-
зовыми, совсем молодыми щеками.
Все это полезно было для коневодов и, уж наверно, поучи-
тельно для критиков.
118
Давно уже исчез с лица земли старый помещичий дом, по
парк остался. Аллеи могучих берез ведут неизвестно куда. По
парку бродят толпы учащихся. Уже утерян возраст учениче-
ства. Ученик теперь уже не звучит как «молодой». Бригадиры,
которым за сорок, председатели колхозов — степенные мужчины
торчат у доски с химическими формулами. Рядом с ними ма-
ленькие, очень почему-то моложавые, слушатели агрономиче-
ского техникума. На ступеньках первоклассники с книжками,
веснушчатые парни и девушки — двадцатилетние. Объявления
о лекциях, кружках, занятиях всюду — на досках заборов, на
дверях, прямо на стволах могучих берез.
Мы привыкли к зрелищу утра 1 сентября, когда улицы бу-
квально запружены учащимися всех возрастов, спешащими к
началу школьных занятий. Совсем по-другому это выглядит в
деревне. Оттого, что рядом поля и что вид у всех этих «му-
жичков с ноготок» уморительный, а главное, оттого, что ведут
первоклассников загорелые землеробы с ручищами, в которых
совсем тонут маленькие руки сыновей и дочерей, — от этого
картина становится еще более значительной.
А вечером этого же дня на асфальте большака — танцы под
репродуктор и под баян. Проходят часто тяжело груженные
лесовозы, раздваивают толпу, затем танцующие вновь сходятся
на асфальтовой ленте. Танцуют в полной темноте.
Вот мы у знаменитой учительницы Лавровской. Ее домик
в Сабаеве на самом краю села. У крыльца рябина. Входная
дверь незаперта. От кого ей запираться: все село — ее ученики,
бывшие или настоящие. Мы входим в момент, когда маленькая
старушка пишет адрес на розовом конверте. Какой молодой
каллиграфический почерк!
Это ее ежедневная обязанность — отвечать на письма уче-
ников. Пишут ей много. Писали во время войны, с фронта.
Она показала нам одно из писем, которое начиналось так:
«Пишу вам из-под танка...»
Домик Лавровской — простая изба. Беленая комната с боль-
шой русской печью, горница, сени. Над столом в горнице, где
она работает, — керосиновая лампа под зеленым жестяным
абажуром. Такие лампы можно видеть на рисунках середины
XIX века. На стене портрет молодого Ленина. Ее собственная
фотография в молодости: красивые серые глаза, упрямый рот»
*лаза, пожалуй, еще похожи на «те». Лицо миловидное,
119
девичья прическа, высокий красивый лоб. Такой она была
шестьдесят один год тому назад, когда приехала сюда, в Са-
баево, из Симбирска.
Учительские интонации сохранились у нее навсегда. С на-
ми она говорит, как с учениками. Одна, совсем одна. Не было
у нее ни мужа, ни детей. Только ученики окружали ее всю
жизнь. Вот и сейчас говорит «войдите» и «садитесь», как в
классе. И мы невольно начинаем чувствовать себя учениками.
Входим и садимся, как будто опоздали на урок.
Ее изба — подарок райисполкома. Государство выдало ей
деньги на постройку нового дома, но она отдала деньги сель-
совету на нужды школы. Вместо этого ей дали свободную избу,
уже не новую, отнятую когда-то у кулака. Крыша осенью про-
текает, но сельсовет только обещает починить, а не чинит.
И полы не чинит.
Самому старшему из ее учеников уже больше шестидесяти.
Она помнит всех этих стариков еще детьми. И все мелочи о
них помнит.
Встретилась на улице с двумя стариками (мы с ней гуляли
по селу). Представила их нам.
— Мои бывшие ученики.
Обратилась к одному из них:
— Ты помнишь, Лоскуткин, как ты парту сломал?
— Помню, как не помнить.
Все беспокоилась, придет ли пчеловод, тоже один из пер-
вых ее учеников. Послала за ним девочку. Через час явился
красивый высокий старик. Пошли с пчеловодом в класс. Она
изредка еще занимается с начинающими. Если учительница
в городе или болеет.
Урок проходит в старой школе, новая еще не совсем закон-
чена. Лавровская волнуется. Наверно, оттого что мы присут-
ствуем. Говорит по-мордовски — отлично изучила язык. В
классе тишина. Мальчики в новых рубашках, девочки в крас-
ных ситцевых юбках. В волосах, вместо лент, кусочки бинта.
Пчеловод улыбается, сидя на задней парте бочком — ноги не
помещаются.
Удивительную жизнь прожила эта женщина здесь, в дале-
ком, затерянном в лесах мордовском селе. Шестьдесят лет тому
назад начала учить детей и учила всю жизнь, никуда не выез-
жая.
Обращает внимание обилие портретов Ленина. В избе, в
классе. Это дань ее любви к Ленину, память о личном знаком-
120
стве с ним. Неохотно рассказывает она об этом. Конечно, из
скромности. Но я записал рассказ, незаметно, чтобы не сму-
щать учительницу.
«Я училась в гимназии в Симбирске. Кажется, в третьем
классе была тогда. Зимы у нас холодные. Морозы бывают выше
пятидесяти. Как-то иду после уроков из гимназии, вижу — гим-
назисты играют на улице. Когда я прошла мимо них, один
посмотрел на меня и говорит:
— Девочка, у тебя щека совсем белая. Три ее скорее.
Не успела я сообразить, в чем дело, как он сам ко мне под-
бежал и стал тереть мою щеку снегом. Небольшого роста маль-
чик. Он меня спросил:
— Почему тебе родители не пришьют воротника к пальто?
Ты же себе щеки так отморозишь.
Я сказала, что родители у меня бедные. У них нет
денег мне на воротник. А гимназистик выслушал меня и го-
ворит:
— Смотри осторожнее, не отморозь себе нос.
Это и был Володя Ульянов, как я потом узнала. Через не-
сколько дней меня вызывают к инспектору, Илье Николаевичу
Ульянову. Уж не знаю, как догадались, что это я была без во-
ротника. Я пришла. Илья Николаевич обо всем уже знал. На-
верно, ему рассказал обо всем его сын. Мне установили сти-
пендию — семь рублей в год.
Когда я кончила гимназию, я решила, что буду учительни-
цей, и поступила на курсы. По окончании курсов меня опять
вызвал Илья Николаевич и предложил на выбор несколько сел,
куда я могла ехать учительствовать... Среди этих сел было и
Сабаево. Я выбрала его и вот здесь прожила всю жизнь. Раньше
это село было в Симбирской губернии. Когда я стала учитель-
ницей, я часто слышала, как ученики мои что-то говорят по-
мордовски. Ясно было, что говорят они обо мне, но что — я не
понимала. Мне хотелось знать, что они говорят обо мне, и я
стала изучать мордовский язык. Теперь и преподаю по-мор-
Довски».
Великая судьба!
Жаль, не удалось повидать молодую учительницу, так ска-
зать, — современный вариант Лавровской. Да что! Теперь хо-
дит дважды в день автобус до Саранска, радио, клуб, между-
городный телефон. Недалеко в райцентре педтехникум, есть
121
молодые развитые парни. А ведь тогда не было для Лавровской
достойного человека. Потому, наверно, и осталась старой девой.
А какие красивые глаза на фотографии!
Прощались сегодня в Ичалке с Евдокией Дементьевой, с
секретарем райкома. Райком тихий, расположен в стороне, в
Дувшем кулацком каменном доме. Кабинет по-женски чист.
Обстановка, как обычно: сухие колосья на подоконниках и
книги по философии на столе и на этажерке.
Ее служебный «БМВ» дымит выше всякой меры, но ездит
еще бойко. На заднем сиденье в уголке — подушечка. Часто
ночью приходится ездить, можно в дороге отдохнуть, поспать.
Как хорошо она стесняется. Увидит грязь или развалив-
шуюся избу и сама первая обратит наше внимание, чтобы не
подумали, что хочет скрыть. Сама первая «уничтожит» и тут
же обязательно расскажет историю этого дела — почему так
получилось. Поехали мы с ней на прощание осматривать но-
вую электростанцию. «БМВ» дымит, а она его уничтожает и
рассказывает историю своей машины. Подъезжаем к станции,
она опережает события.
— Сейчас увидим инженера. Всегда пьян. Держим, потому
что другого нет!
И верно: подъехали, появляется сильно «под мухой» ин-
женер. Она разговаривать с ним не стала. Очень смутилась и
поспешила уехать. У лестницы райкома вяжет по вечерам сто-
рожиха. Очевидно, прислушивается — не позвонит ли наверху
в кабинете телефон.
Печально ее детство. Сидели мы вечером в райкоме, и она
неожиданно разговорилась. Вечер был грустный, тихий. Хо-
рошо пели где-то в парке. Было их три сестры. Учила их гра-
моте бесплатно сельская учительница. В селе было 97 процен-
тов неграмотных. Три недостающих процента и составляли
три сестры Дементьевы. Читать и писать учились при лучине.
Оттого и зрение плохое, давно носит очки. И все сестры плохо
видят из-за лучины. Младшая сложные операции делает в
очках.
Рассказывала про детство весело, без слезливости и на-
жима. Страшные картины мордовской дореволюционной дей-
ствительности очень ярко вставали перед нами. Дементьева
122
рассказывает хорошо, русский язык ее сочен. Любит она по-
словицы и поговорки, и выходят они у нее к месту, хорошо
ложатся в речь.
Сторожиха рассказывала, что вечерами Дементьева часто
работает одна в кабинете. Никого не принимает. Очевидно,
занимается теорией.
Никогда не рассказывает про мужа, про семью. Не спраши-
ваем и мы. Неужели опять одиночество?,
В полях под Ардатовым в разгаре уборка. Председатель
колхоза Анисимов, высокий блондин, похожий на немца, на-
блюдает за работой молодого комбайнера на самоходе. Рядом
с председателем — небольшого роста, худая, некрасивая жен-
щина лет тридцати. Редкие белесые пряди выбились из-под
грязно-серой косынки. Одета просто, даже слишком просто
для не работающей, а наблюдающей. Она видит, что мы со-
бираемся снимать кадры с председателем, и подходит с пре-
тензией. Почему его «фотографируют», а ее нет. Ведь и она
вложила немало сил в эти поля, ночей не досыпала, зимой на
ветру здесь пропадала, когда снег свозили. Возражать в та-
ких случаях бесполезно, а ссылаться на внешность неудобно.
Мы ей обещали. Честно говоря, надеялись, что либо она забу-
дет и уйдет, либо времени в последнюю минуту не хватит,
либо пойдет дождь. Неожиданно женщина сказала:
— Если будете снимать, я схожу переоденусь.
Что было делать — мы согласились. И она ушла. До колхоза
было километра два, но Анисимов сказал, что она живет в
семи километрах отсюда. А погода стояла жаркая, было трудно
дышать. Комбайн шипел, как кипящий самовар.
Пройти четырнадцать километров в такую жару для того,
чтобы сняться в кино... вхолостую. Это было слишком! Но ра-
бота есть работа, мы возились с Анисимовым и комбайном.
Я совсем забыл про некрасивую женщину, созерцание которой
на экране никому не могло доставить удовольствие. И вдруг
она явилась! На ней было светлое платье, поверх которого она
накинула, несмотря на жару, синий шевиотовый пиджак ан-
глийского покроя. На лацкане пиджака позвякивали два ор-
дена Ленина и орден Трудового Красного Знамени. Под ними
виднелся маленький изогнутый депутатский флажок. Эта жен-
щина, которую мы приняли за назойливую любительницу
«фотографироваться», оказалась одним из знаменитейших
123
агрономов в республике. Ее поистине героический труд на по-
лях, большие знания и страсть, с которой она работала, недое-
дая, недосыпая, вывели огромный район на первое место по
урожайности.
Я дал указание оператору и всмотрелся в нее внимательно.
Ей-богу, она мне показалась красивой!
Как-то ехали мы через Николаевку, а шофер наш говорит:
«Что это у Суворова все свадьбы играют. Еще хлеб не убрали...»
Не в колхозе, не в Николаевке, а у Суворова. И верно — это
хозяин в полном смысле. Смешно, что помощник у него — Ку-
тузов. Суворов с Кутузовым — настоящие полководцы урожая.
Оба здоровые, рослые, какие-то грациозные. Именно так: гра-
циозные. Движения неторопливо точные, скупые. И слова точ-
ные, скупые. Чувство достоинства, но не смешивать с напуск-
ной важностью. Ничему не удивляются. Что бы им ни расска-
зать удивительного, они выслушают и ответят:
— Вполне возможная вещь!
Чувство собственного достоинства, пожалуй, самое новое
из всех чувств нашего народа.
1951. Саранск
«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» («ЖУРБИНЫ»)
Из дневника режиссера
Чистота и целомудрие семейных отношений — в этой рабо-
чей семье. Это один из важнейших подспудных мотивов всей
истории. Есть сцена, где семья собирается вечером и поет
песни. «Хор Журбиных» — это должно быть сурово и полно
смысла. Вспоминается дружная и трудолюбивая семья Чехо-
вых в Таганроге. Там ведь тоже любили петь хором акафисты.
Но религиозное начало в «Журбиных» заменено трудовым. Это
песня питерских окраин, рабочих слобод. Поэтому — не только
стройно поют, но и красиво это по самому ритуалу.
Как избавиться от мертвящей ложной декоративности? От
пошлости «гладкой» драматургии, от сглаженной гримом жи-
вой кожи на рабочих лицах? От безликости «древтреста» в
квартирах? От требований «красивых» актерских лиц, будто
бы отражающих в искусстве красоту народа. Это не красота
народа, а парикмахерская красивость! Красота народа в натру-
женных руках, в суровости и обычности лиц, носящих на себе
следы труда.
Придется устроить «революцию» в гримерной, истребить
«земляничное мыло» общего тона. Либо снимать людей без
грима вообще.
«Без позы» — второй важный мотив. Все эти люди чужды
позы, в подвижничестве своем — тоже. Это давно понял Тол-
стой про русских людей. В «Набеге» есть строчки: «Но между
их (французов) храбростью и храбростью капитана есть та
разница, что, если бы великое слово, в каком бы то ни было
случае, даже шевелилось в душе моего героя, я уверен, он не
сказал бы его: во-первых, потому, что, сказав великое слово,
он боялся бы этим самым испортить великое дело, а во-вторых,
потому, что, когда человек чувствует в себе силы сделать ве-
ликое дело, какое бы то ни было слово не нужно. Это, по мо-
ему мнению, особенная и высокая черта русской храбрости...»
Вот в чем важнейший обертон всего фильма. Характерно:
125
чем легковеснее персонаж, чем искусственнее ситуация, тем
больше этих самых красивых слов. Завклубом Вениамин Се-
менович весь соткан из «красоты слога». Надо ему больше де-
шевой, нахватанной «эрудиции». Это неотразимо действует
на недалеких, экспансивных девушек типа Кати Травниковой.
Семья — это обязательно и прошлое. Семья — это «про-
цесс»,— воспоминания, традиции, реликвии. Это и старые
часы, и кроватки, на которых выросли дети и теперь не по-
мещаются на них, и старые любимые кресла, и семейные слова
и термины, и «корабельные этапы». Обычно в семьях говорят:
«когда еще Боря был маленьким», или «когда еще Маша хо-
дила в детский садик». А здесь — «когда закладывали «Петро-
павловск» или «когда спускали на воду «Витязя»...
Шел я как-то по берегу реки. Вдруг гудок, низкий бас,
хрипло орет на всю округу. Я оглянулся и вижу — стоит бук-
сир, черный, с широкой мощной кормой. На корме надпись —
«Палина Осипенко». Кричит басом. Смешно стало, и вместе с
тем показалось мне в этом что-то величественное. Легендарной
Полины давно нет в живых, а этот стальной буксир будет еще
долгие десятилетия плавать по морям и гудеть вот так.
А что если один из кораблей назвать в память трудовой
жизни старика Матвея — «Матвей Журбин». И в конце фильма
корабль сходит со стапелей и отправляется в плавание. А ста-
рик смотрит и плачет. Это посильней всяких слов!
Ритуальность. В этой семье любят ритуалы, выработанные
годами. Ритуально собираются к обеду, гуляют по выходным,
ритуально стреляют из ружья («салют наций») в час рождения
детей, внуков и правнуков. Ритуально идут всей семьей, во
главе с матерью, на праздник спуска на воду очередного ко-
рабля.
Течение жизни — образ реки. Течет мимо их домика ши-
рокая река, в солнечный день — яркая, с бликами, в дождь —
серая, зимой — белая и тихая, осенью — бурная. Так и жизнь
Журбиных.
126
Наблюдал я на партсобрании. Входит очень серьезный па-
рень (его принимают в партию), садится. Читают его анкету.
Он внимательно слушает. «Пол? Мужской» — это его почему-то
смущает, и он застенчиво улыбается. В самом деле, ясно же,
что он мужчина. Зачем же задавать вопрос и отвечать, если
он и так Петров Василий.
Использовать для сцены Алеши в завкоме. Что-то подобное
про него говорят, а он смущается.
Девушки стояли в вестибюле в обнимку с паровым отопле-
нием и разговаривали. Использовать для зимней сцены Алеши
и Кати.
Атмосфера завода и реки чувствуется во всем в домашних
сценах. Почти всегда — отдаленный шум клепки, как пулемет.
Свистки катеров и буксиров. В окнах видна река, чайки ле-
тают. У Журбиных своя лодка, привязана тут же у дома.
Строить корабли — дело их жизни. С мыслями о кораблях
встают эти люди, с этими же мыслями спать ложатся, корабли
снятся им по ночам. Они называют корабли именами самых
дорогих для них людей. Уходя в плавание, корабли как бы
уносят с собой частицу их существа, их жизнь. Их жизнь:
рождение детей, смерть родителей, любовь, женитьбы — все
это они вспоминают в связи с каким-нибудь кораблем, строив-
шимся в тот период.
Корабли — вещь особая. С каждым из них из-за длительно-
сти постройки, особенности каждого экземпляра, разной судьбы
на морях и океанах в период плавания связан целый «кусок»
жизни.
Уникальный корабль похож в этом смысле на произведение
искусства (дворец для архитектора, памятник для скульптора).
Он имеет имя, как живой памятник человеческого труда, твор-
чества, сметки. У Маяковского: «Товарищу Нетте, человеку и
пароходу». Люди, строящие уникальные корабли, любят их
прямо-таки плотски. Это их страсть. Даже чокаются с готовым
кораблем, разбивая традиционную бутылку шампанского о
стальной борт.
127
Корабль стал синонимом дружбы между людьми: он пере-
возит хлеб и уголь, машины и трактора. Он перевозит людей
в далекие страны — строителей турбин, врачей, противочумную
сыворотку. Цеховая привязанность стала для Журбиных пат-
риотическим делом. Они построили за свою жизнь целый тор-
говый флот. Флот дружбы и флот связи.
Рассказывают: в потомственных кораблестроительных ра-
бочих семьях связь с кораблем не теряется и после того, как
он сошел со стапелей и отправился в плавание.
В этих семьях развита преемственность профессии. Дети
становятся на рабочие места отцов. Женщины, даже если они
не работают, живут судьбою мужей и братьев.
Характерно, что именно у кораблестроителей появилась
впервые должность «ночного директора», на которую назна-
чаются старики мастера, уже не могущие работать в цехе.
Люди эти настолько хорошо знают завод и всю технологию,
что в ночные смены вполне заменяют директоров. Но вообще-
то эта должность не так уж необходима. В приказе о «ночных
директорах» есть элемент высокой жалости к этим старикам,
чья жизнь без завода, без кораблей закончилась бы слишком
скоро.
Это в хороших семьях передается и молодым. Здесь свои
законы воспитания. И нету резкой грани между домом и за-
водом, трудом и семейной жизнью. Все слито. Работа — не
служба, не только труд за зарплату, не обеспечение прожиточ-
ного минимума, а наполнение всей жизни, долг, привычка,
призвание, наслаждение, страсть.
Страсть к труду — это еще совсем ново!
«Если бы меня освободили по собственному желанию... я
провалилась бы сквозь землю» (Катя).
«Мелок я стал — думаю о себе, а отец о заводе. У меня
цель мелкая...» (Алеша).
«Что ж, сидеть так, без дела — на это я не способен»
(Илья).
«Строить корабли — это моя мечта, без этого я не мыслю
жизни...» (Зина).
128
Я был дома у старых мастеров. Говорили много, даже вы-
пивали по маленькой. Они очень искренни, не пыжились. Ра-
бочая гордость, чувство собственного достоинства, идущее не
от родовой знатности дворян, не от денежной власти буржуа,
а от сознания того, что мир — корабли, все материальные цен-
ности — дело рук твоих. Это достоинство рабочих людей и есть
«журбинский характер».
Вовсе не «ершистость», не сварливость, не прихоть купцов,
не болезненная боязнь ущемления личности старых интелли-
гентов, а естественное ощущение своей силы, силы рабочего
класса — это тоже «журбинский характер».
Рабочий, разбивающий цепи рабства на земле, — это идей-
ное осмысление рабочей гордости. А если так, то любое бездей-
ствие, почетная должность без труда — горе. Кончилась тру-
довая цсизнь, значит, и жить дальше не стоит. Именно в этом
источник жизненности, живучести этих людей, их природ-
ный оптимизм, терпение, даже самопожертвование. Самопо-
жертвование без шума и треска, а простое, само собою разу-
меющееся. Таков же патриотизм Журбиных, органический,
не словесный, не декларативный. Органичный, как дыхание,
как еда.
Для людей иного толка, чужих и посторонних в журбинском
окружении, как раз и свойственна фраза!
Завклубом — паразит и пошляк — с необычайным «шумом»
проходит по жизни. За этим «шумом», как за звуковой маски-
ровкой, скрывается лень, паразитизм, фальшь, пошлость. Все
в жизни этих Скобелевых и Вениаминов семенычей — деклара-
ция. Любовь — пышные фразы. Труд — громкие обещания и
громкие сетования на то, что они не поняты, что они жертвы
невежд и провинциалов. Знания — уникальные, но неразре-
занные книги, наукообразность терминов.
Все в них дурная «игра». Игра в непонятость. Все эти «гру-
сти» взгляды, рассчитанные жесты — для эффекта.
В этом ясный и сквозной «рецепт» исполнения. Способ по-
строения характеров, их красители, обертона. Их лексика,
ритм — всё!
7 И, Е. Хейфиц
129
Пригодятся детали:
Вчера шел к Финляндскому вокзалу. Огромный забор весь
закрыт объявлениями — «требуется», «требуются», «требуются
в отъезд» и т. д.
Мы к этому привыкли, а ведь, по-существу, здорово это —
«безработица навыворот». И можно использовать как фон для
прохода Алеши Журбина или Зины, например.
Катя после рождения сына бросила курить и теперь сосет
леденцы.
Дед Матвей приходит к директору «вступать в должность»...
с подушкой и одеялом.
На праздник спуска корабля старухи шли, ругаясь с охра-
ной, с гордостью рабочих матерей занимали самые почетные
места.
Дед Матвей заснул на директорском диване во время ноч-
ного дежурства. Кончилась рабочая жизнь. А музыка, как сон,
витает над ним: музыка революции, музыка боев, музыка силы
и лихости.
В кабинете — макот старого парусника. Дед Матвей ходит
по кабинету ночью, а на первом плане все «плывет» этот па-
русник. И дед уже стар и «вышел из моды», как и парусник!
Стихия «заставских песен». Они почти забыты, и их хорошо
бы воскресить. Ведь «крутится-вертится шар голубой» — полу-
мещанская, полузаставская песня.
«Налет» жизни во всем: в атмосфере, в фактурах павильо-
нов, в костюмах. Костюм в последнее время у нас перестал
играть роль, а ведь он — костюм — больше говорит о человеке,
чем слова.
Вспоминаю у Чехова: надо сказать — пришла женщина в
рыжей тальме. Эта рыжая тальма — все говорит о женщине,
лучше описаний. То же и зеленый пояс у Наташи в «Трех
сестрах». А у нас где этот сверхвыразительный «зеленый пояс»?
130
Хорошо бы художникам по костюму позаниматься Тол-
стым. Вот несколько случайно найденных примеров того, что
есть выразительность деталей в костюме. Костюм у нас ча-
ст0 __ только характеристика профессии. А с характером
как же?
«...Худую, жилистую шею его обвязывал шерстяной зеле-
ный шарф, скрывающийся под полушубком. Полушубок был
затертый, короткий, с нашитой собакой на воротнике и на
фальшивых карманах. Панталоны были клетчатые, пепельного
цвета, и сапоги с короткими нечернеными солдатскими голе-
нищами» (Гуськов в «Разжалованном»).
А что носит дома Матвей Журбин? И так же подробно, а
главное, со смыслом отобранное, нужно выразить в эскизе.
Вот еще: «...Посмотрите лучше на этого десятилетнего маль-
чишку, который в старом, должно быть, отцовском картузе, в
башмаках на босу ногу и нанковых штанишках, поддерживае-
мых одною помочью, с самого начала перемирия вышел за
вал...» («Севастопольские рассказы»).
Характер Матвея Журбина весь в такой «формуле»: сила
старости. Ведь может же быть сила молодости. И старость
имеет свою слабость и свою силу. Сила — это то, что нужно.
И тогда уйдет стариковское кряхтенье и прочие «аксессуары».
И тем страшнее будет неожиданное проявление старости: сле-
пота, память отказывает и пр. А сила — это мудрость старости,
опыт, спокойствие.
Илья Журбин — ложно понятый авторитет свой он доводит
До трагической ошибки. Это вечно: авторитет, заработанный
делом, часто превращается в тормоз и сам себя уничтожает.
Потерял авторитет, потому что был слишком авторитетен! Вот
и весь трюк.
Инженер Скобелев. Все качества его можно выразить через
«слабость»—любит свою, «частную», машину, которую не-
давно купил. Всю свою страсть вкладывает в этого «москвича»,
и на дело, на завод, уже не хватает ее, этой страсти. Машина —
Для себя! Поэтому он и возится с ней так любовно. Ездит
плохо, как неряха и лентяй. Страсть тоже относительная — он
?♦
131
же человек тусклый. То в столб задним ходом угодит, то сиг-
нал заест, то в уличную тумбу крылом. Костюм в масле, из
штрафов не вылезает, на перекрестках у него мотор глохнет.
Одним словом, весь набор автомобильных горестей любителя.
Это хорошо, потому что конкретно. И потому что я это знаю
по себе. Легко будет объяснить актеру. Впрочем, если будет
Кадочников, то сам он автомобилист и все это легко «наденет»
на себя. И еще одно важно: в этой неряшливости и беспомощ-
ности есть не только чистая тональность, есть и оттенки. В об-
щем, что-то симпатичное и по-хорошему смешное может быть
в этом человеке. Двойственность, так необходимая этому Ско-
белеву, его колебания, два борющихся в нем начала — все это,
как на макете, можно показать через любовь, тоску, несчастья
в автолюбительской его судьбе.
В решающей сцене объяснения с Зиной у него в руках
ведро. Радиатор долить надо! Но ведро (в этом весь Скобелев)
дырявое. Вода хлещет фонтаном из дна и стенок прямо на
брюки. Так иссякает вода и иссякает любовь!
А завод — служба. Способ зарабатывать деньги на по-
крышки, бензин и ремонт.
Как важно найти в характере достоверность и осязаемость!
Найти предмет страсти, отыскать то подставное лицо, через
которое характер себя выразит. Здесь это подставное лицо, этот
предмет страсти — подержанный «москвич».
Часто наблюдаю во дворе за девчонкой. Лет ей не более
пятнадцати. Ведет себя совсем по-мальчишески. Свистит в
пальцы, кидается камнями, «кормит» мальчишек-сверстников
«солдатским хлебом» — коленом в зад, ходит вразвалку, руки
в брюки, дерется лихо, если кто-нибудь посмеет дернуть за
косу.
Это для Тони Журбиной пригодится. И в то же время где-то
просыпается в ней женственность. Все дольше у зеркала задер-
живается, мечтает о высоких каблуках. Характер на этом «ло-
мающемся голосе» — всегда выразителен. Тем более что дев-
чонок-шалуний и младших сестренок в кино было хоть отбав-
ляй. Искать новое надо в сочетании, так сказать, социального и
биологического.
132
Удивительные бывают типы на заводе. Недавно рассказы-
вали мне об одном макетчике. О нем даже фельетон был в
заводской газете. Назывался «Изобретатель мелких пакостей».
Что же за пакости он делал? Оказывается, от скуки свой досуг
тратил на розыгрыши. Так, например, в квартире однажды
прибил к полу соседские галоши трехдюймовыми гвоздями.
Соседкину сковороду накалил на газе докрасна, причем со сто-
роны ручки. Рассчитал по времени, когда она обычно жарит на
завтрак картошку. Пальто напарника своего однажды запер,
продев сквозь петли огромный амбарный замок. На вечере са-
модеятельности вложил в футляр вместо скрипки бутафорскую
голову, раздобыв ее где-то в клубе. Шкафчики с одеждой в
цехе он часто забивает гвоздями, да так искусно, что никакой
гвоздодер не берет. Испугал соседку, надев на себя овечью
шкуру и встав на четвереньки. А дело было поздно ночью, на
лестнице.
Хорошо бы показать такого вот «изобретателя», бездельни-
чающего в отделе у инженера Скобелева»
1954
ИЗ ОБЩИХ ТЕТРАДЕЙ
К «ДАМЕ С СОБАЧКОЙ»
Воспоминания Авиловой. «Чехов в моей жизни». Здесь
много о том, как он влюблялся. Если, конечно, верить ей во
всем.
«Никаких сюжетов не нужно. В жизни нет сюжетов, в ней
все перемешано — глубокое с мелким, великое с ничтожным,
трагическое с смешным...» (Из письма). Вот и ключ ко всему.
Скука! Скука! Чехов скучал в Ялте, и Гуров тоже. В Рос-
сии скучно жить, и ялтинская скука — часть общероссийской
скуки.
«...зачем я в Ялте, зачем здесь так ужасно скучно?»
«В Ялте чудесная погода, но скучно, как в Шклове».
«Мне здесь скучно, как белуге». (Из писем тех лет).
Может быть, начать картину с ялтинской скуки? Найти об-
разы этого. Курортная скука конца сезона.
«Как ненужно, мелко и как обманчиво было все то, что нам
мешало любить?» («О любви»).
«Вообще любите своих героев, но никогда не говорите об
этом вслух!» (Из письма).
Природу Ялты находил бутафорской и скучал по москов-
ским сереньким дням.
Как же показать бутафорскую природу? Это здорово! Где-то
у А. П. сказано — кипарисы, как из жести. Подумать о пей-
заже.
134
Шторм в Ялте. Ураган ломал магнолии в саду. Ветреный
день, срывало шляпы. В саду сломанная магнолия.
В Ялте... в гостиницах топили печи.
«...Садовый оркестр городского сада громко аккомпанировал
нам...» Сочетание конкретности и дали, живого быта и дли-
тельного раздумья. Не это ли делает новеллу по емкости своей
равной роману?
«Знаете, я бы хотел, чтобы меня играли совсем просто, при-
митивно»... (Из письма). Очевидно, в этом угадал А. П. буду-
щий стиль актерской игры. Очевидно, «примитивно» озна-
чает — без ложного пафоса, заламывания рук, без «театрально-
сти» XIX века. Примитивно — кинематографично — одно и
то же!
«Право, мне здесь скучно, а без писем можно повеситься,
научиться пить плохое крымское вино, сойтись с некрасивой
и глупой женщиной». (Из письма, 1899 г.).
Письма, 1899 г.
«На набережной встречаются новые лица».
«Я здесь соскучился, стал обывателем и, по-видимому, уже
близок к тому, чтобы сойтись с рябой бабой, которая бы меня
в будни била, а в праздники жалела».
«Ялта же мало чем отличается от Ельца или Кременчуга;
тут даже бациллы спят».
Надо показать не только скуку, но и провинциальную, гряз-
ную Ялту, с конскими следами на набережной, деревянными
скамейками, узкими и зловонными татарскими улочками. (Ху-
дожникам: собрать материал!)
«Скажите в телефон...» — важно! В гостинице уже были
телефоны, очевидно, допотопные с ручкой, и в трубку надо
было кричать.
135
«Жениться интересно только по любви; жениться же на де-
вушке только потому, что она симпатична, это все равно, что
купить себе на базаре вещь (ненужную) только потому, что
она хороша. В семейной жизни самый важный винт — это лю-
бовь, половое влечение, едина плоть, все же остальное — нена-
дежно и скучно...» (Из письма).
«Мне слышно, как кричит муэдзин на минарете».
Отличный второй план звука: шум прибоя, заунывное пе-
ние-крик муэдзина, оркестр в городском саду. Ритм прибоя —
однообразный, как хронометр, — может сопровождать большую
сцену в гостинице.
Вот оно: «...эти вечнозеленые растения, кажется, сделаны
из жести» (Из письма).
«Как много здесь чахоточных!» (Письмо, 1899 г.).
Чахоточный кашель аккомпанирует их любовному разго-
вору на набережной.
«...Выехал в Ялту на «Тавеле». Качало чертовски». Что это
за «Тавель»? Не тот ли пароход, который они встречали на
набережной?
Богатые обжоры и чахоточные в Ялте.
Может быть, показать морскую прогулку в бурю. (На этом
самом «Тавеле».) «Чертовски качает», Анне Сергеевне плохо.
Пассажиры — скучные рожи.
В Публичной библиотеке нашел фотографии Ялты 1899 г.,
бездарно снятые каким-то великим князем. Пляж, его «жанр»,
купальные костюмы похожи на вечерние платья.
...А шпиц скучает на берегу, забытый!
136
Поездка на «линейке». Татарин возчик, мурлыкающий
песню.
В «Ариадне» — пасьянс в парке на скамейке. Скука в Абба-
ции. Чего уж скучнее: в солнечное утро, среди жестяной при-
роды раскладывать пасьянс на скамейке!
•
«Потом, живя в Ялте, я видел, как эта красивая дама мча-
лась на иноходце, и за ней едва поспевали какие-то два офи-
цера, и как опа однажды утром, во фригийской шапочке и в
фартучке, писала красками этюд, сидя на набережной...»
(«Ариадна»)
Отлично! «К моим мыслям о человеческом счастье всегда
почему-то примешивалось что-то грустное» («Крыжовник»).
Какую это дает верную интонацию — грустно мыслить (го-
ворить) о счастье. В Ореанде, например, на рассвете.
А что если так начать? Ленивый прибой. Волны то откаты-
вают, то швыряют пустую бутылку от шампанского... В этом —
конец сезона, скука, «оскверненное» море!
Уезжающие обычно бросают в море мелкие монетки (чтобы
вернуться сюда — судьба!). В шторм мальчишки собирают
мелочь у линии прибоя.
Церковный сторож прошел мимо, вошел в церковь, стал
звонить. Прибой, горы, звон колокола — вечность!
«Скучно без московского звона, который я так люблю» (Из
письма). Церковный звон в Москве может и Гуров любить.
Церковь в Ялте. Звон колокола во время шторма (?) Анна
Сергеевна одна, молится. «Нечистый попутал» — она, конечно
же, ходит в церковь в С. И здесь решила помолиться. А со-
бачка ждет на погосте.
137
«Ялта — это помесь чего-то европейского, напоминающего
виды Ниццы, с чем-то мещански-ярмарочным. Коробкообразные
гостиницы, в которых чахнут несчастные чахоточные ...рожи
бездельников-богачей с жаждой грошовых приключений, пар-
фюмерный запах вместо запаха кедров и моря, жалкая гряз-
ная приставь, грустные огни вдали на море, болтовня бары-
шень и кавалеров, понаехавших сюда наслаждаться природой,
в которой они ничего не понимают...» (Из письма).
«...Отвращение к ялтинскому «духу» и безвкусице, к наг-
лости буржуазной толпы...» (Из письма).
Достал путеводитель по Крыму и Ялте девятисотого года.
Очень важно для уточнения натуры и вообще для ^канра».
Дилижанс на 9—11 пассажиров. Лицом к лошадям —до-
роже, спиной—это уже «второй класс».
Газовое освещение!
Кареты, ландо, корзинки, «визави», коляски, кабриолеты,
шарабаны.
«Ехали на лошадях...» — каким из этих видов? Дилижанс
колоритнее! Станции: Мамут-Султан, Таушан-Базар, Алушта.
Названия вин: Айданиль, Кларет, Мускат-сек, Педро Химе-
нес.
Телефон № 120!
Прогулочный пароходик «Гурзуф».
Ритм фильма и ритм русской жизни на грани века. Конка —
самый быстрый вид городского транспорта. Существование без
цели, пассивное отношение к жизни определяет и ритм чело-
века.
Разбиваю условно рассказ на несколько главных кусков.
В каждом из них есть, помимо действия, образное, поэтическое
зерно.
Начало. Это скука, Скука с большой буквы, скука осеннего
курорта, скука жизни вообще, сонное существование. Безделье!
Сюда, в Ялту, занесло северным ветром скуку московскую, рос-
сийскую, сонную скуку безвременья!
Ореанда, рассвет. Здесь человек и вечность. Величие при-
роды и человек — часть этой природы, и потому прекрасный.
138
Вечный образ равнодушной природы, сияющей «вечною кра-
сою». И ничтожество чувств! От этого грустно.
Город С., Саратов, допустим. Серый мир! Серый забор с
гвоздями, серый номер в гостинице, серое арестантское одеяло,
серая жизнь — существование, серая толпа, серый муж-лакей,
серый от пыли всадник без головы на чернильнице в номере!
Гуров и А. С. возвращаются из Ялты в Севастополь. Для
нес это прощание с любовью, прощание с прекрасным, широ-
ким миром гор и облаков, безбрежного моря!
Встреча парохода. Приезд жирных, пошлое счастье «отды-
хающих», чужое счастье, подчеркивающее одиночество Анны
Сергеевны.
Шторм. Взбудораженная природа, тревога и безотчетный
страх Анны Сергеевны.
Юбилей, где скучает Гуров. Парад лжи!
Славянский базар. Птица в клетке!
Предельная ясность, реальность первого плана и его отде-
ление от второго при помощи музыки (ведущей всегда поэти-
ческую, образную тему). Изображение, где роман рельефен, а
среда обща, суммарна.
Среда. Фигуры второго плана — индивидуальны, но без под-
черкивания, без излишней экспрессии. Как инструменты в
оркестре, которые помещаются в глубине, чтобы звуки бара-
бана не заглушали скрипок!
Ассистентам: разработать возможно более точное описание
внешних черт всех эпизодических фигур второго плана.
Что же это за фигуры? Вот примерно: красная шапка —
посыльный, музыкант в «Славянском базаре», картежники в
клубе, нищий в Саратове, извозчик, везущий Гурова из клуба,
лакеи в Ялте, маски в клубе, пассажиры конки, певица, испол-
няющая романс, кавалеры и барышни в Ялте.
Горький: «Каждый новый рассказ Чехова все усиливает
°Дну, глубоко ценную и нужную для нас ноту — ноту бодрости
139
и любви к жизни. Бодрое, обнадеживающее пробивается
сквозь кромешный ужас жизни...» В этом и состоит зерно
«Дамы с собачкой», а задача ее экранизации заключается в
том, чтобы вскрыть в образах зрительных, как сначала тихо и
неуверенно, а затем все громче и явственнее звучит эта бодрая
нота в грустной музыке рассказа. Здесь и возникнет процесс,
то есть действие, понятое не поверхностно, а глубоко, подвод-
ное действие.
Пессимист Чехов или оптимист, певец сумеречных настрое-
ний или великий человеколюбец, свет или тень? В споре о Че-
хове более всего терпит крах прямолинейность оценок. Грубая
мерка бессильна здесь. Станиславский зло писал о театральной
критике: «Апломб тупицы опасен потому еще, что тупица пря-
молинеен в своих взглядах, и потому он общедоступен, не сло-
жен, груб и часто безвкусен... Смотря Чехова, он определенно
ищет пессимизма».
Это пригодится для будущих критиков экранизации.
В «Даме с собачкой» «зерно» бодрости и надежды запря-
тано глубоко. Нет ни сюжета, в общепринятом, грубом смысле,
ни внешнего действия, то есть всего того, что высмеивал А. П.,
ненавидевший эффектную «сценичность». Нет в этом малень-
ком рассказе традиционных завязок и развязок, нет «белоку-
рых друзей и рыжих врагов», нет и «нечаянного подслушива-
ния, как причины великих открытий». И есть великий огонь
надежды и великий гнев и отвращение к «этой сонной, полу-
мертвой жизни — черт бы ее побрал!»
Сравнительно легко иллюстрировать действие, внешний сю-
жет. Диалог! — он быстро превращается в игровую сцену.
Мысль героя теперь сообщают зрителю при помощи так назы-
ваемого внутреннего монолога. Впрочем, не только мысль, но
все, написанное в романе или рассказе не прямой речью, а от
первого лица. А если без внутреннего монолога?
Как передать в кино, предположим, такой абзац?
«И оставшись один на платформе и глядя в темную даль,
Гуров слушал крик кузнечиков и гудение телеграфных про-
волок с таким чувством, как будто только что проснулся. И он
140
думал о том, что вот в его жизни было еще одно похождение
или приключение, и оно тоже уже кончилось, и осталось те-
перь воспоминание...»
С кузнечиками и гудением проволок — просто. А остальное?
Еще одно похождение! Значит, было другое. Намекнуть на это,
ввести женщину, с которой Гуров нехотя раскланивается. По-
казать, что в Ялте у него что-то уже было до приезда А. С.
Перчатка! Поезд ушел, а на досках перрона осталась обро-
ненная А. С. перчатка! Привезти ее в Москву? К чему! Оста-
вить здесь, потому что он никогда больше не увидится с этой
дамой. Приключение кончилось, от него не останется ничего,
кроме воспоминания.
В чем же надежда и обнадеживающее? В зарождении вто-
рой жизни, тайной, но главной, в ее постепенном перевесе над
жизнью явной, но теперь уже второстепенной, автоматической.
Это как бы подпольная жизнь, возникшая для борьбы с офи-
циальной.
Это один из глубоко упрятанных процессов, заменяющих
внешнее действие.
Как движется это подпольное течение? Это сначала взрыв
автоматизма жизни. Человек «автоматически существующий»
начинает вглядываться в окружающее. Он прожил в этой среде
много лет, а теперь постепенно замечает то, чего раньше не
замечал, не видел, над чем не задумывался.
Увидев, он задумывается, задумавшись, начинает переоце-
нивать, переоценив, начинает ненавидеть, а ненавидя — меч-
тает о лучшем. Только мечтает, а не борется. Это же только
средний московский обыватель, домовладелец, не больше! Вот
процесс внутреннего движения для Гурова! И в какой-то сте-
пени для Анны Сергеевны.
Но любовь мобилизует в человеке все лучшее, из равнодуш-
ного делает его восприимчивым к прекрасному. Второй, поэ-
тический план вещи: человек, влюбившись, начинает понимать
красоту, тосковать о ее отсутствии в окружающей жизни, осо-
знавать невозможность жизни — такой, как она есть, то есть
Уродливой*
141
По мере превращения Гурова и Анны Сергеевны в людей
хороших, то есть облагороженных любовью, нарастает в них
критическое начало, раздумье над окружающим. У Гурова это
приговор своей скучной и однообразной, губительной москов-
ской жизни. У Анны Сергеевны — это оценка мужа, как лакея,
затем в «Славянском базаре» — оценка всей неудавшейся жизни.
Это — процесс!
У Анны Сергеевны еще в Ялте, в сцене ее падения, возни-
кает неожиданная оценка мужа, всей ее саратовской жизни.
Ввести ее диалог из первого варианта рассказа (до после-
дующих сокращений).
Для четкого выражения процесса не путать перспективы, не
надо сначала нам влюбляться в Анну Сергеевну. Просто да-
мочка без мужа. Необходимо строго соблюдать первоначальную
«отметку» уровня романа, возможно более обычную, невысо-
кую «отметку» — иначе не будет места, куда расти ему (ро-
ману) !
Но не делать ни в коем случае из Гурова откровенного по-
шляка и жеребца! Откуда же тогда возникнет в конце человек?
В Гурове тоже живет, еле теплится прекрасная душа под по-
кровом «автоматизма жизни!»
Любовь, возвысившая пошляка, — это надо выразить по-
чеховски, то есть без нажима, не доводя контрастов до крича-
щего, критического уровня.
Как сделать, чтобы мечта Чехова о «примитивности» испол-
нения его пьес не обернулась буквальной примитивностью?
Эта «примитивность» и «простота» есть высшая фаза слож-
ности. Это:
а) зрительная скупость, академичность мизансцен;
б) без подстегнутого ритма, «эйзенштейновского» монтажа
с его форсированием контрастов, без вскрытия «напрашиваю-
щихся» ловких «ходов» и «поворотов» сюжета, то есть утверж-
дение элементов, которым научил Чехов современное искусство
театра и кино. У нас и во всем мире;
в) неторопливость и покой изложения, как бы знаменую-
щий собой течение жизни. «Люди обедают, только обедают, а
142
в это время слагается их счастье и разбиваются их
жизни».
Незаметные переходы, ничего не происходит как будто, а
процесс изменения жизни и людей тем не менее идет неумо-
лимо!
г) отсутствие, как в жизни, резкой грани между трагиче-
ским и смешным. От Чехова до Чаплина — это вечный закон
реализма.
д) отсутствие резкой грани между лиризмом и сатириче-
ской яркостью. Ялтинская скука сатирична и вместе с тем
грустна;
е) без красивости во всем — в движениях, в пейзаже. Кра-
сивость и уродство у Чехова — синонимы!
ж) без мнимой поэтичности. Смело ставить героя в положе-
ние некрасивое! Стареющая Анна Сергеевна в «Славянском
базаре» поэтична, а, скажем, бутылка в море — пошлость!
з) так называемый второй план и атмосфера неразрывно
связаны с первым, объясняют его. Лес «объясняет» дерево пер-
вого плана, если оно показано лишь кусочком коры.
Атмосфера скуки в Ялте объясняет возникновение курорт-
ного романа между Гуровым и Анной Сергеевной.
Серый город С. объясняет тоску Анны Сергеевны, ее порыв,
мечту о прекрасном. И т. д.
и) красота заложена в обыденном, обыкновенном. Драма-
тизм в повседневном. То есть, как в жизни, нет резкой грани
между великим и обычным, патетическим и «сниженным».
ч
О Гурове. «Ему не было еще сорока» — 36, 38! Староват
уже для свершений. Следует учесть современное восприятие
экранного образа. В конце рассказа Гуров видит себя в зеркале
седым, старым. Но это не столько естественная старость,
сколько преждевременная. Причин к сему много, вот они: об-
жорство, пьянство, бессонные ночи в клубе, внутреннее отяже-
ление. Может быть, в 34—35 лет! Женили на 2-м курсе, то есть
21 года. Двенадцатилетняя дочь. Возможна и такая арифме-
тика: 21 + 12 = 33.
В этой преждевременной старости есть ведь и свой драма-
тизм!
Чуть «демократизировать» Гурова, учитывая современное
наше восприятие, зрительное, главным образом! Здесь своя,
особая логика! Сытый домовладелец, респектабельный
143
«нэпман» — пересилить это внешнее впечатление будет невоз-
можно! Для советских зрителей «домовладелец» совсем не то,
что в конце века, в чеховское время.
Еще о возрасте. В рассказе «О любви» есть такая строчка:
«...выходит почти за старика (мужу было больше сорока лет)».
Актер (очевидно, Баталов!) станет спрашивать про харак-
тер. Но Гуров, пожалуй, менее всего фигура с характером.
Если считать, что характер — исключение, подтверждающее
правило, ?то это знак индивидуальности, единичное, выражаю-
щее общее, то Гуров менее всего достоин называться характе-
ром. В нем нет ни подвижничества и мечты Астрова, ни скром-
ности и гениальности Дымова, ни страсти и протеста доктора
Кириллова, ни ясности и остроты ума доктора Рагина. В тече-
ние рассказа он не меняется как характер. В том и смысл, что
не философ или ученый, не мыслитель и не мечтатель, а обыч-
ный домовладелец, банковский служащий постепенно приходит
к выводу о том, что так, как он жил, дальше жить нельзя, что
надо искать выход!
Но это лишь обозначение профессии, а не характер. Не слу-
чайно, что Чехов совершенно не уделяет внимания внешности
Гурова, описанию его привычек или черт. «Ему не было и со-
рока» — и все. Даже на описание жены Гурова (это вот — ха-
рактер!), о которой в рассказе сказано всего несколько фраз,
Чеховым потрачено больше места.
В Ионыче с каждым новым этапом жизни меняется его
облик, привычки. Он — характер в изменении. И Самойленко
в «Дуэли», и т. д.
Гуров — молчалив, деликатен, сдержан, как и много чехов-
ских хороших людей. Общего с ними у него много, а вот отли-
чия от них нет.
Еще о Гурове. Движение роли. Движение Гурова, изменение
его в рассказе состоит в том, что в обыденность его существо-
вания постепенно вторгается раздумье над окружающим, оценка
его, а затем отрицание. Это скорее движение идеи. Если бы
Гуров был характером в общепринятом смысле, то есть как
персонаж в пьесе, например, то закономерно было понимать
144
его в начале как бабника, пошляка и курортного искателя при-
ключений, который под влиянием обрушившейся на него любви
перековался, как сказали бы теперь. Это заманчивое построение
(контраст и резкий внутренний конфликт всегда проще выра-
зить пластически, в действии) мне кажется грубым для этого
рассказа.
Дело не в перерождении, а в том, что толчок воскресил дре-
мавшие силы души.
«Как, в сущности, если вдуматься, все прекрасно на этом
свете, все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем...»
и т. д.
Какой же бабник стал бы так думать, сидя рядом с прекрас-
ной женщиной на рассвете? Искатель приключений, охотник,
курортный завсегдатай прежде всего человек активный. Пош-
лость активна. У Чехова немало активных пошляков. Взять
хотя бы Кукушкина в «Рассказе неизвестного человека» или
адвоката в «Бабьем царстве».
Гуров пассивен и в своей измене жене. Его женили (же-
нили!) студентом-второкурсником, совсем мальчиком, очевидно
из денежных соображений (типичное обстоятельство), женили
на женщине чуть ли не в полтора раза старше его. И вот, про-
жив с нею более десяти лет, он продолжал считать ее недале-
кой, узкой, неизящной, боялся ее. Поэтому изменять ей стал
давно. В этой типично буржуазной, сложившейся по всем зако-
нам буржуазного общества семье измена Гурова была лишь
слабым протестом с его стороны. Уже в начале рассказа, в
Ялте, Гуров наделен способностью задумываться над окружаю-
щим, отделять себя от откровенных пошляков, фланирующих
по набережной. В мужской компании он молчалив, обособлен,
даже чуть высокомерен. Нет, дело не в перековке, не в качест-
венном изменении характера, а в том, что с каждым днем уси-
ливался в Гурове дремавший ранее в его душе элемент про-
теста, раздумья. V
Образ одинокого человека, увидевшего то, чего не видят и
не понимают другие, окружающие его обыватели, образ чело-
века, ставшего непонятным для прожигающих жизнь остря-
ков, — этот образ поможет нам возвыситься над обычным лю-
бовным сюжетом. Если не это, то оставшийся «за кадром» ве-
ликий, расширительный смысл рассказа обессмыслит все. На
первом плане (в зрительно-действенном «осадке») будет только
история сорокалетнего бабника, у которого была двадцатидвух-
летняя любовница, привлекательная и умная, а жена у него
145
старая и неинтересная. Много таких невольных метаморфоз
при экранизации мы уже видели.
Упомянуть обязательно в диалоге, что его женили силой,
«на двух домах». Поэтому, а не на банковское жалованье, у
него теперь (то есть после женитьбы) два дома в Москве.
Анна Сергеевна фон Дидериц. Птица в клетке. 22 года, в
конце — 24. Образ прекрасного, порывистого молодого суще-
ства, а затем — его увядание и гибель в этой неуютной и страш-
ной жизни. Хотя выход близок и должен быть найден. Но как?
Как? — вот в чем вопрос для нее и для самого автора.
Какое-то противоречие между нею и средой, точно она опе-
редила это сонное общество, либо родилась для того, чтобы по-
гибнуть в нем, покориться.
В первой редакции рассказа — подробнее ее исповедь. Но-
мер в гостинице. После упоминания о том, что Гуров ест арбуз,
было:
Г — в. Мне ничего не нужно знать, решительно ничего!
А. С. Но позвольте мне рассказать, мне станет легче!
Г — в. Полно, милая. Зачем делать такое умное, серьезное
лицо? Это, извини, даже немножечко неумно, потому что не
соответствует обстоятельствам!
А. С. Нет, вы должны меня выслушать! Прошу вас. Я вам
уже говорила, что вышла замуж и поехала с мужем в С. Жи-
вут же другие в провинции, отчего мне не жить? Но мне С.
стал противен с первой же недели; как выгляну в окно, а там
серый забор, длинный серый забор, — о боже мой! Ложилась в
девять часов спать, и только развлечения, что в три часа обед,
а в девять —/спать...
Покорность — ее своеобразие. Неспособность к бунту, к са-
моубийству, как у героини Островского. Только стремление к
Гурову, этот ее полет. Тогда и будет удар о прутья клетки!
Оценка Анной Сергеевной Гурова. В своей любви она и
Гуров обретают особую остроту зрения. Они по-новому видят
146
друг друга и самих себя представляют по-иному, открывают
друг в друге красоту души. «Она казалась ему красивее, мо-
ложе, нежнее, чем была», и себе он казался лучше, чем был на
самом деле. Она видела в Гурове человека прекрасного, осо-
бого, неповторимого, не такого, как все. А ведь он просто бан-
ковский служащий и неудавшийся певец, завсегдатай клубов,
волокита. «Все время она называла его добрым, необыкновен-
ным, возвышенным; очевидно, он казался ей не тем, чем был
на самом деле, значит, невольно обманывал ее...» Невольно!
В этом все дело.
Сюжет их любви и заключается в том, что Гуров узнает
Анну Сергеевну, впервые любимую им женщину. И она
стремится к нему, как к человеку прекрасных душевных
качеств.
Птица в клетке. И подстреленная птица — чайка. Что-то
есть родственное в этих образах.
Подумать о внешнем образе птицы и клетки. В «Славян-
ском базаре», где мы ходили по коридорам, в остатках старого
здания оконные переплеты напоминают клетку. Это видно и на
рисунке Кукрыниксов.
Ум, понимание своего рабского положения, возвышение над
общественными предрассудками, способность к оценке окру-
жающего, как выгодно это отделяет Анну Сергеевну от не-
сколько приевшихся лирико-трагических страдающих героинь.
И первые сильные ноты в конце, где, возможно, Гуров сла-
бее ее.
Угловатость и провинциальность? Что это в пластическом
выражении? Может быть, отсутствие столичного «расчета» на
производимое впечатление. И нет начисто светских «тормозов»,
вовремя останавливающих непосредственный порыв. Это испу-
гало Гурова вначале.
«..ходила как в угаре, как безумная». Это уже с самого пер-
вого дня. Она, конечно же, натура легко возбудимая и неурав-
новешенная.
147
Как-то мы с Г. П. Бердниковым говорили о такой «детали»,
как ветер в тот роковой день, когда Гуров и Анна Сергеевна
пошли к ней, в гостиницу. Это очень точно прослежено Чехо-
вым. Ветер для натур нервных и возбудимых — всегда раздра-
житель. Она впервые в жизни приехала из среднерусского го-
рода на юг. Она заворожена, возбуждена пряной и терпкой
природой, шумом прибоя, запахом магнолий.
В день ее грехопадения мог быть шторм!
Отдаться «первому встречному», курортному ухажеру —по-
чти невероятно для провинциалки, молодой и порядочной жен-
щины.
Следовательно: неопытность, наивная доверчивость и гип-
ноз природы!
После ее грехопадения сразу же возникает — опять-таки от
душевной чистоты и неиспорченности — привязанность к Гу-
рову. Она влюбилась в него сразу же!
Тем не менее тема греха и покаяния звучит в ней все время
и проходит во всем ялтинском периоде их романа. Она, эта
тема покаяния, и даст тот трагический отсвет, который необ-
ходим здесь.
«Люди обедают... а в это время слагается их счастье...» Гу-
ров познакомился с ней обедая.
А в «Славянском базаре» пусть пьет чай. Так обыденно!
Хорошо бы где-нибудь в начале заставить Анну Сергеевну
пройти сквозь строй татар-проводников. Показать ее смущение.
Точно ее раздели!
В «Крымском курьере» за 1900 г. есть следующие упоми-
нания о ялтинском «жанре». Все пригодится для второго
плана.
— Вечером иллюминация. — Керосиновые фонари. — Водо-
проводные краны на улицах. — Мальпостное сообщение. —
Паровой катер «Герой». — Отдача верховых лошадей в наем. —
148
Битва цветов. — Чистильщик сапог со звонком. — Цыгане. —
Е. А. Флорен (б. Верна) — кондитерская.
«В павильоне у Вернэ...» — никто этого павильона не по-
мнит и не знает. Есть только упоминание в одной из архивных
бумаг, что Е. А. Флорен, откупив павильон у Вернэ, получил
разрешение торговать коньяком.
Вступительная сцена на пристани
Место действия — у пристани. Показать провинциальную и
грязную Ялту. Осторожней с пейзажем — оставить основные
удары к концу. Лучше всего объяснить возникновение пошлого
курортного приключения (романчика!) — скука!
Скука выражается, помимо деталей и «натюрмортов», еще
основным действием — вниманием к мелочам! К прохожим, к
струе из сифона, к приезду нового лица!
Элементы скуки: сонное море, бутылка из-под вина, бро-
шенная кем-то в воду, на берегу моря пасутся коровы (фото-
графия в Ялтинском городском музее).
Фотограф на пляже без дела. Взвешивание: толстяк и дамаг
его жена. Очень внимательно смотрят на циферблат! И это
внимание к собственному весу пересиливается вниманием к но-
вому лицу — даме с собачкой, в одиночестве идущей по набе-
режной!
И это же новое лицо видят подъехавшие на дилижансе ка-
валеры и барышни. Выбежали, щебечут, бросают в море мо-
нетки (чтобы вернуться еще раз сюда!).
Может быть, Анна Сергеевна только что приехала. В при-
езде есть представление, и ясно, что она здесь недавно. Лакей
выносит вещи и помогает вылезть собачке!
На
Скрипка
открытом солнце бродячие акробаты и музыканты,
и цыганский бубен. Публики нет: жарко и скучно!
149
В этом случае звуки плохой скрипки и удара бубна начи-
нают картину. Деталь с бутылкой становится не заглавной, а
переносится в середину описания скучного дня.
Чпстилыцик сапог с разрисованным ящиком и звонком.
Гуров сидит, чистильщик чистит. Позвонил в звонок — сменить
ногу! Но Гуров не снимает ноги, потому что видит... новое
лицо — ее!
Анна Сергеевна проходит «сквозь строй» проводников-та-
тар. Поправляет прическу. Она теперь всегда будет поправлять
прическу, когда ее мысленно раздевают. Это жест смущения.
В павильоне у Верно
Сквозь окна павильона видна набережная. И здесь скука.
Все замедленно. И жарко! Официант выгоняет мух. Дама с
собачкой впервые появится вдали, сквозь окно, без акцента, и
тем не менее вызовет повышенное внимание всех! Жару лучше
подчеркнуть тем, что колют лед. Экспонируются завсегдатаи.
Адвокат, купец и чиновник. Чиновник затем окажется партне-
ром по картам и скажет известную фразу об осетрине с душ-
ком!
У Вернэ — первое представление Гурова. Молчалив, нераз-
говорчив в компании мужчин. «Уже привыкший тут...»—вы-
ражается тем, что официант, не спросив, приносит обычную
рюмку, обычное вино. Все ведут себя, как старые знакомые.
Праздная болтовня завсегдатаев Вернэ прерывается дале-
ким лаем собачки. Внимание неестественно повышенное. В ти-
шине, подчеркиваемой отдаленным шумом прибоя, проходит
дама с собачкой. Реплики по этому поводу всех, кроме Гурова.
Он молча читает «Крымский курьер», из-за газеты опытным
взглядом охотника оценивает ее.
У Вернэ действие в том, что сообщается сенсация: появи-
лось новое лицо!
Когда Гуров пойдет за ней (походкой охотника, идущего за
дичью), она... неожиданно потеряется в толпе. К Гурову при-
станет знакомая дама, уже переставшая интересовать его. Он
постарается отвязаться от нее.
150
Каждое появление Анны Сергеевны говорит о странности
и одиночестве. Задумчиво-скромная, неприступная, не такая,
как все. Наблюдая за ней, Гуров станет делать умозаключения
(он знает женщин!). Вот она получила письмо, читает, чем-то
расстроена, чуть не плачет. Однажды он увидел собачку и ждет,
пока появится хозяйка. Это сквозной мотив.
Анна Сергеевна опускает письмо в ящик..Кому?
На фоне: пожилая дама одета, как молодая. И генерал. Вто-
рой генерал. Много генералов...
Вестибюль гостиницы
В девяностые годы наиболее фешенебельной была гостиница
«Франция». Она разрушена землетрясением.
Анна Сергеевна входит в вестибюль. Портье говорит «в те-
лефон» Эриксона. Принимает заказ на билеты в дилижансе.
Первым классом — это лицом к лошадям!
Молча она подходит к стойке портье, и услужливый стари-
чок протягивает ей письмо. По тому, как ведет себя Анна Сер-
геевна, мы догадываемся, что письмо от мужа, что оно скучное
и что это письмо ее не волнует.
Собака ждет! С точки зрения лежащего шпица мы видим
А. С., читающую письмо.
Для собачки надо написать роль. Я говорил с дрессиров-
щицей. Шпицы самые умные и нервные собаки. Они тонко реа-
гируют на поведение людей, волнение хозяев передается им.
Они ревнуют! По мере развития романа Анна Сергеевна все
чаще забывает про шпица, оставляет его одного. Собака рев-
нует ее к Гурову (!?) Смешно, но дрессировщица заметила
ошибку у Чехова. В рассказе написано: «за нею (за А. С.) бе-
жал белый шпиц». Шпиц всегда бежит впереди.
151
Знакомство
Летний ресторан в Ялте. Под вечер. Из городского сада до-
носятся звуки духового оркестра. Что-нибудь из «Гейши»,
только что входившей в моду. Позже, в Саратове, опять возни-
кает «Гейша», и это вызовет побочную ассоциацию у Гурова.
Эту музыку Гуров запомнит и будет играть на рояле дома, в
Москве.
За одним из столиков скучающий за пасьянсом генерал.
(Много генералов!)
Анна Сергеевна входит и садится. Немая сцена, когда Гуров
ее изучает и делает умозаключения. Он ест цыпленка руками
и всматривается в соседку, сидящую в профиль к нему. Что он
увидел и понял?
«Из порядочного общества» — это по костюму, прическе.
«Замужем» — обручальное кольцо. «В Ялте первый раз»—по
тому, как она заказывает официанту, и по смущению. «Ей
скучно здесь» — толстая книжка, роман, который она положила
на столик.
Большой немой диалог!
Он увидел «тонкую слабую шею», то, как она робко зака-
зала официанту газированной воды, как не поняла, что такое
«чебуреки».
И ничего не ускользнуло от его анализирующего взгляда.
Это и определяет ритм сцены: внимательное разглядывание за
едой.
Хорошо бы: во время этого изучения вошла его «бывшая»
знакомая дама и сразу же обратила внимание на происходя-
щее. Анна Сергеевна тоже заметила даму и то, как холодно
Гуров ответил на ее приветствие.
За дальним столиком — все те же завсегдатаи (чиновник,
купец и адвокат). Они развлекаются и, может быть, заключили
152
мужское пари. Они многозначительно перемигиваются, пере-
глядываются, и бывшая дама Гурова теперь подсаживается к ним.
Опять разговоры о том, что Чехова нельзя удлинять. Удли-
няет ли сценарий вскрытие чеховского текста? Лапидарность
новеллы и лаконичность кино тождественны? Если это меха-
нически понимать, то «Дама с собачкой» ...короткометражка^
Ну, а как поступить в этом случае с утверждением о том, что
этот чеховский шедевр вмещает в себя содержание целого ро-
мана и что Тургенев, например, написал бы на этом материале
большой роман? Откуда же возникнет это самое ощущение
огромности в малом? Само собою это не получается. Ассоциа-
ции рождает чеховское слово. Но в фильме только прямая речь
остается словом, а все остальное перестает быть словом и ста-
новится зрительным образом.
Чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь в не-
соответствии длины описаний и «длины» зрительных, образов,
долженствующих стать эквивалентными этим описаниям.
Целая страница прозы может быть раскрыта в одном круп-
ном плане. Глаза героя расскажут короче и убедительнее то,
на что прозе понадобилось бы длинное описание. Но в то же
время одна короткая строка иной раз нуждается в подробном
зрительном раскрытии. В ней заключен мощный кинематогра-
фический импульс!
Листаж и метраж совсем разные вещи, находящиеся в раз-
ных измерениях.
Раньше я думал над чеховскими абзацами, искал для них
эквивалентного звучания. Теперь задумываюсь над отдельными
словами.
В самом деле, почему при сжатости чеховского стиля два-
жды в одной фразе у Анны Сергеевны звучит «господь свами!»?
Я понимаю: да ведь провинциальная Анна Сергеевна рели-
гиозна! Она, помимо прочего, терзается еще и как человек, со-
грешивший против бога. Отсюда «грех мне гадок!» Мысль о
грехе не случайна. Эта мысль многое объясняет в Анне Сер-
геевне. И сразу эта маленькая, немного жалкая провинциаль-
ная женщина, хрупкая, с лорнеткой в руках, становится в ряд
русских литературных героинь, рвавшихся к свету, любви и
боявшихся бога!
«Я могу теперь про себя сказать, что меня попутал нечис-
тый!» Отсюда — линия борьбы Анны Сергеевны за свою лю-
153
бовь, борьбы сложной, где все перепутано: и сила чувства, и
боязнь греха, и желание жить, и жажда впечатлений!
Многие «защитники» Чехова от посягательств экранизации
считают, что чеховская краткость неразрывно связана с содер-
жанием, как его форма. Это справедливо, но только в пределах
данного искусства, искусства художественного слова. Чехов не
был бы Чеховым, если бы написал на сюжет «Дамы с собач-
кой» роман.
Первое гулянье на набережной
Тема диалога ясна из рассказа: о море, о том, как оно стран-
но освещено и т. д. Очень поэтично, в «волшебной» атмосфере
ялтинского вечера.
А что если построить сцену гулянья на том, что к ним при-
стала цыганка. По свидетельству «Крымского курьера», цыгане
наводнили Ялту. Гадание, как всегда, невпопад. Попутно из
ответов Гурова цыганке выясняется его профессия, то, что он
женат, и пр. и пр. Это как раз и выразит тот «шутливый, лег-
кий разговор людей свободных...»
На фоне этого разговора «свободных, довольных» людей не-
ожидан кашель чахоточного. В лунном силуэте худого кашляю-
щего человека — что-то зловещее! И сразу двухмерной стано-
вится пошловатая красивость лунного вечера, все эти иллюми-
нации, генералы и оркестры...
А собачка что делает? Они сидят на скамейке, а шпиц пы-
тается укусить Гурова за ногу и, спрятавшись под скамейку,
тянет свое (как в «Учителе словесности»): «р-р-р... нга-нга-
нга..!»
В номере Гурова (предположим, в гостинице «Россия»)
Они, конечно же, жили в разных гостиницах. Гуров разде-
вается. В балконной двери — луна, слышен шум прибоя.
154
Гуров спокоен, лениво снимает пиджак, вспоминая о сегод-
няшнем приключении. Проглядывает письмо, бросает его в
корзинку. Приключение! — это важно. И совсем по-иному бу-
дет себя вести она.
Анна Сергеевна в своем номере во «Франции». Та же луна,
те же ритмичные удары волн. Но она пылает, вспоминая о се-
годняшней прогулке. Он — Гуров — лениво равнодушен, а
она — пылает! Погасила свет (свечу), лежит в темноте.
Молитва перед сном
В постели, без берета и лорнета, без высокой прически, она
кажется совсем девочкой. Заплетенная на ночь косичка, тон-
кие руки, тонкая слабая шея... Влюблена! Влюблена!
«...она еще так недавно была институткой, училась все
равно как теперь его дочь... Сколько еще несмелости, углова-
тости...»
А шум волн за окном усиливается, и уже один удар — штор-
мовой, грозный...
Ветреный день. Шторм. Татарские улочки
В сильный шторм Анна Сергеевна и Гуров стоят на берегу.
Пенистые массы воды подкатываются к ногам, брызги обдают
их обоих. За шумом прибоя не слышно диалога, но Анна
Сергеевна что-то нервно, возбужденно говорит Гурову. Она
«сама не своя». Здесь дело не в словах, а в факте самого раз-
говора ее!
Это вторая фаза гипноза природы. Была пряная красота
южного вечера, теперь буйная прелесть шторма.
У чиновника, купца и адвоката своя жизнь. «Срывало
шляпы». Это у адвоката сорвало его канотье, и он гонится
за ним, вызывая смех публики. В ресторане под тентом
весело, визг дам и смех кавалеров — брызги долетают и
сюда!
155
У Вернэ Гуров угощает А. С. водой. Она жадно пьет!
«Жажда» — она во всем, даже в ее взгляде сквозь тонкое стекло
стакана.
Удаляясь от штормующего моря, от толпы, от знакомых
Гурова, они все выше взбираются по горным улочкам Ялты,
где все уединеннее, глуше.
Тема их проходов. Хорошо бы показать «неожиданную»
Ялту: татарские улочки, минарет, зазывный крик муэдзина —
турки живут здесь же, татарскую свадьбу со всадниками, с
яркими цветастыми платками. Из-под покрывала появляется
невеста — совсем еще девочка, жених с большими ушами, пья-
ный, старухи в черном, полузакрытые лица женщин, визг скри-
пок и заунывная мелодия рожка.
Для Гурова это лишь экзотическая сценка, а для Анны Сер-
геевны в этой молоденькой девочке, отданной за пожилого уша-
стого человека, — что-то свое, находящее отзвук. Только взгля-
ды их — Гурова и Анны Сергеевны, — но такие разные но
отношению к виденному, к этому веселому и вместе с тем
грустному зрелищу.
Вот и «прошла неделя». Это же была неделя их знакомства,
заполненная чем-то.
Гуляя по улочкам, они постепенно доходят до совсем тихих
и грязных и оказываются в узкой каменной щели, между двух
дувалов. Здесь тихо и темно, никого вокруг.
Анне Сергеевне становится почему-то страшно рядом с Гу-
ровым, почти чужим человеком. Страшно от беззащитности, от
того, что «сама не своя», что «ходила, как в угаре, как безум-
ная». И потому страшно, что неминуемо их сближение, неми-
нуемо, и нужно бежать от этого, спастись или хотя бы оття-
нуть...
И поэтому она, защищаясь от самой себя, выдумывает вер-
вию о пароходе, на котором, может быть, приедет ее муж. И бе-
жит!
А Гуров принимает это объяснение за чистую монету. Вот
почему они оба и встречаются на молу.
156
Такой рисунок дает внутреннее оправдание дальнейшему,
окрашивает все в «тревожно-терпкие тона». В противном слу-
чае зрительно драматургический ряд может привести к ощу-
щению легкости падения Анны Сергеевны. Этого ничем потом
не смоешь, материала роли для этого не хватит! Да и по суще-
ству это грубая неправда!
Встреча парохода
Одна в окружении чужого счастья, чужих встреч, объятий
и поцелуев. Одна!
Можно начать с прохода через толпу встречающих. Пока-
зать особенность толпы: пожилые женщины одеты, как моло-
дые... и много генералов!
Может быть, Анна Сергеевна увидела в этой толпе или среди
приехавших на пароходе знакомого или знакомую (или сослу-
живца своего мужа) и поспешила спрятаться за тюками това-
ров. В этой тайне есть уже выражение греховности мыслей.
Кажется, что все знают, видят все, к чему она идет! Впервые
боится свидетелей, сплетен!
Здесь возникает важная тема — зарождение тайной жизни,
которая немедленно станет предметом атаки общества мещан,
завистников, ханжей, блюстителей «морали»!
Эта толпа, разрастаясь, запрет впоследствии Анну Сергеев-
ну и Гурова в клетку, как перелетных птиц.
После прохода Гуров и Анна Сергеевна расходятся в раз-
ные стороны, чтобы не быть рядом.
Сходни, пассажиры. Те самые «рожи», что упоминаются в
письмах Чехова.
Гуров курит, ждет. У бочек с селедками или возле горы
арбузов. Жратва!
Со сходен ступает на мол какой-то сановного вида старичок,
Рядом с нимлакей. «Не этот ли?» — спрашивает себя Гуров.
Но нет — мимо!
157
Бессмысленный, нервный разговор. Она дрожит, стоя те-
перь рядом с Гуровым.
— Вам холодно? — Нет... Немного прохладно... Потеряла в
толпе лорнетку.
Здесь же у селедочных бочек он целует ее. И мокрые цветы
падают на ожидающего у ее ног шпица!
— Пойдемте к вам!
Они идут по каменному тротуару, все убыстряя шаг. Только
их ноги — и удивленный шпиц, не понимающий, куда так спе-
шит, почти бежит его хозяйка. На шпица падают цветы из бу-
кета, рассыпающегося в руках Анны Сергеевны от быстрого
шага. Шпиц задыхается от быстрого бега. Крещендо!
К шпицу пристал на ходу какой-то уличный пес, тоже жа-
ждущий быстрого уличного знакомства!
В номере Анны Сергеевны
Еще до входа в номер мы видим обоих в коридоре верхнего
этажа гостиницы. От волнения и торопливости Анна Сергеевна
не может попасть ключом в скважину. Вот они вошли в номер,
за ними вбежал шпиц. Пауза. Открылась дверь, и шпица вы-
пустили в коридор. Он лег на дорожку, ждет. Пусть в течение
паузы он несколько раз примется царапать дверь!
«...душно, пахло духами...» Как это показать? Душная ат-
мосфера важна. Сверчок? Оплывшая от жары свеча?
В паузе, такой огромной, что кажется — не будет ей кон-
ца, Гуров молча смотрит на Анну Сергеевну. Он без пид-
жака.
Душно. Она открывает штору, врывается лунный вечер и
шум моря! Не забывать, что сегодня днем был шторм и что на
рассвете в Ореанде море еще будет шуметь.
Воротничок и галстук Гурова висят на спинке стула, а Гу-
ров ест арбуз. Неестественно громко падают на тарелку кос-
точки.
Растрепанная, несчастная Анна Сергеевна сидит у стола.
Ночная бабочка кружится вокруг оплывающей свечи.
158
Длить паузу, мучительно долго оба молчат. Шпиц ждет в
коридоре, уходит пароход, который они встречали. Анна Сер-
геевна, пугая Гурова активностью своего раскаяния, некрасиво
плачет, комкая платочек.
После ее монолога наступает постепенное успокоение. Гу-
ров гладит ей волосы, целует глаза. Но только — не рождение
чувства, не любовь. В этом «казенном» успокоении должны
быть снижающие детали. Напр.: успокаивая ее, он смотрит на
себя в зеркало, поправляет прическу, поглядывает украдкой на
часы (затянулось, однако!) и т. п.
На втором плане еле видна смятая постель.
Пока она одевалась для поездки в Ореанду, Гуров вышел в
коридор и только теперь на доске жильцов узнал ее фамилию.
Только теперь, после всего. А раньше знал только имя и отче-
ство. Вот в чем штука!
Вот и будет для него приключение, не больше!
Рассвет в Ореанде
Умиротворение! Растворение в природе! Здесь все отдается
пейзажу! Он несет самую активную драматургическую функ-
цию.
Море, вечность!
Вариант: шторм, удары волн, церковь над морем. Тихие
Удары колокола. Во время шторма этот колокол всегда звонил,
чтобы рыбаки «узнали» берег. Анна Сергеевна одна в пустой
Церкви, тихо молится. Рука ее в белой перчатке (как важно
запомнить эту белую перчатку!!). В Севастополе на вокзале
Гуров ее положит на железный станционный забор, как ненуж-
ную, чужую вещь.
Вечность в пейзаже и в ритмических деталях. Будто идет
отсчет времени, маятник времени. Ритмично бьет колокол в
159
церкви, внизу. Ритмично жуют лошади — извозчик ждет! Рит-
мично шумит море.
«Равнодушно и глухо...» (про море). «В полном равноду-
шии к жизни и смерти...»
Одним словом — равнодушная природа!
Важно создать мощный гимн рассвету. Даль моря. Облака
в горах. Молитва татарина-извозчика, кладущего поклоны на
восток.
Лицо старого извозчика — лицо пророка!
Он и она молчат, зачарованные. Сидят на каменной скамье,
совсем крошечные, а вокруг бешено много воздуха, облака,
горы. Во всем этом два человека растворились, слились, суще-
ствуют, как часть этого рассветного пейзажа.
Вариант: медленно едут в открытом фаэтоне, плывет пей-
заж, ритмично постукивают копыта. Тик-так, тик-так... Вдали,
освещенный зарей, проходит пароход. Тот, который они встре-
чали? или другой...
В будущем, в мизансцене — статика, покой, застыло все.
Сторож идет медленно, беззвучно, снимает соломенную широ-
кополую шляпу.
Важно избегнуть здесь примитивного общения между двумя
любовниками. В диалоге, в молчании они не общаются друг с
другом, а скорее разобщены. Общение с пейзажем. У каждого
из них свое, ассоциации свои, мысли свои!
Шпица, забытого в номере и воющего взаперти, лучше здесь
не показывать. Не вносить мелочности характеристик и дета-
лей!
У Анны Сергеевны в этой сцене две стадии «взрыва». Ос-
торожная: «Вы, кажется, переменились...» И более яркая: «Ну,
сознайтесь же...»
160
В умиротворении ее все же прорываются нотки тревоги.
Она понимает, что счастье им не суждено, что оно временное
и что разлука близка. Анна Сергеевна, как женщина любящая,
дальновиднее Гурова.
Здесь, как всегда у Чехова. «К моим мыслям о человече-
ском счастье всегда почему-то примешивалось что-то грустное»
(«Крыжовник»),
Морская прогулка
Смысл сцены в публичном одиночестве наших героев. По-
этому из всех видов ялтинских «дежурных» развлечений лучше
всего морской пикник. На «Гурзуфе» или «Симеизе». Здесь
публичность и невозможность изоляции — все рядом, на кро-
шечной палубе. Поездка в горы, пикник у Байдарских ворот
исключают публичность. Можно уединиться. А здесь все сме-
шано в отвратительном и таком типичном сочетании: пошлый
оркестр, играющий матчиш, кавалеры и барышни, поцелуи и
тошнота от качки, купцы и «рожи», кидающие бутылками в
дельфинов, «качуча» на палубе, лакеи (один из них похож на
мужа Анны Сергеевны), и здесь же, в уголке, страстные поце-
луи Гурова.
Действие для Анны Сергеевны: прощание! Она знает, что
это их последняя прогулка! Интонации прощания трагичны и
так хорошо контрастируют с нетерпеливым ухаживанием Гу-
рова, с «матчишем», со всей этой искусственно веселящейся
толпой.
Важно: она сознательно отказывается от Гурова! Бежит от
счастья, которое несбыточно.
Веселье, от которого невесело!
В первой редакции рассказа есть слова Анны Сергеевны:
«Еще немного, и я увлеклась бы вами серьезно. Вы такой хо-
роший, такой милый, чудный, редкий человек, вас так легко
полюбить! Но зачем любовь? Она разбила бы мою жизнь! Лю-
бить вас тайно, скрываться от всех -- разве это не ужасно?»
8 И. Е. Хейфиц
Это говорит влюбленная женщина! Конечно же, святая
ложь Анны Сергеевны облегчает ей борьбу со своим чувством.
Она уезжает на лошадях, и Гуров едет провожать ее. Их
путь лежит на Севастополь. Оттуда ходили поезда на север.
Старая каменистая дорога сохранилась кой-где и сейчас. Ди-
лижанс, запряженный четверкой, а иногда и шестеркой лоша-
дей, мчал их через перевал. Через татарские селения, мимо
овечьих отар. Наверху, на крыше, лежал багаж и, наверно,
ехал бедный шпиц!
Дорога в Севастополь
Смысл и внутреннее действие этой сцены в том совершенно
различном отношении к прощальному путешествию, которое
есть у Гурова и у Анны Сергеевны. Для нее это прощание на-
всегда с любимым и «чудным, редким человеком». Для него —•
конец интересного, но уже чуть наскучившего приклю-
чения.
Дорога в Севастополь проходит через перевал, у облаков и
местами даже выше их. Анна Сергеевна, поднимаясь в эту
буквально «заоблачную» вышину, очарованная открывающи-
мися картинами природы (третий гипноз природы!), восприни-
мает путешествие свое и как прощание с прекрасным миром
крымской осени. Отсюда — от этих захватывающих дух далей,
морского ветра, плывущих внизу, где-то под колесами, обла-
ков — ее путь лежит к серому забору с гвоздями, к саратовской
осенней скуке.
А Гуров? «...сквозила тенью легкая насмешка, грубоватое
высокомерие счастливого мужчины, который к тому же почти
вдвое старше ее...»
В этом — действие! Поэтому Гуров, покачиваясь в дили-
жансе, спокоен, даже пробует соснуть (путь длится целый
день), ест, скучая смотрит на часы...
Элементы:
а) жанр: лошади, кучер, дилижанс с его наивным «комфор-
том»;
б) пейзаж долин, затем заоблачный, перевал, спуск. Отары,
постоялые дворы (караван-сараи), овчарки, кидающиеся под
колеса. Свистящий бич кучера;
162
в) шпиц на крыше дилижанса. Его реакция на происходя-
щее;
г) сонные пассажиры, безразличные ко всему, кроме еды.
Дать хотя бы примерную географию путешествия: подъем,
перевал, стремительный спуск. Здесь география и эмоциональ-
ный рисунок могут совпасть: подъем — неторопливый разговор
их, перевал — пик всей сцены и, наконец, после ее (Анны
Серг.) прощальных планов — стремительный спуск!
Фраза Гурова: «Это пройдет!»
Она звучит упрямо, холодно. Уже здесь ощущается конец
приключения.
Вокзал в Севастополе
Курьерский поезд! — важно. Маленький, смешной парово-
зик ведет курьерский. Трогательная «экзотика» конца века.
В один из соседних вагонов садится бывшая знакомая Гу-
рова. Было одно приключение — кончилось, было новое и
оно здесь на вокзале кончает свою историю.
«...он был растроган, грустен и испытывал легкое раская-
ние». Это важно исполнителю. После тоски и скуки дили-
жанса, в последний момент, когда уже наступает окончатель-
ное расставание, в Гурове просыпается какой-то далекий от-
звук чувства!
В окне вагона Анна Сергеевна уже не прощается с ним
(как действие это остается, но только внешне). Она уже по-
прощалась с Гуровым в дилижансе. Вымученная улыбка наиг-
ранного благополучия. «Это пройдет!» — сказал Гуров,
Вот она и хочет показать, что это проходит!
8*
163
В финале: остался забытый ею зонтик. Оставшись один,
Гуров не раскрывает его, хотя начался осенний дождь.
Зимою в Москве, вернувшись из клуба пьяным, Гуров один
в своем кабинете раскроет этот зонтик и будет сидеть под ним!
Не зонтик — перчатку она потеряла. Гуров поднял, поду-
мал, повесил на забор палисадника.
Лорнетку потеряла! Она постоянно теряет лорнетку. На
молу, здесь.
Он вернулся в Ялту, и без нее все стало не таким, как было,
померкло. В самом деле — осень! «Пора и мне на север!»
Пустая осенняя набережная, злые волны, пустые голые
скамьи, скелеты от тентов. Он один на мокром тротуаре, на-
хохлившийся. Ни музыки, ни иллюминации, ни... генералов!
Только одинокий чахоточный кашляет у перил, глядя на серое
море.
Зима в Москве
Элементы (из рассказа):
«топили печи...» Няня собирает детей в гимназию. Первый
снег. Гуров гуляет по Петровке. Услышал звон колоколов...
Ресторан, клуб, званые обеды, юбилеи... Играет в карты с про-
фессором...
Из быта Москвы 99 г.
— Стерляди в фонтане. — Биржевые зайцы. — Профессии:
дворник, кухонный мужик, метельщик ж. д., половой, контор-
щик, шарманщик, вожатый дрессированных зверей, городовой.
— Курят сигары.
— В ресторане: охотники конского бега, наездники и вело-
сипедисты, барышники...
— Керосино-калильные лампы и фонари.
— Оркестрион и механические пианино.
— Вывеска: «Кондитер Егор Степанов, зять Юрасова».
164
— Салонный танец падеспань.
— Хоры: большой русский, малороссийский, цыганский,
венгерский, народных певцов.
— «Электро-механический и оптический театр».
— Дамский оркестр (бурские костюмы).
— В гостинице «подъемная машина».
— Костры на площадях.
— Реклама: «Вино Сен-Рафаэль — лучший друг желудка.
Остерегайтесь подделок!» «Самое лучшее развлечение чудо-
граммофон!
Граммофон поет, говорит, смеется!»
Это «материальная», внешняя сторона московского быта.
Что ассоциировалось с ялтинским приключением? С Анной
Сергеевной?
— Голоса детей? — Вой метели в камине. — Романс, испол-
няемый певицей в ресторане. — Серенада Брага...
Зрительные воспоминания: мол, туман в горах, поцелуи,
пароход из Феодосии... И конечно же, номер в гостинице, оп-
лывшая свеча...
Звуки «Гейши», доносящиеся из городского сада (слуховая
ассоциация).
Написанная в рассказе история о том, как Гуров ходил по
улицам, вглядывался в лица женщин, искал ее, — в сценарии
будет выглядеть пошло (если придерживаться «буквы» рас-
сказа). Нужно найти другой образ этого «наваждения».
Линия трех ялтинских друзей Гурова: адвоката, купца и
чиновника. Внутренний «переворот» в Гурове выражается в
крутой смене отношений с ними. Раньше, в Ялте, они искали
случая поболтать с ним, посплетничать, Гуров же держался
холодно, в стороне, Теперь, в Москве, он будет искать встреч с
ними, возможности поделиться своим «наваждением». А они—
про осетрину с душком. Линия общности порвется. Гуров стал
им непонятен, потому что он «вышел из круга».
Ночью, вернувшись из клуба, пьяный, усталый увидел зон-
тик в передней. Ее зонтик. Поцеловал.
Сидит под зонтиком в кабинете, один.
165
Линия московской части сценария:
Автоматизм московской жизни втягивает Гурова в привыч-
ный круг. Ялтинские впечатления вытеснены этим обычным
круговоротом жизни.
Но
впечатления эти медленно оживают, нарастают, начинают пре-
следовать Гурова, не дают ему покоя, даже галлюцинации одо-
левают его,
тогда
возникает у него непреодолимое желание поделиться с кем-
нибудь, потому что одному выдержать этого нельзя, одиноче-
ство мучительно.
Но поделиться не с кем, и прямо говорить обо всем этом
нельзя!
Приходится говорить иносказательно, о любви вообще. Этого
не понимают его друзья и партнеры, возникают совершенно
противоположные ассоциации у него и у них. У него — возвы-
шенные, у них — иронически-двусмысленные.
От всего этого его охватывает чувство отчаяния, и не бу-
дучи в силах справиться с собой, он решает ехать в С.
Ночью проснулся в постели. Рядом жена. Спит. Она про-
снулась и говорит какую-то чепуху, оскорбительную бытовую
пошлость.
Гуров пьяный возвращается из клуба утром. Дети учат
географию. Что-то про Крым...
Дома за обедом, глупая жена, дети, скука. Кто-то из гостей
играет на рояле из «Гейши»...
Празднуют юбилей какого-то банковского начальника либо
самого Гурова.
Гуров готовился когда-то петь в частной опере, значит, хо-
рошо играет па рояле. Играя, вспоминает Ялту, рассвет в
Ореанде, звуки «Гейши», доносившиеся из городского сада.
166
В ресторане, в бильярдной, в бане — оставался позже всех,
чтобы рассказать официанту или маркеру о том, что его мучит.
Больше ведь некому!
Вот что сказано про это в рассказе «О любви»: «В городе...
нарочно ходят в баню и в рестораны, чтобы только поговорить,
и иногда рассказывают банщикам или официантам очень инте-
ресные истории...»
«...точно это лицо, эти приветливые умные глаза я видел
уже когда-то в детстве, в альбоме, который лежал на комоде
у моей матери...»
Как это хорошо для вдруг проснувшейся любви!
«Я не думал о ней, но точно легкая тень ее лежала на моей
душе» («О любви»).
Вот именно легкая тень в душе. В глазах Гурова теперь
затеплился какой-то необычный огонек. Не те стали глаза —
задумчивые.
В «Тоске» извозчик рассказывает седокам про свою печаль,
ища у них сочувствия. А что если седок (Гуров) станет рас-
сказывать извозчику о своей любви, возвращаясь после вы-
пивки из клуба, а извозчик промолчит? Мало ли какую чепуху
городят пьяные седоки!
Из рассказа «О любви». Какие близкие, родственные «Даме
с собачкой» слова!
«Я все старался понять, почему она встретилась именно
ему, а не мне, и для чего это нужно было, чтобы в нашей жизни
произошла такая ужасная ошибка».
Вариант начала московской части:
а) заставочные пейзажи Москвы зимой. Снег. Церковный
звон;
б) Гуров гуляет по Петровке в шубе и в перчатках. Газет-
чик (он покупает все газеты), тройки, вывески, привычная ат-
мосфера любимой Гуровым Москвы (он, как рыба в воде, на
этих улицах);
167
в) встреча с адвокатом. Разговор о юбилеях, о «жратве», о
селянке на сковородке. Проходит женщина, чем-то напоминаю-
щая Анну Сергеевну, и адвокат спрашивает: «Ну, а как твоя
ялтинская...?» Гуров: Забыта!
Москва, первый снег. Жанр ее кривых, почти деревенских
улиц. Архаика этих улиц и их контраст с жестяной природой
солнечной Ялты сразу даст ощущение чего-то прошедшего,
иного, случайного, эпизодического... — такой была Ялта — эпи-
зод в жизни Гурова.
Напитаться этой атмосферой!
Именно в те годы был моден романс «Очи черные».
Очи черные, очи страстные,
Очи жгучие и прекрасные.
Как любил я вас!
Знать, увидел вас
Я не в добрый час...
По дворам ходили старьевщики: «старого старья прода-
вать!» Эта полутатарская фраза пригодится как звуковой фон
времени.
Покойников переносили через заборы, чтобы миновать люд-
ную улицу.
Мрачная деталь к московскому портрету.
На площадях чадили снеготаялки. Черный дым и белые
пирамиды собранного снега. Где-нибудь на фоне прохода Гу-
рова с дочерью в гимназию.
Успех имел «Ухарь-купец», исполняемый тенором. Как тя-
жело думать в это время о женщине, которую любишь и кото-
рая ассоциируется с солнцем, морем, мощной картиной рас-
света в горах...
168
«Конно-железка» — это конка. Пара гнедых. В конце на
этой конке поедет Гуров. Сонные лошади, сонный кондуктор,
на империале дрожащие на морозе репортеры в поношенных
пальтишках, полупьяные.
Дамы, садясь в трамвай, обязаны были надевать наконеч-
ники на шляпные шпильки.
Молебны в торговых рядах. В лавках — большие иконы.
«Яр» и «Стрельна» — модные рестораны. Вот меню. Приго-
дится для сцены, где Гуров слушает романс.
Уха из стерлядей с налимьей печенкой.
Расстегаи новотроицкие.
Котлеты из баранины, соус америкен.
Дупеля в волованах, соус перигюль.
Пунш Розе.
Фазан.
Индейки молодые.
Салат и огурцы в тыквах.
Спаржа, два соуса.
Расстегаи городские...
«Обжорство, пьянство, постоянные разговоры все об од-
ном...»
Гостиница «Эрмитаж» с нумерами для свиданий.
Трактиры: «Большой московский», Тестова, Гурина, «Ново-
троицкий».
Официантам полагалось брить усы (якобы для гигиены).
Адвокаты и солидные врачи обедали всегда в «Праге».
Ночной или рассветный фон московских улиц: кричали пе-
тухи, лаяли собаки, лязгали цепи...
Гуров возвращается из клуба на рассвете.
169
В купеческом клубе жрали аршинных стерлядей. Маска-
рады с призами, обеды, выставки и субботние ужины..,
Пьют под селедочку, под парную белужью икорку, под гре-
ночки с мозгами.
Это все в клубе, где Гуров проживает свою скучную жизнь.
В «Славянском базаре» официанты были во фраках...
Гости у Гуровых
Общий характер отношений в семье:
— Жена пятидесяти с небольшим лет («Почти в полтора
раза старше его»), дочь —12 л., сын —лет десяти.
— Гуров, конечно же, любит дочь. В Ялте он вспоминал
о ней.
Ее он провожает в школу. Эта деталь поможет раскрытию
«системы отношений» в семье.
— Кроме семьи, за столом домовладелец, адвокат и какой-
то модный певец. «Салон» жены требует присутствия артиста.
— Гуров в семье — «вторая скрипка», жена энергична, она
повелительница, Гуров ее боится.
Жена заставляет Гурова играть гостям на рояле. В первом
варианте рассказа (до сокращений) Гуров даже пел.
Вариант этюда «жена — гости».
Она читает им свои стихи...
Она читает свою пьесу... (Как в «Ионыче». «Мороз креп-
чал...»)
В «Московском Гамлете» у Чехова подробно описан весьма
близкий к жене Гурова характер.
— Апломб! Во всем: в споре, в еде, в молчании.
— Про себя она говорит: «Не смеюсь, когда смешно».
— Не зная предмета: «Это старо!»
170
— «Скажу вам по секрету — эту фразу Кальдерон заим-
ствовал у Лопе де Вега!»
— Про живопись: «Кажется, все есть: и воздуху много,
и экспрессия, и колорит... Но главное-то где? Где идея? В чем
тут идея?»
Варианты этюда «жена — гости»:
— Она читает гостям свои стихи.
— Читает чужие стихи.
— Заставляет своих детей читать басни.
В этот вечер разговоры посвящены теме любви.
Действует все время жена, Гуров — лицо страдательное.
Но — что самое важное — здесь Гуров еще не критик и не в
оппозиции, он в своей сфере. Гости, клубы, юбилеи, разгово-
ры—это его круг, и он еще не скоро вырвется из него!
Возможны темы диалогов:
— О вчерашней игре в клубе. — О предстоящем юбилее. —
О том, что пишут в московских газетах. — Об устрицах:
«Когда устрицы фленсбургские, иногда остендские, а бывают
и крымские. Иногда лососина, а иногда семга. Мартовский
белорыбий балычок со свежими огурчиками в августе не отве-
даешь...»
Гуров сел за рояль (по настоянию жены), сказал что-то ве-
селое и механически заиграл кусок из «Гейши». Углубился в
игру, вспомнил об Анне Сергеевне. А жена смотрит на него
и ничего не знает!
Здесь возникает ретроспектива: величавость впечатлений
о Ялте, связанных с Анной Сергеевной. В этих воспоминаниях
зрительно сам Гуров отсутствует. Он не видит себя, естест-
венно, а видит ее. Он вспоминает ее лицо, подробно, не слыша
слов ее. Вот она рядом с верховой лошадью, на Учан-су, у
моря, на велосипеде, в парке.
171
Гуров, играя, закрывает глаза. В игре его, в начале механи-
ческой, все более и более проступает чувство, вдохновение.
А жена смотрит на него, решая, что это вдохновение отно-
сится к ней!
Но это еще не «наваждение», это лишь первый слабый на-
мек на то, что завладеет им позже!
Он видит ее в своих воспоминаниях несколько идеализиро-
ванной. Все окрашено пробуждающимся чувством и, следова-
тельно, — не объективно!
Он все* время видит ее серые глаза, то веселые, то запла-
канные.
На пианино ведь горит свеча! Свеча горела и в ее номере
в Ялте. Оплывшая свеча мгновенно вызывает ассоциацию. Все
исчезло: гости, жена, музыка. И только свеча! Как все свечи,
похожие одна на другую, эта свеча точь-в-точь такая же, как
та, что оплывала в душном номере гостиницы «Франция».
Темы для кусков ретроспекции:
— Свеча и опущенная, как у грешницы, голова Анны Сер-
геевны.
— Прибой и она, стоящая у самых волн. Удивительно пре-
красные глаза ее, лучшие, чем в действительности.
— На извозчике: голова, запрокинутая в поцелуе.
— Она стоит над бездной в черном платье, а под нею плы-
вут белые, фантастические облака. (Как по дороге в Севасто-
поль!)
Он возвращается к действительности, гасит свечу на своем
пианино. Аплодисменты гостей, глупый возглас жены, с аплом-
бом говорящей о его исполнении!
Первая стадия «наваждения» закончилась. Начинается вто-
рая, и более сильная. Из случайной ассоциации со свечой и му-
172
зыкой «Гейши» возникает ощущение, что Анна Сергеевна
здесь, в Москве, где-то рядом. Ее близость ощущается Гуровым
как реальность. Это приводит его к поиску. Ему уже важно не
только думать о ней, но и увидеть ее, найти на улице, в конке!
И на это уходит вся его энергия, все усилия. Банк, служба,
дети — все отошло на второй план!
На империале конки
В московской части сценария есть три стадии «наважде-
ния».
1-я, еще робкая, — случайная ассоциация со свечой на пиа-
нино.
2-я — ночью, в постели рядом с женой, бессонница. Слышит
голос Анны Сергеевны, будто она рядом.
3-я — ищет Анну Сергеевну на московских улицах.
Каждая из этих стадий нарастает по отношению к преды-
дущей. Здесь должен образоваться ряд эпизодов, дающих «кре-
щендо».
Гуров, оставив банк, бесцельно бродит по улицам. Без вся-
кой видимой причины садится в конку. Чтобы подольше не
быть дома.
Конку тянут усталые лошади, сонный ритм. С империала
видна улица, прохожие, московская толпа. А конка (не гого-
левская тройка!) сонно тащится. Лошади понуро опустили го-
ловы, на империале чеховские персонажи из «осколочного»
мира. Полупьяные репортеры, пропившиеся артисты, заспан-
ная хористка, обыватели...
Лейтмотив плетущихся кляч! Гуров всматривается в людей,
точно видит их впервые. Всматривается! — это важно. Новый
взгляд на окружающих людей. И странно: то, что раньше каза-
лось обычным, теперь обращает на себя внимание Гурова!
Вглядывание в жизнь! В этом действие его короткого куска.
И вдруг, на тротуаре, среди прохожих — белый шпиц!
оборванным поводком. Сонный ритм «взрывается» этой
173
ударяющей по возбужденному вниманию Гурова деталью! Ко-
нечно же, это тот самый шпиц, собачка Анны Сергеевны.
Некоторое время собачка бежит рядом с конкой. Тащится
поводок. Этот поводок, путающийся между ног прохожих,
единственная нить, связывающая Гурова с прошлым, с Анной
Сергеевной. Ведь шпиц бежит к хозяйке, которая потеряла его
в толпе! Бежать за собакой! Но как? На ходу Гуров соскаки-
вает с конки.
В поисках шпица Гуров бродит по московским улицам. Те-
перь в его движениях появилась определенная цель, навязчи-
вая, неотвязная мысль — где-то здесь, по этим улицам, ходит
Анна Сергеевна...
«Анна Сергеевна не снилась ему, а шла за ним всюду, как
тень, и следила за ним».
Это условно названное мной «наваждением» лучше всего
выразить через встречу с собакой, через поиски.
«Она по вечерам глядела на него из книжного шкафа, из
камина, из угла...»
Выраженное буквально, это будет смешным и дешевым!
Куда же приведут Гурова поиски? Они должны окончиться
какой-то неожиданной и разочаровывающей сценой. Тогда не
останется ничего другого, как ехать в С.
В рассказе-зарисовке «На Трубной площади» подробно
описан птичий рынок. Там же и собачники продают и поку-
пают свой «товар». Знаменитая «Труба» — яркое пятно мос-
ковского быта. Поиски шпица и приводят Гурова на Трубную
площадь.
Хари хитрованцев, барышники, любители птичьего пения,
рыболовы, татары-старьевщики («старого старья продавать!»).
Старый лакей, продающий шпица («Барыня сказала —на ко-
фий деньги надобны!»). Гуров видит собаку, схваченную попе-
рек шеи веревочным поводком.
Какая-то далекая, странная ассоциация. Белый шпиц в
руках лакея! Лакей! Муж, фон Дидериц — лакей! Веревка на
шее собаки. Тоскливая, «плачущая» мордочка шпица. Глаза
смотрят совсем по-человечески...
174
Бессонница
«...Закрывши глаза, он видел ее, как живую...» «... Он слы-
шал ее дыхание, ласковый шорох ее одежды...»
Бессонница, Гуров рядом с женой в постели. Слышит ее
мерное похрапывание. Возникает тихий голос Анны Сергеев-
ны... Какие-то обрывки фраз, жалоба... Слова едва слышны,
потом совсем не слышны. Музыка.
Она возвращает Гурова к морю, к картинам рассвета...
В тишине за окнами пропели петухи. «Лаяли собаки, ляз-
гали цепи...» — это из книг о старой Москве. Прогремела пер-
вая конка...
А рядом благополучно спит жена! Двойная жизнь!
Загородный ресторан
«...слышал ли он романс... в ресторане... как вдруг воскре-
сало в памяти все...»
Это уже, выходит, четвертая стадия «наваждения». После
поисков на улицах Гуров приходит в ресторан. От нечего де-
лать. («Не любил бывать дома»). Слушает певицу. И ему вдруг
становится нестерпимо тяжело от своего одиночества, от того,
что некому рассказать о «наваждении», не с кем поделиться
мыслями, лишившими его покоя.
Здесь, так же как в кусках «империала» и «улиц», рож-
дается в Гурове новое необычное «зрение». Все, что было
раньше привычным окружением, бытом, повседневностью,
теперь бросается в глаза своею пошлостью. У Гурова другие,
внимательные, задумчивые глаза, говорящие о напряженной
Душевной жизни.
На конке были голодные репортеры, а здесь — рабы. Ку-
пец — раб своей навязчивой идеи, убежденный в том, что все,
что делают для него люди, даже любимая им жена, — все это
175
ради денег! Рабы-лакеи, готовые на все ради рубля, рабыня-
певица, бесцеремонно прерванная пьяным купцом, паразит-
прихлебатель с гитарой, наживший состояние на подачках (он
умело подражал хрюканью). Для купца и Гуров —раб. Его,
как известно, женили на «двух домах». Он собирался петь в
частной опере, так пусть... споет здесь за пятьсот рублей.
— С какой очаровательной женщиной я познакомился в
Ялте!
Вместо ответа — непонимающие (купец забыл про Ялту, про
все, что было!) и равнодушные глаза!
В этой сцене трагически начинают «отыгрываться» веселые
и беззаботные ялтинские знакомства. Ялтинское мужское
«окружение» Гурова, деятельно принимавшее участие в «ро-
мане» с дамой с собачкой, начисто забыло все. Контакт нару-
шен, Гуров —один на один со своими чувствами!
Вечер дома
«Доносились ли в вечерней тишине в его кабинет голоса
детей, приготовлявших уроки...»
Вечерняя тишина в квартире Гурова. Вновь «публичное
одиночество». Из этой публичности рождается образ двойной
жизни. И из ощущения счастья, довольства, благополучия!
Здесь выразительность сцены в вопиющем несоответствии
между внешней обстановкой, внешними признаками счастья
и внутренней отчужденностью Гурова. Двойная жизнь и тайна.
Гуров «уходит в подполье».
Все, что выражает «хорошо организованный, примерный
и счастливый дом»! Видимая общность и внутренняя разоб-
щенность, чуждость!
Почти «хрестоматийный» жанр семейного счастья: уютно
горит лампа, поет тихо самовар, мурлычет кот, топится печка,
горничная в наколке приносит чашки, домашний мягкий халат
на Гурове и домашние туфли...
176
Жена помогает дочери готовить уроки. Фразы диктанта.
(Найти в старом диктанте фразу, заверченную, «как строчка
из Аверченко».)
Но это еще не сцена, а только ее атмосфера. А вся сцена —
лицо Гурова, греющегося у печки. Лицо, глаза, в которых
мука, отчуждение, боязнь быть раскрытым, оценка...
Неуместная и глупая фраза жены о том, что Гурову не
к лицу роль фата!
Это в ответ на полушутливую фразу о женщинах. Фразу,
за которую Гуров спрятался.
— Я думаю... о женщинах!..
Лицо Гурова. Тихая музыка, звучащая как бы изнутри.
Слышимая лишь «внутренним слухом» Гурова и неслышная
для окружающих.
Дорога в клуб
Гуров идет в клуб. Один со своей любовью и в надежде на
то, что его поймут!
Элементы: проститутка у костра. — Там же метельщик
и извозчик (он повезет Гурова из клуба). —Городовой, окно
трактира и звуки оркестриона. — Мерзнут у подъезда ку-
чера.
В докторском клубе
Гуров играет в винт с профессором. Игра без азарта, скуч-
ная! При свечах.
Осторожные наводящие вопросы о любви, о ее значении
для человека и т. д. Издалека, одним словом.
Профессору — какую-нибудь «ученую пошлость». Говорит
тоном лектора.
В докторском клубе — доктора, дачевладельцы, модные ги-
некологи.
*/fi9 И. Е. Хейфиц
177
Профессор (про любовь): С точки зрения биологической...
Гуров пьет за буфетной стойкой. Сквозь прямоугольник
двери видно, как, толкаясь и спеша, бросаются к закускам.
(Хрипуны, алкоголики...)
Стол с объедками, лакеи. Один Гуров пьет за столом на
пятьдесят куверт...
Выводят купца. Он почти лежит на руках лакеев. Мороз-
ный вечер. Пока его усаживают в сани, почитатели дрожат на
морозе во фраках, с лысинами.
У клуба мерзнут проститутки и кучера.
Вырвавшись из клуба на свежий воздух, Гуров ищет собе-
седника — партнера по картам. Он уже сильно пьян. Неожи-
данно радостный, в распахнутой шубе, счастливый, озаренный
надеждой, он буквально цепляется за единственного человека,
который, как кажется Гурову, поймет его.
В вопросе Гурова — нежность и какая-то новая в нем оду-
хотворенность — счастье.
— Если бы вы знали...
Помогает партнеру — это ялтинский друг, участник всех
веселых приключений, тот, что взвешивался на весах, —
усесться в санки. Нежно запахивает полость.
— Если бы вы знали... и т. д.
Тот отъехал, позвал: Дмитрий Дмитриевич!
Вот оно! Вот и ответ! Гуров с готовностью бежит к санкам.
— Осетрина с душком... и т. д.
И поехал.
Одна до боли сверлящая нота. Знакомая музыкальная тема.
Разговор седока с извозчиком. Жалоба, отчаяние. Мольба о со-
чувствии. Но спина извозчика в рваном армяке молчит. Лоша-
денка, с которой пластами сваливается снег. Типичный ночной
извозчик. Это же Иона Потапов из «Тоски».
178
«...все об одном... Ненужные дела и разговоры все об од-
ном...»
Эту монотонность можно подчеркнуть не только ритмом
медленно ползущих санок, не только шагами Гурова, бредущего
за санками по ночной снежной улице, но и бесконечным повто-
рением света и тени от керосиновых фонарей, черными ство-
лами деревьев бульвара.
Свет и тень перечеркивают идущего за санками Гурова. Он
отстает, догоняет, опять отстает и вновь догоняет санки.
Извозчик, наконец, вставил слово.
— Вы бы сели, барин... Не рядом ведь...
И он — ночной извозчик — глух и безразличен к открове-
ниям Гурова. Любовное чувство эгоистично. Если я люблю, то
мне должны сочувствовать все.
А для извозчика все это лишь пьяный бред загулявшего
седока. Итак — круг замкнулся! Одиночество в своем наивыс-
шем выражении.
Возвращение из клуба
Утром он возвращается. Конечно, таким он не может по-
казаться детям. В своем доме он крадется, как вор, обходя
дверь столовой, где завтракают перед школой и повторяют
уроки его дети.
В шубе, как был, Гуров прокрадывается в кабинет. Важно:
в кабинете на диване постелена его постель. Здесь, а не в об-
щей спальне, рядом с женой. Из кабинета должна быть дверь
в спальню. Он прикрывает ее, чтобы не разбудить (ни за что!),
не потревожить жену.
Он променял супружескую постель на холостяцкий диван.
В углу кабинета печка. Тепло этой печки заменяет ему
все. Он обнимает печку, нежно, как женщину. Греется и мол-
чит, едва улыбаясь. Чему он улыбается? Шуму ветра в трубе,
похожему на шум прибоя!
У Гурова лицо страдальца. Такого лица у него еще не было
ни разу. Точно тайная жизнь «к лицу» этому человеку! Будто
опа — эта жизнь, любовь, изменила его до неузнаваемости!
179
В Саратов!
Не нужно играть здесь обман. Обман ничего не прибавляет
к характеру и смыслу. Не в этом двойная жизнь. Обманывал
жену он и раньше. Здесь все сложнее. Он не рассуждая едет
в С. Не отдавая себе отчета в этом поступке. Зачем? Сама
«судьба» его несет.
Атмосфера рождественского вечера или утра. Зажжена
елка, вокруг елки танцуют дети. Все идиллично, празднично!
Жена собирает чемодан. Курит! Она ведь курит — это
важно!
Важно: ее должно быть жалко здесь. В сцене прощания
(у нее предчувствие) она на секунду утратила «мрамор» — хо-
лод и свою осанку («...прямая, важная, солидная...»).
Перед Гуровым увядшая женщина, мать его детей.
В сочетании Гуров — жена — Анна Сергеевна, в общем,
несчастны все трое.
И Гуров говорит нежно, точно извиняясь за свою ложь, что
едет только на три дня. Ему очень важно обрести устойчи-
вость, найтись, мобилизоваться в этой невеселой ситуации.
Поцелуй их, на прощание, все же холодный, «супружеский».
А с Наташей — нежно. Он любит дочь, очень любит.
Жена, всегда чопорная, высокопарно разговаривающая,
недалекая и важная, всхлипывает у Гурова на плече. Она за-
ботлива: дает ему чистый носовой платок, кладет в карман
конфеты на дорогу. Должно быть сложно!
В железнодорожной кассе, когда он будет брать билет до
Саратова, в кармане, рядом с деньгами, он обнаружит эти
конфеты.
Приезд в Саратов
Швейцар провинциальный: мужик в потасканной ливрее, в
валенках, на голове ушанка. У него окающий волжский вы-
говор.
Серый номер. Гуров сидит не раздеваясь, усталый. Всадник
с отбитой головой и чернильница без чернил фиксируются в
180
тот момент, когда Гуров пытается написать записку Анне Сер-
геевне. Но чернила давно высохли, и Гуров (здесь смысл в
ничтожной причине) решает идти сам к дому Дидерица.
Для сохранения серого колорита во всем комплексе сара-
товских сцен — действие происходит в пасмурный день. Ка-
пель. Звон капель на Старо-Гончарной улице важен, как зву-
чание паузы.
Особая тишина оттепели, когда не слышно шагов и — только
звук капель, стекающих с сосулек.
Схема сцены: 1) Приход Гурова, 2) Тишина, звук капель,
3) Гуров присматривается к дому Дидерица, 4) Сосулька,
капли, в луже отражается серое небо, 5) Прошли черные, как
галки, монахини, 6) Рефрен — капли, 7) Нищий и собаки,
8) Выход старушки со шпицем, 9) Реакция Гурова, 10) Гуров
ждет, слышит рояль, доносящийся из дома, 11) Гуров уходит.
В поступке Гурова есть что-то неловкое, даже стыдное для
него. Взрослый мужчина в положении влюбленного гимнази-
ста, торчащего под окнами. Улица пустынна, Гуров заметен
здесь, а спрятаться некуда. Это ощущается в его поведении.
Кроме того, он прождал несколько часов, замерз, греется по-
извозчичьи. В течение сцены меняется свет, все темнее и тем-
нее, к концу зажглись окна в доме. А он все ждет.
Начать с появления Гурова на Старо-Гончарной. Он мед-
ленно подходит к дому, сверяя адрес с бумажкой, которую
держит в руке.
Он идет мимо забора, серого, с гвоздями. Этот проход нужно
довести до крайней гиперболы. У Чехова: «От такого забора
убежишь!»
Гиперболы можно достигнуть лишь введением реального
времени, необходимого для того, чтобы пройти мимо забора.
При полной натуральности забора (вплоть до фактуры и разме-
ров) можно создать усиление одною лишь длиной монтажного
9 И, Е, Хейфиц
181
куска. Если не обрывать кусок, а длить его, то при отсут-
ствии разнообразия в элементах серого забора (чередующиеся
серые доски, гвозди) должно произойти чудо! Забор покажется
бесконечным!
Время (тоже гипербола!) тянется бесконечно. Смена света.
Мальчишка бросил в Гурова снежком и спрятался. С крыльца
дома спускается шпиц. На этот раз это действительно тот са-
мый шпиц. Но кличку собаки Гуров забыл. Он ненавидел этого
пса в Ялте и забыл, как его кличут.
— Рекс! Рагдай! Роланд! Рамзес!
Он помнит только, что на «эр».
— Ральф! Робби!
Вслед за собачкой выходит старуха. Какие-то неуловимо
знакомые черты. Может быть, мать Анны Сергеевны?
Уже совсем стемнело. Капли все реже звенят, падая в
лужу. Гуров продрог, вытирает нос перчаткой. Именно в этот
момент из освещенного окна дома Дидерица начинают доно-
ситься заглушенные звуки рояля. Характер музыки здесь ре-
шает многое. Музыка эта должна вызвать в Гурове раздраже-
ние, даже ревность, вернуть его к реальности (глупо, как
гимназист, мерзнет под окнами!). Рояль звучит игриво, шалов-
ливо и беззаботно.
«...И уже думал с раздражением, что Анна Сергеевна за-
была о нем...»
Под эту игривую и такую неуместную сейчас музыку Гуров
уходит, а вдогонку ему летит снежок...
Скучный вечер в гостинице
Серые сумерки в номере. Гуров сидит на постели, накинув
серое одеяло. Курит. От нечего делать подходит к столу и долго
всматривается в пыльного всадника с отломанной головой.
Акцент на этой детали!
В этой сцене происходит важное для дальнейшего развития
отрезвление Гурова. Раздражение, вызванное глупым ожида-
182
нием на улице, шаловливая музыка, доносившаяся из окон
Анны Сергеевны, оскорбительный снежок в спину, серый но-
мер, вопли какого-то забулдыги из коридора — это накопление
отрезвляющих обстоятельств!
Линия гуровского чувства рисуется теперь зигзагообразно,
от спада к взлету. В номере саратовской гостиницы бесцельно
томится и скучает не «воспаленный» любовник, нетерпеливо
ждущий свидания, а уже немолодой и усталый человек, ощу-
тивший всю бессмысленность, мальчишество и неловкость
своей необдуманной проделки.
Под окном афишная тумба, скупо освещенная керосиновым
фонарем. На тумбе афиша «Гейши».
И отсюда переход к театру. Гуров приходит туда опусто-
шенный и скучающий. Тем ярче вспыхнет в его сознании она,
неожиданно появившаяся.
В театре
В серой провинциальной толпе Гуров неожиданно видит
Анну Сергеевну и ее мужа. «Лакей» — не только в кланяю-
щейся походке, значке в петлице. Мужу необходима здесь ко-
роткая характеристика в действии.
Пока Гурову не до мужа. Он весь поглощен Анной Сергеев-
ной. С Дидерицем Гуров столкнется в антракте в курилке. Но
проход Дидерица важен. Это важная характеристика. Серый
забор, от которого надо бежать. И муж — лакей, ничтожество.
И от него надо бежать! Но некуда.
В ложе перед самым началом представления появляется
губернаторская дочь в боа! Ее сопровождает сам губернатор.
Дочь садится в аванложу, а губернатор предпочитает остаться
в тени.
«Сам губернатор скромно прятался за портьерой, и видны
были только его руки...» На этих руках можно построить дей-
ствие.
Фон Дидериц и Анна Сергеевна идут по проходу в первый
ряд. Муж кланяется дочери губернатора. Появляются на барь-
ере ложи руки губернатора, и муж кланяется этим рукам. Он
9
183
следит не столько за действием оперетты, сколько за этими
руками в белых перчатках, косится на них, не расставаясь
с угодливо-вежливой улыбкой. Вот и лакей!
Теперь Гуров и Анна Сергеевна разделены пространством
зала. Но как человек нервно возбудимый, Анна Сергеевна на-
чинает волноваться, чувствуя на себе чей-то взгляд.
Начинается «Гейша». Дидериц делит свое внимание между
сценой и губернаторской ложей. Анна Сергеевна почему-то
нервничает. Гуров в ложе просит у соседа бинокль. И видит
совсем рядом во всех подробностях ее лицо.
Он выходит в курилку в середине акта, а потом, в антракт,
спешит туда и фон Дидериц. Оба курят. Гуров изучает мужа,
его долговязую фигуру, угодливую физиономию, лакейскую по-
ходку. Вот он, тот, кому принадлежит женщина, ради которой
он приехал сюда.
В антракте Анна Сергеевна остается в зале. Из партера,
амфитеатра, лож, галерки смотрят на нее провинциальные
«хари». Ей покажется чуть позже, когда подойдет Гуров, что
эти «хари» уставились на них обоих, разглядывают их в би-
нокль и все знают про тайну их встречи!
Проход на балкон по лестницам, через толпу точно описан
у Чехова, как сценарий.
Здесь должно быть ощутимо время, уже тронувшее Анну
Сергеевну. Она очень повзрослела, если можно так сказать,
ушли черты девочки, угловатость и наивность молодости.
Жизнь в Саратове, у серого забора делает свое дело.
Когда оба они спешат уединиться, то толпа должна от бы-
строты их движения превратиться в безликую «супрематиче-
скую» массу.
184
Объяснение на лестнице, у забитой двери на чердак. «Ход
в амфитеатр». Внизу грузят пиво, распоряжается толстый бу-
фетчик, «тылы» театра.
И вся эта терпкая, «трепещущая» сцена идет на музыкаль-
ном фоне настраивающегося оркестра, на фоне музыкального
сумбура, потока бессвязных созвучий.
Но вот хаос звуков сменился увертюрой второго акта. Дей-
ствие началось. Анна Сергеевна спешит в зал, а Гуров остается
на лестнице, счастливый и несчастный в одно и то же время,
обдуваемый сквозняком, в неровном свете газовых рожков.
Весна
Для перехода к последней главе рассказа важно уяснить
следующие обстоятельства времени, места и действия:
Раз в два-три месяцд А. С. приезжала в Москву. В который
раз приехала она теперь? Свидание не первое, оно уже при-
вычное, — это быт их тайной любви. Действие в «Славянском
базаре» может происходить зимой или ранней весной.
Они, конечно же, переписывались. Тайная переписка «до
востребования», письмо, вручаемое на почте предъявителю ас-
сигнации с таким-то номером (в 90-гг. — обычный прием удо-
стоверения личности при получении писем «до востребо-
вания»).
Небольшая сценка на почте. Гуров получает письмо. Все
это образы двойной жизни их, главной жизни!
А. С. посылает к Гурову «красную шапку». Проход по ве-
сенней Москве «красной шапки» даст необходимое вступление
к последней части сценария.
Куда же посылала Анна Сергеевна «красную шапку»? В банк?
Домой? Если домой, то старик посыльный, знающий не одну
историю тайной переписки, сразу поймет, как передать письмо,
чтобы оно осталось тайным и попало в руки того, кому адресо-
вано.
185
Двойная жизнь Гурова проявится в сцене на почте («до
востребования»), в разговоре с «красной шапкой» дома, в сцене
проводов дочери в школу.
Явная жизнь, оболочка — в банке, на званых обедах и юби-
леях.
Примерно так должен сложиться последний раздел:
Юбилей, как образ лживой, парадной оболочки жизни.
Красная шапка — носитель тайны, знак второй, главной,
жизни.
Гуров вынужден притворяться, быть примерным супругом
для окружающих.
Тайно от дочери он уходит на свидание в «Славянский ба-
зар».
Прощаясь с дочерью возле школы, Гуров нежно целует ее,
будто извиняется перед ней за что-то..»
Если Гуров вынужден скрывать свою любовь, то выгодно
расставить на его пути «ловушки». Ханжеское общество вы-
ставляет свои «дозоры», и перед ними Гуров маскируется, ка-
муфлирует свою главную жизнь. Это не на юбилее, где «все
благополучно» и где все показано, все, вплоть до улыбок, адре-
сованных жене.
Он приходит в «Славянский базар» утром. В эти часы ему
следует быть в банке! На лестнице, ведущей в номера, попа-
дается ему навстречу какой-то облезлый человечек, репортер,
зарабатывающий на хлеб шантажом. Узнал Гурова, фамиль-
ярен, подозрителен, грязен в мыслях.
— Одолжи мне, Митя, пять рублей... Я отдам.
Гуров сует ему бумажку.
А. С. ждет в номере. Ждет не как любовница, а как жена.
В сером платье, его любимом платье.
Гуров стучит в дверь, озираясь, каким-то условным стуком.
186
Свидание.
Любимое серое платье. В этом платье Гуров уже видел ее
раньше. Где? В Ялте, в театре?,
«Точно они не виделись года два...» А сколько они не виде-
лись? Год? Полтора? Это важно!
Долгий их поцелуй перебивается играющим во дворе музы-
кантом. Или шарманщиком.
Рядом в номере работает настройщик...
Что-то пошлое в гостиничном номере. Картина на стене.
Репродукция натюрморта. Убитые утки. По коридору проносят
десятки точно таких же натюрмортов. И все убитые утки.
«Размноженная» культура!
Она надела любимое его платье, угостила его любимым уго-
щением. Пришел официант во фраке с грязным белым галсту-
ком, «понимающе» поклонился, принес чаю.
Отношения их просты, как отношения любящих супругов.
Он пьет чай, она рассказывает ему о жизни. На фоне акку-
ратно убранная постель. Она так и останется нераскрытой до
конца сцены.
В течение сцены он несколько раз порывается уйти. Ждут
дома! И каждый раз нет сил расстаться. Бьют часы, и это —
как напоминание. — Надо уходить!
Диалог про их жизнь, про старость —в зеркале!
Вариант финала: еще при них приходит горничная помочь
собраться (Анна Сергеевна уезжает), выносит вещи, выбрасы-
вает в корзину увядшие цветы.
187
В переплете окна они кажутся птицами в клетке. Потом,
после ухода Гурова, она одна, за темными переплетами окоп-
ных рам (двойных!).
Гуров и Анна Сергеевна успокаивают друг друга в течение
всей сцены, и этим успокаивает каждый себя. Не жалобы, а
взаимоуспокоение. В этом и заключена светлая нота надежды.
Вариант конца:
Горничная собрала вещи, Анна Сергеевна уезжает. Оба —
она и Гуров — уходят из номера, временного прибежища их
любви. Но они, обходя «ловушки», вынуждены играть роль
незнакомых друг с другом людей. Чтобы маленький скользкий
человечек не увидел их, чтобы «толща предрассудков» не заду-
шила их.
Дверь номера раскрывается, и плачущая Анна Сергеевна
уходит по коридору налево, а Гуров — по коридору направо.
Как чужие, незнакомые, безразличные друг другу люди, они
идут по лестничным маршам, каждый в свою сторону. Как чу-
жие, садятся в «подъемную машину». Как чужие, выходят в
большую дверь на ночную улицу. Насильно разлученные и та-
кие родные, близкие, вечно любящие друг друга существа.
«Около ворот стояли дворник в новом кафтане... и двое го-
родовых...» («Три года»).
1960
ИЗ РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ РЕЖИССЕРА
(«ГОРИЗОНТ»)
Пройти через испытания, чтобы было потом о чем вспо-
мнить, — вот первоначальная задача отправившегося па целину
«десятого А». В первых эпизодах вся ватага «десятого А» еще
только «играет» во взрослых. В ней много детского. Поездка
в совхоз — веселое приключение, туристская вылазка. Все дер-
жатся единой компанией, как в школе. По мере движения по-
вествования все эти милые приключения незаметно переходят
в суровые испытания. И чем больше будет накопляться черт
возмужания в этой милой, почти еще детской компании, тем
ярче будут выделяться отдельные характеры, тем явственнее
станет дифференциация «десятого А».
Вот они впервые ночью в степи. Темный горизонт. Ни огня,
ни звука. Сколько раз они читали про степь, но не умеют еще
ходить по ней ночью. Сразу заблудились.
Резко сверху. Фигурки на земле в лунных тенях. Кто-то
позвал: «Ребята-а-а!» — и свистнул. На свист залаяла собака.
Побежали. Сергей упал. И тут увидел звездное небо.
Они читали Фламмариона, умеют читать звездное небо и в
нем не заблудятся. А по земле ночью ходить сложнее. Маль-
чики в степи под звездами. Небо и звезды отражаются в луже.
По звездам они пытаются найти запад; увлекшись, Сергей од-
ной ногой попадает в лужу. И небо сразу замутилось — небо,
отраженное в луже...
Для начала — образ «книжных людей».
Потом их встретил сторож — старик с лицом хлебороба. Он
как бы вышел из прошлого века, по осветил их никелирован-
ным фонариком, затем сунул фонарик в старую пустую револь-
верную кобуру, болтающуюся на животе.
В сценарии — два лагеря. С одной стороны, директор сов-
хоза Голованов и его помощники, бывшие партизаны, прошед-
шие через огонь и воду, через две войны, через трудные годы
пятилеток, через многие жизненные испытания, одним
189
словом — бывалые солдаты. С другой — ватага школьников,
мальчишек и девчонок, не испытавших в жизни ничего, не
знающих трудовых традиций, не забывших еще школьных ша-
лостей, школьной фразеологии, шпаргалок и других наивных
хитростей, облегчающих ответы на экзамене.
Все споры здесь должна рассудить земля. В этой беспре-
дельно широкой степи — образ судеб героев. Жизнь — земля!
Жизнь прожить — не поле перейти! Жизнь — поле.
В такой трактовке — освобождение вещи от бытовых, су-
губо «производственных» интонаций.
Как важно режиссерски и изобразительно найти этот образ:
земля — поле — жизнь. Ведь земля может быть лугом с цве-
точками, а может быть застывшим океаном!
Здесь подстерегает опасность дешевой символики. Смысл
в том, чтобы поэтический образ оказался не насильственно
притянутым, «условным». («Ливень» Кавалеридзе!) Пусть поэ-
тический образ возникает изнутри, не нарушая «объективность»
и натуральность кинематографической фактуры.
В первых кадрах — акцент на горизонт. Он должен быть
четок. В первом куске огромность, необъятность плоской до-
ски. И только дорога, по которой приезжают школьники.
Столбы подчеркивают перспективу. На столбе — ночная птица.
Все странноватое, по-ночному «ирреальное». Пыль. Когда оста-
новилась машина и Сергей с Мишей вышли, пыль их догнала.
Экономный шофер погасил фары.
В дальнейшем образ необъятной степи раскроется в сцене
ночной прогулки.
Процесс развития характеров должен состоять вот в чем:
труд, как скучная обязанность, как (вначале) поверхностно
понятый долг, постепенно превращается для «десятого А» в
необходимость, в ощущение свободы. Это целая программа дей-
ствия, ибо достаточно проследить, как этот процесс разви-
вается от сцены к сцене, от поступка к поступку, чтобы все в
фильме наполнилось живой жизнью.
И еще одна важная вещь: бывший школьный коллектив с
его традициями и связями (юность, безмятежная и бездумная)
постепенно перед лицом суровых жизненных испытаний разру-
190
шается, и на его осколках вырастает новый коллектив — тру-
довых людей. Этот процесс и есть, в конечном счете, драматур-
гическая основа произведения.
Найти в кажущейся неподвижности движение, перемены,
разглядеть под верхним слоем обыденности внутренний про-
цесс изменения, создать разные уровни — и стоячая вода сразу
же потечет!
Главное в том, что в «Горизонте» есть помимо исторически
и географически ограниченного — целина, совхоз, «десятый А» —
и общее. Это передача эстафеты от поколения к поколению,
причем, как это бывало в прошлом (и, очевидно, и в будущем
не раз произойдет), новое поколение, приняв эстафету, с лю-
бовью думая об отцах и дедах, все же улыбается по адресу
старого.
Да, чаще всего оно улыбается любя, но все же есть боль-
шая доля молодого эгоизма в том, что, посмеиваясь над ста-
рыми привычками, навыками, вкусами, молодые люди порой
забывают: они обязаны «старикам» своей жизнью, счастьем,
своей судьбой.
Тем более это верно для нашего времени: многие отцы
и матери книг не успевали читать, «академиев не кончали»,
недоедали и недосыпали, в конечном счете, для того, чтобы
Сергей, Римма и другие могли наслаждаться тонкостями лите-
ратуры и «крыть эрудицией».
Надо сцену посещения Головановым ребят («Вагончик»)
построить на том, что вся «ватага» скрыто посмеивается над
толстым стариком. Он их чуть стесняется, как еще незнако-
мых, неразгаданных... И шляпа, видавшая виды, надета не по-
модному. Кто-то нарисовал на него шарж и забыл на столе.
И теперь, когда ребята слушают подаренную им пластинку,
старик находит шарж. «Похож...» И незаметно кладет его об-
ратно, чтобы не смущать ребят.
Совхозные старики (Голованов и Лихобаба) смотрят на
молодых с удивлением и даже сожалением. Как на белоручек.
Даже лошади запрячь не могут!
191
В совхозе, в комнатке комитета комсомола, их собралось
человек двенадцать. Все девушки и только один парень. Я про-
читал им несколько сцен из сценария «Горизонт».
Они навсегда приехали сюда. Запомнилась одна, кра-
сивая рослая девушка. Во время чтения она грустно взды-
хала. В особенности, когда дело шло об отношениях Сер-
гея и Риммы. Когда завязалась беседа, я подсел к ней и
спросил тихо:
— Вы чем-то расстроены?
— Вы спрашиваете о трудностях нашей жизни здесь? Они
есть...
Помолчав, она добавила:
— Кавалеров мало.
После обсуждения все пошли гурьбой к общежитию. Она
пошла одна в степь. На ней были модные туфли, и я видел,
как ей неудобно было шагать по пыли.
Сережа Новоскольцев. Он уверен, что в нем «погибает Ломо-
носов». Сколько таких я видел здесь! Эгоизм, черты «любимца
класса» — это лишь одна сторона его личности. Важно пока-
зать в нем и другую сторону. В нем, как и во всёх остальных,
развито советской жизнью «сверхчувство» коллективизма. Оно
стало сильным и неотвратимым, как инстинкт. Все, что угодно,
может он сделать против «десятого А», но самое страшное —
остаться одному.
Важно поставить его в положение, когда ему приходится
испытать горечь одиночества. Таким образом, чувство коллек-
тивизма можно выразить и «доказательством от противного».
«Он еще не знает, вы все не знаете, как страшно остаться од-
ному», — говорит в конце Маша. Чувство товарищества, воспи-
танное в Сергее нашей жизнью, приводит его в конце к мучи-
тельному раздумью. Оставшись один, покинутый классом, он
сразу же теряет свою «силу» и уверенность. И как отбившийся
от стада молодой телок, жалобно зовет товарищей.
Так и будет он стоять в конце один на размытой дождями
дороге, немного растерянный. И трубы будут звучать и звать
его обратно к друзьям, к труду, к юности, к тем дням, которые
наверняка лучшие в его жизни...
Вспомнилась мне фраза из «Последнего дюйма». Отец гово-
рит сыну приблизительно так: «Никогда не бойся, когда ты
192
один». «Никогда не бойся, если ты вместе с товарищами. Самое
страшное — остаться одному» — так говорим мы. Здесь, в этой
истине, — водораздел двух миров, двух мировоззрений.
Римма. Опасность — в установившемся штампе «исключи-
тельной» внешности героини. Деление на «героев» и «толпу»
здесь было бы плоским и искусственным. Для нас важна вну-
тренняя красота Риммы. И книжность. Она, как и почти все
остальные ребята и девушки, не имеет жизненного опыта.
У нее книжные ассоциации, даже язык школьных сочине-
ний.
При чувственном характере первого романа с Сергеем он
остается возвышенным. Это делает его «взрослым романом».
И поэтому так сложна развязка.
Через всю историю «десятого А» проходит этот роман, вна-
чале тщательно скрываемый обоими. Только «шифр» взглядов.
Но утаить эту любовь нельзя. Она в решающие минуты
их жизни становится явной, уводит их от класса, делает
взрослыми. Они оба взрослеют благодаря испытаниям любви
и верности. В этом особая функция любовной линии в
фильме.
Сколько раз шли дожди в фильмах! И как часто они
играли роль лишь эффектного «осложнения», аккомпанировали
элегическому настроению героев. Героиня плакала — и «пла-
кала» природа. Это старо как мир.
У Бакланова дождь лежит в самой основе драматургии.
Дождь, засуха, суховей — это частые спутники труда на земле.
В зависимости от опыта жизни возникают и разные реак-
ции на дождь.
Для «десятого А» в первые минуты дождь кажется прият-
ным разнообразием после жарких и пыльных дней. Он возни-
кает для них как веселый «аттракцион».
-Надо решить в фильме разные образы дождя. Веселый
дождь для школьников, и дождь — несчастье для людей сов-
хоза.
Утро. Просыпается Слава, трубит в свой горн, будя всех.
И вдруг — холодные струи. Начинается веселый танец под
дождем, под звуки заразительного марша. Первая капля, упав-
шая на нос Римме, не предвещает ничего плохого. Забавно! Все
193
мокрые, счастливые, еще не знающие, что принесет им этот
дождь впоследствии.
Но вот появился «газик» Голованова. Легкая паника: пате-
фон, игравший марш, замолчал. Голованов, чем-то озабочен-
ный, входит в вагончик.
— Дождь? — спрашивает он.
— Дождь, — радостно отвечают ребята.
— Дождь! Это же хлеб гибнет.
В этой фразе вся горечь землепашца.
И возникает другой образ дождя. Иной, совсем не радост-
ный, тревожный.
Вспоминается- мне пустой зал совхозного клуба. Дождливый
день — все серое. Белеет только экран в темной раме. На сце-
не — крестьянский мальчик лет семи. Таких рисовал Богданов-
Бельский. Похоже только лицо — ясное, голубоглазое, не по-
мальчишески задумчивое. У мальчика в руках скрипка. Он
извлекает из нее звуки, пусть еще неуверенные, но полные
значения. Кем бы он был, если бы судьба его не была связана
с Великим Октябрем? Подпаском? Попрошайкой у сельских
кабаков?
Теперь он учится играть, и кто знает, не ждет ли его гром-
кая слава музыканта. Надо ввести этот эпизод в картину.
Учить мальчика будет жена Голованова — женщина с молодым
лицом и седыми прядями. А уборщица, немолодая уже, пусть
моет пол в клубе. Она будет слушать маленького скрипача,
и много сложных чувств отразится на ее усталом лице.
Старики. Они должны нести в себе вечную молодость
жизни. Пусть в каждой сцене ищут именно эту молодость,
и дело пойдет. Они шутят и смеются совсем по-детски. Они
прошли через огонь войны и не утеряли ни капельки душевной
молодости, детской наивности и чистоты.
Голованов, Лихобаба. Круг их ассоциаций — партизанская
война. Фразеология плотничьей артели. Дружба и дисциплина
солдатская. Против трудностей старости и усталости у них
отличное средство — юмор. Легкость поступи.
Идейность этих людей слита с их практической деятельно-
стью для Родины. Они практики — «строительная артель социа-
лизма». Их никто не подряжал — сами подрядились. Седые
мальчишки, подмастерья. И лица у них, как у плотников илн
сплавщиков леса.
194
От скитаний по полям и стройкам, от бивачной жизни у них
выработался ныне спокойный, сдержанный ритм. Любовь к де-
тям, к цветам и травке, к рыбалке и к песням.
Таков Голованов. Он мне напоминает Н. Л-ка. Тоже быв-
шего партизана, совхозного деятеля, с которым я встречался
неоднократно во время подготовки к картине и скитаний по
степям.
Массивная фигура запорожца с репинской картины. Соле-
ный юмор того же запорожского письма. Детская ясность
взгляда и поразительная доброта, нежность, даже застенчи-
вость. А ведь биография чего стоит! Последним ушел из оса-
жденного Севастополя, с Херсонесского мыса — в партизаны.
Партизанил в горах, смотрел не раз в лицо смерти, голо-
дал и холодал. Партизанским ножом «снимал» немецких ча-
совых.
«Доставала!» — это точное слово. Все доставал в жизни —
языков на войне, хлеб на целине, стройматериалы для совхоза,
одним словом, «добывал правду» всю свою жизнь!
Часто говорит слово «забазировано». Это осталось еще от
партизанских лет. Надо это слово дать Лихобабе.
Помимо всего прочего, «Горизонт» — история о ломте хлеба.
Бригадир-философ правильно говорит: «Хлеб. Его только
есть — чистое дело, а добывается он вот как!»
Землепашец ест хлеб медленно, боясь обронить крошку.
И старый бригадир Сомов должен есть так же. У него большие
руки, еще помнящие соху. Разговор о хлебе ведут Римма
и Сергей в первый вечер после приезда на землю, стоя в две-
рях класса в лунных лучах.
Первый их поцелуй — на золотом холме зерна.
Вечером в классе их первый ужин. Они едят хлеб и запи-
вают молоком. «Какой здесь вкусный хлеб!» — восклицает
кто-то. В углу сидит Сомов, сложив на коленях свои огромные
руки. Он наблюдает за ребятами. Они удивляют его. Девочки
в брючках. В термосе у Жени куриный суп. Но всего удиви-
тельнее для Сомова то, что они бросаются хлебными корками.
Вот вспыхнул настоящий «бой». Слава и Женя отстреливаются,
пользуясь ложками, как пращой. Летят и падают на пол куски
недоеденного хлеба. Тогда глаза Сомова становятся злыми и
страдальческими. Корка упала на пол у самых его ног. Он
195
поднял ее, обтер и положил на стол. Медленно побрел он к
двери, оскорбленный, сраженный непозволительной шалостью...
И стало тихо в классе.
Хлеб! Такой обычный и такой великий. Насущный! На-
сущ-ный! Он зажат в темной от масла руке Миши, вернувши
гося с трактора на отдых.
И Римма кладет ломоть хлеба перед Сергеем, перед дезер-
тиром. Кладёт как напоминание, как урок.
Сидя в машине, увозящей его на станцию, навсегда, Сергей
будет есть ломоть хлеба, заработанный не им, добытый чужими
руками. Поэтому так больно отзовется в его ранимой душе
фраза шофера о дезертирах земли.
Смысл происходящего не в том, что молодые люди покори-
лись земле, смирились перед необходимостью труда на ней.
Напротив, они, познав труд, всем своим существованием гово-
рят: эта огромная земля и труд на ней требуют нового чело-
века. Новый тип земледельца, новые запросы его, более широ-
кие интересы и требования к жизни выражаются словами
Славы: «Мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть».
Июль 1960 — апрель 1961
’’’•CSB*'
\
У
ПРИСТАЛЬНАЯ ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
Я думаю о нашем киноискусстве, о его долге перед обще-
ством, и мне хочется найти ясные слова, чтобы написать об
этом. Чехов вспоминает, что лучше всех сказал о море малень-
кий гимназист в своем школьном сочинении. Часто говорили:
«необозримое», «безбрежное», «необъятное», а он .написал про-
сто— «море было большое». Лучше не скажешь.
Выразить наше время должно большое искусство. Его со-
временность не определишь одними датами. Вопрос сложнее.
Всмотритесь в пейзажи Сибири и сооружения на Волге и Ан-
гаре, вникните в масштабы синхрофазотрона, в четкую элек-
тронную музыку счетных машин, в гармонию работы цеха-
автомата, и вы представите себе зримые черты завтрашней
коммунистической техники. Нажал кнопку и... Кстати, о
кнопке. Хорошо написал об этой детали один десятиклассник
в сочинении на тему о путешествии в год 1980-й (я читал об
этом в «Известиях»). Он пишет так: «Сейчас развелось столько
научно-фантастического хлама, столько статеек о безмятежном
«автоматическом» будущем. Жизнь в этих статьях и книгах
сводится к тому, что человек «нажимает кнопку» и получает
все, что хочет. Ну, а каков этот человек, который «нажимает
кнопку»?»
Тысячу раз верно! Каким же будет этот человек? Да вот
он, ваш сосед и сослуживец, знакомый... Он входит в комму-
низм, и его не переделаешь простым «нажатием кнопки». Хва-
тит еще на нашей земле обывателей, чью задубелую шкуру
сделать тонкой и чувствительной труднее, чем построить пло-
тину электростанции. Я слышал ответ крестьянина: «Мы в бога
не верим, но про запас его держим». Человек строит комму-
низм, а кое-что из старого еще «держит про запас». Так не-
ужели же сам строитель не догонит в своем совершенстве
созданную им чудо-технику? Или, построив изобильный мир
сплошной электрификации, останется таким же, каким был?
Мы отвечаем: нет, не останется! Рядом с преобразующей силой
тРУДа, активного творчества новая жизнь переделывает его
и силой искусства.
На одной из художественных выставок ленинградская сту-
дентка оставила запись в книге отзывов. Она пишет о своем
199
решении распрощаться навеки с родным городом и уехать па
работу в глубинные районы России. На этот жизненно важный
поступок натолкнули ее пейзажи Левитана. Это была выставка
его произведений. Истинное искусство шире дат. Оно опреде-
ляется не периодизацией, а тем, насколько активно помогает
перевоспитанию человека на его пути в будущее. Но потрясти
человеческую душу, открыть шпроту и доброту человеческой
натуры может бесспорно только заразительная сила примера,
то есть человеческий характер или образ человека, созданный
искусством. Поэтому, думается мне, главным признаком совре-
менного киноискусства становится, если можно так выразиться,
пристальная человечность.
В последние годы резко и справедливо критиковали кар-
тины, поставленные на студии «Ленфильм». Сейчас критикуют
меньше: студия медленно, но верно выходит из трудного и за-
тянувшегося периода неудач.
В свежевыкрашенных коридорах киностудии вывешены
фотографии, снятые с картин последних трех десятилетий.
Спеша по этим коридорам на работу, проходишь как бы сквозь
время, совершаешь своеобразное путешествие в историю «Лен-
фильма». Это путешествие поучительно: видишь, как время
расправилось с одними картинами, пощадило другие. Кажутся
архаическими постановочные приемы и техника старых кар-
тин. Остался жив герой, человек. Его слова не забыты. Они
стали поговоркой. Его песни поются и доныне теми, кто еще
тогда не ходил в кино, а лежал в коляске. Мы часто вспоми-
наем о былой славе. Это приелось. Дело не в славе — она кап-
ризна, дело в художественных традициях большого коллектива,
спаянного сорокалетним опытом. Забывать об этом трудно
добытом опыте было бы непростительным расточительством.
Над экранами студийных просмотровых залов, где впервые
«увидели свет» кадры «Дворца и крепости» и «Одной», «Ча-
паева» и трилогии о Максиме, «Учителя» и «Встречного», «Боль-
шой семьи» и «Солдат», «Поднятой целины» и «Чужой родни»,
следовало бы поместить девиз: «Главное в фильме — человек,
рожденный своей эпохой и борющийся за ее идеалы». Этим и
только этим определяются долговечность фильма, его воспита-
тельная сила и художественная ценность.
И вот, вспоминая все это, я задумываюсь над некоторыми
фильмами нашей студии, законченными в 1962 году. Возьмем
хотя бы «Барьер неизвестности», поставленный режиссером
Н. Курихиным по сценарию Б. Чирскова, Д. Радовского и М. Ар-
200
лазорева. Несколько лет назад пришли на «Ленфильм» моло-
дые режиссеры Т. Вульфович и Н. Курихин и поставили зре-
лый, талантливый фильм «Последний дюйм». В нем всего два
героя — отец и сын. И маленький самолет, за штурвал которого
вынужден сесть мальчик, чтобы спасти умирающего отца. Я не
помню всех перипетий этого драматичного полета, но в моей
памяти надолго остались два мужественных человеческих
характера, короткая история двух мужчин, большого и малень-
кого, заброшенных нуждой на необитаемый берег, я ощущаю
дыхание алчного мира наживы, его звериные законы, загнав-
шие сюда безработного летчика и его маленького сына. Я смо-
трю фильм и с радостью убеждаюсь, что этот жестокий, беспо-
щадный мир оказывается неизмеримо слабее человеческого
мужества и молчаливой любви простых трудовых людей.
Но вот выходит в этом году новый фильм режиссера Н. Ку-
рихина. И здесь — люди и самолет. Теперь уже не маленькая
спортивная машина, а сверхзвуковой красавец, последнее слово
советской техники. Фильм этот смотрится с напряжением:
взорвется или не взорвется испытываемый самолет. В нем от-
личные комбинированные съемки воздушных сцен, темпера-
ментный монтаж, в ушах моих по сей день звучит рев двига-
теля, а внутреннее зрение еще не забыло сверкающего полета
алюминиевой сигары. Ну, а люди? Видимо, талантливый ре-
жиссер не получил нужного импульса от соприкосновения с
самым главным и достойным художественного исследования,
что было в сценарии, — с сильным и цельным характером лет-
чиков-испытателей, их самопожертвованием и беззаветной лю-
бовью к делу, ставшими главными в их жизни.
Каким бы чудом ни был показанный в фильме самолет, еще
большим чудом становится человек, подчинивший его своему
умению и воле. Техника быстро шагает: сегодня это достойно
удивления, а завтра безнадежно устаревает. Не стареет лишь
подвиг человека, его скромная, неповторимая готовность уме-
реть во имя науки, во имя мира. Но эта сторона произведения,
видимо, интересовала Н. Курихина меньше, и... «Синяя птица»
большого искусства, которую уже держал в своих руках ре-
жиссер, упорхнула.
Молодые режиссеры пришли на «Ленфильм». Они не только
его будущее, уже сегодня они должны сказать: «Вот что мы
умеем, вот чего мы хотим!» Правда, у них нет еще опыта и про-
изводственного стажа. Да в нем ли лишь дело? Нет ничего огра-
ниченнее мысли о том, что художественное «я» кинорежиссера
10 И. Е. Хейфиц
201
выражается лишь суммой подкрепленных опытом приемов
и рецептов мастерства. Настоящий режиссер, художник начи-
нается там, где возникает непреодолимое желание яснее уви-
деть и художественно осмыслить окружающий мир, трепетная
необходимость по-своему рассказать людям о действительно-
сти. Большое искусство режиссера начинается там, где есть
пристальное вглядывание в человека, где талант первооткры-
вателя берет верх над стертым, как пятак, штампом. И ника-
кой производственный стаж и умение «думать кадрами» (а не
головой!) не создают художника. Так может проявиться лишь
добротное и унылое ремесленничество.
Создатель ленинградской кинематографической школы
А. И. Пиотровский развивал в нас, старшем поколении ленфиль-
мовцев, «шестое чувство» кинематографиста — чувство аудито-
рии. Должен признаться, что, представляя себе умозрительно
восьмизначные цифры, которыми обычно обозначают на схемах
количество зрителей какого-либо фильма, мы иногда забываем
внутренний и гордый смысл этой статистики. Почетна и ответ-
ственна профессия кинематографиста. С какой необозримой
аудиторией, разметанной по всей земле, ведем мы ежевечер-
ний разговор с тысяч экранов! Какая «заразительная» сила
воздействия таится в железных ящиках с пугающим названием
«яуф» (ящик упаковки фильмов), ежедневно доставляемых
поездами, самолетами, в фургонах кинопередвижек, а то и
просто в переметных сумах в отдаленные уголки страны!
Одна школьница из маленького алтайского селения писала
мне: «Мы ходим в кино на каждую новую картину. Мы очень
и очень любим кино. Наша подруга Лена С. больна и уже
больше года прикована к постели. После кино мы ходим к ней,
слово в слово передаем содержание картины и строим планы
будущей жизни...» Кино помогает молодым людям определить
свою жизнь, призвание, становится моральным наставником
и учителем миллионов. Рабочий — строитель Братской ГЭС,
потерявший зрение, пишет мне, что товарищи водят его в кино
слушать советские фильмы. Пусть простят меня некоторые
наши литераторы: трудность прохождения сценариев, если от-
бросить всяческие бюрократические рогатки, есть иной раз
почетная трудность, подсказанная чувством аудитории, чув-
ством ответственности за каждое звучащее с экрана слово.
Не так давно мне довелось быть на традиционной встрече
ленфильмовцев с рабочими и инженерами Кировского завода.
Вечер прошел дружно. Нас хвалили. Отмечали успехи студии.
202
Часто раздавались аплодисменты. Но особенно дружный успех
выпал на долю создателей нового фильма студии «Человек ам-
фибия». Этот фильм имел, можно сказать, грандиозный успех.
Число его зрителей восьмизначное, горы одобрительных писем
приходят в адрес «Ленфильма» и съемочного коллектива (ре-
жиссер Г. Казанский, оператор Э. Розовский). Надо оценить
этот успех, задуматься над ним. Многим ли нашим фильмам
острой современной проблематики и тематической актуально-
сти так повезло, как «Человеку-амфибии»? К сожалению, нет.
И все же художественное качество фильма и мера успеха
у зрителей кажутся неравноценными. Да и повесть Беляева, по
справедливости, не может быть отнесена к советской литера-
турной классике. Так в чем же дело? Не изменяет ли нам на
этот раз «чувство аудитории»? Фильм Казанского помогает
понять и почувствовать огромную тягу нашего зрителя к воз-
вышенному, поэтическому (надбытовому). Это здоровая зри-
тельская отповедь бытовщиие многих наших кинопроизведе-
ний. Давно приелись кухонные кастрюли наших «коммунально-
проблемных» картин, тусклая банальность и пахнущая нафта-
лином «проблематика».
Чистота и доброта чувств, беззаветность любви, красота
подвига, наконец, яркость изобразительных средств и колорита
привлекли к «Человеку-амфибии» миллионы зрительских сер-
дец. Тоска по поэтическому — вот что должно подсказать наше
«шестое чувство аудитории». И жаль, что всю эту щедрость
красок мы тратим на наивно-фантастический и идиллический
сюжет.
У А. Твардовского в его «На родине и чужбине» отлично
описан солдат, никогда не писавший стихов и сложивший свои
наивные стихотворные строчки в честь ласточки, свившей
гнездо под крышей траншейного наката. Таких солдат много
среди наших зрителей, жаждущих увидеть и услышать в кино
про весеннюю ласточку, а не только про грохот станков.
«Расскажите о любви!» — просят наши зрители. А мы по-
чему-то стеснительно улыбаемся, точно речь заходит о чем-то
глубоко второстепенном, мелком, из области «весенних карти-
нок» последней страницы «Огонька».
Наш спор с создателями «Человека-амфибии» не снимается
этим, он идет в другой плоскости: речь идет о повышенной
требовательности художника, о вкусе и т. д. Все сказанное
о трех фильмах, резонно возразят мне, относится в равной мере
к писателям и кинодраматургам. Бесспорно. Но мне хочется,
10*
203
задумываясь над опытом уже более чем тридцатилетней ра-
боты, напомнить нашей молодой режиссуре, что ее роль в со-
здании фильма не сводится к простой интерпретации, «рас-
кадровке» литературного замысла. Содружество писателей
и кинорежиссеров более сложно, чем это кажется непосвящен-
ным. Доказывать это нет смысла: вдумайтесь в историю миро-
вого кино, и вы увидите, что не существует пограничного
столба с надписью: «Здесь заканчивается роль писателя и на-
чинается роль режиссера». Поэтому несостоятельными кажутся
слова иных режиссеров: «Я не виноват, мне дали плохой сце-
нарий!» Чем-то бездушно-ремесленническим веет от этой фразы.
Фильм — искусство особого рода. Это не снятый на пленку
театральный спектакль, не движущаяся иллюстрация к пове-
сти или ромдну. Он возникает на основе сценария раз и на-
всегда. Не может, например, быть в кино «московского «Ча-
паева» или «свердловской «Юности Максима» и почти никогда
не бывает двух фильмов на основе одного произведения.
Режиссура «Ленфильма» всегда привносила в сценарий во
время постановки и свою долю жизненных наблюдений, опыт
и знание людских характеров. Этим и определялись степень
режиссерского своеобразия, художественная зрелость и талант.
Вдумчивые и искренне любящие киноискусство писатели
давно это поняли, как в свое время понял это Всеволод Виш-
невский, как поняли это связавшие свое творчество с кине-
матографом С. Антонов, Г. Бакланов, Ю. Герман, Ю. Нагибин,
Л. Рахманов, которые все увереннее входят в сферу этого
одного из самых молодых и глубоких искусств, не боясь его
специфики и не успокаивая себя ее мнимым отсутствием.
Наши новые творческие объединения освежили атмосферу
ведомственности в сценарном деле. Я верю, что этот живо-
творный воздух все активнее будет вливаться в съемочные
ателье «Ленфильма».
Помню, в 30-х годах ходила среди нас легенда о пионере,
смотревшем «Чапаева» подряд сеанс за сеансом. Когда спро-
сили мальчика о причине столь повышенного интереса к кар-
тине, пионер так объяснил свой поступок: «Я все надеюсь,
вдруг на этом сеансе Чапаев успеет доплыть!»
Мы все хотим, чтобы эта легенда не старела. Кого же из
героев современности будет носить в своем сердце юный пио-
нер будущего? Это покажет время.
1962
КИНО И «КИНОШКА»
У плохого сценария ясная перспектива — плохой фильм.
Перед хорошим сценарием, как перед сказочным богатырем,
три дороги. Он может стать основой прекрасного фильма. По
нему может быть поставлена и средняя картина. Или совсем
плохая. Кто мог думать, что многообещающий сценарий Б. Чир-
ского, Д. Радовского, М. Арлазорова «Барьер неизвестности»
станет более чем посредственным фильмом. Сценарий «Улица
Ньютона, д. 1» (авторы Э. Радзинский и Т. Вульфович) был
потенциально сильным. Но его потенциальные возможности в
фильме реализованы не были. И грош цена потенциальным
возможностям, если они так и остаются только возможностями,
не переходят в живые, полнокровные, волнующие образы на
экране.
Мы уже вышли из того возраста, когда считали, что идея
картины это одно, а ее художественное воплощение — другое.
Плодотворность идеи, важность темы фильма не могут оцени-
ваться независимо от художественной силы их решения, вне
образной ткани произведения. Мало того, важен и ценен только
наиболее сильный вариант их претворения, и если уж прибе-
гать к терминам физическим, важно, насколько высок КПД —
коэффициент полезного действия.
Сценарий лишь единожды (а не в десятках разных спек-
таклей, как это бывает с пьесой) претворяется в фильме, и
этот единственный вариант обязан быть и самым совершен-
ным. Иначе — непростительная потеря времени и средств. Если
сценарий погублен — он погублен навсегда.
Все чаще звучат в последнее время протестующие возгласы
против средних, серых картин, в которых формально все благо-
получно, все «правильно», но которые немощны в художествен-
ном отношении и поэтому мало что говорят уму и сердцу
зрителя. Нередко, читая положительную рецензию, заканчи-
вающуюся привычными словами о том, что фильм в общем
удался, хотя... и т. д., вспоминаешь сценарий, по которому он
поставлен. И думаешь: критик и не подозревает, что в общем
положительно оцененная им картина обладает низким КПД,
что она могла бы быть намного лучше, что полнота оценки
только тогда была бы истинной, если бы применялся метод
205
сравнения фильма и сценария. Тогда велся бы не только счет
находкам, но и счет потерям. Потерям тем более досадным,
что они снижают уровень требовательности, затрудняют борьбу
с посредственностью, насаждают отвратительную для худож-
ника «мораль»: дескать, от добра добра не ищут.
Когда мы ищем путей повышения идейно-художественного
качества наших фильмов, повышения их действенности, неиз-
менно сталкиваемся с таким аспектом этой проблемы, как
культура творческой работы, выдавливание из нашего обихода
«киношничества». «Киношники» — это не только жаргонная
кличка кинематографистов, не знаю, кем и когда пущенная в
оборот. Это и своеобразная «философия» творчества, это,
раньше всего, ловко упрятанная халтура, верхоглядство, деля-
чество, дилетантизм, пренебрежение к жизненным наблюде-
ниям, к «мучительности» процесса творчества.
Постановка фильма, если определить кратко ее суть, есть
постоянный процесс обогащения первоначального замысла. Се-
рый фильм — всегда бедный! Я убежден, и мой горький опыт
подтверждает это, что даже самый талантливый сценарий, са-
мый подробный и полный, не служит сам по себе исчерпываю-
щей основой будущего фильма. И совсем недостаточно «честно»
его поставить, чтобы добиться успеха. От такого простого
«добросовестного» прочтения не возникнет на экране атмо-
сфера жизни, обозначенная в авторских ремарках, не оживут
образы людей. Слова диалогов не станут для исполнителей
своими, сколько бы ни выискивали их сложный подтекст.
В процессе обогащения сценария проявляется жизненный опыт
художника.
Этот не предусмотренный ни сметой, ни нормативами про-
изводства важный этап работы служит точкой приложения
того, что принято называть знанием жизни, гражданским опы-
том. Активное, творческое, а не только профессионально-дело-
вое прочтение сценария и есть его обогащение. Если автор
написал решительно все, что нужно актеру для того, чтобы
действовать, играть, — это совсем не значит, что можно лишь
воспользоваться готовым результатом чужих мыслей, чужих
наблюдений. И выполнять в меру своих профессиональных
возможностей все то, что придумано автором, «раздраконено»
(термин «киношников») режиссером и записано в режиссер-
ском сценарии рядом с техническими примечаниями и указа-
ниями пиротехнику!
206
Может быть, возвращения к старому и надоели, но не удер-
жусь, приведу в пример работу над фильмом «Член правитель-
ства». Катерина Виноградская писала свой сценарии долго,
проведя полгода в колхозах Ленинградской области. У нее был
целый чемодан с записями, зарисовками, удивительно колорит-
ными диалогами. В ее работе умное, терпеливое наблюдение
жизни всегда предшествовало художественным выводам. Даже
во время съемок она посылала телеграммы, заполненные, к
удивлению почтовых работников, странными диалогами, соч-
ными словечками. И все же во время подготовки к съемкам
и во время экспедиции постоянно возникала приятная необхо-
димость встреч с людьми, чтобы иной раз столкнуть написан-
ное в сценарии с живым опытом действительности. Это каса-
лось и вещей основных, принципиальных и таких, например, в
частности, как способ понукания лошади или старинная деталь
свадебного обряда. Эти встречи превращались обычно в серьез-
ный и искренний разговор о жизни, помогали постигнуть неис-
черпаемое богатство народного характера, его острословие и
мудрость. Они неизменно привносили в наш труд ощущение
ответственности, серьезности, атмосферу углубленного внимания
к тому, над чем мы работали. Дело здесь, я подчеркиваю, не в
том, что мы приглядывались к прототипам образов (о чем,
кстати, так любят рассказывать актеры при встречах со зри-
телями), а в том, что беседы эти помогали нам уразуметь вели-
кий закон искусства: без правды деталей не может быть и
правды общего.
Мне пришлось как-то беседовать с молодой ленинградской
актрисой по поводу ее последней работы. Я спросил, как она
готовилась к роли. Вопрос этот был не праздный. Просмотрев
фильм с ее участием, я увидел то «добросовестное», но бескры-
лое и приблизительное исполнение, от которого стало не по
себе. Вопрос мой вызвал краску смущения на лице собесед-
ницы. В ходе разговора выяснилось, что молодая и, видимо,
способная актриса, прочитав сценарий, сразу же уехала в экс-
педицию и назавтра (стояли солнечные дни!) вынуждена была
предстать перед камерой. Она не подружилась за это время ни
с кем из жителей села, не была ни в поле, ни в клубе, ни на
вечерке. Она не вела дневника, не записывала своих наблюде-
ний, не имела возможности накопить их и осмыслить. И ни-
чего этого ей, недавно сошедшей с институтской скамьи, не
подсказал режиссер. Не надоумил ее, не стал для нее новым
педагогом.
207
Я рассказываю о вещах, которые многим любителям науко-
образных статей покажутся хрестоматийными. Возможно. Но
от этого приведенный пример не станет менее поучительным
и горьким.
В борьбе с пережитками «киношничества» важны и сугубо
практические меры, повседневный опыт высокой кинематогра-
фической «кухни». Должен ли быть режиссер педагогом? Ко-
нечно. Великие режиссеры всегда были и великими педагогами.
Если думать о фильме, как о произведении высокого искусства,
то странно ограничивать взаимодействие режиссера и актера
простой формулой: задание и выполнение. При таком узком
понимании дела и приходит на ум пресловутая «теория» ре-
жиссерского диктата. Полемические стрелы, пускаемые кино-
актерами по адресу режиссеров, часто не попадают в цель,
потому что разговор ведется не по существу. Ведь художе-
ственное единоначалие постановщика (оно диктуется природой
киноискусства, вначале «заготовляющего» разрозненные эле-
менты, чтобы волею одного человека затем соединить их!) --
это единоначалие не столько гарантия прав, сколько груз обя-
занностей. Оно не исключает, а подчеркивает умное и умелое
сотрудничество с актером.
Говорят, что киноискусство ближе всего к музыке. Может
быть, потому, что сложный его ритм взаимодействия компо-
нентов требует от исполнителей виртуозности, а от режис-
сера, как и от дирижера, — умения объединить это в единое
целое.
Кино, к сожалению, «эксплуататорски» относится к искус-
ству актера. Оно берет у него максимум, почти ничего не да-
вая взамен.
Длительная работа над пьесой в театре, подготовка к спек-
таклю за столом при участии всех исполнителей, долгое вына-
шивание образа, постепенное «дозревание» роли на репети-
циях, ее уточнения после проверки «на зрителе» и окончатель-
ная готовность только к десятому, а то и к сотому спектаклю —
всего этого в кино нет. Кино — это, в конечном счете, высокое
искусство импровизации. Однако импровизация эта совсем не
то, что по «киношной» терминологии означает: «чего копаться,
давайте с ходу!»
Эта импровизационность, эта «премьера» только на один
короткий кусочек, с тем, чтобы, однажды сыграв его, зафикси-
ровать навсегда, требует высокой культуры работы, глубокого
знания: зачем? для чего? во имя чего?
208
В режиссере всегда должен жить педагог, наставник актера,
заинтересованный не только в том, чтобы актер «отдал», но и
в том, чтобы он побольше «приобрел».
Опыт показал, что истинными явлениями в искусстве стали
лишь такие актерские работы, в которых присутствует не
только тщательное исполнение роли, но и обогащение ее лич-
ным опытом жизни, раздумьем, гражданственностью мысли,
фантазией, основанной на умении наблюдать и обобщать на-
блюденное.
Только в этом случае у зрителя, сидящего в зале, рождается
то счастливое мгновение, когда он, глядя на экран, говорит
себе: «Как это верно, как здорово подмечено. Это точно как
у Ивана Иваныча». С этого мгновения, от этих «Иван Иваны-
чей» и начинается искусство жизненной правды, его зарази-
тельная сила, его высокий КПД!
У нас есть еще немало картин близоруких, лишенных при-
стального внимания к окружающему, словно люди, их делав-
шие, смотрят через пыльное стекло. Контуры верны, а посмот-
ришь на героя — нет на нем следов профессии, возраста, на-
ционального характера. Нет у него ни привычек, ни своеобра-
зия, отличающих его от других и в то же время помогающих
узнать в нем многих. Жизнь в таких фильмах предстает перед
нами сконструированной умозрительно.
Вот — шоссе. Идет по шоссе человек. На шоссе лежит
гвоздик. Человек поднял гвоздь, отбросил его в сторону. Это —
шофер. Идет этой же дорогой другой человек. Замечает точно
такой же гвоздь, прячет его в карман. Это — плотник.
Многим нашим фильмам, гремящим металлом, не хватает
этих вот скромных «гвоздей».
В журнале «Искусство кино» напечатан рассказ Василия
Шукшина «Критики». В нем хорошо описана реакция рядового
(то есть главного!) зрителя на приблизительность и полу-
правду характера, показанного в фильме. Выработка навыка
к наблюдению, к нахождению в жизни поэтических деталей,
способных обогатить характер, — какая это увлекательная,
благодатная работа! От щедрости этих поистине драгоценных
крупиц правды во многом зависит и полнота выражения жиз-
ненных явлений в искусстве.
Актер обязан принести с собой пятнадцать образов и ска-
зать режиссеру: «Вот, берите, какой из них пригодится!»
Но для этого нужно чуть-чуть времени. Мы, кинематогра-
фисты, живем почему-то в вечном цейтноте. Нельзя требовать
209
даже от очень талантливого и опытного человека, чтобы он
совершал свой актерский «туалет» за какие-нибудь полчаса,
чтобы в машине от вокзала до студии, пробежав наспех новый
текст сцены и выпив чаю в «творческом буфете» (это не шут-
ка — есть такой!), он предстал бы перед камерой, сказав: «Я го-
тов!» Это что-то второстепенное, мелкое. А от таких вещей
неизбежно падает КПД нашего искусства!
Внутренняя культура художественного труда прямо и непо-
средственно связана с его результатами. Есть у режиссера-
единоначальника и еще одна важная функция. Я бы назвал ее
так: полпред зрителей.
В самом деле, ведь он первый зритель, воспринимающий
игру актеров. Будущие миллионы кинозрителей могут согла-
ситься с ним или не согласиться, но это уже потом, позже.
А в момент съемки? То есть тогда, когда реакция со стороны
помогает актеру проверить себя, найти верный тон? В это
время от верной реакции режиссера и возникает искра взаимо-
действия со зрителем, без которой любое зрелище, в том число
и кинозрелище, мертво. Как важно, чтобы этот полпред зрите-
лей не относился свысока к тем, кого он представляет («тонкие
ценители поймут, а на остальное наплевать!»). И не подлажи-
вался под них, не считал их людьми примитивными, нуждаю-
щимися в приниженном, «популярном» выражении глубоких
художественных истин.
Кино — это высокое искусство. И если мы хотим, чтобы
каждый фильм был достоин этого прекрасного звания, мы дол-
жны последовательно и непримиримо истреблять в нашей
среде «киношничество» — бескрылое ремесленничество, нетре-
бовательность, равнодушие к жизни, пренебрежительное отно-
шение к зрителю. «Киношничество» несовместимо с подлин-
ным искусством.
1964
О ТЕХ, КТО В ЗАЛЕ
Сколько раз писали и говорили о массовости и силе воздей-
ствия кино на зрителя. В самом деле, чем больше я об этом
думаю, тем больше преклоняюсь перед этим могучим искус-
ством именно за его «глобальную» аудиторию. Простой расчет.
У нас в Союзе ставится в год более ста художественных филь-
мов. Тираж каждого обычно две, две с половиной тысячи ко-
пий. Каждая копия может быть прокручена девятьсот раз.
В каждом зале помещается... Одним словом, масштаб невидан-
ный. Наиболее активные зрители ходят на хороший фильм по
нескольку раз, узкопленочные проекторы проникают всюду:
в горные селения, в сельскую школу, в лагерную палатку гео-
логического отряда. Одно из писем зрителей, которое я бе-
режно храню, прямо так и начинается: «Я смотрел ваш фильм
во время войны на подводной лодке».
Но это лишь одна сторона вопроса — массовость, демокра-
тизм, количественный охват. Ну, а сила воздействия? Не слу-
чайно разного сорта истории, «легенды» рассказывают не об
актерах-«звездах», как в Америке, а именно о тех, кто в
зале, о наших отзывчивых, активных зрителях всех возрастов.
Может быть, и вправду существовал тот юный пионер, что на-
деялся на одном из сеансов увидеть, как Чапаев спасся? И уж
наверняка живет где-то в Ленинградской области девочка, о
которой рассказывали как о самом ярком примере воспита-
тельной силы кипо. Девочка эта зимой заблудилась в лесу. Ее
нашли через несколько суток в заброшенной баньке. Она стойко
держалась, сражаясь с холодом и голодом, со страхом и оди-
ночеством. Она ответила своим спасителям, что вспоминала
советские фильмы, стойкость героев, попавших в беду, и это
ей помогло... Рассказывали во время войны, что одна паша
часть внезапным ночным броском захватила немецкий блин-
даж, разведав про фильм Чаплина, будто бы имеющийся у фа-
шистов. Допустим, все это фантазии, но они возникли па почве
реальной веры в силу кино. Все это уже давно известно и все-
гда ново.
У нас хорошо поставлен учет кинопосещений. В сводках
Кинопроката мелькают цифры шестизначные и семизначные.
Такой-то фильм увидело столько-то десятков миллионов. Но
211
разве статистика только цифры? За этими цифрами стоят про-
цессы, вкусы, умонастроения. Все это надо изучать, думать об
этом, делать выводы. Ведь если наше искусство уходит своими
корнями глубоко в народ, мы обязаны знать, изучать процесс
взаимодействия художника и народа, не ограничиваясь лишь
экономическими показателями, рентабельностью фильма, вы-
полнением финансового плана проката. Для нас, кинематогра-
фистов, это богатейшая пища для размышлений и художест-
венных выводов. Те, кто думает иначе, мне кажется, совер-
шают непоправимую ошибку.
Я вспоминаю «Сизиф». Это мифологическое название рас-
шифровывается очень современно: секция изучения зрителя и
фильма. В юности мы, группа энтузиастов из общества «Дру-
зья советского кино», организовали такую секцию, ходили по
кинотеатрам, фиксировали малейшую реакцию зала на фильм,
записывали реплики, разговоры у кинотеатрального подъезда.
Это была захватывающая, увлекательная работа. Может быть,
с тех пор у меня и осталась любовь к изучению зрительского
«фактора» в кино. Я пытаюсь понять запросы, чаще всего
справедливые, а иной раз вульгарные зрительские требования
к тому или иному фильму. Я пытаюсь уловить в этих высказы-
ваниях, письмах эхо наших собственных ошибок. Ведь на этих
ошибках, так же как и на наших достижениях, он, зритель,
учился понимать искусство фильма!
Когда докторша, лечившая меня, узнала, что я кинемато-
графист, она сразу же пустилась в рассуждения о новых кар-
тинах. Больше всего досталось вышедшей тогда на экраны
«Неоконченной повести». Помилуйте, там молодая женщина-
врач сама варит себе обед и моет полы. Как же это так?
Пока положенные десять минут мерили температуру, мы
с докторшей разговорились. Она рассказала о своей дочери,
окончившей школу, о том, как медленно подвигается очередь
на квартиру, о своей холодной и сырой комнате, о том, что в
большие морозы приходится сушить простыни электрическим
утюгом.
— А полы сами моете? — спросил я.
Она посмотрела на меня недоумевающе. Конечно, сама.
Была на войне, дошла до Берлина, привыкла к физическому
ТРУДУ- Живем вдвоем с дочкой, не держать же домработ-
ницу.
— Почему же вы, в таком случае, критикуете фильм, где
все это показано?
212
— Так ведь я про свою жизнь рассказываю. А то — кино!
Неудобно! Посмотрят за границей...
Я подумал: мы сами когда-то рассуждали так и научили
своих зрителей. Многие годы существовала в наших фильмах
особая «правда» парадной жизни, парадных чувств. Были ге-
рои, широкоплечие, в неестественно сидящих пиджаках, были
колхозные пиры, где на длинных столах красовались жареные
гуси и туши баранов. Были квартиры-дворцы, в которых оби-
тали скромные советские люди — «винтики». Было многое дру-
гое в таком же роде.
Кино не помогало осмыслить жизнь, не опиралось на ее
живой опыт, на реальные обстоятельства и реальные судьбы.
Оно существовало как некая параллель, проходившая где-то
рядом с действительностью, но никогда не пересекавшаяся с
ней. Наше киноискусство давно перешагнуло через этот горь-
кий рубеж. Многоликая жизнь вторглась в сценарии и фильмы,
и это не замедлило принести свои плоды. В наших лучших
фильмах (количество их все увеличивается) мы узнаем себя.
Киноискусство помогает нам увидеть и осмыслить жизнь, не
боящуюся правды и не нуждающуюся в приукрашивании. Но
еще не перевелись зрители, подобные моей докторше. Их по
старой привычке все еще шокирует отсутствие «показатель-
ности» в наших картинах.
Как-то получил я письмо из Таллина. Я, к счастью своему,
много получаю писем от зрителей. Читать и отвечать на них
очень интересно. Эти письма наглядно свидетельствуют о бо-
гатстве духовного мира наших людей, о широте их интересов,
об эстетической культуре. И, что самое главное, — о чувстве
ответственности за наше искусство. Сколько метких, порой
парадоксальных суждений, сколько верных наблюдений и
сколько в то же время непростительно прямолинейных, грубо
социологических либо мещанских высказываний.
Так вот, о письме из Таллина. Пишет его, видимо, интел-
лигентная, развитая женщина. Грамотно, хорошим почерком
человека, привыкшего к перу и бумаге. Письмо посвящено од-
ному из моих фильмов, вернее, одной непростительной, с точки
зрения пишущей, режиссерской ошибке.
«...Когда я сидела в кинозале и смотрела фильм, игра мо-
лодой артистки захватила меня так же, как и окружающих.
Такая обворожительная, милая, обаятельная женщина. Во всех
сценах элегантно и хорошо одета. Но вот по ходу сцены она
приходит в ужасное состояние, плачет. И вдруг делает дикий
213
жест — вытирает грубо нос, сморкается, не снимая перчатки.
Ее игра вдруг потеряла всякий интерес у публики...»
Вот, оказывается, в чем дело. Даже горе надо показывать в
кино элегантно, чтобы, не дай бог, оно не покоробило зрителя.
Но ведь не бывает «красивого» горя. Но то в жизни. А в кино?
Там важно, раньше чем заплакать, подумать о перчатках. Это
мелочь, скажете вы. Стоит ли о ней спорить? Но моя коррес-
пондентка думает иначе. «С этого момента, — пишет она, —
публика потеряла всякий интерес к происходящему...» А я-то,
грешным делом, надеялся, что именно это забвение хорошего
тона заставит зрителя поверить в неподдельность чувств, в
истинность горя.
Вспомнпаю1 как у Чехова в «Именинах». Героиня рассказа
Ольга Михайловна плачет и мечется в истерическом припадке:
«Ей хотелось сказать, что ее замучили гости, его ложь, ее
ложь, что у нее накипело, но она могла только выговорить:
«Пойми... Пойми...» Она послушно взяла стакан и стала пить,
но вода расплескалась и полилась ей на руки, грудь, колени...
«Должно быть, я теперь ужасно безобразна!» —подумала она».
Нет, это, в самом деле, не мелочь. Моя уважаемая коррес-
пондентка из Таллина представляет большую группу зрителей,
требующих от искусства «элегантную» правду. Модная обста-
новка, легкая, чарующая музыка, трогательные, но не выходя-
щие за рамки хорошего тона чувства, галантная манера объяс-
няться. И чтобы, как пишет дальше таллинская зрительница,
«не показывали людей, не умеющих пользоваться вилкой, ре-
жущих ножом рубленые котлеты, едящих суп с широкой сто-
роны ложки».
Я не против хороших манер на экране, но дело здесь не
в них. Дело в «философии» жизни, в понимании искусства.
Все это привнесли в сознание некоторых наших зрителей худ-
шие образцы буржуазного кино. Это «галантерейное» требова-
ние заслоняет от наших зрителей истинную красоту. Наша
жизнь не обедняется от того, что прекрасные душевные каче-
ства человека и высокие его стремления уживаются подчас
с манерой есть суп с широкой стороны ложки.
Если мы прокатываем картины типа «Аферы в казино», то
должны позаботиться о том, чтобы зритель выработал к ним
определенное отношение, своеобразный иммунитет против без-
вкусицы.
У нас существует широко поставленная пропаганда совет-
ского киноискусства. Квалифицированные лекторы в кинолек-
214
тории и его филиалах подробно говорят о творческом лице из-
вестных актеров, режиссеров, вдаются в исторические экскур-
сы, знакомят слушателя с производственными планами кино-
студии, с техникой и технологией кино. Но не ограничиваем ли
мы круг тем кинопропаганды, говоря о современной киноно-
велле или о прогрессивных мастерах французского кино? Не
следует лп, кроме всего этого, на примерах кино и литературы
научить нашего зрителя отличать истинно прекрасное от эрза-
ца, развить его эстетический «слух», привить ему вкус к кине-
матографу мысли, истинных, а не ложных чувств, воспитать
в нем уважение к правде искусства? Нельзя рассчитывать на
то, что он сам во всем правильно разберется. Ведь это не тайна,
что зритель иногда голосует рублем за худшие образцы буль-
варного кино, и, уважая нашего зрителя, не следует льстить
ему...
«Зачем вы снимаете эту актрису? У нее плохая фигура и
лицо некрасивое...» А в письме из Москвы: «...В кино мы хо-
тим видеть хорошеньких женщин. Порода чтобы была. Стать.
У нас нет культа «звезд», но все же...» Из Орска пишут:
«...Почему ваш герой все время как-то некрасиво морщит
нос?..» И т. д....
Я не видел за последние годы более запоминающегося лица,
чем у Катюши в одноименном документальном киноочерке. Это
очерк о женщине, про которую в годы войны была сложена
песня, облетевшая планету. До чего же оно, это лицо, обычное.
И до чего же прекрасно оно своим внутренним свечением, в ко-
тором и отсвет прошлого. Война, смерть рядом, подвиг, свер-
шенный без громких слов.
Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поет,
Пусть он землю бережет родную,
А любовь Катюша сбережет...
Это вот про нее было написано М. Исаковским.
Теперь Катюша -- врач. В беседе с писателем С. С. Смирно-
вым она вспоминает о войне, и не верится, что именно это чуть
курносое лицо, далеко не «хорошенькое» п совсем не «породис-
тое», может стать таким прекрасным и одухотворенным. Это
лицо, в котором отразились типичные черты целого народа.
Фильм «Катюша» проскочил как-то незаметно, уступив место
более «кассовым». А жаль. Я думал, что опять зазвучит песня,
вторично рожденная воспоминанием, а «Катюша» станет празд-
215
яичным событием в нашем будничном репертуаре. Но этого не
произошло. В этом небольшом фильме заложены, мне кажется,
важные черты нашей эстетики: прекрасно лишь то, что объеди-
няет в себе красоту внешнюю с красотой внутренней, и что ис-
тинно прекрасное всегда просто!
Это важно для тех, кто любит в кино «породистых» жен-
щин. И уж, конечно, этот скромный фильм достоин того, чтобы
о нем рассказали в кинолекториях. Так бы просто и назвать
лекцию: «О красоте истинной и мнимой». На материале «Ка-
тюши».
Чтобы найти место в календарных планах, можно немного
охладить лекторский пыл любителей приподнимать завесу над
«тайнами кино». Разоблачителей тайн кино, действительно,
стало очень уж много, благо это не требует от них ни эстети-
ческой культуры, ни особых знаний.
Раз уж речь зашла о красоте, то хорошо бы смыть налет
пошлости с наших рекламных киноплакатов, с их извечным
сюжетом в двух лицах. Или взять распространяемые в миллио-
нах экземпляров фотографии киноактеров, отретушированных
до приторности, все во имя той же «красоты». Смотришь на эти
открытки, и будто бы мармеладом объелся.
У нашего киноискусства есть истинные «тайны». И расска-
зывать о них надо умно и серьезно. Поведать зрителю о том,
как трудно бывает иногда художнику найти путь к сердцу и
уму человека, сидящего в кинозале, как сложно постигнуть
новое в жизни, понять и объяснить красоту новых, коммуни-
стических отношений, рождающихся на наших глазах.
В большой стопке корреспонденции среди конвертов и от-
крыток кажется случайной, по ошибке попавшей сюда, обык-
новенная школьная тетрадка. По арифметике — в клетку. Она
исписана вся, до последнего листка почерком, носящим совсем
еще свежие следы школьных правил.
«Мы, молодые рабочие краснодарского треста «Горгаз»...» —-
так начинается запись в тетрадке. Дальше идет подробный,
обстоятельный разбор одного из моих последних фильмов. Раз-
бор не просто для разбора. Они так и пишут: «Хотим поде-
литься с вами своими впечатлениями и размышлениями».
А размышления эти принадлежат людям образованным, на-
блюдательным и, несомненно, эстетически чутким. По несколь-
ким тактам музыки, услышанной ими в фильме, где-то на вто-
ром плане, они угадывают Первый концерт для фортепьяно с
оркестром Чайковского. Вот пример того, как они пишут:
216
«...Мотив дворца проходит через весь фильм. Например, хрус-
тальная люстра — она не случайна. В этой связи нельзя не
вспомнить мотив хрустального дворца из «Записок из Мерт-
вого дома», если не идеологическая полемика, то, по крайней
мере, использование особенностей поэтики Достоевского». И
дальше. «Героиня Ваша говорит об «опрокинутом лице». Это
же слова Настасьи Филипповны» и т. д.
Четыре паренька — молодые рабочие отдела уличных сетей
краснодарского «Горгаза» — свободно оперируют примерами из
Достоевского и Шекспира, хорошо знают музыку Чайковского,
удивительно по-своему разбираются в образах фильма, рас-
суждают об отличии правды житейской от правды художест-
венной и т. д. Есть такие зрители. И это очень радует.
Мы отмечаем в эти дни тридцатилетие «Чапаева». Тридцать
лет для фильма — это уже бессмертие. Многие фильмы стареют
через три месяца, теряются в памяти, и остаются лишь назва-
ния в специальных справочниках фильмофонда. А «Чапаев»
не умирает. Были после него и напряженные сюжеты, и широ-
коформатные «боевики» с конной лавиной, с песнями под ги-
тару. Теперь, между прочим, научились лихо снимать конные
атаки. Цирковые наездники подсекают ногу копя и валятся че-
рез голову, изображая смерть на скаку. Во время «Чапаева»
этого еще делать не умели. И все-таки «Чапаев» не умирает.
Думаю, это потому, что Василий Иванович был едва ли не пер-
вый человеческий характер в советском кино, сложный, проти-
воречивый, эксцентричный, неожиданный. А главное, железно
слитый с эпохой, ее выражавший. И поэтому он был сама пра-
вда. Он был таким, и никто не представлял себе другого на его
месте. История «Чапаева» поучительна. Она говорит о самом
главном в нашем союзе со зрителем. О доверии к герою. Дело
даже не в том, что Чапаев герой не выдуманный, а исторически
существовавший. Он заставляет верить себе, не предъявляя
архивной справки. Вера в него рождается, главным образом,
художественной, а не только исторической достоверностью.
Наши современные киногерои часто не обладают подобными
качествами. И тогда зритель начинает их исправлять, дописы-
вать сценарий и мысленно доигрывать за актера.
Все это лишь беглые мысли над стопками писем. Со всех
концов страны они приходят постоянно, не прекращаясь. В них
богатейший, нетронутый материал для размышлений. Они го-
ворят о великой воспитательной роли кино, еще больше о том,
что вопрос этот никем глубоко не изучен.
217
Мне рассказывали, что в Польше существуют народные ки-
ноклубы. Их много, целая сеть. Состав их пестр: студенты и
домохозяйки, инвалиды и учителя, рабочие и пенсионеры.
Члены клубов имеют возможность пользоваться не только биб-
лиотеками, но и — это самое главное — фильмотеками. Лучшие
фильмы мирового кино, документы и классика, исторические
полотна и комедии, перепечатанные на узкую пленку, выдаются
из фильмотек по заявкам клубов, как книги из библиотеки.
Кинопередвижки в маленьких комнатах домоуправлений де-
монстрируют. шедевры Чаплина и Эйзенштейна, Довженко и
Гриффита, Пудовкина и Дзиги Вертова. Идет широкий и мас-
совый урок эстетической грамоты. Законы красоты изучаются
на примерах. Для этого не надо платить за билет в лекторий,
ждать очереди*. Это доступно, как простой библиотечный або-
немент. И членские взносы в такой клуб невелики, так как и
прокат узкопленочных копий дешев.
А что, если бы и у нас сделать так?
1964
ФИЛЬМЫ СПОРЯТ В ВЕНЕЦИИ
В эти дни юг Италии сотрясали подземные толчки. Тысячи
людей, лишенные крова и пищи, блуждали по окраинам горо-
дов, боясь приблизиться к зданиям. Людское горе выплесну-
лось на дороги, они заполнились беженцами с юга. Наспех по-
груженный скарб, бессонные лица, плачущие дети...
А на венецианском Лидо, в маленьких барах, на раскален-
ных от солнца улицах, на пляжах, пестреющих полосатыми
тентами кабин, у Дворца кино, осаждаемого по вечерам тол-
пами любопытных, не говорили о землетрясении. Венеция жила
в эти дни фестивалем, ждала премьер новых фильмов, пита-
лась слухами, охотилась за автографами знаменитых артистов.
В этом году исполнилось тридцать лет со дня основания
фестиваля. Двадцать три раза за эти три десятилетия, ровно
в десять вечера 24 августа, раздвигался занавес перед экраном,
подножие которого убрано цветами, и после короткой речи по-
четного председателя начинался смотр мирового киноискус-
ства.
На этот смотр съезжаются не только художники кино: ре-
жиссеры, авторы, кинозвезды. Авиакомпании всего мира до-
ставляют сюда через моря и океаны богатых купцов — продю-
серов и прокатчиков. Венецианский кинофестиваль — смотр
киноискусства и международная ярмарка фильмов.
Фестиваль на Лидо принято называть католическим. Влия-
ние Ватикана, каким бы замаскированным оно ни было, ощу-
щается здесь и в подборе фильмов, и в оценках. Не случайно
советские фильмы сравнительно редко удостаивались призов в
Венеции, а «Золотого льва», главную награду, мы получили
в этом году впервые за многие годы.
1. правда жизни против «чистого кино»
«Кино и литература» — эта связь оценивается здесь по-раз-
ному. Борьба направлений, стиль и тематика фильмов, глубина
затронутых проблем, сложность киновыразительных средств —
все это связывается, в конечном счете, с тем, насколько прочен
или иллюзорен союз двух великих духовных факторов —- лттте-
219
ратуры и кино. Прогрессивная литература народов, отражаю-
щая их жизнь и борьбу за счастье, живописующая человече-
ские характеры и драматические конфликты эпохи, оказывает
огромное влияние на развитие мирового кино. На нынешнем
фестивале особенно ярко обозначились две противоборствую-
щие тенденции развития киноискусства. Одну из них можно
условно назвать «литературной», другую — тенденцией «чис-
того кино».
Присуждение в 1961 году «Гран-при» кубистически-непо-
нятному фильму Алена Ренэ «В прошлом году в Мариенбаде»
подстегнуло сторонников «нелитературного» кино и вызвало
к жизни серию фильмов, в том числе первых работ молодых
режиссеров, где поэзия пустоты и опустошенности становится
господствующей, а формальный прием — основой «киноязыка».
Бесконечные «ретроспекции», сдвиги времени, когда реаль-
ность и воспоминания переплетаются в сложный и малопонят-
ный клубок, — типичные для многих фильмов приемы, ставшие
уже штампами.
Большое влияние на многие работы оказали и последние
фильмы итальянского режиссера Микеланджело Антониони.
Его «Крик», «Приключение», «Затмение», отмеченные несом-
ненным новаторством формы, производят впечатление растя-
нутых и ложно многозначительных картин. Лишенные сюжета,
«дедраматичные» по своей структуре, они, ио словам самого
Антониони, меньше касаются отношений личности со средой,
а больше — личности в себе.
Чего стоит, к примеру, итальянский фильм «Море» (режис-
сер Джузеппе Гриффи), претендовавший на премию «опера
прима» (первая работа). Действие развивается в какой-то лун-
ной пустоте. Улицы Капри, куда приезжает один из героев,
пустынны. Пусты и пляжи, и виллы, и бары. Пусты днем и пу-
сты ночью, пусты всегда. В этой пустоте и встречаются два
молодых человека, скучают, затем начинают беспробудно пьян-
ствовать. К ним присоединяется женщина, приехавшая на
Капри продавать свою виллу. От скуки, безделья и одиноче-
ства эта компания готова на все — на убийство, на «любовь».
Страсть разрушения овладевает ими. Черной краской один из
молодых героев пачкает стены и белоснежные мраморные ко-
лонны пустой виллы. Один из героев от скуки сходится с жен-
щиной, другой, оказавшийся лишним, уезжает. Вот и все.
Особенности стиля в подобных фильмах состоят в рыхлости
композиции, в длиннейших сценах без крупных планов, в бес-
220
конечно подвижной камере и в так называемых «молчаливых
диалогах», в которых многозначительность пауз должна со-
здавать впечатление глубокого психологизма и интеллектуаль-
ности героев.
Тем не менее среди критиков подобное новаторство счи-
тается чуть ли не главным критерием при оценке фильма.
Стремление к оригинальничанью, к тому, чтобы во что бы
то ни стало найти прием, какого еще не было, ярче всего
ощутимо в фильме французского режиссера Жана Люка Го-
дара.
2. диалог затылков и спин
Талантливый представитель так называемой «новой волны»
привез на фестиваль свой фильм «Живи, как живется». Он со-
стоит из двенадцати главок и сухим языком статистического
отчета или полицейского протокола излагает историю париж-
ской проститутки. Героиня фильма Нана мерзнет па париж-
ских бульварах, падая все ниже и ниже, становясь все дешевле
и дешевле, и, в конце концов, гибнет от пули. Даже смерть
Нана — гибель вещи, а не человека. Ею, как щитом, закры-
вается от выстрела ее бывший «кавалер» во время ссоры с ком-
панией сутенеров. Бесстрастный пересказ этой «кровоточащей»
истории служит Годару материалом для изощренных компози-
ций кадра и неожиданных монтажных приемов. Вот двое раз-
говаривают в кафе. Подобный сюжет сцены не нов, его уже
снимали крупным планом и «восьмеркой», в фас и в профиль.
А Годар снял героев... спиной. Длинный и важный разговор
ведут затылки и уши.
А между тем «Живи, как живется» вызвала восторги на
Лидо. Одно время предсказатели из журналистов даже проро-
чили фильму «Золотого льва».
На Венецианском фестивале этого года бросается в глаза
почти полное отсутствие неореалистических фильмов. На Лидо
не приехали ни Дзаваттини, ни Висконти, ни Де Сика. Неореа-
листам сейчас трудно в Италии. Все больше и больше погова-
ривают о кризисе неореализма, о материальных трудностях,
переживаемых его режиссерами. Поэтому с таким нетерпением
все ждали неореалистического фильма «Мама Рома», постав-
ленного поэтом, драматургом, а ныне и режиссером Пьером
Паоло Пазолини.
221
Его показ проходил в накаленной обстановке, это был день
возбужденных споров о судьбах итальянского кино, день ова-
ций и обструкций. Еще с утра на многих «виа» и «пьяцетто»,
возле Дворца кино и фешенебельного отеля «Эксельсиор» —
резиденции большинства делегаций — появились листовки, при-
зывающие покончить с «грязыо» на экране. Угрозы в адрес
прогрессивной и коммунистической интеллигенции были не-
двусмысленны: призывали к расправе.
В час премьеры Дворец был переполнен, а когда в почетной
ложе появилась исполнительница главной роли Анна Мань-
яни, разразилась овация.
У входа патрули карабинеров были удвоены, их белые
шлемы виднелись на всех углах, к боковым карманам френчей
офицеры пристегнули маленькие черные кобуры.
Фильм начался в тишине. Отличная первая сцена деревен-
ской свадьбы. Длинный стол пирующих, как в «Тайной вечере»
Леонардо. Перед столом свиньи поедают объедки, брошенные
гостями. Вино льется рекой, а женщина, приглашенная сюда
для утех, щедро отпускает соленые шутки, вызывая дружный
хохот подвыпивших гуляк.
И вот неторопливо развертывается перед нами грустная
история стареющей проститутки. С удивительным мастерством
раскрывает Анна Маньяни — эта великая современная акт-
риса — сложную душу своей героини, душу, в которой странно
уживаются профессиональный цинизм и нежная материнская
любовь к единственному светлому в ее судьбе — к сыну. Любой
ценой готова заплатить мама Рома за то, чтобы ее мальчик,
только вступающий в жизнь, получил в этой жизни достойное
и скромное место, работу.
Вот юный Этторе — официант в таверне. Он горд, но еще
более горда сыном мама Рома, наблюдающая за его работой и
плачущая от счастья. А дальше все идет с неумолимой после-
довательностью. Первая любовь Этторе, подозрительная компа-
ния юношей, слоняющихся по римским пустырям, кража, из-
биение в полицейском участке и смерть мальчика в тюрьме, на
смирительном станке...
В просмотровом зале свист, топот, возгласы: «Долой грязь
с экрана!» Несколько раз вспыхивает обструкция, но быстро
захлебывается. Провокация не имеет успеха. В конце публика
устраивает Анне Маньяни новую овацию. Она выходит на
улицу перед Дворцом в своем черном, строгом платье, ее не-
222
красивое, но мудрое лицо возбуждено. Сверкают блицы фото-
репортеров.
И все же наутро стало ясно, что «Мама Рома» блокирована
прессой. Правые газеты уже вынесли свой приговор. Они об-
виняют Анну Маньяни в том, что она «завладела рукою ре-
жиссера», подчинила себе весь фильм, что это не роль, а кон-
цертный номер, что Этторе некрасив, даже уродлив, что сцена-
рий фильма несовершенен. К сожалению, эти обвинения в из-
вестной степени обоснованы. Только в небольшой степени!
Фильм страдает несоразмерностью частей, порою в нем отсут-
ствуют ясность социального анализа и обличительная сила
лучших неореалистических фильмов. Язык фильма изобилует
вульгаризмами, засорен чисто римскими словечками и оборо-
тами, плохо понятен даже многим итальянцам.
И все же насколько это мужественнее, горячее и глубже
изысканных композиций Жана Годара!
Один итальянский критик, нападая на фильм, поставленный
аргентинским режиссером-перонистом, так выразил мне свою
мысль: «Лучше постель, чем фашизм».
Двухспальная кровать продолжает быть непременным атри-
бутом многих картин, представленных на конкурс. Вокруг по-
стели строят свои сюжеты и мизансцены молодые режиссеры.
Это форменная эпидемия! Я думаю, что в некоторых случаях
защитники подобных фильмов думают про себя: «Лучше по-
стель, чем революционная правда народа». Этот лозунг взяли
на вооружение защитники пресловутой «Лолиты», аристокра-
тически-снобистской «Миланской истории» Висконти-младшего
и «Моря». Против такого, к примеру, фильма, как первая ра-
бота трех левых режиссеров — Валентино Орсини и братьев
Паоло и Витторио Тавиани— «Человек, которого надо уничто-
жить».
Фильм этот повествует о крестьянском вожаке, сицилийском
батраке-социалисте, убитом мафией. Вот взвивается над голо-
вами батраков трехцветный итальянский флаг. Они идут от-
бирать землю у владельцев латифундий. Зелено-бело-красный
флаг как-то странно укорочен. Зеленая и белая полосы при-
кручены к древку, осталась только красная. И хотя фильм
черно-белый, итальянцы прекрасно понимают эту деталь. Эпи-
зоды захвата земли, убийство из-за угла, похороны социалиста-
батрака, скупые, выжженные солнцем пейзажи Сицилии — все
это запоминается надолго, волнует, временами потрясает. Это
223
талантливый, мужественный фильм, отмеченный мастерством,
зрелостью мысли, гражданским темпераментом.
И все же лучше постель, решили критики, — и фильм Ор-
сини и братьев Тавиани не получил даже медали «опера
прима».
3. «льва» делят пополам
Но вот позади остались шумные премьеры, жгучие споры и
перебранка газет, отборочные заседания, пресс-конференции
и приемы. Настал большой день, день жюри!
С утра резко подул северный ветер, жара спала. Небольшой
быстроходный катер, в котором с трудом разместились члены
международного жюри, пересекает лагуну и, обдаваемый вол-
нами по самую крышу, спешит к каналу Гранде.
Я смотрю на моих возбужденных штормом и предстоящей
дискуссией коллег. Нас всего девять. Мы представляем шесть
стран: Америку, Англию, Францию, Италию, Западную Герма-
нию и Советский Союз.
В итоге предварительных дискуссий отобрано для оконча-
тельного обсуждения не так уж много картин. Пять конкурс-
ных, среди них оба советских фильма — «Люди и звери» Гера-
симова и «Иваново детство» Тарковского, французская и две
итальянские, несколько внеконкурсных первых работ молодежи.
Пока мы идем в облаке соленых брызг, я размышляю о пред-
стоящем дне. Меня беспокоит, что «Люди и звери», вызвавшие
оживленные споры в прессе и признанные единодушно глубо-
ким и содержательным фильмом, все же остались непоняты
здесь. Фильм не вызвал нужных ассоциаций в умах и душах
критиков. Трагическая судьба героя, лишенного на долгие годы
родины, печальная повесть о скитаниях — все то огромное и
жизненно важное, что вошло в историю нашего народа после
войны, все выстраданное нами и ощущаемое душою и серд-
цем, воспринято здесь холодновато и умозрительно. Опасе-
ния мои, к сожалению, оправдались. Я оказался в меньшин-
стве в этот сложный день работы жюри. Поучительно, что
итальянский фильм «Смог», поставленный Франко Росси и
рассказывающий о том, как ядовитый туман «американского
образа жизни» разъедает душу итальянских эмигрантов в Аме-
рике, как они теряют связь с родной культурой, постепенно
забывают язык и превращаются в «средних американцев»,
224
этот фильм, родственный «Людям и зверям» по своей проблеме
«человек и родина», —в общем тоже остался «недосягаемым»
для понимания многих критиков.
«Иваново детство»... Некоторые здешние газеты обвиняли
Тарковского в формализме. Поистине, чья бы корова мычала..»
Превосходство этого произведения над многими представлен-
ными на фестивале слишком явно и для друзей и для против-
ников, чтобы это нужно было специально доказывать. Его
взволнованный пафос, его призыв к тому, чтобы отвратить
войну, убивающую детство, испепеляющую детскую душу, не
могут не тронуть. Ведь это единственный фильм на Лидо, в
котором звучал приговор войне!
У «Иванова детства», на мой взгляд, есть только один серь-
езный конкурент. Итальянцы приберегли его до последнего
дня, так сказать, к финишу. Их расчет оправдался.
Когда медленно, точно боясь нарушить впечатление от
фильма, зажегся свет в зале, у многих зрителей на глазах были
слезы.
«Семейная хроника» была просмотрена с огромным внима-
нием. Фильм режиссера Валерио Дзурлини, поставленный им
по автобиографической повести Васко Пратолини, экранизиро-
ванной самим автором, говорит со зрителем простым и благо-
родным языком подлинного «литературного кино». В нем нет
ни экстравагантных композиций, ни изысканности мизансцен,
ни «молчаливых диалогов» в духе Антониони. Перед вами жи-
вут и действуют глубокие характеры, тесно связанные с эпо-
хой, их породившей. Высокого класса актерское исполнение,
в особенности у Марчелло Мастроянни — этого талантливей-
шего представителя среднего поколения итальянских актеров.
В центре повествования два брата: коммунист и католик. Об
этом не сказано прямо, но это ясно из самого действия, из раз-
вития внутреннего мира героев. Младший брат после смерти
матери и ухода из дому отца усыновлен управляющим круп-
ного поместья. Он живет в довольстве, получил отличное вос-
питание. Старший, бедный репортер флорентийской газеты,
влачит полуголодное существование, ютится в подвале, заболе-
вает туберкулезом. Проходят годы. Старость «выбивает из сед-
ла» отчима. Он выходит на пенсию, от богатства и довольства
не осталось и следа. Братья встречаются и узнают друг друга
(по условиям усыновления, младший не знает о старшем), по-
селяются вместе. Голод, суровые испытания выявляют полную
неприспособленность к жизни младшего и поистине беззавет-
225
ную любовь старшего к своему слабому брату. Бедность подта-
чивает силы обоих, смертельная болезнь младшего, несмотря
на самоотверженную борьбу братьев, приводит к его гибели.
В картине сталкиваются два мировоззрения: вера в бога и
вера в человека. Спорят не враги, а братья, чья нежная лю-
бовь друг к другу лишь подчеркивает и осложняет их внутрен-
нюю идейную отчужденность.
Перед нами проходит почти три десятилетия современной
итальянской истории. Однако эпоха, властно вторгающаяся в
действие, обнаруживает себя не в широких картинах войны,
безработицы, фашизма — она выражается через сами харак-
теры, в обстоятельствах личной судьбы братьев, являющейся
частью судьбы народа.
Тарковский и Дзурлини получают крылатый приз! Можно
об этом сообщить друзьям на Лидо... Впрочем, нет. Мы обя-
заны сохранять «тайну» до момента официального объявления
результатов. Чтобы раньше времени не вызывать ажиотажа
журналистов, не породить кривотолков, чтобы борьба интересов
не захлестнула парадности торжественного акта. Но все уз-
нается по глазам... И наши товарищи обнимают меня.
Советское киноискусство одержало еще одну заслуженную
победу. Результаты XXIII Венецианского кинофестиваля радо-
стны и для мирового киноискусства. Они говорят о том, что
медленно, но верно побеждают высокие традиции «литератур-
ного кино», написавшего на своем знамени «гуманизм и народ-
ность». Они недвусмысленно свидетельствуют, что «мода» при-
ходит и уходит, а подлинное искусство остается, что эстетст-
вующие сторонники «чистого кино», рассчитанного на восприя-
тие нескольких десятков «посвященных», не могут устоять пе-
ред напором миллионов зрителей, властно ждущих от киноис-
кусства, массового по самой сущности своей, фильмов реали-
стических, говорящих о главном в судьбе народов.
1962
ФИЛ ЬМОГРАФИН
Луна слева. Совкино, Л., 1928, 6 ч., выпуск — февраль 1929. Экрани-
зация одноименной пьесы В. Билль-Белоцерковского. Авторы сценария
А. Зархи, И. Хейфиц, В. Гранатман, М. Шапиро. Режиссер А. Иванов,
оператор В. Симбирцев, художник М. Литвак.
В ролях: Ковалев — В. Чудаков, Калугин — Н. Черкасов, Орский —
Б. Чирков, Карпинская — 3. Валевская, Свищев — М. Ломакин, Манька —
Е. Егорова, Федорова — А. Гризова. Фильм не сохранился.
Транспорт огня («Багаж огня», «Железные руки», «Черт»). Совкино,
Л., 1929, 6 ч., выпуск — январь 1930. Авторы сценария А. Зархи, И. Хей-
фиц, А. Иванов. Режиссер А. Иванов, оператор А. Гинцбург, художник
Б. Дубровский-Эшке.
В ролях: Рита — К. Кляро, Крот — Г. Кузнецов, Вурт — Н. Мичу-
рин, Савва — А. Горюшин, Петрович — Л. Бутаринский.
Фильм не сохранился.
Песнь о металле. Пролеткульт, Л., 1928, 1 ч., выпуск неизвестен.
Режиссеры-монтажеры М. Шапиро, И. Хейфиц, А. Зархи, В. Гранатман.
Киностихотворение.
Фильм не сохранился.
Ветер в лицо («Плавятся дни»), Совкино, Л., 1930, 6 ч., выпуск —
апрель 1930.
Экранизация пьесы Львова «Плавятся дни».
Автор сценария И. Берхин. Режиссеры А. Зархи, И. Хейфиц, опера-
торы М. Каплан, X. Назарьянц, художник Е. Аладжалова.
В ролях: Борис — О. Жаков, Валериан — А. Мельников, Яшка —
Д. Жиряков, Туся — Т. Петрова, Нина — 3. Глайзарова, Маруся —
Г. Стоколова, Леля — О. Кузнецова, Николай — Н. Вильдгрубе, мать —
А. Оржицкая, отец —А. Медведников.
Фильм не сохранился.
Полдень («Борька»). Союзкино. Л., 1931, 7 ч., выпуск — сентябрь
1931.
Авторы сценария А. Колбановский, А. Зархи, И. Хейфиц. Режиссеры
А. Зархи, И. Хейфиц, оператор М. Каплан, художник Е. Аладжа-
лова.
В ролях: Ерофеев — Ф. Богданов, Колька — П. Вицинский, предсе-
датель сельсовета — Ф. Славский, Борис Шилин — О. Жаков, Сашка —
А. Мельников, Митька — Д. Жиряков.
Фильм не сохранился.
Моя родина («Мост», «Люди ОКДВА»). Росфильм, Л., 1933, 8 ч.,
выпуск — февраль 1933.
Авторы сценария М. Блейман, А. Зархи, И. Хейфиц, режиссеры
А. Зархи, И. Хейфиц,-оператор М. Каплан, художник Н. Суворов, ком-
позитор Г. Попов, звукооператор А. Шаргородский.
227
В ролях: Ван — Б. Хайдаров, командир — Г. Мичурин, Васька —
А. Мельников, Оля — Я. Жеймо, маньчжурский офицер — Юн Фа-шоу,
Малютка — К. Назаренко, Людмила — Л. Семенова, Алябьев — О. Жаков.
Фильм сохранился не полностью.
Горячие денечки. Ленфильм, 1935, 7 ч., выпуск — май 1935.
Авторы сценария и режиссеры А. Зархи, И. Хейфиц, сорежиссер
М. Шапиро, оператор М. Каплан, художник А. Босулаев, композитор
В. Желобинский, звукооператор А. Шаргородский.
В ролях: Белоконь — Н. Симонов, Воровейко — А. Мельников, Де-
вяткин — Н. Павликов, Горбунов — А. Грибов, Тоня — Т. Окуневская,
Кика — Я. Жеймо, Николай — Н. Черкасов.
Депутат Балтики. Ленфильм, 1936, 9 ч., выпуск^— март 1937.
Авторы сценария Д. Дэль, А. Зархи, И. Хейфиц, Л. Рахманов.
Режиссеры А. Зархи, И. Хейфиц, оператор М. Каплан, художники Н. Су-
воров, В. Калягин, звукооператор А. Шаргородский, композитор
Н. Тимофеев. *
В ролях: Полежаев — Н. Черкасов, его жена — М. Домашева, Бо-
чаров — Б. Ливанов, Воробьев — О. Жаков, Куприянов — А. Мельников.
Член правительства. Ленфильм, 1939, 12 ч., выпуск — март 1940.
Автор сценария К. Виноградская (при участии А. Зархи и И. Хей-
фица). Режиссеры А. Зархи, И. Хейфиц, оператор А. Гинцбург, худож-
ники О. Пчельникова, В. Калягин, композитор Н. Тимофеев, звуко-
оператор А. Шаргородский.
В ролях: Александра Соколова — В. Марецкая, Ефим Соколов —
В. Ванин, Никита Соколов — Н. Крючков, Телегина — В. Телегина, Те-
легин — К. Сорокин, секретарь райкома — Б. Блинов, Кривошеев —
И. Назаров, Сташков — В. Меркурьев, Петька — А. Консовский, Дуська —
А. Матвеева, мать Дуськи — Е. Уварова.
Его зовут Сухэ-Батор. Монголкино (МНР), Ташкентская студия и
Ленфильм, 1942, 12 ч., выпуск — октябрь 1942.
Авторы сценария Б. Лапин, 3. Хацревин, А. Зархи, И. Хейфиц.
Режиссеры-постановщики А. Зархи, И. Хейфиц, оператор А. Гинцбург,
художник А. Босулаев, композиторы А. Арапов, В. Пушков, звукоопера-
тор А. Шаргородский.
В ролях: В. И. Ленин — М. Штраух, Сухэ-Батор — Л. Свердлин,
Чойбалсан — Гелик Джорджи, Янчжима — Эринцин Нарбо, Гомбо —
В. Грибков, барон фон Унгерн Штернберг — Н. Черкасов, Богдо-
геген — Нямин Цигмит, Балма — Арабдан.
Малахов курган. Тбилиси, 1944, 10 ч., выпуск — декабрь 1944.
Авторы сценария Б. Войтехов, А. Зархи, И. Хейфиц. Режиссеры
А. Зархи, И. Хейфиц, главный оператор А. Кальцатый, художник
В. Каплуновский, композитор А. Баланчивадзе, звукооператор А. Шар-
городский.
В ролях: капитан Лихачев — Н. Крючков, майор Жуковский —
Б. Андреев, вице-адмирал — А. Хорава, Мария — М. Пастухова, Сизов —
Н. Дорохин, чтец — А. Смиранин, краснофлотцы — Ф. Ищенко, Н. Гор-
лов, Е. Перов, И. Ткачук, 3. Лежава.
Разгром Японии. Центр, студия кинохроники, 1945, 8 ч., выпуск —
январь 1946.
228
Режиссеры-постановщики А. Зархи, И. Хейфиц, режиссер-монтажер
И. Сеткина, дикторский текст Е. Габриловича.
Во имя жизни. Ленфильм, 1946, И ч., выпуск — март 1947.
Авторы сценария Е. Габрилович, А. Зархи, И. Хейфиц. Режиссеры-
постановщики А. Зархи, И. Хейфиц, главный оператор В. Гарданов,
художник Н. Суворов, композитор В. Пушков, звукооператор А. Беккер.
В ролях: Петров — В. Хохряков, Колесов — М. Кузнецов, Рожде-
ственский — О. Жаков, Лена Погодина — К. Лепанова, Вера — Л. Шеба-
лина, проф Полознев — А. Зражевский, Лукич — Н. Черкасов, Назар-
кин — В. Дорофеев, Аннушка — М. Громыко, портье — Б. Кудрявцев.
Драгоценные зерна. Ленфильм, 1948, 10 ч., выпуск — июль 1948.
Автор сценария Э. Буранова. Режиссеры А. Зархи, И. Хейфиц,
оператор С. Иванов, художники А. Агранов, Д. Рудой, композитор
В. Пушков, звукооператор И. Дмитриев.
В ролях: Тоня Уварова — Г. Кожакина, Королев — Б. Жуковский,
Ивашин — О. Жаков, Архипов — П. Кадочников, Бережной — Н. Доро-
хин, Курочкин — В. Ванин, Варвара — В. Телегина, Яшкин — П. Алей-
ников, Манютка — Л. Шабалина, Грач — Р. Плятт, Клешнин — Б. Куд-
ряшов.
Огни Баку. Бакинская киностудия, 1950, 10 ч., выпуск — февраль
1958.
Авторы сценария Г. Колтунов, Е. Помещиков. Режиссеры А. Зархи,
И. Хейфиц, Р. Тахмасиб, оператор Г. Егиазаров, художник М. Юферов,
композитор К. Караев, звукооператор А. Керимов.
В ролях: Али-Бала — М. Алиев, Ана-Ханум — М. Давудава, Шат-
ров — Н. Охлопков, Джарфаров — Р. Тахмасиб, Мирварид — Н. Меликова,
Фуад — Н. Эль-Оглы, Парамонов — Н. Крючков, Гарсия — П. Аржанов,
Кадыр — С. Кожамкулов.
Советская Мордовия. Ленфильм, 1951, 6 ч. Сценарий, дикторский
текст и постановка И. Хейфица. Оператор Е. Шапиро, второй режиссер —
С. Деревянский.
Весна в Москве. Ленфильм, 1953, И ч., выпуск — апрель 1953.
Фильм-спектакль.
Автор пьесы В. Гусев. Режиссер-постановщик и художник Н. Аки-
лов, режиссеры И. Хейфиц, Н. Кошеверова, операторы С. Иванов,
В. Левитин, художник С. Малкин, композитор А. Животов, звукоопера-
тор А. Беккер.
В ролях: Надя Коврова — Г. Короткевич, Михаил Гаранин —
В. Петров, Яша —10. Бубликов, Крылов — А. Кузнецов, академик
Петров — В. Таскин, Суздальцев — Г. Анчиц, Здобнов — Л. Шостак,
Катя —Л. Пономарева, комендант общежития — А. Абрамов, тетя
Маша — А. Тришко, милиционер — Н. Лукинов, Рыбкин — В. Таскин,
дама — С. Суйковская; А. Елекоева, В. Образцова, М. Смирнова, В. Бир-
цев, В. Кузнецов, И. Михайлов.
Большая семья. Ленфильм, 1954, И ч., выпуск — ноябрь 1954.
Экранизация романа В. Кочетова «Журбины».
Авторы сценария В. Кочетов, С. Кара. Режиссер И. Хейфиц, опера-
тор С. Иванов, художники В. Волин, В. Савостин, композитор В. Пуш-
ков, звукооператор А. Шаргородский.
229
В ролях: Илья Журбин — Б. Андреев, Матвей Журбин — С. Лукья-
нов, Алексей — А. Баталов, Антон — В. Медведев, Виктор — С. Курилов,
Костя — Б. Битюков, Агафья Карповна — В. Кузнецова, Тоня — И. Аре-
пина, Дуняшка — Е. Савинова, Лида — К. Лучко, Зина — Л. Кронберг,
Скобелев — П. Кадочников, Басманов — Н. Сергеев, Катя — Е. Добро-
нравова, директор — Б. Коковкин.
Дело Румянцева. Ленфильм, 1955, 10 ч., выпуск — март 1956.
Авторы сценария Ю. Герман, И. Хейфиц. Режиссер И. Хейфиц,
главные операторы М. Магид, Л. Сокольский, художники И. Каплан,
Б. Маневич, композитор В. Пушков.
В ролях: Саша Румянцев — А. Баталов, Клавдия — Н. Подгорная,
полковник Афанасьев — С. Лукьянов, Евдокимов — Г. Юхтин, Лемехов —
В. Лепко, Снегирев — Е. Леонов, Корольков — Н. Крючков, Шмыгло —
В. Чекмарев, Самохин — П. Лобанов, Прус — А. Эскола, дядя Яша —
А. Трусов, Василий Степанович — И. Селянин, Люба — Л. Голубева,
Сашка — Витя Коваль.
Дорогой мой человек. Ленфильм, 1958, И ч., выпуск — май 1958.
Авторы сценария Ю. Герман, И. Хейфиц. Режиссер-постановщик
И. Хейфиц. Главные операторы М. Магид, Л. Сокольский, художники
И. Каплан, Б. Маневич, композитор В. Пушков, звукооператор А. Шар-
городский.
В ролях: Вл. Устименко — А. Баталов, Варвара — И. Макарова,
Родион Степанов — П. Константинов, Евгений — Ю. Медведев, дед Ме-
фодий — П. Кирюткин, Вера Вересова — Б. Виноградова, Люба Вере-
сова — Л. Штыкан, Ашхен — Ц. Мансурова, Бакунина — В. Журавская,
Паша — Л. Быков, Жилин — Б. Чирков, Козырев — И. Переверзев.
Дама с собачкой. Ленфильм, 1960, 9 ч., выпуск — 1960.
Экранизация одноименного рассказа А. П. Чехова.
Сценарий и постановка И. Хейфица, операторы А. Москвин, Д. Мес-
хиев, художники Б. Маневич, И. Каплан, композитор Н. Симонян.
В ролях: Гуров — А. Баталов, Анна Сергеевна — И. Саввина; в
эпизодах: Н. Алисова, Д. Зебров, П. Крымов, Ю. Медведев, Т. Розанов,
Ю. Свирин, В. Эренберг и др.
Горизонт. Ленфильм, 1961, И ч., выпуск — декабрь 1961.
Автор сценария Г. Бакланов. Постановка И. Хейфица, операторы
В. Дербенев, В. Карасев, А. Чиров, художники Б. Маневич, И. Каплан,
композитор Н. Симонян, песни Б. Окуджавы, звукооператор К. Лашков.
В ролях: Голованов — Ю. Толубеев, Лихобаба — Б. Чирков, Сер-
гей — А. Сафонов, Римма — С. Мелкова, Маша — Л. Долгорукова, Миша —
В. Носик, Слава — Г. Сысоев, Дуся — М. Львова, Вера — И. Гурзо,
Женя — В. Подвиг, Сомов — Н. Сергеев, Клава — Т. Доронина, Шура —
М. Булгакова, Николай — П. Кашлаков, Голованова — Л. Гриценко.
День счастья. Ленфильм, 1964, 10 ч., выпуск — июль 1964.
Авторы сценария 10. Герман, И. Хейфиц. Режиссер И. Хейфиц, опе-
ратор Г. Маранджян, художники Б. Маневич, И. Каплан, композитор
Н. Симонян, звукооператор К. Лашков.
В ролях: Шура Орлова — Т. Семина, Федор Орлов — 3. Зубков,
Березкин —А. Баталов, Кашин —Н. Крючков, Рита Кашина —Л. Го-
лубкина.
СОДЕРЖАНИЕ
И. С э п м а и. Режиссер и его книга ................... 3
1.
ИЗУЧАЙТЕ ЯЗЫК КИНО..................................... 15
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КИНОСЦЕНАРИЯ ................ 21
«РАСТРУБЫ ВВЕРХ!»...................................... 67
ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ ....................................... 78
О ТВОРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗОВАННОСТИ.......................... 83
2.
ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ................................... 91
МОРДОВСКИЕ ЗАМЕТКИ. ИЗ ДНЕВНИКА РЕЖИССЕРА............. 108
«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» («ЖУРБИНЫ»). ИЗ ДНЕВНИКА РЕЖИССЕРА . . 125
ИЗ ОБЩИХ ТЕТРАДЕЙ К «ДАМЕ С СОБАЧКОЙ»................. 134
ИЗ РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ РЕЖИССЕРА («ГОРИЗОНТ»)............ 189
3.
ПРИСТАЛЬНАЯ ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ . . ......................... 199
КИНО И «КИНОШКА» ....................................... 205
О ТЕХ, КТО В ЗАЛЕ....................................... 211
ФИЛЬМЫ СПОРЯТ В ВЕНЕЦИИ................................. 219
ФИЛЬМОГРАФИЯ. СОСТАВИТЕЛЬ И. СЭПМАН
227
Иосиф Ефимович Хейфиц
О КИНО
Л.—М. «Искусство» 1966 г.
стр. 232
778 С
Редактор Л. А. Филатова
Оформление художника
В. Б. Михневича
Художественный редактор
Я. М. Окунь
Технический редактор
3. М. Колесова
Корректор А. Б. Решетова
Подписано к печати 22/VIII 1966 г.
Формат 60X84*/ie. Бумага типограф-
ская Кв 2 Камского бумкомбината,
для иллюстраций мелованная. Печ.
л. 17,125. Усл. печ. л. 15,98. Уч.-изд.
л. 14,88. Тираж 20 000 экз. М-27360.
Изд. Кв 1361. Заказ тип. Кв 253.
Издательство «Искусство». Ленин-
град, Невский, 28. Ленинградская
типография Кв 1 «Печатный Двор»
им. А. М. Горького Главполиграф-
прома Комитета по печати при Со-
вете Министров СССР, Гатчинская, 26.
Цена 1 р. 08 к.
(И)
Нина — 3. Глайзарова
«ВЕТЕР В ЛИЦО»
Кадр из фильма
«ПОЛДЕНЬ»
Кадр из фильма
Белоконь — Н. Симонов, Тоня — Т. Окуневская
«ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
Кадр из фильма
Кика — Я. Жеймо, Николай — Н Черкасов
«ДЕПУТАТ БАЛТИКИ»
Рабочий момент
Куприянов — А Мельнике
Кадр из фильма. Полежаев — Н. Черкасов
Полежаев — Н. Черкасов, его жена — М. Домашева
Полежаев — Н. Черкасов
Полежаев — Н. Черкасов, Бочаров — Б. Ливанов
Ефим — В. Ванин, А. Соколова — В. Марецкая
«ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
Кадр из фильма. А. Соколова — В. Марецкая
А. Соколова — В. Марецкая
Кадр из фильма. А. Соколова — В. Марецкая
А. Соколова — В. Марецкая
Кадр из фильма
А. Соколова — В. Марецкая
«ЕГО ЗОВУТ СУХЭ-БАТОР»
Съемочная группа: В первом ряду, в центре — И. Хейфиц, 1942
Сухэ-Батор — Л. Свердлин
«МАЛАХОВ КУРГАН»
Кадр из фильма. Мария — М. Пастухова
Группа советских кинематографистов в Японии.
Крайний справа И. Хейфиц, 1945
«ВО ИМЯ жизни»
Рабочий
момент
Петров — В. Хохряков, Колесов — М. Кузнецов,
Рождественский — О. Жаков
Архипов — П. Кадочников
«ДРАГОЦЕННЫЕ ЗЕРНА»
Кадр из фильма
БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ:
Матвей Журбин — С. Лукьянов, директор — Б. Коковкин
Лида — К. Лучко, Виктор — С. Курилов
Кадр из фильма
Скобелев — П. Кадочников
Катя — Е. Добронравова
Катя — Е. Добронравова, Алеша — А. Баталов
«ДЕЛО РУМЯНЦЕВА:
Румянцев — А. Баталов
Афанасьев -—С. Лукьянов, Корольков — Н. Крючков
Евдокимов — Г. Ю х т и н
«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК:
Устименко — А. Баталов
Устименко — А. Баталов
Степанов — П. Константинов, Варя — И. Макарова
«ДАМА С СОБАЧКОЙ»
<Ж-'
Гуров — А. Баталов, Анна Сергеевна — Ия Саввина
Гуров — А. Баталов
Кадр из фильма
Анна Сергеевна — Ия Саввина Гуров — А. Баталов
Рабочий момент
«ГОРИЗОНТ»
Сергей — А. Сафонов, Слава — Г. Сысоев
Маша — Л Долгорукова, Слава — Г. Сысоев
I
Римма — С. Мелков а, Сергей — А. Сафонов
Кадр из фильма
Кадр из фильма
Березкин — А. Баталов, Шура — Т Семина
«ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
Кадр из фильма
Шура — Т. Семина Федор — В. Зубков
Федор — В. Зубков Шура — Т. Семина Березкин — А. Баталов
1 р. 08 IL
Хейфиц . о кино