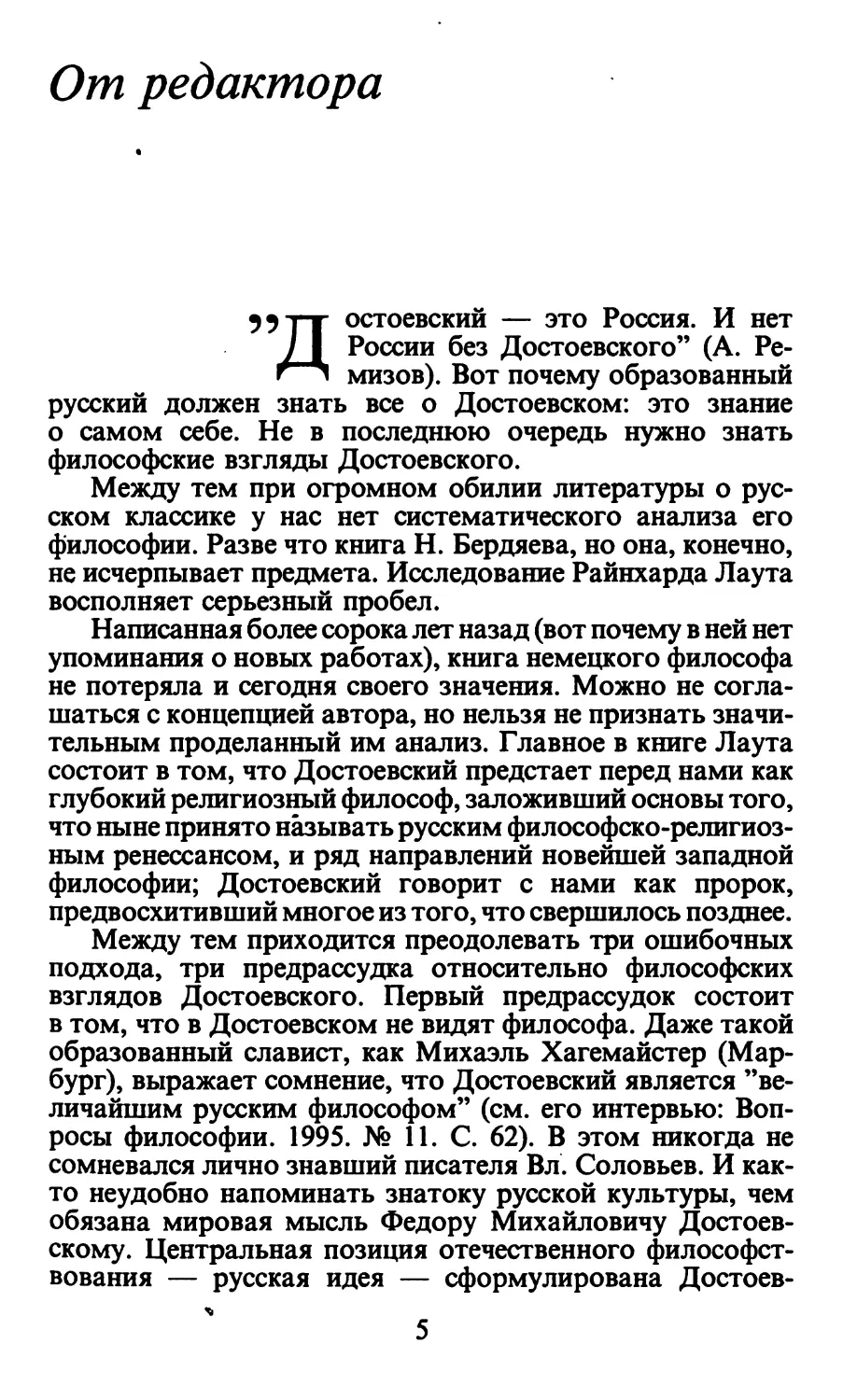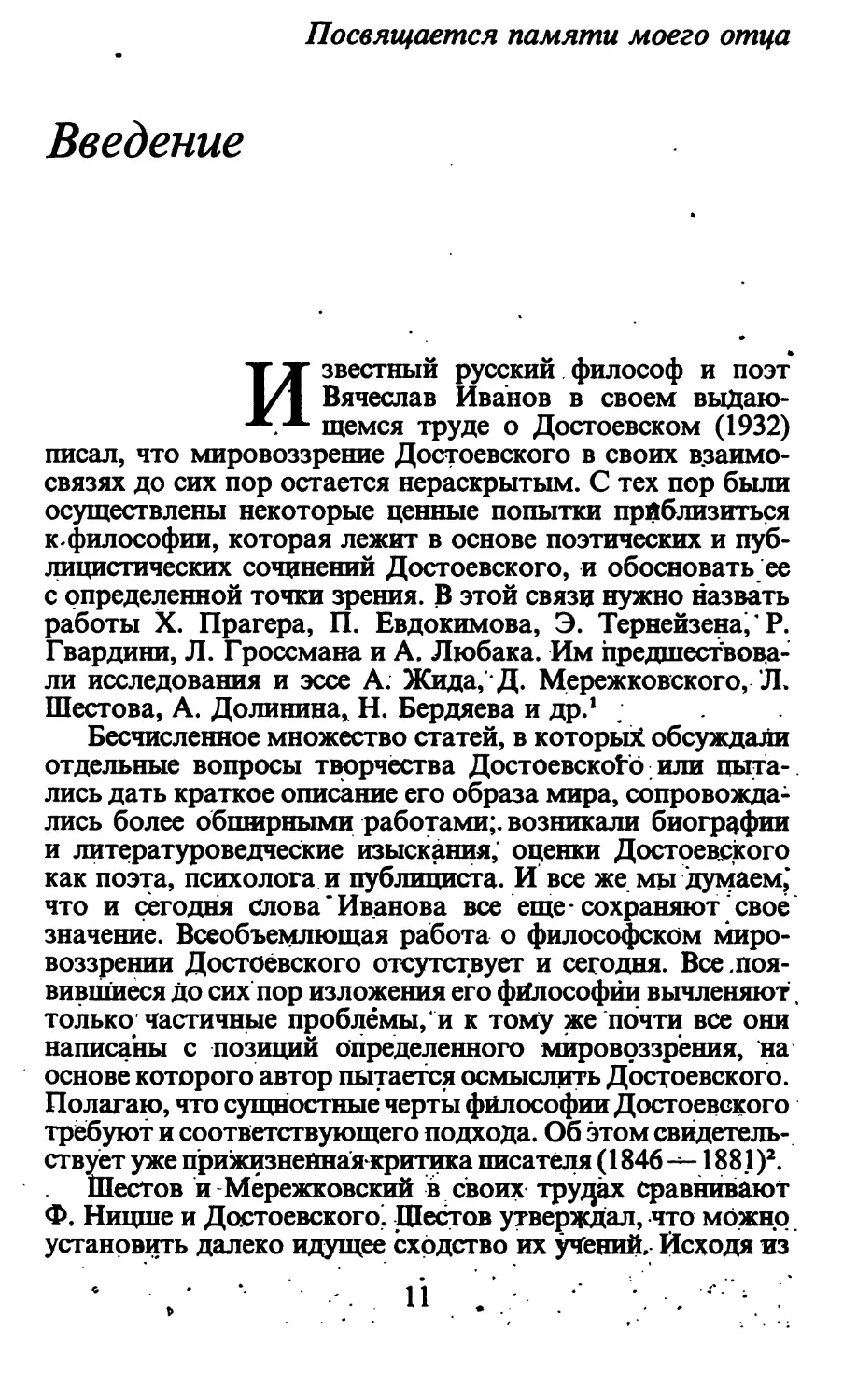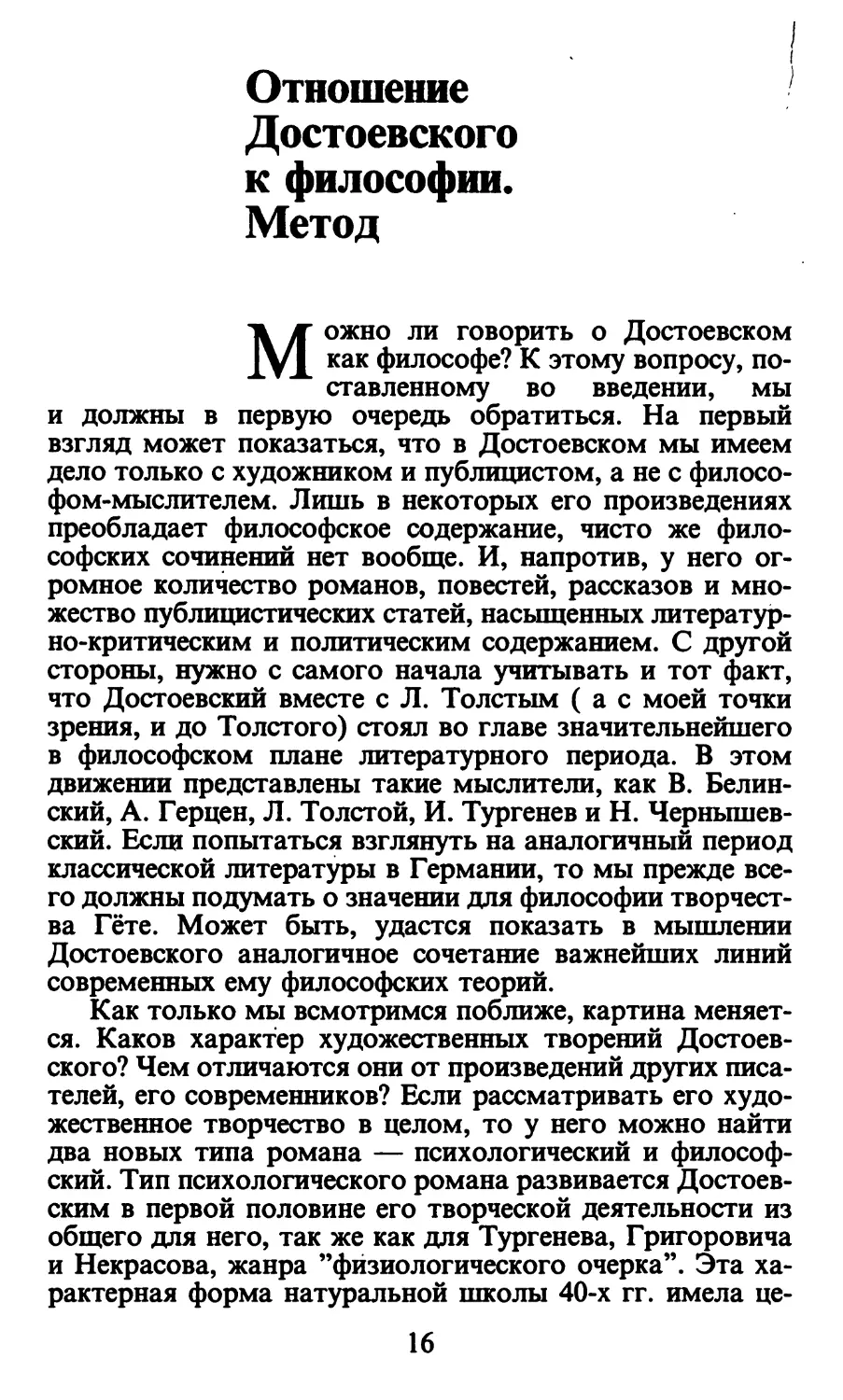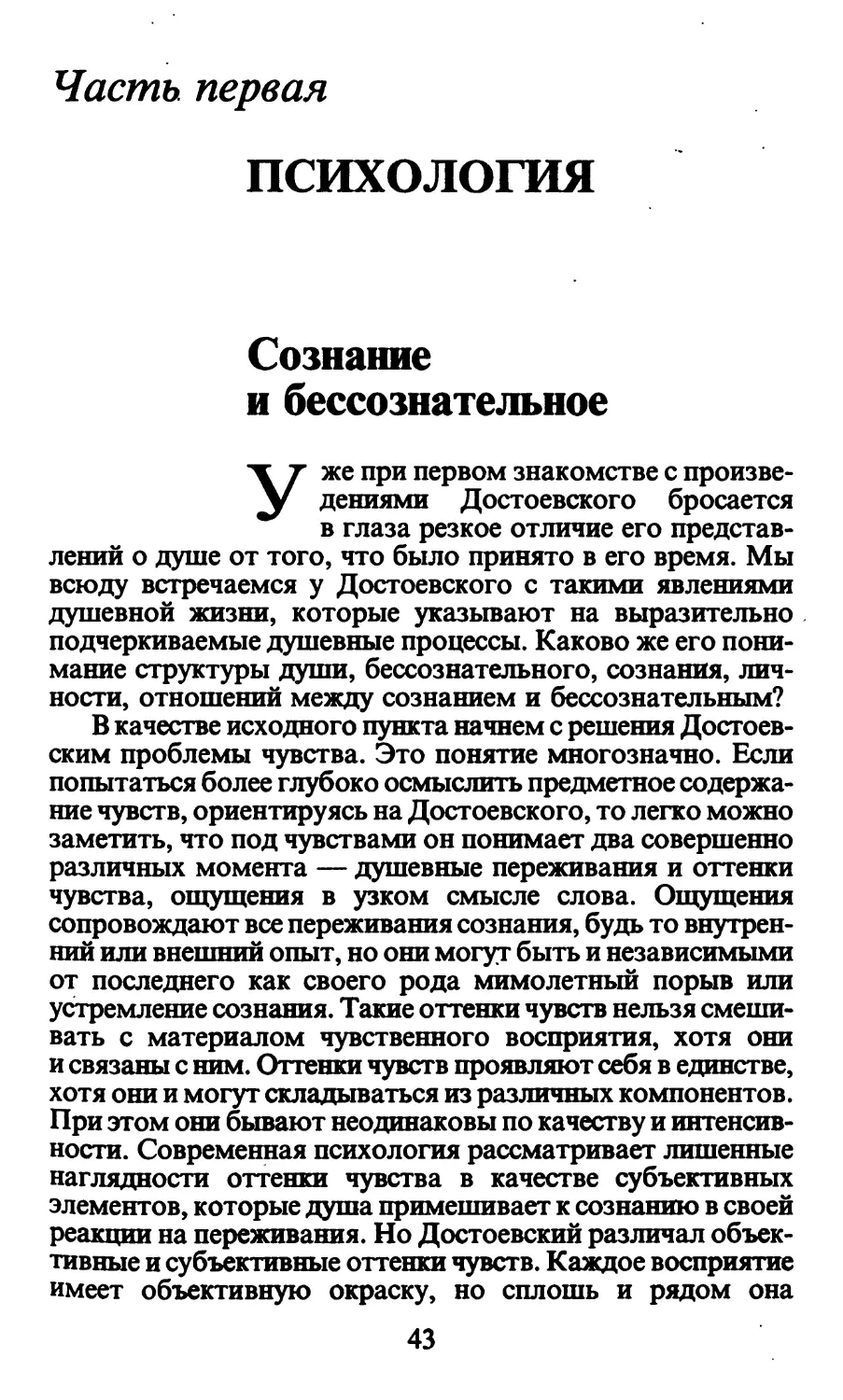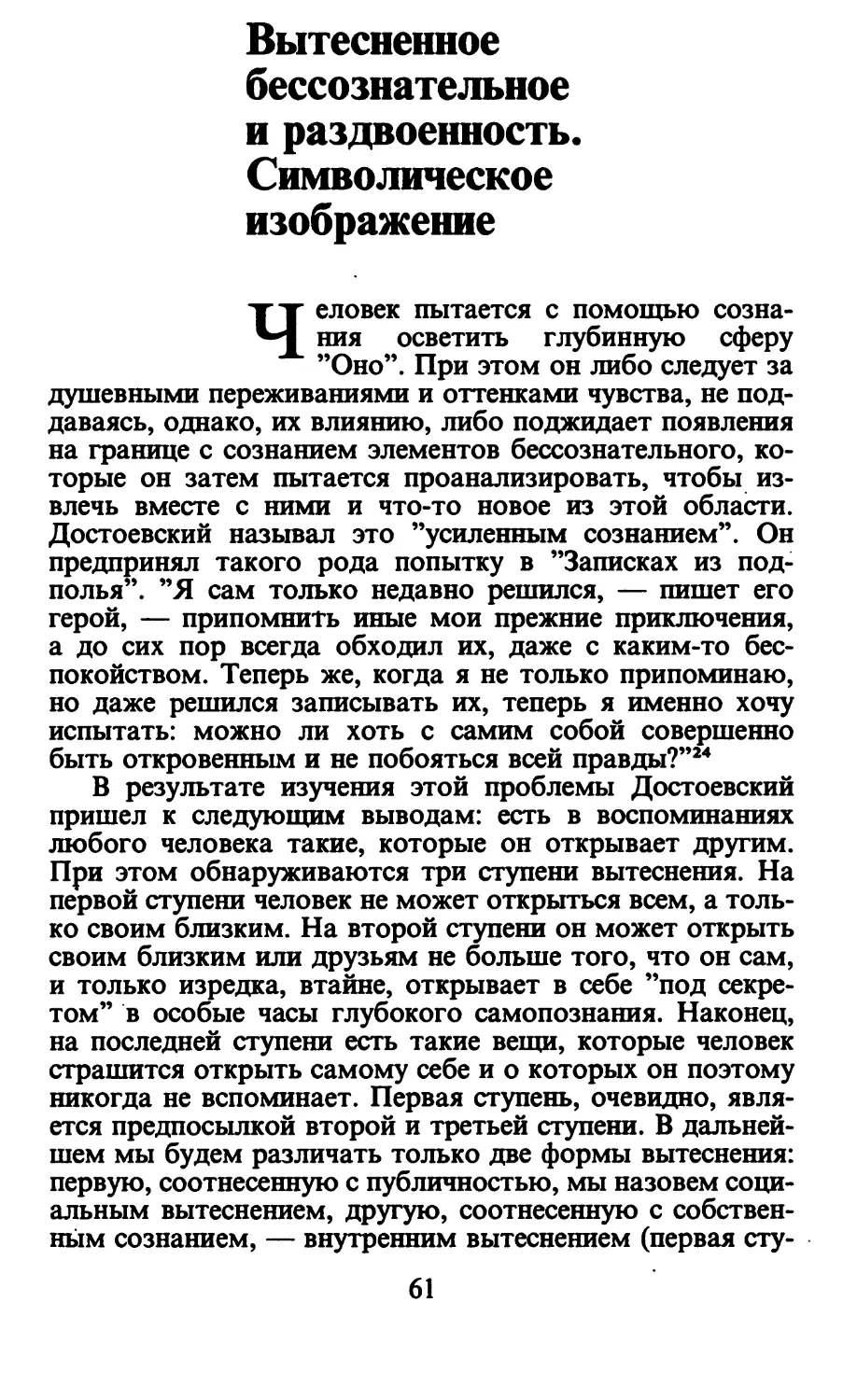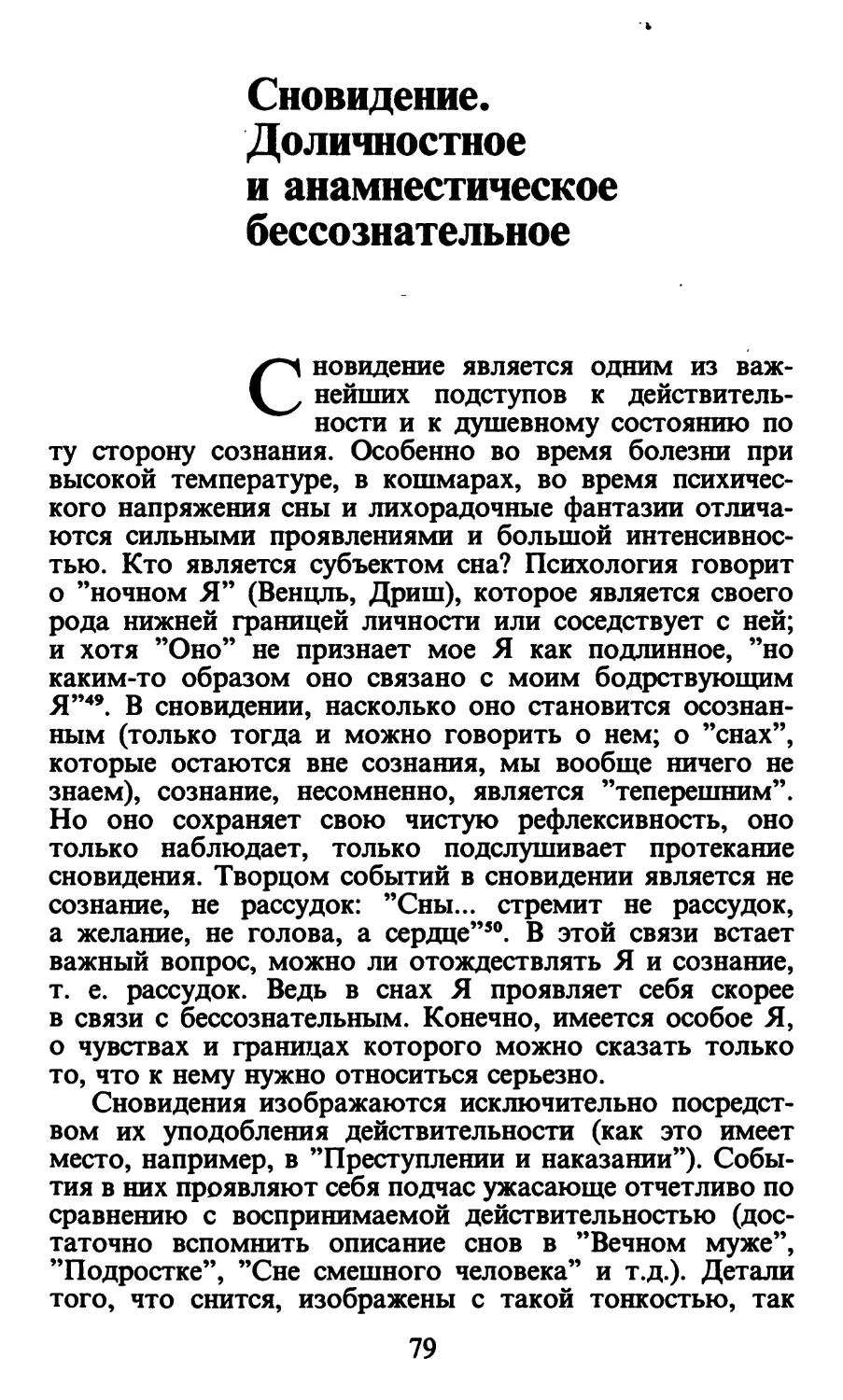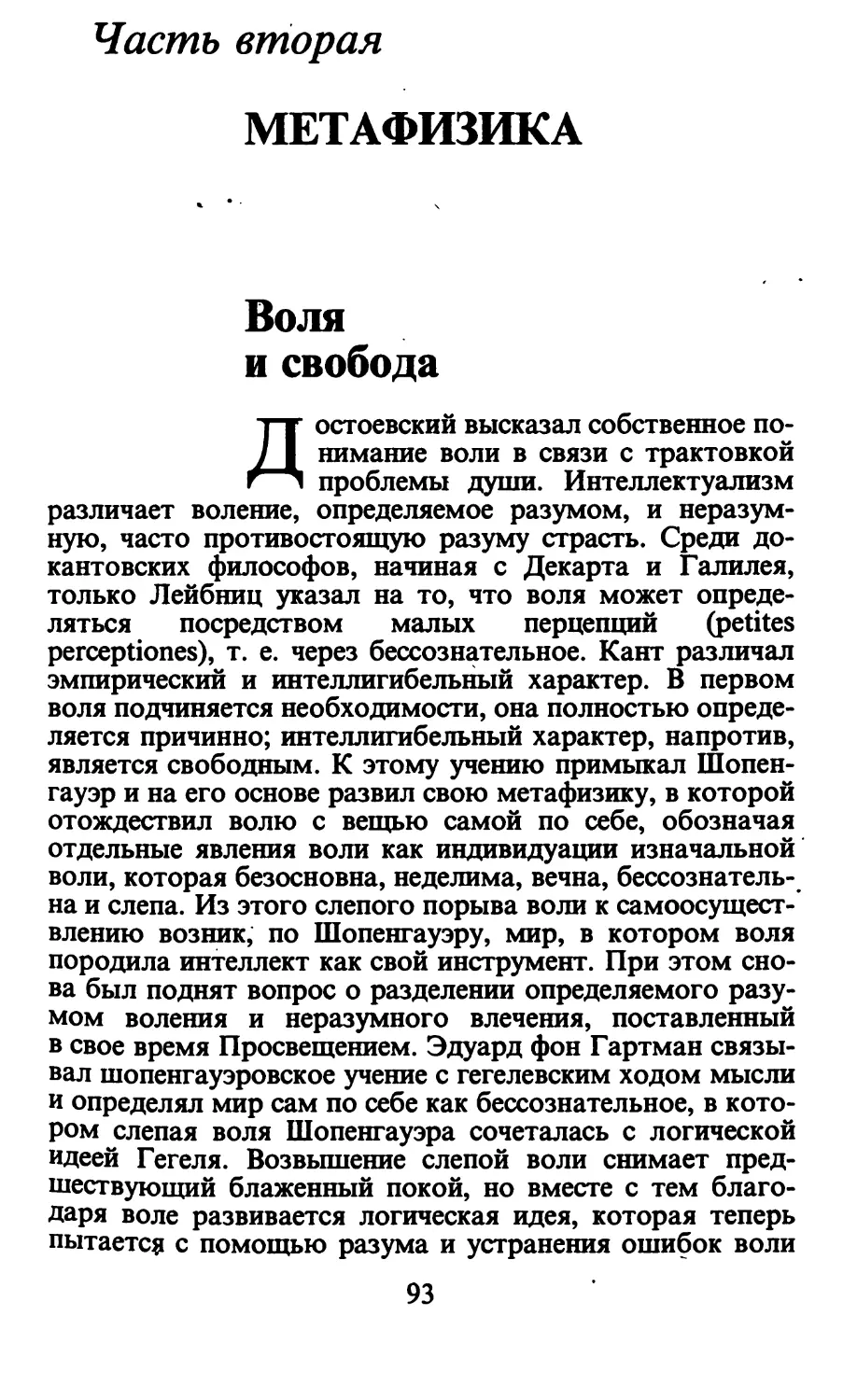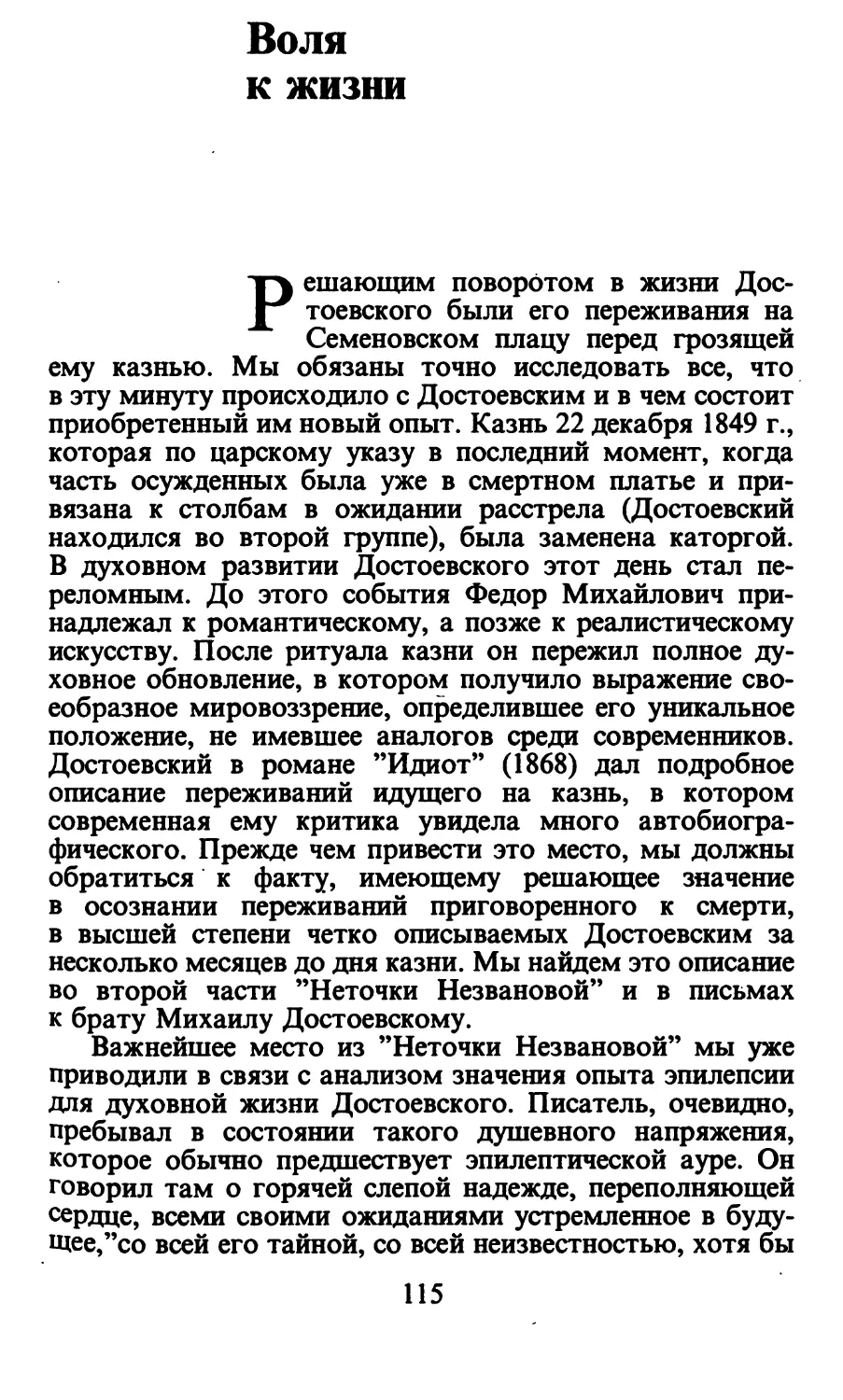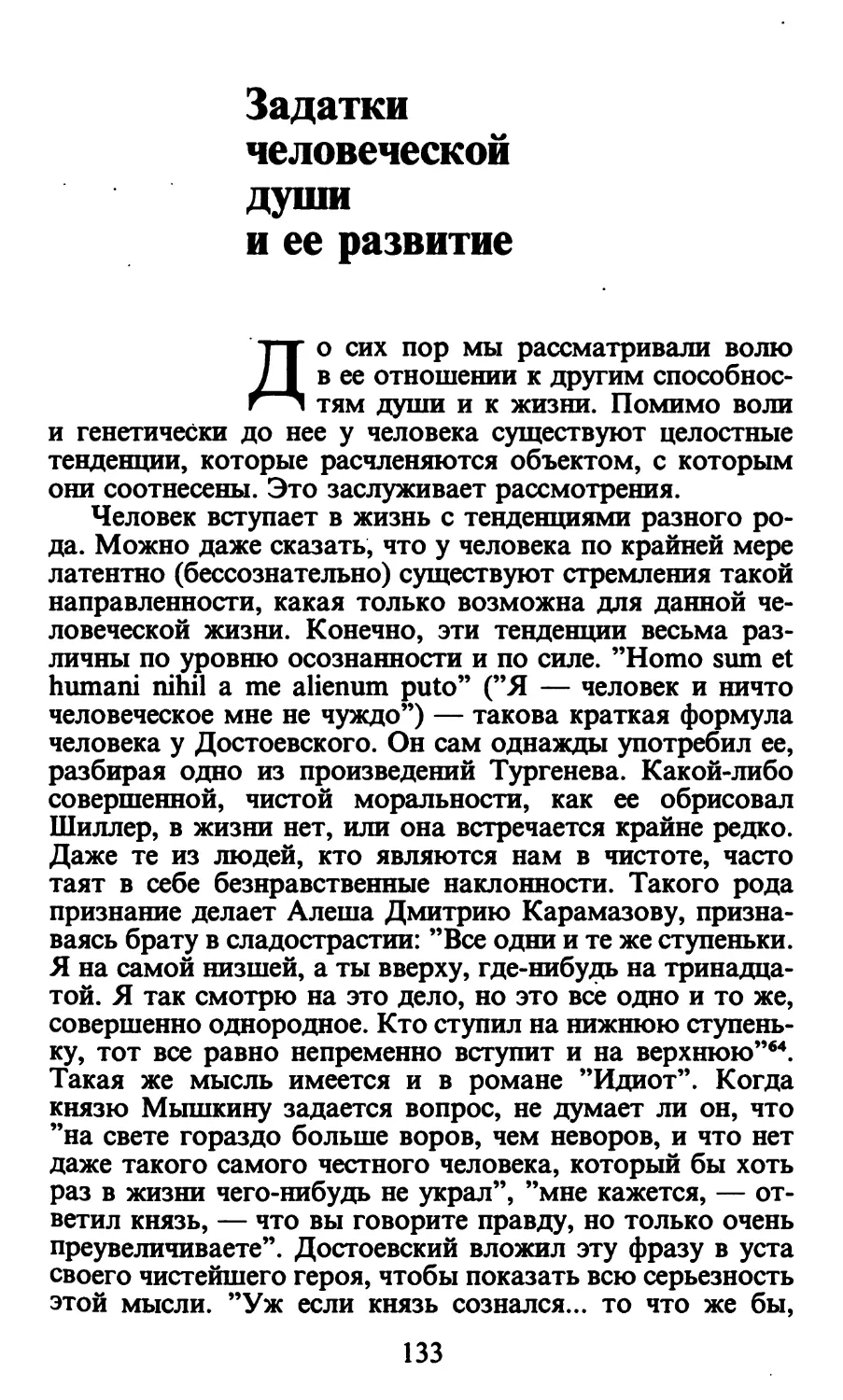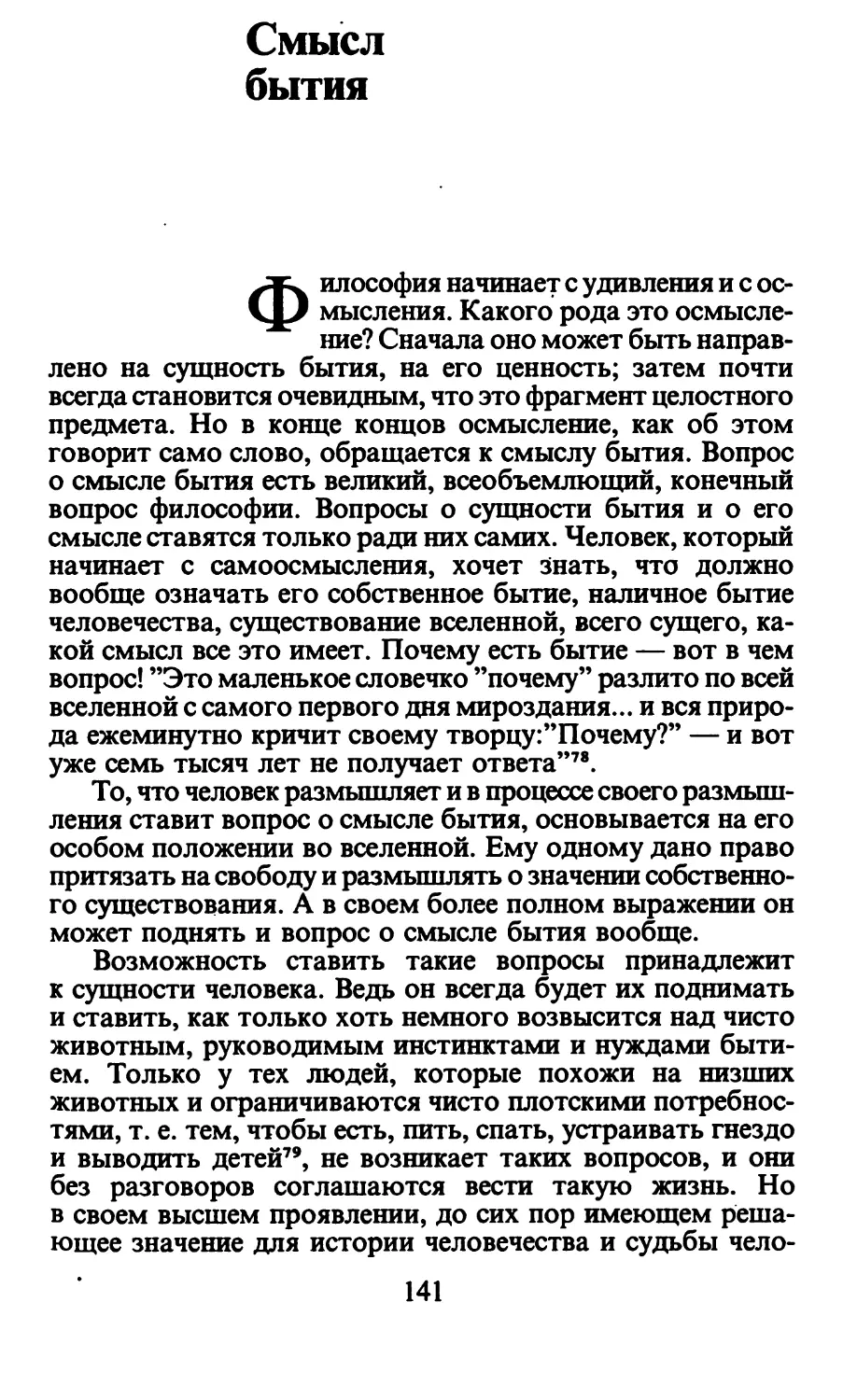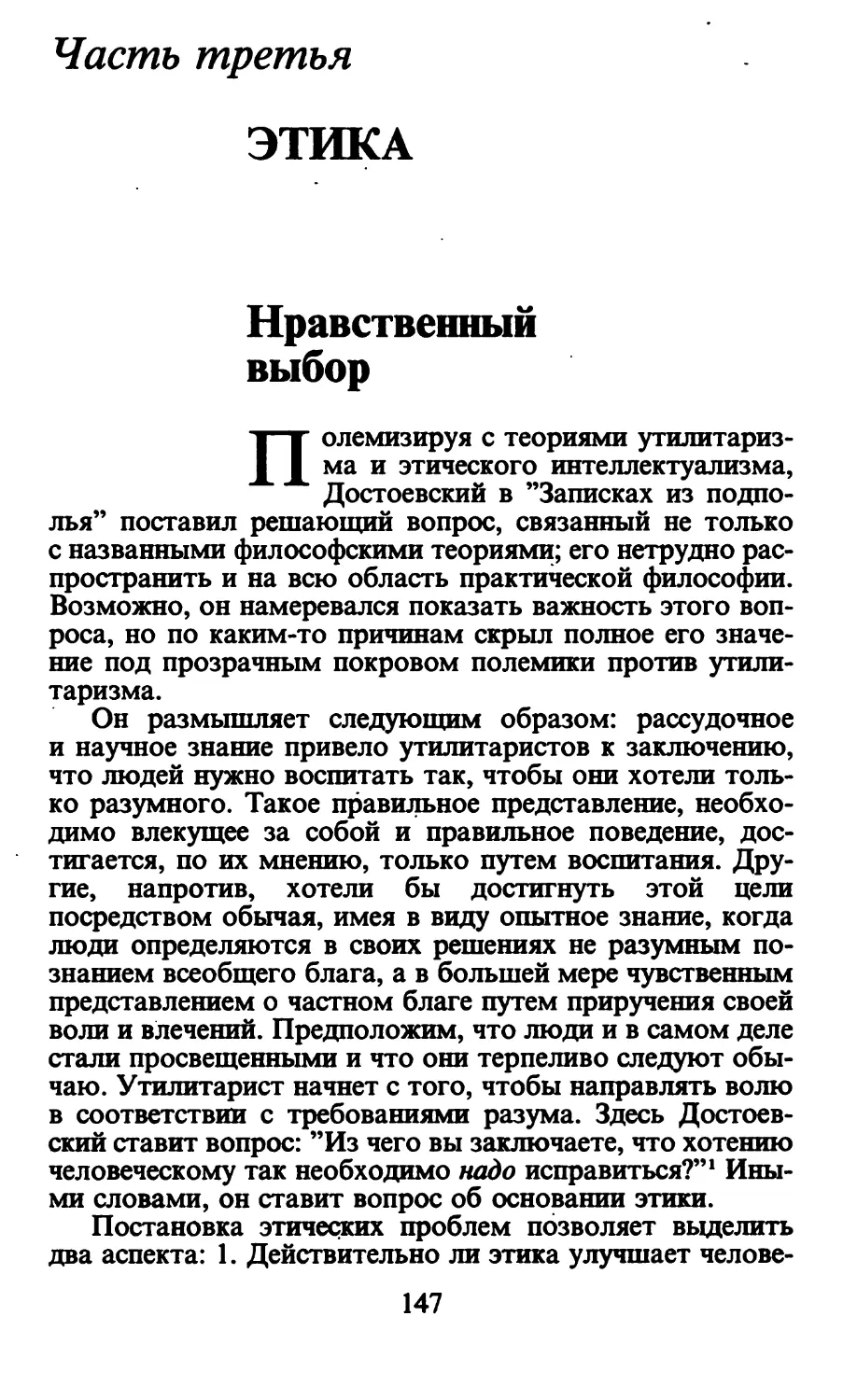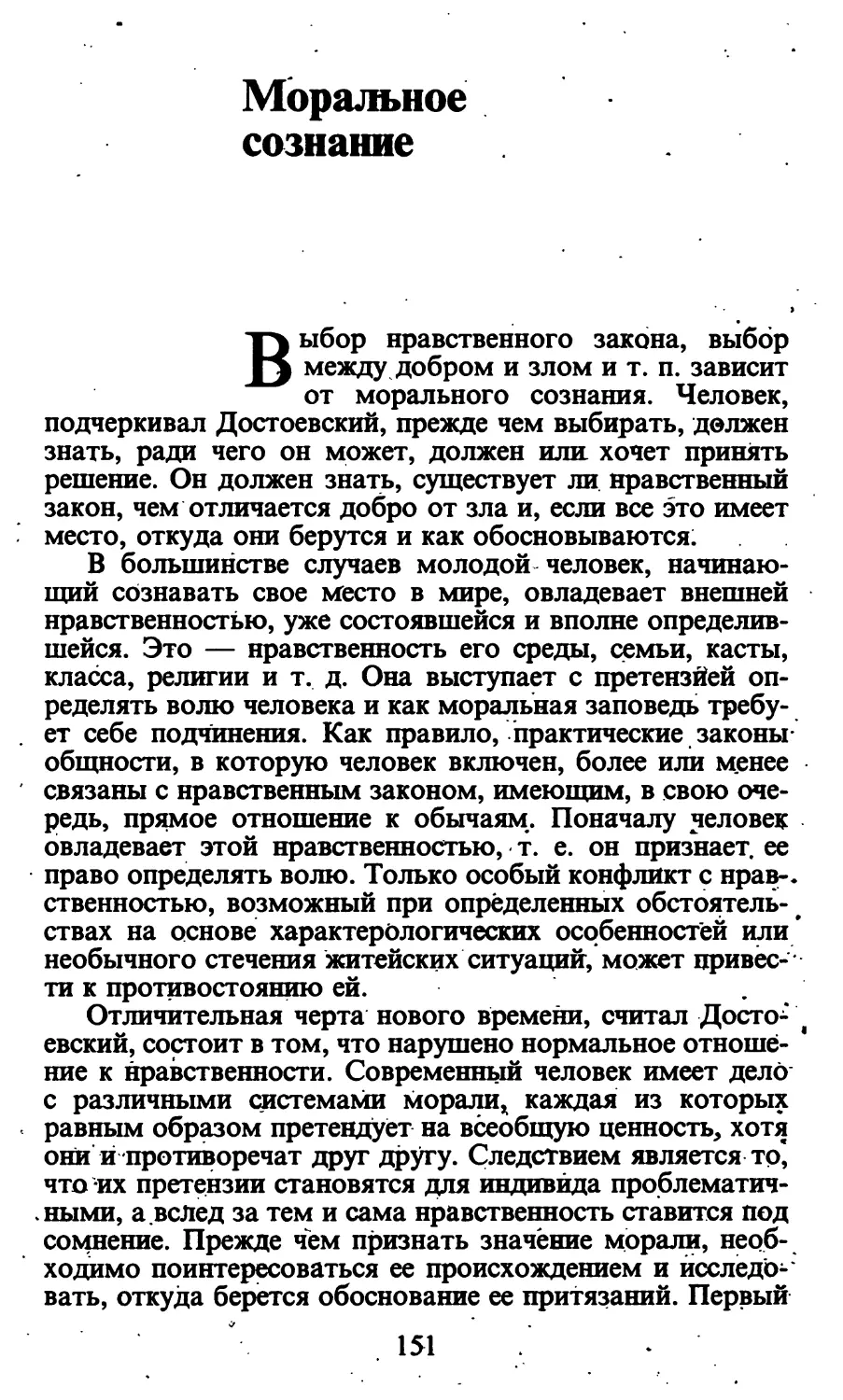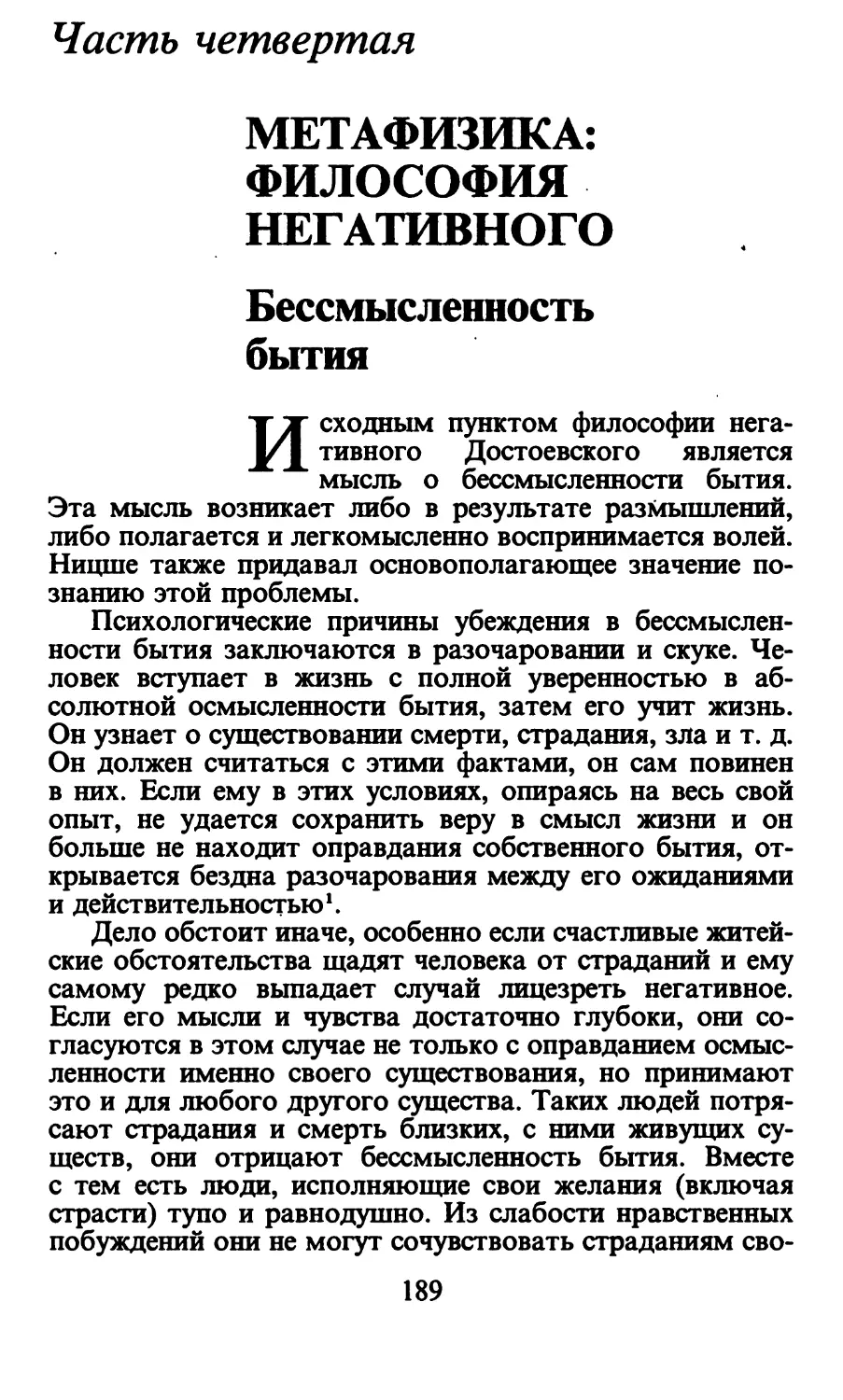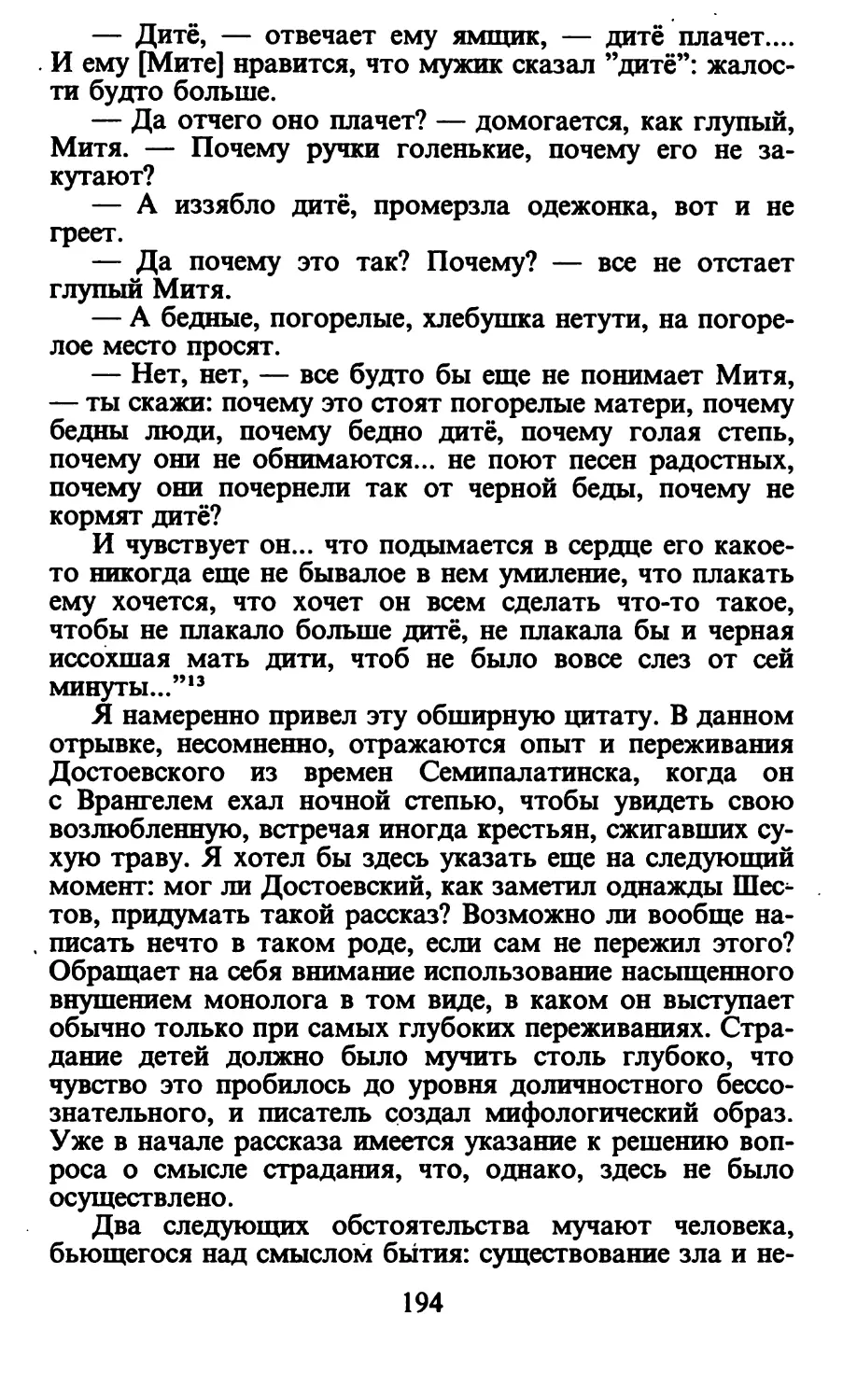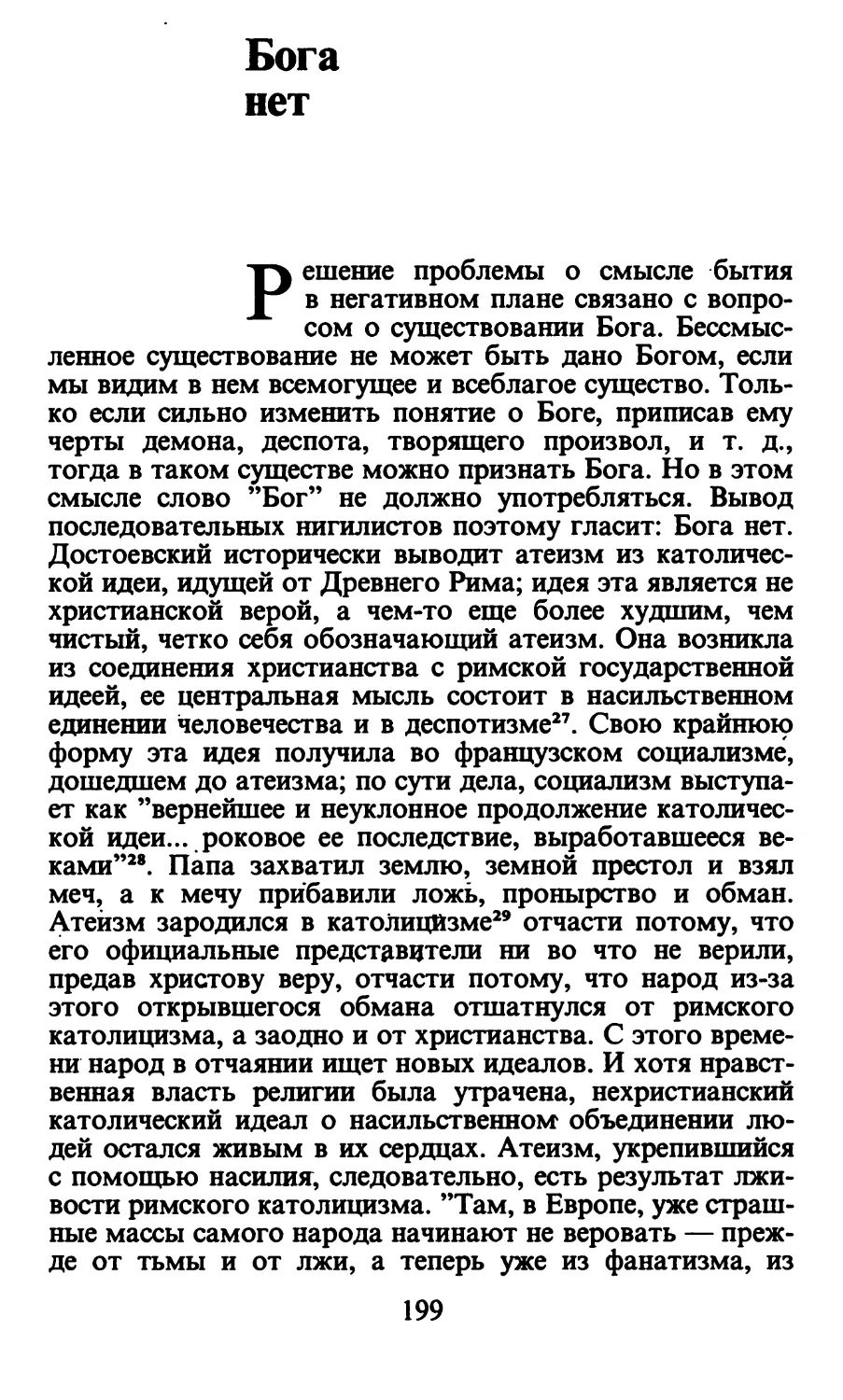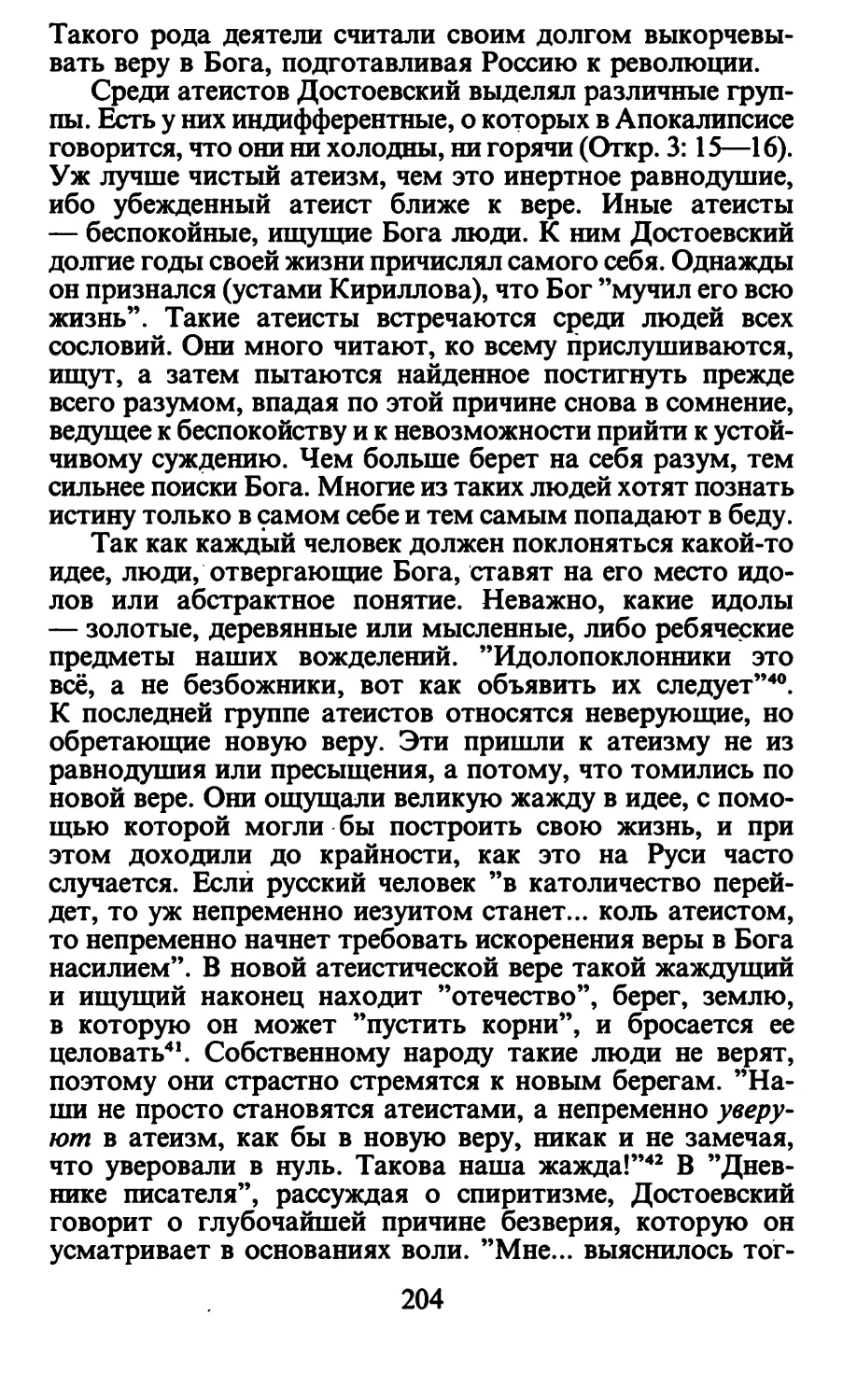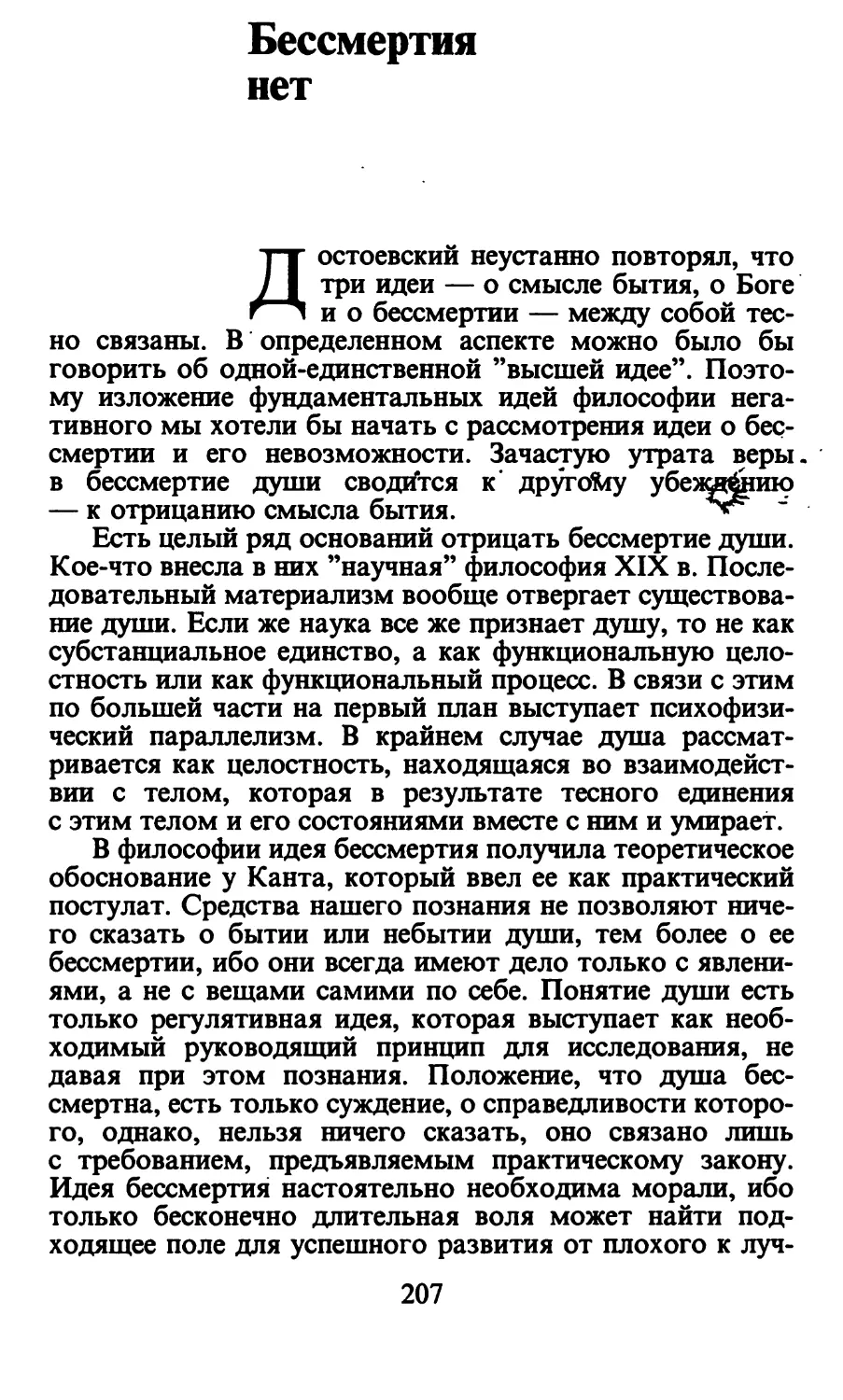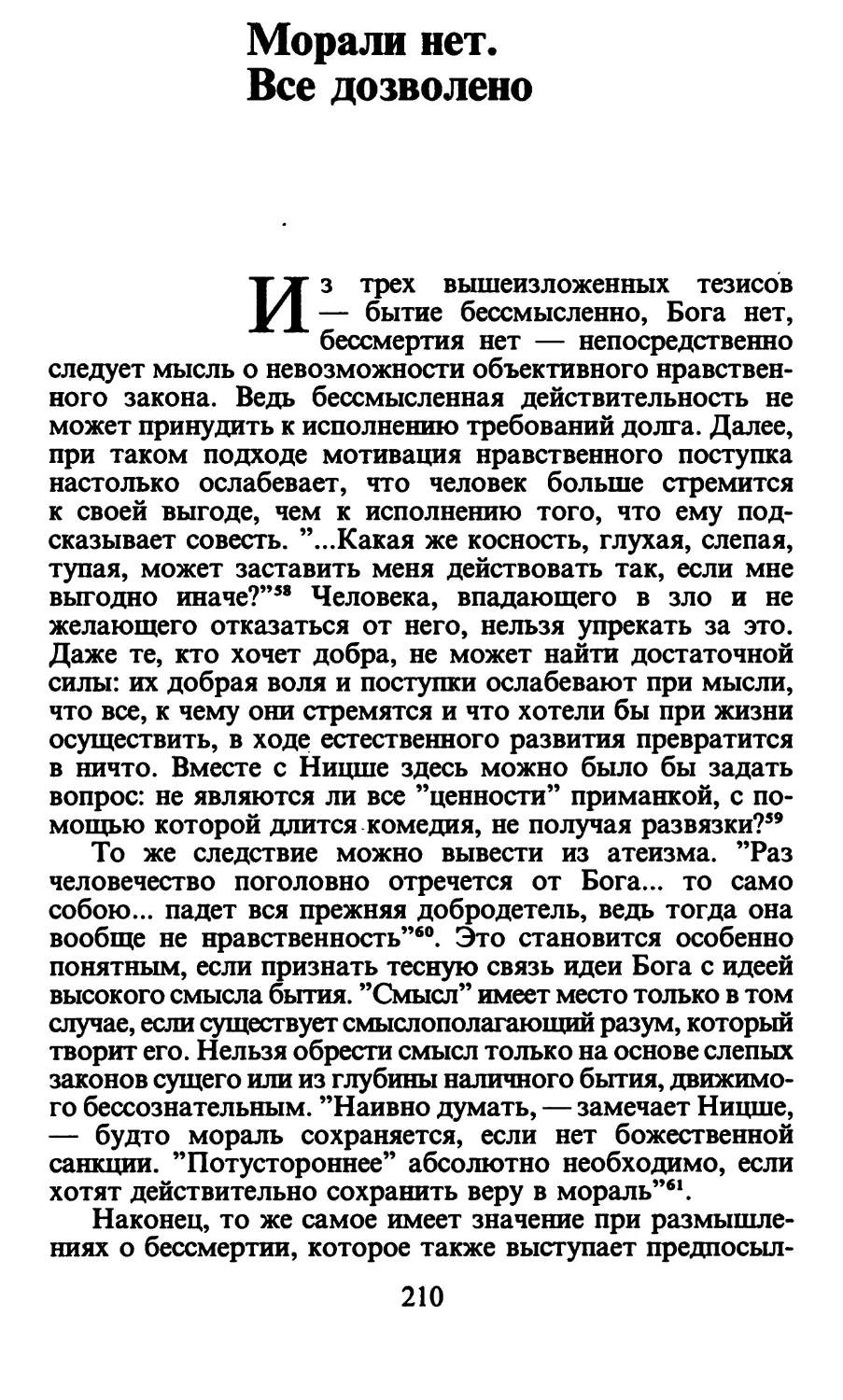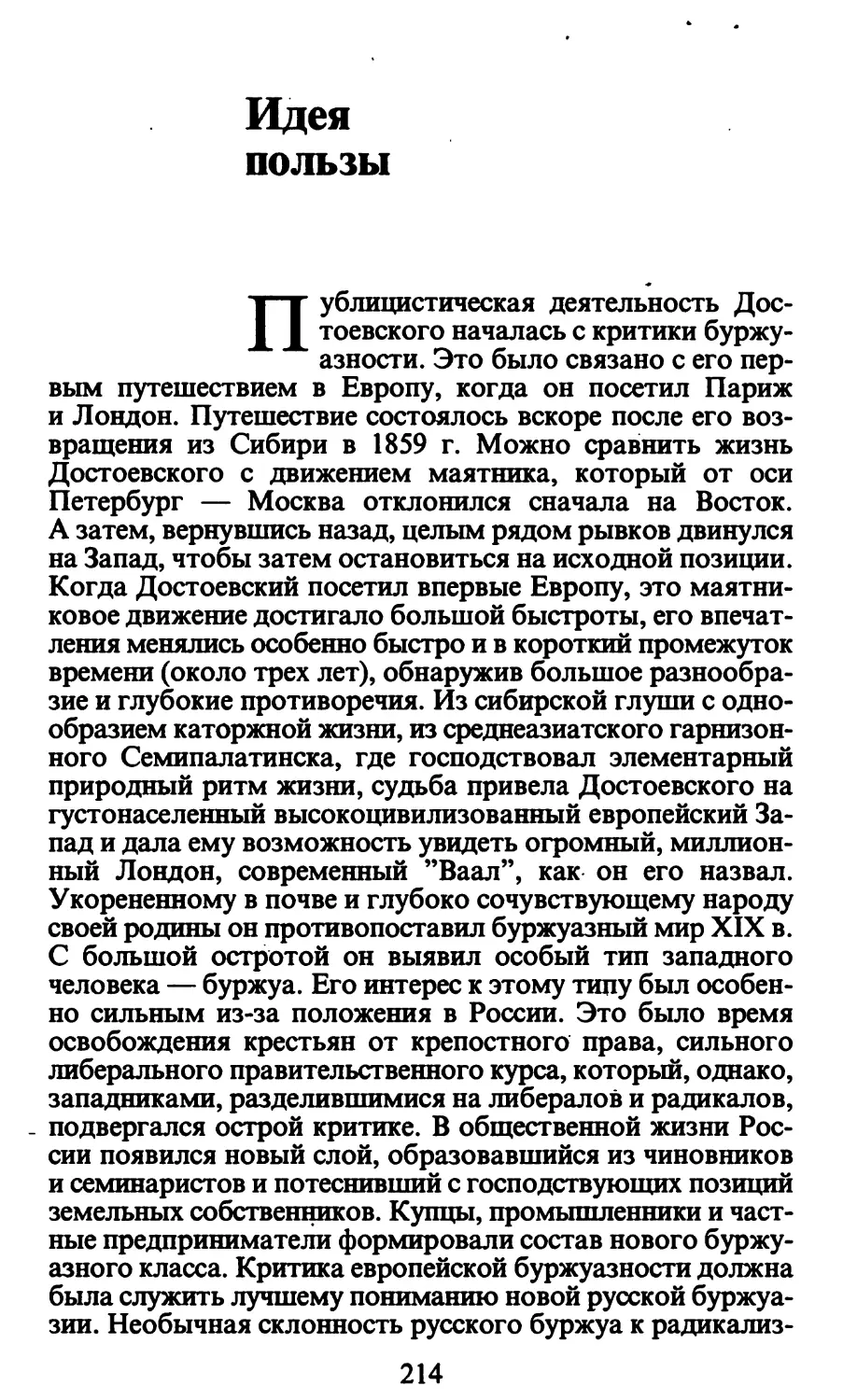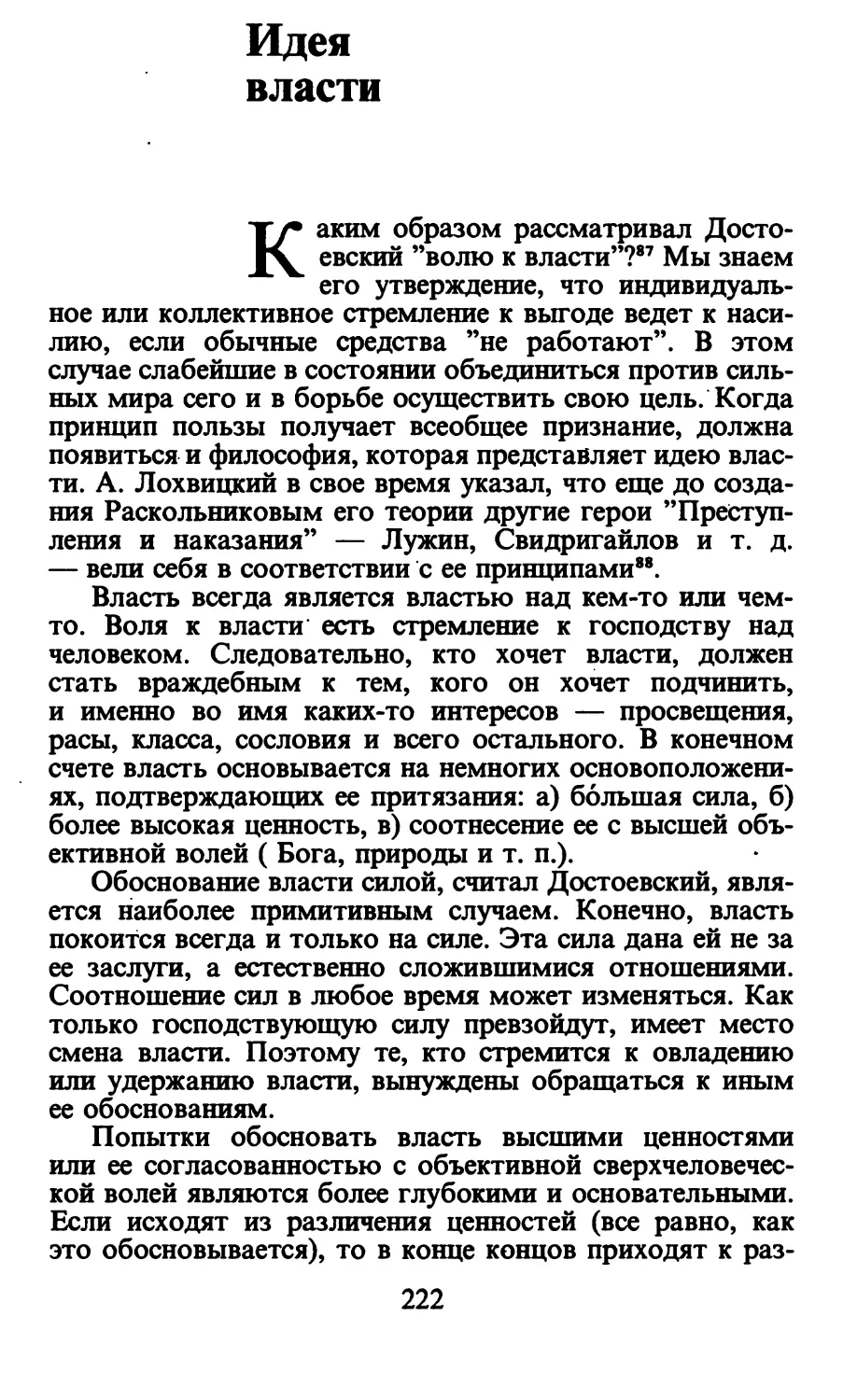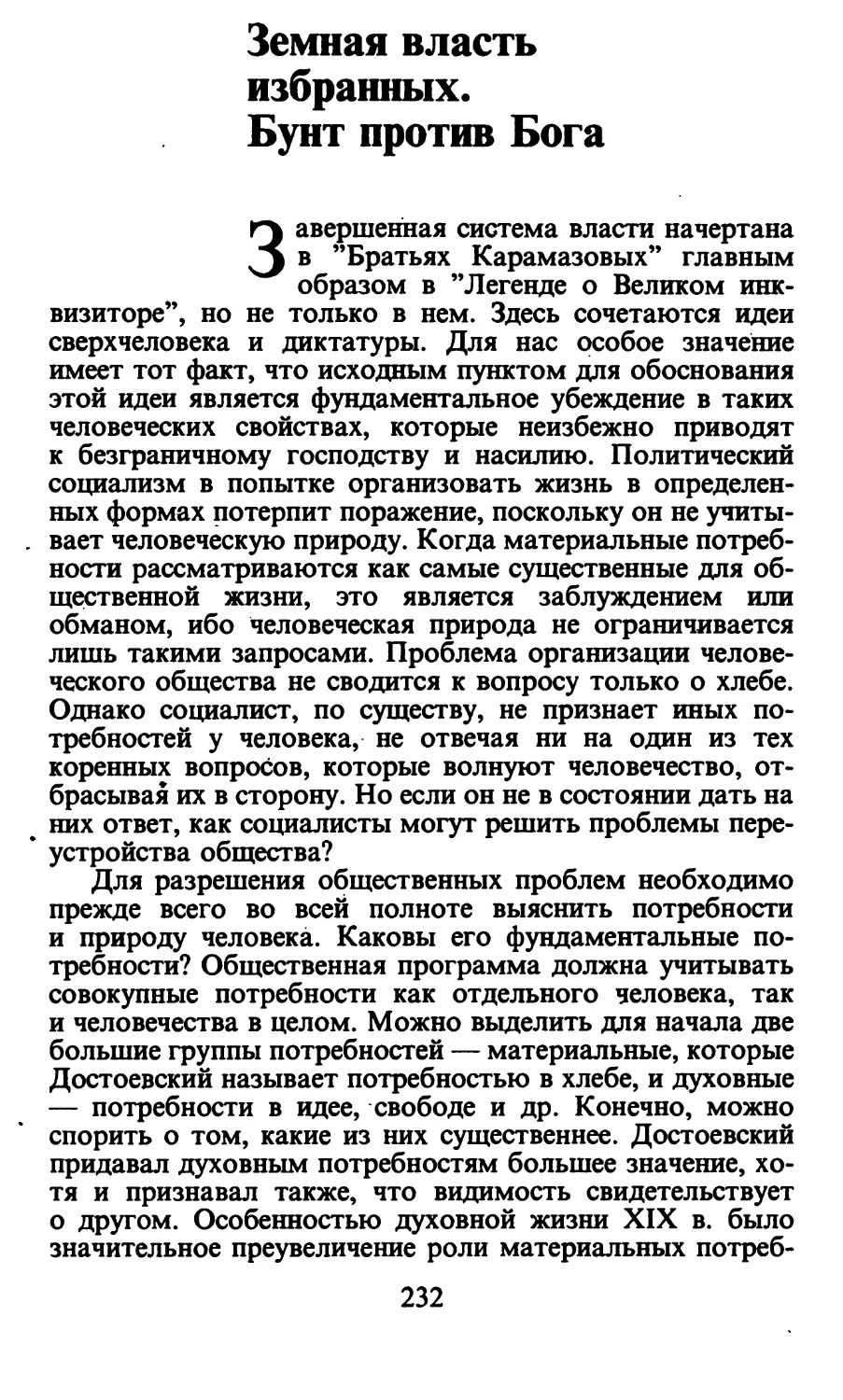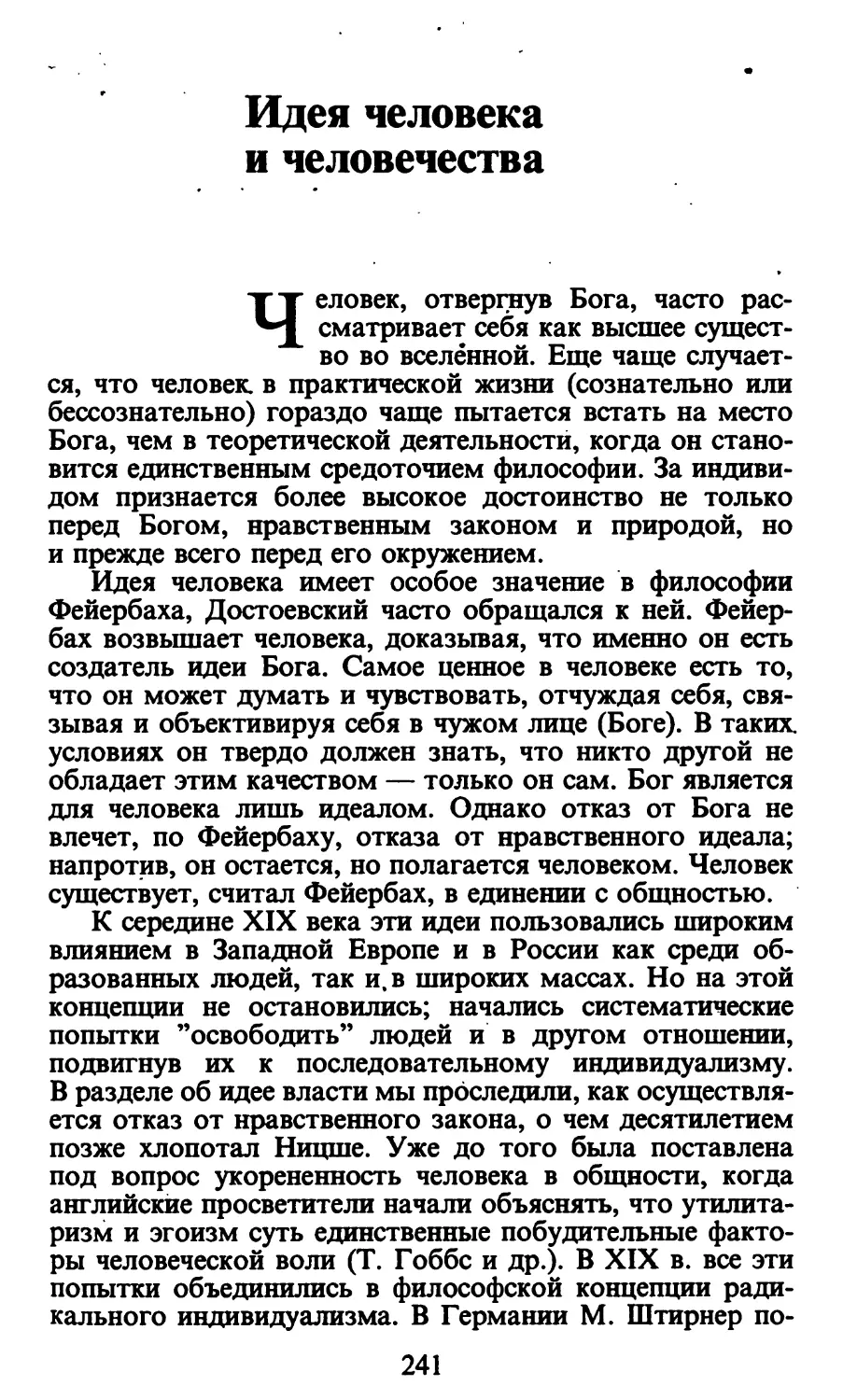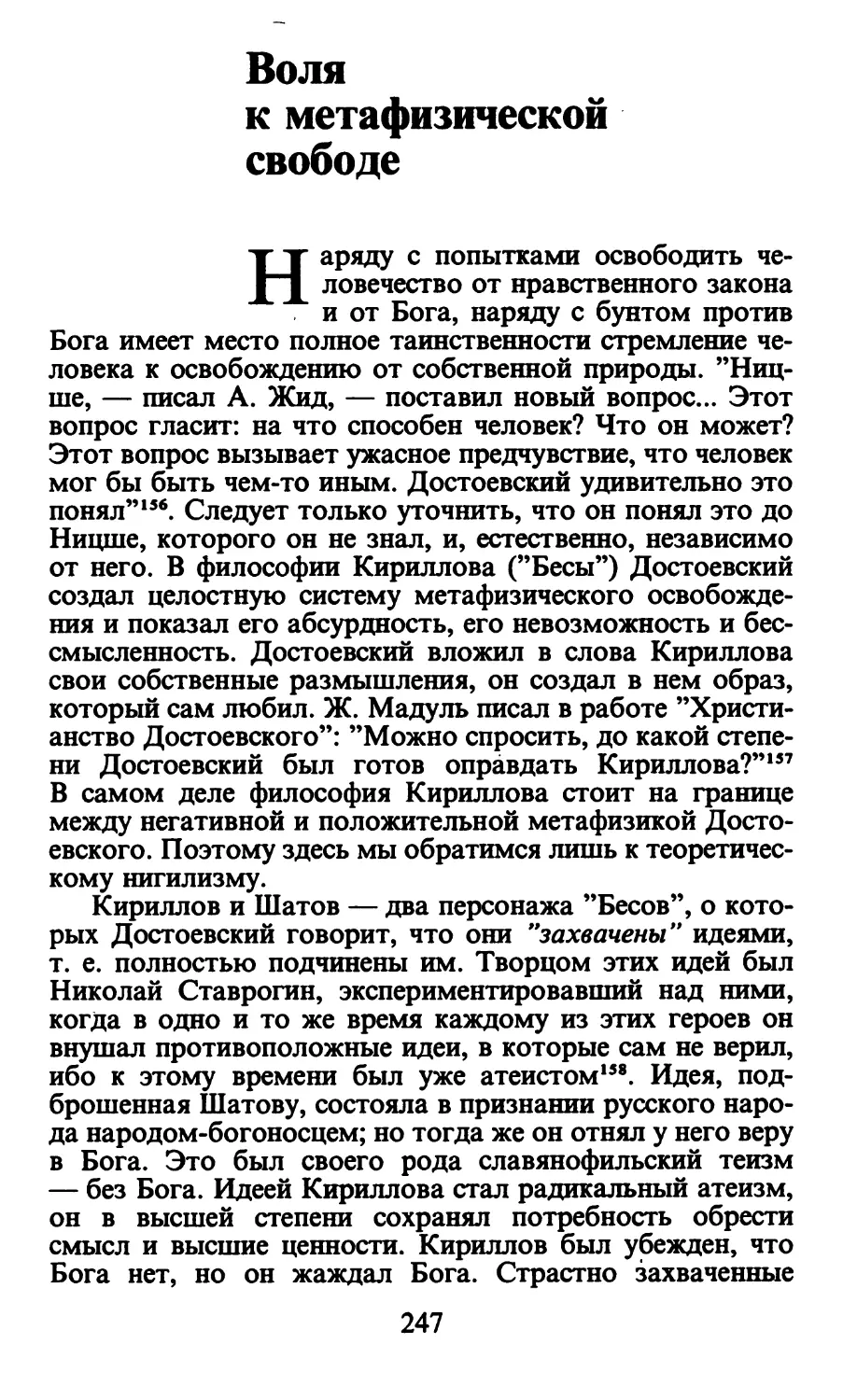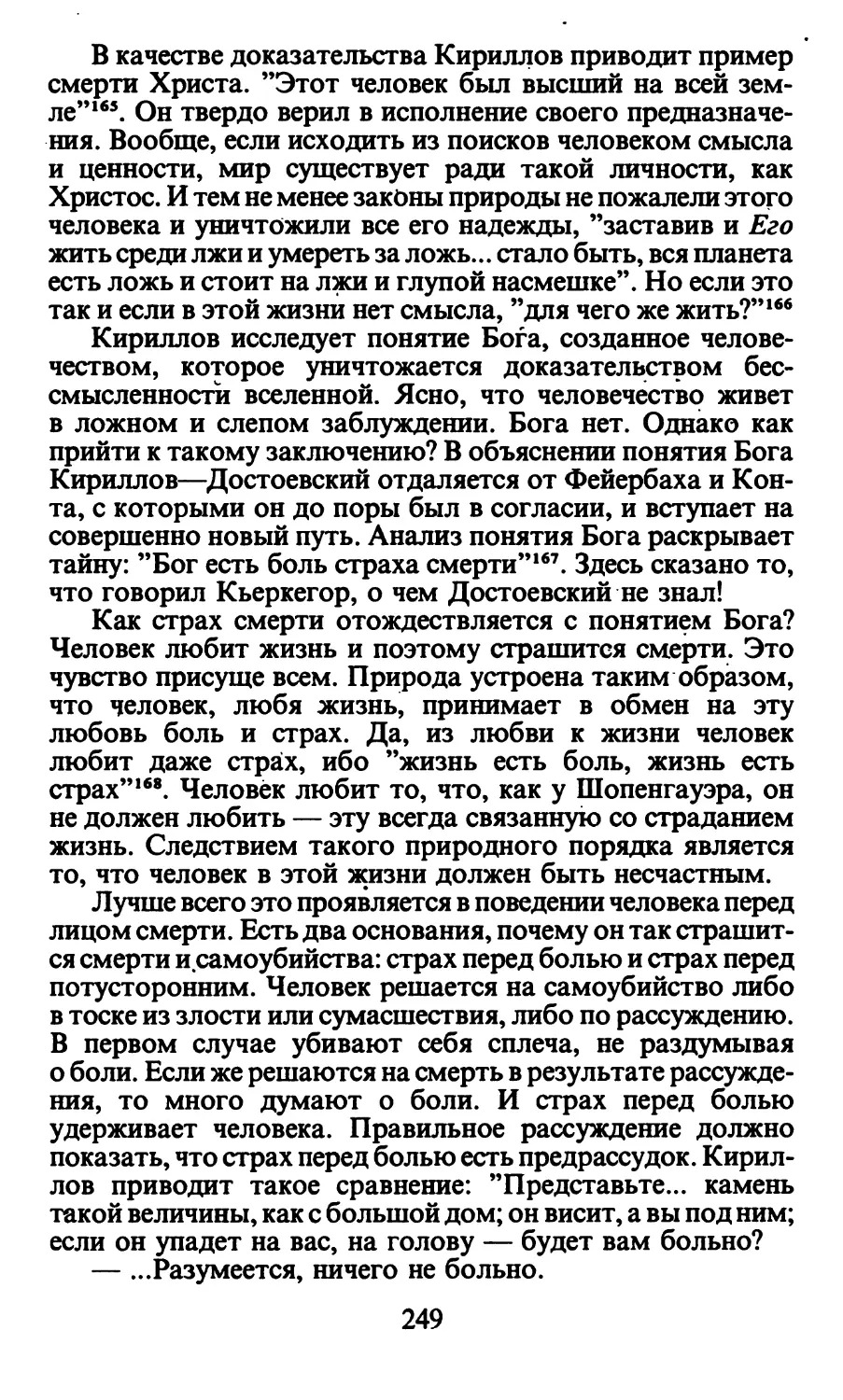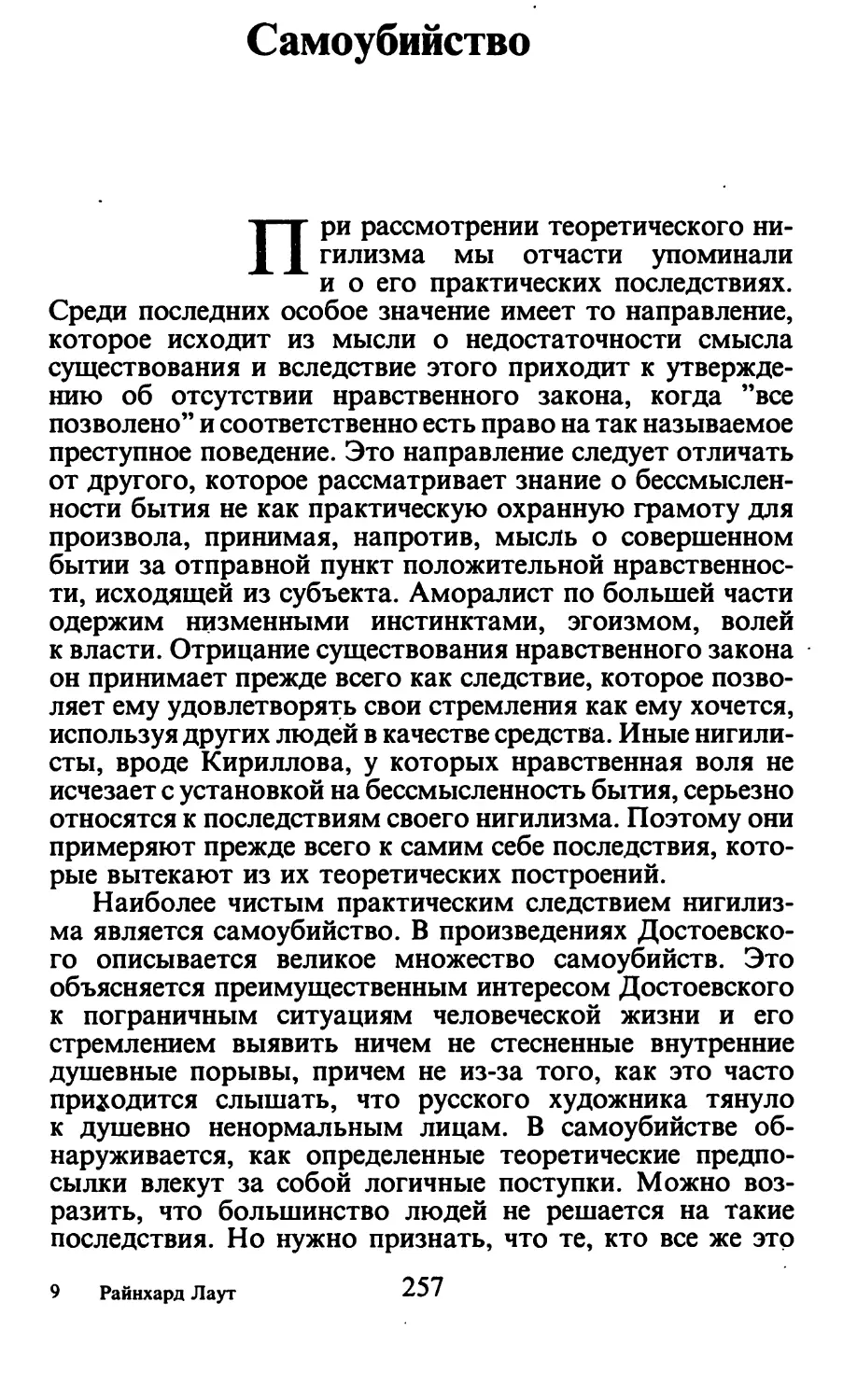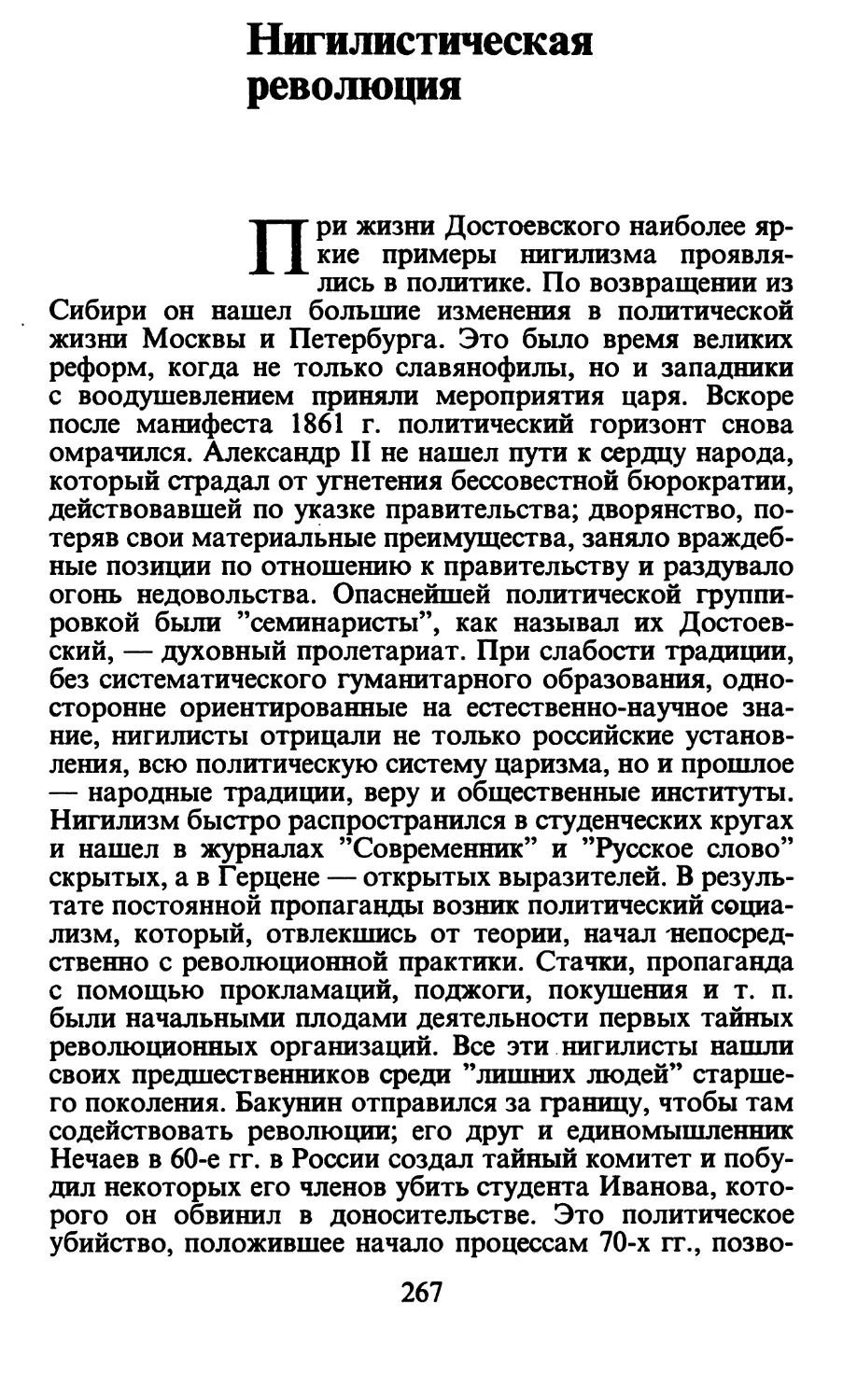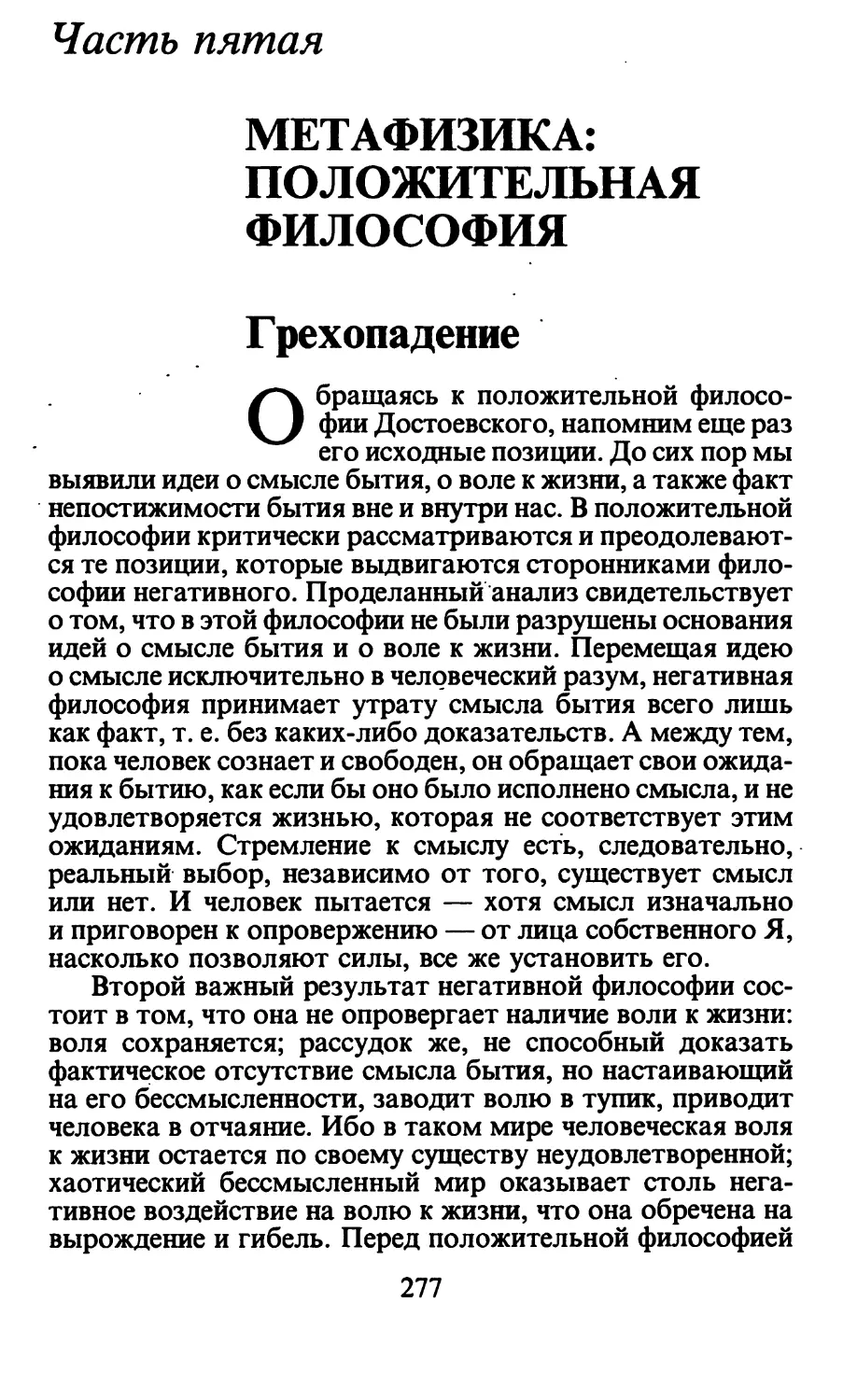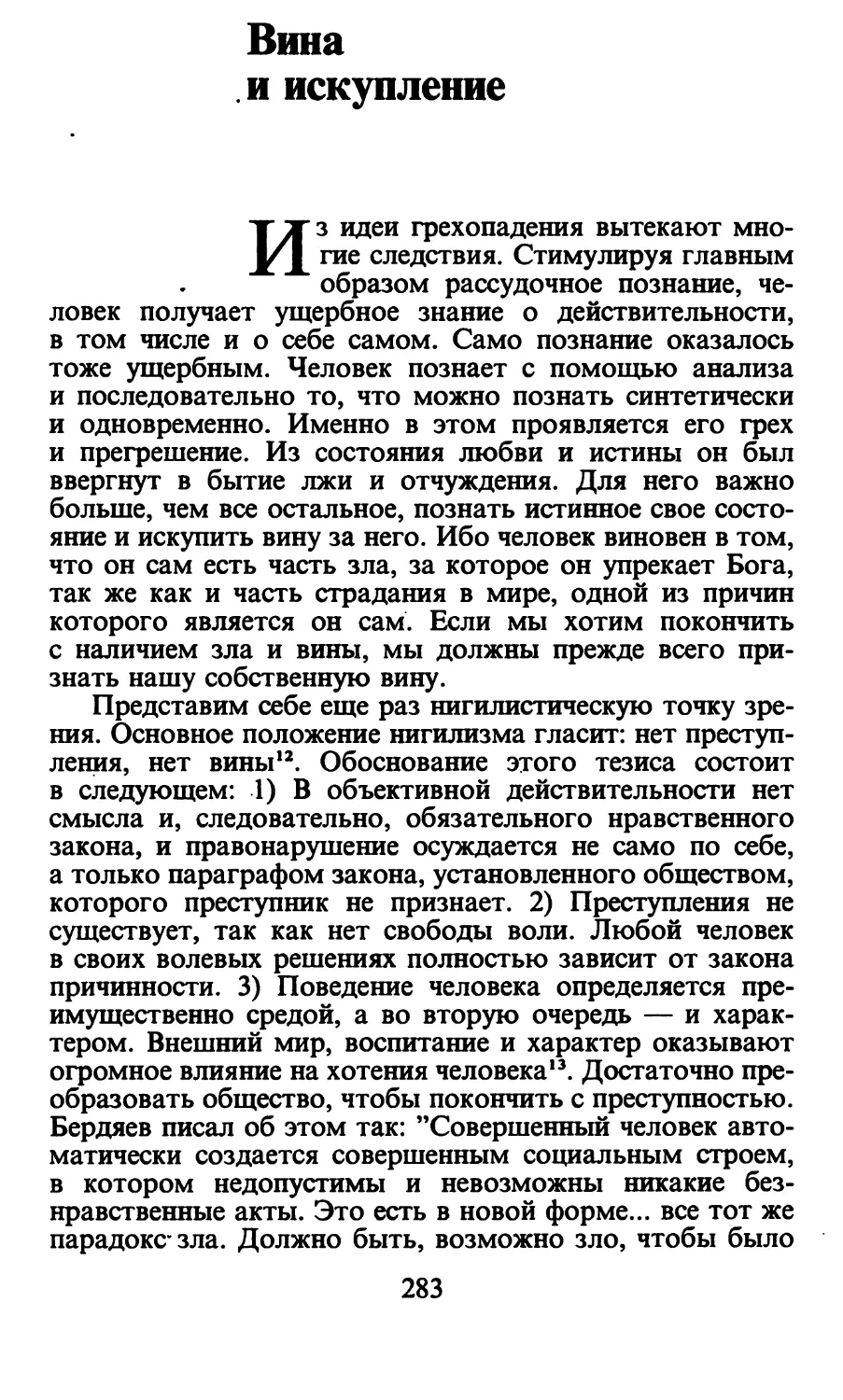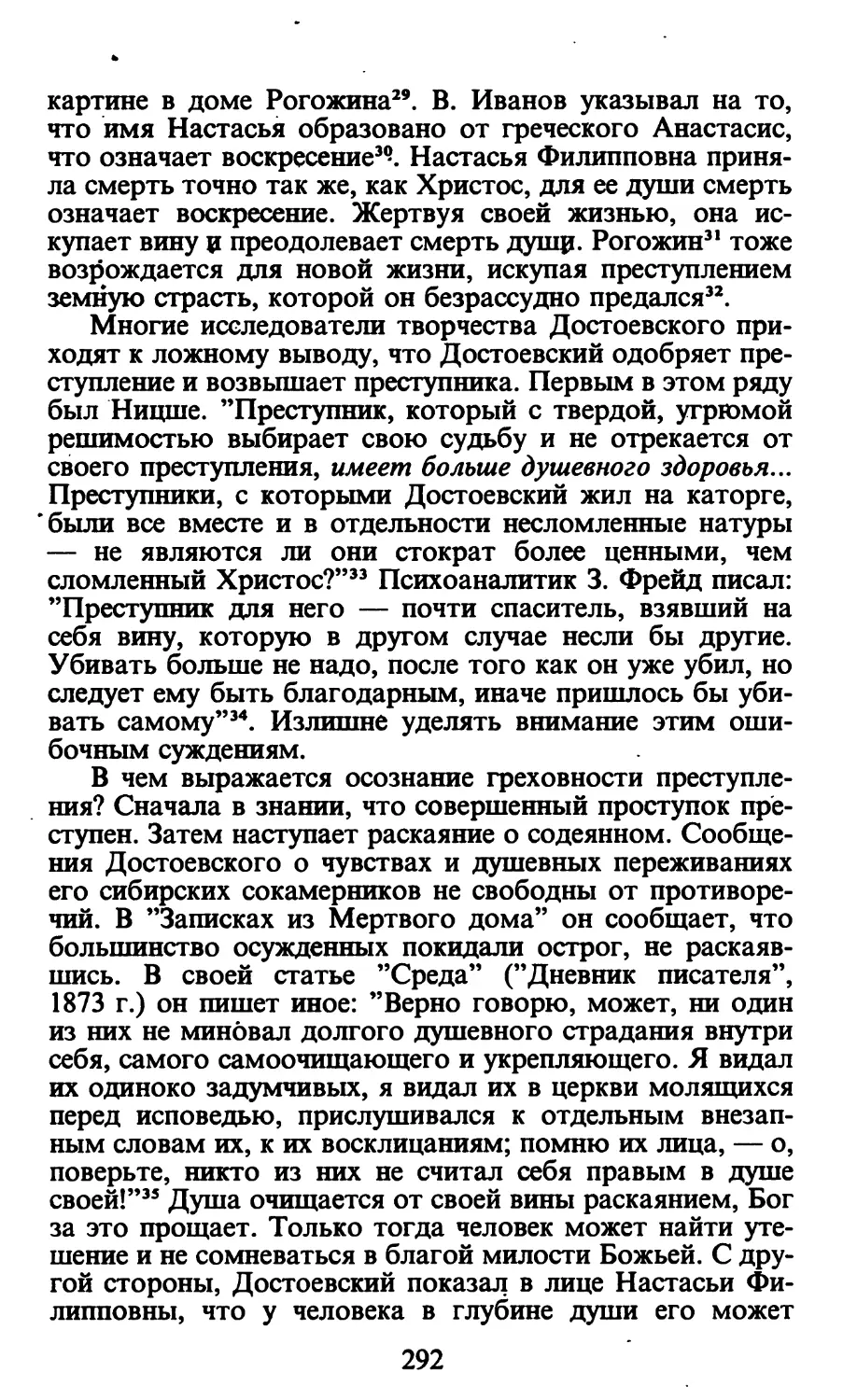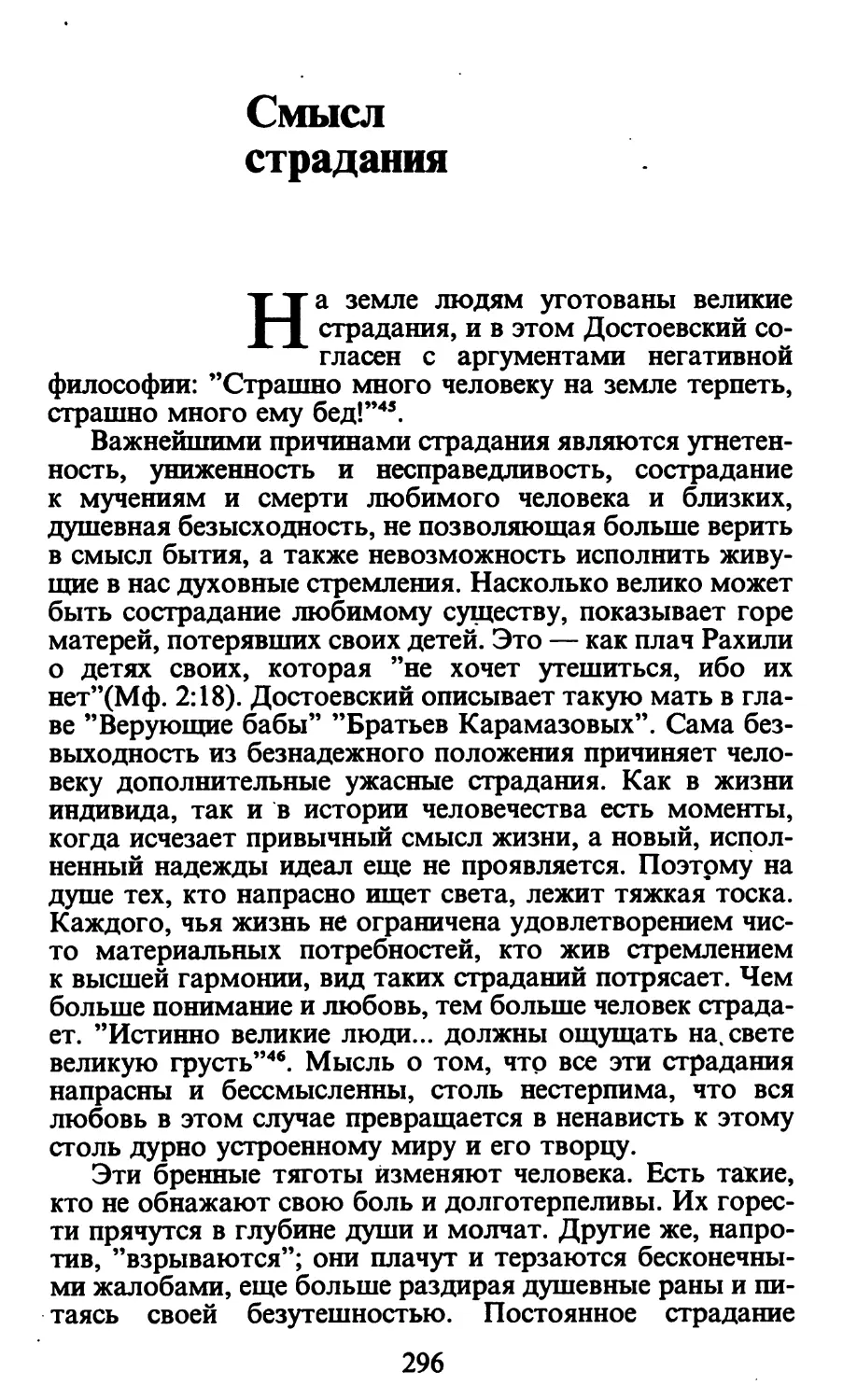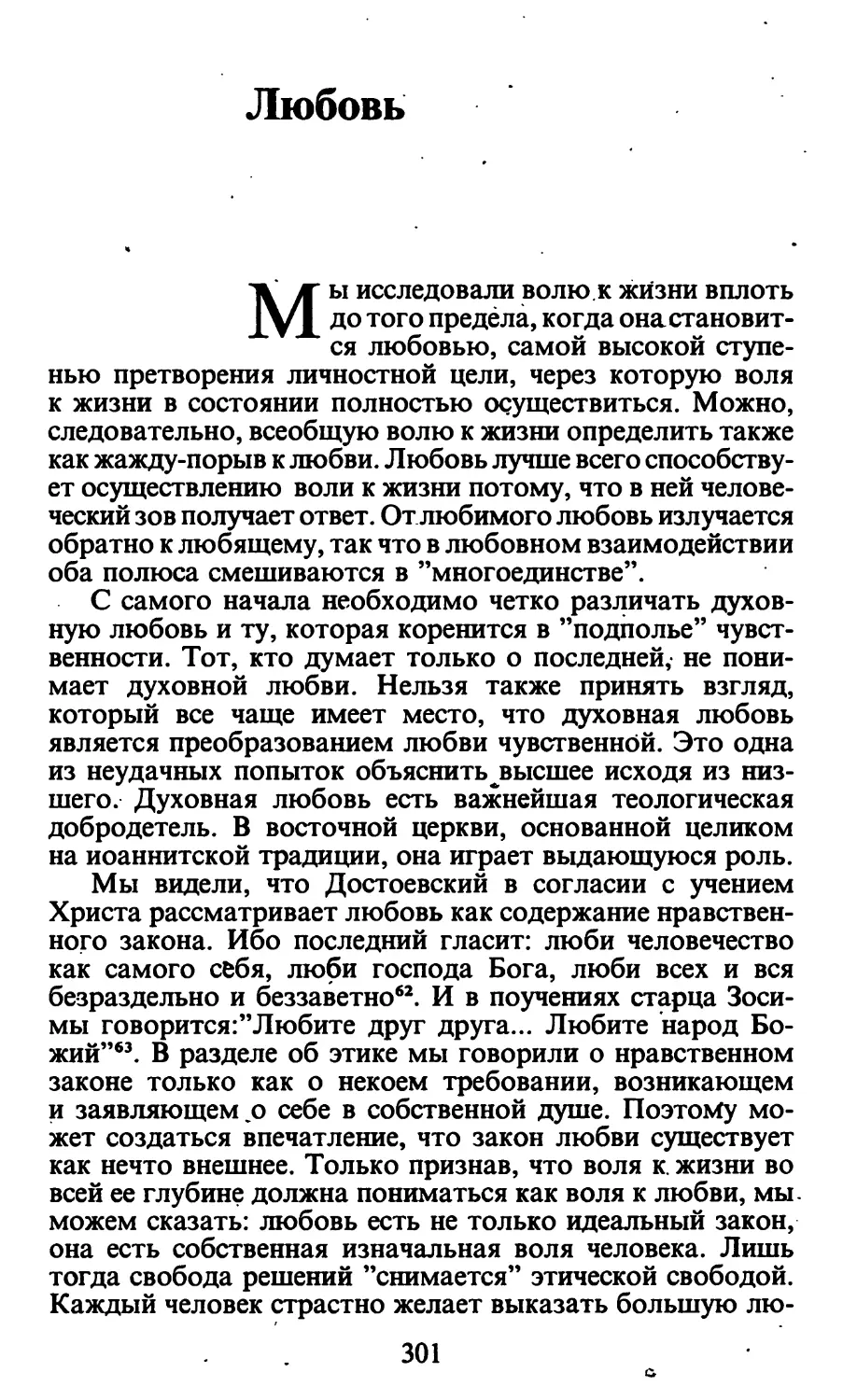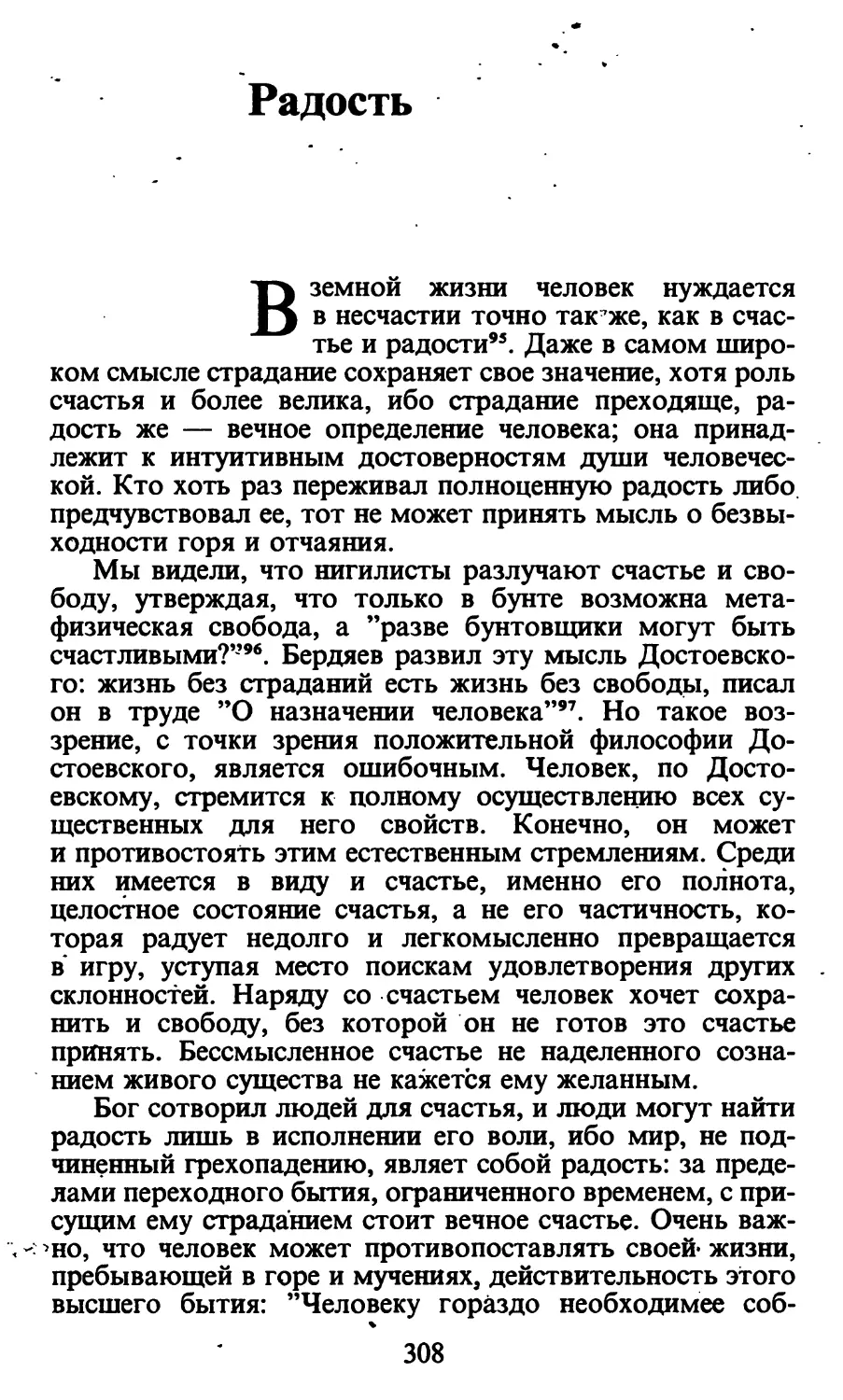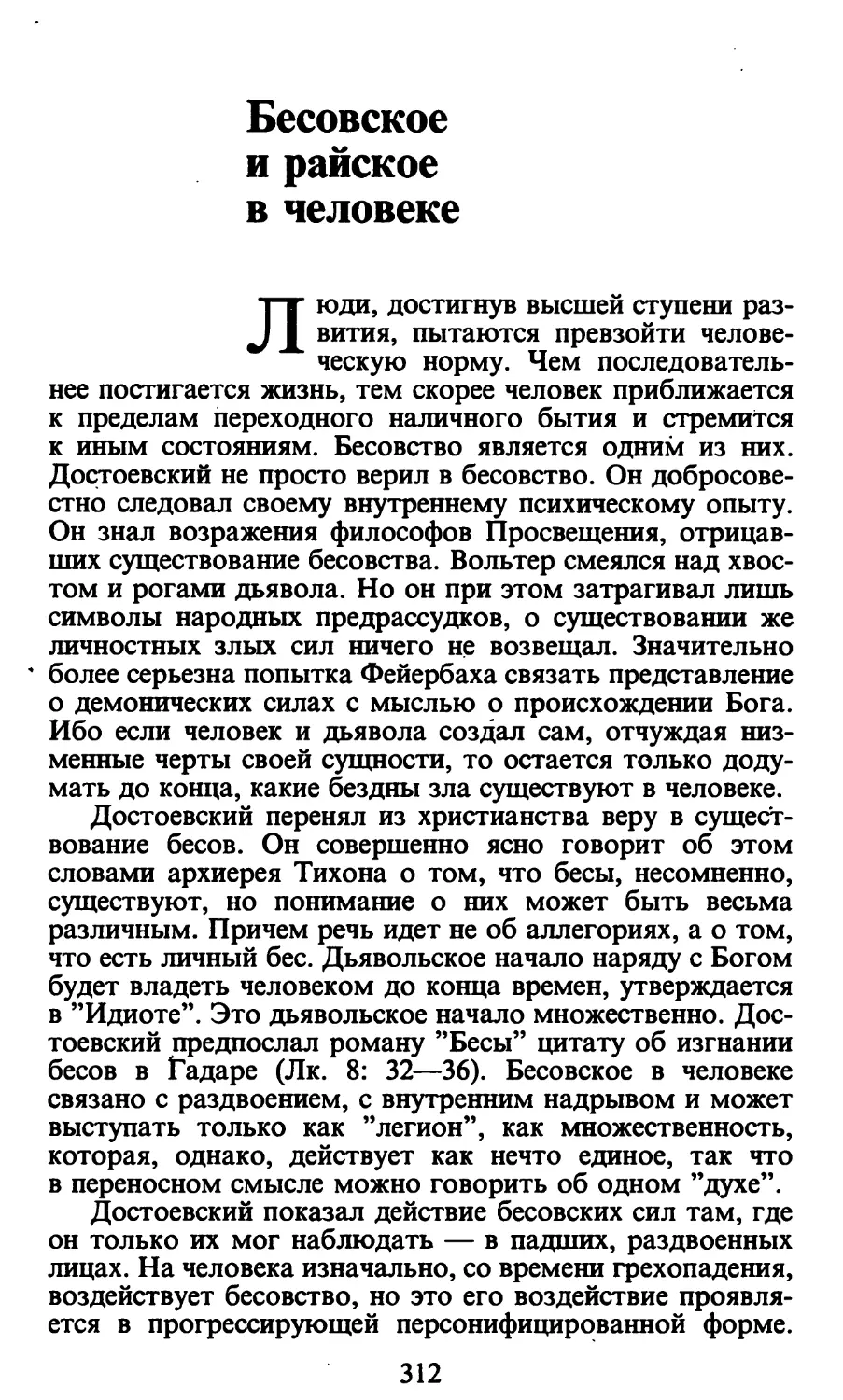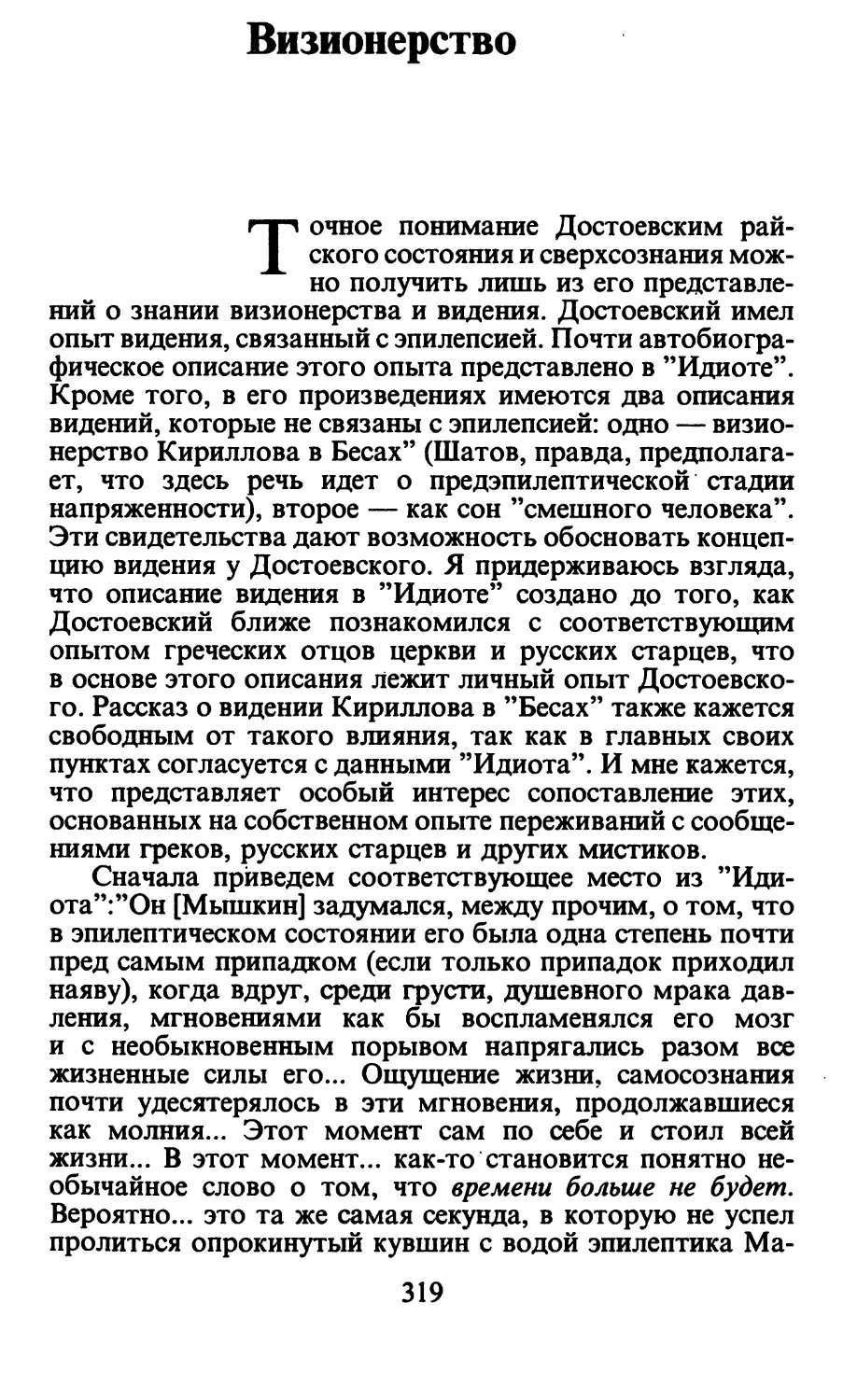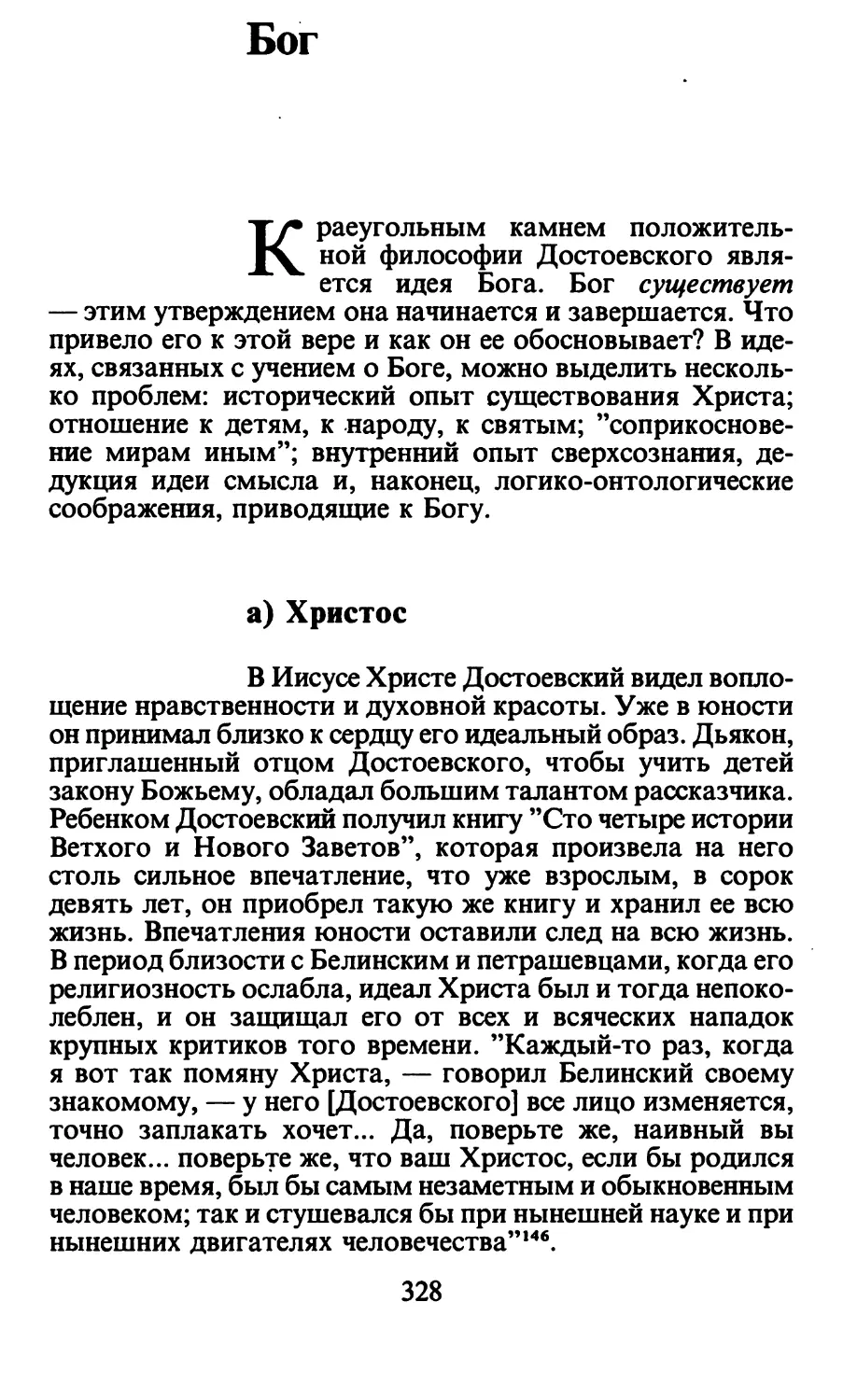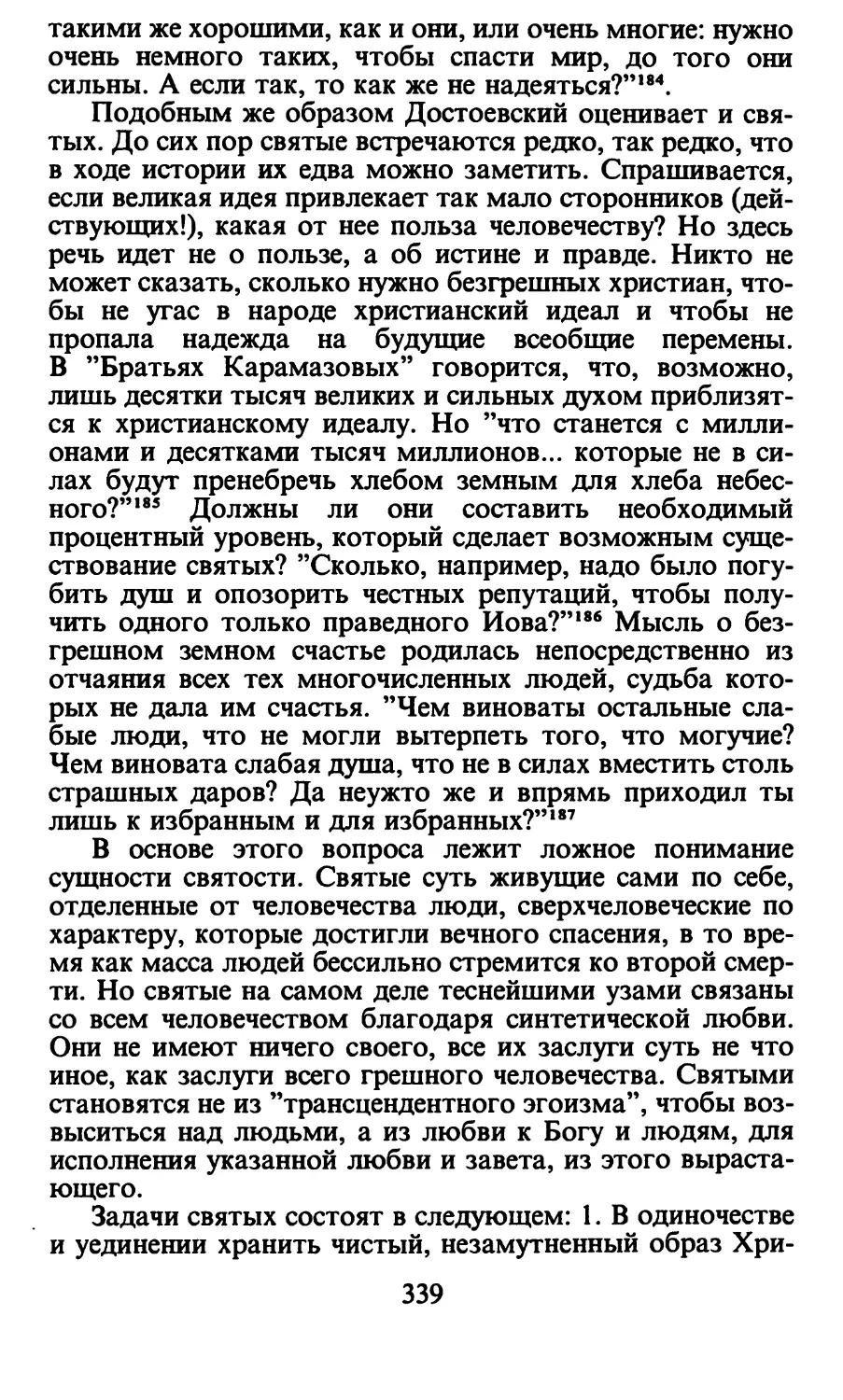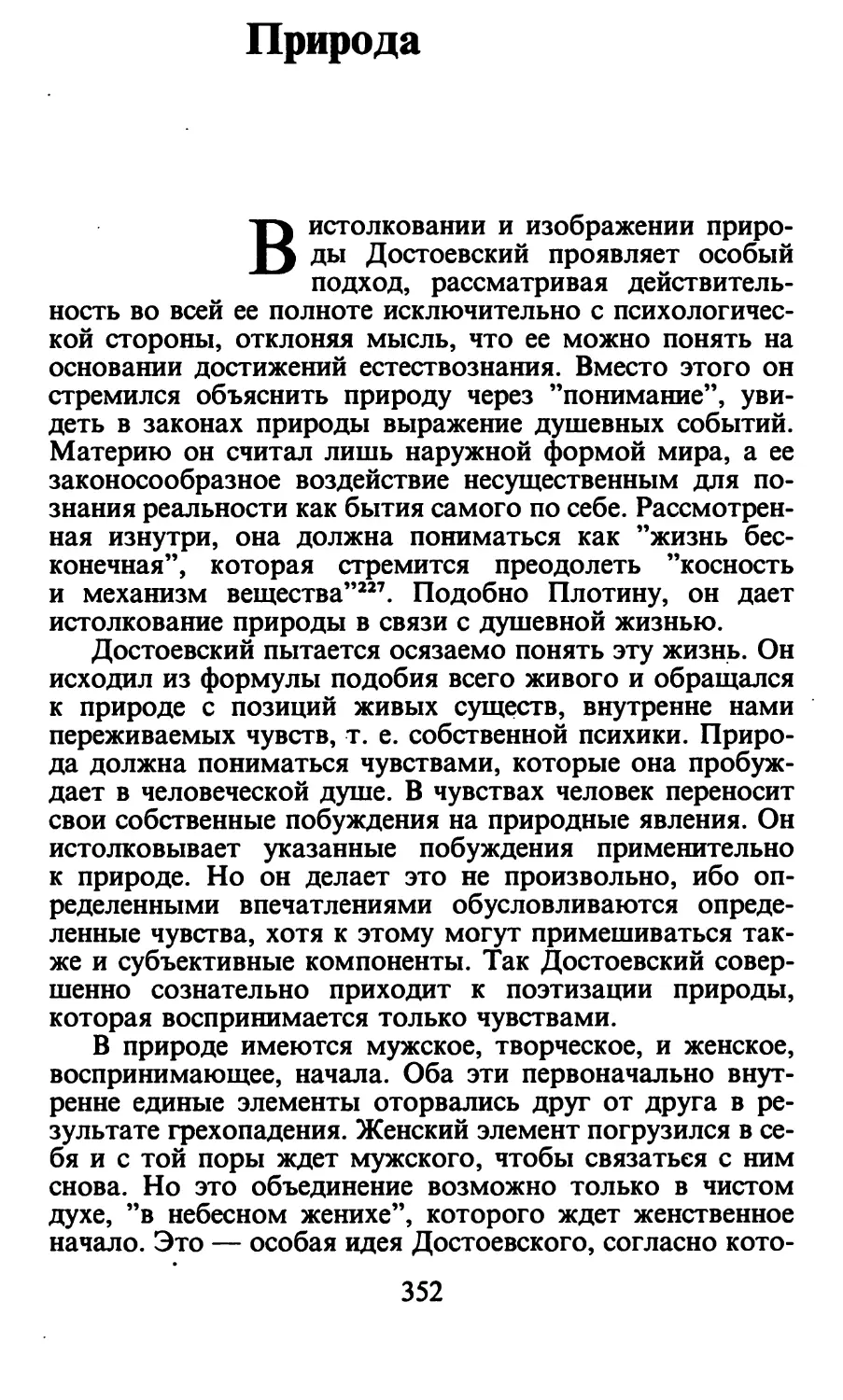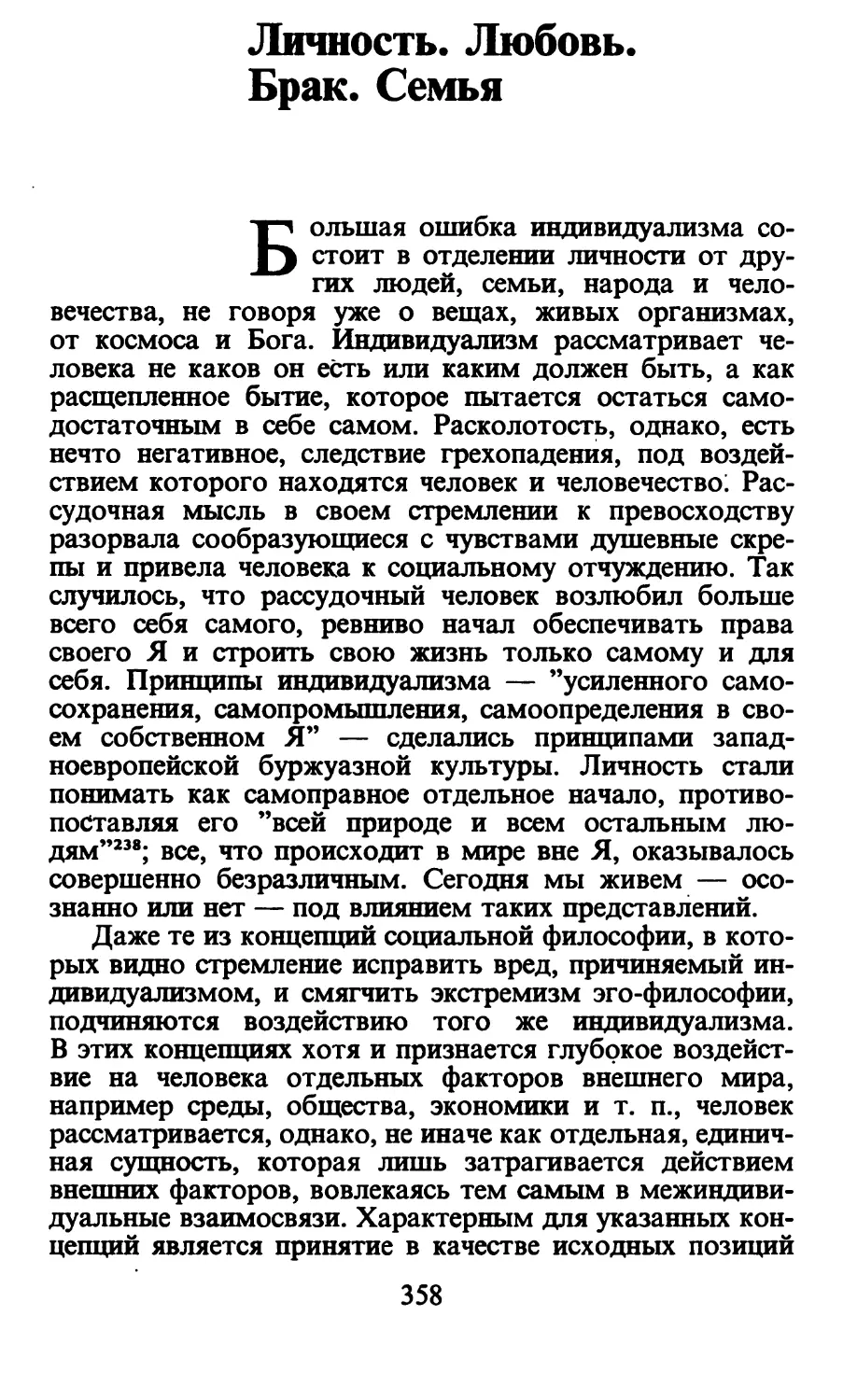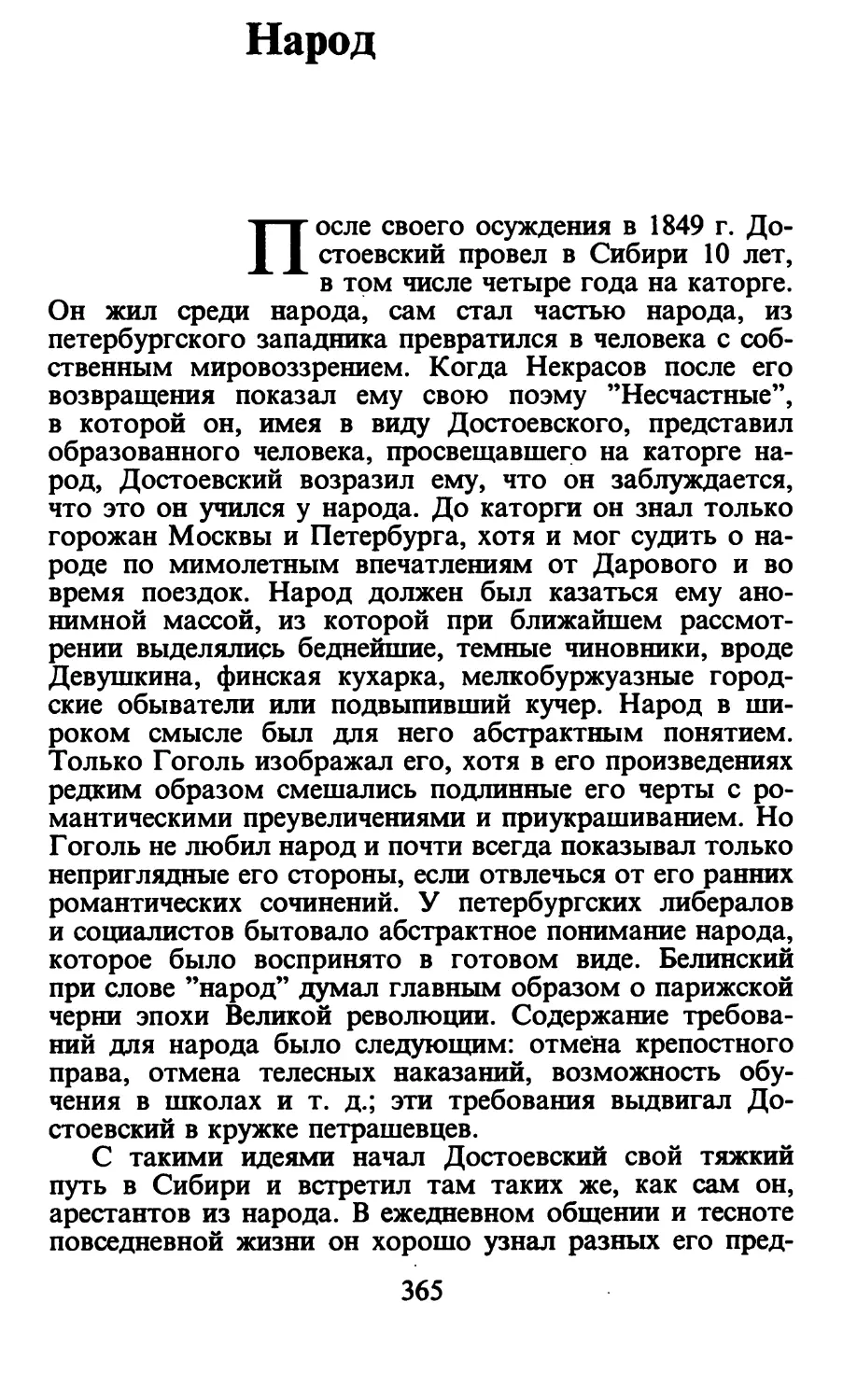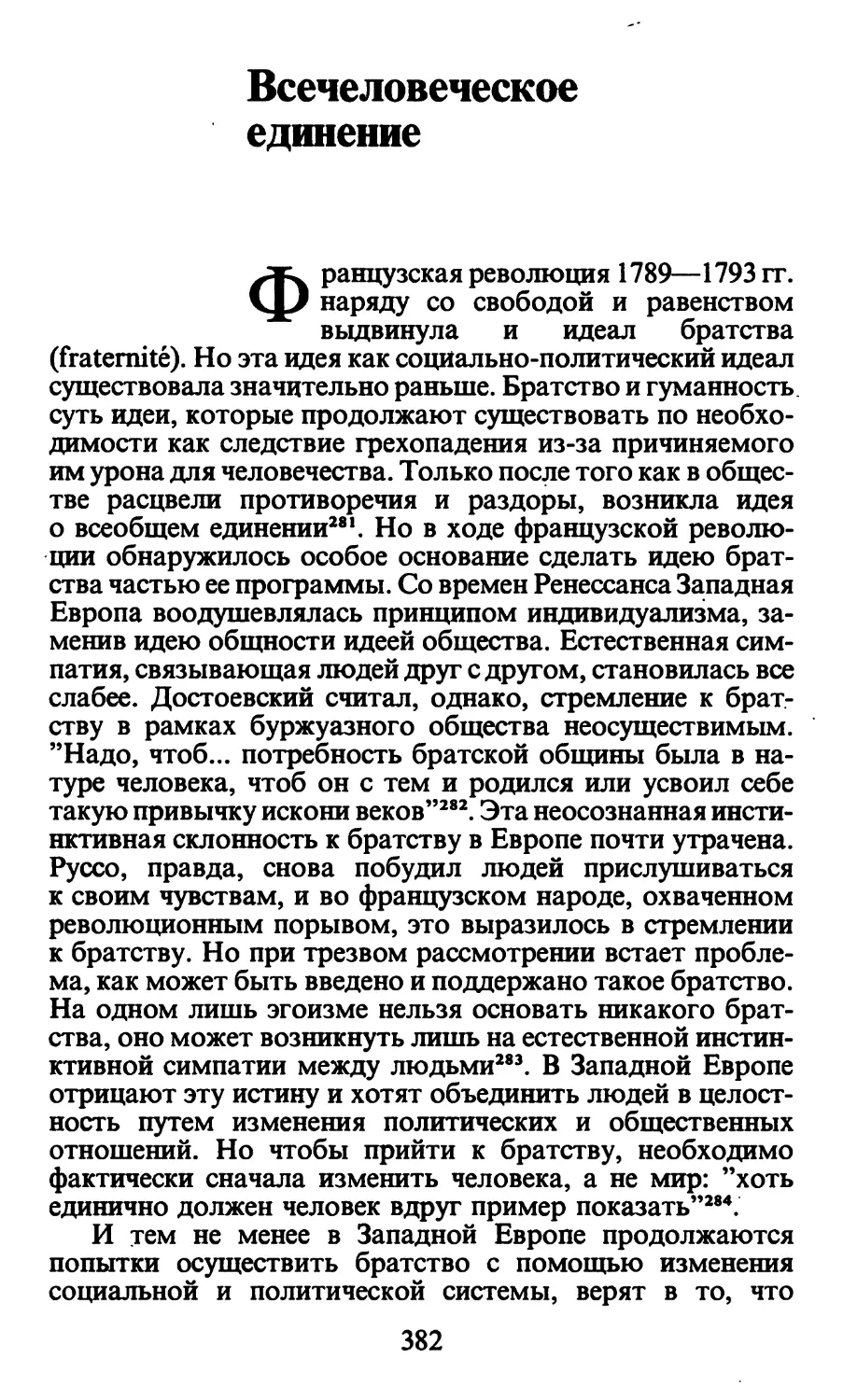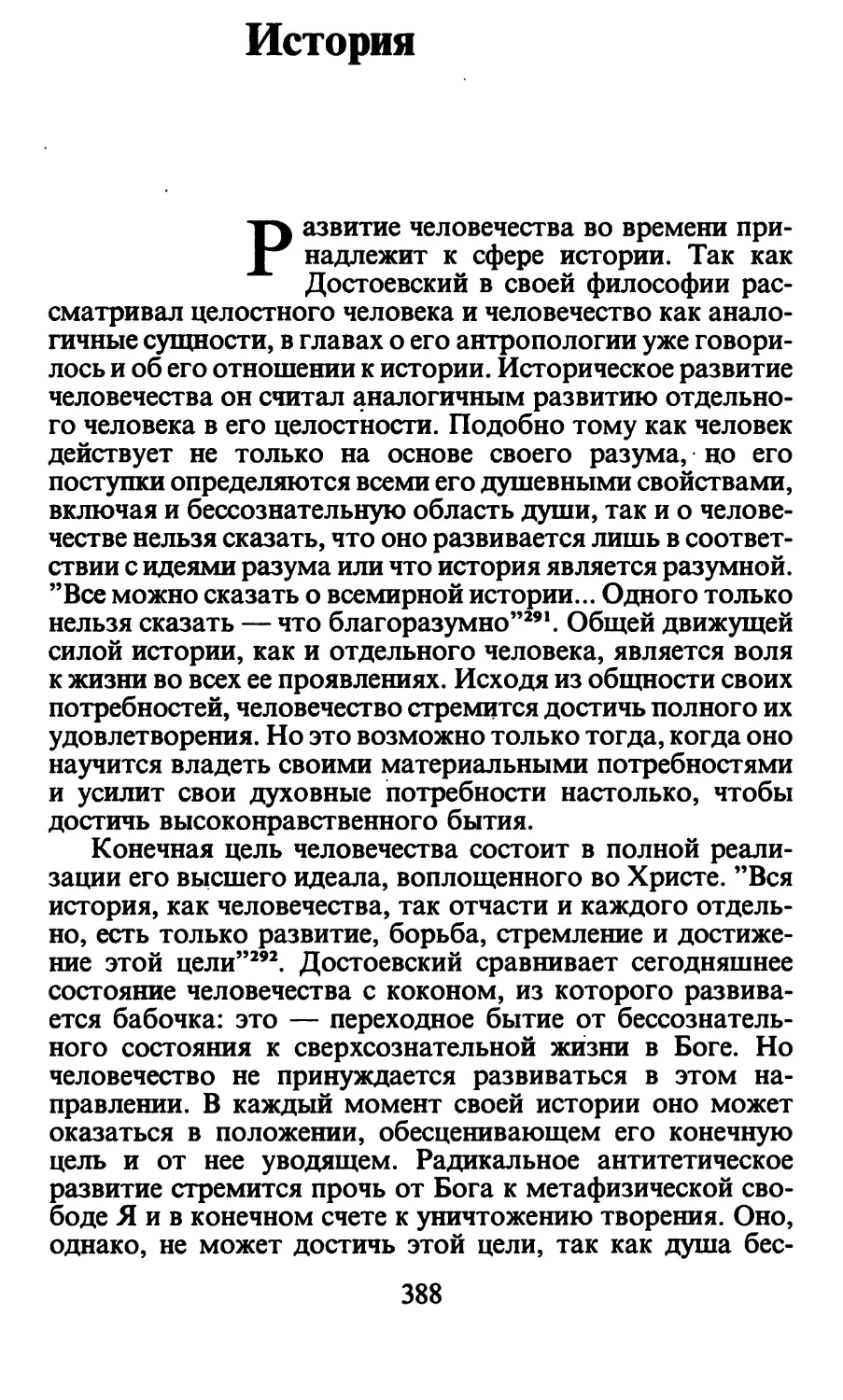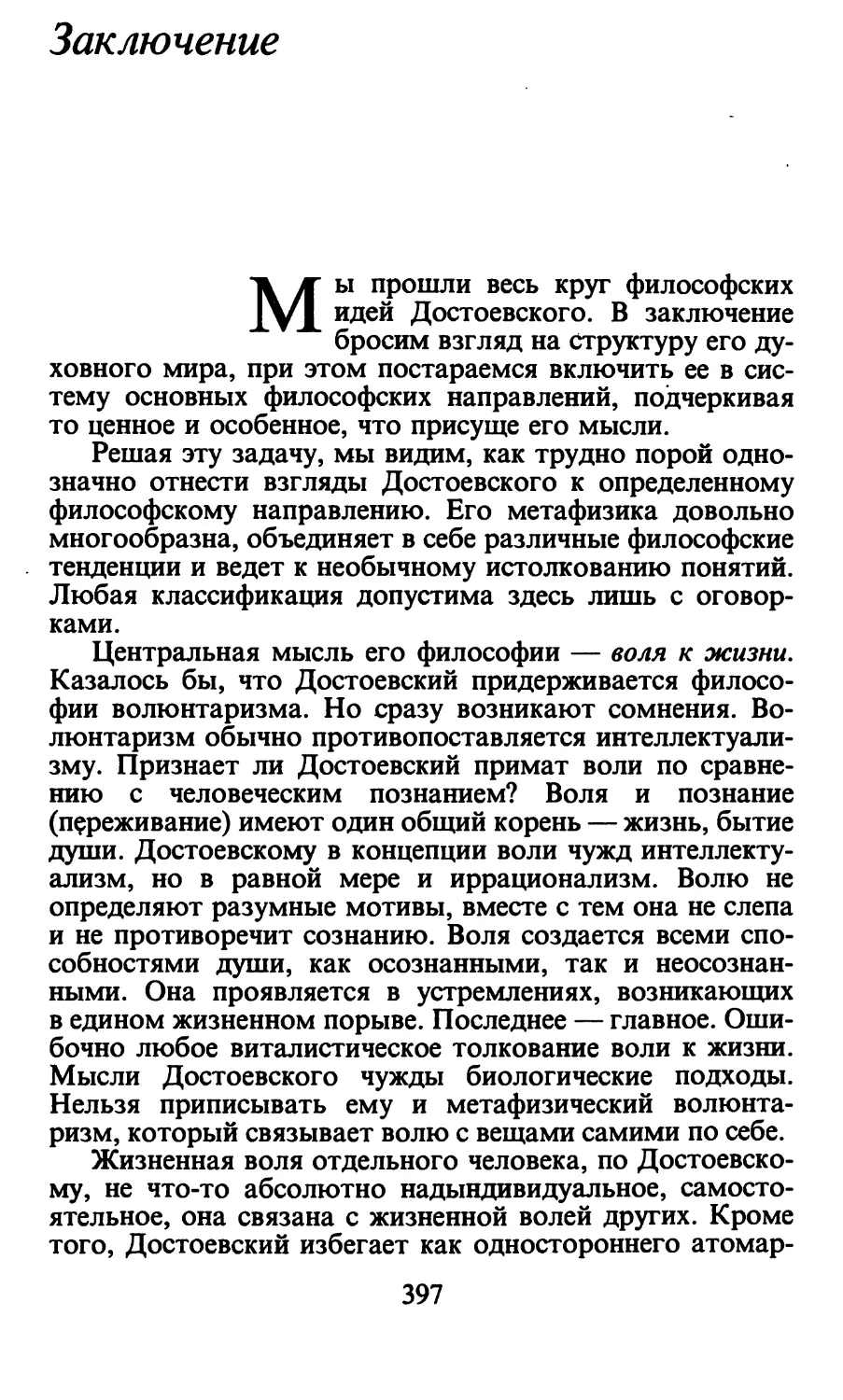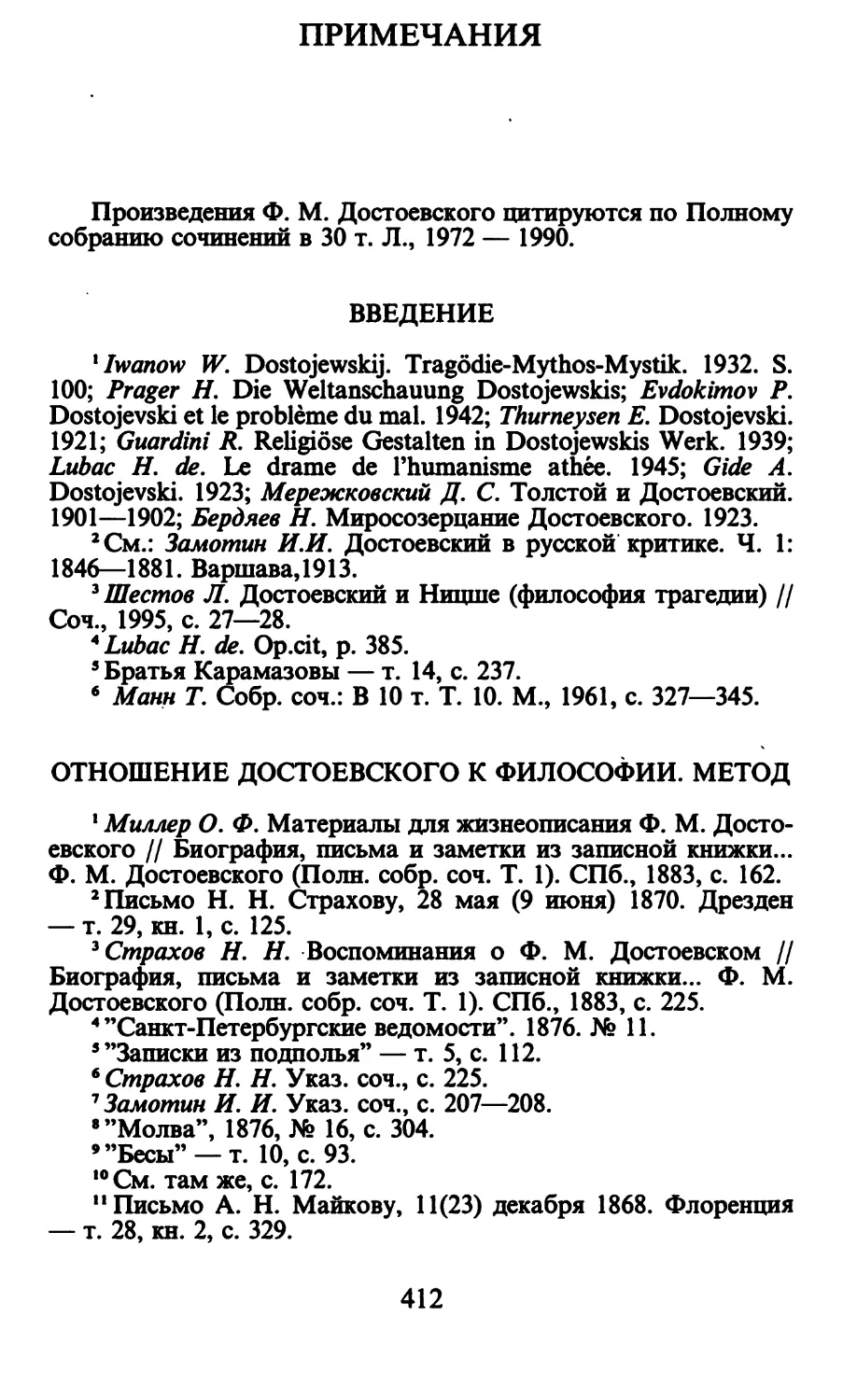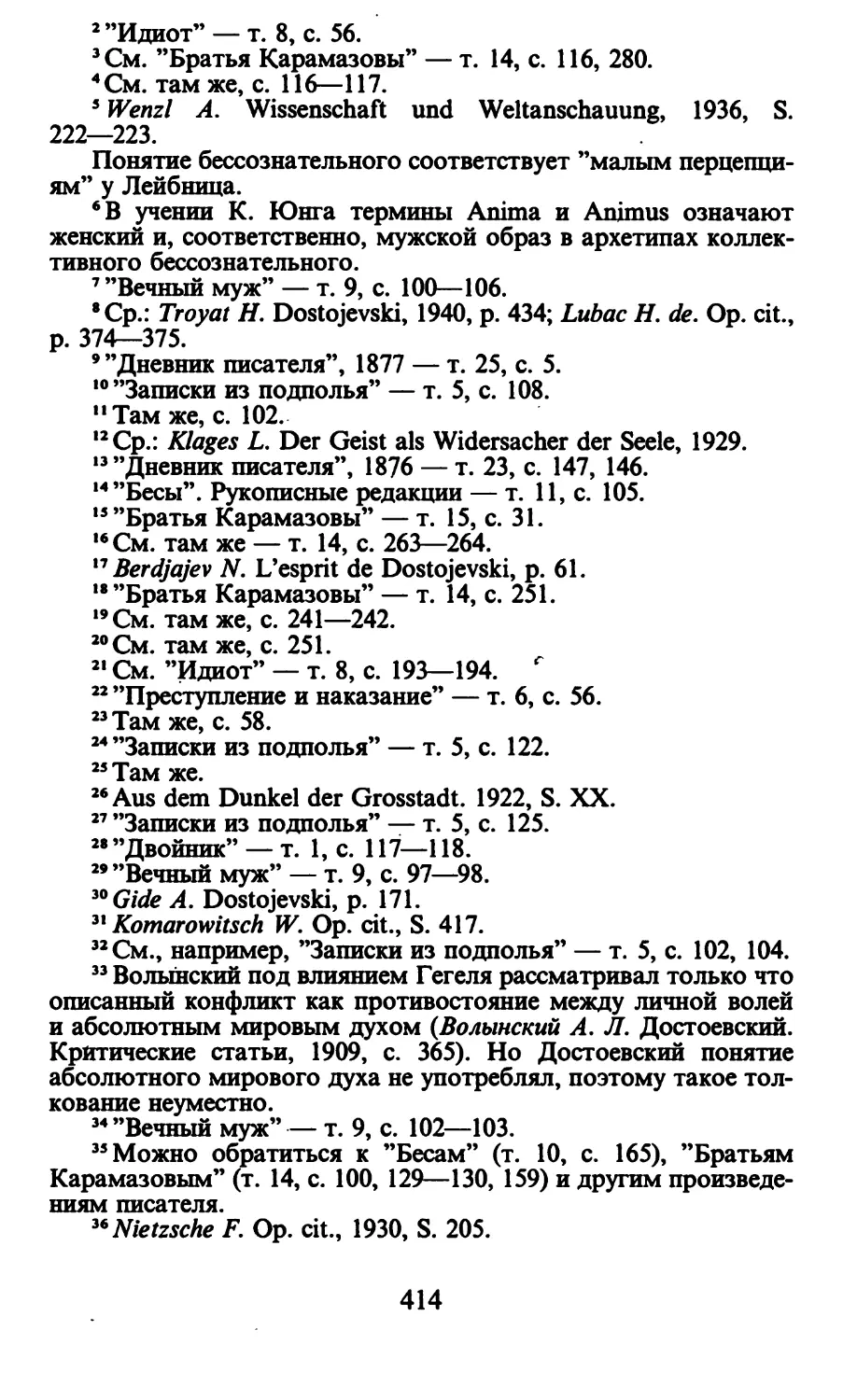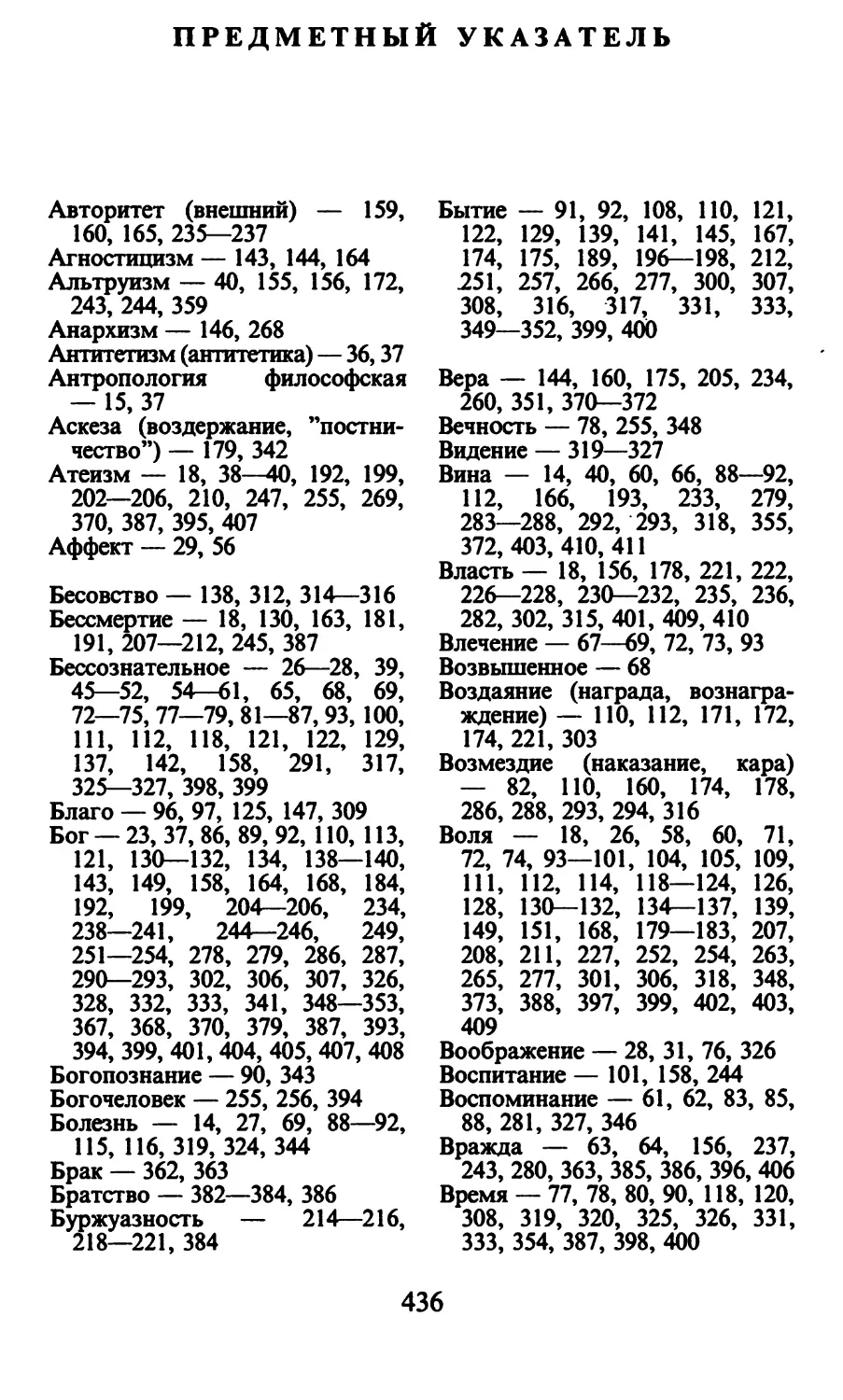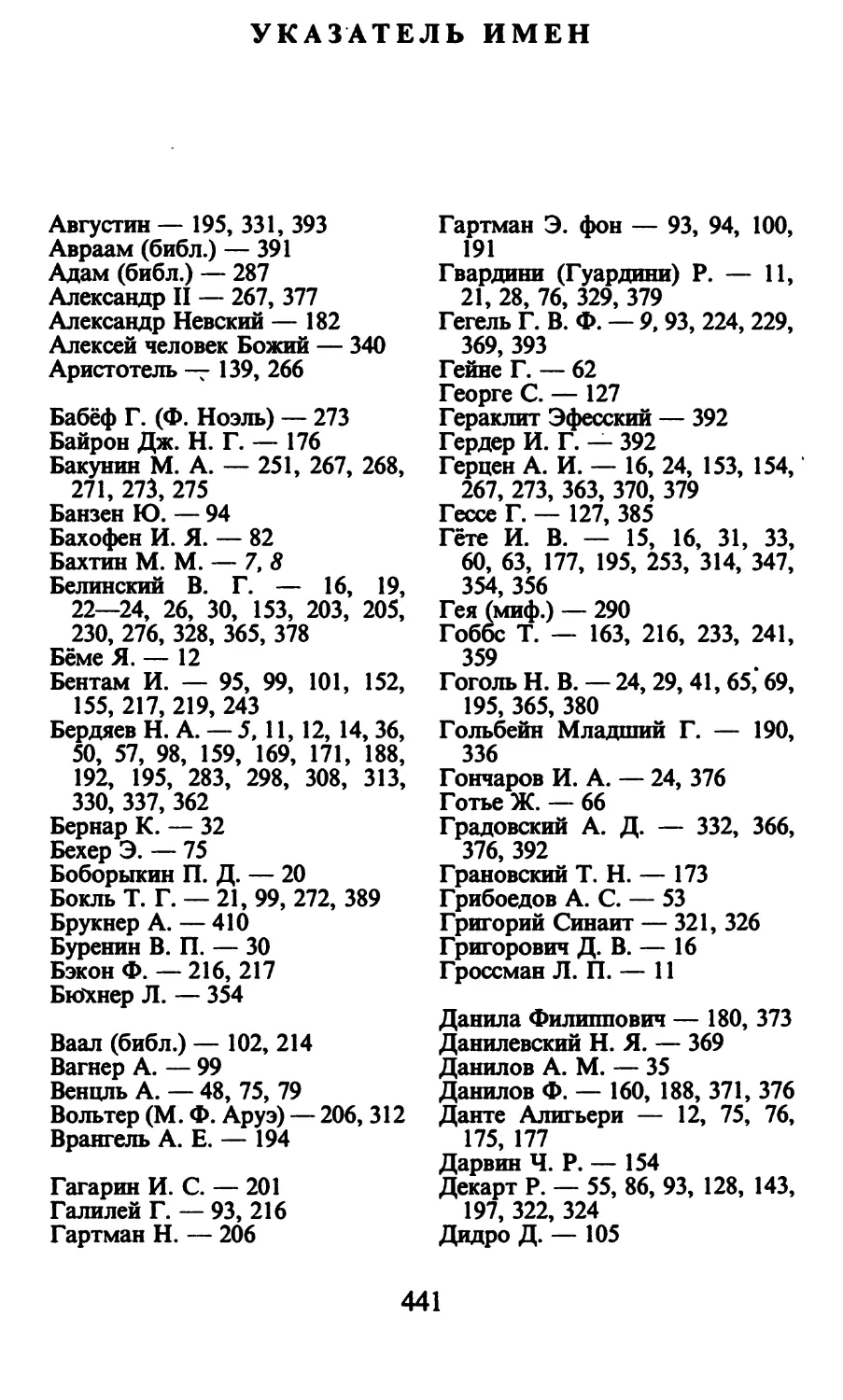Автор: Лаут Р.
Теги: история философии философия художественная литература
ISBN: 5-250-02608-7
Год: 1996
Текст
Я ВИДЕЛ
ИСТИНУ
Часть первая
ПСИХОЛОГИЯ
Часть вторая
МЕТАФИЗИКА
Часть третья
ЭТИКА
Часть четвертая
МЕТАФИЗИКА:
ФИЛОСОФИЯ
НЕГАТИВНОГО
Часть пятая
МЕТАФИЗИКА:
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
ФИЛОСОФИЯ
Райнхард Лаут
ФИЛОСОФИЯ
ДОСТОЕВСКОГО
в систематическом
изложении
Москва
РЕСПУБЛИКА
1996
ББК 87.3
Л28
Reinhard Lauth
DIE PHILOSOPHIE DOSTOJEWSKIS
in systematischer Darstellung
Piper, Munchen, 1950
Перевод с немецкого
И. С. Андреевой
Под редакцией
А, В. Гулыги
Лаут Р.
Л 28 Философия Достоевского в систематическом
изложении / Под ред. А. В. Гулыги; Пер. с нем. И. С.
Андреевой. — М.: Республика, 1996. — 447 с.
ISBN 5—250—02608—7
Книга современного немецкого исследователя, знатока русской
культуры Райнхарда Лаута занимает заметное место среди обширной
литературы о Достоевском. Автор обладает способностью не только
проникнуть в самые корни мировоззренческих взглядов великого писателя, но
и пробудить к ним живейший интеллектуальный интерес. Не со всеми из
его выводов можно согласиться, книга дискуссионна, как и всякое
подлинное исследование. Но она оставляет впечатление основательности
и полноты, пронизана ощущением значительности и актуальности вклада
русского гения в мировую культуру.
Предназначена всем, кто интересуется историей русской философии
и культуры.
л Ш$$Т^2 ББК 8гз + 833 (2) !
079(02)—96
ISBN 5—250—02608—7 © Издательство "Республика", 1996
От редактора
"ТТ OCTOeBCK™ — это Россия. И нет
J I России без Достоевского" (А. Ре-
гл мизов). Вот почему образованный
русский должен знать все о Достоевском: это знание
о самом себе. Не в последнюю очередь нужно знать
философские взгляды Достоевского.
Между тем при огромном обилии литературы о
русском классике у нас нет систематического анализа его
философии. Разве что книга Н. Бердяева, но она, конечно,
не исчерпывает предмета. Исследование Райнхарда Лаута
восполняет серьезный пробел.
Написанная более сорока лет назад (вот почему в ней нет
упоминания о новых работах), книга немецкого философа
не потеряла и сегодня своего значения. Можно не
соглашаться с концепцией автора, но нельзя не признать
значительным проделанный им анализ. Главное в книге Лаута
состоит в том, что Достоевский предстает перед нами как
глубокий религиозный философ, заложивший основы того,
что ныне принято называть русским
философско-религиозным ренессансом, и ряд направлений новейшей западной
философии; Достоевский говорит с нами как пророк,
предвосхитивший многое из того, что свершилось позднее.
Между тем приходится преодолевать три ошибочных
подхода, три предрассудка относительно философских
взглядов Достоевского. Первый предрассудок состоит
в том, что в Достоевском не видят философа. Даже такой
образованный славист, как Михаэль Хагемайстер (Мар-
бург), выражает сомнение, что Достоевский является
"величайшим русским философом" (см. его интервью:
Вопросы философии. 1995. № 11. С. 62). В этом никогда не
сомневался лично знавший писателя Вл. Соловьев. И как-
то неудобно напоминать знатоку русской культуры, чем
обязана мировая мысль Федору Михайловичу
Достоевскому. Центральная позиция отечественного
философствования — русская идея — сформулирована Достоев-
5
ским. А кто глубже и ярче выразил идею сочетания
свободы воли с абсолютным моральным законом, чем это
сделал Достоевский в "Легенде о Великом инквизиторе"?
Конечно, у нашего классика вы не найдете
систематического изложения его философии. Но, может быть,
именно в этом его плюс, а не минус. Близость к "практической
литературе" (Хагемайстер) делает его мысли наглядными
и доступными для восприятия неискушенного читателя.
Прочтите "Записки из подполья", как страстно и
убедительно опровергает Достоевский претензии на истину
позитивистских и механистических доктрин, отрицающих
свободу личности. Философия — это не только то, что
излагается с кафедры, что составляет содержание
специальных трактатов и компендиумов. Не менее важна та
философия, которая воплощена в художественных
образах, которая проникает в сердце, рождает сильные и
глубокие переживания, способна непосредственно повлиять на
поведение. Достоевский был именно таким мыслителем.
Совершенно неприемлем и другой предрассудок
относительно Достоевского: будто его философия
воспевает зло. Сторонниками этого ошибочного взгляда были
такие, казалось бы, авторитетные авторы, как Л. Шестов
и 3. Фрейд.
По мысли Л. Шестова, "подполье" было для
Достоевского "свое собственное, родное" (см.: Шестов Л.
Достоевский и Ницше // Шестов Л. Соч. М., 1995. С. 27).
Еще определеннее высказывался 3. Фрейд в эссе
"Достоевский и отцеубийство" (1928). Он рассматривал
Достоевского как художника, как невротика, как грешника
и как моралиста. Два первых его качества у основателя
психоанализа сомнений не вызывали: Достоевский —
великий художник ("Братья Карамазовы" — самый
великолепный роман, когда-либо написанный"). Фрейд считал
Достоевского не эпилептиком, а невротиком. Что
касается Достоевского как грешника, то он отмечает
существование преступных склонностей в душе писателя,
поскольку тот отдавал предпочтение характерам преступным.
Больше всего, по мнению Фрейда, Достоевский
уязвим как моралист. "Ведь нравствен тот, кто реагирует
уже на внутренне воспринимаемое искушение, не
поддаваясь ему. Кто же попеременно то грешит, то в
раскаянии берет на себя высоконравственные обязательства,
тот обрекает себя на упреки, что он слишком удобно
устроился... Иван Грозный вел себя так же, не иначе;
6
скорее всего, такая сделка с совестью — типично русская
черта. Достаточно бесславен и конечный итог
нравственных борений Достоевского. После самых пылких усилий
примирить запросы индивидуальных влечений с
требованиями человеческого сообщества он вновь возвращается
к подчинению мирским и духовным авторитетам, к
поклонению царю и христианскому Богу, к черствому
русскому национализму... Достоевский упустил
возможность стать учителем и освободителем человечества, он
присоединился к его тюремщикам..." (Фрейд 3. Художник
и фантазирование. М., 1995. С. 285).
Я привел эту тираду, чтобы показать, к какому
источнику восходят многие хулы, расточаемые против
Достоевского. Фрейд, и в этом его заслуга, препарируя
человеческую душу, добрался до некоторых неведомых ранее
глубин природы индивида. Но тьма подсознания, в
которую он окунулся, затмила свет, источаемый нашими
человеческими потенциями. Сознание для Фрейда
—* в лучшем случае рассудочный регулятор человеческого
поведения. Культура, по Фрейду, — только система
запретов, и человеку неуютно (unbehaglich) в культуре, его
как бы заперли в чужой квартире.
Человеку Достоевского радостно в культуре. Здесь он
у себя дома. Культура только начинается с запрета
(наносить вред другому человеку), завершается она
внутренним повелением творить ему благо, любить его. Вторая
часть этой формулы, столь близкая Достоевскому, была
неведома Фрейду. Вот почему он не смог дать
объективной оценки писателю, увидел тюремщика там, где перед
ним стоял освободитель и учитель.
Творчество Достоевского — постоянный диалог добра
и зла, причем спор ведут не равнозначные величины. Здесь
кроется третья ошибка в оценке Достоевского, будто его
творчество—трибуна в равной мере как злого, так и доброго
начал в человеке. Опираются при этом на М. Бахтина, на его
концепцию о "полифоничности" романов Достоевского.
Однако забывают, что М. Бахтин писал в условиях жесткой
цензуры. И для того чтобы сказать доброе слово q
христианстве, он вынужден был уравнять его в правах с проповедью
атеизма. И тем не менее он сумел показать, что при всей
"полифоничности" голос автора нельзя спутать с
разноголосицей его героев—оппонентов, хотя последним
предоставлена возможность высказаться громко и убедительно. Спор
идет только на литературных страницах (в душе автора он
*
7
решен изначально) и всегда завершается в пользу добра.
Автор же добрыми глазами смотрит на мир, испытывая
чувство жалости и сострадания там, где, казалось бы,
место остается лишь одной ненависти.
"В образе идеального человека или в образе Христа
представляется ему, — писал Бахтин о Достоевском,
— разрешение идеологических исканий. Этот образ, или
этот высший голос, должен увенчать мир голосов,
организовать и подчинить его" {Бахтин М. Проблемы поэтики
Достоевского. М., 1972. С. 164). Нет никаких оснований
видеть в Достоевском морального релятивиста. Главное
для Бахтина в Достоевском — не диалог, а поступок.
В "Дневнике писателя" есть выразительная
миниатюра "Мужик Марей". Автобиографический рассказ о том,
как девятилетнему мальчику почудился волк, как он
бросился искать защиту у пашущего крестьянина, как тот
успокоил его. "Конечно, всякий бы ободрил ребенка, но
тут в этой уединенной встрече случилось как бы что-то
совсем другое, и если б я был собственным его сыном, он
не мог бы посмотреть на меня сияющим более светлою
любовью взглядом, а кто его заставлял?" {Достоевский
Ф. М. Поли. собр. соч. Л., 1981. Т. 22. С. 49).
Важен контекст, в котором возникло у писателя это
воспоминание детства. Праздник Пасхи на каторге —
отвратительные сцены пьяного разгула с картежной игрой,
драками, поножовщиной. И вот детское воспоминание
преображает ситуацию. "...Я вдруг почувствовал, что могу
смотреть на этих несчастных совсем другим взглядом и что
вдруг, каким-то чудом, исчезла совсем всякая ненависть
и злоба в сердце моем. Я пошел, вглядываясь в
встречавшиеся лица. Этот обритый и шельмованный мужик, с
клеймами на лице и хмельной, орущий свою пьяную, сиплую
песню, ведь это тоже, может быть, тот же самый Марей:
ведь я же не могу заглянуть в его сердце" (там же).
Еще один контекст существен для понимания мысли
писателя. Рассказ о мужике Марее появился в "Дневнике
писателя" в феврале 1876 года сразу после статьи "О
любви к народу", где Достоевский писал: "В русском
человеке из простонародья нужно уметь отвлекать
красоту его от наносного варварства. Обстоятельствами всей
почти русской истории народ наш до того был предан
разврату и до того был развращаем, соблазняем и
постоянно мучим, что еще удивительно, как он дожил,
сохранив человеческий образ..." (там же. С. 43). Рассказ
8
как бы развивает эту мысль, облекая ее в художественную
форму. Образ у Достоевского сильнее силлогизма. Для
писателя важно не только сформулировать идею, но и
донести до читателя наилучшим образом, заронить ее в душу.
И обратите внимание на концовку рассказа. Свидетелем
отвратительного острожного разгула становится, кроме
автора, поляк. Рассчитывая найти сочувствие у русского
интеллигента, он говорит по-французски: "Ненавижу этих
разбойников!" Но в сердце Достоевского вместо ненависти
сострадание. В том числе и к иноземцу, попавшему на
русскую каторгу: "Несчастный! У него-то уж не могло быть
воспоминаний ни о каких Мареях и никакого другого взгляда
на людей, кроме "Je hais ces brigands!" ["Ненавижу этих
разбойников!"] Нет, эти поляки вынесли тогда более
нашего!" (там же. С. 49—50). Подобное всепонимание, "всеотк-
лик", способность встать на точку зрения другого и пережить
чужую беду как свою Достоевский считал истинно русской
чертой. В этом состоит сердцевина русской идеи. Поэтому
и не прав Фрейд, говорящий о "черством русском
национализме" Достоевского. Фрейд просто не в курсе дела.
Мюнхенский профессор Райнхард Лаут — известный
историк философии, автор книг о Фихте, Шеллинге,
Гегеле, под его редакцией выходит Полное собрание
сочинений Фихте. Что подвигло философа-германиста на труд
о русском писателе? "Я всегда принимал близко к сердцу
судьбу Святой Руси" — вот признание Лаута (письмо
к автору этих строк 16 марта 1993 года). Отсюда любовь
его к Достоевскому. Перу Лаута принадлежит ряд работ
о философии Достоевского, опубликованных в Германии
и в России. В 1989 году Лаут приезжал в Москву и
выступал с докладом "Что говорит нам сегодня Достоевский?"
(Доклад опубликован на немецком и русском языках).
Лаут напомнил слушателям о явлении Богоматери,
которое произошло летом 1917 года в португальской деревне
Фатима. Тогда были предсказаны социальные потрясения
в России, а затем возвращение страны на путь веры, которое
будто бы окажется спасительным для всего мира.
Достоевский с его страстной проповедью человечности указывает
путь изменения духовного мира человека. Самая обширная
часть книги Лаута посвящена положительной философии
Достоевского, где проанализированы мировоззренческие
устои писателя, способствующие осмыслению человеческого
в человеке, помогающие ему занять достойное место в мире,
поверить в судьбу и предназначение России.
*
9
"Философы лишь различным образом объясняли мир,
но дело заключается в том, чтобы изменить его". Этот
знаменитый тезис Маркса, венчающий его размышления
о Фейербахе, который он относил только к социальной
доктрине, было бы правомерным отнести и к
религиозной философии, поставившей своей целью изменить
духовный мир человека. Шеллинг называл такую
философию "позитивной", а точнее (чтобы не путать с
позитивизмом) — положительной, противопоставляя ее
философии "негативной", только истолковывающей мир.
У Достоевского "негативная" философия превращается
в философию "негативного", в осмысление и обличение
злых, бесовских начал в человеке. И это удачно показано
в книге Лаута. Он подчеркивает, что Достоевский ясно
видел и показал, как свобода воли, присущая человеку,
переходит в своеволие и произвол, толкающие его в
пропасти преступления и в бездны нигилизма.
Но самая сильная сторона Достоевского — его
положительная философия, утверждающая идеал. Человек
обладает великой силой любви. Это не природное свойство,
это божественный дар. Любовь выше бытия, она
преобразует бытие. В земной юдоли, в страданиях и бедах
в человеке не угасает стремление к состраданию, к любви,
к радости единения с ближними и со всем сущим.
Прочтите внимательно этот раздел книги Лаута и вы
убедитесь, что в философии Достоевского истина состоит
в добре и любви. Русская философия — философия
любви. Достоевский — главный ее глашатай.
* * *
Перевод публикуемой книги выполнен в 1991—1993
годах. Переводчик и редактор находились в постоянном
контакте с автором, получая от него необходимую
консультацию и согласие на вторжение в текст. В перевод не
включены синхронистические таблицы эпохи
Достоевского, библиография, составленная в середине века, сделан
ряд сокращений. Автор, владеющий русским языком,
знакомился с предварительным вариантом перевода
и одобрил окончательный.
А. Гулыга
Посвящается памяти моего отца
Введение
•
Известный русский философ и поэт
Вячеслав Иванов в своем
выдающемся труде о Достоевском (1932)
писал, что мировоззрение Достоевского в своих
взаимосвязях до сих пор остается нераскрытым. С тех пор были
осуществлены некоторые ценные попытки приблизиться
к*философии, которая лежит в основе поэтических и
публицистических сочинений Достоевского, и обосновать ее
с определенной точки зрения. В этой связи нужно назвать
работы X. Прагера, П. Евдокимова, Э. Тернейзена,Р.
Гвардини, Л. Гроссмана и А. Любака. Им
предшествовали исследования и эссе А. Жида, Д. Мережковского, JL
Шестова, А. Долинина, Н. Бердяева и др.1
Бесчисленное множество статей, в которых обсуждали
отдельные вопросы творчества Достоевского или
пытались дать краткое описание его образа мира,
сопровождались более обширными работами;, возникали биографии
и литературоведческие изыскания; оценки Достоевского
как поэта, психолога и публициста. И все же мы думаем,'
что и сегодня слова'Иванова все еще-сохраняют своё
значение. Всеобъемлющая работа о философском
мировоззрении Достоевского отсутствует и сегодня. Все
.появившиеся до сих пор изложения его философии вычленяют
только частичные проблемы, и к тому же почти все они
написаны с позиций определенного мировоззрения, на
основе которого автор пытается осмыслить Достоевского.
Полагаю, что сущностные черты философии Достоевского
требуют и соответствующего подхода. Об этом
свидетельствует уже прижизненная критика писателя (1846 -^-1881)2.
Шестов и Мережковский в своих трупах сравнивают
Ф. Ницше и Достоевского. Шестов утверждал, что можно
установить далеко идущее сходство их умений. Исходя из
романа "Преступление и наказание", он пытался найти
ключ к остальным сочинениям писателя. Он защищал
тезис, что Достоевский скрывал свое "истинное" мнение
в определенных (нигилистических) героях своих романов
и из предельного страха перед религией и собственной
совестью выражал противоречащие его глубинным
порывам убеждения. Шестов полагал себя в состоянии
доказать, что "добрые" люди в произведениях
Достоевского выглядят слишком байально. Из этого он делал
вывод, что Достоевский в своих глубинах тяготеет
к "дурным", но, страшась последствий, он обрекал их на
крушение. Достоевский, как считал Шестов, придавал
определенную ценность этим своим идеям, но лишь на
миг, поскольку тут же их и отвергал3. На основе этой
теории возник целый ряд попыток (прежде всего во
Франции) изобразить Достоевского как (скажем без обиняков)
лицемера и нигилиста, выступающего против авторитета
государства и церкви под маской уничижения. С тех пор
прошло несколько десятилетий, и ныне опубликована
большая часть фрагментов и заметок писателя. Сегодня
можно доказать, что Шестов и его сторонники толковали
Достоевского ошибочно. Их ввела в заблуждение
беспрецедентная искренность Достоевского; они приняли его
откровенное признание в собственных сомнениях и
разрушительных импульсах за его действительную позицию,
ловко прикрытую "положительными" идеями. И
рассуждение о банальности добра — не говоря о том, что этого
нет вообще, — не выдерживает критики. "Рай труднее
описывать, чем преисподнюю; но это не доказывает, что
автор такого описания больше верит в преисподнюю, чем
в небеса", — утверждал А. Любак в работе "Драма
атеистического гуманизма", имея в виду Данте4. Это
возражение можно адресовать и Шестову.
В 1923 г. появился труд русского философа Н. А.
Бердяева, идейного ученика Достоевского,
"Миросозерцание Достоевского", представляющий собой подробное
и значительное изложение философии писателя. Бердяев
подходит к Достоевскому с позиций, отмеченных
влиянием Я. Бёме и Вл. Соловьева, интерпретируя творчество
писателя в этом смысле. Многозначительно замечание
Бердяева о том, что философская мысль Достоевского,
если бы он до конца продумал свое мировоззрение,
слилась бы с учением Я. Бёме о бездне. Бердяев делает
далеко идущие выводы о тождественности философских
12
Убеждений Достоевского со взглядами героя "Братьев
Карамазовых" — Ивана Карамазова. Он считает, что
понятие свободы у Ивана, которое как будто совпадает
с его собственным мнением, является основополагающим
и для Достоевского. Но он не замечает, что Достоевский
сам устами другого героя из этого же романа — Алеши
Карамазова (безусловно, любимой фигуры писателя)
— дистанцируется от такого понятия свободы: "И кто
тебе поверит о свободе? Так ли, так ли надо ее
понимать!"5
В 1932 г. вышло глубокое исследование
мировоззрения Достоевского Вяч. Иванова, в котором речь шла
о "Трагедии—мифе—мистике". Эта работа является
лучшим толкованием мифа в творчестве Достоевского из
того, что до сих пор об этом написано. Лишь одно
опасение должны мы высказать: в своем истолковании
Иванов часто переходит пределы того, что действительно
сказано Достоевским и что в его творчестве едва ли
уловимо. Но именно в этом, с другой стороны,
заключается особая ценность его работы, ибо Иванов
замечательно освещает образы Достоевского, исходя из мифов
и трагедий античного мира и русского фольклора. В
последней части исследования, где речь идет о мистике
Достоевского, автор, насколько мне известно, перешедший
в католицизм, обнаруживает сильное влияние высокой
схоластики.
Исходя из этих предпосылок, я вижу свою задачу
в том, чтобы показать философское мировоззрение
Достоевского в его внутренних взаимосвязях, а не в его
отношении к русской и европейской философии того
времени. При этом я сознательно не исхожу из моего
собственного мировоззренческого базиса. Само собой
разумеется, эта работа трактует только философию, а не
поэтику Достоевского. Исследование поэтических сторон
его творчества потребовало бы выхода за поставленные
здесь рамки. Если Любак в своей книге, говоря о
Достоевском-пророке, писал, что не может прийти в голову
идея выдать Достоевского за профессора и пойти в его
школу, чтобы освоить и принять его учение, то здесь как
раз предпринята попытка в соответствии с установкой
Иванова выявить философское содержание произведений
Достоевского в его взаимосвязях и кристаллизовать его,
насколько это возможно, в учение. Ибо Достоевский был
не только писателем, но и философом. Имели ли мы
13
/
право сделать такой шаг, об этом можно будет судить
после прочтения данной работы. Во всяком случае автор
пребывает в убеждении, что Достоевский является
философом, соглашаясь с позицией Вл. Соловьева, Бердяева,
Клоделя, Жида и других, считавших его своим учителем
философии. После завершения моей работы мне в руки
попала статья Томаса Манна "Достоевский — но в
меру", написанная как предисловие к американскому
изданию избранных романов и повестей Достоевского6.
Мне хотелось бы в этой связи сказать несколько слов.
Это сочинение, на мой взгляд, характерно для
современной стадии изучения Достоевского в кругах тех, кто
знакомился с его главными трудами,' почитывая их, и для
кого он в духовном развитии мало что значит. В
указанной статье имеется ряд биографических и
литературоведческих неточностей, на которые в конце концов можно
и не обращать внимания. В качестве положительного
момента можно отметить, что Манн, учитывая
результаты исследований, делает вывод, что знаменитая
исповедь Достоевского Тургеневу не могла быть искренней.
Далее, мне представляется достойным внимания, что
Манн, хотя и рассматривает Достоевского в традиции
Фрейда, Суареса и т.^д. с точки зрения двух категорий
— преступления и болезни, все же считает сомнительной
по крайней мере одну из них. Он приходит к выводу, что
эпилептик Достоевский едва ли не принужден
рассматривать болезнь как результат избыточной' силы, как взры-
воподобное проявление "великого здоровья". Тем более
удивительно, что Манн, несмотря на это, исходит не из
того, чтобы увидеть* в Достоевском обличителя больной
совести, которая овладевает человеком вследствие
преступных побуждений и болезненных чувств. Правда,
половину преступления Манн обозначает как "преступную
, пытливость познания"; в этом случае понятие преступле-.
ния употребляется в переносном смысле. Другая
половина'^коренится в "Мистических неистовствах" эпилепсии,
котбрая гнездится, в половой сфере.,Странным образом
Манн не замечает, что Достоевский* сам полностью
осознавал полученный им благодаря эпилепсии комплекс ви-.
- ны. •. Автор не может избавиться от впечатления, • что
Мани усматриваем болезненность Достоевского в его .-
христианстве, хотя он и не отваживается из каких-то
причин выразить ясно это с^ое убеждение. Об этом
свидетельствуют выражения вроде "религиозный и боль-
У:7* "."••■".'■" -":v'. 14 \; •".■\ - • •■"" '.'
(
кой", "христианское самоистязание", "мистическая
необузданность". В одном месте Т. Манн говорит об
"упадочнической болтовне" некоторых религиозных
персонажей в больших романах Достоевского. А дальше
Достоевский снова сближается с Ницше, рассматривается как
Ницше наизнанку и противопоставляется Гёте и
Толстому. Так Достоевского не понять! Нужно действительно не
только признать, но и понять "великое здоровье"
Достоевского, его нравственное здоровье. Это означает, что
нужно рассматривать его негативную психологию и
философию с более высоких позиций его положительной
философии и социологии.
Автор поставил перед собой цель изложить в этой
работе философию Достоевского в ее систематических
взаимосвязях, не обращаясь специально к политической
идеологии, но оставив за собой право обратить особое
внимание на его отношение к русской и европейской духов-
ной истории того времени. В дальнейшем мы не будем
останавливаться на том, как складывались отдельные
идеи Достоевского в идеологических столкновениях
с крупными направлениями XIX в. (например,
славянофилов, социализма и др.); мы исследуем вековечное,
всеобщее здание его философии. Оправдание такому
начинанию автор надеется найти в том обстоятельстве, что
в центре мира идей Достоевского находилась не истори-
ко-политическая, а антропологическая, этическая и
религиозная мысль. Уже поэтому автор не занимается
анализом политико-идеологических направлений России XIX в.
Подходя к Достоевскому только с этих позиций, никак
нельзя осмыслить и дать оценку всей его философии.
Даже если иногда удается вторгнуться в область
метафизики, не покидая при этом области идеологии, никто не
в состоянии соответствующим образом понять его
вековечную всеобщую философию, особенно тогда, когда
каждая отдельная попытка такого рода увязывается
непосредственно с полемикой против Достоевского. И если
когда-нибудь русский вопрос будет решен и станет
неактуальным, Достоевский (так же как и Пушкин) все еще
будет говорить человечеству нечто существенное. Эта его
сущностная неизбывная философия и станет предметом
нашего исследования.
Отношение /
Достоевского
к философии.
Метод
Можно ли говорить о Достоевском
как философе? К этому вопросу,
поставленному во введении, мы
и должны в первую очередь обратиться. На первый
взгляд может показаться, что в Достоевском мы имеем
дело только с художником и публицистом, а не с
философом-мыслителем. Лишь в некоторых его произведениях
преобладает философское содержание, чисто же
философских сочинений нет вообще. И, напротив, у него
огромное количество романов, повестей, рассказов и
множество публицистических статей, насыщенных
литературно-критическим и политическим содержанием. С другой
стороны, нужно с самого начала учитывать и тот факт,
что Достоевский вместе с Л. Толстым (ас моей точки
зрения, и до Толстого) стоял во главе значительнейшего
в философском плане литературного периода. В этом
движении представлены такие мыслители, как В.
Белинский, А. Герцен, Л. Толстой, И. Тургенев и Н.
Чернышевский. Если попытаться взглянуть на аналогичный период
классической литературы в Германии, то мы прежде
всего должны подумать о значении для философии
творчества Гёте. Может быть, удастся показать в мышлении
Достоевского аналогичное сочетание важнейших линий
современных ему философских теорий.
Как только мы всмотримся поближе, картина
меняется. Каков характер художественных творений
Достоевского? Чем отличаются они от произведений других
писателей, его современников? Если рассматривать его
художественное творчество в целом, то у него можно найти
два новых типа романа — психологический и
философский. Тип психологического романа развивается
Достоевским в первой половине его творческой деятельности из
общего для него, так же как для Тургенева, Григоровича
и Некрасова, жанра "физиологического очерка". Эта
характерная форма натуральной школы 40-х гг. имела це-
16
лью возможно более близкое действительности
отражение лиц и событий повседневной жизни. Психологический
роман Достоевского отличается от нее более глубоким
изображением внутренних переживаний, душевных
волнений и движений. После сибирского заточения
Достоевский развивает философский роман. Тем самым в
литературе своего времени и своей страны он стал основателем
совершенно нового жанра. Импульсы для развития этого
типа литературы он мог, помимо прочего, получить и от
Тургенева. Роман последнего "Отцы и дети" взволновал
в 1862 г. общественное мнение, открыв существование
в России нового мировоззренческого направления —
нигилизма (понятие принадлежит Надеждину). И все же,
несмотря на это, роман "Отцы и дети" нельзя
рассматривать как философский. Ибо это произведение было
создано Тургеневым с совершенно иным замыслом, чем
полагало возбужденное общественное мнение после его
появления. Тургенева упрекали в том, что он
"отклоняется от идеи" или "проводит новую идею". Критики
радикально-прогрессивной группы видели в его романе
"памфлет", поскольку в образе главного героя Базарова была
оскорблена революционная молодежь. Тургенев
защищался против этого обвинения, с полным основанием
доказывая, что он собирался лишь точно воспроизвести
реальность, быть ближе к жизни; и в самом деле, он
написал свое произведение исключительно как художник.
Совсем иначе обстоит дело с философскими
романами Достоевского. Все они вращаются вокруг
философских теорий, которые представлены и живут в одном или
нескольких персонажах. Носители философской идеи
стараются последовательно эту свою идею продумать
и в соответствии с результатами строить свою жизнь
и свое поведение. И сама их жизнь показывает, куда она
может завести, и художник прослеживает при этом
взаимодействие идей, целей и поведения в их столкновениях.
Именно в этом состоит сущность жизненной философии,
последовательно осуществленной в его творчестве,
подчинившей себе художника.
Правомерен вопрос, почему Достоевский не писал
чисто философских произведений, если его так сильно
занимала философия? Почему вступил он на окольный
путь романа? И в самом деле, как сообщает О. Миллер,
в 1859 г. Достоевский вынашивал замысел написать
философскую работу1. Хотя этот замысел не осуществился,
17
он, как мы увидим дальше, от этой идеи не отказался,
вернувшись к ней снова в 1864 г. и осуществив ее в
преобразованном виде в монологе повести "Записки из
подполья" (главы седьмая — десятая первой части). Нам
важно отметить, что он здесь, во всяком случае, включил
в повесть философское рассуждение. Вернее, он написал
повесть, в которой внутренние его побуждения привели
к философскому повествованию; он создал философский
рассказ. Так поступал он во всем своем позднейшем
творчестве. Мы находим в его последующих
произведениях много философских размышлений, частично
разрозненных, частично тесно взаимосвязанных.
Его важнейшие произведения — "Записки из
подполья", романы "Бесы", "Идиот", "Братья Карамазовы",
черновые наброски к этим романам, "Сон смешного
человека", много статей, заметок и писем, а также
огромное количество статей в "Дневнике писателя" дают
богатый материал для анализа философии Достоевского. Он
обсуждал здесь важнейшие философские проблемы
о смысле жизни, о смерти и бессмертии, о возможности
познания недоступного для восприятия бытия, об идеале
и возможностях его практического осуществления, о
значении религии и нравственности, об этических
последствиях атеизма и нигилизма, о путях к посюстороннему
счастью и т. д. Огромное значение имели для него
проблемы свободы, в том числе свободы воли, воли к власти,
этического волюнтаризма и ответственности. Следует
указать на его положительную философию (в набросках
к роману "Братья Карамазовы"), на его размышления
о народе, о влиянии идей в истории, о просвещении,
о влиянии на преступника условий его жизни и т. д.
Его пространные рассуждения, философские
высказывания и великое множество разрозненных философских
идей, входящих в целостную структуру его произведений,
позволяют, при условии внимательного их анализа,
создать полнокровную картину философии великого
русского писателя. Но вернемся снова к вопросу о том,
почему Достоевский не осуществил намерения изложить
свою философию в чисто теоретической форме? Почему
все философские теории в своих романах он связал с
поведением персонажей? Многие из его критиков
высказывали мнение, что Достоевский, как и все русские, был
неспособен к философскому мышлению. Он якобы не
был в состоянии ясно и систематически выразить свои
18
мысли. Они могли бы обратиться к высказыванию
самого Достоевского в письме к Страхову (28 мая 1870),
которому он писал: "Шваховат я в философии (но не
в любви к ней; в любви кг ней я силен)"2. И все же
остережемся брать слова Достоевского на веру.
Высказанное мной мнение подтверждается в период полного
его жизненного развития. Да к тому же ведь и видели
в нем вовсе не такого уж талантливого художника!
Что может означать мнение, что Достоевский
находится вне философии? Такое утверждение можно
выдвинуть только в том случае, если будет доказано, что
Достоевский не имел никакой философской выучки, что
он не развивал никаких философских идей, что он не
владел оригинальным миросозерцанием, что его
теоретические высказывания туманны, неточны и
противоречивы, что он в конце концов не имел никакой системы или
перенял эту систему у других и что в методическом плане
его идеи не были продуманны.
Как обстоит дело с правильностью этих утверждений?
Исследуем их одно за другим, чтобы раскрыть их
обоснованность. .,•.-.*
1) Достоевский не изучал философию в школе или
в университете. Разумеетдя, сразу же нуяою^ сказать,
что в тогдашней России - это • было почти невозможно
или малопродуктивно. Философия во времена царя
Николая I по большей части читалась богословами, а с 1849
г. изучалась психология и логика. Кто хотел серьезно,
обучаться философии, мог осуществить это только путем
самообразования. Правда, в Москве имелся философский
кружок, в котором приватно изучали философию, но
Достоевский, как только вышел из детства, жил в
Петербурге. И все же подобней пробел рано был заполнен.
Ъ 1845 г. Достоевский познакомился с Белинским, с
которым в течение года был связан тесной дружбой. Именно
последним, по собственному признанию писателя, он был
введен в философию. После сибирской каторги близкая
литературная дружба соединила Достоевского и Н.
Страхова, с которым он часто *и подолгу обсуждал
философские проблемы.. "Разговоры наши были бесконечны* и это .
были лучшие разговоры, какие мне достались на долю
в жизни, — писал Страхов. — Oi£ (Достоевский) говорил
тем простым, живым, беспритязательным языком,
который составляет прелесть русских разговоров!и.В 70*е'гг.
эти отношения стали прохладными. Но;возникла новая
19.-
дружба — между Вл. Соловьевым и Достоевским,
которая продолжалась вплоть до смерти последнего
(1873 —1881). И с Соловьевым шли бесконечные
разговоры, в которых Достоевский мог получать от него
философские знания.
2) Достоевскому принадлежит большое число новых
и оригинальных идей, о которых мы будем говорить
подробно в нашей работе. Когда П. Д. Боборыкин еще
при жизни Достоевского утверждал, что у него нет
никакого мировоззрения, и спрашивал: "Какое воззрение
имеет автор "Подростка"?"4, на это трудно ответить. Ведь
такие вопросы применительно к отдельным
произведениям Достоевского и его методу, преподносящим
собственные идеи автора в несвязном виде, понять можно. Но
нужно также считаться с тем, что на эти трудные вопросы
можно ответить: да, Достоевский имел свое собственное
оригинальное мировоззрение!
3) С той же стороны Достоевского упрекали за его
"туманный мистический идеализм". С нескрываемой
злобой говорили, что его тексты полны противоречий.
Конечно, противоречий в его огромном творчестве можно
найти достаточно, в частности если цепляться за букву.
Особенно в публицистических статьях иногда неприятно
коробит нечеткость и расплывчатость некоторых
оборотов. Но как только начинаешь изучать Достоевского, эти
противоречия быстро исчезают, поскольку легко
обнажаются обстоятельства, под воздействие которых
подпадают такого рода суждения. И уже удивляешься необычной
логической взаимосвязи его идей. Впрочем, в известном
смысле Достоевскому это не составляло особого труда.
Он умел разделять разноречивые и противоречивые идеи
между отдельными персонажами своих произведений и,
соответственно, через них передавать целостную картину
мира. Кроме того, использование заметок, писем и
публицистических статей дает возможность разобраться
в том, какую роль в его собственном мировоззрении
играют различного рода системы и идеи. Безусловно,
Достоевского следует рассматривать как зачинателя
различных мировоззренческих структур. К обоснованию
такого подхода мы еще вернемся.
4) Что касается утверждений о его бессистемности
и вообще об отсутствии у него философской позиции,
необходимо сначала установить, что означает для него
философия в первой половине его жизни. Достоевский
20
высказывал открытое недоверие к философской системе
как таковой. Обсуждая философию Бокля, он однажды
заметил (вложив эту мысль в уста своего персонажа):
"...до того человек пристрастен к системе и отвлеченному
выводу, что готов умышленно исказить правду, готов
видом не видать и слыхом не слыхать, только чтоб
оправдать свою логику"5. Может быть, он думал при
этом об искажении исторических фактов, на основе чего
могли бы построить свои системы, к примеру, О. Конт
или К. Маркс. Достоевский стремился прежде всего к
тому, чтобы выразить свои психологические и философские
познания, не меняя их в угоду авторитетной системы.
Некоторые критики сводили к влиянию Вл. Соловьева
систематику идей, которые Достоевский развивал в
последние годы жизни и которые получили особое
отражение в черновиках к роману "Братья Карамазовы". Я,
однако, сильно сомневаюсь в правомерности этого
взгляда. Уже "Записки из подполья" показывают
выдающуюся способность Достоевского к систематическому
мышлению.
Философские интересы Достоевского не были
первичными. Он был занят прежде всего человеческой психикой,
собственный опыт и его осмысление привели его к
философии. Страхов оставил прекрасное свидетельство о
способности Достоевского схватывать философские идеи:
"Но самое главное, что меня пленяло и даже поражало
в нем, был его необыкновенный ум, быстрота, с которою
он схватывал всякую мысль, по одному слову и намеку"6.
И даже критики добролюбовской школы, выступавшие
как недоброжелательные и пошлые противники
Достоевского, в конце концов были принуждены относиться к
нему со всей серьезностью. Ему отвечали, иногда, правда,
с иронией и даже с сарказмом, но в то же время с ним
всегда говорили как с серьезным идеологом, которого ни
в коем случае нельзя обойти молчанием7.
Вопрос о степени зависимости Достоевского от
других философов и от восприятия их идей найдет в ходе
данного исследования свою трактовку. Здесь следует
указать лишь еще на одно возражение, которое выдвигает Р.
Гвардини против манеры Достоевского спорить со
своими противниками: Достоевский был недостаточно
сильным, чтобы чувствовать себя наравне с противниками.
Поэтому он превращал их в объект презрения. Это верно
в той мере, в какой Достоевский в своих публицистичес-
21
ких статьях иногда оглупляет своих противников. Но это,
однако, относится не ко всем его статьям. По
сообщениям многих современников, которые лично его хорошо
знали и даже дружили с ним, Достоевский был в высшей
степени свободен от ненависти. "О ком бы и о чем он ни
говорил, вы чувствуете, что для него дело стоит выше
личностей", — говорит один из критиков "Молвы" (1876)
как раз по поводу его публицистических статей8. Критика
западничества в его пушкинской речи свидетельствует
о том, с каким глубоким пониманием относился
Достоевский к своим противникам. Он правильно ухватывал их
конечные цели, их идеи он понимал точно во всей их
глубине; иначе было бы вообще невозможно объяснить
огромное воодушевление западников. Такие противники
совсем не. чувствовали себя ни облитыми презрением, ни
оболваненными. Решительное неприятие выказывал
Достоевский лид1ъ относительно двух противников —
политических социалистов и римских католиков. Основания
такой позиции мы еще рассмотрим далее. Причина порой
одностороннего отношения к иной позиции лежит у
Достоевского-в следующем: он всегда- стремился* понять
главную идею и затем выявить бесспорно вытекающие из
нее следствия. Само собой разумеется, среди его противг
ников были люди с выдающимся характером.
Достоевский умел их ценить; так было, например, в случае с
Белинским. Он. был, однако, убежден, что нравственное
величие Белинского оказалось возможным только из-за
его идеологической непоследовательности. Или пример
Чернышевского, который в своих общественных идеях *
отстаивал принцип "топора", *но в личной жизни и по
своему характеру был добропорядочным человеком.
Если бы Чернышевский действовал в соответствии со сво-
. ими принципами, он должен бы был .стать палачом
и убийцей. Строгий детерминист не может одновременно
.почитать и этические нормы, что зачастую и происходит.
Был ли Достоевский прав, когда он^хртел, чтобы
последовательные приверженцы той или иной идеи извлекали
из нее все как теоретические, так и практические
следствия? Как и почему обманывался Достоевский, в своем
отношении к католической церкви — вопрос иной,
которого мы здесь касаться не будем.
Отношение Достоевского к действительности бпре-
♦ дел ял ось главным образом его интересом к психологии.
Его основное стремление состояло в том, чтобы ис-
-22
следовать сущность души, выявить ее различные
способности, схватить ее внутренние движения и проникнуть
в ее глубинную соотнесенность с жизнью, свободой,
Богом и т. д.
Вследствие этого он концентрировал свой главный
интерес на внутреннем опыте. Физический мир,
насколько можно судить по его произведениям и письмам, его
вообще не привлекал, хотя он, прежде чем обратиться
к литературе, и был по профессии инженер. И когда он
изображал внешние реалии, он всегда это связывал с
вопросом о том, в какой мере они являются выражением
душевных состояний. При этом такое выражение только
тогда становится понятным, когда речь идет о чужом
человеческом психическом бытии. Нечеловеческие живые
организмы мы все еще не можем понять. Наука знает,
что любые живые существа имеют собственные
восприятия действительности и отношение к ней. Однако
сущность их жизни, внутренний мир этих живых существ
наука охватить не может. Поэтому для раскрытия
душевно чуждого бытия не остается ничего другого, как
отворить его посредством аналогии себя с другим. "Всякий
не может судить как по себе"9.
В этой связи Достоевский упрекал естествознание
своего времени за то, что оно видит только подверженное
чувствам и обнаруживается лишь в чувственном;
следовательно, оно схватывает только малую долю целостной
действительности. Наука игнорирует, а некоторые ее
представители подчас даже с ненавистью отвергают мир
духовный, высшую половину существа человеческого.
Наука не должна проходить и мимо религиозных
проявлений и считать ниже своего достоинства изучение роли
религии для человека и человечества. Вера в связь с
мирами иными, которая покоится на опыте, является, как
показывает история, непреодолимым человеческим
убеждением, которое нельзя просто отбросить.
Таким образом, взор Достоевского направлен
исключительно на духовное бытие. Внешний мир и природа
толкуются им с точки зрения духовности. Следователь-
но,он всюду сознательно нисходит к внешнему
человеческому окружению.
Свое собственное духовное направление Достоевский
обозначает как реализм. Со времени Белинского реализм
считался ведущим направлением русской литературы.
Сам Белинский сначала благодаря влиянию Шеллинга
23
принимал идеалистическое понимание искусства, но
затем он изменил свои взгляды под впечатлением, которое
произвели на него произведения Гоголя. Он открыл у
него реализм, хотя этот последний выражал лишь одну
сторону гоголевского метода. Белинский считал
сущностью реализма изображение не отдельного и случайного,
но всеобщего и необходимого, отражение внешнего мира,
как он есть, и бесстрашное описание действительности
даже там, где она предстает отталкивающей и
безобразной, а люди незначительными и убогими. Так возникла
реалистическая натуральная школа, к которой
примыкали И. Тургенев, А. Герцен, И. Гончаров, Н. Некрасов
и многие другие. Долгое время весьма ценился
"физиологический'9 очерк, в котором изображаемые персонажи
должны как можно ближе соответствовать своим
реальным прототипам. Многие явления действительности,
правдиво перенесенные на бумагу, получают все
признаки художественного опыта, писал Белинский. Особенно
он заботился об изображении простого человека. Таким
образом, натуральная школа начала изображать
повседневное и убогое, незначительное и низкое, т. е. то, что
игнорировали или приукрашивали. Все ведущие критики
после Белинского — Добролюбов, Чернышевский,
Писарев — также придерживались реалистического,
натурального направления. Достоевский лишь внешне
примыкал к нему. Уже в первых его произведениях начинает
четко проявляться своеобразие. Ибо взгляд Достоевского
обращен не к внешней, а к внутренней стороне
действительности; его интересует как раз отдельный,
индивидуальный, единственный в своем роде человек.
Изображение лишь "бедных людей", "униженных и
оскорбленных" согласуется с требованиями натуральной школы.
Критика до последних лет его жизни недооценивала его
устремления и упрекала его за отсутствие того, от чего он
как раз умышленно отказывался.
Критическое отношение Достоевского к натуральной
школе было прежде всего направлено на две вещи. Во-
первых, на тот факт, что "натуралисты" имеют в виду
лишь одну, к тому же не самую значительную, часть
действительности, которую они затем принимают за
целое; во-вторых, на неуклонно повторяемую тенденцию
внести в действительность теоретические убеждения.
Чтобы сделать правду правдоподобной, они
примешивают к ней некоторую толику лжи; они упрощают ее и тем
24
самым постоянно извращают до неправдоподобия саму
действительность10.
Большинство людей, в том числе художники и ученые,
живут с твердыми убеждениями и мыслями, которые они
воспринимают от других или формируют сами на основе
"чугунных" идей, позволяющих им рассматривать только
упрощенную и извращенную природу, имеющую скудные
и грубые черты. Большая часть такого рода
предрассудков порождена полунаукой, псевдонаукой и даже
подлинной наукой.
Достоевский не мог сочувствовать такой
"фотографической" односторонности или "научному" произволу. Он
стал поэтому отличать свое собственное направление от
реализма натуральной школы, называя себя более
глубоким "реалистом", реалистом в более высоком смысле.
Глубокий реализм отличается от "натурального" своей
попыткой увидеть целостную духовную
действительность, а не только проявляющую себя вовне ее часть, т.
е. душевную жизнь во всей ее сложности и
противоречивости. Он занимал вместе с тем промежуточное
положение между существовавшим до того "слепым" реализмом
и фантастическим изображением действительности.
"Слепой" реализм, считал Достоевский, более опасен, чем
самая немыслимая фантазия, поскольку он дает лишь
частичное и упрощенное изображение действительности.
С другой стороны, фантастическое изображение
действительности видит ее такой, какой ее на самом деле
нет. Это изображение, подчас на основе некоего идеала,
создает иллюзию ее, которая не связана с объективным
миром. Увлечение идеалом заменяет в конечном счете
саму жизнь и позволяет себе просто не замечать вещей,
которые ему противоречат.
Понятно, что "слепому" реализму глубокий реализм
должен казаться фантазией, ибо последний видит то, что
первый не видит, либо не способен увидеть, или не желает
видеть. "Ихним реализмом — сотой доли реальных
действительно случившихся фактов не объяснишь" (Письмо
Майкову 11 декабря 1868)11. Неудивительно, что критики
— реалисты натуральной школы упрекали Достоевского
в том, что он дает слишком фантастическое изображение
действительности.
Внутренняя действительность является всегда в
высшей степени сложной, так что ее внешние проявления
часто выступают как фантастические. На основе ложных
25
предвзятых понятий происходящее часто кажется нам
невероятным и невозможным. Если взять изображение
душевных порывов, чувств и т. д., как они есть, и
правдоподобно описать только их проявление, близкое к
истине, большинству людей эта истина покажется и
невероятной, и невозможной. Достоевский рассказывает
в "Идиоте" историю человека, который убил своего
друга, чтобы присвоить его дешевые, но броские часы,
непосредственно перед тем он молился за спиной своего друга
о прощении за этот свой поступок. Эта история имела
место в жизни. О ней сообщалось в газетах. Если бы
художник ее придумал, критика осыпала бы его упреками
и объяснила бы, что такого события на самом деле быть
не может. В него поверили только после сообщения
прессы. В той мере, в какой внешняя жизнь выражает
внутреннюю, она в той же степени запутывается и
усложняется, так что нередко становится выше всякого понимания.
Итак, глубокий реализм обращен к комплексному
постижению внутренней жизни человека. Решая
поставленную перед собой задачу, Достоевский не только
освещал истоки жизненных переживаний, волевых решений
и бессознательных импульсов, но и прослеживал, как
формируется человеческое поведение.
Примером глубокого и мощного проникновения в душу
человека был для Достоевского реализм Л. Толстого.
В противоположность "слепым" реалистам, подобным А.
Островскому и др., Толстой всесторонне постигал
действительность души и времени. Но метод Толстого отличался
тем, что он уделял особое внимание взаимодействию
телесных и душевных состояний, в то время как
Достоевский почти полностью был обращен к чисто душевным
состояниям. "Порассказать толково то, что мы все, русские,
пережили в последние 10 лет в нашем духовном развитии,
— да разве не закричат реалисты, что это фантазия!"
— писал Достоевский Майкову 11 декабря 1868 г.12
Фактически этот крик был поднят в "Современнике" еще в 1866 г.
со ссылкой на Белинского. Но задача глубокого реалиста
как раз и состоит в том, чтобы возможно точнее выявить
и описать эту прямо-таки невероятную и
неправдоподобную действительность, которая одна только и существует.
Душа при этом не должна расчленяться на мозаику чувств,
раздражений, влечений и т. д., как это делали в XX в. М.
Пруст и сюрреалисты; в ее исследовании указывается путь,
как при полном реализме "найти в человеке человека"13.
26
Поскольку Достоевский исходит из опыта, его метод
можно назвать индуктивным. Все его внимание
направлено на душу и происходящие в ней процессы. Проблема
духа и тела, соотношение психологических и
физиологических моментов его почти не интересовали. Если он
затрагивал взаимосвязь духовных и телесных
компонентов, то импульсы, идущие от души, для него всегда
важнее, чем наоборот. Особое внимание Достоевский
уделял воздействию на поведение человека его
переживаний и идей. Эту исключительную способность его
признавала уже современная ему критика. Симптомы душевных
заболеваний он передавал с удивительной точностью,
превосходящей науку того времени. "Когда он писал свои
романы, характер эпилепсии не был столь хорошо
изучен, как сегодня; писатель шел впереди науки", — писал
о нем С. Перский14. Достоевский точнейшим образом
следовал за своими наблюдениями и очень тонко
сознавал границы своего опыта. Он никогда не позволял себе
переступать свидетельства опыта ради подкрепления
художественной достоверности. Он решительно отклонял
спиритизм и астрологию, а факты, подкрепленные его
собственным внутренним опытом, он анализировал с
осторожностью и точностью.
Целью индукции у Достоевского является раскрытие
"сокровенной сущности психики и ее освещение светом
внутренней правды самого писателя"15. Представляя
перед читателем внутреннюю целостную душевную жизнь,
он тем самым отличался от писателей своего времени.
Соловьев отмечал великую силу таланта Достоевского
в его способности схватывать едва уловимые, но
неоспоримо существующие явления внутреннего мира.
Впечатление, которое сплошь и рядом производят его
рассказы на многих из читателей, он сравнивал с
тяжелым сном, с болезненной грезой16. Это замечание
Соловьева указывает на бессознательное, в которое проникает
Достоевский (оно обнаруживается именно в снах),
изображая развитие характера, проявление сущности и
способностей души. Далее мы рассмотрим эту проблему
более подробно (в части первой — "Психология").
Знания Достоевского были приобретены прежде всего
путем самонаблюдения. Его объединяет с С. Кьеркего-
ром то, что оба они искали истину в индивидуальном,
в отдельном существе, и оба наиболее существенные
философские и психологические познания обретали в само-
27 ,
наблюдении. Достоевскому удалось охватить движения
души на грани бессознательного и, исходя из него,
наблюдать возникновение представлений, влечений и т. д.
Именно здесь коренится возможность пережить и
изобразить рождение мифа из доличностного бессознательного
(см. далее главу из книги "Сон"). Ему были известны
различные сферы бессознательного, он переживал
противоречивые импульсы человеческой души так, что сумел
выявить ее каждый отдельный голос. Такого опыта
нельзя достичь на основе одной только
абстрактно-философской мысли.
Значение образов Достоевского состоит в том, что
персонажи его романов часто суть не что иное, как
овнешненные образы различных душевных способностей,
стремлений и волений. Это имеет особое значение для
двух великих романов, мифологических по своему
характеру, — "Идиот" и "Бесы". Все образы последнего
являются душевными персонифицированными
проявлениями одного существа — Ставрогина. На такой основе
покоятся и отношения героев в "Идиоте" и
"Преступлении и наказании". И. В. Павлов писал в 1880 г.,
что характеры Достоевского передают "внутреннюю
истину" не представлением целостного образа, а его
отдельных черт17. На самом деле следовало бы сказать:
отдельные задатки, цели, тенденции души превращаются
художником в ядро целостного, созданного им образа.
Души всех персонажей романа соприкасаются друг с
другом как побуждения и центры одной души. Когда тот
же Павлов говорит об "отвлечениях" и "аллегориях"
у Достоевского, он снова же уходит от истины. Ибо
ни в коем случае речь не идет о произвольном
вмешательстве рассудка, обнаруживающего реальный центр
души, ее способности и направленность, абстрактно
понятые и затем персонифицированные, как это имело
место в средневековых мистериях (против последнего
я, вместе с Павловым, не возражаю); напротив, речь
идет о творчестве художественной способности
воображения, о которой в дальнейшем мы будем говорить.
Гвардини это правильно понял, когда отмечал: "Этот
художник как бы открыл лоно самой реальности, выводя
образ за образом. Быть может, самая загадочная его
способность состояла в том, что ему удавалось
представить в человеческом бытии внечеловеческое,
нечеловеческое, внешне- или сверхчеловеческое существование,
28
причем выраженное не фантастически, как это делали
многие романтики, а в образе человека, который стоит
здесь, который создан как действительно данный
индивид, который живет, действует, у которого своя
судьба"18.
Достоевский мог исходить только из индивида,
поскольку он считал, что в описание процесса душевной
жизни можно проникнуть лишь посредством
индивидуального опыта. Для него речь шла не о том, чтобы дать
художественные типы, как это делал Гоголь и вся
натуральная школа. Его Раскольниковы, Ставрогины, Мыш-
кины и т. д. не образуют никаких типов, подобных
вошедшим в поговорку Маниловым, Ноздревым,
Плюшкиным, Коробочке, ибо Достоевский стремился выразить не
внешний, а внутренний мир. Люди в нормальном
состоянии всегда действуют, контролируя свои порывы
разумом и осознанной волей. Они сдерживают все
невероятные, фантастические и "невозможные" побуждения своей
внутренней жизни. Но если выявить душевную жизнь, ее
описание будет столь разительно отличаться от
обыденности, что все ее побуждения предстанут как
"абсурдные". Герои Достоевского действуют и говорят так, как
в повседневной жизни люди позволяют себе вести себя
только в состоянии аффекта: все, что в свернутом виде
таится в глубине Души, внезапно выходит наружу. И вот
тогда говорится все то, что люди обычно не
отваживаются сказать, хотя про себя они об этом думают, этого
хотят, на это рассчитывают. Можно взять для примера,
что говорит рассказчик героине "сентиментального
романа" "Белые ночи", чтобы понять, что именно в обычной
жизни это никогда не может быть сказано с такой
ясностью. Здесь лежит основа того, почему все произведения
Достоевского строятся на катастрофе, которой
предшествует скандал как своего рода комическое ее
предупреждение. Достоевский использует такое обострение, чтобы
создать предпосылки для непрерывных высказываний
персонажей его романов. Его герои суть не что иное, как
образы, которые обозначают совершенно определенные
сгустки душевных порывов. И в качестве таковых они
выражают собой нечто от радикальности и
односторонности, существующих в тенденции в сознательном и
бессознательном. Это обстоятельство также является
основанием, почему герои Достоевского казались его
современникам (да и многим нашим современникам)
29
болезненными. Буренин указывал в ряде статей в 1868 г.-
на необычные, болезненные и даже "припадочные"
свойства персонажей в сочинениях Достоевского19. После
появления "Бесов" критика добролюбовской школы
подняла шум, представляя роман как изображение
сумасшедшего дома. Основание для такого рода выпадов
следует искать в политической жизни. В частности, со
злорадством цитировалось замечание Белинского по
поводу рецензии на "Двойника": "Фантастическое в наше
время может быть только в домах умалишенных, а не
в литературе, и находиться в заведовании врачей, а не
поэтов"20.
Наряду с самонаблюдением Достоевский использует
в качестве дополнения и наблюдение за поведением
других. В этой связи для него особенно ценным является
понимание внешних форм выражения зримого
становления духовного бытия. Он был замечательным
наблюдателем, о чем свидетельствуют "Записки из Мертвого
дома", которые рассматриваются всеми критиками как
мастерское изображение вещественных и событийных
моментов жизни. Его интерес к чужой душе шел так далеко,
что он иногда в жизни частной разыгрывал перед своей
второй женой определенные роли. Анна Григорьевна
сообщает о том, что он иногда целый день изображал
дядюшку из "Дядюшкина сна". Он имел особую
способность глубоко вдумываться в свой собственный образ
и в характеры посторонних людей. Неудивительно, что
почти во всех его образах хотят увидеть изображение его
самого. Некоторые видят его в Федоре Павловиче из
"Братьев Карамазовых" (поскольку он однажды сказал,
что все люди суть Федоры Павловичи) — типичная
ошибка критиков Достоевского; другие видят в нем Версилова
("Подросток"), "смешного человека" и т. д. Двигаясь по
этому пути, приходишь к одностороннему и ложному
пониманию личности Достоевского. И совершенно
ложным является стремление доказать, что Достоевский
пытался найти в каждом психологическом событии
материальное выражение того, что он сам видел или пережил.
Смешно, когда спириты ищут материальные
свидетельства для существования духовного. Многие душевные
порывы остаются совершенно невыразимыми.
Для Достоевского очень важно описание симптомов
душевных переживаний и понимание их внутренних
взаимосвязей. Путем глубокого анализа он постигал, какие
30
импульсы оказывают влияние на определенные душевные
процессы и как реагируют на них другие свойства души.
При этом он стремился не к понятийному изложению,
а в первую очередь к наглядному изображению этих
отношений. Он хотел добиться зримых очевидностей.
Гёте называл свой способ созерцания точной чувственной
фантазией. Применительно к Достоевскому можно
говорить о "точном внутреннем продуктивном
воображении".
В духе Гёте переходит затем Достоевский от анализа
к синтезу. Из единичного опыта он индуктивно выводит
общее. Гёте применял для определения этого процесса
понятие "apergu" (схватывание). Разум выводит всеобщее
из целого ряда явлений. Это осуществляется не путем
одних логических рассуждений, но — поскольку речь идет
о целостном творении — и благодаря гениальному
озарению. Достоевский использовал для обозначения этого
метода выражение "проникновение", т. е. духовную
проницательность, постижение, подчеркивая таким образом,
что речь идет о выведении общих отношений из
внутреннего единичного опыта. Он страдал от того, что имел
дело по большей части со знаниями, возникшими из
области, которая была недоступной для большинства его
современников. В 1877 г. (14 февраля) он писал А. Г.
Ковнеру: "Мне понравилось, что Вы выделяете как
лучшее из всех "Идиота"... Все говорившие мне о нем как
о лучшем моем произведении имеют нечто особое в
складе своего ума, очень меня всегда поражавшее и мне
нравившееся"21.
В своем анализе Достоевский постоянно стремился
сосредоточить свой взгляд на "человеческом в человеке"
и особенно на том человеческом, что нельзя разрушить
подручными средствами. Он пытался в единичных
порывах выявить и понять душевное единство. Он непрерывно
показывал, что имеет дело с живой человеческой душой,
а не с комком нервов и влечений. И наконец, он открывал
особо недоступные области чужого бытия посредством
сострадания и любви, которые лишь одни могут их
прояснить. Душевная проницательность требует, чтобы
познающий четко понимал и владел в себе самом теми
душевными побуждениями, с которыми он имеет дело.
Ибо тот, кто незнаком со сферой чувств и влечений, не
может судить и понять душу другого человека. Высшей
и простейшей достоверностью было для Достоевского
31
субстанциальное единство души. В "Братьях
Карамазовых" имеется намек на современную ему психологию.
Достоевский отклоняет концепцию психических
процессов, протекающих вне души, с которой он познакомился
в работе К. Бернара "Лекции по физиологии и патологии
нервной системы"22, ибо одно только движение нервных
окончаний не дает ни представления, ни отражения, не
делает возможными созерцание или мысль23. Этот
подход сопоставим с мыслью Лейбница, развиваемой им
в "Монадологии", где он писал, что перцепция и все, что
от нее зависит, не может быть истолкована на
механической основе. Достоевский рассматривал душу как
целостность, ее мысли, и чувства не могут быть объяснены
физикалистскими процессами; напротив, она обладает
неслыханной сложностью и приводит к результатам,
к которым неспособна машина.
Достоевский подходит к философии, исходя из этой
четко обоснованной точки зрения. Часто именно в душе
искал он исток деятельности идей, которые
воспринимаются извне. В конечном счете его интересовали как раз
эти идеи и их воздействие на душу. Впрочем, он отмечал,
что не все идеи проникают в душу извне, некоторые
порождаются ею в творческом процессе. Он отмечал
также воздействие различных мировоззрений на
отдельные проявления душевной жизни и интересовался самими
этими мировоззрениями прежде всего и всегда в связи
с человеческой душой. На этой позиции его больше всего
поддерживал Страхов, который помог ему освоить
некоторые важные для него философские проблемы,
подчеркивая особенную способность Достоевского быстро
схватывать "главные" или "центральные" идеи. Да и
Достоевский сам нередко говорил об этом свойстве своего
философского мышления. Он зачастую начинал свое
повествование с главной идеи, которую он сперва как бы
хочет отвести, а затем возвращается к ее обоснованию.
Наглядным образом в этом отражается его собственный
метод: исходя из гениального озарения по поводу
отдельного события, отыскивать его подлинность. По свойству
своей натуры, говорит он, я всегда начинаю с самой сути,
"с конца, а не с начала, разом выставляю всю мою
мысль"24, его характер препятствовал
последовательному развитию аргументации. Достоевский установил, что
идея проявляет себя в человеческой душе совершенно
особенным, часто роковым образом. Восприняв идею,
32
человек осваивает ее и приходит к сокрытым в ней
выводам, изменяя все свое поведение. Раз идея овладевает
душой (не только с помощью рассудка, который может
воспринять ее чисто внешне, не заботясь о ее логических
и практических следствиях), можно считать, что
результаты уже предопределены. Гёте однажды сказал, что
причины и следствия должны восприниматься только
совместно и только вместе они образуют
"нерасчленимый феномен", который потом предстает перед нами
в исторической последовательности. Эту мысль можно
проследить на примере концепции Достоевского об идее
и следствиях, которые она обнаруживает после ее
восприятия душой, ибо все практические следствия
потенциально уже присутствуют там; их реальное проявление
является лишь вопросом времени. Поэтому Достоевский
прямо говорит о законах душевной жизни. Мы еще вернемся
к этому в главе о душе.
Интерес Достоевского к идее определялся двумя
моментами. С одной стороны, его интересует, какое влияние
оказывает идея на образ действий человека, после того
как он ее осваивает. Это влияние, с другой стороны,
привлекает его внимание потому, что только оно
позволяет дать, с его позиции, адекватное рассмотрение идеи.
Этот методологический прием — оценивать идею по ее
воздействию — можно определить как дедукцию.
Достоевский не мог бы судить об идее, если бы не знал, как она
складывается в жизни. Он должен был мысленно ее
воплотить и оживить. Именно здесь заключается одно из
оснований, почему он использовал описание особенного,
индивидуального, единичного. В произведениях
Достоевского мы видим описание живых персонажей, которыми
овладевает идея, воспринимаемая ими всей душой,
которые действуют и говорят в соответствии с этой идеей
и стремятся ее осуществить. Один из критиков говорил
в 1879 г. о "логике фактов"25, к которой стремился
Достоевский. Только путем практической дедукции
Достоевский устанавливал последствия идеи. Она может казаться
логически свободной от противоречий и все же в жизни
обнаруживать ужасные последствия, если упускается из
виду логика фактов. С другой стороны, та же логика
фактов неумолимо и безжалостно показывает ложность
или истинность идеи. "Конечно, — отмечал Достоевский,
— мы можем ошибаться в том, что считаем
великодушной идеей; но если то, что мы почитаем святынею, — по-
2 Райнхард Лаут
зз
зорно и порочно, то мы не избегнем кары от самой
природы: позорное и порочное несет само в себе смерть
и, рано ли, поздно ли, само собою казнит себя"26. Жизнь
является пробным камнем не только для практических,
но и для теоретических идей. Ибо ложные идеи, которым
она не соответствует, обнаруживают совсем иные
последствия, чем ожидалось или утверждалось. В статье "Верна
ли мысль, что "пусть лучше идеалы будут дурны, да
действительность хороша"?" Достоевский и на этот
вопрос однозначно отвечает: "Нет!" Ложные, дурные идеалы
не могут иметь никаких хороших последствий, добрая
идея является во всяком случае условием для
положительных фактически-логических следствий27.
Ницше писал в своей "Воле к власти":
"Доказательство силы: мысль доказывается по ее делам ("по плодам
их...", как наивно утверждает Библия); то, что
воодушевляет, должно быть истинным —за что льется кровь,
должно быть истинным"28. Достоевский не принимал
такую интерпретацию учения о "плодах". Не внутреннее
воздействие чувств, а практический образ действий
должен открыть и доказать справедливость или ложность
идеи.
Но все сказанное выше не-даст полного понимания
философии Достоевского, если не принимать во
внимание еще три особенности его метода — прагматизм,
христианскую догматику, умозрение. Философия для
Достоевского есть в конечном счете задача практическая.
Она должна служить действительности, жизни.
Разумеется, есть у нее и другая задача — содействовать
человеческому познанию. Когда Достоевский подходит к ней с
прагматической точки зрения, это осуществляется путем
умозрения. Он рассматривает такой подход просто как
действующий критерий идеи с точки зрения того, дает ли
она жизни новые откровения, усиливает ли она ее, либо
она враждебна ей, противостоит ей и ее разрушает. Но
этот прагматический критерий имеет значение, конечно,
только как предпосылка того, что спекулятивное решение
вопроса о смысле бытия найдет решение в
положительном плане.
Доказательство правильности своего
психологического анализа, выведения всеобщих истин психической
жизни и воздействия определенных идей Достоевский видел
также и в том, что ему удалось по крайней мере дважды
за его жизнь осуществить предсказания. Глубокий ре-
34
алист оказывается пророком. Он проникает в
сокровенные душевные устремления (следствия определенных,
часто еще не осознанных идей) и указывает на их полные
последствия. Естественно, он не в состоянии был
предсказать события в их индивидуальной единичности, но он
мог, однако, обнажить характерные взгляды и мотивы
поведения. В упомянутом выше письме к Майкову
Достоевский выразительно указывает на то, что ему
удавалось предсказывать некоторые факты (письмо от 11
декабря 1868 г.). Можно упомянуть в этой связи два
процесса, связанные с убийством Даниловым Попова (и его
служанки Нордман) и Нечаевым студента Иванова.
Первый случай произошел накануне выхода в свет романа
"Преступление и наказание" и обнаружил поразительное
сходство внутренней мотивировки и практического
осуществления с преступлением Раскольникова29; в другом
случае Достоевскому были известны лишь самые скудные
общие факты убийства Иванова, но он, находясь за
границей, реконструировал ход и мотивацию этого
политического убийства.
Особый интерес представляет развиваемая
Достоевским мысль о том, что душа есть средоточие порождения
новых идей, с помощью которых можно подчас повлиять
на человечество. В "Дневнике писателя" за 1876 г.
(декабрь) он обличал "плотские потребности", утверждая,
что на земле царят "высшие типы... и кончалось всегда
тем, что за ними шли... миллионы людей"30. Подобное
соображение он высказывает и в "Легенде о Великом
инквизиторе", когда Иван Карамазов говорит, что и один
найдет настоящую руководящую идею всего римского
дела, высшую идею этого дела31.
В произведениях Достоевского заметны элементы
православной догматики. Из его биографии известно, что
в сибирском заточении в нем совершился переворот,
который вернул его к полноте христианской веры. И тем не
менее его труд до создания "Бесов" оставался в
значительной степени свободным от влияния христианской
философии. В "Идиоте"фактически ничего нет об учении
старчества или греческих отцов церкви. В исключенной из
романа "Бесы" главе "У Тихона" впервые всплывает
запланированное для "Жития великого грешника"
описание религиозного образа епископа Тихона. По
свидетельству Комаровича, Достоевский стремился создать
натуралистически достоверный портрет знаменитого русского
35
святого и епископа Тихона Задонского. С 1870 г. влияние
христианской религии и религиозной философии
становится все отчетливее. Теперь понимание жизни
Достоевским совпадает с проповедью православного старчества.
Страхов писал об этом повороте, подчеркивая, что
с 1870 г. лишь ярче проявился тот христианский дух,
который жил в нем всегда. В черновиках к роману
"Братья Карамазовы" представлена в сжатой форме
мировоззренческая структура, которая связывает мировиде-
ние Достоевского в гармоническое единство с
проповедью "отцов". Повсюду, где прослеживается влияние
старцев, Достоевский передает их учение догматически.
Разумеется, он делает весьма поучительный выбор,
изменяя этот выбор тогда, когда ему следует добиться
соответствия своей мысли с учением старцев, когда их мысли
могут быть ему полезны, но также и когда нельзя в
полной мере согласиться с их идеями. Основные принципы
его положительного мировоззрения в последней фазе его
духовного развития остаются теми же самыми, какими
он их создал изначально, — он только слил их с
православными идеями в нечто совершенно новое, и Бердяев
справедливо сказал, что Достоевского нельзя поставить
на одну доску с православием и славянофильством.
Особенно своеобразным и примечательным является
метод, который Достоевский использовал для
творческого развития своего мировоззрения и который я могу
назвать антитетическим. Этот метод противоречит
диалектике немецкого идеализма и связан не с переходом от
противоречивости идей к их единству, а должен, скорее,
рассматриваться как то, что в XIX в. называлось
"двойной бухгалтерией", хотя это сравнение и не слишком
подходящее.
Достоевский питал глубокое недоверие к
схематичности идеализма, которую он отвергал как за попытку
увидеть разум в истории, так и за игру с иррациональными
парадоксами. Он ужасался нечистоплотной деформации
фактов при поспешном системосозидании, еще больше
его травмировал схематизм диалектического развития.
По его мнению, философия могла успешно продвигаться
лишь тогда, когда она, отталкиваясь от множества
принципов, лежащих в основе изучения природы человека
и человечества, устанавливает со всей возможной
осторожностью связь между эмпирическим познанием и
целостным созерцанием; ни в коем случае не должна она
36
идти к ложному объяснению мира, исходя из "заданных"
понятий, установленных посредством совершенно
неприемлемой схемы при полном небрежении к закону
тождества. Ведь разум все еще совершенно не знает ничего
достоверного о множестве вещей, реальностей, чувств
и "законов", которые философия, только предчувствуя,
может включить в свою систему лишь в самой общей
форме. В лучшем случае она может приблизиться к
неизвестному только тогда, когда накопит богатый опыт и,
исходя из него, будет устанавливать связующие нити,
постоянно соотнося свое продвижение с реальностью.
Как говорит Версилов в "Подростке", он хорошо
понимает, что логические факты существуют, и видит
неотвратимость изменения идей. Но эта "диалектическая"
логичность, по его мнению, не препятствует тому, что
следствие-то может быть ложным, если ошибочна
предпосылка. Антитеза ложному тезису в своем крайнем
выражении также ложна, и синтез в этом случае, конечно, не
приведет к истине. То, что метод Достоевского в своей
сущности является антитетическим, имеет свое
основание. Достоевский — преимущественно этический
мыслитель, он исходит из судьбы человека, и в этике он
основывается на позиции "либо — либо", а не "как, так и,
так и этак... ". Чем больше он размышлял о человеке, тем
сильнее утверждался в том, что вопрос о сущности и
возможностях человека нельзя решить на почве одной
только антропологии. Человек чем-то обусловлен, его
существование — не самоданность, оно зависит от
безусловного, все равно, как оно называется — закономерностью,
природой, Богом или как-то еще. Поэтому для
Достоевского основной темой философии является отношение
человека к его обстоятельствам. Так нужно понимать
слова Кириллова в "Бесах", когда он говорит, что его
всю жизнь мучил Бог. Благодаря познанию человек
уходит от непосредственно предлежащих условий своего
существования. "Человечество в его целом есть, конечно,
только организм. Этот организм бесспорно имеет свои
законы бытия. Разум же человеческий их отыскивает...
Вы с вашим я не можете справиться: в земной порядок
оно не укладывается, а ищет еще чего-то другого, кроме
земли, чему тоже принадлежит оно". ..."Это я не только
не подчиняется земной аксиоме, земному закону, но и
выходит за них, выше их имеет закон" (письмо Н. Л.
Озмидову, февраль 1878)32.
37
Вступив в духовную полемику своего времени,
Достоевский окончательно осознал, что его усилия ответить на
вопросы: Что по силам человеку? Что такое человек?
Чего хотим мы, люди? — во всем их значении не
привлекают внимания сторонников современных ему духовных
течений. Они довольствуются половинчатой позицией.
Достоевский же хотел высказать "всю истину", он хотел
открыть ее и довести до сознания, чтобы она,
действующая с давних пор, больше не оставалась бы тайной; он
стремился тем самым поставить проблему человека в ее
радикальной форме. Достоевский вышел за пределы
западнического и славянофильского движения, он
переступил границы европейского социализма и идеализма; он
видел последнюю и высшую возможность для
человеческих основ в христианстве и нигилизме, лицо которого
в его новейшем облике должен был расшифровать и
раскрыть только он сам. Стремление к обоснованию
собственного существования в совершенном и объективном
духе божественного творения находится в противоречии
с попыткой достигнуть метафизической свободы для соб-1
ственной персоны посредством постепенного
высвобождения от всех законов и связей. Есть нечто беспримерно
захватывающее в выявлении того, как Достоевский в
своих мощных устремлениях и с ясным сознанием
бесстрашно высказывает смелые идеи, упреждая все возможные
антихристианские позиции нашего времени и
противопоставляя им собственное христианство. Он, а не Сорель
является первооткрывателем политического мифа; он
открыватель понятия о сверхчеловеке; он независимо и вне
влияния Кьеркегора обрисовал "безосновный страх"
экзистенциализма и преодолел его. Все эти конструкции
служили для него ступенями к единственной цели —
достижению метафизической свободы. Человек пытается
ускользнуть от законов своей природы и целиком взять
в свои руки собственную судьбу, чтобы самостоятельно
сформировать себя в системе своей сущности.
Достоевский не страшился того, что эта идея в ее обнаженной
форме противоречит христианству. В нем действовали
как бы два лица, и оба они противопоставляли друг другу
всегда и в новых проявлениях основательные и глубоко
продуманные картины двух великих путей человеческого
развития, вплоть до утверждения, что атеизм
невозможно доказать и что очищенное и более глубокое
христианство — христианство на более глубоком, чем до сих пор
38
у славянофилов, фундаменте — одержит победу после
того, как человек пройдет через чистилище ужасных
сомнений и через "воплощение" атеистической философии,
которого даже никто не предполагал, но которое он
предчувствовал для России и Европы нашего времени.
Борьба, которая бурлит в нашем столетии, была
предвосхищена и осмыслена Достоевским на ее духовном уровне
в ее самых значительных формах и в ее крайних пределах.
Мы, сегодняшние, понимаем, что в его сочинениях кишмя
кишат образы, которые его современникам казались
чрезмерными или болезненными. Но дело было не в том,
что Достоевский питал особое пристрастие к
болезненным состояниям, а в том, что он был первым, кто
провидел и предвосхитил легион тех, кто сегодня наполняет
нашу землю. До конца своих дней Достоевский живо
сохранял в своем духовном мире антитезу христианской
веры и нигилистического атеизма и находил между этими
полюсами творческие импульсы для размышлений. Но
лик Христа и его истина одержали победу, подоплека
нигилизма была обнажена и доказана его внутренняя
неосуществимость. Гармоническое совершенство
положительной философии становится возможным на почве
кафолического, т. е. вселенского, православия.
Теперь мы можем ответить на вопрос, почему
Достоевский не писал чисто философских книг.
1. Он нуждался в интенсивном внутреннем опыте,
который можно обрести только в живой единичности,
чтобы достичь целостной истины.
2. Только во внутреннем опыте, подчас едва
ощущаемом, он мог наблюдать, как из бессознательного
возникают чувства и представления. Любая
преждевременная абстракция перекрывала ему путь.
3. Ему нужна была для оценки идеи практическая
дедукция как проверка логикой самих фактов.
4. Художественное творчество служило ему для
изображения душевных феноменов. Лишь отстранившись от
них, он мог выразить словесно звучащие в нем голоса,
в то время как логическая конструкция философской
системы ему только мешала бы.
5. Он признавал различие между логикой мысли и
логикой фактов и этой последней отдавал предпочтение.
Исходя из этих оснований, он излагал свои опыт и идеи
в форме романа, а философия — целостный итог его
наблюдений и размышлений — оставалась в тесной вза-
39
имосвязи с художественным изображением
действительности как близкая к жизни истина.
Во всех своих раздумьях и исканиях душевных тайн
Достоевский оставался человеком в самом благородном
смысле этого слова. Хотя и сегодня можно еще услышать
разговоры о нравственной сомнительности
Достоевского, взгляды такого рода опровергнуты исследователями
достаточно основательно. Молва о совращении им
малолетней окончательно отвергнута33. Правда, ему можно
поставить в вину его пристрастие к карточной игре. Но
этому противостоит огромное множество прекрасных
нравственных поступков! Причину всех этих подозрений
следует искать в том факте, что он умел проникнуть
с такой проницательностью в самые глубины зла, так что
многие не могли поверить в подобную возможность вне
собственного опыта. Каждый, кто сегодня намекает на
нравственную "испорченность" Достоевского, должен
привести факты. Инсинуации 3. Фрейда произвольны
и бездоказательны. Нетрудно привести гору свидетельств
современников, которые говорят о выдающихся
нравственных качествах Достоевского, о его правдолюбии,
справедливости, противостоянии злу, любвеобилии и
живом участии в судьбе людей34.
Философию Достоевского нужно определить (что он,
впрочем, и сам делал) как идеализм, и именно как
идеализм в нравственном смысле. Критики писали о нем, что
такая позиция объясняется тем, что он жил и страдал
с народом, он у него учился, он искал святости, без
которой не мыслил своей жизни. Поэтому он больше, чем
реалист и чем идеалист, стремился найти пути к
осуществлению альтруизма и "правды" христианской любви, т. е.
к высокому человеческому идеалу.
Вследствие своей всепроникающей психологической
наблюдательности Достоевский, как никто другой, сумел
заглянуть в темные глубины души человеческой. Он не
мог отвести глаз от главного феномена нашего
существования — того, что мы сами себя осуждаем и не можем
справиться с чувством вины. Иные делают вывод о том,
что он сам себя отнес скорее к темной, чем к светлой
стороне души. Я приводил пример Шестова и др. Даже
такой осторожный критик, как А. Любак, говорит:
"Достоевский сам чувствовал, что атеизм сильнее"35, отмечая
при этом, что глава в "Братьях Карамазовых", которая
содержит нигилистическую философию Ивана, написана
40
страстно и увлеченно. Все это, как мы думаем, является
попыткой показать черно-белый облик Достоевского.
Можно одновременно привести и противоположные
суждения критиков. Например, Э. Тернейзен писал: "Отделяя
себя от церкви, Достоевский не пытался делать ставку на
нигилизм"36. Нет никакого сомнения в том, что
нигилистическая мысль Достоевского была необыкновенно
живучей. Но вся картина меняется, как только поставишь
вопрос о том, какую практическую цель преследовал он
на своем жизненном поприще? Думал ли он хоть
мгновение о том, чтобы своим творчеством привести человека
к гибели? Есть ли у него самодовольная услада
романтиков, описывавших собственный сатанинский титанизм?
Такие цели были Достоевскому совершенно чужды. Еще
в 1861 г. критика всех направлений признавала глубокое
сочувствие Достоевского к сломленному и страдающему
человеку. Уже тогда в этом замечали его отличие от
Гоголя37. Достоевский видел, что душа человеческая
глубоко погрязла в грехе и пороке; он знал о невыносимо
трудной борьбе, которую нужно вести, чтобы выбраться
из этой бездны к обновленному и очищенному бытию. Он
не мог не видеть, как человек снова и снова впадает
в слабость и как близок он к отчаянию. Он хотел
поддержать человека в его борьбе, показать ему, что в каждом
человеческом сердце ютится и грехопадение, и борьба
с ним; он стремился воспитать эти сердца в
непреодолимом доверии к смыслу бытия. Никто, как Достоевский, не
разоблачал ужас души, никто так не высвечивал
различные закоулки зла и в то же время столь непоколебимо
продолжал верить в победу добра. Своей великой
человечностью он переступил через нечеловеческий смех, от
которого Гоголь тщетно пытался отделаться в "Мертвых
душах". Когда Достоевский незадолго до своей смерти
в своей речи говорил о значении Пушкина, он мог бы
слова поэта отнести и к себе самому: в надежде на добро
глядел "вперед он без боязни".
Эту нравственную позицию Достоевского лучше всего
выражает одно место из книги "Невидимая брань". Речь
Никодима с горы Афон: "Предположим, что душа
обременена грехами, что она виновна за все грехи мира,
какие только можно себе представить, но при этом она
использует, хотя и безуспешно, какие только может
средства и усилия, чтобы освободиться от греха и вернуться
к добру; пусть она, тем не менее, еще больше погрязнет
41
во зле; и все же, если она «не позволяет себе стать слабее
в своей вере в Бога, она йе будет отвергнута им, она не
поступится средствами и усердием в своей духовной
борьбе; наоборот, мужественно и неустанно она должна
бороться с самой собой и с ее врагами. Ибо знающий
знает, что в этоЬ« незримом споре не проиграет только
тот, кто не перестает бороться и верит в Бога, ибо он
никогда в этой толпе сражающихся не будет оставлен
Божьей помощью, хотя бы он подчас и допускал, что его
душа будет изранена. Поэтому каждый должен бороться
без уступки, ибо только в этой неустанной борьбе
состоит долг человека. Бог всегда готов указать спасительное
средство как для того, чтобы избегнут^ урона от врагов,
• так и для того, чтобы повергнуть их. И эту помощь
оказывает он как раз тогда, когда на нее всего сильнее
уповают: в час, когда вы и не ожидаете, узрите, как ваши
гордые противники будут повергнуть* перед вами"38.
В этом умонастроении яснее всего можно увидеть
истоки того огромного, указующего путь в будущее
влияния на человечество, которого достиг-. Достоевский. Он
понимал, чем оно мучается и в чем сомневается; он искал
'ему утешения и воодушевлял на борьбу, внушая^веру
в окончательную победу добра. '
Часть первая
ПСИХОЛОГИЯ
Сознание
и бессознательное
Уже при первом знакомстве с
произведениями Достоевского бросается
в глаза резкое отличие его
представлений о душе от того, что было принято в его время. Мы
всюду встречаемся у Достоевского с такими явлениями
душевной жизни, которые указывают на выразительно
подчеркиваемые душевные процессы. Каково же его
понимание структуры души, бессознательного, сознания,
личности, отношений между сознанием и бессознательным?
В качестве исходного пункта начнем с решения
Достоевским проблемы чувства. Это понятие многозначно. Если
попытаться более глубоко осмыслить предметное
содержание чувств, ориентируясь на Достоевского, то легко можно
заметить, что под чувствами он понимает два совершенно
различных момента — душевные переживания и оттенки
чувства, ощущения в узком смысле слова. Ощущения
сопровождают все переживания сознания, будь то
внутренний или внешний опыт, но они могут быть и независимыми
от последнего как своего рода мимолетный порыв или
устремление сознания. Такие оттенки чувств нельзя
смешивать с материалом чувственного восприятия, хотя они
и связаны с ним. Оттенки чувств проявляют себя в единстве,
хотя они и могут складываться из различных компонентов.
При этом они бывают неодинаковы по качеству и
интенсивности. Современная психология рассматривает лишенные
наглядности оттенки чувства в качестве субъективных
элементов, которые душа примешивает к сознанию в своей
реакции на переживания. Но Достоевский различал
объективные и субъективные оттенки чувств. Каждое восприятие
имеет объективную окраску, но сплошь и рядом она
43
сливается с субъективной, образуя новый по своему
происхождению объективно-субъективный оттенок. Только
знание объективности оттенков всех предметов, слов, идей,
качеств и образов позволяет художнику передать их
значение другим людям. Что касается душевных переживаний
— Лейбниц называл их перцепциями, — то человеческое
мышление чаще всего осуществляется в форме таких
переживаний. Можно колебаться, как их обозначить
— мышлением или единством ощущений (эта
неоднозначность видна в "Братьях Карамазовых", "Скверном
анекдоте" и других произведениях писателя). В "сумерках"
душевных побуждений, образующих целостное настроение, из
которого нельзя выделить никаких отдельных—наглядных
или понятийных—элементов, лежит основа, позволяющая
обозначить их, как и оттенки ощущений, общим понятием
"чувства". И все же было бы неправильно растворять
оттенки в понятии душевных переживаний. Последние, как
и содержание наших восприятий и мышления,
сопровождаются ощущениями, источник которых хотя и уходит в
бессознательное, вызванное ими настроение остается более
постижимым, чем компоненты душевных переживаний.
Душевные переживания и побуждения представляют
собой в высшей степени сложные образования — это
прекрасно показано в "Скверном анекдоте". Они меняются
с огромной скоростью продержат одновременно множество
скрытых единичных душевных элементов. Это
многообразие не позволяет перевести их на человеческий язык, который
может выразить подобный предмет лишь во временной
последовательности. Кроме того, он должен придать им
грамматическую и логическую форму, которой они не
обладают. Можно выразить среди них лишь самые
необходимые и самые вероятные. Чем больше их постигаешь, тем
неожиданнее кажется изложение. В переводе на
обыкновенный язык они выглядят совершенно неправдоподобными.
В этом состоит причина того, почему душевные побуждения
так редко себя обнаруживают, хотя они есть у любого
человека как содержание его чувств. Не только близким, но
и содержанию собственного сознания они остаются
неясными, если не преобразованы в грамматическую или
логическую форму. То, что с большим трудом удается выразить,
весьма плохо согласуется с первичными душевными
побуждениями и выглядит слабее их. Полученный результат
оказывается бледнее и глаже того, что осталось в душе.
Глубокое и полное стыда переживание, будучи выраженным
44
в словах, выглядит легкомысленным, смешным, позорным.
Отвлекаясь от этих трудностей, мы должны помнить о том,
что при фиксации содержания отдельных побуждений легко
можно стать жертвой искушения исказить их, пытаясь
приспособить к привычным словесным оборотам, способу
выражения и стилистической манере. Многое вообще нельзя
выразить в грамматически правильных предложениях, здесь
недостаточны слова, и лучше всего их не произносить.
Только глупец или подонок не страдает от неспособности
высказать то, что движет душой, он всегда доволен
способом своего самовыражения. Из этого ясно, как трудно
высказать истину, даже если хочешь это сделать. Это
относится не только к речи и логическим построениям, но
и к любому иному способу выражения.
Если душевные порывы погружены в бессознательное, их
отдельные моменты все же могут появиться и на
поверхности сознания. Обрывки мыслей, клочки бессознательных
образов иногда вырываются наружу, и сознание на их
основе воспроизводит картину переживания. Но чаще всего
это невозможно; переживание в целом остается
неосмысленным, только общее настроение, оттенки чувства поддаются
фиксации. Осознание переживания всегда представляет
собой произвольное вторжение извне. Обычно переживания
осуществляются помимо рефлексии. На этой основе можно
различить верхнюю и нижнюю границы чувств, поскольку
они выступают как душевные переживания. Если применить
к ним рефлексию, то ход переживания изменяется таким
образом, что на их место частично или целиком вступает
рассудочное мышление. Если сознание вообще с ними не
связано, они погружаются в бессознательное.
Множество сильнейших чувств остаются
неосознанными, поскольку, по убеждению Достоевского, их
"корни" лежат в сокрытом, в бессознательном1. Как их
происхождение, так и их отношение к сознанию, способы их
переплетения столь сложны, что они не поддаются
анализу. Попытка сознания осмыслить эти сложные комплексы
или определить душевные настроения никогда не
остается без последствий. Она часто приводит к утонченности
чувств, под которыми Достоевский понимал
извращенность и неестественность. В этом случае чувства
сужаются в содержательном плане, связываются прежде всего
с физическим миром, отрываясь от своего естественного
объекта, который их пробуждает, и включаются в чуждые
им процессы. В результате их содержание обедняется
45
(например, чувство удовольствия отрывается от радости,
счастья, блаженства), чувство сводится к чувственным
переживаниям (удовольствие связывается с телесными
моментами, например только с сексуальностью);
возникает перверсия чувств (например, удовольствие
переносится на отвратительные вещи — радость'от
кровопролития, сексуальная жестокость и т. д.).
Чувство, по Достоевскому, является более высокой
ступенью познания, чем мышление, поскольку оно ближе
стоит к действительности в союзе с бессознательным
и питается последним. Оно способно охватить
возникающие в бессознательном побуждения и оттенки чувств без
того, чтобы их преобразовать и представить в
грамматической или логической форме.
Достоевский уделял особое внимание внезапным
чувственным впечатлениям и их влиянию на душу человека,
сравнивая такое впечатление с болевым шоком. Оттенки
нового чувства полностью овладевают нами (причем
именно в совокупности объективно-субъективных моментов),
но душевные переживания, которые оно вызывает, таятся
за пределами сознания. Вместо их осознания возникают
малозначимые и побочные мысли и представления или их
фрагменты, которые как будто не имеют никакой связи
с переживанием. Например, у приговоренного к смерти,
когда его ведут на казнь. "Странно, что редко в эти самые
последние секунды в обморок падают! Напротив, голова
ужасно живет и работает, должно быть, сильно, сильно,
сильно, как машина в ходу; я воображаю, так и стучат
разные мысли, все неоконченные, и может быть, и
смешные, посторонние такие мысли: "Вот этот глядит — у него
бородавка на лбу, вот у палача одна нижняя пуговица
заржавела"... а между тем все знаешь и все помнишь; одна
такая точка есть, которой никак нельзя забыть, и в обморок
упасть нельзя, и все около нее, около этой точки, ходит
и вертится"2, будто сознание умышленно дает отвлечь
мелочами, чтобы бессознательно и мощно переживаемое
не знало помехи. Только главные оттенки ощущения
остаются осознанными и напоминают о себе
второстепенным переживанием, и все дело в этом главном. То же самое
относится и к сильным чувствам, которые то и дело
охватывают душу и имеют тенденцию уходить в
бессознательное, оставляя на поверхности лишь оттенок этого
чувства. Чувство господствует как "целостность", т. е. как
нечто единое, не только как сознательная часть души,
46
раздробленная на осколки и фрагменты впечатлений. Эти
идеи во всей их глубине выражены в больших
произведениях Достоевского (в романах "Братья Карамазовы",
"Подросток", "Идиот" и др.).
Рассудочное знание, считал Достоевский, может, но не
должно превращаться в чувства. Когда Логическое
умозаключение вызывает сильное чувства, это последнее
захватывает все проявления жизни, и именно в этой связи душа
переживает в полной мере свойственное только ей
настроение, и только тогда возникает иррациональная, алогичная
связь между мыслью и опытом,, переживаемыми
чувствами и многими другими моментами бессознательного,
указывающая на какие-то иные реальности. Давно
известная и часто произносимая мысль осмысляется только
тогда, когда ее прочувствуешь. При этом переход мысли
в чувство происходит подчас незаметно и постепенно. Но
такое осуществляется только тогда, когда мысль
связывается с душой иррациональными узами, от которых потом
трудно избавиться. Искоренить подобную мысль с
помощью доказательств или фактов опыта не так легко.
Достоевский постоянно это подчеркивал. Не случайно он
изобразил в "Преступлении и наказаний" рассуждения социалиста :
Лебезятникова, который утверждал: если убедить человека
логически* том, что, в сущности, ему не о чем плакать, то
он и перестанет плакать. Однако рыдавшую Катерину
Ивановну ему убедить не удалось. Да и Раскольников
возразил: "Слишком легко было бы тогда жить". Позиция
Лебезятникова- являет собой опорный пункт этического
интеллектуализма, с которым боролся Достоевский. К это^
му мы вернемся при рассмотрении вопроса о свободе волн.
Подчиненность сознания чувствам и невыявленность
мыслительного содержания душевных порывов приводит
Достоевского к понятию; "внутреннее созерцание"3. Трудно
сказать, включает ли оно преобразованные элементы
представлений или состоит, только из меняющихся чувств.
Человек, погруженный в свое внутреннее состояние,
забывает окружающий мир. Возвращаясь из этой
сосредоточенности, он как бы пробуждается от свд4. Он едва, помнит,
о чем думал, он не может сообщить о предмете своего
созерцания. Часто душа полностью утаивает от сознания
содержание созерцания, оставляя за собой лишь
своеобразное впечатление;. Причину этого явления установить очень
трудно. Сли1ыком ли слабы чувства? Или чувства
отвергаются сознательным Я? Или, наконец, они связаны о таким
многообразным содержанием бессознательного, что их
своеобразие вообще нельзя постичь? Все эти вопросы
подводят нас к порогу бессознательного, первым великим
открывателем которого был Достоевский в России.
Можно сослаться на А. Венцля, который в своей работе "Наука
и мировоззрение"5 указывает на многозначность понятия
"бессознательное". Сюда относится как то, что еще не
вошло в сознание, так и то, что уже ушло за его пределы
или никогда в них не находилось. Принимая концепцию
Венцля, мы попытаемся исследовать, на какие виды
бессознательного указывал Достоевский. Но прежде начнем
с области осознанного, чтобы дать полную картину.
1. Первый момент связан с мыслительным актом,
который осуществляется рефлектирующим сознанием
путем вмешательства в естественный ход душевных
процессов. Но при таком состоянии сознания речь идет только об
акте сознания, а не о сознающем Я, поскольку оно
рефлектирует не полностью осознанно, а лишь может осознавать
данное переживание. Осознанное действие памяти в
процессе акта мышления редко может быть полностью отреф-
лектированным. Дриш указывал на то, что в процессе
рефлексии осознанная мысль связывает себя с
бессознательным. Сознание дает толчок определенной исходной
позиции, оно указывает цели и смысл, обозначает, в каком
порядке должны стоять все моменты этого процесса и
само мышление. Но в становлении мысли участвует по
большей части и бессознательное, поскольку из-за
быстроты процесса мышления мы не в состоянии выразить все
подвергающиеся рефлексии акты в логически связанном
виде; мы подбираем приемлемые для нас возможности из
кладезя памяти и из сферы бессознательного.
Рефлектирующая мысль есть апперцепция в лейбницевском смысле.
2. Второй момент связан с переживаниями, с
душевными побуждениями. А. Венцль справедливо упоминает
о теории Клагеса, согласно которой ни одно переживание
полностью не осознается и сознание никогда не может
что-нибудь пережить полностью. Не следует употреблять
выражение "неотрефлектированное переживание",
поскольку душевные побуждения не могут быть осмыслены,
какое бы внимание им ни уделялось. Ведь
рефлектирующее сознание никогда не может схватить и полностью
зафиксировать переживание, ибо при этом оно само
разрушается. Клодель в непроизвольном согласии с
Достоевским нашел для этого выразительную притчу. Анимус
48
(Animus) — сознание — неожиданно возвращается домой
и слышит, как поет Анима (Anima)—переживающая душа6.
Он слушает перед дверью, долго не решаясь войти, чтобы ей
не помешать. Как только он вошел и Анима услышала его,
она умолкла. С тех пор Анимус всегда подслушивал ее
тайком. Подобная ситуация задолго до этого была
изображена Достоевским в "Кроткой". Сознание следует за
переживанием лишь до того порога, когда последнее
погружается в бессознательное. При этом в концепции
Достоевского нельзя отделить друг от друга сознание,
бессознательное и то, что несет в себе переживание, и
рассматривать их как независимые части субъекта. Это может,
как мы еще увидим, встречаться лишь иногда. Однако
нормой является то, что мыслит единый субъект, «акт
которого более или менее четко осознан и отрефлектирован.
Чувства же этого субъекта во всей их глубине остаются все
более неосознанными. Для них имеет значение то, что они
только тогда могут оцениваться как переживания, когда
лишь в некоторой степени способны быть осмыслены
сознанием (иначе мы о них вообще бы ничего не знали); что
они всегда содержат компоненты, которые не
воспринимаются сознанием и лежат за его пределами. Об этих
компонентах мы непосредственно ничего не знаем, однако мы можем
их освоить косвенно на основе последующих видимых
взаимосвязей. Хороший пример для такого
дополнительного познания компонентов душевного переживания,
первоначально остающихся бессознательными, дает глава XVI
рассказа "Вечный муж", имеющая заголовок "Анализ"7.
3. Особую категорию образуют косвенные и
сопутствующие впечатления, на которые в своей рефлексии сознание
не направлено, которые даже полностью проходят мимо
внешнего или внутреннего восприятия сознанием. Эти
впечатления не становятся предметом душевных чувств,
и все же, как иногда отмечается, прочно остаются в памяти.
Теперь мы можем перейти к собственной области
бессознательного. Она подразделяется на покоящуюся
и деятельную сферы. Первая может состоять из подлинно
бессознательного содержания, о котором ничего нельзя
узнать; оно может быть выявлено лишь косвенно, если
его содержание хотя бы один или несколько раз
переходит в деятельность. Эта сфера может иметь и не только
бессознательное содержание: однажды осмысленное, но
затем забытое, оно способно снова заявить о себе через
какое-то время. К этой сфере относятся, наконец, и сопут-
49
ствующие впечатления, воспринятые однажды
бессознательным и в нем покоящиеся.
Деятельное бессознательное обнаруживается там, где: 1)
телесные и психические явления дают нам возможность
действовать осмысленно, планомерно и целесообразно, так
что их осуществление нами вполне осознается; 2)
выступают духовные элементы, объяснение которых требует
допустить, что они либо до этого существовали у нас
неосознанно, либо по каким-то иным причинам оставались таковыми.
Только о бессознательном можно сказать, что в
содержательном плане оно способно быть еще более наполненным.
Содержание или предмет как покоящегося, так и
деятельного бессознательного может быть: 1) однажды воспринятым
как осознанное, отрефлектированное, пережитое или как
- косвенное, побочное впечатление; 2) изначально
заложенным в душе и не связанным с внешним опытом. Из этого
возникают следующие крупные зоны бессознательного:
1. "Вытесненное" бессознательное, о котором говорит
психоанализ со времен Фрейда.
2. "Доличностное^ бессознательное, которое, творит
N миф. Мы должны это понятие пока что только запомнить,
, так как оно бросается в глаза именно у Достоевского и было
' открыто им. Как мы еще увидим,, оно стоит в близком
родстве с "коллективным бессознательным" К. Юнга.
3. Установленный Достоевским вид
"анамнестического" бессознательного, на который здесь мы только
укажем. Оно состоит из воспоминаний собственного прена-
тального (дородового) индивидуального существования
.\ или из предчувствий, предвосхищения будущие событий
собственной жизни.
4; "Сверхсознательноё", или близкое языку
Достоевского "райское", бессознательное. Понятае сверхсозна-
.-тельного было впервые отмечено у Достоевского Н.
Бердяевым.. Однако последнему не был ясен двойственный
характер бессознательного, ибо первоначально
сверхсознательное сокрыто в бессознательном/и лишь в
результате определенных процессов-оно может выйти из
области бессознательного и создать особую ступень в
сознаний, возвысившись до подлинного сверхсознания.
■' • •. У Достоевского слово "бессознательное"
употребляется как прилагательное, а не как существительное. Но он
зводит новое понятие, охватывающее как сферу
бессознательного, так и сферу чувств, — понятие, "сердце". При
этом он имеет в виду преимущественно бессознательное.
>l"-'"'- '•'; \ . . 50 •'
В дальнейшем мы будем использовать слово "сердце9' как
синоним бессознательного или фрейдовского понятия
"Оно". Все эти понятия в силу разных причин имеют
двойственное значение. Иногда они обозначают
способность, образующую бессознательные представления; с
другой стороны, они обращены к области, в которой
представления и душевные элементы остаются неосознанными.
Проследим теперь более основательно отдельные
способности души, как их понимал Достоевский, оставляя
в стороне область чувства, о которой уже говорилось.
Над чувством возвышаются по уровню осознания и по
грамматической и логической конструкции способности
рассудка и разума. Оба понятия для Достоевского
равнозначны. Человек создан со способностью к познанию.
Среди земных созданий одно только человеческое
существо обладает разумом.
Достоевский выделяет две различные способности
внутри рассудка, или, как он иногда выражается, существует
рассудок двоякого вида — более высокого и более
низкого. Находящийся в подчиненном положении "низший"
рассудок мыслит в категориях причины и следствия:
обладая им, в практической жизни можно обрести хитрость,
в теоретической — знание. "Главный" рассудок, который
Достоевский называет "головой в голове", мыслит в
категориях смысла и ценности, достигая тем самым
мудрости8. Ум для Достоевского — это не только дискурсивное
рефлектирующее мышление, но, скорее, дух,
охватывающий чувства и неосознанные переживания. Иного рода
— "высшее" и "усиленное" сознание, в сфере которого
находится и сверхсознание, и вытесненное в подсознание.
Возвращаясь к рассудочному, дискурсивному
мышлению, отметим, что Достоевский считал рассудок
неспособным по самой своей природе охватить всю
действительность, поскольку он всегда имеет дело с одной или
несколькими мыслительными операциями. Он должен
анализировать то, что в природе и внутренней жизни
комплексно связано, выделяя и рассматривая отдельные
компоненты. Кроме того, рассудок подчиняется законам
логики, он выражает мысль по законам мышления,
исходя из правил тождества, противоречия, исключенного
третьего, достаточного основания. Но психическая
жизнь, как мы увидим дальше, часто двусмысленна,
многозначна, не только потому, что ее внешние проявления
могут истолковываться различно, но еще больше и пото-
51
му, что психические события на самом деле не поддаются
одновременному расчленению одно от другого. Логическое
мышление вынуждено либо рассуждать об отдельных
компонентах действительности, которая не может
поддаваться расчленению на эти компоненты, либо, подходя
односторонне к этой действительности, прояснять только
одну ее сторону. К тому же источник ошибки состоит еще
и в том, что имеются лишь возможности подвергнуть
анализу ту действительность, которая существовала
прежде и которая только неопределенно указывает на то, что она
уже преобразовалась. Вследствие этого блестящие расчеты
рассудка сводятся к нулю самой действительностью.
Помимо этих трудностей добавляется еще то, что
душевные переживания и, конечно, бессознательные акты
не являются логическими по характеру. Напротив, часто
они абсурдны и иррациональны. Психические процессы,
выражаемые в чувствах и бессознательном, определяют
поведение людей и через них воздействуют на исторические
события. При этом психические акты выявляют себя как
совершенно целенаправленные и полные смысла. Однако
избранный ими смысл часто оказывается совершенно
иным, чем смысл и цель логического мышления.
Достоевский говорил поэтому, что "ошибки и недоумения ума
исчезают скорее и бесследнее, чем ошибки сердца"; первые
излечиваются "неотразимою логикою событий", вторые
часто не излечиваются "даже ни перед какими фактами"9.
Достоевский подметил еще один изъян рассудочного
мышления: недостаток достоверности и непоколебимая
уверенность в разрешении всех проблем. При помощи логических
правил рассудок стремится дойти до основ познания, чтобы
найти ему окончательный непреложный базис. При каждом
суждении он сомневается относительно своей
правомерности. Формально он ищет достоверности в аксиоматических
законах мышления, а содержательно — в опыте, отыскивая
его реальные причины. "Непосредственный" человек,
наделенный здравым смыслом деятель принимает ближайшие
второстепенные задачи за конечные, ищет в них
непреложное обоснование для своих действий и убеждений и на этом
успокаивается. Обостренное же познание, напротив, не
удовлетворяется ни второстепенными, ни так
называемыми конечными основаниями. "Где у меня первоначальные
причины, на которые я упрусь, где основания? Откуда я их
возьму? Я упражняюсь в мышлении, а следственно, у меня
всякая первоначальная причина тотчас же тащит за собою
52
другую, еще первоначальнее, и так далее в бесконечность.
Такова именно сущность всякого сознания и мышления"10.
Пример распада сознания привел Достоевский в рецензии
на роман Л. Толстого "Анна Каренина". Законы мышления
не дают знания о конечной достоверности. Они суть законы
только мышления, но оно еще не доказывает, что постигает
законы действительности. Дух в акте мышления натыкается
на правило, лежащее в основе аксиомы, и не может перейти
через нее, не разрушив собственную мысль. Если бы истина
основывалась на законах мышления, она бы никого не
удовлетворяла, поскольку мы не знаем, согласуются ли эти
законы с действительностью. Что касается доказательства
истины с помощью опыта, то здесь выступают другие
трудности, о которых мы частично уже говорили. Мы
можем осмыслить опыт только с вышеназванными
ограничениями, и, кроме того, мы должны основательно поставить
вопрос о том, как далеко продвигает нас опыт в открытии
действительности самой по себе. Так, любое
основоположение постоянно подвергается сомнениям. Но абсурдно было
бы успокаиваться на законах мышления только потому, что
наша мысль обращена к ним и не может их преодолеть.
Достоевский очевидно был знаком с теорией Спенсера,
согласно которой аксиомы нашего мышления содержат
лишь относительную истину, поскольку они возникают из
привычных впечатлений, постоянно рождающихся под
воздействием неведомых причин на протяжении
человеческой истории. Он приходит к этой мысли, когда говорит
в "Записках из подполья", что человек "по нормальным
и основным законам усиленного сознания и по инерции,
прямо вытекающей из этих законов", способен сделать
самые отвратительные выводы по поводу вечной темы
о том, что он сам в ответе за их необходимость и в то же
время не отвечает за них11. Несмотря на всю эту
необходимость, дух продолжает сомневаться; можно сказать, что
человеку в его земном существовании присуще от
природы чувство сомнения и бегство от покоя, ибо человеческий
рассудок себе не верит и никогда не может утолить жажду
познания, считая свое существование
неудовлетворительным. С одним только рассудком человечество всегда
останется пленником сомнений и противоречий.
Рассудочное познание связано со страданием. "Горе
от ума" — уже в те времена всем известная комедия
Грибоедова: та же мысль является одной из основных
в философии Достоевского. Рассудок приводит к страда-
53
ниям по причинам, отмеченным выше. Человек рождается
в этом мире с недостаточным знанием, не умея понять ни
его сущность, ни его смысл. Его мышление — не
гармония, а дисгармония, ведь он из-за него несчастлив.
Страдание от познания — чисто человеческое страдание,
животным оно неведомо. Счастливыми могут быть только те
люди, которые по уровню развития приближаются к
животным. Чем сильнее рассудок, тем больше от него
неудобства и беспокойства. Особая беда состоит в том, что
развитый рассудок почти неизбежно ведет к раздвоению.
Одаренный сильным рассудком человек склонен к
отождествлению своего Я с сознанием и рассудком, что приводит
его в противоречие с собственными чувствами, с
бессознательным, с жизненным центром. Выражаясь современным
языком, дух становится противником души12. В этом
случае разум начинает претендовать на главенство: знание
стоит над чувством, познание жизни стоит над жизнью. Из
этого противостояния рассудка и жизни вытекают два
следствия: 1) рассудок кажется чем-то высшим,
желанным, а жизнь рассматривается как враждебная ему
противоположность; 2) сомнение в рассудке приводит к борьбе
с ним, и его, как врага жизни, пытаются уничтожить.
В первом случае человек больше не желает
бессознательного чувственного счастья, он хочет познать правду в
двояком смысле этого слова — как знание о том, что есть,
и как понимание того, что должно быть, т. е.
справедливого общественного порядка, который будет осуществлен.
Человек разумно строит свою жизнь, подчиняя ее целям
разумного познания. Воодушевление рассудком и знанием
являет собой для человека высший идеал. Таковы были
цель и назначение современной Достоевскому науки.
Многие рассудочные люди, в том числе ученые, нередко
становились врагами жизни, доходя до ее полного отрицания.
Если же эту позицию не принимать, придерживаясь
жизни, а не рассудка, возникает вражда к духу. На
человека смотрят с биологической точки зрения, видят в нем
неудачную попытку природы и порождение упадка.
Возникает, однако, вопрос: не создан ли человек "в виде
какой-то наглой пробы, чтобы только посмотреть:
уживется ли подобное существо на земле или нет?.. Пусть уж
лучше я был бы создан как все животные, то есть
живущим, но не сознающим себя разумно943. В обоих
указанных случаях возникает разрыв между рассудком и
жизнью, переживаниями и чувствами. В душе создаются
54
центры разрыва между сознающим рассудком и
переживаемыми чувствами, вследствие чего возникает глубокая
разорванность и бессилие. Достоевский открыл эту
двойственность сначала для'себя и первоначально склонялся
к тому, чтобы подавить враждебный жизни дух и стать на
защиту души. Всякое мышление — болезнь, гласит жес-.
токая формула Достоевского* в "Записках из подполье".
Но в том же произведении имеется и противоположное
замечание: человек ни за что не-расстанется с познанием,
т. е. несмотря на все его недостатки, оно (как мы покажем
в дальнейшем) имеет для Достоевского большое
значение. Достоевский объединил оба вида духовности,
главное для него жизнь (переживания), но рассудку также
отведена большая роль. Разрешение конфликта между
рассудком и чувством Достоевский видел в
сверхсознательном. Всякое большое счастье, считал он, несет в себе
и некоторое страдание, ибо пробуждает в нас высшее
сознание. Но "человеку, кроме счастья, необходимо и
несчастье, и много, много"14. \
Человек должен понимать, что рассудок составляет
только одну, малую часть его души и его бытия.
Деятельность рассудка удовлетворяет только самое себя* но'цр
человека как целостность. Задача человека состоит,
однако, в том, чтобы претворить в жизнь все, а не одну
двадцатую часть его сущностных задатков.
Подобно тому как познание таит в себе причину
страданий, так и само страдание взывает.к познанию. Только
через страдание человек познает самого себя и становится
самим собой. Patior sum (je souffre) done je suis (страдаю,
следовательно, существую) — таково воззрение
Достоевского. Самосознание, возникающее из ощущения отделен-
ности от всеобщего бытия, человек переживает как
подлинное собственное бытие. Эту мысль Достоевский
противопоставляет декартовскому cogito ergo sum, о котором 6н
наверняка знал. В "Братьях Карамазовых" Митя
Карамазов говорит о себе: "И, кажется, столько ьо мне этой силы
теперь, что я все поборю, все страдания, только чтобы
сказать и говорить себе поминутно: я еСмь! В тысяче мук
— я еемь, в пытке корчусь—Ъо еемь! В. столпе сижу, но
и я существую, солнце $ижу, а не вижу солнца, то знаю, что
оно есть. А знать, что есть солнце, — этоуже,эся жизнь'!15.
Подобный ход мысли приводит нас прямо к метафизике.
Обратимся еще раз к бессознательному. Мы должны
заняться прежде всего мимолетцыми впечатлениями,
55
о которых мы уже говорили, что они незамеченными или
едва осознанными уходят в бессознательное, таясь там,
а иногда и побуждая к действию. То, что видят в детстве
и юности, остается непонятным, но оно хранится в глубине
сердца как некое зерно, которое однажды вдруг под
влиянием какого-то мимолетного впечатления
пробуждается и откликнется16. Это пробуждение часто выступает в виде
аффекта—при меланхолии, раздражении, печали, радости
или удовольствии и т. д. В произведениях Достоевского
имеются различные изображения воздействия мимолетных
чувствований на человека. В "Братьях Карамазовых" Иван
после своего разговора с Алешей не может найти причину
своей собственной мучительной тоски. Лишь позже, при
виде Смердякова, он понимает, что мимоходом упомянутое
Алешей в разговоре с ним его имя стало причиной его
аффективной реакции. Особенно сильной такая реакция
может быть тогда, когда мимолетное впечатление,
воспринятое бессознательно, имеет для воспринимающего прямое
или символическое значение. В "Вечном муже" герой
рассказа Вельчанинов пребывает в особенно раздраженном
состоянии. Он ищет его причину и делает для себя открытие,
чгго его раздражение вызвано неким человеком, у которого
на шляпе была траурная лента и которого он мельком видел
две недели назад, причем едва заметил и тут же забыл. И все
же он весь день не мог избавиться от этого впечатления
— конечно, оно было совершенно неосознанным, так
сказать, произошло нечаянно, так что он не мог понять, что
же произошло, почему он питает к этому человеку какую-то
безотчетную злобу, причины которой он не может найти,
и т. д. Он кружится вокруг этого воспоминания. Речь
в данном случае идет о вытеснении, об умышленной
маскировке взаимосвязей с помощью бессознательного.
Причина этого вытеснения вскоре выясняется: этот человек
воспринимается Вельчаниновым как супруг женщины,
которую он когда-то соблазнил. Наконец, Достоевский
приводит случай, когда мимолетное впечатление
становится фактором мощного взрыва чувств вследствие
отождествления с главным предметом, с которым имеет дело
бессознательное. Так, Мышкин в "Идиоте", мельком видевший
лежавший в витрине нож, ловит себя на том, что его взгляд
привлечен к этому ножу. И он, наконец, понимает, что
символически отождествляет его с ножом, увиденным
раньше у Рогожина, и этот витринный нож так его привлек
потому, что он ожидает убийства. Эти факты говорят о том,
56
что опытным путем мы получаем впечатлений больше, чем
осознаем. С помощью чувств мы можем постичь данные
впечатления, но четко они не осознаются. К тому же чувство
судит иначе, чем рассудок. Проходя мимо сознания в
бессознательное, эти впечатления иногда долго покоятся в нем
и замечаются сознанием значительно позже, при
воспоминании о прошлом. На это обстоятельство в свое время
указывали М. Шелер и М. Пруст, в своем поэтическом
творчестве — А. Рембо.
Как видим, Достоевский принимал понятие
покоящегося бессознательного, которое включает в себя и
подлинно бессознательное, и нечто пока не осознанное.
Утверждение Бердяева, что для Достоевского не было покоя
в глубинах бессознательного, содержит преувеличение17.
В определенных случаях можно. наблюдать деятельное
бессознательное, но в других случаях это исключено.
Описание того, как воздействует бессознательное на
целесообразные и разумные поступки, Достоевский дает
в "Преступлении и наказании9'. Раскольников,
договорившись о времени и месте встречи со Свидригайловым,
совершенно забыл об этой договоренности и направился
к нему домой, но невольно свернул с дороги и ноги сами
принесли его к трактиру, где было назначено свидание.
Руководствуясь бессознательным, человек совершает
осмысленный и целесообразный поступок.
В редчайших случаях сознание может наблюдать
деятельность "Оно", обычно полностью скрытую в
бессознательном. Оставаясь рефлексивным и не вмешиваясь
в деятельность чувств, сознание все же может тайно его
"выследить". Такая возможность возникает во сне или
при лихорадочных состояниях, когда больной, близкий
к бреду, замечает все до мельчайших мелочей, хотя
побуждения его поступков остаются неясными. Руководство
этими поступками зависит не от сознания, а от лежащего
в бессознательном центре, от "Оно", от болезненных
восприятий, которые в этих случаях частично проникают
в область сознания. Поведение и поступки человека,
увлекаемого бессознательным, лучше всего сравнимы
с ощущением себя во сне. Достоевский замечает, что
поведение человека в нормальном состоянии частично
тоже подчиняется бессознательному. Наши повседневные
мысли зависят не только от сознательного Я, но и от
слияния скрытых в подсознании и осознанных
представлений. "Оно" ведает намного больше, чем Я. "Оно" знает
57
многое, что в сознании в лучшем случае высвечивается
как "что-то очень неопределенное'48. Достоевский
подчеркивал, что можно многое знать неосознанно, только
чувствуя, а не сознавая.
Волевые решения принимаются целостной душой.
Человеческая натура действует в жизни вся целиком, всеми
своими осознанными и неосознанными компонентами.
Сознание и бессознательное заключают в себе много
ожиданий и надежд, обращенных в будущее и зачастую
переходящих в конкретные устремления19. Иные желания,
поскольку они вступают в противоречие с совестью или
общественными установками, вытесняются из сознания.
Сознание предполагает их существование, наполняясь
смутным предчувствием, не поддающимся, однако,
четкой фиксации. А в бессознательном эти желания (или
страхи) проявляются в полной мере. Если в дальнейшем
реализуется неосознанно желанная ситуация, то
возникает чувство, что она давно была известна. Достоевский
писал об этом неоднократно в "Бедных людях",
"Двойнике", "Подростке" и других произведениях.
Особое внимание уделял Достоевский проблеме
принятия решения. Путь от желания к поступку — длинный
и сложный. Желание сначала принимает конкретный
облик. Душа колеблется в выборе решения, что-то в ней
протестует, что-то говорит "за". Если голос совести
противостоит желанию и он достаточно силен, стыд и страх
загоняют такое желание в бессознательное, где оно
нарастает. Решение о превращении желанных целей в
поступок может осуществиться в бессознательном, но оно
связано с целостным настроем души (включая сознание).
В. Иванов говорит по этому поводу о решении, имеющем
"интеллигибельный характер". Однако введение шопен-
гауэровско-кантовского понятия в мир представлений
Достоевского способно ввести в заблуждение. Чаще
случается, по Достоевскому, что желания порождают некую
осознанную идею. Мысль и душевные побуждения
поначалу играют с этой идеей. Выразительный пример
представляет собой решение Расколышкова в "Преступлении
и наказании" убить процентщицу. Достоевский
показывает, как возникает желание, осмысление возможностей его
осуществления, приготовление к преступлению. При
осуществлении желанной цели опосредующим звеном между
осознанным решением и бессознательным выступает
коренящаяся в чувстве идея, имеющая символическое со-
58
держание, истинный смысл которого сознанием
полностью, однако, не просматривается. Эта идея (неважно,
полностью она осознана или нет) созревает длительное
время. Следующий шаг состоит в том, что в душе
(полностью или не полностью осознанно) принимается решение:
я имею право осуществить этот поступок, или: я даю себе
право его осуществить. По сути дела, к такого рода
решению о правовом оправдании преступления
сознательное Я может принуждаться невольно. Конечно, голос
совести может помешать умыслу и способствовать его
вытеснению, но "Оно" напоминает о вытесненном
содержании сознания чувствами и моторным беспокойством.
Человеком овладевает волнение, подавленность, ненависть
и т. д. Выступают неожиданные желания, связанные с
планируемым поступком, например неотступное стремление
предусмотреть все даже самые мблкие обстоятельства
готовящегося дела, которое усилиями иллюзорного
сознания обеспечивается эрзац-мотивами. Так, Иван Карамазов,
неосознанно желавший смерти своего отца, ночью, не зная
сам зачем, подслушивает его хождение по дому20. Мышкин
в "Идиоте" с большим беспокойством ловит направленный
на него потаенный взгляд Рогожина, который готовит его
убийство. В особо примечательных случаях сознание может
во сне застать врасплох "Оно" и его влечения и вырвать
у него его тайну. Но само "Оно" ясно видит и четко слышит
все, что может иметь значение для его дела, замечая
в других людях и во внешнем мире многое из того, что
проходит мимо сознания. "Оно" создает в душе
определенный завершенный образ объекта, не проясненного для
сознания; поэтому сознание не может противостоять этому
образу и позволяет ему развиться в целостное убеждение21.
Как только "Оно" созревает для принятия решения,
импульсы для осуществления поступка становятся
непреодолимыми. Сознанию остается только догадываться о всех
проявлениях деятельного "Оно" в желаниях, в
формировании символов, в чувствах, снах и необъяснимых поступках,
подготавливающих главное дело. После того как решение
принято, следует по большей части краткое обманчивое
время разрядки — ясное, радостное настроение или яркая
прекрасная греза омывает душу или, наоборот, приходит
глубокий сон без сновидений. Греза Раскольникова перед
убийством является весьма характерной: "Всего чаще
представлялось ему, что он где-то в Африке, в Египте,
в каком-то оазисе. Караван отдыхает, смирно лежат верб-
59
люды; кругом пальмы растут целым кругом; все обедают.
Он же пьет воду, прямо из ручья, который тут же, у бока,
течет и журчит. И прохладно так, и чудесная-чудесная такая
голубая вода, холодная, бежит по разноцветным камням
и по такому чистому с золотыми блестками песку"22. Как
только решение принято, идея о праве на преступление
высказана, все логические постулаты обозначены, причина
и следствие полностью сливаются и образуют целостный
и нерасчлененный феномен, как его однажды обозначил
Гёте. Следствия заключены в самой возможности. С
определенной точки зрения воля больше несвободна, так как она
повязана душевной решимостью и не воспринимает
внешние воздействия. В конце концов "Оно" вынуждает к
поступку, когда обстоятельства тому благоприятствуют.
Достоевский пишет о Расколышкове, что на преступление
он шел, как приговоренный к смерти, он ни о чем не думал
и не мог думать. Все для него вдруг было решено
окончательно. "Последний же день, так нечаянно наступивший
и все разом порешивший, подействовал на него почти
совсем механически: как будто его кто-то взял за руку
и потянул за собой, неотразимо, слепо, с неестественной
силой, без возражений. Точно он попал клочком одежды
в колесо машины, и его начало в нее втягивать"23. Но как
только поступок свершился, "Оно" отказывается от
целеустремленного и гибкого управления, и возникает детская
беззаботность. Чувства, потеряв рассудок, парализуют
душу, преступник действует не так, как нужно, и отлично
это понимает. Чувство преступности и вины овладевает
душой и сознанием преступника. Так, Иван Карамазов всю
последующую после гибели его отца жизнь мучился от
сознания своей виновности в его смерти.
Из нашего анализа следует, что сознание и
бессознательное отчетливо противостоят друг другу, что
содержание сознания способно вытесняться в сферу
бессознательного, что содержание бессознательного тщательно
сокрыто от сознания и, наконец, что сознание и
бессознательное могут противостоять друг другу как
относительно самостоятельные центры, формирующие содержание
личности. В следующей главе мы более детально
рассмотрим различные виды бессознательного —
вытесненного доличностного, анамнестического и
сверхсознательного бессознательного.
Вытесненное
бессознательное
и раздвоенность.
Символическое
изображение
Человек пытается с помощью
сознания осветить глубинную сферу
"Оно". При этом он либо следует за
душевными переживаниями и оттенками чувства, не
поддаваясь, однако, их влиянию, либо поджидает появления
на границе с сознанием элементов бессознательного,
которые он затем пытается проанализировать, чтобы
извлечь вместе с ними и что-то новое из этой области.
Достоевский называл это "усиленным сознанием". Он
предпринял такого рода попытку в "Записках из
подполья". "Я сам только недавно решился, — пишет его
герой, — припомнить иные мои прежние приключения,
а до сих пор всегда обходил их, даже с каким-то
беспокойством. Теперь же, когда я не только припоминаю,
но даже решился записывать их, теперь я именно хочу
испытать: можно ли хоть с самим собой совершенно
быть откровенным и не побояться всей правды?"24
В результате изучения этой проблемы Достоевский
пришел к следующим выводам: есть в воспоминаниях
любого человека такие, которые он открывает другим.
При этом обнаруживаются три ступени вытеснения. На
первой ступени человек не может открыться всем, а
только своим близким. На второй ступени он может открыть
своим близким или друзьям не больше того, что он сам,
и только изредка, втайне, открывает в себе "под
секретом" в особые часы глубокого самопознания. Наконец,
на последней ступени есть такие вещи, которые человек
страшится открыть самому себе и о которых он поэтому
никогда не вспоминает. Первая ступень, очевидно,
является предпосылкой второй и третьей ступени. В
дальнейшем мы будем различать только две формы вытеснения:
первую, соотнесенную с публичностью, мы назовем
социальным вытеснением, другую, соотнесенную с
собственным сознанием, — внутренним вытеснением (первая сту-
61
пень представляет собой при этом частичное социальное
вытеснение).
"...Таких вещей у всякого порядочного человека
довольно-таки накопится"25. Здесь явно речь идет как о
вытеснении, так и о скрытых душевных тенденциях. Если их
содержание еще не полностью осознано, человек с
беспокойством избегает воспоминаний о них. Если же
полностью вытесненный предмет благодаря особым
обстоятельствам (например, во сне) достигает сознания,
человек испытывает стыд и (или) отвращение. Причиной
вытеснения является страх перед сильным снижением
социальной или. интимной оценки собственной личности.
Стыд выступает здесь как симптом, сущность которого
среди прочего состоит в том, чтобы предотвратить
снижение оценки, указать на возможность этого снижения
и избежать его. Каждый нормальный человек уважает
себя за свои действительные или мнимые достоинства.
Последние несут с собой по большей части скрытое
предчувствие их ирреальности. Человеческое самоуважение
или тщеславие в большинстве случаев не позволяет,
чтобы собственная оценка была сильно принижена взглядом
со стороны или собственным признанием ошибок,
низменных помыслов и совершенных проступков.
Если все, что человек думает, желает и чувствует, или
все, о чем он думал, что желал и чувствовал,
обнаружилось, открылось бы столько низости, что это стало бы
непереносимо. Г. Гейне был прав, утверждая, что
человеку в автобиографии, предназначенной для публикаций,
невозможно сказать о себе всю правду, и Руссо в
"Исповеди" лгал на себя, когда описывал свою жизнь.
Человек не может публично сказать о себе всю правду;
спрашивается, возможно ли установить ее наедине с собой?
. Заменителем вытесненных содержаний в душе часто
выступают ложные домыслы, посредством которых
слишком сомнительные случаи и желания реконструируются
в более благоприятном свете, им придаются более
благородные мотивы. В зависимости от ведущей идеи или от
системы ценностей человек каждый раз страшится
различных поступков и установок, определенных качеств,
между тем как порочные или заклейменные обществом
в нравственном отношении вещи он не только не
отвергает, но иногда оценивает их позитивно и даже воспевает.
Таков, например, человек, который, не желая вступать
в воровской мир, тем не менее способен восхвалять гра-
62
беж. Часто вытеснение является причиной раздвоенности,
которая со своей стороны становится причиной
скрытности.
Теперь мы обратимся к исследованию различных видов
вытеснения и раздвоения. Главцой темой первых
произведений Достоевского было наряду с сентиментальной
дружеской любовью социальное раздвоение. Рассказы
"Двойник" и 'Тосподин Прохарчин" почти полностью
посвящены последнему. Эта тема присутствует и в "Бедных людях",
о чем свидетельствует страх Девушкина перед тем, что
посторонние могут что-нибудь узнать о его любви, или его
отношение к сослуживцам в конторе (ср. особенно его
письмо от 9 сентября). Позже Достоевский к этой теме
снова и снова возвращался и во второй части "Записок из
подполья" мастерски ее раскрыл. Здесь "другие" сводятся
к четырем фигурам: "в человеке существуют надлежащая
цивилизованность, готовая общественная форма, твёрдая
порядочность и паразитическая угодливость"26.
Достоевский как будто сумел выразить то, что хотел сказать Гёте
в первой части "Фауста" (сцена в погребке Ауэрбаха): "Я-то
один, а они-то все", — сжатая формула, на основе которой
подпольный человек выражает свое отношение к другим27.
Первоначально человек находится в естественных
отношениях к другим людям, существам и вещам. Так,
ребенок ведет себя по отношению к другим людям
естественно, доверчиво и открыто. В процессе жизни,
однако, как отдельный человек, так и человечество в целом
утратили эти первичные естественные связи. Люди в
какой-то мере отгородились друг от друга, они стали
многое друг от друга скрывать. Причиной социальной
напряженности стала враждебность людей и их нечистая
совесть, желание утаить что-то от окружающих. Если такое
враждебное отношение усиливается, дело может дойти до
болезни, до параноидального бреда. Так, Голядкин
в "Двойнике" выдает свою больную совесть словами
о том, что он на своей совести не имеет ничего
особенного: "Мне от вас скрывать нечего... Не интригант
— и этим тоже горжусь. Действую не втихомолку, а
открыто, без хитростей". С другой стороны, он считает, что
ему противостоят действительные или воображаемые
враги, обозначаемые как "другие", "они", "злые враги,
которые меня погубить... поклялись..."28.
Есть закон, согласно которому на отдельного
человека, имеющего дело с людьми, не связанными с ним
63
особым родством, дружбой, любовью и т. д., такие люди
действуют как коллектив. Поведение отдельного лица
суммируется с поведением группы, которая кажется
единодушным целым. Поведение каждого члена такой
группы оценивается при этом преимущественно как
выражение групповой воли и групповой "души".* Каждый
чувствует себя одиночкой, а других рассматривает как
единую общность. Здесь не поможет и мысль о том, что
любой другой должен ощущать себя одиночкой и
противостоять группе; это обманчивое чувство все равно
остается. Конечно, вследствие определенного поведения
индивида в конце концов осуществляется действительное
его включение в группу, но это уже другой процесс.
Индивид, из-за нечистой совести или внутренней
лабильности сомневаясь в адекватности своего поведения по
отношению к группе "других", склонен утрировать свою
непоЁторимость. Из этого могут развиться иллюзорные
отношения. Каждый поступок другого члена коллектива
поэтому подвергается подозрениям. Параноик видит
вокруг себя только враждебные силы.
Отвлекаясь от этого патологического случая,
обратимся все же к развитию своеобразных отношений к
другим. Если одиночка одарен незаурядным духом и
сердцем, он чувствует, с одной стороны, негативное состояние
социальной обособленности, а с другой — быстро
осознает, что в этом в определенной степени виноваты
"другие". Эти "другие" — середнячки, не понимающие и не
желающие понять ни высшее бытие, ни что-либо,
выходящее за привычные рамки; больше всего они стремятся
к тому, чтобы все люди были такими же средненькими
и несмышлеными, как они сами. Одаренный одиночка
имеет право сохранять по отношению к ним дистанцию.
И, конечно, иногда это становится необходимым для
сохранения его нравственного состояния. Он не
заблуждается, когда приходит к выводу, что "они" не стоят его
мизинца и что он в них не нуждается. Но он, с другой
стороны, страдает от раздвоения и стремится его
преодолеть. Он надеется найти взаимопонимание с другими на
более высоком уровне. Затем в свете реакции "других"
возникает желание их подчинить, отпустить им грехи или
очаровать их, т. е. в конечном счете либо полностью их
уничтожить, либо полностью с ними примириться. Это
снова нас приводит к метафизике, и в дальнейшем мы
покажем, что только подлинная любовь способна пре-
64
одолеть раздвоение. Пока же только укажем на то, что
христианская публичная исповедь там, где она
практикуется, среди прочего имеет целью помочь преодолению
социального раздвоения.
Социальное раздвоение может возникать в форме
мифа как содержание должностного бессознательного.
Достоевский описывает подобный процесс в ряде своих
произведений, где мифологический акт преобразуется
в сон. Впервые в русской литературе в поэтически
преобразованной форме такого рода миф был представлен
в повести Гоголя "Вий". У Достоевского часто
повторяется сон о том, как множество людей окружают спящего,
глядя на него и угрожая ему ("Господин Прохарчин",
"Вечный муж", "Преступление и наказание" и др.).
Всегда при этом имеет место злодеяние, убийство либо
супружеская неверность. Пример подобного сна имеется
в "Вечном муже" (речь идет об обманутом муже,
которого бывший любовник его жены в конце сна видит в той
же ситуации, в какой он его уже раньше видел в похожем
сне): "Видения все были знакомые, комната его была
будто бы вся наполнена людьми, а дверь в сени стояла
отпертою; люди входили толпами и теснились на
лестнице. За столом, выставленным на средину комнаты,
сидел один человек — точь-в-точь как тогда, в
приснившемся ему с месяц назад таком же сне. Как и тогда, этот,
человек сидел, облокотясь на стол, и не хотел говорить;
но теперь он был в круглой шляпе с крепом... Шум, говор
и крик людей, теснившихся у стола, были ужасны... Они
грозили ему руками и об чем-то изо всех сил кричали
ему... — он никак не мог разобрать. "Да ведь это бред,
ведь я знаю! — думалось ему. — Я знаю, что я не мог
заснуть и встал теперь, потому что не мог лежать от
тоски!.." Наконец, вдруг что-то случилось, как и тогда,
в том сне; всё устремились на лестницу... В комнате все
закричали:"Несут, несут!", все глаза засверкали и
устремились на Вельчанинова... И вдруг — точь-в-точь как
тогда, в том сне, — раздались три сильнейшие удара
в колокольчик. И опять это был до того ясный, до того
действительный до осязания звон, что, уж конечно, такой
звон не мог присниться только во сне!.. Он закричал
и проснулся"29. Проснулся, чтобы бороться с человеком,
пытавшимся его убить.
Человек, преступивший нравственный закон, стоит
вне человеческого сообщества, все его связи в ним разо-
3 Райнхард Лаут 65
рваны, поэтому совесть советует ему искупить вину с
помощью публичной исповеди перед "народом".
Другой существенный вид раздвоения относится
к внутреннему, интимному миру, который открыл
Достоевский при анализе позднеромантического характера, как
он был представлен во французской литературе и
философии. В юности и довольно долгое время после его
увлекали типы с подобным характером. Он нашел их
у Жорж Санд и Ж. Ж. Руссо. Санд восприняла их у Руссо,
снабдив определенными чертами байронического
характера и примешав кое-что из романов ужасов А. Радклиф.
Прототипы были найдены Достоевским также в "Эмиле"
и "Новой Элоизе" Руссо. А. Жид в своей книге о
Достоевском указал, что подобные типы восходят своими
корнями к героям Корнеля, жизнь которых состояла в
борьбе между идеалом и обыденным существованием,
отвергаемым героем30. Жид называет такое явление вслед за
Ж. Готье "боваризмом", по имени героини романа
Флобера. Мы будем называть подобный тип позднероман-
тическим характером. Этот характер привлекал
Достоевского в течение всей его жизни. Сначала он видел в нем
высшую форму европейского нравственного характера;
и только позже (в "Преступлении и наказании") он понял,
в чем дело. В образе Катерины Ивановны ("Братья
Карамазовы") он наконец окончательно его отверг и его
нравственную позицию обличил как ложь. В качестве
доказательства остроты его видения можно помимо всего
прочего обратить внимание на то, что он сам в конце
концов свел этот характер к Корнелю, как показал Кома-
рович в своем прекрасном комментарии к черновикам
последнего романа Достоевского31.
Позднеромантический характер тоскует по
нереальному, чуждому действительности идеалу. В
преувеличенной и неестественной мере он верит в человеческое добро,
в существование "прекрасного и возвышенного",
недостаточно, однако, принимая в расчет превосходящее по
силе сопротивление этим добродетелям в сущности
человека. Ожидания, предъявляемые действительности,
оказываются неисполнимыми и по необходимости ведут
к разочарованиям. А эти последние становятся причиной
того, что такой романтик впадает в мятежную крайность,
считая всех людей способными на любую мерзость, ибо
он требует больше того, что люди, за редким
исключением, могут дать. Так в своих страданиях сентиментальный
66
человек становится заложником собственных
разочарований. Втайне он знает свои слабости, поэтому не выносит
насмешек и неуважения, на которые отвечает пламенным
презрением. Упорствуя в своих заблуждениях, он
определяет этим свою дальнейшую судьбу. Он обязательно
попытается "украсить" свою жизнь эстетическими
средствами. Он так чувствителен к грубой стороне жизни, что
страдает от одной мысли об этом. Эстетический декор
нужен ему для самообмана. Если жизнь не содержит
романтических ситуаций, он придумывает их, чтобы
удовлетворить порыЁы своей души к благородству.
Такой характер страдает не потому, что должен, а потому,
что хочет страдать. Он играет страстями. Если ему это
необходимо, он играет даже против самой жизни. Она
ему вполне безразлична, если не дает средства для
достижения собственных целей. Пропади все вокруг него
пропадом, он останется при своем "неземном пении".
Внешняя напряженность соразмерна его внутреннему
душевному надрыву. Собственная натура указывает на
сильное противостояние идеалу. Высокое представление
о любимом человеке, о женщине, друге, о жизни и
собственной личности противостоит влечениям совсем иного
рода. Сентиментальный характер в конце концов
замечает это противоречие. "Усиленное сознание" начинает
проникать в свою внутреннюю жизнь и обнаруживает, что
рядом с романтическими наклонностями
(чувствительностью, жалостью к себе, ложным раскаянием и
стремлением к прощению) существуют и низменные влечения (к
примеру, жить любой ценой, непомерный эгоизм,
мнительная и сентиментальная самовлюбленность,
выражающаяся j* страхе показаться смешным, и т. п.). Он
сознает, что высокий образ самого себя, который он лелеял,
оказался насквозь ложным. Все благородные
добродетели его характера предстают как ложные. Он искал
любви, дружбы, братания с врагами только потому,, что
хотел морально подчинить, победить окружающих
людей, тиранствовать над ними; он хотел, чтобы они
восхищались и молились на него; чтобы они тем самым
служили его самолюбию и себялюбию.
И все же в идеале он имеет также нечто действительно
благородное, самоотверженное, высокое. Но так как все
это, как правило, не отделяется от ирреального,
сверхнапряженного содержания, идеал, оставаясь идеалом,
оказывается неосуществимым и эта его неосуществи-
67
мость порождает в сознании двойственность. Чем
больше человек стремится познать добро, красоту,
возвышенное, тем глубже он ныряет в свою грязь и тем больше
оказывается способным полностью в нее погрузиться.
Наряду с убеждением, что злу нельзя поддаваться,
заявляет о себе желание — и даже еще более сильное — как
раз его осуществить. Это противоречие между
сверхнапряженным идеальным притязанием и целью влечения не
является случайным, ненормальным, исключительным
явлением, оно выражает закономерную реакцию
желанного влечения против ирреального долженствования.
Глубокое раздвоение развивается из всего этого перед
глазами "усиленного сознания" в очевидное и постоянное
умонастроение32. Каждому человеку, имеющему
нравственный идеал, знакомо такое раздвоение. Стыдясь этого
и пытаясь удержать его в тайне, люди поддаются, таким
образом, социальному вытеснению, поскольку они
сомневаются перед лицом всеобщего лицемерия, бывает ли
у других людей такое же внутреннее состояние. Человек
может либо бороться против такого раздвоения, либо
удовлетвориться тем, чтобы считать его за нечто
нормальное. Сознательно или бессознательно, человек
примиряется с постоянно раздвоенным характером.
Третий крупный случай раздвоения (наряду с
социальным раздвоением и раздвоением между нереальным
идеалом и влечением) связан с разрывом между сознанием
односторонне теоретически развившегося человека и его
бессознательным. У рассудочных людей их личность все
более и более отождествляется с сознанием и рассудком,
а это приводит к тому, что они хотят построить свое
поведение исключительно на одной только теории.
Однако бессознательное часто своенравно и придерживается
иного, чем рассудок, мнения. Рассудок, со своей стороны,
не признает порывы бессознательного, так что оно
принуждается к вытеснению. В решающие моменты
возникает конфликт между Я с его взглядами и бессознательным.
Поскольку "Оно", как мы еще увидим, тоже несет в себе
моральный закон, конфликт возникает между голосом
совести, питаемой чувствами, и рассудочными
решениями33.
Итак, заключая, отметим еще раз важнейшие формы
раздвоения: 1) социальное раздвоение между индивидом
и "другими", которых он рассматривает как некое
единство; 2) личностное раздвоение между идеалом и влечени-
68
ем; 3) раздвоение между Я, отождествляемым с
рассудком, и волением целостной души, вскормленной
преимущественно бессознательным.
Все эти виды раздвоения приводят к социальному или
внутреннему вытеснению, но во всех описанных выше
случаях раздвоение не затрагивает единство субъекта или
личности. Теперь можно, как мы увидим дальше, показать
целый ряд всех возможных видов раздвоения, в том числе
и такой, при котором наступает раздвоение личности, когда
она предстает как два (в редких случаях как три и больше)
субъекта. В той мере, в какой это случается, речь идет
о болезненном состоянии, и в дальнейшем мы имеем дело
уже со случаями шизофрении. Достоевский описал
несколько случаев душевной болезни такого рода, начиная от героя
"Двойника", что представляет собой "физиологическое
исследование" шизофрении, и кончая Версиловым в
"Подростке". Первый выдающийся пример такого рода дал
Гоголь в "Записках сумасшедшего", где чиновник
вследствие комплекса неполноценности и неудовлетворенного
тщеславия кончил манией величия и шизофренией.
"Шизофрения" Версилова в "Подростке" отличается от болезни
героя "Двойника" тем, что первый свое двойственное
Я переживает как свое собственное, еще сохранившееся
единство переживающего субъекта; Голядкин же — герой
"Двойника" — признает свое разорванное Я как свой
точный портрет, который, однако, существует для него как
чужое лицо. В обоих случаях речь идет о базисном
нравственном конфликте, который вытеснил в бессознательное
безнравственное влечение: но оно оказалось не
подавленным, а, напротив, становилось все мощнее и мощнее, пока
не достигло уровня сознания уже как раздвоенное Я,
которое превратилось в свидетеля его действия. Разрыв
между идеалом и влечением комбинируется, таким
образом, с раздвоением между сознанием и бессознательным.
Но это всего лишь одна стадия развития. Ибо после того как
из глубины появляется двойник, он не одолевает прежнее
Я и оба раздвоенные Я существуют рядом друг с другом как
независимые характеры. Однако это как раз
свидетельствует о том, что первое, осознанное Я было не только
осознанным: оно, со своей стороны, имело корни также
и в бессознательном. От силы обоих Я и их взаимодействия
зависит, какое из них перевесит, или они оба останутся
рядом друг с другом. В большинстве случаев позже
появившееся раздвоенное Я оказывается более сильным.
69
Отвлечемся от случаев душевной болезни и обратимся
к отношениям "здоровых" людей. Напряженность у них
никогда не приводит к раздвоению личности, но всегда
переживается как наличие двух (а также трех и более)
полюсов и тенденций, которые сосуществуют в личности,
остающейся тем не менее единой. Относительно такого
состояния возникает вопрос, может ли в едином и
однозначном характере развиться раздвоение, или в скрытом
виде в нем уже заложены предпосылки для
многозначности. Одно из значительных открытий Достоевского состоит
в том, что он увидел в человеческом характере, в
человеческой душе, почти во всех человеческих поступках и
стремлениях многозначность. Они многозначны не потому, что
собственным сознанием или другими людьми могут
оцениваться многообразно, но потому, что они действительно
"ни то, ни это" в их раздельности, но и "то, и это" в их
одновременном единстве. Недаром Достоевский указывал,
что раздвоение — это две несходные половины существа
в соединении. Логический закон тождества нельзя
безоговорочно применять к человеческому характеру,
человеческим устремлениям и деятельности. Зачастую о человеке
и его поведении нельзя сказать, что они однозначно
определимы; на самом деле можно обозначить лишь поле
возможностей, к которому, вероятно, принадлежит такой
характер и характер такого поведения. Необходимо всегда
принципиально считаться с многозначностью человека и ее
проявлениями. Это означает, что все внешние события
несут на себе печать человеческих устремлений. Часто
можно сказать о событии, что оно осуществилось так-то
и так-то, но в то же самое время с таким же притязанием на
истину можно утверждать, что все было совсем иначе.
Никто не может заглянуть в чужую душу, не потому,
— и это следует подчеркнуть, — что он посторонний
наблюдатель, а потому, что выражающийся в поступках
характер по своей сути одновременно заключает в себе
много нерасчленимого. В раздвоенности осуществляется
дифференциация многозначного характера. Причиной
этого по большей части является то, что различные тенденции,
соединенные в едином индивиде, вступают друг с другом
в конфликт. Исходя из этой истины, Достоевский часто
придавал многозначность созданным характерам. Если
сравнить современные ему критические разборы
"Преступления и наказания", можно увидеть, что все они не
обращали внимания на эту многозначность. О характере Расколь-
70
никова было создано пять-шесть различных версий, которые
с равным правом раскрывают характерные черты его
личности. Одни видели в нем преданного своим
родственникам человека, который хочет помочь нуждающимся матери
и сестре; другие—тип гения, русского Гамлета,
стремящегося, но неспособного перевернуть мир. Его рассматривали как
человека, который отвергал ценность нравственного закона;
как человека, который пошел на преступление под давлением
социальных условий и нужды (Писарев); как того, кто
с помощью ложных средств хочет облагодетельствовать
человечество; как Христа, который не знает собственного
сердца и т. д. и т. п. Но фактически Раскольников являет все
это одновременно, и все эти свойства в нем неразделимы.
Что справедливо для оценки целостного человека,
справедливо также по отношению к отдельным его
поступкам. Они также зачастую многозначны. Наиболее
простой и нередкий случай выражается в том, что воля,
преследуя одну цель, стремится удовлетворить различные
надобности. Этот феномен свойствен почти всем людям,
самые лучшие из них не свободны от него. В поступках
и словах человека почти постоянно смешивается истина
и ложь. Лишь в очень редких случаях мотивация поступка
бывает однозначной и выявляет чистоту просветленного
характера, но, как правило, мотивы перемешаны. Тот, кто
дает подаяние, думает не только о том, чтобы
осуществить благой самоотверженный поступок, но и о том, как
этот его поступок действует на получателя дара; он
принимает в расчет, какое о нем как дарителе возникнет мнение,
как судят о нем другие люди, наблюдающие за ним, какое
вознаграждение он получит от собственного
самоудовлетворения, от облагодетельствованного им человека, от
Бога и т. д. и т. п. Душа пронизана множеством
намерений. Классический пример дал Достоевский в "Вечном
муже" (глава "Анализ"). Оскорбленный муж ищет
прелюбодея с причудливой двойной целью <— примириться с ним
и отомстить ему. "Павел Павлович хотел его убить, но...
мысль об убийстве ни разу не вспадала будущему убийце
на ум... Он приехал сюда, чтобы обняться со мной и
заплакать..." "Короче: Павел Павлович хотел убить, но не знал,
что хочет убить. Это бессмысленно, но это так". Он сам
"не знал тогда, чем он кончит: обнимется или зарежет?
Вышло, конечно, что всего лучше и то и другое, вместе"34.
Человек часто оказывается в таком состоянии, когда
он сам еще не знает, что сделает. Вследствие своего
71
"многообразия" он может выбрать неоднозначный образ
действий.
Ломимо этого случая бессознательного многообразия
намерений Достоевский упоминает еще два типичных
образца. Первоначально определенное намерение
существует ради одной определенной цели, затем возникает мысль
об иной цели, которая может быть связана с
первоначальной лишь случайно, и обе они соединяются. Другой случай
демонстрирует такие действия, -которые с самого начала
и с полным пониманием преследуют две или несколько
целей. Такого рода поступки могут стать привычкой
и отличительным признаком характера (например, Лебедев
в "Идиоте", этот современный Санчо Панса). Весьма часто
возникает также и определенный умысел, тайным образом
зависимый от подсознания, для которого сознанию
предлагаются в качестве заменителя мотивы иного рода. И тогда
поведение становится многозначным. Было бы большим
заблуждением верить, что в этих последних случаях две или
несколько идей объединяются "случайно", — это привело
бы к недооценке сложности характера.
Для нравственного характера факт многозначности
его поведения вряд ли станет постыдным, он выглядит
как нечто привычное. Совесть этому не очень противится.
Ибо по большей части одни компоненты не лучше и не
хуже, чем другие» Но при этом следует иметь в виду, что
такая ситуация возможна у всех людей. С двоемыслием
бороться очень трудно. Задача нравственной воли
состоит в том, чтобы подавить и, что еще важнее, искоренить
злые влечения. Естественно, что цель нравственной
деятельности самой по себе заключается в том, чтобы
развить в характере человека возможности для
самостоятельного освобождения от негативных влечений.
Достоевский держится мнения, что в прежние времена
у людей не было ярко выраженного многозначного
характера, они-были проще и вследствие этого имели и
односоставные взгляды. В "Идиоте", "Записках из
подполья" и в других произведениях Достоевский писал о том,
что, когда люди руководствовались одной идеей, их
чувства были более непосредственными и целостными; они
были менее циничными и м£нёе раздвоенными и
напряженными. Связанное с цинизмом двоемыслие часто
является лишь «следствием развития многосторонности.
Раздвоенная натура современного человека позволяет ему
"соединять в себе все возможные противоречия"35.
72
Тот, кто не осознает-своей раздвоенной природы, либо
следуя своему нравственному идеалу, либо имея
неразвитое сознание, очень редко осмеливается выявить
отрицаемую его сознанием другую свою природу. И тем не менее
эта последняя долгое время неосознанно прозябает в
таком человеке, при случае вдруг обнаруживая себя.
Иногда бывает, что две различные тенденции
раздельно сосуществуют в одном человеке, йе враждуя друг-
с другом. Логически они могут быть несоединимы,
оставаясь не слишком осознанными и смешанными друг с
другом. Вернее, они временно могут чередоваться: иногда на
передний план выступает одна, в другой раз — другая.
Например, Раскольников в "Преступлении и наказании"
— его поведение определяется идеей, принимаемой
рассудком за нечто иное, благодаря чувству, в котором еще
живы христианские идеалы его юности. Бывают случаи,
когда люди могут постоянно жить в состоянии
раздвоенности, вполне сознательно соединяя в себе
противоположные идеалы и плохо сочетающиеся друг с другом
стремления. Так, красота, к примеру, может предстать как в виде
содомии и похоти, так и в виде чистой красоты; есть
много людей, которые уживаются с этими чувствами.
В конце концов от такого раздвоения душа начинает
получать удовлетворение. И в сознании тоже возникает
перверсивное удовлетворение. Долговременное бессилие
души в этом случае получает освобождение в результате
решающего жизненного переворота, катастрофы, в
которую попадает человек, или прозрения, при котором все
жизненные истины становятся очевидными. Решимость
осуществить дело свидетельствует о том, что
определенная тенденция души оказалась более значительной.
Раздвоенность между влечением и идеалом вовсе не
обязательно идет рука об руку с раздвоением сознания
и бессознательного. Ф. Ницше писал: "Развитие сознания
делает невозможным совершенство... форма комедии"36.
Такое заключение, если следовать за Достоевским,
является ложным. Развитие сознания вовсе не является причиной
противоречивости идеала и влечения. Как раз при более
высоком сознании совершенство становится возможным.
К. Юнг различает в своих "Психологических типах"
Я, т. е. личность, и самость; при этом Я выступает
"только субъектом собственного сознания", а самость
понимается как "субъект всеобщей, т. е. бессознательной,
психики"37. Название одной из его работ — "Отношения
73
между Я и бессознательным9' является характерным для
такого представления38. Уместно поставить вопрос, не
выражает ли эта дефиниция менталитет европейского
культурного человека? Во всяком случае в юнговском
определении Я остается чем-то неопределенным. Ибо
нужно проводить различие между содержанием сознания
и самосознанием, подслушивающим душевные
побуждения психики, и решительными действиями сознания,
приводящими к переработке, задержкам, возвращению назад и т.
д., т. е. к тому, что связано с волевыми актами. В
отождествлении Я и сознания заключена определенная
предвзятость. Отсюда до отождествления Я и разума только один
шаг. Если мы перейдем от постановки этих проблем
к произведениям Достоевского, то увидим, что в его
образах центр личности отождествляется с чувством и
бессознательным. В подавляющем большинстве случаев его
герои живут жизнью чувства и бессознательного, как это
принято на Востоке. Это связано с тем, что такие люди
скорее, чем рассудочный человек Западной Европы,
поддаются своему бессознательному. Зачастую человек только
тогда, когда он весь погружен в свои переживания, уходит
в подсознание целиком. Достоевский обозначил это
явление как "внутреннее созерцание". Он писал: "У живописца
Крамского есть одна замечательная картина под названием
"Созерцатель": изображен лес зимой, и в лесу, на дороге,
в оборванном кафтанишке и лаптишках стоит
один-одинешенек, в глубочайшем уединении забредший мужичонко,
стоит и как бы задумался, но он не думает, а что-то
"созерцает". Если б его толкнуть, он вздрогнул бы и
посмотрел на вас, точно проснувшись, но ничего не понимая.
Правда, сейчас бы и очнулся, а спросили бы его, о чем это
он стоял и думал, то наверно бы ничего не припомнил, но
зато наверно бы затаил в себе то впечатление, под которым
находился во время своего созерцания. Впечатления же эти
ему дороги, и он наверно их копит, неприметно и даже не
сознавая, — для чего и зачем, конечно, тоже не знает:
может, вдруг, накопив впечатлений за многие годы, бросит
все и уйдет в Иерусалим, скитаться и спасаться, а может,
и село родное вдруг спалит, а может быть, случится и то,
и другое вместе. Созерцателей в народе довольно"39.
Такого рода состояния мы связываем с примитивной
медитацией, когда сознание становится совершенно
предметным: оставаясь чисто рефлексивным, оно не
схватывает рефлексию, а погружается в бессознательное в такой
74
степени, что, после того как оно вырвется из этого
состояния, не остается ничего кроме определенного душевного
настроения. В этом самозабвении сознание и душа
обретают единство. Для сравнения можно сказать, что
предметное сознание становится светильником души. Сознание все
больше убывает, свет становится скудным и на фоне
промелькнувших как тень душевных переживаний остается
вглуби неопределенный след. Здесь, в глубине, в
бессознательном и едва осознанном чувстве выносятся определения
воли, возможно, на почве раздвоенного бессознательного.
Нельзя определить и создать достоверную схему
души. В этом мы сразу убедимся, если модифицированные
Венцлем образы будем рассматривать по Фрейду и Бехе-
ру и используем результаты, достигнутые Достоевским.
Венцль предупреждает о том, что такие образы должны
рассматриваться больше, чем модели, и замечает:
"Внутреннему существу взаимосвязей больше бы
соответствовало, если бы вместо пространственно-символических
образов предпочитали бы символы природной и
сотворенной человеческой (и животной) общности"40.
Невольно приходит в голову Данте с его
"Божественной комедией", где действительно встречаются люди,
животные и даже растения, а также промежуточные
между человеком и животным формы, выражающие глубокие
символы. Мы говорили в главе о методе Достоевского,
что он в образах и событиях представляет внутренние
душевные отношения. Он обнаруживает эти качества, не
описывая их прямое подобие, а через персонажей. Все они
часто являются обозначением только одной души.
Повторим, что образы "Бесов" являют собой душевный мир
Ставрогина во всей полноте нигилизма, человекобожия
и религиозного славянофильства41. Другие произведения
Достоевского также выражают душевные процессы и
явления. Ж. Ривьер писал о творчестве:"Художник либо
доказывает глубину своих романных образов, либо
изображает их"42. Из превратностей души он либо
организует единую личность, как это делают преимущественно
западноевропейские художники; либо он прежде всего
интересуется душевными безднами и изображает их, как
Достоевский. Трудность при этом способе изображения
душевных отношений может состоять в том, что они
должны выступать как персонифицированные
человеческие существа. Иногда эти отношения должны выражаться
путем сравнения с животным и растительным миром
75
и даже неорганической природой. Такого рода трудности
Достоевский умел преодолевать. Особая заслуга Р.
Гвардини состоит в том, что он указал на это. "У
Достоевского был особый дар, — писал он, — внечелове-
ческое существование переводить в человеческое таким
образом, что здесь перед нашими глазами живет
действительный человек, но через него проступает образ того,
внечеловеческого"43. Достоевский умел изображать
ангельское и божественное. Кроме него никто (отвлекаясь
от Данте) не владел этим даром в таком объеме;
и у Данте кажется фантастическим то, что у Достоевского
было жизненно правдивым. Часто сомневаешься,
прибегает ли Данте к аллегории или дает символический образ.
Достоевский никогда не пользовался аллегорией, его
образы истинно символичны. Его творческая фантазия
могла придавать им законченную форму, не прибегая
к произволу. В этом заключается его противоположность
современному сюрреализму, который усиливает
проявления бессознательного. Здесь не место обсуждать
сущность символа. Но следует указать, что подлинный
символический процесс имеет место там, где символ
открывает для созерцания скрытые отношения, а
произвольная символика там, где в символическом процессе не
обнаруживается скрытое его проявление, "делается"
искусственно. Такое происходит в "Неточке Незвановой"
в момент надрывного объяснения: когда разрывается
сердце героини, лопнула фортепьянная струна "и заныла
в длинном дребезжащем звуке"44. Получается
искусственность. Литературная критика должна обнаруживать
такие искусственные места в художественных
произведениях. Можно заметить, что Достоевский с большой
добросовестностью стремился позже к тому, чтобы не
создавать такие искусственные ситуации. В этом величие
его творчества.
Символическое содержание, помимо персонажей,
имеется также в изображении пейзажа и среды. "Черная
вода" Малой Невы для нравственно погибшей души Сви-
дригайлова, его последняя комната являются полными
смысла образами для рассудка, живущего в собственном,
замкнутом на себе мире теории (у Мышкина и Алеши
Карамазова нет своей комнаты. Келья Зосимы открыта
для всех). Свидригайлов в ночь перед самоубийством
подглядывает через щель своей гостиничной комнаты
сцену, напоминающую ему о его больной совести, и т.д.
76
Ландшафт в произведениях Достоевского становится
ландшафтом души. Быть может, следует указать еще на
"яркие лучи заходящего солнца" и "мертвую тишину"
— образы, которые много раз возникают в решающие
моменты. Примером может служить "Неточка
Незванова" — незаконченный роман, вторая часть которого
содержит ростки всего позднего творчества Достоевского:
"Помню, что язвительная беспредметная тоска терзала
меня как будто каким-то предчувствием. Мне хотелось
плакать. В комнате было ярко — светло от последних,
косых лучей заходящего солнца... было тихо; кругом,
в соседних комнатах, тоже не было ни души"45. Это
солнце и великое молчание возникают каждый раз, когда
герой переживает решающий момент своего бытия. "Есть
в Петербурге, — говорится в "Белых ночах", — довольно
странные уголки. В эти места как будто не заглядывает
то же солнце, которое светит для всех петербургских
людей, а заглядывает какое-то другое, новое, как будто
нарочно заказанное для этих углов, и светит на все иным,
особенным светом. В этих углах... выживается как будто
совсем другая жизнь, не похожая на ту, которая возле нас
кипит, а такая, которая может быть в тридесятом
неведомом царстве, а не у нас, в наше серьезное-пресерьезное
время"46. Короче, в душевном ландшафте, с которым мы
имеем дело, яркое солнце и мертвая тишина выступают
как огромный глаз и огромное ухо, фиксирующие все
события; они удерживают и навсегда включают в архивы
памяти то, что произошло. Остается обосновать, почему
определенные, весьма интенсивные чувственные моменты
имеют столь большое влияние на нашу душевную жизнь.
Можно вспомнить удивительно частое изображение
зеркальных отражений и блики света в голландской
живописи эпохи Рембрандта, созерцая которые наша душа легко
растворяется в бессознательном. Иные вторичные
качества представляются значительными по смыслу и способу
выражения в своей интенсивности для душевных
движений. При этом важную роль играет следующее: обычное
течение времени не допускает, что в какой-то крохотный
его момент осмысливается наиболее значительная часть
душевного содержания. Но прежде чем мы можем
постичь то, что представляется нам необычным, время уже
утекло; из бессознательного возникают едва уловимые
другие душевные содержания, чтобы так же быстро
исчезнуть. Но когда в редкие моменты жизни мы впадаем
77
в весьма интенсивное внешнее (или внутреннее)
созерцание, которое может рассматриваться как символическое
и обладает устойчивостью, тогда мы мгновенно
осмысляем в еще большем объеме наши душевные импульсы.
Субъективно время течет при этом крайне медленно.
Есть минуты, когда переживают больше, чем в иные
годы. В эти мгновения душа приближается к вечности,
она как бы выходит за пределы времени. Часто такие
моменты содержат пророческие картины будущего или
освещают темные периоды прошлого, передавая
анамнестические элементы предсуществования души из сферы
бессознательного. Интенсивные вторичные качества
позволяют одновременно увидеть целую совокупность таких
моментов. Действительность становится образом, как
в зеркале, и тем самым вырывается из сферы времени.
(Можно вспомнить картину, когда Раскольников смотрит
в глубину реки и вдаль, ощущает свое прошлое в какой-
то глубине, внизу, но ему кажется что "он улетел куда-то
вверх"47.) Сознание не нуждается в переходе от момента
к моменту, а схватывает все сразу.
Вся душа предстает как своеобразный комплекс; для
того чтобы изобразить его, нужно исходить из
отношений между людьми. Но все эти изображения — не более
как символы. Достоевскому удалось проникнуть в
некоторые важные взаимосвязи душевной жизни и частично
их охватить. Однако пространственной сферы
недостаточно для объективации сложных духовных структур.
Нужно прежде всего изобразить душевные перемены, как
это бывало довольно редко в мировой литературе. Душа
предстает как нечто непрерывное, а в случае
раздвоенности распадается на отдельные центры. Тогда она больше
похожа на планетарную систему. То, что в какой-то
момент враждебно отталкивается и противостоит, в
следующий момент дружески сближается и даже сливается.„
Раздвоения многообразны, так же как и их внутренние
взаимосвязи. Многозначность и дифференциация
сменяются однозначностью. Большую часть подобных
взаимоотношений Достоевский обнаружил у себя самого. Сюда
подходят следующие слова Ницше: "Мудрейший богат
противоречиями, для каждого рода людей у него
собственный орган чувства, и в результате возникает момент
грандиозной гармонии — нам дан высокий удел! Своего
рода планетарное движение"48.
Сновидение.
Доличностное
и анамнестическое
бессознательное
Сновидение является одним из
важнейших подступов к
действительности и к душевному состоянию по
ту сторону сознания. Особенно во время болезни при
высокой температуре, в кошмарах, во время
психического напряжения сны и лихорадочные фантазии
отличаются сильными проявлениями и большой
интенсивностью. Кто является субъектом сна? Психология говорит
о "ночном Я" (Венцль, Дриш), которое является своего
рода нижней границей личности или соседствует с ней;
и хотя "Оно" не признает мое Я как подлинное, "но
каким-то образом оно связано с моим бодрствующим
Я"49. В сновидении, насколько оно становится
осознанным (только тогда и можно говорить о нем; о "снах",
которые остаются вне сознания, мы вообще ничего не
знаем), сознание, несомненно, является "теперешним".
Но оно сохраняет свою чистую рефлексивность, оно
только наблюдает, только подслушивает протекание
сновидения. Творцом событий в сновидении является не
сознание, не рассудок: "Сны... стремит не рассудок,
а желание, не голова, а сердце"50. В этой связи встает
важный вопрос, можно ли отождествлять Я и сознание,
т. е. рассудок. Ведь в снах Я проявляет себя скорее
в связи с бессознательным. Конечно, имеется особое Я,
о чувствах и границах которого можно сказать только
то, что к нему нужно относиться серьезно.
Сновидения изображаются исключительно
посредством их уподобления действительности (как это имеет
место, например, в "Преступлении и наказании").
События в них проявляют себя подчас ужасающе отчетливо по
сравнению с воспринимаемой действительностью
(достаточно вспомнить описание снов в "Вечном муже",
"Подростке", "Сне смешного человека" и т.д.). Детали
того, что снится, изображены с такой тонкостью, так
79
безукоризненно, со вкусом до малейшей черты
отработаны, так художественно достоверны, что
ощущения во сне иногда превосходят восприятие
действительности. Помимо этого в событиях сна, его предметах,
лицах, ландшафтах имеются столь удивительные детали,
преобладает такая оригинальность в том, что случается
или что говорится, происходят столь удивительные
вещи, о которых бодрствующий человек никогда не
скажет и которых не сделает; сновидение благодаря
этим удивительным моментам часто содержит большую
меру действительности. Последнее снова возвращает нас
к признакам сновидений. Причудливость сочетания
событий и необычность предметов, неожиданные
феномены побуждают нас в бодрствующем состоянии
размышлять о том, что нам снилось. Но в сновидениях
имеется ряд таких явлений, которые стоят в явном
противоречии к закономерным взаимосвязям наших
восприятий и переживаний в бодрствующем состоянии.
Законы пространства и времени не имеют значения
в мире сновидений. Произвольные временные отрывки
легко переступаются, "ночное Я" задерживается только
на тех отрезках времени и пространства, содержание
которых его интересует (ср., например, "Сон смешного
человека"). Естественная закономерность отбрасывается,
закон тяготения не имеет значения. Можно долго
и обстоятельно беседовать с умершим, хотя в то же
время во сне же точно знать, что его нет в живых. Разум
все это воспринимает спокойно и преодолевает большие
трудности, чтобы устранить даже свои собственные
законы. Так, среди других теряет значение и принцип
тождества. "Один из ваших убийц в ваших глазах
обратился в женщину, а из женщины вт маленького,
хитрого, гадкого карлика — и вы все это допустили
тотчас же, как совершившийся факт, почти без
малейшего недоумения, и именно в то самое время, когда,
с другой стороны, ваш разум был в сильнейшем
напряжении, выказывал чрезвычайную силу, хитрость,
догадку, логику..."51 Этот раздвоенный напряженный
разум позволяет выразить в высшей степени очевидную
бессмыслицу и неисполнимость сновидения, как показал
Достоевский в "Идиоте" и "Сне смешного. человека".
Очевидно, разуму присуща способность сомневаться
в действительности сновидений. Но он целиком
принуждается к служению "ночному Я" и вынужден дей-
80
ствовать по своим законам внутри мира сновидений,
допуская при этом , большие отклонения от этих
законов.
Что же проступает в сновидении? В нем нет ни
малейшей произвольной фантазии; напротив, в нем
открывается то, что лежит в бессознательном или чем
оно занято. Следует считать, что в сновидении
проявляются все сферы бессознательного, все его содержания.
Конечно, возможно также и то, что определенное
содержание бессознательного не сможет открыто проявить
себя в сновидениях. Мы же об этом ничего не зцаем. Но
нет никаких оснований утверждать, что вещи, которые
можно прояснить или узнать другим способом как
содержание бессознательного, не могут проявиться также
и в сновидении.
Прежде всего во сне обнажается многое из того, что
является вытесненным. Оно выступает при этом как
некие отвратительные неестественные, ужасные события
или предметы. В "Подростке" описывается такое,
выражающее вытеснение, сновидение. То, что находится в
бессознательном — тайное решение, безмолвное суждение,
скрытое желание, — доносится до сознания. При этом до
такого момента сознательное Я может ни на секунду об
этом не задумываться. "Откудова же это все явилось
совсем готовое?.. Это значит, что все уже давно
зародилось и лежало в развратном сердце моем, в желании
моем лежало, но сердце еще стыдилось наяву, и ум не
смел еще представить что-нибудь подобное сознательно.
А во сне душа гама все представила и выложила, что
было в сердце, в совершенной точности и в самой полной
картине и — в пророческой форме"52. Мы сталкиваемся
здесь снова с мыслью Достоевского о том, что осознание
идеи, миг, когда осуществляется суждение, — все это
может происходите только в бессознательном и в одной
из частей души, которая мгновенно готова узреть и все
последствия. Бессознательное уже обладает целостным
образом того, что с первого момента должно
осуществиться. Этот образ давно зародился в бессознательном
и теперь предстает в своем полном виде. Поэтому сон
может быть в чем-то провидческим. Бессознательное
предусматривает и последствия своего осуществления. Так
в сновидении обнаруживаются еще более глубокие вещи,
чем вытесненное содержание. Это — проявления
должностного, анамнестического и сверхсознательного бессо-
81
знательного. К. Юнг как ученый впервые указал на то
содержание бессознательного, которое проявляется при
определенных условиях и не может рассматриваться как
вытеснение. Он назвал эту сферу "коллективным
бессознательным". Содержание этого бессознательного
выступает в мифологических взаимосвязях, мотивах и образах,
которые снова и снова могут возникать повсюду и всегда
вне исторической традиции или миграции53. Главные
мифологические мотивы являются общими для всех рас
и времен. "Мне удалось показать, что ряд мотивов
греческой мифологии имеет место в сновидениях и фантазиях
душевнобольных чистокровных негров"54. Юнг считал,
что мифы и относящиеся к ним образы имеют в своей
основе всеобщее, постоянно действующее влияние,
которое привело к наследственному и наследуемому
преобразованию структуры мозга. Целый ряд такого рода
мифических образов можно найти у Достоевского. Они
обнаруживаются в его произведениях чаще всего в сновидениях,
но представлены также и в бодрствующем состоянии
— в фантазиях и переживаниях. Мы сталкиваемся
постоянно с мифами о земле, с материнским мифом, открытым
Бахофеном55, с дионисийским и орфическим мифами, с
образами рая и преисподней, с прометеевским мифом и т.д.
Есть много оснований для утверждения, что Достоевский
был подлинным истолкователем большей части этих
мифов. Так, в "Преступлении и наказании" присутствуют все
черты материнского мифа. В. Иванов указывал, что яснее
всего выступает миф как главная интуиция в
"Преступлении и наказании", когда художник следует за народной
традицией, часто того не сознавая56. В своей работе о
Достоевском Иванов сравнивает это восстание человеческого
высокомерия и самовластия против исконных заповедей
матери-земли с эсхиловскими трагедиями, обращая также
внимание на сцену ритуального очищения грешной души,
страшащейся возмездия, во время публичного покаяния
Раскольникова и на указание истинного пути спасения
через страдание. Достаточно один раз увидеть, как
обращается с мифом Достоевский, чтобы понять, что этот
материал не "сделан", т. е. не придуман, и не переработан
в результате случайной находки; речь идет о том, что
художник подслушал душу и дал ей воплотиться в
художественном произведении. Достоевскому иногда не сразу
давалось описание того, что он пережил, о чем он хотел
поведать; это особенно касается романа "Идиот".
82
Конечно, образы и повествование могут быть
обозначены как мифологические только тогда, когда
они согласуются с содержанием народных мифов. Лишь
в этом смысле было бы справедливым говорить
о чем-то коллективном. Мы все же уклонимся от такого
обозначения, исходя из двух позиций. Во-первых,
мифические образы и события, несмотря на их родство
с поведением и образами героев древних мифов,
выказывают значительные индивидуальные черты,
которые нельзя рассматривать только как незначительное
отклонение. И, во-вторых, термин "коллективное
бессознательное" близок к представлению, которое
обосновал В. Иванов, имея в виду человека, у которого
доличностное начало является весьма активным,
выступая как "орган коллективной души"57, осуществляя, по
Юнгу, "идентификацию с коллективной психикой"58.
О такой коллективной душе у Достоевского ничего не
найдешь. Он хотел, скорее, показать нам, что герои его
романов индивидуально изменяют мифологическое
содержание, что они отталкиваются от всеобщей
закономерности, которая находит в мифах свое
выражение. Нельзя считать, что личность теряет свою
индивидуальность и определяется принадлежностью к
коллективу. Поэтому для обозначения той области,
которую Юнг называет "коллективным бессознательным"
и которую в исключительной мере исследовал
Достоевский, мы избрали другой термин — "доличностное
бессознательное", который не дает повода для такой
интерпретации.
Наряду с доличностным бессознательным59
Достоевскому известен еще один его вид — анамнестическое
бессознательное. Речь идет о воспоминаниях
собственного предсуществования. При определенных
переживаниях в бодрствующем состоянии возникает очень сильное
чувство, что мы это уже однажды переживали, что это
нам уже знакомо. Из психиатрического опыта известно,
что такие переживания чаще всего встречаются у
эпилептиков. Можно совершенно точно подтвердить, что
подобные впечатления покоятся только на иллюзии, хотя
возникает вопрос, какова причина того, что появляется
именно такая иллюзия? Известно, что убеждение о пред-
существовании и возможности анамнеза широко
распространено в Юго-Восточной Азии и тем самым отличает
этот мир от нашего.
83
Феномен deja-vu (уже виденного) описывается
Достоевским в "Идиоте". Когда Мышкин читает письмо
Настасьи Филипповны к Аглае, ему приходит в голову,
что "он все это предчувствовал и предугадывал прежде;
даже казалось ему, что как будто он уже читал
это все, когда-то давно-давно, и все, о чем тосковал
с тех пор, все, чем он мучился и чего боялся, — все
это заключалось в этих давно уже прочитанных им
письмах"60. И Мышкин, и Настасья Филипповна
находились под сильным впечатлением того, что они
друг . друга когда-то видели. Достоевский, однако,
нигде не высказывал предположения о предсущест-
вовании души. Он строго следует за опытом и
придерживается границ, не переступая их. Спиритизм
и астрологию Достоевский отвергал, не доверяя им.
И тем не менее, когда он описывает deja-vu, нужно,
по крайней мере, признать, что ему знаком опыт
такого рода. Но объяснение подобного феномена
остается открытым.
В "Идиоте" в связи с проявлениями доличностного
и анамнестического видов бессознательного имеется
общее замечание Достоевского о сновидениях. "Вы
усмехаетесь нелепости вашего сна и чувствуете в то же время,
что в сплетении этих нелепостей заключается какая-то
мысль, но мысль уже действительная, нечто
принадлежащее к вашей настоящей жизни, нечто существующее
и всегда существовавшее в вашем сердце; вам как будто
было сказано вашим сном что-то новое, пророческое,
ожидаемое вами"61. В противоположность вытесненному
бессознательному, которое выражается в желаниях,
намерениях, принятии идей и т.д., содержание доличностного
и анамнестического бессознательного "уже всегда"
имеется в наличии. В "Братьях Карамазовых" Достоевский
уточняет это утверждение, исходя из того что "корни
наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных"62.
Достоевский сравнивает скрыто существующее
содержание сущности вещей с семенем, которое покоится в душе,
но может активизироваться и расцвести. Если зародыш
будет разбужен под влиянием внешнего опыта или
внутренних переживаний, он "взойдет" и оживит собой
душевную жизнь.
Пока эти зародыши не "взошли" и пока (несмотря на
их активность) они не проявились в сознании, часто их
содержание возвещается в предчувствиях. Но взаимо-
84
связь предчувствия с соответствующим содержанием
бессознательного распознается лишь позже. Как только
возникают предчувствия, человека начинают мучить
сомнения. Как будто мифы, сверхсознательное и
анамнестическое бессознательное содержат в себе великие,
всеобщие и индивидуальные "законы" психической
жизни. Эти законы являются предпосылкой спасения,
самосохранения и счастья. В предчувствии их прорывается
в душу что-то пророческое и наполняет ее надеждой.
В автобиографической исповеди "подпольного человека"
Достоевский пишет: "...сам знаю, как дважды два, что
вовсе не подполье лучше, а что-то другое, совсем другое,
которого я жажду, но которого никак не найду"63.
И "смешной человек" в своем сне знает, что ему явилось
сверхличностное видение, что все это он уже давно
предчувствовал. Сны, в которых открывается что-то от
доличностного и сверхличностного бессознательного,
оставляют после себя глубокое впечатление и долго
остаются в воспоминании. И чем радостнее или
мучительнее это сохраняющееся впечатление, тем оно сильнее.
Но мысль, выраженная в сновидении, пребывает по
большей части непонятой или сокрытой. Нет слов, нет
необходимых понятий, чтобы ее схватить. Душевное
настроение трудно передать словами и описанием. И все
же человеку являются яркие картины; интенсивные
чувства, которые он переживает, кажутся ему более
"правдивыми", чем переживания в бодрствующем
состоянии. В сне лежит что-то "мучительно-действительное"64.
От чего это зависит? Увиденные во сне свойства как
в чувственном отношении, так и в душевном настроении
проявляются более интенсивно, чем в действительности
дневного мира. Во внутреннем созерцании предметы
выглядят более искусными, отчетливыми и
оформленными. Помимо прочего предметы наших сновидений
выражают именно те вещи, которые нас занимают,
с которыми связаны наши желания. Отсюда сновидение
открывает действительно новое, значимое для нас новое,
которое мы, бодрствуя, тщетно пытаемся разгадать
и поэтому мучаемся. Кроме того, сновидения часто
позволяют увидеть нечто о действительном и
глубочайшем смысле нашей жизни.
Явления из глубины бессознательного остаются для
нас загадкой. Особенно неясными представляются
человеку сведения о сверхличностном бессознательном из-за
85
их совершенства. Возникает справедливый вопрос,
откуда возникают такого рода образы? "Смешной
человек", которому во сне привиделся райский миф,
переживание которого граничило с пророчеством, восклицает:
"Все это, быть может, было вовсе не сон! Ибо здесь
случилось нечто такое, нечто до такого ужаса истинное,
что это не могло бы пригрезиться во сне. Пусть сон мой
породило сердце мое, но разве одно сердце мое в силах
было породить ту ужасную правду, которая потом
случилась со мной? Как бы мог я ее один выдумать
и пригрезить сердцем? Неужели же мелкое сердце мое
и капризный, ничтожный ум мой могли возвыситься до
такого откровения правды!"65 Это место напоминает
размышления Декарта в четвертой части "Рассуждения
о методе", где он рассматривает представление о Боге:
"Я не мог сам создать это представление. Остается
только допустить, что оно возникло от природы... что
представление о Боте было в меня вложено". Различие
между Достоевским и Декартом состоит в том, что
Декарт приходит к Богу от идеи разума, а Достоевский
исходит из содержания душевных представлений,
которое не может получить очевидного объяснения, исходя из
опыта. Если основывать эти представления на
коллективном опыте наших предков, который должен передаваться
по наследству, то возникает вопрос, как пришли эти
предки к таким представлениям? Неужели они знали
и видели больше, чем мы, нынешние люди? Достоевский
считает Бога творцом этих представлений: "Бог взял
семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил
сад свой"66 в наших сердцах.
Сверхсознание.
Синтез
Помимо доличностного и
анамнестического бессознательного имеется
область, которой мы до сих пор
лишь касались, — область сверхсознательного, т. е.
"райского" бессознательного. Она имеет свои особые
свойства, как об этом свидетельствует ее обозначение.
Отдельные черты этой области бессознательного проникают
в наше сознание, могут осмысляться и удерживаться,
однако они указывают лишь в общих чертах тенденцию
к прыжку от состояния бессознательного к
сверхсознанию. Если бы сознание сумело вступить с этой сферой
в прямой контакт, оно бы превратилось тем самым
в сверхсознание. Поэтому нужно всегда помнить, что
предмет сверхсознательного первоначально гнездится
в нашем бессознательном и лишь при особых
обстоятельствах действительно становится сверхсознанием.
Французский поэт П. Клодель открыл и описал эту
область в своем самом значительном сочинении "Le
Soulier de satin" ("Атласная туфля"). Некий человек
("вице-король Неаполя") вслушивается в себя, и
символический образ ("донья Музыка"), олицетворяющий
сверхсознание, помогает ему открыть в себе эту сферу. Он
вслушивается сначала в смутные шумы и голоса, в дневные
впечатления, в желания вытесненного бессознательного,
затем он слышит и нечто другое... Он слышит
божественную музыку, которую не может воспроизвести, потому
что она звучит в его ушах и в его душе как божественная
гармония слов и даже не слов, а их восхитительной сути,
нерушимый порядок которой выражает истину. Клодель
ясно понял многое из сферы сверхсознания,
возвышающейся над бессознательным. Смутные голоса
воспоминаний и вытесненного образуют эту сферу. Если
сознанию удается туда проникнуть, возникает совершенная
картина иной действительности с ее нерушимым
порядком, совершенной гармонией, которые не схватываются
рассудочным мышлением; сущность этого порядка выяв-
87
ляется в душевном созерцании, в озарении, которое и есть
состояние сверхсознания. "...Действительные образы
и формы сна моего...* быда восполнены до такой
гармонии, были до того обаятельны и прекрасны, и дд того были
истинны, что, проснувшись, я, конечно, не в силах был
воплотить их в слабые слова наши"67. Созерцание этой
жизни возвещает новую, великую, обновленную, сильную
жизнь! Но в нас всегда живет только предчувствие этой
жизни. В самых прекрасных и гармоничных мгновениях
нашей жизни звучит что-то из той действительности68.
Достоевский называет "высшим сознанием", но также
и "высшим ощущением" способность познания такой
действительности. Отличие этой способности от
рассудочного знания состоит в том, что ей нет нужды в
дискурсивном анализе и следовании логическим правилам; она
осуществляется с помощью озарения. Сверхсознанию нет
необходимости что-то объяснять, ибо ему и так все ясно;
ему не нужно искать какой-то конечной достоверности,
поскольку все сомнения исчезают. Остается совершенное
знание о требованиях долга и ценности. Оно находится
в непосредственной связи со всеми вещами; оно принимает
живое участие во внутреннем бытии души; оно выражает
искреннее единение в любви. Сверхсознательное есть
средоточие любви и нравственности, а также познание
совершенного смысла бытия. В наше духовное существо
неистребимо проникает нечто из области "райского
бессознательного". Наше нравственное знание и наше созерцание
высшего смысла жизни берут начало из этого источника.
Если разрушить с ним связь, человек становится
равнодушным и начинает ненавидеть жизнь и людей. Нет сомнения,
что признание Достоевским сверхсознания тесно связано
с его болезнью — эпилепсией. Знание о мире высшего
синтеза он получил в состоянии ауры (непосредственно
предшествующей припадку). Среди многих признаков,
связанных с эпилепсией, отметим следующие: 1)
переживание сверхсознательной действительности во время ауры; 2)
переживание вины в сумеречном состоянии перед
приступом и в состоянии разбитости после него; 3)
анамнестические моменты, переживание предстоящего и воспоминание
о пренатальном существовании; 4) переживание
непобедимой воли к жизни. Все это проявляется не только во время
припадка, но может произойти и в связи с мгновенным
болезненным напряжением познавательной силы, после
которого вовсе не должен последовать приступ.
88
Сначала приведем место из "Неточки Незвановой",
которое ценно тем, что содержит начало переживаний
Достоевского, позже связываемых с эпилептическими
припадками. Это было написано в заключении еще перед
исполнением приговора в декабре 1849 г.; но здесь уже
представлены наиболее существенные моменты
пережитого, связанного со смертным приговором. "Бывают
такие минуты, когда все умственные и душевные силы,
болезненно напрягаясь, как бы вдруг вспыхнут ярким
пламенем сознания, и в это мгновение что-то пророческое
снится потрясенной душе, как бы томящейся
предчувствием будущего... И так хочется жить... и, воспламеняясь
самой горячей, самой слепой надеждой, с£рдце как будто
вызывает будущее... Моя минута именно была такова"69.
О таких моментах огромного напряжения душевных
и духовных сил Достоевский писал и в "Идиоте", и в
"Бесах". В подобные моменты познавательная способность
усиливается настолько, что совокупность духовных сил
способна переступить через границы сверхсознательного
и подсознательного. В процитированном выше месте
Достоевский совершенно отчетливо обращается к опыту воли
к жизни, который в связи со смертным приговором должен
был играть столь большую роль. Эта проблема будет
рассмотрена позже. Здесь же мы проанализируем сначала
другие группы переживаний. Ницше писал:"Понятие вины
не достигает последних оснований бытия"70. Как бы там
Ницше ни думал (очевидно, его слова объясняются его
антихристианской настроенностью), суждение
Достоевского было иным. Вина, без сомнения, была для него самым
глубоким опытом, идущим до "последних глубин".
Известные явления, связанные с течением эпилепсии, когда
больной леред аурой и после припадка страдает от чувства
вины, много раз описывались Достоевским. С чувством
вины связаны тоска, внутренний мрак и душевные мучения.
Очевидно, что здесь речь идет не о личной вине, поскольку
эпилептик часто знает, что вина может рассматриваться как
доличностное бессознательное. Чувство вины в конечном
счете обращено на две вещи — на Бога и на человека.
В "Бесах" Марья Тимофеевна (Хромоножка) изображена
как персонаж, сознание которого полностью поглощено
и исполнено страдания из-за доличностной вины.
"Виновата я, должно быть, перед ним в чем-нибудь очень
большом... вот не знаю только, в чем виновата, вся в этом беда
моя ввек. Всегда-то, всегда, все эти пять лет я боялась день
89
и ночь, что пред ним в чем-то я виновата"71. В других
случаях возникает чувство вины по отношению к
человеческому сообществу, как это было у Раскольникова в
"Преступлении и наказании". Но Достоевский вовсе не считал,
что такие чувства обусловлены болезнью, хотя и видел их
связь с эпилепсией. Скорее, болезнь открывает ту сторону
человеческой жизни, тот факт, что вина имеет существенное
значение для всех людей. Эпилептик заблуждается именно
тогда, когда он пытается сконструировать чувство вины как
вину личную, но его переживания правомерны в том
смысле, что речь идет о чувстве доличностной
бессознательной вины, которое по своей природе является
синтетическим: это—всеобщая вина, всеобщая взаимосвязь
виновности, при которой каждый перед каждым несет свою долю
вины. Здесь мы тем самым вступаем в область метафизики.
Наряду с этим опытом большую роль играют
анамнестические переживания, проявляющиеся в симптомах
эпилепсии и позволяющие многим эпилептикам вспоминать
о событиях, когда-то ими пережитых, и хорошо знать
о deja-vu. Достоевский никогда не ставил этот феномен
в прямую связь с эпилепсией. И хотя такие ситуации
переживал эпилептик Мышкин в "Идиоте", нельзя сказать,
что дело состоит только в его болезни, ибо в этом романе
Настасья Филипповна, не будучи эпилептиком,
переживала такое же. Подобного рода связи следует рассматривать
как случайные. И все же можно сказать, что при эпилепсии
состояние напряженности в канун ауры связано с
попыткой перепрыгнуть во времени от прошлого к будущему
и сделать сегодняшними давно прошедшие и будущие
события. Эпилепсия затрагивает время. Это следует из
того, что Достоевский сообщал об ауре, которая сильно
сглаживает восприятие времени, так что становятся
понятными слова Апокалипсиса о том, что времени больше не
будет. Главным переживанием в эпилепсии для
Достоевского была аура. Для этого состояния нельзя подобрать
какого-нибудь подходящего образа, можно говорить
о нем в связи с видениями и богопознанием. В этом
выражается только одно из значений ауры. В кратком миге
ауры душа достигает сверхсознания. Самоощущение и
самосознание усиливаются до высшей степени
интенсивности и непосредственности. Душе одновременно и в
неописуемой гармонии является множество созданий и вещей. Все
сомнения, страсти, недовольство исполнением долга
исчезают, и господствует полнота. Прежде всего выступает
90
— и это для нас самое главное — "молитвенное слитие
с самым высшим синтезом жизни"72. Истина видится
в совершенной целостности. Можно было бы говорить
о всепрощении и всеобщей любви, если бы эти выражения
не были слишком слабыми. Так аура, как и чувство вины
в сумеречном состоянии, ведет к синтезу собственной
личности со всем сущим.
Последний комплекс проблем, который надлежит
упомянуть, касается жизни и смерти. Кажется, что
Достоевский во время процедуры казни на Семеновском плацу
пережил состояние предэпилептического духовного
напряжения. А одно место в "Неточке Незвановой"
показывает, что уже раньше он должен был связывать проблему
жизни с предэпилептическим опытом. Видимо, во время
длительного заключения в Петропавловской крепости
чувство жизни приобрело для него особое значение.
Позже мы покажем, что у Достоевского не было ужаса или
страха перед небытием. Вообще в целостном виде
комплекс страха современной экзистенциалистской
философии у него отсутствовал. Для него не существовало
небытия, которое где-то было или как-то действовало; не
существовало и смертной души. Страх перед смертью,
считал он, покоится на вредном заблуждении. В
насильственной смерти больше всего Достоевского страшило
и потрясало насилие над душой. Его чувство жизни
глубочайшим образом восставало против этого
чудовищного насилия. Об этом свидетельствуют размышления Мы-
шкина о смертной казни, в которых заложено много
автобиографического. В тот момент, когда душе
угрожает бессмысленная и злонамеренная чуждая сила,
применяющая смертное насилие, она восстает в мощном
сопротивлении, и из неизмеримой, дремлющей воли к жизни
пробуждается порыв к жизни, свободе, познанию и
любви. Переживания такого рода относятся не только к
собственной личности; они не столь уж эгоистичны,
поскольку скорее выражают общечеловеческий инстинкт к жизни,
присущий всем людям, но существующий в индивиде
и обнаруживающийся через него. Он непосредственно
переносится на все живое, это воля к жизни для всех и вся.
Этот духовный синтез — главный результат, которым
обязан Достоевский своей болезни. Разумеется, речь идет
не о признаках и не о симптомах "святой болезни",
а о соотношении жизни и бытия вообще, которое лишь
благодаря болезни открылось ему. Ибо все эти явления,
91
за исключением, может быть, анамнестического
бессознательного, связаны не только с эпилепсией. То, что он видел
в ауре, позже открылось ему в совершенной форме и без
примеси болезни у погруженных в себя монахов
православной церкви. Свое ощущение всеобщей и присущей
каждому вины он нашел в христианстве. Синтез выступает
здесь как великая цель нормальной духовной жизни.
Синтез и раздвоение — таковы два полюса философии
Достоевского. Они выступают по отношению друг к
другу как систола и диастола, как великие противоречивые
устремления. Раздвоение — отделенность от всеобщего
бытия, замкнутость и конечная изоляция в близком к
духовной смерти небытии; синтез же есть связь с жизнью
мироздания, с Богом, со всем сущим. Главную иде*р
метафизики Достоевского можно было бы выразить
примерно в такой формуле: эпилепсия против шизофрении,
если бы обе они не были душевными болезнями, а
Достоевский не имел бы в виду развитие нормальной душевной
жизни. Преодоление раздвоения было главной задачей
философии Достоевского. С этой точки зрения следует
рассматривать его мысли, относящиеся к метафизике.
Ф. Ницше в своей первой работе "Рождение трагедии из
духа музыки" представил аполлоновское и дионисийское
начала как две великие жизненные формы античного
духа. Он резко критиковал Сократа и сократические
элементы греческой культуры. Сократ, по его мнению,
опошлил греческую духовную жизнь, поскольку он из этих
форм жизни сделал абстрактную теорию. То, чего достиг
Ницше в анализе античного мира, Достоевский сделал до
него и независимо от него (так как он его не знал),
разрабатывая проблему христианской формы жизни.
Достигнутый Достоевским результат тем более значителен,
что он включал в свое рассмотрение и языческие формы.
Обе великие стороны христианского бытия —
божественная, всеохватывающая, просветляющая любовь (как она
предстает в жизненном пути Христа и как Достоевский
пытался частично выразить ее в характере Мышкина)
и вина искупающего страдания (получившая высшее
выражение в крестной смерти Христа). "Свет с горы Фавор"
(Мф. 17:1—8) и возглас Христа: "Боже Мой! Боже Мой!
для чего Ты Меня оставил?" (Мф. 27:46) суть крайние
полюса христианской жизни. Сократическое прегрешение
по отношению к жизни состоит в отклонении от нее,
в расколе.
Часть вторая
МЕТАФИЗИКА
Воля
и свобода
Достоевский высказал собственное
понимание воли в связи с трактовкой
проблемы души. Интеллектуализм
различает воление, определяемое разумом, и
неразумную, часто противостоящую разуму страсть. Среди до-
кантовских философов, начиная с Декарта и Галилея,
только Лейбниц указал на то, что воля может
определяться посредством малых перцепций (petites
perceptiones), т. е. через бессознательное. Кант различал
эмпирический и интеллигибельный характер. В первом
воля подчиняется необходимости, она полностью
определяется причинно; интеллигибельный характер, напротив,
является свободным. К этому учению примыкал
Шопенгауэр и на его основе развил свою метафизику, в которой
отождествил волю с вещью самой по себе, обозначая
отдельные явления воли как индивидуации изначальной
воли, которая безосновна, неделима, вечна,
бессознательна и слепа. Из этого слепого порыва воли к самоосущест-'
влению возник, по Шопенгауэру, мир, в котором воля
породила интеллект как свой инструмент. При этом
снова был поднят вопрос о разделении определяемого
разумом воления и неразумного влечения, поставленный
в свое время Просвещением. Эдуард фон Гартман
связывал шопенгауэровское учение с гегелевским ходом мысли
и определял мир сам по себе как бессознательное, в
котором слепая воля Шопенгауэра сочеталась с логической
идеей Гегеля. Возвышение слепой воли снимает
предшествующий блаженный покой, но вместе с тем
благодаря воле развивается логическая идея, которая теперь
пытается с помощью разума и устранения ошибок воли
93
обратить ее на путь истины. Это учение Э. фон Гартмана
стало известно в России только к концу жизни
Достоевского, так что оно не могло на него повлиять. Философия же
Шопенгауэра была Достоевскому знакома, однако, судя
по всему, она не оказала на него воздействия. Он развивал
свой взгляд на волю как контроверзу позитивистским
и утилитаристским учениям его времени. Достоевский не
поднимал волю до уровня фундаментального
метафизического принципа. Он считал, что хотение есть
"проявление всей жизни"1. При этом, выступая в явлении, оно
выражает целостную природу человека, а не только часть
ее. Центр волевых решений отделен и независим от
разума, воля зачастую совершенно расходится с ним. Когда
душа решается на какой-то поступок, она действует как
целое, включая все — как осознанные, так и неосознанные
— компоненты. Человеческое воление определяется не
только сознательной, но и бессознательной частью души.
Разум может предлагать центру волевых решений
определенные действия, но волевые импульсы остаются все же
самостоятельными, питаясь из всех источников души.
В каждой человеческой душе имеется целый ряд хотений
— страстей, желаний, тенденций. Они могут быть
связанными или независимыми, совместимыми или
враждебными друг другу. Они могут также концентрироваться при
наличии внутреннего раздвоения в центрах разрыва. Но как
только осуществляется поступок и должен быть принят
определенный образ действий, волевой центр объединяет
все тенденции и решает, принимая во внимание все, что
соответствует осуществлению одной из них. Однако в
определенных случаях внутренняя раздвоенность всего процесса
может зайти столь далеко, что она приводит к
расщеплению воли, так что два различных центра противостоят друг
другу в своих решениях. Это сопоставимо с
шизофреническим раздвоением личности. Именно такое определение
воли стоит у Достоевского на первом месте. Для него воля
— не метафизический мир и жизнь сама по себе (как
у Шопенгауэра, Банзена и др.), он также не разделял волю
на разумно-определенное хотение и произвольное влечение,
ибо эмпирически пришел к убеждению, что воля в своих
мотивах опирается как на бессознательное, так и на голос
разума. Волевой центр является собственной, независимой
от разума частью Я, образующего средоточие
индивидуальности. Хотение в сильнейшей степени может
определяться бессознательным, оно само никогда полностью и не
94
осознается; решение же чаще всего становится осознанным,
хотя его мотивы, определенные тенденции и т.п. могут
также оставаться неосознанными.
Какова конечная цель воли? Единичная цель не может
рассматриваться как конечная. Воля всегда стремится
к осуществлению только частичной или промежуточной
цели. Достижение этой цели, удовлетворяющей часть
человеческой натуры, почти никогда не может получить
завершения, ибо либо ее исполнение чаще всего бтстает от
ожиданий, либо пробуждает новые и еще большие
желания. Тем не менее воля непрерывно стремится к удовлетво-
ренщо проявляющихся в ней тенденций, она хочет
удовлетворить все жизненные способности человека. Это
означает, что конечная цель воли состоит в осуществлении всех
присущих человеку, существенных для него стремлений.
При этом должен быть удовлетворен не только разум, но
весь человек. Достижение избранной и принимаемой
разумом цели не дает удовлетворения целостной человеческой
природе; оно предназначено самое большее для того,
чтобы удовлетворить разумную часть души. Понятие
"удовлетворить" включает в себя в первую очередь не
удовлетворение материальных потребностей (голода,
полового влечения); оно означает утоление существенных
потребностей человеческой души — жажды жизни,
стремления к любви. Удовлетворение понимается при этом не
как жизненная пресыщенность, не как безразличие, но как
полноценное воплощение и осуществление всех ожиданий
и той свободы, к какой только можно стремиться, —
свободы самой жизни и целеустремленного деяния. Как
отмечал Достоевский в "Записках из подполья", цель на земле,
"к которой человечество стремится, только и заключается
в одной этой беспрерывности процесса достижения, иначе
сказать — в самой жизни"2.
Воля не хочет подвергаться насилию, не желает
ущемляться в своих хотениях и стремлениях. Она
самостоятельна и свободна. Впрочем, действительно ли воля
свободна? Может ли она без принуждения принимать
обязательные решения? В связи с рассмотрением этого
вопроса Достоевский столкнулся с утилитаристской
философией бентамовской школы. В учении этой школы
о воле он видел особую форму этического
интеллектуализма — философского направления, почти столь же
древнего, как и сама философия. Спору с этим
направлением Достоевский посвятил свое философское сочинение
95
— главы VII—X первой части "Записок из подполья".
Сократ был первым, насколько мы можем судить по
сообщениям, кто развивал в полной, форме этический
интеллектуализм. Добродетель отождествлялась с
пониманием, ей можно было научиться. Если человек сумел
понять, что есть благо, т. е. то, что ему действительно
полезно, он не мог действовать вопреки этому
пониманию; поэтому его поступок по необходимости становился
хорошим. Эту точку зрения с некоторыми колебаниями
принял молодой Платон. Она господствовала во всей
позднеантичной философии. В средние века мы снова
встречаемся с этическим интеллектуализмом там, где
проявляется с достаточной силой воздействие античного
наследия. По крайней мере, он выступает тогда едва ли не
с такой же остротой, как у Сократа. У Фомы Аквинского,
например, воля всегда определяется через благо, и она
никогда не может сама по себе хотеть зла (nullus intendens
ad malum operatur), но пути к всеобщему добру, которые
избирает воля, остаются свободными. К тому же благо
всегда субъективно, поскольку Фома понимает его как
добро, обращенное к личности (bonum apprehensum). Bo-
ление следует за познанием — такова позиция Фомы, но
он различает ограниченное познание страдания и
дальновидное, а вместе с тем и всеобщее разумное знание; тем
самым он отдаляется от строгой формы
интеллектуализма. Джон Локк также в общем и целом придерживался
учения о различении видов добра — конкретного,
чувственного и всеобщего, духовного, причем первому он
приписывал большую силу. Только у Лейбница в отличие от
утверждения роли познания прокладывает дорогу мысль,
что не воля определяет благо и высшее благо, а жажда по
уже известному, но еще не осуществленному добру. Если
существует только знание о благе, а не жажда блага, то
иное, меньшее благо, к которому стремится человек,
может стать более привлекательным3.
Достоевский (в споре с утилитаризмом) формулирует
положения этического интеллектуализма следующим
образом: 1) человек только потому делает "пакости, что не
знает настоящих своих интересов"4; 2) когда его
просветят и тем самым откроют ему глаза на его подлинные,
нормальные интересы, человек тотчас же прекратит
стремиться к дурным поступкам, немедленно станет добрым
и благородным; 3) просвещенный человек, который
понимает свою действительную выгоду, видит ее в добре;
96
никто из людей не может сознательно действовать
против собственной выгоды; он станет по необходимости
делать добро; в здравом уме невозможно сознательно
"идти против рассудка и желать себе вредного"3.
Из этих положений и разрабатываемых при этом
проблем вытекают три философских вопроса: 1) Должна ли
воля всегда хотеть добра? 2) Всегда ли воля определяется
разумным знанием? 3) Если воля не определяется
разумным знанием и если она не предопределена к добру,
является ли она все же свободной, или она несвободна?
Ответ Достоевского на первый из этих вопросов можно
сформулировать примерно следующим образом: благо,
к которому стремится и будто бы всегда должна стремиться
воля, не является ни объективным, ни субъективным
благом. Ни один человек не станет утверждать, что воля
всегда стремится к тому, что действительно является
объективным благом; она стремится к тому, что является
субъективно хорошим, что человеку кажется добрым. Но
в последнем случае нужно различать следующее:
субъективно хорошим может быть то, что выявляется в знании как
истинно полезное; но вместе с тем также и то, что
соответствует удовлетворению произвола. О чем свидетельствует
философский тезис, что воля всегда должна стремиться
к субъективному благу (bonum apprehensum)? Очевидно, что
человек часто действует все же против того, что ему кажется
выгодным. "Что же делать с миллионами фактов,
свидетельствующих о том, что люди зазнамОу то есть вполне
понимая свои настоящие выгоды, отставляли их на второй
план и бросались на другую дорогу, на риск, на авось никем
и ничем не принуждаемые к тому... А что если так случится,
что человеческая выгода иной раз не только может, но даже
и должна именно в том состоять, чтоб в ином случае себе
худого пожелать, а не выгодного? А если так, если только
может быть этот случай, то все правило прахом пошло"6.
Конечно, всегда можно сказать, что дурное, которое будто
бы воля иногда должна желать, кажется ей благом (bonum
apprehensum). Но такое благо является ей не как
действительно нечто достойное (как "истинно полезное" в
сократовском смысле), а лишь постольку, поскольку оно приемлемо
для произвола. Ведь если известно, что оно вовсе не полезно,
оно рассматривается как зло (malum apprehensum).
Следовательно, достигнутое добро можно рассматривать только как
желанное для произвола. В результате понятие добра так
расширяется, что становится бессодержательным. Можно
4 Райнхард Лаут
97
сказать также о его фундаментальной тавтологичности:
воля должна всегда стремиться к тому, что ей самой (и
человеку) приятно, воля всегда хочет того, чего она хочет;
она всегда должна отождествляться сама с собой. Н.
Бердяев в новейшее время пытался дать этому еще одно
обоснование, утверждая, что воля может хотеть зла. Он
требовал от этики признать за волей возможность и право
стремиться не только к добру, но и ко злу. "Без свободы зла
нет нравственной жизни", — говорил он7. Достоевский,
возможно, признавал большую свободу, которая
свойственна человеку в его стремлении ко злу, но он не выводил этот
взгляд из этических требований.
Обратимся теперь к вопросу о том, должна ли воля
действовать в соответствии с разумным познанием.
Этический интеллектуализм исходит из того, что воля должна
соответствующим образом определяться в связи с
разумным знанием. При этом думают о том, что люди
благодаря просвещению могут вести себя разумно. Дело состоит
в том, чтобы принимать во внимание воздействие мотива
на волю, и тогда очень легко сделать вывод о
преобладающем воздействии разумного понимания на "истинно
полезное", а затем определять волю, исходя из этой точки
зрения. Те, кто думает так, убеждены в прямом действии
разумного познания. Другие же верят только в косвенную
определяемость воли посредством разума. Они при этом
выражают ту точку зрения, что воля несвободна, т. е. она
тем самым определяется мотивом, который действует на
нее сильнее. Кант выразил такое убеждение, когда он писал
об эмпирическом характере: "Следовательно, можно
допустить, что если бы мы были в состоянии столь глубоко
проникнуть в образ мыслей человека, как он проявляется
через внутренние и внешние действия, что нам стало бы
известно каждое, даже малейшее побуждение к ним, а
также все внешние поводы, влияющие на него, то поведение
человека в будущем можно было бы предсказать с такой же
точностью, как лунное или солнечное затмение"8. Исходя
из такой позиции, этический интеллектуализм
утилитаристской школы пришел к выводу, что формирование
человеческой волевой структуры в ее существенных
влечениях и воздействиях определяется только разумным
познанием и тем самым оно может в благотворнейшем смысле
действовать на волю. Разум рассматривает причины,
воздействующие на волю, и оказывает влияние на
человеческие поступки, предлагая воле сильнейшие мотивы, позво-
98
ляющие определять ее деятельность. Кетле впервые
пытался статистически выразить закономерности принятия
решений в индивидуальной и общественной жизни9. Он был
убежден, что в мире нравственных фактов существует
повторяемость, и хотел создать физиологию человеческого
общества. Аналогичные статистические расчеты пытались
сформулировать в Англии Бентам и Бокль.
Оба они были известны Достоевскому. В "Записках из
подполья" он прямо возражал против теории Бокля.
В набросках к "Братьям Карамазовым" также содержится
полемика с Боклем. Трудно сказать, знал ли он о работе
Вагнера "Закономерности мнимо произвольных
действий"10. В "Записках из подполья", останавливаясь на теории
Бокля, он писал: "Ведь вы, господа, сколько мне известно,
весь ваш реестр человеческих выгод взяли средним числом
из статистических цифр и из научно-экономических
формул"11. Эти выгоды суть благоденствие, богатство, свобода,
покой и т.д., а также честь, разум и т.п. Статистики исходят
из того, что все мотивы и все законы формирования воли
могут быть просчитаны. Стоит лишь открыть законы,
которым подчиняется воля, и по этим законам можно
вычислить математически все человеческие поступки и
составить таблицу на манер логарифмической или все их
занести в календарь. Достоевский приводит следующие
возражения: человеческие выгоды нельзя охватить
статистически. Есть такая "выгода", которая не только не
классифицирована, она "ни в один список не умещается"12. Ибо
понятие "выгода" скрывает в себе двойственное значение
— "полезного" и "произвольно желаемого". В последнем
случае получается, что и вред может быть полезным, коли
человек захочет быть дурным или злым. Если это так, то
воля определяется не одними только мотивами, но и
произволом; тогда нельзя составить никакого списка выгод или
пользы, чтобы осуществить какие-то статистические
подсчеты; ибо выгода есть не что иное, как воля в своем самом
свободном волении. Эта "мудреная выгода", которая не
состоит в полезности и может быть связана с вредом, не
поддается классификации. Отвлекаясь от этого, подчеркнем,
что волевое действие вообще не определяется причинно, ибо
жизнь не является операцией разума, в жизни действует
фактор свободы. Человек живет в соответствии не только
с разумом, но со всеми своими целостными, комплексными
способностями. Разум вообще не способен выявить все
мотивы, ибо он может увидеть только то, что осознанно;
99
бессознательное же он не знает. Решение воли вытекает из
единой человеческой природы — сознательной и
бессознательной, возвышаясь тем самым над разумом.
Воля и разум могут идти рука об руку. Человек сплошь
и рядом хочет только разумного. Когда это случается и до
известной степени приемлемо, такое поведение по
большей части выгодно. Но часто воля и разум действуют
вразнобой. Какое-то время воля, быть может, и следует за
разумом, но затем она из неясных оснований отбрасывает
водительство разума и преследует свои совсем иного рода
своенравные цели. И это человеку иногда очень выгодно.
Ибо вся его природа знает лучше, чем только один разум,
что ему полезно и необходимо. Теория о том, что человеку
предпочтительнее и полезнее действовать в соответствии
с разумом, совершенно необоснованна. "Одним словом,
— пишет Любак о Достоевском, — он открывает
проблему иррационального. И если верно, что указанная
проблема сегодня везде рассматривается как великая проблема
нашего времени, это определяет значение Достоевского
в духовной истории"13. М. Шелер в своей этике предпринял
попытку освободить волю от попечительства разума
и указать ей место рядом с последним. Он писал об этике
Канта: "Так, Кант, например, сводит "чистое воление"
к "практическому разуму", который, действуя
практически, отрицает тем самым изначальность акта воли. Воление
предстает здесь только как область применения логики,
а не "мысли" с ее изначальными закономерностями как
мышления"14. Шелер обходился без ссылок на
Шопенгауэра и Э. фон Гартмана, поскольку для обоих воля
изначально бессознательна и слепа. Хотя для Достоевского воля
тоже питается бессознательным, она связана с
существующими в нем тенденциями и "знаниями". К тому же она
осознана и никогда не является слепой. Этот предикат не
подходит для бессознательных желаний и страстей.
Вписывается ли Достоевский в ряд иррациональных
мыслителей? С. Перский полагал, что основная мысль
Достоевского состоит в признании иррациональной души,
которую невозможно усовершенствовать ни знанием (savoir),
ни образованием (culture)15. Мы считаем его толкование
ложным. Хотя знание, а также развитие рассудочного
мышления и разума не в состоянии преодолеть
иррациональные сферы души, но есть путь из иррациональности
посредством "высшего сознания" в сверхсознательном
созерцании действительности.
100
Рационализм надеется с помощью просвещения
улучшить человеческое существование. Он верит также в то,
что можно рационализировать действительность так, что
наступит день, когда бытие полностью будет обосновано
разумом, когда можно будет соорудить здание разума,
"хрустальный дворец".
Но уже в начале XIX в. стало складываться понимание
того, что одного только разума недостаточно для
усовершенствования людей. Определяющую роль в этом сыграл
практический опыт французской революции конца XVIII в.
Если Бентам и его школа думали прежде всего о том, как
повысить действенность разумных идей сильными, с умом
подобранными мотивациями, то Спенсер пошел дальше
и указал на значение привычек для практической
деятельности. Одного просвещенного разума недостаточно,
необходимо медленное приспособление людей к новым
условиям и новому образу жизни. А это всегда осуществляется
длительным кровавым путем заблуждений и ошибок,
которые оплачиваются вытекающими из них тяжелыми
последствиями и страданиями. Вследствие этого
негативного опыта человечество постепенно умнеет. Только когда
в процессе жизненного воспитания поколений разумное
воление станет привычным (вследствие наследования),
человечество сможет достигнуть совершенного разумного
состояния. Эта мысль также принадлежит Достоевскому.
Хотя человек уже продвинулся на путях прогресса, но он
"еще далеко не приучился поступать так, как ему разум
и науки указывают". Считается, что он должен безусловно
приучиться к тому, чтобы полностью преодолеть старые,
дурные привычки, "когда здравый смысл и наука вполне
перевоспитают и направят натуру человеческую... Тогда
человек и сам перестанет добровольно ошибаться и, так
сказать, поневоле не захочет рознить свою волю с
нормальными своими интересами". Затем настанет новое
экономическое состояние, искусно и с математической точностью
рассчитанное, так что все возможные вопросы мгновенно
исчезнут. "Тогда выстроится хрустальный дворец"16.
Достоевский считал вероятным, что воспитание
привычки со временем может иметь успех. Но вместе с тем
он был убежден, что в конце концов неразумная воля,
настойчиво стремящаяся к своей цели, добьется своего.
Ведь разум может мыслить только о том, что образует
разумную часть человека, а о его неразумной части он
судит лишь предположительно; отсюда перед нами
101
— еще не весь человек. Вследствие этого придумываемая
человеком часть его природы в существенных пунктах не
принимается за иррациональную. Налицо противоречие
между логикой разума и логикой факта, и любая попытка
сконструировать разумную действительность ведет к
крушению человеческих форм бытия. Ибо стесненное
рационализированной действительностью человечество порождает
разрушительные силы, которые сокрушают эту
действительность, а вместе с тем и все естественное в человеке. Законы
логики не являются законом для человечества. Человеку
нравится планировать и создавать рационализированную
действительность, он любит со стороны эти творения
разума, но жить по его законам не хочет. Это он
предоставляет другим, иначе сотворенным существам.
Рационализированная действительность относится не только к разуму, но
также и к привычкам, которые Достоевский соотносит не
с хрустальным дворцом, а с муравейником. Живущие
в такой постройке существа по необходимости
принуждаются к сложившимся обычаям. Можно хвалить эти обычаи за
их постоянство и здравый смысл, но при этом в такой жизни
отсутствует "процесс достижения... цели"17. Муравейник по
своей изначальной сущности для них нерушим. "...В
муравейнике все так хорошо, все так разлиновано, все сыты,
счастливы, каждый знает свое дело"18. Хотя здесь нет ни
малейшего знания о повадках человека, они, однако,
"знают" все, что для них лучше всего подходит.
Достоевский предчувствовал, что "коллективная
душа" господствует в этом массовом сооружении и
подчиняет индивида. Он говорил о "страшной силе", которая
сбивает здесь в единое стадо бесчисленное множество
людей19. Он понимал также, что постоянное воздействие
этой силы и подчинение ее закону может привести к тому,
что угнетенная душа индивида покорится этой силе,
занемеет окончательно и поверит, что жизнь в самом деле
должна быть такой. Достоевский называл эту анонимную
силу Ваалом. Законы разума, привычки и "массовая
душа" в течение столетий в конце концов смогли так
приручить людей, что они отчаялись как-то иначе решать
свои дела и в корне переменить свои стремления. По
крайней мере, пройдет много времени, прежде чем эта
цель будет достигнута.
Заменителем инстинкта, который управляет
животными, совместно живущими в стадах и других общностях,
в запланированном в масштабах нации сообществе всту-
102
пит в свои права разум. Именно он создал науку, и здесь
место инстинкта займет научное планирование, которое
заменит его. Совершенный человек этого жизненного
порядка будет действовать не под влиянием чувства,
инстинкта или совести, а исходя исключительно из
разума и его законных предписаний: такой человек, если
привержен науке, с деловым спокойствием убьет и
сделает это правильно, без всякого участия чувств.
Создание такого общества невозможно — таков ответ
Достоевского. Возражения, которые он приводит, можно
сгруппировать в три основных положения.
1. Законы разума не являются законами
действительности. Те стороны жизни, которые недоступны разуму или их
нельзя охватить с помощью логических законов, остаются
им непонятыми или ложно просчитанными. В то время как
проект кажется полностью логичным и свободным от
противоречий, в реальности эти противоречия безмерно себя
обнаруживают, и такой план опровергается самой жизнью.
2. Можно против этого возразить, что разум якобы
имеет возможность исследовать законы человеческого
сообщества, либо во всяком случае он продвинется столь
далеко, что сможет увидеть эти законы. Но он не может
понять как закономерное то, что не является
закономерным, не поддается калькуляции, и разум не находит для
таких явлений статистических закономерностей.
Достоевский утверждает, что программа совершенной
социальной организации все еще неизвестна человечеству. Наука
знает человеческую природу еще очень мало, для того
чтобы установить свободные от ошибок законы
совместной жизни. Психологические законы души человеческой
до сих пор столь мало известны, полны тайн, так мало
исследованы, что ни врачеватель, ни духовный пастырь
не могут сказать о ней что-нибудь окончательное. А
общественные законы открыть еще труднее. Наша
всемирная история — единственный пример, который имеется,
— еще не завершилась. Можно ли, однако, устанавливать
законы, если процесс остается открытым для опыта и еще
не завершился? Позитивисты и социалисты ожидают
нового единения людей и новых, математически точных,
непоколебимых законов общественного организма.
Однако наука, на которую возлагаются столь большие
надежды, едва ли в состоянии и едва ли имеет возможность
сразу же этим заниматься. Трудно представить, что она
Уже так хорошо знает человеческую природу, чтобы бе-
103
зошибочно устанавливать законы развития общества. Сам
собой здесь встает вопрос, готова ли наука тотчас же
к решению этой задачи и по силам ли эта задача для ее
будущего развития. Достоевский замечает, что эта задача,
несомненно, непосильна для человеческого знания, даже
в перспективе его будущего развития.
3. Разум принимает во внимание не всю человеческую
натуру. Высшую часть человеческого бытия —
существование субстанциальной души, религиозное отношение
человека к "другим мирам" и к Богу — современная наука
либо с ненавистью отвергает, либо предвзято, с
подчеркнутым равнодушием игнорирует. Рационалисты XIX в.
обращались только к органическим и материальным
потребностям человека; во всяком случае они ограничивались
исключительно политическим подходом. Поэтому в их
модель человеческого разума попадало весьма узкое
жизненное пространство. Однако высшие потребности
человека продолжают существовать и забвение их недопустимо.
Человеческая воля, будучи интегральной, объединяет
и "хрустальный дворец", и "муравейник"
(действительность, основанную не только на рациональности, но и на
обыденности). Глубочайшая основа для возможности
такого соединения лежит в человеческом стремлении к свободе.
Жизнь в стабильной действительности не знает
поступательного развития. Поскольку она никого не
удовлетворяет, она становится "ужасно скучной". Если любой
поступок заранее предопределен, не может наступить ничего
нового. Скука является страшной причиной вырождения
и нравственного падения человека. Из-за скуки люди
становятся грубыми, похотливыми и находят
удовлетворение в кровопролитии. Скука порождает ненормальные
и деструктивные желания, и в конечном счете увлекает
человека к разрушению им самим созданной реальности.
В дальнейшем из-за расчетливости волевых решений
и принудительных предписаний разума воля ослабевает
и в конце концов совсем затухает. Стоит только открыть
законы природы, от которых зависят наши желания и
настроения, "и уж за поступки свои человек отвечать не
будет и жить ему будет чрезвычайно легко. Все поступки
человеческие, само собою, будут расчислены тогда по
этим законам... с математическою точностию, так что
в один миг исчезнут всевозможные вопросы"20. Ибо
вместо запретных радостей человек должен хотеть только
того, что назначено и предписано. Достоевский вспоми-
104
нает о сравнении человека (принадлежащем Дидро)
с сумасшедшим пианино, когда он воспринимается как
некий механизм, как нечто вроде фортепьянной клавиши
или органного штифтика, на котором играют законы
природы. И "что же такое человек без желаний, без воли
и без хотений, как не штифтик в органном вале?"21
Волевой порыв исчезает. Человек восстает против такого
состояния воли. Главная цель воли — исполнение всех
существенных человеческих стремлений и наличие
свободного пространства для их осуществления. Воля хочет быть
госпожой самой себе, человек хочет своеволия.
"...Человек, всегда и везде, кто бы он ни был, любил действовать
так, как хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум
и выгода"22, человеку нужно только свое собственное
вольное и свободное хотение, он ценит только то, чего он
хочет, и расположен к осуществлению того, что он желает.
Его собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя
фантазия, раздраженная, хотя бы даже до сумасшествия,
— такова его собственная, им допускаемая, им
предпочитаемая выгода, "от которой все системы и теории
постоянно разлетаются к черту"23. Подчиняться только влечениям
разума человек не может, даже если бы он при этом был
сверхсчастлив. Он должен примешивать к положительной
разумности момент собственной фантазии, чтобы
доказать, что он всегда остается свободным человеком, а вовсе
не фортепьянной клавишей. То, что этот факт всегда имеет
место, кажется ему неизбежным. Своеволие защищает
самое дорогое и самое главное — нашу личность и нашу
индивидуальность. Жизнь есть нечто живущее, свободное,
а не функционирующее по законам и формулам; она ни
в коем случае не является чем-то оцепеневшим и
приводящим человека в оцепенение: "...ведь дважды два четыре
есть уже не жизнь, господа, а начало смерти"24.
Человек преступно впадает в грех только для того,
чтобы доказать свою свободу, чтобы защитить свое
право противостоять каким-то предписанным путям. Этот
грех имеет место не потому, что человек злой или
плохой, а всего лишь из простейшей и положительной его
потребности утвердиться в своей собственной свободе.
Это есть не что иное, как хвала и радостное
удовлетворение от того, что воля не связана, а свободна.
Человеческая воля находится в непрерывном поиске
своей исполненное™, своей конечной формы. Ради этой
Цели человек пересекает океаны и жертвует жизнью.
105
Вместе с тем ему страшно достигнуть этой конечной цели.
Он страшится этого так сильно потому, что, достигнув ее,
ему нечего будет больше хотеть и не к чему будет
стремиться. В основе своей страшится он не только цели: он
страшится достигнуть чего-то такого и рассматривать как
цель то, что не дает ему полного удовлетворения и в чем он
лишь сильно запутается и не найдет выхода. Мы увидим, что
человек в состоянии сверхсознания понимает, что цели
можно достичь, не страшась ее, напротив, глубоко чувствуя
полноту ее воплощения. Но если человек, достигнув
поставленной рассудочным мышлением цели, продолжает бояться,
он неспокоен и нерадостен, поскольку разум никогда не
может принести полной радости, ибо большая часть нашего
существа остается неудовлетворенной, продолжая искать
исполнения этих своих целостных желаний. Чувство
неудовлетворенности и скуки указывает, что достигнутая цель не
может быть конечным пунктом человеческого развития.
Достигнув такой цели, человек теряет уверенность и
пытается себя одурманить, чтобы не прислушиваться к внутреннему
голосу, призывающему к осмотрительности. Формула
разума, оказывается, для него не подходит. Если человека
рассматривать как прежде всего разумное существо, то
придется признать, что он "устроен комически". Люди
опасаются рационализированной формы бытия также и
потому, что она представляется нерушимой. Если же она
благодаря знанию и привычке воплотится в жизнь и люди
будут вести себя только разумно, навсегда включившись
в новый способ существования, они потеряют свою свободу.
Поэтому они ненавидят нерушимую разумную
действительность. В земной жизни страдания и сомнения, которые
человек "иногда ужасно любит до страсти", в этом новом
порядке бытия не должны иметь места. Но не угаснет ли
снова то сознание, которое порождено страданием? Ведь
"страдание,—писал Достоевский,—да ведь это
единственная причина сознания"25. Человек не хочет отказаться от
сознания, даже если оно куплено ценой беды и несчастья.
Пусть сознание является страданием, даже болезнью, оно
само поймет,—и не только из разума и из бессознательных
чувств,—что рациональные формы человеческой
реальности не удовлетворяют его. "Сознание бесконечно выше, чем
дважды два". Человек хочет выйти за их пределы.
Посредством знания он движется по пути сделанных им открытий,
расширяя свое собственное развитие, которое в случае
ограничения сознания рациональными формами снова
106
вернулось бы к полностью бессознательному состоянию,
т. е. можно было бы тогда "заткнуть свои пять чувств
и погрузиться в созерцание"26.
Человек желает вредного и глупого, чтобы "иметь
право" делать то, что он хочет. Своеволие не позволяет
ограничивать себя и притязает на свободу в добре и зле.
С тех пор как создан человек, он стремится к свободе
и всегда это стремление защищает. Он не хочет принять
движение по предписанному пути как должное не потому,
что он глуп и безрассуден. Он признает за благо только
такое добро, в котором предписанный ему путь, совпадая
с его собственной задачей, обеспечивает ему дальнейшее
движение. Разум сам по себе не верит цели, которая ему
известна. Движение к цели человек любит больше, чем
саму цель. Он мог бы любить цель больше, чем дорогу
к ней, если бы эта цель обеспечила ему выполнение всех его
желаний. Но все цели, которые предлагает разум, кажутся
ему тюрьмой, насилием над собственной сущностью,
которая выражена в конечном счете в недостижимой формуле:
"on aime mieux la chasse, que la рпзе"(любят путь больше,
чем цель" — афоризм Паскаля). Человек любит течение
жизни больше, чем знакомую цель, сказал Достоевский.
Ибо он знает о ней, что она не является целью
окончательной; жизнь ручается за то, что человек в пути и добивается
своих стремлений. Ложная цель разрушает всю жизнь,
загоняя ее в тиски, из которых трудно освободиться.
Разум, который хочет опутать человека сетью законов,
заставляет его, наконец, обратить внимание на то, где он
очутился и что ему угрожает превращение в фортепьянную
клавишу. Так человек восстает против законов.
Спенсер выдвинул теорию, что множество поколений
людей в прошлом действовали на основе опыта,
организованного априорными элементами нашего познания. Он
связывал наличное бытие указанных элементов
рассудочного мышления с наследственными нервными связями
и рамками, которые образуются в процессе
повторяющихся опыта и представлений. Постоянное повторение
опыта создает и укрепляет привычные для человека
твердые представления. Если эта теория верна, без того,
впрочем, чтобы сводить ее к аксиоме о наследственных
границах мозговой активности, то законы мышления
нельзя рассматривать как необходимые предпосылки
нашей умственной деятельности. Можно даже попытаться
подорвать убеждение о необходимости мышления. Дос-
107
тоевский рассматривал эту проблему. При этом он не
разделял различные формы законов, объединяющие в себе
разные элементы под одним названием. Но он имел дело
с законами тогда, когда в них выявлялось нечто общее
в воздействии на человека. Мы должны отличать
теоретические законы от практических и внутри этих обеих групп
— особенности естественно-научного знания и законов
практики в узком смысле слова от законов
нравственности. В то время как практические законы стремятся
исключительно к действию, теоретические законы необходимо
значимы для мышления. Нравственный запрет и
практический закон стремятся к психологическому воздействию
на человека, к психологической необходимости.
Что касается законов природы, то Достоевский был
убежден, с одной стороны, в том, что все происходит
в соответствии со строгими фундаментальными законами,
а с другой — признавал также существование свободы, как
мы еще увидим. Законы природы, строго говоря,
понимаются двояко: как всегда однозначные, однородные
проявления реальности при равных условиях и как эти отношения,
формулируемые наукой. Научные законы всегда только
приближаются к реальности, они не покрываются
фактическими отношениями. Достоевский оспаривал
утрированную веру в научные законы. В первую очередь он был
противником представителей того мировоззрения, в
котором все события понимались только с точки зрения закона
причинности; сторонники такого взгляда думали, что
смогут объяснить все действия этого закона. Законы
природы, считал Достоевский, покоятся не на закономерностях
мышления, а на опыте. Поборники нерушимости законов
природы исходят из того, что природа не заботится
о наших желаниях, что она не спрашивает, нравятся нам эти
законы или нет. Они утверждают, что мы должны
принимать эти законы так, как они существуют. Они связывают
мысль о постоянном единообразии в природе с
найденными наукой законами природы и распространяют законы
неживой материи на всеобщее бытие. Позже А.Пуанкаре
высказал предположение, что законы природы могут тоже
"стареть". Достоевский во всяком случае защищал взгляд,
что законы природы, выявленные естествоиспытателями,
суть не что иное, как чистые мыслительные формы,
предписывающие наши мысли миру как предмету нашего опыта.
Если бы Достоевский участвовал в споре между Кантом
и Юмом, он стоял бы на стороне Юма в том смысле, что
108
часто относил сочетаемость двоякого рода явлений только
к привычке считать, что повторяемые события приводят
к определенным следствиям. Это не относится, конечно, ко
всем законам; подчас реальная связь двух явлений лежит на
действительной основе. Но Достоевский не оставил
свидетельств, признает ли он, что мы имеем дело либо с
повторяемой связью явлений, либо с действительно реальными
отношениями, позволяющими открыть закономерность.
Ему была ясна перспектива, что и законы, выявленные
наукой, могут быть изменены, и что многие законы науки не
являются законами природы, оставляя большой простор
для деятельности воли. И хотя индивидуальная воля
неспособна действовать против природной закономерности,
поступательные устремления человечества в конце концов
приведут к тому, что оно овладеет законами природы. Для
тогдашнего естествознания эта мысль казалась ненаучной
и абсурдной. В последнее время наука подошла ближе к этой
точке зрения, особенно в отношении органической жизни. Во
всяком случае, принципиальное значение имеет тот факт,
что Достоевский указал на возможности познания в
определенных пределах природных законов душевной жизни.
Достоевский видел в человеке существо, которое борется
за свою свободу. В той мере, в какой человек может постичь
законы природы, он сознательно начинает против них
бороться. Конечно, отдельный человек не может преуспеть
в этой борьбе. Непробиваемая стена остается
непробиваемой, хочет он этого или нет. Он должен был признать
наличие законов де-факто, если он не хотел подвергнуть
опасности или погубить собственное существование. В
экстремальном случае стремление к своеволию может
привести к тому, что человек скорее пожертвует жизнью, чем
примирится с подчинением этим законам. Если такой шаг
сделать нельзя, не остается ничего другого, как подчинить-
ся.'Тазумеется, я не пробью такой стены лбом [реальные
законы природы], если и в самом деле сил не будет пробить,
но я и не примирюсь с ней потому только, что у меня
каменная стена и у меня сил не хватило"27. Это, однако, не
означает смирения. Человек лишь констатирует, что его сил
недостаточно, чтобы преодолеть препятствия. Ему остается
только отказаться от притязаний де-юре. Но воля как
последняя инстанция, напротив, способна настаивать на
протесте. Отказ от признания закономерной
необходимости для воли столь же характерен, как и притязание на право
свободы.
109
Намного легче для человека ополчиться на
практический закон, нравственный запрет или психологическую
привычку. Ибо, выступая против подобных норм, он
постоянно доказывает свою свободу. С другой стороны,
люди всегда пытаются особыми средствами придать
запретам и практическим законам действенность, будь то
угроза наказания, вознаграждение или угрызения
совести. Но если даже человеку внушить, что эти законы
необходимы и что он должен страшиться их, он тем не
менее станет вести себя иначе и в противоречии с ними
только для того, чтобы доказать свою свободу. Он будет
делать все, чтобы настоять на своем.
Однако свобода человека выражается не в этом. Он
застает себя в мире как природное и сотворенное существо.
Он не сам сотворил себя, не он выбрал условия своего бытия.
Он осужден на горе и страдания и, как познающее существо,
задает себе вопрос: почему, на основании какого закона
породила меня природа, по какому праву она, не спросясь
меня, сделала меня существом познающим? Можно
возразить, что эти вопросы не имеют смысла, что нет ни лица, ни
интеллекта, которые бы сотворили человека и которые бы
могли дать ему отчет; нет никого, кто это сделал, и нельзя
никого винить, поскольку все это существует под
воздействием слепых, непостижимых законов природы. И все же
человек поднимает эти вопросы, хотя природа "со всей
очевидностью" не только отказывает ему в праве требовать
от нее отчета, но вообще ему не отвечает — и не только
потому, что не хочет, но и потому, что не может ему
ответить. Но если Бог — творец и высший судия этого
сотворенного мира, человеку открыта возможность ставить
этот вопрос о праве; далее он может поставить вопрос, зачем
все это надо. "Для чего при этом понадобилось смирение
мое?"28 Возможность ставить вопрос о значении своего
собственного существования есть величайшая и конечная
свобода человека. Он не может, как растения и животные,
принять условия наличного бытия, он может бороться не
только против отдельных условий своего существования, но
и ставить вопрос в целом, независимо от того, нужен этот
вопрос или нет. Если он не получит ответа или не
удовлетворится им, он способен прекратить свое существование.
Собственное бытие заключено в самом человеке.
Здесь встает последний вопрос: свободен ли человек
вообще? Не поддается ли он иллюзии, когда считает себя
свободным в своем непосредственном опыте, когда вооб-
110
ражает, что сам принимает решения? Не является ли он,
сам того не ведая, жертвой неизвестной
предопределенности, когда защищает свою свободу, когда приписывает
себе и осуществляет право признания закона, право на
свободное определение своего воления и право
спрашивать о смысле бытия?
В то время как детерминисты в споре о конечных целях
защищали значение принципа причинности для сознания
и воли человека, указывали на наследование, на влияние
среды и в новейшее время, на опыт, свидетельствующий
о постгипнотических поступках, индетерминисты
основывались на непосредственном переживании свободы
собственных решений и на смысле этических требований
и этических впечатлений. Они видели в
постгипнотическом поведении лишь особые случаи — исключение,
которое, подобно галлюцинации, не противоречит
повседневному чувственному опыту, не доказывает
обусловленность воли. В эпоху Достоевского детерминистскую точку
зрения выражали позитивизм и социализм. Достоевский
формулирует такую позицию следующим образом: воля
подчиняется в своем полном объеме закону причинности;
самая сильная мотивация осуществляется по
необходимости.
Значение Достоевского состоит в том, что он избирает
свой особый путь для решения этой проблемы, который
в методологическом отношении тесно связан с его
философией. Доказательство, исходящее из непосредственности
пережитого, и постулирование этической свободы он не
считает существенными моментами, позволяющими
принять утверждение о свободе воли. Тезису о непосредственно
пережитом можно противопоставить и прямо
противоположный опыт. Мы говорили раньше (в главе о вытесненном
бессознательном), что человек, начиная какое-то действие,
часто находится под впечатлением, что он его уже
предчувствовал, что нечто подобное уже было. Речь идет при этом
либо об исполнении такого стремления, ожидание которого
предчувствовалось, при исполнении которого внезапно
осознаются прежде неотрефлексированные предчувствия
и надежды; либо о начале такого действия, которое было
заключено в бессознательном (вытесненном), было желанно
и санкционировано им. В обоих случаях возникает сильное
чувство, что действие должно произойти именно так, что
для его осуществления необходимы наши собственные
решения и действия. Если человек взволнован и страдает
111
или если бессознательная часть души захвачена эротической
страстью, планируемым преступлением и т. п., тогда
вступает в свои права то, что Достоевский называл
отравленной фантазией. Бессознательное, а также сознание
изображают предмет ожиданий и вожделений так живо
и привлекательно, что человеком, ожидающим данного
события, дополнительно овладевают еще более сильные
чувства: оно должно произойти именно таким образом,
я должен вести себя так! Мы видели при наблюдении за
деятельным бессознательным, что в этой сфере может
проявляться гораздо большая решимость как
непререкаемый импульс к действию. Правда, речь идет в таких
случаях об исключительных явлениях, в которых
обнаруживается реальное сходство с постпшнотическим состоянием,
так что можно говорить об автосугтестии. Таким образом,
роль непосредственного переживания в понимании
Достоевским свободы воли была не однозначной. Доказательство
или, лучше сказать, постулирование свободы воли на почве
этики не согласуется с последовательным детерминизмом.
Достоевский указывает при этом, что желание порождает
мысль, что вместе со свободой воли, если быть
последовательным, должна быть отброшена и этика и что совесть
вместе с чувствами раскаяния, вины, воздаяния и долга суть
обветшавшее наследие, доставшееся человеку со времен
фетишизма.
Достоевский обосновывает свою позицию косвенно, он
не утверждает, что определения воли выступают как свой
собственный, беспричинный фактор, воздействуя на
мотивацию; что каждое событие есть продукт воздействия и
противодействия тех, на что или на кого осуществляется
воздействие; что Я, принимающее решение, ни в коей мере не может
быть отождествлено с унаследованным или
сформированным под влиянием воспитания и переживаний прошлого
характером. Его доказательство состоит в указании на то,
что человек не может жить без убеждений в собственной
свободе. Сначала он выдвигает тезис, согласно которому
воля якобы полностью детерминирована. Допустим, что
человек познал детерминацию и математически или
естественно-научно может доказать ее. Следствием такого знания
будет то, что человек тотчас почувствует себя свободным от
велений нравственного закона. Это следствие не бросается
в глаза либо потому, что любой детерминист
бессознательно остается индетерминистом и частично по-прежнему
руководствуется нравственными требованиями; либо пото-
112
му, что он сознательно непоследователен и на практике ведет
себя иначе, чем ему предписывают теоретические установки.
Попробуйте представить себе общество людей, полностью
независимых от уз нравственности, не подверженных
воздействию совести (даже бессознательно), и вы увидите
последствия такого учения!
И все-таки не сюда направлена главная мысль
Достоевского в связи с вопросом о свободе воли. Он выдвигает на
передний план другой подход. Как только человек, до сих
пор воображавший себя свободным, замечает, что он
в определенном плане ограничен или стеснен, он тут же
устремляется против этого ограничения. Люди мирятся
с существующими законами природы, потому что в этом
ограничении им остается большое поле свободы. Если оно
перекрывается из-за условий, влияющих на кажущиеся
свободными действия человека, и эти условия осознаются,
человек воспринимает все это как непереносимое бремя. Он
немедленно пытается отвергнуть то, что он должен делать
согласно закону, чтобы настоять на своем. Если он видит,
что не может достичь своей цели, он теряется и впадает
в панику ради того только, чтобы настоять на своей
свободе или, по крайней мере, уничтожить несвободу. Он
проклинает виновника, мешающего его цели, будь то Бог,
мировая душа или слепые законы природы. Уже этот акт
отличает человека от других живых существ. Осознавая
сущность вещей, человек тем самым оказывается
независимым от закона причинности, поскольку он способен
проверить его и указать на его значение. Только человек может
отклонить собственное призвание. Докажи ему, что его
напасти, осознанное им противодействие и т.п. — все это
вытекает из закономерности, он нарочно впадет в
произвол, сумасшедшим сделается, потому что не захочет
выносить несвободу. Поскольку несвобода непереносима для
человека, он и не может ее переносить. Человек должен
быть свободным. Мыслящее, познающее существо и
последовательный детерминист не могут переносить друг друга,
ибо детерминизм разрушает бытие мыслящего человека.
Итак, свобода необходима для существования человека,
если ее познание продвинуто столь далеко, что он может
осмыслить достаточно основательно причинную связь
с собственной волей. Следовательно, "плоды",
практические следствия свидетельствуют об ошибочности
детерминизма. Имеется негативное практическое доказательство
того, что теоретическое знание не может привести к унич-
113
тожению или к серьезному ущемлению человеческого
бытия. Если все же принять понятие детерминизма, то
мы вынуждены будем признать, что появление мыслящего
существа есть "бесстыдная попытка" природы
испробовать, может ли это существо выдержать такие условия,
и что такая попытка закончилась неудачей.
Такова позиция Достоевского, который был убежден
в существовании свободы воли, но в то же время
сознавал ее ограниченность, ибо ни в коем случае не принимал
идеи об абсолютной свободе. Там, где предпринимается
попытка достичь абсолютной, метафизической свободы,
следствия, как мы увидим, будут самыми
разрушительными. Воля многообразно связана с существующими
природными закономерностями и имеет ограниченную
свободу действия в сущностном поле нравственного
выбора между добром и злом. В.Иванов различал в
произведениях Достоевского три уровня поведения: уровень
внешних проявлений — случайных событий, на котором
господствует принцип причинности; уровень
психологических явлений, на котором человек побуждается к
действию "связью пережитых содержаний" и "волной
возбуждений", т. е. мотивами, аффектами, влечениями и т.д., и,
наконец, уровень "метафизической антиномии", где
свободное воление в определенные моменты жизни
осуществляется в своем конечном нравственном содержании29.
Как мы увидим, область свободы Достоевский понимал
гораздо шире, чем считал В. Иванов, и обозначение
"метафизической антиномии" для сферы нравственных и
лежащих в основе бытия решений воли не слишком
подходит. Но сущность мысли, которую Иванов выражает,
совершенно ясна: наряду с закономерным воздействием
на совершающиеся события естественно-необходимых
связей, а также с факторами характера и его реакций
существует поле свободных человеческих решений.
Разумеется, воля может быть одновременно несвободной
и в тех случаях, где свободное решение возможно. Но
такая несвобода, если человек ее осмыслит, оказывается
столь непереносимой, что она приводит его на грань
безумия и самоубийства.
Воля
к жизни
Решающим поворотом в жизни
Достоевского были его переживания на
Семеновском плацу перед грозящей
ему казнью. Мы обязаны точно исследовать все, что
в эту минуту происходило с Достоевским и в чем состоит
приобретенный им новый опыт. Казнь 22 декабря 1849 г.,
которая по царскому указу в последний момент, когда
часть осужденных была уже в смертном платье и
привязана к столбам в ожидании расстрела (Достоевский
находился во второй группе), была заменена каторгой.
В духовном развитии Достоевского этот день стал
переломным. До этого события Федор Михайлович
принадлежал к романтическому, а позже к реалистическому
искусству. После ритуала казни он пережил полное
духовное обновление, в котором получило выражение
своеобразное мировоззрение, определившее его уникальное
положение, не имевшее аналогов среди современников.
Достоевский в романе "Идиот" (1868) дал подробное
описание переживаний идущего на казнь, в котором
современная ему критика увидела много
автобиографического. Прежде чем привести это место, мы должны
обратиться к факту, имеющему решающее значение
в осознании переживаний приговоренного к смерти,
в высшей степени четко описываемых Достоевским за
несколько месяцев до дня казни. Мы найдем это описание
во второй части "Неточки Незвановой" и в письмах
к брату Михаилу Достоевскому.
Важнейшее место из "Неточки Незвановой" мы уже
приводили в связи с анализом значения опыта эпилепсии
для духовной жизни Достоевского. Писатель, очевидно,
пребывал в состоянии такого душевного напряжения,
которое обычно предшествует эпилептической ауре. Он
говорил там о горячей слепой надежде, переполняющей
сердце, всеми своими ожиданиями устремленное в буду-
Щее,"со всей его тайной, со всей неизвестностью, хотя бы
115
с бурями, с грозами, но только бы с жизнию"30.
Примечательно, что эта оценка жизни дается в момент, когда
угрожает приступ падучей. Э.Тернейзен, мне кажется,
правильно связывает переживания смертника с
эпилептическим комплексом31.
Помимо "Неточки Незвановой" Достоевский дважды
в своих письмах к старшему брату говорит о новом
понимании воли к жизни. В письме от 18 июля 1849 г. из
заключения говорится:"!} человеке бездна тягучести
и жизненности, и я, право, не думал, чтоб было столько,
а теперь узнал по опыту"32. Несколько месяцев спустя он
писал (14 сентября 1849 г.):"Я ожидал гораздо худшего
и теперь вижу, что жизненности во мне столько запасено,
что и не вычерпаешь"33.
Непосредственно после возвращения в
Петропавловскую крепость после несостоявшейся казни Достоевский
в письме к брату писал о том поучительном, что вытекает
из этого события. Сказанное им там кажется развитием
тех размышлений, которые он высказывал раньше.
Письмо свидетельствует также о том, что во время казни он
всеми своими духовными побуждениями был обращен
к жизни, что, собственно, весьма понятно."Брат, — писал
он в нем накануне отправления на сибирскую каторгу,
— я не уныл и не упал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь
в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди,
и быть человеком между людьми и остаться им навсегда,
в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть
— вот в чем жизнь, в чем задача ее. Я сознал это. Эта
идея вошла в плоть и кровь мою" (22 декабря 1849 г.)34.
Все эти размышления теснейшим образом связаны
с его поздними сочинениями, в которых он
рассматривает волю к жизни. Мысль о значении жизни проходит как
важная проблема через весь роман "Преступление и
наказание". Но только в "Идиоте" Достоевский решился
прямо описать свои переживания во время казни. Мы
заимствуем это описание казни из "Идиота" и более
поздних вещей.
Достоевский придавал большое значение
переживаниям приговоренного к смерти потому, что в эти минуты
человек непосредственно осознает момент своей смерти.
Ибо здесь смерть должна наступить наверняка и жизнь
оборвется. Во всех других случаях смерть может быть
отодвинута и даже устранена; нет никакой уверенности
в том, что она уже здесь, что она пришла. Поэтому
116
отношение к смерти не столь серьезно, как у осужденного
на казнь, которому известен час своей кончины. "Может
быть, и есть такой человек, которому прочли приговор,
дали помучиться, а потом сказали: "Ступай, тебя
прощают"35. Этим замечанием Достоевский указывает на
автобиографические моменты последующего описания казни.
Непреложность факта, что приговор будет исполнен
без промедления, наполняет душу приговоренного
ужасным мучением. "Главное то, что наверно"*6. Этот факт
делает путь к смерти несравненно более мучительным,
чем какой-либо другой род смерти."Надругательство над
душой, больше ничего! Сказано: "Не убий", так за то, что
он убил, и его убивать? нет, это нельзя"37. "Об этой муке
и об этом ужасе и Христос говорил" ["Дух бодр, плоть
же немощна" — Мф. 26:41]. Этим словам Достоевский
дает свою интерпретацию. Сознание неизбежности
смерти по приговору несоизмеримо ужаснее, чем гибель от
ножа разбойника или угроза смерти, которой
подвергается воин на поле боя. В обоих случаях сохраняется
надежда на спасение "до самого последнего мгновения". Вот
эту-то последнюю надежду у осужденного отнимают.
И ни один человек не может вынести эту муку перед
казнью. Это надругательство над душой, больше ничего!
Говорят, что введение гильотины во Франции делает
казнь гуманнее, потому что смерть менее мучительна. Но
Достоевский устами князя Мышкина опровергает это
мнение:"...Ведь главная, самая сильная боль, может, не
в ранах, а вот что вот знаешь наверно, что вот через час,
потом через десять минут, потом через полминуты,
потом теперь, вот сейчас — душа из тела вылетит, и
человеком уже больше не будешь, и что это уж наверно".
Самые умные, сильные, бесстрашные люди не переносят
эти муки и плачут. "Ну кто же со страху плачет? Я и не
думал, чтоб от страху можно было заплакать не ребенку,
человеку, который никогда не плакал, человеку в сорок
пять лет. Что же с душой в эту минуту делается, до каких
судорог ее доводят?"38 Ужас и возмущение вызывают
тошноту и рвоту. Приговоренный остается при этом
в полном и даже более ясном рассудке, его
наблюдательность усиливается, сознание не прерывается и не
поддается бессилию. Но разум не в состоянии изменить
происходящее. Осужденный, зная, что выхода нет, до
последней минуты высматривает спасение. Он исполнен
неописуемого ужаса, его мучает мысль, что люди безуча-
117
стно глядят на приговоренного, в то время как он все еще
не верит, такой же человек, как они. Странным образом
дорогой к казни ему бросаются в глаза мелкие
подробности, занимая и концентрируя на них его сознание,"зеле-
ная крыша или галка на кресте". Таким отвлечением
сознания бессознательное помогает ему, давая занятие,
которому он предается с лихорадочной поспешностью.
Его чувства в высшей степени напряжены, он пребывает
как бы во сне, его переживания приобретают мистический
характер. Сверкающие точки, резкие звуки, необычные
запахи — все замечает он. Чувство пространства —
времени изменяется. Пять минут кажутся бесконечно
длинным временем, короткий путь к месту казни
неизмеримым, когда можно переоценить и пережить всю свою
жизнь. Преступнику кажется, что в эти пять минут он
проживет столько, что "сейчас нечего и думать о
последнем мгновении" и что "еще бесконечно жить остается".
"Что, если бы не умирать! Что, если бы воротить жизнь,
— какая бесконечность! И все это было бы мое!"39 Эта
мысль перерождается в такую злобу, что осужденный
хочет, чтобы его уж поскорее застрелили. Но в то же
время он ощущает огромную интенсивность жизни. В
романе "Идиот" Мышкин рассказывает о таком ощущении
приговоренного к смерти:"эти пять минут казались ему
бесконечным сроком, огромным богатством; ему
казалось, что в эти пять минут он проживет столько жизней,
что еще сейчас нечего и думать о последнем мгновении,
так что он еще распоряжения разные сделал..."40
Поскольку в дальнейшем столь интенсивные переживания
были невозможны, Достоевский возвратился к
привычной жизни. Но воспоминание об этой минуте
сильнейшего переживания оставалось; и оно усиливалось из-за
аналогичных переживаний при эпилепсии.
Нужно упомянуть еще одно место из сообщений о
пережитом: приговоренный непосредственно перед казнью
все знает и все помнит. Что он помнит? Что знает? Мы
начнем с анализа переживаний.
Первое и важнейшее в человеке есть знание о могучей
воле к жизни. В каждого человека вложен огромный
волевой потенциал. Мы обладаем внутренним
богатством, сила которого не приходит извне. Перед лицом
неизбежной смерти потрясенный человек обнаруживает
в себе дремлющие силы. В каждом человеке есть
потенции, которые, реализуясь, преследуют определенную
118
цель. Большая часть их не получает в этой цели никакого
удовлетворения, но они благодаря ей выходят наружу.
Ввиду отсутствия цели, которая бы лежала выше
достигнутой, стремления засыпают, они истощаются, а, может
быть, иногда и угасают. Человек удовлетворяется второ-
и третьестепенными целями и их осуществлением.
Достоевский описывает такое состояние как состояние
подавленности, как угасание сердца. И все же возвышающиеся
над этим состоянием и вытекающие из него тенденции
продолжают существовать. Душа все время ожидает (по
крайней мере, бессознательно) невыразимых свершений.
Все вместе эти тенденции определяют волю к жизни,
которая подталкивает человека к развитию и
совершенствованию, к новым идеям и идеалам, к тому, чтобы
превзойти уже достигнутое. Не сама поставленная цель,
а исполнение большой жизненной надежды есть
подлинная задача воли к жизни. Когда мы в состоянии
поставить перед собой новую цель, которая может
соответствовать нашим предвидениям и бессознательным
ожиданиям, дремлющая воля к жизни пробуждается и влечет
человека к ее осуществлению. Если исполнилась надежда,
тем самым осуществилось задуманное волевое решение.
"О, будьте уверены, что Колумб был счастлив не тогда,
когда открыл Америку, а когда открывал ее; будьте
уверены, что самый высокий момент его счастья был,
может^Зыть, ровно за три дня до открытия Нового Света,
когда бунтующий экипаж в отчаянии чуть не поворотил
корабля в Европу, назад! Не в Новом Свете тут дело,
хотя бы он провалился. Колумб помер, почти не видав
его и, в сущности, не зная, что он открыл. Дело в жизни,
в одной жизни, — в открывании ее, беспрерывном и
вечном, а совсем не в открытии!"41 Это место, несомненно,
свидетельствует о двух вещах. Первое: речь идет не
о твердой цели в ее качественной определенности, но об
осуществлении фундаментальной тенденции — об
освобождении дремлющей воли из безвыходного тупика в
великом целостном акте ее самоосуществления. И второе:
речь идет не об эгоистической воле к жизни, которая
заботится только о поддержании собственного
существования. Не об этом идет речь, не о собственном
существовании, а о том, что предназначено всем людям: каковы
мы есть и кто вместе с нами. Ибо в такой воле все люди
друг с другом связаны. Из этого следует, что
осужденный, ужасаясь факту отделенности от людей, тому, что
119
люди равнодушно глядят на него и на его
насильственную смерть, все же остается связанным с ними, потому
что он — "человек среди людей" и таковым хочет
оставаться всегда.
Приговоренный перед смертью "знает", что
заложенная в нем мощная воля к жизни осталась
неосуществленной. Об этом отчетливо свидетельствует рассказ о
графине Дюбарри: "Была такая графиня, которая, из позору
выйдя, вместо королевы заправляла и которой одна
великая императрица, в собственноручном письме своем, "та
cousine" написала. Кардинал, нунций папский, ей на леве-
дю-руа... чулочки шелковые на обнаженные ее ножки сам
вызвался надеть, да еще за честь почитая... Умерла она
так, что после этакой-то чести, этакую бывшую влас-
телинку, потащил на гильотину палач Самсон, заневин-
но, на потеху пуасардок парижских, а она не понимает,
что с ней происходит, от страху. Видит, что он ее за шею
под нож нагибает и пинками подталкивает, — те-то
смеются, — и стала кричать... "Минуточку одну еще
повремените, господин буро, всего одну!" И вот за эту-то
минуточку ей, может, Господь и простит, ибо дальше
этакого мизера с человеческою душой вообразить
невозможно"42. В этом захватывающем рассказе открывается
многое. Несмотря на все богатство и блеск прожитой
жизни для графини Дюбарри сама жизнь не могла
обрести завершенности даже в самый последний миг. Ее воля
к жизни была столь сильна, что жажда продлить свое
существование хотя бы на минуту стала криком
невоплощенной воли к жизни, обращенным ко времени —
времени ее казни. Перед лицом неизбежной смерти
переживает заблудшая мощный жизненный порыв, заключенный
в ней. Она сознает также бесконечную ценность жизни,
земного времени как единственно возможного места,
в котором эта воля может воплотиться. Дюбарри
умоляет не о жизни, а лишь о мгновении для ее продления!
Перед смертником воистину встает вопрос, быть или
не быть. "Ему все хотелось представить себе как можно
скорее и ярче, что вот как же это так: он теперь есть
и живет, а через три минуты будет уже нечто, кто-то или
что-то, — так кто же? Где же?"43 Достоевский не нашел
ответа на этот вопрос, хотя чувство его было
однозначным. Человек может и вправе провозглашать и
защищать точку зрения, что "после смерти ничего не
существует", однако в сущности он убежден в другом. Когда
120
"смешному человеку" снится сон о собственном
самоубийстве и он видит себя в могиле, он противится
бессмысленности бытия и взывает к Богу. И ему
бессознательно совершенно очевидно, что он "беспредельно и
нерушимо" "знает", что "непременно сейчас все изменится"
и наступит другая жизнь. В бессознательном существует
доверие, соответствующее величине воли к жизни, к
тому, что существование продлится. Жизненная сила,
побуждаемая волей к жизни, стремится постоянно и
неутомимо к утверждению бытия и отрицанию смерти.
Достоевский близко принимал это к сердцу, утверждая:"Жизнь
есть, а смерти нет совсем"44. Но при этом выступает еще
и нечто иное: Достоевский в смерти не боялся небытия.
Мощная воля к жизни, пробудившаяся и поднявшаяся
в момент перед смертью, дала ему твердое убеждение:
умереть нельзя, небытия нет вообще; но тогда должно
быть нечто другое, чего он страшился в смерти и что
наполняет его таким ужасом. Постоянное подчеркивание
слова "наверно" дает разъяснение. Приговоренный
к смерти ужасается насилию над своей душой, Его воля
полностью связана, он насильно доставлен в
определенное время к определенному месту, где ему не дают
сделать ни одного движения, где душа полностью подчинена
бесчеловечной, злой силе. Восстание против смерти есть
сопротивление насилию. Для души жизнь означает
свободу. Это жизнь земли, света, внутренней свободы.
Потустороннее, напротив, представляется душе чем-то
неопределенным, она страшится его, поскольку не знает, не
будет ли она также лишена свободы. Поэтому воля
к жизни всеми силами стремится обратно к жизни; но
в этом бытии человек знает о возможности смерти. "Где
это, — подумал Раскольников, — ... где это я читал, как
один приговоренный к смерти, за час до смерти, говорит
или думает, что если бы пришлось ему жить где-нибудь
на высоте, на скале, и на такой узенькой площадке, чтобы
только две ноги можно было бы поставить, — а кругом
будут пропасти, океан, вечный мрак, вечное уединение
и вечная буря, — и оставаться так, стоя на аршине
пространства, всю жизнь, тысячу лет, вечность, — то
лучше так жить, чем сейчас умирать! Только бы жить,
жить и жить! Как бы ни жить — только жить!.. Экая
правда!.."45
Этот пример свидетельствует о том, что гигантский
жизненный порыв к освобождению возвращает сознание
121
к доличностному бессознательному, где поднимается
мифический образ Прометея, в котором можно увидеть
мощь переживаемого. К. Юнг в своей книге "Отношения
между Я и бессознательным" описывает, как потерявший
надежду влюбленный хочет лишить себя жизни и как
в его потрясенной душе осуществляется прорыв в
должностную сферу. Он видит, как в речной воде, где он хочет
утопиться, отражаются звезды, а впечатление от этого
приводит к галлюцинации, к мифическому образу: он
видит, как сдвоенные звезды подобно блаженным
возлюбленным плывут по реке. Нечто подобное
представлено и здесь. У приговоренного к смерти всплывает образ
Прометея, прикованного к скале, но сохранившего свою
чудовищную волю. Достоевский уже в "Неточке
Незвановой" говорил о том, что ради жизни, ради надежды на нее
человек готов мириться с любыми бурями и несчастьями.
Неволя в насилии над душой выступает как прелюдия
непобедимой смерти.
Не только переживание грозящей смерти дает
человеку знание о проблематичности жизни и о наличии
неисчерпаемой жизненной воли; это знание могут дать и
другие переживания. Каждый раз, когда душа вырывается за
свои привычные рамки, ей открываются неожиданные
бездны. Внутреннее преображение связано с
переживаниями. "Кажется, что Достоевский с тех пор имел другую
точку зрения на сознание, чем большинство смертных.
В нем оставался внешний человек; нельзя было
почувствовать, как этот внешний человек энергично очищается
от скрытых в нем темных страстей. Но все духовные
поступки и помыслы ясновидящего поэта определялись
с тех пор прозрениями рожденного тогда внутреннего
человека, все чувства которого могут показаться нам
чем-то трансцендентным; наоборот, то, что нам дано
непосредственно и присуще нам, выступает как нечто
трансцендентное (ушедшее в сферу, лежащую вне нас)",
— пишет В.Иванов. Фактически это вводит нас в самую
сердцевину философии Достоевского46. Без опыта воли
к жизни, без проникновения в отношения, которые
приобретает эта воля при становлении сознания, нельзя понять
его философию. Тот, кто имел этот опыт, видит всеобщее
бытие иначе.
Люди, которые не познали на опыте величие воли
к жизни, могут пребывать в сомнении, как оценить эту
волю — позитивно или негативно, — идет ли речь при
122
этом о внутреннем порыве к самоосуществлению или об
эгоистической страсти к жизни. В "Преступлении и
наказании" Достоевский показал, как преступник открыл в
себе волю к жизни в связи с душевным потрясением,
возникшим на почве совершенного им преступления.
Оказавшись в такой ситуации, Раскольников боролся за то,
чтобы принять жизнь. Будучи до той поры
неосознанным, влечение к жизни становилось сильнее, чем
осмысленная им воля к самоубийству. Раскольников страдал
под давлением этого обстоятельства, он мучился им, ибо
для него не было более могущественной силы, чем та,
которая определяла его разумную волю. Однако он
чувствовал в душе своей глубокую ложь, которая вела его
к раздвоенности. Он знал и понимал, что речь идет не
о его трусости, что он обладает достаточной силой воли,
чтобы лишить себя жизни. Но он прозревал в себе-
и в убеждениях своих глубокую ложь. "Он не понимал,
что это предчувствие могло быть предвестником
будущего перелома в жизни его, будущего воскресения его,
будущего нового взгляда на жизнь"47. На каторге он
начинает прозревать; он смотрел на своих товарищей по
каторге и удивлялся: как они тоже все любили жизнь, как
дорожили ею. И только там признал он значение жизни
и жизненной воли. Те, кто имел опыт открытия в себе
воли к жизни, не сомневаются, что при этом речь идет не
о своекорыстном поддержании собственного
существования, а о влечении и жажде жизненной полноты. Они
пылко принимали жизнь и не могли понять, как другие
люди расточают ее или бесстрастно проходят мимо.
"Мне хоть три жизни дайте, — говорит Аркадий в
"Подростке", — мне и тех будет мало"48. И Ипполит в
"Идиоте" перед лицом собственной смерти удивляется и
озлобляется на то, что множество людей вокруг него
остаются в полном неведении о собственной воле к жизни
и ведут бесполезную жизнь.
Когда старый безгрешный странник Макар Иванович
чувствует приближение смерти, он сам удивляется тому,
что все еще так сильно любит жизнь. "...За что, кажись,
только душа зацепилась, а все держится, а все свету рада;
и кажись, если б всю-то жизнь опять сызнова начинать,
и того бы, пожалуй, не убоялась душа"49. Принятие
прошедшей жизни есть высшее подтверждение того, что
жизнь прожита правильно, что воля к жизни жива и
нашла в этой жизни свою высшую исполненность. Сколько
123
людей проклинают свою жизнь и ни за какие деньги не
хотят снова ее прожить! Они ее упустили, их воля не была
наполнена живой жизнью, она даже ослабевала и
заблуждалась.
Люди судят по-разному о стремлении и жажде к
жизни в зависимости от того, какую жизнь они ведут, и от
уровня бодрствования жизненной воли. Когда Расколь-
никову вспомнился рассказ о приговоренном к смерти,
который хотел вечно жить на утесе, он подумал:"Гос-
поди, какая правда! Подлец человек! И подлец тот, кто
его за это подлецом называет"50. Является ли влечение
к жизни всеобщим? На первый взгляд кажется, что это
так. Разве человек не готов к любой жертве, только
чтобы сохранить свою жизнь? Не малодушно ли любой
ценой стремиться к долгой жизни? Нет ли таких
житейских ситуаций, когда человек только из низости
соглашается жить в таких обстоятельствах? Человек, подобно
Дмитрию Карамазову, может сказать:"Жизнь люблю,
слишком уж жизнь полюбил, так слишком, что и
мерзко"51. И тогда же он в смертной тоске своей восклица-
ет:"Что может быть дороже жизни!"
Противоречивая оценка, воли к жизни в основе своей
выражает форму элементарной чувственной жизни
примитивного человека: жизнь как эрос, как то, что
Достоевский в своем последнем романе называл карамазовской
силой. Это необузданная сила, грубая страсть к
элементарным наслаждениям, но и такая жажда жизни, которая
выражает пылкость, безмерную ее расточительность,
страстную любовь и жажду света; она все может вынести,
но она распутна и хаотична и не держит себя в узде.
Достоевский в своих произведениях дважды представлял
такой характер. Это — Дмитрий Карамазов и Рогожин
в "Идиоте". Уже при его жизни критика пыталась
определить сущность этого характера, связывая
деятельность жизненной воли с элементарным эросом.
К.Юнг называл характер, неспособный к
самообузданию, архаическим типом52. Чувства и соображения таких
людей не дифференцированы. Достоевский в обоих
случаях описывает, как герои попадают в катастрофу и как
в этих условиях внезапно освобождается высшее влечение
к жизни. Рогожин, отчаявшийся в ответной любви к нему
Настасьи Филипповны, совершивший преступление;
Митя Карамазов в отчаянии от бесчестия, связанного с
грозящим ему наказанием по ложному обвинению в убийст-
124
ве отца, — оба они вдруг возвышаются до новой формы
жизни, у обоих воля к жизни вырывается из
непосредственного отношения к определенному объекту, в
отчаянии из-за недостижимости цели обращает внимание на
себя саму, просветляется состраданием и очищается,
готовясь к принятию высшей несебялюбивой любви.
Стихийный эрос столь силен, что он может
поддержать такого человека, чья душа теряет смысл жизни.
Требуется много времени, прежде чем человек уйдет в
болезнь на почве рассудочного пессимизма. "Пусть я не
верю в порядок вещей, — говорит Иван Карамазов
Алеше, — но дороги мне клейкие, распускающиеся весной
листочки, дорого голубое небо, дорог иной человек..."53
И тот восклицает: "Прекрасно ты это сказал, и рад
я ужасно за то, что тебе так жить хочется"54. Стихийный
эрос преодолевает любое отвращение к жизни, которое
может питать разумную душу. Поэтому целостная душа
говорит "да" жизненному напору и воспринимает его как
благо. Тогда человек больше всего любит жизнь. А это
уже половина того, что необходимо для его конечного
освобождения. Если воля к жизни реализуется, если она
достигнет сознания, принося человеку ощущение
большого счастья, она непременно связана с доличностной
и даже сверхсознательной сферами души.
Вместо понятия "воля к жизни" мы часто
употребляем выражения "напор" ("влечение") и "жажда". Взятые
вместе, они и образуют феномен воли к жизни. Эта
последняя есть жажда, стремящаяся к утолению, которое
ей может дать лишь связь с другим существом; порыв
или напор выражает стремление к одариванию, к
творению, к порождению, к отдаче. Воля к жизни есть
одновременно жажда и напор. Иисус в беседе с самаритянкой
у Иаковлева колодца говорит: "А кто будет пить воду,
которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но
вода... сделается в нем источником воды, текущей
в жизнь вечную" (Ин. 4:14). Из жажды возникает
источник, который стремится в вечную жизнь, т. е. становится
неисчерпаемым источником, ведет в область
сверхсознательного.
Достоевский высказал эту мысль в "Сне смешного
человека". Когда герою, заснувшему в отчаянии и с
мыслью о самоубийстве, снится его собственная смерть и
погребение, его переживания вступают в сверхсознательную
и райскую сферу, и все, что связано с ней, исполняется.
125
Перед лицом отчаяния и вместе с тем непоколебимого
убеждения в предстоящем откровении и исполненное™
райской жизни ему открывается жизненная воля в ее
полном величии. Его жажда затихает в переживании
совершенной красоты и блага райского мира, и отблеск
этого мира пробуждает в нем небывалую любовь к жизни
и к невидимой сущности. Когда герой пробуждается от
сна, его первый возглас был: "О, теперь жизни и жизни!
Я поднял руки и воззвал к вечной истине; не воззвал,
а заплакал; восторг, неизмеримый восторг поднимал все
существо мое. Да, жизнь!.."55 Осознание святости жизни
и возможность реализации воли к жизни привели к
нравственному вызову; каждая минута, каждое мгновение
жизни, подчеркивал Достоевский, должны стать для
человека блаженством. Это — долг человека, который он
сам взял на себя; это его закон — его тайный закон,
который тем не менее дан безусловно.
Мы уже указывали на то, что воля к жизни не является
чем-то изолированным, переживаемым лишь отдельной
личностью. Она присуща всем людям, всем существам,
всему бытию, которое при этом сохраняет все свойства
личности. Человек, осознавая себя, начинает свою жизнь
с любви к ней, понимая ее ценность, а жажду жизни
и стремление к познанию и любви оценивает как
нравственные требования долга. Мы увидим далее, что воля
к жизни выражается в этике как закон любви. Эта любовь
обращена к жизни в ее всеобщем проявлении, к источнику
жизни (Богу) и ко всем живым существам.
Так интенсивная воля к жизни обнаруживает любовь,
которая исходит из сферы сверхсознательного. В
существовании такого бытия проявляется совершенная, райская
жизнь. "Жить хорошо, — говорится в "Хозяйке", —
любо ль тебе на свете жить?"56 И в "Братьях Карамазовых"
Маркел во время тяжелой и мучительной болезни
говорит: "Жизнь есть рай... Матушка, не плачь, голубушка...
а жизнь-то, жизнь-то — веселая, радостная"57. Об этом
мы еще будем говорить.
Страдание не может ослабить любовь к жизни.
Напротив, .оно только пробуждает, придает цену воле. В
печальных fc тяжелых условиях, например в неволе
заключения, жизнь кажется полнее и богаче, надежда на ее
совершенство придает страждущему мужество. Как раз
ограниченность внешней свободы часто вызывает у
человека непреложную жажду жизни, любви и познания. "И,
126
кажется, — говорит Митя в заключении, — столько во
мне этой силы теперь, что я все поборю, все страдания,
только чтобы сказать и говорить себе поминутно: я есмь!
В тысяче мук — я есмь, в пытке корчусь — но есмь!
В столпе сижу, но и я существую, солнце вижу, а не вижу
солнца, то знаю, что оно есть. А знать, что есть солнце,
— это уже вся жизнь"58.
Есть люди, в противоположность тем, чья воля к
жизни бодрствует и кто страстно любит жизнь, страдающие
от витальной слабости, у которых жизненная сила
угрожает иссякнуть. Достоевский знает троякого рода
вырождение или ослабление жизненного порыва: а)
вырождение и дифференциация чувств и желаний; б)
теоретическое отклонение жизни и вытекающая из этого
враждебность к ней; в) утрата стимулов и скука.
Теоретический взгляд, который ставит познание и его
результаты выше, чем саму жизнь, приводит к утрате
вкуса ко всему живому, вызывает отвращение к живой
жизни. Это было особой болезнью буржуазной культуры
XIX в. Усталость жизненной воли, утрата прочных
ценностей, колебания между принятием и отрицанием
жизни, решительный еретический отход от жизни, как это
видно сегодня в произведениях Стефана Георге, Германа
Гессе и у других модернистов, — все это признаки
упаднической воли к жизни. В сублимированной форме такой
отказ от жизни, вплоть до нигилизма, несет в себе
псевдобуддистские черты, ведет к мировоззрению и религии,
стремящейся к культу небытия и саморазрушения в
вечном покое ничто. Разрыв с жизнью ведет к равнодушию
и индифферентности, которые очень быстро захватили
русскую духовную жизнь XIX столетия и породили у
Достоевского самые скверные опасения за будущее.
Казалось, что они безудержно и повсюду проникли в круги
интеллигенции, действуя разрушительно на все, что было
ими охвачено. Такое отношение к жизни, как в зеркале,
статистически отражалось в крутом росте кривой
самоубийств.
Рядом с этой опасной формой слабости воли к жизни
выделялась ослабляющая ее дифференциация чувств. Из
первоначальной многозначности ощущений и желаний
все больше выделялись отдельные компоненты. Высшие
формы хирели, продолжали существовать лишь желания,
направленные на материальные цели. Часто
определенные ощущения связывались с чувствами, чуждыми им по
127
своей природе. Дело дошло до перверсивных тенденций.
В образе Свидригайлова Достоевский показал человека,
который прошел такой путь. Он стал добычей
сладострастия. Хотя его воля к жизни здесь ослабла, поскольку он
использовал ее против самого себя, но это было не до
такой степени, как при теоретически утверждаемой
враждебности к жизни. "В этом разврате, по крайней мере,
есть нечто постоянное, основанное даже на природе и не
подверженное фантазии, нечто всегдашним
разожженным угольком в крови пребывающее, вечно
поджигающее, которое и долго еще, и с летами, может быть, не так
скоро зальешь"59.
Скука также весьма опасна для полноты воли к жизни.
Охваченный скукой человек ко всему безразличен, теряет
всякое представление о ценности жизни; его желания
пропадают, и даже сильнейшими, подчас извращенными,
ощущениями его волю нельзя пробудить. В ледяном
холоде цепенеет сердце, жизнь другого существа и даже
собственная жизнь не принимается больше всерьез, и
воля к жизни постепенно затухает. Этого явления- мы
коснемся далее.
Какова связь между жизнью и познанием? Для
человека весьма существенно то, что он не только хочет жить.
Он хочет знать, для чего он живет. Без четкого
представления об этом он отвергает жизнь, даже если его
материальное благополучие обеспечено. Его воля к познанию
законна и оправданна. Любовь и познание суть два
предназначения человека. Стремление к познанию не
отделено от жизненной воли, напротив, оно есть ее часть.
Рассудочное мышление, приводящее к противоречию
между жизнью и познанием, противостоит остальной
части природной души лишь в силу
противоестественного расщепления единого по своему виду познания.
Человека отличает то, что он хочет не просто
бессознательно жить, как люди в "райском сне", но познать
смысл и сущность жизни, хотя такое познание он
принужден оплачивать ужасающими страданиями. Человек
достигнет в будущем нового образа жизни только с
помощью науки и познания. Ошибка человека состоит в том,
что он приравнивает познание к ограниченной и
неестественной форме рассудочной мысли, где разум
противопоставляется жизни и оценивается выше, чем жизнь. Со
времени Декарта из него исходят и усматривают в нем
познавательно-теоретическое преимущество перед быти-
128
ем. Немецкий идеализм отождествлял бытие с разумом,
породив тенденцию рассматривать природу как
выражение разума. С Канта начались попытки выводить
нравственный закон исключительно из чистого разума.
Если же признать наличие раздвоения между разумом
и жизнью, между рассудочным знанием и
бессознательным (либо чувственными переживаниями), то во всяком
случае было бы более справедливым принять сторону
живой жизни. Бытие важнее, чем познание бытия, ибо
оно предшествует познанию и направляет его. Когда
Раскольников пробуждается от своего "теоретического
ослепления" и возвращается к чувству, "он не мог в этот
вечер долго и постоянно о чем-нибудь думать... он
только чувствовал. Вместо диалектики наступила жизнь,
и в сознании должно было выработаться что-то
совершенно другое"б0.Такое состояние есть следствие
предшествующей раздвоенности. Дух и жизнь не должны
быть враждебны друг другу. Жизнь не враждебна
духовной сфере; нельзя видеть в духе противника жизни, как
это утверждал в наше время Клагес. Такой взгляд есть не
что иное как односторонне перевернутое представление,
которое, основываясь на духе, с вожделенной ненавистью
враждебно взирало на жизнь. Конечно, если разум и все,
что с ним связано, враждебны жизни, следует от него
отказаться, чтобы принять и любить жизнь, "хотя бы
и вопреки логике"61. Если мысль придерживается жизни,
не нужно, да и нет необходимости впадать в такие
сомнения. Подобный настрой всегда в конце концов
согласуется с жизнью, которой придает новые измерения,
открываемые им в жизни. Ложное, чуждое жизни, напротив,
верит, что оно может сконструировать действительность
по собственному плану, оно всегда враждебно жизни и,
как только может, отрицает жизнь.
Приемлемая для жизни направленность мысли
должна сочетаться с чувством и через посредство чувства
с областью бессознательного. Она должна быть не
только рассудочной, но подниматься до созерцания и, если
это возможно, до визионерства. Она всегда и прежде
всего призвана сохранять связь с жизнью и служить
жизни. И не только для того, чтобы из соображений
полезности "подправлять" истину, но также для того,
чтобы рассматривать важнейшие жизненные проблемы
и обращать результаты своих усилий на осознание того,
противоречат ли они жизни и губительны ли они в своем
Райнхард Лаут
129
воздействии на нее. Много раз излагавшийся исходный
пункт Достоевского состоит в том, что, хотя истина не
тождественна способствующей жизни теории, любое
знание должно исследовать, не направлена ли эта теория на
уничтожение жизни и не приведет ли она к тяжелому
урону? Такие тезисы, как "воля не свободна",
"бессмертия нет" и т.д. имеют деструктивное воздействие; если
подобные суждения станут убеждениями, они приведут
к самоуничтожению. Жизнь стремится к совершенному
знанию и любви, этого она жаждет. Познание и любовь
суть две: величайшие задачи, главнейшие влечения воли
к жизни. Оба они переступают за пределы единичной
цели, к которой человек стремится, и находят свое полное
завершение только в общей цели, которая неизвестна,
о которой человек только догадывается и которой
жаждет. Никогда воля и познание не обусловливаются,
соответственно, единичной целью или отдельным актом
познания. В своем натиске и жажде они стремятся к
достижению высшего и полного , исполнения своего
стремления. Все сознание заключено в нас, как
предвосхищение, как ожидание, но оно открывается все больше
и больше только путем соответствующего открытия
объекта. Эта мысль не нашла у Достоевского достаточно
четкого выражения, но она близка по аналогии тому, что
он говорил о стремлении к любви.
Достоевский придавал любви большее значение, чем
познанию, хотя не только в любви, но и в познании он
видел высшее выражение человеческого бытия. Оба они
связаны с совершенством — познающая любовь и
любящее познание. Только в этой связанности оба эти
свойства в конечном счете становятся плодотворными. "Будешь
любить каждую вещь и тайну Божию постигнешь в
вещах. Постигнешь однажды и уже неустанно начнешь ее
познавать все далее и более, на всяк день"62.
Достоевский видел жизнь как процесс развития воли,
которая действует в ней изначально и развивается вместе
с ней; иногда жизненная воля может заблуждаться,
хиреть, в худшем случае быть близкой к угасанию. Куда
стремится это развитие? Мы можем уподобить жизнь
борьбе, мы можем сказать, что она подобна урагану,
о котором неизвестно, откуда он примчался и куда
несется; но к чему ведет эта борьба, чего в этой борьбе можно
достигнуть, куда влечет нас этот ураган воли к жизни?
Достоевский называл Бога целью этого воления. На всей
130
земле есть только одно существо, в котором воплотилась
вся воля к жизни, совершенная личность — Иисус
Христос. Каждый человек и любое существо, в котором
жива воля, стремится к такому осуществлению
человеческого бытия. Конечно, можно оспаривать
справедливость отождествления исторического Христа с
полностью осуществившимся человеческим бытием. Однако
нельзя указать никакой другой цели, в которой нашли
бы покой все человеческие стремления, ни одного
человека, который был бы совершенным. В этой связи
примечательно, что Достоевский был убежден в том,
что стремление воли к осуществлению возможно и что
это последнее лежит в Боге. Он полагает сначала
конечную цель воли к жизни и, рассматривая ее
исторически, отождествляет с личностью Христа. Мы,
следовательно, можем назвать цель воли к жизни, но мы
не имеем адекватного опыта. Если бы мы имели такой
опыт, мы сами уже были бы в конце нашего развития,
ибо обладали бы совершенным знанием, связанным с
совершенной любовью. Из опыта мы знаем, что
человеческую волю к жизни всю целиком ничто не могло
до сих пор удовлетворить, кроме одного, — того образа
жизни, который осуществил Христос. Достоевский был
согласен с Тихоном Задонским, который сказал:
"Человеческая душа не может получить успокоения ни от
кого иного, как от одного только Бога. Только исходя
от Бога, она может снова у Бога найти свои надежда9963.
В земной жизни человеку суждено бороться и, несмотря
на все поражения, стремиться к идеалу. Мы не знаем,
можем ли добиться этой конечной цели в Боге или
сначала найдем умиротворение в промежуточном пункте,
из которого мы потом с новой, необъятной и глубокой
волей будем продолжать стремиться к Богу. Во всяком
случае этот процесс становления ведет нас в направлении
к Богу: он есть постоянный поиск Бога. И чем больше
мы приближаемся к цели, тем сильнее сливаются любовь
и познание. Внутренняя жизнь в любви и мире, т. е.
полнота жизни, и есть, в понимании Достоевского, сама
жизнь, приближающаяся к своей цели.
Если все это является однозначной конечной целью
воли к жизни, то жизненная задача человека состоит не
только в том, чтобы стремиться к указанной цели, но
и в том, чтобы преодолевать трудности на пути к ней.
В жизни есть много страданий, неизвестности и сомне-
131
ний9 утрата любви и ненависть. Любовь не была бы
истинной, если бы она не печаловалась о возлюбленном
за его страдания, если бы она не стремилась, когда это
нужно, принять эти страдания на себя; знание не было бы
истинным познанием, если бы оно не достигалось через
сомнения. Жизнь стоит под знаком противоречий, сквозь
которые она должна пробиваться. Задача жизни состоит
в том, чтобы преодолеть страдание и зло, сомнение
и отчаяние.
Чтобы стремиться к Богу, нужен идеал. Кто своей
жизнью не постиг Бога, тот и не может непосредственно
к нему прийти. Чем более высокую оценку человек
приписывает своему целостному опыту, тем больше его
привлекает идеал. В любом сердце господствуют
преходящие идеалы, к которым стремится человек, даже если они
совсем низменные. Соответствующие идеи, содержащие
в себе определенный идеал, со всей очевидностью
действуют на человека. Они пробуждают, усиливают,
предъявляют требования к его жизненным потенциям, иные из
них сдерживают их, придают им направленность. Особое
воздействие исходит из более высоких, нравственных по
природе идей, которые ведут человека по пути,
приближающему его к Богу. Внешний жизненный опыт, который
определяет ожидания, и внутренняя творческая сила, под
натиском жизни стремящаяся к самоосуществлению,
ведут человека по соответствующему пути от идеи к идее,
ко все более высокой идее — к Богу. В этой связи
Достоевский определял идеал как источник жизни.
Объяснялось это следующим образом: Христос являет собой
полностью воплощенный идеал. Иногда, хотя и в
неполном виде, можно найти реализацию идеала и в других
людях. Как лица, исполненные воли к жизни, они служат
идеалом реализовавшего себя человека, а источником
подобной жизненной воли выступает Христос.
Затем подобная воля к жизни воздействует на других
людей, которые видят в таких людях осуществленный
идеал, способный пробудить их жизненные потенции.
Воля в этих случаях соединяется с действием. В конечном
счете развитие воли к жизни обнаруживается в своей
единичности всегда на основе контакта с живой
действительностью, находящейся вне индивида. Без этого воля
к жизни сошла бы на нет и погибла.
Задатки
человеческой
души
и ее развитие
До сих пор мы рассматривали волю
в ее отношении к другим
способностям души и к жизни. Помимо воли
и генетически до нее у человека существуют целостные
тенденции, которые расчленяются объектом, с которым
они соотнесены. Это заслуживает рассмотрения.
Человек вступает в жизнь с тенденциями разного
рода. Можно даже сказать, что у человека по крайней мере
латентно (бессознательно) существуют стремления такой
направленности, какая только возможна для данной
человеческой жизни. Конечно, эти тенденции весьма
различны по уровню осознанности и по силе. "Homo sum et
humani nihil a me alienum puto" ("Я — человек и ничто
человеческое мне не чуждо") — такова краткая формула
человека у Достоевского. Он сам однажды употребил ее,
разбирая одно из произведений Тургенева. Какой-либо
совершенной, чистой моральности, как ее обрисовал
Шиллер, в жизни нет, или она встречается крайне редко.
Даже те из людей, кто являются нам в чистоте, часто
таят в себе безнравственные наклонности. Такого рода
признание делает Алеша Дмитрию Карамазову,
признаваясь брату в сладострастии: "Все одни и те же ступеньки.
Я на самой низшей, а ты вверху, где-нибудь на
тринадцатой. Я так смотрю на это дело, но это все одно и то же,
совершенно однородное. Кто ступил на нижнюю
ступеньку, тот все равно непременно вступит и на верхнюю"64.
Такая же мысль имеется и в романе "Идиот". Когда
князю Мышкину задается вопрос, не думает ли он, что
"на свете гораздо больше воров, чем неворов, и что нет
даже такого самого честного человека, который бы хоть
раз в жизни чего-нибудь не украл", "мне кажется, —
ответил князь, — что вы говорите правду, но только очень
преувеличиваете". Достоевский вложил эту фразу в уста
своего чистейшего героя, чтобы показать всю серьезность
этой мысли. "Уж если князь сознался... то что же бы,
133
например, сказал другой кто-нибудь, если бы захотел
когда-нибудь правду сказать"65.
Если многообразные тенденции души пробуждаются,
они стремятся выявить все свои возможности до конца,
до их полного осуществления. Конечно, это не означает,
что подобная тенденция становится волей. Бывают
склонности, которые применимы только к определенной
цели, а потом, несмотря на всю предрасположенность
к ним, более сильная тенденция их ослабляет или
уничтожает. Тем не менее нужно принимать во внимание
предрасположенность или отрицательное отношение к этим
склонностям, и с этой точки зрения рассчитывать их
возможности.
Если учитывать все разнородные тенденции в
душевной жизни, можно заключить, что человечество в лице
отдельных индивидов доходит до крайностей.
Достоевский считал, что Бог в какой-то степени ограничивает
человека, чтобы он не злоупотреблял своей свободой
столь разрушительно. Внутри этой границы он,
разумеется, свободен и может осуществить то, что реально
является возможным.
В людях есть множество негативных, деструктивных,
злых, грешных устремлений, ибо воля к жизни у
человечества пребывает под знаком грехопадения и, как мы
увидим, приводит человека к частым злоупотреблениям,
побуждает его ко злу. Человек, чья воля к жизни
воплотилась в совершенной чистоте (Христос), есть предельный
случай. .
Рассматривая свою внутреннюю жизнь, таящиеся
в ней желания и стремления, каждый может прийти
к убеждению, что он самое порочное существо на свете.
Да и в других людях он видит только плохие стороны их
характера, он не может уловить те их желания и мысли,
которые скрытно присутствуют в их душах. Только
собрав весь свой жизненный опыт, все, о чем он думает
и чего хочет, все, чему научился у жизни, все, что
услышал или подслушал, он понимает, что и другие люди
ничем не отличаются от него. Каждый знает за собой
один или несколько поступков, которые всю жизнь
считает мерзкими. Все непроизвольно радуются преступлению,
все любят его и любят всегда; все говорят, что ненавидят
дурное, но про себя они любят его.
И все же в природе человека нет изначального зла. "Я
не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным
134
состоянием людей"66. Ибо у всех можно найти
стремление к добру и сочувствию. Все почитают добро, несмотря
на то что часто от него отступают. Достоевский
обращает внимание на человеческое зло не затем, чтобы
проклясть его, указать на изначальное зло и чтобы доказать,
что без милости Божьей человек не способен творить
добро. Его цель состоит в ином: он хочет обнажить всю
полноту человеческой натуры, он хочет показать
многосторонность человека и, исходя из этой реалистической
основы, достичь понимания человеческой природы и
особенностей ее развития. Мадулъ и его последователь Лю-
бак правильно указали на то, что в концепции
Достоевского большинство людей живет "в неопределенном
пространстве между добром и злом", когда неизвестно,
в какой мере очевидное добро "покрывается и
перерождается в сокрытое зло"67.
Человек определяется как существо конструктивное,
в узком смысле слова существо производящее (Маркс,
Прудон), homo faber, как любят говорить сегодня. Это
определение, однако, имеет односторонний характер, ибо
человек, по Достоевскому, страстно любит "разрушение
и хаос"68. Причину этого часто видят в том, что человек
как существо, находящееся в развитии, ищет
завершенных форм своего бытия. С этой целью он конструирует
несокрушимые формы жизни, достаточные для него и
совершенно его удовлетворяющие. И тем не менее он
любит разрушение, потому что любая созданная им
жизненная форма, как только он должен жить в ней, иметь с ней
дело и признавать ее, перестает его удовлетворять и
соответствовать его сущности. Он инстинктивно стремится
достигнуть ложной цели и становится ее заложником, что
для него непереносимо. Пусть мысли, отторгнутой от
жизни, кажется, что она нашла совершенное решение,
воля, связанная с жизнью, восстает против него. Человек
всегда стремится к тому, что рассудок отвергает. Ему
помимо счастья в той же степени необходимо и
страдание. Он любит страдание так же сильно, как и
благоденствие; и хотя он знает, что земные страдания и познание
по необходимости друг с другом связаны, он неуклонно
стремится к углублению и расширению познания и ради
этого готов принять любое страдание. Любовь тоже
приносит страдания, каждый знает об этом и говорит: "Я
хочу мучения, чтоб любить"69, ибо только через
страдания и через несчастливость возможна истинная земная
135
любовь. Достоевский формулирует свою позицию со всей
остротой, указывая, что в человеке равным образом
сильны законы саморазрушения и самосохранения.
Сторонники позитивизма и "научного" материализма,
считающие, что единственным фундаментальным влечением
человека является самосохранение, заблуждаются.
История человечества показывает, до какой степени
разрушительны и саморазрушительны действующие
в ней силы. Можно было бы возразить, что
разрушительность есть действие ложно понятой воли к
самосохранению. Но борения, свойственные человечеству,
сопоставимы с душевными противоборствами отдельного
человека. Одна часть души восстает против другой, одна
волевая установка противоречит другой. Это ведет к
частичному расщеплению личности, когда различные
центры противостоят друг другу. За неудачу одной части
оказывается в ответе другая. Следствием этого является
ожесточенная враждебность и попытка одной из
тенденций, одного личностного центра искоренить, уничтожить,
подавить другие. В результате это часто приводит к
озлоблению. Ненависть к себе есть компонент
саморазрушительного влечения. В "Записках из подполья"
Достоевский раскрывает этот феномен со всей психологической
очевидностью. Такое чувство можно найти не только
у отдельного человека, оно свойственно и всему
человечеству, когда оно, как и индивид, сознательно может
стремиться к своей погибели. Подобно тому как в душе
индивида борются различные волевые тенденции, это
происходит и с отдельными народами, и в группах как
своего рода индивидах человечества. Можно ли свести
все эти кровопролития и борьбу к инстинкту
самосохранения? На опыте истории данный вывод доказать
невозможно. Слишком много примеров говорят против
него.
Достоевский приводит пример двух крестьянских
парней, один из которых по наущению другого должен был
выстрелить в просфору после причастия. Причем парни
сами стремились к дерзостным поступкам. Это
"потребность хватить через край, потребность в замирающем
ощущении, дойдя до пропасти... заглянуть в самую
бездну... Один момент такой неслыханной дерзости, а там
хоть все пропадай. И уж конечно, он веровал, что за это
ему вечная гибель"70. Без сомнения, радость разрушения,
если не сама воля к злу, часто влечет человека к гибели.
136
Когда в человеческой душе противоборствуют
конструктивные и деструктивные порывы, натуры с сильной
волей или умеющие держать себя в руках, либо инертные,
т. е. живущие в привычных для себя условиях, все эти
негативные тенденции вытесняют в бессознательное;
однако эти последние однажды пробуждаются, и тогда
пожар или бесстрастное созерцание чужой беды таят
в себе радость от одного вида разорения, которая как бы
взывает к собственным разрушительным инстинктам,
увы, таящимся в душе каждого. Эти чувства почти всегда
пьянят, хотя тот же человек может броситься в огонь,
чтобы спасти ребенка или старуху. Чтобы судить
правильно, нужно всегда учитывать эти противоречивые
тенденции, присущие каждому человеку. Любая из них
может стать ведущей, главной и тем самым оказывать
влияние на все поступки. Но человек — существо,
находящееся в развитии, и только в этом развитии
выражаются полностью оба эти влечения.
Человек -t- земное, переходное существо. И из-за того,
как он устроен, вследствие условий его земной жизни
и данных ему способностей познания, человек вечно
остается неудовлетворенным. Если бы человеческая жизнь
заканчивалась просто смертью, она была бы
бессмысленной, и бессмысленность существования была бы ему
очевидна. Но своеобразие человеческого ума пробуждает
мысль, что человек создан лишь как существо
переходное. Ибо по своей сущности он каждый раз заново
решает обретенные человечеством истины и вечно ставит под
сомнение само свое существование, считая его
недостаточным. Поэтому его влечет к вере в загробную жизнь.
"Существование наше на земле есть, очевидно,
беспрерывное существование куколки, переходящей в
бабочку"71.
Обладая совестью, человек различает добро и зло
и придерживается безусловного требования творить
добро и избегать зла. В соответствии с противоречивыми
задатками он испытывает свои склонности в различных
ситуациях, среди которых только одна согласуется
с нравственным законом. Чем активнее пытается он
осуществить эту тенденцию и подавить другие, чем лучше
это ему удается, тем успешнее он развивается в
соответствии с нравственным законом. Если все это согласуется
с волей к жизни, то дело идет в правильном направлении,
в худшем случае человек только заблуждается. И его
137
задача состоит в том, чтобы признать ошибку,
избавиться от нее и снова выйти на правильный путь. Если же он
не отступает от ложного пути или осознанно и доб- с
ровольно сопротивляется жизни, по сути дела, его влекут
разрушительные импульсы. Обе позиции доступны
человеку- у него есть равные возможности следовать добру
и злу. В конечном выражении эти возможности обнару-
жиЁаются в его движении к Богу или к бесовству. Эта
г<г мысль имеет большое значение для восточной
христианской церкви, считающей, что все происходит под
воздействием Бога или сатаны. Святой Серафим Саровский
говорил о том, что Бог заботится о нашем спасении,
а сатана старается ввести человека в соблазн сомнения.
Но Достоевский полагал, что сйг самого человека и его
свободного решения зависит, в каком направлении в
конечном счете он будет развиваться.
Конечно, нельзя сказать, что, по мысли Достоевского,
это развитие завершается уже в земной жизни. Ему,
скорее, казалось/что продолжение процесса очищения
Можно мыслить, и за ее пределами. В этом он проти-
' врречил православной догматике, отклонявшей чистили-
~ ще. Например, А. С. Хомяков в своей работе "Церковь
одна" писал, что он не признает чистилища. Есть'три
места в сочинениях Достоевского, указывающие на то,
•, что он думал о чем-то, аналогичном чистилищу. 1. В
рассказе "Мальчик у Христа на елке" говорится что-то о
будущей жизни — какого рода она, где эта жизнь, ria какой
планете, в конечном ли центре, в лоне ли всеобщего
синтеза, т. е. в Боге, — мы не знаем. 2. В "Братьях
Карамазовых" имеется рассказ о философе-атеисте,
отрицавшем Бога и вынужденном пробежать квадриллион
/километров, чтобы достигнуть рая. В этой связи можно
* поставить вопрос, не объясняется ли этот рассказ
римско-католическим* влиянием, под которым находился Иван
"Карамазов. 3. Достоевский устами старца Зосимыпризы-
-вал молиться за людей, которые, по мнению людскому,
находятся в преисподней. Без представления о чистилище
, было бы непонятно, каким образом большинство людей,
например добровольно простившихся с жизнью, все же
могут войти в одну из этих сфер. В соответствии с раз- •
витаем индивида и человечество движется в двух
направлениях. Никакие разрывы истории не могут быть
преодолены с помощью синтеза: одна часть человечества идет
к Богу, другая — в сторону и против него. Земное царст-
138
во противостоит небесному. Достоевский воспринимает
эту мысль Апокалипсиса и отцов церкви и кладет ее.
в основу своей концепции истории. Только в самом
конце, непосредственно перед наступлением Страшного суда
свершится великое преображение, которое, может быть,
окажется спасением для всех. Этого вопроса мы коснемся
при рассмотрении философии истории Достоевского.
Первоначально цель, к которой побуждаются люди,
направляется и обусловливается волей к жизни. На этом
пути человек может потерять ориентиры, может
заблуждаться и даже обратиться против жизни, но факт
первоначальной направленности воли продолжает
существовать. Все стремятся к одной и той же цели, начиная от
мудреца и кончая последним разбойником, "только
разными дорогами"72. Они стремятся к осуществлению
своей целостной природы, к новой райской жизни, т. е.
к такому бытию, в понимании Достоевского, которое
реально воплотилось во Христе. Подобное бытие можно
обозначить как многоединство, где все существа связаны
друг с другом и с Богом в едином синтезе, благодаря
любви и единому познанию. "Вся история как
человечества, так отчасти и каждого отдельно есть только
развитие, борьба, стремление и достижение этой цели. Но
если это цель окончательная человечества (достигнув
которой ему не надо будет развиваться, то есть достигать,
бороться, прозревать при всех падениях своих идеал
и вечно стремиться к нему, — стало быть, не надо будет
жить) — то, следственно, человек, достигая, оканчивает
свое земное существование. Итак, человек есть на земле
существо, только развивающееся, следовательно), не
оконченное, а переходное"73. Святой Тихон Задонский
говорил, что его образ сопоставим с прообразом74.
Можно подумать, что Достоевский воспринял
ветхозаветное учение о том, что человек произошел от Бога
и стремится назад к Богу. Но существует различие между
аристотелевским и схоластическим учениями: человек
стремится не только к конечной цели, он удерживается от
своих порывов, отрицая ее75. Он противостоит цели, если
не признает ее конечной, и отрицает промежуточную
цель, поскольку она его не удовлетворяет. Но не только
это. Человек может осознанно в силу своей свободы
выбрать иной путь к добру или злу; он может уйти от
Бога или обратиться против него. Следуя своим
разрушительным задаткам, он отрицает Бога и его порядок
139
и ищет в разрушении пути в небытие. Он не может
достичь именно этой цели, поскольку она не дает душе
небытия: ведь смерти нет, есть только жизнь; однако
человек может упорствовать в своем своеволии,
изолироваться, отколоться и выступить против бытия и воли
к жизни. Он может в конце концов увлечь и других на
этот путь и, соблазнив их, среди прочего привести к
враждебной Богу позиции. Человек может стремиться к тому,
чтобы хотя бы временно овладеть душами других людей.
Тот, кто упорствует в этих действиях, в своеволии и
небрежении любовью, пребывает в преисподней,
отверженный от единения с другими людьми и слияния с Богом.
"Отвергло сие счастливое существо дар бесценный, не
оценило его, не возлюбило, взглянуло насмешливо и
осталось бесчувственным". Такие люди "Бога, зовущего их,
проклинают... и будут... жаждать смерти и небытия. Но
не получат смерти..."76.
Человек либо не вступает на этот сатанинский путь
и ему остается только одна возможность — с твердой
волей двигаться по пути к Богу, и он очистит собственное
существо для высшей нравственности; либо, перебиваясь
в этой суетной жизни, он увлекается целями, которые
заменяют ему путь к райскому совершенству (хотя
они таковыми не являются), й все глубже и дальше
предается неутолимому желанию достигнуть этих
иллюзорных целей.
Фундаментальный закон для человека, стремящегося
реализовать свое бытие, состоит в преклонении перед
великой идеей. Если у него совсем отсутствует подобная
идея и идеал, он впадает в отчаяние и ищет смерти.
Огромная мука для человека воспользоваться данной ему
свободой, чтобы найти объект для поклонения. Он хочет
поклониться чему-то великому, безусловно
привлекательному, заслуживающему благоговения. Поэтому он
создал представление о богах, поэтому он ведет войны за
идеи и мировоззренческие системы. "Невозможно и быть
человеку, чтобы не преклониться; не снесет себя такой
человек, да и никакой человек. И Бога отвергнет, так
идолу поклонится — деревянному, али золотому, аль
мысленному"77. Все идей, идеалы, боги, идолы и т. п.
имеют столь большое значение потому, что они
удовлетворяют жажду и стремления человека. Действительное
свершение дано только как идеал, который учитывал бы
все потребности, существенные для человека.
Смысл
бытия
Философия начинает с удивления и с
осмысления. Какого рода это
осмысление? Сначала оно может быть
направлено на сущность бытия, на его ценность; затем почти
всегда становится очевидным, что это фрагмент целостного
предмета. Но в конце концов осмысление, как об этом
говорит само слово, обращается к смыслу бытия. Вопрос
о смысле бытия есть великий, всеобъемлющий, конечный
вопрос философии. Вопросы о сущности бытия и о его
смысле ставятся только ради них самих. Человек, который
начинает с самоосмысления, хочет знать, что должно
вообще означать его собственное бытие, наличное бытие
человечества, существование вселенной, всего сущего,
какой смысл все это имеет. Почему есть бытие — вот в чем
вопрос! "Это маленькое словечко "почему" разлито по всей
вселенной с самого первого дня мироздания... и вся
природа ежеминутно кричит своему творцу:"Почему?" — и вот
уже семь тысяч лет не получает ответа"78.
То, что человек размышляет и в процессе своего
размышления ставит вопрос о смысле бытия, основывается на его
особом положении во вселенной. Ему одному дано право
притязать на свободу и размышлять о значении
собственного существования. А в своем более полном выражении он
может поднять и вопрос о смысле бытия вообще.
Возможность ставить такие вопросы принадлежит
к сущности человека. Ведь он всегда будет их поднимать
и ставить, как только хоть немного возвысится над чисто
животным, руководимым инстинктами и нуждами
бытием. Только у тех людей, которые похожи на низших
животных и ограничиваются чисто плотскими
потребностями, т. е. тем, чтобы есть, пить, спать, устраивать гнездо
и выводить детей79, не возникает таких вопросов, и они
без разговоров соглашаются вести такую жизнь. Но
в своем высшем проявлении, до сих пор имеющем
решающее значение для истории человечества и судьбы чело-
141
веческого бытия, человек ставит вопрос о смысле бытия
со все возрастающей силой. "Деловые люди, считающие
эти вопросы пустыми и возможным жить без них, суть
чернь и букашки, трава в огне"80.
То, что человек поднимает подобный вопрос, связано
не только с уровнем развития его сознания и чувством
свободы; это следствие того, что человек "по
прирожденной идее" обнаруживает в себе смысл. Это означает, что
такая идея существует не только тогда, когда он
сознательно ставит вопрос о. смысле; она всегда содержится
в его бессознательном и оказывает воздействие на его
положение в мире, на его желания и мысли задолго до
того, как человек может достаточно сознательно
осмыслить ее. Любой человек хочет совершенной, полной
смысла жизни, по своей природе он наделен такими
желаниями. Ребенок верит, что бытие исполнено смысла, и только
путем разочарований и страданий он узнает, что смысл
жизни сомнителен. Вся его последующая жизнь
определяется тем, что вопрос о смысле бытия он либо отвергает
как неразрешимый или относится к нему как к второ-
и третьестепенной вещи, либо делает его средоточием
собственных экзистенциальных решений; принимая или
отрицая его. К тому же это не столько существенно
отделенное от жизни абстрактное решение, сколько
целостная душа, часто пребывающая в бессознательном.
Вследствие горького жизненного опыта люди сами
отказываются от стремления осмыслить бытие, придать ему
смысл; они отчаиваются решить вопрос в позитивном
смысле и соответствующим образом ориентируют свой
образ действий и осмысление своей жизни. Либо в
другом случае любыми средствами и любыми способами
они обходят ответ на этот вопрос, поскольку их страшит
неизбежная ответственность, или же они страшатся того,
что должны пребывать в лишенной смысла вселенной.
Так как мысль о смысле специфична для человека, то
позитивизмом и материализмом, так же как и реализмом
вообще, ставится под сомнение, что она может быть
отнесена к бытию как таковому. Нельзя спрашивать
у природы, есть ли в ней смысл, поскольку она не
способна дать ответ на такой вопрос. Не потому, что природа
не хочет, а потому что не может ответить. Если
поставить вопрос о смысле происходящего, это последнее есть
только выражение устремлений субъекта, ибо за
природными явлениями стоит не субъект, не "природа", не Бог,
142
не какая-либо сверхличностная сущность, которая
усматривает смысл в происходящем и могла бы ртветить на вопрос
о смысле. Природа, чтоб отвечать на мои вопросы, пред*
назначила мне (бессознательно) меня же самого и отвечает
мне моим же сознанием (потому что я сам все это говорю
себе). К природным явлениям категория смысла вообще
неприменима. Правомерность постановки подобного воп- •
роса оспаривается и сторонниками
религиозно-конфессионального подхода, но с противоположных позиций. Здесь
верят во всемогущество БоГа как создателя всего
мироздания, но постановка человеком вопроса о смысле бытия
считается греховной дерзостью перед Богом,-не
подобающей сотворенному существу по отношению к его творцу.
Еще одно возражение выдвигается со стороны
агностиков. Они утверждают, что ответ на этот вопрос не по
силам человеку, что человек по свойствам своего духа не
способен к его разрешению. Наглядно мы «не можем
представить себе ничего, кроме трехмерного
пространства, поэтому наш разум не может схватить смысл бытия.
Достоевский представляет эту позицию в образе Ивана
Карамазова, "смиренно" признававшего свою неспособ- .
ность разрешить этот вопрос*1. *
Вопреки агностицизму Достоевский указывает на тот ^
факт, что человек тем не менее несет в себе вопрос о смысле
бытия и обнаруживает этот смысл. Он надеется, что бытие
исполнено смысла, он хочет жить в мире, имеющем смысл.
Это ожидание, это стремление не может умалить даже
убеждение в том, что эти вопросы не поддаются ответу
и неисполнимы. Но от них в человеческой жизни столь
многое зависит! Нужно коренным образбм изменить
человеческую натуру, чтобы лишить человека этой надежды.
"Это мое хотение, это желание мое. Вы его выскоблите из
меня только тогда, когда перемените желания мои"82.
Когда Декарт пытался прояснить основоположения,
и методы применения разума, он также поставил вопрос,
не покоится ли познание на обмане в том смысле, что
некая демоническая сущность злой воли обманывает че-.
ловека ложной картиной' действительности. Он нашел
выход из этого безвыходного состояния только с
помощью интуитивно обретенной идеи Бога. Совершенному,
и всеблагому существу невозможно одарить собственное
творение силой познания, чтобы затем вводить его в
обман*3. Подобна тому как Декарту понадобилось сущест-*
вование совершённого существа, человеку для всех прак-
143
тических жизненных поступков необходимо
предварительное решение о том, имеет ли смысл бытие или нет.
Ибо следование человеком законам морали, а также его
практическое поведение вообще определяется путем
предварительного решения вопроса о смысле. Вопрос стоит
так:"имеет ли моя жизнь смысл?", или:"неужели ж я для
того только и устроен, чтоб дойти до заключения, что все
мое устройство одно надувание"84. Достоевский
признавал важность этого вопроса и подчеркивал его значение
для практической жизни. Но он был убежден, что на него
нельзя получить однозначный ответ. Невозможно
установить интуитивную достоверность ответа на этот вопрос,
нет прямых указаний "за" или "против" осмысленности
бытия. До этого пункта агностики совершенно правы. Но
тем не менее этот вопрос вполне правомерен, ибо от его
решения полностью зависит практическое поведение
человека. В конечном счете это решение предстает как акт
веры, поскольку оно не может быть охвачено разумом.
Прежде чем дать ответ на данный вопрос, можно
и нужно сделать только одно: полностью выявить его
практическое значение. Его человек может установить.
Уже само утверждение, что этот вопрос не нужно ставить,
ибо на него нельзя дать ответ, таит в себе далеко идущие
следствия. Зачем, спросит человек, я создан так, что у меня
возникает этот вопрос, если я не могу найти на него ответ
из-за моего ограниченного рассудка? Нужно ли природе
ломать комедию, ставя перед ним столь важный и
мучительный вопрос и не давая при этом возможности дать на
него ответ? Почему она не утаивает всю эту проблему, как
скрывает ее, допустим, от коровы? Тогда возникает в
высшей степени забавная, но в то же время непереносимо
печальная мысль. А что если человек пущен на землю "в
виде какой-то наглой пробы"85, чтобы только посмотреть:
уживется ли он на земле или нет? Можно возразить на это,
что тем самым за явлениями природы мог бы мыслиться
обладающий определенными устремлениями субъект,
пусть даже бесовской природы. Но даже если его и не
мыслить таковым, то не возникает ли при этом
непреодолимая пропасть между человеком, поднимающим
вопросы о смысле, и вселенной? Совместима ли подобная
бессмысленность с мировым смыслом, если он имеется?
Мы приближаемся тем самым к сокровенной сфере
проблемы смысла жизни, которая волновала
Достоевского и имеет столь большое значение в его метафизике.
144
Предварительно суммируем основные результаты, к
которым, как нам кажется, пришел Достоевский.
1. Любое бытие порождает вопросы. Оправданность
этого нельзя оспорить. В крайнем случае можно указать,
что вследствие ограниченности наших познавательных
способностей на них ответить нельзя.
2. На вопрос о смысле жизни нужно отвечать
утвердительно или отрицательно, если по указанной выше
причине это вообще возможно. Утверждение, что
подобный вопрос неприменим к неживой природе,
несостоятельно, он применим также и к ней. Явления природы не
бессмысленны. Они либо не являются выражением
устремленного к цели субъекта (такой субъект не
существует), содержанием только его сознания, либо если каким-
то образом существующий субъект не хотел и не хочет
воплощения смысла и не обращен к цели.
3. Совокупная действительность, бытие в своей
полноте не являются ни в высшей степени исполненными
смысла, ни в конечном рассмотрении бессмысленными.
Частичный смысл отдельных явлений или их совокупностей,
рассмотренных через призму целого, представляет собой
бессмыслицу.
Чтобы выяснить, как Достоевский пришел к этим
положениям, нужно дать соответствующий анализ
понятию "смысл". Однако представляется, что здесь не место
этому. Подчеркнем лишь, что Достоевский придавал этому
понятию многообразное значение, сопрягая его с целями,
к которым стремится человек, и средствами их достижения.
Особое значение при этом он придавал положительным,
ценностным целям, достигаемым положительными же
средствами. Важным для него была обращенность к смыслу
деятельного субъекта (в том числе и совокупного),
ставящего перед собой положительные цели, достигаемые такими
же средствами. Он неоднократно указывал, что
общественное устройство, основанное на страданиях и на крови
невинных людей, не имеет ни смысла, ни ценности.
Достоевский отмечал также значение своеволия. Человек не примет
действительность, которую он не может признать
совершенной, которую из-за ограниченности своего рассудка он
может считать лучшим из возможного, но в то же время
с такой мыслью он никогда не примирится. "Я не успокоюсь
на компромиссе, на беспрерывном периодическом нуле,
потому только, что он существует по законам природы
и существует действительно"86. Если не изменить моих
145
подлинных желаний, говорит подпольный человек/ то
"покамест я уж не приму курятника за дворец. Пусть даже
так будет, что хрустальное здание [здесь: полностью
осмысленная действительность] есть пуф, что по законам
природы его и не полагается и что я выдумал его только
вследствие моей собственной глупости, вследствие
некоторых старинных, нерациональных привычек нашего поколет
ния. Но какое мне дело, что его не полагается. Не все ли
равно, если он существует в моих желаниях, или, лучше
сказать, существует, пока существуют мои: желания?.. Я...
все-таки не скажу, что я сыт, когда я есть хочу,.. Уничтожьте
мои желания, сотрите мои идеалы, покажите мне что-
нибудь лучше"87.
Рассмотрев попытки,решения вопроса о смысле бытия
в двух его вариантах, можно теперь.прийти к
заключению, что. бытие либо исполнено смысла, либо в нем
конечного смысла нет. Но при этом нужно ясно
представлять себе, что именно утверждают, когда на данный
вопрос дают положительный ответ; к тому же нельзя при
его рассмотрении ограничиваться низшими ступенями
познания, нужно подразумевать Тнечто безусловное
и в высшей степени разумное. Практические следствия
различньЬс подходов к решению этого вопроса мы будем
рассматривать в связи с анализом негативной и
положительной метафизики Достоевского.
'О том, как Достоевский относился к положительному
и негативному решению центрального для философии
вопроса о смысле нашего бытия, однозначно
свидетельствует его письмо к Любимову (10 мая 1879 г.) по поводу
. "Братьев, Карамазовых". Синтез современного русского
анархизма, писал он, есть "отрицание не Бога,.а смысла
"его создания. Весь социализм вышел и начал с отрицания
смысла исторической действительности и дошел до
программы разрушения и анархизма. Основные анархисты
были, во многих случаях, люди искренно убежденные.
Мой герой берет тему, по-моему^ неотразимую:
бессмыслицу страдания детей и выводит из нее абсурд всей
исторической действительности... Богохульство же моего
героя будет торжественно опровергнуто в следующей
(июньской) книге, для которой и работаю теперь со
страхом, трепетом и благоговением, считая задачу мою
(разбитие анархизма), гражданским подвигом"88.'
Часть третья
ЭТИКА
Нравственный
выбор
Полемизируя с теориями
утилитаризма и этического интеллектуализма,
Достоевский в "Записках из
подполья" поставил решающий вопрос, связанный не только
с названными философскими теориями; его нетрудно
распространить и на всю область практической философии.
Возможно, он намеревался показать важность этого
вопроса, но по каким-то причинам скрыл полное его
значение под прозрачным покровом полемики против
утилитаризма.
Он размышляет следующим образом: рассудочное
и научное знание привело утилитаристов к заключению,
что людей нужно воспитать так, чтобы они хотели
только разумного. Такое правильное представление,
необходимо влекущее за собой и правильное поведение,
достигается, по их мнению, только путем воспитания.
Другие, напротив, хотели бы достигнуть этой цели
посредством обычая, имея в виду опытное знание, когда
люди определяются в своих решениях не разумным
познанием всеобщего блага, а в большей мере чувственным
представлением о частном благе путем приручения своей
воли и влечений. Предположим, что люди и в самом деле
стали просвещенными и что они терпеливо следуют
обычаю. Утилитарист начнет с того, чтобы направлять волю
в соответствии с требованиями разума. Здесь
Достоевский ставит вопрос: "Из чего вы заключаете, что хотению
человеческому так необходимо надо исправиться?"1
Иными словами, он ставит вопрос об основании этики.
Постановка этических проблем позволяет выделить
два аспекта: 1. Действительно ли этика улучшает челове-
147
ка, а его поведение, соответственно, подчиняется
нравственным заповедям? 2. Не ограничивает ли этика не
только человеческую свободу, которой уже самой по себе не
остается достаточно широкого места, но и саму
человеческую природу, сужая и обедняя ее?
Мы уже отмечали, что Достоевский, исследуя
психологию поведения, подчеркивал стремление человека,
вытекающее из его хотения, охранять свою свободу. Если
люди долгое время подчиняются только закону, ими
овладевает страх, что они утратят способность вести себя
по-иному, что благодаря привычке к законосообразному
поведению они отвыкнут от отличающихся от него
поступков, потеряют свою свободу и обеднят свою
природу. Тогда впадают они в грех и тем самым преступают
закон лишь для того, чтобы утвердиться в свободе и
способности поступать по-своему. Только из содержания
нравственного закона и из следствий, которые влечет за
собой подчинение ему, можно решить, действительно ли
законосообразное поведение обедняет человеческую
натуру и приводит к несвободе. Это имеет значение и для
первой проблемы.
В связи с утилитаризмом возникает серьезный вопрос:
способен ли он на самом деле улучшить человека и не
опасно ли ограничение им его натуры. Кто в самом деле
может сказать, что установленное "разумом" добро
является для человека действительным добром и что оно
"есть закон для всего человечества"?2 Понятийный
рассудок охватывает лишь малую часть человеческой жизни
и знает только часть человеческой души. Если бы при
этом закон был плодом логических выводов и
скрупулезных наблюдений, он все же, вероятно, не способен был бы
установить на основе обычаев действительный
нравственный закон, поскольку знание оказывается
недостаточным. Не всякий закон разума способен стать законом
человеческой природы. Может быть, большая часть
человеческой души, которая до сих пор остается для разума
скрытой, нуждается в совершенно ином образе действий,
чем предписывает разум?
В результате рассудочное обоснование этики и
нравственного закона весьма сомнительно и кажется
невероятным. К тому же, если есть свобода воли, — а мы уже
видели, что человек, по Достоевскому, должен ее иметь,
чтобы жить, — даже тогда нельзя сказать о
необходимости и фактическом основании морали. Может быть, воля
148
вообще не нуждается в каком бы то ни было
попечительстве; для нее необходимо только, чтобы она вполне
свободно делала свой выбор лишь на основе побуждений
своей целостной природы. Но не исключено также, что
существует фундаментальная мораль и воля обязана
следовать за нравственным законом и его исполнять.
Возможность человеческой свободы состоит в свободном
выборе, соотносимом с моралью, когда человек
исполняет требования существующего при соответствующих
условиях нравственного закона.
Свобода воли в области морали требует нравственной
ответственности, а это предполагает, что есть
нравственный закон с его действительными требованиями и что эта
его действительность признается всеми. Безличная
свобода, чье содержание, цели поведения и желаемую величину
воздействия человек сам в состоянии определить,
приобретает особое значение при различении добра и зла,
в выборе образа действий на путях добра или зла. Оба
решения требуют риска, ибо их осуществление
неопределенно. Выбор должен осуществляться в
неопределенности постольку, поскольку, как мы увидим в
положительной метафизике, Бог не оказывает влияния на человека
в определении нравственного выбора. Если бы у нас были
твердые знания о Боге, бессмертии, небесах и
преисподней, выбор любого человека, не лишенного здравого
смысла, не был бы неточным. Но человек сам свободно
решает в сердце своем, как он относится к добру и злу3.
Только пророческое знание дано ему при выборе верного
пути. "Добрый человек, охваченный смутным порывом,
находит правильный путь"4. Нравственный закон
предлагает человеку разные источники — божественное
откровение, голос совести, человеческие установления
и природные требования долга. Дело человека —
сохранять ответственность за свою свободу или принять
какие-то из моральных обязательств. От него зависит не
принимать ни одно из них и отвергать сам нравственный
закон. Но в свободе лежит также и его ответственность
перед возможным мировым судилищем. Вопрос о праве,
который человек обращает к бытию, может от этого
последнего вернуться к нему же. Случится ли это,
потребуют ли человека к ответу, остается ему неизвестным.
Если человек уверен, что моральный долг существует
правомерно, но не выполняет его, выбор, направленный
против этого долга, становится прегрешением.
149
Человеку дано в каждый момент принимать
множество решений. Конечно, он не рискует выполнять их все.
"Все в руках человека, и все-то он мимо носу проносит
единственно от одной трусости... Любопытно, чего люди
всего больше боятся? Нового шага, нового собственного
слова они больше всего боятся"5. Человек пребывает
в положении той крестьянской девки, которая говорит:
"Заходу — вскоцу, заходу — не вскоцу"6. Такое
понимание свободы выбора было весьма свойственно русскому
человеку, отмечал Достоевский. Но обнаруживающаяся
в этом народе способность к злой самовластной воле
может вдруг повернуть на иной жизненный путь.
Человек, решая свободно, как ему вести себя,
полностью различает при этом добро и зло7. Такого рода
свобода является, с одной стороны, радостью для человека,
а с другой — бременем и мукой. Только сильные волей
люди способны нести такую, свободу долго. Слабые не
переносят ее и хотят от нее избавиться. Их подавляет
необходимость соотносить свои решения с совестью,
поскольку они не хотят нести ответственности. Поэтому
они ищут, на кого бы как можно быстрее можно было
переложить такую ответственность; они присоединяются
к общности, которая дает им твердые нравственные
предписания; и они держатся за эти гетерономные (не
зависящие от них) предписания, заменяя повиновением свободу
совести.
Выбор есть не только риск, но и жертва8. Человек при
выборе поступается некоторыми своими возможностями.
Он отказывается от существующих возможностей
личностного раскрытия, он подчиняет часть своей природы
ради исполнения нравственного закона. "Всякий выбор
ужасающ, — писал идейный ученик Достоевского А.
Жид, — если он продуман, но ужасна также и свобода,
которая не руководствуется долгом"9. В самом деле
человек только тогда и именно в нравственном смысле
свободен, когда его воля обращена к добру. Он убеждается
далее, что ограничен в тех свободных решениях, которые
в основе своей не являются благими, но именно их он и не
хочет принимать. В конечном счете выбор зла для такого
человека есть не что иное, как решение, направленное
против его собственной воли, как нечто такое, что делает
человека несвободным.
Моральное
сознание
Выбор нравственного закона, выбор
между добром и злом и т. п. зависит
от морального сознания. Человек,
подчеркивал Достоевский, прежде чем выбирать, должен
знать, ради чего он может, должен или хочет принять
решение. Он должен знать, существует ли нравственный
закон, чем отличается добро от зла и, если все это имеет
место, откуда они берутся и как обосновываются.
В большинстве случаев молодой человек,
начинающий сознавать свое место в мире, овладевает внешней
нравственностью, уже состоявшейся и вполне
определившейся. Это — нравственность его среды, семьи, касты,
класса, религии и т. д. Она выступает с претензией
определять волю человека и как моральная заповедь
требует себе подчинения. Как правило, практические законы
общности, в которую человек включен, более или менее
связаны с нравственным законом, имеющим, в свою
очередь, прямое отношение к обычаям. Поначалу человек
овладевает этой нравственностью, т. е. он признает, ее
право определять волю. Только особый конфликт с нрав--
ственностью, возможный при определенных обстоятель- #
ствах на основе характерологических особенностей или'
необычного стечения житейских ситуаций, может
привести к противостоянию ей.
Отличительная черта нового времени, считал Досто-* '•
евский, состоит в том, что нарушено нормальное отноше- '
ние к нравственности. Современный человек имеет дело
с различными системами морали, каждая из которых
равным образом претендует на всеобщую ценность, хотя
ойи и противоречат друг другу. Следствием является то",
что-их претензии становятся для индивида проблематич-
ными, а вслед за тем и сама нравственность ставится под
сомнение. Прежде чем признать значение морали,
необходимо поинтересоваться ее происхождением и
исследовать, откуда берется обоснование ее притязаний. Первый
151 : ■"
результат исследования приводит к выводу, что все
разновидности морали покоятся на метафизических
предпосылках. Обычно метафизическая картина мира
является решающей для характеристики нравственности,
поскольку эта последняя выводится из нее. Достоевский
указал на это отношение, на их необходимые связи, когда
открыл зависимость христианской морали от
христианского вероучения. "Уничтожьте в вере одно что-нибудь
— и нравственное основание христианства рухнет все,
ибо все связано"10. Что касается теоретического базиса,
то среди входящих в него учений выделяются
позитивистские, утилитаристские, исторические и т. п. Во всех них
этика выводится из четко определенных источников, и
таковыми выступают: разум, чувство, совесть, опыт,
обычаи и внешний авторитет.
Достоевский совершенно не принимает этику чистого
разума не потому, что он не придавал ей никакого
значения, а потому, что он вообще считал ее невозможной.
Когда он говорил о рационалистической или рассудочной
этике, он думал о такой этике, в которой разумное
познание связано с опытом, и именно с опытом, который
становится опытной наукой вследствие переработки
эмпирического материала. Для этики в этой связи важное
значение имеет критика науки, которая отмечена
несовершенством и односторонностью, исходя, к примеру, из
усмотрения лишь чувственной, внешней стороны
действительности, из одностороннего рассмотрения
доступного рассудку только количественного, того, что поддается
подсчету или субординации, а также из пренебрежения
к духовной сущности человека.
Конечно, с помощью рассудка можно попытаться
выявить некоторые научные результаты, относящиеся к
этике. При этом можно опираться на различные науки — на
биологию, историю, политэкономию. В XIX в. пытались
понять естественные тенденции целостного развития
путем изучения человека как биологического,
экономического, исторического и т. д. существа. И нравственным
обозначалось поведение, которое соответствовало
тенденциям развития этих наук и требовало такого
развития, а безнравственным считалось то, что мешало или
противостояло всему этому. На подобных соображениях,
например, покоится этика исторического материализма,
утилитаризма, философия Спенсера. Достоевский знал
эти теории. Ему были известны учения Бентама, Спен-
152
сера, самого Маркса. Все они были согласны в том, что
человеческая воля направляется волей объективной
действительности — природой, историей, "материей" и т. п.,
что она должна согласовываться с тем, чем она
"определяется", и что поведение человека должно
соответствовать этому определяющему воздействию.
Часто позитивисты и философы, создававшие свою
картину мира на основе выводов из естественно-научного
и социального знания, подходили таким образом не
только к этике: они отрицали свободу воли вообще. Вместе со
свободой воли устранялась, однако, и нравственная
ответственность человека, и тем самым этика становилась
беспредметной. Подобную позицию занимал Белинский
в те годы, когда с ним познакомился Достоевский
(1845—1846). "Без сомнения, он понимал, — писал о нем
Достоевский, — что, отрицая нравственную
ответственность личности, он тем самым отрицает и свободу ее; но
он верил всем существом своим (гораздо слепее Герцена,
который, кажется, под конец усумнился), что социализм
не только не разрушает свободу личности, а, напротив,
восстанавливает ее в неслыханном величии, но на новых
и уже адамантовых основаниях"11. Белинский отрицал
свободу выбора и защищал возможность свободы,
которая с ним не связана. Такая позиция не знает ни
проступков, ни грехов, ни преступлений, но также и никаких
великих моральных деяний12. Поэтому не может быть
совести на объективно значимых основаниях. Совесть
есть не что иное, как наследственное достояние,
бытующее у человека в качестве религиозного предрассудка.
"Совесть! Что совесть? Я сам ее делаю! Зачем же я
мучаюсь? По привычке. По всемирной человеческой привычке
за семь тысяч лет. Так отвыкнем и будем боги"13. В
соответствии с теорией утилитаристской школы (Спенсер)
в оценках добра и зла упорядочивался опыт рода как
наследственный признак.
Всем верящим в науку рекомендуется в качестве
целительного средства против привычки к отсталой совести,
религиозной по происхождению, медленное и постоянное
избавление от нее. Предполагается, что сначала
отдельные личности с помощью мощного разума освободятся
от ига и тирании совести, а затем они помогут и другим
последовательно осуществить это освобождение.
Европейское человечество унаследовало и привыкло к
христианской совести: позитивистская и "научная" философия
153
середины XIX в. полагала бесполезным придерживаться
ее. Многие считали ее прямо-таки вредной, так как она
мешает людям вести естественную жизнь. По их
убеждению (сторонниками таких взглядов были также Герцен
и Ренан), только наука может дать человеку "живую
жизнь"14, так же как и совершенный нравственный идеал.
"Живая жизнь" устраняет запреты христианской совести
и позволяет человеку проявить во всей полноте свою
человеческую природу "в здоровой чувственности"
(Фейербах). Свой идеал "научная" философия может
развернуть только на основе развивающейся действительности.
Измените историко-экономическую действительность,
и вы получите экономически обеспеченное и цветущее
существование. Под свободой понимается,
следовательно, удовлетворение и приумножение потребностей15.
Однако до сих пор экономическая наука не указала путей
и средств для подобного рода преобразований, она не
дала такой программы. Если нравственные принципы
выводить из области биологии, то исходным пунктом
будет борьба за существование и выживание сильных
и наиболее приспособленных к среде индивидов и видов
(Дарвин). При таком подходе на исторические явления
переносятся те элементы, которые якобы имеют значение
на биологическом уровне. Обе философские позиции
хотят убедить, что инстинкт самосохранения и эгоизм
служат единственным естественным мотивом поведения.
"Уж как докажут тебе, что, в сущности, одна капелька
твоего собственного жиру тебе должна быть дороже ста
тысяч тебе подобных и что в этом результате разрешатся
под конец все так называемые добродетели и
обязанности и прочие бредни и предрассудки"16, то не остается
ничего иного, как принять это за достоверный научный
вывод, закономерно выведенный опытным путем.
Общеупотребительная практическая формула "Каждый за
себя, один Бог за всех" — доказательство того, как глубоко
проник этот взгляд в общее сознание. Дело, однако,
в том, что инстинкт самосохранения и самоутверждения
присущ органическим существам, а у человека он имеется
в ослабленной, преображенной форме и поэтому
подменяется рассудительностью и ее практическим
применением. Великая трудность состоит в том, чтобы
эгоистическую волю индивида направить и приспособить для
блага общности. Ибо эгоистическая единичная воля
всегда угрожает своим противостоянием воле других и, если
154
ей это нужно, добивается собственной цели с помощью
насилия, не считаясь при этом ни с чем. И. Бентам
сочинил теорию, в соответствии с которой эгоистическая
единичная воля может преобразовываться в социальный
эгоизм и тем самым в альтруизм. Он опирался при этом
на Руссо, который в своем известном трактате "Об
общественном договоре" писал: "Обязательства,
связывающие нас с Общественным организмом, непреложны лишь
потому, что они взаимны, и природа их такова, что,
выполняя их, нельзя действовать на пользу другим, не
действуя также на пользу себе"17. Бентам заострил эту
мысль: можно добиться альтруистического поведения,
если доказать людям, что они способствуют своей
собственной выгоде, когда очевидно невыгодный или менее
выгодный образ действий, который служит всем, на
самом деле может стать весьма полезным для их еще
большей выгоды, так как поведение индивида,
причиняющее вред общности, должно вызвать ее распад и тем
самым нанести ущерб самому индивиду.
Как известно, Шопенгауэр не без оснований
подозревал Канта в утилитаристских пристрастиях, правда,
только из-за недооценки им проблемы "достоинства
человека". Шопенгауэр утверждал, что кантовская максима
о том, что человек должен вести себя так, чтобы его
поведение могло стать принципом всеобщего
законодательства, в конечном счете покоится на предпосылке, что
такое поведение, несмотря на очевидную
противоречивость, принесет индивиду большую пользу. Шопенгауэр
в этой связи, открыв изъяны этой теории и возражая ей,
выдвигал тот же аргумент, что и Достоевский. Он
критиковал Канта в "Основах морали": "Если я снимаю
условие, согласно которому я как более слабый элемент
должен страдать от беззакония, вытекающего из
неправедного деяния, я вижу в себе (доверяя моим
превосходящим духовным и физическим силам) только всегда
активную, а вовсе не пассивную единицу при выборе
всеобщей максимы; поэтому, предполагая, что нет
другого основания морали, кроме кантовского, очень легко
могу принять в качестве всеобщей максимы
несправедливость и отсутствие любви"18. Аналогичный вывод
делает Раскольников при обсуждении подобной ситуации,
возражая стороннику такого взгляда Лужину: "Доведите
до последствий, что вы давеча проповедовали, и выйдет,
что людей можно резать..."19
155
Фактически всякая согласованность исключительно
эгоистических индивидов сводится в обществе к обману,
поскольку любой одиночка сначала обдумывает
собственную выгоду; он не готов ждать плодов
альтруистического поступка, когда непосредственная выгода для
него надежнее, и надеется избежать негативных
воздействий эгоистического поведения с помощью своей силы
и ловкости. Поэтому при случае он не ужасается
применению насилия, только чтобы добиться собственной
выгоды. Никогда нельзя добиться четкого различения того,
что подходит индивиду и что — обществу, поскольку нет
естественных границ между социальным организмом
и единичным существом и поскольку коллектив и
индивиды (а последние между собой) надолго не
соединяются произвольно фиксируемой пограничной линией.
Цель столкновений между индивидами по поводу
разграничения выгоды являет собой всегда открытую
борьбу за власть, и в конце концов эта выгода (естественно,
именем науки) возвращается как принцип, в котором
видится самое подходящее средство обосновать свою
собственную пользу. Дело доходит до того, что одна
сторона пытается вырвать господство у другой, подавить
или истребить противника, если без этого нельзя
обойтись. Так "новая нравственность", стремившаяся
поправить прежнюю и стать выше нее"20, кончает тем, что
убийство, подготовленное и осуществленное ею с
научной точностью и объективностью, воплощается его
исполнителями с холодным безразличием. Мальтус еще
в 1798 г. в своем "Опыте о принципах народонаселения"
развивал теорию, в соответствии с которой человечеству
угрожает катастрофа голодного вымирания. Не
обращаясь к выкладкам Мальтуса, Достоевский был убежден
в правомерности этой теории. Он считал, что
человечество неудержимо идет навстречу голодному кризису.
Из всего этого Достоевский делал вывод, что один
только разум и лишь путем разработки научного опыта
неспособен понять добро и зло. Он даже не в состоянии
их развести и постоянно путает одно с другим. Рассудок
не может дать нравственные ориентиры, не может даже
выдвинуть нравственные требования. Лев Толстой
убедительно показал это в своих произведениях, подчеркивал
Достоевский. Под водительством одного только
рассудка невозможны самопожертвование и любовь к
ближнему. Рассудочное мышление не может оправдать нрав-
156
ственные идеи. Толстой прав, утверждая, что незачем
с помощью рассудка искать то, что дано и без него и за
чем следует любой человек. Философы знают о высшем
смысле жизни и о добре и зле ничуть не лучше, чем
простые люди из народа. Толстой в этих рассуждениях
выступал как ученик Руссо. В I части сочинения
"Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между
людьми" Руссо размышлял об изначальном
нравственном достоинстве естественного человека и о пагубности
культуры. Толстой пытался эти мысли Руссо
приспособить для понимания русского народа. Достоевский тоже
был убежден в нравственном величии народа. И тем не
менее он не принимал взглядов Руссо, который видел
в прогрессе культуры только негативное движение; хотя
Достоевский не считал философское исследование
нравственности вредным или излишним, однако на вопрос,
возможна ли исключительно научная нравственность, он
однозначно отвечал: нет.
Поскольку нравственное познание питается не одним
только разумом и внешним опытом, существует в
качестве возможного источника также и опыт внутренний,
чувство. Если обратить на это внимание, то станет
ясным, что чувство вне зависимости от разума способно
схватывать и проникать в самые сложные явления,
поскольку оно пригодно для этого в гораздо более высокой
степени, чем разум. В рассказе "Кроткая" герой
поражается, как его жена — интуитивно глубоко чувствующая
женщина — выказывает высокое нравственное знание,
просвечивающее в ее поведении. "И откуда, думал я,
пораженный, откуда эта наивная, эта кроткая, эта
малословесная знает все это?.. И сколько было блеска в ее
словах и маленьких словечках; какая острота в быстрых
ответах, какая правда в ее осуждении!"21 И он сам дает
ответ на этот вопрос: "Вся правда поднялась из ее души,
и негодование вызвало из сердца сарказм". Чувство без
"научения" знает нравственную правду, и оно способно
к поразительным суждениям.
Даже пяти-шестилетнее дитя знает о Боге, добре или
зле, считал Достоевский, такие удивительные вещи и в
такой неожиданной глубине, что невольно приходишь к
выводу, что малышу природой даны какие-то другие
средства для достижения подобного знания.
Откуда берется это знание, эта уверенность в
нравственном чувстве? Достоевский в согласии с Толстым дает
157
ответ: оно прирождено, или, как он выразился, — "уже
дано самой жизнию"22. Со времен Цицерона и Лейбница
нравственная истина считается врожденным принципом
(inne). Лейбниц говорил об этом принципе, что он
существует у нас не как ясное и отчетливое знание, а как
инстинкт (это понятие он обозначает в духе схоластики
как "нравственное влечение") и что он возникает из
"смутных ощущений"23. Ж. Ж. Руссо в "Исповеди савой-
ского викария" также говорил о врожденных
нравственных идеях, в частности о принципе справедливости,
добродетели и совести. И Достоевский примерно так же
думает об инстинкте: не рассудок есть главная причина
нравственных решений, а то, что им руководит, —
благородные качества.
Этот внутренний голос, это внутреннее знание
усиливается путем воспитания и, возможно, путем
наследования. Воспитание, которое обычно основывается на
традиции, оказывает огромное воздействие на ребенка.
Врожденный голос совести радостно откликается на
этическое обучение, переданное и закрепленное
правильным воспитанием, поскольку "мне сказали это в детстве
и я радостно поверил, потому что мне сказали то, что
было у меня на душе". Так писал Толстой в романе
"Анна Каренина"24. Воспитание пробуждает скрытую
совесть. И все же не воспитание, а наше нравственное
знание имеет решающее значение. Это последнее дано
нам прежде всего в сверхсознательном бессознательном,
и выражается оно через волю к жизни, через знание
о совершенном смысле, через нравственную идею.
В конечном счете его источник лежит в "мирах иных",
т. е. это знание соответствует отношению человека
к Богу. "Нравственные идеи... вырастают из
религиозного чувства"25. Здесь осуществляется связь чувства с
сознанием. Если отсутствует или прерван контакт с этой
последней сферой, нравственное чувство замирает,
эмоциональное знание о нравственном гибнет и
вырождается. С другой стороны, на основе нравственного знания
проясняется, что ряд нравственных идей может быть
оправдан только чувством, оставаясь непонятным и
неприемлемым в качестве идей рассудка. Во многих
случаях человека направляет и на дурной поступок не
рассудок, а чувство.
На сильные, нравственно потрясающие впечатления
бессознательное может отвечать психическими отклоне-
158
ниями от нормы, как в случае с деревенским парнем,
выстрелившим в просфору и в момент выстрела
увидевшим Распятого. "Суд прогремел из его сердца, конечно.
Почему прогремел не сознательно, не внезапным
прояснением ума и совести, почему проявился в образе, как бы
совершенно внешним, независимым от его духа фактом?
В этом огромная психологическая задача и дело
Господа"26.
Если возникает конфликт между сердцем и
рассудком, человек должен принимать решение за обе
стороны. Но когда рассудок из-за этого порицает
также и душу, лучше следовать не за принципами
и максимами рассудка, а за своим нравственным
чувством. Оно есть самый надежный показатель
нравственного поступка. Утверждение, что рассудочное
понимание в нравственных решениях стоит выше
чувства, является ложным. Нужно, скорее, сказать
обратное: нравственное чувство важнее рассудка. Оно
— основа нашего нравственного прозрения. Достоевский
был поэтому един со всеми представителями этики
чувства ■»— Руссо, его ученицей Жорж Санд, Львом
Толстым.
Из становящегося и ставшего осознанным чувства
возникает совесть. В естественном человеке она открыта,
она существует у него в неискаженном виде, и
нравственный закон здесь тождествен, как мы еще увидим, с
законом божественным. Определение Бердяевым совести как
"органа восприятия Бога"27 выходит за пределы
представлений Достоевского. Совесть дает каждому
представление о том, что хорошо и что дурно. Далее она
указывает путь к пониманию нравственного поведения.
Достоевский рассматривает последнее не как приказ, а как
веление долга. Совесть каждого человека свободна, т. е.
нет силы или власти, которая могла бы принудить ее
к суждению или выбору. Нет ничего обольстительнее для
человека, как свобода его совести, но нет ничего и
мучительнее, поскольку она ставит его перед серьезным
выбором между добром и злом. Поэтому люди постоянно
ищут внешний авторитет, нравственные заповеди
которого они отождествляют с внутренним нравственным
законом, успокаивая себя словами: "Мы подчинились
моральным заповедям". Голос совести часто бывает столь
сильным, что люди жертвуют благополучием и самой
жизнью, чтобы соответствовать ее требованиям или не
159
подвергаться ее угрызениям. Чаще всего подчинение
внешнему авторитету тождественно развенчанию
совести. Часто более высокое значение приписывается
внешней моральной заповеди, чем внутреннему закону,
и люди, соответственно, повинуются первой, даже
в противоречии с голосом собственной совести28.
После свершения проступка или преступления голос
совести выступает как отголосок нравственного
суждения. Он лучше всего показывает, был ли наш
поступок добрым, или мы поддались дурным
стремлениям, ибо настоящая кара, единственная
действительная, единственная устрашающая и
умиротворяющая, заключается "в сознании собственной
совести"29. Когда совесть подает голос, это означает,
что в душе человек в чем-то раскаивается. "Совесть
— это уже раскаяние", — писал Достоевский30.
Угрызения совести причиняют преступнику страдания
и мучения, в которых частично уже содержится
наказание за совершенное зло, действительное наказание,
единственно действительное, которое устрашает и
которое способно утихомирить злые страсти31. Однако
такое наказание возможно только тогда, когда совесть
безупречна.
Душа может попытаться подделать голос совести
с помощью хитроумной казуистики. В особенности
рассудок занимается поисками аргументов, с помощью
которых он пытается найти для души доказательства того,
что совершенный или планируемый поступок не
содержит ничего дурного. Пример подобной софистики
Достоевский дал в образе Смердякова, считавшего, что
допустимо свободно отвергнуть веру, чтобы спасти тем самым
свою жизнь. Ведь никто же не в состоянии с помощью
веры сдвинуть гору, а это означает, с его точки зрения,
что и веры и Бога нет; можно сказать, что существует
только та истина, в которой признаются, что не верят.
Другой вариант софистики состоит в том, что
повелевающий нравственный долг оттесняется со ссылкой на
нравственно второстепенные обязанности. На такую
ситуацию указывал Достоевский в "Дневнике писателя",
рассказывая о русском унтер-офицере Фоме Данилове,
оставшемся верным христианству и воинскому долгу
ценой собственной жизни32.
Внутренний разрыв между теоретическими
пристрастиями и изначальными душевными моральными побуж-
160
дениями, вытекающими из совести, может вести к
вырождению и распаду последней. Теоретические
установки в конце концов преобразуются в сильное чувство
и фальсифицируют голос совести. Падения такого рода
встречаются во времена кризисов и переворотов.
Достоевский указывал, что особой опасности подвергается
в этом плане революционная молодежь. Ни один из
осужденных петрашевцев, когда их вели на казнь, не
считал себя виновным. При том, что эти же люди
в личных вопросах были привержены нравственным
побуждениям, что контрастировало с их общей
позицией. В эпоху революций и нравственных потрясений
ужасающие преступления могут рассматриваться как
полноценные в нравственном отношении поступки. В
60-е гг. XIX в. выросло целое поколение молодых
"семинаристов", которые видели в грабеже и даже в убийстве
не преступление, а "благородный протест" против
несправедливого общественного порядка. Это было
следствием ложных теоретических учений, например учения
французского социалиста Прудона, утверждавшего, что
собственность есть кража. Совесть поэтому нуждается
в особой внешней поддержке, а именно, как мы увидим
дальше, в божественном откровении, с помощью
которого она может избежать соблазна безнравственности,
творимой под влиянием ложных убеждений и учений.
Если голос совести отмирает или вырождается, не
остается сдерживающего начала на преступном пути.
Нравственность нельзя определять как преданность
убеждениям. "Вы говорите, что нравственно лишь поступать по
убеждению. Но откудова же вы это вывели? Я вам
прямо не поверю и скажу напротив, что безнравственно
поступать по своим убеждениям. И вы, конечно, уж
ничем меня не опровергнете"33. Согласованность с
убеждениями в поведении есть честность, но не
нравственность. Она уже потому не может быть нравственностью,
что множество убеждений вытекает из
абстрактно-теоретических идей и суждений, приводящих к ложным
результатам. И когда голос совести вырождается,
поступок оказывается безнравственным, если не следовать
этому голосу. "Инквизитор уже тем одним
безнравственен, что в сердце его, в совести его могла ужиться
идея о необходимости сожигать людей"34.
Поэтому наряду с совестью необходим надежный
регулятор, находящийся вне внутреннего опыта, с помо-
6 Райнхард Лаут
161
щью которого можно проверить и измерить
нравственные убеждения. Этот регулятор обнаруживается
в великих событиях нравственной жизни, в великих
нравственных натурах и свидетельствах о них и их
деяниях, в феномене Иисуса Христа и откровений
Нового Завета. Без Христа рассудок, если он извратит
совесть, может прийти к поразительным результатам,
несущим с собой разрушительные практические
следствия. Человечество приходит к усилению своей
нравственной идеи не только благодаря голосу совести,
но также на особом пути к божественному откровению,
в "соприкасании мирам иным"35. Христианская
нравственность совпадает с высшей нравственной идеей
нашей совести, когда многое в этой последней еще
не пробудилось и не стало явным, прежде чем пришел
Христос. Достоевский говорит о двойственном
воздействии Христа: прежде всего, его учения, в котором
он раскрыл нам целостный нравственный закон; далее,
его личности, своим бытием и деяниями реализовавшей
в земных условиях совершенную нравственную
индивидуальность совершенного человека. Поэтому
Христос есть пробный камень нравственного убеждения.
В этой позиции Достоевского речь пока не идет
о религии. Основная философская идея безупречна:
полное осуществление нравственного закона в одном
лице способствует тому, что оно становится зримым
образцом нравственности. Можно оспаривать
правомерность отождествления одной только исторической
личности Христа с совершенной нравственной
личностью. Но нельзя, пожалуй, и утверждать, что какое-
либо другое историческое лицо достигло нравственного
совершенства Иисуса. Если кто-то рассматривает
поведение и нравственное учение Христа как
несовершенные, пусть он по крайней мере покажет, как
они должны стать более совершенными и именно
в условиях нашего земного существования. До сих
пор, по убеждению Достоевского, никогда и нигде
не приводились такие доказательства и не было никого,
кто мог бы в нравственных поступках превзойти или
хотя бы достигнуть уровня Христа.
Нравственный закон должен быть сформулирован тем
самым, исходя из голоса чистой совести и исторического
откровения нравственных натур и прежде всего Христа.
При этом закон должен быть тождеством собственного
162
внутреннего содержания с откровением, т. е. с
божественным законом. Этот закон не идентичен тому, который
выводится из природного опыта познания мира в самом
широком смысле. Вообще сомнительно, можно ли
присвоить ему имя нравственного закона. Ибо это, скорее,
познание реальной тенденции или порядка, которое вовсе
не совмещает процессы нашего погрязшего во зле мира
и природы с содержанием чистой природы и
божественного порядка. Кто должен стать законодателем мирской
нравственности? Если признать творца развития или
порядка, он должен хотеть чего-то совершенно
осмысленного в вышеприведенном плане (самой высокой ступени
смысла). Поскольку он этого не сделал, нельзя привести
ни малейшего доказательства в пользу создания им
нравственного закона. Человек не принуждается к тому,
что он сам признает ошибочным и мог бы устроить
лучше.
Истинный нравственный закон, следовательно, связан
с принятием совершенного осмысленного
существования, это вытекает тем самым из "соприкасания с миром
иным", Богом; это связано с убеждением в бессмертии
души36. Если отвергается эта связь с "мирами иными",
эта взаимосвязь с Богом, тогда нравственный закон не
дан, и человек может позволить вести себя по
собственному усмотрению. Место нравственного закона
заступает какой-нибудь введенный рассудком запрет или
используется мнимый научный опыт, что всегда ведет
к полаганию эгоистической воли ради поддержания
и укрепления собственного бытия. Последовательное
осуществление такого закона выражено в краткой
формуле Гоббсом: "Человек человеку волк". Такая точка
зрения, если она перейдет в практику, ведет к
уничтожению человечества.
Подлинный нравственный закон, напротив, гласит,
что существование любого существа должно быть
совершенным и осмысленным, что оно имеет бесконечную
ценность и что его нельзя рассматривать как средство,
а только как цель. Это означает: любовь всех ко всем.
Его величайшая формула гласит: возлюби всех, как
самого себя! Достоевский не раз подчеркивал, что человек
должен любить человека, любить человечество как
самого себя, опираясь в этой своей позиции на евангельские
заповеди (Мф. 22: 34—40; Мк. 12: 28—34; Лк. 10: 25—28
и др.). Собственно, и Руссо исходил из откровения, когда
163
в "Исповеди" и в "Исповеди савойского викария"
рассуждал в этом духе. Таое понимание нравственного закона
оспаривали агностики, утверждая, что к нему нельзя
прийти, так как человек не может постигнуть провидение
и его замыслы. Вообще было бы ошибкой устанавливать
нравственный закон, с помощью которого люди
присваивали бы себе право истолковывать провидение и его
непостижимые намерения. Поэтому нет никаких
обязанностей, поскольку нам не дан нравственный закон. И Бог
как судия не мог сделать когда-то людей ответственными
за их поступки, ибо ответственность предполагает знание
нравственного закона, а это, однако, невозможно.
Существо, которое не знает обязанностей, нельзя сделать
ответственным за то, что оно поступило неправильно.
Ссылаясь на христианство, возражают против того, что
нужно подчиняться очевидному и открывшемуся совести
нравственному закону, не задумываясь о будущем.
Агностик отклоняет это положение, утверждая, что мы
почти унизили провидение, когда из досады, что не
можем его понять, приписали ему наши собственные
представления. Оба утверждения Достоевский считал
ложными. Нравственный закон вовсе не годится как
заповедь, чьи основания были бы для нас непонятными;
он также не выступает как деспотизм божественного
произвола. Ему больше всего подходит определение
нравственного вызова, нравственной истины, на основе
которой мы должны принимать решения, исходя из
нашего благоразумия и свободной воли. Про себя мы
хорошо сознаем, что является добром. Мы знаем о
всеобщем смыслообразующем законе существования, хотя
и не постигаем смысл и значение для мира каждого
отдельного события. Наряду с благоразумием нам дана
свободная воля, чтобы его либо осуществлять, либо
отвергать.
Противопоставление Достоевским долга
нравственному закону имеет иной, чем у Канта, смысл. Для него не
существует внешнего долга, который чужим произволом
может быть обращен к людям и осмеливается требовать
от них повиновения своим повелениям. Не существует
также какого-нибудь автономного долга, возникающего
из-за произвола одной части души над другими, долга
человеческой натуры по отношению к разуму. Речь идет
о том, что Достоевский не принимал сквозного разрыва
в человеческой душе между разумом и склонностью.
164
Нравственный закон для него выражает то, что в своей
глубокой сущности утверждает чистая, связанная с Богом
и другими существами человеческая натура, чего она
горячо ждет и жаждет осуществить. Чем больше человек
соприкасается в "мирах иных" с другими существами
и с Богом, тем больше он признает долг как
одновременно данный и добровольный: ничто и никогда не
принуждает его и не может принудить. Кто стремится к
совершенным помыслам, не может хотеть принуждения, но
домогается и призывает добровольное согласие. Очень
важно, что человек говорит от полноты души "да!"
совершенным склонностям.
Долг берет начало из признания добра и зла и из
нравственной ответственности. Если отрицать
существование нравственного закона, если не признавать
свободы и ответственности человека, тогда можно
и нужно сказать: долга нет вообще! Тогда можно
в переносном, но некорректном смысле сказать: выгода
обязывает! Вместе с совестью тут умирает, ослабевает
или вырождается и чувство долга. Вместе с такой
совестью можно попасть в зависимость от чужого
и чуждого авторитета.
Долг, возникающий из высшего нравственного
закона, не поддается формуле, которую можно было бы
уложить в общезначимую максиму. Нравственное
поведение должно полностью соответствовать
индивидуальной ситуации, оно должно быть различным в разных
случаях. Никогда нельзя установить, что данное действие
безусловно и должно быть таковым. "Всякая непремен-
ность... в деле любви похожа будет на мундир, на
рубрику, на букву... Надо делать только то, что велит сердце:
велит отдать имение — отдайте, велит идти работать на
всех — идите... обязательна и важна лишь решимость
ваша делать все ради деятельной любви, все что возможно
вам, что сами искренно признаете для себя
возможным"37. Нравственный закон и долг кажутся
неисполнимыми, но только как следствие ложного их понимания.
В целом, исполнив долг, мы усиливаем собственное
нравственное бытие и приумножаем нашу собственную силу
даже тогда, когда это остается скрытым для нашего
понимания. Мы чувствуем с глубокой радостью, что
находимся на верном пути.
Вслед за определением нравственного закона следует
также точнее определить понимание Достоевским про-
165
блемы добра и зла. Мы признали, что в конечном счете
могут иметь место две последовательные исходные
позиции, каждая из которых принимает или отвергает
совершенную сущность. Нравственный закон, основанный на
первой, есть закон любви. Иной закон в конце концов
исходит из Я, поскольку не может быть дана другая
точка отсчета, которая была бы обязательной. Перед
нами — закон эгоизма. Если, исходя их всего этого,
создать концепцию нравственности, получатся различные
шкалы ценности. Достоевский употребляет понятие
"ценность", не придавая ему, впрочем, большой ясности. Он
чаще говорит об идеале. С этой точки зрения можно
выделить различные ряды идеалов. Эгоист
придерживается идеала пользы, силы, своеволия и уничтожения. Если
же исходным пунктом является любовь, Я возвышается
до сострадания и соучастия в радости, принимает
страдание и вину, сочувствие и сострадание. Оба эти ряда мы
проследим в положительной и негативной метафизике
Достоевского.
В данной связи представляет интерес формальное
определение добра и зла. Фома Аквинский различал в добре
(bonum) полезное (utile), добро само по себе (honestum)
и блаженство (delectabile). Подлинная цель воли есть
добро само по себе. Под полезным Фома понимал
средство, к которому стремятся, чтобы достичь добра самого
по себе, под блаженством — состояние чувств, следующее
за осуществлением добра самого по себе. К ступеням
идеала добра самого по себе присоединяется градация
блаженства, обозначаемая как удовольствие, радость,
высшее счастье, что, собственно, и делал М. Шелер.
У Достоевского можно увидеть определенную нечеткость
в различении этих понятий. Прежде всего, он отделяет
чувство удовольствия от чистой радости, употребляя для
них, подобно Шиллеру, понятия сладострастия и
радости38. Для него удовольствие и польза в совершенной
этике никогда не должны быть целью нравственного
устремления.
Достоевский предпринимает в результате попытку
функционально определить добро различным образом: 1.
Добро есть то, что мы любим. Это значит, что все, что
принимает любящая душа, является добром. Сияние
любви и ее одобрение являются признаком доброты. 2.
Добро есть то, что согласуется с нашим чистым чувством
красоты. Достоевский различает многие ступени прекрас-
166
ного, среди них и чистую красоту, которая является
отражением нравственного бытия. Это последнее он
называет также духовной красотой. Все, что выражает эта
красота и воспринимает наша чувствующая душа,
овладевая этой красотой, является также и добром,
поскольку они связаны между собой тесными узами. 3.
Добро есть то, что принимается сердцем, чувствами и
совестью. Так как непорочное чувство (совесть, сердце)
является надежнейшим показателем нравственного
закона, оно четко признает и добро.
Все эти определения охватывают одну сторону добра.
Озарение любви, чувство духовной красоты и
непосредственное согласие совести являются признаками того, что
мы нашли добро друг в друге. Само же добро этим
содержательно не определяется. Формальное
определение должно гласить: добро есть то, что полностью
соответствует нравственному закону, добро есть
состояние и деятельность совершенной любви. Бытие,
соответствующее этому состоянию и деятельности, есть
реализованное идеальное бытие. Человек обладает более
или менее адекватным представлением об идеальном
бытии и о добре. Он приписывает ценность реальной
сущности и отношениям в той мере, в какой они
согласуются с этим идеалом. Бытие, полностью
соответствующее идеалу, являет собой реализованный, воплощенный
идеал. На земле таковой был лишь однажды — в Иисусе
Христе.
Идеал есть идеально-объективный образ, который,
однако, должен быть осуществлен реально. Он является
практическим ядром идеи, которая чаще всего
объединяется теоретической схемой и практическим решением. Он
представляет собой совершенный, но лишь мысленный
пример духовного бытийного состояния. Осуществление
нравственного идеала возможно только для одной или
некоторых богатых духовно, свободных, индивидуально
ярких личностей. Бытие Иисуса Христа есть
единственный реальный идеал, относительно которого мы не
ошибемся и в котором индивидуальное существование
совпадает с требованиями долга, присущими упомянутому
идеалу. Нужно стремиться к тому, чтобы этот идеал мог
осуществиться в условиях человеческой жизни.
Недостижимый идеал, превосходящий человеческие возможности,
должен привести человечество в отчаяние. На этом
построен фундамент воплощения. Стремление к осущест-
167
влению ложного идеала из-за его недостижимости или
негодности теряет после рада попыток свою
действенность и пропадает для человечества. Чем больше идеал
обращен к наличным существенным и глубоким
тенденциям, реально существующим, но не находящим
выхода, тем сильнее его воздействие на людей. Великие
нравственные идеалы являются проектами
осуществления нравственных потребностей человека. При этом они
изначально принимаются всем человеческим существом,
а не только рассудком. Рассудок и Я могут стать
независимыми от этого выбора и противостоять идеалу; они
могут начертать иной идеал и следовать ему. Это
значимо для каждого центра разрыва в личностном мире
человека.
Идеал указывает человеку его конечную цель. Будучи
принят, он продолжает жить даже тогда, когда человек
неспособен ему соответствовать из-за того, что его
собственная природа мешает этому либо препятствуют
внешние обстоятельства. Каждый человек стремится
к идеалу. И, однако, этот идеал может отрицаться
существующими до того порывами осознанной человеком
воли, обращенными против него. Если же у человека нет
стремления к идеалу или он обращается против него,
итогом становится страдание; осуществленный же идеал
приносит ему радость. Чем величественнее и
существеннее идеал, тем вероятнее, что он порождает менее
значительный и подчиненный ему. Социальный идеал
возникает из нравственного и остается живым до тех пор, пока
связан с моралью. Оторвать эти связанные и
вытекающие друг из друга идеалы и реализовать их отдельно друг
от друга невозможно, это ведет к непониманию каждого
из них, так как связь с идеалом, из которого они берут
начало, остается неясной.
Нравственный идеал всегда вытекает из метафизики
как его предпосылки, из "мистики", как любил
выражаться Достоевский. В конечном счете может быть дан лишь
один нравственный идеал, условием которого является
всеобщая любовь, совершенный смысл бытия и
существование Бога. Это — христианский идеал. Он
предполагает живое отношение существующего в этом мире к
"мирам иным" и к сверхличностному существованию Бога.
Нравственное
поведение
Принятие нравственного закона требует
нравственных поступков и
превращения собственной жизни в
нравственное бытие, ибо указанные поступки имеют целью
осуществление нравственного состояния. Поэтому, чтобы
придерживаться нравственного пути, каждое моральное действие
должно опираться на целостный нравственный закон39. При
этом легко вступить в конфликт на почве частичных
нравственных правил, который может быть разрешен
только с учетом основополагающего нравственного закона.
Достоевский в этой связи рассматривал конфликт между
правдивостью и любовью. В известных случаях одна лишь
голая правда может быть неправой и лишенной любви:
веские причины побуждают к тому, чтобы из любви
к ближним скрывать истину. Беспощадное и одностороннее
исполнение определенных требований может привести
к опасным аморальным действиям. Среди последователей
Достоевского Н. Бердяев уделял особое внимание
столкновениям частичных нравственных требований40.
Только в нравственном поступке в полной мере
выражается серьезность морального сознания. Только он
показывает, действительно ли имеет место нравственное воление, или
человек лишь симулирует свою нравственность.
Предпосылками для поступка, который может быть
квалифицирован как нравственный, являются освоение нравственных
требований и понимание соответствующей ситуации,
свободная воля и свободный волевой выбор, наличие и сила
нравственного закона, а также внешняя и внутренняя
свобода действия. Явно нравственный для внешнего
наблюдателя поступок может побуждаться целым рядом
безнравственных мотивов. В этом случае такое поведение
обозначается как псевдоморальное и фарисейское.
Нравственность такого рода осознанно или неосознанно притворна
и служит иным целям, по своей природе большей частью
эгоистическим.
169
Одним из таких псевдоморальных образов действия
является конформизм. Здесь нравственный поступок
осуществляется лишь постольку, поскольку действие
направлено на общепринятое. Но общепринятое нельзя считать
масштабом нравственного поведения, ибо оно может
быть добрым или дурным, так что поведение человека,
ориентированное на него, соответствует благу или злу.
Поэтому "...вовсе нечего ждать, пока все станут такими
- же хорошими..."41, как те немногие, которые уже и теперь
безупречно нравственны. Противиться тирании
общепринятого, но ложного "нравственного" суждения и
принимать на себя следствия такого поведения есть
нравственный долг. Пауль Эрнст видел в этой позиции
замечательный признак сильной нравственной воли и думал, что
в этом сопротивлении заключается сущность
трагического. Он пытался оспаривать наличие таких убеждений
?' у героев Достоевского и у него самого42. Причина этого
ложного подхода состояла в том, что он отождествил
-позицию Достоевского и образы его романов — Расколь-
никова и Ивана Карамазова. Но Достоевский обладал
высочайшим мужеством, выступая против тирании ходя-
. чих* предрассудков. "Вы, как и все, — говорится
в "Братьях Карамазовых", — то есть как очень многие,
. только не надо быть таким, как все... Один вы и будьте
не такой"43. Конформизм возникает по большей части из
явного или тайного страха перед суждениями окружаю^
щих; человек страшится их порицания и ищет их
похвалы. Часть в основе мнимо нравственного поведения
лежит стремление к славе, а подобное поведение в
этическом смысле совершенно неприемлемо.-Если же в такой
поведении. открывается задняя мысль* укрепить своим
4 примером нравственность ближних своих, его моральная
ценность несомненна.
Лишены ценности такие нравственные поступки,
которые исходят из упрямства и совершаются только для
того, чтобы доказать истину защищаемой моральной
максимы. "Известно, что многие из этих любителей [рода
человеческого] рано ли, поздно ли, под конец жизни
изменяли себе, произведя какой-нибудь анекдот, иногда
• даже из самых неприличнейших"44.
Многие вообще неспособны понять нравственную
• идею, они воспринимают ее извне, любят только за ее
Красоту или рада того, воодушевления, которое она
способна пробудить в окружающих. Такие люди склонны
170
к смешению нравственного поведения с исполнением до
мелочей внешних, предписанных извне формальностей.
Они смешивают заповедь любви к ближнему с внешними
действиями, например с раздачей своего имущества или
с ношением русского костюма. Эта фарисейская форма
нравственности удовлетворяется исполнением внешних
предписаний и обычая.
Следующий вариант псевдонравственного поведения
состоит в том, что пытаются обмануть свою совесть
представлением о том, что они-то и являются
нравственными, в то время как их нравственная установка
непригодна для любви, а только для того, чтобы сказать:
"Я — нравствен!" и тем самым польстить себе. Они
любят собственную добродетель. Достоевский в своих
произведениях неоднократно спорил с ними. Он находил
такого рода нравственность в характерах
сентиментальных, представленных особенно в романах Жорж Санд.
Раскрытие ядра такого рода нравственности ярче всего
выявлено им в образе Катерины Ивановны в "Братьях
Карамазовых". Неспособная любить другого человека,
любящая только свою добродетель, она таит в себе
самолюбие, которое утверждается в нравственности
лишь окольными путями. В решающие моменты жизни
это эгоистическое самолюбие утрачивает свое внешнее
облачение (таково, например, поведение Катерины
Ивановны на суде над Дмитрием Карамазовым). После
Достоевского сущность подобного поведения превосходно
проанализировал М. Шелер45.
Нравственных людей постоянно упрекают в том, что
они ведут себя нравственно только для того, чтобы
заслужить похвалу в виде земных благ либо посмертного
воздаяния. Н. Бердяев дал этому точное определение
— трансцендентный эгоизм46. О. Конт упрекал христиан
в такого рода нравственности. Конечно, нравственное
поведение ради вознаграждения по своей природе
ненравственно. Разумеется, слова "вознаграждение",
"воздаяние" по своей природе многозначны. Они не сводятся
только к материальным благам или к "удовольствию".
Мусульманство обещает своим верующим гурий в раю,
христианство же содержит более высокое понимание
воздаяния как блаженного состояния. Кто творит добро, тот
вознаграждается тем, что ему удается его творить, и при
этом сам он становится лучше. В Ветхом Завете обещано
вознаграждение только умножением собственности
171
и удовольствия; евангельская же этика видит
вознаграждение в преображении собственной жизни в
нравственную. "Несите бремя, а то нет заслуги", — говорит
Кириллов Ставрогину в "Бесах". "Наплевать на вашу заслугу,
я ни у кого не ищу ее", — отвечал ему Ставрогин. "Я
думал, ищете", — заключил Кириллов47, показывая тем
самым, что под "заслугой" он понимает нечто более
высоконравственное, не повседневное. Однако поступок,
кажущийся нравственным, часто скрывает в себе
стремление к низменному вознаграждению (эгоистическому
довольству, самоудовлетворению и т. д.). Людей такого
рода легко распознать по тому, что они думают только
об одном, а именно о том, как им самим стать
счастливыми и спастись. Их нравственные поступки зависят
лишь от награды и выгоды. Поэтому в деле любви они
совершенно бесплодны. Старец Зосима напутствует
в этой связи:"Награды же никогда не ищи, ибо и без того
уже велика тебе награда на сей земле: духовная радость
твоя, которую лишь праведный обретает"48. Не следует
спрашивать о том, почему нужно любить. Нужно
добровольно и не думая о вознаграждении помогать тем, кто
в этом нуждается. "Нельзя спастись в одиночку", —
писал позже французский поэт Ш. Пеги, по существу,
выразив в краткой формуле фундаментальную мысль
Достоевского.
Нравственный закон провозглашает любовь, которая
обнимает все сущее, всех людей и все существа,
исключает только грех и зло. Любовь творит живую
прочувствованную душой и осознанную связь с любимыми
существами. Возможно ли, чтобы любящий думал
только о своем собственном спасении? Нравственный человек
не примет счастье без другого человека, не говоря уже
о том, чтобы за счет другого.
Итак, каковы должны быть положительные свойства
нравственного поступка? Он должен быть
добровольным, осознанным и вытекать исключительно из
нравственного закона (по велению сердца и божественного
откровения). "Именно народ наш любит... правду для
правды, а не для красы... не требуя ни наград, ни похвал,
собою не красуясь"49. Главным признаком нравственного
поведения является альтруизм. Личная жертвенность
вплоть до готовности отдать жизнь или претерпеть
пытки есть высшее осуществление самоотверженной любви.
Любящий человек должен при этом рассуждать так:
172
я приношу и жертвую всего себя для всех; ну, вот и
надобно, чтобы я жертвовал себя совсем, окончательно, без
мысли о выгоде, отнюдь не думая, что вот я пожертвую
обществу всего себя и за это само общество отдаст мне
всего себя. Надо жертвовать именно так, чтоб отдавать
все и даже желать, чтоб тебе ничего не было выдано за
это обратно...50 Это не дает охранной грамоты обществу,
ибо оно по доброй воле должно позаботиться о жизни
своих соотечественников. Общность имеет те же
обязанности, как и отдельная личность, а эта последняя то же
— по отношению к другим общностям. И государство не
имеет права притязать, так же как и отдельный человек,
на эгоистические (коллективно-эгоистические) выгоды
и преимущества, которые могут противоречить реально-
цолитическому строю51. Только великие и честные идеи,
нравственные по природе, торжествуют в ходе истории,
т. е. они ведут человечество дальше и поддерживают его
"... несмотря на всю, казалось бы, смешную
непрактичность этих идей и на весь их идеализм, столь
унизительный в глазах дипломатов и Меттернихов..."52.
Достоевский как политический писатель защищал эту идею с
непоколебимым мужеством. Он боролся при этом не
только против так называемых реалистов, но и против
тех идеалистов, которые, как, например, Т. Грановский,
в практических вопросах оказывались "завзятыми
реалистами и даже циниками"53.
Нравственный поступок должен быть личностно
добрым, он не может быть заменен (в своей нравственной
ценности) каким-либо привнесенным извне стимулом.
В личностно добром поступке каждый раз отдается часть
собственного личностного достояния и воспринимается
часть другой личности. Такой поступок действует
синтетически, он связывает людей друг с другом и
преодолевает противоречия. Эта связь определяется Достоевским
как взаимное примирение и приобщение друг к другу.
Самоотверженный поступок находит высшее выражение
в жертве, в отдаче — в исключительном случае — своей
жизни. Иные люди любят войну, быть может, прежде
всего потому, что в ней возможна эта высшая жертва.
Достоевский особенно подчеркивает, что пылкая
жертва под влиянием обстоятельств легка, но малоценна.
Юности свойственны прежде всего естественные
сердечные порывы, которые побуждают ее к бескорыстным
поступкам. Сами по себе эти, подчас героические, поступ-
173
ки, хотя и могут быть действенными, внутренне не
содержат собственно большой жертвы. У Достоевского
речь идет о другой жертвенности, которая тихо,
неслышно и без блеска не приносит ни капли славы,
а, скорее, горькое злословие. Только тяжкое и длительное
самопожертвование приобщает человека к
нравственному бытию.
Существуют не только нравственные поступки, но
также и нравственное бытие человека. Чисто формальная
этика недооценивает этот факт. Этика чувства также
может пройти мимо него. Человеческая натура уже по
самому своему бытию имеет различные свойства.
Человек добивается или придерживается нравственного
бытия, имея различные стремления, он лишается этого
бытия из-за слабости или законосообразного принятия зла.
Нравственное бытие есть следствие целого ряда
нравственных поступков и решений, которые в каждом
отдельном случае отражают обратное воздействие данного
бытия на душу и в конечном счете определяют сущность
человека. Вознаграждение и наказание представляют
собой не что иное, как результат нравственного поведения.
Любой поступок имеет свои последствия, обнаруживая
вознаграждение или наказание, действуя на
формирование нравственного характера. Преображение бытия
в нравственное или безнравственное есть в конечном
счете результат, точно так же как на этой земле одно
вытекает из другого. Можно утверждать о наличии у
Достоевского преображенной идеи кармы. Ведь воля
свободна, и в своей свободе человек может причинить вред
своими поступками, но его нравственное бытие
определяется именно свободой. Нравственные качества души
вытекают из нравственных или безнравственных поступков,
которые хотя и не сами по себе, но все же выступают как
ограничительные условия (в системе Веданты),
содействующие формированию поведения.
Изначальные нравственные задатки различны. Хотя
все люди приходят в этот мир в достаточной мере
чистыми и характер ребенка в первые годы его жизни почти
всегда хорош, но заложенные в человеке другие "семена"
раскрываются и действуют, побуждаемые извне. Человек
может сохранить или восстановить свою нравственную
чистоту только страданием и борьбой. Как
православный, Достоевский не верил в глубокую испорченность
человеческой натуры. По крайней мере у детей, считал он,
174
сохраняется большая часть изначальной доброты.
И в поздние годы в своем нравственном бытии человек
может сохранить ее и снова подняться к ней.
Человек не предопределен к добру или злу; он делает
тот или иной выбор лишь своей свободной волей: только
собственными силами (и милостью Божьей) он может
творить добро. Когда Ставрогин спрашивает архиерея
Тихона (прототип — Тихон Задонский), может ли он
своей верой сдвинуть гору, тот отвечает: "Бог повелит, "
и сдвину". — "Ну, это все равно что сам Бог сдвинет.
Нет, вы, вы, в награду за веру в Бога?"54 Тихон считал,
что человек, веруя, способен сделать все собственными
силами, но свою веру он признавал недостаточно полной, .
так что не мог обойтись без Божьей помощи.
То, на что человек способен, нельзя уподоблять, *ак .
мы еще увидим, лишь различным сопутствующим
задаткам и силам. Нужно оценивать нравственное значение
существующих у человека сил и наличие внутреннего
сопротивления им.
У Достоевского можно видеть различные ступени
нравственного бытия; особенно отчетливо он выделяет
ступени зла. В "Преступлений и наказании" преступления .
Раскольникова и Свидригайлова не могут быть поставлен
ны на одну и ту же ступень. Достоевский мастерски
подчеркивает это путем субординации различных сим:
волических сфер — огнем и кровью у Раскольникова
и затхлой водой — у Свидригайлова. Интересно, что
Подобная ступенчатость у Достоевского едва ли
сравнима с имеющей место у Данте и Фомы Аквинского.
У Данте* в целом можно выделить три ступени -зла.
Первая коренится в страсти, вторая —в привычных
пороках, третья действует из осознанной и холодной
злобы. У Достоевского, как я могу судить, можно найти \
четыре крупные ступени зла. '
На первой ступени мы находим людей, увлеченных ;
великой страстью. К ним относятся Митя Карамазов
и Рогожин. Такие люди жаждут и нравственной чистоты,,;
но они не могут освободиться от пут страсти. И только у
трагическая катастрофа, в которую их вовлекает страсть,
меняет их жизнь и выводит их на новый путь. *'- .
Особое место занимает легион опутанных обычными
пороками, застывших в своей порочности. Здесь все
разновидности сладострастников, интриганов и других,
погрязших во зле. Их воля к жизни полностью выродилась.
175
и оказалась в тупиковом положении. Они прогнили, как
болотная жижа. В рассказе "Бобок9' с гениальной
проникновенностью Достоевский высветил такое
существование. Уже в могиле, в последние мгновения сознания,
которые были даны перед преображением, дряблые
и гниющие трупы развратно расточали свой последний
шанс, "даже не щадя последних мгновений сознания"55,
и предавались пороку, для которого только и годилось
постоянно повторяемое слово "бобок". Их жизненная
воля с растлением чувств угасла. Живая душа этих людей
полностью погрузилась в бездну порока.
Рядом с этими, можно сказать, природными грехами
стоят другие, которые обращены ко злу из-за
рассудочного высокомерия. Здесь Достоевский также выделяет две
сферы, которые как бы параллельны вышеописанным. По
убеждению Достоевского, русские, как в литературе, так
и в представлении о жизни, почувствовали вкус к бай-
роновскому "гению зла": "...мы ведь до того доходили,
что... готовы были, например, чрезвычайно ценить, в свое
время, разных дурных человечков... Мало того, что
ценили, — рабски старались подражать им в действительной
жизни"56. Родоначальником байронического зла в
русской литературе был Сильвио, герой повести Пушкина
"Выстрел". Байрон, считал Достоевский, был русским
понятнее, чем, к примеру, немцам.
Высшую ступень в этом кругу занимают те, кто
ставит свою теорию выше живой жизни. Их общая
установка такова: сообразное рассудку понимание жизни имеет
более высокое значение, чем сама жизнь. Такие люди
отделяют себя от природы, народа, нравственного
закона, Бога и т. д. и противопоставляют собственное Я
тому, от чего отталкиваются. Они хотят преобразовать мир
самовластным рассудочным решением. У Достоевского
представлены все виды "протестантов" и теоретиков
— типы, подобные Ивану Карамазову, Расколышкову,
"подпольному" и "смешному человеку", Версилову или
"мудрецам" из "Бесов". Й. Штейман назвал этих героев
Достоевского экзистенциалистами57. Однако с этим
обозначением нельзя согласиться без оговорок, так как в нем
наблюдается некоторое смещение и спутанность понятий.
Все эти герои веруют к тому же в идею, хотя их идея
враждебна и чужда жизни. Они противопоставляют свое
своеволие, свои идеи и свой выбор объективной
действительности.
176
Нижняя ступень этого круга и соответственно самая
нижняя ступень зла представлена в людях, у которых нет
никаких идей, идеалы которых утрачены и которые
поэтому способны со спокойной и холодной злобой творить
зло. Воля к жизни у таких людей почти полностью
угасла. Люди подобного склада уверенно и убежденно могут
экспериментировать над другими людьми и самими
собой. Скука и равнодушие подавляют любое живое
волеизъявление. Такого типа люди представлены в
пушкинском "Евгении Онегине" и в "Фаусте" Гёте. Данте в его
эпоху сильной воли к жизни не смог заметить этот тип,
хотя, например, в образе замороженного Дуэра он создал
захватывающий символ. Только в XIX в. такие фигуры
ярко определились, и Достоевский смог показать их
облик. Если зло холодно, спокойно и разумно, оно — из
самых страшных, какие можно себе представить.
Зло определяется у Достоевского также
функционально. Оно всегда несет в себе смерть и направлено на себя;
оно противостоит истине и правде, оно духовно
отвратительно и не может вызвать симпатии. Зло может
пробудить в человеке лишь сладострастное чувство красоты.
Достоевский определял нравственную задачу как
личностное нравственное совершенствование. Только через
него человек способен умертвить в себе зло и достигнуть
способности к полнокровной любви. Достоевский
обозначает это состояние как состояние свободы, причем
речь идет именно о свободе этической, которая
отличается от метафизической свободы: последняя не зависит от
какого-либо чуждого бытия. Человек может стремиться
к этой метафизической свободе, хотя ее нельзя
достигнуть полностью, так как попытка такого рода в
предельном случае должна привести к уничтожению
собственного бытия. Такое понятие свободы отграничено
в "Братьях Карамазовых" от свободы этической. Эту
последнюю нужно также отличать от свободы
физической. "Мир" всегда предрасположен придерживаться
физической свободы, т. е. внешней свободы поведения,
вместо свободы этической, причем между ними имеется
большое отличие. В деньгах и власти видят для себя средства
обеспечить физическую свободу. Только тот, у кого есть
деньги, может достичь всего того, что возможно в
рамках закона (а частично и вне их). При таком подходе
лишь в обеспечении собственностью видят залог
свободы. Деньги служат удовлетворению и росту потребнос-
177
тей. Спрашивается, однако, может ли человек,
стремящийся к такой цели, быть свободным? На такой вопрос
можно ответить утвердительно лишь в случае физической
свободы: в этическом же смысле человек порабощен
и ему угрожает духовное самоуничтожение. Люди,
зависящие от своих потребностей и больше всего озабоченные
их удовлетворением, неспособны к нравственному
поступку, который требует длительного напряжения и
лишений. Их ждет одиночество и обособленность, они не
* могут принять идею об единстве человечества, ибо собг
ственностз> всегда разъединяет. Человек, видящий в
физической свободе высшую цель, обращается в конце концов
к идее власти, ибо он не хочет зависеть от внешних
обстоятельств; поэтому он без колебаний подчиняет
своей власти окружающих, если они мешают
удовлетворению его потребностей.
Двойственнрсть русской души, указывал Достоевский,
-.. состоит в том, что она стремится к обладанию властью
ради осуществления физической свободы и господства
Над другими людьми, но потом, однако, ее не использует.
Это парадоксальная попытка иметь под рукой обе — фи- *
зичесйую и этическую — свободы в одно и то же время.
Особенно отчетливо выражается такое стремление в
русской идее возмездия. Русский мститель хочет не только
отомстить, . ой хочет полностью овладеть способами-
" мщения, чтобы иметь практические доказательства, что-
-он действительно мог бы отомстить. Он хочет показать
жертве своего мщения свои возможности, однако из
моральных побуждений отрекается от исполнения мести.
Такого рода идеал мщения живо изобразил Пушкин
в'своем "Выстреле"; его также можно найти в
произведениях Лермонтова. Это любимая идея Аркадия — героя
"Подростка" Достоевского, имеющего некоторую об-
*' щность с шекспировским Гамлетом, но в этом пункте от
него отличающегося. Герой этого романа хотел бы иметь
могущество, но только для того, чтобы ощущать
"уединенное и спокойное сознание силы"58. Исчерпывающее
к, определение свободы! Но оно значимо, конечно,' только
для свободы физической. Этическая же свобода есть
свобода внутренняя, основанная на самоопределении. Эта
мысль выражена в рукописных редакциях к "Бесам":
'^Смирение и самообладание... Бог и царство небесное
• внутри нас, в самообладании, и свобода тут же"59. Эту же
; идею высказывает и старец Зосима в "Братьях Карамазо-
178
вых" — идею старчества, цель которого достичь
полноценной свободы для самого себя. Ибо множество людей
за всю свою жизнь не в состоянии ни узнать себя, ни
овладеть собственной природой. Между тем именно это
должно быть главным правилом для тех, кто ставит
перед собой цель достичь этической свободы. Любая
попытка принудить к чему-то другого есть стремление
избежать больших трудностей в преодолении дурных
наклонностей собственной натуры. Нет ничего легче, как
требовать от других того, к чему неспособен сам.
Этическая свобода настолько независима от физической, что
Достоевский мог говорить в "Преступлении и наказании"
об обретении Раскольниковым свободы на сибирской
каторге. Русский народ, по мнению Достоевского,
сохранил свою этическую свободу на протяжении столетий
татарского ига и крепостничества. Великая способность
избрать другой путь и оторваться от прежнего
объясняется не только наличным бытием и осознанной свободой
воли, но также и внутренней (этической) свободой.
Об этической свободе можно говорить только тогда,
когда человеку удается овладеть своими собственными
запросами и подчинить их себе. "Победишь себя,
усмиришь себя — и станешь свободным, как никогда и не
воображал себе"60. Человек никогда не сможет быть
свободным, если сам не преодолеет свою злобу,
высокомерие и сладострастие. Чтобы достичь этой цели, нужно
неустанно работать над собой. Способы достижения
такой свободы в течение столетий изведали восточные и
западные монахи. В добровольном послушании, молитве,
посте дан путь к подлинно этической свободе.
Достижение этической свободы зависит от внутренней
силы человека. Сила воли индивида складывается из
разных усилий, это естественные физические (не физика-
листские) силы, способствующие развитию характера.
В русском народе, по оценке Достоевского, эти силы
весьма могущественны, наличная сила воли может
направляться на преодоление внутренних и внешних
препятствий. При этом необходимо принимать в расчет (что
весьма важно) отношение к внутренним препятствиям,
которые у каждого человека весьма многообразны. Если
природная сила воли слаба, то не остается ничего
другого, как использовать ее в качестве своего рода начального
капитала и затем добиваться ее усиления посредством
упражнений. Сила в этом случае используется для усиле-
179
ния себя самой. В "Бесах" Достоевский рассказывает
о декабристе М. Л-не, который всю жизнь искал
опасности, увлекавшей его и ставшей его потребностью. Он
ходил с одним ножом на медведя и в сибирских лесах
встречался с беглыми каторжниками, которые страшнее
медведя61. В юности он воспротивился воле своего отца,
нуждался и тяжким трудом добывал себе хлеб. Он делал
все, чтобы укрепить свою волю и стойкость.
Физическая сила может исходить непосредственно из
воли к жизни человека, естественно и прочно стоящего на
земле. Это такая сила, которая стремится к своему
самоосуществлению, которая движет человеком до тех пор,
пока он ищет идею и приводит ее в исполнение.
Связанная с нравственной идеей, она становится нравственной
силой, наличное бытие которой легко можно проглядеть.
Если же данная идея прочно утвердилась в душе, тогда
кажется, что люди изначально живут непосредственно,
тихо и гармонично. Но если, случается, сила не знает, на
чем остановиться, она бессознательно приходит в
движение. В народе появляются типы с огромной
активизирующей силой воли, подобные Пугачеву, Даниле
Филипповичу и т. д., которые неосознанно обеспокоены собственной
силой, которые не знают, куда она может завести. "Это
необычная, для них самих тяжелая непосредственная
сила, требующая и ищущая, на чем устояться и что взять
в руководство, требующая до страдания спокою от бурь
и не могущая не буревать до времени успокоения",
достигая границы человеческой жестокости и дерзости. Либо
эта же сила заводит в темный лабиринт сектантства, как
в случае с Данилой Филипповичем и Кондратием
Селивановым (возглавлявшими секты в России), дело доходит
до их отождествления с Богом и Христом или
ветхозаветными пророками. Такой характер мечется, бросается "в
чудовищные уклонения и эксперименты" до тех пор, пока
не почувствует сильную идею, которая вполне
пропорциональна его непосредственной животной силе, — "идею,
которая до того сильна, что может наконец организовать
эту силу и успокоить ее до елейной тишины"62. Сами по
себе идеи не имеют какой-либо силы; и раскованная сила,
натолкнувшись на такую из них, которая способна
удовлетворить содержащиеся в ней тенденции, с ее помощью
способна найти покой. Но вся могучая сила этого
изначального характера, не найдя выхода, может оставаться
в движении; затем ослабевают его мотивы, силы не нахо-
180
дят применения и не могут найти для себя выхода и
применения, как в случае со Ставрогиным; без стремлений
и жажды цели эта сила постепенно гаснет или обращается
против себя самой. Характер Ставрогина при прямо-таки
неизмеримой прочности его силы неспособен к
нравственному порыву, поскольку ему чуждо стремление
к нравственному совершенству. Воля к жизни в нем почти
угасла, осталась лишь физическая сила. Его отделяет от
тургеневского Базарова в "Отцах и детях", чье
беспокойство и неопределенная тоска являются все же признаком
большого сердца, неспособность увлечься четкой идеей.
Поэтому он может в общении с Кирилловым и Шатовым
экспериментировать в одно и то же время с прямо
противоположными целями. У этих последних в отличие от
Ставрогина велика жажда истины, и они захвачены
каждый своей идеей. Хотя рассудком можно придумывать
идеи, хотя можно экспериментировать и оперировать
ими, лишь душевная воля к жизни делает человека
восприимчивым к ним. Только чувство и воля могут сделать
идею страшной силой и пробудить горячую жажду
осуществления собственного идеала. Существует только
одна высшая идея, способная дать постоянное
удовлетворение жизненной воле, это — нравственная или религиозная
идея, причем первая есть часть второй; без них сила
пребывает в диком беспокойстве и даже в конце концов
оказывается несостоятельной. Бессмысленность, которая
таится в ложной идее, во всяком случае оказывает свое
действие и приводит запутавшуюся в ней волю в
отчаяние и тревогу. Когда гаснет уверенность в совершенном
смысле бытия, угасает также и жизненная сила.
Утверждение, что человечество найдет в себе самом силу
существовать без веры в бессмертие, без убеждения в смысле
бытия есть ложь. Возвеличение человека, лишенного
веры в Бога, не может стать с течением времени
содержательным и устойчивым источником силы; О. Конт
и Штраус в этом ошибались. И собственное бытие,
деятельность разума, собственность и материальное
благополучие не могут заменить нравственную идею, так как
все это бессмысленно. Все эти стремления ведут к
напряженности и раздвоению, которые, в свою очередь,
приводят к одиночеству, "к душевному самоубийству"63, т. е.
к утрате воли к жизни. Последняя нуждается в
убеждениях, которые стоят над нею и управляют ею. Но при этом
безусловно необходимо, чтобы исповедовалась именно
181
одна идея, одно убеждение, так как при их множестве
воля к жизни не получает направленности64. Воздействие
идеи на силу воли столь велико, что даже ложная идея
придает этой силе активность. Только с течением
времени, когда в процессе реализации идеи проявятся ее
скрытые логические следствия (а кроме того, и благодаря
логике фактов) и выявится, что идея ложна,
неосуществима и неудовлетворительна, сила воли окажется
подорванной, начнутся новые тревоги и поиски, и, если не найдется
идея, которая удовлетворила бы волю, силы гибнут и
воля гаснет.
Сила укрепляется всего ярче в процессе укрепления
идеала в рамках духовной сущности человека. Христос
есть та сила, та самая личность, которая, провозгласив
нравственный идеал, полностью его осуществила:
Христос пошел на смерть и безвинно пострадал за всех.
Именно поэтому Христос есть могучая историческая
личность, ибо никто, кроме него, не содержит в себе
нравственное начало в такой полноте. От него исходит сила,
которая может дать цель и направление сильнейшим
устремлениям жизненной воли всех. Его пример
пробуждает в душе идею для ее великого и совершенного
осуществления. Достоевский мог даже сказать в связи
с этим, что идея владеет силой человека — и не только
его нравственной, силой; она действует даже как мировая
сила. Ради таких людей и таких идей захваченные ими
люди готовы переносить жертвы и отдавать жизнь, даже
если полное знание о подобных идеях остается пока во
мраке и лишь предчувствуется. Физическая сила воли
никогда не рассматривалась Достоевским как цель
нравственных устремлений; он считал ее только исходной
базой. Как бы велика она ни была, физическая сила не
в состоянии поддержать человека в его бытии; с
помощью нравственной идеи она сначала должна
превратиться в силу нравственную и помочь самопреобразованию.
"Господь не в силе, а в правде", — сказал Александр
Невский. Эти слова Достоевский цитировал в "Братьях
Карамазовых"65. Воля к жизни нуждается в идее, чтобы
поддерживать или усиливать себя. К мыслям
Достоевского близко учение Лейбница, который считал, что идея
в полной мере познается только на опыте познания
добра; затем, однако, отделяясь от добра, это познание
вопреки рассудочному рассмотрению общей категории
добра, не может пробудить жажды, равной стремлению
182
к добру, основанному на опыте. Отличие Достоевского
от Лейбница состоит в следующем: по Достоевскому,
воля к жизни с ее тенденциями дана человеку от
рождения; Она, следовательно, побуждается к действию не
непосредственно добром (идеями и т. п.), — они только
актуализируют и осознают ее побуждения; она в
состояний сама выбрать путь. Воля к жизни принимает
соответствующую цель, благо, идею и т. д. всегда только как
повод, как исходный пункт. Для нее важна не цель. Среди
идей она выбирает те, которые соответствуют
избранному ею направлению. И не от отдельной идеи, а от воли
к жизни в целом зависит, что человек склоняется к более
высокому бытию. Правда, это относится к отдельной
идее, которая почти всегда, как то представляется
человеку, недостижима. От действительности, к которой он
с этой идеей стремится (от Бога), это не зависит. Чем
более сильна воля к жизни, тем более она наполнена'
Богом. Им определяется духовная жажДа. Только
благодаря этому данная нам сила становится нравственной.
Степенью духовной жажды измеряются нравственные по- .
тенции человека, ибо эта жажда не успокоится до тех пор,
пока не найдет удовлетворения. "Да уж одно ношение
жажды духовного просвещения есть уже духовное
просвещение"66.
Достоевский изобразил в образе Дмитрия
Карамазова и многих других эту жаждущую нравственного бытия
волю. Их сжигало чувство унижения и позора, в которые "
они погрузились, но они тем не менее горячо любили
жизнь и жаждали минуты, которая помогла бы им
подняться до великого освобождающего нравственного
поступка. Люди пребывают на земле в противоречии с по-
трёбностями. Вожделеющая потребность, которую Ча- .
адаев прекрасно определил как "общее стремление*
. к благосостоянию"67, всеми возможными средствами,
(включая искусство и философию) противостоит 'духова
ным стремлениям. Только огромная жажда
нравственного бытия, которая мощно движет до самой смерти-
человеком, даже в его глубочайшем падении способна его
спасти, если она восторжествует над жаждой чувственных
и материальных наслаждений, над жаждой благополучия.
И Чаадаев блестяще выразил этот факт: "Единственная
действительная основа деятельности, исходящей от' нас
самих, связана с представлением о нашей выгоде... Когда
материальная выгода удовлетворяет, человек не идет впе-
183'
ред: счастлив он, если не идет назад"68. Только духовная
жажда является движущим моментом человеческой
истории, причем это значимо и для отдельного человека.
Чем сильнее духовная жажда, тем больше духовный
порыв к тому, чтобы надежнее и правильнее продвинуться
к Богу. Дело в том, чтобы победой этической свободы
овладеть материальными стремлениями (вместо того
чтобы эти последние владели человеком), чтобы развить
свою духовность до такого уровня, когда личность
целиком одухотворяется и обращается к Богу. Чаадаев
считал, что только христианское общество одушевлено
истинным духовным интересом. Конечно, этот интерес не
может быть никогда удовлетворен: он по своей природе
бесконечен. Другие культуры могут быть также
высокоразвитыми: но поскольку они не знают этого духовного
стремления, в конце концов они застывают и впадают
в глубочайшие заблуждения. Этого пункта достигла
античная культура, когда явление Христа спасло ее.
Достоевский также признавал духовную жажду ведущим
моментом человеческой истории. Есть "сила неутолимого
желания дойти до конца и в то же время конец
отрицающая... "начало нравственное", как называют его
философы. "Искание Бога, как называю я всего проще", —
говорит Шатов в "Бесах"69. Но так как осуществление воли
к жизни заключается в любви, то указанная сила по мере
приближения к цели становится все более полной. Она
оказывается такой, что человек и народ в целом в
состоянии достигнуть чего-то нового, сказать новое слово,
одарить любовью людей и Бога.
Утверждение о том, что большинство людей
настолько слабы, что не способны достичь нравственного бытия,
является ложным. Конечно, физические силы
распределяются весьма неравномерно. Но они могут усилиться
путем упорных упражнений и пробуждения воли к жизни.
Чем активнее эти усилия, тем вероятнее, что у человека
окажется достаточно сил для того, чтобы овладеть
материальными потребностями. У большинства людей
стремление к нравственному совершенству и к Богу столь слабо
из-за того, что они не знают живого опыта нравственного
бытия, не ведая и не предугадывая Бога, и, следовательно,
не ощущают стремления к непознанному. Вопрос состоит
в том, как пробудить в людях такое стремление. Пока это
все еще неизвестно; по крайней мере для этого
необходимо большое душевное потрясение.
184
Для людей — безразлично, пробуждена ли их воля
к жизни, или она в минуты сомнений и безучастности
застыла, — имеет значение правило: "Сделайте, что
можете, и сочтется вам, всегда помните, что вы на хорошей
дороге, и постарайтесь с нее не сходить... Не пугайтесь
никогда собственного вашего малодушия в достижении
любви, даже дурных при этом поступков ваших не
пугайтесь очень... Но предрекаю, что в ту даже самую минуту,
когда вы будете с ужасом смотреть на то, что, несмотря
на ваши усилия, вы не только не продвинулись к цели, но
даже как бы от нее удалились... вдруг и достигнете цели
и узрите ясно над собою чудодейственную силу Господа,
вас все время любившего и все время таинственно
руководившего"70.
Для человека, избравшего путь нравственности, имеет
большое значение точная проверка своего поведения
и образа мыслей. Ему угрожают — вольные или
невольные — ошибки и самообман при поисках компромисса
между эгоистическими потребностями и нравственным
стремлением. Если он признает нравственный закон
обязательным для себя, для него тем не менее возможны оба
пути — истины или лжи. Кто настойчиво строит свое
поведение, руководствуясь нравственными целями, тот
жаждет следовать нравственному закону, чтобы стать
лучше и жить в "истине". Достоевский согласен с
Тихоном Задонским, что истина ("правда") означает не только
истину в познавательно-теоретическом смысле, но также
и справедливость, т. е. этическую истину71. Это —
суждение о правильном поведении и само правильное
нравственное поведение.
Самопознание действует очищающе на человека.
Способность судить самого себя Достоевский считал
этически ценным качеством. Люди, уверенные в своей правоте,
придерживающиеся добра, никогда не уклонятся от
нравственности. Добросовестное суждение о себе и
самоосуждение, предъявляющее высокие требования, заставляют
нас считать себя дурными и худшими, чем другие люди.
Напротив, нравственно неполноценные люди ищут вину
за собственные ошибки и прегрешения в других.
Характер, твердо придерживающийся нравственного закона,
задается вопросом, лучше ли я, чем другие? Конечно,
такая позиция не должна связываться с презрением к
самому себе. В "Записках из подполья" говорится: "Разве
сознающий человек может сколько-нибудь себя ува-
185
жать?"72 Но такой вопрос ставит человека, не имеющего
нравственного идеала, в безвыходное положение. При
полном презрении к себе человек отчаивается в
возможности нравственного обновления.
Всю свою жизнь Достоевский с особым интересом
занимался проблемой лжи. Он является открывателем ее
особого вида — "аркадической" лжи, которая берет
начало в удовольствии от красоты вымысла. Потребность
в такого рода лжи по привычке может зайти столь
далеко, что она причиняет вред самому лжецу. Другой
распространенный тип лжи берет свое начало в туманной
сентиментальности. Человек разыгрывает с другими
и с самим собой "пьески", поскольку ощущает
потребность умиляться самим собой. При этом он обманывает
себя. Этот самообман есть опаснейшая форма лжи, так
как он отягощает или делает невозможным нравственно
чистое испытание совести. Такая ложь вместе с тем
может стать бессознательной; одержимый ею человек
может с полной серьезностью верить, что он искренен. Так
как наши чувства более запутанны, многосторонни и
сложны, чем мысли, нас постоянно подстерегает опасность
впасть в самообман и ложь. Ибо мы переводим в мысль
только те компоненты наших чувств, которые кажутся
нам не слишком компрометирующими. Очень, очень
трудно, утверждал Достоевский, не лгать и не верить
собственной лжи. Почти всегда возникает своего рода
самоотравление. Человек измышляет ложь и потом сам
все больше и больше начинает в нее верить. "Есть у
старых лгунов, всю жизнь свою проактерствовавших,
минуты, когда они до того зарисуются, что уже воистину
дрожат и плачут от волнения, несмотря на то что даже
в это самое мгновение (или секунду только спустя) могли
бы сами шепнуть себе: "Ведь ты лжешь, старый
бесстыдник, ведь ты актер и теперь, несмотря на весь твой
"святой" гнев и "святую" минуту гнева"73. Возникшее
стремление выставить ложь как истину тем самым
санкционирует ее, ибо иначе она была бы непереносима.
Выдаваемая за истину такого рода ложь всего опаснее.
Достоевский стремился показать в своих романах
правдивых людей, которые при всех обстоятельствах
говорят только правду. Такие люди передают
существенные черты правдивости, действуя на окружающих как
Христос, т. е. принуждая их тоже к правдивости. Они
действуют, сами того не желая, как непогрешимый судья,
186
поскольку в них просматривается человек, каким он
должен быть. Но большинство людей всю жизнь пребывает
во лжи. Это означает, что в жизни своей они изменяют
признанному ими самими идеалу. Житейская ложь
препятствует возврату на дорогу нравственности. Против
более совершенного нравственного знания, таящегося
в глубинах внутреннего духа, она обороняется
посредством побочных обманов. "Неправдой свет пройдешь, да
назад не воротишься", — цитирует Достоевский русскую
поговорку74. Ложь перед самим собой и перед
окружающими приводит к мысли, что никому нельзя верить, что
нужно всех презирать, поскольку все лгут. Но тот, кто
никого не уважает, не способен любить75. А без любви на
долю человека остаются чисто чувственные удовольствия
и разврат; такой человек бесчестен, горд и враждебен
всем. Лжец живет к тому же в постоянном страхе перед
разоблачением; поэтому он должен все время спасаться
бегством во все новую ложь, так что сам себя загоняет
в настоящую сеть лжи.
Надежнейшим средством против навязчивой лжи
является ежедневное обращение к совести, посредством
чего человек может установить, когда и где он был не
правдив в своих словах, мыслях и поступках. Пока его
совесть жива, он не отойдет от правды. У каждого в
жизни бывают моменты, когда человек сурово судит себя;
есть мгновения, когда перед открывшейся правдой жизни
исчезает вся мелкая фантастическая суета и тщета и
нужно смотреть правде в глаза. Такой миг описал Л. Толстой
в "Анне Карениной", когда главные персонажи осознали
свою вину у постели тяжелобольной героини. Главное
было в том указании, писал по этому поводу
Достоевский, что есть момент жизненной правды, хотя он "и
редко является во всей своей озаряющей полноте,
а в иной жизни так и никогда даже"76.
Когда люди неожиданно сталкиваются с истиной, она
потрясает их (при условии, что их совесть еще жива).
Истина открывается таким людям сама по себе, не
рассудком, а "узрением", и для совести следует только одно:
целиком и полностью действовать в соответствии с ней.
Любое действие, увиливающее от такого следствия, ведет
ко лжи, и никакая казуистика не поможет ее сокрытию.
Хотя человек всегда старается извинять свое
нравственное малодушие ссылкой на необходимость исполнения
второстепенных обязанностей, в глубине души он, од-
187
нако, знает, что ему нет оправдания. Можно сравнить это
с тем, что говорит Н. Бердяев в своем главном сочинении
"О назначении человека" по поводу лжи как мнимом
нравственном и религиозном долге77. Когда Фома
Данилов претерпел мученическую смерть от кипчаков, не
желая отречься от своей веры, он как бы отказался от долга
перед женой и дочерью. Однако он не уклонился от
своего главного нравственного долга, не допустил ни
малейшей кривды: "честность изумительная,
первоначальная, стихийная"78. Достоевский верил в такую
правду. Он видел тысячи честных, бескомпромиссно ищущих
истину людей, которые отклоняют "конвенциальную"
ложь; он ждал от них решающего слова в будущем. В них
видел он поворот к всечеловеческому развитию.
Некрасовский Влас должен был стать в его глазах новым типом
такого нового человека. Характерную черту этих новых
людей Достоевский видел в том, "что они ужасно не
спелись и пока принадлежат ко всевозможным разрядам
и убеждениям... Разлад в убеждениях непомерный, но
стремление к честности и правде неколебимое и
нерушимое, и за слово истины всякий из них отдаст жизнь свою
и все свои преимущества..."79
Часть четвертая
МЕТАФИЗИКА:
ФИЛОСОФИЯ
НЕГАТИВНОГО
Бессмысленность
бытия
И
сходным пунктом философии
негативного Достоевского является
мысль о бессмысленности бытия.
Эта мысль возникает либо в результате размышлений,
либо полагается и легкомысленно воспринимается волей.
Ницше также придавал основополагающее значение
познанию этой проблемы.
Психологические причины убеждения в
бессмысленности бытия заключаются в разочаровании и скуке.
Человек вступает в жизнь с полной уверенностью в
абсолютной осмысленности бытия, затем его учит жизнь.
Он узнает о существовании смерти, страдания, зла и т. д.
Он должен считаться с этими фактами, он сам повинен
в них. Если ему в этих условиях, опираясь на весь свой
опыт, не удается сохранить веру в смысл жизни и он
больше не находит оправдания собственного бытия,
открывается бездна разочарования между его ожиданиями
и действительностью1.
Дело обстоит иначе, особенно если счастливые
житейские обстоятельства щадят человека от страданий и ему
самому редко выпадает случай лицезреть негативное.
Если его мысли и чувства достаточно глубоки, они
согласуются в этом случае не только с оправданием
осмысленности именно своего существования, но принимают
это и для любого другого существа. Таких людей
потрясают страдания и смерть близких, с ними живущих
существ, они отрицают бессмысленность бытия. Вместе
с тем есть люди, исполняющие свои желания (включая
страсти) тупо и равнодушно. Из слабости нравственных
побуждений они не могут сочувствовать страданиям сво-
189
их близких и впадают в равнодушие и скуку подобно
Евгению Онегину Пушкина и Ставрогину в "Бесах".
Каков опыт и каковы аргументы тех, кто защищает
тезис о бессмысленности бытия?
Первый потрясающий опыт касается смерти
любимых и высоко ценимых близких. Достоевский стремился
выразить это переживание в его самых резких формах.
В художественной галерее Базеля он натолкнулся на
картину Ганса Гольбейна Младшего (1521), изображавшую
умершего Христа. Достоевский был так потрясен этой
картиной, что был на грани эпилептического припадка.
В "Идиоте" он описывает мертвое тело Христа так, как
оно изображено на этой картине: "На картине это лицо
страшно разбито ударами, вспухшее, со страшными,
вспухшими и окровавленными синяками, глаза открыты,
зрачки скосились; большие открытые белки глаз блещут
каким-то мертвенным, стеклянным отблеском"2. Эта
картина открывала, что на кресте тело Христа, как
свидетельствует католическая догма, полностью подчинилось
закону природы. Но "тут невольно приходит понятие,
что если так ужасна смерть и так сильны законы
природы, то как же одолеть их? Как одолеть их, когда не
победил их теперь даже тот, который побеждал и
природу при жизни своей, которому она подчинялась, который
восклицал: "Талифа куми", — и девица встала,"Лазарь,
гряди вон", — и вышел умерший?"3 Эта сущность Христа
более ценна, чем природа со всеми ее законами, чем
земля, чья единственная цель, для которой она сотворена,
быть может, — привести в мир такого человека. И эта
природа, которой все подчинено, бесчувственно
сокрушила такое существо. В "Бесах" Достоевский еще раз
возвращается к этому рассуждению. Там Кириллов говорит:
"Слушай большую идею... самые законы планеты ложь
и диаволов водевиль"4.
В чем здесь главная идея? "Мертвая природа"
подчиняется своей особой закономерности, ей она следует.
Она выявляется как совершенно равнодушная к смыслу
и ценности. Ее целью должно быть порождение все более
высоких типов сущего или сохранение насущной
возможности их существования. Вместо этого она выказывает
свое полное ценностное безразличие, отсутствие смысла.
С однообразием она возвращает все живое снова в ничто,
в том числе и наиболее ценные создания, которые она же
и порождает и дает им возможность существовать на
190
земле. Человек из потребности достичь совершенного
смысла отрицает правомерность гибели таких существ.
Природа выказывает свою свободу от смысла и, являя
себя бессмысленной, оскорбляет тем самым поиски
смысла, ибо смерть есть непобедимая конечная судьба всех
живых существ, а в ней смысла увидеть нельзя.
То, что предназначено совершенному человеку
(Христу), касается в некоторой мере также каждого из людей.
Эту мысль Достоевский высказал с большой
выразительностью в записках Ипполита ("Идиот"), которые тот
написал незадолго до своей кончины от туберкулеза. Из
своего безрадостного городского жилища Ипполит был
привезен друзьями на дачу, где мог какое-то время жить
на природе, среди деревьев и цветов. Он ставит вопрос:
"Для чего мне ваша природа, ваш павловский парк, ваши
восходы и закаты солнца, ваше голубое небо и ваши
вседовольные лица, когда весь этот пир, которому нет
конца, начал с того, что одного меня счел за лишнего?
Что мне во всей этой красоте, когда я каждую минуту,
каждую секунду должен и принужден теперь знать, что...
я один выкидыш и только по малодушию моему до сих
пор не хотел понять это!.. Пусть зажжено сознание
волею высшей силы, пусть оно оглянулось на мир и
сказало: "Я есмь!"... Но опять-таки вечный вопрос: для чего
при этом понадобилось смирение мое? Неужто нельзя
меня просто съесть, не требуя похвал тому, что меня
съело?"5 Не жертвует ли жизнь миллионами живых
существ и не значит ли это, что она не может существовать
без таких жертв? Подобные идеи с особой силой
обсуждали и утверждали А. Шопенгауэр и Э. фон Гартман,
подчеркивая, что уничтожение есть условие
существования живых, существ.
Если бессмертия нет, тогда все приходит к гибели, не
оставляя после себя ни следа, ни воспоминания. Через
какое-то время Земля "обратится... в ледяной камень
и будет летать в безвоздушном пространстве с
бесконечным множеством таких же ледяных камней, то есть
бессмысленнее чего нельзя себе и представить!"6
Достоевский мог согласиться со Штраусом, который в работе
"Старая и новая вера" пишет: "Наконец, должно прийти
время, когда Земля будет необитаема, когда она не будет
больше существовать как планета. Тогда все, что в ходе
развития было создано и достигнуто, все живые и
разумные существа, плоды труда и достижения этих существ,
191
все государственные образования, все произведения
науки и искусства, не только по необходимости бесследно
исчезнут, но не останется о них ни малейшей памяти
в каком-либо духе"7. Зачем, спрашивается, все это
бессмысленное становление и гибель, это могучее
расточительство, если при нем не может быть счастливо
одаренное душой и сознанием существо, напротив, с холодным
равнодушием оно подчинено тому же закону, что и
мертвые камни? Если этот мир сотворен или создан, не могло
ли высшее существо создать его совершенным,
лишенным ошибок и полным смысла? Необходимо ли, чтобы
все то, что возникло как нечто весьма ценное, снова
и снова исчезало (даже если могло быть дано
бессмертие)?
Другой крупный источник разочарованности в смысле
бытия связан с существованием страдания. Вокруг нас
море страданий. Если подумать, как люди страдают на
протяжении всей своей истории, веруя в лучшее
существование, которого они однажды достигнут, и что все эти
страдания на самом деле почти всегда напрасны, то
возникает вопрос, заданный старшим Карамазовым:
"Кто же это так смеется над человеком?"8
Тему страдания в его крайней форме Достоевский
выразил в одной из книг романа "Братья Карамазовы"
(под названием "Pro и contra"), где речь идет о том, что
страдания невольно приводят к мысли о
бессмысленности бытия."Он подчеркивал значимость рассматриваемых
там вопросов "по части философии", хотя философия не
моя специальность. И в Европе такой силы атеистических
выражений нет и не было"9.
Достоевского упрекали в некультурной и отсталой
вере в Бога. Но те, кто на него нападают, писал
он, и не мечтали о таком отрицании Бога, о такой
силе отрицания, какую он предложил: "Не как мальчик
же я верую во Христа и его исповедую, а через
большое горнило сомнений моя Осанна прошла"10.
Бердяев пишет о том, что русские атеисты возникли
из невозможности принять страдание. Мысль о том,
что Бога нет, русские атеисты высказывали именно
потому, что, если бы он существовал, он мог бы
быть только злым11.
Достоевский в этой связи уделял особое внимание
страданию детей, которое его лично всегда потрясало,
ведь дети страдают безвинно. Когда они мучаются и гиб-
192
нут, их страдание нельзя оправдать, сказав, что они
страдают за какие-то грехи. Попытка оправдать эти
страдания указанием на то, что они страдают за грехи
родителей, также неосновательна. Ибо ни один
нравственно и рационально мыслящий человек не станет
утверждать, что невинный должен страдать за виновного.
Достоевский сообщает о реальных происшествиях,
имевших место в то время. Турецкие солдаты во время войны
на Балканах вырезали ребенка из чрева матери, другие
— вырвали его из рук матери, подбрасывали его на
воздух и на лету протыкали штыком. Некоторые
предлагали ребенку еду и затем с расстояния в четверть метра
стреляли ему в голову. Эти события напоминают нам об
ужасающей жестокости последней войны, когда изуверы
силой вырывали детей из рук матерей и разбивали им
череп о каменную мостовую. Достоевский сообщает
далее о садистских и сексуальных преступлениях против
детей, а также историю из времен крепостничества, когда
помещик — отставной генерал затравил своими
собаками восьмилетнего мальчика. Пример с детьми
предельно ясен: если все должны страдать за какую-то прошлую
вину, при чем тут дети? Ведь дети-то не включены
в общие грехи! Возражение, что дитя, если бы оно
выросло, скорее всего стало бы грешным, можно понять
только как насмешку, ибо оно не выросло, "его
восьмилетнего затравили собаками"12. С этим страшным
фактом непосредственно связан сон Мити Карамазова
вскоре после того, как он напал на Григория и его обвинили
в убийстве отца. "Приснился ему какой-то странный
сон... Вот он будто бы где-то едет в степи, там, где
служил давно... и везет его в слякоть на телеге, на паре,
мужик. Только холодно будто бы Мите, в начале ноябрь,
и снег валит крупными мокрыми хлопьями, а падая на
землю, тотчас тает. И бойко везет его мужик... И вот
недалеко селение, виднеются избы черные-пречерные,
а половина изб погорела, торчат только одни обгорелые
бревна. А при выезде выстроились на дороге бабы... все
худые, испитые, какие-то коричневые у них лица. Вот
особенно одна с краю, такая костлявая... а на руках у нее
плачет ребеночек... И плачет, плачет дитя и ручки
протягивает, голенькие, с кулачонками, от холоду совсем
какие-то сизые.
— Что они плачут? Чего они плачут? — спрашивает,
лихо пролетая мимо них, Митя.
7 Райнхард Лаут 193
— Дитё, — отвечает ему ямщик, — дате плачет....
. И ему [Мите] нравится, что мужик сказал "дитё":
жалости будто больше.
— Да отчего оно плачет? — домогается, как глупый,
Митя. — Почему ручки голенькие, почему его не
закутают?
— А иззябло дитё, промерзла одежонка, вот и не
греет.
— Да почему это так? Почему? — все не отстает
глупый Митя.
— А бедные, погорелые, хлебушка нетути, на
погорелое место просят.
— Нет, нет, — все будто бы еще не понимает Митя,
— ты скажи: почему это стоят погорелые матери, почему
бедны люди, почему бедно дате, почему голая степь,
почему они не обнимаются... не поют песен радостных,
почему они почернели так от черной беды, почему не
кормят дате?
И чувствует он... что подымается в сердце его какое-
то никогда еще не бывалое в нем умиление, что плакать
ему хочется, что хочет он всем сделать что-то такое,
чтобы не плакало больше дитё, не плакала бы и черная
иссохшая мать дити, чтоб не было вовсе слез от сей
минуты..."13
Я намеренно привел эту обширную цитату. В данном
отрывке, несомненно, отражаются опыт и переживания
Достоевского из времен Семипалатинска, когда он
с Врангелем ехал ночной степью, чтобы увидеть свою
возлюбленную, встречая иногда крестьян, сжигавших
сухую траву. Я хотел бы здесь указать еще на следующий
момент: мог ли Достоевский, как заметил однажды Шес^
тов, придумать такой рассказ? Возможно ли вообще на-
. писать нечто в таком роде, если сам не пережил этого?
Обращает на себя внимание использование насыщенного
внушением монолога в том виде, в каком он выступает
обычно только при самых глубоких переживаниях.
Страдание детей должно было мучить столь глубоко, что
чувство это пробилось до уровня должностного
бессознательного, и писатель создал мифологический образ.
Уже в начале рассказа имеется указание к решению
вопроса о смысле страдания, что, однако, здесь не было
осуществлено.
Два следующих обстоятельства мучают человека,
бьющегося над смыслом бытия: существование зла и не-
194
постижимость смысла бытия. Обычно зло пытаются
оправдать тем, что оно необходимо присуще
конституции человеческого бытия. Если есть добро, должно
быть также и зло: кто принимает одно, должен
смириться с другим. Главная идея Н. Бердяева,
например, состояла в том, что добро и зло
взаимосвязаны и что добро не может перевесить зла. Тем
самым рождалось сомнение в благости добра. Многие
охотно признавали существование зла, приписывая ему
воспитывающую ценность, например в теории
"соучастия" Бога во всем том, "что борется, страдает
и живет", чтобы "из лени" человек не впадал "в спячку"
(Гёте)14.
Говорят, Августин приписывал зло Богу, ибо через
зло ему можно было добиться большего блага. Однако
при всем при этом встает вопрос: кто, будучи разумным
и нравственным человеком, отдаст свое дитя на
воспитание дьяволу? Не мог ли бы всемогущий и всеблагой Бог
найти какое-либо иное решение? Ведь нельзя же сказать,
что без зла не может быть достигнуто большее добро,
поскольку для Бога не существует никаких условий,
которые бы он сам не установил. Таким образом, остается
глубокое сомнение не только в смысле существования
мира, в котором есть зло, но также и в благе добра.
"Грусть от того, что не видишь добра в добре", — писал
Гоголь15. Достоевский принимает эту мысль и
спрашивает: "Для чего познавать это чертово добро и зло, когда
это столького стоит?"16
Если все эти факты охватить в полном объеме, тогда
смысл бытия человека покажется необъяснимым. Мы не
можем постичь провидение и его законы. Требование
покорно следовать Божьей воле бессмысленно, ибо мы
ведь ничего не знаем об этой воле. Мы только унижаем
провидение, когда из досады на то, что мы не можем его
понять,"приписываем ему наши понятия"17.
Вскоре после смерти Достоевского Ницше писал:
"Остается спросить, можем ли мы вообще узреть "смысл",
"цель", или для нас неразрешим вопрос о
бессмысленности или его противоположности"18. Неразрешимость
этого вопроса становится новым высшим аргументом,
направленным против смысла бытия. Можно ли считать,
что Бог в этом мире следует смыслу, а человеку как
наделенной сознанием душе он не дал возможности
данный смысл понять?
195
Результат всех этих рассуждений таков: наличное
бытие лишено смысла: "Вся наша жизнь и все наши
волнения — чаще всего лишь мелкая фантастическая
суета ..."19 Существование лишено смысла потому, что
творец либо не дал его вообще, либо, если и хотел дать
какой-то смысл, он или совершенно недоступен, или его
нельзя постичь во всей его полноте. Все существующее
в конечном счете разрушается в ходе вечных изменений.
Бытие мрачно, принимая подчас странные формы,
выступая как темная, подчиняющая сила; она нагла,
поскольку все страдания, вся борьба бессмысленны;
природа мерещится в виде какого-то огромного
неумолимого и немого зверя, вернее, какой-нибудь громадной
машины, способной раздробить все надежды и
верования20. Бытие немо и глухо; оно не дает ответа на наши
вопросы — их не слышит, не замечая их; оно слепо,
потому что не видит, куда оно само ведет; оно лениво,
поскольку движется по вечно однообразному закону.
О конечном носителе такого существования, если он
есть вообще, можно думать по-разному. Может быть,
наше бытие имеет частичный смысл (однако, с
абсолютной точки зрения, это абсурд). Смысл события всегда
очевиден, поэтому вернее предположить, что "ничтожная
жизнь, жизнь атома" нужна "для пополнения какой-
нибудь всеобщей гармонии"21. Жизнь выступает тогда,
как огромная навозная куча; она приходит и снова
уходит лишь постольку, поскольку нужна для удобрения
другой, новой жизни. И все же человек своим
стремлением к совершенному смыслу всегда
сопротивляется мысли о том, что его страдания нужны якобы для
того только, чтобы "унавозить" малозначимую
"будущую гармонию". А дети? Почему они должны быть
только материалом, "удобряющим будущую
гармонию?"22. Человек восстает против подчинения такой
"гармонии", которую он не понимает и не может
принять, к которой он равнодушен или ненавидит ее,
поскольку она строится только на наших страданиях.
Вся глава о самоубийстве будет посвящена этой
проблеме.
Возможно, что основа мира целиком слепа, что в
сущем господствует преимущественно однообразный закон
причинности, что неизвестны ни цель, ни смысл (даже
в его простейшем значении). В этом случае было бы,
конечно, удивительно, что могут существовать бесчис-
196
ленные целесообразно сотворенные индивиды и
существа, включая человека.
Приходит в голову, что тупое целенаправленное
бытие ищет множество форм существования и ради опыта
породило человека. Факт человеческого существования
предстает в этом случае как наглая попытка выяснить,
может ли вынести одаренное сознанием существо земное
существование. Мир, который не может стоять без
смерти многочисленных существ,"построен с ошибками". Он
не в состоянии защитить человека.
С этим близко связана и мысль о том, что
существует злая воля, которая привела к возникновению
человека и поддерживает его существование. Мысль
о злом основании жизни иногда весьма занимала
Достоевского. Страдание и мучение виделось здесь
Достоевскому в мифологических образах. "Может ли
мерещиться в образе то, что не имеет образа? Но мне
как будто казалось временами, что я вижу, в какой-то
странной и невозможной форме, эту бесконечную силу,
это глухое, темное и немое существо. Я помню, что
кто-то будто бы повел меня за руку ... показал мне
какого-то огромного и отвратительного тарантула
и стал уверять меня, что это то самое темное, глухое
и всесильное существо, и смеялся над моим
негодованием"23. Уже Декарт предполагал возможным, что злой
демон постоянно в нашем познании вводит нас
в заблуждение. Только доказательством бытия Бога
можно опровергнуть это допущение. Злая основа мира
умышленно вводит человека в заблуждение, чтобы
приспособить его служению своим целям; она
искусственно нанизывает факты, чтобы человек не мог
понять, что именно находится перед ним и откуда это
взялось.
Конечной сознательной конкретизацией
нигилистического образа мира является учение о переселении душ.
"Продумать эту идею в ее ужасающей форме, — писал
Ницше. — Бытие как оно есть — без смысла и цели, но
неотвратимо возвращающееся без конца в ничто: вечное
возвращение, крайняя форма нигилизма; ничто и утрата
смысла вечны"24. На этой теоретической предпосылке
пытались построить этику, которая должна была создать
практические требования, основываясь на идее вечного
возвращения одного и того же во все моменты жизни:
сделать каждый момент ее столь полным, чтобы стре-
197
миться к вечному его возвращению. Достоевский
безусловно знал о существовании такой теории и уделял ей
внимание. Чижевский указывал на то, что- в России
сначала Н. Страхов развивал эту идею в сочинении
"Жители планет", в котором он пытался подвести итоги
просветительского движения. От него Достоевский
перенял идею вечного возвращения, как это вытекает из
следующего рассуждения из "Братьев Карамазовых"25:
"Да ведь теперешняя земля, может, сама-то миллион раз
повторялась; ну, отживала, леденела, трескалась,
рассыпалась, разлагалась на составные начала, опять вода,
яже бе над твердию, потом опять комета, опять солнце,
опять из солнца земля — ведь это развитие, может, уже
бесконечно раз повторяется, и все в одном и том же виде,
до черточки. Скучища неприличнейшая..."26 Вечное
возвращение, если точно продумать мысль о нем, не
усиливает, а ослабляет жизнь. Очень многое остается
в этой жизни неисполнимым даже при самых горячих
устремлениях. Вечное возвращение одного и того же
в фрагментарном наличном бытии в конце концов
должно парализовать любое усилие, привести к скуке
и отчаянию,
В заключение нужно назвать последний аргумент,
который служит объяснению бессмысленности бытия.
Если в своеволии видеть нечто высшее, чего можно
достичь, тогда человеку, стремящемуся к своеволию,
бытие станет непереносимым, поскольку он создан как
зависимое существо. Человеку, ищущему
метафизической свободы, оскорбительно, что он рожден без знания
о том, откуда он, куда идет и для чего предназначен,
и без власти изменить существенные условия своего
существования. Следствием является не
самоудовлетворение, а протест. Одержимый идеей своеволия
обращается не только против бессмысленности существования,
но и против такого бытия, которое не содействует его
собственной свободе, хотя бы оно исходило даже и от
Бога, т. е. от абсолютно исполненной смысла
действительности. Позиция таких людей столь эгоцентрична,
что они, не учитывая опыт и не размышляя, приходят
к выводу: в бытии нет смысла; более того, бытие не
должно иметь смысл. Это конечная и непререкаемая
позиция тех, кто отрицает бытие.
Бога
нет
Решение проблемы о смысле бытия
в негативном плане связано с
вопросом о существовании Бога.
Бессмысленное существование не может быть дано Богом, если
мы видим в нем всемогущее и всеблагое существо.
Только если сильно изменить понятие о Боге, приписав ему
черты демона, деспота, творящего произвол, и т. д.,
тогда в таком существе можно признать Бога. Но в этом
смысле слово "Бог" не должно употребляться. Вывод
последовательных нигилистов поэтому гласит: Бога нет.
Достоевский исторически выводит атеизм из
католической идеи, идущей от Древнего Рима; идея эта является не
христианской верой, а чем-то еще более худшим, чем
чистый, четко себя обозначающий атеизм. Она возникла
из соединения христианства с римской государственной
идеей, ее центральная мысль состоит в насильственном
единении человечества и в деспотизме27. Свою крайнюю
форму эта идея получила во французском социализме,
дошедшем до атеизма; по сути дела, социализм
выступает как "вернейшее и неуклонное продолжение
католической идеи... роковое ее последствие, выработавшееся
веками"28. Папа захватил землю, земной престол и взял
меч, а к мечу прибавили ложь, пронырство и обман.
Атеизм зародился в католицизме29 отчасти потому, что
его официальные представители ни во что не верили,
предав христову веру, отчасти потому, что народ из-за
этого открывшегося обмана отшатнулся от римского
католицизма, а заодно и от христианства. С этого
времени народ в отчаянии ищет новых идеалов. И хотя
нравственная власть религии была утрачена, нехристианский
католический идеал о насильственном объединении
людей остался живым в их сердцах. Атеизм, укрепившийся
с помощью насилия, следовательно, есть результат
лживости римского католицизма. "Там, в Европе, уже
страшные массы самого народа начинают не веровать —
прежде от тьмы и от лжи, а теперь уже из фанатизма, из
199
ненависти к церкви и ко христианству!"30 Разочарование
в католицизме и вызвало ненависть к христианству.
Причины столь неправильного, как нам
представляется, суждения Достоевского о католицизме нужно искать
в ряде обстоятельств. В его время славянофильские круги
России были враждебны западному католицизму. Уже
Хомяков видел в католической церкви общность,
защищающую материалистический рационализм. Он
приписывал латинянам вину за разделение восточной и
западной церквей, ибо именно последняя хотела бы (не
учитывая церковного всеединства, пренебрегая экуменическим
принципом) изменить символ веры, включив в качестве
дополнения "и Сына" ("filioque"). Тем самым латинский
католицизм, по мнению Хомякова, стал сектой, которая
откололась от единой христианской церкви и привела
христианство к анархии. Чтобы держать эту анархию
в границах, латинское христианство скатилось к
деспотизму, который усиливался в течение столетий и наконец
вылился в провозглашение тезиса о непогрешимости
папы при решении церковных дел. Доказательство
праведности римской церкви пытались обосновать не на
традиции, а на разуме. Несокрушимую истину, что схизма
означает отделение западной церкви от всеобщего
христианства, на Западе пытались утаить с помощью
софистики. Наконец, Хомяков указывал и на союз
политического католицизма с защитниками интересов
господствующего класса, что открывало двери для скептицизма
и ненависти.
Достоевский испытывал влияние Н. Страхова и
других, придерживавшихся славянофильских взглядов.
Однако он шел много дальше славянофилов в негативной
оценке римского католицизма и более резко его
отклонял. Его отрицательное отношение должно было
усилиться в силу событий, связанных с польским восстанием
1863 г. Противоречия между Польшей и Россией по своей
природе были не только политическими, но и
религиозными. Римский католицизм служил полякам защитной
одеждой против попыток русификации. Когда поляки
победоносно вторгались на Украину, они пытались
всякий раз распространять там римскую веру. Польский
высший слой смотрел с презрением на русский народ,
поскольку поляки считали, что принадлежат западной
культуре. В России многие католические священники
принимали сторону поляков против русских. Отчасти это
200
объясняется тем фактом, что русские насильственно (при
Николае I) принуждали украинскую церковь отойти от
Рима и стать на путь православия. Известно, что
западные державы приняли участие в судьбе Польши и
политически ее поддерживали. У Достоевского сложилось
впечатление, что римский католицизм решительно
включился в игру, что он является врагом русского народа,
которому Достоевский отдавал всю свою любовь, и что
поэтому он должен рассматривать их как собственных
врагов.
Следующая причина негативного отношения
Достоевского к католицизму связана с его оценкой
"Философических писем" Чаадаева. В этих письмах "вольный
каменщик" Чаадаев отказывает России в праве на
существование собственной культуры, выносит уничтожающий
приговор ее духовной и культурной жизни, уравнивает ее
религию с абиссинским христианством и, напротив,
считает римский католицизм ведущей силой и вершиной
духовного развития западного мира31. В единстве
римской церкви, в течение тысячелетий обеспечивавшей
единство западноевропейского человечества, он усматривает
величайшее явление мировой истории, а в папстве —
последовательное и существенное развитие христианской
мысли в той единственной форме, которую ей хотел бы
придать Христос. Временные пороки и заблуждения
церкви и ее верхушки не могли поколебать это единство.
Достоевский никогда не прощал Чаадаеву
дискриминацию русского народа и его веры. Он считал его видимое
презрение ко всему русскому не только смелым, но
и "слепым"32. В набросках к "Бесам" и в романе об
атеизме, задуманном им, личности Чаадаева уделяется
большое внимание, Достоевский хотел даже в одном из
романов представить его действующим лицом. У Верси-
лова в "Подростке" можно найти некоторые черты
Чаадаева. Достоевский видел в нем, так же как во
вступившем в орден иезуитов князе Гагарине, последовательных
представителей западничества, ибо римский католицизм
представлялся ему высшей и конечной позицией Запада.
Во всяком случае он видел, что католицизм защищается
теми кругами в России, которые ненавидят и презирают
все русское и своеобразное; именно из-за его
враждебности к русскому народу он и отвергал католицизм.
Деятельность папства, которое в его время в острой
борьбе за мирское господство церкви было готово к мно-
201
гочисленным сомнительным политическим
компромиссам, конечно, только усиливало в нем отвращение к
католицизму. Одно событие особенно возмутило его. Во
время русско-турецкой войны папа послал поздравление
добившимся успеха туркам. В этой моральной поддержке
мусульман в борьбе против христиан России
Достоевский увидел такую чудовищную несправедливость,
особенно перед лицом многочисленных злодейств, которые
творили турки, что это усилило его негативное
отношение. Подтверждение мысли, что католицизм независим
от христианства, Достоевский видел в попытках Сен-
Симона и Опоста Конта основать новую церковь во
главе с новым папой. Здесь отвергалась римская церковь,
но принцип католицизма во Франции сохранял жизнь.
"Вся высшая духовность во Франции, — писал Ницше,
— инстинктивно католическая"33. Он симпатизировал
внехристианскому католицизму как форме римской воли
к власти. Остается разрешить вопрос, в какой мере
Достоевский связывал с "католицизмом" не только
христианскую церковь Запада, но и позитивистскую и сен-симо-
нистскую идеологию.
И в протестантизме Достоевский видел религию,
склонную и ведущую к атеизму. Протестантизм возник
единственно только из отрицания католицизма и живет
лишь протестом и до тех пор, пока протестует. Если
католицизм погибнет, то и протестантизму "придется
умереть духовно... потому что не против чего будет
протестовать, он обратится в прямой атеизм и тем
кончится"34. Уже теперь он быстро приближается к атеизму
и превращается "в зыбкое, текущее, изменчивое (а не
вековечное) нравоучение"35. Христос рассматривается
при этом как простой или как выдающийся человек и как
философ. Христос-человек не может быть ни спасителем,
ни источником жизни, поэтому обосновывать религию
таким образом бессмысленно. Подобную мысль можно
найти у Хомякова. Он видел в протестантизме отрицание
церкви как духовной общины, живущей в догме
традиции. Он утверждал также, что протестантизм живет
отрицанием. Он создан произволом нескольких ученых
и воспринят апатичным легковерием нескольких
миллионов неучей. Если не нужно будет протестовать,
протестантизм впадет в неразбериху частных взглядов,
лишившись общей связи. "И к этой цели стремится церковь,
которая руководствуется желанием вернуть всех на путь
202
истины?" — спрашивает Хомяков. Подобная постановка
вопроса содержит в то же время и ответ на него. С особой
силой Хомяков подчеркивает то, что протестантизм не
может ступить ни шагу там, где это дано православию36.
Здесь не место критиковать представления
Достоевского об обеих формах западной религии. Его
односторонняя и бьющая мимо цели оценка католицизма
породила острые высказывания в самой России уже в начале
нашего века. Я укажу только на статью Д.
Мережковского о политических предпосылках идей Достоевского37.
Достоевский эффектно оспаривал историческое развитие
католической церкви в новейшее время при выдающихся
в религиозном отношении папах. Но, с другой стороны,
нужно признать и тот факт, что он увидел в католицизме
скрытую, существующую до наших дней опасность,
которая угрожает хотя бы временно одолеть эту церковь, так
что эти указания должны цениться и католиками.
Наиболее опасны* атеистов Достоевский видел в
приверженцах и служителях христианских конфессий и сект,
которые в сердцах своих были безбожными, но
выступали с именем Божьим на устах. Безбожный служитель
притворной верой может наделать ужасающих бед,
поскольку он способен сокрушить своим цинизмом доверие
верующих и сбить их с толку.
На Западе атеизм свободно распространялся среди
широкой общественности со времени французской
революции. Тогда были закрыты или превращены в храмы
разума церкви и даже Бог был подвержен "однажды
баллотировке Собрания"38. Одновременно была
предпринята попытка организовать общество на атеистических
основах. К "топорности" этого плана, который
высмеивал и смешивал с грязью не только церковь, но и саму
веру, Достоевский относился с отвращением. Это ведь
было начало, из которого затем развился социализм,
сущность которого состоит в атеизме. Социализм атеис-
тичен потому, что верит в возможность создать
человеческое общество единственно и только на основе разума,
а также потому, что думает лишь о материальных
потребностях. Без веры в Бога и без религиозности хотят
привести человечество к единомыслию "не для
достижения небес с земли, а для сведения небес на землю"39.
Белинский ясно понимал атеистические предпосылки
социализма, поэтому он положил атеизм в основу своих
взглядов и пытался склонить молодежь к безбожию.
203
Такого рода деятели считали своим долгом
выкорчевывать веру в Бога, подготавливая Россию к революции.
Среди атеистов Достоевский выделял различные
группы. Есть у них индифферентные, о которых в Апокалипсисе
говорится, что они ни холодны, ни горячи (Откр. 3:15—16).
Уж лучше чистый атеизм, чем это инертное равнодушие,
ибо убежденный атеист ближе к вере. Иные атеисты
— беспокойные, ищущие Бога люди. К ним Достоевский
долгие годы своей жизни причислял самого себя. Однажды
он признался (устами Кириллова), что Бог "мучил его всю
жизнь". Такие атеисты встречаются среди людей всех
сословий. Они много читают, ко всему прислушиваются,
ищут, а затем пытаются найденное постигнуть прежде
всего разумом, впадая по этой причине снова в сомнение,
ведущее к беспокойству и к невозможности прийти к
устойчивому суждению. Чем больше берет на себя разум, тем
сильнее поиски Бога. Многие из таких людей хотят познать
истину только в самом себе и тем самым попадают в беду.
Так как каждый человек должен поклоняться какой-то
идее, люди, отвергающие Бога, ставят на его место
идолов или абстрактное понятие. Неважно, какие идолы
— золотые, деревянные или мысленные, либо ребяческие
предметы наших вожделений. "Идолопоклонники это
всё, а не безбожники, вот как объявить их следует"40.
К последней группе атеистов относятся неверующие, но
обретающие новую веру. Эти пришли к атеизму не из
равнодушия или пресыщения, а потому, что томились по
новой вере. Они ощущали великую жажду в идее, с
помощью которой могли бы построить свою жизнь, и при
этом доходили до крайности, как это на Руси часто
случается. Если русский человек "в католичество
перейдет, то уж непременно иезуитом станет... коль атеистом,
то непременно начнет требовать искоренения веры в Бога
насилием". В новой атеистической вере такой жаждущий
и ищущий наконец находит "отечество", берег, землю,
в которую он может "пустить корни", и бросается ее
целовать41. Собственному народу такие люди не верят,
поэтому они страстно стремятся к новым берегам.
"Наши не просто становятся атеистами, а непременно
уверуют в атеизм, как бы в новую веру, никак и не замечая,
что уверовали в нуль. Такова наша жажда!"42 В
"Дневнике писателя", рассуждая о спиритизме, Достоевский
говорит о глубочайшей причине безверия, которую он
усматривает в основаниях воли. "Мне... выяснилось тог-
204
да... какую силу неверие может найти и развить в самом
себе, в данный момент, совершенно помимо вашей воли,
хотя и согласно с вашим тайным желанием... Равно,
вероятно, и вера..."43 Поэтому подобная форма атеизма
является своеобразной ступенью к вере в Бога. Среди
атеистов этого рода, указывает Достоевский, есть много
прекрасных людей. Такой атеист — "лучший человек
в целом мире"44. Он — человек почтенный и ведет
образцовую жизнь, как, к примеру, Белинский. Любак точно
заметил, что таких людей нужно называть не атеистами,
а антитеистами.
У Достоевского имеется также психологическое
объяснение веры в Бога. Просветительский тезис о том, что
страх породил богов, приводится в "Бесах": Бог есть
изобретение человека, который страшится власти
природы. Представление о таком Боге приводит к заключению,
что гром и молния должны выражать гнев или покой
лица, божественного по своей сущности. В более позднем
и глубоком представлении вера в Бога выводится не из
страха перед отдельными природными явлениями, а из
всеобщего безосновного жизненного страха (Кьеркегор
и его последователи). Это
"экзистенциально-философское" основание имеется также и у Достоевского. Из
страха человек обращается к Богу: "Бог есть боль страха
смерти"45. Кто победил страх, тот победил и "Бога", ибо
его нет, но он есть "именно в безосновном феномене
страха". Когда человек своей волей "победит боль
и страх"46 смерти, он созревает для атеизма. "Кто убьет
себя только для того, чтобы страх убить (т. е. иллюзию
о Боге. — Р,Л.), тот тотчас бог станет"47.
В XIX в. Фейербах развивал просветительскую
концепцию Бога, который возник из страха в процессе
отчуждения человека от природы. Он есть
субстантивированное выражение наших чувств и мыслей, проецируемых
в бесконечное. Он является идеальным образом нашего
Я, как мы его себе представляем, изобретением человека.
Ницше под влиянием этой теории (также, возможно,
и "Идиота" Достоевского) писал: "Религия есть пример
"alteration de personnalite" ("отчуждения личности".
— Примеч. пер.). Своего рода чувство страха и ужаса
перед самим собой... Но также и исключительно сильное
чувство счастья и возвышенного"48. Не Бог создал
человека, а человек — Бога. Бог есть искусственная идея
человечества. Человек выдумал Бога49.
205
Французские позитивисты и социалисты исследовали
исторические обстоятельства представлений о Боге и
пришли к выводу, что понятие Бога есть необходимая
вспомогательная гипотеза, с помощью которой человечество
может развиваться и цивилизоваться. Прудон считал, что
человек первоначально дисциплинировался благодаря
религиозному страху50. Замечание Вольтера о том, что если
бы Бога не было, его следовало бы выдумать, —
выражение такого же подхода. Без Бога не было бы культуры
и цивилизации, поэтому он является полезной выдумкой,
говорится в "Братьях Карамазовых".
Представление о Боге необходимо также и для этики.
Для Кириллова в "Бесах" нет ничего дороже мысли
о том, что Бога нет, и все же он соглашается: человек не
мог сделать ничего иного, как выдумать Бога, чтобы
можно было жить, не убивая себя. "Если есть Бог, то вся
воля его, и из воли его я не могу. Если нет, то вся воля
моя, и я обязан заявить своеволие"51. Бог необходим
и потому, что на нем стоит мировой порядок.
Мы излагали в главе о бессмысленности бытия ряд
моральных возражений против Бога. Греческие боги
были сокрушены, когда стали очевидны их нравственные
недостатки. Такая же судьба постигнет в наше время
и христианского Бога. Развивается этический атеизм,
который должен отвергнуть Бога как раз из высоких
моральных требований. Такую точку зрения в начале XX в.
защищал Н. Гартман. Достоевский хорошо понимал
значение этического атеизма. "Богохульство это взял, как
сам чувствовал и понимал, сильней, то есть так именно,
как происходит оно у нас теперь в нашей России", —
писал он Победоносцеву52.
Теоретический атеизм проходит мимо действительно
религиозной веры, не замечая ее. Своеобразие бесед с
атеистами состоит в том, что они говорят "вообще не
о том", т. е. не замечают религиозного опыта,
сосредоточиваясь на каких-то чисто теоретических понятийных
концепциях Бога. "Сущность религиозного чувства ни
под какие рассуждения, ни под какие проступки и
преступления, ни под какие атеизмы не подходит; тут что-то
не то, и вечно будет не то; тут что-то такое, ибо что вечно
будут скользить атеизмы и вечно будут не про то
говорить"53. Они имеют дело не с религиозным опытом,
а всего лишь с философски выведенным понятием Бога.
Бессмертия
нет
Достоевский неустанно повторял, что
три идеи — о смысле бытия, о Боге
и о бессмертии — между собой
тесно связаны. В определенном аспекте можно было бы
говорить об одной-единственной "высшей идее".
Поэтому изложение фундаментальных идей философии
негативного мы хотели бы начать с рассмотрения идеи о
бессмертии и его невозможности. Зачастую утрата веры,
в бессмертие души сводится к* другойгу убеяшёнию
— к отрицанию смысла бытия. ^*^ ~
Есть целый ряд оснований отрицать бессмертие души.
Кое-что внесла в них "научная" философия XIX в.
Последовательный материализм вообще отвергает
существование души. Если же наука все же признает душу, то не как
субстанциальное единство, а как функциональную
целостность или как функциональный процесс. В связи с этим
по большей части на первый план выступает
психофизический параллелизм. В крайнем случае душа
рассматривается как целостность, находящаяся во
взаимодействии с телом, которая в результате тесного единения
с этим телом и его состояниями вместе с ним и умирает.
В философии идея бессмертия получила теоретическое
обоснование у Канта, который ввел ее как практический
постулат. Средства нашего познания не позволяют
ничего сказать о бытии или небытии души, тем более о ее
бессмертии, ибо они всегда имеют дело только с
явлениями, а не с вещами самими по себе. Понятие души есть
только регулятивная идея, которая выступает как
необходимый руководящий принцип для исследования, не
давая при этом познания. Положение, что душа
бессмертна, есть только суждение, о справедливости
которого, однако, нельзя ничего сказать, оно связано лишь
с требованием, предъявляемым практическому закону.
Идея бессмертия настоятельно необходима морали, ибо
только бесконечно длительная воля может найти
подходящее поле для успешного развития от плохого к луч-
207
шему. Нравственная воля без идеи бессмертия во всяком
случае осталась бы не исполнившейся, так как она
прогрессирует в бесконечное и может достичь совершенства
лишь в длительном развитии личности.
Этому учению Канта в его негативной форме,
конечно, нелегко было возражать. Можно указать, что Кант
вывел идею бессмертия из морального закона только для
того, чтобы этот последний служил обоснованию
достоинства человека. Позитивизм вообще не признавал права
за философией высказываться о действительности, к
которой, с его точки зрения, нужно подходить лишь с
научной точки зрения.
Бессмертие души отвергалось также и из других
оснований: если в бытии нет смысла, ему не дано и
бессмертие. Если все же бессмертие имеет место, оно
бессмысленно. Если нет Бога, то не может быть и бессмертия, ибо
опыт свидетельЬтвует, что сознание гибнет после смерти
вместе с мозгом. Только божественное вмешательство
могло бы дать душе новое сознание и независимое от
тела существование.
Вместо веры в бессмертие выдвигается представление,
что со смертью все кончается, что мы засыпаем, чтобы
никогда больше не пробудиться, и больше существовать
не будем54. Душа при этом разрушается и полностью
исчезает. Согласно некоторым народным верованиям,
может быть, она существует еще какое-то время, но
потом совершенно угасает. Так на место веры в
бессмертие полагается четкая эрзац-идея. Указывают на
дальнейшую физическую жизнь в потомках, на последующее
существование в людских воспоминаниях, на посмертное
значение прижизненной деятельности. Все эти виды
продления существования в свете идеи бессмертия имеют
переносный и неистинный смысл.
С особой быстротой распространилось неверие в
бессмертие души в новейшее время. Рука об руку с этим идет
своего рода равнодушие к этой идее. Часто вера в
бессмертие неприметно теряется и заявляет о себе лишь
смутной и неясной тоской, причина которой не
обнаруживается. Распространение негативной идеи приводит в
конце концов к мнению, что все сущее смертно и преходяще
и когда-нибудь полностью погибнет. Все случайно, все
проходит и подчиняется "тирании косной причины"55.
Многие поддерживают идею бессмертия, чтобы
облегчить участь земного существования, не веруя, однако,
208
в ее истинность. Если бы удалось поддержать и защитить
человека с помощью этой веры, то эта полезная ложь
могла бы побудить его к исполнению нравственного
закона, к обретению удовлетворенности земной жизнью.
Однако людям редко удается осознать и прочувствовать
в полной мере значение идеи бессмертия, хотя
потребность души в ней неистребима.
И, наконец, есть такие противники идеи бессмертия,
которые отрицают бессмертие так, как если бы было
совершенно доказано, что оно не существует. Они
оспаривают идею бессмертия, видя в ней препону для
полного принятия радостей жизни, утверждая, что человек,
принимающий идею бессмертия, считает главной целью
своего бытия не этот, а потусторонний мир и в
результате пренебрегает посюсторонним миром. Ограничение
бытия только посюсторонним миром побуждает людей
"одобрять каждый миг всеобщего существования"56. Об
этом писал уже Фейербах, утверждая, что вознесение
лучшей жизни на небеса содержит в себе требование стать
на земле лучше и трудиться для этой цели. Достоевский
рассуждал подобным образом в "Дневнике писателя" за
1876 г.57 Идея бессмертия, рассмотренная с точки зрения
одной только земной жизни, является безнравственной.
Морали нет.
Все дозволено
Из трех вышеизложенных тезисов
— бытие бессмысленно, Бога нет,
бессмертия нет — непосредственно
следует мысль о невозможности объективного
нравственного закона. Ведь бессмысленная действительность не
может принудить к исполнению требований долга. Далее,
при таком подходе мотивация нравственного поступка
настолько ослабевает, что человек больше стремится
к своей выгоде, чем к исполнению того, что ему
подсказывает совесть. "...Какая же косность, глухая, слепая,
тупая, может заставить меня действовать так, если мне
выгодно иначе?"58 Человека, впадающего в зло и не
желающего отказаться от него, нельзя упрекать за это.
Даже те, кто хочет добра, не может найти достаточной
силы: их добрая воля и поступки ослабевают при мысли,
что все, к чему они стремятся и что хотели бы при жизни
осуществить, в ходе естественного развития превратится
в ничто. Вместе с Ницше здесь можно было бы задать
вопрос: не являются ли все "ценности" приманкой, с
помощью которой длится комедия, не получая развязки?59
То же следствие можно вывести из атеизма. "Раз
человечество поголовно отречется от Бога... то само
собою... падет вся прежняя добродетель, ведь тогда она
вообще не нравственность"60. Это становится особенно
понятным, если признать тесную связь идеи Бога с идеей
высокого смысла бытия. "Смысл" имеет место только в том
случае, если существует смыслополагающий разум, который
творит его. Нельзя обрести смысл только на основе слепых
законов сущего или из глубины наличного бытия,
движимого бессознательным. "Наивно думать, — замечает Ницше,
— будто мораль сохраняется, если нет божественной
санкции. "Потустороннее" абсолютно необходимо, если
хотят действительно сохранить веру в мораль"61.
Наконец, то же самое имеет значение при
размышлениях о бессмертии, которое также выступает предпосыл-
210
кой для обоснования нравственного закона. Бытие без
идеи бессмертия не может стать, по крайней мере для
мыслящего человека, абсолютно осмысленным, так как
он в своей ограниченной земной жизни почти никогда не
может исполнить своих стремлений. Без веры в
бессмертие человек неспособен также по-настоящему любить.
Смерть истинно любимого существа без надежды на
бессмертие превращается в непереносимую муку."Видали
не раз, как в семье, умирающей с голоду, отец или мать
под конец, когда страдания детей их становились
невыносимыми, начинали ненавидеть этих столь любимых ими
доселе детей именно за невыносимость страданий их.
Мало того, я утверждаю, что сознание своего
совершенного бессилия помочь или принести хоть какую-нибудь
пользу или облегчение страдающему человечеству...
может даже обратить в сердце вашем любовь к человечеству
в ненависть к нему"62. Представим, что этого не случится,
что люди даже в этой неизбежно бессмысленной и
бренной жизни еще сильнее будут любить друг друга, и,
однако, они все-таки наверняка начнут ненавидеть такое
бытие, которое уготовляет им эту судьбу. Любящий,
например родители, горюющие о своем умершем
ребенке, которого они горячо любили, неминуемо начинает
ненавидеть такое существование. Тот, кто имел опыт
этого безжалостного, жестокого бытия, утрачивает
надежду, и в нем "иссякает не только любовь, но и всякая
живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь"63. Воля
к жизни при невозможности ее реализации ослабевает,
опускается до фаталистического равнодушия, впадает
в отчаяние. Из этого следует, что "любовь к человечеству
даже совсем немыслима, непонятна и совсем невозможна
без... веры в бессмертие души человеческой**64.
Достоевский, следовательно, идет дальше Канта. Он
требует бессмертия не только потому, что с мыслью
о нем укрепляется воля, даже вопреки следованию долгу,
но и потому, что без него нравственный закон вообще
становится невозможным. Разумеется, мысль о
вознаграждении здесь не имеет значения. "Нравственный"
поступок ради награды (в низшем смысле слова) в
потустороннем мире не ценится, Достоевский приводит такие слова:
"Ну пусть бы я умер, а только человечество оставалось
бы вместо меня вечно, тогда, может быть, я все же был
бы утешен"65. Бессмертие столь необходимо для
нравственности не из-за стремления к личному счастью, а из
211
потребности любить перед лицом нравственного закона,
т. е., по сути дела, чтобы иметь вообще возможность
любить. При этом можно не следовать правилу: "Ты
можешь, значит, ты должен!" Скорее оправданно
притязание: если я должен это исполнять, тогда мне нужно
также иметь для этого возможность. Впрочем, в этой
связи следует сказать, что Достоевский постулировал
идею бессмертия, не только исходя из оснований этики,
он обращался и к другим ее аспектам.
Если бессмертия нет и бытие не имеет смысла, нет
также и объективной нравственности66. Ошибочно
утверждать, что мораль, закон и ценность являются
независимыми по отношению к бытию. Ценности сами по себе
не имеют никакого значения. Предъявляющие себя
требования долга должны доказать свое право, ибо иначе
человек отвергнет их претензии. Если нет в бытии ни
смысла, ни Бога, то нравственный закон может
выводиться лишь из двух источников — из природы и
собственного Я. Основываясь на одном только разуме,
нельзя прийти к объективно значимому нравственному
закону, если не изменить значение понятия "объективный",
как это делал, к примеру, Кант. Объективно значимый
нравственный закон должен исходить из такой
объективности, при которой его содержание должно раскрываться
независимо от субъекта, исходя из единой
действительности. Тезис об объективной норме, которая
обосновывалась бы исключительно разумом и независимо от опыта,
по Достоевскому, в корне ошибочен. Нравственный закон
в этом плане ничего не значит и не может быть
обнаружен математическими выкладками. Поэтому
рассудочное доказательство значения нравственных идей
несостоятельно. "Они одной логикой оправдаться никогда не
могут. Жить стало бы невозможно"67. Примечательно,
что Кант не сделал ни малейшей попытки доказать
обоснованность и справедливость установленной им
моральной заповеди, на что настойчиво указывал Шопенгауэр.
Достоевскому же ясно, что предпосылкой нравственного
закона является как раз высокий смысл. Только
совершенный мир может потребовать от человека признания
и исполнения долга. Если же такого объективного
совершенного смысла не существует, человек оказывается
нравственно изолированным. В результате он вступает на
место Бога, чтобы самому принимать решения о добре
и зле. Нравственный закон больше не открывается, а ус-
212
танавливается человеком, причем практические заповеди
полагаются им произвольно68.
С другой стороны, если исходить только из природы
и ее абсолютной бессмысленности, то нравственный
закон можно вывести из ее направленности; но тогда нельзя
приписать ему какую-либо значимость: ведь природа
действует в этом случае принудительно в соответствии
с причинностью. В результате такого закона природы,
чтобы "человек любил человечество — не существует
вовсе"69. Более того, представители биологии и
политэкономии утверждают, что потребности в поддержании
собственного существования есть единственное природное
стремление. Природа принимает такой вызов человека.
Те существа, у которых он выражен сильнее,
прокладывают себе дорогу, сохраняются и утверждаются в борьбе за
существование. Тем самым закон любви, основанный на
идее высшего смысла, превращается в свою полную
противоположность — в закон борьбы за существование
и уничтожения слабейшего; закон самоотверженности
становится законом сильнейшего эгоизма.
Если исходить только из разума или из природного
опыта, либо из них обоих, неизбежен вывод, что
нравственный закон любви ложен. Можно в таком случае спросить:
"Да что такое честь, и не предрассудок ли кровь?"70 Кроме
того, вслед за Спенсером можно утверждать, что наши
этические идеи и наше чувство долга являются лишь
продуктом мыслей и чувств несметного множества наших
предков, который стал привычной формой мышления
и потребностью нашего организма благодаря
наследованию и воспитанию. Совесть также возникла позже как нечто
совершенно субъективное, существующее по привычке.
Четкое следствие из всего этого звучит буквально: "Все
дозволено!"71 Так как объективного нравственного закона
не существует, не может быть ни проступков, ни
преступлений. Любое действие, внушенное моим духом как полезное,
есть благо для меня, если оно ведет к моему удовольствию,
будь то даже людоедство. Каждый может спокойно
распоряжаться жизнью и смертью другого, каждому позволено
желать смерти ближнего, если она ему полезна или угодна72.
Можно пойти и дальше, утверждая, что преступление при
определенных обстоятельствах является долгом и
обязанностью, поскольку оно направлено против лжи и
беззаконности старого, мнимо объективного нравственного закона.
Идея
пользы
Публицистическая деятельность
Достоевского началась с критики
буржуазности. Это было связано с его
первым путешествием в Европу, когда он посетил Париж
и Лондон. Путешествие состоялось вскоре после его
возвращения из Сибири в 1859 г. Можно сравнить жизнь
Достоевского с движением маятника, который от оси
Петербург — Москва отклонился сначала на Восток.
А затем, вернувшись назад, целым рядом рывков двинулся
на Запад, чтобы затем остановиться на исходной позиции.
Когда Достоевский посетил впервые Европу, это
маятниковое движение достигало большой быстроты, его
впечатления менялись особенно быстро и в короткий промежуток
времени (около трех лет), обнаружив большое
разнообразие и глубокие противоречия. Из сибирской глуши с
однообразием каторжной жизни, из среднеазиатского
гарнизонного Семипалатинска, где господствовал элементарный
природный ритм жизни, судьба привела Достоевского на
густонаселенный высокоцивилизованный европейский
Запад и дала ему возможность увидеть огромный,
миллионный Лондон, современный "Ваал", как он его назвал.
Укорененному в почве и глубоко сочувствующему народу
своей родины он противопоставил буржуазный мир XIX в.
С большой остротой он выявил особый тип западного
человека — буржуа. Его интерес к этому типу был
особенно сильным из-за положения в России. Это было время
освобождения крестьян от крепостного права, сильного
либерального правительственного курса, который, однако,
западниками, разделившимися на либералов и радикалов,
подвергался острой критике. В общественной жизни
России появился новый слой, образовавшийся из чиновников
и семинаристов и потеснивший с господствующих позиций
земельных собственников. Купцы, промышленники и
частные предприниматели формировали состав нового
буржуазного класса. Критика европейской буржуазности должна
была служить лучшему пониманию новой русской
буржуазии. Необычная склонность русского буржуа к радикализ-
214
му нигилистического или реакционного толка с самого
начала сделала существование этого класса
проблематичным и побуждала к размышлениям. В Европе имелись
исторически развитые силы, его укрепляющие, в известной
мере и судьба русской культуры зависела от буржуазии.
Интерес Достоевского к буржуазии с самого начала был
направлен не столько на это сословие как общественное
явление, сколько на его подоплеку. Его интересовали не
исторические силы, которые привели буржуа к тому
положению, которое они заняли в обществе, не социологические
результаты господства третьего сословия. Достоевского
захватывали проявления буржуазного существования как
своеобразного бытия с особым отношением к жизненным
силам, с особым мировоззрением и этикой. Французский
язык имеет два слова для понятия "бюргер", выражающие
его политический и социологический аспекты: гражданин
(citoyen) и буржуа (bourgeois). Достоевский знал это и
различал их. Отсюда он выделял, подобно тому как Ш. Пеги после
него, две сферы земного и небесного града—политикоэконо-
мическую и духовную общность. Обе имеют оправдания для
существования и в каждой из них имеют место
многообразные аналогии. Земной град возникает и существует в
зависимости от небесного, иначе говоря, социальный институт
может существовать лишь до тех пор, пока он связан
с живым идеалом, из которого он исходит, как своего рода
осуществление "внешней организационной формулы". Как
только отмирает идеал социальной общности, она может
существовать только с помощью внешних сил и непременно
через какое-то время погибнет. Социальной общности
известны выдающиеся положительные характеры
невообразимой красоты; есть и такие, которые хотя и грешили и при
случае творили беззаконие, и были более или менее далеки от
должной жизни, однако они всегда сохраняли живой идеал
гражданственности, чувствовали себя членами "того града",
держали его в сердце своем и никогда не принимали своего
греха за правду73. Бюргер как гражданин в вышеописанном
смысле вовсе не должен превратиться в буржуа.
Следовательно, гражданин и буржуа суть два понятия, которые
могут быть тождественными друг другу, но в этом не
нуждаются. Буржуазия выступает как класс, как социальное
сословие в противоположность дворянству, духовенству,
рабочим. Исторически в конце XVIII в. во Франции буржуа
стали гражданами первого ранга, принимавшими
значительное участие в управлении общественными делами.
215
Таково понимание буржуазии Достоевским, которое
предшествует его анализу. Развивая это свое понимание
буржуазии, Достоевский рассматривает ее как наиболее яркое
выражение нововременного европейского человечества.
Буржуазное мировоззрение заступило место миросозерцания,
преисполненного идеалами чести и святости, образами мира
и вселенной, хранящими в себе великую цель. Вместо этого
возникли и распространились новые идеи и идеалы, которые
овладели массами современного общества как сами собой
разумеющиеся. Главные среди них — идеи пользы и
причинности. Эти идеи возникли задолго до буржуазных
социальных преобразований в эпоху творчества Ф. Бэкона и
Г. Галилея и особое распространение получили благодаря
Дж. Локку и Т. Гоббсу. Фактически уже с той поры
буржуазный дух завоевал в Западной Европе все слои населения.
Аристократы имели в виду лишь свою собственную выгоду.
Продолжая существовать как сословие, они постепенно
превращались в один из классов буржуазного общества, тем
самым содействуя победе буржуазии. Весь XIX в.
определяется господством идей выгоды и причинности: "Работники
тоже все в душе собственники: весь идеал их в том, чтобы
быть собственниками и накопить как можно больше вещей,
такая уж натура... Все это веками взращено и веками
воспитано"74. То же имеет значение и для крестьян:
"Французские земледельцы архисобственники, самые тупые
собственники, то есть самый лучший и самый полный идеал
собственника, какой только можно себе представить"73.
Принцип выгоды, сверхвыгодности возвысился до
фундаментальной максимы поведения. Следование этому
принципу почиталось как долг, как добродетель.
Достоевский формулирует нравственный закон буржуа:
поступай так, чтобы это всегда было тебе выгодно. Буржуа,
повинуясь привычному правилу, следует этой максиме
даже тогда, когда он сознательно не думает о выгоде.
Польза есть высшая идея; "ничего нет выше, как быть
полезным"76. Перед этой идеей склоняется человеческая
любовь и поиски истины, расовая гордость,
национальность и религия. В результате смещаются и
уравниваются понятия: добро есть то, что полезно, зло есть то, что
бесполезно. Для Фомы Аквинского добро было одним из
аспектов бытия, единого, истинного и благого. Три его
вида (добро само по себе, польза и блаженство, о
которых мы говорили выше) не сосуществуют рядом друг
с другом, а образуют три различные ступени, единые в своей
216
основе. Подлинная цель желания — всегда добро само по
себе. Блаженство есть состояние, в котором человек
находится, достигнув цели или осуществив доброе дело. Полезное
относится к добру самому по себе как средство к цели.
В новое время эти соподчиненные виды добра были
рядоположены, как если бы речь шла о трех различных его
типах, а не о трех стадиях стремления к нему. К примеру,
Лейбниц, имея в виду взгляды Локка, рассуждает о добре
следующим образом: добро есть то, что годится либо для
того, чтобы вызвать или приумножить нашу радость, либо
чтобы уменьшить или прекратить страдание. Зло есть то, что
либо вызывает или умножает страдание, либо уменьшает
радость. И дальше Лейбниц замечает: я тоже такого мнения.
Добро разделяется на добро само по себе, приятное
(удовольствие), полезное; однако, в основе, я думаю, что оно
либо само должно быть приятным, либо чем-то таким
должно служить для других, вызывая в нас приятное чувство,
ибо добро либо приятно, либо полезно и добро само по себе
состоит в духовной радости77. Отсюда только один шаг
к устранению приятного или для перевода его на второй план
ради поддержания идеи полезного. Он был сделан Ф.
Бэконом и английскими эмпириками; добро как полезное
стало центральной идеей в теории Бентама и
утилитаристской школы, которую Достоевский хорошо знал.
Подобное отождествление делает все предшествующие
теории добра бессмысленными и бессодержательными. Что
такое благородное? "Я не понимаю таких выражений
в смысле определения человеческой деятельности. "Благо-
роднее", "великодушнее" — все это вздор, нелепости, старые
предрассудочные слова, которые я отрицаю! Все, что полезно
человечеству, то и благородно! Я понимаю только одно
слово — полезное*"7* Это говорит проникнутый писаревски-
ми идеями Лебезятников в "Преступлении и наказании".
Сторонник последовательного утилитаризма отмечен тем,
что любую идею, идеал, все вещи и людей может или хочет
оценивать только по их пользе, не размышляя о том,
возможна ли от них немедленная польза. "Утилитарист
наивен... — писал Ницше. — Конечно, мы должны знать,
что именно полезно; но здесь их взор продвигается только
на пять шагов"79. Утилитаристы отвергают, например,
монашество, так как оно не приносит пользы обществу, они
отвергают произведения Рафаэля и поэзию Пушкина,
поскольку они не имеют потребительской стоимости. По
этой мерке оценивается и человек.
217
Когда Фома Аквинский поместил полезное на
промежуточное место, он ухватил тем самым неизменную особенность
полезного, которую не могли снять утилитаристы. Полезное
или выгода, считал Достоевский, никогда не могут стать
конечной целью воли; они служат чему-то. Тем не менее
можно сложным путем прийти к тому, чтобы считать их за
действительную конечную цель. Человек обычно старается
получить выгоду, используя ее для увеличения имущества (в
деньгах или вещах) или для умножения наслаждения. Но
теперь, отмечает Достоевский, все иначе: доход используется
для того, чтобы получить более высокую прибыль. Это
становится самоцелью. Не Гарпагон и его сундук с деньгами
— герой времени, а тип новейшего буржуа — Ротшильд.
Прибыль непрерывно инвестируется снова, машина работает
бесконечно, никогда не пользуясь этой прибылью. Нельзя
больше говорить о собственности в традиционном смысле,
так как она по большей части состоит из средств
производства, которым многое требуется. Достоевский видел усиление
этого процесса в современных больших городах Европы.
Лондон казался ему единым существом, которое сбило
в единое стадо множество людей со всего мира."Все это так
торжественно, победно и гордо, что вам начинает дух
теснить"80. Если это массовое существо действует по закону
прибыли и безжалостно к потребностям отдельного человека,
то ведь последнему нужно иное целеполагание, которое может
дать ему точку опоры. Такая цель есть — это собственность
и потребление. В жизни отдельного человека подобной цели
служит польза — причем только она является самоцелью
в существовании общества. Материальные и чувственные
потребности выступают на передний план; потребность в их
удовлетворении не принимает нравственных запретов.
Обладание вещами или деньгами есть единственная цель среднего
буржуа. Он постоянно озабочен тем, как бы приумножить свою
собственность, не видя в этом стремлении ничего плохого. Ныне
все охвачены жаждой денег, как будто ума лишились. Но в этом
стремлении к собственности таится большая опасность. Многие
герои Достоевского надеялись на силу богатства, которое даст
им могущество, защитит от нужды и позволит достичь всего,
что они хотят. Деньги сглаживают неравенство, и в этом их сила:
аристократическое происхождение, призвание и сам талант
уравновешиваются богатством.
Деньги служат удовлетворению потребностей, которые,
измеряясь масштабом пользы, оказываются на низком
уровне, так как идеалы чести и добра самого по себе теперь
218
лишены значения. Любой человек обладает равным правом
иметь потребности и их удовлетворять. Но свободен тот, кто
располагает средствами, чтобы удовлетворять их
независимо от других людей. Богатство помогает не только этому, но
и умножению потребностей, и в этом последнем видят
подлинный прогресс культуры81. Понимая свободу как
приумножение и скорое утоление потребностей, искажают
природу свою, ибо зарождают в себе много бессмысленных
и нелепейшиих выдумок. "Живут лишь для зависти друг
другу, для плотоугодия и чванства. Иметь обеды, выезды,
экипажи, чины и рабов-прислужников считается уже такой
необходимостью, для которой жертвуют даже жизнью,
честью и человеколюбием, чтобы утолить эту
необходимость, и даже убивают себя, если не могут утолить ее. У тех,
которые небогаты, то же самое видим, а у бедных неутоление
потребностей и зависть пока заглушаются пьянством. Но
вскоре вместо вина упьются и кровью, к тому их ведут"82.
На пути к власти буржуазный мир провозгласил свободу,
равенство и братство как свои идеалы. На самом деле все эти
идеалы предназначались лишь для собственников. Только
тот, кто имеет собственность, свободен, т. е. "в рамках закона,
а иногда и за их пределами, он может делать все, что угодно".
Равенство (политическое и правовое перед законом) было
осуществлено не полностью, как свидетельствует о том
избирательное право. Братства же вообще не существует: этот
идеал во всем противоречит принципу выгоды, ибо она всегда
есть выгода только для индивида. Считается, что братство
необходимо, если жизнь не превращать в "борьбу всех против
всех"; тогда можно создать братство. Ж. Ж. Руссо хотел бы,
чтобы жизнь общества была так устроена, когда "каждый,
соединяясь со всеми, подчиняется, однако, только самому
себе и остается столь же свободным, как прежде"83. Пытались
подвигнуть человека к совместной жизни, соблазняя его, что
тем самым он может больше приобрести. Бентам утверждал,
что выгода индивида совпадает с выгодой для общества.
Затем последовали либеральная и социалистические теории,
отдавшие предпочтение общественной жизни. Обе не верили
в общественное значение братства, вытекающего из
естественной нравственности. От любви к ближнему, по их мнению,
следует отказаться, так как она неспособна решить
существенные социальные проблемы84.
Экономический либерализм исходит из самолюбия
и эгоизма как основания воли. С его точки зрения, любой
поступок служит эгоистическим целям, даже если он кажет-
219
ся в высшей степени альтруистическим. Любое социальное
стремление основывается на личном интересе. Именно
индивид своим благосостоянием косвенно содействует
всеобщему благополучию (А. Смит). Само эгоистическое
стремление индивида к приобретению является величайшим
источником милосердия, ведущего к благополучию всех или,
насколько возможно, многих. Тем самым пытались
преодолеть якобы ложное представление о милосердии как лишь
личного нравственного поступка. Любая экономическая
деятельность служит не только индивидуальным, но и
общественным интересам; потребности соотносятся друг с
другом в свободном хозяйственном общении и становятся
источником жизни для человечества.
Социализм тоже исходит из того, что эгоизм и
стремление к личной выгоде являются единственной целью человека.
Он также признает только материальные цели. Но он хочет
точно подсчитать результаты, распределить права и
обязанности с помощью государства, искусственно ввести
равенство и братство. Первое мероприятие социализма состоит
в лишении собственности собственников. Тем самым он
привлекает к себе массы, призывая либо к открытому
грабежу, либо к разделу имуществ. Установленное таким
путем равенство должно затем охраняться и поддерживаться
государством, которое присваивает любой доход, а затем
распределяет его равномерно в соответствии с трудовым
вкладом. Здесь буржуазная концепция последовательно
продумана до конца, когда свобода индивида заменяется
введенной государством необходимостью, в итоге связанной с
идеей пользы и причинности. Социалистическое государство
есть не что иное, как завершенное государство буржуазное.
Свобода, равенство и братство предстают как громкие
фразы; идеи выгоды и причинности сохраняют здесь все
свое значение. Вместо братства выдвигается принцип:
любая общность существует исключительно для меня. Человек
при таком порядке вещей отвыкает думать о своих
ближних, о человечестве и больше не верит в помощь близких85.
Под влиянием этих идей начинают все больше
стыдиться прежней морали; исчезает способность понимать, что
означали прежние добродетели. Им придается значение
всего лишь театрализованного зрелища. Буржуа
восхищается в театре тому, чему он больше не верит; только
в театре он еще почитает добродетель.
С победой буржуазии во французской революции она на
миг поверила, что достигла всего. Но картина изменилась
220
с появлением "четвертого" сословия. Буржуазия как
социальный слой поняла, что ей угрожает опасность уничтожения со
стороны социализма. В самом организме буржуазного
общества возник неизбежный конфликт. Принцип выгоды требовал
безудержного индивидуализма, в то время как принцип
причинности исключал какую бы то ни было свободу:
социалисты хотели определить поведение волей государства,
либералы это отвергали. Их девиз: "Каждый за себя, один Бог
за всех". Они защищали последовательный индивидуализм.
Но так как многие одиночки сплошь и рядом оказываются
более счастливыми конкурентами, люди объединяются,
чтобы совместными усилиями достичь того, чего они не могут
одни, начинается классовая борьба, которая ведется двумя
буржуазными группами, духовные силы которых
формируются на одних и тех же фундаментальных идеях, но с другими
конечными следствиями. Обе партии по своей природе не
в состоянии прийти к компромиссу главным образом потому,
что они обращаются к разным принципам. Выгода требует
защищать принцип индивидуализма до конца. Следствием
этого является стремление господствующей группы укрепить
свое положение любыми средствами, в том числе и с
помощью насилия. Побежденный повержен. Свобода
превращается в господство. Здесь вводится уже право сильнейшего
и полное господство насилия; принцип пользы заменяется
принципом власти. Демократия превращается в диктатуру.
Такое развитие неизбежно, если общество руководствуется
только принципом пользы (выгоды) и причинности. Каждый
выступает против каждого и любыми средствами
обеспечивает собственную выгоду. Моральные скрепы больше не
принимаются во внимание. Господствующая группа отождествляет
себя с существованием общества ("Государство — это я"),
угнетает побежденных и вводит новейшее рабство.
Буржуазия, осознающая и начавшая осмыслять такое развитие,
становится равнодушной к будущей участи общества. Она
хочет только замедлить его изменение, насколько это
возможно, чтобы при жизни получать прибыль и наслаждаться ею.
Торговец, который знает, что после его смерти дело погибнет,
тем не менее остается к этому равнодушным и думает только
о собственном благополучии в своей ограниченной жизни.
"Вот поторгую сегодня маленько в лавочке, да Бог даст
завтра опять поторгую, может, и послезавтра... Ну а там,
а там, только бы поскорее накопить хоть крошечку, и—apres
moi le deluge! [после меня хоть потоп!]"86 - — так рассуждает он.
Нигилизм есть последнее прибежище буржуазии.
221
Идея
власти
Каким образом рассматривал
Достоевский "волю к власти"?87 Мы знаем
его утверждение, что
индивидуальное или коллективное стремление к выгоде ведет к
насилию, если обычные средства "не работают". В этом
случае слабейшие в состоянии объединиться против
сильных мира сего и в борьбе осуществить свою цель. Когда
принцип пользы получает всеобщее признание, должна
появиться и философия, которая представляет идею
власти. А. Лохвицкий в свое время указал, что еще до
создания Раскольниковым его теории другие герои
"Преступления и наказания" — Лужин, Свидригайлов и т. д.
— вели себя в соответствии с ее принципами88.
Власть всегда является властью над кем-то или чем-
то. Воля к власти есть стремление к господству над
человеком. Следовательно, кто хочет власти, должен
стать враждебным к тем, кого он хочет подчинить,
и именно во имя каких-то интересов — просвещения,
расы, класса, сословия и всего остального. В конечном
счете власть основывается на немногих
основоположениях, подтверждающих ее притязания: а) большая сила, б)
более высокая ценность, в) соотнесение ее с высшей
объективной волей ( Бога, природы и т. п.).
Обоснование власти силой, считал Достоевский,
является наиболее примитивным случаем. Конечно, власть
покоится всегда и только на силе. Эта сила дана ей не за
ее заслуги, а естественно сложившимися отношениями.
Соотношение сил в любое время может изменяться. Как
только господствующую силу превзойдут, имеет место
смена власти. Поэтому те, кто стремится к овладению
или удержанию власти, вынуждены обращаться к иным
ее обоснованиям.
Попытки обосновать власть высшими ценностями
или ее согласованностью с объективной
сверхчеловеческой волей являются более глубокими и основательными.
Если исходят из различения ценностей (все равно, как
это обосновывается), то в конце концов приходят к раз-
222
делению людей на господ и рабов. Последним
отказывают в праве на достойное существование; при этом
властители рассматривают себя как "сверхчеловеков"
и шельмуют подданных как нелюдей или животных.
Если согласиться с наличием объективной
сверхчеловеческой воли, то людей нужно разделить на тех, для кого
эта воля понятна и исполнима, и тех, кому она
противостоит и недоступна. Такое разделение можно
обосновывать различным образом, либо апеллируя (как в
некоторых случаях ошибочного понимания христианства) к
Божьей воле и предопределению, либо (как, например,
в современном марксистском социализме) — к
согласованности с прогрессивной тенденцией развития материи.
Оба эти подхода Достоевский ясно осознавал и сам
обсуждал эти идеи, ничего не зная о более поздних
концепциях Ницше. Идея сверхчеловека была четко
сформулирована в "Преступлении и наказании", теория
конформизма с ее объективной исторической волей — в
теории Шигалева в "Бесах".
В теории Раскольникова следует различать несколько
уровней. Сначала он выступает с притязанием на
сверхчеловечность через силу, затем в духе полуконформизма
связывает это понятие с прогрессивным историческим
развитием и, наконец, с глубокой проницательностью
— единственно и только с освобождением от
нравственного закона.
Рассмотрим сначала его обоснование насилия. "Я
узнал... что если ждать, пока все станут умными, то
слишком уж долго будет... Потом я еще узнал, что никогда
этого и не будет, что не переменятся люди и не
переделать их никому, и труда не стоит тратить! Да, это так!
Это их закон..."89 Подобная мысль представлена
и в "Братьях Карамазовых": "Ввиду закоренелой
глупости человеческой это, пожалуй, еще и в тысячу лет не
устроится, то всякому, сознающему уже и теперь истину,
позволительно устроиться совершенно как ему угодно, на
новых началах"90. Дальнейшая аргументация
Раскольникова такова: "Я теперь знаю, что кто крепок и силен
умом и духом, тот над ними и властелин!"91 Сила
понимается здесь не биологически, не как свойство расы или
породы, а исключительно как природная сила воли и
рассудка. Биологической теории сверхчеловека нет у
Достоевского. Он был достаточно прозорливым, чтобы
понимать, что сила воли не может основываться только на
223
расе или сословности. Конечно, есть Ставрогин, —
персонаж в произведениях Достоевского, пожалуй, с
наибольшей силой воли — дворянин, но причины этой силы не
следует искать в его происхождении.
На втором уровне обоснования выделяются люди
"необыкновенные", способные "сказать новое слово",
провозгласить спасительную идею и исполнить ее, сделать
открытие, добиться успеха в труде и творчестве и т. д.,
короче, они движутся впереди всех к великой цели.
"Обыкновенные" же люди для того только и существуют на
свете, чтобы стать материалом для истории,"понатужить-
ся и породить наконец на свет ну хоть из тысячи одного
хотя сколько-нибудь самостоятельного человека"92. Так
говорит Достоевский, отчетливо выражая гегелевское
различение ведущих и ведомых народов."Обыкновенные"
люди — "консервативные, чинные, живут в послушании
и любят быть послушными"93. Короче, они подчиняются
нравственному закону и радостно ему следуют. Если же
они его нарушают, то воспринимают свой поступок как
преступление. "Необыкновенный" же человек подчиняет
их своей воле и требует от них повиновения."0, как
я понимаю "пророка", с саблей, на коне: велит Аллах,
и повинуйся "дрожащая" тварь! Прав, прав "пророк",
когда ставит где-нибудь поперек улицы хор-р-рошую
батарею и дует в правого и виноватого, не удостоивая даже
и объясниться! Повинуйся, дрожащая тварь, и — не же-
лай, потому — не твое это дело!..94 Если обыкновенные
люди, лишь поднатужившись, соединенными усилиями
способны породить человека "необыкновенного", одного
из тысячи, то гениальные люди рождаются один на
миллион, а великие гении — по истечении многих поколений на
Земле. Масса почти никогда не признает права такого
сверхчеловека на какой-то особый, свой собственный путь,
не соответствующий существующему порядку. Таких
судят, казнят и вешают, что не мешает следующим
поколениям ставить казненных на пьедестал и поклоняться им.
Но если у сверхчеловека достаточно силы воли и власти,
его коронуют и объявляют благодетелем человечества.
Необыкновенные люди вовсе не всегда и совсем не
обязательно творят всякие бесчинства и преступают
закон, как им понравится. Еще неправильнее было бы
сказать, что они должны или даже обязаны это делать.
"Необыкновенный" человек просто имеет право
разрешить своей совести переступить через иные препятствия
224
единственно в том случае, если исполнение его идеи того
потребует. "По-моему, если бы Кеплеровы и Ньютоновы
открытия вследствие каких-нибудь комбинаций никоим
образом не могли бы стать известными людям иначе как
с пожертвованием жизни одного, десяти, ста и так далее
человек, мешавших бы этому открытию или ставших бы
на пути как препятствие, то Ньютон имел бы право,
и даже был бы обязан... устранить этих десять или сто
человек, чтобы сделать известными свои открытия всему
человечеству"95.
Из этого не следует, что нужно убивать любого человека,
который стоит на пути. Но все великие водители
человечества, от Ликурга до Солона через Мухаммеда и Наполеона
ради обновления мира были преступниками уже потому,
что, давая новый закон, тем самым нарушали древний,
свято чтимый обществом. Они "уж конечно, не
останавливались и перед кровью, если только кровь (иногда совсем
невинная и доблестно пролитая за древний закон) могла им
помочь. Замечательно даже, что большая часть этих
благодетелей и установителей человечества были особенно
страшные кровопроливцы"96. Масштаб права на преступление
измеряется масштабами обновления, которые
осуществляются при этом. Выходящие из колеи люди, "способные
сказать что-нибудь новенькое, должны, по природе своей,
быть непременно преступниками...". Они не только
обновители, но и разрушители, уничтожающие какую-то часть
настоящего во имя будущего. Они говорят людям новое
слово, они двигают мир и ведут его к цели97.
"Необыкновенный" человек — господин будущего. Но когда эти люди
добиваются власти, возведя свою волю в закон, они судят
и казнят идущих им на смену обновителей.
Интересно, что в этих размышлениях не различаются
поведение и нравственный закон. Преступление
оправдывается творческой деятельностью, в конечном счете
обеспечивающей историческое развитие. Можно,
конечно, считать, что все это служит народу или каким-то его
слоям. В любом случае все оправдывается высшей
объективной волей— истории ли, человечества, объективным
ли законом или самим Богом. Эмансипированная от
обычного нравственного закона позиция все же
нравственно связана с некоторыми принципами поведения
человека "обыкновенного". Все же преступления случаются
здесь не ради личной выгоды, а ради других лиц,
человечества, либо ради власти, сверхчеловеческой по харак-
8 Райнхард Лаут 225
теру, принимаемой за объективную, либо ради идеи
и "прозрения". При этом речь идет о бесконечном
малодушии и непоследовательности современного человека,
который "без санкции и смошенничать не решится, до
того уж истину возлюбил"98. Предпосылки подобной
позиции легко узнаваемы: из-за собственного горького
опыта и суровой борьбы за существование здесь утрачена
вера в совершенный смысл бытия". Ее место заступает
негодование на то, что несмотря на выдающиеся
духовные и волевые силы необходимо воевать за жизнь,
изматываясь в этой борьбе. Господствует гнетущее чувство
из-за утеснения собственной свободы близкими и средой.
К примеру, Раскольников не верит больше в бессмертие
души: "Жизнь однажды дается, и никогда ее больше не
будет: я не хочу дожидаться "всеобщего счастья". Я и сам
хочу жить, а то лучше уж и не жить"100. Следствием
житейских неудач стала глухая ненависть ко всему миру:
"Да, я озлился... именно озлился (это слово хорошее).
Я тогда, как паук, к себе в угол забился"101. Возникшее
социальное напряжение привело, следовательно, к упадку
собственного Я, равнодушию и враждебности к миру.
Ненависть переносится на близких отчасти потому, что
они принадлежат этому ненавистному, насильственному
миру, отчасти потому, что у них нет мужества ему
противиться. Утверждение, что "обыкновенный" человек
— только "насекомое", постоянно используется при
оправдании воли к власти и сверхчеловечества.
Через Раскольникова Достоевский выявляет, однако,
еще один фундаментальный уровень. Обоснование идеи
сверхчеловека на этом уровне свидетельствует о
гениальной проницательности русского писателя. Он был
единственным, кто отбросил оправдание псевдонравственной
целью и показал другую, более глубокую основу
подобных притязаний. Достоевский последовательно
продумал до конца идеи Макиавелли и Наполеона: "Мне надо
было узнать... смогу ли я переступить или не смогу!..
Тварь ли я дрожащая или право имею..."102
Нравственность нельзя оправдать ничем, так как нравственного
закона нет вообще. "Вот они снуют все по улице взад
и вперед, и ведь всякий-то из них подлец и разбойник уже
по натуре своей; хуже того — идиот!"103 Кроме власти,
нет иного пробуждающего волю принципа, и подлинная
жизнь есть только борьба между людьми мощных воле-
ний. Не признающий этого — идиот.
226
Кто изображает из себя "необыкновенного" человека,
который действует ради великой в высшем смысле
нравственной цели, кто при этом стремится к справедливости
и пытается свести к минимуму свои преступления, кто
хочет быть самоотверженным и после "дурного" поступка
поддается угрызениям совести, тот не может быть
сверхчеловеком в конечном и высшем смысле. "Неужели ты
думаешь, — говорит Раскольников Соне Мармеладовой,
— что я не знал, например, хоть того, что если уж начал
я себя спрашивать и допрашивать: имею ли я право
власть иметь? — то, стало быть, не имею права власть
иметь. Или что если задаю вопрос: вошь ли человек?
— то, стало быть, уж не вошь человек для меня, а вошь
для того, кому этого и в голову не заходит и кто прямо без
вопросов идет..."104 Сверхчеловеку не нужны ни
сострадание, ни нравственные раздумья. Власть дается только
тому, кто посмеет наклониться и взять ее. Тут только
одно — стоит только посметь! Речь идет об овладении
властью не ради освобождения человека. "У меня тогда
одна мысль выдумалась, в первый раз в жизни, которую
никто и никогда до меня не выдумывал! Никто! Мне вдруг
ясно, как солнце, представилось, что как же это ни единый
до сих пор не посмел и не смеет, проходя мимо всей этой
нелепости, взять просто-запросто все за хвост и стряхнуть
к черту! Я... я захотел осмелиться... Вот вся причина!"105
Речь идет не о получении власти, чтобы
облагодетельствовать человечество; Раскольников убил для себя
одного. "Мне другое надо было узнать, другое толкало меня
под руки: мне надо было узнать тогда, и поскорей узнать,
вошь ли я, как все, или человек?.. Осмелюсь ли нагнуться
и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или право имею?"106
Здесь мы подошли к диалектике Раскольникова,
результаты которой совпадают с мыслями человека из
подполья. Последний в своей борьбе за свободу подошел
к точке, где он готов на разрушительный поступок, чтобы
иметь право действовать вопреки предписаниям закона.
Человек должен лишь осмелиться взять на себя это
право, и прежняя мораль тотчас же погибнет, уступив место
новой. Основания этого закона не выводятся больше из
якобы объективного долженствования, а полагаются
только собственной волей. "Кто на большее может
плюнуть, тот у них и законодатель, а кто больше всех может
посметь, тот и всех правее!"107 "Одно и то же
преступление, — писал Ницше, — может стать в одном случае
227
доблестью, в другом — клеймом"108. Кто готов спокойно
отвергнуть нравственный закон, тот тем самым
становится творцом новых моральных норм. Сверхчеловек
свободен от пут нравственного закона, он достигает
метафизической свободы от добра и зла, от вины и
неизбежного покаяния. Огромная вольность возносит к чему-то
великому его поступки, рассматриваемые
"обыкновенными" людьми как преступление. "Они сами
миллионами людей изводят, да еще за добродетель почитают"109.
"Настоящий властелин, кому все разрешается, громит
Тулон, делает резню в Париже, забывает армию в
Египте, тратит полмиллиона людей в московском походе
и отделывается каламбуром в Вильне"110.
Может быть, это ошибка? Может случиться, что
обыкновенный человек станет держаться как сверхчеловек?
Такое с обыкновенным человеком случается, но это не
имеет практических последствий. Об этом нечего
беспокоиться, потому что подобные люди, вообразив себя
передовыми "разрушителями", никогда далеко не шагают. После
временного увлечения они возвращаются на старый путь
и следуют нравственному закону, раскаиваясь и винясь.
Путаница в данной проблеме возникает при
романтически-эстетическом подходе. Представляется, что
преступление легче оправдать, если оно окружено идеалом
возвышенного, как, например, деятельность Наполеона.
Кажущаяся ее возвышенность не меняет, однако, ничего
в ее оценке. Все равно, стрелять ли из орудий в
восставшую толпу или шарить под кроватью ростовщицы,
чтобы забрать ее деньги. Уже сами размышления об эстетике
по этому случаю указывают на слабость идеи. "Не та
форма, не так эстетически хорошая форма! Ну я
решительно не понимаю: почему лупить в людей бомбами,
правильною осадой, более почтенная форма? Боязнь
эстетики есть первый признак бессилия!.. Никогда, никогда
яснее не сознавал я этого, как теперь'*111. Преступление
есть либо преступление (в соответствии с объективным
нравственным законом), безразлично, выглядит ли оно
прекрасным или санкционировано кем-то со стороны,
поскольку его нельзя оправдать, либо оно вовсе не
преступление (поскольку нет объективного нравственного
закона), и тогда вопрос о том, имело ли оно место или
нет, является бессмысленным.
Обоснование власти как сверхчеловеческой воли,
которое используется для оправдания идеи сверхчеловечес-
228
тва, разрабатывается в новейшее время особенно в
теориях политического социализма. Исходным пунктом этих'
взглядов является учение Гегеля, у которого история
выступает как диалектический процесс развития духа,
возвращающегося к самому себе, а также теория Сен-
Симона об историческом прогрессе, который ведет
общество к лучшему будущему. В обеих теориях
объективно-реальным силам придается большее значение, чем
отдельному человеку, гениальность которого они могут
использовать (безразлично, какие силы имеются при
этом в виду — дух, общество, материя или хозяйство).
Писарев, в частности, писал: "Человечество, по мнению
всех новых и новейших мыслителей, развивается и
совершенствуется вследствие коренных и неистребимых
свойств своей собственной природы, а никак не по
милости остроумных мыслей, зарождающихся в головах
немногих избранных гениев"112. Прогрессирующей
действительности — развивающемуся духу у Гегеля и
прогрессирующему обществу у Сен-Симона — ставятся
препятствия, возникает оппозиция прогрессивному
развитию. У Гегеля тезис и противостоящий ему антитезис
сливаются в синтезе:, противоречие движет миром. Но
у Маркса гегелевская схема изменяется. Развитие
материи (вместо духа) связывается не с движением тезиса
и антитезиса к синтезу, а с такими все более
обостряющимися противоречиями тезиса и антитезиса, которые
приводят одного из них к победе над другим и к его
уничтожению. Но побеждает всегда прогрессивная
тенденция развития материи и тем самым такие идеи духа,
которые связаны с ней. Ибо сам дух есть высший продукт
материи. Импульсы, получаемые духом от
развивающейся материи, двигают дух в форме идеальных тенденций.
Бытие определяет сознание. Маркс рассматривал
развитие материи как восхождение от простого к сложному, от
низшего к высшему. При этом идеология либо
способствует этому процессу, либо мешает ему и даже пытается
его уничтожить. Но в конце концов побеждают всегда
связанные с прогрессивным развитием материальные
производительные силы. Материя содержит в себе
принципы своего развития, она автодинамична, она
определяет, но неопределима. Дело человека, восстает ли он
против нее или действует вместе с ней.
Писарев в противоречии с теорией Раскольникова
писал, что отдельная личность, какими бы громадными
229
силами она ни была одарена, может сделать прочное дело
только тогда, когда она действует заодно с великими
общими принципами, то есть с характером, образом
мыслей и насущными потребностями данной нации113.
Тот, кто идет в ногу с развитием общества и обосновывает
свои притязания на власть исходя из этого, в ходе
революционной борьбы овладевает властью, чтобы обеспечить
дальнейшее развитие общества и сломать сопротивление
противников этого развития. В такой борьбе возникают
партии и группы, добивающиеся власти, которая после ее
захвата становится диктаторской. Заключительное
требование социалистической программы Шигалева гласит:
"Выходя из безграничной свободы, я заключаю
безграничным деспотизмом". Правда, оно стоит "в прямом
противоречии с первоначальной идеей", т. е. идеей свободы114.
Достоевский мог наблюдать такое развитие
социалистических идей. Прудон во время революции 1848 г. во
Франции заявлял, что "свобода" при необходимости
должна защищаться насилием даже против воли
большинства. И Белинский, говорят, в свои последние годы
заступался за деспотизм. Шигалевская идея состоит в том,
чтобы подчинить противоположные принципы с
помощью борьбы и насилия. Так как часть человечества
противится необходимому развитию, нужно передать власть
другой его части, признающей это развитие и способной
помочь его победе. Шигалев в этой связи предложил
следующее решение: человечество разделить на две
неравные части. Одна десятая часть получает свободу личности
и безграничное господство над остальными. Те же должны
потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при
безграничном повиновении достигнуть рядом
перерождений первобытной невинности, вроде как бы первобытного
рая, хотя, впрочем, и будут работать. Но возможен и
другой вариант: вместо рая можно было бы эти девять
десятых человечества взорвать "на воздух" и оставить
"только кучку людей образованных, которые и начали бы
жить-поживать по-ученому"115. Но так как это
невозможно, следует ограничиться так называемым раем земным.
Поддержание нового порядка осуществляется путем
шпионства: каждый член общества смотрит за другим и обязан
доносом служить планомерному последовательному
искоренению инакомыслящих. Но прежде всего среди
подданных должно быть реальное равенство. Значение этой
проблемы в социальной системе подчеркивал еще Прудон.
230
Достоевский в шигалевщине стремился показать
всеобъемлющие и существеннейшие средства для
достижения такой цели. "Первым делом понижается уровень
образования, наук и талантов. Высокий уровень наук
и талантов доступен только высшим способностям, не
надо высших способностей! Высшие способности всегда
захватывали власть и были деспотами. Высшие
способности не могут не быть деспотами и всегда развращали
более, чем приносили пользы; их изгоняют или
казнят"116. Таков необходимый результат властвования,
основанного на конформизме, на признании лишь
динамических тенденций развития общества.
Если бы прогресс был непрерывным, победившая
в революции группа должна была бы через какое-то
время вступить в борьбу с идущей ей на смену,
защищающей идею прогресса. И каждый раз игра повторялась бы.
Но тот, кто пришел к власти, хочет ее сохранить. А это
было бы возможно лишь в том случае, если бы власть
постоянно сопрягалась с прогрессом, т. е. могла бы
пересматривать свою теорию и практику в соответствии с
изменившимися обстоятельствами. Энгельс понимал, что
следствия столкновений противоположных интересов
с действительностью могут далеко увести от
поставленной цели. Маркс предлагал преобразовывать
социалистическое учение по мере общественных изменений, но
в конце концов нашел другой выход: в бесклассовом
обществе диалектический процесс истории завершится
и успокоится. Таковы попытки любой ценой оправдать
сохранение за собой полученной власти. Однако,
поскольку осмысление ситуации сплошь и рядом
противоречит действительному ходу дел, политическим
социалистам не остается ничего иного, как поддерживать свою
диктатуру с помощью деспотизма, и он застревает на
фазе диктатуры пролетариата. Те, кто превратились в
избранных представителей исторической воли (или какой-
либо иной сверхчеловеческой власти), все больше теряют
почву под своими теоретическими убеждениями. Их
власть основывается в конечном счете исключительно на
самой власти. Напрасно Прудон считал социалистов
противниками политиков117. Ставрогин правильно говорит
Верховенскому, представителю политического
социализма: "Вы, стало быть, и впрямь не социалист, а...
политический... честолюбец"118.
Земная власть
избранных.
Бунт против Бога
Завершенная система власти начертана
в "Братьях Карамазовых" главным
образом в "Легенде о Великом
инквизиторе", но не только в нем. Здесь сочетаются идеи
сверхчеловека и диктатуры. Для нас особое значение
имеет тот факт, что исходным пунктом для обоснования
этой идеи является фундаментальное убеждение в таких
человеческих свойствах, которые неизбежно приводят
к безграничному господству и насилию. Политический
социализм в попытке организовать жизнь в
определенных формах потерпит поражение, поскольку он не учиты-
. вает человеческую природу. Когда материальные
потребности рассматриваются как самые существенные для
общественной жизни, это является заблуждением или
обманом, ибо человеческая природа не ограничивается
лишь такими запросами. Проблема организации
человеческого общества не сводится к вопросу только о хлебе.
Однако социалист, по существу, не признает иных
потребностей у человека, не отвечая ни на один из тех
коренных вопросов, которые волнуют человечество,
отбрасывая их в сторону. Но если он не в состоянии дать на
ф них ответ, как социалисты могут решить проблемы пере-
* устройства общества?
Для разрешения общественных проблем необходимо
прежде всего во всей полноте выяснить потребности
и природу человека. Каковы его фундаментальные
потребности? Общественная программа должна учитывать
совокупные потребности как отдельного человека, так
и человечества в целом. Можно выделить для начала две
большие группы потребностей — материальные, которые
Достоевский называет потребностью в хлебе, и духовные
— потребности в идее, свободе и др. Конечно, можно
спорить о том, какие из них существеннее. Достоевский
придавал духовным потребностям большее значение,
хотя и признавал также, что видимость свидетельствует
о другом. Особенностью духовной жизни XIX в. было
значительное преувеличение роли материальных потреб-
232
ностей. Многие мыслители даже задолго до того были
готовы не признавать вообще значение духовных
потребностей. Из этого исходили, в частности, фцдософы
барокко (Гоббс и др.). "Стук телег, подвозящих хлеб
голодному человечеству, может быть, лучше спокойствия
духовного"119 — вот их исходный пункт. Именно в этой
связи они не признают также и значение нравственного
закона: преступления нет вообще, только 1ч>лод120. С
утолением голода исчезнет сама по себе и склонность к
преступности. Отсюда — требование: "Накорми, тогда
и спрашивай с них добродетели!"121
Но здесь речь идет о слишком узком понимании
потребностей человечества. Конечно, ради хлеба оно
восстает против духовных, высших ценностей, ради хлеба
оно покинуло Христа и поднялось против него. И все же
эта мечта о хлебе второстепенна; она имеет значение
великой лишь для определенного момента: человек
наедается досыта и больше о ней не думает, он тут же задает
вопрос: ну, я наелся, что же мне теперь делать? Вопрос
вечно остается открытым. Утоление голода не
умиротворяет человека; оно само собой разумеется, как
здоровье в нормальном состоянии, как базис для более
высокой деятельности. Эта проблема оказывается уязвимой
и в другом отношении: примат материальных
потребностей умаляет значение нравственного закона.
Нравственное поведение понимается при этом как воля общности.
И если не существует объективно-нравственный долг,,
легко можно прийти к такому положению, когда те, кто
делят хлеб, без малейших угрызений совести отказывают
другим в хлебе, даже если его достаточно. В результате
люди отдают свою свободу посвященным, которые
станут повелевать ими, а они слепо станут им повиноваться
только для того, чтобы те накормили их. Только тогда
о*га вдоволь получат "хлеб земной"122.
Духовная потребность точно так же нуждается в
удовлетворении, как и материальная. Можно сказать, что
люди не могут существовать без почитания своих
духовных потребностей, без веры. Эта духовная
потребность в теории Ивана Карамазова может быть
удовлетворена лишь отказом от свободы. Ибо людей больше
всего беспокоит совесть, они не могут жить пЪд бременем
вины. Они стремятся умиротворить ее, но сами сделать
это не в состоянии. Поэтому "нет у человека заботы
мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее
233
тот дар свободы, с которым это несчастное существо
рождается"123 и кто способен успокоить его совесть. Тем
самым люди передают решения совести другим, более
сильным, жертвуют своей собственной свободой и
никогда больше не дерзают принимать решения о том, что есть
добро и что есть зло и как они должны себя вести.
А затем они обязаны только исполнять возложенные на
них предписания, освобождая себя тем самым от мук
принятия новых решений.
Порыв к покою совести столь велик, что и хлеб
насущный может отступить на второй план: "дашь хлеб,
и человек преклонится, ибо ничего нет бесспорнее хлеба,
но если в то же время кто-нибудь овладеет его совестью
помимо тебя — о, тогда он даже бросит хлеб твой
и пойдет за тем, который обольстит его совесть... Тайна
бытия человеческого не в том, чтобы только жить,
а в том, для чего жить"124. Без цели человеку трудно
примириться с жизнью и он "скорей истребит себя, чем
останется на земле, хотя бы кругом его все были
хлебы"125. Для человека свобода совести — самая большая
ценность, но в то же время она и мучает его. Ему нужны
твердые основы для ее успокоения.
Иван Карамазов называет их: "Есть три силы,
единственные три силы на земле, могущие навеки победить
и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков, для
их счастия, — эти силы: чудо, тайна и авторитет"126.
Христос отверг их, когда умный и лукавый дух поставил
его на"крыле храма" (Мф. 4: 5—7) и когда он не
уклонился от своего крестного пути (Мф. 27: 40—44).
В мучительные, страшные моменты своей жизни, когда
человек жаждет ответа от Бога на свои душевные вопросы,
он сомневается в чуде, не получая ответа. Но выше сил
человека оставаться без веры в Бога, без его указаний. Он не
может пребывать в постоянном страхе, не зная, слышит ли
его Бог. Усомнившись в чуде, в которое доселе верит, он
теряет вместе с этим сомнением и веру, "ибо он ищет не
столько Бога, сколько чуда". Многие только из
неспособности поверить в сообщаемые евангелистами чудеса отпали
от веры. По Достоевскому, такое сомнение привело даже
к возникновению протестантизма, отрицающего чудеса.
Но человек не может жить без чуда. Поэтому он
обращается к суевериям — к знахарскому чуду, к бабьему
колдовству, даже если считает себя вполне просвещенным127. Дайте
усомнившемуся чудо, и он избавится от неверия.
234
Стремящиеся успокоить свою совесть люди столь же
страстно жаждут тайны, принимая ее за истину и слепо
ей повинуясь,"даже мимо их совести"128, ибо
человеческий разум создан таким образом, что человек постоянно
не верит в себя, собой недоволен и склонен считать свое
существование недостаточным. С другой стороны, людей
мучает неопределенность и нечеткость веры. Поэтому
они хотят возвещения истин, которых нельзя узреть с
помощью рассудка, которые для него остаются тайной
и воспринимаются как догма. Люди жаждут
нравственных предписаний, которые даются им такими же
людьми, но хранящими скрываемую ими тайну откровения.
При любом случае они благоговейно преклоняются перед
тайной и готовы слепо повиноваться предписаниям,
которые им дадут. Ибо здесь они найдут твердую опору
и освободятся от ответственности перед даром свободы.
За тайной стоит авторитет, авторитет духовный. Ибо
если за тайной стоят люди, знанию, авторитету и
святому покровительству которых не доверяют, вера в тайну
существенно подрывается. В сфере духовной — еще
более, чем в материальной, — люди хотят опереться на
высшую инстанцию, которая способна разрешать их
сомнения. В эпоху Достоевского эту миссию взяли на себя
положительные науки, от которых ожидали решения
теоретических и практических проблем. Но придет время,
когда люди поймут, что наука к этому неспособна, что
позитивизм в его попытках определять практическое
поведение есть не что иное, как плоская научная
религиозность; что наука ведет к гибели и взаимному
уничтожению. Тогда люди не станут больше ни трепетать перед
чудом "огня с неба" (Откр. 13: 13), т. е. перед чудесами
техники, ни признавать приоритет науки, поскольку они
так ужасно будут ею обмануты. Они преклонятся перед
властью такого авторитета, который утолит их не только
материальные, но и духовные нужды, спасет от больной
совести.
Последнее "мучение людей"129 связано с поисками
всемирного соединения. Люди пребывают в
непоколебимом убеждении, что существует один нравственный закон
и только одна истина. Соединения же людей можно
достигнуть только властью, в руках которой ключ к
утолению всех человеческих потребностей. Человечество
можно умиротворить лишь тогда, когда его поведут, как
послушное стадо.
235
Все эти потребности свойственны человечеству в
любой период его истории, есть они и у каждого человека,
хотя некоторые из них могут и не проявляться. Иван
Карамазов в своем "историческом обзоре" называет
людей слабосильными бунтовщиками, которые "не могут
быть никогда и свободными, потому что малосильны,
порочны и ничтожны"130; они жадно стремятся к
утолению своих потребностей, им совершенно невозможно
жить без этого. Но люди ценят также и свободу, но не
приумножают ее, так как они страшатся и не могут ее
переносить.
Главная идея Ивана Карамазова состоит в
обосновании власти избранных, знающих ее законы и тайны. Эта
власть заботится не только о "хлебах", она также
успокаивает совесть, дает исполненную тайны идею,
сакральный авторитет и всеобщее единение. Особое значение при
этом имеет сакральность власти: только она обладает
необходимым духовным авторитетом, только она может
утверждать, что способна удовлетворить духовные
потребности человека. "Мы — атеисты и имморалисты,
— писал Ницше, — но мы поддерживаем прежде всего
в религии и морали стадный инстинкт: именно в них
подготавливается такой тип человека, который попадет
к нам, который жаждет этого"131.
Новая система господства служит двум целям: она
дает человеку мир и покой, единственно возможный в его
земном бытии; она служит гордому мятежу избранников
против Бога. Людская масса при этом опускается до
примитивного стадного существования и теряет
личностное начало. Людям дается счастье и сознание
невиновности; у них нет больше свободы, но они пребывают
в вере, что они свободны, они счастливы тем, что отдали
свою свободу посвященным и слепо подчинили свою
совесть чужому авторитету. Нет больше революций и
истребительных войн, и люди могут передохнуть,
освободившись от страданий длительной борьбы. Получая
пропитание от власти, они ясно видят, что сами заработали
хлеб свой, что от них забирают его, чтобы им же раздать,
но они "воистину более, чем самому хлебу, рады... будут
тому, что получают его из рук"132 правителей. Их убедят
отказаться от своей гордости, им докажут, что они всего
лишь жалкие дети. "Мы заставим их работать, но в
свободные от труда часы мы устроим им жизнь, как детскую
игру, с детскими песнями, хором, с невинными пляс-
236
ками"133. Им разрешат и грешить, ибо большинству
людей трудно удовлетворяться нравственным поведением.
Им скажут, что грех будет искуплен, если он сделан
с разрешения повелителя. Ведь авторитет власти только
укрепится, если она пообещает взять на себя грехи этих
жалких созданий. "И не будет у них никаких от нас тайн.
Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами
и любовницами, иметь или не иметь детей... и они будут
нам покоряться с весельем и радостью"134. Все это можно
исполнить только во имя реального идеала, который
способен осуществиться лишь путем ужасающего
извращения Христова имени. Ибо нельзя обмануть людей
в том, что действительно свято и что есть живой идеал,
а что — нет. В Христе увидят они средоточие любви, они
поверят, что его любовь благословляет и их повелителей,
не почувствуют, что обмануты его именем и что их
склоняют к иной цели. Но в отличие от принадлежности
к истинной церкви Христовой невинная и радостная
жизнь в земном раю возможна без великой
устремленности. Ведь лишь немногие способны идти тернистым
путем истинного христианина, путе,м личностного
самосовершенствования и самопожертвования. Внешне это
царство во всем сопоставимо с Христовым царством, но
оно — всего лишь маска; оно служит совершенно
противоположным целям. Это царство "для всех" на самом
деле — для господства избранных, для счастливого
стадного существования маленького человека.
Оно восторжествует только тогда, когда люди
потерпят неудачу в мятеже против абсолютной свободы от
нравственного закона. В предшествующий этому
состоянию период люди будут жестоко сражаться друг с
другом, взаимно уничтожать друг друга и могут дойти даже
до людоедства. Потом они выберутся из этих пут,
пробудившись, как от дурного сна, и станут искать
миролюбивое земное царство. Вот тогда-то и будет положено
начало земному царству избранных. Прежние водители
человечества уничтожали слабых, нынешние же примут их,
подарят им мир, освободят их от страха уничтожения
враждебными силами и от невыносимого чувства
неисполнимости божественных заповедей.
Только "великие" люди, принявшие на себя земную
власть, будут знать истину и в этом своем знании станут
несчастными от сознания того, что должны жить в этом
бессмысленном мире. Они будут достаточно сильными,
237
чтобы нести бремя свободы, непосильное для обычных
людей, робких и слабых, с радостью преклоняющихся
перед сильными мира сего. По-своему властители будут
любить этих младенцев и дадут им единственно
возможное для этого бессмысленного мира счастье — они
подарят им счастье незнания. Они будут горды тем, что
воздвигнут такое царство, в котором, пока они приносят
себя в жертву, будут счастливы все, а не только
достойные, как в царстве Христовом. Эти люди облегчают
бремя бедных, слабых людей, так как они любят
человечество. Многие, кто усомнился в пути к истинному
царству Христову, удивятся их подвигу и присоединятся
к ним. И "будет тысяча миллионов счастливых
младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие
познания добра и зла"135.
Сильные люди, которые овладеют будущим
человечества, сделали свой выбор, поскольку их достоинство не
могло вынести жизнь в мире, смысл которого нельзя
понять. Они сделают последний шаг к абсолютной
свободе — свободе от Бога. Безразлично, есть Бог или нет,
они принимали решение по собственному желанию и
восставали против так называемого божественного порядка.
И хотя они ведут человечество к уничтожению личности,
однако на каждом шагу они обманывают людей "святой
ложью", чтобы они не замечали, к какой цели их ведут,
и чувствовали бы себя в пути счастливыми/Тихо угаснут
они во имя Твое и за гробом обрящут лишь смерть"136.
Подобные идеи Достоевский высказывал не только
в "Легенде о Великом инквизиторе", их можно встретить
и в "Преступлении и наказании". Любак правильно
говорит в этой связи о "спиритуальной эвтаназии" (euthanasie
spirituelle — духовной смерти)137. Но особенно четко
выражены конечные движущие мотивы властителей такого
рода в "Братьях Карамазовых". Они повязаны одной
ключевой идеей: бунтом против Бога. "Я принимаю
Бога, — говорит Иван Карамазов, — мало того, принимаю
и премудрость его, и цель его, нам совершенно уж
неизвестные, верую в порядок, в смысл жизни, верую в
вечную гармонию, в которой мы будто бы все сольемся,
верую в Слово, к которому стремится вселенная и
которое само "бе к Богу" и которое есть само Бог... Кажется,
уж я на хорошей дороге — а? Ну так представь же себе,
что в окончательном результате я мира этого Божьего
— не принимаю и хоть и знаю, что он существует, да не
238
допускаю его вовсе"138. Он также согласен с тем, что "в
мировом финале", в момент вечной гармонии явится
нечто до того драгоценное, что его хватит на искупление
всех страданий и грехов человеческих, так что можно
будет не только простить, но и оправдать все, что
случилось с людьми. Получается так, что мировые события,
несмотря на все противоречия и беды, исполнены смысла
во всем и для всех. Вот этого-то Иван Карамазов принять
не хочет.
Бог создал людей такого духовного склада, какого он
сам не ожидал. Человек, неспособный постигнуть
собственный смысл, при виде потрясений и страданий
приходит в отчаяние; мир видится ему полной бессмыслицей.
Особенно непростительны и грешны страдания детей.
"Пока еще время, спешу оградить себя, а потому от
высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит
она слезинки хотя бы одного только замученного
ребенка, который бил себя кулачонками в грудь и молился
в зловонной конуре своей неискупленными слезками
своими к "боженьке"!.. Но чем, чем ты искупишь их? Разве
это возможно? Неужто тем, что они будут отмщены? Но
зачем мне их отмщение, зачем мне ад для мучителей, что
тут ад может поправить, когда те уже замучены? И какая
же гармония, если ад..."139
Достоевский поставил здесь глубочайшие и
мучительные вопросы, которые и сегодня волнуют христианских
мыслителей; все они стремятся их решить. Ш. Пеги
посвятил страданию детей сочинение под названием "Тайна
св. Иннокентия", где говорится о боли и бессилии, о
неблагодарности, насилии и других бедах земной жизни,
которые вряд ли может уничтожить или облегчить вся
святость мира140. В другой связи ("Тайна святости
Жанны д'Арк") Пеги ставит проблему о вечном аде. Жанна
ужасается при мысли, что может быть вечное наказание
в преисподней. На ее вопрос об этом следует ответ мадам
Жервез (церкви): "Бог не хотел, чтобы адские страдания
служили спасению душ... И потому существует так много
напрасных страданий". Жанна хочет искупить страдания
грешников в аду. Ведь люди на земле не понимают, чему
служат эти страдания.
Из непонятности и бессмысленности страдания
невинных существ на земле и вечных мучений проклятых Иван
Карамазов заключает другое: бунт против Бога. Человек,
который ищет и не может найти смысла в этом мире,
239
поэтому и. не должен признавать за ним смысл. Он
говорит: "Лучше уж я останусь при неотомщенном
страдании моем и неутоленном негодовании моем, хотя бы
я был и неправ"141.
Человек может и должен отвергать смысл мира, так
как снятие божественного покрова, с которым
связывается наше представление о Боге, открывает нам образ
циничного, деспотичного и эгоистического существа.
Любить такого было бы унизительно и безнравственно. Мы
обязаны все наши высокие мысли направить против
мнимого смысла и фактической бессмысленности Бога. Мы
слишком высоко ценили гармонию, принесли ей слишком
большие жертвы, так что "проклятое добро и зло"
обходятся нам слишком дорого. Из всего этого Иван делает
практический вывод: "Не по карману нашему вовсе
столько платить за вход. А потому свой билет на вход
спешу возвратить обратно. И если только я честный
человек, то обязан возвратить его как можно заранее.
Это и делаю. Не Бога я не принимаю... я только билет
ему почтительнейше возвращаю"142.
Достоевский обнаружил подобную позицию не у кого
иного, как у Шиллера, который в своем глубоко
философском и оказавшем на Достоевского влияние
стихотворении "Resignation" ("Отречение") писал:
Моя весна прошла;
Безмолвный Бог, о, плачьте! преклоняет, —
Безмолвный Бог мой светоч погашает,
И греза отошла.
Я пред тобой, о, вечности равенство! —
У полных тайны врат...
Возьми свою расписку на блаженство:
Она цела — не знал я совершенства;
Возьми ее назад143.
Пока человек свободен и может разумно мыслить, он
постоянно будет восставать против бессмыслицы этого
"божественного мира".
Идея человека
и человечества
Человек, отвергнув Бога, часто
рассматривает себя как высшее
существо во вселённой. Еще чаще
случается, что человек, в практической жизни (сознательно или
бессознательно) гораздо чаще пытается встать на место
Бога, чем в теоретической деятельности, когда он
становится единственным средоточием философии. За
индивидом признается более высокое достоинство не только
перед Богом, нравственным законом и природой, но
и прежде всего перед его окружением.
Идея человека имеет особое значение в философии
Фейербаха, Достоевский часто обращался к ней.
Фейербах возвышает человека, доказывая, что именно он есть
создатель идеи Бога. Самое ценное в человеке есть то,
что он может думать и чувствовать, отчуждая себя,
связывая и объективируя себя в чужом лице (Боге). В таких,
условиях он твердо должен знать, что никто другой не
обладает этим качеством — только он сам. Бог является
для человека лишь идеалом. Однако отказ от Бога не
влечет, по Фейербаху, отказа от нравственного идеала;
напротив, он остается, но полагается человеком. Человек
существует, считал Фейербах, в единении с общностью.
К середине XIX века эти идеи пользовались широким
влиянием в Западной Европе и в России как среди
образованных людей, так и. в широких массах. Но на этой
концепции не остановились; начались систематические
попытки "освободить" людей и в другом отношении,
подвигнув их к последовательному индивидуализму.
В разделе об идее власти мы проследили, как
осуществляется отказ от нравственного закона, о чем десятилетием
позже хлопотал Ницше. Уже до того была поставлена
под вопрос укорененность человека в общности, когда
английские просветители начали объяснять, что
утилитаризм и эгоизм суть единственные побудительные
факторы человеческой воли (Т. Гоббс и др.). В XIX в. все эти
попытки объединились в философской концепции
радикального индивидуализма. В Германии М. Штирнер по-
241
шел дальше Фейербаха, он видел в человеке
расплывчатую абстрактность и в центре мироздания ставил
лишенную связей своевольную личность.
В "Записках из подполья" представлен
индивидуалист, который не только не уступает штирнеровскому, но
даже превосходит его. Примечательно, что носитель этой
философии ("подпольный человек") обозначается как
представитель "еще доживающего поколения".
Достоевский хочет выявить, почему такой человек должен был
появиться "в нашей среде"144.
Следует отметить, что радикальный индивидуализм
основывается на социальном разобщении. Собственная
личность отграничивается и полностью обособляется от
других людей. Причины для этого различны, но чувство
превосходства над массой в первую очередь связано с
отвращением к людскому легкомыслию, к
бесчувственности, неспособности к правильным суждениям, а также
к униженности людей, вытекающей из их личной
слабости, уродства, заброшенности и т.д.
Первая реакция индивидуалиста состоит в попытке
укрыться в одиночестве: "...уйду в свою скорлупу...
Спрячусь в нее, как черепаха", сравнение это очень мне
нравилось"145. Чтобы достичь этой цели, человеку необходимо
освободиться от каких бы то ни было связей с другими
людьми. Здесь выражается сильнейшее стремление "к
самосохранению, самопромышлению и
самоопределению в своем собственном Я "146. К этому добавляется
стремление искать свое счастье только у себя самого,
принимать полноту жизни для одного себя, чувство
жизни измерять лишь своим собственным опытом. Если
достичь этого, то индивидуалист может
противопоставить свое Я всему — природе, обществу, другим людям.
В бытии своей персоны он будет признавать только свои
личные устремления, не рассчитывая на помощь людей
и их человеческие качества, направляя все свои надежды
на себя одного.
Но внешняя свобода не есть еще свобода внутренняя,
и, несмотря на всю внешнюю независимость, человеком
в конце концов овладевает болезненное самолюбие, и он
вынуждается к переоценке собственного Я. Это состояние
почти всегда связано с чувством обиды и ущербной
самооценкой, причиной которых является позиция
окружающих. Поэтому в отношении к своему окружению человек
стремится избегать всего, что может повести к уничиже-
242
нию его личности, и, напротив, унизить, подавить,
подчинить (в моральном смысле) других людей. Все эти
побуждения обнаруживаются в поведении "подпольного
человека" и беспощадно им самим разоблачаются.
На чем покоится отделенность от общности — на
чувстве превосходства или униженности, — выявляется
ярче всего в том, боится человек быть смешным или нет.
В этом страхе обнаруживается тайная зависимость от
окружающих, страх перед их суждением и уязвленное
самолюбие. Эти чувства вытесняются и выходят на
поверхность чаще всего при столкновении с
действительностью. Тайный страх показаться смешным преодолевается
только в этической свободе или приводит к
разочарованности в жизни, уделом которой становятся скука и
равнодушие. Чем больше индивид поддается враждебному
отношению к людям, тем больше опасность вражды всех
против всех. "Все будет для каждого мало, и все будут
роптать, завидовать и истреблять друг друга"147.
Попытка избежать односторонней оценки подобной
ситуации породила мысль о том, что общественная
жизнь и при сохранении индивидуализма совместима
с разумным общежитием. Бентам высказал идею, что
наряду с индивидуальным утилитаризмом существует
и социальный. Рядом с эгоизмом выступает и альтруизм
как движущий фактор поведения. Ведь одиночка должен
понимать, что всеобщая польза выгодна и ему самому.
Бентам стремился обосновать необходимость
альтруизма, обращаясь к доводам разума: подчиненный
влечениям и чувствам индивид только путем разумного научения
может понять все выгоды альтруизма. Все пойдет к
лучшему, если люди примут в расчет, что максимальное
счастье для возможно большего числа людей является
в конечном счете лучшим решением для всех.
Однако Спенсер убежденно заявил, что одно только
разумное просвещение не способно побудить людей к
такой установке. По его мнению, альтруистическая позиция
может быть воспитана лишь общественной традицией.
Осуществление просветительской программы столкнется
с трудностями, ибо альтруистические чувства возникают
в процессе освоения опыта социальной жизни. Спенсер
признает наличие проальтруистических чувств. Сначала
индивид удерживается от своих эгоистических
склонностей страхом перед возмездием со стороны стада,
поскольку тем самым причиняет ущерб другим индивидам.
243
Затем он привыкает к социальной жизни с ее запретами
и ограничениями. И только потом возникают
альтруистические наклонности. Конечно, частично сохраняются
необузданные эгоистические импульсы, которые не
пользуются уважением в обществе. Но они не могут быть
устранены воспитанием одиночек, они преодолеваются
суровым жизненным воспитанием только в ходе
человеческого развития.
Опост Конт, отец позитивизма, ставит человечество
— "le grand etre" ("великое существо"), как он
почтительно его называет, — в центр своей картины мира еще
более последовательно, чем утилитаристы и Спенсер.
В соответствии с законом трех стадий развития
человечество, по Конту, стоит на пороге научной эры, которая
грядет на смену предшествующим философским и
теологическим учениям. Ложная идея Бога будет заменена
научным познанием фактов. Общественная жизнь
получит исчерпывающее объяснение с помощью новой
естественно-научной дисциплины — социологии. В прежние
времена нравственное поведение человека определялось
тем, что он исполнял волю воображаемого божества.
Люди создали его из эгоистического интереса, чтобы
достичь личного счастья и бессмертия. С развенчанием
идеи Бога религиозная мораль не может иметь никакого
значения. Конт при этом исходит из того, что в природе
человека имеются не только эгоистические, но и
альтруистические тенденции. В естественном состоянии
преобладают эгоистические. Человек пришел к совместной
жизни вовсе не из понимания собственной выгоды;
социальная жизнь существовала всегда. Индивид как
единичное существо есть более позднее явление общественного
развития. С развитием интеллекта и понимания того, что
человек по своему природному бытию взаимосвязан
с другими, альтруистические склонности стали сильнее.
Эгоизм все более осуждается, альтруизм
распространяется все свободнее. Нравственное правило в современную
эпоху должно поэтому гласить: жить для других. Из
рабов Божьих освобожденные люди становятся
служителями человечества. Место религиозных культов
заступает почитание самого человечества, которое должно
стать центром новой религии.
Достоевскому были известны эти теории. Он даже
продумал, какие возникнут следствия, если человечество
будет поставлено в центр наличного бытия и займет
244
место Бога. Дважды он обрисовал эту картину — в
кошмаре Ивана Карамазова (4-я часть, 11-я книга, 9-я глава
"Братьев Карамазовых") и как идею Версилова в
"Подростке". Речь идет о следующем: человечество отречется
поголовно от веры в Бога и бессмертие души.
Человечество "освободится" от всего этого, и "падет все прежнее
мировоззрение и, главное, вся прежняя
нравственность"148. Прежде люди жили под знаком проклятия, но
когда с этим будет покончено, они обретут, наконец,
покой. До той поры великая идея Бога была источником
сил, которые питали и грели людей. Но настает затишье,
и он отходит, "как то величавое зовущее солнце в картине
Клода Лоррена, но это был уже как бы последний день
человечества"149. Не получая от мироздания любви, люди
увидят, что погружены в мертвую ледяную
бесконечность, в которой они лишь ничтожные частицы
пространства, и они почувствуют свое великое сиротство.
"Исчезла бы великая идея бессмертия, и приходилось бы
заменить ее; и весь великий избыток прежней любви к тому,
который и был бессмертие, обратился бы у всех на
природу, на мир, на людей, на всякую былинку"150.
Краткость мгновения, какое остается им для любви, усилит
саму любовь. "Они стали бы замечать и открыли бы
в природе такие явления и тайны, каких и не
предполагали прежде, ибо смотрели бы на природу новыми глазами,
взглядом любовника на возлюбленную"151. Достоевский
как бы предвидел эпоху, возникшую уже после его
смерти, когда поэты и художники, прежде всего во Франции,
обратили к природе новый взгляд. "Потусторонность нас
не трогает, — поясняли они, — мы возвращаемся к
природе"152. Вспоминаются прежде всего художники,
которые в ярких полотнах выражали любовь к природе и
пытались показать в импрессионизме тончайшие контуры
пестрого земного мира; или поэты, которые нашли
поэзию в природе, в "земной пище"153.
В своем новом состоянии люди стали бы любить друг
друга еще сильнее. Они "спешили бы целовать друг
друга, торопясь любить, сознавая, что дни коротки, что это
— все, что у них остается. Они работали бы друг на друга
и каждый отдавал бы всем все свое и тем одним был бы
счастлив. Каждый ребенок знал бы и чувствовал, что
всякий на земле — ему как отец и мать... Они торопились
бы любить, чтоб затушить великую грусть в своих
сердцах"154. Утешаясь любовью друг к другу перед лицом
245
неизбежной смерти, люди находили бы в ней замену
утраченным надеждам на последующую потустороннюю
жизнь их детей и близких. Они не стыдились бы любви,
как это случается сейчас, напротив, "встречаясь, смотрели
бы друг на друга глубоким и осмысленным взглядом,
и во взглядах их была бы любовь и грусть..."155.
В краткий миг земного существования люди
постараются получить все радости земные и реализовать свою
титаническую силу воли. Человек с радостью поймет, что
он сам является единственным творцом всех
возвышенных свойств, которые до сих пор приписывались Богу.
Достижения науки заменят его былые надежды на
воздаяние, и он гордо примет смерть, не заботясь о
собственных упованиях на потустороннее.
Достоевский сам называл это предвидение весьма
невероятной фантастической картиной. Но уже при его
жизни возникли секты и атеистические общества с
культом человека и почитанием Библии как высочайшего
человеческого произведения. Следует иметь в виду, что
в XIX в. воодушевление утопией было всеобщим. Н.
Страхов свидетельствует, что на переломе 1860-х гг.
большинство духовных лидеров России, воодушевленных до
головокружения освобождением крестьян, верили, что
очень скоро осуществится состояние, которое до той
поры рассматривалось как утопическое. В условиях
свершившегося за одно только столетие колоссального
прогресса техники, науки и политики все казалось
возможным. Но есть ли преимущество в столь приземленном
подходе к действительности, в фантастической
уверенности, что человечество могло бы существовать долгие
эпохи, полностью отказавшись от веры в Бога? Мы не можем
адекватно понять идею Бога, потому что в слабом виде
она всегда сопутствует нам. Мы, как дети, которые,
находясь в отдалении от родителей, все же знают, что они
где-то недалеко от них и что вернутся к ним, если им
будет грозить опасность. И только полная утрата веры
в Бога позволит измерить потерю. Возвышение
человечества вскоре приведет к ненависти, которая превратит
ранее существующую грусть в мрачное уныние и во все
более глубокое отчаяние. Любой, кто ценит себя высоко,
восстанет против бессмысленности бытия и
невозможности осуществить свою волю к жизни; и поскольку он не
найдет иного выхода, он в конце концов наложит на себя
руки или попытается уничтожить землю.
Воля
к метафизической
свободе
Наряду с попытками освободить
человечество от нравственного закона
и от Бога, наряду с бунтом против
Бога имеет место полное таинственности стремление
человека к освобождению от собственной природы.
"Ницше, — писал А. Жид, — поставил новый вопрос... Этот
вопрос гласит: на что способен человек? Что он может?
Этот вопрос вызывает ужасное предчувствие, что человек
мог бы быть чем-то иным. Достоевский удивительно это
понял"156. Следует только уточнить, что он понял это до
Ницше, которого он не знал, и, естественно, независимо
от него. В философии Кириллова ("Бесы") Достоевский
создал целостную систему метафизического
освобождения и показал его абсурдность, его невозможность и
бессмысленность. Достоевский вложил в слова Кириллова
свои собственные размышления, он создал в нем образ,
который сам любил. Ж. Мадуль писал в работе
"Христианство Достоевского": "Можно спросить, до какой
степени Достоевский был готов оправдать Кириллова?"157
В самом деле философия Кириллова стоит на границе
между негативной и положительной метафизикой
Достоевского. Поэтому здесь мы обратимся лишь к
теоретическому нигилизму.
Кириллов и Шатов — два персонажа "Бесов", о
которых Достоевский говорит, что они "захвачены" идеями,
т. е. полностью подчинены им. Творцом этих идей был
Николай Ставрогин, экспериментировавший над ними,
когда в одно и то же время каждому из этих героев он
внушал противоположные идеи, в которые сам не верил,
ибо к этому времени был уже атеистом158. Идея,
подброшенная Шатову, состояла в признании русского
народа народом-богоносцем; но тогда же он отнял у него веру
в Бога. Это был своего рода славянофильский теизм
— без Бога. Идеей Кириллова стал радикальный атеизм,
он в высшей степени сохранял потребность обрести
смысл и высшие ценности. Кириллов был убежден, что
Бога нет, но он жаждал Бога. Страстно захваченные
247
своими идеями, оба они-всей душой старались их углубить.
Достоевский показывает нам их в момент непосредственно
перед отказом от веры в Бога. На вопрос Ставрогина, верит
ли Шатов в Бога, тот отвечает: "Я верую в Россию, я верую
в ее православие... Я верую в тело Христово... Я верую, что
новое пришествие совершится в России... Я верую...
— А в Бога? В Бога?
— Я... я буду веровать в Бога'459.
Ставрогин, поговорив с Кирилловым и прощаясь
с ним, заключает: "Бьюсь об заклад, что когда я опять
приду, то вы уж и в Бога уверуете"160.
Достоевский выразил эти позиции с помощью весьма
волнующих символов. Шатов и Кириллов суть
персонификация отделенных друг от друга духовных систем,
существующих в душе одного персонажа романа. Эта
разделенная общность символизируется тем, что оба они
живут в большом пустом доме, отдельно друг от друга,
избегая друг с другом разговаривать. Они существуют
как два разобщенных замкнутых мыслительных ядра,
между которыми нет никаких отношений. В ходе
повествования они сближаются друг с другом, и это сближение
полностью осуществилось бы, если бы этому не
помешало убийство Шатова. Когда Шатов после возвращения
его жены пришел к Кириллову, он говорит ему: "Если б...
если б вы могли отказаться от ваших ужасных фантазий
и бросить ваш атеистический бред... о, какой бы вы были
человек, Кириллов!"161
Целью Кириллова были, с одной стороны, поиски
метафизической свободы, "главной свободы"162, как он ее
называет, а с другой — совершенного смысла. С
глубочайшей серьезностью вдумывается он в глубины
человеческой сущности и отношения человека к бытию. "Я всю
жизнь не хотел, чтоб это только слова... Я и теперь
каждый день хочу, чтобы не слова"163.
Исходным пунктом его размышлений была
двойственная самопротиворечивая истина: 1) Бога нет и не может
быть. Кириллов считает эту идею высшим пунктом то1го,
к чему может прийти человек; об этом свидетельствует, по
его мнению, вся человеческая история; 2) Бог необходим,
а потому должен быть, ибо без Бога в бытии нет никакого
смысла. В результате Кириллов приходит к заключению:
"Человеку с такими двумя мыслями нельзя оставаться
в живых"164. Дело сводится к тому, что должен быть
смысл жизни, но этот смысл не может быть объективным.
248
В качестве доказательства Кириллов приводит пример
смерти Христа. "Этот человек был высший на всей зем-
ле"165. Он твердо верил в исполнение своего
предназначения. Вообще, если исходить из поисков человеком смысла
и ценности, мир существует ради такой личности, как
Христос. И тем не менее законы природы не пожалели этого
человека и уничтожили все его надежды, "заставив и Его
жить среди лжи и умереть за ложь... стало быть, вся планета
есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке". Но если это
так и если в этой жизни нет смысла, "для чего же жить?"166
Кириллов исследует понятие Бога, созданное
человечеством, которое уничтожается доказательством
бессмысленности вселенной. Ясно, что человечество живет
в ложном и слепом заблуждении. Бога нет. Однако как
прийти к такому заключению? В объяснении понятия Бога
Кириллов—Достоевский отдаляется от Фейербаха и Кон-
та, с которыми он до поры был в согласии, и вступает на
совершенно новый путь. Анализ понятия Бога раскрывает
тайну: "Бог есть боль страха смерти"167. Здесь сказано то,
что говорил Кьеркегор, о чем Достоевский не знал!
Как страх смерти отождествляется с понятием Бога?
Человек любит жизнь и поэтому страшится смерти. Это
чувство присуще всем. Природа устроена таким образом,
что человек, любя жизнь, принимает в обмен на эту
любовь боль и страх. Да, из любви к жизни человек
любит даже страх, ибо "жизнь есть боль, жизнь есть
страх"168. Человек любит то, что, как у Шопенгауэра, он
не должен любить — эту всегда связанную со страданием
жизнь. Следствием такого природного порядка является
то, что человек в этой жизни должен быть несчастным.
Лучше всего это проявляется в поведении человека перед
лицом смерти. Есть два основания, почему он так
страшится смерти и самоубийства: страх перед болью и страх перед
потусторонним. Человек решается на самоубийство либо
в тоске из злости или сумасшествия, либо по рассуждению.
В первом случае убивают себя сплеча, не раздумывая
о боли. Если же решаются на смерть в результате
рассуждения, то много думают о боли. И страх перед болью
удерживает человека. Правильное рассуждение должно
показать, что страх перед болью есть предрассудок.
Кириллов приводит такое сравнение: "Представьте... камень
такой величины, как с большой дом; он висит, а вы под ним;
если он упадет на вас, на голову — будет вам больно?
— ...Разумеется, ничего не больно.
249
— А станьте вправду, и пока висит, вы будете очень
бояться, что больно. Всякий первый ученый, первый
доктор, все, все будут очень бояться. Всякий будет знать, что
не больно, и всякий будет очень бояться, что больно"169.
Это рассуждение свидетельствует об отношении
человека к жизни и смерти вообще. Человек каждое
мгновение своего бытия хочет жить и избежать смерти, каждый
момент страшится он нависающей над ним смерти, он
ужасается смерти прежде всего как боли, но также и
второй ее "большой" причины — того света.
" — То есть наказание?
— Это все равно. Тот свет, один тот свет"170.
Кириллов думает о том свете так же, как
шекспировский Гамлет, когда он, размышляя о самоубийстве, видит
в смерти только угасание сознания:
Когда бы неизвестность после смерти,
Боязнь страны, откуда ни один
Не возвращался, не склоняла воли
Мириться лучше со знакомым злом,
Чем бегством к незнакомому стремиться!
Так всех нас в трусов превращает мысль,
И вянет, как цветок, решимость наша
В бесплодье умственного тупика171.
В страхе смерти, следовательно, объединяется страх перед
болью и страх перед потусторонним, великим неизвестным.
"Страх обнаруживает ничто", — говорится в новейшей
философии Хайдегтером172. Достоевский не делает, подобно
экзистенциалистской философии, произвольного различения
между страхом и ужасом, но ход мысли в обоих случаях
один и тот же. В страхе перед смертью открывается ужас
перед сущностным неизвестным, перед "ничто". Из
вовлеченности в ничто Хайдеггер делает вывод о трансцендирова-
нии наличного бытия человека и поясняет, что только в этом
трансцендировании, в откровении "ничто" утверждается
свобода и самобытие. "Если бы наличное бытие в основании
своей сущности не трансцендировалось, если бы оно
предварительно не удерживалось в ничто, тогда бы оно никогда не
могло бы относиться к сущему, следовательно, также
к самому себе. Без изначального откровения в ничто — нет
никакого самобытия и никакой свободы"'73. Только через
обнаружение ничто возникает самоотчужденность,
удивление и вопрос о причинах. К подобным выводам пришел и
Ж. П. Сартр.
250
Достоевский идет совершенно иным путем.
Возможно, именно он побудил Хайдегтера к утверждению, что
человек без отношения к ничто не мог бы также отнестись
и к сущему. Вероятно, без знания о ничто мы могли бы не
заметить сущее как таковое174. Но тем самым человек еще
не делается свободным. Напротив, страх перед смертью,
перед ничто делает человека несвободным. Из страха он
сотворил Бога, чтобы хоть что-нибудь переложить в это
ужасное потустороннее и чтобы кто-нибудь имел того,
кто мог бы сбросить камень, если кто-то рядом мешает
причинить ему боль. Из лишенного смысла бытия с
помощью понятия о Боге возникает наделенная смыслом
целостная действительность. Если бы дана была только
бессмысленность (либо утрачен смысл), тогда люди не
могли бы найти нравственный закон и взаимно себя
уничтожили бы. Только для того, чтобы не быть
уничтоженными, они выдумали Бога, не сознавая ту
психологическую иллюзию, жертвой которой они являются.
В философии Достоевского, выраженной через
Кириллова, имеются такие размышления, которые, как
представляется, навеяны М. Бакуниным. "Если Бог есть, то вся
воля его, и из воли его я не могу. Если нет, то вся воля моя,
и я обязан заявить своеволие'475. У Бакунина говорится:
есть Бог, и человек — раб, если человек свободен, то Бога
нет. Это утверждение имеет двойное значение: сначала
нападки на Бога, который проецировал человека —
носителя всеобщего смысла в ничто. Затем также — мысль
о самом страхе. Ведь мы не забыли: "Бог есть страх боли
перед смертью". В конечном счете, эта мысль в
переносном смысле означает: если есть страх, то он побуждает нас
и нашу волю подчиниться ему; если же страха нет, тогда
наша воля принадлежит нам самим и мы свободны.
Следовательно, по Достоевскому, в полном противоречии
с экзистенциалистами, вытекает, что свобода есть только
снятие страха перед смертью или перед ничто.
Сравнение с нависшим камнем показывает, что в
подобном страхе заключена ошибка. Фактически, нужно
подчеркнуть, человек вообще не страшится ничто,
небытия. Он страшится только боли и потусторонности. Но что
это значит? Человек страшится лишь насилия со стороны
слепого, бессмысленного и даже демонически-злобного
бытия. Он переносит боль этой жизни в потустороннее.
Представление о боли, получаемой им из опыта, он
связывает с такой болью, которая может наступить там.
251
Его мысленные представления и ожидания выходят далеко
за пределы наличной жизни и известных ему страданий.
И эти неопределенные предчувствия причиняют еще
большие страдания, чем фактическая телесная или душевная
боль. Человек легче переносит сегодняшнюю беду, будь она
столь жезелика, как если бы он оказался в месте
возможного страдания в потустороннем мире. И все же, как
показывает пример с камнем, речь идет здесь о постоянном
заблуждении. Ведь если такой камень упадет, он вообще не
причинит боли. Расставшись с жизнью, мы вообще не будем
страдать, ибо за пределами смерти — ничто. Либо
исполненная смысла божественная действительность: "жизнь
есть, а смерти нет совсем"176. Если думать о ничто как
о сущем, в этом древнем ложном заключении, с которым
боролся еще Парменид, заключена иллюзия, из-за которой
человек охвачен страхом. Признание ее освободит людей.
Кириллов, правда, сравнивает это освобождение с тем, "как
бедный получил наследство и испугался и не смеет подойти
к мешку, почитая себя малосильным владеть"177.
Происходит нечто чудовищное: человек становится свободным,
свободным от страха, а вместе с ним и от воли к жизни,
единственным господином собственной воли.
В результате возникнет новый человек, счастливый
и гордый. "Кому будет все равно, жить или не жить, тот
будет новый человек. Кто победит боль и страх, тот сам
Бог будет"178. Исчезнет воображаемый центр этого мира
— Бог, или страх, или ничто, или как они там
называются. Человеческая воля пробудится из своей гипнотической
связанности, и человек со своим разумом сам станет
в центре мира. Идеи Кириллова перекликаются здесь
с мыслями Фейербаха и молодого Шиллера. Когда
Фейербах развенчал идею Бога, доказывая, что она возникла
благодаря отчуждению, он не мог полностью осмыслить,
чего он достиг. И все же он уже сознавал, что сдвигает
человека в центр мироздания. Если мы захотим, писал
он, мы создадим лучшую жизнь, по крайней мере,
устраним вопиющие страдания человека. Но чтобы этого
захотеть, мы должны веру в Бога заменить верой
человека в самого себя, в собственные силы, верой, что
единственным Богом человека является сам человек. Молодой
Шиллер называл веру в Бога глупостью, освященной веками,
а причиной Бога и вечности, которая сокрыта покровом
чудовищных теней нашего собственного ужаса, пустым
зеркалом угрызений совести. В "Отречении" он писал:
252
Иль призрака, что древностью лишь свят,
Страшишься ты? Кого зовешь богами?
Врачей вселенной, вымышленных вами,
Что лишь о вашей скудости твердят?
Что вечность — та, чем ты кичишься праздно?
Грядущее, закутанное в прах?
Они — лишь тени страха и соблазна
В неведенья пустынных зеркалах179.
И все же и Фейербах, и Шиллер не охватили всей глубины
данной проблемы. Шиллер, как и многие другие,
инстинктивно догадывался об этом. К уже достигнутым
результатам Достоевский через Кириллова добавил новые
рассуждения. Открытие новой метафизической свободы является
в глазах Кириллова столь роковым достижением, что оно
должно привести к перемене "земли и человека
физически"180. Впрочем, остается и еще самое важное: свободу эту не
только узнать и утвердиться в ней, но и осуществить на деле.
"Всякий, кто хочет главной свободы, тот должен сметь
убить себя"181. Тем самым он докажет, что победил страх
и больше не подчиняется воле к жизни. Кто смеет убить
себя, тот заступает место Бога. Гёте коснулся этой тайны,
когда он предложил Фаусту чашу для самоубийства:
Набравшись духу, выломай руками
Врата, которых самый вид страшит!
На деле докажи, что пред богами
Решимость человека устоит!
Что он не дрогнет даже у преддверья
Глухой пещеры, у того жерла,
Где мнительная сила суеверья
Костры всей преисподней разожгла.
Распорядись собой, прими решенье,
Хотя бы и ценой уничтоженья182.
Еще никогда, продолжает Кириллов, и никто не
отважился по этой причине лишить себя жизни. Все
многочисленные самоубийцы убивали себя "со страхом", а не
для доказательства собственной свободы. Это не
означает, что они чувствовали страх в момент самоубийства;
это означает, они в сущности не преодолели или не
захотели преодолеть житейский страх; следовательно, до
самого конца они подчинялись власти страха и воле
к жизни. Кириллов убил себя, чтобы доказать, что у него
больше нет страха. "Я обязан заявить своеволие", —
говорит Кириллов в этой связи183. Откуда эта обязанность?
253
Уже Фейербах писал, что атеизм, снимая теологический
постулат надмирности и надчеловечности, в то же время не
снимает природное и моральное "над" (т. е.,
возвышенное). Моральное "над" есть идеал. Но Фейербах не
объяснил это свое утверждение. Когда же Кириллов ставит
рядом выражения: "Я хочу" и "Я обязан", это означает,
что он выводит эту свою обязанность из воли — из
свободного воления. Для него в этом случае нравственный
закон вытекает из собственной воли. Собственная воля по
ее освобождении становится законодательствующей
волей, обретая статус божественности.
"Для Бога не существует закона! Где станет Бог, там
уже место Божие! Где стану я, там сейчас же будет первое
место... "все дозволено" и шабаш!" — говорит в бреду
Иван Карамазов184. Но взгляды Кириллова иные. Для
него, как человека обновленного, гетерономный
(навязанный извне) закон больше не существует, он,
освободившись, сам становится творцом нравственного закона. Но
именно поэтому человеку не "все дозволено": он сам не все
позволяет себе. Здесь заключено огромное отличие
Достоевского от Ницше и Штирнера. Ницше провозглашал: "Все
позволено", Штирнер пребывал при своем "Ego mihi
ёеиз"("Я сам себе бог"). Достоевский устами Кириллова
преодолевает эту позицию и идет к более глубокому
познанию: когда человек ставит себя на место Бога, он
пытается осуществить то, что он тщетно ожидает от Бога.
Ведь человек, создавая самые возвышенные представления
о Боге, ожидает их осуществления. А теперь нравственный
закон, утративший ореол божественности, признается
человеком за свой собственный, причем не потому, что он
должен его почитать или что закон этот нужен, а потому,
что он так хочет. Приземленный закон, своевольно
доведенный человеком до совершенного смысла, лишается
законосообразного характера и служит лишь проявлениям
воли. Петр Верховенский, совершенно не разбираясь
в сущности новой свободы, основное правило которой "все
дозволено", предлагает Кириллову убить не себя, а кого-
нибудь другого. Кириллов отвечает четко: "Убить другого
будет самым низким пунктом моего своеволия, и в этом
весь ты. Я не ты: я хочу высший пункт и себя убью"183. Хотя
мироздание и бессмысленно, оно не дает полномочий
индивиду ни совершать преступления, ни любить. Но пока
остаются самосознание и свобода, в человеке живет мысль
о смысле. Угасни его сознание — и нет ничего; но до того
254
возвышенный человек может и хочет творить смысл. Он
вырабатывает сам и для себя идею совершенного смысла
и закон любви.
"Если сознаешь — ты царь и уже не убьешь себя сам,
а будешь жить в самой главной славе. Но один, тот, кто
первый, должен убить себя сам непременно, иначе кто же
начнет и докажет? Это я убью себя непременно, чтобы
начать и доказать. Я еще только бог поневоле и я несчастен,
ибо обязан заявить своеволие. Все несчастны потому, что все
боятся заявлять своеволие. Человек потому и был до сих
пор так несчастен и беден, что боялся заявить самый
главный пункт своеволия и своевольничал с краю, как
школьник... Я начну, и кончу, и дверь отворю. И спасу.
Только это одно спасет всех людей..."186 В этой идее
выражено ядро философии Кириллова. Собственным
своеволием хочет стать он избавителем и спасителем
освободившегося человечества. Он кончает идеей Христа, идеей
личной жертвы ради освобождения людей. Со стороны
атеизма Достоевский все равно приходит к идее Христа.
Кириллов почитает Христа, перед его иконой горит
лампада, и с восторженным взглядом говорит он о "нем".
Христос, по его мысли, был его предтечей. Он только
обманывался, когда верил в Бога, ведь Бога нет. Но тем, что
он своей смертью победил страх, он освободил людей и стал
Богочеловеком. И все же: он победил смерть, но сохранил
существование Бога. Если бы он умер с полным принятием
богооставленности и победил бы смерть только
собственной волей, то он освободил бы человечество. Поэтому идея
Богочеловека должна быть надстроена идеей человекобога.
Внутренне освободившийся Кириллов любит жизнь.
В этом нет противоречия с его изначальной позицией, так
как инстинкт жизни всеобщ. Однако этот последний
исходит из страха и связан со страхом; у Кириллова же
источником инстинкта жизни является любовь. Кириллов
верит не в вечную потустороннюю жизнь, а только в
земную. Он уверен, что она вечна и что время может ос-
тановиться:"Есть минуты, вы доходите до минут, и
время вдруг останавливается и будет вечно"187. Мысль
о смерти привела бы человека в отчаяние, если бы у него
не было возможности достигнуть полного счастья в этой
жизни. И это ему доступно. В момент достижения
метафизической свободы открывается и может осуществиться
величественная возможность райского бытия, которое
скрытно покоится на бессознательном уровне сверхсозна-
255
ния человека. Кириллов приходит к мысли о всеобщей
любви, к знанию о том, что все хорошо и прекрасно.
В какой-то момент его дущу охвдтывает чувство вечной
гармонии. Он постиг рай, в предчувствии его осознал
себя другим, изменился физически: "Как будто вдруг
ощущаете всю природу и вдруг говорите: да, это правда.
Бог, когда мир создавал, то в конце каждого дня
создания говорил: "Да, это правда, это хорошо"188. Мы еще
вернемся к этим переживаниям при обсуждении значения
видений в философии Достоевского. Кириллов^ находит
точное слово для определения этого состояния: радость,
в которой проявляется райская действительность.
" — Видали вы лист, с дерева лист?
— Видал.
— Я видел недавно желтый, немного зеленого, с краев
подгнил. Ветром носило. Когда мне было десять лет,
я зимой закрывал глаза нарочно и представлял лист
— зеленый, яркий, с жилками, и солнце блестит. Я
открывал глаза и не верил, потому что очень хорошо, и опять
закрывал.
— Это что же, аллегория?
— Н-нет... зачем? Я не аллегорию, я просто лист, один
лист. Лист хорош. Все хорошо"189.
Все xopouio именно для тех, кто знает, что все
хорошо. Но пока они этого не знают, жизнь их и мир этот не
будут казаться им добрыми. Люди нехороши, "потому
что не знают, что они хороши. Когда узнают, то не будут
насиловать девочку. Надо им узнать, что они хороши,
и все тотчас же станут хороши, все до единого"190. Здесь
в парадоксальном обличий высказана мысль, которую
Достоевский развивал в собственном учении о "рае в нас"
(мы рассмотрим эту проблему в разделе о
положительной метафизике). Заметим только, что, по Достоевскому,
когда человек вступает в состояние сверхсознания, жизнь
становится для него исполненной добра и красоты. С
точки зрения земного сознания в такой позиции скрыта
насмешка над действительностью со всеми ее
преходящими страданиями и злом.
" — Кто научит, что все хороши, тот мир закончит.
— Кто учил, того распяли.
— Он придет, и имя ему человекобог.
— Богочеловек?
— Человекобог, в этом разница"191.
Самоубийство
При рассмотрении теоретического
нигилизма мы отчасти упоминали
и о его практических последствиях.
Среди последних особое значение имеет то направление,
которое исходит из мысли о недостаточности смысла
существования и вследствие этого приходит к
утверждению об отсутствии нравственного закона, когда "все
позволено" и соответственно есть право на так называемое
преступное поведение. Это направление следует отличать
от другого, которое рассматривает знание о
бессмысленности бытия не как практическую охранную грамоту для
произвола, принимая, напротив, мысль о совершенном
бытии за отправной пункт положительной
нравственности, исходящей из субъекта. Аморалист по большей части
одержим низменными инстинктами, эгоизмом, волей
к власти. Отрицание существования нравственного закона
он принимает прежде всего как следствие, которое
позволяет ему удовлетворять свои стремления как ему хочется,
используя других людей в качестве средства. Иные
нигилисты, вроде Кириллова, у которых нравственная воля не
исчезает с установкой на бессмысленность бытия, серьезно
относятся к последствиям своего нигилизма. Поэтому они
примеряют прежде всего к самим себе последствия,
которые вытекают из их теоретических построений.
Наиболее чистым практическим следствием
нигилизма является самоубийство. В произведениях
Достоевского описывается великое множество самоубийств. Это
объясняется преимущественным интересом Достоевского
к пограничным ситуациям человеческой жизни и его
стремлением выявить ничем не стесненные внутренние
душевные порывы, причем не из-за того, как это часто
приводится слышать, что русского художника тянуло
к душевно ненормальным лицам. В самоубийстве
обнаруживается, как определенные теоретические
предпосылки влекут за собой логичные поступки. Можно
возразить, что большинство людей не решается на такие
последствия. Но нужно признать, что те, кто все же это
9 Райнхард Лаут 257
делает, идут до того конца, который большинство людей
не отваживается совершить.
Среди описанных Достоевским самоубийств имеются
различные варианты: дети, которых развращают и мучают
взрослые, доводя их тем самым до самоубийства, как
маленький герой рассказа в "Подростке" или развращенная
Ставрогиным девочка в неопубликованной главе из "Бесов";
развратники, как Свидригайлов в "Преступлении и
наказании" и Ставрогин в "Бесах"; "логические" самоубийцы
— Кириллов в "Бесах", Крафт в "Подростке", молодая
самоубийца в главе "Два самоубийства" из "Дневника
писателя", пытающийся совершить самоубийство "смешной
человек" в "Сне смешного человека"; самоубийство из
отчаяния — Ольга в "Подростке" и Смердяков в "Братьях
Карамазоэых"; самоубийство из протеста, направленного
против провидения, — попытка Ипполита в "Идиоте" и др.
Мы проследим здесь важнейшие формы мотивировки.
В "Бесах" Кириллов, захваченный мыслью о
самоубийстве, ищет причину, почему люди не осмеливаются убить
себя. Он приходит к заключению о существовании двух
групп самоубийц — из отчаяния и из рассуждения. Первых
можно назвать естественными самоубийцами, вторых, по
определению Достоевского, логическими, поскольку такое
самоубийство является следствием их мировоззрения.
Оба эти варианта самоубийства вытекают из крушения
жизненных надежд и изначальной веры в смысл бытия.
Человек, выходя из семейного укрытия, оказывается
заброшенным в суровую и грубую среду равнодушного или
враждебного окружения. В столкновениях с людьми, с
природой и с собственной судьбой зрелому человеку угрожает
утрата высшего смысла жизни. Характерный пример
Достоевский дает в "Подростке". Аркадий — герой романа,
внебрачный ребенок, оставленный родителями, выросший
в пансионате, переносит жестокие оскорбления от своих
одноклассников и чувствует себя отверженным. И все же
внутреннее нравственное благородство поддерживает его
и даже помогает преодолевать горечь и страдания. Но когда
повержена его честь (он несправедливо обвинен в краже, не
имея возможности оправдаться), он приходит в отчаяние.
И здесь Достоевский дает типичное рассуждение: "Что ж?.,
оправдаться уж никак нельзя, начать новую жизнь тоже
невозможно, а потому — покориться, стать лакеем,
собакой, козявкой, доносчиком... а самому потихоньку
приготовляться и когда-нибудь — все вдруг взорвать на воздух, все
258
уничтожить, всех, и виноватых и невиноватых, и тут вдруг
все узнают, что это — тот самый, которого назвали вором...
а там уж и убить себя"192. Именно в этих фантастических
и невероятных рассуждениях выявляются душевные
побуждения. С точки зрения вечности ничтожная, маленькая
неприятность становится дня человека непомерно огромной
причиной глубокого отчаяния. Утрата жизненных надежд
вызывает ненависть к виновникам такого поражения, будь
то другой человек, природа, человечество или Бог.
Человек вступает в мир с надеждой, с жаждой
осуществить свои ожидания. Он связывает желанные цели с
определенным отношением к другим людям, к общности, к Богу.
Чем больше это его стремление, тем сильнее связи. Если же
его надежды не оправдываются, следствием являются
тяжкие потрясения. Великий внутренний зов любви остается
без ответа. В результате большинство людей считает, что
они преодолели юношеские иллюзии и реалистически
смотрят на жизнь. Но как часто за подобным реализмом
скрывается бессильное, горькое отчаяние. Истинный
реализм состоит в том, чтобы, несмотря на огромные
трудности, сохранять свои надежды и идеалы в их полном величии.
Потрясающие примеры полного отчаяния дал
Достоевский в рассказах о самоубийстве детей. Он показывает
судьбу малышей, которые не знали или почти не знали
родительской любви, с раннего возраста жили в состоянии,
граничащем с отчаянием, и подталкивались к смерти
жестокостью взрослых. В безысходном отчаянии вздымает
дитя кулачок к небу как немой знак ужасного укора. О
маленьком мальчике в "Подростке" говорится: "...вскрикнул,
бросился к воде, прижал себе к обеим грудкам по кулачку,
посмотрел в небеса (видели, видели!) — да бух в воду!"193
Совершенно аналогично описывает Ставрогин поведение
совращенной им маленькой девочки: "Она вдруг часто
закивала на меня головой, как кивают, когда очень
укоряют, и вдруг подняла на меня свой маленький кулачок
и начала грозить им мне с места. Первое мгновение мне это
движение показалось смешным, но дальше я не мог его
вынести... На ее лице было такое отчаяние, которое
невозможно было видеть в лице ребенка"194. Та же девочка
повторяла в бреду накануне самоубийства, что она "Бога
убила". Какое потрясение для детской души, в отчаянии
бросающей упреки чужим людям и даже самому Богу!
То, что происходит в детской душе, с такой же
очевидной простотой повторяется и в душе взрослого человека,
259
когда его страдания невыносимы, надежды потерпели
крушение, либо утрачен смысл бытия. Единственный
выход из состояния отчаяния обретается в вере и в пороке. Но
последний дает лишь временное отвлечение. Ведь
порочный человек, потерявший веру в высший смысл жизни,
пользуется только моментом, прежде чем ему станет
совершенно ясно, что он оказался в жалком и безвыходном
положении. Достоевский показал это на примере Свидри-
гайлова в "Преступлении и наказании".
Отчаявшегося человека, длящего это свое состояние
и отвергающего самоубийство, ожидают великие
страдания, ненависть и безумие. Страдания, потому что он не
может найти выход и мучается от неисполнимости воли
к жизни; ненависть, потому что он перекладывает вину за
свою беду на другого человека и даже, в конечном счете, на
Бога; безумие, цотому что ужас его ситуации непереносим.
Самоубийство по убеждению выражает особого рода
болезнь современного Достоевскому человека,
распространившаяся в Европе с эпохи Ренессанса. В данном случае
человек сначала теоретически разрушает все основания
своего существования, утрачивая надежду на смысл жизни.
Первое гениальное изображение человека, подверженного
этой болезни, принадлежит Шекспиру в "Гамлете", где
герой ставит вопрос о самоубийстве, поскольку он
усомнился разумом и чувствами в мировом порядке и в
значимости нравственного закона. В своем страдании он
пребывает как бы среди людей первого варианта, подобно
"подпольному человеку": "в этом холодном,
омерзительном полуотчаянии, полувере, в этом сознательном
погребении самого себя заживо с горя, в подполье на сорок лет,
в этой усиленно созданной и все-таки отчасти
сомнительной безысходности своего положения, во всем этом яде
неудовлетворенных желаний... во всей этой лихорадке
колебаний, принятых навеки решений и через минуту опять
наступающих раскаяний" — все это постыдно для души, но
в этом заключается и "сок... странного наслаждения"195.
Так случилось, что рассказ "Сон смешного человека",
который появился только в 1877 г., содержательно тесно
связан с опубликованными в 1864 г. "Записками из
подполья". Майков сказал однажды о персонажах героев
"Бесов", что они являются как бы тургеневскими героями, но
в старости. О "смешном человеке" можно сказать, что он
состарившийся "подпольный человек", чья гордость и
самолюбие приблизительно соответствуют характеру
260
"смешного человека". "С тех пор как я стал молодым
человеком, я хоть и узнавал с каждым годом все больше
и больше о моем ужасном качестве, но почему-то стал
немного спокойнее. Именно почему-то, потому что я до
сих пор не могу определить почему. Может быть, потому
что в душе моей нарастала страшная тоска по одному
обстоятельству, которое было уже бесконечно выше всего
меня: именно — это было постигшее меня одно убеждение
в том, что на свете везде все равно"196. Возникновение этого
равнодушия, когда все "все равно", в том числе и самое
ценное, шаг за шагом прослеживается в рассказе. Вместе
с ценностями теряется и высший смысл и разрываются
социальные связи. Сначала герою были дороги
воспоминания, ему все казалось, что многое было прежде, но
потом он догадался, что и прежде ничего не было и ничего
никогда не будет. Угасли надежды на будущее. Утрата
ценностей и смысла, гибель надежды разрушили веру
в реальность внешнего мира. Достоевский рассматривает
солипсизм как явление, параллельное моральной
изоляции. "Ведь если я убью себя, например, через два часа, то
что мне девочка [которую герой только что встретил на
улице и которая молила его о помощи, но он ее грубо
оттолкнул. — Р. Л.] и какое мне дело и до стыда, и до всего
на свете? Я обращаюсь в нуль, в нуль абсолютный.
И неужели сознание о том, что я сейчас совершенно не буду
существовать, а стало быть, и ничто не будет
существовать, не могло иметь ни малейшего влияния ни на чувство
жалости к девочке, ни на чувство стыда после сделанной
подлости? Ведь я потому-то и затопал и закричал диким
голосом на несчастного ребенка, что "дескать, не только
вот не чувствую жалости, но если и бесчеловечную
подлость сделаю, то теперь могу, потому что через два часа
все угаснет"... Ясным представлялось, что жизнь и мир
теперь как бы от меня зависят. Можно сказать даже так,
что мир теперь как бы для меня одного и сделан:
застрелюсь я, и мира не будет, по крайней мере для меня"197.
Эти рассуждения "смешного человека" аналогичны
словам Ставрогина в "Бесах": "Если бы сделать
злодейство, или, главное, стыд, то есть позор, только очень
подлый... и смешной, так что запомнят люди на тысячу
лет, и плевать будут тысячу лет, и вдруг мысль: "Один
удар в висок, и ничего не будет". Какое дело тогда до
людей и что они будут плевать тысячу лет..."198
Дальнейшие рассуждения "смешного человека" продолжают
261
мысль Ставрогина: "Помню... я обертывал все эти новые
вопросы, теснившиеся один за другим, совсем даже в
другую сторону и выдумывал совсем уж новое. Например... что
если б я жил прежде на луне или на Марсе и сделал бы там
какой-нибудь самый срамный и бесчестный поступок, какой
только можно себе представить, и был там за него поруган
и обесчещен так, как только можно ощутить и представить
лишь разве иногда во сне, в кошмаре, и если б, очутившись
потом на земле, я продолжал бы сохранять сознание о том,
что сделал на другой планете, и, кроме того, знал бы, что
уже туда ни за что и никогда не возвращусь, то, смотря
с земли на луну, — было бы мне все равно или нет? Ощущал
ли бы я за тот поступок стыд или нет?"19*
Ставрогин говорит Кириллову накануне своей дуэли:
"Положим, вы жили на луне... вы там, положим, сделали
все эти смешные пакости... Вы знаете наверно отсюда,
что там будут смеяться и плевать на ваше имя тысячу
лет, вечно, во всю луну. Но теперь вы здесь и смотрите
на луну отсюда: какое вам дело здесь до всего того, что
вы там наделали и что тамошние будут плевать на вас
тысячу лет, не правда ли?"200
В обоих случаях общими чертами героев являются
раздвоение, непреодолимый разрыв с другими людьми,
нравственное равнодушие. При этом все равно,
представляется ли раздвоение так, что исчезает только Я с его
сознанием, а человечество продолжает существовать, либо
исчезает человечество и остается только Я. В том и другом
случае раздвоение окончательное и непреодолимое, причем
и нравственное хотение, и ценность подавляются и исчеза-
ют.Самоубийство здесь есть только практическое
следствие теоретического рассуждения: со смертью все кончается.
Достоевский утверждает в "Братьях Карамазовых",
что в его время тенденция к обособлению личности легко
приводит к раздвоению и самоубийству. Среди поучений
старца Зосимы есть и такое: "Всякий-то теперь стремится
отделить свое лицо наиболее, хочет испытать в себе
самом полноту жизни, а между тем выходит изо всех его
усилий... лишь полное самоубийство, ибо вместо
полноты определения существа своего впадают в совершенное
уединение"201. На первый взгляд может, показаться
невероятным, что растущему из теоретических побуждений
стремлению к самоубийству предшествуют —
сознательно или бессознательно — определенные практические
шаги. Это не только внешняя травма, а собственное
262
волевое решение, которое приводит к разрыву живых
связей с Богом, с жизнью, с близкими.
Полная неспособность принять смысл жизни и
осуществить волю к жизни сопровождается презрением к
тому, кто так устроил мир, презрением к Богу. Собственная
жизнь рассматривается как оскорбление, и самоубийство
воспринимается как протест против бессмысленного
мира. Такова ситуация самоубийцы в статье "Приговор"
("Дневник писателя" за 1876 г.). Жизненный опыт
показывает, что человек — не более как крошечный атом
бесконечной природы, что он должен подчиняться ее
гармонии, если только он хочет жить, что природа
немедленно пожертвует его счастьем, если он станет на пути ее
целей или процессов. Он не может понять смысл жизни,
и природа отказывает ему даже в праве требовать от нее
отчета. Она не отвечает на вопрос о смысле не потому,
что не хочет, а потому, что не может ответить. Природой
устроено так, что только человеку и никому больше дано
право спрашивать о смысле, только он может к нему
стремиться, но ответить на него не может.
"Так как я... при таком порядке и принимаю на себя
в одно и то же время роль истца и ответчика,
подсудимого и судьи и нахожу эту комедию, со стороны природы,
совершенно глупою, а переносить эту комедию, с моей
стороны, считаю даже унизительным, — то, в моем
несомненном качестве истца и ответчика, судьи и
подсудимого, я присуждаю эту природу, которая так
бесцеремонно и нагло произвела меня на страдание, — вместе со
мной к уничтожению... А так как природу я истребить не
могу, то и истребляю себя одного, единственно от скуки
сносить тиранию, в которой нет виноватого"202.
В этом определении найдена и четко выражена
формула логического самоубийства. Большинство людей
может прийти к таким же выводам, не прибегая к
практическим следствиям. Трагично, однако, что в этих условиях
им не дано найти возвышенную жизненную задачу.
Человеку, вступающему в >жизнь с большими ожиданиями
и высокими ценностями, остается одно: сделать
последние выводы. Крафт в "Подростке", застрелившийся,
в частности, и из-за того, что он как русский считал себя
человеком второстепенным и не мог осуществить ничего
действительно ценного и полезного, относился к таким
людям. Фундаментальная посылка здесь одна и та же:
теоретическое построение превосходит действительность,
263
которая не в состоянии указать на полноту смысла и
осуществить волю к жизни. "Природа до такой степени
ограничила мою деятельность... — говорит Ипполит
в "Идиоте",—что, может быть, самоубийство есть
единственное дело, которое я еще могу успеть начать и окончить
по собственной воле моей.Что ж, может быть, я и хочу
воспользоваться последнею возможностью дела! Протест
иногда не малое дело..."203 Так в своем крайнем выражении
понимается свобода по отношению к природе, что тем
самым снова смыкается с позицией Кириллова. Против
всего вышеизложенного можно возразить, что логическое
самоубийство случается редко: подавляющее большинство
людей настолько привязано к жизни, что никакие
логические выкладки, даже если они превращаются в чувства
и захватывают человека, не могут быть достаточно
сильными, чтобы побудить его к смерти. Можно заключить
поэтому, что Достоевский преувеличивал значение
логического самоубийства. Но важно отметить, что Ницше вскоре
после Достоевского и независимо от него пришел к
аналогичным выводам: "Проблема: какое средство годилось бы,
чтобы достичь крайней формы прилипчивого нигилизма?
Только такое, какое зовет к добровольной смерти и
осуществляет ее (а не слабосильное прозябание ради мнимого
посмертного существования)"204.
Достоевский сумел выразительно показать, как
ценнейшие люди, с полной серьезностью приняв эту идею,
уничтожали себя. Он показал, что, убеждая себя в
бессмысленности условий своего существования, многие
люди впадают в отчаяние. Отчаяние этих людей передается
многим другим. Достоевский с ужасом указывал на" рост
самоубийств, особенно среди молодежи, и прежде всего
тех ее представителей, кто пытался до конца осмыслить
указанные идеи. Можно сказать, что человечество
достигло такого пункта, дальше которого оно ничего не знает.
Нельзя останавливаться на полпути, обдумывая общие
перспективы дальнейшего развития, нужно принимать во
внимание только логичные и до конца продуманные
идеи. Поэтому очень важно осмыслить аргументы
логических самоубийц и попытаться преодолеть их ложные
основания.
Если же позволительно с познавательной целью
отождествление человека и человечества, то серьезность
положения станет еще более тревожной. То, что происходит
с отдельным человеком, может произойти и с человечес-
264
твом. Кто знает, не овладеют ли эти идеи всем человечес-.
твом и не отразятся ли они практически на всей его
жизни? Если же такое возможно, то не стоит ли
человечество накануне самоуничтожения из-за утраты смысла
жизни? В XIX в. современники Достоевского могли
содрогаться или смеяться над этими рассуждениями. Но
Достоевский ясно сознавал всю тяжесть следствий из
таких размышлений. Он полагал возможным даже такой
случай, когда человечество в доказательство своей
метафизической свободы откажется и от протеста против
лишенной смысла вселенной, поскольку не
подчиняющаяся его воле часть души привязана к жизни "какой-то
древней иррациональной привычкой". В этом случае,
потеряв надежду на смысл жизни, оно придет постепенно
к отравлению ядом равнодушия и к усталости от жизни.
Воля к жизни из-за ее неисполнимости будет отвергаться,
и человечество обратится к религии "с культом небытия
и саморазрушения ради вечного успокоения в
ничтожестве"205. В результате все человечество станет жертвой.
При попытке самоубийства перед человеком во всей
их серьезности и глубине встают коренные жизненные
проблемы. Из намерения покончить с жизнью родился
сон "смешного человека", в котором ему открылась
огромная, но дремлющая в нем власть воли к жизни.
В последний момент, когда он случайно заснул перед
задуманным самоубийством, ему явилась "вечная
истина". Во сне ему виделось, что он застрелился. Но целился
он не в голову, как решил наяву, а в сердце — своего рода
знак, что он хочет уничтожить саму волю к жизни. После
сна, в котором он увидел райскую жизнь, он отталкивает
пистолет и восклицает: "О, теперь жизни и жизни! Я
поднял руки и воззвал к вечной истине; не воззвал, а
заплакал; восторг, неизмеримый восторг поднимал все
существо мое. Да, жизнь..."206 То же происходит с Расколь-
никовым, когда после крушения его идеи сверхчеловека
он хочет принять жизнь. Правда, он осознает чистую
волю к жизни не в сверхсознательном видении, он
открывает ее в неясных импульсах, идущих из глубины его
души. "Стало быть, ты в жизнь еще веруешь!.." —
говорит ему сестра, когда он вернулся после попытки
самоубийства. "Я не веровал, а сейчас вместе с матерью,
обнявшись, плакали; я не верую, а ее просил за меня
молиться. Это Бог знает как делается... и я ничего в этом
не понимаю"207. Далее Достоевский писал о Раскольнико-
265
ве: "Он с мучением задавал себе этот вопрос и не мог
понять, что уже и тогда, когда стоял над рекой, может
быть, предчувствовал в себе и в убеждениях своих
глубокую ложь. Он не понимал, что это предчувствие могло
быть предвестником будущего перелома в жизни его,
будущего воскресения его, будущего нового взгляда на
жизнь"208.
Вопрос нашего времени: откроется ли человечеству
в решающий момент, когда оно захочет наложить на себя
руки, знание о скрытой воле к жизни, которая подвигнет
его на иной путь и приведет к полному его обновлению,
или для этого будет уже слишком поздно, и его путь
внезапно закончится?
Ужасающее знамение времени, в которое творил
Достоевский, состояло в том, что люди с беспечной
легкостью кончали свою жизнь. Нет оправдания
самоубийству, подчеркивал писатель. Достоевский обосновывал
свою мысль не так, как Платон ("Федон") или Клодель,
утверждавший, что жизнь принадлежит не человеку, а
Богу, и не так, как ложно считал Аристотель, объявляя
самоубийство своего рода трусостью ("Никомахова
этика"). "Самоубийство есть самый великий грех
человеческий"209, ибо это удар по самому сокровенному центру
человеческого бытия. Ведь воля к жизни в своей основе
не изолирована, она существует в связи со всеобщим
бытием и с Богом. Самоубийство — преступление против
самого бытия. Достоевский не принимал оправдание
самоубийства в стоической философии как "разумного
выхода из жизни". Если мы верим в смысл жизни, не может
'быть вообще какой-либо лишенной смысла ситуации,
в которую ставит нас жизнь и которой мы должны
уступать. Мы должны верить, что "...есть на свете
божество, устраивающее наши судьбы по-своему"210.
Самоубийце нет времени для раскаяния и очищения.
Если есть бессмертие, то души самоубийц пребывают
в отчаянии, "несчастнее сих и не может быть никого"211.
"О таковых я внутренно во всю жизнь молился... да
и ныне на всяк день молюсь", — говорит старец Зосима
в"Братьях Карамазовых"212. И странник Макар
Иванович считает, что каждый "беспременно" должен молиться
за такого, "даже хотя бы ты и не знал его вовсе, — тем
доходнее твоя молитва будет"213. Ибо на избыток любви
Бог не будет гневаться.
Нигилистическая
революция
При жизни Достоевского наиболее
яркие примеры нигилизма
проявлялись в политике. По возвращении из
Сибири он нашел большие изменения в политической
жизни Москвы и Петербурга. Это было время великих
реформ, когда не только славянофилы, но и западники
с воодушевлением приняли мероприятия царя. Вскоре
после манифеста 1861 г. политический горизонт снова
омрачился. Александр II не нашел пути к сердцу народа,
который страдал от угнетения бессовестной бюрократии,
действовавшей по указке правительства; дворянство,
потеряв свои материальные преимущества, заняло
враждебные позиции по отношению к правительству и раздувало
огонь недовольства. Опаснейшей политической
группировкой были "семинаристы", как называл их
Достоевский,— духовный пролетариат. При слабости традиции,
без систематического гуманитарного образования,
односторонне ориентированные на естественно-научное
знание, нигилисты отрицали не только российские
установления, всю политическую систему царизма, но и прошлое
— народные традиции, веру и общественные институты.
Нигилизм быстро распространился в студенческих кругах
и нашел в журналах "Современник" и "Русское слово"
скрытых, а в Герцене — открытых выразителей. В
результате постоянной пропаганды возник политический
социализм, который, отвлекшись от теории, начал
непосредственно с революционной практики. Стачки, пропаганда
с помощью прокламаций, поджоги, покушения и т. п.
были начальными плодами деятельности первых тайных
революционных организаций. Все эти нигилисты нашли
своих предшественников среди "лишних людей"
старшего поколения. Бакунин отправился за границу, чтобы там
содействовать революции; его друг и единомышленник
Нечаев в 60-е гг. в России создал тайный комитет и
побудил некоторых его членов убить студента Иванова,
которого он обвинил в доносительстве. Это политическое
убийство, положившее начало процессам 70-х гг., позво-
267
лило Достоевскому понять опасность политического
нигилизма, которую он раскрыл во всей полноте в романе
"Бесы".
Известно, что явление нигилизма открыл, описал и
практически дал ему название Тургенев в романе "Отцы и дети"
(1862); между тем сам Бакунин называл свое учение
анархизмом. Тургенев в своем романе выразил и сущностную цель
политических социалистов: беспощадное и безграничное
разрушение старого порядка. Достоевский воспроизвел эту
программную формулу в "Бесах". Петр Верховенский
(прототип — Нечаев), в черновиках к "Бесам" называемый
Нечаевым, объясняет: "Главная идея... не оставить камня на
камне... Признаюсь вам... то, что совершилось бы само
собою, спустя столетия, совершится теперь вдруг топором
гораздо скорее... Все будут счастливы, собственно, по самой
системе, хотят или нет. У них будет: жизнь спокойная — ибо
все будет направлено, чтоб устроить улей... Разом
уничтожив Бога, брак, семейство и собственность, т. е. все
общество, я отнимаю яд... Все это мы хотим переменить"214.
Внутри этой деструктивной идеологии можно различить
две тенденции. Одна связывала разрушение
старого—разрушение до основания—с тем, чтобы затем легче было создать
новое, лучшее общество, другая хотела разрушения из
страсти к разрушению. В своем сочинении "Реакция в
Германии" Бакунин, переиначивая шеллинговское учение, писал:
"Дайте же нам довериться вечному духу, который только
потому разрушает и уничтожает, что он есть неисчерпаемый
и вечно созидающий источник всякой жизни. Страсть
к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть!"215
В его и нечаевском революционном катехизисе говорится
о главной задаче, которая состоит в том, чтобы объединить
этот мир в единой пандеструктивной и непреоборимой силе.
Как представлял себе Достоевский идею и практику
политического нигилизма?
Раз в обществе расшаталась прежняя вера в смысл
бытия и в ценность нравственного закона, державшиеся
на религии, появились люди, которые не только не
верили в смысл и ценности, но и не хотели сохранения
традиционных святынь, отрицая их прежнее значение. Среди
этих людей выкристаллизовалось некоторое число
вождей; именно они являлись средоточием беспокойства
и политического честолюбия. Предводители
провозглашали новые цели, пусть даже нелепые и бессмысленные,
и их единственной заботой было осуществить их как
268
можно быстрее. Это были люди, которые в глубине души
или вполне осознанно давно уже питали лютую ненависть
к существующему порядку. Своими воззваниями они
электризовали массы, поддававшиеся их влиянию; и хотя среди
масс не все были полными "идиотами", их вели туда, куда
хотели, даже против воли отдельных лиц. Динамическая
мощь провозглашаемых идей и осуществляемое ими
разложение парализовали достойных людей, которые в
нормальное время были опорой порядка; иногда все это доходило до
массового психоза, вовлекавшего многих в новое движение.
Разложение и разрушение — два великих средства,
служивших революционерам-нигилистам. Путем
систематической пропаганды размывалось уважение к власть
имущим и распространялись сомнение, цинизм и
безверие. Старая мораль, образцовыми представителями
которой были люди, носящие мундиры, разрушалась
ложью и клеветой. Политические социалисты при этом
придерживались двойственной практики. Наивных
людей, вечно верящих в какие-нибудь идеалы, убеждали, что
идут поиски истины. Другим говорили прямо о
прикрытии ложью своих истинных целей и указывали на их
выгодность, ибо "удовлетворение себя самого выше
государства, выше нравственности, выше религии, выше об-
щества"216. Ложь призвана была содействовать клевете,
направленной против лиц старого режима, безупречных
в нравственном отношении, с целью разрушения
идеологии противника. Во имя общего блага, ради стремления
понизить все благородное до уравниловки, до
"совершенного равенства", из зависти к выдающимся
способностям, ради пищеварения как единственно существенного
жизненного акта и т. д. должен быть заменен
божественный лик великого идеала, до той поры наполнявший
душу. Ради этого можно "действовать насилием, ложью,
обманом, убийством, клеветой и воровством до тех пор,
пока оно еще не одержало верх... А впрочем, и далее
можно так действовать"217. Высшие способности
изгоняют или казнят. "Цицерону отрезывается язык, Копернику
выкалывают глаза, Шекспир побивается каменьями"218.
Провозглашение атеизма стало лучшим средством
разрушения религиозной веры, деморализации людей
и доведения их до отчаяния. Предводители нигилизма,
исповедуя "разные пищеварительные философии"219,
питали в глубине души спокойное и четкое убеждение, что
христианство для живой жизни человечества совершенно
269
не нужно, оно даже несомненно вредно. В прокламациях
содержались призывы закрыть церкви, уничтожить веру
в Бога, покончить с браком, отменить право
наследования, взять в руки топоры и ножи. Такую прокламацию
в 1861 г. Достоевскому прикрепили к двери. В "Послании
к барским крестьянам" даже Чернышевский призывал
крестьян: "Ружьями запасайтесь, кто может, да всяким
оружием", а в вилюйской ссылке он пишет в "Гимне деве
неба": "...посылайте за оружием. Раздавайте всем его...
и к победе в бой... И бежит перед вами враг"220.
Ложь и клевета у нигилистов должны были служить
разложению морали: "Учитель, смеющийся с детьми над
их Богом и над их колыбелью, уже наш. Адвокат,
защищающий образованного убийцу тем, что он развитее своих
жертв и чтобы денег добыть, не мог не убить, уже нет.
Школьники, убивающие мужика, чтоб испытать
ощущения, наши. Присяжные, оправдывающие преступников,
сплошь, наши. Я поехал [за рубеж] — свирепствовал тезис
Littre [ученик О. Конта, отвергавший религию и
защищавший "научный" позитивизм. — Р. Я.],что преступление
есть помешательство; приезжаю — и уже преступление не
помешательство, а именно здравый-то смысл и есть, почти
долг, по крайней мере благородный протест... Русский Бог
уже спасовал перед "дешевкой". Народ пьян, матери
пьяны, дети пьяны, церкви пусты... Одно или два
поколения разврата теперь необходимо, разврата неслыханного,
подленького, когда человек обращается в гадкую,
трусливую, жестокую, себялюбивую мразь, — вот чего надо!
А тут еще "свеженькой кровушки", чтоб попривык" —
таково кредо Петра Верховенского в "Бесах"221. Пропаганда
должна охватить всю страну и во всех деревнях
распространять любой ценой сомнение, цинизм, скандал и полное
безверие. Целью деморализации является пробуждение
в народе тоски по чему-то лучшему, а также тягостное
чувство, что современные условия непереносимы.
Если глухое недовольство народа усилить и склонить
умных к делу революции, тогда со временем можно
перейти к прямому разрушению. Поджоги могут
привести страну к гибели, так как они в России являются
особым народным средством мщения. "Мы
провозгласим разрушение... почему, почему, опять-таки, эта идейка
так обаятельна! Но надо, надо косточки поразмять. Мы
пустим пожары... Мы пустим легенды... Я вам... таких
охотников отыщу, что на всякий выстрел пойдут да еще
270
за честь благодарны останутся. Ну-с, и начнется смута!
Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал...
Затуманится Россия, заплачет земля по старым богам..."222.
В отличие от теоретического политический нигилизм
не останавливается на пропаганде. Он начинает,
насколько это возможно, с практического применения идеи,
принимается за дело. Каждый имеет право, если его влечет
какое-то побуждение, не страшиться никаких
препятствий. Его не могут удержать никакие моральные
запреты, так как ведь нравственного закона нет. Разрешается
также и убийство. Преступление представляется как
взрыв благородного отчаяния, как протест против
несправедливого порядка. Совестью убийство больше не
воспринимается как бесчестие. Благодарность и
нравственные соображения отбрасываются. Практический
принцип нигилистов исчерпывается безграничным
притязанием на собственное право, отрицающее права всех других.
Однако остается совершенно неясным, в чем состоит это
"право" нигилистов. Их представления о праве отходят
от нравственного права через право кулачное к праву
произвола, который ведет к рабству. И наконец,
ухватываются за преступление и убийство, поскольку эти
последние являются простейшей формой действия.
Теоретические выкладки нигилистов, подчеркивал
Достоевский, абсолютно оправдывают убийство223. Их
сердце омрачено настолько, что бесспорное преступление уже
и не считается за таковое. Угас голос совести, и древняя
заповедь "Не убий!" считается предрассудком224. Там, где
разрушен прежний уклад морали, он не может быть
восстановлен. Само удовлетворение потребностей
понуждает людей совершать и убийства для достижения своих
целей225. Бедственное социальное положение,
несправедливый общественный порядок, учитывающий только
интересы высших классов, безудержное стремление, наконец,
к собственной выгоде допускает ради удовлетворения
своих интересов и крайние формы массового насилия.
Бакунин писал, что революционер не должен колебаться,
если нужно уничтожить чье-то положение, место или
человека. Он должен ненавидеть все и вся. Политический
нигилизм присваивает себе право истреблять и искоренять
всех противников революции. Картина истории,
созданная политическим нигилизмом, представляет две
противостоящие друг другу общественные силы, одна из которых
(прогрессивная) достигает победы и уничтожает другую.
271
Убийство рассматривается также как превосходное
средство связать общим преступлением членов тайной
организации. К тому же следует поскорее приучить
людей к кровопролитию и к преодолению древнего
иррационального страха перед убийством: ведь будущего
счастья можно достигнуть лишь пролитием крови.
Чистый нигилизм ищет в убийстве наиболее удобный
способ уничтожения старого: благодаря цивилизации
человек все больше жаждет крови, хотя Бокль и Штраус,
как ядовито замечает Достоевский, утверждают
обратное. Самые "утонченные кровопроливцы" были людьми
цивилизованными226. Человек с помутившимся
нравственным чувством приходит в один прекрасный момент
к мысли убить другого, поскольку "кровь освежает"227.
Хотя с самого начала провозглашалось, что новый
общественный порядок должен быть основан только на
принципе справедливости, нигилисты рассматривали этот
программный пункт только как уловку. Сострадание
было отброшено как нечто никчемное и низменное. Так
провозглашали, по существу, Прудон и Маркс, и на этой
основе Золя построил свои романы. "Мыслят устроиться
справедливо, но, отвергнув Христа, кончат тем, что
зальют мир кровью, ибо кровь зовет кровь, а извлекший
меч погибнет мечом. И если бы не обетование Христово,
то так и истребили бы друг друга, даже до последних двух
человек на земле. Да и сии два последние не сумели бы
в гордости своей удержать друг друга, так что последний
истребил бы предпоследнего, а потом и самого себя"228.
Какие положительные обещания дает революционный
нигилизм? Как к ним относится Достоевский? Хотя
нигилизм живет только волей к разрушению и имеет
негативные идеалы, должен же он все же дать и положительные
обетования, если он хочет привлечь на свою сторону
массу. Люди должны быть убеждены, что "что-то тут
есть", что провозглашаются новые, положительные идеи.
Злой дух нигилизма разжигает страстную веру в себя, он
действует с помощью положительных обещаний. В
антихристианском духе он провозглашает и обещает всем, кто
еще не истреблен, всеобщее благоденствие в царстве
земной справедливости. Все, кто утомился ждать
осуществления "Христова царства", царства любви, — от
беднейших и сирот до высших слоев интеллигенции — примкнут
к нему. Идея чисто земного благоденствия убедит массы,
так как это единственная идея, указанная им со времени
272
уничтожения христианской веры. Бабеф возвестил первым,
что французская революция потому не стала
окончательной, что она означала лишь победу одного общественного
класса над другим и что за политическим освобождением
должно последовать социальное. Он был устранен
буржуазией, отмечал Достоевский, как ее докучливый критик. За
ним следовали Кабе, Сен-Симон и Фурье, которые ставили
вопрос в нравственном плане, связывая социализм с
моралью, защищая идею о предполагаемом счастье
человечества. С 1848 г. моральная сторона социализма была
отброшена и использовалась ораторами "для красы, чтоб
скрасить дело, придать ему вид высшей справедливости"229.
Но одна-единственная идея неспособна завлечь массы.
Поэтому выдвигается призыв покончить с правом
наследования, уничтожить собственность, поскольку она есть кража
(Прудон), обосновывается право на бесчестие, поскольку
честь представляется как непереносимое бремя. Призывают
к отмене брака и к торжеству свободной любви.
Чернышевский в романе "Что делать?" изобразил утопическую
картину будущего порядка социальной общности, в
котором возвышенное место занимает именно такая любовь.
И в романе Герцена "Кто виноват?" доказывается
неправомерность нерасторжимости брака. Эти идеи соблазняли
часть интеллигенции, подчас не из совсем чистых оснований:
"Вы убеждены, что все... тяготятся браками, только и
жаждут дворцов из алюминия, в которых можно будет плясать...
и уводить в отдельные комнаты общих жен и мужей..."230
Новая общественная структура должна строиться на
строго разумных и подтверждаемых опытом принципах.
Труд и собственность разделяются совершенно
равномерно, права и обязанности индивида регламентируются
законами и постановлениями. Вожди революции,
конечно, исключаются из всеобщего равенства. Жизнь должна
протекать под административным управлением и
наблюдением в артелях. Они ждут, "чтобы народ снес [им] свое
имущество, бросил детей, поругал церкви"231.
Политически опасные или не вызывающие доверия элементы
осуждаются или устраняются посредством организованного
террора. От всех членов нового общества требуется
безусловное повиновение. Сам дальнейший прогресс науки
становится необязательным. Подготовленный наукой
материал уже достаточен для формирования грядущего
тысячелетия. Бакунин считал, что революционер должен
отречься от науки, ибо он знает только одну науку:
273
разрушения! Для этого и только для этого он должен
штудировать механику, химию, может быть, также
медицину. В личности тоже нет больше нужды, поскольку она
постоянно пытается восставать против равенства. Они
требуют полной безличности и "в этом "самый смак"
находят! Как бы только самим собой не быть, как бы
всего менее на себя походить! Это-то у них самым
высочайшим прогрессом и считается"232.
Существует определенный тип людей, которые по
своему характеру призваны служить делу революции.
Достоевский называет один из таких характеров типом
"больного самолюбия", проклинающим в своих речах любой
ранг, пока он сам не получил никакого, хотя в душе
жаждет отличий и рангов. Человека такого типа
удовлетворить очень легко, предоставив ему пост или одарив
чином. Нет ничего более привлекательного, как эти посты
и титулы. Затем есть тип "духовного лакея", который
всегда хочет быть самым прогрессивным и примыкает
в наиболее экстремальной форме к любой новой идее,
если только она радикальна. Главная сила, скрепляющая
этих людей, состоит в том, что им стыдно иметь
собственное мнение. Такими людьми можно руководить как
угодно, поскольку против них всегда есть под рукой аргумент,
что они отклоняются от генеральной линии. Далее,
имеется род людей, воодушевленных безграничной грязной
злобной ненавистью к старому порядку и его
представителям. Такие люди стали бы несчастными, если бы старый
порядок привел к счастью, благополучию и духовной
свободе, ибо у них не было бы никого, кого можно было
бы ненавидеть. Они болтают о невидимых слезах, о смехе
сквозь слезы, но эти слезы в действительности вовсе не
существуют: "Никогда еще не было сказано на Руси более
фальшивого слова, как про эти незримые слезы!"233 Затем
имеются жаждущие наживы, только для того
отрицающие собственность, что надеются получать, сделавшись
функционерами, большие доходы. Наконец, существует
тип "первого благородного порыва пылкой молодости",
проникнутой лучшими сентиментальными чувствами234.
Сильнейшим орудием в революционной борьбе, по
мнению Петра Верховенского, является миф о
политическом вожде, о котором народ думает, что он действует
с железной и безошибочной логикой и способен
осуществить переворот. "Мы скажем, что он "скрывается"...
Знаете ли вы, что значит это словцо "Он скрывается"?"235
274
Нужно создать легенду, какая есть у скопцов, верящих, что
Кондратий Селиванов — глава их секты — и есть
воплощение Бога и как мессия прибыл, чтобы основать царство
Божие. Должно стать повсюду известно, что новый вождь
уже здесь, но никто не должен его видеть, кроме самых
высших среди сотен тысяч. Главное, чтобы сбитые с толку
люди чувствовали, что у него огромная сила. Именно им
он и нужен, именно о таком они и плачут. "Ну что
в социализме: старые силы разрушил, а новых не внес.
А тут сила, да еще какая, неслыханная! Нам ведь только на
раз рычаг, чтобы землю поднять. Все подымется!"236
Миф высвобождает в человеке небывалые силы.
Исполненное тайны воздействие, слух, что новый
освободитель слышит упования простого человека, надежда, что
провозглашен новый земной закон — все это апеллирует
к древнейшим инстинктам человечества, и люди
соблазняются на уничтожение старого порядка. Не социалисты,
но провозвестники нового мифа — политические
нигилисты возглавляют и завершают революцию. Прудон мог
верить в превосходство социализма и в слабость
политических притязаний леворадикальных элементов, потому
что он не знал о силе мифа. Человечеству, как и
некоторым социалистическим учениям, недостает
таинственности, к которой стремятся нигилисты, как к хлебу
насущному. Основание О. Контом церкви должно показаться
смешным рядом с той властью над душами, какой
обладает нигилизм, опирающийся на миф. Не Сорель
является отцом-открывателем политического мифа, а уже
Достоевский. "Главное, легенду!"237 Нигилизм и его миф
заступает место уничтоженной религии.
Такова система политического нигилизма. Многое
в ней может показаться фантастическим даже сегодня;
мы, в частности, не думаем, что было и есть
политическое направление, своего рода авангард "отрицания ради
отрицания, революции ради революции... с неистовым
напором к разрушению всех культур и самой истории"238.
Но Достоевский понял самую сущность этого явления,
причем несравненно глубже и лучше, чем Тургенев. Опыт,
полученный в кружках Петрашевского и Спешнева,
наблюдение за революционной деятельностью Бакунина,
которого Достоевский мог видеть в конце 60-х гг. в
Женеве, разоблачения, связанные с убийством Нечаевым
и его бандой студента Иванова, побудили его к
открытому удару против революционеров, к разоблачению их
275
мировоззрения, их целей и методов. В набросках к
"Бесам" он называл нигилистов незрелыми мальчишками,
"которых надо больно высечь", ничего не понимающих
в обществе и не уважающих его239. Достоевский указывал
на учителей этой молодежи. Молодые опирались на
мировоззрение старшего поколения духовных пастырей
— Чаадаева, Белинского, Тургенева, чьи взгляды они
радикализировали, заодно сокрушив их веру и идеалы.
Молодежь верила, что в нигилизме она совершила
большое открытие, не подозревая, что человечество давно бы
догадалось об этом, если бы это было истиной, и не
страдало тысячу лет, поджидая только их. Под немецкой
опекой верхний слой России слишком долго вел
несамостоятельную жизнь. Были легкомыслие и разврат, так
что мало накопили воспоминаний и преданий о борьбе
и труде, ради которого надо было бы закладывать жизнь.
Разве неудивительно, что теперь попадают впросак,
легкомысленно откликаясь на надувательство глупых и
развращенных бездушных мальчишек240.
Интеллигенция живет в отрыве от народа и хочет
принудить этот народ принять новый порядок,
заимствованный в Европе. Она, однако, не любит народ и не
привязана к нему. И вот лишенный корней высший слой
с потрясающим легкомыслием в конце концов выдумал
даже политический нигилизм. Если бы он был
осуществлен, считал Достоевский, человечество постигла бы
ужасная катастрофа, какой еще не было, оно было бы
ввергнуто не только в телесное, но и в духовное
тотальное рабство. Любой действительный прогресс
осуществляется в истории человечества только постепенно в
течение столетий. Если революция все же разрушит
созданные до той поры социальные формы, для человечества
нет иного выхода, как снова восстановить уже созданное,
на что потребуется едва ли не столетие.
Конечная цель радикального нигилизма есть
уничтожение человечества. Особенность нигилизма, своего рода
извращенная человечность, состоит в том, что он ведет
людей к уничтожению с завязанными глазами, чтобы они
в пути были немножко счастливы и не замечали, куда их
ведут. Им важно, чтобы мир лишился смысла и цели,
смысла для них не только нет, но и не должно быть.
Часть пятая
МЕТАФИЗИКА:
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
ФИЛОСОФИЯ
Грехопадение
Обращаясь к положительной
философии Достоевского, напомним еще раз
его исходные позиции. До сих пор мы
выявили идеи о смысле бытия, о воле к жизни, а также факт
непостижимости бытия вне и внутри нас. В положительной
философии критически рассматриваются и
преодолеваются те позиции, которые выдвигаются сторонниками
философии негативного. Проделанный анализ свидетельствует
о том, что в этой философии не были разрушены основания
идей о смысле бытия и о воле к жизни. Перемещая идею
о смысле исключительно в человеческий разум, негативная
философия принимает утрату смысла бытия всего лишь
как факт, т. е. без каких-либо доказательств. А между тем,
пока человек сознает и свободен, он обращает свои
ожидания к бытию, как если бы оно было исполнено смысла, и не
удовлетворяется жизнью, которая не соответствует этим
ожиданиям. Стремление к смыслу есть, следовательно,
реальный выбор, независимо от того, существует смысл
или нет. И человек пытается — хотя смысл изначально
и приговорен к опровержению — от лица собственного Я,
насколько позволяют силы, все же установить его.
Второй важный результат негативной философии
состоит в том, что она не опровергает наличие воли к жизни:
воля сохраняется; рассудок же, не способный доказать
фактическое отсутствие смысла бытия, но настаивающий
на его бессмысленности, заводит волю в тупик, приводит
человека в отчаяние. Ибо в таком мире человеческая воля
к жизни остается по своему существу неудовлетворенной;
хаотический бессмысленный мир оказывает столь
негативное воздействие на волю к жизни, что она обречена на
вырождение и гибель. Перед положительной философией
277
стоит тем самым весьма трудная задача: обнаружить
полный смысл в таком бытии, которое, как
представляется, в столь существенных пунктах противоречит всем
надеждам на его смысл.
В области теодицеи (оправдания Бога) имеются
сторонники взгляда, преуменьшающего значение преходящего,
страдания, зла и смерти. В противоположность этому
задача тех, кто верует и признает смысл мира, состоит
в том, чтобы в полном объеме осмыслить и понять
указанные явления. Если уклониться от этой задачи,
собственно положительная философия, так же как и вера, будет
отравлена мыслью о том, что, к примеру, у Бога могут
быть черты несправедливого, цинического, тиранического
и даже бесовского существа. Следовательно, исходный
базис должен строиться на мысли о том, что смысл бытия
имеет место и что наличное бытие, земная жизнь со всеми
страданиями и гибельностью противоречит этому смыслу.
Мы подошли теперь к сложному пункту создания *
философской системы: нравственные требования и реальные
отношения в действительности должны быть согласованы
таким образом, чтобы могла возникнуть единая целостная
картина мира. Возможны различные решения. Либо наша
идея о смысле справедлива, тогда действительность не
может быть такой, как мы ее узнаем на опыте. Либо наша
идея смысла является ложной, т. е. недостижимой и
непостижимой, и действительность такова, какой мы ее знаем,
а нашему разуму не дано ухватить тот совершенный смысл,
который в ней заложен. Либо, наконец, оба эти факта
сосуществуют, т. е. хотя наша идея о смысле и
недостаточна, но и действительность на самом деле совсем не та, какой
она нам является. Достоевский предпочел это последнее
комбинированное решение. Для прояснения нашего
положения в мире и самого мира он использовал теорию
грехопадения. В "Сне смешного человека" в поэтической форме он
описывает свое понимание последнего.
Прежде чем обратиться к теории грехопадения,
уместно прояснить для себя ее трудности. Если было
грехопадение, то как мог Бог его допустить? Говорят, что
грехопадение есть следствие свободного решения человека (и
ангела). Но Бог, создавший и бытие, и его смысл, —
всемогущ и должен быть всезнающим: как мог он не
предусмотреть подобное решение? И мог бы вообще
совершиться выбор зла, если Богом не была создана по
крайней мере его возможность? На этот вопрос невозможно
278
найти ответ путем рассудочных размышлений.
Современные христианские мыслители постоянно указывают на то,
что и грехи должны для чего-то пригодиться; но принимая
эту мысль, следует все же поставить вопрос, не мог ли Бог
придумать другого, более исполненного смысла
инструмента, который бы служил его целям? Человеческому
решению предлагается еще одна весьма парадоксальная
мысль: и зло тоже имеет смысл, причем этот смысл
абсолютен. Подобная мысль, однако, опрокидывает всю
этику и не может быть охвачена интеллектуальными
способностями человека. Почему мы не должны и не
можем творить зло? Одним словом: мысль человеческая не
в состоянии выявить полностью значение грехопадения.
Достоевский не дает объяснение грехопадению. Он
начинает свое описание необычными словами: "Кончилось
тем, что я развратил их... Знаю только, что причиною
грехопадения был я"1. Он опускает тем самым вопрос
о причинах и смысле грехопадения и исходит из знания-
переживания: из собственного чувства доличностной вины.
Это точно соотносится с его пониманием положения
человека в посюстороннем мире. Перед лицом угнетающей
бездны страданий, утраты смысла, греха и
несправедливости есть только две возможности: либо восстать против
этого злобного мира, в котором мы находимся, за то, что
при творении у нас не спросили совета, поставить себя вне
его событий, отделиться от него и сделаться самим злыми;
либо принять всю вину на себя, как свою собственную,
особую единственную вину, и тогда путь спасения состоит
в деятельной искупающей любви и всепрощении.
По библейскому преданию, в начале грехопадения
стояло познание добра и зла (Быт. 2:9; 3:6—7).
Достоевский считает стремление человека высоко ценить
рассудочное познание — выше, чем саму жизнь, — ложным
путем, избранным человечеством при грехопадении.
Познание добра и зла является также не только признанием
зла, но и соблазном творить его. Уверенность в том, что.
достиг истины, является иллюзией, ложью, по крайней
мере на психологическом уровне. Именно в полноте и
завершенности этой иллюзии и лжи и выражается
настоящее грехопадение. Ведь можно представить себе мысль
и поступок объединенными: грехопадение было
познающим деянием и деятельным познанием зла. "Они
научились лгать и полюбили ложь и познали красоту лжи. О,
это, может быть, началось невинно, с шутки, с кокетства,
279
с любовной игры, в самом деле, может быть, с атома, но
этот атом лжи проник в их сердца и понравился им"2.
Ложь есть изначальный первородный грех, и она может
пониматься в ее противоположности истине как лживость
мысли, но также и как житейская ложь. Как таковая, она
пронизывает всю человеческую жизнь до оснований.
Omnis homo mendax (всякий человек — лжец) — это
истинно с тех пор, как существует человек.
Достоевский описывает возникающие из лжи грехи
в определенной последовательности. При изучении этой
проблемы невольно вспоминается (при всем отличии от
идей Достоевского) "Рассуждение о происхождении и
основаниях неравенства между людьми" Руссо. Если Руссо
пытается объяснить деградацию человека природными
причинами, то Достоевский постоянно имеет в виду
ведущее значение нравственных факторов. Из лжи возникло
сначала чувственное удовольствие, сладострастное
наслаждение ложью. Изначальная духовная красота замещается
красотой лжи. Место райского блаженства занимает
чувственное удовольствие и похоть. Чувственное сладострастие
порождает ревность, а эта последняя — жестокость. За
радостями сладострастия всплывает воля к уничтожению,
совмещающая в себе чувственность и жестокость. Желание
безусловного обладания предметом вожделения
связывается со стремлением ревниво защищать его против любого
другого. Возникает борьба между людьми, и "очень скоро
брызнула первая кровь"3. Похоже говорит и Руссо: "Вместе
с любовью просыпается ревность; раздор торжествует,
и нежнейшей из страстей приносится в жертву человеческая
кровь"4. Из-за этого люди разъединяются, становятся
враждебными друг другу и в конце концов пытаются друг
друга уничтожить. Понятия "твое" и "мое" отделились
одно от другого, пока не пришел полный индивидуализм.
Все позднейшие прогрессы, писал, в свою очередь, Руссо,
суть только видимость, так же как и множество шагов
к осуществлению совершенства индивида, ведущие на
самом деле к его гибели. "Первый, кто, огородив участок
земли, придумал заявить: "Это — мое!" и нашел людей,
достаточно простодушных, чтобы тому поверить, был
подлинным основателем гражданского общества. От
скольких преступлений, войн, убийств, несчастий и ужасов
уберег бы род человеческий тот, кто, выдернув колья или
засыпав ров, крикнул бы себе подобным: "Остерегитесь
слушать этого обманщика; вы погибли, если забудете, что
плоды земли — для всех, а сама она — ничья!"5
280
С распадом общности возникло чувство
неудовлетворенности, стремление к новым соединениям и тоска по
утраченному. Люди познали скорбь, в своем ослеплении
даже полюбили свое страдание. Они говорили, что
истина достигается лишь мучением. Место
действительного единства и любви заступили псевдоидеалы братства
и гуманности; сделавшись преступными, люди изобрели
справедливость. Для ее оправдания были установлены
законы, а для их соблюдения изобретена гильотина.
Совершенно так же описывается развитие общества у Руссо:
право собственности привело к возникновению закона,
для соблюдения которого сформировалась
законодательная и исполнительная власть. Это привело к произволу,
который основывается на парных противоположностях:
бедный—богатый, слабый—сильный, раб—господин6.
"Они чуть-чуть лишь помнили о том, что потеряли,
даже не хотели верить тому, что были когда-то невинны
и счастливы. Они смеялись даже над возможностью этого
прежнего их счастья и называли мечтой. Они не могли
даже представить его себе в формах и образах"7.
Воспоминание о прежнем состоянии лежит в сознании человека
только как смутное, почти неуловимое чувство. Возврат
памятью к этому счастью является редчайшим,
исключительным случаем, благодаря которому человек
пробуждается из состояния равнодушия, и его воля к жизни
получает новые стимулы. Теперь человек верит только в самого
себя и лишь эта вера является предпосылкой того, что он
замещает желание осмысленной жизни стремлением
к своеволию. Люди молятся на собственные хотения,
выражая их в идеях, хотя они и предчувствуют, что их
осуществление не принесет им никакого удовлетворения.
Человек убежден: поскольку он вступил на этот путь,
ему не дано вернуться назад к привычному райскому
существованию; более того, если бы это было вообще
возможно, он бы определенно не захотел. "Они отвечали
мне: "Пусть мы лживы, злы и несправедливы, мы знаем
это и плачем об этом, и мучим себя за это сами, и
истязаем себя и наказываем больше, чем даже, может быть, тот
милосердный Судья, который будет судить нас и имени
которого мы не знаем. Но у нас есть наука, и через нее мы
отыщем вновь истину, но примем ее уже сознательно"8.
Признав значимость становления сознания, можно
прийти к объяснению грехопадения, но полностью
объяснить его причины и сущность нельзя. В грехопадении было не
281
только отрицательное содержание, благодаря ему
человечество сделало еще один шаг на своем пути и не может
вернуться вспять. Страданию и греху придается скрытый
смысл.
Решение проблемы лежит в понимании
сознательности. Если для этого используется только рассудочное
познание, человечество вступает на ложный путь. Каждый
в конце концов видит единственное оправдание только
в своем собственном существовании, каждый любит лишь
себя, любимого. Каждый "столь ревнив к своей личности,
что изо всех сил старался лишь унизить и умалить ее
в других, и в том жизнь свою полагал"9. Сильные
подчиняют себе слабых, которые подчас даже добровольно
подчинялись сильнейшим, чтобы обрести защиту и давить более
слабых, чем они сами. По Руссо, ловкость и умение
развились в некоторой степени не столько из
действительной потребности, сколько из-за стремления перещеголять
ближнего, что способствовало рабству. Редкие пророки,
оплакивавшие человечество за его утраченное счастье,
вспоминали о нем и, предостерегая, хотели склонить его
на другой путь, но их осмеивали, преследовали и убивали.
"Стали появляться люди, которые начали придумывать:
как бы всем вновь так соединиться, чтобы каждому, не
переставая любить себя больше всех, в то же время не
мешать никому другому, и жить таким образом всем
вместе как бы и в согласном обществе"10. Но, как уже
показано, такого рода попытки привели только к
развитию стремления к власти. В результате раскола воля
к жизни ослабевала: одиночка хотел удовлетворить
только свои потребности и использовал для этого любые
злодейства. Если они не удавались, прибегали к
самоубийству. В конце концов небытие утверждалось как цель воли.
Единственное, за что еще может ухватиться человек,
если он не хочет стать добычей нигилизма, есть страдание.
В страдании пропащий в этом мире человек видит высокий
удел, утверждая, что "страдание есть красота, ибо в
страдании лишь мысль... Я ходил между ними, ломая руки,
и плакал над ними, но любил их, может быть, еще больше,
чем прежде, когда на лицах их еще не было страдания
и когда они были невинны и столь прекрасны. Я полюбил
их оскверненную ими землю еще больше, чем когда она
была раем, за то лишь, что на ней явилось горе"11. Так
завершает Достоевский "Сон смешного человека".
Вина
и искупление
Из идеи грехопадения вытекают
многие следствия. Стимулируя главным
образом рассудочное познание,
человек получает ущербное знание о действительности,
в том числе и о себе самом. Само познание оказалось
тоже ущербным. Человек познает с помощью анализа
и последовательно то, что можно познать синтетически
и одновременно. Именно в этом проявляется его грех
и прегрешение. Из состояния любви и истины он был
ввергнут в бытие лжи и отчуждения. Для него важно
больше, чем все остальное, познать истинное свое
состояние и искупить вину за него. Ибо человек виновен в том,
что он сам есть часть зла, за которое он упрекает Бога,
так же как и часть страдания в мире, одной из причин
которого является он сам. Если мы хотим покончить
с наличием зла и вины, мы должны прежде всего
признать нашу собственную вину.
Представим себе еще раз нигилистическую точку
зрения. Основное положение нигилизма гласит: нет
преступления, нет вины12. Обоснование этого тезиса состоит
в следующем: 1) В объективной действительности нет
смысла и, следовательно, обязательного нравственного
закона, и правонарушение осуждается не само по себе,
а только параграфом закона, установленного обществом,
которого преступник не признает. 2) Преступления не
существует, так как нет свободы воли. Любой человек
в своих волевых решениях полностью зависит от закона
причинности. 3) Поведение человека определяется
преимущественно средой, а во вторую очередь — и
характером. Внешний мир, воспитание и характер оказывают
огромное влияние на хотения человека13. Достаточно
преобразовать общество, чтобы покончить с преступностью.
Бердяев писал об этом так: "Совершенный человек
автоматически создается совершенным социальным строем,
в котором недопустимы и невозможны никакие
безнравственные акты. Это есть в новой форме... все тот же
парадокс-зла. Должно быть, возможно зло, чтобы было
283
возможно добро"14. 4) Люди, особенно развитые,
возвысившиеся над средним человеком, имеют право
переступить через закон. 5) Особая, ослабленная форма
нигилистического понимания преступления приспособлена
для судебной практики, когда пытаются (чтобы
освободить преступника от наказания) доказывать, что в
момент свершения преступления человек был невменяем,
болен или безумен.
Этому негативному пониманию Достоевский
противопоставил положительное решение. Если есть
преступление, есть и грех, так как существует объективный
обязательный для всех нравственный закон. Человек как раз
из нравственной идеи приходит к критике Бога, т. е.
своего несовершенного и неполного представления о нем.
Каждый человек наблюдает или совершает действия,
которые в соответствии с его понятием о смысле или
ценности не следует делать. Он переживает свой проступок
как вину. Указанное чувство является коренным
фактором, который нельзя отвергнуть, можно только
объяснить, что это чувство вводит нас в заблуждение,
поскольку оно побуждается зависимостью от древнейшего
мифологического комплекса. Следствия такого понимания
известны: нет права у человека и даже сверхчеловека
быть независимым и свободным от нравственного
закона. Конечно, окружающий мир оказывает влияние на
поведение, нравственный долг человека — бороться
против среды или влияния, и нельзя определить четкой
границы между влиянием среды и свободным решением.
Значение среды и внешних причин оспаривал и Ницше:
"Внутренняя сила человека бесконечно выше; многое,
рассматриваемое как внешнее влияние, есть только ваша
внутренняя согласованность с ней. Точно так же среда
может использоваться и воздействовать совершенно
противоположно..."15
Что касается характера, то следует сказать, что у всех
людей есть предрасположенность к дурным поступкам
и даже преступлениям. Эта склонность, однако, в
большинстве случаев подавляется. И долг человека —
бороться с ней. Если человек получает удовольствие при мысли
о дурном поступке, если он желает его, он его подчас
и реализует. Счастлив тот, кто хранит подобные
стремления только в своих тайных мыслях. Все, кого влечет
преступление "...любят, все любят и всегда любят, а не
то, что "минуты". Знаете, в этом все как будто когда-то
284
условились лгать и все с тех пор лгут. Все говорят, что
ненавидят дурное, а про себя все его любят"16. Несмотря
на такие задатки, человек — отвлекаясь от
патологических случаев — способен действовать весьма независимо
от своего характера, преодолевая преступные и
греховные склонности. Среда и особенности характера не
извиняют дурного поступка.
Поэтому первая задача человека, если он совершил
преступление, состоит в том, чтобы чистосердечно
ответить за свою вину. Относительно чужой вины следует
спросить себя: "Сами-то мы лучше ли подсудимого?..
Случись нам быть в таком же положении, как он, так,
может, сделаем еще хуже, чем он..."17 Большая заслуга Л.
Толстого, считал Достоевский, состоит в том, что в
"Анне Карениной" он показал, как человек перед лицом
полной жизненной правды винит не другого, а только
себя самого18. В "Подростке" Аркадий Долгорукий
говорит: "Я давно уже заметил в себе черту, чуть не с детства,
что слишком часто обвиняю, слишком наклонен к
обвинению других; но за этой наклонностью весьма часто
немедленно следовала другая мысль, слишком уже для
меня тяжелая: "Не я ли сам виноват вместо них?"19
У совестливых людей стремление обвинять других часто
обращается в преувеличенное самообвинение.
Особенность русского народа, как показал
Достоевский, состоит в том, что он считает преступника
"несчастным". Что побудило народ к такому чувству? По мнению
нигилистов, народ как бы говорит этим, что преступник
есть жертва обстоятельств и среды, что он поэтому
невиновен и несчастен. На самом деле народ в своих глубоких
чувствах отождествляет себя с преступником и думает
о том, что и он виноват тоже и в подобных
обстоятельствах согрешил бы так же, если не хуже. "Словом
"несчастные" народ как бы говорит: "Вы согрешили и
страдаете, но и мы ведь грешны. Будь мы на вашем месте
— может, и хуже бы сделали. Будь мы получше сами,
может, и вы не сидели бы по острогам. С возмездием за
преступления ваши вы приняли тяготу и за всеобщее
беззаконие. Помолитесь об нас, и мы об вас молимся.
А пока берите,"несчастные", гроши наши; подаем их,
чтобы знали вы, что вас помним и не разорвали с вами
братских связей"20.
Преступление не изолированно, хотя оно является
личным проступком и подлежит личной ответственности,
285
поскольку осуществляется свободной волей индивида.
Характерными чертами, общими для преступного
поведения, являются: 1) Дурной пример окружающих. Если
бы они оделяли своих близких любовью и были
безгрешны сами, люди не вступали бы на преступный путь.
Всеобщая черствость и отсутствие любви отрицательно
действуют на человека и толкают к преступным
решениям. Следовательно, предпосылкой преступления является
состояние "всеобщей несправедливости". 2) Многие сами
хотят проступка и преступления, они горячо его
оправдывают в сердце своем и стремятся ему навстречу. 3)
Бывает, что люди совершают мелкие и крупные
преступления, за которые они не подвергаются наказанию либо
потому, что их не раскрыли, либо потому, что для этого
не было законных оснований. Не искупив вину, люди
тяготятся под ее бременем. Те же, кто подвергаются
наказанию, несут поэтому его и за других, ибо мера
наказания психологически рассчитана таким образом,
что она держит в страхе всеобщие импульсы к
преступлению. Но так как наказанию подвергается только одна
часть преступников, эти последние получают по
сравнению с виновными, но не наказанными слишком высокое
наказание.
Из этого следует, что существует солидарность греха
и преступления21. К этому добавляются еще более
глубокие основы. Люди не хотят признавать общую вину; они
хотят отвечать и нести наказание только за те грехи,
которые совершили сами. Жизнь же, однако, втягивает
их в виновность, прежде чем они придут к полному
осознанию своей свободы и нравственной
ответственности. Это приводит к отчаянной борьбе против этого
личного чувства, когда они отвергают собственную
виновность, хотя в душе все же чувствуют, что они ее отчасти
несмотря на все несут. Человек сопротивляется
наличному бытию такого рода. Он считает несправедливой эту
вину. В таком сопротивлении выражается прежде всего
чистота, которую сохраняет душа человеческая и которой
она не хочет поступиться; а кроме того, ужас перед
грехопадением, под воздействием которого пребывает
душа, и утрата надежды на возможность спасения. Н.
Федоров сводит ужас грехопадения к знанию об условиях
зачатия. Но тем самым проходит мимо его глубочайшей
основы. Ужас заключается в осознании того, что
произошло отпадение от Бога и, следовательно, от самого себя.
286
Борьба против Бога есть не что иное, как борьба против
себя самого. Грехопадение необратимо. Остается только
признать вину и раскаяться. Ужас же служит тому, чтобы
пробудить волю к жизни, и придать человеку силы через
искупление вернуться к Богу. Ибо тем самым он
возвращается к своей собственной самобытности.
Безусловно необходимо, чтобы человек своей падшестью не
отвергал свое человеческое бытие и еретически не отклонял
его. Но он должен смиренно принять наличие
греховности и любить свою греховную жизнь. "Не бойтесь греха
людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж
подобие божеской любви и есть верх любви на земле...
Веруй, что Бог тебя любит так, как ты и не помышляешь
о том, хотя бы со грехом твоим и во грехе твоем
любит"22. Это не означает, что отношение человека к греху
должно измениться и что нужно глядеть на него сквозь
пальцы; напротив, это значит только, что нельзя
отвергать за грехи ни ближних своих, ни самого себя, ни
человека вообще — нужно примириться с фактом вины
и ее непостижимой необходимостью. С Божьей помощью
узнаем мы в греховности человека, идущего по ложному
пути, изначальные добрые стремления. Почти любой
грех, по крайней мере частично, исходит из ошибочно
понятого, но доброго стремления.
Нужно сказать, что в любовном опыте душа любого
человека стремится воплотиться во всеобщем синтезе,
т. е. соединиться в любви своей со всеми другими
людьми. Такое стремление ведет к постижению единства
людей и их сущностной связанности друг с другом. Человек
как единичная сущность не изолирован, как может
показаться его рассудку, он тесно связан и даже частично
тождествен с другими людьми. Общий прачеловек
(Адам) совершил грехопадение и потерял невинность. Те,
кто хочет исполнить закон любви, не могут быть
равнодушными к нему. Из этого также вытекает общность
вины не только из-за грехопадения, но и за все
преступления на этом свете23. В этом смысле можно даже
согласиться с тем, что общество виновато в преступлениях
индивида; но общество не есть нечто среднее, не массовая
"душа", а Я и ТЫ, мы все. Вина общества есть тем
самым наша, твоя вина. Ибо мы все по совести и перед
Богом отвечаем за наши грехи. Но вина состоит не
в простом соучастии отдельного человека во всеобщей
мирской вине. "Ибо знайте, милые, что каждый единый
287
из нас виновен за всех и за все на земле несомненно, не
только по общей мировой вине, а единолично... Сие
сознание есть венец пути... всякого человека на сей
земле... Тогда лишь и умилилось бы сердце наше в любовь
бесконечную, вселенскую, не знающую насыщения"24.
Если человек принимает на себя вину другого только
теоретически и в общем плане, он смотрит со стороны
и свысока. Он должен, однако, понять, что несет еще
большую вину и что сам он хуже других, ибо иначе не
может прийти к подлинному смирению и любви. Эту
истину понять полностью нельзя, она может лишь
мучительно предчувствоваться, и ее справедливость
доказывается теми плодами, которые она приносит25.
Именно в грехе и в отношении к нему выявляется,
истинно ли религиозен человек или нет. Ибо только
религиозный человек может чувствовать себя
действительно виновным и принять свою вину во искупление.
Религиозность не затрагивается даже преступлением.
Преступник, сознающий свою вину более, чем другие,
нуждается в Боге, поскольку только в нем он может
найти опору, когда будет в наказание за преступление
отрешен от общества. Человек никогда не должен
сомневаться в том, что состояние греха есть временное
состояние и что он когда-нибудь от него избавится.
Когда Достоевский закончил роман "Идиот", он
писал Н. Страхову, что ему удалось выразить в нем едва ли
десятую часть того, что его волновало. Он заметил
также, что то, что другим в его повествовании может
показаться фантастическим, открылось ему как реальная
основа души. Ибо внутренняя реальность человека всегда
фантастична и исключительна. Представляется, что в
основе произведений Достоевского лежит еще более
последовательная концепция вины, выразить которую
полностью ему не удалось. Для этого есть достаточно
доказательств. Достоевский прежде всего обращается
к убийству как к наиболее тяжкому преступлению и
приходит при этом к своеобразным результатам. В образах
Раскольникова, Рогожина, Дмитрия Карамазова он
осветил воздействие убийства на душу преступника. Все
трое побуждались к убийству страстью, хотя их
религиозное чувство оставалось живым. "Пусть я проклят, —
говорит о себе Митя Карамазов, — пусть я низок и подл,
но пусть и я целую край той ризы, в которую облекается
Бог мой; пусть я иду в то самое время вслед за чертом,
288
но я все-таки и твой сын, Господи, и люблю тебя, й
ощущаю радость, без которой нельзя миру стоять и быть"26.
Все три образа в развитии их характера генетически
связаны единым поэтическим замыслом. Для всех
описывается путь к спасению, которого они достигают после
попытки или свершения преступления.
Преступление Раскольникова в "Преступлении и
наказании" являет собой "убийство матери" (хотя,
естественно, старуха процентщица не была его матерью, здесь
имеется в виду мифологический принцип). Достоевский
восстановил миф о матери-земле из доличностной
глубины своей собственной души и духовных элементов
русской народности. Отрыв и восстание против народа
одновременно осмысляется как бунт против материнско-
женственных элементов космоса, зачинающих и
вынашивающих жизнь. Их оскорбляет властный рассудок и
насильственное вторжение. Они сопротивляются, ибо
природа не так легко позволяет обнажить свои покровы.
Преступление создает пропасть между убийцей и
окружающим миром, и его вера в то, что в его руках находится
жизнь, неожиданно обращается в ни на что не годную
глупость. Убийство повергает преступника в полное
мучений одиночество и покинутость, невидимая стена
отделяет его от близких и любимых; между ним и ними
— пролитая кровь. Ему представляется, будто он должен
привнести "вечность в аршинное пространство". В это
изначальное одиночество все громче и громче
прорываются требующие мести голоса подсознательного. В
одном из снов Раскольникова, содержание которого имеет
мифологический характер, можно проследить обратное
воздействие осознания вины. Раскольникову снится, что
он снова вернулся к месту убийства, чтобы посмотреть,
не изменилось ли оно. Он видит себя в комнате убитой
процентщицы и удивляется изменениям. "Осторожно
отвел он рукою салоп и увидел, что тут стоит стул, а на
стуле в уголку сидит старушонка, вся скрючившись и
наклонив голову, так что он никак не мог разглядеть лица,
но это была она. Он постоял над ней: "боится!" —
подумал он, тихонько высвободил из петли топор и ударил
старуху по темени, раз и другой. Но странно: она даже
и не шевельнулась от ударов, точно деревянная. Он
испугался, нагнулся ближе и стал ее разглядывать; но и она
еще ниже нагнула голову. Он пригнулся тогда совсем
к полу и заглянул ей снизу в лицо; заглянул и помертвел:
10 Райнхард Лаут 289
старушонка сидела и смеялась, — так и заливалась
тихим, неслышным смехом, из всех сил крепясь, чтобы он
ее не услышал. Вдруг ему показалось, что дверь из
спальни чуть-чуть приотворилась и что там тоже как будто
засмеялись и шепчутся. Бешенство одолело его: изо всей
силы начал он бить старуху по голове, но с каждым
ударом топора смех и шепот из спальни раздавались все
сильнее и слышнее, а старушонка так вся и колыхалась от
хохота. Он бросился бежать, но вся прихожая уже полна
людей, двери на лестнице отворены настежь, и на
площадке, на лестнице и туда внизу — все люди, голова
с головой, все смотрят, — но все притаились и ждут,
молчат... Сердце его стеснилось, ноги не движутся,
приросли... Он хотел вскрикнуть и — проснулся"27.
Здесь из доличностного бессознательного
воссоздается миф об убийстве матери-земли и мстительной Гее,
которая посылает Эриний-мстительниц. Наличие этих
подавленных голосов, образов и персонификаций не
оставляет убийце надежды на искупление. Из доличностной
основы души поднимается нечто, что сильнее
человеческого Я, что терзает того, кто причинил вред природе.
Похоже, но в то же время и по-другому, обстоит дело
с убийством отца. Шиллер в "Разбойниках" (V, 1) назвал
это величайшим грехом наряду с убийством брата. В
отцеубийстве человек восстает против духовного принципа,
в конце концов против Бога. В основе философии
Достоевского (как позже, к примеру, и у Ш. Пеги) лежит мысль,
что род человеческий образует органическое единство,
которое движется во времени и берет начало в акте
творения Бога как своего отца. В речах защитника и
прокурора на процессе по делу об отцеубийстве в "Братьях
Карамазовых" значение отцовства раскрыто
недостаточно. Был ли отец творцом благодаря одному только
зачатию или он стал им в ходе духовного воспитания
ребенка? Если он стал им только в акте творения, тогда дитя
вправе спросить, обязано ли оно признавать такого отца,
таково мнение защитника. Можно сказать: "Он не знал
ни меня, ни даже пола моего в ту... минуту страсти,
может быть разгоряченной вином... Зачем же я должен
любить его, за то только, что он родил меня, а потом всю
жизнь не любил меня?"28 По мнению прокурора, отец
в любом случае — отец, все равно, как он относится
к своему ребенку. Что станет с основаниями общества,
куда придет семья? Но даже это основание не является
290
главным. Не ради сохранения семьи ребенок обязан
благоговеть перед отцом, а из представления о достоинстве
отцовства как такового, безразлично, как бы плохо ни
выражал это достоинство иной из отцов. Отец передает
наследие предков своему сыну, в своем ребенке он
продолжает длинный ряд поколений. В патриархальной
семье этим путем ребенок получает духовное достояние
человечества. Восстание против отцовства означает
восстание против предков вообще, против прошлого рода
человеческого, против исторической традиции. Оно стоит
в резком противоречии с долгом воскрешения отцов,
защищаемым в своей философии Н. Федоровым,
которую Достоевский знал и принимал. В отцеубийстве
разрывается связь человечества во времени и тем самым
в конечном счете с Богом как творцом ограниченного
временем человека. Оно является вторжением в порядок
божественного творения и попыткой покушения на
историческую миссию человечества. Отцеубийство
побуждается не только доличностным бессознательным, но
и потерей внутренней связи с Богом.
В обоих случаях — убийстве матери и отцеубийстве
— преступление не ограничивается личностной сферой.
Оно больше всего затрагивает душевную сферу
бессознательного, в которой эти преступления расширяются до
космического уровня. Из бессознательного выявляются
реакции, наполняющие преступника "мистическим
ужасом" и смущающие его разум, пока он не раскается
в содеянном.
У Достоевского есть еще одно, полное таинственности
и особенно темное понимание убийства, которое
совершается в романе "Идиот". Можно подумать, что в
"Идиоте" преступлению приписывается положительное
значение. Мотивы убийства Рогожиным Настасьи
Филипповны не были названы Достоевским, они остаются во
мраке. Историки литературы пребывают в неуверенности
в том, как им судить о поступке Рогожина. Одни как
мотив убийства называют ревность, другие — отчаяние,
третьи — жалость. Но признание "многосторонности"
человеческой души позволяет нам принять все эти
мотивы одновременно в их нерасторжимом единстве. В
конечном счете убийство для Рогожина и Настасьи
Филипповны означает спасение. Й. Штейман обратил внимание на
символ мертвого тела: Настасья Филипповна после
смерти оказалась в той же позе, что и умерший Христос на
291
картине в доме Рогожина29. В. Иванов указывал на то,
что имя Настасья образовано от греческого Анастасис,
что означает воскресение™. Настасья Филипповна
приняла смерть точно так же, как Христос, для ее души смерть
означает воскресение. Жертвуя своей жизнью, она
искупает вину ц преодолевает смерть дупщ. Рогожин31 тоже
возрождается для новой жизни, искупая преступлением
земную страсть, которой он безрассудно предался32.
Многие исследователи творчества Достоевского
приходят к ложному выводу, что Достоевский одобряет
преступление и возвышает преступника. Первым в этом ряду
был Ницше. "Преступник, который с твердой, угрюмой
решимостью выбирает свою судьбу и не отрекается от
своего преступления, имеет больше душевного здоровья...
Преступники, с которыми Достоевский жил на каторге,
'были все вместе и в отдельности несломленные натуры
— не являются ли они стократ более ценными, чем
сломленный Христос?"33 Психоаналитик 3. Фрейд писал:
"Преступник для него — почти спаситель, взявший на
себя вину, которую в другом случае несли бы другие.
Убивать больше не надо, после того как он уже убил, но
следует ему быть благодарным, иначе пришлось бы
убивать самому"34. Излишне уделять внимание этим
ошибочным суждениям.
В чем выражается осознание греховности
преступления? Сначала в знании, что совершенный проступок
преступен. Затем наступает раскаяние о содеянном.
Сообщения Достоевского о чувствах и душевных переживаниях
его сибирских сокамерников не свободны от
противоречий. В "Записках из Мертвого дома" он сообщает, что
большинство осужденных покидали острог, не
раскаявшись. В своей статье "Среда" ("Дневник писателя",
1873 г.) он пишет иное: "Верно говорю, может, ни один
из них не миновал долгого душевного страдания внутри
себя, самого самоочищающего и укрепляющего. Я видал
их одиноко задумчивых, я видал их в церкви молящихся
перед исповедью, прислушивался к отдельным
внезапным словам их, к их восклицаниям; помню их лица, — о,
поверьте, никто из них не считал себя правым в душе
своей!"35 Душа очищается от своей вины раскаянием, Бог
за это прощает. Только тогда человек может найти
утешение и не сомневаться в благой милости Божьей. С
другой стороны, Достоевский показал в лице Настасьи
Филипповны, что у человека в глубине души его может
292
корениться самоосуждение и отчаяние. Внутренний голос
говорит ему, что за свои прегрешения ц намерения он
осужден к вечному наказанию. И это отчаяние может
быть преодолено только высшей божественной любовью.
Отсюда чувство раскаяния всегда должно бодрствовать
и человек не должен торговаться с Богом и перекладывать
часть своей вины на него36. Народ знает о значении
раскаяния и молит "Бога, в высшие минуты духовной
жизни своей, чтобы пресекся грех их..."37. Но помимо Бога
человек должен в сердце своем просить о прощении и у
общества, и у природы. Ибо он связан со всеми и своим
грехом он причиняет вред всем, повсюду рассеивая семена
зла. В грехе перед природой проявляется особая
греховность перед вечно женственным, образующим смиренно
терпеливую и непротивленческую сторону космоса.
Может показаться бессмысленным, что человек, подобно
Франциску Ассизскому, просит у птиц прощения. Однако
ведь "все как океан, все течет и соприкасается... Тогда
и птичкам стал бы молиться, всецелою любовию
мучимый, как бы в восторге каком, и молить, чтобы и они грех
твой отпустили тебе. Восторгом же сим дорожи, как бы ни
казался он людям бессмысленным"38. Из связанности
с людьми преступление должно раскрываться перед
народом и церковью как духовной общиной. И только тогда
может быть снята у преступника его социальная изоляция
и восстановлена связь между людьми, основанная на
любви. Поэтому Соня Мармеладова и советует
загнавшему себя в тупик Расколышкову (в "Преступлении и
наказании") пойти на площадь, целовать землю и покаяться
в своей вине. В "таинственном посетителе", о котором
повествует старец Зосима в "Братьях Карамазовых", речь
идет о том же. Одни только внутренние или внешние
мучения и страдания, как бы сильны они ни были, без
раскаяния не могут искупить вину. Искренне
раскаявшийся грешник хочет еще более пострадать, чтобы искупить
свое злодеяние, он способен понять, что ему нужны эти
страдания, чтобы вступить на иной путь. "Понимаю
теперь, — говорит о себе Дмитрий Карамазов, — что на
таких, как я, нужен удар, удар судьбы, чтобы захватить
его как в аркан и скрутить внешнею силой. Никогда,
никогда не поднялся бы я сам собой!"39
Достоевский считал, что и судьи несут большую
ответственность за очищение преступника. Как публицист,
после судебной реформы 1864 г. он старался показать
293
значение судьи и роль присяжных в ходе судебного
процесса. Судья в глубине души должен всегда сознавать,
что он тоже грешен. При этом ему не следует
поддаваться чувствам как частное лицо и руководствоваться
состраданием, ибо истина важнее сострадания. При этом
он, конечно, должен принимать во внимание все
смягчающие обстоятельства. Если же из сострадания,
аморальности или страха перед властями он станет судить не по
праву, он причинит большой вред и обществу, и
преступнику. Исследуя причины часто выносимых судом
присяжных оправдательных приговоров, Достоевский указывает
на сострадание к преступнику (за которым скрывается
чувство всеобщей виновности) и на безнравственность,
когда вообще отвергается наличие преступления.
Наказание необходимо и справедливо, и преступник, особенно
верующий, переживает, если его не наказывают, зная, что
заслуживает наказания и что наказание есть очищение от
греха. Достоевский сообщает в "Подростке" об
отставном солдате, который стал грабителем и, несмотря на
признание и самоосуждение, был судом оправдан. "Все
кричали, зарадовались, а солдат, как стоял, так ни с
места, точно в столб обратился, не понимает ничего; не
понял ничего и из того, что председатель сказал ему
в увещание, отпуская на волю. Пошел солдат опять на
волю и все не верит себе. Стал тосковать, задумался, не
ест, не пьет, с людьми не говорит, а на пятый день взял
и повесился. Вот каково с грехом-то на душе жить!"40
Еще важнее, чем наказание, является стремление
грешника искупить свое преступление нравственным
поступком и тем самым смягчить последствия греха. В статье
"Влас" ("Дневник писателя" за 1873 г.) Достоевский
пишет о грешнике, который нес на себе ужасный грех и
искал искупления. На коленях ползает он, моля о наказании
и возмездии. Многие из великих грешников обращаются
к монахам и старцам, известным своей святостью, чтобы
получить у них возможность покаяться. Подчас эти
святые люди, да и церковь как общность, а больше всего
вера в Божью милость возвращают этих людей на
праведный путь, тогда как мирское наказание сплошь и
рядом его не улучшает, а чрезмерная подчас суровость
приговора воспринимается как несправедливость.
Великое божественное всепрощение Достоевский поэтически
изобразил в маленькой новелле в "Братьях
Карамазовых". Это история о луковке. "Жила-была одна баба
294
злющая-презлющая и померла. И не осталось после нее
ни одной добродетели. Схватили ее черти и кинули в
огненное озеро. А ангел-хранитель ее стоит да и думает:
какую мне такую добродетель ее припомнить, чтобы
Богу сказать. Вспомнил и говорит Богу: она, говорит,
в огороде луковку выдернула и нищенке подала. И
отвечает ему Бог: возьми ж ты, говорит, эту самую луковку,
протяни ей в озеро,, пусть ухватится и тянется, и коли
вытянешь ее вон из озера, то пусть в рай идет, а
оборвется луковка, то там и оставаться бабе, где теперь.
Побежал ангел к бабе, протянул ей луковку: на, говорит, баба,
схватись и тянись. И стал он ее осторожно тянуть и уж
всю было вытянул, да грешники прочие в озере как
увидали, что ее тянут вон, и стали все за нее хвататься,
чтоб и их вместе с нею вытянули. А баба-то была
злющая-презлющая, и почала она их ногами брыкать:"Меня
тянут, а не вас, моя луковка, а не ваша". Только что она
это выговорила, луковка-то и порвалась. И упала баба
в озеро и горит по сей день. А ангел заплакал и
отошел"41. Бог за один-единственный добрый поступок готов
простить человеку все грехи его жизни. Подобно этому
и люди должны прощать друг другу. Без взаимного
прощения человека приводит в отчаяние вера в
таинственную и роковую неотвратимость зла. Однако только
простить другого недостаточно, нужно также быть
готовым искренне принять прощение от другого42. Простить
может и самолюбивый гордец. Принятие же прощения
предполагает смирение и преодоление страха быть или
казаться смешным. Об этом говорится в поучениях
старца Зосимы:"На людей не огорчайся, на их обиды не
сердись"43. Лучше в сердце своем и в словах своих
прощать их и мириться с ними. Тот, кто считает какие-то
поступки непростительными, неправильно понимает
Бога и смысл бытия. В нравственной борьбе человечества
было бы великим поражением отчаиваться в
возможности прощения и считать некоторых людей "потерянными",
тем самым поддерживая вечный раскол между ними.
И если начать великое дело прощения, дальше пойдет все
"даже радостно и весело"44. Всепрощение, которое
распространяется на всех людей.и на природу, охватывает
все в любовном единстве и открывает возможность
новой райской жизни.
Смысл
страдания
На земле людям уготованы великие
страдания, и в этом Достоевский
согласен с аргументами негативной
философии: "Страшно много человеку на земле терпеть,
страшно много ему бед!"45.
Важнейшими причинами страдания являются
угнетенность, униженность и несправедливость, сострадание
к мучениям и смерти любимого человека и близких,
душевная безысходность, не позволяющая больше верить
в смысл бытия, а также невозможность исполнить
живущие в нас духовные стремления. Насколько велико может
быть сострадание любимому существу, показывает горе
матерей, потерявших своих детей. Это — как плач Рахили
о детях своих, которая "не хочет утешиться, ибо их
нет"(Мф. 2:18). Достоевский описывает такую мать в
главе "Верующие бабы" "Братьев Карамазовых". Сама
безвыходность из безнадежного положения причиняет
человеку дополнительные ужасные страдания. Как в жизни
индивида, так и в истории человечества есть моменты,
когда исчезает привычный смысл жизни, а новый,
исполненный надежды идеал еще не проявляется. Поэтому на
душе тех, кто напрасно ищет света, лежит тяжкая тоска.
Каждого, чья жизнь не ограничена удовлетворением
чисто материальных потребностей, кто жив стремлением
к высшей гармонии, вид таких страданий потрясает. Чем
больше понимание и любовь, тем больше человек
страдает. "Истинно великие люди... должны ощущать на. свете
великую грусть"46. Мысль о том, что все эти страдания
напрасны и бессмысленны, столь нестерпима, что вся
любовь в этом случае превращается в ненависть к этому
столь дурно устроенному миру и его творцу.
Эти бренные тяготы изменяют человека. Есть такие,
кто не обнажают свою боль и долготерпеливы. Их
горести прячутся в глубине души и молчат. Другие же,
напротив, "взрываются"; они плачут и терзаются
бесконечными жалобами, еще больше раздирая душевные раны и
питаясь своей безутешностью. Постоянное страдание
296
в конце концов притупляется настолько, что неожиданное
новое горе больше не может поразить. Утешение
приходит к человеку, переживающему тяжкое горе, лишь
косвенным путем; оно постепенно превращается в печаль
и даже в тихую радость, если переносится кротко и без
сопротивления (Иов). Когда к старцу Зосиме пришла
мать, потерявшая сына, и жаловалась на свое безутешное
горе, он сказал ей: "И не утешайся, и не надо тебе
утешаться, не утешайся, и плачь, только каждый раз,
когда плачешь, вспоминай неуклонно, что сыночек твой
— есть единый от ангелов Божьих — оттуда на тебя
смотрит и видит тебя, и на твои слезы радуется, и на них
Господу Богу указывает. И надолго еще тебе сего
великого материнского плача будет, но обратится он под
конец тебе в тихую радость. И будут горькие слезы твои
лишь слезами тихого умиления и сердечного очищения,
от грехов спасающего"47. Такой же подход Достоевский
высказал и в другом месте. Марья Тимофеевна,
воплощение космически-женственного начала, которая "плачет
о своем ребенке", знает "дар слез": "И всякая тоска
земная и всякая слеза земная — радость нам есть; а как
напоишь слезами своими под собой землю на
пол-аршина в глубину, то тот час же о всем и возрадуешься"48.
Феофан говорит то же о даре слез, этом внешнем и
внутреннем плаче о горе человеческом, которые
таинственным действием превращают горе в тихую радость. Этот
покой и мир он приравнивал к молитве49. Нил Сорский
написал об этом особое сочинение. Слезы суть лучшая
защита против искушения, они лучше всего защищают
человека от греха. Если они обернули тяжелейшее горе
в "сладость", то человек пребывает в покое, какого иначе
он не мог бы достичь в земной жизни. И Исаак Сирин,
о котором Достоевский также знал (он упомянул его
в "Братьях Карамазовых"), писал, что тот, кто пребывает
в любви к Богу, в том да никогда не иссякнут слезы.
Отсюда следует, что страдание и любовь находятся по
отношению друг к другу в особом положении, и,
возможно, в глубокой основе своей они смешиваются. И в самом
деле, в страдании и несмотря на него мы можем любить.
Люди знают это и поэтому любят эту боль любви.
Чем настойчивее раздумываешь о страдании, тем
больше выступают упущенные поначалу аспекты.
Страдание очищает от сердечных грехов, особенно если это
собственное страдание или сострадание, которые всегда
297
могут стать искуплением. Страдание может быть столь
мощным, что разбивает самые твердые и самые гордые
убеждения и учит человека смирению50. Очищаясь от
греха страданием, человек впредь уже не так легко
впадает в грех, быть может, потому, что уже знает об
изначальной взаимосвязи греха и страдания. Кто хочет
избежать греха, бежит от него с помощью слез; кто хочет
защитить себя от греха, защищает себя от него слезами,
говорится в учении Нила Сорского 5|. Уже говорилось,
что ко времени создания "Записок из подполья"
Достоевский считал страдание единственной причиной нашего
сознания. Позже он, очевидно, изменил это мнение,
утверждая, что страдание, овладевая сознанием, дает
возможность осуществить познание действительности. Без
страдания мы пришли бы к солипсизму. Только
страдание, угрожающее жизни, свету и любви, позволяет нам
понять, что они значат для нас. Лишь в страдании
открывается воля к жизни. Только в страданиях любви мы
постигаем отделенность любимого человека от нас и
наше к нему стремление. Те, кто не знают страдания, либо
легкомысленно ставят себя в положение страждущего,
живут не в реальном, а в фантастическом мире.
Страдание, способствующее достижению более глубокого
понимания и осмысления жизни, побуждает к ее изменению.
Посредством страдания душа может пробиться "из
вертепа на свет"52. Действительное страдание и глубокая
боль могут даже человеку поверхностному в какой-то
момент дать способность думать серьезно и глубоко53.
Любовь становится более глубокой, если ей сопутствует
сострадание, ибо любая истинная земная любовь всегда
породненна со страданием. Любимого человека в горе
любят еще глубже. В горе могут полюбить и того, кого
вообще не любили. Вместе с тем имеется и ложное
понимание страдания. Некоторые люди любят себя в
страдании и в сострадании, видят в этом основу для себялюбия,
находя в страдании отраду. Достоевский определил это
как эгоизм страдания. Иногда такая страсть к
самомучительству предшествует стремлению к саморазрушению.
К такому страданию примешивается извращенное
чувство удовольствия. "Страдание есть последствие греха
и зла. Но страдание есть также искупление", — сказал
применительно к идеям Достоевского Бердяев и тем
самым указал на два важнейших аспекта страдания54. Мы
должны понимать наши земные страдания как следствие
298
грехопадения, оно также столь непостижимо! Часть
страданий объясняется тем, что человек преступает
нравственный закон, не исполняет "закона стремления к
идеалу"55, следование которому приносит людям радость.
Радость и горе часто соединяются с добром и злом или
следуют за ними. Страдание может служить искуплением
несправедливости и даже преступления, если его искренне
принять на себя56.
Русский народ, по мнению Достоевского, как никто
другой, понимал эту истину. Его потребность в
искуплении и очищении страданием была безмерна. "У русского
народа даже в счастье непременно есть часть страдания,
иначе счастье его для него неполно. Никогда, даже в
самые торжественные минуты его истории, не имеет он
гордого и торжествующего вида, а лишь умиленный до
страдания вид: он воздыхает и относит славу свою к
милости Господа"57. С чисто естественной точки зрения
человек не хочет страдать; зачем ему это страдание?
И когда жизнь приносит больше горя, чем радости, он
в результате не хочет смиряться с нею. Выдвигается
альтернатива: долгое страдание и потом смерть, или
краткое страдание и смерть — и человек может
предпочесть последнее. Но в том случае, когда он постигает
более высокое значение страдания, он не бежит прочь от
него, принимая его смиренно, поскольку понимает, что
оно ему необходимо для душевного очищения, даже
тогда, когда он терпит страдания за других58. Скрытая
в страдании красота и любовь в конце концов
преображаются в более высокое состояние чистой нравственности,
духовной красоты и совершенной радости. Конечный
смысл страдания остается, однако, необъяснимым,
подобно тому как мы видели, нельзя объяснить тайну
грехопадения. Но положительная философия Достоевского
отличается от философии негативного тем, что она
принимает факт страдания и придает ему смысл, в котором
предчувствуется обогащение и углубление человеческой
жизни. Любак считал, что Достоевский, будучи убежден
в том, что на уровне разума нельзя дать ответ на вопрос
о смысле страдания, хочет слишком многого59. Как
Достоевский представлял себе снятие видимой
бессмысленности страдания, видно из одного места в "Братьях
Карамазовых": "В мировом финале, в момент вечной
гармонии, случится и явится нечто до того драгоценное, что
хватит его на все сердца, на утоление всех негодований,
299
на искупление всех злодейств людей, всей пролитой ими
их крови, хватит, чтобы не только было возможно
простить, но и оправдать все, что случилось с людьми"60. Для
человеческой мысли в ее нынешнем состоянии этот акт
оправдания непонятен. Только размышление о смысле
бытия побуждает нас к тому, чтобы, несмотря на все
негативные стороны, приписать страданию цель во
всеобщем бытии, которая делает его осмысленным. Исходя из
этой мысли, становится понятным, почему Достоевский
говорит о том, что человек в своем страдании может
быть '^достойным" или "недостойным". Страдание
приносит в человеческую жизнь мужество и благо. Кто
много страдал — больше, чем окружающие, — тот может
сказать, что удостоен нести это страдание61. Страдалец
получает некую привилегию перед Богом, имея
возможность искупить свою вину. Понятно, почему старец Зоси-
ма поклонился земным поклоном Мите Карамазову
— человеку, которому предстояло большое страдание.
Страдание придает человеку нечто от святости, и ему
подчас выказывают за это уважение.
И наконец нужно также признать, что мы, люди,
только тогда можем удостоиться счастья вечного
блаженства, когда научимся при испытаниях страданием
держать себя нравственно. Человек заслуживает свое
счастье лишь через испытания и горе, искупающие его
вину и ведущие к совершенству. Правильно
мировоззрение, на котором покоится все православие: нет счастья
а благополучии, счастье приобретается только
страдавшем.
Любовь
Мы исследовали волю к жизни вплоть
до того предела, когда она
становится любовью, самой высокой
ступенью претворения личностной цели, через которую воля
к жизни в состоянии полностью осуществиться. Можно,
следовательно, всеобщую волю к жизни определить также
как жажду-порыв к любви. Любовь лучше всего
способствует осуществлению воли к жизни потому, что в ней
человеческий зов получает ответ. От любимого любовь излучается
обратно к любящему, так что в любовном взаимодействии
оба полюса смешиваются в "многоединстве".
С самого начала необходимо четко различать
духовную любовь и ту, которая коренится в "подполье"
чувственности. Тот, кто думает только о последней, не
понимает духовной любви. Нельзя также принять взгляд,
который все чаще имеет место, что духовная любовь
является преобразованием любви чувственной. Это одна
из неудачных попыток объяснить^высшее исходя из
низшего. Духовная любовь есть важнейшая теологическая
добродетель. В восточной церкви, основанной целиком
на иоаннитской традиции, она играет выдающуюся роль.
Мы видели, что Достоевский в согласии с учением
Христа рассматривает любовь как содержание
нравственного закона. Ибо последний гласит: люби человечество
как самого себя, люби господа Бога, люби всех и вся
безраздельно и беззаветно62. И в поучениях старца Зоси-
мы говорится:"Любите друг друга... Любите народ
Божий"63. В разделе об этике мы говорили о нравственном
законе только как о некоем требовании, возникающем
и заявляющем .о себе в собственной душе. Поэтому
может создаться впечатление, что закон любви существует
как нечто внешнее. Только признав, что воля к. жизни во
всей ее глубине должна пониматься как воля к любви, мы.
можем сказать: любовь есть не только идеальный закон,
она есть собственная изначальная воля человека. Лишь
тогда свобода решений "снимается" этической свободой.
Каждый человек страстно желает выказать большую лю-
301
бовь и пользоваться взаимностью. Только в состоянии
грехопадения эта воля выродилась в нечто совершенно
противоположное. 'Таз, в бесконечном бытии, не
измеримом ни временем, ни пространством, дана была некоему
духовному существу, с появлением его на земле,
способность сказать себе: "Я есмь, и я люблю". Раз, только раз,
дано было ему мгновение любви деятельной, живой, а для
того дана была земная жизнь, а с ней времена и сроки"64.
Однако эта любовь должна доказывать, что она свободна,
и поэтому только из-за ее неопределенности она выступает
как некий подвиг65. Бог оставил человека в
неопределенности вполне умышленно, тем самым человек получил
возможность принимать решения, исходя из своей собственной
свободы. Природа, помысленная без Бога, не полагает
человека связанным с любовью. Если исходить
исключительно с земной точки зрения, любовь нецелесообразна,
невыгодна. Естественного закона любви не существует66.
Людям чаще должно казаться, будто сила имеет большую,
чем любовь, власть и с ее помощью можно достичь
большего, чем с помощью любви. И тем не менее это
—заблуждение, ибо "смирение любовное—страшная сила,
изо всех сильнейшая, подобной которой и нет ничего"67.
Поэтому человек, стоящий перед выбором, должен всегда
предпочитать не власть, а смиренную любовь. Твердо
придерживаясь этого своего выбора, он полюбит весь мир.
У любви есть существенное, всегда ей присущее
свойство: она ведет к синтезу. Любовь страстно охватывает
все в своем единстве: "В одном месте тронешь — в
другом конце мира отдается"68. В "Сне смешного человека"
Достоевский дает картину любовных проявлений. Те
люди не стыдились открыто выказывать свою любовь друг
к другу, они без слов принимали подаренную им любовь.
Они не знали ни оскорблений, ни ревности, ни зависти.
Они жили в живой общности с остальными живыми
существами и вещами. Они радовались новорожденным,
не обнаруживая при этом примеси грубого наслаждения,
и так появлялись новые участники всеобщего счастья.
"Дети были детьми всех, потому что все составляли одну
семью". И тех, кто умирал, провожали светлыми
улыбками с глубокой верой, что смерть только вход в более
высокое живое "единение" с Целым вселенной69. В своей
безграничности любовь в нашем падшем состоянии не
знает насыщения. Она плачет о несчастных и о пропащих
грешниках и выказывает глубочайшее сострадание муче-
302
никам и болящим70. В любви находятся "в слитии оба,
или все9'71. Внутренние надрывы и противоречия
восстанавливаются в изначальном синтезе, преодолевается
пропасть отчуждения. Любовь может даже искупить чужое
преступление и заслужить прощение72. "Каждый из вас
будет в силах весь мир любовию приобрести и слезами
своими мировые грехи омыть..."73 Только одна любовь
дает совершенное знание. В своей высшей форме она
оказывается в единстве с познанием. Тот, кто любит, точно
знает, как он должен жить. Любящему, правда, и нет нужды
добиваться рассудочного знания—его жизнь уже
исполнена совершенства. Его знание является более глубоким
и высоким, чем вся наша наука74. Существует таинственный
язык любви. О любящих в "Сне смешного человека"
говорится: "Они указывали мне на деревья свои, и я не мог
понять той степени любви, с которою они смотрели на них:
точно они говорили с себе подобными существами. И
знаете, может быть, я не ошибусь, если скажу, что они говорили
с ними! Да, они нашли их язык, и убежден, что те понимали
их. Так смотрели они и на всю природу... Они указывали
мне на звезды и говорили о них со мною о чем-то, чего я не
мог понять, но я убежден, что они как бы чем-то
соприкасались с небесными звездами, не мыслию только, а каким-
то живым путем"75. Посредством любви, говорит
Достоевский в другом месте, человек постигает "божественную
тайну вещей", тайну безгрешного бытия. Любовь делает
для любящего прозрачным ее предмет, он познает в ней
собственное благо, свою защищенность от зла и духовную
красоту, к которой он определен.
Совершенная любовь безвозмездна. Она не ждет
награды, надеясь пробудить ответную любовь в любимом
существе, хотя многие не в состоянии строить любовные
отношения без расчета. Когда Ракитин в "Братьях
Карамазовых" спрашивает: "Любят за что-то, а вы что мне
сделали?" Он получает в ответ: "А ты ни за что люби, вот
как Алеша любит"76. Достоевский отвергал любовь,
ищущую себе похвалы: она является нравственной только по
видимости и не может быть любовью настоящей77.
Достоевский резко различает отвлеченную, рассудочную
и конкретную, деятельную любовь. Аргумент нигилистов
состоит в том, что человеку невозможно любить своего
ближнего, не говоря уже о других, деятельной интимной
любовью78. "Люди по природе своей низки... Любить
своего ближнего и не презирать его — невозможно"79.
303
Уже лицо является помехой. Глупая складка в выражении
лица, дурной запах, исходящий от человека, невольная
бестактность и т.п. способны свести любовь к минимуму.
И даже уничтожить ее. Ненавидя и злясь, человека любят
только с зажатым носом, с заложенными ушами и
закрытыми глазами. Человека можно, следовательно, любить
только издали. Ницше десятилетием позже обозначил это
как "любовь к дальнему", имея в виду, разумеется,
сверхчеловека. Иван Карамазов признается, что не может
понять, как "можно любить своих ближних. .Именно
ближних... и невозможно любить, а разве лишь дальних"80.
Из этого можно заключить, что люди, верные длительной,
деятельной, практической любви к ближним, делают это
из долга, с внутренним надрывом, раздираемые ложью.
Спрашивается, объясняется невозможность любви к
ближнему природой человека или его испорченностью?
Достоевский соглашается с этими мыслями в той мере,
в какой он признает, что многим действительно невозможно
и неестественно даже "любить всех, всех людей, всех своих
ближних"81. Но возражает против того, что любовь к
ближнему невозможна вообще. Скорее можно сказать, что те, кто
любит только отвлеченно, пребывают в противоречии
с конкретной любовью. Так, большая часть русских
европеизированных либералов любила русский народ издалека,
перед освобождением крестьян проявляла возвышенную
печаль по поводу крепостничества, и в то же время, будучи
землевладельцами, они исправно получали пропитание от
мужика, "на них работавшего, их питавшего"82. С такой
отвлеченной любовью можно хорошо жить материально,
особенно если при этом упиваться своей нравственной
возвышенностью. Если же случится человеку, любящему
искренне и деятельно, жить с тем, кто любит отвлеченно
и мечтательно, то окажется, что эта его любовь неспособна
проявиться и существует только в мыслях. "Друг" человека
с его абстрактным чувством не может долгое время
"пребывать в практическом служении любви"83. Очевидно,
он подчиняется такому закону: "Чем больше я люблю
человечество вообще, тем меньше я люблю людей в
частности, то есть порознь, как отдельных лиц"84.
В рассудочной любви "к дальнему" человека любят не
за то, какой он на самом деле, а за то, каким его себе
представляют. Любят людей только "в принципе",
единичные случаи оставляют их равнодушными или не
принимаются в расчет. Абстрактная любовь есть лишь лю-
304
бовь к созданному "в душе своей"85. В отвлеченной же
любви к человечеству почти всегда любят только себя
одного.
"Этой видимости любви Достоевский
противопоставляет любовь подлинную. Случайно может полюбить
каждый, "и злодей полюбит"86. Но очень трудно сохранять
в душе состояние настоящей любви. На этом пути
человека подстерегает множество малодушных поступков и
дурных стремлений. По сравнению с мечтательной любовью
деятельная любовь есть суровая, тяжкая ноша. Она
достигается длительным усилием. Необходим большой
жизненный опыт, прежде чем научишься ее хранить. Но если ее
добиться, то человека любят всегда, всю жизнь, даже если
он неприятен, зол, даже если он грешен. На этом пути
легко впасть в малодушие. Чтобы выдержать такую
борьбу, душа нуждается в живой надежде на ее исполнение
— тогда не страшны ни поражения, ни удары.
Чистая любовь есть прежде всего и надежда на
любимых. Часть нашего существа стремится к собственной
реализации, другая часть — ко всеобщей. "Закон личности
на земле связывает. Я препятствует..." Человек должен
учиться, "как бы уничтожить это Я, отдать его целиком всем
и вся каждому безраздельно и беззаветно"87. Как пример
такой любви Достоевский приводит рассказ о св. Иоанне
Милостивом, который, когда к нему пришел "голодный
и обмерзший прохожий и попросил согреть его, лег с ним
вместе в постель, обнял его и начал дышать ему в гноящийся
и зловонный от какой-то ужасной болезни рот его"88.
Если любить искренне и честно, можно прожить на
земле и без личного счастья. Ведь любящий счастлив уже
в самой своей любви и ее проявлениях. С другой
стороны, только полнокровная обоюдная любовь делает
человека совершенно счастливым, в ней он приобщается к
божественности. Среди людей встречается любовь,
подобная Христовой, но до сей поры только Христос
исполнил полностью закон любви. "Христос был
вековечный от века идеал, к которому стремится и по закону
природы должен стремиться человек"89.
Бог оказывает и великому грешнику милость тем, что
его любят или могут полюбить. В бедственном
положении иной может спросить себя, кто же его полюбит?
И к своему удивлению и отраде он увидит, что люди любят
его и помогают ему сильнее, ибо он нуждается в любви
больше, чем другие. Тот, кто стремится быть откровенным
305
с собой, должен задаться вопросом, чем заслужил он это
счастье любви? И он пойдет навстречу этому счастью как
великому дару и научится ценить его. Но если человек
теряет свою нравственную свободу, упиваясь
безудержным утолением своих пороков, любовь угасает и
превращается в кокетство и сладострастие. Эти грубые услады
служат тому, чтобы заглушить безысходность.
Для человека страшно полное отсутствие любви.
Упустив или отбросив единственную возможность
свободной любви, дарованную ему Богом в его земном
существовании, он готов с насмешкой и издевкой
безучастно смотреть на людей, на вещи, на весь мир и на Бога.
За пределами земной жизни он поймет, что на земле он
должен был бы любить, но будет слишком поздно, и хотя
он поймет, почему он должен был любить, в его любви
уже не будет ни подвига, ни жертвы. Он будет чахнуть
в жажде любви. Только тихая покорность может
заменить ему деятельную земную любовь и смягчит муки90.
Но, с другой стороны, можно сомневаться в том, что есть
люди, которые не любили вообще и которые не могут
вспомнить ни одного любовного переживания.
Итак, воля к жизни подспудно существует в нас как
воля к любви. Можно даже сказать, что большинство
людей любят мироздание великой скрытой любовью.
Есть вещи и лица, которые мы любим всегда, которые
для нас ценны и кажутся нам прекрасными. В любви
к ним мы получаем живой ответ на наше любовное
стремление. Человек всегда любит солнце и свет.
"Смешному человеку", когда ему снится, что он мчится через
вселенную и видит солнце, открывается, какой
мучительной любовью он связан с ним. "Сладкое, зовущее чувство
зазвучало восторгом в душе моей: родная сила света,
того же, который родил меня, отозвалась в моем сердце
и воскресила его, и я ощутил жизнь, прежнюю жизнь,
в первый раз после моей могилы"91. И так же любил он
землю. Во сне он видит повторение нашей земной жизни
и чувствует, как она дорога ему со всеми ее и его
страданиями и как мучительно он ее любит. Такая же любовь
скрытно присутствует даже в самых неблагодарных
людях. Только в моменты особых потрясений, когда мы
оказываемся отделенными от всего, что нам казалось
таким привычным, мы открываем глубокую любовь
к жизни; изначальное святое созерцание бытия выступает
из бессознательного, и привычное покидает душу. Нас
306
охватывает, преображая нас, ненасытное стремление
к выявлению любви: "Облей землю слезами радости
твоея и люби сии слезы твои..."92
Почти все любят детей, поскольку в них светится
отблеск изначального непорочного бытия (по природе не
знающего грехопадения). Мы любим радость
человеческую, так как в ней, в смехе возвещается что-то от того
бытия, которого мы надеемся достичь. Но величайшим
и самым возвышенным предметом нашей любви является
Бог. Он есть единственное существо, которое мы можем
любить вечно и в котором воплощается наша любовь. До
тех пор, пока хоть один человек на земле любит Бога,
пока хоть только два человека любят друг друга,
исполнена Божья воля на этом свете и человечество не отвергнуто.
Божественная любовь неистощима. Нет такого греха,
как бы велик он ни был, который бы истощил любовь
Бога. Бог любит нас (со всеми нашими прегрешениями
так, как мы и не можем себе представить). Людям очень
трудно составить себе представление о том, что означает
божественная любовь. Они постоянно пытаются
приписать ему крохотные мысли и ответы, тогда как в
божественной любви хранится великое понимание и величайшая
любовь, какая только возможна на этой земле.
Представление о милости Божьей то и дело заслоняется мыслью
о других его качествах — всемогуществе, сотворении
мира. Поэтому правильно поступают, когда думают
о Христе и представляют себе действие божественной
любви в форме той величайшей любви, с которой мы
встретились на земле и воздействие которой на других
мы можем наблюдать до сих пор. Божественная любовь
есть совершенство, и только в любви, недоступной для
человека, нужно представлять себе Бога. "Любовь выше
бытия, любовь венец бытия, и как же возможно, чтобы
бытие было ей неподклонно?"93; "показаться... на земле,
всех полюбить больше себя, сделать добро, отойти
желаемым, получить и от них добро с мукой счастья за них"94.
Бытие осуществляется в любви, в ней совершается его
развитие, ему не нужно больше подчиняться закону
становления и исчезновения, оно должно преодолеть смерть.
Достоевский видел в пришествии Христа, в которое он
верил, залог этой истины. Только воскресение дает ответ
на поставленную ранее дилемму, как может
существовать смысл бытия, если совершеннейшее, как и
ничтожнейшее, существо подчиняется закону исчезновения.
Радость
В земной жизни человек нуждается
в несчастии точно так^же, как в
счастье и радости95. Даже в самом
широком смысле страдание сохраняет свое значение, хотя роль
счастья и более велика, ибо страдание преходяще,
радость же — вечное определение человека; она
принадлежит к интуитивным достоверностям души
человеческой. Кто хоть раз переживал полноценную радость либо
предчувствовал ее, тот не может принять мысль о
безвыходности горя и отчаяния.
Мы видели, что нигилисты разлучают счастье и
свободу, утверждая, что только в бунте возможна
метафизическая свобода, а "разве бунтовщики могут быть
счастливыми?"96. Бердяев развил эту мысль
Достоевского: жизнь без страданий есть жизнь без свободы, писал
он в труде "О назначении человека"97. Но такое
воззрение, с точки зрения положительной философии
Достоевского, является ошибочным. Человек, по
Достоевскому, стремится к полному осуществлению всех
существенных для него свойств. Конечно, он может
и противостоять этим естественным стремлениям. Среди
них имеется в виду и счастье, именно его полнота,
целостное состояние счастья, а не его частичность,
которая радует недолго и легкомысленно превращается
в* игру, уступая место поискам удовлетворения других
склонностей. Наряду со счастьем человек хочет
сохранить и свободу, без которой он не готов это счастье
принять. Бессмысленное счастье не наделенного
сознанием живого существа не кажется ему желанным.
Бог сотворил людей для счастья, и люди могут найти
радость лишь в исполнении его воли, ибо мир, не
подчиненный грехопадению, являет собой радость: за
пределами переходного бытия, ограниченного временем, с
присущим ему страданием стоит вечное счастье. Очень важ-
>-: ^но, что человек может противопоставлять своей- жизни,
пребывающей в горе и мучениях, действительность этого
высшего бытия: "Человеку гораздо необходимее соб-
308
ственного счастья знать и каждое мгновение веровать
в тр, что есть где-то уже совершенное и спокойное счас-
тье,«для всех и для всего"98.
Этб всеобщее понимание счастья, ожидание всеобщего
положительного смысла связывается с нравственным его
пониманием: "Счастье все в том, чтобы жертвовать
ближнему всем, счас!ъе ближнего есть все счастье для меня, и таким
образом все счастливы в будущем обществе"99. Человек
может приобрести душевный опыт совершенного счастья,
когда ему удается перевести свое сверхсознание на более
высокий уровень. Так, видимо, следует понимать
парадоксально звучащие слова Кириллова в "Бесах": "Человек
несчастлив потому, что не знает, что он счастлив... Кто
узнает, тотчас сейчас станет счастлив"100. Такое знание
основывается не на рассудочных понятиях или
представлениях; здесь имеет место перенесение содержания
осознанного бессознательного в сверхсознание. Человек таит в себе
большую радость, задача состоит в том, чтобы найти к ней
подход. Речь идет при этом о всеобщем мистическом опыте,
когда "после долгой, долгой темной ночи", как сказал об
этом Хуан де ла Крус, душе на краткий миг открывается
райское счастье, сверхсознательное, если, конечно, она не
достигнет этого иным путем. Этот иной путь и связан
с достижением нравственного бытия; без него душа
свергается с высоты минутного созерцательного счастья в бездну
страдания. Именно.в нравственном бытии заключается
и проявляется радость бытия в Боге и с Богом. Такая
радость не исключает страдания, поэтому нравственно
чистый человек, преисполненный любви и радости, не может
не горевать о душах заблудших или страдающих людей.
Достоевский особо подчеркивал в "Братьях
Карамазовых", что Бог хочет для человека радости. Поэтому
в нашей любви и благе содержатся поиски Бога. Радость
следует за благом, такое же место она занимает у Бога.
Бог не может существовать без радости, ибо он ведь
являет собой и благо, которому принадлежит радость101.
Бог дарует человеку радость — его привилегию, его
возвышенное. Христос в своем первом чуде подарил
радость людям и принимал в ней участие. Четвертая глава
седьмой книги "Братьев Карамазовых" — "Кана
Галилейская" — показывает, что Бог хочет радости для людей
в их высшем земном счастье —г в любовном единении, где
находят друг друга космические элементы женственного
и мужественного, эротического и воспринимающего на-
309
чала; Бог присутствует при этой радости и содействует ей.
Христу было близко "простодушное немудрое веселие
каких-нибудь темных-темных и нехитрых существ"102.
Может быть, Достоевский прочел в записках Тургенева слова
художника Иванова о том, что Христос никогда не
смеялся; возможно, чтобы доказать обратное, он изобразил
чудо Христа в Кане Галилейской.
Душа, близкая Богу, на пути к нравственному
совершенству, побуждаемая волей к жизни, знает мгновения, где
она предчувствует смысл бытия и исполнения
нравственных стремлений, мгновения восторга и экстаза. Такие
минуты каждому, кто их переживал, представляются
божественным даром. В подобном восторге человеку хочется
целовать землю и просить прощения, выражая свое
стремление к всеединству со всем сущим. Чем более
развиваются в человеке нравственные начала, тем сильнее
преобразуется этот восторг в постоянную светлую радость, в
которой сохраняется живое чувство связанности с Богом. Кто
хоть раз испытал совершенную радость, тот знает, что его
долг состоит в том, чтобы наполнить блаженством каждое
мгновение жизни. И даже собственная смерть радостно
любящему человеку кажется не столь печальным
событием, хотя он и страдает, расставаясь с любимыми.
Мы знаем, что нигилисты свое обещание счастья
связывали с кровавыми жертвами. Достоевскому была
отвратительна эта мысль. Напротив, утверждал он, там,
где проливается кровь, никогда не может быть ни
истинного счастья, ни радости. "Представь, что это ты сам
возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале
осчастливить людей, дать им наконец мир и покой, но
для этого необходимо и неминуемо предстояло бы
замучить всего лишь одно только крохотное созданьице, вот
того самого ребеночка, бившего себя кулачонком в грудь,
и на неотомщенных слезках его основать это здание,
согласишься ли ты быть архитектором на этих
условиях?.. И можешь ли ты допустить идею, что люди, для
которых ты строишь, согласились бы сами принять свое
счастие на неоправданной крови маленького
замученного, а приняв, остаться навеки счастливыми?" И ответ на
этот вопрос гласит: "Нет, не могу допустить"103. Ибо
подобный подход противоречит высшей форме смысло-
выражения. Счастье состоит в чистой духовной радости.
Если оно выступает лишь как выражение внешних
благоприятных житейских обстоятельств, оно не заслуживает
310
высокой оценки и соответствующим образом
воспринимается. Ш. Пеги указывал, что античный человек видел
во внешнем счастье только опасность, провоцирующую
месть судьбы и зависть богов. В этом утверждении
содержится неявная мысль о том, что счастье, не связанное
с состоянием души, не заслужено и является даром
случайным. Достоевский сказал однажды, что за внешнее
счастье нужно нести наказание. Разве можно достичь
блаженства, если оно основывается даже на
преступлении? Не может счастье строиться на чужой беде.
Внутренняя радость следует за добрым делом. Она
является, если перефразировать известное определение
Спинозы, столь же ценой за добродетель, сколь и частью
самой добродетели. Ибо радость есть одна из сторон
добра. В этом Достоевский был в согласии с Фомой
Аквинским. Но если человек стремится к добру, он должен
все же думать не столько о блаженстве, сколько о добре
самом по себе. Радостное душевное переживание следует
за самим добрым поступком, даже если этой радости
угрожает внешняя беда. В единении радость разделяется
и другими людьми. Человеку, который видит добрый
поступок, становится радостно, пусть даже он погряз
в грехе; многое дается ему, если он способен радоваться
добрым делам и разделять радость других. Этим
преходящим соучастием в радости движется душа к полноте ее,
вступая на путь самосовершенствования. "Всякое великое
счастье... возбуждает в нас высшее сознание. Горе реже
возбуждает в нас в такой степени ясность сознания, как
великое счастье. Великое, то есть высшее счастье
обязывает душу... Когда сказано было великой грешнице,
осужденной на побитие камнями: "Иди в свой дом и не греши",
неужели она воротилась домой, чтобы грешить?"104
Следовательно, высшая радость искореняет грехи, доказывая
тем самым свою принадлежность к добру. Радость являет
собой как бы вечно длящийся обет Богу и другим
существам. "На тебя радуясь, молюсь", — говорит Маркел своей-
матери, и в радостной молитве он успокоился ,05. Все, кто
совершал нравственно великие поступки, были счастливы
— все великие учители, святые, мученики. Нет ни любви,
ни нравственного закона, если они не утверждают радость
и сами не являются радостными. Радость принадлежит
нравственности. Кантовский ригоризм ошибочен. "Кто
любит людей, тот и радость их любит"106.
Бесовское
и райское
в человеке
Люди, достигнув высшей ступени
развития, пытаются превзойти
человеческую норму. Чем
последовательнее постигается жизнь, тем скорее человек приближается
к пределам переходного наличного бытия и стремится
к иным состояниям. Бесовство является одним из них.
Достоевский не просто верил в бесовство. Он
добросовестно следовал своему внутреннему психическому опыту.
Он знал возражения философов Просвещения,
отрицавших существование бесовства. Вольтер смеялся над
хвостом и рогами дьявола. Но он при этом затрагивал лишь
символы народных предрассудков, о существовании же
личностных злых сил ничего не возвещал. Значительно
более серьезна попытка Фейербаха связать представление
о демонических силах с мыслью о происхождении Бога.
Ибо если человек и дьявола создал сам, отчуждая
низменные черты своей сущности, то остается только
додумать до конца, какие бездны зла существуют в человеке.
Достоевский перенял из христианства веру в
существование бесов. Он совершенно ясно говорит об этом
словами архиерея Тихона о том, что бесы, несомненно,
существуют, но понимание о них может быть весьма
различным. Причем речь идет не об аллегориях, а о том,
что есть личный бес. Дьявольское начало наряду с Богом
будет владеть человеком до конца времен, утверждается
в "Идиоте". Это дьявольское начало множественно.
Достоевский предпослал роману "Бесы" цитату об изгнании
бесов в Гадаре (Лк. 8: 32—36). Бесовское в человеке
связано с раздвоением, с внутренним надрывом и может
выступать только как "легион", как множественность,
которая, однако, действует как нечто единое, так что
в переносном смысле можно говорить об одном "духе".
Достоевский показал действие бесовских сил там, где
он только их мог наблюдать — в падших, раздвоенных
лицах. На человека изначально, со времени грехопадения,
воздействует бесовство, но это его воздействие
проявляется в прогрессирующей персонифицированной форме.
312
Рассудочное познание есть в то же время знание об
отделенном бытии собственного существа от других
существ и от Бога. Эту мысль Бердяев выразил следующим
образом: "Сознание есть интуитивный акт человеческого
"я" относительно самого себя... и вместе о тем различение
"я" от "не я"107. В процессе познания ценности смещаются
на собственное Я. Полагание Я становится таким
отделением от Бога и других существ, которое акцентирует
перенос на Я бытия и ценности; возникает даже мысль об
уподоблении человека Богу. "Если хочешь, — говорит
Ивану Карамазову его персонифицированное бесовское
отщепление, — я одной с тобой философии... je pense done
je suis (я мыслю, следовательно, существую), это я знаю
наверно, остальное же все, что кругом меня, все эти миры,
Бог и даже сам сатана — все это для меня не доказано,
существует ли оно само по себе или есть только одна моя
эманация, последовательное развитие моего л,
существующего довременно и единолично..."108 С полаганием
собственной личности как социально отделенного единства
существование других существ оказывается тем самым не
только сомнительным; они становятся безразличны, т. е.
для Я не имеют ценности. В конце этого процесса
возникает четкая солипсистская картина мира, в которой
существует только Я и мир моих представлений. "Можно
сказать даже так, — говорит "смешной человек" о своем
самоубийстве, — что мир теперь как бы для меня одного
и сделан: застрелюсь я, и мира не будет, по крайней мере
для меня. Не говоря уже о том, что, может быть, и
действительно ни для кого ничего не будет после меня, и весь
мир, только лишь угаснет мое сознание, угаснет тотчас
как призрак, как принадлежность лишь одного моего
сознания, и упразднится, ибо, может быть, весь этот мир
и все эти люди — я-то сам один и есть"109. Следовательно,
речь идет о последовательном идеализме, где мир,
включая остальные человеческие существа, рассматривается
лишь как полагание индивидуального Я.
То, что здесь предстает как философская позиция, есть
лишь относительно редкая параллель с процессами,
происходящими в сфере бессознательного у социально
раздвоенных лиц. Человеческая душа, отделившаяся от Бога
и остальных людей, не хочет и не может серьезно
воспринимать другие существа. С равнодушием
обесценивает она их ради себя самой, сплошь и рядом не придавая
значения и своему существованию. Она все еще считается
313
со своими хотениями, желаниями, интересами, своим
благом. Поначалу такой разрыв сопровождается
наращиванием силы. Так как не придается значения и ценности ни
Богу, ни нравственному долженствованию, ни другим
существам, сопоставимым с данной личностью, она
возвышается в титанической гордости к человекобожию
и стремится стать законодателем и творцом мировых
ценностей, вступить на место поверженного Бога110.
В этом до чрезмерности доведенном преувеличении
своего Я лежит, однако, причина скрытого до поры срыва. Дело
идет к все обостряющемуся конфликту между собственной,
защищающей себя от разрушительных стремлений
природой, "общей" для всех, и той стороной сущности, которая
вообразила свою тождественность с Богом. Отказ от
нравственного закона мстит за себя утратой самоуважения. Там,
где имеет место переоценка ценностей, вообще не остается
никакой Принимаемой всерьез ценности. Если ясно сознается
собственная недостаточность, мысль о самовосхвалении
отступает все больше в тень, и душа погружается в тоску
и равнодушие, так как нет ничего, что она могла бы признать
ценным. Тем самым без ценностей и идеалов жизненный
порыв гаснет. Таково положение тех, кто решается на
самоубийство, поскольку им становится "все все равно". Но
если собственная недостаточность не получает
подтверждения, если в противоречии с пониманием части души
отрицаются ошибки собственного Я, тогда открытая, обращенная
к общему природа вытесняется, в бессознательном
становится все сильнее и в конце концов обнажается внутренний
разрыв, который выступает как "некто другой", как некая
порожденная собственной персоной, но независимая от нее
персонификация бесовского. Такое уникальное описание бе-
совства сделано только Достоевским. Дьявол есть
появляющееся на поверхности сознания расколотое Я, alter ego.
Мефистофель в "Фаусте" Гёте говорит о себе, что он
— часть силы той, что без числа творит добро, всему желая
зла. В этом определении проявляется оптимизм эпохи
Просвещения, которая видела в зле служение в конечном счете
добру, движущий элемент порядка наличного бытия. В
понимании же Достоевского целью зла всегда является зло;
с другой стороны, считал он, для зла характерно, что оно
скрывает свою цель и с помощью лжи утаивает свою
сущность. Чтобы достичь успеха, оно принуждено
выступать под маской добра и ценности. "Черт" Ивана
Карамазова говорит: "Мефистофель, явившись к Фаусту, засвиде-
314
тельствовал о себе, что он хочет зла, а делает лишь добро.
Ну, это как ему угодно, я же совершенно напротив. Я,
может быть, единственный человек во всей природе,
который любит истину и искренно желает добра"111. Зло может
одержать победу над добром и погубить душу только под
этой маской. Фактическая же цель зла есть смерть и
разрушение, т. е. уничтожение, которого оно, если ему самому
не удается, пытается добиться от Бога. Люди должны быть
ведомы к этим целям, не зная о них.
Человек мучительно борется с овладевшим его душой
бесовством. Ибо новая сущность выказывает себя как нечто
сверхсильное. Одновременно дух мучают сомнения, идет ли
речь о независимом явлении или о порождении собственным
Я. Иногда бесовские черты переносятся на другое лицо. Тогда
расколотость Я не проявляется, а душа попадает в
подчинение этому чужому лицу и его злым целям. Чужой достигает
при этом большой власти над личностью попавшего в его
сети человека. Нечто подобное Достоевский пережил со
Спешневым в 1848—1849 гг. Отношение нигилистов к Петру
Верховенскому также позволяет увидеть, как много зла
может сотворить власть над другими лицами.
Непостижимым и вызывающим сомнения в подобных отношениях
является именно то, в чем выражается эта величайшая власть.
Бесовское расколотое Я или, соответственно, чужое лицо, на
которое переносится бесовское начало собственного Я,
проявляют себя как нечто последовательное в логике фактов
и поэтому как непреодолимое. Если можно было бы
однозначно определить сущность в точке напряженности, тогда
можно было бы от нее освободиться (проблема "Двойника").
Но существует также неполное раздвоение. Оно
проникает как частичный компонент в расколотую душу. Это
— неотъемлемая часть собственной многосторонности,
и поэтому ее нельзя устранить как чуждую сущность.
Проявляясь в такой форме, зло подтачивает жизнь того, в ком
оно пребывает, парализуя его уподоблением этого зла его
собственному существованию. Такое зло есть
одновременно и продукт раздвоения человека, и выражение его
собственного Я, а именно его действительное alter ego, другое
Я. Такая жизнь во зле становится призраком жизни,
потерявшей все концы и начала. Из-за отождествления со злом
разрушается остаток добра в природе души. Растет вера
в иллюзорность и ложность ценностей. Терзание
подтачивает все, парализует волю равнодушием и ведет к стагнации
личности. В результате развиваются низменные и извра-
315
щенные влечения: сладострастие, зависть, цинизм, неприязнь, •
хвастливость. Падший ангел, явившийся в огненном
одеянии, становится жалким "ничтожеством", порочными
способами поддерживающим свои жизненные стремления, пока
совсем не погибнет. Оказывается, что зло, которое выступает
как "более умный", "более глубокий и могущественный дух",
на самом деле было только романтической фикцией, за
которой скрывалось голое влечение к разрушению, жертвой
которой должна стать собственная сущность человека.
"Бытие есть, а небытия вовсе нет"112. Однако, можно
оказаться в максимальной отделенное™ от мира и Бога, от
самого бытия. На этой добровольной обособленности и
разрыве покоится сущность "преисподней". Неспособность к
любви, отрицание высшего смысла, безучастность к себе и
ближним являются для души величайшей мукой. Только в
смирении можно найти утешение при таких обстоятельствах.
Есть ли вечное адское наказание? Достоевского всегда
ужасала эта мысль. В "Братьях Карамазовых" он приводит
много свидетельств, указывающих на трагическое
восприятие народом мысли о вечных муках ада. Он рассказал также
историю 6 том, как Христос своей крестной смертью
освободил из ада всех грешников и что своим вторым пришествием
он еще раз спустится в ад ради их освобождения. Другой
рассказ посвящен тому, как Богородица прошла через ад
и затем вместе со всеми святыми долго молила Бога, пока он
наконец не освободил мучающиеся души, начиная от
Страстной пятницы до Троицина дня. Неизбежность ада, считал
Достоевский, предощущается именно грешником.
Внутренний голос говорит нам о наших грехах, о том, что мы не можем
полностью искупить их в вечном мучении. Конечно, такой
подход является односторонним, как на это указывает суждение
писателя о чужих грехах: ни одного из других грешников, как
бы велико ни было бремя их преступлений, мы не могли бы,
по справедливости, осудить на вечное наказание.
Достоевский считал также, что для отдельного человека не может
существовать вечного наказания: ведь нет такого человека,
который хоть когда-нибудь не "подал луковку".
"Кто виноват в том, что становится бесом?" —
спрашивает он в набросках к "Бесам", подчеркивая, что все, что
случается, имеет свое следствие. Это факт, что на земле
одно всегда вытекает из другого. С другой стороны, вся
философия Достоевского свидетельствует о том, что вина
однозначно заключена в человеке, который может
совершенно свободно принимать решения.
316
Когда же душа развивается в совершенно
противоположном направлении, она приближается к райскому состоянию.
Человек тем самым близится к бытию, которым когда-то до
своего грехопадения обладал. Надеждой на рай живут все
народы. Достоевский разделяет горячие надежды XIX
столетия. Золотой век является самой невероятной мечтой среди
других, о которых когда-либо мечтали, но люди, отдают ей
всю жизнь и силы; за нее убивали людей и умирали пророки,
без нее не могут жить народы. Просветители
распространяли оптимистическую идею прогресса, пока, наконец, Сен-
Симон не перенес золотой век из мифологического прбшло-
го в будущее, к которому должен подвести социализм. Но
ведь социалисты думают об удовлетворении только
материальных потребностей, о чисто земном рае. Трагедия
современного человека состоит в том, что он забыл, где находится
рай, так что угасло само знание о нем. Забвение рая
составляет несчастье людей. Человеку недостаточно получить
понятие или абстрактное представление о рае, он должен его себе
живо представить. Достоевский в "Сне смешного человека"
ярко подчеркнул такого рода характер познания райского
состояния: "Я видел истину, — не то что изобрел умом,
а видел, видел, и живой образ ее наполнил душу мою навеки.
Я видел ее в такой восполненной целости, что не могу
поверить, чтоб ее не могло быть у людей"113.
Как приходят к такому пониманию? Оно есть не
чувственный, а внутренний опыт, который затем осуществляется,
когда высвечивается нечто от райского бессознательного
•и переходит в сознание или в сверхсознание. Рай лежит не
вне нас, где мы должны его «отыскать; он может быть
представлен не только посредством внешних условий; он "в
каждом из нас затаен"114, скрытый в бессознательном. Этот
рай магическая сердцевина, ядро изначального человека, та
сущностная его основа, которая еще сохраняет или
продолжает первоначальное благо. В то же время он являет собой
и нравственный центр. Полное осознание райского начала
возможно только в состоянии сверхсознательного, в
прозрении или в видении. Мнение Любака, что такого рода
"экстаз" образуется на чувственном уровне, кажется мне
ошибочным115. Если Любак имеет в виду, что
сверхсознательное раскрывает смысл чувственных образов, он должен
был бы — хотя он этого и не делает — рассмотреть
происхождение прозрений многих христианских мистиков.
Любак не замечает, что чувственное созерцание есть только
повод для проявлений чистого чувства.
317
Большинству людей непонятно, как возможно постоянное
райское состояние и какова в этой связи будет природа
человека? "Этого понять нельзя на земле, но закон ее может
предчувствоваться и всем человечеством в непосредственных
эманациях"116. Мимолетное мгновение сверхсознательного
познания оказывается, с другой стороны, достаточным,
чтобы подготовить человека к усилию, необходимому для
достижения желанного состояния. Человек в этом случае мог
бы принять на себя любые муки 117.
Одна идея поражала Достоевского настолько, что он
неоднократно к ней возвращался: люди могли бы очень быстро
претворить рай в действительность, но для этого человечество
должно обладать твердой волей: "...захочу, завтра же настанет
он для меня в самом деле и уже на всю мою жизнь"118. Это идея
о внезапной метанойе (возрождении), которая может
осуществиться так, как она осуществилась с теми, кого спас Христос.
Только из нашей безбожной слепоты и потерянности мы не
можем распознать истину и наличие райской жизни. Нужно
лишь лелеять твердую волю, чтобы "нам захотеть понять,
и тотчас же он [рай] настанет во всей красоте своей"119.
И природа вокруг нас окружает нас своей безгрешной
красотой, которую мы понять не способны. В нас и вокруг нас
лежит рай, и одна-единственная искра чистого познания
и чистой любви была бы достаточной, чтобы сделать его
зримым. Эта искра сверкнет, если мы возьмем на себя
всеобщую вину, раскаемся и очистимся от наших грехов, со
всей чистотой станем относиться к действительности и Богу.
"А между тем так это... в один бы день, в один бы час — все
сразу устроилось!"120 В каждом есть такая способность, "в
каждом... все это есть и заключено, и никто-то, никто-то из вас
про это ничего не знает!"121 Почему возможно это внезапное
преображение, Достоевский сказать не мог. Однако ему было
ясно, что только совершенная любовь является предпосылкой
этому новому состоянию. Но людям все же трудно (хотя в то
же время, считал он, и очевидно, что это так легко) достигнуть
"райского состояния", ибо они не осознают своих
возможностей и обременены виновностью. Райское светится из мрака
этой виновности, и этот мрак нетерпим перед блеском
безгрешности. До сих пор только святые способны чувствовать
данную истину, и на них покоится вся надежда. Только от них
новое состояние перейдет на все человечество.
Визионерство
Точное понимание Достоевским
райского состояния и сверхсознания
можно получить лишь из его
представлений о знании визионерства и видения. Достоевский имел
опыт видения, связанный с эпилепсией. Почти
автобиографическое описание этого опыта представлено в "Идиоте".
Кроме того, в его произведениях имеются два описания
видений, которые не связаны с эпилепсией: одно —
визионерство Кириллова в Бесах" (Шатов, правда,
предполагает, что здесь речь идет о предэпилептической стадии
напряженности), второе — как сон "смешного человека".
Эти свидетельства дают возможность обосновать
концепцию видения у Достоевского. Я придерживаюсь взгляда,
что описание видения в "Идиоте" создано до того, как
Достоевский ближе познакомился с соответствующим
опытом греческих отцов церкви и русских старцев, что
в основе этого описания лежит личный опыт
Достоевского. Рассказ о видении Кириллова в "Бесах" также кажется
свободным от такого влияния, так как в главных своих
пунктах согласуется с данными "Идиота". И мне кажется,
что представляет особый интерес сопоставление этих,
основанных на собственном опыте переживаний с
сообщениями греков, русских старцев и других мистиков.
Сначала приведем соответствующее место из "Иди-
ота":"Он [Мышкин] задумался, между прочим, о том, что
в эпилептическом состоянии его была одна степень почти
пред самым припадком (если только припадок приходил
наяву), когда вдруг, среди грусти, душевного мрака
давления, мгновениями как бы воспламенялся его мозг
и с необыкновенным порывом напрягались разом все
жизненные силы его... Ощущение жизни, самосознания
почти удесятерялось в эти мгновения, продолжавшиеся
как молния... Этот момент сам по себе и стоил всей
жизни... В этот момент... как-то становится понятно
необычайное слово о том, что времени больше не будет.
Вероятно... это та же самая секунда, в которую не успел
пролиться опрокинутый кувшин с водой эпилептика Ма-
319
гомета, успевшего, однако, в ту самую секунду обозреть
все жилища АллаховьГ122.
Рассмотрим это описание внимательнее, привлекая
другие свидетельства в той мере, в какой они могут нам
помочь. В сумеречном состоянии ауре предшествуют
краткие, молниеносные прозрения на фоне напряженности
и усиленного сознания. Для периода собственно ауры,
длящейся около секунды, Достоевский дает некоторые
пояснения, замечая при этом, что это переживание в своем
существенном содержании не может быть выражено
словами. Слова слишком несовершенны, они приспособлены для
другой сферы опыта и переживаний, так что они здесь
больше не годятся. "После сна моего потерял слова. По
крайней мере, все главные слова, самые нужные",—говорит
"смешной человек", пробудясь от своего видения123. И Мыш-
кин находит только приблизительные выражения, которые
ему самому кажутся слишком "слабыми", чтобы передать
другим то, что пережил он сам. Здесь речь идет об особом
отличии интенсивности переживаний. Уже Плотин говорил
о таком состоянии, что о нем нельзя ни сказать, ни написать.
Длительность видения определяется Достоевским
неоднозначно. В "Идиоте" говорится, что оно длилось не более
секунды; в "Бесах" же — от пяти до шести секунд.
Возможно, Достоевский в первом случае учитывает
длительность собственно ауры, а во втором — также
предшествующее ей состояние напряжения и усиления
сознания: "если более пяти секунд — то душа не выдержит
и должна исчезнуть"124. В этот краткий миг душа как будто
отрывается от "здесь и теперь" и одновременно
охватывает огромные пространственные и временные сферы,
сообразно со словами Апокалипсиса о том, что времени
больше не будет. В записной книжке 1863—1864 гг.
Достоевский пишет, что в райском состоянии, когда достигается
цель человечества, не будет смены поколений, связи между
полами, а также семейства, которое человек "во имя
окончательного идеала своей цели" должен беспрерывно
отрицать125. Вневременное или, скорее, всевременное и все-
пространственное существо будущего изменит свою при-.
роду. ' .
Каково в деталях переживание видения? Прежде всего
следует обратить внимание на состояние напряжения.
Обычным рефлектирующим рассудком оно должно
восприниматься как ненормальное. Но в то же время эта
молниеносность, это мощное напряжение всех душевных
320
сил, подобно великим мгновениям жизни каждого из нас,
когда, всматриваясь в смысл и направленность всего
нашего прежнего существования, мы вдруг ясно
ощущаем значимость и смысл наших решений и действий.
Наступает состояние усиленного, как говорил Достоевский,
сознания, которое приносит нам большую радость.
Св. Максим описывает Григорию Синаиту состояние,
когда Дух Святой приводит рассудок, т. е. сознание, куда
хочет — либо в нематериальный воздух божественного
света, либо к какому-то неописуемому зрелищу, либо, как
часто случается, в беседу с Богом126. И Достоевский
в "Сне смешного человека" говорит о том, что, хотя от
некоторых видений остается только некое общее неясное
чувство, все же в них созерцаются "действительные
формы" и "живые образы"127. Св. Маркел свидетельствует не
о привычных, доступных пониманию вещах чувственного
мира,- а о чем-то, что еще никогда не виделось и что
превосходит все представления.
Далее имеет место, как мы видели, "удесятерение"
самосознания. Достоевский был в этом не одинок. Плотин
сообщает, что в видении душа сама преображенно
созерцает, а Максим говорит о преображенном "разуме".
Только Филон не признавал усиление самосознания; напротив,
для него душа в состоянии экстаза бессознательна.
Представляется, что и в индийских медитациях йогинов и
буддистов есть нечто подобное, так как они признают
наличие ступени небытия в процессе погружения; по крайней
мере такая ступень как высшая и конечная цель
неоднократно рассматривается буддистами. Достоевский
говорит, что в видении деятельно присутствует разум. Он
создает бесспорное чувство завершенной обоснованности
и полной достоверности; он созерцает "живое лицо
истины", духом которой отныне постоянно полнится душа.
Легко понять, что логос образует основу всех явлений,
достаточную для рассудка и чувства, постигающих бытие,
сущность, ценность и смысл. Сама же основа не может
быть выведена естественным путем. Она должна
схватываться исключительно с помощью интуиции. На ее
совершенную ценность и осмысленность душа откликается
безусловным согласием. Тем самым достигается цель
познания. Соответствующее понимание дела имело место
у Плотина, который говорил, что душа "тал* разумна".
Ришар Сен-Викторский указывал на три состояния,
лучше всего возвышающие человеческий дух: dilatatio
11 Райнхард Лаут
321
(распространение на многие предметы и переживания),
elevatio (возвышение, усиление самосознания и
интенсификация созерцания сущности, ценности и смысла),
alienatio (бытие вне-самого-себя в Боге).
Достоевский обозначает познание, открывающееся
в видении, как "чувство ясное и неоспоримое"128. То, что
следует понимать под этим, в деталях выразить нельзя.
Может быть, Достоевский думает в первую очередь о
созерцании ослепительного света, затем также о
качественной интенсивности и сверхобостренной восприимчивости
созерцаемых чувственных вещей и процессов и, наконец,
о какой-то особой ясности их познания (в декартовском
смысле). Восприятие необычного света полностью
согласуется с переживаниями Плотина, который говорил, что
в видении человеческий дух исполнен духовного света,
как будто он и есть сам свет. И вся православная
традиция знает этот свет, который сияет святым и сравним
с огнем. О нем говорил Максим, описывая, как "дух стал
полон света"129. Особенностью этого последнего
описания является сравнение света с согревающим огнем,
который своим теплом пронизывает все тело.
По Плотину, человек, который хоть раз пережил видение,
расстается с опытным знанием ради поиска великого
синтеза, находящегося в сфере сверхсознания. Достоевскому
благодаря этому опыту стало очевидным, что рассудок есть
ограниченная способность познания. Развитое рассудочное
мышление соответствует лишь современному состоянию
человека. Вера людей, что после грехопадения они должны
идти путем познания, справедлива. Но это должно в
конечном счете вести не к дальнейшему совершенствованию
рассудка, а к достижению развитого сверхсознания,
способного к непосредственному усмотрению истины.Такие
мыслители, как Клагес и Ницше, отвергая преимущества рассудка,
считали сознание "несовершенным и часто болезненным
состоянием личности", которому они противопоставляли
бессознательность любого совершенного поступка130.
Вернуться назад человеку, однако, невозможно, человек идет
к сверхосознанному непосредственному соединению с
Богом, которого душа способна созерцать лицом к лицу.
Наркотические картины, фантастические образы дели-
риума и галлюцинации не могут и не должны
смешиваться с этими видениями. Православные монахи, имевшие
опыт визионерства, а также практика йоги в Индии
свидетельствуют о четких различиях между ними. Когда
322
чувство приходит в состояние полной свободы и высшего
покоя, это значит, что все духовные потенции человека
в этот момент находят свое полное удовлетворение.
Плотин говорил, что душа отдыхает, а Феофан упоминает
о божественном умиротворении, которое воспринимается
как мир и покой131. И Максим говорит о том, как
успокаивается сердце132. "От ощущения полноты жизни мне
захватывало дух", — сообщает "смешной человек", указывая
далее на совершенную завершенность, обаяние, красоту
и гармонию133. В видении все предметно-истинное
"восполнено до гармонии"134. Это прямая перекличка со словами
Плотина о том, что в высшей точке видения созерцается
гармония, которая соединена с чувством достигнутой цели.
Полнота, соразмерность, гармония и целостность — все
вместе порождают чувство прекрасного. Образы, которые
в отдельности едва ли можно воспринять, являются
упоительно прекрасными и завершенными. "Как будто вдруг
ощущаете всю природу и вдруг говорите: да, это правда.
Бог, когда мир создавал, то в конце каждого дня создания
говорил: "Да, это правда, это хорошо"135. Плотин
свидетельствует о полноте и целостности, когда в глубине души
своей он держал весь мир. Христианские мистики не знали
этой центрированности на Я, они видели мир как
божественное творение. Максим говорил, что разум возвышается
до величайшего созерцания: во-первых, это созерцание
непредставимой власти Бога, из ничто одним своим
словом создавшего все; во-вторых, созерцание его
безграничной власти, когда он с ее помощью все поддерживает;
в-третьих, созерцание непостижимой Троицы и
непознаваемой глубины божественной сущности 136.
У Достоевского, насколько можно судить,
наличествует мысль как о возвышении души, так и о созерцании
Бога. И хотя оба процесса сливаются в один, лучше
сказать, что здесь происходит соединение собственной
души с высшим синтезом жизни. В то время как Максим
такое состояние души называет любовью, Достоевский
подчеркивает, что оно выше любви; это состояние,
доходящее до восторга и более покойного проясненного
одушевления137. Правда, в другом месте Достоевский
говорит о любви, характеризуя момент душевного подъема
перед аурой. Может быть, для Достоевского в этом
случае понятие любви было неполным, поскольку он
познавал полнейший синтез всего бытия (в том числе
и любви) в единой, ясной радости. После видения со-
323
храняется ощущение, что на него излилась любовь и
других существ138. И в видении прощать уже нечего: вина
искуплена, зло и его следствия изгнаны.
Безмерное счастье, немыслимое воодушевление,
огромная радость, мягкая и все же сильная, наполняют
душу. О такой же точно радости сообщает Максим.
Вспоминается Паскаль, чье описание видения содержат
слова: радость, радость, радость! Два высших понятия,
какими Достоевский вообще мог обозначить такое
состояние, суть молитва и слитие. Плотин говорит о том, что
в таком состоянии душа каждой своей частицей сливается
с Богом, Феофан — о непосредственном соединении с
Богом, а Максим — о том, что душа больше не принадлежит
себе.
В связи с описанием визионерских переживаний
Достоевский ставит вопрос об их значении. Идет ли речь при
ауре о перемещении в более высокое состояние бытия,
или аура являет собой только болезненное явление,
находящееся за пределами здоровой жизни? Достоевский в то
время еще ничего не знал о внеэпилептических видениях.
Болезненные состояния свидетельствуют о себе
душевным мраком, четко выраженной тупостью и идиотизмом.
В иных же случаях в момент видения или
непосредственно перед ним господствует мысль, что этот момент стоит
всей прежней жизни. К этому добавляется непререкаемая
вера в то, что речь идет о действительном изменении
состояния, а не только об изменившихся представлениях.
Плотин утверждал, что истинная жизнь — только там,
ибо жизнь, которую теперь ведет "душа", жизнь вне Бога
является лишь жалкой копией жизни.
Декарт писал в своем "Рассуждении о методе": "Я
приобрел способность мыслить о чем-нибудь более
совершенном, чем я сам, и понял, что это должно прийти от
чего-либо по природе, действительно более
совершенного, что по необходимости должно быть некоторое другое
существо, более совершенное, чем я, от которого я
завишу и от которого получаю все, что имею". Но идея более
совершенного, чем человек, существа не может
возникнуть из ничего. Поэтому Декарт допускает, что "эта идея
вложена в меня тем, чья природа совершеннее моей, и кто
соединяет в себе все совершенства, доступные моему
воображению, то есть, говоря одним словом, Богом"139.
Отличие Достоевского от Декарта состоит в том, что
Достоевский не размышлял о совершенстве, а переживал
324
его. Он выразительно подчеркивал реальность такого
опыта. Даже об образах сна Достоевский сказал, что они,
возможно, более реальны, чем образы дневного мира.
Уместно в этой связи поставить вопрос, идет ли речь
в видении только о сновидческих образах? Следует
отметить, что образы сна покоятся на восприятиях
бодрствующего состояния; откуда же могут прийти образы
видения, если не из сверхземной реальности? Ведь здесь
имеется существенное отличие от сна: связь события не
столь невероятна, но в высшей степени исполнена
смысла. Правда, предметные образы видения могут быть
непохожи на предметы мира опыта. Законы времени
и пространства во сне изменяются столь сильно, что
последовательность их фрагментов кажется
произвольной. В видении же не переживается последовательность
временных и пространственных отрезков: пространство
и время предстают как одновременная и единая
огромнейшая зона. Бессмысленные и невозможные явления
здесь отсутствуют. Более того, все представляемое или
созерцаемое в видении выражается в совершенной
осмысленной взаимосвязи. Относительно реальности
созерцаемого в видении можно сказать, что оно не имеет связи
с опытом нашей привычной жизни.
О реальности видения Достоевский говорит
следующее: 1. Интуитивное, сильнейшее и совершенно
исключающее какое бы то ни было сомнение, уникальное чувство
реальности: "Все это не могло не быть"140. 2. Содержание
переживания настолько сильно превосходит опыт и знания
любого возможного осознанного образа и чувства, что его
происхождение остается невыясненным. "Разве одно
сердце мое в силах было породить ту ужасную правду, которая
потом случилась со мной? Как бы мог я ее один выдумать
или пригрезить сердцем? Неужели же мелкое сердце мое
и капризный, ничтожный ум мой могли возвыситься до
такого откровения правды!"141 3. Переживаемая в видении
реальность в высшей степени упорядочена. Сущность,
смысл и ценность ее так непротиворечиво связаны, что они
значительно превосходят мир нашего обычного сознания.
Все, что видится, кажется истинным, т. е. одновременно
полностью правдивым и в высшей степени
существующим. "Тут случилось нечто такое, нечто до такого ужаса
истинное, что это не могло бы пригрезиться во сне"142.
В факте видения и в содержащемся в нем опыте нельзя
сомневаться. Остается одно только объяснение: видение
325
есть порождение бессознательной сферы души. Возникает,
однако, вопрос: как приходит бессознательное к таким
представлениям? Очевидно, их нельзя свести к
сознательным переживаниям. Вероятно, отдельные представления
посредством творческой фантазии образуют связь с
новыми образами. Это возможно, хотя они переживаются более
интенсивно. В этом случае созерцанию открываются такие
образы и предметы, силы и свойства чувств, которые иначе
душе остаются неизвестными и не переживаются. Можно
еще раз сказать, что эти чувства являются чисто
субъективными, что ничего в объекте им не соответствует. Но нужно
также добавить: душа в своем бессознательном чувствует
то, что никогда не станет предметом сознания. Далее,
душа в видении может достигнуть того, чего она никогда
не в состоянии достичь с помощью осознанных мыслей
и чувств: обнять в единстве сущность, ценность и смысл
реальности и тем самым найти непоколебимые основания
своего познания. И наконец, в видении душа может
отвлечься от своего точного здесь-и-теперь бытия и
актуализироваться в огромном пространстве-времени. И все же,
о чем идет речь — о душевном творчестве, о
сверхъестественном опыте либо, наконец, о забытых воспоминаниях?
По мнению Достоевского, здесь имеет место
действительно осмысление реальности. Визионер познает смысл
действительности либо он познает Бога. Григорий Синаит
различает восемь предметов узрения: 1) Бога, т. е.
незримую, безначальную и несотворимую причину всех вещей,
единую Троицу и сверхсущностную божественность; 2)
порядок и последовательность духовных сил; 3) структуру
творения; 4) зримое нисхождение слова; 5) возрождение
мира; 6) второе пришествие Христа, вызывающее страх; 7)
вечные мучения; 8) небесное царство в его
бесконечности143. Другие мистики приводят примеры иных образов-
переживаний, которые в какой-то степени соотносятся с их
повседневным опытом и понятийным багажом, что также
свидетельствует против объективности созерцаемого в
видении. Но речь идет не об образах, которые по их
видимости имеют символический характер, а о переживаемой
в них внечувственной, но ощущаемой реальности, которая
обозначает реальность космического порядка или
божественную реальность. На вершине экстаза душа "не
воспринимает ни слов, ни лица", — говорила св. Тереза144.
Конечно, существуют неполные видения, в которых опыт
этой реальности смешивается с другими элементами.
326
Но развернутое, полное видение имеет место только
тогда, когда душа осуществляет творческий акт. Она
должна собрать всю свою волю к жизни, чтобы пробиться
сквозь обыденные формы бытия и возвыситься до
состояния сверхсознания. Она достигает при этом состояния
amor intellectuale (духовной любви), но она не создает
в этом состоянии предмета своего опыта. И наконец,
с точки зрения Достоевского, можно говорить в этой связи
также и об анамнезе (воспоминании). Ибо душа однажды,
раньше, до грехопадения уже созерцала реальность такого
рода, она таит в себе знание о ней как "семя", как райское
бессознательное. "Если существует предчувствие
вечности, — верно пишет Любак, — то не является ли "опыт
видения" для нас знаком, "реальным символом"?"145 Если
наше повседневное бытие кажется столь слабым по
сравнению с пережитым в видении, то нет никаких оснований
приписывать действительность предмету видения.
Следует отметить еще одну мысль. М. Шелер в своей
работе "Формализм в этике и материальная этика
ценностей" указывает на то, что в непосредственном, невольном
воспоминании высвечиваются не только частичные
элементы ранних восприятий, но и такие моменты, которые
мы до сей поры не воспринимали осознанно. Пруст
независимо от Шелера, исходя из такой же идеи, построил на
ней всю метафизику своего романного цикла "В поисках
утраченного времени". Достоевский хорошо знал, как уже
указывалось, значение мимолетных впечатлений. Исходя
из этого, можно сделать вывод, что силами нашей души
мы познаем в каждый момент всю реальность или, по
крайней мере, огромную ее сферу, но в наше сознание
попадает лишь-малый, деформированный и ослабленный
ее фрагмент. Если бы мы могли пробиться от нашего
ограниченного и неочищенного нынешнего знания к
полному знанию нашего душевного бессознательного, мы
увидели бы целостную божественную реальность.
Для обозначения состояния, в котором душа
достигает в видении своего высшего пункта, Достоевский нашел
одно слово: "синтез". Этот последний есть слияние
нового Я со всем, в многоединстве. Подобное состояние
лучше всего сравнить с глубоким молитвенным настроением
души, переживающей в духовной любви связанность
с Богом и со всем сущим. "Я всему молюсь", — говорит
визионер Кириллов.
Бог
Краеугольным камнем
положительной философии Достоевского
является идея Бога. Бог существует
— этим утверждением она начинается и завершается. Что
привело его к этой вере и как он ее обосновывает? В
идеях, связанных с учением о Боге, можно выделить
несколько проблем: исторический опыт существования Христа;
отношение к детям, к народу, к святым;
"соприкосновение мирам иным"; внутренний опыт сверхсознания,
дедукция идеи смысла и, наконец, логико-онтологические
соображения, приводящие к Богу.
а) Христос
В Иисусе Христе Достоевский видел
воплощение нравственности и духовной красоты. Уже в юности
он принимал близко к сердцу его идеальный образ. Дьякон,
приглашенный отцом Достоевского, чтобы учить детей
закону Божьему, обладал большим талантом рассказчика.
Ребенком Достоевский получил книгу "Сто четыре истории
Ветхого и Нового Заветов", которая произвела на него
столь сильное впечатление, что уже взрослым, в сорок
девять лет, он приобрел такую же книгу и хранил ее всю
жизнь. Впечатления юности оставили след на всю жизнь.
В период близости с Белинским и петрашевцами, когда его
религиозность ослабла, идеал Христа был и тогда непоко-
леблен, и он защищал его от всех и всяческих нападок
крупных критиков того времени. "Каждый-то раз, когда
я вот так помяну Христа, — говорил Белинский своему
знакомому, — у него [Достоевского] все лицо изменяется,
точно заплакать хочет... Да, поверьте же, наивный вы
человек... поверьте же, что ваш Христос, если бы родился
в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным
человеком; так и стушевался бы при нынешней науке и при
нынешних двигателях человечества"146.
328
Достоевский, напротив, утверждал, что Христос —
человек недостижимого нравственного совершенства,
величайший человек во всем мире. Ни до него, ни после
никого подобного не было никогда. "Нет ничего
прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и
совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою
любовью говорю себе, что и не может быть", — писал он
после каторги Н. Д. Фонвизиной (конец января 1854 г.)147.
Исключительную и непревзойденную красоту Христа,
подчеркивал Достоевский, признал сам Ренан, чья
"Жизнь Иисуса" в целом является произведением
неверующего. Совершенство красоты Христа в соответствии
с традицией православной церкви видится Достоевскому
ярче всего в преображении на горе Фавор, а позднее
в воскресшем Христе. Свет с горы в восточной церкви
(впрочем, и в западной тоже) играет большую роль.
Великие святые сообщают, что этот свет нисходил к ним
и светился в них. Таково, к примеру, сообщение о
Серафиме Саровском, когда он в зимнем заснеженном лесу
одному из своих посетителей, спросившему его о
сущности Святого Духа, сообщил дар увидеть проблеск этого
света. О сверхнатуральном свете визионерства говорят,
что он должен быть тождествен свету с горы Фавор. Это
не только внешний, чувственный свет, но прежде всего
просветление души.
Нравственность Христа была столь велика, что она
действовала как светящаяся внешняя красота. И эта
высшая красота, тождественная нравственному бытию,
— прежде всего красота духовная. "Прекрасное есть
идеал, — писал Достоевский 1 января 1868 г. своей
племяннице Софье Александровне Ивановой, — а идеал — ни
наш, ни цивилизованной Европы — еще далеко не
выработался. На свете есть одно только положительно
прекрасное лицо — Христос, так что явление этого безмерно,
бесконечно прекрасного лица уж конечно есть
бесконечное чудо. (Все Евангелие Иоанна в этом смысле; он все
чудо находит в одном воплощении, в одном проявлении
прекрасного.) Упомяну только, что из прекрасных лиц
в литературе христианской стоит всего законченнее Дон
Кихот"148.
Евдокимов считал, что изображение Христа в
"Легенде о Великом инквизиторе" обращено только к
эстетической стороне его образа149. Тем самым он сближал
образ Христа с изображенным в книге Ренана. Гвардини
329
же утверждал, что Христос в этой легенде выступает лишь
как ложный образ ее создателя Ивана Карамазова,
который был не в силах показать преобразование мира в духе
пророчества о царстве Божьем. Бердяев, напротив, видит
в этой легенде противопоставление принимаемого
Достоевским учения Христа о меонической свободе — мнимой
свободе нигилистов. Прав был Любак, указавший на то,
что Достоевский не считал образ Христа в легенде
деформированным, ведь он оценил рассказ Ивана устами
Алеши Карамазова как похвальное слово Христу.
Нравственность Христа, которую он первым из людей
осуществил, позволила ему провозгласить ее как закон.
Ведь закон Христов состоит в призыве к "милосердию
и любви"150. Хотя закон этот и прирожден человеку,
в своем полном объеме он был осознан только через
Христа. Лишь Христос своей жизнью и смертью научил
человечество чистому нравственному поведению. Его
жизнь и его учение открыли новый уровень человеческого
бытия. Только Христос предлагает каждому
нравственный идеал.
Откуда возникла новая, превосходящая все
нравственность Христа? Христос полностью преодолел свою
личность, свое Я, пожертвовав его "целиком всем и
каждому"151. Он обладал высшей любовью, любовью
милостивой, которая давала ему силу помочь людям преодолеть
в себе груз грехов и отчаяние. Он хотел людям добра
и делал добро, не причиняя никому ни малейшего
страдания, не проливая кровь. Особенно любил он детей за их
безгрешность, за излучаемый ими свет райской чистоты;
затем он, как бы в противоречии с этим, любил и
грешников, также и особенно в грехах их, ибо они больше, чем
другие, нуждались в любви. Его любовь была столь
велика, что мы не способны и представить себе ее; она не
сравнима с любовью людей, даже святых. При этом он
обладал совершенным смирением, он хотел быть равным
всем, более того, рабом всех. Достоевский любил
стихотворение Тютчева, посвященное смирению Христа:
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил, благословляя.
Он, кто безвинно своей мученической* и позорной
смертью принял на себя все грехи человеческие, не знал
330
ненависти и был полон всепрощения: "Христос... все
простит: и хулу твою простит, и хуже твоего простит"152. Он
был правдив, в его внешнем облике просвечивала
душевная справедливость, и он настойчиво стремился к истине.
Его воздействие осуществлялось бессловесно, озлобляя
одних и возрождая других. Христос учил людей
преодолевать страдания, принимая грехи страждущих на себя.
В его смерти человечество получило практическое
доказательство, что в земном существовании можно
воплотить высший человеческий идеал. Благодаря ему
"слово" обрело плоть и идеал осуществился во плоти.
Христос не признавал насилия в осуществлении
нравственности и отвергал материальные стимулы для
нравственного поведения (как хлеб, чудеса и т. п.). Он хотел,
чтобы человечество заметило в себе божественную,
милостивую любовь и божественную истину. Он завершил
задачу откровения, дав человечеству возможность
осуществить непосредственное единение с Богом.
Христос открыл людям глаза на то, что они
определены к высокому бытию; что они должны стремиться
к этому бытию, которое представляет собой небесное или
божественное царство — не во внешних обстоятельствах,
а прежде всего в них самих. Он показал им, что они всего
лишь омрачены грехом, что они могут очиститься, что
рай лежит в них и у них есть ключи от него. Когда Ницше
сказал: "Если бы христианство сделало предметом веры
невинность человека, люди стали бы богами"153, этим
извращением протестантского вероучения он отверг
главную задачу Христа — превратить царство небесное в
действительность путем нравственного совершенствования.
Христос преодолел смерть и подчиненность времени.
Он оживил Лазаря и сам воскрес. Его нравственное
совершенство отменило подчиненность судьбе. "Per
nominem Christum tendis ad Deum Christum": "Именем
Христа возносишься к Богу-Христу", — сказал
Августин154. Это был путь Достоевского. Отправляясь от
Христа-человека, он шаг за шагом познавал его
божественность. Только через Христа-человека он постиг
огромную заслугу его личности, оказавшей столь большое
историческое воздействие. Достоевский не считал его
служение легким, само собой разумеющимся из-за того, что
за ним стояло божественное всемогущество; напротив, он
видел, что Христос только с помощью человеческих сил
совершил неслыханное и освободил человечество.
331
Христос стал великим примером для людей, которые,
бунтуя против христианства, ни прежде, ни теперь, ни
с мудростью их, ни жаром сердца "не были в силах
создать иного высшего образа человеку и достоинству
его... А что было попыток, то выходили одни лишь
уродливости"155. Побудить человечество к принятию
другого идеала вместо христианского можно только тогда,
когда укажут ему такое лицо, которое осуществило бы
подобный идеал и превзошло бы Христа. До сих пор это
было неосуществимо. "Укажите мне ваших праведников,
которых вы вместо Христа ставите?" — обращался
Достоевский к либералу Градовскому156. В письмах к
Майкову (28 августа 1867 г.) и Страхову (30 мая 1871 г.)
Достоевский замечает, что в либералах и социалистах
много тщеславия, самолюбия и легкомысленной
гордости. И даже сам Ницше вынужден признать в "Воле
к власти", что "нигилисты пренебрегают любыми
попытками помыслить о более высоких типах"157, это он мог бы
обратить и на себя самого.
В Христе человечество не только реализовало
наиболее общий свой идеал, оно нашло здесь и свое
сущностное измерение. "Синтетическая натура Христа
изумительна. Ведь это натура Бога, значит, Христос есть
отражение Бога на земле"158.
Достоевский нашел оригинальный подход к
обоснованию божественности Христа. Мы знаем, как Христос
умер. Достоевский принимал его смерть во всей ее
естественной ужасности. Дважды — в "Идиоте" и в "Бесах"
— он говорит об этом с глубоким содроганием. Может
ли бытие иметь смысл, если оно, дав жизнь такому
совершеннейшему существу, какое по человеческим
меркам едва ли можно вынести, затем уничтожило его,
слепое к его значимости и не обращая внимания на
поруганную справедливость? Христос тем самым умер по
ошибке. Если он не воскрес, если он не Бог, тогда он не мог
быть ни спасителем, ни источником жизни. Тогда нет
доказательств, что возможно достижение более высокого
уровня морали, и человечество должно сказать себе, что
его земное существование является безнадежным.
Достоевский противопоставляет реальному познанию
закона становления и исчезновения размышления о
смысле и ценности и пишет: "Если б кто мне доказал, что
Христос вне истины, и действительно было бы, что
истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со
332
Христом, нежели с истиной" (письмо к Н. Д. Фонвизиной,
конец января, 1854 г.)159. И еще: "Если бы математически
доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы
согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной"160.
Речь идет здесь не 6 самодурстве и слепой партийности
Достоевского; эти слова означают, что Достоевский
придавал вопросу о смысле и ценности принципиально
большее значение, чем эмпирическому познанию161.
Христос навсегда стал достоянием человечества. В
церкви и народе он предстает как его единственный и
высший идеал; стремление человека к совершенству
неизбежно связывается с личностью Христа. Эту живую связь
Достоевский пытался показать в образе князя Мышкина
в "Идиоте". Не только люди, но и вся природа стремится
к нему не потому, что она сама по себе греховна, а
потому, что она тоже находится под угрозой смертного греха,
и ее космические силы, порождающие и творящие,
отделены друг от друга и ищут воссоединения162. Бог
действует в природе не только для человека, Христос был
в природе "еще раньше нашего"163.
Бытие возникло только потому, что могло
осуществиться это событие — жизнь и деяния Христовы. В нем
сущее завершило и очистило себя искупающим
страданием и преодолевающим время и смерть воскрешением
к совершенному бытию в Боге и с Богом.
б) Дети. Народ. Святые
Не только историческое явление
Христа, но и повседневный опыт Достоевского побуждал его
к познанию Бога. Почти каждому человеку случается
соприкасаться с существом столь чистой души, что в ней
светится нечто божественное. Такими считал
Достоевский детей, народ и святых.
Мы уже видели, что дети для Достоевского были как
бы иными, чем взрослые, существами, в том числе и по
своей природе. Почти до седьмого года своей жизни они
всем своим миром "страшно отстоят от людей"164,
считал Достоевский. Как психологу детской души ему равен
по силе, пожалуй, только Диккенс165. Дети, например,
благостно смеются, в то время как в смехе взрослых
весьма чувствуются черты глупости, пошлости, мелоч-
333
ности или вздорности. Дети беззаботны, они не
подавлены заботой или страхом перед жизнью, как взрослые.
"Было бы солнышко, радуются... словно птички,
голосочки их что колокольчики"166. Они побуждают взрослых
к любви. В них нет ничего нравственно или эстетически
отталкивающего. Даже самых дурных лицом детей, если
таковые есть вообще, даже самых грязных можно любить
"даже и вблизи"167.
Будучи невинными, они тем самым являют собой
неосознанный "образ Христов", более непосредственный,
чем у взрослых, у которых он искажен168. По словам
Христа, Божье царство — в детях (Мк. 10: 14—15).
Детская красота и чистота суть отблеск изначального
совершенства человека в райском состоянии. Ибо тогда люди
были детьми "своего солнца — о, как они были
прекрасны! Никогда я не видывал на нашей земле такой красоты
в человеке"169.
Любовь детей к взрослым — все равно как прощение
их грехов. Но дети со временем перерастают свое райское
состояние, утрачивая его. В их жизни наступает момент,
когда душа полнится предчувствием чего-то нового и
неизвестного, не зная, радоваться ей или печалиться, и
горестно оглядывается на исчезающую землю своего
детства. Затем в душе ребенка восходят семена зла, и теперь
нужно бороться, чтобы поддержать или, по крайней мере,
помнить свою чистоту.
Умственные способности ребенка, по мнению
Достоевского, почти всегда взрослыми оцениваются
неправильно. Уже к началу школьного возраста большинство
детей обладает достойным восхищения глубоким
нравственным чувством, столь невероятно точным суждением
в вопросах морали (особенно когда они становятся
свидетелями несправедливости и бессердечности), что одно это
свидетельствует о врожденной нравственной истине170.
Ребенку в этом возрасте можно говорить полную правду
и нельзя лгать. Удивительно, что многие родители не
понимают своих детей. Дети хорошо знают, когда от них
что-то утаивают и считают, что они ничего не понимают.
Дети могут дать чрезвычайно важный совет в трудных
жизненных и нравственных вопросах. В известном
смысле ребенок знает даже больше, чем взрослый, поскольку
в нем еще не заглох голос нравственности. Взрослый
в общении с детьми может нравственно оздоровиться,
поскольку они "живут для умиления нашего, для очище-
334
ния сердец наших и как некое указание нам"171. "Через
детей душа лечится"172. В самые тяжелые времена они
для своих родителей являются родником счастья, так что
те охотно терпят лишения, только чтобы их порадовать:
"Говорят вот, что детей иметь тяжело? Кто это говорит?
Это счастье небесное... Я ужасно люблю [их]"173.
Известно, с какой любовью Достоевский относился к своим
детям и как горевал он, потеряв своего первого ребенка.
Воспоминания о детстве имели для Достоевского
огромное значение. Он пронес через всю свою жизнь
дорогие и радостные воспоминания о ранних своих годах
и о родительском доме. Позже он писал: "Я очень часто
задумываюсь и спрашиваю себя теперь: какие
впечатления, большею частию, выносит из своего детства уже
теперешняя современная нам молодежь?" Если родители
в ряде поколений чужды народу и вере, если и дети
воспитываются без почвы, вне естественной правды,
ребенку трудно приобрести гармоничное, безошибочно
направленное и полное любви отношение к миру и
народу174. Примером воздействия на всю последующую жизнь
нравственных устоев родительского дома является
пушкинская Татьяна, нравственная чистота которой была
заложена в детстве. Мы должны любить и чтить детей
— такова Христова заповедь175.
Следует в этой связи еще раз вспомнить мистический
сон Дмитрия Карамазова, в котором иссохшие бабы
молча молят за своих плачущих от голода и холода
детей: для человечества самое ужасное преступление
— мучить и доводить до слез невинных детей. Каждый
должен сострадать этим слезам: "А их ведь много, их
сотни, и все мы за них виноваты! За всех "дате", потому
что есть малые и большие дети. Все —
"дате"176.Достоевский указывал на то, что во взрослых всегда содержится
что-то от их детской чистоты, они в широком смысле
также принадлежат детству. Открывая в них детскость,
мы легче можем и полюбить их, привязаться к ним.
Злобность же сеет "семя дурное", которое бессознательно
хранится в душе, пока не взрастет оно в воспоминаниях
и дурных поступках177.
Странным образом о Достоевском возник целый миф,
согласно которому он якобы хотел бы вернуть
человечество "к неразвитому состоянию детства и невинности"178.
С. Фюме также писал о том, что Достоевский был
одержим безудержным стремлением назад, в бессознательное
335
детство: "вернуться к своим истокам"179. Истоки такой
позиции открыть легко, они восходят к Ницше, который
пересмотрел образ Христа, по всей видимости, под
влиянием романа "Идиот", и нарисовал картину человека, не
умеющего противостоять злу, прозревающего небесное
царство в своем сердечном счастье, детски невинного. Но
Ницше не понял Достоевского, односторонне приписывая
черты Христа характеру Мышкина. А. Жид разделял эту
точку зрения, толкуя небесное царство в "здесь-и-тепе-
решнем счастье" утопии Кириллова. А. Жид оказал,
в свою очередь, влияние на новейших французских
исследователей творчества Достоевского.
Каково фактическое положение дел? Неправильно, что
только из образа князя Мышкина выводят концепцию
Достоевского о совершенном человеке. Конечно,
Достоевский, создавая Мышкина, имел в виду Христа в
качестве прототипа. Но при этом он четко сознавал различия
между ними. Доказательством служит запись от 21 марта
1868 г. в его набросках."Если Дон Кихот и Пиквик как
добродетельные лица симпатичны читателю и удались,
так это тем, что они смешны. Герой романа Князь, если
не смешон, то имеет другую симпатичную черту: он
/невинен/'480. Понятно, что невинность Мышкина, как
и комичность Дон Кихота, столь симпатичная читателям,
является "несовершенной", беспомощной стороной
идеального в других отношениях человека. Далее следует
заметить, что введением картины Гольбейна с
изображением мертвого Христа образу Мышкина
противопоставлен "другой" Христос. И наконец, чтобы уяснить себе
в полной мере значение образа Мышкина, нужно
обратиться ко всем другим персонажам романа, ибо его образ
становится в полной мере пластичным и понятным
только во взаимодействии с другими его героями. "Когда
Христос хотел, чтобы мы были как дети, — писал X. В.
Зайдель, — он тем самым защищал не инфантилизм,
а сохранение живого и творческого бытия"181; и
Достоевский думал так же. Любимое указание критиков на "Сон
смешного человека" о рае и райском детстве человечества
не умаляет эту мысль, так как в данном случае речь идет
об утраченном золотом веке ранней юности человечества.
Образы Неточки Незвановой или Илюши в "Братьях
Карамазовых" ясно свидетельствуют о том, что
Достоевский имел в виду не инфантильность, а нравственную
чистоту, открытость детей и их идеализм.
336
С особым благоговением Достоевский говорил об
акте рождения, которое он считал великой и святой
тайной. Эта мистерия вызывала у него глубокую радость182.
Она вытекала из размышлений о том, что с появлением
на свет человека рождается новый дух и начинается
бесконечное существование, загорается новая мысль и новая
любовь. Телесное рождение, необходимое для продления
рода человеческого, Достоевский связывал с более
важным возникновением духа, который стал бессмертным
свидетелем и соучастником божественного творения.
Рождение души является актом, который таинственным
образом связан с возрождением (метанойей) души
раскаивающегося грешника. Рождением и возрождением душа
готовится для рая.
Следует заметить, что Достоевский не различал
рождения и творения, как это позже делал Бердяев.
Напротив, он видел в них одно и то же. Можно поставить
вопрос, не получает ли творчество при различении этих
понятий более отчужденный смысл, который сближает
его с понятием производства.
Для эмпирического познания Бога народ у
Достоевского играет такую же роль, как и дети. По его
свидетельству, он возвратился к Богу благодаря народу. Здесь
действовали два различных момента. С одной стороны,
Достоевский признавал существенным свойством
русского народа его приверженность идее православия. Так как
он близко наблюдал народ и любил его, он хотел верить
в то, во что верил народ. Рассказ о перерождении Раско-
льникова, о его обращении к Евангелию, очевидно,
содержит автобиографические моменты. С другой стороны,
не это является главным. Решающим для Достоевского
было то, что он видел в народе непосредственное, живое
и осуществившееся христианство, глубину которого он
принимал. Поступки и слова заключенных, подчас
неожиданные, свидетельствовали о подлинном христианском
чувстве. В заключении он слышал, что говорят в народе
о жизни верующих. В нем пробуждались воспоминания
об общении с народом в юные годы (рассказ о мужике
Марее). В итоге долгих размышлений Достоевский
противопоставил этих людей петербургской интеллигенции,
придя к выводу, что в народе есть люди столь
возвышенной нравственности, какой нельзя найти среди людей
образованных. Непосредственная христианская жизнь
народа привела Достоевского назад к Христу и Богу.
337
Когда Достоевский возвратился из Сибири, он
стремился узнать как можно больше о жизни людей из
народа, отличающихся высокой нравственностью. Особенно
привлекали его внимание сообщения о русских
странниках и святых. Уже в начале 60-х гг. он изучал
свидетельства о святых и старцах, о жизни знаменитых
странников и особенно жизнеописание русского епископа
Тихона Задонского. Но только около 1870 г. действие этих
исследований стало столь значительным, что нашло
отражение в его творчестве. В "Бесах" впервые предпринята
попытка ввести в повествование святого как действующее
лицо. В исключенной из романа главе "У Тихона" св.
Тихон показан с исторической точностью. Достоевский
предполагал и в ненаписанном романе "Житие великого
грешника" изобразить монаха.по имени Тихон, который
должен был иметь черты епископа.
С того времени в каждом большом его произведении
представлены религиозные люди как действующие лица,
занимая в его творчестве все большее место. Таковы
странник Макар Иванович в "Подростке" и старец Зоси-
ма в "Братьях Карамазовых", жизни и поучениям
которого посвящена особая часть романа. Достоевский
показывал не только монахов, странников и святых, но и
религиозных людей из народа: обе Сони из "Подростка"
и "Преступления и наказания", Маркел и ямщик Андрей
в "Братьях Карамазовых", "Кроткая" и многие другие
— глубоко верующие персонажи. Другую группу людей
Достоевский связывал с их нравственной чистотой,
называя их искателями правды, или, если они достигали своей
цели, всечеловеками. Влас — герой стихотворения
Некрасова стал прототипом этого характера. В статье,
посвященной еврейскому вопросу в "Дневнике писателя", он
рассказывает о враче — немце по происхождению — Гин-
денбурге, с любовью лечившем больных и заботившемся
о бедных, на похороны которого собрался весь город
и священнослужители всех вероисповеданий служили по
нем заупокойную службу — такова была любовь к нему
и печаль о нем. Такого рода людей, подающих всем
пример и стремящихся к осуществлению закона любви,
нужно сравнительно немного, чтобы перевернуть мир.
Таких людей трудно обнаружить, но ведь любое общее
число образуется из "единичных случаев"183. Они не
должны приходить в уныние от мысли, что их так мало,
что они одиноки. "И вовсе нечего ждать, пока все станут
338
такими же хорошими, как и они, или очень многие: нужно
очень немного таких, чтобы спасти мир, до того они
сильны. А если так, то как же не надеяться?"184.
Подобным же образом Достоевский оценивает и
святых. До сих пор святые встречаются редко, так редко, что
в ходе истории их едва можно заметить. Спрашивается,
если великая идея привлекает так мало сторонников
(действующих!), какая от нее польза человечеству? Но здесь
речь идет не о пользе, а об истине и правде. Никто не
может сказать, сколько нужно безгрешных христиан,
чтобы не угас в народе христианский идеал и чтобы не
пропала надежда на будущие всеобщие перемены.
В "Братьях Карамазовых" говорится, что, возможно,
лишь десятки тысяч великих и сильных духом
приблизятся к христианскому идеалу. Но "что станется с
миллионами и десятками тысяч миллионов... которые не в
силах будут пренебречь хлебом земным для хлеба
небесного?"185 Должны ли они составить необходимый
процентный уровень, который сделает возможным
существование святых? "Сколько, например, надо было
погубить душ и опозорить честных репутаций, чтобы
получить одного только праведного Иова?"186 Мысль о
безгрешном земном счастье родилась непосредственно из
отчаяния всех тех многочисленных людей, судьба
которых не дала им счастья. "Чем виноваты остальные
слабые люди, что не могли вытерпеть того, что могучие?
Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь
страшных даров? Да неужто же и впрямь приходил ты
лишь к избранным и для избранных?"187
В основе этого вопроса лежит ложное понимание
сущности святости. Святые суть живущие сами по себе,
отделенные от человечества люди, сверхчеловеческие по
характеру, которые достигли вечного спасения, в то
время как масса людей бессильно стремится ко второй
смерти. Но святые на самом деле теснейшими узами связаны
со всем человечеством благодаря синтетической любви.
Они не имеют ничего своего, все их заслуги суть не что
иное, как заслуги всего грешного человечества. Святыми
становятся не из "трансцендентного эгоизма", чтобы
возвыситься над людьми, а из любви к Богу и людям, для
исполнения указанной любви и завета, из этого
вырастающего.
Задачи святых состоят в следующем: 1. В одиночестве
и уединении хранить чистый, незамутненный образ Хри-
339
ста. От апостолов, мучеников и отцов церкви через всю
историю тянется непрерывная цепь святых, исполняющих
эту задачу. О том, как было велико их воздействие, хотя
наука и пытается это опровергнуть, свидетельствует
пример старчества188. 2. Дать единичный, подчас
неожиданный пример деятельной христианской любви и тем
самым осветить людям путь возвращения к братской
общности. В такую пору, считал Достоевский, необходимо
одно: чтобы жили люди, подающие этот пример, хотя бы
и юродивые, и чтобы не умирала мысль, которую
передают они своим современникам189. 3. Подготовиться
к тому моменту, когда мир и история вступят в новую
фазу, чтобы затем, когда человечество отчается во всех
других идеях, со всей силой возвестить Христа и его
Евангелие и поддержать заблудшее человечество с
помощью его чистого образа. Достоевский был убежден, что
"что-то новое надвигается в мире повсеместно и надо
быть готовым..."190. 4. Сохранить в народе живую
надежду, ибо народ жаждет совершенства, великой
нравственной мысли; несмотря на все свои грехи и беды, он может
достичь нравственной высоты, вековечных целей,
абсолютной радости.
В легендах о святых народ передает живое знание об
их житии и их целях. Особенно любили в России того
времени рассказы о жизни св. Алексея и св. Марии
Египетской, а также о жизни и поучениях отшельников и
старцев. Не из отвращения к жизни, ибо христианство не
враждебно жизни, не из личного эгоизма (как утверждал
О. Конт), чтобы спасти душу, не думая о своих ближних,
а из любви ко всем и ко всему идут монахи в монастыри
и скиты и дают обеты. В молитве, посте и послушании
должны быть преодолены своеволие и чрезмерные
материальные потребности, а душа — возвыситься ко все
большему стремлению и жажде Бога.
Путь к этической свободе идет через молитву191,
которая есть не пустая формальность, она несет сердцу тепло.
Когда молятся искренне, всякий раз человека озаряет
и бодрит новое чувство. Молитва является также
прекрасным воспитательным средством. Потребность в ней
есть в душе любого человека. С низшей практической
ступени молитва возвышается до ее высшей формы
— учения, становясь сверхосознанным созерцанием
божественного. В поучениях старца Зосимы говорится: "В
уединении же оставаясь, молись. Люби повергаться на
340
землю и лобызать ее. Землю целуй и неустанно, ненасы-
тимо люби, всех люби, все люби, ищи восторга и
исступления сего. Омочи землю слезами радости твоея и люби
сии слезы твои. Исступления же сего не стыдись, дорожи
им, ибо есть дар Божий, великий, да и не многим дается,
а избранным"192.
Молитва как хвала и благодарение служит
непосредственному интимному общению с Богом. Как мольба
и покаяние, она совершается не только ради собственной
персоны, но подчас преимущественно ради нужды и
покаяния в грехах всего человечества. Достоевский устами
Макара Ивановича в "Подростке" советовал "молитву
творить ежедневно и неуклонно"193. Молитва за других
людей, живых и умерших, действенна потому, что ей
внимает Бог. Такое же значение имеет молитва за
погрязших в грехе и за самоубийц194.
Молитвы, которые Достоевский отмечает и
рекомендует, столь глубоки по содержанию и столь интересны
для его миро- и богоузрения, что я хочу их кратко здесь
привести. У него есть молитва за тех, о которых никто не
молится: "Спаси всех, Господи, за кого некому
помолиться"195. Ежечасно бесчисленные души покидают
земное бытие и предстают перед божественным судилищем.
Но часто они покидают землю в одиночестве; никто не
знает, что они умерли, никто этим не озабочен. Печаль
и скорбь охватывает такую душу от того, что никто за
нее не помолится, что ее не связывает любовь с другими
людьми. "И, вот, может быть, с другого конца земли
вознесется ко Господу... и твоя молитва, хотя бы ты и не
знал его вовсе, а он тебя. Сколь умилительно душе его,
ставшей в страхе пред Господом, почувствовать в тот
миг, что есть и за него молельщик, что осталось на земле
человеческое существо, и его любящее"196. Подобным
образом молится и Лебедев в "Идиоте" за душу графини
Дюбарри, потому что, быть может, еще никто со времени
смерти ее "никогда и лба не перекрестил, да и не подумал
о том"197.
Другая молитва предназначена тем, кто не хочет
молиться — атеистам, ложным пророкам, материалистам
и т.д. Нельзя ненавидеть их или считать их злыми, так
как среди них есть много добрых людей. И не из гордости
должна произноситься молитва эта, а в сознании своей
слабой веры и собственного заблудшего бытия и с
искренним внутренним чувством, что молящийся хуже их.
341
Существует молитва за всех тех, кто стоит перед
искушением: "Господи, помилуй их всех... сохрани их,
несчастных и бурных, и направь. У тебя пути: ими же веси
путями спаси их. Ты любовь, ты всем пошлешь и
радость!"198 Особенно ценна молитва для тех, кто отягощен
тяжелейшими грехами; здесь человечество должно
усилить свои молитвы и через самоотречение в подвиге
любви молить об их спасении: "Господи, ими же сам веси
судьбами спаси всех нераскаянных"199.
Наряду с вышеописанными молитвами у
Достоевского имеются также светлые и радостные. Мы приведем
только одну из них — молитву странника Макара
Ивановича: "Все в тебе, Господи, и я сам в тебе и приими
меня"200. Молитвы такого рода свидетельствуют о
глубоком мистическом опыте Достоевского, который
принимал земную жизнь, исполненную в Боге.
"Постничество", т. е. преодоление всех материальных
вожделений, наряду с молитвой является другим важным
средством достижения этической свободы. Желания
усмиряются до такой степени, что всегда, даже в моменты
больших искушений, остаются в подчинении воли. В
монастырях и в скитах такое воздержание становится
систематической, методической практикой, которая начинается с
маленьких лишений, а затем, постепенно усиливаясь,
достигает полной независимости от земных благ. Многие, весьма
нравственные в иных сферах люди не справляются с
подобными ограничениями. Всерьез обеспокоиваясь этим, ради
утверждения своей идеи они принимают на себя лишения
и боль, которые требуют терпения и выдержки в течение
долгого времени. Достоевский сообщает об одном
знакомом, который в неволе дошел до почти предательства своей
идеи, поскольку не мог отказаться от табака.
Вершиной самопреодоления выступает обучение
полнейшему послушанию, с помощью которого
преодолевается гордость и своеволие. Последнее есть конечное и
наивысшее убежище зла, поэтому оно должно вытесняться
наиболее сурово. На путь послушания вступают
посвятившие свою жизнь скиту старцы и их ученики, которые
должны бессловесно исполнять заветы своих
наставников. Мир может относиться к этим обычаям негативно
и считать их отсталыми, но только путем послушания
достигается освобождение от своеволия.
Есть люди, которые проходят эту школу успешно,
становясь детьми свободы и свободной любви. Многие
342
неспособны нести этот крест, и они становятся особенно
опасными врагами Христа201. Ибо вместе с изучением
Священного Писания усиливается и знание о
дьявольском. Великие святые могут созерцать в один и тот же
момент бездны веры и неверия, но выбирают Бога. Все
они — дети, лучшие представители народа, святые —
душевно с нами соприкасаются, являя в равной мере
нравственную чистоту, духовную красоту и правдивость,
возвышающие нашу жизнь. В перспективе они ведут ко
Христу, идеал которого светится в русском народе,
одухотворяет святых и неосознанно воплощается в детях.
в) "Соприкосновение
мирам иным"
Достоевский знал еще один подход к
непосредственному познанию Бога, который он обозначал
как "соприкосновение мирам иным". Здесь яснее всего
проявилась восточная, азиатская часть учения
Достоевского. У Любака мы нашли одно место, где он говорит
о значении этого подхода. Речь идет об отношении к
пределу, который лежит "по ту сторону любой так называемой
психологической реальности"202. Любак оказывается здесь
под влиянием образа Достоевского, созданного Тернейзе-
ном, которого он при этом цитирует. Этот последний
писал: "Та сверхприрода, о которой он [Достоевский]
постоянно говорит, есть не данная действительность, не
"сверхмир", а неосознанная психическая реальность. Ибо
все, что является предпосылкой, основой и определением
всего другого, так же мало само может быть чем-то
определенным или определяемым, как точка, сводящая на
себя перспективу, — стать реальным пунктом, который
лежит внутри картины"203. Представляется, что подобное
определение можно сохранить только в том случае, если
понимать психологическое в более узком смысле слова
и даже, в какой-то мере, в переносном, добавив к нему:
"так называемое психологическое". Впрочем, и Любак,
и Тернейзен связывают предмет визионерства с
"соприкосновением мирам иным". Фактически же, как будет
показано, между ними имеется определенное различие.
Прежде чем обратиться к текстам, следует сказать,
что сознание связи с иными мирами существует у каж-
343
дого из нас, хотя часто только как темное предчувствие.
Это чувство усиливается, когда человек оказывается на
границе земного существования, например при болезни
или в канун смерти. "Чем больше болен, тем и
соприкосновений с другим миром больше, так что, когда умрет совсем
человек, то прямо и перейдет в другой мир"204. Из этого
места в "Преступлении и наказании" можно заключить,
что здесь подразумевается то, что обычно называется
"потусторонним". Существуют, однако, и другие, более
общие положения. Для понятия "соприкосновение мирам
иным" в "Братьях Карамазовых"дается три определения:
1) имеет место живая связь между нашим существованием
и иными мирами; 2) все соприкасается; 3) любой акт
воздействует на весь мир ("в одном месте тронешь
— в другом конце мира отдается"205).
Из второго определения становится ясным, что речь
может идти не о физическом, а только о психическом
соприкосновении. Последнее Достоевский понимал как
непосредственную коммуникацию, подобную той, какая
наблюдается в телепатии. Все существа находятся в
непосредственной психической коммуникации, естественно
различаясь только по уровню осознанности этой связи,
а также по интенсивности, от которой зависит до
известной степени уровень ее осознанности. Эта связь существует
не только в отношениях с живыми душами, но также
и с умершими, и с Богом. Для адекватного представления
о том, что Достоевский понимал под "соприкосновением
мирам иным", скорее всего следует исходить из лейбници-
евского понятия предустановленной гармонии.
Разумеется, для него существует не "герметичность" души, а
всеобщая связь, посредством которой она без помощи внешнего
опыта может найти дорогу ко всем, если ее сознание
пребывает в согласии с такой связью. В непосредственной
связи со всем обнаруживается космический характер души.
Любой отдельный акт человека и любое событие в мире
взаимодействуют — хотя и в ничтожной мере — прямо
и непосредственно, минуя физикалистский путь. Плотин
обозначал это как симпатию. Уровень интенсивности
подобного соприкосновения связан с соответствующим
состоянием природы (а после смерти это соприкосновение
и осознание его становятся сильнее) и с нравственным
бытием. Последнее выражается в любовной связанности.
В мысли о связи с душами умерших Достоевский
исходил не из^спиритизма, который он считал обманом
344
и раскрывал этот обман в ряде статей "Дневника
писателя". Он полагал, что нет материальных доказательств
о том свете и попытки искать их свидетельствуют о
материалистическом понимании души. Скорее он исходил
здесь из внутреннего опыта, своего рода предчувствия
души. Умирающий Плюша в "Братьях Карамазовых"
просит отца: "Когда засыплют мою могилку, покроши
на ней корочку хлебца, чтобы воробушки прилетали,
я услышу, что они прилетели, и мне весело будет, что я не
один лежу"206. Эта мысль для Достоевского ни в коей
мере не была случайной поэтической находкой, ибо в ней
отражается народная вера; он был убежден, что в этой
просьбе выражено предчувствие того, что душа умершего
сохраняет связь с земными существами. При описании
людей в раю в "Сне смешного человека" говорится:
"Подумать можно было, что они соприкасались еще
с умершими своими даже и после их смерти и что земное
единение между ними не прерывалось смертию. Они
почти не понимали меня, когда я спрашивал их про вечную
жизнь, но, видимо, были в ней до того убеждены
безотчетно, что это не составляло для них вопроса. У них не
было храмов, но у них было какое-то насущное, живое
и беспрерывное единение с Целым вселенной. У них не
было веры, зато было твердое знание, что когда
восполнится их земная радость до пределов природы земной,
тогда наступит для них, и для живущих и для умерших,
еще большее расширение соприкосновения с Целым
вселенной"207.
Достоевский не высказывался о том, возможно ли
для живого соприкосновение с душами умерших при
ясном сознании. Однако об этом свидетельствует одно
место в "Братьях Карамазовых", где он как будто бы
придерживается взгляда, что святые воздействуют на
мир и помогают защитить душу от преступления. Это
переживания Мити Карамазова в момент, когда он хотел
убить отца. Достоевский, однако, предоставляет
читателю, как и во многих других случаях, решить самому,
идет ли здесь речь о воздействии алешиного окрика,
о земном поклоне старца Зосимы перед митиным
будущим страданием или о прямом, непосредственном
психическом воздействии. "Бог, — говорил Митя
позднее, — сторожил меня тогда"208. Были ли то чьи-то
слезы, молилась ли его мать Богу, поцеловал ли его
в то мгновение Дух Святой — он не знал, но дьявол
345
был побежден. Алеша Карамазов испытывает подобное,
не определимое в своей объективности влияние умершего
старца.
Достоевский указывает на соприкосновение не только
с умершими, но и с целой вселенной, с бесчисленными
Божьими мирами. Это чувство пробуждается при ярком
блеске звезд на ночном небе, столь хорошо видных в
чистом русском воздухе. Такое чувство пережил Алеша
Карамазов и при ясном сознании. Он ощутил точки
соприкосновения с другими бесчисленными мирами, ему
казалось, что его душу "кто-то посетил... в тот час"209.
И наконец, выше всего этого стоит соприкосновение
с Богом, которое мыслится как непосредственно
психическое. Возможно, что наиболее ярко оно выражено
в словах умирающего старца Зосимы: "Кончается жизнь
моя, знаю и слышу это, но чувствую на каждый
оставшийся день мой, как жизнь моя земная соприкасается уже
с новою, бесконечною, неведомою, но близко грядущею
жизнью, от предчувствия которой трепещет восторгом
душа моя, сияет ум и радостно плачет сердце..."210
Достоевский давал особое объяснение этому
предчувствию, покоящемуся в наличном бытии
непосредственной психической коммуникации: "Корни наших мыслей
и чувств не здесь, а в мирах иных"211. Поэтому он
примиряется с тем, что нельзя схватить сущность вещей на
земле и что мы не можем заранее знать о сильных
чувствах и природных движениях человеческой души212.
Как это понимать? Наши чувства (т. е. способ
чувствования) даны нам, когда мы находим определенный, нам
целиком противостоящий объект. При этом чувственная
настроенность и чувственные побуждения, частично
вырастающие из бессознательного, питаются из
должностных, сверхсознательных, анамнестических источников.
Возможно, Достоевский думал об анамнезе, правда, не
в том плане, что мы вспоминаем о предсуществовании.
Напротив, он подразумевает повторное воспоминание,
а еще лучше, осознание заложенных от Бога чувственной
настроенности, мыслей и представлений. Они предстают
как заложенные в нас прообразы соответствующих
элементов сознания — логических форм нашего мышления,
индивидуальных или мифологических комплексов
представлений и чувственной настроенности и прежде всего
нравственных истин. Наша бессознательная душа владеет
целым сокровищем праопыта и празнания. Одаренные
346
ими, мы вступаем в контакт с действительностью. Для
этих в широком смысле априорных элементов в данном
им бытии в нашем осознанном мышлении нет
объяснения. Однако нужно признать, что нам предметно открыта
в наших чувствах сущность вещей.
"Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле
и взрастил сад свой, и взошло все, что могло взойти, но
взращенное живет и живо лишь чувством
соприкосновения своего таинственным мирам иным; если ослабевает
или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и
взращенное в тебе"213. Возьмем простое из возможных
сравнений. Чувства и идеи находятся у нас в зародышевом
состоянии. Затем они раскрываются, набираются сил,
наполняясь содержанием из "миров иных", из
метафизической божественной реальности и из райского бытия. Но
они развиваются вверх как ствол, листья и цветы, т. е.
становятся сознательными и выражаются в опыте нашего
мира. Развертывание и рост ведут к очерствению, и
развитая мысль и чувство только тогда могут избежать
этого очерствения, когда будут проникнуты хотя бы
предчувствием, что они находятся в непосредственном,
пусть и неясно осознанном контакте с мирами иными,
и постоянно подпитываются корнями, погруженными
в эти миры. Если такое предчувствие гаснет, чувства
чахнут, и человек становится жизнененавистником,
отвергая свое существование. Нравственные понятия также
хиреют и вырождаются214.
Так души этого мира находятся в таинственной,
предчувствуемой связи со всеобщей реальностью, с другими
душами, а также с Богом и божественными мирами. Нам
следует и нужно признать, что наши чувства слегка
приоткрыты тем, иным мирам. Все, что существует в
посюсторонности, в превращенной форме имеется и в
потустороннем. Мы должны видеть в природе, как однажды
сказал Гёте, скрытое возвышенное внутреннее состояние.
В этой связи сущее открывает нашим чувствам, если они
деятельны, часть своей истинной природы. То, что здесь
высвечивается нам в красоте вещей и в их ощутимых
свойствах, становится там очевидной истиной.
Можно сказать, что в известном смысле душа творит
свой собственный мир. Если она отрывается от общей
реальности, уничтожает связь с ней, то запутывается
в своих потерявших смысл мыслях и чувствах. Свид-
ригайлову в "Преступлении и наказании", движимому
347
только похотью, вечность представлялась "темным
помещением, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся
вечность"215. Если же душа с любовью вступает во все
более тесную связь с Богом и миром, тогда в полном
предчувствия единении возникнет более осознанная
любовная общность. Чувства проясняются и становятся
чище и осмысленнее, пока им не откроется тайна души,
переступившей границу смерти.
г) О сущности Бога
Что говорил сам Достоевский о
сущности Бога? Рассмотрим еще раз место Бога в
мировоззрении Достоевского. Мы должны принять во внимание
следующие его выводы:
1. Люди обнаруживают стремление удовлетворяться
лишь божественной реальностью. Это не только и не
столько индивидуальная, сколько наиболее общая для
всех воля к жизни, которая жаждет исполнения страстно
желанного состояния совершенства и стремится к
проявлению любви, относящейся ко всему сущему. Полную
осуществленность этого стремления такая воля к жизни
и воля к любви могут найти в лице, отвечающем
взаимностью, но вместе с тем, однако, в конечном счете не
в смертном лице, а только в бесконечном, совершенном,
наиболее любвеобильном, преисполненном любви
существе — Боге. Кто сражается против Бога, кто восстает
против него, тот восстает одновременно и против своей
воли к жизни.
2. У человека есть знание о нравственном законе
и одновременно представление о совершенном смысле
жизни. Смысл предусмотрел творец смысла. Что
касается решения, в какой мере действительность является
осмысленной, его следует передать творцу этого смысла,
и этого творца мы обозначаем как Бога. Совершенный
смысл, по меньшей мере, должен соответствовать всем
условиям, которые связывает с ним человеческая мысль.
Высший божественный смысл не может быть
недостаточнее или незначительнее, чем высшая человеческая идея
смысла. Поэтому Бог, если есть совершенный смысл
бытия, является создателем смысла и заключает в себе
самое совершенное, насколько мы можем его помыслить,
348
или даже превосходит свое совершенство. Бог тем самым
выступает никак не меньше, чем самой высшей
ценностью, какую можно себе представить. Он соответствует
высшему идеалу и даже переступает его, иначе он не был
бы Богом.
3. Земное существование подчиняется законам,
которые для человеческой мысли и познания делают его
бессмысленным. Проступающий в наличном бытии
частичный смысл соответствует только низшим законам
разума, когда это бытие выказывает себя как
индифферентное по отношению к более высокому и постоянно
(в нашем опыте) даже уничтожает более высокие
ценности. Исходя именно из идеи о смысле, человек начинает
жаловаться и осуждать Бога. Из этой ситуации можно
найти только один выход — признать, что наличное
бытие для нас в своем высшем смысле остается
непонятным, что в наличии прегрешений, страдания и зла
заключен некий высший смысл, который мы не схватываем или
понимаем лишь частично. Следствием этого является то,
что божественный смысл не есть смысл человеческий
и превышает его. Божественная справедливость
настолько превосходит человеческую, что мы не в состоянии ее
ухватить; мы можем только примириться с ней.
Неисповедимы пути Господни, по которым он ведет человека.
4. Чтобы из-за невозможности понять смысл мировых
событий не впадали в отчаяние, Бог дал нам живое
представление о должном. Человек обязывается вести
себя в соответствии с нравственным законом, насколько
его можно понять. Человек должен вести себя так, как
того ожидает Бог, исходя из его идеи высшего смысла
и ценности. Совершенный нравственный поступок
обнаруживается как любовь ко всему и всем. Бог
утверждается среди людей божественным опытом. У всех
нравственных людей в соответствии с уровнем их совершенства
высвечивается божественная сущность, сущая во Христе,
который является образом Бога на земле. Благодаря
Христу мы можем любить Бога как индивидуальное
живое лицо и быть уверенными, что в состоянии, даже
в условиях нашего телесного существования, достичь
высшей цели нравственного закона и воли к жизни.
Негативный прагматический критерий существования
Бога, как мы видели, состоит в том, что человек
"выдумывал Бога, чтобы жить, не убивая себя"216. И тем не
менее Бог есть единственное существо, которое человек
349
может любить вечно, поскольку он действительно
содержит в себе совершенный идеал и только он один способен
ответить на совершенную любовь — "венец бытия"217.
Если Бога нет и человек не мог бы найти для своей
высшей любви того, кого он будет тогда любить, "кому
благодарен-то будет, кому гимн-то воспоет?"218 Чем
сильнее человек любит, чем больше заполняет деятельная
любовь его жизнь, тем крепче он верит в Бога. Ибо нет
любви, которая не была бы наполнена мыслью о
бесконечном, ценном и полном любви основании этого
бытия — о Боге. "И станешь богат паче прежнего...
умножившеюся бессчетно любовью... будешь с самим
Богом лицом к лицу"219.
Кто проклинает Бога, отвергает и проклинает себя,
так как Бог, любовь и жизнь находятся друг с другом
в неразрывной связи. В этом случае человек все более
отклоняется от жизни и связей с сущим и ввергается
в ужасающие мучения, как если бы "голодный в пустыне
кровь собственную свою сосать из своего же тела
начал"220.
Бог делает все для человека, даже и тогда, когда
кажется, что вверг его в горе и беду. Все исходит от Бога,
все живет и случается по Божьему промыслу. Бог
проявляется в стремящемся к добру человеке, даже если тот
этого не знает и не замечает, руководя им тайно.
Бог рассматривается как бесконечное лицо (по
аналогии), а не как некий над и во всем творении излившийся
дух. Он возжег в человеке сознание и любовь к себе и "не
захочет... погасить совсем огонь раз возгоревшейся к
нему любви"221. Этот огонь не погаснет ни в ком из
сотворенных, все созданы осмысленно и пребудут вечно,
если естественно преобразятся к высшему бытию. Тайна
времен и сроков этого преображающегося творения
находится только у Бога222. Бог подарил миру Христа и с его
помощью дал людям возможность соприкоснуться с его
целью.
Грех проклят Богом. Но Бог, однако, не проклинает
грешников; больше того, он всегда с ними в своей
бесконечной любви, он всегда готов обратиться к ним. Он
всех зовет к себе, самых великих грешников тоже. Лишь
когда человек не слышит его зова и противится ему, он
готовит себя сам для ада,-который вечен для него только
по его собственной воле. Конечно, Бог является и
суровым судией, в чьи живые руки попасть ужасно. Но его
350
справедливость превосходит земную, так что мы даже не
в состоянии это понять. Было бы поэтому неправильно
думать о Боге как жестоком и даже злом.
Бог есть бесконечная красота223, тождественная
совершенному бытию. Но ничто не стоит ближе к
определению сущности Бога, как то, что он есть милосердие. Если
мы представим себе, что его любовь меньше, чем человек
может вообще помыслить, мы далеко уйдем от
истинного представления о Боге. Он любит каждого из нас
любовью, превосходящей всякие представления, и за
грехи наши и в грехах224.
Когда Бог по своему безосновному решению творил
мир, он предусмотрел также и грехопадение, страдания,
смерть и грех. И все же он сказал о своем творении, что
это хорошо! Но Бог заложил в нас и нравственный закон,
с тем чтобы, исполняя его, мы стали счастливыми225. Тем
самым он указал нам светлый путь. Ибо в Боге радость
и он хочет людям счастья. Во всеединстве любви и
радости наша душа путем очищения становится достойной
установить со всеми другими существами связь с Богом.
Не теряя своей личностности, в неизмеримом мире
божественной любви зрит она Бога, который пробудил ее
к любви и любящему познанию.
Мы можем здесь указать, что в философском понятии
Бога у Достоевского сильно просвечивают черты христи-
анско-православного учения. Изложение концепции
религии Достоевского потребовало бы более широкой и
всеобъемлющей разработки. Мы удовлетворимся тем, что
от области философии пришли к тому пункту, где лучи
веры становятся столь яркими, что утрачивается право на
философское рассмотрение. Можно привести слова
Достоевского о новых далях, которую душе открывает вера:
"Если мы не имеем авторитета в вере и во Христе, то во
всем заблудимся... Совесть без Бога есть ужас, она может
заблудиться до самого безнравственного"226.
Природа
В истолковании и изображении
природы Достоевский проявляет особый
подход, рассматривая
действительность во всей ее полноте исключительно с
психологической стороны, отклоняя мысль, что ее можно понять на
основании достижений естествознания. Вместо этого он
стремился объяснить природу через "понимание",
увидеть в законах природы выражение душевных событий.
Материю он считал лишь наружной формой мира, а ее
законосообразное воздействие несущественным для
познания реальности как бытия самого по себе.
Рассмотренная изнутри, она должна пониматься как "жизнь
бесконечная", которая стремится преодолеть "косность
и механизм вещества"227. Подобно Плотину, он дает
истолкование природы в связи с душевной жизнью.
Достоевский пытается осязаемо понять эту жизнь. Он
исходил из формулы подобия всего живого и обращался
к природе с позиций живых существ, внутренне нами
переживаемых чувств, т. е. собственной психики.
Природа должна пониматься чувствами, которые она
пробуждает в человеческой душе. В чувствах человек переносит
свои собственные побуждения на природные явления. Он
истолковывает указанные побуждения применительно
к природе. Но он делает это не произвольно, ибо
определенными впечатлениями обусловливаются
определенные чувства, хотя к этому могут примешиваться
также и субъективные компоненты. Так Достоевский
совершенно сознательно приходит к поэтизации природы,
которая воспринимается только чувствами.
В природе имеются мужское, творческое, и женское,
воспринимающее, начала. Оба эти первоначально
внутренне единые элементы оторвались друг от друга в
результате грехопадения. Женский элемент погрузился в
себя и с той поры ждет мужского, чтобы связаться с ним
снова. Но это объединение возможно только в чистом
духе, "в небесном женихе", которого ждет женственное
начало. Это — особая идея Достоевского, согласно кото-
352
рой природа затронута грехопадением, растерзана и
отделена от Бога, хотя и остается безгрешной. К тому же
ей не дано от Бога ни сознания, ни свободы воли. Она
страдает безвинно под действием грехопадения, взывает
к Богу и плачет неведомо для себя о новом
воссоединении228. Но она остается совершенной и прекрасной.
Описание этой красоты имеет глубочайшее значение
в творчестве Достоевского. Старец Зосима, например, так
рассказывает о своей юности: "В юности моей, давно
уже, чуть не сорок лет тому, ходили мы с отцом Ан-
фимом по всей Руси, собирая на монастырь подаяние,
и заночевали раз на большой реке судоходной на берегу
с рыбаками, а вместе с нами присел один благообразный
юноша, крестьянин, лет уже восемнадцати на вид,
поспешал он к своему месту назавтра купеческую барку
бечевою тянуть. И вижу я, смотрит он пред собой умиленно
и ясно. Ночь светлая, тихая, теплая, июльская, река
широкая, пар от нее поднимается, свежит нас, слегка
всплеснет рыбка, птички замолкли, все тихо, благолепно, все
Богу молится. И не спим мы только оба, я да юноша
этот, и разговорились мы о красе мира сего Божьего
и о великой тайне его. Всякая-то травка, всякая-то
букашка, муравей, пчелка золотая, все-то до изумления знают
путь свой, не имея ума, тайну Божию свидетельствуют,
беспрерывно совершают ее сами... Все хорошо и
великолепно, потому что все истина... Ибо все совершенно, все,
кроме человека, безгрешно, и с ними Христос еще раньше
нашего... ибо для всех слово, все создание и вся тварь,
каждый листик устремляется к слову, Богу славу поет,
Христу плачет, себе неведомо, тайной жития своего
безгрешного совершает сие"229.
Такое же восхищение совершенством девственной
природы передает Макар Иванович в "Подростке":
"Заночевали... мы в поле, и проснулся я заутра рано, еще все
спали, и даже солнышко из-за леса не выглянуло. Воск-
лонился я... главой, обвел кругом взор и вздохнул:
красота везде неизреченная! Тихо все, воздух легкий; травка
растет — расти, травка Божия, птичка поет — пой,
птичка Божия; ребеночек у женщины на руках пискнул
— Господь с тобой, маленький человечек, расти на
счастье, младенчик! И вот точно я в первый раз тогда,
с самой жизни моей, все сие в себе заключил... Склонился
я опять, заснул таково легко. Хорошо на свете, милый!..
А что тайна, то оно тем даже и лучше; страшно оно
12 Райнхард Лаут 353
сердцу и дивно, и страх сей к веселию сердца... Тем еще
прекрасней оно, что тайна"230.
Эти описания позволяют понять то внутреннее
отношение Достоевского к природе, которое после него
можно найти разве что у Короленко. Идет ли речь только
о поэзии в этих описаниях? Заблуждение, преувеличение
ли это, когда Макар Иванович говорит: "Все в тебе,
Господи"? Было ли это лишь собственным мимолетным
впечатлением данного персонажа? Состоит ли природа
только из пространства, времени, силы и вещества, как
можно было прочесть в книге Бюхнера, широко
распространенной в России? И хотя в природе есть организмы,
не поддающиеся механистическому объяснению и
целеустремленные, как получилось, что человек может найти
в них и в неживой природе выражение своих
интимнейших чувств, причем ему кажется, что он берет их из самой
природы? Решение Достоевского четкое: он вместе с Гёте
видел в природе печать и символ скрытого владычества
и рассматривал внешнее как возведенное в тайну
внутреннее состояние. Прекрасное, указывал Достоевский, есть
проявление тайных законов природы, которые без
человека оставались бы скрытыми. Достоевский идет еще
дальше, считая, что природные явления суть выражение
космической одухотворенности.
Высшее чувство красоты и совершенства
переживается человеком в состоянии ауры. Это чувство Достоевский
сопоставлял с рассказом о творении, когда Бог, создавая
мир, каждый день творения говорил: это хорошо! Даже
там, где природа далеко не прекрасна, например когда
мы наблюдаем, как животные уничтожают друг друга,
она все же безгрешна. Ибо такое деяние не греховно, оно
лишь следствие грехопадения, от которого стонет
природа. Косвенное указание на совершенство природы
выражается в том, что в ней нет смешного.
Совершенство природы не должно вести к ложному
пантеистическому отождествлению Бога и природы, как
это делает Марья Тимофеевна в "Бесах", утверждая, что
Бог и природа все одно. И тем не менее кажется, что
мысль Достоевского, подобно более позднему софиниан-
ству, близка к этому. В блистательном исследовании
В. Иванова утверждается, что Достоевский в образе
Марьи Тимофеевны обработал историю Гретхен и пришел
к совершенно новому изображению, которого Гёте
достиг лишь частично. Марья Тимофеевна есть воплощение
354
на его бессознательном уровне вечно женственного,
воспринимающего и устойчивого природного начала. Как
символ неудовлетворенного погружения-в-себя, писатель
дал ей зеркало, в которое она постоянно смотрится и
перед которым проводит все свое время в мечтах о
желанном женихе. Он сделал ее хромоножкой в знак бессилия,
в которое она погружена вследствие раздвоенности. В
нетронутой девственности упорно ждет она жениха,
"ясного сокола", который ее спасет. Но сознание
изначальной вины, памяти о грехопадении и утрате изначальной
чистоты мучает ее. "Виновата я... пред ним в чем-нибудь
очень большом... вот не знаю только, в чем виновата, вся
в этом беда моя ввек... Молюсь я, бывало, молюсь и все
думаю про вину мою великую пред ним"231. Ожидаемого
ею героя-спасителя она отождествляет с солнцем и
Христом. И все же есть у нее тайная защита против
воссоединения — влюбленность в исполненное тоски
страдание и тихая покорная отъединенность души.
Мне не надобен нов-высок терем,
Я останусь в этой келейке,
Уж я стану жить-спасатися,
За тебя Богу молитися232.
Мечтая, кладет она земные поклоны и орошает землю
слезами, с любовью обнимая ее, мистически ощущая свое
единство с ней. Вечером поднимается она на высокую
гору над озером и глядит на солнце. "Обращусь я лицом
к востоку, припаду к земле, плачу, плачу и не помню,
сколько времени плачу, и не помню я тогда и не знаю
я тогда ничего. Встану потом, обращусь назад, а солнце
заходит, да такое большое, да пышное, да славное...
Хорошо, да грустно. Повернусь я опять назад к востоку,
а тень-то, тень-то от нашей горы далеко по озеру, как
стрела, бежит, узкая, длинная-длинная и на версту
дальше, до самого на озере острова, и тот каменный остров
совсем как есть пополам его перережет, и как перережет
пополам, тут и солнце совсем зайдет и все вдруг
погаснет. Тут и я начну совсем тосковать, тут вдруг и память
придет, боюсь сумраку"233. В мифологическом
переживании она связывает природное явление заходящего солнца
и креста, который она представляет себе, с божественной
тоской и мечтой о женихе, с которым воссоединится. Но
когда солнце гаснет, к ней возвращается память
отпадения от Бога и ужас покинутости. Зло (в образе Став-
355
рогина) пытается овладеть ее душой, являясь перед ней
в виде спасителя. Но это господство оказывается чисто
внешним, она распознает узурпатора и отталкивает его.
Достоевский знает три ступени женственного,
аналогичные гётевским. Марья Тимофеевна, подобно Гретхен,
занимает низшую ступень. Елена второй части "Фауста"
соответствует Настасье Филипповне "Идиота" —
совершенное по красоте, но нравственно отчаявшееся из-за
первородной вины воплощение женственности. На
высшей ступени находится женственное, не запятнанное
грехопадением — девственная Богоматерь (София).
Природа стоит между Богоматерью и обремененной
первородной виной женственностью; она безгрешна, как первая,
но на нее действует грехопадение, как на вторую.
Мы говорили уже об особом отношении Достоевского
к земле, которое следует назвать сострадательной
любовью. Земля называется великой матерью, и Марья
Тимофеевна отождествляет ее с Богородицей234. Каждый
стремится к душевному единению с ней, хотя многие
отделены от нее в ходе исторического развития и не находят
пути к этому единению. Такое единство возможно для
крестьянина. Мистическим образом он соединяет
мужественное начало с женственным, когда пашет своим
плугом землю и бросает в нее семена. Своими грехами
загрязняют люди безгрешную чистую землю, оставляя
на ней "след свой гнойный"235. Поэтому необходимо
и разумно, чтобы человек молил ее о прощении. Ибо она,
беззащитная, полная смирения и неисчерпаемая в
самоотдаче, принимает все эти оскорбления. Она вместе
с людьми ждет от Христа-Спасителя окончательного
искупления.
Достоевский видел в земле не духовную, личностную
сущность (как, например, Г. Фехнер), а проявление вечно
женственного принципа. Вместе с тем он, возможно,
размышлял о "звездных" душах. Мы видели уже, как при
описании рая (в "Сне смешного человека") говорится, что
живущие там люди понимали язык и деревьев, и
животных, любили их, и "чем-то соприкасались с небесными
звездами, не мыслию только, а каким-то живым
путем"236. Мысль о непосредственной душевной связи
с природой дополняется идеей о том, что человек
способен успокоить землю, животных и вообще все живые
существа и вещи, прося у них прощения. Установив
чистые отношения к природе, он готов принять ее любовь
356
и достигнуть единства с ней. Он падает на землю и целует
ее не только для того, чтобы вымолить прощение, а и из
радости перед ее красотой и из ненасытной любви к ней
как к существу, благодаря которому у нас есть самое
дорогое — жизнь. В любви к земле для Достоевского
заключалась не только связанность с космическими
элементами вечно женственного, но и безусловное принятие
жизни и приобщение к целостной бесформенной материи,
а вместе с ней и вообще ко всему сущему с целью
совершенствования и завершения в Боге.
Еще раз эта взаимосвязь нашла свое выражение в
переживаниях Алеши Карамазова после смерти старца Зо-
симы. Потрясенный обстоятельствами его смерти, когда
вера его на краткое время пошатнулась, а затем снова
укрепилась в сопереживании добра, он захвачен
"небесной гармонией" ночного неба, орошает слезами землю
и клянется любить ее вечно. "Облей землю слезами
радости твоея и люби сии слезы твои..." — прозвенело
в душе его. О чем плакал он? О, он плакал в восторге
своем даже и об этих звездах, которые сияли ему из
бездны, и "не стыдился исступления сего". Как будто
нити ото всех этих бесчисленных миров Божиих сошлись
разом в душе его, и она вся трепетала, "соприкасаясь
мирам иным". Простить хотелось ему всех и за все
и просить прощения, о! не себе, а за всех, за все и за вся,
а "за меня и другие просят", — прозвенело опять в душе
его. Но с каждым мгновением он чувствовал явно и как
бы осязательно, как что-то твердое и незыблемое, как
этот свод небесный, сходило в душу его... "Кто-то
посетил мою душу в тот час", — говорил он потом с твердою
верой в слова свои..."237
Личность. Любовь.
Брак. Семья
Большая ошибка индивидуализма
состоит в отделении личности от
других людей, семьи, народа и
человечества, не говоря уже о вещах, живых организмах,
от космоса и Бога. Индивидуализм рассматривает
человека не каков он есть или каким должен быть, а как
расщепленное бытие, которое пытается остаться
самодостаточным в себе самом. Расколотость, однако, есть
нечто негативное, следствие грехопадения, под
воздействием которого находятся человек и человечество:
Рассудочная мысль в своем стремлении к превосходству
разорвала сообразующиеся с чувствами душевные
скрепы и привела человека к социальному отчуждению. Так
случилось, что рассудочный человек возлюбил больше
всего себя самого, ревниво начал обеспечивать права
своего Я и строить свою жизнь только самому и для
себя. Принципы индивидуализма — "усиленного
самосохранения, самопромышления, самоопределения в
своем собственном Я" — сделались принципами
западноевропейской буржуазной культуры. Личность стали
понимать как самоправное отдельное начало,
противопоставляя его "всей природе и всем остальным
людям"238; все, что происходит в мире вне Я, оказывалось
совершенно безразличным. Сегодня мы живем —
осознанно или нет — под влиянием таких представлений.
Даже те из концепций социальной философии, в
которых видно стремление исправить вред, причиняемый
индивидуализмом, и смягчить экстремизм эго-философии,
подчиняются воздействию того же индивидуализма.
В этих концепциях хотя и признается глубокое
воздействие на человека отдельных факторов внешнего мира,
например среды, общества, экономики и т. п., человек
рассматривается, однако, не иначе как отдельная,
единичная сущность, которая лишь затрагивается действием
внешних факторов, вовлекаясь тем самым в
межиндивидуальные взаимосвязи. Характерным для указанных
концепций является принятие в качестве исходных позиций
358
социальной философии Гоббса или Руссо, а в XIX в.
— Спенсера. Они видят массу не в общности, а в
совокупности многообразных индивидов и считают, что такую
массу можно объединить только с помощью внешних
скрепок принуждения, путем, например, закрепленного
в привычке социального альтруизма или с помощью
общественного договора, принятого людьми, чтобы
выйти из естественного состояния изначальной беззаконной
свободы.
Понимание того факта, что человек связан со своими
ближними иными узами, более естественными и
идеальными, остается для таких учений чуждым. Поэтому они
реконструируют общество так, как если бы оно
обеспечивало человеку сносную и необходимую жизнь рядом
с себе подобными, не основываясь на иных
предпосылках, кроме индивидуализма и эгоизма одиночек.
Неоднократно под влиянием такого
социально-философского подхода человека, включенного в общество,
пытались рассматривать как существо, стремящееся
лишиться всех своих личностных особенностей. Уже
Чаадаев в своем третьем "Философическом письме" писал, что
человек "всю жизнь только и делает, чему бы
подчиниться", стремится довести свою подчиненность "до
совершенного лишения себя свободы"239. Во имя
соответствующего коллектива, ради общественного прогресса
и улучшения хозяйственных и цивилизаторских
результатов необходимо, чтобы человек отказался от своей
личности и постарался по возможности вести себя
единообразно. Только при условии, что индивид станет
безличным и послушным, ему обещают счастье в будущем
земном раю240.
С легкомыслием, которое вызывало у Достоевского
ужас, в 60—70-е гг. в России отрицалось значение
личности. Сам он противопоставил индивидуализму и
социализму собственную концепцию личности. Личность, считал
он, покоится на свободе и нравственной ответственности.
Без этих двух предпосылок никакая индивидуальность
невозможна241. На этих основаниях базируется
возможность доброго поступка и нравственной жизни. Личный
нравственный поступок не может быть заменен какой-
либо организованной благотворительностью, ибо у
последней отсутствует момент личностной
самоотверженности и нравственного устремления. В добром поступке
личность отдает что-то свое и от другого человека полу-
359
чает нечто и для себя самого242. Всякое доброе дело,
следовательно, приводит к взаимодействию между двумя
лицами либо к соединению с другим существом или
с самим Богом. И если даже при этом не возникает
взаимная любовь, все же имеет место стремление к
единению. Лицо, следовательно, только тогда вступает на путь
единения, если ведет себя нравственно. Только в
нравственном поступке оно становится личностью. Люди без
нравственного центра, не способные к моральной
ответственности, обладают лишь Я, но не являются
личностями. Закон Я состоит в отрыве и в отделении себя самого
от других существ и лиц, "закон личности на Земле"
мешает человеку возлюбить другого как "самого себя"243.
При этом Достоевский придает понятию закона три
значения — закон в узком смысле слова; как некое
ограничение, предел; как сущностная черта.
Высшее развитие личности — как конечная цель, как
пункт ее достижения — должно вести как раз к
получению знания о том, как все, на что человек способен,
использовать для "умаления" Я и безграничного
принесения себя в жертву другим. Самопожертвование должно
осуществляться без каких-либо внешних требований,
в пользу всех, без поиска выгоды или предъявления
каких-либо условий. "Поймите меня: самовольное,
совершенно сознательное и никем не принужденное
самопожертвование... есть признак высочайшего развития
личности... высочайшего самообладания, высочайшей свободы
собственной воли"244. Но, разумеется, жертва должна
быть принесена во имя подлинной духовной общности,
которая, в свою очередь, признает достоинство
равноправия личности и делает все, чтобы сохранить его в
других. Но и братство должно сказать: "Ты слишком много
даешь нам. То, что ты даешь нам, мы не вправе не
принять, ибо ты сам говоришь, что в этом все твое
счастье; но что же делать, когда у нас беспрестанно болит
сердце и за твое счастие. Возьми же все и от нас. Мы
всеми силами будем стараться поминутно, чтоб у тебя
было как можно больше личной свободы, как можно
больше самопроявления. Никаких врагов, ни людей, ни
природы теперь не бойся. Мы все за тебя, мы все
гарантируем тебе безопасность, мы неусыпно о тебе стараемся,
потому что мы братья"245.
Так подлинная общность и Я складывают с себя
собственные права и помышляют о том, как своим пове-
360
дением способствовать счастью и нравственности других
так, чтобы собственная свобода и нравственность
слились в живом синтезе246. С другой стороны, индивиды
и общество, из них состоящее, никогда не договорятся,
как им отделить права от обязанностей. Нет четких
границ между людьми, народами, между личностью и
обществом. Человек вместе со всём человечеством
составляет единый организм.
Самый целостный и таинственный синтез между
двумя людьми образует любовь. Мужчину и женщину в
браке нельзя рассматривать как отдельные существа, а
только как единый, нераздельный организм (ср. Быт. 2:24:
"Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится
к жене своей; и будут одна плоть"). Эта истина решает
любой "женский вопрос". Все, что касается любви,
остается для посторонних тайной. Никто не может решать
судьбы любящих и любимого. Здесь всегда есть уголок,
в котором скрыт целый мир, известный только двоим.
"Любовь — тайна Божия и от всех глаз чужих должна
быть закрыта, что бы там ни произошло"247. Только
любящие судят себя. Никто посторонний, даже
собственная мать, не имеет на это право.
Причины, порождающие любовь, различны.
Большинство людей предпочитает внешнюю красоту,
отождествляя ее с сущностью любимого человека, с
проявлением характера и души, видя в ней отнюдь не то, что
часто бывает, — не простую маску, не внешность,
доставшуюся по йаследству. Если же любовь сводится к
сексуальности, любят только тело или часть его. В высшей
любви человек любит душу любимого существа248. Для
него неважно, есть ли внешняя красота, ему важен
характер, он любит духовную красоту души.
Любовь, возникающая внезапно, как страсть, подчас
принимает характер безумия. Сексуальные ее
компоненты не проявляются как первичные. Они могут даже
совершенно отсутствовать. Эта страсть подобна фатуму,
захватывающему человека. Судьбоносная любовь
уничтожает все, "что было в нем свободного"249. Она приводит
к слепому поклонению перед любимым существом,
к полной самоотверженности и самоуничижению перед
ним. Особенно сильно сказывается эта судьбоносная
любовь на человеке, который долгое время ей противился.
Страстная любовь лишь в редчайших случаях длится
долго. Она угасает и позже кажется сном. В страстной
361
любви разум, как ведущая часть души, выключается и
человек все больше подчиняется непосредственному
управлению любящего сердца, которое превращает разум
в свой инструмент. Когда же любовь уходит, она может
превратиться и в сильную ненависть; возникает даже
желание истребить и раздавить обожаемое прежде
существо250: страстная любовь становится
любовью-ненавистью. Бердяев считает даже, что глубочайшей
сущностью любви является ненависть-любовь: в глубине любви
скрывается враждебность. В ее основе лежит смерть251.
Подчас люди склонны копить страдания, из-за
безответной любви они все больше растравляют душевные раны,
изводясь в самоистязании ради несчастной любви.
Достоевский прошел через такую любовь к Полине Сусловой.
К эротической любви почти всегда примешивается
элемент грубой похоти. Случаи, когда люди свободны от
этого, отдаваясь счастью любви, встречаются крайне
редко. Чистая любовь начинается только тогда, когда
человек любит не тело и внешнюю красоту, а душу. В такой
любви души внутренне соединяются и так много
воспринимают друг от друга, что оба любящих чувствуют
как одно существо. В браке первая страстная любовь
с течением времени проходит. Но в счастливых случаях
приходит другая, "еще лучше"252, которая покоится на
общности души. Все жизненные задачи решаются
совместно, между супругами нет разделяющих их тайн.
Красота дана людям преимущественно в молодости, а
потому они — за редким исключением — не способны
разглядеть характер и его духовную красоту, да
и нравственные скрепы в то время не так сильны, как
природные. Позже красота не так важна, супруги любят
друг друга, потому что вместе взросли душевно. Тот, кто
не ведает любви, не способен обрести такое единение.
Для него любовь или, скорее, страсть означает лишь
возможность "господства и обладания"253.
Любовь по своей ценности имеет два аспекта. С одной
стороны, это великий и значительнейший синтез двух
людей, творящих детей и тем самым поддерживающих
и продолжающих род человеческий. G другой стороны,
любовь двоих отторгает их от остального человечества,
так как любящая пара самодостаточна и в ее восприятиях
не остается места для других людей. Так получается, что
брак образует, с одной стороны, общность любящих друг
друга, а с другой — эгоистическую обособленность от
362
других. "Семейство — это величайшая святыня человека
на земле, ибо посредством этого закона природы человек
достигает развитием (то есть сменой поколений) цели".
И все же он "во имя окончательного идеала своей
цели"254 должен отрицать это состояние. Конечно, служение
природному предназначению само по себе ценно, но оно
занимает подчиненное место по отношению к более
высокой духовной реализации человека. Можно держаться
природной любви, не относясь к ней враждебно и не
отрицая ее, но нужно при этом сознавать ее
ограниченную ценность и правильно определять ее значение в
иерархии бытия.
Святость и нерасторжимость брака — не
предрассудок, она существует сама по себе. Достоевский
настаивает на святости семьи не только потому, что она создает
основу государства. Политические социалисты в России
провозгласили идеал свободной любви, право на
супружескую измену, расторжения брака и даже общность
жен. Чернышевский в своем романе "Что делать?" (1863)
и Герцен в романе "Кто виноват?" (1845) открыто
заявляли, что нерасторжимость брака несправедлива и что
развод является единственным и нравственным
решением, если совместная жизнь представляется невозможной.
Пушкин же в "Евгении Онегине" вступался за
нерасторжимость брака, поскольку в нем торжествует обет
верности, поскольку в нем два человека нераздельно сливаются
в единое существо, и на крепости брака покоится семья
и воспитание детей. Душевные невзгоды, выпадающие на
долю детей при распавшемся браке, не могут быть
компенсированы родителями.
При описании рая в "Сне смешного человека"
общность людей, живущих там, изображается как единая
семья. Достоевский, создавая этот образ общности как
единой семьи, тем самым, в сущности, выступал против
идей Чернышевского. Он так же, как и Чернышевский,
хотел показать идеальное состояние общности, но его
предпосылку видел в духовном преображении
человечества. Одним только изменением социальных институтов
его достигнуть нельзя. С отказом от брака и с введением
общности жен и детей человечество в его теперешнем
состоянии ждет только распад и упадок. Социализм
переоценивает природную доброту человека. А так как семья
в ее нынешней изолированной форме является
предпосылкой существования человечества, следует также при-
363
знавать и собственность: "Чуть-чуть семейство или
любовь, вот уже и желание собственности"255. И человеку
невозможно отказаться от семьи. Можно ли найти ей
замену? Крупные общности, например, коммуны, артели,
общества и т. п., совершенно не способны заменить
семью. В них нет никаких условий, связывающих в любви
друг к другу членов этих общностей, нет душевного тепла
и необходимой защиты подрастающих детей. То, что
в новейших теориях семья высмеивается, свидетельствует
о большом легкомыслии их создателей. Это указывает
также на совершенно бездумное отношение к физическим
и нравственным условиям человеческого существования.
Если уж даже в судебном заседании открыто ставится
вопрос, должна ли семья утверждаться на "мистических"
или только на разумных основаниях, это свидетельствует
о серьезной опасности.
Если семья хоть в какой-то степени безупречна, если
в ней есть "хоть только чуть-чуть любовь да союз"256,
ребенок хранит о ней бесценные воспоминания всю свою
жизнь. Даже о "самой худшей" семье дитя сохраняет
добрые воспоминания, ибо родители почти никогда не
бывают настолько жестокими, чтобы ребенок не
чувствовал себя в семье укрытым и защищенным. Отец и мать
для него всегда — нечто большее, чем чужие и, тем более,
враги: "Хоть в год раз любовь тебе выкажут"257. Ребенок
знает, что у него есть дом, к которому он принадлежит,
и не чувствует себя одиноким в безжалостном мире.
Суровый опыт, который пережил ребенок в детстве
— особенно ребенок без семьи, — является одной из
веских причин его бесчувственности и жестокости во
взрослом состоянии. Как много людей стали бы иными,
гораздо лучше, если бы они имели хорошие семьи!
В ходе глубоких социальных изменений нашей
технической эпохи, считал Достоевский, семье угрожает
величайшая опасность. Она оторвана от своей естественной
почвы и обречена на гибель, поскольку ее нравственные
основы расшатаны безверием и аморальностью. Мы
живем в то время, когда почти всегда существует
"случайное семейство"258, члены которого легко впадают в
теоретический или практический нигилизм. Только живая
религия может защитить семью и обеспечить дальнейшее
существование человечества.
Народ
После своего осуждения в 1849 г.
Достоевский провел в Сибири 10 лет,
в том числе четыре года на каторге.
Он жил среди народа, сам стал частью народа, из
петербургского западника превратился в человека с
собственным мировоззрением. Когда Некрасов после его
возвращения показал ему свою поэму "Несчастные",
в которой он, имея в виду Достоевского, представил
образованного человека, просвещавшего на каторге
народ, Достоевский возразил ему, что он заблуждается,
что это он учился у народа. До каторги он знал только
горожан Москвы и Петербурга, хотя и мог судить о
народе по мимолетным впечатлениям от Дарового и во
время поездок. Народ должен был казаться ему
анонимной массой, из которой при ближайшем
рассмотрении выделялись беднейшие, темные чиновники, вроде
Девушкина, финская кухарка, мелкобуржуазные
городские обыватели или подвыпивший кучер. Народ в
широком смысле был для него абстрактным понятием.
Только Гоголь изображал его, хотя в его произведениях
редким образом смешались подлинные его черты с
романтическими преувеличениями и приукрашиванием. Но
Гоголь не любил народ и почти всегда показывал только
неприглядные его стороны, если отвлечься от его ранних
романтических сочинений. У петербургских либералов
и социалистов бытовало абстрактное понимание народа,
которое было воспринято в готовом виде. Белинский
при слове "народ" думал главным образом о парижской
черни эпохи Великой революции. Содержание
требований для народа было следующим: отмена крепостного
права, отмена телесных наказаний, возможность
обучения в школах и т. д.; эти требования выдвигал
Достоевский в кружке петрашевцев.
С такими идеями начал Достоевский свой тяжкий
путь в Сибири и встретил там таких же, как сам он,
арестантов из народа. В ежедневном общении и тесноте
повседневной жизни он хорошо узнал разных его пред-
365
ставителей. И его взгляды на народ начали меняться. "И
в каторге между разбойниками я ...отличил наконец
людей... Есть характеры глубокие, сильные, прекрасные,
и как весело было под грубой корой отыскать золото...
Что за чудный народ, — писал он брату (22 февраля 1854
г.). — Вообще время для меня не потеряно. Если я узнал
не Россию, так народ русский хорошо... как, может быть,
не многие знают его"259.
Уже в конце жизни в ответе "А. Градовскому",
разъясняя смысл своей Пушкинской речи, Достоевский указал
с некоторой гордостью, но при этом и весьма скромно,
что он знает народ. Он жил вместе с ним, он делил с ним
тяжкий труд и скудную пищу и сам причислялся к
преступникам: "Я его знаю: от него я принял вновь в мою
душу Христа, которого узнал в родительском доме еще
ребенком и которого утратил было, когда преобразился,
в свою очередь, в "европейского либерала"260. В
последних своих статьях он заступается за народ, за его душу, за
его истину, за его огромные силы; он верит в его святость
и надеется на спасительное действие его духа. "Жажду
лишь одного: да узрят их все. Только что узрят, тотчас же
начнут понимать и все остальное"261. В одном из немногих
мест, где речь идет о пережитом в Сибири, Достоевский
пишет, что переворот в нем осуществился не сразу и
внезапно, а постепенно. При этом ему во многом помогли
воспоминания о детстве, родительском доме, уроки
закона Божьего и его доверие к Евангелию. Но наиболее
существенным было то, что, очутившись на низшей
ступени общества, он "сам стал народом". Таким образом, его
духовный переворот не был следствием теоретических
рассуждений или внезапного воздействия, он сложился
под влиянием народного опыта. Если читать его описания
без предвзятых и произвольных домыслов, нельзя найти
в них ни малейших следов "отцовского комплекса",
несмотря на все утверждения Фрейда. Так как его
возвращение к народу осуществлялось во взаимосвязи с
религиозным обновлением, правомерно предположить, что его
представление о сущности народа изначально связано
с религиозными идеями. И это подтверждается на деле.
Следствия, вытекающие из его нового опыта,
первоначально соотносятся с его предшествующими
западническими убеждениями. Большинство западников, да и он
сам до его жизни в Сибири, в сущности не воспринимали,
по его убеждению, народ правильно. Они не замечали его
366
силу и дух и имели о нем такие же представления, как
западные газетные корреспонденты, которым достаточно
беглого взгляда, чтобы получить о нем готовое мнение.
Русская интеллигенция слепо проходит мимо народа. Даже
нигилистическая пропаганда оказалась не на высоте,
поскольку она психологически не понимала народ. И те, кто
называл себя друзьями народа, тоже видели в нем лишь
предмет для теоретизирования и должны были признаться,
что в конечном счете он для них является загадкой.
Образованная публика, считал Достоевский, также любит
народ не таким, каков он есть, а таким, как она его себе
представляет. Проявись в нем что-то иное, ее любовь тотчас
же остынет и она без сожаления от него отвернется. С этой
любовью к народу получается то же, что и с абстрактной
любовью — она есть только любовь к собственной идее.
Достоевский считал важным, чтобы о народе судили
правильно, не сосредоточиваясь исключительно на
уровне его испорченности, в которую он мог впасть, а по тем
превосходным людям, которые в нем обнаруживаются
и по которым можно предугадать, каким весь народ
в состоянии стать.
Достоевский проявил себя как последовательный
союзник народа; он так страстно любил его, что подчас
впадал в крайность, выдвигая идею народа на первое
место и подчиняя ей религиозные идеи, ставя понятие
народа даже над понятием Бога. Идея народа в ее
крайней форме выражена в философии Шатова, персонажа из
"Бесов". Мы можем найти параллели к мыслям Шатова
и в "Дневнике писателя", когда Достоевский во время
русско-турецкой войны (1877—1878 гг.), выражая
надежды на славянское единение в борьбе против турок,
связывал их с судьбой и предназначением русского народа.
Полностью этот экстремизм был преодолен лишь в
период работы над "Братьями Карамазовыми".
Для Шатова народ в своей реальности обладает
высшей ценностью, и именно русский народ, поскольку он
был, в его представлении, единственным существующим
в то время народом-"богоносцем"262. Бог есть
синтетическая личность всего народа, взятого с его начала и до
конца, т. е. на протяжении всего его исторического
существования. Как пространственно-временная величина,
народ есть телесное воплощение Бога, народная душа,
взятая вне тела, — дух Божий. В. Иванов считает, что для
объяснения этих идей нужно обратиться к Библии, в ко-
367
торой народы и общности представлены как личности или
ангелы. Мы в этой связи поставим вопрос, есть ли у
народов духовная сущность, как у ангелов, богов, демонов,
которые их охраняют и ими руководят, либо эти личности
тождественны духу народа, направляющему его тело?
Если бы Достоевский перенес свои идеи из Библии, тогда
в его творчестве об этом имелось бы единое суждение263.
Но Достоевский развивал эту идею самостоятельно. Одно
время он считал русский народ целостностью, которая
воплощает в себе мессию, т. е. грядущего Христа. Но в то
же время он понял недопустимость такой крайней точки
зрения и развенчал ее в "Бесах".
Сила народного духа, провозглашаемая Шатовым,
есть повелевающая и принуждающая сила, которая
приводит в движение народное тело в его историческом
существовании. Ее происхождение неизвестно и неясно. Она
состоит в неукротимом желании дойти до конца, до
завершенности, утверждая жизнь и отрицая смерть.
Различные представители народа проявляют ее неодинаково,
в соответствии со своей одаренностью; у одних она
выражается как эстетическое начало, у других — как
нравственное и т. д. Шатов обозначает данную силу обобщенно как
"искание Бога"264, хотя это определение неполно, ибо
в действительности это есть поиски творящего Бога в его
завершенной форме. Всякий народ, следуя своему Богу,
ищет собственной особой завершенности, он создает
своего особого Бога, которого считает единственно истинным
и справедливым. Следовательно, у разных народов боги не
совпадают друг с другом, так как народный дух и Бог
тождественны. Слияние богов разных народов, имеющих
каждый свой особый народный дух, является признаком их
упадка, ибо это означает, что данные народы теряют свое
своеобразие, воспринимая дух иных народов265. Чем
сильнее народ, тем исключительнее его Бог. Сильный
народный дух влечет к себе другие народы, покидающие своих
богов, переходящие в его веру, принимающие ее за свою.
Представление о своем Боге, которое Бог сам внушает
народу, выражается не только в характере религиозности
данного народа, но и в том, что последняя создает свои
ценности, свои собственные понятия о добре и зле.
Только до тех пор, пока народ убежден, что он
владеет истиной и что его Бог так силен, что может подчинить
себе (и данному народу в том числе) все другие народы,
он остается живым и деятельным. Не надо заблуждаться
368
насчет того, что определенные народы выдвинули
универсальные идеи и создали мировые религии, приписывая
себе при этом первую роль и рассматривая себя как
ведущую силу их объединения. И все же, если народ
теряет веру в свою истину и силу, он превращается
в этнографический материал. Эта мысль обнаруживает
влияние идеи Гегеля, считавшего, что народ — носитель
идеи, в которой воплощается дух, движет человечество
вперед и ведет за собой другие народы, которые остаются
всего лишь материалом для истории. Отличие от Гегеля
состоит в том, что Шатов признавал за таким народом
идею особую, только ему свойственную: без него эта идея
не могла быть связанной в диалектическом процессе
мировой истории с другими идеями. В этом пункте можно
через Шатова наблюдать близость с учением о
культурных кругах Н. Данилевского. На место диалектически
развертывающейся идеи вступает самостоятельная
духовная сущность масс, которые развиваются независимо
или в противостоянии друг с другом. Не только понятия
и чувства, но и прямое воздействие народной души (Бога)
принудительно побуждает индивида к действиям.
Шатов идет еще дальше. Несмотря на свой плюрализм,
он считает, что есть только одна истина. Следовательно,
в истории в определенный момент только один народ может
быть носителем этой истины, и этот народ — русский, ибо
он несет в себе истину откровения Божьего, истину
Христову. Все другие народы преданы божкам и побуждаются ими.
Русский же народ, напротив, побуждается самим Богом.
Поэтому он является единственным народом-богоносцем,
который может спасти и спасет мир, который будет
обновлен образом Христа: ему даны "реки воды живой"266.
Временная симпатия Достоевского к панславистскому
движению была следствием этой экстремистской теории.
В письме к Майкову 15 мая 1869 г. Достоевский писал
о "всеправославном значении России". Он хвалил также
работу Данилевского "Россия и Европа", появившуюся
в "Заре" (1869). В конце концов, однако, он отказался от
своего экстремизма, поняв его опасность.
И все же и позднее Достоевский видел в народе (в том
числе и в русском) исключительный источник внешнего
опыта, в котором человеку открывается Бог. В учении
старца Зосимы в "Братьях Карамазовых" он
подчеркивал, что вера в народ-богоносец приведет к укреплению
веры в самрго Бога, даже к победе над атеизмом. Рус-
369
ский, и вообще православные народы, всегда остается
в его представлении как особый народ-богоносец,
единственный, кто сохраняет в себе чистый образ Христа. Он
даже утверждал, что те, кто порвали с народом,
перестали верить в него, тем самым отрекаются и от веры в Бога,
становятся атеистами. Поскольку они отделены от
народа, они тем самым теряют и веру, говорил он о людях
типа Герцена.
Позже Достоевский ограничивался указанием на то,
что человек, который больше не верит в Бога, теряет
и связь с народом. В этом отражается изменение его
умонастроения, хотя он до самого конца считал, что
православному русскому народу открыт истинный Бог. Но
он освободился от идеи, что Бог непосредственно
воплощен в этом народе и что Бог есть его бессознательный дух.
Русский народ, следовательно, больше не рассматривался
как душа Бога, он не был также больше и особым телом
Бога, но он был историческим народом, который-отмечен
главным образом тем, что возвещает истинного Бога.
А к Богу можно прийти только через народ.
Окончательная формула: тот, кто принадлежит
народу, верует в Бога, исходит из того, что сущностью народа
является вера в Бога. Тем самым мы приходим к
определению сущности народа, как ее в конечном счете понимал
Достоевский. Народ формируется только верой в Бога.
Ни раса, ни класс, ни даже нация или страна народ не
образуют — только идея, которая его объединяет и
которой он захвачен. Конечно, существуют народы, которые
верят не в Бога, а в идолов или в абстрактные идеи.
Однако, по его мнению, исключено, что народ создается
только путем расовой однородности, государственной
связанности или классовой общности. Социальные
институты, среда или биологические скрепы еще не создают
народ. Если бы Достоевский сочувствовал попыткам
обосновать существование народа с помощью расы или
класса, он, вероятно, указал бы на то, что эти факторы не
действуют естественно, т. е. не влияют непосредственно
на формирование народа, сначала они возвышаются до
идеи, чтобы потом с помощью этой идеи объединить его.
Русский народ верует в Бога Христа, и на этой вере
держится его существование. Писатель Кармазинов
(образ Тургенева в "Бесах") должен признать, что народ
"держится кое-как русским Богом", хотя он тут же
скептически и добавляет, что этот Бог, "по последним сведе-
370
ниям, весьма неблагонадежен"267. Народ держится за
своего Бога, в то время как тот же Кармазинов не имеет
мужества защищать собственные идеи и недостойно
склоняется перед ходячими социалистическими лозунгами
только потому, что они были новыми. В поучениях
старца Зосимы говорится: "Неустанно еще верует народ наш
в правду, Бога признает... Не то у высших. Те вослед
науке хотят устроиться справедливо одним умом своим,
но уже без Христа, как прежде"268.
Форма, в которой народ признает Бога, есть
православие. Народ верит в тело Христово, он надеется, что новое
пришествие совершится в России. Он видит свое
предназначение в том, чтобы служить Христу и больше, чем любой
другой народ, проникнуться его духом. В основе своей
у него вообще нет другой идеи, кроме этой, из нее
возникают все другие. В итоге понятие народа у Достоевского
связывается с "церковью", которую он понимает не как
внешнюю организацию, а как духовную общность во
Христе. Понятие "народ" четко связывается с тем, что
М. Шелер называл обобщенным лицом, а не с
биологическими или националистическими чертами. Нерусских,
например греческих монахов на Афоне или православных
народов Азии, в связи с этим можно относить именно
к русским. Утрата православия, верил Достоевский,
приведет к разрушению народа, который затем, подобно другим
вымершим народам, какое-то время может
поддерживаться социальными и политическими институтами, но в конце
концов должен погибнуть. Поэтому возникает вопрос,
столь ли уж важно для России цивилизовать ее народ?
Внешнее выражение религиозности не является
надежным показателем, а тем более доказательством
твердости веры в народе. Достоевский показывает это на
примере Фомы Данилова, который в своей повседневной жизни
мог не отличаться особой набожностью, но в момент,
когда он должен был принять муку за свою веру, он
понял, что не может отречься от своего Бога.
Либералы пытались доказать, что массы вообще не
имеют представления о Христе и религии, что они едва
ли знают простейшие молитвы, что они поклоняются
лишь расписным доскам, что христианский дух у народа
полностью отсутствует и он исполняет лишь пустые
формальности. С Евангелием он незнаком и не может
изложить закона Божьего. Указывали и на то, что заповеди не
исполняются, а церковно-славянский язык народу непо-
371
нятен. И тем не менее эти возражения, считал
Достоевский, не отменяют религиозности народа. Конечно, он не
мог бы выдержать экзамена по закону Божьему, потому
что важнейшие истины веры он только чувствует и не
способен выразить их в форме догм или вероучения.
С этой религией он познакомился через молитвы и
церковную службу, которую слышит столетиями. Народ хранил
и пел духовные песнопения еще тогда, когда принужден
был скрываться в лесах от татарских набегов. В молитве
содержится полный дух христианства. Когда народ был
полностью ограблен, когда его невыносимо тяжко
угнетали, ему оставался только Христос. Народ знает также
легенды и рассказы о жизни святых, слышит их
прославление и неустанно передает его дальше. Однако главной
школой его веры были вековечные страдания и поиски
убежища, где он их мог бы перенести и где только Христос
оставался ему утешителем. Поэтому он все ближе
принимал его к сердцу, так как лишь Христос защищал его от
отчаяния. Чувство любви к Христу наследовалось из
поколения в поколение, так что только он один оставался
в его сердце. Народ любил одного Христа вплоть до
принятия за него мучений и гордился этим единственным
своим сердечным достоянием. В его легендах и сказках
выражалась твердая вера в Божью справедливость, в то,
что он возвысит униженных в день Страшного суда.
Следующее доказательство религиозности народа
выражается в паломничестве. Массы людей двигаются к
местам, где живут известные своей праведностью люди.
К ним стремятся, чтобы ослабить бремя своей вины
и искупить грехи в тяготах и лишениях паломничества.
Дух Евангелия и крепкая вера в "темном", и все же
добром, невежественном, но вовсе не варварском народе
есть его великая духовная сила. Будущее русского
народа, считал Достоевский, зависит от его православия.
В романе "Анна Каренина" Л. Толстой весьма
неопределенно выражал понятие о народе. Чиновники и
учителя приходских школ, а среди крестьян один из тысячи,
кто, может быть, знает, о чем идет речь в событиях
балканской войны; в целом же народ не понимает
национального движения на Балканах, у него
"непосредственного чувства к угнетению славян нет и не может быть"269.
Восемьдесят миллионов человек высказывают не свои
взгляды и волю, они вообще не имеют понятия о том,
в каком духе они должны выражать свою волю. После
372
этого какое право имеем мы говорить о воле народа?
Достоевский разбирает эти взгляды, выраженные в
позиции Левина, и пытается их опровергнуть (см. его статью
"Опять обособление. Восьмая часть "Анны Карениной"
в "Дневнике писателя" за 1877 г.). Можно говорить,
утверждает Достоевский, об исключительной воле
народа. Ибо народ имеет свое собственное представление
о многих вещах, так что он может совершенно осознанно
оценивать связанные с ними те или иные события. Так,
к примеру, от паломников, побывавших в Святой земле,
он знает о турках и об их роли в судьбе несчастных
братьев по вере, порабощенных турками на Балканах.
С течением времени народ создал своеобразное
представление о Балканах и турках. Поэтому, после того как
события стали столь значительными, что привело к
столкновениям, он оказался в состоянии осознанно
придерживаться определенной точки зрения. Народный дух
взвешивает все, что пережил народ, и он вкладывает в пережитое
свои идеалы. Это наполнило многих единым настроением
и дало им силы противостоять всем хулителям народа.
Причем, где народный дух получил четкое выражение, он
привел к формированию типов особой чистоты и красоты,
которые воплощали народные идеалы.
По мнению Достоевского, нация есть нечто,
отличающееся от народа. В идеальном случае народ и нация
совпадают. Когда народ распадается на несколько наций,
эти последние не обязательно враждебно противостоят
друг другу. Если же подобного рода враждебность
возникает, это свидетельствует о том, что народный дух уже
опасно болен. Обычно нации одного народа сохраняют
братскую солидарность.
В нормальные времена народные массы живут
непосредственно, тихо и гармонично, по обычаю. Если же
душа народа чем-то возмущена или потрясена, т. е. его
идеалы поколеблены или поставлены под вопрос, в
народе растет сомнение в его высших ценностях, он приходит
в движение, выдвигаются типы, которые тревожат его
и в мощном стремлении ищут основы, на которых можно
было бы укрепиться. Народ либо новую идею найдет,
которая ему по силам, либо обратится к ужасающим
разрушениям. "Такие типы из коренников бывают часто
или Стеньки Разины, или Данилы Филипповичи, или
доходят до всей хлыстовщины и скопчества"270. Можно
легко проглядеть, как велика сила народная, так как сила
373
эта обычно связана с идеей и покоится в ней. Только
в крупные исторические моменты, как, например, в войну
1812 г., эта сила проявляется и показывает, что она
является решающей силой на поле истории. Народ как
море, в котором не слышно волн. И тем не менее сила его
ни в коем случае не является чем-то совсем неведомым,
как думают некоторые, едва в состоянии поверить в
проявления этой силы, когда она себя обнаруживает.
Благодаря народному духу народ образует не
мертвую бездушную массу, а могущественный и сознающий
свое могущество живой организм, сплоченный как один
человек и нераздельный сердцем с тем, что он
рассматривает как выражение своей воли.
Все оказывается иным, если народный дух болен. По
большей части это происходит потому, что он обманулся
в своем идеале или в жизнь народа проник элемент,
к которому он не готов. Болезнь может привести народ
к такому уровню слепоты, что его оздоровление окажется
невозможным. Это слепота, которая "не излечивается
даже ни перед какими фактами, сколько бы они ни
указывали на прямую дорогу; напротив, перерабатывающая
эти факты на свой лад, ассимилирующая их с своим
зараженным духом, причем происходит даже так, что
скорее умрет вся нация сознательно, то есть даже поняв
слепоту свою, но не желая уже излечиваться"271. Но
народ может заболеть и без того, чтобы была затронута
его внутренняя сердцевина. Такого рода заболевания
весьма тяжелы. Они возникают тогда, когда жажда
правды и народные идеалы остаются непоколебленными, но
народ не может найти пути к их осуществлению и
оказывается в тяжелом положении. В таком состоянии
находился, по мнению Достоевского, в его время русский
народ, "обеспокоенный" нравственно272.
Поначалу народ осознанно не выражает свою идею,
только интенсивно ее чувствует. Она прорастает в душах
тех, кто принадлежит данному народу. Пока эта идея еще
неосознанно лежит в основе народной жизни и только
сильно и точно предчувствуется, народ ведет живую
жизнь, писал Достоевский в 1873 г. Но это свое суждение
он пересмотрел. Под влиянием войны 1877—1878 гг.,
когда возникло мощное движение в поддержку
балканских народов, он изменил свой взгляд и приписывал
народу способность четко сознавать и выражать свои
цель и идеи. Эта цель русского народа, считал он, состоит
374
в том, чтобы служить Христу. Петербургские либералы
заблуждаются, утверждая, что народ живет косно и
бессознательно. Следует больше удивляться тому, сколько
сознания накопилось в народе, как много доступно его
пониманию. Народ прекрасно может выразить правду.
Он бьёт прямо в точку. Нужно учиться у народа говорить
правду. В соответствии с этим новым подходом
Достоевский считал народ сильным тогда, когда он прочно верит
в свою идею, придерживаясь ее осознанно или
неосознанно. Жизненная энергия народа соответствует
потребности выразить эту идею в словах и делах. Чем
непоколебимее народ способен сохранять свою идею, чем меньше он
отклоняется от своих чувств и позволяет увлечь себя на
ложный путь, тем больше у него душевного здоровья,
полноты сил и счастья. Либералы спрашивают, есть ли
вообще у народа идея, о которой стоит говорить, если
нельзя установить ни государственно-гражданских
чувств, ни политических мыслей. Но при этом они не
учитывают, что духовная идея есть вообще первое,
благодаря чему народ возникает, что социальные и
политические институты, напротив, всегда появляются только из
духовной идеи. Последняя может уже полностью
выразить себя во всем своем своеобразии, в то время как
социальные идеи и учреждения еще не существуют или
возникают только в понятиях.
Духовный идеал русского народа не только правдив
и свят, но и прекрасен. Народ защищает свою
нравственность и любит правду ради правды. То, что ценно для
народа, ценно также и для нации, так как "нации живут
великим чувством и великою, всех единящею и все
освещающею мыслью, соединением с народом... — вот чем
живут нации, а не одной лишь биржевой спекуляцией
и заботой о цене рубля..."273. Если же нация сплачивается
только на почве материальных интересов, следствием
является самоуничижение и цинизм; она становится
гальванизированным трупом, теряя себя в спекуляциях.
Народ воплощает свой идеал в отдельных лицах,
именно в людях особой красоты и нравственной чистоты.
Примером таких идеальных фигур был Феодосии Печер-
ский, основавший монашество в Киеве, а также Тихон
Задонский. Истинно прекрасные и нравственные образы
русской литературы со времен Пушкина стали живыми
образцами для народа. Можно назвать монаха Пимена
в "Борисе Годунове", Лизу в "Дворянском гнезде" Тур-
375
генева, героев Гончарова и Лескова. Только общение
с народом дало этим писателям столь необычную силу
изображения.
С особой горечью выступал Достоевский против тех
западников, которые шли в народ, чтобы "просветить"
его. Например, Градовский писал, что русским нельзя
уйти от просвещения непременно из западноевропейских
источников за полнейшим отсутствием источников
русских. Достоевский обращается к понятию просвещения,
под которым он понимает не приобретение ремесленного
умения, технических или научных знаний, а в первую
очередь именно такое просвещение, которое означает
освоение духовной идеи, озаряющей душу и
указывающей человеку дорогу жизни. Науку и технику народ,
конечно, должен воспринять из Европы, где они больше
всего развиты; но русский народ уже обладает идеей,
которая даже превосходит западные. "Я утверждаю, что
наш народ просветился уже давно, приняв в свою суть
Христа и учение его"274. Наука, социальные идеи и
институты никогда не могут стать существенными
основами просвещенности хотя бы потому, что они разлагают
народ. Оценивая геройский поступок Фомы Данилова,
интеллигенция смиренно должна признать, что она не
может просветить народ. Ведь в нас самих столько
предрассудков и столько заложено в нас идолов, что народ
вправе сказать: "Врачу — исцелися сам". Если сравнить
"идеального" представителя западничества с идеальной
фигурой из народа, сравнение будет не в его пользу.
В связи с православием Достоевский приписывал
русскому народу особую идею, органически связанную с его
верой, — идею всечеловечности и всеобщего примирения.
Он подчеркивал стремление русского народа жить с
другими народами в единодушии подобно братьям. У
русского народа нет национальных границ, что характерно
для западноевропейских народов. Вера во всеобщее
единение отсутствует во всем мире, она есть только у
русского народа. Достоевскому возражали, что в немецкой
классической философии выдвигалась подобная идея.
Он отвечал, что в Европе она имела значение только
в учебных аудиториях. Русскому же народу уже сама
его религия повелевает придерживаться веры в будущее
всечеловеческое единение. Социалисты тоже выдвинули
идею "церкви" всех народов, но эта идея была чужда
народу. Он больше верит в единение всех во имя Христа,
376
во всенародную и вселенскую церковь; кто не понимает
в народе нашем его православия и окончательных целей
его, тот никогда не поймет и самого народа нашего.
Мало того: тот не может и любить народа русского"275.
Стремление к всеобщему единению дает русскому народу
способность всепонимания. Он может, как никто иной,
проникнуться духом чужого народа. Он судит
внепартийно, прощает врагов своих, не делает племенных
различий, снимая противоречия, примиряя различия.
Особая заслуга Петра Великого состоит в том, что
он открытием "окна в Европу" указал русскому народу
на его универсальную задачу, хотя сам он лично при
этом лишь "повиновался некоторому затаенному
чутью"276. Это стремление к всеобщему единению находит
свое выражение на уровне душевной коммуникации, а не
во внешнем насилии.
В течение столетий он был порабощен татарами,
перенес иноземное иго, междуцарствие, сущностно чуждые
ему реформы Петра, крепостное право, но приобрел при
этом глубокое понимание значения страдания, так что
даже полюбил его. Достойно всякого удивления, что
народ во все эти тяжкие периоды сохранил свой идеал,
что даже тогда, когда его ввергали в самое примитивное
состояние, этот "варвар" продолжал "искать свет",
сохранял и подчас даже укреплял идеал духовной красоты.
Народ отвергал реформы Петра, не видя в них
конечной цели, отделившись от него, он упрямо продолжал
жизнь для себя, оберегая свое своеобразие и само
существование. Он пассивно отнесся к реформе Александра И,
поскольку не понял ее. Сами по себе действительно
нужные мероприятия Александра он воспринимал не как
улучшение своего положения, а как новое подавление.
Задача интеллигенции в этих условиях не "просвещать",
а обучать народ, вместо того чтобы вовлекать его в
какую-то революцию, которой он не хочет. Интеллигенция
должна содействовать развитию его разумных
склонностей и защищать от злонамеренных авантюристов и
дурных слухов. Между тем, считал Достоевский, высшее
общество с петровских времен страшно отделено от
народа, так что народ даже отвергает его, как со всей
очевидностью увидел Достоевский на каторге в своих
товарищах по заключению. Некоторые из даже самых
народолюбивых людей из высших слоев общества
страдают, отверженные и отделенные от народа. Со времени
377
освобождения в народе брезжит потребность сказать что-
то новое, но все же есть великая опасность, что он станет
жертвой бессовестных нашептывателей, вроде
политических социалистов или чуждых ему сектантов.
Нигилисты верят только в преступные черты
народного характера. Они считают его бандой грабителей и
воров, похожей на орду Пугачева, и надеются, провоцируя
его на восстание, на этом выиграть. Хотя нигилисты
стремятся вызвать в народе хаос, народ, считал
Достоевский, быстро осознает свою ошибку и попытается
создать новый, пригодный для него порядок. При
неопытности народа в социальных и правовых вопросах
поначалу этот порядок, вероятно, будет иметь много
недостатков. Но народ во всяком случае склонен
стремиться к осуществлению своей цели. Большое
преимущество социалистов состоит в том, что они действуют
как бы по желанию народа и их пропаганда согласуется
с этими желаниями. Если все же состоится революция,
очень скоро откроется, что цели революционеров
отличаются от народных, и тогда разгорится новая борьба
между этими двумя силами.
В подобных размышлениях выявились глубокая
проницательность и величие Достоевского; несмотря на свое
страстное желание предохранить народ от революции, он
все же со всей серьезностью считался с ее возможностью.
"Назначено ли нашему народу непременно пройти еще
новый фазис разврата и лжи, как прошли и мы его
с прививкой цивилизации?" — спрашивал он в 1876 г.277
Он предполагал, что с народом, возможно, повторится
то, что происходит с высшим слоем со времен Петра, что
он примет на веру новое учение и будет пытаться его
осуществить, пока не увидит невозможность этого. Он не
хотел такого развития событий и стремился сделать все,
чтобы предохранить народ от подобной судьбы.
Поэтому в своих публицистических и политических статьях
он снова и снова старался показать другие возможности:
примирение царя и интеллигенции с народом и мирное
прогрессивное строительство новой России. Но было уже
поздно. Политический социализм стал горячей верой,
которая нашла своих апостолов и мучеников в
Чернышевском и многих других; с фанатичной слепотой те, кто
веровали, не хотели и не могли видеть, что данное учение
во многом деструктивно и негативно. Никто из них не
мог предвидеть такое развитие событий. Белинский и Ге-
378
рцен наверняка с удивлением, а может быть, и с ужасом
отнеслись бы к тому, что получилось из импульса,
который они когда-то дали политической жизни России. Если
вообще кто-то мог предвидеть такое, то это был
Достоевский, который ясно видел, что должно получиться из
вызванного заклинаниями мировоззрения, отрицающего
нравственный закон.
Только на основе твердой нравственной
убежденности, которая покоится на фундаменте православия, может,
по его мнению, удерживаться народ. Здесь получает он
четкое понятие о чести и справедливости и о том, в чем
суть греха и преступления. И если он грешен, он все же
знает, что его поступки плохи, и стыдится их. Никогда не
станет он выдавать свои грехи за правду и называть зло
добром. И все потому, что признает Бога творцом
морального порядка.
Можно сказать, как это сделал Гвардини, что
Достоевский рассматривал просвещенность народа сквозь
призму романтизма. Это утверждение и справедливо, и
ложно 278. Верно, что те свойства и характерные черты
русского народа, которые Достоевский принимал, можно
найти у определенных лиц из народа. Кто лично знал
Россию, должен признать, что у русского народа есть
огромная глубина чувства и что в нем встречаются
характеры высоконравственные, которых тщетно ищут в
Европе. Своеобразие также, в частности, состоит и в том,
что такие характеры в русском народе встречаются
относительно часто и что у многих людей из народа
проступают черты и образ действий, свидетельствующие
о большой нравственной глубине. Вопрос состоит в том,
в какой мере Достоевский был прав, рассматривая эти
черты как всеобщие? Эта сторона русского характера
пребывает в остром противоречии с другой, если можно
сказать, с пугачевской его стороной. Здесь открывается
дикая, стихийная, грубая и животная сущность.
Справедливо спросить, какие из этих двух сторон русского народа
характерны для его сущности? К народной душе
пытаются применить принцип многосторонности. Мы должны
противоречия русской души принять за факт и
остерегаться односторонности. И тем не менее, когда
Достоевский как публицист односторонне возвеличивал
положительные стороны народного характера, он имел для этого
достаточные основания. Он не был холодным
наблюдателем, наоборот, он боролся за раскрытие нравственных
379
сторон в народном характере. Конечно же, он ясно видел
и его отрицательные стороны. Воистину его
произведения не были собранием идеализированных образцовых
характеров; в них сильно перевешивает достаточно
мрачный элемент. И в своих публицистических произведениях
Достоевский довольно часто выделял теневые стороны
народного характера. Он знал, что в народе много
пороков, супружеской неверности, грубости нравов и
животности в наслаждениях, что он предается пьянству и
сладострастию, погрузился в греховную грязь и поддается
преступным инстинктам. Он знал также такие типы, на
существование которых впервые указал Гоголь
(Держиморды и Сквозник-Дмухановские), которые, с одной
стороны, еще связаны с народом и в какой-то мере знают
его, но, с другой — готовы от него отделиться и
безжалостно его грабить и угнетать. Он указал на типы
пошлых представителей городского чиновничества и на
пустой, ограниченный, лишенный радости образ жизни
мелких буржуа. Все это не мешало ему находить золото
среди грязи. И это было действительно золото, которое
он больше нигде не мог найти.
Его волновало как раз то, что он находил эту духовную
и нравственную красоту не только у избранных,
достигших ее особым путем (например, у старцев), а не раз там,
где ее, казалось бы, нельзя ожидать, — у простых людей,
которые тихо жили где-то в дальней дали или в закоулках
большого города. Любой мог встретиться с моральной
чистотой, присущей русскому народу. Достоевский считал
народ понятливым и благодарным, способным на
почитание, если он встречался с любовью. Он указывал на чувство
сострадания, присущее народу, на его глубокое смирение
без раболепия и рабского подобострастия. Люди из
народа были более свободны, не претендуя ни на что. Они не
были мстительными или завистливыми, но
сострадательными, великодушными и добрыми. Они прямодушны,
свободны и открыты разумом. У них большой жизненный
опыт и ярко выраженный здравый смысл. Они почитают
чужие верования и не претендуют на исключительность.
В их делах и поступках всегда проявляется наличие
большого чувства. Особенно нравилась Достоевскому красота
этих людей, которая часто светится вовне. "Идеал красоты
человеческой—русский народ. Непременно выставить эту
красоту, аристократический тип и проч... Немного спустя
почувствуете, что он выше вас"279.
380
Положительные черты характера народа, отмеченные
здесь, Достоевский ценил в людях превыше всего. У
лучших людей из народа любовь к свободе связывается
с подлинной религиозностью и человечностью.
Достоевскому ничто не было так чуждо и несимпатично, как
византийское лицемерие, которое, к сожалению, часто
встречается у русских поэтов и писателей. От этого всего
его творчество совершенно свободно.
Достоевский никогда не отвергал либералов в
благородном значении этого слова. Он искал воплощения
идеала в конкретном человеке. Он искал людей, которые
жили в соответствии с идеалом, поскольку не хотел иного
идеала, кроме соизмеряемого с земными, реализуемыми
отношениями и человеческими силами. Таких людей он
смог найти только у русских христиан. Это определило
его позицию. Покажите мне ваших "святых", и я вернусь
к вам, обращался он к западникам. Но кого они могли бы
противопоставить Серафиму Саровскому, Тихону
Задонскому, пушкинской Татьяне или простым и искренним,
добрым и человечным народным характерам? То, что
Достоевский видел в этих людях, он переносил на весь
народ, который с определенной регулярностью порождая
такой характер, видя в нем образец для себя и стремясь
как единое целое к воплощению подобного характера,
должен быть народом особенным. Если бы были
устранены препоны, мешающие развертыванию в этом
направлении, если бы усилилось влияние тех стремлений,
которые воздействуют на такие характеры, тогда народ
достиг бы полного развития задатков духовной красоты.
Достоевский поэтому неутомимо призывал
интеллигенцию и высший слой признать и принять народ и видел
в этом единственный путь, который может привести
Россию к лучшему будущему. Пушкин был первым, кто это
понял и кто решительно вступил на такой путь. Именно
в этом его великая слава, именно поэтому он стал
народным поэтом. Простой народ спасет Россию и обновит
мир. Все зависит от него. Все действительно ценное в
русском духовном достоянии берет начало в народе. Все
направляется волей народной. Поэтому "...мы должны
преклониться перед народом и ждать от него всего,
и мысли и образа; преклониться пред правдой народной
и признать ее правду..."280.
Всечеловеческое
единение
Французская революция 1789—1793 гг.
наряду со свободой и равенством
выдвинула и идеал братства
(fraternite). Но эта идея как социально-политический идеал
существовала значительно раньше. Братство и гуманность
суть идеи, которые продолжают существовать по
необходимости как следствие грехопадения из-за причиняемого
им урона для человечества. Только после того как в
обществе расцвели противоречия и раздоры, возникла идея
о всеобщем единении281. Но в ходе французской
революции обнаружилось особое основание сделать идею
братства частью ее программы. Со времен Ренессанса Западная
Европа воодушевлялась принципом индивидуализма,
заменив идею общности идеей общества. Естественная
симпатия, связывающая людей друг с другом, становилась все
слабее. Достоевский считал, однако, стремление к
братству в рамках буржуазного общества неосуществимым.
"Надо, чтоб... потребность братской общины была в
натуре человека, чтоб он с тем и родился или усвоил себе
такую привычку искони веков"282. Эта неосознанная
инстинктивная склонность к братству в Европе почти утрачена.
Руссо, правда, снова побудил людей прислушиваться
к своим чувствам, и во французском народе, охваченном
революционным порывом, это выразилось в стремлении
к братству. Но при трезвом рассмотрении встает
проблема, как может быть введено и поддержано такое братство.
На одном лишь эгоизме нельзя основать никакого
братства, оно может возникнуть лишь на естественной
инстинктивной симпатии между людьми283. В Западной Европе
отрицают эту истину и хотят объединить людей в
целостность путем изменения политических и общественных
отношений. Но чтобы прийти к братству, необходимо
фактически сначала изменить человека, а не мир: "хоть
единично должен человек вдруг пример показать"284.
И тем не менее в Западной Европе продолжаются
попытки осуществить братство с помощью изменения
социальной и политической системы, верят в то, что
382
эгоистических индивидов можно побудить к
единодушию. Но даже если раздел имуществ и определение прав
и обязанностей можно было бы осуществить с научной
точностью, это не привело бы к единодушию, потому что
всегда найдутся такие, кто сочтет себя обделенным; им
будет казаться, что на их долю выпало мало, они станут
"роптать, завидовать и истреблять друг друга"285. Другие
будут убеждены, что для их личной выгоды требуется
нарушение законов общества, и поэтому они должны
добиваться силой того, что им нужно. Чтобы избежать
наказания, они станут прибегать либо к обману, либо
к открытому насилию. Применение насилия превращает
саму идею братства в видимость.
Ясновидцы среди тех, кто верует, что человек
побуждается только эгоистическим мотивом, признали
неосуществимость общественного договора и отбросили мысль
о всеобщем братстве. Прудон решительно отвергал идею
братства, в частности, и потому, что она адресуется
к общему отцу и тем самым предполагает свое религиозное
происхождение. Другие, подобно К. Марксу и О. Конту,
думали о том, чтобы исключить часть человечества из
общества и затем диктаторски править его остатком.
Общество, как, к примеру, хотел Конт, механическим
образом, путем насилия отсекает из своей среды
преступника, который не может этому противостоять, сопровождая
его изгнание всеобщей ненавистью и полнейшим
равнодушием, забывая о его дальнейшей судьбе, о том, что "он
— наш брат"286. Марксисты, со своей стороны, поясняют,
что буржуа вообще неспособны быть братьями народу.
А потому они применяют насилие, чтобы уже заранее
исключить их из любого братства. Братство, считают они,
образуется позже. Ради него сотни миллионов людей, по
существу, будут приговорены к смерти. С ними будет
покончено, к счастью человечества. Другие вожди уже в ту
пору говорили совершенно открыто, что они не нуждаются
в братстве, что христианское братство есть ложь. В
конечном счете его хотели выпестовать с помощью ужасающего
принуждения и поддерживать его путем всеобщего
шпионства и деспотии. Из идеала братства возникает новая
формула: "Fraternite ou la mort" ("братство или смерть")
— "и пойдут братья откалывать головы братьям, чтоб
получить чрез "гражданское учреждение" братство"287.
Всеми этими теориями отрицается наиболее
существенная предпосылка для наступления всеобщего брат-
383
ства: внутреннее изменение отдельного человека. Именно
оно должно предшествовать братству. Только тогда,
когда у людей существует естественная симпатия и моральная
свобода, они могут создать братскую общность.
Умножение материальных потребностей'и зависимость от этого
ведет только к затуханию естественной любви между
людьми и ко все большему одиночеству. Христианская
идея состоит в том, что братство может возникнуть только
путем возрастания любви к ближнему "единичных
людей", которые вступают между собой в свободное
единение, связывающее их друг с другом и с Богом (соборность).
Христианство не исключает из такого братства ни одного
человека, даже великого преступника. Больше того, оно
готово снова принять его с распростертыми объятиями,
при условии, что он захочет возвратиться в нравственную
общность. Если отдельные христианские конфессии не
согласны с таким подходом (например, кальвинизм),
причина этого состоит в том, что они являются
христианскими только по имени. Христианский же дух они потеряли.
Христос ведь сам проповедовал братство, хотя его за это
и считали глупцом. Когда реализуется христианский дух,
люди делятся друг с другом имуществом по-братски, без
принуждения, по добровольному желанию, без того,
чтобы требовать чего-то у одаряемого или притязать на право
подаренного. Не экономическая выгода, а одаривающая
любовь становится мотивом поведения. Полное братство
возникает только тогда, когда со всех сторон думают
и ведут себя по-братски; оно предполагает обоюдность.
Буржуазное единение является чисто внешним, без
внутренних нравственных скреп, поскольку его
единственная цель состоит в "спасении животишек"288. Любое
единение только на научных основах также не отличается
прочностью. Наука знает лишь влечение к
самоподдержанию и усилению, борьбу за существование и выживание
сильнейших. В конце концов основанное на ней
социальное устройство завершается научно осуществляемым
убийством, истреблением одной части людей ради
другой. Католическая и протестантская церкви более
глубоко, чем социализм, принимают в расчет не только
потребность в хлебе, но и духовные потребности
(спокойную совесть и единство), но тем не менее обходят вопрос
о том, что единодушная совместная жизнь возможна
лишь тогда, когда специфическим свойством людей
станет стремление к свободе и жажда духовности. Наци-
384
онализм вообще отказывается от потребности
всечеловеческого единения и стремится ко все большему
разъединению народов ради ничтожных сиюминутных
интересов. "Соперничество лишает их беспристрастия. Они
перестают понимать друг друга... Они все упорнее
и упорнее отделяются друг от друга своими правилами,
нравственностью, взглядом на весь Божий мир... Каждый
отдельно у себя хочет совершить то, что могут
совершить только все народы, все вместе, общими
соединенными силами... Неужели цивилизация так бессильна, что
не могла одолеть до сих пор эти ненависти?.. Идея обще-
человечности все более и более стирается между ними...
Христианская связь, до сих пор их соединявшая, с
каждым днем теряет свою силу. Даже наука не в силах
соединить все более и более расходящихся"289.
Русские же, напротив, все больше, по мнению
Достоевского, стремятся к всечеловеческому единению.
Замкнутость европейцев на самих себе мешает им понять русских,
и эту "величайшую особенность в характере называли
безличностью"290. И в XX в. против Достоевского
выступали за его идею всечеловеческого единения и всепонимания.
Не кто иной, как Герман Гессе, отнюдь не
националистический мыслитель, ошибочно утверждал, что философия
Достоевского представляет собой отказ от всякой твердо
установленной этики и морали в пользу всепонимания
и нравственной вседозволенности. Достоевский тем не
менее видел задачу русской культуры в том, чтобы освоить
идеи европейцев, их идеалы, цели, характер их устремлений.
Но такая позиция не означает принятие сосуществующих
установок, равное восприятие несоединимых
моралистических идей и теоретических образов мира. Напротив, ее цель
состояла в таком единении с европейскими идеями, чтобы
поднять их на общечеловеческий уровень. Народы Европы,
считал Достоевский, обречены на долгий путь и ужасные
потрясения, прежде чем они избавятся от своего
одностороннего национализма и созреют до идеи всечеловеческого
единения.
Особый интерес представляет выявление связи между
народолюбивым настроением Достоевского и целью
всечеловеческого единения. По его мнению, русская идея
и есть идея всечеловеческого единения. Ему,
следовательно, нужно было принять идею народа, чтобы прийти
также и к идее человечества. Он избегал трудной
дилеммы выбора между своим народом и человечеством, по-
13 Райнхард Лаут 385
скольку народ сам воспринял и провозгласил идею
всечеловеческого единения. Тот факт, что все народы,
провозглашающие общечеловеческую идею, признают за собой
первое место, не вызывает у русского народа никаких
отрицательных эмоций, ибо русская идея является идеей
христианской; а кто в христианстве хочет быть первым,
должен служить всем. Достоевский утверждал, что Россия
живет не для себя самой, а ради идеала, в том числе ради
Европы. Когда и другие народы воспримут понимаемое
таким образом христианское мировидение, они не будут
порабощать своих сограждан или другие народы, они
станут служить друг другу. Только эта указующая путь
идея позволяет добиться успеха в единении человечества,
поскольку лишь она печется о всеобщем благе и может
стать основой длительного братского содружества. Но до
сих пор подобная идея существует только в России как
идея народная. Поэтому нет никакого противоречия,
когда за русским народом признается более высокое
значение и ценность, ибо путь всеединения человеческого ведет
через национальную идею русского народа.
Как учит история, стремление к единству является одной
из важнейших духовных потребностей человечества. У
отдельного человека ему соответствует желание преодолеть
внутренний разрыв и достичь душевной гармонии. И если
человечество когда-нибудь достигнет этой цели, оно
образует единую братскую семью, основанную на психической
связи и взаимной любви. И все же этому периоду будут
предшествовать времена острой борьбы и внешнего
"уединения". Только после долгого периода разобщенности
можно прийти к всепрощению и к всеобщей всесторонней
помощи. Каждый будет знать, что ему помогут в нужде,
всех охватит большое чувство всеобщего родства. Это
единство готовится телесно — путем смены поколений,
ведущих свое родство от одного отца, а также духовно
— посредством воздействия христианства. Всеобщее
единение не существует пока в действительности, а лишь в
молитвах и стремлениях одного только народа и у отдельных,
особенно далеко продвинутых личностей. И если
предрассудки будут преодолены и человечество поймет, что без
любви оно погрузится в бездну одиночества, тогда время его
преображения приблизится. И это единение и целостность
могут и будут достигнуты только именем Христовым.
В любовном отношении ко всему человечеству люди
осознают, что они вместе с другими образуют единый,
386
нераздельный организм, где каждый человек (от
преступника до святого) й любая общность развивают присущее
им своеобразие и говорят свое особое слово.
Человечество поэтому должно развернуться во всем богатстве своих
природных способностей. И даже грехи могут послужить
этому развертыванию. В бесконечной цели приближения
к Христу как нравственному идеалу человечество в конце
концов найдет свое завершение. Конечно, в своем
развитии человечество постоянно расширяет свои задачи
и ищет новые цели; оно будет пытаться это делать до тех
пор, пока на опыте не убедится, что на иных путях оно не
может достигнуть удовлетворения. И невзирая на все
поражения и заблуждения, оно снова пойдет по пути
к Богу.
Человечество, как и отдельный человек, остается
живым только потому, что в каждый момент своего
развития во времени оно стоит в непосредственном отношении
к Богу, сознавая, хотя и неотчетливо, наличие этого
отношения. Временная горизонтальная линия в каждое
свое мгновение пересекается вертикалью, идущей к Богу.
Если бы связь с Богом прекратилась хоть на мгновение
или в человечестве угасла мысль о Боге, оно прекратило
бы свое существование. Ибо, утратив свое стремление
к Богу, оно не видело бы цели для воли к жизни и
томилось в своем закрытом космосе, как в карцере. Устраните
веру в Бога и идею бессмертия, замените ее идеей
человечества, и вы приведете человечество к тому, что оно
самообожествится, затем поколеблются источники вашей
жизни и подготовится ваша погибель.
Если бы было правильно, что идея Бога является
химерой, что она возникла из-за отчуждения и что тем
самым высшие идеалы также являются иллюзорными,
тогда нужно удивляться тому, почему человечество на
протяжении всего своего исторического существования
так упорно убеждено в соприкосновении с мирами иными
и в наличии Бога. Почему оно уже давно не пришло
к заключению, что обманывается, и почему оно не
сэкономило свои безмерные силы, блуждая вокруг Бога?
Было бы проще для него, если бы все это поскорее
закончилось. Если человечеству суждено принять атеизм, оно от
этого вряд ли усилится, как утверждают политические
социалисты; напротив, не исключено, что люди взаимно
уничтожат себя, одичают и вымрут.
История
Развитие человечества во времени
принадлежит к сфере истории. Так как
Достоевский в своей философии
рассматривал целостного человека и человечество как
аналогичные сущности, в главах о его антропологии уже
говорилось и об его отношении к истории. Историческое развитие
человечества он считал аналогичным развитию
отдельного человека в его целостности. Подобно тому как человек
действует не только на основе своего разума, но его
поступки определяются всеми его душевными свойствами,
включая и бессознательную область души, так и о
человечестве нельзя сказать, что оно развивается лишь в
соответствии с идеями разума или что история является разумной.
"Все можно сказать о всемирной истории... Одного только
нельзя сказать — что благоразумно"291. Общей движущей
силой истории, как и отдельного человека, является воля
к жизни во всех ее проявлениях. Исходя из общности своих
потребностей, человечество стремится достичь полного их
удовлетворения. Но это возможно только тогда, когда оно
научится владеть своими материальными потребностями
и усилит свои духовные потребности настолько, чтобы
достичь высоконравственного бытия.
Конечная цель человечества состоит в полной
реализации его высшего идеала, воплощенного во Христе. "Вся
история, как человечества, так отчасти и каждого
отдельно, есть только развитие, борьба, стремление и
достижение этой цели"292. Достоевский сравнивает сегодняшнее
состояние человечества с коконом, из которого
развивается бабочка: это — переходное бытие от
бессознательного состояния к сверхсознательной жизни в Боге. Но
человечество не принуждается развиваться в этом
направлении. В каждый момент своей истории оно может
оказаться в положении, обесценивающем его конечную
цель и от нее уводящем. Радикальное антитетическое
развитие стремится прочь от Бога к метафизической
свободе Я и в конечном счете к уничтожению творения. Оно,
однако, не может достичь этой цели, так как душа бес-
388
смертна. С другой стороны, человечество может сколь
угодно долго пребывать в отказе от Бога.
История человечества справедливо понимается как
движение вперед, но обычное учение о прогрессе, по мысли
Достоевского, является ошибочным. В прогрессе видят
победу либо разума, либо техники над природой, либо,
в конце концов, определенного мировоззрения, например
социализма. Но развитие в одном из этих направлений, если
оно вообще возможно, вовсе не означает, однако,
достижения человечеством своего совершенства. Тезис Бокля в его
"Истории цивилизации в Англии" о том, что в ходе
культурного развития человечество становится мягче и что
его воинственные стремления ослабевают, не соответствует
фактам. Человечество еще и сегодня так же грубо и жестоко,
как в древности. В противоположность Боклю (и Ницше)
Достоевский считает, что нужно говорить, скорее, о том, что
вследствие дифференциации чувств кровожадность
человечества приобрела более общие рафинированные формы.
Идея прогресса в вышеупомянутом смысле не
сочетается также и с христианством. Можно говорить лишь о
прогрессе цивилизации, а это "такой ход дела, при котором
рядом со спасением и светом вторгается столько ложного
и фальшивого, столько тревоги и сквернейших привычек,
что разве лишь в поколениях впереди, опять-таки, пожалуй,
через двести лет, взрастут добрые семена, а детей наших
и нас, может быть, ожидает что-нибудь ужасное"293.
Достоевский занимал, следовательно, среднюю позицию между
Руссо и оптимистическими проповедниками прогресса.
В одной из своих публицистических статей
Достоевский поднял проблему, определяется ли история в
решении всех мировых судеб одной лишь дипломатией, т. е.
воздействием личностей, пусть даже великих, или
безличными силами. В истории случается множество событий,
действует столько сил, совершенно неожиданных,
которые не связаны не только с дипломатами, но и с
выдающимися духовными лидерами времени и не признают
их значения. Представители взгляда, что историю делают
личности, считают нежданно возникшие события
"случайными". Они аргументируют, например, так: "...не
явись Наполеон, умри там, в Корсике, трех лет от роду
от скарлатины, — и третье сословие человечества,
буржуазия, не потекло бы с новым своим знаменем в руках
изменять весь лик всей Европы (что продолжается и до
сих пор), а так бы и осталось сидеть там у себя в Париже,
389
да, пожалуй, и замерло бы в самом начале!"294 Накануне
Великой французской революции и после ее начала сами
Шиллер и Карамзин сбились тогда с толку, ошибаясь
в оценке ее значения, и не предчувствовали, что она
принесет Европе.
Ни воля какого-нибудь смелого генерала, ни капризы
придворной дамы, ни выдающийся ум или гениальная воля
крупного государственного деятеля не могут существенно
повлиять на ход и направление истории. Конечно, их
деятельность имеет вес и воздействует на малые или более
крупные области исторических событий. Но общее течение
и направление истории определяется другими факторами.
Русский историк И. Кайданов — о нем упоминает
Достоевский — писал о начале французской революции: "Глубокая
тишина царствовала во всей Европе, когда Фридрих Великий
закрывал навеки глаза свои; но никогда подобная тишина не
предшествовала такой великой буре!" Эти слова, замечает
Достоевский, остались "в моей памяти на всю жизнь"295.
В истории бывают моменты, когда "появляются вдруг
какие-то странные другие силы, положим и непонятные
и загадочные, но которые овладевают вдруг всем,
захватывают все разом в совокупности и влекут неотразимо, слепо,
вроде как бы под гору..."296. Эти силы не может удержать ни
один человек, будь он даже величайшим государственным
гением. По большей части речь идет в таких случаях
о фактическом воздействии идей, которыми оказывается
захваченным человечество. Непостижимость этих сил
состоит в том, что возникшие однажды идеи оказали на
человечество такое воздействие, какое не соответствует не только их
следствиям, но и "логике фактов". Фактические
психологические следствия часто оказываются совершенно иными,
чем предполагалось в соответствии с логическим значением
идей. Идеи и реакция на них человеческого духа являются
поэтому первостепенными движущими факторами истории.
Выдающиеся и избранные люди, часто остающиеся
совершенно безвестными, приносят эти идеи
человечеству, и они передаются массе в той мере, в какой
соответствуют горячим ожиданиям времени. Ужасающее
действие этих идей состоит, однако, в том, что при попытках
их осуществить воздействуют все в них заключенные
логические и фактическо-логические следствия.
Посредственные люди на этих идеях, если они служат общему
благу и являются в некоторой степени переносимыми,
строят порядок, который, однако, держится до тех пор,
390
пока живут идеи. Если идея подорвана, возникает новая,
которая сокрушает старую; на основе этой новой идеи
складывается переходная смутная фаза, а также и новый
порядок. Иногда эти идеи столь близки между собой, что
удается перевести старый порядок в новый без особых
потрясений. При этом практически настроенная часть
общества, дельцы, искатели выгоды и власти, те, кто хочет
любой ценой сохранить свое господство, вынуждены, по
крайней мере внешне, признать эти идеи, чтобы затем
успешнее их сдерживающие моменты бросить на весы
истории. Материальные силы тем самым оказывают
обратное воздействие на ход событий и возможно также их
некоторое влияние на историческое развитие. Из-за этой
игры действия и противодействия исторический прогресс
осуществляется очень медленно. Всякое достижение
требует столетий, прежде чем оно утвердится в человечестве.
Формированию народов всегда предшествуют
нравственные идеи, которые становятся причиной их создания:
народ изначально создается в своей особенности. Как
считал Ш. Пеги, народ возникает благодаря своей
мистике, из которой в ходе его жизнедеятельности развивается
политика, его поддерживающая. Взять, к примеру, евреев
или мусульман: "национальность у евреев сложилась
только после закона Моисеева, хотя и началась еще из
закона Авраамова, а национальности мусульманские
явились только после Корана"297. Только после того как их
захватила идея, которая дала им надежду и горячую веру,
народы начали создавать политические и социальные
институты, посредством которых они поддерживаются
и сохраняют сокровищницу идей и самих себя. Создание
"социальных формул" всегда следует после и как событие
второго ранга вслед за рождением идеи и восприятием ее
народом. В соответствии с неизвестным нам законом по
истечении определенного периода идея начинает
разрушаться. Затем предпринимаются попытки перестроить
социальные институты таким образом, чтобы с их
помощью можно было поддержать одну только общность. Но
такие устремления всегда в конце концов обречены на
поражение, ибо вместе с идеями приходят в упадок и
институты. Гражданские идеалы и учреждения тесно
связаны с духовными идеями, выражающими
соответствующую нравственную идею. Сами же по себе гражданские
идеи и учреждения "никогда не являются, ибо, являясь,
имеют лишь целью утоление нравственного стремления
391
данной национальности"298. Когда Градовский утверждал,
что нравственное совершенство человека в значительной
мере зависит от совершенства социальных институтов, он
заблуждался, ибо он не понимал, что социальные
институты вообще не могут возникнуть без нравственной идеи.
Неверно также, что религиозно-нравственные идеи по мере
созревания народа превращаются в более высокие — граж-
данско-социальные. "Так многие утверждают, но мы такой
фантазии еще не видали в осуществлении. Когда
изживалась нравственно-религиозная идея в национальности, то
всегда наступала панически-трусливая потребность
единения с единственной целью "спасти животишки" — других
целей гражданского единения тогда не бывает"299. Затем
в буржуазном мире начинаются известные
вышеизложенные разрушительные процессы и уничтожают его.
Как конкретно видит Достоевский мировую историю?
В его картине мира история предстает как часть более
обширных событий космической истории, возникшей
в процессе творения и направляемой Богом. Тем самым
его понимание истории стоит ближе всего к учению
греческих отцов церкви. Мировая история представляет
собой единовременное событие; существование целого ряда
миров, подобных по своему характеру нашему, как то
представлялось гностикам, стоикам и Оригену,
Достоевский отвергал, поскольку он не видел, какое нравственное
значение им больше подходит. Он отказывался также от
древнего, первоначально приписываемого Гераклиту,
а затем выдвинувшегося в XIX в. учения о палингенесии
("вечном возвращении"). Из современных философов
истории ему ближе всего, несомненно, Шиллер. Подобно
ему, Достоевский занимал среднюю позицию между ис-.
торическим оптимизмом позднего Просвещения и
пессимизмом Руссо. Он не считает, что только историческое
развитие цивилизации отделяет человека от природы
и поэтому делает его дурным, хотя с развитием культуры
и возникает много негативного и пагубного. Он не
признает также, подобно Гердеру, что историческое развитие
человечества есть прямолинейное продолжение
природного, линия восходящего совершенствования. Подобно
Канту и Шиллеру, Достоевский принимал идею
грехопадения. И все же человеческая натура, после того как она
выросла из царства природных инстинктов, не стала
радикально злой, как полагал Кант, она только затенена
злом. С тех пор как человек вышел из аркадского состо-
392
яния, как называл его Шиллер, он ведет себя правильно
не из инстинктивного понуждения, а сознательно
выбирает между добром и злом. Задача состоит в том, как
считал Шиллер, чтобы человек так облагородил свою
натуру, что нравственный закон стал бы исполнять
естественно, чтобы его натура обрела такую
нравственность, когда из нее само собой вытекает нравственное
поведение. Когда эта цель будет полностью достигнута,
человечество вступит во вторую райскую стадию,
которую Шиллер называл элизиумом. Достоевский резко
возражал против учения Канта о том, что моральная
свобода может быть достигнута только в борьбе против
природных влечений, что человек из-за этого неизбежно
становится несчастным и вследствие этого должен
выбирать между счастьем и свободой. Это ведет к слишком
низменному пониманию счастья.
Достоевский отличается от других мыслителей XIX в.
прежде всего тем, что не признает ни ступенчатого, ни
однолинейного исторического развития. История не есть
разумный или диалектический процесс, как утверждал
Гегель; она не позволяет также сконструировать
человеческое общество будущего на разумных основаниях.
Достоевский отвергал любую рационалистическую
концепцию общества; по его мнению, абстрактное общественное
устройство спроектировать нельзя. Мы переживаем в
истории не однолинейную последовательность, а
многообразное развитие. В истории раскрываются острейшие
разрывы, движение к противоположным полюсам. Августи-
нианская картина истории правильнее.
В начале истории выступает сотворение Богом мира.
"Раз, в бесконечном бытии, не измеримом ни временем,
ни пространством, дана была некоему духовному
существу, появлением его на земле, способность сказать се-
бе:"Я есмь, и я люблю"... а для того дана была земная
жизнь, а с нею времена и сроки"300. "Рече Господь: "да
будет свет, и бысть свет". Но так как мы из-за нашей
заброшенности и греховности не понимаем
положительного смысла божественного творения, часто мы
спрашиваем себя, "а не бысть ли тьма?"301 Затем Достоевский,
как мы видели, подчеркивает определяющее для человека
стремление постичь смысл или бессмысленность бытия;
он пытается проникнуть в тайны творения, вернуться
к изначальному райскому совершенству. Бог даровал
отдельному человеку и человечеству в целом возмож-
393
ность стремиться свободной волей в полной неизвестности
к добру и отваживаться на него; он дал ему совершенное
знание, заложенное в душевном чувстве, о путях
достижения морали.
И тем не менее история свидетельствует о том, что
этого оказалось недостаточно, чтобы вывести человека на
правильный путь. Несмотря на все, он неудержимо
движется к погибели, так что Бог мог бы посчитать его
совершенно потерянным, если бы он не принес в жертву
самого себя в лице своего сына, ставшего человеком,
чтобы повести человечество к своей цели. Людям было
показано, что нравственный идеал осуществим; был также
дан образец нравственной жизни. Разбуженная Христом
жажда истины и правды защищала человечество от
оцепенения и погибели, став мощной побудительной причиной
человеческого развития. В этой мысли Достоевский
солидарен с Чаадаевым (второе "Философическое письмо"):
"Спаситель и источник жизни — и спасение от отчаяния
всех людей, и условие sine qua поп (непременное условие),
и залог для бытия всего мт-ра, и заключается в трех словах:
слово плоть бысть, и вера в эти слова"302. Возникла
церковь, которая старалась найти формы организации
и стать институтом, способным хранить богатство
христианской идеи. "Начались христианские общины — церкви,
затем быстро начала созидаться новая, неслыханная
дотоле национальность — всебратская, всечеловеческая в
форме всеобщей вселенской церкви"303. Эту церковь
преследовали, ибо к тому времени, когда появился Христос, в Риме
породили и обожествили идею государства. Идеал должен
был создаваться под землею, а поверх земли вырос
громадный муравейник — Римская империя, воплотившая
государственную идею в человекобоге — в кесаре.
Христианство похоронило этот порядок. "Произошло
столкновение двух самых противоположных идей, которые только
могли существовать на земле: человекобог встретил
богочеловека, Аполлон Бельведерский Христа"304.
Схватка закончилась компромиссом, в котором
церковь обрела правовую и государственную форму, а
государство — религию, ставшую религией государственной.
Однако малая часть общей церкви ушла в уединение
и сохранила христианство в первозданной чистоте. Эту
традицию поддерживали монашеские ордена и особенно
старчество, а также святые обеих вселенских церквей.
Церковный раскол, разделивший церковь на восточно-
394
греческую и западно-латинскую, привел к возникновению
из первой русского христианства и к созданию из второй
церковного государства. На исходе средневековья папы
были монархами, используя свою власть для
осуществления таких мер, как инквизиторство. На их попытку
править человечеством население Западной Европы ответило
Реформацией, представляющей собой мощный протест
против вмешательства церкви в мирские дела. Но
Реформация застыла в отрицании и не могла создать никаких
положительных идей; не была принята также и
экуменическая идея. Человечество, разочаровавшееся в вере
западного образца, пыталось достичь успеха в просвещении
разума и направило свои ожидания на преобразование
земной жизни, что привело к революции, в которой были
отброшены идеалы всеобщего единения в церкви
Христовой и провозглашены новые идеалы под лозунгом
"свобода, равенство и братство". Но стало ясным, что, хотя
вселенская идея была отброшена, мысль о мощном
единении сохранилась. Возникли попытки осуществить это
единение в государстве на основе классового господства
или на принципах национальных различий. В этих
попытках забыли о духовных ценностях человечества;
провозглашались лишь материальные цели, только к ним
стремились. Так возник атеизм, в свою очередь породивший
нигилизм: все эти борющиеся за материальные интересы
группы предложили теперь новое противоположное
объединение — новое государство на чисто земной основе.
Ныне мы находимся на этой стадии развития.
Единственная переходная цель, которую готовит мировая власть
— выкорчевать духовную церковь. Симптоматично для
данного времени, что элементарные нравственные нормы
расшатались, и люди доброй воли запутались в сетях
нигилистической пропаганды. Широко распространились
атеизм и безразличие, и человечество все сильнее ждет
грядущего насильственного переворота.
Достоевскому казалось, что, судя по всему, его
столетие окончится чем-то ужасным, бурей, которая гораздо
страшнее, чем французская революция и наполеоновское
время. Но он видел также, что наряду с циничными
и нравственно опустошенными людьми в России повсюду
появляются такие, кто горячо верит в новую идею. Это
— знак еще не наступившего времени: эти люди
принадлежат различным партиям, они пока еще слепы и не
знают, что является их общим делом и с чем они должны
395
бороться. Нельзя предсказать, когда и где откроется
выход для человечества из этого хаоса. Но скорее всего
это возрождение произойдет либо в одной из
противостоящих групп, которая окажется достаточно
последовательной и независимой от неспособных к покаянию
убежденных нигилистов, либо среди тех, кто сохраняет чистое
сердце и Христову истину. Быть может, эти направления
будут все сильнее противостоять друг другу, пока земное
развитие опять не обратится в космическое.
Когда нужда и духовное одиночество достигнет
своего высшего пункта, когда в борьбе всех против всех
и в стремлении к "мировому государству посвященных
торжествует нигилизм, дело дойдет до Страшного суда.
Истинные христиане, пребывающие в тиши одиночества,
прославят слово Божие, которое будет воспринято
человечеством, ничего о нем больше не знающим, как новое
откровение, появятся небесные знаки сына Божьего и Бог
будет судить людей. Но суд Божий будет судом любви
и всепрощения. Мертвые воскреснут, тела их будут
преображены, чтобы они могли вынести небесную гармонию
нового состояния. Люди не будут больше порождаться
и соединяться во плоти — настанет великий любовный
синтез в многоединстве всех людей (без разделения их по
признаку пола) друг с другом и в Боге.
Таков в общих чертах взгляд Достоевского на историю.
Сомнения могут возникнуть только там, где речь идет
о значении России для мировой истории. Должен ли русский
народ пройти через новые испытания, признав
деструктивные европейские идеи социализма, или он окажется
достаточно сильным, чтобы, приняв все нечистые потоки, не замутить
свою суть? Во всяком случае, он надеялся на то, что народ
сохранит чистую идею Христа; и когда великий Вавилон
(которого не следует искать в какой-то определенной стране),
о котором, скорее, можно вместе с Чаадаевым сказать, что
мы все сегодня переживаем его крушение, приведет к закату
основанного на материальных интересах общества, того
общества, в котором мы живем, народ представит
заблудшему человечеству эту идею. Россия предназначена своей идеей
православия, своим русским Христом спасти человечество
и предохранить его от гибели в нигилизме.
"Все назначение России, — писал Достоевский А.
Майкову (9 октября 1870 г.), — заключается в
православии, в свете с Востока, который потечет к ослепшему на
Западе человечеству, потерявшему Христа"305.
Заключение
Мы прошли весь круг философских
идей Достоевского. В заключение
бросим взгляд на структуру его
духовного мира, при этом постараемся включить ее в
систему основных философских направлений, подчеркивая
то ценное и особенное, что присуще его мысли.
Решая эту задачу, мы видим, как трудно порой
однозначно отнести взгляды Достоевского к определенному
философскому направлению. Его метафизика довольно
многообразна, объединяет в себе различные философские
тенденции и ведет к необычному истолкованию понятий.
Любая классификация допустима здесь лишь с
оговорками.
Центральная мысль его философии — воля к жизни.
Казалось бы, что Достоевский придерживается
философии волюнтаризма. Но сразу возникают сомнения.
Волюнтаризм обычно противопоставляется
интеллектуализму. Признает ли Достоевский примат воли по
сравнению с человеческим познанием? Воля и познание
(переживание) имеют один общий корень — жизнь, бытие
души. Достоевскому в концепции воли чужд
интеллектуализм, но в равной мере и иррационализм. Волю не
определяют разумные мотивы, вместе с тем она не слепа
и не противоречит сознанию. Воля создается всеми
способностями души, как осознанными, так и
неосознанными. Она проявляется в устремлениях, возникающих
в едином жизненном порыве. Последнее — главное.
Ошибочно любое виталистическое толкование воли к жизни.
Мысли Достоевского чужды биологические подходы.
Нельзя приписывать ему и метафизический
волюнтаризм, который связывает волю с вещами самими по себе.
Жизненная воля отдельного человека, по
Достоевскому, не что-то абсолютно надындивидуальное,
самостоятельное, она связана с жизненной волей других. Кроме
того, Достоевский избегает как одностороннего атомар-
397
ного индивидуализма, так и пантеистического
универсализма. Он не признает ни полной отделенное™
"затворенного в себе" единичного индивида, захваченного
только эгоизмом, ни великой монотонности учения о единой
субстанции, которое рассматривает индивидуальное
лишь как мимолетное отклонение субстанции, вневремен-
но раскрывающейся в бесконечных вариантах, и
принимает единичное сознание как особый случай всеобщего
объективно-реального мышления. Достоевский
противопоставляет свое понимание действительности обоим
односторонним направлениям, рассматривая ее как много-
единство, в котором индивиды сливаются воедино, не
теряя своего личностного своеобразия.
Ради преодоления интеллектуализма Достоевский
всеми силами стремится раскрыть огромные области
бессознательного, имеющиеся в душе. Это бессознательное
имеет для него значение не только как принцип познания
— res cogitans или как побуждающий жизненный
принцип. Оно является у него скорее всего бестелесной
духовной субстанцией, основой личности, сравнимой с
маленьким космосом, содержащим в себе обширные области.
По ту сторону присущего сознанию рассудка и чувств
имеется область вытесненного доличностного,
анамнестического и сверхсознательного (райского)
бессознательного. Исследование вытесненных явлений приводит
Достоевского к различению частичного и тотального
социального отчуждения и внутридушевной раздвоенности.
Наблюдения на границе бессознательного позволили ему
выявить существование доличностного содержания души,
мифологических архетипов, которые в каждой душе
проявляются индивидуально. В противоположность
современным философским направлениям он не видит ничего
дурного в воздействии на душу доличностного
содержания. Особый опыт привел Достоевского к принятию
понятия анамнестического бессознательного, которое
может, как бы перепрыгивая через время, охватить прошлое
и будущее. Переживания в момент ауры, наличие
развитых нравственных идей уже у ребенка, возможность
сверхсознательного созерцания совершенного смысла
и завершенно обоснованной действительности, "рай
в кармане", т. е. возможность ощущения райского блага
и истинности непосредственно самим человеком, — все
это привело его к понятию сверхсознательного
бессознательного. Но вместе с тем Достоевский удержался от
398
того, чтобы приписать бессознательному
метафизическую действительность саму по себе. Он признает
тройную ступень душевной осознанности и деятельности:
бессознательное как таковое, сознание, сверхсознание.
Сфера сознания охватывает две области — область
чувственных побуждений и стремлений, а также область
рассудка и осознанного разумно обоснованного воления.
Анализ направленности стремлений и душевной
деятельности привел Достоевского к признанию
многообразия психического бытия и поведения, из которого
следует, что принцип тождества применительно к
душевному бытию следует принимать только условно и при
определенных обстоятельствах. Чувство с его
побуждениями и настроенностью более приспособлено, чем
подчиненный логическим законам рассудок, к тому, чтобы
ухватывать фантастически-абсурдные душевные
импульсы и побуждения.
Воля к жизни одновременно есть вызов и ответ,
жажда и натиск. Развитие людей под действием воли к жизни
мыслится ни механистически, ни теологически. Воля
к жизни не понуждается внешними для нее причинами,
она также изначально не направляется осознанными
целями. Но она стремится к полнокровной исполненности
и жаждет удовлетворенности. Она соответствует идеям
и воспринимает их как побуждение к своему хотению; она
может получить направленность благодаря конкретной
идее, лицу или вещи. Но она выходит за пределы этих
идей и лиц, она ожидает больше, чем может от них
получить, и ее ожидания в наиболее существенной части
остаются неудовлетворенными. Непрерывно исследует
она весь горизонт бытия в поисках той реальности,
которая может дать умиротворяющий ответ на ее зов. Она не
знает цели, а только направление, в котором та
находится, что позволяет ей динамично развернуться. С
развитием души расцветают заложенные в ней скрытые до поры
зародыши и устремляются в направлении к неизвестной
цели, в которой они хотят найти свою исполненность.
Цель этой первичной воли, в понимании Достоевского,
едина и единственна, это — Бог. Именно Бог отвечает на
человеческую устремленность к любви милостью,
преисполненной любовью. Земные дела, лица, обстоятельства,
природа, дух, познание человеческой мудрости, красота,
искусство, земная нравственность — все они не могут
удовлетворить и насытить волю к жизни.
399
Неудовлетворенность человеческих потребностей есть
существенный факт.грехопадения. Душа отделена от Бога
и ввергнута в обусловленность временем, т. е. в
обособленность. Но эта последняя должна быть побеждена,
поскольку в душе существует потребность в более
высокой форме бытия и бессознательное "знание" о ней (в
сверхсознательном). В результате грехопадения душа
обречена на страдания, она бессильна против закона
времени, бессмысленности случайности и воздействия зла. Она
мучительно страдает в этой своей покинутости. Но она
страдает только тогда, когда знает о более высоких
и совершенных формах бытия и стремится к ним: она
страдает во тьме потому только, что знает о
существовании света. В ней есть память о прошлом (анамнезис)
и одновременно предвосхищение бытия, полного
совершенства и смысла. Жажда света, которая в известной
мере уже и является светом, выражается в стремлении
к свету, к его проявлению. Поэтому можно говорить
о в высшей степени непревзойденном оптимизме
основоположений Достоевского. Даже самый потерянный
человек, который во всем отчаялся и хочет себя уничтожить,
подспудно сохраняет несокрушимую веру в
осмысленность существования и любовь к жизни. Любовь
человеческая обращена не только к Богу и к исполненности воли
к жизни, она распространяется также на всех страждущих
и ищущих Бога. В земном существовании человек
оказывается способным к высшей любви, только связанной со
страданием.
Внутреннее "знание" совершенства, неугасимый вызов
человеком бытия, отвечающего его стремлению к любви,
побуждает поставить вопрос: предлагает ли объективная
действительность человеку исполнение смысла, или она
не заботится о человеческом стремлении к смыслу и
является бессмысленной? Достоевский открыл в этой связи
законы смысла. Он дедуктивно выявил, что более низкие
ступени содержательного бытия настоятельно требуют
более высокого смысла, что этот последний стремится
к тому, чтобы стать всеобщим смыслом.
С открытием этих законов, с постановкой вопроса
о смысле бытия, со стремлением к выявлению смысла
в человеке и со знанием свойств содержательного бытия
философия оказывается перед проблемой: есть ли
высший смысл бытия или нет? Достоевский предпринял
попытку продумать до конца две соответствующие пози-
400
ции, вытекающие из данных проблем. Он не успокоился
и не удовлетворился решениями, представляющимися
ему второстепенными, что характерно для его личного
этоса. Утилитаризм, позитивизм, материализм, вера
в науку никогда, по его мнению, не постигали значения
проблемы, чтобы найти положительное решение.
Философия негативного у Достоевского основывается
на принятии предельного значения чувственной
предметности. Бог, единственный, кто может дать
удовлетворенность и исполненность воли к жизни, вычеркивается из
архитектуры мира как некое неизвестное. В качестве
высшего творения мира остается человек со своей волей
к смыслу, содержательным знанием и стремлением к
высшей сущности. Бог разоблачается как собственное
изобретение человека. Все, что человек помыслил как самое
благородное и что раньше приписывалось Богу, теперь
остается за человеком — единственным создателем Бога;
поэтому все, что он до сих пор почитал как Бога, лежит
в нем самом. Человек познает свою божественность, свое
человекобожие. Но сам по себе он не владеет
основаниями своего существования, не он является причиной
самого себя и своих свойств, напротив, они уже находятся
в данном и наличном бытии. Такая зависимость
противоречит его достоинству. Поэтому он начинает борьбу за
свою метафизическую свободу, пытаясь шаг за шагом
развязать и распутать скрепы и оковы. Общественные
предписания он преодолевает с помощью
индивидуализма, нравственные запреты — с помощью воли к власти,
связь с Богом — бунтом против него; наконец,
преодолевает он (мнимо) сильнейшую и тончайшую, до сих пор
почти невидимую связанность страхом. Тот, для кого
больше не существует общественных, нравственных и
религиозных обязанностей, кто победил общий для всех
безосновный страх, тем самым преодолевает также и
волю к жизни и находит выход в метафизическую свободу.
С чего он начнет? Здесь нигилизм раскалывается. Либо
новый человек отбросит любую нравственность, и тогда
ему все позволено. Так как он ни в чем не видит смысла,
его последовательная позиция должна состоять в том,
чтобы взорвать и уничтожить этот бессмысленный мир,
в котором нельзя свободно сделать ничего, что ведет
к цели. Либо он, исходя из положительного полагания
нравственности, из принятия и хотения смысла как
должного, в то же время считает невозможной его реализа-
401
цию. Эта позиция остается неисполнимой; она логически
допустима, но психологически непереносима, так как
логика фактов ведет тех, кто принимает эту позицию, к
отчаянию и самоубийству или к такой смене настроения,
которое позволяет признать объективное существование
высшего смысла. Решающим для принятия той или иной
позиции является то, кладет ли человек свое внутренне
осмысленное воление в основу своей жизни и
практического поведения. Деятельная любовь, если даже она
начинает в безверии, возвращает к Богу; она — спасительное
деяние для того, кто не может найти выход из своих
близких к отчаянию сомнений. Если же принимается
и утверждается объективное существование смысла,
которому предлежит положительная высшая чувственная
предметность, возникает вопрос, как может человек
достичь исполнения своей воли к жизни? Собственно, речь
идет не столько об отдельном человеке, так как не
существует радикального разрыва человеческих душ друг от
друга, сколько о всеобщей и все же существующей в
отдельном человеке воле к жизни. Моральное чувство
говорит людям, где находится нравственная оценка того, что
человек должен делать. Она заключена в нравственном
законе. Но если совесть вырождается или ее голос
заглушается, есть второй регулятор нравственности, данный
нам в откровении. Бог здесь не только провозгласил
закон для человека, но и путем воплощения дал зримый
образ реализации нравственного бытия в земных
условиях. Нравственный закон по своему происхождению не
является гетерономным (исходящим извне) или
автономным. Если бы он был автономным по своей природе, то
покоился бы в конечном счете на произволе.
Нравственная заповедь в качестве гетерономного закона исходила
бы к человеку из деспотической воли. Нравственный
закон есть не что иное, как призыв делать так, как мы
в своей глубочайшей основе и хотим. Отклонение от
нравственного закона есть ошибочное стремление воли
к цели, в которой для нее не может заключаться никакой
исполненное™. Божественный закон тем самым является
одновременно законом нашей сущности. Нравственные
идеи врожденны и могут быть интуитивно схвачены
чувством. Нравственность сводится к всеобщей любви.
Нравственное не может получить формального
определения, оно относится не к определенному объекту, а ко
всему и всем, оно обусловлено не частичными целями,
402
а установлением и осуществлением высшего смысла.
Можно обозначить нравственность и как личное
совершенство, если понимать при этом отдельную душу, тесно
связанную со всеобщей полнотой, так что ее
совершенство лежит во всеобщей любви.
Достоевский понимал нравственное совершенство, как
шаг от раздвоения к синтезу. В расщеплении и
раздвоении отдельное существо обособляется от всеобщности,
полагается против других как одинокий и
самодостаточный элемент и делается центральным пунктом своего
миросозерцания, своей воли и мысли. Человек ставит
свое благополучие превыше всего и стремится к полному
совершенству, к повышенному удовлетворению
собственного существования и исполненное™ для себя одного.
В конечном счете его задача сводится к тому, чтобы
достичь метафизической свободы и испытать следствия
этого стремления. В синтезе же, напротив, исполнение
высшего нравственного закона возможно только тогда,
когда любовь относится ко всем и вся и объединяет всех
в Боге.
Предпосылкой для подлинной любви является
признание виновности за всех и вся, покоящейся на общности
всех людей, на отчаянном страдании от сознания
собственной неизбывной греховности и невозможности
преодолеть грех, на искреннем раскаянии в связи с
собственной заблудшестью. Прощение грехов возможно только
благодаря бесконечной любви и милости Божьей,
которая спасает из пропасти греховного отчаяния и прощает
грехи, как если бы их не было. Подобно тому как мы
сами стремимся устранить позор греховности, мы
должны и нашим раскаянием простить грехи других по
отношению к нам. Мы должны любить людей и в их грехе,
понимать их грехи как ошибку их самой по себе доброй
воли к жизни и путем этого всепонимания стремиться
к всеобщей любви. Очищение от злобности и
несовершенства, преодоление выродившихся и злых влечений
принесет людям этическую свободу и сделает их способными
любить. Этим своим глубочайшим стремлением
Достоевский указал людям путь, помогающий им возродиться
и защититься от отчаяния. Его психология выступает
здесь как психотерапия, как деятельное врачевание души.
Воля, свободная в своих решениях, является вообще
психологически-логической предпосылкой человеческого
существования. Человек ведь по самой своей природе
403
стремится к Богу, однако он не обязан к нему стремиться.
Он может своей полной свободной волей от него
отвернуться и занять позицию, враждебную Богу. В его душе,
пребывающей в тени зла из-за грехопадения, но не
полностью погибшей, имеются способности и предпосылки
для любой направленности, хотя многие из них и
остаются скрытыми. Необходимо нравственное усилие, чтобы
преодолеть злые влечения и таким образом этически
освободиться. Полнота свободы достигается только
путем преодоления своеволия. Любить может лишь тот,
кто научился не принимать себя в расчет. Любовь
предполагает самоотверженность.
Чем дальше человек продвигается по пути
нравственного совершенства и любви, тем больше его душа в
состоянии преодолеть сиюминутные гнетущие природные
ограничения. Душа любящего становится способной
к глубочайшей проницательности и непоколебимой воле
и прежде всего к непосредственно осознанному
"соприкосновению мирам иным". Только тогда она врастает
в состояние всеобщего синтеза. Способная к любви душа
отвечает на вызов воли к жизни; из ее устремлений
рождаются все более и более обильные дары, а из воли
к жизни — воля к любви. Одновременно познающая
душа превосходит рассудочное познание, которое
неспособно дать ни удовлетворения, ни твердой опоры; душа
же в этом случае обретает способность в
сверхсознательном познании непосредственно созерцать божественную
сущность.
Пока душа не достигла этого состояния, она не знает,
есть ли Бог. И призыв воли к жизни оставался бы
безответным в бесконечной действительности, если бы Бог не
открылся человеку. В поисках вокруг себя идеи или
идеала, который удовлетворял бы его стремления, человек
видит в исторической личности Христа осуществившийся
совершенный идеал. Стремление человечества и человека
состоит в том, чтобы уподобиться Христу. В Христе
человеческая натура полностью воплотилась, в нем
человечество достигло своей цели. Если после такого примера
исполненное™ человеческого бытия Христос был бы
подчинен закону нашего бренного существования, т. е. умер
и истлел, то наличное бытие должно было обнаружить
свою бессмысленность, так как оно уничтожило бы того,
во имя кого оно существует. Однако Христос в
соответствии с религиозной истиной первый из людей
404
восстал из мертвых, он преодолел смерть и тем самым
спас человеческую натуру от ее обреченности на бренное
существование.
Все субстанциально сущее непреходяще, нет перехода от
бытия к небытию. Душа может только преобразиться, но не
уничтожиться или быть уничтоженной. Поэтому
жизненный страх является лишь "гигантской тенью нашего
собственного ужаса" перед фантомом, которому нет
фактического соответствия. Только преодолев этот страх, человек
оказывается способным к этической свободе. Душа в конце
концов вступает в состояние крайнего обособления (ад)
либо непосредственного единения с Богом, с той
сущностью, в которой осуществляется познавательная
способность. Бог понимается Достоевским как трансцендентное
бытие, чью сущность мы можем помыслить через
(непрямую) аналогию с человеческой личностью, которая говорит
с нами в слове откровения и в голосе чистой совести.
В конечном счете положительная сущность Бога остается
непостижимой, мы знаем только, что должен быть смысл
его и каким он вообще должен быть. Пути Господни — не
пути человеческие, он пишет прямо, без линеек. И даже
грехи должны служить ему, и в конце времен все, что
случилось, случается или случится, получит полный смысл,
в том числе зло и страдание, которым мы теперь не можем
приписать никакого смысла или только частичный смысл.
Бог, после того как он создал мир, не остается вдали от него,
как считает деизм, он не оставляет его наедине с
собственными законами, он направляет все до малейшего события
и наделяет наличное бытие совершенным смыслом для
всего и всех. Ничто не пропадет, ничто не будет
функционировать только как средство, все достигнет совершенства.
Природа, по мысли Достоевского, тоже подчиняется
воздействию грехопадения, закону бренности и
обособленности. Но поскольку сама она безгрешна, она в какой-
то степени является для человека зеркалом
божественного совершенства. Она спасется вместе с человеком, а не
с помощью себя самой и уже подготовлена к спасению
благодаря Христу. Нечеловеческие организмы и
предметы также имеют душу, но у них нет самосознания и
свободной воли. Бог поддерживает все в его бытии, и без
непосредственного соприкосновения (не обязательно
осознанного) с ним ничто не могло бы существовать хотя бы
одно мгновение. Но Бог не тождествен предметам и
существам этого мира, и они не являются его частью.
405
Вопросом об отношении души к телу Достоевский не
занимался, он его не интересовал. Может быть, он считал
внешнее формой проявления внутреннего
(несовершенной и измененной), так что он должен был бы в
результате прийти к спиритуализму. Отношение более высокого
уровня души к ее вегетативному уровню мыслится им как
взаимодействие. Достоевский не вступил на путь
психофизического параллелизма. Бросается в глаза, что он
избегает какого-либо биологического объяснения жизни.
В учении об обществе у Достоевского предстает
органически-концентрическая структура общности — от
индивида через любовную пару и семью к народу и
человечеству. Преобразование этих элементов общества
возможно в той мере, в какой оно является нравственным,
а реализация ценности осуществляется в соответствии
с их ступенчатостью. Народ конституируется
нравственной (но возможно также, что и псевдонравственной)
идеей, из которой развивается формула социального
организма. Если идея гибнет или в ходе диалектического
развития заменяется другой, социальные структуры
могут существовать еще некоторое время, но затем они
неизбежно погибают. Однако избранный народ
предусмотрен быть носителем Бога, т. е. он от Бога
предопределен особым образом быть носителем и
исполнителем его воли. Это определение перешло от евреев к
православному христианству и перенесено на русский народ.
Только на основании религиозных и нравственных
оснований может быть достигнута устойчивая и
гармоничная общность. Любой внешний порядок, достигаемый
. путем общественного договора и регулирования
интересов, является недостаточным. Он вырождается в
диктатуру, где укрепляется несправедливость, ведет к борьбе
всех против всех и в конце концов к уничтожению
человечества. Историческое развитие указывает на
противоположные устремления двух царств — христианской церкви
и всемирной державы. Преходящий, ограниченный
временем триумф чисто земной державности исчезнет,
и с Божьей помощью в результате Страшного суда на
земле окончательно в преображенном виде "воцарится"
христианская общность. Затем возникнет новая земля
и новое небо, как сказано в Откровении Иоанна
Богослова.
Историческое развитие есть результат
диалектического воздействия и духовных творческих достижений гени-
406
альных людей, с одной стороны, а с другой — также
замедляющего действия реакционных сил (дельцов,
индивидуальных интересов и посредственностей с их
искажением и профанацией высших идеалов). Первые
двигают историю вперед, вторые могут лишь задержать ее
движение или исказить направление исторического
развития.
Бросается в глаза, что Достоевский уходит от
юридической сферы. В набросках к "Идиоту" он писал,
что в мире есть только одно: непосредственное
сострадание, а справедливость стоит на втором плане. Причина
такой позиции не связана с отсутствием интереса к
политике. Напротив, в течение десятилетий Достоевский
сам деятельно трудился в публицистике, написал много
политических статей и благотворно влиял на русскую
политическую жизнь. Он считал, что области права
принципиально несвойственно дать что-либо
существенно ценное для человечества. Право и учреждения,
существующие для его отправлений, сами не способные
к какому-либо совершенству, должны постепенно
замениться более высокими формами любви и церкви. До
этого времени у права может быть только одна задача:
учитывая существующие индивидуальные условия, вести
государственное устройство в направлении к
совершенному церковно-духовному порядку с учетом
возникающих на этом пути особенностей. Церковь понимается
при этом как духовная общность (святых), а не как
внешняя правовая организация.
Метафизическая свобода, с одной стороны, и
всеобщий синтез с Богом и в Боге — с другой, суть две
противоположные идеи, с которыми развивается
человечество. Им соответствуют раздвоенность и синтез.
Представители нигилизма пытаются оправдать свою
философию тем, что наличное бытие, данное нам в его
эмпиричности, не обнаруживает смысла и что человеческая мысль
не в состоянии указать на не до конца понятное
положительное его содержание. В этом отношении атеизм
предстает как наиболее сильная позиция. Противоположная
сторона может на это возразить, что нигилизм ведет
к всеобщей гибели или к отчаянию, так как он разрушает
основы нравственности, объявляет дозволенным любой
образ действий и способен для удовлетворения самых
существенных потребностей человека дать ему только
камни вместо хлеба. Она может, далее, указать на то, что
407
глубочайшей основой бунта против Бога является
нравственная воля, источником которой выступает наша
внутренняя нравственная идея, хотя она и сотворена не нами.
Она откуда-то привнесена нам. Мы не могли бы пережить
или выстрадать мысль об утрате смысла, если бы у нас не
было идеи о смысле. Рай в нас преодолевает хаотические
пропасти в нас самих и вокруг нас. "Знание" смысла
и призыв к его достижению выступает как ответ,
полученный от Бога.
Но Бог не обнаруживает себя в творении
непосредственно, он пребывает незримо в сердцах людей. Человек
зовет Бога, но Бог не отвечает ему. И творение в своей
наличности кажется бессмысленным или по крайней мере
его полный смысл — непостижимым для человеческой
мысли. Это, однако, значит, что человек должен прочно
стоять на ногах; в неопределенности, только
собственными силами он должен преодолевать свое отчаяние.
Человек зовет Бога, и этот зов не умолкает, так как
в телесной и духовной структуре этого мира он мог бы
задохнуться. Со времен Коперника и Колумба рухнуло
старое представление о мире-космосе. Кто кроме Бога
может ответить на вопрос русского героя романа
Достоевского, есть ли где-либо в далекой дали человек, т. е.
существо, способное придать смысл, или все пропадает
в бессмысленной случайности вселенной. Человечество
может только надеяться на встречу с Богом, если только
оно будет достойным для нее. Бог ведь ответил на
огромные ожидания и непоколебимую надежду Израиля; он не
останется глухим к человеческой мольбе, если она
достаточно сильна и продолжительна. Все наше отчаяние возможно
только потому, что за ним стоит надежда на смысл,
который даст Бог. Достоевский считал вместе с тем
необходимым, чтобы народ был готов выполнить задачу
богоносца. В грядущем все более остром противостоянии
двух противоположных царств, в ужасающих потрясениях
народ, церковь и общность должны сохранить тех, кто несет
горящий свет, вплоть до нового и окончательного
пришествия Христа. Это глубочайшая тайна Достоевского,
человека, который был убежден, что это пришествие, по всей
вероятности, осуществится в России. "И вы будьте подобны
людям, ожидающим возвращения господина своего...
дабы, когда придет... тотчас отворить ему" (Лк. 12:36).
Впервые А. Жид и Л. Шестов, а затем и другие
критики сравнивали Достоевского с Ницше. Если бы не
408
было соблазна видеть в размышлениях Раскольникова
идею сверхчеловека, можно было бы открыть и его
родство с Кьеркегором. Но справедливо ли такое сравнение?
Если взглянуть на положительные результаты философии
этих трех мыслителей — конечно нет! Но у них все-таки
есть общность философских позиций. С твердой
убежденностью они не отступали ни перед каким авторитетом
и не признавали аксиом. Они хотели пройти путь
отрицания до конца. Они не удовлетворялись чисто
теоретической картиной мира, так как им любая теория
представлялась недостаточной. В безграничности теоретической
рефлексии они не находили ни решения, ни основания, пока,
покинув область теоретического, не обращались к воле
человека. Перед ними вставали следующие вопросы: Что
такое человек? На что он способен? Чего он хочет? Кьер-
кегор был потрясен мыслью о том, что в его время (как он
думал) больше нет Христа; он не видел человека, который
был бы подобен Христу в духе Нового Завета. Он открыл
в себе жизненный страх, основанный на чувстве
покинутости Богом, и заглянул в небытие. И его
философствование родилось из стремления преодолеть этот страх и это
небытие. Ницше видел бессмысленность бытия и пришел
к мысли:"Бог умер!" Он тоже хотел преодолеть
страдание, порождаемое бессмысленностью. Оба они видели
невиданную до сих пор угрозу человечеству, им было
знакомо ужасное чувство чудовищной удаленности от
Бога, однако они не ведали нового откровения. Вместе
с Кьеркегором новый человек, глядящий в пропасть
бессмысленности, защищался от жизненного страха, вместе
с Ницше — от своей бессильной слабости и своего
робкого поиска спасения. Кьеркегор всей своей жизнью твердо
противостоял страху и нашел спасение в парадоксальной
вере, которая должна одним прыжком спасти укрытос-
тью в Боге от бессмысленности земного существования.
Как ты веруешь, таков ты и есть; вера есть бытие: "quod
petis, hie est". Ницше оборонялся от своих отмеченных
бессилием поисков спасения, от своей болезненности и
витальной слабости и нашел решение в акте власти,
посредством которой он объяснял бессмысленное как вечное
возвращение одного и того же, требовал от людей
большего здоровья и сил, чтобы покорить эту
бессмысленность своей волей к власти. Он рассматривал "вину" как
болезнь и слабость и "преодолевал" ее волей к власти
и невинностью вечного становления.
409
Достоевского объединяет с ними то, что он
решительно ставит под вопрос все, что до сих пор считалось
несомненным. Он также ставит фундаментальный вопрос
о бытии человека и его возможностях. Он находит
бессмысленность бытия в его непреложной жестокости. Но,
размышляя о бессмысленности, он открывает нечто иное,
чем Кьеркегор и Ницше. В Раскольникове он показал
идею сверхчеловечества и воли к власти, в Кириллове
увидел безосновный страх, но не как болезнь и слабость,
а как вину. И у него возник вопрос: как человек
преодолевает вину? Он понимал, что вину отрицать невозможно.
Вина не является ни болезнью, ни страхом. Глубочайшее
нравственное, воление отчаивается от сознания
неустранимого факта виновности бытия. Но в то время как
человеческая душа впадает в отчаяние, в то время когда
она изводит себя в раскаянии, она должна знать:
страдание от моей вины возможно только потому, что мне
известно о добре. Я страдаю во тьме, поскольку я знаю
о свете, поскольку я неутомимо жажду света, поскольку
я всем своим существом стремлюсь к тому, чтобы свет,
который во мне сокрыт, мог бы ярко светить.
Достоевский беспощадно обнажил зияющую бездну небытия, но
он не предлагает ни неудовлетворяющего решения, ни
обрывков абсурдной парадоксальной веры, близкой к
отчаянию, не снимающей угрозу; он не предлагает власть,
силу и здоровье, в которых у человека по-прежнему
просвечивают все то же бессилие, слабость и болезнь. Он
предлагает душе единственное, что он может дать ей как
ответ: Христос — это Бог; и указывает ей на светлую
внутреннюю силу, способную преодолеть и погасить
любую тьму, любую бессмысленность, любую вину. Ясперс
справедливо говорит о Ницше и Кьеркегоре, что
общность их воздействия состоит в том, что они
околдовывают и затем обманывают, захватывают и затем
оставляют неудовлетворенными, как если бы руки и сердце
оставались пустыми. Напротив, тот, кто приходит к
Достоевскому, находит бесконечную полноту и свет, ибо он
видит Христа. От Достоевского идут полные
таинственности нити в развитии нашего времени — к Шарлю Пеги
и к Антону Брукнеру. Ален Фурнье решился уже перед
первой мировой войной сказать, что Достоевский и Пеги
являются "первыми Божьими людьми" нашего времени,
людьми, однозначно отмеченными Богом. От
Достоевского начинается новое развитие. Он пробудил религиоз-
410
ное сознание и порыв, он указал на Христа, радикально
поставив трагичность души в сердцевину жизни. Как
мощный пророк, он разбудил дремлющих и позволил им
заглянуть в бездну, над которой они, не подозревая того,
стояли; он показал заблудшим, что их пути не идут
к небытию, и обозначил отчаявшимся дорогу к
освобождению. Он разделяет с нами нашу вину, обучая нас нести
виновность и в то же время показывает нам, что в
темноте есть возможность и реальность света. Ты и я, говорит
он нам, мы оба переживаем бездну мучений, но мы
существуем, мы есть. В темнице сидим мы, но в нас есть
жизнь и мы видим солнце. Если не видим его, все же
знаем, что оно есть, "а знать, что есть солнце, — это уже
вся жизнь". И потому его мощный призыв обращен
к 'любой ищущей и во мраке страждущей душе:
Surge, illuminare, Jerusalem
("Восстань, светись, Иерусалим..."
[Ис. 60:1]).
ПРИМЕЧАНИЯ
Произведения Ф. М. Достоевского цитируются по Полному
собранию сочинений в 30 т. Л., 1972 — 1990.
ВВЕДЕНИЕ
4wanow W. Dostojewskij. Tragodie-Mythos-Mystik. 1932. S.
100; Prager H. Die Weltanschauung Dostojewskis; Evdokimov P.
Dostojevski et le probleme du mal. 1942; Thurneysen E. Dostojevski.
1921; Guardini R. Religiose Gestalten in Dostojewskis Werk. 1939;
Lubac H. de. Le drame de l'humanisme athee. 1945; Gide A.
Dostojevski. 1923; Мережковский Д. С. Толстой и Достоевский.
1901—1902; Бердяев Н. Миросозерцание Достоевского. 1923.
2 См.: Замотин И.И. Достоевский в русской критике. Ч. 1:
1846—1881. Варшава,1913.
3 Шестов Л. Достоевский и Ницше (философия трагедии) //
Соч., 1995, с. 27—28.
4 Lubac H. de. Op.cit, p. 385.
5 Братья Карамазовы — т. 14, с. 237.
6 Манн Г. Собр. соч.: В 10 т. Т. 10. М., 1961, с. 327—345.
ОТНОШЕНИЕ ДОСТОЕВСКОГО К ФИЛОСОФИИ. МЕТОД
1 Миллер О. Ф. Материалы для жизнеописания Ф. М.
Достоевского // Биография, письма и заметки из записной книжки...
Ф. М. Достоевского (Поли. собр. соч. Т. 1). СПб., 1883, с. 162.
2 Письмо Н. Н. Страхову, 28 мая (9 июня) 1870. Дрезден
— т. 29, кн. 1, с. 125.
3 Страхов Н. Н. Воспоминания о Ф. М. Достоевском //
Биография, письма и заметки из записной книжки... Ф. М.
Достоевского (Поли. собр. соч. Т. 1). СПб., 1883, с. 225.
4 "Санкт-Петербургские ведомости". 1876. №11.
5 "Записки из подполья" — т. 5, с. 112.
6 Страхов Н. Н. Указ. соч., с. 225.
7 Замотин И. И. Указ. соч., с. 207—208.
8 "Молва", 1876, № 16, с. 304.
9 "Бесы" —т. 10, с. 93.
10 См. там же, с. 172.
11 Письмо А. Н. Майкову, 11(23) декабря 1868. Флоренция
— т. 28, кн. 2, с. 329.
412
12 Там же.
"Записи литературно-критического и .публицистического
характера из записной тетради 1880—1881 гг. — т. 27, с. 65.
14 Persky S. La vie et Foeuvres de Dostojevski, p. 162.
15Замотин И. И. Указ. соч., с. 194.
16 "Санкт-Петербургские ведомости", 1875, № 58.
17 "Русь", 1880, 29 ноября, № 3, с. 17—19.
l8Guardini R. Op. cit., S. 314.
19 "Санкт-Петербургские ведомости", 1868, № 53, 92.
203амотин И. И. Указ. соч., с. 87.
21 Письмо А. Г. Ковнеру, 14 февраля 1877. Петербург — т.
29, кн. 2, с. 139.
22 Bernard С. Les lemons sur la physiologie et la pathologie du
systeme nerveau. Paris, 1858 (рус. перев. 1866—1867).
23Комарович В. (F. M. Dostojewski. Die Urgestalt der "Briider
Karamazoft". Dostojewskis Quellen, Entwurfe und Fragmente,
erlautert von W. Komarowitsch. 1928, S. 228) доказал, что
Достоевский пародировал также Бернара из романа Жорж Санд
"Мопра". Он связывал их друг с другом.
24 "Дневник писателя", 1881 — т. 27, с. 12.
25 "Голос", 1879, №156.
26 "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 98.
27 "Дневник писателя", 1876 — т. 22, с. 74—75.
28 Nietzsche F. Der Wille zur Macht, 1888, S. 123.
29 Страхов Я. Я. Указ. соч., с. 290.
30"Дневник писателя", 1876 — т. 24, с. 47.
31 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 238.
32 Письмо Н. Л. Озмидову, февраль 1878. Петербург — т. 30,
кн. 1,с. 10, 11.
33 См. выдающееся исследование Мейер-Грефе (Meier-Graefe
J. Dostojewski, der Dichter, 1926, S. 506, Anm. 14).
34 "Новое время", 1879, № 1060, с. 2.
35Lubac Я. de. Op. cit., p. 303.
36 Thurneysen E. Dostojevski ou les confins de l'homme. Ubers.
ins Franz, von P. Maury, p. 183.
37 Пятковский Л. П. — "Северная пчела", 1861, 9 августа,
№ 176, с. 715 и ел.; Страхов Я. Я. — "Отечественные записки",
1867, февраль, № 170.
38 Достоевскому было известно это место, так как его
содержание в кратком виде он вложил в уста старца Зосимы (См.
"Братья Карамазовы", ч. 1, кн. 2, гл. 4).
Часть первая. ПСИХОЛОГИЯ
1 См. "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 290. Эти "идеи" не
являются идеями в платоновском смысле, как это казалось А.
Штейнбергу {Steinberg Л. J. Die idee der Freiheit, 1936).
413
2 "Идиот" — т. 8, с. 56.
3См. "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 116, 280.
4 См. там же, с. 116—117.
5 Wenzl A. Wissenschaft und Weltanschauung, 1936, S.
222—223.
Понятие бессознательного соответствует "малым
перцепциям" у Лейбница.
6 В учении К. Юнга термины Anima и Animus означают
женский и, соответственно, мужской образ в архетипах
коллективного бессознательного.
7 "Вечный муж" — т. 9, с. 100—106.
8 Ср.: Troyat Я. Dostojevski, 1940, р. 434; Lubac Я. de. Op. cit.,
p. 374—375.
'"Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 5.
10 "Записки из подполья" — т. 5, с. 108.
11 Там же, с. 102.
12 Ср.: Klages L. Der Geist als Widersacher der Seele, 1929.
""Дневник писателя", 1876 — т. 23, с. 147, 146.
14"Бесы". Рукописные редакции — т. И, с. 105.
15 "Братья Карамазовы" — т. 15, с. 31.
16 См. там же — т. 14, с. 263—264.
17 Berdjajev N L'esprit de Dostojevski, p. 61.
18 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 251.
19 См. там же, с. 241—242.
20 См. там же, с. 251.
21 См. "Идиот" — т. 8, с. 193—194. с
22 "Преступление и наказание" — т. 6, с. 56.
23 Там же, с. 58.
24 "Записки из подполья" — т. 5, с. 122.
25 Там же.
26 Aus dem Dunkel der Grosstadt. 1922, S. XX.
27 "Записки из подполья" — т. 5, с. 125.
28 "Двойник" —т. 1, с. 117—118.
29 "Вечный муж" — т. 9, с. 97—98.
30Gide A. Dostojevski, p. 171.
31 Komaromtsch W. Op. cit., S. 417.
32 См., например, "Записки из подполья" — т. 5, с. 102, 104.
33 Волынский под влиянием Гегеля рассматривал только что
описанный конфликт как противостояние между личной волей
и абсолютным мировым духом (Волынский А. Л. Достоевский.
Критические статьи, 1909, с. 365). Но Достоевский понятие
абсолютного мирового духа не употреблял, поэтому такое
толкование неуместно.
34 "Вечный муж" — т. 9, с. 102—103.
35 Можно обратиться к "Бесам" (т. 10, с. 165), "Братьям
Карамазовым" (т. 14, с. 100, 129—130, 159) и другим
произведениям писателя.
36 Nietzsche F. Op. cit., 1930, S. 205.
414
37 Jung С. G. Psychologische Typen, 1930, S. 630.
38 Jung C. G. Die Beziehungen zwischen dem Ich und
dem Unbewussten, 1935.
. 39 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 116—117.
40 Wenzl A. Op. cit., S. 230, 294.
41 Evdokimov P. Op. cit.; Lubac H. de. Op. cit., p. 389.
42Rivier J. — "Nouvelle revue fran9aise", 1922, 1. fevrier.
"Guardini R. Op. cit., S. 132—133.
44 "Неточка Незванова" — т. 2, с. 255.
45 Там же, с. 239.
46 "Белые ночи" — т. 2, с. 112.
47 "Преступление и наказание" — т. 6, с. 90.
"Nietzsche F. Op. cit., S. 186.
49 Wenzl A. Op. cit., S. 226.
50 "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 108.
51 "Идиот" — т. 8, с. 378.
""Подросток" — т. 13, с. 306—307.
53 Jung C.G. Psychologische Typen, S. 690.
54 Историю своего открытия Юнг изложил в работе
"Отношения между Я и бессознательным" ("Die Beziehungen
zwischen dem Ich und dem Unbewussten").
"Bachofen J. Das Mutterrecht, 1861.
56Iwanow IV. Dostojewskij. S. 37, 40 (Восстание против
матери-земли); Его же. О русской идее.
57 Iwanow W. Dostojewskij. S. 46 (Заколдованная невеста).
5*Jung С. G. Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem
Unbewussten, S. 83 ff.
59 Понятие "доличностное", как мне удалось установить,
применяется один раз в работе Р. Гвардини (См.: Guardini R.
Op. cit., S. 328). Но Гвардини нигде не делает различия между
доличностаым и анамнестическим бессознательным.
60 "Идиот" —т. 8, с. 378.
61 Там же.
""Братья Карамазовы" — т. 14, с. 290.
""Записки из подполья" — т. 5, с. 121.
64 "Идиот" —т. 8, с. 378.
""Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 115.
66 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 290.
""Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 115.
"См. там же, с. 114—115.
""Неточка Незванова" — т. 2, с. 239.
70 Nietzsche F. Op. cit., S. 205.
71 "Бесы" — т. 10, с. 217. Эти слова относятся к Ставрогину,
в котором Хромоножка, прежде чем догадалась об истине,
видела воплощение Спасителя.
72"Идиот" — т. 8, С. 188.
415
Часть вторая. МЕТАФИЗИКА
I "Записки из подполья" — т. 5, с. 115.
2Там же, с. 118.
3 Leibniz G. W. Nouveaux essais sur l'entendement humain,
1840. t. 1, ch. XXI, 32 ff.
4 "Записки из подполья" — т. 5, с. ПО.
5 Там же, с. 114.
6Там же, с. ПО.
7 Бердяев Н. А. О назначении человека. Ч. I, гл. 1 (М., 1993,
с. 34).
*Кант И. Собр. соч. В 8 т. М., 1994, т. 4, с. 492.
9 Quetelet L._ A. J. Sur Phomme et le developpement des ses
facultes, 1835.
10 Wagner A, Gesetzmassigkeiten in scheinbar willkurlichen
Handlungen. Hamburg, 1864.
II "Записки из подполья" — т. 5, с. 110.
|2Там же, с. 111.
l2Lubac H. de. Op. cit., p. 350.'
l4Scheler M. Der Formalismus in der Ethik und die materiale
Wertethik, 1921, S. 59.
l5Persky 5. Op. cit., p. 216.
16 "Записки из подполья" — т. 5, с. 112—113.
17 Там же, с. 118.
""Зимние заметки о летних впечатлениях" — т. 5, с. 81.
19 Там же, с. 69.
20 "Записки из подполья" — т. 5, с. 112—113.
21 Там же, с. 114.
22Там же, с. ИЗ.
23 Там же.
24Тамже,с. 118—119.
25 Там же, с. 119.
26 Там же.
27 Там же, с. 105—106.
28 "Идиот" — т. 8, с. 343.
29Iwanow W. Op. cit., S. 13 f, 31 (Трагический принцип
мировоззрения, S. 5). Подобной позиции придерживается Б.
Энгельгардт (См. Долинин А. С. Достоевский. Статьи и
материалы. М., 1925, с. 92—95).
30"Неточка Незванова" — т. 2, с. 239.
31 Thurneysen E. Op. cit., p. 71.
32 Письмо М. М. Достоевскому, 18 июля 1849. Петербург.
Петропавловская крепость — т. 28, кн. 1, с. 158.
33 Письмо М. М. Достоевскому, 14 сентября 1849.
Петербург. Петропавловская крепость — там же, с. 160.
34 Письмо М. М. Достоевскому, 22 декабря 1849. Петербург.
Петропавловская крепость — там же, с. 162.
35 "Идиот" — т. 8, с. 21.
416
36 Там же, с. 20.
37 Там же.
38 Там же.
39 Там же, с. 52.
40 Там же.
41 Там же, с. 327.
42 Там же, с. 164.
43 Там же, с. 52.
44 "Бесы" — т. 10, с. 188.
45 "Преступление и наказание" — т. 6, с. 123.
"Iwanow W. Op. cit., S. 29 (Кар. 2, 4).
47 "Преступление и наказание" — т. 6, с. 418.
48 "Подросток" — т. 13, с. 61.
49 Там же, с. 287.
50 "Преступление и наказание" — т. 6, с. 123.
51 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 366.
52 Jung C.G. Psychologische Typen, S. 594.
53 Ср. стихотворение Пушкина "Еще дуют холодные
ветры...":
Скоро ль у кудрявой березы
Распустятся клейкие листочки,
Зацветет черемуха душиста.
54 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 209—210.
""Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 118.
56 "Хозяйка" —т. 1,с. 276.
57 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 262.
58 Там же, т. 15, с. 31 (см. также ч. I, с. 55 наст. изд.).
59 "Преступление и наказание" — т. 6, с. 359.
60 Там же, с. 422.
61 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 209.
62 Там же, с. 289.
63 Komarowitsch W. Op. cit., S. 106.
64 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 101.
""Идиот" —т. 8, с. 123.
""Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 118.
67 Madoul J. Le christianisme de Dostojevski. Paris, 1939, p. 90.
68 "Записки из подполья" — т. 5, с. 117.
69 "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 112.
70 "Дневник писателя", 1873 — т. 21, с. 35, 37.
71 "Бесы". Рукописные редакции — т. 11, с. 184.
72 "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 118.
73 Записи публицистического и литературно-критического
характера из записных книжек и тетрадей 1860—1865 гг. — т. 20,
с. 172—173.
74 См.: Komarowitsch W. Op. cit., S. 106.
75 См. "Бесы" — т. 10, с. 198.
76 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 292, 293.
77 "Подросток" — т. 13, с. 302.
14 Райнхард Лаут 417
78 "Бесы" — т. 10, с. 140—141.
79 "Дневник писателя", 1876 — т. 24, с. 47.
80 "Бесы". Рукописные редакции — т. 11, с. 178.
81 См. "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 214.
""Записки из подполья" — т. 5, с. 120.
83 "Пятое размышление, касающееся первой философии",
VII, 71.
84 "Записки из подполья" — т. 5, с. 121.
85 "Дневник писателя", 1876 — т. 23, с. 147.
86 "Записки пз подполья" — т. 5, с. 120.
87 Там же.
88 Письмо Н. А. Любимову, 10 мая 1879. Старая Русса — т.
30, кн. 1, с. 63, 64.
Часть третья. ЭТИКА
1 "Записки из подполья" — т. 5, с. 117—118.
2 Там же, с. 118.
3 См., например, "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 292—293.
4 Гёте И. В. Фауст. Ч. I. Пролог на небе. (См. в переводе Б.
Пастернака:
Он рвется в бой, и любит брать преграды,
И видит цель, манящую вдали...)
5 "Преступление и йаказание" — т. 6, с. 6.
6 "Братья Карамазовы" — т. 15, с. 116.
7 См., например, там же — т. 14, с. 229—237.
8 См. там же, с. 292—293.
9Gide A. Les nourritures terrestres, 1935, p. 20.
10 "Бесы". Рукописные редакции — т. 11, с. 178.
11 "Дневник писателя", 1873 — т. 21, с. 10.
12 См., например, "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 284—286.
13 Там же — т. 15, с. 87.
14 "Бесы". Рукописные редакции — т. 11, с. 179.
15 См., например, "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 284.
16 "Записки из подполья" — т. 5, с. 105.
11 Руссо Ж. Ж. Трактаты. М., 1969, с. 172.
18 Шопенгауэр А. Основы морали, с. 157 (2-е нем. изд.) (см.
это рассуждение в другом переводе: Шопенгауэр А. Об основе
морали // Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. М.,
1992, с. 167).
19 "Преступление и наказание" — т. 6, с. 118.
20 "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 68.
21 "Дневник писателя", 1876 — т. 24, с. 19.
22 "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 204.
23 Leibniz G. W. Nouveaux essais sur Tentendement humain,
t. 1, ch. II, 1.
24Цит. по: "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 204.
418
25 Записи литературно-критического и публицистического
характера из записной тетради 1880—1881 гг. — т. 27, с. 85.
26 "Дневник писателя", 1873 — т. 21, с. 40.
21 Бердяев Н. А. О назначении человека. Ч. II, гл. 4 (М., 1993,
с. 150). Ср. "Братья Карамазовы" (т. 14, с. 59), где сознание
собственной совести объявляется единственной настоящей
карой (см. ниже).
28 См. "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 236.
29 Там же, с. 59.
30Тамже —т. 15, с. 166.
31 См. "Преступление и наказание" — т. 6, с. 201—203.
32 "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 12—17.
33 Записи литературно-критического и публицистического
характера из записной тетради 1880—1881 гг. — т. 27, с. 85.
34 Там же, с. 56.
35 Там же, с. 85.
36 См. "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 59—60, 64—65.
37 "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 61.
38 См. оду Шиллера "К радости", которую Достоевский
знал и ценил.
39 Если, подобно Фрейду, в нравственном поступке видеть не
что иное, как попытку совместить "инстинктивное влечение"
индивида с требованиями человеческого общежития (см. его
работу "Dostojewski und die Vatertotung", S. XIV), тогда с
самого начала этика Достоевского оказывается неузнаваемой.
(Фрейд 3. Достоевский и отцеубийство // Избранное. Лондон,
1969. Т. 1, с. 248—249; см. также: Его же. Художник и
фантазирование. М., 1995).
40См., например, Бердяев Н. А. О назначении человека. Ч. II,
гл. 4.
41 "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 92.
42 Ernst P. Der Zusammenbruch des deutschen Idealismus, 1919.
43 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 503—504.
""Записки из подполья" — т. 5, с. 116.
45 Scheler M. Der Formalismus in der Ethik und die materiale
Wertethik, 1921.
46 Бердяев Н. А. О назначении человека. Ч. И, гл. 2 (М., 1993,
с. 108).
47 "Бесы" — т. 10, с. 228.
48 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 292.
49 "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 15.
50 "Зимние заметки о летних впечатлениях" — т. 5, с. 80.
51 Можно сравнить эту мысль с той, которую блестяще
развивал А. Венцль в своей работе "Философия свободы" ("Die
Philosophie der Freiheit". Bd. 1, S. 46—47): "To, что мораль не
связана с политикой, есть практически гибельно и фактически
ложно".
""Дневник писателя", 1876 — т. 23, с. 65—66.
419
53 См. там же, с. 64.
54 "Бесы" — т. 11, с. 10.
""Дневник писателя", 1873 — т. 21, с. 54.
56 "Дневник писателя", 1876 — т. 22, с. 39.
57 Steimann /. Dostojevsky, romancier de notre temps // La vie
inellectuelle, 1947, № 2.
58 "Подросток" — т. 13, с. 74.
59 "Бесы". Рукописные редакции — т. 11, с. 131.
60 "Дневник писателя", 1880 — т. 26, с. 139.
61 См. "Бесы" — т. 10, с. 165.
"Наброски и планы 1867—1870 — т. 9, с. 128.
63 См. "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 275.
64 См. "Подросток" — т. 13, с. 76, 120. Это утверждение
Достоевского противостоит следующей мысли К. Ясперса:
"...происходит крушение бесконечной коммуникационной воли,
если она перед лицом множественности истины хочет
удержаться в одной позиции, стремясь увидеть неудачу целого, но
придерживаясь своего пути, не зная, куда он ведет" {Jaspers К,
Vernunft und Existenz, S. 65—66).
65 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 280.
66 Записи литературно-критического и публицистического
характера из записной тетради 1880—1881 гг. — т. 27, с. 56.
67 Чаадаев 77. Я. Поли. собр. соч. и избр. письма. М.,
1991, т. 1, с. 349.
68 Там же.
69 "Бесы" —т. 10, с. 198.
70 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 53, 54. Мы уже
упоминали о сходстве этих мыслей с позицией Никодима 'Афонского
в конце главы о философском методе Достоевского.
71 Smolitsch 7. Leben und Lehre der Starzen. Wien, 1936, S. 180.
72 "Записки из подполья" — т. 5, с. 107.
73 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 68.
74 Там же, с. 280.
75 См. там же, с. 272—273.
76 "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 52—53.
11 Бердяев Н. А. О назначении человека. Ч. И, гл. 4 (М., 1993,
с. 144).
78 "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 15.
79 Там же, с. 57.
Часть четвертая. МЕТАФИЗИКА:
ФИЛОСОФИЯ НЕГАТИВНОГО
1 См. "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 209.
2 "Идиот" — т. 8, с. 339.
3 Там же.
4 "Бесы" —т. 10, с. 471.
420
5 "Идиот" —т. 8, с. 343.
6 "Подросток" — т. 13, с. 49.
7 Strauss D. F. Der alte und der neue Glaube, 1872, Bd. Ill, S. 70.
'"Братья Карамазовы" — т. 14, с. 124.
9 Записи литературно-критического и публицистического
характера из записной тетради 1880—1881 гг. — т. 27, с. 86.
10 Там же.
11 См.: Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма.
М., 1990, с. 56.
12 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 221, 223.
13 Там же, с. 456—457.
14 Гёте И. В. Фауст. Ч. I. Пролог на небе.
15 Гоголь Н. В. Из записной книжки 1846 г. (Поли. собр. соч.
В 10 т. Берлин, 1921. Т. 10, с. 154.)
16 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 220.
17 "Идиот" — т. 8, с. 344.
18 Nietzsche F. Der Wille zur Macht, 1930, S. 28.
19 "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 52.
20 См. "Идиот" — т. 8, с. 339—340.
21 Там же, с. 344.
22 См. "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 222.
23 "Идиот" — т. 8, с. 340.
24 Nietzsche F. Op. cit., S. 44.
25 Гипотеза о том, что Ницше впервые узнал об идее вечнсйго
возвращения из романа "Братья Карамазовы", и позже, когда
забыл о ней, снова ее открыл, не вспомнив о ее происхождении,
едва ли приемлема. Я не думаю, чтобы Ницше читал "Братья
Карамазовы". По крайней мере, об этом нет свидетельств.
26 "Братья Карамазовы" — т. 15, с. 79.
27 Эту идею Достоевский, вероятно, почерпнул у И. В.
Киреевского и развил ее.
""Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 7.
29См."Идиот" — т. 8, с. 450—451.
30 Там же, с. 451.
31 См. первое "Философическое письмо" Чаадаева.
32 "Зимние заметки о летних впечатлениях" — т. 5, с. 50.
"Nietzsche F. Op. cit., S. 64.
34 "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 8.
35 "Дневник писателя", 1880 — т. 26, с. 151.
36Chomjakow A. Einige Worte eines ortodoxen Christen //
"Oestliche Christentum", 1925, Bd. 1, S. 151—152. Эта работа
была впервые опубликована в 1855 г. на французском языке
и в Лейпциге (См.: Хомяков А. С. Несколько слов
православного христианина о западных вероисповеданиях. По поводу
одного окружного послания Парижского архиепископа // Соч. В 2 т.
М., 1994. Т. 2, с. 72—128).
37 Действительность в исторической схеме Достоевского
полна противоречий. Идея всемирного единства человечества
421
во Христе существует только в западной половине христианства
— в католицизме, хотя попытки ее реализации оставались
безуспешными, в то время как восточное христианство не могло
и мечтать об этой идее. Здесь, на Востоке, есть римский кесарь,
самовластный в языческом смысле "земной бог", и в
христианстве он остается тем, чем он был в дохристианскую эпоху.
И здесь нет ничего — насилия, насмешки над религией,
произвола автократической власти, — чего не благословила бы
православная церковь... Но противопоставлять автократию
папству, как духовную христианскую свободу — государственному
языческому насилию, как демократию — теократии, значит,
превращать черное в белое и наоборот (Merezkowskij D. Die
politische Voraussetzungen der Dostojewskischen Ideen, S. XXXII).
Истина — посередине.
""Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 6.
39 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 25.
40 "Подросток" — т. 13, с. 302.
41 "Идиот" — т. 8, с. 452.
42 Там же.
43 "Дневник писателя", 1876 — т. 22, с. 127—128.
""Подросток" — т. 13, с. 174.
45 "Бесы" —т. 10, с. 94.
46 Там же, с. 93.
47 Там же, с. 94.
48 Nietzsche F. Op. cit, S. 100—101.
49 См. "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 217—218.
50Proudon P. J. Napoleon III, 1900, p. 235.
51 "Бесы" —т. 10, с. 470.
52 Письмо К. П. Победоносцеву, 19 мая 1879. Старая Русса
— т. 30, кн. 1, с. 66.
53 "Идиот" — т. 8, с. 184.
54 См., например, "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 158, 236.
55 "Дневник писателя", 1876 — т. 23, с. 145.
"Nietzsche F. Op. cit., S. 45.
57 "Дневник писателя", 1876 — т. 24, с. 53—54.
""Подросток" — т. 13, с. 49.
59 Nietzsche F. Op. cit., S. 43.
60 "Братья Карамазовы" — т. 15, с. 83.
61 Nietzsche F. Op. cit., S. 183.
""Дневник писателя", 1876 — т. 24, с. 48—49.
63 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 64—65.
64 "Дневник писателя, 1876 — т. 24, с. 49.
65 Там же — т. 23, с. 147.
66 См. "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 64—65.
67 Записи литературно-критического и публицистического
характера из записной тетради 1880—1881 гг. — т. 27, с. 85.
68 См. "Братья Карамазовы" — т. 15, с. 83—84.
69 Там же — т. 14, с. 64.
422
70Тамже —т. 15, с. 124.
71 См. там же — т. 14, с. 65; т. 15, с. 83—84.
72 См. там же — т. 14, с. 131.
73 "Дневник писателя", 1877 — т. 26, с. 152—153.
74 "Зимние заметки о летних впечатлениях" — т. 5, с. 78.
75 Там же.
76 "Подросток" — т. 13, с. 173.
77 Leibniz G. W. Nouveaux essais sur l'entendement humain t. 2,
ch. XX, p. 246.
78 "Преступление и наказание" — т. 6, с. 285.
79 Nietzsche F. Op. cit., S. 205—206.
80 "Зимние заметки о летних впечатлениях" — т. 5, с. 69—70.
81 См. "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 284—285.
82 Там же.
83 Руссо Ж. Ж. Об общественном договоре // Трактаты.
М., 1969, с. 160.
84 См. "Преступление и наказание" — т. 6, с. 326—327.
85 См. "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 275—276.
86 "Зимние заметки о летних впечатлениях" — т. 5, с. 74—75.
87 Я не согласен с тезисом Л. Шестова, что Достоевский
в теории Раскольникова высказал свое собственное потаенное
мнение. Об этом уже говорилось во введении. Шестов сам
в более позднем своем сочинении "Offenbarungen des Todes"
пересмотрел это свое утверждение (см. Шестов Л. На весах
Иова. Ч. 1. Откровения смерти // Соч. В 2 т. М., 1993. Т. 2, с.
24—97).
88 См. "Судебный вестник", 1869, № 83.
89 "Преступление и наказание" — т. 6, с. 321.
90 "Братья Карамазовы" — т. 15, с. 83—84.
91 "Преступление и наказание" — т. 6, с. 321.
92 Там же, с. 202.
93 Там же, с. 200.
94 Там же, с. 212. Ср.: Hegel. Die Vernunft in der Geschichte.
Bd. 1, S. 74—84 (Hrsg. von Lasson).
95 "Преступление и наказание" — т. 6, с. 199.
96 Там же, с. 200.
97 Там же.
98 "Братья Карамазовы" — т. 15, с. 84.
99 См. "Преступление и наказание" — т. 6, с. 320—321.
100 Там же, с. 211.
101 Там же, с. 320.
102 Там же, с. 322.
103Тамже, с. 401.
104 Там же, с. 321.
105 Там же.
106 Там же, с. 322.
107 Там же, с. 321.
108 Nietzsche F. Op. cit., S. 206—207.
423
io9 "Преступление и наказание" — т. 6, с. 323.
110Тамже, с. 211.
111 Там же, с. 400.
112 Писарев Д. Я. Соч. СПб, 1894, т. 6, с. 331.
113 "Дело", 1867, №5.
114 "Бесы" —т. 10, с. 311.
115 Там же, с. 313.
116 Там же, с. 322.
lllProudon Р. J. Op. cit., p. 164, 234.
118 "Бесы" —т. 10, с. 325.
1,9 "Идиот" — т. 8, с. 312.
120 См. "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 230.
121 Там же.
122 Там же, с. 231.
123 Там же, с. 232.
124 Там же.
125 Там же.
126 Там же.
127 См. там же, с. 233. Такие просветители, как Гланвил,
Бойль и др., фактически верили в существование ведьм (см.:
Brockdorff С. V. Die evangelische Aufklarungsphilosophie, 1924, S.
38). Ж. Боден также верил в ведьм.
128 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 234.
129 Там же, с. 235.
130 Там же, с. 231.
131 Nietzsche К Op. cit., S. 94.
132 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 235.
133 Там же, с. 236.
134 Там же.
135 Там же.
136 Там же.
137 Lubac H. de. Le drame de Fhumanisme athee, p. 341.
138 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 214.
139 Там же, с. 223.
l40Peguy Ch. Oeuvres poetique complets, p. 441.
141 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 223.
142 Там же.
143 Шиллер Ф. Поли. собр. соч. в переводе русских писателей,
т. 1, с. 35 (перев. Г. Данилевского). Можро сравнить это с
введением к "Разбойникам" (1781 г.). См.: Cyzewskij D. Schiller und
Die Briider Karamasov // Zeitschrift fur slavische Philologie, 1929,
Bd. VI, № 1—2.
144 "Записки из подполья" — т. 5, с. 99.
145 "Подросток" —т. 13, с. 15.
146 "Зимние заметки о летних впечатлениях" — т. 5, с. 79.
147 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 275.
148 Там же — т. 15, с. 83.
149 "Подросток" — т. 13, с. 378.
424
150 Там же, с. 379.
151 Там же.
152 Raymond M. De Baudelaire au surrealisme, 1940, p. 66.
l53Gide A. Les nourritures terrestres, 1935.
154 "Подросток" — т. 13, с. 379.
155 Там же.
156 Gide A. Dostojevski, p. 267—268.
157 Madoul J. Le christianisme de Dostojevski, p. 175.
158 См. "Бесы" — т. 10, с. 197.
159 Там же, с. 200—201.
160 Там же, с. 189.
161 Там же, с. 436.
162 Там же, с. 94.
163 Там же, с. 469.
164 Там же.
165 Там же, с. 471.
166 Там же.
167 Там же, с. 94.
168 Там же, с. 93.
1б9Там же. Ср.: Монтень М. Опыты, М., 1991, 1, 14.
170 Там же. Ср.: Августин. О граде божьем, 1, 2.
171 Шекспир У. Гамлет, III, 1 (перев. Б. Пастернака).
172 Heidegger M. Was ist Metaphysik? S. 16.
173 Ibid., S. 19.
174 Ibid., S. 26.
175 "Бесы" —т. 10, с 470.
176 Там же, с. 188. Ср.: Овидий. Метаморфозы, XV, 165:
Omnia mutantur nihil intent.
177 "Бесы" —т. 10, с. 470.
178 Там же, с. 93.
119 Шиллер Ф. Собр. соч. М., 1937. Т. 1 (перев. А. Кочеткова).
180 "Бесы" —т. 10, с. 94.
181 Там же.
1*2Гёте И. В. Фауст, ч. 1. Ночь (перев. Б. Пастернака).
183 "Бесы" —т. 10, с. 470.
184 "Братья Карамазовы" — т. 15, с. 84.
185 "Бесы" —т. 10, с. 470.
18бТамже, с. 471—472.
187 Там же, с. 188.
188 Там же, с. 450.
189 Там же, с. 188.
190 Там же, с. 189.
191 Там же.
192 "Подросток" — т. 13, с. 269.
193 Там же, с. 318.
194 "Бесы" — т. 11, с. 18.
193 "Записки из подполья" — т. 5, с. 105.
196 "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 104—105.
425
197 Там же, с. 107—108.
198 "Бесы" —т. 10, с. 187.
199 "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 108.
200 "Бесы" — т. 10, с. 187.
201 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 275.
202 "Дневник писателя", 1876 — т. 23, с. 148.
203 "Идиот" — т. 8, с. 344.
204 Nietzsche F. Op. cit., S. 176.
205 "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 117.
206 Там же, с. 118.
207 "Преступление и наказание" — т. 6, с. 399.
208 Там же, с. 418.
209 "Подросток" — т. 13, с. 310.
210 Шекспир У. Гамлет, V, 2 (перев. Б. Пастернака).
211 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 293.
212 Там же.
213 "Подросток" — т. 13, с. 310.
214 "Бесы". Рукописные редакции — т. 11, с. 209—210.
215 Бакунин М. А. Избр. филос. соч. и письма. М., 1987, с. 226.
2,6 "Бесы". Рукописные редакции — т. 11, с. .269.
217 Там же.
218 "Бесы" —т. 10, с. 322.
219 "Бесы". Рукописные редакции — т. 11, с. 182.
220 Чернышевский Н. Письма без адреса. М., 1979, с. 255, 46.
221 "Бесы" — т. 10, с. 324—325.
222 Там же, с. 325.
223 См. "Преступление и наказание" — т. 6, с. 348, 351.
224 См., например, "Братья Карамазовы" — т. 15, с. 124.
225 См. там же — т. 14, с. 284; т. 15, с. 124.
226 "Записки из подполья" — т. 5, с. 112 (Ср.: Buckle Я. Т.
History of civilisation in England; Strauss D. F. Der alte und der
neue Glaube, 1872, Bd. II, S. 44).
227 "Преступление и наказание" — т. 6, с. 348.
228 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 288.
229 "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 59.
230 "Бесы". Рукописные редакции — т. 11, с. 110.
231 Там же.
232 "Преступление и наказание" — т. 6, с. 155.
233 "Бесы" —т. 10, с. 111.
234 Там же, с. 303.
235 Там же, с. 325. Ср.: Sorel G, Decomposition du marxisme.
Plaidoyer pour Lenine.
236 "Бесы" —т. 10, с 325.
237 Там же, с. 326.
238 Сгосе В. Storia d'Europa nel secolo decimonono. Ubers. von
A. Japhe, 1935, S. 226.
239 "Бесы". Рукописные редакции — т. 11, с. 110.
240 См. там же, с. 110—112.
426
Часть пятая. МЕТАФИЗИКА:
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ
1 "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 115.
2 Там же, с. 115—116.
3 Там же, с. 116.
4 Руссо Ж. Ж. Рассуждение о происхождении и основаниях
неравенства между людьми // Трактаты. М., 1969, с. 77.
5 Там же, с. 72.
6 См. там же, с. 70, 73.
7 "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 116.
8 Там же.
9 Там же.
10 Там же, с. 117.
11 Там же.
12 См., например, "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 64—65,
230—231 и др.
,3См. там же —т. 14, с-281—282; т. 15, с. 170—171.
14 Бердяев Н. А, О назначении человека. Ч. II, гл. 4 (М., 1993,
с. 143).
15 Nietzsche К Der Wille zur Macht, 1930, S. 57.
16 "Братья Карамазовы" — т. 15, с. 23.
17 "Дневник писателя", 1873 — т. 21, с. 15.
18 См. "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 52.
19 "Подросток" — т. 13, с. 72.
20 "Дневник писателя", 1873— т. 21, с. 17.
21 См. "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 285—286, 288.
22 Там же, с. 289,48.
23 См. там же, с. 262, 270.
24 Там же, с. 149.
25 См. там же, с. 261—262.
26 Там же, с. 99.
27 "Преступление и наказание" — т. 6, с. 213.
28 "Братья Карамазовы" — т. 15, с. 171.
29 Steimann У. Dostojevsky, romancier de notre temps // La vie
intellectuelle, 1947, № 2.
30Iwanow W. Dostojewskij, 1932, S. 87.
31 Между прочим, не заимствована ли фамилия Рогожина от
названия Рогожского кладбища в Москве, где имелась община
сектантов-поповцев?
32 Можно заметить некоторую аналогию с дионисийским
культом, когда во время культовых жертвоприношений
достигался более высокий орфический уровень существования (см.:
Rohde E. Psyche, S. 154).
"Nietzsche F. Op. cit., S. 166.
34Фрейд З. Достоевский и отцеубийство // Избранное.
London, 1969. Т. 1, с. 249.
35 "Дневник писателя", 1873 — т. 21, с. 18—19.
427
36 См. "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 149.
""Дневник писателя", 1881 — т. 27, с. 18..
38 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 290.
39 Там же, с. 458.
40 "Подросток" — т. 13, с. 309—310.
41 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 319.
42 См. там же, с. 397,461.
43 Там же, с. 48.
44 Там же, с. 274.
45 Там же, с. 99.
46 "Преступление и наказание" — т. 6, с. 203.
47 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 46.
48 "Бесы" —т. 10, с. 116.
"Smolitsch I. Leben und Lehre der Starzen. Wien. 1936, S. 193.
50 См. "Братья Карамазовы" — т. 15, с. 181.
51 Smolitsch I. Op. cit., S. 86.
52 "Братья Карамазовы" — т. 15, с. 31.
53 См., например, "Бесы" — т. 10, с. 162—163.
54 Бердяев Н. Л. О назначении человека. Ч. II, гл. 2 (М., 1993,
с. ПО).
55 Записи публицистического и литературно-критического
характера из записных книжек и тетрадей 1860—1865 гг. — т. 20,
с. 175.
56 См. "Братья Карамазовы" -^ т. 14, с. 279; "Преступление
и наказание" — т. 6, с. 352.
57 "Дневник писателя", 1873 — т. 21, с. 36.
58 См. "Братья Карамазовы" — т. 15, с. 31—32.
59Lubac H. de. Le drame de l'humanisme athee, p. 305.
60 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 215.
61 См. "Идиот" — т. 8, с. 432-433.
62 См. Записи публицистического и
литературно-критического характера из записных книжек и тетрадей 1860—1865 гг.
— т. 20, с. 172.
63 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 149.
64 Там же, с. 292.
65 См. там же, с. 293.
66 См. там же, с. 64.
67 Там же, с. 289.
68 Там же, с. 290.
69 "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 114.
70 См. "Преступление и наказание" — т. 6, с. 403—404.
71 Записи публицистического и литературно-критического
характера из записных книжек и тетрадей 1860—1865 гг. — т. 20,
с. 172.
72 См. "Идиот" — т. 8, с. 62.
73 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 149.
74 См. "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 113.
75 Там же.
428
76 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 320.
77 См. там же, с. 53—54.
78Любак цитирует одно место из "Второй проповеди..."
св. Бернарда Клервоского, где он выражает подобные же
мысли.
79 "Подросток" — т. 13, с. 175.
80 См. "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 215.
81 "Идиот" — т. 8, с. 379.
""Дневник писателя", 1880 — т. 26, с. 158.
83 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 52—53.
84 Там же, с. 53. •
""Подросток" —т. 13, с. 175.
86 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 290.
87 Записи публицистического и литературно-критического
характера из записных книжек и тетрадей 1860—1865 гг. — т. 20,
с. 172.
88 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 215. Скорее всего, речь
идет здесь о св. Юлиане, ухаживавшем за больными, о котором
писал Флобер в "Легенде о св. Юлиане Милостивом". Иоанн
Милостивый (Готтский) в 1550 г. умер в Гранаде; под его
влиянием возникло общество "Милосердных братьев".
89 Записи публицистического и литературно-критического
характера из записных книжек и тетрадей 1860—1865 гг. — т. 20,
с. 172.
90 См. "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 292—293.
91 "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 111.
92 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 328.
93 "Бесы" —т. 10, с. 505.
94 "Бесы". Рукописные редакции — т. 11, с. 285.
95 См. "Бесы" — т. 10, с. 172.
96 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 229. Ср. "Человек не
родится для счастья" ("Преступление и наказание". Рукописные
редакции — т. 7, с. 155).
97 См.: Бердяев Н. А. О назначении человека. Ч. II, гл. 2 (М.,
1993, с. 112).
98 "Бесы" —т. 10, с. 506.
""Бесы". Рукописные редакции — т. И, с. 106.
100 "Бесы" —т. 10, с. 188.
101 См. "Братья Карамазовы" — т. 15, с. 31.
102 Там же — т. 14, с. 326. Можно сравнить это описание
с посещением действительным статским советником генералом
Пралинским свадьбы своего подчиненного Пселдонимова
в "Скверном анекдоте". В обоих рассказах показывается, как
одинаковые события могут отличаться друг от друга благодаря
воздействию в одном случае отвлеченной, в другом — живой
любви и блага.
103 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 223—224.
104 "Дневник писателя", 1877 — т. 26, с. 110.
429
105 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 262.
106 Там же, с. 326.
107 Бердяев Н. А. О назначении человека. Ч. 1, гл. 3 (М., 1993,
с. 73).
108 "Братья Карамазовы" — т. 15, с. 77.
109 "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 108.
110 См. "Братья Карамазовы" — т. 15, с. 83—84.
111 Там же, с. 82.
112"Бесы". Рукописные редакции — т. И, с. 184.
1,3 "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 118.
114 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 275.
U5Lubac H. de. Dostojevski — prophete, 1945, p. 377.
116 Записи публицистического и литературно-критического
характера из записных книжек и тетрадей 1860—1865 гг. — т. 20,
с. 174.
117 См. "Братья Карамазовы" — т. 15, с. 78—79.
118 Там же — т. 14, с. 275.
119 Там же, с. 272.
120 "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 119.
121 "Дневник писателя", 1876 — т. 22, с. 12.
122 "Идиот" — т. 8, с. 187—189.
123 "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 118.
124 "Бесы" —т. 10, с. 450.
125 Записи публицистического и литературно-критического
характера из записных книжек и тетрадей 1860—1865 гг. — т. 20,
с. 173.
126Smolitsch I. Op. cit., S. 204—205.
127 "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 115, 118.
128 "Бесы" —т. 10, с. 450.
l29Smolitsch I. Op. cit, S. 53, 56.
130 См., например, Nietzsche К Op. cit., S. 204—205.
131 Smolitsch /. Op. cit, S. 193.
132 Ibid., S. 58.
133 "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 115.
134 Там же.
135 "Бесы" —т. 10, с. 450.
136 Smolitsch /. Op. cit, S. 57—58.
137 См. "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 111—112.
138 См. там же, с. 112—113.
139 Декарт Р. Рассуждение о методе. М., 1953, с. 34.
140 "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 115.
141 Там же.
142 Там же.
143 См.: Четвертое С. Из истории русского старчества
— "Путь", Париж, 1926—1927, № 3, 7.
144 Vida. Кар. 25. ttbers. von Hahn-Hahn, S. 322.
145 Lubac H. de. Dostojevski — prophete, p. 394—395.
146"Дневник писателя", 1873 — т. 21, с. И.
430
147 Письмо Н. Д. Фонвизиной, конец января — 20-е числа
февраля 1854. Омск — т. 28, кн. 1, с. 176.
148 Письмо С. А. Ивановой, 1(13) января 1868. Женева
— т. 28, кн. 2, с. 251. Удивительно, что Р. Гвардини,
оценивая Мышкина как образ, частично символизирующий
Христа, не обращается к письму Достоевского, в котором
открыто говорится о том, что он в Мышкине, насколько
это возможно, имел в виду Христа. Ср.: Guardini R.
Religiose Gestalten in Dostojewskis Werk, S. 361.
149 Evdokimov P. Dostojevski et le probleme du mal, p. 265.
150 "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 202.
151 Записи публицистического и литературно-критического
характера из записных книжек и тетрадей 1860—1865 гг. — т. 20,
с. 172.
152 "Подросток" — т. 13, с. 215.
153 Nietzsche F. Op. cit., S. 112.
154 Augustinus. Sermones, 261, 7.
155 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 156.
156 "Дневник писателя", 1880 — т. 26, с. 153.
157 Nietzsche F. Op. cit., S. 23.
158 Записи публицистического и литературно-критического
характера из записных книжек и тетрадей 1860—1865 гг. — т. 20,
с. 174.
159 Письмо Н. Д. Фонвизиной, конец января — 20-е числа
февраля 1854. Омск — т. 28, кн. 1, с. 176.
160 "Бесы" —т. 10, с. 198.
161 Ср. Ницше: "Смешно, что хотят превзойти христианство
с помощью современного естествознания. С его помощью
христианское обоснование ценности абсолютно невозможно
превзойти. "Христос на кресте" — самый возвышенный символ
— и поныне еще так" (Nietzsche F. Op. cit., S. 157).
162 См. "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 268.
163 Там же.
164 Там же, с. 217.
165 У Ж. Ромена замечательно описываются детские
переживания и психика (См.: Romains J. Les hommes de bonne volonte,
1932—1946).
166 "Подросток" — т. 13, с. 315.
167 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 216.
168 См. "Преступление и наказание" — т. 6, с. 252.
169 "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 112.
170 См. "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 187—188.
171 Там же, с. 289.
172 "Идиот" — т. 8, с. 58.
173 "Записки из подполья" — т. 5, с. 158.
174 "Дневник писателя", 1873 — т. 21, с. 132, 134.
175 См. "Преступление и наказание" — т. 6, с. 252.
176 "Братья Карамазовы" — т. 15, с. 31.
431
177 См. там же — т. 14, с. 289.
ll%Lubac H. de. Op. cit., p. 393.
ll9Fumet St. L'impatience des limit. Petit traite du Armament.
Paris, 1937.
180 "Идиот". Рукописные редакции — т. 9, с. 239.
181 Seidel H. W. Aus dem Tagebuch der Gedanken und Traume,
1946, S. 37.
182 Можно сравнить радостно-благоговейное отношение к
родам в "Войне и мире" Л. Толстого, а также мысли об этом Ш. Пеги.
183 "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 92.
184 Там же.
185 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 231.
186 Там же — т. 15, с. 82.
187 Там же — т. 14, с. 234.
188 См. там же, с. 284—285.
189 См. там же, с. 276.
190 "Дневник писателя", 1880 — т. 26, с. 164.
191 См. "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 288—289.
192 Там же, с. 292.
193 "Подросток" — т. 13, с. 330.
194 См. "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 293.
195 Там же, с. 149.
196 Там же, с. 289.
197 "Идиот" — т. 8, с. 164.
198 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 147.
199 "Подросток" — т. 13, с. 310.
200 Там же, с. 290.
201 См. "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 234, 236.
202Lubac Н. de. Op. cit., p. 392.
203 Thurneysen E. Dostojevski ou les confins de Fhomme. Obers.
ins Franz, von P. Maury, p. 101—102.
204 "Преступление и наказание" — т. 6, с. 221.
205 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 290.
206 Там же — т. 15, с. 192.
207 "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 114.
208 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 355.
209 Там же, с. 328. Гвардини считает, что так возникает истина
(См.: Guardini R. Op. cit., S. 142). Мне кажется это
неправдоподобным. С другой стороны, и истолкование этого явления как
софинианского освящения представляется неправомерным.
210 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 265.
211 Там же, с. 290.
212 См. там же.
213Тамже,с. 290—291.
214 Аналогичную мысль мы находим у Ш. Пеги. Он
указывает на то, что все земное и временное спасается и остается
живым только путем соучастия в вечности (См. сравнение ночи
в конце "Le porche du mystere de la deuxieme vertu", 1911).
432
2,5 "Преступление и наказание" — т. 6, с. 221.
2|6"Бесы" — т. 10, с. 471.
217 Там же, с. 505.
218 "Братья Карамазовы" — т. 15, с. 32.
219 "Подросток" — т. 13, с. 311.
220 "Братья Карамазовы" т- т. 14, с. 293.
221 "Бесы" — т. 10, с. 505.
222 См. "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 60.
223 См. там же, с. 267—268.
224 См. там же, с. 289.
225 См. там же, с. 51.
226 Записи литературно-критического и публицистического
характера из записной тетради 1880—1881 гг. — т. 27, с. 56,
85.
227 Записи публицистического и литературно-критического
характера из записных книжек и тетрадей 1860—1865 гг. — т. 20,
с. 175.
228 См. "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 265.
229 Там же, с. 267—268.
230 "Подросток" — т. 13, с. 290.
231 "Бесы" —т. 10, с. 217.
232 Там же, с. 118.
233 Там же, с. 117.
234 См. там же, с. 116.
235 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 289.
236 "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 113.
237 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 328.
238 "Зимние заметки о летних впечатлениях" — т. 5, с. 79.
239 Чаадаев П. Я. Поли. собр. соч. и избр. письма. М., 1991,
т. 1, с. 356, 360.
240 См. "Зимние заметки о летних впечатлениях" — т. 5, с. 81.
241 См. там же, с. 79—80.
242 См. "Идиот" — т. 8, с. 336.
243 Записи публицистического и литературно-критического
характера из записных книжек и тетрадей 1860—1865 гг. — т. 20,
с. 172.
244 "Зимние заметки о летних впечатлениях" — т. 5, с. 79.
245 Там же, с. 80.
246 См. Записи публицистического и
литературно-критического характера из записных книжек и тетрадей 1860—1865 гг.
— т. 20, с. 174.
247 "Записки из подполья" — т. 5, с. 158.
248 См. "Братья Карамазовы" — т. 15, с. 33.
249 "Подросток" — т. 13, с. 384.
250 См. там же, с. 420.
251 Бердяев Н. А. О назначении человека. Ч. III, гл. 1 (М.,
1993, с. 220).
252 "Записки из подполья" — т. 5, с. 158.
433
253 Там же, с. 175.
254 Записи публицистического и литературно-критического
характера из записных книжек и тетрадей 1860-1865 гг.—т. 20, с. 173.
255 "Бесы" —т. 10, с, 323.
256 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 2641
257 "Записки из подполья" — т. 5, с. 156.
258 "Подросток" — т. 13, с. 455.
259 Письмо М. М. Достоевскому, 30 января—22 февраля
1854. Омск — т. 28, кн. 1, с. 172—173.
260 "Дневник писателя", 1880 — т. 26, с. 152.
261 "Дневник писателя", 1881 — т. 27, с. 26.
262 "Бесы" —т. 10, с. 196.
264wanow W. Dostojewskij, 1932, S. 48.
264 "Бесы" — т. 10, с. 198.
265 См. там же, с. 198—199.
266 Там же, с. 198.
267 Там же, с. 287.
268 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 286.
269 "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 206.
270 "Идиот". Рукописные редакции — т. 9, с. 128.
271 "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 5.
272 "Дневник писателя", 1881 — т. 27, с. 16—17.
273 "Дневник писателя", 1877 — т. 26, с. 31.
274 "Дневник писателя", 1880 — т. 26, с. 150.
275 "Дневник писателя", 1881 — т. 27, с. 19.
276 "Дневник писателя", 1880 — т. 26, с. 147.
277 "Дневник писателя", 1876 — т. 22, с. 45.
27*Guardini R. Op. cit., S. 21. Но это суждение было бы
совершенно ложным, если бы подразумевалось при этом, что
Достоевский подходил к народу в духе романтиков (к примеру,
как братья Гримм, Шеллинг, Гёльдерлин и др.).
279 Записи литературно-критического и публицистического
характера из записной тетради 1880—1881 гг. — т. 27, с. 59.
280 "Дневник писателя", 1876 — т. 22, с. 45.
281 См. "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 118.
282 "Зимние заметки о летних впечатлениях" — т. 5, с. 80.
283 См. там же.
284 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 276.
285 Там же, с. 275.
286 См. там же, с. 59—60.
287 "Дневник писателя", 1880 — т. 26, с. 167.
288 Там же.
289 "Ряд статей о русской литературе" — т. 18, с. 54.
290 Там же.
291 "Записки из подполья" — т. 5, с. 116.
292 Записи публицистического и литературно-критического
характера из записных книжек и тетрадей 1860—1865 гг. — т. 20,
с. 172.
434
293 "Дневник писателя", 1876 — т. 22, с. 45.
294 "Дневник писателя", 1877 — т. 25, с. 148.
295 Там же, с. 147.
296 Там же.
297 "Дневник писателя", 1880 — т. 26, с. 165.
298 Там же, с. 166.
299 Там же, с. 166—167.
300 "Братья Карамазовы" — т. 14, с. 292.
301 "Подросток" — т. 13, с. 289.
302 "Бесы". Рукописные редакции — т. 11, с. 179.
303 "Дневник писателя", 1880 — т. 26, с. 169.
304 Там же.
305 Письмо А. Н. Майкову, 9(21) октября 1870. Дрезден —
т. 29, кн. 1, с. 146.
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Авторитет (внешний) — 159,
160, 165, 235—237
Агностицизм — 143, 144, 164
Альтруизм — 40, 155, 156, 172,
243, 244, 359
Анархизм — 146, 268
Антитетизм (антитетика) — 36,37
Антропология философская
— 15, 37
Аскеза (воздержание,
"постничество") — 179, 342
Атеизм — 18, 38—40, 192, 199,
202—206, 210, 247, 255, 269,
370, 387, 395, 407
Аффект — 29, 56
Бесовство — 138, 312, 314—316
Бессмертие — 18, 130, 163, 181,
191, 207—212, 245, 387
Бессознательное — 26—28, 39,
45—52, 54—61, 65, 68, 69,
72—75, 77—79, 81—87, 93, 100,
111, 112, 118, 121, 122, 129,
137, 142, 158, 291, 317,
325—327, 398, 399
Благо — 96, 97, 125, 147, 309
Бог — 23, 37, 86, 89, 92, 110, 113,
121, 130—132, 134, 138—140,
143, 149, 158, 164, 168, 184,
192, 199, 204—206, 234,
238—241, 244—246, 249,
251—254, 278, 279, 286, 287,
290—293, 302, 306, 307, 326,
328, 332, 333, 341, 348—353,
367, 368, 370, 379, 387, 393,
394, 399, 401, 404, 405, 407, 408
Богопознание — 90, 343
Богочеловек — 255, 256, 394
Болезнь — 14, 27, 69, 88—92,
115, 116,319,324,344
Брак — 362, 363
Братство — 382—384, 386
Буржуазность — 214—216,
218—221, 384
Бытие — 91, 92, 108, ПО, 121,
122, 129, 139, 141, 145, 167,
174, 175, 189, 196—198, 212,
251, 257, 266, 277, 300, 307,
308, 316, 317, 331, 333,
349—352, 399, 400
Вера — 144, 160, 175, 205, 234,
260, 351, 370-372
Вечность — 78, 255, 348
Видение — 319—327
Вина — 14, 40, 60, 66, 88—92,
112, 166, 193, 233, 279,
283—288, 292, 293, 318, 355,
372,403,410,411
Власть — 18, 156, 178, 221, 222,
226—228, 230—232, 235, 236,
282,302,315,401,409,410
Влечение — 67—^9, 72, 73, 93
Возвышенное — 68
Воздаяние (награда,
вознаграждение) — 110, 112, 171, 172,
174, 221, 303
Возмездие (наказание, кара)
— 82, ПО, 160, 174, 178,
286, 288, 293, 294, 316
Воля — 18, 26, 58, 60, 71,
72, 74, 93—101, 104, 105, 109,
111, 112, 114, 118—124, 126,
128, 130—132, 134—137, 139,
149, 151, 168, 179—183, 207,
208, 211, 227, 252, 254, 263,
265, 277, 301, 306, 318, 348,
373, 388, 397, 399, 402, 403,
409
Воображение — 28, 31, 76, 326
Воспитание — 101, 158, 244
Воспоминание — 61, 62, 83, 85,
88, 281, 327, 346
Вражда — 63, 64, 156, 237,
243, 280, 363, 385, 386, 396, 406
Время — 77, 78, 80, 90, 118, 120,
308, 319, 320, 325, 326, 331,
333, 354, 387, 398, 400
436
Всепрощение — 91, 279, 294,
295, 331, 377, 386, 396, 403
Всечеловечность — 376, 377,
385, 386
Выбор нравственный — 147,
149, 150, 153, 159, 168, 175, 302
Вытеснение — 56, 58, 61—63, 68,
69, 81, 82, 314, 398
Государство — 12, 173, 220, 394,
395, 407
Грех (грехопадение) — 41, 105,
134, 148, 176, 193, 237, 266,
278—280, 282—284, 286—288,
292—295, 298, 303, 307, 316,
330, 349—355, 358, 379, 392,
400, 403, 404
Группа социальная — 64, 136
Дедукция — 33, 39
Действительность (реальность)
внешняя — 23, 24, 26, 27, 53,
132, 152, 153, 347, 358
внутренняя (духовная)
— 23—27, 134, 152,288,347
Добро — 12, 41, 68, 96, 97, 107,
135, 137, 138, 148—150, 156,
157, 164, 166, 167, 171, 175,
182, 183, 185, 195, 210, 216,
217, 256, 311, 314, 315, 330,
394, 410
Добродетель — 96, 171, 301, 311
Долг — 88, 112, 126, 149, 159,
160, 164, 165, 167, 188, 212, 349
Дружба — 64
Дух — 51, 53—55, 129, 229, 337,
352, 399
Душа — 23, 25—28, 30—33, 35,
40, 41, 43, 47, 55, 58, 60, 69, 70,
73, 75, 77, 78, 82, 84, 90, 91,
93—95,102—104, 109, 119, 121,
122,125,134,137,148,160,207,
208,286,292,310,311,313,316,
320, 326, 327, 337, 344—348,
351, 352, 356, 361, 362,
397—400, 404—406, 410, 411
Желание (хотение) — 58, 59, 94,
95, 105, 106, 189
Жертва (жертвенность) — 173,
174, 182, 255, 360
Жизнь — 23,34, 54, 55,91,92,99,
103—105, 107, 116, 118—132,
139,140,191,196,249,250,252,
255,265, 306, 315, 348, 350, 357,
388,397,399,402,411
Закономерность (закон) — 103,
104, 107—110, 113, 148, 169,
225, 254, 348, 349, 351, 360, 402
Западничество — 22,38,201,267,
366, 367, 376, 381
Заповедь нравственная — 159,
160, 164
Запрет нравственный — 108,
ПО, 163,401
Здоровье нравственное — 14, 15
Зло —.40, 41, 68, 97, 98, 132, 134,
135, 137, 138, 149, 150, 156,
157, 163, 166, 174—177, 189,
194—196, 210, 217, 278, 279,
283, 295, 312, 314—316, 342,
349 392 404 405
Знание—31,54,106,130,158,303
Идеал — 18, 25, 34, 54, 66-69,
73,131,132,140,166-168,181,
182, 237, 331—333, 349, 350,
373—375, 377, 381, 404
Идеализм — 36, 38, 40, 313
Идея — 32—35, 58, 59, 62, 72,
132, 140, 142, 162, 167, 170,
173, 176, 180—183, 204, 369,
370, 373—376, 390—392, 399,
406, 408
русская — 385, 386, 396
Иллюзия — 25, 83, 251, 252, 279
Индивид — 29, 64, 154, 155, 243,
359, 361, 398
Индивидуализм — 221,
241—243, 280, 358, 359, 382,
398, 401
Индукция — 27
Инстинкт — 102, 103, 136,
137, 158
Интеллектуализм этический
— 47, 93, 95, 96, 98, 147, 398
Искупление — 286—288, 294,
298—300, 324, 356, 372
Искусство — 24, 399
Истина — 26, 45, 53, 54, 71, 91,
130, 169, 177, 185—188, 235,
437
280, 281, 294, 318, 321, 322,
325, 333, 375, 394
История — 138, 139, 173, 184,
271, 388—396, 406, 407
Католицизм — 22, 199—203,
384, 395
Конформизм — 170, 223, 231
Красота (прекрасное) — 68, 73,
166, 167, 177, 256, 280, 303,
323, 328, 329, 351, 353, 354,
357, 361, 362, 380, 399
Личность — 62, 69, 70, 74, 75,
83, 91, 136, 238, 274, 313,
358—360, 398
Ложь — 71, 123, 186—188, 269,
270, 279, 280, 314
Любовь — 31, 40, 64, 88, 91, 92,
124—126, 128, 130—132, 135,
156, 163, 165—169, 172, 177,
184, 187, 211—213, 245, 255,
256, 279, 287, 288, 297, 298,
301—307, 309, 311, 318, 323,
330, 334, 339, 341, 348—351,
357, 361—364, 367, 372, 384,
386, 400, 402—404
Материализм — 136, 142, 152,
207,401 ч
Мистика, мистицизм — 13, 20,
168, 319, 323, 326, 342
Миф — 13, 28, 38, 50, 65, 82, 83,
85, 275, 355
Молитва — 340—342, 372
Мудрость — 51, 399
Мышление — 44, 46—48,
51—55, 58, 107, 108
Намерение — 72
Народ — 18, 40, 157, 201, 276,
285, 289, 293, 299, 337, 338,
340, 365—381, 385, 391, 396,
406,408
Насилие (принуждение) — 91,
95, 121, 122, 155, 156, 165,
199, 221—223, 230, 232, 271,
377 383
Наука — 23,25, 54,103, 104,108,
109, 152—154, 207, 235, 273,
376, 384, 401
Необходимость — 109, 111
Нигилизм — 12, 17, 18, 38, 39,
41, 75, 197, 199, 221, 247, 257,
267—272, 275, 276, 282—284,
303, 308, 310, 332, 367, 378,
395, 396, 401, 407
Ничто (небытие) — 127, 140,
190, 210, 250—252, 265, 282,
316, 409, 410
Норма—110, 159,312
Нравственность — 18, 88, 113,
151, 152, 155—159, 161—166,
169, 171, 174, 175, 177,
183—185, 210—212, 225, 233,
257, 301, 309, 311, 328—330,
334, 348, 349, 351, 359—361,
375,393,394,399,401-403,408
Образ — 28, 75, 78, 81
Общество (общность) — 155,
156, 173, 215, 230, 232, 244,
287, 359, 361, 363, 364, 382,
383, 393, 406
Объект — 59, 133, 346
Озарение —31, 32, 88
Опыт — 27, 37, 39, 47, 53, 84, 89,
107, 108, 111, 122, 131, 132,
152, 157, 305
Ответственность — 18, 142, 149,
150, 153, 164, 165, 286, 359, 360
Откровение — 161—163, 172,
235, 331, 396, 402, 409
Ощущение — 44, 88, 127
Переживание — 44—46, 48, 49,
52,54,55,82,85, 112, 122,320,
324—326, 397
Побуждение —.44, 45, 48, 58
Поведение (образ действий) —
33, 34, 52, 57, 64, 68, 72, 94,
114, 144, 148, 155, 159, 165,
169—171, 174, 225, 283, 402
Позитивизм — 94, 103, 111, 136,
142, 153, 154, 206, 208, 235, 401
Познание — 37, 51, 52, 55,
127—132, 135, 279, 283, 298,
303, 397
Пол — 14, 320, 352, 361, 362, 396
Польза (выгода) — 96, 97, 99,
156, 216—218, 221, 384
Порок — 175, 176, 260
438
Послушание — 342
Поступок — 58—60, 71, 72,
94, 134, 160, 169, 172—174,
359, 360
Православие — 35, 36, 39, 322,
337, 351, 371, 372, 376, 377,
379, 395, 396, 406
Предчувствие — 84, 85, 88, 111,
252, 266, 334, 345—347
Преступление —14, 35, 58—60,
65, 71, 123, 134, 148, 160, 175,
213, 225, 228, 233, 257,
270—272, 283—294, 299, 303,
345
Привычка — 53, 101, 102, 106,
107, 110, 153,213,359
Природа — 23, 76, 104, 105,
108—110, 113, 114, 142—145,
190, 191, 196, 213, 245, 263,
289, 290, 293, 333, 352—357,
399, 405
Причинность — 111, ИЗ, 196,
208, 213, 216, 220, 221, 283
Пророчество —13,35,85,86,411
Просвещение — 376, 379
Пространство — 80, 118, 320,
325, 326, 354
Протестантизм — 202, 384, 395
Психика — 21, 23, 352, 399
Радость — 166, 168, 307—311,
323, 324, 351
Раздвоение — 63—70, 72, 73, 78,
92—94, 123, 129, 181, 262,
312—315, 398, 403
Разум — 31, 37, 51, 74, 80,
93—95, 98—107, 128, 129, 144,
147, 148, 152, 153, 156, 157,
164, 203, 204, 212
Раскаяние (покаяние) — 82, 112,
160, 287, 292, 293, 318, 341,
403,410
Рассудок — 33,45,47,51—55,68,
69, 79, 88, 106, 128, 135, 152,
156—160, 163, 168, 176, 277,
282, 283, 313, 322, 399, 404
Реализм — 23—26, 142, 173
Религия — 15, 18, 23, 288
Рефлексия — 45, 48, 49, 74, 79
Решение — 58—60, 68, 95, 111,
112, 150,234,302
Самооценка — 62, 185, 187, 242
Самопожертвование — см.
Жертва
Самопознание — 61, 141, 185
Самосознание — 55, 74, 90, 321
Самоубийство — 249, 253, 254,
257—266, 282, 314, 402
Сверхсознание — 50, 55, 85, 87,
88, 90, 100, 106, 125, 126, 158,
256, 309, 317, 318, 322, 327,
398—400, 404
Сверхчеловек — 38, 223—228,
232 409 410
Свобода — 13, 18, 23, 38, 95, 98,
99,104—114,121,134,139,141,
148—150, 153, 164, 165, 169,
174, 175, 177—179, 184, 198,
228, 234, 237, 238, 242, 243,
251—255, 264, 286, 301, 302,
306, 308, 340, 342, 359—361,
384, 388, 393, 394, 401,
403^*05, 407
Своеволие — 105, 107, 109, 140,
145, 176, 198, 251, 253—255,
281, 340, 342, 404
Святость — 40, 237, 294, 300,
318, 338—340, 343, 345
Семья — 363, 364
Сердце — 50, 51, 79, 159, 167,
172
Символ — 75, 76, 78, 326, 327,
354
Склонности (задатки) — 134,
137, 164, 165, 174, 284
Скука (равнодушие) — 104, 106,
127,128,177,189,190,198,243,
261, 262, 265, 314, 315
Славянофильство — 15, 36, 38,
39, 75, 200, 267
Смерть — 18, 91, 92, 116—118,
120—122, 137, 140, 177,
189—191, 208, 211, 249—252,
255, 262, 299, 307, 315, 331,
333, 344, 348, 351
Смирение — 109, НО, 179, 288,
295, 299, 316, 330, 380
Смысл бытия (смысл жизни)
— 18, 34, 41, 85, 88, 111, 125,
128, 141—146, 157, 168, 181,
189—192, 194, 195—197, 207,
210—212, 226, 240, 251, 255,
439
257, 258, 260—262, 265, 268,
276—278, 300, 307, 332, 333,
348, 349, 393, 400-^02, 405,
408
Сноввдение — 65, 79—82,
84-86, 289, 325
Совесть — 14, 58, 59, 63, 66, 68,
72,110, 112, 113, 137, 150, 153,
154, 158—162, 165, 167, 187,
210, 233, 234, 351, 402
Созерцание — 47, 74, 78, 85,129,
323, 326, 404
Сознание — 43—49, 51, 54, 55,
57—62, 67—69, 72—75, 78, 79,
81, 87, 88, 106, 112, 117, 118,
121, 122, 130, 151, 158, 169,
282,298,321,397—399
Сомнение — 53, 85, 106, 132,
137, 234, 402
Сострадание — 31, 166, 272, 294,
296,298,380,407
Социализм — 15, 22, 38, 103,
111, 146, 153, 199, 203, 206,
220, 221, 223, 229—232,
267—269, 273, 275, 317, 359,
363, 376, 378, 387, 396
Спасение — 82, 85, 139, 279, 286,
339, 342
Справедливость — 54, 272, 273,
281,349,351,407
Старчество — 36, 179, 338, 340,
342, 394
Страдание — 53—55, 67, 82, 92,
106, 126, 132, 135, 145, 160,
166, 168, 174, 189, 192—194,
196, 197, 239, 249, 252, 260,
278, 281—283, 293, 296—300,
308, 309, 331, 349, 351, 362,
372, 377,400,403, 405,409,410
Страсть — 93, 124, 175, 288, 361
Страх — 38, 58, 62, 91, 106, 117,
121, 205, 249—253, 255, 401,
405, 409, 410
Стыд — 44, 58, 62
Субъект — 49, 69, 145
Судьба — 38
Счастье — 18, 54, 55, 85, 125,
135, 172, 238, 255, 300, 305,
306, 308—311, 324, 351, 360,
361, 393
Требование нравственное —
112, 169
Умозрение — 34
Утилитаризм — 94—96, 98, 147,
148, 152, 153, 155, 217, 218,
241, 243, 401
Фантазия, фантастическое — 25,
29,30,79,82, 112,288
Характер —66, 72,112,124, 179,
185, 274, 284, 285, 379—381
Христианство — 14, 34, 38,
92, 152, 162, 200, 332, 337,
339, 384, 386, 389, 394
Цель — 71, 72, 95, 106, 107, 119,
125, 130, 131, 139, 140, 145,
163, 166, 168, 234
Ценности — 62, 88, 166, 170,
212, 222, 261, 268, 313—315,
333, 349
Церковь — 12, 293, 371, 394, 407
Цинизм — 72, 269, 270, 316, 375
Человек — 24, 31, 37, 38, 54, 55,
63, 68, 70, 89, 94, 95, 100, 102,
103, 106, 107, 109, ПО, 112,
113, 122, 126, 128, 131, 133,
135—138, 140, 141, 145, 174,
175, 232, 241, 244, 252, 254,
259, 263, 279, 287, 302, 317,
337, 358, 359, 388, 401, 409
Человекобог (человекобожие)
— 75, 255, 256, 314, 394, 401
Человечество — 37, 63, 90, 102,
109, 136, 138, 244—246,
264—266, 276, 385—389, 395,
396, 407, 408
Чувства — 26, 31, 34, 43—47,
49, 52, 54, 55, 57, 60, 61, 68,
72, 74, 85, 103, 112, 118, 127,
129, 157—159, 167, 181, 186,
323, 326, 346—348, 352, 399
Эгоизм —67,119, 123, 154—156,
163, 166, 169, 171—173, 198,
213, 219, 220, 241, 243, 244,
257, 359, 382, 383, 398
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Августин — 195, 331, 393
Авраам (библ.) — 391
Адам (библ.) — 287
Александр II — 267, 377
Александр Невский — 182
Алексей человек Божий — 340
Аристотель -г 139, 266
Бабёф Г. (Ф. Ноэль) — 273
Байрон Дж. Н. Г. — 176
Бакунин М. А. — 251, 267, 268,
271, 273, 275
Банзен Ю. — 94
Бахофен И. Я. — 82
Бахтин М. М. — 7, 8
Белинский В. Г. — 16, 19,
22—24, 26, 30, 153, 203, 205,
230, 276, 328, 365, 378
Бёме Я. — 12
Бентам И. — 95, 99, 101, 152,
155, 217, 219, 243
Бердяев Н. А. — 5, 11,12, 14, 36,
50, 57, 98, 159, 169, 171, 188,
192, 195, 283, 298, 308, 313,
330, 337, 362
Бернар К. — 32
Бехер Э. — 75
Боборыкин П. Д. — 20
Бокль Т. Г. — 21, 99, 272, 389
Брукнер А. — 410
Буренин В. П. — 30
Бэкон Ф. — 216, 217
БкЗхнер Л. — 354
Ваал (библ.) — 102, 214
Вагнер А. — 99
Венцль А. — 48, 75, 79
Вольтер (М. Ф. Аруэ) — 206,312
Врангель А. Е. — 194
Гагарин И. С. — 201
Галилей Г. — 93, 216
Гартман Н. — 206
Гартман Э. фон — 93, 94, 100,
191
Гвардини (Гуардини) Р. — И,
21, 28, 76, 329, 379
Гегель Г. В. Ф. — 9, 93, 224,229,
369, 393
Гейне Г. — 62
Георге С. — 127
Гераклит Эфесский — 392
Гердер И. Г. — 392
Герцен А. И. — 16, 24, 153, 154,
267,273,363,370,379
Гессе Г. — 127, 385
Гёте И. В. — 15, 16, 31, 33,
60, 63, 177, 195, 253, 314, 347,
354, 356
Гея (миф.) — 290
Гоббс Т. — 163, 216, 233, 241,
359
Гоголь Н. В. — 24, 29,41, 65, 69,
195, 365, 380
Гольбейн Младший Г. — 190,
336
Гончаров И. А. — 24, 376
Готье Ж. — 66
Градовский А. Д. — 332, 366,
376, 392
Грановский Т. Н. — 173
Грибоедов А. С. — 53
Григорий Синаит — 321, 326
Григорович Д. В. — 16
Гроссман Л. П. — 11
Данила Филиппович — 180, 373
Данилевский Н. Я. — 369
Данилов А. М. — 35
Данилов Ф. — 160, 188, 371, 376
Данте Алигьери — 12, 75, 76,
175, 177
Дарвин Ч. Р. — 154
Декарт Р. — 55, 86, 93, 128, 143,
197, 322, 324
Дидро Д. — 105
441
Диккенс Ч. — 333
Добролюбов Н. А. — 21, 24, 30
Долинин А. С. — 11
Достоевская (урожд. Сниткина)
А. Г. — 30
Достоевский М. М. — 115, 366
Достоевский Ф. М. — 5—43,
45—58,60,61,63,65,66,69—78,
80—86, 88—104, 106—109,
МЛ—128, 130—136, 138, 139,
143—148, 150—153, 155—166,
168—180, 182—195, 197—207,
209, 211, 212, 214—218,
222—224, 226, 230—232, 234,
235, 238—242, 244—251,
253—262, 264—268, 270—280,
282, 284, 285, 288—305,
307—312, 314—346, 348,
351—354, 356, 357, 359, 360,
362—382, 385, 386, 388—390,
392—401, 403, 405-408, 410
Дриш Г. — 48, 79
Дюбарри Ж. — 120, 341
Евдокимов П. — 11, 329
Жанна д'Арк — 239
Жид А. — И, 14, 66, 150, 247,
336, 408
Зайдель X. В. — 336
Золя Э. — 272
Иван IV Грозный — б
Иванов А. А. — 310
Иванов В. И. — 11,13, 58,82, 83,
114, 122,292,354,367
Иванов И. И. — 35, 267, 275
Иванова (в замужестве Хмыро-
ва) С. А. — 329
Иисус Христос — 8, 39, 71, 92,
117, 125, 131, 132, 134, 138,
162, 167, 180, 182, 184, 186,
190—192, 201, 202, 233, 234,
237, 238," 249, 255, 272, 291,
292, 301, 305, 307, 309, 310,
316, 318, 326, 328—337, 339,
340, 343, 349—351, 353, 355,
356, 366, 368—372, 375, 376,
384, 386—388, 394-396, 404,
405, 408—411
Иоанн Богослов — 329, 406
Иоанн Милостивый (Юлиан
Госпитальер) — 305
Иов (библ.) — 297, 339
Исаак Сирин — 297
Кабе Э. — 273
Кайданов И. К. — 390
Кант И. — 58, 93, 98, 100,
108, 129, 155, 164, 207, 208,
211,212,311,392,393
Карамзин Н. М. — 390
Кеплер И. — 225
Кетле Л. А. Ж. — 99
Клагес Л. — 48, 129, 322
Клодель П. — 14, 48, 87, 266
Ковнер А. Г. — 31
Колумб X. — 119,408
Комарович В. Л. — 35, 66
Конт О. — 21, 171, 181, 202,
244, 249, 270, 275, 340, 383
Коперник Н. — 269, 408
Корнель П. — 66
Короленко В. Г. — 354
Крамской И. Н. — 74
Кьеркегор С. — 27, 38, 205, 249,
409, 410
Лазарь (библ.) — 190, 331
Лаут Р. — 5, 9, 10, 205, 261, 270
Лейбниц Г. В. — 32, 44, 48,
93, 96, 158, 182, 183, 217, 344
Лермонтов М. Ю. — 178
Лесков Н. С. — 376
Ликург — 225
Литтре Э. — 270
Локк Дж. — 96, 216, 217
Лоррен К. — 245
Лохвицкий А. В. — 222
Лунин М. С. — 180
Любак А. де — 11—13, 40, 100,
135, 205, 238, 299, 317, 327,
330, 343
Любимов Н. А. — 146
Мадуль Ж. — 135, 247
Майков А. Н. — 25, 26, 35, 260,
332, 369, 396
Макиавелли Н. — 226
Максим — 321—324
Мальтус Т. Р. — 156
442
Манн Т. — 14, 15
Марей (Марк) — 8, 9, 337
Мария Египетская — 340
Маркел — 321
Маркс К. — 10, 21, 135, 153, 229,
231, 272, 383
Мережковский Д. С. — 11, 203
Меттерних (Меттерних-Винне-
бург) К. — 173
Миллер О. Ф. — 17
Моисей (библ.) — 391
Мухаммед (Магомет) — 225,320
Надеждин Н. И. — 17
Наполеон I Бонапарт — 225,
226, 228, 389
Некрасов Н. А. — 16, 24, 188,
338, 365
Нечаев С. Г. — 35, 267, 268, 275
Никодим Святогорец — 41
Николай I — 19, 201
Нил Сорский (Н. Майков)
— 297, 298
Ницше Ф. — б, 11, 15, 34, 73, 78,
89, 92, 189, 195, 197, 202, 205,
210, 217,223,227, 236, 241,247,
254, 264,284,292, 304, 322, 331,
332, 336, 389, 408—410
Нордман М. — 35
Ньютон И. — 225
Озмидов Н. Л. — 37
Ориген — 392
Островский А. Н. — 26
Павлов И. В. — 28
Парменид — 252
Паскаль Б. — 107, 324
Пеги Ш. — 172, 215, 239, 290,
311,391,410
Перский С. — 27, 100
Петр I Великий — 377, 378
Петрашевский (Буташевич-Пет-
рашевский) М. В. — 275
Писарев Д. И. — 24, 71, 217, 229
Платон — 96, 266
Плотин — 320—324, 344, 352
Победоносцев К. П. — 206
Попов И. Е. — 35
Прагер X. — 11
Прометей (миф.) — 122
Прудон П. Ж. — 135, 161, 206,
230, 231, 272, 273, 275, 383
Пруст М. — 26, 57, 327
Пуанкаре А. — 108
Пугачев Е. И. — 180, 378
Пушкин А. С. — 15, 41,
176—178, 190, 217, 335, 363,
375, 381
Радклиф (урожд. Уорд) А. — 66
Разин С. Т. — 373
Рафаэль Санти — 217
Рахиль (библ.) — 296
Рембо А. — 57
Рембрандт X. ван Рейн — 77
Ремизов А. М. — 5
РенанЖ. Э. — 154, 329
Ривьер Ж. — 75
Ришар Сен-Викторский — 321
Ротшильд Дж. — 218
Руссо Ж. Ж. — 62, 66, 155,
157—159, 163, 219, 280—282,
359, 382, 389, 392
Самсон (Сансон А.) — 120
Санд Ж. (урожд. А. Дюпен,
в замужестве Дюдеван) — 66,
159, 171
Сартр Ж. П. — 250
Селиванов К. И. — 180, 275
Сен-Симон К. А. де Рувруа
— 202, 229, 273, 317
Серафим Саровский (П. И. (С.)
Мошнин) — 138, 329, 381
Смит А. — 220
Сократ — 92, 96, 97
Соловьев В. С. — 5, 12, 14, 20,
21,27
Солон — 225
Сорель Ж. — 38, 275
Спенсер Г. — 53, 101, 107, 152,
153, 213, 243, 244, 359
Спешнев Н. А. — 275, 315
Спиноза Б. — 311
Страхов Н. Н. — 19, 21, 32, 36,
198, 200, 246, 288, 332
Суарес (Сюаре) А. — 14
Суслова А. П. — 362
Тереза де Хесус (Т. де Сепеда-
и-Аумада) — 326
443
Тернейзен Э. — И, 41, 116, 343
Тихон Задонский (Т. С.
Соколов) — 35, 36, 131, 139, 175,
185, 338, 375, 381
Толстой Л. Н. — 15, 16, 26, 53,
156—159, 187, 285, 372
Тургенев И. С. — 14, 16, 17, 24,
133, 181, 268, 275, 276, 310,
370, 375
Тютчев Ф. И. — 330
Федоров Н. Ф. — 286, 291
Фейербах Л. — 10, 154, 205,
209, 241, 242, 249, 252—254,
312
Феодосии Печерский — 375
Феофан — 297, 323, 324
Фехнер Г. Т. — 356
Филон Александрийский — 321
Фихте И. Г. — 9
Флобер Г. — 66
Фома Аквинский — 96, 166, 175,
216,218,311
Фонвизина Н. Д. — 329, 333
Франциск Ассизский (Дж. Бер-
нардоне) — 293
Фрейд 3. — 6, 7, 9, 14, 40, 50, 75,
292, 366
Фридрих II Великий — 390
Фурнье А. — 410
Фурье Ш. — 273
Фюме С. — 335
Хагемайстер М. — 5,6
Хайдеггер М. — 250, 251
Хомяков А. С. — 138, 200,
202, 203
Хуан де ла Крус (X. Иепес)
— 309
Цицерон — 158, 269
Чаадаев П. Я. — 183, 184, 201,
276, 359, 394, 396
Чернышевский Н. Г. — 16, 22,
24, 270, 273, 363, 378
Чижевский Д. И. — 198
Шекспир У. — 178, 250, 260, 269
Шелер М. — 57, 100, 166, 171,
327, 371
Шеллинг Ф. В. Й. — 9, 10,
23, 268
Шестов Л. (Л. И. Шварцман)
— 6, 11, 12,40, 194,408
Шиллер И. Ф. — 133, 166, 240,
252, 253, 290, 390, 392, 393
Шопенгауэр А. — 58, 93, 94, 100,
155, 191, 212, 249
Штейман Й. (Ж.) — 176, 291
Штирнер М. (К. Шмидт) — 241,
242, 254
Штраус Д. Ф. — 181, 191, 272
Энгельс Ф. — 231
Эринии (миф.) — 290
Эрнст П. — 170
Эсхил — 82
Юм Д. — 108
Юнг К. Г. — 50, 73, 74, 82, 83,
122, 124
Ясперс К. — 410
Указатели составлены
Р. К. Медведевой
А* В. Гулыга
(1921—1996)
Во время работы над книгой Райнхарда Лаута
"Философия Достоевского" на 76-м году жизни
скоропостижно скончался известный философ и писатель
профессор Арсений Владимирович Гулыга — инициатор
ее издания на русском языке, редактор и автор
предисловия.
А. В. Гулыга — участник Великой Отечественной
войны, награжден боевыми орденами и медалями.
С 1956 г. до последних дней жизни работал в Институте
философии РАН. Им написан ряд книг, посвященных
немецкой классической философии и немецкой культуре.
Все они были переведены и изданы в Германии (в том
числе биография Гегеля — дважды, биография Канта
— трижды) и других странах. Большое внимание уделял
А. В. Гулыга изданию в нашей стране немецких
классиков — Канта, Гегеля, Шеллинга, Шиллера, Гёте, Гер-
дера. В 1994 г. под его редакцией вышло 8-томное
собрание сочинений Канта. В последние годы под редакцией
A. В. Гулыги были изданы труды ряда русских
мыслителей — А. Т. Болотова, В. С. Соловьева, Н. А. Бердяева,
B. В. Розанова, Н. Ф. Федорова и др. Его книги "Эстетика
истории", "Искусство истории", "Уроки классики и
современность", "Русская идея и ее творцы" содействовали
развитию национального самосознания.
СОДЕРЖАНИЕ
От редактора 5
Введение 11
Отношение Достоевского к философии. Метод ... 16
Часть первая. ПСИХОЛОГИЯ
Сознание и бессознательное 43
Вытесненное бессознательное и раздвоенность.
Символическое изображение 61
Сновидение. Доличностное и анамнестическое
бессознательное 79
Сверхсознание. Синтез 87
Часть вторая. МЕТАФИЗИКА
Воля и свобода 93
Воля к жизни 115
Задатки человеческой души и ее развитие 133
Смысл бытия 141
Часть третья. ЭТИКА
Нравственный выбор 147
Моральное сознание 151
Нравственное поведение 169
Часть четвертая. МЕТАФИЗИКА:
ФИЛОСОФИЯ НЕГАТИВНОГО
Бессмысленность бытия 189
Бога нет 199
Бессмертия нет 207
Морали нет. Все дозволено 210
Идея пользы 214
Идея власти 222
Земная власть избранных. Бунт против Бога .... 232
Идея человека и человечества 241
446
Воля к метафизической свободе 247
Самоубийство . 257
Нигилистическая революция 267
Часть пятая. МЕТАФИЗИКА:
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ
Грехопадение 277
Вина и искупление 283
Смысл страдания 296
Любовь 301
Радость 308
Бесовское и райское в человеке 312
Визионерство 319
Бог 328
а) Христос —
б) Дети. Народ. Святые 333
в) "Соприкосновение мирам иным" 343
г) О сущности Бога 348
Природа 352
Личность. Любовь. Брак. Семья 358
Народ 365
Всечеловеческое единение 382
История 388
Заключение 397
Примечания 412
Предметный указатель 436
Указатель имен 441
А. В. Гулыга(1921 —1996) 445
Райнхард ЛАУТ
Философия
Достоевского
в систематическом
изложении
Заведующий редакцией В. Г. Г о лоб оков
Редакторы Р. К. Медведева и П. П. Апрышко
Младший редактор Ж. П. Крючкова
Художник | Г. Д. Расторгуев\
Художественный редактор Е. А. Андрусенко
Технический редактор Т. А. Новикова
ИБ № 9933
ЛР№ 010273 от 10.12.92 г.
Сдано в набор 19.06.96. Подписано в печать 12.09.96.
Формат 84 х Ю8'/э2. Бумага книжно-журнальная офсетная.
Гарнитура *Таймс". Печать офсетная.
Усл. печ. л. 23,52. Уч.-изд. л. 24,82.
Тираж 5000 экз. Заказ № 1884. С 042.
Электронный оригинал-макет подготовлен в издательстве.
Российский государственный
информационно-издательский Центр "Республика"
Комитета Российской Федерации по печати.
Издательство "Республика".
125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.
Полиграфическая фирма "Красный пролетарий".
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.