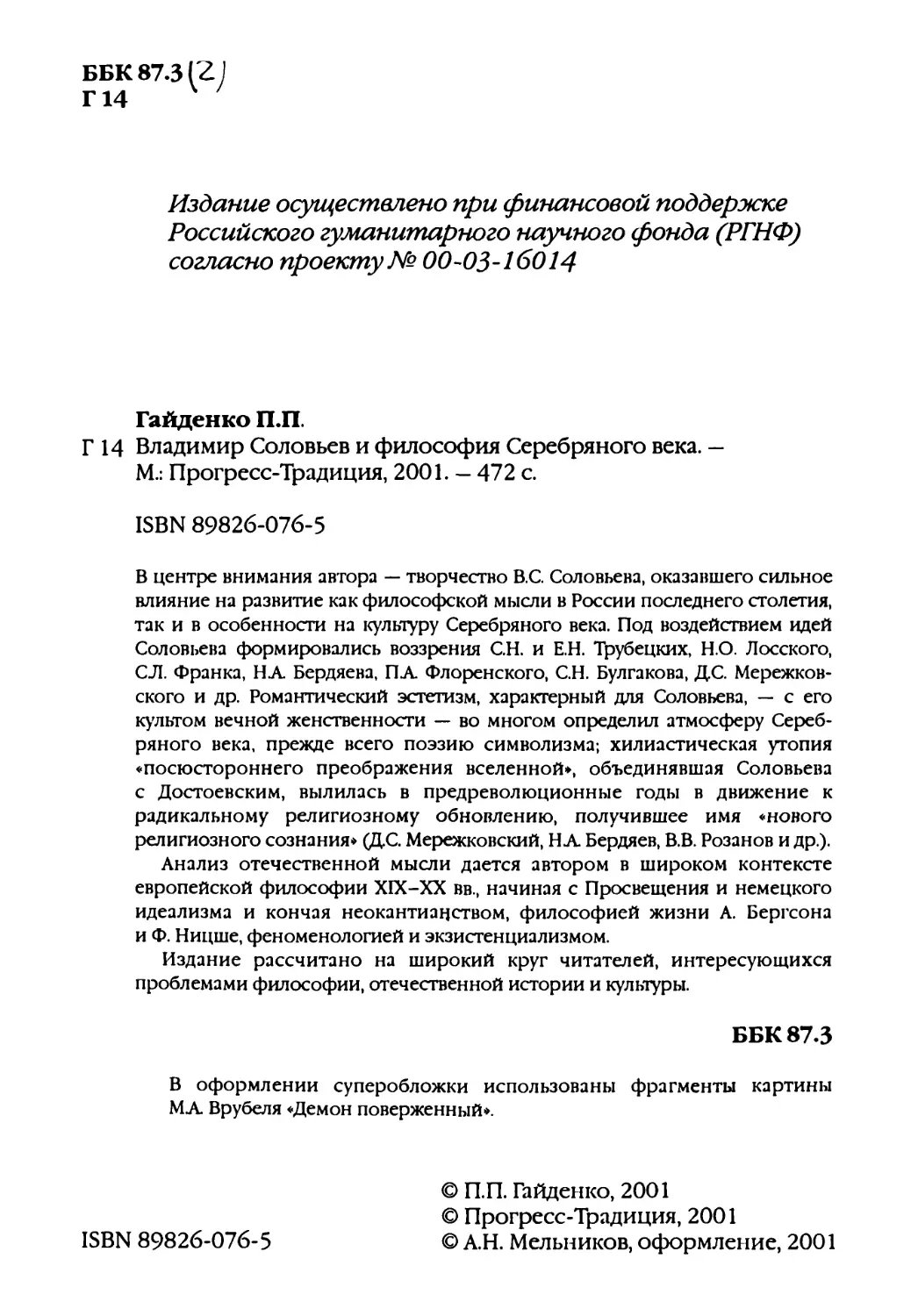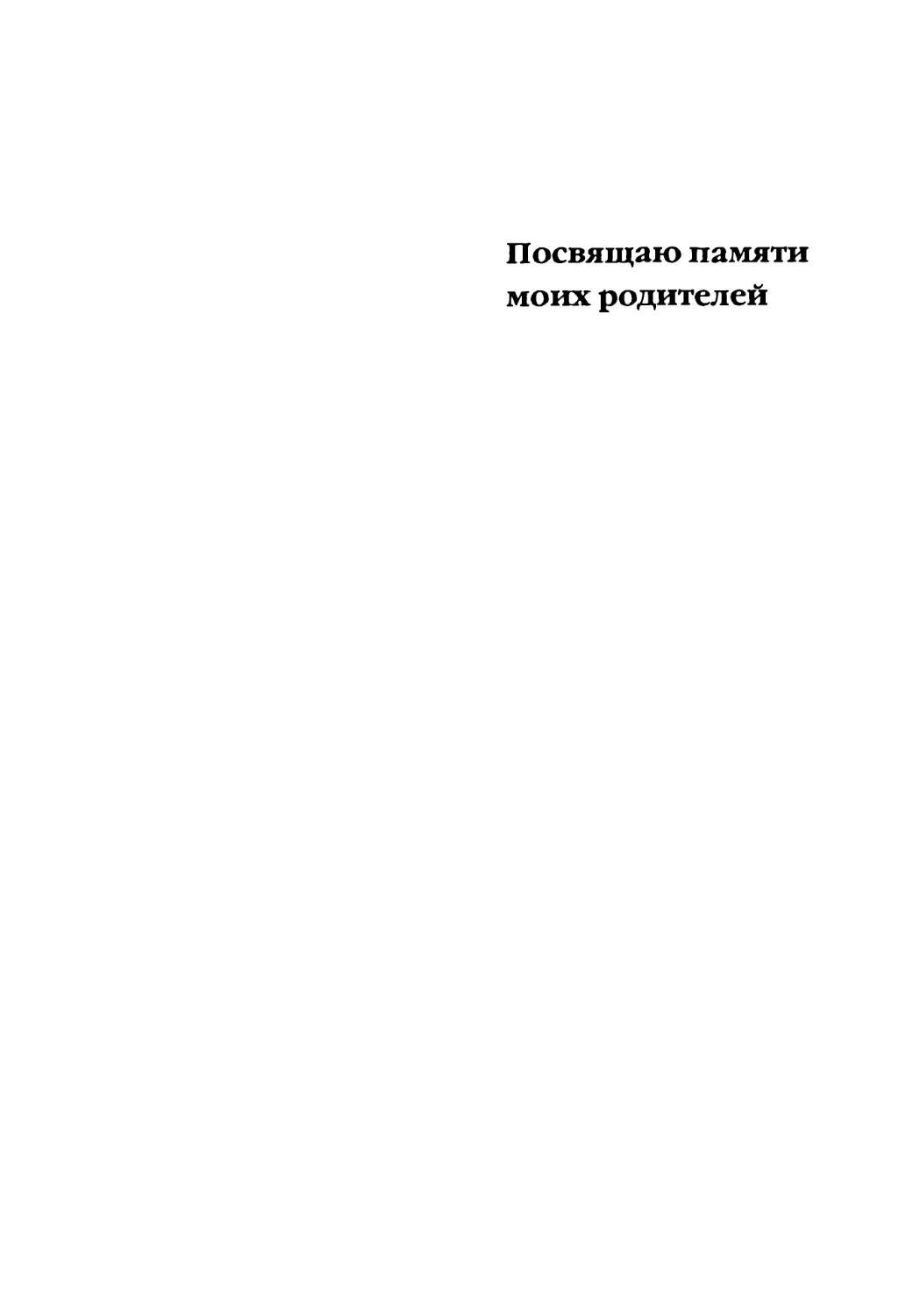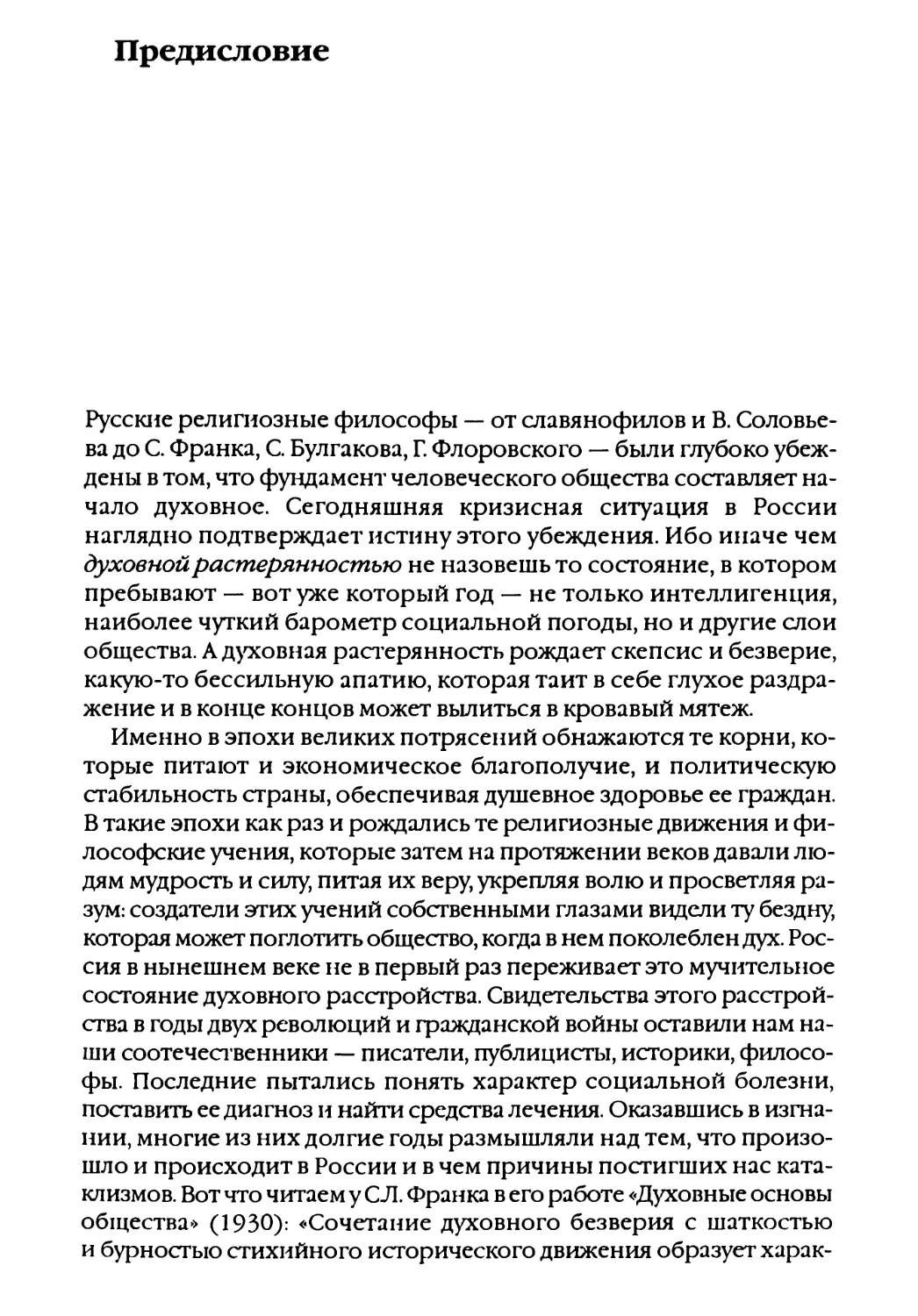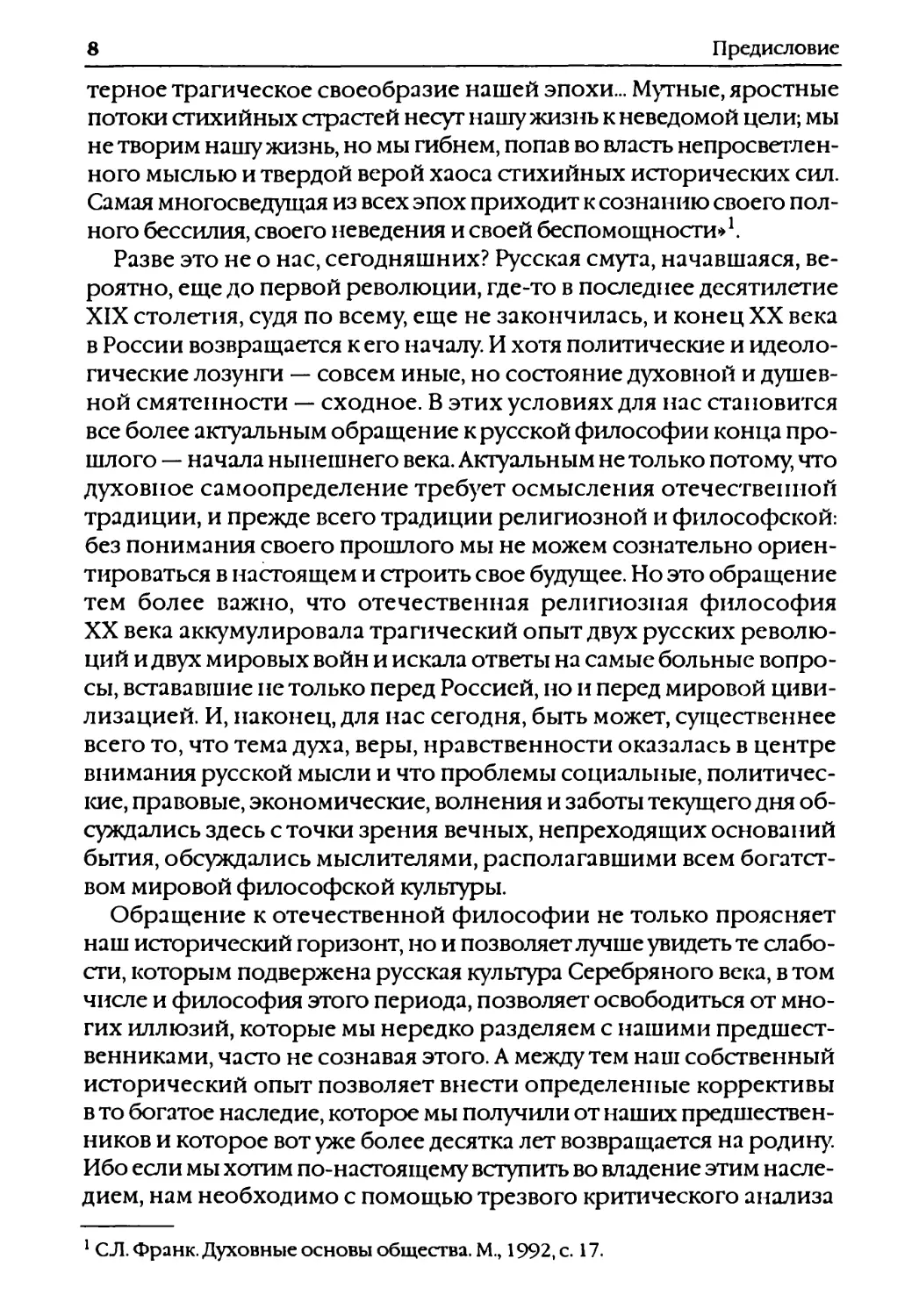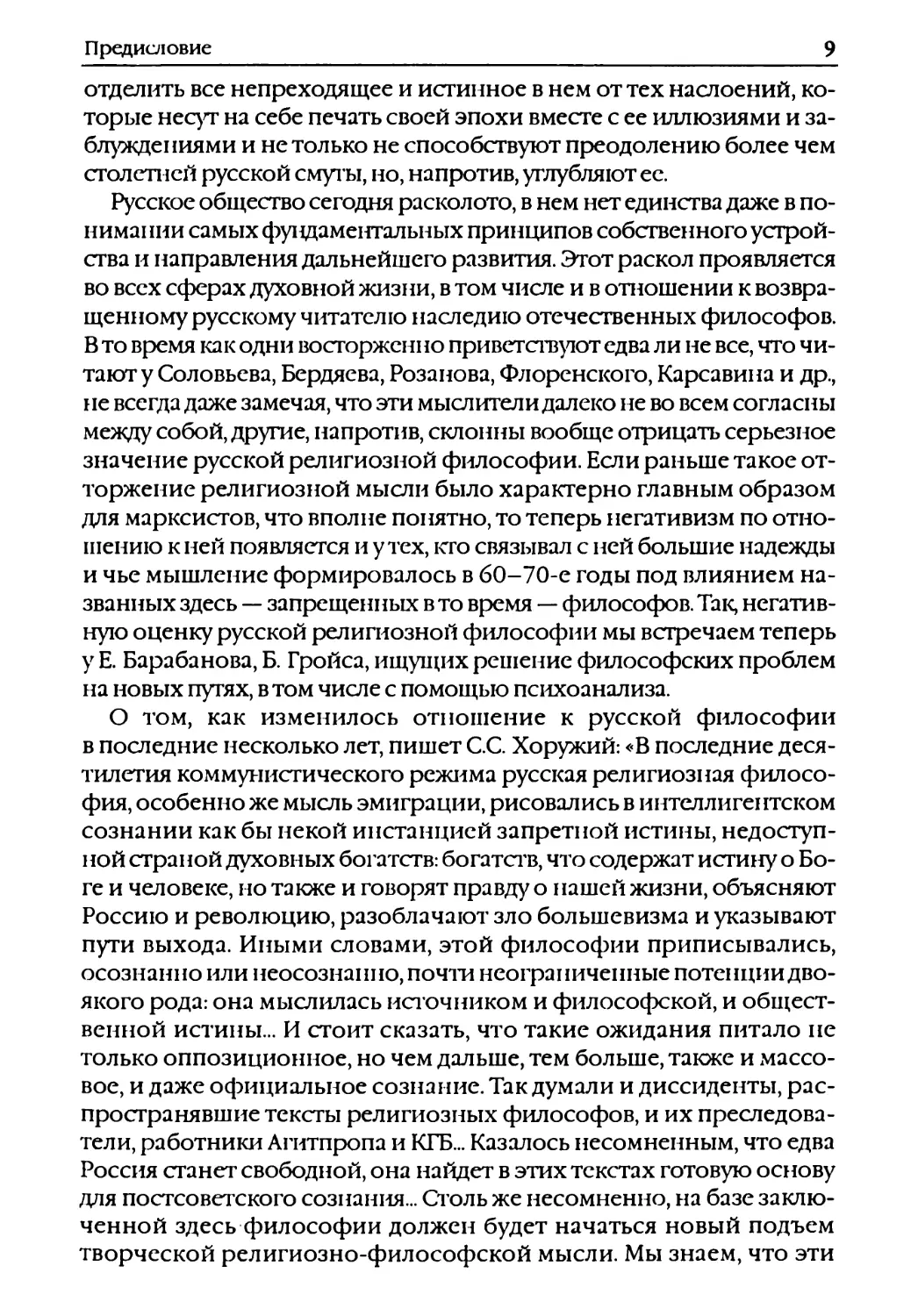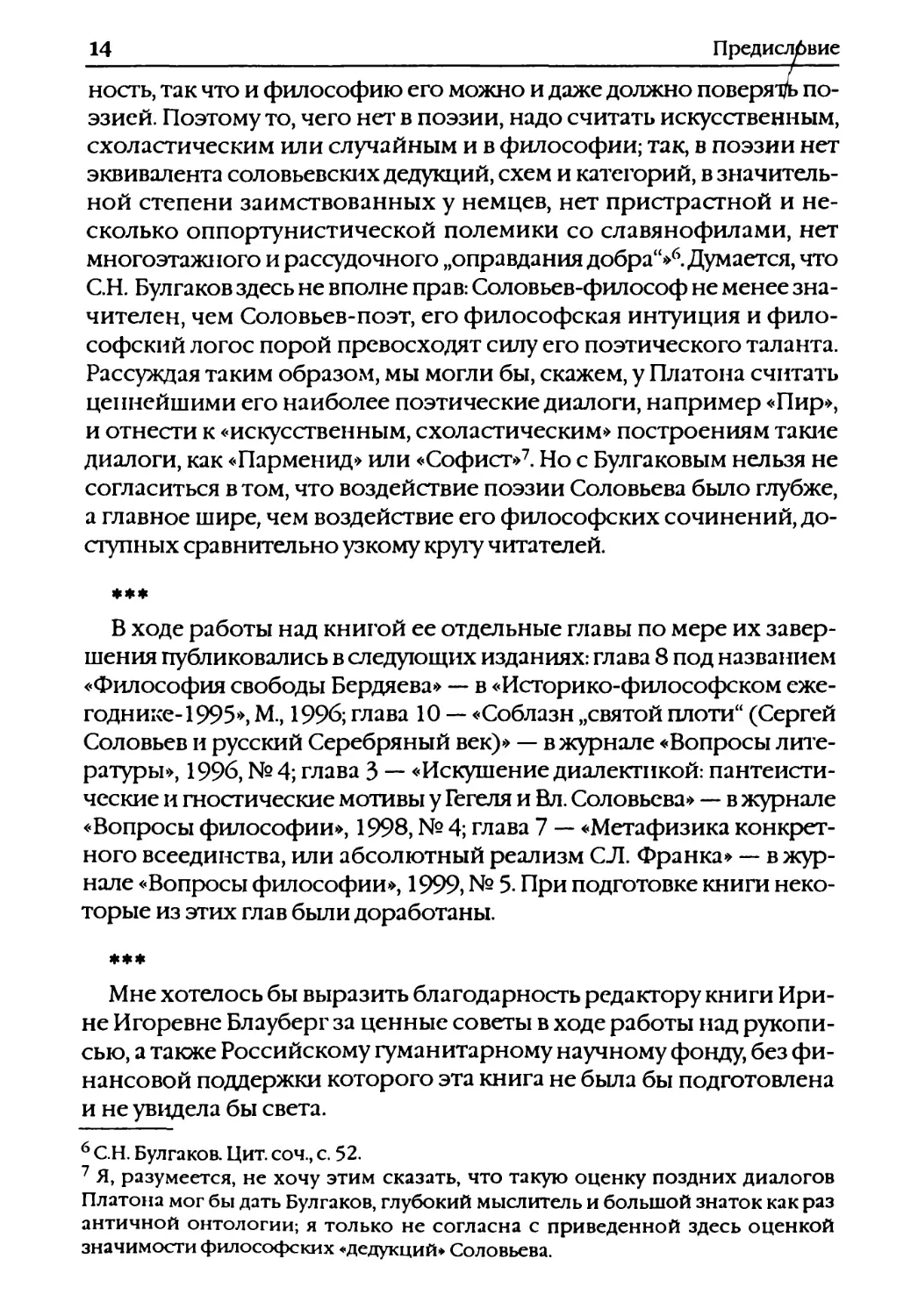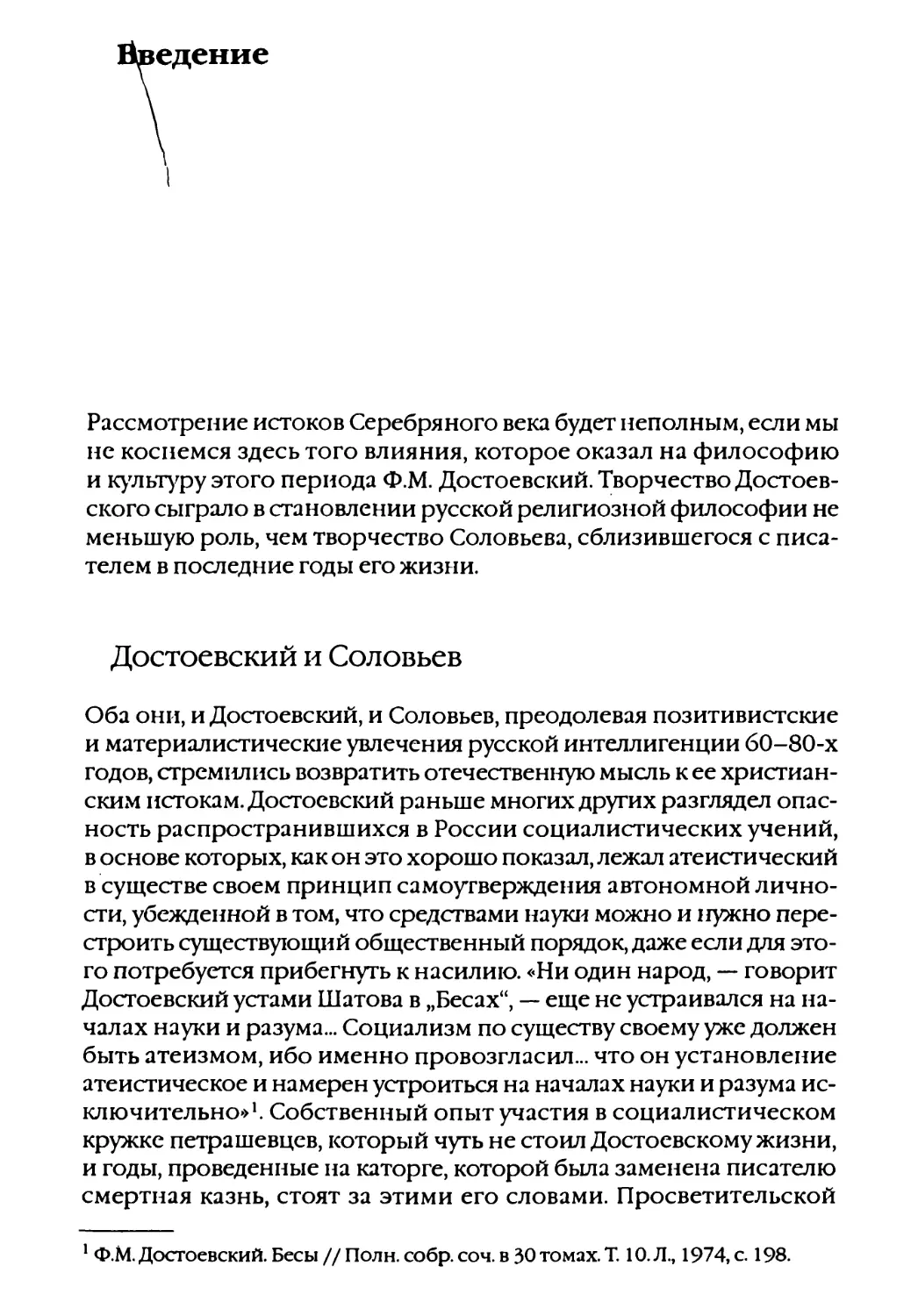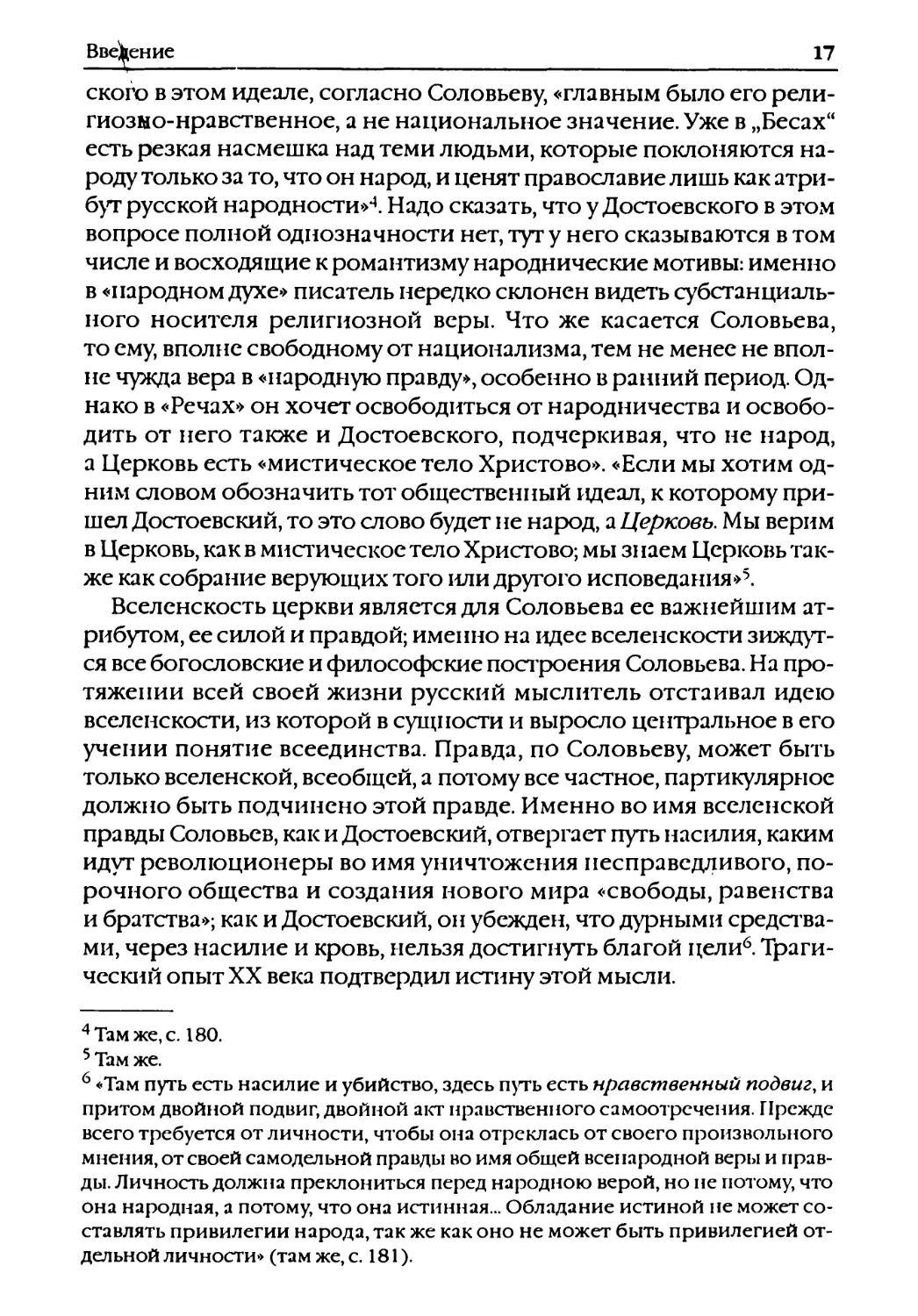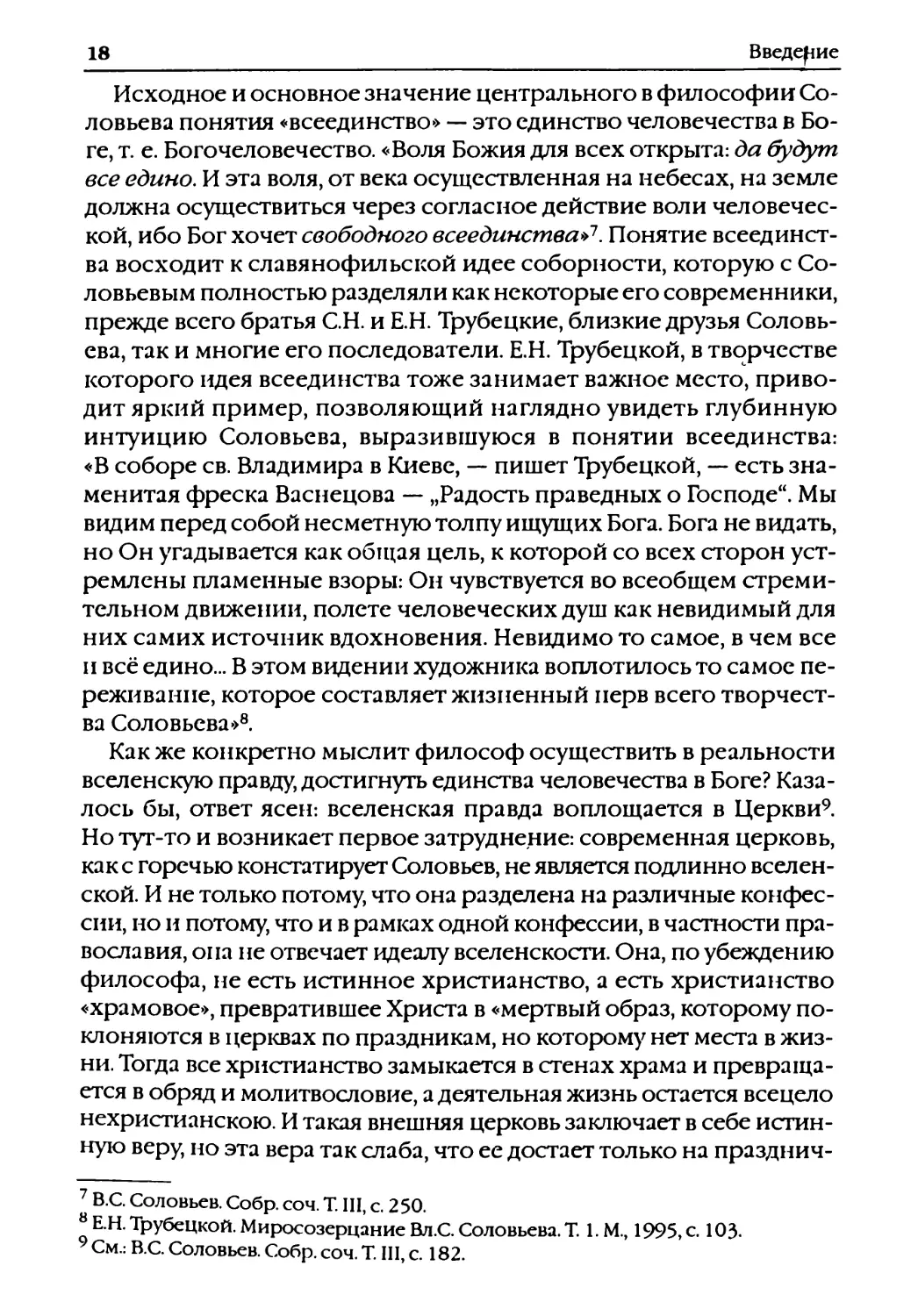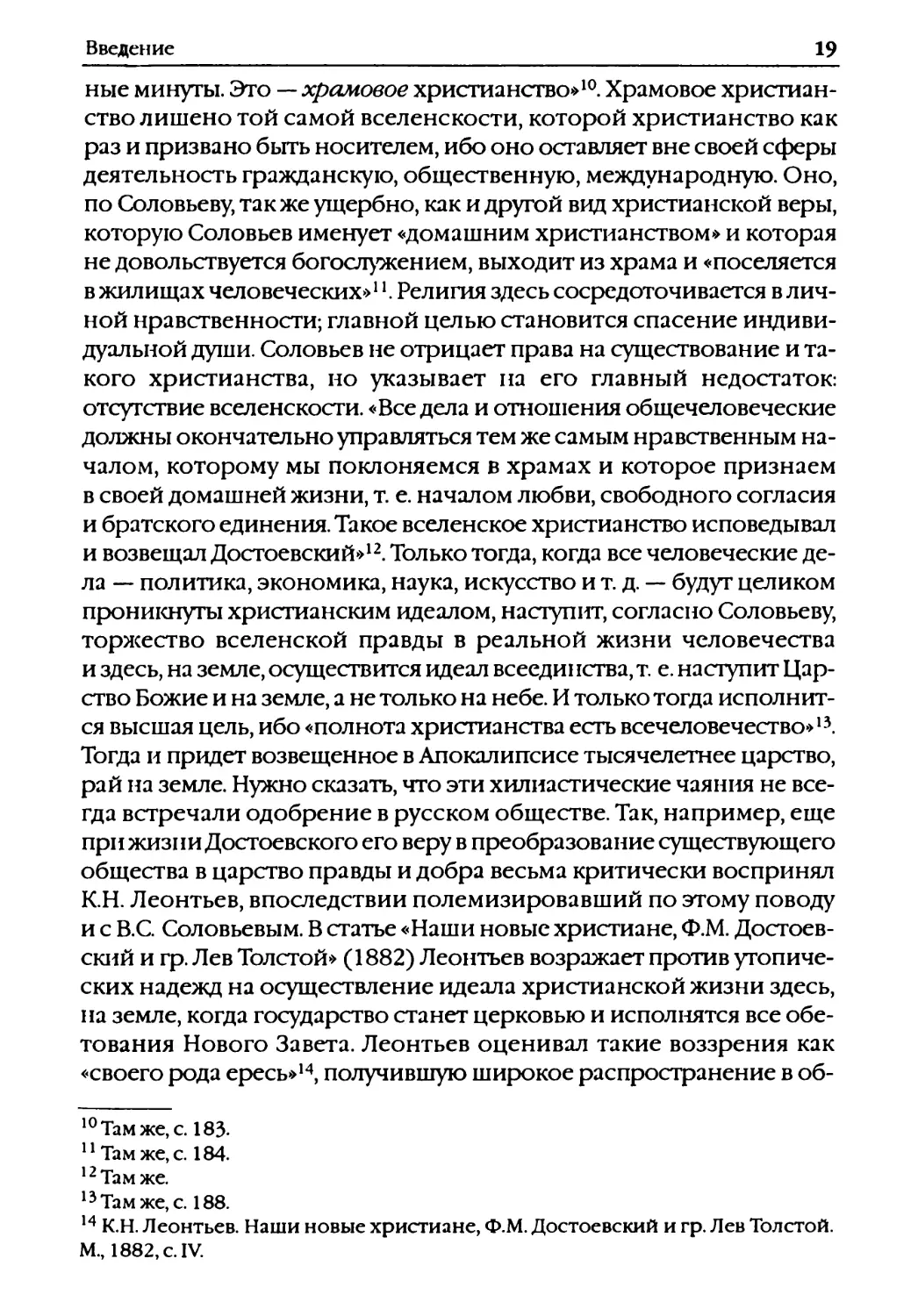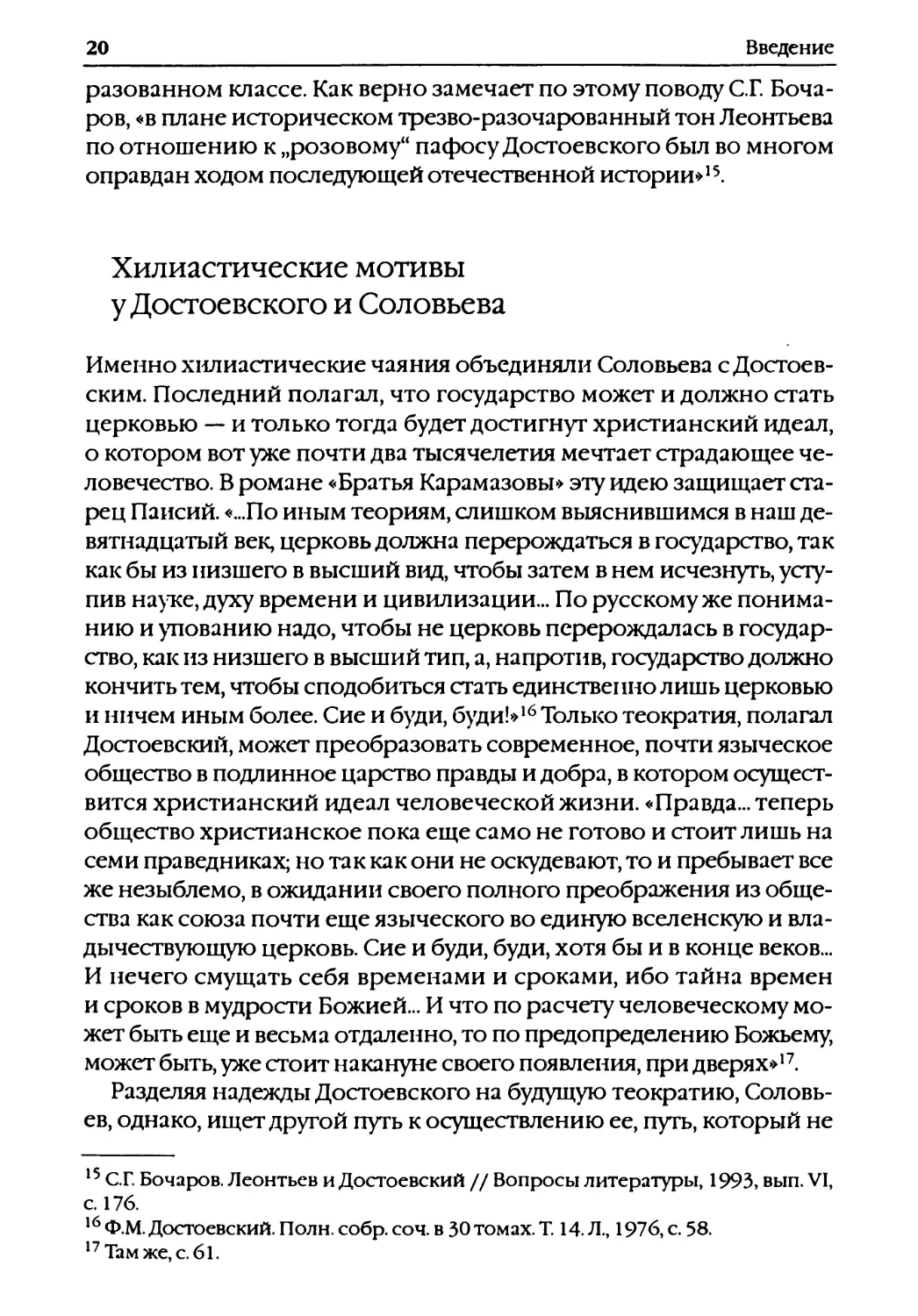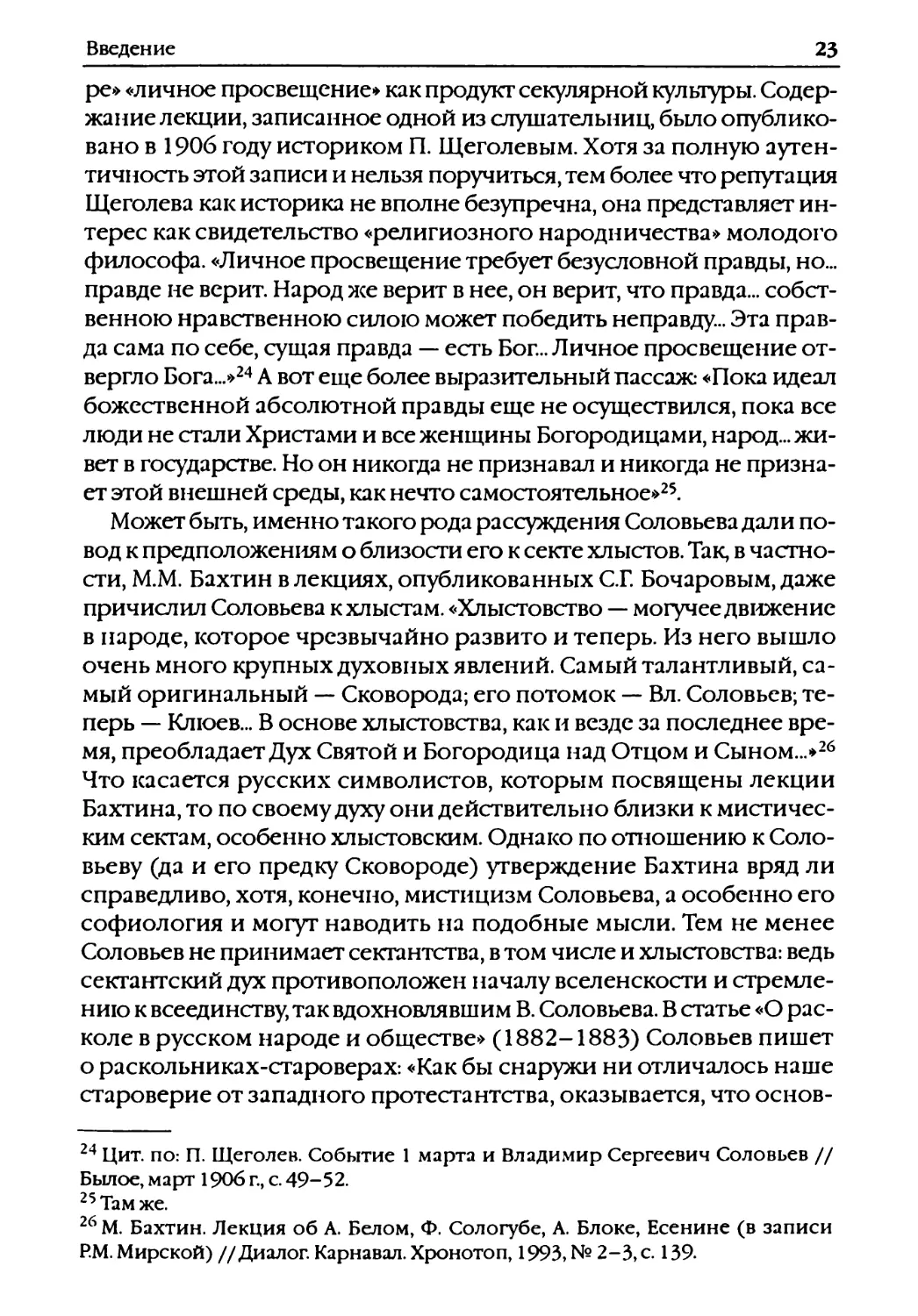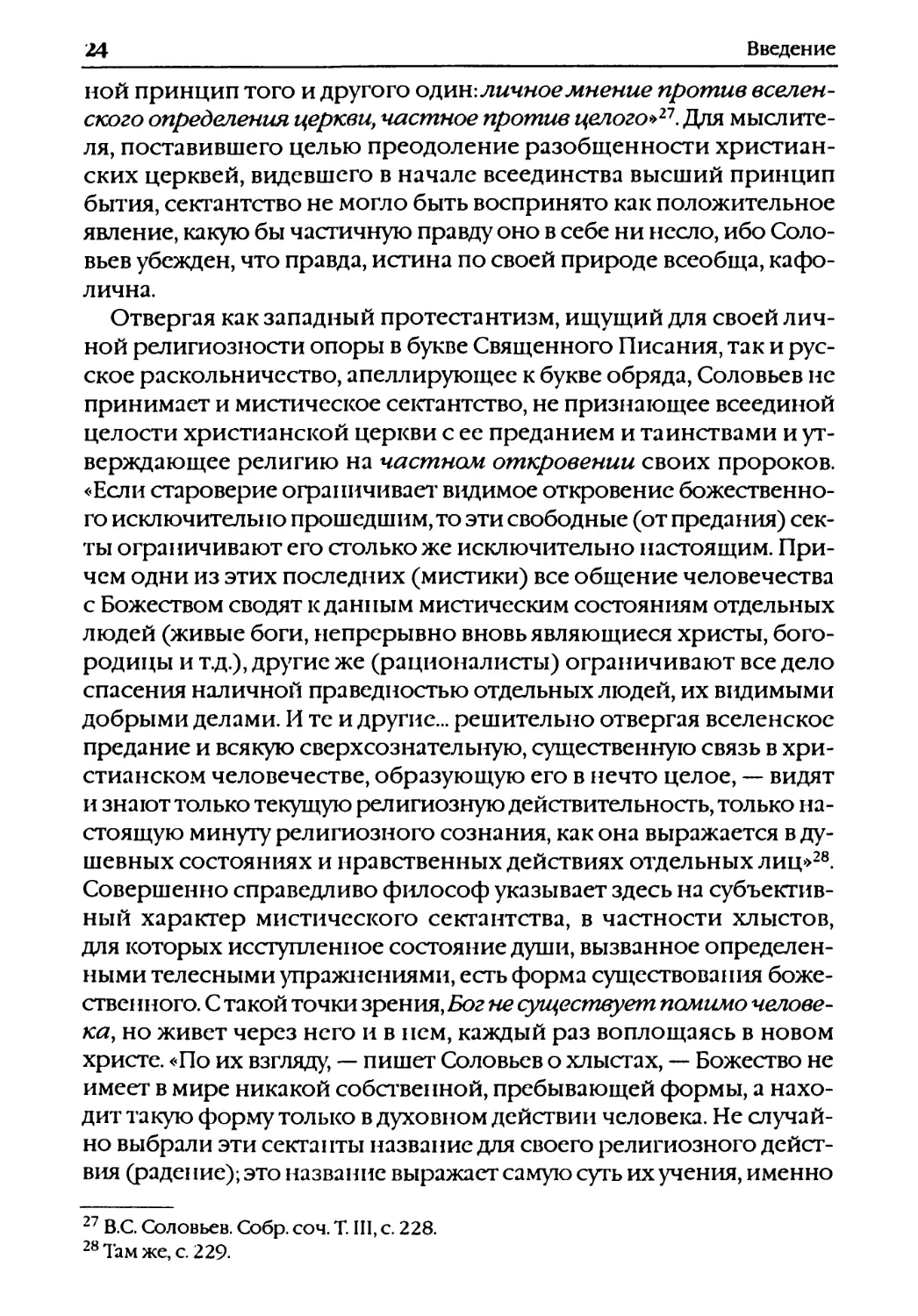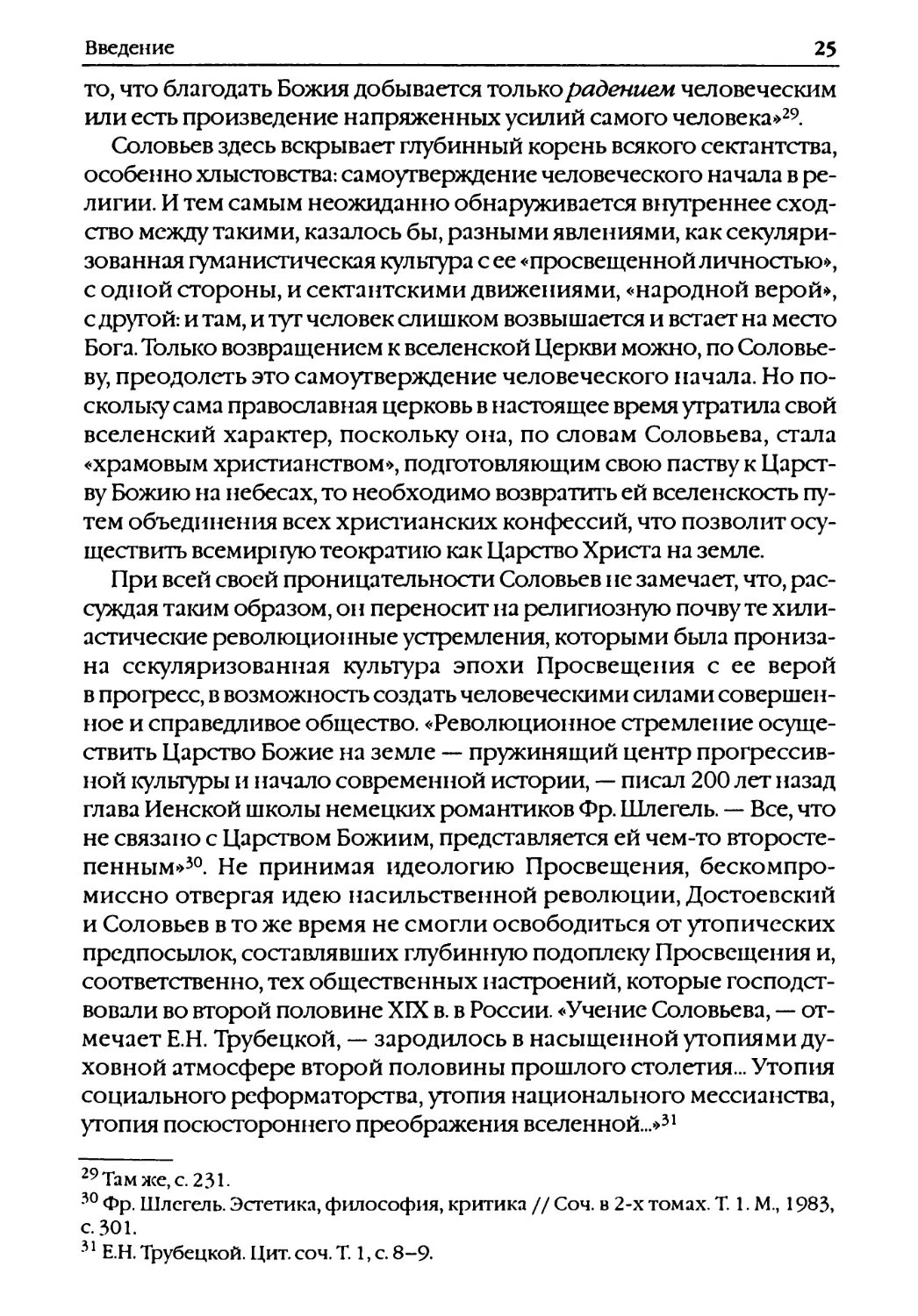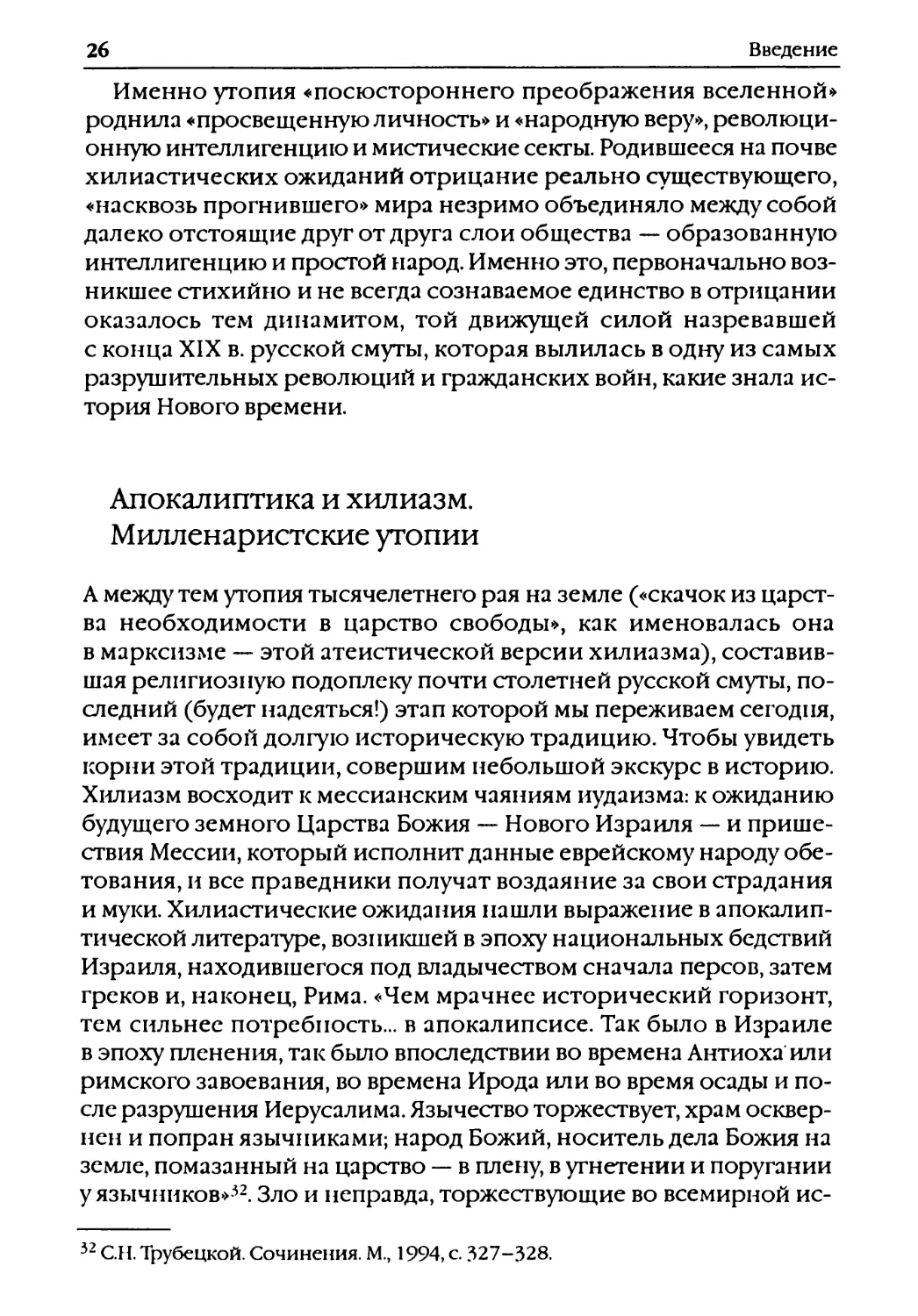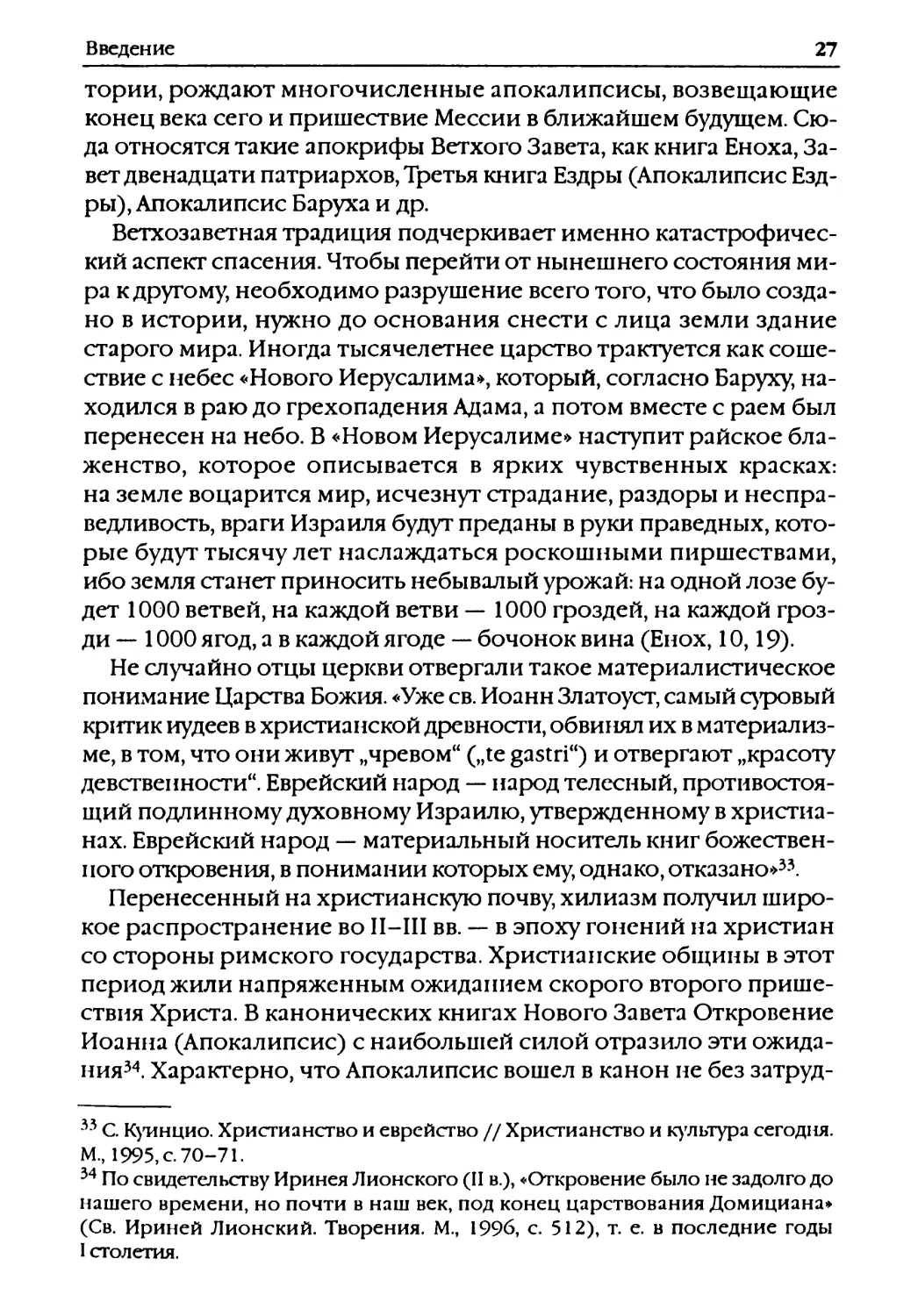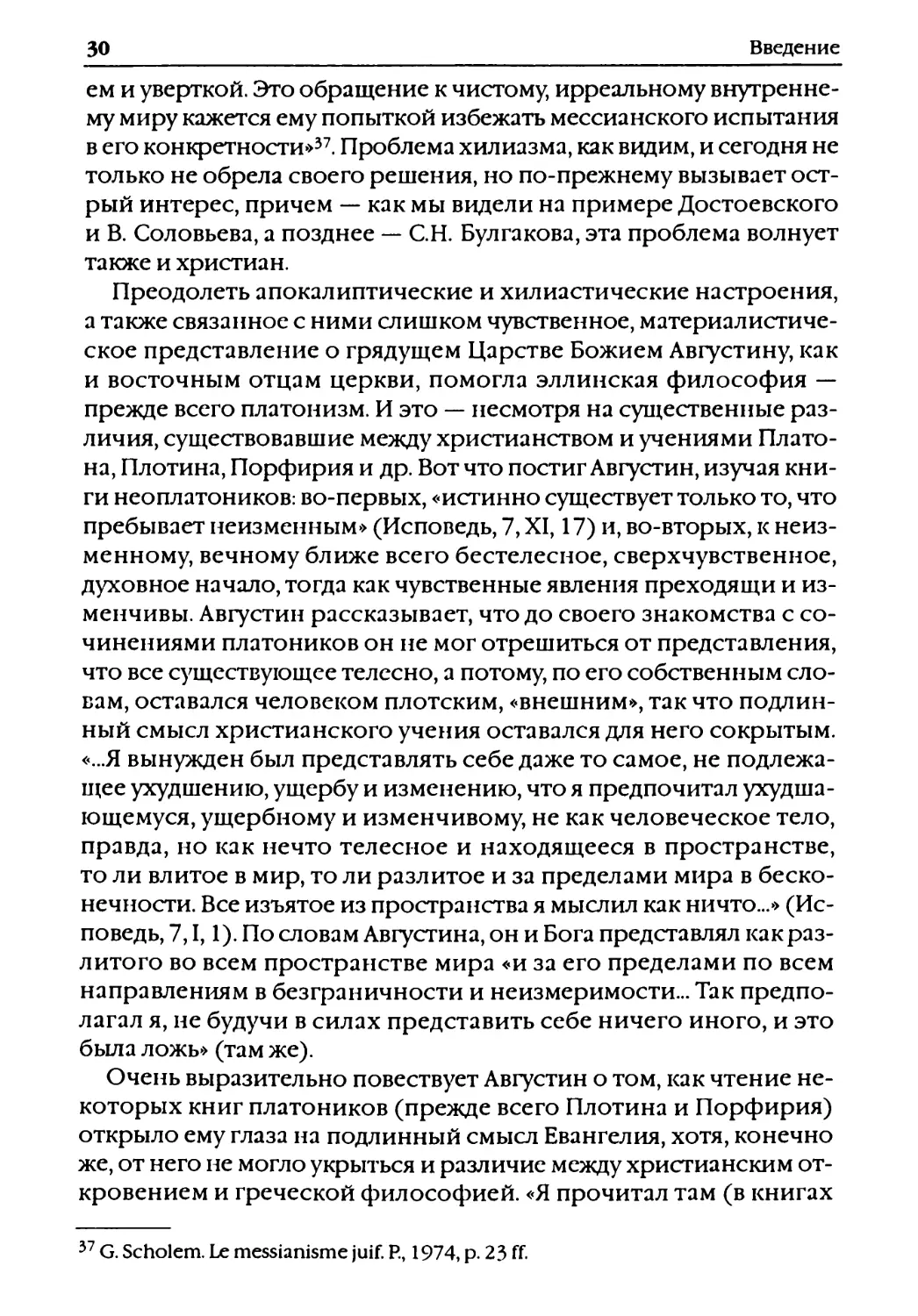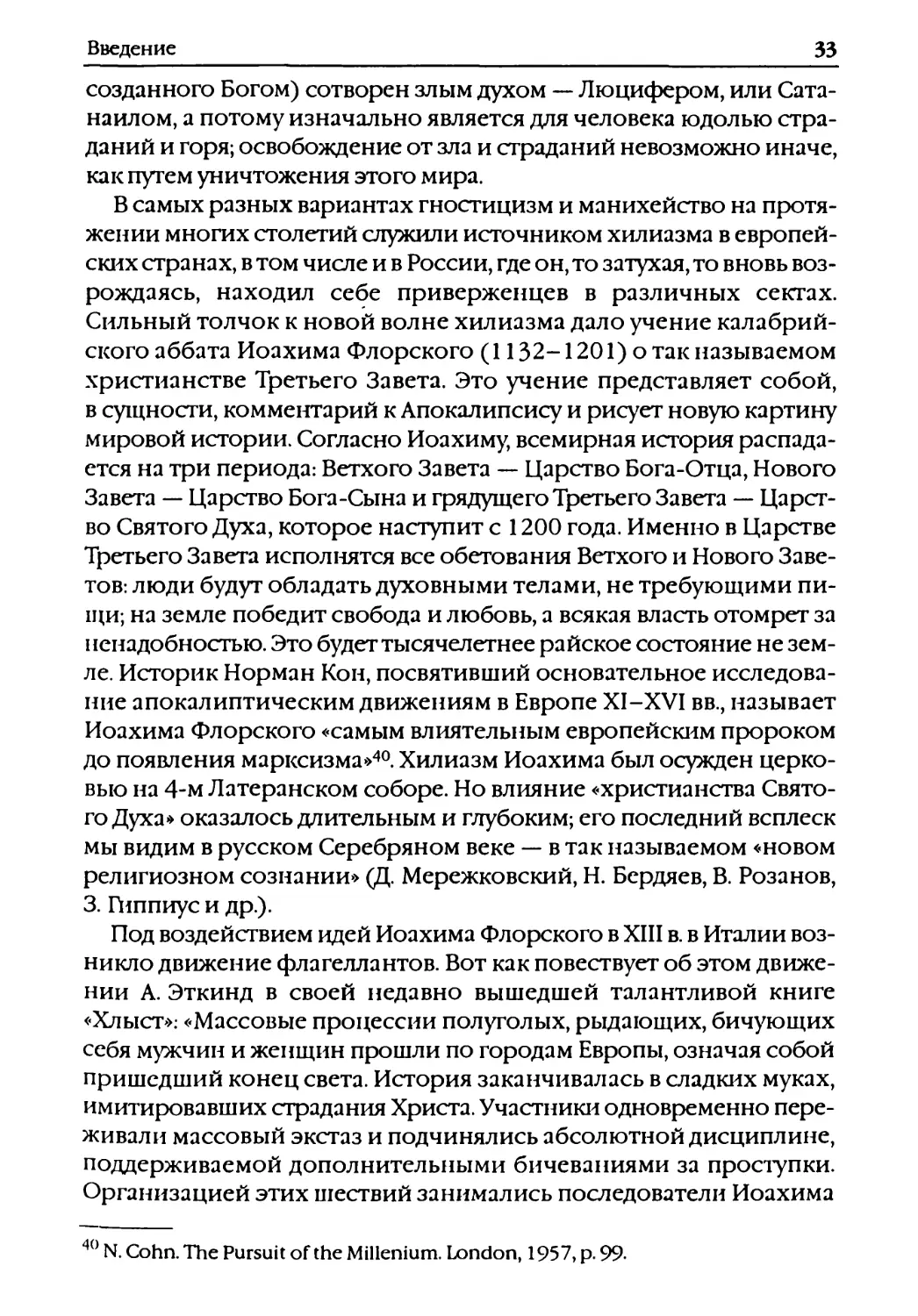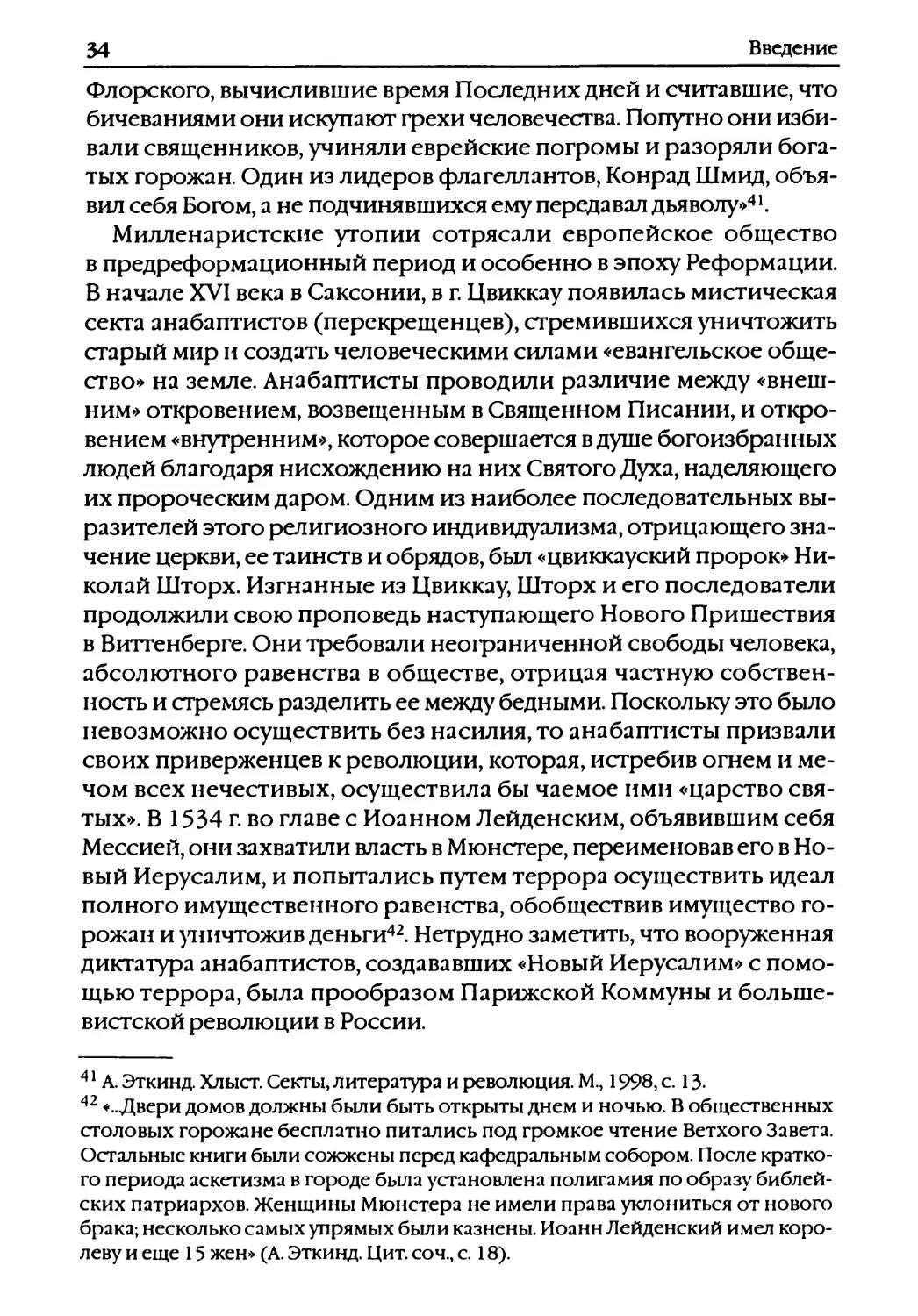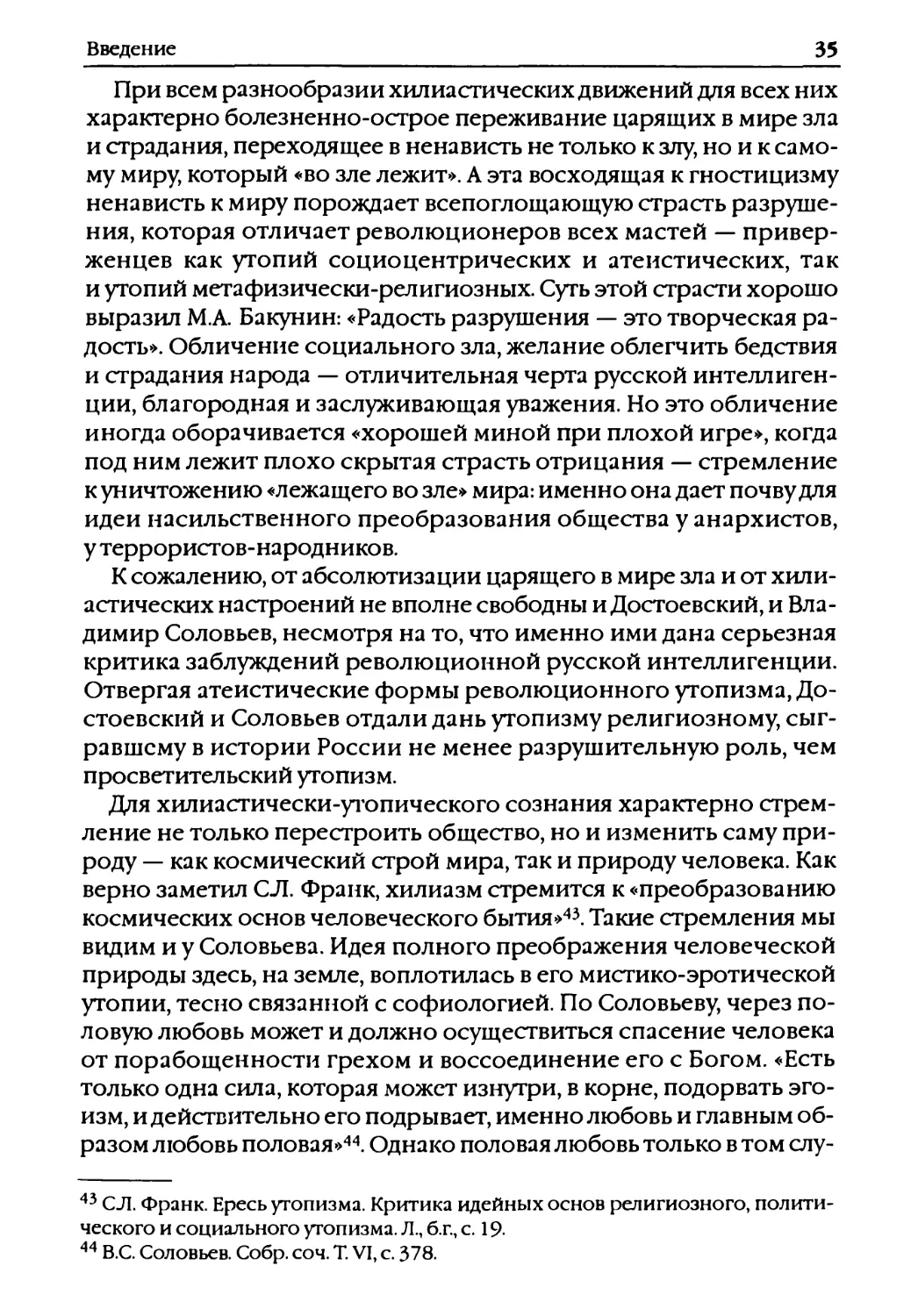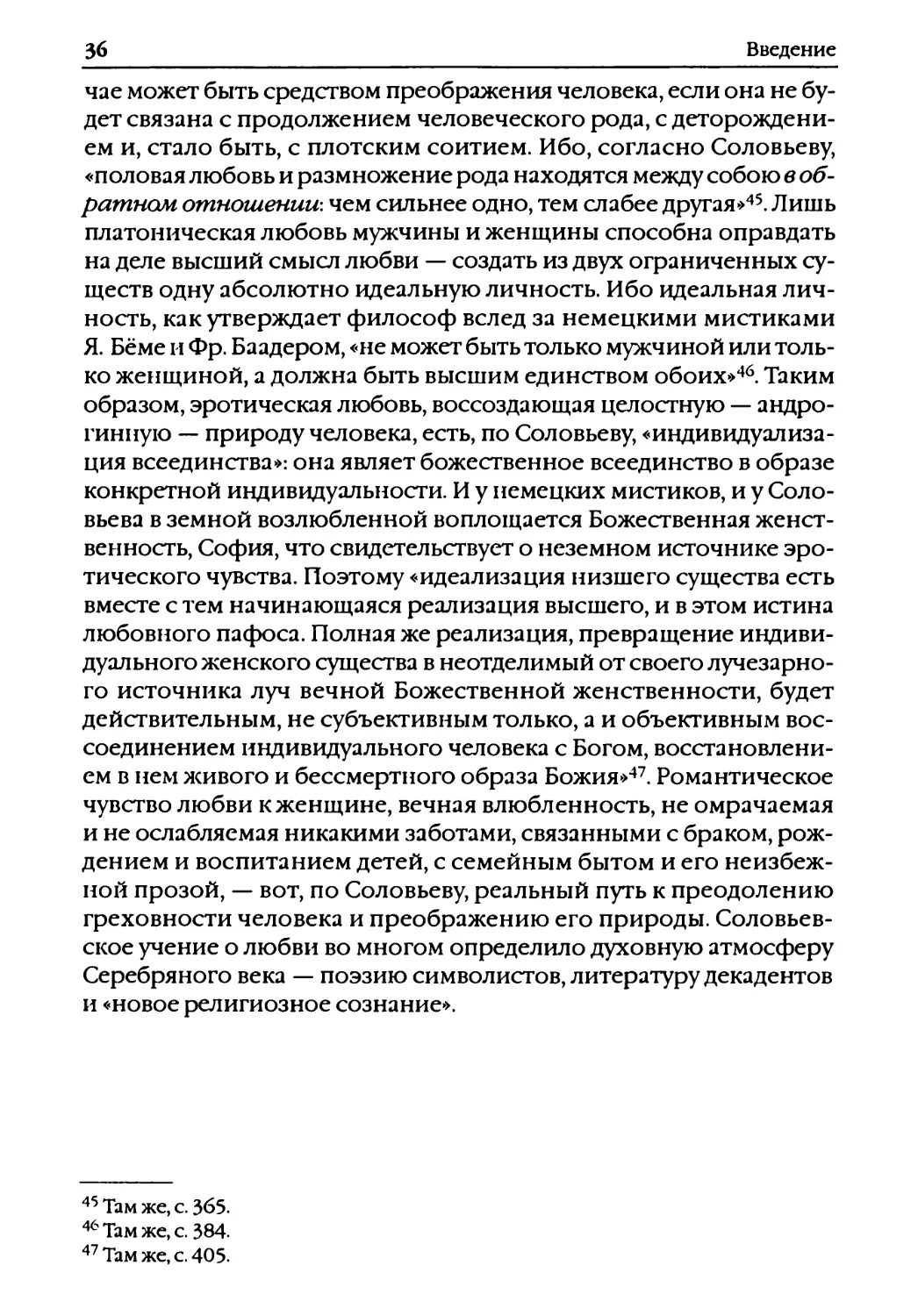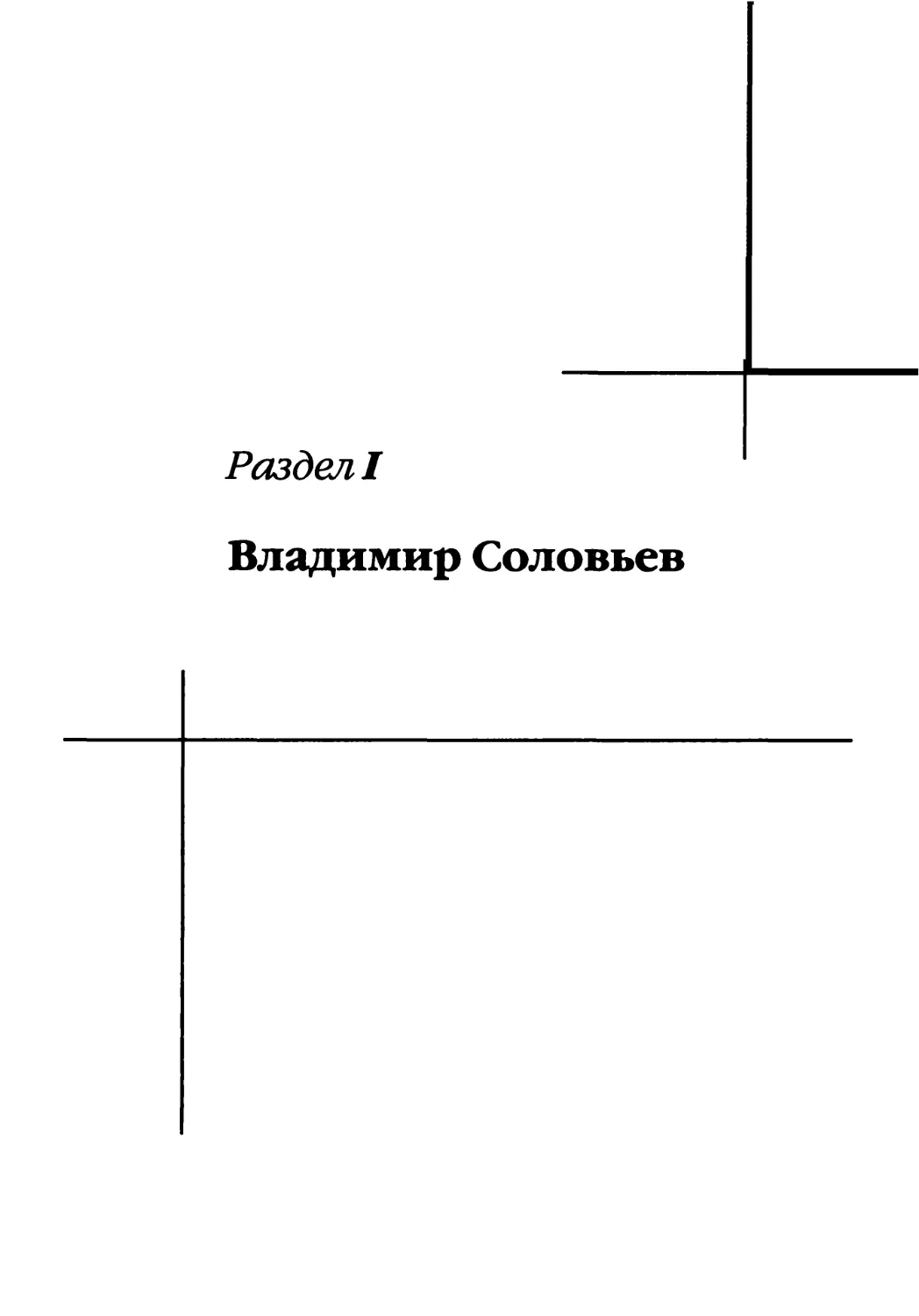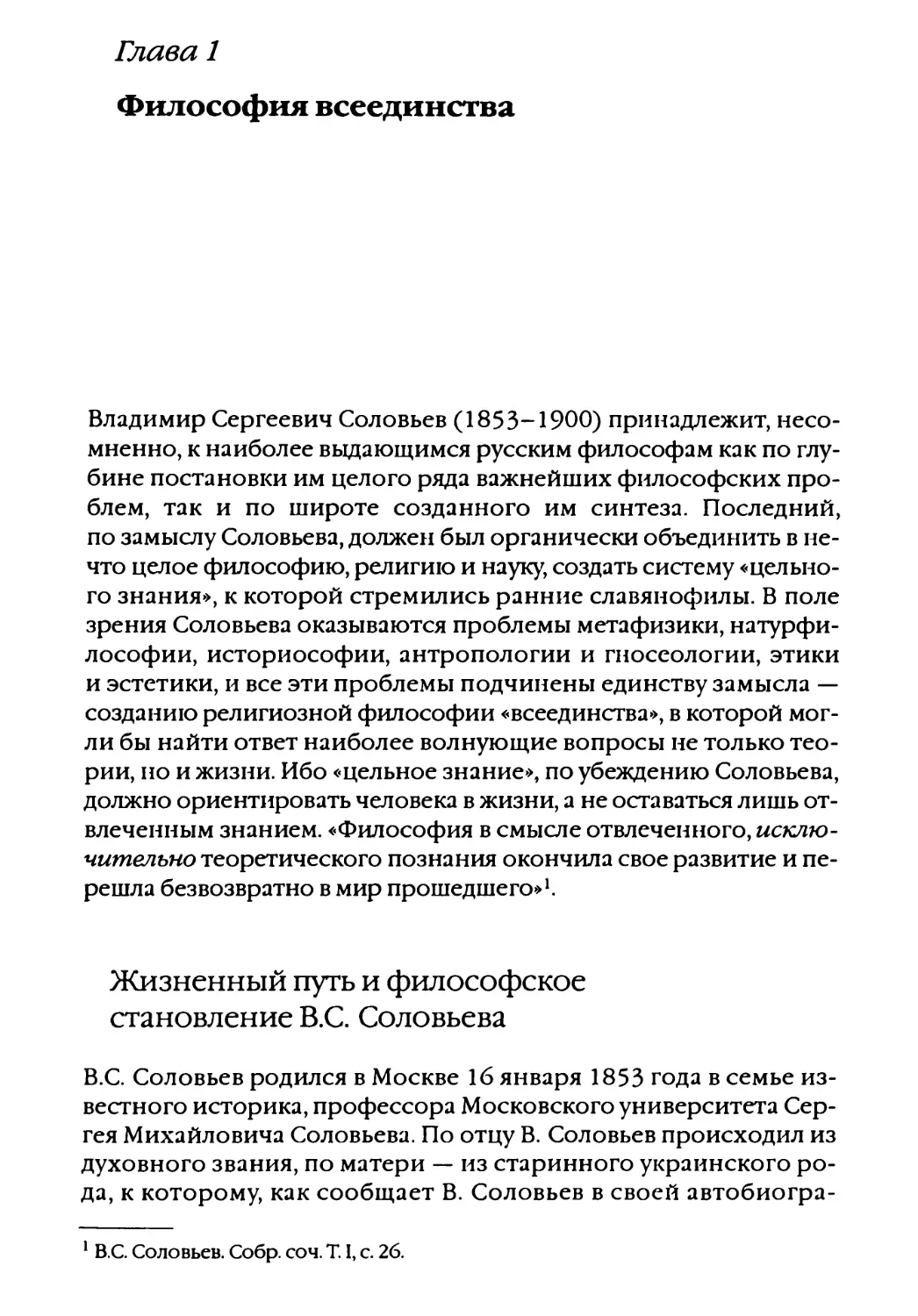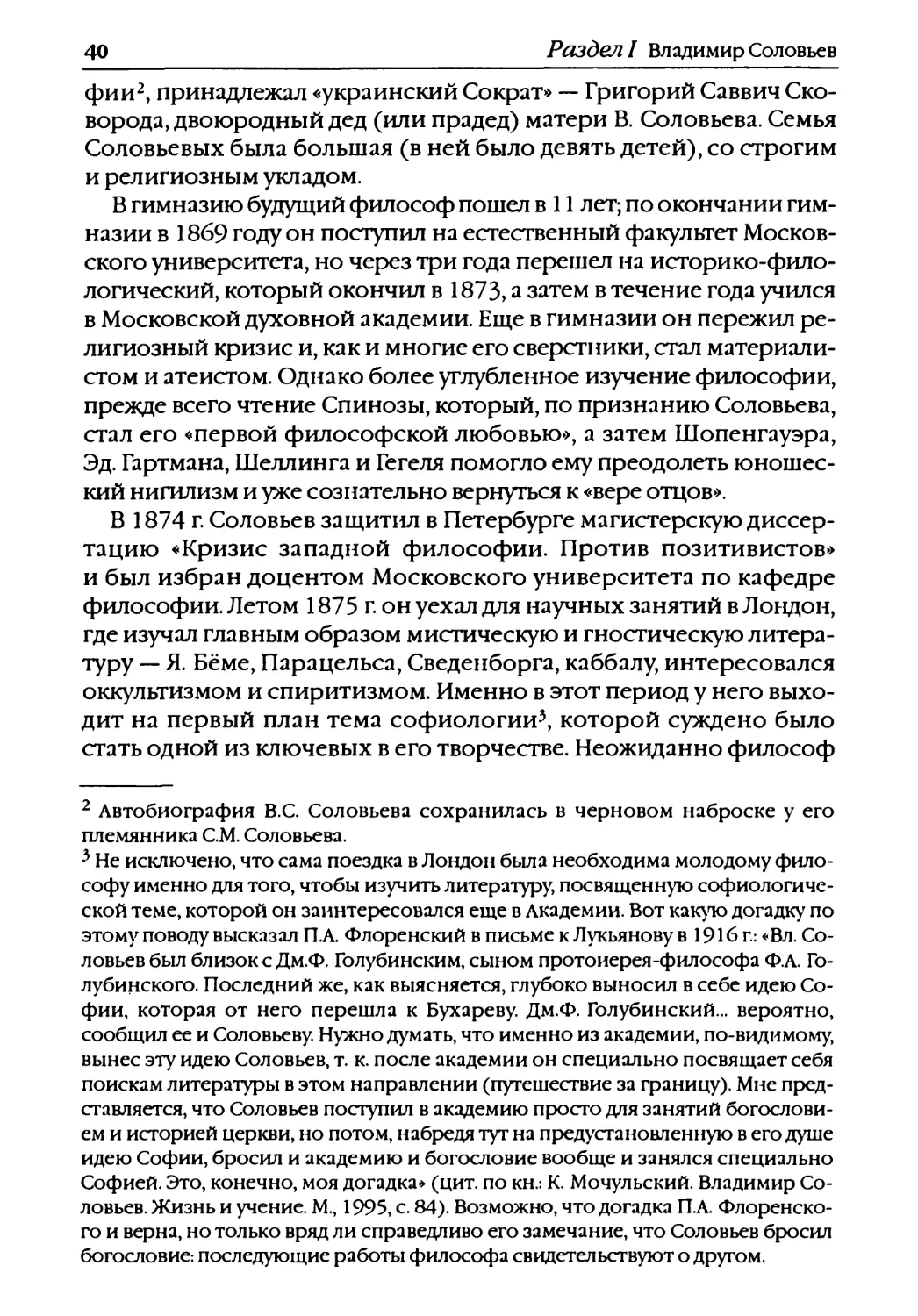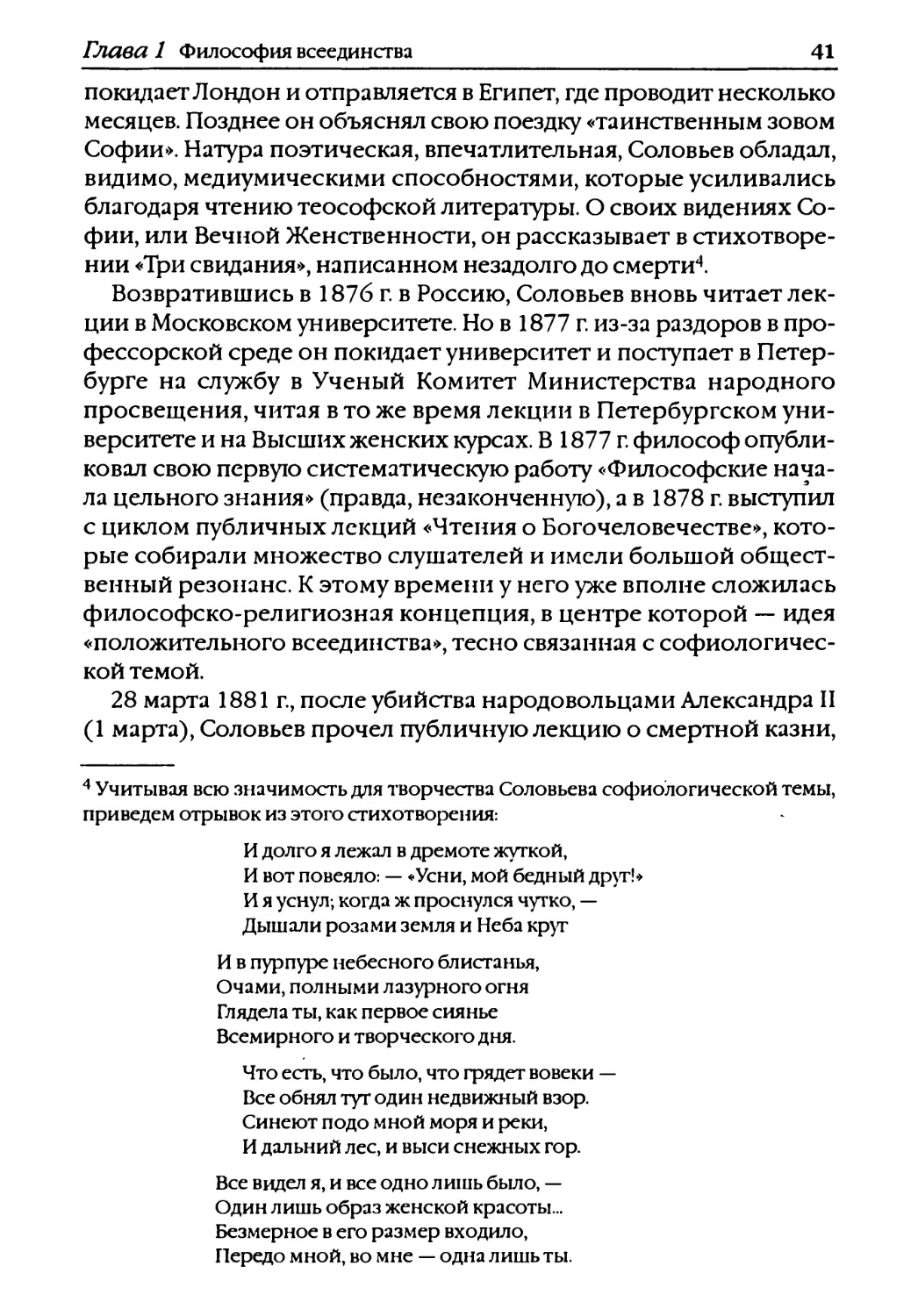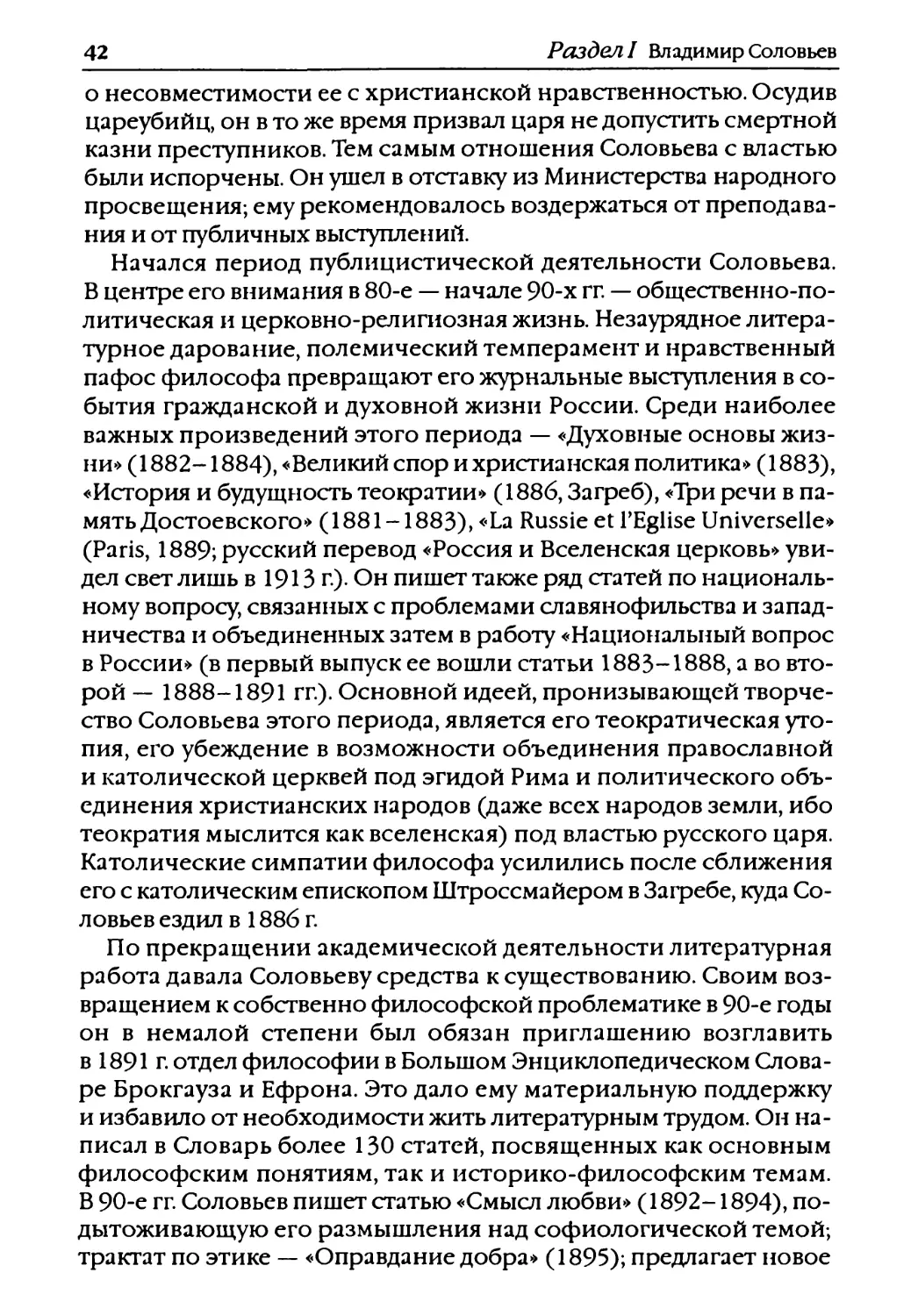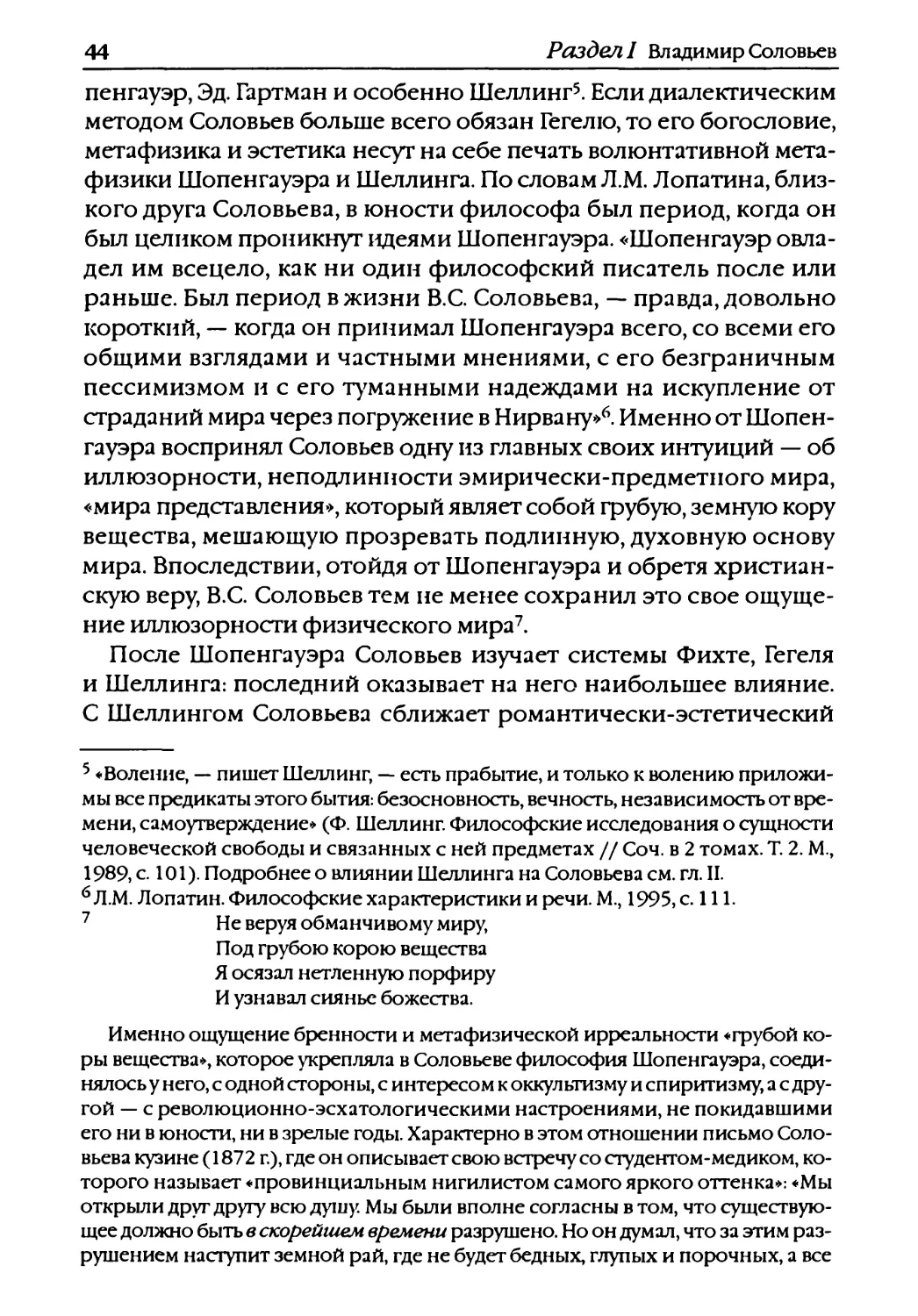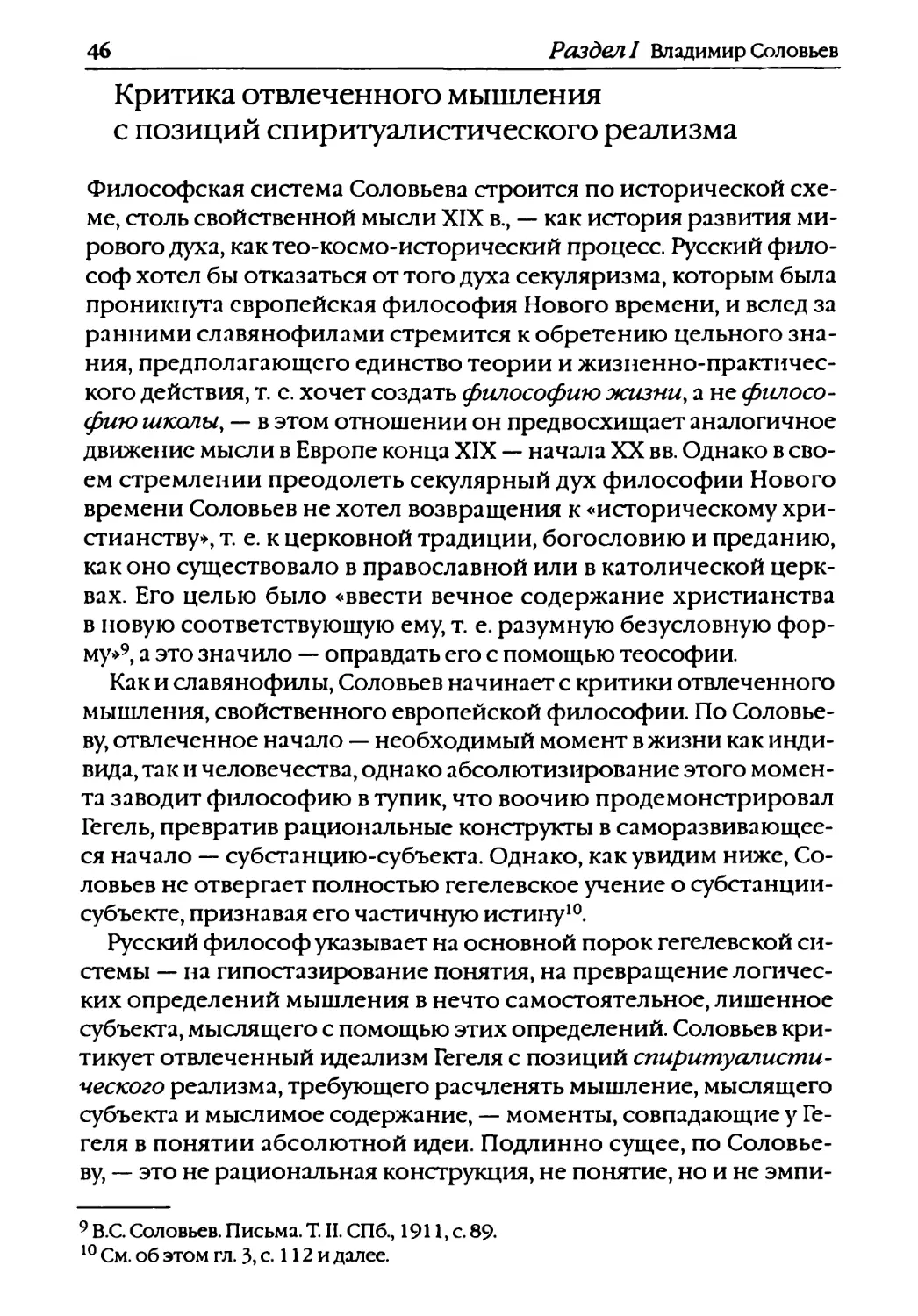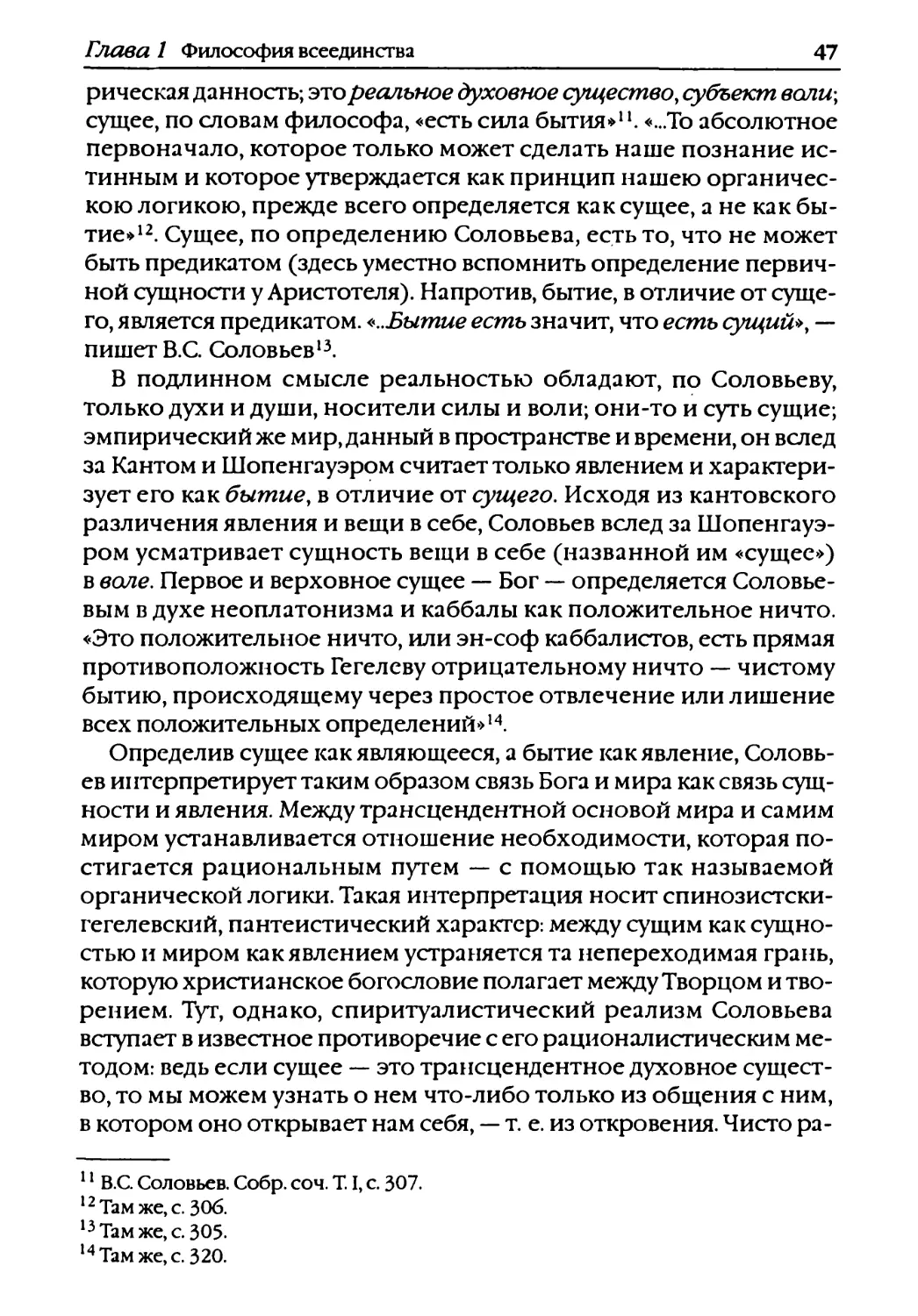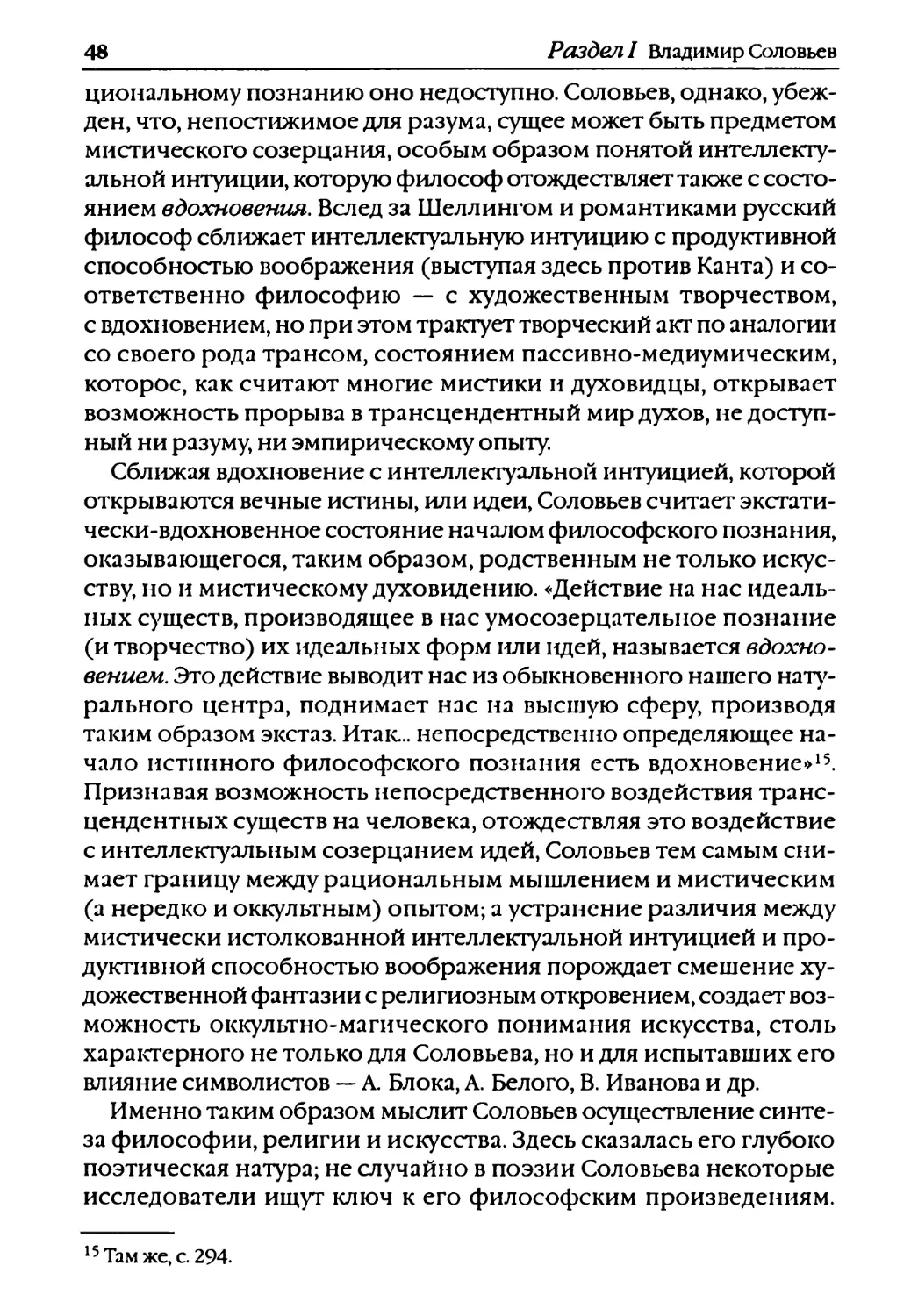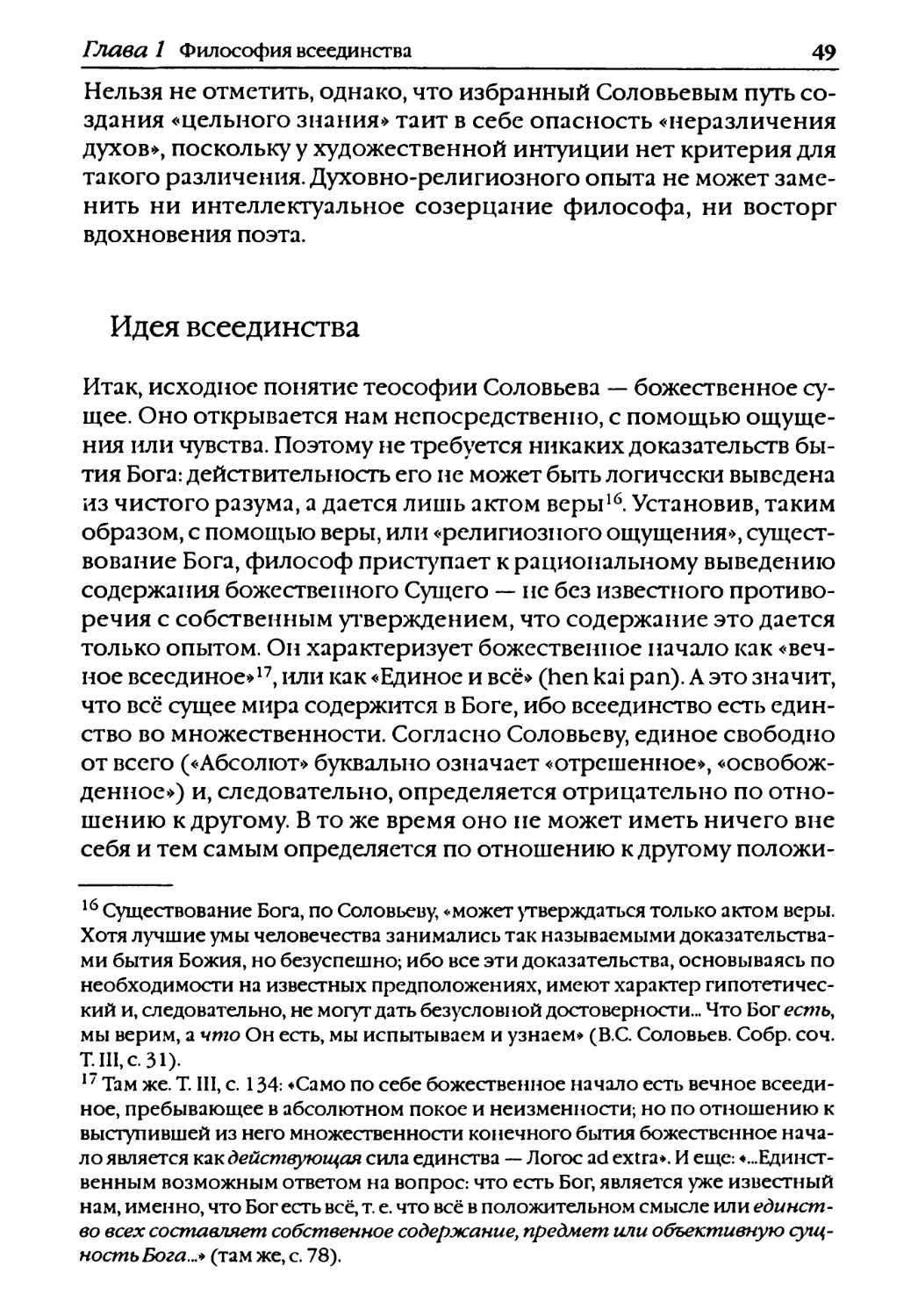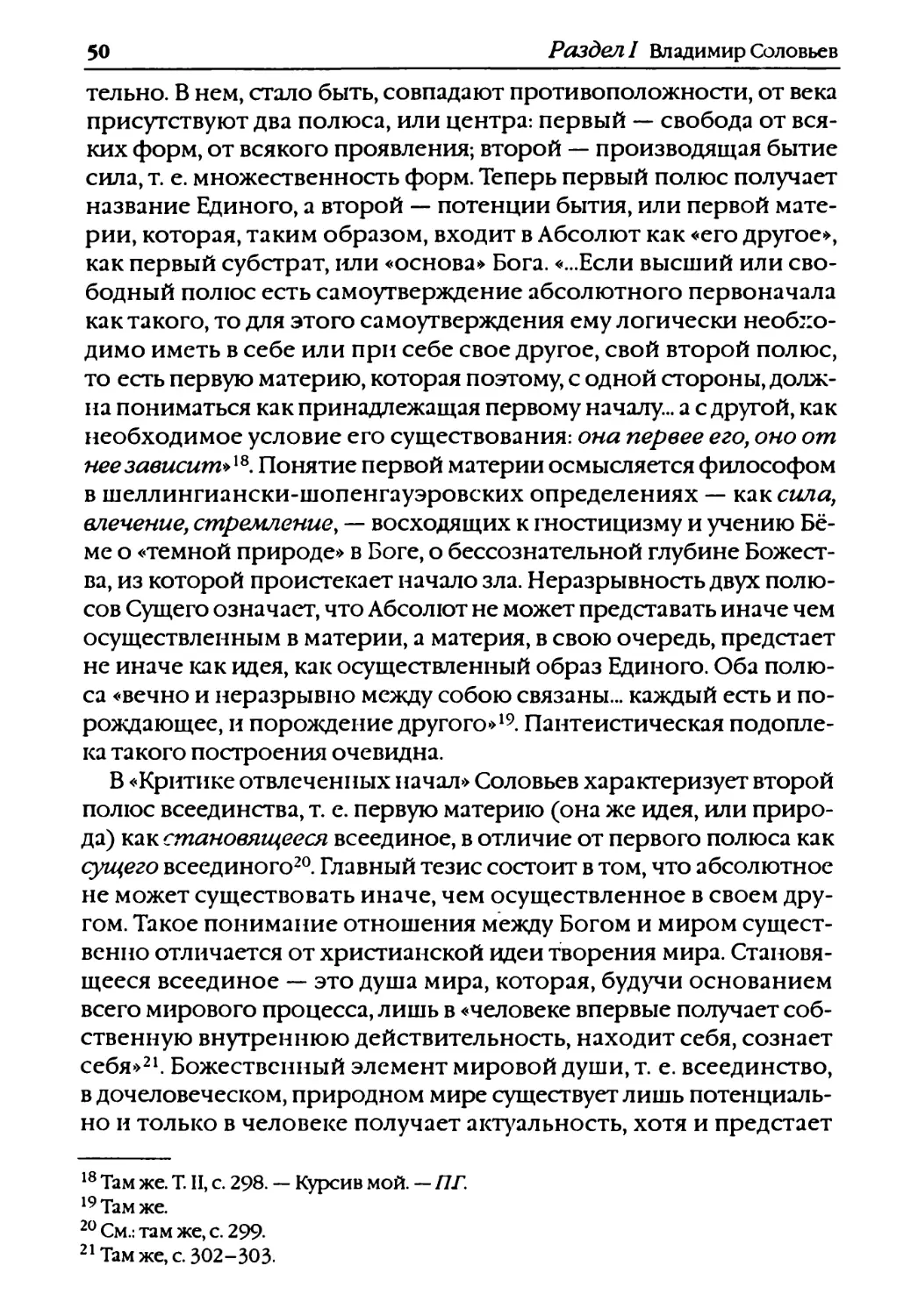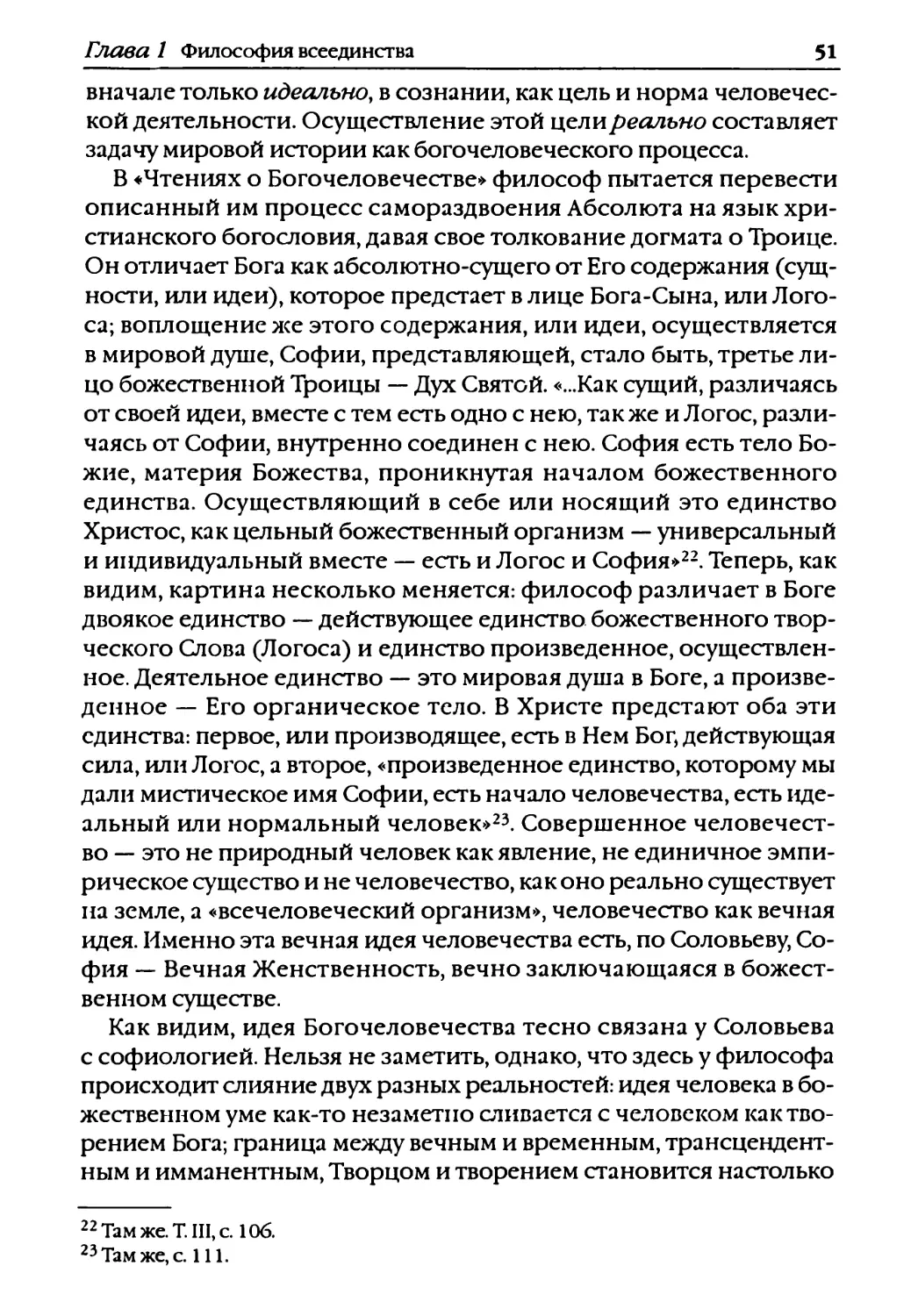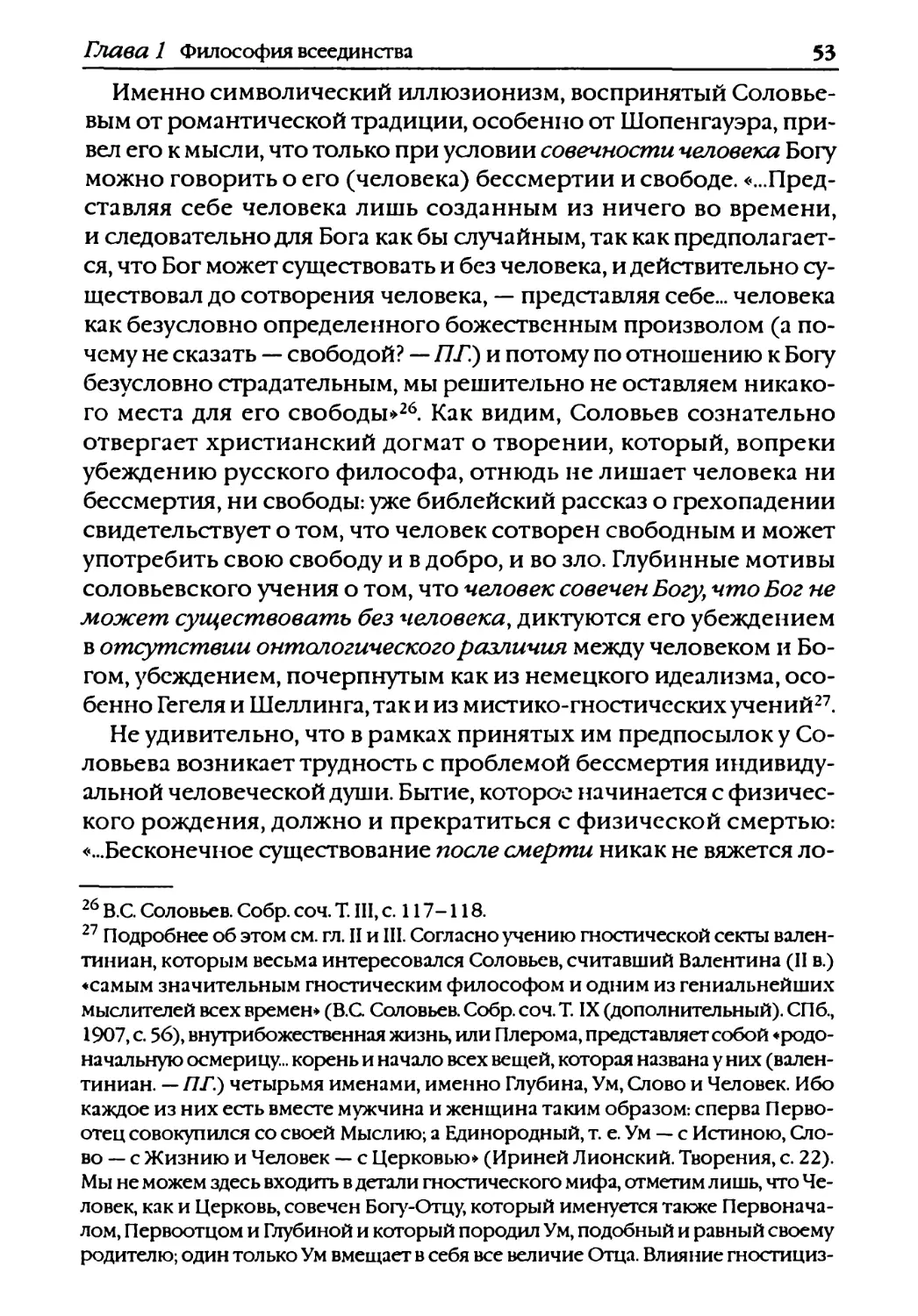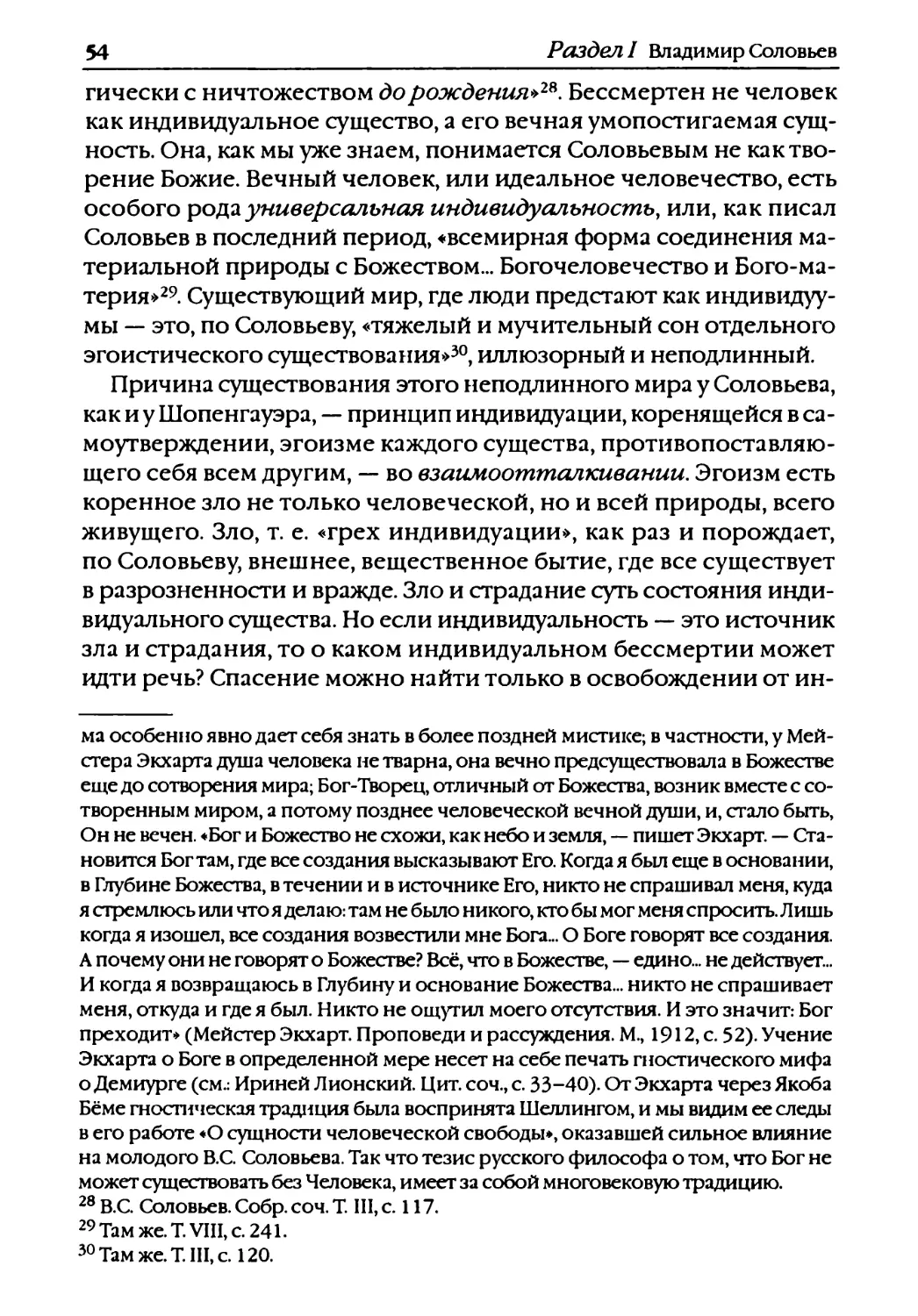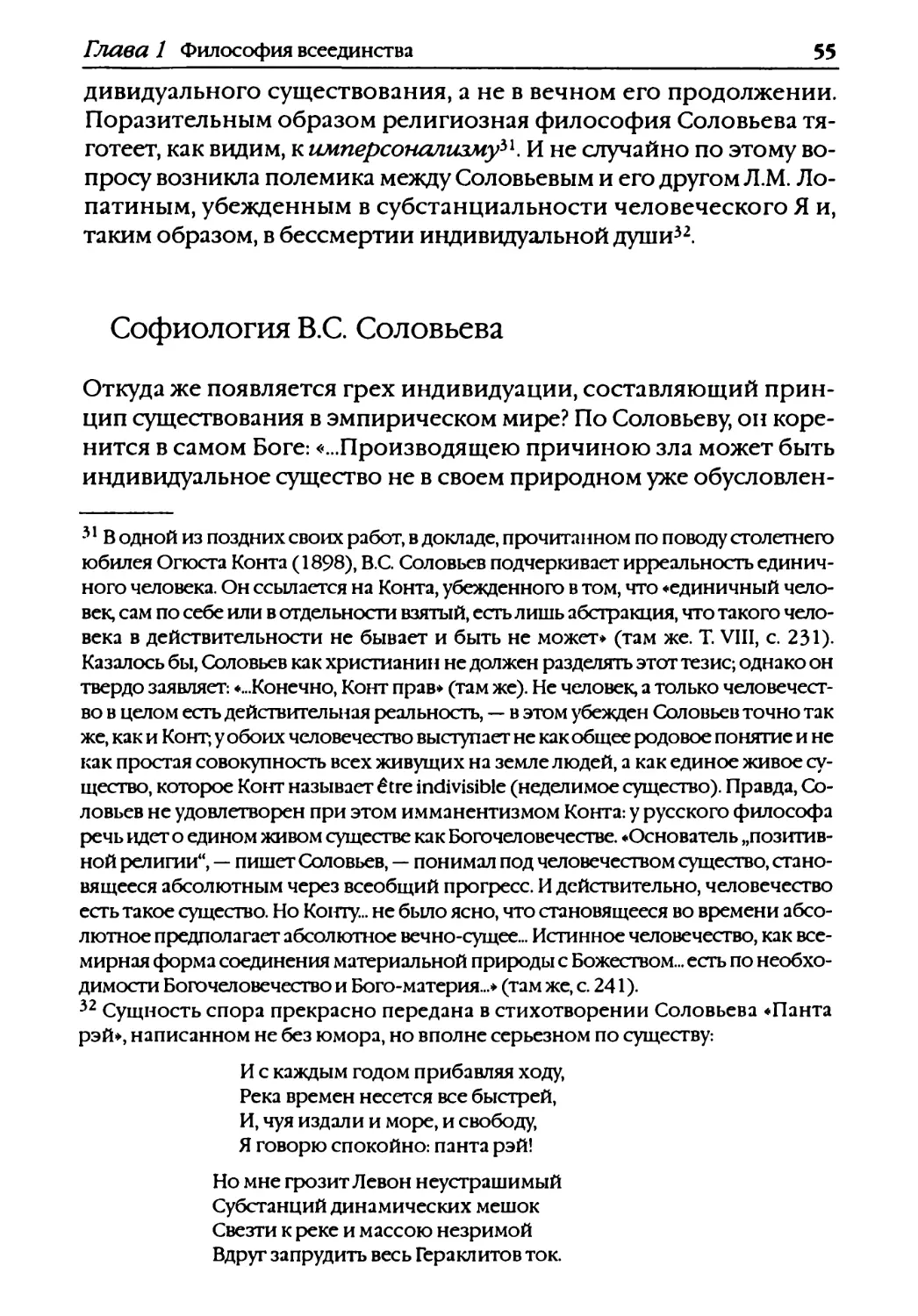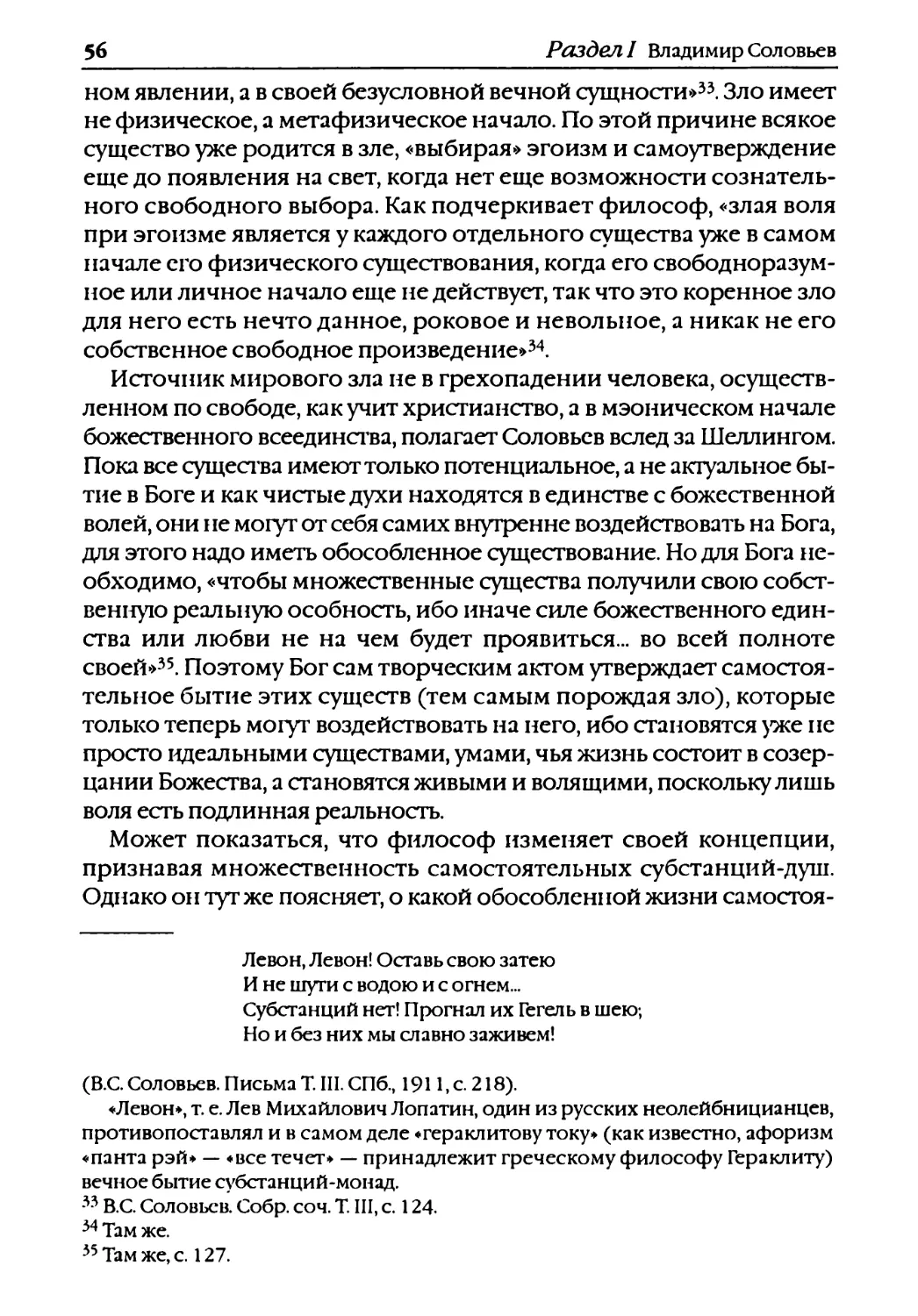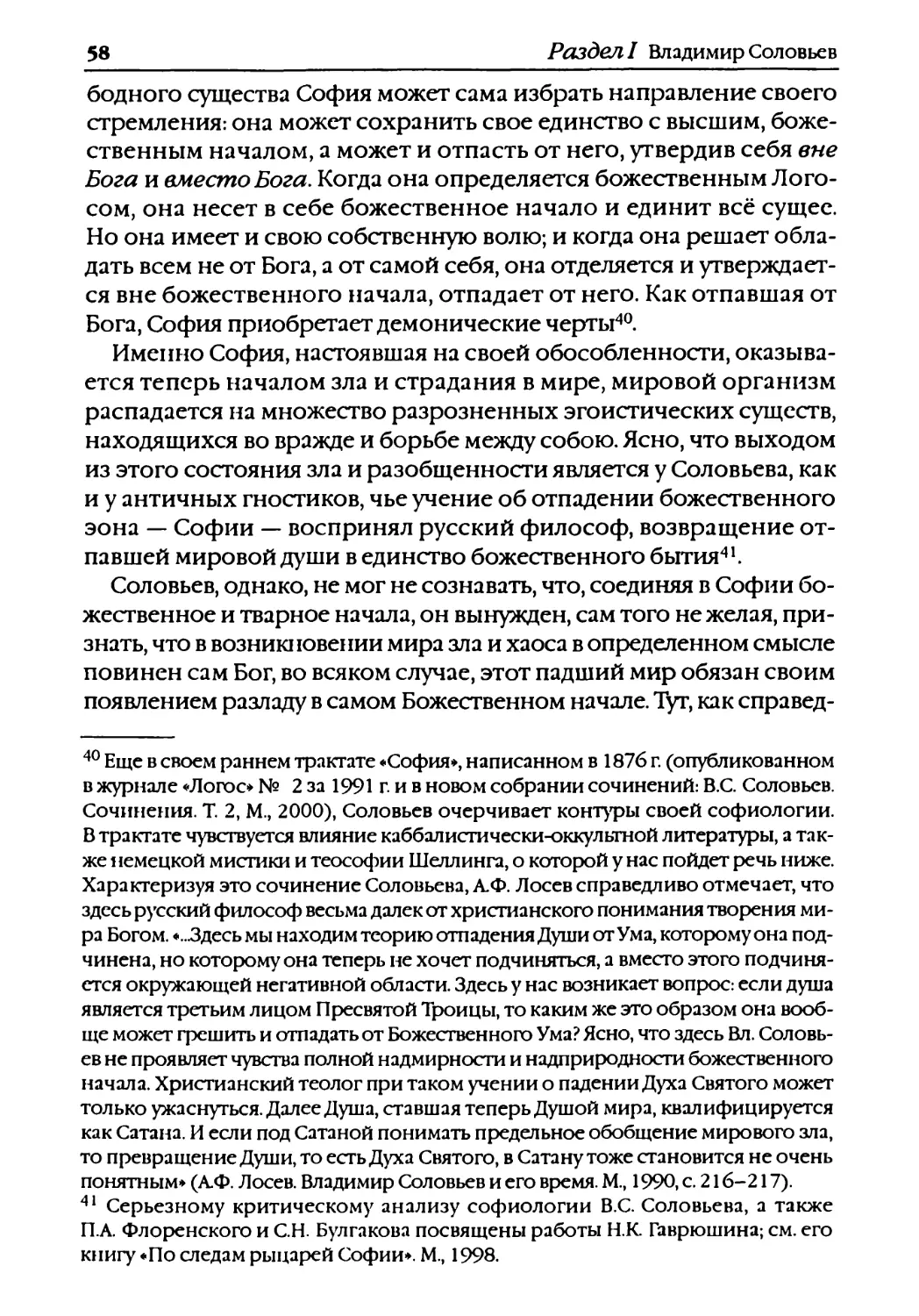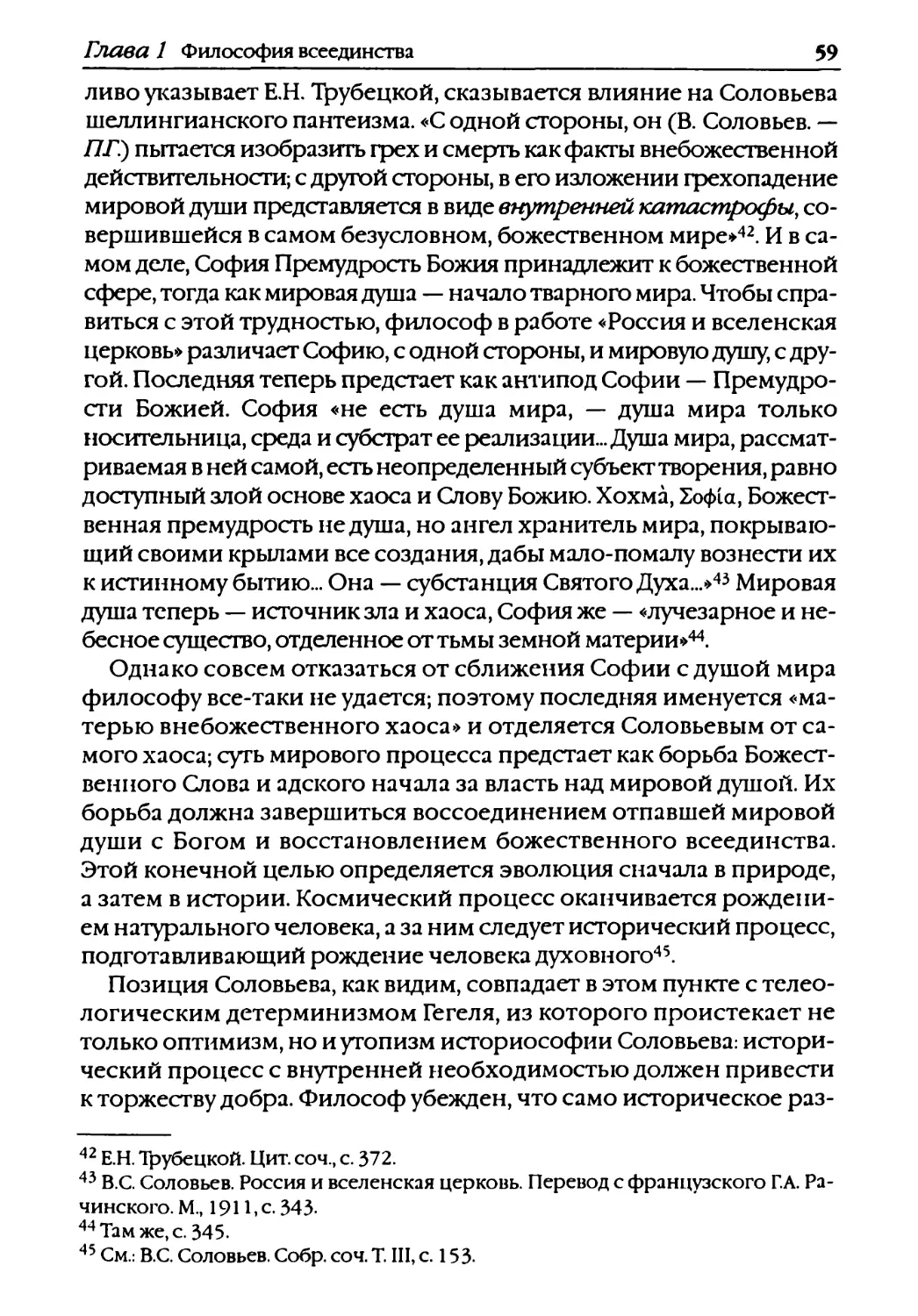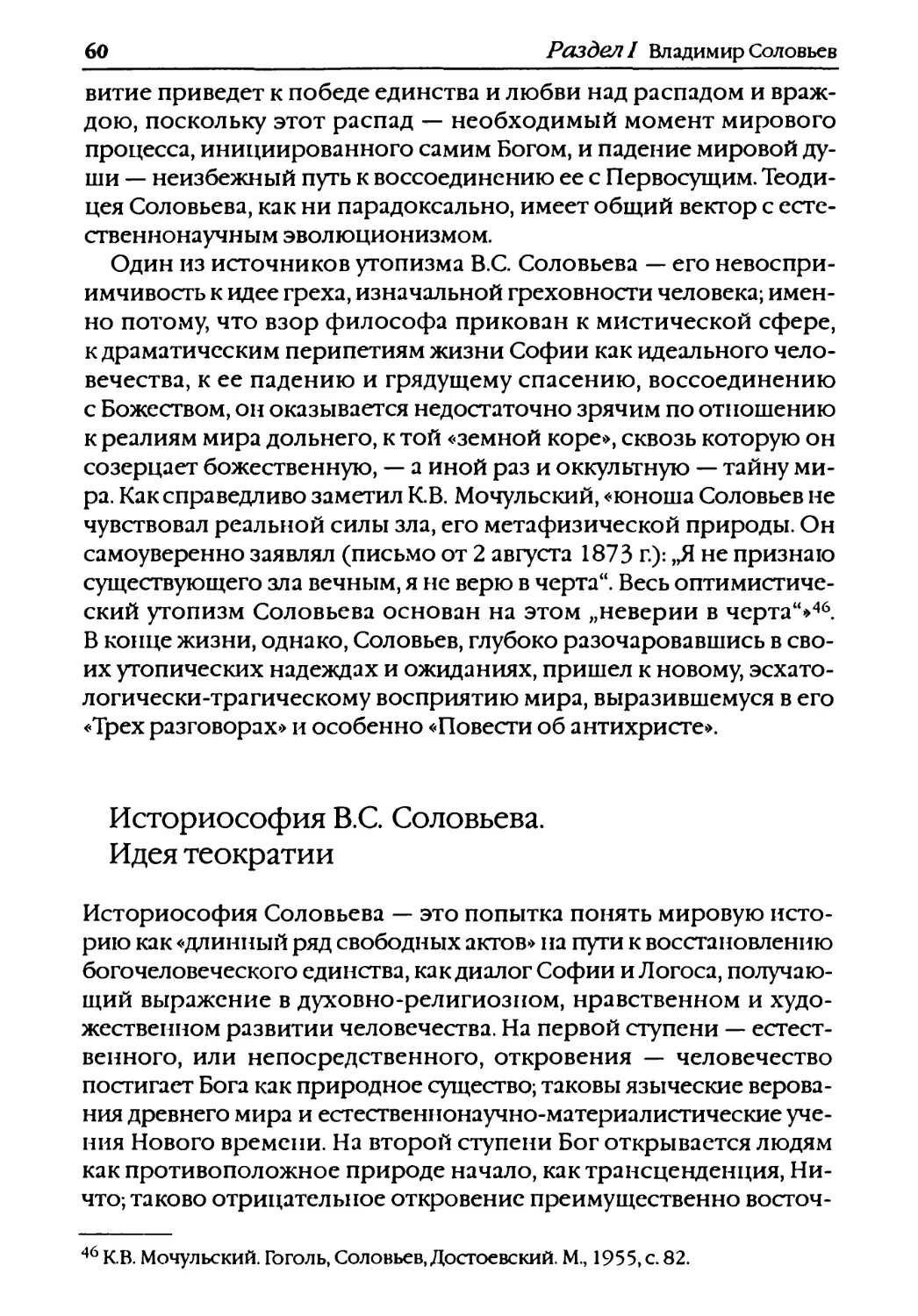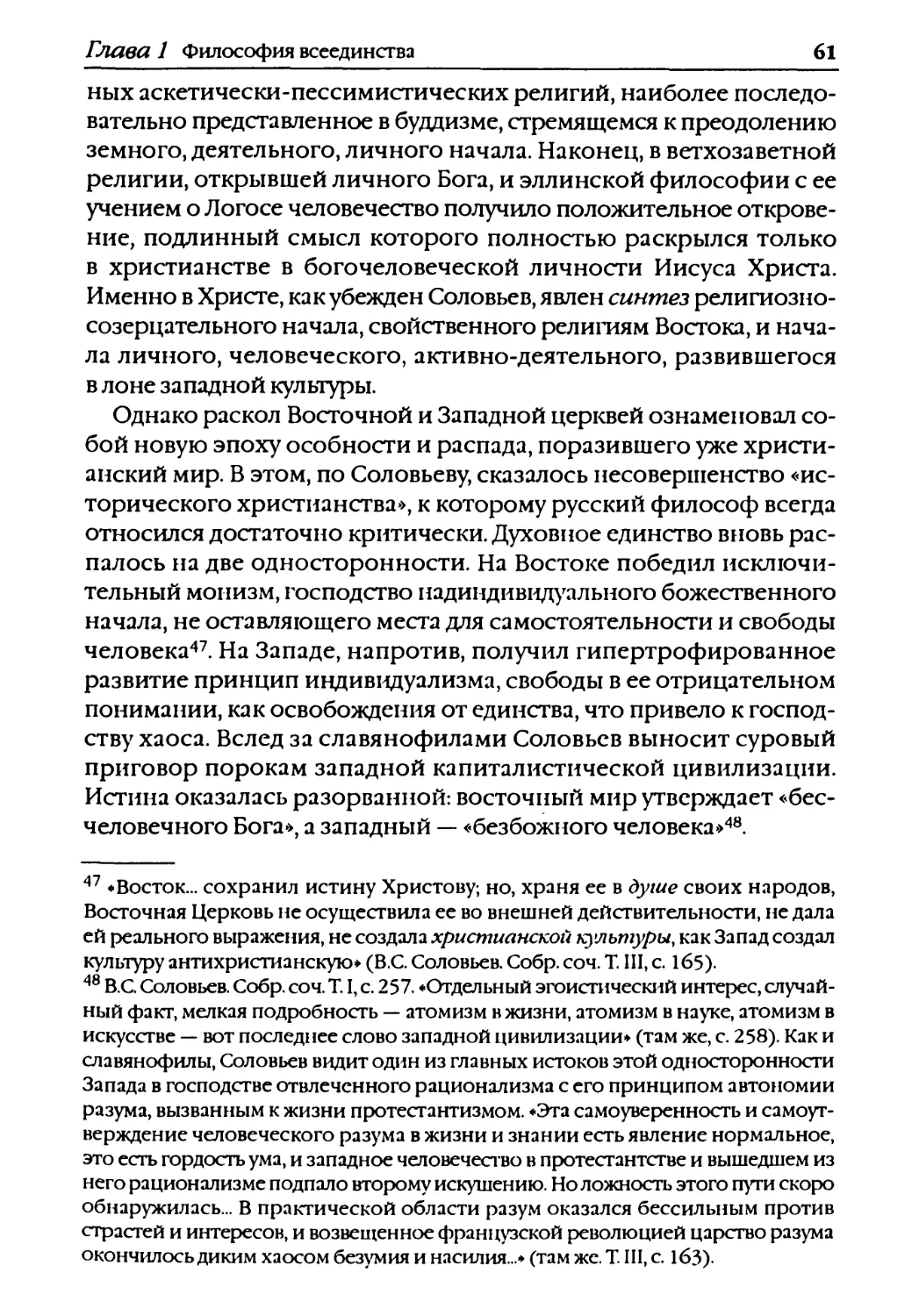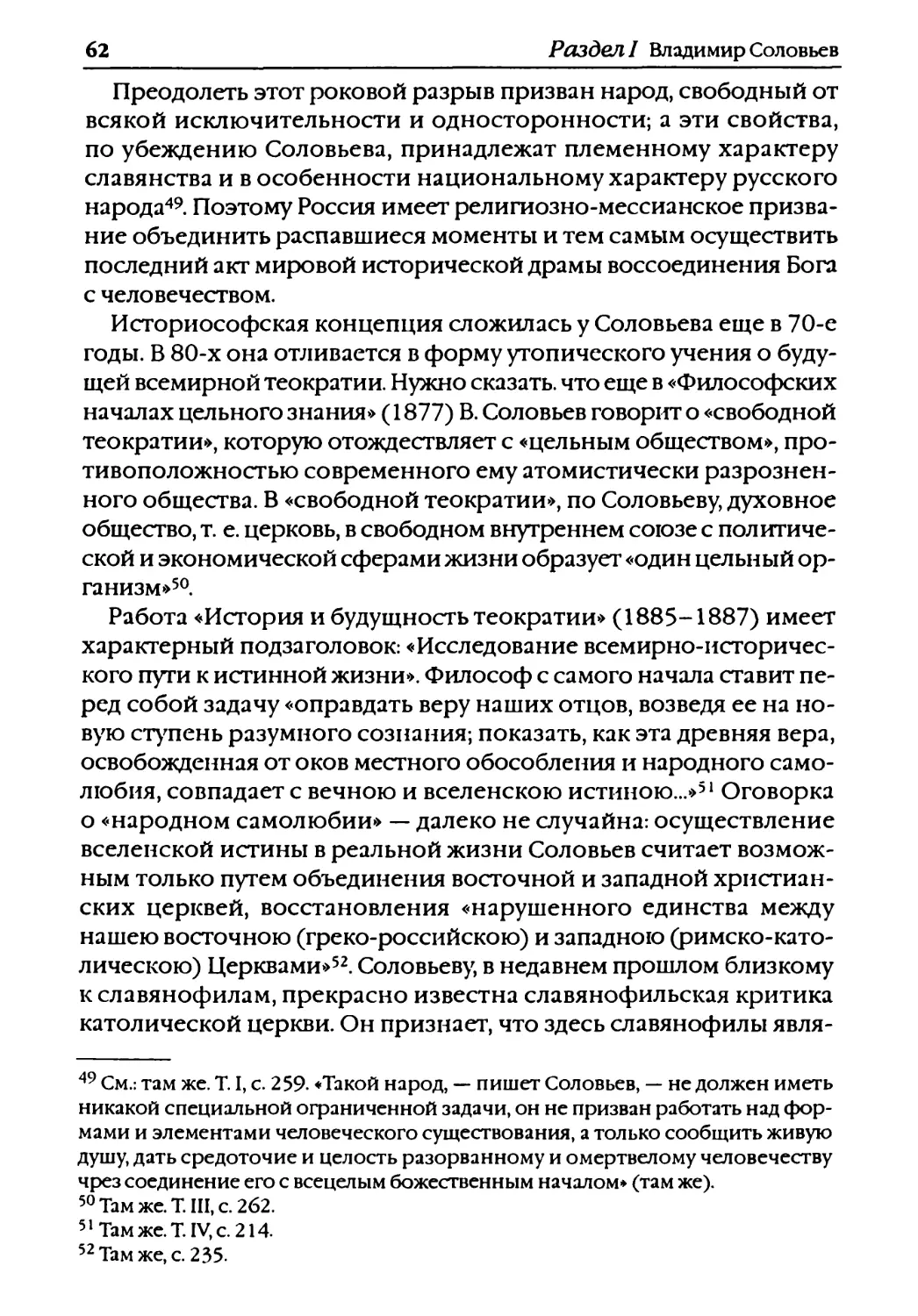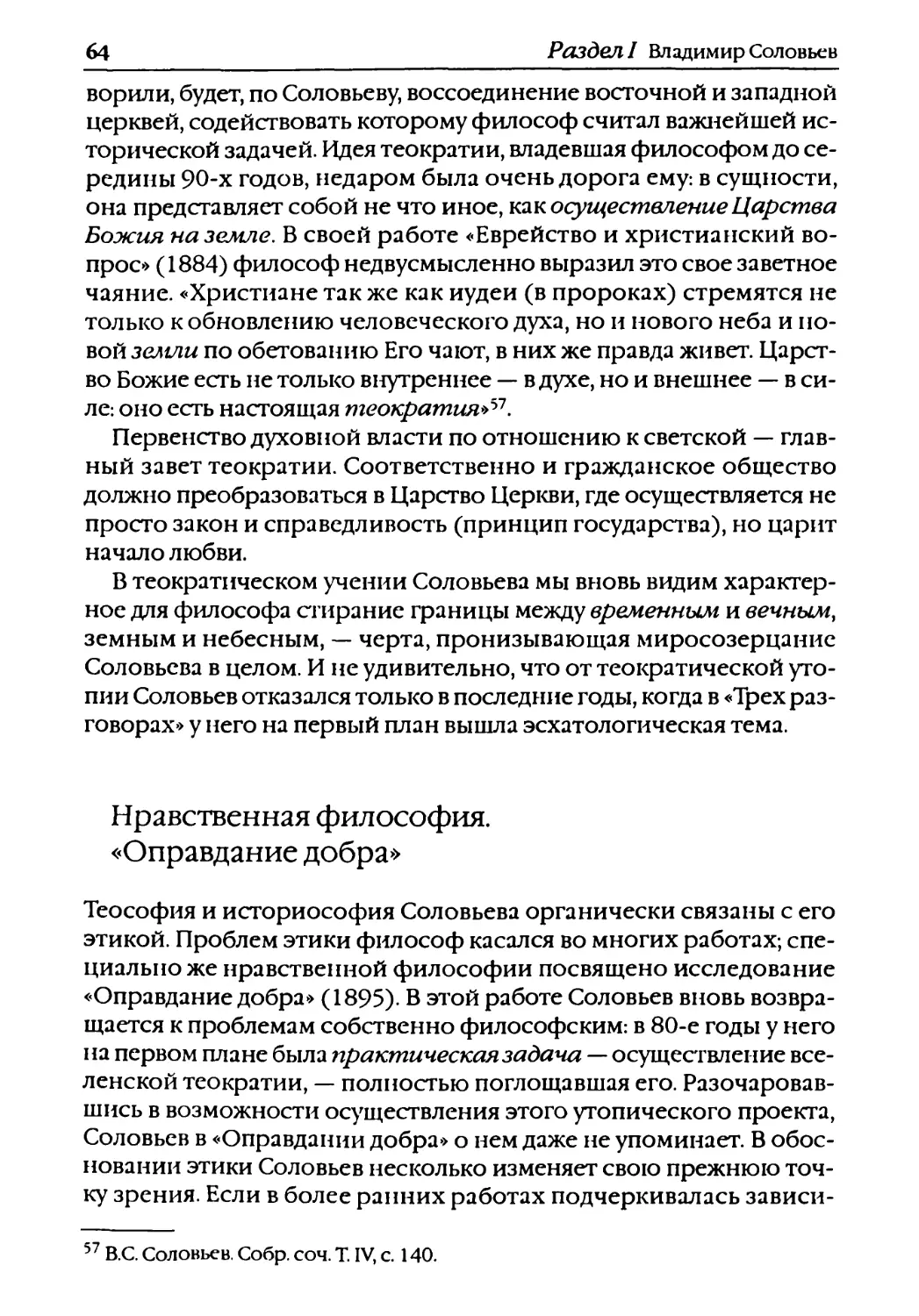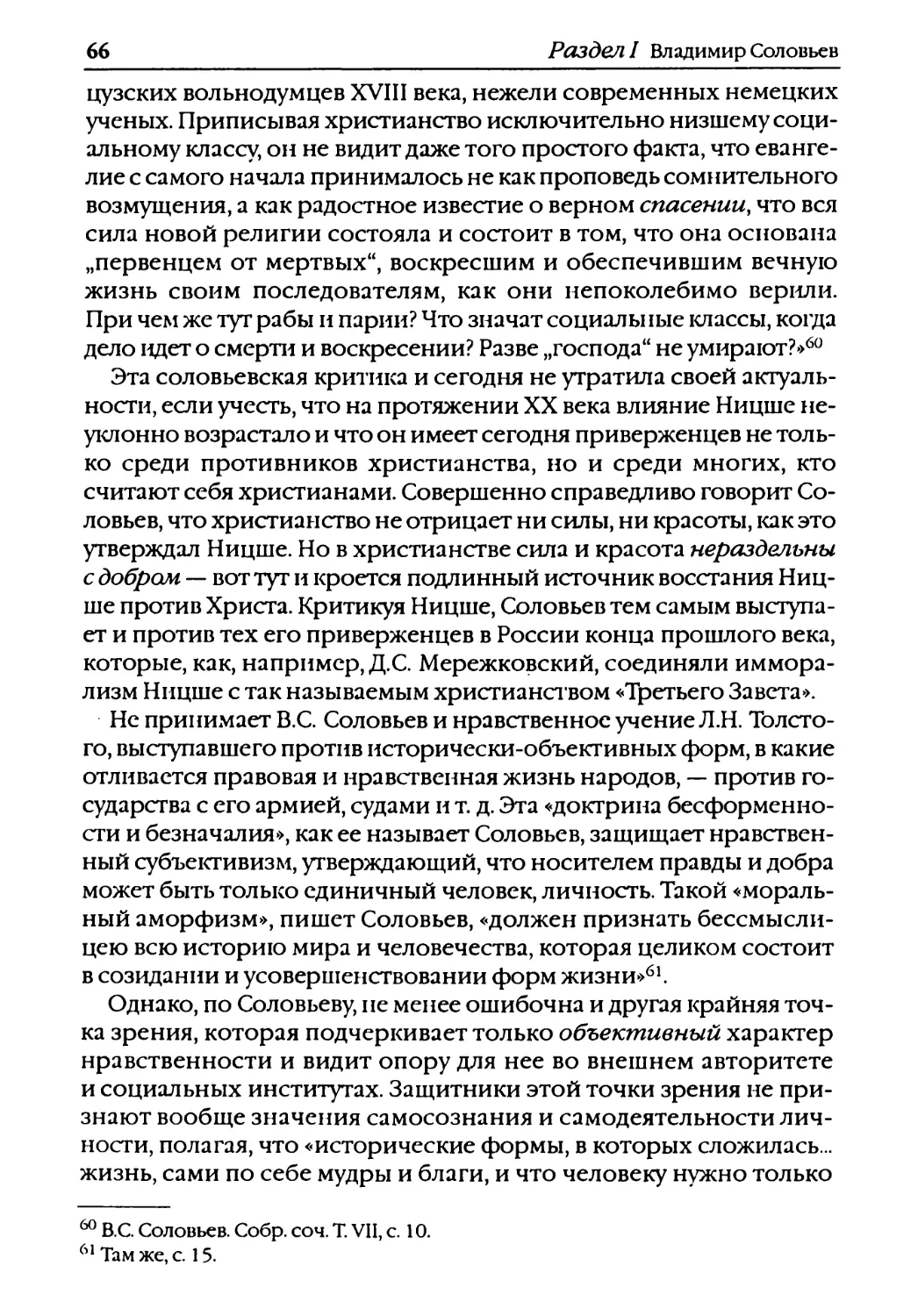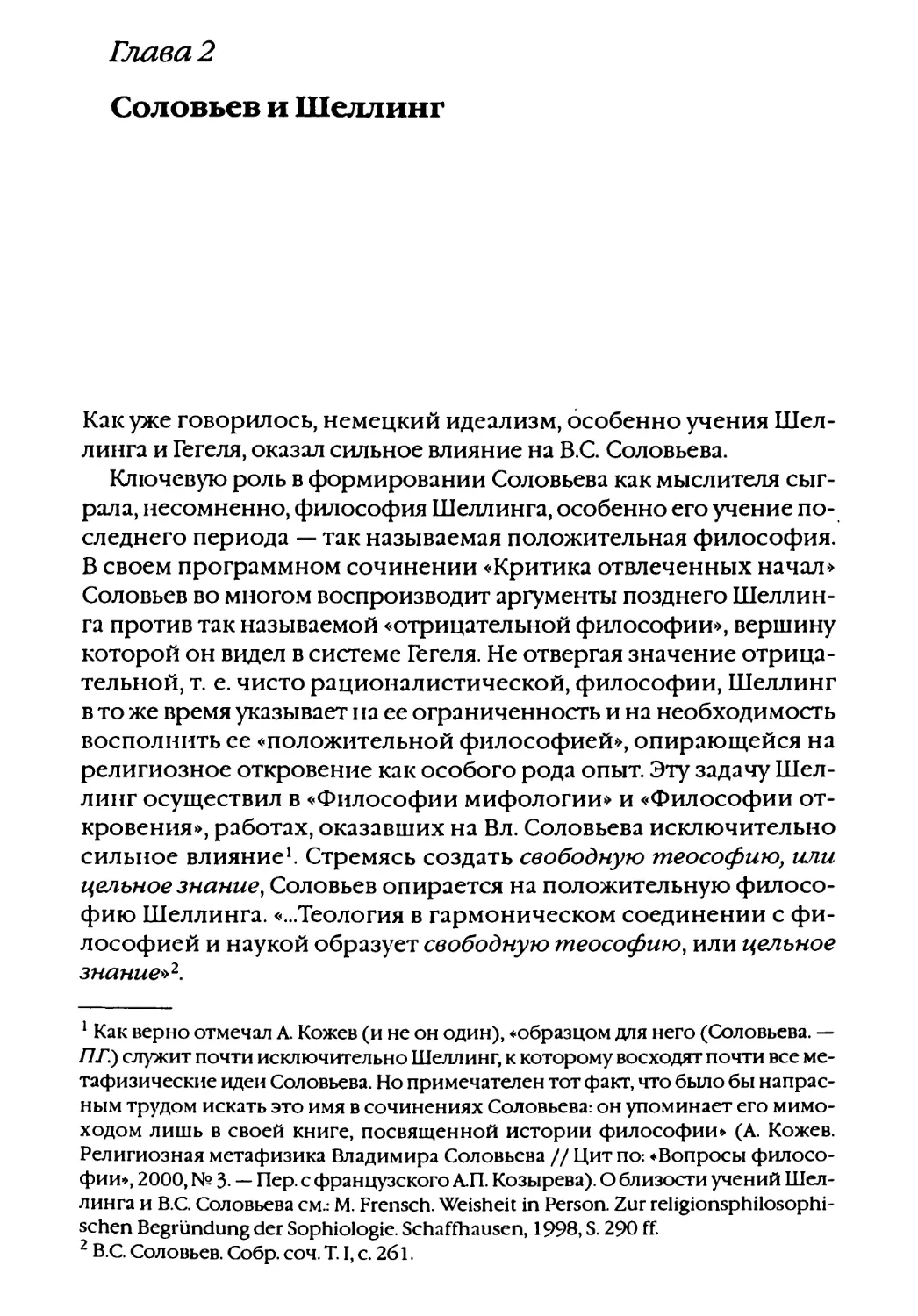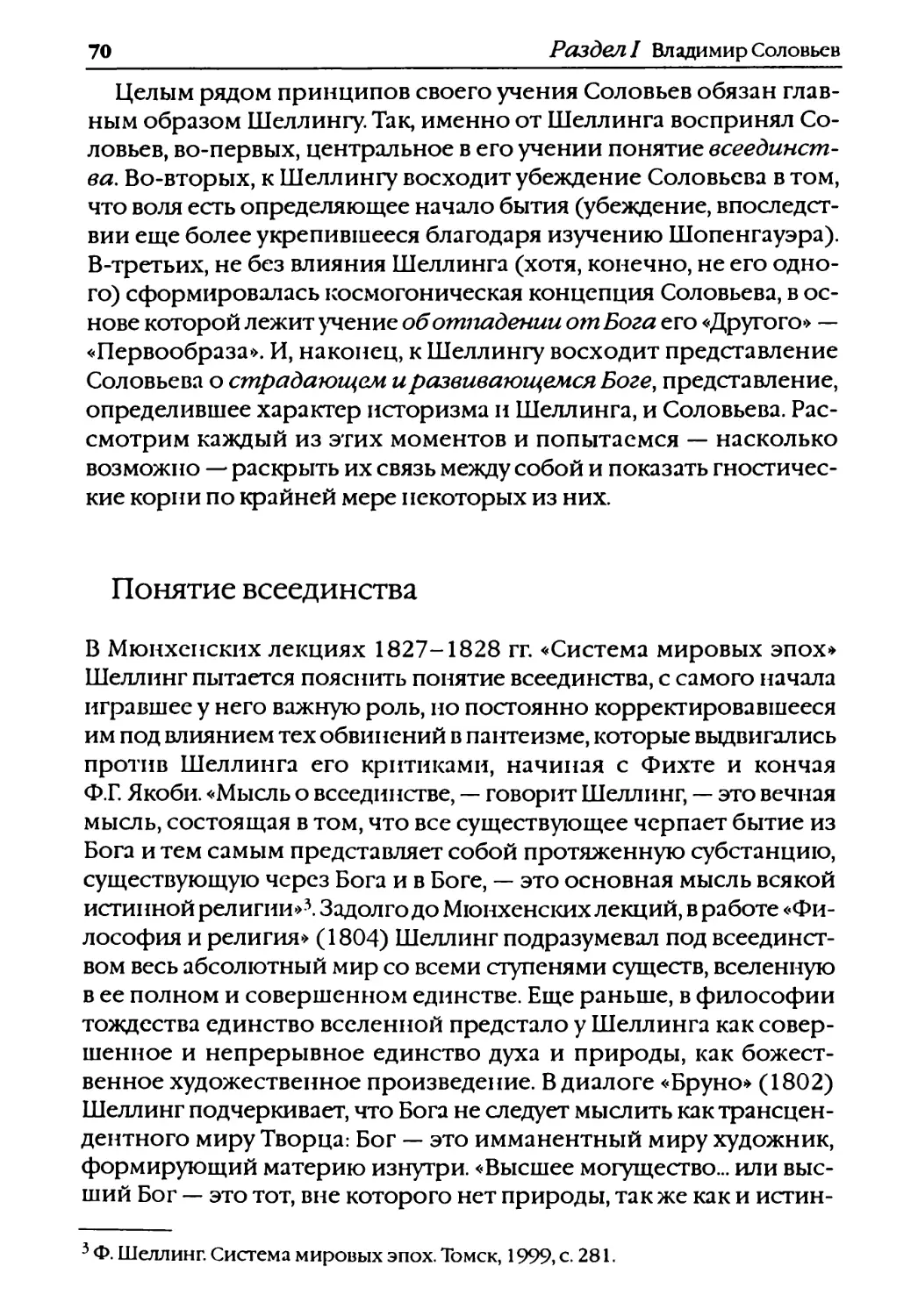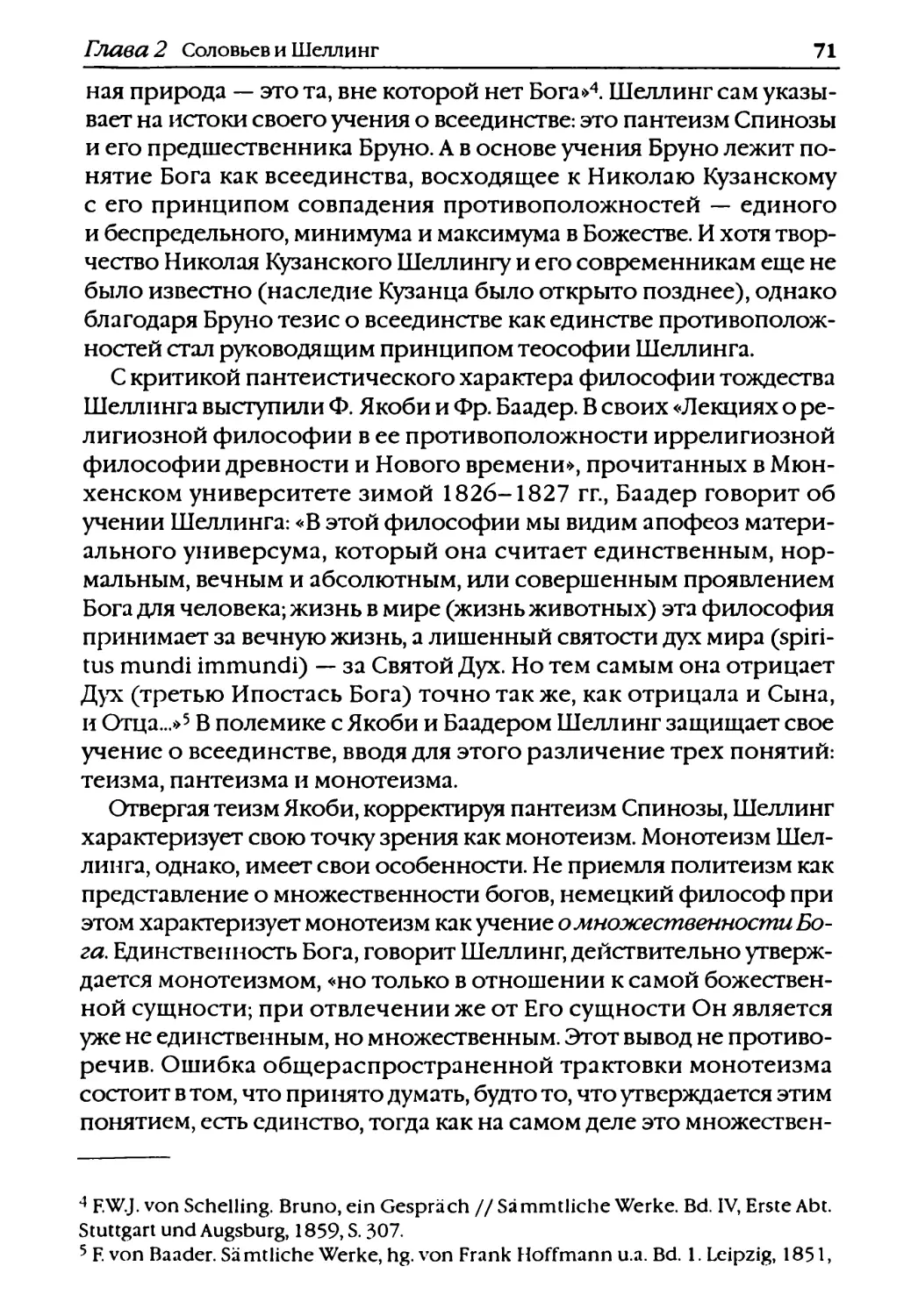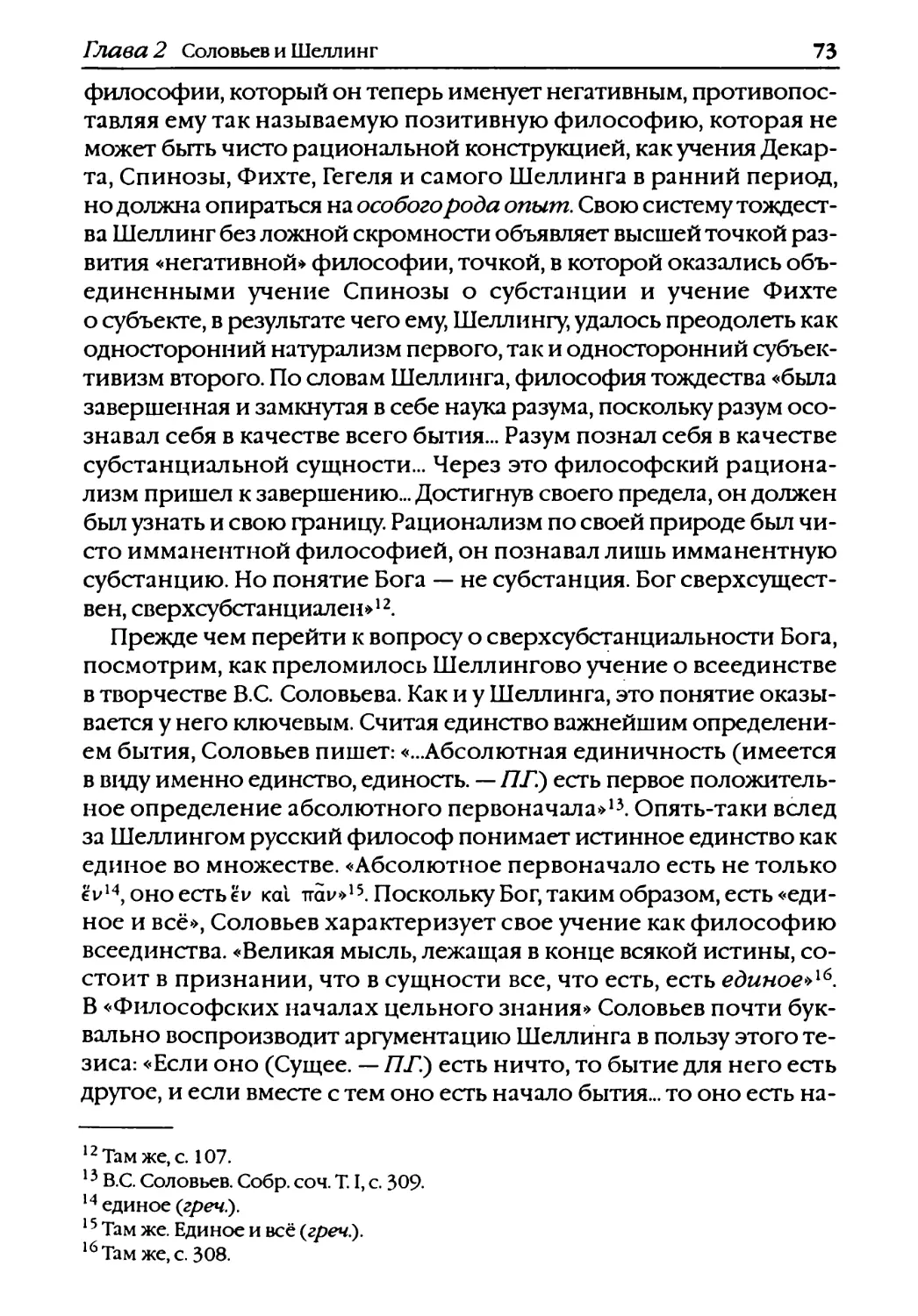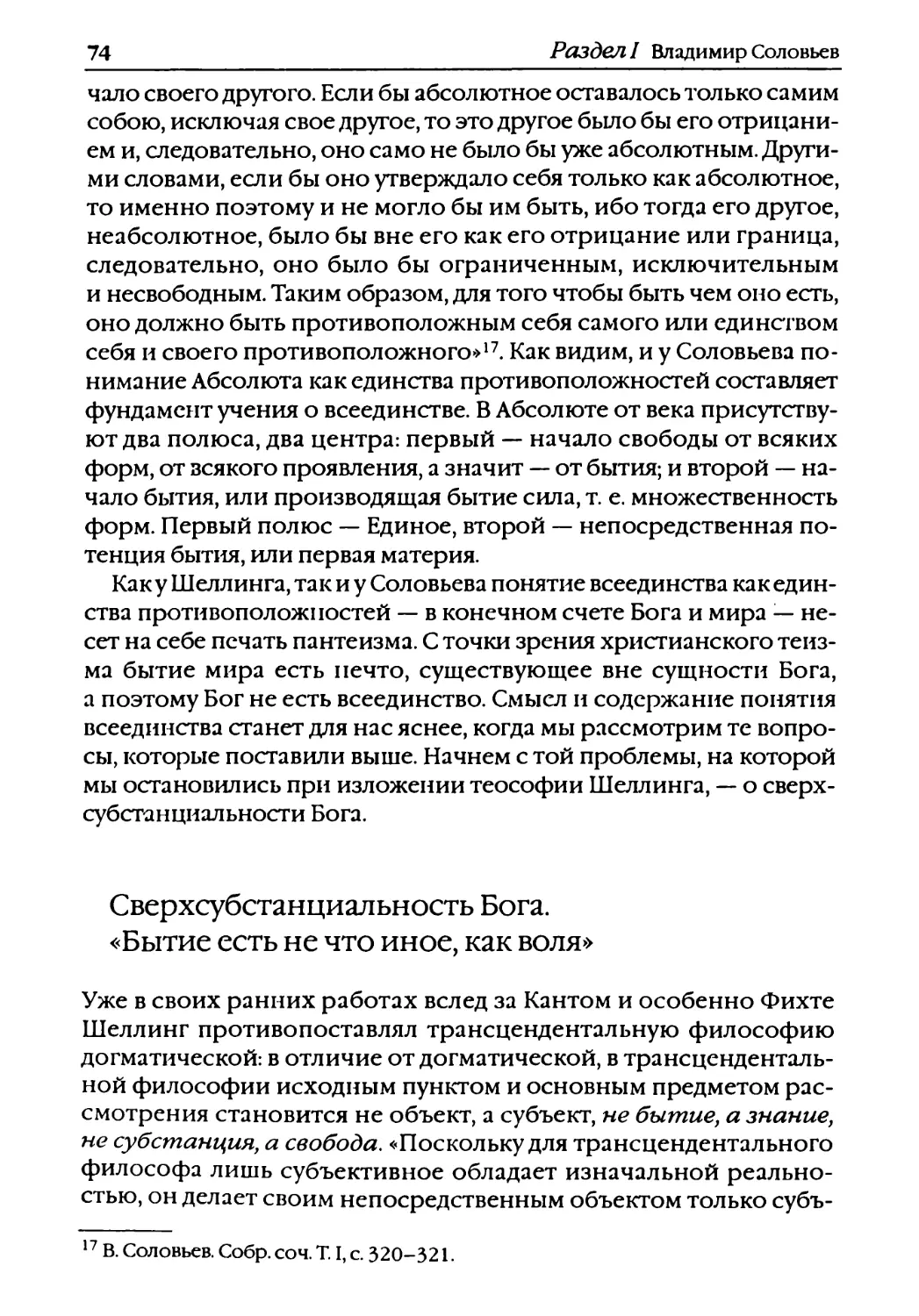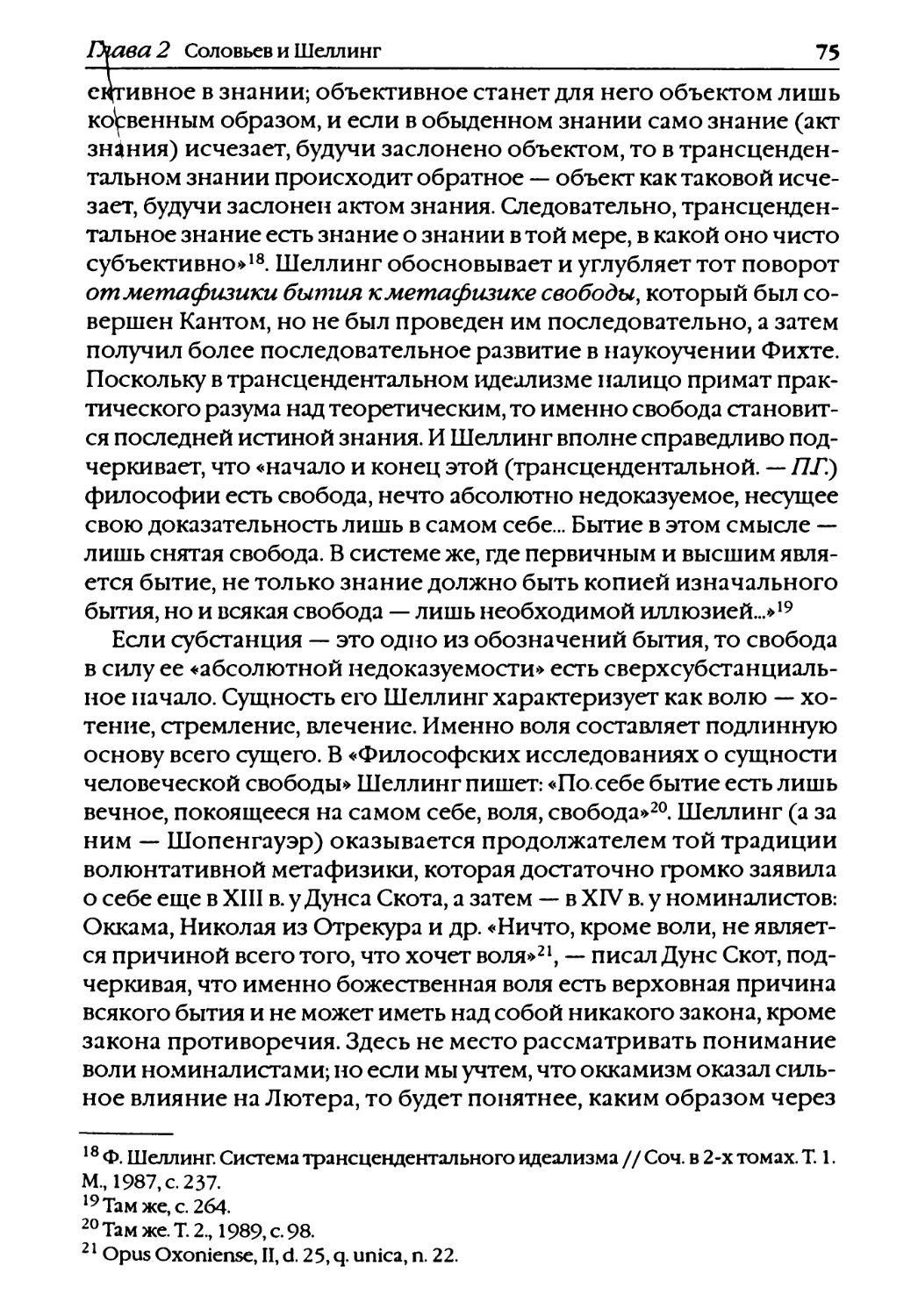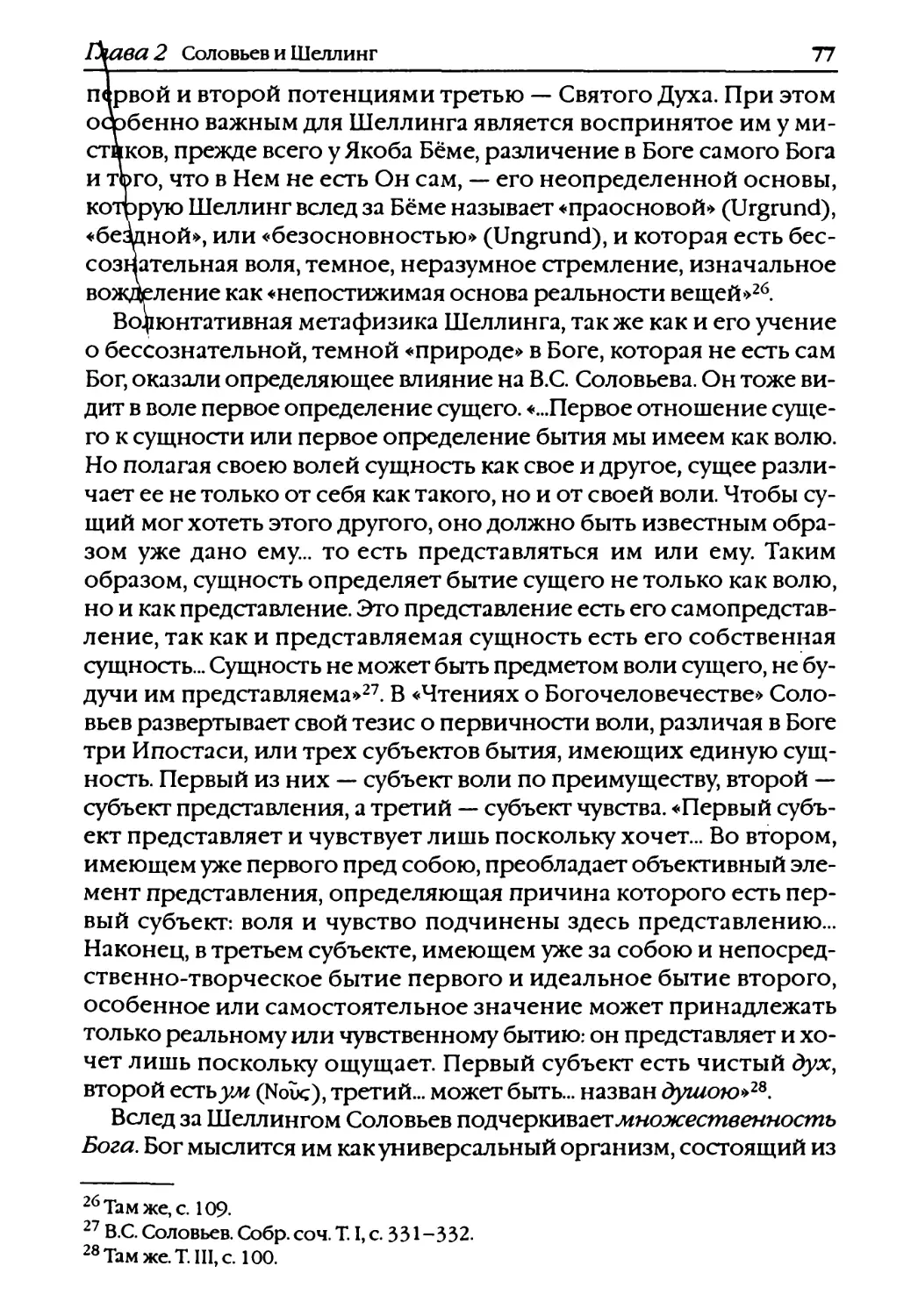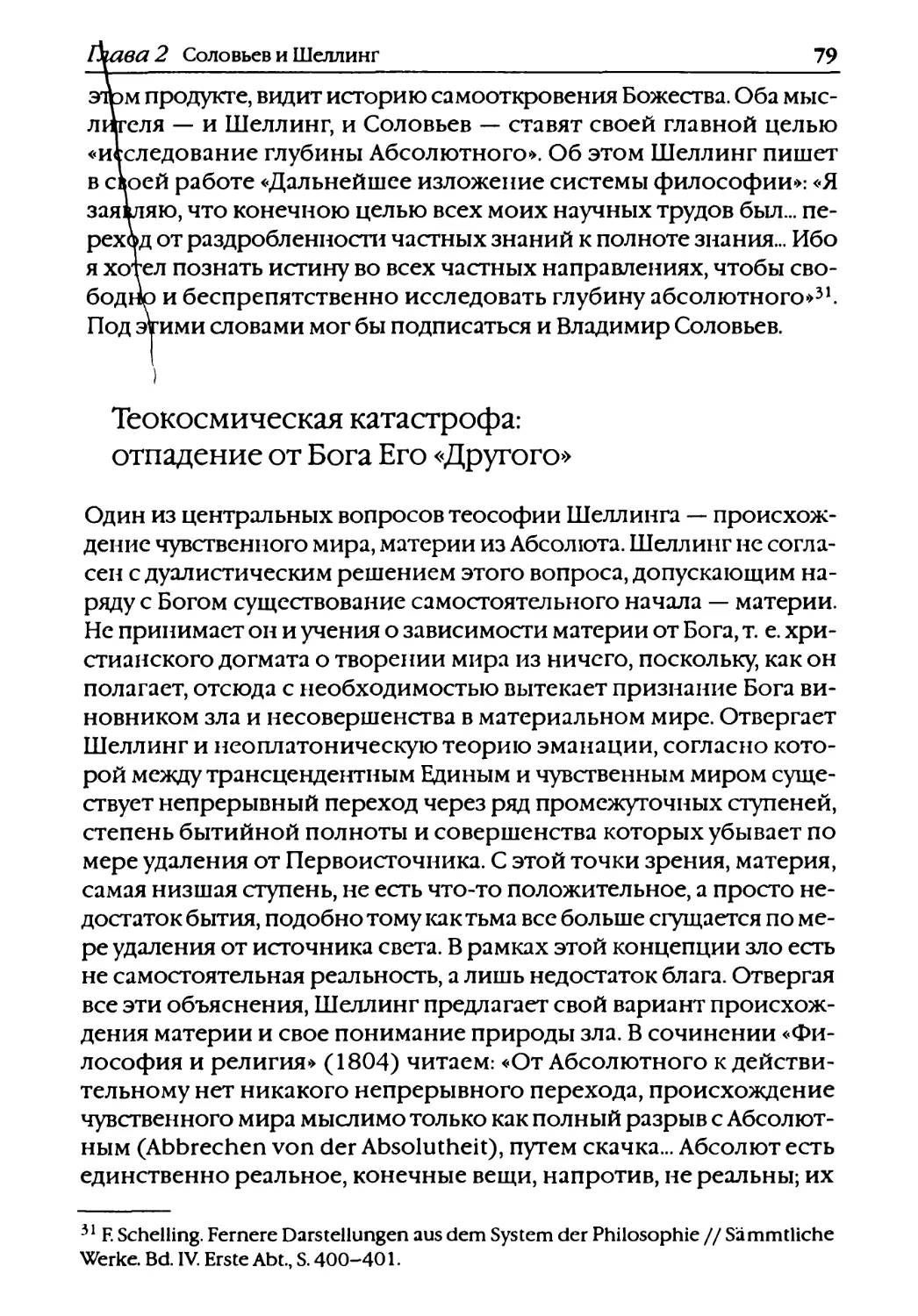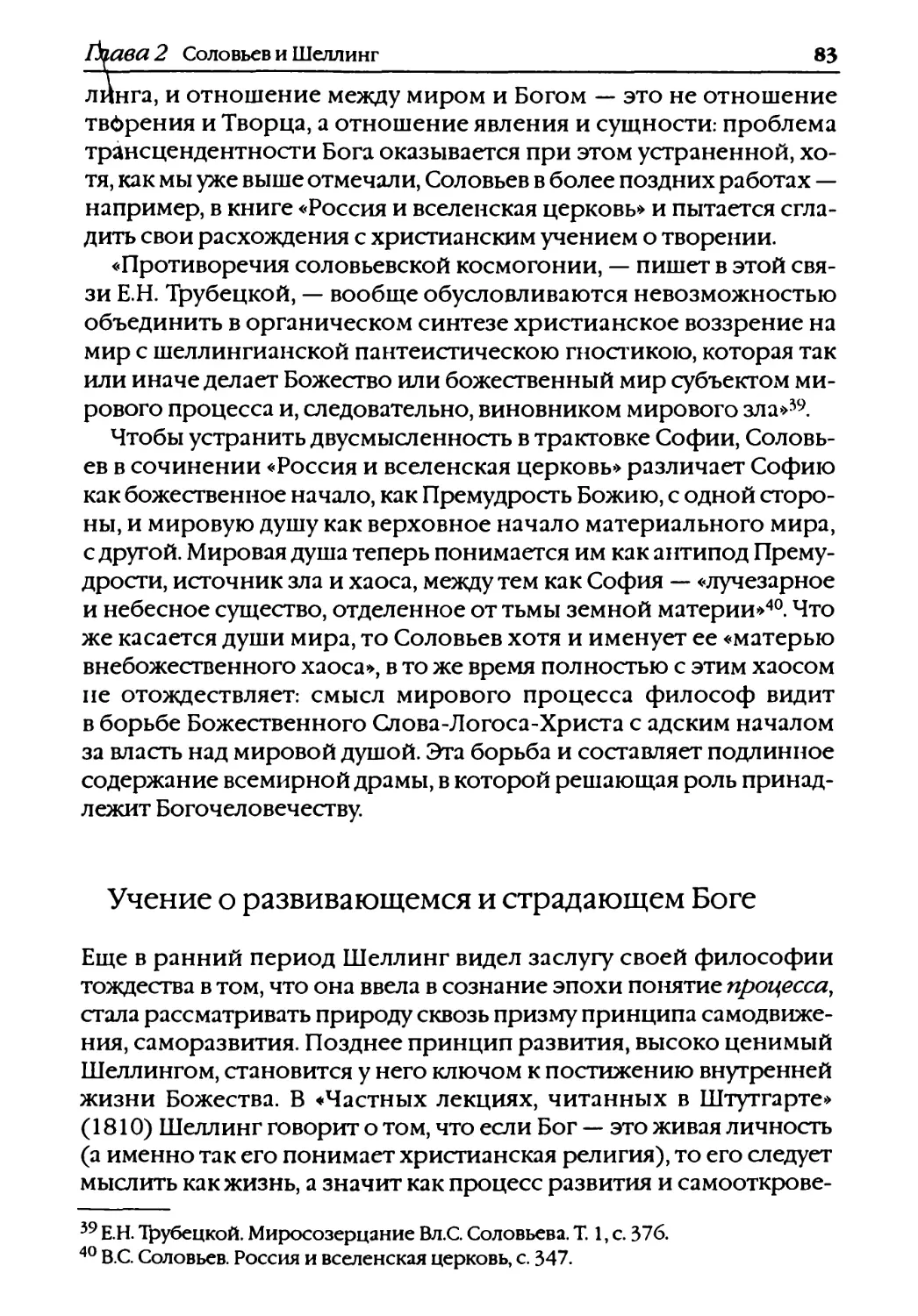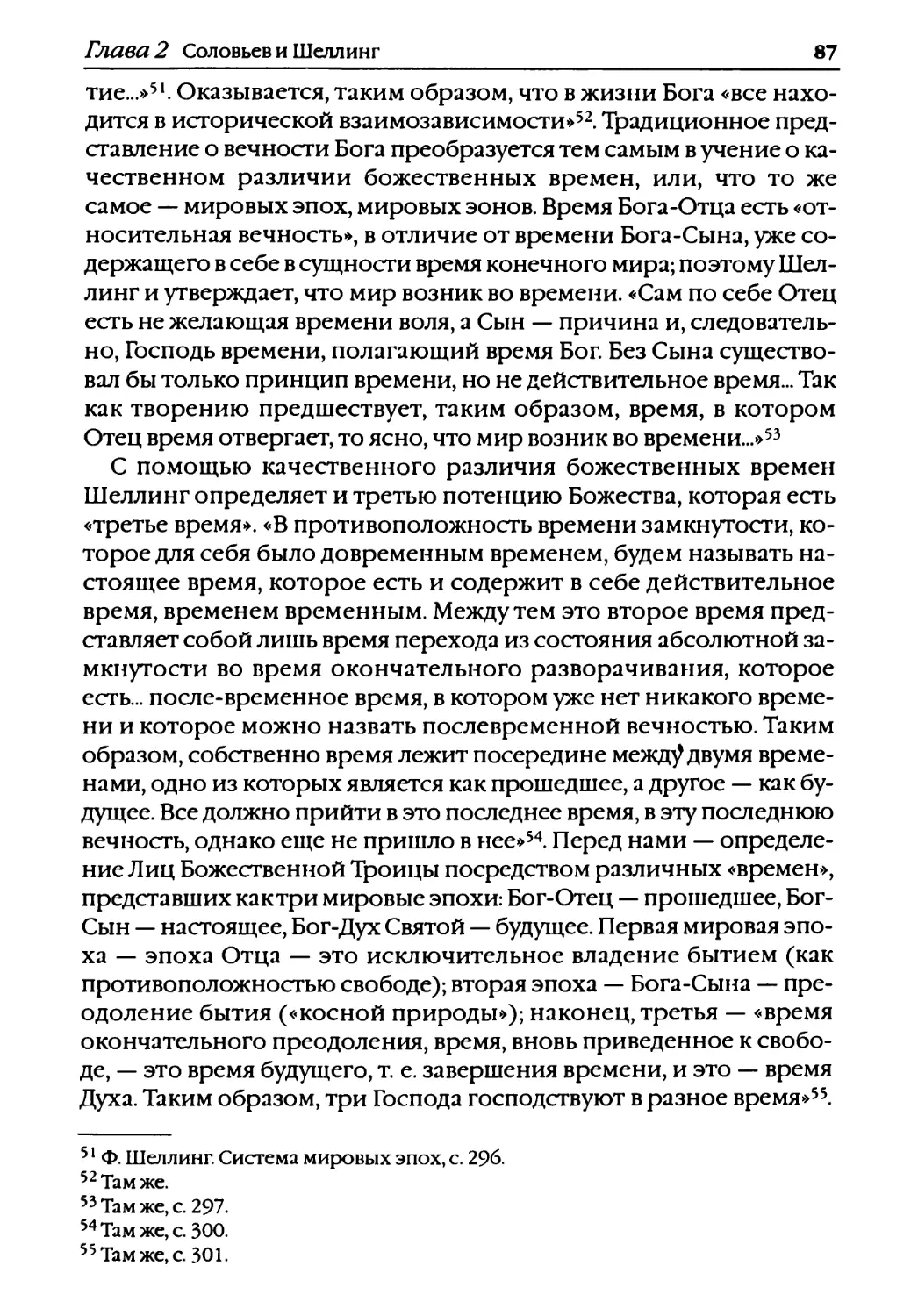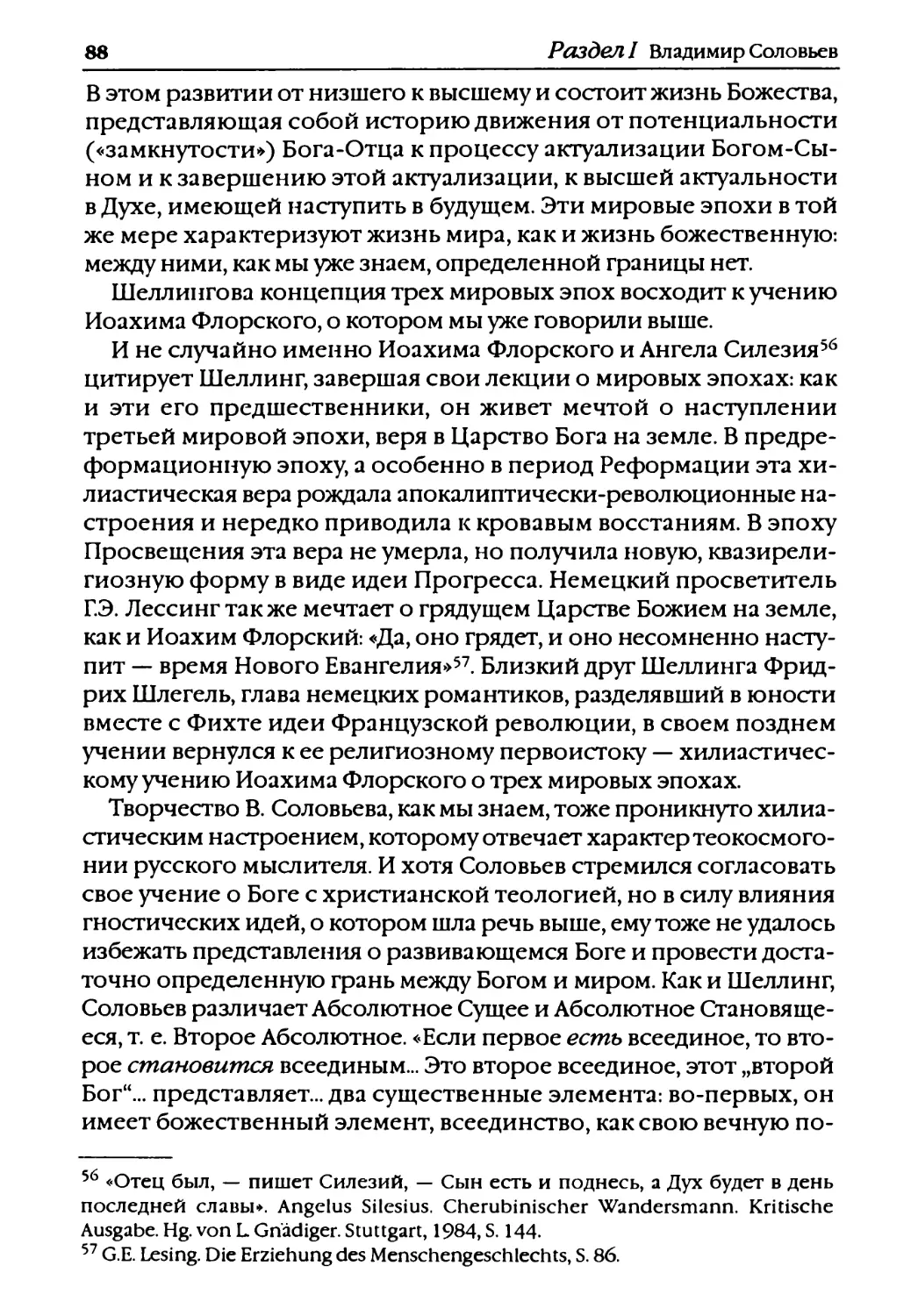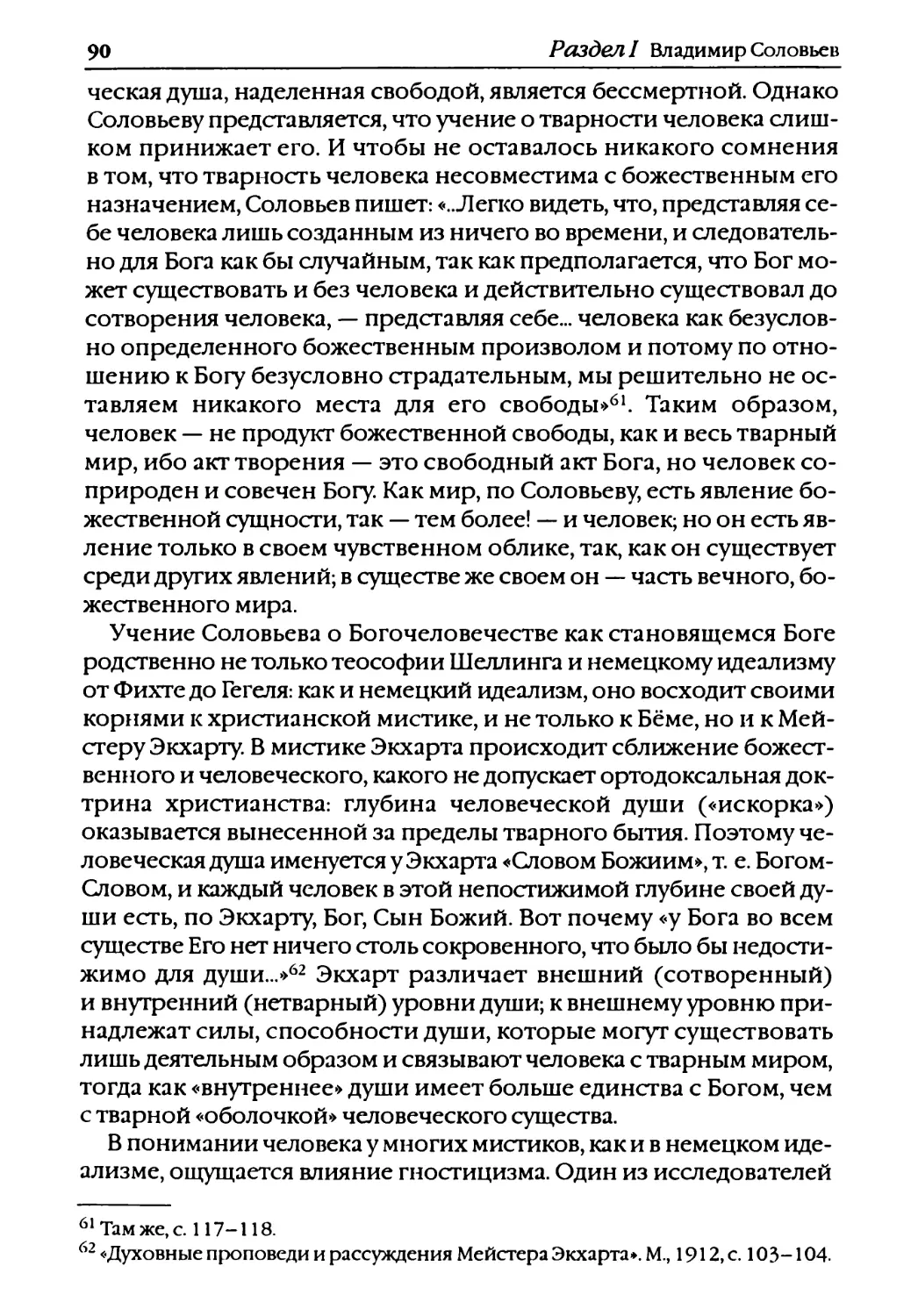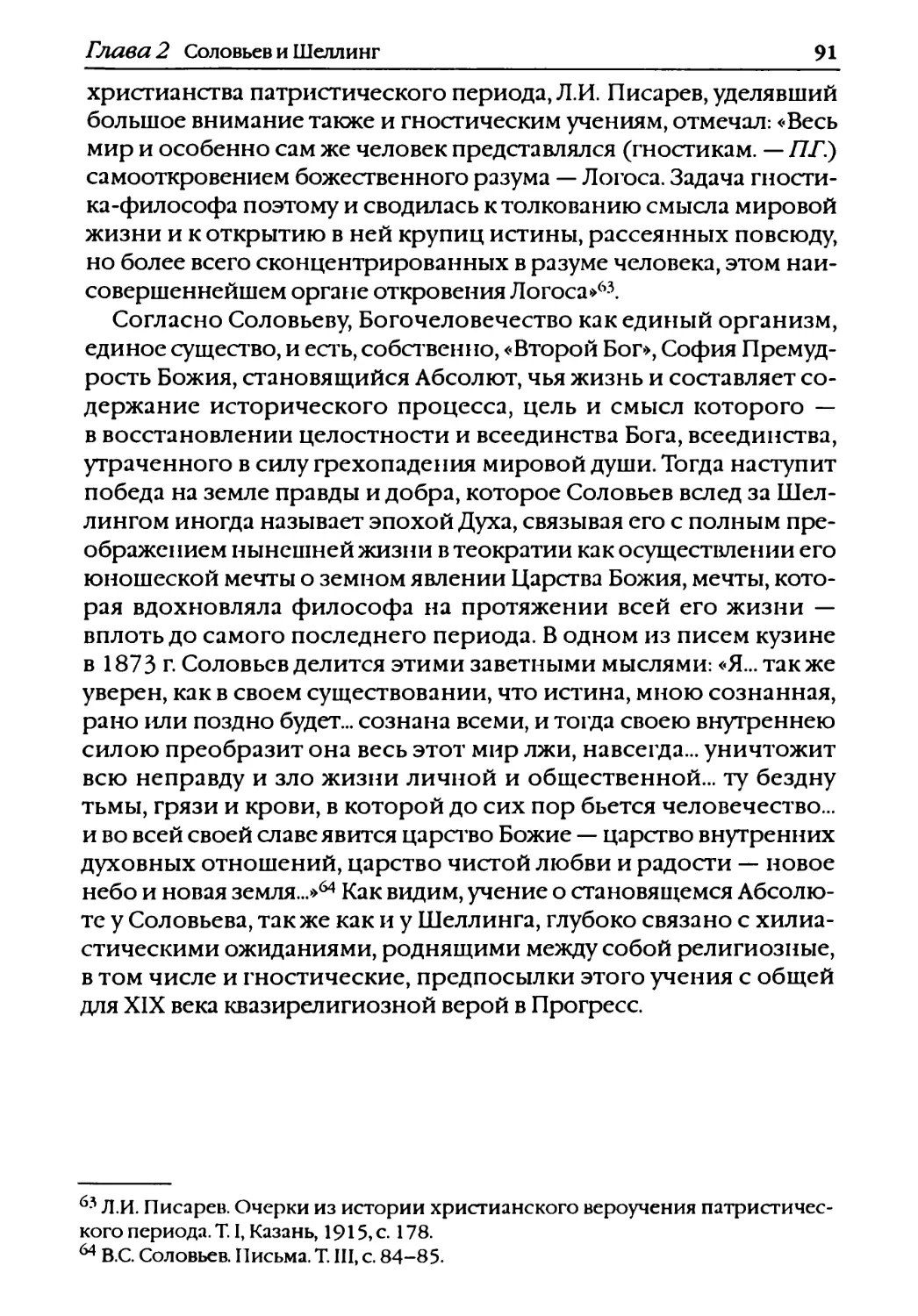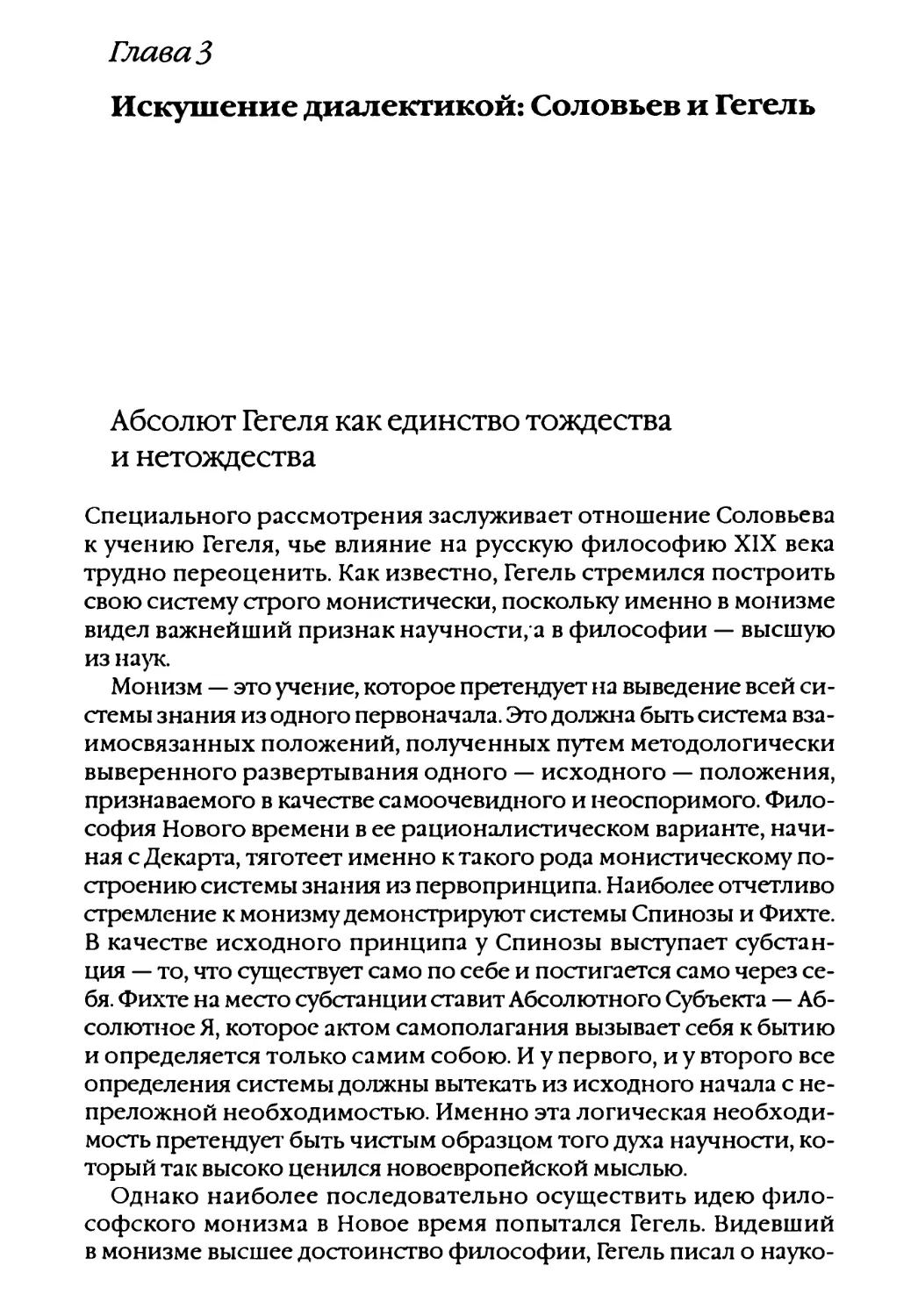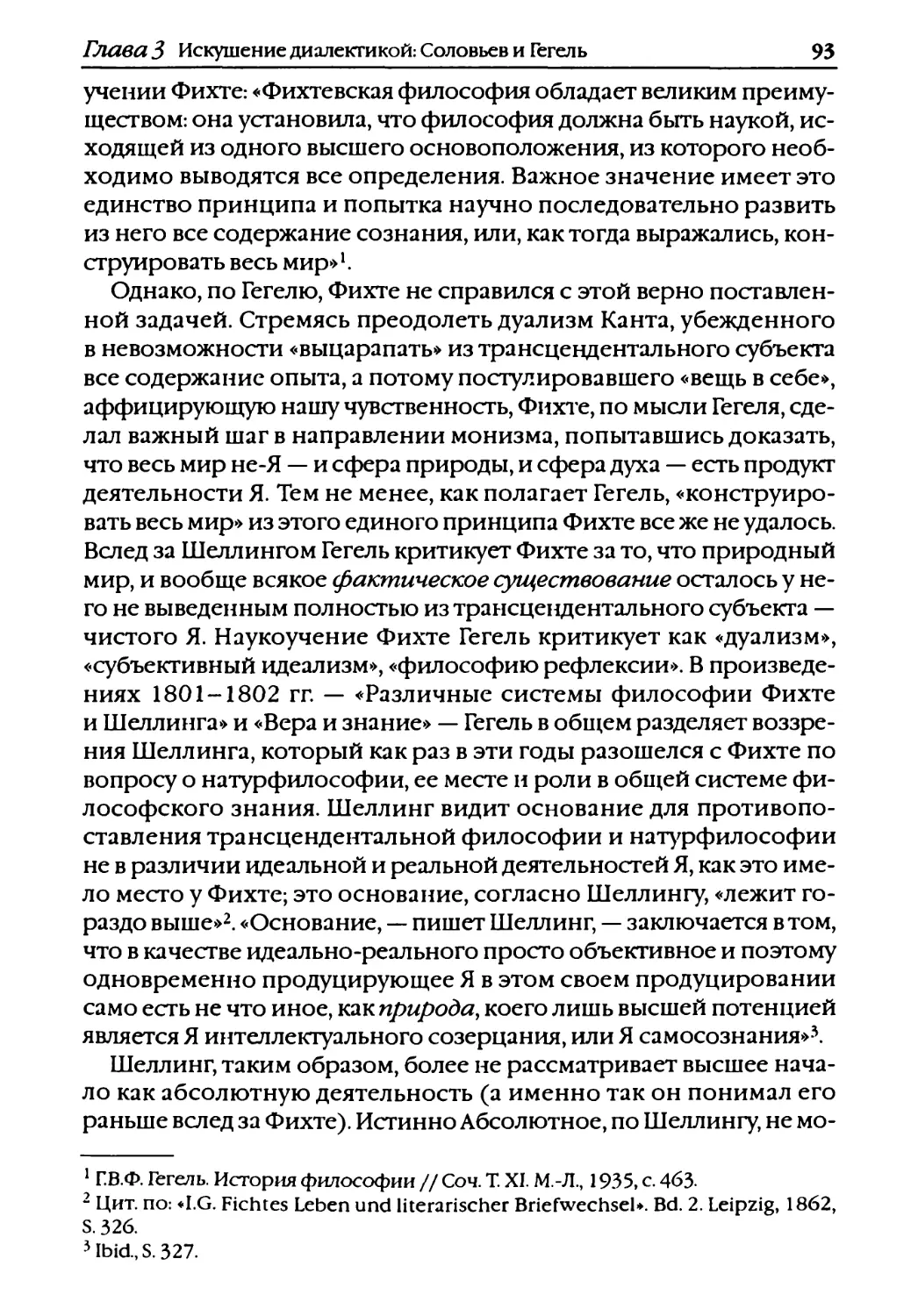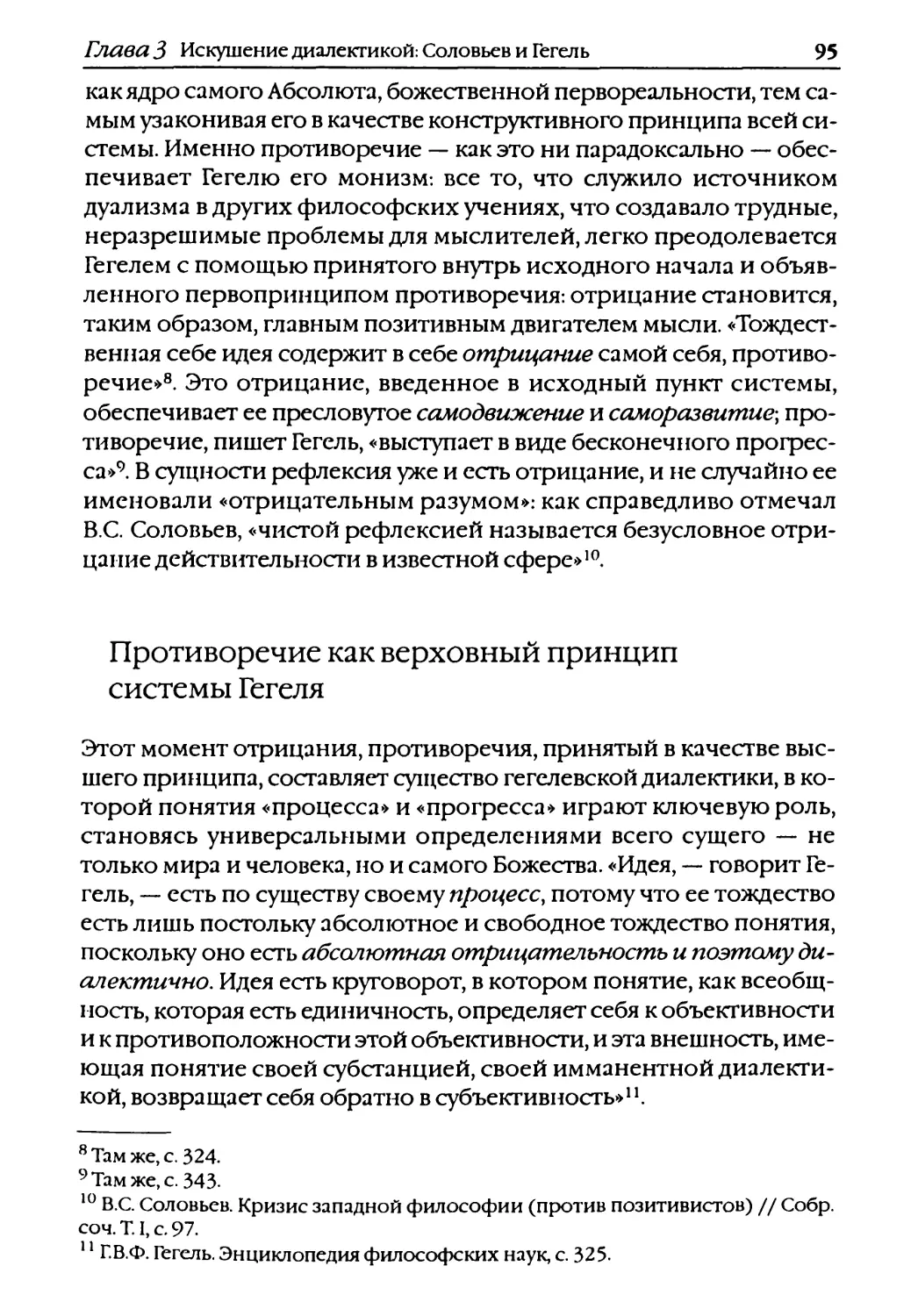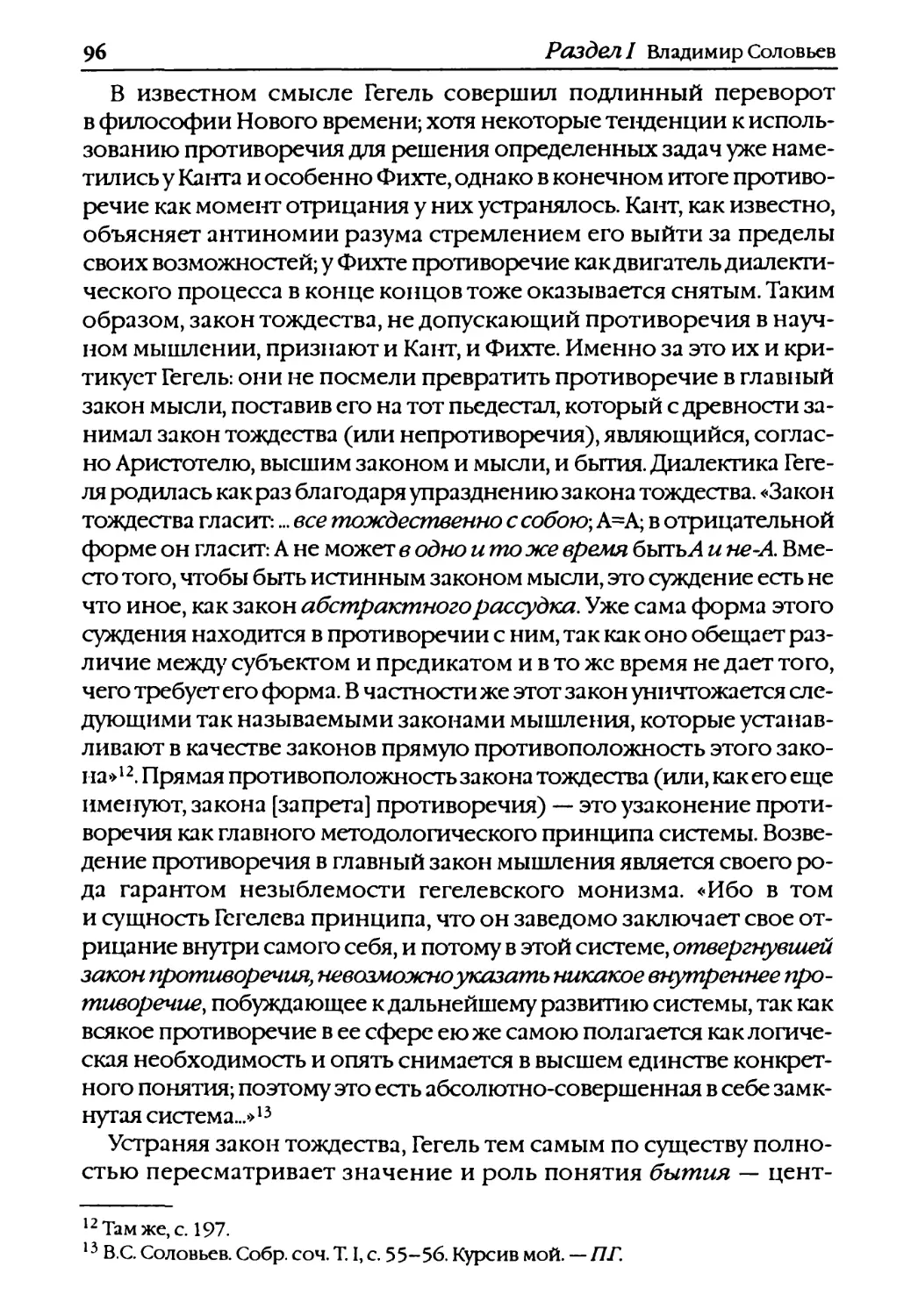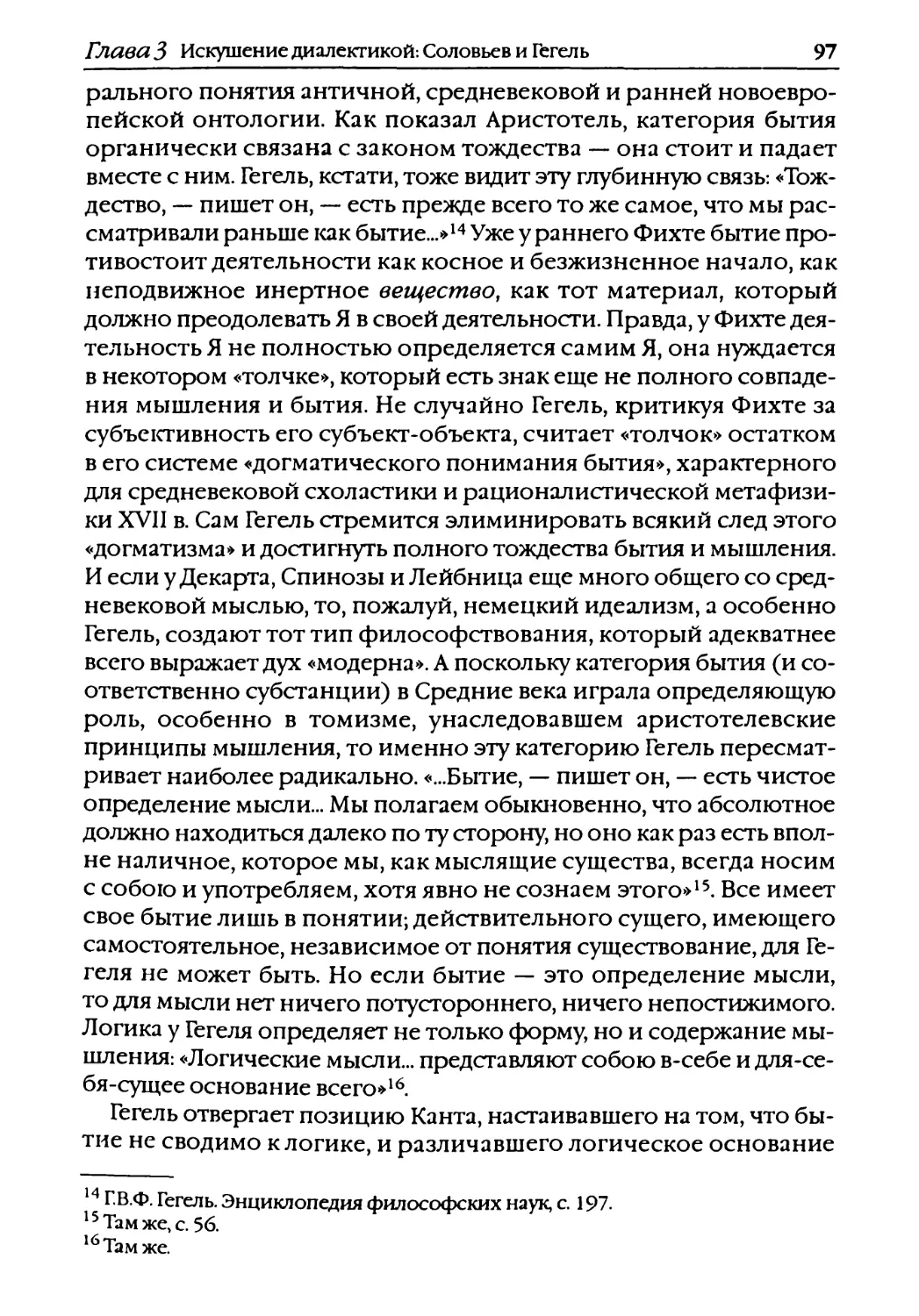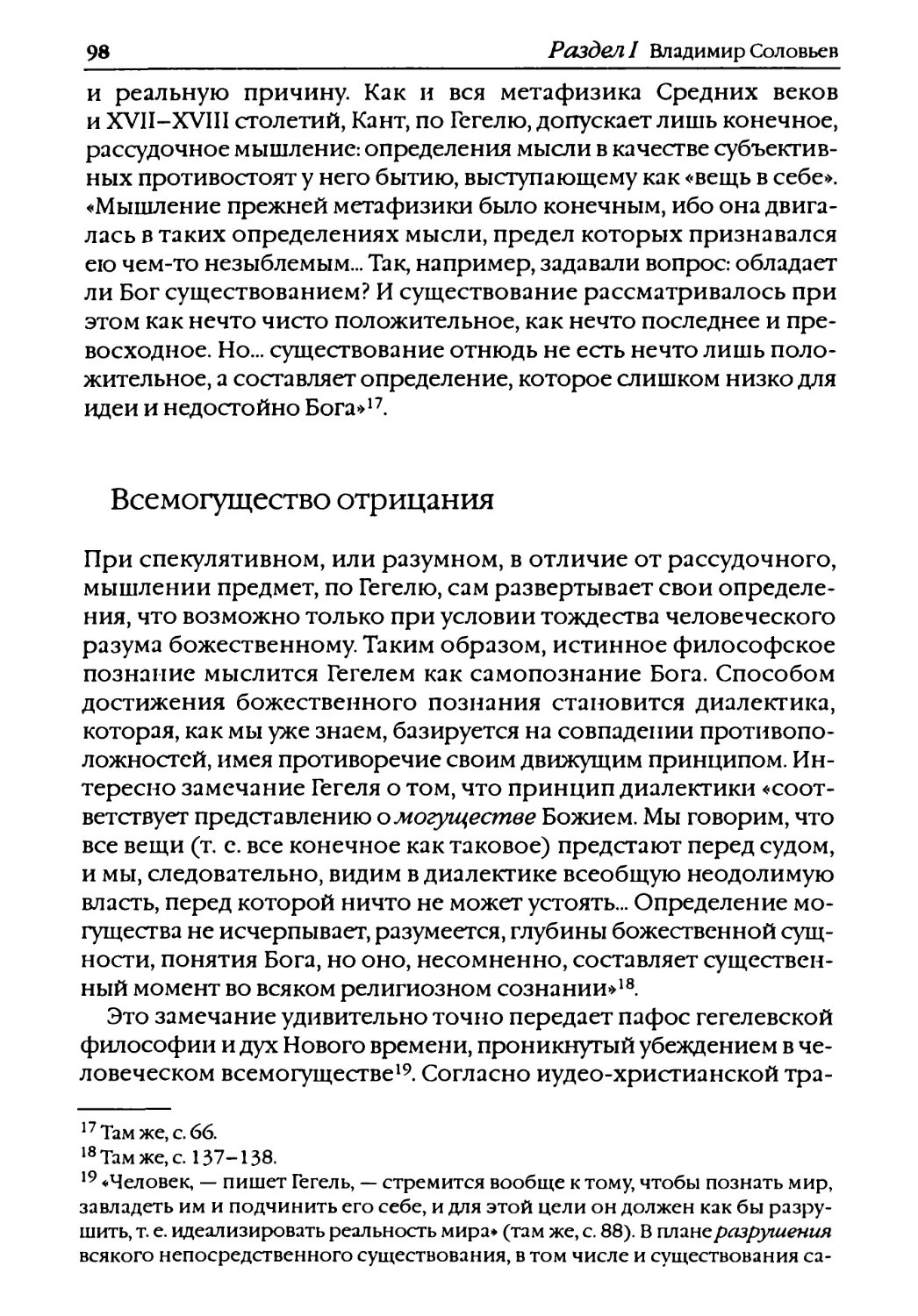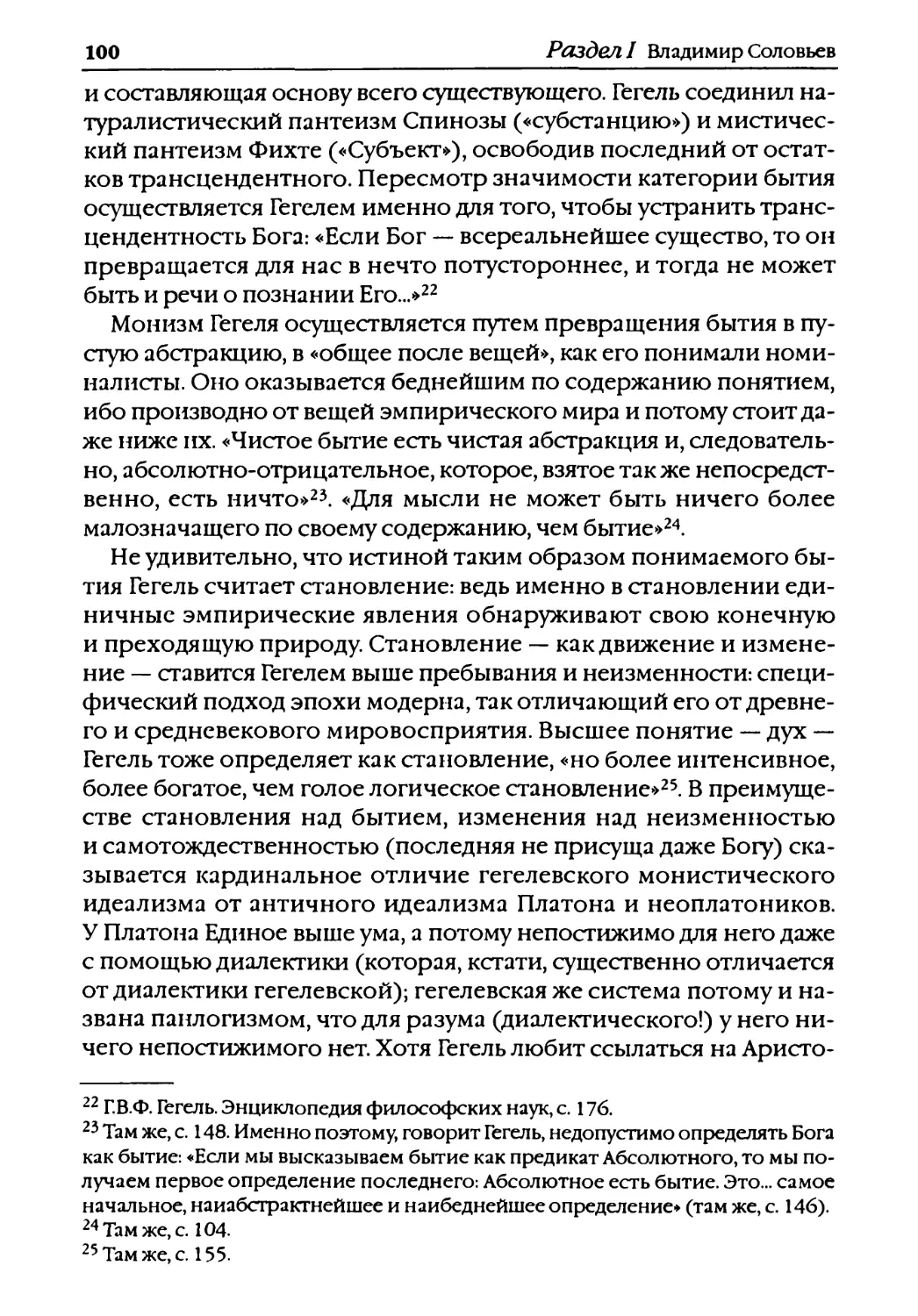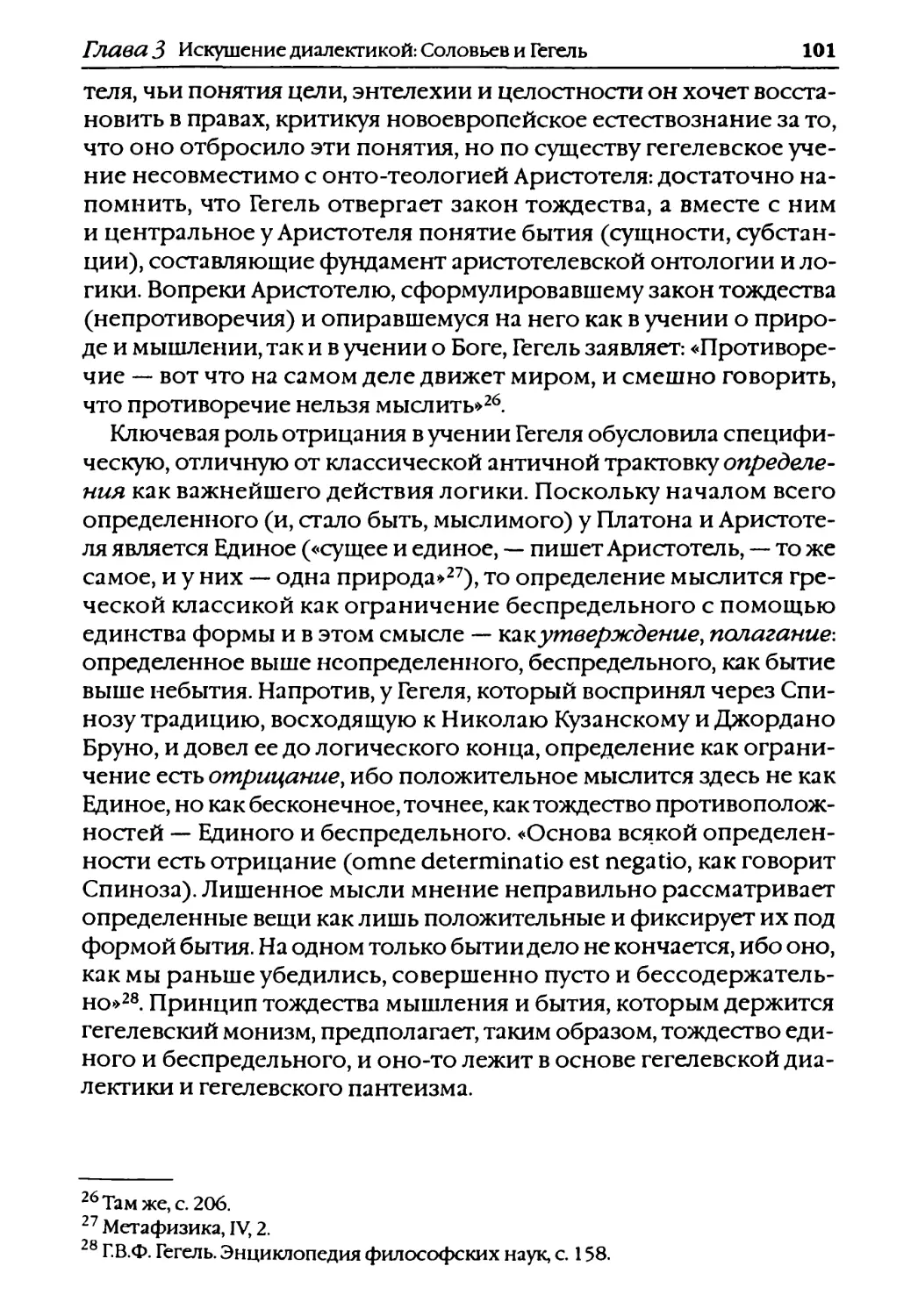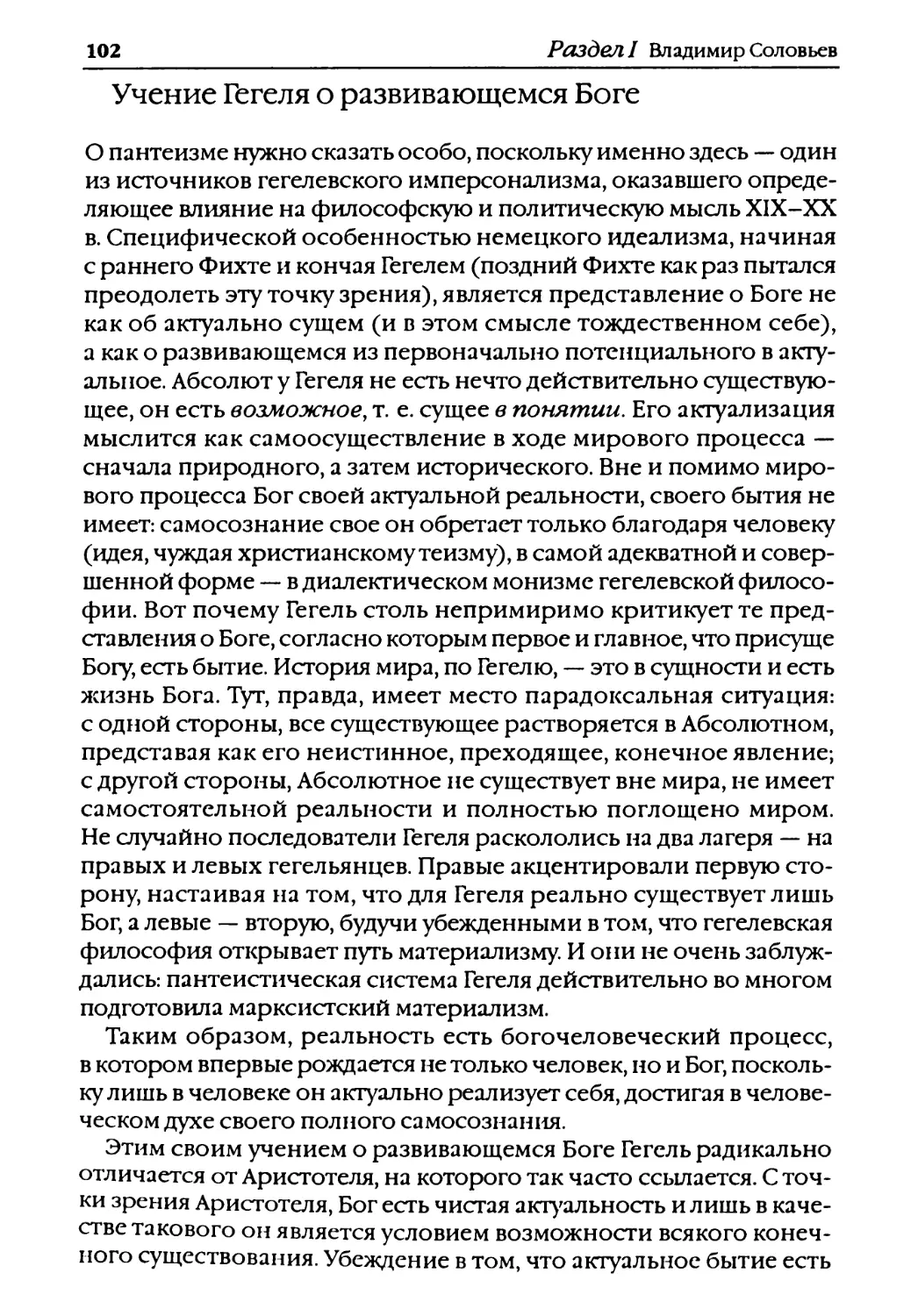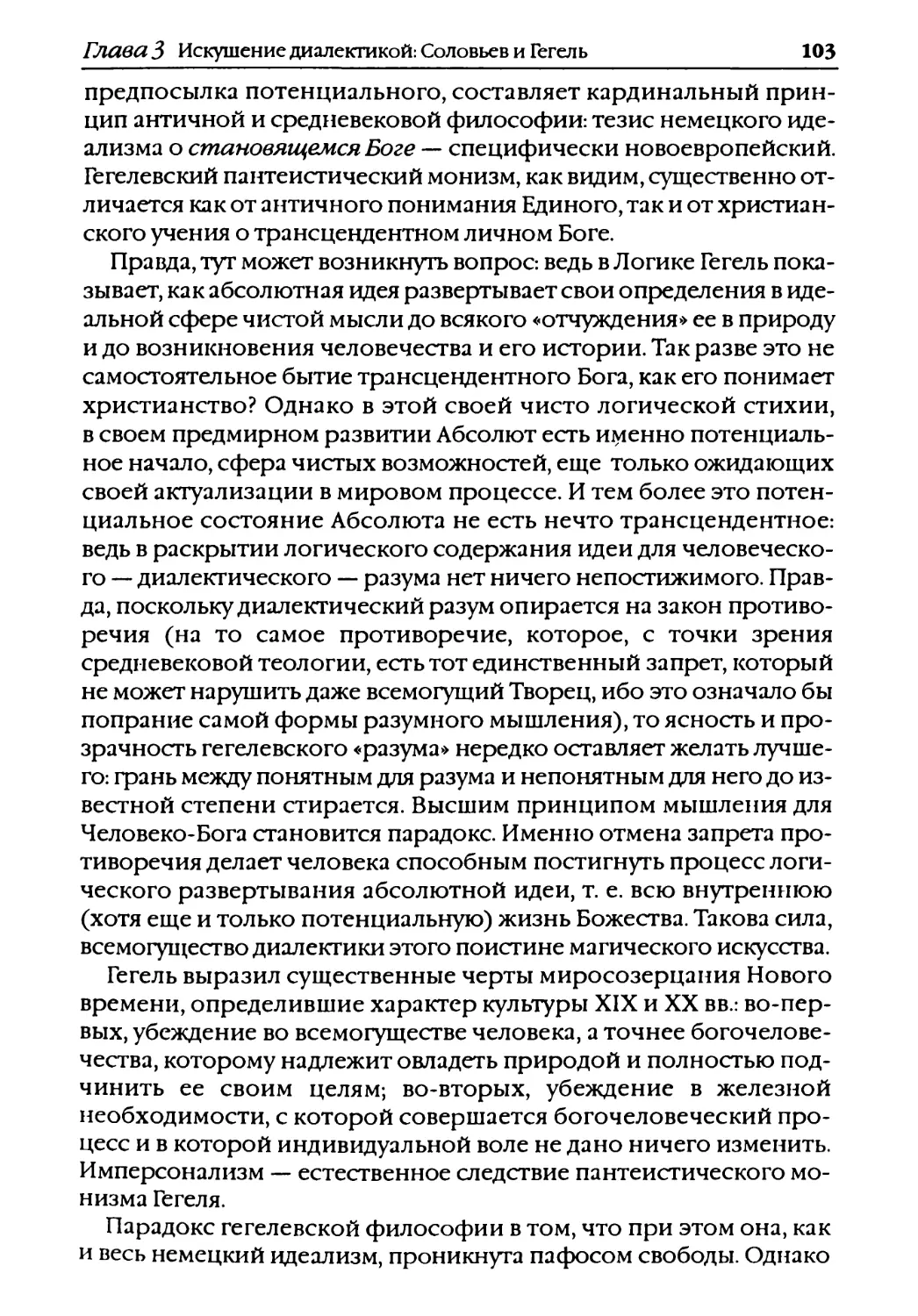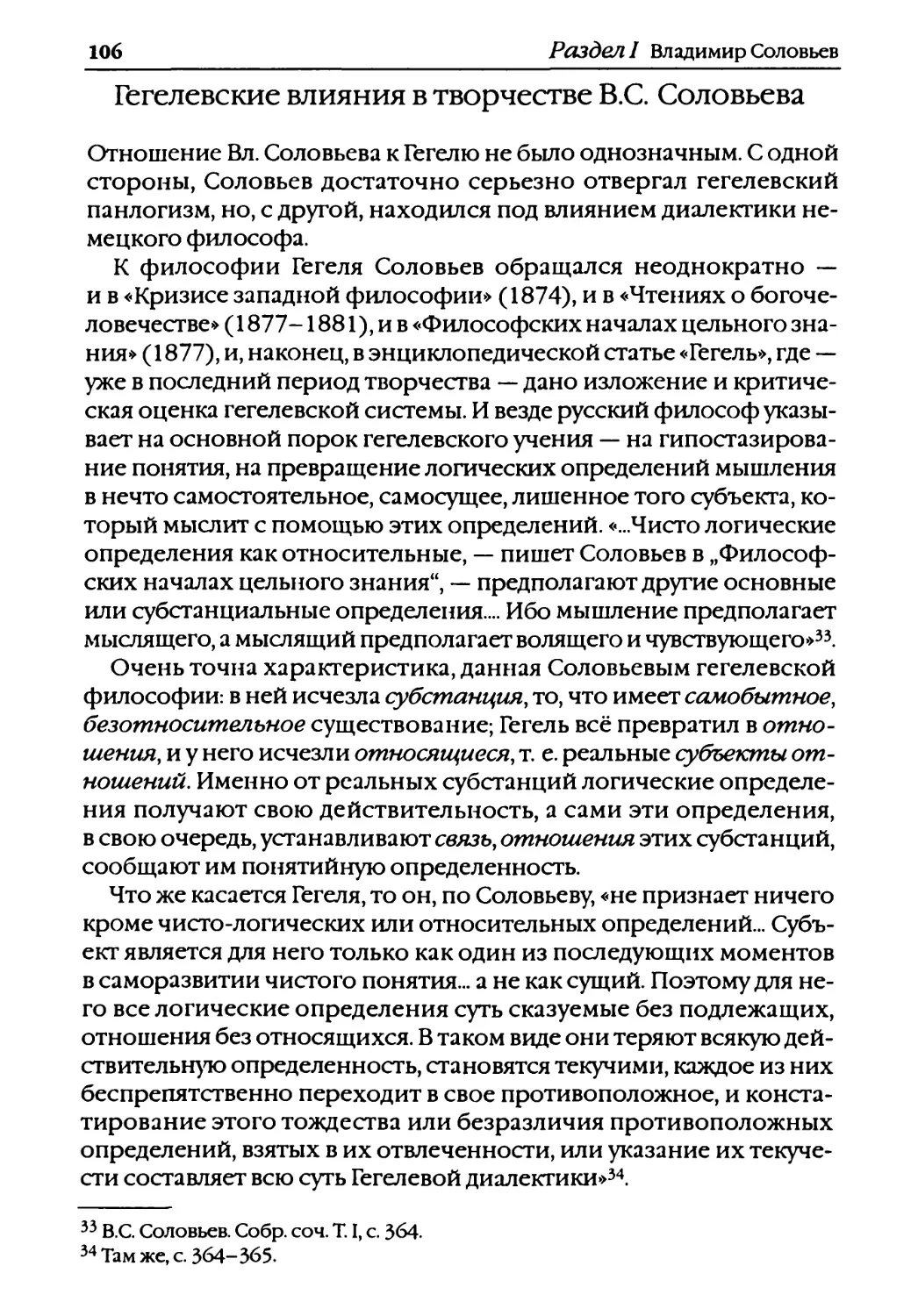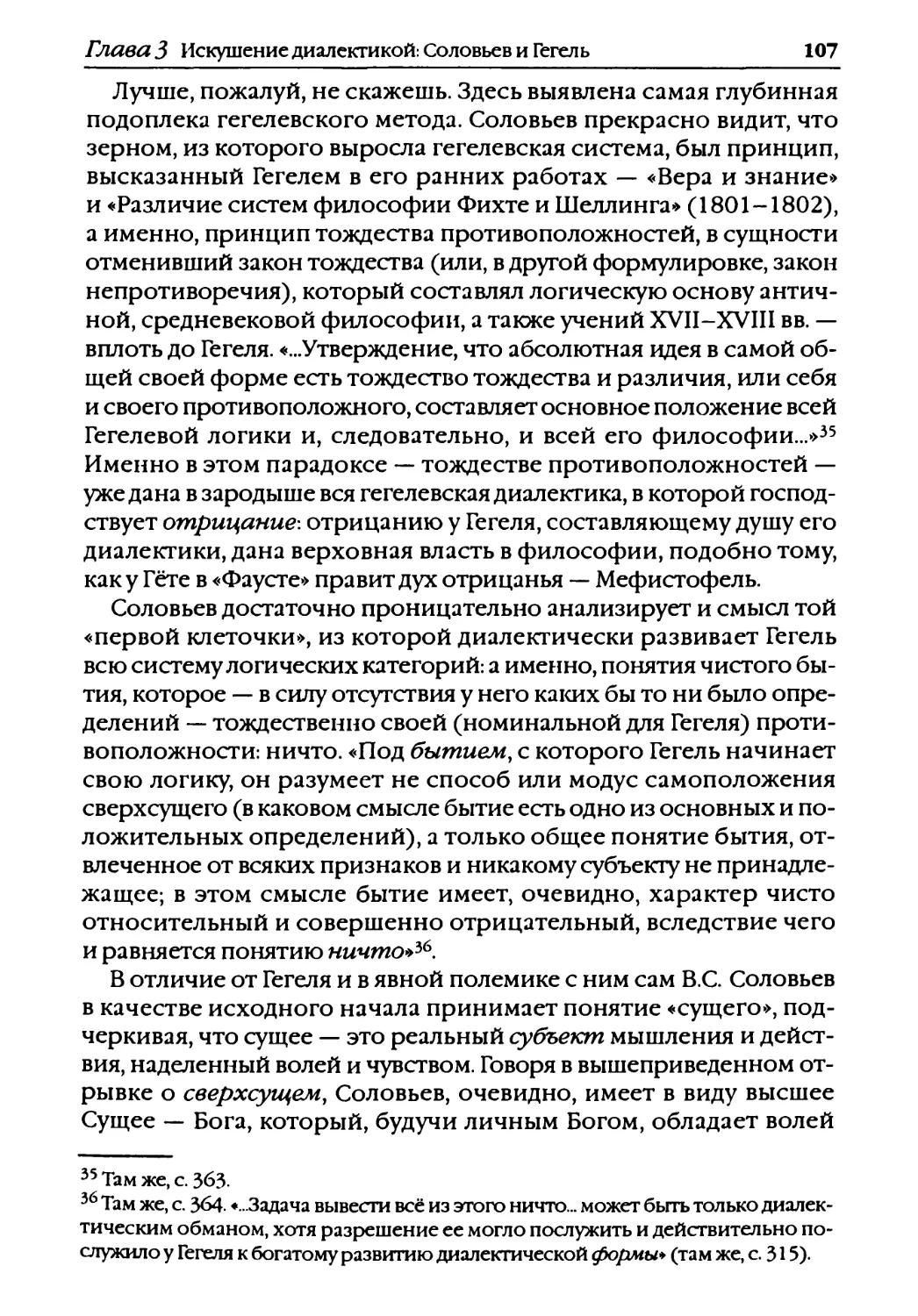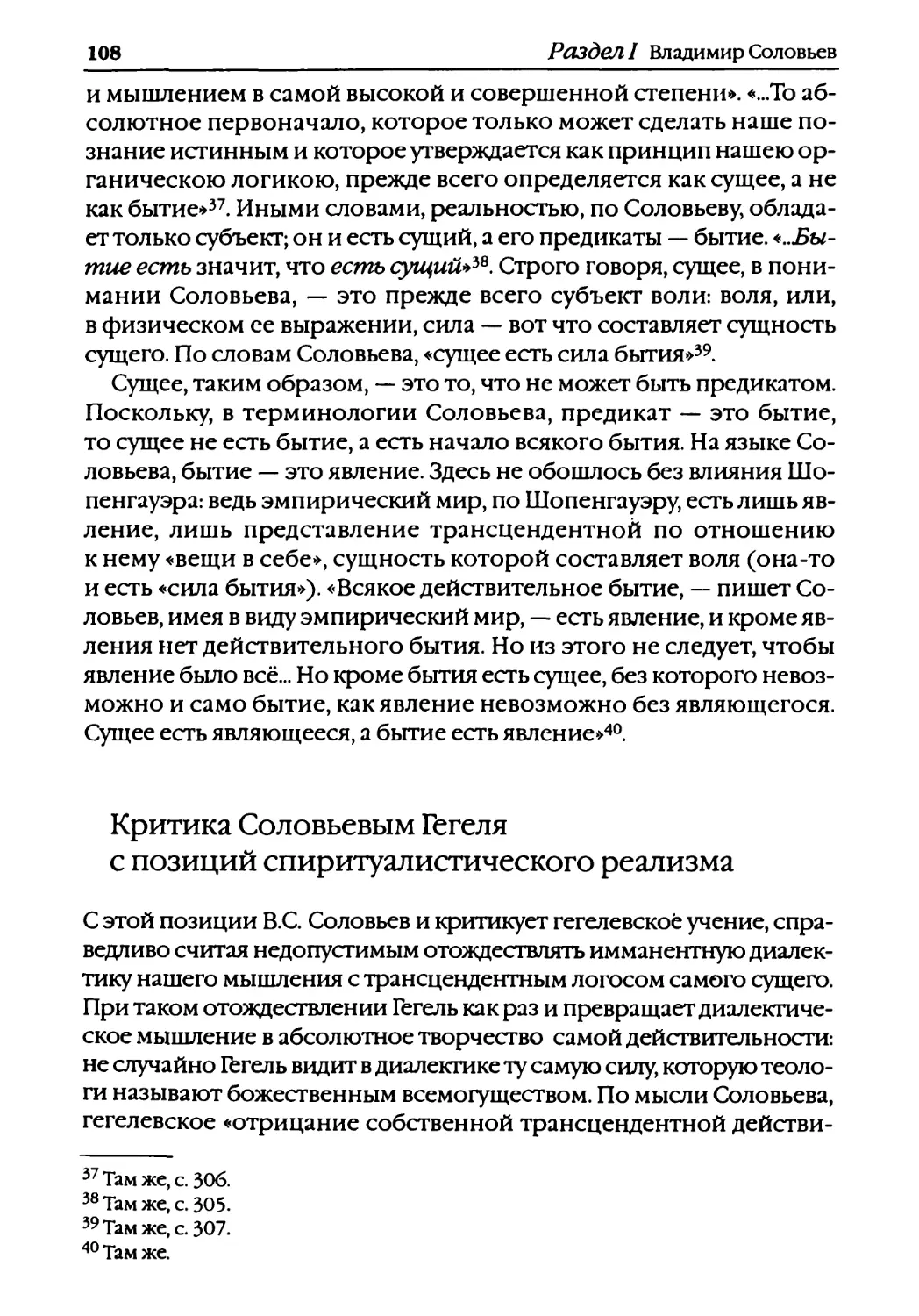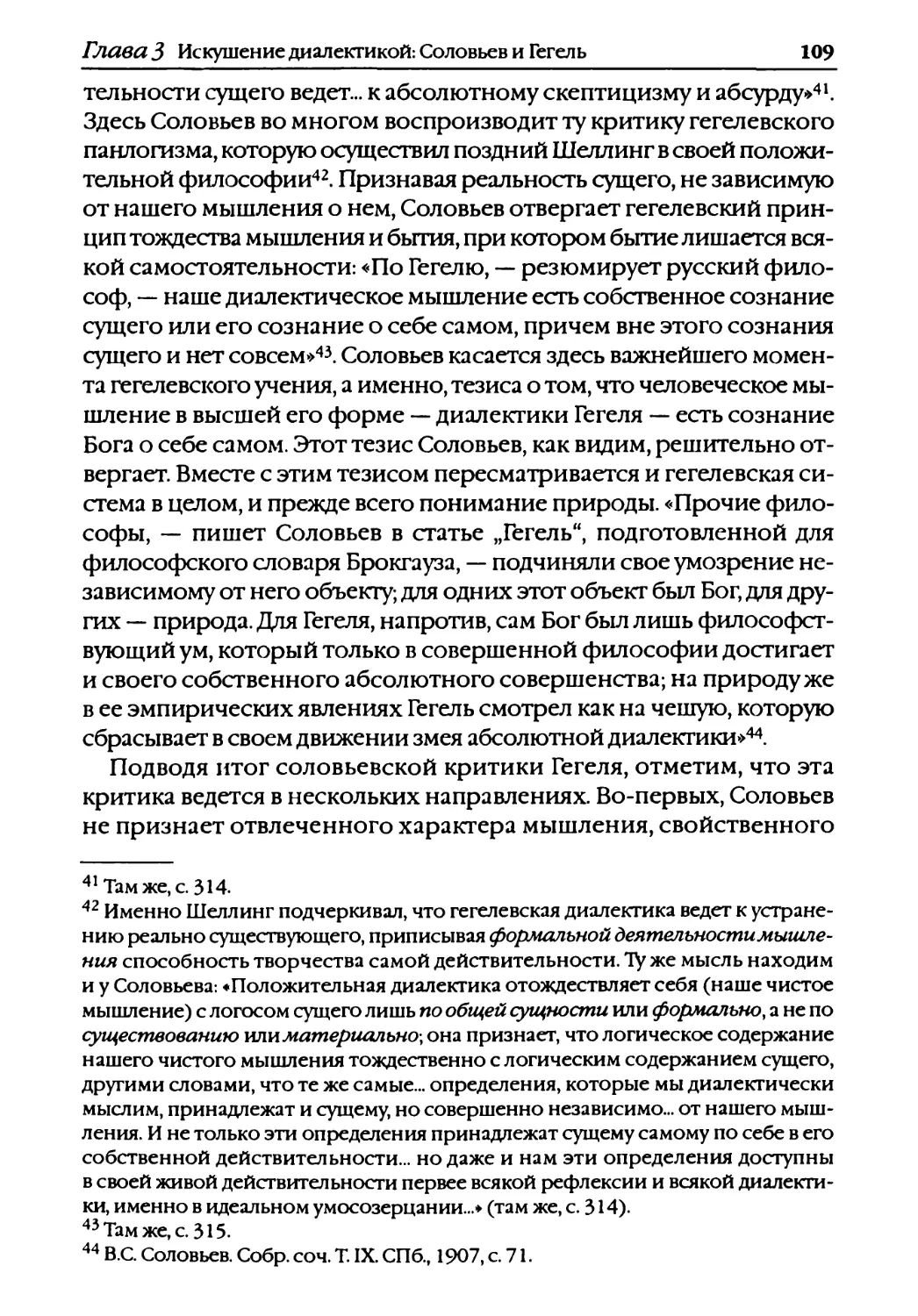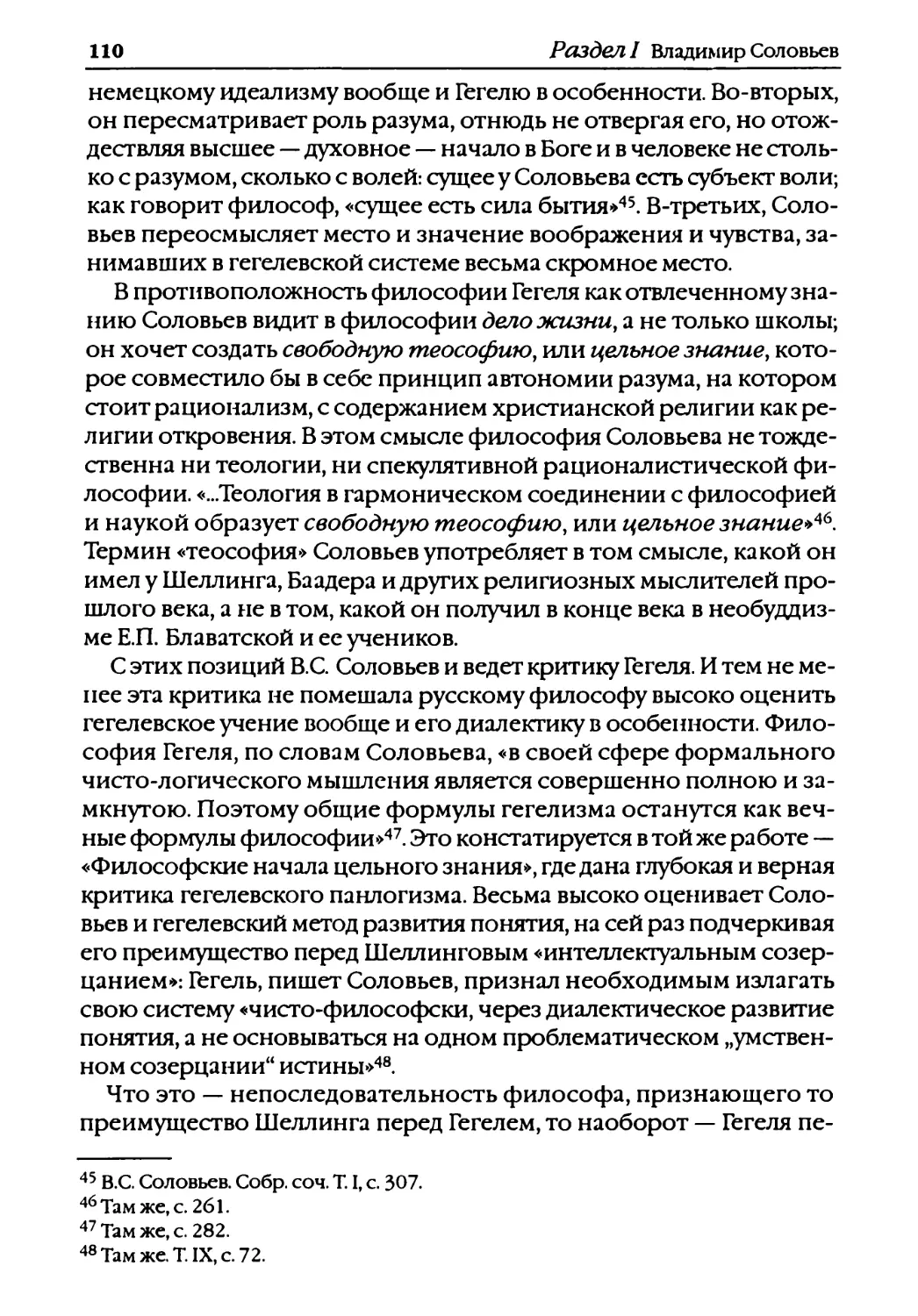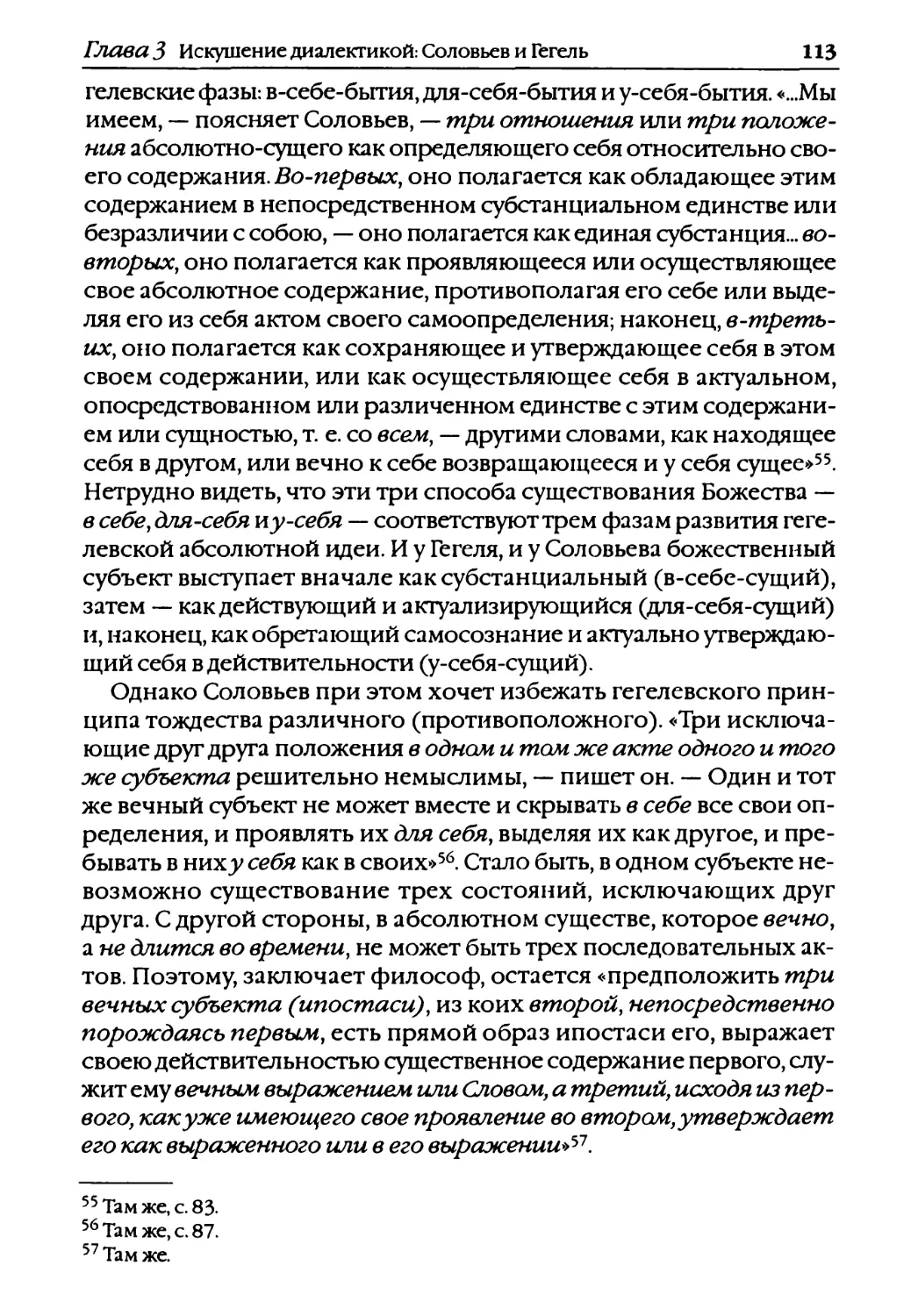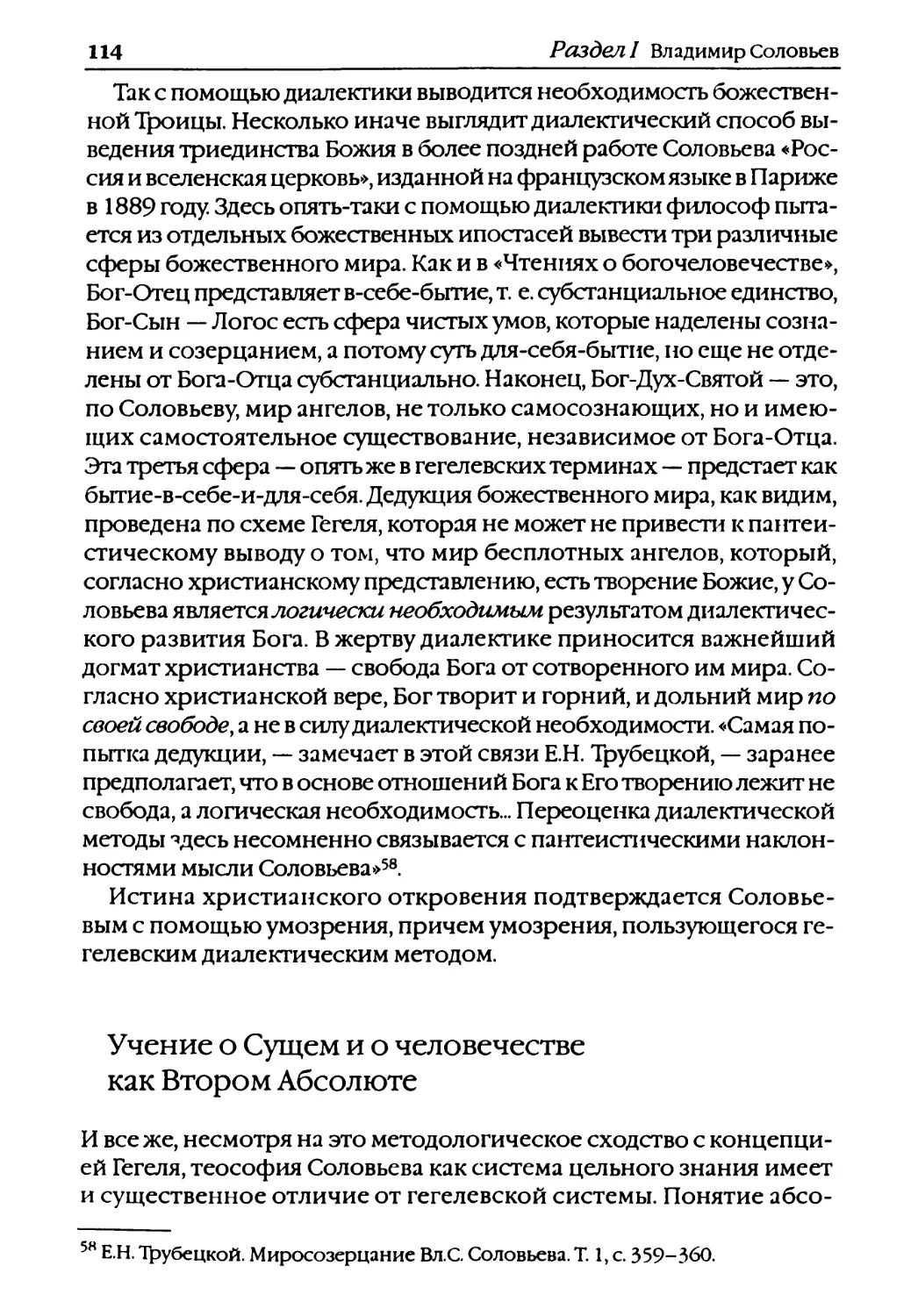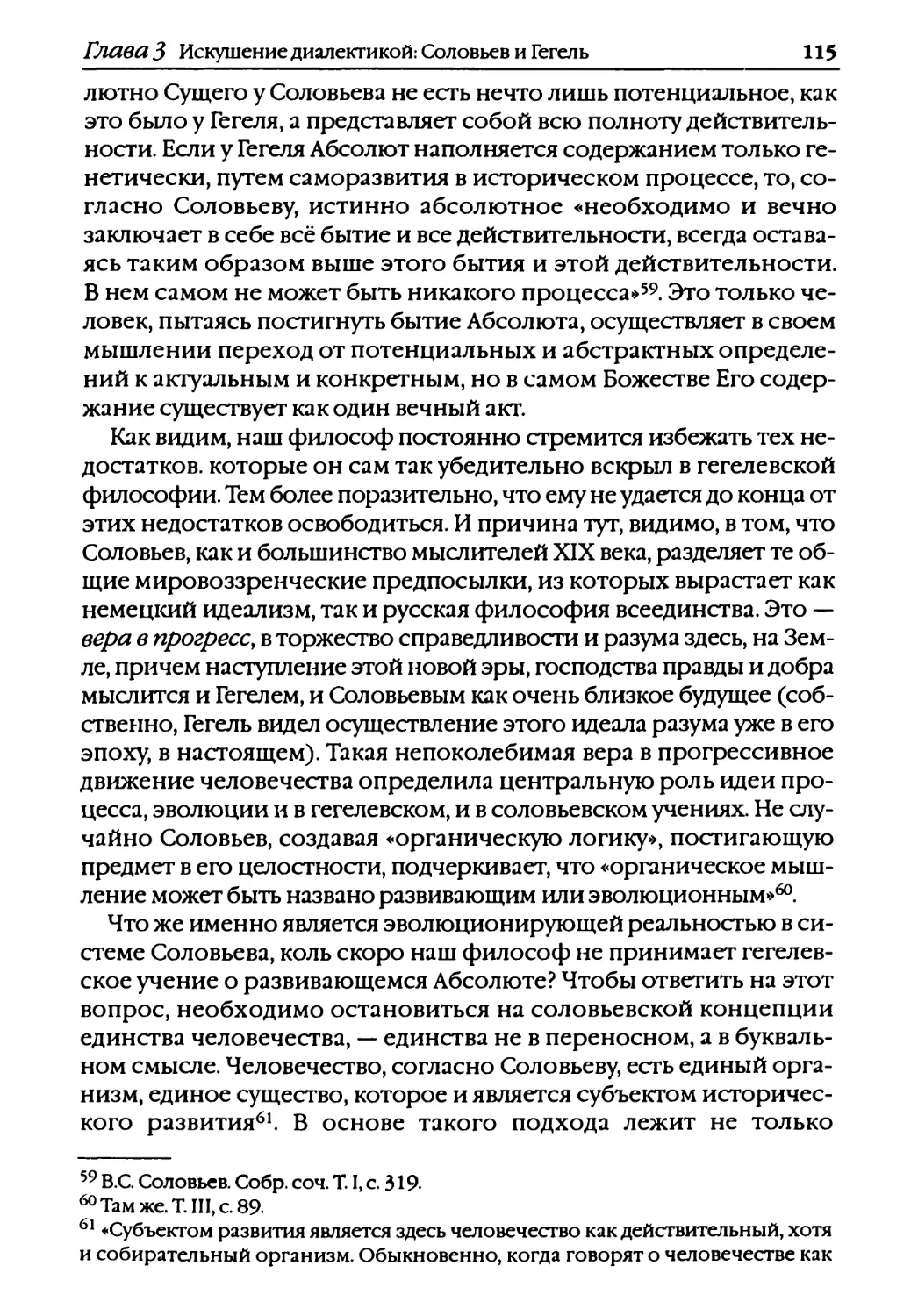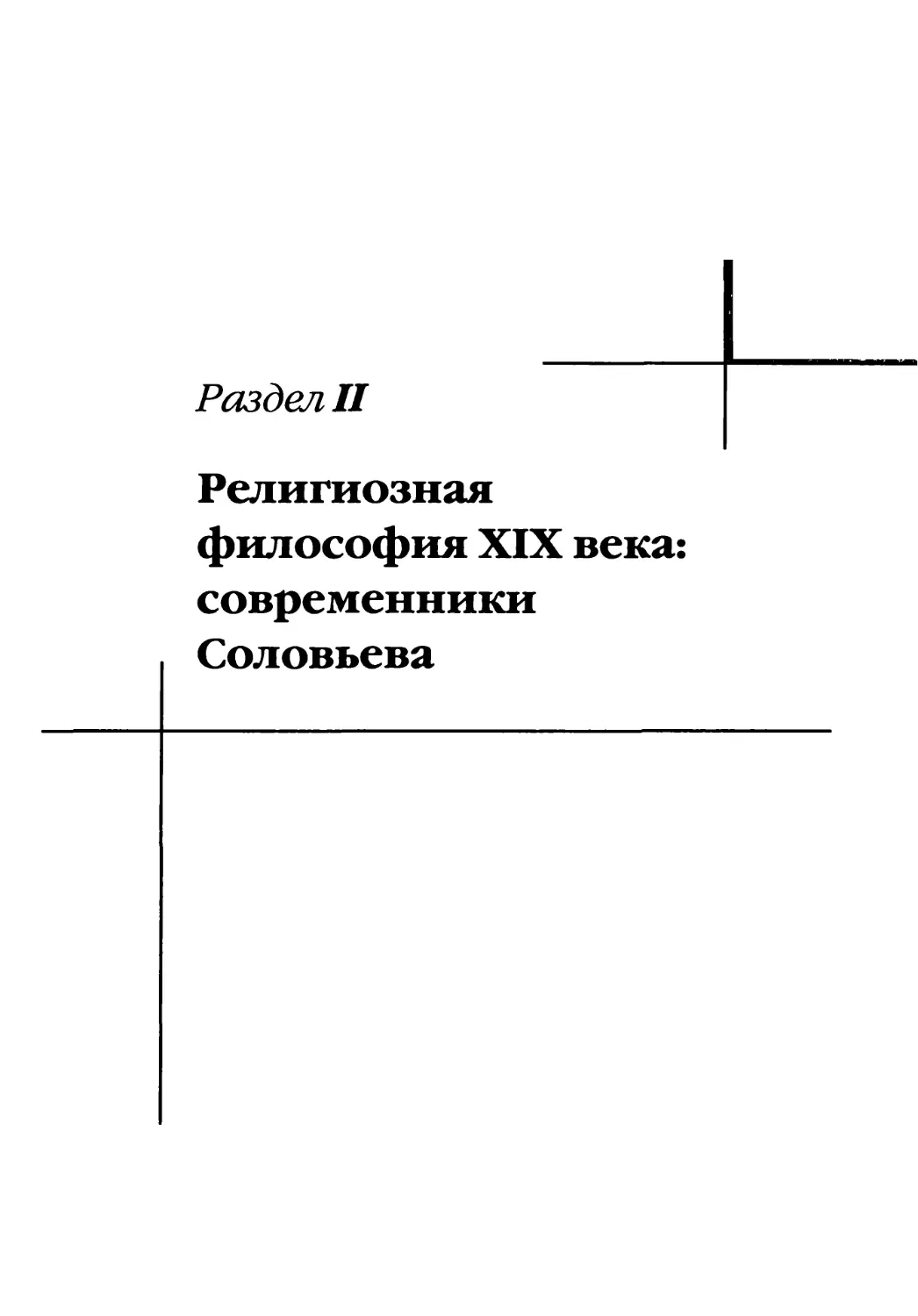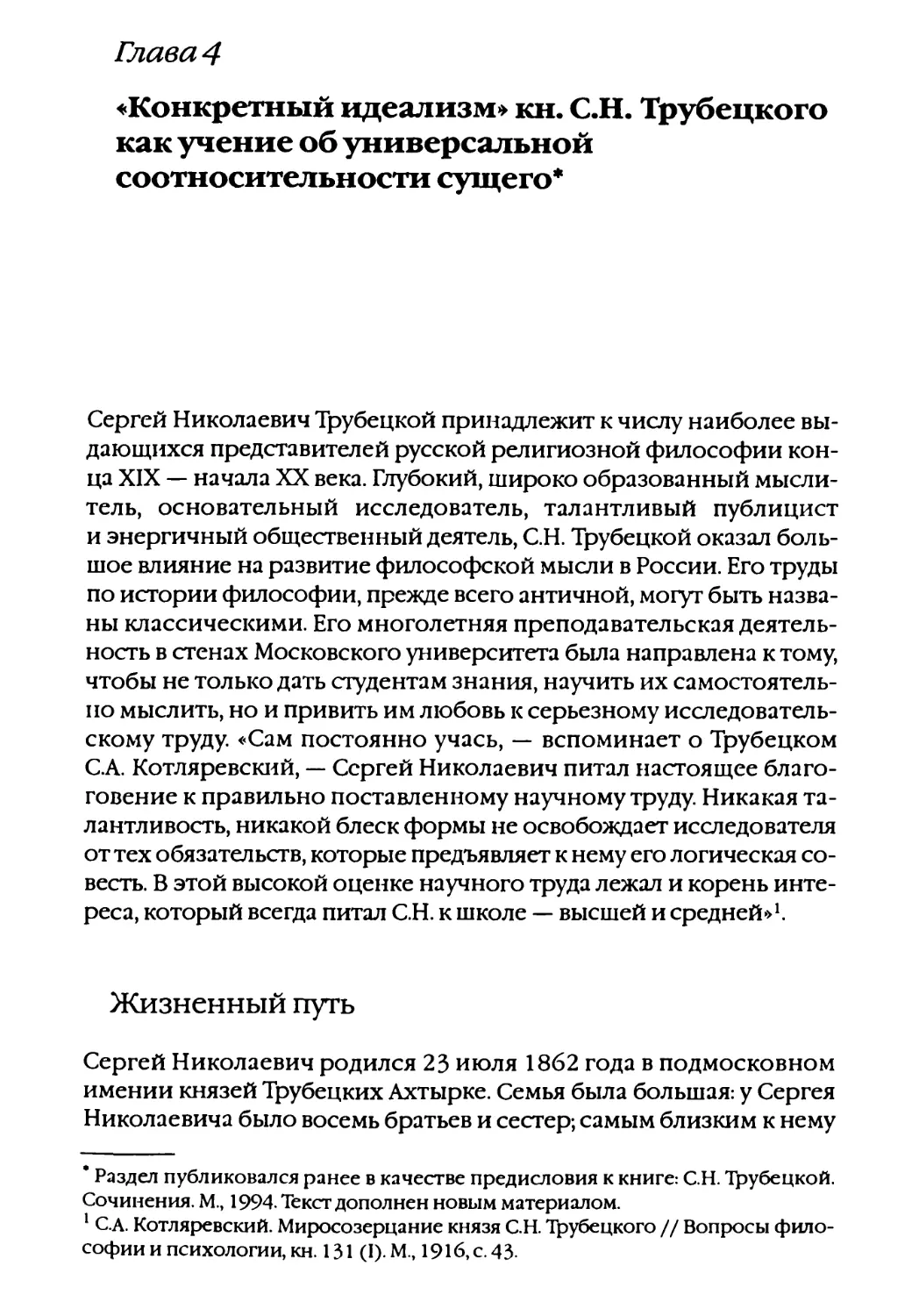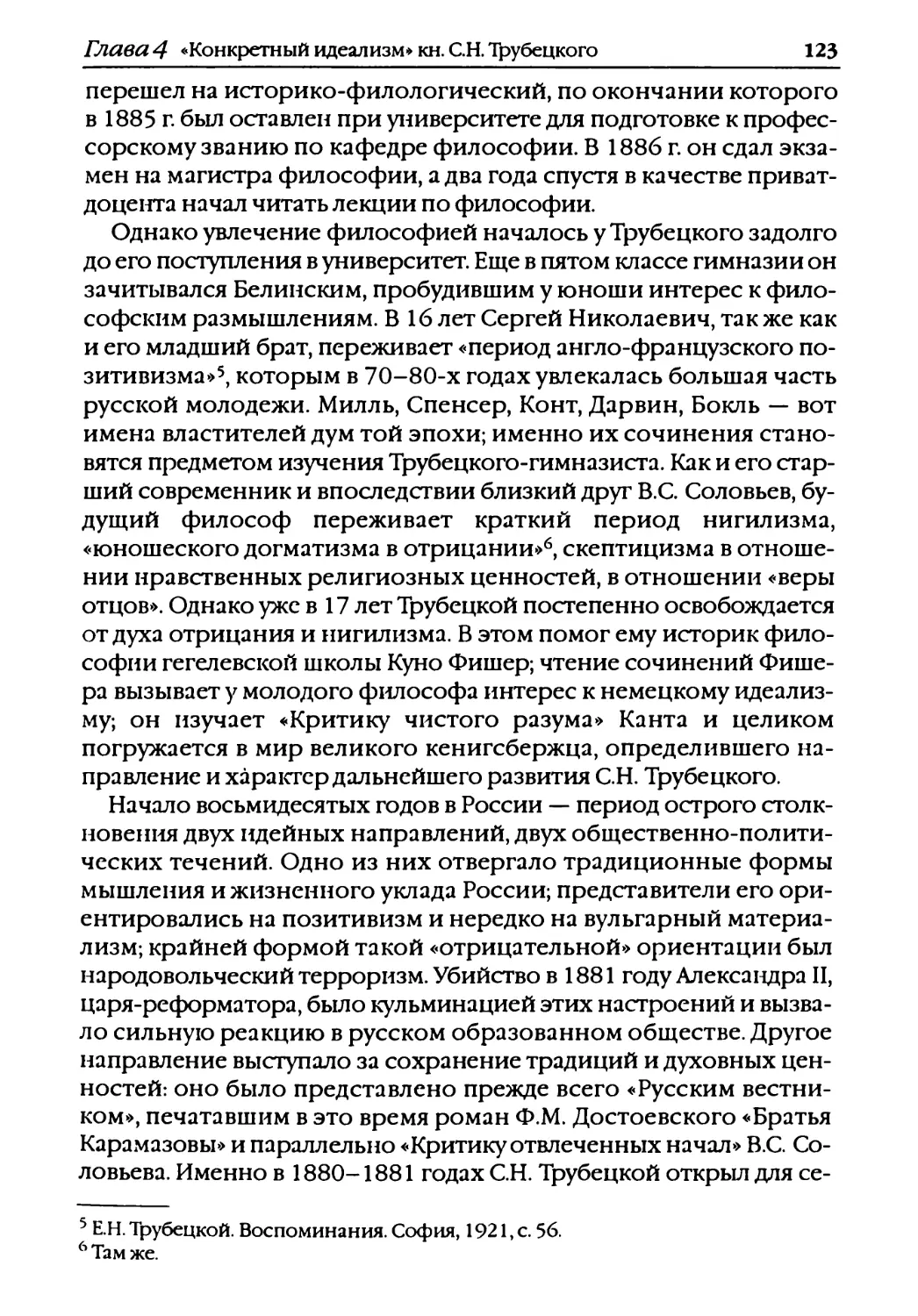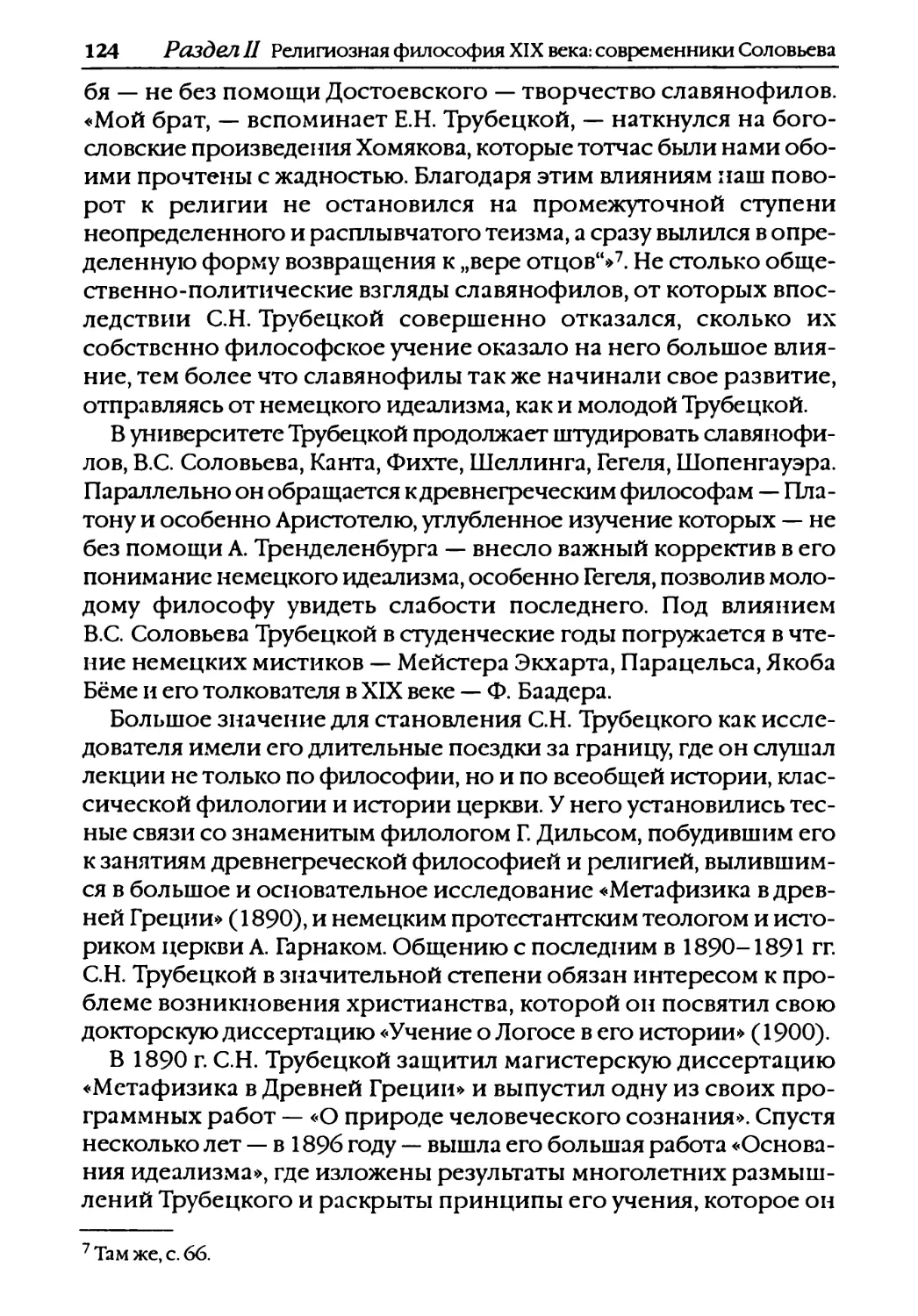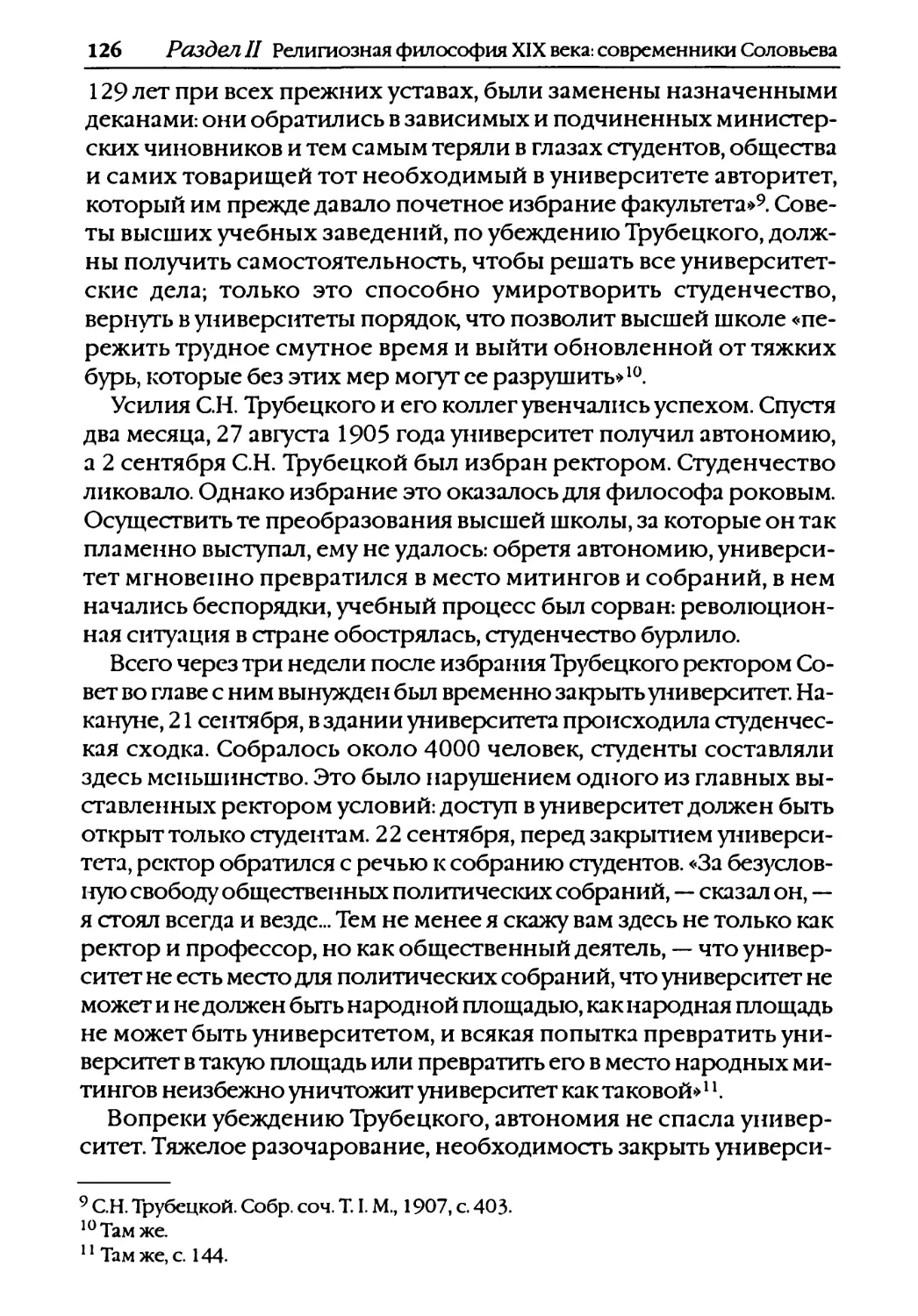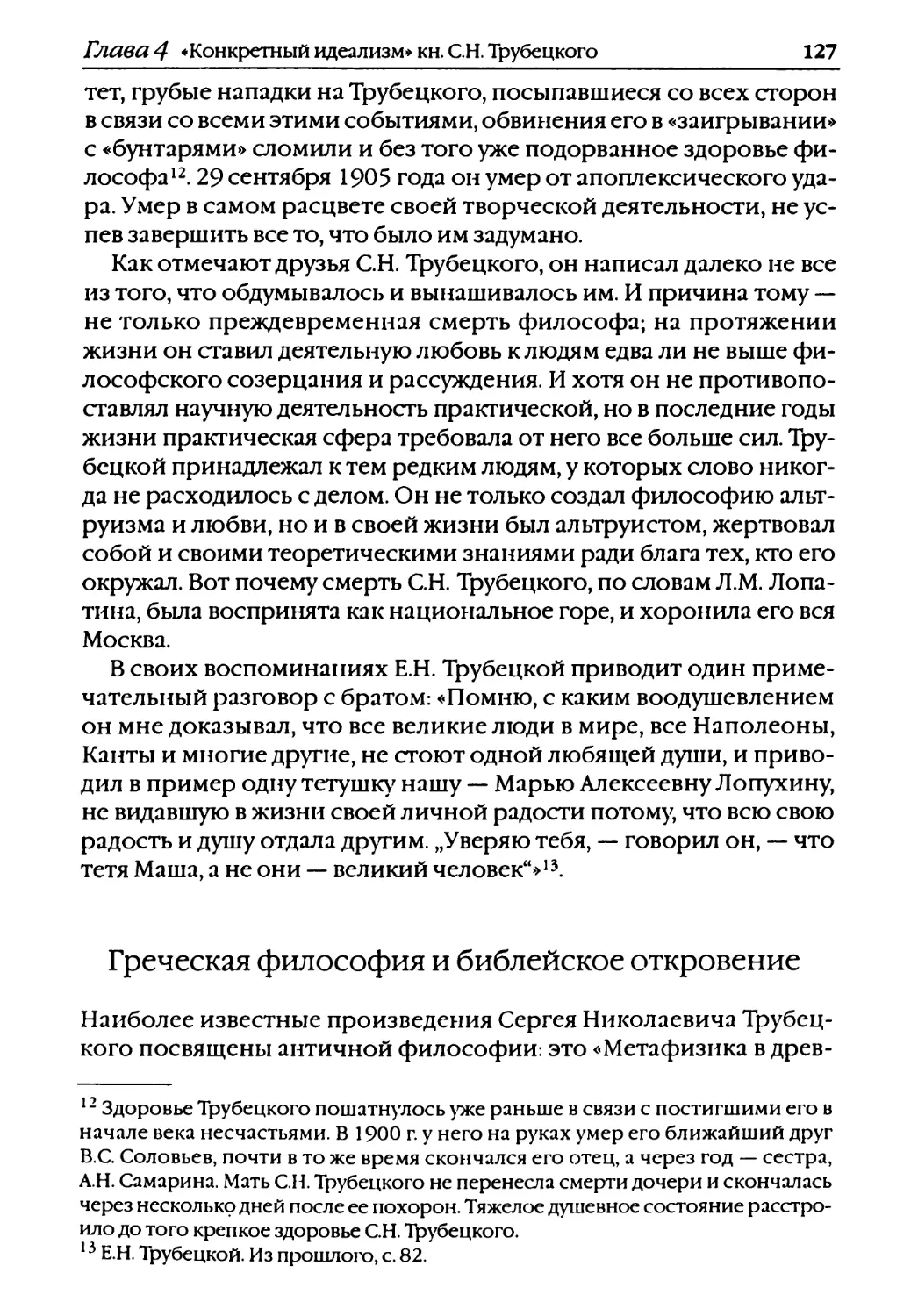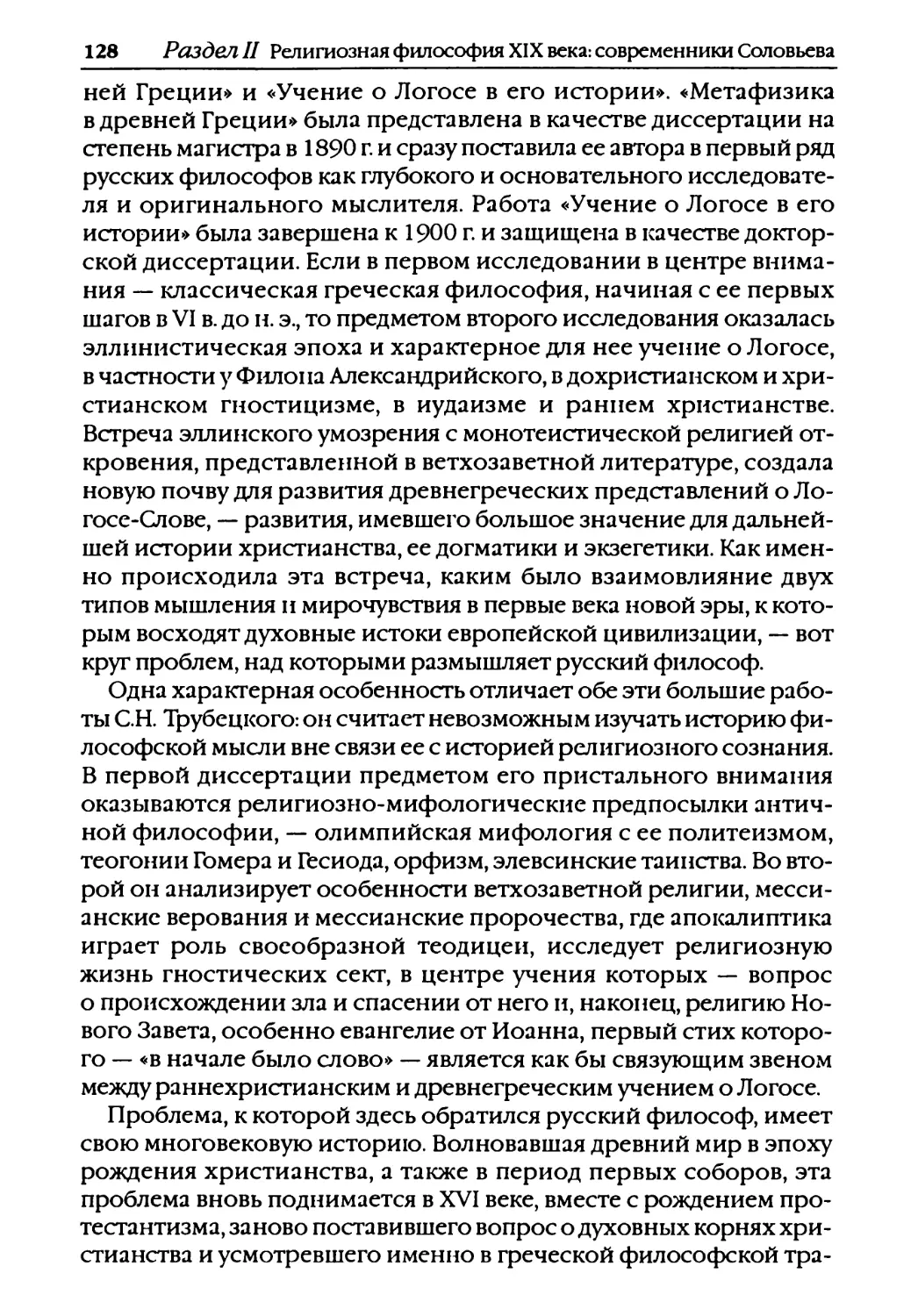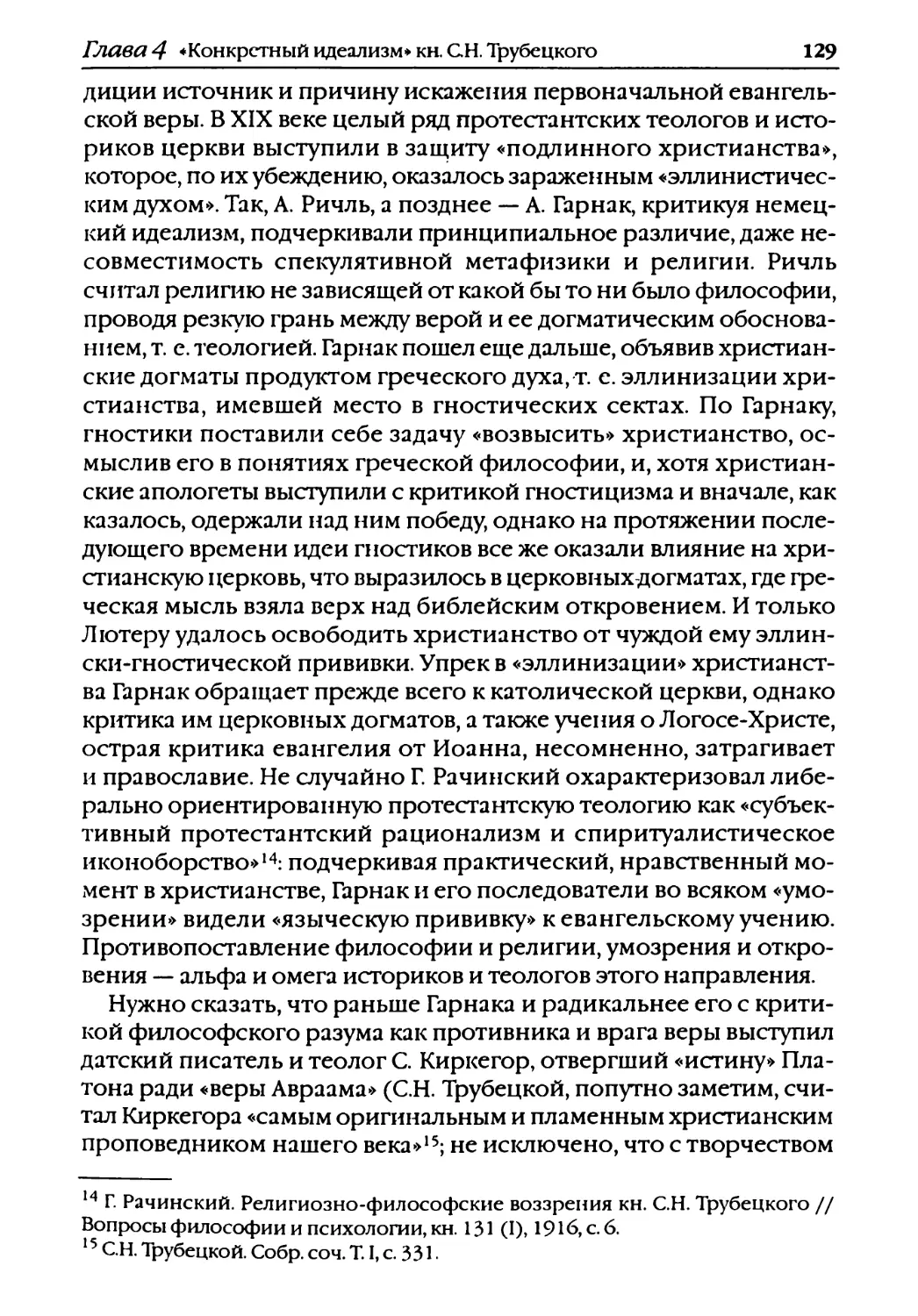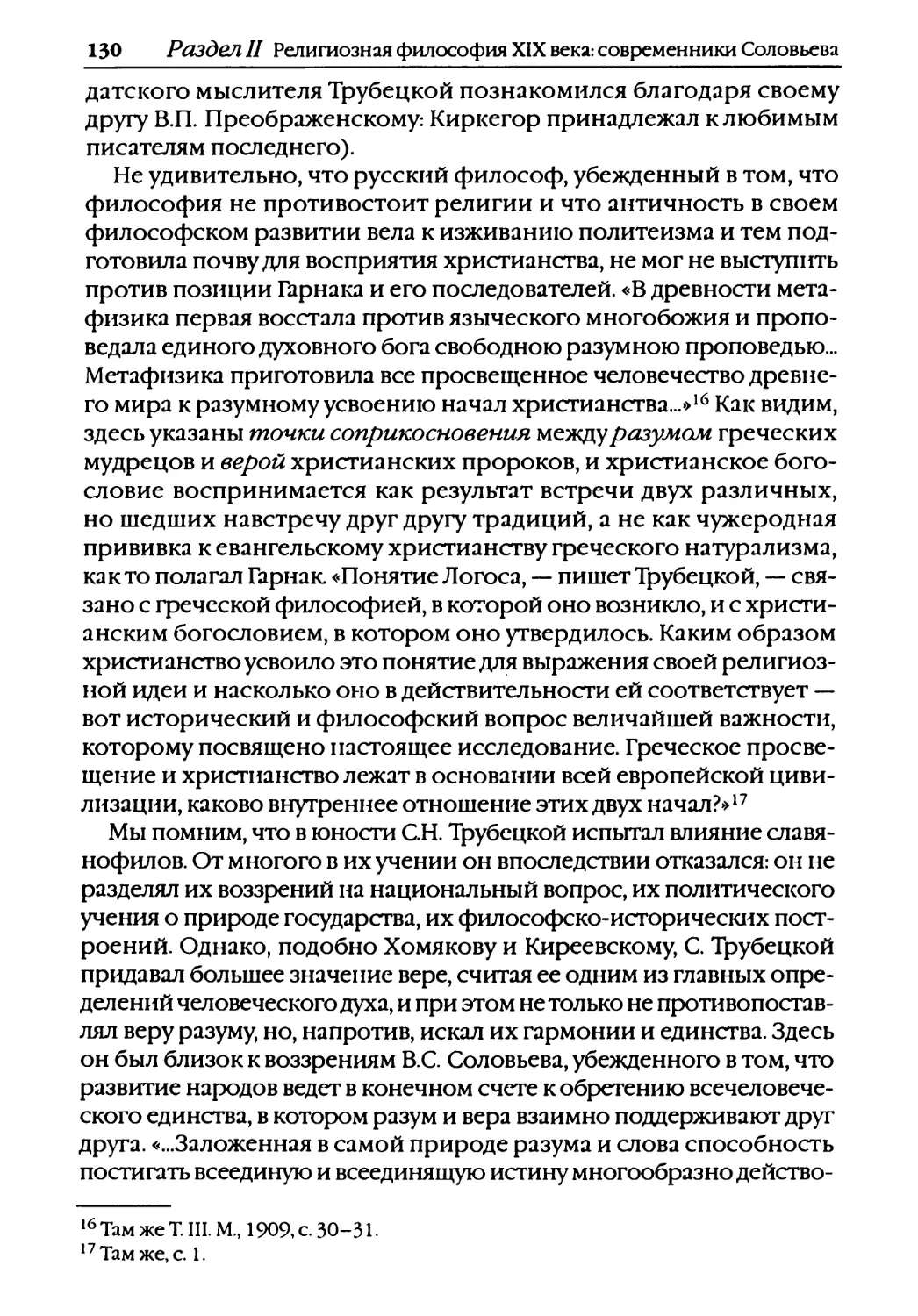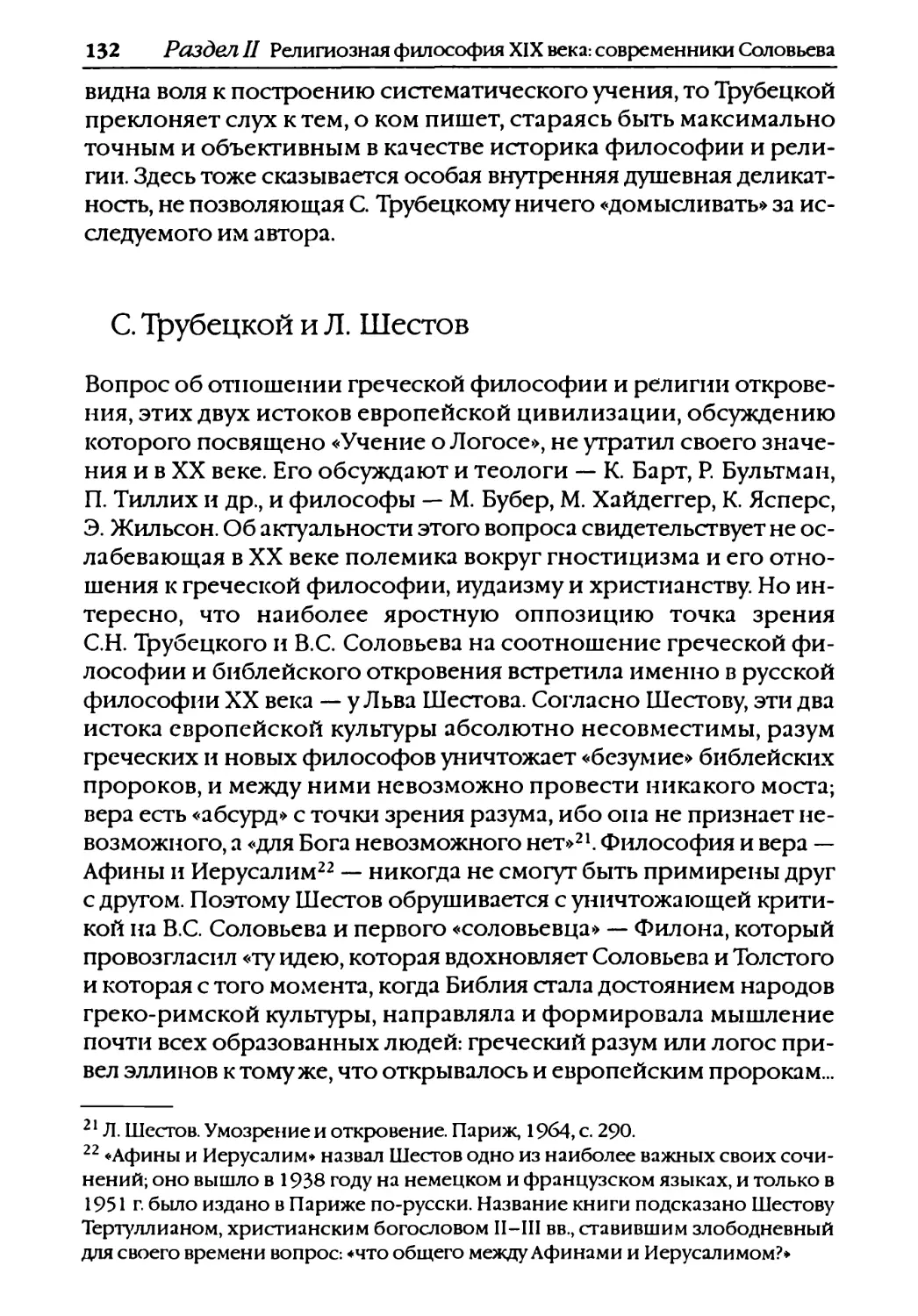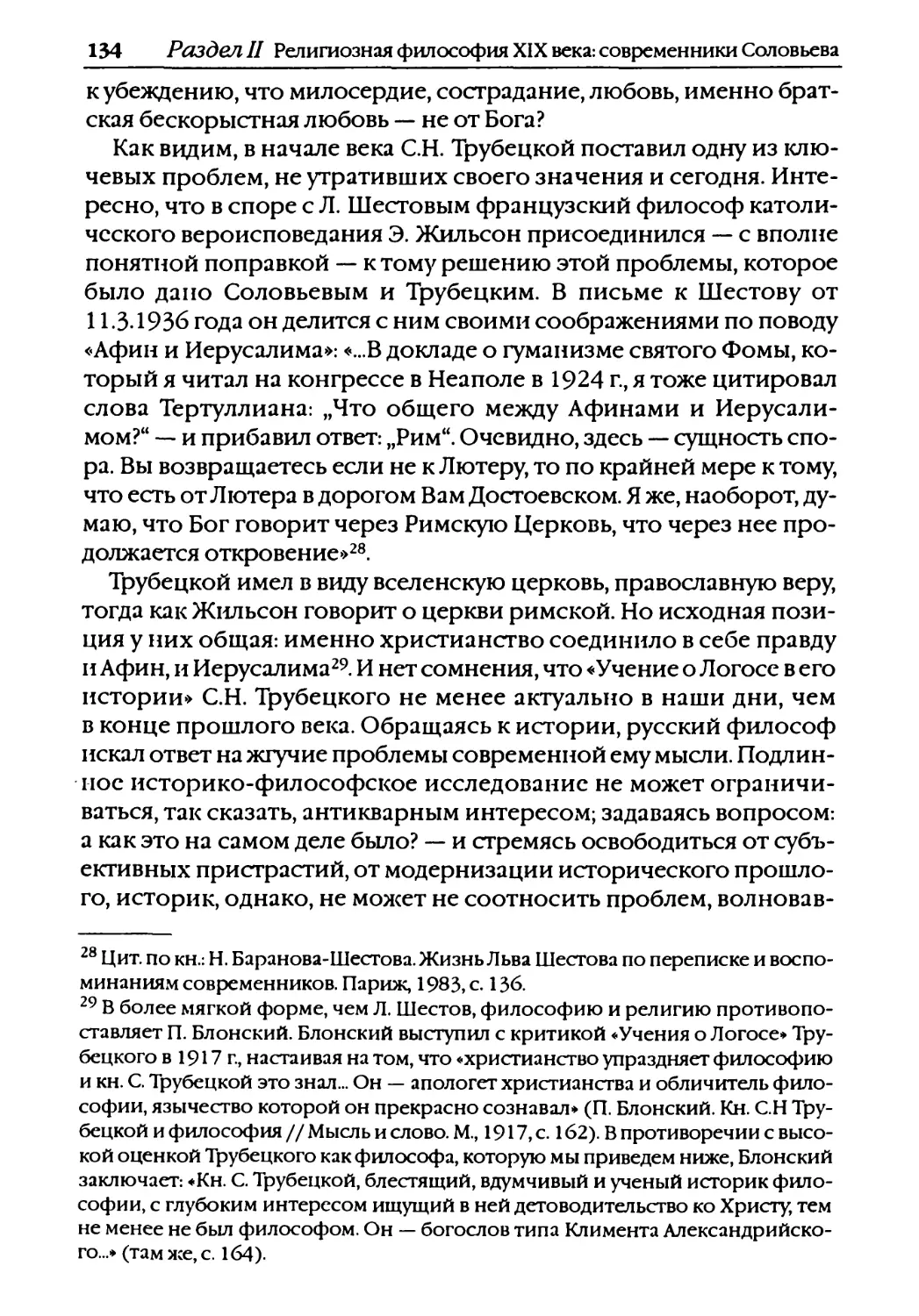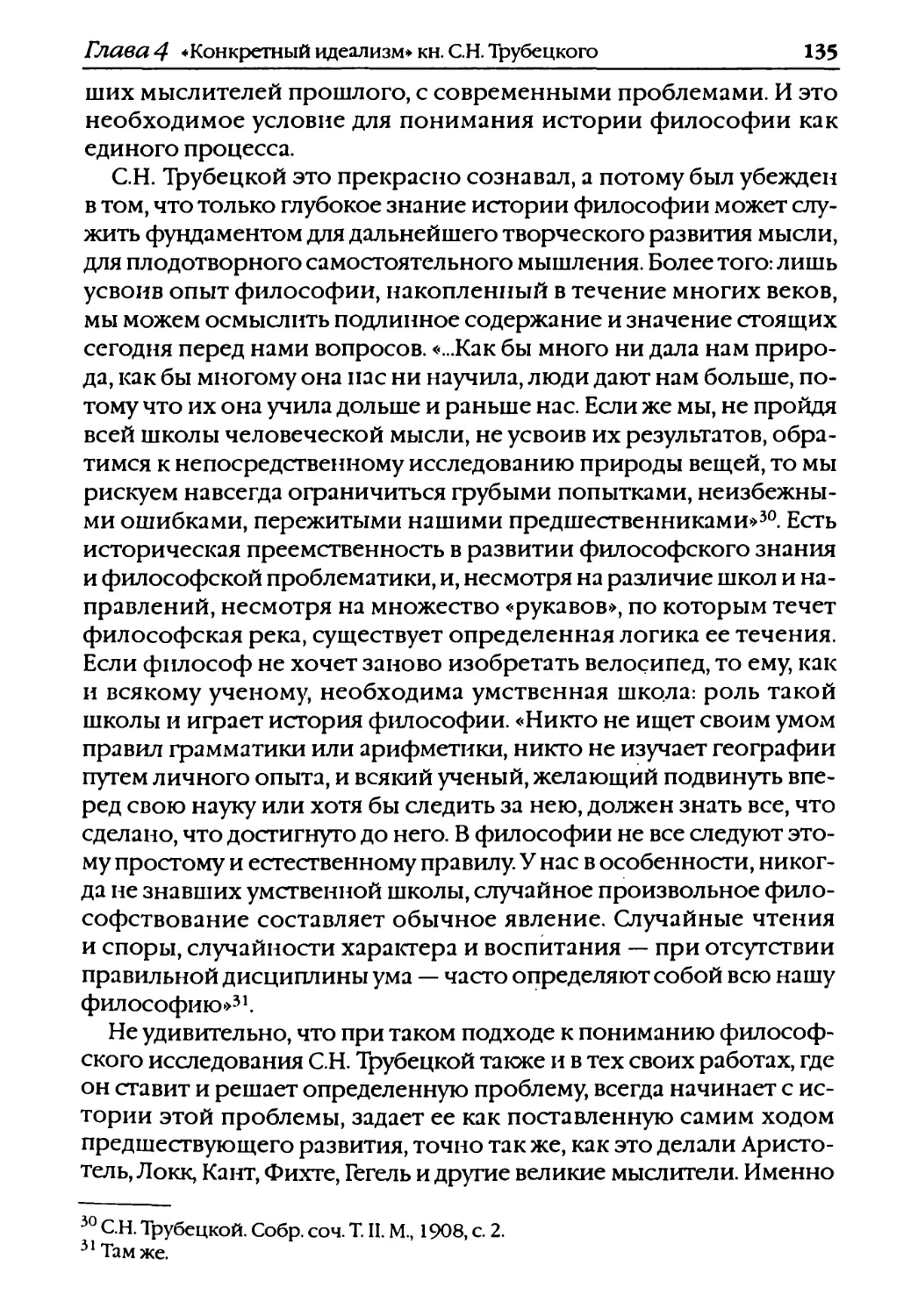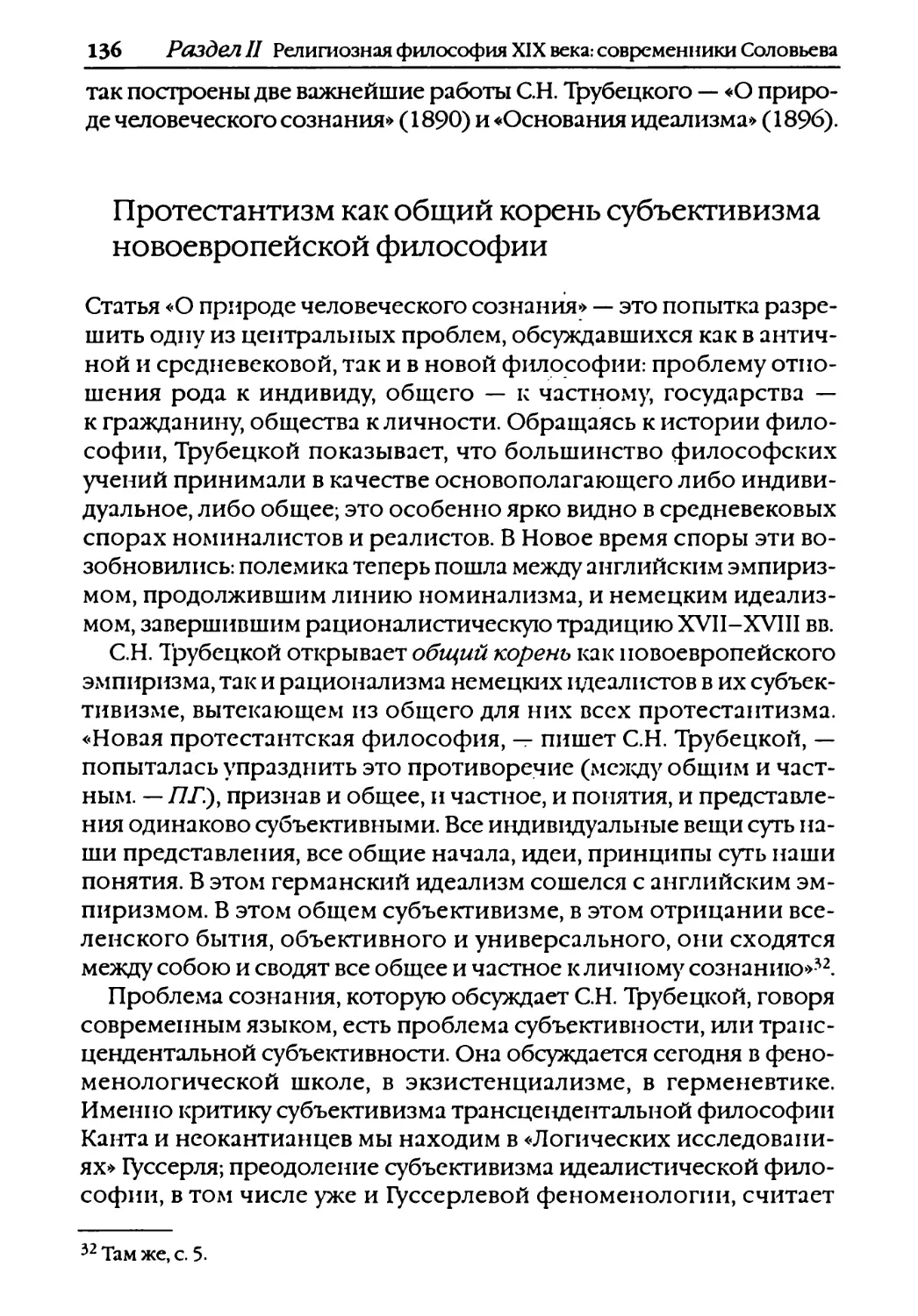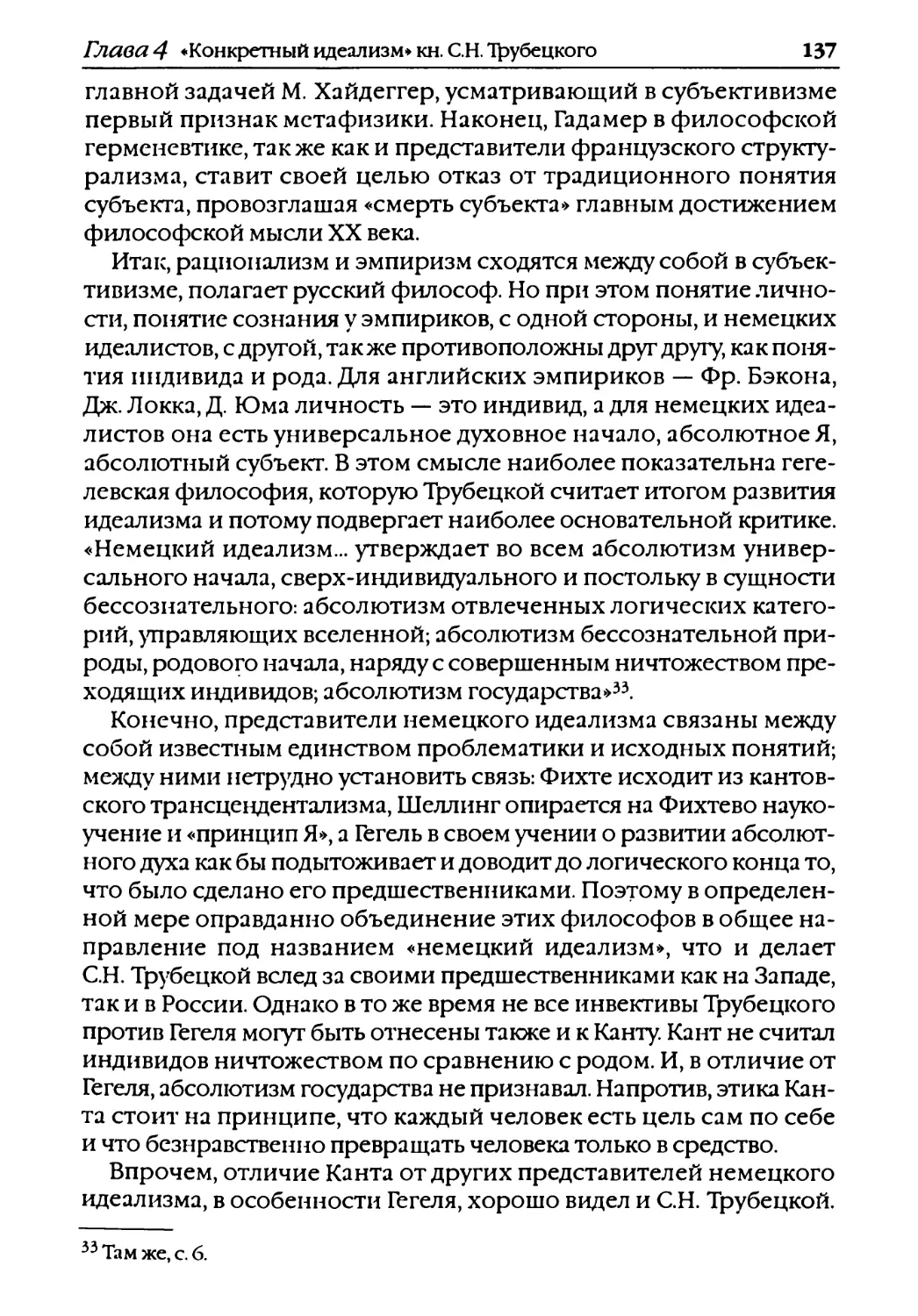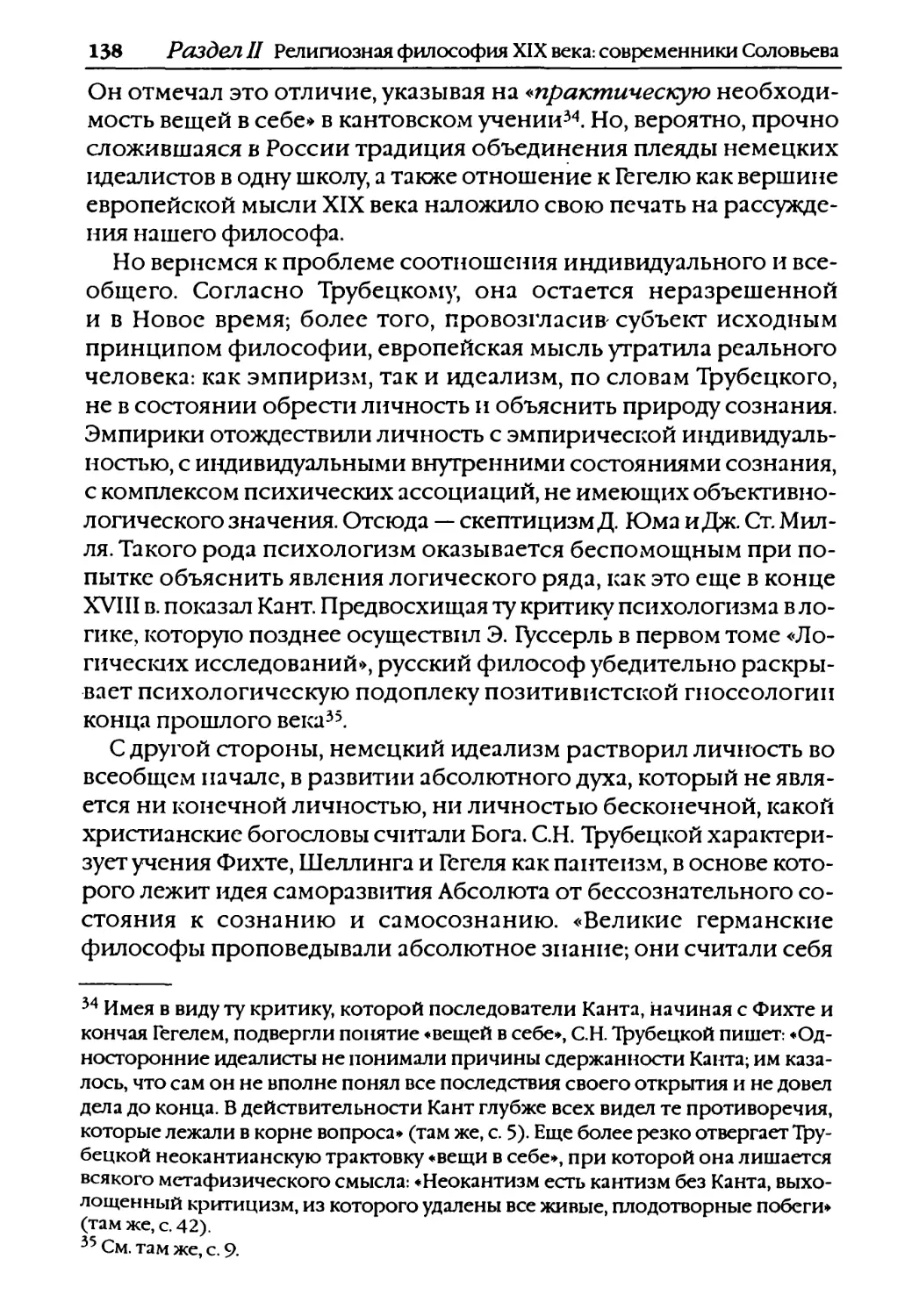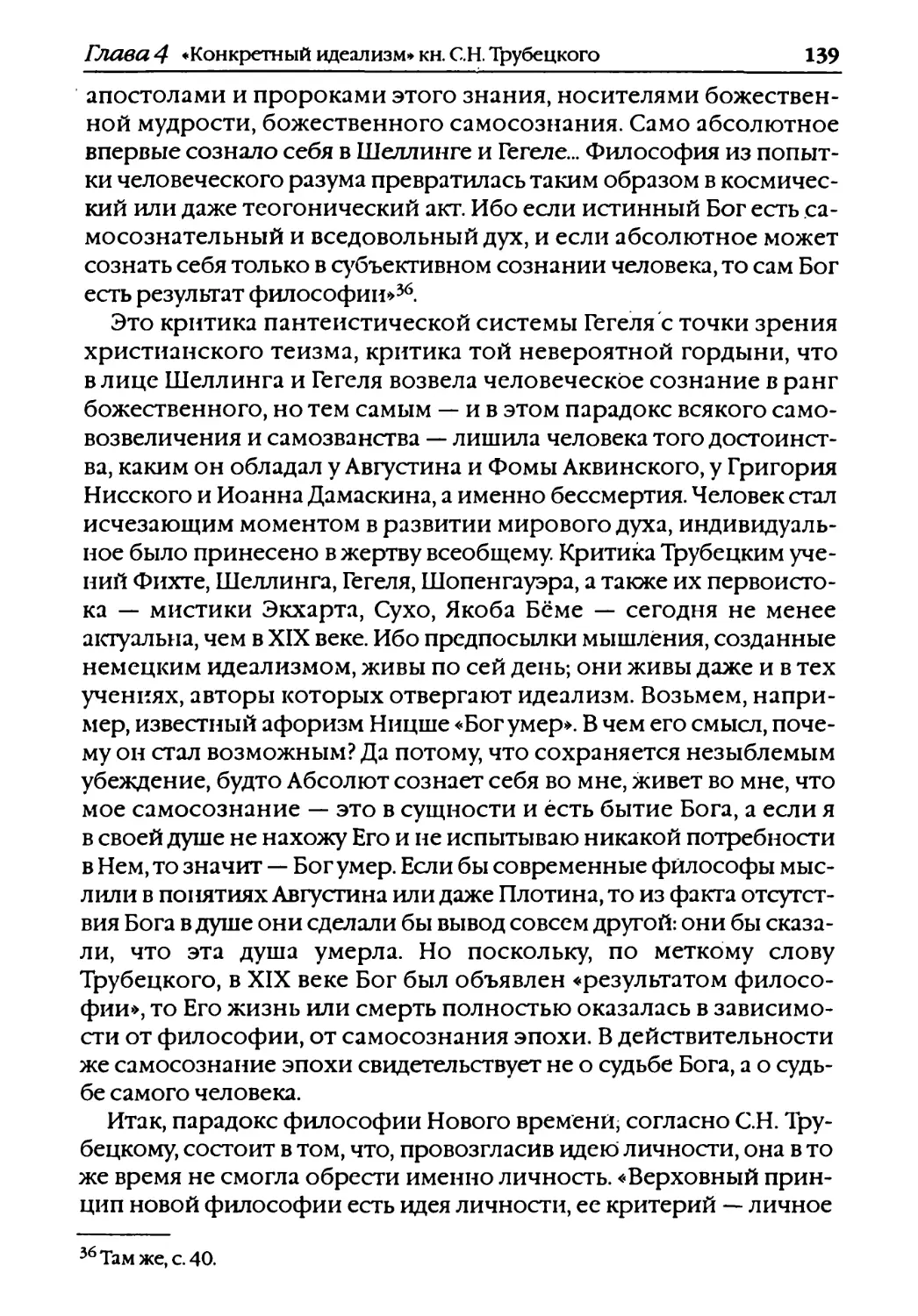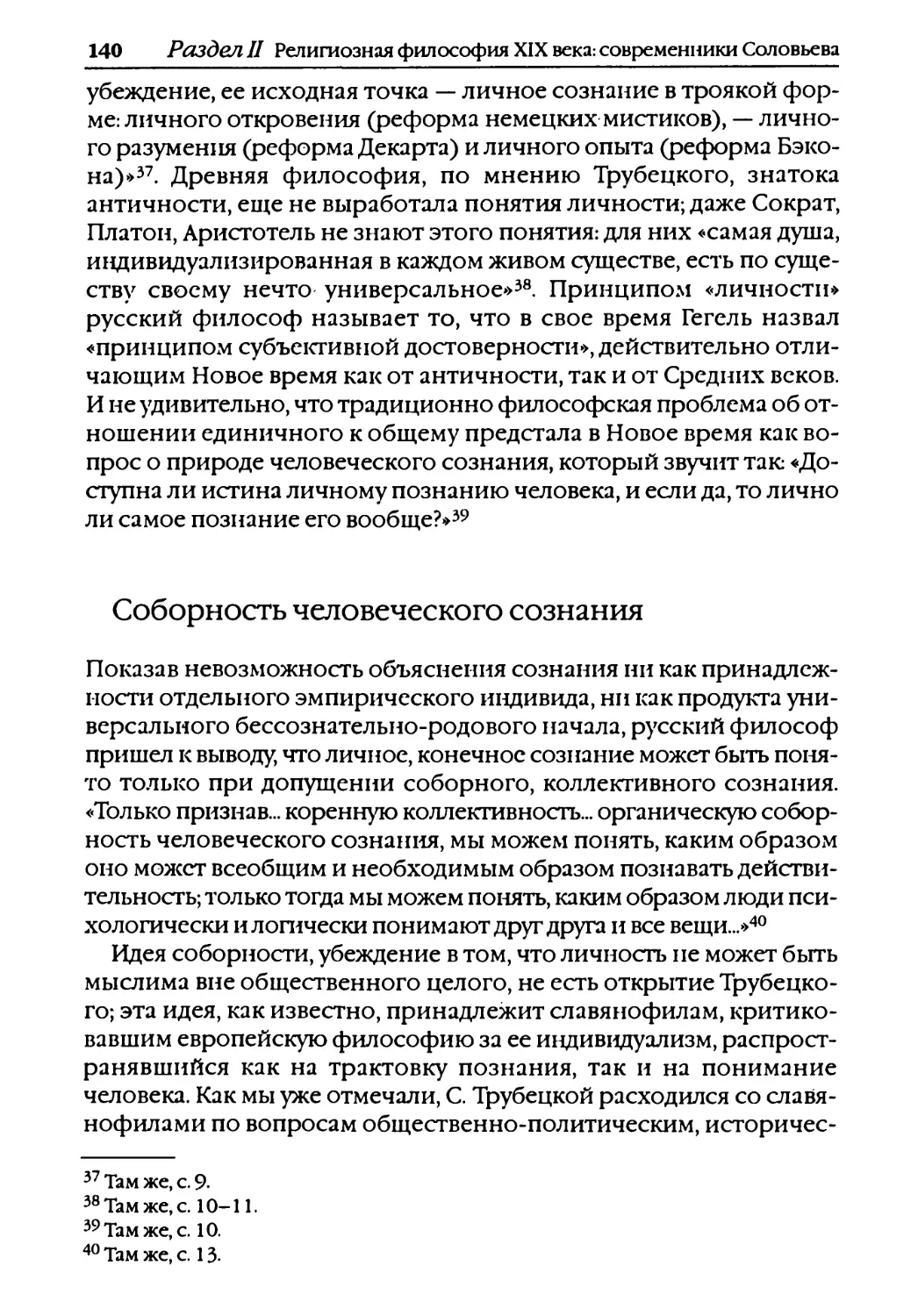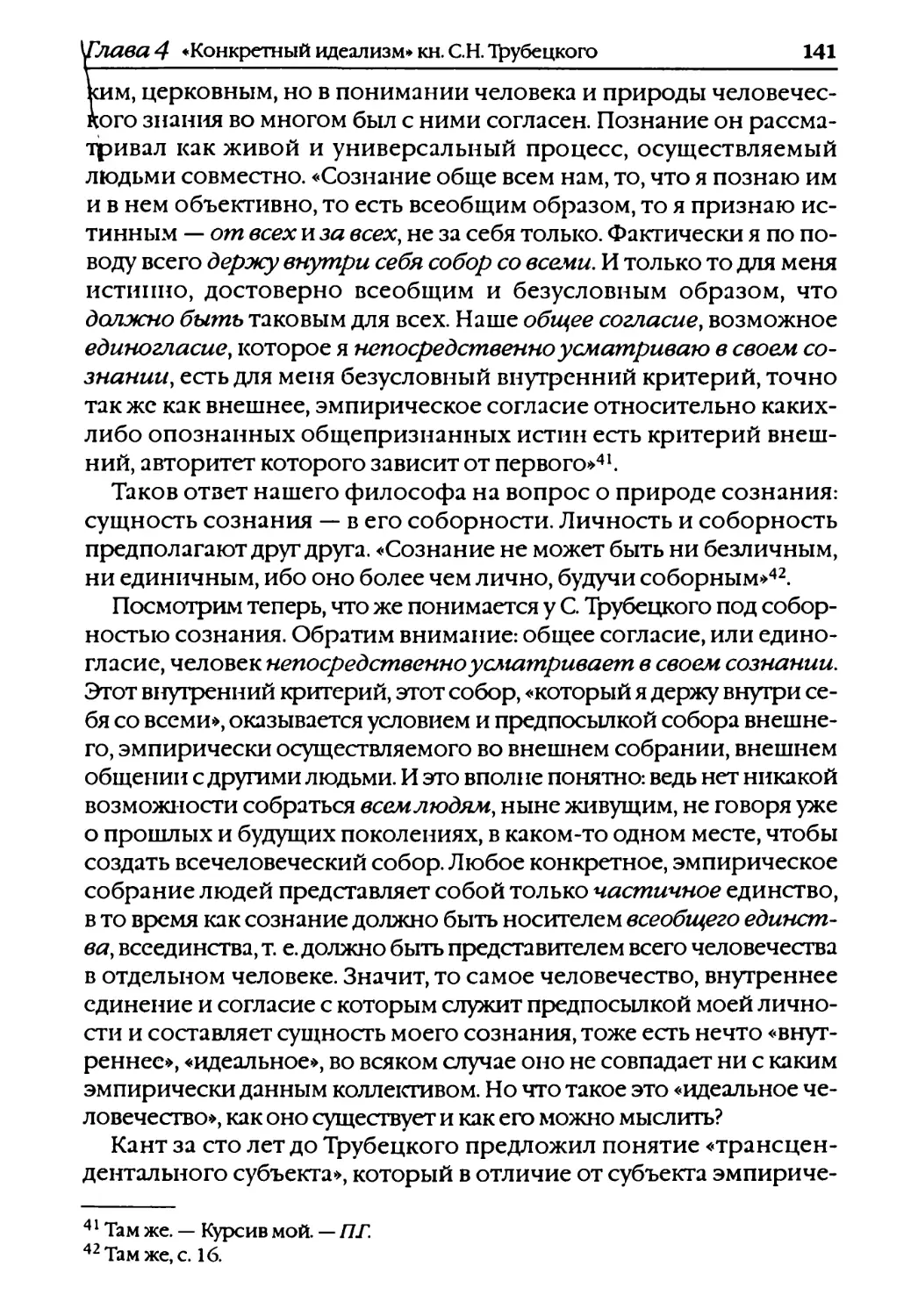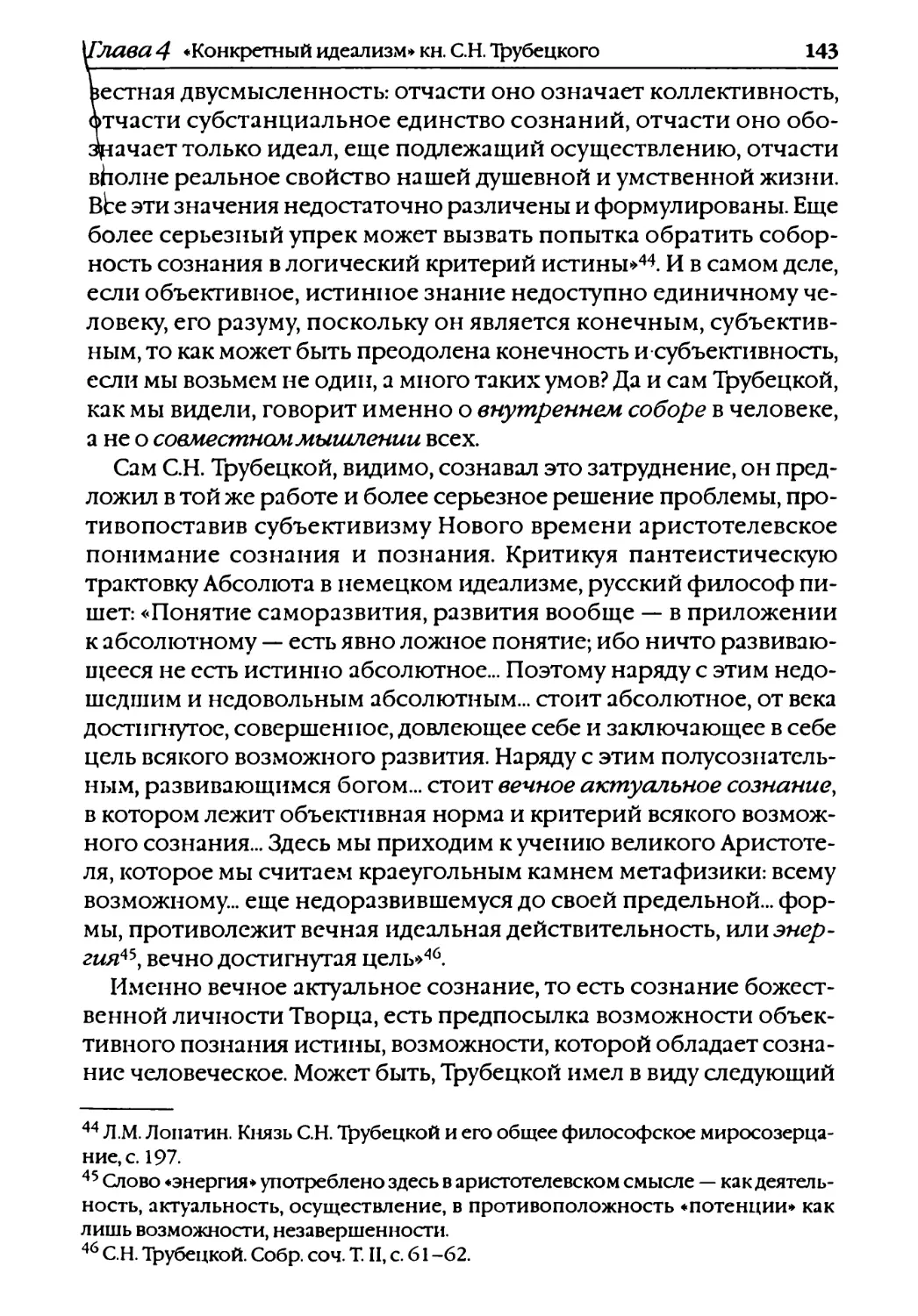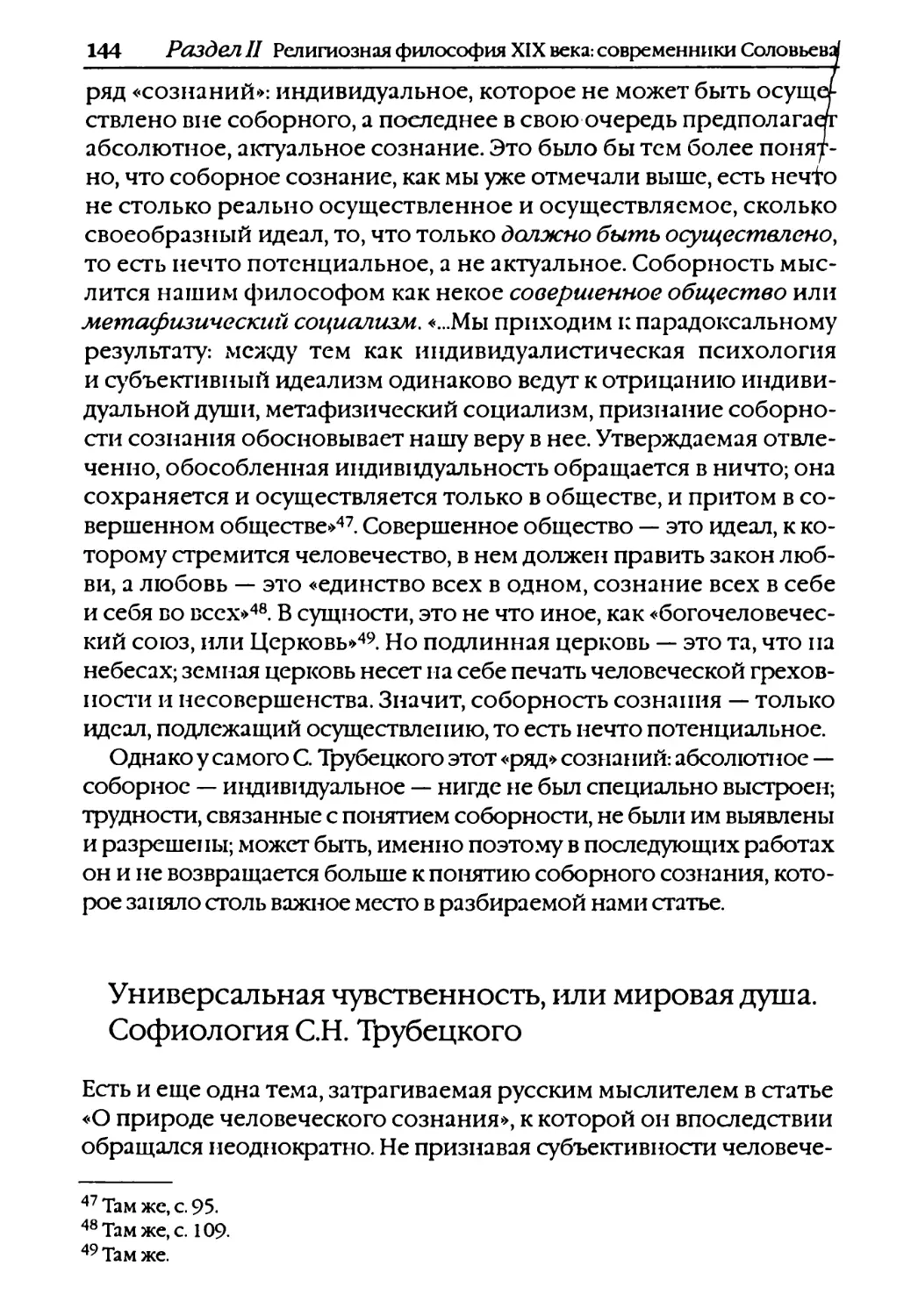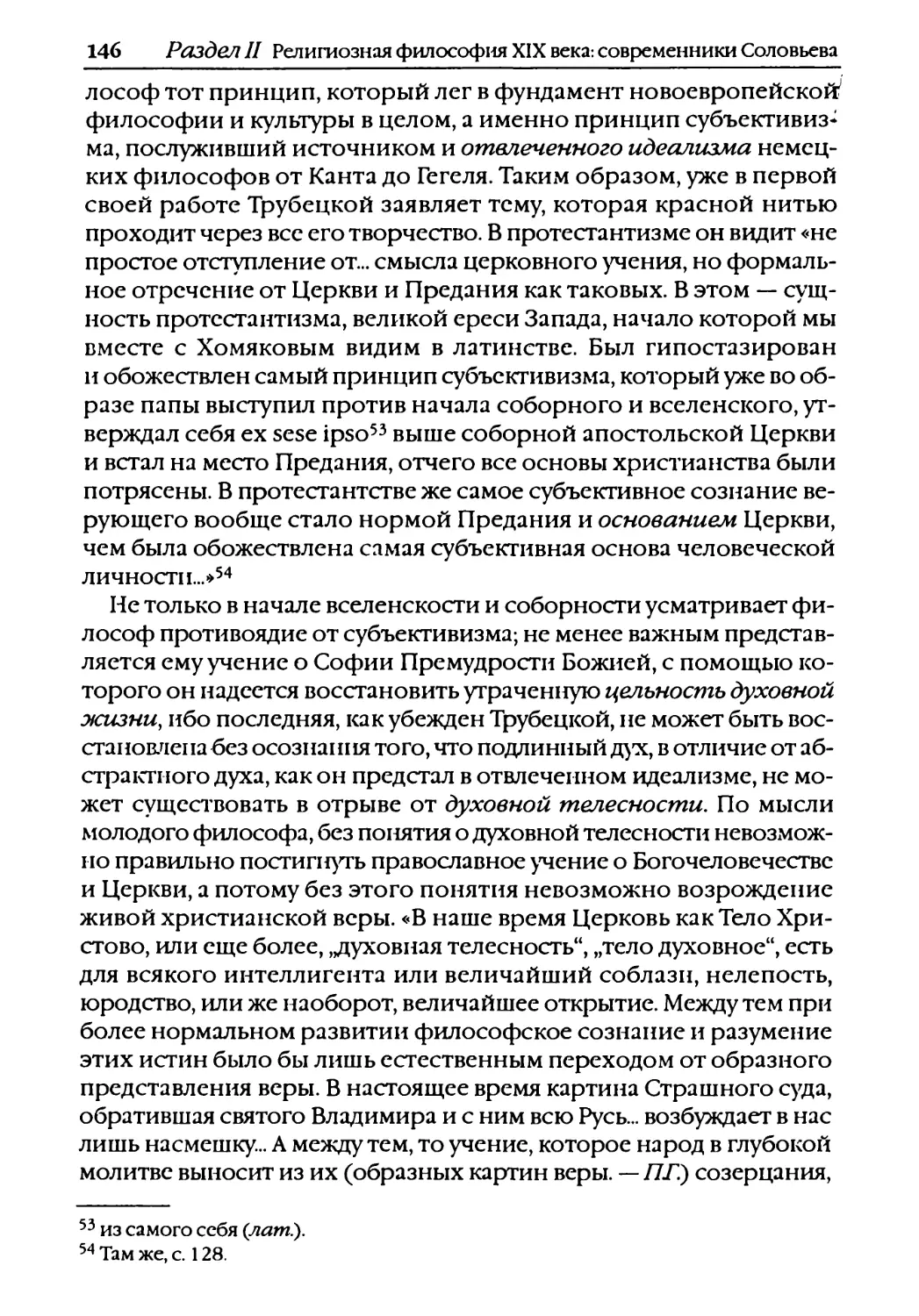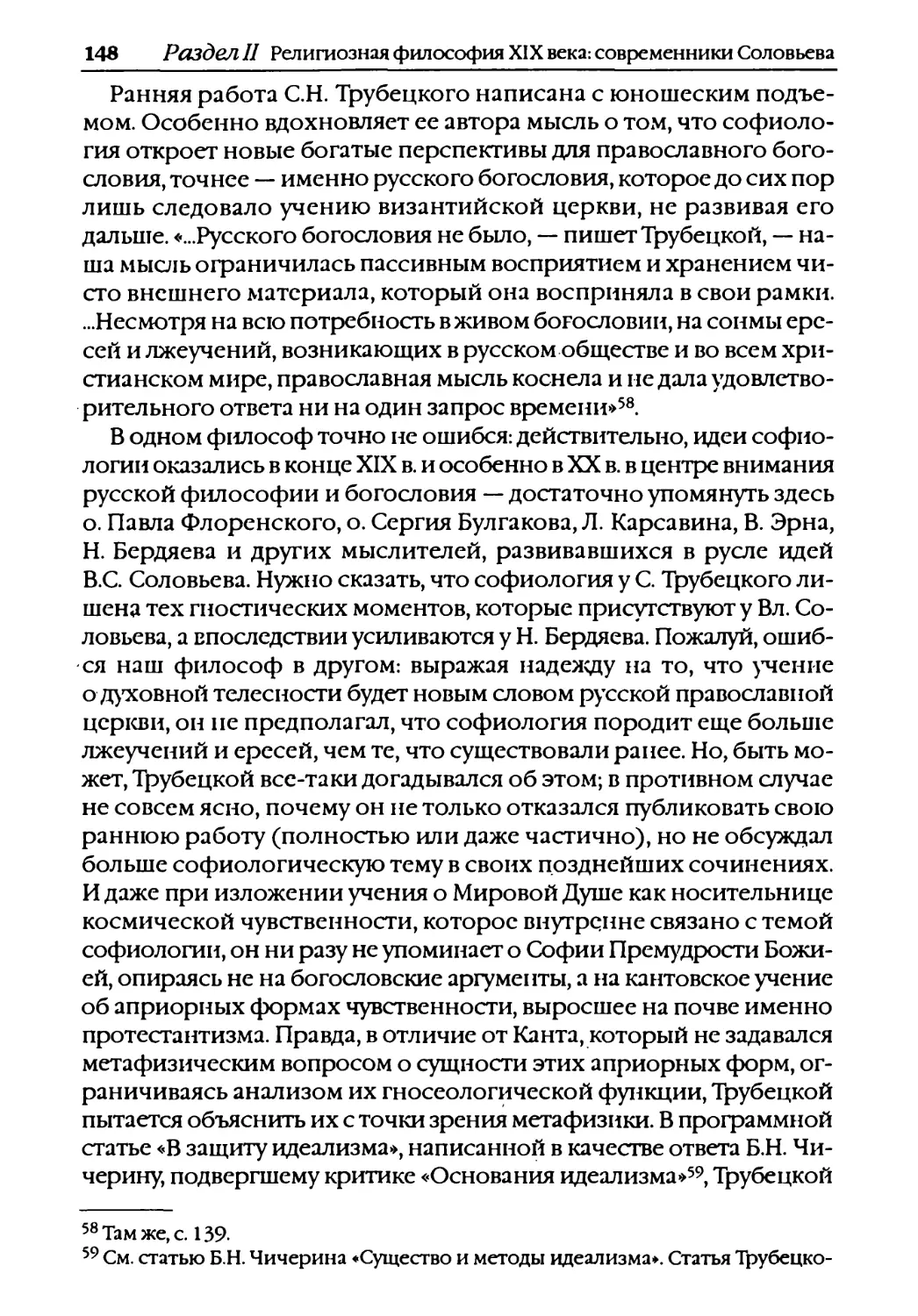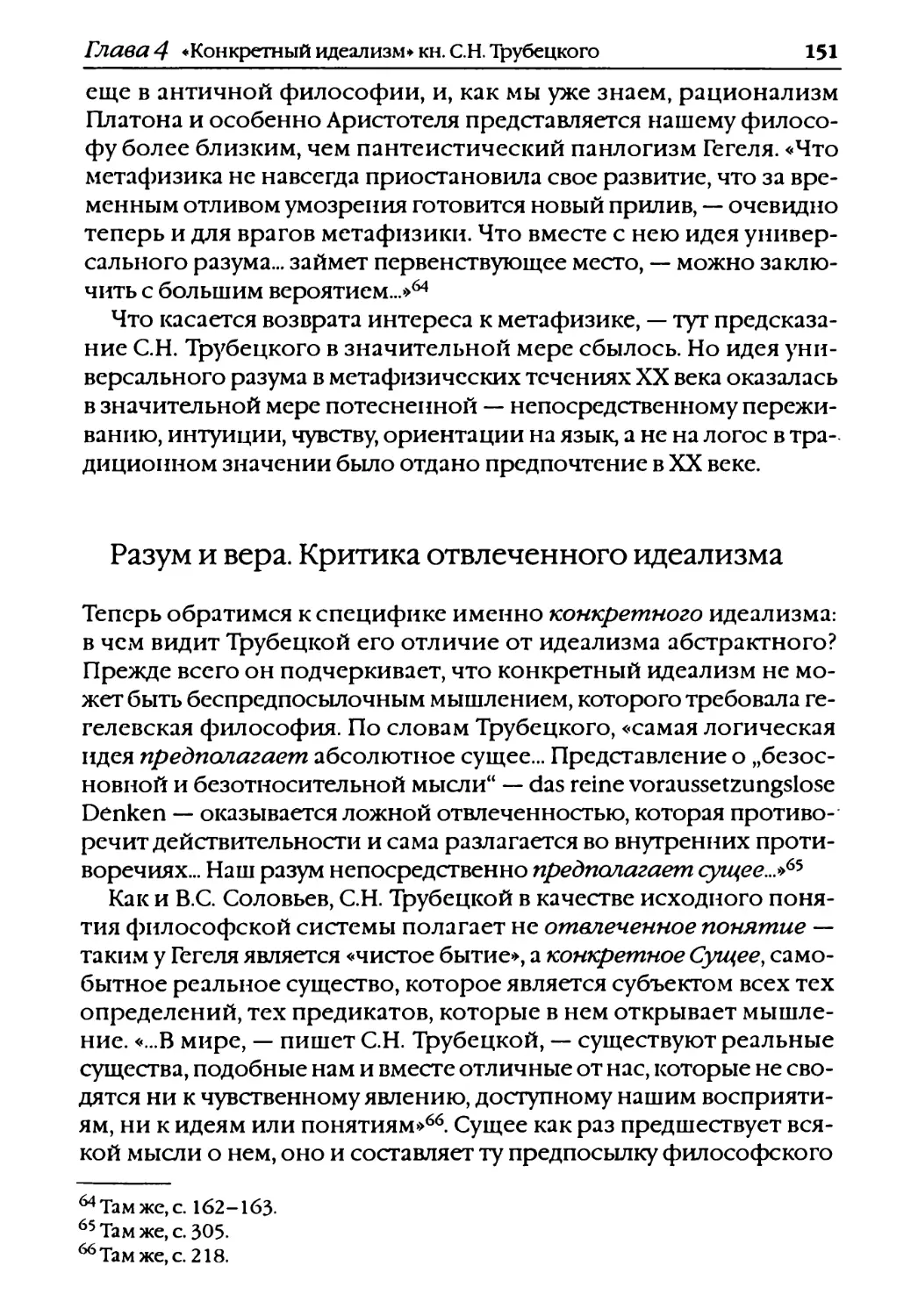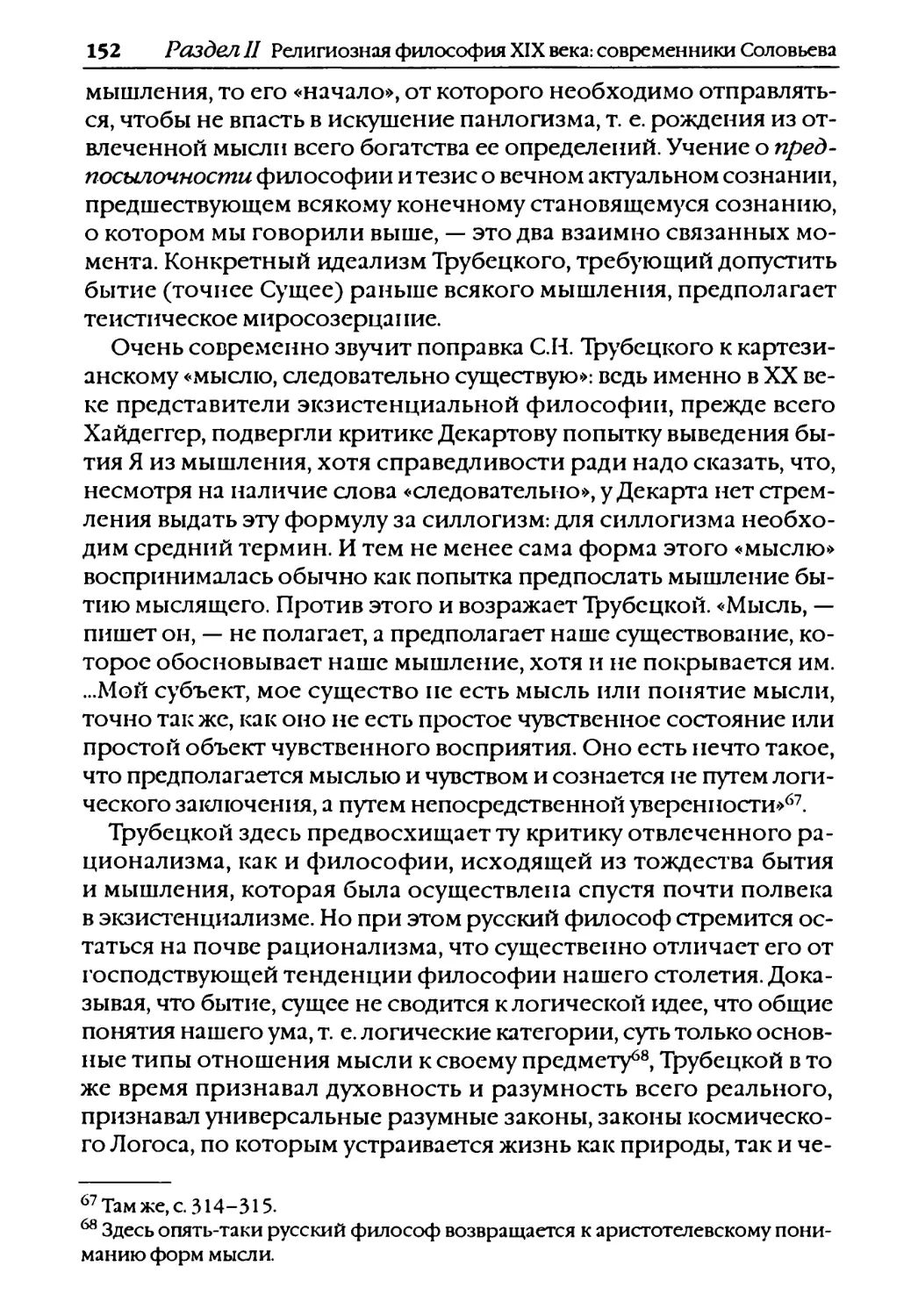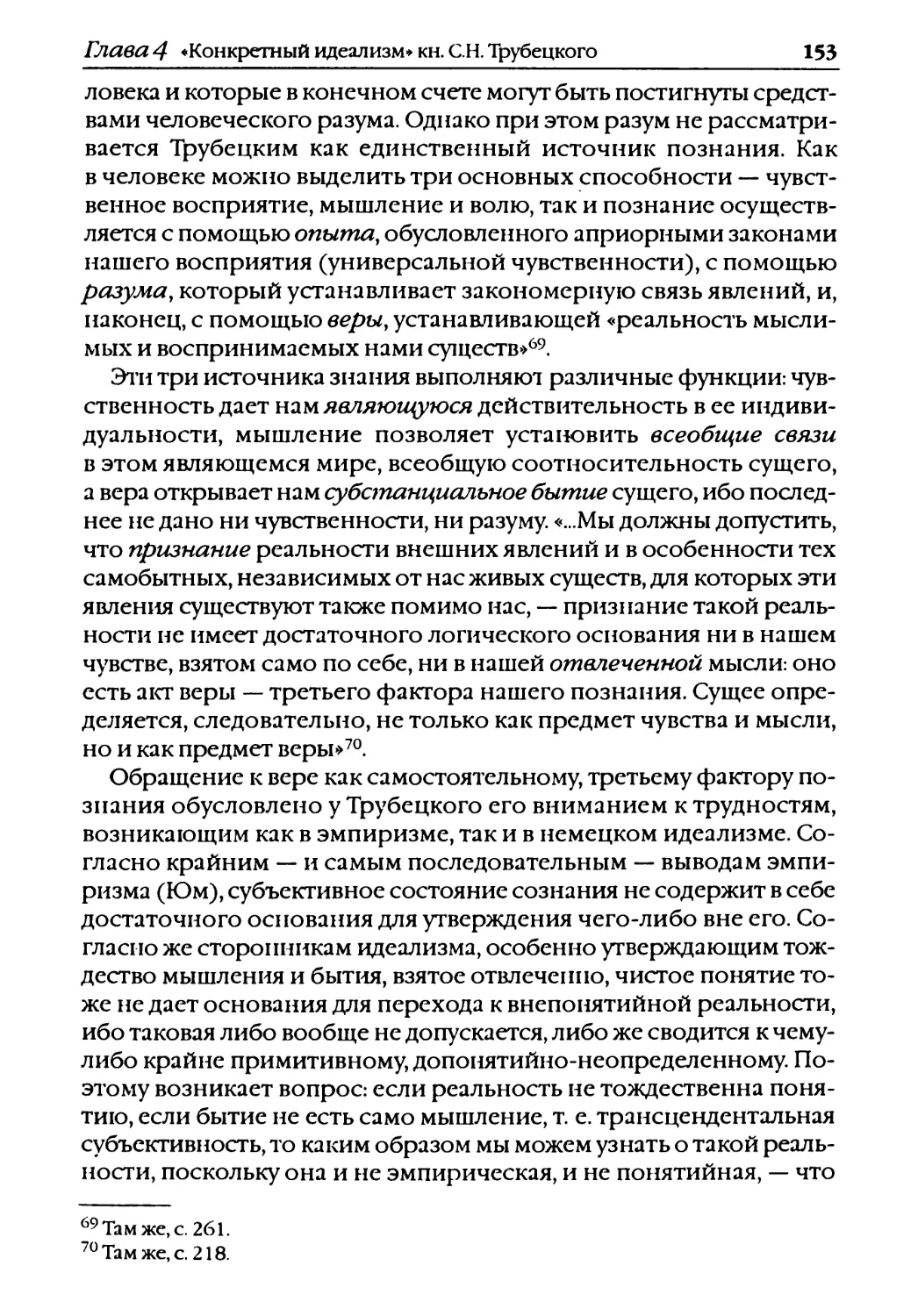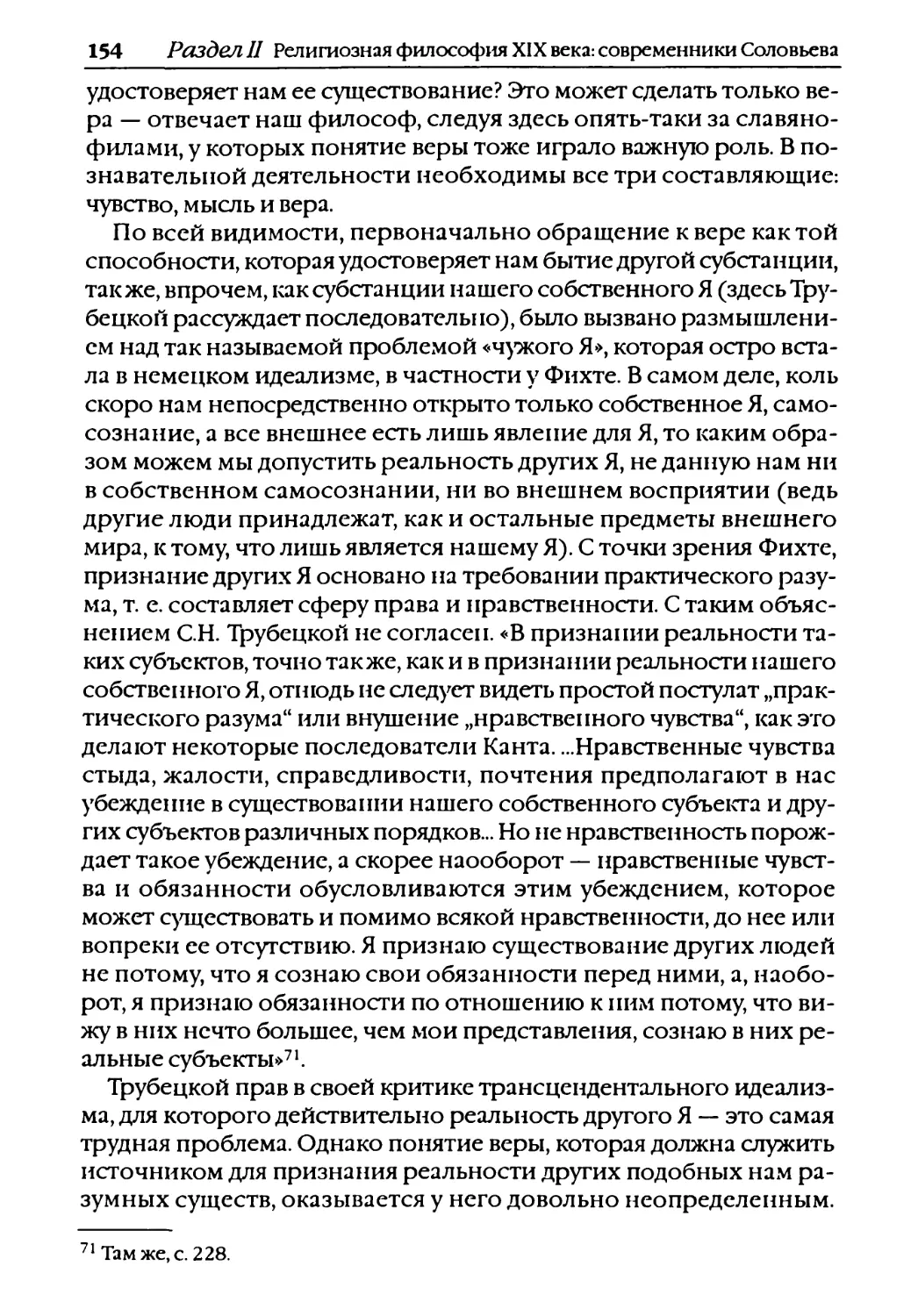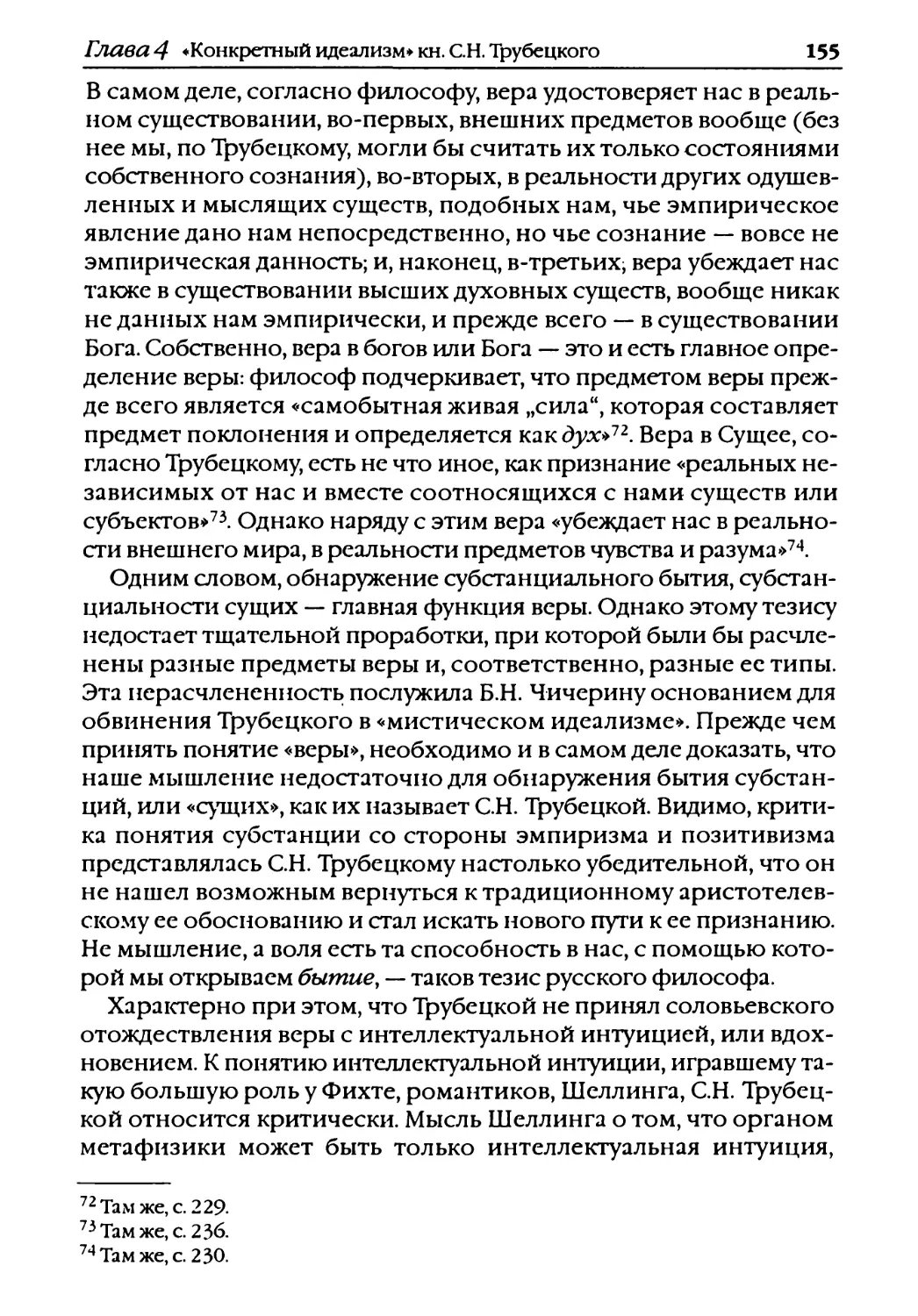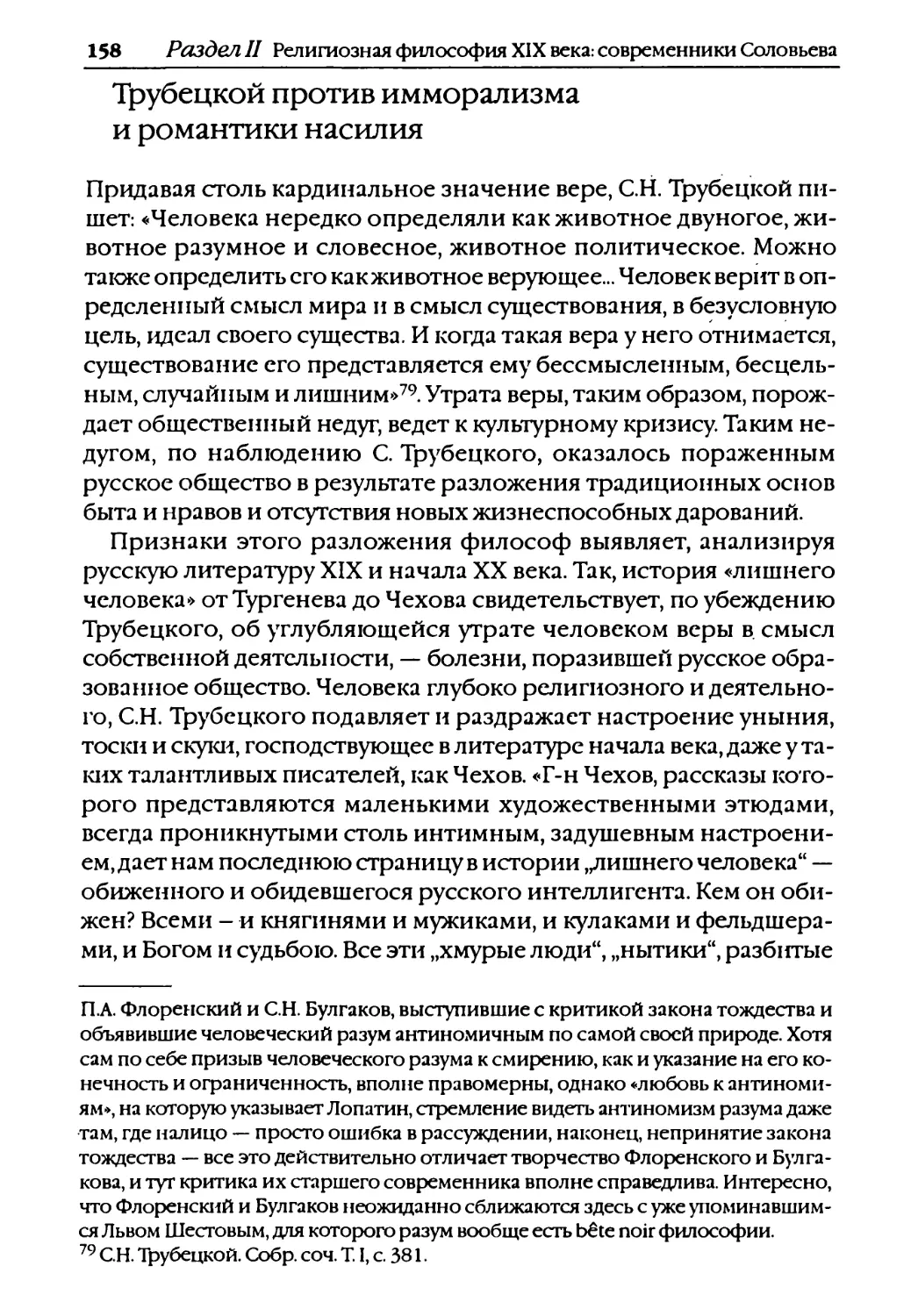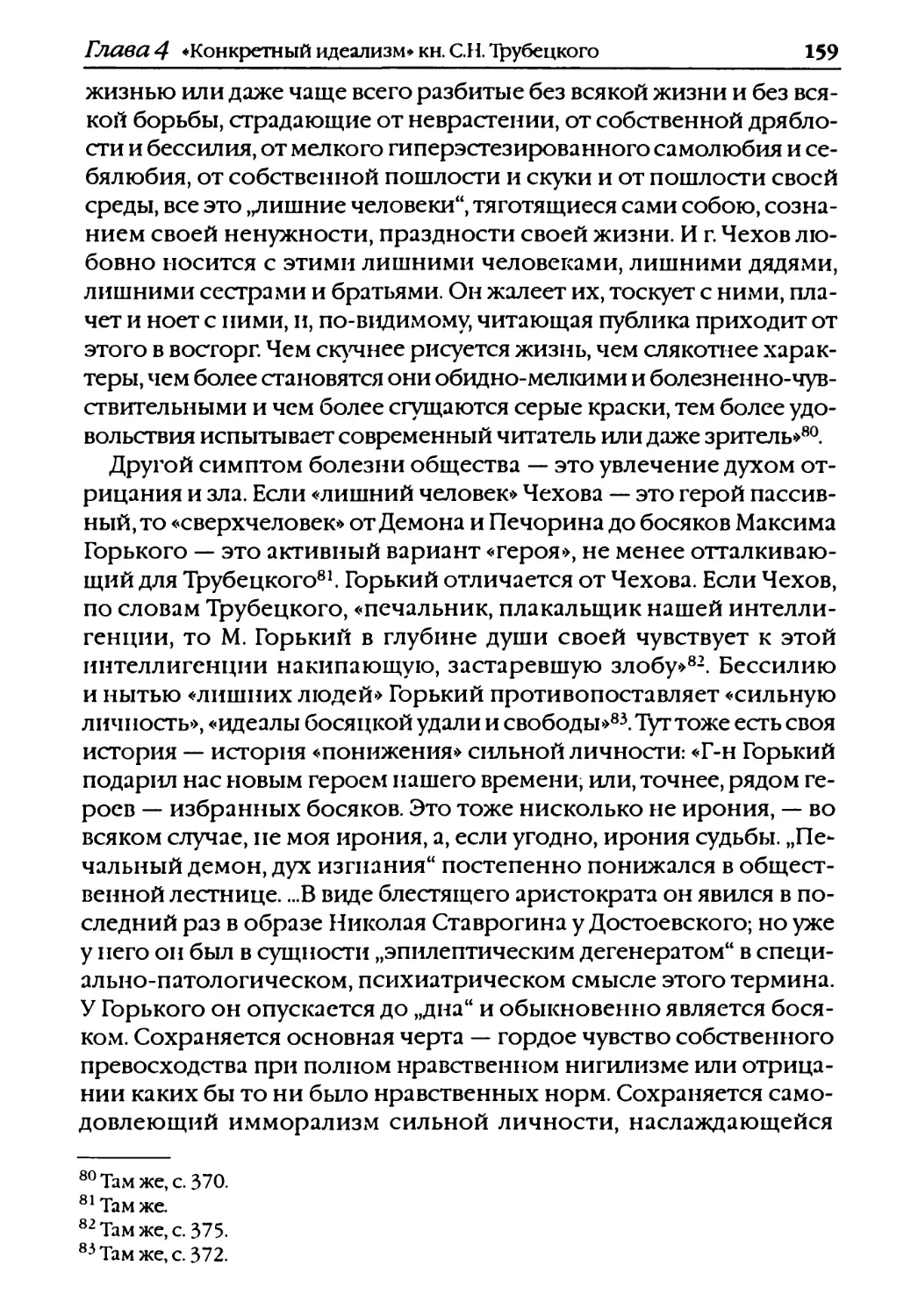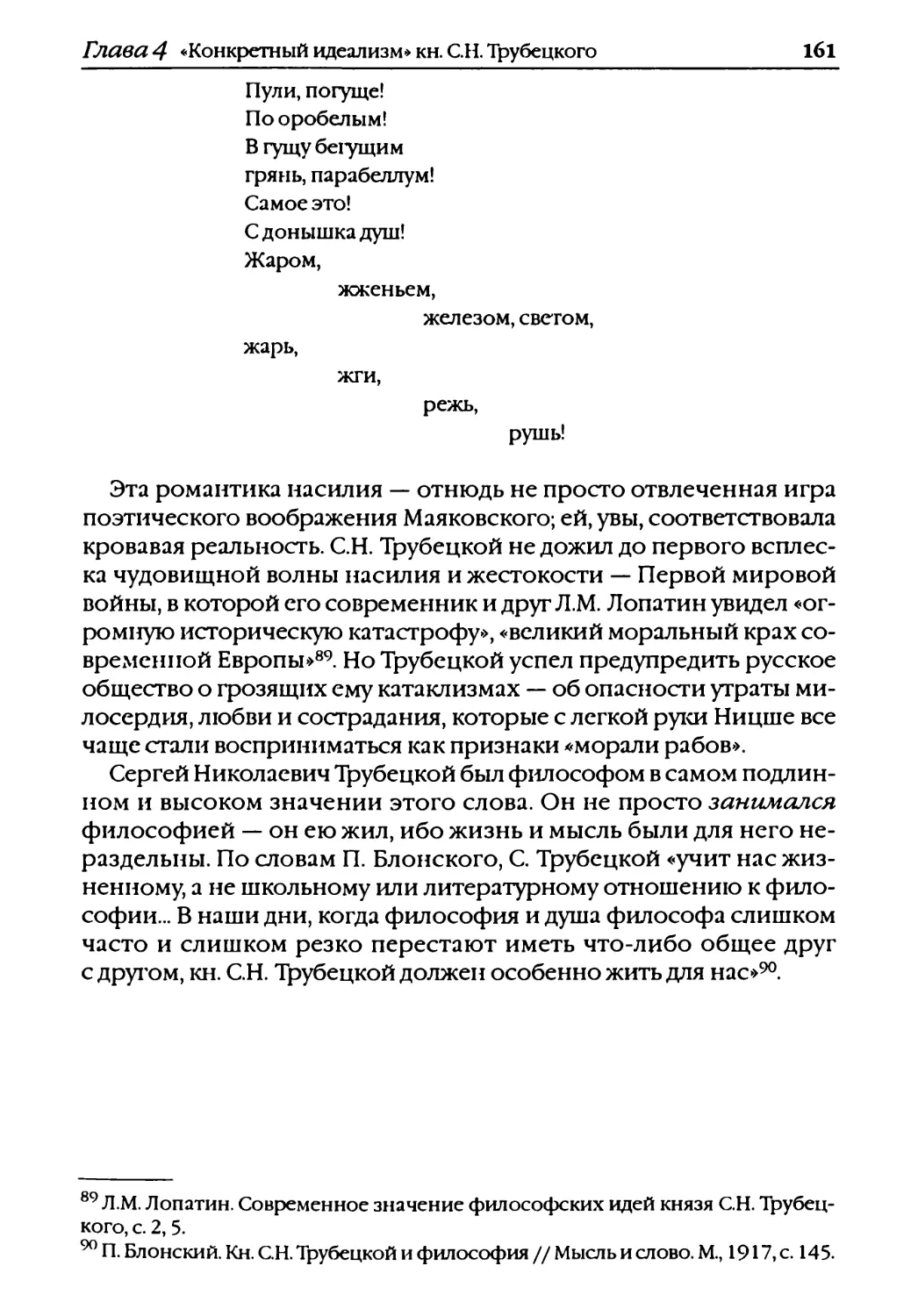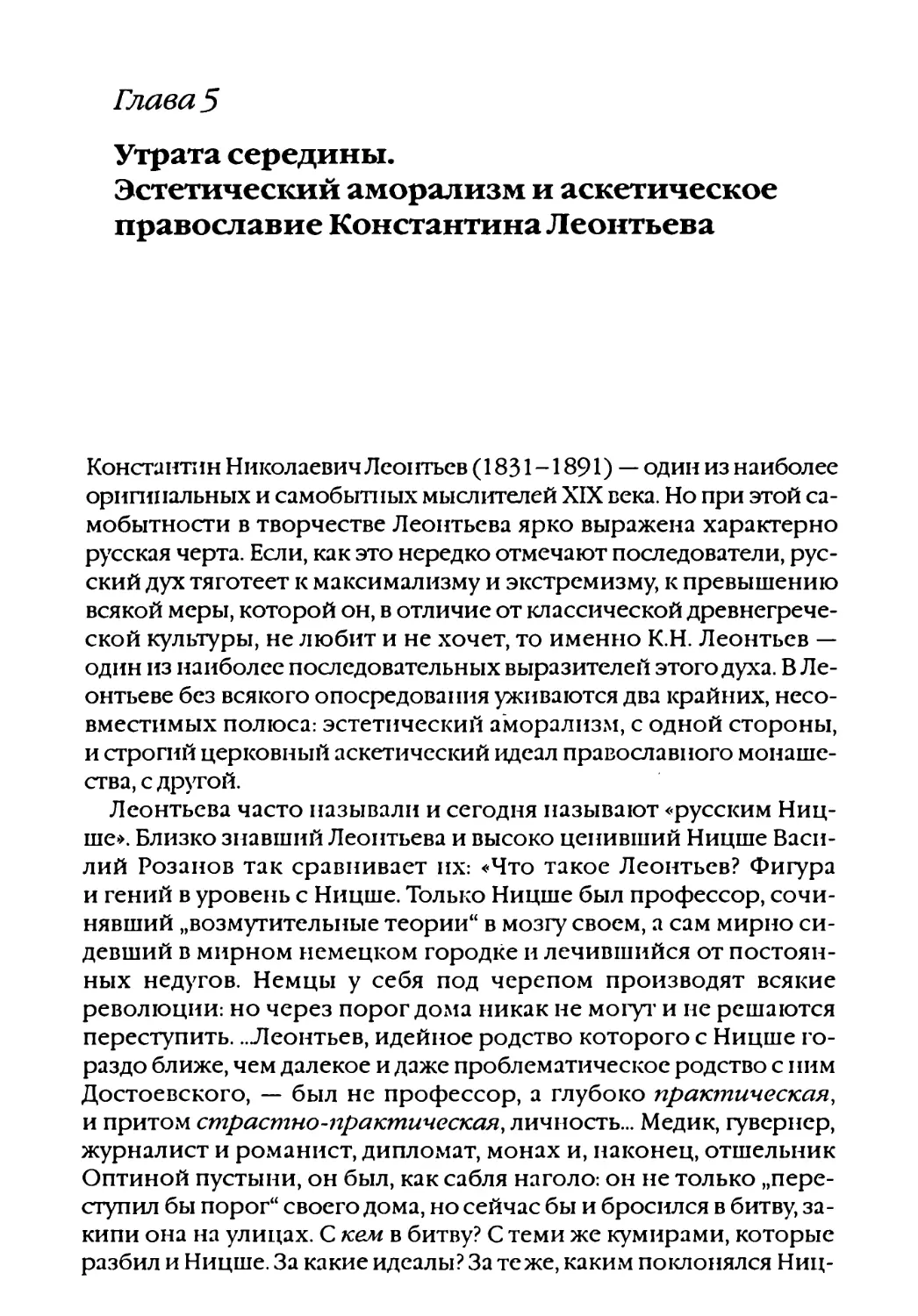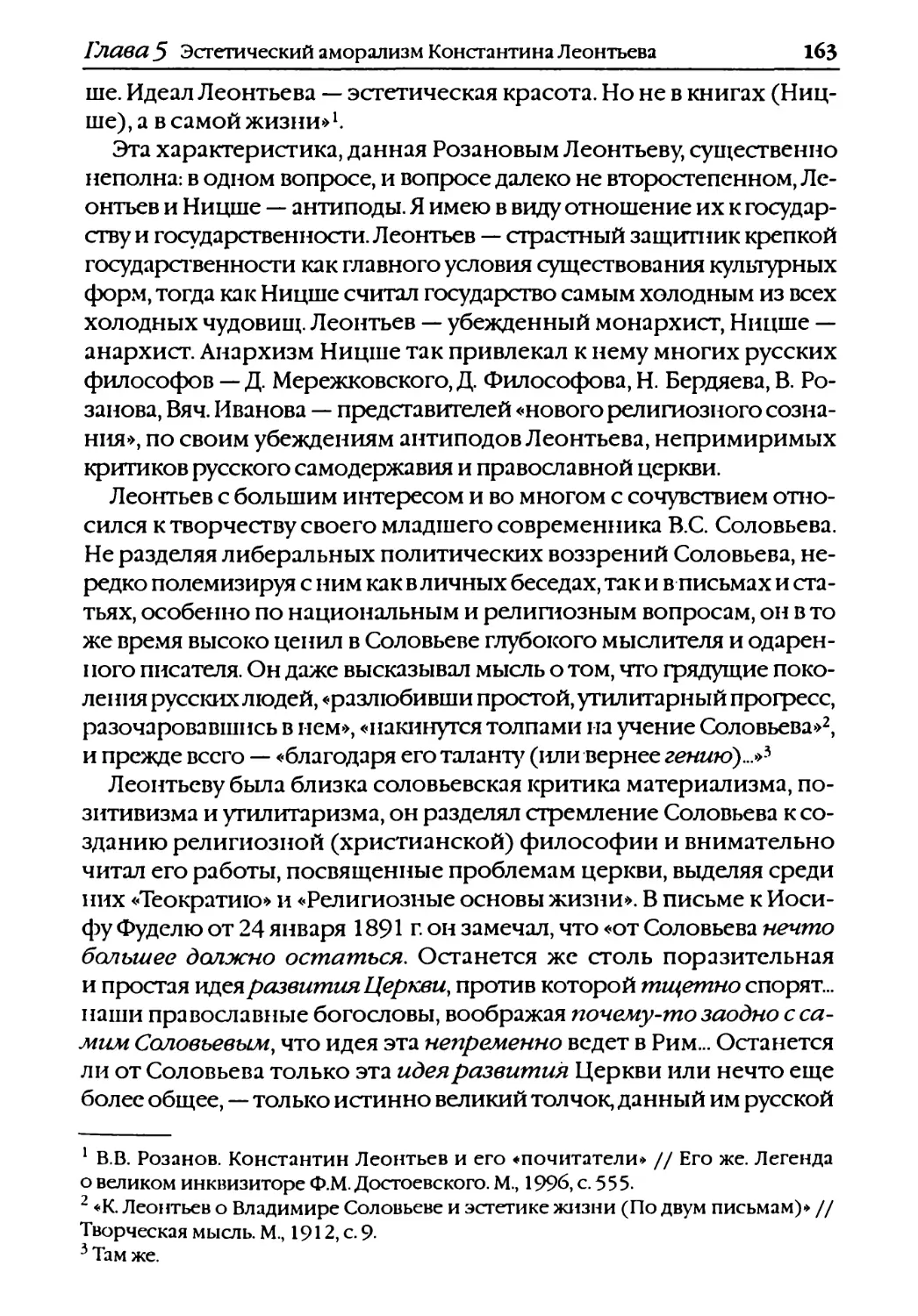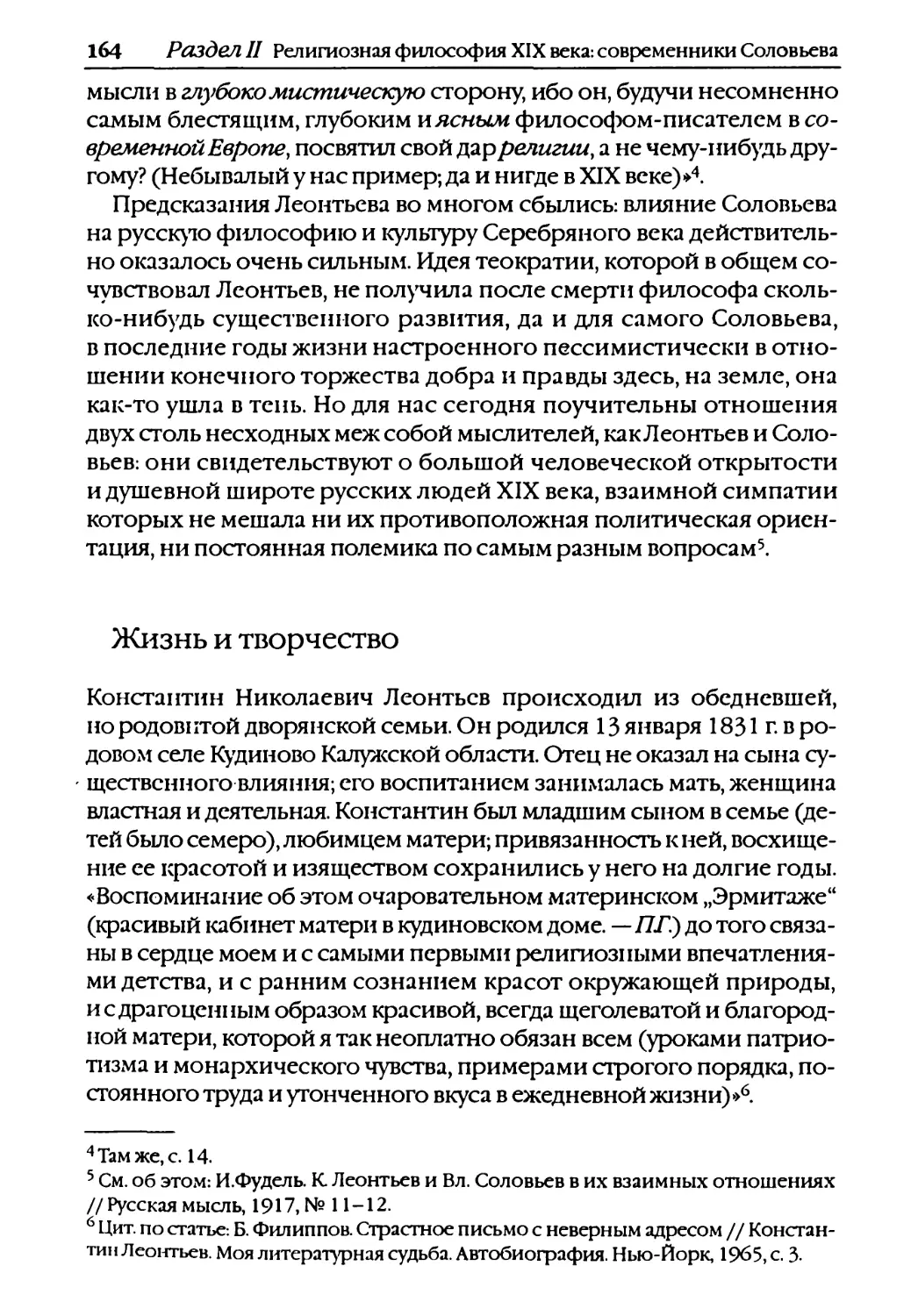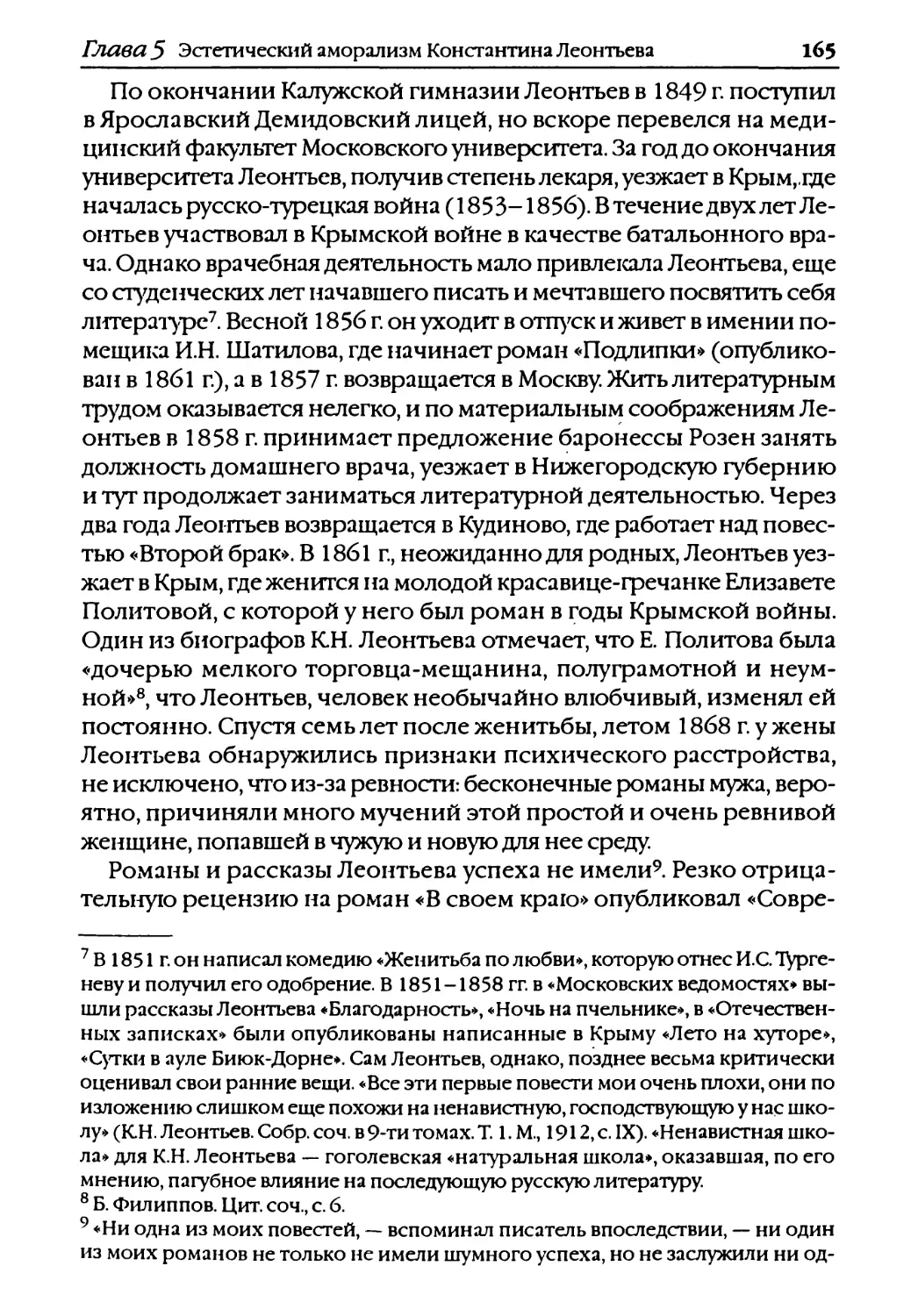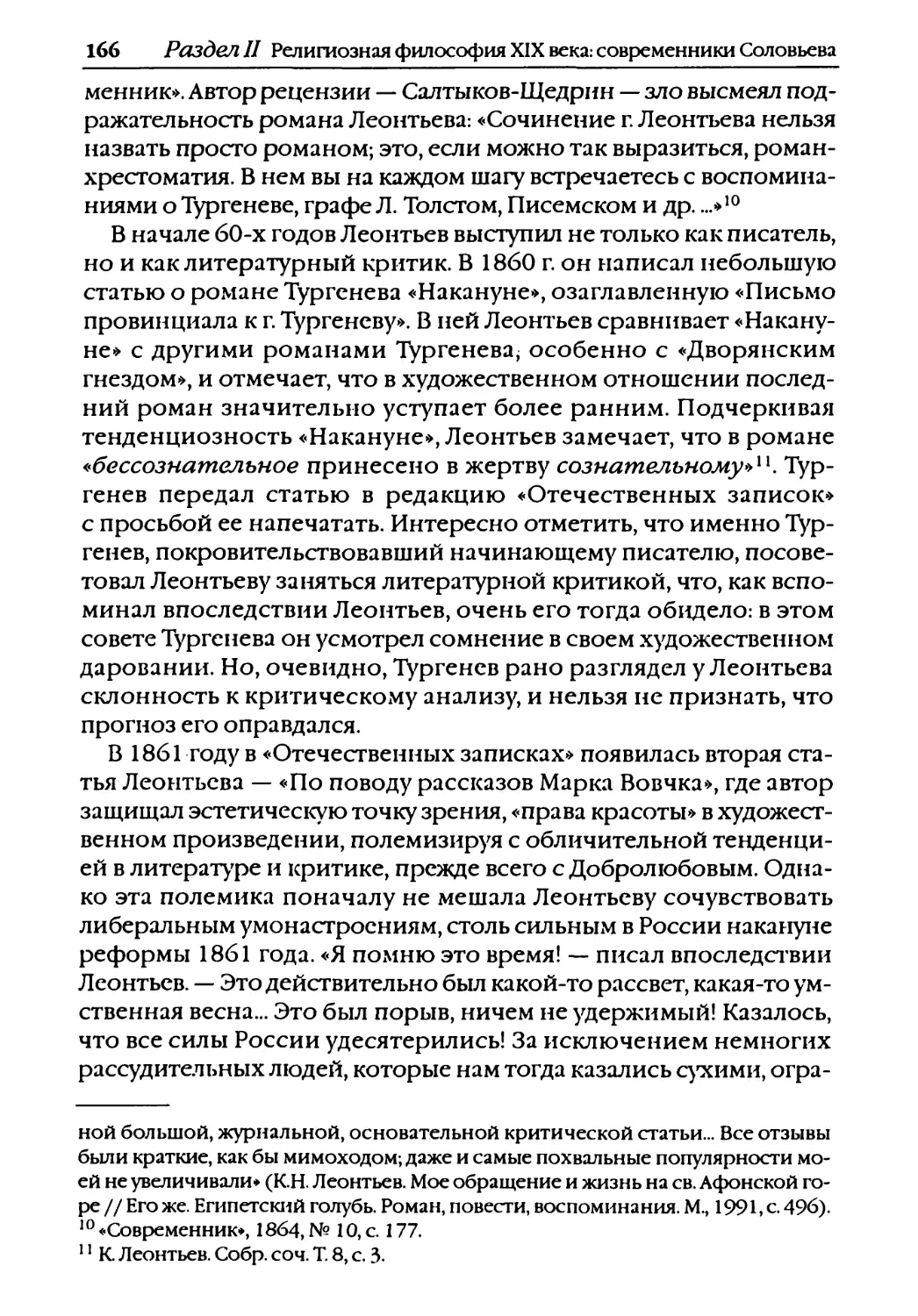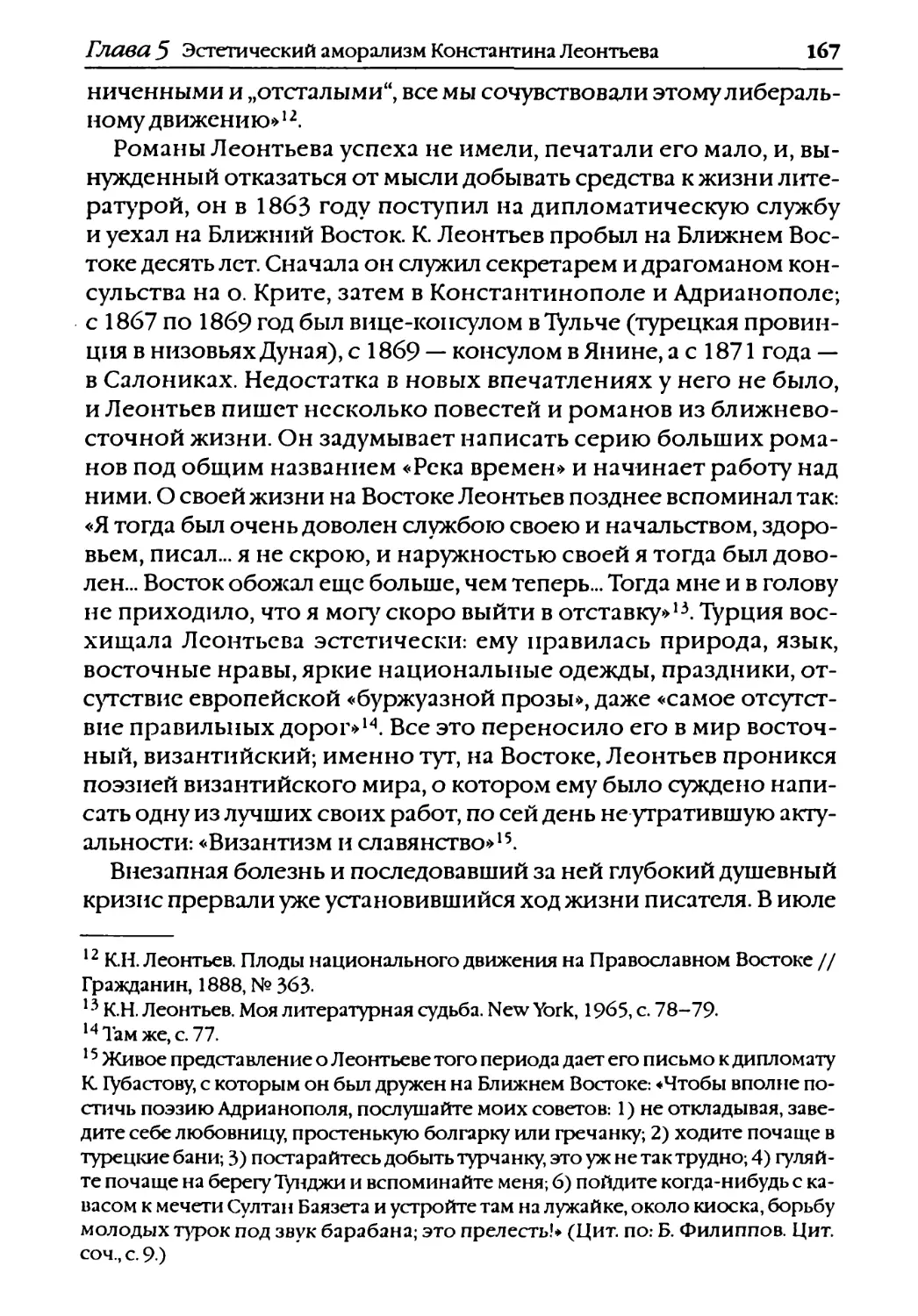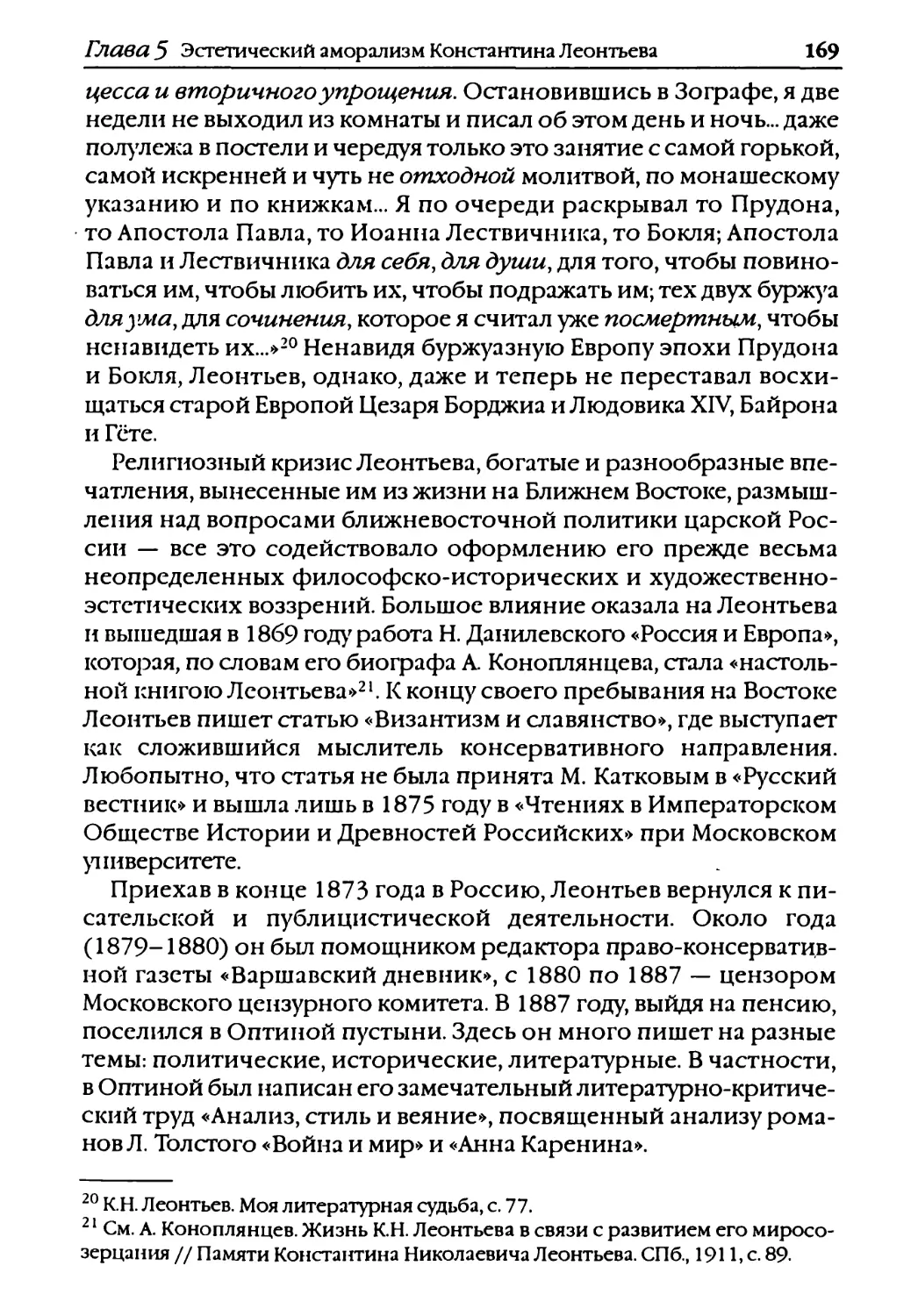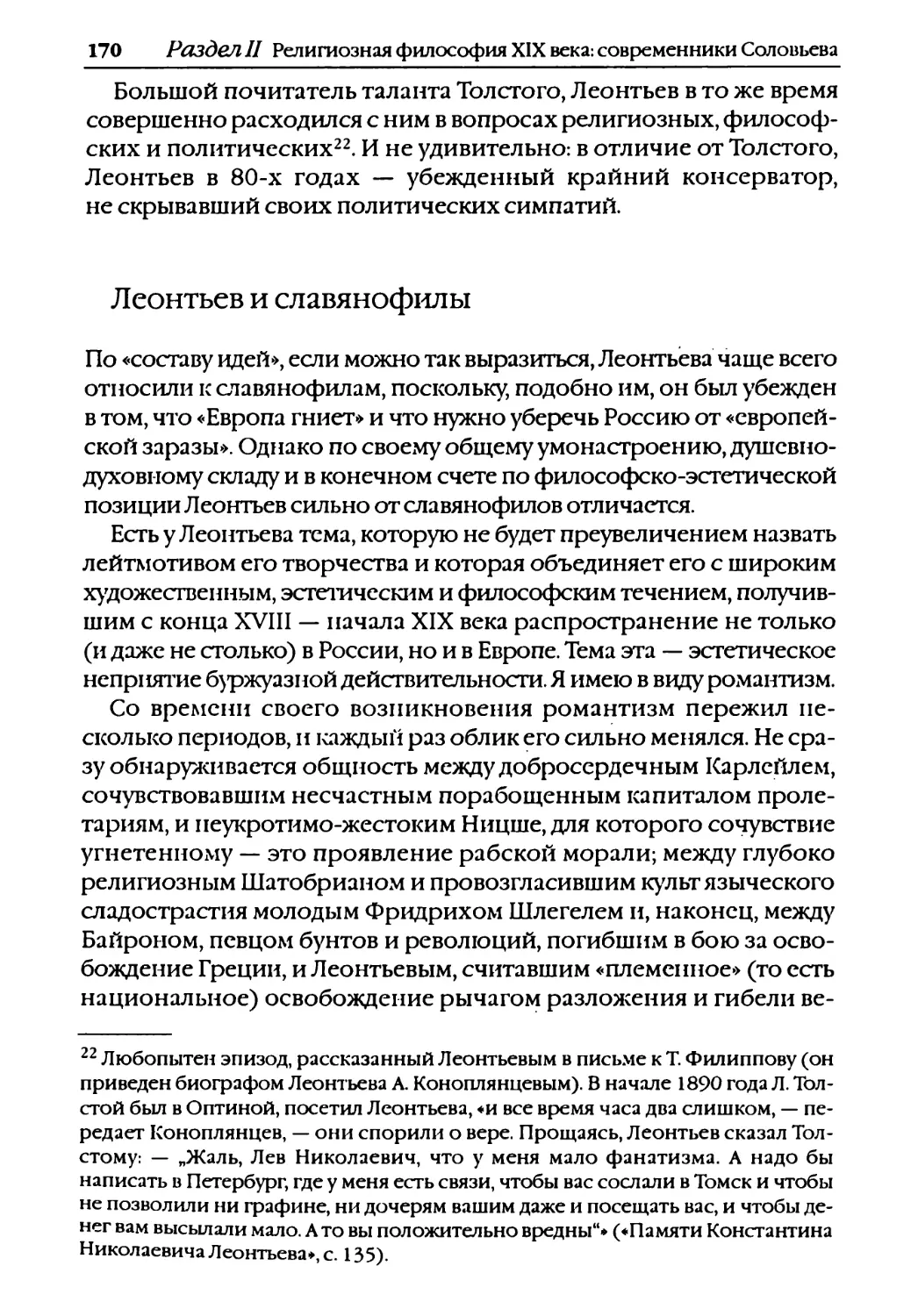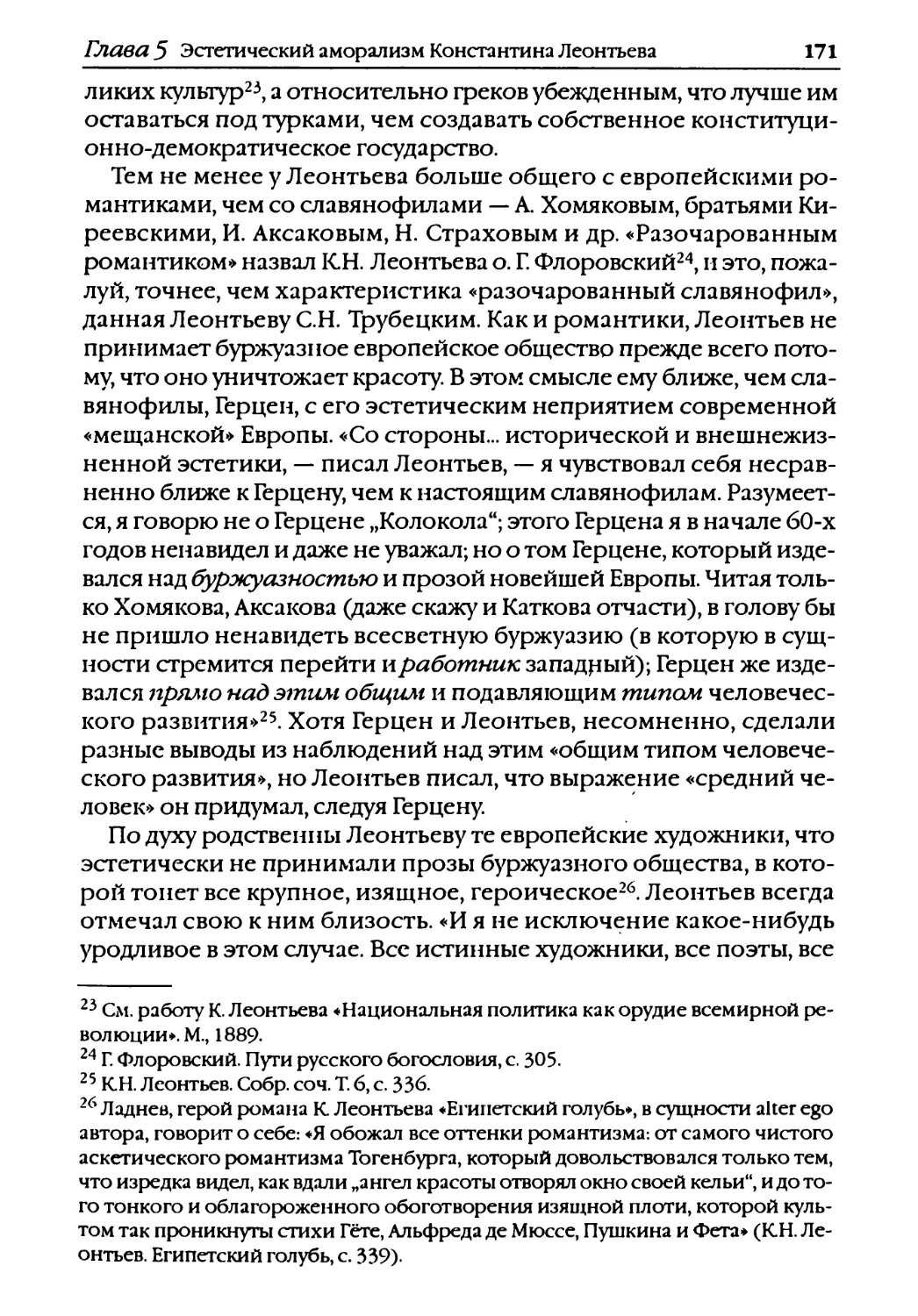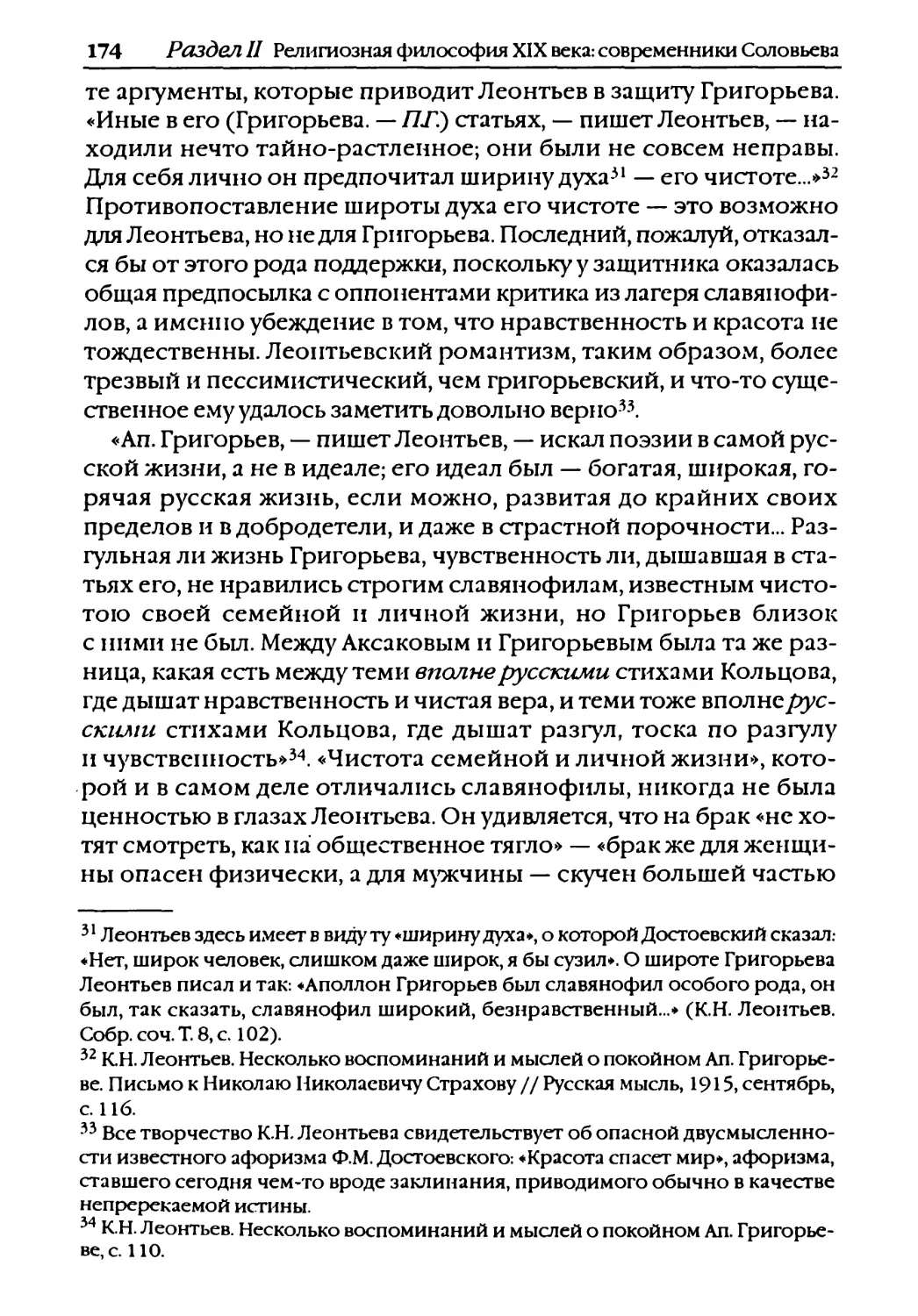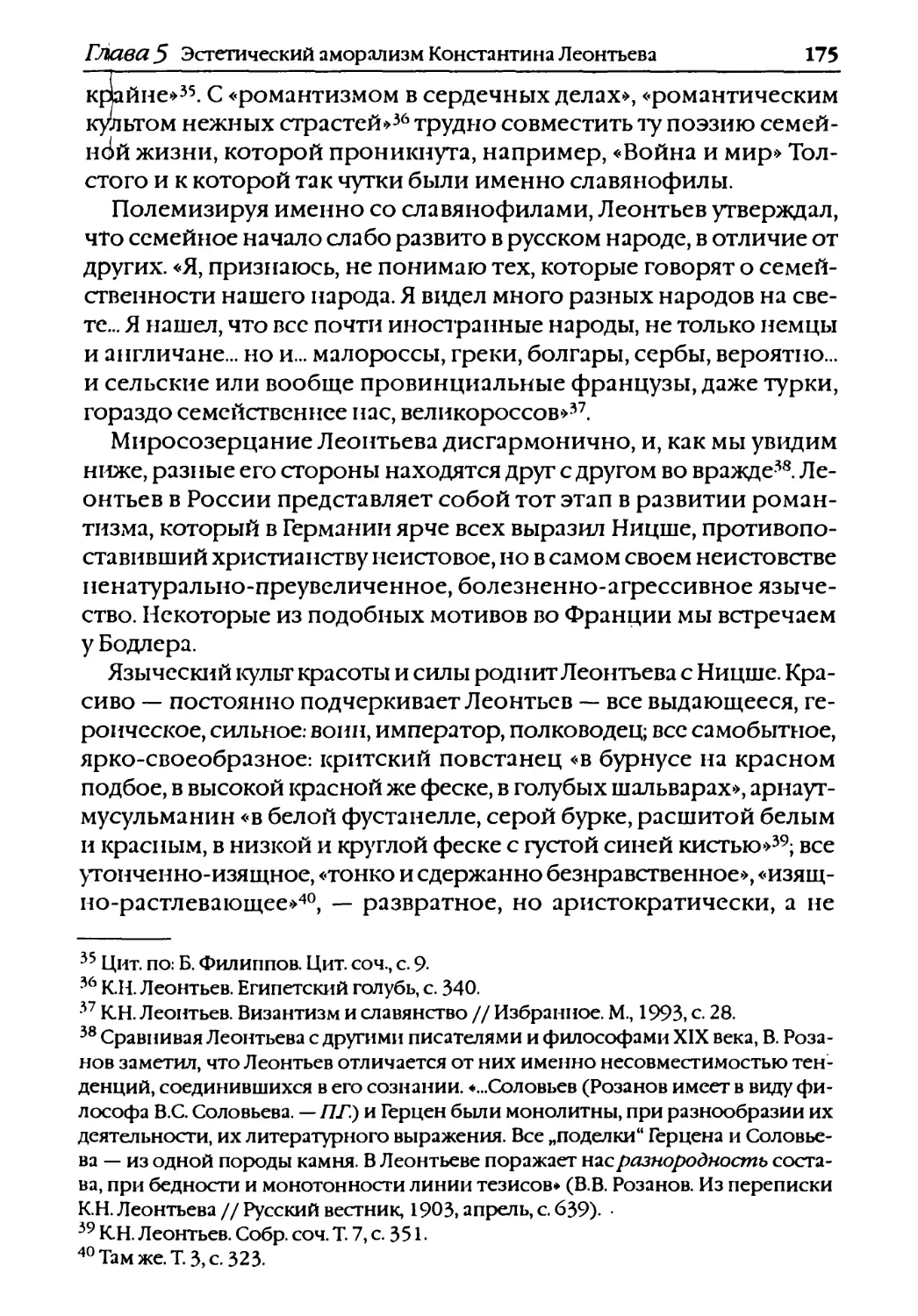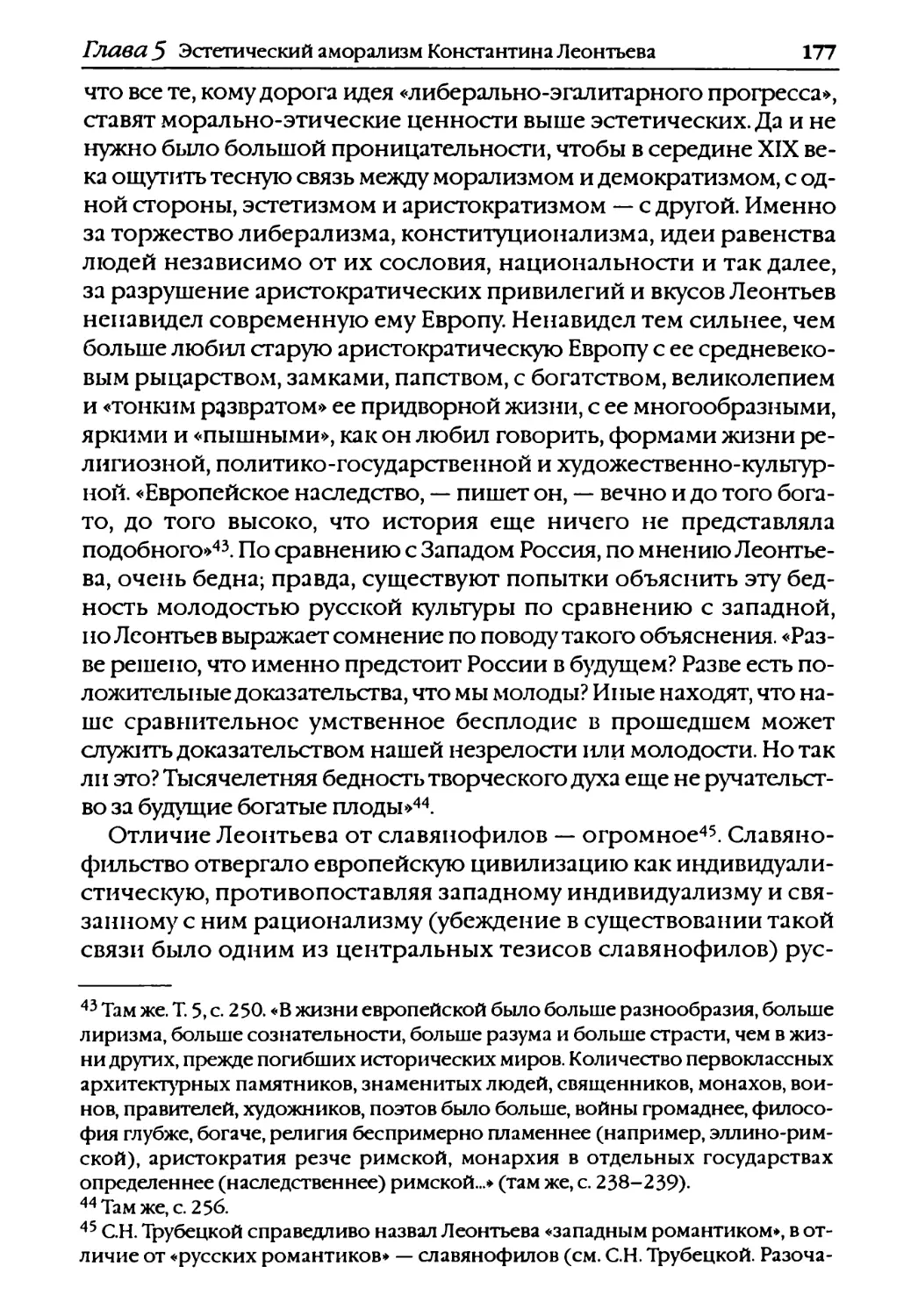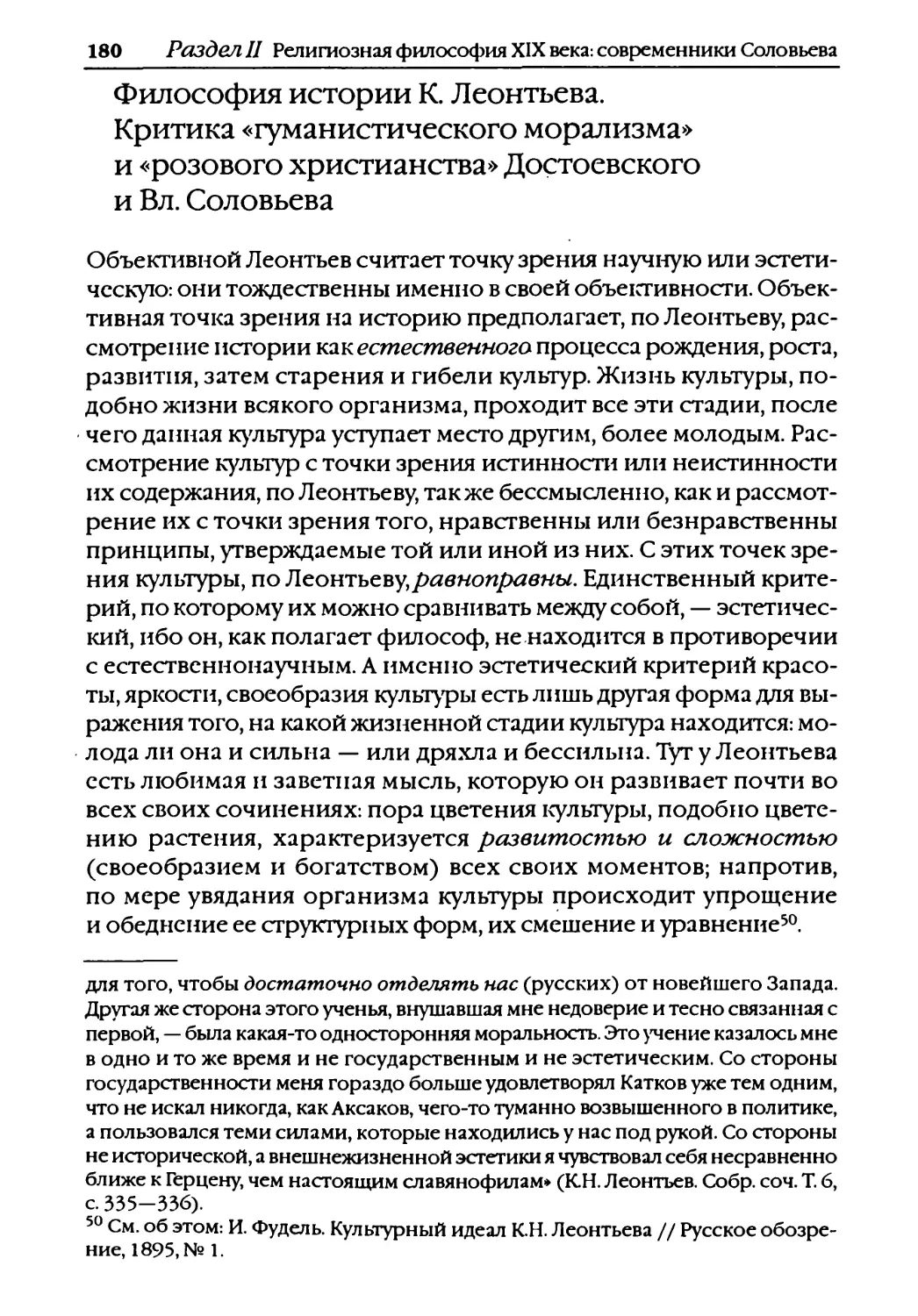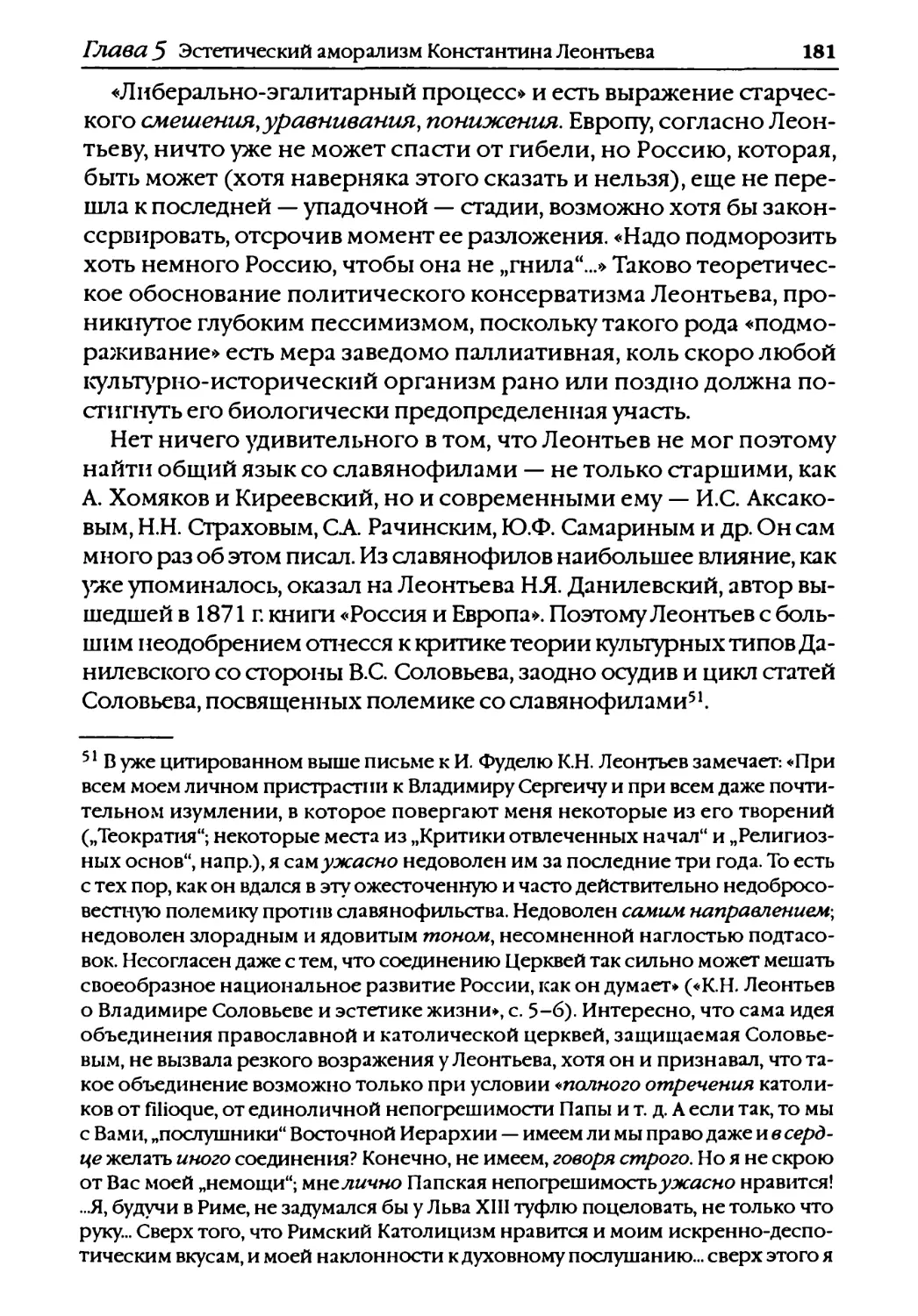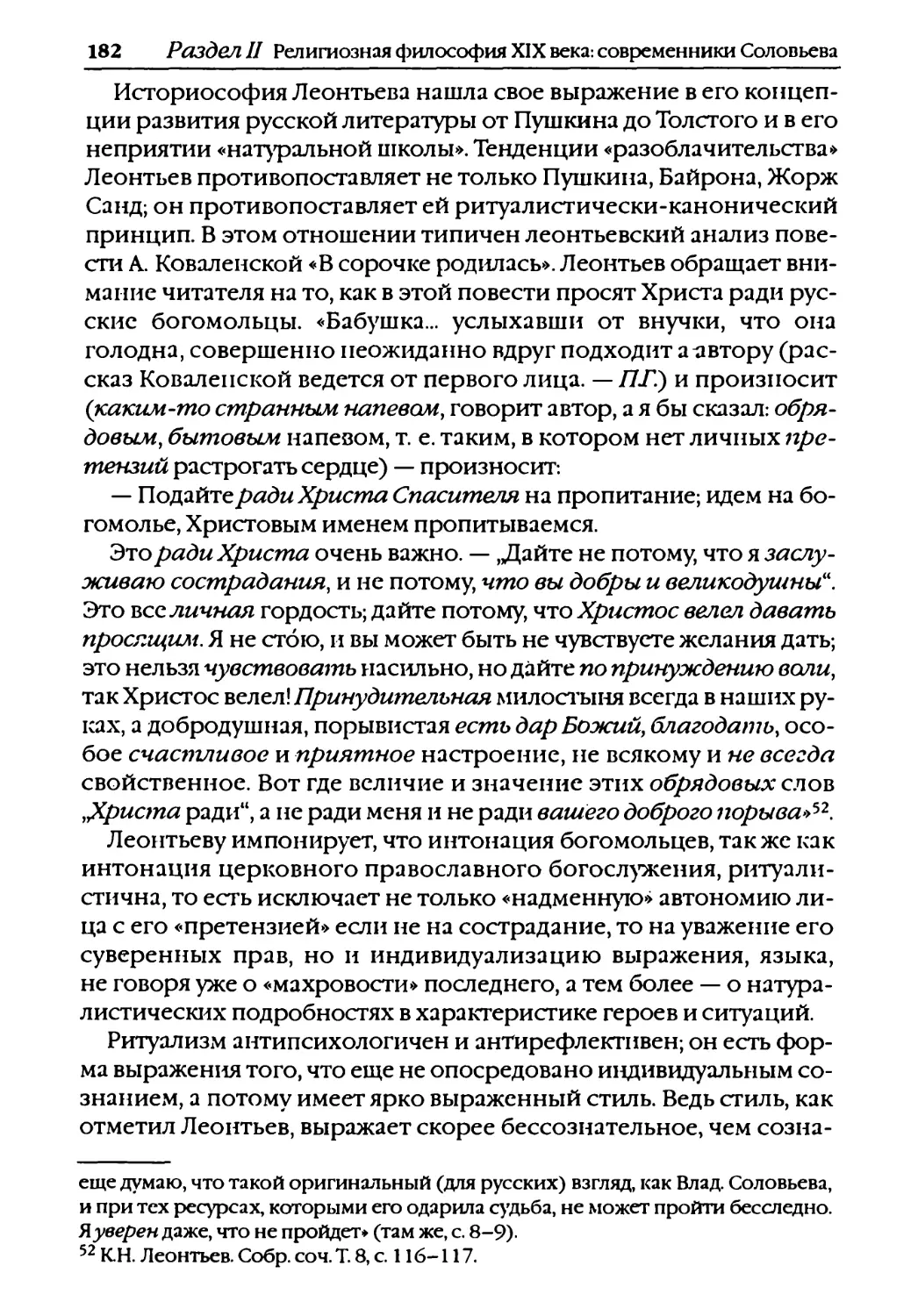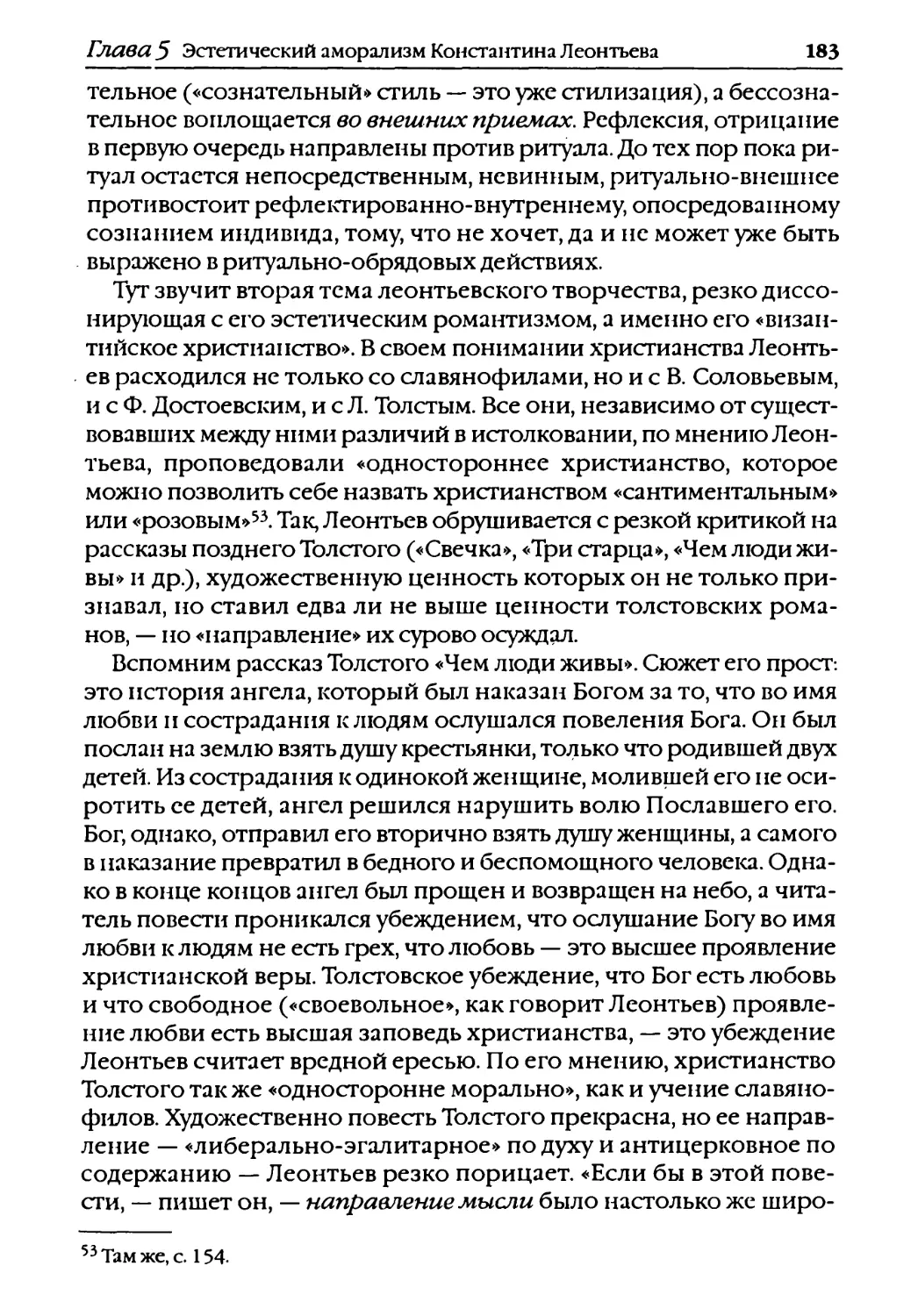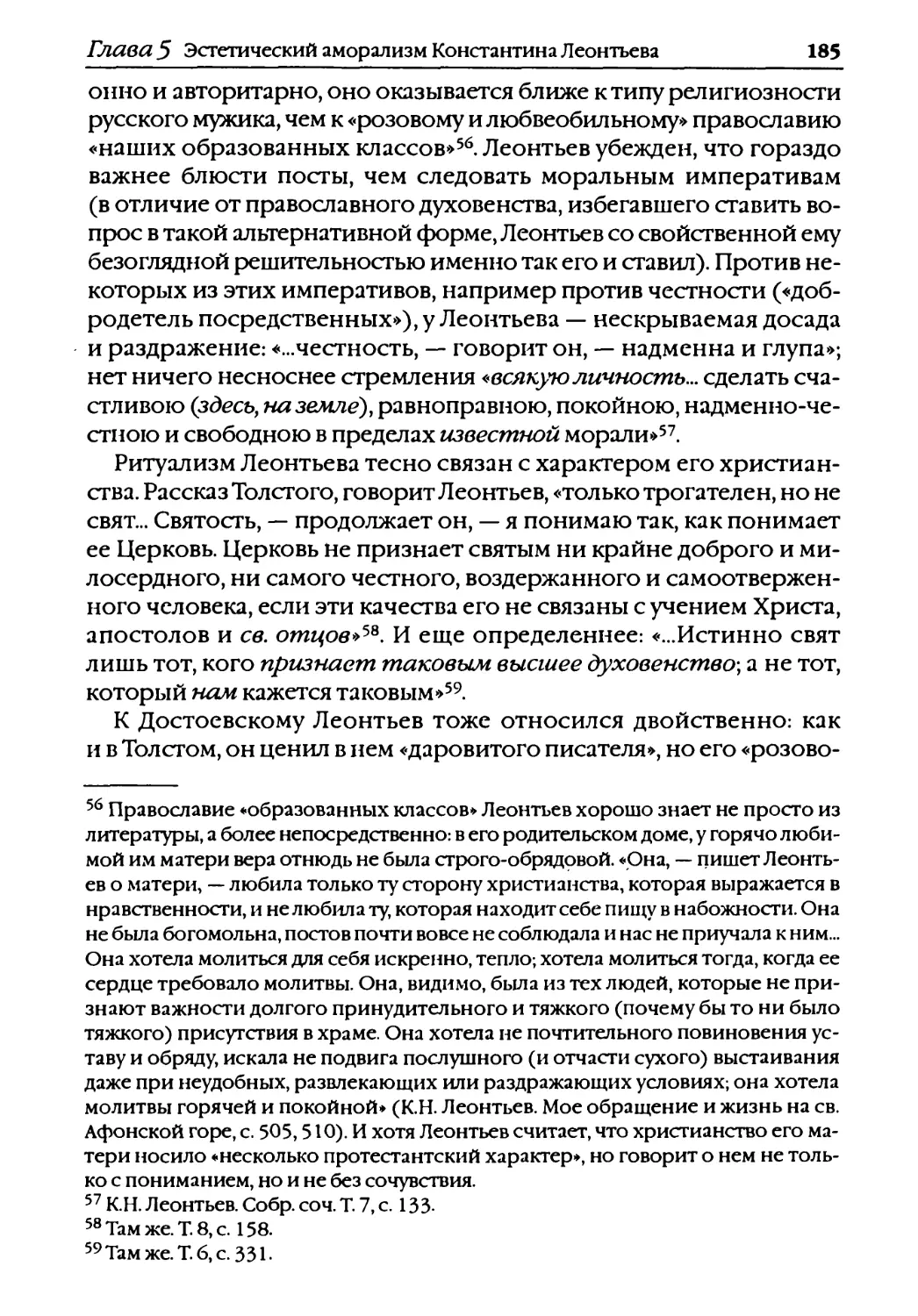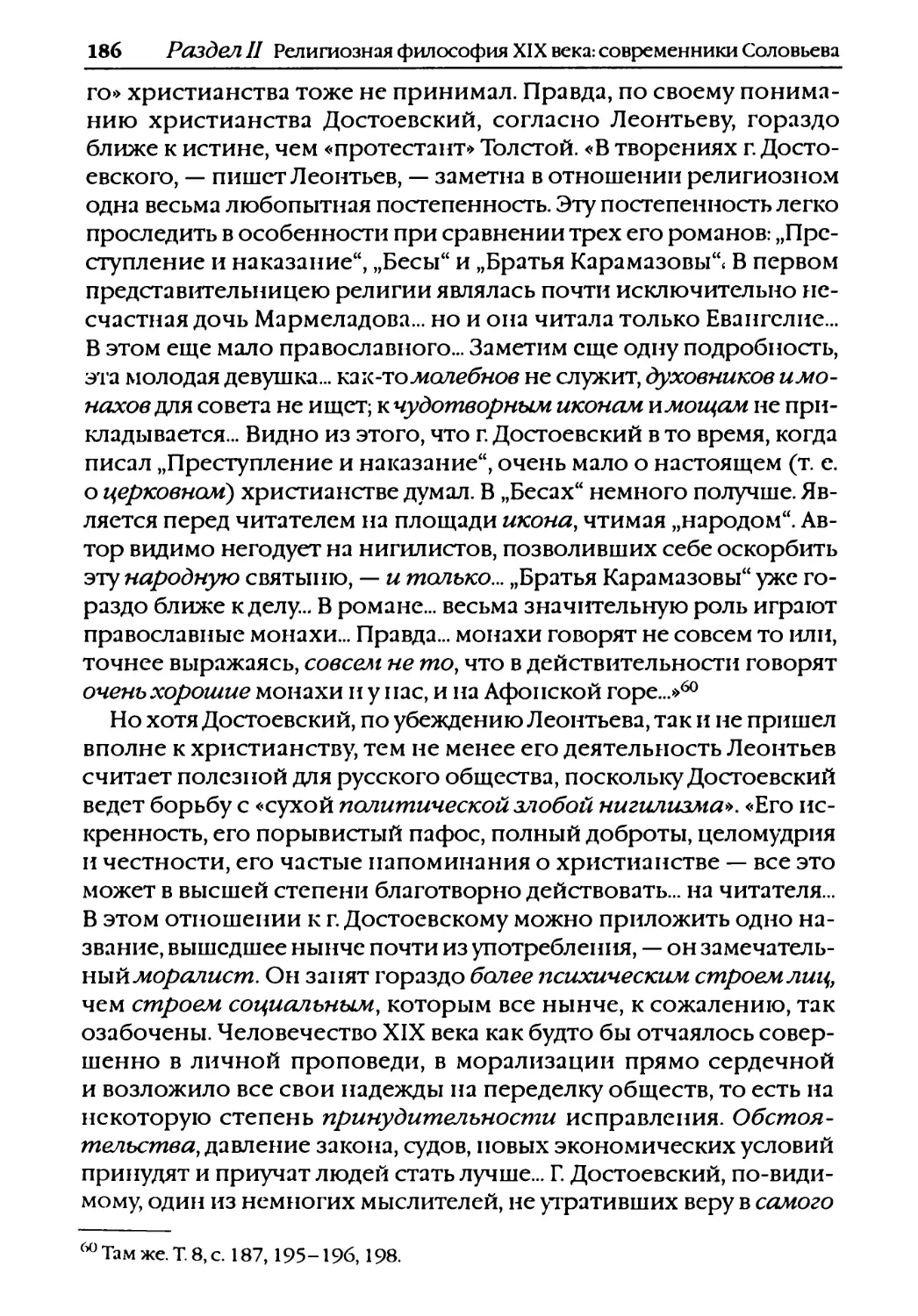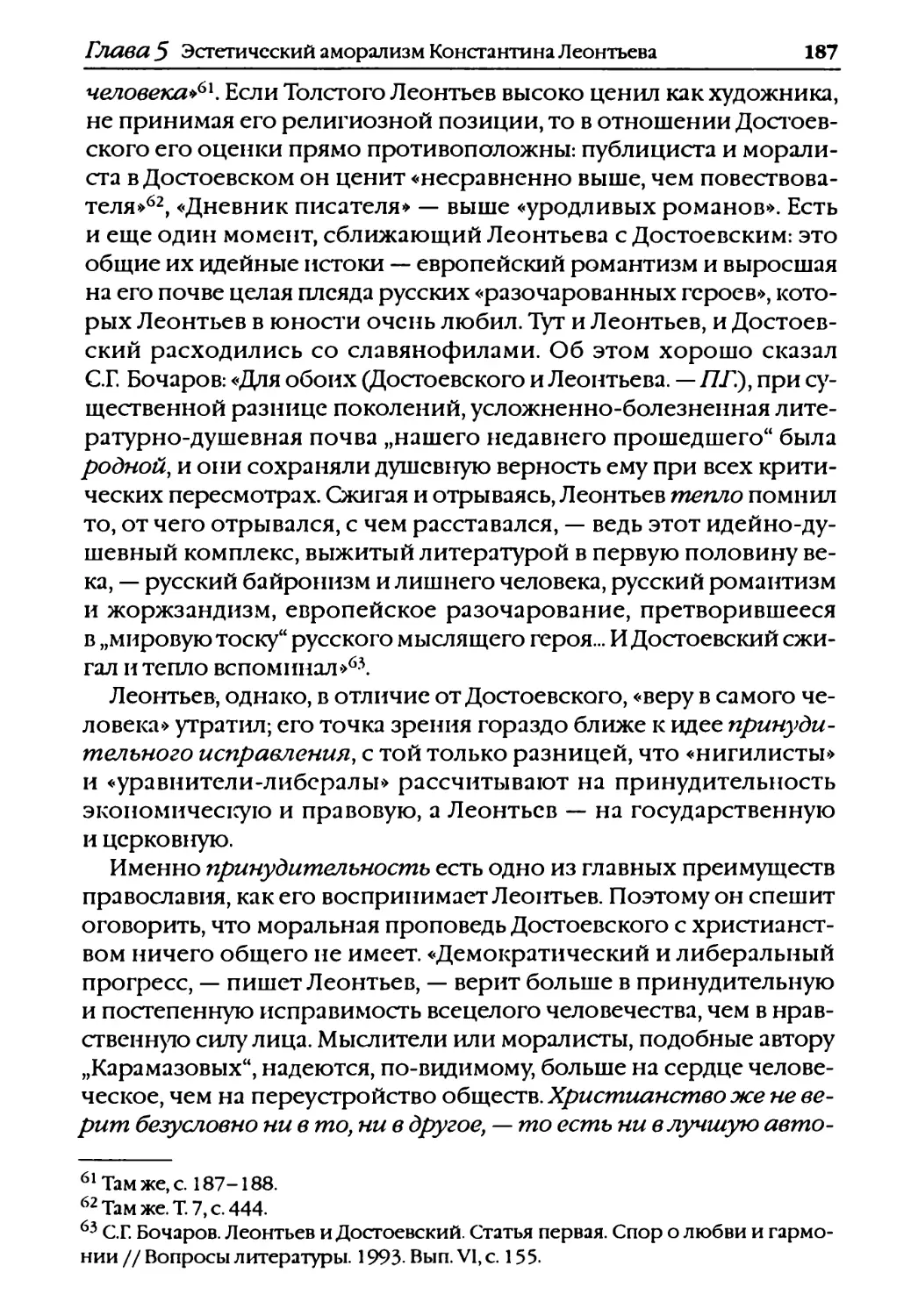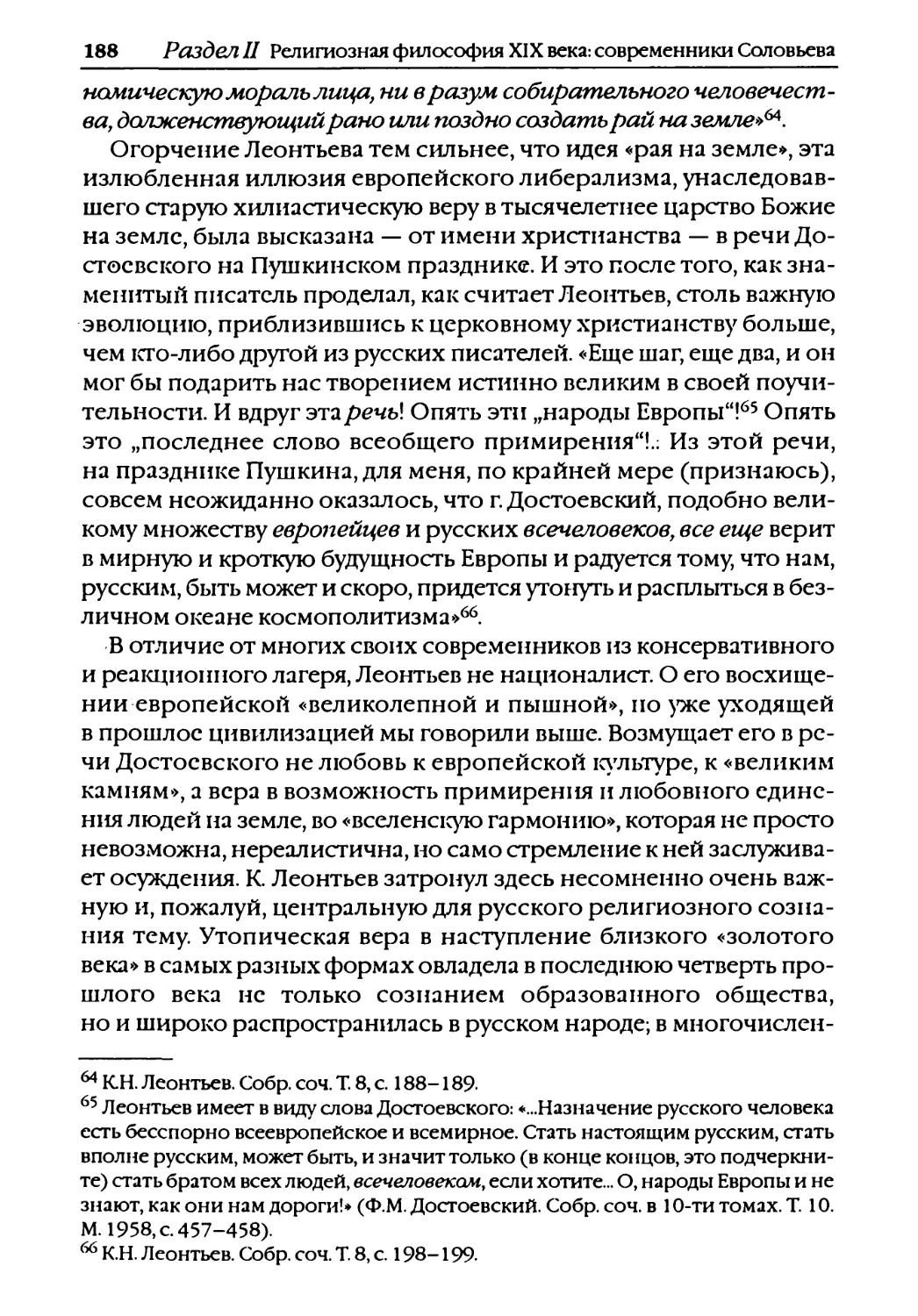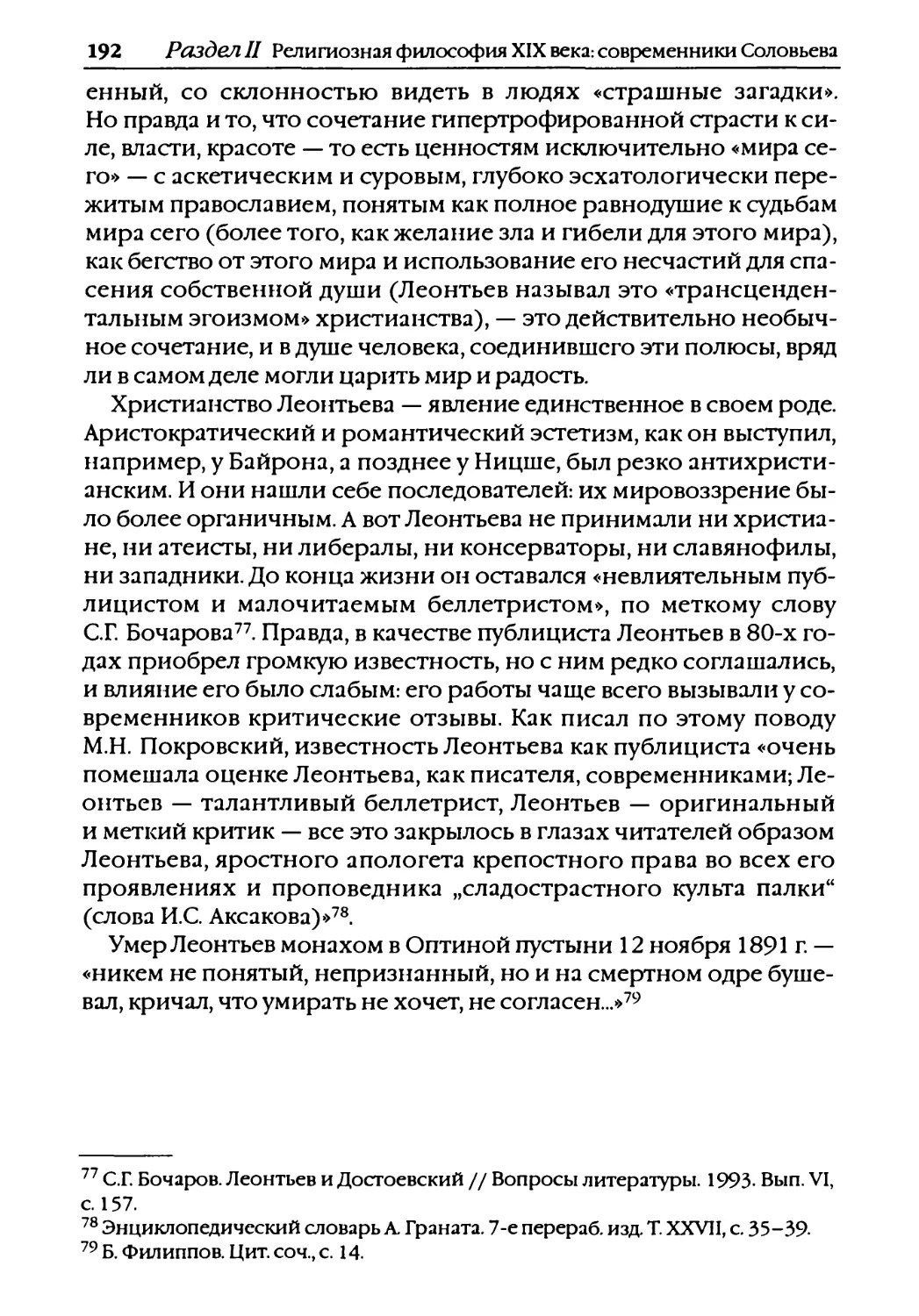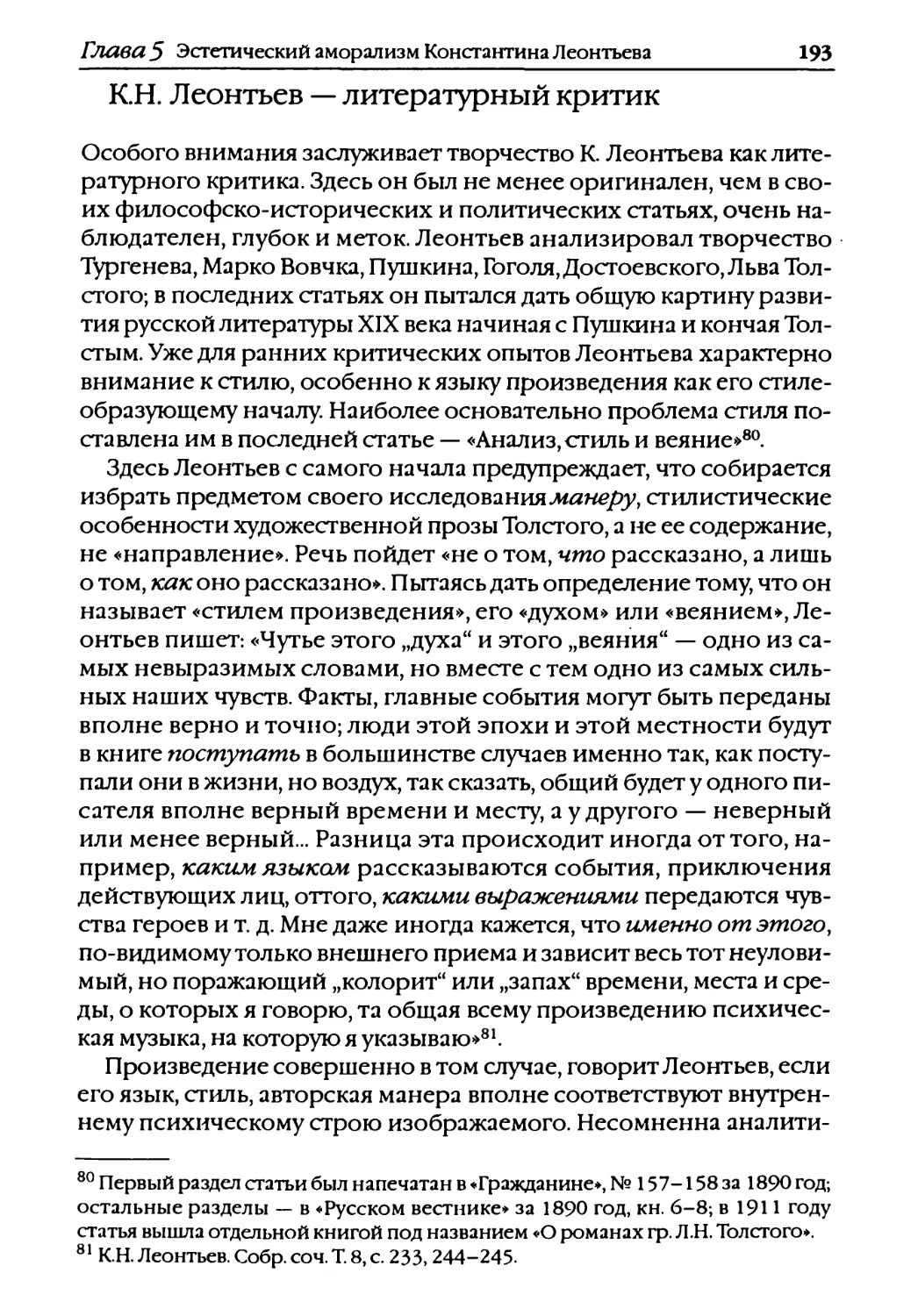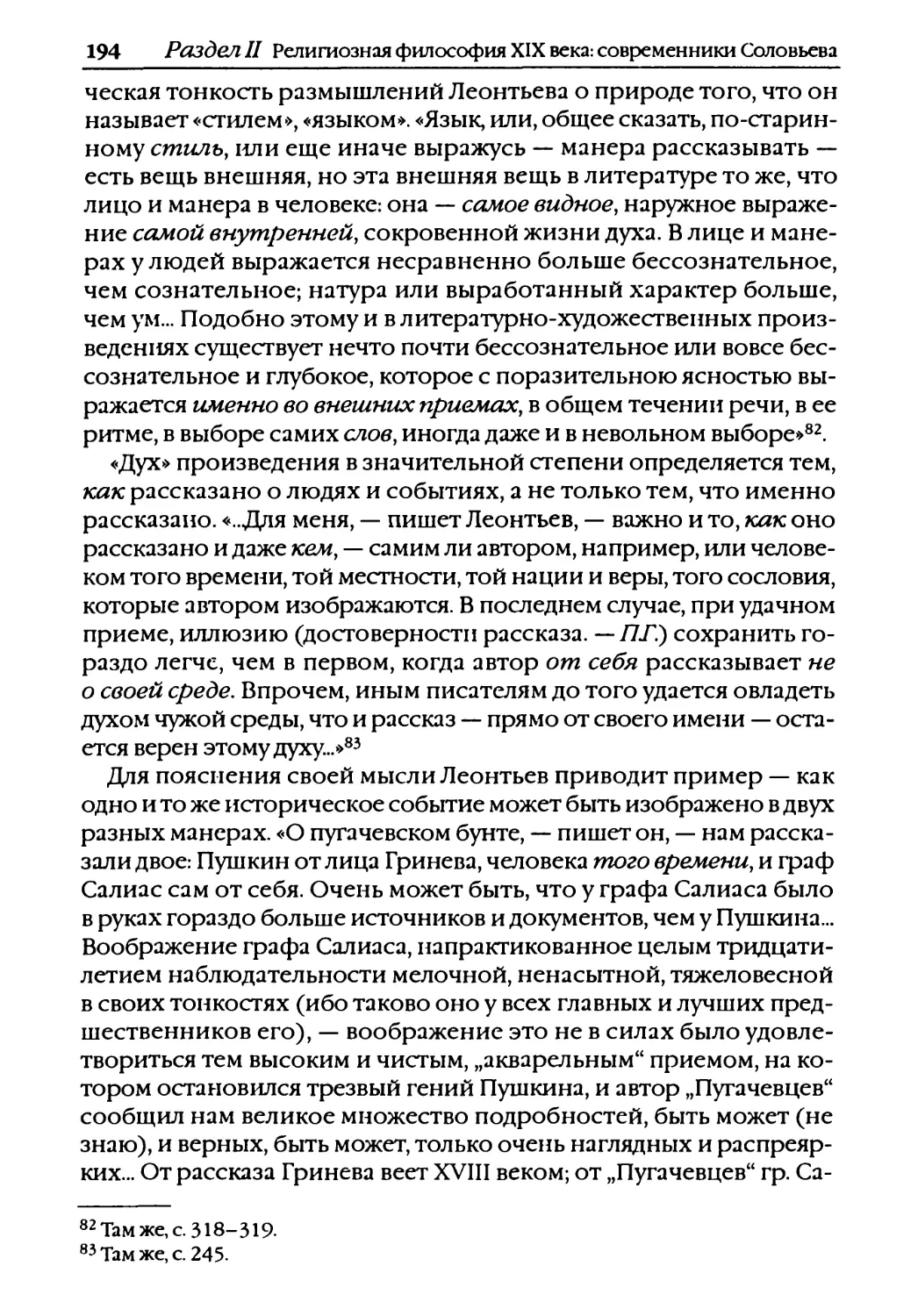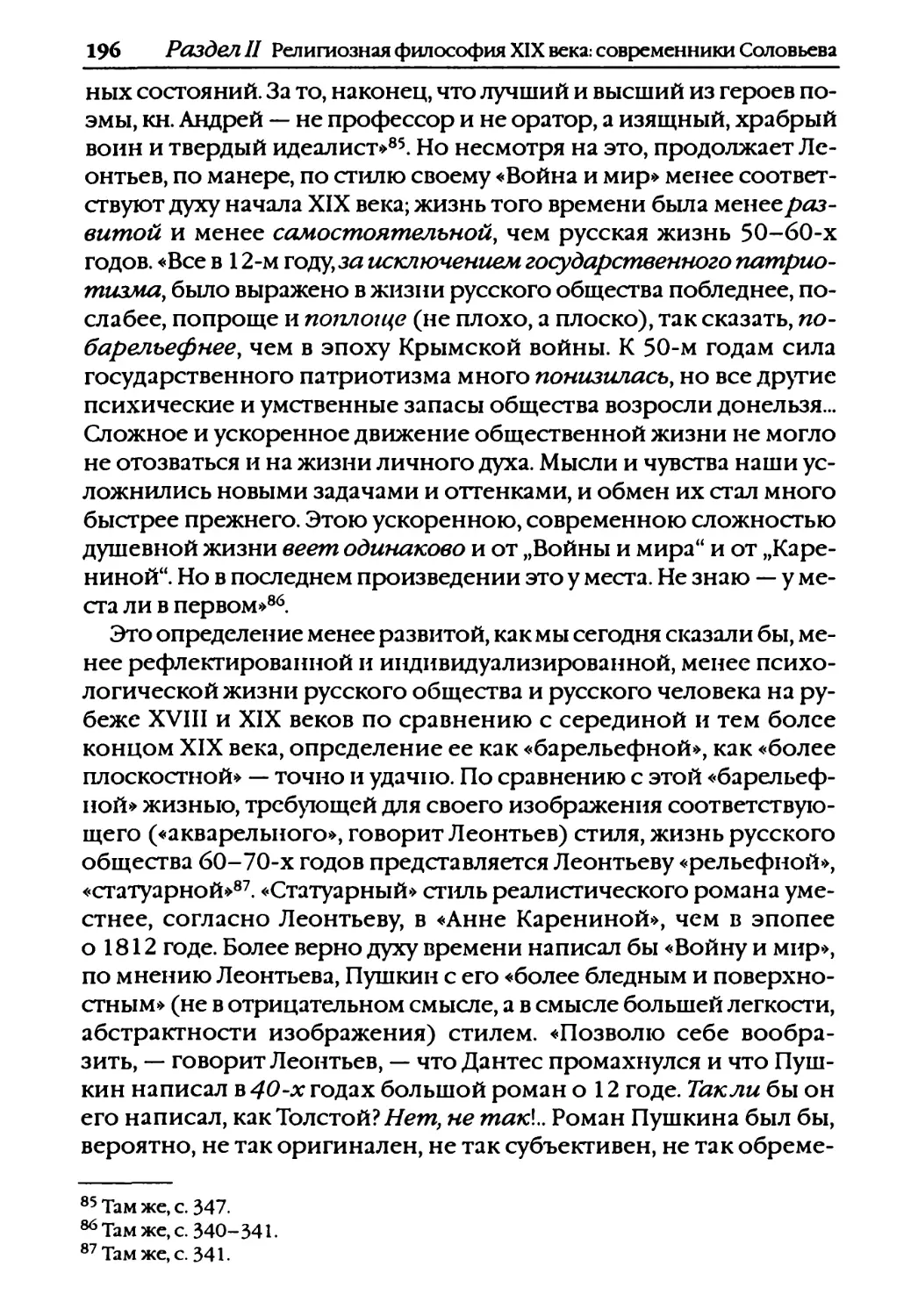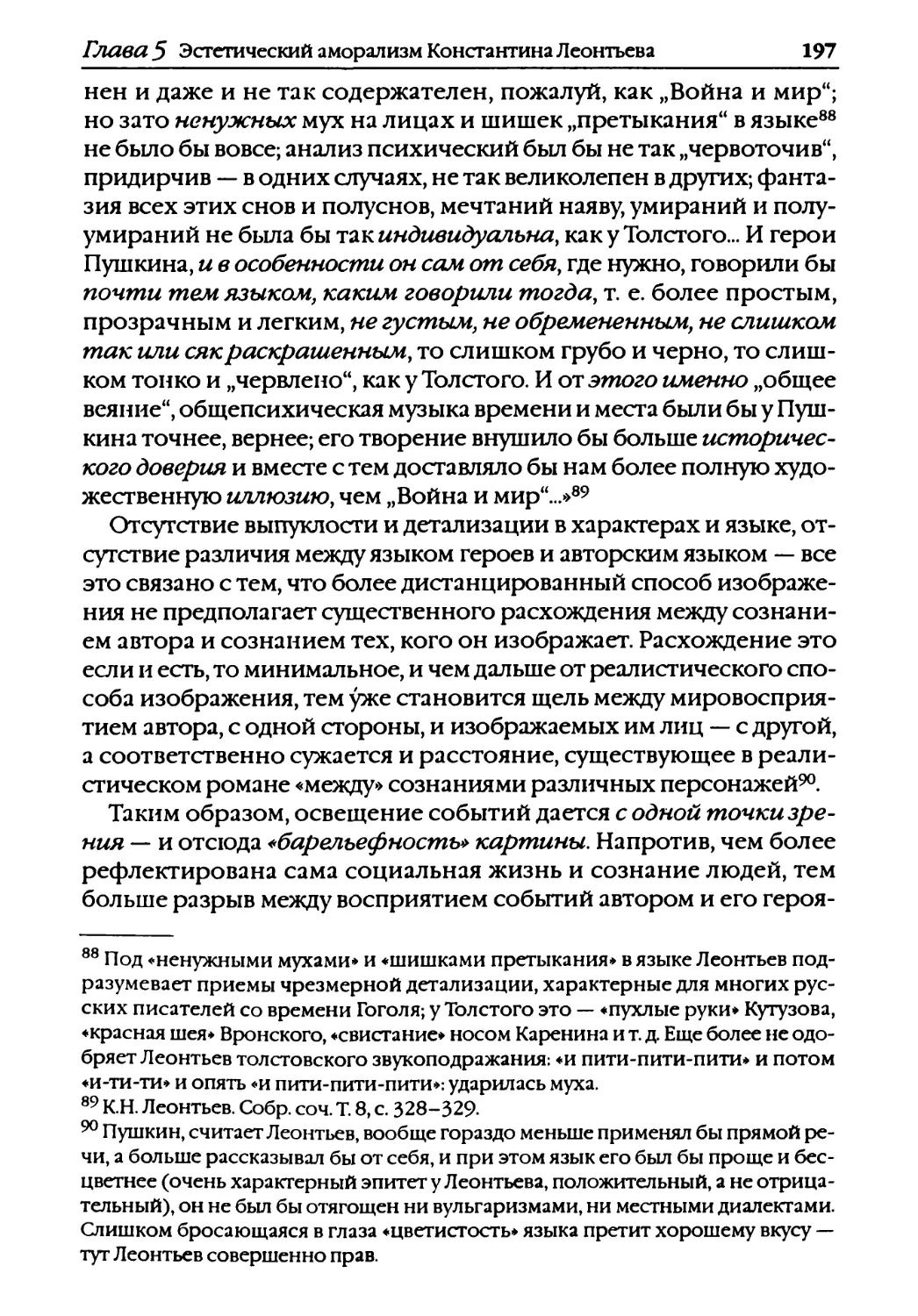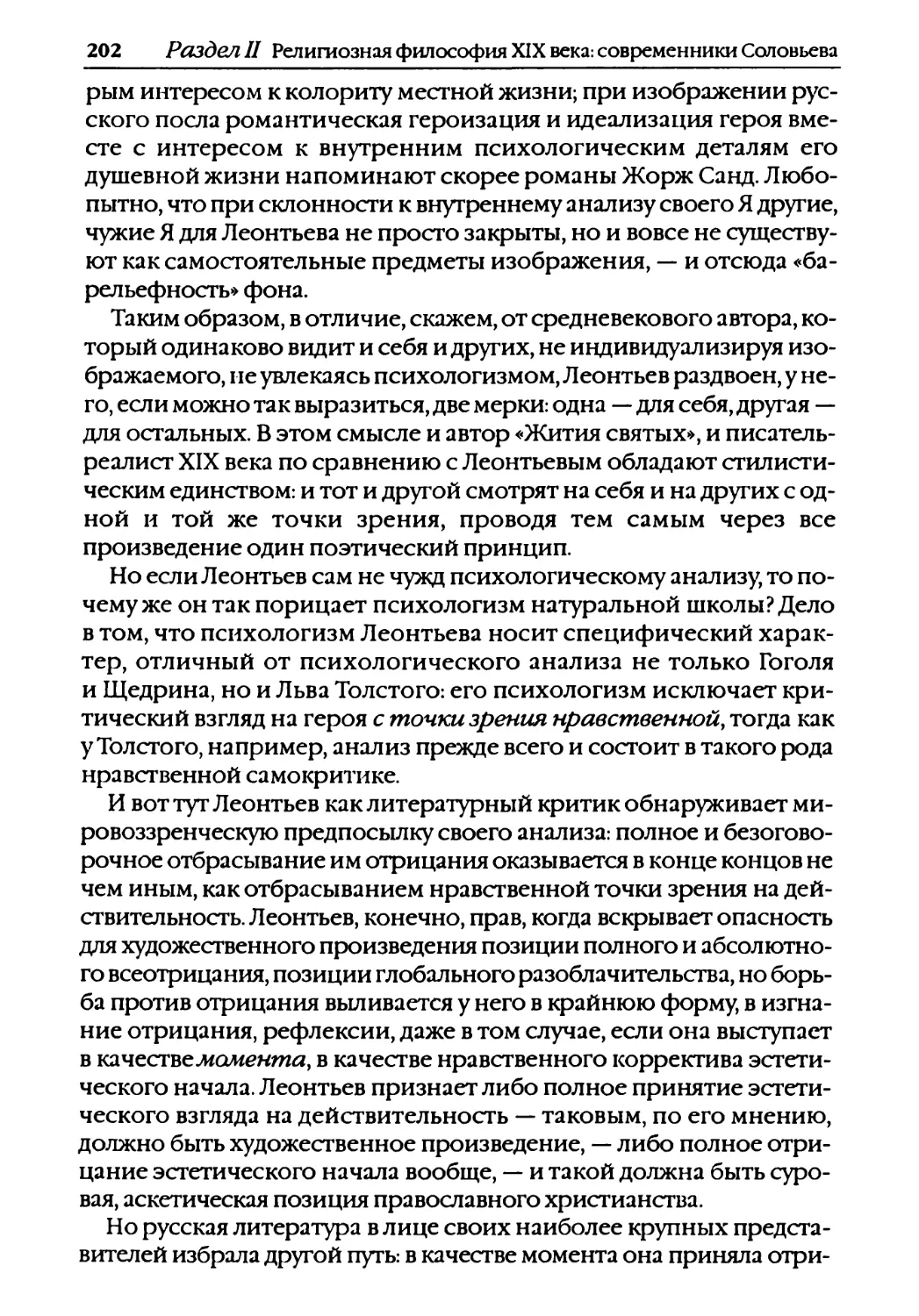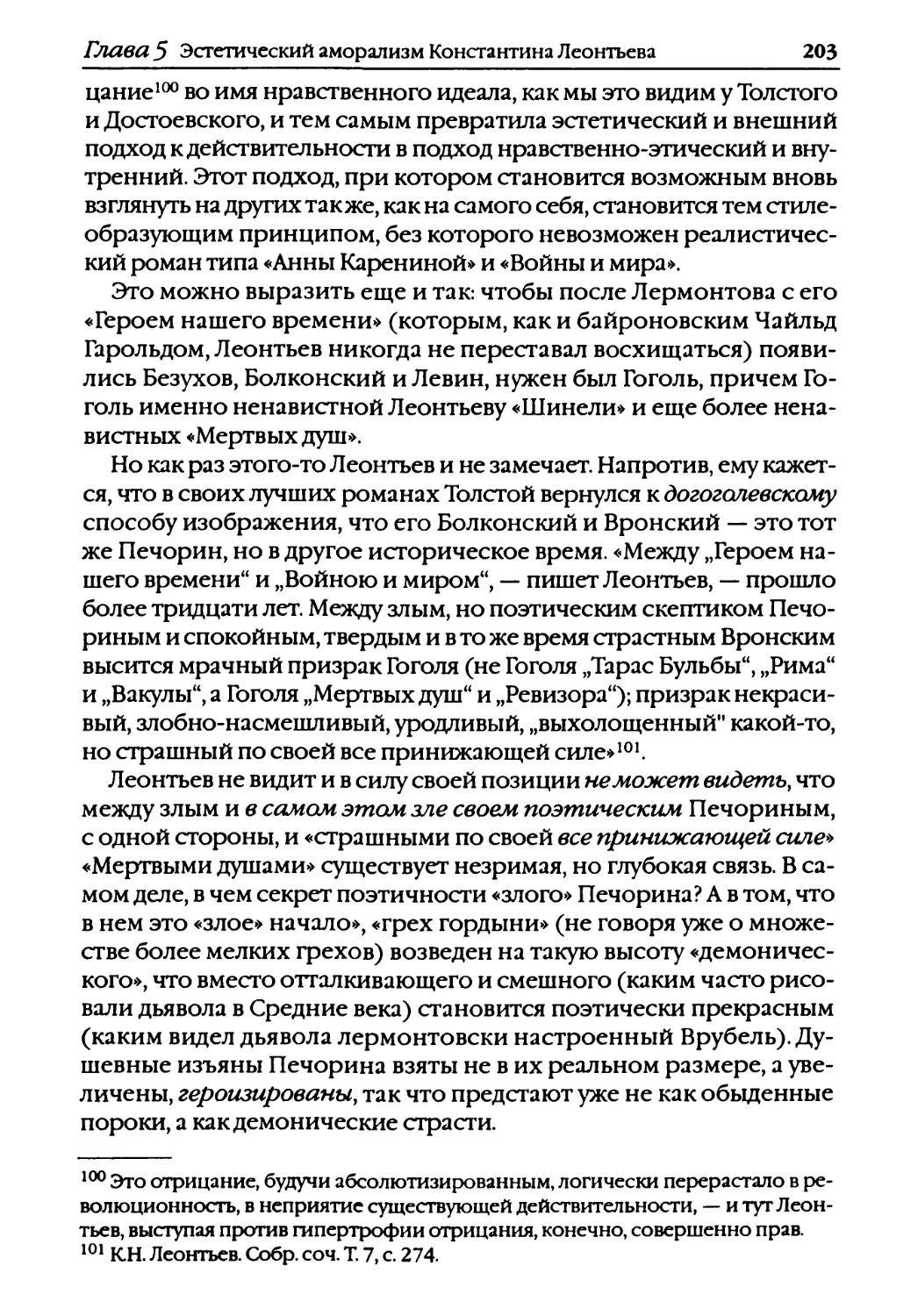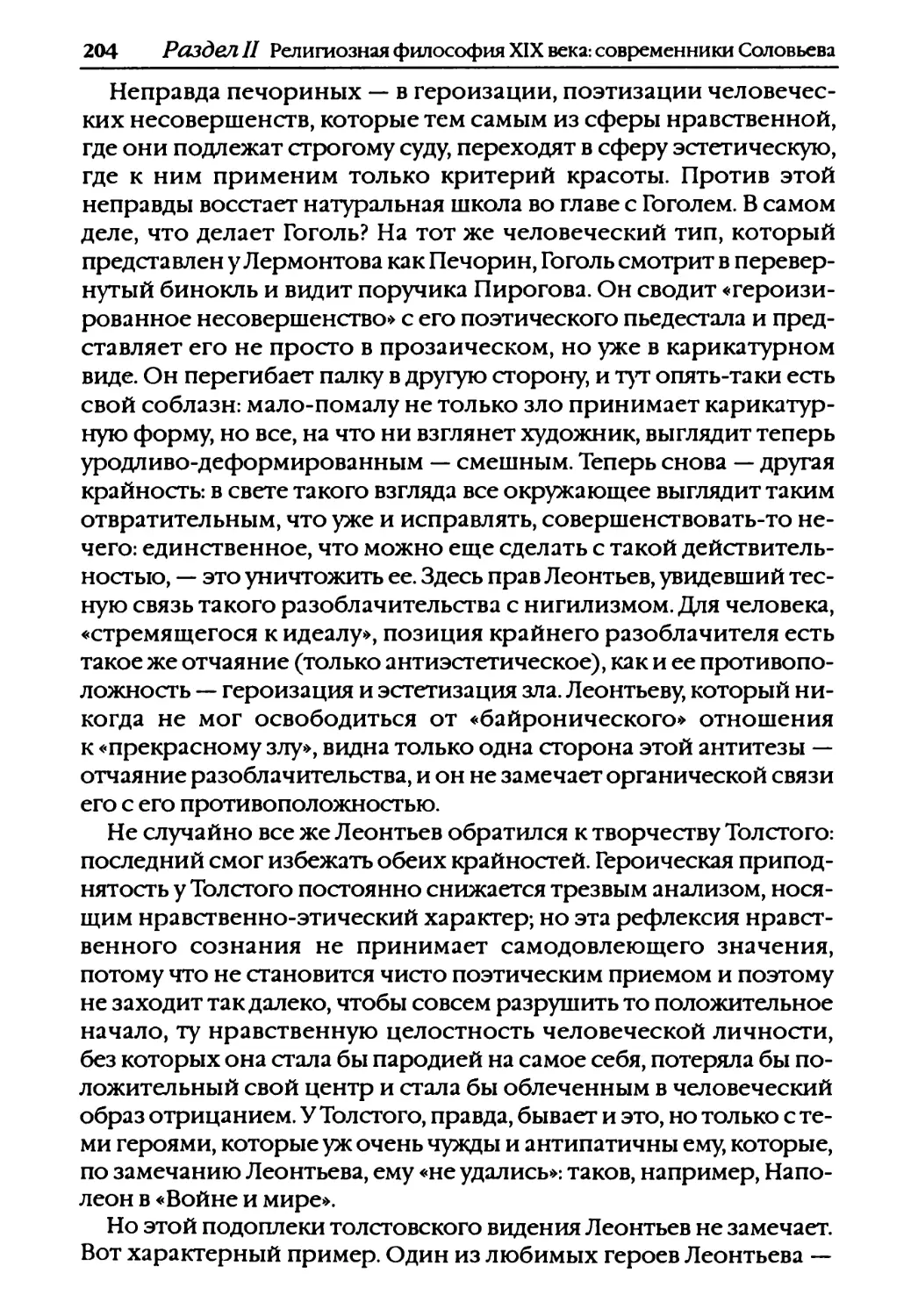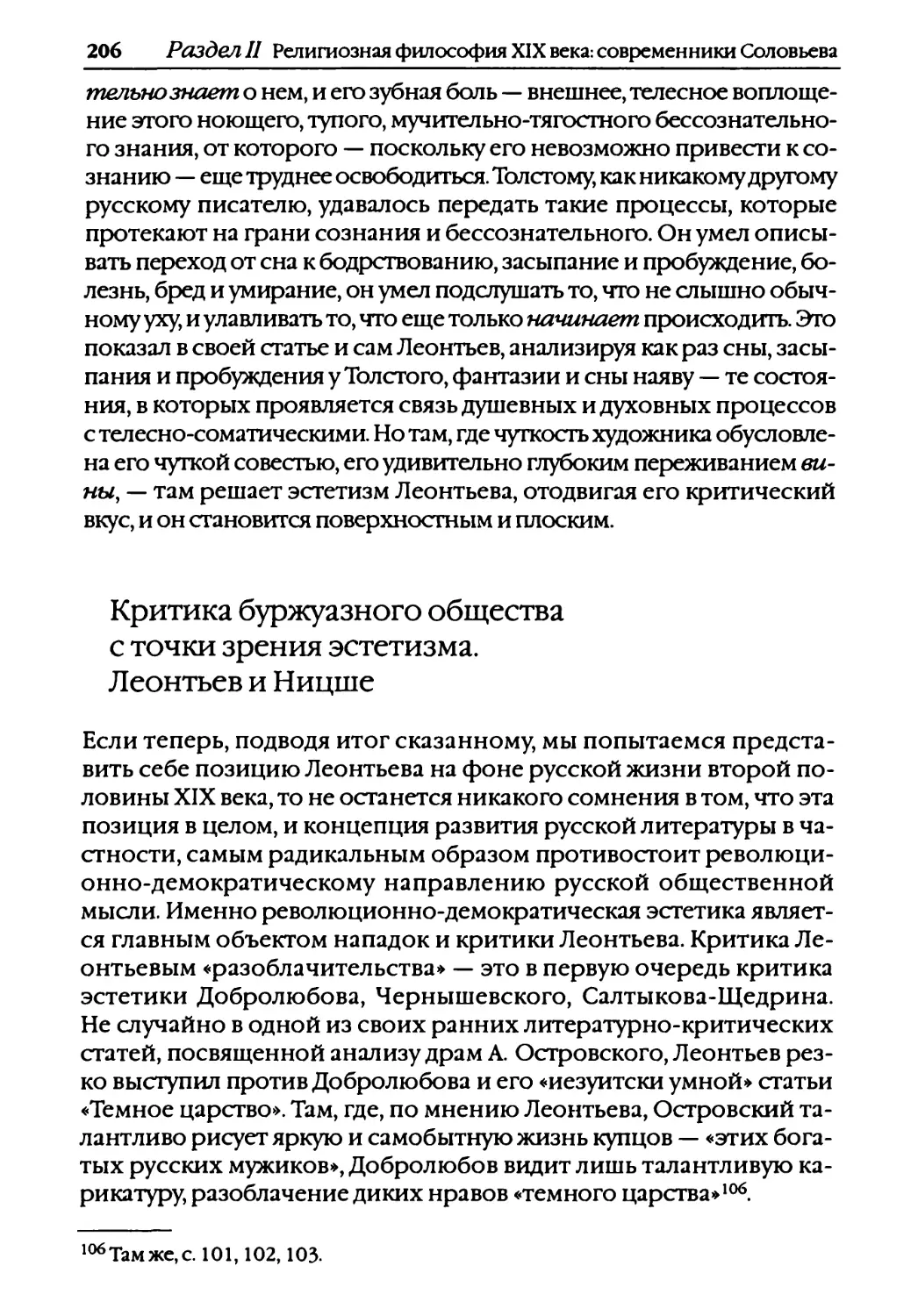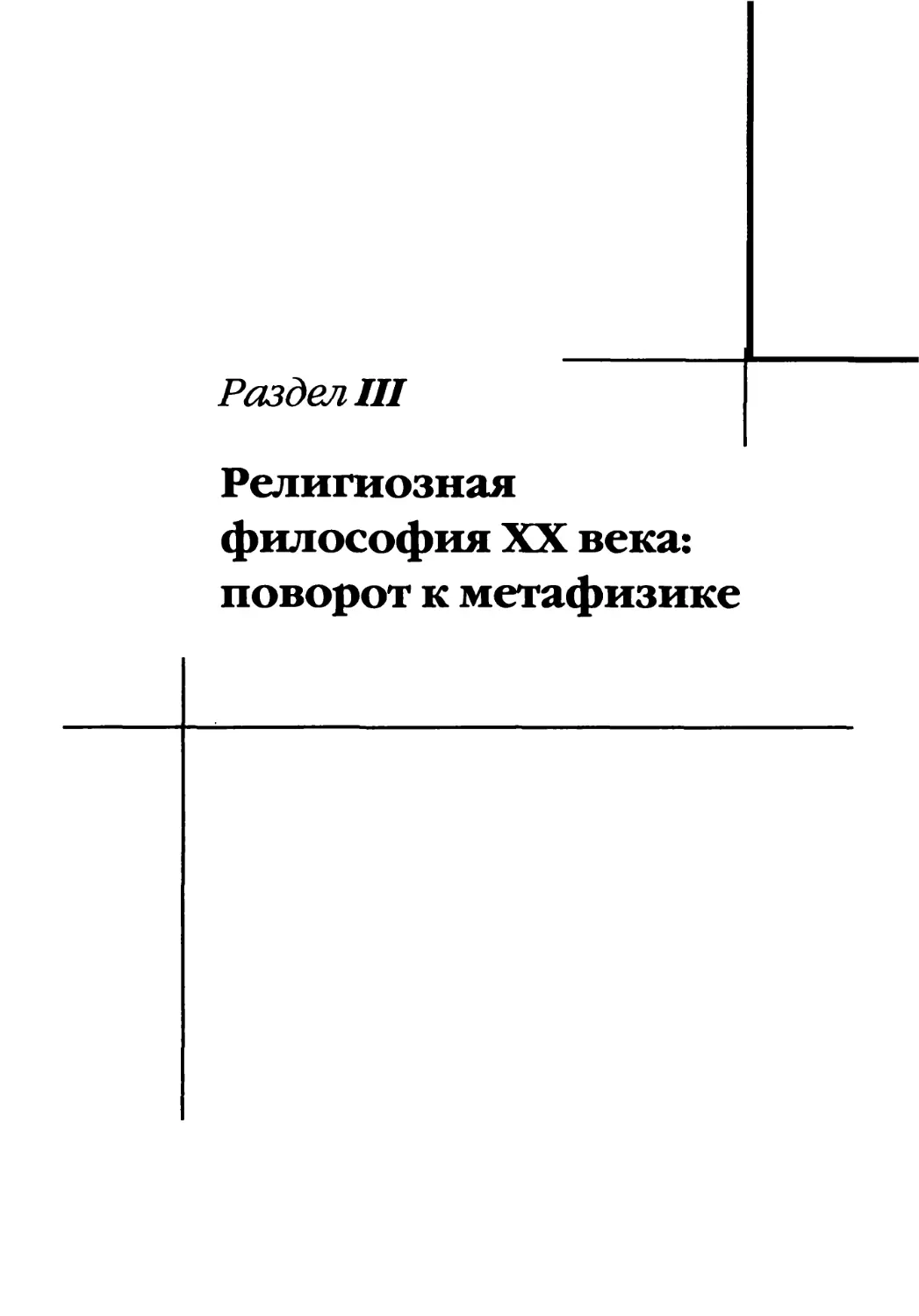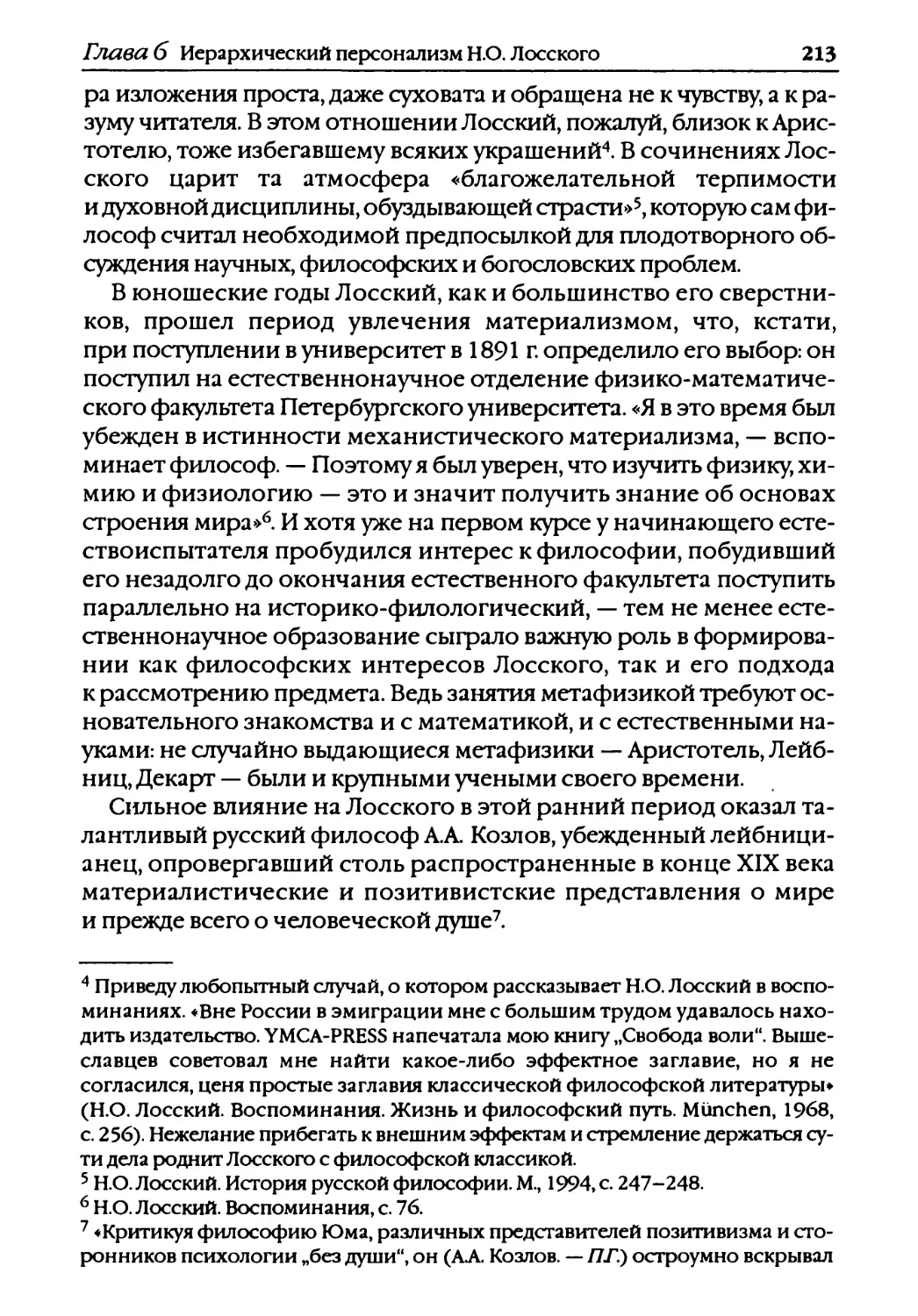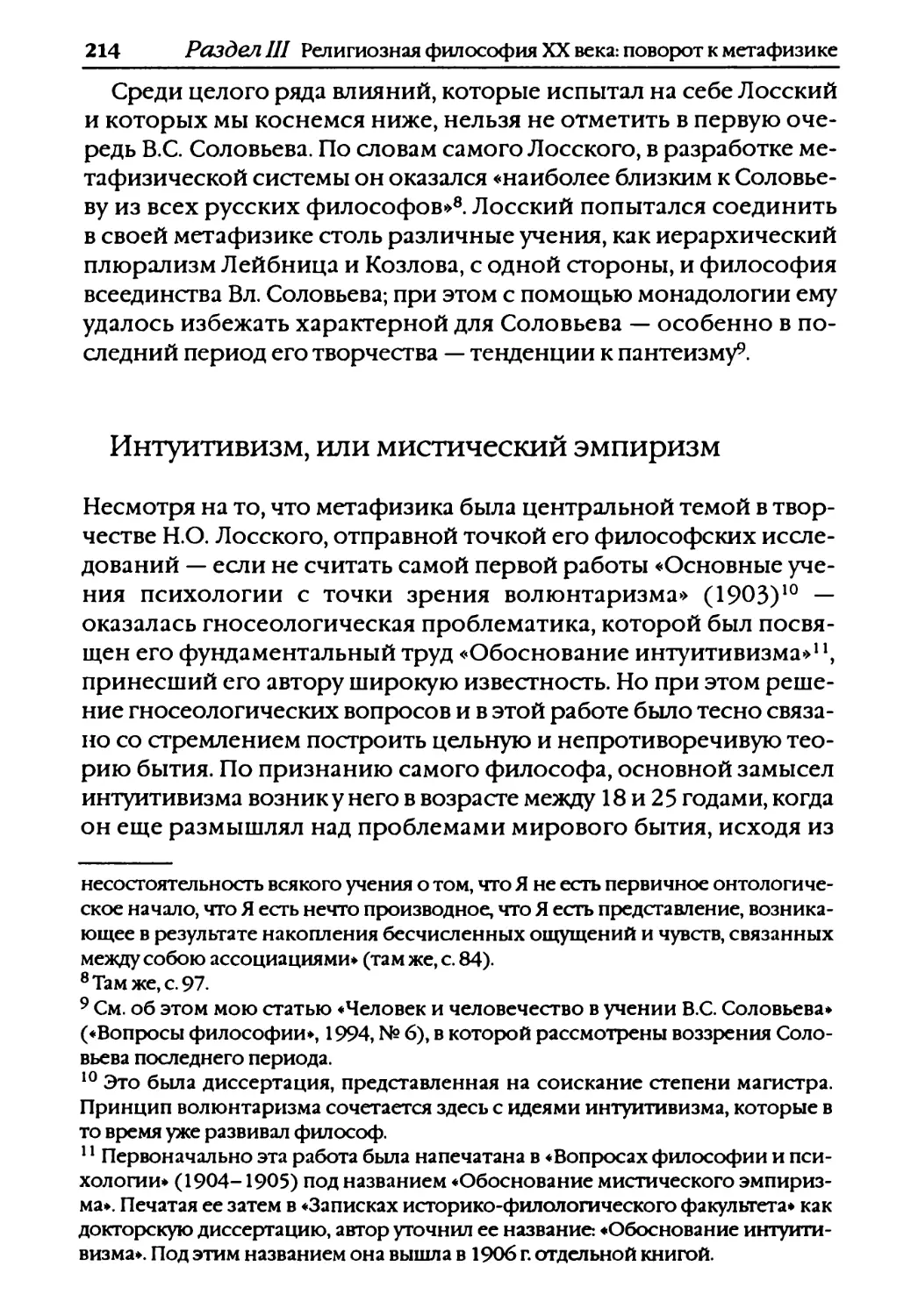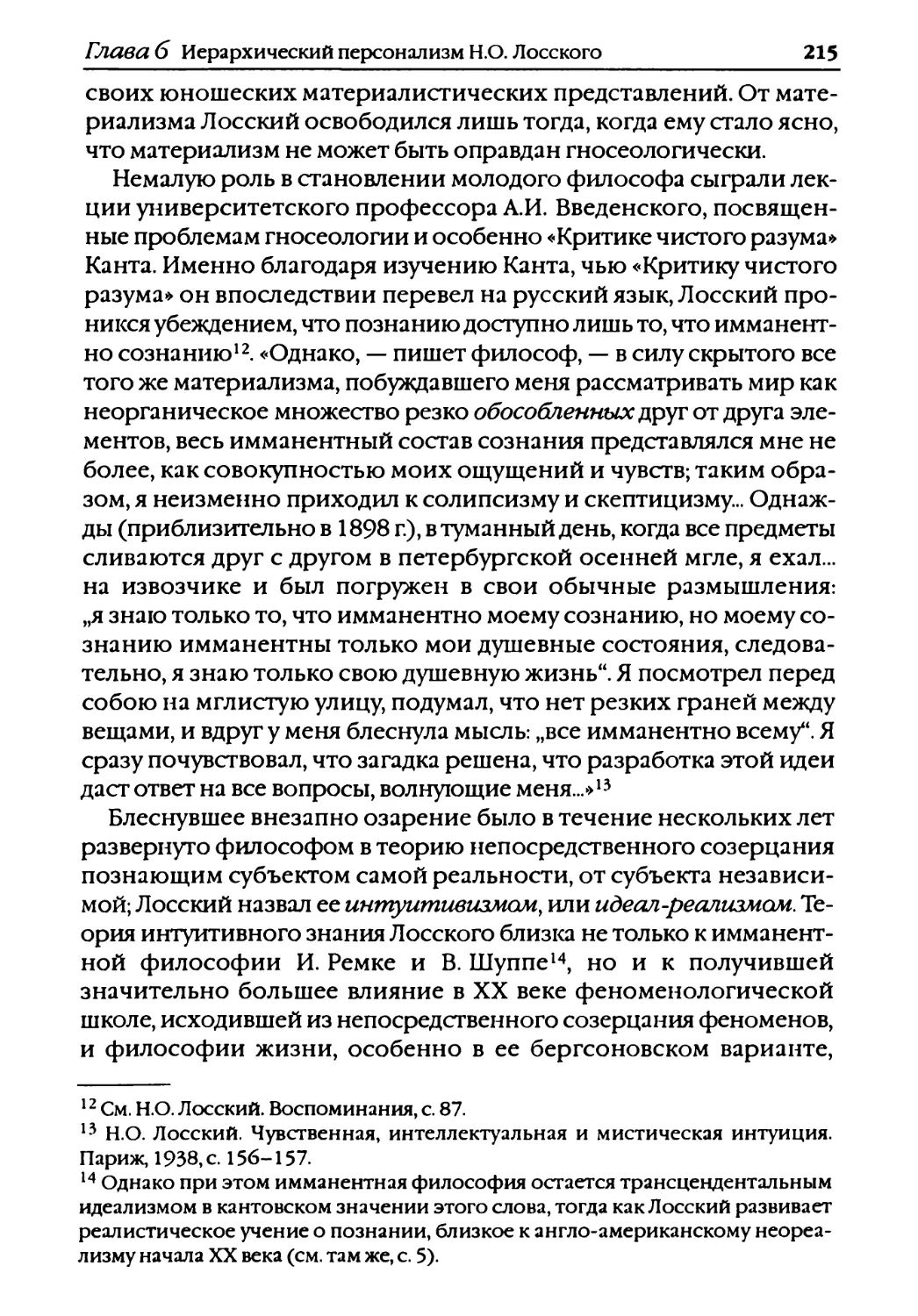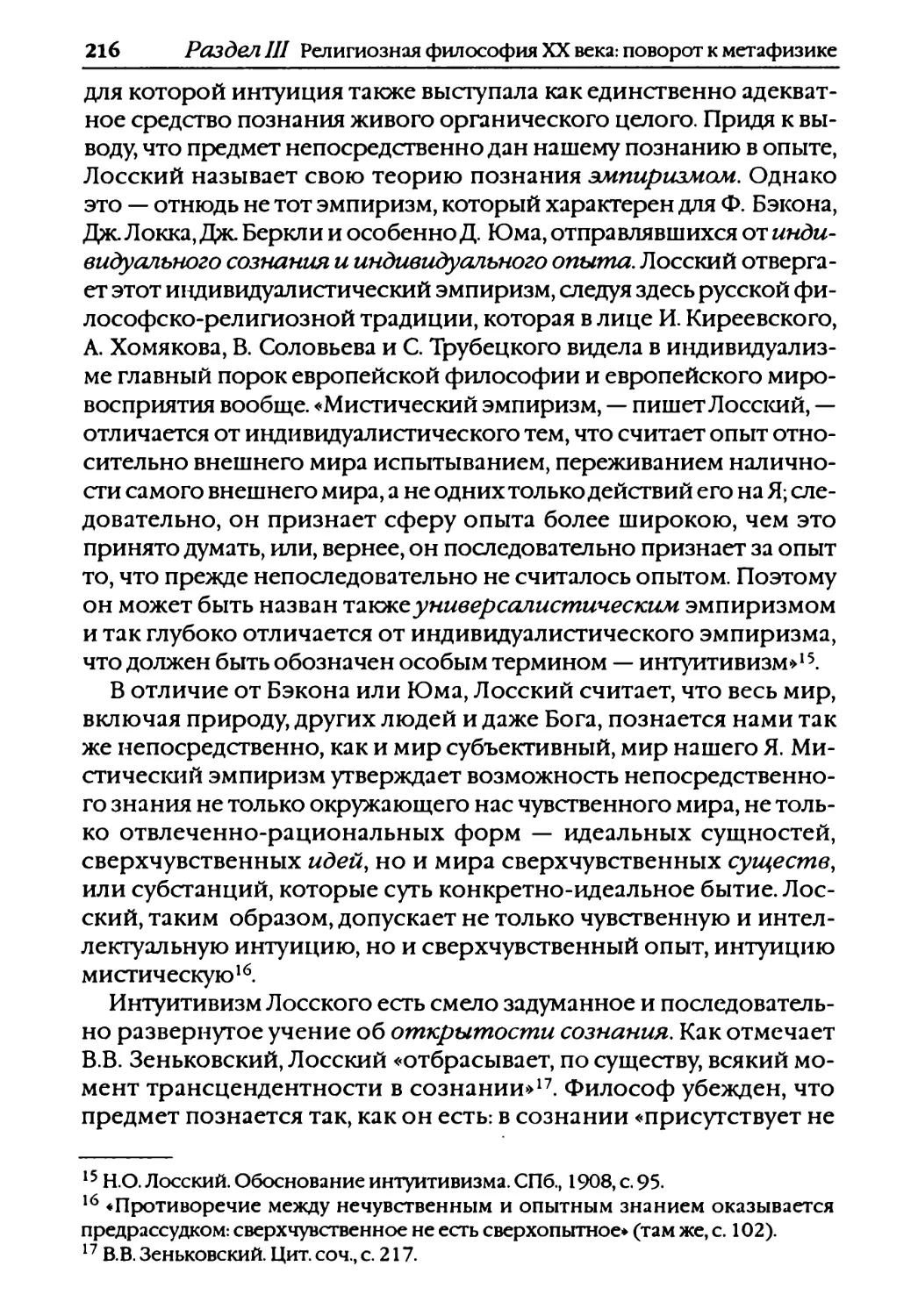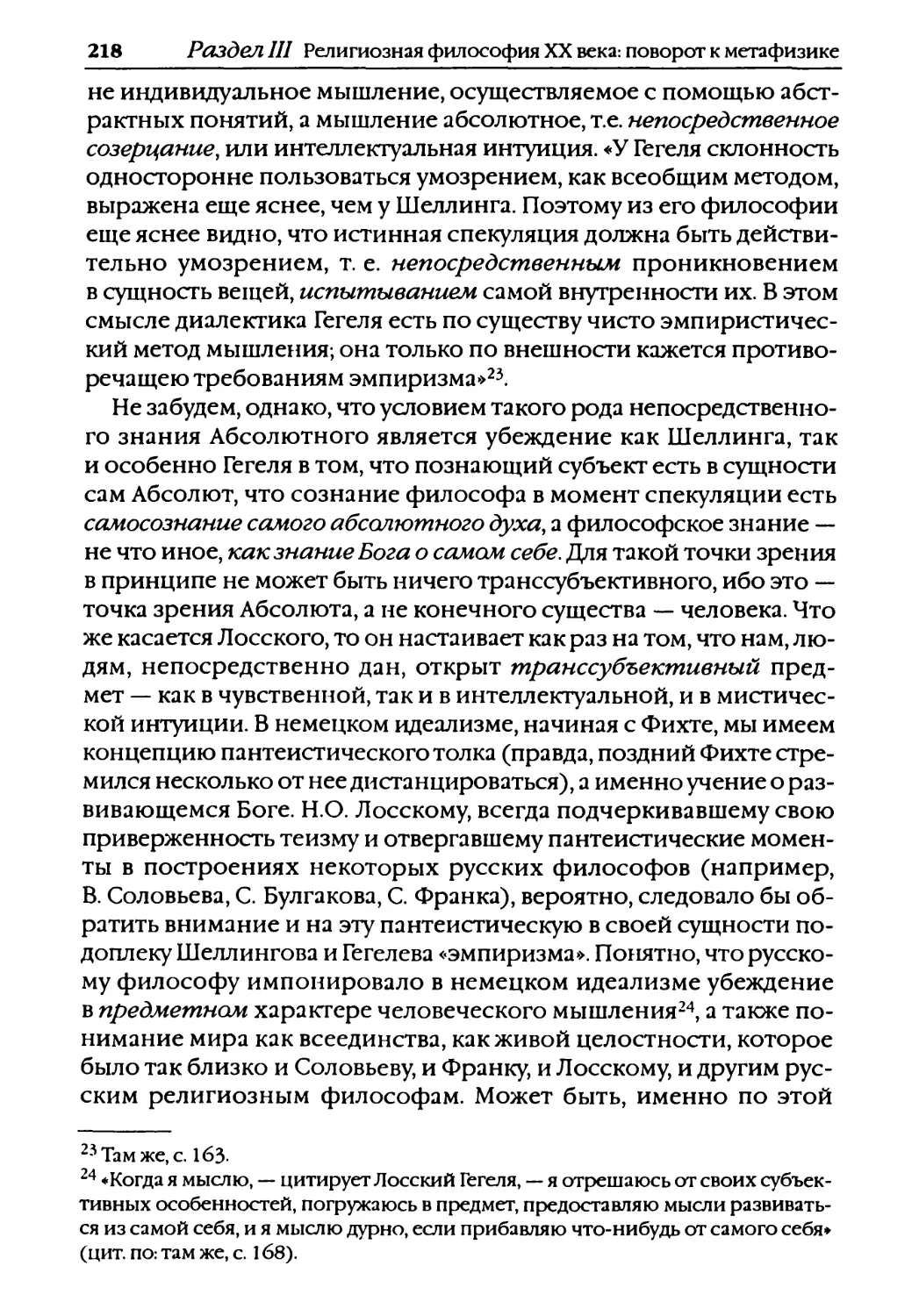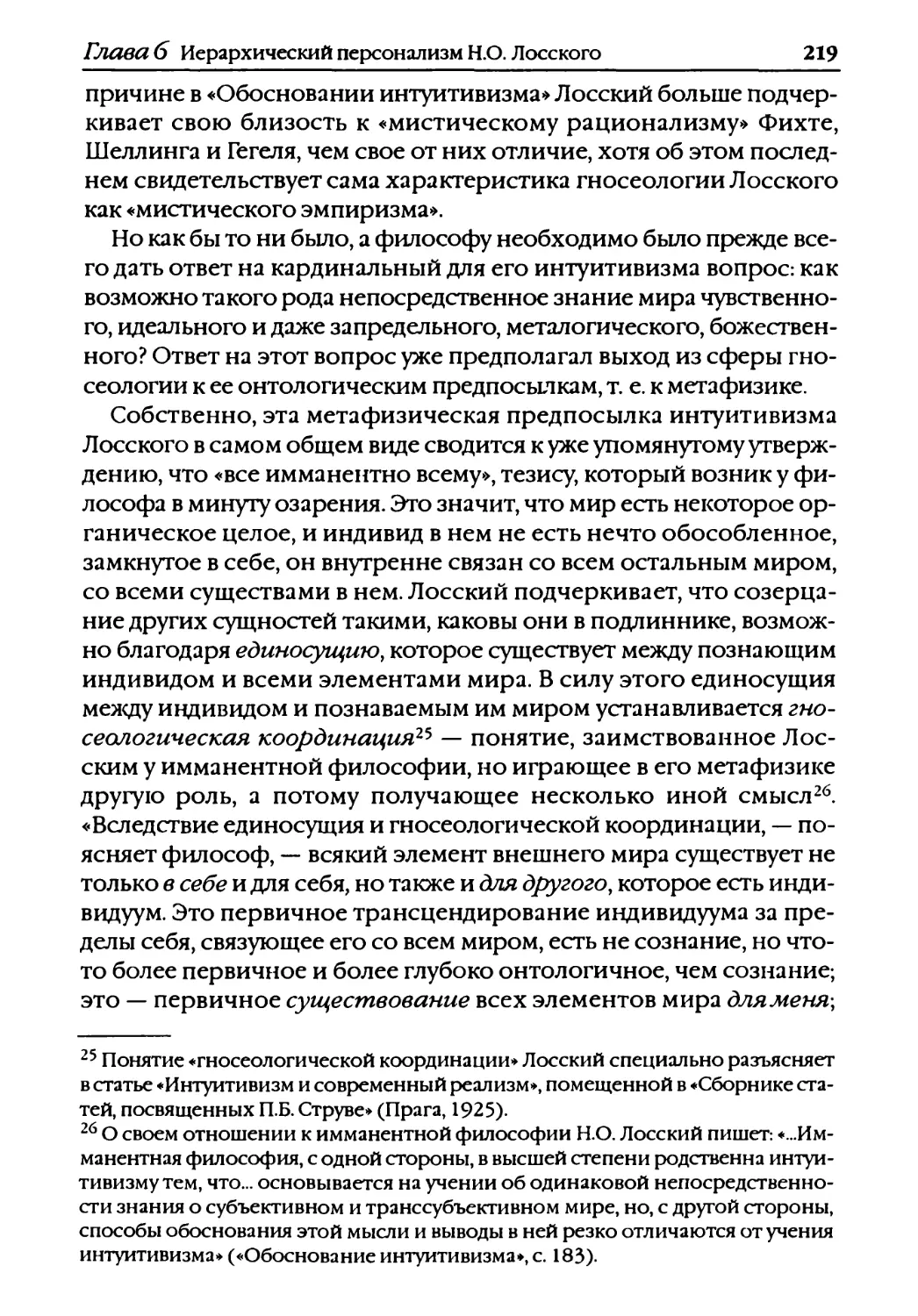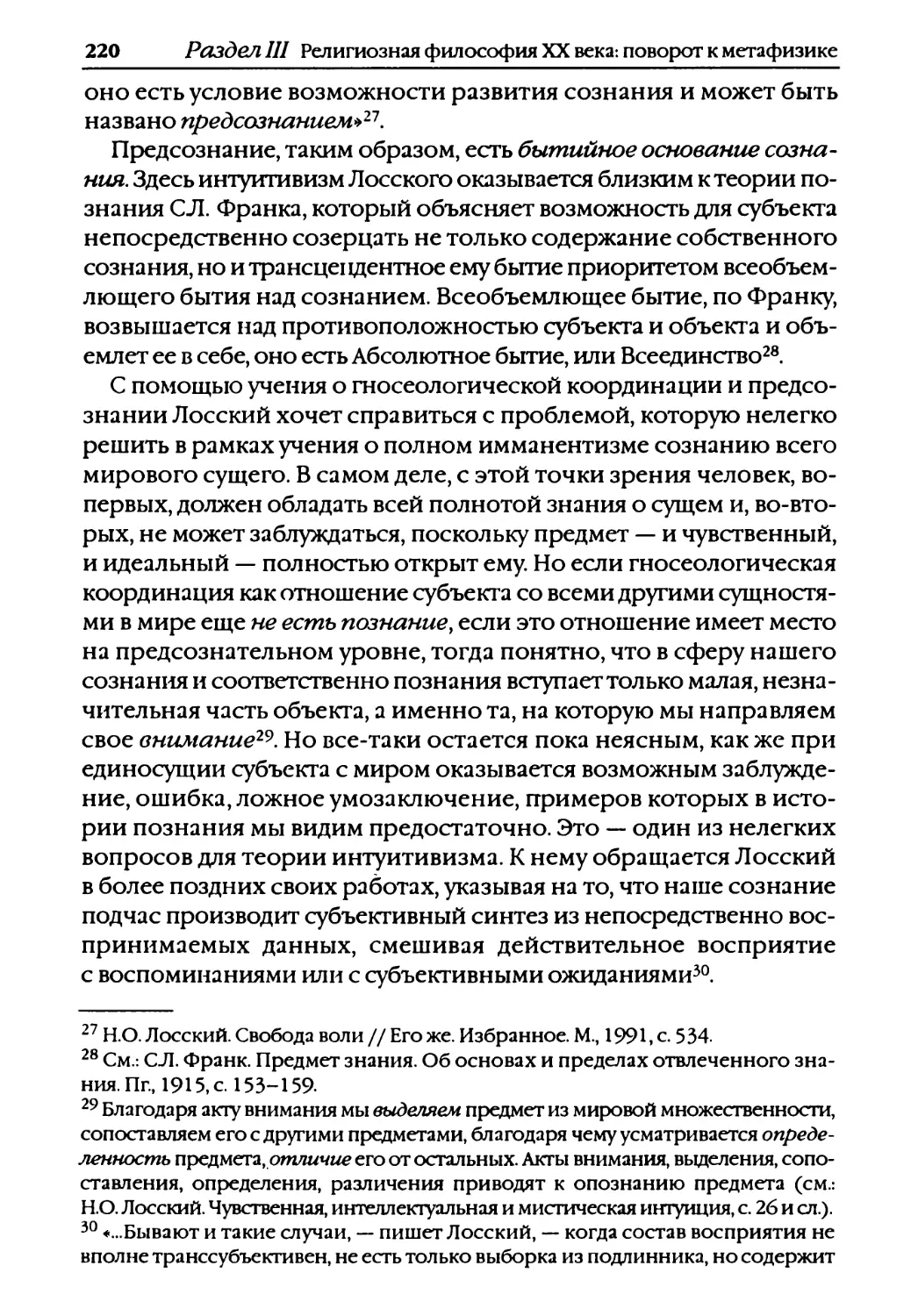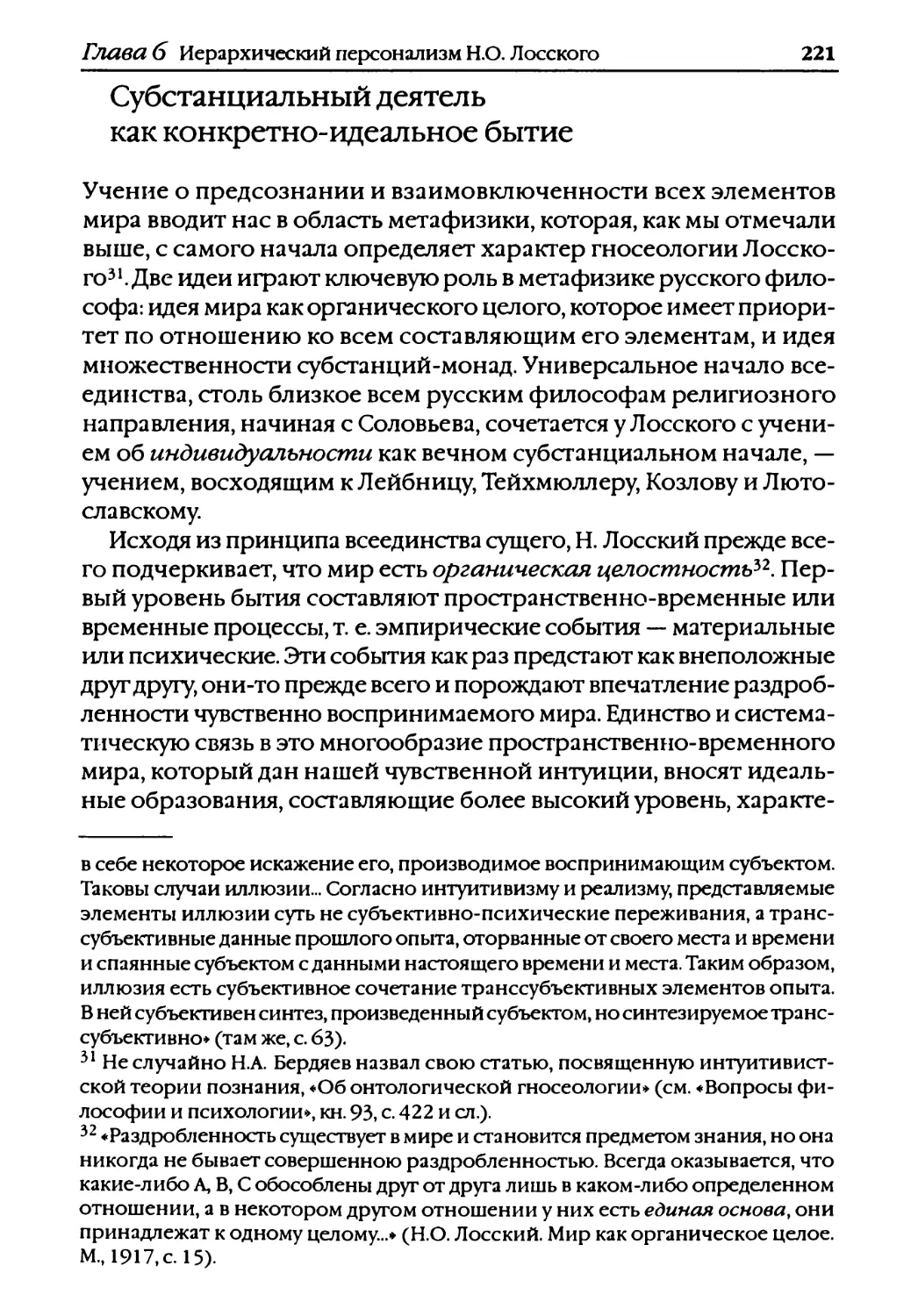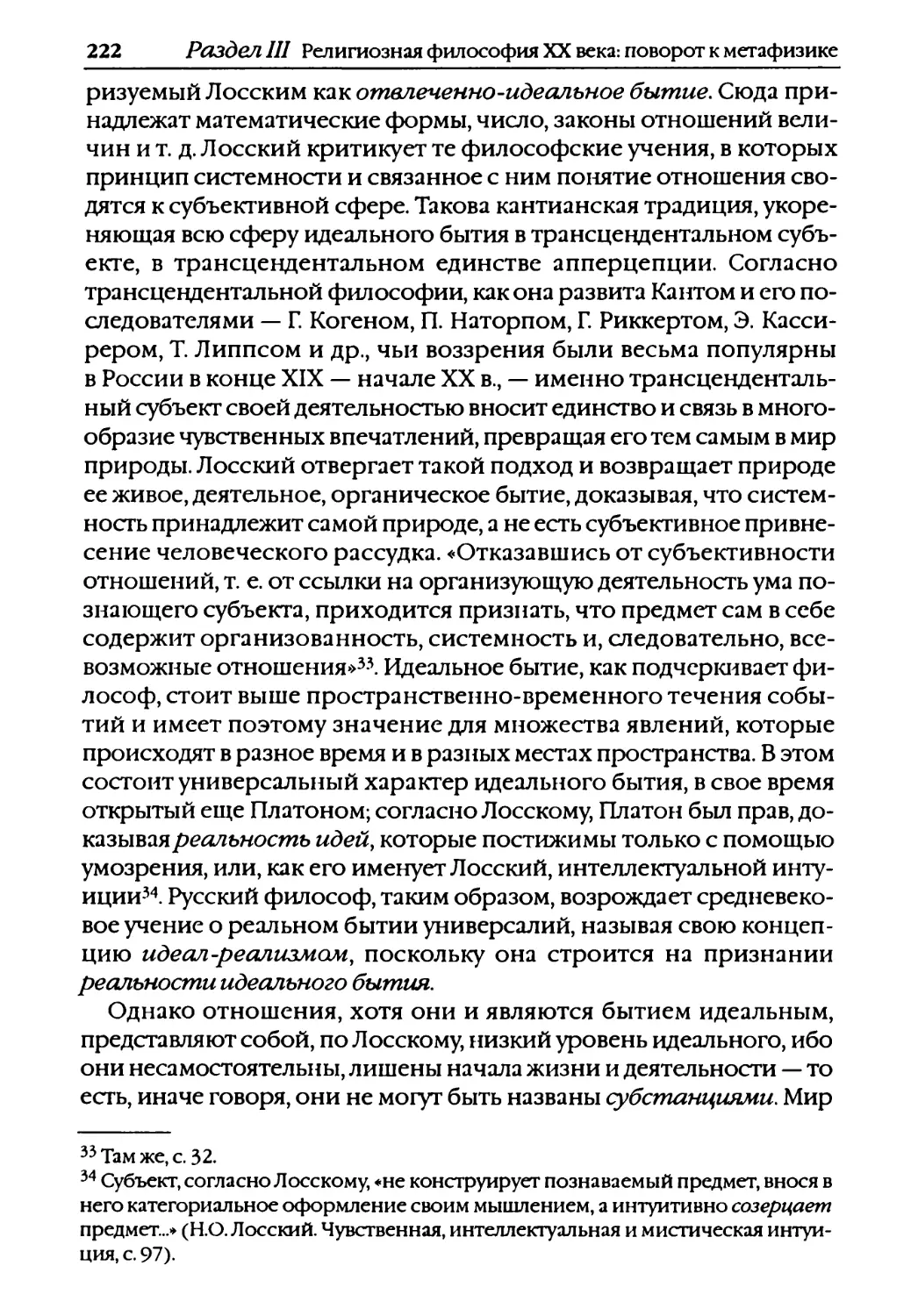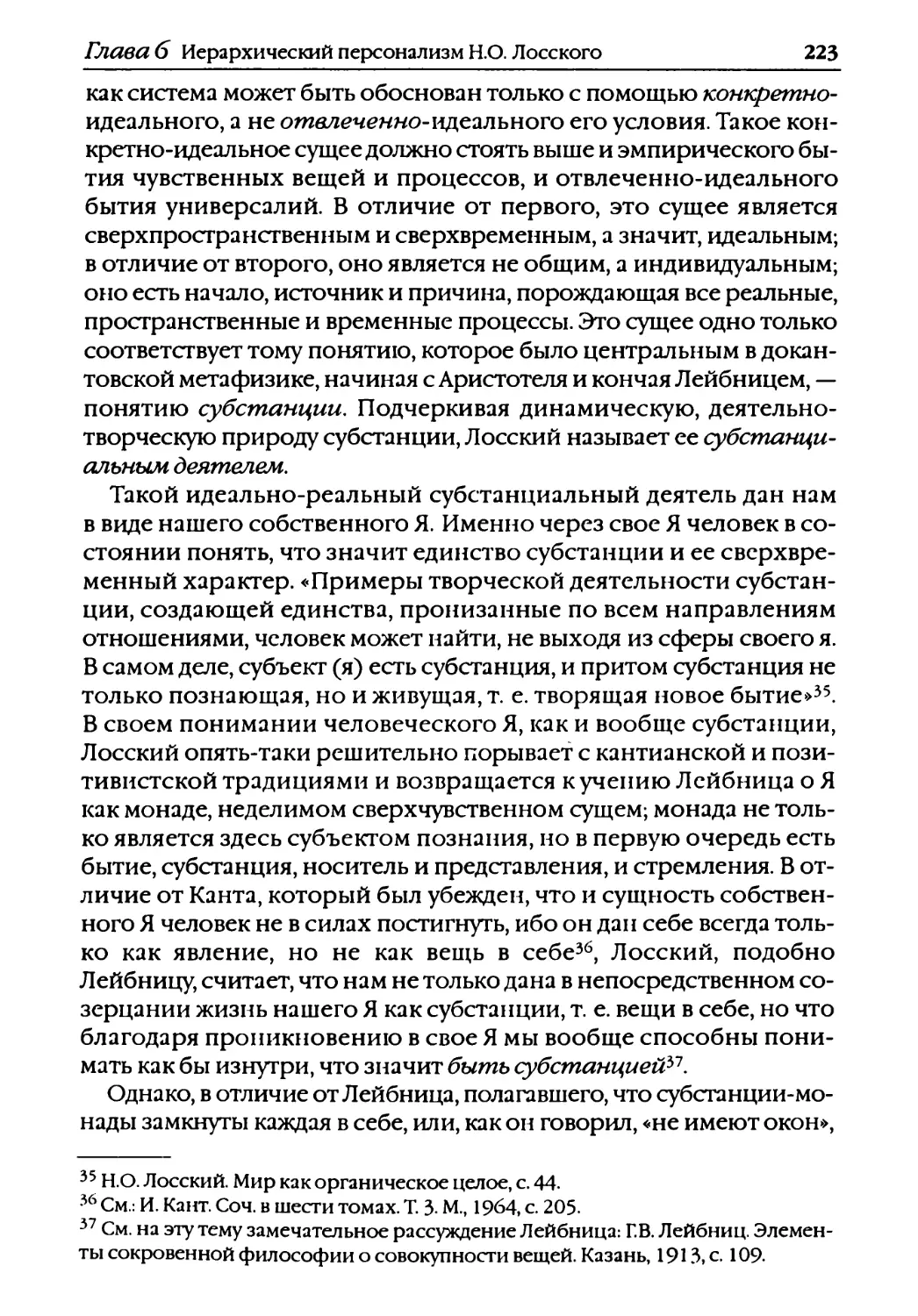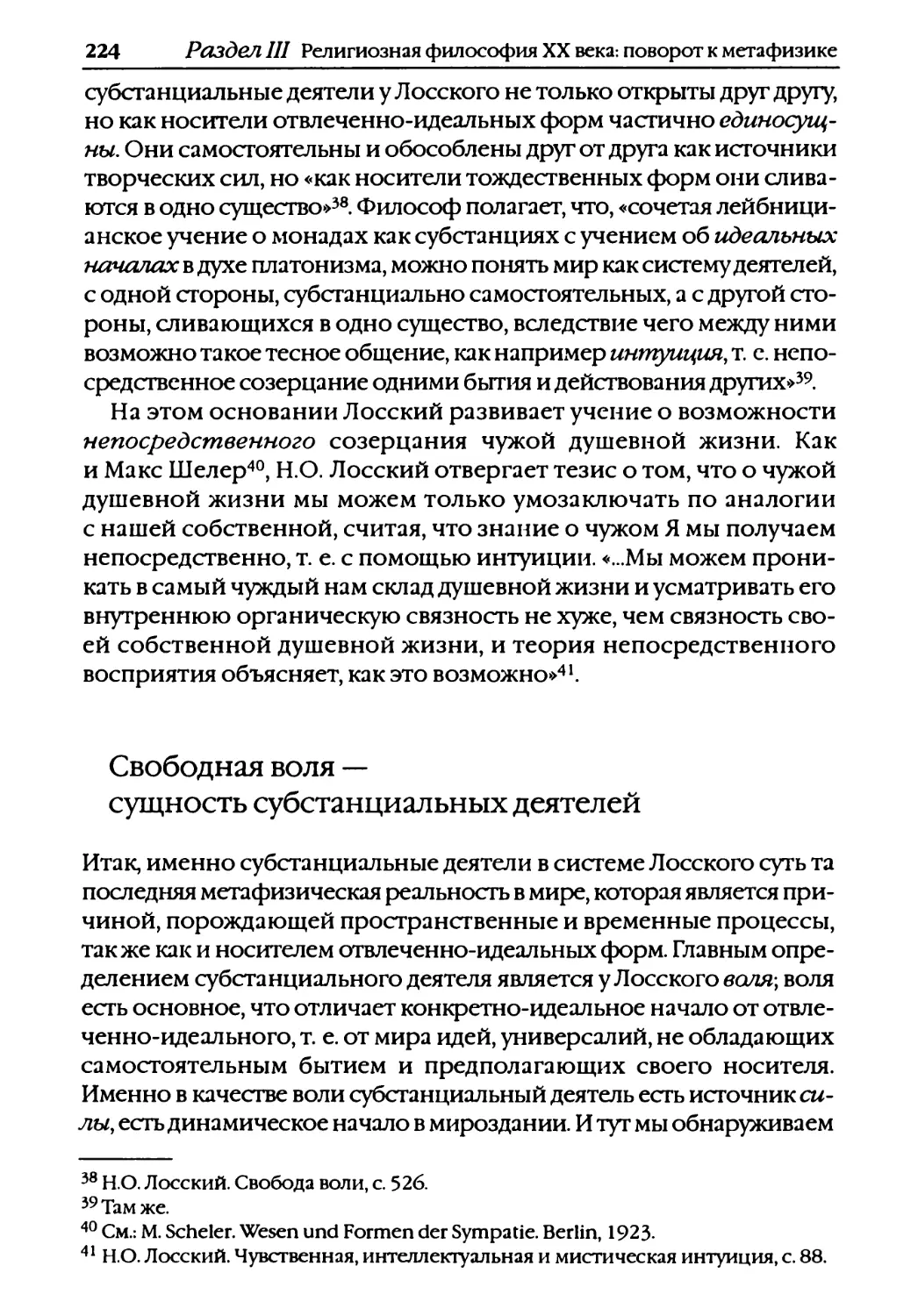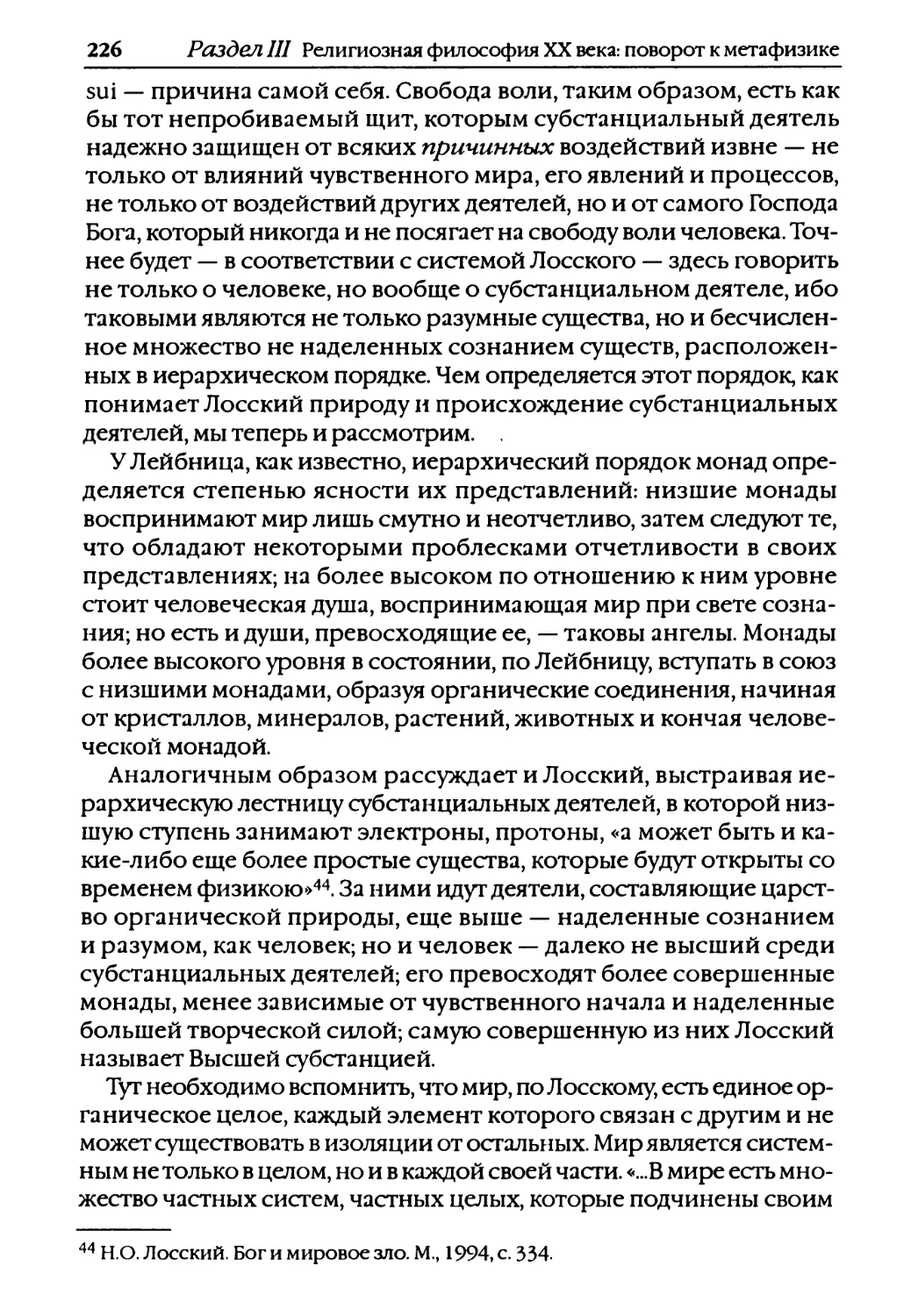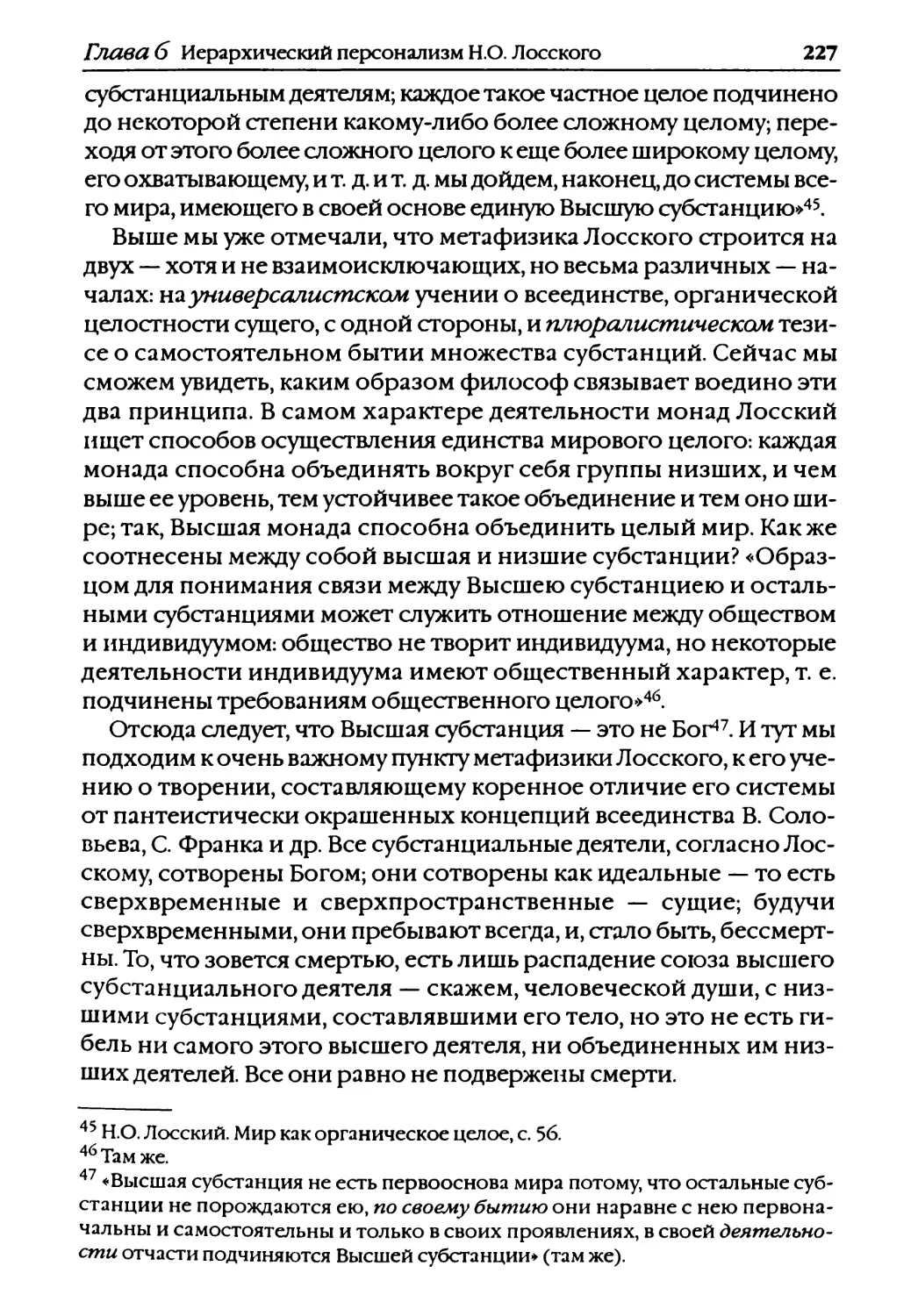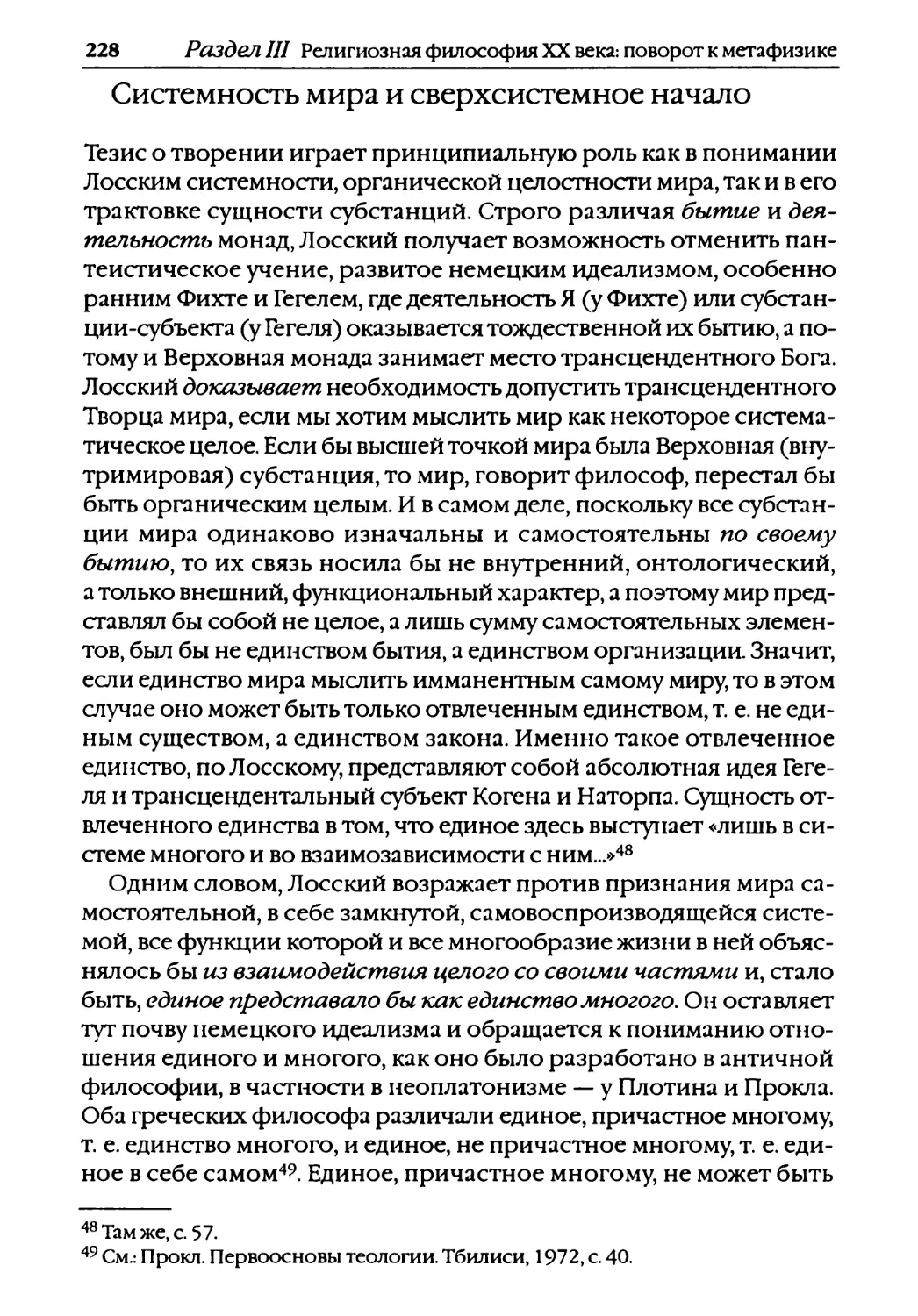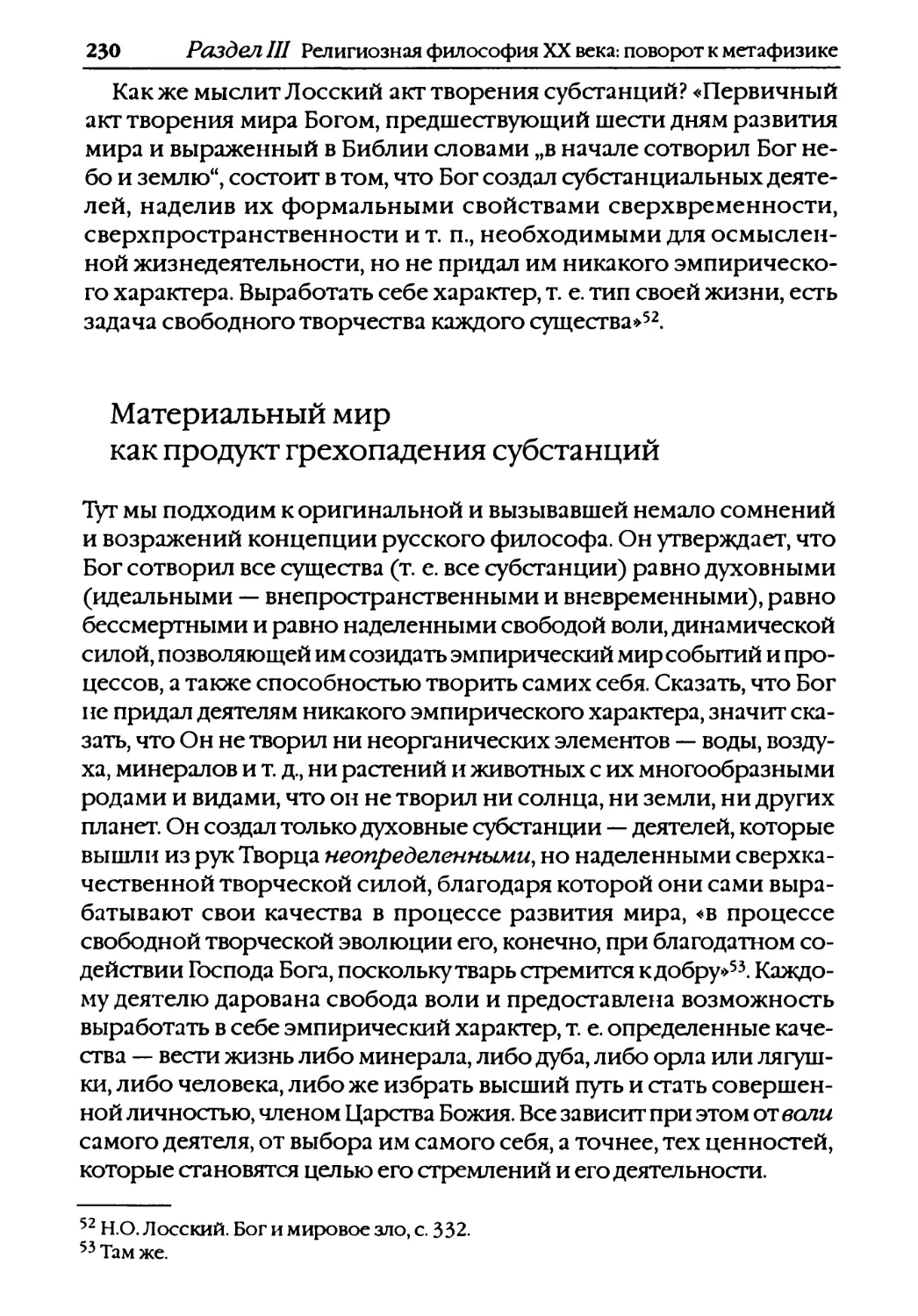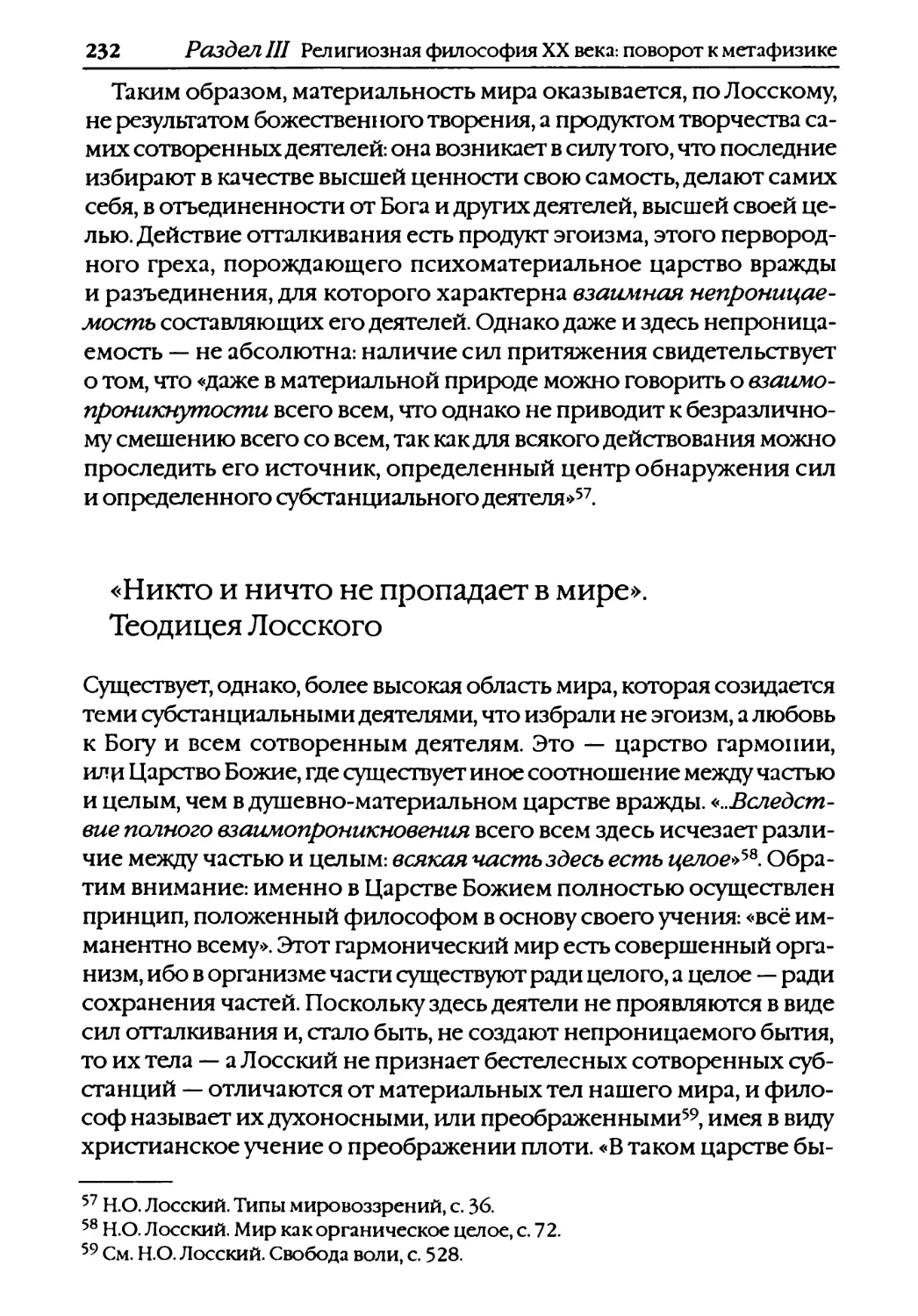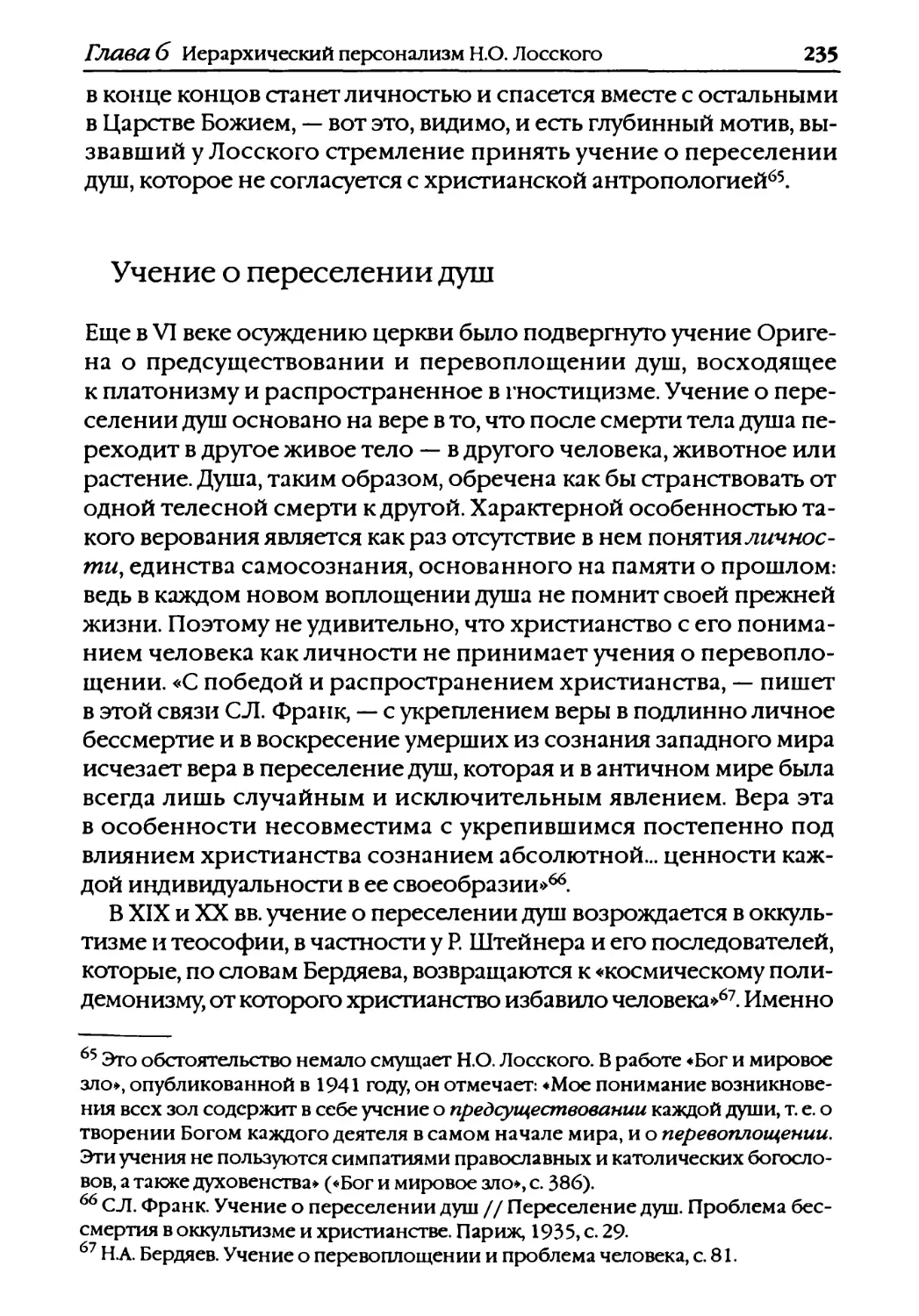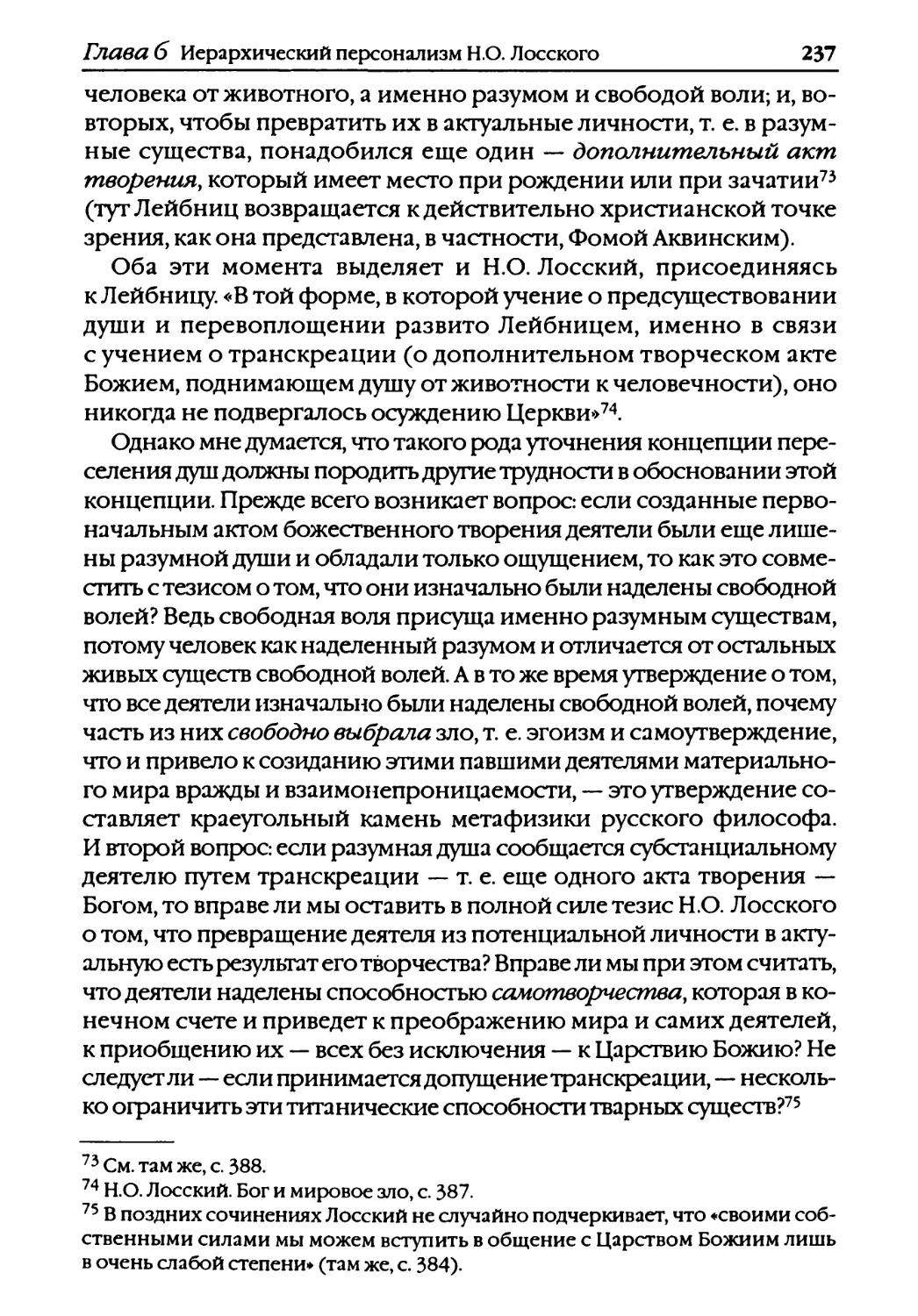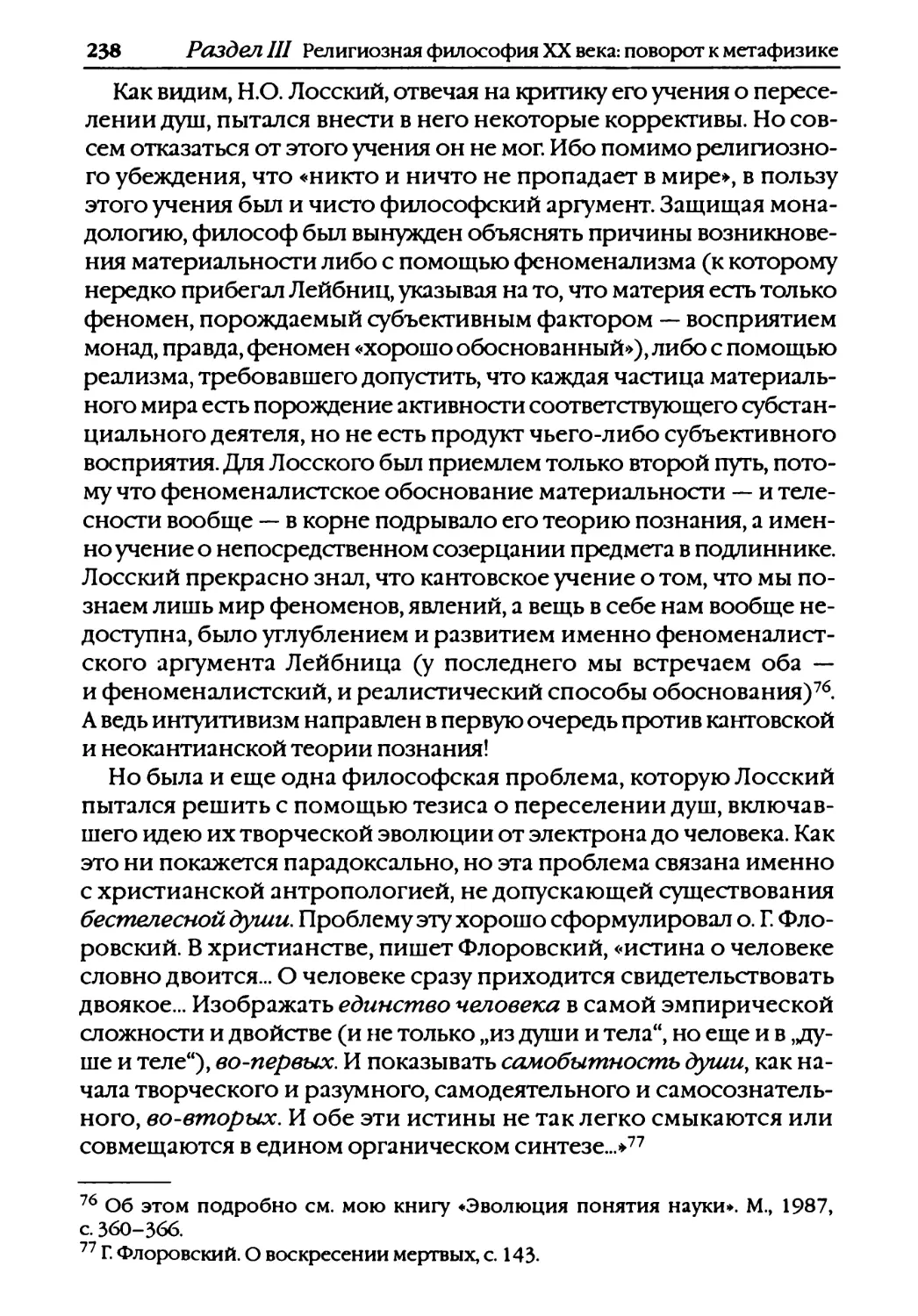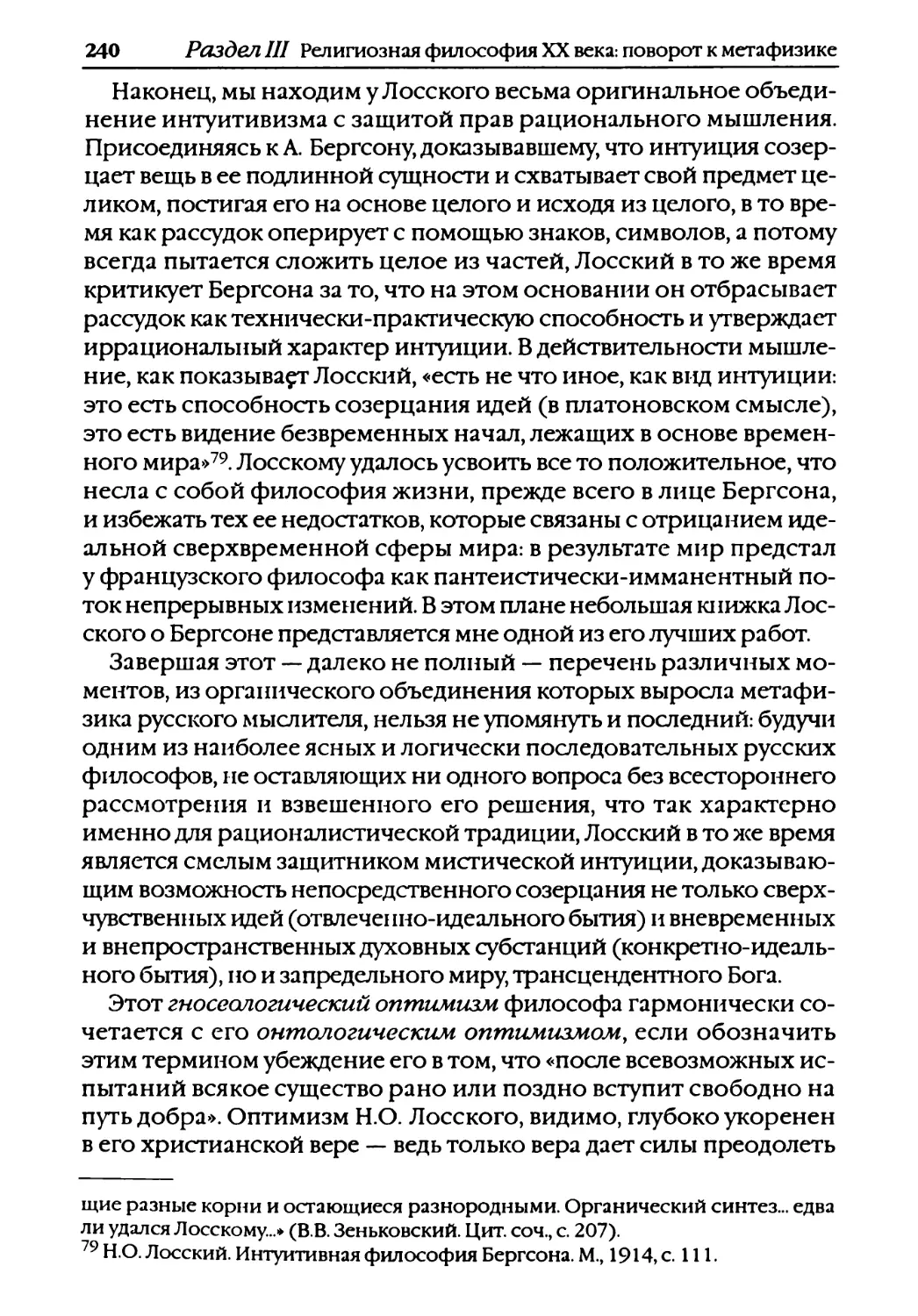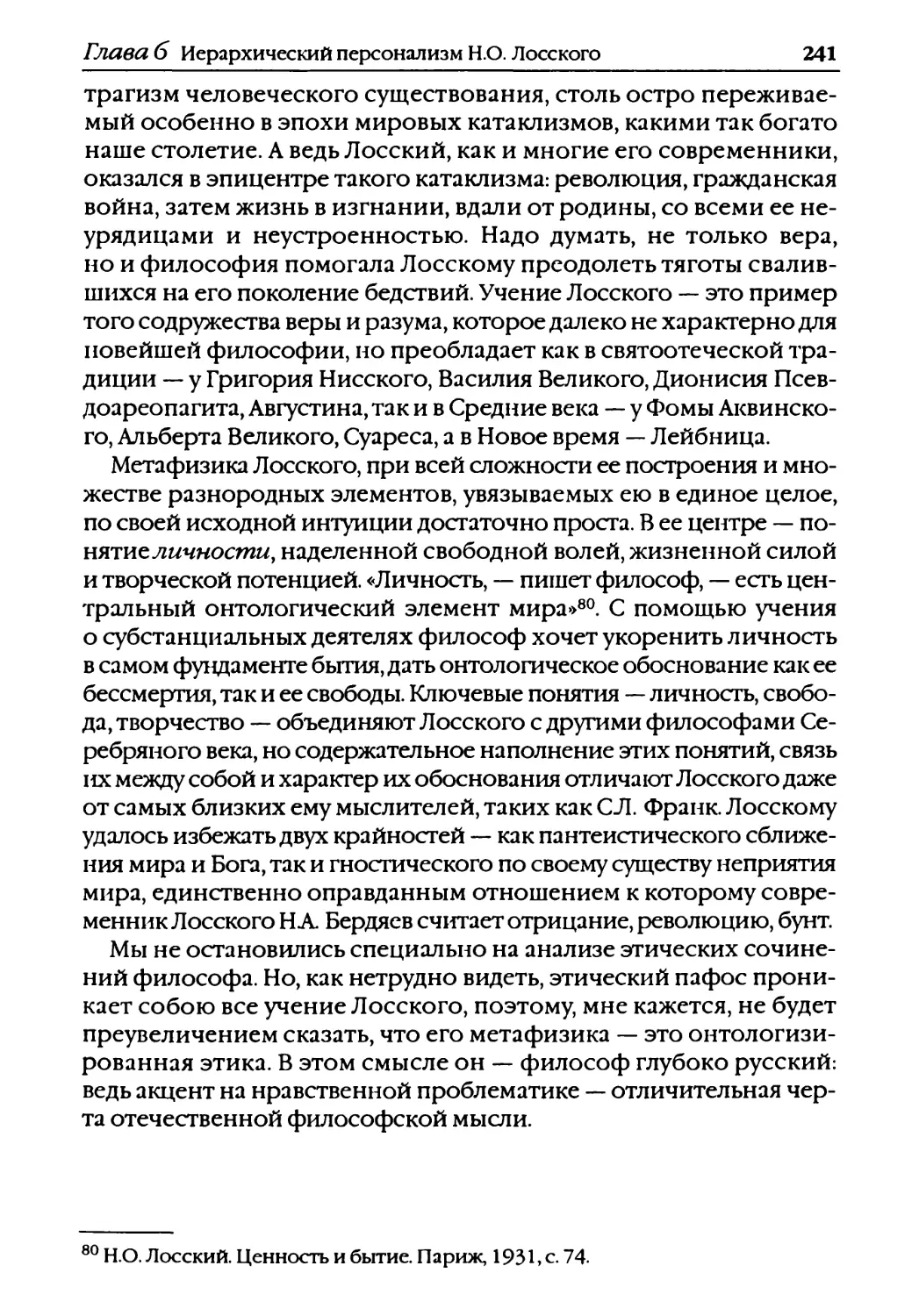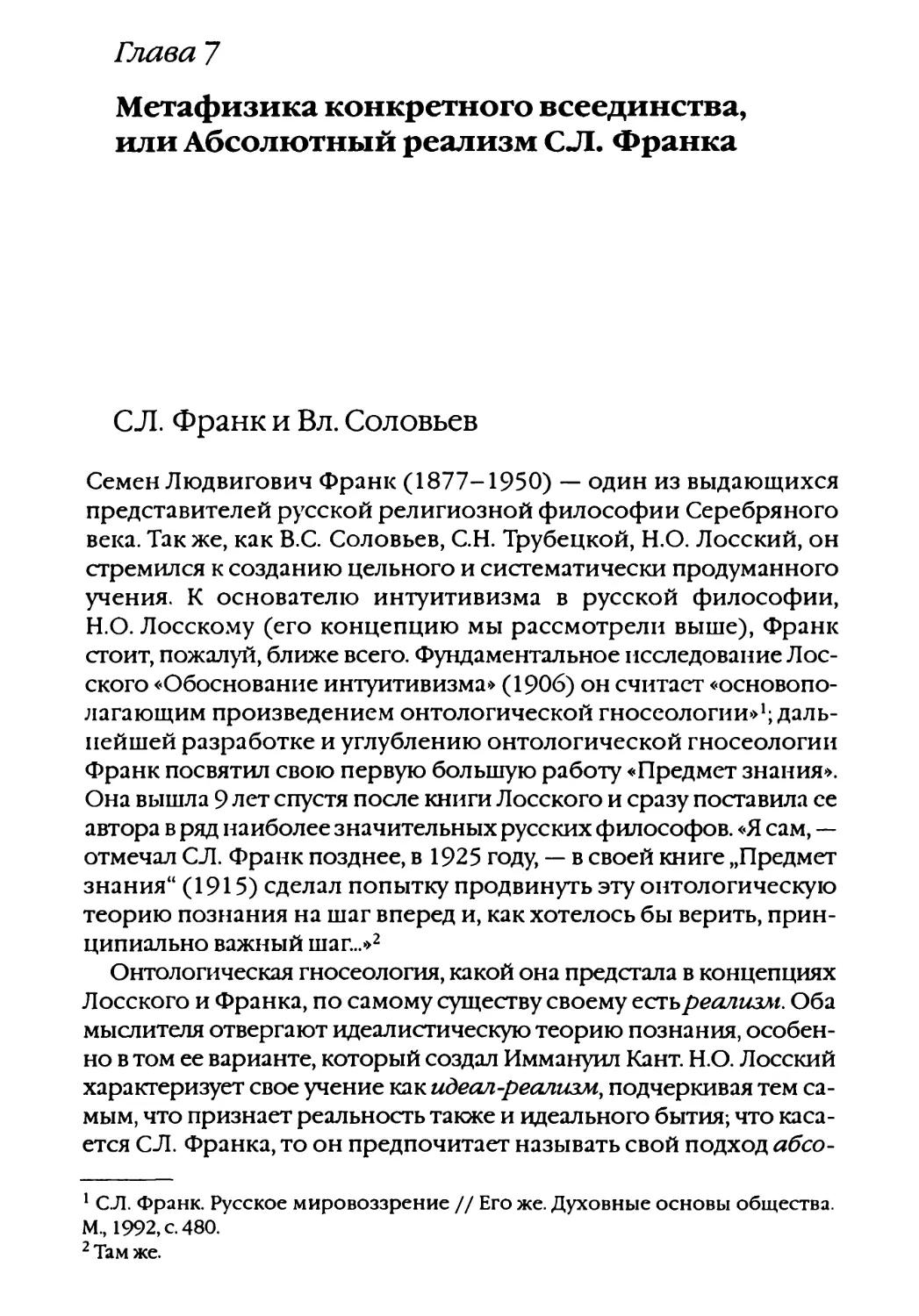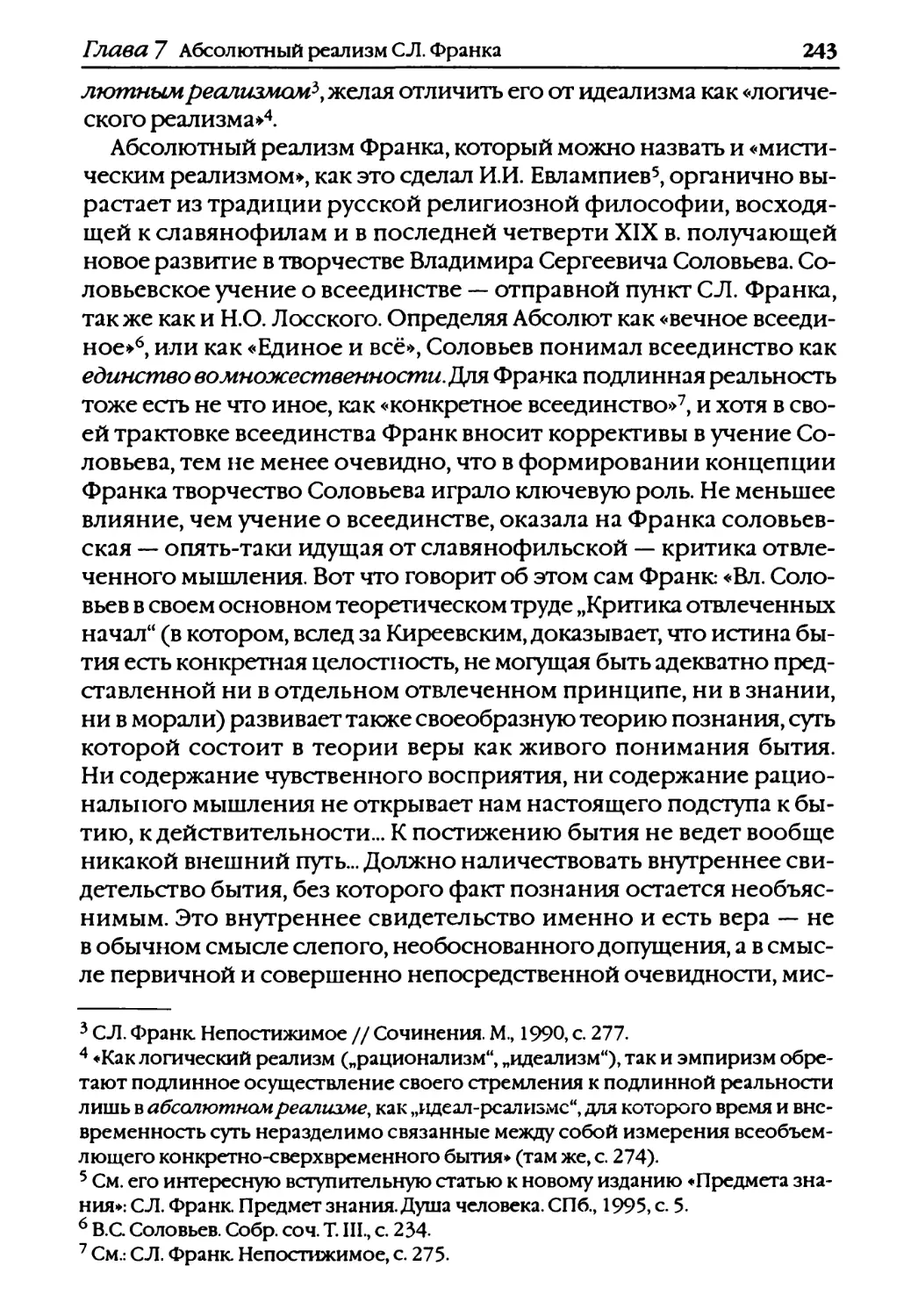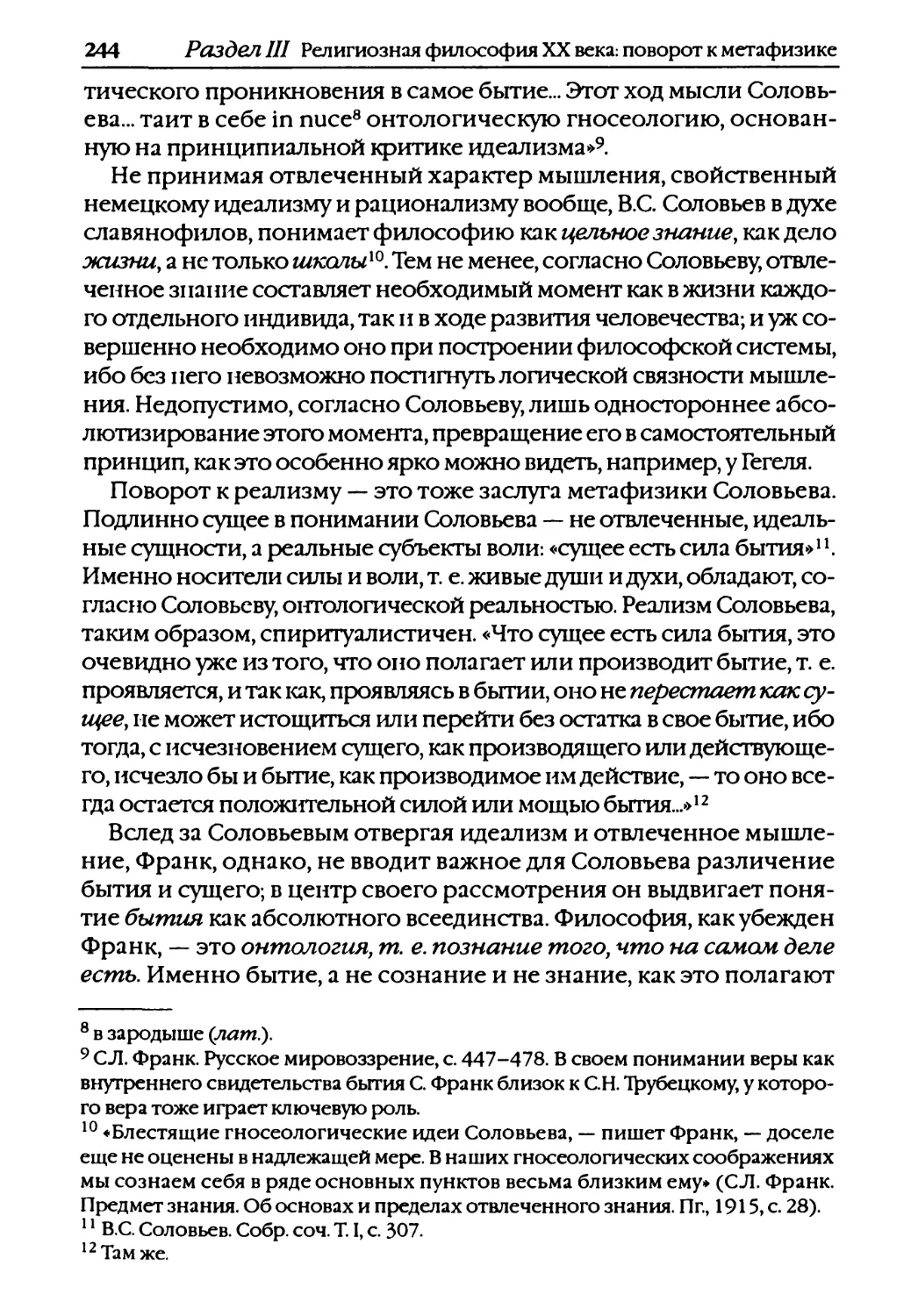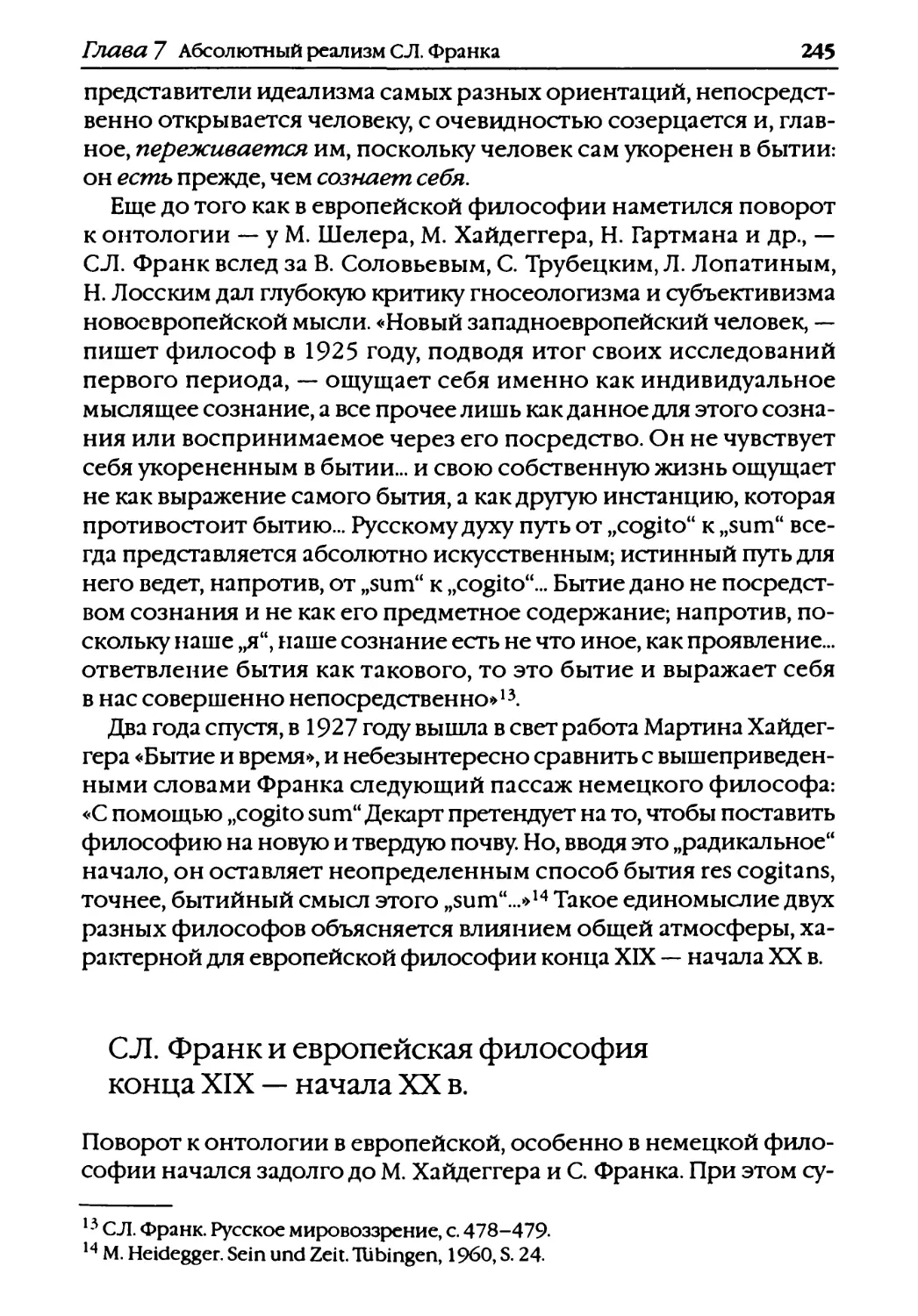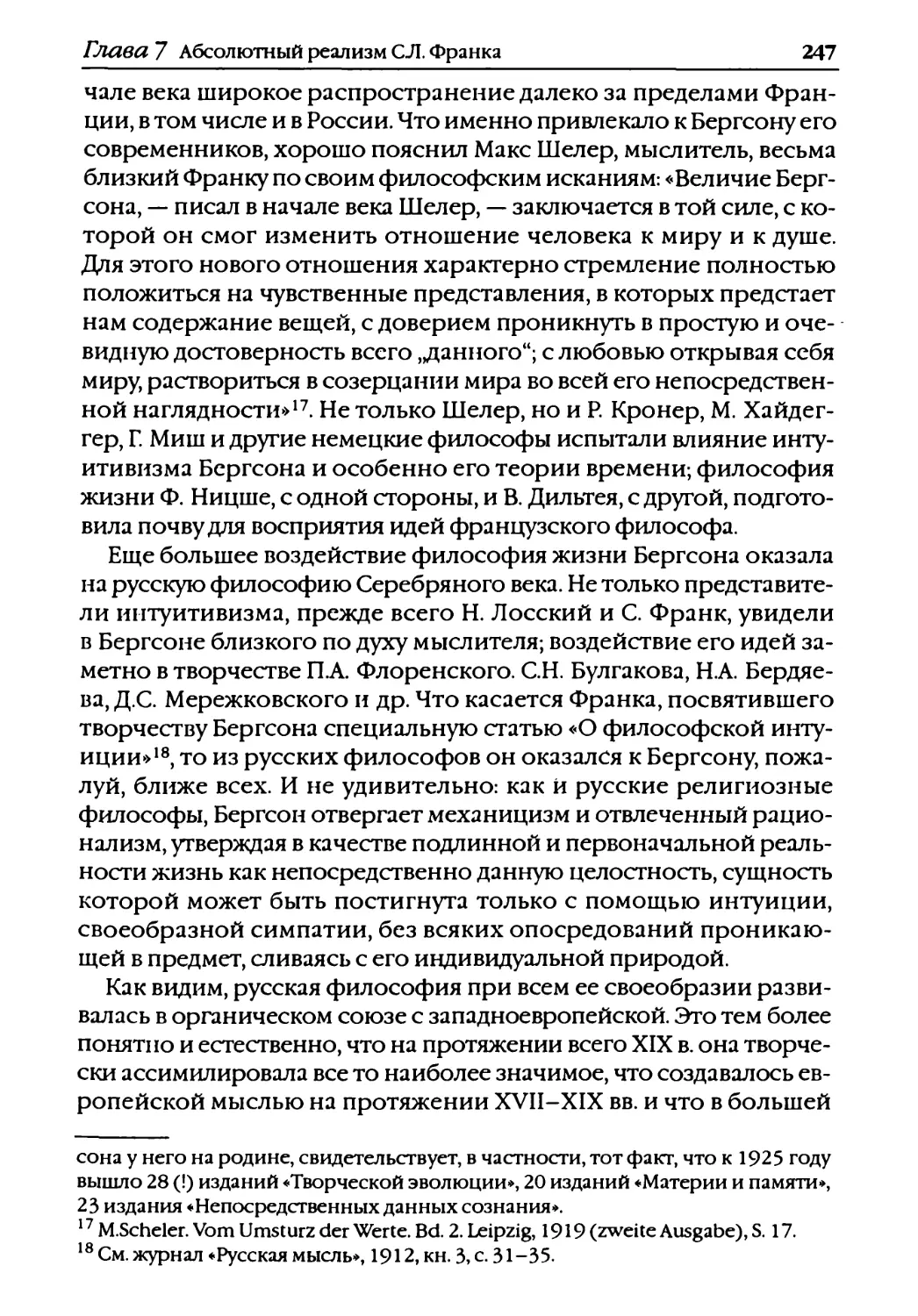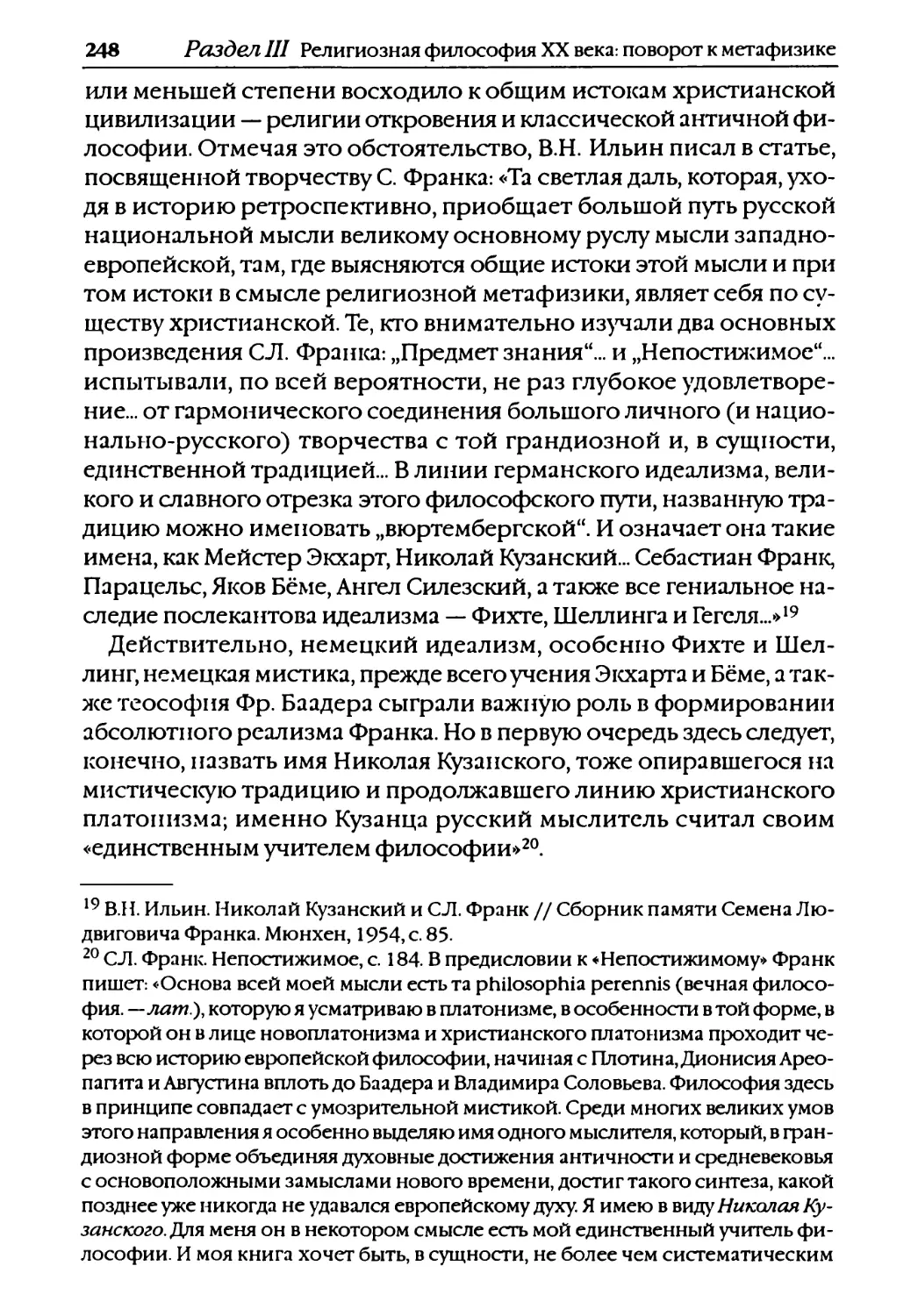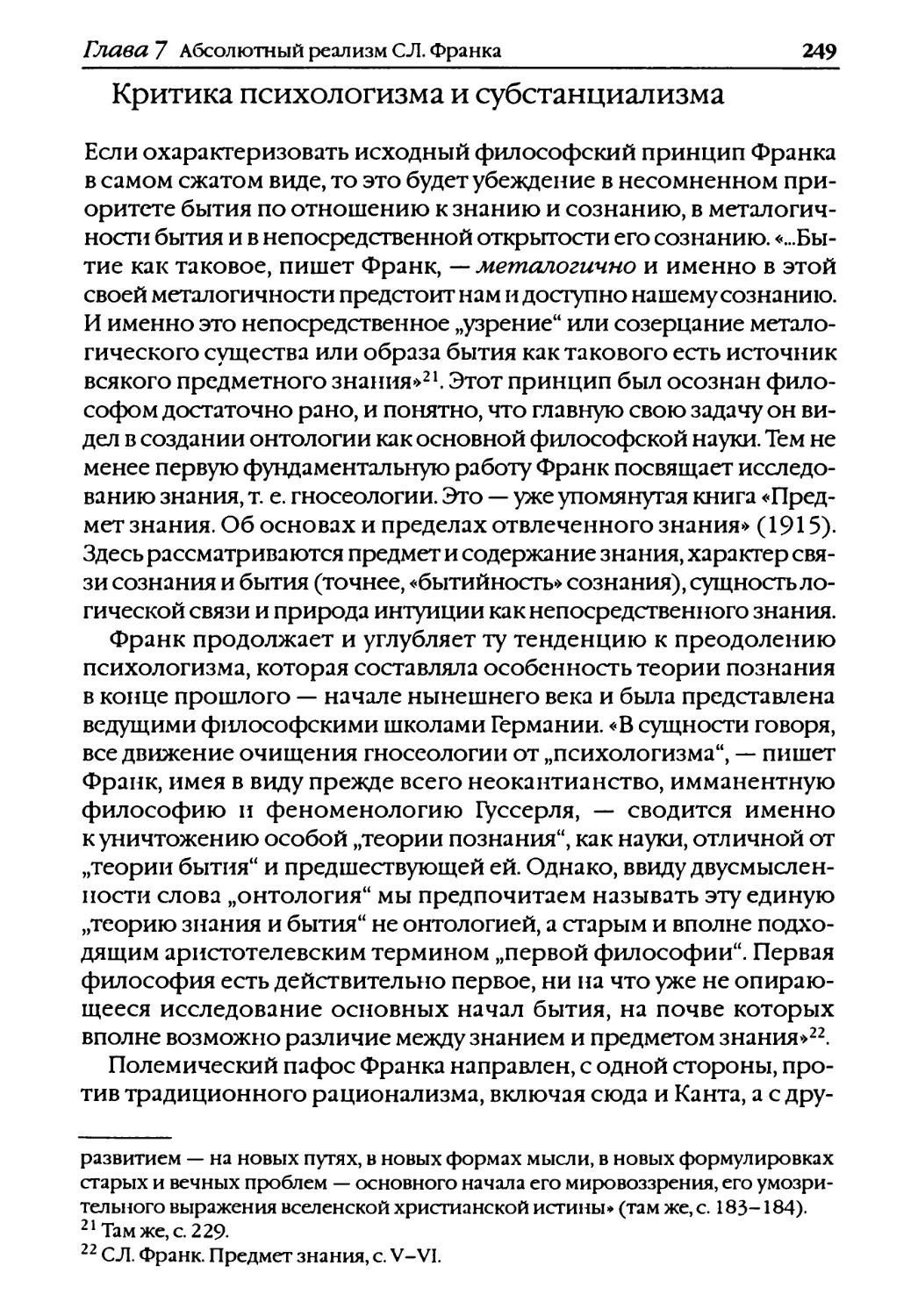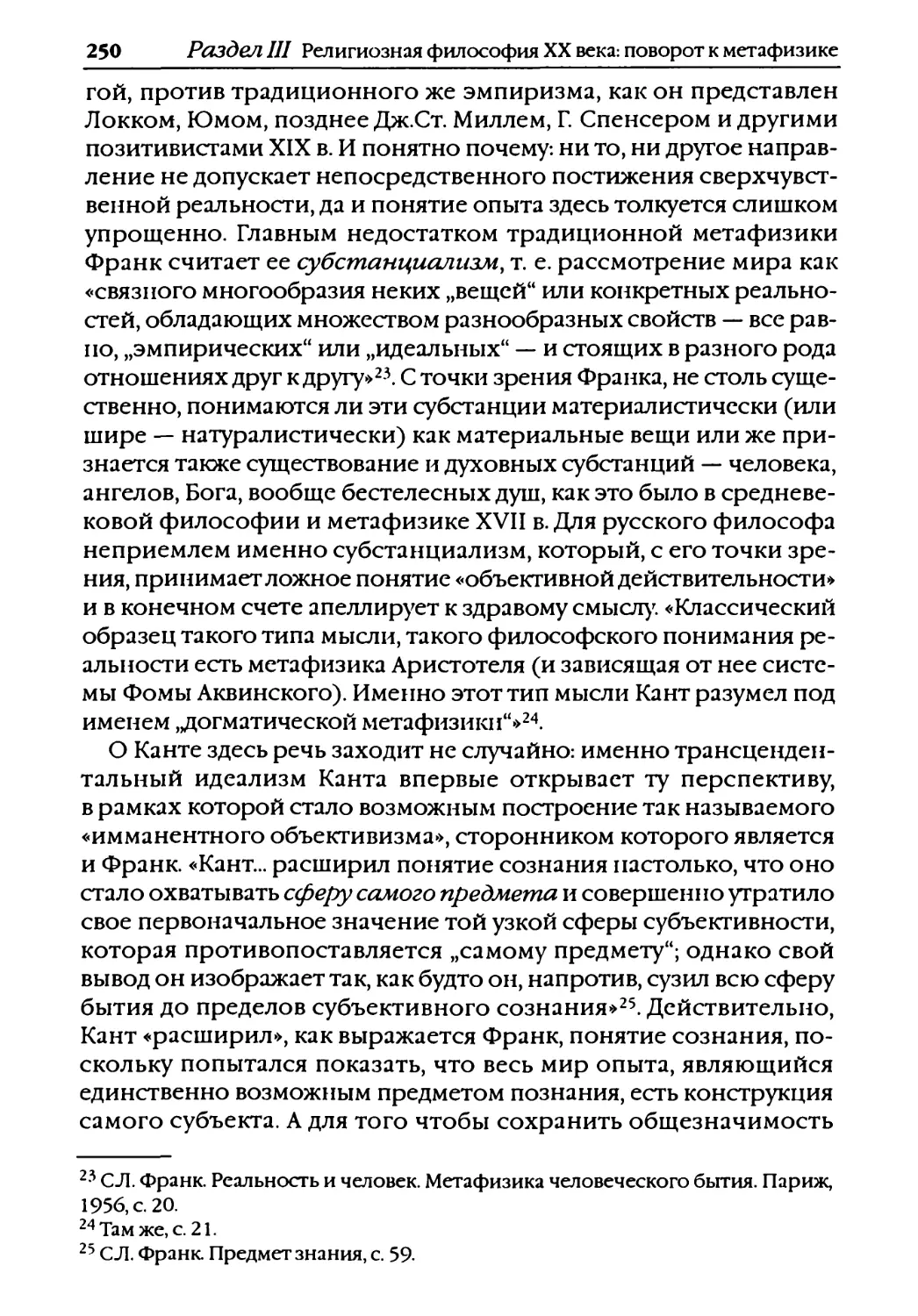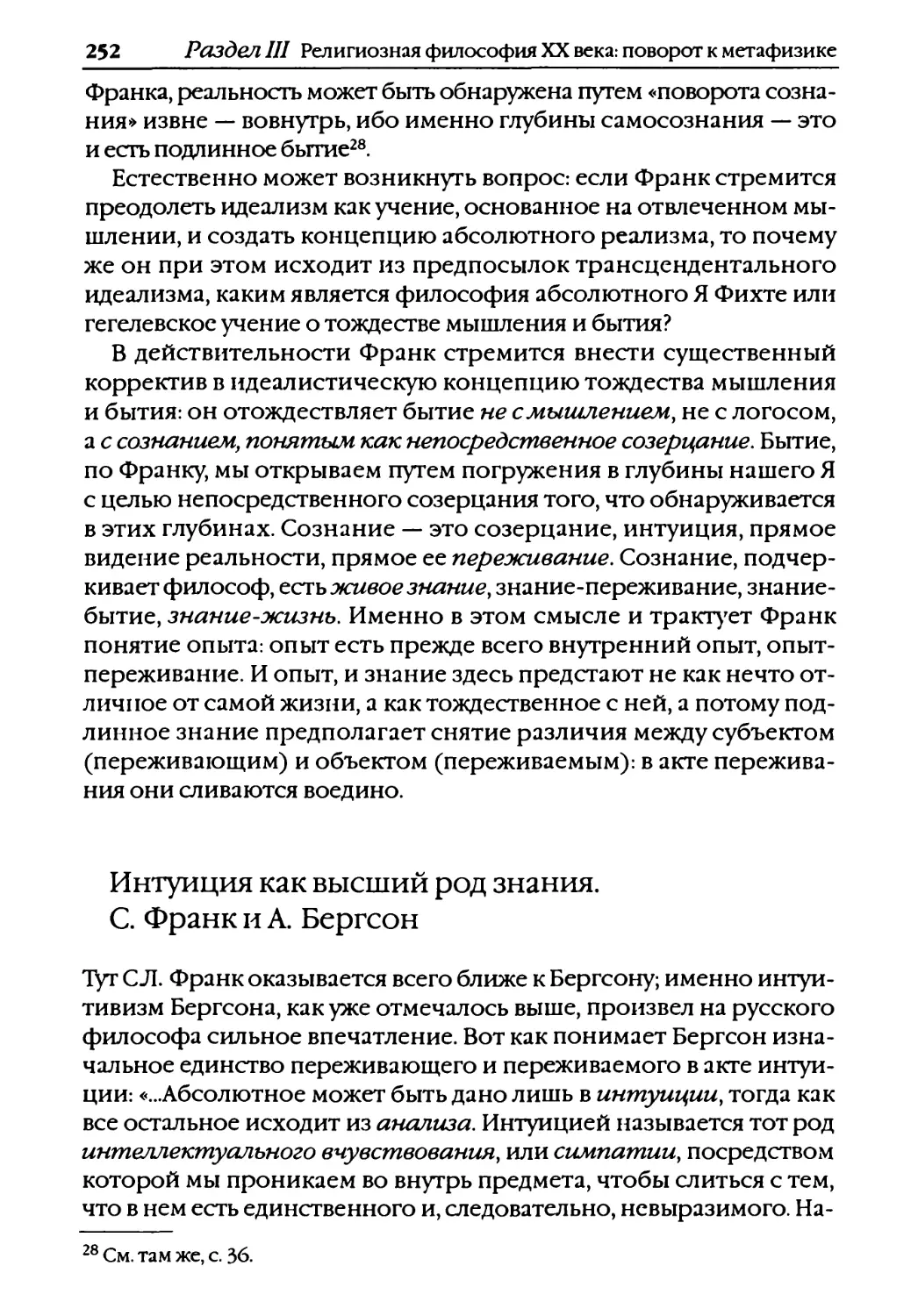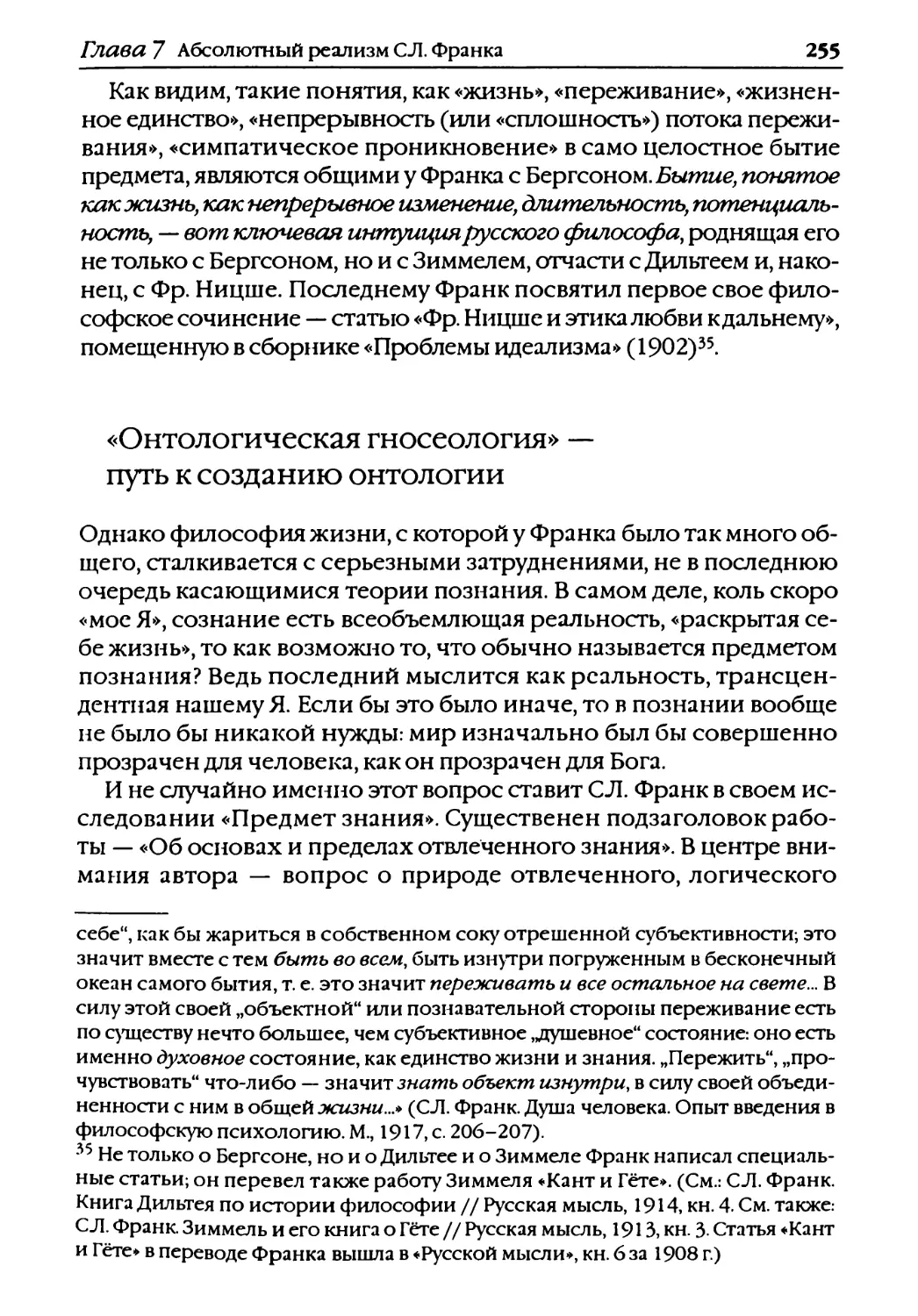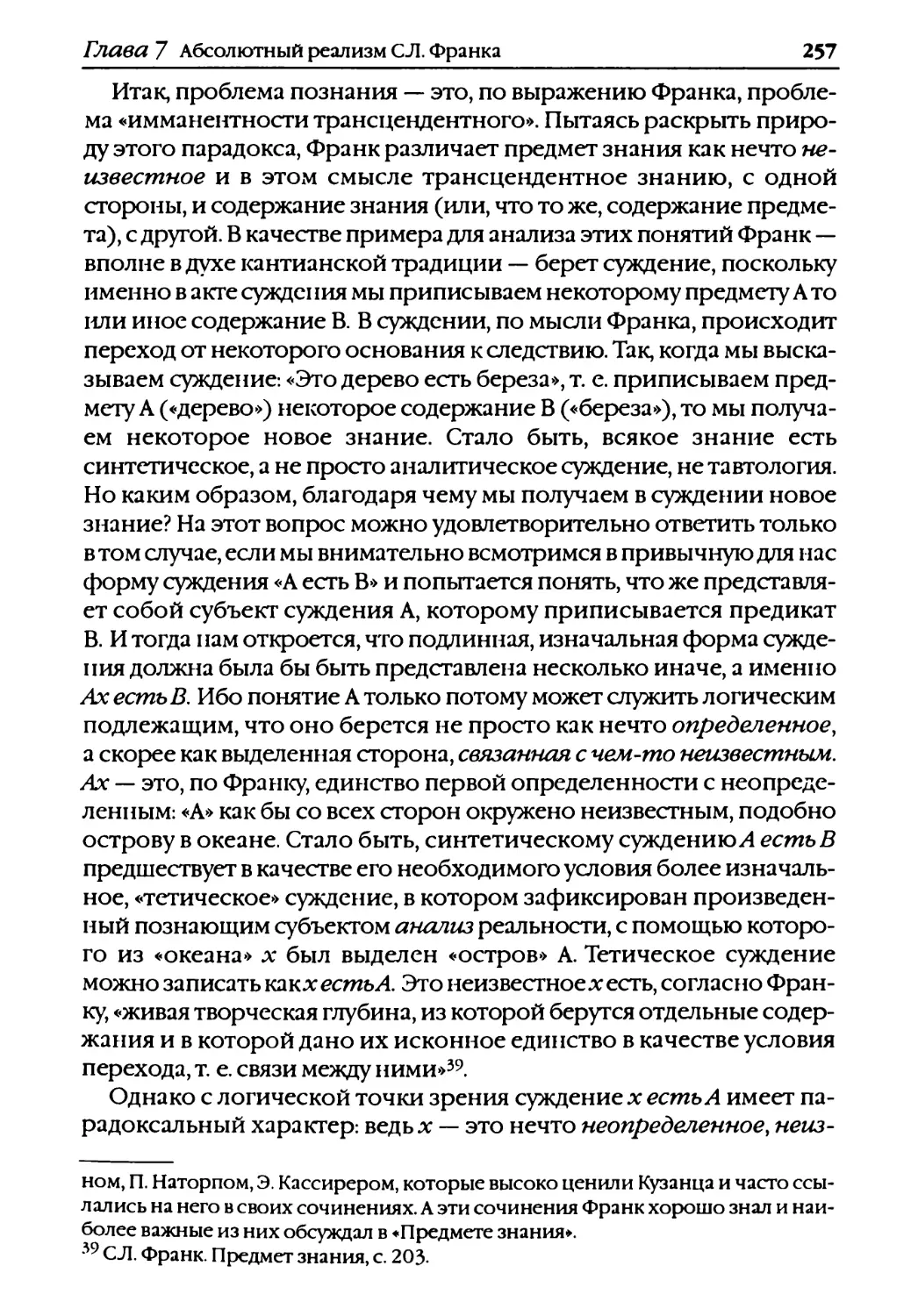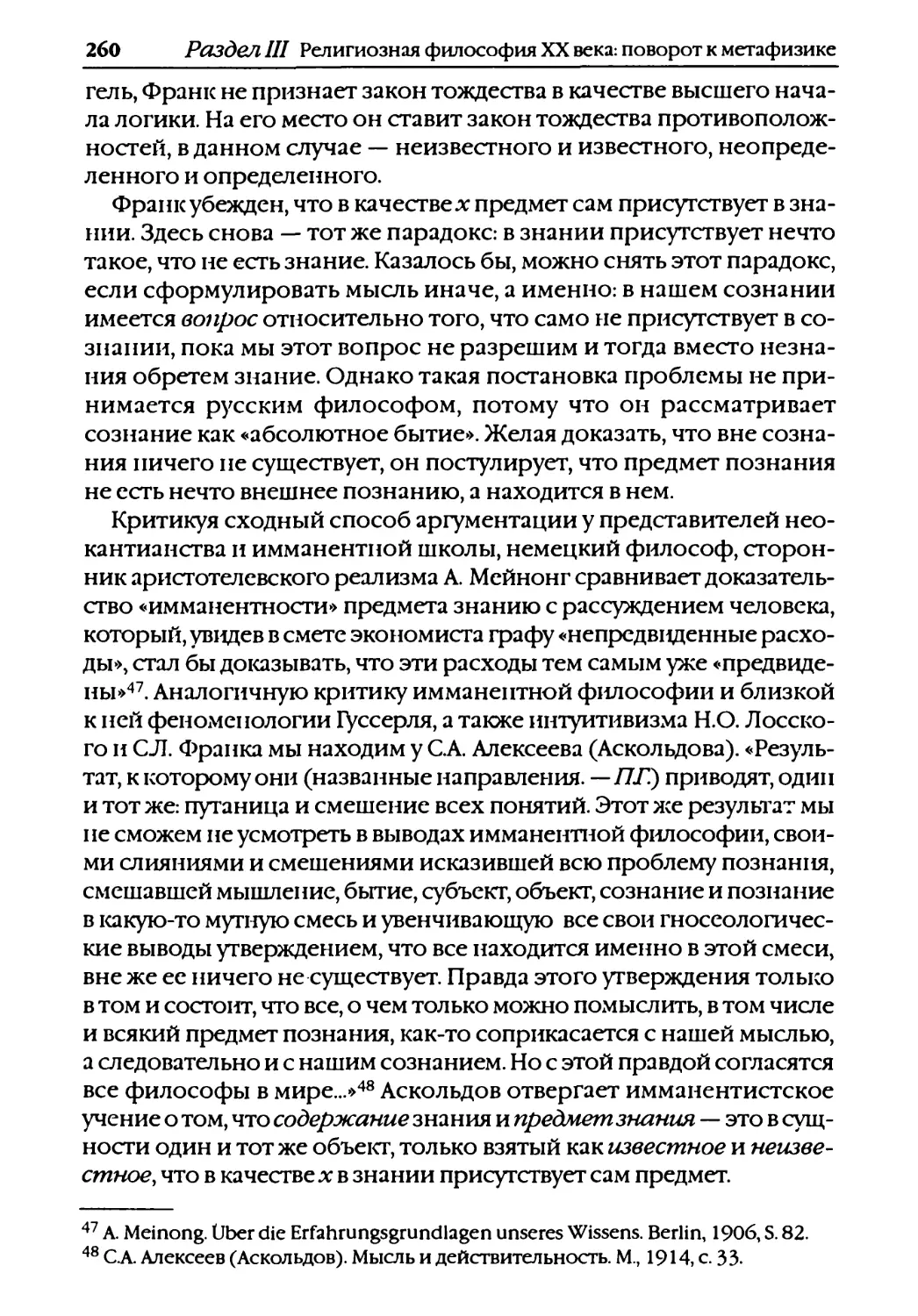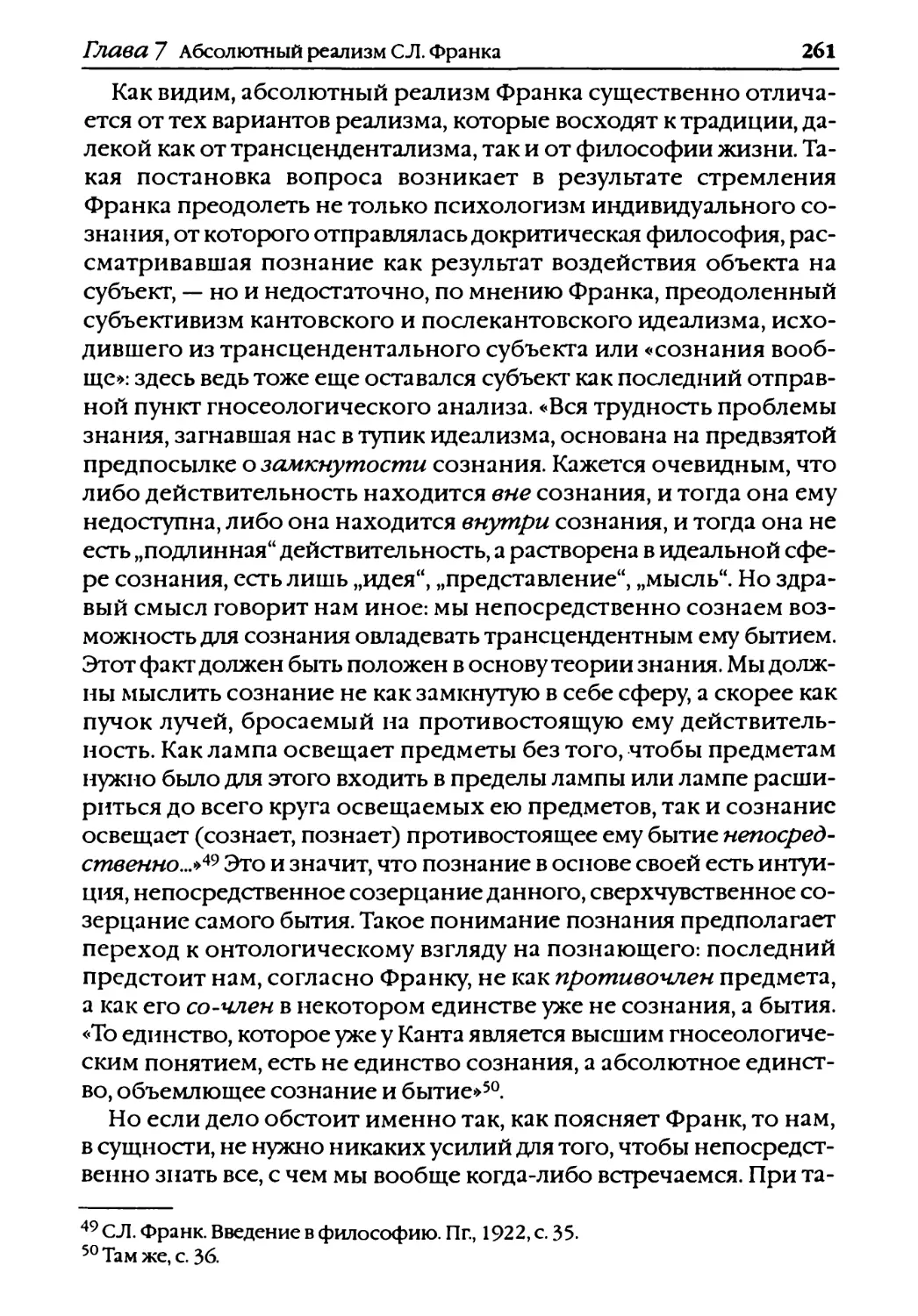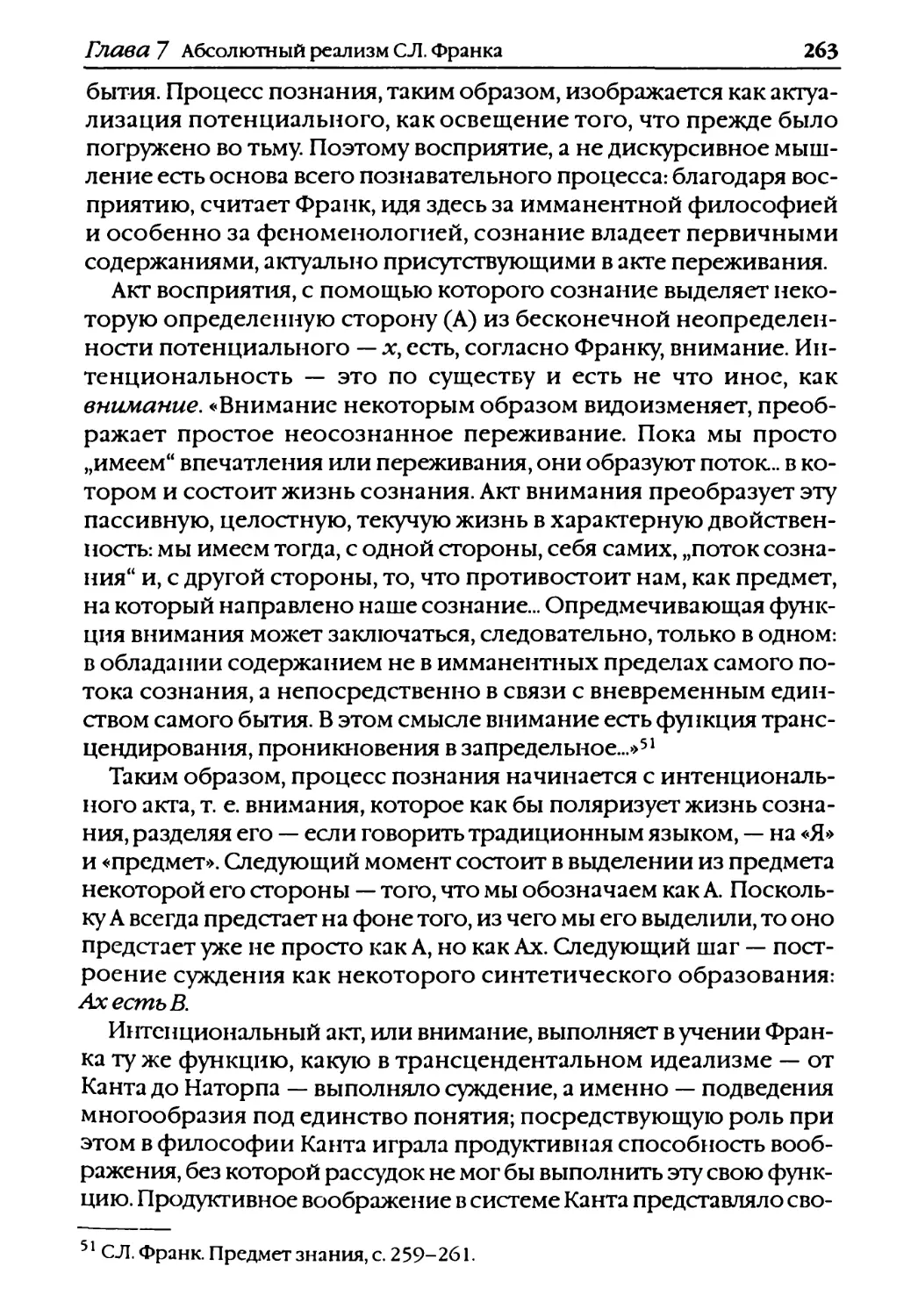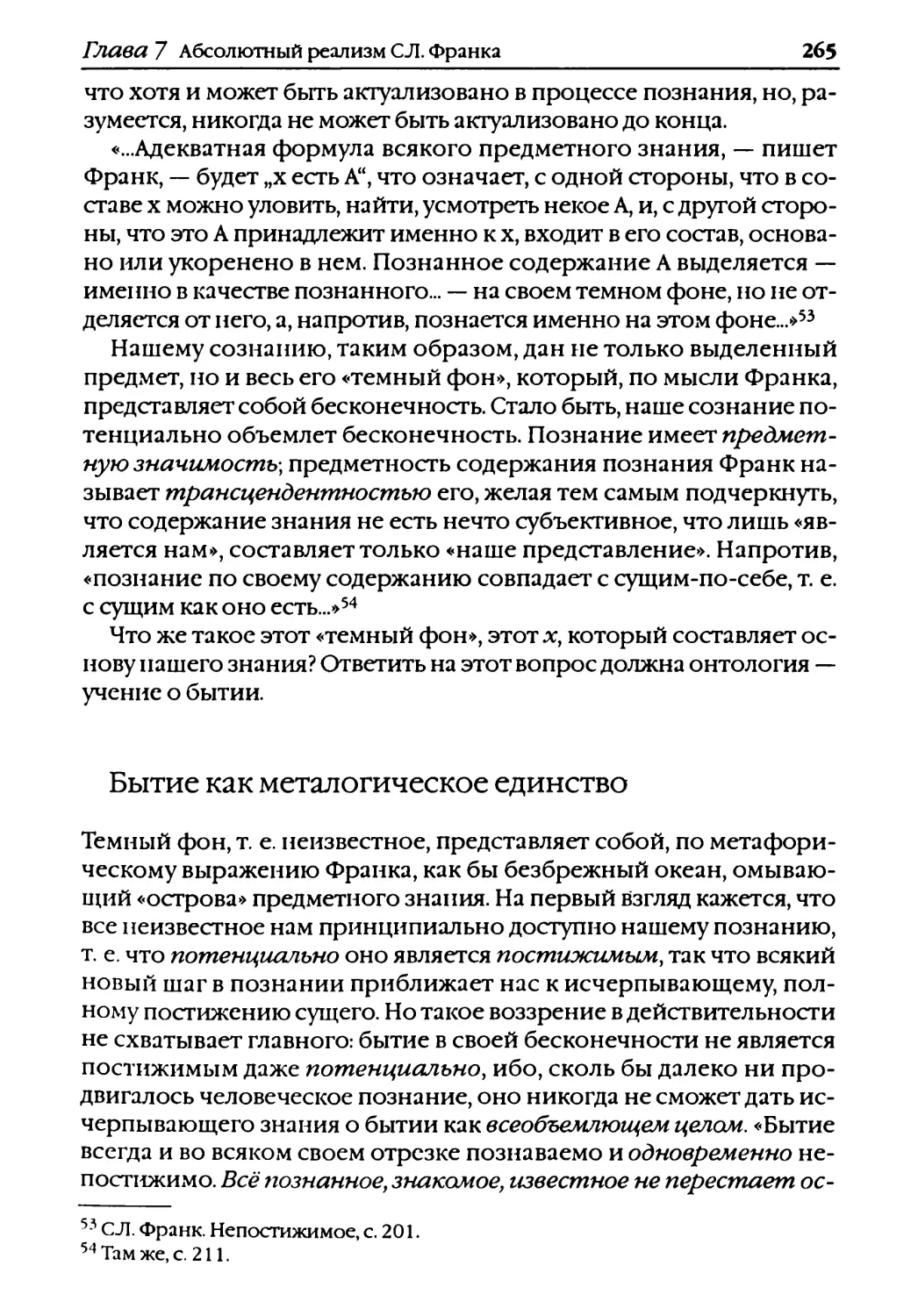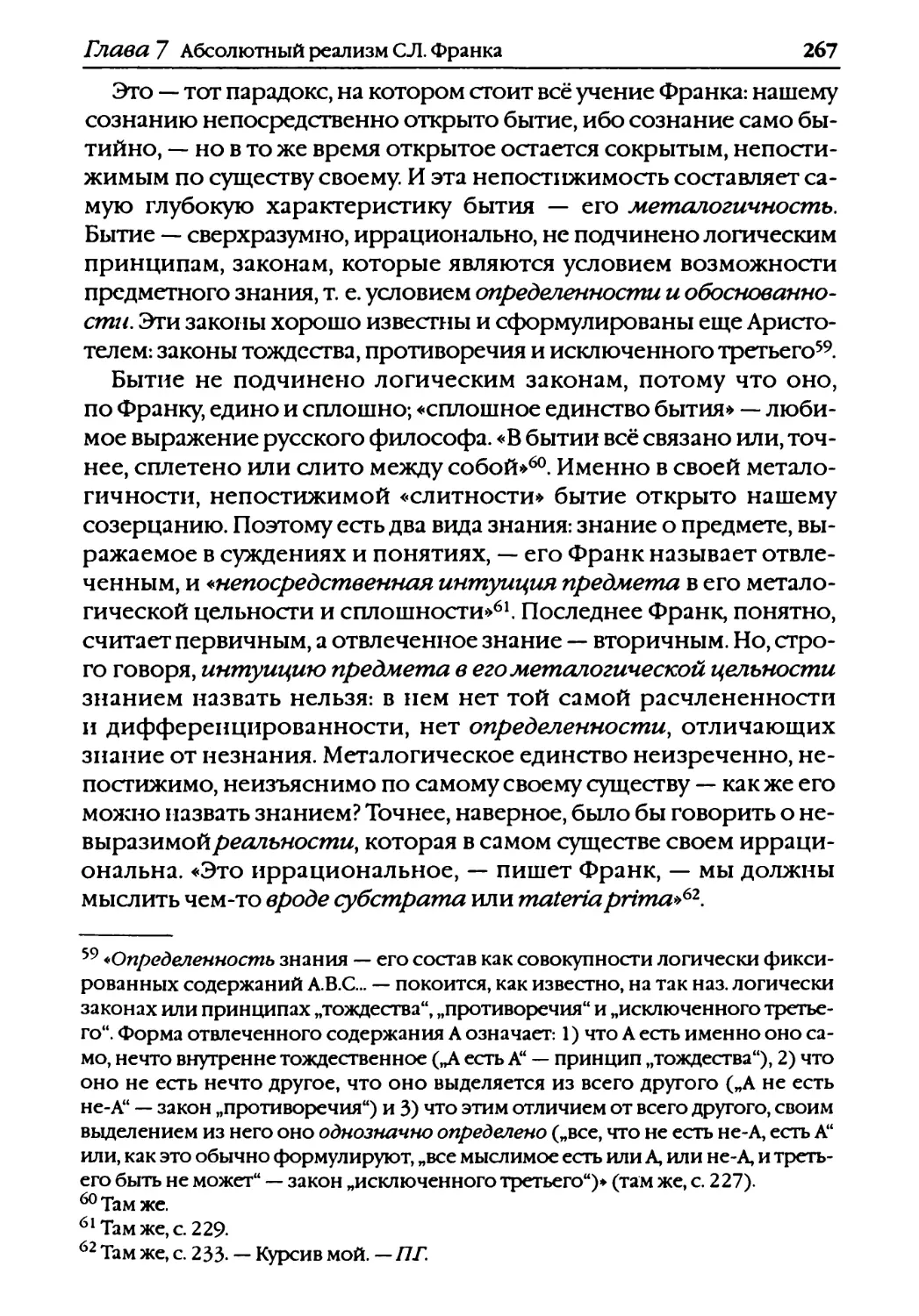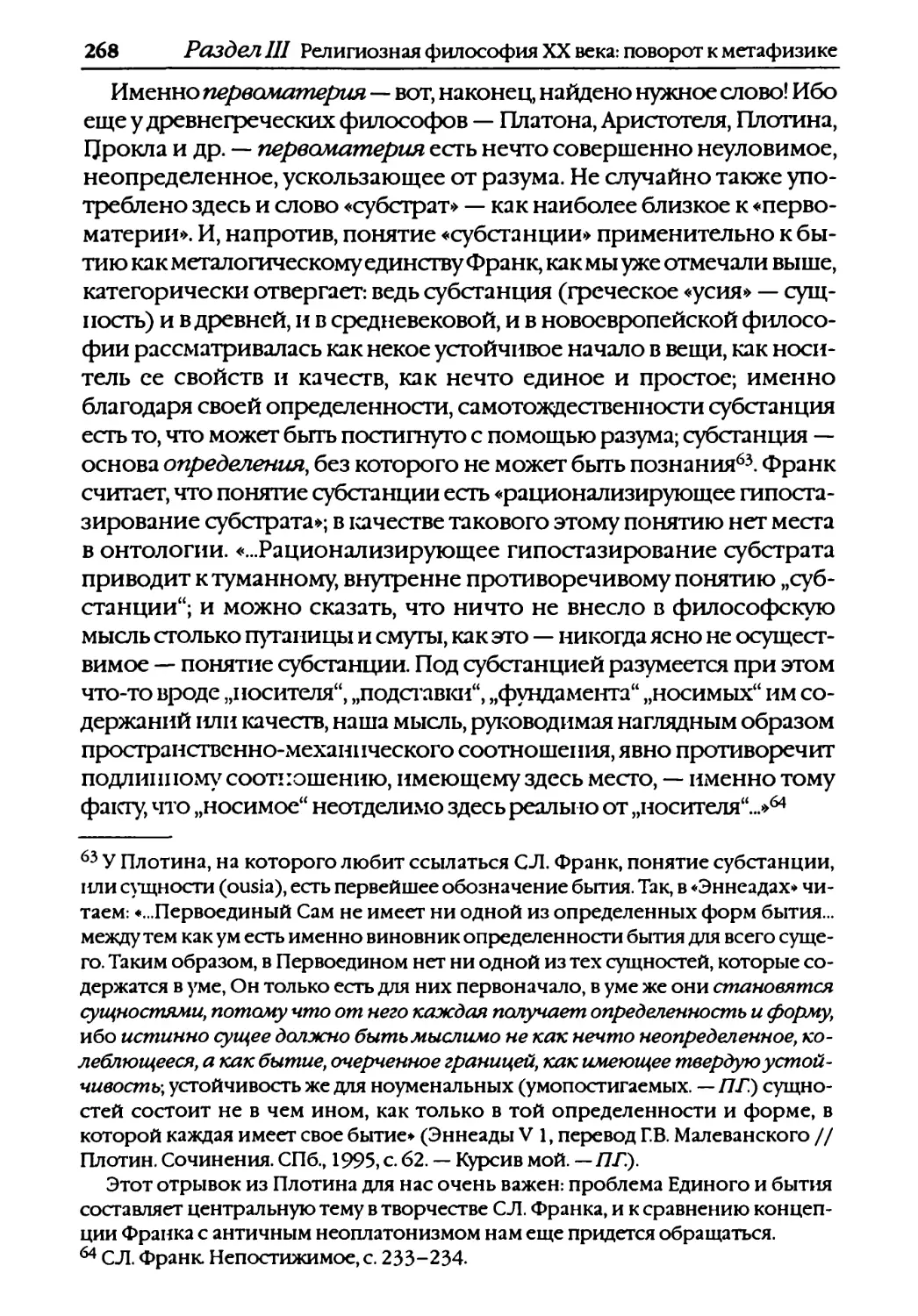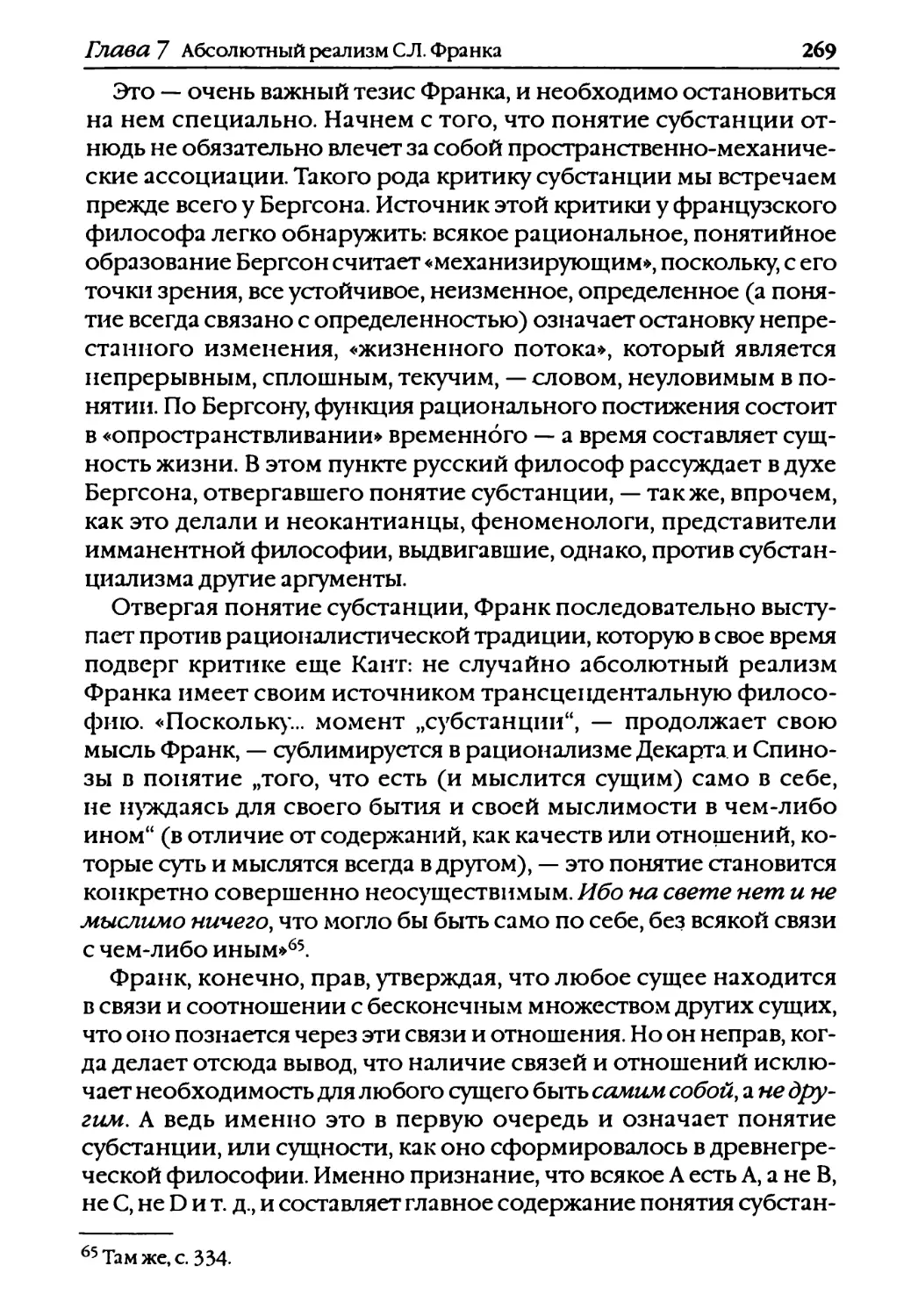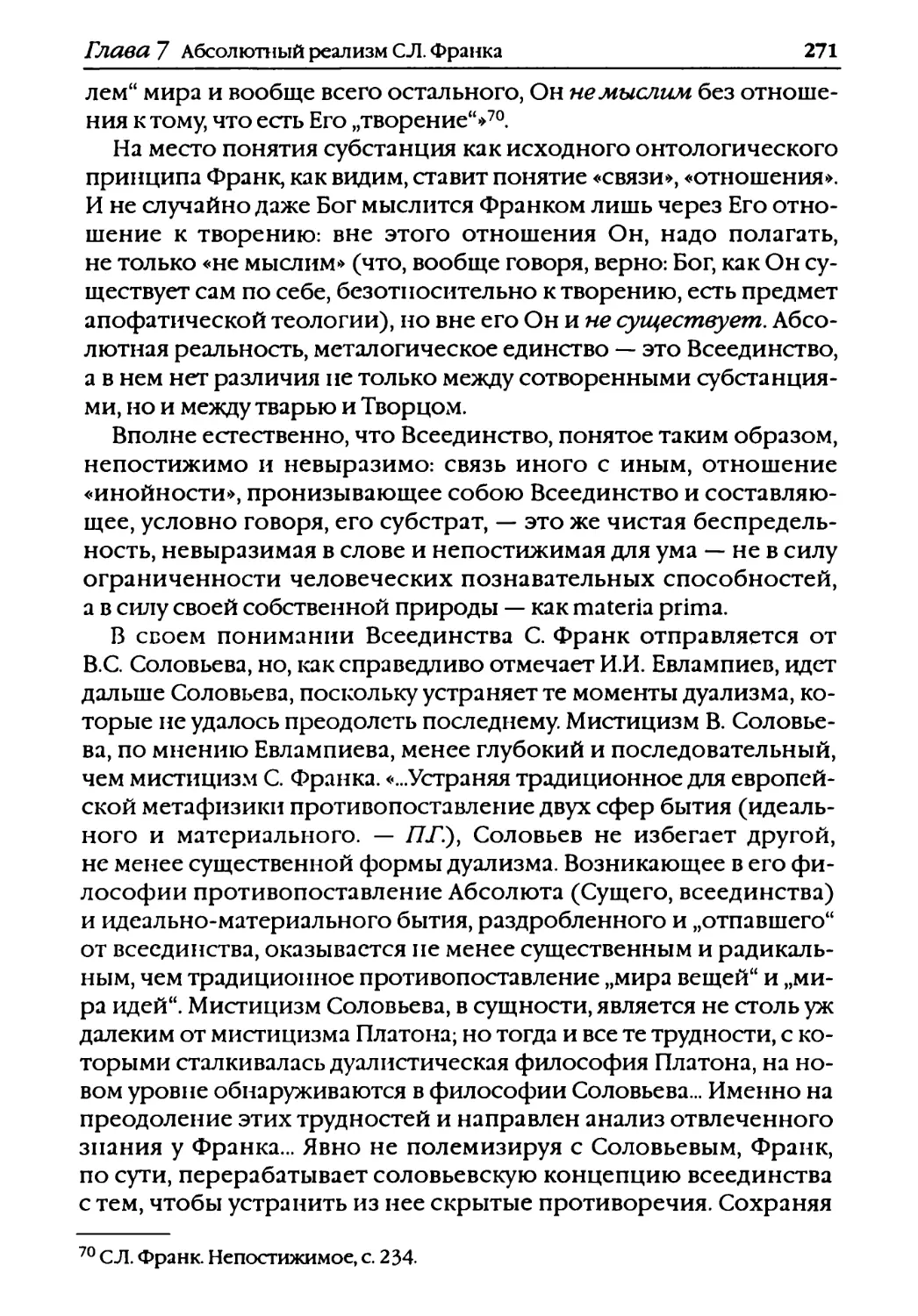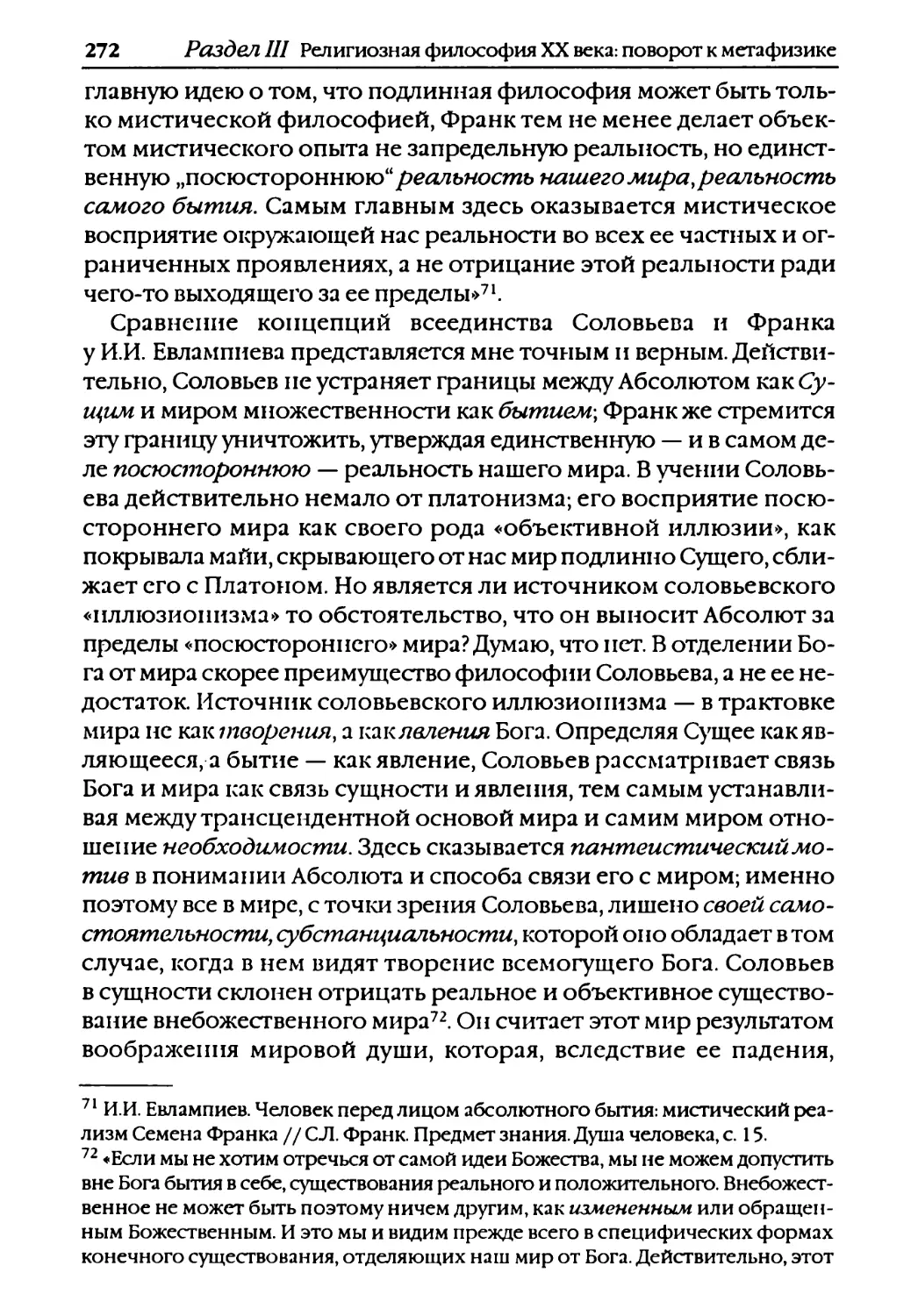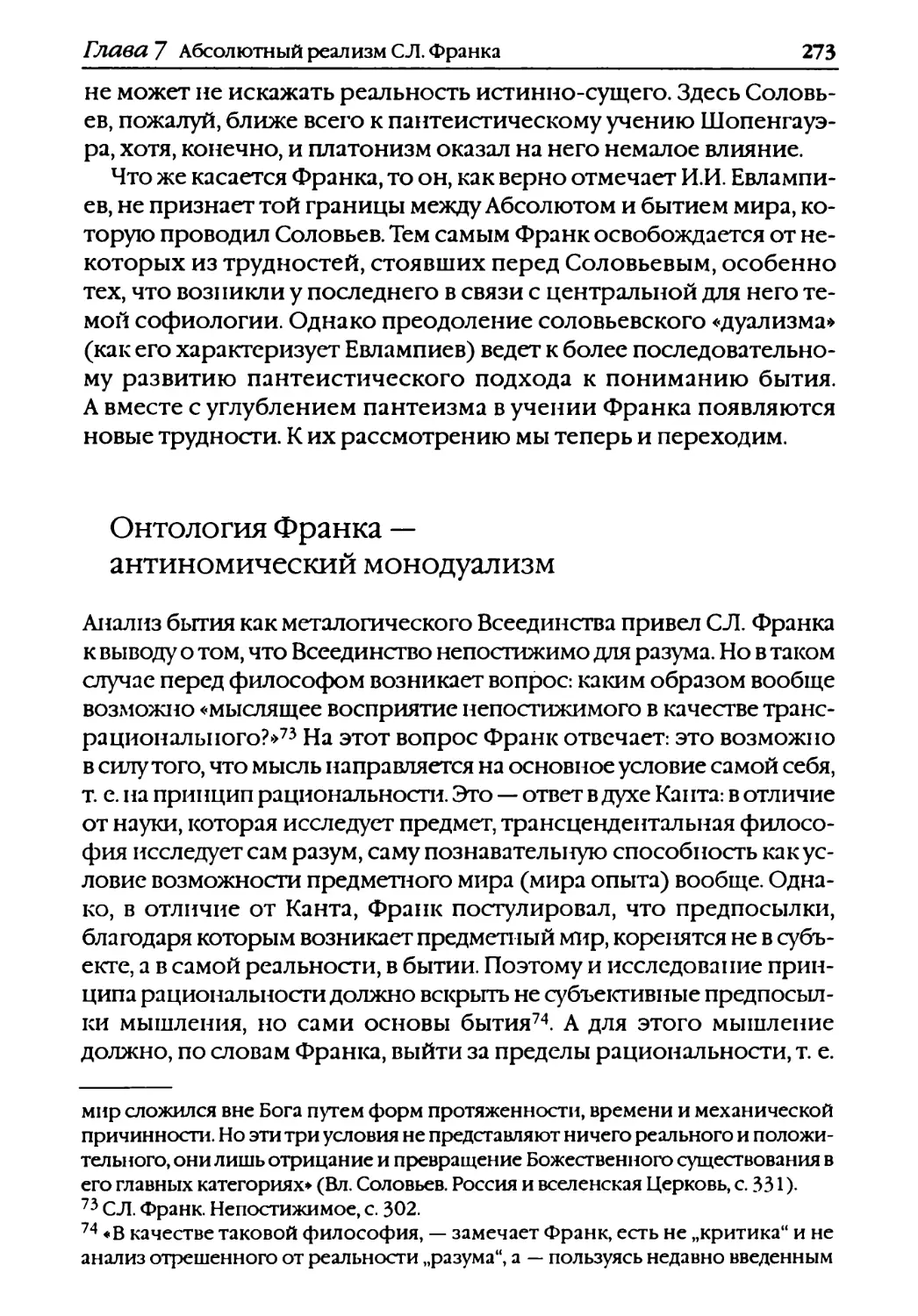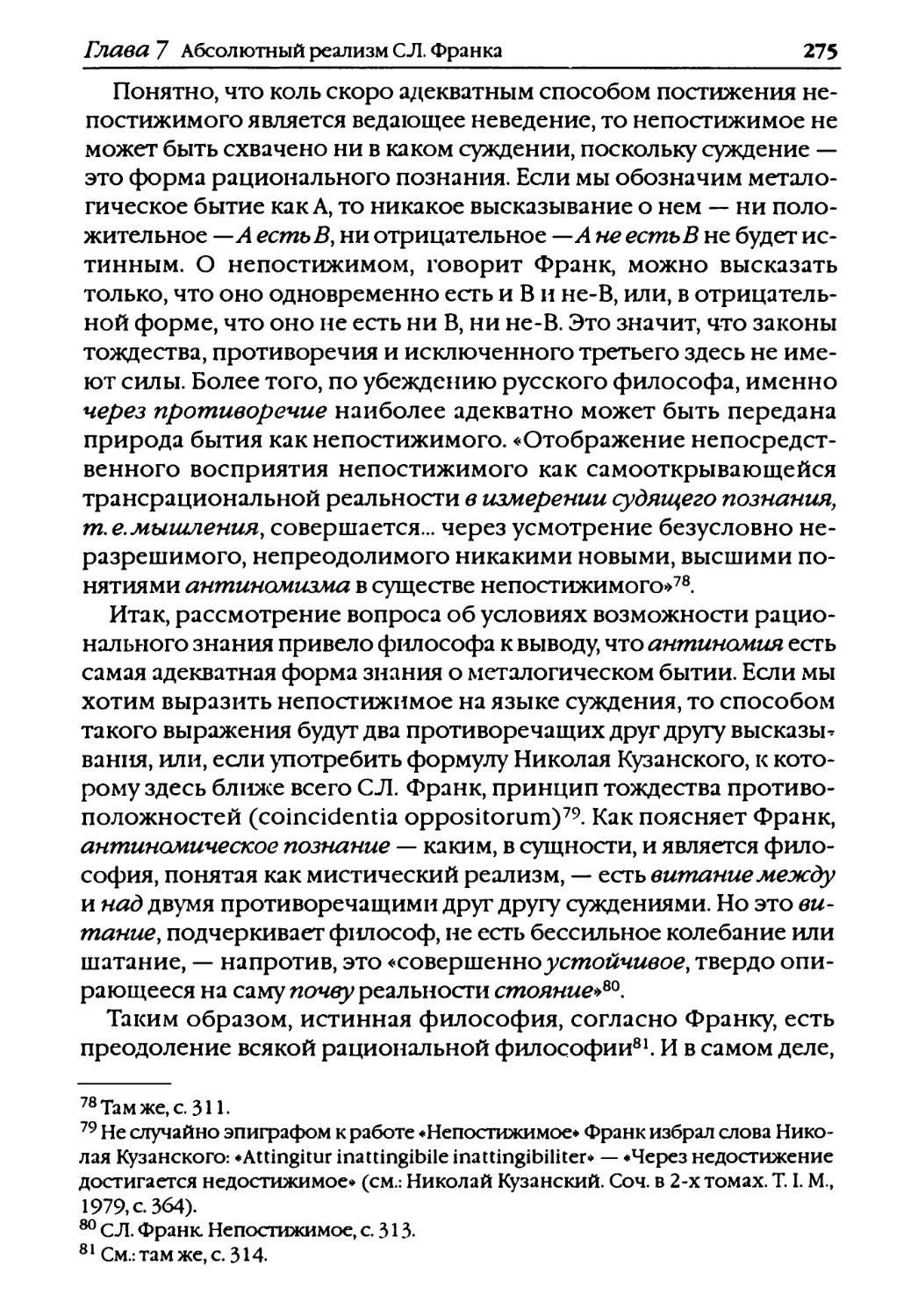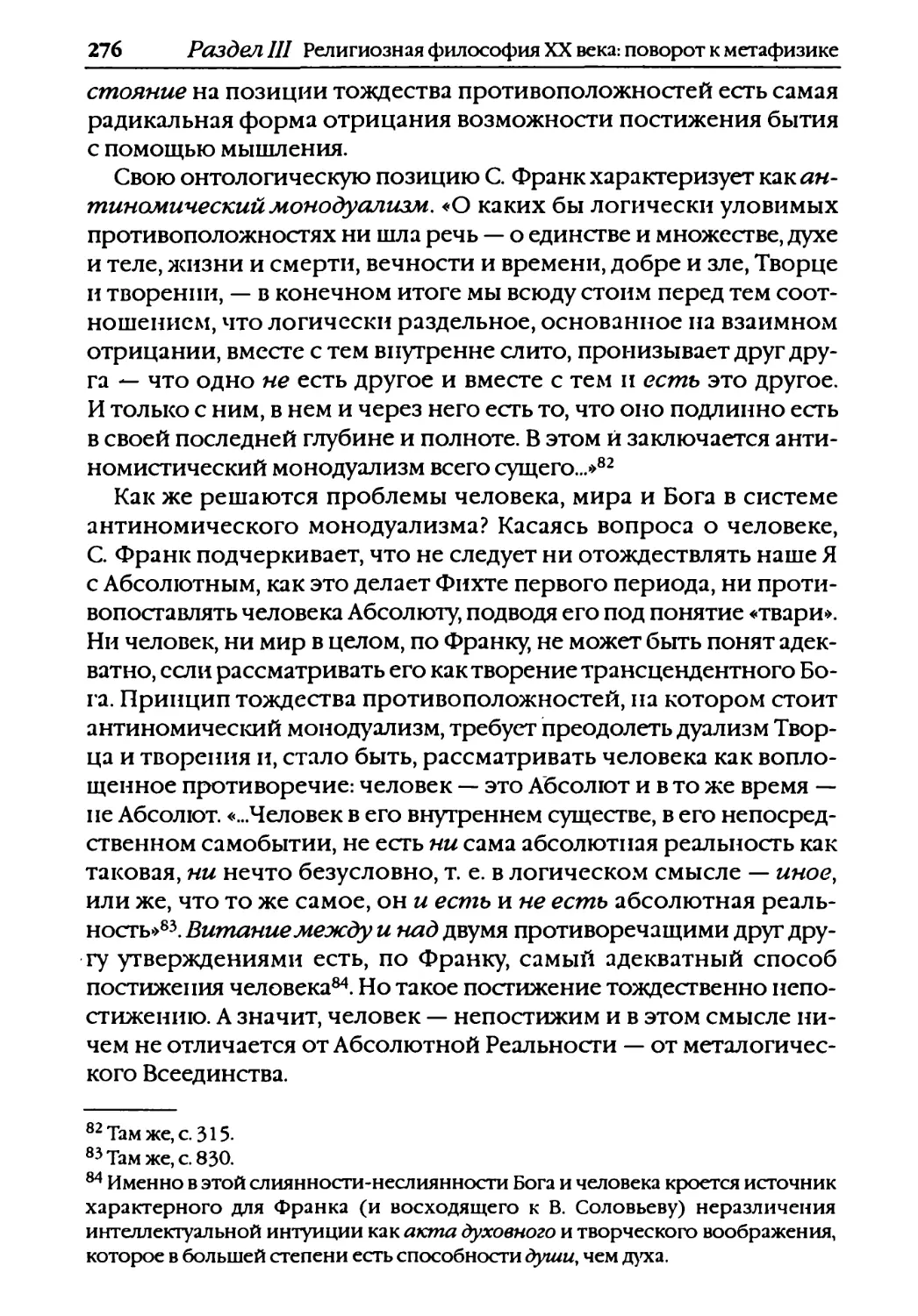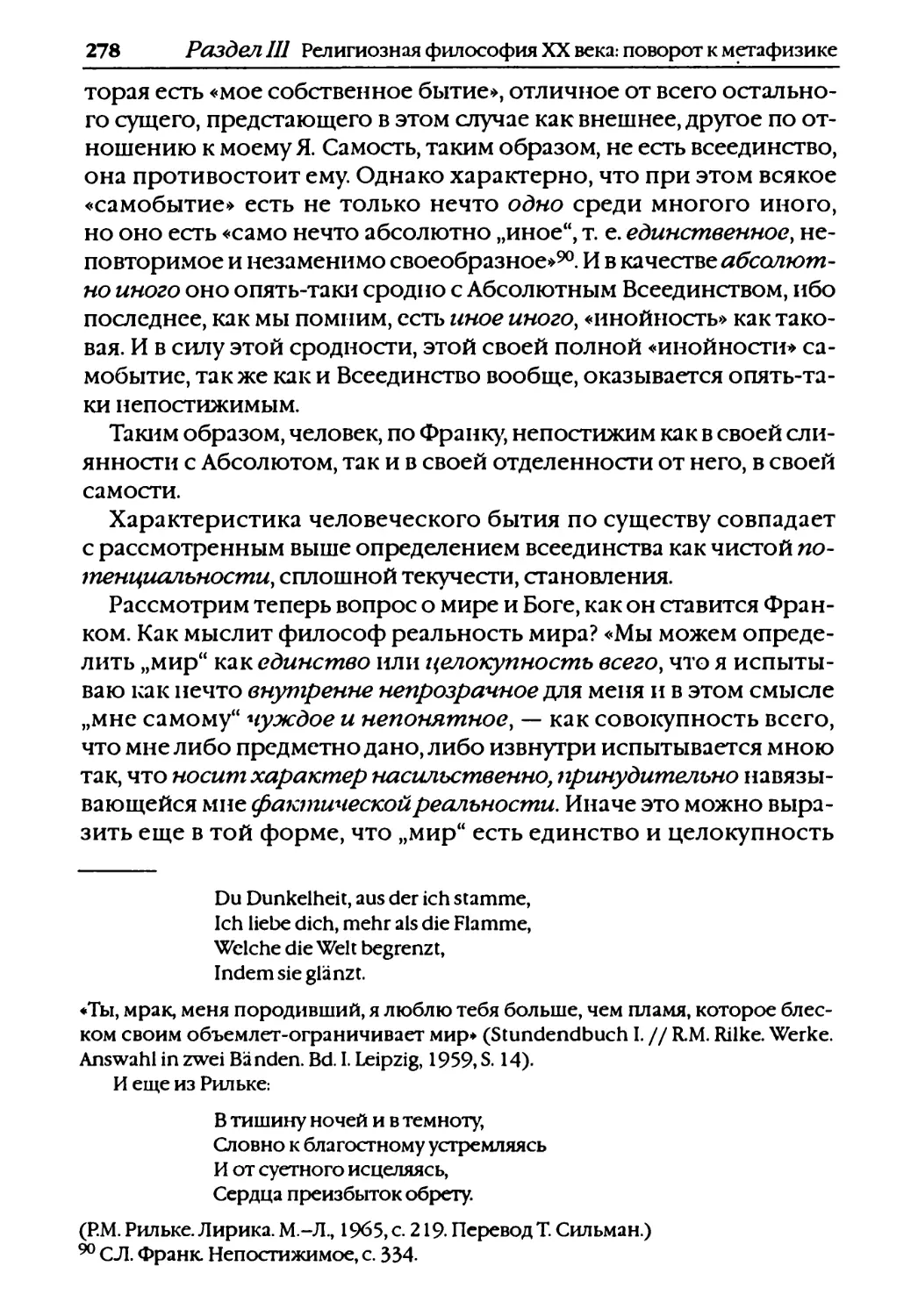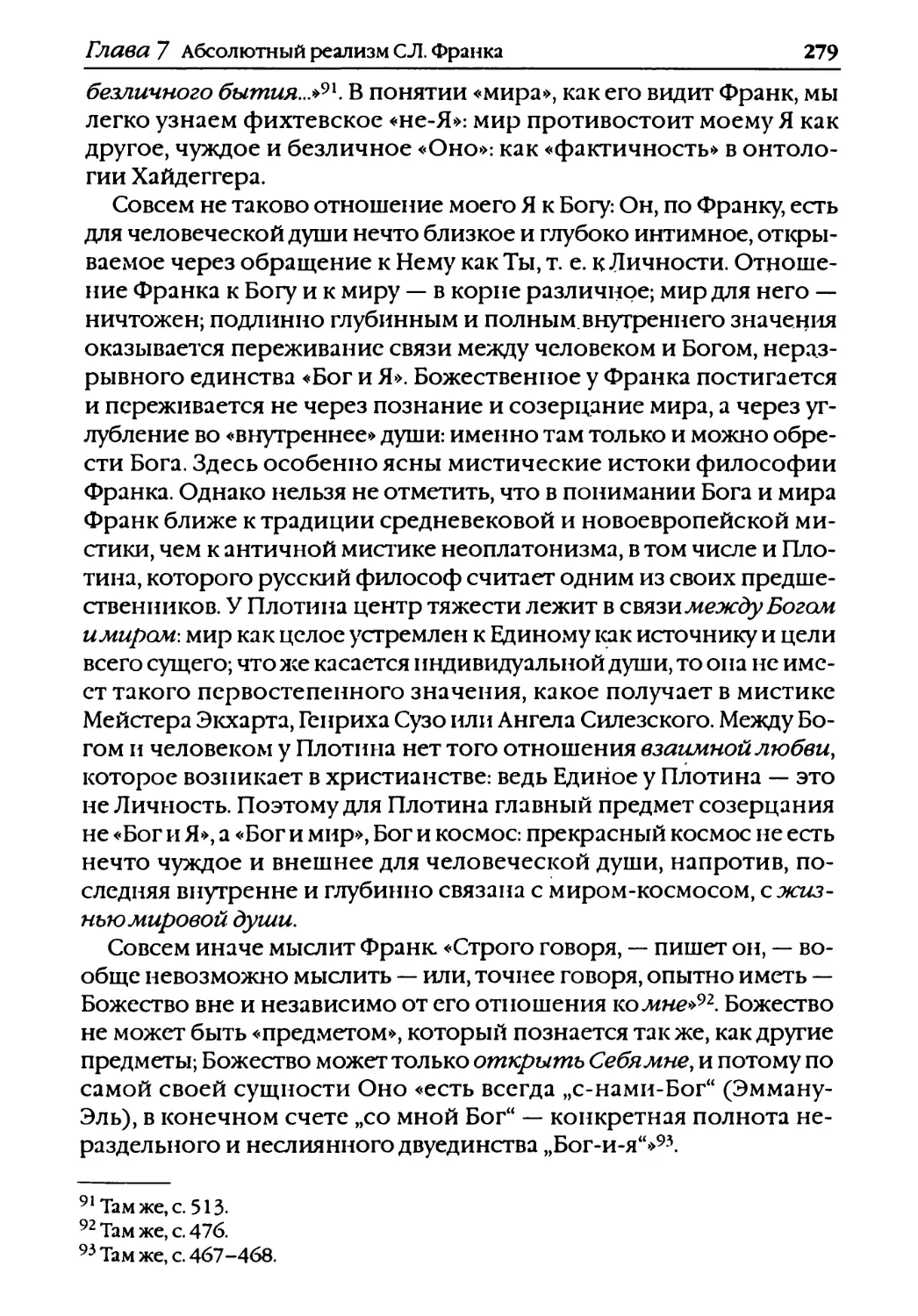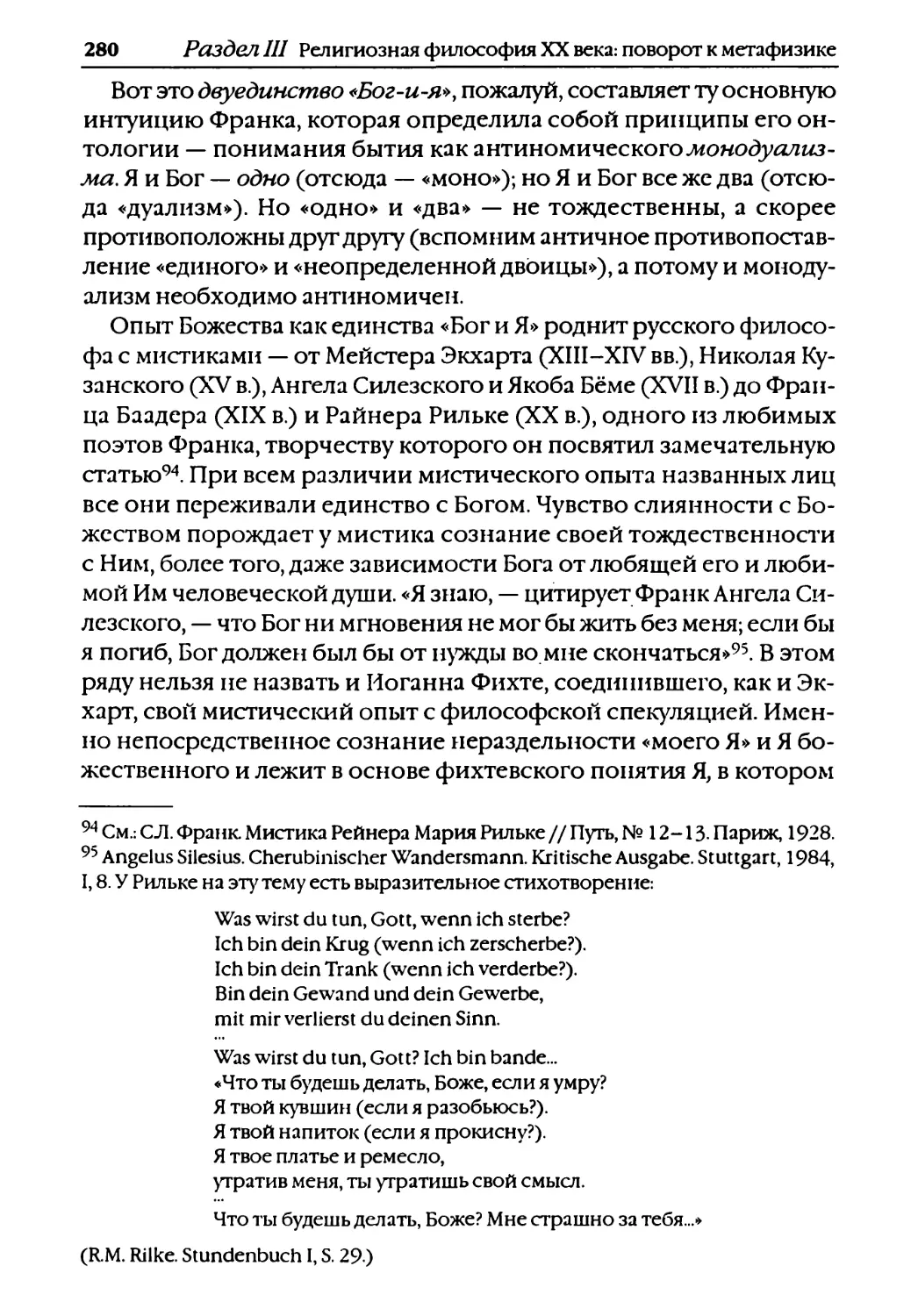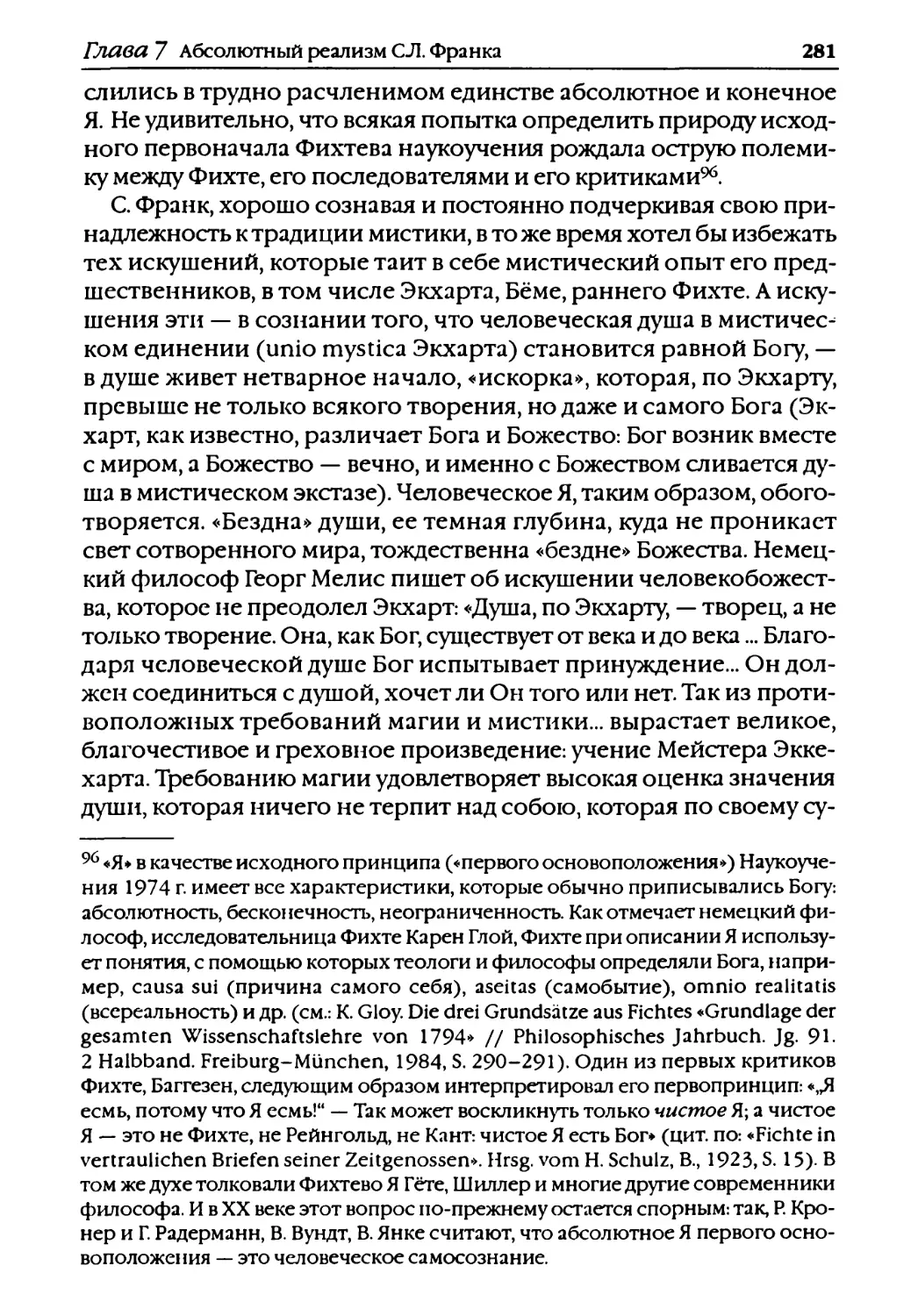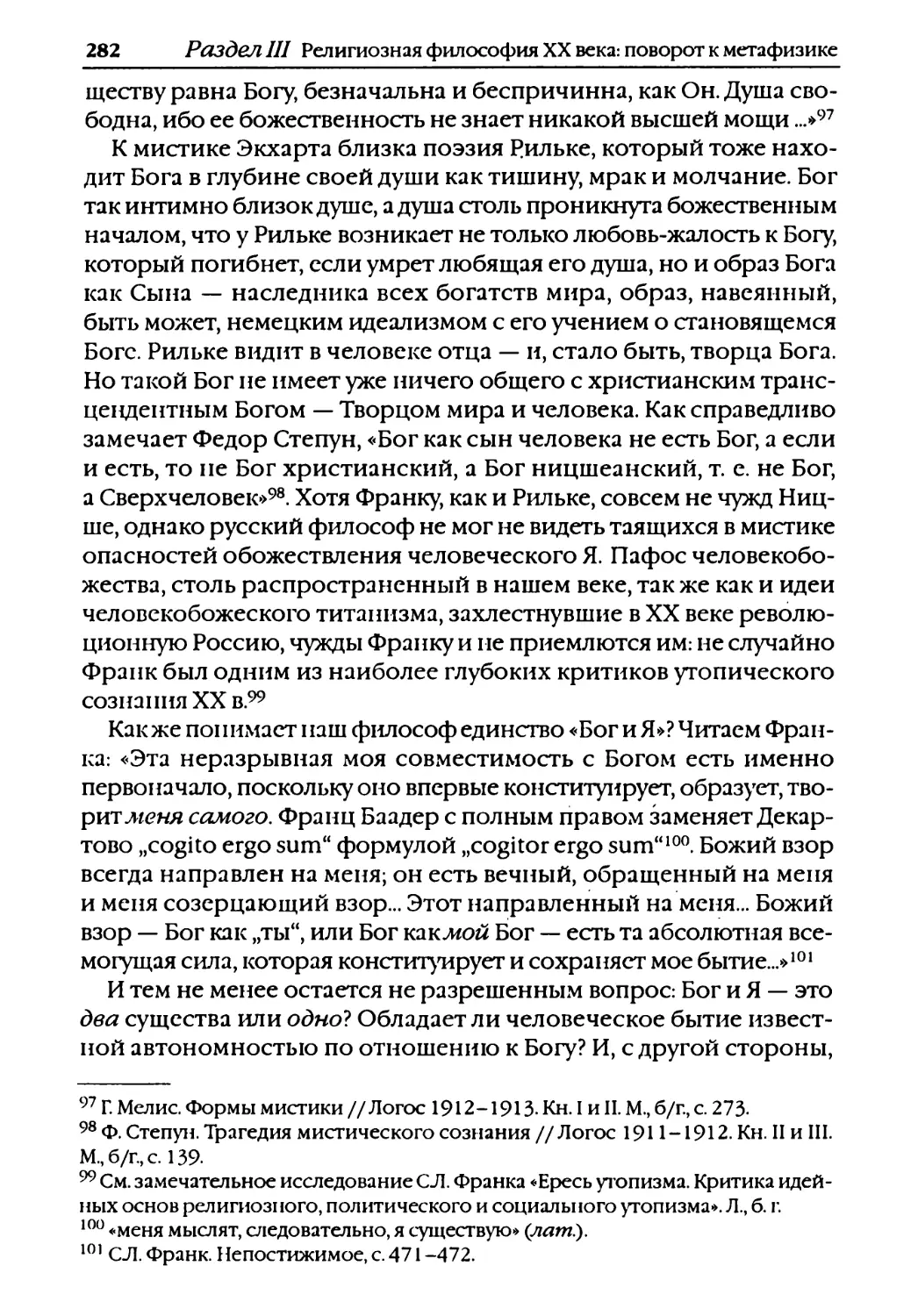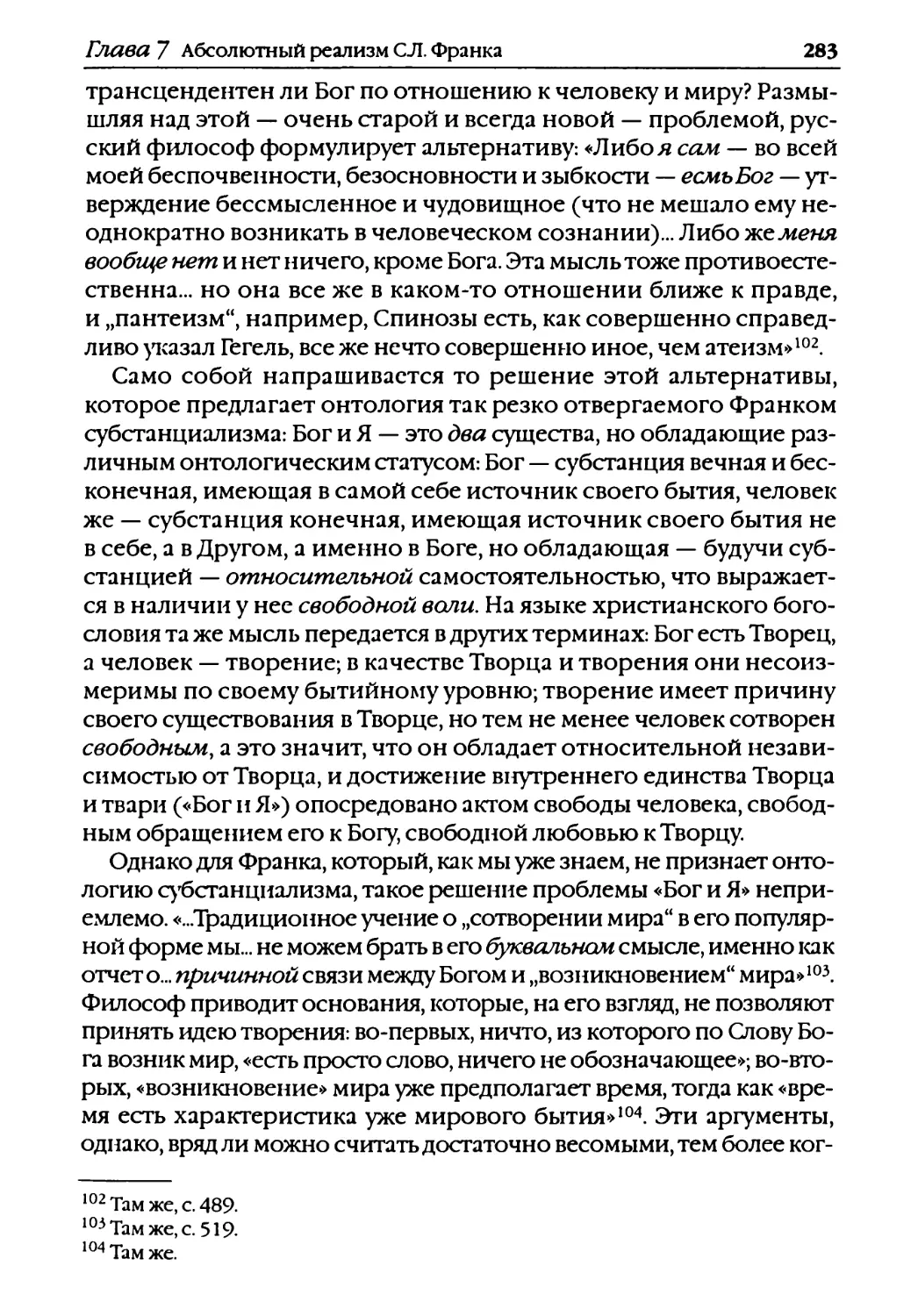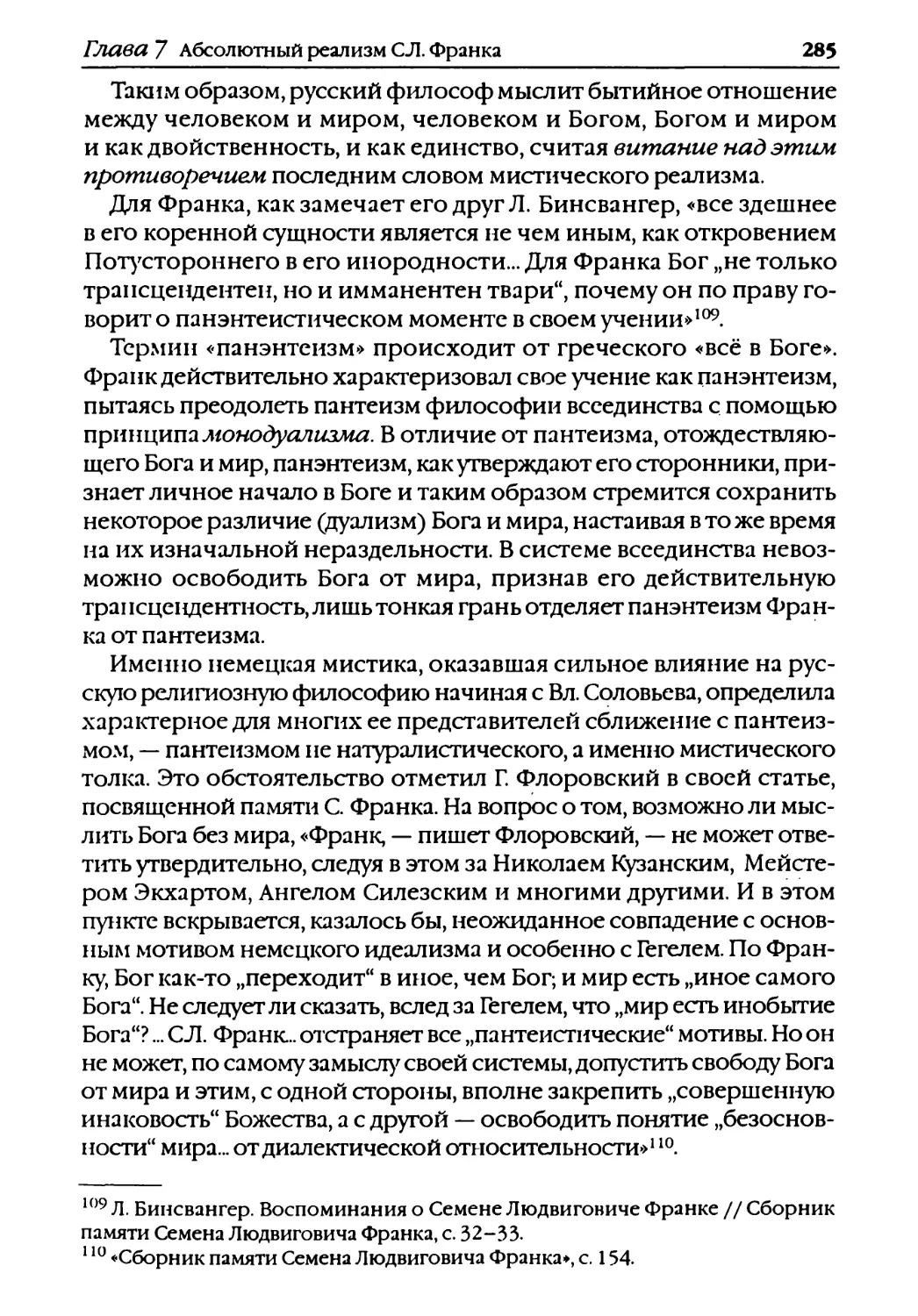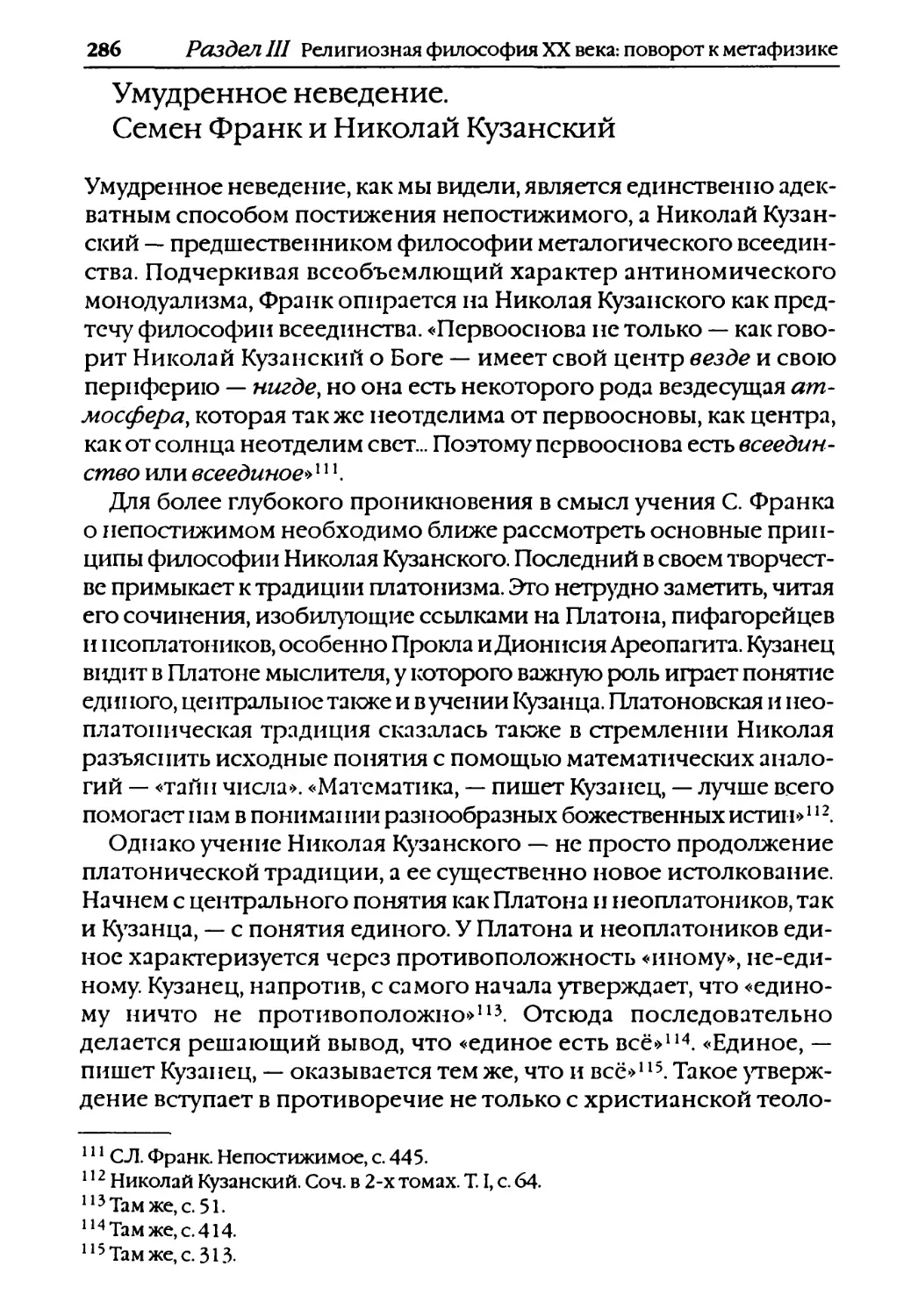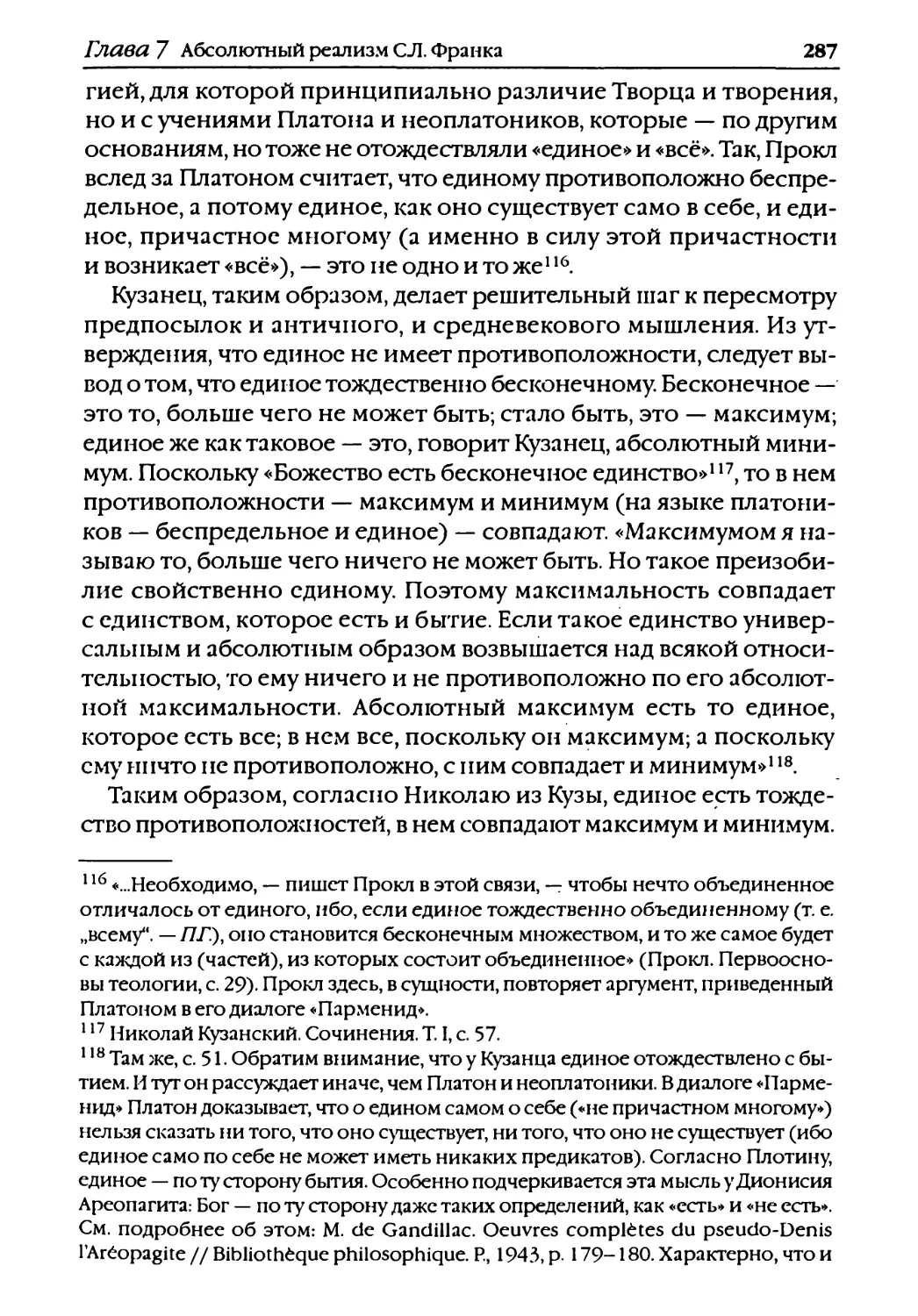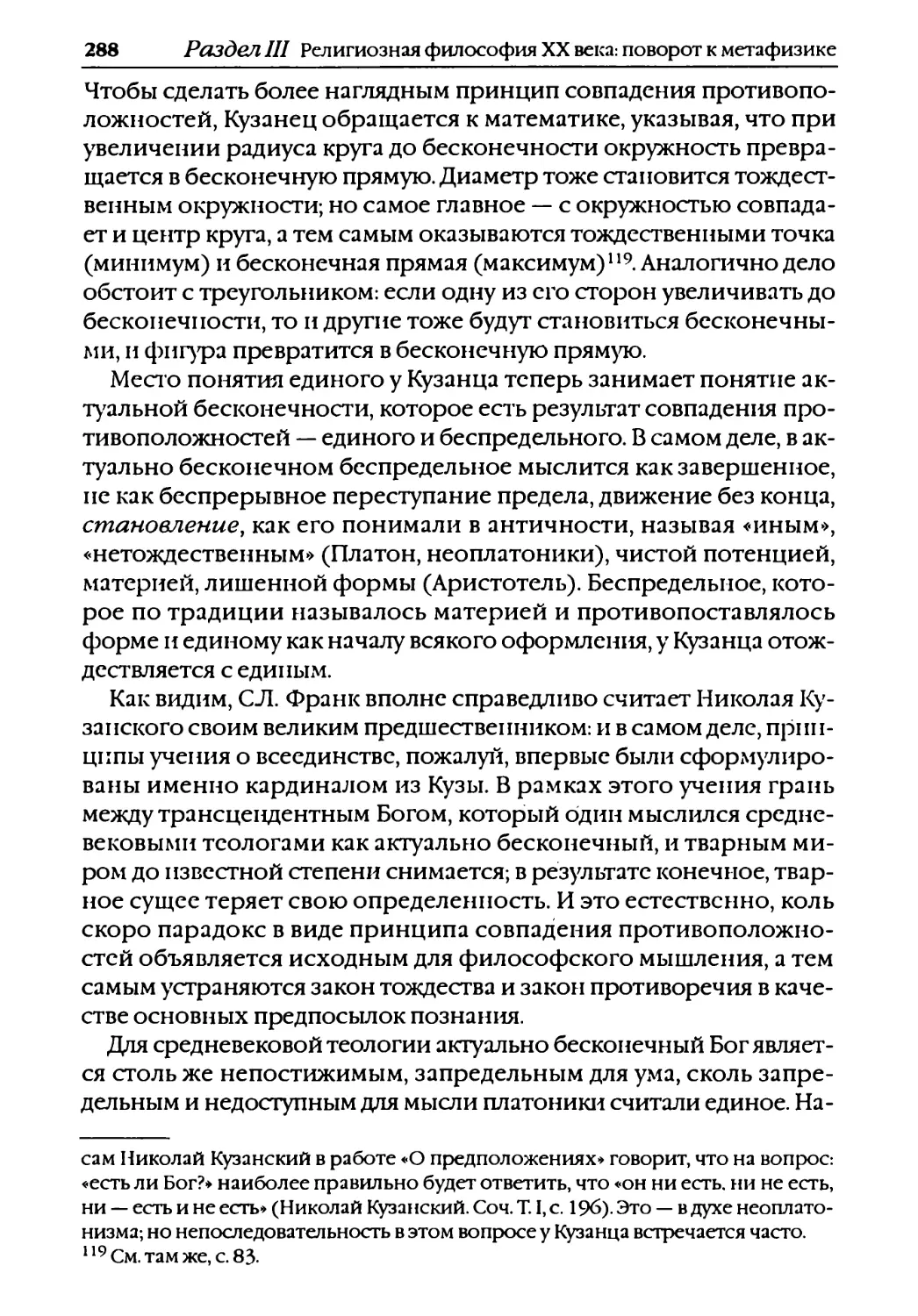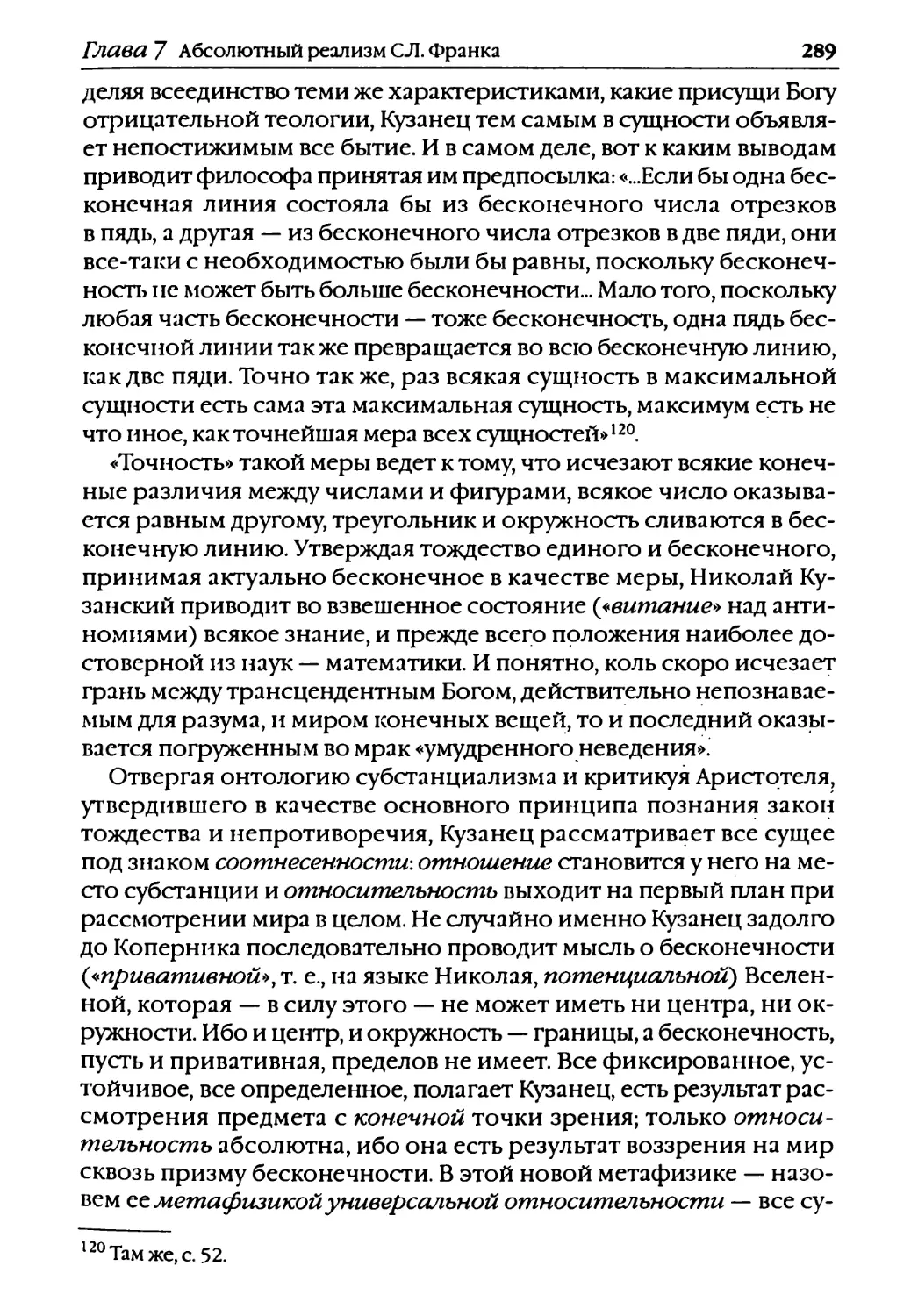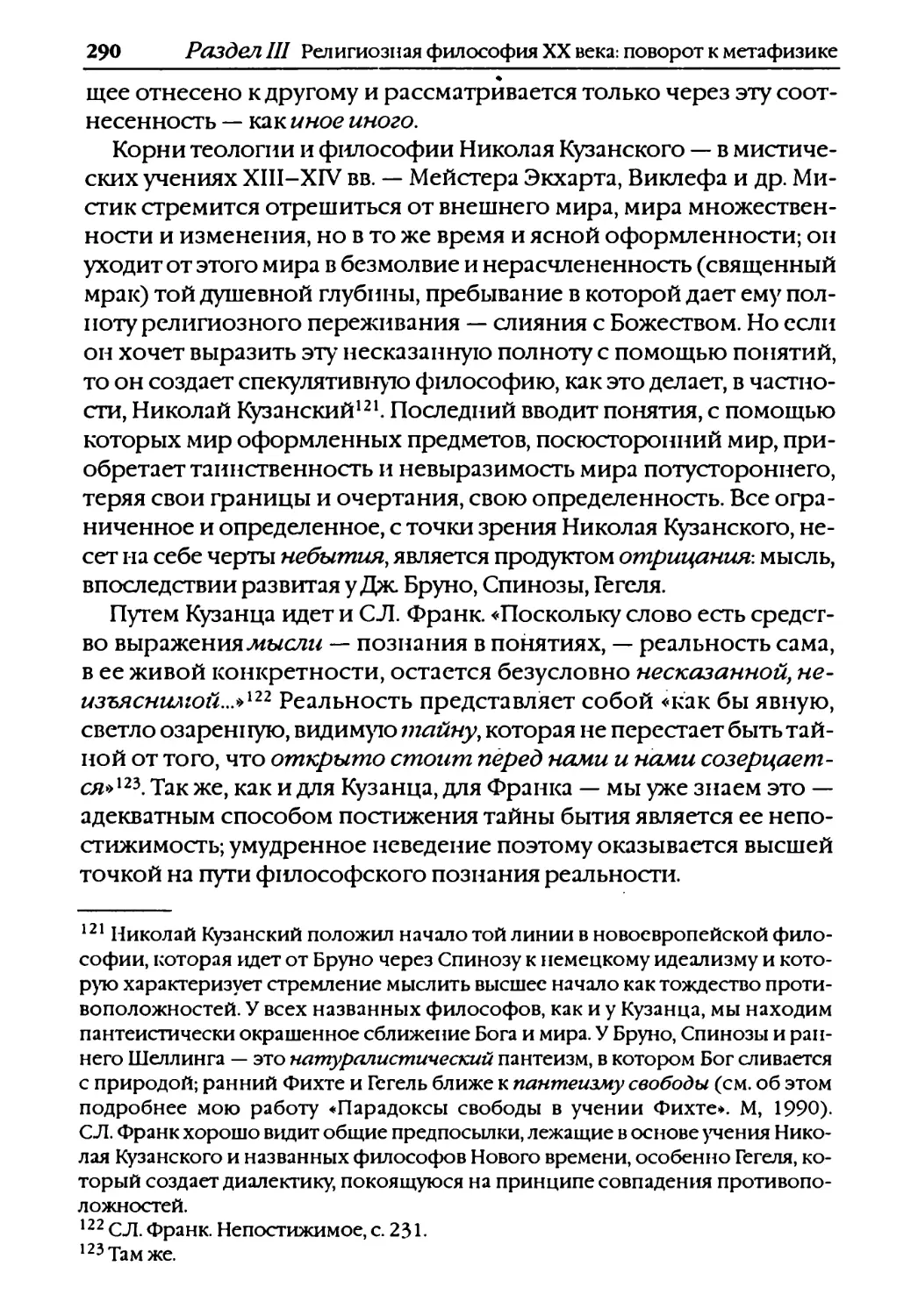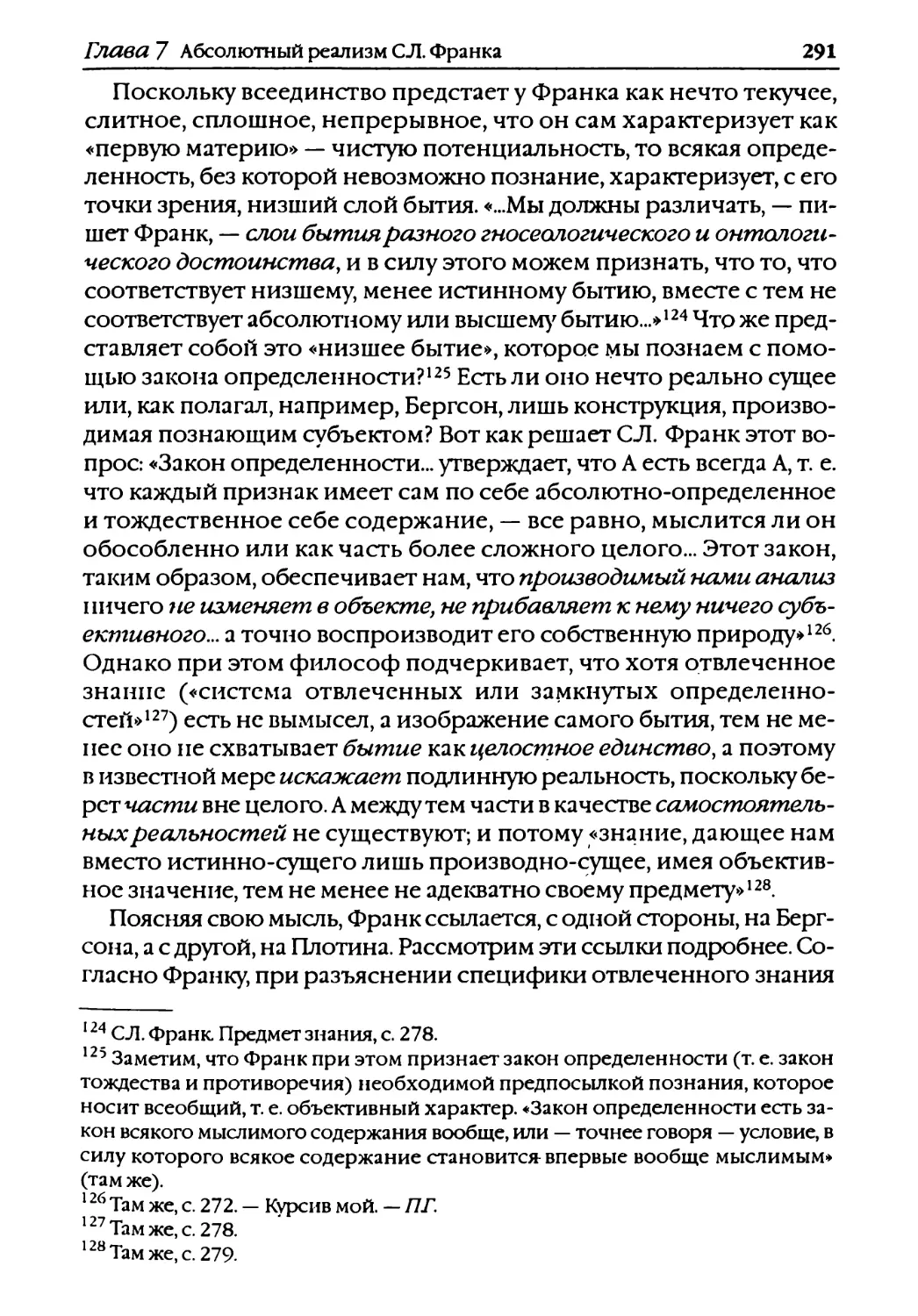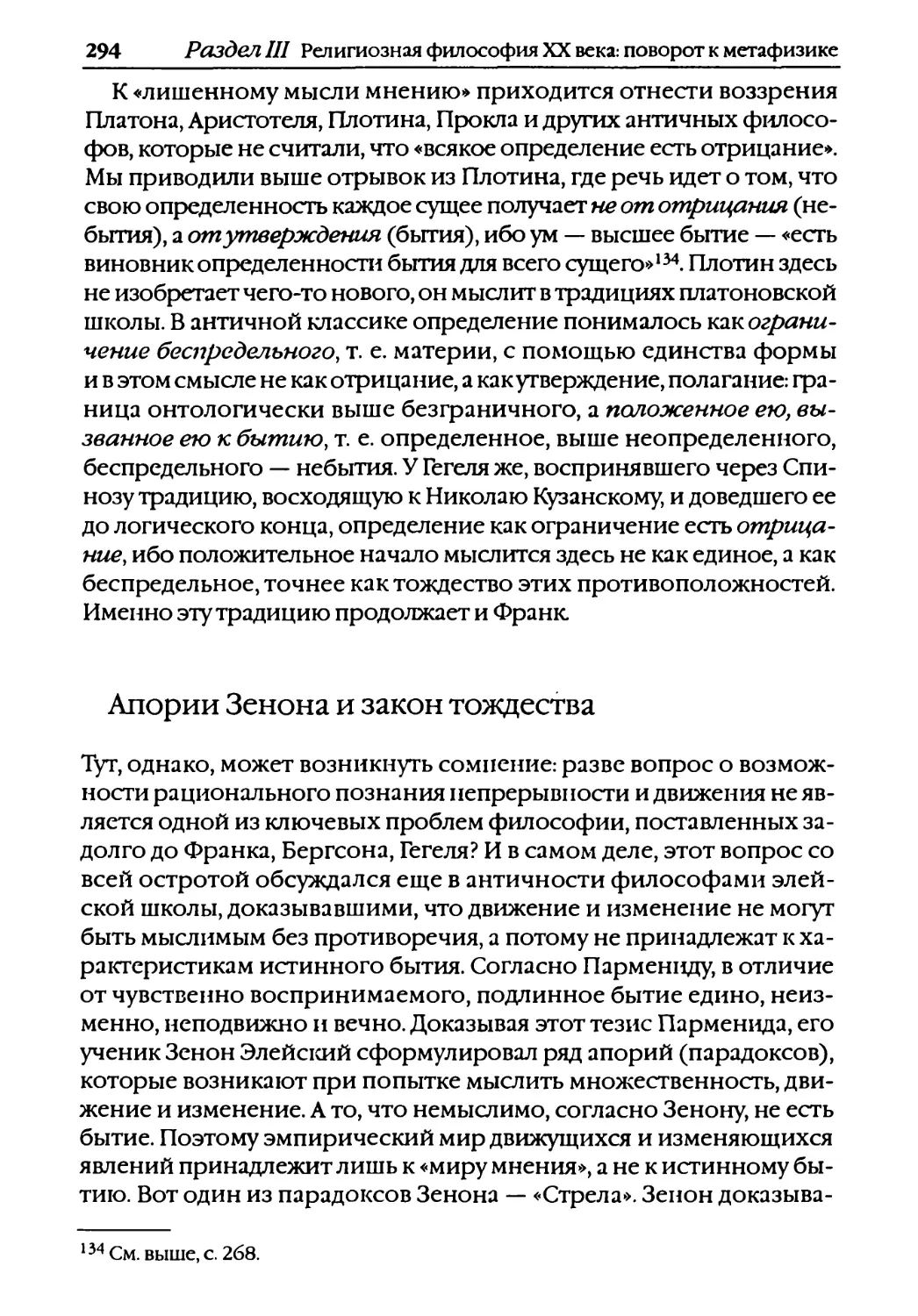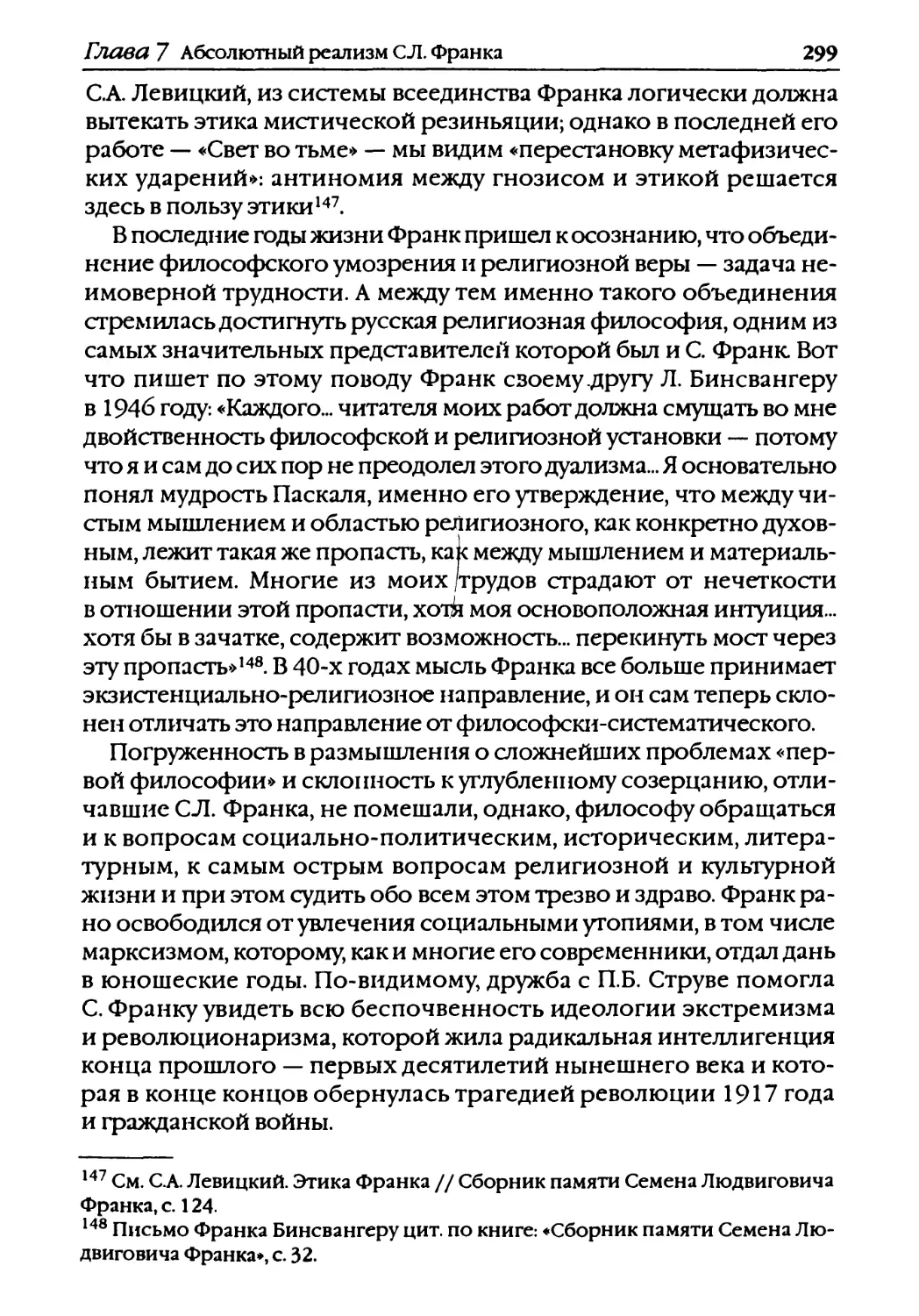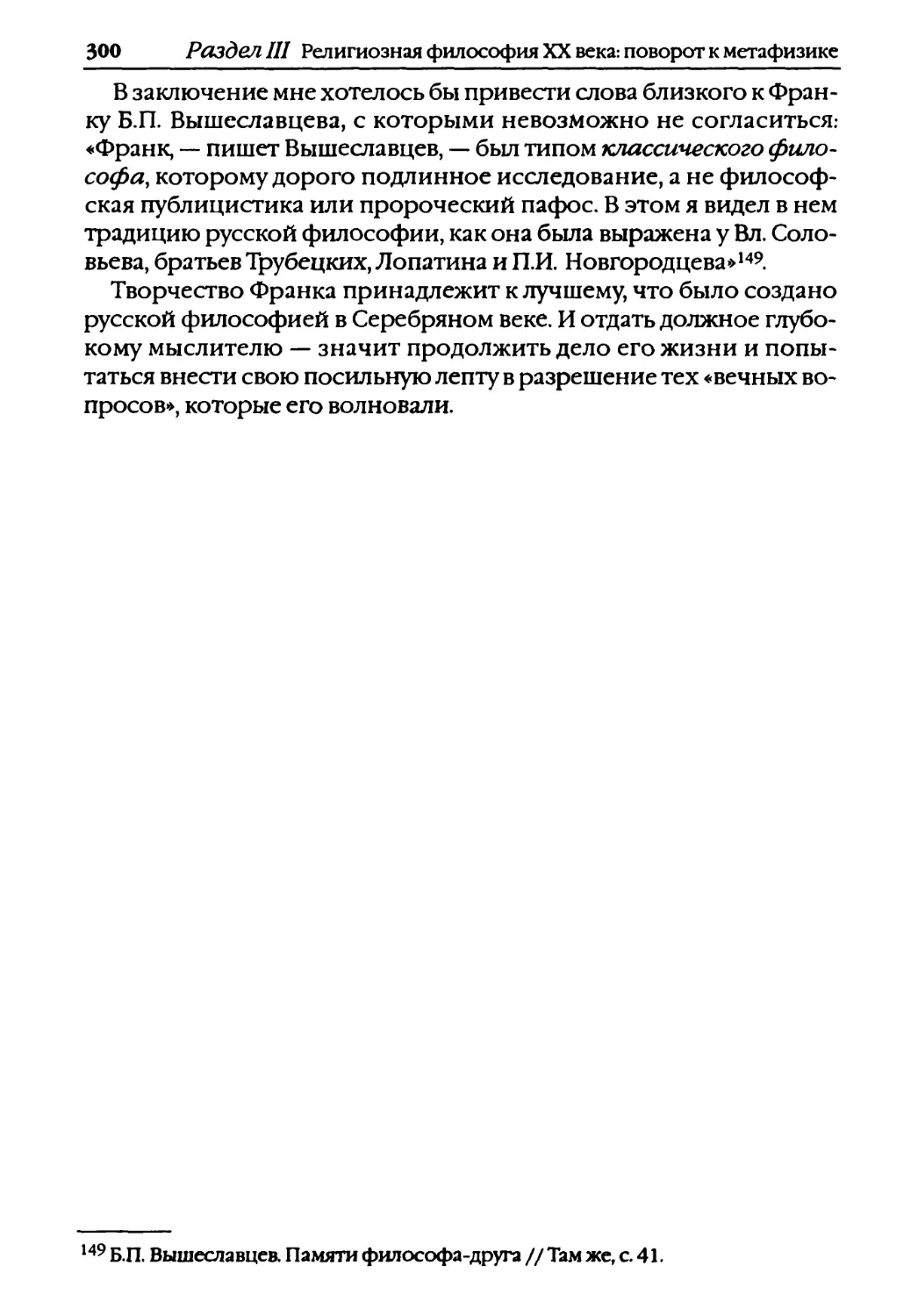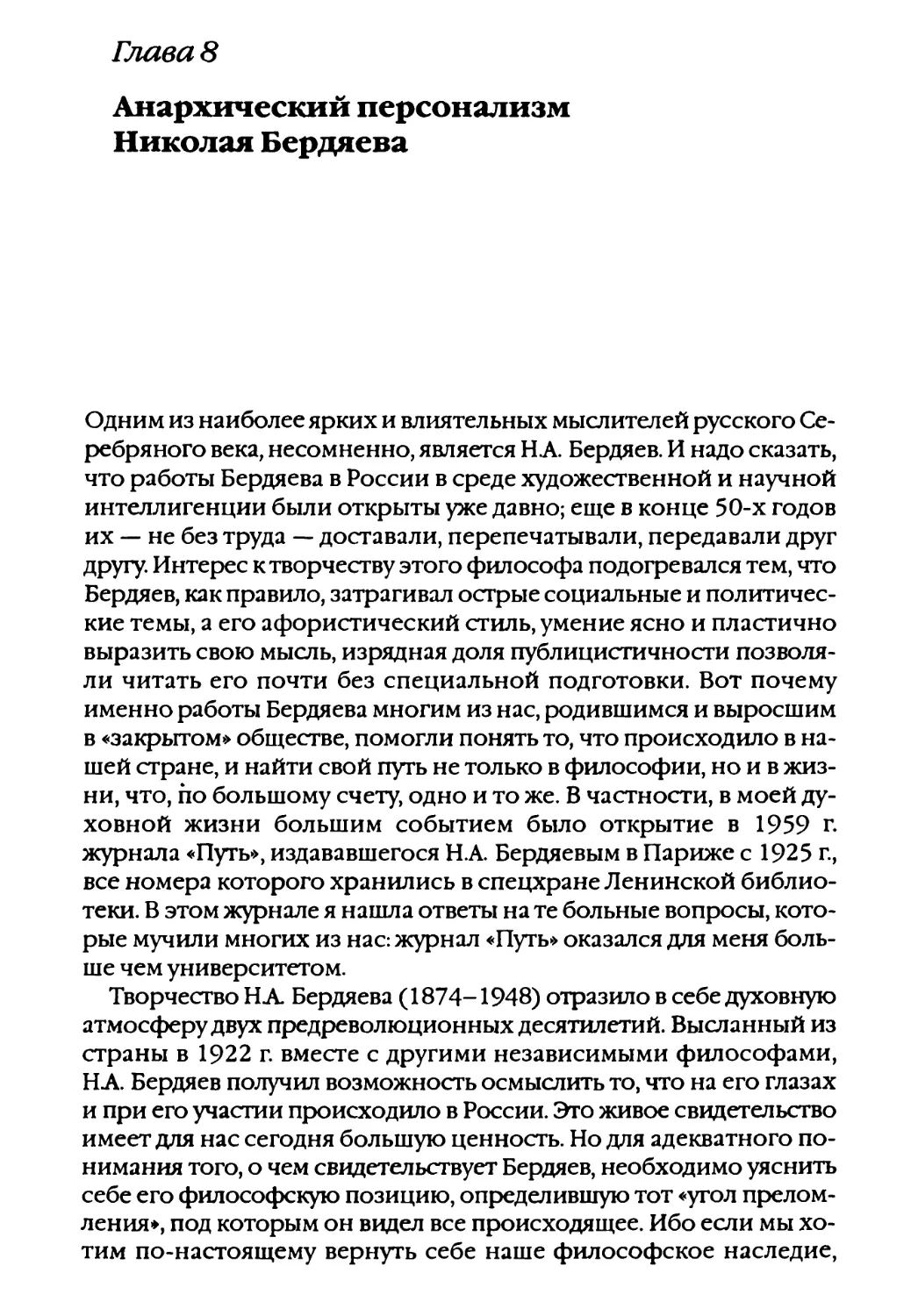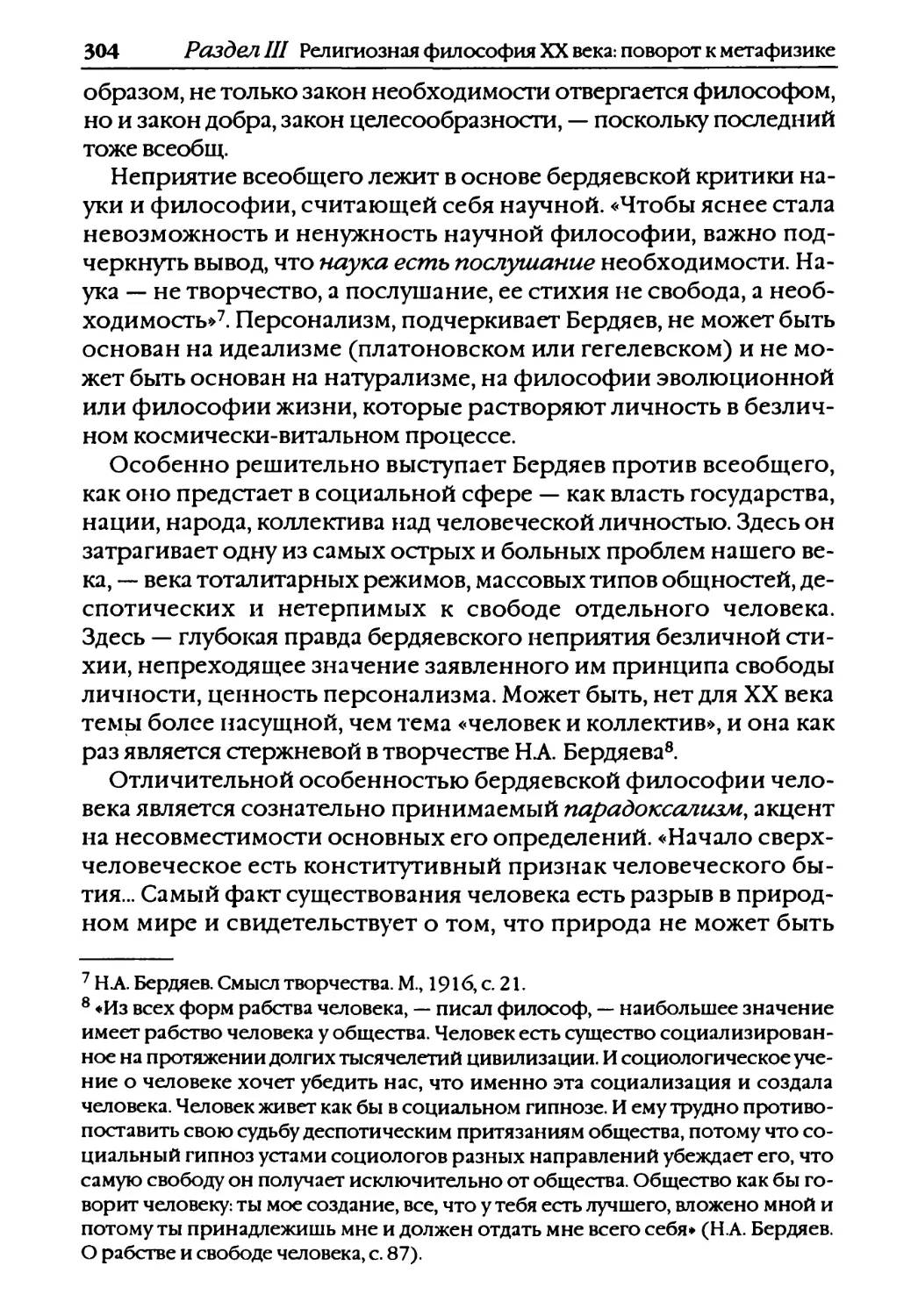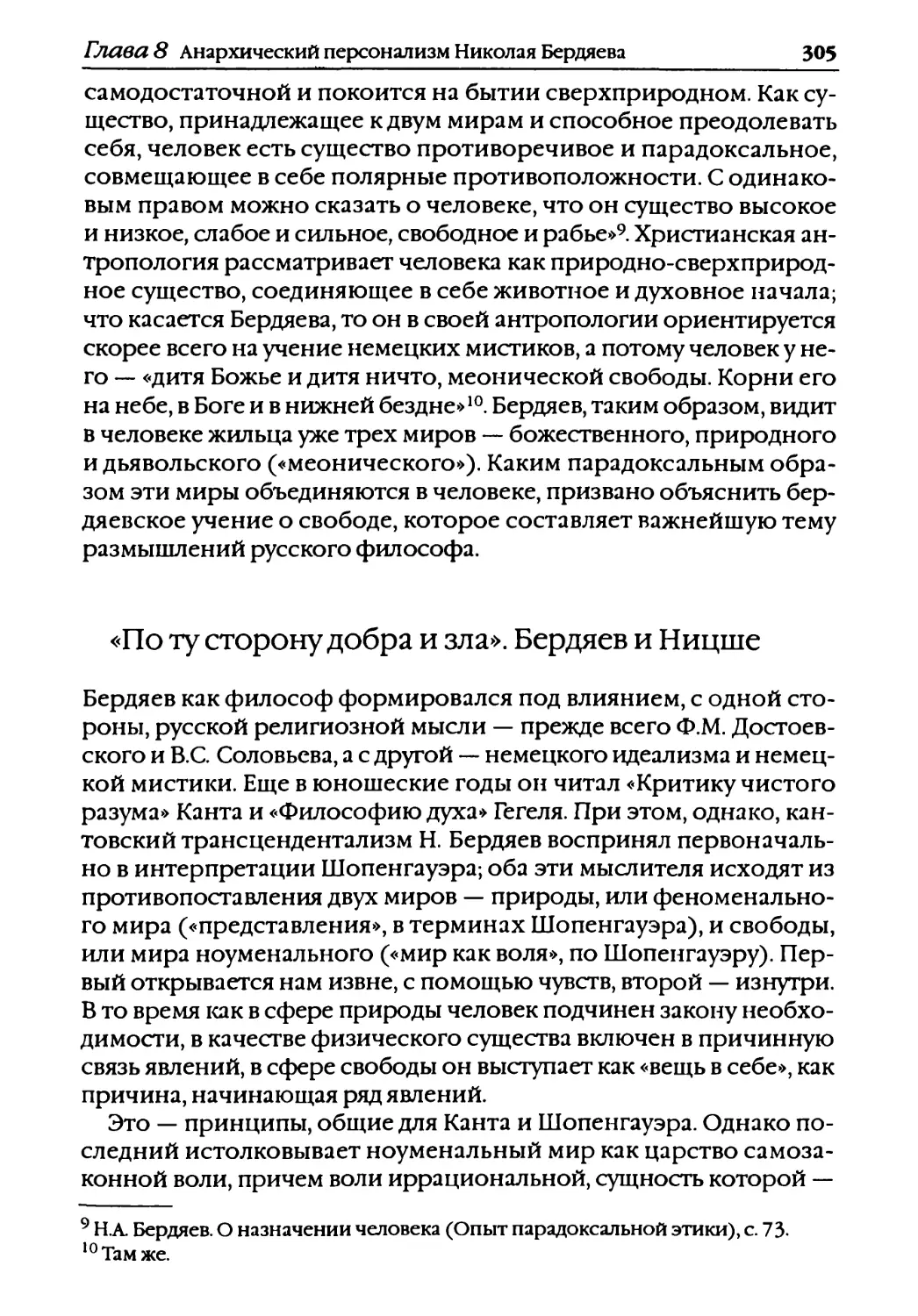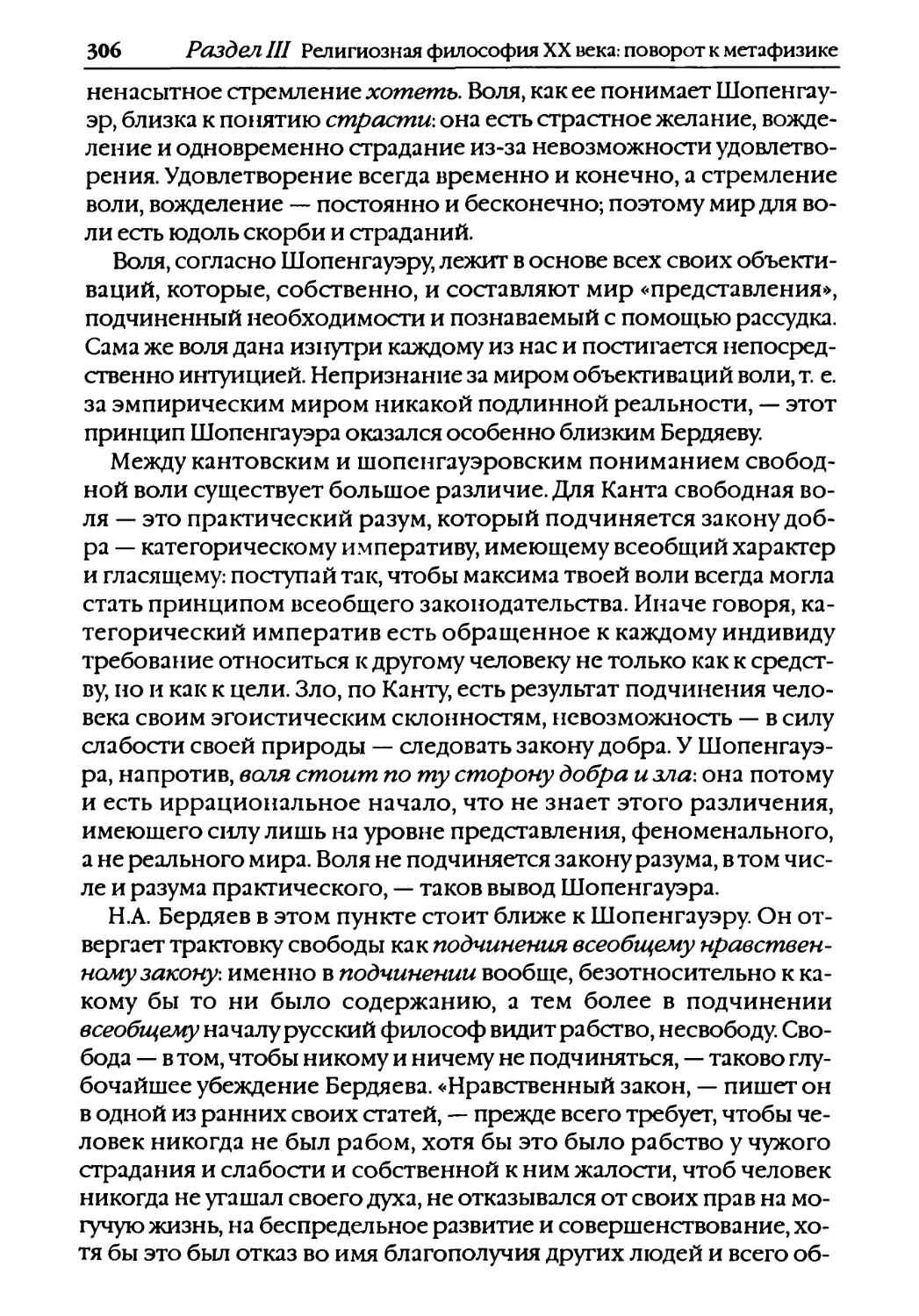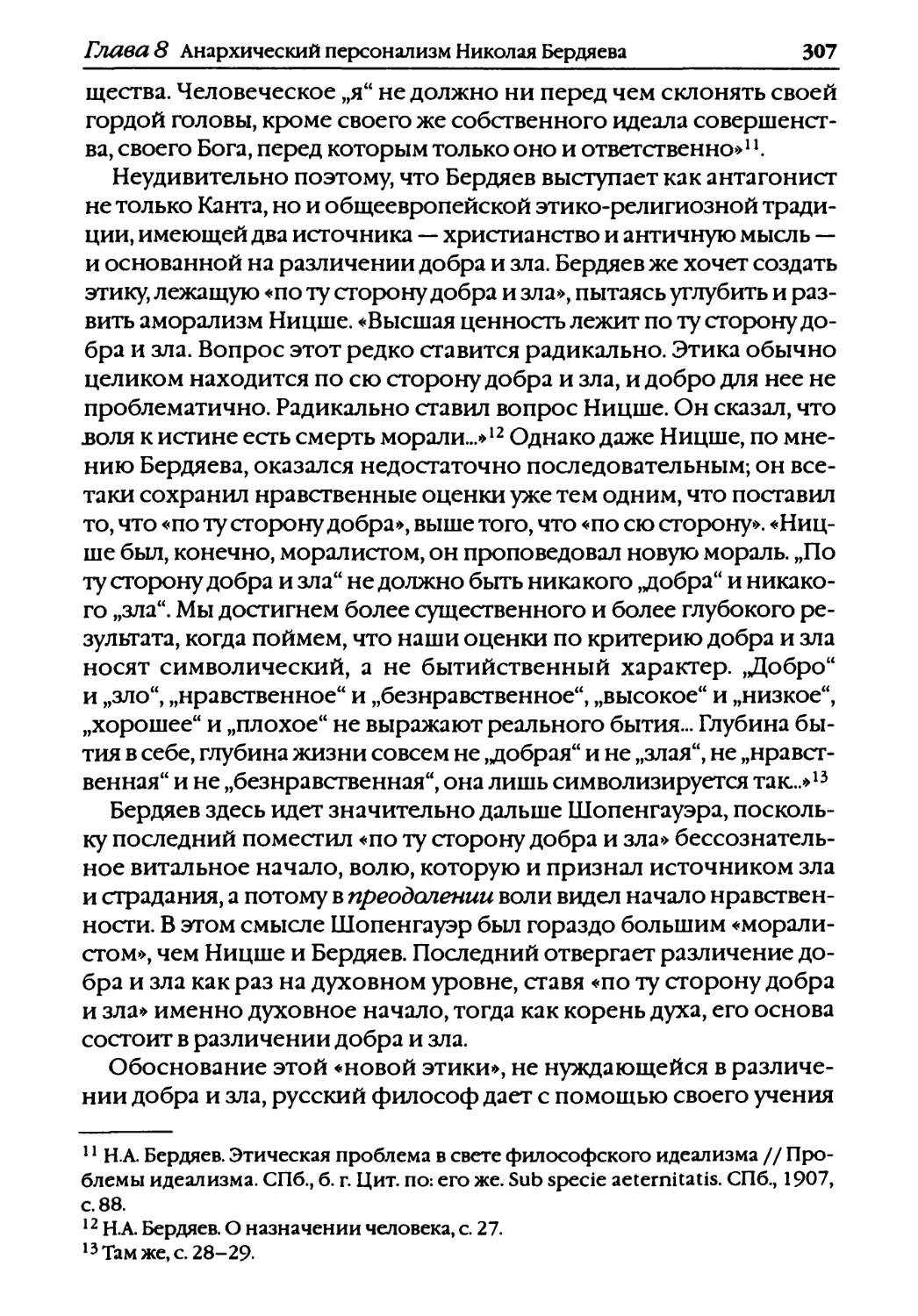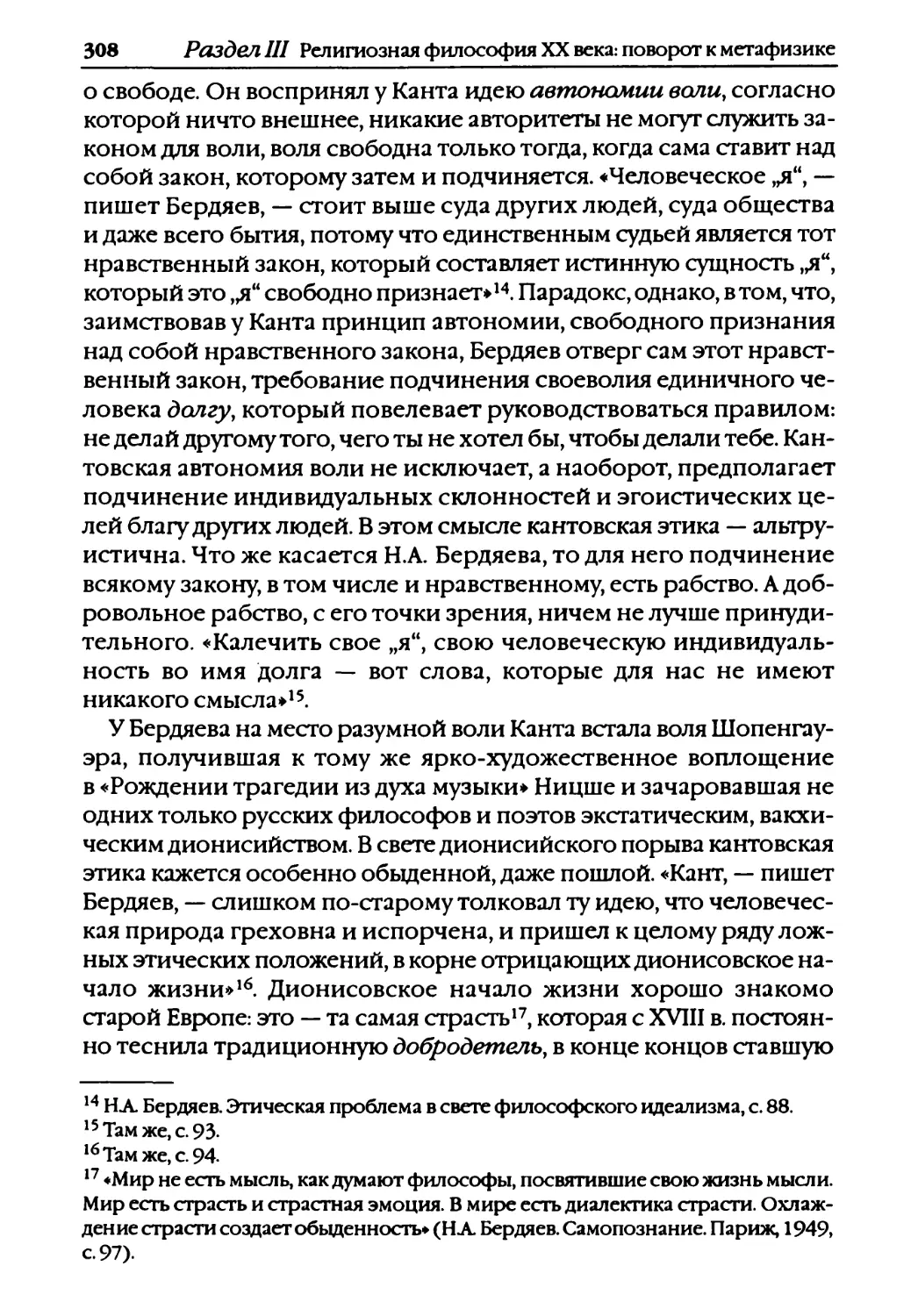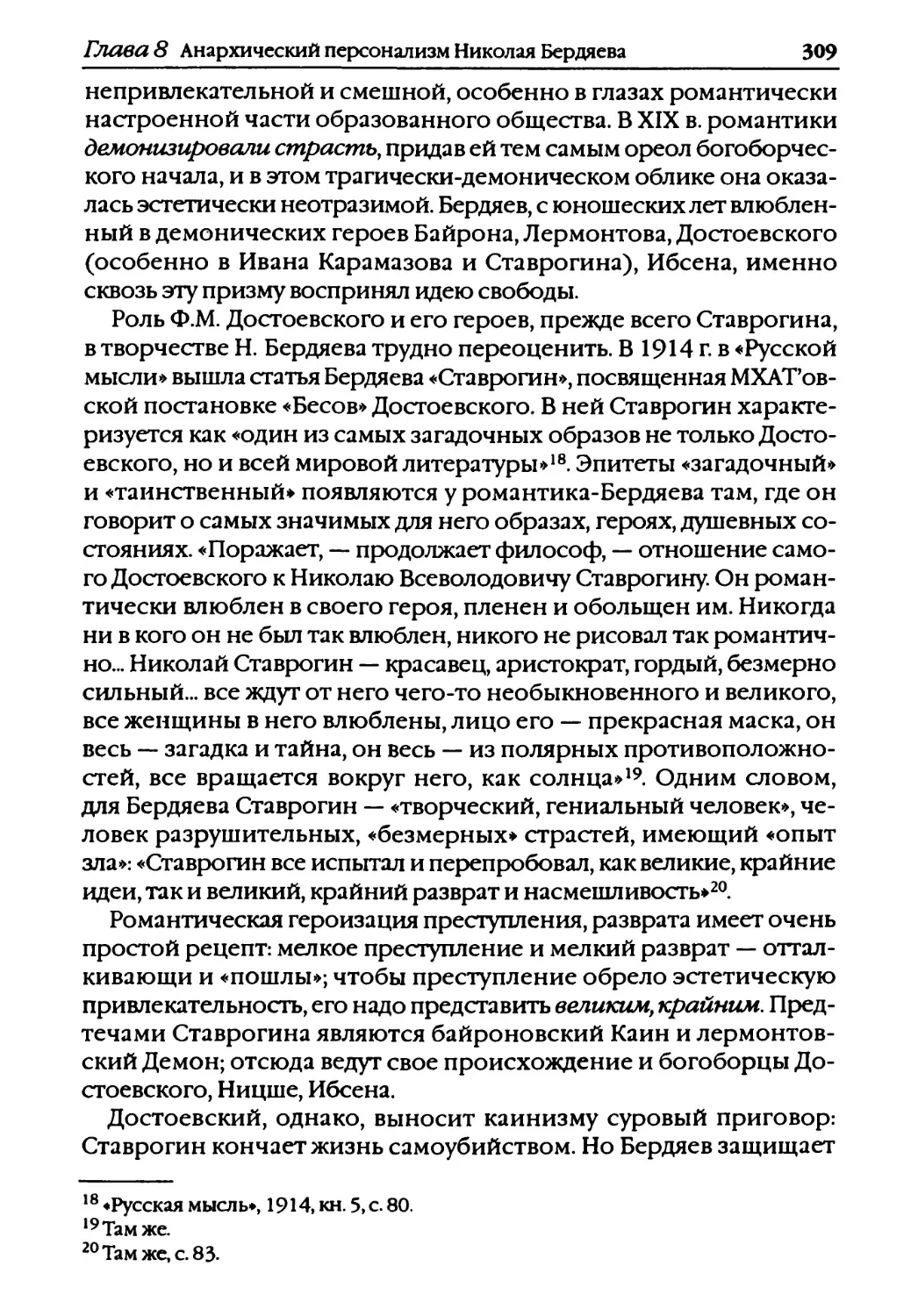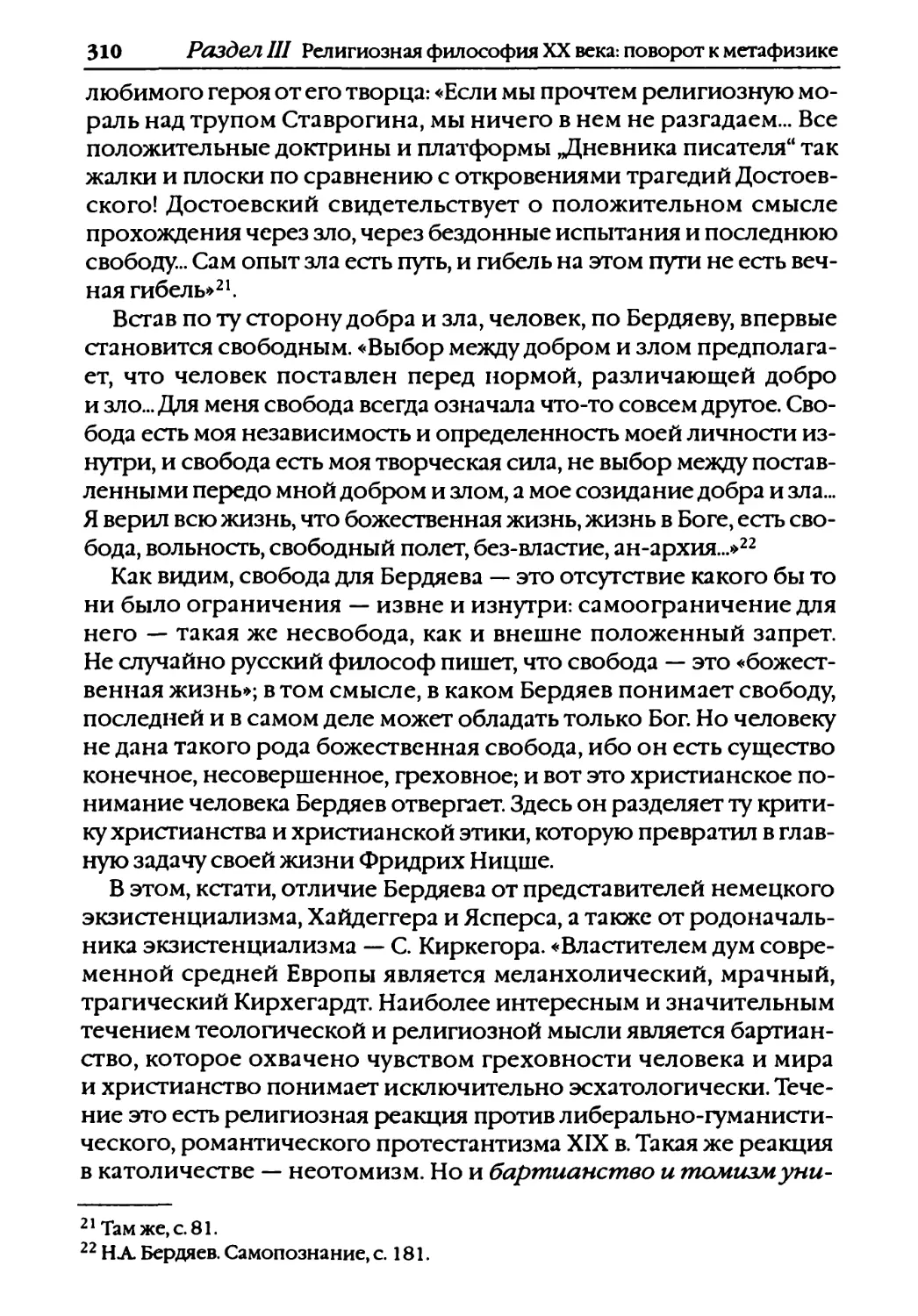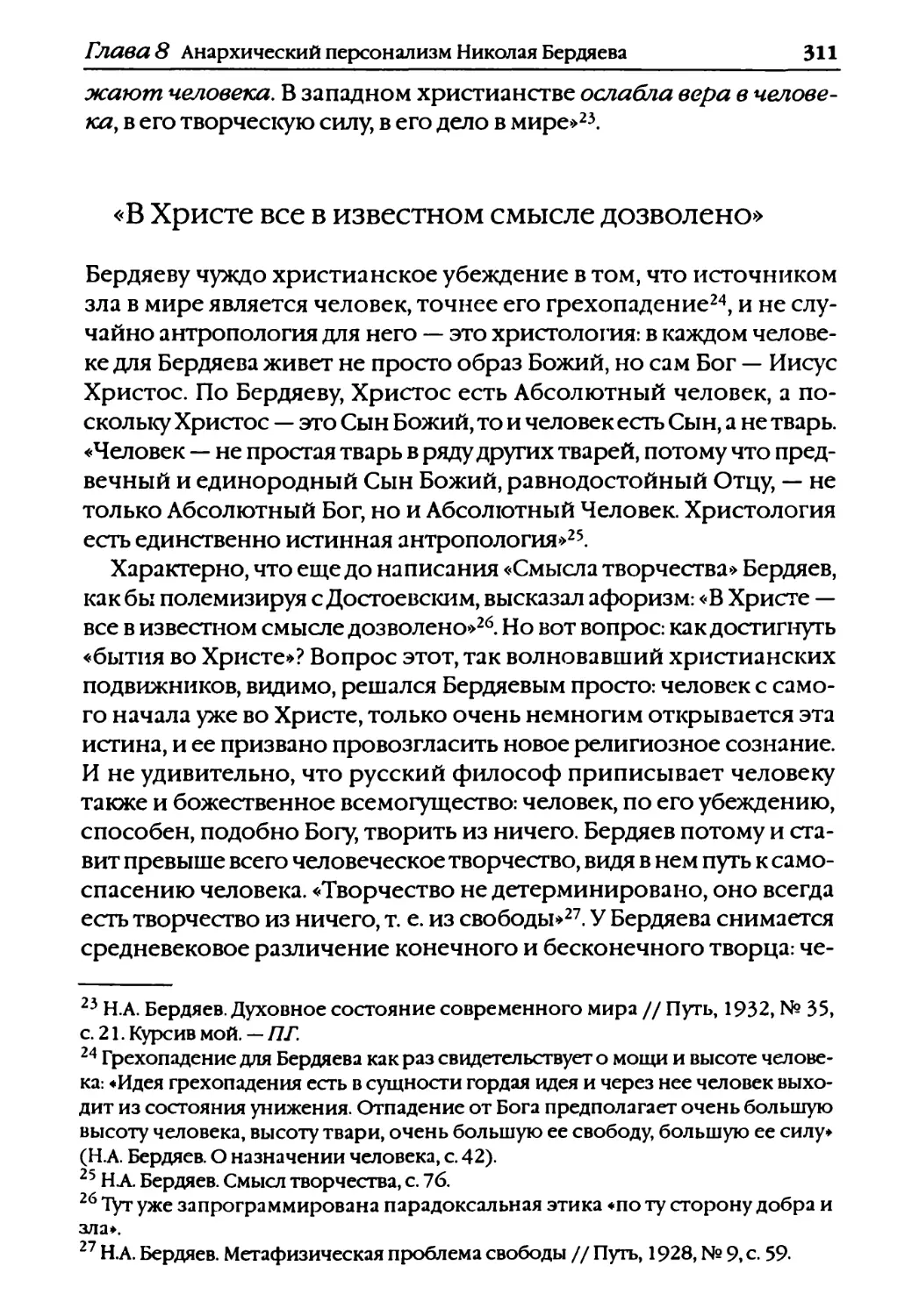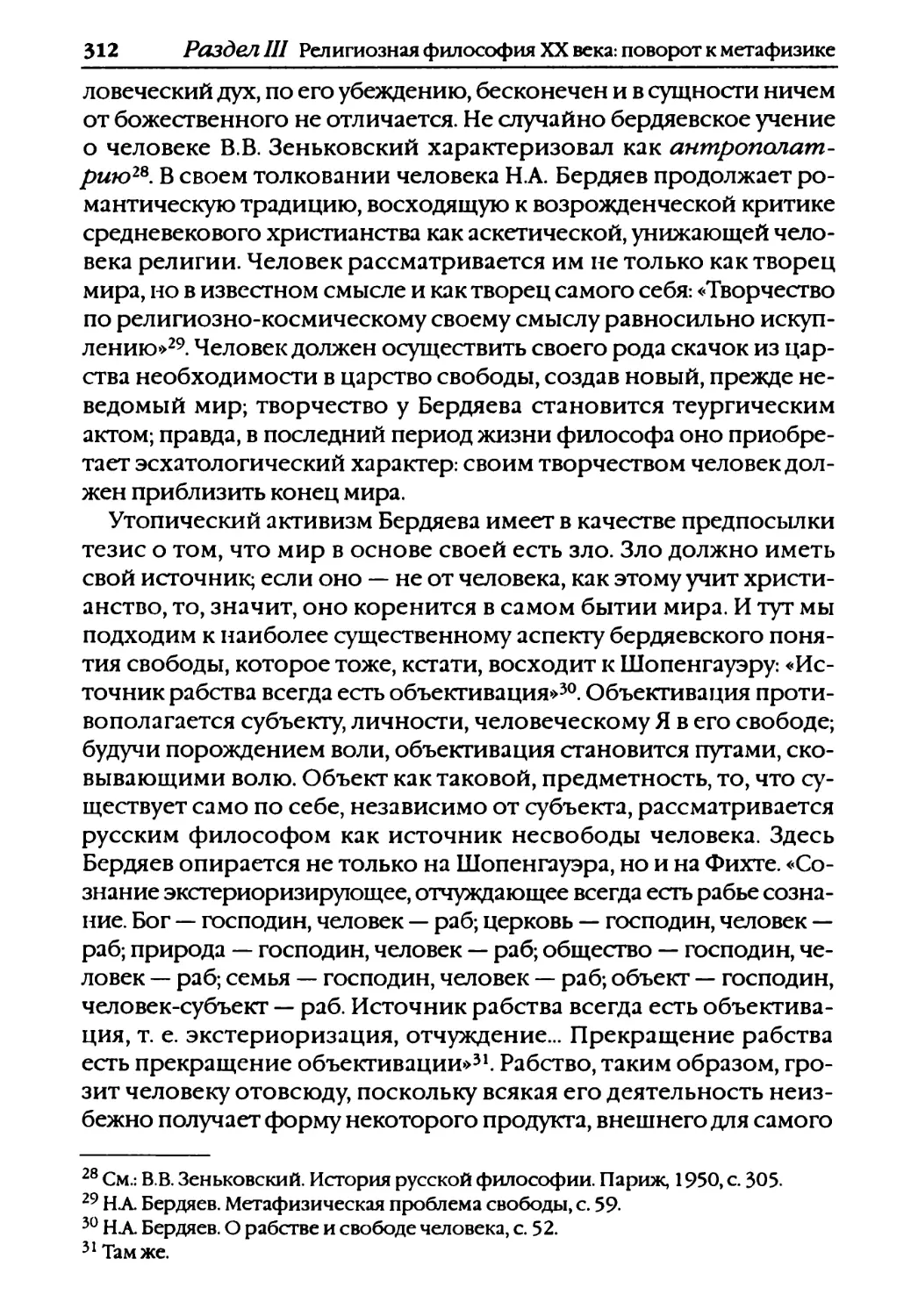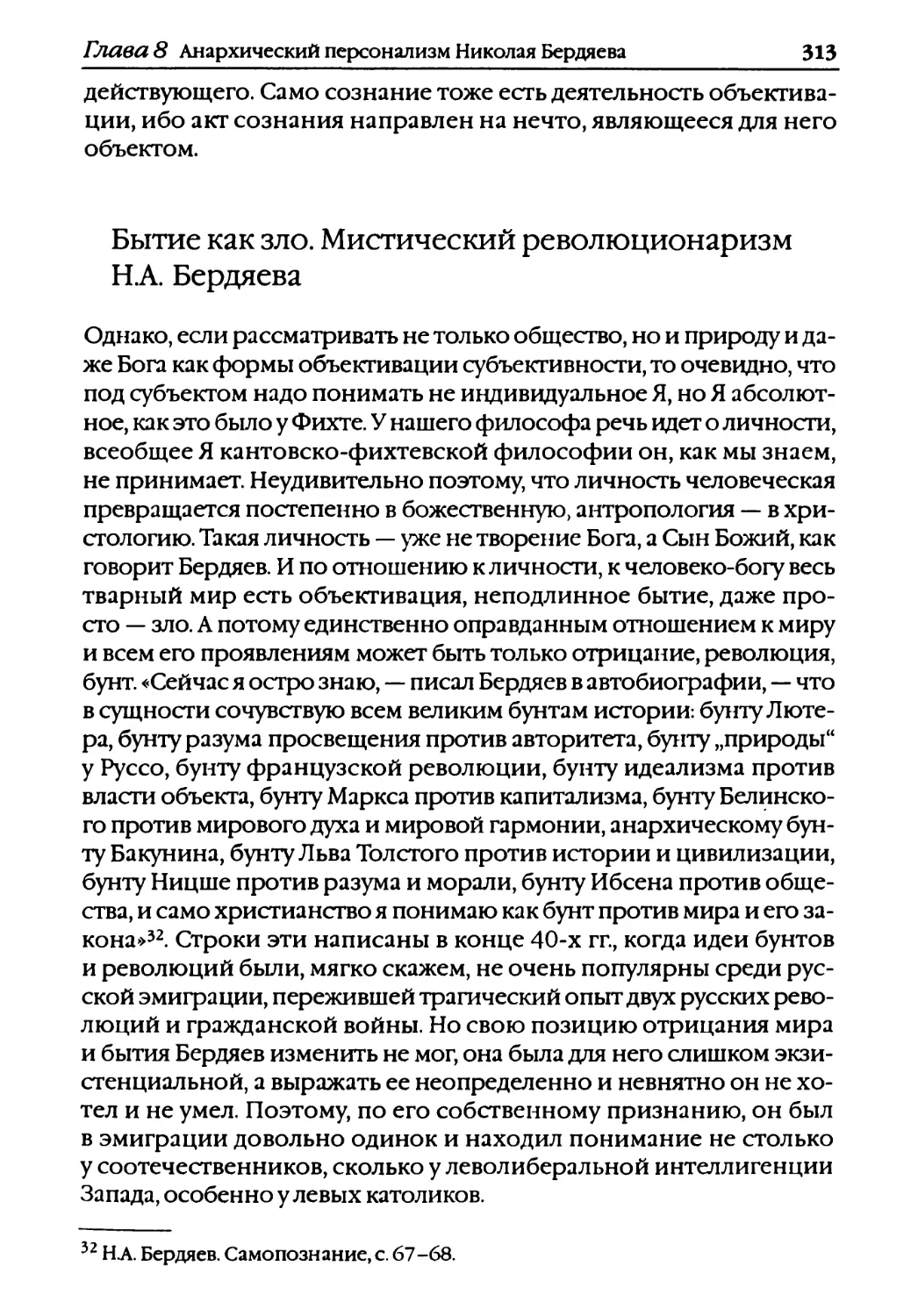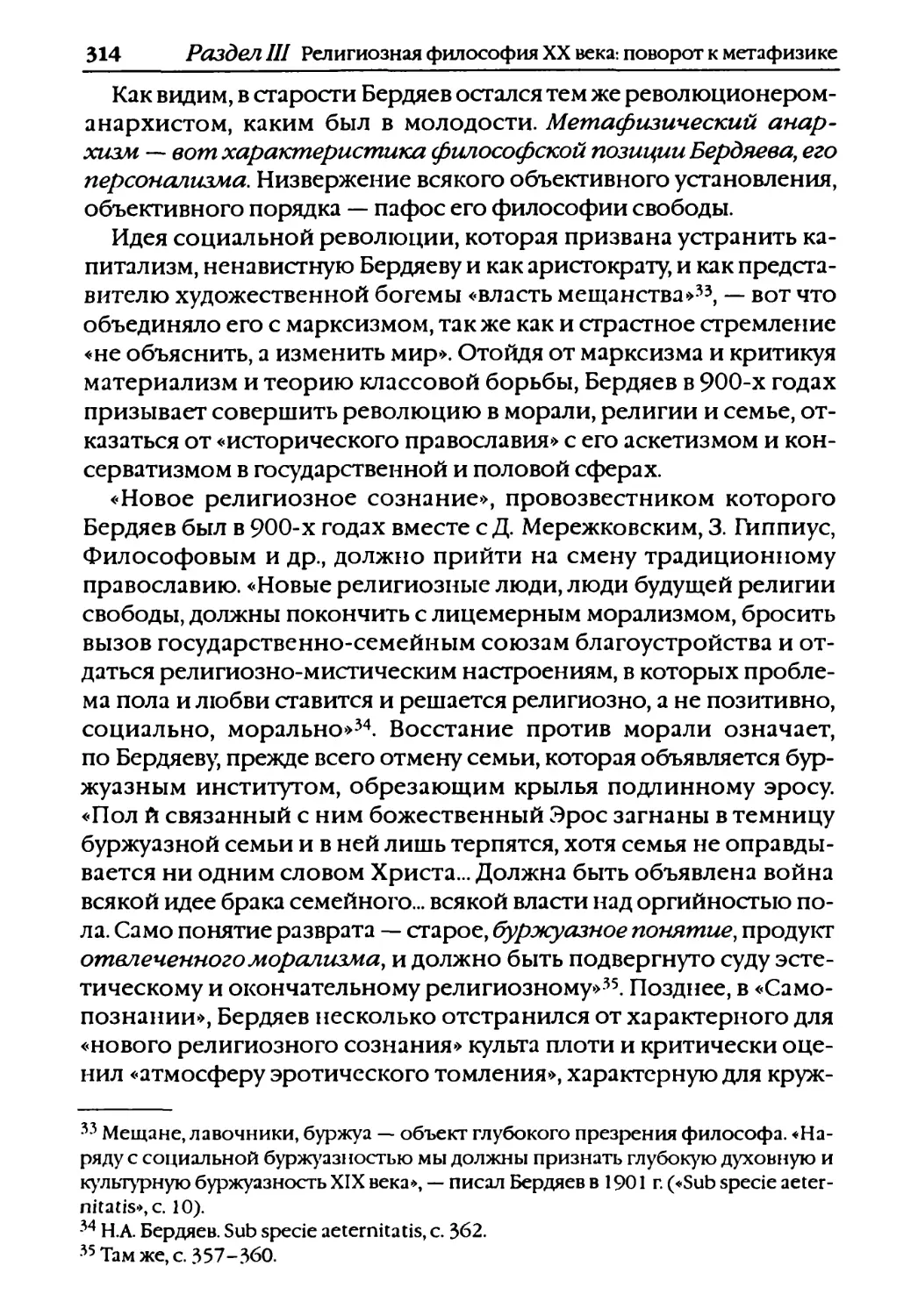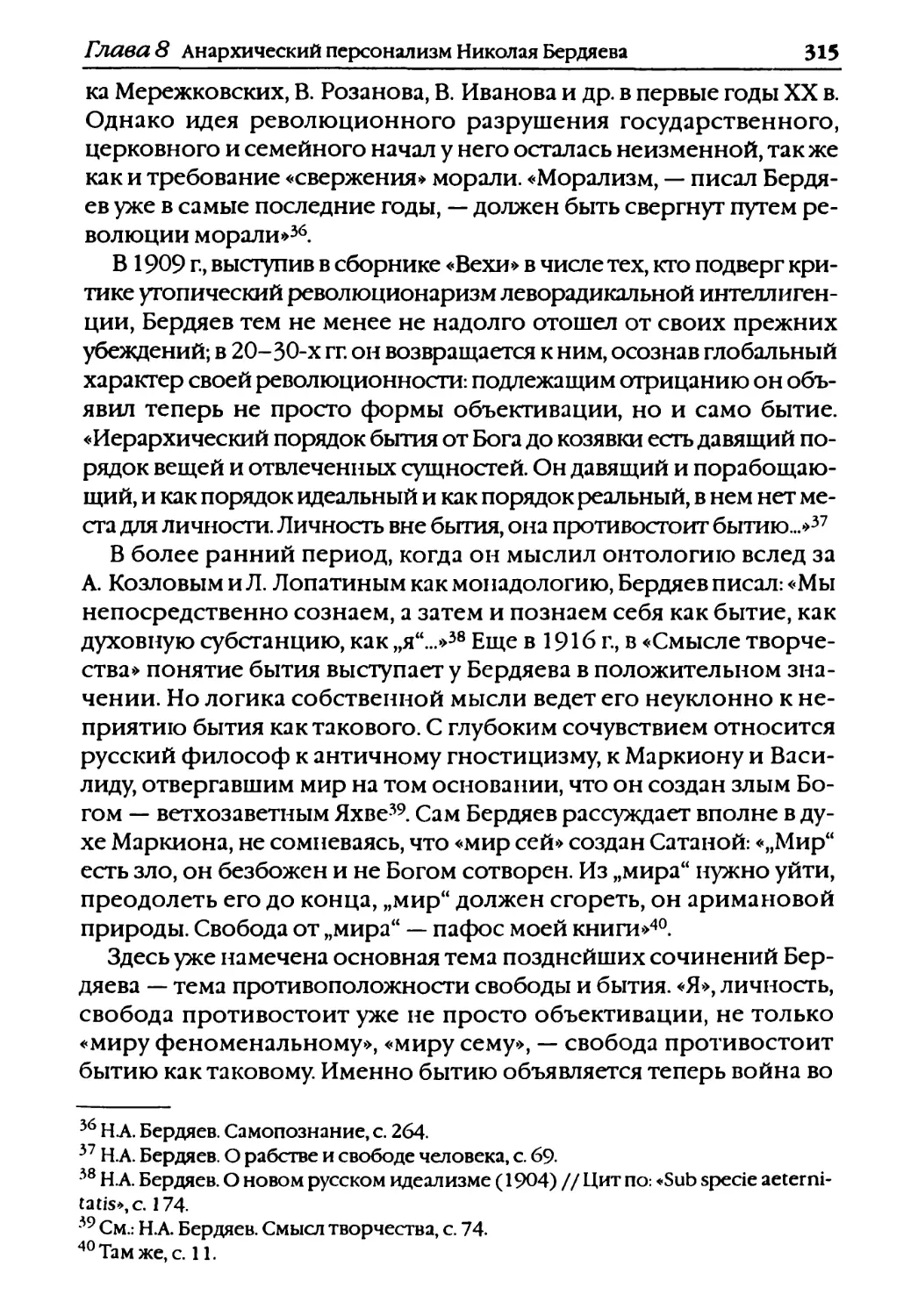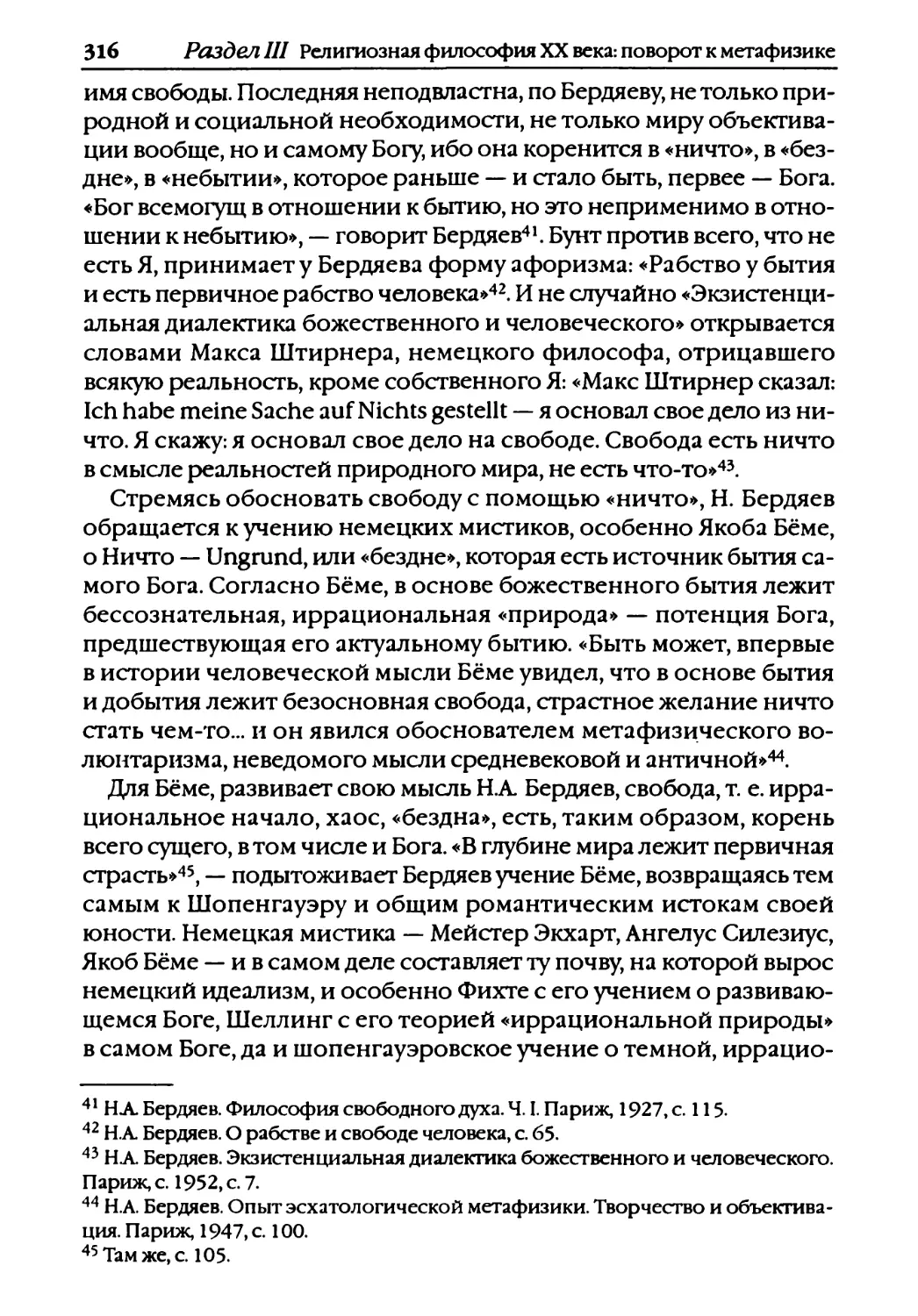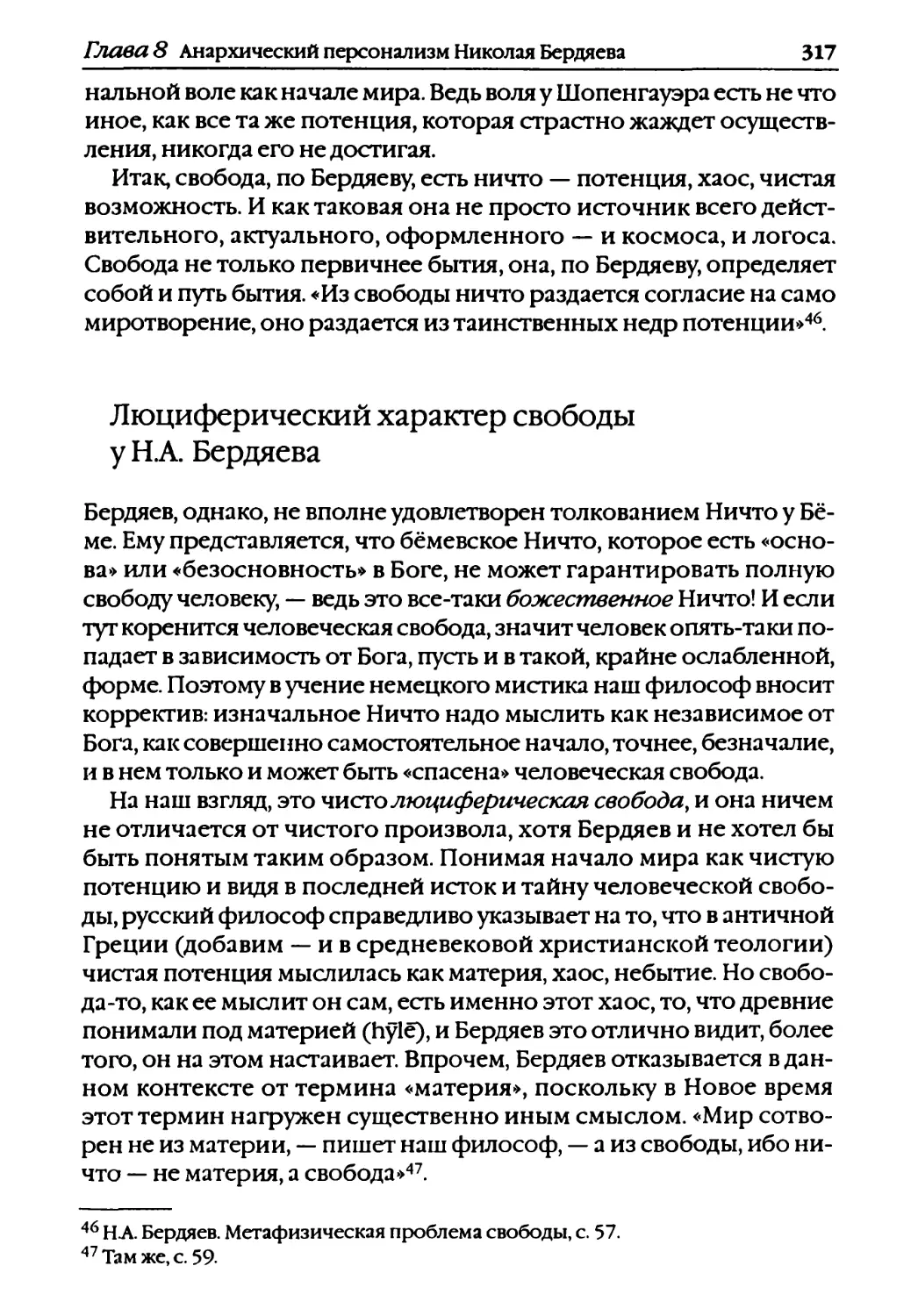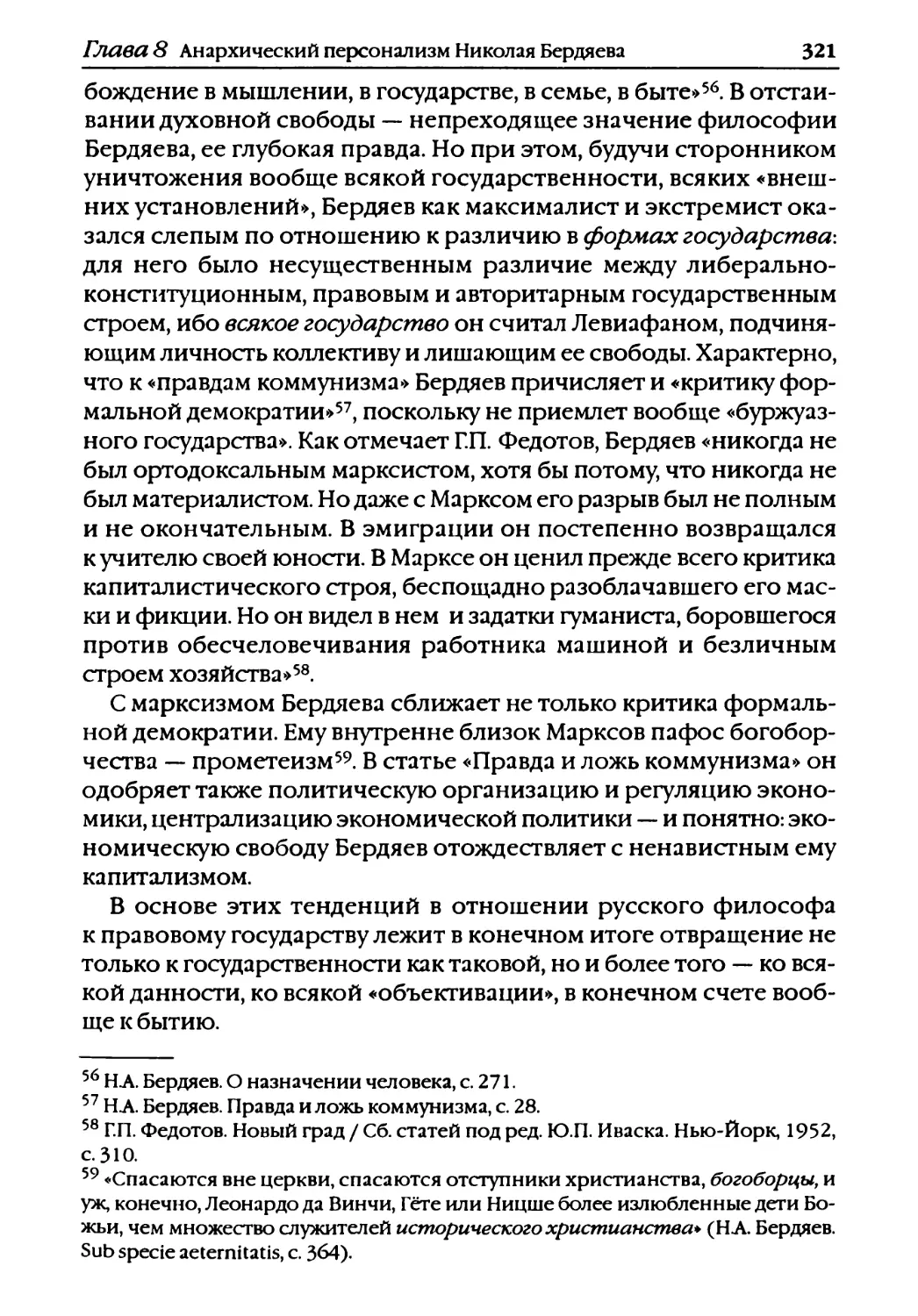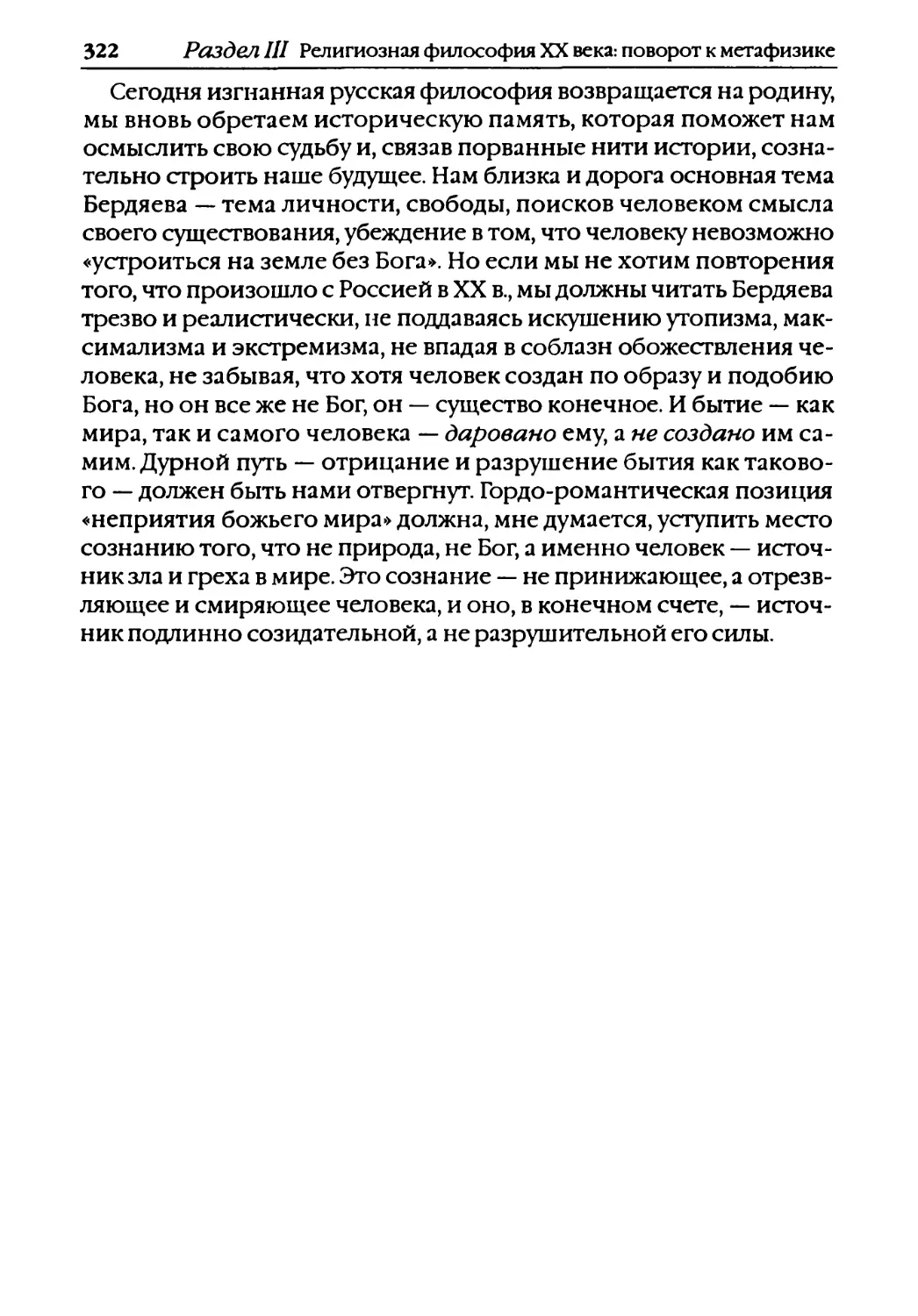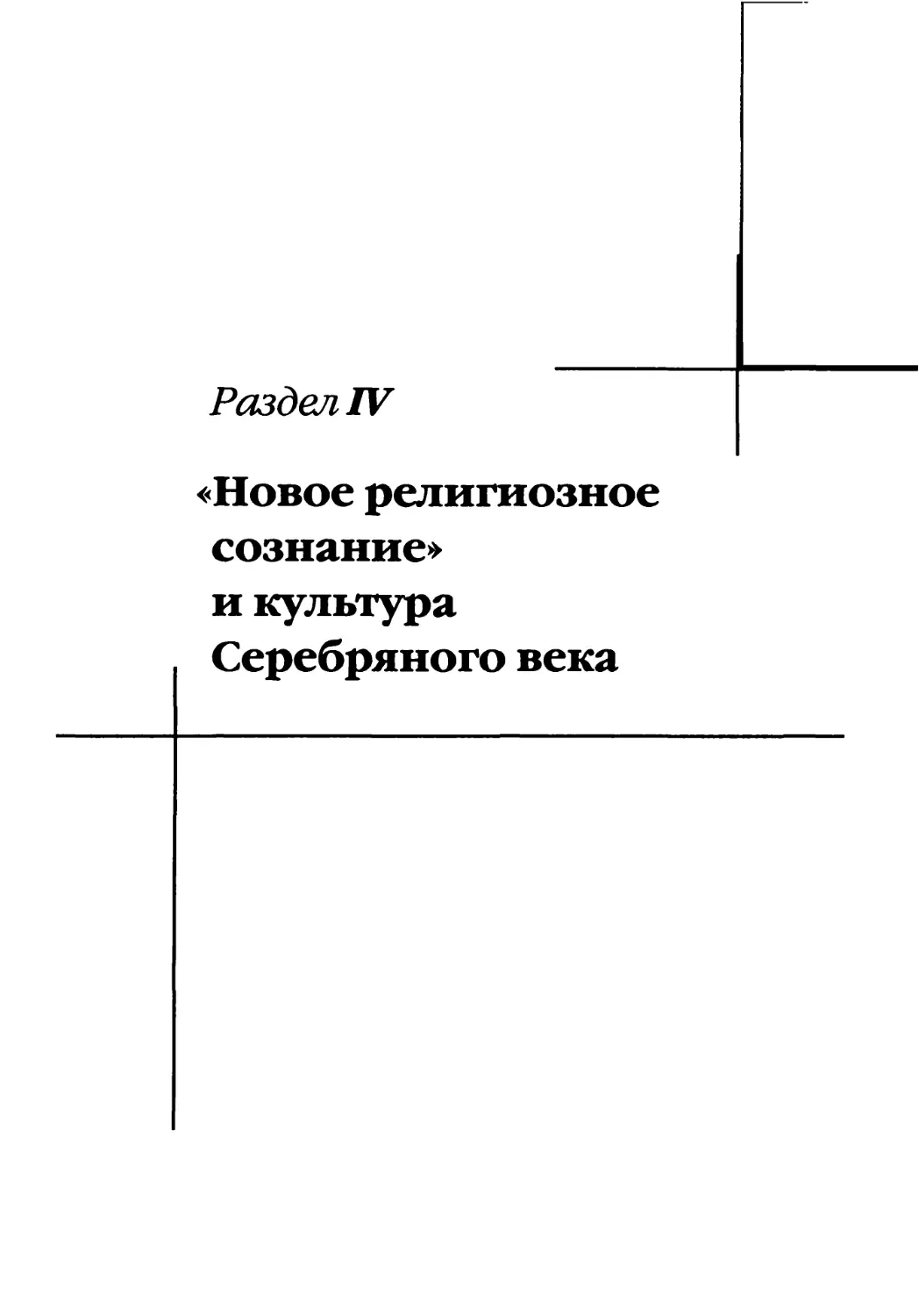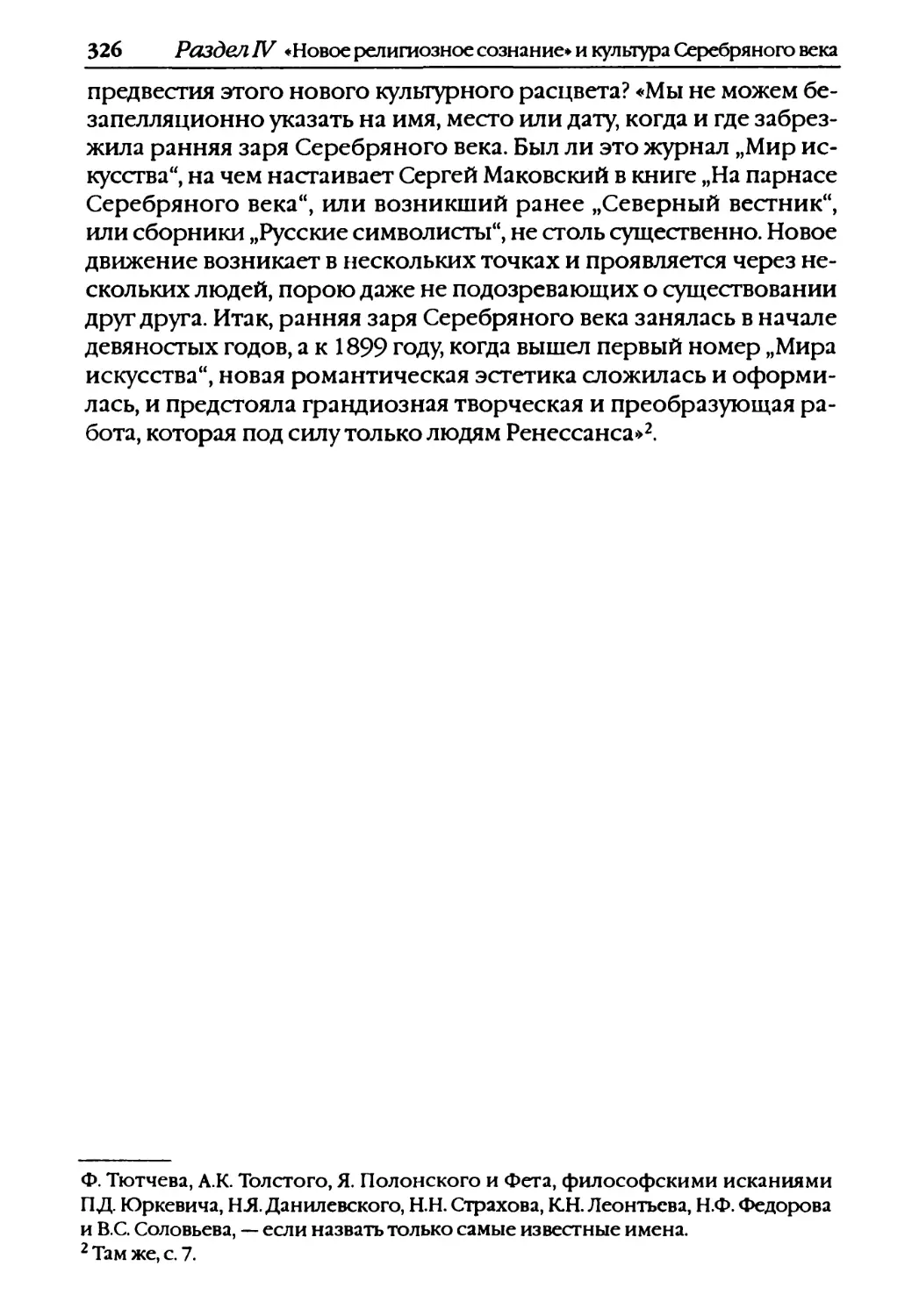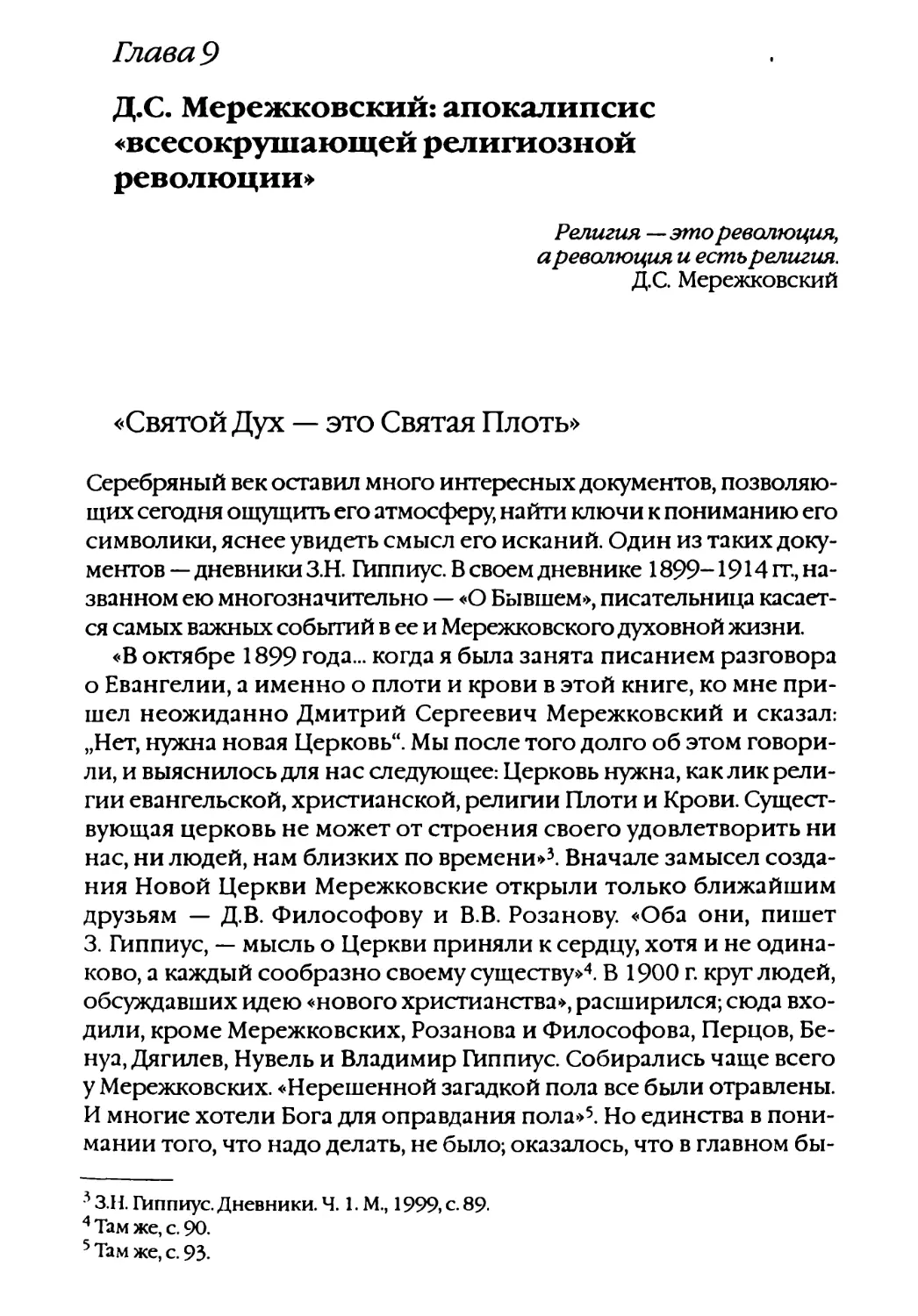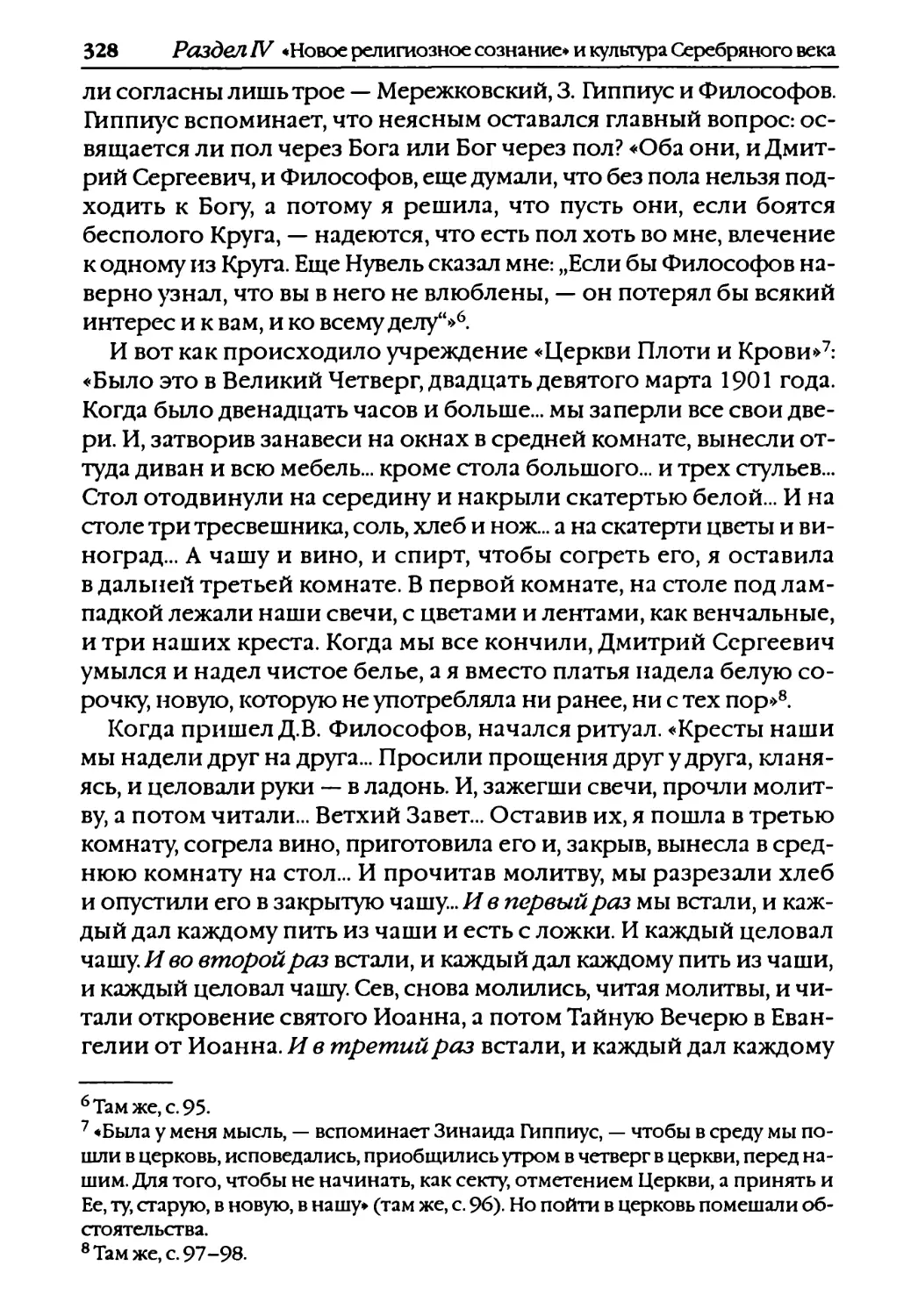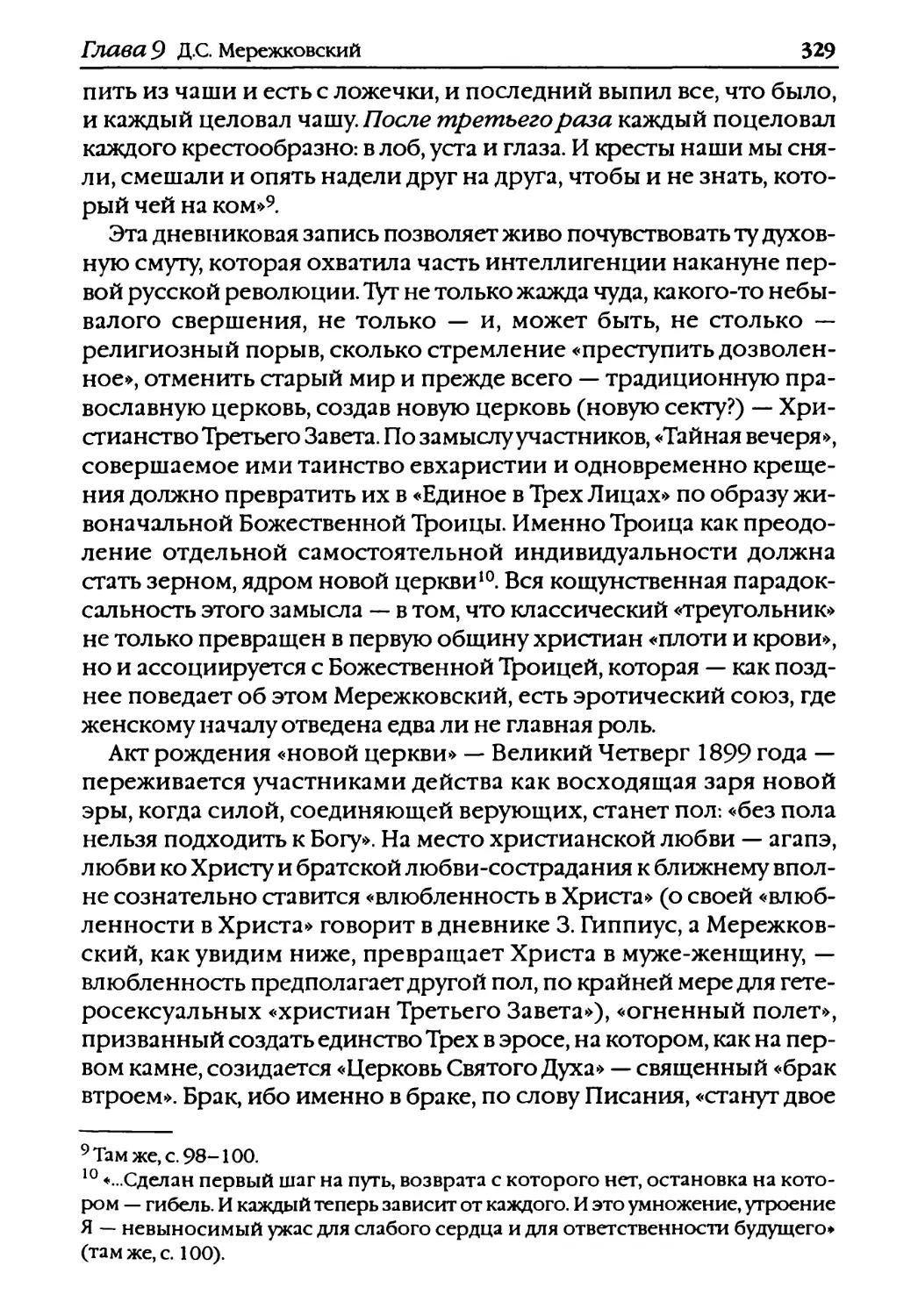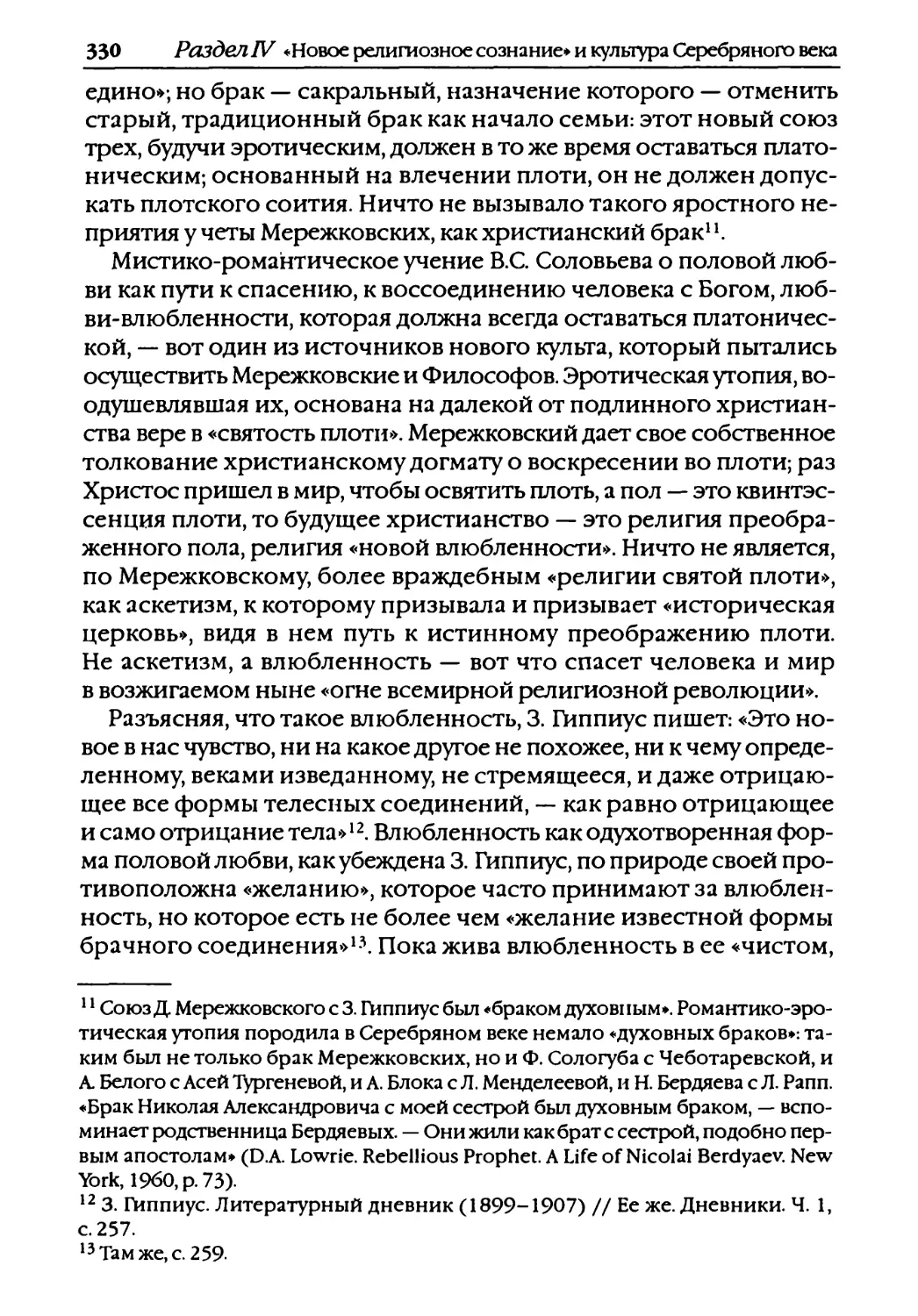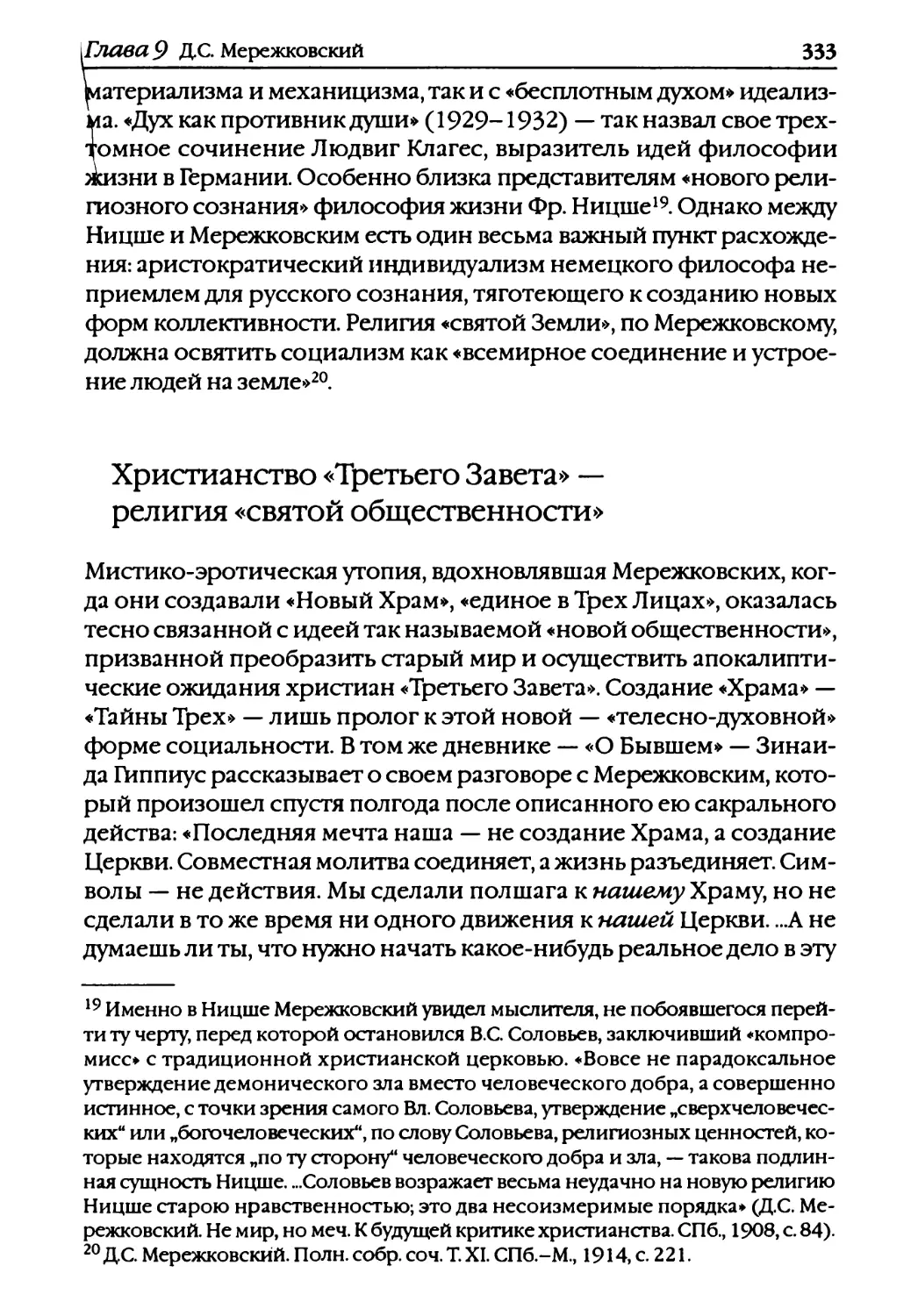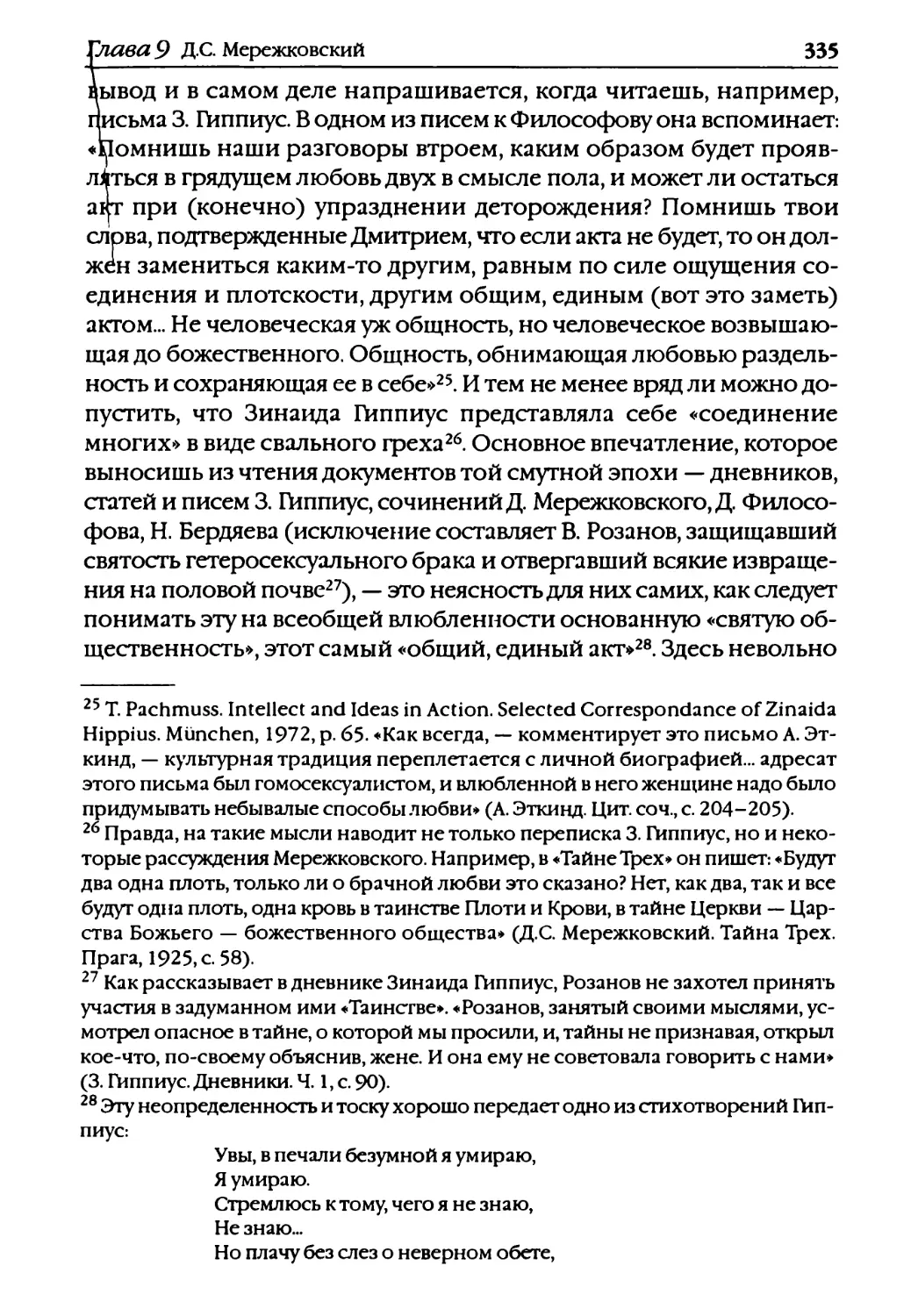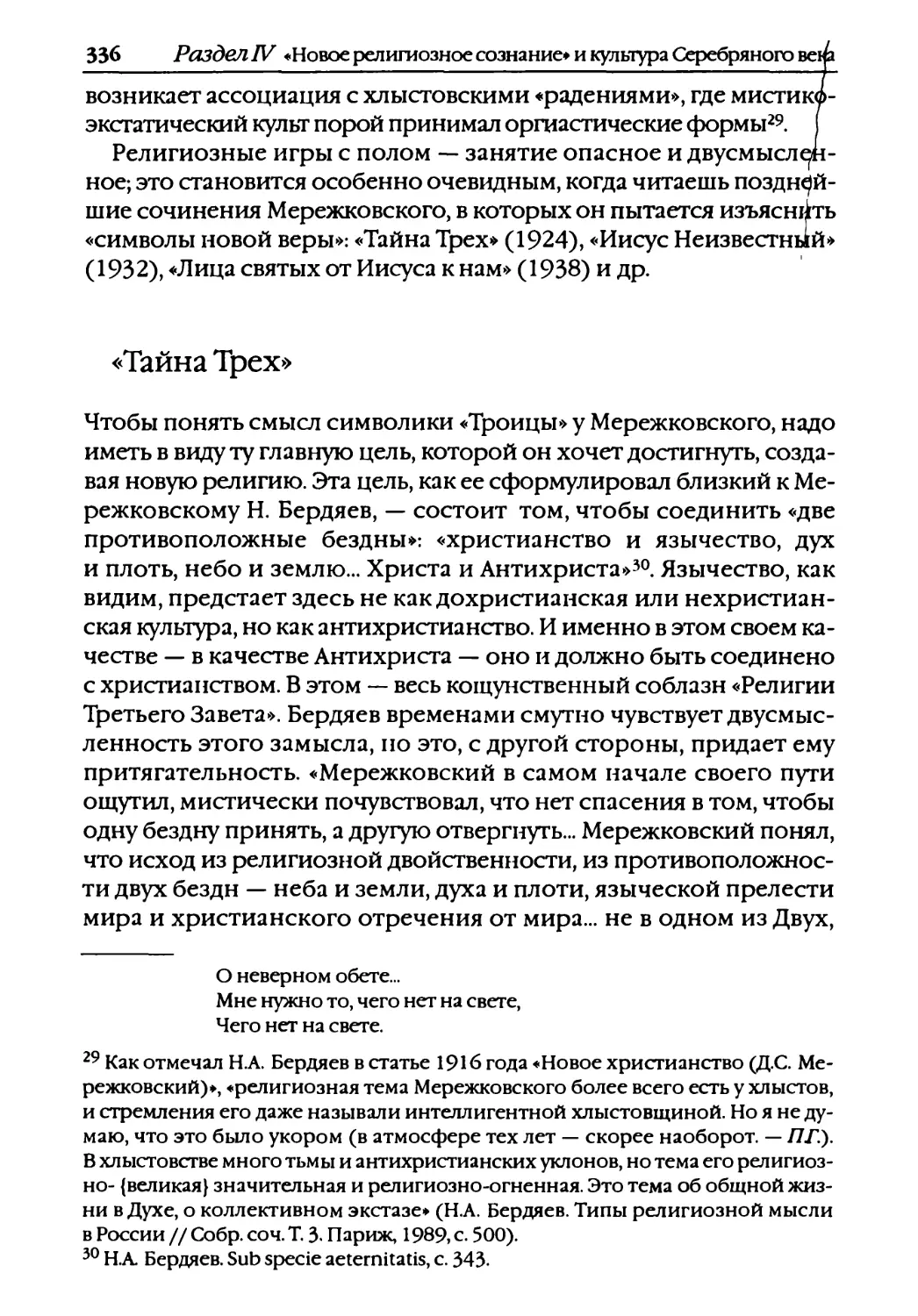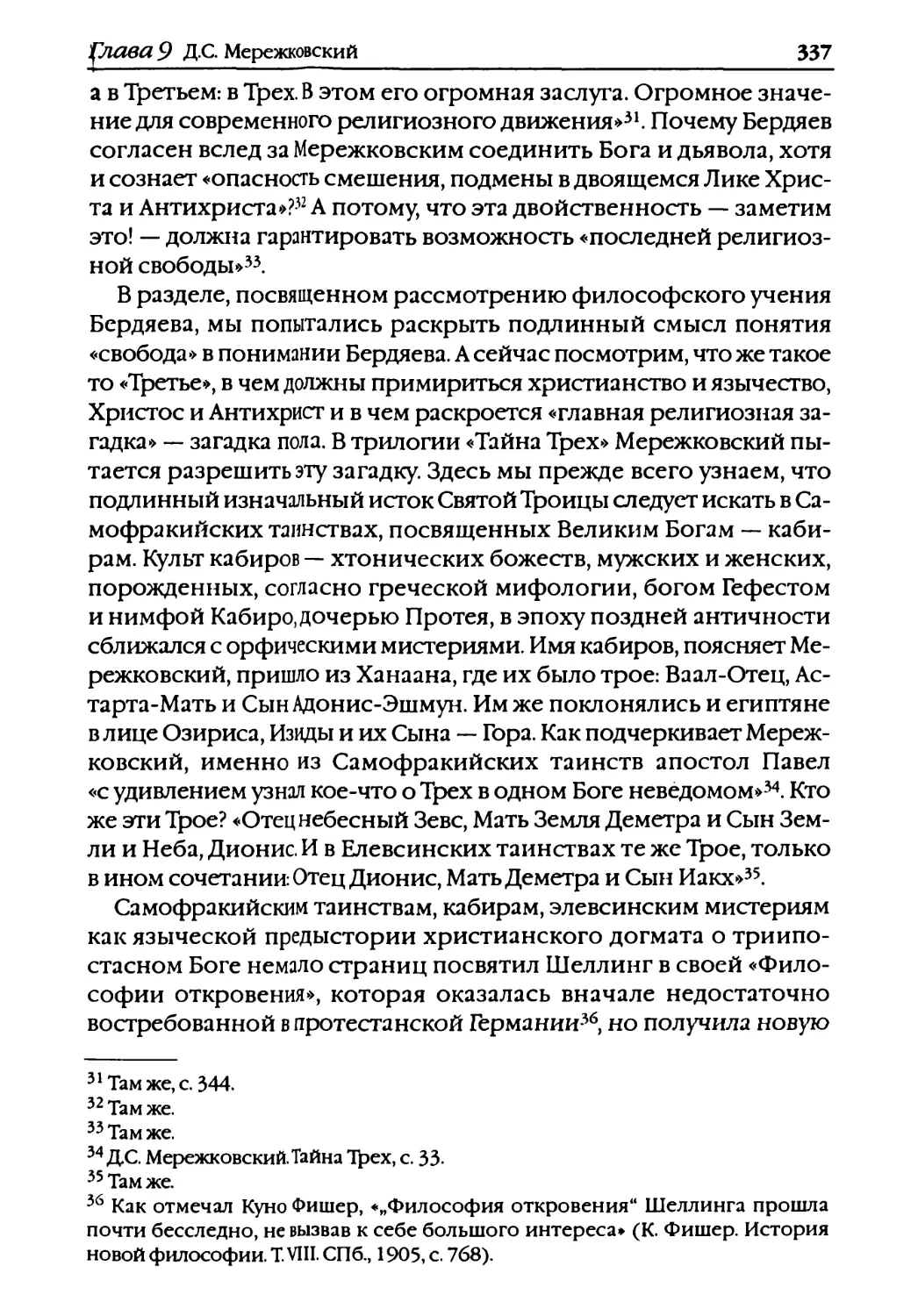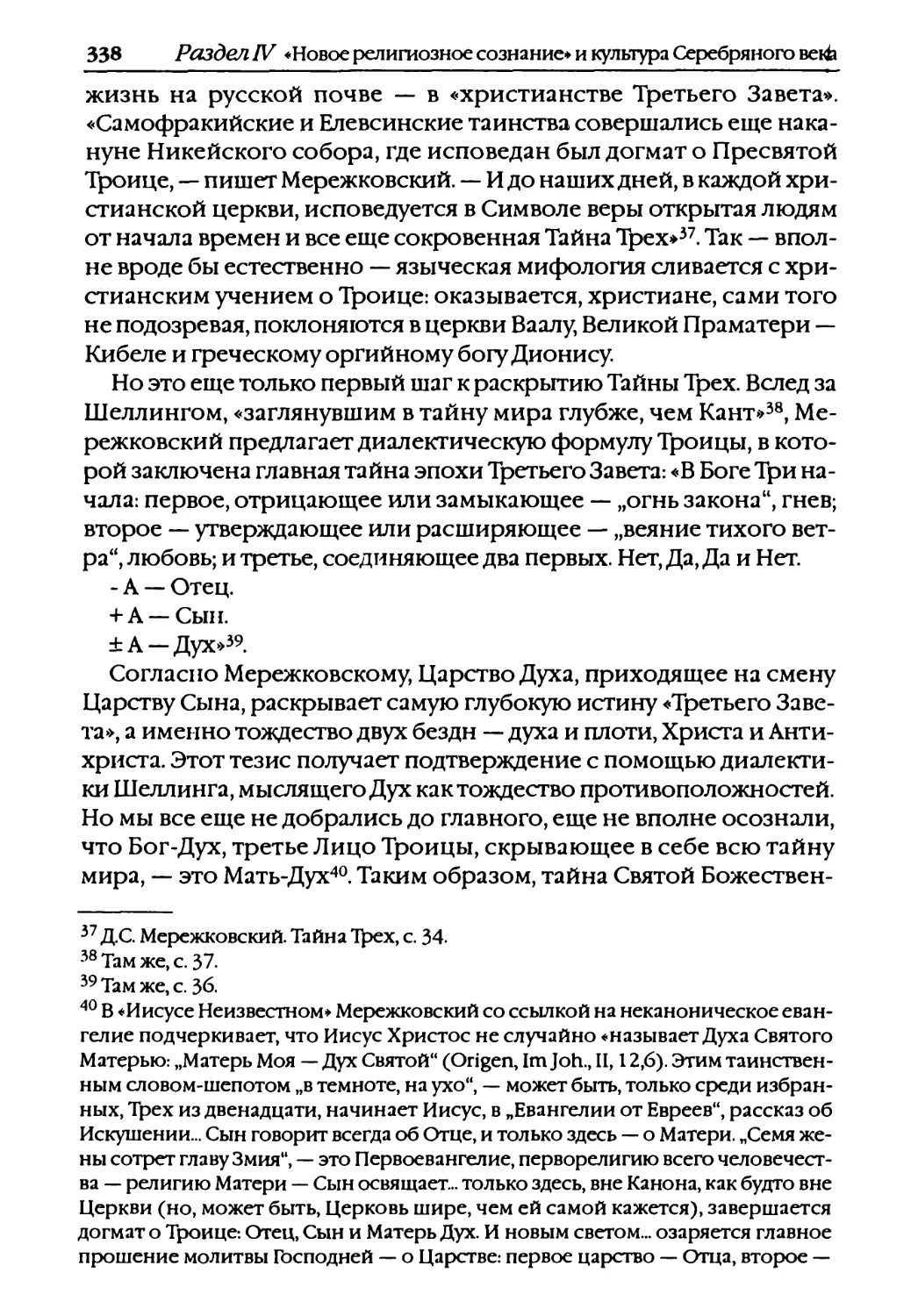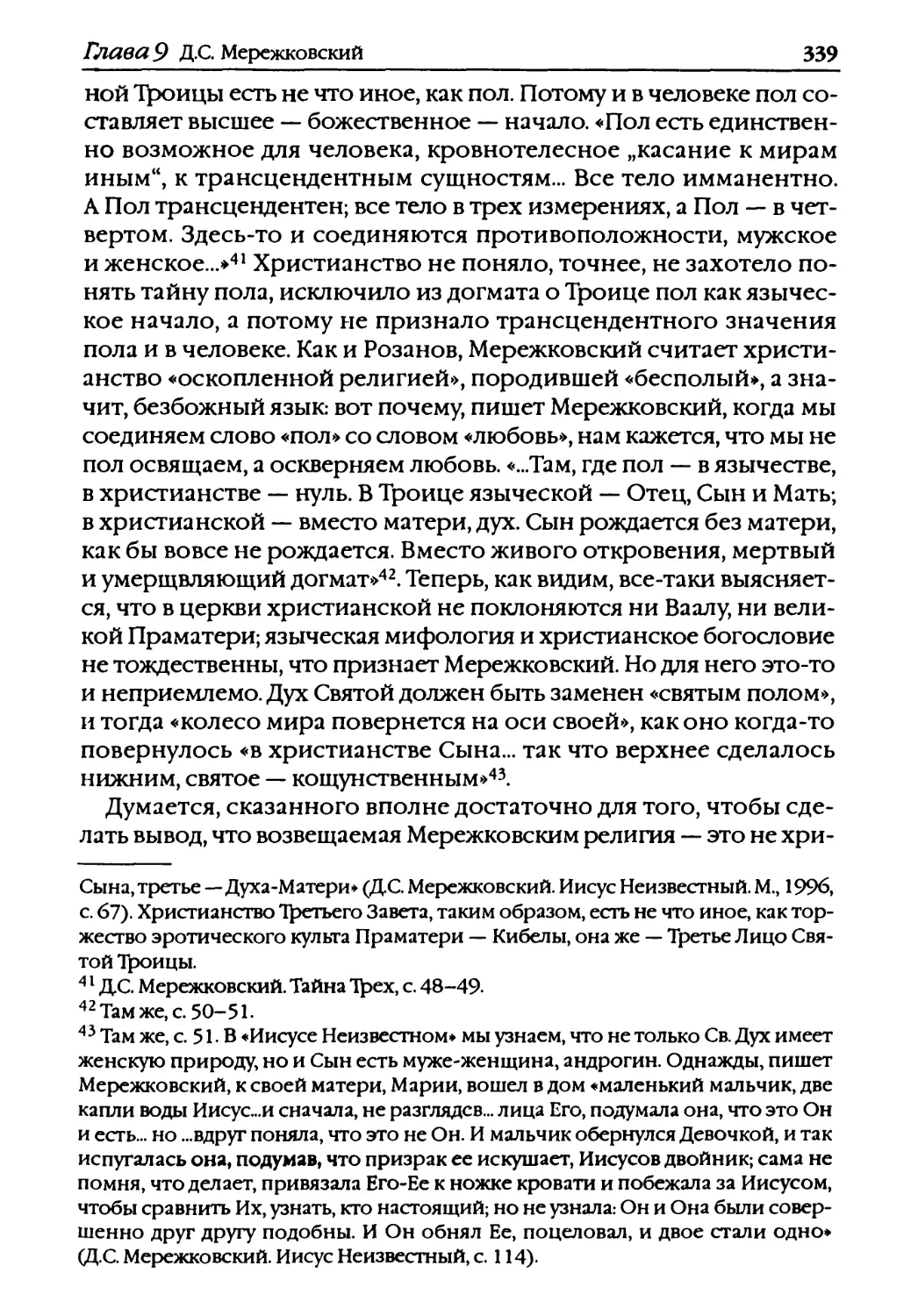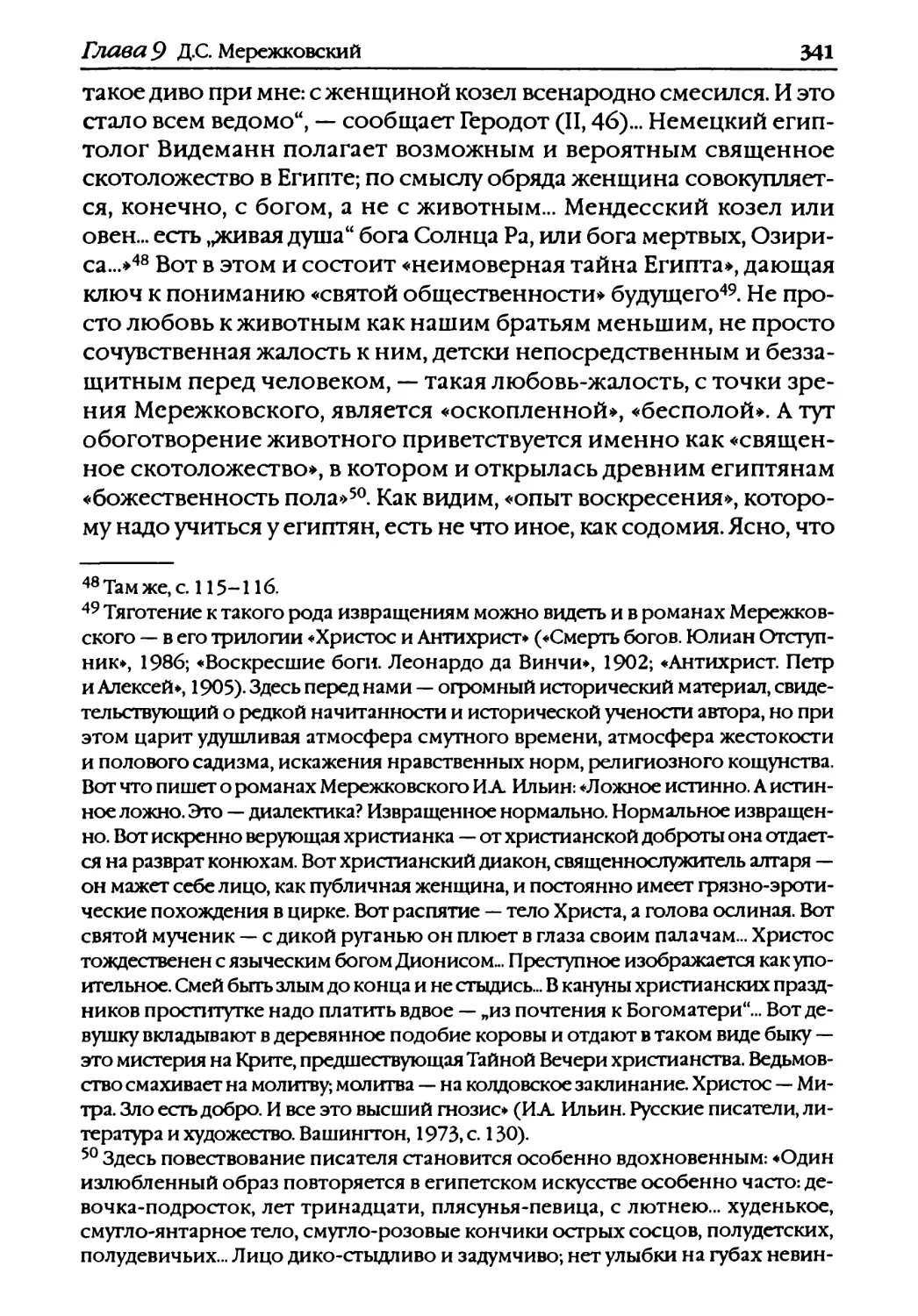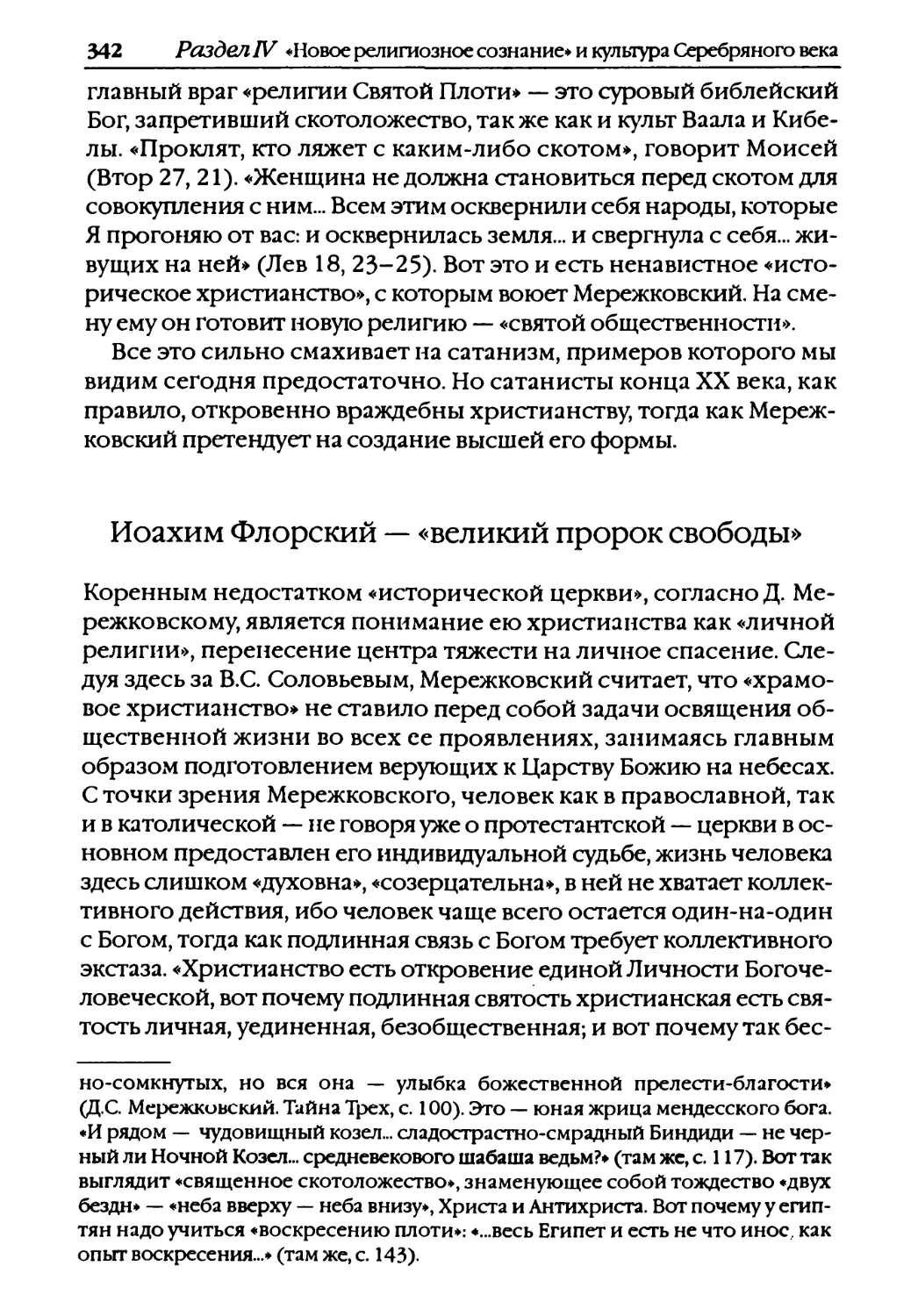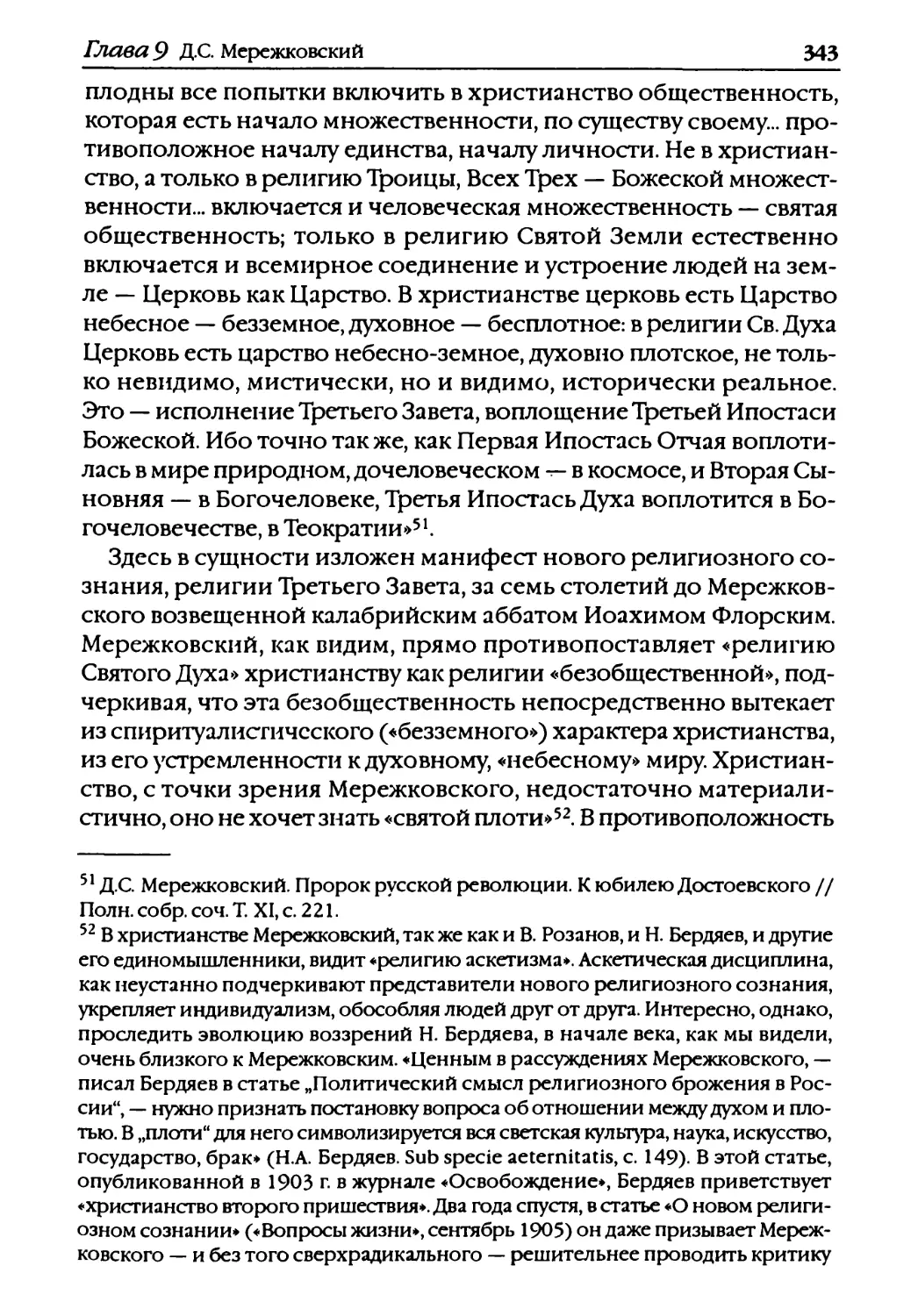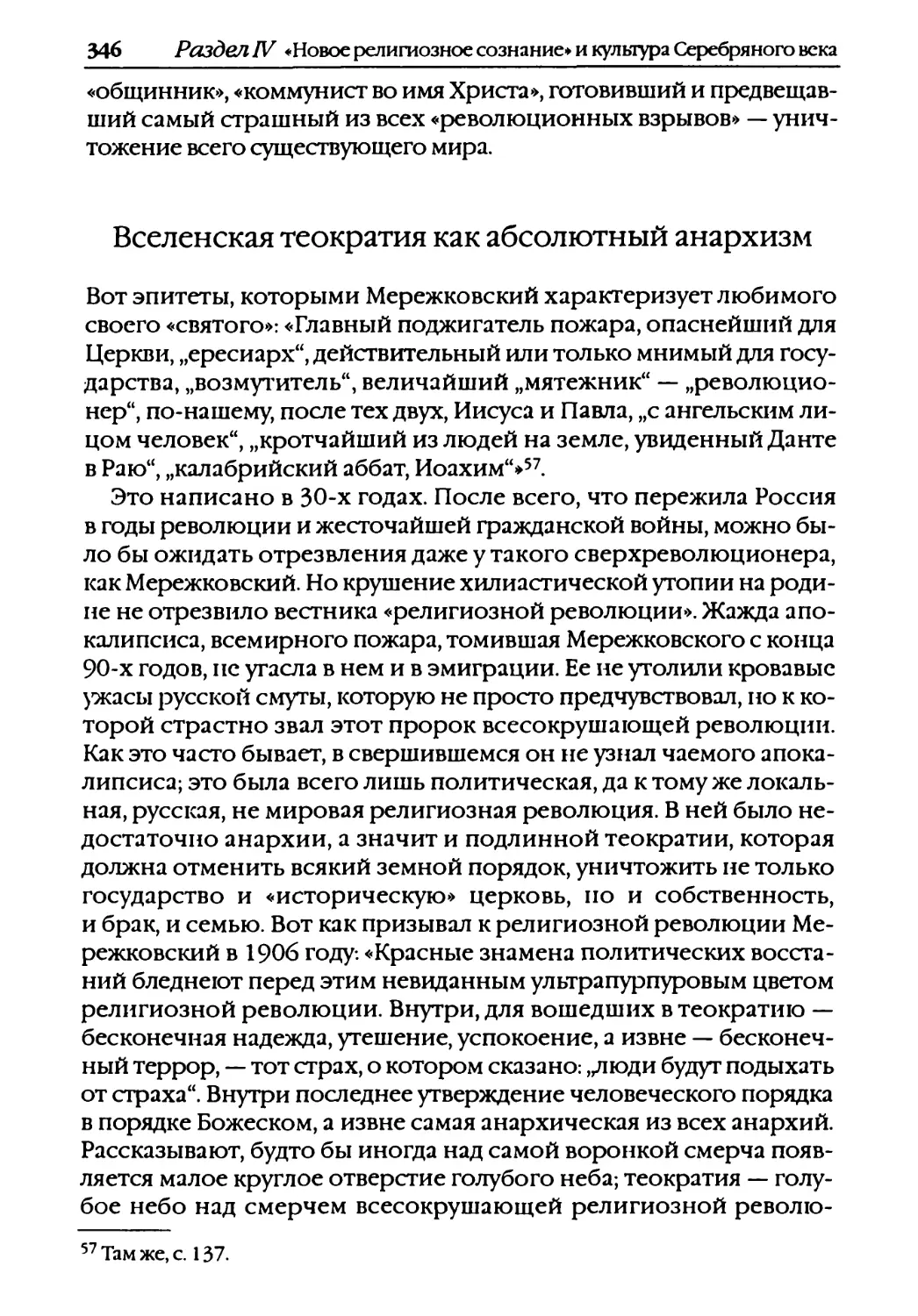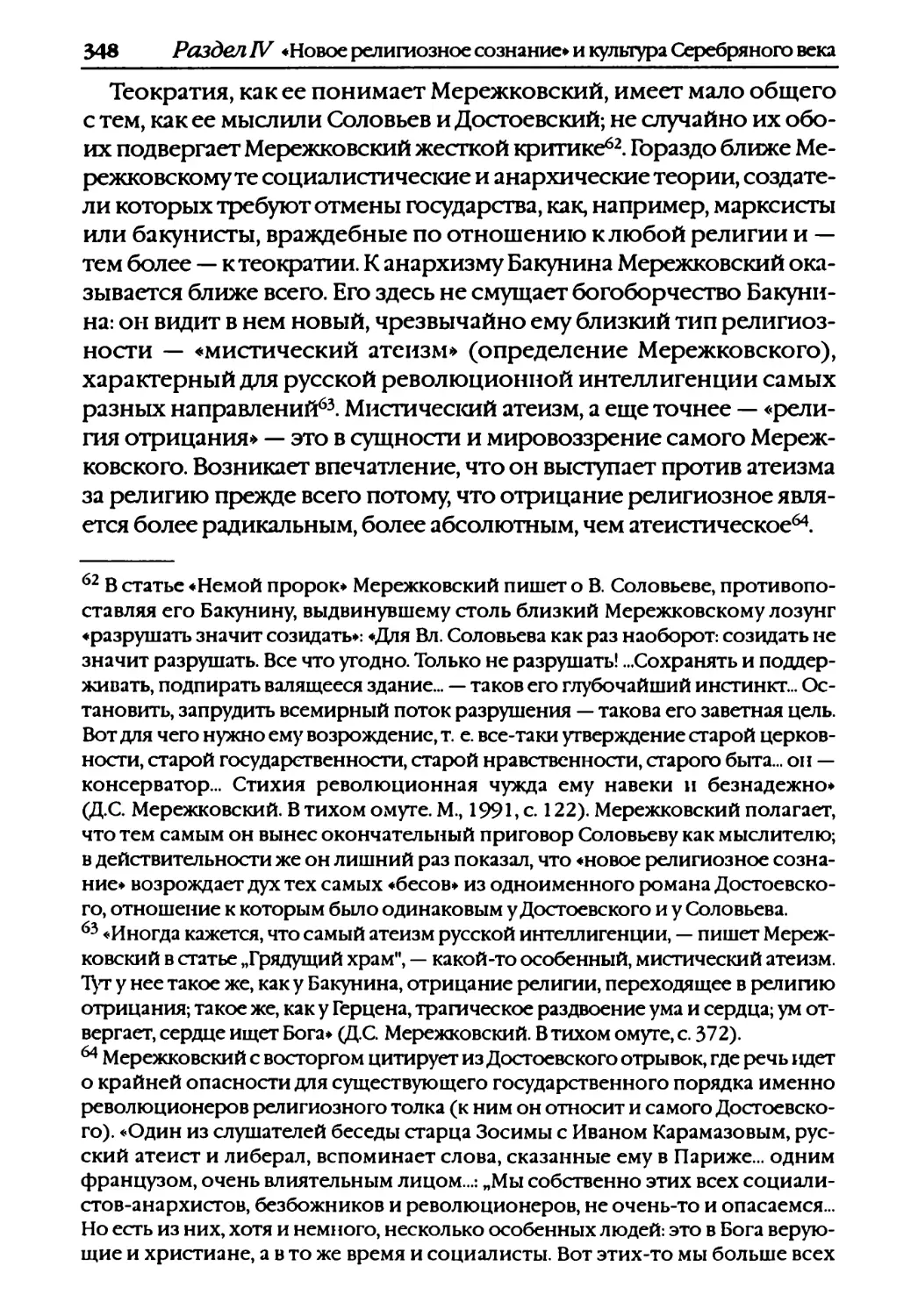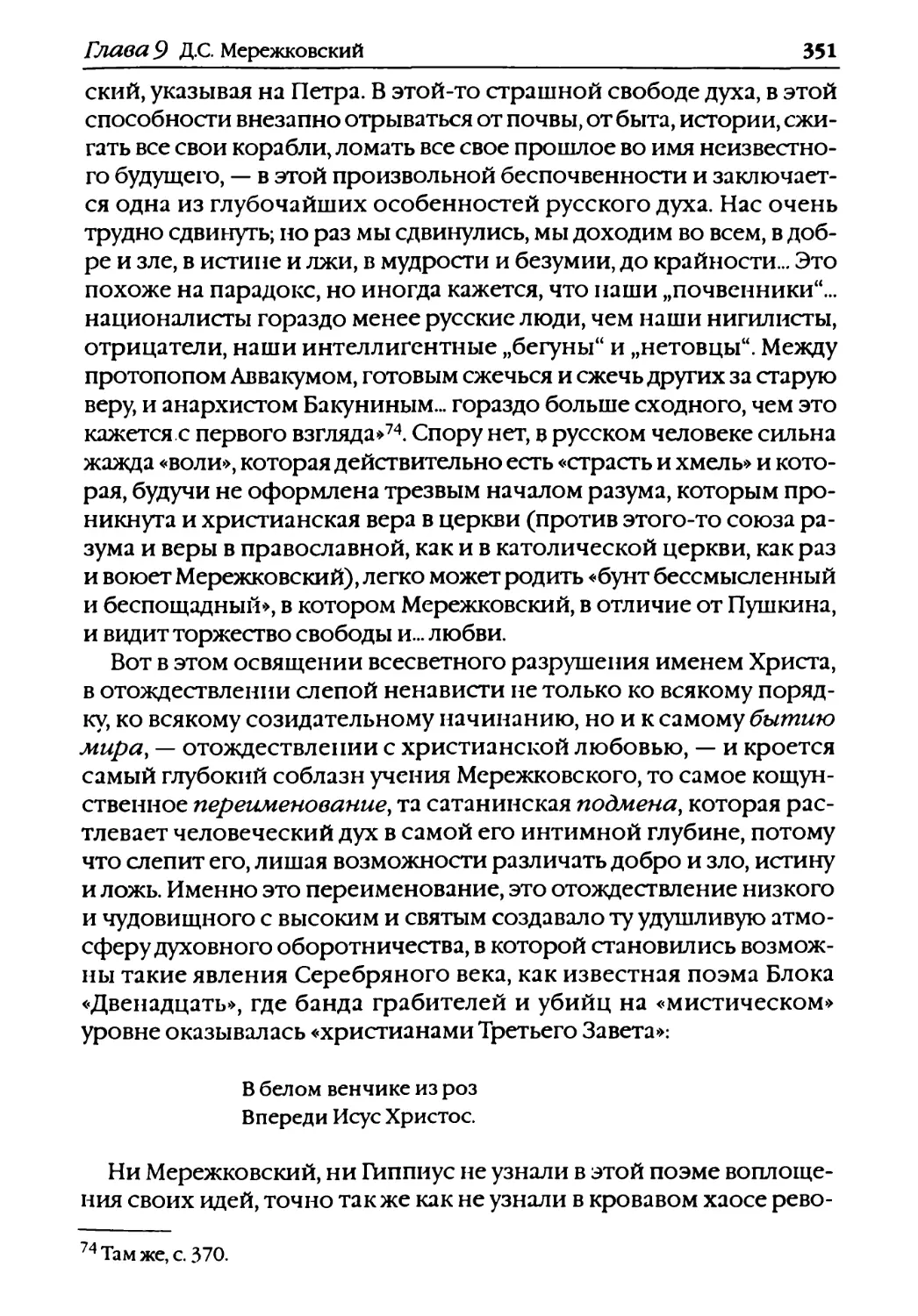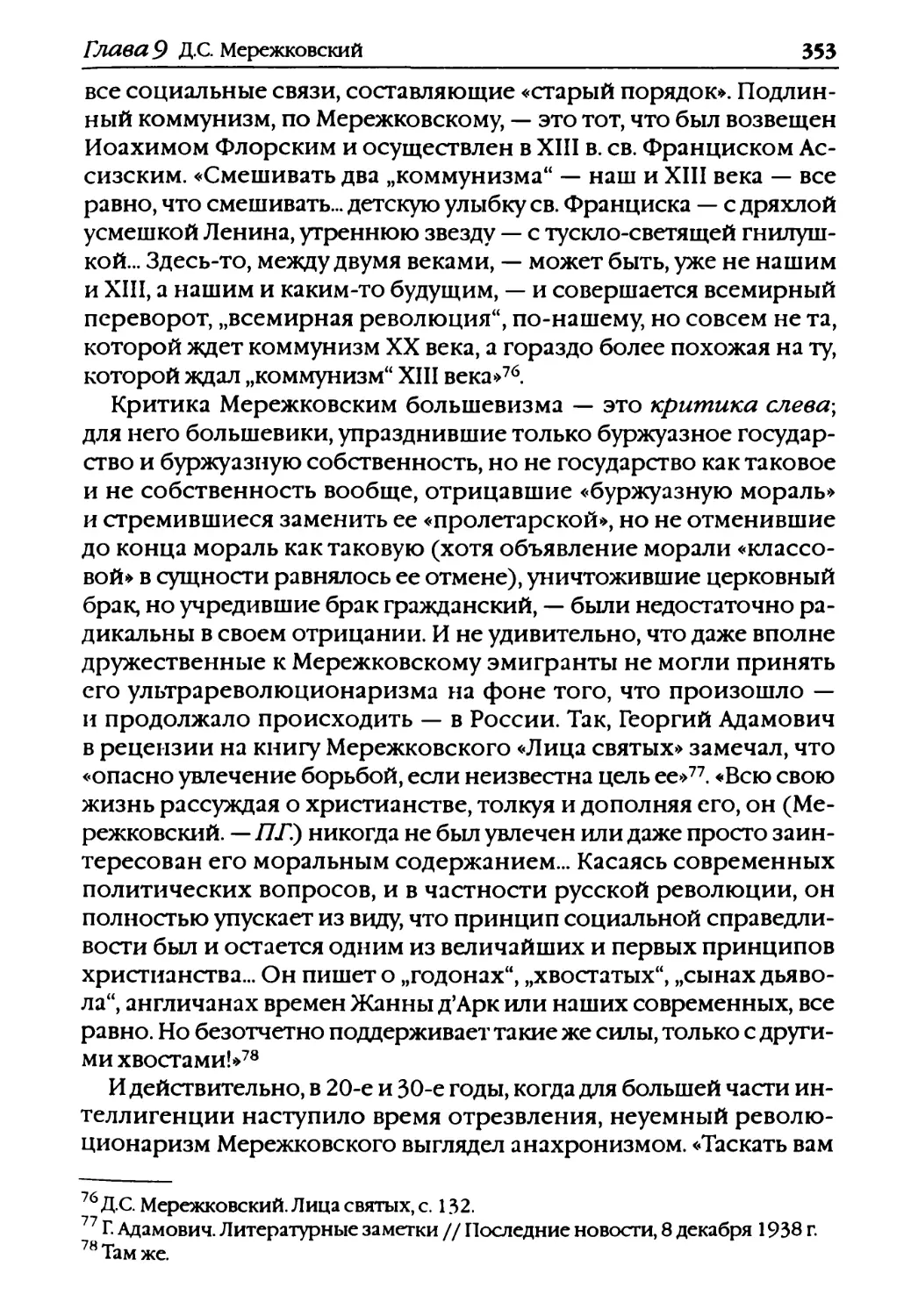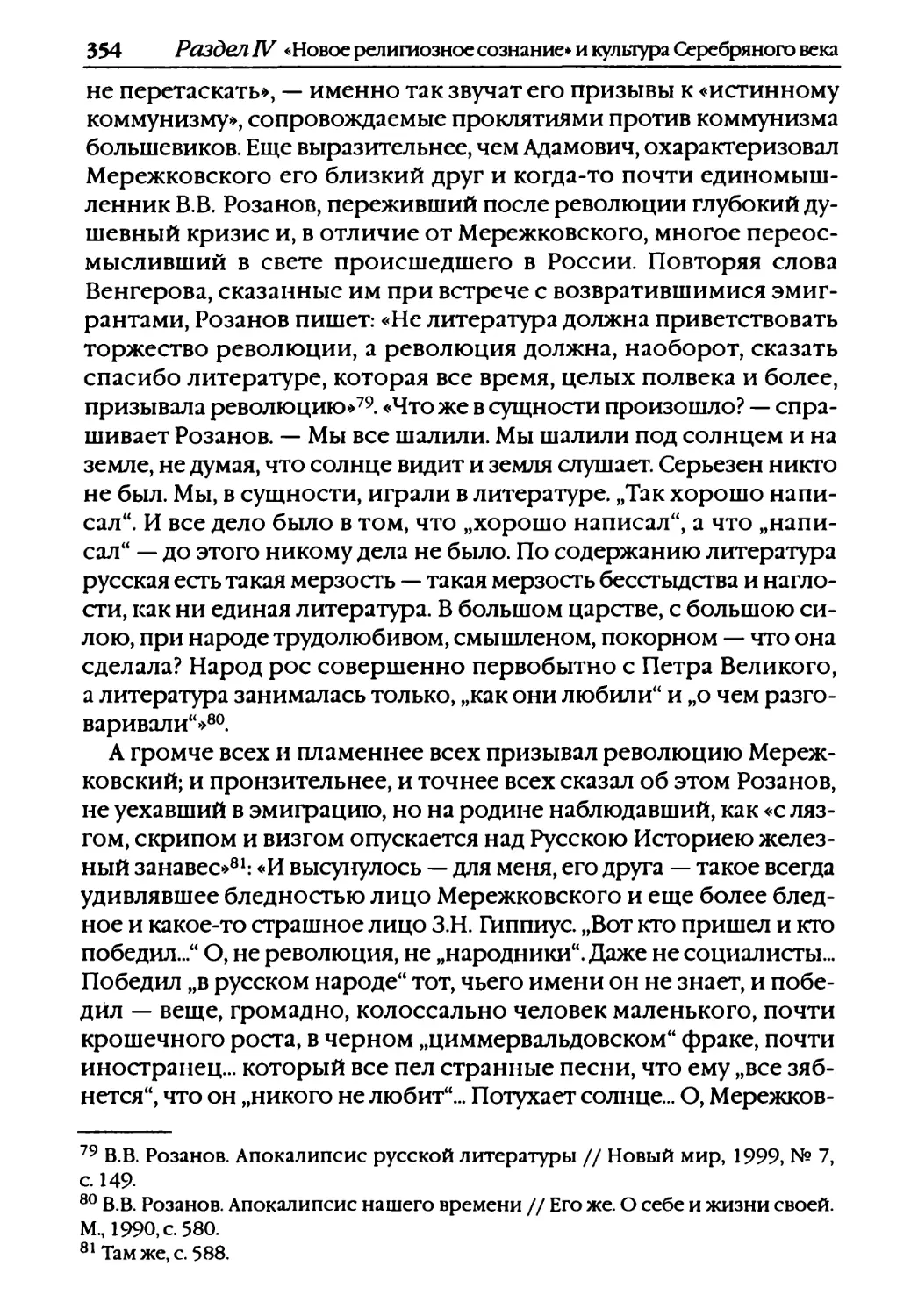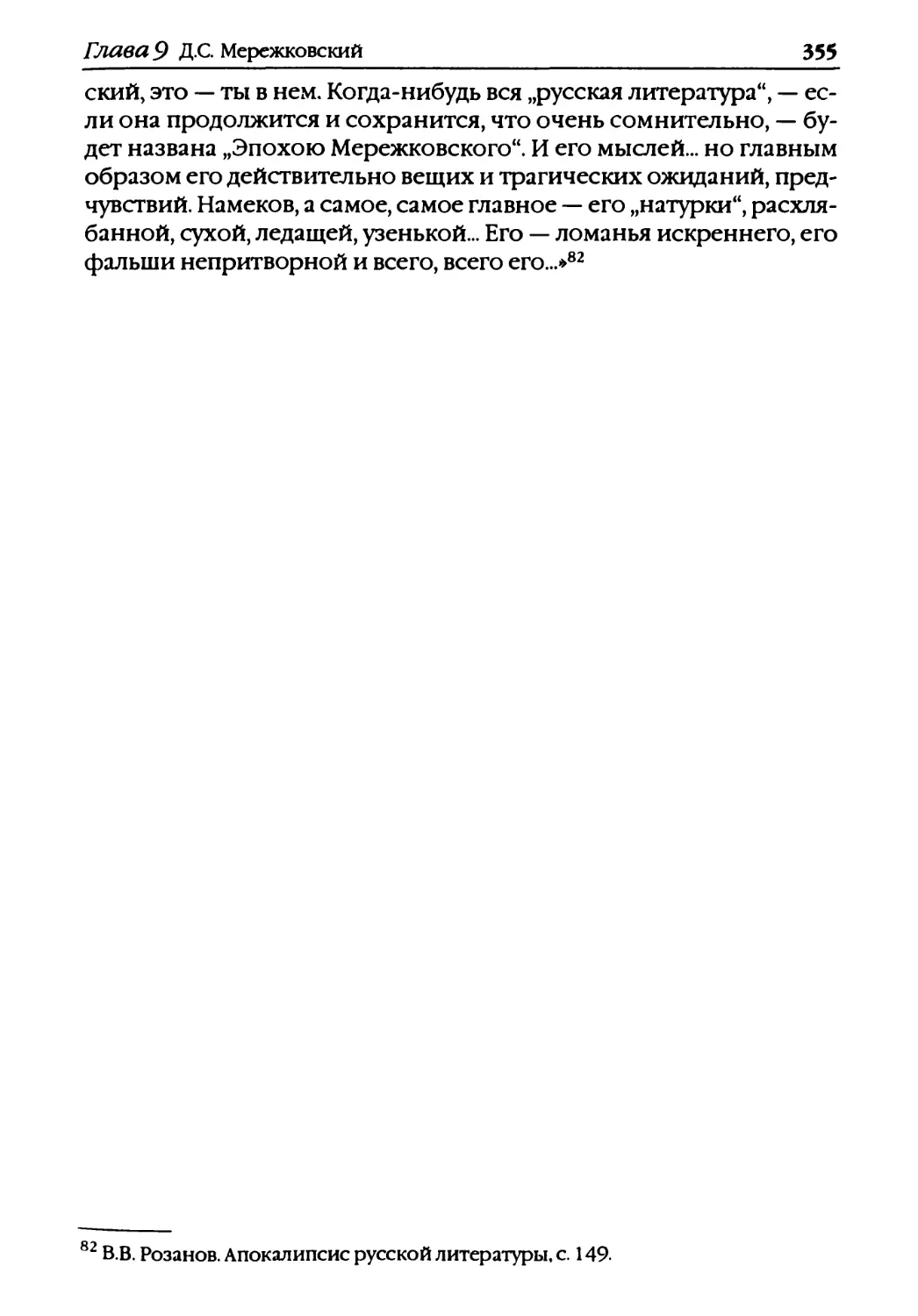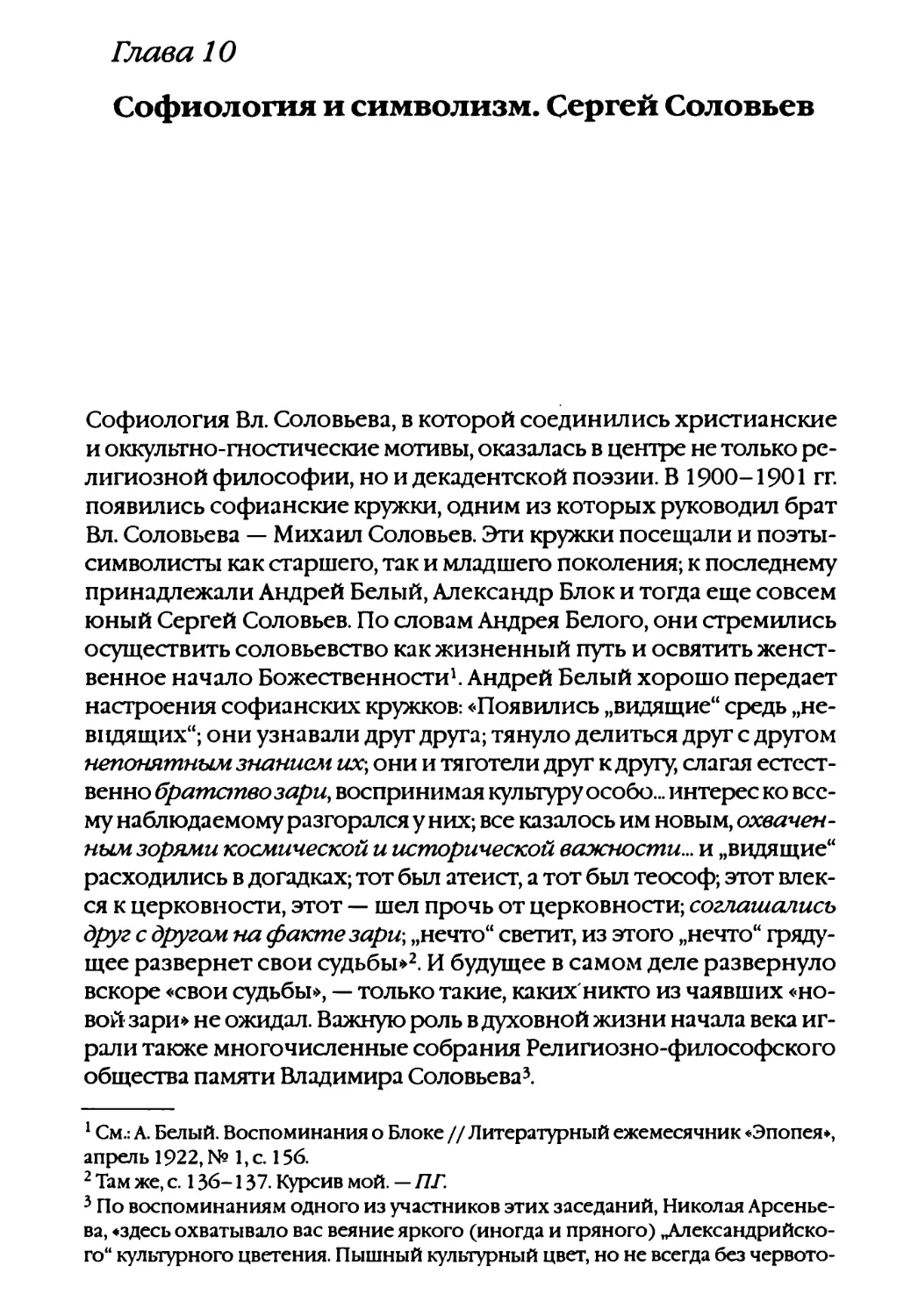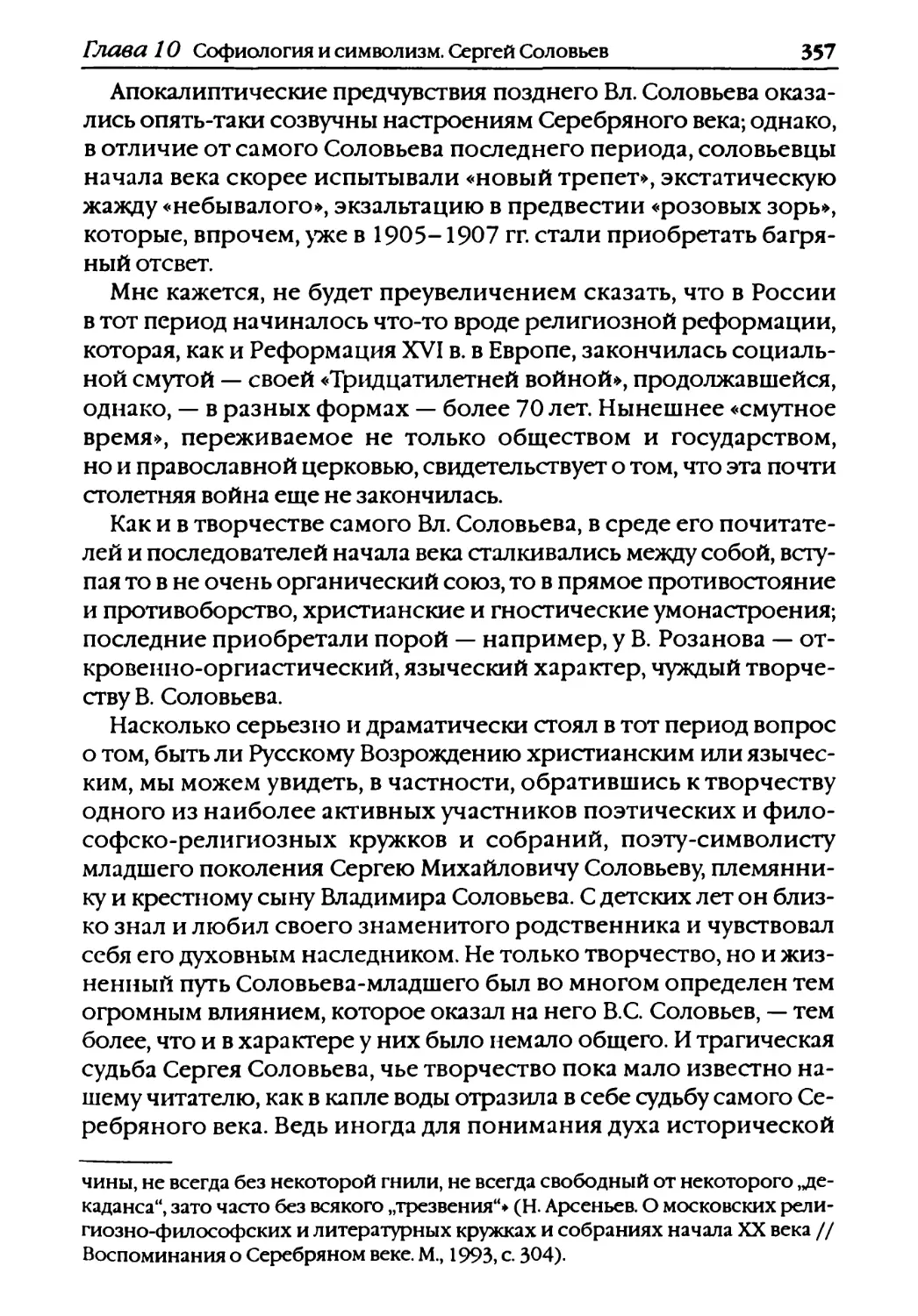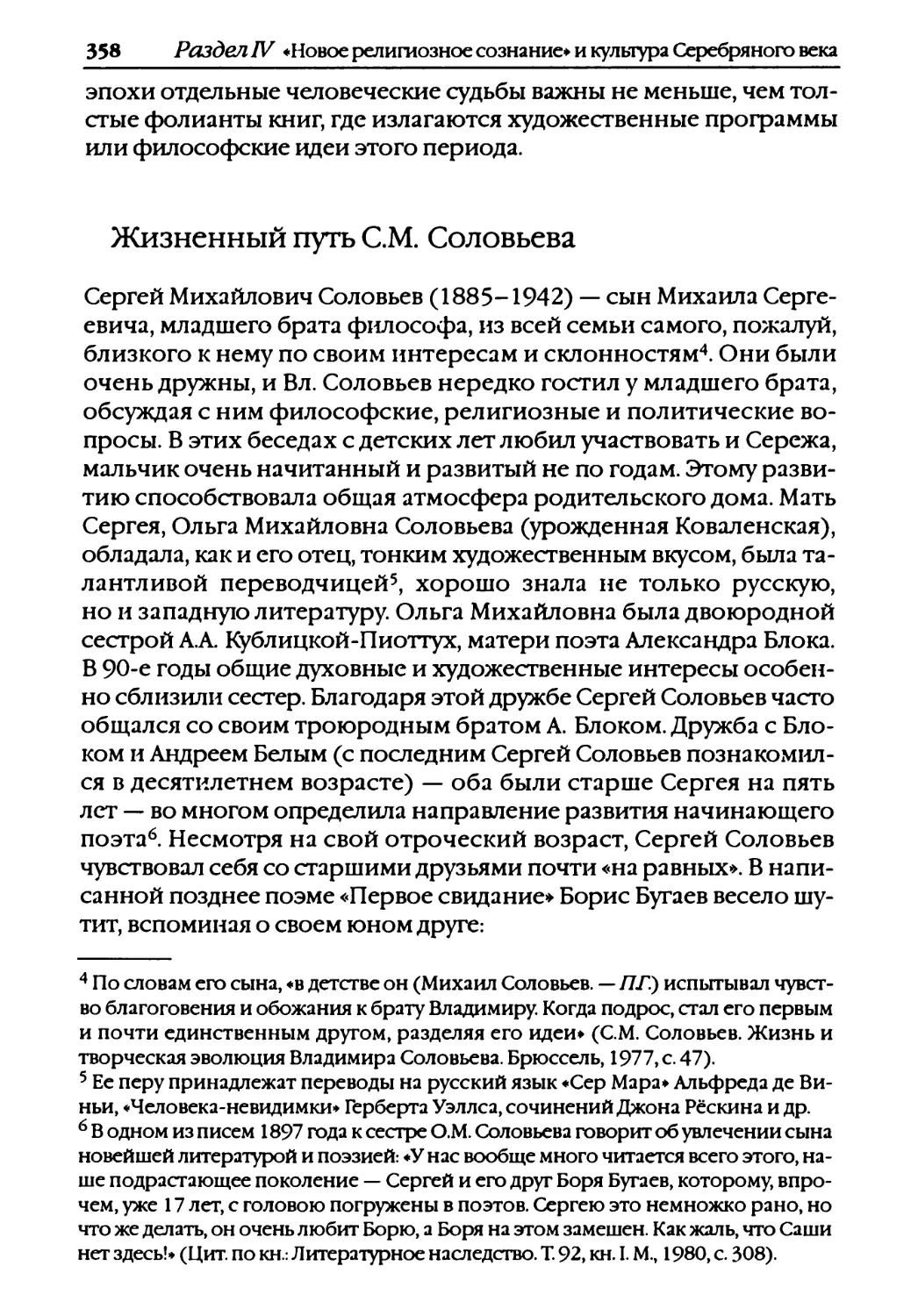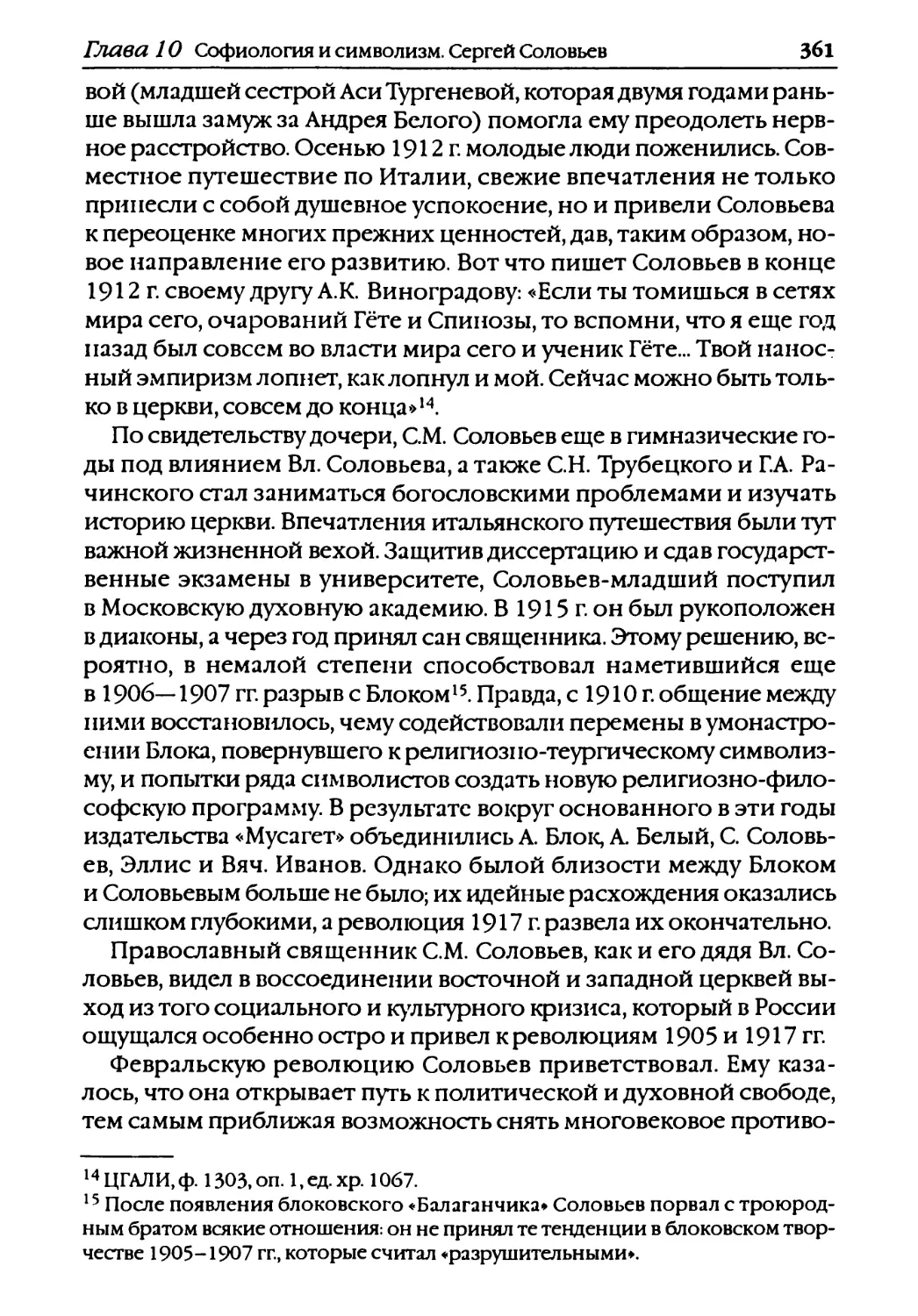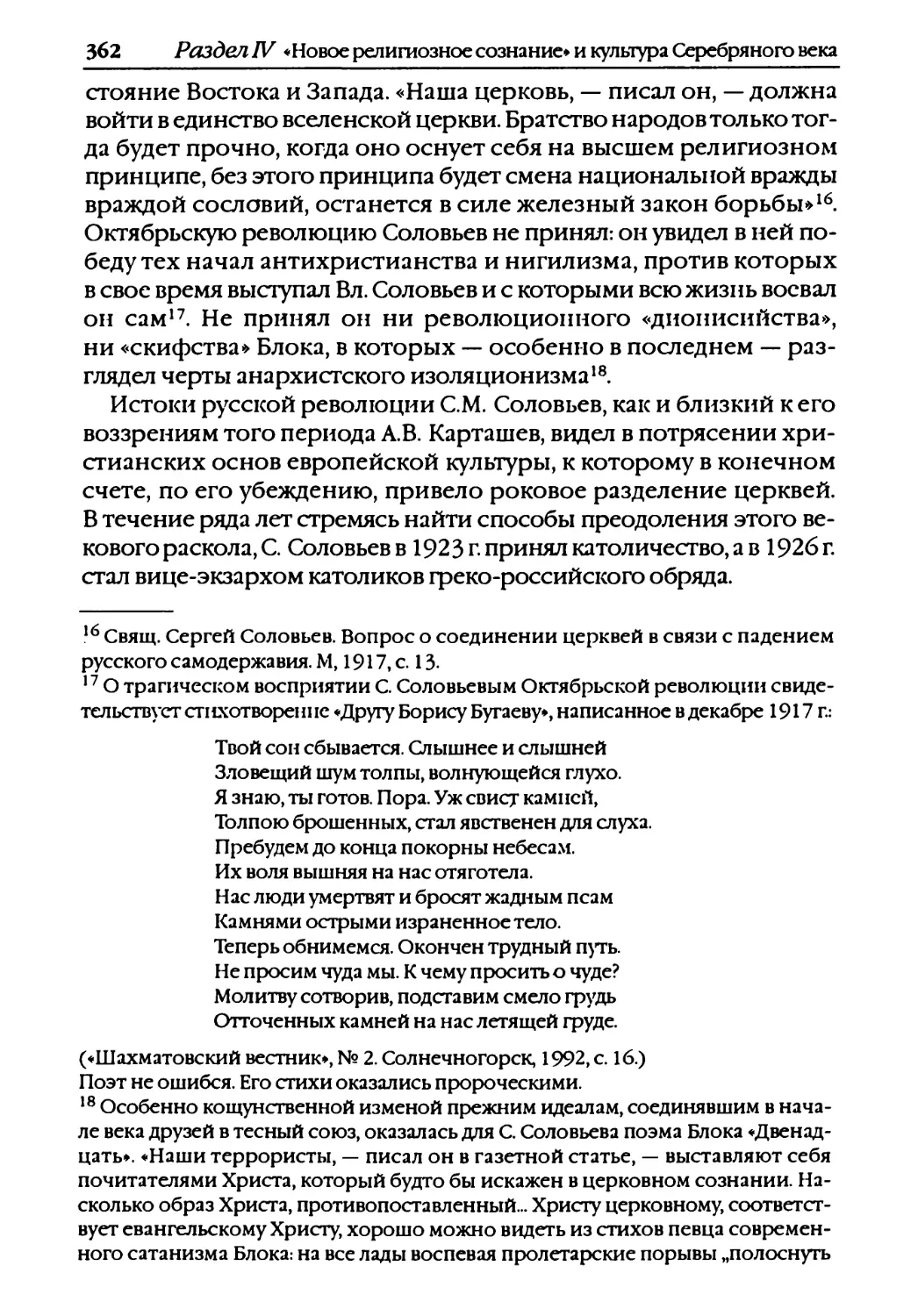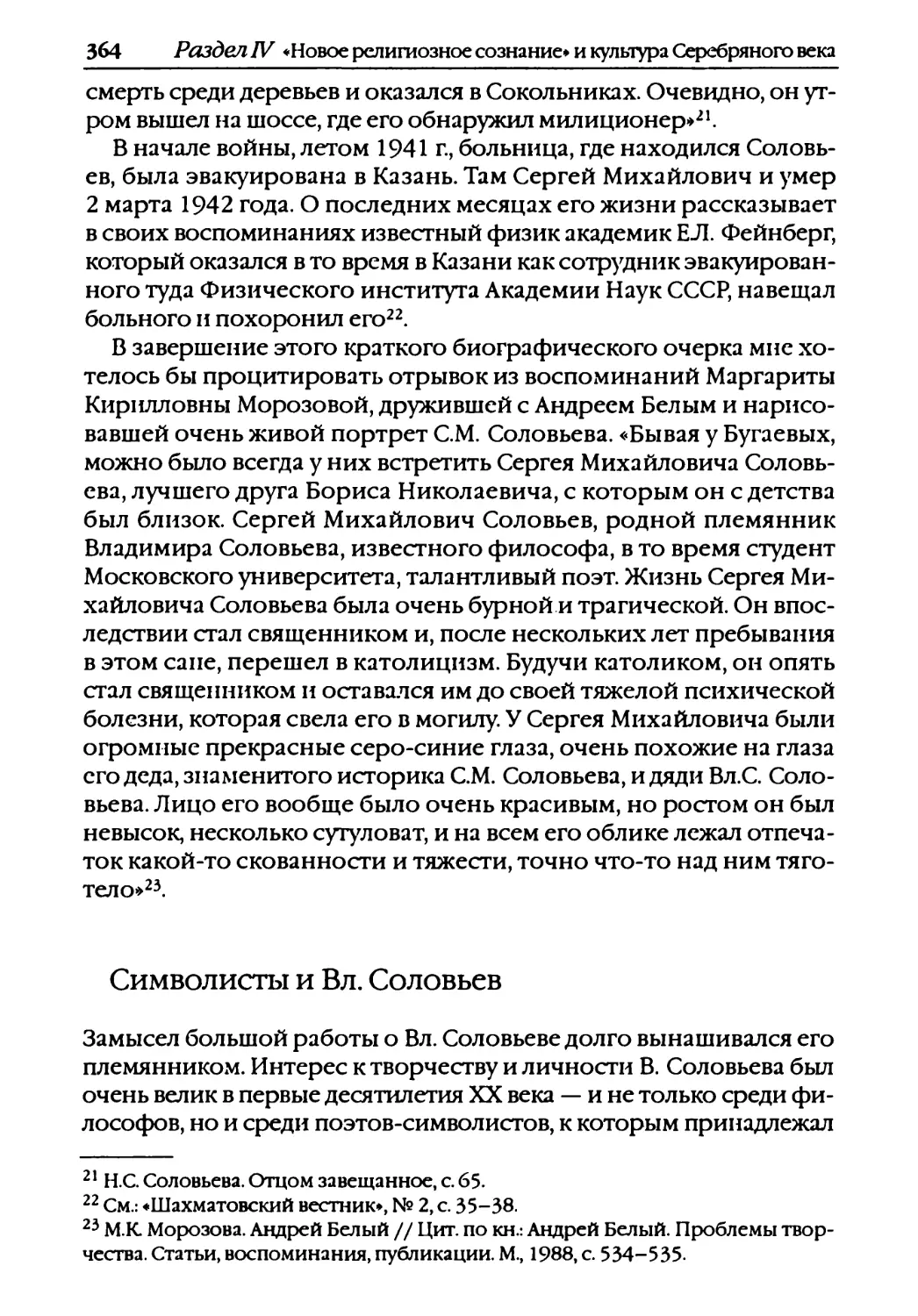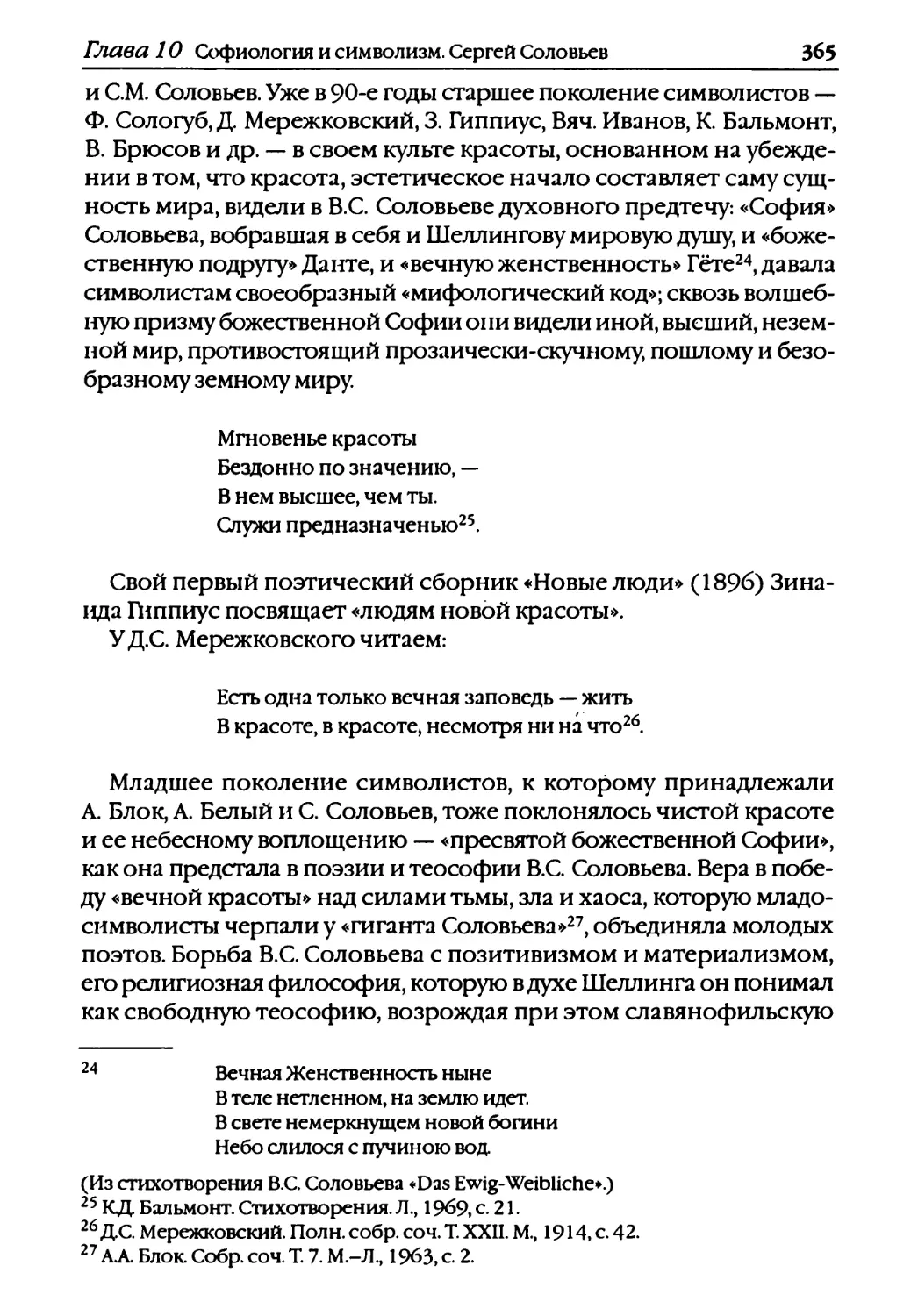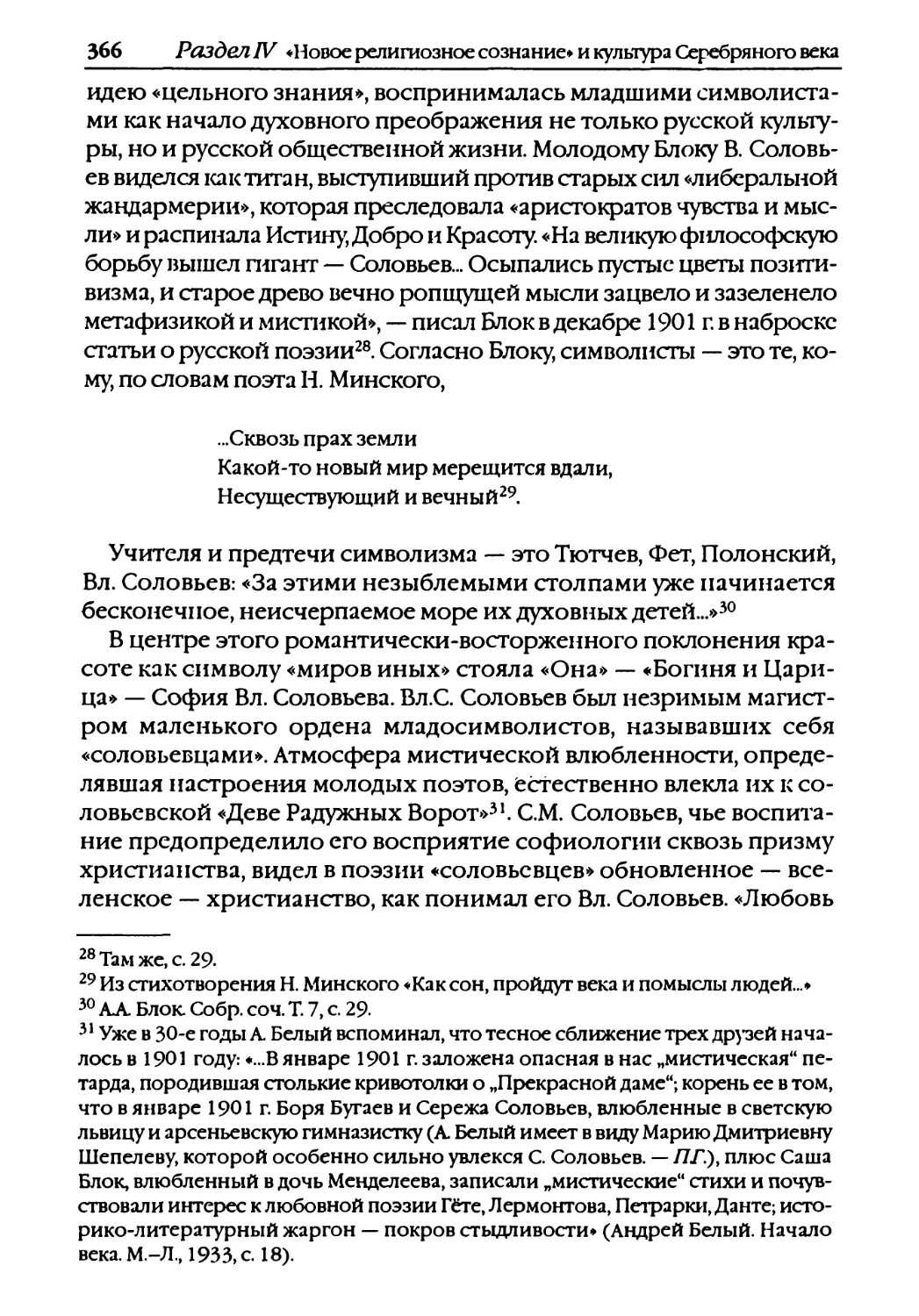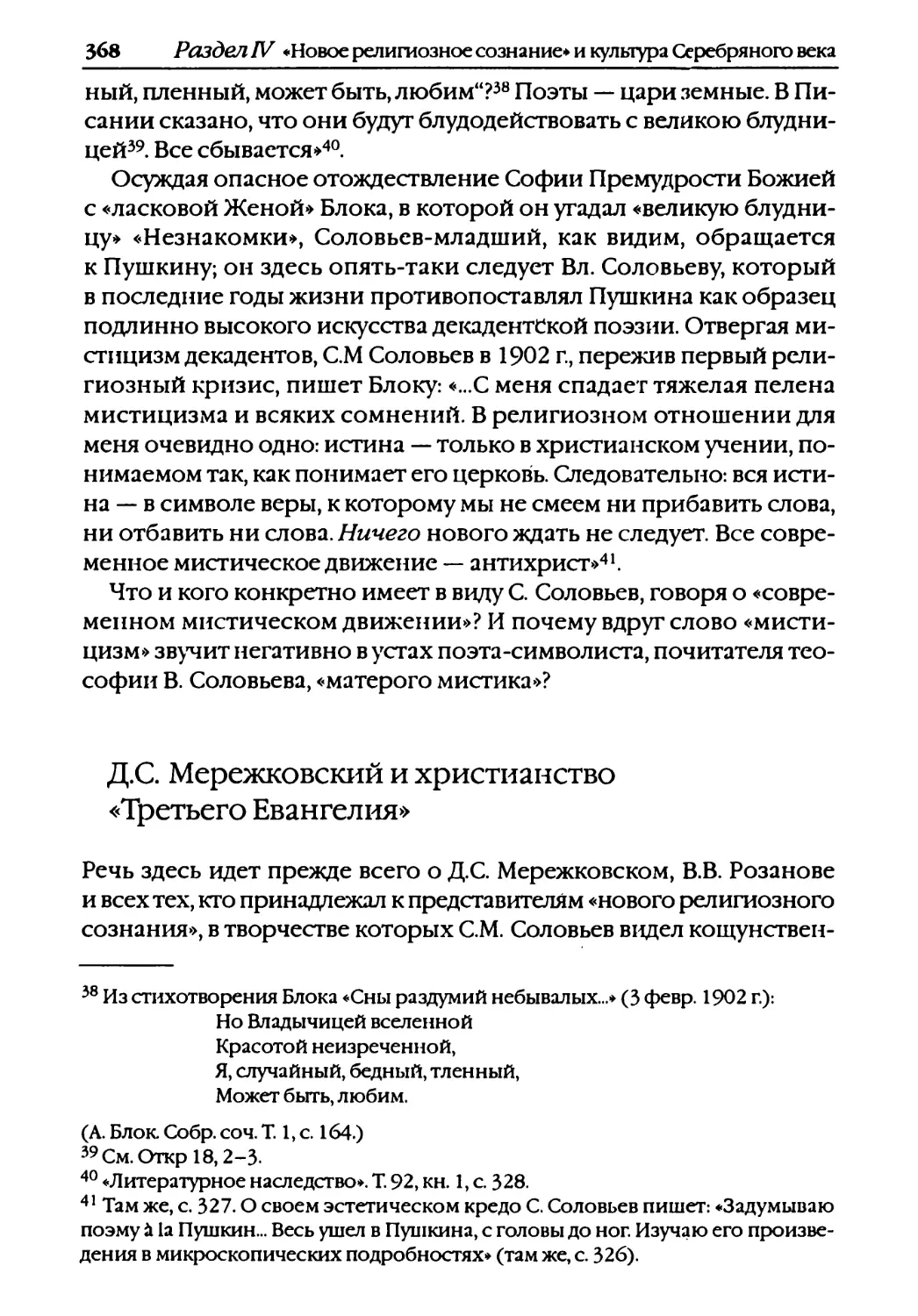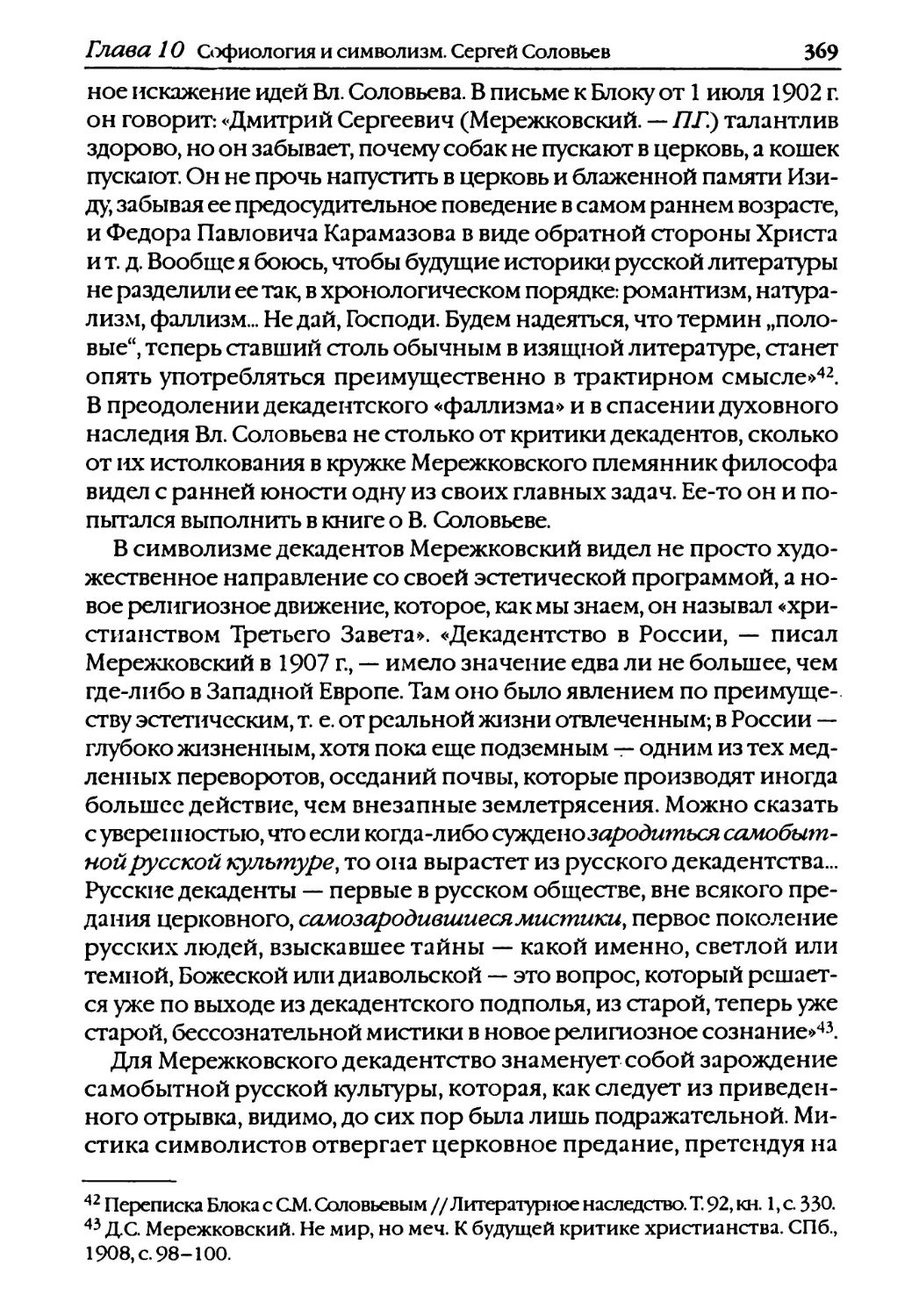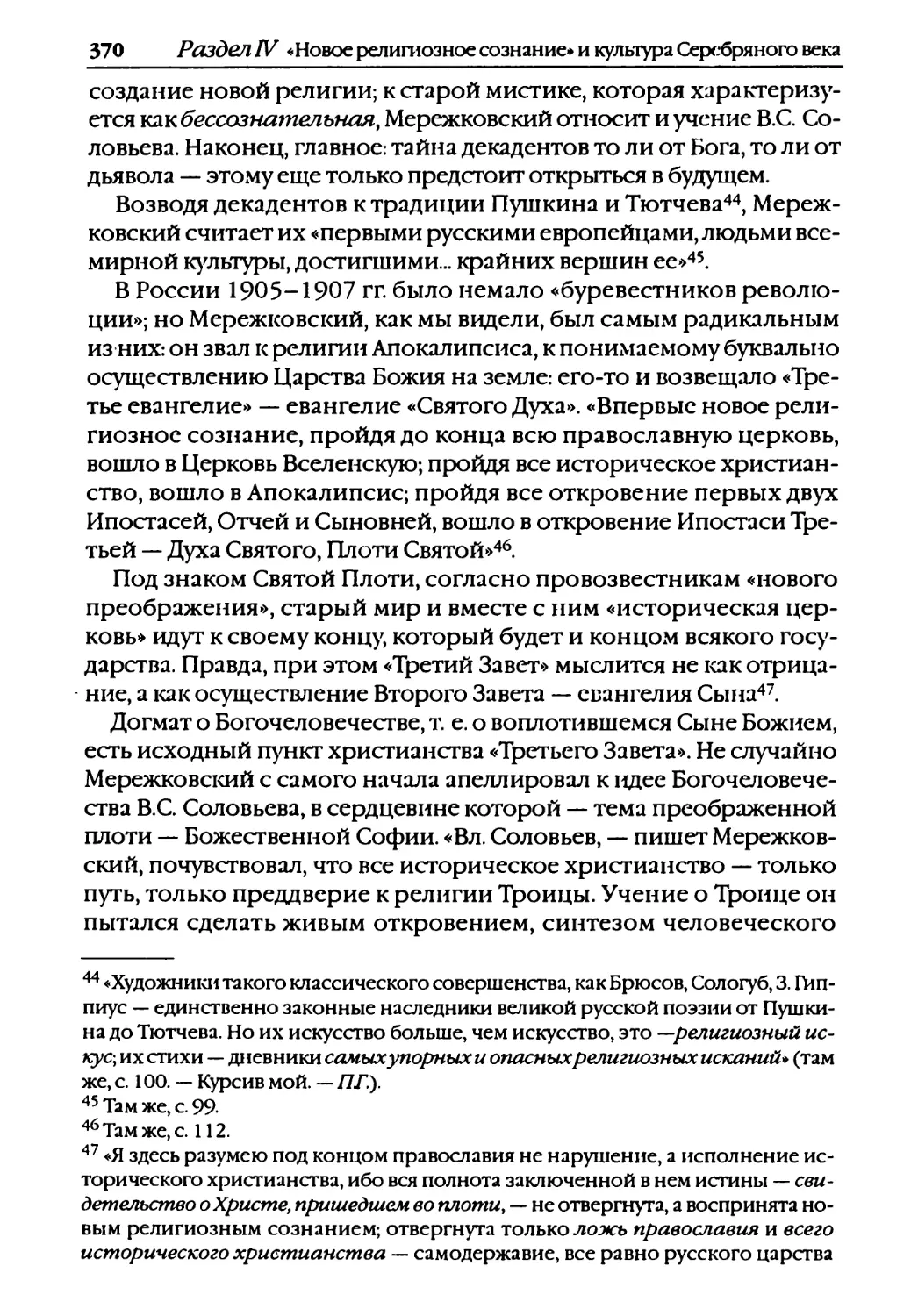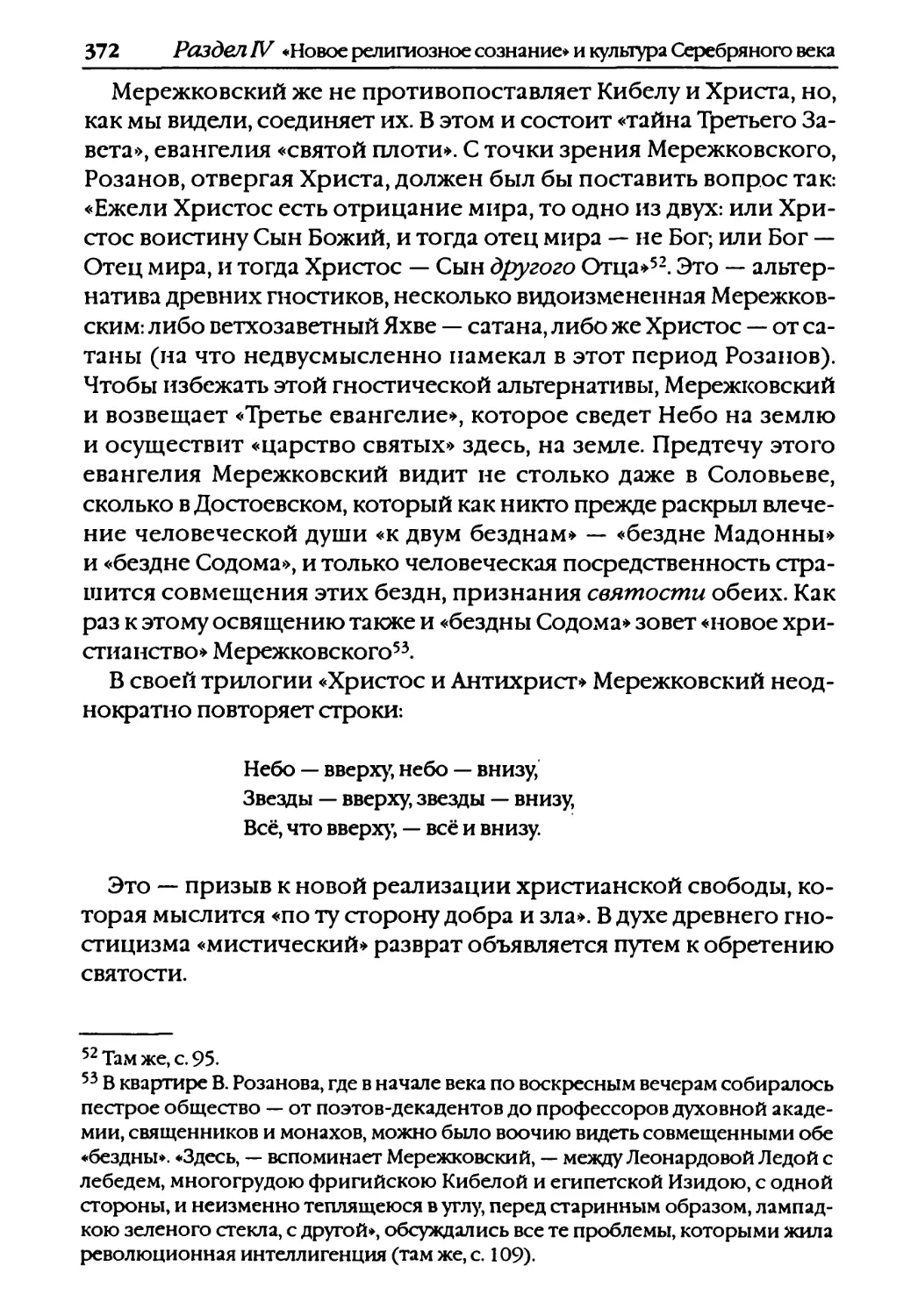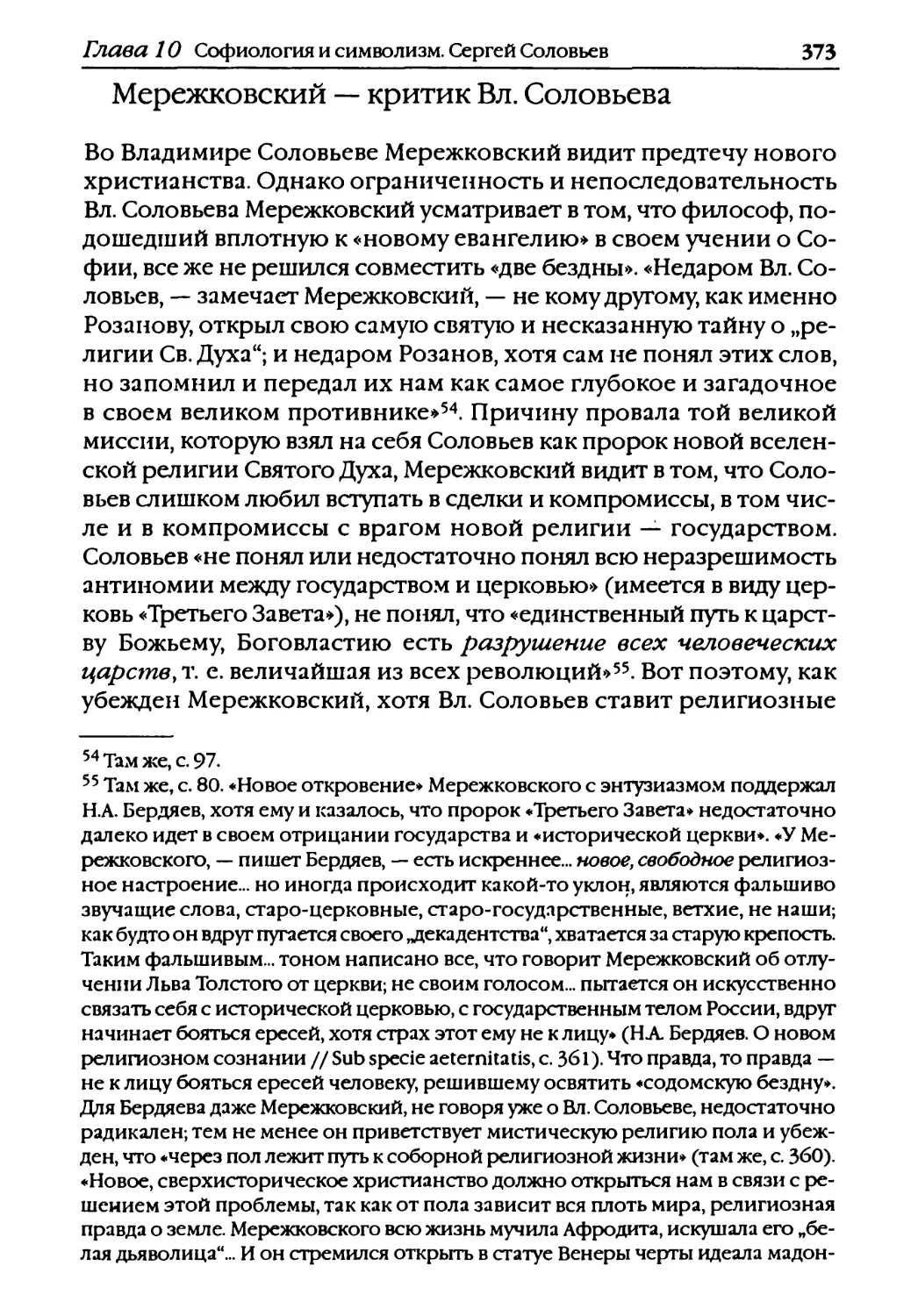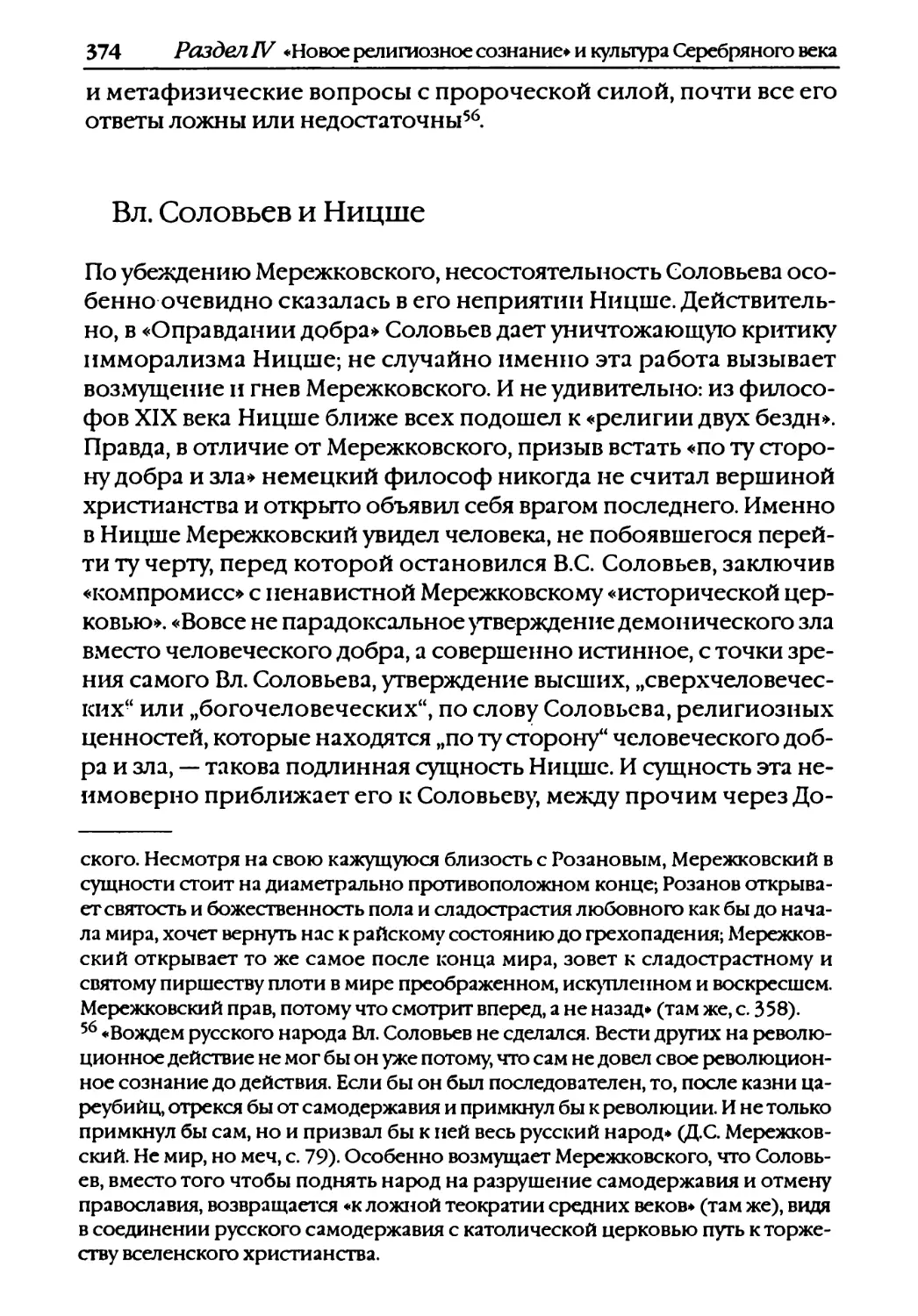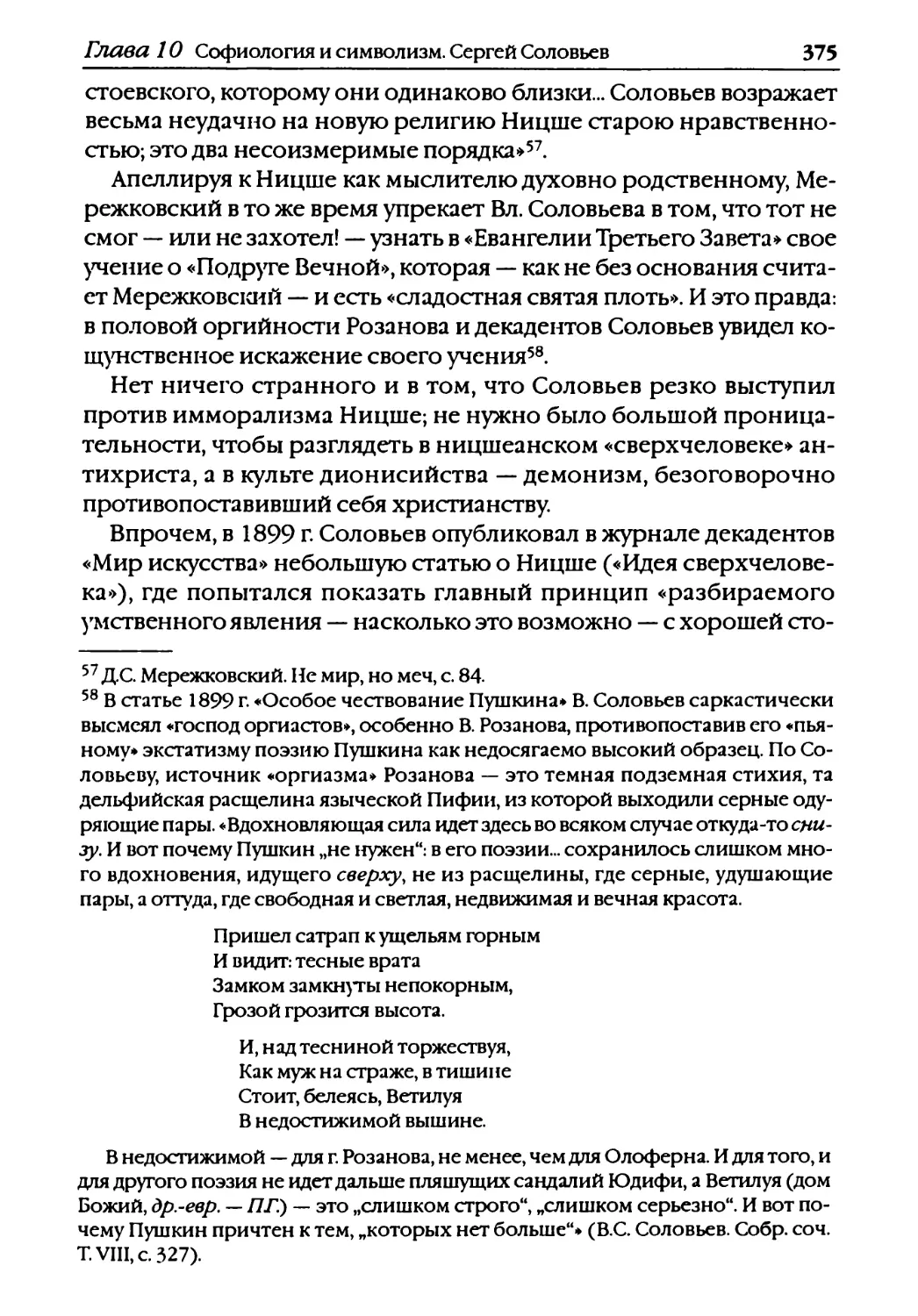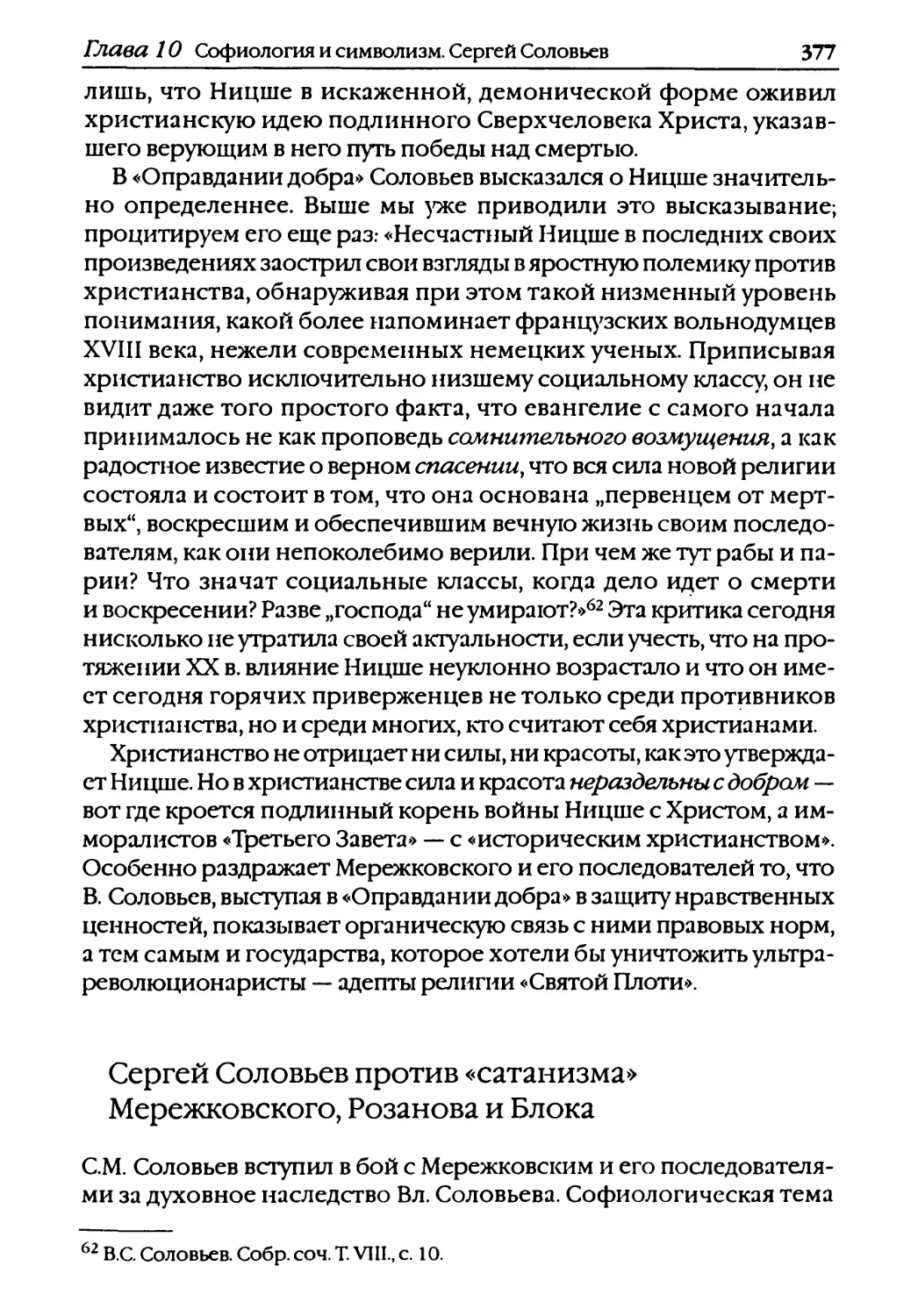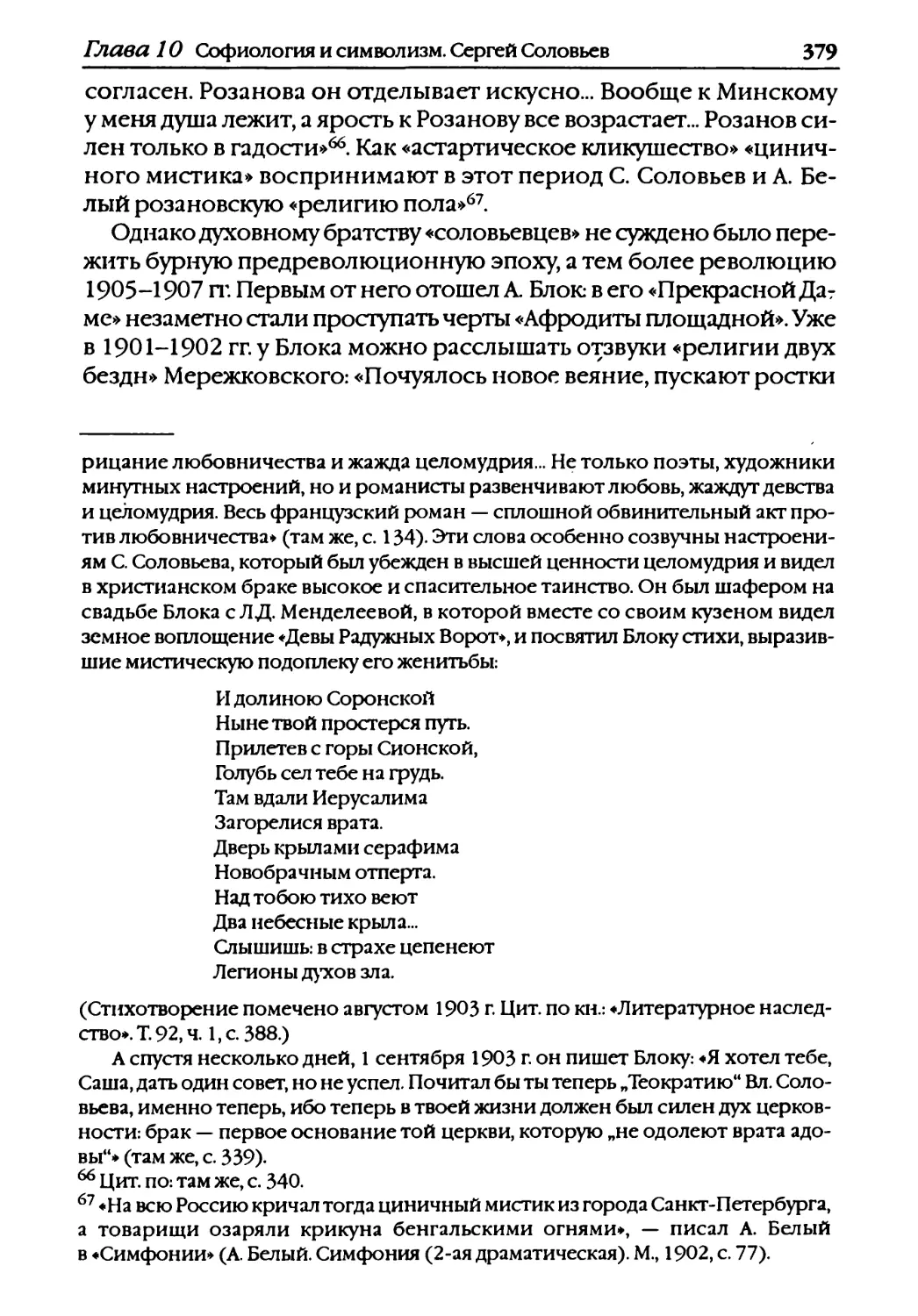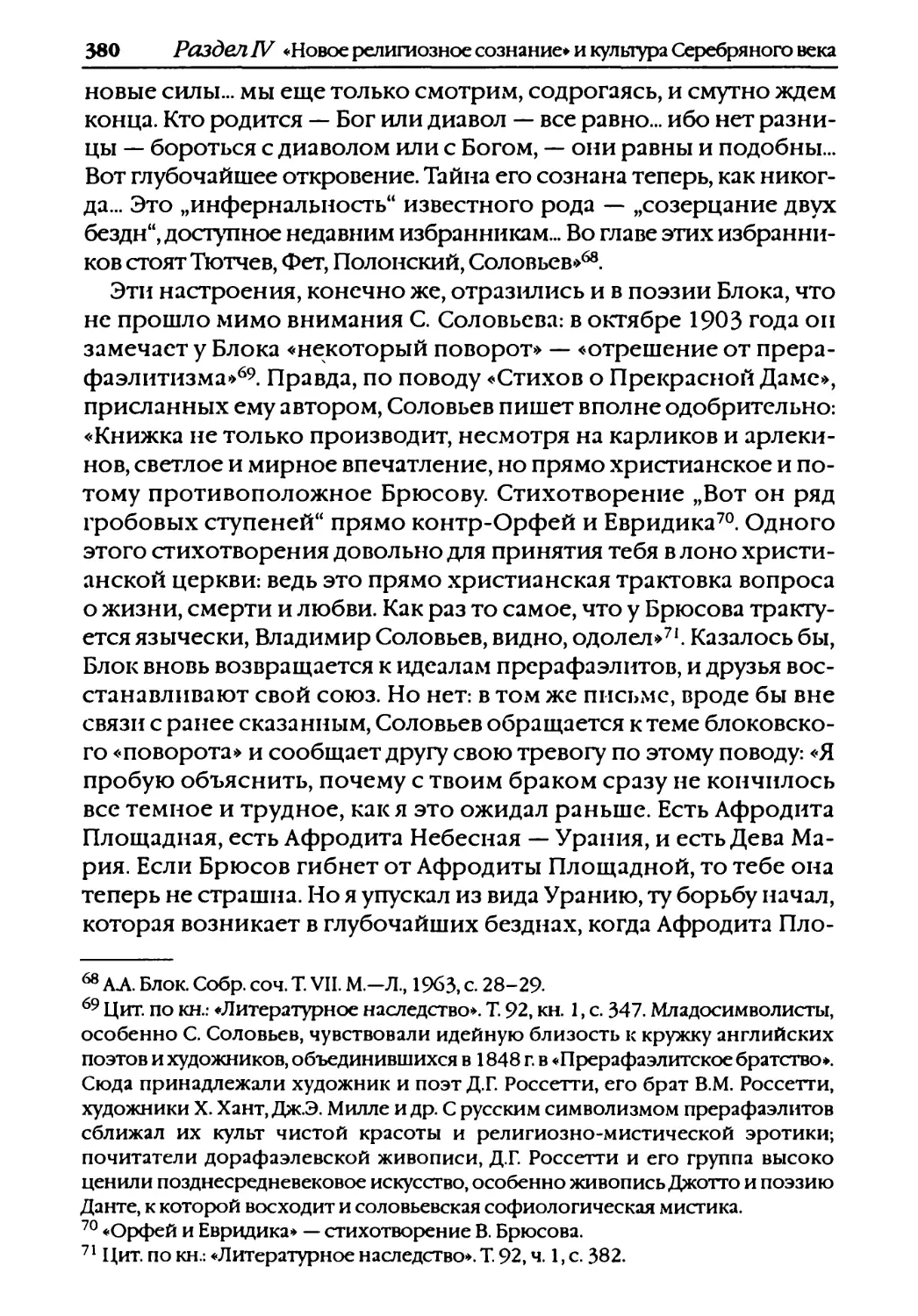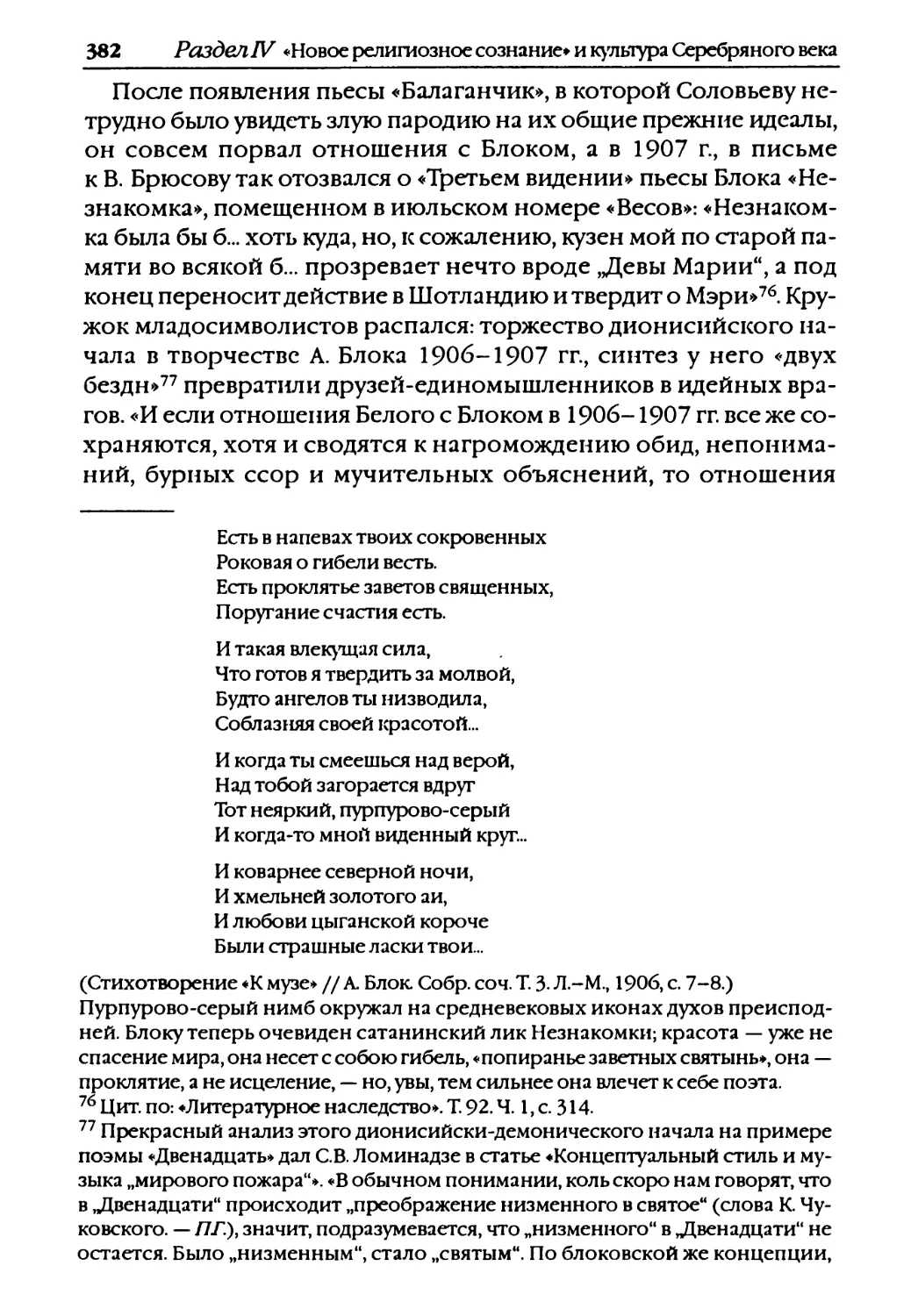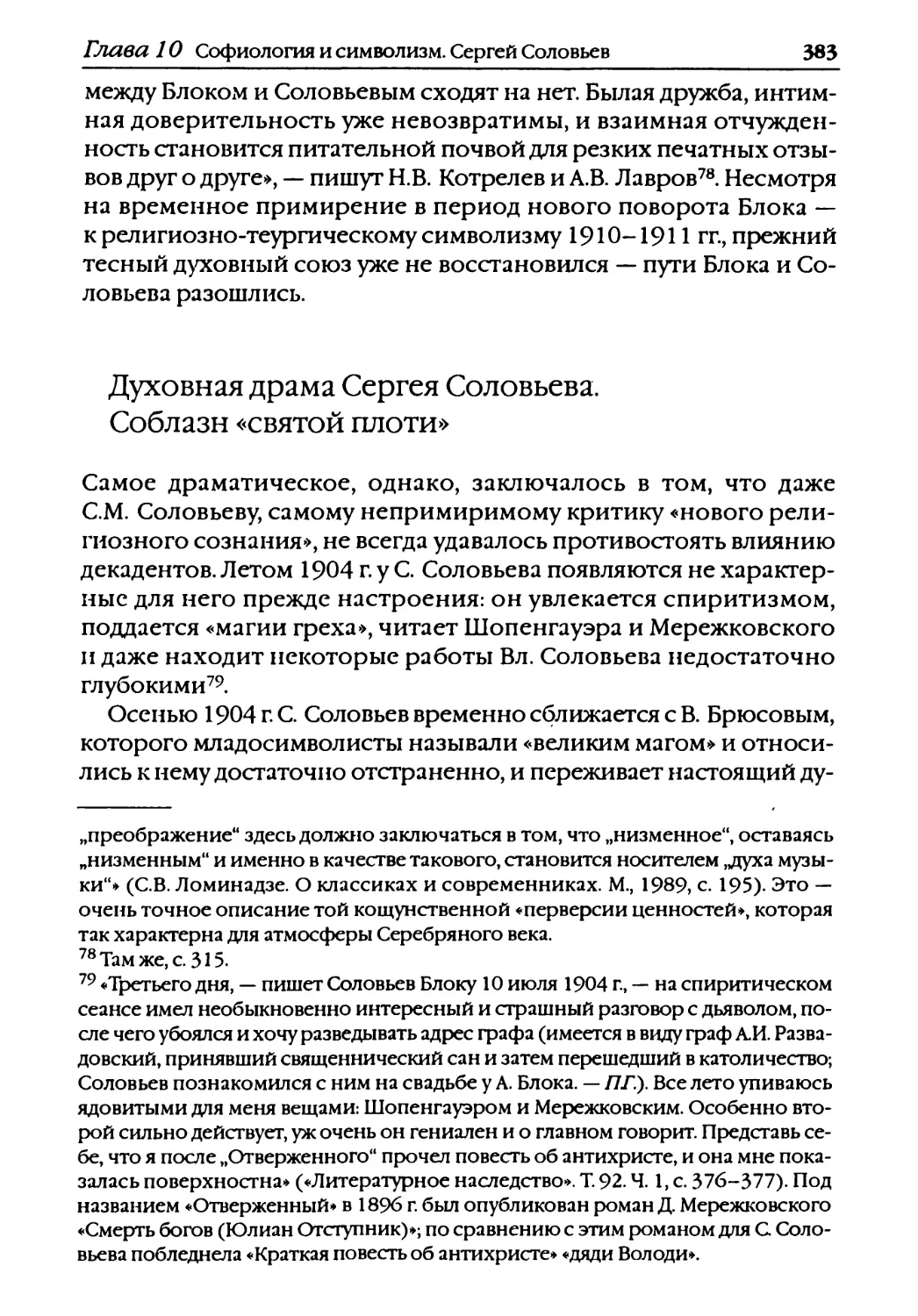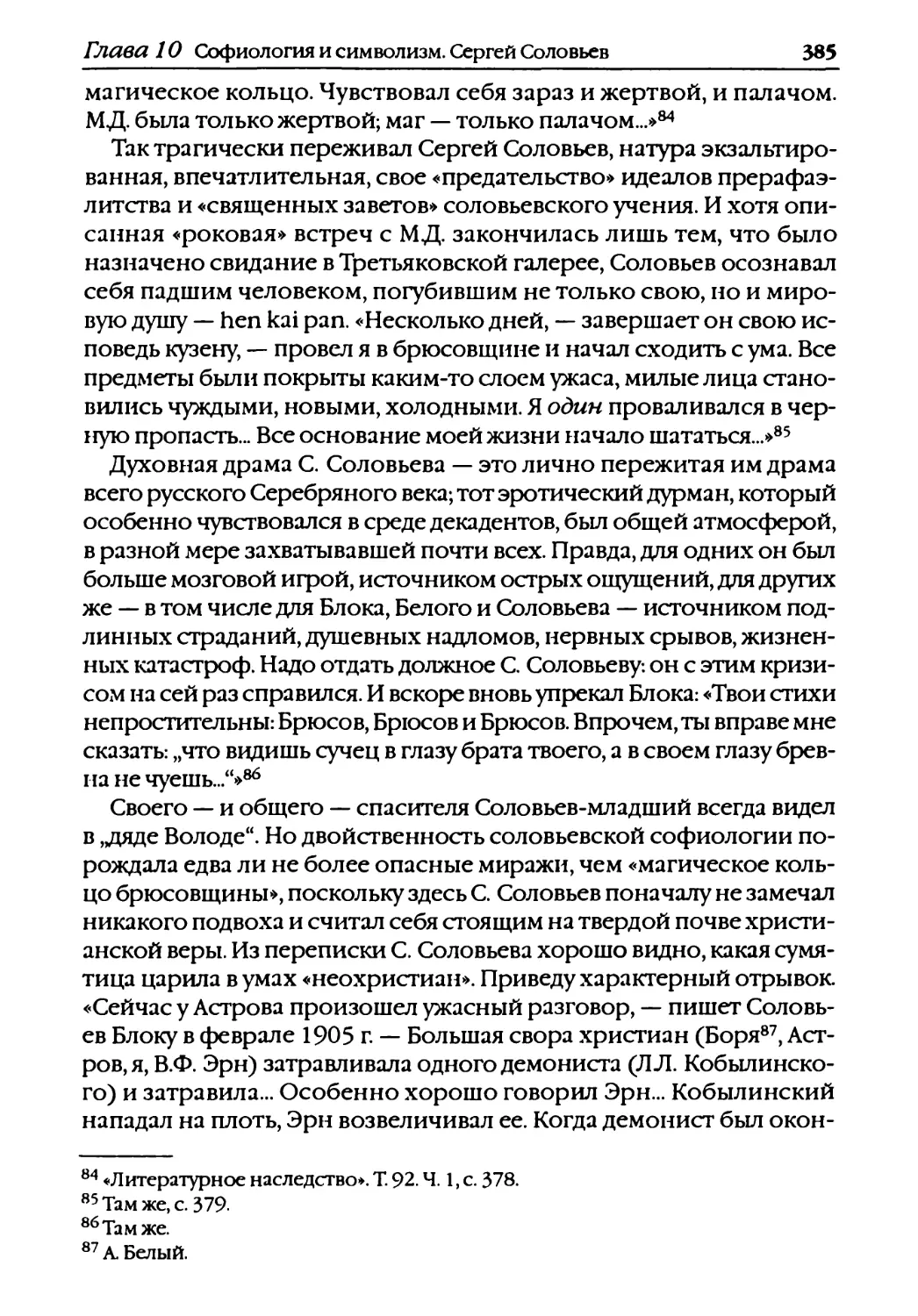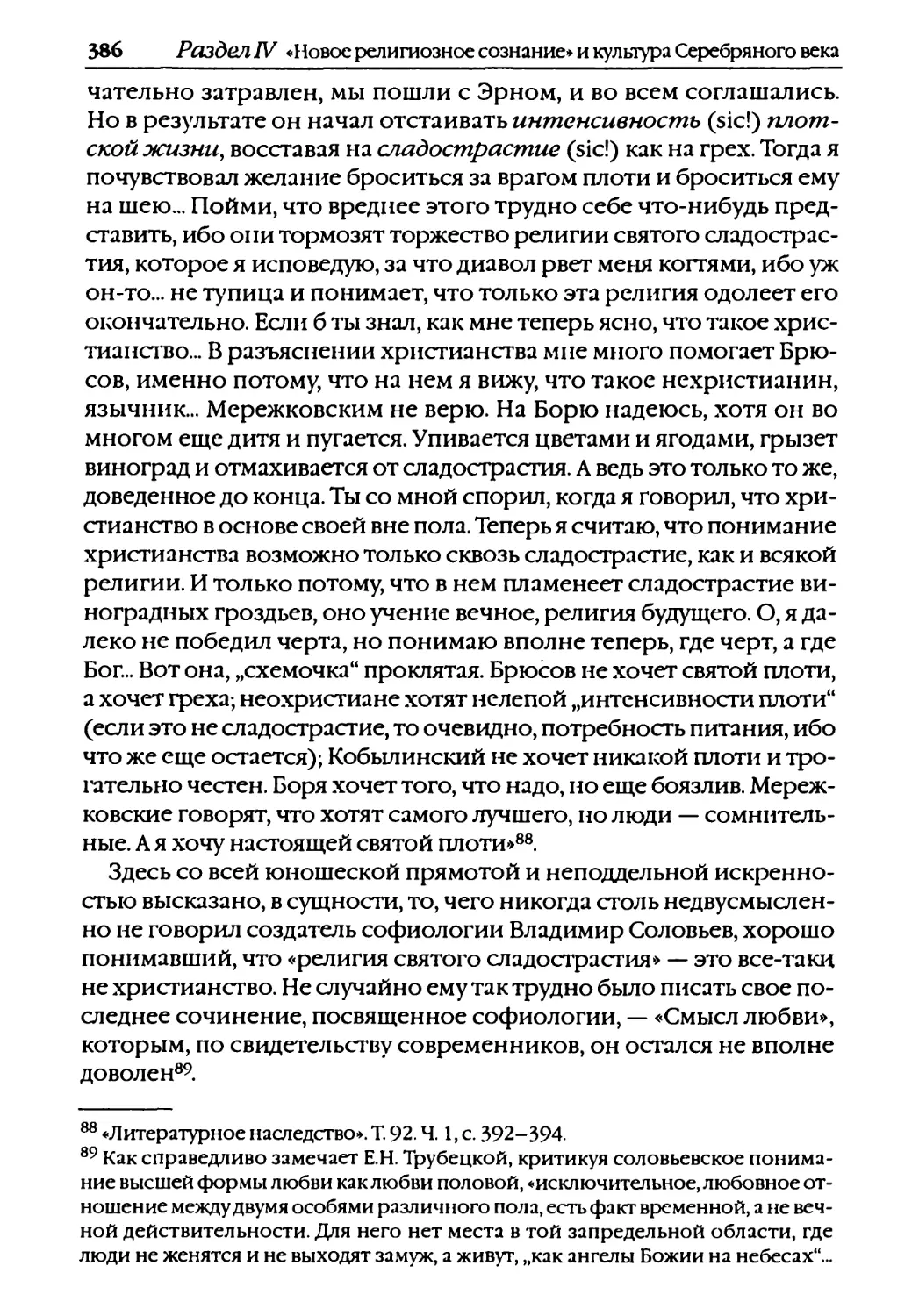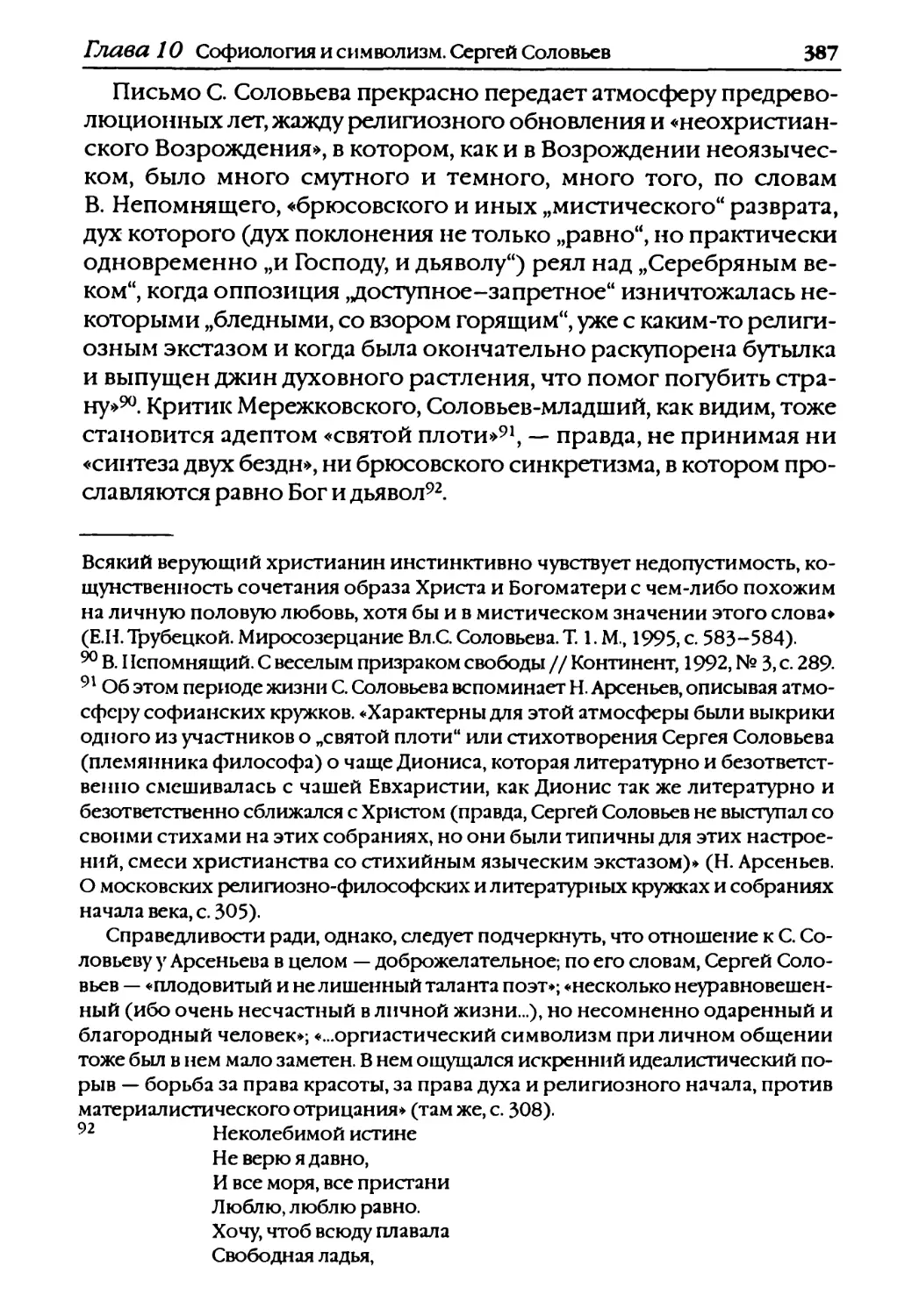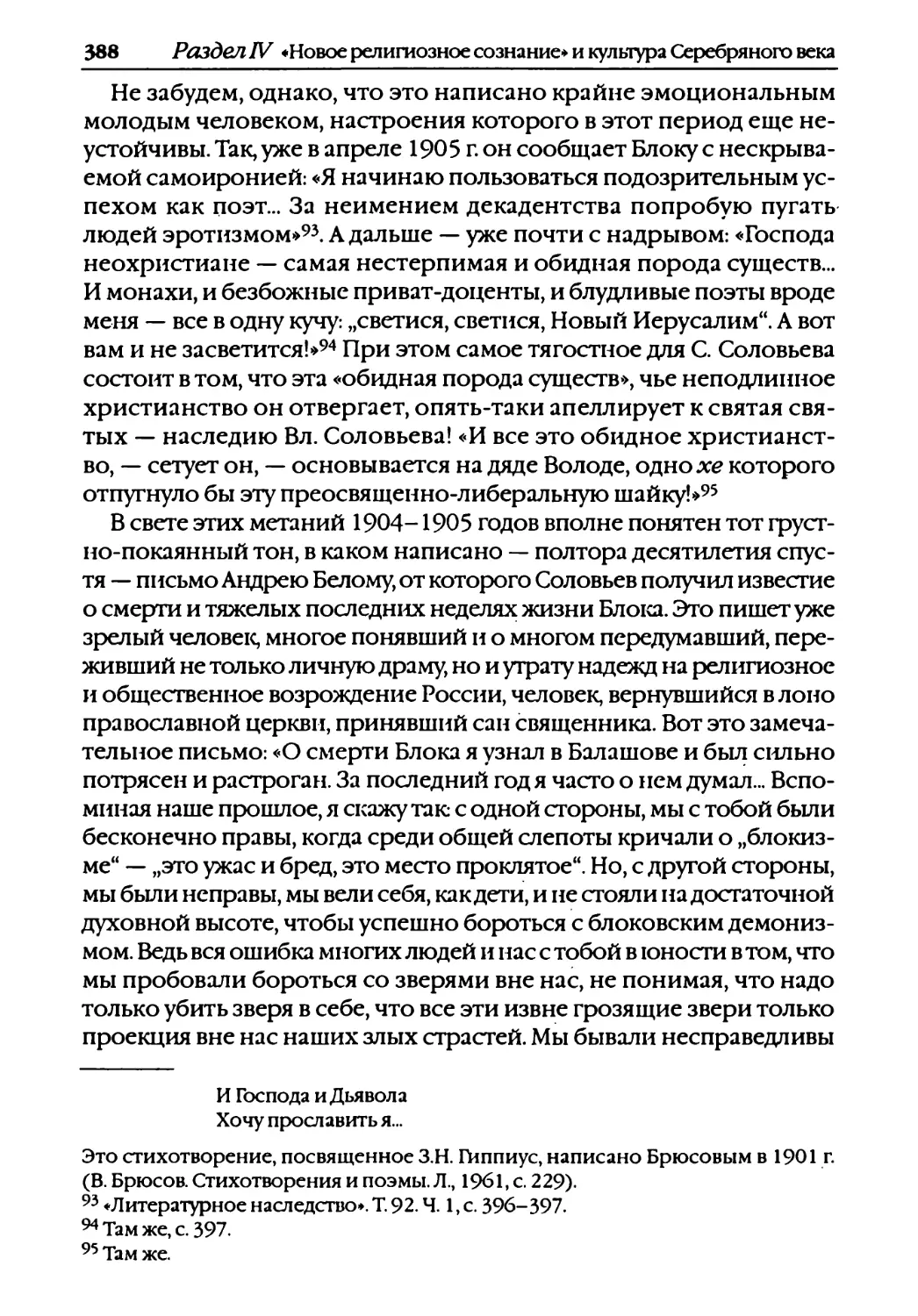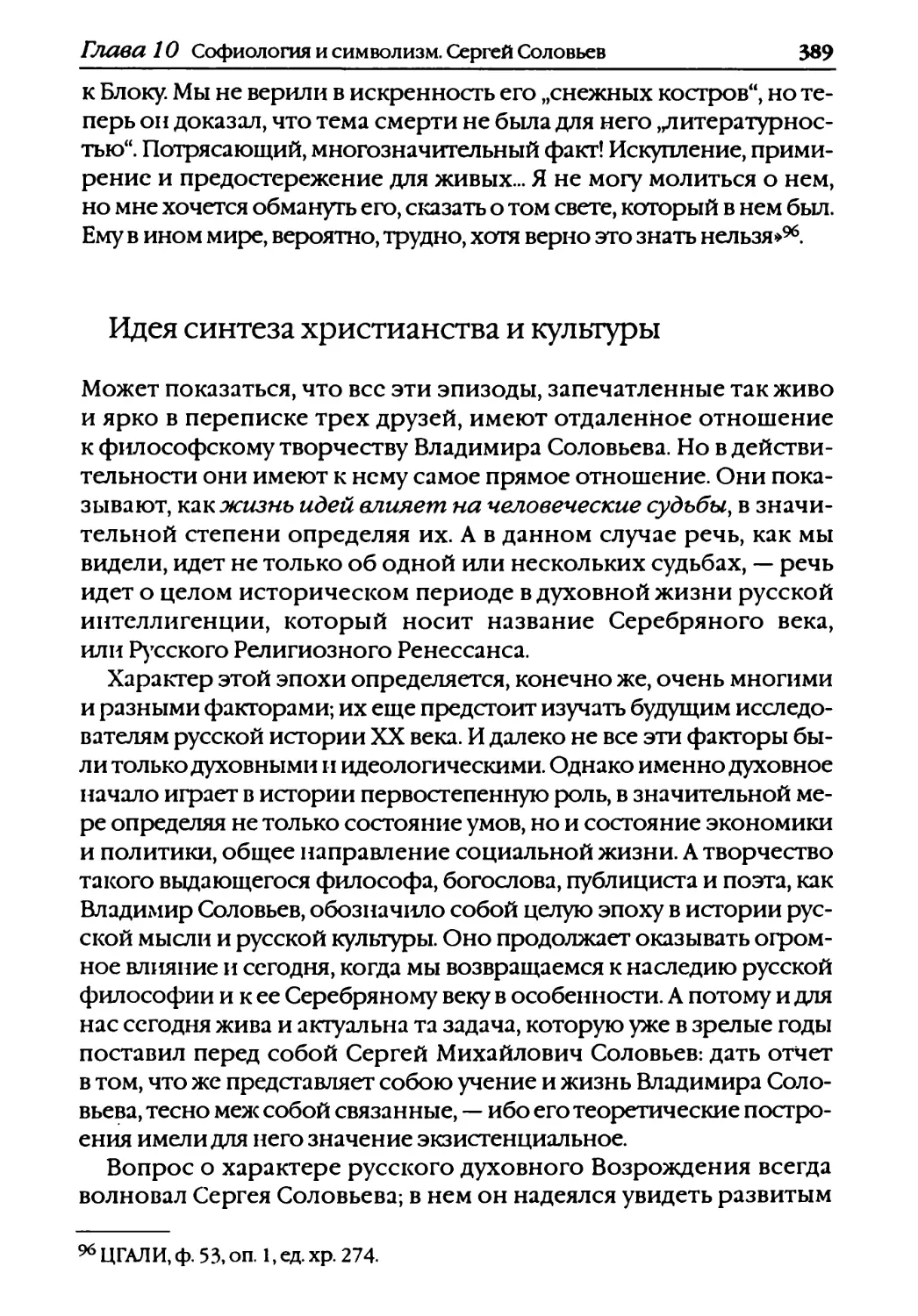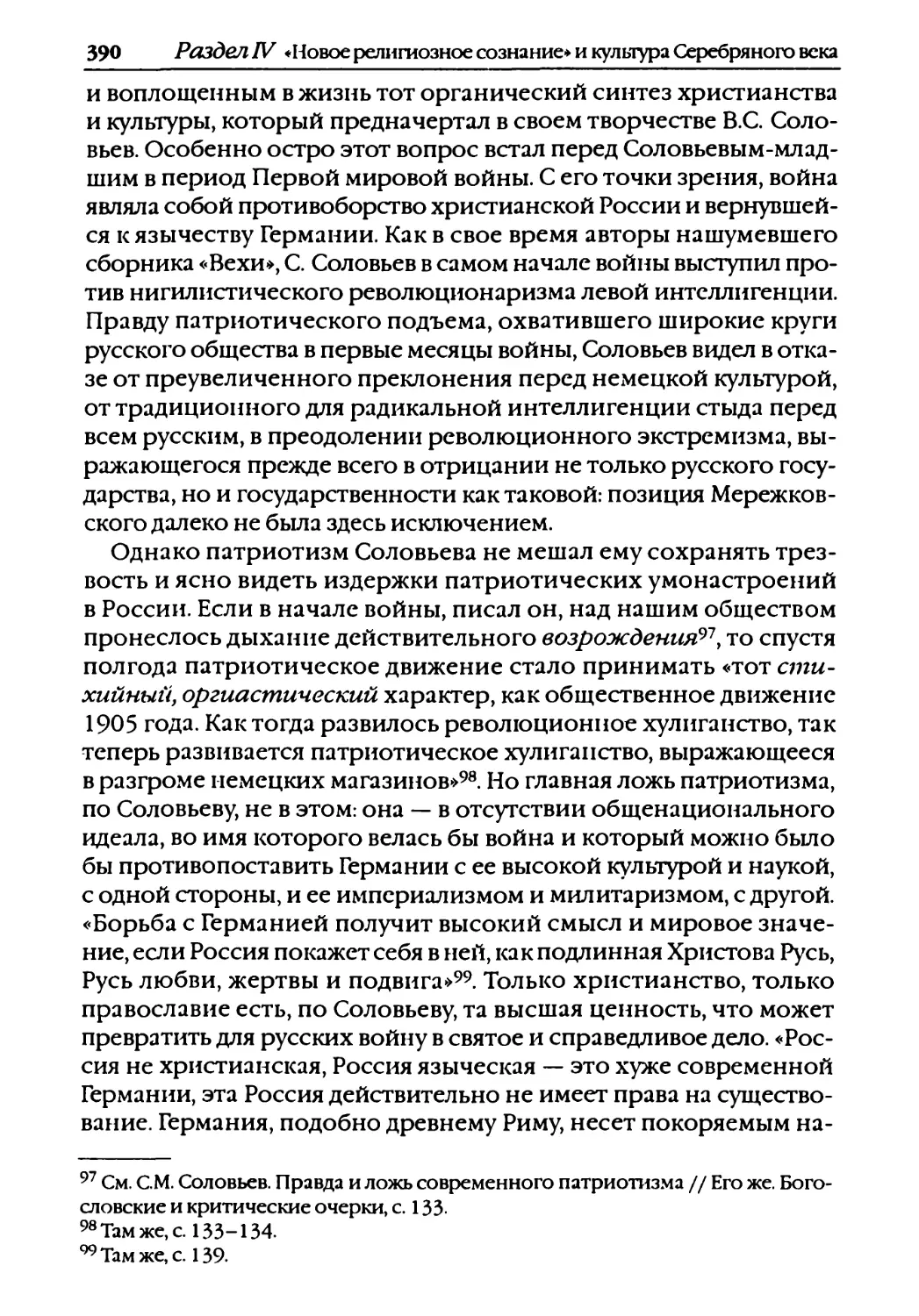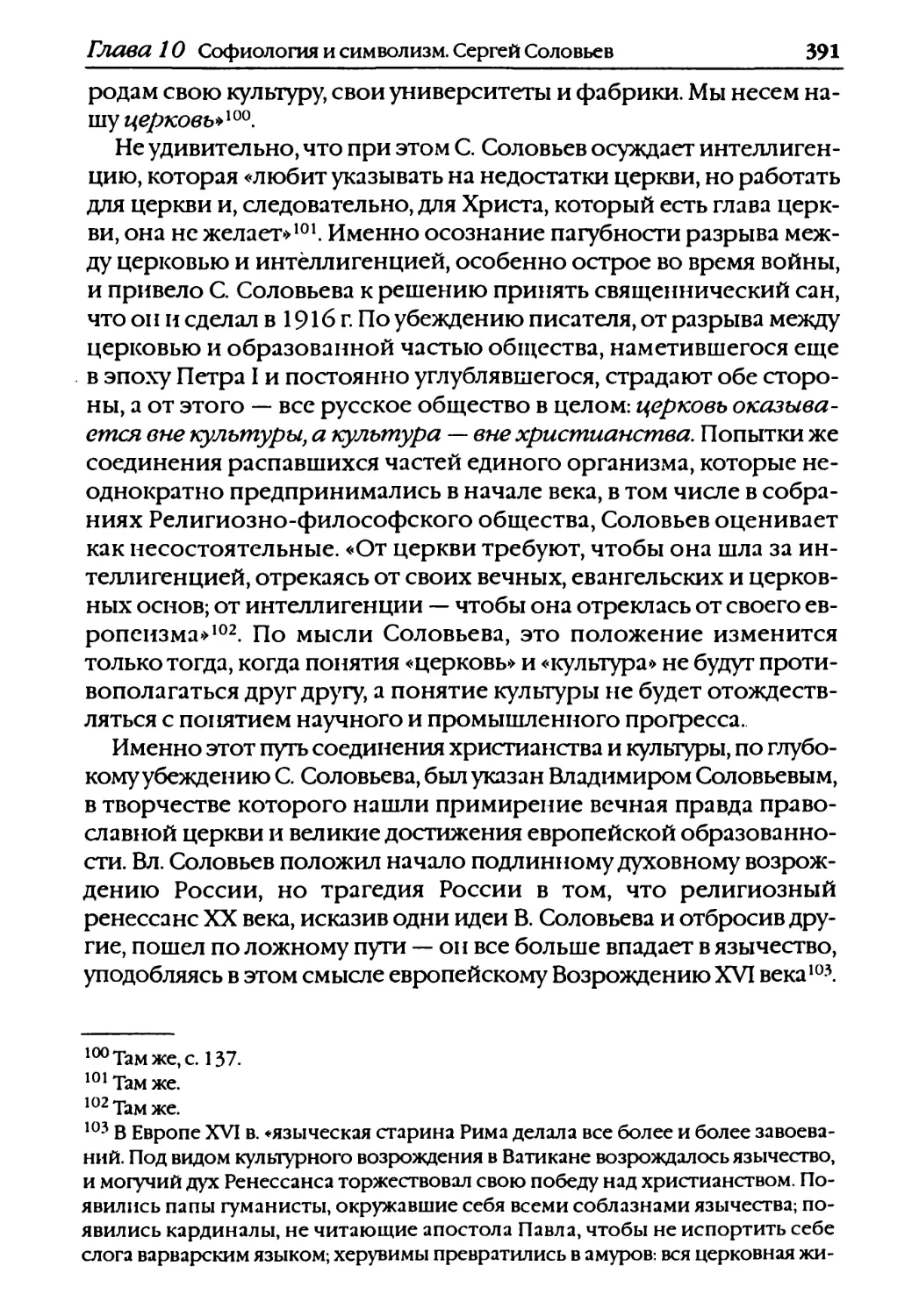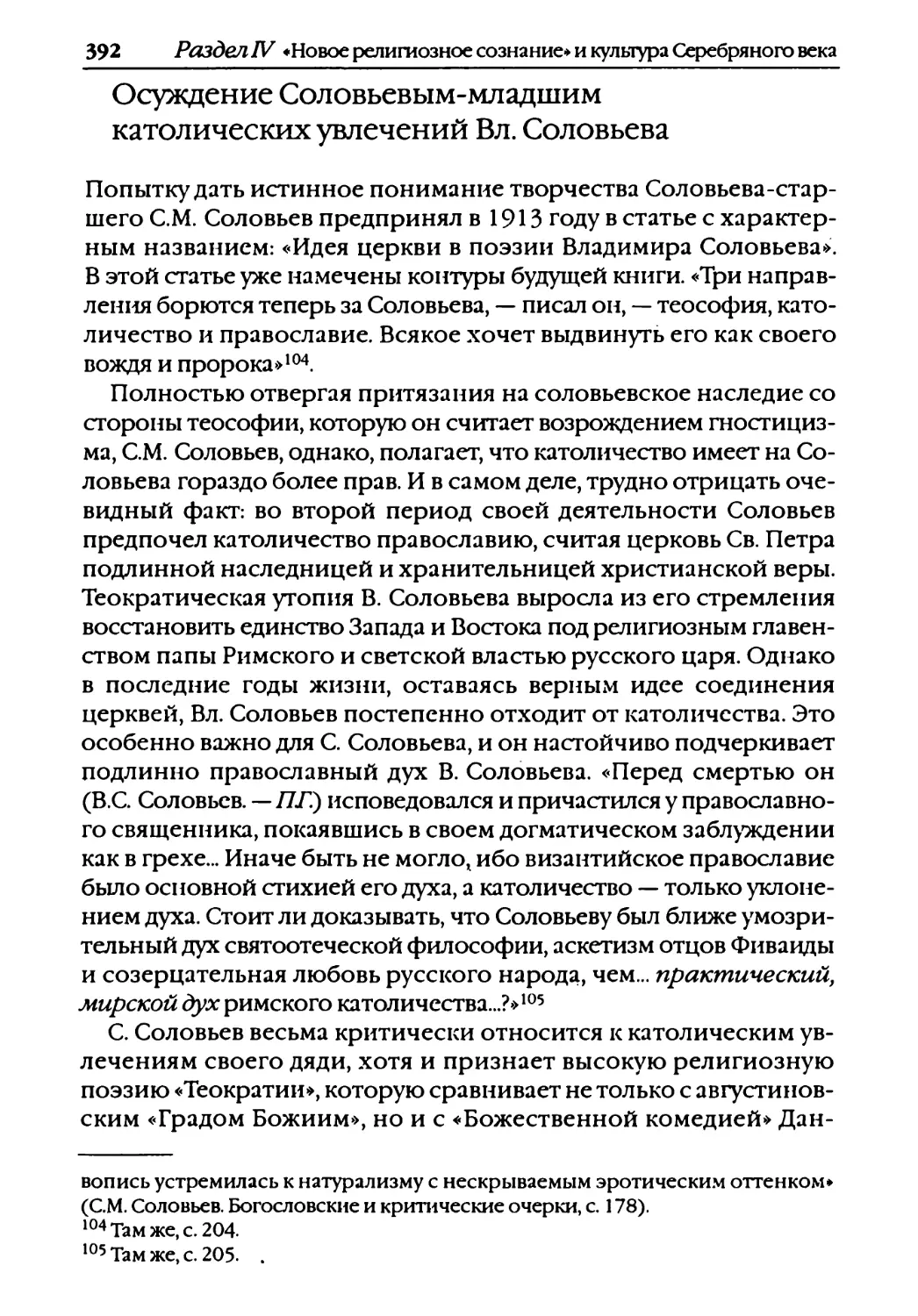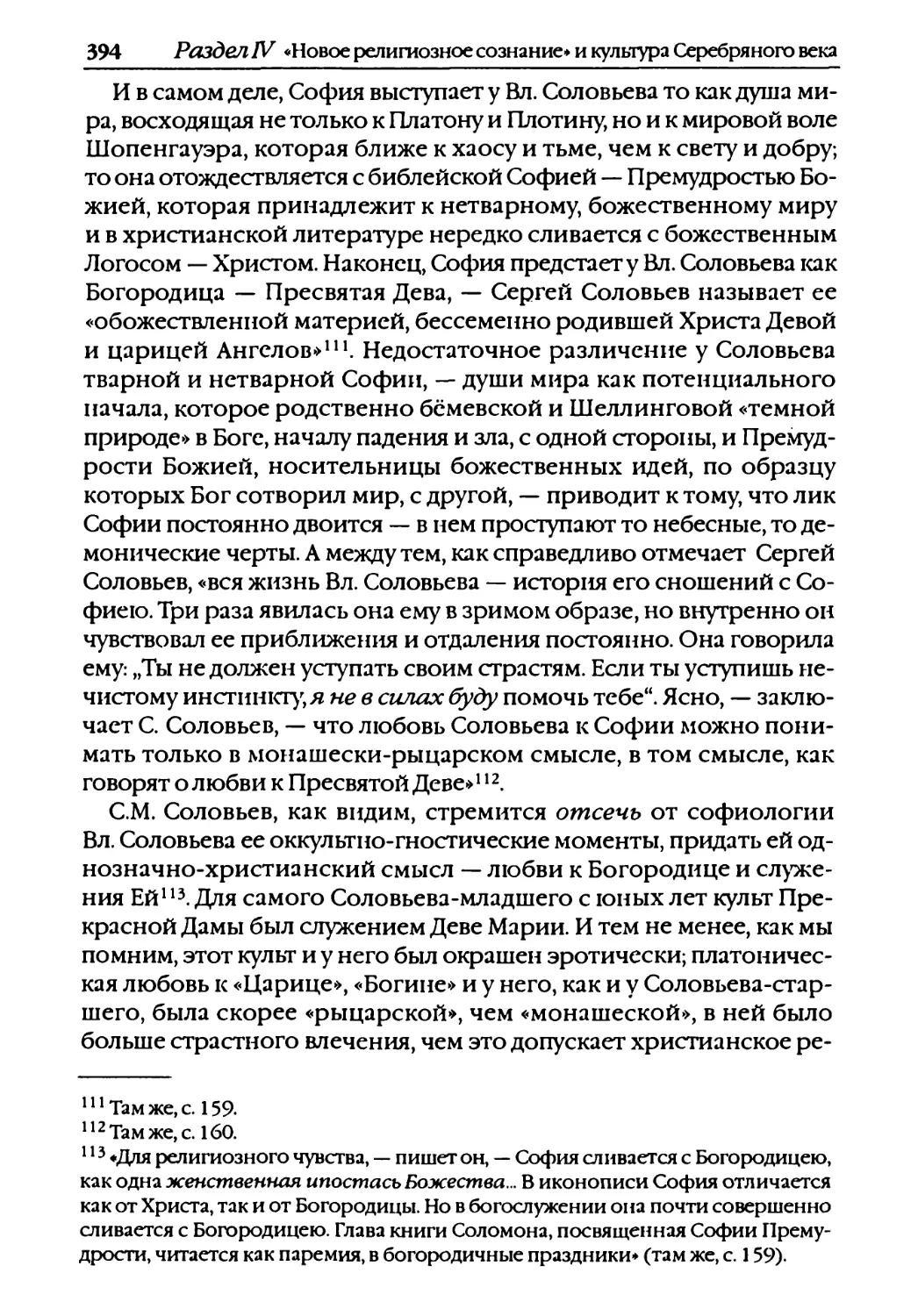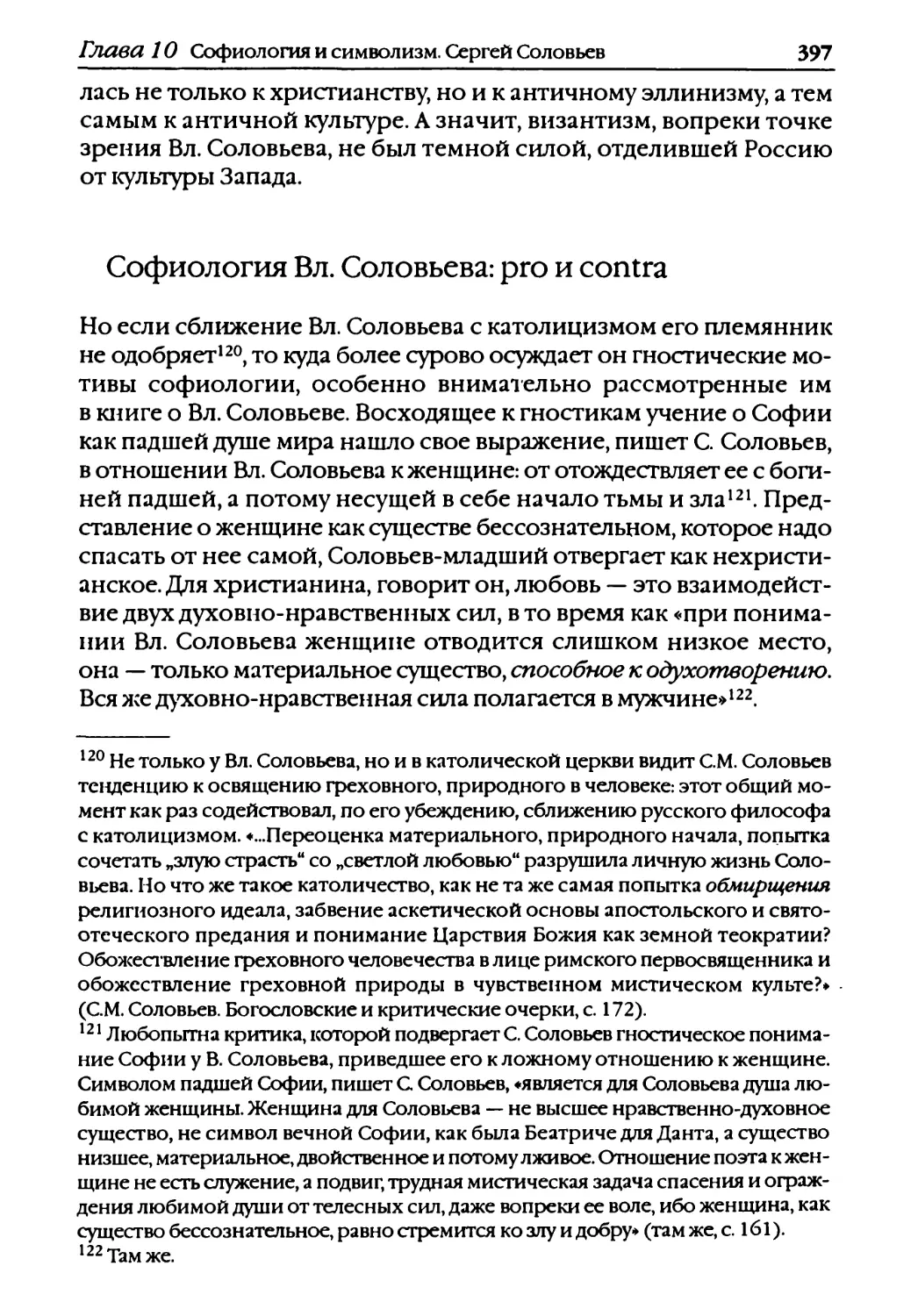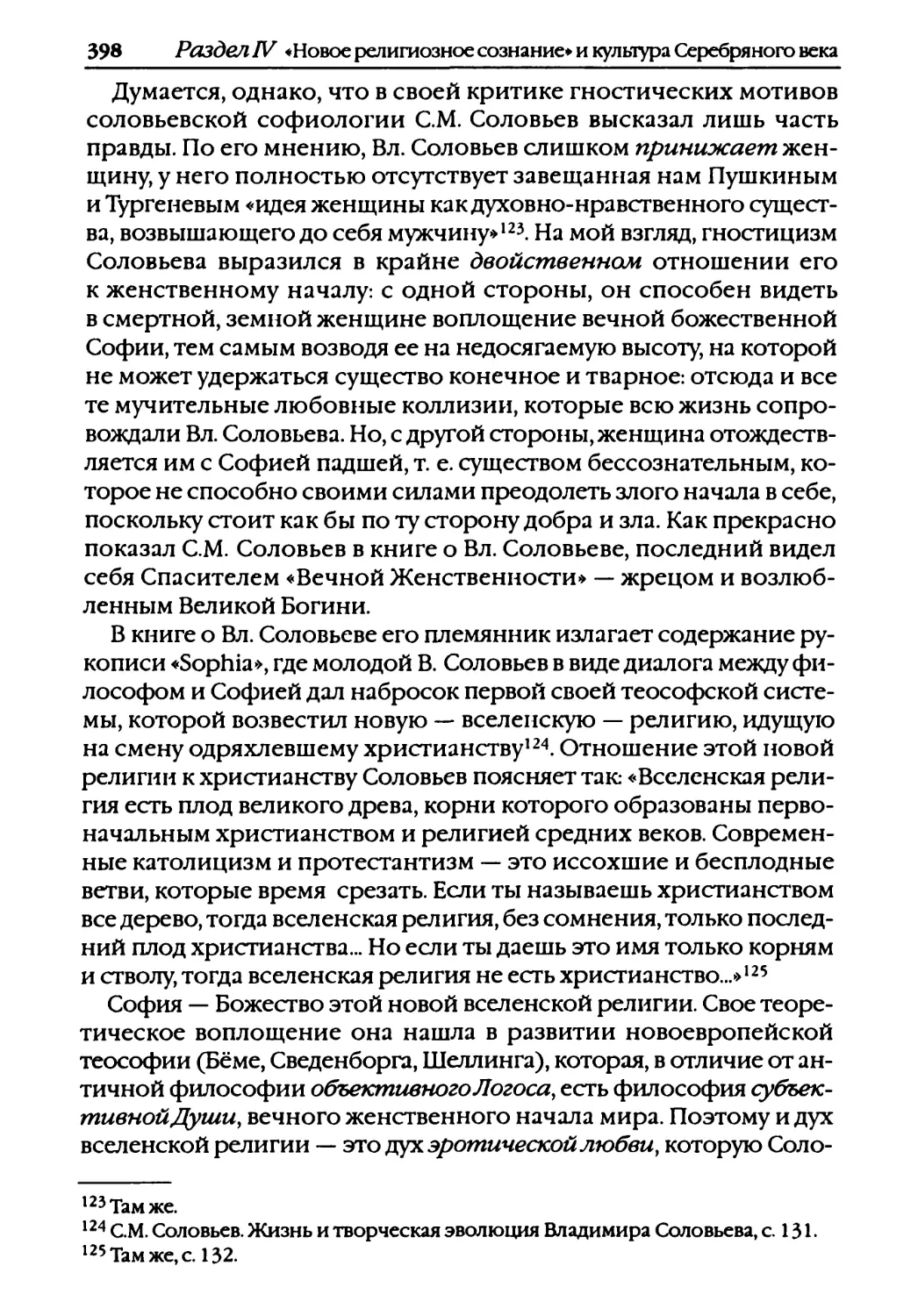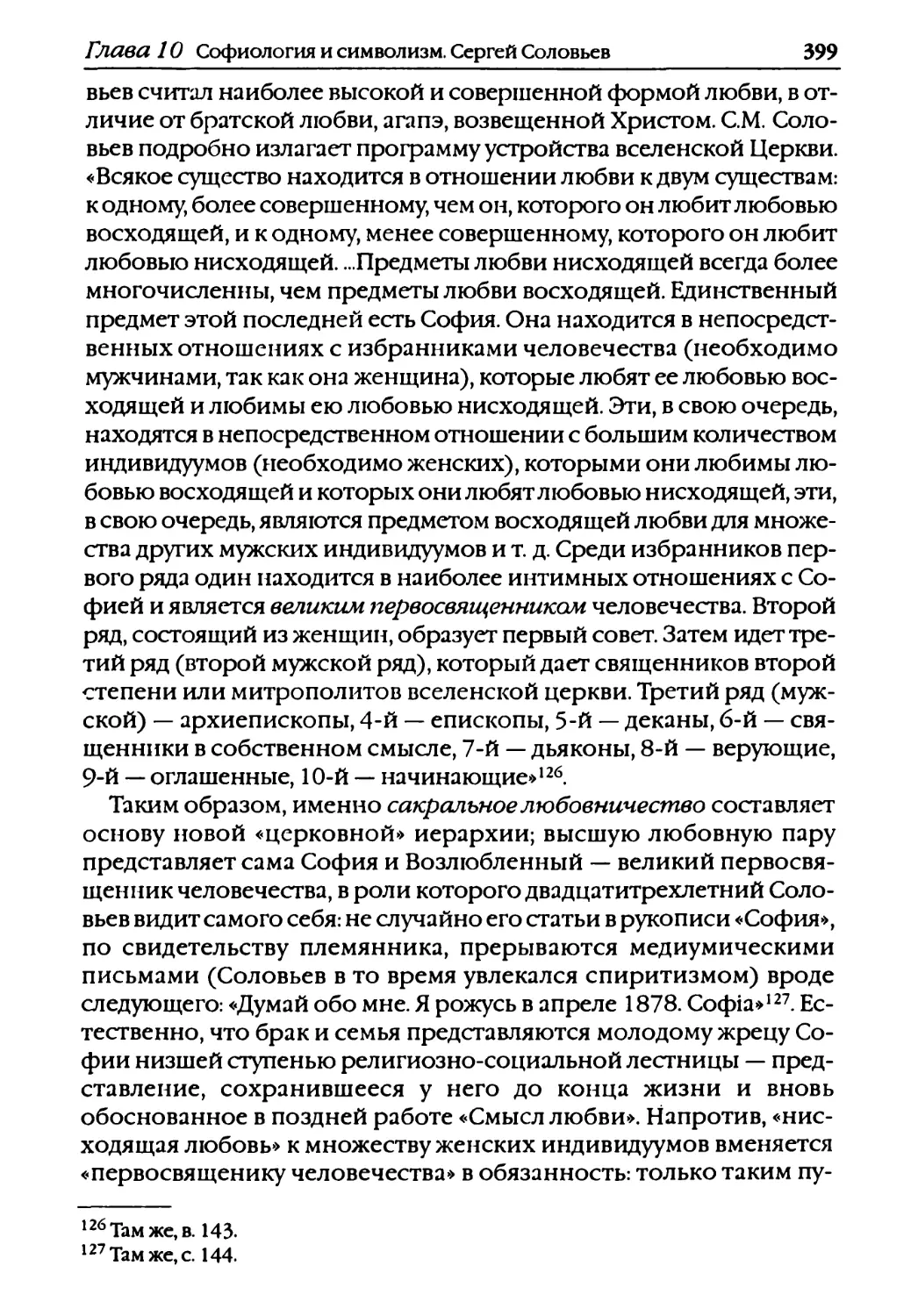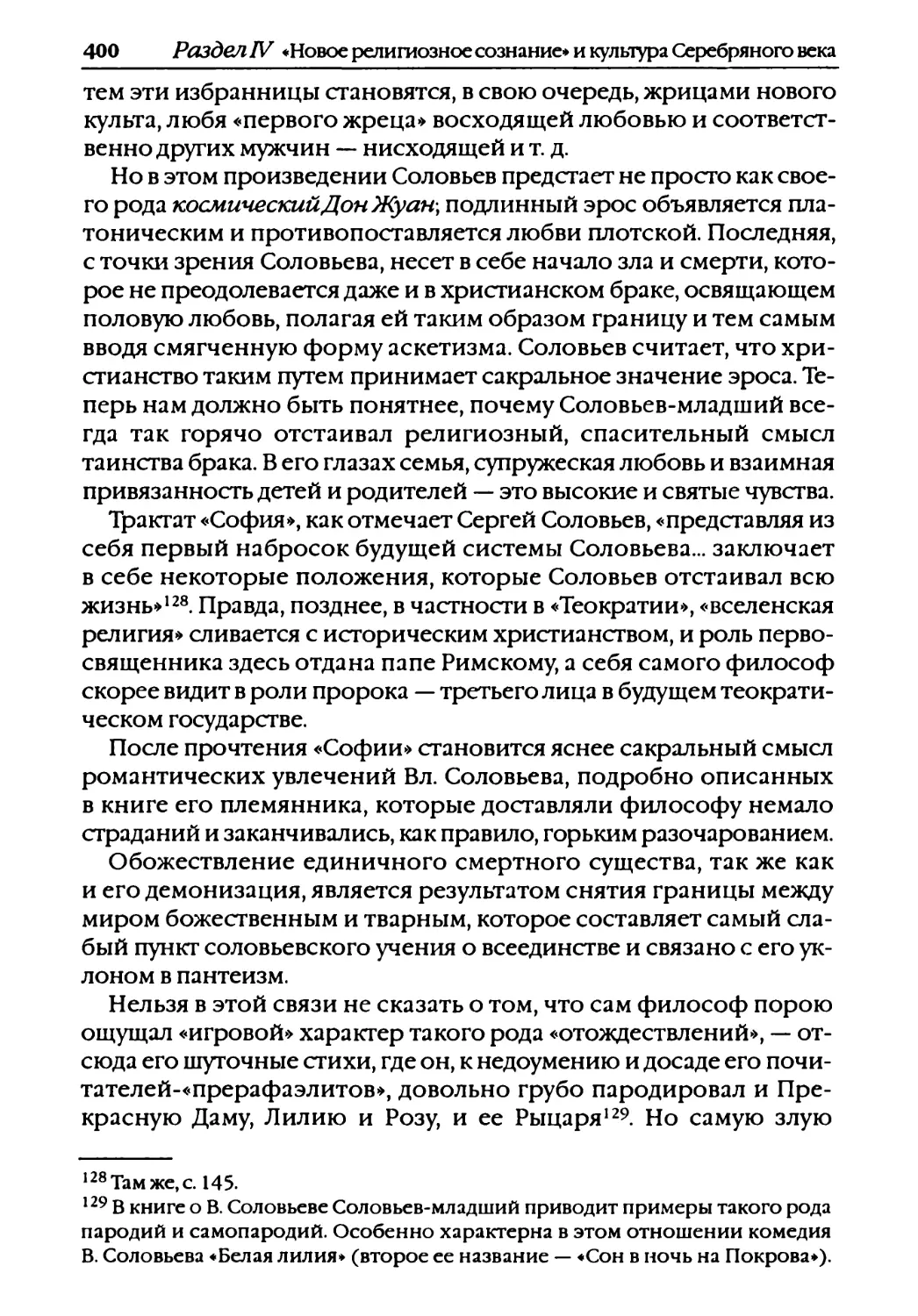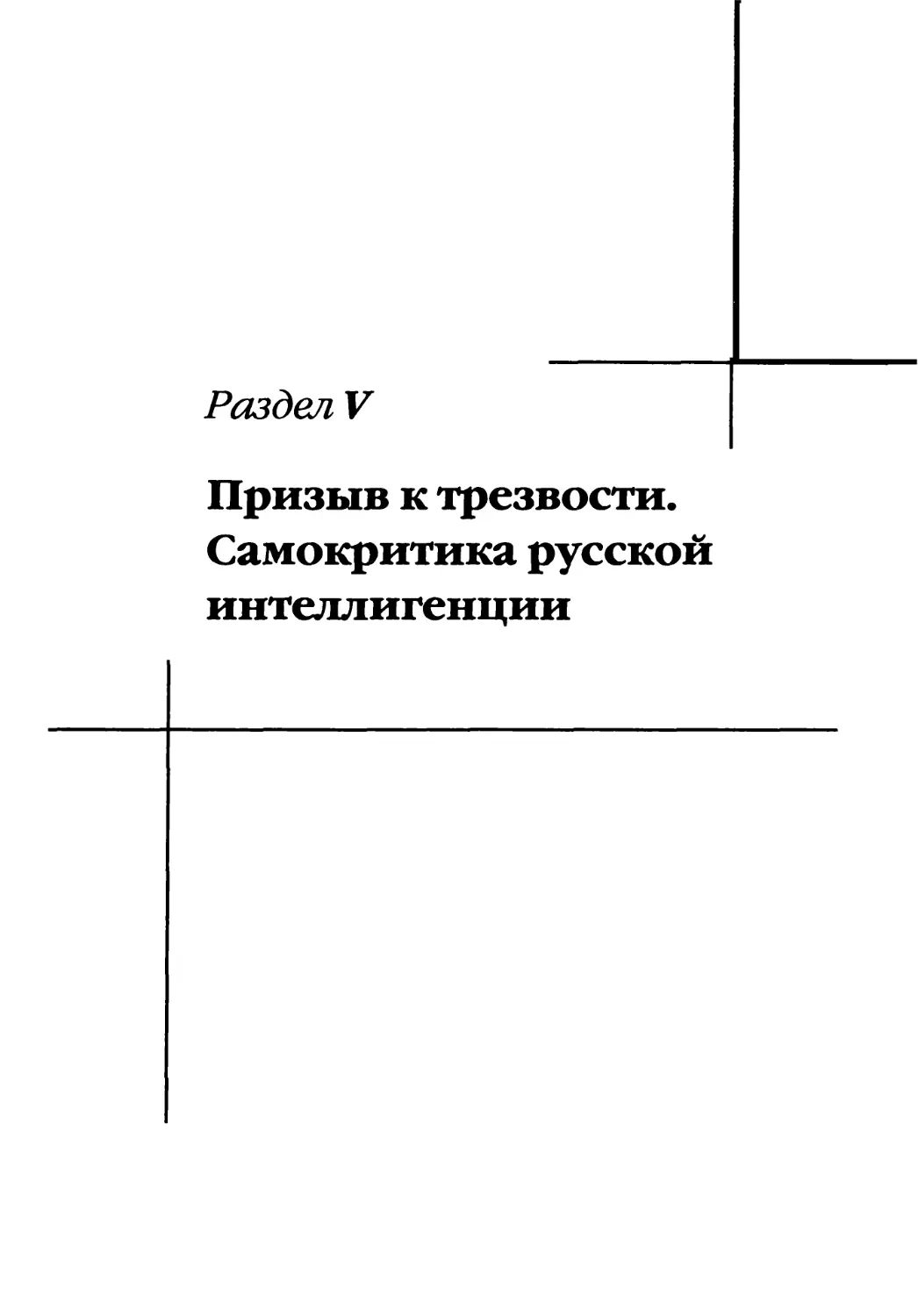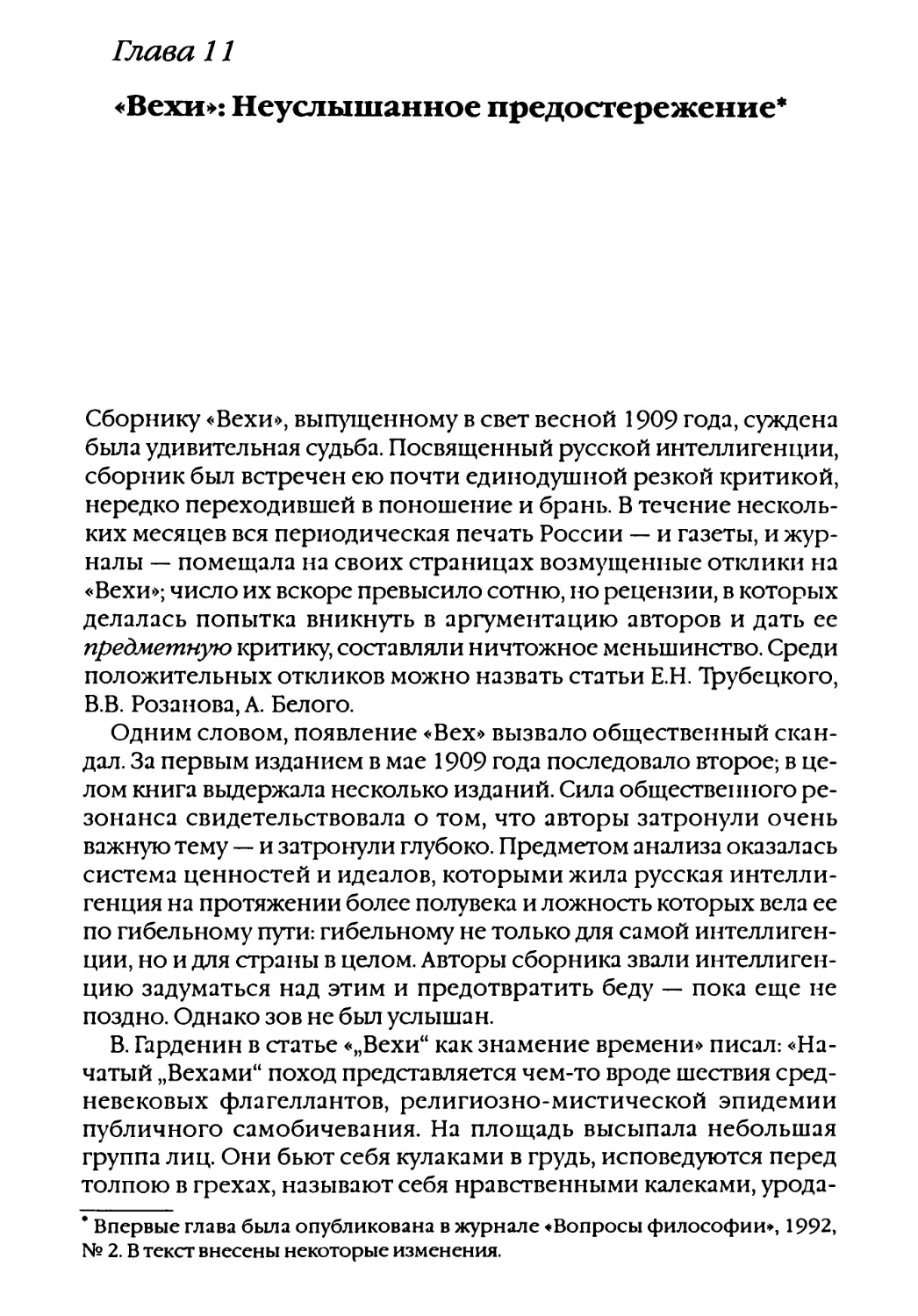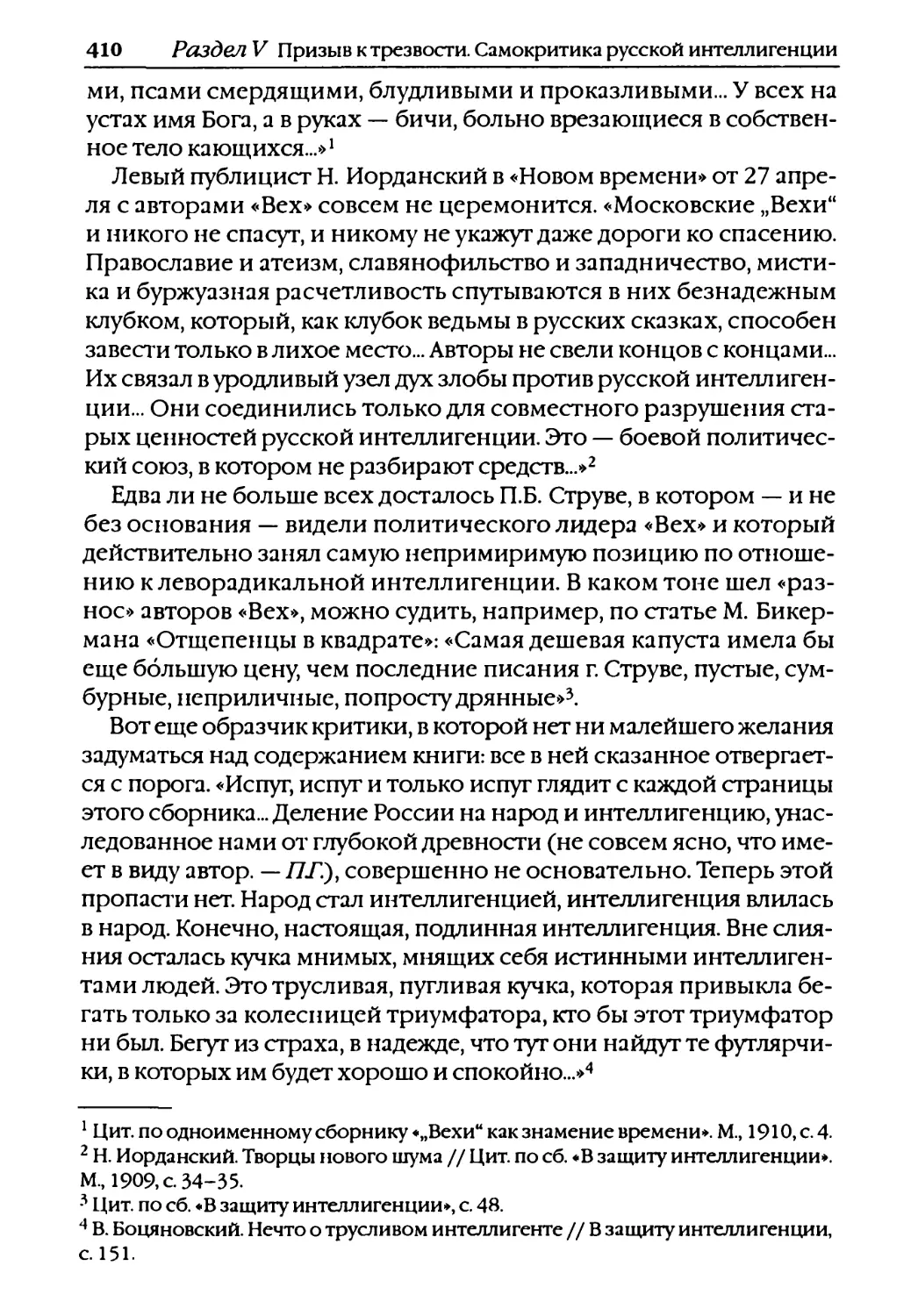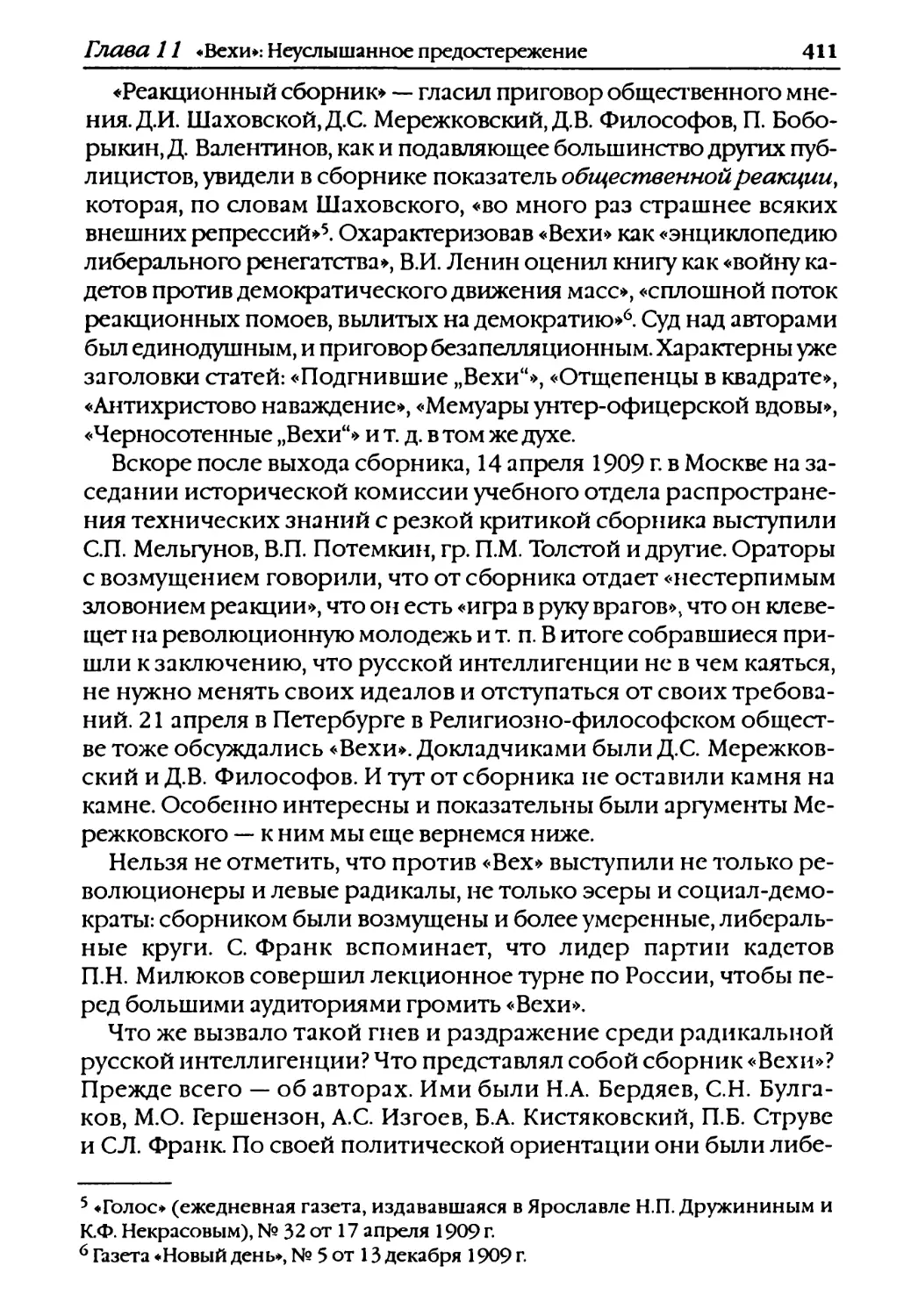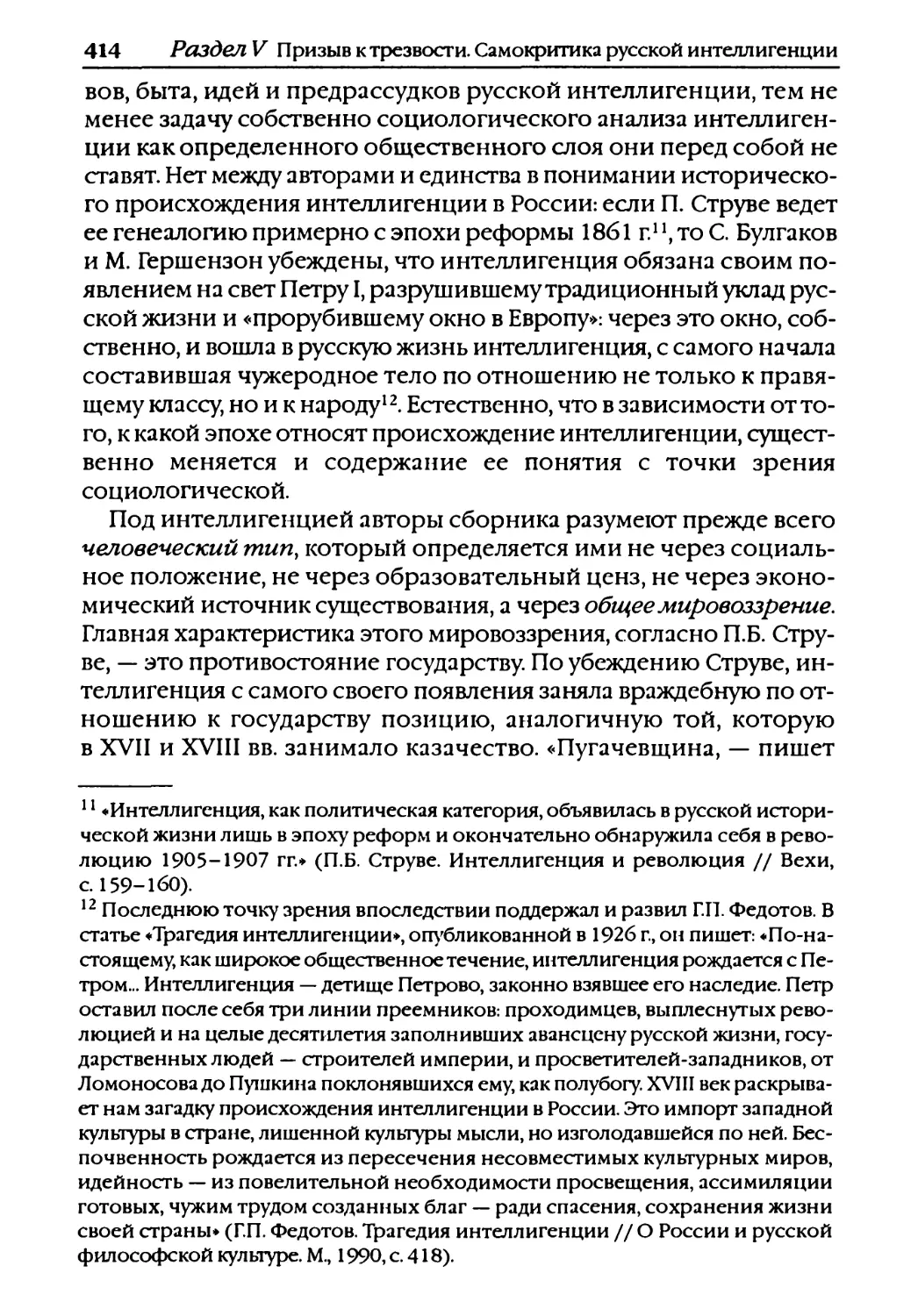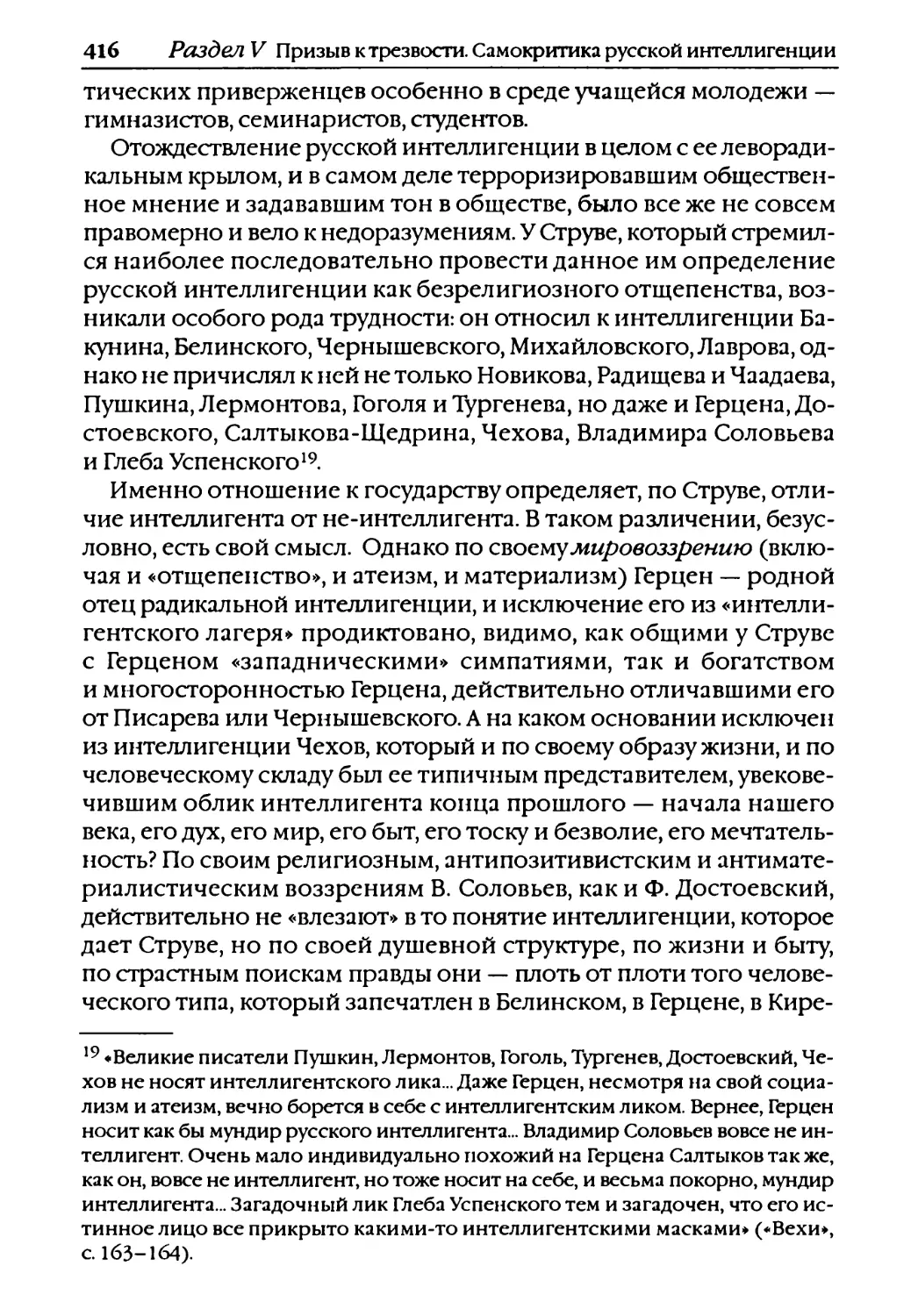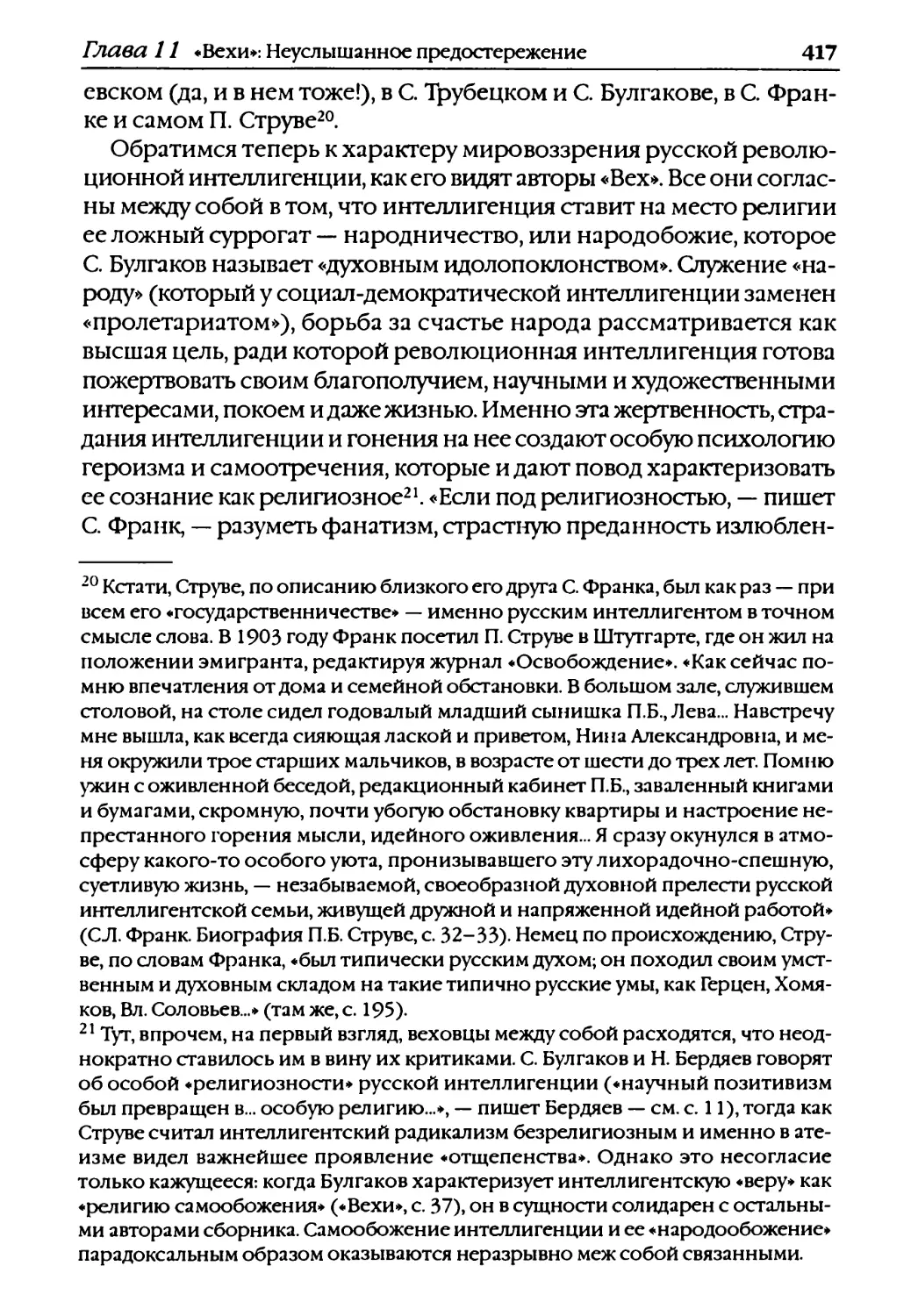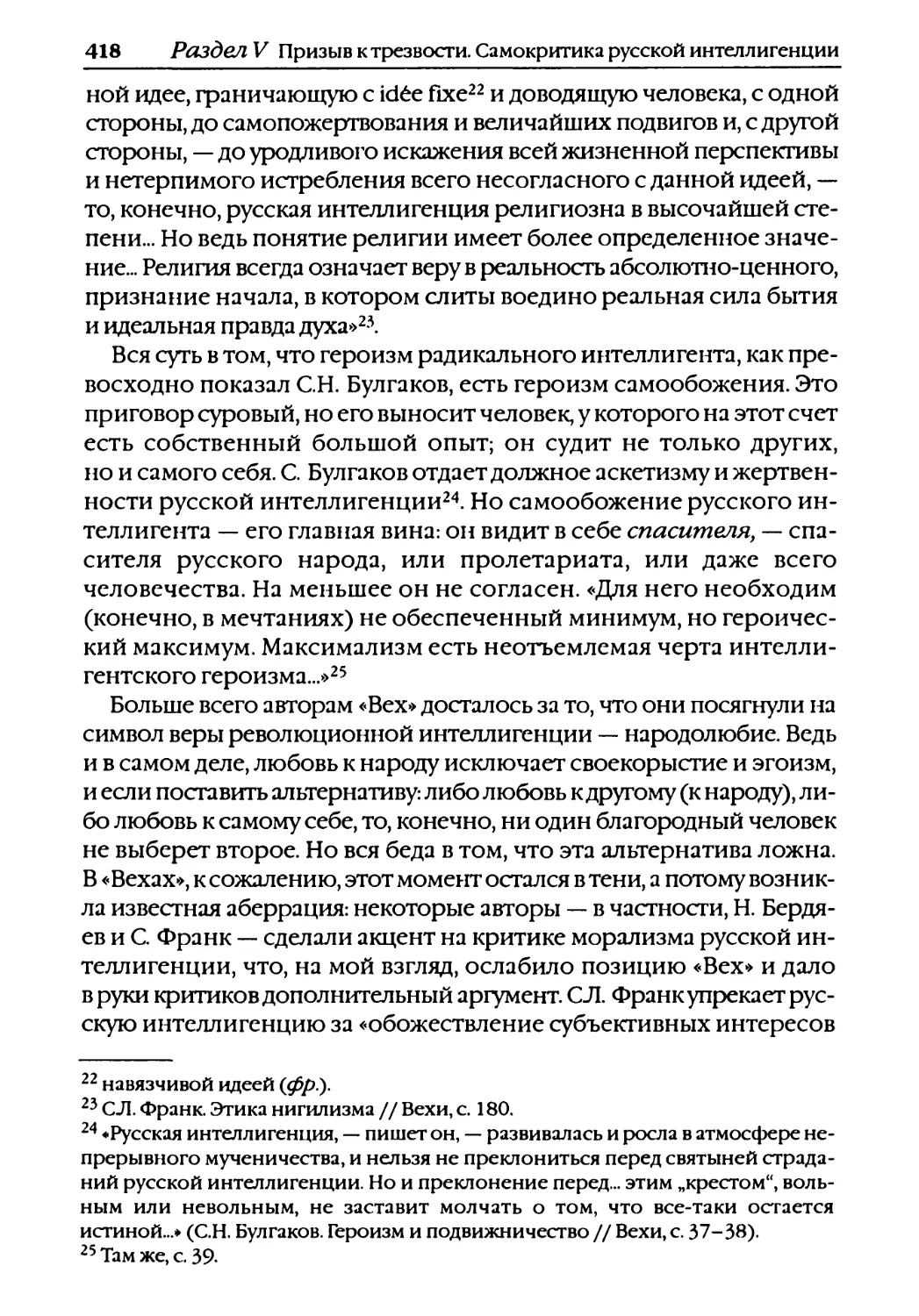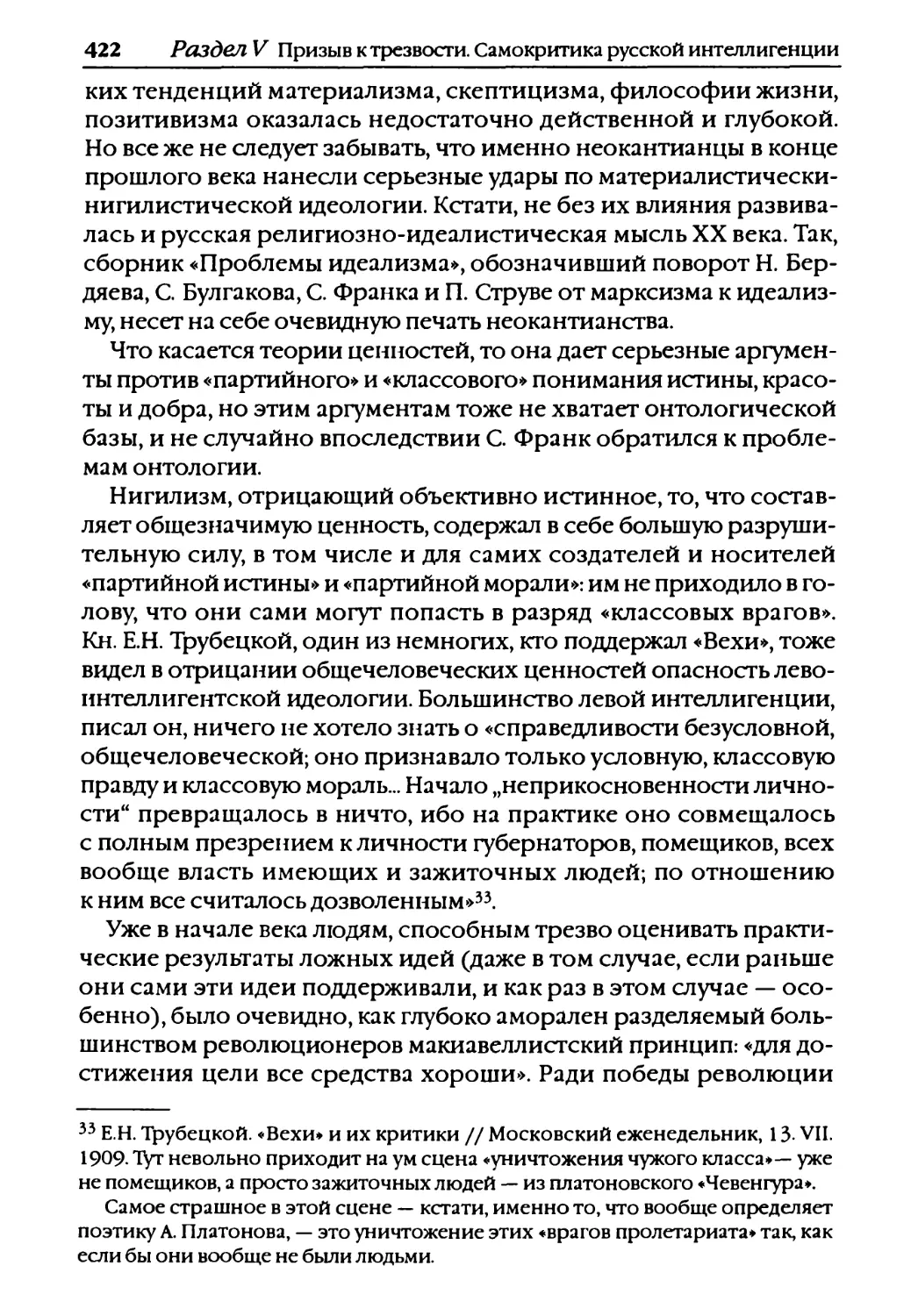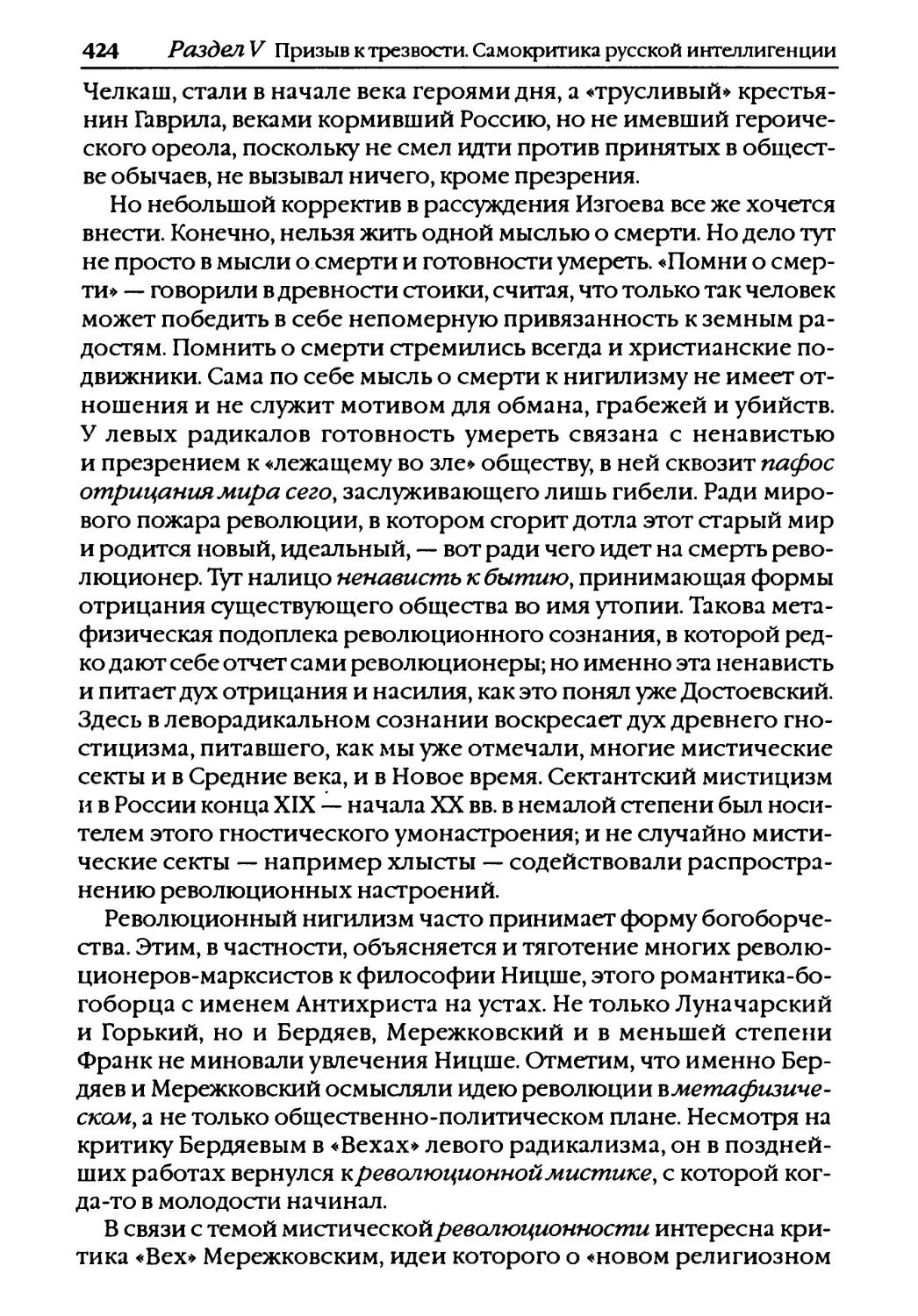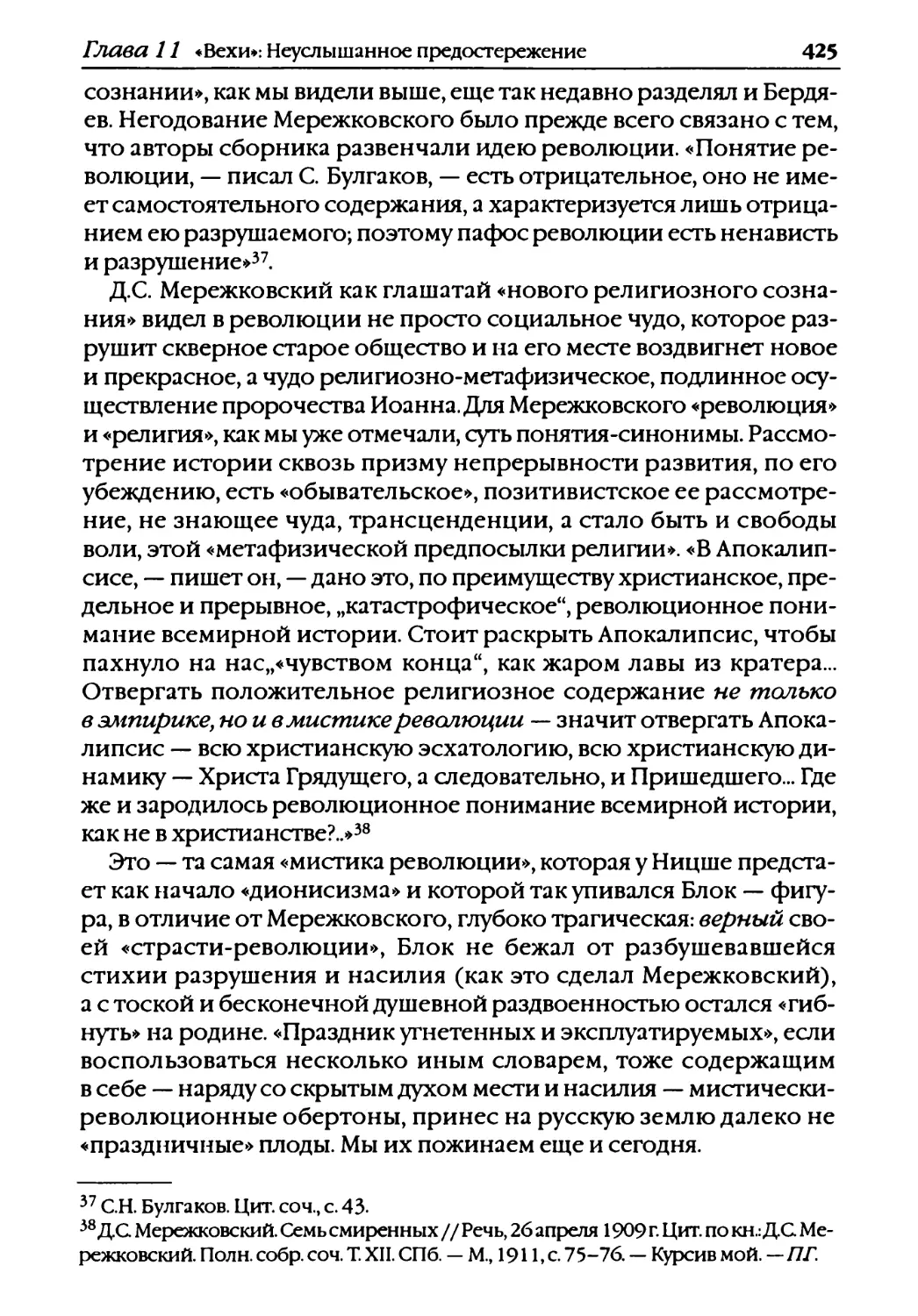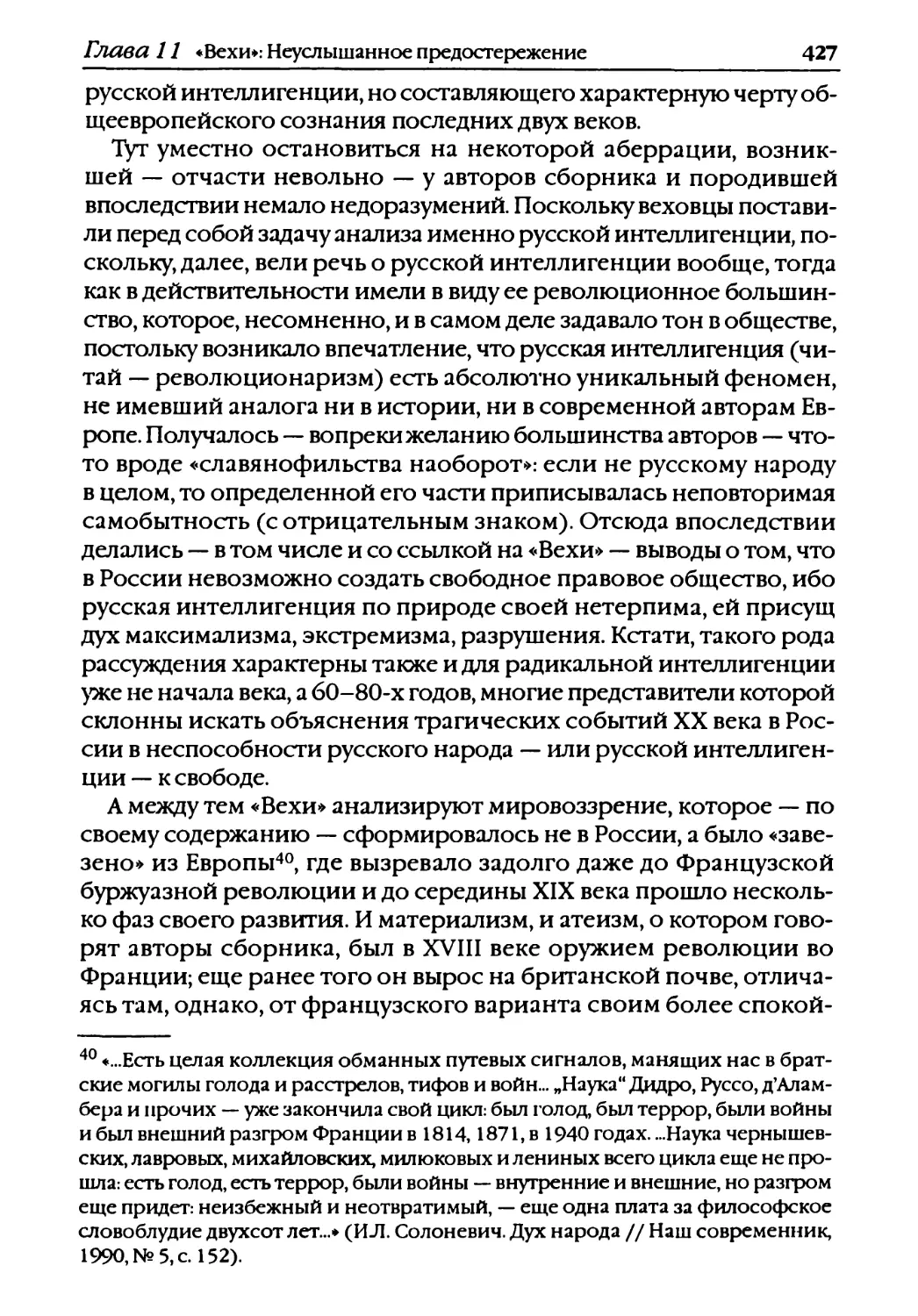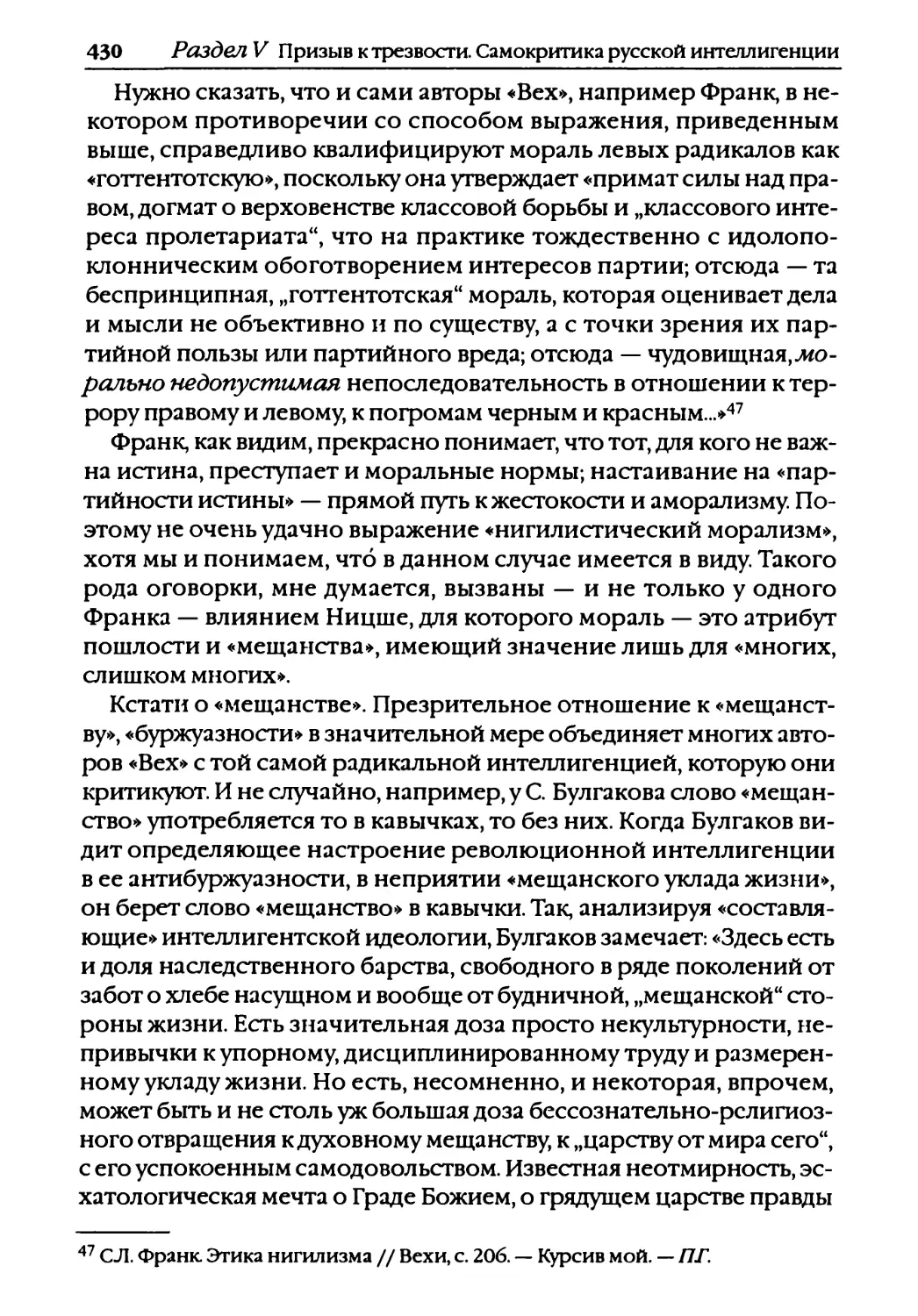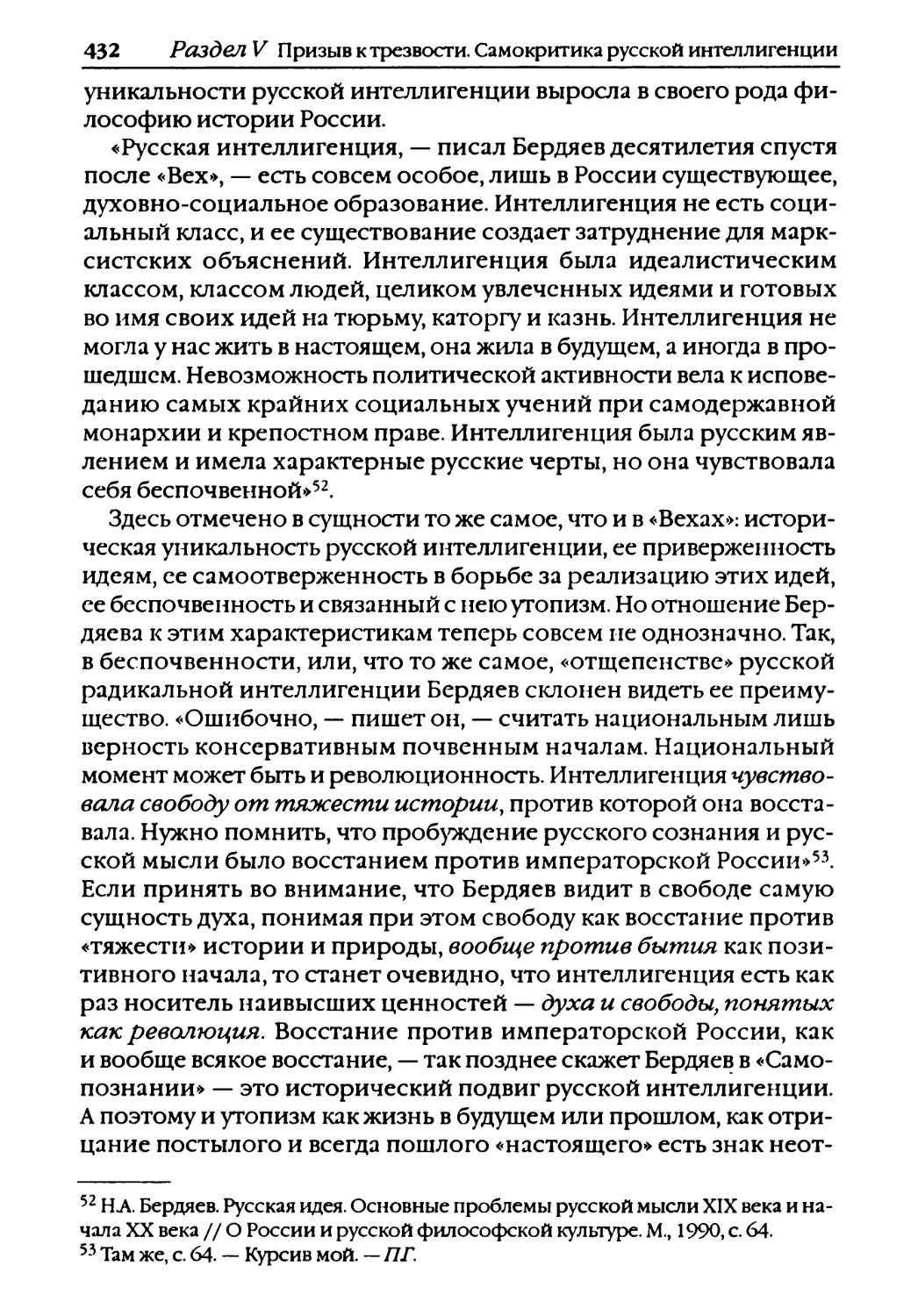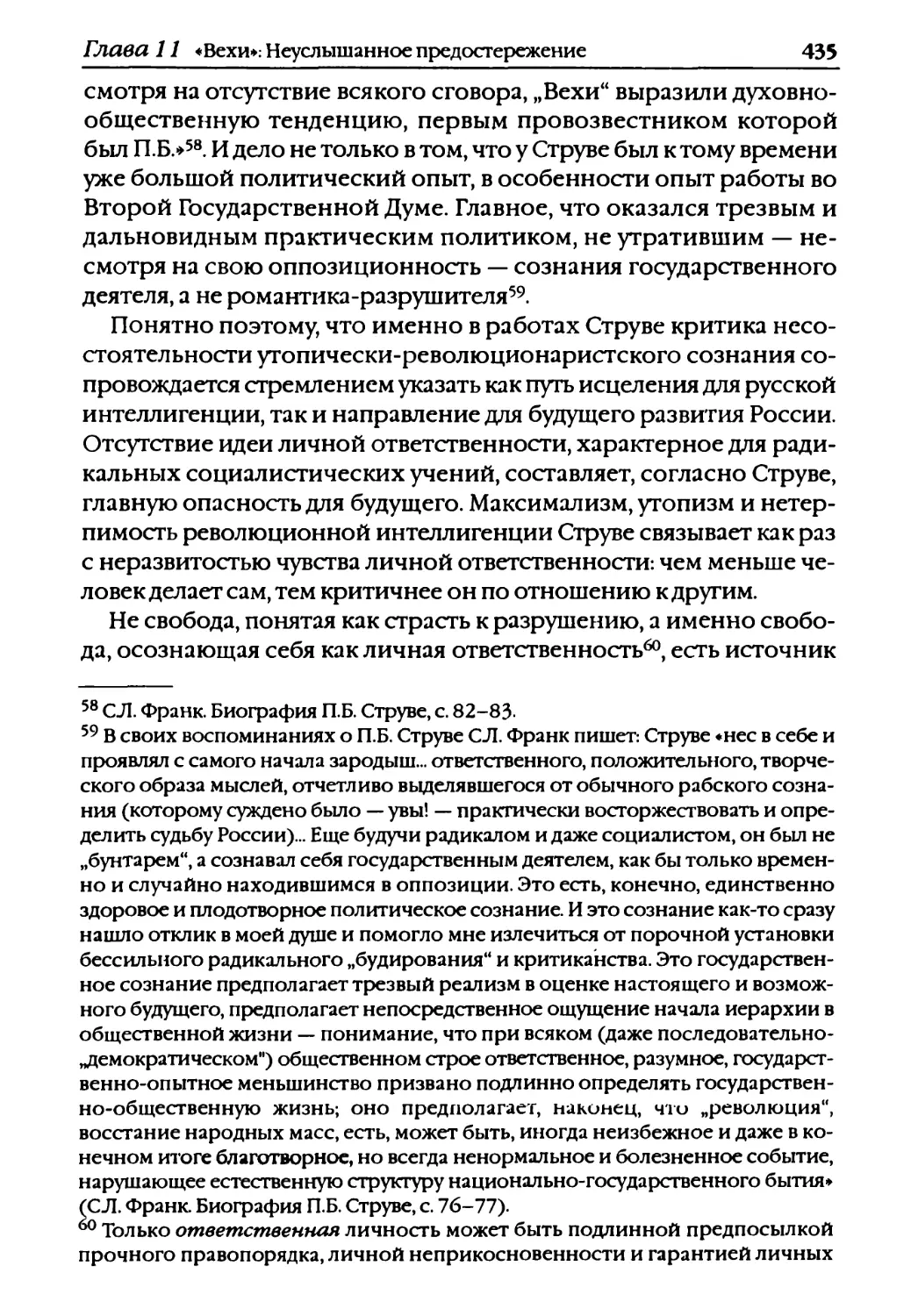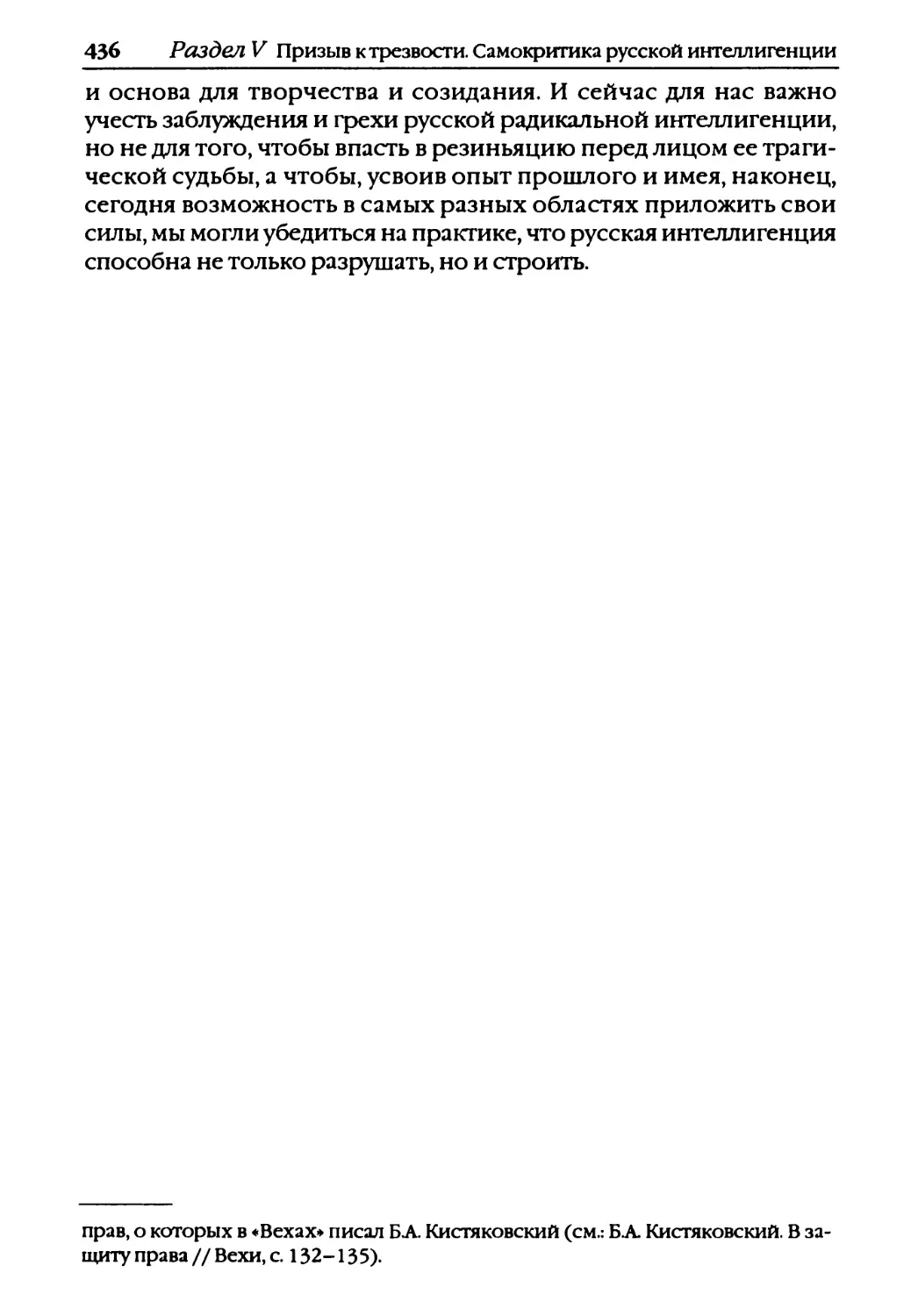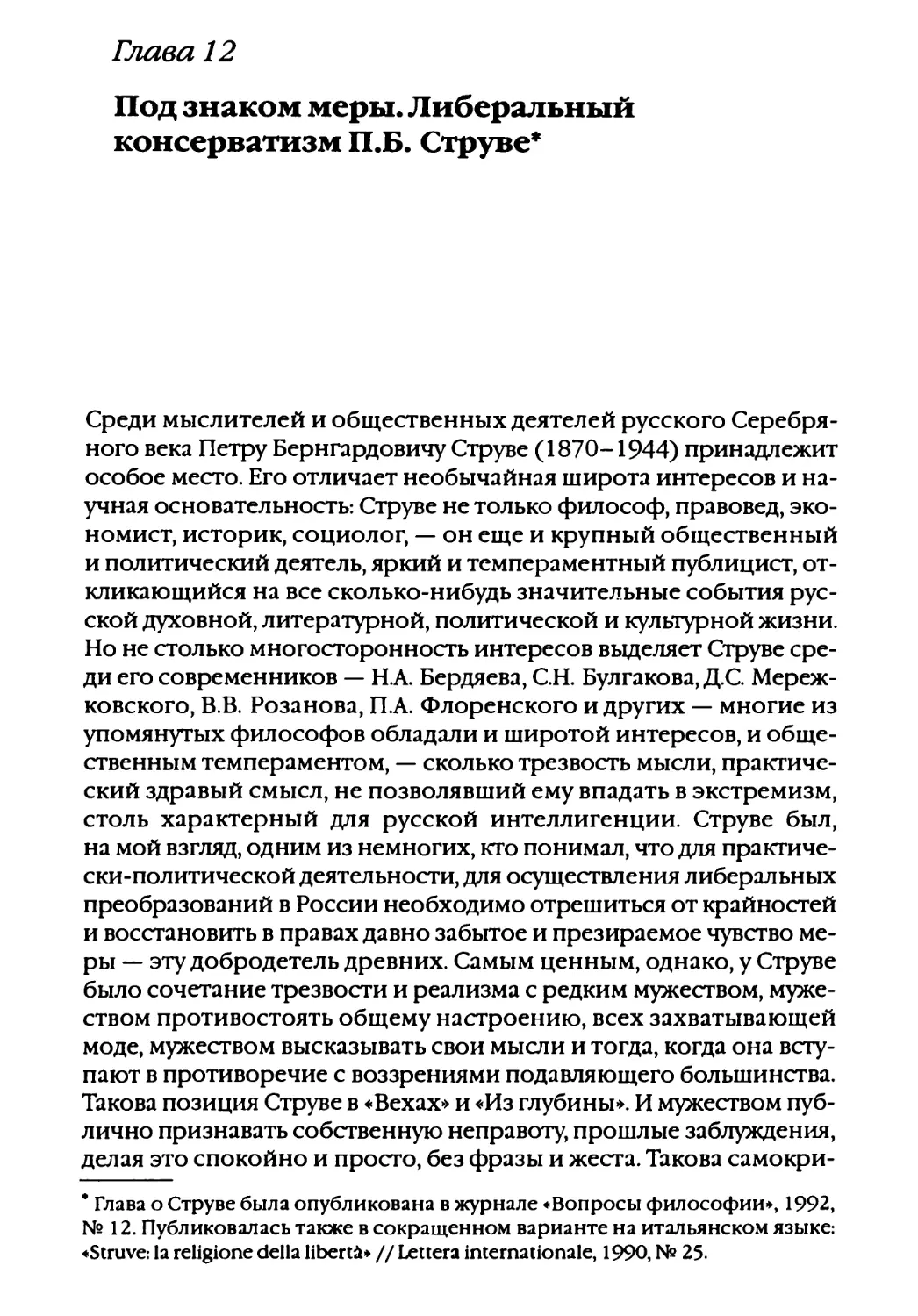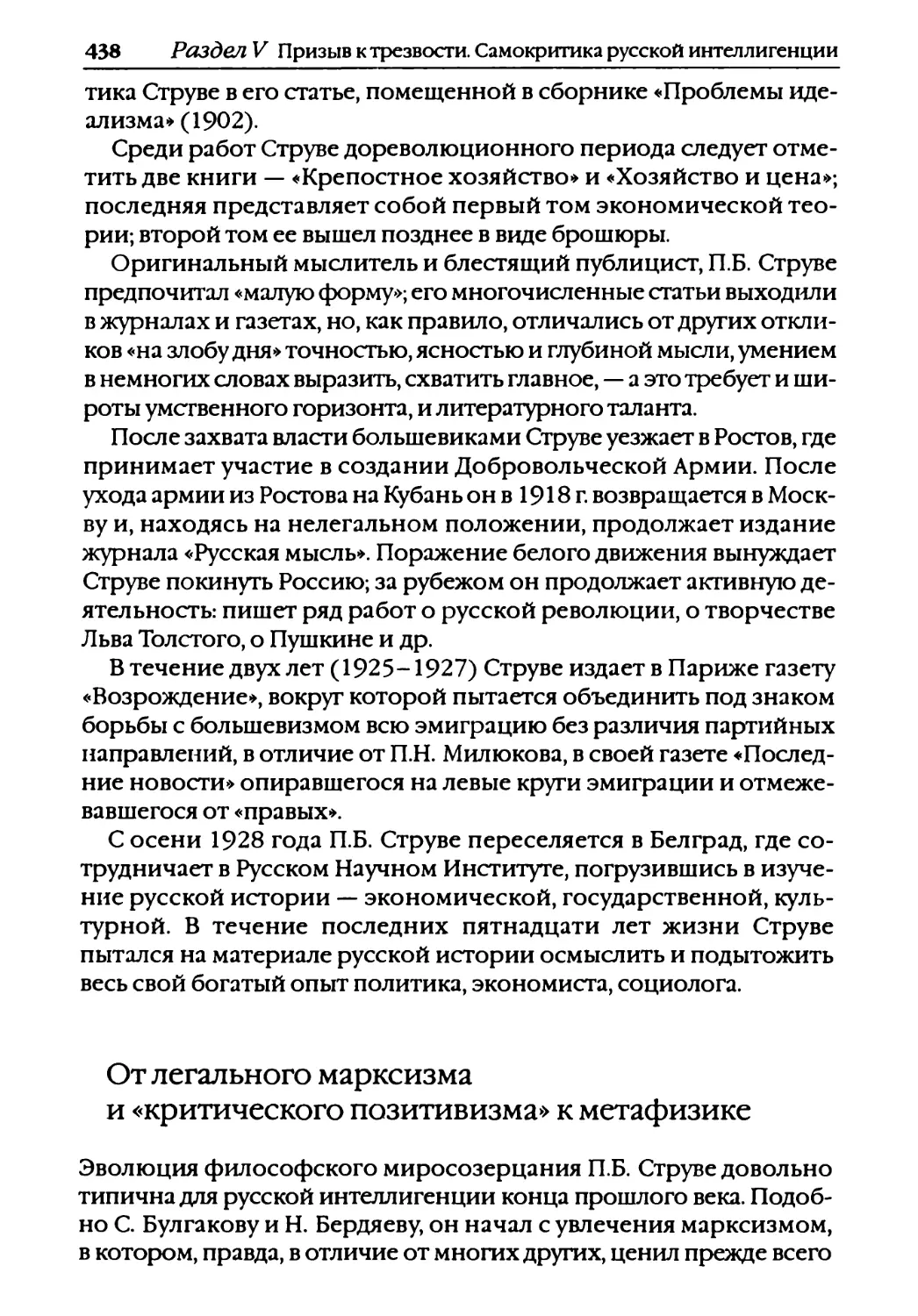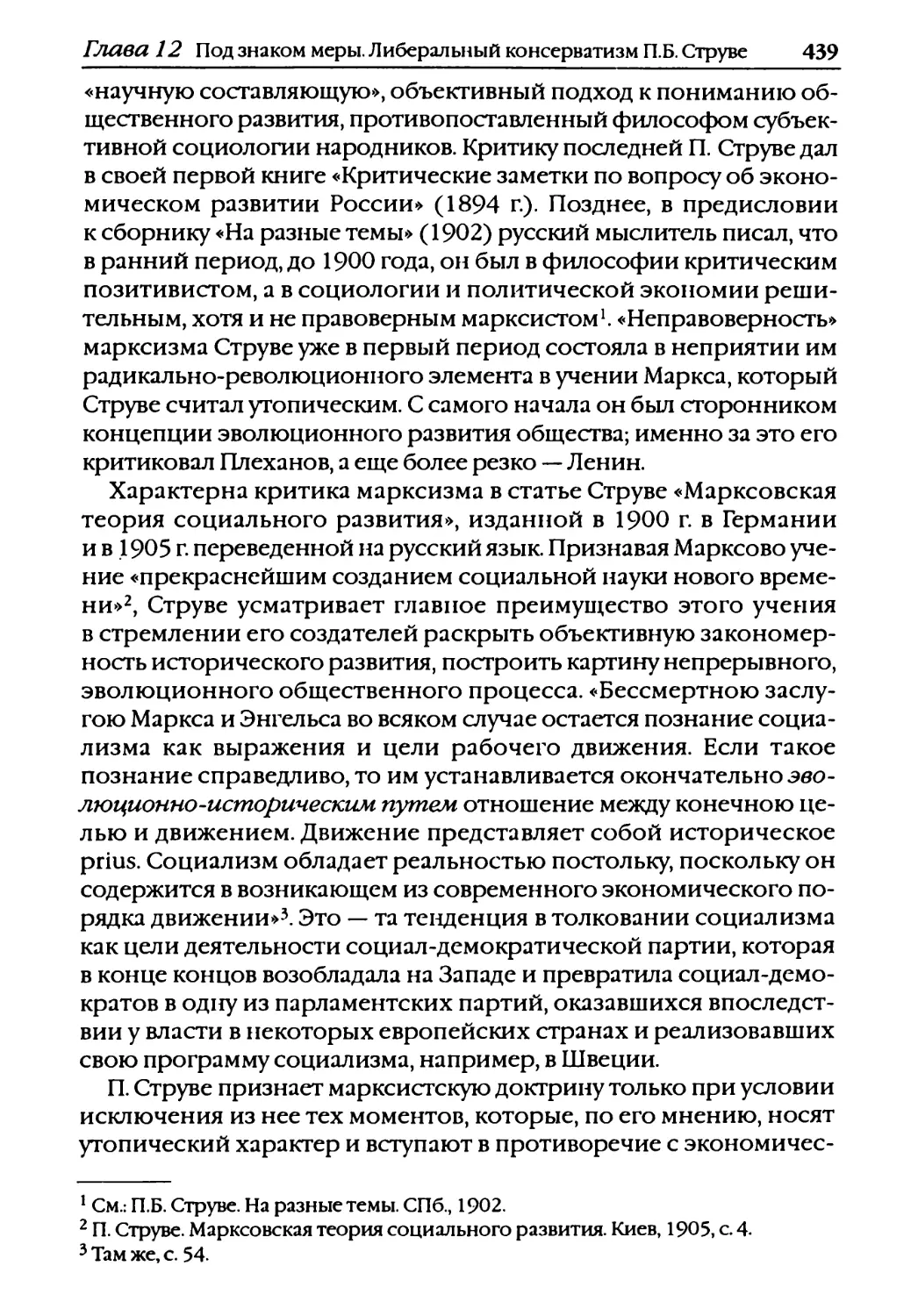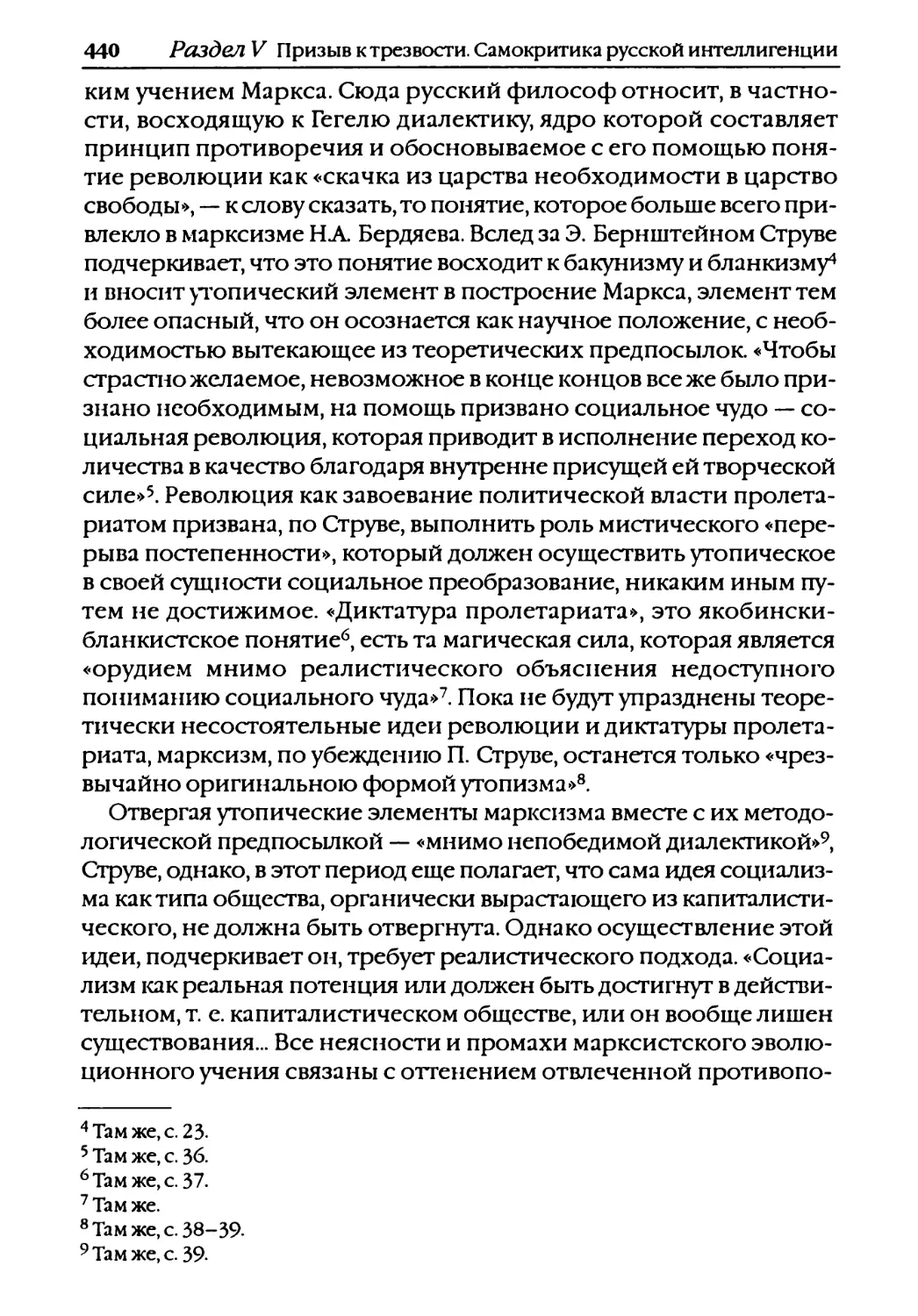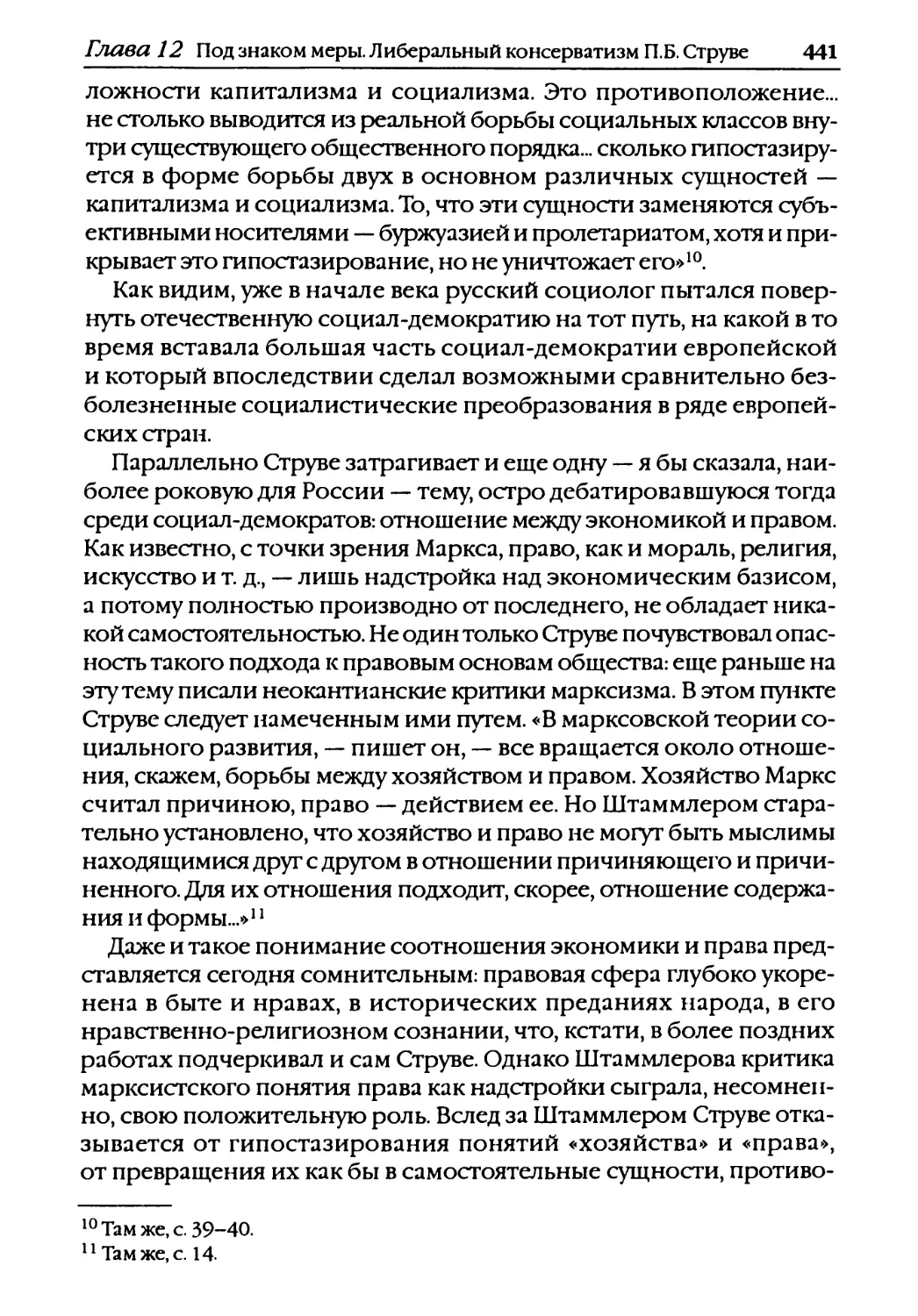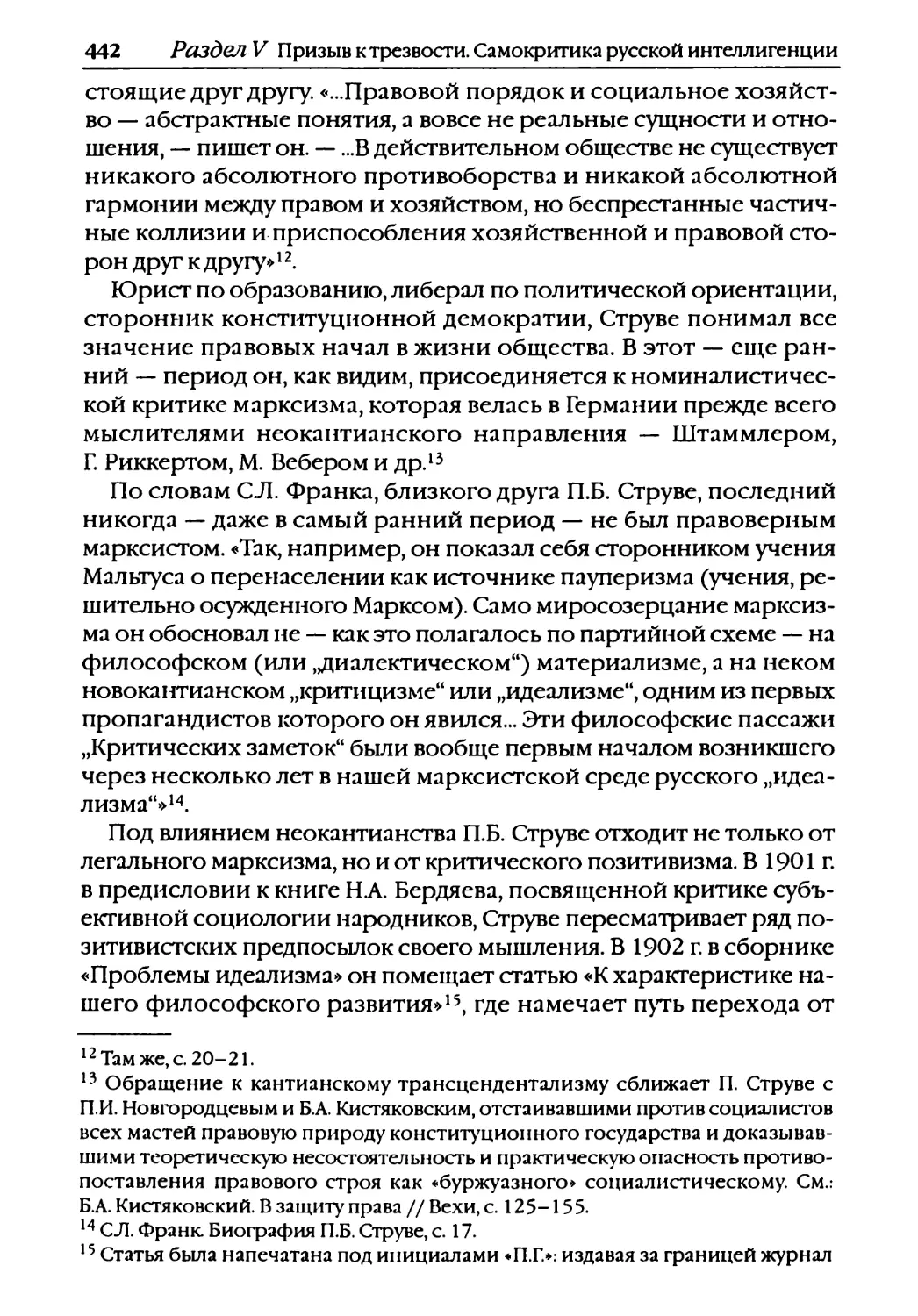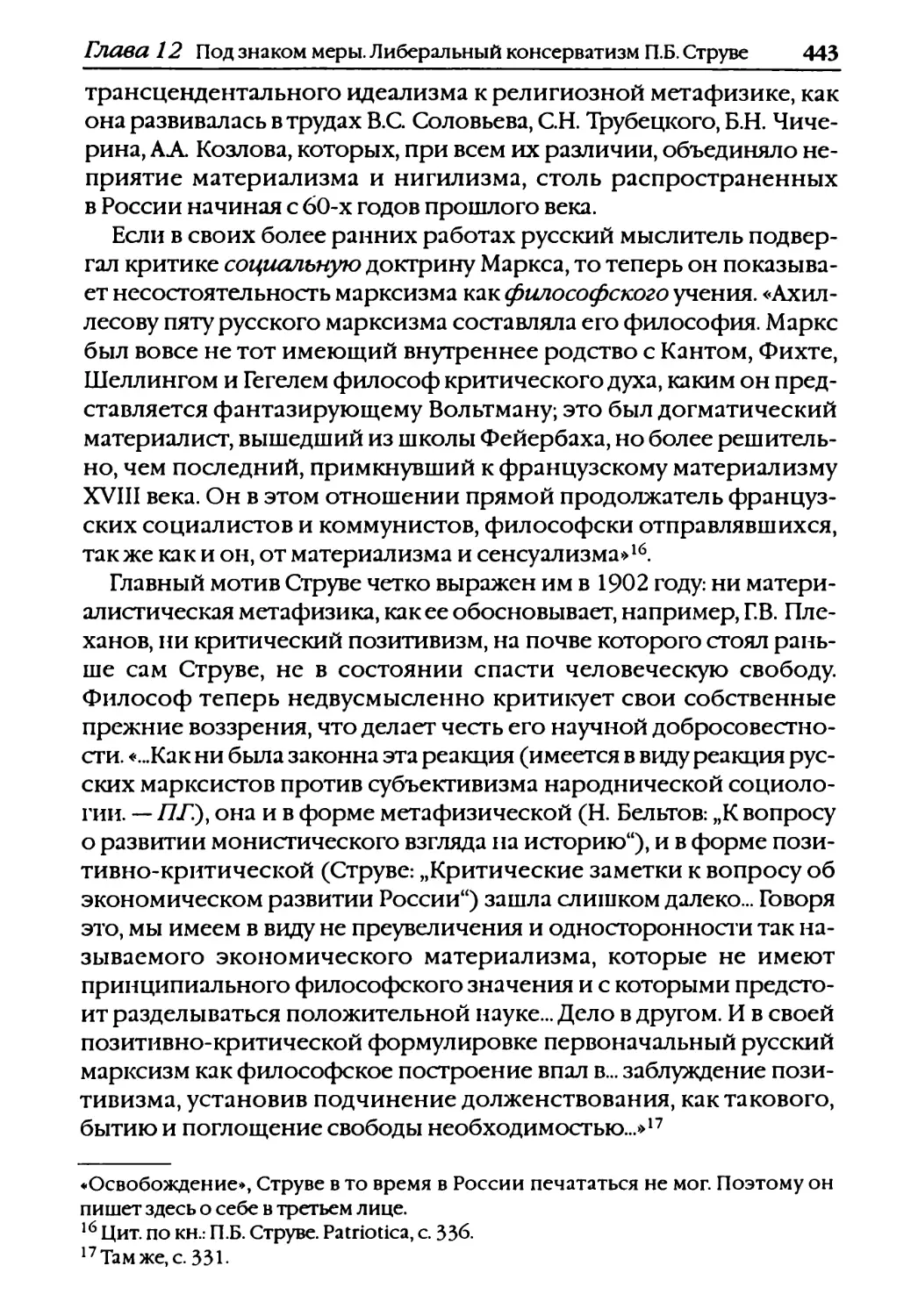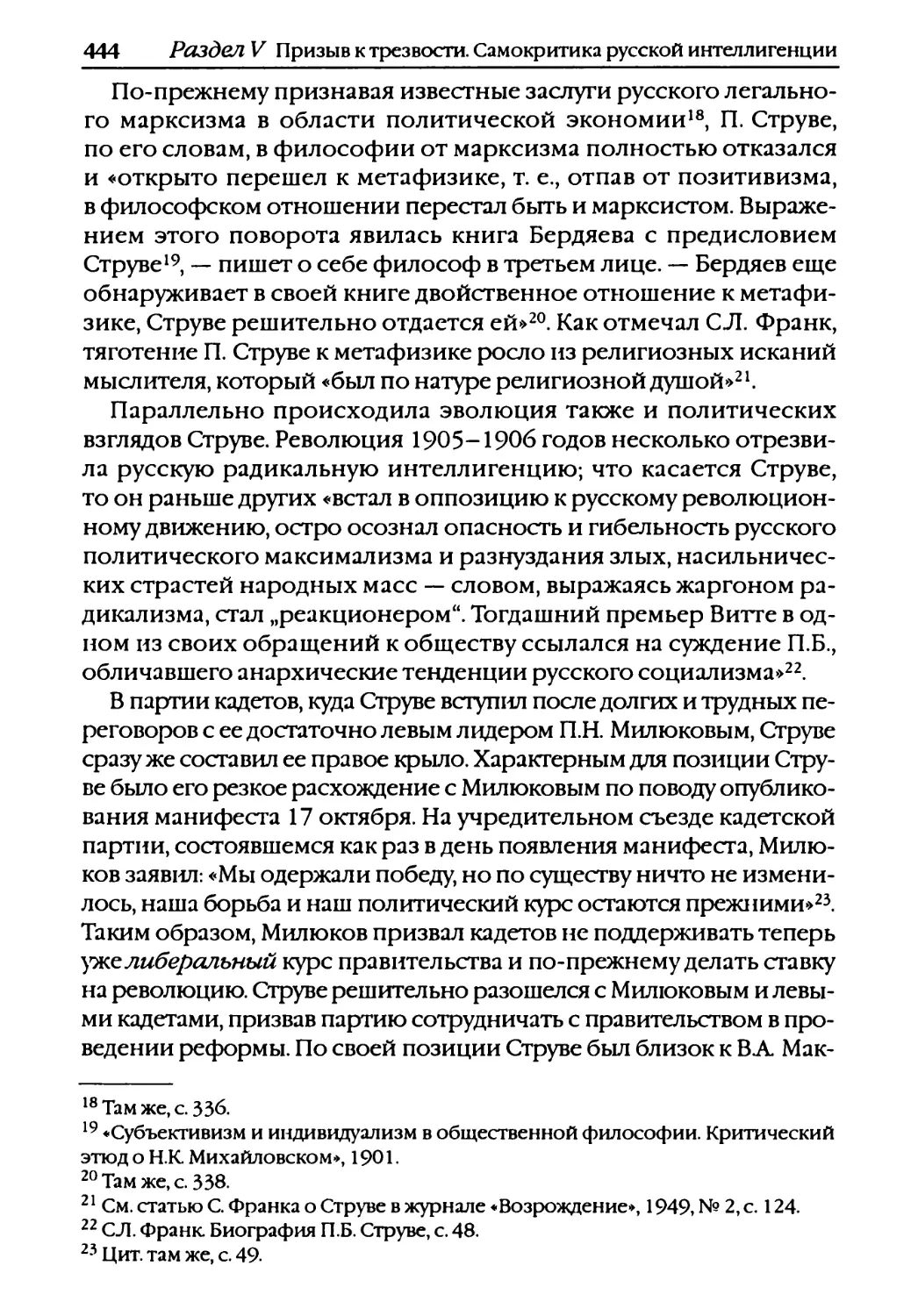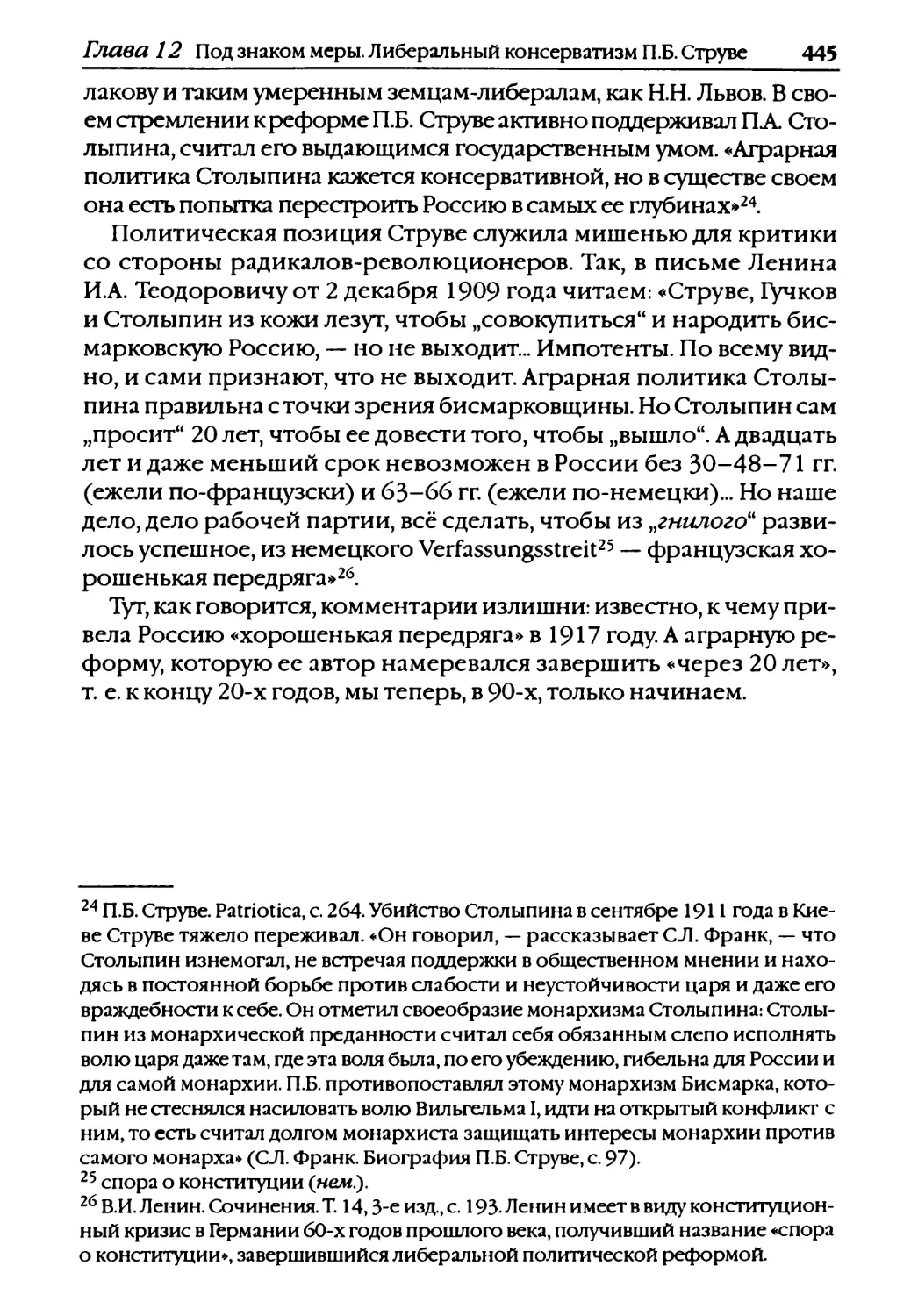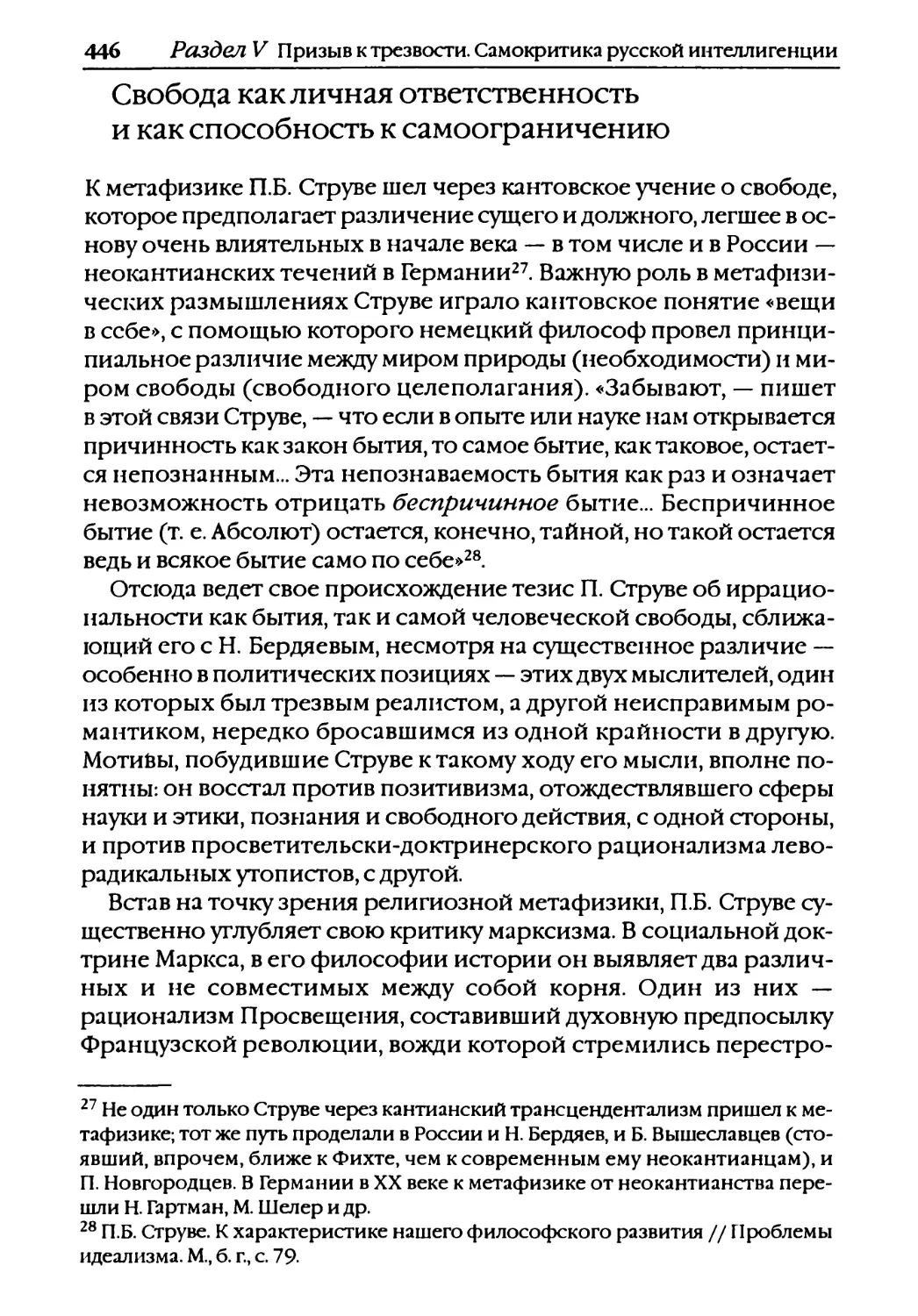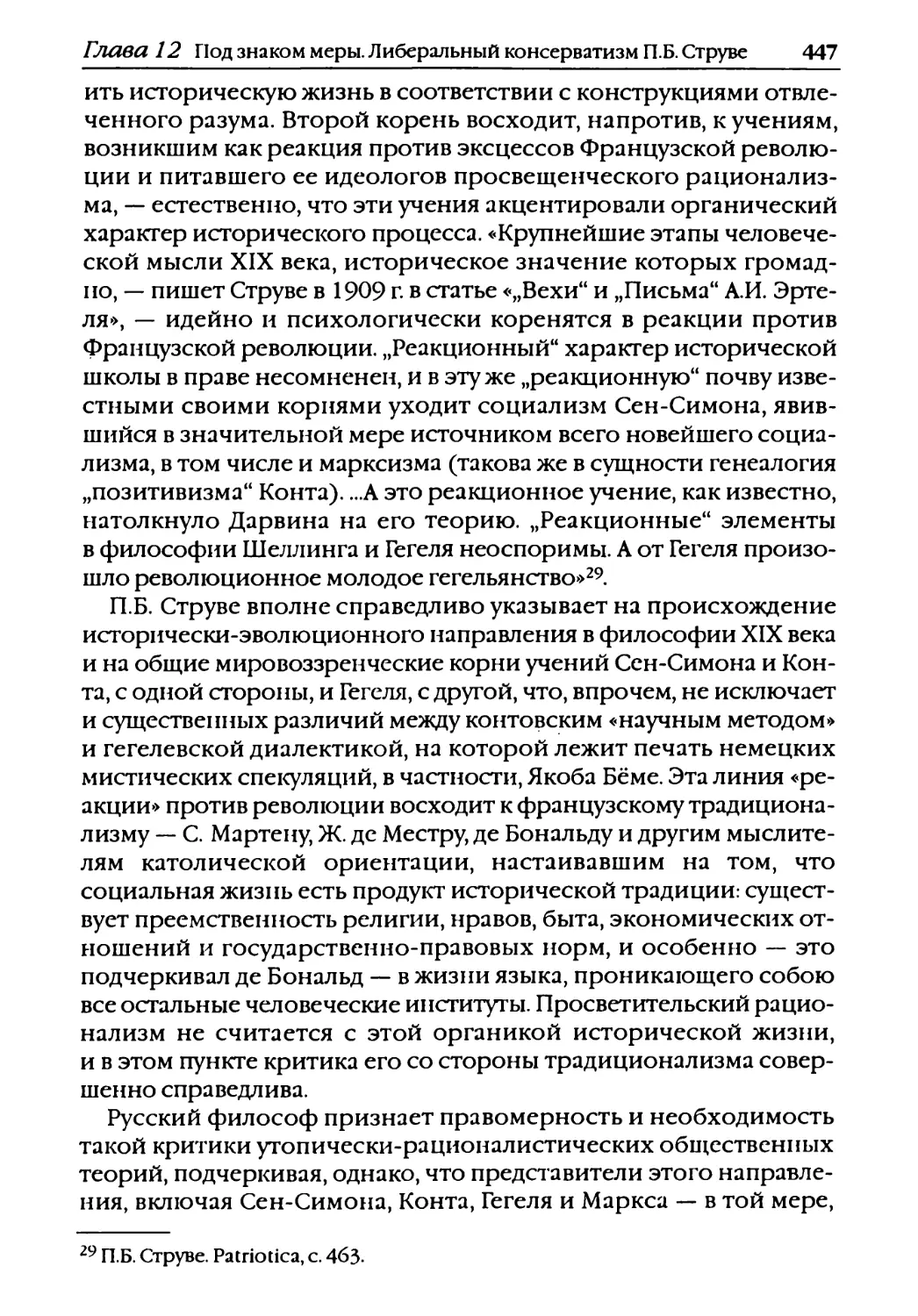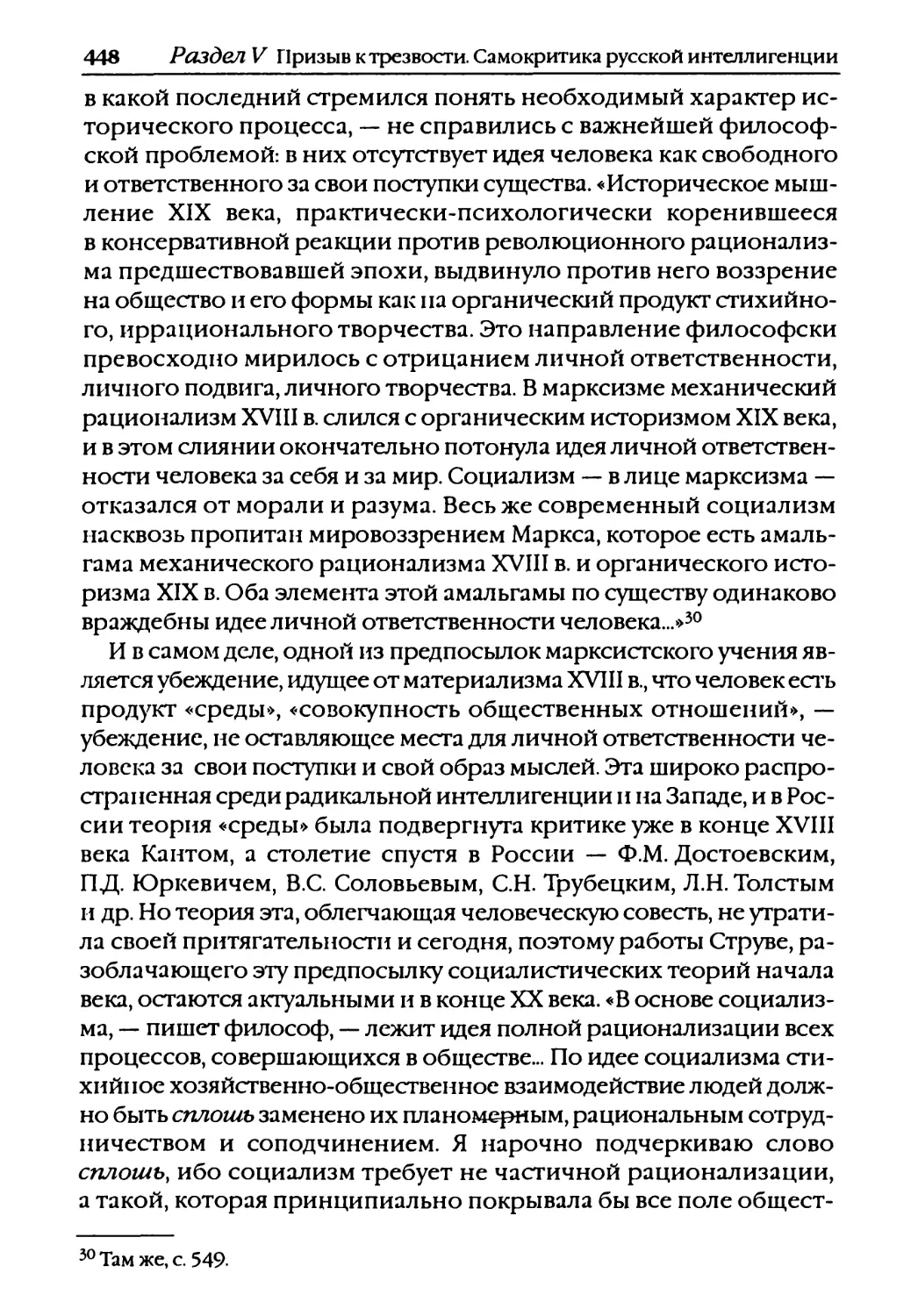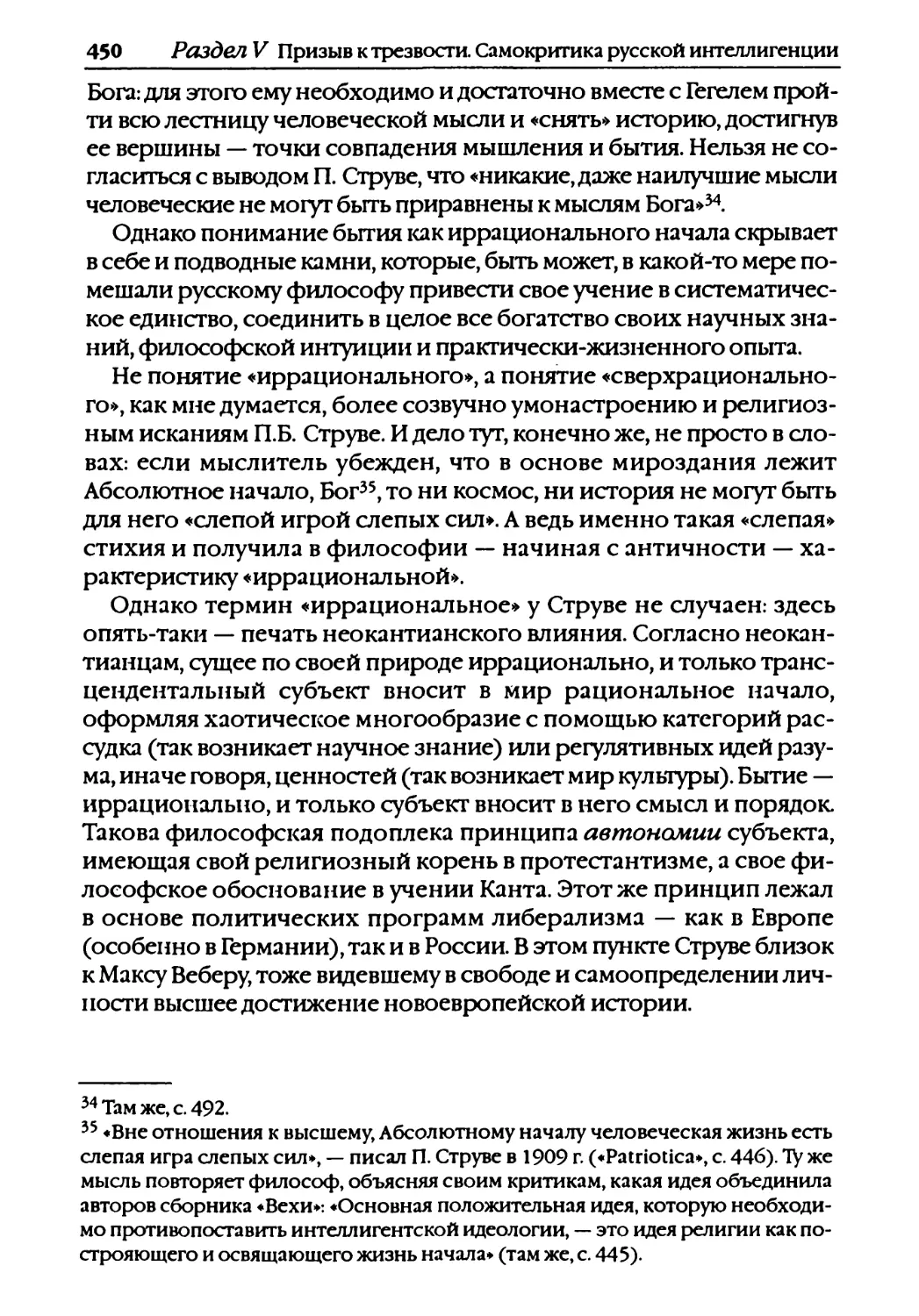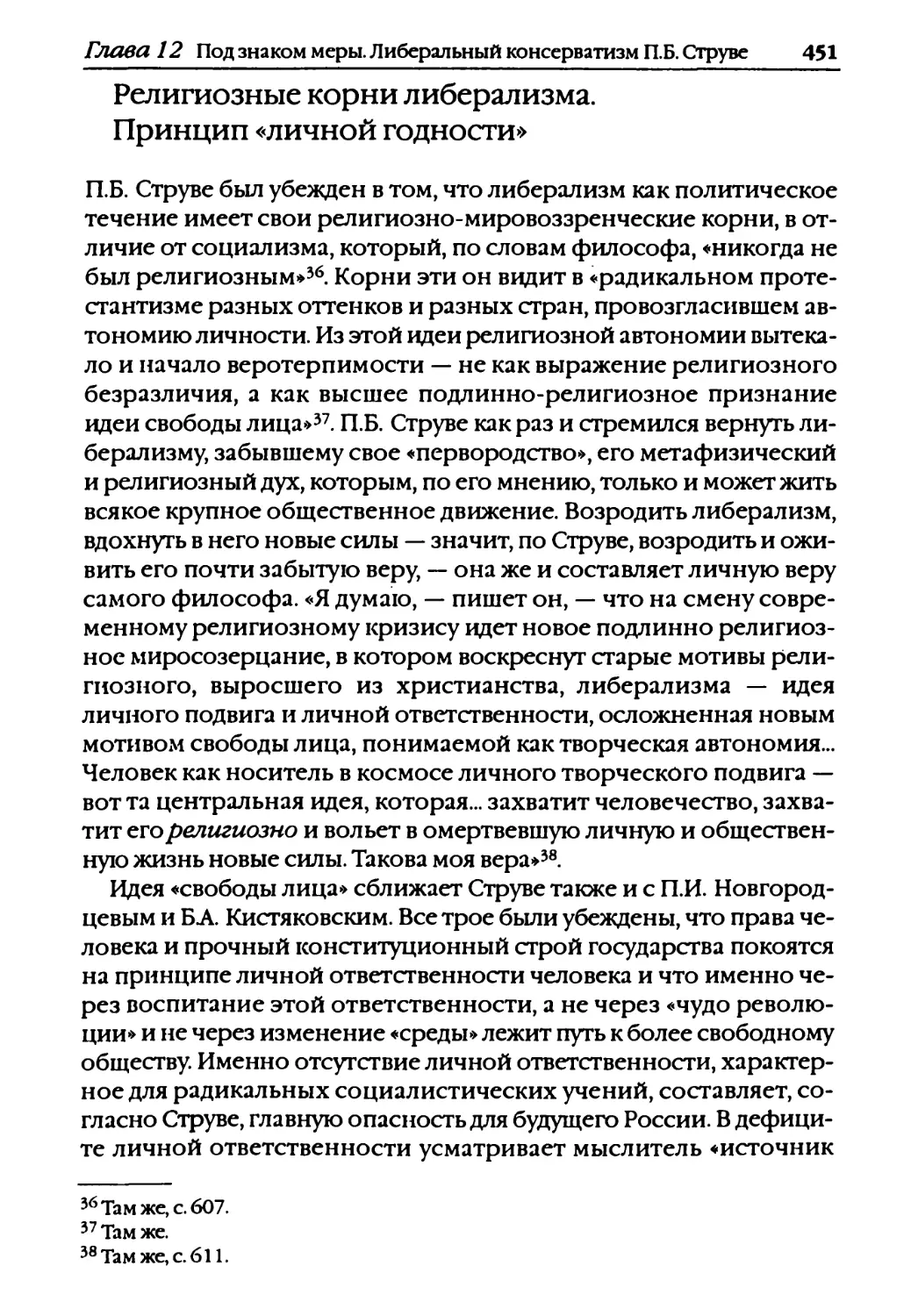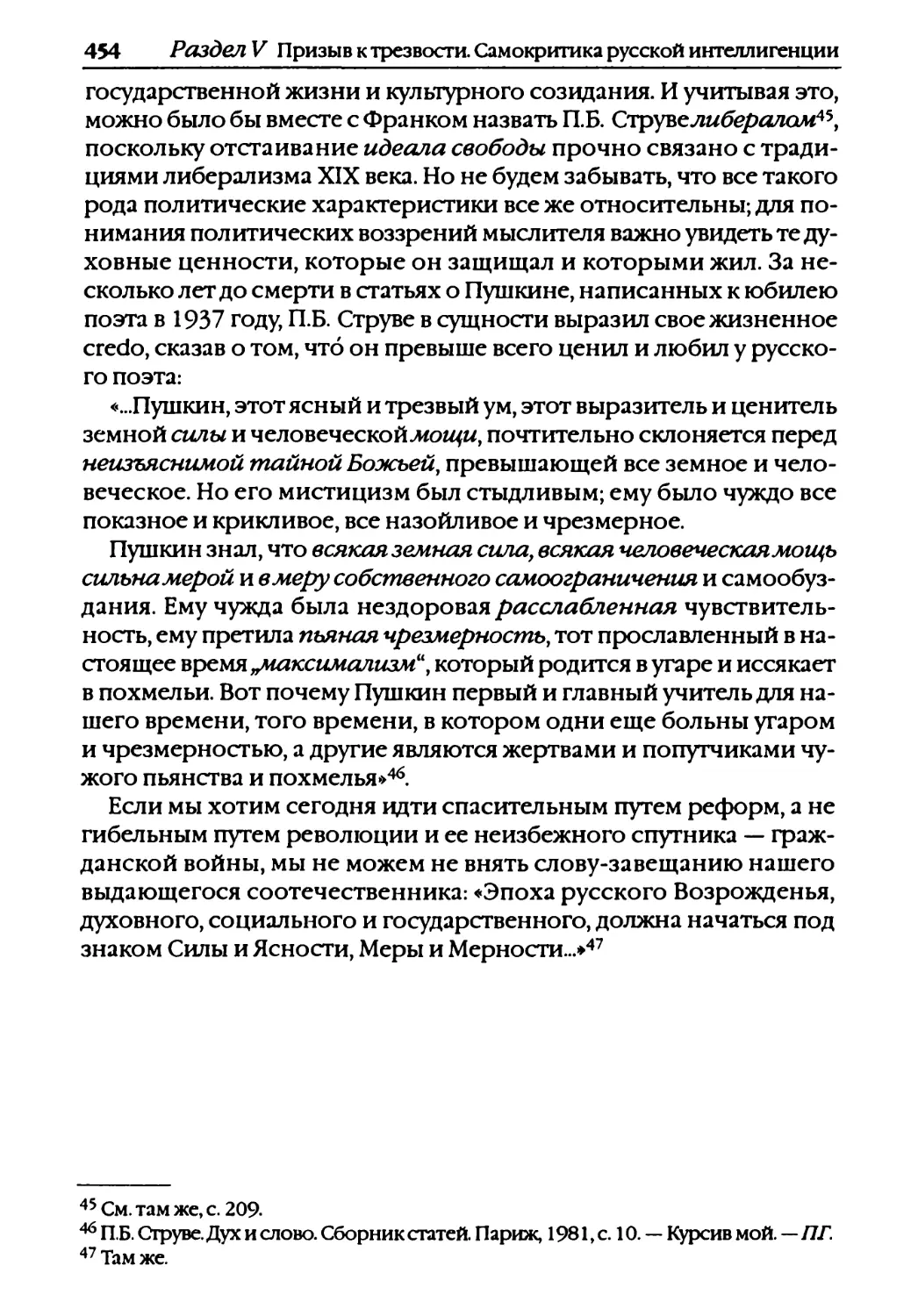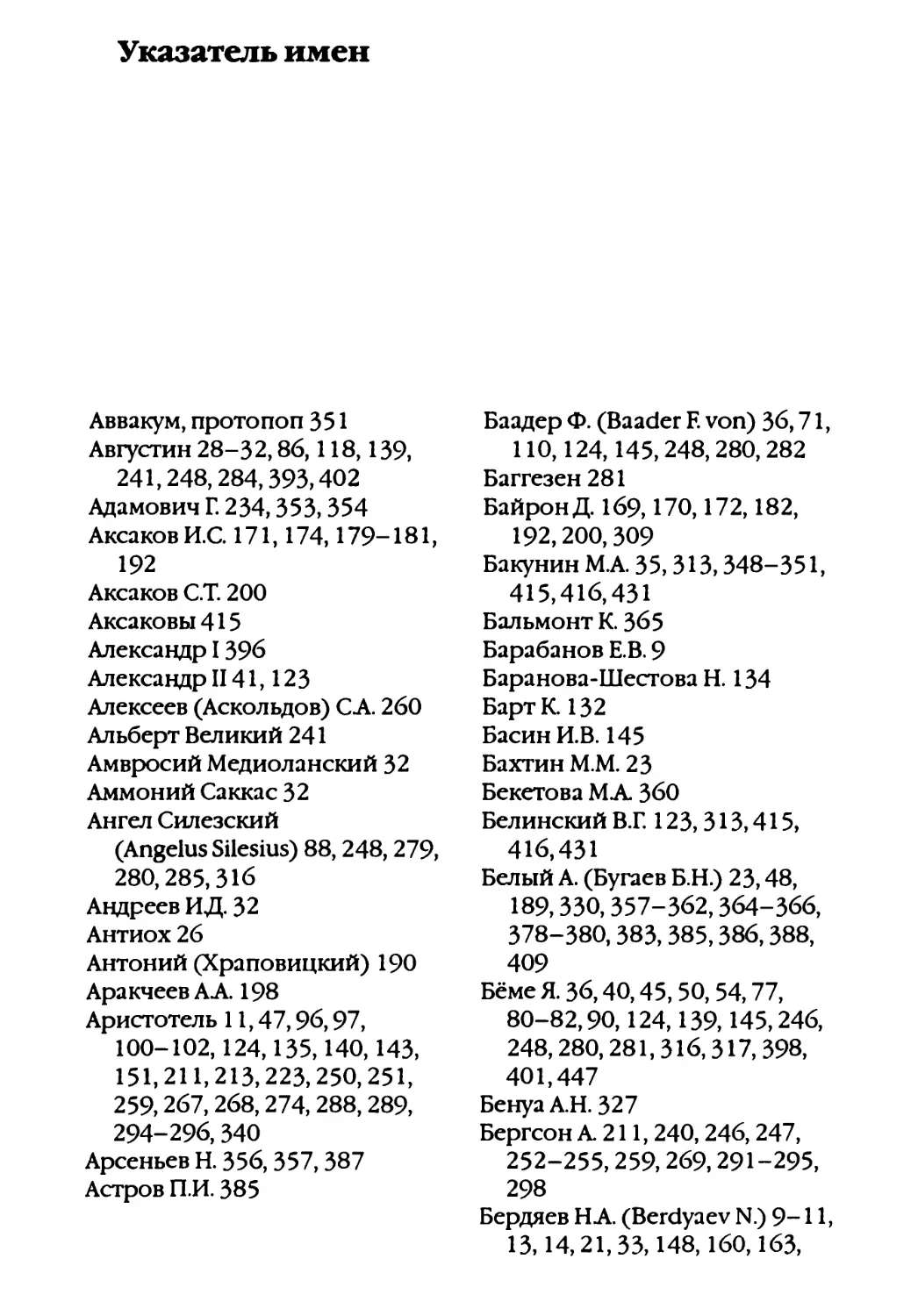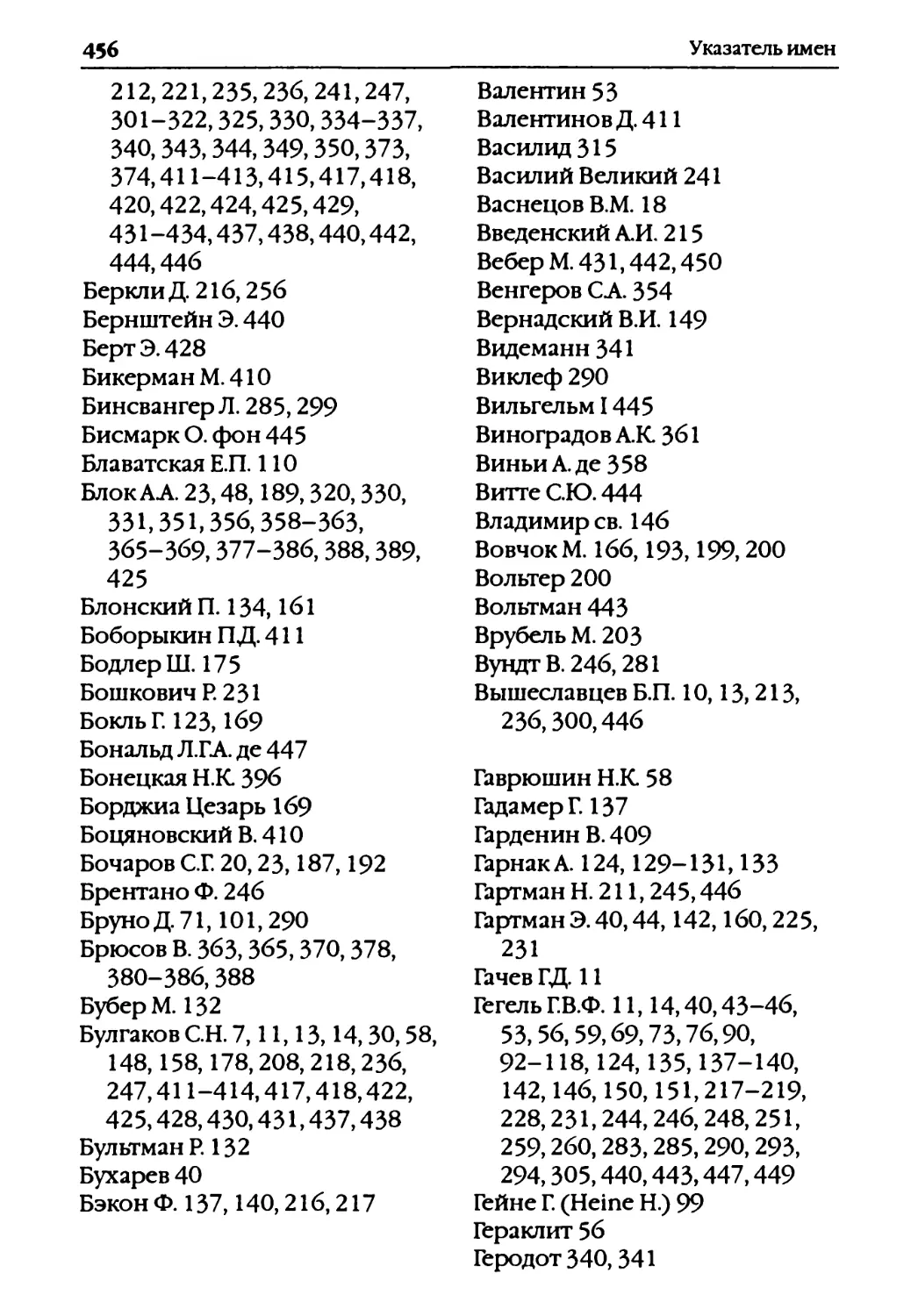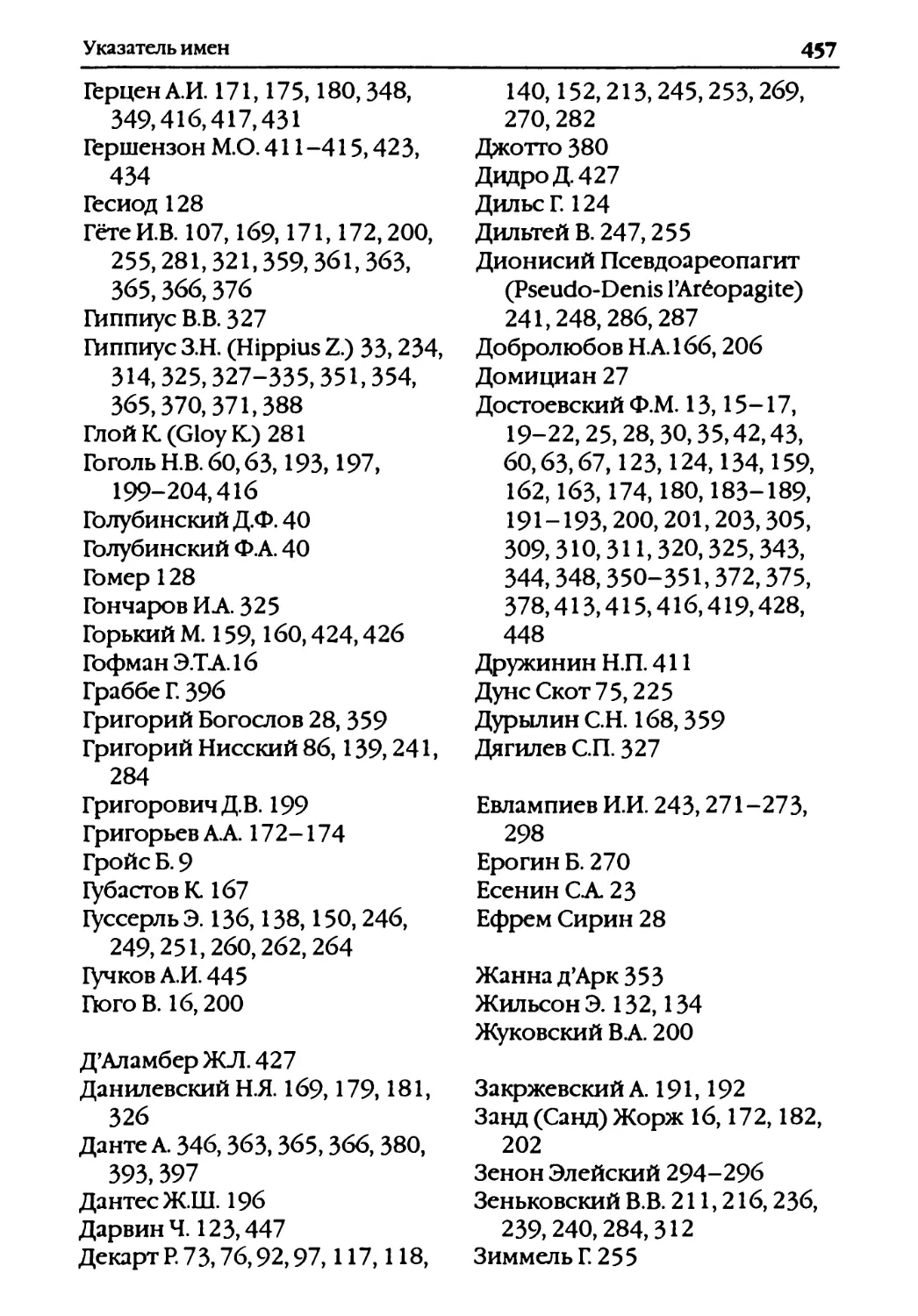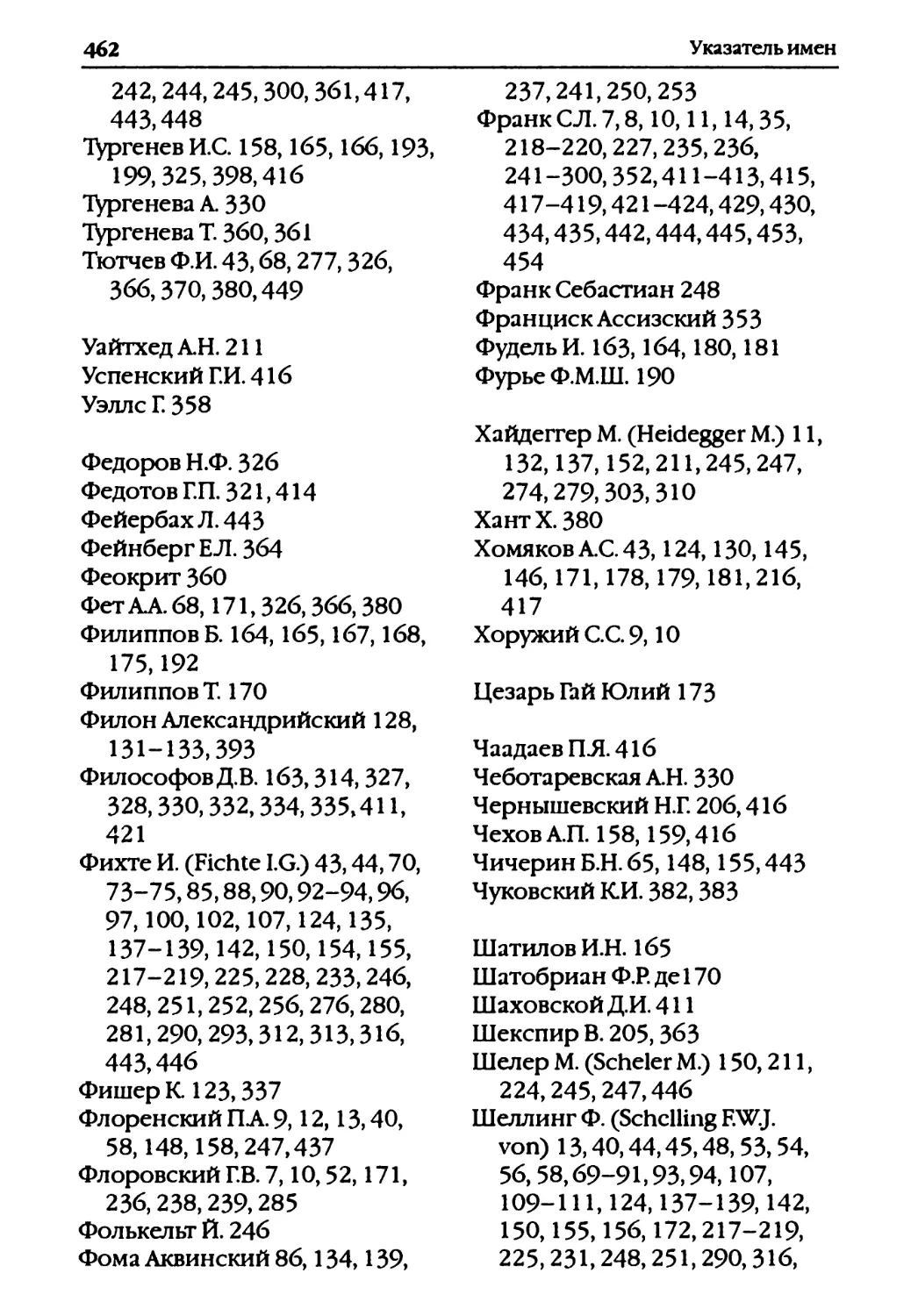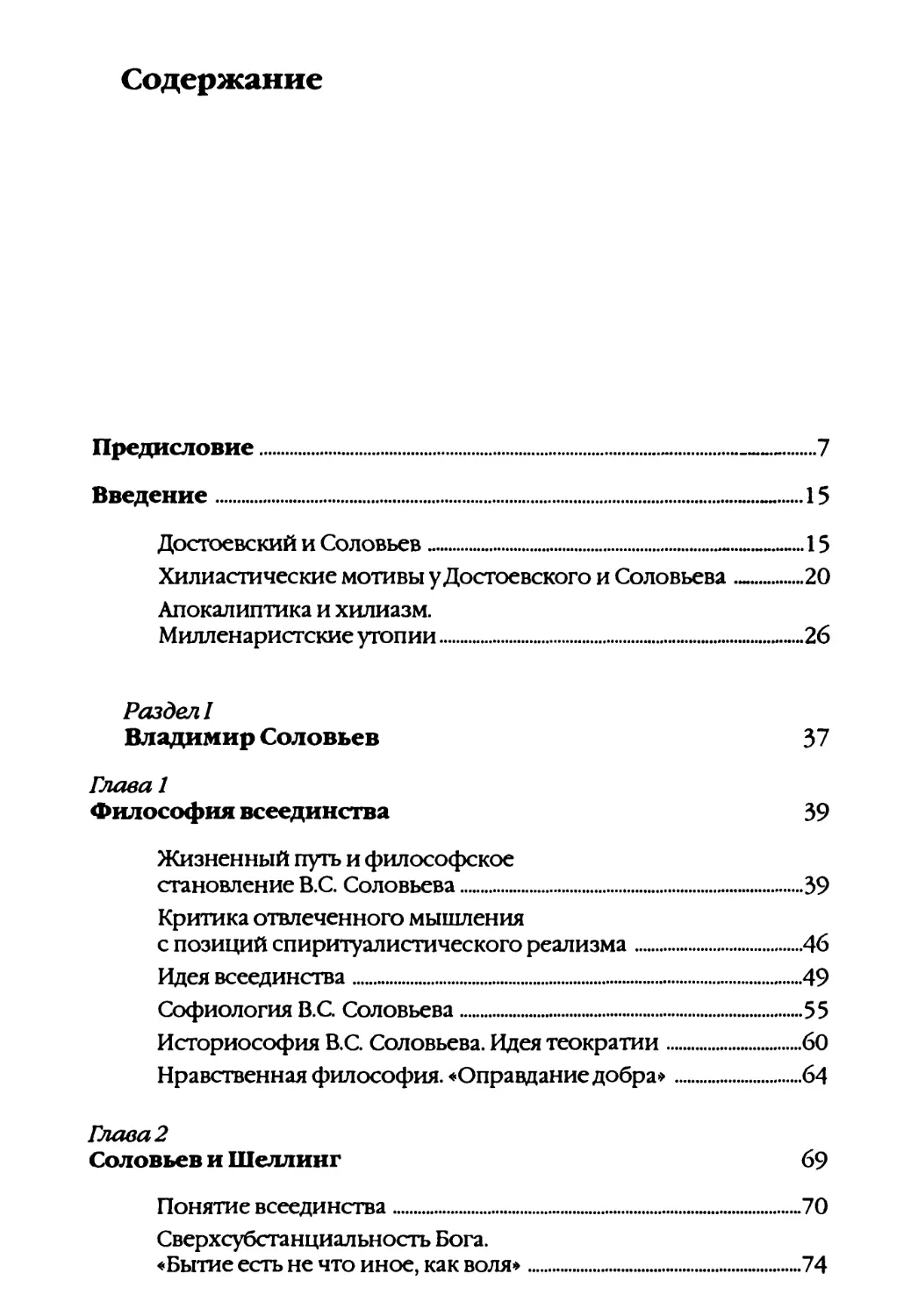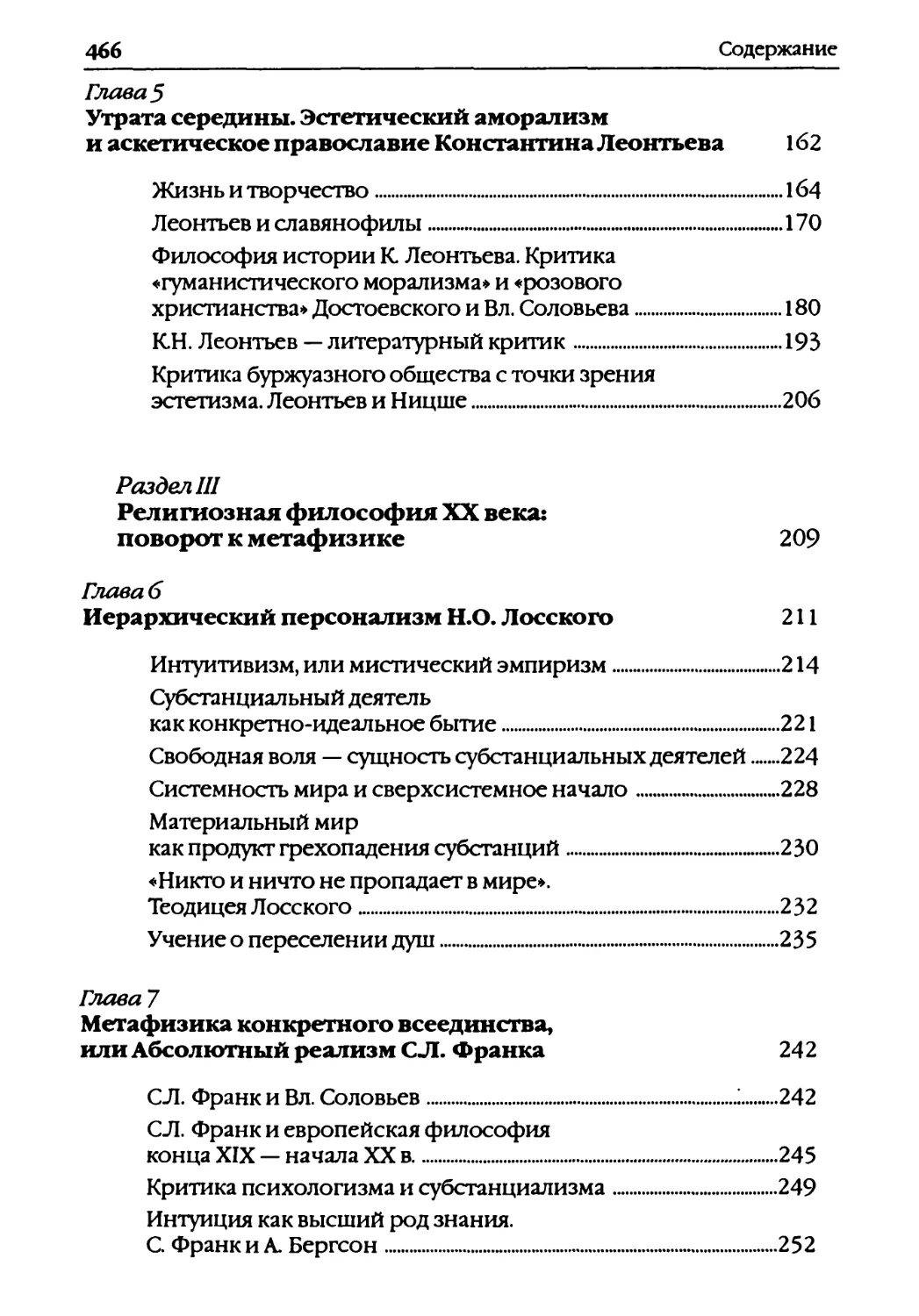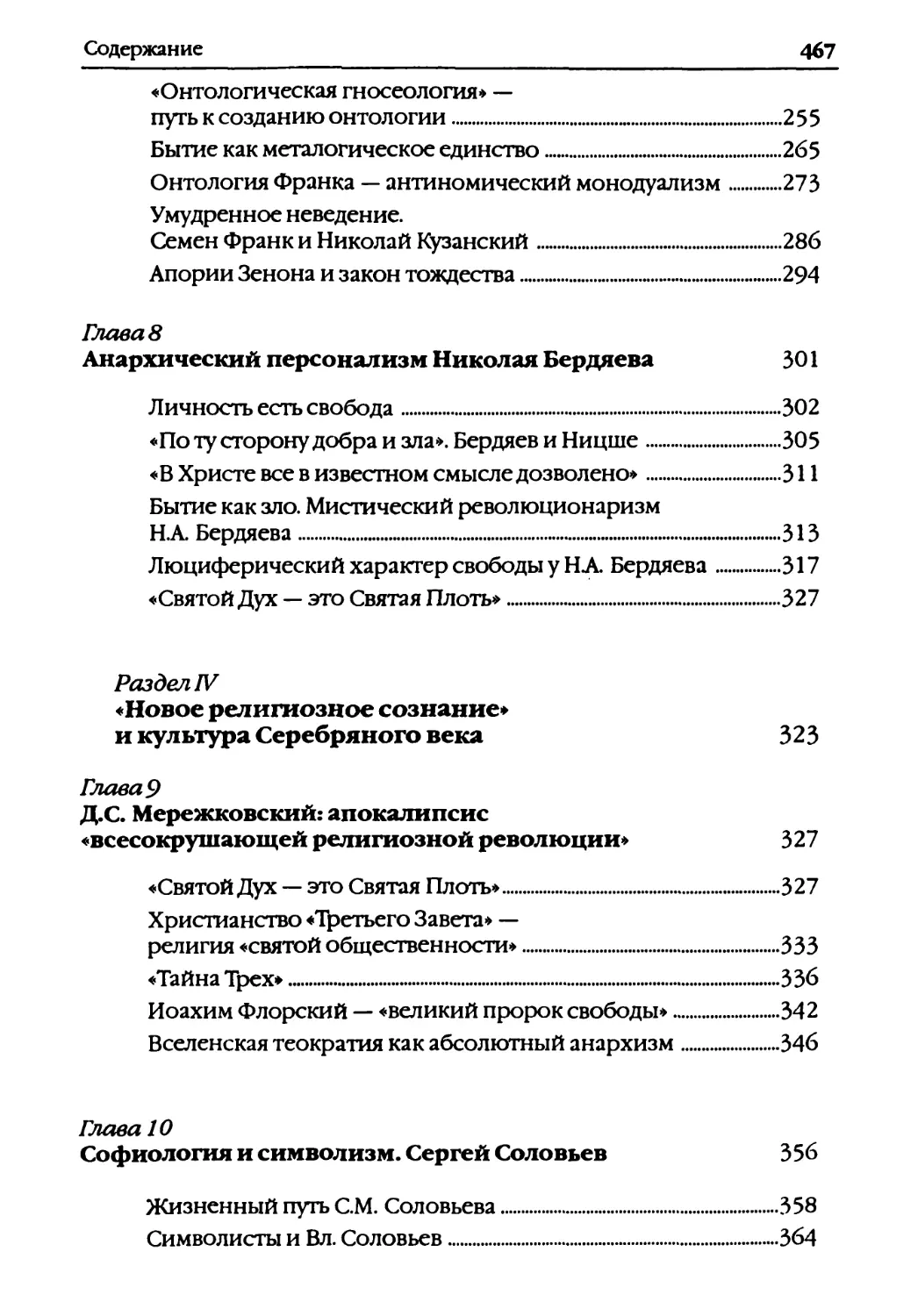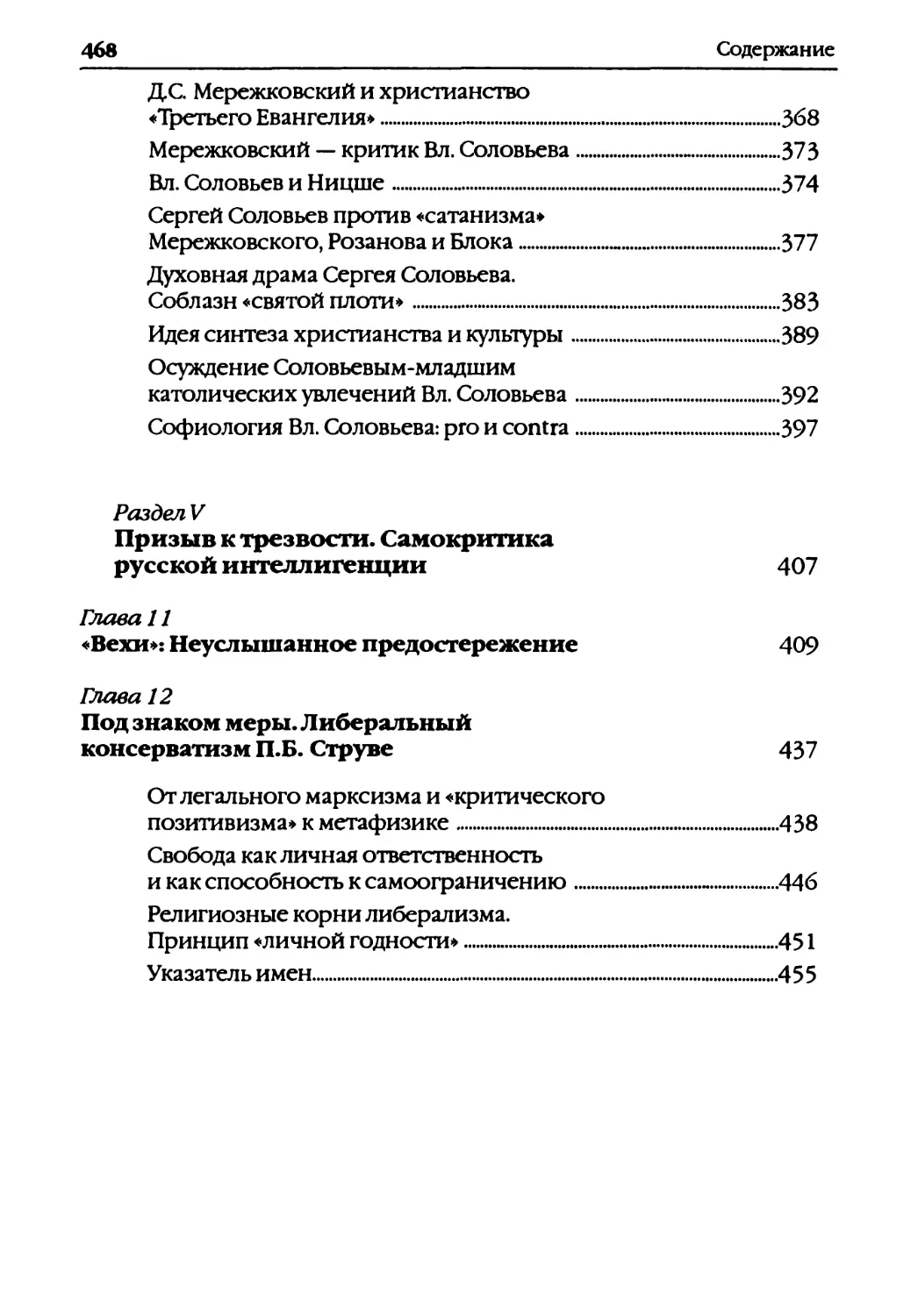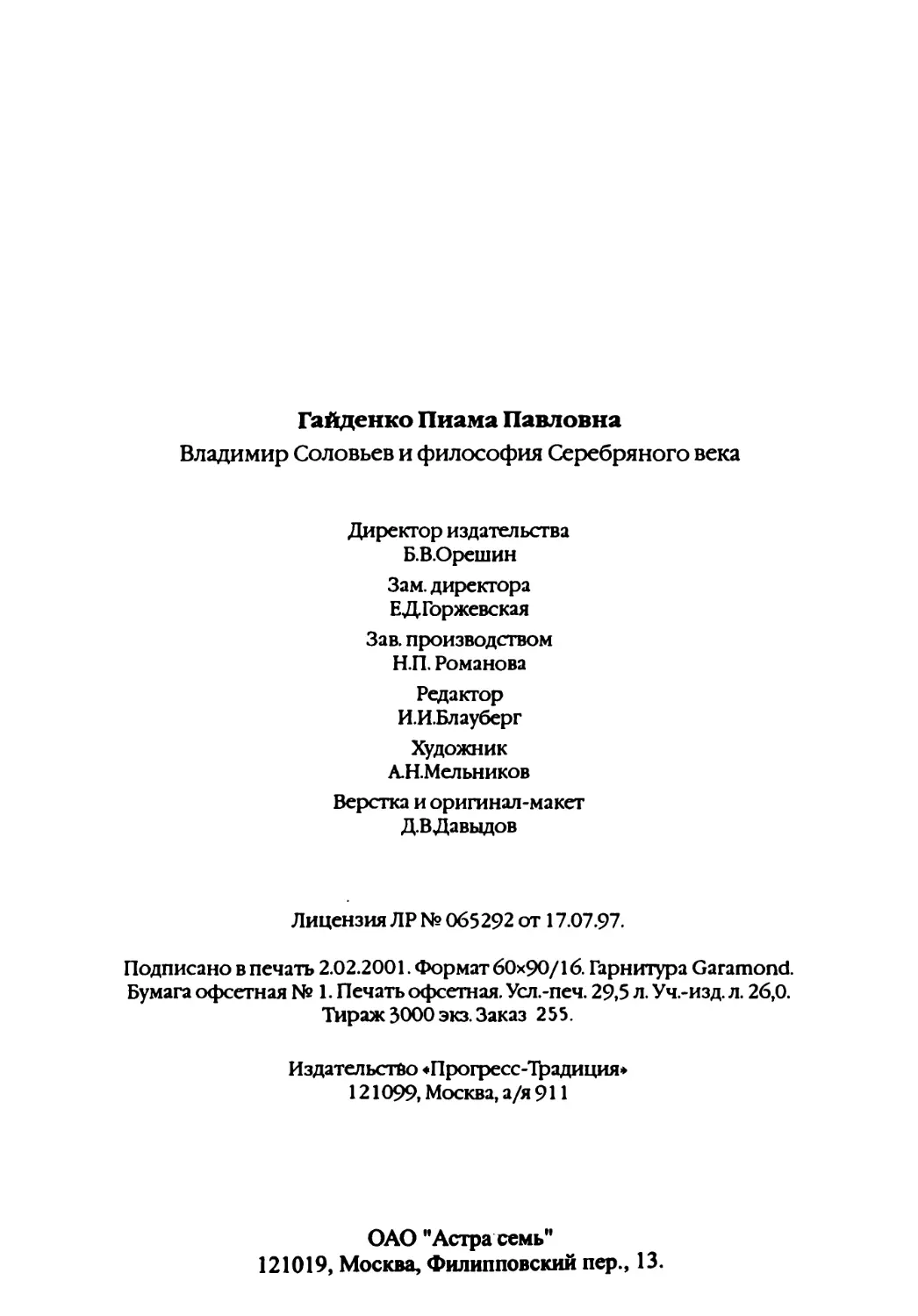Текст
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова
Институт мировой культуры
П. П. Гайденко
Владимир Соловьев
и философия
Серебряного века
Прогресс-Традиция
Москва
Гайденко П.П.
Владимир Соловьев и философия Серебряного века. —
М.: Прогресс-Традиция, 2001. - 472 с.
ISBN 89826-076-5
В центре внимания автора — творчество B.C. Соловьева, оказавшего сильное
влияние на развитие как философской мысли в России последнего столетия,
так и в особенности на культуру Серебряного века. Под воздействием идей
Соловьева формировались воззрения С.Н. и E.H. Трубецких, Н.О. Лосского,
СЛ. Франка, НА Бердяева, ПА Флоренского, С.Н. Булгакова, ДС.
Мережковского и др. Романтический эстетизм, характерный для Соловьева, — с его
культом вечной женственности — во многом определил атмосферу
Серебряного века, прежде всего поэзию символизма; хилиастическая утопия
«посюстороннего преображения вселенной», объединявшая Соловьева
с Достоевским, вылилась в предреволюционные годы в движение к
радикальному религиозному обновлению, получившее имя «нового
религиозного сознания» (ДС Мережковский, НА Бердяев, В.В. Розанов и др.).
Анализ отечественной мысли дается автором в широком контексте
европейской философии XIX-XX вв., начиная с Просвещения и немецкого
идеализма и кончая неокантиацством, философией жизни А. Бергсона
и Ф. Ницше, феноменологией и экзистенциализмом.
Издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся
проблемами философии, отечественной истории и культуры.
В оформлении суперобложки использованы фрагменты картины
MA Врубеля «Демон поверженный».
ISBN 89826-076-5
©П.П. Гайденко, 2001
© Прогресс-Традиция, 2001
© А.Н. Мельников, оформление, 2001
Посвящаю памяти
моих родителей
Предисловие
Русские религиозные философы — от славянофилов и В.
Соловьева до С. Франка, С Булгакова, Г. Флоровского — были глубоко
убеждены в том, что фундамент человеческого общества составляет
начало духовное. Сегодняшняя кризисная ситуация в России
наглядно подтверждает истину этого убеждения. Ибо иначе чем
духовной растерянностью не назовешь то состояние, в котором
пребывают — вот уже который год — не только интеллигенция,
наиболее чуткий барометр социальной погоды, но и другие слои
общества. А духовная растерянность рождает скепсис и безверие,
какую-то бессильную апатию, которая таит в себе глухое
раздражение и в конце концов может вылиться в кровавый мятеж.
Именно в эпохи великих потрясений обнажаются те корни,
которые питают и экономическое благополучие, и политическую
стабильность страны, обеспечивая душевное здоровье ее граждан.
В такие эпохи как раз и рождались те религиозные движения и
философские учения, которые затем на протяжении веков давали
людям мудрость и силу, питая их веру, укрепляя волю и просветляя
разум: создатели этих учений собственными глазами видели ту бездну,
которая может поглотить общество, когда в нем поколеблен дух.
Россия в нынешнем веке не в первый раз переживает это мучительное
состояние духовного расстройства. Свидетельства этого
расстройства в годы двух революций и гражданской войны оставили нам
наши соотечественники — писатели, публицисты, историки,
философы. Последние пытались понять характер социальной болезни,
поставить ее диагноз и найти средства лечения. Оказавшись в
изгнании, многие из них долгие годы размышляли над тем, что
произошло и происходит в России и в чем причины постигших нас
катаклизмов. Вот что читаем у СЛ. Франка в его работе «Духовные основы
общества» (1930): «Сочетание духовного безверия с шаткостью
и бурностью стихийного исторического движения образует харак-
8
Предисловие
терное трагическое своеобразие нашей эпохи... Мутные, яростные
потоки стихийных страстей несут нашу жизнь к неведомой цели; мы
не творим нашу жизнь, но мы гибнем, попав во власть
непросветленного мыслью и твердой верой хаоса стихийных исторических сил.
Самая многосведущая из всех эпох приходит к сознанию своего
полного бессилия, своего неведения и своей беспомощности»1.
Разве это не о нас, сегодняшних? Русская смута, начавшаяся,
вероятно, еще до первой революции, где-то в последнее десятилетие
XIX столетия, судя по всему, еще не закончилась, и конец XX века
в России возвращается к его началу. И хотя политические и
идеологические лозунги — совсем иные, но состояние духовной и
душевной смятенности — сходное. В этих условиях для нас становится
все более актуальным обращение к русской философии конца
прошлого — начала нынешнего века. Актуальным не только потому, что
духовное самоопределение требует осмысления отечественной
традиции, и прежде всего традиции религиозной и философской:
без понимания своего прошлого мы не можем сознательно
ориентироваться в настоящем и строить свое будущее. Но это обращение
тем более важно, что отечественная религиозная философия
XX века аккумулировала трагический опыт двух русских
революций и двух мировых войн и искала ответы на самые больные
вопросы, встававшие не только перед Россией, но и перед мировой
цивилизацией. И, наконец, для нас сегодня, быть может, существеннее
всего то, что тема духа, веры, нравственности оказалась в центре
внимания русской мысли и что проблемы социальные,
политические, правовые, экономические, волнения и заботы текущего дня
обсуждались здесь с точки зрения вечных, непреходящих оснований
бытия, обсуждались мыслителями, располагавшими всем
богатством мировой философской культуры.
Обращение к отечественной философии не только проясняет
наш исторический горизонт, но и позволяет лучше увидеть те
слабости, которым подвержена русская культура Серебряного века, в том
числе и философия этого периода, позволяет освободиться от
многих иллюзий, которые мы нередко разделяем с нашими
предшественниками, часто не сознавая этого. А между тем наш собственный
исторический опыт позволяет внести определенные коррективы
в то богатое наследие, которое мы получили от наших
предшественников и которое вот уже более десятка лет возвращается на родину.
Ибо если мы хотим по-настоящему вступить во владение этим
наследием, нам необходимо с помощью трезвого критического анализа
1 СЛ. Франк. Духовные основы общества. М., 1992, с. 17.
Предисловие
9
отделить все непреходящее и истинное в нем от тех наслоений,
которые несут на себе печать своей эпохи вместе с ее иллюзиями и
заблуждениями и не только не способствуют преодолению более чем
столетней русской смуты, но, напротив, углубляют ее.
Русское общество сегодня расколото, в нем нет единства даже в по-
нима1 щи самых фундаментальных принципов собственного
устройства и направления дальнейшего развития. Этот раскол проявляется
во всех сферах духовной жизни, в том числе и в отношении к
возвращенному русскому читателю наследию отечественных философов.
В то время как одни восторженно приветствуют едва ли не все, что
читают у Соловьева, Бердяева, Розанова, Флоренского, Карсавина и др.,
не всегда даже замечая, что эти мыслители далеко не во всем согласны
между собой, другие, напротив, склонны вообще отрицать серьезное
значение русской религиозной философии. Если раньше такое
отторжение религиозной мысли было характерно главным образом
для марксистов, что вполне понятно, то теперь негативизм по
отношению к ней появляется и у тех, кто связывал с ней большие надежды
и чье мышление формировалось в 60-70-е годы под влиянием
названных здесь — запрещенных в то время — философов. Так,
негативную оценку русской религиозной философии мы встречаем теперь
у Е. Барабанова, Б. Гройса, ищущих решение философских проблем
на новых путях, в том числе с помощью психоанализа.
О том, как изменилось отношение к русской философии
в последние несколько лет, пишет С.С. Хоружий: «В последние
десятилетия коммунистического режима русская религиозная
философия, особенно же мысль эмиграции, рисовались в интеллигентском
сознании как бы некой инстанцией запретной истины,
недоступной страной духовных богатств: богатств, что содержат истину о
Боге и человеке, но также и говорят правду о нашей жизни, объясняют
Россию и революцию, разоблачают зло большевизма и указывают
пути выхода. Иными словами, этой философии приписывались,
осознанно или неосознанно, почти неограниченные потенции
двоякого рода: она мыслилась источником и философской, и
общественной истины... И стоит сказать, что такие ожидания питало не
только оппозиционное, но чем дальше, тем больше, также и
массовое, и даже официальное сознание. Так думали и диссиденты,
распространявшие тексты религиозных философов, и их
преследователи, работники Агитпропа и КГБ... Казалось несомненным, что едва
Россия станет свободной, она найдет в этих текстах готовую основу
для постсоветского сознания... Столь же несомненно, на базе
заключенной здесь философии должен будет начаться новый подъем
творческой религиозно-философской мысли. Мы знаем, что эти
10
Предисловие
ожидания постиг провал...»2 Творческого продолжения этого этапа,
констатирует С. Хоружий, в постсоветский период не последовало.
А потому, как можно понять автора статьи, и возникло
разочарование и нигилистическое отношение к религиозной философии.
Отсюда, надо полагать, и заголовок статьи — «Путем зерна»: не оживет,
пока не умрет. А «воскресение» философии Серебряного века
произойдет на совсем новых путях, которые намечает Хоружий, — на
путях возрождения богословской традиции исихазма.
Ну что ж, обращение к святоотеческой традиции, к которому
призывал о. Георгий Флоровский, не может вызвать никаких
возражений. Но мне думается, что мы слишком рано и слишком поспешно
решили хоронить свое только что возвращенное наследие, в
котором еще вчера видели путь к возрождению отечественной духовной
культуры. Тут сказалась наша национальная особенность, уже давно
отмеченная многими, но, как видно, неискоренимая: тенденция
впадать в крайности, вырастающая из нашего максимализма, из
принципа «всё или ничего». Открыв для себя где-то в конце 50-х годов
прежде недоступные нам сокровища отечественной мысли, мы
с жадностью читали в спецхранах столичных библиотек
зарубежные издания (иногда их машинописные копии, перепечатываемые
диссидентами) сочинений Н. Лосского, Н. Бердяева, С. Франка,
Б. Вышеславцева и многих других и мечтали о том времени, когда
эти сочинения станут общим достоянием русской культуры — не
только «там», но и «здесь». Казалось, что стоит только случиться
этому чуду, как окружающий нас мрак рассеется и тотчас же наступит
расцвет отечественной философии. Но вот петух прокукарекал,
а рассвет, то бишь расцвет, не наступает! И мы уже готовы
разочароваться в том, что нас недавно так увлекало, отказаться от своих
надежд и в очередной раз «сжечь то, чему поклонялись». Мы — люди
крайностей: от восторга до поношения у нас — один шаг.
А между тем от возвращения на родину сочинений русских
философов, которое происходило в течение прошедших 10-15 лет,
до освоения их, а тем более до творческого развития тех идей, что
не возникли в одночасье, а формировались, вынашивались,
обсуждались и корректировались целым поколением талантливых
философов на протяжении более чем полустолетнего периода, —
дистанция огромного размера. Не только продолжить их работу,
но и просто усвоить все то, что ими сделано, — усвоить, т.е. понять
сквозь призму нашего сегодняшнего опыта, современного состоя-
2 С.С. Хоружий. Путем зерна: русская религиозная философия сегодня //
Вопросы философии, 1999, № 9, с. 141.
Предисловие
11
ния научного и философского знания, а не просто повторить,
пересказать и прокомментировать, — на это требуется достаточно
длительное время. Быть может, жизнь целого поколения. А мы по
характеру своему — нетерпеливы. Мы не случайно склонны к
«авралам»: сначала бездельничать полгода и только делать вид, что
работаем, зато потом навалиться «всем миром» и сделать за три дня
то, на что другим потребовались бы те самые полгода.
Но ни в философии, ни в науке аврал не проходит. Тут огромную
роль играет школа, традиция. А у нас философская традиция очень
слаба3 (собственно философская мысль формируется в России
только с XIX века), но главное, что она оказывается прерванной
почти на целое столетие: свободного развития философии в
России не было свыше 70 лет. Более того, на протяжении этого
периода место философии занимала идеология, которая, кстати, будучи
изучаема во всех вузах страны, прочно укоренилась в сознании:
марксистские схемы мышления мы находим подчас и у тех, кто
уверен, что давно от них освободился. Формирование школы — вот
важнейшее условие того расцвета философии, на который мы
надеялись, когда произошло освобождение от идеологической цензуры.
Философия, как и наука, не может быть делом одиночек: творчество
тех великих философов, которые, подобно горным вершинам,
возвышаются, вызывая удивление и восхищение на протяжении
веков, — как Платон, Аристотель, Плотин, Лейбниц, Кант, — было
результатом соборной мысли: они были не одинокими гениями,
а лишь первыми среди равных, их учения вырастали на почве
определенной традиции и в среде философского сообщества.
Формирование философского сообщества — дело не одного,
а нескольких десятилетий, и то лишь при наличии благоприятных
обстоятельств. И первые шаги в этом направлении уже делаются:
появляются не только издания трудов B.C. Соловьева, С.Н. и E.H.
Трубецких, Н.О. Лосского, СЛ. Франка, H.A. Бердяева, С.Н. Булгакова,
Л.П. Карсавина, И А Ильина и других, но и работы, посвященные их
3 Этим отчасти объясняется характерная для русского общества (особенно для
его полуобразованной части) любовь к удивительному и непонятному в
философии. Не случайно в XIX веке самым почитаемым (не обязательно при этом
читаемым) философом у нас был Гегель, чья эзотерическая манера излагать
свои мысли вызывала нарекания даже в немецкой среде, а в XX веке его место
занял Хайдеггер — и по той же причине: чем непонятнее, тем глубже, тем
больше ♦погружает», как говаривал один из моих знакомых — русский любомудр
Георгий Гачев. Философия — своего рода диковина, а потому чем диковиннее
и темнее то, о чем повествует философ, чем больше он напоминает мага,
шамана — тем подлиннее возвещаемое им учение.
12
Предисловие
творчеству, сравнительный анализ их взглядов. Особенно ценны те
издания, где такое сопоставление получает заостренную форму:
«Леонтьев: pro et contra», «Розанов: pro et contra», «Флоренский: pro
et contra» и др. Такие издания выявляют несходство воззрений
и принципов разных представителей религиозной философии,
тем самым принуждая читателя к размышлению, к формированию
собственной позиции. Однако сегодня явно недостает
проблемного анализа творчества русских мыслителей, такого анализа,
который мог бы дать нам ключ к решению сегодняшних вопросов,
возникающих в сфере онтологии, теории познания, логики,
философии науки, социологии, психологии. А в то же время именно
проблемный подход в наибольшей мере помог бы отделить наиболее
ценное и непреходящее в работах русских философов от того, что
в них порождено духом времени и связано с сиюминутными
увлечениями, с утопически-революционаристскими настроениями
и мессианскими ожиданиями, столь характерными для последней
четверти прошлого и начала нынешнего столетия.
Культура Серебряного века очень многолика: в ней слились не
только разные стили и жанры, но и самые разные духовные
течения, часто трудно между собой совместимые. Эта разнородность
состава сказалась и на характере философии: тут присутствует
и влияние западной метафизики, прежде всего немецкого
идеализма, и восходящее к славянофилам стремление вернуться к
христианским истокам и строить философию на религиозном основании,
сближая ее с богословием; и мистико-оккультные мотивы,
восходящие к гностицизму и усиленные — особенно в начале XX в. —
увлечением апокрифической литературой и интересом к русскому
сектантству, прежде всего к мистико-экстатическим сектам.
Все эти духовные влияния сказались в творчестве B.C. Соловьева,
исключительно одаренного философа, наделенного редкой
восприимчивостью к чужим идеям и большим литературным
талантом, позволявшим ему с пластической ясностью излагать самые
сложные мыслительные построения. Соловьев пытался создать
учение, в котором все эти элементы обрели бы единство, составив
некоторое органическое целое. Но в силу их разнородности такой
синтез оказался достаточно хрупким; при первых же попытках
последователей Соловьева строить на нем здание новой философии
обнаруживались трудности и противоречия, поэтому фундамент
приходилось постоянно укреплять и перестраивать. Таким
образом возникли различные варианты, различные трактовки
краеугольных камней соловьевского учения: всеединства, софиологии,
теократии, — если назвать только наиболее важные из них.
Предисловие 13
Тем не менее именно Владимир Соловьев — и не только Соловьев-
философ, но и Соловьев-поэт, литературный критик, блестящий
публицист, — во многом определил характер и направление развития
отечественной мысли, во всяком случае той ее ветви, которую мы
называем религиозной философией. Под его воздействием
формировались воззрения таких — во многом несхожих меж собой —
мыслителей, как С.Н. Трубецкой, E.H. Трубецкой, Н.О. Лосский, С Л. Франк,
НА Бердяев, ПА Флоренский, С.Н. Булгаков, В.Ф. Эрн, Л.П. Карсавин,
П.И. Новгородцев, В.И. Иванов, И А Ильин, Б.П. Вышеславцев и др.
Но влияние Соловьева сказалось не только в сфере собственно
философии: под знаком соловьевских идей формировались новые
направления и в литературе — в частности русский символизм, —
и в том влиятельном в XX веке духовном течении, которое
получило имя «нового религиозного сознания» и было тесно связано
с символизмом и декадентством. И причины понятны: поэзия
Соловьева в не меньшей степени содействовала усвоению его
философских идей и, что самое главное, распространению их далеко за
пределами собственно философского сообщества, что,
естественно, сопровождалось новой, порой неожиданной их трактовкой. Как
отмечал С.Н. Булгаков, «поэтическое влияние Соловьева
неуловимее и тоньше, но зато глубже и прочнее, нежели чисто
философское»4. С этим замечанием нельзя не согласиться. И дело тут не
только в том, что именно художественная литература на протяжении
по крайней мере двух последних столетий была и остается по сей
день господствующей формой национального самосознания; дело
еще и в том, что философия самого Соловьева, как и многих его
последователей, ориентирована прежде всего эстетически: как и у
немецких романтиков и близкого к ним Шеллинга, красота для
русского философа есть самая адекватная форма откровения истины5.
Печать романтического эстетизма определяет характер всего
Серебряного века, усвоившего не только религиозные искания
Соловьева, но и его поклонение Софии — вечной женственности, его
мистическую эротику, которой проникнута его поэзия. С.Н. Булгаков
даже считает, что «в многоэтажном, искусственном и сложном
творчестве Соловьева только поэзии принадлежит безусловная подлин-
4 СН. Булгаков. Тихие думы. М, 1996, с. 52.
5 Из духа романтизма родилась крылатая фраза — «красота спасет мир»,
ставшая своего рода магической формулой Серебряного века и набившим
оскомину штампом сегодняшней нашей печати, хотя всю двусмысленность
этой формулы сознавал уже сам Достоевский, давший ей «путевку в жизнь», а
тем более В. Соловьев, от которого не был скрыт демонический лик красоты.
14 Предисловие
ность, так что и философию его можно и даже должно поверятф
поэзией. Поэтому то, чего нет в поэзии, надо считать искусственным,
схоластическим или случайным и в философии; так, в поэзии нет
эквивалента соловьевских дедукций, схем и категорий, в
значительной степени заимствованных у немцев, нет пристрастной и
несколько оппортунистической полемики со славянофилами, нет
многоэтажного и рассудочного „оправдания добра"»6. Думается, что
С.Н. Булгаков здесь не вполне прав: Соловьев-философ не менее
значителен, чем Соловьев-поэт, его философская интуиция и
философский логос порой превосходят силу его поэтического таланта.
Рассуждая таким образом, мы могли бы, скажем, у Платона считать
ценнейшими его наиболее поэтические диалоги, например «Пир»,
и отнести к «искусственным, схоластическим» построениям такие
диалоги, как «Парменид» или «Софист»7. Но с Булгаковым нельзя не
согласиться в том, что воздействие поэзии Соловьева было глубже,
а главное шире, чем воздействие его философских сочинений,
доступных сравнительно узкому кругу читателей.
***
В ходе работы над книгой ее отдельные главы по мере их
завершения публиковались в следующих изданиях: глава 8 под названием
«Философия свободы Бердяева» — в «Историко-философском
ежегоднике- 1995», М., 1996; глава 10 — «Соблазн „святой плоти" (Сергей
Соловьев и русский Серебряный век)» — в журнале «Вопросы
литературы», 1996, № 4; глава 3 — «Искушение диалектикой:
пантеистические и гностические мотивы у Гегеля и Вл. Соловьева» — в журнале
«Вопросы философии», 1998, № 4; глава 7 — «Метафизика
конкретного всеединства, или абсолютный реализм СЛ. Франка» — в
журнале «Вопросы философии», 1999, № 5. При подготовке книги
некоторые из этих глав были доработаны.
***
Мне хотелось бы выразить благодарность редактору книги
Ирине Игоревне Блауберг за ценные советы в ходе работы над
рукописью, а также Российскому гуманитарному научному фонду, без
финансовой поддержки которого эта книга не была бы подготовлена
и не увидела бы света.
6 СН. Булгаков. Цит. соч., с. 52.
7 Я, разумеется, не хочу этим сказать, что такую оценку поздних диалогов
Платона мог бы дать Булгаков, глубокий мыслитель и большой знаток как раз
античной онтологии; я только не согласна с приведенной здесь оценкой
значимости философских «дедукций» Соловьева.
введение
Рассмотрение истоков Серебряного века будет неполным, если мы
не коснемся здесь того влияния, которое оказал на философию
и культуру этого периода Ф.М. Достоевский. Творчество
Достоевского сыграло в становлении русской религиозной философии не
меньшую роль, чем творчество Соловьева, сблизившегося с
писателем в последние годы его жизни.
Достоевский и Соловьев
Оба они, и Достоевский, и Соловьев, преодолевая позитивистские
и материалистические увлечения русской интеллигенции 60-80-х
годов, стремились возвратить отечественную мысль к ее
христианским истокам. Достоевский раньше многих других разглядел
опасность распространившихся в России социалистических учений,
в основе которых, как он это хорошо показал, лежал атеистический
в существе своем принцип самоутверждения автономной
личности, убежденной в том, что средствами науки можно и нужно
перестроить существующий общественный порядок, даже если для
этого потребуется прибегнуть к насилию. «Ни один народ, — говорит
Достоевский устами Шатова в „Бесах", — еще не устраивался на
началах науки и разума... Социализм по существу своему уже должен
быть атеизмом, ибо именно провозгласил... что он установление
атеистическое и намерен устроиться на началах науки и разума
исключительно»1. Собственный опыт участия в социалистическом
кружке петрашевцев, который чуть не стоил Достоевскому жизни,
и годы, проведенные на каторге, которой была заменена писателю
смертная казнь, стоят за этими его словами. Просветительской
1 Ф.М.Достоевский. Бесы // Поли. собр. соч. в 30 томах. Т. 10. Л., 1974, с. 198.
16 Введение
идеологии Достоевский противопоставляет свое убеждение впгом,
что только религия может быть подлинной основой народной
жизни, ибо только она, по Достоевскому, определяет «понятие оАобре
и зле». Сознание этого, утраченное «просвещенной личностью»,
сохранилось, однако, в народной вере, на которую Достоевский, а за
ним и В. Соловьев стремятся опереться в своей борьбе с
просветительским — зауженным и односторонним — рационализмом, т. е.
рассудочностью. «Цель всего движения народного, — продолжает
свою мысль Шатов, — есть единственно лишь искание Бога, Бога
своего, непременно собственного, и вера в него как в единственно
истинного. Бог есть синкретическая личность всего народа,
взятого с начала его и до конца»2.
Здесь выражена одна из заветных идей Достоевского, постепенно
созревшая у него и вобравшая в себя не только опыт его общения
с народом, так прекрасно описанный им в «Записках из мертвого
дома», но и влияние романтизма, который еще в первой половине
XIX века выступил с критикой Просвещения. Благодаря
славянофилам идеи романтизма обрели новую жизнь на русской почве и дали
толчок к новому осмыслению русской народной жизни в свете
православной веры. Достоевский, впрочем, воспринял дух романтизма
не только через славянофилов: его романы носят на себе следы
влияния Виктора Гюго, ЖоржЗанд, Шиллера, Гофмана.
Тяготение к романтизму и убеждение в невозможности
«устроиться на земле без Бога» сближали Соловьева с Достоевским. В
«Речах о Достоевском» ( 1881 -1883) молодой философ
солидаризируется с писателем. «Он (Достоевский. — ПГ.) понял, прежде всего, что
отдельные лица, хотя бы и лучшие люди, не имеют права
насиловать общество во имя своего личного превосходства; он понял
также, что общественная правда не выдумывается отдельными умами,
а коренится во всенародном чувстве, и, наконец, он понял, что эта
правда имеет значение религиозное и необходимо связана с верой
Христовой, с идеалом Христа. В сознании этих истин Достоевский
далеко опередил господствовавшее тогда направление
общественной мысли и благодаря этому мог предугадать и указать, куда ведет
это направление»3. Соловьев при этом специально подчеркивает,
что стремление Достоевского обратить «просвещенного человека»
к «народной вере», в которой жив идеал братства, или всеобщей
солидарности, лишено националистического мотива: для Достоев-
2 Там же.
3 B.C. Соловьев. Три речи в память Достоевского // Собр. соч. в 8 томах. Т. III.
СПб., б.г., с. 179. (Далее цитаты даются по этому изданию.)
Введение
17
ского в этом идеале, согласно Соловьеву, «главным было его
религиозно-нравственное, а не национальное значение. Уже в „Бесах"
есть резкая насмешка над теми людьми, которые поклоняются
народу только за то, что он народ, и ценят православие лишь как
атрибут русской народности»4. Надо сказать, что у Достоевского в этом
вопросе полной однозначности нет, тут у него сказываются в том
числе и восходящие к романтизму народнические мотивы: именно
в «народном духе» писатель нередко склонен видеть
субстанциального носителя религиозной веры. Что же касается Соловьева,
то ему, вполне свободному от национализма, тем не менее не
вполне чужда вера в «народную правду», особенно в ранний период.
Однако в «Речах» он хочет освободиться от народничества и
освободить от него также и Достоевского, подчеркивая, что не народ,
а Церковь есть «мистическое тело Христово». «Если мы хотим
одним словом обозначить тот общественный идеал, к которому
пришел Достоевский, то это слово будет не народ, а Церковь. Мы верим
в Церковь, как в мистическое тело Христово; мы знаем Церковь
также как собрание верующих того или другого исповедания»5.
Вселенскость церкви является для Соловьева ее важнейшим
атрибутом, ее силой и правдой; именно на идее вселенскости
зиждутся все богословские и философские построения Соловьева. На
протяжении всей своей жизни русский мыслитель отстаивал идею
вселенскости, из которой в сущности и выросло центральное в его
учении понятие всеединства. Правда, по Соловьеву, может быть
только вселенской, всеобщей, а потому все частное, партикулярное
должно быть подчинено этой правде. Именно во имя вселенской
правды Соловьев, как и Достоевский, отвергает путь насилия, каким
идут революционеры во имя уничтожения несправедливого,
порочного общества и создания нового мира «свободы, равенства
и братства»; как и Достоевский, он убежден, что дурными
средствами, через насилие и кровь, нельзя достигнуть благой цели6.
Трагический опыт XX века подтвердил истину этой мысли.
4 Там же, с. 180.
5 Там же.
6 «Там путь есть насилие и убийство, здесь путь есть нравственный подвиг, и
притом двойной подвиг, двойной акт нравственного самоотречения. Прежде
всего требуется от личности, чтобы она отреклась от своего произвольного
мнения, от своей самодельной правды во имя общей всенародной веры и
правды. Личность должна преклониться перед народною верой, но не потому, что
она народная, а потому, что она истинная... Обладание истиной не может
составлять привилегии народа, так же как оно не может быть привилегией
отдельной личности» (там же, с. 181 ).
18
Введение
Исходное и основное значение центрального в философии
Соловьева понятия «всеединство» — это единство человечества в
Боге, т. е. Богочеловечество. «Воля Божия для всех открыта: да будут
все едино. И эта воля, от века осуществленная на небесах, на земле
должна осуществиться через согласное действие воли
человеческой, ибо Бог хочет свободного всеединства»1. Понятие
всеединства восходит к славянофильской идее соборности, которую с
Соловьевым полностью разделяли как некоторые его современники,
прежде всего братья С.Н. и E.H. Трубецкие, близкие друзья
Соловьева, так и многие его последователи. E.H. Трубецкой, в творчестве
которого идея всеединства тоже занимает важное место,
приводит яркий пример, позволяющий наглядно увидеть глубинную
интуицию Соловьева, выразившуюся в понятии всеединства:
«В соборе св. Владимира в Киеве, — пишет Трубецкой, — есть
знаменитая фреска Васнецова — „Радость праведных о Господе". Мы
видим перед собой несметную толпу ищущих Бога. Бога не видать,
но Он угадывается как общая цель, к которой со всех сторон
устремлены пламенные взоры: Он чувствуется во всеобщем
стремительном движении, полете человеческих душ как невидимый для
них самих источник вдохновения. Невидимо то самое, в чем все
и всё едино... В этом видении художника воплотилось то самое
переживание, которое составляет жизненный нерв всего
творчества Соловьева»8.
Как же конкретно мыслит философ осуществить в реальности
вселенскую правду, достигнуть единства человечества в Боге?
Казалось бы, ответ ясен: вселенская правда воплощается в Церкви9.
Но тут-то и возникает первое затруднение: современная церковь,
как с горечью констатирует Соловьев, не является подлинно
вселенской. И не только потому, что она разделена на различные
конфессии, но и потому, что и в рамках одной конфессии, в частности
православия, она не отвечает идеалу вселенскости. Она, по убеждению
философа, не есть истинное христианство, а есть христианство
«храмовое», превратившее Христа в «мертвый образ, которому
поклоняются в церквах по праздникам, но которому нет места в
жизни. Тогда все христианство замыкается в стенах храма и
превращается в обряд и молитвословие, а деятельная жизнь остается всецело
нехристианскою. И такая внешняя церковь заключает в себе
истинную веру, но эта вера так слаба, что ее достает только на празднич-
7 B.C. Соловьев. Собр. соч. Т. III, с. 250.
8 E.H. Трубецкой. Миросозерцание Вл.С Соловьева. Т. 1. М., 1995, с. 103.
См.: B.C. Соловьев. Собр. соч. Т. III, с. 182.
Введение
19
ные минуты. Это — храмовое христианство»10. Храмовое
христианство лишено той самой вселенскости, которой христианство как
раз и призвано быть носителем, ибо оно оставляет вне своей сферы
деятельность гражданскую, общественную, международную. Оно,
по Соловьеву, также ущербно, как и другой вид христианской веры,
которую Соловьев именует «домашним христианством» и которая
не довольствуется богослужением, выходит из храма и «поселяется
в жилищах человеческих»11. Религия здесь сосредоточивается в
личной нравственности; главной целью становится спасение
индивидуальной души. Соловьев не отрицает права на существование и
такого христианства, но указывает на его главный недостаток:
отсутствие вселенскости. «Все дела и отношения общечеловеческие
должны окончательно управляться тем же самым нравственным
началом, которому мы поклоняемся в храмах и которое признаем
в своей домашней жизни, т. е. началом любви, свободного согласия
и братского единения. Такое вселенское христианство исповедывал
и возвещал Достоевский»12. Только тогда, когда все человеческие
дела — политика, экономика, наука, искусство и т. д. — будут целиком
проникнуты христианским идеалом, наступит, согласно Соловьеву,
торжество вселенской правды в реальной жизни человечества
и здесь, на земле, осуществится идеал всеедш гства, т. е. наступит
Царство Божие и на земле, а не только на небе. И только тогда
исполнится высшая цель, ибо «полнота христианства есть всечеловечество»13.
Тогда и придет возвещенное в Апокалипсисе тысячелетнее царство,
рай на земле. Нужно сказать, что эти хилиастические чаяния не
всегда встречали одобрение в русском обществе. Так, например, еще
при жизни Достоевского его веру в преобразование существующего
общества в царство правды и добра весьма критически воспринял
К.Н. Леонтьев, впоследствии полемизировавший по этому поводу
и с B.C. Соловьевым. В статье «Наши новые христиане, Ф.М.
Достоевский и гр. Лев Толстой» (1882) Леонтьев возражает против
утопических надежд на осуществление идеала христианской жизни здесь,
на земле, когда государство станет церковью и исполнятся все
обетования Нового Завета. Леонтьев оценивал такие воззрения как
«своего рода ересь»14, получившую широкое распространение в об-
10Тамже,с 183.
11 Там же, с. 184.
12 Там же.
13 Там же, с. 188.
14 К.Н. Леонтьев. Наши новые христиане, Ф.М. Достоевский и гр. Лев Толстой.
М., 1882, с. IV.
20
Введение
разованном классе. Как верно замечает по этому поводу С.Г
Бочаров, «в плане историческом трезво-разочарованный тон Леонтьева
по отношению к „розовому" пафосу Достоевского был во многом
оправдан ходом последующей отечественной истории»15.
Хилиастические мотивы
у Достоевского и Соловьева
Именно хилиастические чаяния объединяли Соловьева с
Достоевским. Последний полагал, что государство может и должно стать
церковью — и только тогда будет достигнут христианский идеал,
о котором вот уже почти два тысячелетия мечтает страдающее
человечество. В романе «Братья Карамазовы» эту идею защищает
старец Паисий. «...По иным теориям, слишком выяснившимся в наш
девятнадцатый век, церковь должна перерождаться в государство, так
как бы из низшего в высший вид, чтобы затем в нем исчезнуть,
уступив науке, духу времени и цивилизации... По русскому же
пониманию и упованию надо, чтобы не церковь перерождалась в
государство, как из низшего в высший тип, а, напротив, государство должно
кончить тем, чтобы сподобиться стать единственно лишь церковью
и ничем иным более. Сие и буди, буди!»16 Только теократия, полагал
Достоевский, может преобразовать современное, почти языческое
общество в подлинное царство правды и добра, в котором
осуществится христианский идеал человеческой жизни. «Правда... теперь
общество христианское пока еще само не готово и стоит лишь на
семи праведниках; но так как они не оскудевают, то и пребывает все
же незыблемо, в ожидании своего полного преображения из
общества как союза почти еще языческого во единую вселенскую и
владычествующую церковь. Сие и буди, буди, хотя бы и в конце веков...
И нечего смущать себя временами и сроками, ибо тайна времен
и сроков в мудрости Божией... И что по расчету человеческому
может быть еще и весьма отдаленно, то по предопределению Божьему,
может быть, уже стоит накануне своего появления, при дверях»17.
Разделяя надежды Достоевского на будущую теократию,
Соловьев, однако, ищет другой путь к осуществлению ее, путь, который не
15 С.Г. Бочаров. Леонтьев и Достоевский // Вопросы литературы, 1993, вып. VI,
с. 176.
16 Ф.М.Достоевский. Поли. собр. соч. в 30 томах. Т. 14. Л., 1976, с. 58.
17 Там же, с. 61.
Введение
21
мог принять Достоевский, отвергавший «латинство». Соловьев же,
считая, что для преображения всей общественной жизни в духе
Христовом церковь должна преодолеть раскол в самой себе, видит
путь к созданию вселенской теократии в объединении
христианских церквей — восточной и западной. Согласно Соловьеву, тот
раскол, что произошел в православной церкви в XVII в. и в
значительной мере лишил ее духовной силы над своей паствой,
коренится в более глубоком разрыве, — разрыве между греко-восточной
и латинской церквами. Причину этого разрыва философ видит
в том, что местные, мирские, национальные моменты взяли верх
над вселенским началом, носителем которого искони была
христианская церковь. Той же причиной, по Соловьеву, порожден
и раскол в латинской церкви — появление протестантизма.
Поэтому именно объединение восточной и западной церквей и создание
всемирной теократии есть, с точки зрения Соловьева,
единственный путь к осуществлению всеединства как последней цели
существования человечества. Соединение церквей, полагает философ,
будет переворотом не только всемирно-историческим, но и
космическим: с него начнется процесс преображения мира, обожение
человека, освобождение его от «рабства тлению», и произойдет это
на земле, где и наступит тысячелетнее царство Христово.
Как видим, хилиастическая утопия — движущая пружина того
устремления к обновлению христианства, которое, начиная с
Достоевского и Соловьева, продолжалось и углублялось затем в XX в. У
представителей так называемого «нового религиозного сознания» —
Д. Мережковского, В. Розанова, Н. Бердяева и др. — оно вылилось
в полное неприятие православной церкви, ожесточенную критику
«исторического христианства» и приобрело
революционно-разрушительный характер. Что же касается Достоевского и Соловьева,
то в основе их проектов создания «истинно вселенской» Церкви
лежало стремление преодолеть ту пропасть, которая, постепенно
углубляясь со времени петровских реформ, все больше отделяла
православную церковь от гуманистической светской культуры, с одной
стороны, и от «народной веры», с другой. Именно в «народной вере»
искал опору для преодоления процесса секуляризации Достоевский;
отчасти, как мы видели, с ним здесь сближался и Соловьев.
Понятие «народной веры», при всей его кажущейся ясности,
в действительности не столь однозначно, как это может
представляться на первый взгляд. Дело в том, что «народная вера» подчас
была достаточно далека от церковной, и некоторые писатели XIX в.,
в том числе и Достоевский, черпали представления о «народной
вере» из апокрифической литературы, связанной с широким распро-
22
Введение
странением сектантства. У Достоевского, в частности, большой
интерес вызывали мистические секты, прежде всего хлысты.
Последние, не признавая индивидуального воплощения Христа, верили
в его перевоплощение; каждая хлыстовская община имела своего
Христа и свою Богородицу1.8. Именно мистико-экстатические
секты, какими были хлысты, были охвачены напряженным
ожиданием конца «старого мира» и предсказанного в «Апокалипсисе»
наступления на земле Царства Божия, когда все «станут Христами».
О том, насколько Достоевскому были близки эти
апокалиптические настроения, свидетельствуют, в частности, подготовительные
материалы к «Бесам». Здесь Шатов в разговоре с Князем (Ставроги-
ным) связывает решение самых наболевших социальных и
религиозных вопросов с наступлением земного рая — тысячелетнего
Христова Царства, когда осуществится «чудо появления Бога на
земле»19, «времени больше не будет»20, а все люди будут Христы.
«Если б представить, что все Христы, то могли быть пауперизм?»21 Вот
характерный отрывок из этого разговора: «...Человеческая природа
непременно требует обожания...* Потребность обожания есть
неотъемлемое свойство человеческой природы... Христианство
компетентно даже спасти мир и в нем все вопросы (если все Христы...)
Millenium.
Апокалипсис»22.
И если люди станут все как Христы, «возможно ли, чтобы не
было рая на земле тотчас же?» — спрашивает писатель устами своего
героя23.
Хотя B.C. Соловьев подчеркивает, что вселенская правда
воплощается не в народе, а в Церкви, тем не менее обращение к «народной
вере» не чуждо и ему. В публичной лекции «Критика современного
просвещения и кризис мирового процесса», прочитанной им в 1881
году как раз в тот день, когда суд должен был вынести приговор
террористам-цареубийцам (в этой лекции он призвал царя
помиловать преступников и тем самым поступить как христианин, «вождь
христианского народа»), Соловьев противопоставил «народной ве-
18 См.: Д.Г. Коновалов. Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве.
Сергиев Посад, 1908.
19 Ф.М. Достоевский. Поли. собр. соч. в 30 томах. Т. 11. Л., 1974, с. 188.
20 Там же, с. 184.
* Имеется в виду обожение.
21 Там же, с. 182.
22 Там же, с. 188.
23 Там же, с. 193-
Введение
23
ре» «личное просвещение» как продукт секулярной культуры.
Содержание лекции, записанное одной из слушательниц, было
опубликовано в 1906 году историком П. Щеголевым. Хотя за полную
аутентичность этой записи и нельзя поручиться, тем более что репутация
Щеголева как историка не вполне безупречна, она представляет
интерес как свидетельство «религиозного народничества» молодого
философа. «Личное просвещение требует безусловной правды, но...
правде не верит. Народ же верит в нее, он верит, что правда...
собственною нравственною силою может победить неправду... Эта
правда сама по себе, сущая правда — есть Бог... Личное просвещение
отвергло Бога...»24 А вот еще более выразительный пассаж «Пока идеал
божественной абсолютной правды еще не осуществился, пока все
люди не стали Христами и все женщины Богородицами, народ...
живет в государстве. Но он никогда не признавал и никогда не
признает этой внешней среды, как нечто самостоятельное»25.
Может быть, именно такого рода рассуждения Соловьева дали
повод к предположениям о близости его к секте хлыстов. Так, в
частности, М.М. Бахтин в лекциях, опубликованных С.Г. Бочаровым, даже
причислил Соловьева к хлыстам. «Хлыстовство — могучее движение
в народе, которое чрезвычайно развито и теперь. Из него вышло
очень много крупных духовных явлений. Самый талантливый,
самый оригинальный — Сковорода; его потомок — Вл. Соловьев;
теперь — Клюев... В основе хлыстовства, как и везде за последнее
время, преобладает Дух Святой и Богородица над Отцом и Сыном...»26
Что касается русских символистов, которым посвящены лекции
Бахтина, то по своему духу они действительно близки к
мистическим сектам, особенно хлыстовским. Однако по отношению к
Соловьеву (да и его предку Сковороде) утверждение Бахтина вряд ли
справедливо, хотя, конечно, мистицизм Соловьева, а особенно его
софиология и могут наводить на подобные мысли. Тем не менее
Соловьев не принимает сектантства, в том числе и хлыстовства: ведь
сектантский дух противоположен началу вселенскости и
стремлению к всеединству, так вдохновлявшим В. Соловьева. В статье «О
расколе в русском народе и обществе» (1882-1883) Соловьев пишет
о раскольниках-староверах: «Как бы снаружи ни отличалось наше
староверие от западного протестантства, оказывается, что основ-
24 Цит. по: П. Щеголев. Событие 1 марта и Владимир Сергеевич Соловьев //
Былое, март 1906 г., с. 49-52.
25 Там же.
26 М. Бахтин. Лекция об А. Белом, Ф. Сологубе, А. Блоке, Есенине (в записи
P.M. Мирской) //Диалог. Карнавал. Хронотоп, 1993, № 2-3, с. 139.
24
Введение
ной принцип того и другого один: личное мнение против
вселенского определения церкви, частное против целого»21. Для
мыслителя, поставившего целью преодоление разобщенности
христианских церквей, видевшего в начале всеединства высший принцип
бытия, сектантство не могло быть воспринято как положительное
явление, какую бы частичную правду оно в себе ни несло, ибо
Соловьев убежден, что правда, истина по своей природе всеобща, кафо-
лична.
Отвергая как западный протестантизм, ищущий для своей
личной религиозности опоры в букве Священного Писания, так и
русское раскольничество, апеллирующее к букве обряда, Соловьев не
принимает и мистическое сектантство, не признающее всеединой
целости христианской церкви с ее преданием и таинствами и
утверждающее религию на частном откровении своих пророков.
«Если староверие ограничивает видимое откровение
божественного исключительно прошедшим, то эти свободные (от предания)
секты ограничивают его столько же исключительно настоящим.
Причем одни из этих последних (мистики) все общение человечества
с Божеством сводят к данным мистическим состояниям отдельных
людей (живые боги, непрерывно вновь являющиеся христы,
богородицы и т.д.), другие же (рационалисты) ограничивают все дело
спасения наличной праведностью отдельных людей, их видимыми
добрыми делами. И те и другие... решительно отвергая вселенское
предание и всякую сверхсознательную, существенную связь в
христианском человечестве, образующую его в нечто целое, — видят
и знают только текущую религиозную действительность, только
настоящую минуту религиозного сознания, как она выражается в
душевных состояниях и нравственных действиях отдельных лиц»28.
Совершенно справедливо философ указывает здесь на
субъективный характер мистического сектантства, в частности хлыстов,
для которых исступленное состояние души, вызванное
определенными телесными упражнениями, есть форма существования
божественного. С такой точки зрения, Бог не существует помимо
человека, но живет через него и в нем, каждый раз воплощаясь в новом
христе. «По их взгляду, — пишет Соловьев о хлыстах, — Божество не
имеет в мире никакой собственной, пребывающей формы, а
находит такую форму только в духовном действии человека. Не
случайно выбрали эти сектанты название для своего религиозного
действия (радение); это название выражает самую суть их учения, именно
B.C. Соловьев. Собр. соч. Т. III, с. 228.
Там же, с. 229-
Введение
25
то, что благодать Божия добывается только радением человеческим
или есть произведение напряженных усилий самого человека»29.
Соловьев здесь вскрывает глубинный корень всякого сектантства,
особенно хлыстовства: самоутверждение человеческого начала в
религии. И тем самым неожиданно обнаруживается внутреннее
сходство между такими, казалось бы, разными явлениями, как
секуляризованная гуманистическая культура с ее «просвещенной личностью»,
с одной стороны, и сектантскими движениями, «народной верой»,
с другой: и там, и тут человек слишком возвышается и встает на место
Бога. Только возвращением к вселенской Церкви можно, по
Соловьеву, преодолеть это самоутверждение человеческого начала. Но
поскольку сама православная церковь в настоящее время утратила свой
вселенский характер, поскольку она, по словам Соловьева, стала
«храмовым христианством», подготовляющим свою паству к
Царству Божию на небесах, то необходимо возвратить ей вселенскость
путем объединения всех христианских конфессий, что позволит
осуществить всемирную теократию как Царство Христа на земле.
При всей своей проницательности Соловьев не замечает, что,
рассуждая таким образом, он переносит на религиозную почву те хили-
астические революционные устремления, которыми была
пронизана секуляризованная культура эпохи Просвещения с ее верой
в прогресс, в возможность создать человеческими силами
совершенное и справедливое общество. «Революционное стремление
осуществить Царство Божие на земле — пружинящий центр
прогрессивной культуры и начало современной истории, — писал 200 лет назад
глава Иенской школы немецких романтиков Фр. Шлегель. — Все, что
не связано с Царством Божиим, представляется ей чем-то
второстепенным»30. Не принимая идеологию Просвещения,
бескомпромиссно отвергая идею насильственной революции, Достоевский
и Соловьев в то же время не смогли освободиться от утопических
предпосылок, составлявших глубинную подоплеку Просвещения и,
соответственно, тех общественных настроений, которые
господствовали во второй половине XIX в. в России. «Учение Соловьева, —
отмечает E.H. Трубецкой, — зародилось в насыщенной утопиями
духовной атмосфере второй половины прошлого столетия... Утопия
социального реформаторства, утопия национального мессианства,
утопия посюстороннего преображения вселенной...»31
29Тамже,с.231.
30 Фр. Шлегель. Эстетика, философия, критика // Соч. в 2-х томах. Т. 1. М., 1983,
с. 301.
3 * E.H. Трубецкой. Цит. соч. Т. 1, с. 8-9.
26
Введение
Именно утопия «посюстороннего преображения вселенной»
роднила «просвещенную личность» и «народную веру»,
революционную интеллигенцию и мистические секты. Родившееся на почве
хилиастических ожиданий отрицание реально существующего,
«насквозь прогнившего» мира незримо объединяло между собой
далеко отстоящие друг от друга слои общества — образованную
интеллигенцию и простой народ. Именно это, первоначально
возникшее стихийно и не всегда сознаваемое единство в отрицании
оказалось тем динамитом, той движущей силой назревавшей
с конца XIX в. русской смуты, которая вылилась в одну из самых
разрушительных революций и гражданских войн, какие знала
история Нового времени.
Апокалиптика и хилиазм.
Милленаристские утопии
А между тем утопия тысячелетнего рая на земле («скачок из
царства необходимости в царство свободы», как именовалась она
в марксизме — этой атеистической версии хилиазма),
составившая религиозную подоплеку почти столетней русской смуты,
последний (будет надеяться!) этап которой мы переживаем сегодня,
имеет за собой долгую историческую традицию. Чтобы увидеть
корни этой традиции, совершим небольшой экскурс в историю.
Хилиазм восходит к мессианским чаяниям иудаизма: к ожиданию
будущего земного Царства Божия — Нового Израиля — и
пришествия Мессии, который исполнит данные еврейскому народу
обетования, и все праведники получат воздаяние за свои страдания
и муки. Хилиастические ожидания нашли выражение в
апокалиптической литературе, возникшей в эпоху национальных бедствий
Израиля, находившегося под владычеством сначала персов, затем
греков и, наконец, Рима. «Чем мрачнее исторический горизонт,
тем сильнее потребность... в апокалипсисе. Так было в Израиле
в эпоху пленения, так было впоследствии во времена Антиоха или
римского завоевания, во времена Ирода или во время осады и
после разрушения Иерусалима. Язычество торжествует, храм
осквернен и попран язычниками; народ Божий, носитель дела Божия на
земле, помазанный на царство — в плену, в угнетении и поругании
у язычников»32. Зло и неправда, торжествующие во всемирной ис-
32 СИ. Трубецкой. Сочинения. М, 1994, с. 327-328.
Введение
27
тории, рождают многочисленные апокалипсисы, возвещающие
конец века сего и пришествие Мессии в ближайшем будущем.
Сюда относятся такие апокрифы Ветхого Завета, как книга Еноха,
Завет двенадцати патриархов, Третья книга Ездры (Апокалипсис Езд-
ры), Апокалипсис Баруха и др.
Ветхозаветная традиция подчеркивает именно
катастрофический аспект спасения. Чтобы перейти от нынешнего состояния
мира к другому, необходимо разрушение всего того, что было
создано в истории, нужно до основания снести с лица земли здание
старого мира. Иногда тысячелетнее царство трактуется как
сошествие с небес «Нового Иерусалима», который, согласно Баруху,
находился в раю до грехопадения Адама, а потом вместе с раем был
перенесен на небо. В «Новом Иерусалиме» наступит райское
блаженство, которое описывается в ярких чувственных красках:
на земле воцарится мир, исчезнут страдание, раздоры и
несправедливость, враги Израиля будут преданы в руки праведных,
которые будут тысячу лет наслаждаться роскошными пиршествами,
ибо земля станет приносить небывалый урожай: на одной лозе
будет 1000 ветвей, на каждой ветви — 1000 гроздей, на каждой
грозди — 1 000 ягод, а в каждой ягоде — бочонок вина (Енох, 10,19).
Не случайно отцы церкви отвергали такое материалистическое
понимание Царства Божия. «Уже св. Иоанн Златоуст, самый qpoBbift
критик иудеев в христианской древности, обвинял их в
материализме, в том, что они живут „чревом" („te gastri") и отвергают „красоту
девственности". Еврейский народ — народ телесный,
противостоящий подлинному духовному Израилю, утвержденному в
христианах. Еврейский народ — материальный носитель книг
божественного откровения, в понимании которых ему, однако, отказано»33.
Перенесенный на христианскую почву, хилиазм получил
широкое распространение во ЖЖ—III вв. — в эпоху гонений на христиан
со стороны римского государства. Христианские общины в этот
период жили напряженным ожиданием скорого второго
пришествия Христа. В канонических книгах Нового Завета Откровение
Иоанна (Апокалипсис) с наибольшей силой отразило эти
ожидания34. Характерно, что Апокалипсис вошел в канон не без затруд-
33 С. Куинцио. Христианство и еврейство // Христианство и культура сегодня.
М., 1995, с. 70-71.
34 По свидетельству Иринея Лионского (II в.), «Откровение было не задолго до
нашего времени, но почти в наш век, под конец царствования Домициана»
(Св. Ириней Лионский. Творения. М., 1996, с. 512), т. е. в последние годы
I столетия.
28
Введение
нений и противодействий, и не случайно Восточная церковь не
включала чтение Апокалипсиса во время литургии. Вот
пророчество Апокалипсиса, обладавшее необычайной притягательностью
для всех тех русских писателей, кто, подобно Достоевскому,
искали обновленной веры и возвещали грядущее наступление «нового
века» в предреволюционные десятилетия в России: «И увидел я
престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души
обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие,
которые не поклонились зверю, ни образу его... Они ожили и
царствовали со Христом тысячу лет» (Откр 20,4). Хилиастические
ожидания разделяли и некоторые отцы церкви (правда, в разной
степени): Папий Иерапольский, Иустин Философ, Ириней
Лионский; Ириней видел в тысячелетнем земном Царстве Христовом
предварение Царствия Небесного.
Поскольку хилиазм получил широкое распространение
благодаря гностицизму, особенно его иудействующим приверженцам
(одним из них еще в апостольские времена был гностик Керинф),
церковь выступила с опровержением хилиастических воззрений.
Уже в III веке, на соборе в Александрии (255 г.) хилиазм был
осужден. Впоследствии с хилиастами вели полемику Григорий
Богослов, Ефрем Сирин, Блаженный Августин и другие. При этом важно
отметить, что существенную роль в преодолении хилиастических
умонастроений играл элемент эллинизма, позволявший
освободиться от слишком чувственно-материального представления
о радостях земного рая, — представления, характерного для
ветхозаветной традиции. Так, Августин, комментируя Апокалипсис от
Иоанна (Откр 20, 1-6), в котором возвещается, что праведники
оживут и будут царствовать со Христом тысячу лет, пишет:
«Пришедшие на основании этих слов Апокалипсиса к заключению,
будто первое воскресение будет телесным, остановили между прочим
особенное внимание на числе тысяча лет, найдя в нем указание на
то, якобы у святых надлежало таким образом быть своего рода суб-
ботствованию в продолжение такого периода времени, в виде
святого покоя после трудов шести тысяч лет... Мнение это могло бы
быть до некоторой степени терпимо, если бы предполагалось, что
в эту субботу святые будут иметь некоторые духовные радости от
присутствия Господня. Когда-то и мы думали так. Но как скоро они
утверждают, что воскресшие в то время будут предаваться самым
неумеренным плотским пиршествам, на которых будет столько
пищи и пития, что они не только не будут соблюдать никакой
умеренности, но превысят меру самого неверия; никто, кроме
плотских, никоим образом этому поверить не может. Духовные же на-
Введение
29
зывают их, верящих этому, греческим именем chiliastas; переводя
это название буквально, мы можем называть их тысячниками»35.
Возражая тем, кто не в состоянии помыслить себе Царство Божие
иначе, чем в чувственной форме, в виде земного рая с его прежде
всего плотскими удовольствиями, Августин пишет: «И в настоящее
время церковь есть царствие Христово, и царствие небесное.
Поэтому и в настоящее время святые Его царствуют с Ним, хотя
иначе, чем будут царствовать тогда (имеется в виду — после второго
пришествия и воскресения во плоти. — Я/!)»36.
Как видим, с точки зрения Августина, религиозное
преображение происходит прежде всего во внутреннем человеке, оно есть
явление духовное. Тут проходит существенный водораздел между
христианством и иудаизмом, суть которого с предельной
ясностью выразил один из современных интерпретаторов иудаизма
Гершом Шолем. «То, что христианство полагает... основанием
своего вероисповедания и главным моментом Евангелия, решительно
опровергается и отвергается иудаизмом. Последний всегда и везде
рассматривал искупление как общественное событие, которое
должно произойти на исторической сцене и в лоне еврейской
общины, — другими словами, как событие, должное совершиться
видимым образом и немыслимое без этого внешнего проявления.
Христианство, например, рассматривает искупление как событие,
совершающееся в сфере духовной; как событие, происходящее
в душе, во внутреннем мире отдельного человека и призывающее
к внутреннему преображению, не влекущему за собой с
необходимостью изменение хода истории. Град Божий св. Августина,
представляющий собой в рамках христианской догматики куда более
смелую попытку сохранить и в то же время переосмыслить
иудейские категории искупления в пользу церкви, — этот град
определяется как сообщество людей, таинственным образом спасенных
внутри неискупленного мира. То, что иудаизм поставил твердо
в конец истории как момент кульминации всех внешних событий,
в христианстве стало центром истории, обретающей таким
образом особый смысл „истории спасения". Церковь убеждена, что
этим она преодолела временное представление о спасении,
связанное с физическим миром, и заменила его новым, более
возвышенным. ...То, что христианину представляется как более глубокое
понимание события, в глазах еврея предстает его выхолащивани-
35 Августин. О граде Божием, 20,7 // Блаженный Августин. О граде Божием. Т. IV.
М., 1994, с. 176-177.
36 Там же, с. 187.
30
Введение
ем и уверткой. Это обращение к чистому, ирреальному
внутреннему миру кажется ему попыткой избежать мессианского испытания
в его конкретности»37. Проблема хилиазма, как видим, и сегодня не
только не обрела своего решения, но по-прежнему вызывает
острый интерес, причем — как мы видели на примере Достоевского
и В. Соловьева, а позднее — С.Н. Булгакова, эта проблема волнует
также и христиан.
Преодолеть апокалиптические и хилиастические настроения,
а также связанное с ними слишком чувственное,
материалистическое представление о грядущем Царстве Божием Августину, как
и восточным отцам церкви, помогла эллинская философия —
прежде всего платонизм. И это — несмотря на существенные
различия, существовавшие между христианством и учениями
Платона, Плотина, Порфирия и др. Вот что постиг Августин, изучая
книги неоплатоников: во-первых, «истинно существует только то, что
пребывает неизменным» (Исповедь, 7, XI, 17) и, во-вторых, к
неизменному, вечному ближе всего бестелесное, сверхчувственное,
духовное начало, тогда как чувственные явления преходящи и
изменчивы. Августин рассказывает, что до своего знакомства с
сочинениями платоников он не мог отрешиться от представления,
что все существующее телесно, а потому, по его собственным
словам, оставался человеком плотским, «внешним», так что
подлинный смысл христианского учения оставался для него сокрытым.
«...Я вынужден был представлять себе даже то самое, не
подлежащее ухудшению, ущербу и изменению, что я предпочитал
ухудшающемуся, ущербному и изменчивому, не как человеческое тело,
правда, но как нечто телесное и находящееся в пространстве,
то ли влитое в мир, то ли разлитое и за пределами мира в
бесконечности. Все изъятое из пространства я мыслил как ничто...»
(Исповедь, 7,1,1). По словам Августина, он и Бога представлял как
разлитого во всем пространстве мира «и за его пределами по всем
направлениям в безграничности и неизмеримости... Так
предполагал я, не будучи в силах представить себе ничего иного, и это
была ложь» (там же).
Очень выразительно повествует Августин о том, как чтение
некоторых книг платоников (прежде всего Плотина и Порфирия)
открыло ему глаза на подлинный смысл Евангелия, хотя, конечно
же, от него не могло укрыться и различие между христианским
откровением и греческой философией. «Я прочитал там (в книгах
G. Scholem. Le messianisme juif. P., 1974, p. 23 ff.
Введение
31
платоников. — ПТ.) не в тех же, правда, словах, но то же самое со
множеством разнообразных доказательств, убеждающих в том же
самом, а именно: „В начале было Слово и Слово было у Бога и
Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть
и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была
жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма
не объяла его" (Ин., 1, 1-5). Человеческая же душа, хотя и
свидетельствует о свете, но сама не есть свет... Также прочел я там, что
Слово, Бог, родилось „не от плоти, не от крови"... а от Бога, но что
„Слово стало плотью и обитало с нами" (Ин., 1,13-14), этого я там
не прочел. Я выискал, что в этих книгах на всякие лады и
по-разному сказано, что Сын, обладая свойствами Отца, не полагал Себя
самозванцем, считая Себя равным Богу: Он ведь по природе Своей
и есть Бог. Но что „Он уничижил Себя, приняв образ раба,
уподобившись людям и став по виду как человек..." — этого в этих книгах
нет» (Исповедь, 7, IX, 13). Августин, таким образом, ясно указывает
как то, что является общим у евангелиста Иоанна с платониками,
так и то, что разделяет их. И при этом высоко оценивает значение
платонизма как учения, помогающего раскрыть смысл многих
христианских догматов. Ни Бога, ни природу души невозможно
понять, если ум человеческий проникнут материалистическими,
чувственными представлениями о природе сущего. Касаясь
природы души и вопроса о высшем озарении человеческих и
ангельских душ, Августин замечает: «Относительно этого вопроса...
между нами и этими превосходнейшими философами (платониками)
существует полное согласие. Они допускали и в своих...
сочинениях развивали мысль, что эти бессмертные и блаженные существа
(ангелы. — ПГ.) блаженны оттуда же, откуда делаемся блаженными
и мы, — от некого отражения умного света, который для них есть
Бог... Плотин, этот великий платоник, говорит, что душа разумная...
выше себя не имеет иной природы, кроме Бога, который сотворил
мир и которым создана и она...» (О граде Божием, 10, II). Именно
сочинения платоников помогли Августину, по его словам, найти
путь от «человека внешнего» к «человеку внутреннему», от
плотского — к духовному. «...Вразумленный этими книгами, я вернулся
к себе самому и, руководимый Тобой, вошел в самые глубины
свои...» (Исповедь, 7, X, 16). И еще один важный момент объединяет
христиан с греческими философами: убеждение в том, что мир,
созданный благим Творцом, является добрым в самом существе
своем. «...Все существующее, — говорит Августин, — каждое в
отдельности — хорошо, а все вместе очень хорошо, ибо все Бог наш
„создал весьма хорошо"» (там же, 7, XII, 18). Этим и христианство,
32
Введение
и платонизм отличаются от гностицизма с его неприятием мира.
Хотя в платонизме этот мир и не тождествен с истинным бытием,
но он все же — ступень к нему, тогда как в гностическом дуализме
трансцендентное — не сущность мира, а его отрицание38.
Небезынтересно отметить, что и у платоников той поры был
большой интерес к христианству. Так, учитель Плотина Аммоний
Саккас был не только хорошо знаком с христианством, но и сам —
по крайней мере в определенный период жизни — был
христианином, а некоторые из учеников Плотина знали Новый Завет.
Симплициан, духовник Амвросия Медиоланского, высоко ценил
платоников; Августин слышал от него, что «один платоник...
говорил, что это начало святого Евангелия, носящее название
Евангелия от Иоанна, должно бы быть начертано золотыми буквами и
выставлено во всех церквах на самых видных местах» (О граде
Божием, 10, XXIX).
Но если в церкви были найдены пути преодоления хилиастичес-
ких настроений, то в еретических сектах, особенно гностического
толка, эти настроения не умирали никогда. На почве гностицизма
рождаются многочисленные апокрифические евангелия,
апокрифические деяния апостолов, апокрифические апокалипсисы.
Для апокрифов характерно присутствие
повествовательно-сказочного, мифологического элемента, дающего пищу воображению
и потому доступного широким слоям читателей; не удивительно,
что апокрифическая литература получила широкое хождение
в средневековой Европе, особенно благодаря влиянию
мистических учений, в том числе манихейства. «Что было в эпоху
гностицизма, то повторилось в эпоху распространения манихейства.
Предание настойчиво приписывает многие апокрифы манихеям.
Манихейство, вместе с остатками гностицизма, питало все
дуалистические секты средневековья — павликианство, богомильство —
и вместе с ними поддерживало и умножало литературу апокрифов.
Эта литература из Болгарии хлынула и к нам в домонгольский
период и заронила в народе дуалистические воззрения»39. Хилиасти-
ческие и апокалиптические настроения питались в манихействе —
у павликиан, богумилов, катаров, альбигойцев — острым
переживанием зла и неправды, царящих в мире. Согласно манихейскому
учению, чувственный мир (в отличие от невидимого, духовного мира,
38 См.: H.Jonas. The Gnostic Religion. Boston, 1967, p. 269 f.
39 И Д. Андреев. Апокрифы // Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 1.
М., 1993, с. 102.
Введение
33
созданного Богом) сотворен злым духом — Люцифером, или Сата-
наилом, а потому изначально является для человека юдолью
страданий и горя; освобождение от зла и страданий невозможно иначе,
как путем уничтожения этого мира.
В самых разных вариантах гностицизм и манихейство на
протяжении многих столетий служили источником хилиазма в
европейских странах, в том числе и в России, где он, то затухая, то вновь
возрождаясь, находил себе приверженцев в различных сектах.
Сильный толчок к новой волне хилиазма дало учение калабрий-
ского аббата Иоахима Флорского (1132-1201) о так называемом
христианстве Третьего Завета. Это учение представляет собой,
в сущности, комментарий к Апокалипсису и рисует новую картину
мировой истории. Согласно Иоахиму, всемирная история
распадается на три периода: Ветхого Завета — Царство Бога-Отца, Нового
Завета — Царство Бога-Сына и грядущего Третьего Завета —
Царство Святого Духа, которое наступит с 1200 года. Именно в Царстве
Третьего Завета исполнятся все обетования Ветхого и Нового
Заветов: люди будут обладать духовными телами, не требующими
пищи; на земле победит свобода и любовь, а всякая власть отомрет за
ненадобностью. Это будет тысячелетнее райское состояние не
земле. Историк Норман Кои, посвятивший основательное
исследование апокалиптическим движениям в Европе XI-XVI вв., называет
Иоахима Флорского «самым влиятельным европейским пророком
до появления марксизма»40. Хилиазм Иоахима был осужден
церковью на 4-м Латеранском соборе. Но влияние «христианства
Святого Духа» оказалось длительным и глубоким; его последний всплеск
мы видим в русском Серебряном веке — в так называемом «новом
религиозном сознании» (Д. Мережковский, Н. Бердяев, В. Розанов,
3. Гиппиус и др.).
Под воздействием идей Иоахима Флорского в XIII в. в Италии
возникло движение флагеллантов. Вот как повествует об этом
движении А. Эткинд в своей недавно вышедшей талантливой книге
«Хлыст»: «Массовые процессии полуголых, рыдающих, бичующих
себя мужчин и женщин прошли по городам Европы, означая собой
пришедший конец света. История заканчивалась в сладких муках,
имитировавших страдания Христа. Участники одновременно
переживали массовый экстаз и подчинялись абсолютной дисциплине,
поддерживаемой дополнительными бичеваниями за проступки.
Организацией этих шествий занимались последователи Иоахима
N. Cohn. The Pursuit of the Millenium. London, 1957, p. 99.
34
Введение
Флорского, вычислившие время Последних дней и считавшие, что
бичеваниями они искупают грехи человечества. Попутно они
избивали священников, учиняли еврейские погромы и разоряли
богатых горожан. Один из лидеров флагеллантов, Конрад Шмид,
объявил себя Богом, а не подчинявшихся ему передавал дьяволу»41.
Милленаристские утопии сотрясали европейское общество
в предреформационный период и особенно в эпоху Реформации.
В начале XVI века в Саксонии, в г. Цвиккау появилась мистическая
секта анабаптистов (перекрещенцев), стремившихся уничтожить
старый мир и создать человеческими силами «евангельское
общество» на земле. Анабаптисты проводили различие между
«внешним» откровением, возвещенным в Священном Писании, и
откровением «внутренним», которое совершается в душе богоизбранных
людей благодаря нисхождению на них Святого Духа, наделяющего
их пророческим даром. Одним из наиболее последовательных
выразителей этого религиозного индивидуализма, отрицающего
значение церкви, ее таинств и обрядов, был «цвиккауский пророк»
Николай Шторх. Изгнанные из Цвиккау, Шторх и его последователи
продолжили свою проповедь наступающего Нового Пришествия
в Виттенберге. Они требовали неограниченной свободы человека,
абсолютного равенства в обществе, отрицая частную
собственность и стремясь разделить ее между бедными. Поскольку это было
невозможно осуществить без насилия, то анабаптисты призвали
своих приверженцев к революции, которая, истребив огнем и
мечом всех нечестивых, осуществила бы чаемое ими «царство
святых». В 1534 г. во главе с Иоанном Лейденским, объявившим себя
Мессией, они захватили власть в Мюнстере, переименовав его в
Новый Иерусалим, и попытались путем террора осуществить идеал
полного имущественного равенства, обобществив имущество
горожан и уничтожив деньги42. Нетрудно заметить, что вооруженная
диктатура анабаптистов, создававших «Новый Иерусалим» с
помощью террора, была прообразом Парижской Коммуны и
большевистской революции в России.
41 А. Эткинд. Хлыст. Секты, литература и революция. М, 1998, с. 13.
42 «..Двери домов должны были быть открыты днем и ночью. В общественных
столовых горожане бесплатно питались под громкое чтение Ветхого Завета.
Остальные книги были сожжены перед кафедральным собором. После
краткого периода аскетизма в городе была установлена полигамия по образу
библейских патриархов. Женщины Мюнстера не имели права уклониться от нового
брака; несколько самых упрямых были казнены. Иоанн Лейденский имел
королеву и еще 15 жен» (А. Эткинд. Цит. соч., с. 18).
Введение
35
При всем разнообразии хилиастических движений для всех них
характерно болезненно-острое переживание царящих в мире зла
и страдания, переходящее в ненависть не только к злу, но и к
самому миру, который «во зле лежит». А эта восходящая к гностицизму
ненависть к миру порождает всепоглощающую страсть
разрушения, которая отличает революционеров всех мастей —
приверженцев как утопий социоцентрических и атеистических, так
и утопий метафизически-религиозных. Суть этой страсти хорошо
выразил М.А. Бакунин: «Радость разрушения — это творческая
радость». Обличение социального зла, желание облегчить бедствия
и страдания народа — отличительная черта русской
интеллигенции, благородная и заслуживающая уважения. Но это обличение
иногда оборачивается «хорошей миной при плохой игре», когда
под ним лежит плохо скрытая страсть отрицания — стремление
к уничтожению «лежащего во зле» мира: именно она дает почву для
идеи насильственного преобразования общества у анархистов,
у террористов-народников.
К сожалению, от абсолютизации царящего в мире зла и от
хилиастических настроений не вполне свободны и Достоевский, и
Владимир Соловьев, несмотря на то, что именно ими дана серьезная
критика заблуждений революционной русской интеллигенции.
Отвергая атеистические формы революционного утопизма,
Достоевский и Соловьев отдали дань утопизму религиозному,
сыгравшему в истории России не менее разрушительную роль, чем
просветительский утопизм.
Для хилиастически-утопического сознания характерно
стремление не только перестроить общество, но и изменить саму
природу — как космический строй мира, так и природу человека. Как
верно заметил СЛ. Франк, хилиазм стремится к «преобразованию
космических основ человеческого бытия»43. Такие стремления мы
видим и у Соловьева. Идея полного преображения человеческой
природы здесь, на земле, воплотилась в его мистико-эротической
утопии, тесно связанной с софиологией. По Соловьеву, через
половую любовь может и должно осуществиться спасение человека
от порабощенности грехом и воссоединение его с Богом. «Есть
только одна сила, которая может изнутри, в корне, подорвать
эгоизм, и действительно его подрывает, именно любовь и главным
образом любовь половая»44. Однако половая любовь только в том слу-
43 СЛ. Франк. Ересь утопизма. Критика идейных основ религиозного,
политического и социального утопизма. Л., б.п, с. 19.
44 B.C. Соловьев. Собр. соч. Т. VI, с. 378.
36
Введение
чае может быть средством преображения человека, если она не
будет связана с продолжением человеческого рода, с
деторождением и, стало быть, с плотским соитием. Ибо, согласно Соловьеву,
«половая любовь и размножение рода находятся между собою в об-
ратном отношении: чем сильнее одно, тем слабее другая»45. Лишь
платоническая любовь мужчины и женщины способна оправдать
на деле высший смысл любви — создать из двух ограниченных
существ одну абсолютно идеальную личность. Ибо идеальная
личность, как утверждает философ вслед за немецкими мистиками
Я. Бёме и Фр. Баадером, «не может быть только мужчиной или
только женщиной, а должна быть высшим единством обоих»46. Таким
образом, эротическая любовь, воссоздающая целостную — андро-
гинную — природу человека, есть, по Соловьеву,
«индивидуализация всеединства»: она являет божественное всеединство в образе
конкретной индивидуальности. И у немецких мистиков, и у
Соловьева в земной возлюбленной воплощается Божественная
женственность, София, что свидетельствует о неземном источнике
эротического чувства. Поэтому «идеализация низшего существа есть
вместе с тем начинающаяся реализация высшего, и в этом истина
любовного пафоса. Полная же реализация, превращение
индивидуального женского существа в неотделимый от своего
лучезарного источника луч вечной Божественной женственности, будет
действительным, не субъективным только, а и объективным
воссоединением индивидуального человека с Богом,
восстановлением в нем живого и бессмертного образа Божия»47. Романтическое
чувство любви к женщине, вечная влюбленность, не омрачаемая
и не ослабляемая никакими заботами, связанными с браком,
рождением и воспитанием детей, с семейным бытом и его
неизбежной прозой, — вот, по Соловьеву, реальный путь к преодолению
греховности человека и преображению его природы. Соловьев-
ское учение о любви во многом определило духовную атмосферу
Серебряного века — поэзию символистов, литературу декадентов
и «новое религиозное сознание».
45 Там же, с. 365.
46 Там же, с. 384.
47 Там же, с. 405.
Раздел I
Владимир Соловьев
Глава 1
Философия всеединства
Владимир Сергеевич Соловьев (1853-1900) принадлежит,
несомненно, к наиболее выдающимся русским философам как по
глубине постановки им целого ряда важнейших философских
проблем, так и по широте созданного им синтеза. Последний,
по замыслу Соловьева, должен был органически объединить в
нечто целое философию, религию и науку, создать систему
«цельного знания», к которой стремились ранние славянофилы. В поле
зрения Соловьева оказываются проблемы метафизики,
натурфилософии, историософии, антропологии и гносеологии, этики
и эстетики, и все эти проблемы подчинены единству замысла —
созданию религиозной философии «всеединства», в которой
могли бы найти ответ наиболее волнующие вопросы не только
теории, но и жизни. Ибо «цельное знание», по убеждению Соловьева,
должно ориентировать человека в жизни, а не оставаться лишь
отвлеченным знанием. «Философия в смысле отвлеченного,
исключительно теоретического познания окончила свое развитие и
перешла безвозвратно в мир прошедшего»1.
Жизненный путь и философское
становление B.C. Соловьева
B.C. Соловьев родился в Москве 16 января 1853 года в семье
известного историка, профессора Московского университета
Сергея Михайловича Соловьева. По отцу В. Соловьев происходил из
духовного звания, по матери — из старинного украинского
рода, к которому, как сообщает В. Соловьев в своей автобиогра-
В.С. Соловьев. Собр. соч. Т. I, с. 26.
40
Раздел! Владимир Соловьев
фии2, принадлежал «украинский Сократ» — Григорий Саввич
Сковорода, двоюродный дед (или прадед) матери В. Соловьева. Семья
Соловьевых была большая (в ней было девять детей), со строгим
и религиозным укладом.
В гимназию будущий философ пошел в 11 лет; по окончании
гимназии в 1869 году он поступил на естественный факультет
Московского университета, но через три года перешел на
историко-филологический, который окончил в 1873, а затем в течение года учился
в Московской духовной академии. Еще в гимназии он пережил
религиозный кризис и, как и многие его сверстники, стал
материалистом и атеистом. Однако более углубленное изучение философии,
прежде всего чтение Спинозы, который, по признанию Соловьева,
стал его «первой философской любовью», а затем Шопенгауэра,
Эд. Гартмана, Шеллинга и Гегеля помогло ему преодолеть
юношеский нигилизм и уже сознательно вернуться к «вере отцов».
В 1874 г. Соловьев защитил в Петербурге магистерскую
диссертацию «Кризис западной философии. Против позитивистов»
и был избран доцентом Московского университета по кафедре
философии. Летом 1875 г. он уехал для научных занятий в Лондон,
где изучал главным образом мистическую и гностическую
литературу — Я. Бёме, Парацельса, Сведенборга, каббалу, интересовался
оккультизмом и спиритизмом. Именно в этот период у него
выходит на первый план тема софиологии3, которой суждено было
стать одной из ключевых в его творчестве. Неожиданно философ
2 Автобиография B.C. Соловьева сохранилась в черновом наброске у его
племянника СМ. Соловьева.
3 Не исключено, что сама поездка в Лондон была необходима молодому
философу именно для того, чтобы изучить литературу, посвященную софиологиче-
ской теме, которой он заинтересовался еще в Академии. Вот какую догадку по
этому поводу высказал П.А. Флоренский в письме к Лукьянову в 1916 г.: «Вл.
Соловьев был близок с Дм.Ф. Голубинским, сыном протоиерея-философа Ф.А. Го-
лубинского. Последний же, как выясняется, глубоко выносил в себе идею
Софии, которая от него перешла к Бухареву. Дм.Ф. Голубинский... вероятно,
сообщил ее и Соловьеву. Нужно думать, что именно из академии, по-видимому,
вынес эту идею Соловьев, т. к. после академии он специально посвящает себя
поискам литературы в этом направлении (путешествие за границу). Мне
представляется, что Соловьев поступил в академию просто для занятий
богословием и историей церкви, но потом, набредя тут на предустановленную в его душе
идею Софии, бросил и академию и богословие вообще и занялся специально
Софией. Это, конечно, моя догадка» (цит. по кн.: К. Мочульский. Владимир
Соловьев. Жизнь и учение. М., 1995, с. 84). Возможно, что догадка П.А.
Флоренского и верна, но только вряд ли справедливо его замечание, что Соловьев бросил
богословие: последующие работы философа свидетельствуют о другом.
Глава 1 Философия всеединства
41
покидает Лондон и отправляется в Египет, где проводит несколько
месяцев. Позднее он объяснял свою поездку «таинственным зовом
Софии». Натура поэтическая, впечатлительная, Соловьев обладал,
видимо, медиумическими способностями, которые усиливались
благодаря чтению теософской литературы. О своих видениях
Софии, или Вечной Женственности, он рассказывает в
стихотворении «Три свидания», написанном незадолго до смерти4.
Возвратившись в 1876 г. в Россию, Соловьев вновь читает
лекции в Московском университете. Но в 1877 г. из-за раздоров в
профессорской среде он покидает университет и поступает в
Петербурге на службу в Ученый Комитет Министерства народного
просвещения, читая в то же время лекции в Петербургском
университете и на Высших женских курсах. В 1877 г. философ
опубликовал свою первую систематическую работу «Философские
начала цельного знания» (правда, незаконченную), а в 1878 г. выступил
с циклом публичных лекций «Чтения о Богочеловечестве»,
которые собирали множество слушателей и имели большой
общественный резонанс. К этому времени у него уже вполне сложилась
философско-религиозная концепция, в центре которой — идея
«положительного всеединства», тесно связанная с
софиологической темой.
28 марта 1881 г., после убийства народовольцами Александра II
(1 марта), Соловьев прочел публичную лекцию о смертной казни,
4 Учитывая всю значимость для творчества Соловьева софиологической темы,
приведем отрывок из этого стихотворения:
И долго я лежал в дремоте жуткой,
И вот повеяло: — «Усни, мой бедный друг!»
И я уснул-, когда ж проснулся чутко, —
Дышали розами земля и Неба круг
И в пурпуре небесного блистанья,
Очами, полными лазурного огня
Глядела ты, как первое сиянье
Всемирного и творческого дня.
Что есть, что было, что грядет вовеки —
Все обнял тут один недвижный взор.
Синеют подо мной моря и реки,
И дальний лес, и выси снежных гор.
Все видел я, и все одно лишь было, —
Один лишь образ женской красоты...
Безмерное в его размер входило,
Передо мной, во мне — одна лишь ты.
42
Раздел! Владимир Соловьев
о несовместимости ее с христианской нравственностью. Осудив
цареубийц, он в то же время призвал царя не допустить смертной
казни преступников. Тем самым отношения Соловьева с властью
были испорчены. Он ушел в отставку из Министерства народного
просвещения; ему рекомендовалось воздержаться от
преподавания и от публичных выступлений.
Начался период публицистической деятельности Соловьева.
В центре его внимания в 80-е — начале 90-х гг. —
общественно-политическая и церковно-религиозная жизнь. Незаурядное
литературное дарование, полемический темперамент и нравственный
пафос философа превращают его журнальные выступления в
события гражданской и духовной жизни России. Среди наиболее
важных произведений этого периода — «Духовные основы
жизни» (1882-1884), «Великий спор и христианская политика» (1883),
«История и будущность теократии» (1886, Загреб), «Три речи в
память Достоевского» (1881-1883), «La Russie et l'Eglise Universelle»
(Paris, 1889; русский перевод «Россия и Вселенская церковь»
увидел светлишь в 1913 г.). Он пишет также ряд статей по
национальному вопросу, связанных с проблемами славянофильства и
западничества и объединенных затем в работу «Национальный вопрос
в России» (в первый выпуск ее вошли статьи 1883-1888, а во
второй — 1888-1891 гг.). Основной идеей, пронизывающей
творчество Соловьева этого периода, является его теократическая
утопия, его убеждение в возможности объединения православной
и католической церквей под эгидой Рима и политического
объединения христианских народов (даже всех народов земли, ибо
теократия мыслится как вселенская) под властью русского царя.
Католические симпатии философа усилились после сближения
его с католическим епископом Штроссмайером в Загребе, куда
Соловьев ездил в 1886 г.
По прекращении академической деятельности литературная
работа давала Соловьеву средства к существованию. Своим
возвращением к собственно философской проблематике в 90-е годы
он в немалой степени был обязан приглашению возглавить
в 1891 г. отдел философии в Большом Энциклопедическом
Словаре Брокгауза и Ефрона. Это дало ему материальную поддержку
и избавило от необходимости жить литературным трудом. Он
написал в Словарь более 130 статей, посвященных как основным
философским понятиям, так и историко-философским темам.
В 90-е гг. Соловьев пишет статью «Смысл любви» ( 1892-1894),
подытоживающую его размышления над софиологической темой;
трактат по этике — «Оправдание добра» (1895); предлагает новое
Глава 1 Философия всеединства
43
осмысление теории познания в статьях, объединенных под
названием «Первое начало теоретической философии» (1897-1899);
наконец, в последней своей значительной работе —
эсхатологическом этюде «Три разговора» (1899-1900) пытается разрешить
проблему зла, расставаясь при этом с дорогой ему мечтой о
будущей вселенской теократии.
Напряженная работа и житейская неустроенность рано
подорвали и без того слабое здоровье Соловьева. Не будучи женат и не
имея постоянного жилья, он всегда находился в разъездах,
останавливаясь то в гостиницах, то у своих друзей. В июле 1900 г. он
приехал в Москву, но внезапно заболел и 31 июля скончался в
подмосковном имении своих друзей князей Трубецких.
В своем духовном развитии Соловьев испытал много влияний,
которые определили направление и характер его мышления.
В ранней юности он воспринял социалистические идеи,
свойственное русской мысли искание социальной правды, а также
веру в прогресс, столь характерную для XIX в. Идея
прогрессивного развития человечества, общая для немецкого идеализма
и позитивизма, особенно для О. Конта, чье учение произвело на
молодого русского философа сильное впечатление, разделялась
и отечественными мыслителями разных направлений — не
только западниками, но и славянофилами: И. Киреевским, А.
Хомяковым, Ф. Тютчевым, Ф. Достоевским и др. От ранних
славянофилов Соловьев воспринял вдохновлявшую его на
протяжении всей жизни идею «цельного знания», которое должно дать
ответ на вопрос о смысле человеческого существования, о
последней цели космического и исторического процесса.
Субъектом этого процесса, по Соловьеву, является человечество как
единый организм — понятие, заимствованное философом
у О. Конта. В основе такого подхода лежит убеждение Соловьева
в реальности всеобщего, сформировавшееся у него под
воздействием Спинозы и Гегеля, вообще немецких идеалистов,
которые, начиная с Фихте, строили монистические системы исходя
из единого первопринципа, — метод, не чуждый и Соловьеву,
мастеру диалектического выведения категорий. У Спинозы таким
первопринципом является субстанция, у Фихте — Абсолютное
Я, у Гегеля — Абсолютный субъект-объект. Соловьев как раз
и воспринял общую для спинозизма и немецкого идеализма
пантеистическую посылку, во многом определившую его учение
о всеединстве.
Большое влияние оказали на русского философа мыслители,
придававшие метафизическое значение понятию воли.- Кант, Шо-
44
Раздел I Владимир Соловьев
пенгауэр, Эд. Гартман и особенно Шеллинг5. Если диалектическим
методом Соловьев больше всего обязан Гегелю, то его богословие,
метафизика и эстетика несут на себе печать волюнтативной
метафизики Шопенгауэра и Шеллинга. По словам Л.М. Лопатина,
близкого друга Соловьева, в юности философа был период, когда он
был целиком проникнут идеями Шопенгауэра. «Шопенгауэр
овладел им всецело, как ни один философский писатель после или
раньше. Был период в жизни B.C. Соловьева, — правда, довольно
короткий, — когда он принимал Шопенгауэра всего, со всеми его
общими взглядами и частными мнениями, с его безграничным
пессимизмом и с его туманными надеждами на искупление от
страданий мира через погружение в Нирвану»6. Именно от
Шопенгауэра воспринял Соловьев одну из главных своих интуиции — об
иллюзорности, неподлинности эмирически-предметного мира,
«мира представления», который являет собой грубую, земную кору
вещества, мешающую прозревать подлинную, духовную основу
мира. Впоследствии, отойдя от Шопенгауэра и обретя
христианскую веру, B.C. Соловьев тем не менее сохранил это свое
ощущение иллюзорности физического мира7.
После Шопенгауэра Соловьев изучает системы Фихте, Гегеля
и Шеллинга: последний оказывает на него наибольшее влияние.
С Шеллингом Соловьева сближает романтически-эстетический
5 «Воление, — пишет Шеллинг, — есть прабытие, и только к волению приложи-
мы все предикаты этого бытия: безосновность, вечность, независимость от
времени, самоутверждение» (Ф. Шеллинг. Философские исследования о сущности
человеческой свободы и связанных с ней предметах // Соч. в 2 томах. Т. 2. М.,
1989, с. 101). Подробнее о влиянии Шеллинга на Соловьева см. гл. II.
6 Л.М. Лопатин. Философские характеристики и речи. М., 1995, с. 111.
7 Не веруя обманчивому миру,
Под грубою корою вещества
Я осязал нетленную порфиру
И узнавал сиянье божества.
Именно ощущение бренности и метафизической ирреальности «грубой
коры вещества», которое укрепляла в Соловьеве философия Шопенгауэра,
соединялось у него, с одной стороны, с интересом к оккультизму и спиритизму, а с
другой — с революционно-эсхатологическими настроениями, не покидавшими
его ни в юности, ни в зрелые годы. Характерно в этом отношении письмо
Соловьева кузине ( 1872 г.), где он описывает свою встречу со студентом-медиком,
которого называет «провинциальным нигилистом самого яркого оттенка»: *Мы
открыли друг другу всю душу. Мы были вполне согласны в том, что
существующее должно быть в скорейшем времени разрушено. Но он думал, что за этим
разрушением наступит земной рай, где не будет бедных, глупых и порочных, а все
Глава 1 Философия всеединства
45
подход к проблемам религии, своеобразный эротический
мистицизм, вылившийся у русского философа в культ Вечной
Женственности — души мира8. С помощью Шеллинга, а также Бёме, Парацель-
са, Сведенборга, Дж. Пордейджа, каббалы и гностиков, которых он
высоко ценил, Соловьев пытался осмыслить собственный
мистический опыт — свои видения Софии.
Значительную роль в формировании воззрений философа
сыграл христианский платонизм его учителя в Московской
богословской академии П Д. Юркевича, особенно учение о сердце как
средоточии духовной жизни человека. Юркевич видел в воле
и душевных аффектах определяющее начало человеческого
существа, по своему значению превосходящее теоретическое начало
духа, т. е. ум.
Все эти многообразные влияния русский философ
органически претворил в своем учении, создав новое систематическое
построение, правда, не лишенное ряда трудностей и противоречий.
Стремясь от них освободиться, Соловьев не раз перерабатывал
свое учение. При этом в его сочинениях мы находим и трезвую
оценку, и глубокую конструктивную критику тех философских
концепций, которые в свое время формировали его
миросозерцание.- Спинозы, Канта, Гегеля, Шеллинга, Шопенгауэра, Конта и др.
человечество станет равномерно наслаждаться всеми физическими и
умственными благами в бесчисленных фаланстерах... я же с одушевлением утверждал,
что его взгляд недостаточно радикален, что на самом деле не только земля,
но и вся вселенная должна быть коренным образом уничтожена, что если после
этого и будет какая-нибудь жизнь, то совершенно другая жизнь, не похожая на
настоящую, чисто трансцендентная. Он был радикал-натуралист, я был
радикал-метафизик» (цит. по кн.: К. Мочульский. Цит. соч., с. 77).
8 Следы влияния Шеллинга заметны уже в первой печатной работе В.
Соловьева — * Мифологический процесс в древнем язычестве» (1873): молодой
философ заимствует у Шеллинга «понятие мифологического или теогонического
процесса, субъективного лишь поскольку он происходит в человеческом
сознании, но вполне объективного и независимого от сознания по своему
содержанию...» (B.C. Соловьев. Собр. соч. Т. I, с. 4). Вероятно, благодаря Шеллингу уже
в этой первой работе внимание Соловьева привлекают образы женского
божества, которое в различных мифологиях ассоциируется с матерью-материей,
или ночью. Афродита Урания у греков «есть Царица Небесная, царица ночного,
звездного неба, которое есть ее внешняя видимость, ее покров. На всех
изображениях эта богиня представляется стоящею на луне и с темно-синим
покровом, усеянным золотыми звездами» (там же, с. 12-13). Это, пожалуй, первое,
еще неопределенное раскрытие идеи Вечной Женственности, которой
суждено будет играть важную роль в творчестве философа.
46
Раздел I Владимир Соловьев
Критика отвлеченного мышления
с позиций спиритуалистического реализма
Философская система Соловьева строится по исторической
схеме, столь свойственной мысли XIX в., — как история развития
мирового духа, как тео-космо-исторический процесс. Русский
философ хотел бы отказаться от того духа секуляризма, которым была
проникнута европейская философия Нового времени, и вслед за
ранними славянофилами стремится к обретению цельного
знания, предполагающего единство теории и
жизненно-практического действия, т. с. хочет создать философию жизни, а не
философию школы, — в этом отношении он предвосхищает аналогичное
движение мысли в Европе конца XIX — начала XX вв. Однако в
своем стремлении преодолеть секулярный дух философии Нового
времени Соловьев не хотел возвращения к «историческому
христианству», т. е. к церковной традиции, богословию и преданию,
как оно существовало в православной или в католической
церквах. Его целью было «ввести вечное содержание христианства
в новую соответствующую ему, т. е. разумную безусловную
форму»9, а это значило — оправдать его с помощью теософии.
Как и славянофилы, Соловьев начинает с критики отвлеченного
мышления, свойственного европейской философии. По
Соловьеву, отвлеченное начало — необходимый момент в жизни как
индивида, так и человечества, однако абсолютизирование этого
момента заводит философию в тупик, что воочию продемонстрировал
Гегель, превратив рациональные конструкты в
саморазвивающееся начало — субстанцию-субъекта. Однако, как увидим ниже,
Соловьев не отвергает полностью гегелевское учение о субстанции-
субъекте, признавая его частичную истину10.
Русский философ указывает на основной порок гегелевской
системы — на гипостазирование понятия, на превращение
логических определений мышления в нечто самостоятельное, лишенное
субъекта, мыслящего с помощью этих определений. Соловьев
критикует отвлеченный идеализм Гегеля с позиций
спиритуалистического реализма, требующего расчленять мышление, мыслящего
субъекта и мыслимое содержание, — моменты, совпадающие у
Гегеля в понятии абсолютной идеи. Подлинно сущее, по
Соловьеву, — это не рациональная конструкция, не понятие, но и не эмпи-
9 B.C. Соловьев. Письма. Т. И. СПб., 19П, с. 89.
10 См. об этом гл. 3, с. 112 и далее.
Глава 1 Философия всеединства
47
рическая данность; это реальное духовное существо, субъект воли-,
сущее, по словам философа, «есть сила бытия»11. «...То абсолютное
первоначало, которое только может сделать наше познание
истинным и которое утверждается как принцип нашею
органическою логикою, прежде всего определяется как сущее, а не как
бытие»12. Сущее, по определению Соловьева, есть то, что не может
быть предикатом (здесь уместно вспомнить определение
первичной сущности у Аристотеля). Напротив, бытие, в отличие от
сущего, является предикатом. «..Бытие есть значит, что есть сущий», —
пишет B.C. Соловьев13.
В подлинном смысле реальностью обладают, по Соловьеву,
только духи и души, носители силы и воли; они-то и суть сущие;
эмпирический же мир, данный в пространстве и времени, он вслед
за Кантом и Шопенгауэром считает только явлением и
характеризует его как бытие, в отличие от сущего. Исходя из кантовского
различения явления и вещи в себе, Соловьев вслед за
Шопенгауэром усматривает сущность вещи в себе (названной им «сущее»)
в воле. Первое и верховное сущее — Бог — определяется
Соловьевым в духе неоплатонизма и каббалы как положительное ничто.
«Это положительное ничто, или эн-соф каббалистов, есть прямая
противоположность Гегелеву отрицательному ничто — чистому
бытию, происходящему через простое отвлечение или лишение
всех положительных определений»14.
Определив сущее как являющееся, а бытие как явление,
Соловьев интерпретирует таким образом связь Бога и мира как связь
сущности и явления. Между трансцендентной основой мира и самим
миром устанавливается отношение необходимости, которая
постигается рациональным путем — с помощью так называемой
органической логики. Такая интерпретация носит спинозистски-
гегелевский, пантеистический характер: между сущим как
сущностью и миром как явлением устраняется та непереходимая грань,
которую христианское богословие полагает между Творцом и
творением. Тут, однако, спиритуалистический реализм Соловьева
вступает в известное противоречие с его рационалистическим
методом: ведь если сущее — это трансцендентное духовное
существо, то мы можем узнать о нем что-либо только из общения с ним,
в котором оно открывает нам себя, — т. е. из откровения. Чисто ра-
11 B.C. Соловьев. Собр. соч. Т. I, с. 307.
12 Там же, с. 306.
13 Там же, с. 305.
14 Там же, с. 320.
48
Раздел! Владимир Соловьев
циональному познанию оно недоступно. Соловьев, однако,
убежден, что, непостижимое для разума, сущее может быть предметом
мистического созерцания, особым образом понятой
интеллектуальной интуиции, которую философ отождествляет также с
состоянием вдохновения. Вслед за Шеллингом и романтиками русский
философ сближает интеллектуальную интуицию с продуктивной
способностью воображения (выступая здесь против Канта) и
соответственно философию — с художественным творчеством,
с вдохновением, но при этом трактует творческий акт по аналогии
со своего рода трансом, состоянием пассивно-медиумическим,
которое, как считают многие мистики и духовидцы, открывает
возможность прорыва в трансцендентный мир духов, не
доступный ни разуму, ни эмпирическому опыту.
Сближая вдохновение с интеллектуальной интуицией, которой
открываются вечные истины, или идеи, Соловьев считает
экстатически-вдохновенное состояние началом философского познания,
оказывающегося, таким образом, родственным не только
искусству, но и мистическому духовидению. «Действие на нас
идеальных существ, производящее в нас умосозерцателыюе познание
(и творчество) их идеальных форм или идей, называется
вдохновением. Это действие выводит нас из обыкновенного нашего
натурального центра, поднимает нас на высшую сферу, производя
таким образом экстаз. Итак... непосредственно определяющее
начало истинного философского познания есть вдохновение»15.
Признавая возможность непосредственного воздействия
трансцендентных существ на человека, отождествляя это воздействие
с интеллектуальным созерцанием идей, Соловьев тем самым
снимает границу между рациональным мышлением и мистическим
(а нередко и оккультным) опытом-, а устранение различия между
мистически истолкованной интеллектуальной интуицией и
продуктивной способностью воображения порождает смешение
художественной фантазии с религиозным откровением, создает
возможность оккультно-магического понимания искусства, столь
характерного не только для Соловьева, но и для испытавших его
влияние символистов — А. Блока, А. Белого, В. Иванова и др.
Именно таким образом мыслит Соловьев осуществление
синтеза философии, религии и искусства. Здесь сказалась его глубоко
поэтическая натура; не случайно в поэзии Соловьева некоторые
исследователи ищут ключ к его философским произведениям.
15 Там же, с. 294.
Глава I Философия всеединства
49
Нельзя не отметить, однако, что избранный Соловьевым путь
создания «цельного знания» таит в себе опасность «неразличения
духов», поскольку у художественной интуиции нет критерия для
такого различения. Духовно-религиозного опыта не может
заменить ни интеллектуальное созерцание философа, ни восторг
вдохновения поэта.
Идея всеединства
Итак, исходное понятие теософии Соловьева — божественное
сущее. Оно открывается нам непосредственно, с помощью
ощущения или чувства. Поэтому не требуется никаких доказательств
бытия Бога: действительность его не может быть логически выведена
из чистого разума, а дается лишь актом веры16. Установив, таким
образом, с помощью веры, или «религиозного ощущения»,
существование Бога, философ приступает к рациональному выведению
содержания божественного Сущего — не без известного
противоречия с собственным утверждением, что содержание это дается
только опытом. Он характеризует божественное начало как
«вечное всеединое»17, или как «Единое и всё» (hen kai pan). А это значит,
что всё сущее мира содержится в Боге, ибо всеединство есть
единство во множественности. Согласно Соловьеву, единое свободно
от всего («Абсолют» буквально означает «отрешенное»,
«освобожденное») и, следовательно, определяется отрицательно по
отношению к другому. В то же время оно не может иметь ничего вне
себя и тем самым определяется по отношению к другому положи-
16 Существование Бога, по Соловьеву, «может утверждаться только актом веры.
Хотя лучшие умы человечества занимались так называемыми
доказательствами бытия Божия, но безуспешно; ибо все эти доказательства, основываясь по
необходимости на известных предположениях, имеют характер
гипотетический и, следовательно, не могут дать безусловной достоверности... Что Бог есть,
мы верим, а что Он есть, мы испытываем и узнаем» (B.C. Соловьев. Собр. соч.
Т. III, с. 31).
17 Там же. Т. III, с. 134: «Само по себе божественное начало есть вечное
всеединое, пребывающее в абсолютном покое и неизменности; но по отношению к
выступившей из него множественности конечного бытия божественное
начало является как действующая сила единства — Логос ad extra». И еще:
«...Единственным возможным ответом на вопрос: что есть Бог, является уже известный
нам, именно, что Бог есть всё, т. е. что всё в положительном смысле или
единство всех составляет собственное содержание, предмет или объективную
сущность Бога...* (там же, с. 78).
50
Раздел! Владимир Соловьев
тельно. В нем, стало быть, совпадают противоположности, от века
присутствуют два полюса, или центра: первый — свобода от
всяких форм, от всякого проявления; второй — производящая бытие
сила, т. е. множественность форм. Теперь первый полюс получает
название Единого, а второй — потенции бытия, или первой
материи, которая, таким образом, входит в Абсолют как «его другое»,
как первый субстрат, или «основа» Бога. «...Если высший или
свободный полюс есть самоутверждение абсолютного первоначала
как такого, то для этого самоутверждения ему логически
необходимо иметь в себе или при себе свое другое, свой второй полюс,
то есть первую материю, которая поэтому, с одной стороны,
должна пониматься как принадлежащая первому началу... а с другой, как
необходимое условие его существования: она первее его, оно от
нее зависит»18. Понятие первой материи осмысляется философом
в шеллингиански-шопенгауэровских определениях — как сила,
влечение, стремление, — восходящих к гностицизму и учению Бё-
ме о «темной природе» в Боге, о бессознательной глубине
Божества, из которой проистекает начало зла. Неразрывность двух
полюсов Сущего означает, что Абсолют не может представать иначе чем
осуществленным в материи, а материя, в свою очередь, предстает
не иначе как идея, как осуществленный образ Единого. Оба
полюса «вечно и неразрывно между собою связаны... каждый есть и
порождающее, и порождение другого»19. Пантеистическая
подоплека такого построения очевидна.
В «Критике отвлеченных начал» Соловьев характеризует второй
полюс всеединства, т. е. первую материю (она же идея, или
природа) как становящееся всеединое, в отличие от первого полюса как
сущего всеединого20. Главный тезис состоит в том, что абсолютное
не может существовать иначе, чем осуществленное в своем
другом. Такое понимание отношения между Богом и миром
существенно отличается от христианской идеи творения мира.
Становящееся всеединое — это душа мира, которая, будучи основанием
всего мирового процесса, лишь в «человеке впервые получает
собственную внутреннюю действительность, находит себя, сознает
себя»21. Божественный элемент мировой души, т. е. всеединство,
в дочеловеческом, природном мире существует лишь
потенциально и только в человеке получает актуальность, хотя и предстает
18 Там же. Т. II, с. 298. — Курсив мой. — ПГ.
19 Там же.
20 См.: там же, с. 299-
21 Там же, с. 302-303.
Глава 1 Философия всеединства
51
вначале только идеально, в сознании, как цель и норма
человеческой деятельности. Осуществление этой целиреально составляет
задачу мировой истории как богочеловеческого процесса.
В «Чтениях о Богочеловечестве» философ пытается перевести
описанный им процесс самораздвоения Абсолюта на язык
христианского богословия, давая свое толкование догмата о Троице.
Он отличает Бога как абсолютно-сущего от Его содержания
(сущности, или идеи), которое предстает в лице Бога-Сына, или
Логоса; воплощение же этого содержания, или идеи, осуществляется
в мировой душе, Софии, представляющей, стало быть, третье
лицо божественной Троицы — Дух Святой. «...Как сущий, различаясь
от своей идеи, вместе с тем есть одно с нею, так же и Логос,
различаясь от Софии, внутренно соединен с нею. София есть тело Бо-
жие, материя Божества, проникнутая началом божественного
единства. Осуществляющий в себе или носящий это единство
Христос, как цельный божественный организм — универсальный
и индивидуальный вместе — есть и Логос и София»22. Теперь, как
видим, картина несколько меняется: философ различает в Боге
двоякое единство — действующее единство божественного
творческого Слова (Логоса) и единство произведенное,
осуществленное. Деятельное единство — это мировая душа в Боге, а
произведенное — Его органическое тело. В Христе предстают оба эти
единства: первое, или производящее, есть в Нем Воздействующая
сила, или Логос, а второе, «произведенное единство, которому мы
дали мистическое имя Софии, есть начало человечества, есть
идеальный или нормальный человек»23. Совершенное
человечество — это не природный человек как явление, не единичное
эмпирическое существо и не человечество, как оно реально существует
на земле, а «всечеловеческий организм», человечество как вечная
идея. Именно эта вечная идея человечества есть, по Соловьеву,
София — Вечная Женственность, вечно заключающаяся в
божественном существе.
Как видим, идея Богочеловечества тесно связана у Соловьева
с софиологией. Нельзя не заметить, однако, что здесь у философа
происходит слияние двух разных реальностей: идея человека в
божественном уме как-то незаметно сливается с человеком как
творением Бога; граница между вечным и временным,
трансцендентным и имманентным, Творцом и творением становится настолько
22 Там же. Т. III, с. 106.
23Тамже,с. 111.
52
Раздел! Владимир Соловьев
прозрачной, что едва ли не исчезает совсем. «По Соловьеву, —
справедливо замечает E.H. Трубецкой, — вечная идея человека
и сам человек в существе своем — одно и то же. С этой точки
зрения, если сверхвременна идея, то вечно существует и самый
человек; каждый из нас от века есть в „Софии" до своего рождения во
времени. Если так, то все, что мы совершаем и переживаем во
времени, — есть воспроизведение того, что было и есть в Боге»24.
В результате такого слияния вечного и временного вся
посюсторонняя действительность как бы утрачивает свою реальность,
превращаясь в обманчивый, призрачный мир, в иллюзию,
скрывающую под собой подлинную реальность. Но в таком случае вся
деятельность человека и человеческая история в этом иллюзорном
мире должна рассматриваться либо как необходимый процесс
развертывания того, что уже от века заложено в божественной
идее человека, либо как бессмысленная и бесцельная суета,
которая ничего не меняет в божественном замысле о человеке и не
вносит в него ничего нового.
При отсутствии четкой грани между вечным Творцом и его
творением христианский теизм подменяется пантеизмом; Бог уже не
по свободе творит мир и человека, ибо эмпирический человек есть
лишь необходимое явление во времени вечного человека как
божественной идеи. И, соответственно, сам человек тоже лишается
своей свободы, он перестает быть реальным источником своих
действий. Ведь во временном мире человек — лишь явление, а
явление онтологической самостоятельности не имеет.
Конечно, нельзя отрицать, что идея вечного Богочеловечества
вызвана к жизни стремлением Соловьева философски осмыслить
христианский догмат воплощения: Христос — это воплощенный,
вочеловеченный Логос, второе Лицо Троицы; тайна воплощения
божественного начала, если попытаться дать ей рациональное
толкование, вполне естественно приводит философа к мысли об
изначальном существовании идеального человечества в самом
Божестве. Вот что пишет в этой связи прот. Георгий Флоровский: «Бо-
гочеловечество в „вечном мире" осуществлено от начала, и
Воплощение есть только некое проявление этого вечного единства
в мире вещественности и бывания. Воплощение Слова, в таком
толковании, есть только нисхождение вечного Христа в поток
явлений... Это напоминает Оригена... От церковного догмата
Соловьев, во всяком случае, далеко отходит»25.
E.H. Трубецкой. Миросозерцание Вл.С. Соловьева. Т. 1, с. 348.
Прот. Георгий Флоровский. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991, с. 318.
Глава 1 Философия всеединства
53
Именно символический иллюзионизм, воспринятый
Соловьевым от романтической традиции, особенно от Шопенгауэра,
привел его к мысли, что только при условии совечности человека Богу
можно говорить о его (человека) бессмертии и свободе.
«...Представляя себе человека лишь созданным из ничего во времени,
и следовательно для Бога как бы случайным, так как
предполагается, что Бог может существовать и без человека, и действительно
существовал до сотворения человека, — представляя себе... человека
как безусловно определенного божественным произволом (а
почему не сказать — свободой? — ПГ.) и потому по отношению к Богу
безусловно страдательным, мы решительно не оставляем
никакого места для его свободы»26. Как видим, Соловьев сознательно
отвергает христианский догмат о творении, который, вопреки
убеждению русского философа, отнюдь не лишает человека ни
бессмертия, ни свободы: уже библейский рассказ о грехопадении
свидетельствует о том, что человек сотворен свободным и может
употребить свою свободу и в добро, и во зло. Глубинные мотивы
соловьевского учения о том, что человек совечен Богу, что Бог не
может существовать без человека, диктуются его убеждением
в отсутствии онтологического различия между человеком и
Богом, убеждением, почерпнутым как из немецкого идеализма,
особенно Гегеля и Шеллинга, так и из мистико-гностических учений27.
Не удивительно, что в рамках принятых им предпосылок у
Соловьева возникает трудность с проблемой бессмертия
индивидуальной человеческой души. Бытие, которое начинается с
физического рождения, должно и прекратиться с физической смертью:
«...Бесконечное существование после смерти никак не вяжется ло-
26 B.C. Соловьев. Собр. соч. Т. III, с. 117-118.
27 Подробнее об этом см. гл. II и III. Согласно учению гностической секты вален-
тиниан, которым весьма интересовался Соловьев, считавший Валентина (II в.)
♦самым значительным гностическим философом и одним из гениальнейших
мыслителей всех времен» (В.С Соловьев. Собр. соч. Т. IX (дополнительный). СПб.,
1907, с. 56), внутрибожественная жизнь, или Плерома, представляет собой «родо-
начальную осмерицу... корень и начало всех вещей, которая названа у них (вален-
тиниан. — ПГ.) четырьмя именами, именно Глубина, Ум, Слово и Человек. Ибо
каждое из них есть вместе мужчина и женщина таким образом: сперва Перво-
отец совокупился со своей Мыслию; а Единородный, т. е. Ум — с Истиною,
Слово—с Жизнию и Человек — с Церковью» (Ириней Лионский. Творения, с. 22).
Мы не можем здесь входить в детали гностического мифа, отметим лишь, что
Человек, как и Церковь, совечен Богу-Отцу, который именуется также
Первоначалом, Первоотцом и Глубиной и который породил Ум, подобный и равный своему
родителю; один только Ум вмещает в себя все величие Отца. Влияние гностициз-
54
Раздел! Владимир Соловьев
гически с ничтожеством до рождения*2*. Бессмертен не человек
как индивидуальное существо, а его вечная умопостигаемая
сущность. Она, как мы уже знаем, понимается Соловьевым не как
творение Божие. Вечный человек, или идеальное человечество, есть
особого рода универсальная индивидуальность, или, как писал
Соловьев в последний период, «всемирная форма соединения
материальной природы с Божеством... Богочеловечество и Бого-ма-
терия»29. Существующий мир, где люди предстают как
индивидуумы — это, по Соловьеву, «тяжелый и мучительный сон отдельного
эгоистического существования»30, иллюзорный и неподлинный.
Причина существования этого неподлинного мира у Соловьева,
как и у Шопенгауэра, — принцип индивидуации, коренящейся в
самоутверждении, эгоизме каждого существа,
противопоставляющего себя всем другим, — во взаимоотталкивании. Эгоизм есть
коренное зло не только человеческой, но и всей природы, всего
живущего. Зло, т. е. «грех индивидуации», как раз и порождает,
по Соловьеву, внешнее, вещественное бытие, где все существует
в разрозненности и вражде. Зло и страдание суть состояния
индивидуального существа. Но если индивидуальность — это источник
зла и страдания, то о каком индивидуальном бессмертии может
идти речь? Спасение можно найти только в освобождении от ин-
ма особенно явно дает себя знать в более поздней мистике; в частности, у Мей-
стера Экхарта душа человека не тварна, она вечно предсущеспювала в Божестве
еще до сотворения мира; Бог-Творец, отличный от Божества, возник вместе с
сотворенным миром, а потому позднее человеческой вечной души, и, стало быть,
Он не вечен. «Бог и Божество не схожи, как небо и земля, — пишет Экхарт. —
Становится Бог там, где все создания высказывают Его. Когда я был еще в основании,
в Глубине Божества, в течении и в источнике Его, никто не спрашивал меня, куда
я стремлюсь или что я делаю: там не было никого, кто бы мог меня спросить. Л ишь
когда я изошел, все создания возвестили мне Бога... О Боге говорят все создания.
А почему они не говорят о Божестве? Всё, что в Божестве, — едино... не действует...
И когда я возвращаюсь в Глубину и основание Божества... никто не спрашивает
меня, откуда и где я был. Никто не ощутил моего отсутствия. И это значит: Бог
преходит» (Мейстер Экхарт. Проповеди и рассуждения. М., 1912, с. 52). Учение
Экхарта о Боге в определенной мере несет на себе печать гностического мифа
о Демиурге (см.: Ириней Лионский. Цит. соч., с. 33-40). От Экхарта через Якоба
Бёме гностическая традиция была воспринята Шеллингом, и мы видим ее следы
в его работе «О сущности человеческой свободы», оказавшей сильное влияние
на молодого B.C. Соловьева. Так что тезис русского философа о том, что Бог не
может существовать без Человека, имеет за собой многовековую традицию.
28 B.C. Соловьев. Собр. соч. Т. III, с. 117.
29 Там же. Т. VIII, с. 241.
30 Там же. Т. III, с. 120.
Глава 1 Философия всеединства
55
дивидуального существования, а не в вечном его продолжении.
Поразительным образом религиозная философия Соловьева
тяготеет, как видим, к имперсонализмуъх. И не случайно по этому
вопросу возникла полемика между Соловьевым и его другом ЯМ.
Лопатиным, убежденным в субстанциальности человеческого Я и,
таким образом, в бессмертии индивидуальной души32.
Софиология B.C. Соловьева
Откуда же появляется грех индивидуации, составляющий
принцип существования в эмпирическом мире? По Соловьеву, он
коренится в самом Боге: «...Производящею причиною зла может быть
индивидуальное существо не в своем природном уже обусловлен-
3 ' В одной из поздних своих работ, в докладе, прочитанном по поводу столетнего
юбилея Огюста Конта (1898), B.C. Соловьев подчеркивает ирреальность
единичного человека. Он ссылается на Конта, убежденного в том, что «единичный
человек, сам по себе или в отдельности взятый, есть лишь абстракция, что такого
человека в действительности не бывает и быть не может» (там же. Т. VIII, с. 231).
Казалось бы, Соловьев как христианин не должен разделять этот тезис; однако он
твердо заявляет: «...Конечно, Конт прав» (там же). Не человек, а только
человечество в целом есть действительная реальность, — в этом убежден Соловьев точно так
же, как и Конт, у обоих человечество выступает не как общее родовое понятие и не
как простая совокупность всех живущих на земле людей, а как единое живое
существо, которое Конт называет être indivisible (неделимое существо). Правда,
Соловьев не удовлетворен при этом имманентизмом Конта: у русского философа
речь идет о едином живом существе как Богочеловечестве. «Основатель
„позитивной религии", — пишет Соловьев, — понимал под человечеством существо,
становящееся абсолютным через всеобщий прогресс. И действительно, человечество
есть такое существо. Но Конту... не было ясно, что становящееся во времени
абсолютное предполагает абсолютное вечно-сущее... Истинное человечество, как
всемирная форма соединения материальной природы с Божеством... есть по
необходимости Богочеловечество и Бого-материя...» (там же, с. 241).
32 Сущность спора прекрасно передана в стихотворении Соловьева «Панта
рэй», написанном не без юмора, но вполне серьезном по существу:
И с каждым годом прибавляя ходу,
Река времен несется все быстрей,
И, чуя издали и море, и свободу,
Я говорю спокойно: панта рэй!
Но мне грозит Л евон неустрашимый
Субстанций динамических мешок
Свезти к реке и массою незримой
Вдруг запрудить весь Гераклитов ток.
56
Раздел! Владимир Соловьев
ном явлении, а в своей безусловной вечной сущности»33. Зло имеет
не физическое, а метафизическое начало. По этой причине всякое
существо уже родится в зле, «выбирая» эгоизм и самоутверждение
еще до появления на свет, когда нет еще возможности
сознательного свободного выбора. Как подчеркивает философ, «злая воля
при эгоизме является у каждого отдельного существа уже в самом
начале его физического существования, когда его свободноразум-
ное или личное начало еще не действует, так что это коренное зло
для него есть нечто данное, роковое и невольное, а никак не его
собственное свободное произведение»34.
Источник мирового зла не в грехопадении человека,
осуществленном по свободе, как учит христианство, а в мэоническом начале
божественного всеединства, полагает Соловьев вслед за Шеллингом.
Пока все существа имеют только потенциальное, а не актуальное
бытие в Боге и как чистые духи находятся в единстве с божественной
волей, они не могут от себя самих внутренне воздействовать на Бога,
для этого надо иметь обособленное существование. Но для Бога
необходимо, «чтобы множественные существа получили свою
собственную реальную особность, ибо иначе силе божественного
единства или любви не на чем будет проявиться... во всей полноте
своей»35. Поэтому Бог сам творческим актом утверждает
самостоятельное бытие этих существ (тем самым порождая зло), которые
только теперь могут воздействовать на него, ибо становятся уже не
просто идеальными существами, умами, чья жизнь состоит в
созерцании Божества, а становятся живыми и болящими, поскольку лишь
воля есть подлинная реальность.
Может показаться, что философ изменяет своей концепции,
признавая множественность самостоятельных субстанций-душ.
Однако он тут же поясняет, о какой обособленной жизни самостоя -
Левон, Левой! Оставь свою затею
И не шути с водою и с огнем...
Субстанций нет! Прогнал их Гегель в шею;
Но и без них мы славно заживем!
(B.C. Соловьев. Письма Т. III. СПб., 1911, с. 218).
♦Левой», т. е. Лев Михайлович Лопатин, один из русских неолейбницианцев,
противопоставлял и в самом деле «гераклитову току» (как известно, афоризм
«панта рэй» — «все течет» — принадлежит греческому философу Гераклиту)
вечное бытие субстанций-монад.
33 B.C. Соловьев. Собр. соч. Т. III, с. 124.
34 Там же.
35 Там же, с. 127.
Глава 1 Философия всеединства
57
тельного существа идет здесь речь. «Это второе, произведенное
единство, противостоящее первоначальному единству
божественного Логоса, есть, как мы знаем, душа мира или идеальное
человечество (София), которое содержит в себе и собою связывает все
особенные живые существа или души»36. Субстанциальным единством,
таким образом, обладает душа мира, а не отдельные живые
существа. Именно она получает независимость от божественного начала
и может воздействовать на него, она одна является свободным субъ-
eicroM и совершает акт отпадения от Бога, суть которого — в
стремлении обладать всей полнотой бытия от себя, т. е. утверждать себя
вне Бога. В результате душа мира «ниспадает из всеединого
средоточия Божественного бытия на множественную окружность
творения, теряя свою свободу и свою власть над этим творением»37, а Бого-
Миро-здание распадается на множество отдельных элементов:
«всемирный организм превращается в механическую совокупность
атомов»38, в мир зла, разъединения и страдания.
София, таким образом, предстает у Соловьева как центральный
персонаж тео-космического процесса. Природа ее глубоко
двойственна. С одной стороны, она есть вечно-женственное начало
в Боге, мировая душа, тело Христово, идеальное человечество,
истинная причина творения и его цель. Образ Вечной
Женственности у Соловьева двоится: с одной стороны, она принадлежит к
сфере божественного бытия, посредством которой Бог проявляется
как живая действующая сила — Дух Святой. С другой стороны,
София есть единящее начало тварногомира, выступая как живая
душа всех единичных тварных существ, или как «первообразное
человечество». «Представляя собою реализацию божественного
начала, будучи его образом и подобием, первообразное
человечество или душа мира есть вместе и единое и все) она занимает
посредствующее место между множественностью живых существ...
и безусловным единством Божества... Как живое средоточие или
душа всех тварей и вместе с тем реальная форма Божества —
сущий субъект тварного бытия и сущий объект божественного
действия... всеединое человечество или душа мира есть существо
двойственное: заключая в себе и божественное начало и тварное
бытие, она не определяется исключительно ни тем, ни другим и,
следовательно, пребывает свободною...»39 Именно в качестве сво-
36 Там же, с. 129.
37 Там же, с. 131.
38 Там же.
39 Там же, с. 129- — Курсив мой. — ПГ.
58
Раздел! Владимир Соловьев
бодного существа София может сама избрать направление своего
стремления: она может сохранить свое единство с высшим,
божественным началом, а может и отпасть от него, утвердив себя вне
Бога и вместо Бога. Когда она определяется божественным
Логосом, она несет в себе божественное начало и единит всё сущее.
Но она имеет и свою собственную волю; и когда она решает
обладать всем не от Бога, а от самой себя, она отделяется и
утверждается вне божественного начала, отпадает от него. Как отпавшая от
Бога, София приобретает демонические черты40.
Именно София, настоявшая на своей обособленности,
оказывается теперь началом зла и страдания в мире, мировой организм
распадается на множество разрозненных эгоистических существ,
находящихся во вражде и борьбе между собою. Ясно, что выходом
из этого состояния зла и разобщенности является у Соловьева, как
и у античных гностиков, чье учение об отпадении божественного
зона — Софии — воспринял русский философ, возвращение
отпавшей мировой души в единство божественного бытия41.
Соловьев, однако, не мог не сознавать, что, соединяя в Софии
божественное и тварное начала, он вынужден, сам того не желая,
признать, что в возникновении мира зла и хаоса в определенном смысле
повинен сам Бог, во всяком случае, этот падший мир обязан своим
появлением разладу в самом Божественном начале. Тут, как справед-
40 Еще в своем раннем трактате «София», написанном в 1876 г. (опубликованном
в журнале «Логос» № 2 за 1991 г. и в новом собрании сочинений: B.C. Соловьев.
Сочинения. Т. 2, М., 2000), Соловьев очерчивает контуры своей софиологии.
В трактате чувствуется влияние каббалистически-оккультной литературы, а
также немецкой мистики и теософии Шеллинга, о которой у нас пойдет речь ниже.
Характеризуя это сочинение Соловьева, А.Ф. Лосев справедливо отмечает, что
здесь русский философ весьма далек от христианского понимания творения
мира Богом. «..Здесь мы находим теорию отпадения Души от Ума, которому она
подчинена, но которому она теперь не хочет подчиняться, а вместо этого
подчиняется окружающей негативной области. Здесь у нас возникает вопрос: если душа
является третьим лицом Пресвятой Троицы, то каким же это образом она
вообще может грешить и отпадать от Божественного Ума? Ясно, что здесь Вл.
Соловьев не проявляет чувства полной надмирности и надприродности божественного
начала. Христианский теолог при таком учении о падении Духа Святого может
только ужаснуться. Далее Душа, ставшая теперь Душой мира, квалифицируется
как Сатана. И если под Сатаной понимать предельное обобщение мирового зла,
то превращение Души, то есть Духа Святого, в Сатану тоже становится не очень
понятным» (А.Ф. Лосев. Владимир Соловьев и его время. М., 1990, с. 216-217).
41 Серьезному критическому анализу софиологии B.C. Соловьева, а также
П.А. Флоренского и СН. Булгакова посвящены работы Н.К. Гаврюшина; см. его
книгу «По следам рыцарей Софии». М., 1998.
Глава 1 Философия всеединства
59
ливо указывает E.H. Трубецкой, сказывается влияние на Соловьева
шеллингианского пантеизма. «С одной стороны, он (В. Соловьев. —
ПГ.) пытается изобразить грех и смерть как факты внебожественной
действительности; с другой стороны, в его изложении грехопадение
мировой души представляется в виде внутренней катастрофы,
совершившейся в самом безусловном, божественном мире»42. И в
самом деле, София Премудрость Божия принадлежит к божественной
сфере, тогда как мировая душа — начало тварного мира. Чтобы
справиться с этой трудностью, философ в работе «Россия и вселенская
церковь» различает Софию, с одной стороны, и мировую душу, с
другой. Последняя теперь предстает как антипод Софии —
Премудрости Божией. София «не есть душа мира, — душа мира только
носительница, среда и субстрат ее реализации... Душа мира,
рассматриваемая в ней самой, есть неопределенный субъект творения, равно
доступный злой основе хаоса и Слову Божию. Хохма, 1оф1а,
Божественная премудрость не душа, но ангел хранитель мира,
покрывающий своими крылами все создания, дабы мало-помалу вознести их
к истинному бытию... Она — субстанция Святого Духа...»43 Мировая
душа теперь — источник зла и хаоса, София же — «лучезарное и
небесное существо, отделенное от тьмы земной материи»44.
Однако совсем отказаться от сближения Софии с душой мира
философу все-таки не удается; поэтому последняя именуется
«матерью внебожественного хаоса» и отделяется Соловьевым от
самого хаоса; суть мирового процесса предстает как борьба
Божественного Слова и адского начала за власть над мировой душой. Их
борьба должна завершиться воссоединением отпавшей мировой
души с Богом и восстановлением божественного всеединства.
Этой конечной целью определяется эволюция сначала в природе,
а затем в истории. Космический процесс оканчивается
рождением натурального человека, а за ним следует исторический процесс,
подготавливающий рождение человека духовного45.
Позиция Соловьева, как видим, совпадает в этом пункте с
телеологическим детерминизмом Гегеля, из которого проистекает не
только оптимизм, но и утопизм историософии Соловьева:
исторический процесс с внутренней необходимостью должен привести
к торжеству добра. Философ убежден, что само историческое раз-
42 E.H. Трубецкой. Цит. соч., с. 372.
43 B.C. Соловьев. Россия и вселенская церковь. Перевод с французского Г.А. Ра-
чинского. М., 1911, с. 343-
44 Там же, с. 345.
45 См.: B.C. Соловьев. Собр. соч. Т. III, с. 153-
60
Раздел I Владимир Соловьев
витие приведет к победе единства и любви над распадом и
враждою, поскольку этот распад — необходимый момент мирового
процесса, инициированного самим Богом, и падение мировой
души — неизбежный путь к воссоединению ее с Первосущим.
Теодицея Соловьева, как ни парадоксально, имеет общий вектор с
естественнонаучным эволюционизмом.
Один из источников утопизма B.C. Соловьева — его
невосприимчивость к идее греха, изначальной греховности человека;
именно потому, что взор философа прикован к мистической сфере,
к драматическим перипетиям жизни Софии как идеального
человечества, к ее падению и грядущему спасению, воссоединению
с Божеством, он оказывается недостаточно зрячим по отношению
к реалиям мира дольнего, к той «земной коре», сквозь которую он
созерцает божественную, — а иной раз и оккультную — тайну
мира. Как справедливо заметил К.В. Мочульский, «юноша Соловьев не
чувствовал реальной силы зла, его метафизической природы. Он
самоуверенно заявлял (письмо от 2 августа 1873 г.): „Я не признаю
существующего зла вечным, я не верю в черта". Весь
оптимистический утопизм Соловьева основан на этом „неверии в черта"»46.
В конце жизни, однако, Соловьев, глубоко разочаровавшись в
своих утопических надеждах и ожиданиях, пришел к новому,
эсхатологически-трагическому восприятию мира, выразившемуся в его
«Трех разговорах» и особенно «Повести об антихристе».
Историософия B.C. Соловьева.
Идея теократии
Историософия Соловьева — это попытка понять мировую
историю как «длинный ряд свободных актов» на пути к восстановлению
богочеловеческого единства, как диалог Софии и Логоса,
получающий выражение в духовно-религиозном, нравственном и
художественном развитии человечества. На первой ступени —
естественного, или непосредственного, откровения — человечество
постигает Бога как природное существо; таковы языческие
верования древнего мира и естественнонаучно-материалистические
учения Нового времени. На второй ступени Бог открывается людям
как противоположное природе начало, кактрансценденция,
Ничто; таково отрицательное откровение преимущественно восточ-
К.В. Мочульский. Гоголь, Соловьев, Достоевский. М., 1955, с. 82.
Глава 1 Философия всеединства
61
ных аскетически-пессимистических религий, наиболее
последовательно представленное в буддизме, стремящемся к преодолению
земного, деятельного, личного начала. Наконец, в ветхозаветной
религии, открывшей личного Бога, и эллинской философии с ее
учением о Логосе человечество получило положительное
откровение, подлинный смысл которого полностью раскрылся только
в христианстве в богочеловеческой личности Иисуса Христа.
Именно в Христе, как убежден Соловьев, явлен синтез религиозно-
созерцательного начала, свойственного религиям Востока, и
начала личного, человеческого, активно-деятельного, развившегося
в лоне западной культуры.
Однако раскол Восточной и Западной церквей ознаменовал
собой новую эпоху особности и распада, поразившего уже
христианский мир. В этом, по Соловьеву, сказалось несовершенство
«исторического христианства», к которому русский философ всегда
относился достаточно критически. Духовное единство вновь
распалось на две односторонности. На Востоке победил
исключительный монизм, господство надиндивидуального божественного
начала, не оставляющего места для самостоятельности и свободы
человека47. На Западе, напротив, получил гипертрофированное
развитие принцип индивидуализма, свободы в ее отрицательном
понимании, как освобождения от единства, что привело к
господству хаоса. Вслед за славянофилами Соловьев выносит суровый
приговор порокам западной капиталистической цивилизации.
Истина оказалась разорванной: восточный мир утверждает
«бесчеловечного Бога», а западный — «безбожного человека»48.
47 «Восток... сохранил истину Христову, но, храня ее в душе своих народов,
Восточная Церковь не осуществила ее во внешней действительности, не дала
ей реального выражения, не создала христианской культуры, как Запад создал
культуру антихристианскую» (B.C. Соловьев. Собр. соч. Т. III, с. 165).
48 B.C. Соловьев. Собр. соч. Т. I, с. 257. «Отдельный эгоистический интерес,
случайный факт, мелкая подробность — атомизм в жизни, атомизм в науке, атомизм в
искусстве — вот последнее слово западной цивилизации» (там же, с. 258). Как и
славянофилы, Соловьев видит один из главных истоков этой односторонности
Запада в господстве отвлеченного рационализма с его принципом автономии
разума, вызванным к жизни протестантизмом. «Эта самоуверенность и
самоутверждение человеческого разума в жизни и знании есть явление нормальное,
это есть гордость ума, и западное человечество в протестантстве и вышедшем из
него рационализме подпало второму искушению. Но ложность этого пути скоро
обнаружилась... В практической области разум оказался бессильным против
страстей и интересов, и возвещенное французской революцией царство разума
окончилось диким хаосом безумия и насилия...» (там же. Т. III, с. 163).
62
Раздел! Владимир Соловьев
Преодолеть этот роковой разрыв призван народ, свободный от
всякой исключительности и односторонности; а эти свойства,
по убеждению Соловьева, принадлежат племенному характеру
славянства и в особенности национальному характеру русского
народа49. Поэтому Россия имеет религиозно-мессианское
призвание объединить распавшиеся моменты и тем самым осуществить
последний акт мировой исторической драмы воссоединения Бога
с человечеством.
Историософская концепция сложилась у Соловьева еще в 70-е
годы. В 80-х она отливается в форму утопического учения о
будущей всемирной теократии. Нужно сказать, что еще в «Философских
началах цельного знания» (1877) В. Соловьев говорит о «свободной
теократии», которую отождествляет с «цельным обществом»,
противоположностью современного ему атомистически
разрозненного общества. В «свободной теократии», по Соловьеву, духовное
общество, т. е. церковь, в свободном внутреннем союзе с
политической и экономической сферами жизни образует «один цельный
организм»50.
Работа «История и будущность теократии» (1885-1887) имеет
характерный подзаголовок: «Исследование
всемирно-исторического пути к истинной жизни». Философ с самого начала ставит
перед собой задачу «оправдать веру наших отцов, возведя ее на
новую ступень разумного сознания; показать, как эта древняя вера,
освобожденная от оков местного обособления и народного
самолюбия, совпадает с вечною и вселенскою истиною...»51 Оговорка
о «народном самолюбии» — далеко не случайна: осуществление
вселенской истины в реальной жизни Соловьев считает
возможным только путем объединения восточной и западной
христианских церквей, восстановления «нарушенного единства между
нашею восточною (греко-российскою) и западною
(римско-католическою) Церквами»52. Соловьеву, в недавнем прошлом близкому
к славянофилам, прекрасно известна славянофильская критика
католической церкви. Он признает, что здесь славянофилы явля-
49 См.: там же. Т. I, с. 259. «Такой народ, — пишет Соловьев, — не должен иметь
никакой специальной ограниченной задачи, он не призван работать над
формами и элементами человеческого существования, а только сообщить живую
душу, дать средоточие и целость разорванному и омертвелому человечеству
чрез соединение его с всецелым божественным началом» (там же).
50 Там же. Т. III, с. 262.
51 Там же. Т. IV, с. 214.
52 Там же, с. 235.
Глава 1 Философия всеединства
63
ются выразителями сознания не только православной церкви,
но и вообще русского народа: «Католичество и всякое сближение
с ним противно нашему национальному чувству...»53 И тем не
менее философ убежден, что только на этом пути возможно
осуществление великой исторической миссии русского и — шире —
славянских народов. «Не для легких и простых дел создал Бог великую
и могучую Россию. И как ни трудно дело соединения церквей, это
не мешает ему стать нашею жизненною задачею и
всемирно-историческим призванием»54.
Романтический дух Соловьева сказался здесь не только в
грандиозности задачи, которую он ставит перед русским народом
и православной церковью: он сказался прежде всего в том, что
поставленная задача находится в прямом противоречии с реалиями
национальной жизни России. Это хорошо сознает и сам Соловьев,
но утопизм задуманного дела лишь окрыляет нашего философа-
романтика, дает ему вдохновение, энергию для осуществления
идеи вселенской теократии. «..Дело соединения церквей есть для
России подвиг величайшей трудности, требующий внутреннего
самоотвержения еще более глубокого, чем нужно было два века
назад для сближения России с мирскою цивилизацией Запада,
которая ведь так же и не без основания претила национальному
чувству наших предков»55. Подвиг самопреодоления,
самоотвержения — вот что особенно близко и самому Соловьеву: не случайно
жажда аскезы, подвижничества, не исключавшая, впрочем,
эротических устремлений, но претворявшая их в «мистический эрос»56,
отмечалась большинством его современников.
Прежде чем изложить принципы грядущей вселенской
теократии, Соловьев дает анализ развития теократической идеи в
истории еврейского народа; он рассматривает Ветхий Завет с точки
зрения зарождения и этапов становления национальной формы
теократии, предтечи теократии всемирной. Эта последняя должна
быть осуществлена христианскими народами, которые
объединятся под светской властью русского царя и духовной властью
римского первосвященника. Первым шагом здесь, как мы уже го-
53 Там же.
54 Там же, с. 236.
55 Там же.
56 Так, в статье «Смысл любви» апофеоз половой страсти сочетается у
Соловьева с крайним аскетизмом: «Любовь должна быть половой, но одновременно
бесплотной», — замечает в этой связи К.В. Мочульский (К.В. Мочульский.
Гоголь, Соловьев, Достоевский, с. 180).
64
Раздел I Владимир Соловьев
ворили, будет, по Соловьеву, воссоединение восточной и западной
церквей, содействовать которому философ считал важнейшей
исторической задачей. Идея теократии, владевшая философом до
середины 90-х годов, недаром была очень дорога ему: в сущности,
она представляет собой не что иное, как осуществление Царства
Божия на земле. В своей работе «Еврейство и христианский
вопрос» (1884) философ недвусмысленно выразил это свое заветное
чаяние. «Христиане также как иудеи (в пророках) стремятся не
только к обновлению человеческого духа, но и нового неба и
новой земли по обетованию Его чают, в них же правда живет.
Царство Божие есть не только внутреннее — в духе, но и внешнее — в
силе: оно есть настоящая теократия»*'1.
Первенство духовной власти по отношению к светской —
главный завет теократии. Соответственно и гражданское общество
должно преобразоваться в Царство Церкви, где осуществляется не
просто закон и справедливость (принцип государства), но царит
начало любви.
В теократическом учении Соловьева мы вновь видим
характерное для философа стирание границы между временным и вечным,
земным и небесным, — черта, пронизывающая миросозерцание
Соловьева в целом. И не удивительно, что от теократической
утопии Соловьев отказался только в последние годы, когда в «Трех
разговорах» у него на первый план вышла эсхатологическая тема.
Нравственная философия.
«Оправдание добра»
Теософия и историософия Соловьева органически связаны с его
этикой. Проблем этики философ касался во многих работах;
специально же нравственной философии посвящено исследование
«Оправдание добра» (1895). В этой работе Соловьев вновь
возвращается к проблемам собственно философским: в 80-е годы у него
на первом плане была практическая задача — осуществление
вселенской теократии, — полностью поглощавшая его.
Разочаровавшись в возможности осуществления этого утопического проекта,
Соловьев в «Оправдании добра» о нем даже не упоминает. В
обосновании этики Соловьев несколько изменяет свою прежнюю
точку зрения. Если в более ранних работах подчеркивалась зависи-
В.С. Соловьев. Собр. соч. Т. IV, с. 140.
Глава 1 Философия всеединства
65
мость этики от религиозной метафизики, то теперь философ
настаивает на автономности этики, поскольку, «создавая
нравственную философию, разум только развивает, на почве опыта,
изначала присущую ему идею добра»58. Тем не менее, даже будучи
автономной, философия нравственности не может быть
полностью отделена от метафизики и религии, поскольку лишь учение
о мировом богочеловеческом процессе и о конечной победе
божественного всеединства позволяет утвердить сам фундамент
нравственности — действительность сверхчеловеческого добра59.
Как раз отсутствие такого фундамента составляет, по Соловьеву,
слабость этики Канта, несмотря на большую заслугу Канта —
признание им самозаконности нравственности.
Соловьев критикует кантовскую этику за ее субъективизм. И в
самом деле, проблема онтологического обоснования нравственного
закона оказалась для Канта одной из самых трудных. Кант пытался
укрепить построенное им здание этики, выдвинув постулаты
практического разума — Бога, свободу воли и бессмертие души, которые,
по Канту, являются предметами разумной веры. Но при этом, как
замечает Соловьев, немецкий философ попал в порочный круг: Бог
и бессмертная душа у него выводятся из нравственности, а сама
нравственность оказывается обусловленной Богом и бессмертной душой.
В «Оправдании добра» Соловьев подвергает критике
распространенные в конце прошлого века концепции нравственности:
аморализм Ф. Ницше, нравственный субъективизм Л. Толстого и
авторитаризм в толковании нравственности. Наиболее резко выступает
Соловьев против попытки Ницше заменить христианскую
нравственность языческим культом силы и красоты. «Несчастный Ницше
в последних своих произведениях заострил свои взгляды в
яростную полемику против христианства, обнаруживая при этом такой
низменный уровень понимания, какой более напоминает фран-
58 Там же. Т. VII, с. 29.
59 «Сознательно и разумно делать добро я могу только тогда, когда верю в
добро, в его объективное самостоятельное значение в мире, т. е., другими словами,
верю в нравственный порядок, в Провидение, в Бога. Эта вера логически первее
всех положительных, религиозных воззрений и установлений, равно как и
метафизических учений, и она в этом смысле составляет то, что называется
естественною религией» (там же, с. 105).
Как видим, желание Соловьева отделить этику от метафизики и религии не
может быть осуществлено без противоречий и натяжек; на это не без
основания указывали современники Соловьева — Б. Чичерин (в статье «О началах
этики* // Вопросы философии (сборник статей Чичерина). М., 1904, с. 231 -232) и
Е.Н.Трубецкой (Миросозерцание Вл.С. Соловьева.Т. 2. М., 1995,с. 51-55).
66
Раздел! Владимир Соловьев
цузских вольнодумцев XVIII века, нежели современных немецких
ученых. Приписывая христианство исключительно низшему
социальному классу, он не видит даже того простого факта, что
евангелие с самого начала принималось не как проповедь сомнительного
возмущения, а как радостное известие о верном спасении, что вся
сила новой религии состояла и состоит в том, что она основана
„первенцем от мертвых", воскресшим и обеспечившим вечную
жизнь своим последователям, как они непоколебимо верили.
При чем же тут рабы и парии? Что значат социальные классы, когда
дело идет о смерти и воскресении? Разве „господа" не умирают?»60
Эта соловьевская критика и сегодня не утратила своей
актуальности, если учесть, что на протяжении XX века влияние Ницше
неуклонно возрастало и что он имеет сегодня приверженцев не
только среди противников христианства, но и среди многих, кто
считают себя христианами. Совершенно справедливо говорит
Соловьев, что христианство не отрицает ни силы, ни красоты, как это
утверждал Ницше. Но в христианстве сила и красота нераздельны
с добром — вот тут и кроется подлинный источник восстания
Ницше против Христа. Критикуя Ницше, Соловьев тем самым
выступает и против тех его приверженцев в России конца прошлого века,
которые, как, например, Д.С. Мережковский, соединяли
имморализм Ницше с так называемым христианством «Третьего Завета».
Не принимает B.C. Соловьев и нравственное учение Л.Н.
Толстого, выступавшего против исторически-объективных форм, в какие
отливается правовая и нравственная жизнь народов, — против
государства с его армией, судами и т. д. Эта «доктрина
бесформенности и безначалия», как ее называет Соловьев, защищает
нравственный субъективизм, утверждающий, что носителем правды и добра
может быть только единичный человек, личность. Такой
«моральный аморфизм», пишет Соловьев, «должен признать
бессмыслицею всю историю мира и человечества, которая целиком состоит
в созидании и усовершенствовании форм жизни»61.
Однако, по Соловьеву, не менее ошибочна и другая крайняя
точка зрения, которая подчеркивает только объективный характер
нравственности и видит опору для нее во внешнем авторитете
и социальных институтах. Защитники этой точки зрения не
признают вообще значения самосознания и самодеятельности
личности, полагая, что «исторические формы, в которых сложилась...
жизнь, сами по себе мудры и благи, и что человеку нужно только
B.C. Соловьев. Собр. соч. Т. VII, с. 10.
Там же, с. 15.
Глава 1 Философия всеединства
67
с благоговением преклониться перед ними...»62 Согласно
Соловьеву, и субъективный, и объективный моменты нравственности
совершенно необходимы, однако философ склонен все же
акцентировать значимость объективных форм нравственной жизни, что
вполне понятно, учитывая его убеждение в реальности всеобщего,
Богочеловечества как единого организма.
В «Оправдании добра» Соловьев дает глубокий анализ чувств,
или естественных корней нравственности — стыда, жалости
и благочестия, или благоговения. Человек стыдится того, что в нем
составляет низшую природу; особенно характерен в этом
отношении половой стыд. Жалость, сопереживание чужому страданию,
человек испытывает ко всем живым существам; побуждая к
альтруизму, жалость составляет корень социальных связей. Философ
характеризует стыд как индивидуальное, а жалость — как социальное
целомудрие. Наконец, чувство благоговения как преклонение
человека перед высшим началом есть нравственная основа религии.
Касаясь проблемы соотношения нравственности и права,
Соловьев видит их различие в неограниченности нравственных и
ограниченности правовых требований, а также в принудительном
характере правовых законов. Право — это низший предел или
определенный минимум нравственности, для реализации
которого употребляется принуждение. Право относится к объективной
сфере внешних поступков, тогда как нравственность — «не к
внешней реализации добра, а к его внутреннему существованию в
сердце человеческом»63. Однако при этом философ подчеркивает, что,
вопреки распространенному воззрению, особенно защищаемому
Л.Н. Толстым, между нравственным и юридическим законами нет
противоречия.
Хотя у Соловьева нет специальной работы, посвященной
эстетике, тема красоты пронизывает все его творчество. Сближая в
духе романтизма философскую интуицию с художественным
творчеством, он усматривает в последнем родство с мистическим
опытом и считает искусство <реальною силой, просветляющей
и перерождающей... мир»64. В статье «Общий смысл искусства»
философ видит задачу искусства «не в повторении, а в продолжении
того художественного дела, которое начато природой»65. Высшая
62 Там же, с. 14.
63 Там же, с. 383.
64 B.C. Соловьев. Три речи в память Достоевского (1881-1883) // B.C. Соловьев.
Собр. соч. Т. III, с. 173.
65 Там же. Т. VI, с 75.
68
Раздел! Владимир Соловьев
цель искусства — теургия, т. е. претворение физической
действительности в идеальную, преображенную телесность. Эстетика
Соловьева связана с его софиологией, с учением об эросе, которому
посвящен трактат «Смысл любви» (1892-1894). Эстетические
воззрения Соловьева нашли также выражение в его замечательных
литературно-критических статьях, посвященных поэзии
Пушкина, Тютчева, Лермонтова, Фета, Полонского.
Незадолго до смерти философ разочаровался в теократической
утопии и в целом в идее прогресса, хотя еще в «Оправдании добра»
писал, что «мера добра в человечестве вообще возрастает»66.
В «Трех разговорах» на первый план у него выходит
эсхатологическая тема: наступление Царства Божия теперь мыслится как конец
истории.
Там же. Т. VII, с. 173-
Глава 2
Соловьев и Шеллинг
Как уже говорилось, немецкий идеализм, особенно учения
Шеллинга и Гегеля, оказал сильное влияние на B.C. Соловьева.
Ключевую роль в формировании Соловьева как мыслителя
сыграла, несомненно, философия Шеллинга, особенно его учение
последнего периода — так называемая положительная философия.
В своем программном сочинении «Критика отвлеченных начал»
Соловьев во многом воспроизводит аргументы позднего
Шеллинга против так называемой «отрицательной философии», вершину
которой он видел в системе Гегеля. Не отвергая значение
отрицательной, т. е. чисто рационалистической, философии, Шеллинг
в то же время указывает на ее ограниченность и на необходимость
восполнить ее «положительной философией», опирающейся на
религиозное откровение как особого рода опыт. Эту задачу
Шеллинг осуществил в «Философии мифологии» и «Философии
откровения», работах, оказавших на Вл. Соловьева исключительно
сильное влияние1. Стремясь создать свободную теософию, или
цельное знание, Соловьев опирается на положительную
философию Шеллинга. «...Теология в гармоническом соединении с
философией и наукой образует свободную теософию, или цельное
знание»2.
Как верно отмечал А. Кожев (и не он один), «образцом для него (Соловьева. —
ПГ.) служит почти исключительно Шеллинг, к которому восходят почти все
метафизические идеи Соловьева. Но примечателен тот факт, что было бы
напрасным трудом искать это имя в сочинениях Соловьева: он упоминает его
мимоходом лишь в своей книге, посвященной истории философии» (А. Кожев.
Религиозная метафизика Владимира Соловьева // Цит по: «Вопросы
философии», 2000, № 3. — Пер. с французского А.П. Козырева). О близости учений
Шеллинга и B.C. Соловьева см.: М. Frensch. Weisheit in Person. Zur
religionsphilosophischen Begründung der Sophiologie. Schaffhausen, 1998, S. 290 ff.
2 B.C. Соловьев. Собр. соч. T. I, с. 261.
70
Раздел! Владимир Соловьев
Целым рядом принципов своего учения Соловьев обязан
главным образом Шеллингу. Так, именно от Шеллинга воспринял
Соловьев, во-первых, центральное в его учении понятие
всеединства. Во-вторых, к Шеллингу восходит убеждение Соловьева в том,
что воля есть определяющее начало бытия (убеждение,
впоследствии еще более укрепившееся благодаря изучению Шопенгауэра).
В-третьих, не без влияния Шеллинга (хотя, конечно, не его
одного) сформировалась космогоническая концепция Соловьева, в
основе которой лежит учение об отпадении от Бога его «Другого» —
«Первообраза». И, наконец, к Шеллингу восходит представление
Соловьева о страдающем и развивающемся Боге, представление,
определившее характер историзма и Шеллинга, и Соловьева.
Рассмотрим каждый из этих моментов и попытаемся — насколько
возможно — раскрыть их связь между собой и показать
гностические корни по крайней мере некоторых из них.
Понятие всеединства
В Мюнхенских лекциях 1827-1828 гг. «Система мировых эпох»
Шеллинг пытается пояснить понятие всеединства, с самого начала
игравшее у него важную роль, но постоянно корректировавшееся
им под влиянием тех обвинений в пантеизме, которые выдвигались
против Шеллинга его критиками, начиная с Фихте и кончая
Ф.Г. Якоби. «Мысль о всеединстве, — говорит Шеллинг, — это вечная
мысль, состоящая в том, что все существующее черпает бытие из
Бога и тем самым представляет собой протяженную субстанцию,
существующую через Бога и в Боге, — это основная мысль всякой
истинной религии»3. Задолго до Мюнхенских лекций, в работе
«Философия и религия» (1804) Шеллинг подразумевал под
всеединством весь абсолютный мир со всеми ступенями существ, вселенную
в ее полном и совершенном единстве. Еще раньше, в философии
тождества единство вселенной предстало у Шеллинга как
совершенное и непрерывное единство духа и природы, как
божественное художественное произведение. В диалоге «Бруно» (1802)
Шеллинг подчеркивает, что Бога не следует мыслить как
трансцендентного миру Творца: Бог — это имманентный миру художник,
формирующий материю изнутри. «Высшее могущество... или
высший Бог — это тот, вне которого нет природы, так же как и истин-
Ф. Шеллинг. Система мировых эпох. Томск, 1999, с. 281.
Глава 2 Соловьев и Шеллинг
71
ная природа — это та, вне которой нет Бога»4. Шеллинг сам
указывает на истоки своего учения о всеединстве: это пантеизм Спинозы
и его предшественника Бруно. А в основе учения Бруно лежит
понятие Бога как всеединства, восходящее к Николаю Кузанскому
с его принципом совпадения противоположностей — единого
и беспредельного, минимума и максимума в Божестве. И хотя
творчество Николая Кузанского Шеллингу и его современникам еще не
было известно (наследие Кузанца было открыто позднее), однако
благодаря Бруно тезис о всеединстве как единстве
противоположностей стал руководящим принципом теософии Шеллинга.
С критикой пантеистического характера философии тождества
Шеллинга выступили Ф. Якоби и Фр. Баадер. В своих «Лекциях о
религиозной философии в ее противоположности иррелигиозной
философии древности и Нового времени», прочитанных в
Мюнхенском университете зимой 1826-1827 гг., Баадер говорит об
учении Шеллинга: «В этой философии мы видим апофеоз
материального универсума, который она считает единственным,
нормальным, вечным и абсолютным, или совершенным проявлением
Бога для человека; жизнь в мире (жизнь животных) эта философия
принимает за вечную жизнь, а лишенный святости дух мира
(Spiritus mundi immundi) — за Святой Дух. Но тем самым она отрицает
Дух (третью Ипостась Бога) точно так же, как отрицала и Сына,
и Отца...»5 В полемике с Якоби и Баадером Шеллинг защищает свое
учение о всеединстве, вводя для этого различение трех понятий:
теизма, пантеизма и монотеизма.
Отвергая теизм Якоби, корректируя пантеизм Спинозы, Шеллинг
характеризует свою точку зрения как монотеизм. Монотеизм
Шеллинга, однако, имеет свои особенности. Не приемля политеизм как
представление о множественности богов, немецкий философ при
этом характеризует монотеизм как учение о множественности
Бога. Единственность Бога, говорит Шеллинг, действительно
утверждается монотеизмом, «но только в отношении к самой
божественной сущности; при отвлечении же от Его сущности Он является
уже не единственным, но множественным. Этот вывод не
противоречив. Ошибка общераспространенной трактовки монотеизма
состоит в том, что принято думать, будто то, что утверждается этим
понятием, есть единство, тогда как на самом деле это множествен-
4 F.W.J. von Schelling. Bruno, ein Gespräch // Sammtliche Werke. Bd. IV, Erste Abt.
Stuttgart und Augsburg, 1859,S. 307.
5 F. von Baader. Sa mtliche Werke, hg. von Frank Hoffmann u.a. Bd. 1. Leipzig, 1851,
72
Раздел! Владимир Соловьев
ность, и лишь посредством этой множественности впервые
утверждается единство. Лишь так это учение обретает смысл»6. Как
видим, именно как единство, достигнутое через множественность,
т. е. как единство противоположностей, Бог, согласно Шеллингу,
есть всеединство. Не принимая теизм как учение о едином
трансцендентном Боге, не постижимом средствами конечного
человеческого разума и потому составляющем предмет апофатической
теологии, Шеллинг возвращает своим критикам адресованное ему
обвинение в нехристианском подходе к пониманию Бога. «Только
монотеизм есть христианство, все же остальное с ним
несоизмеримо... Отвратительно, когда те, чья философия сводится к одному
теизму (имеется в виду, очевидно, прежде всего Якоби. — Я/!),
напускают на себя вид христианской мысли... Бог, который не может
противополагать Себя, не может быть творцом, — чем может быть
этот абсолютно неподвижный Бог? Только чистым единством,
и это понятие переходит в понятие того, что равно всему и ни от
чего не отличается, к понятию всеобщей сущности; этот плоский
теизм переходит в плоский пантеизм, но не в пантеизм Спинозы,
ибо это мощный пантеизм, а в пантеизм абсолютно немощный,
в котором всякое действие Бога предстает как непостижимое»7.
Пантеизм Спинозы, как видим, неизмеримо ближе Шеллингу,
чем теизм Якоби; он защищает Спинозу — и вместе с ним свое
учение — от критики Якоби: ведь со Спинозой Шеллинга роднит
именно учение о Боге как всеединстве. «Спинозизм есть не что иное, как
субстанциализированное, разорванное учение о всеединстве, что
принято обозначать словом „материализм". Спиноза столь же мало
был элеатом, как и схоластиком. Его тгсш8 — это не ev9, но Все —
Одно (Alleins)... Тем не менее мы узнаем здесь руины истинного учения
о всеединстве, оно ложно лишь постольку, поскольку разорвано...»10
Отличие своего учения о всеединстве — монотеизма — от
пантеизма Спинозы Шеллинг видит в том, что монотеизм — это «не
субстанциальный пантеизм, а пантеизм более высокий,
сверхсубстанциальный»11. Корректируя философию Спинозы, Шеллинг тем
самым вносит корректив и в свою философию тождества, относя
ее вместе с другими рационалистическими системами к тому типу
6 Ф. Шеллинг. Цит. соч., с. 273-274.
7 Там же, с. 277.
8 всё (грен.).
9 единое (греч.).
10 Ф. Шеллинг. Цит. соч., с. 281.
11 Там же.
Глава 2 Соловьев и Шеллинг
73
философии, который он теперь именует негативным,
противопоставляя ему так называемую позитивную философию, которая не
может быть чисто рациональной конструкцией, как учения
Декарта, Спинозы, Фихте, Гегеля и самого Шеллинга в ранний период,
но должна опираться на особого рода опыт. Свою систему
тождества Шеллинг без ложной скромности объявляет высшей точкой
развития «негативной» философии, точкой, в которой оказались
объединенными учение Спинозы о субстанции и учение Фихте
о субъекте, в результате чего ему, Шеллингу, удалось преодолеть как
односторонний натурализм первого, так и односторонний
субъективизм второго. По словам Шеллинга, философия тождества «была
завершенная и замкнутая в себе наука разума, поскольку разум
осознавал себя в качестве всего бытия... Разум познал себя в качестве
субстанциальной сущности... Через это философский
рационализм пришел к завершению... Достигнув своего предела, он должен
был узнать и свою границу. Рационализм по своей природе был
чисто имманентной философией, он познавал лишь имманентную
субстанцию. Но понятие Бога — не субстанция. Бог
сверхсуществен, сверхсубстанциален»12.
Прежде чем перейти к вопросу о сверхсубстанциальности Бога,
посмотрим, как преломилось Шеллингово учение о всеединстве
в творчестве B.C. Соловьева. Как и у Шеллинга, это понятие
оказывается у него ключевым. Считая единство важнейшим
определением бытия, Соловьев пишет.- «...Абсолютная единичность (имеется
в виду именно единство, единость. — ПГ.) есть первое
положительное определение абсолютного первоначала»13. Опять-таки вслед
за Шеллингом русский философ понимает истинное единство как
единое во множестве. «Абсолютное первоначало есть не только
ёИ4, оно ecTbëi> kcù ttcu>»15. Поскольку Бог, таким образом, есть
«единое и всё», Соловьев характеризует свое учение как философию
всеединства. «Великая мысль, лежащая в конце всякой истины,
состоит в признании, что в сущности все, что есть, есть единое»16.
В «Философских началах цельного знания» Соловьев почти
буквально воспроизводит аргументацию Шеллинга в пользу этого
тезиса: «Если оно (Сущее. — ПТ.) есть ничто, то бытие для него есть
другое, и если вместе с тем оно есть начало бытия... то оно есть на-
12 Там же, с. 107.
13 B.C. Соловьев. Собр. соч. Т. I, с. 309.
14 единое (греч.).
15 Там же. Единое и всё (греч.).
16 Там же, с. 308.
74
Раздел! Владимир Соловьев
чало своего другого. Если бы абсолютное оставалось только самим
собою, исключая свое другое, то это другое было бы его
отрицанием и, следовательно, оно само не было бы уже абсолютным.
Другими словами, если бы оно утверждало себя только как абсолютное,
то именно поэтому и не могло бы им быть, ибо тогда его другое,
неабсолютное, было бы вне его как его отрицание или граница,
следовательно, оно было бы ограниченным, исключительным
и несвободным. Таким образом, для того чтобы быть чем оно есть,
оно должно быть противоположным себя самого или единством
себя и своего противоположного»17. Как видим, и у Соловьева
понимание Абсолюта как единства противоположностей составляет
фундамент учения о всеединстве. В Абсолюте от века
присутствуют два полюса, два центра: первый — начало свободы от всяких
форм, от зсякого проявления, а значит — от бытия; и второй —
начало бытия, или производящая бытие сила, т. е. множественность
форм. Первый полюс — Единое, второй — непосредственная
потенция бытия, или первая материя.
Как у Шеллинга, так и у Соловьева понятие всеединства как
единства противоположностей — в конечном счете Бога и мира —
несет на себе печать пантеизма. С точки зрения христианского
теизма бытие мира есть нечто, существующее вне сущности Бога,
а поэтому Бог не есть всеединство. Смысл и содержание понятия
всеединства станет для нас яснее, когда мы рассмотрим те
вопросы, которые поставили выше. Начнем с той проблемы, на которой
мы остановились при изложении теософии Шеллинга, — о
сверхсубстанциальности Бога.
Сверхсубстанциальность Бога.
«Бытие есть не что иное, как воля»
Уже в своих ранних работах вслед за Кантом и особенно Фихте
Шеллинг противопоставлял трансцендентальную философию
догматической: в отличие от догматической, в
трансцендентальной философии исходным пунктом и основным предметом
рассмотрения становится не объект, а субъект, не бытие, а знание,
не субстанция, а свобода. «Поскольку для трансцендентального
философа лишь субъективное обладает изначальной
реальностью, он делает своим непосредственным объектом только субъ-
В. Соловьев. Собр. соч. Т. I, с. 320-321.
Гкава2 Соловьев и Шеллинг 75
ентивное в знании; объективное станет для него объектом лишь
косвенным образом, и если в обыденном знании само знание (акт
знания) исчезает, будучи заслонено объектом, то в
трансцендентальном знании происходит обратное — объект как таковой
исчезает, будучи заслонен актом знания. Следовательно,
трансцендентальное знание есть знание о знании в той мере, в какой оно чисто
субъективно»18. Шеллинг обосновывает и углубляет тот поворот
от метафизики бытия к метафизике свободы, который был
совершен Кантом, но не был проведен им последовательно, а затем
получил более последовательное развитие в наукоучении Фихте.
Поскольку в трансцендентальном идеализме налицо примат
практического разума над теоретическим, то именно свобода
становится последней истиной знания. И Шеллинг вполне справедливо
подчеркивает, что «начало и конец этой (трансцендентальной. — ПГ.)
философии есть свобода, нечто абсолютно недоказуемое, несущее
свою доказательность лишь в самом себе... Бытие в этом смысле —
лишь снятая свобода. В системе же, где первичным и высшим
является бытие, не только знание должно быть копией изначального
бытия, но и всякая свобода — лишь необходимой иллюзией...»19
Если субстанция — это одно из обозначений бытия, то свобода
в силу ее «абсолютной недоказуемости» есть
сверхсубстанциальное начало. Сущность его Шеллинг характеризует как волю —
хотение, стремление, влечение. Именно воля составляет подлинную
основу всего сущего. В «Философских исследованиях о сущности
человеческой свободы» Шеллинг пишет: «По себе бытие есть лишь
вечное, покоящееся на самом себе, воля, свобода»20. Шеллинг (а за
ним — Шопенгауэр) оказывается продолжателем той традиции
волюнтативной метафизики, которая достаточно громко заявила
о себе еще в XIII в. у Дунса Скота, а затем — в XIV в. у номиналистов:
Оккама, Николая из Отрекура и др. «Ничто, кроме воли, не
является причиной всего того, что хочет воля»21, — писал Дуне Скот,
подчеркивая, что именно божественная воля есть верховная причина
всякого бытия и не может иметь над собой никакого закона, кроме
закона противоречия. Здесь не место рассматривать понимание
воли номиналистами; но если мы учтем, что оккамизм оказал
сильное влияние на Лютера, то будет понятнее, каким образом через
18 Ф. Шеллинг. Система трансцендентального идеализма // Соч. в 2-х томах. Т. 1.
М, 1987, с. 237.
19 Там же, с. 264.
20 Там же. Т. 2., 1989, с. 98.
21 Opus Oxoniense, II, d. 25, q. unica, n. 22.
76 Раздел I Владимир Соловьев
протестантизм волюнтативная теология сыграла важную роль
в становлении новоевропейской мысли и оказала воздействие/на
формирование метафизики свободы22. j
Вернемся к Шеллингу. Настаивая на сверхсубстанциальности
Бога, немецкий философ пишет: «Всеединство покоится на решении
и воле, это нечто вечное, perpetuo actu вновь-положенное, никогда
не прекращающаяся жизнь Бога; она покоится на совершенно
духовном движении, где Отец есть начало, Сын — вечно посредую-
щее, а Дух — вечное завершение»23. Воля как иррациональное
хотение есть, согласно Шеллингу, непостижимый первичный факт,
а потому не может быть предметом философии, понятой как
априорная наука разума, как рациональное — в духе Декарта, Спинозы,
Гегеля — выведение всего сущего из самодостоверного исходного
принципа. Как мы уже знаем, поздний Шеллинг хочет создать
позитивную философию, которая исходит из опыта, из первичного
факта — иррациональной воли с ее полной свободой и
непредсказуемостью. «В последней, высшей инстанции нет иного бытия,
кроме воления. Воление есть прабытие, и только к волению прило-
жимы все предикаты этого бытия: безосновность, вечность,
независимость от времени, самоутверждение»24. Не Шопенгауэру,
а именно Шеллингу принадлежит приоритет в создании
метафизики воли. Утверждая, что познание уже предполагает бытие,
Шеллинг проводит мысль, что бытие, о котором тут идет речь, есть не
что иное, как воля. «Это предполагаемое до познания бытие не есть,
однако, бытие, хотя оно не есть и познание; оно есть реальное са-
мополагание, исконное и основное воление, которое само делает
себя чем-то и есть основа и базис всякой существенности»25.
В свете учения о воле как основе всякого бытия и надо понимать
тезис о сверхсубстанциальности Бога. Как же раскрывает
философ этот тезис? Прежде всего он подчеркивает личный характер
Бога как живого, свободного существа и различает в Нем три
потенции: непосредственную возможность бытия, или
бессознательную волю (Отца); возможность бытия, становящуюся бытием,
или сознающую себя волю (Сына); и, наконец, витающую между
О становлении «метафизики свободы» см. интересное исследование:
Т. Kobusch. Die Entdeckung der Person. Metaphysik der Freiheit und modernes
Menschenbild. Freiburg-Basel-Wien, 1993.
23 Ф. Шеллинг. Система мировых эпох, с. 283-
Ф. Шеллинг. Философские исследования о сущности человеческой свободы
// Соч. в 2-х томах. Т. 2, с. 101.
25 Там же, с 131.
fyaea2 Соловьев и Шеллинг 77
первой и второй потенциями третью — Святого Духа. При этом
особенно важным для Шеллинга является воспринятое им у
мистиков, прежде всего у Якоба Беме, различение в Боге самого Бога
и того, что в Нем не есть Он сам, — его неопределенной основы,
которую Шеллинг вслед за Бёме называет «праосновой» (Urgrund),
«бездной», или «безосновностью» (Ungrund), и которая есть
бессознательная воля, темное, неразумное стремление, изначальное
вожделение как «непостижимая основа реальности вещей»26.
Во^юнтативная метафизика Шеллинга, также как и его учение
о бессознательной, темной «природе» в Боге, которая не есть сам
Бог, оказали определяющее влияние на B.C. Соловьева. Он тоже
видит в воле первое определение сущего. «...Первое отношение
сущего к сущности или первое определение бытия мы имеем как волю.
Но полагая своею волей сущность как свое и другое, сущее
различает ее не только от себя как такого, но и от своей воли. Чтобы
сущий мог хотеть этого другого, оно должно быть известным
образом уже дано ему... то есть представляться им или ему. Таким
образом, сущность определяет бытие сущего не только как волю,
но и как представление. Это представление есть его
самопредставление, так как и представляемая сущность есть его собственная
сущность... Сущность не может быть предметом воли сущего, не
будучи им представляема»27. В «Чтениях о Богочеловечестве»
Соловьев развертывает свой тезис о первичности воли, различая в Боге
три Ипостаси, или трех субъектов бытия, имеющих единую
сущность. Первый из них — субъект воли по преимуществу, второй —
субъект представления, а третий — субъект чувства. «Первый
субъект представляет и чувствует лишь поскольку хочет... Во втором,
имеющем уже первого пред собою, преобладает объективный
элемент представления, определяющая причина которого есть
первый субъект: воля и чувство подчинены здесь представлению...
Наконец, в третьем субъекте, имеющем уже за собою и
непосредственно-творческое бытие первого и идеальное бытие второго,
особенное или самостоятельное значение может принадлежать
только реальному или чувственному бытию,- он представляет и
хочет лишь поскольку ощущает. Первый субъект есть чистый дух,
второй есть ум (Noix:), третий... может быть... назван душою*28.
Вслед за Шеллингом Соловьев подчеркивает множественность
Бога. Бог мыслится им как универсальный организм, состоящий из
Там же, с. 109.
B.C. Соловьев. Собр. соч. Т. I, с. 331 -332.
Там же. Т. III, с. 100.
78 Раздел! Владимир Соловьев
множества элементов. Доказывая тезис о множественности Бор,
Соловьев полностью воспроизводит аргументацию Шеллинга:
если не признать в Боге всю полноту действительности, а значит
и множественность, то, по словам Соловьева, «положительное
значение переходит к множественности и действительности этого
мира. Тогда за Божеством остается только отрицательное
значение и оно мало-помалу отвергается»29. Именно таким образом
критиковал Шеллинг теизм Якоби, и его последователь Соловьев тоже
убежден, что теистическое понимание Бога как трансцендентного
миру Единого, отвергающее множественность в Божестве, ведет
либо к натуралистическому пантеизму, сливающему Бога с
имманентным миром, либо к атеизму, полностью отвергающему Бога.
По Соловьеву, существуют три разряда живых индивидуальных
сил, образующих три сферы божественного мира: чистые духи,
в которых преобладает воля, чистые умы — с преобладанием
представления и, наконец, чистые души, в которых главенствует
начало чувственное, или эстетическое. Сферы этих бесчисленных
духов, умов и душ находятся между собой в неразрывной связи любви
и составляют единство Божественного мира.
Между Божественным и нашим чувственным миром, утверждает
Соловьев, нет никакой непроходимой пропасти, — тезис,
играющий принципиальную роль в теософии русского мыслителя,
с самого начала определяющий ее характер и содержащий в себе
гностическую составляющую соловьевского учения. Человек,
по Соловьеву, принадлежит к обоим мирам — и Божественному,
и чувственному. А потому ему открыты оба эти мира. «..Актом
умственного созерцания [он] может и должен касаться мира
божественного... В особенности же это положительное, хотя и неполное
познание или проникновение в действительность божественного
мира свойственно поэтическому творчеству»30. Вот еще один
момент, сближающий Соловьева с Шеллингом и романтиками:
поэтическое творчество всеми ими рассматривается как путь
проникновения в тайны божественного бытия; не случайно же Шеллинг
раскрывает эти тайны в своей «Философии мифологии» —
грандиозной попытке описания теокосмической катастрофы,
внутренней драмы Божественного бытия с помощью исторической
реконструкции мифологического сознания начиная с древнейших
времен. Шеллинг не без основания считает мифологию
наивысшим продуктом поэтического творчества, но именно в нем-то,
Там же, с. 107.
Там же, с. 109.
[лава 2 Соловьев и Шеллинг 79
этом продукте, видит историю самооткровения Божества. Оба
мыслителя — и Шеллинг, и Соловьев — ставят своей главной целью
«исследование глубины Абсолютного». Об этом Шеллинг пишет
в скоей работе «Дальнейшее изложение системы философии»: «Я
заяаляю, что конечною целью всех моих научных трудов был...
переход от раздробленности частных знаний к полноте знания... Ибо
я хотел познать истину во всех частных направлениях, чтобы
свободно и беспрепятственно исследовать глубину абсолютного»31.
Под этими словами мог бы подписаться и Владимир Соловьев.
)
Теокосмическая катастрофа:
отпадение от Бога Его «Другого»
Один из центральных вопросов теософии Шеллинга —
происхождение чувственного мира, материи из Абсолюта. Шеллинг не
согласен с дуалистическим решением этого вопроса, допускающим
наряду с Богом существование самостоятельного начала — материи.
Не принимает он и учения о зависимости материи от Бога, т. е.
христианского догмата о творении мира из ничего, поскольку, как он
полагает, отсюда с необходимостью вытекает признание Бога
виновником зла и несовершенства в материальном мире. Отвергает
Шеллинг и неоплатоническую теорию эманации, согласно
которой между трансцендентным Единым и чувственным миром
существует непрерывный переход через ряд промежуточных ступеней,
степень бытийной полноты и совершенства которых убывает по
мере удаления от Первоисточника. С этой точки зрения, материя,
самая низшая ступень, не есть что-то положительное, а просто
недостаток бытия, подобно тому как тьма все больше сгущается по
мере удаления от источника света. В рамках этой концепции зло есть
не самостоятельная реальность, а лишь недостаток блага. Отвергая
все эти объяснения, Шеллинг предлагает свой вариант
происхождения материи и свое понимание природы зла. В сочинении
«Философия и религия» (1804) читаем: «От Абсолютного к
действительному нет никакого непрерывного перехода, происхождение
чувственного мира мыслимо только как полный разрыв с
Абсолютным (Abbrechen von der Absolutheit), путем скачка... Абсолют есть
единственно реальное, конечные вещи, напротив, не реальны; их
31 F. Schelling. Fernere Darstellungen aus dem System der Philosophie // Sämmtliche
Werke. Bd. IV. Erste Abt., S. 400-401.
80 Раздел! ВладимирСоловьев
основание не может поэтому заключаться в сообщении
Абсолютом реальности им или их субстрату, такое основание может
заключаться лишь ^удалении, отпадении от Абсолюта»*2. \
Почему же стала возможной такая катастрофа, такой раскол
в/божественном бытии? Как мы помним, Бог, с точки зрения Шеллинга,
есть единство противоположностей — Единого и его инобытия, его
отражения-противообраза (Gegenbild) — как бы зеркала, в котором
Он видит самого Себя. Здесь Шеллинг воспроизводит учение Якоба
Бёме о вечной Божественной Премудрости — Софии, которую Бёме
называл Szientz (от scientia — знание) и в которой видел Мат£ всего
сотворенного, всех существ, которые она рождает и творит. Сменно
Бёме называл Софию зеркалом, отражением Бога, отождествляя ее
со Святым Духом — женственным началом в Боге, именуемым им
Духом-Матерью. Софиологию Бёме, имеющую своим источником
не только и не столько Ветхозаветный образ Премудрости Божией,
сколько гностические и каббалистические учения о Софии,
воспринял и развил французский теософ Луи-Клод де Сен-Мартен, чьи
сочинения тоже были известны Шеллингу; их высоко ценил также
и Вл. Соловьев. У Сен-Мартена читаем: «Богу довольно созерцать
себя в зеркале вечной Девы, или Софии, в котором он мысленно
начертал образец всех живых существ на веки веков»33. Согласно Сен-
Мартену, София — это природная материнская почва, питающее
чрево земли, которое он называет «духовным материнским
чревом»34. Как замечает Т. Шипфлингер, посвятивший специальное
исследование софиологической теме, «Луи-Клод дс Сен-Мартен, как
и Бёме, видит человека и весь космос в их особом отношении к
Софии, т. е. как жениха (человека) Софии, а Софию — как невесту
(жену) человека и всего космоса. Для описания этого брачного
отношения космоса и Софии... он находит захватывающие слова»35.
К этой мистической традиции принадлежит и Шеллингово
учение о созерцании Богом самого себя в своем «Другом» — зеркале-
отражении. Это отражение само тоже божественно, а потому
обладает самостоятельностью и свободой (свобода, как мы знаем,
у Шеллинга — первейшая характеристика божественного начала).
«Исключительное своеобразие абсолютности состоит в том, что
она сообщает своему отражению вместе со своей сущностью
также и самостоятельность. Это в-себе-бытие, эта подлинная и истин-
32 Ibid. Bd. VI, Erste Abt. Stuttgart und Augsburg, I860, S. 38.
33 L-C de Saint-Martin. Sophia et l'Ame du Monde. Paris, 1983,237,9.
34 Ibid., 240,19.
35 Т. Шипфлингер. София-Мария. Целостный образ творения. M., б.г., с. 192.
Rnaea2 Соловьев и Шеллинг 81
ная реальность первого созерцаемого есть свобода, и из этой
первой самостоятельности отражения происходит то, что в мире
явлений опять выступает как свобода, которая есть последний след
и как бы зеркало Божества, заглянувшего в отпадший мир»36. Таким
образом, именно в силу своей божественной свободы первое
созерцаемое, зеркало, или «Другое Абсолютного», смогло отпасть от
Бога, вследствие чего и возник чувственный мир как бытие вне
Бога. А мотивом для такого отпадения послужило своеволие
отражения, желание обособления от высшего начала и утверждения
своей самости в этой обособленности, т. е. стремление утвердиться
в отрыве от Единого, без Него. Именно принцип особности,
обособления (индивидуации, как сказал бы Шопенгауэр) составляет,
по Шеллингу, природу конечного бытия, высшей потенцией
которого является человеческое Я — самость, которая должна быть
преодолена в будущем совершенном всеединстве.
Шеллинг убежден, что только его объяснение происхождения
материального мира позволяет освободить Бога от обвинений
в том, что либо Он сам является источником зла в мире, либо
попускает зло и таким образом ответственен за него. В
действительности космогония Шеллинга в сущности воспроизводит
гностический миф о падении одного из божественных эонов —
Софии-Ахамот, мировой души, из божественной полноты —
плеромы, вследствие чего и возник чувственный мир с его
несовершенством, царящими в нем злом и страданием. Вот один из
многочисленных вариантов этого гностического мифа, сообщенный
христианским писателем II века Иринеем Лионским:
«Помышление горней Премудрости, которое называют также Ахамот,
отделившись вместе со страстию от Плиромы, говорят, по
необходимости сильнее воскипело в местах тьмы и пустоты: ибо оно стало
вне света и Плиромы и, подобно выкидышу, не имело образа и
вида, потому что ничего не получило... Оставшись вне одно,
(Помышление) подпало всякого рода страданию, — ибо оно
многоразлично и разнообразно, — и во-первых страдало печалию о том, что
не достигло желаемого, а также страхом, чтобы не покинула его
и жизнь, как покинул свет... Таковы, говорят, были происхождение
и сущность вещества, из которого составился этот мир...»37
Идеи гностицизма Шеллинг мог воспринять через немецких
мистиков, прежде всего через Якоба Бёме, чье учение он высоко ценил
и нередко упоминал в своих работах. В «Философских исследова-
F. Schelling. Sämmtliche Werke. Bd. VI, S. 39-
Св. Ириней Лионский. Творения, с. 29-30.
82 Раздел I Владимир Соловьев
ниях о сущности человеческой свободы», где влияние Бёме
особенно ощутимо, Шеллинг развивает некоторые моменты своего учения
об отпадении от Бога его «Другого». Здесь Шеллинг в духе Бёме
различает в Боге самого Бога и то, что нем не есть Он сам, — Его основу,
или «темную природу», о которой мы уже упоминали выше. Обычно
теологи, также как и философы, замечает Шеллинг, считают, что Бог
имеет свое основание в самом себе, но никому из них не приходило
в голову, что это основание в Боге не есть сам Бог. Эта «природа» в
Боге темна, т. е. бессознательна, она есть стремление или вожделение,
бессознательная воля, скрывающая в себе все силы в связанной
форме. Эту темную волю, вступающую в противодействие
универсальной воле божественного всеединства, Шеллинг называет «частной
волей или своеволием твари»38. В силу своеволия основы,
стремления ее к обособлению, к самоутверждению, стремления в качестве
частной воли быть тем, что она есть лишь в единстве с Богом, как раз
и происходит ее отпадение от универсальной воли всеединства,
благодаря чему и порождается материальный мир, мир страстей
и чувственных желаний, эгоизма, хаоса, зла и смерти, в котором
человек противопоставляет себя Богу. Таким образом, «темная
природа» в Боге есть источник зла в мире и в человеке; именно она
является источником человеческого своеволия, самовозвеличения,
гордыни, т. е. утверждения самости вне Бога и против Бога.
Такое философское развитие получает у Шеллинга гностический
миф о происхождении материального мира: поэтому и самый этот
мир воспринимается немецким философом в духе гностицизма как
юдоль скорби, зла и страдания. Этот же гностический миф лежит
в основе теокосмогонии В. Соловьева. Различая, как и Шеллинг, в
Абсолюте два центра, или полюса, взаимно обусловливающие друг
друга, — единое, т. е. положительное ничто (эн соф), и потенцию бытия,
или первоматерию, Соловьев, таким образом, подобно Шеллингу,
видит в Боге единство противоположностей. Первая материя
определяется и Соловьевым как влечение, стремление, хотение — сила,
или мощь бытия, женственное начало в Боге. Как мы помним, эта
первая материя, София, или душа мира, отпадает от Бога, тем самым
полагая начало миру множественности, разъединения и разлада.
Мир, как видим, возникает не в результате свободного
божественного акта, акта творения, а в силу необходимости, т. е. из самой
божественной природы, раздвоенной в себе и подверженной
катастрофическим разделениям. Поэтому у Соловьева, как и у Шел-
F. Schelling. Sämmtliche Werke. Bd. VII. Stuttgart und Augsburg, 1860, S. 29-30.
ва2 Соловьев и Шеллинг 83
лйнга, и отношение между миром и Богом — это не отношение
творения и Творца, а отношение явления и сущности: проблема
трансцендентности Бога оказывается при этом устраненной,
хотя, как мы уже выше отмечали, Соловьев в более поздних работах —
например, в книге «Россия и вселенская церковь» и пытается
сгладить свои расхождения с христианским учением о творении.
«Противоречия соловьевской космогонии, — пишет в этой
связи E.H. Трубецкой, — вообще обусловливаются невозможностью
объединить в органическом синтезе христианское воззрение на
мир с шеллингианской пантеистическою гностикою, которая так
или иначе делает Божество или божественный мир субъектом
мирового процесса и, следовательно, виновником мирового зла»39.
Чтобы устранить двусмысленность в трактовке Софии,
Соловьев в сочинении «Россия и вселенская церковь» различает Софию
как божественное начало, как Премудрость Божию, с одной
стороны, и мировую душу как верховное начало материального мира,
с другой. Мировая душа теперь понимается им как антипод
Премудрости, источник зла и хаоса, между тем как София — «лучезарное
и небесное существо, отделенное от тьмы земной материи»40. Что
же касается души мира, то Соловьев хотя и именует ее «матерью
внебожественного хаоса», в то же время полностью с этим хаосом
не отождествляет: смысл мирового процесса философ видит
в борьбе Божественного Слова-Логоса-Христа с адским началом
за власть над мировой душой. Эта борьба и составляет подлинное
содержание всемирной драмы, в которой решающая роль
принадлежит Богочеловечеству.
Учение о развивающемся и страдающем Боге
Еще в ранний период Шеллинг видел заслугу своей философии
тождества в том, что она ввела в сознание эпохи понятие процесса,
стала рассматривать природу сквозь призму принципа
самодвижения, саморазвития. Позднее принцип развития, высоко ценимый
Шеллингом, становится у него ключом к постижению внутренней
жизни Божества. В «Частных лекциях, читанных в Штутгарте»
(1810) Шеллинг говорит о том, что если Бог — это живая личность
(а именно так его понимает христианская религия), то его следует
мыслить как жизнь, а значит как процесс развития и самооткрове-
Ща
E.H. Трубецкой. Миросозерцание Вл.С Соловьева. Т. 1, с. 376.
B.C. Соловьев. Россия и вселенская церковь, с. 347.
84 Раздел I Владимир Соловьев
ния. «Бог сам творит себя, и насколько это достоверно, настолько
же достоверно, что Он не есть нечто, с самого начала готовое и
наличное, ибо в противном случае Ему не нужно было бы творить
Себя»41. Такой ход мысли вполне закономерен, если принять во
внимание, что и Шеллинг, а за ним Соловьев видят в Боге в качестве «Его
Другого» стремление, влечение к бытию, жажду бытия, то есть
начало, которое греческие философы называли потенциальностью
и которое означает лишение, нехватку, отсутствие того, к чему
направлена эта жажда. А поскольку потенциальность всегда
стремится к актуализации, то она и служит стимулом движения, развития,
самоосуществления, или, как называет его Шеллинг,
самосотворения Бога. Принцип эволюции, вначале введенный в качестве
характеристики природного мира, теперь объявляется также и
характеристикой мира Божественного; как мы уже отмечали, различие
между этими мирами у Шеллинга весьма относительно.
Концепция становящегося Бога тесно связана у Шеллинга с его
учением об изначальной катастрофе в Божественной жизни, а
именно об отпадении от Бога Его «Другого». Как справедливо отмечает
П. Козловский, «понятие Бога в гностицизме отличается от
христианского Его понимания тем, что гностицизм мыслит Бога как
становящегося и страдающего. В гностицизме Божество претерпевает
падение и страдает в процессе обретения сознания. Христианство тоже
признает страдание Бога, по в христианстве страдание — не
результат необходимости, а результат свободы; Бог добровольно
принимает на себя страдание из сострадания [к человеку]»42. Для постижения
процесса самосотворения Бога Шеллинг обращается к человеку:
становление человеческого самосознания, по его убеждению, дает ключ
к постижению внутрибожественной жизни. «Всякое живое сущее
начинает с бессознательности, с такого состояния, в котором еще не
расчленено все то, что впоследствии развернется из него в качестве
отдельных моментов... Также начинается и божественная жизнь... Это
состояние, которое мы характеризовали как безразличие потенций
в нем... абсолютное тождество субъективного и объективного,
реального и идеального... Весь процесс творения мира, все еще
продолжающийся процесс возникновения жизни в природе и в истории есть,
собственно, не что иное, как процесс совершенствования сознания,
завершающейся персонализации Бога»43. Интересно отметить, что
41 F. Schelling. Stuttgarter Privatvorlesungen // Sàmmtliche Werke. Bd. VII, Erste Abt.,
S.432.
42 P. Koslowski. Die Prüfungen der Neuzeit. Über Postmodernität. Philosophie der
Geschichte, Metaphysik, Gnosis. Wien, 1985, S. 74-75.
Ftyaea2 Соловьев и Шеллинг 85
пантеистическое миропонимание тесно связано с
антропоморфизмом в трактовке Божественной жизни; эту особенность можно
видеть в философии эпохи Возрождения, в некоторых мистических
учениях, но особенно последовательно это сближение Бога и
человека проводит Шеллинг. В индивидуальной, также как и в
исторической жизни человека мы наблюдаем, как «бессознательное в нас
возвышается до сознания, изначальная тьма поднимается к свету... То же
самое происходит в Боге»44.
Эволюция Божества есть последовательное развертывание
божественных потенций, т. е. стадий, уровней бытия. Первая
потенция — это слепое иррациональное стремление, «воля,
представленная как голая возможность»45. Мы уже знаем эту «темную
природу» в Боге, знаем, что она и есть возможность будущего
творения, а точнее — «отпадения» мира. «То изначальное желание,
посредством которого свободный от всякого бытия Бог облекается
в бытие, уже является для себя действительным и тем не менее
содержит в себе голую возможность будущего творения: ведь это
желание есть всеобщее штокеС^ег/оИ6, из которого создано все, ибо
материя относится к созданному только как голая возможность»47.
Итак, Бог-Отец — это потенциальное, а не актуальное начало,
материя, возможность бытия, «чистое абсолютное равенство самому
себе», или «замкнутость Отца»48. Из этой потенциальности должно
возникнуть бытие, подобно тому как в природе из низшего,
бесформенного вещества возникают сперва примитивные, а затем
более сложные, развитые формы жизни. Собственно, это не
просто аналогия: поскольку граница между Богом и миром весьма
смутна, то эволюция природы — это, в сущности, и есть эволюция
божественного всеединства. Чтобы показать, как из первой
потенции Божества возникает вторая, Шеллинг обращается к
разработанной уже Фихте диалектике абсолютного Я: как субъект, Я
полагает себя вовне в качестве объекта, таким образом раздваиваясь на
Я и не-Я. В применении к Богу Шеллинг несколько корректирует
эту схему: будучи первоначально абсолютным равенством, Бог
делает Себя неравным Себе самому: чтобы иметь Себя, Он должен
иметь Себя как Другого. Становление Бога неравным себе Шеллинг
43 Ibid., S. 432-433.
44 Ibid., S. 433.
45 Ф. Шеллинг. Система мировых эпох, с. 289-
46 основание (греч.)
47 Там же, с. 290-291.
48Тамже,с291.
86 Раздел I Владимир Соловьев
^ '
называет «Божественным воспламенением»: «Это свободное
воспламенение, отдаленная цель которого — творение, а
непосредственная — иметь самого Себя, как Сына...»49 Бог-Сын, по Шеллингу,
также как и мир, есть принцип инобытия.
И тут мы подходим к важному моменту: в рамках Шеллинговой
теогонии невозможно провести сколько-нибудь определенную
границу между рождением Сына и творением мира, то есть опять-
таки невозможно отделить внутрибожественную жизнь от жизни
тварного мира, о чем уже шла речь выше. И своя логика здесь есть:
поскольку божественное «воспламенение» ведет к «разделению
Бога в Себе», выделению «Другого», то в этом как бы уже предзаложено
то самое «падение», в силу которого возникает конечный мир.
Этому сближению акта рождения Сына и возникновения мира
способствует своеобразное слияние христианских догматов о творении
мира Божественным Словом, Логосом, и о Боговоплощении:
воплотившись, Бог-Сын тем самым соединил в себе, «опосредовал»
божественный и тварный мир. Но такое «слияние» весьма далеко от
христианского учения о творении и о Боговоплощении. Как
справедливо отмечает православный богослов В.Н. Лосский, «учение
о Логосе как о „посредстве" между Богом и тварным миром
характерно для гностиков, отрицавших иноприродность Творца и
творения, искавших именно „онтологического моста" между Богом
и миром, связующего звена или цепи звеньев. Святоотеческая
мысль никогда не видела в Логосе „посредства" между Богом и
тварью, но учила о Богочеловеке, неслиянно соединившем в одном
Лице совершенное Божество и совершенное человечество»50.
Чтобы более обстоятельно обосновать тезис о божественном
всеединстве, Шеллинг пересматривает также характерное для
христианского богословия, с одной стороны, и греческой
философии, с другой, различение вечности как характеристики
неизменного и простого божественного начала и времени как способа
бытия изменчивого тварного мира. Отвергая тезис Августина,
Григория Нисского, Иоанна Дамаскина, Фомы Аквинского и др. о том,
что время возникает вместе с творением, Шеллинг вводит время
в саму жизнь Божества, различая типы времени в соответствии
с особенностями божественных потенций. «Первое время,
начинающееся непосредственно с полаганием времени, есть время
исключительности, замкнутости Отца. Затем следует время, когда Он
разделяет бытие с СынОхМ, ибо Он должен передать Ему это бы-
49 Там же, с 292.
50 В.Н. Лосский. Спор о Софии. Париж, 1936, с. 20.
Глава 2 Соловьев и Шеллинг
87
тие...»51. Оказывается, таким образом, что в жизни Бога «все
находится в исторической взаимозависимости»52. Традиционное
представление о вечности Бога преобразуется тем самым в учение о
качественном различии божественных времен, или, что то же
самое — мировых эпох, мировых эонов. Время Бога-Отца есть
«относительная вечность», в отличие от времени Бога-Сына, уже
содержащего в себе в сущности время конечного мира; поэтому
Шеллинг и утверждает, что мир возник во времени. «Сам по себе Отец
есть не желающая времени воля, а Сын — причина и,
следовательно, Господь времени, полагающий время Бог. Без Сына
существовал бы только принцип времени, но недействительное время... Так
как творению предшествует, таким образом, время, в котором
Отец время отвергает, то ясно, что мир возник во времени...»53
С помощью качественного различия божественных времен
Шеллинг определяет и третью потенцию Божества, которая есть
«третье время». «В противоположность времени замкнутости,
которое для себя было довременным временем, будем называть
настоящее время, которое есть и содержит в себе действительное
время, временем временным. Между тем это второе время
представляет собой лишь время перехода из состояния абсолютной
замкнутости во время окончательного разворачивания, которое
есть... после-временное время, в котором уже нет никакого
времени и которое можно назвать послевременной вечностью. Таким
образом, собственно время лежит посередине межд^ двумя
временами, одно из которых является как прошедшее, а другое — как
будущее. Все должно прийти в это последнее время, в эту последнюю
вечность, однако еще не пришло в нее»54. Перед нами —
определение Лиц Божественной Троицы посредством различных «времен»,
представших как три мировые эпохи: Бог-Отец — прошедшее, Бог-
Сын — настоящее, Бог-Дух Святой — будущее. Первая мировая
эпоха — эпоха Отца — это исключительное владение бытием (как
противоположностью свободе); вторая эпоха — Бога-Сына —
преодоление бытия («косной природы»); наконец, третья — «время
окончательного преодоления, время, вновь приведенное к
свободе, — это время будущего, т. е. завершения времени, и это — время
Духа. Таким образом, три Господа господствуют в разное время»55.
51 Ф. Шеллинг. Система мировых эпох, с. 296.
52 Там же.
53 Там же, с. 297.
54 Там же, с. 300.
55 Там же, с. 301.
88
Раздел I Владимир Соловьев
В этом развитии от низшего к высшему и состоит жизнь Божества,
представляющая собой историю движения от потенциальности
(«замкнутости») Бога-Отца к процессу актуализации
Богом-Сыном и к завершению этой актуализации, к высшей актуальности
в Духе, имеющей наступить в будущем. Эти мировые эпохи в той
же мере характеризуют жизнь мира, как и жизнь божественную:
между ними, как мы уже знаем, определенной границы нет.
Шеллингова концепция трех мировых эпох восходит к учению
Иоахима Флорского, о котором мы уже говорили выше.
И не случайно именно Иоахима Флорского и Ангела Силезия56
цитирует Шеллинг, завершая свои лекции о мировых эпохах: как
и эти его предшественники, он живет мечтой о наступлении
третьей мировой эпохи, веря в Царство Бога на земле. В предре-
формационную эпоху, а особенно в период Реформации эта хи-
лиастическая вера рождала апокалиптически-революционные
настроения и нередко приводила к кровавым восстаниям. В эпоху
Просвещения эта вера не умерла, но получила новую,
квазирелигиозную форму в виде идеи Прогресса. Немецкий просветитель
Г.Э. Лессингтакже мечтает о грядущем Царстве Божием на земле,
как и Иоахим Флорский: «Да, оно грядет, и оно несомненно
наступит — время Нового Евангелия»57. Близкий друг Шеллинга
Фридрих Шлегель, глава немецких романтиков, разделявший в юности
вместе с Фихте идеи Французской революции, в своем позднем
учении вернулся к ее религиозному первоистоку — хилиастичес-
кому учению Иоахима Флорского о трех мировых эпохах.
Творчество В. Соловьева, как мы знаем, тоже проникнуто хилиа-
стическим настроением, которому отвечает характер теокосмого-
нии русского мыслителя. И хотя Соловьев стремился согласовать
свое учение о Боге с христианской теологией, но в силу влияния
гностических идей, о котором шла речь выше, ему тоже не удалось
избежать представления о развивающемся Боге и провести
достаточно определенную грань между Богом и миром. Как и Шеллинг,
Соловьев различает Абсолютное Сущее и Абсолютное
Становящееся, т. е. Второе Абсолютное. «Если первое есть всеединое, то
второе становится всеединым... Это второе всеединое, этот „второй
Бог"... представляет... два существенные элемента: во-первых, он
имеет божественный элемент, всеединство, как свою вечную по-
56 «Отец был, — пишет Силезий, — Сын есть и поднесь, а Дух будет в день
последней славы». Angélus Silesius. Cherubinischer Wandersmann. Kritische
Ausgabe. Hg. von L Gnädiger. Stuttgart, 1984, S. 144.
57 G.E. Lesing. Die Erziehung des Menschengeschlechts, S. 86.
Глава 2 Соловьев и Шеллинг
89
тенцию, постепенно переходящую в действительность; с другой
стороны, он имеет в себе то небожественное, то частное, не всё,
природный или материальный элемент, в силу которого он не
есть всеединое, а только становится им... Быть всем, т. е. быть
в Боге, оно не может, так как тогда оно не было бы частным,
но и быть... безусловно вне всеединства, вне Бога, оно также не
может, ибо тогда оно не существовало бы совсем...»58 У Соловьева, как
и у Шеллинга, становление, а тем самым и время оказываются
характеристиками божественного бытия: граница между Богом
и миром становится неопределенной. С точки зрения Шеллинга
и Соловьева, определить Бога как всеединство — значит признать
человека, человечество конститутивным моментом Божества.
И в самом деле, Соловьев пишет: «...Так как частное, не всё, может
существовать только в процессе, как становящееся всё, то,
следовательно, собственное существование принадлежит двум
неразрывно между собою связанным и друг друга обусловливающим
абсолютным: абсолютному сущему (Богу) и абсолютному
становящемуся (человеку), и полная истина может быть выражена
словом „Богочеловечество", ибо только в человеке второе
абсолютное — мировая душа — находит свое действительное
осуществление в обоих своих началах»59. И Шеллинг, и Соловьев видят
в человеке персонификацию мировой души, которая, будучи
бессознательным началом, приходит к своему самоосознанию в
человеке. А отсюда естественно вытекает вывод, что человек не
есть — в основе своей — тварное существо; и действительно,
Соловьев убежден, что человек совечен Богу: в противном случае,
полагает он, человека невозможно считать свободным и бессмертным
существом. «Только при признании, что каждый действительный
человек своею глубочайшею сущностью коренится в вечном
божественном мире, что он есть не только видимое явление... а
вечное и особенное существо, необходимое и незаменимое звено
в абсолютном целом, только при этом признании... можно
разумно допустить две великие истины... человеческой свободы и
человеческого бессмертия»60.
В христианском богословии тварность человека не
препятствует ни его свободе, ни его бессмертию; догмат о том, что Бог
сотворил человека по своему образу и подобию, как раз и говорит
о высоком предназначении человека и о том, что разумная челове-
58 B.C. Соловьев. Критика отвлеченных начал // Собр. соч. Т. II, с. 301.
59 Там же, с. 306.
60 B.C. Соловьев. Собр. соч. Т. III, с. 117.
90
Раздел! Владимир Соловьев
ческая душа, наделенная свободой, является бессмертной. Однако
Соловьеву представляется, что учение о тварности человека
слишком принижает его. И чтобы не оставалось никакого сомнения
в том, что тварность человека несовместима с божественным его
назначением, Соловьев пишет: «..Легко видеть, что, представляя
себе человека лишь созданным из ничего во времени, и
следовательно для Бога как бы случайным, так как предполагается, что Бог
может существовать и без человека и действительно существовал до
сотворения человека, — представляя себе... человека как
безусловно определенного божественным произволом и потому по
отношению к Богу безусловно страдательным, мы решительно не
оставляем никакого места для его свободы»61. Таким образом,
человек — не продукт божественной свободы, как и весь тварный
мир, ибо акт творения — это свободный акт Бога, но человек со-
природен и совечен Богу. Как мир, по Соловьеву, есть явление
божественной сущности, так — тем более! — и человек; но он есть
явление только в своем чувственном облике, так, как он существует
среди других явлений; в существе же своем он — часть вечного,
божественного мира.
Учение Соловьева о Богочеловечестве как становящемся Боге
родственно не только теософии Шеллинга и немецкому идеализму
от Фихте до Гегеля: как и немецкий идеализм, оно восходит своими
корнями к христианской мистике, и не только к Бёме, но и к Мей-
стеру Экхарту В мистике Экхарта происходит сближение
божественного и человеческого, какого не допускает ортодоксальная
доктрина христианства: глубина человеческой души («искорка»)
оказывается вынесенной за пределы тварного бытия. Поэтому
человеческая душа именуется у Экхарта «Словом Божиим», т. е. Богом-
Словом, и каждый человек в этой непостижимой глубине своей
души есть, по Экхарту, Бог, Сын Божий. Вот почему «у Бога во всем
существе Его нет ничего столь сокровенного, что было бы
недостижимо для души...»62 Экхарт различает внешний (сотворенный)
и внутренний (нетварный) уровни души; к внешнему уровню
принадлежат силы, способности души, которые могут существовать
лишь деятельным образом и связывают человека с тварным миром,
тогда как «внутреннее» души имеет больше единства с Богом, чем
с тварной «оболочкой» человеческого существа.
В понимании человека у многих мистиков, как и в немецком
идеализме, ощущается влияние гностицизма. Один из исследователей
Там же, с. 117-118.
«Духовные проповеди и рассуждения Мейстера Экхарта*. М., 1912, с. 103-104.
Глава 2 Соловьев и Шеллинг
91
христианства патриотического периода, Л.И. Писарев, уделявший
большое внимание также и гностическим учениям, отмечал: «Весь
мир и особенно сам же человек представлялся (гностикам. — ПГ.)
самооткровением божественного разума — Логоса. Задача
гностика-философа поэтому и сводилась к толкованию смысла мировой
жизни и к открытию в ней крупиц истины, рассеянных повсюду,
но более всего сконцентрированных в разуме человека, этом
наисовершеннейшем органе откровения Логоса»63.
Согласно Соловьеву, Богочеловечество как единый организм,
единое существо, и есть, собственно, «Второй Бог», София
Премудрость Божия, становящийся Абсолют, чья жизнь и составляет
содержание исторического процесса, цель и смысл которого —
в восстановлении целостности и всеединства Бога, всеединства,
утраченного в силу грехопадения мировой души. Тогда наступит
победа на земле правды и добра, которое Соловьев вслед за
Шеллингом иногда называет эпохой Духа, связывая его с полным
преображением нынешней жизни в теократии как осуществлении его
юношеской мечты о земном явлении Царства Божия, мечты,
которая вдохновляла философа на протяжении всей его жизни —
вплоть до самого последнего периода. В одном из писем кузине
в 1873 г. Соловьев делится этими заветными мыслями: «Я... так же
уверен, как в своем существовании, что истина, мною сознанная,
рано или поздно будет... сознана всеми, и тогда своею внутреннею
силою преобразит она весь этот мир лжи, навсегда... уничтожит
всю неправду и зло жизни личной и общественной... ту бездну
тьмы, грязи и крови, в которой до сих пор бьется человечество...
и во всей своей славе явится царство Божие — царство внутренних
духовных отношений, царство чистой любви и радости — новое
небо и новая земля...»64 Как видим, учение о становящемся
Абсолюте у Соловьева, также как и у Шеллинга, глубоко связано с хилиа-
стическими ожиданиями, роднящими между собой религиозные,
в том числе и гностические, предпосылки этого учения с общей
для XIX века квазирелигиозной верой в Прогресс.
63 Л.И. Писарев. Очерки из истории христианского вероучения
патриотического периода. Т. I, Казань, 1915, с. 178.
64 B.C. Соловьев. Письма. Т. III, с. 84-85.
Глава 3
Искушение диалектикой: Соловьев и Гегель
Абсолют Гегеля как единство тождества
и нетождества
Специального рассмотрения заслуживает отношение Соловьева
к учению Гегеля, чье влияние на русскую философию XIX века
трудно переоценить. Как известно, Гегель стремился построить
свою систему строго монистически, поскольку именно в монизме
видел важнейший признак научности, а в философии — высшую
из наук.
Монизм — это учение, которое претендует на выведение всей
системы знания из одного первоначала. Это должна быть система
взаимосвязанных положений, полученных путем методологически
выверенного развертывания одного — исходного — положения,
признаваемого в качестве самоочевидного и неоспоримого.
Философия Нового времени в ее рационалистическом варианте,
начиная с Декарта, тяготеет именно к такого рода монистическому
построению системы знания из первопринципа. Наиболее отчетливо
стремление к монизму демонстрируют системы Спинозы и Фихте.
В качестве исходного принципа у Спинозы выступает
субстанция — то, что существует само по себе и постигается само через
себя. Фихте на место субстанции ставит Абсолютного Субъекта —
Абсолютное Я, которое актом самополагания вызывает себя к бытию
и определяется только самим собою. И у первого, и у второго все
определения системы должны вытекать из исходного начала с
непреложной необходимостью. Именно эта логическая
необходимость претендует быть чистым образцом того духа научности,
который так высоко ценился новоевропейской мыслью.
Однако наиболее последовательно осуществить идею
философского монизма в Новое время попытался Гегель. Видевший
в монизме высшее достоинство философии, Гегель писал о науко-
Глава 3 Искушение диалектикой: Соловьев и Гегель
93
учении Фихте: «Фихтевская философия обладает великим
преимуществом: она установила, что философия должна быть наукой,
исходящей из одного высшего основоположения, из которого
необходимо выводятся все определения. Важное значение имеет это
единство принципа и попытка научно последовательно развить
из него все содержание сознания, или, как тогда выражались,
конструировать весь мир»1.
Однако, по Гегелю, Фихте не справился с этой верно
поставленной задачей. Стремясь преодолеть дуализм Канта, убежденного
в невозможности «выцарапать» из трансцендентального субъекта
все содержание опыта, а потому постулировавшего «вещь в себе»,
аффицирующую нашу чувственность, Фихте, по мысли Гегеля,
сделал важный шаг в направлении монизма, попытавшись доказать,
что весь мир не-Я — и сфера природы, и сфера духа — есть продукт
деятельности Я. Тем не менее, как полагает Гегель,
«конструировать весь мир» из этого единого принципа Фихте все же не удалось.
Вслед за Шеллингом Гегель критикует Фихте за то, что природный
мир, и вообще всякое фактическое существование осталось у
него не выведенным полностью из трансцендентального субъекта —
чистого Я. Наукоучение Фихте Гегель критикует как «дуализм»,
«субъективный идеализм», «философию рефлексии». В
произведениях 1801-1802 гг. — «Различные системы философии Фихте
и Шеллинга» и «Вера и знание» — Гегель в общем разделяет
воззрения Шеллинга, который как раз в эти годы разошелся с Фихте по
вопросу о натурфилософии, ее месте и роли в общей системе
философского знания. Шеллинг видит основание для
противопоставления трансцендентальной философии и натурфилософии
не в различии идеальной и реальной деятельностей Я, как это
имело место у Фихте; это основание, согласно Шеллингу, «лежит
гораздо выше»2. «Основание, — пишет Шеллинг, — заключается в том,
что в качестве идеально-реального просто объективное и поэтому
одновременно продуцирующее Я в этом своем продуцировании
само есть не что иное, как природа, коего лишь высшей потенцией
является Я интеллектуального созерцания, или Я самосознания»3.
Шеллинг, таким образом, более не рассматривает высшее
начало как абсолютную деятельность (а именно так он понимал его
раньше вслед за Фихте). Истинно Абсолютное, по Шеллингу, не мо-
1 Г.В.Ф. Гегель. История философии // Соч. Т. XI. М.-Л., 1935, с. 463-
2 Цит. по: «I.G. Fichtes Leben und literarischer Briefwechsel». Bd. 2. Leipzig, 1862,
S. 326.
3 Ibid., S. 327.
94
Раздел! Владимир Соловьев
жет иметь своим предикатом деятельность; оно выступает теперь
для Шеллинга как тождество, или безразличие идеального и
реального, мышления и созерцания: «Тождество идеального и
реального оснований равно тождеству мышления и созерцания. Этим
тождеством выражается высшая спекулятивная идея, идея
Абсолютного, созерцание которого — в мышлении, а мышление — в
созерцании... Так как это абсолютное тождество мышления и
созерцания есть высший принцип, то оно, мыслимое как абсолютное
безразличие обоих, является также необходимо высшим бытием»4.
В этот ранний период Шеллинг и Гегель согласны между собой
в том, что фихтевское Я есть <^'бъективный субъект-объект», не
выходящий за пределы конечности. Гегель вслед за Шеллингом
в 1801 -1802 гг. вводит в качестве исходного начала понятие
«абсолютного тождества». Однако в отличие от Шеллинга, определявшего
это тождество как «абсолютную индифференцию», Гегель мыслит
его как «тождество тождества и нетождества». Как показал немецкий
философ Р. Лаут, в ранних сочинениях Гегель рассматривает
рефлексию как самопроизводство абсолютного тождества. Тем самым он по
существу вводит два разных понятия рефлексии: в качестве
конечной, как ее мыслили Кант и Фихте, она предстает для Гегеля как нечто
субъективное; основанная же на самопроизводстве абсолютного
тождества, она, по Гегелю, являет собой начало субъект-объективное.
Таким образом, Гегель идентифицирует две различные реальности —
рефлексию и самопроизводство абсолютного тождества5.
По определению Гегеля, рефлексия есть «соотношение
различенных»6. Будучи именно отношением, причем отношением
возвратным (rückbezügliche Relation), рефлексия означает раздвоение
соотносимых членов — субъекта и объекта. В Абсолютном, таким
образом, налицо оказывается единство тождества и его
противоположности — нетождества; это можно толковать и как просто
раздвоение Абсолюта, и как противоборство в нем. Как именно его
трактует Гегель, остается не вполне ясным. Недостаточно
прояснено у Гегеля и то, рождает ли Абсолют это раздвоение (или
противоборство) или же сам рождается благодаря этому акту. Соотношение
различенных, т. е. рефлексия, по Гегелю, развивается далее «в то, что
оно есть вначале, в противоречие в себе»7. Как видим, утверждая
«тождество тождества и нетождества», Гегель вводит противоречие
4 Ibid, S. 348.
5 См.: R. Lauth. Hegel vor der Wissenschaftslehre. Stuttgart, 1987.
6 Г.В.Ф. Гегель. Энциклопедия философских наук // Соч. Т. I. М.-Л, 1929, с. 342.
7 Там же, с. 343-
Глава 3 Искушение диалектикой: Соловьев и Гегель
95
как ядро самого Абсолюта, божественной первореальности, тем
самым узаконивая его в качестве конструктивного принципа всей
системы. Именно противоречие — как это ни парадоксально —
обеспечивает Гегелю его монизм: все то, что служило источником
дуализма в других философских учениях, что создавало трудные,
неразрешимые проблемы для мыслителей, легко преодолевается
Гегелем с помощью принятого внутрь исходного начала и
объявленного первопринципом противоречия: отрицание становится,
таким образом, главным позитивным двигателем мысли.
«Тождественная себе идея содержит в себе отрицание самой себя,
противоречие»8. Это отрицание, введенное в исходный пункт системы,
обеспечивает ее пресловутое самодвижение и саморазвитие;
противоречие, пишет Гегель, «выступает в виде бесконечного
прогресса»9. В сущности рефлексия уже и есть отрицание, и не случайно ее
именовали «отрицательным разумом»: как справедливо отмечал
B.C. Соловьев, «чистой рефлексией называется безусловное
отрицание действительности в известной сфере»10.
Противоречие как верховный принцип
системы Гегеля
Этот момент отрицания, противоречия, принятый в качестве
высшего принципа, составляет существо гегелевской диалектики, в
которой понятия «процесса» и «прогресса» играют ключевую роль,
становясь универсальными определениями всего сущего — не
только мира и человека, но и самого Божества. «Идея, — говорит
Гегель, — есть по существу своему процесс, потому что ее тождество
есть лишь постольку абсолютное и свободное тождество понятия,
поскольку оно есть абсолютная отрицательность и поэтому
диалектично. Идея есть круговорот, в котором понятие, как
всеобщность, которая есть единичность, определяет себя к объективности
и к противоположности этой объективности, и эта внешность,
имеющая понятие своей субстанцией, своей имманентной
диалектикой, возвращает себя обратно в субъективность»1 К
8 Там же, с. 324.
9 Там же, с. 343-
10 B.C. Соловьев. Кризис западной философии (против позитивистов) // Собр.
соч. Т. I, с. 97.
1 ] Г.В.Ф. Гегель. Энциклопедия философских наук, с. 325.
96
Раздел! Владимир Соловьев
В известном смысле Гегель совершил подлинный переворот
в философии Нового времени; хотя некоторые тенденции к
использованию противоречия для решения определенных задач уже
наметились у Канта и особенно Фихте, однако в конечном итоге
противоречие как момент отрицания у них устранялось. Кант, как известно,
объясняет антиномии разума стремлением его выйти за пределы
своих возможностей; у Фихте противоречие как двигатель
диалектического процесса в конце концов тоже оказывается снятым. Таким
образом, закон тождества, не допускающий противоречия в
научном мышлении, признают и Кант, и Фихте. Именно за это их и
критикует Гегель: они не посмели превратить противоречие в главный
закон мысли, поставив его на тот пьедестал, который с древности
занимал закон тождества (или непротиворечия), являющийся,
согласно Аристотелю, высшим законом и мысли, и бытия. Диалектика
Гегеля родилась как раз благодаря упразднению закона тождества. «Закон
тождества гласит:... все тождественно с собою; А=А; в отрицательной
форме он гласит: А не может в одно и то же время бытьЛ и не-А.
Вместо того, чтобы быть истинным законом мысли, это суждение есть не
что иное, как закон абстрактного рассудка. Уже сама форма этого
суждения находится в противоречии с ним, так как оно обещает
различие между субъектом и предикатом и в то же время не дает того,
чего требует его форма. В частности же этот закон уничтожается
следующими так называемыми законами мышления, которые
устанавливают в качестве законов прямую противоположность этого
закона»12. Прямая противоположность закона тождества (или, как его еще
именуют, закона [запрета] противоречия) — это узаконение
противоречия как главного методологического принципа системы.
Возведение противоречия в главный закон мышления является своего
рода гарантом незыблемости гегелевского монизма. «Ибо в том
и сущность Гегелева принципа, что он заведомо заключает свое
отрицание внутри самого себя, и потому в этой системе, отвергнувшей
закон противоречия, невозможно указать никакое внутреннее
противоречие, побуждающее к дальнейшему развитию системы, так как
всякое противоречие в ее сфере ею же самою полагается как
логическая необходимость и опять снимается в высшем единстве
конкретного понятия; поэтому это есть абсолютно-совершенная в себе
замкнутая система...»13
Устраняя закон тождества, Гегель тем самым по существу
полностью пересматривает значение и роль понятия бытия — цент-
12 Там же, с. 197.
13 B.C. Соловьев. Собр. соч. Т. I, с. 55-56. Курсив мой. — ПГ.
Глава 3 Искушение диалектикой: Соловьев и Гегель
97
рального понятия античной, средневековой и ранней
новоевропейской онтологии. Как показал Аристотель, категория бытия
органически связана с законом тождества — она стоит и падает
вместе с ним. Гегель, кстати, тоже видит эту глубинную связь:
«Тождество, — пишет он, — есть прежде всего то же самое, что мы
рассматривали раньше как бытие...»14 Уже у раннего Фихте бытие
противостоит деятельности как косное и безжизненное начало, как
неподвижное инертное вещество, как тот материал, который
должно преодолевать Я в своей деятельности. Правда, у Фихте
деятельность Я не полностью определяется самим Я, она нуждается
в некотором «толчке», который есть знак еще не полного
совпадения мышления и бытия. Не случайно Гегель, критикуя Фихте за
субъективность его субъект-объекта, считает «толчок» остатком
в его системе «догматического понимания бытия», характерного
для средневековой схоластики и рационалистической
метафизики XVII в. Сам Гегель стремится элиминировать всякий след этого
«догматизма» и достигнуть полного тождества бытия и мышления.
И если у Декарта, Спинозы и Лейбница еще много общего со
средневековой мыслью, то, пожалуй, немецкий идеализм, а особенно
Гегель, создают тот тип философствования, который адекватнее
всего выражает дух «модерна». А поскольку категория бытия (и
соответственно субстанции) в Средние века играла определяющую
роль, особенно в томизме, унаследовавшем аристотелевские
принципы мышления, то именно эту категорию Гегель
пересматривает наиболее радикально. «...Бытие, — пишет он, — есть чистое
определение мысли... Мы полагаем обыкновенно, что абсолютное
должно находиться далеко по ту сторону, но оно как раз есть
вполне наличное, которое мы, как мыслящие существа, всегда носим
с собою и употребляем, хотя явно не сознаем этого»15. Все имеет
свое бытие лишь в понятии; действительного сущего, имеющего
самостоятельное, независимое от понятия существование, для
Гегеля не может быть. Но если бытие — это определение мысли,
то для мысли нет ничего потустороннего, ничего непостижимого.
Логика у Гегеля определяет не только форму, но и содержание
мышления: «Логические мысли... представляют собою в-себе и для-се-
бя-сущее основание всего»16.
Гегель отвергает позицию Канта, настаивавшего на том, что
бытие не сводимо к логике, и различавшего логическое основание
14 Г.В.Ф. Гегель. Энциклопедия философских наук, с. 197.
15 Там же, с. 56.
16Тамже.
98
Раздел! Владимир Соловьев
и реальную причину Как и вся метафизика Средних веков
и XVII-XVIII столетий, Кант, по Гегелю, допускает лишь конечное,
рассудочное мышление: определения мысли в качестве
субъективных противостоят у него бытию, выступающему как «вещь в себе».
«Мышление прежней метафизики было конечным, ибо она
двигалась в таких определениях мысли, предел которых признавался
ею чем-то незыблемым... Так, например, задавали вопрос: обладает
ли Бог существованием? И существование рассматривалось при
этом как нечто чисто положительное, как нечто последнее и
превосходное. Но... существование отнюдь не есть нечто лишь
положительное, а составляет определение, которое слишком низко для
идеи и недостойно Бога»17.
Всемогущество отрицания
При спекулятивном, или разумном, в отличие от рассудочного,
мышлении предмет, по Гегелю, сам развертывает свои
определения, что возможно только при условии тождества человеческого
разума божественному. Таким образом, истинное философское
познание мыслится Гегелем как самопознание Бога. Способом
достижения божественного познания становится диалектика,
которая, как мы уже знаем, базируется на совпадении
противоположностей, имея противоречие своим движущим принципом.
Интересно замечание Гегеля о том, что принцип диалектики
«соответствует представлению о могуществе Божием. Мы говорим, что
все вещи (т. с. все конечное как таковое) предстают перед судом,
и мы, следовательно, видим в диалектике всеобщую неодолимую
власть, перед которой ничто не может устоять... Определение
могущества не исчерпывает, разумеется, глубины божественной
сущности, понятия Бога, но оно, несомненно, составляет
существенный момент во всяком религиозном сознании»18.
Это замечание удивительно точно передает пафос гегелевской
философии и дух Нового времени, проникнутый убеждением в
человеческом всемогуществе19. Согласно иудео-христианской тра-
17 Там же, с. 66.
18 Там же, с. 137-138.
19 «Человек, — пишет Гегель, — стремится вообще к тому, чтобы познать мир,
завладеть им и подчинить его себе, и для этой цели он должен как бы
разрушить, т. е. идеализировать реальность мира» (там же, с. 88). В плане разрушения
всякого непосредственного существования, в том числе и существования са-
Глава 3 Искушение диалектикой: Соловьев и Гегель
99
диции, всемогущество есть первейшее определение Бога-Отца:
именно Своим всемогуществом Он творит мир из ничего и
сохраняет сотворенное в его бытии. Лишь божественному
всемогуществу дано творить чудеса, самое первое из которых — создание
самого мира; лишь всемогущий Творец может вносить такие изменения
в жизнь природы и ход истории, которые не только не под силу
человеку, но и непостижимы для конечного мышления и
открываются лишь вере. Эти-то прерогативы бесконечного Божественного
Существа переданы Гегелем диалектике: тот, кто вслед за Гегелем
овладевает этим искусством, приобретает тем самым
божественный дар творения и соответственно власть над сотворенным.
Владеющий диалектикой, подобно алхимику, открывшему, наконец,
философский камень, сам становится всемогущим Богом20. Но
всемогущество диалектики есть всемогущество отрицания, — этим
оно отличается от подлинного творения, которое всегда есть
утверждение. Что же касается творимых всемогущей диалектикой
чудес, то образцы их, подчас софистического свойства, нередко
встречаются на страницах гегелевской «Логики»21.
Провозглашенное Гегелем тождество мышления и бытия,
конечного и бесконечного означает снятие водораздела между
божественным и человеческим, Творцом и творением. На место
трансцендентного личного Бога здесь встает пантеистически
истолкованный Абсолют — абсолютная идея, имманентная миру
мого мира и даже Бога гегелевская система преуспела, видимо, больше всех
других. Это была теоретическая программа того овладения природой, миром,
которую на практике человечество пытается осуществить в XX в.
20 По поводу этого человеческого всемогущества Генрих Гейне в своих
«Признаниях» иронически замечает: «Я был молод и высокомерен, и моей гордыне
очень польстило, когда я узнал от Гегеля, что вовсе не тот Господь Бог, который,
как считала моя бабушка, пребывает на небесах, а что я сам здесь, на земле, и
есть Господь Бог» (Н. Heine. Werke und Briefe 7,127 // Цит. по: P. Koslowski. Die
Prüfungen der Neuzeit. Wien, 1989, S. 71 ).
21 Особенности гегелевской диалектики не раз становились объектом
критики. Русский философ Л. Лопатин в этой связи писал: «Не только всю
действительность Откровения, но и всю действительность развития природы и
человека большая часть теософов (по Лопатину, строго-спекулятивная теософия
развилась в связи с немецким идеализмом. — ПГ.) старается представить как
логически-необходимый процесс раскрытия сил и потенций, заключенных в
абсолютном начале. Практическим последствием этой точки зрения является
натянутость и произвольность логических переходов, — недостатки, вообще
всегда замечаемые при попытках диалектического построения
существующего в его конкретном целом» (Л.М. Лопатин. Положительные задачи философии.
Ч. 1.М., 1911,с. 427).
100
Раздел! Владимир Соловьев
и составляющая основу всего существующего. Гегель соединил
натуралистический пантеизм Спинозы («субстанцию») и
мистический пантеизм Фихте («Субъект»), освободив последний от
остатков трансцендентного. Пересмотр значимости категории бытия
осуществляется Гегелем именно для того, чтобы устранить
трансцендентность Бога: «Если Бог — всереальнейшее существо, то он
превращается для нас в нечто потустороннее, и тогда не может
быть и речи о познании Его...»22
Монизм Гегеля осуществляется путем превращения бытия в
пустую абстракцию, в «общее после вещей», как его понимали
номиналисты. Оно оказывается беднейшим по содержанию понятием,
ибо производно от вещей эмпирического мира и потому стоит
даже ниже их. «Чистое бытие есть чистая абстракция и,
следовательно, абсолютно-отрицательное, которое, взятое также
непосредственно, есть ничто»23. «Для мысли не может быть ничего более
малозначащего по своему содержанию, чем бытие»24.
Не удивительно, что истиной таким образом понимаемого
бытия Гегель считает становление: ведь именно в становлении
единичные эмпирические явления обнаруживают свою конечную
и преходящую природу. Становление — как движение и
изменение — ставится Гегелем выше пребывания и неизменности:
специфический подход эпохи модерна, так отличающий его от
древнего и средневекового мировосприятия. Высшее понятие — дух —
Гегель тоже определяет как становление, «но более интенсивное,
более богатое, чем голое логическое становление»25. В
преимуществе становления над бытием, изменения над неизменностью
и самотождественностью (последняя не присуща даже Богу)
сказывается кардинальное отличие гегелевского монистического
идеализма от античного идеализма Платона и неоплатоников.
У Платона Единое выше ума, а потому непостижимо для него даже
с помощью диалектики (которая, кстати, существенно отличается
от диалектики гегелевской); гегелевская же система потому и
названа панлогизмом, что для разума (диалектического!) у него
ничего непостижимого нет. Хотя Гегель любит ссылаться на Аристо-
22 Г.В.Ф. Гегель. Энциклопедия философских наук, с. 176.
23 Там же, с. 148. Именно поэтому, говорит Гегель, недопустимо определять Бога
как бытие: «Если мы высказываем бытие как предикат Абсолютного, то мы
получаем первое определение последнего: Абсолютное есть бытие. Это... самое
начальное, наиабстрактнейшее и наибеднейшее определение» (там же, с. 146).
24 Там же, с. 104.
25 Там же, с. 155.
Глава 3 Искушение диалектикой: Соловьев и Гегель
101
теля, чьи понятия цели, энтелехии и целостности он хочет
восстановить в правах, критикуя новоевропейское естествознание за то,
что оно отбросило эти понятия, но по существу гегелевское
учение несовместимо с онто-теологией Аристотеля: достаточно
напомнить, что Гегель отвергает закон тождества, а вместе с ним
и центральное у Аристотеля понятие бытия (сущности,
субстанции), составляющие фундамент аристотелевской онтологии и
логики. Вопреки Аристотелю, сформулировавшему закон тождества
(непротиворечия) и опиравшемуся на него как в учении о
природе и мышлении, так и в учении о Боге, Гегель заявляет:
«Противоречие — вот что на самом деле движет миром, и смешно говорить,
что противоречие нельзя мыслить»26.
Ключевая роль отрицания в учении Гегеля обусловила
специфическую, отличную от классической античной трактовку
определения как важнейшего действия логики. Поскольку началом всего
определенного (и, стало быть, мыслимого) у Платона и
Аристотеля является Единое («сущее и единое, — пишет Аристотель, — тоже
самое, и у них — одна природа»27), то определение мыслится
греческой классикой как ограничение беспредельного с помощью
единства формы и в этохМ смысле — как утверждение, полагание:
определенное выше неопределенного, беспредельного, как бытие
выше небытия. Напротив, у Гегеля, который воспринял через
Спинозу традицию, восходящую к Николаю Кузанскому и Джордано
Бруно, и довел ее до логического конца, определение как
ограничение есть отрицание, ибо положительное мыслится здесь не как
Единое, но как бесконечное, точнее, как тождество
противоположностей — Единого и беспредельного. «Основа всякой
определенности есть отрицание (omne determinatio est negatio, как говорит
Спиноза). Лишенное мысли мнение неправильно рассматривает
определенные вещи как лишь положительные и фиксирует их под
формой бытия. На одном только бытии дело не кончается, ибо оно,
как мы раньше убедились, совершенно пусто и
бессодержательно»28. Принцип тождества мышления и бытия, которым держится
гегелевский монизм, предполагает, таким образом, тождество
единого и беспредельного, и оно-то лежит в основе гегелевской
диалектики и гегелевского пантеизма.
Там же, с. 206.
Метафизика, IV, 2.
Г.В.Ф. Гегель. Энциклопедия философских наук, с. 158.
102
Раздел! Владимир Соловьев
Учение Гегеля о развивающемся Боге
О пантеизме нужно сказать особо, поскольку именно здесь — один
из источников гегелевского Ихмперсонализма, оказавшего
определяющее влияние на философскую и политическую мысль XIX-XX
в. Специфической особенностью немецкого идеализма, начиная
с раннего Фихте и кончая Гегелем (поздний Фихте как раз пытался
преодолеть эту точку зрения), является представление о Боге не
как об актуально сущем (и в этом смысле тождественном себе),
а как о развивающемся из первоначально потенциального в
актуальное. Абсолют у Гегеля не есть нечто действительно
существующее, он есть возможное, т. е. сущее в понятии. Его актуализация
мыслится как самоосуществление в ходе мирового процесса —
сначала природного, а затем исторического. Вне и помимо
мирового процесса Бог своей актуальной реальности, своего бытия не
имеет: самосознание свое он обретает только благодаря человеку
(идея, чуждая христианскому теизму), в самой адекватной и
совершенной форме — в диалектическом монизме гегелевской
философии. Вот почему Гегель столь непримиримо критикует те
представления о Боге, согласно которым первое и главное, что присуще
Богу, есть бытие. История мира, по Гегелю, — это в сущности и есть
жизнь Бога. Тут, правда, имеет место парадоксальная ситуация:
с одной стороны, все существующее растворяется в Абсолютном,
представая как его неистинное, преходящее, конечное явление;
с другой стороны, Абсолютное не существует вне мира, не имеет
самостоятельной реальности и полностью поглощено миром.
Не случайно последователи Гегеля раскололись на два лагеря — на
правых и левых гегельянцев. Правые акцентировали первую
сторону, настаивая на том, что для Гегеля реально существует лишь
Бог, а левые — вторую, будучи убежденными в том, что гегелевская
философия открывает путь материализму. И они не очень
заблуждались: пантеистическая система Гегеля действительно во многом
подготовила марксистский материализм.
Таким образом, реальность есть богочеловеческий процесс,
в котором впервые рождается не только человек, но и Бог,
поскольку лишь в человеке он актуально реализует себя, достигая в
человеческом духе своего полного самосознания.
Этим своим учением о развивающемся Боге Гегель радикально
отличается от Аристотеля, на которого так часто ссылается. С
точки зрения Аристотеля, Бог есть чистая актуальность и лишь в
качестве такового он является условием возможности всякого
конечного существования. Убеждение в том, что актуальное бытие есть
Глава 3 Искушение диалектикой: Соловьев и Гегель
103
предпосылка потенциального, составляет кардинальный
принцип античной и средневековой философии: тезис немецкого
идеализма о становящемся Боге — специфически новоевропейский.
Гегелевский пантеистический монизм, как видим, существенно
отличается как от античного понимания Единого, так и от
христианского учения о трансцендентном личном Боге.
Правда, тут может возникнуть вопрос ведь в Логике Гегель
показывает, как абсолютная идея развертывает свои определения в
идеальной сфере чистой мысли до всякого «отчуждения» ее в природу
и до возникновения человечества и его истории. Так разве это не
самостоятельное бытие трансцендентного Бога, как его понимает
христианство? Однако в этой своей чисто логической стихии,
в своем предмирном развитии Абсолют есть именно
потенциальное начало, сфера чистых возможностей, еще только ожидающих
своей актуализации в мировом процессе. И тем более это
потенциальное состояние Абсолюта не есть нечто трансцендентное:
ведь в раскрытии логического содержания идеи для
человеческого — диалектического — разума нет ничего непостижимого.
Правда, поскольку диалектический разум опирается на закон
противоречия (на то самое противоречие, которое, с точки зрения
средневековой теологии, есть тот единственный запрет, который
не может нарушить даже всемогущий Творец, ибо это означало бы
попрание самой формы разумного мышления), то ясность и
прозрачность гегелевского «разума» нередко оставляет желать
лучшего: грань между понятным для разума и непонятным для него до
известной степени стирается. Высшим принципом мышления для
Человеко-Бога становится парадокс. Именно отмена запрета
противоречия делает человека способным постигнуть процесс
логического развертывания абсолютной идеи, т. е. всю внутреннюю
(хотя еще и только потенциальную) жизнь Божества. Такова сила,
всемогущество диалектики этого поистине магического искусства.
Гегель выразил существенные черты миросозерцания Нового
времени, определившие характер культуры XIX и XX вв.:
во-первых, убеждение во всемогуществе человека, а точнее богочелове-
чества, которому надлежит овладеть природой и полностью
подчинить ее своим целям; во-вторых, убеждение в железной
необходимости, с которой совершается богочеловеческий
процесс и в которой индивидуальной воле не дано ничего изменить.
Имперсонализм — естественное следствие пантеистического
монизма Гегеля.
Парадокс гегелевской философии в том, что при этом она, как
и весь немецкий идеализм, проникнута пафосом свободы. Однако
104
Раздел I Владимир Соловьев
свобода тут трактуется своеобразно: свободным является только
богочеловечество, но отнюдь не конечный единичный человек.
Последний — исчезающе малая пылинка в грандиозном движении
мирового духа, использующего в качестве средства намерения
и поступки индивида. При этом безразлична не только мотивация,
но и характер самого поступка: «хитрость разума» в том и состоит,
что царство осуществленной свободы созидается из самого
ничтожного и низкого материала. Подлинные движущие пружины
человеческой истории лежат вне пределов индивидуального
сознания, и в этом смысле индивидуальная свобода и
нравственность — это в конечном счете несущественные моменты в
развитии мирового духа; более того, зло более всего способствовало
историческому развитию. Индивид в системе Гегеля превращен
в простое орудие «хитрого разума». Таково естественное
следствие гегелевского метода «отрицания» и переосмысления им
традиционной трактовки бытия и индивидуальной субстанции.
В гегелевской системе есть единственная субстанция — это
субстанция-субъект, т. е. мировой исторический процесс, в ходе
которого Бог приходит к осознанию самого себя, не считаясь при
этом ни с какими средствами. «Мировой дух, — пишет Гегель, — не
обращает внимания даже на то, что он употребляет
многочисленные человеческие поколения для работы своего сознания себя, что
он делает чудовищные затраты возникающих и гибнущих
человеческих сил; он достаточно богат для такой затраты, он ведет свое
дело en grand29, у него достаточно народов и индивидуумов для
такой траты»30.
Индивид, таким образом, становится средством для достижения
целей мирового духа. Он может осознать эти цели как не чуждые
ему только в том случае, если сумеет встать на точку зрения
всеобщего и отказаться от своей «партикулярности», к которой Гегель
относит и всю нравственную жизнь индивида и связанную с ней его
свободу. А приобщение ко всеобщему означает теоретическое
постижение хода и целей мирового процесса, т. е. изучение
гегелевской философии, где раскрыты эти цели. История в этом смысле
предстает индивиду как такой же необходимый процесс, как и
органические процессы природы. С этой точки зрения, вполне
логичен вывод марксистов: свобода — это познанная необходимость.
Имперсонализм Гегеля естественно вырастает на почве его
пантеистического монизма, в корне отличного от христианского те-
29 широко, с размахом (фр.).
30 Г.В.Ф. Гегель. Лекции по истории философии // Соч. Т. IX. М-Л., 1932, с. 39-40.
Глава 3 Искушение диалектикой: Соловьев и Гегель
105
изма, основу которого составляет убеждение в самостоятельном,
актуальном бытии личного Бога.
Именно потому, что человек укоренен в трансцендентном, он
по своему онтологическому статусу и своей нравственной
ценности выше всякого чисто имманентного образования. Эту мысль
очень хорошо выразил английский писатель КС. Льюис «Если
человек живет только семьдесят лет, тогда государство, или нация,
или цивилизация, которые могут просуществовать тысячу лет,
безусловно представляют большую ценность, чем индивидуум.
Но если право христианство, то индивидуум — не только важнее,
а несравненно важнее, потому что он, человек, вечен, и жизнь
государства или цивилизации — лишь мгновение по сравнению с его
жизнью»3*. В этом — истина христианского персонализма,
которая была зачеркнута атеистическими учениями, выросшими на
почве гегелевского пантеизма, — например, марксизмом,
утопическая историософия которого исключает трансцендентного
Бога и соответственно ставит под вопрос непреходящую ценность
каждого отдельного человека.
Неправомерное и, в сущности, иллюзорное возвышение
человека у Гегеля путем снятия границы между трансцендентным и
имманентным, Творцом и творением парадоксальным образом
обернулось полным уничижением человека как единичного существа:
не удивительно, что традиционное христианское убеждение в
бессмертии индивидуальной разумной души также раздражало
Гегеля, как и его философская предпосылка — учение об
индивидуальных субстанциях. Вот почему подлинно конструктивная критика
философии модерна, квинтэссенцией которой является
гегельянство, предполагает возвращение к проблемам онтологии и новую
разработку не только категории бытия, но и тесно связанного
с ней понятия субстанции. Без возрождения метафизики
невозможно преодолеть имперсонализм гегелевского толка с его
теорией развивающегося Абсолюта, которая, как верно отмечает
П. Козловский, является новоевропейским вариантом
гностицизма, мыслившего Божество как становящееся и страдающее32.
Если мы хотим сегодня преодолеть дух утопизма, которому, как
молоху, в XX веке были принесены неисчислимые человеческие
жертвы, то нам надо освободиться прежде всего от гностицизма,
который является теоретической почвой для исторических утопий.
31 К.С Льюис. Христианское поведение // Иностранная литература, 1990, № 5,
с. 210.
32 См.: P. Koslowski. Op. cit., S. 74 ff.
106
Раздел! Владимир Соловьев
Гегелевские влияния в творчестве B.C. Соловьева
Отношение Вл. Соловьева к Гегелю не было однозначным. С одной
стороны, Соловьев достаточно серьезно отвергал гегелевский
панлогизм, но, с другой, находился под влиянием диалектики
немецкого философа.
К философии Гегеля Соловьев обращался неоднократно —
и в «Кризисе западной философии» (1874), и в «Чтениях о богоче-
ловечестве» ( 1877-1881 ), и в «Философских началах цельного
знания» (1877), и, наконец, в энциклопедической статье «Гегель», где —
уже в последний период творчества — дано изложение и
критическая оценка гегелевской системы. И везде русский философ
указывает на основной порок гегелевского учения — на гипостазирова-
ние понятия, на превращение логических определений мышления
в нечто самостоятельное, самосущее, лишенное того субъекта,
который мыслит с помощью этих определений. «...Чисто логические
определения как относительные, — пишет Соловьев в
„Философских началах цельного знания", — предполагают другие основные
или субстанциальные определения.... Ибо мышление предполагает
мыслящего, а мыслящий предполагает волящего и чувствующего»33.
Очень точна характеристика, данная Соловьевым гегелевской
философии: в ней исчезла субстанция, то, что имеет самобытное,
безотносительное существование; Гегель всё превратил в
отношения, и у него исчезли относящиеся, т. е. реальные субъекты
отношений. Именно от реальных субстанций логические
определения получают свою действительность, а сами эти определения,
в свою очередь, устанавливают связь, отношения этих субстанций,
сообщают им понятийную определенность.
Что же касается Гегеля, то он, по Соловьеву, «не признает ничего
кроме чисто-логических или относительных определений...
Субъект является для него только как один из последующих моментов
в саморазвитии чистого понятия... а не как сущий. Поэтому для
него все логические определения суть сказуемые без подлежащих,
отношения без относящихся. В таком виде они теряют всякую
действительную определенность, становятся текучими, каждое из них
беспрепятственно переходит в свое противоположное, и
констатирование этого тождества или безразличия противоположных
определений, взятых в их отвлеченности, или указание их
текучести составляет всю суть Гегелевой диалектики»34.
33 B.C. Соловьев. Собр. соч. Т. I, с. 364.
34 Там же, с. 364-365-
Глава 3 Искушение диалектикой: Соловьев и Гегель
107
Лучше, пожалуй, не скажешь. Здесь выявлена самая глубинная
подоплека гегелевского метода. Соловьев прекрасно видит, что
зерном, из которого выросла гегелевская система, был принцип,
высказанный Гегелем в его ранних работах — «Вера и знание»
и «Различие систем философии Фихте и Шеллинга» (1801-1802),
а именно, принцип тождества противоположностей, в сущности
отменивший закон тождества (или, в другой формулировке, закон
непротиворечия), который составлял логическую основу
античной, средневековой философии, а также учений XVII-XVIH вв. —
вплоть до Гегеля. «...Утверждение, что абсолютная идея в самой
общей своей форме есть тождество тождества и различия, или себя
и своего противоположного, составляет основное положение всей
Гегелевой логики и, следовательно, и всей его философии...»35
Именно в этом парадоксе — тождестве противоположностей —
уже дана в зародыше вся гегелевская диалектика, в которой
господствует отрицание: отрицанию у Гегеля, составляющему душу его
диалектики, дана верховная власть в философии, подобно тому,
как у Гёте в «Фаусте» правит дух отрицанья — Мефистофель.
Соловьев достаточно проницательно анализирует и смысл той
«первой клеточки», из которой диалектически развивает Гегель
всю систему логических категорий: а именно, понятия чистого
бытия, которое — в силу отсутствия у него каких бы то ни было
определений — тождественно своей (номинальной для Гегеля)
противоположности: ничто. «Под бытием, с которого Гегель начинает
свою логику, он разумеет не способ или модус самоположения
сверхсущего (в каковом смысле бытие есть одно из основных и
положительных определений), а только общее понятие бытия,
отвлеченное от всяких признаков и никакому субъекту не
принадлежащее; в этом смысле бытие имеет, очевидно, характер чисто
относительный и совершенно отрицательный, вследствие чего
и равняется понятию ничто»ъ6.
В отличие от Гегеля и в явной полемике с ним сам B.C. Соловьев
в качестве исходного начала принимает понятие «сущего»,
подчеркивая, что сущее — это реальный субъект мышления и
действия, наделенный волей и чувством. Говоря в вышеприведенном
отрывке о сверхсущем, Соловьев, очевидно, имеет в виду высшее
Сущее — Бога, который, будучи личным Богом, обладает волей
35 Там же, с. 363.
36 Там же, с. 364. «...Задача вывести всё из этого ничто... может быть только
диалектическим обманом, хотя разрешение ее могло послужить и действительно
послужило у Гегеля к богатому развитию диалектической формы* (там же, с. 315).
108
Раздел! Владимир Соловьев
и мышлением в самой высокой и совершенной степени». «...То
абсолютное первоначало, которое только может сделать наше
познание истинным и которое утверждается как принцип нашею
органическою логикою, прежде всего определяется как сущее, а не
как бытие»37. Иными словами, реальностью, по Соловьеву,
обладает только субъект; он и есть сущий, а его предикаты — бытие.
«..Бытие есть значит, что есть сущий»38. Строго говоря, сущее, в
понимании Соловьева, — это прежде всего субъект воли: воля, или,
в физическом се выражении, сила — вот что составляет сущность
сущего. По словам Соловьева, «сущее есть сила бытия»39.
Сущее, таким образом, — это то, что не может быть предикатом.
Поскольку, в терминологии Соловьева, предикат — это бытие,
то сущее не есть бытие, а есть начало всякого бытия. На языке
Соловьева, бытие — это явление. Здесь не обошлось без влияния
Шопенгауэра: ведь эмпирический мир, по Шопенгауэру, есть лишь
явление, лишь представление трансцендентной по отношению
к нему «вещи в себе», сущность которой составляет воля (она-то
и есть «сила бытия»). «Всякое действительное бытие, — пишет
Соловьев, имея в виду эмпирический мир, — есть явление, и кроме
явления нет действительного бытия. Но из этого не следует, чтобы
явление было всё... Но кроме бытия есть сущее, без которого
невозможно и само бытие, как явление невозможно без являющегося.
Сущее есть являющееся, а бытие есть явление»40.
Критика Соловьевым Гегеля
с позиций спиритуалистического реализма
С этой позиции B.C. Соловьев и критикует гегелевское учение,
справедливо считая недопустимым отождествлять имманентную
диалектику нашего мышления с трансцендентным логосом самого сущего.
При таком отождествлении Гегель как раз и превращает
диалектическое мышление в абсолютное творчество самой действительности:
не случайно Гегель видит в диалектике ту самую силу, которую
теологи называют божественным всемогуществом. По мысли Соловьева,
гегелевское «отрицание собственной трансцендентной действи-
37 Там же, с. 306.
38 Там же, с. 305.
39 Там же, с. 307.
40 Там же.
Глава 3 Искушение диалектикой: Соловьев и Гегель
109
тельности сущего ведет... к абсолютному скептицизму и абсурду»41.
Здесь Соловьев во многом воспроизводит ту критику гегелевского
панлогизма, которую осуществил поздний Шеллинг в своей
положительной философии42. Признавая реальность сущего, не зависимую
от нашего мышления о нем, Соловьев отвергает гегелевский
принцип тождества мышления и бытия, при котором бытие лишается
всякой самостоятельности: «По Гегелю, — резюмирует русский
философ, — наше диалектическое мышление есть собственное сознание
сущего или его сознание о себе самом, причем вне этого сознания
сущего и нет совсем»43. Соловьев касается здесь важнейшего
момента гегелевского учения, а именно, тезиса о том, что человеческое
мышление в высшей его форме — диалектики Гегеля — есть сознание
Бога о себе самом. Этот тезис Соловьев, как видим, решительно
отвергает. Вместе с этим тезисом пересматривается и гегелевская
система в целом, и прежде всего понимание природы. «Прочие
философы, — пишет Соловьев в статье „Гегель", подготовленной для
философского словаря Брокгауза, — подчиняли свое умозрение
независимому от него объекту; для одних этот объект был Бог, для
других — природа. Для Гегеля, напротив, сам Бог был лишь
философствующий ум, который только в совершенной философии достигает
и своего собственного абсолютного совершенства; на природу же
в ее эмпирических явлениях Гегель смотрел как на чешую, которую
сбрасывает в своем движении змея абсолютной диалектики»44.
Подводя итог соловьевской критики Гегеля, отметим, что эта
критика ведется в нескольких направлениях. Во-первых, Соловьев
не признает отвлеченного характера мышления, свойственного
41Тамже,с.ЗН.
42 Именно Шеллинг подчеркивал, что гегелевская диалектика ведет к
устранению реально существующего, приписывая формальной деятельности
мышления способность творчества самой действительности. Ту же мысль находим
и у Соловьева: «Положительная диалектика отождествляет себя (наше чистое
мышление) с логосом сущего лишь по общей сущности или формально, а не по
существованию или материально; она признает, что логическое содержание
нашего чистого мышления тождественно с логическим содержанием сущего,
другими словами, что те же самые... определения, которые мы диалектически
мыслим, принадлежат и сущему, но совершенно независимо... от нашего
мышления. И не только эти определения принадлежат сущему самому по себе в его
собственной действительности... но даже и нам эти определения доступны
в своей живой действительности первее всякой рефлексии и всякой
диалектики, именно в идеальном умосозерцании...» (там же, с. 314).
43 Там же, с. 315.
44 B.C. Соловьев. Собр. соч. Т. IX. СПб, 1907, с. 71.
110
Раздел! Владимир Соловьев
немецкому идеализму вообще и Гегелю в особенности. Во-вторых,
он пересматривает роль разума, отнюдь не отвергая его, но
отождествляя высшее — духовное — начало в Боге и в человеке не
столько с разумом, сколько с волей: сущее у Соловьева есть субъект воли;
как говорит философ, «сущее есть сила бытия»45. В-третьих,
Соловьев переосмысляет место и значение воображения и чувства,
занимавших в гегелевской системе весьма скромное место.
В противоположность философии Гегеля как отвлеченному
знанию Соловьев видит в философии дело жизни, а не только школы;
он хочет создать свободную теософию, или цельное знание,
которое совместило бы в себе принцип автономии разума, на котором
стоит рационализм, с содержанием христианской религии как
религии откровения. В этом смысле философия Соловьева
нетождественна ни теологии, ни спекулятивной рационалистической
философии. «...Теология в гармоническом соединении с философией
и наукой образует свободную теософию, или цельное знание»*6.
Термин «теософия» Соловьев употребляет в том смысле, какой он
имел у Шеллинга, Баадера и других религиозных мыслителей
прошлого века, а не в том, какой он получил в конце века в
необуддизме Е.П. Блаватской и ее учеников.
С этих позиций B.C. Соловьев и ведет критику Гегеля. И тем не
менее эта критика не помешала русскому философу высоко оценить
гегелевское учение вообще и его диалектику в особенности.
Философия Гегеля, по словам Соловьева, «в своей сфере формального
чисто-логического мышления является совершенно полною и
замкнутою. Поэтому общие формулы гегелизма останутся как
вечные формулы философии»47. Это констатируется в той же работе —
«Философские начала цельного знания», где дана глубокая и верная
критика гегелевского панлогизма. Весьма высоко оценивает
Соловьев и гегелевский метод развития понятия, на сей раз подчеркивая
его преимущество перед Шеллинговым «интеллектуальным
созерцанием»: Гегель, пишет Соловьев, признал необходимым излагать
свою систему «чисто-философски, через диалектическое развитие
понятия, а не основываться на одном проблематическом
„умственном созерцании" истины»48.
Что это — непоследовательность философа, признающего то
преимущество Шеллинга перед Гегелем, то наоборот — Гегеля пе-
45 B.C. Соловьев. Собр. соч. Т. I, с. 307.
4бТамже,с.2б1.
47 Там же, с. 282.
48 Там же. Т. IX, с. 72.
Глава 3 Искушение диалеетикой: Соловьев и Гегель
111
ред Шеллингом? Или это — некоторая переоценка старых
воззрений (последний отрывок взят нами из статьи «Гегель», написанной
в 90-е годы)? Скорее всего, здесь сказалось именно двойственное
отношение к Гегелю, характерное для всего творчества русского
философа — как раннего, так и позднего периодов. Дело в том, что
гегелевская диалектика, которую так справедливо критиковал
Соловьев, во многом определила способ изложения его
собственного учения. Не случайно в «Чтениях о богочеловечестве» русский
философ замечает, что для логического уяснения христианского
догмата Троицы «неоценимым средством могут служить нам те
определения чистой логической мысли, которые с таким
совершенством были развиты в новейшей германской философии, которая
с этой формальной стороны имеет для нас то же значение, какое
для древних богословов имели доктрины Академии и Ликея...»49
Говоря о германской философии, Соловьев здесь имеет в виду
прежде всего Гегеля: ведь под влиянием Гегеля формируется та
органическая логика Соловьева, с помощью которой он строит
«свободную теософию». «Так как органическая логика, имеющая своей
исходной точкой понятие (Хбуос) абсолютного первоначала или
сущего, должна из самого этого понятия логически вывести все
существенные определения сущего самого по себе, то метод этой
науки может быть только чистое диалектическое мышление,
то есть мышление извнутриразвивающееся, независимое ни от
каких случайных внешних элементов»50.
Как и Гегель, Соловьев стремится из умозрительных
предпосылок вывести все основные положения своей системы, объяснив
таким образом не только основные, но и частные моменты
действительности, особенно события мировой истории. Отмечая эту
особенность соловьевского мышления, Л.М. Лопатин видит здесь
прежде всего влияние Гегеля. «Этот недостаток, — пишет он в
статье „Философское миросозерцание B.C. Соловьева", — является
естественным следствием того несколько преувеличенного
уважения, с которым Соловьев относился к диалектическому методу,
внесенному в философию немецкими идеалистами, главным
образом Гегелем. В диалектическом методе можно указать
некоторые несомненные и важные достоинства; но лежащее в его
основании общее требование: вывести все частные формы, свойства
и законы бытия и даже основные факты его развития из одного
совершенно отвлеченного принципа путем чисто умозрительным,
Там же. Т. III, с. 76.
Там же. Т. I, с. 313- — Курсив мой. — ПГ.
112
Раздел! Владимир Соловьев
представляется по существу невыполнимым. Это не всегда замечал
и сознавал Соловьев, и в этом обстоятельстве всего сильнее
обнаруживается, насколько серьезное влияние имел на него Гегель»51.
Это справедливое замечание. Ведь даже несмотря на критику
гегелевского исходного начала — чистого бытия, которое в силу
отсутствия у него всяких определений тождественно ничто, несмотря на
утверждение в качестве первоначала Сущего, т. е. живого личного Бога,
который есть реальность, независимая от нашего мышления,
Соловьев в исходной точке своей системы использует опять-таки
понятия Гегеля: он характеризует Абсолют как субстанцию-субъект.
Подчеркивая личный характер Бога, Соловьев тут же поясняет, что
Божество как абсолютное не может быть только личностью, что оно
более чем личность. «Истина очевидно в том, что божественное
начало... не исчерпывается личным определением, что оно не есть
только единое, но и всё, не есть только индивидуальное, но и
всеобъемлющее существо, не только сущий, но и сущность»52. Как личность
Бог есть единое, или Субъект; как всеобъемлющее начало, как «все»
Он есть субстанция; таким образом, всеединство, центральное
понятие в учении Соловьева, мыслится им как Субстанция-Субъект53.
И это, как мы увидим ниже, не чисто внешнее заимствование
гегелевских форм мышления; сходство с Гегелем оказывается гораздо
глубже, чем может показаться на первый взгляд. Соловьев разделяет, быть
может, самые фундаментальные интуиции немецкого философа.
Наиболее очевидным образом влияние гегелевского метода
обнаруживается у Соловьева, когда он диалектически развертывает
внутреннюю динамику божественного всеединства. Так как вне
Бога как абсолютного нет ничего, что могло бы определять его извне,
то всякое определение может быть только актом самоопределения
абсолютно-сущего. «В этом акте, с одной стороны, сущее...
противопоставляет себя своему содержанию как своему другому или
предмету, — это есть акт саморазличения сущего на два полюса, из коих
один выражает безусловное единство, а другой всё или
множественность»54. Тут мы, таким образом, имеем раздвоение Единого,
напоминающее гегелевское «тождество тождества и нетождества» как
исходный пункт диалектического процесса. Процесс
саморазвертывания божественного всеединства опять-таки проходит три ге-
51 ЯМ. Лопатин. Философские характеристики и речи. М., 1995, с. 115.
52 Там же, с. 67.
53 «Как безусловное, будучи субъектом, оно (божественное начало. — ПГ.)
вместе с тем есть и субстанция...» (там же).
54 B.C. Соловьев. Собр. соч. Т. III, с. 81.
Глава 3 Искушение диалектикой: Соловьев и Гегель
113
гелевские фазы: в-себе-бытия, для-себя-бытия и у-себя-бытия. «...Мы
имеем, — поясняет Соловьев, — три отношения или три
положения абсолютно-сущего как определяющего себя относительно
своего содержания. Во-первых, оно полагается как обладающее этим
содержанием в непосредственном субстанциальном единстве или
безразличии с собою, — оно полагается как единая субстанция... во-
вторых, оно полагается как проявляющееся или осуществляющее
свое абсолютное содержание, противополагая его себе или
выделяя его из себя актом своего самоопределения; наконец,
в-третьих, оно полагается как сохраняющее и утверждающее себя в этом
своем содержании, или как осуществляющее себя в актуальном,
опосредствованном или различенном единстве с этим
содержанием или сущностью, т. е. со всем, — другими словами, как находящее
себя в другом, или вечно к себе возвращающееся и у себя сущее»55.
Нетрудно видеть, что эти три способа существования Божества —
в себе, для-себя иу-себя — соответствуют трем фазам развития
гегелевской абсолютной идеи. И у Гегеля, и у Соловьева божественный
субъект выступает вначале как субстанциальный (в-себе-сущий),
затем — как действующий и актуализирующийся (для-себя-сущий)
и, наконец, как обретающий самосознание и актуально
утверждающий себя в действительности (у-себя-сущий).
Однако Соловьев при этом хочет избежать гегелевского
принципа тождества различного (противоположного). «Три
исключающие друг друга положения в одном и том же акте одного и того
же субъекта решительно немыслимы, — пишет он. — Один и тот
же вечный субъект не может вместе и скрывать в себе все свои
определения, и проявлять их для себя, выделяя их как другое, и
пребывать в ниху себя как в своих»56. Стало быть, в одном субъекте
невозможно существование трех состояний, исключающих друг
друга. С другой стороны, в абсолютном существе, которое вечно,
а не длится во времени, не может быть трех последовательных
актов. Поэтому, заключает философ, остается «предположить три
вечных субъекта (ипостаси), из коих второй, непосредственно
порождаясь первым, есть прямой образ ипостаси его, выражает
своею действительностью существенное содержание первого,
служит ему вечным выражением или Словом, а третий, исходя из
первого, как уже имеющего свое проявление во втором, утверждает
его как выраженного или в его выражении»51.
55 Там же, с. 83-
56 Там же, с. 87.
57 Там же.
114
Раздел! Владимир Соловьев
Так с помощью диалектики выводится необходимость
божественной Троицы. Несколько иначе выглядит диалектический способ
выведения триединства Божия в более поздней работе Соловьева
«Россия и вселенская церковь», изданной на французском языке в Париже
в 1889 году. Здесь опять-таки с помощью диалектики философ
пытается из отдельных божественных ипостасей вывести три различные
сферы божественного мира. Как и в «Чтениях о богочеловечестве»,
Бог-Отец представляет в-себе-бытие, т. е. субстанциальное единство,
Бог-Сын — Логос есть сфера чистых умов, которые наделены
сознанием и созерцанием, а потому суть для-себя-бытие, но еще не
отделены от Бога-Отца субстанциально. Наконец, Бог-Дух-Святой — это,
по Соловьеву, мир ангелов, не только самосознающих, но и
имеющих самостоятельное существование, независимое от Бога-Отца.
Эта третья сфера — опять же в гегелевских терминах — предстает как
бытие-в-себе-и-для-себя. Дедукция божественного мира, как видим,
проведена по схеме Гегеля, которая не может не привести к
пантеистическому выводу о том, что мир бесплотных ангелов, который,
согласно христианскому представлению, есть творение Божие, у
Соловьева является логически необходимым результатом
диалектического развития Бога. В жертву диалектике приносится важнейший
догмат христианства — свобода Бога от сотворенного им мира.
Согласно христианской вере, Бог творит и горний, и дольний мир по
своей свободе, а не в силу диалектической необходимости. «Самая
попытка дедукции, — замечает в этой связи E.H. Трубецкой, — заранее
предполагает, что в основе отношений Бога к Его творению лежит не
свобода, а логическая необходимость... Переоценка диалектической
методы чдесь несомненно связывается с пантеистическими
наклонностями мысли Соловьева»58.
Истина христианского откровения подтверждается
Соловьевым с помощью умозрения, причем умозрения, пользующегося
гегелевским диалектическим методом.
Учение о Сущем и о человечестве
как Втором Абсолюте
И все же, несмотря на это методологическое сходство с
концепцией Гегеля, теософия Соловьева как система цельного знания имеет
и существенное отличие от гегелевской системы. Понятие абсо-
Е.Н. Трубецкой. Миросозерцание Вл.С Соловьева. Т. 1, с. 359-360.
Глава 3 Искушение диалектикой: Соловьев и Гегель
115
лютно Сущего у Соловьева не есть нечто лишь потенциальное, как
это было у Гегеля, а представляет собой всю полноту
действительности. Если у Гегеля Абсолют наполняется содержанием только
генетически, путем саморазвития в историческом процессе, то,
согласно Соловьеву, истинно абсолютное «необходимо и вечно
заключает в себе всё бытие и все действительности, всегда
оставаясь таким образом выше этого бытия и этой действительности.
В нем самом не может быть никакого процесса»59. Это только
человек, пытаясь постигнуть бытие Абсолюта, осуществляет в своем
мышлении переход от потенциальных и абстрактных
определений к актуальным и конкретным, но в самом Божестве Его
содержание существует как один вечный акт.
Как видим, наш философ постоянно стремится избежать тех
недостатков, которые он сам так убедительно вскрыл в гегелевской
философии. Тем более поразительно, что ему не удается до конца от
этих недостатков освободиться. И причина тут, видимо, в том, что
Соловьев, как и большинство мыслителей XIX века, разделяет те
общие мировоззренческие предпосылки, из которых вырастает как
немецкий идеализм, так и русская философия всеединства. Это —
вера в прогрессу в торжество справедливости и разума здесь, на
Земле, причем наступление этой новой эры, господства правды и добра
мыслится и Гегелем, и Соловьевым как очень близкое будущее
(собственно, Гегель видел осуществление этого идеала разума уже в его
эпоху, в настоящем). Такая непоколебимая вера в прогрессивное
движение человечества определила центральную роль идеи
процесса, эволюции и в гегелевском, и в соловьевском учениях. Не
случайно Соловьев, создавая «органическую логику», постигающую
предмет в его целостности, подчеркивает, что «органическое
мышление может быть названо развивающим или эволюционным»60.
Что же именно является эволюционирующей реальностью в
системе Соловьева, коль скоро наш философ не принимает
гегелевское учение о развивающемся Абсолюте? Чтобы ответить на этот
вопрос, необходимо остановиться на соловьевской концепции
единства человечества, — единства не в переносном, а в
буквальном смысле. Человечество, согласно Соловьеву, есть единый
организм, единое существо, которое и является субъектом
исторического развития61. В основе такого подхода лежит не только
59 B.C. Соловьев. Собр. соч. Т. I, с. 319.
60 Там же. Т. III, с. 89.
61 «Субъектом развития является здесь человечество как действительный, хотя
и собирательный организм. Обыкновенно, когда говорят о человечестве как
116
Раздел! Владимир Соловьев
убеждение философа в реальности всеобщего, роднящее его
опять-таки с Гегелем, но и стремление к олицетворению этого
всеобщего, к отождествлению его с неким космическим началом,
которое опять-таки есть не просто бытие, а Сущее. Человечество,
по Соловьеву, есть не просто единое живое существо, организм, —
оно есть Личность, точнее даже, Сверх-Личность — душа мира,
София, которую русское религиозное сознание воплотило в образ-
икону Софии Премудрости Божией и которая «сближается то
с Христом, то с Богородицею, тем самым не допуская полного
отождествления ни с Ним, ни с Нею»62.
Выше мы уже говорили о том, что человечество — оно же
София — есть у Соловьева второе абсолютное, которое, в отличие от
первого абсолютного, имманентно миру, составляет его живую
и единую душу и развивается вместе с ним. Соловьев отличал
второе абсолютное от первого — трансцендентного Бога; влияние
немецкого идеализма сказалось тут в том, что русский философ не
смог обойтись без развивающегося Абсолюта и, не допустив
развития в трансцендентное начало, сделал эволюцию основным
определением мировой души, субстанции космического процесса,
т. е. — природы, становящейся человеком, историческим
человечеством. Однако поскольку второй Абсолют невозможно полностью
отделить от трансцендентного Бога (об этом пойдет речь в
следующем разделе книги), постольку и сам Бог тоже не остается
непричастным генезису. Тут, видимо, и лежит корень многих затруднений
Соловьева, связанных с его софиологией. E.H. Трубецкой отмечает,
что «у Соловьева сущее становящееся понимается по-шеллингиан-
ски, как необходимая составная часть самого (первого)
Абсолютного, от века и притом существенно с ним связанная»63; поэтому
«генезис, становящееся бытие, и у него относится к Абсолютному
как явление к сущности»64. Тем самым, как справедливо полагает
E.H. Трубецкой, Соловьеву при всем его желании не вполне удается
освободиться от пантеистических мотивов, общих у него с Гегелем.
Коль скоро прерогатива быть Личностью переходит к
человечеству, то отдельный индивид этой прерогативы лишается. И чтобы
о едином существе или организме, то видят в этом едва ли более чем метафору,
или же простой абстракт: значение действительного единичного существа или
индивида приписывается только каждому отдельному человеку. Но это
совершенно неосновательно» (там же. Т. I, с. 232).
62 Там же. Т. VIII, с. 240.
63 E.H. Трубецкой. Цит соч., с. 300.
64 Там же.
Глава 3 Искушение диалектикой: Соловьев и Гегель
117
доказать, что право быть самостоятельной субстанцией
отнимается у единичного человека справедливо, B.C. Соловьев в своей
последней большой работе — «Теоретическая философия» —
предпринимает основательную критику идеи «субстанциальности Я».
Критический пафос работы направлен против Декарта, искавшего
самое очевидное и достоверное положение, чтобы на нем
возвести систему истинного знания. Такое положение Декарт, как
известно, нашел в формуле: «мыслю, следовательно, существую».
Эта картезианская формула неоднократно подвергалась
критике — и прежде всего из-за того субъективизма, который наложил
свою печать на европейскую мысль Нового времени. Однако
критика Соловьева имеет специфический аспект: он отвергает
Декартово решение, потому что французский философ не просто
исходит из сознания как факта, как эмпирической (психологической)
данности, наличия определенных ощущений, представлений,
желаний, т. е. потока сознания, но потому, что Декарт ставит вопрос:
чье это сознание? Кто тот субъект, то реальное сущее, та
субстанция, которой этот поток принадлежит? «В житейском обиходе, —
иронически замечает Соловьев, — можно не задумываясь
спрашивать: чей кафтан? или чьи калоши? Но по какому праву можем мы
спрашивать в философии: чье сознание? — тем самым
предполагая присутствие разных кто, которым нужно отдать сознание в
частную или общинную собственность? Самый вопрос есть лишь
философски-недопустимое выражение догматической
уверенности в безотносительном и самотождественном бытии единичных
существ. Но именно эта-то уверенность и требует проверки и
оправдания через непреложные логические выводы из
самоочевидных данных. Такого оправдания я не нашел для нее ни в
Декартовой презумпции cogito ergo sum, ни в Лейбницевой гипотезе
монад, ни в Мэн де Бирановых указаниях на активные элементы
сознания»65.
«Теоретическая философия» посвящена доказательству
реальности человечества и ирреальности отдельного человека.
Объектом критики каждый раз оказывается персонализм, — не только
персонализм Декарта, Лейбница, Мэн де Бирана, Кузена, но и
русских философов, в частности, близкого друга Соловьева Л.М.
Лопатина.
Именно против картезианского персонализма, а не просто
субъективизма и механицизма выступает В. Соловьев, и не
случайно он саркастически подчеркивает схоластические истоки карте-
В.С Соловьев. Собр. соч. Т. VIII, с. 183.
118
Раздел I Владимир Соловьев
зианского когито66 и полемизирует с Виктором Кузеном,
акцентировавшим онтологическую подоплеку этого когито67.
Таким образом, в своем учении о богочеловечестве как едином
организме B.C. Соловьев отдал дань своим ранним увлечениям
Спинозой и Гегелем; особенно в последний период творчества эта
пантеистическая составляющая миросозерцания Соловьева
проявляется наиболее ярко, приводя философа к очевидному имперсона-
лизму. Мировая история представляется Соловьеву необходимым
процессом развития, ведущего к высшей цели — к осуществлению
Царства Божия на Земле. Естественно, что этот процесс, также как
и у Гегеля, не оставляет места для свободы индивида. Такого рода
утопические чаяния составляют пафос Соловьева в первый и второй
период его творчества — вплоть до конца 90-х годов. И лишь в
последнем произведении, в «Трех разговорах», русский философ,
разочаровавшись в своей утопии, намечает контуры иного подхода
к истории — эсхатологического. Тут, наконец, В. Соловьев
освобождается от идеи прогресса и от обаяния гегелевской философии,
с этой идеей неразрывно связанного.
66 «Декартовский субъект мышления, — пишет Соловьев, — есть самозванец без
философского паспорта. Он сидел некогда в смиренной келий
схоластического монастыря как некоторая entitas, quidditas или даже haecceitas. Наскоро
переодевшись, он вырвался оттуда, провозгласил cogito ergo sum и занял на время
престол новой философии» (там же. Т. VIII, с. 171). Печать средневекового
мышления действительно лежит на творчестве Декарта, в том числе и на его
тезисе о субстанциальности, вечности, бессмертии разумной души. Напрасно,
однако, Соловьев не сослался на подлинный источник картезианского когито, а
именно на Августина Блаженного: ведь как раз Августин в споре против
скептиков нашел тот аргумент, который более тысячелетия спустя воспроизвел
Декарт: «Без всяких фантазий и без всякой обманчивой игры призраков для меня
в высшей степени несомненно, что я существую... Я не боюсь никаких
возражений относительно этих истин со стороны Академиков, которые могли бы
сказать: „А что если ты обманываешься" — „Если я обманываюсь, то поэтому уже
существую..."» («Творения блаж Августина, Епископа Иппонийского». Ч. 4. Киев,
1905, с. 217). Как видим, свой «философский паспорт» Декарт получил от
одного из отцов христианской церкви.
67 См. B.C. Соловьев. Собр. соч. Т. VIII, с. 171 и ел.
Раздел II
Религиозная
философия XIX века:
современники
Соловьева
Глава 4
«Конкретный идеализм» кн. С.Н. Трубецкого
как учение об универсальной
соотносительности сущего*
Сергей Николаевич Трубецкой принадлежит к числу наиболее
выдающихся представителей русской религиозной философии
конца XIX — начала XX века. Глубокий, широко образованный
мыслитель, основательный исследователь, талантливый публицист
и энергичный общественный деятель, С.Н. Трубецкой оказал
большое влияние на развитие философской мысли в России. Его труды
по истории философии, прежде всего античной, могут быть
названы классическими. Его многолетняя преподавательская
деятельность в стенах Московского университета была направлена к тому,
чтобы не только дать студентам знания, научить их
самостоятельно мыслить, но и привить им любовь к серьезному
исследовательскому труду. «Сам постоянно учась, — вспоминает о Трубецком
С.А. Котляревский, — Сергей Николаевич питал настоящее
благоговение к правильно поставленному научному труду. Никакая
талантливость, никакой блеск формы не освобождает исследователя
от тех обязательств, которые предъявляет к нему его логическая
совесть. В этой высокой оценке научного труда лежал и корень
интереса, который всегда питал С.Н. к школе — высшей и средней»1.
Жизненный путь
Сергей Николаевич родился 23 июля 1862 года в подмосковном
имении князей Трубецких Ахтырке. Семья была большая: у Сергея
Николаевича было восемь братьев и сестер; самым близким к нему
* Раздел публиковался ранее в качестве предисловия к книге: С.Н. Трубецкой.
Сочинения. М., 1994. Текст дополнен новым материалом.
1 С.А. Котляревский. Миросозерцание князя С.Н. Трубецкого // Вопросы
философии и психологии, кн. 131 (I). М., 1916, с. 43-
122 Раздел II Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
был младший брат Евгений, всего годом моложе его, тоже будущий
философ. Атмосфера родительского дома сыграла большую роль
в духовном формировании С.Н. Трубецкого. Его отец, Николай
Петрович Трубецкой, служивший вице-губернатором в Калуге, был
человек достаточно образованный и просвещенный, типичный
либерал 60-х годов. Предоставив дела по имению своему «жулику-
управляющему», как о нем вспоминал E.H. Трубецкой, он больше
всего увлекался музыкой, дружил с музыкантом и композитором
Н.П. Рубинштейном и опекал Императорское Русское
Музыкальное общество в Москве. В Ахтырку приезжали знаменитые
музыканты и чаще всего — Николай Рубинштейн, которого дети очень
любили. Вспоминая детские годы, E.H. Трубецкой пишет о
«звуковой Ахтырке»: «Когда я ее вспоминаю с закрытыми глазами, мне
кажется, что я ее не только вижу, но и слышу. Словно звучит каждая
дорожка в парке, всякая в нем роща, лужайка или поворот реки;
всякое место связано с особым мотивом, имеет свой особый
музыкальный образ, неразрывный с зрительным»2.
Дух семьи во многом определяла мать, Софья Алексеевна
Трубецкая, урожденная Лопухина. Это была религиозная, чуткая,
начитанная и умная женщина, отличавшаяся и «даровитостью
природы, и в особенности глубиною своего сердца»3. Все свои
душевные силы она отдавала семье, детям. Сергей Николаевич очень
любил свою мать; видимо, во многом именно ей он обязан своим
душевным складом: редкой благожелательностью, чуткостью к
чужой боли, но и большой твердостью в отстаивании своих
убеждений, правдивостью, стремлением служить общему благу.
Интересен случай, рассказанный E.H. Трубецким и рисующий характер
старшего брата: «Я был тогда мал, очень мал. Мы шли с лопатами —
копать наш ахтырский сад-огород... По дороге мы оба
залюбовались какой-то необыкновенно красивой бабочкой; я ее тут же
поймал и с детским легкомыслием разорвал ей крылышки. Никогда не
забуду того, что тут сделалось с Сережей; он весь задрожал,
заплакал, закричал и сильно ударил меня лопатой по ноге. После того
мы оба долго ревели, я — от боли и отчасти от стыда, а он — от
ужаса перед тем, что я сделал. Так он с раннего детского возраста
воспринимал страдания живой твари»4.
Окончив гимназию в Калуге, С.Н. Трубецкой в 1881 г. поступил
в Московский университет на юридический факультет, но вскоре
2 E.H. Трубецкой. Из прошлого. Вена, б.г., с. 48.
3 Там же.
4 Там же, с. 72-73-
Глава 4 «Конкретный идеализм» кн. С.Н. Трубецкого
123
перешел на историко-филологический, по окончании которого
в 1885 г. был оставлен при университете для подготовке к
профессорскому званию по кафедре философии. В 1886 г. он сдал
экзамен на магистра философии, а два года спустя в качестве приват-
доцента начал читать лекции по философии.
Однако увлечение философией началось у Трубецкого задолго
до его поступления в университет. Еще в пятом классе гимназии он
зачитывался Белинским, пробудившим у юноши интерес к
философским размышлениям. В 16 лет Сергей Николаевич, также как
и его младший брат, переживает «период англо-французского
позитивизма»5, которым в 70-80-х годах увлекалась большая часть
русской молодежи. Милль, Спенсер, Конт, Дарвин, Бокль — вот
имена властителей дум той эпохи; именно их сочинения
становятся предметом изучения Трубецкого-гимназиста. Как и его
старший современник и впоследствии близкий друг B.C. Соловьев,
будущий философ переживает краткий период нигилизма,
«юношеского догматизма в отрицании»6, скептицизма в
отношении нравственных религиозных ценностей, в отношении «веры
отцов». Однако уже в 17 лет Трубецкой постепенно освобождается
отдуха отрицания и нигилизма. В этом помог ему историк
философии гегелевской школы Куно Фишер; чтение сочинений
Фишера вызывает у молодого философа интерес к немецкому
идеализму; он изучает «Критику чистого разума» Канта и целиком
погружается в мир великого кенигсбержца, определившего
направление и характер дальнейшего развития С.Н. Трубецкого.
Начало восьмидесятых годов в России — период острого
столкновения двух идейных направлений, двух
общественно-политических течений. Одно из них отвергало традиционные формы
мышления и жизненного уклада России; представители его
ориентировались на позитивизм и нередко на вульгарный
материализм; крайней формой такой «отрицательной» ориентации был
народовольческий терроризм. Убийство в 1881 году Александра II,
царя-реформатора, было кульминацией этих настроений и
вызвало сильную реакцию в русском образованном обществе. Другое
направление выступало за сохранение традиций и духовных
ценностей: оно было представлено прежде всего «Русским
вестником», печатавшим в это время роман Ф.М. Достоевского «Братья
Карамазовы» и параллельно «Критику отвлеченных начал» B.C.
Соловьева. Именно в 1880-1881 годах С.Н. Трубецкой открыл для се-
5 E.H. Трубецкой. Воспоминания. София, 1921, с. 56.
6 Там же.
124 Раздел II Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
бя — не без помощи Достоевского — творчество славянофилов.
«Мой брат, — вспоминает E.H. Трубецкой, — наткнулся на
богословские произведения Хомякова, которые тотчас были нами
обоими прочтены с жадностью. Благодаря этим влияниям наш
поворот к религии не остановился на промежуточной ступени
неопределенного и расплывчатого теизма, а сразу вылился в
определенную форму возвращения к „вере отцов"»7. Не столько
общественно-политические взгляды славянофилов, от которых
впоследствии С.Н. Трубецкой совершенно отказался, сколько их
собственно философское учение оказало на него большое
влияние, тем более что славянофилы также начинали свое развитие,
отправляясь от немецкого идеализма, как и молодой Трубецкой.
В университете Трубецкой продолжает штудировать
славянофилов, B.C. Соловьева, Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля, Шопенгауэра.
Параллельно он обращается к древнегреческим философам —
Платону и особенно Аристотелю, углубленное изучение которых — не
без помощи А. Тренделенбурга — внесло важный корректив в его
понимание немецкого идеализма, особенно Гегеля, позволив
молодому философу увидеть слабости последнего. Под влиянием
B.C. Соловьева Трубецкой в студенческие годы погружается в
чтение немецких мистиков — Мейстера Экхарта, Парацельса, Якоба
Бёме и его толкователя в XIX веке — Ф. Баадера.
Большое значение для становления С.Н. Трубецкого как
исследователя имели его длительные поездки за границу, где он слушал
лекции не только по философии, но и по всеобщей истории,
классической филологии и истории церкви. У него установились
тесные связи со знаменитым филологом Г. Дильсом, побудившим его
к занятиям древнегреческой философией и религией,
вылившимся в большое и основательное исследование «Метафизика в
древней Греции» (1890), и немецким протестантским теологом и
историком церкви А. Гарнаком. Общению с последним в 1890-1891 гг.
С.Н. Трубецкой в значительной степени обязан интересом к
проблеме возникновения христианства, которой он посвятил свою
докторскую диссертацию «Учение о Логосе в его истории» (1900).
В 1890 г. С.Н. Трубецкой защитил магистерскую диссертацию
«Метафизика в Древней Греции» и выпустил одну из своих
программных работ — «О природе человеческого сознания». Спустя
несколько лет — в 1896 году — вышла его большая работа
«Основания идеализма», где изложены результаты многолетних
размышлений Трубецкого и раскрыты принципы его учения, которое он
Там же, с. 66.
Глава 4 «Конкретный идеализм» кн. С.Н. Трубецкого 125
характеризовал как «конкретный идеализм», в
противоположность отвлеченному идеализму немецкой классики. В 1900 году
С. Трубецкой защитил докторскую диссертацию «Учение о Логосе
в его истории» и был назначен экстраординарным профессором.
Отдавая работе в университете много времени и сил, С.Н.
Трубецкой пользовался уважением и любовью студентов. Его
деятельность не сводилась только к чтению лекций; он был инициатором
создания свободного студенческого общества на академической
почве. Вот что пишет об этом близко знавший С.Н. Трубецкого
Л.М. Лопатин: «Созданное князем С.Н. Трубецким
Историко-филологическое Общество привлекло в состав своих членов очень зна-
чителыгую часть московского студенчества; оно сразу зажило
полною и разнообразною жизнью, разделилось на целый ряд
деятельных секций и, без всякого преувеличения, обратило на
себя внимание всей образованной России. Устроенная князем
С.Н. Трубецким экскурсия студентов в Грецию представляет
кульминационную точку в развитии Общества»8.
Общественная деятельность Трубецкого не ограничивалась
созданием студенческого союза. С 1901 г., когда в России начались
студенческие волнения, предвестия надвигающейся революции
1905 г., многие в Московском университете почувствовали
необходимость перемен, которые позволили бы обеспечить
нормальную работу в высшей школе. С.Н. Трубецкой был убежденным
защитником университетской автономии, предоставления Совету
профессоров права руководить всей жизнью университета.
Автономия предполагала также свободу студенческих союзов и
собраний; как раз одним из таких союзов и было организованное
Трубецким студенческое Общество.
В докладной записке от 21 июня 1905 года Николаю II о
необходимости реформы высших учебных заведений С.Н. Трубецкой
подчеркивает пагубность для университета устава 1884 г., который
отменил автономию, принадлежавшую университету по уставу
1804 и 1863 годов. «В основу устава 1884 года, — пишет С.Н.
Трубецкой, — было положено недоверие правительства к учащей
России, к ученой коллегии... Профессорская корпорация была
расформирована и устранена от управления высшею школою;
из членов живой корпорации профессора обратились в
отдельных лекторов... Был сломлен вековой порядок. Председатели
ученых коллегий, деканы факультетов, бывшие выборными в течение
8 Л.М. Лопатин. Князь С.Н. Трубецкой и его общее философское
миросозерцание // Его же. Философские характеристики и речи. М., 1911, с. 165.
126 Раздел II Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
129 лет при всех прежних уставах, были заменены назначенными
деканами: они обратились в зависимых и подчиненных
министерских чиновников и тем самым теряли в глазах студентов, общества
и самих товарищей тот необходимый в университете авторитет,
который им прежде давало почетное избрание факультета»9.
Советы высших учебных заведений, по убеждению Трубецкого,
должны получить самостоятельность, чтобы решать все
университетские дела; только это способно умиротворить студенчество,
вернуть в университеты порядок, что позволит высшей школе
«пережить трудное смутное время и выйти обновленной от тяжких
бурь, которые без этих мер могут ее разрушить»10.
Усилия СН. Трубецкого и его коллег увенчались успехом. Спустя
два месяца, 27 августа 1905 года университет получил автономию,
а 2 сентября С.Н. Трубецкой был избран ректором. Студенчество
ликовало. Однако избрание это оказалось для философа роковым.
Осуществить те преобразования высшей школы, за которые он так
пламенно выступал, ему не удалось: обретя автономию,
университет мгновенно превратился в место митингов и собраний, в нем
начались беспорядки, учебный процесс был сорван:
революционная ситуация в стране обострялась, студенчество бурлило.
Всего через три недели после избрания Трубецкого ректором
Совет во главе с ним вынужден был временно закрыть университет.
Накануне, 21 сентября, в здании университета происходила
студенческая сходка. Собралось около 4000 человек, студенты составляли
здесь меньшинство. Это было нарушением одного из главных
выставленных ректором условий: доступ в университет должен быть
открыт только студентам. 22 сентября, перед закрытием
университета, ректор обратился с речью к собранию студентов. «За
безусловную свободу общественных политических собраний, — сказал он, —
я стоял всегда и везде... Тем не менее я скажу вам здесь не только как
ректор и профессор, но как общественный деятель, — что
университет не есть место для политических собраний, что университет не
может и не должен быть народной площадью, как народная площадь
не может быть университетом, и всякая попытка превратить
университет в такую площадь или превратить его в место народных
митингов неизбежно уничтожит университет как таковой»11.
Вопреки убеждению Трубецкого, автономия не спасла
университет. Тяжелое разочарование, необходимость закрыть универси-
9 С.Н. Трубецкой. Собр. соч. Т. I. М, 1907, с. 403.
10 Там же.
11 Там же, с. 144.
Глава 4 «Конкретный идеализм» кн. С.Н. Трубецкого
127
тет, грубые нападки на Трубецкого, посыпавшиеся со всех сторон
в связи со всеми этими событиями, обвинения его в «заигрывании»
с «бунтарями» сломили и без того уже подорванное здоровье
философа12. 29 сентября 1905 года он умер от апоплексического
удара. Умер в самом расцвете своей творческой деятельности, не
успев завершить все то, что было им задумано.
Как отмечают друзья С.Н. Трубецкого, он написал далеко не все
из того, что обдумывалось и вынашивалось им. И причина тому —
не только преждевременная смерть философа; на протяжении
жизни он ставил деятельную любовь к людям едва ли не выше
философского созерцания и рассуждения. И хотя он не
противопоставлял научную деятельность практической, но в последние годы
жизни практическая сфера требовала от него все больше сил.
Трубецкой принадлежал к тем редким людям, у которых слово
никогда не расходилось с делом. Он не только создал философию
альтруизма и любви, но и в своей жизни был альтруистом, жертвовал
собой и своими теоретическими знаниями ради блага тех, кто его
окружал. Вот почему смерть С.Н. Трубецкого, по словам Л.М.
Лопатина, была воспринята как национальное горе, и хоронила его вся
Москва.
В своих воспоминаниях E.H. Трубецкой приводит один
примечательный разговор с братом: «Помню, с каким воодушевлением
он мне доказывал, что все великие люди в мире, все Наполеоны,
Канты и многие другие, не стоют одной любящей души, и
приводил в пример одну тетушку нашу — Марью Алексеевну Лопухину,
не видавшую в жизни своей личной радости потому, что всю свою
радость и душу отдала другим. „Уверяю тебя, — говорил он, — что
тетя Маша, а не они — великий человек"»13.
Греческая философия и библейское откровение
Наиболее известные произведения Сергея Николаевича
Трубецкого посвящены античной философии: это «Метафизика в древ-
12 Здоровье Трубецкого пошатнулось уже раньше в связи с постигшими его в
начале века несчастьями. В 1900 г. у него на руках умер его ближайший друг
B.C. Соловьев, почти в то же время скончался его отец, а через год — сестра,
А.Н. Самарина. Мать С.Н. Трубецкого не перенесла смерти дочери и скончалась
через несколько дней после ее похорон. Тяжелое душевное состояние
расстроило до того крепкое здоровье С.Н. Трубецкого.
13 E.H. Трубецкой. Из прошлого, с. 82.
128 Раздел II Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
ней Греции» и «Учение о Логосе в его истории». «Метафизика
в древней Греции» была представлена в качестве диссертации на
степень магистра в 1890 г. и сразу поставила ее автора в первый ряд
русских философов как глубокого и основательного
исследователя и оригинального мыслителя. Работа «Учение о Логосе в его
истории» была завершена к 1900 г. и защищена в качестве
докторской диссертации. Если в первом исследовании в центре
внимания — классическая греческая философия, начиная с ее первых
шагов в VI в. до н. э., то предметом второго исследования оказалась
эллинистическая эпоха и характерное для нее учение о Логосе,
в частности у Филона Александрийского, в дохристианском и
христианском гностицизме, в иудаизме и раннем христианстве.
Встреча эллинского умозрения с монотеистической религией
откровения, представленной в ветхозаветной литературе, создала
новую почву для развития древнегреческих представлений о
Логосе-Слове, — развития, имевшего большое значение для
дальнейшей истории христианства, ее догматики и экзегетики. Как
именно происходила эта встреча, каким было взаимовлияние двух
типов мышления и мирочувствия в первые века новой эры, к
которым восходят духовные истоки европейской цивилизации, — вот
круг проблем, над которыми размышляет русский философ.
Одна характерная особенность отличает обе эти большие
работы С.Н. Трубецкого: он считает невозможным изучать историю
философской мысли вне связи ее с историей религиозного сознания.
В первой диссертации предметом его пристального внимания
оказываются религиозно-мифологические предпосылки
античной философии, — олимпийская мифология с ее политеизмом,
теогонии Гомера и Гесиода, орфизм, элевсинские таинства. Во
второй он анализирует особенности ветхозаветной религии,
мессианские верования и мессианские пророчества, где апокалиптика
играет роль своеобразной теодицеи, исследует религиозную
жизнь гностических сект, в центре учения которых — вопрос
о происхождении зла и спасении от него и, наконец, религию
Нового Завета, особенно евангелие от Иоанна, первый стих
которого — «в начале было слово» — является как бы связующим звеном
между раннехристианским и древнегреческим учением о Логосе.
Проблема, к которой здесь обратился русский философ, имеет
свою многовековую историю. Волновавшая древний мир в эпоху
рождения христианства, а также в период первых соборов, эта
проблема вновь поднимается в XVI веке, вместе с рождением
протестантизма, заново поставившего вопрос о духовных корнях
христианства и усмотревшего именно в греческой философской тра-
Глава 4 «Конкретный идеализм» кн. СН. Трубецкого 129
диции источник и причину искажения первоначальной
евангельской веры. В XIX веке целый ряд протестантских теологов и
историков церкви выступили в защиту «подлинного христианства»,
которое, по их убеждению, оказалось зараженным
«эллинистическим духом». Так, А. Ричль, а позднее — А. Гарнак, критикуя
немецкий идеализм, подчеркивали принципиальное различие, даже
несовместимость спекулятивной метафизики и религии. Ричль
считал религию не зависящей от какой бы то ни было философии,
проводя резкую грань между верой и ее догматическим
обоснованием, т. е. теологией. Гарнак пошел еще дальше, объявив
христианские догматы продуктом греческого духа, т. е. эллинизации
христианства, имевшей место в гностических сектах. По Гарнаку,
гностики поставили себе задачу «возвысить» христианство,
осмыслив его в понятиях греческой философии, и, хотя
христианские апологеты выступили с критикой гностицизма и вначале, как
казалось, одержали над ним победу, однако на протяжении
последующего времени идеи гностиков все же оказали влияние на
христианскую церковь, что выразилось в церковных догматах, где
греческая мысль взяла верх над библейским откровением. И только
Лютеру удалось освободить христианство от чуждой ему
эллински-гностической прививки. Упрек в «эллинизации»
христианства Гарнак обращает прежде всего к католической церкви, однако
критика им церковных догматов, а также учения о Логосе-Христе,
острая критика евангелия от Иоанна, несомненно, затрагивает
и православие. Не случайно Г. Рачинский охарактеризовал
либерально ориентированную протестантскую теологию как
«субъективный протестантский рационализм и спиритуалистическое
иконоборство»14: подчеркивая практический, нравственный
момент в христианстве, Гарнак и его последователи во всяком
«умозрении» видели «языческую прививку» к евангельскому учению.
Противопоставление философии и религии, умозрения и
откровения — альфа и омега историков и теологов этого направления.
Нужно сказать, что раньше Гарнака и радикальнее его с
критикой философского разума как противника и врага веры выступил
датский писатель и теолог С. Киркегор, отвергший «истину»
Платона ради «веры Авраама» (СН. Трубецкой, попутно заметим,
считал Киркегора «самым оригинальным и пламенным христианским
проповедником нашего века»15; не исключено, что с творчеством
14 Г. Рачинский. Религиозно-философские воззрения кн. СН. Трубецкого //
Вопросы философии и психологии, кн. 131 (I), 1916, с. 6.
15 СН. Трубецкой. Собр. соч. Т. I, с. 331.
130 Раздел II Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
датского мыслителя Трубецкой познакомился благодаря своему
другу В.П. Преображенскому: Киркегор принадлежал к любимым
писателям последнего).
Не удивительно, что русский философ, убежденный в том, что
философия не противостоит религии и что античность в своем
философском развитии вела к изживанию политеизма и тем
подготовила почву для восприятия христианства, не мог не выступить
против позиции Гарнака и его последователей. «В древности
метафизика первая восстала против языческого многобожия и
проповедала единого духовного бога свободною разумною проповедью...
Метафизика приготовила все просвещенное человечество
древнего мира к разумному усвоению начал христианства...»16 Как видим,
здесь указаны точки соприкосновения междуразумом греческих
мудрецов и верой христианских пророков, и христианское
богословие воспринимается как результат встречи двух различных,
но шедших навстречу друг другу традиций, а не как чужеродная
прививка к евангельскому христианству греческого натурализма,
как то полагал Гарнак. «Понятие Логоса, — пишет Трубецкой, —
связано с греческой философией, в которой оно возникло, и с
христианским богословием, в котором оно утвердилось. Каким образом
христианство усвоило это понятие для выражения своей
религиозной идеи и насколько оно в действительности ей соответствует —
вот исторический и философский вопрос величайшей важности,
которому посвящено настоящее исследование. Греческое
просвещение и христианство лежат в основании всей европейской
цивилизации, каково внутреннее отношение этих двух начал?»17
Мы помним, что в юности СН. Трубецкой испытал влияние
славянофилов. От многого в их учении он впоследствии отказался: он не
разделял их воззрений на национальный вопрос, их политического
учения о природе государства, их философско-исторических
построений. Однако, подобно Хомякову и Киреевскому, С. Трубецкой
придавал большее значение вере, считая ее одним из главных
определений человеческого духа, и при этом не только не
противопоставлял веру разуму, но, напротив, искал их гармонии и единства. Здесь
он был близок к воззрениям B.C. Соловьева, убежденного в том, что
развитие народов ведет в конечном счете к обретению
всечеловеческого единства, в котором разум и вера взаимно поддерживают друг
друга. «...Заложенная в самой природе разума и слова способность
постигать всеединую и всеединящую истину многообразно действо-
Там же Т. III. М., 1909, с. 30-31.
Там же, с. 1.
Глава 4 «Конкретный идеализм» кн. СН. Трубецкого
131
вала в различных, отдельных друг от друга народах, постепенно
образуя над почвою животной жизни царство человеческое.
Окончательная сущность этого человеческого царства состоит в идеальном
требовании совершенного нравственного порядка, т. е. в
требовании Царства Божия. Двумя путями — пророческим вдохновением у
евреев и философской мыслью у греков — человеческий дух подошел
к идее Царства Божия и идеалу Богочеловека»18.
Этот подход противоположен тому, который осуществила
протестантская теология как в лице антилиберала Киркегора, так
и в лице либерала Гарнака. Характерно, что самой судьбоносной
для европейского духовного развития фигурой Соловьев считал
именно Филона, учение которого стало предметом рассмотрения
в «Учении о Логосе» СН. Трубецкого. «Эти два пути — библейский
и философский, — пишет B.C. Соловьев, — совпали в уме
александрийского еврея Филона, который с этой точки зрения есть
последний и самый значительный мыслитель древнего мира»19. Трактат
Соловьева «Оправдание добра» печатался в различных журналах
отдельными главами начиная с 1894 года, а в 1897 году вышел
отдельным изданием. Как раз в это время СН. Трубецкой работал над
«Учением о Логосе», и друзья обменивались мыслями по самым
существенным вопросам. Тем не менее отношение Трубецкого
к творчеству Филона, основательно им изученному, более
осторожное и взвешенное, чем у Соловьева, хотя в целом он разделяет
мысль последнего о движении навстречу друг другу эллинской
философии и библейского откровения. Трубецкой приходит к
выводу, что «христианское содержание не укладывалось само собою
в ту концепцию о Логосе, какую мы находим у Филона или вообще
в греческой философии. Отсюда в пределах самого учения о
Логосе явилась борьба противоположных элементов христианских
и нехристианских, окончившаяся торжеством христианской идеи
в православной ее форме. Но как известно, торжество это
наступило не сразу. И там, где слабела христианская идея, где греческая
философия или александрийский гнозис брал верх над
христианскою верой и представление о Мессии-Искупителе терялось в
абстракции Логоса, там мы замечаем... возвращение к Филону...»20
Здесь кстати будет отметить одну важную особенность СН.
Трубецкого, отличавшую его от B.C. Соловьева: если у Соловьева оче-
18 B.C. Соловьев. Оправдание добра // Соч. в 2-х томах. Т. I. М., 1988, с. 271. —
Курсив мой. — ПГ.
19 Там же.
20 СН. Трубецкой. Учение о Логосе в его истории, с. 165.
132 Раздел II Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
видна воля к построению систематического учения, то Трубецкой
преклоняет слух к тем, о ком пишет, стараясь быть максимально
точным и объективным в качестве историка философии и
религии. Здесь тоже сказывается особая внутренняя душевная
деликатность, не позволяющая С. Трубецкому ничего «домысливать» за
исследуемого им автора.
С. Трубецкой и Л. Шестов
Вопрос об отношении греческой философии и религии
откровения, этих двух истоков европейской цивилизации, обсуждению
которого посвящено «Учение о Логосе», не утратил своего
значения и в XX веке. Его обсуждают и теологи — К. Барт, Р. Бультман,
П. Тиллих и др., и философы — М. Бубер, М. Хайдеггер, К. Ясперс,
Э. Жильсон. Об актуальности этого вопроса свидетельствует не
ослабевающая в XX веке полемика вокруг гностицизма и его
отношения к греческой философии, иудаизму и христианству. Но
интересно, что наиболее яростную оппозицию точка зрения
С.Н. Трубецкого и B.C. Соловьева на соотношение греческой
философии и библейского откровения встретила именно в русской
философии XX века — у Льва Шестова. Согласно Шестову, эти два
истока европейской культуры абсолютно несовместимы, разум
греческих и новых философов уничтожает «безумие» библейских
пророков, и между ними невозможно провести никакого моста;
вера есть «абсурд» с точки зрения разума, ибо она не признает
невозможного, а «для Бога невозможного нет»21. Философия и вера —
Афины и Иерусалим22 — никогда не смогут быть примирены друг
с другом. Поэтому Шестов обрушивается с уничтожающей
критикой на B.C. Соловьева и первого «соловьевца» — Филона, который
провозгласил «ту идею, которая вдохновляет Соловьева и Толстого
и которая с того момента, когда Библия стала достоянием народов
греко-римской культуры, направляла и формировала мышление
почти всех образованных людей: греческий разум или логос
привел эллинов к тому же, что открывалось и европейским пророкам...
21 Л. Шестов. Умозрение и откровение. Париж, 1964, с. 290.
22 «Афины и Иерусалим* назвал Шестов одно из наиболее важных своих
сочинений; оно вышло в 1938 году на немецком и французском языках, и только в
1951 г. было издано в Париже по-русски. Название книги подсказано Шестову
Тертуллианом, христианским богословом П-Ш вв., ставившим злободневный
для своего времени вопрос «что общего между Афинами и Иерусалимом?*
Глава 4 «Конкретный идеализм» кн. С.Н. Трубецкого
133
Говоря проще, Филон позвал Св. Писание на суд эллинской
истины — и от всего, что этот суд в Св. Писании отверг, как
бессмысленное или безнравственное, отрекся»23.
Шестов согласен с Гарнаком в том, что гностики сыграли в
истории христианства роковую роль, начав эллинизацию
христианского учения и вытравив таким образом из него библейский дух
пророков, которые ищут невозможного, борются с
непреодолимым, не верят в самоочевидности и не покоряются даже разуму24.
«...Нельзя на манер Филона, Соловьева или Толстого вытравлять из
Св. Писания его душу лишь затем, чтоб „примирить" греческий
разум с библейским Откровением», — заключает Шестов. Не совсем
понятно, правда, почему, столь темпераментно обрушиваясь на
Соловьева и противопоставляя ему Гарнака, которому ранее он
посвятил самостоятельное исследование, Л. Шестов пощадил
С.Н. Трубецкого, чью работу о Логосе хорошо знал и даже
цитировал в своей статье «Умозрение и апокалипсис», посвященной
критике Соловьева25. Ведь желание снять противопоставление веры
и разума у Трубецкого очевидно, и близость его к Соловьеву
никакого сомнения не вызывает. Как и для Соловьева, для Трубецкого
разум — это не только теоретический, но прежде всего
практический разум, т. е. нравственность, стремление к добру, любовь
к ближнему. Ддя Трубецкого и Соловьева Бог — это любовь. Против
этого выступает Л. Шестов. Он разрывает с «идеализмом
философов», убежденных, что «в начале было добро и истина»26, и
противопоставляет им «философию жестокости» Фридриха Ницше. Вот
заключительные строки книги Шестова «Добро в учении гр.
Толстого и Фр. Нитше», изданной как раз в 1900 году, когда С.Н.
Трубецкой защитил свою докторскую диссертацию «Учение о
Логосе»: «Добро — братская любовь — мы знаем теперь из опыта
Нитше — не есть Бог. Горе тем любящим, у которых нет ничего
выше сострадания. Нитше открыл путь. Нужно искать того, что выше
сострадания, выше добра. Нужно искать Бога»27.
Не предшествует ли жестокой реальности нашего века, века
войн и концлагерей, именно «философия жестокости»? Смятению
реальному — смятение в умах, когда люди, наделенные великим
даром поэтического слова, как Ницше, как Шестов, — пришли
Л. Шестов. Цит. соч., с. 40.
См. там же, с. 45.
См. там же, с. 50- 51,56.
Там же, с. 74.
Л. Шестов. Добро в учении гр. Толстого и Фр. Нитше. СПб., 1900, с. 208.
134 Раздел II Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
к убеждению, что милосердие, сострадание, любовь, именно
братская бескорыстная любовь — не от Бога?
Как видим, в начале века С.Н. Трубецкой поставил одну из
ключевых проблем, не утративших своего значения и сегодня.
Интересно, что в споре с Л. Шестовым французский философ
католического вероисповедания Э. Жильсон присоединился — с вполне
понятной поправкой — к тому решению этой проблемы, которое
было дано Соловьевым и Трубецким. В письме к Шестову от
11.3.1936 года он делится с ним своими соображениями по поводу
«Афин и Иерусалима»: «...В докладе о гуманизме святого Фомы,
который я читал на конгрессе в Неаполе в 1924 г., я тоже цитировал
слова Тертуллиана: „Что общего между Афинами и
Иерусалимом?" — и прибавил ответ: „Рим". Очевидно, здесь — сущность
спора. Вы возвращаетесь если не к Лютеру, то по крайней мере к тому,
что есть от Лютера в дорогом Вам Достоевском. Я же, наоборот,
думаю, что Бог говорит через Римскую Церковь, что через нее
продолжается откровение»28.
Трубецкой имел в виду вселенскую церковь, православную веру,
тогда как Жильсон говорит о церкви римской. Но исходная
позиция у них общая: именно христианство соединило в себе правду
и Афин, и Иерусалима29. И нет сомнения, что «Учение о Логосе в его
истории» С.Н. Трубецкого не менее актуально в наши дни, чем
в конце прошлого века. Обращаясь к истории, русский философ
искал ответ на жгучие проблемы современной ему мысли.
Подлинное историко-философское исследование не может
ограничиваться, так сказать, антикварным интересом; задаваясь вопросом:
а как это на самом деле было? — и стремясь освободиться от
субъективных пристрастий, от модернизации исторического
прошлого, историк, однако, не может не соотносить проблем, волновав-
28 Цит. по кн.: Н. Баранова-Шестова. Жизнь Льва Шестова по переписке и
воспоминаниям современников. Париж, 1983, с. 136.
29 В более мягкой форме, чем Л. Шестов, философию и религию
противопоставляет П. Блонский. Блонский выступил с критикой «Учения о Логосе»
Трубецкого в 1917 г., настаивая на том, что «христианство упраздняет философию
и кн. С. Трубецкой это знал... Он — апологет христианства и обличитель
философии, язычество которой он прекрасно сознавал» (П. Блонский. Кн. С.Н
Трубецкой и философия // Мысль и слово. М., 1917, с. 162). В противоречии с
высокой оценкой Трубецкого как философа, которую мы приведем ниже, Блонский
заключает: «Кн. С. Трубецкой, блестящий, вдумчивый и ученый историк
философии, с глубоким интересом ищущий в ней детоводительство ко Христу, тем
не менее не был философом. Он — богослов типа Климента
Александрийского...» (там же, с. 164).
Глава 4 «Конкретный идеализм» кн. С.Н. Трубецкого
135
ших мыслителей прошлого, с современными проблемами. И это
необходимое условие для понимания истории философии как
единого процесса.
С.Н. Трубецкой это прекрасно сознавал, а потому был убежден
в том, что только глубокое знание истории философии может
служить фундаментом для дальнейшего творческого развития мысли,
для плодотворного самостоятельного мышления. Более того: лишь
усвоив опыт философии, накопленный в течение многих веков,
мы можем осмыслить подлинное содержание и значение стоящих
сегодня перед нами вопросов. «...Как бы много ни дала нам
природа, как бы многому она нас ни научила, люди дают нам больше,
потому что их она учила дольше и раньше нас. Если же мы, не пройдя
всей школы человеческой мысли, не усвоив их результатов,
обратимся к непосредственному исследованию природы вещей, то мы
рискуем навсегда ограничиться грубыми попытками,
неизбежными ошибками, пережитыми нашими предшественниками»30. Есть
историческая преемственность в развитии философского знания
и философской проблематики, и, несмотря на различие школ и
направлений, несмотря на множество «рукавов», по которым течет
философская река, существует определенная логика ее течения.
Если философ не хочет заново изобретать велосипед, то ему, как
и всякому ученому, необходима умственная школа: роль такой
школы и играет история философии. «Никто не ищет своим умом
правил грамматики или арифметики, никто не изучает географии
путем личного опыта, и всякий ученый, желающий подвинуть
вперед свою науку или хотя бы следить за нею, должен знать все, что
сделано, что достигнуто до него. В философии не все следуют
этому простому и естественному правилу У нас в особенности,
никогда не знавших умственной школы, случайное произвольное
философствование составляет обычное явление. Случайные чтения
и споры, случайности характера и воспитания — при отсутствии
правильной дисциплины ума — часто определяют собой всю нашу
философию»31.
Не удивительно, что при таком подходе к пониманию
философского исследования С.Н. Трубецкой также и в тех своих работах, где
он ставит и решает определенную проблему, всегда начинает с
истории этой проблемы, задает ее как поставленную самим ходом
предшествующего развития, точно так же, как это делали
Аристотель, Локк, Кант, Фихте, Гегель и другие великие мыслители. Именно
30 С.Н. Трубецкой. Собр. соч. Т. II. М, 1908, с. 2.
31 Там же.
136 Раздел II Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
так построены две важнейшие работы СН. Трубецкого — «О
природе человеческого сознания» (1890) и «Основания идеализма» (1896).
Протестантизм как общий корень субъективизма
новоевропейской философии
Статья «О природе человеческого сознания» — это попытка
разрешить одну из центральных проблем, обсуждавшихся как в
античной и средневековой, так и в новой философии: проблему
отношения рода к индивиду, общего — к частному, государства —
к гражданину, общества к личности. Обращаясь к истории
философии, Трубецкой показывает, что большинство философских
учений принимали в качестве основополагающего либо
индивидуальное, либо общее; это особенно ярко видно в средневековых
спорах номиналистов и реалистов. В Новое время споры эти
возобновились: полемика теперь пошла между английским
эмпиризмом, продолжившим линию номинализма, и немецким
идеализмом, завершившим рационалистическую традицию XVII-XVIII вв.
G.H. Трубецкой открывает общий корень как новоевропейского
эмпиризма, так и рационализма немецких идеалистов в их
субъективизме, вытекающем из общего для них всех протестантизма.
«Новая протестантская философия, — пишет СН. Трубецкой, —
попыталась упразднить это противоречие (между общим и
частным. — /ZT.), признав и общее, и частное, и понятия, и
представления одинаково субъективными. Все индивидуальные вещи суть
наши представления, все общие начала, идеи, принципы суть наши
понятия. В этом германский идеализм сошелся с английским
эмпиризмом. В этом общем субъективизме, в этом отрицании
вселенского бытия, объективного и универсального, они сходятся
между собою и сводят все общее и частное к личному сознанию»32.
Проблема сознания, которую обсуждает СН. Трубецкой, говоря
современным языком, есть проблема субъективности, или
трансцендентальной субъективности. Она обсуждается сегодня в
феноменологической школе, в экзистенциализме, в герменевтике.
Именно критику субъективизма трансцендентальной философии
Канта и неокантианцев мы находим в «Логических
исследованиях» Гуссерля; преодоление субъективизма идеалистической
философии, в том числе уже и Гуссерлевой феноменологии, считает
32 Там же, с. 5.
Глава 4 «Конкретный идеализм* кн. С.Н. Трубецкого
137
главной задачей М. Хайдеггер, усматривающий в субъективизме
первый признак метафизики. Наконец, Гадамер в философской
герменевтике, также как и представители французского структу-
рализхма, ставит своей целью отказ от традиционного понятия
субъекта, провозглашая «смерть субъекта» главным достижением
философской мысли XX века.
Итак, рационализм и эмпиризм сходятся между собой в
субъективизме, полагает русский философ. Но при этом понятие
личности, понятие сознания у эмпириков, с одной стороны, и немецких
идеалистов, с другой, также противоположны друг другу, как
понятия индивида и рода. Для английских эмпириков — Фр. Бэкона,
Дж. Локка, Д. Юма личность — это индивид, а для немецких
идеалистов она есть универсальное духовное начало, абсолютное Я,
абсолютный субъект. В этом смысле наиболее показательна
гегелевская философия, которую Трубецкой считает итогом развития
идеализма и потому подвергает наиболее основательной критике.
«Немецкий идеализм... утверждает во всем абсолютизм
универсального начала, сверх-индивидуального и постольку в сущности
бессознательного: абсолютизм отвлеченных логических
категорий, управляющих вселенной; абсолютизм бессознательной
природы, родового начала, наряду с совершенным ничтожеством
преходящих индивидов; абсолютизм государства»33.
Конечно, представители немецкого идеализма связаны между
собой известным единством проблематики и исходных понятий;
между ними нетрудно установить связь: Фихте исходит из кантов-
ского трансцендентализма, Шеллинг опирается на Фихтево науко-
учение и «принцип Я», а Гегель в своем учении о развитии
абсолютного духа как бы подытоживает и доводит до логического конца то,
что было сделано его предшественниками. Поэтому в
определенной мере оправданно объединение этих философов в общее
направление под названием «немецкий идеализм», что и делает
С.Н. Трубецкой вслед за своими предшественниками как на Западе,
так и в России. Однако в то же время не все инвективы Трубецкого
против Гегеля могут быть отнесены также и к Канту. Кант не считал
индивидов ничтожеством по сравнению с родом. И, в отличие от
Гегеля, абсолютизм государства не признавал. Напротив, этика
Канта стоит на принципе, что каждый человек есть цель сам по себе
и что безнравственно превращать человека только в средство.
Впрочем, отличие Канта от других представителей немецкого
идеализма, в особенности Гегеля, хорошо видел и С.Н. Трубецкой.
Там же, с. 6.
138 РазделП Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
Он отмечал это отличие, указывая на «практическую
необходимость вещей в себе» в кантовском учении34. Но, вероятно, прочно
сложившаяся в России традиция объединения плеяды немецких
идеалистов в одну школу, а также отношение к Гегелю как вершине
европейской мысли XIX века наложило свою печать на
рассуждения нашего философа.
Но вернемся к проблеме соотношения индивидуального и
всеобщего. Согласно Трубецкому, она остается неразрешенной
и в Новое время; более того, провозгласив субъект исходным
принципом философии, европейская мысль утратила реального
человека: как эмпиризм, так и идеализм, по словам Трубецкого,
не в состоянии обрести личность и объяснить природу сознания.
Эмпирики отождествили личность с эмпирической
индивидуальностью, с индивидуальными внутренними состояниями сознания,
с комплексом психических ассоциаций, не имеющих объективно-
логического значения. Отсюда — скептицизм Д. Юма иДж. Ст. Мил-
ля. Такого рода психологизм оказывается беспомощным при
попытке объяснить явления логического ряда, как это еще в конце
XVIII в. показал Кант. Предвосхищая ту критику психологизма в
логике, которую позднее осуществил Э. Гуссерль в первом томе
«Логических исследований», русский философ убедительно
раскрывает психологическую подоплеку позитивистской гносеологии
конца прошлого века35.
С другой стороны, немецкий идеализм растворил личность во
всеобщехМ начале, в развитии абсолютного духа, который не
является ни конечной личностью, ни личностью бесконечной, какой
христианские богословы считали Бога. С.Н. Трубецкой
характеризует учения Фихте, Шеллинга и Гегеля как пантеизм, в основе
которого лежит идея саморазвития Абсолюта от бессознательного
состояния к сознанию и самосознанию. «Великие германские
философы проповедывали абсолютное знание; они считали себя
34 Имея в виду ту критику, которой последователи Канта, начиная с Фихте и
кончая Гегелем, подвергли понятие «вещей в себе*, С.Н. Трубецкой пишет:
«Односторонние идеалисты не понимали причины сдержанности Канта; им
казалось, что сам он не вполне понял все последствия своего открытия и не довел
дела до конца. В действительности Кант глубже всех видел те противоречия,
которые лежали в корне вопроса» (там же, с. 5). Еще более резко отвергает
Трубецкой неокантианскую трактовку «вещи в себе», при которой она лишается
всякого метафизического смысла: «Неокантизм есть кантизм без Канта,
выхолощенный критицизм, из которого удалены все живые, плодотворные побеги»
(там же, с. 42).
35 См. там же, с. 9.
Глава 4 «-Конкретный идеализм» кн. СН. Трубецкого 139
апостолами и пророками этого знания, носителями
божественной мудрости, божественного самосознания. Само абсолютное
впервые сознало себя в Шеллинге и Гегеле... Философия из
попытки человеческого разума превратилась таким образом в
космический или даже теогонический акт. Ибо если истинный Бог есть
самосознательный и вседовольный дух, и если абсолютное может
сознать себя только в субъективном сознании человека, то сам Бог
есть результат философии»36.
Это критика пантеистической системы Гегеля с точки зрения
христианского теизма, критика той невероятной гордыни, что
в лице Шеллинга и Гегеля возвела человеческое сознание в ранг
божественного, но тем самым — и в этом парадокс всякого
самовозвеличения и самозванства — лишила человека того
достоинства, каким он обладал у Августина и Фомы Аквинского, у Григория
Нисского и Иоанна Дамаскина, а именно бессмертия. Человек стал
исчезающим моментом в развитии мирового духа,
индивидуальное было принесено в жертву всеобщему. Критика Трубецким
учений Фихте, Шеллинга, Гегеля, Шопенгауэра, а также их первоисто-
ка — мистики Экхарта, Сухо, Якоба Бёме — сегодня не менее
актуальна, чем в XIX веке. Ибо предпосылки мышления, созданные
немецким идеализмом, живы по сей день; они живы даже и в тех
учениях, авторы которых отвергают идеализм. Возьмем,
например, известный афоризм Ницше «Бог умер». В чем его смысл,
почему он стал возможным? Да потому, что сохраняется незыблемым
убеждение, будто Абсолют сознает себя во мне, живет во мне, что
мое самосознание — это в сущности и есть бытие Бога, а если я
в своей душе не нахожу Его и не испытываю никакой потребности
в Нем, то значит — Бог умер. Если бы современные философы
мыслили в понятиях Августина или даже Плотина, то из факта
отсутствия Бога в душе они сделали бы вывод совсем другой: они бы
сказали, что эта душа умерла. Но поскольку, по меткому слову
Трубецкого, в XIX веке Бог был объявлен «результатом
философии», то Его жизнь или смерть полностью оказалась в
зависимости от философии, от самосознания эпохи. В действительности
же самосознание эпохи свидетельствует не о судьбе Бога, а о
судьбе самого человека.
Итак, парадокс философии Нового времени, согласно СН.
Трубецкому, состоит в том, что, провозгласив идею личности, она в то
же время не смогла обрести именно личность. «Верховный
принцип новой философии есть идея личности, ее критерий — личное
Там же, с. 40.
140 Раздел II Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
убеждение, ее исходная точка — личное сознание в троякой
форме: личного откровения (реформа немецких мистиков), —
личного разумения (реформа Декарта) и личного опыта (реформа
Бэкона)»37. Древняя философия, по мнению Трубецкого, знатока
античности, еще не выработала понятия личности; даже Сократ,
Платон, Аристотель не знают этого понятия: для них «самая душа,
индивидуализированная в каждом живом существе, есть по
существу своему нечто универсальное»38. Принципом «личности»
русский философ называет то, что в свое время Гегель назвал
«принципом субъективной достоверности», действительно
отличающим Новое время как от античности, так и от Средних веков.
И не удивительно, что традиционно философская проблема об
отношении единичного к общему предстала в Новое время как
вопрос о природе человеческого сознания, который звучит таю
«Доступна ли истина личному познанию человека, и если да, то лично
ли самое познание его вообще?»39
Соборность человеческого сознания
Показав невозможность объяснения сознания ни как
принадлежности отдельного эмпирического индивида, ни как продукта
универсального бессознательно-родового начала, русский философ
пришел к выводу, что личное, конечное сознание может быть
понято только при допущении соборного, коллективного сознания.
«Только признав... коренную коллективность... органическую
соборность человеческого сознания, мы можем понять, каким образом
оно может всеобщим и необходимым образом познавать
действительность; только тогда мы можем понять, каким образом люди
психологически и логически понимают друг друга и все вещи...»40
Идея соборности, убеждение в том, что личность не может быть
мыслима вне общественного целого, не есть открытие
Трубецкого; эта идея, как известно, принадлежит славянофилам,
критиковавшим европейскую философию за ее индивидуализм,
распространявшийся как на трактовку познания, так и на понимание
человека. Как мы уже отмечали, С. Трубецкой расходился со
славянофилами по вопросам общественно-политическим, историчес-
37 Там же, с. 9.
38Тамже,с. 10-11.
39 Там же, с. 10.
40 Там же, с. 13-
\f/iaea 4 »Конкретный идеализм» кн. С.Н. Трубецкого 141
ким, церковным, но в понимании человека и природы
человеческого знания во многом был с ними согласен. Познание он
рассматривал как живой и универсальный процесс, осуществляемый
людьми совместно. «Сознание обще всем нам, то, что я познаю им
и в нем объективно, то есть всеобщим образом, то я признаю
истинным — от всех и за всех, не за себя только. Фактически я по
поводу всего держу внутри себя собор со всеми. И только то для меня
истинно, достоверно всеобщим и безусловным образом, что
должно быть таковым для всех. Наше общее согласие, возможное
единогласие, которое я непосредственно усматриваю в своем
сознании, есть для меня безусловный внутренний критерий, точно
так же как внешнее, эмпирическое согласие относительно каких-
либо опознанных общепризнанных истин есть критерий
внешний, авторитет которого зависит от первого»41.
Таков ответ нашего философа на вопрос о природе сознания:
сущность сознания — в его соборности. Личность и соборность
предполагают друг друга. «Сознание не может быть ни безличным,
ни единичным, ибо оно более чем лично, будучи соборным»42.
Посмотрим теперь, что же понимается у С Трубецкого под
соборностью сознания. Обратим внимание: общее согласие, или
единогласие, человек непосредственно усматривает в своем сознании.
Этот В1гутренний критерий, этот собор, «который я держу внутри
себя со всеми», оказывается условием и предпосылкой собора
внешнего, эмпирически осуществляемого во внешнем собрании, внешнем
общении с другими людьми. И это вполне понятно: ведь нет никакой
возможности собраться всем людям, ныне живущим, не говоря уже
о прошлых и будущих поколениях, в каком-то одном месте, чтобы
создать всечеловеческий собор. Любое конкретное, эмпирическое
собрание людей представляет собой только частичное единство,
в то время как сознание должно быть носителем всеобгцего
единства, всеединства, т. е. должно быть представителем всего человечества
в отдельном человеке. Значит, то самое человечество, внутреннее
единение и согласие с которым служит предпосылкой моей
личности и составляет сущность моего сознания, тоже есть нечто
«внутреннее», «идеальное», во всяком случае оно не совпадает ни с каким
эмпирически данным коллективом. Но что такое это «идеальное
человечество», как оно существует и как его можно мыслить?
Кант за сто лет до Трубецкого предложил понятие
«трансцендентального субъекта», который в отличие от субъекта эмпириче-
1 Там же. — Курсив мой. — ПГ.
2 Там же, с. 16.
142 Раздел II Религиозная философия XIX века: современники Соловьеву
ского есть как бы представитель всеобщего, общечеловеческого
(и даже более того — представитель всякого разумного существа)
в индивидуальном сознании. Не тождественно ли соборное
сознание славянофилов кантовскому трансцендентальному субъекту?
Нет, не тождественно, отвечает С. Трубецкой. «Древняя
метафизика, с Платоном во главе, признавала истиной сущего
универсальные вселенские идеи, как вечные объективные сущности,
противоположные миру явлений. Но такое воззрение, такой объективный
идеализм должен казаться Канту наивным: нет объекта без
субъекта, нет идеи или идеала без сознания. Мы можем предполагать
возможность какой-то „вещи в себе" вне сознания, неизвестное что-
то за пределами сознания; но мы никак не вправе утверждать,
чтобы это нечто было идеалом или идеей, — чем-то идеальным.
Ибо в противном случае мы должны были бы допустить сознание
вне сознания, т. е. особое трансцендентное сознание наряду
с субъективным сознанием человека... Нет абсолютного
вселенского идеала, потому что нет абсолютного вселенского сознания...
Поэтому, если мы признаем реальное начало до сознания, и при
том такое, которое безусловно внешне сознанию, то это начало —
бессознательное и безумное по qmecTBy»43. Трубецкой не
приемлет Канта потому, что принцип трансцендентальной
субъективности ведет или к учению о становящемся абсолюте Фихте и
Гегеля, или же к философии бессознательного, развивавшейся
поздним Шеллингом, Шопенгауэром и Эд. Гартманом, у которых
абсолют есть слепая, бессознательная, иррациональная воля.
Стало быть, именно соборное сознание должно у Трубецкого
быть той инстанцией, которая призвана гарантировать
объективность познания, — ведь именно эту функцию выполняет кантов-
ский трансцендентальный субъект. Но при этом оно, это
соборное сознание, не должно рассматриваться как единственно
возможное сознание, не должно исключать идеальное и даже
лично-сознательное бытие, трансцендентное человеческому
сознанию, не должно исключать объективного существования идеалов
и идей, как это делал немецкий идеализм. Такова нагрузка,
возложенная на соборное сознание. И не вполне ясно, как оно может
потянуть этот груз, так же как не совсем прояснена и природа этого
коллективного сознания. На это обстоятельство обращали
внимание современники С.Н. Трубецкого, в частности Л.М. Лопатин.
«В самом понятии соборности сознания, в котором кн. С.Н.
Трубецкой положил ключ к решению всех проблем, заключалась из-
Тамже,с. 54-55.
\Глава4 «Конкретный идеализм» кн. С.Н. Трубецкого 143
вестная двусмысленность: отчасти оно означает коллективность,
отчасти субстанциальное единство сознаний, отчасти оно
обозначает только идеал, еще подлежащий осуществлению, отчасти
вЬолне реальное свойство нашей душевной и умственной жизни.
Bbe эти значения недостаточно различены и формулированы. Еще
более серьезный упрек может вызвать попытка обратить
соборность сознания в логический критерий истины»44, и в самом деле,
если объективное, истинное знание недоступно единичному
человеку, его разуму, поскольку он является конечным,
субъективным, то как может быть преодолена конечность и субъективность,
если мы возьмем не один, а много таких умов? Да и сам Трубецкой,
как мы видели, говорит именно о внутреннем соборе в человеке,
а не о совместном мышлении всех.
Сам СН. Трубецкой, видимо, сознавал это затруднение, он
предложил в той же работе и более серьезное решение проблемы,
противопоставив субъективизму Нового времени аристотелевское
понимание сознания и познания. Критикуя пантеистическую
трактовку Абсолюта в немецком идеализме, русский философ
пишет: «Понятие саморазвития, развития вообще — в приложении
к абсолютному — есть явно ложное понятие; ибо ничто
развивающееся не есть истинно абсолютное... Поэтому наряду с этим
недошедшим и недовольным абсолютным... стоит абсолютное, от века
достнпгутое, совершенное, довлеющее себе и заключающее в себе
цель всякого возможного развития. Наряду с этим
полусознательны;^ развивающимся богом... стоит вечное актуальное сознание,
в котором лежит объективная норма и критерий всякого
возможного сознания... Здесь мы приходим к учению великого
Аристотеля, которое мы считаем краеугольным камнем метафизики: всему
возможному... еще недоразвившемуся до своей предельной...
формы, противолежит вечная идеальная действительность, или энер-
гия*5, вечно достигнутая цель»46.
Именно вечное актуальное сознание, то есть сознание
божественной личности Творца, есть предпосылка возможности
объективного познания истины, возможности, которой обладает
сознание человеческое. Может быть, Трубецкой имел в виду следующий
44 Л.М. Лопатин. Князь С.Н. Трубецкой и его общее философское
миросозерцание, с. 197.
45 Слово «энергия» употреблено здесь в аристотелевском смысле — как
деятельность, актуальность, осуществление, в противоположность «потенции» как
лишь возможности, незавершенности.
46 СН. Трубецкой. Собр. соч. Т. II, с. 61 -62.
144 РазделН Религиозная философия XIX века: современники Соловьев^
ряд «сознаний»: индивидуальное, которое не может быть осуще£
ствлено вне соборного, а последнее в свою очередь предполагает
абсолютное, актуальное сознание. Это было бы тем более
понятно, что соборное сознание, как мы уже отмечали выше, есть нечего
не столько реально осуществленное и осуществляемое, сколько
своеобразный идеал, то, что только должно быть осуществлено,
то есть нечто потенциальное, а не актуальное. Соборность
мыслится нашим философом как некое совершенное общество или
метафизический социализм. «...Мы приходим к парадоксальному
результату: между тем как индивидуалистическая психология
и субъективный идеализм одинаково ведут к отрицанию
индивидуальной души, метафизический социализм, признание
соборности сознания обосновывает нашу веру в нее. Утверждаемая
отвлеченно, обособленная индивидуальность обращается в ничто; она
сохраняется и осуществляется только в обществе, и притом в
совершенном обществе»47. Совершенное общество — это идеал, к
которому стремится человечество, в нем должен править закон
любви, а любовь — это «единство всех в одном, сознание всех в себе
и себя во всех»48. В сущности, это не что иное, как «богочеловечес-
кий союз, или Церковь»49. Но подлинная церковь — это та, что на
небесах; земная церковь несет на себе печать человеческой
греховности и несовершенства. Значит, соборность сознания — только
идеал, подлежащий осуществлению, то есть нечто потенциальное.
Однако у самого С. Трубецкого этот «ряд» сознаний: абсолютное —
соборное — индивидуальное — нигде не был специально выстроен;
трудности, связанные с понятием соборности, не были им выявлены
и разрешены; может быть, именно поэтому в последующих работах
он и не возвращается больше к понятию соборного сознания,
которое заняло столь важное место в разбираемой нами статье.
Универсальная чувственность, или мировая душа.
Софиология С.Н. Трубецкого
Есть и еще одна тема, затрагиваемая русским мыслителем в статье
«О природе человеческого сознания», к которой он впоследствии
обращался неоднократно. Не признавая субъективности человече-
47 Там же, с. 95.
48 Там же, с. 109-
49 Там же.
Глава 4 «Конкретный идеализм» кн. С.Н. Трубецкого 145
некого мышления, не желая ограничивать разум только
трансцендентальным субъектом и делая его поэтому принадлежностью
субъекта вселенского, Трубецкой заявляет, что и чувственность
тоже не есть нечто, присущее только индивидуальному сознанию.
В то же время Трубецкой не идет так далеко, чтобы, подобно
наивному сознанию, считать чувственные свойства вещей — цвета,
звуки, запахи — их объективными качествами. Не без влияния кантов-
ского учения о пространстве и времени как априорных формах
чувственности С. Трубецкой приходит к мысли, что существует
некоторая всеобщая чувственность, носителем которой является
особый субъект чувственности, отличный от Бога, — мировая душа.
«Если теперь мы понимаем, что все чувственное предполагает
нечто чувствующее... ясно, что чувственность, обусловливающая
вещественный мир, не может быть субъективной: признавая
объективную действительность вещественного мира, мы предполагаем
всеобщую, антропоморфную чувственность до человека. Таким
образом, в каждом нашем реальном чувственном восприятии мы
безотчетно предполагаем общий, универсальный характер нашей
чувственности... Чувственная вселенная, поскольку мы признаем ее
объективность, предполагает вселенскую чувственность, с
которой связана наша индивидуальная чувственность»50.
Современники С. Трубецкого сообщают, что одной из первых
его работ, которую он вначале хотел защитить в качестве
магистерской диссертации и которую писал в 1885-1886 гг., было
сочинение о Софии — Премудрости Божией. В 1995 г. И.В. Басин
опубликовал в «Вопросах философии» найденные им главы этого
раннего произведения51, проливающие дополнительный свет на
идейные истоки философии Трубецкого.
Работа о Софии несет на себе печать сильного влияния ранних
славянофилов, особенно A.C. Хомякова, которого С. Трубецкой
считает «отцом русской философии и богословия»52, а также
Вл. Соловьева (его «Чтений о богочеловечестве») и тех немецких
мистиков, в частности Якоба Бёме и Франца Баадера, которые
вдохновляли и Соловьева. Обращение к софиологии обусловлено
у С.Н. Трубецкого прежде всего его критикой протестантизма. Как
мы уже знаем, именно в протестантизме усматривает русский фи-
50 Там же, с. 83.
51 С.Н. Трубецкой. О святой Софии, Премудрости Божией // Вопросы
философии, 1995, № 9, с. 120-168. Публикация снабжена предисловием и
примечаниями И.В. Васина.
52 Там же, с. 131.
146 Раздел II Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
лософ тот принцип, который лег в фундамент новоевропейской^
философии и культуры в целом, а именно принцип субъективизм
ма, послуживший источником и отвлеченного идеализма
немецких философов от Канта до Гегеля. Таким образом, уже в первой
своей работе Трубецкой заявляет тему, которая красной нитью
проходит через все его творчество. В протестантизме он видит «не
простое отступление от... смысла церковного учения, но
формальное отречение от Церкви и Предания как таковых. В этом —
сущность протестантизма, великой ереси Запада, начало которой мы
вместе с Хомяковым видим в латинстве. Был гипостазирован
и обожествлен самый принцип субъективизма, который уже во
образе папы выступил против начала соборного и вселенского,
утверждал себя ex sese ipso53 выше соборной апостольской Церкви
и встал на место Предания, отчего все основы христианства были
потрясены. В протестантстве же самое субъективное сознание
верующего вообще стало нормой Предания и основанием Церкви,
чем была обожествлена самая субъективная основа человеческой
личности...»54
Не только в начале вселенскости и соборности усматривает
философ противоядие от субъективизма; не менее важным
представляется ему учение о Софии Премудрости Божией, с помощью
которого он надеется восстановить утраченную цельность духовной
лсизни, ибо последняя, как убежден Трубецкой, не может быть
восстановлена без осознаш ы того, что подлинный дух, в отличие от
абстрактного духа, как он предстал в отвлеченном идеализме, не
может существовать в отрыве от духовной телесности. По мысли
молодого философа, без понятия о духовной телесности невозхмож-
но правильно постигнуть православное учение о Богочеловечестве
и Церкви, а потому без этого понятия невозможно возрождение
живой христианской веры. «В наше время Церковь как Тело
Христово, или еще более, „духовная телесность", „тело духовное", есть
для всякого интеллигента или величайший соблазн, нелепость,
юродство, или же наоборот, величайшее открытие. Между тем при
более нормальном развитии философское сознание и разумение
этих истин было бы лишь естественным переходом от образного
представления веры. В настоящее время картина Страшного суда,
обратившая святого Владимира и с ним всю Русь... возбуждает в нас
лишь насмешку... А между тем, то учение, которое народ в глубокой
молитве выносит из их (образных картин веры. — ПГ.) созерцания,
из самого себя (лат.).
Там же, с. 128.
Глава 4 +Конкретный идеализм» кн. С.Н. Трубецкого 147
воистину чудотворнее, мудрее и жизненнее, чем то, которое мы
выносим из наших школьных катехизисов. Оно одно жизненно,
потому что нет жизни без полноты чувств... Где вера жива, там жив и
образ истинный, творчески ею созидаемый... Нет жизни без чувств, как
нет чувства без конкретной организации, без телесности»55.
Согласно Трубецкому, вера не может быть полнокровной и
живой, если она опирается только на отвлеченное понятие (тогда она
уже не вера, а либо знание, либо просто предрассудок), ей
необходима полнота чувств, я чувство питается образами и потому
предполагает особую реальность — своего рода онтологическое
«место» образов. Эта реальность не может быть ни отвлеченным
духом, ни его противоположностью — мертвым веществом,
грубой материей. Эту-то «третью» реальность, посредствующую
между духом и физическим телом, философ и называет «духовной
телесностью». Та деятельность, в которой проявляет себя духовная
телесность, есть деятельность воображения, т. е. воплощения идеи
в образ. Согласно Трубецкому, только благодаря существованию
духовной телесности возможно чудо, которое составляет ядро
христианства, — чудо воплощения Сына Божия Иисуса Христа.
И опять-таки созданная Христом мистическая вселенская Церковь
не может быть понята как тело Христово, если не допустить
существования особой — духовной — телесности. «..Действенное
сознание себя членом мистического Тела Христова и сознание
духовной телесности — живой организации духа, заключает в себе
бесконечно большую мудрость, чем все наши богословские
познания и мудрствования»56.
Вот эта-то духовная телесность и есть, согласно Трубецкому,
София Премудрость Божия. «Она в религиозном представлении
Церкви есть вечный Храм Славы Господней... она — тайна таинств,
тот неприступный свет, в котором живет Господь... Она как
абсолютное воображение Бога есть самое начало всякого откровения
и образности. Мудрость Божия есть не абстрактное понятие, не
отвлечение: она есть вселенская система живых образов или идей, их
вечный иконостас^1. Слово «иконостас» не случайно появляется
у философа при объяснении того, что такое духовная
телесность — София: критикуя протестантизм как возрожденное
иконоборчество, он видит в почитании икон неотъемлемый элемент
подлинной веры — как веры в воплотимость божественного.
55 Там же, с. 137.
56 Там же, с. 138.
57 Там же, с. 135.
14в Раздел II Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
Ранняя работа СН. Трубецкого написана с юношеским
подъемом. Особенно вдохновляет ее автора мысль о том, что софиоло-
гия откроет новые богатые перспективы для православного
богословия, точнее — именно русского богословия, которое до сих пор
лишь следовало учению византийской церкви, не развивая его
дальше. «...Русского богословия не было, — пишет Трубецкой, —
наша мысль ограничилась пассивным восприятием и хранением
чисто внешнего материала, который она восприняла в свои рамки.
...Несмотря на всю потребность в живом богословии, на сонмы
ересей и лжеучений, возникающих в русском обществе и во всем
христианском мире, православная мысль коснела и не дала
удовлетворительного ответа ни на один запрос времени»58.
В одном философ точно не ошибся: действительно, идеи софио-
логии оказались в конце XIX в. и особенно в XX в. в центре внимания
русской философии и богословия — достаточно упомянуть здесь
о. Павла Флоренского, о. Сергия Булгакова, Л. Карсавина, В. Эрна,
Н. Бердяева и других мыслителей, развивавшихся в русле идей
B.C. Соловьева. Нужно сказать, что софиология у С. Трубецкого
лишена тех гностических моментов, которые присутствуют у Вл.
Соловьева, а впоследствии усиливаются у Н. Бердяева. Пожалуй,
ошибся наш философ в другом: выражая надежду на то, что учение
о духовной телесности будет новым словом русской православной
церкви, он не предполагал, что софиология породит еще больше
лжеучений и ересей, чем те, что существовали ранее. Но, быть
может, Трубецкой все-таки догадывался об этом; в противном случае
не совсем ясно, почему он не только отказался публиковать свою
раннюю работу (полностью или даже частично), но не обсуждал
больше софиологическую тему в своих позднейших сочинениях.
И даже при изложении учения о Мировой Душе как носительнице
космической чувственности, которое внутренне связано с темой
софиологии, он ни разу не упоминает о Софии Премудрости Божи-
ей, опираясь не на богословские аргументы, а на кантовское учение
об априорных формах чувственности, выросшее на почве именно
протестантизма. Правда, в отличие от Канта, который не задавался
метафизическим вопросом о сущности этих априорных форм,
ограничиваясь анализом их гносеологической функции, Трубецкой
пытается объяснить их с точки зрения метафизики. В программной
статье «В защиту идеализма», написанной в качестве ответа Б.Н.
Чичерину, подвергшему критике «Основания идеализма»59, Трубецкой
58 Там же, с. 139.
59 См. статью Б.Н. Чичерина «Существо и методы идеализма». Статья Трубецко-
Глава 4 «Конкретный идеализм» кн. С.Н. Трубецкого
149
поясняет, что вводит свое понятие мировой души, или мирового
субъекта, как раз с целью избежать пантеизма, склонного
отождествлять «мирового субъекта» с Богом. «Но если субъектом
трансцендентальной чувственности не является ни ограниченное
чувствующее существо, ни вечный Дух или бесплотный Разум, то это еще не
значит, чтобы такого субъекта не было вовсе. Надо прежде всего
решить, есть ли вселенная простой механизм, в котором случайно
образовались отдельные организмы, или она есть живое,
одушевленное целое? Есть много аргументов в пользу того и другого пред-
положе11ия. Я разделяю последнее, т. е. признаю мир одушевленным.
И одним из решительных доказательств в пользу такого
предположения представляется мне открытие Канта относительно природы
времени и пространства, ибо это открытие... доказывает
существование универсальной, мирообъемлющей чувственности. Если
субъектом такой чувственности не может быть ни ограниченное
индивидуальное существо, ни Существо абсолютное, то остается
допустить, что ее субъектом может быть только такое
психофизическое существо, которое столь же универсально, как пространство
и время, но вместе с тем, подобно пространству и времени, не
обладает признаками абсолютного бытия: это — космическое Существо
или мир в своей психической основе, — то, что Платон называл
МировоюДушою»60.
Вслед за античными философами — Платоном и
неоплатониками, а также солидаризируясь с Соловьевым, Трубецкой считает
мир одушевленным организмом, — идея, воспринятая затем
представителями так называемого «русского коехмизма», в частности
В.И. Вернадским, который испытал на себе влияние не только
учения, но и личности С.Н. Трубецкого61.
Рассматривая весь внутренний мир как единое космическое
существо, живое и одушевленное, С.Н. Трубецкой тем самым
решительно выступает против механистического подхода к миру,
критикует механистический материализм, сводящий все живое —
в том числе даже и мысль — к механическому движению атомов.
Однако учение Трубецкого об универсальной чувственности
имеет и еще один важный аспект: в нем нашла свое выражение
мысль о несводимости к механическим основаниям так называе-
го была опубликована в журнале «Вопросы философии и психологии*, кн. 37,
1900,с. 185-238.
60 С.Н. Трубецкой. Собр. соч. Т. II, с. 298.
61 См. речь В.И. Вернадского в «Сборнике речей, посвященных памяти С.Н.
Трубецкого». М., 1909.
150 Раздел II Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
мых чувственных («вторичных») качеств. Нужно сказать, что эта
мысль получила свое развитие впоследствии, в учении Н.О. Лос-
ского о непосредственном созерцании как чувственной, так и
идеальной реальности62. Согласно Лосскому, мир непосредственно
дан человеку в опыте, т. е. чувственные качества предметов отнюдь
не представляют собой только субъективные данности,
«вторичные качества», как их толковала философия и наука XVII-XVIII вв.
Не только в России, но и на Западе в XX веке идет своеобразная
«реабилитация» чувственных данностей: вспомним
феноменологический анализ сознания у Э. Гуссерля, в частности анализ
переживания цвета; вспомним также учение М. Шелера об
«эмоциональном априори». Правда, чувственность и чувство — это не одно
и то же, однако подход Шелера вырос как раз из Гуссерлева
анализа данностей сознания и имеет с ним общий корень — нежелание
сводить содержания сознания к какой-либо другой реальности.
Как видим, проблемы, над которыми размышлял С.Н. Трубецкой,
были предвосхищением тех вопросов, что решались многими
философами — и отечественными, и зарубежными — на протяжении
нашего века.
Наиболее полное изложение своих воззрений русский
философ предпринял в работе «Основания идеализма», послужившей
как бы связующим звеном между статьей «О природе
человеческого сознания», с одной стороны, и «Учением о Логосе в его
истории», с другой. Именно в «Основаниях идеализма» обрисованы
основные черты конкретного идеализма, как Трубецкой называл
свое учение, желая, с одной стороны, подчеркнуть его
идеалистический характер, а с другой, его отличие от т. н. отвлеченного
идеализма, т. е. от учений Фихте, Шеллинга, Гегеля.
В чем видит Трубецкой сущность идеализма? Прежде всего —
в признании универсального Разума, или Логоса, как начала
объективного, всеобщего, составляющего основу как самого мира, так
и человеческого разума, предпосылку объективности
человеческого познания. Констатируя тот факт, что отвлеченный идеализм
немецкой философии потерпел крушение, уступив место
позитивизму, скептицизму, материализму63, русский мыслитель в то же время
не согласен, что тем самым потерпела поражение метафизика как
таковая и ее важнейший момент — идея Логоса в философском
смысле. Ибо эта идея родилась задолго до немецкого идеализма,
62 Этой теме посвящена работа Н.О. Лосского «Обоснование интуитивизма».
СПб, 1908.
63 См. С.Н. Трубецкой. Собр. соч. Т. II, с. 161.
Глава 4 «Конкретный идеализм* кн. С.Н. Трубецкого
151
еще в античной философии, и, как мы уже знаем, рационализм
Платона и особенно Аристотеля представляется нашему
философу более близким, чем пантеистический панлогизм Гегеля. «Что
метафизика не навсегда приостановила свое развитие, что за
временным отливом умозрения готовится новый прилив, — очевидно
теперь и для врагов метафизики. Что вместе с нею идея
универсального разума... займет первенствующее место, — можно
заключить с большим вероятием...»64
Что касается возврата интереса к метафизике, — тут
предсказание С.Н. Трубецкого в значительной мере сбылось. Но идея
универсального разума в метафизических течениях XX века оказалась
в значительной мере потесненной — непосредственному
переживанию, интуиции, чувству, ориентации на язык, а не на логос в
традиционном значении было отдано предпочтение в XX веке.
Разум и вера. Критика отвлеченного идеализма
Теперь обратимся к специфике именно конкретного идеализма:
в чем видит Трубецкой его отличие от идеализма абстрактного?
Прежде всего он подчеркивает, что конкретный идеализм не
может быть беспредпосылочным мышлением, которого требовала
гегелевская философия. По словам Трубецкого, «самая логическая
идея предполагает абсолютное сущее... Представление о
„безосновной и безотносительной мысли" — das reine voraussetzungslose
Denken — оказывается ложной отвлеченностью, которая
противоречит действительности и сама разлагается во внутренних
противоречиях... Наш разум непосредственно предполагает сущее...»65
Как и B.C. Соловьев, С.Н. Трубецкой в качестве исходного
понятия философской системы полагает не отвлеченное понятие —
таким у Гегеля является «чистое бытие», а конкретное Сущее,
самобытное реальное существо, которое является субъектом всех тех
определений, тех предикатов, которые в нем открывает
мышление. «...В мире, — пишет С.Н. Трубецкой, — существуют реальные
существа, подобные нам и вместе отличные от нас, которые не
сводятся ни к чувственному явлению, доступному нашим
восприятиям, ни к идеям или понятиям»66. Сущее как раз предшествует
всякой мысли о нем, оно и составляет ту предпосылку философского
64 Там же, с. 162-163-
65 Там же, с. 305.
66 Там же, с. 218.
152 Раздел II Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
мышления, то его «начало», от которого необходимо
отправляться, чтобы не впасть в искушение панлогизма, т. е. рождения из
отвлеченной мысли всего богатства ее определений. Учение о пред-
посылочности философии и тезис о вечном актуальном сознании,
предшествующем всякому конечному становящемуся сознанию,
о котором мы говорили выше, — это два взаимно связанных
момента. Конкретный идеализм Трубецкого, требующий допустить
бытие (точнее Сущее) раньше всякого мышления, предполагает
теистическое миросозерцание.
Очень современно звучит поправка С.Н. Трубецкого к
картезианскому «мыслю, следовательно существую»: ведь именно в XX
веке представители экзистенциальной философии, прежде всего
Хайдеггер, подвергли критике Декартову попытку выведения
бытия Я из мышления, хотя справедливости ради надо сказать, что,
несмотря на наличие слова «следовательно», у Декарта нет
стремления выдать эту формулу за силлогизм: для силлогизма
необходим средний термин. И тем не менее сама форма этого «мыслю»
воспринималась обычно как попытка предпослать мышление
бытию мыслящего. Против этого и возражает Трубецкой. «Мысль, —
пишет он, — не полагает, а предполагает наше существование,
которое обосновывает наше мышление, хотя и не покрывается им.
...Мой субъект, мое существо не есть мысль или понятие мысли,
точно так же, как оно не есть простое чувственное состояние или
простой объект чувственного восприятия. Оно есть нечто такое,
что предполагается мыслью и чувством и сознается не путем
логического заключения, а путем непосредственной уверенности»67.
Трубецкой здесь предвосхищает ту критику отвлеченного
рационализма, как и философии, исходящей из тождества бытия
и мышления, которая была осуществлена спустя почти полвека
в экзистенциализме. Но при этом русский философ стремится
остаться на почве рационализма, что существенно отличает его от
господствующей тенденции философии нашего столетия.
Доказывая, что бытие, сущее не сводится к логической идее, что общие
понятия нашего ума, т. е. логические категории, суть только
основные типы отношения мысли к своему предмету68, Трубецкой в то
же время признавал духовность и разумность всего реального,
признавал универсальные разумные законы, законы
космического Логоса, по которым устраивается жизнь как природы, так и че-
67 Там же, с. 314-315.
68 Здесь опять-таки русский философ возвращается к аристотелевскому
пониманию форм мысли.
Глава 4 «Конкретный идеализм» кн. С.Н. Трубецкого
153
ловека и которые в конечном счете могут быть постигнуты
средствами человеческого разума. Однако при этом разум не
рассматривается Трубецким как единственный источник познания. Как
в человеке можно выделить три основных способности —
чувственное восприятие, мышление и волю, так и познание
осуществляется с помощью опыта, обусловленного априорными законами
нашего восприятия (универсальной чувственности), с помощью
разума, который устанавливает закономерную связь явлений, и,
наконец, с помощью веры, устанавливающей «реальность
мыслимых и воспринимаемых нами существ»69.
Эти три источника знания выполняют различные функции:
чувственность дает нам являющуюся действительность в ее
индивидуальности, мышление позволяет установить всеобщие связи
в этом являющемся мире, всеобщую соотносительность сущего,
а вера открывает нам субстанциальное бытие сущего, ибо
последнее не дано ни чувственности, ни разуму. «...Мы должны допустить,
что признание реальности внешних явлений и в особенности тех
самобытных, независимых от нас живых существ, для которых эти
явления существуют также помимо нас, — признание такой
реальности не имеет достаточного логического основания ни в нашем
чувстве, взятом само по себе, ни в нашей отвлеченной мысли: оно
есть акт веры — третьего фактора нашего познания. Сущее
определяется, следовательно, не только как предмет чувства и мысли,
но и как предмет веры»70.
Обращение к вере как самостоятельному, третьему фактору
познания обусловлено у Трубецкого его вниманием к трудностям,
возникающим как в эмпиризме, так и в немецком идеализме.
Согласно крайним — и самым последовательным — выводам
эмпиризма (Юм), субъективное состояние сознания не содержит в себе
достаточного основания для утверждения чего-либо вне его.
Согласно же сторонникам идеализма, особенно утверждающим
тождество мышления и бытия, взятое отвлеченно, чистое понятие
тоже не дает основания для перехода к внепонятийной реальности,
ибо таковая либо вообще не допускается, либо же сводится к чему-
либо крайне примитивному, допонятийно-неопределенному
Поэтому возникает вопрос: если реальность не тождественна
понятию, если бытие не есть само мышление, т. е. трансцендентальная
субъективность, то каким образом мы можем узнать о такой
реальности, поскольку она и не эмпирическая, и не понятийная, — что
69 Там же, с. 261.
70 Там же, с. 218.
154 Раздел II Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
удостоверяет нам ее существование? Это может сделать только
вера — отвечает наш философ, следуя здесь опять-таки за
славянофилами, у которых понятие веры тоже играло важную роль. В
познавательной деятельности необходимы все три составляющие:
чувство, мысль и вера.
По всей видимости, первоначально обращение к вере как той
способности, которая удостоверяет нам бытие другой субстанции,
также, впрочем, как субстанции нашего собственного Я (здесь
Трубецкой рассуждает последовательно), было вызвано
размышлением над так называемой проблемой «чужого Я», которая остро
встала в немецком идеализме, в частности у Фихте. В самом деле, коль
скоро нам непосредственно открыто только собственное Я,
самосознание, а все внешнее есть лишь явление для Я, то каким
образом можем мы допустить реальность других Я, не данную нам ни
в собственном самосознании, ни во внешнем восприятии (ведь
другие люди принадлежат, как и остальные предметы внешнего
мира, к тому, что лишь является нашему Я). С точки зрения Фихте,
признание других Я основано на требовании практического
разума, т. е. составляет сферу права и нравственности. С таким
объяснением С.Н. Трубецкой не согласен. «В признании реальности
таких субъектов, точно также, как и в признании реальности нашего
собственного Я, отнюдь не следует видеть простой постулат
„практического разума" или внушение „нравственного чувства", как это
делают некоторые последователи Канта. ...Нравственные чувства
стыда, жалости, справедливости, почтения предполагают в нас
убеждение в существовании нашего собственного субъекта и
других субъектов различных порядков... Но не нравственность
порождает такое убеждение, а скорее наооборот — нравственные
чувства и обязанности обусловливаются этим убеждением, которое
может существовать и помимо всякой нравственности, до нее или
вопреки ее отсутствию. Я признаю существование других людей
не потому, что я сознаю свои обязанности перед ними, а,
наоборот, я признаю обязанности по отношению к ним потому, что
вижу в них нечто большее, чем мои представления, сознаю в них
реальные субъекты»71.
Трубецкой прав в своей критике трансцендентального
идеализма, для которого действительно реальность другого Я — это самая
трудная проблема. Однако понятие веры, которая должна служить
источником для признания реальности других подобных нам
разумных существ, оказывается у него довольно неопределенным.
Там же, с. 228.
Глава 4 «Конкретный идеализм» кн. С.Н. Трубецкого 155
В самом деле, согласно философу, вера удостоверяет нас в
реальном существовании, во-первых, внешних предметов вообще (без
нее мы, по Трубецкому, могли бы считать их только состояниями
собственного сознания), во-вторых, в реальности других
одушевленных и мыслящих существ, подобных нам, чье эмпирическое
явление дано нам непосредственно, но чье сознание — вовсе не
эмпирическая данность; и, наконец, в-третьих, вера убеждает нас
также в существовании высших духовных существ, вообще никак
не данных нам эмпирически, и прежде всего — в существовании
Бога. Собственно, вера в богов или Бога — это и есть главное
определение веры: философ подчеркивает, что предметом веры
прежде всего является «самобытная живая „сила", которая составляет
предмет поклонения и определяется как дух»12. Вера в Сущее,
согласно Трубецкому, есть не что иное, как признание «реальных
независимых от нас и вместе соотносящихся с нами существ или
субъектов»73. Однако наряду с этим вера «убеждает нас в
реальности внешнего мира, в реальности предметов чувства и разума»74.
Одним словом, обнаружение субстанциального бытия,
субстанциальности сущих — главная функция веры. Однако этому тезису
недостает тщательной проработки, при которой были бы
расчленены разные предметы веры и, соответственно, разные ее типы.
Эта нерасчлененность послужила Б.Н. Чичерину основанием для
обвинения Трубецкого в «мистическом идеализме». Прежде чем
принять понятие «веры», необходимо и в самом деле доказать, что
наше мышление недостаточно для обнаружения бытия
субстанций, или «сущих», как их называет С.Н. Трубецкой. Видимо,
критика понятия субстанции со стороны эмпиризма и позитивизма
представлялась С.Н. Трубецкому настолько убедительной, что он
не нашел возможным вернуться к традиционному
аристотелевскому ее обоснованию и стал искать нового пути к ее признанию.
Не мышление, а воля есть та способность в нас, с помощью
которой мы открываем бытие, — таков тезис русского философа.
Характерно при этом, что Трубецкой не принял соловьевского
отождествления веры с интеллектуальной интуицией, или
вдохновением. К понятию интеллектуальной интуиции, игравшему
такую большую роль у Фихте, романтиков, Шеллинга, С.Н.
Трубецкой относится критически. Мысль Шеллинга о том, что органом
метафизики может быть только интеллектуальная интуиция,
72 Там же, с. 229-
73 Там же, с. 236.
74 Там же, с. 230.
156 Раздел II Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
по словам Трубецкого, «едва ли заслуживает серьезного
обсуждения: мистическая интуиция, подобно небесной манне, часто
меняет свой вкус по желанию того, кто ее вкушает, и возводить ее в
самостоятельный орган познания или искать в ней критерия истины
значило бы просто провозгласить непогрешимость нашей
фантазии»75. Это справедливая критика. И для Шеллинга, и для его
последователей, включая и B.C. Соловьева, характерно, как мы отмечали
выше, постоянное смешение интеллектуальной интуиции с
продуктивной способностью воображения76. Характерно, что
интеллектуальное созерцание рассматривается Соловьевым по
аналогии с состоянием пассивно-медиумическим, состоянием особой
одержимости, транса, в котором не участвует наша воля,
поскольку она может только препятствовать восприятию действия на нас
трансцендентных существ, каковы, по Соловьеву, идеи.
Отрешенность интеллектуального созерцания от волевого начала
подчеркивали как немецкие романтики, так и их предшественники —
немецкие мистики, например Мейстер Экхарт. В
противоположность всему этому мистически-романтическому направлению,
С.Н. Трубецкой на место интеллектуального созерцания и
родственной ему фантазии ставит как раз способность, укорененную
в воле, а именно веру. И связано это с тем, что для русского
философа нравственно-этическая сфера стоит выше эстетической,
чего столь однозначно нельзя сказать о B.C. Соловьеве. Критикуя
немецкую мистику, изучению которой Трубецкой посвятил
немало времени, русский философ отмечает, что нравственное
отношение есть отношение абсолютное, ибо и само начало мира —
Бог — есть реальный и конкретный субъект, который мыслится
прежде всего как субъект валящий. «Воля предполагает в субъекте
отношение к другому. ...Поэтому, поскольку абсолютный субъект
определяется как волящий, он необходимо мыслится нами как
полагающий или утверждающий свое другое... Если конечный,
ограниченный субъект может в деятельности своей воли эгоистически
утверждать свое Я, отрицая все то, что его ограничивает, то в
абсолютном подобное „эгоистическое самоутверждение воли"
представляется логически немыслимым: ибо, во-первых, ничто
„другое" не может ограничивать абсолютного... во-вторых, отрицание
другого означало бы в абсолютном отрицание всякой... воли
вообще... Абсолютное утверждает себя лишь в своем „альтруизме", т. е.
75 Там же, с. 258.
76 См. в этой связи раздел о диалектике B.C. Соловьева в книге «Критика
немарксистских концепций диалектики XX века». М., 1988, с. 55-56.
Глава 4 «Конкретный идеализм» кн. С.Н. Трубецкого
157
утверждая потенцию своего другого и раскрываясь в его
действительности, как конкретная, всесильная и вместе всеблагая,
свободная воля»77. Любовь к другому, альтруизм — вот сущность Бога,
как его понимает Трубецкой. Альтруизм есть определение
божественной воли. Как в Боге, так и в человеке именно воля составляет
основу личности, а поэтому вере, как началу, происходящему из
воли, открывается бытие.
Понятие «соборного сознания», которое предполагает
единение людей, их согласие и любовь, и понятие «веры» тесно между
собой связаны. Но при этом, как уже отмечалось, вера у Трубецкого
не противостоит разуму. Учение Трубецкого — не иррационализм:
философ остается приверженцем Логоса, дополненного верой,
ибо убежден, что в основе мира — духовное разумное и любящее
Начало, а потому мир в сущности своей — благ. Отсюда
проистекает оптимизм С.Н. Трубецкого, здесь источник его деятельной
энергии, его сочувственного отношения ко всем благим начинаниям,
его неутомимой академической и гражданской деятельности на
пользу науки и отечества. «Подобно своему другу Соловьеву, князь
Трубецкой умел соединять с горячей и непоколебимой
религиозной верой совершенное свободомыслие, — пишет Л.М. Лопатин. —
В своей философии князь Трубецкой был сознательный
рационалист... Он верил во внутреннюю разумность сущего и поэтому
верил, что разум, при серьезном и вдумчивом отношении к его
требованиям, нас не выдаст и не обманет. Он заботливо вскрывал
антиномии и в бытии и в познании, но для того, чтобы разрешать
их в примирительных синтезах. В этом отношении он был
совершенным антиподом тех представителей современной
религиозной философии, которые с изысканной любовью к антитетике
ищут антиномий во что бы то ни стало, находят их везде, где
только можно делать противоположные утверждения, хотя бы с
разных точек зрения и в разных отношениях, но при этом не решают
их, а, напротив, оставляют их как нечто окончательное и навсегда
неустранимое, а главную добродетель разума видят в смирении
и в покорной готовности совмещать в себе противоречивые
мысли. Я не знаю, зачем нужна такая добровольная слепота разума»78.
77 Там же, с. 280.
78 Л.М. Лопатин. Современное значение философских идей князя С.Н.
Трубецкого // Вопросы философии и психологии, кн. 313 (I), с. 38-39.
Религиозные философы-«антиномисты», о которых с горечью пишет Л.
Лопатин, указывая на их принципиальное отличие от Трубецкого, это прежде всего
158 РазделП Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
Трубецкой против имморализма
и романтики насилия
Придавая столь кардинальное значение вере, С.Н. Трубецкой
пишет: «Человека нередко определяли как животное двуногое,
животное разумное и словесное, животное политическое. Можно
также определить его как животное верующее... Человек верит в
определенный смысл мира и в смысл существования, в безусловную
цель, идеал своего существа. И когда такая вера у него отнимается,
существование его представляется ему бессмысленным,
бесцельным, случайным и лишним»79. Утрата веры, таким образом,
порождает общественный недуг, ведет к культурному кризису. Таким
недугом, по наблюдению С. Трубецкого, оказалось пораженным
русское общество в результате разложения традиционных основ
быта и нравов и отсутствия новых жизнеспособных дарований.
Признаки этого разложения философ выявляет, анализируя
русскую литературу XIX и начала XX века. Так, история «лишнего
человека» от Тургенева до Чехова свидетельствует, по убеждению
Трубецкого, об углубляющейся утрате человеком веры в смысл
собственной деятельности, — болезни, поразившей русское
образованное общество. Человека глубоко религиозного и
деятельного, С.Н. Трубецкого подавляет и раздражает настроение уныния,
тоски и скуки, господствующее в литературе начала века, даже у
таких талантливых писателей, как Чехов. «Г-н Чехов, рассказы
которого представляются маленькими художественными этюдами,
всегда проникнутыми столь интимным, задушевным
настроением, дает нам последнюю страницу в истории „лишнего человека" —
обиженного и обидевшегося русского интеллигента. Кем он
обижен? Всеми - и княгинями и мужиками, и кулаками и
фельдшерами, и Богом и судьбою. Все эти „хмурые люди", „нытики", разбитые
П.А. Флоренский и С.Н. Булгаков, выступившие с критикой закона тождества и
объявившие человеческий разум антиномичным по самой своей природе. Хотя
сам по себе призыв человеческого разума к смирению, как и указание на его
конечность и ограниченность, вполне правомерны, однако «любовь к
антиномиям», на которую указывает Лопатин, стремление видеть антиномизм разума даже
там, где налицо — просто ошибка в рассуждении, наконец, непринятие закона
тождества — все это действительно отличает творчество Флоренского и
Булгакова, и тут критика их старшего современника вполне справедлива. Интересно,
что Флоренский и Булгаков неожиданно сближаются здесь с уже
упоминавшимся Львом Шестовым, для которого разум вообще есть bête noir философии.
79 СН. Трубецкой. Собр. соч. Т. I, с. 381.
Глава 4 «Конкретный идеализм» кн. С.Н. Трубецкого
159
жизнью или даже чаще всего разбитые без всякой жизни и без
всякой борьбы, страдающие от неврастении, от собственной
дряблости и бессилия, от мелкого гиперэстезированного самолюбия и
себялюбия, от собственной пошлости и скуки и от пошлости своей
среды, все это „лишние человеки", тяготящиеся сами собою,
сознанием своей ненужности, праздности своей жизни. И г. Чехов
любовно носится с этими лишними человеками, лишними дядями,
лишними сестрами и братьями. Он жалеет их, тоскует с ними,
плачет и ноет с ними, и, по-видимому, читающая публика приходит от
этого в восгорг. Чем скучнее рисуется жизнь, чем слякотнее
характеры, чем более становятся они обидно-мелкими и
болезненно-чувствительными и чем более сгущаются серые краски, тем более
удовольствия испытывает современный читатель или даже зритель»80.
Другой симптом болезни общества — это увлечение духом
отрицания и зла. Если «лишний человек» Чехова — это герой
пассивный, то «сверхчеловек» от Демона и Печорина до босяков Максима
Горького — это активный вариант «героя», не менее
отталкивающий для Трубецкого81. Горький отличается от Чехова. Если Чехов,
по словам Трубецкого, «печальник, плакальщик нашей
интеллигенции, то М. Горький в глубине души своей чувствует к этой
интеллигенции накипающую, застаревшую злобу»82. Бессилию
и нытью «лишних людей» Горький противопоставляет «сильную
личность», «идеалы босяцкой удали и свободы»83. Туг тоже есть своя
история — история «понижения» сильной личности: «Г-н Горький
подарил нас новым героем нашего времени, или, точнее, рядом
героев — избранных босяков. Это тоже нисколько не ирония, — во
всяком случае, не моя ирония, а, если угодно, ирония судьбы.
„Печальный демон, дух изгнания" постепенно понижался в
общественной лестнице. ...В виде блестящего аристократа он явился в
последний раз в образе Николая Ставрогина у Достоевского; но уже
у пего он был в сущности „эпилептическим дегенератом" в
специально-патологическом, психиатрическом смысле этого термина.
У Горького он опускается до „дна" и обыкновенно является
босяком. Сохраняется основная черта — гордое чувство собственного
превосходства при полном нравственном нигилизме или
отрицании каких бы то ни было нравственных норм. Сохраняется
самодовлеющий имморализм сильной личности, наслаждающейся
Там же, с. 370.
Там же.
Там же, с. 375.
Там же, с. 372.
1бО Раздел II Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
своей вольной волей, своей мощью»84. Сам термин «сверх-чело-
век» Трубецкой употребляет, конечно, не случайно: в начале века
в России наблюдалось повальное увлечение имморализмом
Ницше, и нетолько среди философов — Л. Шестова, Д. Мережковского,
Н. Бердяева, В. Розанова и других, но и среди писателей. Как раз
Горький — один из них. Философию большинства его героев, как
замечает Трубецкой, «составляет босяцкое ницшеанство», культ голой
силы, витальной мощи, которую воспел больной немецкий
философ-поэт85. Но витальную мощь не следует смешивать с силой духа,
а именно в последней, корень которой — вера, так нуждается,
по мнению Трубецкого, современное ему русское общество.
Человеческой душе нужна высшая цель; «дайте ей веру, и она поведет нас
по волнам моря! А одни крики „буревестника", носящегося над
ними, могут быть исполнены большой поэзии, но от потопления они
нас не спасут. И не в вещих криках мы нуждаемся, а в вещем слое«?!»86
Анализируя духовную ситуацию в России начала XX века,
С.Н. Трубецкой видел большую опасность в нарастании культа
ненависти и насилия, и не только в обществе, но, что самое горькое,
в художественной литературе, которая «более всякой другой
служила великому делу совести»87. Признаки нового типа человека,
которого всего 25 лет спустя испанский философ Ортега-и-Гассет
назвал «человеком-массой», вместе с которым в Европу пришла
волна разрушения и насилия, уже в 1905 году разглядел С.Н.
Трубецкой. И поэтому пророчески звучат его слова: «Лучшие люди
становятся лишними, героями дня являются сегодняшние изгои,
завтрашние мстители и разрушители. Разрушение и ненависть
делаются лозунгом, — ненависть, быть может, и родившаяся из
возвышенного святого гнева, но столь легко вырождающаяся в сти-
хишг/ю злобу там, где любовь перестает питать и согревать ее»88.
Трубецкой расслышал в литературе начала века тот гул
приближающегося урагана, который спустя немногим более десятилетия
превратился в восторг разрушения:
84 Там же, с. 374.
85 В увлечении «сверх-человском», пишет Трубецкой, «нередко чувствуется
какая-то слабость, что-то „бабье", как остроумно заметил Э. Гартман по поводу
Uebermensch'a Ницше: увлечение этим „сильным мужчиной" напоминает ему
то чувство, которое вспыхивает у иных невропатических дам при виде
мускулатуры атлета-циркиста» (там же, с. 373).
86 Там же, с. 380.
87 Там же, с. 382.
88 Там же.
Глава 4 «Конкретный идеализм» кн. С.Н. Трубецкого
161
Пули, погуще!
По оробелым!
В гущу бе1ущим
грянь, парабеллум!
Самое это!
С донышка душ!
Жаром,
жженьем,
железом, свегом,
жарь,
жги,
режь,
рушь!
Эта романтика насилия — отнюдь не просто отвлеченная игра
поэтического воображения Маяковского; ей, увы, соответствовала
кровавая реальность. С.Н. Трубецкой не дожил до первого
всплеска чудовищной волны насилия и жестокости — Первой мировой
войны, в которой его современник и друг Л.М. Лопатин увидел
«огромную историческую катастрофу», «великий моральный крах
современной Европы»89. Но Трубецкой успел предупредить русское
общество о грозящих ему катаклизмах — об опасности утраты
милосердия, любви и сострадания, которые с легкой руки Ницше все
чаще стали восприниматься как признаки «морали рабов».
Сергей Николаевич Трубецкой был философом в самом
подлинном и высоком значении этого слова. Он не просто занимался
философией — он ею жил, ибо жизнь и мысль были для него
нераздельны. По словам П. Блонского, С. Трубецкой «учит нас
жизненному, а не школьному или литературному отношению к
философии... В наши дни, когда философия и душа философа слишком
часто и слишком резко перестают иметь что-либо общее друг
с другом, кн. С.Н. Трубецкой должен особенно жить для нас»90.
89 Л.М. Лопатин. Современное значение философских идей князя С.Н.
Трубецкого, с. 2, 5.
90 П. Блонский. Кн. С.Н. Трубецкой и философия // Мысль и слово. М., 1917, с. 145.
Глава 5
Утрата середины.
Эстетический аморализм и аскетическое
православие Константина Леонтьева
Константин Николаевич Jleoiпъев (1831-1891) — один из наиболее
оригинальных и самобытных мыслителей XIX века. Но при этой
самобытности в творчестве Леонтьева ярко выражена характерно
русская черта. Если, как это нередко отмечают последователи,
русский дух тяготеет к максимализму и экстремизму, к превышению
всякой меры, которой он, в отличие от классической
древнегреческой культуры, не любит и не хочет, то именно К.Н. Леонтьев —
один из наиболее последовательных выразителей этого духа. В
Леонтьеве без всякого опосредования уживаются два крайних,
несовместимых полюса: эстетический аморализм, с одной стороны,
и строгий церковный аскетический идеал православного
монашества, с другой.
Леонтьева часто называли и сегодня называют «русским
Ницше». Близко знавший Леонтьева и высоко ценивший Ницше
Василий Розанов так сравнивает их: «Что такое Леонтьев? Фигура
и гений в уровень с Ницше. Только Ницше был профессор,
сочинявший „возмутительные теории" в мозгу своем, а сам мирно
сидевший в мирном немецком городке и лечившийся от
постоянных недугов. Немцы у себя под черепом производят всякие
революции: но через порог дома никак не могут и не решаются
переступить. ..Леонтьев, идейное родство которого с Ницше
гораздо ближе, чем далекое и даже проблематическое родство с ним
Достоевского, — был не профессор, а глубоко практическая,
и притом страстно-практическая, личность... Медик, гувернер,
журналист и романист, диплохмат, монах и, наконец, отшельник
Оптиной пустыни, он был, как сабля наголо: он не только
„переступил бы порог" своего дома, но сейчас бы и бросился в битву,
закипи она на улицах. С кем в битву? С теми же кумирами, которые
разбил и Ницше. За какие идеалы? За те же, каким поклонялся Ниц-
Глава 5 Эстетический аморализм Константина Леонтьева
163
ше. Идеал Леонтьева — эстетическая красота. Но не в книгах
(Ницше), а в самой жизни»1.
Эта характеристика, данная Розановым Леонтьеву, существенно
неполна: в одном вопросе, и вопросе далеко не второстепенном,
Леонтьев и Ницше — антиподы. Я имею в виду отношение их к
государству и государственности. Леонтьев — страстный защитник крепкой
государственности как главного условия существования культурных
форм, тогда как Ницше считал государство самым холодным из всех
холодных чудовищ. Леонтьев — убежденный монархист, Ницше —
анархист. Анархизм Ницше так привлекал к нему многих русских
философов — Д. Мережковского, Д. Философова, Н. Бердяева, В.
Розанова, Вяч. Иванова — представителей «нового религиозного
сознания», по своим убеждениям антиподов Леонтьева, непримиримых
критиков русского самодержавия и православной церкви.
Леонтьев с большим интересом и во многом с сочувствием
относился к творчеству своего младшего современника B.C. Соловьева.
Не разделяя либеральных политических воззрений Соловьева,
нередко полемизируя с ним как в личных беседах, так и в письмах и
статьях, особенно по национальным и религиозным вопросам, он в то
же время высоко ценил в Соловьеве глубокого мыслителя и
одаренного писателя. Он даже высказывал мысль о том, что грядущие
поколения pycciaix людей, «разлюбивши простой, утилитарный професс,
разочаровавшись в нем», «накинутся толпами на учение Соловьева»2,
и прежде всего — «благодаря его таланту (или вернее гению)...»*
Леонтьеву была близка соловьевская критика материализма,
позитивизма и утилитаризма, он разделял стремление Соловьева к
созданию религиозной (христианской) философии и внимательно
читал его работы, посвященные проблемам церкви, выделяя среди
них «Теократию» и «Религиозные основы жизни». В письме к
Иосифу Фуделю от 24 января 1891 г. он замечал, что «от Соловьева нечто
большее должно остаться. Останется же столь поразительная
и простая идея развития Церкви, против которой тщетно спорят...
наши православные богословы, воображая почему-то заодно с
самим Соловьевым, что идея эта непременно ведет в Рим... Останется
ли от Соловьева только эта идея развития Церкви или нечто еще
более общее, — только истинно великий толчок, данный им русской
В.В. Розанов. Константин Леонтьев и его «почитатели» // Его же. Легенда
о великом инквизиторе Ф.М.Достоевского. М., 1996, с. 555.
2 «К. Леонтьев о Владимире Соловьеве и эстетике жизни (По двум письмам)» //
Творческая мысль. М., 1912, с. 9-
3 Там же.
164 Раздел II Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
мысли в глубоко мистическую сторону, ибо он, будучи несомненно
самым блестящим, глубоким к ясным философом-писателем в
современной Европе, посвятил свой дар религии, а не чему-нибудь
другому? (Небывалый у нас пример; да и нигде в XIX веке)»4.
Предсказания Леонтьева во многом сбылись: влияние Соловьева
на русскую философию и культуру Серебряного века
действительно оказалось очень сильным. Идея теократии, которой в общем
сочувствовал Леонтьев, не получила после смерти философа
сколько-нибудь существенного развития, да и для самого Соловьева,
в последние годы жизни настроенного пессимистически в
отношении конечного торжества добра и правды здесь, на земле, она
как-то ушла в тень. Но для нас сегодня поучительны отношения
двух столь несходных меж собой мыслителей, как Леонтьев и
Соловьев: они свидетельствуют о большой человеческой открытости
и душевной широте русских людей XIX века, взаимной симпатии
которых не мешала ни их противоположная политическая
ориентация, ни постоянная полемика по самым разным вопросам5.
Жизнь и творчество
Константин Николаевич Леонтьев происходил из обедневшей,
но родовитой дворянской семьи. Он родился 13 января 1831 г. в
родовом селе Кудиново Калужской области. Отец не оказал на сына
существенного влияния; его воспитанием занималась мать, женщина
властная и деятельная. Константин был младшим сыном в семье
(детей было семеро), любимцем матери; привязанность к ней,
восхищение ее красотой и изяществом сохранились у него на долгие годы.
«Воспоминание об этом очаровательном материнском „Эрмитаже"
(красивый кабинет матери в кудиновском доме. — ЯГ.) до того
связаны в сердце моем и с самыми первыми религиозными
впечатлениями детства, и с ранним сознанием красот окружающей природы,
и с драгоценным образом красивой, всегда щеголеватой и
благородной матери, которой я так неоплатно обязан всем (уроками
патриотизма и монархического чувства, примерами строгого порядка,
постоянного труда и утонченного вкуса в ежедневной жизни)»6.
4 Там же, с. 14.
5 См. об этом: И.Фудель. К. Леонтьев и Вл. Соловьев в их взаимных отношениях
// Русская мысль, 1917, № 11 -12.
6 Цит. по статье: Б. Филиппов. Страстное письмо с неверным адресом //
Константин Леонтьев. Моя литературная судьба. Автобиография. Нью-Йорк, 1965, с. 3-
Глава 5 Эстетический аморализм Константина Леонтьева
165
По окончании Калужской гимназии Леонтьев в 1849 г. поступил
в Ярославский Демидовский лицей, но вскоре перевелся на
медицинский факультет Московского университета. За год до окончания
университета Леонтьев, получив степень лекаря, уезжает в Крым,.где
началась русско-турецкая война (1853-1856). В течение двух лет
Леонтьев участвовал в Крымской войне в качестве батальонного
врача. Однако врачебная деятельность мало привлекала Леонтьева, еще
со студенческих лет начавшего писать и мечтавшего посвятить себя
литературе7. Весной 1856 г. он уходит в отпуск и живет в имении
помещика И.Н. Шатилова, где начинает роман «Подлипки»
(опубликован в 1861 г.), а в 1857 г. возвращается в Москву. Жить литературным
трудом оказывается нелегко, и по материальным соображениям
Леонтьев в 1858 г. принимает предложение баронессы Розен занять
должность домашнего врача, уезжает в Нижегородскую губернию
и тут продолжает заниматься литературной деятельностью. Через
два года Леонтьев возвращается в Кудиново, где работает над
повестью «Второй брак». В 1861 г., неожиданно для родных, Леонтьев
уезжает в Крым, где женится на молодой красавице-гречанке Елизавете
Политовой, с которой у него был роман в годы Крымской войны.
Один из биографов КН. Леонтьева отмечает, что Е. Политова была
«дочерью мелкого торговца-мещанина, полуграмотной и
неумной»8, что Леонтьев, человек необычайно влюбчивый, изменял ей
постоянно. Спустя семь лет после женитьбы, летом 1868 г. у жены
Леонтьева обнаружились признаки психического расстройства,
не исключено, что из-за ревности: бесконечные романы мужа,
вероятно, причиняли много мучений этой простой и очень ревнивой
женщине, попавшей в чужую и новую для нее среду.
Романы и рассказы Леонтьева успеха не имели9. Резко
отрицательную рецензию на роман «В своем краю» опубликовал «Совре-
7 В 1851 г. он написал комедию «Женитьба по любви», которую отнес И.С
Тургеневу и получил его одобрение. В 1851-1858 гг. в «Московских ведомостях»
вышли рассказы Леонтьева «Благодарность», «Ночь на пчельнике», в
«Отечественных записках» были опубликованы написанные в Крыму «Лето на хуторе»,
«Сутки в ауле Биюк-Дорне». Сам Леонтьев, однако, позднее весьма критически
оценивал свои ранние вещи. «Все эти первые повести мои очень плохи, они по
изложению слишком еще похожи на ненавистную, господствующую у нас
школу» (К.Н. Леонтьев. Собр. соч. в 9-ти томах. Т. 1. М., 1912, с. IX). «Ненавистная
школа» для К.Н. Леонтьева — гоголевская «натуральная школа», оказавшая, по его
мнению, пагубное влияние на последующую русскую литературу.
8 Б. Филиппов. Цит. соч., с. 6.
9 «Ни одна из моих повестей, — вспоминал писатель впоследствии, — ни один
из моих романов не только не имели шумного успеха, но не заслужили ни од-
166 Раздел II Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
менник». Автор рецензии — Салтыков-Щедрин — зло высмеял
подражательность романа Леонтьева: «Сочинение г. Леонтьева нельзя
назвать просто романом; это, если можно так выразиться, роман-
хрестоматия. В нем вы на каждом шагу встречаетесь с
воспоминаниями о Тургеневе, графе Л. Толстом, Писемском и др. ...»10
В начале 60-х годов Леонтьев выступил не только как писатель,
но и как литературный критик. В I860 г. он написал небольшую
статью о романе Тургенева «Накануне», озаглавленную «Письмо
провинциала к г. Тургеневу». В ней Леонтьев сравнивает
«Накануне» с другими романами Тургенева^ особенно с «Дворянским
гнездом», и отмечает, что в художественном отношении
последний роман значительно уступает более ранним. Подчеркивая
тенденциозность «Накануне», Леонтьев замечает, что в романе
«бессознательное принесено в жертву сознательному»1 h
Тургенев передал статью в редакцию «Отечественных записок»
с просьбой ее напечатать. Интересно отметить, что именно
Тургенев, покровительствовавший начинающему писателю,
посоветовал Леонтьеву заняться литературной критикой, что, как
вспоминал впоследствии Леонтьев, очень его тогда обидело: в этом
совете Тургенева он усмотрел сомнение в своем художественном
даровании. Но, очевидно, Тургенев рано разглядел у Леонтьева
склонность к критическому анализу, и нельзя не признать, что
прогноз его оправдался.
В 1861 году в «Отечественных записках» появилась вторая
статья Леонтьева — «По поводу рассказов Марка Вовчка», где автор
защищал эстетическую точку зрения, «права красоты» в
художественном произведении, полемизируя с обличительной
тенденцией в литературе и критике, прежде всего с Добролюбовым.
Однако эта полемика поначалу не мешала Леонтьеву сочувствовать
либеральным умонастроениям, столь сильным в России накануне
реформы 1861 года. «Я помню это время! — писал впоследствии
Леонтьев. — Это действительно был какой-то рассвет, какая-то
умственная весна... Это был порыв, ничем не удержимый! Казалось,
что все силы России удесятерились! За исключением немногих
рассудительных людей, которые нам тогда казались сухими, огра-
ной большой, журнальной, основательной критической статьи... Все отзывы
были краткие, как бы мимоходом; даже и самые похвальные популярности
моей не увеличивали» (К.Н. Леонтьев. Мое обращение и жизнь на св. Афонской
горе // Его же. Египетский голубь. Роман, повести, воспоминания. М., 1991, с. 496).
10 «Современник», 1864, № 10, с. 177.
1 * К. Леонтьев. Собр. соч. Т. 8, с. 3.
Глава 5 Эстетический аморализм Константина Леонтьева
167
ничейными и „отсталыми", все мы сочувствовали этому
либеральному движению»12.
Романы Леонтьева успеха не имели, печатали его мало, и,
вынужденный отказаться от мысли добывать средства к жизни
литературой, он в 1863 году поступил на дипломатическую службу
и уехал на Ближний Восток. К. Леонтьев пробыл на Ближнем
Востоке десять лет. Сначала он служил секретарем и драгоманом
консульства на о. Крите, затем в Константинополе и Адрианополе;
с 1867 по 1869 год был вице-консулом в Тульче (турецкая
провинция в низовьях Дуная), с 1869 — консулом в Янине, а с 1871 года —
в Салониках. Недостатка в новых впечатлениях у него не было,
и Леонтьев пишет несколько повестей и романов из
ближневосточной жизни. Он задумывает написать серию больших
романов под общим названием «Река времен» и начинает работу над
ними. О своей жизни на Востоке Леонтьев позднее вспоминал таю
«Я тогда был очень доволен службою своею и начальством,
здоровьем, писал... я не скрою, и наружностью своей я тогда был
доволен... Восток обожал еще больше, чем теперь... Тогда мне и в голову
не приходило, что я могу скоро выйти в отставку»13. Турция
восхищала Леонтьева эстетически: ему нравилась природа, язык,
восточные нравы, яркие национальные одежды, праздники,
отсутствие европейской «буржуазной прозы», даже «самое
отсутствие правильных дорог»14. Все это переносило его в мир
восточный, византийский; именно тут, на Востоке, Леонтьев проникся
поэзией византийского мира, о котором ему было суждено
написать одну из лучших своих работ, по сей день не утратившую
актуальности: «Византизм и славянство»15.
Внезапная болезнь и последовавший за ней глубокий душевный
кризис прервали уже установившийся ход жизни писателя. В июле
12 К.Н. Леонтьев. Плоды национального движения на Православном Востоке //
Гражданин, 1888, № 363-
13 К.Н. Леонтьев. Моя литературная судьба. New York, 1965, с. 78-79.
14 Там же, с. 77.
15 Живое представление о Леонтьеве того периода дает его письмо к дипломату
К. Губастову, с которым он был дружен на Ближнем Востоке: «Чтобы вполне
постичь поэзию Адрианополя, послушайте моих советов: 1) не откладывая,
заведите себе любовницу, простенькую болгарку или гречанку; 2) ходите почаще в
турецкие бани; 3) постарайтесь добыть турчанку, это уж не так трудно; 4)
гуляйте почаще на берегу Тунджи и вспоминайте меня; 6) пойдите когда-нибудь с ка-
васом к мечети Султан Баязета и устройте там на лужайке, около киоска, борьбу
молодых турок под звук барабана; это прелесть!» (Цит. по: Б. Филиппов. Цит.
соч., с. 9)
168 РазделИ Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
1871 года Леонтьев заболел холерой; в момент тяжелого приступа
он испытал сильнейшее потрясение — страх смерти и ужас от
сознания порочности собственной жизни. Этот ужас, как говорит
Леонтьев в одном из писем, «был в одно и то же врехмя и духовный
и телесный; одновременно и ужас греха и ужас смерти... Черта
заветная была пройдена. Я стал бояться Бога и смерти»16. Перед
иконой Богородицы Леонтьев молит Бога о спасении и тут же дает
обет постричься в монахи и вскоре отправляется на Афон17.
Однако на этот раз Леонтьев монахом не стал, — тайный постриг он
принял лишь спустя двадцать лет, в 1891 году, в Оптииой пустыни,
незадолго до своей смерти.
Прожив около года на Афоне, Леонтьев вернулся в Салоники, где
сжег рукописи своих романов «Река времен», над которыми
работал несколько лет18. Отношение его к своим произведениям теперь
меняется. Так, много лет спустя он характеризует свою
написанию в 1866 году повесть «Исповедь мужа» как «в высшей степени
безнравственное, чувственное, языческое, дьявольское сочинение,
тонко-развратное; ничего христианского в себе не имеющее,
но смелое и хорошо написано; с искренним чувством глубоко
развращенного сердца...»19
Глубокая раздвоенность Леонтьева — самая поразительная
особенность его сознания после 1871 г. С одной стороны, суровое
аскетическое православие, в котором одном Леонтьев искал
спасения души и исцеления от страданий; с другой — страстное
увлечение эстетической стороной жизни, от которого ничто не
могло освободить его почти до самой смерти. Даже тяжело больной,
едучи зимой из Салоник «умирать па Афон», писатель «на
станциях обдумывал впервые отчетливо свою гипотезу триединого про-
16 Цит. ПО: Б. Филиппов. Цит. соч., с. 11.
17 +На Афоне, — вспоминает Леонтьев, — внутреннее состояние мое было
ужасно... я не хотел умирать, и не верил, что буду еще жить, я думал, что меня все
забыли, и сам искал только забыть всех; но я со скрежетом зубов, а не с истинным
смирением покорялся этой мысли о забвении мира и смерти... Я не мирился с
нею; я думал больше о спасении тела своего, чем о спасении души; и только
чтение духовных книг и беседы Иеронима и Макария (афонских монахов. — ЯГ.)
поднимали меня на те тяжкие, тернистые высоты христианства, на которых
человек становится в силах хоть на минуту говорить себе: „чем хуже здесь, тем
лучше: так угодно Богу; да будет воля Его"» (К.Н. Леонтьев. Моя литературная
судьба, с. 77).
18 Впрочем, как сообщил в «Литературном наследстве» (тт. 22-24) С.Н. Дуры-
лин, кое-что из этих рукописей Леонтьева уцелело.
19 КН. Леонтьев. Собр. соч. Т. 1, с. X.
Глава 5 Эстетический аморализм Константина Леонтьева
169
цесса и вторичного упрощения. Остановившись в Зографе, я две
недели не выходил из комнаты и писал об этом день и ночь... даже
полулежа в постели и чередуя только это занятие с самой горькой,
самой искренней и чуть не отходной молитвой, по монашескому
указанию и по книжкам... Я по очереди раскрывал то Прудона,
то Апостола Павла, то Иоанна Лествичника, то Бокля; Апостола
Павла и Лествичника для себя, для души, для того, чтобы
повиноваться ИхМ, чтобы любить их, чтобы подражать им; тех двух буржуа
для ума, для сочинения, которое я считал уже посмертным, чтобы
ненавидеть их...»20 Ненавидя буржуазную Европу эпохи Прудона
и Бокля, Леонтьев, однако, даже и теперь не переставал
восхищаться старой Европой Цезаря Борджиа и Людовика XIV, Байрона
и Гёте.
Религиозный кризис Леонтьева, богатые и разнообразные
впечатления, вынесенные им из жизни на Ближнем Востоке,
размышления над вопросами ближневосточной политики царской
России — все это содействовало оформлению его прежде весьма
неопределенных философско-исторических и художественно-
эстетических воззрений. Большое влияние оказала на Леонтьева
и вышедшая в 1869 году работа Н. Данилевского «Россия и Европа»,
которая, по словам его биографа А. Коноплянцева, стала
«настольной книгою Леонтьева»21. К концу своего пребывания на Востоке
Леонтьев пишет статью «Византизм и славянство», где выступает
как сложившийся мыслитель консервативного направления.
Любопытно, что статья не была принята М. Катковым в «Русский
вестник» и вышла лишь в 1875 году в «Чтениях в Императорском
Обществе Истории и Древностей Российских» при Московском
университете.
Приехав в конце 1873 года в Россию, Леонтьев вернулся к
писательской и публицистической деятельности. Около года
(1879-1880) он был помощником редактора
право-консервативной газеты «Варшавский дневник», с 1880 по 1887 — цензором
Московского цензурного комитета. В 1887 году, выйдя на пенсию,
поселился в Оптиной пустыни. Здесь он много пишет на разные
темы: политические, исторические, литературные. В частности,
в Оптиной был написан его замечательный
литературно-критический труд «Анализ, стиль и веяние», посвященный анализу
романов Л. Толстого «Война и мир» и «Анна Каренина».
20 К.Н. Леонтьев. Моя литературная судьба, с. 77.
21 См. А. Коноплянцев. Жизнь К.Н. Леонтьева в связи с развитием его
миросозерцания // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. СПб., 1911, с. 89.
170 Раздел II Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
Большой почитатель таланта Толстого, Леонтьев в то же время
совершенно расходился с ним в вопросах религиозных,
философских и политических22. И не удивительно: в отличие от Толстого,
Леонтьев в 80-х годах — убежденный крайний консерватор,
не скрывавший своих политических симпатий.
Леонтьев и славянофилы
По «составу идей», если можно так выразиться, Леонтьева чаще всего
относили к славянофилам, поскольку, подобно им, он был убежден
в том, что «Европа гниет» и что нужно уберечь Россию от
«европейской заразы». Однако по своему общему умонастроению, душевно-
духовному складу и в конечном счете по философско-эстетической
позиции Леонтьев сильно от славянофилов отличается.
Есть у Леонтьева тема, которую не будет преувеличением назвать
лейтмотивом его творчества и которая объединяет его с широким
художественным, эстетическим и философским течением,
получившим с конца XVIII — начала XIX века распространение не только
(и даже не столько) в России, но и в Европе. Тема эта — эстетическое
неприятие буржуазной действительности. Я имею в виду романтизм.
Со времени своего возникновения романтизм пережил
несколько периодов, и каждый раз облик его сильно менялся. Не
сразу обнаруживается общность между добросердечным Карлейлем,
сочувствовавшим несчастным порабощенным капиталом
пролетариям, и неукротимо-жестоким Ницше, для которого сочувствие
угнетенному — это проявление рабской морали; между глубоко
религиозным Шатобрианом и провозгласившим культ языческого
сладострастия молодым Фридрихом Шлегелем и, наконец, между
Байроном, певцом бунтов и революций, погибшим в бою за
освобождение Греции, и Леонтьевым, считавшим «племенное» (то есть
национальное) освобождение рычагом разложения и гибели ве-
22 Любопытен эпизод, рассказанный Леонтьевым в письме к Т. Филиппову (он
приведен биографом Леонтьева А. Коноплянцевым). В начале 1890 года Л.
Толстой был в Оптиной, посетил Леонтьева, «и все время часа два слишком, —
передает Коноплянцев, — они спорили о вере. Прощаясь, Леонтьев сказал
Толстому: — „Жаль, Лев Николаевич, что у меня мало фанатизма. А надо бы
написать в Петербург, где у меня есть связи, чтобы вас сослали в Томск и чтобы
не позволили ни графине, ни дочерям вашим даже и посещать вас, и чтобы
денег вам высылали мало. А то вы положительно вредны"» («Памяти Константина
Николаевича Леонтьева», с. 135).
Глава 5 Эстетический аморализм Константина Леонтьева
171
ликих культур23, а относительно греков убежденным, что лучше им
оставаться под турками, чем создавать собственное
конституционно-демократическое государство.
Тем не менее у Леонтьева больше общего с европейскими
романтиками, чем со славянофилами — А. Хомяковым, братьями
Киреевскими, И. Аксаковым, Н. Страховым и др. «Разочарованным
романтиком» назвал КН. Леонтьева о. Г. Флоровский24, и это,
пожалуй, точнее, чем характеристика «разочарованный славянофил»,
данная Леонтьеву С.Н. Трубецким. Как и романтики, Леонтьев не
принимает буржуазное европейское общество прежде всего
потому, что оно уничтожает красоту. В этом смысле ему ближе, чем
славянофилы, Герцен, с его эстетическим неприятием современной
«мещанской» Европы. «Со стороны... исторической и внешнежиз-
ненной эстетики, — писал Леонтьев, — я чувствовал себя
несравненно ближе к Герцену, чем к настоящим славянофилам.
Разумеется, я говорю не о Герцене „Колокола"; этого Герцена я в начале 60-х
годов ненавидел и даже не уважал; но о том Герцене, который
издевался над буржуазностью и прозой новейшей Европы. Читая
только Хомякова, Аксакова (даже скажу и Каткова отчасти), в голову бы
не пришло ненавидеть всесветную буржуазию (в которую в
сущности стремится перейти и работник западный); Герцен же
издевался прямо над этим общим и подавляющим типом
человеческого развития»25. Хотя Герцен и Леонтьев, несомненно, сделали
разные выводы из наблюдений над этим «общим типом
человеческого развития», но Леонтьев писал, что выражение «средний
человек» он придумал, следуя Герцену.
По духу родственны Леонтьеву те европейские художники, что
эстетически не принимали прозы буржуазного общества, в
которой тонет все крупное, изящное, героическое26. Леонтьев всегда
отмечал свою к ним близость. «И я не исключение какое-нибудь
уродливое в этом случае. Все истинные художники, все поэты, все
23 См. работу К. Леонтьева «Национальная политика как орудие всемирной
революции»^., 1889.
24 Г. Флоровский. Пути русского богословия, с. 305.
25 КН. Леонтьев. Собр. соч. Т. 6, с. 336.
26 Ладнее, герой романа К. Леонтьева «Египетский голубь», в сущности alter ego
автора, говорит о себе: «Я обожал все оттенки романтизма: от самого чистого
аскетического романтизма Тогенбурга, который довольствовался только тем,
что изредка видел, как вдали „ангел красоты отворял окно своей кельи", и до
того тонкого и облагороженного обоготворения изящной плоти, которой
культом так проникнуты стихи Гёте, Альфреда де Мюссе, Пушкина и Фета» (К.Н.
Леонтьев. Египетский голубь, с. 339).
172 Раздел II Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
мыслители, одаренные эстетическим чувством, не любили этого
среднего человека, Гёте в Вильгельме Мейстере и Фаусте презирал
его; Жорж Занд, во всех лучших романах своих, ненавидела чисто-
утилитарных людей... Если в поэмах Байрона мы не находим
живых примеров для подтверждения этих слов, то это лишь оттого,
что Байрон — великий поэт чувства, а не образов и типов: он
игнорирует все подобное в своих великих созданиях. Но зато вся его
жизнь есть бешеный и благородный протест против той
новоевропейской прозы, которой зловещие признаки он уже видел везде
в передовых тогдашних обществах...»27
Леонтьев неоднократно заявлял, что критерий красоты для
него — наивысший, что красота есть «цель жизни»: «Я считаю
эстетику мерилом наилучшим для истории и жизни, ибо оно прило-
жимо ко всем векам и ко всем местностям»28. В этом смысле,
казалось бы, он — прямой продолжатель традиций
романтического миросозерцания, нашедшего себе выражение в эстетике
немецких романтиков и близкого к ним философа Шеллинга. И в самом
деле, Леонтьев был горячим поклонником литературного критика
Ап. Григорьева, чьи воззрения сложились под влиянием
немецкого романтизма, и в частности Шеллинга.
Однако романтический культ красоты у Леонтьева и Ап.
Григорьева существенно различен. Для Григорьева красота есть высшее
выражение истинного и доброго, и ее нельзя противопоставлять
последним. Вот как излагает Григорьев свои воззрения: «В основе,
так сказать, на дне всего рассуждения, лежала вера в искусство, как
в высшее из земных откровений бесконечного (это — почти
цитата из Шеллинга. — /ZT.). Этою верою мое воззрение (я называю его
моим, конечно, потому только, что в него верую и его всегда
излагаю) отделялось и отделяется как от воззрения поклонников
чистого искусства, искусства для искусства, так и от воззрения
теоретиков, для которых искусство дорого только как слепое отражение
последних, крайних и, стало быть, по вере в прогресс, —
единственно истинных результатов жизни... Искусство как органически
сознательный отзыв органической жизни, как творческая сила
27 КН. Леонтьев. Собр. соч. Т. 8, с. 96.
28 Цит. по сб. «Памяти Константина Николаевича Леонтьева», с. 242.
«Эстетика как критерий приложима ко всему, начиная от минералов до
человека. Она поэтому приложима и к отдельным человеческим обществам и к
социологическим, историческим задачам. Где много поэзии, непременно будет
много веры, много религиозности и даже много живой морали» («КН.
Леонтьев о Владимире Соловьеве и эстетике жизни», с. 36).
Глава 5 Эстетический аморализм Константина Леонтьева
173
и как деятельность творческой силы — ничему условному, в том
числе и нравственности, не подчиняется и подчиняться не
может...»29 Говоря об «условной нравственности», Григорьев поясняет,
что он имеет в виду определенные общественные установления,
которые могут меняться от эпохи к эпохе и которые, по его
мнению, стоят ниже искусства, имеющего дело с «безусловным»;
однако, если иметь в виду точку зрения высшей, так сказать,
«безусловной» нравственности, то она как раз и будет тождественна с точкой
зрения эстетической.
Что касается Леонтьева, то он, напротив, глубоко убежден, что
прекрасное нетождественно нравственно-доброму что между
ними — разлад, и разлад непреодолимый. «...В явлениях мировой
эстетики, — пишет он, — есть нечто загадочное, таинственное и как
бы досадное потому, что человек, не желающий себя обманывать,
видит ясно, до чего часто эстетика с моралью и видимой
житейской пользой обречена вступать в антагонизм и борьбу Тот, кто
старается уверить себя и других, что все неморальное —
непрекрасно, и наоборот, конечно, может принести нередко отдельным
лицам педагогическую пользу, но едва ли польза эта может быть
глубока и широка, ибо поверивший ему вдруг вспомнит, что Юлий
Цезарь был гораздо безнравственнее Акакия Акакиевича, и даже
Скобелев был несравненно развратнее многих современных нам
„честных тружеников", и если у вспомнившего эти факты есть
эстетическое чувство, то что же ему делать, — коли невозможно
отвергнуть, что в Цезаре и Скобелеве в тысячу раз больше поэзии,
чем в Акакии Акакиевиче и в самом добром и честном из... сельских
учителей. Как быть? Возненавидеть эстетику? Притвориться из
нравственных мотивов, что не видишь ее? Презирать мораль?
Невозможно ни то, ни другое, ни третье...»30
Совершенно очевидно, что леонтьевское миросозерцание
представляет собой уже новую форму романтического эстетизма
по сравнению с миросозерцанием Ап. Григорьева, более
примиренного с собою, а потому и более оптимистического. В полемике
Григорьева с некоторыми славянофилами, упрекавшими этого
талантливого критика в «безнравственности», Леонтьев
безоговорочно занимает сторону Григорьева, обвиняя его оппонентов
в «одностороннем морализме», — кстати, это один из основных
упреков Леонтьева в адрес славянофилов вообще. Но характерны
29 Ап. Григорьев. Литературная критика // Художественная литература. М., 1967,
с. 407.
30 *КН. Леонтьев о Владимире Соловьеве и эстетике жизни», с. 34-35.
174 Раздел II Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
те аргументы, которые приводит Леонтьев в защиту Григорьева.
«Иные в его (Григорьева. — ПТ.) статьях, — пишет Леонтьев, —
находили нечто тайно-растленное; они были не совсем неправы.
Для себя лично он предпочитал ширину духа31 — его чистоте...»32
Противопоставление широты духа его чистоте — это возможно
для Леонтьева, но не для Григорьева. Последний, пожалуй,
отказался бы от этого рода поддержки, поскольку у защитника оказалась
общая предпосылка с оппонентами критика из лагеря
славянофилов, а именно убеждение в том, что нравственность и красота не
тождественны. Леонтьевский романтизм, таким образом, более
трезвый и пессимистический, чем григорьевский, и что-то
существенное ему удалось заметить довольно верно33.
«Ап. Григорьев, — пишет Леонтьев, — искал поэзии в самой
русской жизни, а не в идеале; его идеал был — богатая, широкая,
горячая русская жизнь, если можно, развитая до крайних своих
пределов и в добродетели, и даже в страстной порочности...
Разгульная ли жизнь Григорьева, чувственность лн, дышавшая в
статьях его, не нравились строгим славянофилам, известным
чистотою своей семейной и личной жизни, но Григорьев близок
с ними не был. Между Аксаковым и Григорьевым была та же
разница, какая есть между теми вполне русскими стихами Кольцова,
где дышат нравственность и чистая вера, и теми тоже ъиопнерус-
CK14MU стихами Кольцова, где дышат разгул, тоска по разгулу
и чувственность»34. «Чистота семейной и личной жизни»,
которой и в самом деле отличались славянофилы, никогда не была
ценностью в глазах Леонтьева. Он удивляется, что на брак «не
хотят смотреть, как на общественное тягло» — «брак же для
женщины опасен физически, а для мужчины — скучен большей частью
31 Леонтьев здесь и*меет в виду ту «ширину духа», о которой Достоевский сказал,-
♦Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил». О широте Григорьева
Леонтьев писал и так: «Аполлон Григорьев был славянофил особого рода, он
был, так сказать, славянофил широкий, безнравственный...» (К.Н. Леонтьев.
Собр. соч. Т. 8, с 102).
32 К.Н. Леонтьев. Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап.
Григорьеве. Письмо к Николаю Николаевичу Страхову // Русская мысль, 1915, сентябрь,
с. 116.
33 Все творчество К.Н. Леонтьева свидетельствует об опасной
двусмысленности известного афоризма Ф.М. Достоевского: «Красота спасет мир», афоризма,
ставшего сегодня чем-то вроде заклинания, приводимого обычно в качестве
непререкаемой истины.
34 K.H. Леонтьев. Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап.
Григорьеве, с. 110.
Глава 5 Эстетический аморализм Константина Леонтьева 175
крайне»35. С «романтизмом в сердечных делах», «романтическим
культом нежных страстей»36 трудно совместить ту поэзию
семейной жизни, которой проникнута, например, «Война и мир»
Толстого и к которой так чутки были именно славянофилы.
Полемизируя именно со славянофилами, Леонтьев утверждал,
чТо семейное начало слабо развито в русском народе, в отличие от
других. «Я, признаюсь, не понимаю тех, которые говорят о
семейственности нашего народа. Я видел много разных народов на
свете... Я нашел, что все почти иностранные народы, не только немцы
и англичане... но и... малороссы, греки, болгары, сербы, вероятно...
и сельские или вообще провинциальные французы, даже турки,
гораздо семейственнее нас, великороссов»37.
Миросозерцание Леонтьева дисгармонично, и, как мы увидим
ниже, разные его стороны находятся друг с другом во вражде38.
Леонтьев в России представляет собой тот этап в развитии
романтизма, который в Германии ярче всех выразил Ницше,
противопоставивший христианству неистовое, но в самом своем неистовстве
ненатурально-преувеличенное, болезненно-агрессивное
язычество. Некоторые из подобных мотивов во Франции мы встречаем
у Бодлера.
Языческий культ красоты и силы роднит Леонтьева с Ницше.
Красиво — постоянно подчеркивает Леонтьев — все выдающееся,
героическое, сильное: воин, император, полководец; все самобытное,
ярко-своеобразное: критский повстанец «в бурнусе на красном
подбое, в высокой красной же феске, в голубых шальварах», арнаут-
мусульманин «в белой фустанелле, серой бурке, расшитой белым
и красным, в низкой и круглой феске с густой синей кистью»39; все
утонченно-изящное, «тонко и сдержанно безнравственное»,
«изящно-растлевающее»40, — развратное, но аристократически, а не
35 Цит. по: Б. Филиппов. Цит. соч., с. 9-
36 КН. Леонтьев. Египетский голубь, с. 340.
37 К.Н. Леонтьев. Византизм и славянство // Избранное. М., 1993, с. 28.
38 Сравнивая Леонтьева с другими писателями и философами XIX века, В.
Розанов заметил, что Леонтьев отличается от них именно несовместимостью
тенденций, соединившихся в его сознании. «...Соловьев (Розанов имеет в виду
философа B.C. Соловьева. — ЯГ.) и Герцен были монолитны, при разнообразии их
деятельности, их литературного выражения. Все „поделки" Герцена и
Соловьева — из одной породы камня. В Леонтьеве поражает нас разнородность
состава, при бедности и монотонности линии тезисов» (В.В. Розанов. Из переписки
К.Н. Леонтьева // Русский вестник, 1903, апрель, с. 639).
39 КН. Леонтьев. Собр. соч. Т. 7, с. 351.
40Тамже.Т.З,с.323.
176 Раздел II Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
«средне-буржуазно». Аристократический разврат — тонок и
красив; буржуазный — груб и пошл. «Утонченно-развратный» Рим
времен Нерона, по Леонтьеву, с точки зрения эстетической во сто крат
привлекательнее современного цинического и пошлого Парижа.
«...Растлением античного мира... как будто бы правили благородные
демоны Мильтона и Лермонтова; современным развратом правит
отвратительный Мефистофель. В нравственном отношении... быть
может, это и лучше, так как есть умы и сердца, которые, отвращаясь
от грязи и цинизма, легко поддаются тонкому обаянию плотской
эстетики. Но в отношении искусства — совсем иначе»41.
Эстетической привлекательностью обладает для Леонтьева
и всякое проявление силы: физическая сила п ловкость, сила
характера, ума или, наконец, сила общественная — власть, богатство.
Леонтьеву чужды рассуждения о «несправедливости богатства»,
о «неправедной власти», о «фарисействе ума», об
интеллектуальном макиавеллизме или макиавеллизме политическом; всякая
критика силы с точки зрения нравственной раздражает его. Почва,
на которой произрастают великие характеры, сильные
индивидуальности, воинственная и властная аристократия, — эта почва
благоприятна и для процветания искусства, высоко Леонтьевым
ценимого. «Для того, — пишет Леонтьев, — кто не считает блаженство
и абсолютную правду назначением человечества на земле, нет
ничего ужасного в мысли, что миллионы русских людей должны
были прожить целые века под давлением трех атмосфер —
чиновничьей, помещичьей и церковной, хотя бы для того, чтобы Пушкин
мог написать Онегина и Годунова, чтобы построился Кремль и его
соборы... Ибо военная слава... да, военная слава царства и народа,
его искусство и поэзия — факты; это реальные явления
действительной природы; это цели достижимые и, вместе с тем, высокие.
А то безбожно-праведное и плоско-блаженное человечество, к
которому вы исподволь и с разными современными ужимками
хотите стремиться, такое человечество было бы гадко, если бы оно
было возможно...»42
Не удивительно, что при таком воззрении на жизнь и историю
Леонтьев видел главного врага в «либерально-эгалитарном
прогрессе», который в лице своих адептов, как считает Леонтьев,
провозгласил «блаженство и абсолютную правду назначением человечества
на земле». Считая такую цель не только недостижимой, но, что
важнее, недостойной, Леонтьев довольно-таки справедливо отмечает,
Там же, с. 325.
Там же. Т. 7, с. 76-77.
Глава 5 Эстетический аморализм Константина Леонтьева
177
что все те, кому дорога идея «либерально-эгалитарного прогресса»,
ставят морально-этические ценности выше эстетических. Да и не
нужно было большой проницательности, чтобы в середине XIX
века ощутить тесную связь между морализмом и демократизмом, с
одной стороны, эстетизмом и аристократизмом — с другой. Именно
за торжество либерализма, конституционализма, идеи равенства
людей независимо от их сословия, национальности и так далее,
за разрушение аристократических привилегий и вкусов Леонтьев
ненавидел современную ему Европу. Ненавидел тем сильнее, чем
больше любил старую аристократическую Европу с ее
средневековым рыцарствОхМ, замками, папством, с богатством, великолепием
и «тонким развратом» ее придворной жизни, с ее многообразными,
яркими и «пышными», как он любил говорить, формами жизни
религиозной, политико-государственной и
художественно-культурной. «Европейское наследство, — пишет он, — вечно и до того
богато, до того высоко, что история еще ничего не представляла
подобного»43. По сравнению с Западом Россия, по мнению
Леонтьева, очень бедна; правда, существуют попытки объяснить эту
бедность молодостью русской культуры по сравнению с западной,
но Леонтьев выражает сомнение по поводу такого объяснения.
«Разве решено, что именно предстоит России в будущем? Разве есть
положительные доказательства, что мы молоды? Иные находят, что
наше сравнительное умственное бесплодие в прошедшем может
служить доказательством нашей незрелости или молодости. Но так
ли это? Тысячелетняя бедность творческого духа еще не
ручательство за будущие богатые плоды»44.
Отличие Леонтьева от славянофилов — огромное45.
Славянофильство отвергало европейскую цивилизацию как
индивидуалистическую, противопоставляя западному индивидуализму и
связанному с ним рационализму (убеждение в существовании такой
связи было одним из центральных тезисов славянофилов) рус-
43 Там же. Т. 5, с. 250. «В жизни европейской было больше разнообразия, больше
лиризма, больше сознательности, больше разума и больше страсти, чем в
жизни других, прежде погибших исторических миров. Количество первоклассных
архитектурных памятников, знаменитых людей, священников, монахов,
воинов, правителей, художников, поэтов было больше, войны громаднее,
философия глубже, богаче, религия беспримерно пламеннее (например, эллино-рим-
ской), аристократия резче римской, монархия в отдельных государствах
определеннее (наследственнее) римской...» (там же, с. 238-239).
44 Там же, с. 256.
45 С.Н. Трубецкой справедливо назвал Леонтьева «западным романтиком», в
отличие от «русских романтиков» — славянофилов (см. С.Н. Трубецкой. Разоча-
178 Раздел II Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
скую форму жизни и русский тип мышления и чувствования как
антииндивидуалистический. Не случайно крестьянская община
играла столь важную роль в построениях славянофилов. В
отличие от Леонтьева, славянофилы критиковали не только
современную им Европу (да и ее они критиковали вовсе не за то, за что —
Леонтьев): они видели корни европейского индивидуализма уже
в далеком прошлом западной культуры46. Так, Хомяков был
убежден, что дух рационализма и юридического формализма внесла
в Европу Римская церковь и не без ее влияния на европейской
почве развился тот индивидуалистический аристократизм, который
неприемлем для Хомякова, но так дорог Леонтьеву. В отличие от
органически-демократического характера народной жизни в
России, в Европе, говорит Хомяков, на основе завоеваний из дружин
завоевателей сложилась аристократия, чуждая народу и не
имевшая с ним органической внутренней связи.
Завоевательно-дружинный дух породил на Западе личность своевольную, с
обостренным чувством чести, гордую и свободолюбивую — личность
рыцаря. К рыцарству Хомяков, как и остальные славянофилы,
относился резко отрицательно: дух рыцарства поставил индивида
выше общины. В византийской церкви Хомяков, напротив того,
усматривал противоположный западной церкви дух соборности,
воспринятый в России вмесгс с христианством и выгодно
отличающий Россию от европейской цивилизации.
Сохранить русское своеобразие, уберечь Россию от
«европейской заразы» означало для славянофилов по существу нечто
совсем иное, чем для Леонтьева: для них это — сохранение русской
общинное™ и «соборности», народной жизни с органически
вырастающими из нее бытовыми и культурными формами, с живой,
рованный славянофил // Собр. соч. Т. I. М., 1907, с. 176.). Еще более определенно
высказался об этом С.Н. Булгаков: «Леонтьев не только не славянофил, но
вопреки всей своей ненависти к Европе, и даже именно в этой ненависти он
европеец, и его нельзя понять вне этого духовного существенного европеизма*
(С.Н. Булгаков. Победитель — Побежденный (Судьба К.Н. Леонтьева) // Его же.
Тихие думы. М. 1996, с. 84).
46 Совсем иное отношение к Европе у Леонтьева. Он отвергает современную
ему буржуазную, «серую» Европу ради Европы старой, которая во сто крат
ближе его сердцу, чем славянский мир и Россия. «Леонтьев, — пишет С.Н.
Булгаков, — весь в Европе и об Европе: для славянского мира он знает лишь слова
разъедающей критики и презрения, и даже Россия, как таковая, для него ценна
лишь постольку, поскольку хранит и содержит религиозно-культурное
наследие византизма, да есть еще оплот спасительной реакции... А византизм есть,
конечно, лишь более раннее лицо Европы же» (С.Н. Булгаков. Цит. соч., с. 84).
Глава 5 Эстетический аморализм Константина Леонтьева
179
органической связью народа с его избранником-царем, который,
согласно славянофилам, ничего общего не имеет с абсолютным
монархом западного типа; это — непосредственное мистическое
цельное знание вместо западного рационализма, христианская
вера — вместо рационалистического просвещения.
Для Леонтьева же это — сохранение сословного неравенства,
которое является залогом яркости и своеобразия русского быта,
сохранение социальных контрастов, которые составляют условие
существования самобытной и сильной индивидуальности и исключают
ненавистный Леонтьеву «либерализм и эгалитаризм»; сохранение
самодержавия как принудительного начала (как «императорства»),
которое вместе с православием в состоянии удержать Россию от
вступления на западноевропейский «гибельный путь всемирной
революции», «космополитического либерального всеуравнивания».
Но при таком — принципиальном — различии между
славянофилами и Леонтьевым в идеалах, естественно, следует и различие в
теоретическом обосновании особой судьбы и особой миссии России
по сравнению с Западом. Если с точки зрения А. Хомякова, И.
Киреевского, И. Аксакова русская культура отличается от западной по
своему содержанию, которое, попросту говоря, истиннее и
праведнее (религиозно и нравственно выше) западного, то с точки зрения
Леонтьева дело тут только в разности этапов исторического
развития. В статье «Грамотность и народность» Леонтьев следующим
образом поясняет свою мысль: «...Наше счастье в том, что мы
находимся „im Werden"47, а не стоим на вершине, как Англия,^ вершины, как
немцы, идем более, не начали еще спускаться вниз, как французы»48.
Рассмотрение же культуры не по содержанию, а с точки зрения
этапов развития предполагает опять-таки освобождение — при
анализе культурно-исторических форм — от ценностных
постулатов, какими, по мнению Леонтьева, являются категории морально-
этические, и обретение объективной точки зрения49.
47 в становлении (нем.).
48 К.Н. Леонтьев. Собр. соч. Т. 7, с. 23-
49 О своем отношении к славянофильству Леонтьев так писал в начале 1870-х
годов: «Я находился под влиянием книги Данилевского „Россия и Европа". С
учением Хомякова и И.С. Аксакова я был уже давно тогда знаком в общих его
чертах, и оно „говорило", так сказать, сильно моему русскому сердцу. Но я
отчасти видел, отчасти только чувствовал в нем что-то такое, что внушало
недоверие. Оно казалось мне и тогда уже слишком эгалитарно-либеральным
180 РазделН Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
Философия истории К. Леонтьева.
Критика «гуманистического морализма»
и «розового христианства» Достоевского
и Вл. Соловьева
Объективной Леонтьев считает точку зрения научную или
эстетическую: они тождественны именно в своей объе1Сгивности.
Объективная точка зрения на историю предполагает, по Леонтьеву,
рассмотрение истории как естественного процесса рождения, роста,
развития, затем старения и гибели культур. Жизнь культуры,
подобно жизни всякого организма, проходит все эти стадии, после
чего данная культура уступает место другим, более молодым.
Рассмотрение культур с точки зрения истинности или неистинности
их содержания, по Леонтьеву, также бессмысленно, как и
рассмотрение их с точки зрения того, нравственны или безнравственны
принципы, утверждаемые той или иной из них. С этих точек
зрения культуры, по Леонтьеву,равноправны. Единственный
критерий, по которому их можно сравнивать между собой, —
эстетический, ибо он, как полагает философ, не находится в противоречии
с естественнонаучным. А именно эстетический критерий
красоты, яркости, своеобразия культуры есть лишь другая форма для
выражения того, на какой жизненной стадии культура находится:
молода ли она и сильна — или дряхла и бессильна. Тут у Леонтьева
есть любимая и заветная мысль, которую он развивает почти во
всех своих сочинениях: пора цветения культуры, подобно
цветению растения, характеризуется развитостью и сложностью
(своеобразием и богатством) всех своих моментов; напротив,
по мере увядания организма культуры происходит упрощение
и обеднение ее структурных форм, их смешение и уравнение50.
для того, чтобы достаточно отделять нас (русских) от новейшего Запада.
Другая же сторона этого ученья, внушавшая мне недоверие и тесно связанная с
первой, — была какая-то односторонняя моральность. Это учение казалось мне
в одно и то же время и не государственным и не эстетическим. Со стороны
государственности меня гораздо больше удовлетворял Катков уже тем одним,
что не искал никогда, как Аксаков, чего-то туманно возвышенного в политике,
а пользовался теми силами, которые находились у нас под рукой. Со стороны
не исторической, а внешнежизненной эстетики я чувствовал себя несравненно
ближе к Герцену, чем настоящим славянофилам» (КН. Леонтьев. Собр. соч. Т. 6,
с. 335-336).
50 См. об этом: И. Фудель. Культурный идеал К.Н. Леонтьева // Русское
обозрение, 1895, №1.
Глава 5 Эстетический аморализм Константина Леонтьева 181
«Либерально-эгалитарный процесс» и есть выражение
старческого смешения, уравнивания, понижения. Европу, согласно
Леонтьеву, ничто уже не может спасти от гибели, но Россию, которая,
быть может (хотя наверняка этого сказать и нельзя), еще не
перешла к последней — упадочной — стадии, возможно хотя бы
законсервировать, отсрочив момент ее разложения. «Надо подморозить
хоть немного Россию, чтобы она не „гнила"...» Таково
теоретическое обоснование политического консерватизма Леонтьева,
проникнутое глубоким пессимизмом, поскольку такого рода
«подмораживание» есть мера заведомо паллиативная, коль скоро любой
культурно-исторический организм рано или поздно должна
постигнуть его биологически предопределенная участь.
Нет ничего удивительного в том, что Леонтьев не мог поэтому
найти общий язык со славянофилами — не только старшими, как
А. Хомяков и Киреевский, но и современными ему — И.С.
Аксаковым, H.H. Страховым, СА. Рачинским, Ю.Ф. Самариным и др. Он сам
много раз об этом писал. Из славянофилов наибольшее влияние, как
уже упоминалось, оказал на Леонтьева Н.Я. Данилевский, автор
вышедшей в 1871 г. книги «Россия и Европа». Поэтому Леонтьев с
большим неодобрением отнесся к критике теории культурных типов
Данилевского со стороны B.C. Соловьева, заодно осудив и цикл статей
Соловьева, посвященных полемике со славянофилами51.
51 В уже цитированном выше письме к И. Фуделю К.Н. Леонтьев замечает: «При
всем моем личном пристрастии к Владимиру Сергеичу и при всем даже
почтительном изумлении, в которое повергают меня некоторые из его творений
(„Теократия"; некоторые места из „Критики отвлеченных начал" и
„Религиозных основ", напр.), я сам ужасно недоволен им за последние три года. То есть
с тех пор, как он вдался в эту ожесточенную и часто действительно
недобросовестную полемику против славянофильства. Недоволен самим направлением-,
недоволен злорадным и ядовитым тоном, несомненной наглостью
подтасовок. Несогласен даже с тем, что соединению Церквей так сильно может мешать
своеобразное национальное развитие России, как он думает» («К.Н. Леонтьев
о Владимире Соловьеве и эстетике жизни», с. 5-6). Интересно, что сама идея
объединения православной и католической церквей, защищаемая
Соловьевым, не вызвала резкого возражения у Леонтьева, хотя он и признавал, что
такое объединение возможно только при условии «полного отречения
католиков от filioque, от единоличной непогрешимости Папы и т. д. А если так, то мы
с Вами, „послушники" Восточной Иерархии — имеем ли мы право даже и в
сердце желать иного соединения? Конечно, не имеем, говоря строго. Но я не скрою
от Вас моей „немощи"; мне лично Папская непогрешимость^шгясмо нравится!
...Я, будучи в Риме, не задумался бы у Льва XIII туфлю поцеловать, не только что
руку... Сверх того, что Римский Католицизм нравится и моим
искренно-деспотическим вкусам, и моей наклонности к духовному послушанию... сверх этого я
182 Раздел II Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
Историософия Леонтьева нашла свое выражение в его
концепции развития русской литературы от Пушкина до Толстого и в его
неприятии «натуральной школы». Тенденции «разоблачительства»
Леонтьев противопоставляет не только Пушкина, Байрона, Жорж
Санд; он противопоставляет ей ритуалистически-канонический
принцип. В этом отношении типичен леонтьевский анализ
повести А. Коваленской «В сорочке родилась». Леонтьев обращает
внимание читателя на то, как в этой повести просят Христа ради
русские богомольцы. «Бабушка... услыхавши от внучки, что она
голодна, совершенно неожиданно вдруг подходит а автору
(рассказ Коваленской ведется от первого лица. — ПТ.) и произносит
(каким-то странным напевом, говорит автор, а я бы сказал:
обрядовым, бытовым напевом, т. е. таким, в котором нет личных
претензий растрогать сердце) — произносит-.
— Подайте ради Христа Спасителя на пропитание; идем на
богомолье, Христовым именем пропитываемся.
Это ради Христа очень важно. — ,Дайте не потому, что я
заслуживаю сострадания, и не потому, что вы добры и великодуигныи.
Это все личная гордость; дайте потому, что Христос велел давать
просгщим. Я не стою, и вы может быть не чувствуете желания дать;
это нельзя чувствовать насильно, но дайте по принуждению воли,
так Христос велел! Принудительная милостыня всегда в наших
руках, а добродушная, порывистая есть дар Божий, благодать,
особое счастливое и приятное настроение, не всякому и не всегда
свойственное. Вот где величие и значение этих обрядовых слов
триста ради", а не ради меня и не ради вашего доброго порыва»52.
Леонтьеву импонирует, что интонация богомольцев, также как
интонация церковного православного богослужения, ритуали-
стична, то есть исключает не только «надменную» автонохмию
лица с его «претензией» если не на сострадание, то на уважение его
суверенных прав, но и индивидуализацию выражения, языка,
не говоря уже о «махровости» последнего, а тем более — о
натуралистических подробностях в характеристике героев и ситуаций.
Ритуализм антипсихологичен и антирефлективен; он есть
форма выражения того, что еще не опосредовано индивидуальным
сознанием, а потому имеет ярко выраженный стиль. Ведь стиль, как
отметил Леонтьев, выражает скорее бессознательное, чем созна-
еще думаю, что такой оригинальный (для русских) взгляд, как Влад. Соловьева,
и при тех ресурсах, которыми его одарила судьба, не может пройти бесследно.
Яуверен даже, что не пройдет» (там же, с. 8-9).
52 К.Н. Леонтьев. Собр. соч. Т. 8, с. 116-117.
Глава 5 Эстетический аморализм Константина Леонтьева
183
тельное («сознательный» стиль — это уже стилизация), а
бессознательное воплощается во внешних приемах. Рефлексия, отрицание
в первую очередь направлены против ритуала. До тех пор пока
ритуал остается непосредственным, невинным, ритуально-внешнее
противостоит рефлектированно-внутреннему, опосредованному
сознанием индивида, тому, что не хочет, да и не может уже быть
выражено в ритуально-обрядовых действиях.
Тут звучит вторая тема леонтьевского творчества, резко
диссонирующая с его эстетическим романтизмом, а именно его
«византийское христианство». В своем понимании христианства
Леонтьев расходился не только со славянофилами, но и с В. Соловьевым,
и с Ф. Достоевским, и с Л. Толстым. Все они, независимо от
существовавших между ними различий в истолковании, по мнению
Леонтьева, проповедовали «одностороннее христианство, которое
можно позволить себе назвать христианством «сантиментальным»
или «розовым»53. Так, Леонтьев обрушивается с резкой критикой на
рассказы позднего Толстого («Свечка», «Три старца», «Чем люди
живы» и др.), художественную ценность которых он не только
признавал, но ставил едва ли не выше ценности толстовских
романов, — но «направление» их сурово осуждал.
Вспомним рассказ Толстого «Чем люди живы». Сюжет его прост-,
это история ангела, который был наказан Богом за то, что во имя
любви и сострадания к людям ослушался повеления Бога. Он был
послан на землю взять душу крестьянки, только что родившей двух
детей. Из сострадания к одинокой женщине, молившей его. не
осиротить ее детей, ангел решился нарушить волю Пославшего его.
Бог, однако, отправил его вторично взять душу женщины, а самого
в наказание превратил в бедного и беспомощного человека.
Однако в конце концов ангел был прощен и возвращен на небо, а
читатель повести проникался убеждением, что ослушание Богу во имя
любви к людям не есть грех, что любовь — это высшее проявление
христианской веры. Толстовское убеждение, что Бог есть любовь
и что свободное («своевольное», как говорит Леонтьев)
проявление любви есть высшая заповедь христианства, — это убеждение
Леонтьев считает вредной ересью. По его мнению, христианство
Толстого также «односторонне морально», как и учение
славянофилов. Художественно повесть Толстого прекрасна, но ее
направление — «либерально-эгалитарное» по духу и антицерковное по
содержанию — Леонтьев резко порицает. «Если бы в этой
повести, — пишет он, — направление мысли было настолько же
широтам же, с. 154.
184 Раздел II Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
ко и разносторонне при твердом единстве христианского духа,
насколько богато ее содержание при высокой простоте и
сжатости формы, то я бы решился назвать эту повесть и святою и
гениальною. Но христианская мысль автора не равносильна ни его
личному, местами потрясающему лиризму, ни его искренности,
ни совершенству той художественной формы, в которую эта
несовершенная и односторонняя мысль воплотилась на этот раз»54.
В основе христианской веры, по Леонтьеву, лежит страх и
смирение перед Богом. Таково истинное церковное, а не «современное
либерально-этическое», как его называет Леонтьев, христианство.
«Этическое» — ибо ставит нравственные заповеди, прежде всего
любовь к ближнему, превыше всего: выше обрядово-ритуальной
стороны христианства и выше того, что Леонтьев называет
«христианской метафизикой» или «христианской мистикой», связанной
с церковными таинствами. «Либеральное» — ибо высоко ставит
свободную самосознательную личность, личность, ответственную за
свои поступки и требующую по отношению к себе соблюдения
правовых норм. «...Та любовь к людям, — пишет Леонтьев по поводу
Толстого, — которая не сопровождается страхом перед Богом (или
смирением перед церковным учением), не зиждется на нем, этим
страхом иногда даже не отсекается (как случилось у наказанного
Ангела графа Толстого), — такая любовь не есть чисто христианская,
несмотря на всю свою видимую привлекательность, на искренность
порывов... Такая любовь, без смирения и страха пред
положительным вероучением, горячая, искренняя, но в высшей степени
своевольная, либо тихо и скрытно гордая, либо шумно тщеславная,
исходит не прямо из учения Церкви; она пришла к нам не так давно
с Запада; она есть самовольный плод антрополатрии, новой веры
в земного человека и в земное человечество, — в идеальное,
самостоятельное, автономное достоинство лица...»55
«Розовому» христианству Толстого (к которому, по мнению
Леонтьева, близки и славянофилы, и Достоевский, и Владимир Соловьев)
Леонтьев противопоставляет истинное, «филаретовское»
православие, которое отличается от «хомяковского» «любвеобильного»
православия тем, что, во-первых, ставит превыше любви страх божий;
во-вторых, заботится не об исправлении посюстороннего, земного
мира, а о спасении души верующего; в-третьих, именно поэтому
ставит выполнение церковных обрядов выше каких бы то ни было
нравственных заповедей. Это православие, по Леонтьеву, традици-
54 Там же, с. 157-158.
55 Там же, с. 159-160.
Глава 5 Эстетический аморализм Константина Леонтьева 185
оино и авторитарно, оно оказывается ближе к типу религиозности
русского мужика, чем к «розовому и любвеобильному» православию
«наших образованных классов»56. Леонтьев убежден, что гораздо
важнее блюсти посты, чем следовать моральным императивам
(в отличие от православного духовенства, избегавшего ставить
вопрос в такой альтернативной форме, Леонтьев со свойственной ему
безоглядной решительностью именно так его и ставил). Против
некоторых из этих императивов, например против честности
(«добродетель посредственных»), у Леонтьева — нескрываемая досада
и раздражение: «...честность, — говорит он, — надменна и глупа»;
нет ничего несноснее стремления «всякую личность... сделать
счастливою (здесь, на земле), равноправною, покойною,
надменно-честною и свободною в пределах известной морали»57.
Ритуализм Леонтьева тесно связан с характером его
христианства. Рассказ Толстого, говорит Леонтьев, «только трогателен, но не
свят... Святость, — продолжает он, — я понимаю так, как понимает
ее Церковь. Церковь не признает святым ни крайне доброго и
милосердного, ни самого честного, воздержанного и
самоотверженного человека, если эти качества его не связаны с учением Христа,
апостолов и св. отцов»5*. И еще определеннее: «...Истинно свят
лишь тот, кого признает таковым высшее духовенство; а не тот,
который нам кажется таковым»59.
К Достоевскому Леонтьев тоже относился двойственно: как
и в Толстом, он ценил в нем «даровитого писателя», но его «розово-
56 Православие «образованных классов» Леонтьев хорошо знает не просто из
литературы, а более непосредственно: в его родительском доме, у горячо
любимой им матери вера отнюдь не была строго-обрядовой. «Она, — пишет
Леонтьев о матери, — любила только ту сторону христианства, которая выражается в
нравственности, и не любила ту, которая находит себе пищу в набожности. Она
не была богомольна, постов почти вовсе не соблюдала и нас не приучала к ним...
Она хотела молиться для себя искренно, тепло; хотела молиться тогда, когда ее
сердце требовало молитвы. Она, видимо, была из тех людей, которые не
признают важности долгого принудительного и тяжкого (почему бы то ни было
тяжкого) присутствия в храме. Она хотела не почтительного повиновения
уставу и обряду, искала не подвига послушного (и отчасти сухого) выстаивания
даже при неудобных, развлекающих или раздражающих условиях; она хотела
молитвы горячей и покойной» (К.Н. Леонтьев. Мое обращение и жизнь на св.
Афонской горе, с. 505,510). И хотя Леонтьев считает, что христианство его
матери носило «несколько протестантский характер», но говорит о нем не
только с пониманием, но и не без сочувствия.
57 К.Н. Леонтьев. Собр. соч. Т. 7, с. 133-
58 Там же. Т. 8, с. 158.
59 Там же. Т. 6, с. 331.
186 Раздел II Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
го» христианства тоже не принимал. Правда, по своему
пониманию христианства Достоевский, согласно Леонтьеву, гораздо
ближе к истине, чем «протестант» Толстой. «В творениях г.
Достоевского, — пишет Леонтьев, — заметна в отношении религиозном
одна весьма любопытная постепенность. Эту постепенность легко
проследить в особенности при сравнении трех его романов:
„Преступление и наказание", „Бесы" и „Братья Карамазовы"* В первом
представительницею религии являлась почти исключительно
несчастная дочь Мармеладова... но и она читала только Евангелие...
В этом еще мало православного... Заметим еще одну подробность,
эта молодая девушка... как-то молебнов не служит, духовников имо-
наховддя совета не ищет; к чудотворным иконам имощам не
прикладывается... Видно из этого, что г. Достоевский в то время, когда
писал „Преступление и наказание", очень мало о настоящем (т. е.
о церковном) христианстве думал. В „Бесах" немного получше.
Является перед читателем на площади икона, чтимая „народом".
Автор видимо негодует на нигилистов, позволивших себе оскорбить
эту народную святыню, — и только... „Братья Карамазовы" уже
гораздо ближе к делу... В романе... весьма значительную роль играют
православные монахи... Правда... монахи говорят не совсем то или,
точнее выражаясь, совсем не то, что в действительности говорят
очень хорошие монахи и у нас, и на Афонской горе...»60
Но хотя Достоевский, по убеждению Леонтьева, так и не пришел
вполне к христианству, тем не менее его деятельность Леонтьев
считает полезной для русского общества, поскольку Достоевский
ведет борьбу с «сухой политической злобой нигилизма». «Его
искренность, его порывистый пафос, полный доброты, целомудрия
и честности, его частые напоминания о христианстве — все это
может в высшей степени благотворно действовать... на читателя...
В этом отношении к г. Достоевскому можно приложить одно
название, вышедшее нынче почти из употребления, — он
замечательный моралист. Он занят гораздо более психическим строем лиц,
чем строем социальным, которым все нынче, к сожалению, так
озабочены. Человечество XIX века как будто бы отчаялось
совершенно в личной проповеди, в морализации прямо сердечной
и возложило все свои надежды на переделку обществ, то есть на
некоторую степень принудительности исправления.
Обстоятельства, давление закона, судов, новых экономических условий
принудят и приучат людей стать лучше... Г. Достоевский,
по-видимому, один из немногих мыслителей, не утративших веру в самого
Тамже.Т.8,с. 187,195-196,198.
Глава 5 Эстетический аморализм Константина Леонтьева 187
человека»61. Если Толстого Леонтьев высоко ценил как художника,
не принимая его религиозной позиции, то в отношении
Достоевского его оценки прямо противоположны: публициста и
моралиста в Достоевском он ценит «несравненно выше, чем
повествователя»62, «Дневник писателя» — выше «уродливых романов». Есть
и еще один момент, сближающий Леонтьева с Достоевским: это
общие их идейные истоки — европейский романтизм и выросшая
на его почве целая плеяда русских «разочарованных героев»,
которых Леонтьев в юности очень любил. Тут и Леонтьев, и
Достоевский расходились со славянофилами. Об этом хорошо сказал
С.Г Бочаров: «Для обоих (Достоевского и Леонтьева. —Я/!), при
существенной разнице поколений, усложненно-болезненная
литературно-душевная почва „нашего недавнего прошедшего" была
родной, и они сохраняли душев1гую верность ему при всех
критических пересмотрах. Сжигая и отрываясь, Леонтьев тепло помнил
то, от чего отрывался, с чем расставался, — ведь этот
идейно-душевный комплекс, выжитый литературой в первую половину
века, — русский байронизм и лишнего человека, русский романтизм
и жоржзандизм, европейское разочарование, претворившееся
в „мировую тоску" русского мыслящего героя... И Достоевский
сжигал и тепло вспоминал»63.
Леонтьев, однако, в отличие от Достоевского, «веру в самого
человека» утратил; его точка зрения гораздо ближе к идее
принудительного исправления, с той только разницей, что «нигилисты»
и «уравнители-либералы» рассчитывают на принудительность
экономическую и правовую, а Леонтьев — на государственную
и церковную.
Именно принудительность есть одно из главных преимуществ
православия, как его воспринимает Леонтьев. Поэтому он спешит
оговорить, что моральная проповедь Достоевского с
христианством ничего общего не имеет. «Демократический и либеральный
прогресс, — пишет Леонтьев, — верит больше в принудительную
и постепенную исправимость всецелого человечества, чем в
нравственную силу лица. Мыслители или моралисты, подобные автору
„Карамазовых", надеются, по-видимому, больше на сердце
человеческое, чем на переустройство обществ. Христианство же не
верит безусловно ни в то, ни в другое, — то есть ни в лучшую авто-
61 Там же, с. 187-188.
62 Там же. Т. 7, с. 444.
63 С.Г. Бочаров. Леонтьев и Достоевский. Статья первая. Спор о любви и
гармонии // Вопросы литературы. 1993- Вып. VI, с. 15 5.
188 Раздел II Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
комическую мораль лица, ни в разум собирательного
человечества, долженствующий рано или поздно создать рай на земле»6*.
Огорчение Леонтьева тем сильнее, что идея «рая на земле», эта
излюбленная иллюзия европейского либерализма,
унаследовавшего старую хилиастическую веру в тысячелетнее царство Божие
на земле, была высказана — от имени христианства — в речи
Достоевского на Пушкинском празднике. И это после того, как
знаменитый писатель проделал, как считает Леонтьев, столь важную
эволюцию, приблизившись к церковному христианству больше,
чем кто-либо другой из русских писателей. «Еще шаг, еще два, и он
мог бы подарить нас творением истинно великим в своей
поучительности. И вдруг эт2речь\ Опять эти „народы Европы"!65 Опять
это „последнее слово всеобщего примирения"!.; Из этой речи,
на празднике Пушкина, для меня, по крайней мере (признаюсь),
совсем неожиданно оказалось, что г. Достоевский, подобно
великому множеству европейцев и русских всечеловеков, все еще верит
в мирную и кроткую будущность Европы и радуется тому, что нам,
русским, быть может и скоро, придется утонуть и расплыться в
безличном океане космополитизма»66.
В отличие от многих своих современников из консервативного
и реакционного лагеря, Леонтьев не националист. О его
восхищении европейской «великолепной и пышной», по уже уходящей
в прошлое цивилизацией мы говорили выше. Возмущает его в
речи Достоевского не любовь к европейской культуре, к «великим
камням», а вера в возможность примирения и любовного
единения людей на земле, во «вселенскую гармонию», которая не просто
невозможна, нереалистична, но само стремление к ней
заслуживает осуждения. К. Леонтьев затронул здесь несомненно очень
важную и, пожалуй, центральную для русского религиозного
сознания тему. Утопическая вера в наступление близкого «золотого
века» в самых разных формах овладела в последнюю четверть
прошлого века не только сознанием образованного общества,
но и широко распространилась в русском народе; в многочислен-
64 К.Н. Леонтьев. Собр. соч. Т. 8, с. 188-189-
65 Леонтьев имеет в виду слова Достоевского: «...Назначение русского человека
есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать
вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это
подчеркните) стать братом всех людей, всечеловекам, если хотите... О, народы Европы и не
знают, как они нам дороги!» (Ф.М. Достоевский. Собр. соч. в 10-ти томах. Т. 10.
М. 1958, с. 457-458).
66 К.Н. Леонтьев. Собр. соч. Т. 8, с. 198-199-
Глава 5 Эстетический аморализм Константина Леонтьева
189
ных сектах — хлыстов, скопцов, бегунов, духоборов, особенно
активных в конце XIX — начале XX вв., чаяние близкого
преображения мира, экстатические и хилиастические настроения
приобретают остро-напряженный характер. Не случайно русская
литература, проникнутая народническим духом, тяготеет к апокрифам
и народным внецерковным верованиям; тут можно назвать не
только Ф. Достоевского и Л. Толстого, но и Лескова, Писемского,
позднее — Пришвина, Клюева, Блока, Белого, Мережковского,
Розанова и многих других. Утопические идеи интеллигенции
передают атмосферу всеобщего «взыскания Града Китежа» в
сектантских общинах. Что касается Достоевского, то его вера в грядущую
«мировую гармонию», о которой он говорил в «Пушкинской речи»,
была отголоском утопических увлечений его молодости, с
которыми он сам боролся много лет, но следы их нет-нет, да и
проступали в его творчестве. «Достоевский, — пишет ВЛ. Комарович, —
до конца не изжил своих юношеских верований. Они, как
застарелые навыки мысли, прокрались и в позднейшую его идеологию,
где уже многое, однако, противоречило им»67.
К.Н. Леонтьев, не разделявший ни либеральных идей, ни
народнических увлечений большой части образованного общества68,
без труда заметил хилиастическую подоплеку призыва
Достоевского к всемирнохму братству. Он ясно видел те же хилиастические
мотивы и у Вл. Соловьева, и в этом пункте критика Леонтьева в адрес
Соловьева была резкой и вполне справедливой. «Гармонии (а 1а
Достоевский), „всеобщей любви", конечно, не будет; для этого... нам
надо „химически" переродиться; „молочные реки" и тогда не
потекут в „кисельных берегах" — это все чушь, противная и здравому
смыслу, и Евангелию, и естественным наукам даже»69. Леонтьев
принадлежал к тем современникам Соловьева, которым признание
несомненных заслуг русского философа не мешало решительно
отвергать утопизм некоторых соловьевских идей70.
Мечта Достоевского и Соловьева о братстве людей на земле,
с точки зрения Леонтьева, — опасная ересь. «В глазах христиани-
67 ВЛ. Комарович. «Мировая гармония» Достоевского // Атеней. Кн. 1-2. Л.,
1924, с. 141.
68 От народничества, к которому Леонтьев, по собственному признанию, тоже
долго был причастен, его более всего освободил Афон (см.: К.Н. Леонтьев. Мое
обращение и жизнь на св. Афонской горе, с. 512).
69 «К Леонтьев о Владимире Соловьеве и эстетике жизни», с. 11 -12.
70 По Леонтьеву, Соловьев «домечтался» даже до «химического перерождения»
человеческого рода. «Астафьев, — пишет Леонтьев, — еще в 83 году рассказывал
190 Раздел II Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
на, — пишет он, — подобная мечта противоречит прямому и очень
ясному пророчеству евангелия об ухудшении человеческих
отношений под конец света*71. Однако не только надежду на братство
людей на земле, но и братолюбие по естественной склонности
души Леонтьев невысоко ценит. Все, что человек делает доброго,
он, по Леонтьеву, делает ради спасения собственной души, если он
христианин; те, кто милосердны и братолюбивы не из долга перед
собственной душой, не из страха Божьего, а любят ближнего ради
него самого, — не христиане в истинном смысле слова. Столь
резкое противопоставление заботы о спасении собственной души
служению ближнему и любви к нему ради него самого — одна из
тех крайностей Леонтьева, которую не разделяет христианская
церковь. Не случайно архимандрит Антоний (Храповицкий) в
статье под характерным заголовком «Как относится служение
общественному благу к заботе о спасении своей собственной души?»
назвал позицию Леонтьева «псевдоаскетическим направлением»
и упрекал писателя в слишком вольном толковании Священного
писания и узком подборе святоотеческих текстов. По словам
Антония, Леонтьев ссылается только на «учителей покаяния и
дисциплины», упуская из виду другую традицию, к которой среди
русских иноков принадлежал, например, Нил Сорский72.
Полемизируя со славянофилами, любившими обращаться к теме
органического народного творчества, Леонтьев пишет:
«Творчество и святость, я думаю, разница. Творчество может быть всякое-, оно
может быть еретическое, преступное, разбойничье, демоническое
даже»73. Но это вовсе не значит, что Леонтьев отвергает это самое
мне следующее. Он спросил у Вл. Серг.: „Что такое будет у Вас в Вашем
предполагаемом третьем отделении, в Теургии?" (Теософия, Теократия, Теургия; Бого-
мудрие (Крит. отвл. начал), Боговластие, Боготворчество). Соловьев отвечал:
„Там будет о семи Таинствах, под влиянием которых, после примирения
Церквей, весь мир переродится не только нравственно, но и физически и
эстетически". Вот как далеко он поднялся! Поэтому ему и известный Фурье нравится;
у него тоже предсказывается 40.000лет апогея блаженства на земле, под
влиянием приятной и любвеобильной организации общества не против
страстей, а по страстям и влечениям. Изменится даже вкус моря на приятный;
разовьются новые органы у людей и т. д.» («К. Леонтьев о Владимире Соловьеве
и эстетике жизни», с. 11 -12).
71 К.Н. Леонтьев. Собр. соч. Т. 8, с. 202.
72 Архимандрит Антоний. Как относится служение общественному благу к
заботе о спасении своей собственной души? // Оттиск из журнала «Вопросы
философии и психологии». М., 1892, февраль, с. 16,29-
73 К.Н. Леонтьев. Собр. соч. Т. 6, с. 334.
Глава 5 Эстетический аморализм Константина Леонтьева
191
творчество, поскольку оно со святостью несовместимо. Напротив,
оно восхищает его едва ли не больше, чем святость. И, пытаясь эти
несовместимости совместить, Леонтьев стремится доказать, что
демоническому творчески-эстетическому началу также необходимо
в качестве средства спасения суровое аскетическое христианство,
как и последнему в свою очередь необходимы преступления,
страдание, несправедливость и насилие, кровь и разрушения, нероны и
Калигулы и даже — «тонкий разврат». Вот самый глубокий пласт леон-
тьевского мировоззрения: «...И поэзия земной жизни и условия
загробного спасения — одинаково требуют не сплошной какой-то
любви, которая и невозможна, и не постоянной злобы, а, говоря
объективно, некоего как бы гармонического, в виду высших целей,
сопряжения вражды слюбовью»74. Вот какая «гармония», вместо
«всемирного братства и любви» Достоевского, приемлема для Леонтьева.
Миросозерцание это все же языческое, и это леонтьевское
язычество побуждает его видеть в христианстве прежде всего
эсхатологию, искать в нем бича Божия, в конце времен жестоко
карающего человечество за его грехи. «И под конец не только не настанет
всемирного братства, — выговаривает Леонтьев Достоевскому, —
но именно тогда-то оскудеет любовь, когда будет проповедано
Евангелие во всех концах земли. И когда эта проповедь достигнет,
так сказать, до предначертанной ей свыше точки насыщения,
когда, при оскудении даже и той любви, неполной, паллиативной
(которая здесь возможна и действительна), люди станут верить
безумно в „мир и спокойствие", — тогда-то и постигнет их пагуба-„и не
избегнут!.."»15
Один из критиков Леонтьева, Александр Закржевскйй, увидел
в нем прямо-таки дьявола в человеческом облике. «Разгадать
настоящего Леонтьева, — писал он, — не моя задача. Если разгадают
его, если снимут маску — в ужасе отшатнутся. Там, под этой черной
отшельнической одеждой увидят вампирный лик инквизитора.
Там, где были суровой рукой жестокого карателя России написаны
общедоступные истины о Христе и церкви, быть может увидят
печать Антихриста...» И еще: «Он (Леонтьев. — ПГ.) заявил
величайшее, почти дьявольское своеволие, он лелеял ядовитые,
преступные мысли о мировой катастрофе, он рад был хоть в этих мечтах
обречь все человечество на казнь и захлебнуться в крови, как в
тонком и жгучем вине...»76 Это пишет человек романтически настро-
74 Там же. Т. 8, с. 186.
75 Там же, с. 194-195.
76 А. Закржевскйй. Одинокий мыслитель. Киев, 1916, с. 5,19.
192 Раздели Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
енный, со склонностью видеть в людях «страшные загадки».
Но правда и то, что сочетание гипертрофированной страсти к
силе, власти, красоте — то есть ценностям исключительно «мира
сего» — с аскетическим и суровым, глубоко эсхатологически
пережитым православием, понятым как полное равнодушие к судьбам
мира сего (более того, как желание зла и гибели для этого мира),
как бегство от этого мира и использование его несчастий для
спасения собственной души (Леонтьев называл это
«трансцендентальным эгоизмом» христианства), — это действительно
необычное сочетание, и в душе человека, соединившего эти полюсы, вряд
ли в самом деле могли царить мир и радость.
Христианство Леонтьева — явление единственное в своем роде.
Аристократический и романтический эстетизм, как он выступил,
например, у Байрона, а позднее у Ницше, был резко
антихристианским. И они нашли себе последователей: их мировоззрение
было более органичным. А вот Леонтьева не принимали ни
христиане, ни атеисты, ни либералы, ни консерваторы, ни славянофилы,
ни западники. До конца жизни он оставался «невлиятельным
публицистом и малочитаемым беллетристом», по меткому слову
С.Г Бочарова77. Правда, в качестве публициста Леонтьев в 80-х
годах приобрел громкую известность, но с ним редко соглашались,
и влияние его было слабым: его работы чаще всего вызывали у
современников критические отзывы. Как писал по этому поводу
М.Н. Покровский, известность Леонтьева как публициста «очень
помешала оценке Леонтьева, как писателя, современниками;
Леонтьев — талантливый беллетрист, Леонтьев — оригинальный
и меткий критик — все это закрылось в глазах читателей образом
Леонтьева, яростного апологета крепостного права во всех его
проявлениях и проповедника „сладострастного культа палки"
(слова И.С. Аксакова)»78.
Умер Леонтьев монахом в Оптиной пустыни 12 ноября 1891 г. —
«никем не понятый, непризнанный, но и на смертном одре
бушевал, кричал, что умирать не хочет, не согласен...»79
77 С.Г. Бочаров. Леонтьев и Достоевский // Вопросы литературы. 1993. Вып. VI,
с. 157.
78 Энциклопедический словарь А. Граната. 7-е перераб. изд. Т. XXVII, с. 35-39-
79 Б. Филиппов. Цит. соч., с. 14.
Глава 5 Эстетический аморализм Константина Леонтьева
193
КН. Леонтьев — литературный критик
Особого внимания заслуживает творчество К. Леонтьева как
литературного критика. Здесь он был не менее оригинален, чем в
своих философско-исторических и политических статьях, очень
наблюдателен, глубок и меток. Леонтьев анализировал творчество
Тургенева, Марко Вовчка, Пушкина, Гоголя, Достоевского, Льва
Толстого; в последних статьях он пытался дать общую картину
развития русской литературы XIX века начиная с Пушкина и кончая
Толстым. Уже для ранних критических опытов Леонтьева характерно
внимание к стилю, особенно к языку произведения как его стиле-
образующему началу. Наиболее основательно проблема стиля
поставлена им в последней статье — «Анализ, стиль и веяние»80.
Здесь Леонтьев с самого начала предупреждает, что собирается
избрать предметом своего исследования манеру, стилистические
особенности художественной прозы Толстого, а не ее содержание,
не «направление». Речь пойдет «не о том, что рассказано, а лишь
о том, как оно рассказано». Пытаясь дать определение тому, что он
называет «стилем произведения», его «духом» или «веянием»,
Леонтьев пишет: «Чутье этого „духа" и этого „веяния" — одно из
самых невыразимых словами, но вместе с тем одно из самых
сильных наших чувств. Факты, главные события могут быть переданы
вполне верно и точно; люди этой эпохи и этой местности будут
в книге поступать в большинстве случаев именно так, как
поступали они в жизни, но воздух, так сказать, общий будет у одного
писателя вполне верный времени и месту, а у другого — неверный
или менее верный... Разница эта происходит иногда от того,
например, каким языком рассказываются события, приключения
действующих лиц, оттого, какими выражениями передаются
чувства героев и т. д. Мне даже иногда кажется, что именно от этого,
по-видимому только внешнего приема и зависит весь тот
неуловимый, но поражающий „колорит" или „запах" времени, места и
среды, о которых я говорю, та общая всему произведению
психическая музыка, на которую я указываю»81.
Произведение совершенно в том случае, говорит Леонтьев, если
его язык, стиль, авторская манера вполне соответствуют
внутреннему психическому строю изображаемого. Несомненна аналити-
80 Первый раздел статьи был напечатан в «Гражданине», № 157-158 за 1890 год;
остальные разделы — в «Русском вестнике* за 1890 год, кн. 6-8; в 1911 году
статья вышла отдельной книгой под названием «О романах гр. Л.Н. Толстого».
81 К.Н. Леонтьев. Собр. соч. Т. 8, с. 233,244-245.
194 Раздел II Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
ческая тонкость размышлений Леонтьева о природе того, что он
называет «стилем», «языком». «Язык, или, общее сказать,
по-старинному стиль, или еще иначе выражусь — манера рассказывать —
есть вещь внешняя, но эта внешняя вещь в литературе то же, что
лицо и манера в человеке: она — самое видное, наружное
выражение самой внутренней, сокровенной жизни духа. В лице и
манерах у людей выражается несравненно больше бессознательное,
чем сознательное; натура или выработанный характер больше,
чем ум... Подобно этому и в литературно-художественных
произведениях существует нечто почти бессознательное или вовсе
бессознательное и глубокое, которое с поразительною ясностью
выражается именно во внешних приемах, в общем течении речи, в ее
ритме, в выборе самих слов, иногда даже и в невольном выборе»82.
«Дух» произведения в значительной степени определяется тем,
как рассказано о людях и событиях, а не только тем, что именно
рассказано. «..Для меня, — пишет Леонтьев, — важно и то, как оно
рассказано и даже кем, — самим ли автором, например, или
человеком того времени, той местности, той нации и веры, того сословия,
которые автором изображаются. В последнем случае, при удачном
приеме, иллюзию (достоверности рассказа. — ПТ.) сохранить
гораздо легче, чем в первом, когда автор от себя рассказывает не
о своей среде. Впрочем, иным писателям до того удается овладеть
духом чужой среды, что и рассказ — прямо от своего имени —
остается верен этому духу...»83
Для пояснения своей мысли Леонтьев приводит пример — как
одно и то же историческое событие может быть изображено в двух
разных манерах. «О пугачевском бунте, — пишет он, — нам
рассказали двое: Пушкин от лица Гринева, человека того времени, и фаф
Салиас сам от себя. Очень может быть, что у графа Салиаса было
в руках гораздо больше источников и документов, чем у Пушкина...
Воображение графа Салиаса, напрактикованное целым
тридцатилетием наблюдательности мелочной, ненасытной, тяжеловесной
в своих тонкостях (ибо таково оно у всех главных и лучших
предшественников его), — воображение это не в силах было
удовлетвориться тем высоким и чистым, „акварельным" приемом, на
котором остановился трезвый гений Пушкина, и автор „Пугачевцев"
сообщил нам великое множество подробностей, быть может (не
знаю), и верных, быть может, только очень наглядных и распреяр-
ких... От рассказа Гринева веет XVIII веком; от „Пугачевцев" гр.
Сайтам же, с. 318-319.
83 Там же, с. 245.
Глава 5 Эстетический аморализм Константина Леонтьева
195
лиаса пахнет 60-ми и 70-ми годами нашего времени; уж не веет,
а стучит и долбит несколько переродившейся, донельзя
разросшейся натуральной школой. От излишней придирчивости,
подробности и даже тонкости наблюдения выходит грубо»84.
Действительно, не только от излишней подробности, но и от
слишком тонкой наблюдательности художественное
произведение эстетически проигрывает: есть риск разрушения
эстетической дистанции. Предмет, изображаемый художником с известной
дистанции («акварельно», как говорит Леонтьев), эстетически
чище, оформленнее, красивее, чем предмет, который рисуют,
подоил;! к нему вплотную, а тем более — изучая его через микроскоп.
Произведения эпического жанра, предполагающие большую
дистанцию по отношению к изображаемому, чисто эстетически
выигрывают по сравнению с современным романом.
Однако, читая Леонтьева, замечаешь, что при рассмотрении
проблемы стиля у него остаются неразделенными два, вообще
говоря, разных вопроса: о соответствии способа изображения «духу»
изображаемого и об эстетических преимуществах одного способа
изображения перед другим.
На первом плане в статье о Толстом стоит вопрос об
адекватности стилистических приемов автора «Войны и мира» и «Анны
Карениной» тем историческим эпохам, которые изображаются
в каждом из романов. «Веет» или «не веет» духом времени — вот
лейтмотив Леонтьева. С этой точки зрения, говорит Леонтьев,
«Анна Каренина» — более совершенное творение, чем «Война и мир».
Хотя по значительности темы эпопея об Отечественной войне
1812 года превосходит роман из жизни русского дворянства
середины XIX века, но по верности художественных приемов духу
и смыслу изображаемого «Анна Каренина» выше «Войны и мира».
«Я люблю, я обожаю даже „Войну и мир", — пишет Леонтьев, — за
гигантское творчество, за смелую вставку в роман целых кусков
философии и стратегии, вопреки господствовавшим у нас тоже так
долго правилам художественной сдержанности и аккуратности;
за патриотический жар, который горит по временам на ее
страницах так пламенно; за потрясающие картины битв; за
равносильную прелесть в изображениях как „искушений" света, так и
радостей семейной жизни; за подавляющее ум читателя разнообразие
характеров и общепсихическую их выдержку; за всеоживляющий
образ Наташи, столь правдивый и столь привлекательный; за
удивительную поэзию всех этих снов, бредов, полуснов и предсмерт-
Там же, с. 245-246.
196 Раздел II Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
ных состояний. За то, наконец, что лучший и высший из героев
поэмы, кн. Андрей — не профессор и не оратор, а изящный, храбрый
воин и твердый идеалист»85. Но несмотря на это, продолжает
Леонтьев, по манере, по стилю своему «Война и мир» менее
соответствуют духу начала XIX века; жизнь того времени была менее
развитой и менее самостоятельной, чем русская жизнь 50-60-х
годов. «Все в 12-м годузя исключением государственного
патриотизма, было выражено в жизни русского общества побледнее,
послабее, попроще и поплоще (не плохо, а плоско), так сказать, по-
барельефнее, чем в эпоху Крымской войны. К 50-м годам сила
государственного патриотизма много понизилась, но все другие
психические и умственные запасы общества возросли донельзя-
Сложное и ускоренное движение общественной жизни не могло
не отозваться и на жизни личного духа. Мысли и чувства наши
усложнились новыми задачами и оттенками, и обмен их стал много
быстрее прежнего. Этою ускоренною, современною сложностью
душевной жизни веет одинаково и от „Войны и мира" и от
„Карениной". Но в последнем произведении это у места. Не знаю — у
места ли в первом»86.
Это определение менее развитой, как мы сегодня сказали бы,
менее рефлектированной и индивидуализированной, менее
психологической жизни русского общества и русского человека на
рубеже XVIII и XIX веков по сравнению с серединой и тем более
концом XIX века, определение ее как «барельефной», как «более
плоскостной» — точно и удачно. По сравнению с этой
«барельефной» жизнью, требующей для своего изображения
соответствующего («акварельного», говорит Леонтьев) стиля, жизнь русского
общества 60-70-х годов представляется Леонтьеву «рельефной»,
«статуарной»87. «Статуарный» стиль реалистического романа
уместнее, согласно Леонтьеву, в «Анне Карениной», чем в эпопее
о 1812 годе. Более верно духу времени написал бы «Войну и мир»,
по мнению Леонтьева, Пушкин с его «более бледным и
поверхностным» (не в отрицательном смысле, а в смысле большей легкости,
абстрактности изображения) стилем. «Позволю себе
вообразить, — говорит Леонтьев, — что Дантес промахнулся и что
Пушкин написал в 40-х годах большой роман о 12 годе. Такли бы он
его написал, как Толстой? Нет, не так\.. Роман Пушкина был бы,
вероятно, не так оригинален, не так субъективен, не так обреме-
85 Там же, с. 347.
86 Там же, с. 340-341.
87 Там же, с. 341.
Глава 5 Эстетический аморализм Константина Леонтьева
197
нен и даже и не так содержателен, пожалуй, как „Война и мир";
но зато ненужных мух на лицах и шишек „претыкания" в языке88
не было бы вовсе; анализ психический был бы не так „червоточив",
придирчив — в одних случаях, не так великолепен в других;
фантазия всех этих снов и полуснов, мечтаний наяву, умираний и
полуумираний не была бы так индивидуальна, как у Толстого... И герои
Пушкина, и в особенности он сам от себя, где нужно, говорили бы
почти тем языком, каким говорили тогда, т. е. более простым,
прозрачным и легким, не густым, не обремененным, не слишком
так или сяк раскрашенным, то слишком грубо и черно, то
слишком тонко и „червлено", как у Толстого. И от этого именно „общее
веяние", общепсихическая музыка времени и места были бы у
Пушкина точнее, вернее; его творение внушило бы больше
исторического доверия и вместе с тем доставляло бы нам более полную
художественную иллюзию, чем „Война и мир"...»89
Отсутствие выпуклости и детализации в характерах и языке,
отсутствие различия между языком героев и авторским языком — все
это связано с тем, что более дистанцированный способ
изображения не предполагает существенного расхождения между
сознанием автора и сознанием тех, кого он изображает. Расхождение это
если и есть, то минимальное, и чем дальше от реалистического
способа изображения, тем уже становится щель между
мировосприятием автора, с одной стороны, и изображаемых им лиц — с другой,
а соответственно сужается и расстояние, существующее в
реалистическом романе «между» сознаниями различных персонажей90.
Таким образом, освещение событий дается с одной точки
зрения — и отсюда «барельефносты картины. Напротив, чем более
рефлектирована сама социальная жизнь и сознание людей, тем
больше разрыв между восприятием событий автором и его героя-
88 Под «ненужными мухами» и «шишками претыкания» в языке Леонтьев
подразумевает приемы чрезмерной детализации, характерные для многих
русских писателей со времени Гоголя; у Толстого это — «пухлые руки» Кутузова,
«красная шея» Вронского, «свистание» носом Каренина и т. д. Еще более не
одобряет Леонтьев толстовского звукоподражания: «и пити-пити-пити» и потом
«и-ти-ти» и опять «и пити-пити-пити»: ударилась муха.
89 К.Н. Леонтьев. Собр. соч. Т. 8, с. 328-329-
90 Пушкин, считает Леонтьев, вообще гораздо меньше применял бы прямой
речи, а больше рассказывал бы от себя, и при этом язык его был бы проще и
бесцветнее (очень характерный эпитету Леонтьева, положительный, а не
отрицательный), он не был бы отягощен ни вульгаризмами, ни местными диалектами.
Слишком бросающаяся в глаза «цветистость» языка претит хорошему вкусу —
тут Леонтьев совершенно прав.
198 РазделП Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
ми, да и сами герои видят вещи по-разному; точек, из которых
льется свет, становится множество, лучи перекрещиваются,
пересекаются, и вещи, и события, и люди освещаются со всех сторон,
выступают выпуклее, выпирают из единой картины сначала так, как
выступает из стены статуя, а затем и вовсе отрываются от своих
пьедесталов, от твердой земли, на которой раньше стояли, и начинают
все быстрее метаться в многомерном пространстве произведения.
Леонтьев, таким образом, раскрывает тесную связь
изменяющегося стиля с изменением самой социальной и духовной
реальности. «Во времена Кутузова и Аракчеева все было у нас с виду уже
довольно пестро, но бледно, все было еще барельефно; ко времени
Крымской войны — многое, почти все, выступило рельефнее, ста-
туарнее на общегосударственном фоне; в 60-х и 70-х годах все
сорвалось с пьедестала, оторвалось от вековых стен прикрепления
и помчалось куда-то, смешавшись в борьбе и смятении!»91
Тут уже появляется не только остранение автора по отношению
к героям и их — друг к другу, но и сами герои часто остранены по
отношению к себе, рефлектируют по поводу себя, разоблачают
и критикуют себя; и автор относится к изображаемому без
прежней наивной серьезности, без прежней непосредственности. Чем
дальше, тем разоблачение ожесточеннее, а точка зрения, с
которой оно ведется, неуловимее, и возникает опасность того, что
рефлексия станет настолько всепроникающей и универсальной, что
не останется ничего серьезного и сама она превратится в
беспочвенную и беспредметную. Чтобы существовать, рефлексия ведь
нуждается в том, что не прорефлектировано, подобно тому, как
огонь — в том, что еще не сгорело.
Леонтьев, как мы дальше покажем, выступает с односторонне
эстетической точки зрения против «рефлектирующей» тенденции
в русской литературе, отождествляя ее с «разоблачительством»,
характерным, как он считает, для «натуральной школы». Иногда это
эстетическое неприятие Леонтьевым «разоблачительства
натуральной школы» осознавалось им в смягченной форме, а именно
в форме утверждения, что реалистическая манера изображения
часто не соответствует духу изображаемого. Не только в статье
о Толстом, но и в значительно более ранней статье, посвященной
91 К.Н. Леонтьев. Собр. соч. Т. 8, с. 341. Именно реформа 1861 года, изменившая
социальную и духовную ситуацию в русском обществе, сыграла решающую
роль в том, что все «оторвалось от вековых стен прикрепления», породив
неустойчивость прежде прочных традиций и нравов, создав то, что мы сегодня
называем «утратой самоидентичности».
Глава 5 Эстетический аморализм Константина Леонтьева
199
рассказам Марка Вовчка, Леонтьев прибегает именно к этому
аргументу «несоответствия». Вот что привлекает Леонтьева в рассказах
Марка Вовчка: «УМ. Вовчка нсттойяркости,махровости, которою
отличаются более или менее все наши авторы. Это общее
свойство, которое я позволил себе назвать махровостью,
обусловливается личными частностями (подчеркнуто мной. — ПГ)\ сюда
принадлежат: обилие поразительных эпитетов, яркие описания
наружностей и природы; обилие тех оригинальных слов и
оборотов областных и ненормальных, о которых я говорил выше;
утонченные психологические и жизненно-философские заметки,
особенно едкий юмор (подчеркнуто мной. — ПГ.), так, например,
гоголевский; подробная выделка даже второстепенных лиц в
разговорах и движениях»92. Леонтьев цитирует рассказы М. Вовчка —
«Игрушечка», «Саша», «Купеческая дочка», «Сестра», «Институтка»,
подчеркивая, что, в отличие от других писателей, обращающихся
к народной жизни, — Писемского, Григоровича, Тургенева, —
Марко Вовчок сумела найти наиболее верный тон, соответствующий
изображаемому предмету. Леонтьев отмечает важнейшую
стилистическую особенность рассказов украинской писательницы:
«...Из народного быта он (Марко Вовчок. — ПГ.) берет больше
такие слои, о которых можно говорить проще, общее...»95 Именно —
общее: без излишнего психологизма, без резкой
индивидуализации героев, происшествий, событий; эпичнее — без навязчивого
присутствия «личности образованного автора, как наблюдателя».
В пользу такого изображения, поясняет Леонтьев, говорит не
только эстетическое соображение, но и соображение, так сказать,
истины: ведь сословию, изображаемому Марком Вовчком, недостает
той «сознательности», которая так характерна для образованного
автора. Более абстрактное и идеализированное изображение
«замкнутого в себе крестьянского быта» не только адекватнее, но и
поэтичнее, — вот лейтмотив ранних леонтьевских статей, по-новому
развитый в статье о Толстом.
Натуралистические подробности94 в русской прозе начиная с
Гоголя — предмет самых яростных нападок Леонтьева. «Нет спора, —
пишет он, — современная русская школа (от Гоголя до Толстого)
богата в пределах своего реализма; она самобытна: она
содержанием своим может даже дать иностранцам очень ясное понятие о рус-
92 Там же, с. 41.
93 Там же, с. 42.
94 Термин «натурализм» трактуется Леонтьевым слишком расширительно;
ниже мы покажем истоки этого расширительного толкования.
200 РазделИ Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
ской действительности... Но... в некоторых отношениях наша
школа просто несносна, даже и в лице высших своих представителей.
Особенно несносна она со стороны того, что можно назвать в
одних случаях прямо языком, а в других общее: внешней манерой,
или стилем^. Этот особый стиль, говорит Леонтьев, отличает
русскую реалистическую школу от самых разных по времени, по духу,
по содержанию — но сходных по отсутствию в них «колючек и
шишек» «натуральной школы» — произведений мировой литературы:
от «Чайльд Гарольда» Байрона и «Ундины» Жуковского, от «Жития
святых» и философских романов Вольтера, от Гюго и Гёте, Корнеля
и Кальдерона, рассказов Марка Вовчка и трагедий Софокла. «Все-
таки, — пишет Леонтьев, — в „Житиях", ни у Вольтера, ни в „Чайльд
Гарольде", ни в „Лукреции Флориани", ни у Гёте, ни у Корнеля, ни
даже у М. Вовчка и старца-Аксакова96 никто „не разрезывает
беспрестанно котлеты, высоко поднимая локти"; никто не ищет все
„тщеславие и тщеславие", „бесхарактерность и бесхарактерность".
Нигде во всем перечисленном не коробит взыскательного
ценителя ни то, что „Маня зашагала в раздумье по комнате", ни „Тпрру!" —
сказал кучер, с видом знатока глядя на зад широко
расставляющей ноги лошади..." ... На всем этом, — и русском и не русском,
и древнем, и новом, — одинаково можно отдохнуть после столь
долголетнего „шагания", „фырканья", „сопенья" и „всхлипывания",
„нервного наливания водки", „брызганья слюною" в гневе (у
Достоевского, например, брызгаются слюною люди слишком часто, —
чаще, чем в природе) и т. д.»97
Особенно достается от Леонтьева Гоголю. Правда, не Гоголю
«Тараса Бульбы» и «Вечеров на хуторе близ Диканьки»: эти
произведения Гоголя Леонтьев высоко ценит; он считает даже, что у Гоголя
была «более оригинальная, творческо-русская фантазия», в
отличие от «германской» — Жуковского и «общечеловеческой... не
особенно оригинальной» у Пушкина98. Но не эти произведения
Гоголя, по мнению Леонтьева, оказали влияние на последующее
развитие русской литературы, которая, начиная с 40-х и кончая
70-ми годами, несет на себе следы натурализма. Русская
литература, пишет Леонтьев, «подпала под подавляющее влияние Гоголя.
Или, точнее сказать, под влияние его последних, самых зрелых,
но именно ядовитых, мрачных односторонне-сатирических про-
95 Там же, с. 229.
96 Леонтьев очень высоко ценил «Семейную хронику» С. Аксакова.
97 Там же, с. 230-231.
98 Из переписки КН. Леонтьева // Русский вестник. 1903, май, с. 178.
Глава 5 Эстетический аморализм Константина Леонтьева
201
изведений, изображавших лишь одну пошлость и пошлость жизни
нашей. Ведь не возвышенный пафос „Тараса Бульбы", „Рима" или
„Страшной мести", не могучая фантазия повести „Вий", не милая
веселость „Вечеров близ Диканьки" оставили сильный, глубокий
и до сих пор трудно изгладимый след на последующей литературе;
но или прямо сатира „Мертвых душ", „Ревизора" и т. д., или
изображение горьких, жалких и болезненных явлений нашей жизни,
некрасивый (в этом — весь Леонтьев. —ПТ.) трагизм наших будней
(особенно городских) в „Шинели", „Невском проспекте" и
„Записках сумасшедшего". Можно даже позволить себе сказать прямо, что
из духа этих трех последних петербургских повестей Гоголя
вышел и развился почти весь болезненный и односторонний талант
Достоевского точно также, как почти весь Салтыков вышел из
„Ревизора" и „Мертвых душ"»99.
По мнению Леонтьева, натуральной школе свойствен дух
отрицания, принимающий самые разные формы: начиная от желания
«видеть везде только бедность духа и только ничтожество жизни»,
желания, порождающего бесконечные «придирки и мелочную
подозрительность», и кончая стилистическими приемами, которые
служат внешним способом выражения этого «духа
отрицательности» и стыда перед всем высоким и изящным. Дух отрицания,
заявляет Леонтьев, порождает стремление во всем видеть «низость во
что бы то ни стало», побуждает писателя постоянно
«подглядывать» за героями: подглядывание — характерный образ действия
разоблачителя.
Читая эти рассуждения Леонтьева, невольно задаешь себе
вопрос: а каков стиль его собственных художественных
произведений? Как воплотился в них его эстетический идеал? Своей
художественной удачей сам Леонтьев считал восточные повести.
Характерно, что в них, как, впрочем, и в более ранних романах, он,
конечно, не возвращается к стилю средневековой и древней
литературы, который так ценит, хотя в этих повестях действительно нет
«колючек и шишек» натуральной школы. Для повестей Леонтьева,
которые он сам справедливо ставил выше своих ранних романов,
характерно соединение двух разнородных стилей изображения:
«барельефного» (когда изображается «фон») и романтически-пси-
хологизирующего (когда появляется герой, в котором, как правило,
нетрудно узнать самого Леонтьева). При изображении греков,
турок, их обычаев, нравов, свадебных и похоронных обрядов перед
нами писатель, наделенный большой наблюдательностью и ост-
99 К.Н. Леонтьев. Собр. соч. Т. 8, с. 298-299-
202 Раздел II Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
рым интересом к колориту местной жизни; при изображении
русского посла романтическая героизация и идеализация героя
вместе с интересом к внутренним психологическим деталям его
душевной жизни напоминают скорее романы Жорж Санд.
Любопытно, что при склонности к внутреннему анализу своего Я другие,
чужие Я для Леонтьева не просто закрыты, но и вовсе не
существуют как самостоятельные предметы изображения, — и отсюда «ба-
рельефность» фона.
Таким образом, в отличие, скажем, от средневекового автора,
который одинаково видит и себя и других, не индивидуализируя
изображаемого, не увлекаясь психологизмом, Леонтьев раздвоен, у
него, если можно так выразиться, две мерки: одна — для себя, другая —
для остальных. В этом смысле и автор «Жития святых», и писатель-
реалист XIX века по сравнению с Леонтьевым обладают
стилистическим единством: и тот и другой смотрят на себя и на других с
одной и той же точки зрения, проводя тем самым через все
произведение один поэтический принцип.
Но если Леонтьев сам не чужд психологическому анализу, то
почему же он так порицает психологизм натуральной школы? Дело
в том, что психологизм Леонтьева носит специфический
характер, отличный от психологического анализа не только Гоголя
и Щедрина, но и Льва Толстого: его психологизм исключает
критический взгляд на героя с точки зрения нравственной, тогда как
у Толстого, например, анализ прежде всего и состоит в такого рода
нравственной самокритике.
И вот тут Леонтьев как литературный критик обнаруживает
мировоззренческую предпосылку своего анализа: полное и
безоговорочное отбрасывание им отрицания оказывается в конце концов не
чем иным, как отбрасыванием нравственной точки зрения на
действительность. Леонтьев, конечно, прав, когда вскрывает опасность
для художественного произведения позиции полного и
абсолютного всеотрицания, позиции глобального разоблачительства, но
борьба против отрицания выливается у него в крайнюю форму, в
изгнание отрицания, рефлексии, даже в том случае, если она выступает
в качестве момента, в качестве нравственного корректива
эстетического начала. Леонтьев признает либо полное принятие
эстетического взгляда на действительность — таковым, по его мнению,
должно быть художественное произведение, — либо полное
отрицание эстетического начала вообще, — и такой должна быть
суровая, аскетическая позиция православного христианства.
Но русская литература в лице своих наиболее крупных
представителей избрала другой путь: в качестве момента она приняла отри-
Глава 5 Эстетический аморализм Константина Леонтьева 203
цание100 во имя нравственного идеала, как мы это видим у Толстого
и Достоевского, и тем самым превратила эстетический и внешний
подход к действительности в подход нравственно-этический и
внутренний. Этот подход, при котором становится возможным вновь
взглянуть на других также, как на самого себя, становится тем стиле-
образующим принципом, без которого невозможен
реалистический роман типа «Анны Карениной» и «Войны и мира».
Это можно выразить еще и так: чтобы после Лермонтова с его
«Героем нашего времени» (которым, как и байроновским Чайльд
Гарольдом, Леонтьев никогда не переставал восхищаться)
появились Безухов, Болконский и Левин, нужен был Гоголь, причем
Гоголь именно ненавистной Леонтьеву «Шинели» и еще более
ненавистных «Мертвых душ».
Но как раз этого-то Леонтьев и не замечает. Напротив, ему
кажется, что в своих лучших романах Толстой вернулся к догоголевскому
способу изображения, что его Болконский и Вронский — это тот
же Печорин, но в другое историческое время. «Между „Героем
нашего времени" и „Войною и миром", — пишет Леонтьев, — прошло
более тридцати лет. Между злым, но поэтическим скептиком
Печориным и спокойным, твердым и в то же время страстным Вронским
высится мрачный призрак Гоголя (не Гоголя „Тарас Бульбы", „Рима"
и „Вакулы", а Гоголя „Мертвых душ" и „Ревизора"); призрак
некрасивый, злобно-насмешливый, уродливый, „выхолощенный" какой-то,
но страшный по своей все принижающей силе»101.
Леонтьев не видит и в силу своей позиции не может видеть, что
между злым и в самом этом зле своем поэтическим Печориным,
с одной стороны, и «страшными по своей все принижающей силе»
«Мертвыми душами» существует незримая, но глубокая связь. В
самом деле, в чем секрет поэтичности «злого» Печорина? А в том, что
в нем это «злое» начало», «грех гордыни» (не говоря уже о
множестве более мелких грехов) возведен на такую высоту
«демонического», что вместо отталкивающего и смешного (каким часто
рисовали дьявола в Средние века) становится поэтически прекрасным
(каким видел дьявола лермонтовски настроенный Врубель).
Душевные изъяны Печорина взяты не в их реальном размере, а
увеличены, героизированы, так что предстают уже не как обыденные
пороки, а как демонические страсти.
100 Это отрицание, будучи абсолютизированным, логически перерастало в
революционность, в неприятие существующей действительности, — и тут
Леонтьев, выступая против гипертрофии отрицания, конечно, совершенно прав.
101 КН. Леонтьев. Собр. соч. Т. 7, с. 274.
204 Раздел II Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
Неправда печориных — в героизации, поэтизации
человеческих несовершенств, которые тем самым из сферы нравственной,
где они подлежат строгому суду, переходят в сферу эстетическую,
где к ним применим только критерий красоты. Против этой
неправды восстает натуральная школа во главе с Гоголем. В самом
деле, что делает Гоголь? На тот же человеческий тип, который
представлен у Лермонтова как Печорин, Гоголь смотрит в
перевернутый бинокль и видит поручика Пирогова. Он сводит
«героизированное несовершенство» с его поэтического пьедестала и
представляет его не просто в прозаическом, но уже в карикатурном
виде. Он перегибает палку в другую сторону, и тут опять-таки есть
свой соблазн: мало-помалу не только зло принимает
карикатурную форму, но все, на что ни взглянет художник, выглядит теперь
уродливо-деформированным — смешным. Теперь снова — другая
крайность: в свете такого взгляда все окружающее выглядит таким
отвратительным, что уже и исправлять, совершенствовать-то
нечего: единственное, что можно еще сделать с такой
действительностью, — это уничтожить ее. Здесь прав Леонтьев, увидевший
тесную связь такого разоблачительства с нигилизмом. Для человека,
♦стремящегося к идеалу», позиция крайнего разоблачителя есть
такое же отчаяние (только антиэстетическое), как и ее
противоположность — героизация и эстетизация зла. Леонтьеву, который
никогда не мог освободиться от «байронического» отношения
к «прекрасному злу», видна только одна сторона этой антитезы —
отчаяние разоблачительства, и он не замечает органической связи
его с его противоположностью.
Не случайно все же Леонтьев обратился к творчеству Толстого:
последний смог избежать обеих крайностей. Героическая
приподнятость у Толстого постоянно снижается трезвым анализом,
носящим нравственно-этический характер; но эта рефлексия
нравственного сознания не принимает самодовлеющего значения,
потому что не становится чисто поэтическим приемом и поэтому
не заходит так далеко, чтобы совсем разрушить то положительное
начало, ту нравственную целостность человеческой личности,
без которых она стала бы пародией на самое себя, потеряла бы
положительный свой центр и стала бы облеченным в человеческий
образ отрицанием. У Толстого, правда, бывает и это, но только с
теми героями, которые уж очень чужды и антипатичны ему, которые,
по замечанию Леонтьева, ему «не удались»: таков, например,
Наполеон в «Войне и мире».
Но этой подоплеки толстовского видения Леонтьев не замечает.
Вот характерный пример. Один из любимых героев Леонтьева —
Глава 5 Эстетический аморализм Константина Леонтьева
205
Вронский102, — красивый, знатный, здоровый, смелый, страстный
любовник, к тому же — и это главное — военный, одним словом,
настоящий романтический герой. Тех деталей, которые у Толстого
«снижают» героическую романтичность Вронского, Леонтьев,
в сущности, не замечает. Но вот досадная подробность романа:
после трагической гибели Анны Вронский уезжает на войну, —
черта, достойная именно такого героя; но почему-то в это время у
него болит зуб — деталь, очень огорчившая и даже обидевшая
Леонтьева-критика. «Ну, позвольте, разве уж и не может случиться,
чтобы молодой, знатный, красивый и здоровый герой поехал на
войну и без насморка, и без слюнотечения103, и без спазмов в
желудке? Я думаю, что может случиться. И эта зубная боль ни к чему
психическому, ни к чему органическому ни в настоящем, ни в
будущем не относится. Вронский и без того достаточно расстроен...»104
Леонтьев не может простить Толстому такой, казалось бы, ни для
чего не нужной дегероизации. «Это доказывает только, — пишет
он, — что граф Толстой, докончив последнею поэтическою
чертой (отъездом в Сербию) высокий и вполне реальный характер
своего высокого героя, как будто испугался излишней, по его
мнению... поэзии и... посадил поскорее на прекрасный портрет разом
с полдюжины этих натуралистических „мух"!»105
В действительности же, мне думается, в эпизоде с больным зубом
Толстой увидел воплотившееся в самой органически-телесной жизни
страдающего Вронского глубокое и мучительное — не столько
сознание, сколько неосознанное чувство вины. Ибо хотя в плане явном,
эмпирическом Вронский и не виновен в смерти Анны, но в другом,
скрытом от глаз метафизическом плане он виновен, и сам он, может
быть, вполне этого метафизического слоя не сознает, но бессозна-
102 У Леонтьева есть даже специальная статья под названием «Два графа: Алексей
Вронский и Лев Толстой* (1888), где доказывается, что граф Толстой
проигрывает при сравнении со своим героем, графом Вронским. «...Военный, — пишет
Леонтьев, — (при всех остальных равных условиях личных) выше штатского по
роли, по назначению, по призванию. При всех остальных равных условиях —
в нем и пользы и поэзии больше... Это так просто и верно, как и то, что во льве
и тигре больше поэзии и величия, чем в воле и обезьяне... как то, что коринфская
колонна лучше всех колонн; как то, что Шекспир есть величайший драматург
всех времен, или как то, что Лев Николаевич Толстой в „Анне Карениной"
и в „Войне и мире" выше всех романистов нашего времени и за все последние
тридцать-сорок лет во всем мире» (К.Н. Леонтьев. Собр. соч. Т. 7, с. 273).
103 В романе у Вронского болит зуб и «слюна наполняет ему рот».
104 К.Н. Леонтьев. Собр. соч. Т. 8, с. 316.
105Тамже,с.31б,317.
206 РазделП Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
твльно знает о нем, и его зубная боль — внешнее, телесное
воплощение этого ноющего, тупого, мучительно-тягостного
бессознательного знания, от которого — поскольку его невозможно привести к
сознанию — еще труднее освободиться. Толстому, как никакому другому
русскому писателю, удавалось передать такие процессы, которые
протекают на грани сознания и бессознательного. Он умел
описывать переход от сна к бодрствованию, засыпание и пробуждение,
болезнь, бред и умирание, он умел подслушать то, что не слышно
обычному уху, и улавливать то, что еще только начинает происходить. Это
показал в своей статье и сам Леонтьев, анализируя как раз сны,
засыпания и пробуждения у Толстого, фантазии и сны наяву — те
состояния, в которых проявляется связь душевных и духовных процессов
с телесно-соматическими. Но там, где чуткость художника
обусловлена его чуткой совестью, его удивительно глубоким переживанием
вины, — там решает эстетизм Леонтьева, отодвигая его критический
вкус, и он становится поверхностным и плоским.
Критика буржуазного общества
с точки зрения эстетизма.
Леонтьев и Ницше
Если теперь, подводя итог сказанному, мы попытаемся
представить себе позицию Леонтьева на фоне русской жизни второй
половины XIX века, то не останется никакого сомнения в том, что эта
позиция в целом, и концепция развития русской литературы в
частности, самым радикальным образом противостоит
революционно-демократическому направлению русской общественной
мысли. Именно революционно-демократическая эстетика
является главным объектом нападок и критики Леонтьева. Критика
Леонтьевым «разоблачительства» — это в первую очередь критика
эстетики Добролюбова, Чернышевского, Салтыкова-Щедрина.
Не случайно в одной из своих ранних литературно-критических
статей, посвященной анализу драм А. Островского, Леонтьев
резко выступил против Добролюбова и его «иезуитски умной» статьи
«Темное царство». Там, где, по мнению Леонтьева, Островский
талантливо рисует яркую и самобытную жизнь купцов — «этих
богатых русских мужиков», Добролюбов видит лишь талантливую
карикатуру, разоблачение диких нравов «темного царства»106.
10бТамже,с. 101,102,103.
Глава 5 Эстетический аморализм Константина Леонтьева
207
Но, выступая против нигилизма, Леонтьев отнюдь не
солидаризировался и с теми представителями славянофилов, которые
последовательно вели борьбу против
разрушительно-нигилистических воззрений леворадикального лагеря. Леонтьева, правда,
объединяет со славянофилами стремление сохранить нетронутой
«народную почву». Но тут начинается и различие. Если
славянофилы, подобно рачительным хозяевам, стремятся щадить и удобрять
почву, чтобы сохранить и приумножить ее плодородие, если они
любят почву едва ли не больше произрастающих на ней плодов,
то у Леонтьева здесь скорее психология арендатора, относящегося
к почве абстрактно и потребительски и любящего прежде всего ее
сладкие и душистые плоды. Для него почва — это не
«земля-матушка», как для славянофилов, а всего лишь средство для получения
эстетических ценностей — чернозем.
Характерен уже сам словарь Леонтьева, его излюбленные
словосочетания: «тонкий разврат», «благоухающее разложение» и др.
Любопытен пример, с помощью которого Леонтьев поясняет
центральный тезис своей исторической теории о первичной
простоте, сложности и последующем вторичном упрощении как трех
стадиях всякой культуры. В качестве иллюстрации он приводит
заболевание пневмонией, при котором происходит разложение
легочной ткани. Пример, конечно, всегда более или менее
случайная вещь, но в то же время и не совсем случайная. Вначале —
первичная простота, здоровое легкое. Затем начинается болезнь
и происходит нарастающее усложнение, развитие, «цветение»
(!) — болезнь в разгаре. Наконец, болезнь полностью пожирает
«почву» и наступает «вторичное упрощение», а за ним смерть.
Оказывается, все, что так любит Леонтьев, — «красота и пышность»
Древнего Рима, тонкость и изящество римского
аристократического разврата вплоть до утонченно-садистской жестокости
Нерона, также как и «пышность, красота и аристократический разврат»
былой Европы, — имеет свою аналогию в «цветении» охваченной
разложением легочной ткани.
Леонтьеву дорого начинающееся разложение почвы, потому
что, когда оно заходит слишком далеко, разврат становится
пошлым и грубым, «буржуазным» и в этой своей форме «вторичного
упрощения» претит Леонтьеву. Когда почва еще не разрушена
и свежа, ее разложение сопровождается страданием и болью,
и лишь до тех пор, пока продолжается это страдание, можно
говорить о красоте. Ни вполне здоровая почва, ни уже достаточно
разложившаяся, по Леонтьеву, эстетической ценностью не обладают.
В эстетизме Леонтьева присутствует что-то садистское.
208 Раздел II Религиозная философия XIX века: современники Соловьева
Славянофилы стремились не допустить разложения почвы, в
известном смысле они еще представляли более ранний (и более
оптимистический) этап в жизни русского дворянства, — нравственно-
религиозное начало было для них тем элементом, в котором, они
считали, возможно единение дворянства с крестьянским
сословием. Славянофилы поэтому просто скучны Леонтьеву, который, в
сущности, хочет совсем другого: вечного, непрерывного разложения,
но такого, чтобы при этом не иссякала почва, не унималась боль,
чтобы «тонкий разврат» не перерастал в пошлый и грубый. И в
соответствии с этим желанием Леонтьев создает философско-эстетиче-
скую концепцию, согласно которой церковная, государственная
и военная организации должны служить могучей консервативной
силой, способной «подморозить»Ъачавшую разлагаться почву и
остановить процесс на стадии его «пышного цветения».
Эстетизм остается последним словом философии Леонтьева.
Трудно не согласиться с С.Н. Булгаковым, усматривающим корни
этого эстетизма в «титанизме» Возрождения. «Каково религиозное
значение этой эстетики, которая в известном смысле
поставляется выше религии, или же по меньшей мере остается с ней не
координированной и себе довлеющей? Надо сказать прямо: такой
эстетизм есть тончайшее и предельное выражение безбожного
гуманизма, того люциферического мятежа человека, который
имеет начало с Возрождения. И Леонтьев в самом существенном
своем самосознании оказывается гуманистом из гуманистов,
когда проклинает новую цивилизацию во имя гуманистического
идеала красоты; причем с наибольшей энергией подчеркиваются
черты „белокурого зверя", красота силы, страстей, жестокости. Так
чувствовали жизнь родоначальники Возрождения в эпоху
вакхического самоупоения человечностью и так хотели бы чувствовать
жизнь пришедшие уже к краю, стоявшие над историческим
обрывом эпигоны того же гуманизма — Ницше и Леонтьев»107.
С.Н. Булгаков. Цит. соч., с. 87.
Раздел III
Религиозная
философия XX века:
поворот к метафизике
Глава 6
Иерархический персонализм Н.О. Лосского*
Характерной особенностью русской религиозной философии
конца XIX — XX вв. является поворот к метафизике. В этом отношении
она в известном смысле опередила аналогичный поворот к
онтологии, осуществленный в европейской философии нашего века
такими мыслителями, как А. Бергсон, М. Шелер, Н. Гартман, М. Хайдег-
гер, А. Уайтхед и др., которые тоже выступили против достаточно
долго господствовавшего на европейской почве гносеологизма
неокантианских и позитивистских школ. Николай Онуфриевич
Лосский (1870-1965) был, пожалуй, самым выдающимся среди
русских мыслителей XX века, стремившихся создать новую форму
метафизики. Разносторонне образованный, энциклопедически
начитанный, наделенный отличной памятью, ясным умом и вкусом
к последовательно-логическому развитию мысли и четкому ее
изложению, Лосский обладал редким даром синтезирования,
необходимым для создания философской системы. По словам В.В. Зень-
ковского, Н.О. Лосский «едва ли не единственный русский философ,
построивший систему философии в самом точном смысле слова»1.
И в самом деле, Лосскому удалось детально разработать и связать
воедино три ветви философского знания — теорию бытия
(онтологию), теорию знания (гносеологию) и теорию нравственного
действия (этику). А именно эти ветви знания традиционно составляют
основное содержание метафизических систем.
Как понимает Лосский метафизику, ее предмет и ее задачи?
Возвращаясь к традиции классической европейской философии,
восходящей к Платону и Аристотелю, и опираясь при этом на то, что
было сделано в этом направлении русскими философами — B.C.
Соловьевым, A.A. Козловым, Л.М. Лопатиным, он видит в метафизике
* Глава впервые была опубликована как послесловие к книге: Н.О. Лосский.
Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. М., 1995.
1 В.В. Зеньковский. История русской философии. Т. II. Ч. I. Л., 1991, с. 205.
212 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
науку у отличающуюся от частных наук своей всеобщностью и
глубиной своих оснований. «Метафизика при нашем определении
этого понятия есть наука, входящая в состав всякого мировоззрения...
Эта наука (как, впрочем, и все науки) дает сведения о подлинном
бытии (о „вещах в себе") и проникает в самые основы его... Исследуя
элементы бытия, метафизика отыскивает во множестве
разнородных предметов под пестрым разнообразием их тождественное
ядро... Далее, наблюдая изменения мирового бытия, метафизика
стремится отыскать в изменчивом неизменное... Метафизик, доводя свой
анализ до последней глубины, доходит до такого неизменного, как
напр. субстанция. Наконец, всякая наука стремится взойти от
производного в область основного и установить зависимость
производного от основного. Но метафизик, имея предметом своего
исследования все мировое целое... не останавливается на относительно
основном: ища абсолютно основного, он выходит за пределы мира
в область Сверхмирового начала, в сферу Абсолютного»2.
Своим стремлением строить философию как науку Лосский
отличается от тех его современников, которые — как например,
Л. Шестов, В. Розанов, Д. Мережковский, Н. Бердяев —
противопоставили философию науке и сознательно избрали другой путь —
путь художественного самовыражения. Как отмечает ученик Лос-
ского, СА. Левицкий, ему «чужд философский импрессионизм
многих даже талантливых современных философов...»3
Есть одна замечательная черта у Н. Лосского, столь редкая в
русской философии XX века, — чувство меры и умение избегать
крайностей. Ему чужд экстремизм, экстатически-романтическое
увлечение идеями, нередко приводящее к шараханию из одной крайности
в другую (вспомним хотя бы В.В. Розанова) и вызванное избытком
эмоциональности при недостатке трезвости. И это — при
спекулятивном складе ума, который не останавливается перед самыми
смелыми метафизическими построениями, будучи убежденным, что
человеку непосредственно открыто не только сверхчувственное
бытие идей, но и металогическая сфера запредельного миру
Абсолютного, постижимого с помощью мистической интуиции.
При этом, однако, Лосский сохраняет трезвость и честность мысли,
«благородную сдержанность», как очень точно охарактеризовал его
философский стиль СА. Левицкий. Лосский никогда не прибегает
к суггестивному воздействию на читателя или слушателя, его мане-
2 Н.О. Лосский. Типы мировоззрений. Введение в метафизику. Париж, 1931, с. 8.
3 СА. Левицкий. Очерки по истории русской философской и общественной
мысли. Т. 2. Франкфурт-на-Майне, 1968, с. 69.
Глава 6 Иерархический персонализм Н.О. Лосского 213
ра изложения проста, даже суховата и обращена не к чувству, а к
разуму читателя. В этом отношении Лосский, пожалуй, близок к
Аристотелю, тоже избегавшему всяких украшений4. В сочинениях
Лосского царит та атмосфера «благожелательной терпимости
и духовной дисциплины, обуздывающей страсти»5, которую сам
философ считал необходимой предпосылкой для плодотворного
обсуждения научных, философских и богословских проблем.
В юношеские годы Лосский, как и большинство его
сверстников, прошел период увлечения материализмом, что, кстати,
при поступлении в университет в 1891 г. определило его выбор: он
поступил на естественнонаучное отделение
физико-математического факультета Петербургского университета. «Я в это время был
убежден в истинности механистического материализма, —
вспоминает философ. — Поэтому я был уверен, что изучить физику,
химию и физиологию — это и значит получить знание об основах
строения мира»6. И хотя уже на первом курсе у начинающего
естествоиспытателя пробудился интерес к философии, побудивший
его незадолго до окончания естественного факультета поступить
параллельно на историко-филологический, — тем не менее
естественнонаучное образование сыграло важную роль в
формировании как философских интересов Лосского, так и его подхода
к рассмотрению предмета. Ведь занятия метафизикой требуют
основательного знакомства и с математикой, и с естественными
науками: не случайно выдающиеся метафизики — Аристотель,
Лейбниц, Декарт — были и крупными учеными своего времени.
Сильное влияние на Лосского в этой ранний период оказал
талантливый русский философ A.A. Козлов, убежденный лейбници-
анец, опровергавший столь распространенные в конце XIX века
материалистические и позитивистские представления о мире
и прежде всего о человеческой душе7.
4 Приведу любопытный случай, о котором рассказывает Н.О. Лосский в
воспоминаниях. «Вне России в эмиграции мне с большим трудом удавалось
находить издательство. YMCA-PRESS напечатала мою книгу „Свобода воли".
Вышеславцев советовал мне найти какое-либо эффектное заглавие, но я не
согласился, ценя простые заглавия классической философской литературы»
(Н.О. Лосский. Воспоминания. Жизнь и философский путь. München, 1968,
с. 256). Нежелание прибегать к внешним эффектам и стремление держаться
сути дела роднит Лосского с философской классикой.
5 Н.О. Лосский. История русской философии. М., 1994, с. 247-248.
6 Н.О. Лосский. Воспоминания, с. 76.
7 «Критикуя философию Юма, различных представителей позитивизма и
сторонников психологии „без души", он (АА. Козлов. — ПГ.) остроумно вскрывал
214 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
Среди целого ряда влияний, которые испытал на себе Лосский
и которых мы коснемся ниже, нельзя не отметить в первую
очередь B.C. Соловьева. По словам самого Лосского, в разработке
метафизической системы он оказался «наиболее близким к
Соловьеву из всех русских философов»8. Лосский попытался соединить
в своей метафизике столь различные учения, как иерархический
плюрализм Лейбница и Козлова, с одной стороны, и философия
всеединства Вл. Соловьева; при этом с помощью монадологии ему
удалось избежать характерной для Соловьева — особенно в
последний период его творчества — тенденции к пантеизму9.
Интуитивизм, или мистический эмпиризм
Несмотря на то, что метафизика была центральной темой в
творчестве И.О. Лосского, отправной точкой его философских
исследований — если не считать самой первой работы «Основные
учения психологии с точки зрения волюнтаризма» (1903)10 —
оказалась гносеологическая проблематика, которой был
посвящен его фундаментальный труд «Обоснование интуитивизма»1 \
принесший его автору широкую известность. Но при этом
решение гносеологических вопросов и в этой работе было тесно
связано со стремлением построить цельную и непротиворечивую
теорию бытия. По признанию самого философа, основной замысел
интуитивизма возник у него в возрасте между 18 и 25 годами, когда
он еще размышлял над проблемами мирового бытия, исходя из
несостоятельность всякого учения о том, что Я не есть первичное
онтологическое начало, что Я есть нечто производное, что Я есть представление,
возникающее в результате накопления бесчисленных ощущений и чувств, связанных
между собою ассоциациями» (там же, с. 84).
8 Там же, с. 97.
9 См. об этом мою статью «Человек и человечество в учении B.C. Соловьева»
(«Вопросы философии», 1994, № 6), в которой рассмотрены воззрения
Соловьева последнего периода.
10 Это была диссертация, представленная на соискание степени магистра.
Принцип волюнтаризма сочетается здесь с идеями интуитивизма, которые в
то время уже развивал философ.
1 ] Первоначально эта работа была напечатана в «Вопросах философии и
психологии» (1904-1905) под названием «Обоснование мистического
эмпиризма». Печатая ее затем в «Записках историко-филологического факультета» как
докторскую диссертацию, автор уточнил ее название «Обоснование
интуитивизма». Под этим названием она вышла в 1906 г. отдельной книгой.
Глава 6 Иерархический персонализм Н.О. Лосского
215
своих юношеских материалистических представлений. От
материализма Лосский освободился лишь тогда, когда ему стало ясно,
что материализм не может быть оправдан гносеологически.
Немалую роль в становлении молодого философа сыграли
лекции университетского профессора А.И. Введенского,
посвященные проблемам гносеологии и особенно «Критике чистого разума»
Канта. Именно благодаря изучению Канта, чью «Критику чистого
разума» он впоследствии перевел на русский язык, Лосский
проникся убеждением, что познанию доступно лишь то, что
имманентно сознанию12. «Однако, — пишет философ, — в силу скрытого все
того же материализма, побуждавшего меня рассматривать мир как
неорганическое множество резко обособленных друг от друга
элементов, весь имманентный состав сознания представлялся мне не
более, как совокупностью моих ощущений и чувств; таким
образом, я неизменно приходил к солипсизму и скептицизму...
Однажды (приблизительно в 1898 г.), в туманный день, когда все предметы
сливаются друг с другом в петербургской осенней мгле, я ехал...
на извозчике и был погружен в свои обычные размышления:
„я знаю только то, что имманентно моему сознанию, но моему
сознанию имманентны только мои душевные состояния,
следовательно, я знаю только свою душевную жизнь". Я посмотрел перед
собою на мглистую улицу, подумал, что нет резких граней между
вещами, и вдруг у меня блеснула мысль: „все имманентно всему". Я
сразу почувствовал, что загадка решена, что разработка этой идеи
даст ответ на все вопросы, волнующие меня...»13
Блеснувшее внезапно озарение было в течение нескольких лет
развернуто философом в теорию непосредственного созерцания
познающим субъектом самой реальности, от субъекта
независимой; Лосский назвал ее интуитивизмом, или идеал-реализмом.
Теория интуитивного знания Лосского близка не только к
имманентной философии И. Ремке и В. Шуппе14, но и к получившей
значительно большее влияние в XX веке феноменологической
школе, исходившей из непосредственного созерцания феноменов,
и философии жизни, особенно в ее бергсоновском варианте,
12 См. Н.О. Лосский. Воспоминания, с. 87.
13 Н.О. Лосский. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция.
Париж, 1938, с 156-157.
14 Однако при этом имманентная философия остается трансцендентальным
идеализмом в кантовском значении этого слова, тогда как Лосский развивает
реалистическое учение о познании, близкое к англо-американскому
неореализму начала XX века (см. там же, с. 5).
216 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
для которой интуиция также выступала как единственно
адекватное средство познания живого органического целого. Придя к
выводу, что предмет непосредственно дан нашему познанию в опыте,
Лосский называет свою теорию познания эмпиризмом. Однако
это — отнюдь не тот эмпиризм, который характерен для Ф. Бэкона,
Дж. Локка, Дж Беркли и особенно Д. Юма, отправлявшихся от
индивидуального сознания и индивидуального опыта. Лосский
отвергает этот индивидуалистический эмпиризм, следуя здесь русской
философско-религиозной традиции, которая в лице И. Киреевского,
А. Хомякова, В. Соловьева и С. Трубецкого видела в
индивидуализме главный порок европейской философии и европейского
мировосприятия вообще. «Мистический эмпиризм, — пишет Лосский, —
отличается от индивидуалистического тем, что считает опыт
относительно внешнего мира испытыванием, переживанием
наличности самого внешнего мира, а не одних только действий его на Я;
следовательно, он признает сферу опыта более широкою, чем это
принято думать, или, вернее, он последовательно признает за опыт
то, что прежде непоследовательно не считалось опытом. Поэтому
он может быть назван такжеуниверсалистическим эмпиризмом
и так глубоко отличается от индивидуалистического эмпиризма,
что должен быть обозначен особым термином — интуитивизм»15.
В отличие от Бэкона или Юма, Лосский считает, что весь мир,
включая природу, других людей и даже Бога, познается нами так
же непосредственно, как и мир субъективный, мир нашего Я.
Мистический эмпиризм утверждает возможность
непосредственного знания не только окружающего нас чувственного мира, не
только отвлеченно-рациональных форм — идеальных сущностей,
сверхчувственных идей, но и мира сверхчувственных существ,
или субстанций, которые суть конкретно-идеальное бытие.
Лосский, таким образом, допускает не только чувственную и
интеллектуальную интуицию, но и сверхчувственный опыт, интуицию
мистическую16.
Интуитивизм Лосского есть смело задуманное и
последовательно развернутое учение об открытости сознания. Как отмечает
В.В. Зеньковский, Лосский «отбрасывает, по существу, всякий
момент трансцендентности в сознании»17. Философ убежден, что
предмет познается так, как он есть: в сознании «присутствует не
15 Н.О. Лосский. Обоснование интуитивизма. СПб., 1908, с. 95.
16 ♦Противоречие между нечувственным и опытным знанием оказывается
предрассудком: сверхчувственное не есть сверхопытное» (там же, с. 102).
17 В.В. Зеньковский. Цит. соч., с. 217.
Глава 6 Иерархический персонализм Н.О. Лосского
217
копия, не символ, не явление познаваемой вещи, а сама эта вещь
в подлиннике»18.
Индивидуализм в гносеологии является предметом критики
Н. Лосского. Разобщенность между Я и миром, между субъектом
и объектом — вот основной тезис как индивидуалистического
эмпиризма от Бэкона до Юма, так и индивидуалистического
рационализма, предполагающего замкнутую субстанциальность Я и
достигшего своей вершины в философии Лейбница19. Это
обособление субъекта и объекта преодолевается Кантом, но преодолевается
не полностью: у предшественников Канта объект воздействует на
познающий субъект, а у Канта субъект создает объекты, но полного
устранения перегородок между субъектом и миром вещей не
происходит. Тем не менее именно теория знания Канта, по словам
Лосского, «непосредственно подготовляет переход к мистическому
эмпиризму»20. Шаг вперед от Канта в направлении интуитивизма
совершают Фихте, Шеллинг и Гегель, учения которых Лосский
характеризует как мистический рационализм, видя его недостаток
в переоценке возможностей умозрения и недооценке опытного
знания21. Тем не менее великое преимущество мистического
рационализма по сравнению с Кантом русский философ видит в том, что
он утверждает возможность непосредственного познания не
только человеческого Я, но и мира не-Я; и в самом деле реальность мира
не-Я, по Фихте, имманентна процессу знания, а не трансцендентна
ему. Знание для Фихте есть «единый живой мир; этот мир, как это
выяснилось для Фихте в конце его философской деятельности, есть
образ Божий, схема живого Бога. Индивидуальные эмпирические я
сами суть объекты этого мира, продукты его; в отношении к ним, как
индивидуумам, этот мир дан... как один и тот же общий их мир»22.
Уже у Фихте, а тем более у Шеллинга и Гегеля философское
знание рассматривается как знание об Абсолютном; оно поэтому есть
18 Н.О. Лосский. Обоснование интуитивизма, с. 67.
19 См. там же, с. 151.
20 Там же, с. 150.
21 «Гениальные преемники Канта, опьяненные сознанием непосредственной
связи человеческого духа со всем миром и даже Богом, торопятся снять покров
со всех тайн мировой жизни. Не зная того, что новый принцип только
указывает на отсутствие непреодолимых препятствий к познанию мира, но вовсе еще
не дает оснований считать человеческую мысль божественно-всемогущею,
они презирают не только старые теории знания, но и обычные методы
медлительного и кропотливого мышления, опирающиеся на частичные отрывочные
интуиции» (там же, с. 152-153).
22 Там же, с. 157.
218 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
не индивидуальное мышление, осуществляемое с помощью
абстрактных понятий, а мышление абсолютное, т.е. непосредственное
созерцание, или интеллектуальная интуиция. «У Гегеля склонность
односторонне пользоваться умозрением, как всеобщим методом,
выражена еще яснее, чем у Шеллинга. Поэтому из его философии
еще яснее видно, что истинная спекуляция должна быть
действительно умозрением, т. е. непосредственным проникновением
в сущность вещей, испытыванием самой внутренности их. В этом
смысле диалектика Гегеля есть по существу чисто эмпиристичес-
кий метод мышления; она только по внешности кажется
противоречащею требованиям эмпиризма»23.
Не забудем, однако, что условием такого рода
непосредственного знания Абсолютного является убеждение как Шеллинга, так
и особенно Гегеля в том, что познающий субъект есть в сущности
сам Абсолют, что сознание философа в момент спекуляции есть
самосознание самого абсолютного духа, а философское знание —
не что иное, как знание Бога о самом себе. Для такой точки зрения
в принципе не может быть ничего транссубъективного, ибо это —
точка зрения Абсолюта, а не конечного существа — человека. Что
же касается Лосского, то он настаивает как раз на том, что нам,
людям, непосредственно дан, открыт транссубъективный
предмет — как в чувственной, так и в интеллектуальной, и в
мистической интуиции. В немецком идеализме, начиная с Фихте, мы имеем
концепцию пантеистического толка (правда, поздний Фихте
стремился несколько от нее дистанцироваться), а именно учение о
развивающемся Боге. Н.О. Лосскому, всегда подчеркивавшему свою
приверженность теизму и отвергавшему пантеистические
моменты в построениях некоторых русских философов (например,
В. Соловьева, С. Булгакова, С. Франка), вероятно, следовало бы
обратить внимание и на эту пантеистическую в своей сущности
подоплеку Шеллингова и Гегелева «эмпиризма». Понятно, что
русскому философу импонировало в немецком идеализме убеждение
в предметном характере человеческого мышления24, а также
понимание мира как всеединства, как живой целостности, которое
было так близко и Соловьеву, и Франку, и Лосскому, и другим
русским религиозным философам. Может быть, именно по этой
23 Там же, с. 163-
24 «Когда я мыслю, — цитирует Лосский Гегеля, — я отрешаюсь от своих
субъективных особенностей, погружаюсь в предмет, предоставляю мысли
развиваться из самой себя, и я мыслю дурно, если прибавляю что-нибудь от самого себя»
(цит. по: там же, с. 168).
Глава 6 Иерархический персонализм Н.О. Лосского
219
причине в «Обосновании интуитивизма» Лосский больше
подчеркивает свою близость к «мистическому рационализму» Фихте,
Шеллинга и Гегеля, чем свое от них отличие, хотя об этом
последнем свидетельствует сама характеристика гносеологии Лосского
как «мистического эмпиризма».
Но как бы то ни было, а философу необходимо было прежде
всего дать ответ на кардинальный для его интуитивизма вопрос: как
возможно такого рода непосредственное знание мира
чувственного, идеального и даже запредельного, металогического,
божественного? Ответ на этот вопрос уже предполагал выход из сферы
гносеологии к ее онтологическим предпосылкам, т. е. к метафизике.
Собственно, эта метафизическая предпосылка интуитивизма
Лосского в самом общем виде сводится к уже упомянутому
утверждению, что «все имманентно всему», тезису, который возник у
философа в минуту озарения. Это значит, что мир есть некоторое
органическое целое, и индивид в нем не есть нечто обособленное,
замкнутое в себе, он внутренне связан со всем остальным миром,
со всеми существами в нем. Лосский подчеркивает, что
созерцание других сущностей такими, каковы они в подлиннике,
возможно благодаря единосущию, которое существует между познающим
индивидом и всеми элементами мира. В силу этого единосущия
между индивидом и познаваемым им миром устанавливается
гносеологическая координация25 — понятие, заимствованное Лос-
ским у имманентной философии, но играющее в его метафизике
другую роль, а потому получающее несколько иной смысл26.
«Вследствие единосущия и гносеологической координации, —
поясняет философ, — всякий элемент внешнего мира существует не
только в себе и для себя, но также и для другого, которое есть
индивидуум. Это первичное трансцендирование индивидуума за
пределы себя, связующее его со всем миром, есть не сознание, но что-
то более первичное и более глубоко онтологичное, чем сознание;
это — первичное существование всех элементов мира для меня;
25 Понятие «гносеологической координации» Лосский специально разъясняет
в статье «Интуитивизм и современный реализм», помещенной в «Сборнике
статей, посвященных П.Б. Струве» (Прага, 1925).
26 О своем отношении к имманентной философии Н.О. Лосский пишет:
«...Имманентная философия, с одной стороны, в высшей степени родственна
интуитивизму тем, что... основывается на учении об одинаковой
непосредственности знания о субъективном и транссубъективном мире, но, с другой стороны,
способы обоснования этой мысли и выводы в ней резко отличаются от учения
интуитивизма» («Обоснование интуитивизма», с. 183).
220 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
оно есть условие возможности развития сознания и может быть
названо предсознанием*21.
Предсознание, таким образом, есть бытийное основание
сознания. Здесь интуитивизм Лосского оказывается близким к теории
познания СЛ. Франка, который объясняет возможность для субъекта
непосредственно созерцать не только содержание собственного
сознания, но и трансцендентное ему бытие приоритетом
всеобъемлющего бытия над сознанием. Всеобъемлющее бытие, по Франку,
возвышается над противоположностью субъекта и объекта и объ-
емлет ее в себе, оно есть Абсолютное бытие, или Всеединство28.
С помощью учения о гносеологической координации и предсо-
знании Лосский хочет справиться с проблемой, которую нелегко
решить в рамках учения о полном имманентизме сознанию всего
мирового сущего. В самом деле, с этой точки зрения человек, во-
первых, должен обладать всей полнотой знания о сущем и,
во-вторых, не может заблуждаться, поскольку предмет — и чувственный,
и идеальный — полностью открыт ему. Но если гносеологическая
координация как отношение субъекта со всеми другими
сущностями в мире еще не есть познание, если это отношение имеет место
на предсознательном уровне, тогда понятно, что в сферу нашего
сознания и соответственно познания вступает только малая,
незначительная часть объекта, а именно та, на которую мы направляем
свое внимание**. Но все-таки остается пока неясным, как же при
единосущии субъекта с миром оказывается возможным
заблуждение, ошибка, ложное умозаключение, примеров которых в
истории познания мы видим предостаточно. Это — один из нелегких
вопросов для теории интуитивизма. К нему обращается Лосский
в более поздних своих работах, указывая на то, что наше сознание
подчас производит субъективный синтез из непосредственно
воспринимаемых данных, смешивая действительное восприятие
с воспоминаниями или с субъективными ожиданиями30.
27 Н.О. Лосский. Свобода воли // Его же. Избранное. М., 1991, с. 534.
28 См.: СЛ. Франк. Предмет знания. Об основах и пределах отвлеченного
знания. Пг, 1915, с. 153-159-
29 Благодаря акту внимания мы выделяем предмет из мировой множественности,
сопоставляем его с другими предметами, благодаря чему усматривается
определенность предмета, отличие его от остальных. Акты внимания, вьщеления,
сопоставления, определения, различения приводят к опознанию предмета (см.:
Н.О. Лосский. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция, с. 26 и ел.).
30 «...Бывают и такие случаи, — пишет Лосский, — когда состав восприятия не
вполне транссубъективен, не есть только выборка из подлинника, но содержит
Глава 6 Иерархический персонализм Н.О. Лосского
221
Субстанциальный деятель
как конкретно-идеальное бытие
Учение о предсознании и взаимовключенности всех элементов
мира вводит нас в область метафизики, которая, как мы отмечали
выше, с самого начала определяет характер гносеологии
Лосского31. Две идеи играют ключевую роль в метафизике русского
философа: идея мира как органического целого, которое имеет
приоритет по отношению ко всем составляющим его элементам, и идея
множественности субстанций-монад. Универсальное начало
всеединства, столь близкое всем русским философам религиозного
направления, начиная с Соловьева, сочетается у Лосского с
учением об индивидуальности как вечном субстанциальном начале, —
учением, восходящим к Лейбницу, Тейхмюллеру, Козлову и Люто-
славскому.
Исходя из принципа всеединства сущего, Н. Лосский прежде
всего подчеркивает, что мир есть органическая целостность12.
Первый уровень бытия составляют пространственно-временные или
временные процессы, т. е. эмпирические события — материальные
или психические. Эти события как раз предстают как внеположные
друг другу, они-то прежде всего и порождают впечатление
раздробленности чувственно воспринимаемого мира. Единство и
систематическую связь в это многообразие пространственно-временного
мира, который дан нашей чувственной интуиции, вносят
идеальные образования, составляющие более высокий уровень, характе-
в себе некоторое искажение его, производимое воспринимающим субъектом.
Таковы случаи иллюзии... Согласно интуитивизму и реализму, представляемые
элементы иллюзии суть не субъективно-психические переживания, а
транссубъективные данные прошлого опыта, оторванные от своего места и времени
и спаянные субъектом с данными настоящего времени и места. Таким образом,
иллюзия есть субъективное сочетание транссубъективных элементов опыта.
В ней субъективен синтез, произведенный субъектом, но синтезируемое
транссубъективно* (там же, с. 63).
31 Не случайно H.A. Бердяев назвал свою статью, посвященную интуитивист-
ской теории познания, «Об онтологической гносеологии» (см. «Вопросы
философии и психологии», кн. 93, с. 422 и ел.).
32 «Раздробленность существует в мире и становится предметом знания, но она
никогда не бывает совершенною раздробленностью. Всегда оказывается, что
какие-либо А, В, С обособлены друг от друга лишь в каком-либо определенном
отношении, а в некотором другом отношении у них есть единая основа, они
принадлежат к одному целому...» (Н.О. Лосский. Мир как органическое целое.
М, 1917,с. 15).
222 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
ризуемый Лосским как отвлеченно-идеальное бытие. Сюда
принадлежат математические формы, число, законы отношений
величин и т. д. Лосский критикует те философские учения, в которых
принцип системности и связанное с ним понятие отношения
сводятся к субъективной сфере. Такова кантианская традиция,
укореняющая всю сферу идеального бытия в трансцендентальном
субъекте, в трансцендентальном единстве апперцепции. Согласно
трансцендентальной философии, как она развита Кантом и его
последователями — Г. Когеном, П. Наторпом, Г. Риккертом, Э. Касси-
рером, Т. Липпсом и др., чьи воззрения были весьма популярны
в России в конце XIX — начале XX в., — именно
трансцендентальный субъект своей деятельностью вносит единство и связь в
многообразие чувственных впечатлений, превращая его тем самым в мир
природы. Лосский отвергает такой подход и возвращает природе
ее живое, деятельное, органическое бытие, доказывая, что
системность принадлежит самой природе, а не есть субъективное
привнесение человеческого рассудка. «Отказавшись от субъективности
отношений, т. е. от ссылки на организующую деятельность ума
познающего субъекта, приходится признать, что предмет сам в себе
содержит организованность, системность и, следовательно,
всевозможные отношения»33. Идеальное бытие, как подчеркивает
философ, стоит выше пространственно-временного течения
событий и имеет поэтому значение для множества явлений, которые
происходят в разное время и в разных местах пространства. В этом
состоит универсальный характер идеального бытия, в свое время
открытый еще Платоном; согласно Лосскому Платон был прав,
доказывая реальность идей, которые постижимы только с помощью
умозрения, или, как его именует Лосский, интеллектуальной
интуиции34. Русский философ, таким образом, возрождает
средневековое учение о реальном бытии универсалий, называя свою
концепцию идеал-реализмом, поскольку она строится на признании
реальности идеального бытия.
Однако отношения, хотя они и являются бытием идеальным,
представляют собой, по Лосскому, низкий уровень идеального, ибо
они несамостоятельны, лишены начала жизни и деятельности — то
есть, иначе говоря, они не могут быть названы субстанциями. Мир
33 Там же, с. 32.
34 Субъект, согласно Лосскому, +не конструирует познаваемый предмет, внося в
него категориальное оформление своим мышлением, а интуитивно созерцает
предмет...» (Н.О. Лосский. Чувственная, интеллектуальная и мистическая
интуиция, с. 97).
Глава 6 Иерархический персонализм Н.О. Лосского 223
как система может быть обоснован только с помощью конкретно-
идеального, а не отвлеченно-идеального его условия. Такое
конкретно-идеальное сущее должно стоять выше и эмпирического
бытия чувственных вещей и процессов, и отвлеченно-идеального
бытия универсалий. В отличие от первого, это сущее является
сверхпространственным и сверхвременным, а значит, идеальным;
в отличие от второго, оно является не общим, а индивидуальным;
оно есть начало, источник и причина, порождающая все реальные,
пространственные и временные процессы. Это сущее одно только
соответствует тому понятию, которое было центральным в докан-
товской метафизике, начиная с Аристотеля и кончая Лейбницем, —
понятию субстанции. Подчеркивая динамическую, деятельно-
творческую природу субстанции, Лосский называет ее
субстанциальным деятелем.
Такой идеально-реальный субстанциальный деятель дан нам
в виде нашего собственного Я. Именно через свое Я человек в
состоянии понять, что значит единство субстанции и ее
сверхвременный характер. «Примеры творческой деятельности
субстанции, создающей единства, пронизанные по всем направлениям
отношениями, человек может найти, не выходя из сферы своего я.
В самом деле, субъект (я) есть субстанция, и притом субстанция не
только познающая, но и живущая, т. е. творящая новое бытие»35.
В своем понимании человеческого Я, как и вообще субстанции,
Лосский опять-таки решительно порывает с кантианской и
позитивистской традициями и возвращается к учению Лейбница о Я
как монаде, неделимом сверхчувственном сущем; монада не
только является здесь субъектом познания, но в первую очередь есть
бытие, субстанция, носитель и представления, и стремления. В
отличие от Канта, который был убежден, что и сущность
собственного Я человек не в силах постигнуть, ибо он дан себе всегда
только как явление, но не как вещь в себе36, Лосский, подобно
Лейбницу, считает, что нам не только дана в непосредственном
созерцании жизнь нашего Я как субстанции, т. е. вещи в себе, но что
благодаря проникновению в свое Я мы вообще способны
понимать как бы изнутри, что значит быть субстанцией51.
Однако, в отличие от Лейбница, полагавшего, что
субстанции-монады замкнуты каждая в себе, или, как он говорил, «не имеют окон»,
35 Н.О. Лосский. Мир как органическое целое, с. 44.
36 См.: И. Кант. Соч. в шести томах. Т. 3- М., 1964, с. 205.
37 См. на эту тему замечательное рассуокдение Лейбница: Г.В. Лейбниц.
Элементы сокровенной философии о совокупности вещей. Казань, 1913, с. 109.
224 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
субстанциальные деятели у Лосского не только открыты друг другу,
но как носители отвлеченно-идеальных форм частично
единосущны. Они самостоятельны и обособлены друг от друга как источники
творческих сил, но «как носители тождественных форм они
сливаются в одно существо»38. Философ полагает, что, «сочетая лейбници-
анское учение о монадах как субстанциях с учением об идеальных
началах в духе платонизма, можно понять мир как систему деятелей,
с одной стороны, субстанциально самостоятельных, а с другой
стороны, сливающихся в одно существо, вследствие чего между ними
возможно такое тесное общение, как например интуиция, т. е.
непосредственное созерцание одними бытия и действования других»39.
На этом основании Лосский развивает учение о возможности
непосредственного созерцания чужой душевной жизни. Как
и Макс Шелер40, Н.О. Лосский отвергает тезис о том, что о чужой
душевной жизни мы можем только умозаключать по аналогии
с нашей собственной, считая, что знание о чужом Я мы получаем
непосредственно, т. е. с помощью интуиции. «...Мы можем
проникать в самый чуждый нам склад душевной жизни и усматривать его
внутреннюю органическую связность не хуже, чем связность
своей собственной душевной жизни, и теория непосредственного
восприятия объясняет, как это возможно»41.
Свободная воля —
сущность субстанциальных деятелей
Итак, именно субстанциальные деятели в системе Лосского суть та
последняя метафизическая реальность в мире, которая является
причиной, порождающей пространственные и временные процессы,
также как и носителем отвлеченно-идеальных форм. Главным
определением субстанциального деятеля является у Лосского воля; воля
есть основное, что отличает конкретно-идеальное начало от
отвлеченно-идеального, т. е. от мира идей, универсалий, не обладающих
самостоятельным бытием и предполагающих своего носителя.
Именно в качестве воли субстанциальный деятель есть источник
силы, есть динамическое начало в мироздании. И тут мы обнаруживаем
38 Н.О. Лосский. Свобода воли, с. 526.
39 Там же.
40 См.: М. Scheler. Wesen und Formen der Sympatie. Berlin, 1923-
41 Н.О. Лосский. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция, с. 88.
Глава 6 Иерархический персонализм Н.О. Лосского
225
интересную особенность метафизики русского мыслителя: если
рассматривать субстанцию-монаду с точки зрения ее основного
определения, а именно как волю, то она оказывается — совсем по
Лейбницу — замкнутым в себе бытием! Мы уже знаем, что как носители
рационального начала, отвлеченных идеальных форм, монады
единосущны, что и делает возможным для них непосредственное
знание; но как центры воли, а стало быть, центры деятельности,
динамики, силы, жизни — они совершенно самостоятельны, и ничто
внешнее не может оказать на них причинного воздействия.
«...Никакой предмет, находящийся вне субстанциального деятеля, не может
вторгнуться в сферу его индивидуальности и породить перемену
в нем: всякая перемена в субстанциальном деятеле, напр. в
человеческом я, есть его собственное действие, собственное проявление»*2.
И хотя многие из этих проявлений, как поясняет философ,
возникают на основе общения с внешним миром, однако события внешнего
мира служат только поводом для действий субстанции, а не
причиной этих действий43. Только сама субстанция, сам деятель и его
творческая сила является подлинной причиной, порождающей события,
которые входят в состав реального бытия.
В своем учении о субстанциальном деятеле Лосский, как видим,
продолжает традицию того течения в западноевропейской мысли,
которое можно назвать метафизикой воли и которое намечается
еще у Дунса Скота (XIII в.), получает продолжение в номинализме
XIV в., особенно у Уильяма Оккама, чье учение оказало сильное
влияние на Лютера, а затем, в эпоху Реформации, становится
господствующим и определяет собой дальнейшее развитие
европейской философии, особенно в Германии, где начало воли (сперва
в виде практического разума) получает приоритет в критицизме
Канта и Фихте, у Шеллинга, Шопенгауэра, Эд. Гартмана.
Почему же ничто внешнее не может причинно воздействовать
на субстанциального деятеля? Да потому, отвечает русский
философ, что его воля свободна, а это значит, что все ее проявления
могут определяться только ею самою. В этом смысле она есть causa
42 Н.О. Лосский. Свобода воли, с. 529-
43 Различение причины события и повода к нему — важный момент в системе
Н.О. Лосского, особенно в его доказательстве свободы воли. «Состояния моего
тела, как зависящие от моих хотений, так и возникшие самостоятельно, не
могут создавать в моем я хотений, они могут только послужить для моего я
поводом, по которому уже самое я проявит себя в таких или иных хотениях...
Поэтому свои поступки никто не смеет оправдывать законами своего тела, законами
физиологии и т. п.» (Н.О. Лосский. Свобода воли, с. 538-539).
226 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
sui — причина самой себя. Свобода воли, таким образом, есть как
бы тот непробиваемый щит, которым субстанциальный деятель
надежно защищен от всяких причинных воздействий извне — не
только от влияний чувственного мира, его явлений и процессов,
не только от воздействий других деятелей, но и от самого Господа
Бога, который никогда и не посягает на свободу воли человека.
Точнее будет — в соответствии с системой Лосского — здесь говорить
не только о человеке, но вообще о субстанциальном деятеле, ибо
таковыми являются не только разумные существа, но и
бесчисленное множество не наделенных сознанием существ,
расположенных в иерархическом порядке. Чем определяется этот порядок, как
понимает Лосский природу и происхождение субстанциальных
деятелей, мы теперь и рассмотрим. .
У Лейбница, как известно, иерархический порядок монад
определяется степенью ясности их представлений: низшие монады
воспринимают мир лишь смутно и неотчетливо, затем следуют те,
что обладают некоторыми проблесками отчетливости в своих
представлениях; на более высоком по отношению к ним уровне
стоит человеческая душа, воспринимающая мир при свете
сознания; но есть и души, превосходящие ее, — таковы ангелы. Монады
более высокого уровня в состоянии, по Лейбницу, вступать в союз
с низшими монадами, образуя органические соединения, начиная
от кристаллов, минералов, растений, животных и кончая
человеческой монадой.
Аналогичным образом рассуждает и Лосский, выстраивая
иерархическую лестницу субстанциальных деятелей, в которой
низшую ступень занимают электроны, протоны, «а может быть и
какие-либо еще более простые существа, которые будут открыты со
временем физикою»44. За ними идут деятели, составляющие
царство органической природы, еще выше — наделенные сознанием
и разумом, как человек; но и человек — далеко не высший среди
субстанциальных деятелей; его превосходят более совершенные
монады, менее зависимые от чувственного начала и наделенные
большей творческой силой; самую совершенную из них Лосский
называет Высшей субстанцией.
Тут необходимо вспомнить, что мир, по Лосскому, есть единое
органическое целое, каждый элемент которого связан с другим и не
может существовать в изоляции от остальных. Мир является
системным не только в целом, но и в каждой своей части. «...В мире есть
множество частных систем, частных целых, которые подчинены своим
Н.О. Лосский. Бог и мировое зло. М., 1994, с. 334.
Глава 6 Иерархический персонализм Н.О. Лосского 227
субстанциальным деятелям; каждое такое частное целое подчинено
до некоторой степени какому-либо более сложному целому;
переходя от этого более сложного целого к еще более широкому целому,
его охватывающему, и т. д. и т. д. мы дойдем, наконец, до системы
всего мира, имеющего в своей основе единую Высшую субстанцию»4*.
Выше мы уже отмечали, что метафизика Лосского строится на
двух — хотя и не взаимоисключающих, но весьма различных —
началах: на универсалистском учении о всеединстве, органической
целостности сущего, с одной стороны, и плюралистическом
тезисе о самостоятельном бытии множества субстанций. Сейчас мы
сможем увидеть, каким образом философ связывает воедино эти
два принципа. В самом характере деятельности монад Лосский
ищет способов осуществления единства мирового целого: каждая
монада способна объединять вокруг себя группы низших, и чем
выше ее уровень, тем устойчивее такое объединение и тем оно
шире; так, Высшая монада способна объединить целый мир. Как же
соотнесены между собой высшая и низшие субстанции?
«Образцом для понимания связи между Высшею субстанциею и
остальными субстанциями может служить отношение между обществом
и индивидуумом: общество не творит индивидуума, но некоторые
деятельности индивидуума имеют общественный характер, т. е.
подчинены требованиям общественного целого»46.
Отсюда следует, что Высшая субстанция — это не Бог47. И тут мы
подходим к очень важному пункту метафизики Лосского, к его
учению о творении, составляющему коренное отличие его системы
от пантеистически окрашенных концепций всеединства В.
Соловьева, С. Франка и др. Все субстанциальные деятели, согласно Лос-
скому, сотворены Богом; они сотворены как идеальные — то есть
сверхвременные и сверхпространственные — сущие; будучи
сверхвременными, они пребывают всегда, и, стало быть,
бессмертны. То, что зовется смертью, есть лишь распадение союза высшего
субстанциального деятеля — скажем, человеческой души, с
низшими субстанциями, составлявшими его тело, но это не есть
гибель ни самого этого высшего деятеля, ни объединенных им
низших деятелей. Все они равно не подвержены смерти.
45 Н.О. Лосский. Мир как органическое целое, с. 56.
46 Там же.
47 «Высшая субстанция не есть первооснова мира потому, что остальные
субстанции не порождаются ею, по своему бытию они наравне с нею
первоначальны и самостоятельны и только в своих проявлениях, в своей
деятельности отчасти подчиняются Высшей субстанции» (там же).
228 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
Системность мира и сверхсистемное начало
Тезис о творении играет принципиальную роль как в понимании
Лосским системности, органической целостности мира, так и в его
трактовке сущности субстанций. Строго различая бытие и
деятельность монад, Лосский получает возможность отменить
пантеистическое учение, развитое немецким идеализмом, особенно
ранним Фихте и Гегелем, где деятельность Я (у Фихте) или
субстанции-субъекта (у Гегеля) оказывается тождественной их бытию, а
потому и Верховная монада занимает место трансцендентного Бога.
Лосский доказывает необходимость допустить трансцендентного
Творца мира, если мы хотим мыслить мир как некоторое
систематическое целое. Если бы высшей точкой мира была Верховная (вну-
тримировая) субстанция, то мир, говорит философ, перестал бы
быть органическим целым. И в самом деле, поскольку все
субстанции мира одинаково изначальны и самостоятельны по своему
бытию, то их связь носила бы не внутренний, онтологический,
а только внешний, функциональный характер, а поэтому мир
представлял бы собой не целое, а лишь сумму самостоятельных
элементов, был бы не единством бытия, а единством организации. Значит,
если единство мира мыслить имманентным самому миру, то в этом
случае оно может быть только отвлеченным единством, т. е. не
единым существом, а единством закона. Именно такое отвлеченное
единство, по Лосскому, представляют собой абсолютная идея
Гегеля и трансцендентальный субъект Когена и Наторпа. Сущность
отвлеченного единства в том, что единое здесь выступает «лишь в
системе многого и во взаимозависимости с ним...»48
Одним словом, Лосский возражает против признания мира
самостоятельной, в себе замкнутой, самовоспроизводящейся
системой, все функции которой и все многообразие жизни в ней
объяснялось бы из взаимодействия целого со своими частями и, стало
быть, единое представало бы как единство многого. Он оставляет
тут почву немецкого идеализма и обращается к пониманию
отношения единого и многого, как оно было разработано в античной
философии, в частности в неоплатонизме — у Плотина и Прокла.
Оба греческих философа различали единое, причастное многому,
т. е. единство многого, и единое, не причастное многому, т. е.
единое в себе самом49. Единое, причастное многому, не может быть
48 Там же, с. 57.
49 См.: Прокл. Первоосновы теологии. Тбилиси, 1972, с. 40.
Глава 6 Иерархический персонализм Н.О. Лосского
229
высшим началом всего сущего — в этом убежден и Лосский. Чтобы
была возможна система, должно существовать сверхсистемное
начало, или, говоря в терминах неоплатонизма, единое, не
причастное многому. Именно это сверхмировое, сверхсистемное,
трансцендентное начало, каким мыслит Бога христианская религия,
есть основание мира; способ его отношения к миру есть творение,
отличное от всякого причинного отношения тем, что между
причиной и следствием существует частичное тождество, тогда как
между абсолютным основанием мира и самим миром никакого
тождества нет. «В отличие от причинности это творение
совершается не во времени, и следствием его является бытие
сверхвременных конкретно-идеальных начал, субстанций, образующих
систему мира»50.
Коль скоро сверхсущее мыслится как единое вне всякой связи
с многими, а значит, вне всяких отношений к чему бы то ни было
иному, то о нем невозможно и никакое высказывание, ибо всякое
высказывание предполагает отношение двух моментов —
субъекта и предиката51. Поскольку Абсолют стоит выше сотворенной
системы, он оказывается выше также и логических законов, которые
суть законы системного бытия. Однако Лосский в этом пункте
осторожнее, чем, скажем, B.C. Соловьев: он поясняет, что законы
тождества, противоречия, исключенного третьего здесь не
нарушаются, а просто не находят себе применения. Соловьев же в «Началах
цельного знания» приходит к выводу, что закон тождества
нарушается по отношению к Абсолюту: здесь вступает в силу другой,
высший закон — тождества противоположностей.
Необходимость принять сверхсистемное начало как условие
возможности системы мира отнюдь не отменяет допущения о
существовании верховной внутримировой субстанции — чего-то
вроде мировой души. Напротив, согласно Лосскому, оба эти начала
требуют друг друга, ибо если мы не находим внутри мира
объединяющего все существующее высшего центра, то склонны будем
приписать эту деятельность объединения самому Абсолютному
и тем самым придем к пантеизму. В действительности Абсолют есть
только творец бытия субстанциальных деятелей, а функция
объединения их принадлежит Высшему внутримировому деятелю.
50 Н.О. Лосский. Мир как органическое целое, с. 62.
51 «Говоря об Абсолютном самом по себе, его можно характеризовать только
отрицательными определениями, т. е. прийти лишь к тому, что называется...
отрицательным богословием: Абсолютное не есть воля, не есть разум, не есть
многое, не есть простое и т. д. и т. д.» (там же, с. 59).
230 Раздел HI Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
Как же мыслит Лосский акт творения субстанций? «Первичный
акт творения мира Богом, предшествующий шести дням развития
мира и выраженный в Библии словами „в начале сотворил Бог
небо и землю", состоит в том, что Бог создал субстанциальных
деятелей, наделив их формальными свойствами сверхвременности,
сверхпространственности и т. п., необходимыми для
осмысленной жизнедеятельности, но не придал им никакого
эмпирического характера. Выработать себе характер, т. е. тип своей жизни, есть
задача свободного творчества каждого существа»52.
Материальный мир
как продукт грехопадения субстанций
Тут мы подходим к оригинальной и вызывавшей немало сомнений
и возражений концепции русского философа. Он утверждает, что
Бог сотворил все существа (т. е. все субстанции) равно духовными
(идеальными — внепространственными и вневременными), равно
бессмертными и равно наделенными свободой воли, динамической
силой, позволяющей им созидать эмпирический мир событий и
процессов, а также способностью творить самих себя. Сказать, что Бог
не придал деятелям никакого эмпирического характера, значит
сказать, что Он не творил ни неорганических элементов — воды,
воздуха, минералов и т. д., ни растений и животных с их многообразными
родами и видами, что он не творил ни солнца, ни земли, ни других
планет. Он создал только духовные субстанции — деятелей, которые
вышли из рук Творца неопределенными, но наделенными
сверхкачественной творческой силой, благодаря которой они сами
вырабатывают свои качества в процессе развития мира, «в процессе
свободной творческой эволюции его, конечно, при благодатном
содействии Господа Бога, поскольку тварь стремится к добру»53.
Каждому деятелю дарована свобода воли и предоставлена возможность
выработать в себе эмпирический характер, т. е. определенные
качества — вести жизнь либо минерала, либо дуба, либо орла или
лягушки, либо человека, либо же избрать высший путь и стать
совершенной личностью, членом Царства Божия. Все зависит при этом от воли
самого деятеля, от выбора им самого себя, а точнее, тех ценностей,
которые становятся целью его стремлений и его деятельности.
52 Н.О. Лосский. Бог и мировое зло, с. 332.
53 Там же.
Глава 6 Иерархический персонализм И.О. Лосского
231
Здесь метафизика Лосского оказывается тесно связанной с его
этикой. Ибо выбор, который в конечном счете осуществляют
наделенные свободной волей деятели, — это выбор между добром
и злом, т. е. между любовью к Богу-Творцу и другим сотворенным
существам и эгоистической любовью только к самому себе. «Те
существа, которые... любят Бога больше себя и, далее, любя все
существа, как себя, каждому из них хотят содействовать в достижении
абсолютной полноты жизни, становятся членами Царства Божия
и в благодатном единении с Богом, а также в единодушном
сотрудничестве со всеми членами Царства Божия действительно
обладают предельною полнотою бытия. Несовершенными становятся
такие деятели, которые избрали иной путь поведения; которые любят
себя больше, чем Бога, и больше всех остальных существ в мире»54.
Наделенные не только свободной волей, началом духа, но и
динамической силой, началом движения и жизни, субстанциальные
деятели являются творцами как своего эмпирического характера,
так и материальных процессов, которые трактуются философом
не с точки зрения механицизма, а с точки зрения динамизма.
«Материя есть не субстанция, а процесс, именно действование
отталкивания и притяжения, создающих непроницаемые объемы и
движения их в пространстве»55. Динамическое понимание материи
характерно для Лейбница, Бошковича, сочетавшего в своей
натурфилософии элементы Ньютоновой и Лейбницевой физики, Канта,
Шеллинга, Гегеля, Эдуарда Гартмана, Владимира Соловьева56.
Согласно этой теории, непроницаемость, составляющая важнейшую
характеристику материи, есть результат действия, а именно
отталкивания, которое исходит из центров сил, — у Лейбница это
монады. Однако учение динамического атомизма, которое разделяет
и Лосский, исходит из того, что одни только силы отталкивания не
могут объяснить природные процессы: в случае действия только
этих сил центры обнаружения сил удалились бы друг от друга на
бесконечное расстояние. Чтобы этого не произошло, необходимо
допустить также действие сил притяжения. Так, согласно Бошкови-
чу, каждая физическая монада является источником обеих
противоположно направленных сил — отталкивания и притяжения.
54 Там же, с. 333-334.
55 Н.О. Лосский. Свобода воли, с. 527.
56 «Атомы, — писал B.C. Соловьев, — суть не составные частицы вещества, а
производящие вещество силы... они суть невещественные динамические единицы,
в себе существующие и из себя действующие живые силы или монады» (B.C.
Соловьев. Критика отвлеченных начал // Собр. соч. Т. II, с. 219).
232 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
Таким образом, материальность мира оказывается, по Лосскому,
не результатом божественного творения, а продуктом творчества
самих сотворенных деятелей: она возникает в силу того, что последние
избирают в качестве высшей ценности свою самость, делают самих
себя, в отъединенности от Бога и других деятелей, высшей своей
целью. Действие отталкивания есть продукт эгоизма, этого
первородного греха, порождающего психоматериальное царство вражды
и разъединения, для которого характерна взаимная
непроницаемость составляющих его деятелей. Однако даже и здесь
непроницаемость — не абсолютна: наличие сил притяжения свидетельствует
о том, что «даже в материальной природе можно говорить о взаимо-
проникнутости всего всем, что однако не приводит к
безразличному смешению всего со всем, так как для всякого действования можно
проследить его источник, определенный центр обнаружения сил
и определенного субстанциального деятеля»57.
«Никто и ничто не пропадает в мире».
Теодицея Лосского
Существует, однако, более высокая область мира, которая созидается
теми субстанциальными деятелями, что избрали не эгоизм, а любовь
к Богу и всем сотворенным деятелям. Это — царство гармонии,
или Царство Божие, где существует иное соотношение между частью
и целым, чем в душевно-материальном царстве вражды.
«..Вследствие полного взаимопроникновения всего всем здесь исчезает
различие между частью и целым: всякая часть здесь есть целое»58.
Обратим внимание: именно в Царстве Божием полностью осуществлен
принцип, положенный философом в основу своего учения: «всё
имманентно всему». Этот гармонический мир есть совершенный
организм, ибо в организме часги существуют ради целого, а целое — ради
сохранения частей. Поскольку здесь деятели не проявляются в виде
сил отталкивания и, стало быть, не создают непроницаемого бытия,
то их тела — а Лосский не признает бестелесных сотворенных
субстанций — отличаются от материальных тел нашего мира, и
философ называет их духоносными, или преображенными59, имея в виду
христианское учение о преображении плоти. «В таком царстве бы-
57 Н.О. Лосский. Типы мировоззрений, с. 36.
58 Н.О. Лосский. Мир как органическое целое, с. 72.
59 См. Н.О. Лосский. Свобода воли, с. 528.
Глава 6 Иерархический персонализм Н.О. Лосского
233
тия, — пишет Лосский, — нет борьбы за существование, нет деления
на мое и твое; все блага, которыми живут члены этого царства,
абсолютны, неделимы, удовлетворяют одинаково всех и каждого, вроде
того как некоторое подобие этого типа блага мы находим и в нашем
царстве бытия, когда много лиц вместе наслаждаются восприятием
прекрасного музыкального произведения»60.
Реализм Лосского сказывается и здесь: царство гармонии и
любви — это не просто «идеал разума», как сказал бы Кант, не та идея, к
которой стремится человечество в своем бесконечном развитии, но
которая никогда не будет достигнута в действительности, как в этом
был убежден Фихте, — нет, Царство Божие существует реально, не
менее, а более реально, чем наш мир разобщенности и вражды. Такое
учение исключает утопизм, стремящийся к осуществлению Царства
Божия на земле: те, кто в силу преодоления в себе эгоизма и
самоутверждения достигают этого высшего типа бытия, получают духонос-
ное тело и вступают в преображенный мир, где нет больше
материальной косности и взаимоотталкивания. Это и есть тот иной,
небесный мир, о котором возвещает Евангелие. Путь к этому
высшему состоянию для тех деятелей, что населяют наш психо-материаль-
ный мир, более того, своей греховностью, в сущности, и порождают
его несовершенство, — этот путь труден и долог.
Однако Лосский убежден, что этот путь будет пройден всеми без
исключения субстанциальными деятелями, — иначе говоря, каждая
сотворенная бессмертная душа спасется. «Строем каждого существа
и всего мира обеспечено... то, что рано или поздно произведенное
им зло будет наказано, и то, что после всевозможных испытаний
всякое существо рано или поздно вступит свободно на путь добра»61.
Лосский, как и многие другие русские философы, однозначно
решает «тягостный», как он его называет, вопрос о вечных адских
муках грешников. «Если немногие удостоятся Царства Божия, а
бесчисленное множество остальных существ обречено на вечные
невыносимые страдания в геенне огненной, то мир не заслуживает
творения. Мало того, если хотя бы одно существо будет до
скончания века подвергаться мучениям... то нельзя было бы понять, каким
образом всеведущий и всеблагий Бог мог сотворить его»62. Тезис об
избранности немногих и отверженности остальных, особенно
акцентированный у протестантов, прежде всего у Кальвина и его
последователей, философ не принимает. Кстати, и на русской почве
60 Там же, с. 528-529.
61 Н.О. Лосский. Условия абсолютного добра. М., 1991, с. 144.
62 Н.О. Лосский. Бог и мировое зло, с. 378.
234 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
можно встретить идею избранности душ, которым уготовано
бессмертие. Вот любопытный пример, приведенный Георгием
Адамовичем в его воспоминаниях о Зинаиде Гиппиус. «Я верю в
бессмертие души, я не могла бы жить без этой веры, — говорит поэтесса. —
Но я не верю, что все души бессмертны. Или что все люди
воскреснут. Вот Икс, например, — вы знаете его. Ну как это представить
себе, что он вдруг воскреснет. Чему в нем воскресать? На него дунуть,
никакого следа не останется, а туда же, воскреснуть собирается»63.
Конечно, это сказано не без доли юмора, однако такая точка
зрения защищалась и вполне серьезно.
Что же касается нашего философа, то он убежден, что
воскреснет не только злополучный Икс, но и все те души, которые столь
далеко зашли (точнее, столь низко пали) в своем эгоизме, что
оказались обреченными на жизнь металлов, минералов, атомов и
даже электронов. Это может показаться почти шуткой, но на самом
деле с помощью такого — прямо скажем, курьезного — допущения
философ пытается решить весьма нелегкую философско-бого-
словскую проблему, и даже ряд проблем. Дая их решения он и
создает, а точнее, возрождает достаточно распространенное учение
о переселении душ, близкое к тому, какое было у Лейбница.
«Согласно персонализму, не только человек, но и каждый электрон,
каждая молекула, всякое растение и животное, даже каждый листок на
дереве есть существо, которому открыта возможность,
поднимаясь на более высокие ступени жизни, стать действительною
личностью и вступить, наконец, в Царство Божие... В этом смысле
можно сказать, что никто и ничто не пропадает в мире, все бессмертно
и все существа подлежат воскресению»64.
Только в том случае, если «никто и ничто не пропадает в мире»,
можно с полной уверенностью сказать, что мир имеет смысл,
и каждое существо в этом мире выполняет в нем свою — никем
другим не могущую быть исполненной — задачу. Острая потребность
в осмысленности всякого существования и всякой жизни, которая
63 Г. Адамович. Разговоры с З.Н. Гиппиус //Альманах «Встреча», Париж, 1945, № 2.
64 Н.О. Лосский. Бог и мировое зло, с. 379. Учение Лосского о переселении душ, на
мой взгляд, питается тем же чувством, которое так прекрасно передано Андреем
Платоновым в романе «Котлован». «Умерший, палый лист лежал рядом с головою
Вощева, его принес ветер с дальнего дерева, и теперь этому листу предстояло
смирение в земле. Вощев подобрал отсохший лист и спрятал его в тайное отделение
мешка, где он сберегал всякие предметы несчастья и безвестности. „Ты не имел
смысла жизни, — со скупостью сочувствия полагал Вощев, — лежи здесь, я узнаю,
за что ты жил и погиб. Раз ты никому не нужен и валяешься среди всего мира, то я
тебя буду хранить и помнить"» (Андрей Платонов. Котлован. М., 1987, с. 7).
Глава 6 Иерархический персонализм И.О. Лосского
235
в конце концов станет личностью и спасется вместе с остальными
в Царстве Божием, — вот это, видимо, и есть глубинный мотив,
вызвавший у Лосского стремление принять учение о переселении
душ, которое не согласуется с христианской антропологией65.
Учение о переселении душ
Еще в VI веке осуждению церкви было подвергнуто учение Ориге-
на о предсуществовании и перевоплощении душ, восходящее
к платонизму и распространенное в гностицизме. Учение о
переселении душ основано на вере в то, что после смерти тела душа
переходит в другое живое тело — в другого человека, животное или
растение. Душа, таким образом, обречена как бы странствовать от
одной телесной смерти к другой. Характерной особенностью
такого верования является как раз отсутствие в нем понятия
личности, единства самосознания, основанного на памяти о прошлом:
ведь в каждом новом воплощении душа не помнит своей прежней
жизни. Поэтому не удивительно, что христианство с его
пониманием человека как личности не принимает учения о
перевоплощении. «С победой и распространением христианства, — пишет
в этой связи СЛ. Франк, — с укреплением веры в подлинно личное
бессмертие и в воскресение умерших из сознания западного мира
исчезает вера в переселение душ, которая и в античном мире была
всегда лишь случайным и исключительным явлением. Вера эта
в особенности несовместима с укрепившимся постепенно под
влиянием христианства сознанием абсолютной... ценности
каждой индивидуальности в ее своеобразии»66.
В XIX и XX вв. учение о переселении душ возрождается в
оккультизме и теософии, в частности у Р. Штейнера и его последователей,
которые, по словам Бердяева, возвращаются к «космическому
полидемонизму, от которого христианство избавило человека»67. Именно
65 Это обстоятельство немало смущает Н.О. Лосского. В работе «Бог и мировое
зло», опубликованной в 1941 году, он отмечает: «Мое понимание
возникновения всех зол содержит в себе учение о предсуществовании каждой души, т. е. о
творении Богом каждого деятеля в самом начале мира, и о перевоплощении.
Эти учения не пользуются симпатиями православных и католических
богословов, а также духовенства» («Бог и мировое зло», с. 386).
66 СЛ. Франк. Учение о переселении душ // Переселение душ. Проблема
бессмертия в оккультизме и христианстве. Париж, 1935, с. 29-
67 НА Бердяев. Учение о перевоплощении и проблема человека, с. 81.
236 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
широкое распространение оккультных и теософских взглядов
побудило русских философов — СЛ. Франка, СН. Булгакова, НА
Бердяева, В.В. Зеньковского, Б.П. Вышеславцева и Г.В. Флоровского — дать
анализ и критику учения о перевоплощении и переселении душ; так
вышла в свет в 1935 году цитированная нами книга. И хотя имя Лос-
ского в книге не упоминается, но философ хорошо понимал, что эта
критика в известной мере затрагивает и его учение68. Тем более что
несколько лет спустя один из авторов книги, В.В. Зеньковский, в
своей «Истории русской философии», касаясь учения Лосского о том,
что деятель, который начал с жизни электрона, многократно
перевоплощаясь, может в конце концов развиться в человека,
саркастически заметил: «Должен сознаться, что совершенно не понимаю, зачем
Лосскому понадобилась вся эта фантастика»69.
Эти обстоятельства побудили Лосского в последний период
уточнить свое понимание перевоплощения, отделив его от оригенов-
ского. Он опирается при этом на Лейбница, который тоже
стремился устранить противоречие своей монадологии догматам церкви.
Обсуждая в «Теодицее» вопрос о предсуществовании душ, Лейбниц
полагает, что души, которым предстояло в будущем стать
человеческими, «существовали в семени и в предках вплоть до Адама и, значит,
существовали с сотворения мира, всегда в виде организованных
тел»70. Однако эти души, по мнению Лейбница, не были разумными,
а лишь чувствующими, наделенными восприятиями и
ощущениями. Что же касается разумной души, т. е. души человека, то она,
по словам Лейбница, получает разум только после рождения, и вряд
ли это происходит «при помощи какого-либо естественного
средства, возвышающего чувствующую душу до степени разумной
души»71, — скорее «сам Бог сообщает разум этой душе посредством
частного действия или, если угодно, посредством некоторого рода
транскреации»12.
Как видим, Лейбниц подчеркивает здесь два момента:
во-первых, души, существовавшие с сотворения мира, были только
потенциальными личностями, они не обладали тем, что отличает
68 «Моя персоналистическая метафизика, объясняющая все виды зла ссылкою
на простое старомодное понятие эгоизма и содержащая в себе учение о
перевоплощении, вызывает к себе некоторое отталкивание у русских философов в
Париже» (Н.О. Лосский. Воспоминания, с. 281 ).
69 В.В. Зеньковский. Цит. соч., с. 211 -212.
70 Г.В. Лейбниц. Сочинения в четырех томах. Т. IV, М., 1989, с. 184.
71 Там же.
72 Там же.
Глава 6 Иерархический персонализм Н.О. Лосского 237
человека от животного, а именно разумом и свободой воли; и, во-
вторых, чтобы превратить их в актуальные личности, т. е. в
разумные существа, понадобился еще один — дополнительный акт
творения, который имеет место при рождении или при зачатии73
(тут Лейбниц возвращается к действительно христианской точке
зрения, как она представлена, в частности, Фомой Аквинским).
Оба эти момента выделяет и Н.О. Лосский, присоединяясь
к Лейбницу. «В той форме, в которой учение о предсуществовании
души и перевоплощении развито Лейбницем, именно в связи
с учением о транскреации (о дополнительном творческом акте
Божием, поднимающем душу от животности к человечности), оно
никогда не подвергалось осуждению Церкви»74.
Однако мне думается, что такого рода уточнения концепции
переселения душ должны породить другие трудности в обосновании этой
концепции. Прежде всего возникает вопрос: если созданные
первоначальным актом божественного творения деятели были еще
лишены разумной души и обладали только ощущением, то как это
совместить с тезисом о том, что они изначально были наделены свободной
волей? Ведь свободная воля присуща именно разумным существам,
потому человек как наделенный разумом и отличается от остальных
живых существ свободной волей. А в то же время утверждение о том,
что все деятели изначально были наделены свободной волей, почему
часть из них свободно выбрала зло, т. е. эгоизм и самоутверждение,
что и привело к созиданию этими павшими деятелями
материального мира вражды и взаимонепроницаемости, — это утверждение
составляет краеугольный камень метафизики русского философа.
И второй вопрос: если разумная душа сообщается субстанциальному
деятелю путем транскреации — т. е. еще одного акта творения —
Богом, то вправе ли мы оставить в полной силе тезис Н.О. Лосского
о том, что превращение деятеля из потенциальной личности в
актуальную есть результат его творчества? Вправе ли мы при этом считать,
что деятели наделены способностью самотворчества, которая в
конечном счете и приведет к преображению мира и самих деятелей,
к приобщению их — всех без исключения — к Царствию Божию? Не
следует ли — если принимается допущение транскреации, —
несколько ограничить эти титанические способности тварных существ?75
73 См. там же, с. 388.
74 Н.О. Лосский. Бог и мировое зло, с. 387.
75 В поздних сочинениях Лосский не случайно подчеркивает, что «своими
собственными силами мы можем вступить в общение с Царством Божиим лишь
в очень слабой степени» (там же, с. 384).
238 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
Как видим, Н.О. Лосский, отвечая на критику его учения о
переселении душ, пытался внести в него некоторые коррективы. Но
совсем отказаться от этого учения он не мог. Ибо помимо
религиозного убеждения, что «никто и ничто не пропадает в мире», в пользу
этого учения был и чисто философский аргумент. Защищая
монадологию, философ был вынужден объяснять причины
возникновения материальности либо с помощью феноменализма (к которому
нередко прибегал Лейбниц, указывая на то, что материя есть только
феномен, порождаемый субъективным фактором — восприятием
монад, правда, феномен «хорошо обоснованный»), либо с помощью
реализма, требовавшего допустить, что каждая частица
материального мира есть порождение активности соответствующего
субстанциального деятеля, но не есть продукт чьего-либо субъективного
восприятия. Для Лосского был приемлем только второй путь,
потому что феноменалистское обоснование материальности — и
телесности вообще — в корне подрывало его теорию познания, а
именно учение о непосредственном созерцании предмета в подлиннике.
Лосский прекрасно знал, что кантовское учение о том, что мы
познаем лишь мир феноменов, явлений, а вещь в себе нам вообще
недоступна, было углублением и развитием именно
феноменалистского аргумента Лейбница (у последнего мы встречаем оба —
и феноменалистский, и реалистический способы обоснования)76.
А ведь интуитивизм направлен в первую очередь против кантовской
и неокантианской теории познания!
Но была и еще одна философская проблема, которую Лосский
пытался решить с помощью тезиса о переселении душ,
включавшего идею их творческой эволюции от электрона до человека. Как
это ни покажется парадоксально, но эта проблема связана именно
с христианской антропологией, не допускающей существования
бестелесной души. Проблему эту хорошо сформулировал о. Г.
Флоровский. В христианстве, пишет Флоровский, «истина о человеке
словно двоится... О человеке сразу приходится свидетельствовать
двоякое... Изображать единство человека в самой эмпирической
сложности и двойстве (и не только „из души и тела", но еще и в
.душе и теле"), во-первых. И показывать самобытность души, как
начала творческого и разумного, самодеятельного и
самосознательного, во-вторых. И обе эти истины не так легко смыкаются или
совмещаются в едином органическом синтезе...»77
76 Об этом подробно см. мою книгу «Эволюция понятия науки». М., 1987,
с. 360-366.
77 Г. Флоровский. О воскресении мертвых, с. 143-
Глава 6 Иерархический персонализм Н.О. Лосского
239
С помощью монадологии Н. Лосский и пытался разрешить эту
нелегкую проблему: совместить идею бессмертии души как
самобытного начала, наделенного разумом и способностью к
творчеству, и тезис о том, что душа никогда не может существовать в
полном отделении от тела, не может быть развоплощена. А поскольку
плоть разумной души мыслится философом как союз ее с другими,
низшими монадами, то необходимо допустить иерархическое
царство субстанциальных деятелей, от низшего, атома, до
высшего — Верховного деятеля мира.
Не забудем, что Н.О. Лосский — прежде всего философ, хотя
нередко и касавшийся богословских вопросов. И его построения —
это результат решения, подчас смелого и оригинального, целого
ряда философских проблем. Стремление к созданию единой и
непротиворечивой метафизической системы вынуждало мыслителя
увязывать между собой решения многих проблем — связанных как
с теорией познания, так и с онтологией, психологией, логикой,
теорией ценности и т. д. И нередко элементы этой системы кажутся
весьма разнородными, трудно сочетаемыми78.
Так, в основу теории познания Лосского положен принцип
созерцания, непосредственной данности предмета сознанию.
Основу же его онтологии и космологии составляет начало воли-.
именно воля составляет ядро субстанции, которая и названа
субстанциальным деятелем, чтобы подчеркнуть не просто ее
устойчивость и идеальность, но ее творческий, самодеятельный
характер. Субстанции у Лосского продолжают творческое дело Бога,
совершенствуя себя в процессе эволюции.
Тут мы видим сочетание опять-таки разнородных моментов:
тезис о вечности, бессмертии единожды сотворенных субстанций
дополняется учением о развитии их и соответственно —
эволюции мира, сущность которого они составляют.
Далее, метафизика Лосского соединяет в себе учение о
всеединстве, которое он воспринимает от Соловьева и которое восходит
к немецкому идеализму, а в конечном счете к Спинозе, — и
принципиальный плюрализм, где, как и у Лейбница, каждая монада
обладает самостоятельным бытием и единственным, неповторимым
характером. Учение о реальности общего (в духе средневекового
реализма) сочетается у философа с номиналистическим
принципом реальности индивидуальных субстанций.
78 На это указывает, в частности, В.В. Зеньковский: *...В системе Лосского мы
находим слишком разнородные идеи, хотя и связанные очень искусно, но имею-
240 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
Наконец, мы находим у Лосского весьма оригинальное
объединение интуитивизма с защитой прав рационального мышления.
Присоединяясь к А. Бергсону, доказывавшему, что интуиция
созерцает вещь в ее подлинной сущности и схватывает свой предмет
целиком, постигая его на основе целого и исходя из целого, в то
время как рассудок оперирует с помощью знаков, символов, а потому
всегда пытается сложить целое из частей, Лосский в то же время
критикует Бергсона за то, что на этом основании он отбрасывает
рассудок как технически-практическую способность и утверждает
иррациональный характер интуиции. В действительности
мышление, как показывает Лосский, «есть не что иное, как вид интуиции:
это есть способность созерцания идей (в платоновском смысле),
это есть видение безвременных начал, лежащих в основе
временного мира»79. Лосскому удалось усвоить все то положительное, что
несла с собой философия жизни, прежде всего в лице Бергсона,
и избежать тех ее недостатков, которые связаны с отрицанием
идеальной сверхвременной сферы мира: в результате мир предстал
у французского философа как пантеистически-имманентный
поток непрерывных изменений. В этом плане небольшая книжка
Лосского о Бергсоне представляется мне одной из его лучших работ.
Завершая этот — далеко не полный — перечень различных
моментов, из органического объединения которых выросла
метафизика русского мыслителя, нельзя не упомянуть и последний: будучи
одним из наиболее ясных и логически последовательных русских
философов, не оставляющих ни одного вопроса без всестороннего
рассмотрения и взвешенного его решения, что так характерно
именно для рационалистической традиции, Лосский в то же время
является смелым защитником мистической интуиции,
доказывающим возможность непосредственного созерцания не только
сверхчувственных идей (отвлеченно-идеального бытия) и вневременных
и внепространственных духовных субстанций
(конкретно-идеального бытия), но и запредельного миру, трансцендентного Бога.
Этот гносеологический оптимизм философа гармонически
сочетается с его онтологическим оптимизмом, если обозначить
этим термином убеждение его в том, что «после всевозможных
испытаний всякое существо рано или поздно вступит свободно на
путь добра». Оптимизм Н.О. Лосского, видимо, глубоко укоренен
в его христианской вере — ведь только вера дает силы преодолеть
щие разные корни и остающиеся разнородными. Органический синтез... едва
ли удался Лосскому...» (В.В. Зеньковский. Цит. соч., с. 207).
79 Н.О. Лосский. Интуитивная философия Бергсона. М., 1914, с. 111.
Глава 6 Иерархический персонализм Н.О. Лосского
241
трагизм человеческого существования, столь остро
переживаемый особенно в эпохи мировых катаклизмов, какими так богато
наше столетие. А ведь Лосский, как и многие его современники,
оказался в эпицентре такого катаклизма: революция, гражданская
война, затем жизнь в изгнании, вдали от родины, со всеми ее
неурядицами и неустроенностью. Надо думать, не только вера,
но и философия помогала Лосскому преодолеть тяготы
свалившихся на его поколение бедствий. Учение Лосского — это пример
того содружества веры и разума, которое далеко не характерно для
новейшей философии, но преобладает как в святоотеческой
традиции — у Григория Нисского, Василия Великого, Дионисия Псев-
доареопагита, Августина, так и в Средние века — у Фомы Аквинско-
го, Альберта Великого, Суареса, а в Новое время — Лейбница.
Метафизика Лосского, при всей сложности ее построения и
множестве разнородных элементов, увязываемых ею в единое целое,
по своей исходной интуиции достаточно проста. В ее центре —
понятие личности, наделенной свободной волей, жизненной силой
и творческой потенцией. «Личность, — пишет философ, — есть
центральный онтологический элемент мира»80. С помощью учения
о субстанциальных деятелях философ хочет укоренить личность
в самом фундаменте бытия, дать онтологическое обоснование как ее
бессмертия, так и ее свободы. Ключевые понятия — личность,
свобода, творчество — объединяют Лосского с другими философами
Серебряного века, но содержательное наполнение этих понятий, связь
их между собой и характер их обоснования отличают Лосского даже
от самых близких ему мыслителей, таких как СЛ. Франк. Лосскому
удалось избежать двух крайностей — как пантеистического
сближения мира и Бога, так и гностического по своему существу неприятия
мира, единственно оправданным отношением к которому
современник Лосского НА Бердяев считает отрицание, революцию, бунт.
Мы не остановились специально на анализе этических
сочинений философа. Но, как нетрудно видеть, этический пафос
проникает собою все учение Лосского, поэтому, мне кажется, не будет
преувеличением сказать, что его метафизика — это онтологизи-
рованная этика. В этом смысле он — философ глубоко русский:
ведь акцент на нравственной проблематике — отличительная
черта отечественной философской мысли.
Н.О. Лосский. Ценность и бытие. Париж, 1931, с. 74.
Глава 7
Метафизика конкретного всеединства,
или Абсолютный реализм С Л. Франка
С Л. Франк и Вл. Соловьев
Семен Людвигович Франк (1877-1950) — один из выдающихся
представителей русской религиозной философии Серебряного
века. Так же, как B.C. Соловьев, С.Н. Трубецкой, Н.О. Лосский, он
стремился к созданию цельного и систематически продуманного
учения. К основателю интуитивизма в русской философии,
Н.О. Лосскому (его концепцию мы рассмотрели выше), Франк
стоит, пожалуй, ближе всего. Фундаментальное исследование
Лосского «Обоснование интуитивизма» (1906) он считает
«основополагающим произведением онтологической гносеологии»1;
дальнейшей разработке и углублению онтологической гносеологии
Франк посвятил свою первую большую работу «Предмет знания».
Она вышла 9 лет спустя после книги Лосского и сразу поставила ее
автора в ряд наиболее значительных русских философов. «Я сам, —
отмечал СЛ. Франк позднее, в 1925 году, — в своей книге „Предмет
знания" (1915) сделал попытку продвинуть эту онтологическую
теорию познания на шаг вперед и, как хотелось бы верить,
принципиально важный шаг...»2
Онтологическая гносеология, какой она предстала в концепциях
Лосского и Франка, по самому существу своему естьреализм. Оба
мыслителя отвергают идеалистическую теорию познания,
особенно в том ее варианте, который создал Иммануил Кант. Н.О. Лосский
характеризует свое учение как идеал-реализм, подчеркивая тем
самым, что признает реальность также и идеального бытия; что
касается СЛ. Франка, то он предпочитает называть свой подход абсо-
1 СЛ. Франк. Русское мировоззрение // Его же. Духовные основы общества.
М, 1992, с. 480.
2 Там же.
Глава 7 Абсолютный реализм СЛ. Франка
243
лютнымреалызмомъ, желая отличить его от идеализма как
«логического реализма»4.
Абсолютный реализм Франка, который можно назвать и
«мистическим реализмом», как это сделал И.И. Евлампиев5, органично
вырастает из традиции русской религиозной философии,
восходящей к славянофилам и в последней четверти XIX в. получающей
новое развитие в творчестве Владимира Сергеевича Соловьева. Со-
ловьевское учение о всеединстве — отправной пункт СЛ. Франка,
также как и Н.О. Лосского. Определяя Абсолют как «вечное всееди-
ное»6, или как «Единое и всё», Соловьев понимал всеединство как
единство вомножественности.Дря Франка подлинная реальность
тоже есть не что иное, как «конкретное всеединство»7, и хотя в
своей трактовке всеединства Франк вносит коррективы в учение
Соловьева, тем не менее очевидно, что в формировании концепции
Франка творчество Соловьева играло ключевую роль. Не меньшее
влияние, чем учение о всеединстве, оказала на Франка соловьев-
ская — опять-таки идущая от славянофильской — критика
отвлеченного мышления. Вот что говорит об этом сам Франк: «Вл.
Соловьев в своем основном теоретическом труде „Критика отвлеченных
начал" (в котором, вслед за Киреевским, доказывает, что истина
бытия есть конкретная целостность, не могущая быть адекватно
представленной ни в отдельном отвлеченном принципе, ни в знании,
ни в морали) развивает также своеобразную теорию познания, суть
которой состоит в теории веры как живого понимания бытия.
Ни содержание чувственного восприятия, ни содержание
рационального мышления не открывает нам настоящего подступа к
бытию, к действительности... К постижению бытия не ведет вообще
никакой внешний путь... Должно наличествовать внутреннее
свидетельство бытия, без которого факт познания остается
необъяснимым. Это внутреннее свидетельство именно и есть вера — не
в обычном смысле слепого, необоснованного допущения, а в
смысле первичной и совершенно непосредственной очевидности, мис-
3 СЛ. Франк. Непостижимое // Сочинения. М., 1990, с. 277.
4 «Как логический реализм („рационализм", „идеализм"), так и эмпиризм
обретают подлинное осуществление своего стремления к подлинной реальности
лишь в абсолютном реализме, как „идеал-реализме", для которого время и вне-
временность суть неразделимо связанные между собой измерения
всеобъемлющего конкретно-сверхвременного бытия» (там же, с. 274).
5 См. его интересную вступительную статью к новому изданию «Предмета
знания»: СЛ. Франк. Предмет знания. Душа человека. СПб., 1995, с. 5.
6 B.C. Соловьев. Собр. соч. Т. III., с. 234.
7 См.: СЛ. Франк. Непостижимое, с. 275.
244 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
тического проникновения в самое бытие... Этот ход мысли
Соловьева... таит в себе in mice8 онтологическую гносеологию,
основанную на принципиальной критике идеализма»9.
Не принимая отвлеченный характер мышления, свойственный
немецкому идеализму и рационализму вообще, B.C. Соловьев в духе
славянофилов, понимает философию как цельное знание, как дело
жизни, а не только школы10. Тем не менее, согласно Соловьеву,
отвлеченное знание составляет необходимый момент как в жизни
каждого отдельного индивида, так и в ходе развития человечества; и уж
совершенно необходимо оно при построении философской системы,
ибо без пего невозможно постигнуть логической связности
мышления. Недопустимо, согласно Соловьеву, лишь одностороннее
абсолютизирование этого момента, превращение его в самостоятельный
принцип, как это особенно ярко можно видеть, например, у Гегеля.
Поворот к реализму — это тоже заслуга метафизики Соловьева.
Подлинно сущее в понимании Соловьева — не отвлеченные,
идеальные сущности, а реальные субъекты воли: «сущее есть сила бытия»11.
Именно носители силы и воли, т. е. живые души и духи, обладают,
согласно Соловьеву, онтологической реальностью. Реализм Соловьева,
таким образом, спиритуалистичен. «Что сущее есть сила бытия, это
очевидно уже из того, что оно полагает или производит бытие, т. е.
проявляется, и так как, проявляясь в бытии, оно не перестает как
сущее, не может истощиться или перейти без остатка в свое бытие, ибо
тогда, с исчезновением сущего, как производящего или
действующего, исчезло бы и бытие, как производимое им действие, — то оно
всегда остается положительной силой или мощью бытия...»12
Вслед за Соловьевым отвергая идеализм и отвлеченное
мышление, Франк, однако, не вводит важное для Соловьева различение
бытия и сущего; в центр своего рассмотрения он выдвигает
понятие бытия как абсолютного всеединства. Философия, как убежден
Франк, — это онтология, т. е. познание того, что на самом деле
есть. Именно бытие, а не сознание и не знание, как это полагают
8 в зародыше (лат.).
9 СЛ. Франк. Русское мировоззрение, с. 447-478. В своем понимании веры как
внутреннего свидетельства бытия С. Франк близок к С.Н. Трубецкому, у
которого вера тоже играет ключевую роль.
10 «Блестящие гносеологические идеи Соловьева, — пишет Франк, — доселе
еще не оценены в надлежащей мере. В наших гносеологических соображениях
мы сознаем себя в ряде основных пунктов весьма близким ему» (СЛ. Франк.
Предмет знания. Об основах и пределах отвлеченного знания. Пг, 1915, с. 28).
11 B.C. Соловьев. Собр. соч. Т. I, с. 307.
12 Там же.
Глава 7 Абсолютный реализм СЛ. Франка
245
представители идеализма самых разных ориентации,
непосредственно открывается человеку, с очевидностью созерцается и,
главное, переживается им, поскольку человек сам укоренен в бытии:
он есть прежде, чем сознает себя.
Еще до того как в европейской философии наметился поворот
к онтологии — у М. Шелера, М. Хайдеггера, Н. Гартмана и др., —
СЛ. Франк вслед за В. Соловьевым, С. Трубецким, Л. Лопатиным,
Н. Лосским дал глубокую критику гносеологизма и субъективизма
новоевропейской мысли. «Новый западноевропейский человек, —
пишет философ в 1925 году, подводя итог своих исследований
первого периода, — ощущает себя именно как индивидуальное
мыслящее сознание, а все прочее лишь как данное для этого
сознания или воспринимаемое через его посредство. Он не чувствует
себя укорененным в бытии... и свою собственную жизнь ощущает
не как выражение самого бытия, а как другую инстанцию, которая
противостоит бытию... Русскому духу путь от „cogito" к „sum"
всегда представляется абсолютно искусственным; истинный путь для
него ведет, напротив, от „sum" к „cogito"... Бытие дано не
посредством сознания и не как его предметное содержание; напротив,
поскольку наше „я", наше сознание есть не что иное, как проявление...
ответвление бытия как такового, то это бытие и выражает себя
в нас совершенно непосредственно»13.
Два года спустя, в 1927 году вышла в свет работа Мартина
Хайдеггера «Бытие и время», и небезынтересно сравнить с
вышеприведенными словами Франка следующий пассаж немецкого философа:
«С помощью „cogito sum" Декарт претендует на то, чтобы поставить
философию на новую и твердую почву. Но, вводя это „радикальное"
начало, он оставляет неопределенным способ бытия res cogitans,
точнее, бытийный смысл этого „sum"...»14 Такое единомыслие двух
разных философов объясняется влиянием общей атмосферы,
характерной для европейской философии конца XIX — начала XX в.
С Л. Франк и европейская философия
конца XIX — начала XX в.
Поворот к онтологии в европейской, особенно в немецкой
философии начался задолго до М. Хайдеггера и С. Франка. При этом су-
13 СЛ. Франк. Русское мировоззрение, с. 478-479.
14 М. Heidegger. Sein und Zeit. Tübingen, I960, S. 24.
246 Раздел, III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
щественно, что «онтологический поворот» наметился у тех
мыслителей, которые занимались главным образом проблемами
познания. Назовем в этой связи работы Франца Брентано (1838-1917)
и его учеников А. Мейнонга и Э. Гуссерля, создателя
феноменологии. Еще более характерно, что тенденцию к онтологическому
обоснованию гносеологии обнаруживают также неокантианство
и имманентная философия, не говоря уже о представителях так
называемого трансцендентального реализма — Й. Фолькельте,
В. Вундте, О. Кюльпе и др. СЛ. Франке осени 1899 до весны 1901 гг.
изучал философию в Берлинском университете, и его книга
«Предмет знания» свидетельствует о его прекрасной осведомленности
о состоянии современной ему европейской мысли.
Данное обстоятельство отмечал и Н.О. Лосский в своей рецензии
на эту книгу Франка: «Такой онтологизм в гносеологии Франка вовсе
не есть обособленное явление, он представляет собой лишь яркое
обнаружение тенденции, уже существующей в различных
видоизменениях на современной ступени развития этой науки; замечательно,
что даже различные неокантианские направления гносеологии,
напр., имманентная философия Шуппе или трансцендентально-
логический идеализм Когена, дают логику и гносеологию в
сочетании с онтологией. Конечно, поскольку СЛ. Франк осуществляет это
сочетание путем ссылки тметалогическое единство, он примыкает
не к упомянутым неокантианцам, а к великому мыслителю
прошлого, к Фихте, в последнем периоде его творчества, когда он исходил
в построении своей системы не из Абсолютного Я, а из того, что
выше всяких Я, из самого Абсолютного»] 5.
Н. Лосский, конечно, прав: не меньше, чем современная
философия, на Франка оказал влияние немецкий классический идеализм,
в том числе и Фихте, и Гегель, а также немецкая мистика от Мейсте-
ра Экхарта до Николая Кузанского и Якоба Бёме. Мы специально
рассмотрим эти влияния при анализе онтологии С. Франка.
А сейчас нельзя не упомянуть еще одного философа XX века, чьи
воззрения С. Франку оказались, пожалуй, наиболее близки: я имею
в виду Анри Бергсона (1859-1941)1б. Идеи Бергсона получили в на-
15 И.О. Лосский. Основные вопросы гносеологии. Пг, 1919, с. 236.
16 В конце XIX и начале XX века вышли наиболее важные произведения
Бергсона: «Essai sur les données immédiates de la conscience» (1889), переведенное на
русский язык в 1910 году под названием «Время и свобода воли»; «Matière et
mémoire. Essai sur la relation du corps à l'esprit» (1896), вышедшее в России
в 1911 г.; «L'évolution créatice» (1907), русский перевод «Творческая эволюция»
появился в 1912 г. О том, насколько популярными оказались сочинения Берг-
Глава 7 Абсолютный реализм СЛ. Франка
247
чале века широкое распространение далеко за пределами
Франции, в том числе и в России. Что именно привлекало к Бергсону его
современников, хорошо пояснил Макс Шелер, мыслитель, весьма
близкий Франку по своим философским исканиям: «Величие
Бергсона, — писал в начале века Шелер, — заключается в той силе, с
которой он смог изменить отношение человека к миру и к душе.
Для этого нового отношения характерно стремление полностью
положиться на чувственные представления, в которых предстает
нам содержание вещей, с доверием проникнуть в простую и
очевидную достоверность всего „данного"; с любовью открывая себя
миру, раствориться в созерцании мира во всей его
непосредственной наглядности»17. Не только Шелер, но и Р. Кронер, М. Хайдег-
гер, Г. Миш и другие немецкие философы испытали влияние
интуитивизма Бергсона и особенно его теории времени; философия
жизни Ф. Ницше, с одной стороны, и В. Дильтея, с другой,
подготовила почву для восприятия идей французского философа.
Еще большее воздействие философия жизни Бергсона оказала
на русскую философию Серебряного века. Не только
представители интуитивизма, прежде всего Н. Лосский и С. Франк, увидели
в Бергсоне близкого по духу мыслителя; воздействие его идей
заметно в творчестве П.А. Флоренского. С.Н. Булгакова, H.A.
Бердяева, Д.С. Мережковского и др. Что касается Франка, посвятившего
творчеству Бергсона специальную статью «О философской
интуиции»18, то из русских философов он оказался к Бергсону,
пожалуй, ближе всех. И не удивительно: как и русские религиозные
философы, Бергсон отвергает механицизм и отвлеченный
рационализм, утверждая в качестве подлинной и первоначальной
реальности жизнь как непосредственно данную целостность, сущность
которой может быть постигнута только с помощью интуиции,
своеобразной симпатии, без всяких опосредовании
проникающей в предмет, сливаясь с его индивидуальной природой.
Как видим, русская философия при всем ее своеобразии
развивалась в органическом союзе с западноевропейской. Это тем более
понятно и естественно, что на протяжении всего XIX в. она
творчески ассимилировала все то наиболее значимое, что создавалось
европейской мыслью на протяжении XVII-XIX вв. и что в большей
сона у него на родине, свидетельствует, в частности, тот факт, что к 1925 году
вышло 28 (!) изданий «Творческой эволюции», 20 изданий «Материи и памяти»,
23 издания «Непосредственных данных сознания».
17 M.Scheler. Vom Umsturz der Werte. Bd. 2. Leipzig, 1919 (zweite Ausgabe), S. 17.
18 См. журнал «Русская мысль», 1912, кн. 3, с 31-35.
248 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
или меньшей степени восходило к общим истокам христианской
цивилизации — религии откровения и классической античной
философии. Отмечая это обстоятельство, В.Н. Ильин писал в статье,
посвященной творчеству С. Франка: «Та светлая даль, которая,
уходя в историю ретроспективно, приобщает большой путь русской
национальной мысли великому основному руслу мысли
западноевропейской, там, где выясняются общие истоки этой мысли и при
том истоки в смысле религиозной метафизики, являет себя по
существу христианской. Те, кто внимательно изучали два основных
произведения СЛ. Франка: „Предмет знания"... и „Непостижимое"...
испытывали, по всей вероятности, не раз глубокое
удовлетворение... от гармонического соединения большого личного (и
национально-русского) творчества с той грандиозной и, в сущности,
единственной традицией... В линии германского идеализма,
великого и славного отрезка этого философского пути, названную
традицию можно именовать „вюртембергской". И означает она такие
имена, как Мейстер Экхарт, Николай Кузанский... Себастиан Франк,
Парацельс, Яков Бёме, Ангел Силезский, а также все гениальное
наследие послекантова идеализма — Фихте, Шеллинга и Гегеля...»19
Действительно, немецкий идеализм, особенно Фихте и
Шеллинг, немецкая мистика, прежде всего учения Экхарта и Бёме, а
также теософия Фр. Баадера сыграли важную роль в формировании
абсолютного реализма Франка. Но в первую очередь здесь следует,
конечно, назвать имя Николая Кузанского, тоже опиравшегося на
мистическую традицию и продолжавшего линию христианского
платонизма; именно Кузанца русский мыслитель считал своим
«единственным учителем философии»20.
19 В.Н. Ильин. Николай Кузанский и СЛ. Франк // Сборник памяти Семена
Людвиговича Франка. Мюнхен, 1954, с. 85.
20 СЛ. Франк. Непостижимое, с. 184. В предисловии к «Непостижимому» Франк
пишет: «Основа всей моей мысли есть та philosophia perennis (вечная
философия, —лат), которую я усматриваю в платонизме, в особенности в той форме, в
которой он в лице новоплатонизма и христианского платонизма проходит
через всю историю европейской философии, начиная с Плотина, Дионисия Арео-
пагита и Августина вплоть до Баадера и Владимира Соловьева. Философия здесь
в принципе совпадает с умозрительной мистикой. Среди многих великих умов
этого направления я особенно выделяю имя одного мыслителя, который, в
грандиозной форме объединяя духовные достижения античности и средневековья
с основоположными замыслами нового времени, достиг такого синтеза, какой
позднее уже никогда не удавался европейскому духу. Я имею в виду Николая
Кузанского. Для меня он в некотором смысле есть мой единственный учитель
философии. И моя книга хочет быть, в сущности, не более чем систематическим
Глава 7 Абсолютный реализм СЛ. Франка
249
Критика психологизма и субстанциализма
Если охарактеризовать исходный философский принцип Франка
в самом сжатом виде, то это будет убеждение в несомненном
приоритете бытия по отношению к знанию и сознанию, в металогич-
ности бытия и в непосредственной открытости его сознанию.
«...Бытие как таковое, пишет Франк, — металогично и именно в этой
своей металогичности предстоит нам и доступно нашему сознанию.
И именно это непосредственное „узрение" или созерцание
металогического существа или образа бытия как такового есть источник
всякого предметного знания»21. Этот принцип был осознан
философом достаточно рано, и понятно, что главную свою задачу он
видел в создании онтологии как основной философской науки. Тем не
менее первую фундаментальную работу Франк посвящает
исследованию знания, т. е. гносеологии. Это — уже упомянутая книга
«Предмет знания. Об основах и пределах отвлеченного знания» (1915).
Здесь рассматриваются предмет и содержание знания, характер
связи сознания и бытия (точнее, «бытийность» сознания), сущность
логической связи и природа интуиции как непосредственного знания.
Франк продолжает и углубляет ту тенденцию к преодолению
психологизма, которая составляла особенность теории познания
в конце прошлого — начале нынешнего века и была представлена
ведущими философскими школами Германии. «В сущности говоря,
все движение очищения гносеологии от „психологизма", — пишет
Франк, имея в виду прежде всего неокантианство, имманентную
философию и феноменологию Гуссерля, — сводится именно
к уничтожению особой „теории познания", как науки, отличной от
„теории бытия" и предшествующей ей. Однако, ввиду
двусмысленности слова „онтология" мы предпочитаем называть эту единую
„теорию знания и бытия" не онтологией, а старым и вполне
подходящим аристотелевским термином „первой философии". Первая
философия есть действительно первое, ни на что уже не
опирающееся исследование основных начал бытия, на почве которых
вполне возможно различие между знанием и предметом знания»22.
Полемический пафос Франка направлен, с одной стороны,
против традиционного рационализма, включая сюда и Канта, а с дру-
развитием — на новых путях, в новых формах мысли, в новых формулировках
старых и вечных проблем — основного начала его мировоззрения, его
умозрительного выражения вселенской христианской истины» (там же, с. 183-184).
21 Там же, с. 229-
22 СЛ. Франк. Предмет знания, с. V-VI.
250 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
гой, против традиционного же эмпиризма, как он представлен
Локком, Юмом, позднее Дж.Ст. Миллем, Г. Спенсером и другими
позитивистами XIX в. И понятно почему: ни то, ни другое
направление не допускает непосредственного постижения
сверхчувственной реальности, да и понятие опыта здесь толкуется слишком
упрощенно. Главным недостатком традиционной метафизики
Франк считает ее субстанциализм, т. е. рассмотрение мира как
«связного многообразия неких „вещей" или конкретных
реальностей, обладающих множеством разнообразных свойств — все
равно, „эмпирических" или „идеальных" — и стоящих в разного рода
отношениях друг к другу»23. С точки зрения Франка, не столь
существенно, понимаются ли эти субстанции материалистически (или
шире — натуралистически) как материальные вещи или же
признается также существование и духовных субстанций — человека,
ангелов, Бога, вообще бестелесных душ, как это было в
средневековой философии и метафизике XVII в. Для русского философа
неприемлем именно субстанциализм, который, с его точки
зрения, принимает ложное понятие «объективной действительности»
и в конечном счете апеллирует к здравому смысл)'. «Классический
образец такого типа мысли, такого философского понимания
реальности есть метафизика Аристотеля (и зависящая от нее
системы Фомы Аквинского). Именно этот тип мысли Кант разумел под
именем „догматической метафизики"»24.
О Канте здесь речь заходит не случайно: именно
трансцендентальный идеализм Канта впервые открывает ту перспективу,
в рамках которой стало возможным построение так называемого
«имманентного объективизма», сторонником которого является
и Франк. «Кант... расширил понятие сознания настолько, что оно
стало охватывать сферу самого предмета и совершенно утратило
свое первоначальное значение той узкой сферы субъективности,
которая противопоставляется „самому предмету"; однако свой
вывод он изображает так, как будто он, напротив, сузил всю сферу
бытия до пределов субъективного сознания»25. Действительно,
Кант «расширил», как выражается Франк, понятие сознания,
поскольку попытался показать, что весь мир опыта, являющийся
единственно возможным предметом познания, есть конструкция
самого субъекта. А для того чтобы сохранить общезначимость
23 СЛ. Франк. Реальность и человек. Метафизика человеческого бытия. Париж,
1956, с. 20.
24 Там же, с. 21.
25 СЛ. Франк. Предмет знания, с. 59-
Глава 7 Абсолютный реализм СЛ. Франка
251
и в этом смысле объективность научного знания, Кант должен
был ввести новое понятие субъекта — не индивидуального26,
а трансцендентального. Правда, каков онтологический статус
трансцендентального субъекта, носителя априорных форм
рассудка и чувственности, не смог в сущности разъяснить ни сам
Кант, ни его последователи. Это понятие по-разному трактуется
у Фихте, Шеллинга, Когена, Наторпа и, наконец, у Гуссерля,
который примерно с середины 10-х годов сближается с позицией
трансцендентализма. Что касается Канта, то он убежден, что
трансцендентальный субъект конструирует мир опыта, но не
конструирует вещи в себе, а они-то и представляют собой в кан-
товской системе нечто «самосущее» — то, что в традиционной
метафизике понималось как субстанция. Это — тот остаток
«догматической метафизики» в учении Канта, который, как убежден
Франк (вместе с Фихте, Шеллингом и Гегелем), составляет
ограниченность кантовского трансцендентализма. Вслед за Фихте
С. Франк считает, что Кант остался непоследовательным, не
устранив самопротиворечивое — в его системе — понятие вещи в себе.
Как известно, Фихте освободился от понятия «вещи в себе» в его
кантианской трактовке и создал систему идеализма, исходя из
единого начала — Я. Франку, таким образом, ближе то направление
в трансцендентальной философии, которое отправляется от
Фихте: таковы неокантианство Марбургской школы, имманентная
философия и феноменология Гуссерля, особенно в более поздней
форме — как учение о «трансцендентальной эгологии».
Как подчеркивает СЛ. Франк, именно в Я обнаруживается
первичное существо реальности как таковой, подлинной реальности, в
отличие от той «объективной действительности», как ее понимала
европейская метафизика начиная с Аристотеля и кончая не только
Лейбницем, но и самым близким к Франку русским мыслителем —
Н.О. Лосским. «Я, — пишет Франк, — есть реальность, в которой
„объект" совпадает с „субъектом"... По первичному своему характеру это
есть реальность, которая вообще не предстоит нам в роли объекта...
не есть нечто, с чем мы извне „встречаемся"... Это есть реальность,
открывающаяся самой себе — открывающаяся не в силу того, что
кто-то другой на нее смотрит, а в силу того, что самое ее бытие есть
непосредственное бытие-для-себя, самопрозрачность»27. По словам
26 Что касается индивидуального субъекта, то он у Канта лишен той
онтологической базы, которую в докантовской метафизике составляло понятие
разумной души как индивидуальной субстанции.
27 С Л. Франк. Реальность и человек, с. 33-34.
252 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
Франка, реальность может быть обнаружена путем «поворота
сознания» извне — вовнутрь, ибо именно глубины самосознания — это
и есть подлинное бытие28.
Естественно может возникнуть вопрос: если Франк стремится
преодолеть идеализм как учение, основанное на отвлеченном
мышлении, и создать концепцию абсолютного реализма, то почему
же он при этом исходит из предпосылок трансцендентального
идеализма, каким является философия абсолютного Я Фихте или
гегелевское учение о тождестве мышления и бытия?
В действительности Франк стремится внести существенный
корректив в идеалистическую концепцию тождества мышления
и бытия: он отождествляет бытие не с мышлением, не с логосом,
а с сознанием, понятым как непосредственное созерцание. Бытие,
по Франку, мы открываем путем погружения в глубины нашего Я
с целью непосредственного созерцания того, что обнаруживается
в этих глубинах. Сознание — это созерцание, интуиция, прямое
видение реальности, прямое ее переживание. Сознание,
подчеркивает философ, есть живое знание, знание-переживание, знание-
бытие, знание-жизнь. Именно в этом смысле и трактует Франк
понятие опыта: опыт есть прежде всего внутренний опыт, опыт-
переживание. И опыт, и знание здесь предстают не как нечто
отличное от самой жизни, а как тождественное с ней, а потому
подлинное знание предполагает снятие различия между субъектом
(переживающим) и объектом (переживаемым): в акте
переживания они сливаются воедино.
Интуиция как высший род знания.
С. Франк и А. Бергсон
Тут СЛ. Франк оказывается всего ближе к Бергсону; именно
интуитивизм Бергсона, как уже отмечалось выше, произвел на русского
философа сильное впечатление. Вот как понимает Бергсон
изначальное единство переживающего и переживаемого в акте
интуиции: «...Абсолютное может быть дано лишь в интуиции, тогда как
все остальное исходит из анализа. Интуицией называется тот род
интеллектуального вчувствования, или симпатии, посредством
которой мы проникаем во внутрь предмета, чтобы слиться с тем,
что в нем есть единственного и, следовательно, невыразимого.
Наем, там же, с. 36.
Глава 7 Абсолютный реализм СЛ. Франка
253
против, анализ есть процесс, сводящий предмет к заранее
известным элементам, то есть общим ему и другим предметам»29.
Как для Бергсона, так и для Франка интуиция есть высший род
знания, отличный от того, который Бергсон называет анализом,
а Франк — отвлеченным мышлением. Оба философа подчеркивают,
что интуиция есть целостное проникновение в предмет,
переживание его как некоего единства во множестве, слияние с предметом
«изнутри», а не восприятие его «извне». Оба при этом стоят на позиции
реализма в том смысле, что убеждены в непосредственной
открытости сознанию реальности как таковой, бытия, как оно существует
само по себе. И, наконец, Бергсон и Франк согласны между собой в том,
что только с помощью интуиции возможно проникновение в
абсолютную реальность, а стало быть, и построение метафизики как
постижения этой высшей реальности. «Если существует средство
обладать абсолютной реальностью, а не только познавать ее
относительно, проникать в нее, а не становиться к ней с определенной
точки зрения, иметь интуицию о ней, а не анализировать ее, наконец,
охватывать ее помимо всякого выражения, перевода или
символического представления, то это средство и есть метафизика», — пишет
Бергсон30. Если мы вспомним, что главная работа С. Франка,
посвященная собственно метафизике, носит название «Непостижимое»
и что, стало быть, абсолютная реальность осмысляется в ней помимо
всякого выражения, признается невыразимой, неизреченной, — то
поймем, насколько Франк солидарен с Бергсоном.
И, наконец, как Бергсон, так и Франк видят в нашем Я то
непосредственное бытие, которое всегда с нами, открыто нам прежде всего
и раньше всего. «...Существует, — говорит Бергсон, — по крайней
мере, одна реальность, которую мы все схватываем извнутри,
посредством интуиции, а не простого анализа. Это наша собственная
личность в ее истечении во времени. Это наше длящееся я. Мы можем не
переживать интеллектуально чужой вещи, но свое собственное я мы
непременно переживаем»31. Для Бергсона, как видим, Я не есть
вневременное сущее, субстанция, как его рассматривал, к примеру,
Лейбниц наследник той традиции, которая от античности, через
Фому Аквината, Суареса и Декарта просуществовала вплоть до XVIII
века, а затем была возрождена в неотомизме на Западе и в неолейб-
ницианстве в России. Я, или «наша собственная личность», есть для
29 А. Бергсон. Время и свобода воли. С приложением статьи «Введение в
метафизику». М., 1910, с. 198.
30 Там же. — Курсив мой. — ПГ.
31 Там же, с. 199.
254 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
Бергсона длительность, временность, течение и непрерывная
изменчивость душевных состояний, потенциальность в ее чистом
виде. Также понимает Я и СЛ. Франк «Непосредственное
самобытие есть — как его так метко изобразил Бергсон — по своему
существу процесс, „делание", динамика, живая длительность,
„временность" или — что то же самое — свобода. Все эти слова не должны
означать ничего иного, кроме того, что непосредственное
самобытие по своему конкретному содержанию не есть что-либо в готовом
виде пребывающее, определенное, законченно-данное, а есть по
существу нечто неготовое, потенциальное, лишь нарождающееся
и творимое — бытие в форме становления, мочи, стремления и
осуществления. Оно есть сущая потенциальность илимочь...»52
Именно потенциальность есть у Франка важнейшая,
фундаментальная характеристика абсолютной реальности. В силу своей
потенциальности реальность и оказывается непостижимой. Однако
русский философ, в отличие от своего старшего современника,
хотел бы освободить понятие «Я» от той психологической трактовки,
которую оно нередко получает у Бергсона. Франк различает «мое
сознание» как достояние отдельного индивида, как «внутреннюю
душевную жизнь человека», его «маленький мирок»33, с одной
стороны, и сознание как всеобъемлющую реальность, как «само
бытие», с другой. «Под „моим я", — пишет Франк, — под кругом моей
„душевной жизни" можно разуметь... две совершенно различных
области... 1) Под „сознанием" вообще мы условились выше разуметь
поток переживаний, направленных на сверхвременное единство
и противостоящий ему как субъект — объекту. С этой точки зрения
„мое сознание" или „я, как отдельная личность" есть поток
сознания, противостоящий объективному единству и вместе с тем
мыслимый как ограниченная реальность, как отдельная часть мира...
„Мое сознание" есть мое в отличие от всех других сознаний...
2) С другой стороны, под „моим я" или „моей душевной жизнью" я
могу разуметь всю сферу бытия, поскольку она не предстоит мне
в качестве постороннего мне объекта, на который направлено мое
познавание, а непосредственно переживается мною, как чистая
раскрытая себе жизнь, как само себя переживающее бытие»34.
32 СЛ. Франк. Непостижимое, с. 336-337.
33 СЛ. Франк. Реальность и человек, с. 37.
34 СЛ. Франк. Предмет знания, с. 426-427. В работе «Душа человека» Франк
неоднократно возвращается к этому столь для него принципиальному
различению Я как индивидуальной души и Я как всеобъемлющей реальности, как
переживающей себя жизни. «„Переживать", „чувствовать" значит не только „быть в
Глава 7 Абсолютный реализм СЛ. Франка
255
Как видим, такие понятия, как «жизнь», «переживание»,
«жизненное единство», «непрерывность (или «сплошность») потока
переживания», «симпатическое проникновение» в само целостное бытие
предмета, являются общими у Франка с Бергсоном. Бытие, понятое
как жизнь, как непрерывное изменение, длительность,
потенциальность, — вот ключевая интуиция русского философа, роднящая его
не только с Бергсоном, но и с Зиммелем, отчасти с Дильтеем и,
наконец, с Фр. Ницше. Последнему Франк посвятил первое свое
философское сочинение — статью «Фр. Ницше и этика любви к дал ьнему»,
помещенную в сборнике «Проблемы идеализма» (1902)35.
«Онтологическая гносеология» —
путь к созданию онтологии
Однако философия жизни, с которой у Франка было так много
общего, сталкивается с серьезными затруднениями, не в последнюю
очередь касающимися теории познания. В самом деле, коль скоро
«мое Я», сознание есть всеобъемлющая реальность, «раскрытая
себе жизнь», то как возможно то, что обычно называется предметом
познания? Ведь последний мыслится как реальность,
трансцендентная нашему Я. Если бы это было иначе, то в познании вообще
не было бы никакой нужды: мир изначально был бы совершенно
прозрачен для человека, как он прозрачен для Бога.
И не случайно именно этот вопрос ставит С Л. Франк в своем
исследовании «Предмет знания». Существенен подзаголовок
работы — «Об основах и пределах отвлеченного знания». В центре
внимания автора — вопрос о природе отвлеченного, логического
себе", как бы жариться в собственном соку отрешенной субъективности; это
значит вместе с тем быть во всем, быть изнутри погруженным в бесконечный
океан самого бытия, т. е. это значит переживать и все остальное на свете... В
силу этой своей „объектной" или познавательной стороны переживание есть
по существу нечто большее, чем субъективное »душевное" состояние: оно есть
именно духовное состояние, как единство жизни и знания. „Пережить",
„прочувствовать" что-либо — значит знать объект изнутри, в силу своей объеди-
ненности с ним в общей жизни...* (СЛ. Франк. Душа человека. Опыт введения в
философскую психологию. М., 1917, с. 206-207).
35 Не только о Бергсоне, но и о Дильтее и о Зиммеле Франк написал
специальные статьи; он перевел также работу Зиммеля «Кант и Гёте*. (См.: СЛ. Франк.
Книга Дильтея по истории философии // Русская мысль, 1914, кн. 4. См. также.-
СЛ. Франк. Зиммель и его книга о Гёте // Русская мысль, 1913, кн. 3- Статья «Кант
и Гёте» в переводе Франка вышла в «Русской мысли», кн. 6 за 1908 г.)
256 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
знания, которое мы получаем, опираясь на законы логики —
тождества, противоречия и исключенного третьего. Именно с такого
рода знанием имеет дело не только наука, но и философия, если она
претендует на то, что ее утверждения логически последовательны
и доказательны. Вопрос о предмете, подчеркивает Франк, — это
вопрос об отношении между знанием и реальностью, ибо знание
всегда имеет своим предметом нечто неизвестное, а стало быть,
знанию трансцендентное. Но ранее наш философ рассматривал
сознание как само себя переживающее бытие, а это значит, что для
сознания в принципе нет ничего трансцендентного. Значит,
и предмет познания тоже должен быть имманентным, т. е.
«доступным сознанию и познанию во всей своей трансцендентности»36.
В этой имманентности трансцендентного, по словам Франка,
таится чудо знания. И в самом деле чудо: ведь понятия имманентного
и трансцендентного взаимно исключают друг друга. «Этой
проблеме, — замечает Франк, — присуща своеобразная диалектика, в силу
которой именно крайние выражения прямо противоположных
направлений сближаются между собой и ведут к тождественному
результату. А именно, абсолютный субъективный идеализм,
утверждающий, что „трансцендентный предмет" не только непознаваем,
но и немыслим, т. е. есть противоречивое понятие, и что все
доступное нам есть содержание нашего сознания, — и крайний
имманентный реализм, утверждающий, что предмет во всей его реальности
имманентен, т. с. как бы воочию стоит перед нашим сознанием
и есть содержание последнего, — по своим последним выводам
оказываются явно тождественными»37. Абсолютный субъективный
идеализм, как его представляет здесь Франк, — это позиция Беркли,
Канта, раннего Фихте; крайний имманентный реализм — это, надо
полагать, точка зрения самого Франка, но еще нуждающаяся в
уточнении. Очевидно, что расширение сознания до «всеобъемлющего»
и таким образом — до абсолютного бытия есть тот путь, в конце
которого человеческое Я превращается в Я божественное. И Франк не
случайно подчеркивает здесь диалектический момент:
субъективизм Я, характерный для философии Нового времени, он пытается
преодолеть, восходя, как мы уже отмечали, к истокам
новоевропейской мысли — к мистическому пантеизму Иоанна Скота Эриугены,
Мейстера Экхарта и особенно Николая Кузанского38.
36 С Л. Франк. Предмет знания, с. 80.
37 Там же, с. 90.
38 Не исключено, что интерес С. Франка к творчеству Николая Кузанского
первоначально был возбужден неокантианцами Марбургской школы — Г. Коге-
Глава 7 Абсолютный реализм СЛ. Франка
257
Итак, проблема познания — это, по выражению Франка,
проблема «имманентности трансцендентного». Пытаясь раскрыть
природу этого парадокса, Франк различает предмет знания как нечто
неизвестное и в этом смысле трансцендентное знанию, с одной
стороны, и содержание знания (или, что то же, содержание
предмета), с другой. В качестве примера для анализа этих понятий Франк —
вполне в духе кантианской традиции — берет суждение, поскольку
именно в акте суждения мы приписываем некоторому предмету А то
или иное содержание В. В суждении, по мысли Франка, происходит
переход от некоторого основания к следствию. Так, когда мы
высказываем суждение: «Это дерево есть береза», т. е. приписываем
предмету А («дерево») некоторое содержание В («береза»), то мы
получаем некоторое новое знание. Стало быть, всякое знание есть
синтетическое, а не просто аналитическое суждение, не тавтология.
Но каким образом, благодаря чему мы получаем в суждении новое
знание? На этот вопрос можно удовлетворительно ответить только
втом случае, если мы внимательно всмотримся в привычную для нас
форму суждения «А есть В» и попытается понять, что же
представляет собой субъект суждения А, которому приписывается предикат
В. И тогда нам откроется, что подлинная, изначальная форма
суждения должна была бы быть представлена несколько иначе, а именно
Ах есть В. Ибо понятие А только потому может служить логическим
подлежащим, что оно берется не просто как нечто определенное,
а скорее как выделенная сторона, связанная с чем-то неизвестным.
Ах — это, по Франку, единство первой определенности с
неопределенным: «А» как бы со всех сторон окружено неизвестным, подобно
острову в океане. Стало быть, синтетическому суждению Л есть В
предшествует в качестве его необходимого условия более
изначальное, «тетическое» суждение, в котором зафиксирован
произведенный познающим субъектом анализ реальности, с помощью
которого из «океана» х был выделен «остров» А. Тетическое суждение
можно записать какх естьА. Это неизвестное л: есть, согласно
Франку, «живая творческая глубина, из которой берутся отдельные
содержания и в которой дано их исконное единство в качестве условия
перехода, т. е. связи между ними»39.
Однако с логической точки зрения суждение х есть А имеет
парадоксальный характер: ведьлг — это нечто неопределенное, неиз-
ном, П. Наторпом, Э. Кассирером, которые высоко ценили Кузанца и часто
ссылались на него в своих сочинениях. А эти сочинения Франк хорошо знал и
наиболее важные из них обсуждал в «Предмете знания».
39 СЛ. Франк. Предмет знания, с. 203-
258 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
вестное, отождествляемое с некоторым определенным — А.
«Схема „х есть А", в которой выражена природа всякого знания,
предполагает... что мы знаем то, чего мы не знаем»40. Более того,
согласно этой схеме, то, чего мы не знаем, есть основа и носитель
того, что мы знаем41.
Франк существенно переосмысливает здесь кантовскую теорию
суждения. Как известно, Кант обосновывал необходимую связь
между субъектом и предикатом синтетических суждений a priori
ссылкой на синтезирующую деятельность трансцендентального
субъекта: именно трансцендентальному субъекту принадлежит
акт связывания субъекта А и предиката В с помощью связки
«есть»42. Говоря «А есть В», трансцендентальный субъект как раз
и оказывается подлинным источником этого «есть»; суждение
становится суждением опыта, т. е. общезначимым (и в этом смысле
объективным) лишь в том случае, если связку «есть» полагает
трансцендентальное, а не индивидуальное Я. Но в то же время
связь между А и В не выходит за пределы опыта, т. е. за пределы
мира явлений, это не бытийная, а лишь
трансцендентально-субъективная связь, и за пределами опыта — в мире вещей в себе — она
никакой силы не имеет.
Совсем иначе решает проблему суждения СЛ. Франк. То Я,
которое осуществляет связывание субъекта с предикатом в суждении,
есть, как мы уже знаем, не что иное, как само бытие,
«переживающая себя жизнь». «Наше Я, — пишет Франк, — не только созерцает
40 Там же, с. 25.
41 Вопрос о том, что такое л:, согласно Франку, не имеет смысла. «Если всякое
отвлеченное знание (знание в понятиях) выразимо... в суждении „х есть А", то
постановка вопроса: „что такое есть само х как таковое?' по существу лишена
смысла, так как противоречива. Само х безусловно самоочевидно в смысле без-
вопросности... И при этом речь идет... не об х как „неизвестном", или
„непостижимом для нас", а об х как символе металогически-трансфинитного и в этом
смысле по самому своему существу „неопределенного бытия"» (СЛ. Франк.
Непостижимое, с. 278).
42 «...Связь... многообразного вообще никогда не может быть воспринята нами
через чувства и, следовательно, не может также содержаться в чистой форме
чувственного созерцания, ведь она есть акт спонтанности способности
представления, а так как эту способность в отличие от чувственности надо называть
рассудком, то всякая связь... есть действие рассудка, которое мы обозначаем
общим названием синтеза, чтобы этим также отметить, что мы ничего не можем
представить себе связанным в объекте, чего прежде не связали сами-, среди всех
представлений связь есть единственное, которое не дается объектом, а может
быть создано только самим субъектом, ибо оно есть акт его самодеятельности».
(И. Кант. Критика чистого разума // Соч. в шести томах. Т. 3- М., 1964, с. 190).
Глава 7 Абсолютный реализм СЛ. Франка
259
объект, но и живет им, т. е. не отрешается от переживания в
пользу знания, а сливает себя с жизнью Всеединства»43. Франк не устает
подчеркивать, что Всеединство — это кипучая и живая жизнь (так
и хочется сказать — «élan vital», «жизненный порыв» Бергсона), а не
вневременное тождество трансцендентальной апперцепции
(Я=Я). И вот в этом-то живом Всеединстве и укоренено наше Я,
которое высказывает суждение «А есть В». Поэтому связка «есть»
исходит не от субъекта (даже «трансцендентального»), а от самого
бытия; именно бытие, Всеединство через мое Я связывает между
собой субъект и предикат суждения. Логическое знание, таким
образом, оказывается внутренне слитым с интуицией, которая, как
доказывает Франк, есть непосредственное переживание
сверхлогического целостного единства бытия, т. е. Всеединства. И не надо
искать Всеединства где-то вне субъекта; мы сами суть это
Всеединство; оно дано нам «не в форме сознания, а в форме бытия»44.
Высоко оценивая теорию познания Франка, Н.О. Лосский
писал: «Великая заслуга его (Франка. — ПГ.) состоит в том, что он
выработал оригинальное... доказательство существования
металогического начала: система взаимосоотнесенных определенностей
возможна лишь постольку, поскольку выше ее есть
сверхсистемное металогическое начало; таким образом, в историю
философии Франк внес новое, весьма своеобразное и простое
доказательство бытия Бога. Для гносеологии это учение... ценно тем, что в нем
указано онтологическое начало, объясняющее, как возможен
переход от одной определенности к другой»45.
Проникновение в неизвестное, приписывание
неопределенному определенного содержания составляет, согласно Франку,
своеобразную диалектику процесса познания. Всякое суждение,
по Франку, есть нарушение принципа тождества, установленного
Аристотелем как высший закон логики и признаваемого в
качестве такового европейской философской традицией. Всякое Л есть
В имеет, по Аристотелю, в качестве условия своей возможности
закон тождества —А есть А. Вот с этим Франк решительно не
согласен. «Здравый смысл, конечно, отдаст здесь справедливость
Гегелю, который указывает, что повторение подлежащего в сказуемом
есть не выражение мысли, а лишь признак идиотизма»46. Как и Ге-
43 СЛ. Франк. Предмет знания, с. 429.
44 Там же, с. 154.
45 И.О. Лосский. Теория знания СЛ. Франка // Сборник памяти Семена
Людвиговича Франка, с. 140.
46 СЛ. Франк. Предмет знания, с. 15.
260 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
гель, Франк не признает закон тождества в качестве высшего
начала логики. На его место он ставит закон тождества
противоположностей, в данном случае — неизвестного и известного,
неопределенного и определенного.
Франк убежден, что в качестве х предмет сам присутствует в
знании. Здесь снова — тот же парадокс- в знании присутствует нечто
такое, что не есть знание. Казалось бы, можно снять этот парадокс,
если сформулировать мысль иначе, а именно: в нашем сознании
имеется вопрос относительно того, что само не присутствует в
сознании, пока мы этот вопрос не разрешим и тогда вместо
незнания обретем знание. Однако такая постановка проблемы не
принимается русским философом, потому что он рассматривает
сознание как «абсолютное бытие». Желая доказать, что вне
сознания ничего не существует, он постулирует, что предмет познания
не есть нечто внешнее познанию, а находится в нем.
Критикуя сходный способ аргументации у представителей
неокантианства и имманентной школы, немецкий философ,
сторонник аристотелевского реализма А. Мейнонг сравнивает
доказательство «имманентности» предмета знанию с рассуждением человека,
который, увидев в смете экономиста графу «непредвиденные
расходы», стал бы доказывать, что эти расходы тем самым уже
«предвидены»47. Аналогичную критику имманентной философии и близкой
к ней феноменологии Гуссерля, а также интуитивизма Н.О. Лосско-
го и СЛ. Франка мы находим у С.А. Алексеева (Аскольдова).
«Результат, к которому они (названные направления. —ЯЛ) приводят, один
и тот же: путаница и смешение всех понятий. Этот же результат мы
не сможем не усмотреть в выводах имманентной философии,
своими слияниями и смешениями исказившей всю проблему познания,
смешавшей мышление, бытие, субъект, объект, сознание и познание
в какую-то мутную смесь и увенчивающую все свои
гносеологические выводы утверждением, что все находится именно в этой смеси,
вне же ее ничего не существует. Правда этого утверждения только
в том и состоит, что все, о чем только можно помыслить, в том числе
и всякий предмет познания, как-то соприкасается с нашей мыслью,
а следовательно и с нашим сознанием. Но с этой правдой согласятся
все философы в мире...»48 Аскольдов отвергает имманентистское
учение о том, что содержание знания и предмет знания — это в
сущности один и тот же объект, только взятый как известное и
неизвестное, что в качестве л: в знании присутствует сам предмет.
А. Meinong. Über die Erfahrungsgrundlagen unseres Wissens. Berlin, 1906, S. 82.
CA. Алексеев (Аскольдов). Мысль и действительность. M., 1914, с. 33.
Глава 7 Абсолютный реализм СЛ. Франка
261
Как видим, абсолютный реализм Франка существенно
отличается от тех вариантов реализма, которые восходят к традиции,
далекой как от трансцендентализма, так и от философии жизни.
Такая постановка вопроса возникает в результате стремления
Франка преодолеть не только психологизм индивидуального
сознания, от которого отправлялась докритическая философия,
рассматривавшая познание как результат воздействия объекта на
субъект, — но и недостаточно, по мнению Франка, преодоленный
субъективизм кантовского и послекантовского идеализма,
исходившего из трансцендентального субъекта или «сознания
вообще»: здесь ведь тоже еще оставался субъект как последний
отправной пункт гносеологического анализа. «Вся трудность проблемы
знания, загнавшая нас в тупик идеализма, основана на предвзятой
предпосылке о замкнутости сознания. Кажется очевидным, что
либо действительность находится вне сознания, и тогда она ему
недоступна, либо она находится внутри сознания, и тогда она не
есть „подлинная" действительность, а растворена в идеальной
сфере сознания, есть лишь „идея", „представление", „мысль". Но
здравый смысл говорит нам иное: мы непосредственно сознаем
возможность для сознания овладевать трансцендентным ему бытием.
Этот факт должен быть положен в основу теории знания. Мы
должны мыслить сознание не как замкнутую в себе сферу, а скорее как
пучок лучей, бросаемый на противостоящую ему
действительность. Как лампа освещает предметы без того, чтобы предметам
нужно было для этого входить в пределы лампы или лампе
расшириться до всего круга освещаемых ею предметов, так и сознание
освещает (сознает, познает) противостоящее ему бытие
непосредственно...»*9 Это и значит, что познание в основе своей есть
интуиция, непосредственное созерцание данного, сверхчувственное
созерцание самого бытия. Такое понимание познания предполагает
переход к онтологическому взгляду на познающего: последний
предстоит нам, согласно Франку, не как противочлен предмета,
а как его со-член в некотором единстве уже не сознания, а бытия.
«То единство, которое уже у Канта является высшим
гносеологическим понятием, есть не единство сознания, а абсолютное
единство, объемлющее сознание и бытие»50.
Но если дело обстоит именно так, как поясняет Франк, то нам,
в сущности, не нужно никаких усилий для того, чтобы
непосредственно знать все, с чем мы вообще когда-либо встречаемся. При та-
49 СЛ. Франк. Введение в философию. Пг., 1922, с. 35.
50 Там же, с. 36.
262 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
кой постановке вопроса трудно объяснить, каким образом может
существовать что-либо нам неизвестное и непонятное.
Представители интуитивизма — не только Франк, но, как мы видели, и Лос-
ский — неизбежно встречаются с этим затруднением. Особенно
сложную проблему для такой точки зрения должно представлять
наличие других Я, душевная жизнь которых — это вряд ли смогли
бы отрицать сторонники интуитивизма — далеко не во всем
«непосредственно открыта» нам.
Отменяя традиционную схему субъект-объекта, С. Франк
мыслит познание как интенциональность, направленность на другое
и здесь солидаризируется с Гуссерлем, усматривающим в интен-
циональности глав1гую характеристику «чистого сознания».
Однако при этом существенно, что для получения «чистого сознания»
Гуссерль требует совершить феноменологическую редукцию, цель
которой — «вынесение за скобки» всего эмпирического мира как
внешнего сознанию и непрозрачного для него. Тем самым Гуссерль
признает, что в человеческом сознании наличны как бы два слоя:
психологический, принадлежащий индивидуальному Я, который
должен быть «вынесен за скобки», и «чистый», составляющий
структуру «Я вообще», сердцевиной которого как раз и является
интенциональность. В результате «очищения» сознания Гуссерль
не только освобождается от психологического слоя в нем, — он
снимает также и вопрос об онтологическом статусе внешнего
мира: согласно Гуссерлю, этот вопрос находится вне компетенции
феноменологии, которая как строгая наука изучает лишь
структуру чистого сознания. (Правда, у позднего Гуссерля мы видим
попытку превращения феноменологии в новую онтологию, которая
рассматривает чистое Я как бытие — и в этом смысле, пожалуй,
поздний Гуссерль пошел по тому же пути, на который с самого
начала встал русский идеал-реализм в лице Лосского и Франка.)
Что же касается Франка, то он не производит
феноменологической редукции, с самого начала рассматривая сознание как
«владеющее трансцендентным ему бытием». Если у Гуссерля остается не
выясненным вопрос о статусе трансцендентного сознанию мира,
то Франк, напротив, постулирует, что интуитивизм, или
имманентный реализм, исходит из абсолютного единства,
объемлющего Я и не-Я. Поэтому интенциональность у Франка есть
направленность не на интенциональное содержание чистого сознания, как
у Гуссерля, а на трансцендентный предмет, на бытие как
таковое. Различие между Я и предметом мыслится Франком не как
различие субъекта и объекта, а как различие актуального и
потенциального содержаний Я, или, как подчеркивает философ, самого
Глава 7 Абсолютный реализм СЛ. Франка
263
бытия. Процесс познания, таким образом, изображается как
актуализация потенциального, как освещение того, что прежде было
погружено во тьму. Поэтому восприятие, а не дискурсивное
мышление есть основа всего познавательного процесса: благодаря
восприятию, считает Франк, идя здесь за имманентной философией
и особенно за феноменологией, сознание владеет первичными
содержаниями, актуально присутствующими в акте переживания.
Акт восприятия, с помощью которого сознание выделяет
некоторую определенную сторону (А) из бесконечной
неопределенности потенциального — х, есть, согласно Франку, внимание. Ин-
тенциональность — это по существу и есть не что иное, как
внимание. «Внимание некоторым образом видоизменяет,
преображает простое неосознанное переживание. Пока мы просто
„имеем" впечатления или переживания, они образуют поток... в
котором и состоит жизнь сознания. Акт внимания преобразует эту
пассивную, целостную, текучую жизнь в характерную
двойственность: мы имеем тогда, с одной стороны, себя самих, „поток
сознания" и, с другой стороны, то, что противостоит нам, как предмет,
на который направлено наше сознание... Опредмечивающая
функция внимания может заключаться, следовательно, только в одном:
в обладании содержанием не в имманентных пределах самого
потока сознания, а непосредственно в связи с вневременным
единством самого бытия. В этом смысле внимание есть функция транс-
цендирования, проникновения в запредельное...»51
Таким образом, процесс познания начинается с интенциональ-
ного акта, т. е. внимания, которое как бы поляризует жизнь
сознания, разделяя его — если говорить традиционным языком, — на «Я»
и «предмет». Следующий момент состоит в выделении из предмета
некоторой его стороны — того, что мы обозначаем как А.
Поскольку А всегда предстает на фоне того, из чего мы его выделили, то оно
предстает уже не просто как А, но как Ах. Следующий шаг —
построение суждения как некоторого синтетического образования:
Ах есть В.
Интенциональный акт, или внимание, выполняет в учении
Франка ту же функцию, какую в трансцендентальном идеализме — от
Канта до Наторпа — выполняло суждение, а именно — подведения
многообразия под единство понятия; посредствующую роль при
этом в философии Канта играла продуктивная способность
воображения, без которой рассудок не мог бы выполнить эту свою
функцию. Продуктивное воображение в системе Канта представляло сво-
5 ^Л. Франк. Предмет знания, с. 259-261.
264 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
его рода замену интеллектуальной интуиции для конечного
субъекта, каким является человек. Характерно, что у Франка в понятии
внимания отождествляются обе эти — столь резко разведенные как
Кантом, так и докаитовской философией способности: внимание есть,
по Франку, интеллектуальная интуиция, или, что то же самое,
творческое воображение. «Акт внимания носит, таким образом,
творческий, или, точнее, актуализирующий характер: в нем, именно
через посредство переживания указанного единства имманентного
с трансцендентным, одновременно преобразуется и то, и другое:
имманентное переживание становится моментом абсолютного
бытия, выходящего за пределы потока актуальных переживаний,
запредельный же фон абсолютного бытия раскрывается перед нами
с той своей стороны, с которой ему присуще данное содержание»52.
Всякий акт внимания есть, таким образом, не что иное, как
интеллектуальная интуиция, с помощью которой нам непосредственно
открывается (открывается-творится, потому что
актуализируется) не просто явление сущего, а сама его сущность, — ведь с
помощью интеллектуальной интуиции, как это полагала
рационалистическая докантовская метафизика, мы способны непосредственно
созерцать всеобщее, идею в платоновском смысле слова.
Однако интеллектуальная интуиция и продуктивное
воображение — это совсем не одна и та же способность. Какие допущения
необходимо принять, чтоб отождествить интеллектуальную
интуицию с творческим воображением? Такое отождествление
возможно лишь при допуще! ши, что творческое Я своим актом созидает не
образ бытия (не явление, как полагал Кант), а само бытие, «вещь
саму по себе». А это значит, что наше Я, как его понимает Франк,
тождественно Я Божественному. Это значит, что единство
человеческого Я, то, что Кант называл трансцендентальным единством
апперцепции, тождественно с Единством абсолютным, с Единььм,
с Богом неоплатоников и мистиков. И это единство, объемлющее Я
и не-Я, сознание и бытие, есть, по Франку, сверхвременное
единство, или конкретное Всеединство, которое составляет бесконечный
фон сознания, фон неопределенного, или потенциального, в
феноменологии Гуссерля получивший название «горизонта». Франк
подчеркивает металогический характер этого фона. И в самом
деле: коль скоро он есть потенциальность, то он присутствует в
нашем Я не в качестве сознательного пласта, не как нечто
определенное и рационально выразимое, а, напротив, в качестве чего-то
беспредельного и неуловимого, бессознательно переживаемого,
52 Там же, с. 262-263.
Глава 7 Абсолютный реализм СЛ. Франка
265
что хотя и может быть актуализовано в процессе познания, но,
разумеется, никогда не может быть актуализовано до конца.
«...Адекватная формула всякого предметного знания, — пишет
Франк, — будет „х есть А", что означает, с одной стороны, что в
составе х можно уловить, найти, усмотреть некое А, и, с другой
стороны, что это А принадлежит именно к х, входит в его состав,
основано или укоренено в нем. Познанное содержание А выделяется —
именно в качестве познанного... — на своем темном фоне, но не
отделяется от него, а, напротив, познается именно на этом фоне...»53
Нашему сознанию, таким образом, дан не только выделенный
предмет, но и весь его «темный фон», который, по мысли Франка,
представляет собой бесконечность. Стало быть, наше сознание
потенциально объемлет бесконечность. Познание имеет
предметную значимость; предметность содержания познания Франк
называет трансцендентностью его, желая тем самым подчеркнуть,
что содержание знания не есть нечто субъективное, что лишь
«является нам», составляет только «наше представление». Напротив,
«познание по своему содержанию совпадает с сущим-по-себе, т. е.
с сущим как оно есть...»54
Что же такое этот «темный фон», этот х, который составляет
основу нашего знания? Ответить на этот вопрос должна онтология т-
учение о бытии.
Бытие как металогическое единство
Темный фон, т. е. неизвестное, представляет собой, по
метафорическому выражению Франка, как бы безбрежный океан,
омывающий «острова» предметного знания. На первый взгляд кажется, что
все неизвестное нам принципиально доступно нашему познанию,
т. е. что потенциально оно является постижимым, так что всякий
новый шаг в познании приближает нас к исчерпывающему,
полному постижению сущего. Но такое воззрение в действительности
не схватывает главного: бытие в своей бесконечности не является
постижимым даже потенциально, ибо, сколь бы далеко ни
продвигалось человеческое познание, оно никогда не сможет дать
исчерпывающего знания о бытии как всеобъемлющем целом. «Бытие
всегда и во всяком своем отрезке познаваемо и одновременно
непостижимо. Всё познанное, знакомое, известное не перестает ос-
53 СЛ. Франк. Непостижимое, с. 201.
54 Там же, с. 211.
266 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
таваться для нас непостижимой тайной*55. Бесконечность
непознанного, подчеркивает философ, окружает и пронизывает нас
со всех сторон, она присутствует и в том, что мы, на первый взгляд,
хорошо знаем. Так, невозможно ни постигнуть, ни выразить в
понятиях пространственную бесконечность, которая хотя и явлена
нам при созерцании бесконечного звездного неба, но при этом не
перестает быть непознаваемой именно как бесконечность.
«Пространственная бесконечность столь же непостижима и страшна
и в бесконечно малом», — пишет Франк56. Не меньшую тайну
являет нам и бесконечность времени, уходящего в непроницаемую
тьму не только будущего, но и прошлого, в котором — загадка и
нашего происхождения, и происхождения жизни вообще.
Перед нами — довольно интересное философское построение.
С одной стороны, русский философ отвергает учения, согласно
которым субъекту недоступно бытие в его подлинности,
недоступны «вещи в себе», если сформулировать это учение на языке Канта.
Человеческий дух, согласно Франку, сам есть бытие, а потому
между ним и всеединством бытия нет никакой преграды57. Ведь
основной тезис интуитивизма гласит, что нам непосредственно
открыто само бытие, а не только субъективный мир опыта, мир явлений,
принципиально отличный от мира вещей самих по себе. Но, с
другой стороны, все познаваемое нами насквозь пронизано,
проникнуто непостижимым, темным, таинственным, —это относится не
только к еще не познанному, но и к тому, что мы считаем хорошо
известным. «Всякая вещь и всякое существо в мире, — резюмирует
Франк эту мысль, — есть нечто большее и иное, чем всё, что мы
о нем знаем и за что мы его принимаем, — более того, есть нечто
большее и иное, чем всё, что мы когда-либо сможем о нем узнать;
а что оно подлинно есть во всей своей полноте и глубине — это
и остается для нас непостижимым»58.
55 Там же, с. 217.
56 Там же, с. 215.
57 То мироощущение, которое пытается философски осмыслить СЛ. Франк,
поэтически передано у поэта-мистика Рильке:
Единое пространство, там, вовне,
И здесь, внутри. Стремится птиц полет
И сквозь меня. И дерево растет
Не только там: оно растет во мне.
И все живет слиянностью одной...
(P.M. Рильке. Лирика. М.-Л., 1965, с. 222. — Перевод Т. Сильман).
58 СЛ. Франк. Непостижимое, с. 220.
Глава 7 Абсолютный реализм СЛ. Франка
267
Это — тот парадокс, на котором стоит всё учение Франка: нашему
сознанию непосредственно открыто бытие, ибо сознание само бы-
тийно, — но в то же время открытое остается сокрытым,
непостижимым по существу своему. И эта непостижимость составляет
самую глубокую характеристику бытия — его металогичность.
Бытие — сверхразумно, иррационально, не подчинено логическим
принципам, законам, которые являются условием возможности
предметного знания, т. е. условием определенности и
обоснованности. Эти законы хорошо известны и сформулированы еще
Аристотелем: законы тождества, противоречия и исключенного третьего59.
Бытие не подчинено логическим законам, потому что оно,
по Франку, едино и сплошно; «сплошное единство бытия» —
любимое выражение русского философа. «В бытии всё связано или,
точнее, сплетено или слито между собой»60. Именно в своей метало-
гичности, непостижимой «слитности» бытие открыто нашему
созерцанию. Поэтому есть два вида знания: знание о предмете,
выражаемое в суждениях и понятиях, — его Франк называет
отвлеченным, и «непосредственная интуиция предмета в его
металогической цельности и сплошности»61. Последнее Франк, понятно,
считает первичным, а отвлеченное знание — вторичным. Но,
строго говоря, интуицию предмета в его металогической цельности
знанием назвать нельзя: в нем нет той самой расчлененности
и дифференцированности, нет определенности, отличающих
знание от незнания. Металогическое единство неизреченно,
непостижимо, неизъяснимо по самому своему существу — как же его
можно назвать знанием? Точнее, наверное, было бы говорить о не-
выразимойреальности, которая в самом существе своем
иррациональна. «Это иррациональное, — пишет Франк, — мы должны
мыслить чем-то вроде субстрата или materiaprima»62.
59 «Определенность знания — его состав как совокупности логически
фиксированных содержаний А.В.С.. — покоится, как известно, на так наз. логически
законах или принципах „тождества", „противоречия" и „исключенного
третьего". Форма отвлеченного содержания А означает: 1 ) что А есть именно оно
само, нечто внутренне тождественное („А есть А" — принцип „тождества"), 2) что
оно не есть нечто другое, что оно выделяется из всего другого („А не есть
не-А" — закон „противоречия") и 3) что этим отличием от всего другого, своим
выделением из него оно однозначно определено („все, что не есть не-А, есть А"
или, как это обычно формулируют, „все мыслимое есть или А, или не-А, и
третьего быть не может" — закон „исключенного третьего")» (там же, с. 227).
60 Там же.
61 Там же, с. 229.
62 Там же, с. 233. - Курсив мой. - ПГ.
268 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
Именно первоматерия — вот, наконец, найдено нужное слово! Ибо
еще у древнегреческих философов — Платона, Аристотеля, Плотина,
Орокла и др. — первоматерия есть нечто совершенно неуловимое,
неопределенное, ускользающее от разума. Не случайно также
употреблено здесь и слово «субстрат» — как наиболее близкое к «перво-
материи». И, напротив, понятие «субстанции» применительно к
бытию как металогическому единству Франк, как мы уже отмечали выше,
категорически отвергает: ведь субстанция (греческое «усия»> —
сущность) и в древней, и в средневековой, и в новоевропейской
философии рассматривалась как некое устойчивое начало в вещи, как
носитель се свойств и качеств, как нечто единое и простое; именно
благодаря своей определенности, самотождественности субстанция
есть то, что может быть постигнуто с помощью разума; субстанция —
основа определения, без которого не может быть познания63. Франк
считает, что понятие субстанции есть «рационализирующее гипоста-
зирование субстрата»; в качестве такового этому понятию нет места
в онтологии. «...Рационализирующее гипостазирование субстрата
приводит к туманному, внутренне противоречивому понятию
„субстанции"; и можно сказать, что ничто не внесло в философскую
мысль столько путаницы и смуты, как это — никогда ясно не
осуществимое — понятие субстанции. Под субстанцией разумеется при этом
что-то вроде „носителя", „подставки", „фундамента" „носимых" им
содержаний или качеств, наша мысль, руководимая наглядным образом
пространственно-механического соотношения, явно противоречит
подлинному соотношению, имеющему здесь место, — именно тому
фаюу, что „носимое" неотделимо здесь реально от „носителя"...»64
63 У Плотина, на которого любит ссылаться СЛ. Франк, понятие субстанции,
или сущности (ousia), есть первейшее обозначение бытия. Так, в «Эннеадах»
читаем: «...Первоединый Сам не имеет ни одной из определенных форм бытия...
междутем как ум есть именно виновник определенности бытия для всего
сущего. Таким образом, в Первоедином нет ни одной из тех сущностей, которые
содержатся в уме, Он только есть для них первоначало, в уме же они становятся
сущностями, потому что от него каждая получает определенность и форму,
ибо истинно сущее должно быть мыслимо не как нечто неопределенное,
колеблющееся, а как бытие, очерченное границей, как имеющее твердую
устойчивость-, устойчивость же для ноуменальных (умопостигаемых. — ПГ)
сущностей состоит не в чем ином, как только в той определенности и форме, в
которой каждая имеет свое бытие» (Эннеады V 1, перевод Г.В. Малеванского //
Плотин. Сочинения. СПб., 1995, с. 62. — Курсив мой. — ПГ.).
Этот отрывок из Плотина для нас очень важен: проблема Единого и бытия
составляет центральную тему в творчестве СЛ. Франка, и к сравнению
концепции Франка с античным неоплатонизмом нам еще придется обращаться.
64 СЛ. Франк. Непостижимое, с. 233-234.
Глава 7 Абсолютный реализм СЛ. Франка
269
Это — очень важный тезис Франка, и необходимо остановиться
на нем специально. Начнем с того, что понятие субстанции
отнюдь не обязательно влечет за собой
пространственно-механические ассоциации. Такого рода критику субстанции мы встречаем
прежде всего у Бергсона. Источник этой критики у французского
философа легко обнаружить: всякое рациональное, понятийное
образование Бергсон считает «механизирующим», поскольку, с его
точки зрения, все устойчивое, неизменное, определенное (а
понятие всегда связано с определенностью) означает остановку
непрестанного изменения, «жизненного потока», который является
непрерывным, сплошным, текучим, — словом, неуловимым в
понятии. По Бергсону, функция рационального постижения состоит
в «опространствливании» временного — а время составляет
сущность жизни. В этом пункте русский философ рассуждает в духе
Бергсона, отвергавшего понятие субстанции, — также, впрочем,
как это делали и неокантианцы, феноменологи, представители
имманентной философии, выдвигавшие, однако, против субстан-
циализма другие аргументы.
Отвергая понятие субстанции, Франк последовательно
выступает против рационалистической традиции, которую в свое время
подверг критике еще Кант: не случайно абсолютный реализм
Франка имеет своим источником трансцендентальную
философию. «Поскольку... момент „субстанции", — продолжает свою
мысль Франк, — сублимируется в рационализме Декарта и
Спинозы в понятие „того, что есть (и мыслится сущим) само в себе,
не нуждаясь для своего бытия и своей мыслимости в чем-либо
ином" (в отличие от содержаний, как качеств или отношений,
которые суть и мыслятся всегда в другом), — это понятие становится
конкретно совершенно неосуществимым. Ибо на свете нет и не
мыслимо ничего, что могло бы быть само по себе, без всякой связи
с чем-либо иным»65.
Франк, конечно, прав, утверждая, что любое сущее находится
в связи и соотношении с бесконечным множеством других сущих,
что оно познается через эти связи и отношения. Но он неправ,
когда делает отсюда вывод, что наличие связей и отношений
исключает необходимость для любого сущего быть самим собой, а не
другим. А ведь именно это в первую очередь и означает понятие
субстанции, или сущности, как оно сформировалось в
древнегреческой философии. Именно признание, что всякое А есть А, а не В,
не С, не D и т. д., и составляет главное содержание понятия субстан-
Тамже,с. 334.
270 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
ции; субстанция как категория есть онтологический аналог
логического закона тождества.
Что же касается определения субстанции у Декарта и Спинозы
как того, что есть само в себе и не нуждается в ином для того,
чтобы существовать и быть мыслимым, то здесь, строго говоря,
под субстанцией понимается единственная самосущая
реальность — Бог. У Спинозы это совершенно очевидно; но и у Декарта
мы встречаем утверждение, что такое определение субстанции
в подлинном своем значении может быть отнесено лишь к Богу,
а к протяженной и мыслящей субстанциям оно применимо не
в полной мере, ибо для своего ^тцествования эти тварные
субстанции нуждаются в Боге-Творце66.
Тем не менее Франк мыслит вполне последовательно в рамках
принятых им предпосылок: не признавая закона тождества (и
других логических законов) применительно к бытию (не случайно
же он называет сто металогическим), он не может признать и
существование субстанции как первого определения бытия. А
поэтому бытие предстает у него как бесконечный поток связей и
отношений, — где нет ничего самотождественного, где всё является
иным иного61.
В качестве металогического бытие характеризуется Франком
как всеединство. «Бытие есть всеединство, в котором все частное
есть и мыслимо именно только через свою связь с чем-либо
другим — в конечном счете со всем иным. В этом отношении даже
понятие Бога составляет лишь мнимое исключение; и Бог, строго
и точно говоря, не обладает тем признаком, который схоластика
обозначила словом aseiïas68, т. е. не есть ens a se69. Ибо именно
потому, что Он мыслится „первоосновой", „Творцом", „Вседержите-
66 См. Р.Декарт. Избранные произведения. М., 1950, с. 448.
67 «Иное» — именно такое имя Платон и неоплатоники дали первоматерии,
которую Франк отождествляет с бытием как металогической реальностью. У
Плотина в этой связи читаем: «...Особенность материи не есть нечто отличное от
нее самой, как бы свойство, привходящее извне. Особенность эта определяется
свойственной материи ролью быть всегда чем-либо иным, чем это данное. И
это иное, взятое как единичное явление, не есть просто иное, а всегда обладает
определенной формой, так что его следует правильно называть „нечто иное".
Для того же, чтобы указать неопределенный характер инобытия материи,
нужно определять ее не как „нечто", а употреблять по отношению к ней
только термин „иное"* (Плотин. Эннеады II4. Перевод Б. Ерогина // Плотин.
Сочинения, с. 305. — Курсив мой. — /7/".).
68 бытие из себя самого (лат.).
69 сущее в себе (лат.).
Глава 7 Абсолютный реализм СЛ. Франка
271
л ем" мира и вообще всего остального, Он немыслим без
отношения к тому, что есть Его „творение"»70.
На место понятия субстанция как исходного онтологического
принципа Франк, как видим, ставит понятие «связи», «отношения».
И не случайно даже Бог мыслится Франком лишь через Его
отношение к творению: вне этого отношения Он, надо полагать,
не только «не мыслим» (что, вообще говоря, верно: Бог, как Он
существует сам по себе, безотносительно к творению, есть предмет
апофатической теологии), но вне его Он и не существует.
Абсолютная реальность, металогическое единство — это Всеединство,
а в нем нет различия не только между сотворенными
субстанциями, но и между тварью и Творцом.
Вполне естественно, что Всеединство, понятое таким образом,
непостижимо и невыразимо: связь иного с иным, отношение
«инойности», пронизывающее собою Всеединство и
составляющее, условно говоря, его субстрат, — это же чистая
беспредельность, невыразимая в слове и непостижимая для ума — не в силу
ограниченности человеческих познавательных способностей,
а в силу своей собственной природы — как materia prima.
В своем понимании Всеединства С. Франк отправляется от
B.C. Соловьева, но, как справедливо отмечает И.И. Евлампиев, идет
дальше Соловьева, поскольку устраняет те моменты дуализма,
которые не удалось преодолеть последнему. Мистицизм В.
Соловьева, по мнению Евлампиева, менее глубокий и последовательный,
чем мистицизм С. Франка. «...Устраняя традиционное для
европейской метафизики противопоставление двух сфер бытия
(идеального и материального. — ПТ.), Соловьев не избегает другой,
не менее существенной формы дуализма. Возникающее в его
философии противопоставление Абсолюта (Сущего, всеединства)
и идеально-материального бытия, раздробленного и „отпавшего"
от всеединства, оказывается не менее существенным и
радикальным, чем традиционное противопоставление „мира вещей" и
„мира идей". Мистицизм Соловьева, в сущности, является не столь уж
далеким от мистицизма Платона; но тогда и все те трудности, с
которыми сталкивалась дуалистическая философия Платона, на
новом уровне обнаруживаются в философии Соловьева... Именно на
преодоление этих трудностей и направлен анализ отвлеченного
знания у Франка... Явно не полемизируя с Соловьевым, Франк,
по сути, перерабатывает соловьевскую концепцию всеединства
с тем, чтобы устранить из нее скрытые противоречия. Сохраняя
С Л. Франк. Непостижимое, с. 234.
272 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
главную идею о том, что подлинная философия может быть
только мистической философией, Франк тем не менее делает
объектом мистического опыта не запредельную реальность, но
единственную „посюстороннюю" реальность нашего мира, реальность
самого бытия. Самым главным здесь оказывается мистическое
восприятие окружающей нас реальности во всех ее частных и
ограниченных проявлениях, а не отрицание этой реальности ради
чего-то выходящего за ее пределы»71.
Сравнение концепций всеединства Соловьева и Франка
у И.И. Евлампнева представляется мне точным и верным.
Действительно, Соловьев не устраняет границы между Абсолютом как
Сущим и миром множественности как бытием-, Франк же стремится
эту границу уничтожить, утверждая единственную — и в самом
деле посюстороннюю — реальность нашего мира. В учении
Соловьева действительно немало от платонизма; его восприятие
посюстороннего мира как своего рода «объективной иллюзии», как
покрывала майи, скрывающего от нас мир подлинно Сущего,
сближает его с Платоном. Но является ли источником соловьевского
«иллюзионизма» то обстоятельство, что он выносит Абсолют за
пределы «посюстороннего» мира? Думаю, что нет. В отделении
Бога от мира скорее преимущество философии Соловьева, а не ее
недостаток. Источник соловьевского иллюзионизма — в трактовке
мира не как творения, а каклвления Бога. Определяя Сущее как
являющееся, а бытие — как явление, Соловьев рассматривает связь
Бога и мира как связь сущности и явления, тем самым
устанавливая между трансцендентной основой мира и самим миром
отношение необходимости. Здесь сказывается пантеистический
мотив в понимании Абсолюта и способа связи его с миром; именно
поэтому все в мире, с точки зрения Соловьева, лишено своей
самостоятельности, субстанциальности, которой оно обладает в том
случае, когда в нем видят творение всемогущего Бога. Соловьев
в сущности склонен отрицать реальное и объективное
существование внебожественного мира72. Он считает этот мир результатом
воображения мировой души, которая, вследствие ее падения,
71 И.И. Евлампиев. Человек перед лицом абсолютного бытия: мистический
реализм Семена Франка // СЛ. Франк. Предмет знания. Душа человека, с. 15.
72 «Если мы не хотим отречься от самой идеи Божества, мы не можем допустить
вне Бога бытия в себе, существования реального и положительного. Внебожест-
венное не может быть поэтому ничем другим, как измененным или
обращенным Божественным. И это мы и видим прежде всего в специфических формах
конечного существования, отделяющих наш мир от Бога. Действительно, этот
Глава 7 Абсолютный реализм СЛ. Франка
273
не может не искажать реальность истинно-сущего. Здесь
Соловьев, пожалуй, ближе всего к пантеистическому учению
Шопенгауэра, хотя, конечно, и платонизм оказал на него немалое влияние.
Что же касается Франка, то он, как верно отмечает И.И. Евлампи-
ев, не признает той границы между Абсолютом и бытием мира,
которую проводил Соловьев. Тем самым Франк освобождается от
некоторых из трудностей, стоявших перед Соловьевым, особенно
тех, что возникли у последнего в связи с центральной для него
темой софиологии. Однако преодоление соловьевского «дуализма»
(как его характеризует Евлампиев) ведет к более
последовательному развитию пантеистического подхода к пониманию бытия.
А вместе с углублением пантеизма в учении Франка появляются
новые трудности. К их рассмотрению мы теперь и переходим.
Онтология Франка —
антиномический монодуализм
Анализ бытия как металогического Всеединства привел СЛ. Франка
к выводу о том, что Всеединство непостижимо для разума. Но в таком
случае перед философом возникает вопрос: каким образом вообще
возможно «мыслящее восприятие непостижимого в качестве транс-
рационалыюго?»73 На этот вопрос Франк отвечает: это возможно
в силу того, что мысль направляется на основное условие самой себя,
т. с. на принцип рациональности. Это — ответ в духе Канта: в отличие
от науки, которая исследует предмет, трансцендентальная
философия исследует сам разум, саму познавательную способность как
условие возможности предметного мира (мира опыта) вообще.
Однако, в отличие от Канта, Франк постулировал, что предпосылки,
благодаря которым возникает предметный мир, коренятся не в
субъекте, а в самой реальности, в бытии. Поэтому и исследование
принципа рациональности должно вскрыть не субъективные
предпосылки мышления, но сами основы бытия74. А для этого мышление
должно, по словам Франка, выйти за пределы рациональности, т. е.
мир сложился вне Бога путем форм протяженности, времени и механической
причинности. Но эти три условия не представляют ничего реального и
положительного, они лишь отрицание и превращение Божественного существования в
его главных категориях» (Вл. Соловьев. Россия и вселенская Церковь, с. 331 )•
73 СЛ. Франк. Непостижимое, с. 302.
74 «В качестве таковой философия, — замечает Франк, есть не „критика" и не
анализ отрешенного от реальности „разума", а — пользуясь недавно введенным
274 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
осуществить акт трансцендирования. «Трансцендирование, —
пишет Франк, — есть... не достижение чего-либо трансцендентного,
а осознание трансцендентального, как бы „пограничного", и
именно потому оно есть „трансцендентальное мышление". Осознание
основы рациональности как бы тем самым делает косвенно видимой
„атмосферу", из которой проистекает рациональность и которая
сама трансрациональна... Чтобы достигнуть абсолютного,
трансрационального, непостижимого, мы не должны покинуть, оставить за
собой относительное, рациональное, постижимое; напротив, первое
именно просвечивает сквозь последнее, имманентно дано в нем
и вместе с ним и лишь в этой форме нам доступно — более того,
лишь в этой форме вообще осмысленно мыслимо»75.
Прикосновение к трансрациональному, металогическому
бытию не требует от нас специальных познавательных усилий, какие
мы делаем, чтобы исследовать предметный мир. «Достижимое
здесь знание, — пишет Франк, — есть как бы некое без... искажения
с нашей стороны нам даруемое целомудренное обладание без
вожделения — не добыча, а чистый дар. Знание есть здесь не суждение,
а чистое созерцание... — созерцание через переживание...»76
Вот в такой форме — форме созерцания-переживания, которое не
есть знание в научном смысле слова, нам открывается само
непостижимое бытие; оно в такой же мере имманентно нашему сознанию,
открыто ему, в какой и недоступно, т. е. траисцендентно по
отношению к рациональному познанию. Как прекрасно выражает эту мысль
русский философ, — оно не добыча, а чистый дар. Именно поэтому
Франк называет знание непостижимого неведением. «Но так как нам
открывается при этом с очевидностью само непостижимое, то это
неведение есть именно ведающее,умудренное неведение»11.
«Умудренное неведение», docta ignorantia — выражение Николая Кузанско-
го, очень точно передающее и основную интуицию С. Франка.
термином — „фундаментальная (основоположная) онтология", или —
употребляя старое, простое и хорошее обозначение Аристотеля — „первая
философия"» (там же, с. 305). Франк, как видим, в своем стремлении создать онтологию
ближе к фундаментальной онтологии Хайдеггера, чем к трансцендентализму
Канта и его последователей.
75 Там же, с. 306-307. Здесь обнаруживается особенно наглядно близость
Франка к Хайдеггеру с точки зрения последнего, бытие открывает себя в сущем,
дано вместе с сущим-, оно есть тот просвет (Lichtung), благодаря которому
становится явным сущее (в терминологии Хайдеггера «сущее» означает то же самое,
что Франк называет «предметным миром»).
76 Там же, с. 207.
77 Там же, с. 308.
Глава 7 Абсолютный реализм СЛ. Франка
275
Понятно, что коль скоро адекватным способом постижения
непостижимого является ведающее неведение, то непостижимое не
может быть схвачено ни в каком суждении, поскольку суждение —
это форма рационального познания. Если мы обозначим
металогическое бытие как А, то никакое высказывание о нем — ни
положительное —А естьВ, ни отрицательное —А не естьВ не будет
истинным. О непостижимом, говорит Франк, можно высказать
только, что оно одновременно есть и В и не-В, или, в
отрицательной форме, что оно не есть ни В, ни не-В. Это значит, что законы
тождества, противоречия и исключенного третьего здесь не
имеют силы. Более того, по убеждению русского философа, именно
через противоречие наиболее адекватно может быть передана
природа бытия как непостижимого. «Отображение
непосредственного восприятия непостижимого как самооткрывающейся
трансрациональной реальности в измерении судящего познания,
т. е.мышления, совершается... через усмотрение безусловно
неразрешимого, непреодолимого никакими новыми, высшими
понятиями антиномизма в существе непостижимого»78.
Итак, рассмотрение вопроса об условиях возможности
рационального знания привело философа к выводу, что антиномия есть
самая адекватная форма знания о металогическом бытии. Если мы
хотим выразить непостижимое на языке суждения, то способом
такого выражения будут два противоречащих друг другу
высказывания, или, если употребить формулу Николая Кузанского, к
которому здесь ближе всего СЛ. Франк, принцип тождества
противоположностей (coincidentia oppositorum)79. Как поясняет Франк,
антиномическое познание — каким, в сущности, и является
философия, понятая как мистический реализм, — есть витание между
и над двумя противоречащими друг другу суждениями. Но это
витание, подчеркивает философ, не есть бессильное колебание или
шатание, — напротив, это «совершенноустойчивое, твердо
опирающееся на саму почву реальности стояние*9®.
Таким образом, истинная философия, согласно Франку, есть
преодоление всякой рациональной философии81. И в самом деле,
78Тамже,с.ЗП.
79 Не случайно эпиграфом к работе «Непостижимое» Франк избрал слова
Николая Кузанского: «Attingitur inattingibile inattingibiliter» — «Через недостижение
достигается недостижимое» (см.: Николай Кузанский. Соч. в 2-х томах. Т. I. М.,
1979, с. 364).
80 С Л. Франк. Непостижимое, с. 313-
8 х См.: там же, с. 314.
276 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
стояние на позиции тождества противоположностей есть самая
радикальная форма отрицания возможности постижения бытия
с помощью мышления.
Свою онтологическую позицию С. Франк характеризует как
антиномический монодуализм. «О каких бы логически уловимых
противоположностях ни шла речь — о единстве и множестве, духе
и теле, жизни и смерти, вечности и времени, добре и зле, Творце
и творении, — в конечном итоге мы всюду стоим перед тем
соотношением, что логически раздельное, основанное на взаимном
отрицании, вместе с тем внутренне слито, пронизывает друг
друга — что одно не есть другое и вместе с тем и есть это другое.
И только с ним, в нем и через него есть то, что оно подлинно есть
в своей последней глубине и полноте. В этом и заключается анти-
номистический монодуализм всего сущего...»82
Как же решаются проблемы человека, мира и Бога в системе
антиномического монодуализма? Касаясь вопроса о человеке,
С. Франк подчеркивает, что не следует ни отождествлять наше Я
с Абсолютным, как это делает Фихте первого периода, ни
противопоставлять человека Абсолюту, подводя его под понятие «твари».
Ни человек, ни мир в целом, по Франку, не может быть понят
адекватно, если рассматривать его как творение трансцендентного
Бога. Принцип тождества противоположностей, на котором стоит
антиномический монодуализм, требует преодолеть дуализм
Творца и творения и, стало быть, рассматривать человека как
воплощенное противоречие: человек — это Абсолют и в то же время —
не Абсолют. «...Человек в его внутреннем существе, в его
непосредственном самобытии, не есть ни сама абсолютная реальность как
таковая, ни нечто безусловно, т. е. в логическом смысле — иное,
или же, что то же самое, он и есть и не есть абсолютная
реальность»83. Витание между и над двумя противоречащими друг
другу утверждениями есть, по Франку, самый адекватный способ
постижения человека84. Но такое постижение тождественно
непостижению. А значит, человек — непостижим и в этом смысле
ничем не отличается от Абсолютной Реальности — от
металогического Всеединства.
82 Там же, с. 315.
83 Там же, с. 830.
84 Именно в этой слиянности-неслиянности Бога и человека кроется источник
характерного для Франка (и восходящего к В. Соловьеву) неразличения
интеллектуальной интуиции как акта духовного и творческого воображения,
которое в большей степени есть способности души, чем духа.
Глава 7 Абсолютный реализм СЛ. Франка
277
Как же раскрывает Франк смысл своего тезиса об
антиномическом монодуализме человеческого Я? Он сталкивает между собой два
взаимоисключающих утверждения. С одной стороны, тезис:
человек есть абсолютная реальность. Эта истина открывается нам в те
мгновения, когда наша душа непосредственно слита с бытием,
например, в сумеречно-сонном состоянии душевной жизни: тут грань
между сознательным и бессознательным как бы исчезает, и человек
смутно ощущает то, о чем говорит поэт: «все во мне и я во всем»85.
Слияние с абсолютной реальностью переживается нами и в
состоянии экстаза, порыва страсти, когда, по словам Франка, «наше
„самобытие" как бы тонет и исчезает в бурном ?ютоке всеобъемлющего
хаоса»86. Обратим внимание: для характеристики Всеединства
Франк находит очень выразительные образы: это —
всеобъемлющий хаос, «темная бесконечность всеединой реальности»87. И это
понятно: ведь именно хаосом является металогическое
всеединство, которое, как мы уже знаем, есть «потенциальность», «сплошная
текучесть», «первая материя». Абсолютное всеединство — это
«неразличимое хаотически-безбрежное единство бесформенного
бытия вообще»™, и с ним сливается наше Я в минуты брезжущего
сознания, порыва страсти или мистического экстаза; тогда наша душа
погружается в «родимый хаос» (Ф. Тютчев)89.
Таково содержание тезиса: Человек есть абсолютная
реальность. Но, с другой стороны, ему противостоит антитезис: Человек
не есть абсолютная реальность. И эту истину, говорит философ,
мы непосредственно видим, когда сознаем себя как «самость», ко-
85 См. стихотворение Тютчева «Тени сизые смесились...»
86 СЛ. Франк. Непостижимое, с. 331. — Курсив мой. — ПГ.
87 Там же, с. 332.
88 Там же.
89 Брезжущее сознание — это сознание ночное; первоматерия, хаос — это же
мрак, это ночь. Мистики и близкие к ним романтики XIX и XX вв. недаром так
любили именно ночь. Мейстер Экхарт обращается к своей пастве: «Крепче
всего вы стоите там, где стоите во мраке». Поэт-мистик Новалис поет гимны ночи;
русский романтик Тютчев, певец «родимого хаоса», именно в «ночном» видит
исток и тайну жизни.-
И чудится давно минувшим сном
Теперь ему все светлое, живое.
И в чуждом, неразгаданном, ночном
Он узнает наследье родовое.
(Ф.И. Тютчев. «Святая ночь на небосклон взошла...» // его же. Лирика. Т. I. М., 1966,
с. 118.)
А вот Райнер Рильке, тоже любимый Франком:
278 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
торая есть «мое собственное бытие», отличное от всего
остального сущего, предстающего в этом случае как внешнее, другое по
отношению к моему Я. Самость, таким образом, не есть всеединство,
она противостоит ему. Однако характерно, что при этом всякое
«самобытие» есть не только нечто одно среди многого иного,
но оно есть «само нечто абсолютно „иное", т. е. единственное,
неповторимое и незаменимо своеобразное»90. И в качестве
абсолютно иного оно опять-таки сродно с Абсолютным Всеединством, ибо
последнее, как мы помним, есть иное иного, «инойность» как
таковая. И в силу этой сродности, этой своей полной «инойности*
самобытие, также как и Всеединство вообще, оказывается
опять-таки непостижимым.
Таким образом, человек, по Франку, непостижим как в своей сли-
янности с Абсолютом, так и в своей отделенности от него, в своей
самости.
Характеристика человеческого бытия по существу совпадает
с рассмотренным выше определением всеединства как чистой
потенциальности, сплошной текучести, становления.
Рассмотрим теперь вопрос о мире и Боге, как он ставится
Франком. Как мыслит философ реальность мира? «Мы можем
определить „мир" как единство или целокупность всего, что я
испытываю как нечто внутренне непрозрачное для меня и в этом смысле
„мне самому" чуждое и непонятное, — как совокупность всего,
что мне либо предметно дано, либо извнутри испытывается мною
так, что носит характер насильственно, принудительно
навязывающейся мне фактической реальности. Иначе это можно
выразить еще в той форме, что „мир" есть единство и целокупность
Du Dunkelheit, aus der ich stamme,
Ich liebe dich, mehr als die Flamme,
Welche die Welt begrenzt,
Indem sie glänzt.
♦Ты, мрак, меня породивший, я люблю тебя больше, чем пламя, которое
блеском своим объемлет-ограничивает мир» (Stundendbuch I. // RM. Rilke. Werke.
Answahl in zwei Bänden. Bd. I. Leipzig, 1959, S. 14).
И еще из Рильке:
В тишину ночей и в темноту,
Словно к благостному устремляясь
И от суетного исцеляясь,
Сердца преизбыток обрету.
(P.M. Рильке. Лирика. М.-Л., 1965, с. 219. Перевод Т. Сильман.)
90 СЛ. Франк. Непостижимое, с. 334.
Глава 7 Абсолютный реализм СЛ. Франка
279
безличного бытия...»91. В понятии «мира», как его видит Франк, мы
легко узнаем фихтевское «не-Я»: мир противостоит моему Я как
другое, чуждое и безличное «Оно»: как «фактичность» в
онтологии Хайдеггера.
Совсем не таково отношение моего Я к Богу: Он, по Франку, есть
для человеческой души нечто близкое и глубоко интимное,
открываемое через обращение к Нему как Ты, т. е. к Личности.
Отношение Франка к Богу и к миру — в корне различное; мир для него —
ничтожен; подлинно глубинным и полным.внутреннего значения
оказывается переживание связи между человеком и Богом,
неразрывного единства «Бог и Я». Божественное у Франка постигается
и переживается не через познание и созерцание мира, а через
углубление во «внутреннее» души: именно там только и можно
обрести Бога. Здесь особенно ясны мистические истоки философии
Франка. Однако нельзя не отметить, что в понимании Бога и мира
Франк ближе к традиции средневековой и новоевропейской
мистики, чем к античной мистике неоплатонизма, в том числе и
Плотина, которого русский философ считает одним из своих
предшественников. У Плотина центр тяжести лежит в связи между Богом
имиром: мир как целое устремлен к Единому как источнику и цели
всего сущего; что же касается индивидуальной души, то она не
имеет такого первостепенного значения, какое получает в мистике
Мейстера Экхарта, Генриха Сузо или Ангела Силезского. Между
Богом и человеком у Плотина нет того отношения взаимной любви,
которое возникает в христианстве: ведь Единое у Плотина — это
не Личность. Поэтому для Плотина главный предмет созерцания
не «Бог и Я», а «Бог и мир», Бог и космос: прекрасный космос не есть
нечто чуждое и внешнее для человеческой души, напротив,
последняя внутренне и глубинно связана с миром-космосом, с
жизнью мировой души.
Совсем иначе мыслит Франк. «Строго говоря, — пишет он, —
вообще невозможно мыслить — или, точнее говоря, опытно иметь —
Божество вне и независимо от его отношения ко мне»92. Божество
не может быть «предхметом», который познается также, как другие
предметы; Божество может только открыть Себямне, и потому по
самой своей сущности Оно «есть всегда „с-нами-Бог" (Эмману-
Эль), в конечном счете „со мной Бог" — конкретная полнота
нераздельного и неслиянного двуединства „Бог-и-я"»93.
91 Там же, с. 513.
92 Там же, с. 476.
93 Там же, с. 467-468.
280 РазделШ Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
Вот это двуединство «Бог-и-я», пожалуй, составляет ту основную
интуицию Франка, которая определила собой принципы его
онтологии — понимания бытия как антиномического
монодуализма. Я и Бог — одно (отсюда — «моно»); но Я и Бог все же два
(отсюда «дуализм»). Но «одно» и «два» — не тождественны, а скорее
противоположны друг другу (вспомним античное
противопоставление «единого» и «неопределенной двоицы»), а потому и
монодуализм необходимо антиномичен.
Опыт Божества как единства «Бог и Я» роднит русского
философа с мистиками — от Мейстера Экхарта (XIII-XIV вв.), Николая Ку-
занского (XV в.), Ангела Силезского и Якоба Бёме (XVII в.) до
Франца Баадера (XIX в.) и Райнера Рильке (XX в.), одного из любихмых
поэтов Франка, творчеству которого он посвятил замечательную
статью94. При всем различии мистического опыта названных лиц
все они переживали единство с Богом. Чувство слиянности с
Божеством порождает у мистика сознание своей тождественности
с Ним, более того, даже зависимости Бога от любящей его и
любимой Им человеческой души. «Я знаю, — цитирует Франк Ангела
Силезского, — что Бог ни мгновения не мог бы жить без меня; если бы
я погиб, Бог должен был бы от нужды во мне скончаться»95. В этом
ряду нельзя не назвать и Иоганна Фихте, соединившего, как и Эк-
харт, свой мистический опыт с философской спекуляцией.
Именно непосредственное сознание нераздельности «моего Я» и Я
божественного и лежит в основе фихтевского понятия Я, в котором
94 См.: СЛ. Франк Мистика Рейнера Мария Рильке//Путь, № 12-13- Париж, 1928.
95 Angélus Silesius. Cherubinischer Wandersmann. Kritische Ausgabe. Stuttgart, 1984,
1,8. У Рильке на эту тему есть выразительное стихотворение:
Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe?
Ich bin dein Krug (wenn ich zerscherbe?).
Ich bin dein Trank (wenn ich verderbe?).
Bin dein Gewand und dein Gewerbe,
mit mir verlierst du deinen Sinn.
Was wirst du tun, Gott? Ich bin bande...
«Что ты будешь делать, Боже, если я умру?
Я твой кувшин (если я разобьюсь?).
Я твой напиток (если я прокисну?).
Я твое платье и ремесло,
утратив меня, ты утратишь свой смысл.
Что ты будешь делать, Боже? Мне страшно за тебя...»
(R.M. Rilke. Stundenbuch I, S. 29)
Глава 7 Абсолютный реализм СЛ. Франка
281
слились в трудно расчленимом единстве абсолютное и конечное
Я. Не удивительно, что всякая попытка определить природу
исходного первоначала Фихтева наукоучения рождала острую
полемику между Фихте, его последователями и его критиками96.
С. Франк, хорошо сознавая и постоянно подчеркивая свою
принадлежность к традиции мистики, в то же время хотел бы избежать
тех искушений, которые таит в себе мистический опыт его
предшественников, в том числе Экхарта, Бёме, раннего Фихте. А
искушения эти — в сознании того, что человеческая душа в мистичес^
ком единении (unio mystica Экхарта) становится равной Богу, —
в душе живет нетварное начало, «искорка», которая, по Экхарту,
превыше не только всякого творения, но даже и самого Бога (Эк-
харт, как известно, различает Бога и Божество: Бог возник вместе
с миром, а Божество — вечно, и именно с Божеством сливается
душа в мистическом экстазе). Человеческое Я, таким образом,
обоготворяется. «Бездна» души, ее темная глубина, куда не проникает
свет сотворенного мира, тождественна «бездне» Божества.
Немецкий философ Георг Мелис пишет об искушении человекобожест-
ва, которое не преодолел Экхарт: «Душа, по Экхарту, — творец, а не
только творение. Она, как Бог, существует от века и до века...
Благодаря человеческой душе Бог испытывает принуждение... Он
должен соединиться с душой, хочет ли Он того или нет. Так из
противоположных требований магии и мистики... вырастает великое,
благочестивое и греховное произведение: учение Мейстера Экке-
харта. Требованию магии удовлетворяет высокая оценка значения
души, которая ничего не терпит над собою, которая по своему су-
96 «Я» в качестве исходного принципа («первого основоположения»)
Наукоучения 1974 г. имеет все характеристики, которые обычно приписывались Богу:
абсолютность, бесконечность, неограниченность. Как отмечает немецкий
философ, исследовательница Фихте Карен Глой, Фихте при описании Я
использует понятия, с помощью которых теологи и философы определяли Бога,
например, causa sui (причина самого себя), aseitas (самобытие), omnio realitatis
(всереальность) и др. (см.: К. Gloy. Die drei Grundsätze aus Fientes «Grundlage der
gesamten Wissenschaftslehre von 1794» // Philosophisches Jahrbuch. Jg. 91.
2 Halbband. Freiburg-München, 1984, S. 290-291). Один из первых критиков
Фихте, Баггезен, следующим образом интерпретировал его первопринцип: «„Я
есмь, потому что Я есмь!" — Так может воскликнуть только чистое Я; а чистое
Я — это не Фихте, не Рейнгольд, не Кант: чистое Я есть Бог» (цит. по: «Fichte in
vertraulichen Briefen seiner Zeitgenossen». Hrsg. vom H. Schulz, В., 1923, S. 15). В
том же духе толковали Фихтево Я Гёте, Шиллер и многие другие современники
философа. И в XX веке этот вопрос по-прежнему остается спорным: так, Р. Кро-
нер и Г. Радерманн, В. Вундт, В. Янке считают, что абсолютное Я первого
основоположения — это человеческое самосознание.
282 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
ществу равна Богу, безначальна и беспричинна, как Он. Душа
свободна, ибо ее божественность не знает никакой высшей мощи ,..»97
К мистике Экхарта близка поэзия Рильке, который тоже
находит Бога в глубине своей души как тишину, мрак и молчание. Бог
так интимно близок душе, а душа столь проникнута божественным
началом, что у Рильке возникает не только любовь-жалость к Богу,
который погибнет, если умрет любящая его душа, но и образ Бога
как Сына — наследника всех богатств мира, образ, навеянный,
быть может, немецким идеализмом с его учением о становящемся
Боге. Рильке видит в человеке отца — и, стало быть, творца Бога.
Но такой Бог не имеет уже ничего общего с христианским
трансцендентным Богом — Творцом мира и человека. Как справедливо
замечает Федор Степун, «Бог как сын человека не есть Бог, а если
и есть, то не Бог христианский, а Бог ницшеанский, т. е. не Бог,
а Сверхчеловек»98. Хотя Франку, как и Рильке, совсем не чужд
Ницше, однако русский философ не мог не видеть таящихся в мистике
опасностей обожествления человеческого Я. Пафос человекобо-
жества, столь распространенный в нашем веке, также как и идеи
человекобожеского титанизма, захлестнувшие в XX веке
революционную Россию, чужды Франку и не приемлются им: не случайно
Франк был одним из наиболее глубоких критиков утопического
сознания XX в."
Как же понимает наш философ единство «Бог и Я»? Читаем
Франка: «Эта неразрывная моя совместимость с Богом есть именно
первоначало, поскольку оно впервые конституирует, образует,
творит меня самого. Франц Баадер с полным правОхМ заменяет
Декартово „cogito ergo sum" формулой „cogitor ergo sum"100. Божий взор
всегда направлен на меня; он есть вечный, обращенный на меня
и меня созерцающий взор... Этот направленный на меня... Божий
взор — Бог как „ты", или Бог кшмой Бог — есть та абсолютная
всемогущая сила, которая конституирует и сохраняет мое бытие...»101
И тем не менее остается не разрешенным вопрос: Бог и Я — это
два существа или одно? Обладает ли человеческое бытие
известной автономностью по отношению к Богу? И, с другой стороны,
97 Г. Мелис. Формы мистики //Логос 1912-1913- Кн. I и II. М., б/г., с. 273-
98 Ф. Степун. Трагедия мистического сознания //Логос 1911-1912. Кн. II и III.
М., б/г, с. 139.
99 См. замечательное исследование СЛ. Франка «Ересь утопизма. Критика
идейных основ религиозного, политического и социального утопизма». Л, б. г.
100 «меня мыслят, следовательно, я существую» (лат).
101 СЛ. Франк. Непостижимое, с. 471 -472.
Глава 7 Абсолютный реализм СЛ. Франка
283
трансцендентен ли Бог по отношению к человеку и миру?
Размышляя над этой — очень старой и всегда новой — проблемой,
русский философ формулирует альтернативу: «Либо я сам — во всей
моей беспочвенности, безосновности и зыбкости — есмьБог —
утверждение бессмысленное и чудовищное (что не мешало ему
неоднократно возникать в человеческом сознании)... Либо же меня
вообще нет и нет ничего, кроме Бога. Эта мысль тоже
противоестественна... но она все же в каком-то отношении ближе к правде,
и „пантеизм", например, Спинозы есть, как совершенно
справедливо указал Гегель, все же нечто совершенно иное, чем атеизм»102.
Само собой напрашивается то решение этой альтернативы,
которое предлагает онтология так резко отвергаемого Франком
субстанциализма: Бог и Я — это два существа, но обладающие
различным онтологическим статусом: Бог — субстанция вечная и
бесконечная, имеющая в самой себе источник своего бытия, человек
же — субстанция конечная, имеющая источник своего бытия не
в себе, а в Другом, а именно в Боге, но обладающая — будучи
субстанцией — относительной самостоятельностью, что
выражается в наличии у нее свободной воли. На языке христианского
богословия та же мысль передается в других терминах: Бог есть Творец,
а человек — творение; в качестве Творца и творения они
несоизмеримы по своему бытийному уровню; творение имеет причину
своего существования в Творце, но тем не менее человек сотворен
свободным, а это значит, что он обладает относительной
независимостью от Творца, и достижение В1гутреннего единства Творца
и твари («Бог и Я») опосредовано актом свободы человека,
свободным обращением его к Богу, свободной любовью к Творцу.
Однако для Франка, который, как мы уже знаем, не признает
онтологию субстанциализма, такое решение проблемы «Бог и Я»
неприемлемо. «...Традиционное учение о „сотворении мира" в его
популярной форме мы... не можем брать в его буквальном смысле, именно как
отчет о... причинной связи между Богом и „возникновением" мира» юз.
Философ приводит основания, которые, на его взгляд, не позволяют
принять идею творения: во-первых, ничто, из которого по Слову
Бога возник мир, «есть просто слово, ничего не обозначающее»;
во-вторых, «возникновение» мира уже предполагает время, тогда как
«время есть характеристика уже мирового бытия»104. Эти аргументы,
однако, вряд ли можно считать достаточно весомыми, тем более ког-
102 Там же, с. 489.
103 Там же, с. 519-
104 Там же.
284 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
да их приводит такой серьезный мыслитель, как Франк трудно
допустить, что Франку неизвестны сочинения христианских богословов,
в том числе отцов Церкви, например Григория Нисского или
Августина, где эти вопросы получили не только «популярное»
осмысление105. На самом деле идею творения Франк не принимает по
причине ее несовместимости с фундаментальными принципами его
учения о всеединстве. В рамках этого учения «Бог, как абсолютное
первооснование или Первоначало, есть всеединство, вне которого
вообще ничто немыслимо»106. Мир, по Франку, не творение Бога,
а «иное Бот», что далеко не одно и тоже. Вспомним онтологический
вывод Франка о том, что бытие есть всеединство, в котором все
частное существует — а потому и мыслится — только через свою связь
с чем-либо иным, что все в бытии отсылает к иному, а потому «иной-
ность» есть его (бытия) глубочайшая характеристика. С такой точки
зрения мир есть «иное» Бога. Это значит, что Бог не существует и не
мыслим вне его отношения к миру, как и мир — вне его связи с
Богом. Таким образом, сама концепция всеединства, как ее представил
С. Франк, несовместима с идеей творения. Как справедливо отмечает
В.В. Зеньковский, «через идею всеединства Франк близок к „теокос-
мизму", к такому сближению космоса с Богом, при котором идея
творения оказывается по существу ненужной и неприменимой»107.
Как же в таком случае решает Франк сакраментальный вопрос:
Бог и Я — это два существа или одно? Как и в других аналогичных
случаях, когда сталкиваются между собой два взаимно
противоречащих друг другу утверждения (в данном случае «Бог и Я — одно
существо» и «Бог и Я — два существа»), философ видит решение
вопроса в признании парадокса в качестве последней истины. «Дву-
единство между Богом и мной — которое рационально не
мыслимо непротиворечиво ни как единство, ни как двойственность, —
может быть постигнуто во всяком случае лишь в форме уже
знакомого нам антиномистического монодуализма»108.
105 «Творение мира из ничего, — пишет Н.О. Лосский, — в действительности
нужно понимать как утверждение, что Богу не нужно никакого данного Ему
материала, ни вне Его, ни в Нем Самом, потому что творение состоит именно в
созидании чего-то совершенно нового, не бывшего ни в Творце, ни вне Его. Кто
так понимает дело, тот четко разграничивает Бога и мир как Творца и тварь и
понимает отношение это как лишь одностороннюю зависимость мира от Бога:
мир не может существовать без Бога, но Бог... не нуждается в бытии мира»
(Н.О. Лосский. История русской философии. М., 1994, с. 299).
106 СЛ. Франк. Непостижимое, с. 521.
107 В.В. Зеньковский. История русской философии. Т. II. Ч. 2. Л., 1991, с. 178.
108 СЛ. Франк. Непостижимое, с. 491.
Глава 7 Абсолютный реализм СЛ. Франка
285
Таким образом, русский философ мыслит бытийное отношение
между человеком и миром, человеком и Богом, Богом и миром
и как двойственность, и как единство, считая витание над этим
противоречием последним словом мистического реализма.
Для Франка, как замечает его друг Л. Бинсвангер, «все здешнее
в его коренной сущности является не чем иным, как откровением
Потустороннего в его инородности... Для Франка Бог „не только
трапсцендентен, но и имманентен твари", почему он по праву
говорит о панэнтеистическом моменте в своем учении»109.
Термин «панэнтеизм» происходит от греческого «всё в Боге».
Франк действительно характеризовал свое учение как панэнтеизм,
пытаясь преодолеть пантеизм философии всеединства с помощью
принципа монодуализма. В отличие от пантеизма,
отождествляющего Бога и мир, панэнтеизм, как утверждают его сторонники,
признает личное начало в Боге и таким образом стремится сохранить
некоторое различие (дуализм) Бога и мира, настаивая в то же время
на их изначальной нераздельности. В системе всеединства
невозможно освободить Бога от мира, признав его действительную
трансцендентность, лишь тонкая грань отделяет панэнтеизм
Франка от пантеизма.
Именно немецкая мистика, оказавшая сильное влияние на
русскую религиозную философию начиная с Вл. Соловьева, определила
характерное для многих ее представителей сближение с
пантеизмом, — пантеизмом не натуралистического, а именно мистического
толка. Это обстоятельство отметил Г. Флоровский в своей статье,
посвященной памяти С. Франка. На вопрос о том, возможно ли
мыслить Бога без мира, «Франк, — пишет Флоровский, — не может
ответить утвердительно, следуя в этом за Николаем Кузанским, Мейсте-
ром Экхартом, Ангелом Силезским и многими другими. И в этом
пункте вскрывается, казалось бы, неожиданное совпадение с
основным мотивом немецкого идеализма и особенно с Гегелем. По
Франку, Бог как-то „переходит" в иное, чем Бог; и мир есть „иное самого
Бога". Не следует ли сказать, вслед за Гегелем, что „мир есть инобытие
Бога"?... СЛ. Франк... отстраняет все „пантеистические" мотивы. Но он
не может, по самому замыслу своей системы, допустить свободу Бога
от мира и этим, с одной стороны, вполне закрепить „совершенную
инаковость" Божества, а с другой — освободить понятие „безоснов-
ности" мира... от диалектической относительности»110.
109 Л. Бинсвангер. Воспоминания о Семене Людвиговиче Франке // Сборник
памяти Семена Людвиговича Франка, с. 32-33.
110 «Сборник памяти Семена Людвиговича Франка», с. 154.
286 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
Умудренное неведение.
Семен Франк и Николай Кузанский
Умудренное неведение, как мы видели, является единственно
адекватным способом постижения непостижимого, а Николай
Кузанский — предшественником философии металогического
всеединства. Подчеркивая всеобъемлющий характер антиномического
монодуализма, Франк опирается на Николая Кузанского как
предтечу философии всеединства. «Первооснова не только — как
говорит Николай Кузанский о Боге — имеет свой центр везде и свою
периферию — нигде, но она есть некоторого рода вездесущая
атмосфера, которая также неотделима от первоосновы, как центра,
как от солнца неотделим свет... Поэтому первооснова есть
всеединство или все единое»1и.
Для более глубокого проникновения в смысл учения С. Франка
о непостижимом необходимо ближе рассмотреть основные
принципы философии Николая Кузанского. Последний в своем
творчестве примыкает к традиции платонизма. Это нетрудно заметить, читая
его сочинения, изобилующие ссылками на Платона, пифагорейцев
и неоплатоников, особенно Прокла и Дионисия Ареопагита. Кузанец
видит в Платоне мыслителя, у которого важную роль играет понятие
единого, централы юс также и в учении Кузанца. Платоновская и
неоплатоническая традиция сказалась также в стремлении Николая
разъяснить исходные понятия с помощью математических
аналогий — «танп числа». «Математика, — пишет Кузанец, — лучше всего
помогает нам в понимании разнообразных божественных истин»112.
Однако учение Николая Кузанского — не просто продолжение
платонической традиции, а ее существенно новое истолкование.
Начнем с центрального понятия как Платона и неоплатоников, так
и Кузанца, — с понятия единого. У Платона и неоплатоников
единое характеризуется через противоположность «иному», не-еди-
ному. Кузанец, напротив, с самого начала утверждает, что
«единому ничто не противоположно»113. Отсюда последовательно
делается решающий вывод, что «единое есть всё»114. «Единое, —
пишет Кузанец, — оказывается тем же, что и всё»115. Такое
утверждение вступает в противоречие не только с христианской теоло-
111 СЛ. Франк. Непостижимое, с. 445.
112 Николай Кузанский. Соч. в 2-х томах. Т. I, с. 64.
113Тамже,с.51.
114 Там же, с. 414.
115Тамже,с.313.
Глава 7 Абсолютный реализм СЛ. Франка
287
гией, для которой принципиально различие Творца и творения,
но и с учениями Платона и неоплатоников, которые — по другим
основаниям, но тоже не отождествляли «единое» и «всё». Так, Прокл
вслед за Платоном считает, что единому противоположно
беспредельное, а потому единое, как оно существует само в себе, и
единое, причастное многому (а именно в силу этой причастности
и возникает «всё»), — это не одно и то же116.
Кузанец, таким образом, делает решительный шаг к пересмотру
предпосылок и античного, и средневекового мышления. Из
утверждения, что единое не имеет противоположности, следует
вывод о том, что единое тождественно бесконечному. Бесконечное —
это то, больше чего не может быть; стало быть, это — максимум;
единое же как таковое — это, говорит Кузанец, абсолютный
минимум. Поскольку «Божество есть бесконечное единство»117, то в нем
противоположности — максимум и минимум (на языке
платоников — беспредельное и единое) — совпадают. «Максимумом я
называю то, больше чего ничего не может быть. Но такое преизоби-
лие свойственно единому. Поэтому максимальность совпадает
с единством, которое есть и бытие. Если такое единство
универсальным и абсолютным образом возвышается над всякой
относительностью, то ему ничего и не противоположно по его
абсолютной максимальности. Абсолютный максимум есть то единое,
которое есть все; в нсхМ все, поскольку он максимум; а поскольку
ему ничто не противоположно, с ним совпадает и минимум»118.
Таким образом, согласно Николаю из Кузы, единое есть
тождество противоположностей, в нем совпадают максимум и минимум.
116 «...Необходимо, — пишет Прокл в этой связи, — чтобы нечто объединенное
отличалось от единого, ибо, если единое тождественно объединенному (т. е.
„всему". — ПГ.), оно становится бесконечным множеством, и то же самое будет
с каждой из (частей), из которых состоит объединенное» (Прокл.
Первоосновы теологии, с. 29). Прокл здесь, в сущности, повторяет аргумент, приведенный
Платоном в его диалоге «Парменид».
117 Николай Кузанский. Сочинения. Т. I, с. 57.
118 Там же, с. 51. Обратим внимание, что у Кузанца единое отождествлено с
бытием. И тут он рассуждает иначе, чем Платон и неоплатоники. В диалоге
«Парменид» Платон доказывает, что о едином самом о себе («не причастном многому»)
нельзя сказать ни того, что оно существует, ни того, что оно не существует (ибо
единое само по себе не может иметь никаких предикатов). Согласно Плотину,
единое — по ту сторону бытия. Особенно подчеркивается эта мысль у Дионисия
Ареопагита: Бог — по ту сторону даже таких определений, как «есть» и «не есть».
См. подробнее об этом: M. de Gandillac. Oeuvres complètes du pseudo-Denis
l'Aréopagite // Bibliothèque philosophique. P., 1943, p. 179-180. Характерно, что и
288 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
Чтобы сделать более наглядным принцип совпадения
противоположностей, Кузанец обращается к математике, указывая, что при
увеличении радиуса круга до бесконечности окружность
превращается в бесконечную прямую. Диаметр тоже становится
тождественным окружности; но самое главное — с окружностью
совпадает и центр круга, а тем самым оказываются тождественными точка
(минимум) и бесконечная прямая (максимум)119. Аналогично дело
обстоит с треугольником: если одну из его сторон увеличивать до
бесконечности, то и другие тоже будут становиться
бесконечными, и фигура превратится в бесконечную прямую.
Место понятия единого у Кузанца теперь занимает понятие
актуальной бесконечности, которое есть результат совпадения
противоположностей — единого и беспредельного. В самом деле, в
актуально бесконечном беспредельное мыслится как завершенное,
не как беспрерывное переступание предела, движение без конца,
становление, как его понимали в античности, называя «иным»,
«нетождественным» (Платон, неоплатоники), чистой потенцией,
материей, лишенной формы (Аристотель). Беспредельное,
которое по традиции называлось материей и противопоставлялось
форме и единому как началу всякого оформления, у Кузанца
отождествляется с единым.
Как видим, СЛ. Франк вполне справедливо считает Николая Ку-
запского своим великим предшественником: и в самом деле,
принципы учения о всеединстве, пожалуй, впервые были сфорхмулиро-
ваны именно кардиналом из Кузы. В рамках этого учения грань
между трансцендентным Богом, который один мыслился
средневековыми теологами как актуально бесконечный, и тварным
миром до известной степени снимается; в результате конечное, твар-
ное сущее теряет свою определенность. И это естественно, коль
скоро парадокс в виде принципа совпадения
противоположностей объявляется исходным для философского мышления, а тем
самым устраняются закон тождества и закон противоречия в
качестве основных предпосылок познания.
Для средневековой теологии актуально бесконечный Бог
является столь же непостижимым, запредельным для ума, сколь
запредельным и недоступным для мысли платоники считали единое. На-
сам Николай Кузанский в работе «О предположениях» говорит, что на вопрос:
«есть ли Бог?» наиболее правильно будет ответить, что «он ни есть, ни не есть,
ни — есть и не есть» (Николай Кузанский. Соч. Т. I, с. 196). Это — в духе
неоплатонизма; но непоследовательность в этом вопросе у Кузанца встречается часто.
119 См. там же, с. 83-
Глава 7 Абсолютный реализм СЛ. Франка
289
деляя всеединство теми же характеристиками, какие присущи Богу
отрицательной теологии, Кузанец тем самым в сущности
объявляет непостижимым все бытие. И в самом деле, вот к каким выводам
приводит философа принятая им предпосылка: «...Если бы одна
бесконечная линия состояла бы из бесконечного числа отрезков
в пядь, а другая — из бесконечного числа отрезков в две пяди, они
все-таки с необходимостью были бы равны, поскольку
бесконечность не может быть больше бесконечности... Мало того, поскольку
любая часть бесконечности — тоже бесконечность, одна пядь
бесконечной линии также превращается во всю бесконечную линию,
как две пяди. Точно так же, раз всякая сущность в максимальной
сущности есть сама эта максимальная сущность, максимум есть не
что иное, как точнейшая мера всех сущностей»120.
«Точность» такой меры ведет к тому, что исчезают всякие
конечные различия между числами и фигурами, всякое число
оказывается равным другому, треугольник и окружность сливаются в
бесконечную линию. Утверждая тождество единого и бесконечного,
принимая актуально бесконечное в качестве меры, Николай Ку-
занский приводит во взвешенное состояние {«витание» над
антиномиями) всякое знание, и прежде всего положения наиболее
достоверной из наук — математики. И понятно, коль скоро исчезает
грань между трансцендентным Богом, действительно
непознаваемым для разума, и миром конечных вещей, то и последний
оказывается погруженным во мрак «умудренного неведения».
Отвергая онтологию субстанциализма и критикуя Аристотеля,
утвердившего в качестве основного принципа познания закон
тождества и непротиворечия, Кузанец рассматривает все сущее
под знаком соотнесенности: отношение становится у него на
место субстанции и относительность выходит на первый план при
рассмотрении мира в целом. Не случайно именно Кузанец задолго
до Коперника последовательно проводит мысль о бесконечности
(«привативной»у т. е., на языке Николая, потенциальной)
Вселенной, которая — в силу этого — не может иметь ни центра, ни
окружности. Ибо и центр, и окружность — границы, а бесконечность,
пусть и привативная, пределов не имеет. Все фиксированное,
устойчивое, все определенное, полагает Кузанец, есть результат
рассмотрения предмета с конечной точки зрения; только
относительность абсолютна, ибо она есть результат воззрения на мир
сквозь призму бесконечности. В этой новой метафизике —
назовем CQ метафизикой универсальной относительности — все су-
Тамже,с. 52.
290 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
щее отнесено к другому и рассматривается только через эту
соотнесенность — как иное иного.
Корни теологии и философии Николая Кузанского — в
мистических учениях XIII-XIV вв. — Мейстера Экхарта, Виклефа и др.
Мистик стремится отрешиться от внешнего мира, мира
множественности и изменения, но в то же время и ясной оформленности; он
уходит от этого мира в безмолвие и нерасчлененность (священный
мрак) той душевной глубины, пребывание в которой дает ему
полноту религиозного переживания — слияния с Божеством. Но если
он хочет выразить эту несказанную полноту с помощью понятий,
то он создает спекулятивную философию, как это делает, в
частности, Николай Кузанский121. Последний вводит понятия, с помощью
которых мир оформленных предметов, посюсторонний мир,
приобретает таинственность и невыразимость мира потустороннего,
теряя свои границы и очертания, свою определенность. Все
ограниченное и определенное, с точки зрения Николая Кузанского,
несет на себе черты небытия, является продуктом отрицания-, мысль,
впоследствии развитая у Дж Бруно, Спинозы, Гегеля.
Путем Кузанца идет и СЛ. Франк. «Поскольку слово есть
средство выражения мысли — познания в понятиях, — реальность сама,
в ее живой конкретности, остается безусловно несказанной,
неизъяснимой...»122 Реальность представляет собой «как бы явную,
светло озаренную, видимую тайну, которая не перестает быть
тайной от того, что открыто стоит перед нами и нами
созерцается»125. Так же, как и для Кузанца, для Франка — мы уже знаем это —
адекватным способом постижения тайны бытия является ее
непостижимость; умудренное неведение поэтому оказывается высшей
точкой на пути философского познания реальности.
121 Николай Кузанский положил начало той линии в новоевропейской
философии, которая идет от Бруно через Спинозу к немецкому идеализму и
которую характеризует стремление мыслить высшее начало как тождество
противоположностей. У всех названных философов, как и у Кузанца, мы находим
пантеистически окрашенное сближение Бога и мира. У Бруно, Спинозы и
раннего Шеллинга — это натуралистический пантеизм, в котором Бог сливается
с природой; ранний Фихте и Гегель ближе к пантеизму свободы (см. об этом
подробнее мою работу «Парадоксы свободы в учении Фихте». М, 1990).
СЛ. Франк хорошо видит общие предпосылки, лежащие в основе учения
Николая Кузанского и названных философов Нового времени, особенно Гегеля,
который создает диалектику, покоящуюся на принципе совпадения
противоположностей.
122 С Л. Франк. Непостижимое, с. 231.
123 Там же.
Глава 7 Абсолютный реализм СЛ. Франка
291
Поскольку всеединство предстает у Франка как нечто текучее,
слитное, сплошное, непрерывное, что он сам характеризует как
«первую материю» — чистую потенциальность, то всякая
определенность, без которой невозможно познание, характеризует, с его
точки зрения, низший слой бытия. «...Мы должны различать, —
пишет Франк, — спои бытия разного гносеологического и
онтологического достоинства, и в силу этого можем признать, что то, что
соответствует низшему, менее истинному бытию, вместе с тем не
соответствует абсолютному или высшему бытию...»124 Что же
представляет собой это «низшее бытие», которое мы познаем с
помощью закона определенности?125 Есть ли оно нечто реально сущее
или, как полагал, например, Бергсон, лишь конструкция,
производимая познающим субъектом? Вот как решает СЛ. Франк этот
вопрос: «Закон определенности... утверждает, что А есть всегда А, т. е.
что каждый признак имеет сам по себе абсолютно-определенное
и тождественное себе содержание, — все равно, мыслится ли он
обособленно или как часть более сложного целого... Этот закон,
таким образом, обеспечивает нам, что производимый нами анализ
ничего не изменяет в объекте, не прибавляет к нему ничего
субъективного... а точно воспроизводит его собственную природу»126.
Однако при этом философ подчеркивает, что хотя отвлеченное
знание («система отвлеченных или замкнутых определенно-
стей»127) есть не вымысел, а изображение самого бытия, тем не
менее оно не схватывает бытие как целостное единство, а поэтому
в известной мере искажает подлинную реальность, поскольку
берет части вне целого. А между тем части в качестве
самостоятельных реальностей не существуют; и потому «знание, дающее нам
вместо истинно-сущего лишь производно-сущее, имея
объективное значение, тем не менее не адекватно своему предмету»128.
Поясняя свою мысль, Франк ссылается, с одной стороны, на
Бергсона, а с другой, на Плотина. Рассмотрим эти ссылки подробнее.
Согласно Франку, при разъяснении специфики отвлеченного знания
24 СЛ. Франк Предмет знания, с. 278.
125 Заметим, что Франк при этом признает закон определенности (т. е. закон
тождества и противоречия) необходимой предпосылкой познания, которое
носит всеобщий, т. е. объективный характер. «Закон определенности есть
закон всякого мыслимого содержания вообще, или — точнее говоря — условие, в
силу которого всякое содержание становится- впервые вообще мыслимым»
(там же).
126 Там же, с. 272. — Курсив мой. — ПГ.
127 Там же, с. 278.
128 Там же, с. 279-
292 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
можно применить «известное бергсоновское уподобление
отвлеченной мысли кинематографическому изображению, которое
через рад прерывистых снимков стремится воссоздать живую и
непрерывную полноту предмета и всегда лишь до некоторой степени
достигает своей цели»129. Действительно, Бергсон был убежден, что
подлинная реальность, будучи живой, а значит — изменчивой,
текучей, непрерывной, не может быть постигнута с помощью понятий:
она недоступна рациональному познанию. Сюда Бергсон относил
также и пространственное перемещение — движение, поскольку
оно представляет собой непрерывное изменение во времени. С ним
вполне согласен и СЛ. Франк он относит поэтому к сфере
непостижимого всё живое, изменяющееся, становящееся, непрерывное130.
А теперь приведем отрывок из Плотина, цитируемый Франком.
Рассуждая о различии между миром чувственным («здешним»)
и миром сверхчувственным (умопостигаемым), Плотин говорит,
что в умопостигаемом мире («там») всё едино, а в чувственном —
разделено на множество. «В мире разума... часть представляет целое
и все близко друг к другу и не отделено одно от другого, и ничто не
становится только „иным", отчужденным от всего остального»131.
На первый взгляд может показаться, что Бергсон и Плотин
говорят одно и то же. Однако при более внимательном анализе мы
обнаружим между ними существенное различие. Бергсон понимает
подлишгую реальность как потенциальность, становление,
которое по причине своей иррациональности недоступно
постижению в понятиях. Плотин же мыслит подлинную реальность как то
целое, которое недоступно низшей познавательной
способности — рассудку (дианойя), но может быть познано с помощью
высшей способности — разума (нус). Поэтому греческий философ
129 Там же, с. 275. — Курсив мой. — ПГ.
130 «Если наука и рациональное мышление может определять и измерять
движение и вообще становление, то оно осуществимо для него лишь тем
способом, что оно рассматривает становление как уже ставшее, свершившееся, как в
готовом законченном виде данное в аспекте прошлого... Собственное существо
становления как такового — момент динамичности в нем... — остается при
этом вне поля зрения... Всё, что может уловить и „понять" рациональное
мышление, есть нечто статическое, неподвижное... Существо становления как
такового нельзя ни разложить на отдельные элементы, ни свести к чему-либо
тождественному... Это столь, по-видимому, простое, универсальное... и знакомое
нам явление — впервые в наше время уловленное и замеченное Бергсоном —
остается все же безусловно непонятным, непостижимым...» (СЛ. Франк.
Непостижимое, с. 245-246).
131 Ennead. Ill, 2,1 // Цит по: СЛ. Франк. Предмет знания, с. 276.
Глава 7 Абсолютный реализм СЛ. Франка
293
и характеризует это высшее бытие как умопостигаемое. С точки
зрения Плотина, умопостигаемое бытие не есть
потенциальность, текучесть, не есть становление: всё это —
характеристики низшего начала, а именно беспредельного, материи, которая
непостижима ни для рассудка, ни для разума в силу самой своей
природы: это — темное, хаотическое начало, недоступное
познанию не потому, что оно — выше разума (таково Цциное), но
потому, что разуму в нем нечего познавать-, оно в сущности являет
собой небытие, хаос, тьму. Что же касается целого, то, с точки зрения
Плотина, оно не только постижимо для ума, но, более того — есть
подлинный предмет философского умозрения.
Как видим, понимание реальности у Бергсона и Плотина совсем
не одинаковое. Между ними — водораздел, проведенный
родоначальником философии Нового времени Николаем Кузанским,
снявшим само собой разумеющуюся для античного платонизма
противоположность между Единым как чистой актуальностью,
первоистоком ума, бытия, определенности и формы — и
беспредельным как чистой потенциальностью, материей,
текуче-бесформенным и хаотически-темным началом — небытием.
СЛ. Франк не замечает различия между Бергсоном и Плотином
именно потому, что смотрит на них сквозь призму учения
Николая Кузанского (и Гегеля) о совпадении противоположностей.
Чтобы нагляднее убедиться в этом, приведем рассуждение СЛ. Франка
о том, что определенность имеет своим источником отрицание.
«Основоположное условие всякого познания есть различение,
орудием же различения служит отрицание... Познавать — значит
определять, улавливать как определенность; а форма
определенности вырастает впервые из отрицания. В этом и заключается —
употребляя выражение Гегеля — „огромная мощь отрицания", что
оно есть универсальное орудие познания»132.
Франк не случайно ссылается на Гегеля, хотя в этом пункте он
мог бы сослаться и на Спинозу, и на Фихте, и на других философов
Нового времени, убежденных в том, что всякая определенность —
продукт отрицания. Сам Гегель, кстати, говоря об отрицании как
источнике определенности, цитирует Спинозу: «Основа всякой
определенности есть отрицание (omne determinatio est negatio,
как говорит Спиноза). Лишенное мысли мнение неправильно
рассматривает определенные вещи лишь как положительные и
фиксирует их под формой бытия...»133
СЛ. Франк. Непостижимое, с. 291.
ГВ.Ф. Гегель. Энциклопедия философских наук, с. 158.
294 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
К «лишенному мысли мнению» приходится отнести воззрения
Платона, Аристотеля, Плотина, Прокла и других античных
философов, которые не считали, что «всякое определение есть отрицание».
Мы приводили выше отрывок из Плотина, где речь идет о том, что
свою определенность каждое сущее получает не от отрицания
(небытия), а от утверждения (бытия), ибо ум — высшее бытие — «есть
виновник определенности бытия для всего сущего»134. Плотин здесь
не изобретает чего-то нового, он мыслит в традициях платоновской
школы. В античной классике определение понималось как
ограничение беспредельного, т. е. материи, с помощью единства формы
и в этом смысле не как отрицание, а как утверждение, полагание:
граница онтологически выше безграничного, а положенное ею,
вызванное ею к бытию, т. е. определенное, выше неопределенного,
беспредельного — небытия. У Гегеля же, воспринявшего через
Спинозу традицию, восходящую к Николаю Кузанскому, и доведшего ее
до логического конца, определение как ограничение есть
отрицание, ибо положительное начало мыслится здесь не как единое, а как
беспредельное, точнее как тождество этих противоположностей.
Именно эту традицию продолжает и Франк.
Апории Зенона и закон тождества
Тут, однако, может возникнуть сомнение: разве вопрос о
возможности рационального познания непрерывности и движения не
является одной из ключевых проблем философии, поставленных
задолго до Франка, Бергсона, Гегеля? И в самом деле, этот вопрос со
всей остротой обсуждался еще в античности философами элей-
ской школы, доказывавшими, что движение и изменение не могут
быть мыслимым без противоречия, а потому не принадлежат к
характеристикам истинного бытия. Согласно Пармениду, в отличие
от чувственно воспринимаемого, подлинное бытие едино,
неизменно, неподвижно и вечно. Доказывая этот тезис Парменида, его
ученик Зенон Элейский сформулировал ряд апорий (парадоксов),
которые возникают при попытке мыслить множественность,
движение и изменение. А то, что немыслимо, согласно Зенону, не есть
бытие. Поэтому эмпирический мир движущихся и изменяющихся
явлений принадлежит лишь к «миру мнения», а не к истинному
бытию. Вот один из парадоксов Зенона — «Стрела». Зенон доказыва-
34 См. выше, с. 268.
Глава 7 Абсолютный реализм СЛ. Франка
295
ет, что в каждый момент времени стрела занимает определенное
место, равное своему объему (в противном случае она была бы
«нигде»). Но, занимая это место, она не может двигаться, ибо
движение предполагает, что предмет занимает место большее, чем он
сам. Значит, движение можно мыслить только как сумму
состояний покоя, а стало быть, движение как таковое немыслимо.
Аргументация Зенона удивительно напоминает ту, которую мы видим
у Бергсона и Франка135, с тем, однако, принципиальным
различием, что для Зенона то, что не постижимо умом, реально не
существует, тогда как для Бергсона и Франка только непостижимое и есть
подлинное бытие.
На чем основана апория Зенона? На допущении, что
пространство состоит из неделимых «мест», а время — из суммы неделимых
моментов «теперь». В сущности перед нами — проблема
континуума, одна из фундаментальных философских проблем. Эту
проблему решает античная математика, с одной стороны, и философия,
с другой. Полемизируя с Зеноном, Аристотель определяет
непрерывное как то, что делится на части, всегда делимые136. А это
значит, что непрерывное исключает какие бы то ни было неделимые
части и уж тем более не может быть составлено из неделимых.
«Невозможно ничему непрерывному состоять из неделимых частей,
например, линии из точек, если линия непрерывна, а точка
неделима»137. Аристотель исходит из определения неделимого как того,
что не имеет частей; не имея никаких «краев», неделимые не могут
соприкасаться, т. е. образовывать непрерывное; в непрерывном же,
по Аристотелю, «крайние концы образуют единое и касаются»138.
Естественно, что непрерывное не может быть суммой неделимых.
Именно непрерывность является условием возможности
движения. Последнее, как показал уже Зенон, определяется через путь
и время. Если либо путь, либо время, либо то и другое мыслить как
состоящее из неделимых (путь — из неделимых точек, а время —
135 Франк признает справедливыми аргументы Зенона: +Древний Зенон,
руководимый идеалом однозначного определения в понятиях и созерцая
становление на примере пространственного движения, был... совершенно прав, когда
доказывал „невозможность прохождения" тела через определенное место: ибо
это прохождение или движение не может быть постигнуто ни как бытие, ни
как небытие тела в данном месте; и все попытки рационального опровержения
этой аргументации остаются безрезультатными» (СЛ. Франк. Непостижимое,
с 245).
136 См. Физика, VI, 1,231 Ь.
137 Там же, 231а.
138 Там же.
296 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
из неделимых моментов «теперь»), то движение окажется
невозможным, а потому и немыслимым, как это и показал Зенон в
апории «Стрела».
Когда СЛ. Франк полагает, что закон тождества и противоречия
неприменим по отношению к непрерывному изменению во
времени, он, как и Зенон, указывает на то, что движущийся предмет
в каждый момент времени должен находиться в определенном
месте пространства и покоиться в нем, а из суммы состояний покоя
нельзя получить движение. Стало быть, для того чтобы адекватно
мыслить движение, надо совместить два противоречащих друг
другу высказывания: предмет находится в определенном отрезке
пространства и не находится в нем. А это означает нарушение
закона тождества. Отсюда вывод: движение, как и непрерывность,
непостижимо для разума и принадлежит к металогической
реальности. Но такой вывод означает, что к сфере сверхрационального,
непознаваемого оказывается отнесенной большая часть явлений
окружающего мира: все живое, движущееся, изменяющееся,
непрерывное. Область рационально постижимого сужается, таким
образом, до узкого круга безжизненного, вневременного и
неподвижного, ибо лишь оно, по мысли Франка, может подчиняться
логическим законам тождества и противоречия.
А между тем, стоит нам только учесть, что время не состоит из
бесконечно большой суммы моментов «теперь», но что «теперь» есть
неделимый момент, а потому не имеет никакой длительности, как
возникающие противоречия движения и изменения окажутся
снятыми. «Теперь» окажется тогда лишь границей, разделяющей
непрерывность деятельности (прошлое и будущее), а не частью
времени159. «Теперь» есть некий идеальный момент, он не принадлежит
самой эмпирической текучести, но оформляет ее, разграничивая
на прошлое и будущее. Поэтому во времени тело находится в
непрерывном движении, а по отношению кмоменту «теперь» оно
покоится — и в этом нет противоречия, поскольку движение и покой
присущи движущемуся телу в разных отношениях.
Конечно, трудно предположить, что такого рода аргументы были
неизвестны С. Франку, тем более, что он мог не один раз слышать их
и из уст своих современников, например Н.О. Лосского, во многих
отношениях близкого к Франку и высоко ценившего творчество по-
139 «Поскольку „теперь" есть граница, — пишет Аристотель, — оно не есть
время, но присуще ему по совпадению... В некотором отношении оно
соответствует точке, так как точка и соединяет длину и разделяет: она служит началом
одного [отрезка] и концом другого...» (Физика, IV, 11,220а 10-20).
Глава 7 Абсолютный реализм СЛ. Франка
297
следнего. Однако у мысли есть своя логика. Философия всеединства,
последовательно развитая Франком, имела своей глубинной
основой мистический опыт русского мыслителя. Учение Франка и есть
прежде всего выражение его собственного
религиозно-мистического опыта, и этим определяются как его достоинства, так и
недостатки. К последним, как мне думается, прежде всего относится
пантеистическое по своему духу слияние в беспредельном Всеединстве
трансцендентного Бога и тварного мира. В результате этого мир
оказывается в конечном счете непостижимым, а Бог получает такие
характеристики, как изменчивость, текучесть, временность, которые,
с точки зрения Франка, как раз и свидетельствуют о его
металогической природе. Понятая как металогическое Всеединство, реальность,
таким образом, не подчинена закону тождества: только
противоречие, а именно, совпадение противоположностей есть адекватная
форма ее постижения-непостижения — витания над
противоположными утверждениями. Абсолютная реальность, пишет Франк,
«никогда не бывает одной и той же, т. е. неизменно тождественной
самой себе, но, напротив, выходит за пределы всякого тождества
и поэтому в каждый момент и в каждом своем конкретном
проявлении обнаруживает нечто абсолютно новое, единственное в своем
роде и неповторимое»140. Поскольку Франк говорит об абсолютной
реальности, то он тем самым имеет в виду и Бога; он мыслит и Бога
так, как если бы Он был временным, изменчивым и в этом смысле не
подчиненным закону тождества. Н.О. Лосский по этому поводу
вполне справедливо замечает, что «все временное, даже наиболее
изменчивое, всегда подчинено закону тожества и что все металогическое
не содержит в себе никаких изменений, потому что оно —
сверхвременно. Напр., Бог есть сверхвременное начало... Неподчиненность
металогического закону тожества объясняется следующим образом.
Чтобы быть подчиненным закону тожества, нужно быть
ограниченным „это", принадлежащим к системе множества ограниченных
„это", связанных друг с другом отношениями того же и иного;
металогическое не есть член такой системы и потому оно не подчинено
закону тожества, но и не нарушает его, так как в нем нет той
ограниченности, к которой применим закон тожества»141.
Лосский здесь касается, на мой взгляд, самого слабого пункта
в учении Франка, обусловленного отсутствием в философии
Всеединства границы между трансцендентным и имманентным,
Богом и миром.
0 СЛ. Франк. Непостижимое, с. 286.
1 Н.О. Лосский. История русской философии, с. 308-309.
298 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
Непостижимое Всеединство Франка есть в сущности
абсолютное Божество апофатической теологии; но у Франка оно слилось
с миром и человеком. Поэтому мир приобрел черты апофатичес-
кого Бога и стал тоже непостижимым, а Бог, в свою очередь,
оказался чистой потенциальностью, «мочью», становлением,
временностью, т. е «первоматерией», поскольку для Франка, как и для
Бергсона, вневременное в конечном счете означает
безжизненное, косное, неподвижное, а значит мертвое начало.
Именно потому, что у Франка творение слишком сближено
с Творцом, у него возникли трудности с объяснением природы
зла142. В рамках развитого им учения о Всеединстве Франк, желая
быть последовательным, не может принять христианское
объяснение зла как возникшего из человеческой свободы. А между тем
трагический опыт XX века, свидетельствующий о
могущественных силах зла, действующих в истории, не может не ставить перед
философом вопроса о происхождении зла в мире. Зло, по
Франку, — это сущность, не укорененная в абсолютной реальности, а
потому в строгом смысле слова не сущая, она состоит в отпадении
от бытия и есть «нечто вроде призрака, сущей иллюзии или
сущего обмана»143, который властвует над миром. Философ с горечью
констатирует, что «через гармоническое, божественное
всеединство бытия проходят глубокие трещины, зияют бездны небытия —
бездны зла. Всеединство, каким оно является эмпирически, есть
некоторое надтреснутое единство»144.
В то же время Франк подчеркивает, что «проблема теодицеи
рационально безусловно неразрешима»145. Тут перед нами — такая
же абсолютно неразрешимая тайна, которую мы можем лишь
констатировать во всей ее непостижимости, как и тайна самого
металогического бытия — абсолютного всеединства. Факт зла, по
убеждению Франка, есть «абсолютный предел всякой философии»146.
В одной из последних своих работ «Свет во тьме» (1949) Франк
приходит к выводу, что спасение от зла возможно только через
преодоление самой формы мирового бытия, которое может быть
достигнуто лишь актом божественной благодати. Как замечает
142 Как верно пишет И.И. Евлампиев, «последовательное проведение
концепции всеединства неизбежно ведет к недооценке силы и могущества зла в
мире...» (И.И. Евлампиев. Цит. соч., с. 33).
143 СЛ. Франк. Непостижимое, с. 532.
144 Там же, с. 533.
145 Там же, с. 531.
146Тамже,с.533.
Глава 7 Абсолютный реализм СЛ. Франка
299
С.А. Левицкий, из системы всеединства Франка логически должна
вытекать этика мистической резиньяции; однако в последней его
работе — «Свет во тьме» — мы видим «перестановку
метафизических ударений»: антиномия между гнозисом и этикой решается
здесь в пользу этики147.
В последние годы жизни Франк пришел к осознанию, что
объединение философского умозрения и религиозной веры — задача
неимоверной трудности. А между тем именно такого объединения
стремилась достигнуть русская религиозная философия, одним из
самых значительных представителей которой был и С. Франк. Вот
что пишет по этому поводу Франк своему другу Л. Бинсвангеру
в 1946 году: «Каждого... читателя моих работ должна смущать во мне
двойственность философской и религиозной установки — потому
что я и сам до сих пор не преодолел этого дуализма... Я основательно
понял мудрость Паскаля, именно его утверждение, что между
чистым мышлением и областью религиозного, как конкретно
духовным, лежит такая же пропасть, как между мышлением и
материальным бытием. Многие из моих /трудов страдают от нечеткости
в отношении этой пропасти, хотя моя основоположная интуиция...
хотя бы в зачатке, содержит возможность... перекинуть мост через
эту пропасть»148. В 40-х годах мысль Франка все больше принимает
экзистенциально-религиозное направление, и он сам теперь
склонен отличать это направление от философски-систематического.
Погруженность в размышления о сложнейших проблемах
«первой философии» и склонность к углубленному созерцанию,
отличавшие СЛ. Франка, не помешали, однако, философу обращаться
и к вопросам социально-политическим, историческим,
литературным, к самым острым вопросам религиозной и культурной
жизни и при этом судить обо всем этом трезво и здраво. Франк
рано освободился от увлечения социальными утопиями, в том числе
марксизмом, которому, как и многие его современники, отдал дань
в юношеские годы. По-видимому, дружба с П.Б. Струве помогла
С. Франку увидеть всю беспочвенность идеологии экстремизма
и революционаризма, которой жила радикальная интеллигенция
конца прошлого — первых десятилетий нынешнего века и
которая в конце концов обернулась трагедией революции 1917 года
и гражданской войны.
147 См. С.А. Левицкий. Этика Франка // Сборник памяти Семена Людвиговича
Франка, с. 124.
148 Письмо Франка Бинсвангеру цит. по книге: «Сборник памяти Семена
Людвиговича Франка», с. 32.
300 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
В заключение мне хотелось бы привести слова близкого к
Франку Б.П. Вышеславцева, с которыми невозможно не согласиться.-
«Франк, — пишет Вышеславцев, — был типом классического
философа, которому дорого подлинное исследование, а не
философская публицистика или пророческий пафос. В этом я видел в нем
традицию русской философии, как она была выражена у Вл.
Соловьева, братьев Трубецких, Лопатина и П.И. Новгородцева»>149.
Творчество Франка принадлежит к лучшему, что было создано
русской философией в Серебряном веке. И отдать должное
глубокому мыслителю — значит продолжить дело его жизни и
попытаться внести свою посильную лепту в разрешение тех «вечных
вопросов», которые его волновали.
Б.П. Вышеславцев. Памяти философа-друга // Там же, с. 41.
Глава 8
Анархический персонализм
Николая Бердяева
Одним из наиболее ярких и влиятельных мыслителей русского
Серебряного века, несомненно, является НА. Бердяев. И надо сказать,
что работы Бердяева в России в среде художественной и научной
интеллигенции были открыты уже давно; еще в конце 50-х годов
их — не без труда — доставали, перепечатывали, передавали друг
другу. Интерес к творчеству этого философа подогревался тем, что
Бердяев, как правило, затрагивал острые социальные и
политические темы, а его афористический стиль, умение ясно и пластично
выразить свою мысль, изрядная доля публицистичности
позволяли читать его почти без специальной подготовки. Вот почему
именно работы Бердяева многим из нас, родившимся и выросшим
в «закрытом» обществе, помогли понять то, что происходило в
нашей стране, и найти свой путь не только в философии, но и в
жизни, что, по большому счету, одно и то же. В частности, в моей
духовной жизни большим событием было открытие в 1959 г.
журнала «Путь», издававшегося H.A. Бердяевым в Париже с 1925 г.,
все номера которого хранились в спецхране Ленинской
библиотеки. В этом журнале я нашла ответы на те больные вопросы,
которые мучили многих из нас: журнал «Путь» оказался для меня
больше чем университетом.
Творчество НА Бердяева (1874-1948) отразило в себе духовную
атмосферу двух предреволюционных десятилетий. Высланный из
страны в 1922 г. вместе с другими независимыми философами,
НА. Бердяев получил возможность осмыслить то, что на его глазах
и при его участии происходило в России. Это живое свидетельство
имеет для нас сегодня большую ценность. Но для адекватного
понимания того, о чем свидетельствует Бердяев, необходимо уяснить
себе его философскую позицию, определившую тот «угол
преломления», под которым он видел все происходящее. Ибо если мы
хотим по-настоящему вернуть себе наше философское наследие,
302 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
то не должны видеть в нем мертвый музейный экспонат, который
можно только бережно хранить в его нетронутом виде. Это
наследие — живое, а живому свойственно развиваться дальше. Все
истинное, непреходящее в нем должно стать нашим собственным
достоянием, и наша задача — посредством трезвого критического
анализа отделить это непреходящее от тех наслоений, которые
несут на себе печать своей эпохи, а потому конечны и преходящи.
Личность есть свобода
В центре философского интереса НА. Бердяева всегда был и
оставался человек: как бы ни менялись политические симпатии и
философские увлечения Бердяева, какие бы влияния ни претерпевал
он в ходе своего развития, центральной темой его мысли был
человек, его свобода, его судьба, смысл и цель его существования.
В этом плане Бердяев — глубоко русский мыслитель, в этом
родство его с русской литературой и русским искусством. «Весь мир
ничто по сравнению с человеческой личностью, с единственным
лицом человека, с единственной его судьбой»1.
Каждая человеческая личность, согласно Бердяеву, есть нечто
уникальное, единственное, неповторимое; она не может быть
объяснена ни из какой другой реальности — будь то природной или
социальной — и не может быть сведена к ней. «Личность, — пишет
Бердяев, — не есть часть и не может быть частью в отношении к
какому-либо целому, хотя бы к огромному целому, всему миру»2.
Понятие личности отличается у Бердяева от понятия
эмпирического человеческого существа, которое составляет, с одной
стороны, часть природы, а с другой — элемент социального целого.
Эмпирически существующий человек, взятый с природной своей
стороны, как наделенный определенной телесно-душевной
организацией, есть, по Бердяеву, не личность, а индивидуум. В качестве
последнего он имеет и свои социально-культурные особенности,
отличающие его от других индивидов, принадлежащих другим
общественным организмам. Индивидуум, таким образом,
детерминирован как обществом, так и природой и составляет, по словам
Бердяева, частицу универсума. Что же касается личности, то она,
согласно Бердяеву, есть реальность духовная, а потому «никакой
1 НА Бердяев. О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической
философии. Париж, 1972, с. 19-
2 Там же, с. 20.
Глава 8 Анархический персонализм Николая Бердяева
303
закон к ней неприменим»3. Ее нельзя поэтому превратить в объект
научного исследования — вот тезис, роднящий экзистенциальную
философию Бердяева с учениями о человеке Киркегора, Ясперса,
Хайдеггера, Сартра. Главной характеристикой личности является
ее свобода: личность, по Бердяеву, не просто обладает свободой,
она и есть сама свобода.
Бердяев поэтому отвергает те определения человека, какие ему
давались традиционной философией. Он не принимает в качестве
характеристики человеческого бытия понятие субстанции, хотя
вначале, находясь под влиянием русского неолейбницианства, он
и склонен был видеть в человеке духовную субстанцию — монаду.
Однако в 30-е годы он отказывается от мышления в таких
традиционных категориях, как субстанция и даже бытие. Личность,
по Бердяеву, есть не субстанция, а творческий акт, она есть
сопротивление, бунт, борьба, «победа над тяжестью мира, торжество
свободы над рабством»4.
Не согласен Бердяев и с восходящим к античной философии
определением человека как существа, наделенного разумом и этим
отличающегося от остальных животных. Конечно, человек —
существо разумное, но не в этом состоит его главное отличие. Свести
человека к разуму — значило бы, по мнению русского философа,
лишить его уникальности, неповторимости, а значит — личности.
«Разум сам по себе не личный, а универсальный, общий, безличный
разум... Греческое понимание человека как разумного существа не
подходит для персоналистической философии»5.
Тут раскрывается самое ядро персонализма, или
экзистенциализма, Бердяева: больше всего философа страшит растворение
личности в безликой стихии, утрата ею самостоятельности,
самодеятельности, одним словом — свободы. Неважно, мыслится ли эта безличная
стихия как природно-космическая, как социальная, даже — странно
сказать — как нравственно-разумная, — в любом случае она, по
глубокому убеждению Бердяева, опасна для личности, грозит ей
рабством. В зрелые годы, также как и в первый период, Бердяев не
приемлет нравственный разум кантовского идеализма в качестве высшего
закона для человека, ибо всякий закон есть детерминация, а
личность, по Бердяеву, должна быть свободна. «Нравственно-разумная
природа человека у Канта есть безличная, общая природа»6. Таким
3 Там же, с. 22.
4 Там же, с. 23-
5 Там же.
6 Там же, с. 23-
304 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
образом, не только закон необходимости отвергается философом,
но и закон добра, закон целесообразности, — поскольку последний
тоже всеобщ.
Неприятие всеобщего лежит в основе бердяевской критики
науки и философии, считающей себя научной. «Чтобы яснее стала
невозможность и ненужность научной философии, важно
подчеркнуть вывод, что наука есть послушание необходимости.
Наука — не творчество, а послушание, ее стихия не свобода, а
необходимость»7. Персонализм, подчеркивает Бердяев, не может быть
основан на идеализме (платоновском или гегелевском) и не
может быть основан на натурализме, на философии эволюционной
или философии жизни, которые растворяют личность в
безличном космически-витальном процессе.
Особенно решительно выступает Бердяев против всеобщего,
как оно предстает в социальной сфере — как власть государства,
нации, народа, коллектива над человеческой личностью. Здесь он
затрагивает одну из самых острых и больных проблем нашего
века, — века тоталитарных режимов, массовых типов общностей,
деспотических и нетерпимых к свободе отдельного человека.
Здесь — глубокая правда бердяевского неприятия безличной
стихии, непреходящее значение заявленного им принципа свободы
личности, ценность персонализма. Может быть, нет для XX века
темы более насущной, чем тема «человек и коллектив», и она как
раз является стержневой в творчестве НА. Бердяева8.
Отличительной особенностью бердяевской философии
человека является сознательно принимаемый парадоксализм, акцент
на несовместимости основных его определений. «Начало
сверхчеловеческое есть конститутивный признак человеческого
бытия... Самый факт существования человека есть разрыв в
природном мире и свидетельствует о том, что природа не может быть
7 НА. Бердяев. Смысл творчества. М., 1916, с. 21.
8 «Из всех форм рабства человека, — писал философ, — наибольшее значение
имеет рабство человека у общества. Человек есть существо
социализированное на протяжении долгих тысячелетий цивилизации. И социологическое
учение о человеке хочет убедить нас, что именно эта социализация и создала
человека. Человек живет как бы в социальном гипнозе. И ему трудно
противопоставить свою судьбу деспотическим притязаниям общества, потому что
социальный гипноз устами социологов разных направлений убеждает его, что
самую свободу он получает исключительно от общества. Общество как бы
говорит человеку: ты мое создание, все, что у тебя есть лучшего, вложено мной и
потому ты принадлежишь мне и должен отдать мне всего себя» (H.A. Бердяев.
О рабстве и свободе человека, с. 87).
Глава 8 Анархический персонализм Николая Бердяева
305
самодостаточной и покоится на бытии сверхприродном. Как
существо, принадлежащее к двум мирам и способное преодолевать
себя, человек есть существо противоречивое и парадоксальное,
совмещающее в себе полярные противоположности. С
одинаковым правом можно сказать о человеке, что он существо высокое
и низкое, слабое и сильное, свободное и рабье»9. Христианская
антропология рассматривает человека как природно-сверхприрод-
ное существо, соединяющее в себе животное и духовное начала;
что касается Бердяева, то он в своей антропологии ориентируется
скорее всего на учение немецких мистиков, а потому человек у
него — «дитя Божье и дитя ничто, меонической свободы. Корни его
на небе, в Боге и в нижней бездне»10. Бердяев, таким образом, видит
в человеке жильца уже трех миров — божественного, природного
и дьявольского («меонического»). Каким парадоксальным
образом эти миры объединяются в человеке, призвано объяснить бер-
дяевское учение о свободе, которое составляет важнейшую тему
размышлений русского философа.
«По ту сторону добра и зла». Бердяев и Ницше
Бердяев как философ формировался под влиянием, с одной
стороны, русской религиозной мысли — прежде всего Ф.М.
Достоевского и B.C. Соловьева, а с другой — немецкого идеализма и
немецкой мистики. Еще в юношеские годы он читал «Критику чистого
разума» Канта и «Философию духа» Гегеля. При этом, однако, кан-
товский трансцендентализм Н. Бердяев воспринял
первоначально в интерпретации Шопенгауэра-, оба эти мыслителя исходят из
противопоставления двух миров — природы, или
феноменального мира («представления», в терминах Шопенгауэра), и свободы,
или мира ноуменального («мир как воля», по Шопенгауэру).
Первый открывается нам извне, с помощью чувств, второй — изнутри.
8 то время как в сфере природы человек подчинен закону
необходимости, в качестве физического существа включен в причинную
связь явлений, в сфере свободы он выступает как «вещь в себе», как
причина, начинающая ряд явлений.
Это — принципы, общие для Канта и Шопенгауэра. Однако
последний истолковывает ноуменальный мир как царство
самозаконной воли, причем воли иррациональной, сущность которой —
9 НА Бердяев. О назначении человека (Опыт парадоксальной этики), с. 73.
10 Там же.
306 Раздел III Религиозная философия XX века, поворот к метафизике
ненасытное стремление хотеть. Воля, как ее понимает
Шопенгауэр, близка к понятию страсти: она есть страстное желание,
вожделение и одновременно страдание из-за невозможности
удовлетворения. Удовлетворение всегда временно и конечно, а стремление
воли, вожделение — постоянно и бесконечно; поэтому мир для
воли есть юдоль скорби и страданий.
Воля, согласно Шопенгауэру, лежит в основе всех своих
объективации, которые, собственно, и составляют мир «представления»,
подчиненный необходимости и познаваемый с помощью рассудка.
Сама же воля дана из1гутри каждому из нас и постигается
непосредственно интуицией. Непризнание за миром объективации воли, т. е.
за эмпирическим миром никакой подлинной реальности, — этот
принцип Шопенгауэра оказался особенно близким Бердяеву.
Между кантовским и шопенгауэровским пониманием
свободной воли существует большое различие. Для Канта свободная
воля — это практический разум, который подчиняется закону
добра — категорическому императиву, имеющему всеобщий характер
и гласящему: поступай так, чтобы максима твоей воли всегда могла
стать принципом всеобщего законодательства. Иначе говоря,
категорический императив есть обращенное к каждому индивиду
требование относиться к другому человеку не только как к
средству, но и как к цели. Зло, по Канту, есть результат подчинения
человека своим эгоистическим склонностям, невозможность — в силу
слабости своей природы — следовать закону добра. У
Шопенгауэра, напротив, воля стоит по ту сторону добра и зла-, она потому
и есть иррациональное начало, что не знает этого различения,
имеющего силу лишь на уровне представления, феноменального,
а не реального мира. Воля не подчиняется закону разума, в том
числе и разума практического, — таков вывод Шопенгауэра.
H.A. Бердяев в этом пункте стоит ближе к Шопенгауэру. Он
отвергает трактовку свободы как подчинения всеобщему
нравственному закону, именно в подчинении вообще, безотносительно к
какому бы то ни было содержанию, а тем более в подчинении
всеобщему началу русский философ видит рабство, несвободу.
Свобода — в том, чтобы никому и ничему не подчиняться, — таково
глубочайшее убеждение Бердяева. «Нравственный закон, — пишет он
в одной из ранних своих статей, — прежде всего требует, чтобы
человек никогда не был рабом, хотя бы это было рабство у чужого
страдания и слабости и собственной к ним жалости, чтоб человек
никогда не угашал своего духа, не отказывался от своих прав на
могучую жизнь, на беспредельное развитие и совершенствование,
хотя бы это был отказ во имя благополучия других людей и всего об-
Глава 8 Анархический персонализм Николая Бердяева 307
щества. Человеческое „я" не должно ни перед чем склонять своей
гордой головы, кроме своего же собственного идеала
совершенства, своего Бога, перед которым только оно и ответственно»11.
Неудивительно поэтому, что Бердяев выступает как антагонист
не только Канта, но и общеевропейской этико-религиозной
традиции, имеющей два источника — христианство и античную мысль —
и основанной на различении добра и зла. Бердяев же хочет создать
этику, лежащую «по ту сторону добра и зла», пытаясь углубить и
развить аморализм Ницше. «Высшая ценность лежит по ту сторону
добра и зла. Вопрос этот редко ставится радикально. Этика обычно
целиком находится по сю сторону добра и зла, и добро для нее не
проблематично. Радикально ставил вопрос Ницше. Он сказал, что
боля к истине есть смерть морали...»12 Однако даже Ницше, по
мнению Бердяева, оказался недостаточно последовательным; он все-
таки сохранил нравственные оценки уже тем одним, что поставил
то, что «по ту сторону добра», выше того, что «по сю сторону».
«Ницше был, конечно, моралистом, он проповедовал новую мораль. „По
ту сторону добра и зла" не должно быть никакого, добра" и
никакого „зла". Мы достигнем более существенного и более глубокого
результата, когда поймем, что наши оценки по критерию добра и зла
носят символический, а не бытийственный характер. „Добро"
и „зло", „нравственное" и „безнравственное", „высокое" и „низкое",
„хорошее" и „плохое" не выражают реального бытия... Глубина
бытия в себе, глубина жизни совсем не „добрая" и не „злая", не
„нравственная" и не „безнравственная", она лишь символизируется так...»13
Бердяев здесь идет значительно дальше Шопенгауэра,
поскольку последний поместил «по ту сторону добра и зла»
бессознательное витальное начало, волю, которую и признал источником зла
и страдания, а потому в преодолении воли видел начало
нравственности. В этом смысле Шопенгауэр был гораздо большим
«моралистом», чем Ницше и Бердяев. Последний отвергает различение
добра и зла как раз на духовном уровне, ставя «по ту сторону добра
и зла» именно духовное начало, тогда как корень духа, его основа
состоит в различении добра и зла.
Обоснование этой «новой этики», не нуждающейся в
различении добра и зла, русский философ дает с помощью своего учения
11 H.A. Бердяев. Этическая проблема в свете философского идеализма //
Проблемы идеализма. СПб., б. г. Цит. по: его же. Sub specie aeternitatis. СПб., 1907,
с. 88.
12 H.A. Бердяев. О назначении человека, с. 27.
13 Там же, с. 28-29.
308 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
о свободе. Он воспринял у Канта идею автономии воли, согласно
которой ничто внешнее, никакие авторитеты не могут служить
законом для воли, воля свободна только тогда, когда сама ставит над
собой закон, которому затем и подчиняется. «Человеческое „я", —
пишет Бердяев, — стоит выше суда других людей, суда общества
и даже всего бытия, потому что единственным судьей является тот
нравственный закон, который составляет истинную сущность „я",
который это „я" свободно признает»14. Парадокс, однако, в том, что,
заимствовав у Канта принцип автономии, свободного признания
над собой нравственного закона, Бердяев отверг сам этот
нравственный закон, требование подчинения своеволия единичного
человека долгу, который повелевает руководствоваться правилом:
не делай другому того, чего ты не хотел бы, чтобы делали тебе. Кан-
товская автономия воли не исключает, а наоборот, предполагает
подчинение индивидуальных склонностей и эгоистических
целей благу других людей. В этом смысле кантовская этика —
альтруистична. Что же касается H.A. Бердяева, то для него подчинение
всякому закону, в том числе и нравственному, есть рабство. А
добровольное рабство, с его точки зрения, ничем не лучше
принудительного. «Калечить свое „я", свою человеческую
индивидуальность во имя долга — вот слова, которые для нас не имеют
никакого смысла»15.
У Бердяева на место разумной воли Канта встала воля
Шопенгауэра, получившая к тому же ярко-художественное воплощение
в «Рождении трагедии из духа музыки» Ницше и зачаровавшая не
одних только русских философов и поэтов экстатическим,
вакхическим дионисийством. В свете дионисийского порыва кантовская
этика кажется особенно обыденной, даже пошлой. «Кант, — пишет
Бердяев, — слишком по-старому толковал ту идею, что
человеческая природа греховна и испорчена, и пришел к целому ряду
ложных этических положений, в корне отрицающих дионисовское
начало жизни»16. Дионисовское начало жизни хорошо знакомо
старой Европе: это — та самая страсть17, которая с XVIII в.
постоянно теснила традиционную добродетель, в конце концов ставшую
14 НА Бердяев. Этическая проблема в свете философского идеализма, с. 88.
15 Там же, с 93.
16 Там же, с. 94.
17 «Мир не есть мысль, как думают философы, посвятившие свою жизнь мысли.
Мир есть страсть и страстная эмоция. В мире есть диалектика страсти.
Охлаждение страсти создает обыденность* (НА Бердяев. Самопознание. Париж, 1949,
с. 97).
Глава 8 Анархический персонализм Николая Бердяева
309
непривлекательной и смешной, особенно в глазах романтически
настроенной части образованного общества. В XIX в. романтики
демонизировали страсть, придав ей тем самым ореол
богоборческого начала, и в этом трагически-демоническом облике она
оказалась эстетически неотразимой. Бердяев, с юношеских лет
влюбленный в демонических героев Байрона, Лермонтова, Достоевского
(особенно в Ивана Карамазова и Ставрогина), Ибсена, именно
сквозь эту призму воспринял идею свободы.
Роль Ф.М. Достоевского и его героев, прежде всего Ставрогина,
в творчестве Н. Бердяева трудно переоценить. В 1914 г. в «Русской
мысли» вышла статья Бердяева «Ставрогин», посвященная МХАТ'ов-
ской постановке «Бесов» Достоевского. В ней Ставрогин
характеризуется как «один из самых загадочных образов не только
Достоевского, но и всей мировой литературы»18. Эпитеты «загадочный»
и «таинственный» появляются у романтика-Бердяева там, где он
говорит о самых значимых для него образах, героях, душевных
состояниях. «Поражает, — продолжает философ, — отношение
самого Достоевского к Николаю Всеволодовичу Ставрогину. Он
романтически влюблен в своего героя, пленен и обольщен им. Никогда
ни в кого он не был так влюблен, никого не рисовал так
романтично... Николай Ставрогин — красавец, аристократ, гордый, безмерно
сильный... все ждут от него чего-то необыкновенного и великого,
все женщины в него влюблены, лицо его —- прекрасная маска, он
весь —- загадка и тайна, он весь — из полярных
противоположностей, все вращается вокруг него, как солнца»19. Одним словом,
для Бердяева Ставрогин — «творческий, гениальный человек»,
человек разрушительных, «безмерных» страстей, имеющий «опыт
зла»: «Ставрогин все испытал и перепробовал, как великие, крайние
идеи, так и великий, крайний разврат и насмешливость»20.
Романтическая героизация преступления, разврата имеет очень
простой рецепт: мелкое преступление и мелкий разврат —
отталкивающи и «пошлы»; чтобы преступление обрело эстетическую
привлекательность, его надо представить великим, крайним.
Предтечами Ставрогина являются байроновский Каин и
лермонтовский Демон; отсюда ведут свое происхождение и богоборцы
Достоевского, Ницше, Ибсена.
Достоевский, однако, выносит каинизму суровый приговор:
Ставрогин кончает жизнь самоубийством. Но Бердяев защищает
18 «Русская мысль», 1914, кн. 5, с. 80.
19 Там же.
20 Там же, с. 83.
310 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
любимого героя от его творца: «Если мы прочтем религиозную
мораль над трупом Ставрогина, мы ничего в нем не разгадаем... Все
положительные доктрины и платформы ,Дневника писателя" так
жалки и плоски по сравнению с откровениями трагедий
Достоевского! Достоевский свидетельствует о положительном смысле
прохождения через зло, через бездонные испытания и последнюю
свободу... Сам опыт зла есть путь, и гибель на этом пути не есть
вечная гибель»21.
Встав по ту сторону добра и зла, человек, по Бердяеву, впервые
становится свободным. «Выбор между добром и злом
предполагает, что человек поставлен перед нормой, различающей добро
и зло... Для меня свобода всегда означала что-то совсем другое.
Свобода есть моя независимость и определенность моей личности
изнутри, и свобода есть моя творческая сила, не выбор между
поставленными передо мной добром и злом, а мое созидание добра и зла...
Я верил всю жизнь, что божественная жизнь, жизнь в Боге, есть
свобода, вольность, свободный полет, без-властие, ан-архия...»22
Как видим, свобода для Бердяева — это отсутствие какого бы то
ни было ограничения — извне и изнутри: самоограничение для
него — такая же несвобода, как и внешне положенный запрет.
Не случайно русский философ пишет, что свобода — это
«божественная жизнь»; в том смысле, в каком Бердяев понимает свободу,
последней и в самом деле может обладать только Бог. Но человеку
не дана такого рода божественная свобода, ибо он есть существо
конечное, несовершенное, греховное; и вот это христианское
понимание человека Бердяев отвергает. Здесь он разделяет ту
критику христианства и христианской этики, которую превратил в
главную задачу своей жизни Фридрих Ницше.
В этом, кстати, отличие Бердяева от представителей немецкого
экзистенциализма, Хайдеггера и Ясперса, а также от
родоначальника экзистенциализма — С. Киркегора. «Властителем дум
современной средней Европы является меланхолический, мрачный,
трагический Кирхегардт. Наиболее интересным и значительным
течением теологической и религиозной мысли является бартиан-
ство, которое охвачено чувством греховности человека и мира
и христианство понимает исключительно эсхатологически.
Течение это есть религиозная реакция против
либерально-гуманистического, романтического протестантизма XIX в. Такая же реакция
в католичестве — неотомизм. Но и бартианство и томизмуни-
Тамже,с.81.
НА Бердяев. Самопознание, с. 181.
Глава 8 Анархический персонализм Николая Бердяева
311
жают человека. В западном христианстве ослабла вера в
человека, в его творческую силу, в его дело в мире»23.
«В Христе все в известном смысле дозволено»
Бердяеву чуждо христианское убеждение в том, что источником
зла в мире является человек, точнее его грехопадение24, и не
случайно антропология для него — это христология: в каждом
человеке для Бердяева живет не просто образ Божий, но сам Бог — Иисус
Христос. По Бердяеву, Христос есть Абсолютный человек, а
поскольку Христос — это Сын Божий, то и человек есть Сын, а не тварь.
«Человек — не простая тварь в ряду других тварей, потому что
предвечный и единородный Сын Божий, равнодостойный Отцу, — не
только Абсолютный Бог, но и Абсолютный Человек. Христология
есть единственно истинная антропология»25.
Характерно, что еще до написания «Смысла творчества» Бердяев,
как бы полемизируя с Достоевским, высказал афоризм: «В Христе —
все в известном смысле дозволено»26. Но вот вопрос как достигнуть
«бытия во Христе»? Вопрос этот, так волновавший христианских
подвижников, видимо, решался Бердяевым просто: человек с
самого начала уже во Христе, только очень немногим открывается эта
истина, и ее призвано провозгласить новое религиозное сознание.
И не удивительно, что русский философ приписывает человеку
также и божественное всемогущество: человек, по его убеждению,
способен, подобно Богу, творить из ничего. Бердяев потому и
ставит превыше всего человеческое творчество, видя в нем путь к
самоспасению человека. «Творчество не детерминировано, оно всегда
есть творчество из ничего, т. е. из свободы»27. У Бердяева снимается
средневековое различение конечного и бесконечного творца: че-
23 H.A. Бердяев. Духовное состояние современного мира // Путь, 1932, № 35,
с. 21. Курсив мой. — ПГ.
24 Грехопадение для Бердяева как раз свидетельствует о мощи и высоте
человека: +Идея грехопадения есть в сущности гордая идея и через нее человек
выходит из состояния унижения. Отпадение от Бога предполагает очень большую
высоту человека, высоту твари, очень большую ее свободу, большую ее силу»
(H.A. Бердяев. О назначении человека, с. 42).
25 НА. Бердяев. Смысл творчества, с. 76.
26 Тут уже запрограммирована парадоксальная этика «по ту сторону добра и
зла».
27 H.A. Бердяев. Метафизическая проблема свободы // Путь, 1928, № 9, с. 59.
312 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
ловеческий дух, по его убеждению, бесконечен и в сущности ничем
от божественного не отличается. Не случайно бердяевское учение
о человеке В.В. Зеньковский характеризовал как антрополат-
рию26. В своем толковании человека H.A. Бердяев продолжает
романтическую традицию, восходящую к возрожденческой критике
средневекового христианства как аскетической, унижающей
человека религии. Человек рассматривается им не только как творец
мира, но в известном смысле и как творец самого себя: «Творчество
по религиозно-космическому своему смыслу равносильно
искуплению»29. Человек должен осуществить своего рода скачок из
царства необходимости в царство свободы, создав новый, прежде
неведомый мир; творчество у Бердяева становится теургическим
актом; правда, в последний период жизни философа оно
приобретает эсхатологический характер: своим творчеством человек
должен приблизить конец мира.
Утопический активизм Бердяева имеет в качестве предпосылки
тезис о том, что мир в основе своей есть зло. Зло должно иметь
свой источник; если оно — не от человека, как этому учит
христианство, то, значит, оно коренится в самом бытии мира. И тут мы
подходим к наиболее существенному аспекту бердяевского
понятия свободы, которое тоже, кстати, восходит к Шопенгауэру:
«Источник рабства всегда есть объективация»30. Объективация
противополагается субъекту, личности, человеческому Я в его свободе;
будучи порождением воли, объективация становится путами,
сковывающими волю. Объект как таковой, предметность, то, что
существует само по себе, независимо от субъекта, рассматривается
русским философом как источник несвободы человека. Здесь
Бердяев опирается не только на Шопенгауэра, но и на Фихте.
«Сознание экстериоризирующее, отчуждающее всегда есть рабье
сознание. Бог — господин, человек — раб; церковь — господин, человек —
раб; природа — господин, человек — раб; общество — господин,
человек — раб; семья — господин, человек — раб; объект — господин,
человек-субъект — раб. Источник рабства всегда есть
объективация, т. е. экстериоризация, отчуждение... Прекращение рабства
есть прекращение объективации»31. Рабство, таким образом,
грозит человеку отовсюду, поскольку всякая его деятельность
неизбежно получает форму некоторого продукта, внешнего для самого
28 См.: В.В. Зеньковский. История русской философии. Париж, 1950, с. 305.
29 НА Бердяев. Метафизическая проблема свободы, с. 59.
30 НА Бердяев. О рабстве и свободе человека, с. 52.
31 Там же.
Глава 8 Анархический персонализм Николая Бердяева
313
действующего. Само сознание тоже есть деятельность
объективации, ибо акт сознания направлен на нечто, являющееся для него
объектом.
Бытие как зло. Мистический революционаризм
H.A. Бердяева
Однако, если рассматривать не только общество, но и природу и
даже Бога как формы объективации субъективности, то очевидно, что
под субъектом надо понимать не индивидуальное Я, но Я
абсолютное, как это было у Фихте. У нашего философа речь идет о личности,
всеобщее Я кантовско-фихтевской философии он, как мы знаем,
не принимает. Неудивительно поэтому, что личность человеческая
превращается постепенно в божественную, антропология — в хри-
стологию. Такая личность — уже не творение Бога, а Сын Божий, как
говорит Бердяев. И по отношению к личности, к человеко-богу весь
тварный мир есть объективация, неподлинное бытие, даже
просто — зло. А потому единственно оправданным отношением к миру
и всем его проявлениям может быть только отрицание, революция,
бунт. «Сейчас я остро знаю, — писал Бердяев в автобиографии, — что
в сущности сочувствую всем великим бунтам истории: бунту
Лютера, бунту разума просвещения против авторитета, бунту „природы"
у Руссо, бунту французской революции, бунту идеализма против
власти объекта, бунту Маркса против капитализма, бунту
Белинского против мирового духа и мировой гармонии, анархическому
бунту Бакунина, бунту Льва Толстого против истории и цивилизации,
бунту Ницше против разума и морали, бунту Ибсена против
общества, и само христианство я понимаю как бунт против мира и его
закона»32. Строки эти написаны в конце 40-х гг., когда идеи бунтов
и революций были, мягко скажем, не очень популярны среди
русской эмиграции, пережившей трагический опыт двух русских
революций и гражданской войны. Но свою позицию отрицания мира
и бытия Бердяев изменить не мог, она была для него слишком
экзистенциальной, а выражать ее неопределенно и невнятно он не
хотел и не умел. Поэтому, по его собственному признанию, он был
в эмиграции довольно одинок и находил понимание не столько
у соотечественников, сколько у леволиберальной интеллигенции
Запада, особенно у левых католиков.
НА. Бердяев. Самопознание, с. 67-68.
314 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
Как видим, в старости Бердяев остался тем же революционером-
анархистом, каким был в молодости. Метафизический
анархизм — вот характеристика философской позиции Бердяева, его
персонализма. Низвержение всякого объективного установления,
объективного порядка — пафос его философии свободы.
Идея социальной революции, которая призвана устранить
капитализм, ненавистную Бердяеву и как аристократу, и как
представителю художественной богемы «власть мещанства»33, — вот что
объединяло его с марксизмом, также как и страстное стремление
«не объяснить, а изменить мир». Отойдя от марксизма и критикуя
материализм и теорию классовой борьбы, Бердяев в 900-х годах
призывает совершить революцию в морали, религии и семье,
отказаться от «исторического православия» с его аскетизмом и
консерватизмом в государственной и половой сферах.
«Новое религиозное сознание», провозвестником которого
Бердяев был в 900-х годах вместе с Д. Мережковским, 3. Гиппиус,
Философовым и др., должно прийти на смену традиционному
православию. «Новые религиозные люди, люди будущей религии
свободы, должны покончить с лицемерным морализмом, бросить
вызов государственно-семейным союзам благоустройства и
отдаться религиозно-мистическим настроениям, в которых
проблема пола и любви ставится и решается религиозно, а не позитивно,
социально, морально»34. Восстание против морали означает,
по Бердяеву, прежде всего отмену семьи, которая объявляется
буржуазным институтом, обрезающим крылья подлинному эросу.
«Пол й связанный с ним божественный Эрос загнаны в темницу
буржуазной семьи и в ней лишь терпятся, хотя семья не
оправдывается ни одним словом Христа... Должна быть объявлена война
всякой идее брака семейного... всякой власти над оргийностыо
пола. Само понятие разврата — старое, буржуазное понятие, продукт
отвлеченного морализма, и должно быть подвергнуто суду
эстетическому и окончательному религиозному»35. Позднее, в
«Самопознании», Бердяев несколько отстранился от характерного для
«нового религиозного сознания» культа плоти и критически
оценил «атмосферу эротического томления», характерную для круж-
33 Мещане, лавочники, буржуа — объект глубокого презрения философа.
«Наряду с социальной буржуазностью мы должны признать глубокую духовную и
культурную буржуазность XIX века», — писал Бердяев в 1901 г. («Sub specie aeter-
nitatis»,c. 10).
34 H.A. Бердяев. Sub specie aeternitatis, с 362.
35 Там же, с. 357-360.
Глава 8 Анархический персонализм Николая Бердяева 315
ка Мережковских, В. Розанова, В. Иванова и др. в первые годы XX в.
Однако идея революционного разрушения государственного,
церковного и семейного начал у него осталась неизменной, также
как и требование «свержения» морали. «Морализм, — писал
Бердяев уже в самые последние годы, — должен быть свергнут путем
революции морали»36.
В 1909 г., выступив в сборнике «Вехи» в числе тех, кто подверг
критике утопический революционаризм леворадикальной
интеллигенции, Бердяев тем не менее не надолго отошел от своих прежних
убеждений; в 20-30-х гг. он возвращается к ним, осознав глобальный
характер своей революционности: подлежащим отрицанию он
объявил теперь не просто формы объективации, но и само бытие.
«Иерархический порядок бытия от Бога до козявки есть давящий
порядок вещей и отвлеченных сущностей. Он давящий и
порабощающий, и как порядок идеальный и как порядок реальный, в нем нет
места для личности. Личность вне бытия, она противостоит бытию...»37
В более ранний период, когда он мыслил онтологию вслед за
А. Козловым и Л. Лопатиным как монадологию, Бердяев писал: «Мы
непосредственно сознаем, а затем и познаем себя как бытие, как
духовную субстанцию, как „я"...»38 Еще в 1916 г., в «Смысле
творчества» понятие бытия выступает у Бердяева в положительном
значении. Но логика собственной мысли ведет его неуклонно к
неприятию бытия как такового. С глубоким сочувствием относится
русский философ к античному гностицизму, к Маркиону и Васи-
лиду, отвергавшим мир на том основании, что он создан злым
Богом — ветхозаветным Яхве39. Сам Бердяев рассуждает вполне в
духе Маркиона, не сомневаясь, что «мир сей» создан Сатаной: «„Мир"
есть зло, он безбожен и не Богом сотворен. Из „мира" нужно уйти,
преодолеть его до конца, „мир" должен сгореть, он аримановой
природы. Свобода от „мира" — пафос моей книги»40.
Здесь уже намечена основная тема позднейших сочинений
Бердяева — тема противоположности свободы и бытия. «Я», личность,
свобода противостоит уже не просто объективации, не только
«миру феноменальному», «миру сему», — свобода противостоит
бытию как таковому. Именно бытию объявляется теперь война во
36 НА Бердяев. Самопознание, с. 264.
37 H.A. Бердяев. О рабстве и свободе человека, с. 69.
38 H.A. Бердяев. О новом русском идеализме (1904) // Цит по: «Sub specie aeterni-
tatis*,c. 174.
39 См.: H.A. Бердяев. Смысл творчества, с. 74.
40 Там же, с. 11.
316 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
имя свободы. Последняя неподвластна, по Бердяеву, не только
природной и социальной необходимости, не только миру
объективации вообще, но и самому Богу, ибо она коренится в «ничто», в
«бездне», в «небытии», которое раньше — и стало быть, первее — Бога.
«Бог всемогущ в отношении к бытию, но это неприменимо в
отношении к небытию», — говорит Бердяев41. Бунт против всего, что не
есть Я, принимает у Бердяева форму афоризма: «Рабство у бытия
и есть первичное рабство человека»42. И не случайно
«Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого» открывается
словами Макса Штирнера, немецкого философа, отрицавшего
всякую реальность, кроме собственного Я: «Макс Штирнер сказал:
Ich habe meine Sache auf Nichts gestellt — я основал свое дело из
ничто. Я скажу: я основал свое дело на свободе. Свобода есть ничто
в смысле реальностей природного мира, не есть что-то»43.
Стремясь обосновать свободу с помощью «ничто», Н. Бердяев
обращается к учению немецких мистиков, особенно Якоба Бёме,
о Ничто — Ungrund, или «бездне», которая есть источник бытия
самого Бога. Согласно Бёме, в основе божественного бытия лежит
бессознательная, иррациональная «природа» — потенция Бога,
предшествующая его актуальному бытию. «Быть может, впервые
в истории человеческой мысли Бёме увидел, что в основе бытия
и добытия лежит безосновная свобода, страстное желание ничто
стать чем-то... и он явился обоснователем метафизического
волюнтаризма, неведомого мысли средневековой и античной»44.
Для Бёме, развивает свою мысль НА Бердяев, свобода, т. е.
иррациональное начало, хаос, «бездна», есть, таким образом, корень
всего сущего, в том числе и Бога. «В глубине мира лежит первичная
страсть»45, — подытоживает Бердяев учение Бёме, возвращаясь тем
самым к Шопенгауэру и общим романтическим истокам своей
юности. Немецкая мистика — Мейстер Экхарт, Ангелус Силезиус,
Якоб Бёме — и в самом деле составляет ту почву, на которой вырос
немецкий идеализм, и особенно Фихте с его учением о
развивающемся Боге, Шеллинг с его теорией «иррациональной природы»
в самом Боге, да и шопенгауэровское учение о темной, иррацио-
41 НА Бердяев. Философия свободного духа. Ч. I. Париж, 1927, с. 115.
42 НА Бердяев. О рабстве и свободе человека, с. 65.
43 НА Бердяев. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого.
Париж, с. 1952, с. 7.
44 НА. Бердяев. Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и
объективация. Париж, 1947, с. 100.
45 Там же, с. 105.
Глава 8 Анархический персонализм Николая Бердяева
317
нальной воле как начале мира. Ведь воля у Шопенгауэра есть не что
иное, как все та же потенция, которая страстно жаждет
осуществления, никогда его не достигая.
Итак, свобода, по Бердяеву, есть ничто — потенция, хаос, чистая
возможность. И как таковая она не просто источник всего
действительного, актуального, оформленного — и космоса, и логоса.
Свобода не только первичнее бытия, она, по Бердяеву, определяет
собой и путь бытия. «Из свободы ничто раздается согласие на само
миротворение, оно раздается из таинственных недр потенции»46.
Люциферический характер свободы
у H.A. Бердяева
Бердяев, однако, не вполне удовлетворен толкованием Ничто у Бё-
ме. Ему представляется, что бёмевское Ничто, которое есть
«основа» или «безосновность» в Боге, не может гарантировать полную
свободу человеку, — ведь это все-таки божественное Ничто! И если
тут коренится человеческая свобода, значит человек опять-таки
попадает в зависимость от Бога, пусть и в такой, крайне ослабленной,
форме. Поэтому в учение немецкого мистика наш философ вносит
корректив: изначальное Ничто надо мыслить как независимое от
Бога, как совершенно самостоятельное начало, точнее, безначалие,
и в нем только и может быть «спасена» человеческая свобода.
На наш взгляд, это чисто люциферическая свобода, и она ничем
не отличается от чистого произвола, хотя Бердяев и не хотел бы
быть понятым таким образом. Понимая начало мира как чистую
потенцию и видя в последней исток и тайну человеческой
свободы, русский философ справедливо указывает на то, что в античной
Греции (добавим — и в средневековой христианской теологии)
чистая потенция мыслилась как материя, хаос, небытие. Но
свобода-то, как ее мыслит он сам, есть именно этот хаос, то, что древние
понимали под материей (hylë), и Бердяев это отлично видит, более
того, он на этом настаивает. Впрочем, Бердяев отказывается в
данном контексте от термина «материя», поскольку в Новое время
этот термин нагружен существенно иным смыслом. «Мир
сотворен не из материи, — пишет наш философ, — а из свободы, ибо
ничто — не материя, а свобода»47.
46 НА. Бердяев. Метафизическая проблема свободы, с. 57.
47 Там же, с. 59.
318 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
Но переименование материи в свободу существа дела не меняет!
Если в основе всего сущего лежит хаос и небытие, то мир
действительно есть зло, но это зло происходит не от сотворившего его
Бога, а от той самой свободы, которая изначально, подобно материи
греков, была вне Бога и из которой как раз и происходит ценимая
превыше всякого бытия бердяевская свобода48. Бердяев считает,
что только в эпоху христианства была открыта эта самая
иррациональная стихия свободы, ибо «грек боялся бесконечности, в
свободе же как иррациональном начале есть бесконечность,
возможность торжества хаоса. Такая свобода для грека — торжество
материи. Истинная свобода есть торжество формы»49. В
христианскую же эпоху открывалась именно иррациональная свобода,
и с ней, подчеркивает Бердяев, связан догмат о грехопадении.
«Принятие идеи грехопадения, — продолжает он, — есть принятие
той истины, что в основе мирового процесса лежит первая
иррациональная свобода»50.
Казалось бы, тут Бердяев прав, — человек сотворен свободным,
и на его свободу Бог никогда не посягал. Но в этом рассуждении
есть и иное допущение. Сказать, что мировой процесс начался
с грехопадения, значит поставить последнее на место
божественного творения: ведь все-таки с него начался мировой процесс. Мало
того: это значит приписать Сатане — ибо не только человеческая
свобода, но и искушение Змия стоит у истоков грехопадения, — тот
акт миротворения, который по праву принадлежит Другому. И тут
есть своя логика. Настаивать на самозаконной свободе, которая
в сущности своей есть Ничто и противостоит бытию, — значит
настаивать не просто на человеческой, а скорее на люциферической
свободе, свободе Каина, к которой так часто апеллировал молодой
романтик Н. Бердяев, плененный образом сверхромантика Став-
рогина51. Тут сходятся два центральных мотива бердяевского
творчества: отрицание «мира сего» как порождения «злого Бога» и
убеждение в сверхтварности человека, в его сверхбожественности: ведь
как олицетворение свободы, т. е. ничто, он не только прежде Бога,
48 Не случайно В.Н. Лосский назвал H.A. Бердяева одержимым «мракобесием
свободы»: свобода в ее бердяевском толковании есть демонизм, есть зло,
которое раньше и выше добра.
49 Бердяев H.A. Метафизическая проблема свободы, с. 58.
50 Там же.
51 Любопытно, что на этот момент обратил внимание ДС Мережковский,
увидевший в бердяевском учении о свободе возможность ее превращения в
«бесовский хаос»: «Надо полюбить, чтобы быть свободным. Не свобода прежде
Глава 8 Анархический персонализм Николая Бердяева
319
он — выше Бога. Примат свободы над бытием в конце концов
означает примат человека не только над миром, но и над Богом.
Неудивительно, что при этом бунт, отрицание, революция —
последнее слово персонализма Бердяева: это — итог той позиции
«мистического гностицизма», которая всегда была характерна для
философа и сохранялась в качестве основной темы его учения при
изменении отдельных акцентов.
H.A. Бердяева можно отнести к философским представителям
неоромантизма, умонастроения, столь характерного для русского
Серебряного века и особенно ярко представленного в поэзии
плеядой символистов, возродивших никогда не умиравший в
романтизме дух мистики.
Мистика — устремление за пределы мира, отрешенность от его
богатства и многообразия; часто неприятие мира бывает чревато
настроением бунта: не случайно протестантизму истоков которого
стоит антитрадиционализм мистических течений и сект,
порвавших с преданием и искавших Бога в глубине собственного Я, принес
с собой в Европу дух революции. В этом смысле Бердяев недалек от
истины, когда говорит о «революционно-мистических
настроениях», характерных для людей «нового религиозного сознания».
Обращение к философии Бердяева позволяет нам лучше понять
ту духовную атмосферу, ту революцию в умах, которая
предшествовала социально-политическим событиям 1917 г. Бердяев
принадлежит к мыслителям, которые не столько участвовали в
политических движениях этого периода, сколько стремились к
религиозной реформации, к упразднению традиционной
православной церкви, вообще исторического христианства: Бердяев не
приемлет не только православия, но и католичества, и
протестантства. «Бог... давно умер и заменен моралью. Мораль эта должна быть
свергнута новым религиозным Возрождением, по существу
своему сверхморальным»52. Сверх-морализм Бердяева не так уж далек
от имморализма Ницше, о чем философ сам говорил в работах
900-х годов. «В „имморальном" демонизме Ницше есть элементы
любви, а любовь прежде свободы. Будьте свободны и познаете истину — это
обман Человекобожества. Познайте истину — любовь и будете свободными — это
истина Богочеловечества. То, что называют безвластием, анархией, колеблется
между этим обманом и этой истиною. Анархия во имя свободы без любви есть
путь не к божескому порядку, а к бесовскому хаосу» (Д.С. Мережковский. О
новом религиозном действии (Открытое письмо H.A. Бердяеву) // Его же.
Грядущий хам. СПб., с. 159-160).
52 H.A. Бердяев. О новом религиозном сознании // Цит. по: «Sub specie aeterni-
tatis»,c. 357.
320 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
той высшей морали, которую обыкновенно осуждает мораль
обычная и установленная»53.
Все, что в русском Серебряном веке связано с ненавистью к
«благоустроенному быту», к мещанству, приверженному этому быту,
к буржуазной пошлости и обыденности, неизменно окрашивается
в «революционно-мистические тона»; это — «мировой пожар»
Блока, «оргийно-дионисийская стихия» Иванова, жажда «конца
мира сего» Бердяева. Экстатизм — вот имя этих настроений.
Трагизм — их основная нота. Утопизм — вот подход к
онтологическим, гносеологическим, социальным проблемам. Хилиазм —
последнее слово, итог этих умонастроений.
Удивительная вещь человеческое сознание! Бердяев
принадлежал к тем людям с чуткой совестью, кто вместе с героями
Достоевского возвращали Богу «билет на вход», если «мировая гармония»
должна была быть оплачена слезинкой невинного ребенка. Но вот
молоху революции и гражданской войны были принесены в
жертву миллионы жизней, в том числе и детских, невинных. И что же?
Отвернулся ли Бердяев с гневом и отвращением от своей
излюбленной идеи — революции? Ничуть не бывало! С раздражением
отвечая тем, кто упрекает его в утопизме, наш философ пишет:
«Лицемерен и лжив тот аргумент консервативного и буржуазного (?)
христианства, что преобразовать общество нельзя из-за
греховности человеческой природы»54. Как и в молодости, Бердяев в 30-х
и 40-х годах по-прежнему убежден, что греховен и испорчен мир,
но не человек, и его разоблачительство по-прежнему имеет своим
предметом «зло мира»; «я мира божьего не принимаю», повторяет
Бердяев слова Ивана Карамазова, ибо они дают ему право сказать:
«коммунизм прав, когда кладет предел греху, обнаруживающемуся
в обществе»55.
И тем не менее Бердяев был одним из тех, кто в наш жестокий
век обличал ложь и бесчеловечность тоталитарных режимов, в том
числе и режима сталинского. Бердяев сурово осуждал насилие
и террор, который стал повседневной практикой тоталитарных
государств, защищая неотъемлемое право личности на свободу.
Стремление к духовной свободе — пафос творчества Н. Бердяева.
И тут он нередко был глубоко проницателен. Обличая фанатизм
как врага духовной свободы, он писал: «Нельзя допускать
фанатизма ни в чем. Нужно бороться за духовную свободу и духовное осво-
53 НА Бердяев. Этическая проблема в свете философского идеализма, с. 88.
54 НА Бердяев. Правда и ложь коммунизма // Путь, 1931, № 30, с. 23.
55 Там же.
Глава 8 Анархический персонализм Николая Бердяева
321
бождение в мышлении, в государстве, в семье, в быте»56. В
отстаивании духовной свободы — непреходящее значение философии
Бердяева, ее глубокая правда. Но при этом, будучи сторонником
уничтожения вообще всякой государственности, всяких
«внешних установлений», Бердяев как максималист и экстремист
оказался слепым по отношению к различию в формах государства:
для него было несущественным различие между либерально-
конституционным, правовым и авторитарным государственным
строем, ибо всякое государство он считал Левиафаном,
подчиняющим личность коллективу и лишающим ее свободы. Характерно,
что к «правдам коммунизма» Бердяев причисляет и «критику
формальной демократии»57, поскольку не приемлет вообще
«буржуазного государства». Как отмечает Г.П. Федотов, Бердяев «никогда не
был ортодоксальным марксистом, хотя бы потому, что никогда не
был материалистом. Но даже с Марксом его разрыв был не полным
и не окончательным. В эмиграции он постепенно возвращался
к учителю своей юности. В Марксе он ценил прежде всего критика
капиталистического строя, беспощадно разоблачавшего его
маски и фикции. Но он видел в нем и задатки гуманиста, боровшегося
против обесчеловечивания работника машиной и безличным
строем хозяйства»58.
С марксизмом Бердяева сближает не только критика
формальной демократии. Ему внутренне близок Марксов пафос
богоборчества — прометеизм59. В статье «Правда и ложь коммунизма» он
одобряет также политическую организацию и регуляцию
экономики, централизацию экономической политики — и понятно:
экономическую свободу Бердяев отождествляет с ненавистным ему
капитализмом.
В основе этих тенденций в отношении русского философа
к правовому государству лежит в конечном итоге отвращение не
только к государственности как таковой, но и более того — ко
всякой данности, ко всякой «объективации», в конечном счете
вообще к бытию.
56 НА. Бердяев. О назначении человека, с. 271.
57 НА Бердяев. Правда и ложь коммунизма, с. 28.
58 Г.П. Федотов. Новый град / Сб. статей под ред. Ю.П. Иваска. Нью-Йорк, 1952,
с. 310.
59 «Спасаются вне церкви, спасаются отступники христианства, богоборцы, и
уж, конечно, Леонардо да Винчи, Гёте или Ницше более излюбленные дети
Божьи, чем множество служителей исторического христианства* (НА. Бердяев.
Sub specie aeternitatis, с. 364).
322 Раздел III Религиозная философия XX века: поворот к метафизике
Сегодня изгнанная русская философия возвращается на родину,
мы вновь обретаем историческую память, которая поможет нам
осмыслить свою судьбу и, связав порванные нити истории,
сознательно строить наше будущее. Нам близка и дорога основная тема
Бердяева — тема личности, свободы, поисков человеком смысла
своего существования, убеждение в том, что человеку невозможно
«устроиться на земле без Бога». Но если мы не хотим повторения
того, что произошло с Россией в XX в., мы должны читать Бердяева
трезво и реалистически, не поддаваясь искушению утопизма,
максимализма и экстремизма, не впадая в соблазн обожествления
человека, не забывая, что хотя человек создан по образу и подобию
Бога, но он все же не Бог, он — существо конечное. И бытие — как
мира, так и самого человека — даровано ему, а не создано им
самим. Дурной путь — отрицание и разрушение бытия как
такового — должен быть нами отвергнут. Гордо-романтическая позиция
«неприятия божьего мира» должна, мне думается, уступить место
сознанию того, что не природа, не Бог, а именно человек —
источник зла и греха в мире. Это сознание — не принижающее, а
отрезвляющее и смиряющее человека, и оно, в конечном счете, —
источник подлинно созидательной, а не разрушительной его силы.
Раздел IV
«Новое религиозное
сознание»
и культура
Серебряного века
Интерес к тому периоду русской истории, который носит имя
Серебряного века, сегодня необычайно велик. Этому способствует
не только возрождение религиозной философии конца XIX —
начала XX века, но и возвращение на родину поэтов и писателей
первой эмиграции, помогающих нам сегодня осмыслить один из
самых драматических периодов нашей истории, начавшийся
с первой русской революции и не закончившийся по сей день.
Духовный и религиозный Ренессанс — так характеризовали первые
десятилетия XX в. философы и художники той поры, видя в нем
аналог европейского Возрождения. И действительно, многое
в культуре Серебряного века сходно с культурой и
умонастроениями XV-XVI вв. в Европе.
Ощущение необычности происходящего, экстатический
подъем и апокалиптические пророчества порождали у
поэтов-символистов, художников, философов и богословов убеждение в том,
что они участвуют в духовном обновлении России, более того —
в своего рода религиозной революции, которая по силе и глубине
превосходит всякую революцию социальную «Новое религиозное
сознание», у истоков которого стояли Д.С. Мережковский и 3.
Гиппиус, НА Бердяев, В.В. Розанов, Вяч. Иванов и др., представляло
собой критику не только православия («исторической церкви») и
самодержавия, но и всех традиционных устоев, общественного
и семейного уклада. Вадим Крейд, выпустивший книгу
«Воспоминания о Серебряном веке», в предисловии отмечает «разительный
контраст между Серебряным веком и предшествующим ему
безвременьем»1 — и задается вопросом: где и когда появились первые
В. Крейд. Встречи с Серебряным веком // Воспоминания о Серебряном веке.
М., 1993, с. 6. Не могу, однако, не сказать, что это «безвременье» было отмечено
творчеством И. Гончарова, И. Тургенева, Л. Толстого, Ф. Достоевского, поэзией
326 Раздел N «Новое религиозное сознание» и культура Серебряного века
предвестия этого нового культурного расцвета? «Мы не можем
безапелляционно указать на имя, место или дату, когда и где
забрезжила ранняя заря Серебряного века. Был ли это журнал „Мир
искусства", на чем настаивает Сергей Маковский в книге „На Парнасе
Серебряного века", или возникший ранее „Северный вестник",
или сборники „Русские символисты", не столь существенно. Новое
движение возникает в нескольких точках и проявляется через
нескольких людей, порою даже не подозревающих о существовании
друг друга. Итак, ранняя заря Серебряного века занялась в начале
девяностых годов, а к 1899 году, когда вышел первый номер „Мира
искусства", новая романтическая эстетика сложилась и
оформилась, и предстояла грандиозная творческая и преобразующая
работа, которая под силу только людям Ренессанса»2.
Ф. Тютчева, А.К. Толстого, Я. Полонского и Фета, философскими исканиями
ПД Юркевича, НЛ. Данилевского, H.H. Страхова, К.Н. Леонтьева, Н.Ф. Федорова
и B.C. Соловьева, — если назвать только самые известные имена.
2 Там же, с. 7.
Глава 9
Д.С. Мережковский: апокалипсис
«всесокрушающей религиозной
революции >
Религия — это революция,
а революция и есть религия.
Д.С. Мережковский
«Святой Дух — это Святая Плоть»
Серебряный век оставил много интересных документов,
позволяющих сегодня ощущить его атмосферу, найти ключи к пониманию его
символики, яснее увидеть смысл его исканий. Один из таких
документов — дневники З.Н. Гиппиус. В своем дневнике 1899-1914 гг.,
названном ею многозначительно — «О Бывшем», писательница
касается самых важных событий в ее и Мережковского духовной жизни.
«В октябре 1899 года... когда я была занята писанием разговора
о Евангелии, а именно о плоти и крови в этой книге, ко мне
пришел неожиданно Дмитрий Сергеевич Мережковский и сказал:
„Нет, нужна новая Церковь". Мы после того долго об этом
говорили, и выяснилось для нас следующее: Церковь нужна, как лик
религии евангельской, христианской, религии Плоти и Крови.
Существующая церковь не может от строения своего удовлетворить ни
нас, ни людей, нам близких по времени»3. Вначале замысел
создания Новой Церкви Мережковские открыли только ближайшим
друзьям — Д.В. Философову и В.В. Розанову. «Оба они, пишет
3. Гиппиус, — мысль о Церкви приняли к сердцу, хотя и не
одинаково, а каждый сообразно своему существу»4. В 1900 г. круг людей,
обсуждавших идею «нового христианства», расширился; сюда
входили, кроме Мережковских, Розанова и Философова, Перцов, Бе-
нуа, Дягилев, Нувель и Владимир Гиппиус. Собирались чаще всего
у Мережковских. «Нерешенной загадкой пола все были отравлены.
И многие хотели Бога для оправдания пола»5. Но единства в
понимании того, что надо делать, не было; оказалось, что в главном бы-
3 З.Н. Гиппиус. Дневники. Ч. 1. М., 1999, с. 89.
4 Там же, с. 90.
5 Там же, с. 93.
328 Раздел N «Новое религиозное сознание» и культура Серебряного века
ли согласны лишь трое — Мережковский, 3. Гиппиус и Философов.
Гиппиус вспоминает, что неясным оставался главный вопрос:
освящается ли пол через Бога или Бог через пол? «Оба они, и
Дмитрий Сергеевич, и Философов, еще думали, что без пола нельзя
подходить к Богу, а потому я решила, что пусть они, если боятся
бесполого Круга, — надеются, что есть пол хоть во мне, влечение
к одному из Круга. Еще Нувель сказал мне: „Если бы Философов
наверно узнал, что вы в него не влюблены, — он потерял бы всякий
интерес и к вам, и ко всему делу"»6.
И вот как происходило учреждение «Церкви Плоти и Крови»7:
«Было это в Великий Четверг, двадцать девятого марта 1901 года.
Когда было двенадцать часов и больше... мы заперли все свои
двери. И, затворив занавеси на окнах в средней комнате, вынесли
оттуда диван и всю мебель... кроме стола большого... и трех стульев...
Стол отодвинули на середину и накрыли скатертью белой... И на
столе три тресвешника, соль, хлеб и нож... а на скатерти цветы и
виноград... А чашу и вино, и спирт, чтобы согреть его, я оставила
в дальней третьей комнате. В первой комнате, на столе под
лампадкой лежали наши свечи, с цветами и лентами, как венчальные,
и три наших креста. Когда мы все кончили, Дмитрий Сергеевич
умылся и надел чистое белье, а я вместо платья надела белую
сорочку, новую, которую не употребляла ни ранее, ни с тех пор»8.
Когда пришел Д.В. Философов, начался ритуал. «Кресты наши
мы надели друг на друга... Просили прощения друг у друга,
кланяясь, и целовали руки — в ладонь. И, зажегши свечи, прочли
молитву, а потом читали... Ветхий Завет... Оставив их, я пошла в третью
комнату, согрела вино, приготовила его и, закрыв, вынесла в
среднюю комнату на стол... И прочитав молитву, мы разрезали хлеб
и опустили его в закрытую чашу... £/в первый раз мы встали, и
каждый дал каждому пить из чаши и есть с ложки. И каждый целовал
чашу Я во второй раз встали, и каждый дал каждому пить из чаши,
и каждый целовал чашу. Сев, снова молились, читая молитвы, и
читали откровение святого Иоанна, а потом Тайную Вечерю в
Евангелии от Иоанна. И в третий раз встали, и каждый дал каждому
6 Там же, с. 95.
7 «Была у меня мысль, — вспоминает Зинаида Гиппиус, — чтобы в среду мы
пошли в церковь, исповедались, приобщились утром в четверг в церкви, перед
нашим. Для того, чтобы не начинать, как секту, отметением Церкви, а принять и
Ее, ту, старую, в новую, в нашу» (там же, с. 96). Но пойти в церковь помешали
обстоятельства.
8 Там же, с. 97-98.
Глава9 ДС. Мережковский
329
пить из чаши и есть с ложечки, и последний выпил все, что было,
и каждый целовал чашу. После третьего раза каждый поцеловал
каждого крестообразно: в лоб, уста и глаза. И кресты наши мы
сняли, смешали и опять надели друг на друга, чтобы и не знать,
который чей на ком»9.
Эта дневниковая запись позволяет живо почувствовать ту
духовную смуту, которая охватила часть интеллигенции накануне
первой русской революции. Тут не только жажда чуда, какого-то
небывалого свершения, не только — и, может быть, не столько —
религиозный порыв, сколько стремление «преступить
дозволенное», отменить старый мир и прежде всего — традиционную
православную церковь, создав новую церковь (новую секту?) —
Христианство Третьего Завета. По замыслу участников, «Тайная вечеря»,
совершаемое ими таинство евхаристии и одновременно
крещения должно превратить их в «Единое в Трех Лицах» по образу жи-
воначальной Божественной Троицы. Именно Троица как
преодоление отдельной самостоятельной индивидуальности должна
стать зерном, ядром новой церкви10. Вся кощунственная
парадоксальность этого замысла — в том, что классический «треугольник»
не только превращен в первую общину христиан «плоти и крови»,
но и ассоциируется с Божественной Троицей, которая — как
позднее поведает об этом Мережковский, есть эротический союз, где
женскому началу отведена едва ли не главная роль.
Акт рождения «новой церкви» — Великий Четверг 1899 года —
переживается участниками действа как восходящая заря новой
эры, когда силой, соединяющей верующих, станет пол: «без пола
нельзя подходить к Богу». На место христианской любви — агапэ,
любви ко Христу и братской любви-сострадания к ближнему
вполне сознательно ставится «влюбленность в Христа» (о своей
«влюбленности в Христа» говорит в дневнике 3. Гиппиус, а
Мережковский, как увидим ниже, превращает Христа в муже-женщину, —
влюбленность предполагает другой пол, по крайней мере для
гетеросексуальных «христиан Третьего Завета»), «огненный полет»,
призванный создать единство Трех в эросе, на котором, как на
первом камне, созидается «Церковь Святого Духа» — священный «брак
втроем». Брак, ибо именно в браке, по слову Писания, «станут двое
9 Там же, с. 98-100.
10 «...Сделан первый шаг на путь, возврата с которого нет, остановка на
котором — гибель. И каждый теперь зависит от каждого. И это умножение, утроение
Я — невыносимый ужас для слабого сердца и для ответственности будущего»
(там же, с. 100).
330 Раздел IV «Новое религиозное сознание» и культура Серебряного века
едино»; но брак — сакральный, назначение которого — отменить
старый, традиционный брак как начало семьи: этот новый союз
трех, будучи эротическим, должен в то же время оставаться
платоническим; основанный на влечении плоти, он не должен
допускать плотского соития. Ничто не вызывало такого яростного
неприятия у четы Мережковских, как христианский брак11.
Мистико-романтическое учение B.C. Соловьева о половой
любви как пути к спасению, к воссоединению человека с Богом,
любви-влюбленности, которая должна всегда оставаться
платонической, — вот один из источников нового культа, который пытались
осуществить Мережковские и Философов. Эротическая утопия,
воодушевлявшая их, основана на далекой от подлинного
христианства вере в «святость плоти». Мережковский дает свое собственное
толкование христианскому догмату о воскресении во плоти; раз
Христос пришел в мир, чтобы освятить плоть, а пол — это
квинтэссенция плоти, то будущее христианство — это религия
преображенного пола, религия «новой влюбленности». Ничто не является,
по Мережковскому, более враждебным «религии святой плоти»,
как аскетизм, к которому призывала и призывает «историческая
церковь», видя в нем путь к истинному преображению плоти.
Не аскетизм, а влюбленность — вот что спасет человека и мир
в возжигаемом ныне «огне всемирной религиозной революции».
Разъясняя, что такое влюбленность, 3. Гиппиус пишет: «Это
новое в нас чувство, ни на какое другое не похожее, ни к чему
определенному, веками изведанному, не стремящееся, и даже
отрицающее все формы телесных соединений, — как равно отрицающее
и само отрицание тела»12. Влюбленность как одухотворенная
форма половой любви, как убеждена 3. Гиппиус, по природе своей
противоположна «желанию», которое часто принимают за
влюбленность, но которое есть не более чем «желание известной формы
брачного соединения»13. Пока жива влюбленность в ее «чистом,
11 Союз Д. Мережковского с 3. Гиппиус был «браком духовным». Романтико-эро-
тическая утопия породила в Серебряном веке немало «духовных браков»:
таким был не только брак Мережковских, но и Ф. Сологуба с Чеботаревской, и
А. Белого с Асей Тургеневой, и А. Блока с Л. Менделеевой, и Н. Бердяева с Л. Рапп.
«Брак Николая Александровича с моей сестрой был духовным браком, —
вспоминает родственница Бердяевых. — Они жили как брат с сестрой, подобно
первым апостолам» (D.A. Lowrie. Rebellious Prophet. A Life of Nicolai Berdyaev. New
York, I960, p. 73).
12 3. Гиппиус. Литературный дневник (1899-1907) // Ее же. Дневники. Ч. 1,
с. 257.
13 Там же, с. 259.
Глава9 ДС. Мережковский
331
единственном, божественном виде»14, человек не может принять
брак, ибо плотская связь уничтожает влюбленность. «Но тот же
влюбленный менее всего отрицает, проклинает тело своей
возлюбленной; он его любит, оно ему дорого, в нем нет для него
„греха". Ощущение греха, проклятие плоти — выросло исключительно
из желания... Дух — против плоти. Но во влюбленности, истинной,
даже теперешней, едва родившейся среди человечества и еще
беспомощной, — в ней сам вопрос пола как бы тает, растворяется;
противоречие между духом и телом исчезает, борьбе нет места... Плоть
не отвергается, не угнетается, естественно, — ибо она уже
воспринята как плоть, которую освятил Христос»15.
Прекрасное чувство влюбленности, которое дает
незамутненную радость, окрыляет человека и возносит его над землей,
действительно способно породить надежду на то, что с его помощью
можно освободиться от всего, что порождено человеческой
греховностью. При этом, что самое главное, — освободиться без тех
трудов и усилий самопреодоления, которых требует не только
монашеская аскеза, но и те — сравнительно легкие — узы, которые
налагает на всякого человека требование самоограничения, в том
числе и половое самоограничение в моногамном браке. Но увы! —
эта надежда иллюзорна. В этом убедились большинство из тех, кто
пытался увековечить влюбленность, в частности и через духовный
брак: нередко этот эксперимент кончался либо разрывом, либо
противоположной крайностью, как например у А. Блока, либо,
наконец, периодическими изменами «священному союзу».
О последнем случае как раз повествует З.Н. Гиппиус в 1901 году.
«Тутжизнь пришла, чтобы научить. Дмитрию Сергеевичу еще
раньше писала одна женщина из Москвы16. Я отвечала за него, а когда
она приехала, он пошел к ней, и она ему физически понравилась.
После Пасхи она опять приехала, влюбленная в него. И вот он свое
14 Там же.
15 Там же, с. 259-260. В евангельской любви, к которой призывал Христос, —
«любите друг друга» — 3. Гиппиус видит не агапэ, не братскую любовь, а половую
влюбленность. «Сама любовь, принесенная Им, вмещенная людьми как „жалость
и сострадание" — точно ли жалость? „Будьте одно, как Я и Отец одно"... И „кто не
оставит отца и матери и жены и детей ради Меня"... Не похожа ли эта, загадочная
для нас, Любовь — скорее на огненный полет, нежели на братское сострадание,
или даже на умиление и тихую святость? И где злобное гонение плоти аскета
среди этих постоянно повторяющихся слов о „пирах брачных", о „новом вине",
о Женихе — вечном Женихе, — грядущем в полночь?..» (там же, с. 261).
16 Речь идет о Е.И. Образцовой, близкой к кругам символистов, с которой у
Мережковского был роман.
332 Раздел IV «Новое религиозное сознание» и культура Серебряного века
исключительно физическое, только плотское влечение стал
оправдывать мыслями о святости пола и о святой плоти и стал
говорить о том, что „она может войти через пол"17, — а она совсем
чужая, простая, как Божья тварь, и неподвижная. И все тут смешалось,
стало смешным и ужасным, и нельзя уже было понять, где грех...
А мы уехали в Москву. Там Д.С. сошелся с этой бедной, влюбленной
в него женщиной и чувствовал себя и самодовольно, и трусливо. Я
молчала»18.
Не было понятия, которое бы вызывало большее отвращение
у носителей «нового религиозного сознания», чем понятие греха.
Отсюда и неприятие «исторической церкви» с ее учением о
поврежденной грехопадением человеческой природе, и ненависть
к аскетизму как насилию над «святой плотью», и эротическая
утопия — вера в обожение человека через пол. Именно ослабление
чувства человеческой греховности роднит русский Серебряный
век с эпохой Возрождения, этим первым плодом секуляризации,
когда была устранена непереходимая грань между человеком и
Богом, имманентным и трансцендентным, чему в немалой степени
способствовало распространение герметизма и гностицизма,
характерных также и для Серебряного века. Сама идея «освящения
плоти», идея «святой земли», с помощью которой «новые
христиане» стремились подняться над традиционной православной
церковью и преодолеть ту пропасть, что отделяла церковь и светскую
культуру, — сама эта идея в сущности была способом освящения
именно секулярной культуры, в которой «тело» уже давно
торжествовало победу над «духом».
Эта идея с конца XIX века носилась в воздухе не только в России,
но и на Западе. Здесь она нашла свое выражение прежде всего в
«философии жизни», представители которой, подобно Мережковскому,
Розанову, В. Иванову и др., вели борьбу как с «бездушной плотью»
17 Надо полагать, войти в «новую церковь».
18Тамже.Ч. 1,с. 101-103. В свете этой— достаточно драматической, хотя и
сдержанно рассказанной истории, — довольно наивно звучит суждение
С.Н. Савельева, автора послесловия к сборнику статей Мережковского «Больная
Россия»: «С Д.С. Мережковским ее (3. Гиппиус. — ПГ.) союз был чисто духовным,
как и с Д.В. Философовым. Все трое жили как аскеты, неся легкое иго
целомудрия» (см.: Д. Мережковский. Больная Россия, Л., 1991, с. 245-246). Не говоря уже
о том, что культ влюбленности только с большой натяжкой может быть назван
аскетизмом, «иго целомудрия», как видим, могло быть снято, тем более что это
было нетрудно оправдать «мыслями о святости пола и о святой плоти», более
того, — объяснить плотскую связь высокой идеей спасения еще одной
грешной души путем приобщения ее к «Церкви Святой Плоти».
[Глава 9 Д.С Мережковский 333
материализма и механицизма, так и с «бесплотным духом» идеализ-
Е«Дух как противник души» (1929-1932) — так назвал свое трех-
яное сочинение Людвиг Клагес, выразитель идей философии
зни в Германии. Особенно близка представителям «нового
религиозного сознания» философия жизни Фр. Ницше19. Однако между
Ницше и Мережковским есть один весьма важный пункт
расхождения: аристократический индивидуализм немецкого философа
неприемлем для русского сознания, тяготеющего к созданию новых
форм коллективности. Религия «святой Земли», по Мережковскому,
должна освятить социализм как «всемирное соединение и
устроение людей на земле»20.
Христианство «Третьего Завета» —
религия «святой общественности»
Мистико-эротическая утопия, вдохновлявшая Мережковских,
когда они создавали «Новый Храм», «единое в Трех Лицах», оказалась
тесно связанной с идеей так называемой «новой общественности»,
призванной преобразить старый мир и осуществить
апокалиптические ожидания христиан «Третьего Завета». Создание «Храма» —
«Тайны Трех» — лишь пролог к этой новой — «телесно-духовной»
форме социальности. В том же дневнике — «О Бывшем» —
Зинаида Гиппиус рассказывает о своем разговоре с Мережковским,
который произошел спустя полгода после описанного ею сакрального
действа: «Последняя мечта наша — не создание Храма, а создание
Церкви. Совместная молитва соединяет, а жизнь разъединяет.
Символы — не действия. Мы сделали полшага к нашему Храму, но не
сделали в то же время ни одного движения к нашей Церкви. ...А не
думаешь ли ты, что нужно начать какое-нибудь реальное дело в эту
19 Именно в Ницше Мережковский увидел мыслителя, не побоявшегося
перейти ту черту, перед которой остановился B.C. Соловьев, заключивший
«компромисс» с традиционной христианской церковью. «Вовсе не парадоксальное
утверждение демонического зла вместо человеческого добра, а совершенно
истинное, с точки зрения самого Вл. Соловьева, утверждение
„сверхчеловеческих" или „богочеловеческих", по слову Соловьева, религиозных ценностей,
которые находятся „по ту сторону" человеческого добра и зла, — такова
подлинная сущность Ницше. ...Соловьев возражает весьма неудачно на новую религию
Ницше старою нравственностью; это два несоизмеримые порядка» (Д.С.
Мережковский. Не мир, но меч. К будущей критике христианства. СПб., 1908, с. 84).
20 Д.С Мережковский. Поли. собр. соч. Т. XI. СПб.-М., 1914, с. 221.
334 Раздел N «Новое религиозное сознание» и культура Серебряного века!
сторону, пошире. И чтобы оно было в условиях жизни, чтоб были
деньги, чиновники и дамы, явное, — и чтобы разныелюди сошлись,
которые никогда не сходятся... и чтобы мы трое, ты, я и
Философов, были в этом, соединенные нашей связью, которая нерушима,
и чтобы мы всех знали, а нас, о нас никто не знал до времени. И
внутреннее будет давать движение и силу внешнему, а внешнее —
внутреннему»21.
Так родилась — вначале еще не вполне определенная — идея
организации религиозно-философских собраний, впоследствии
ставших основой для Религиозно-философского общества. Главным
движущим стимулом к этому была неудовлетворенность
участников «нового Храма», не дававшего, по-видимому, того
экстатического состояния, к которому они стремились. «Определенно мысль
наша приняла такую форму: создать открытое, официальное...
общество людей религии и философии, для свободного
обсуждения вопросов церкви и культуры»22.29 ноября 1901 года состоялось
первое религиозно-философское собрание в зале Географического
общества в Петербурге. Внешне цель общества формулировалась
как сближение церкви и интеллигенции. Но более далеко идущая,
«внутренняя» цель состояла в создании «религиозной
общественности» как Новой Церкви, зиждительным началом которой станет
«влюбленность» — преображенный пол. «Через пол, — писал
H.A. Бердяев в 1905 году, — должно совершиться не только
соединение двух в вечную полноту индивидуальности, но и соединение
всех в общественность... В поле, в любви заключена и тайна
индивидуальности, личности, и тайна универсальности, соборности»23.
Как конкретно представляли себе адепты «нового религиозного
сознания» — Мережковские, Философов, Бердяев, Розанов, Тернав-
цев и др. — «соединение всех в общественность» посредством пола?
Автор интересного исследования, посвященного Серебряному
веку—А Эткинд предлагает свою интерпретацию этого замысла:
«Решение виделось на пути размыкания „тайны двух" до „тайны трех",
или, если перейти с жаргона Мережковских на жаргон позднейшего
времени, в попытке коллективизации секса. Акт будущего мыслился
как соединение не двух, а многих... Именно в этом важном пункте
дискурс Серебряного века шел дальше платоновских, гностических
и барочных мечтаний об андрогинной сущности человека»24. Такой
213. Гиппиус. Дневники. Ч. 1,с. 109.
22 Там же, с. 110.
23 НА Бердяев. О новом религиозном сознании, с. 360.
24 А Эткинд. Хлыст. Секты, литература и революция, с. 206.
ршва9 ДС Мережковский 335
вывод и в самом деле напрашивается, когда читаешь, например,
письма 3. Гиппиус. В одном из писем к Философову она вспоминает:
«Помнишь наши разговоры втроем, каким образом будет
проявляться в грядущем любовь двух в смысле пола, и может ли остаться
акт при (конечно) упразднении деторождения? Помнишь твои
слова, подтвержденные Дмитрием, что если акта не будет, то он
должен замениться каким-то другим, равным по силе ощущения
соединения и плотскости, другим общим, единым (вот это заметь)
актом... Не человеческая уж общность, но человеческое
возвышающая до божественного. Общность, обнимающая любовью
раздельность и сохраняющая ее в себе»25. И тем не менее вряд ли можно
допустить, что Зинаида Гиппиус представляла себе «соединение
многих» в виде свального греха26. Основное впечатление, которое
выносишь из чтения документов той смутной эпохи — дневников,
статей и писем 3. Гиппиус, сочинений Д. Мережковского, Д. Филосо-
фова, Н. Бердяева (исключение составляет В. Розанов, защищавший
святость гетеросексуального брака и отвергавший всякие
извращения на половой почве27), — это неясность для них самих, как следует
понимать эту на всеобщей влюбленности основанную «святую
общественность», этот самый «общий, единый акт»28. Здесь невольно
25 Т. Pachmuss. Intellect and Ideas in Action. Selected Correspondance of Zinaida
Hippius. München, 1972, p. 65. «Как всегда, — комментирует это письмо А. Эт-
кинд, — культурная традиция переплетается с личной биографией... адресат
этого письма был гомосексуалистом, и влюбленной в него женщине надо было
придумывать небывалые способы любви» (А. Эткинд. Цит. соч., с. 204-205).
26 Правда, на такие мысли наводит не только переписка 3. Гиппиус, но и
некоторые рассуждения Мережковского. Например, в «Тайне Трех» он пишет: «Будут
два одна плоть, только ли о брачной любви это сказано? Нет, как два, так и все
будут одна плоть, одна кровь в таинстве Плоти и Крови, в тайне Церкви —
Царства Божьего — божественного общества» (Д.С. Мережковский. Тайна Трех.
Прага, 1925, с. 58).
27 Как рассказывает в дневнике Зинаида Гиппиус, Розанов не захотел принять
участия в задуманном ими «Таинстве». «Розанов, занятый своими мыслями,
усмотрел опасное в тайне, о которой мы просили, и, тайны не признавая, открыл
кое-что, по-своему объяснив, жене. И она ему не советовала говорить с нами»
(3. Гиппиус. Дневники. Ч. 1, с. 90).
28 Эту неопределенность и тоску хорошо передает одно из стихотворений
Гиппиус
Увы, в печали безумной я умираю,
Я умираю.
Стремлюсь к тому, чего я не знаю,
Не знаю...
Но плачу без слез о неверном обете,
336 Раздел IV «Новое религиозное сознание» и культура Серебряного вею
возникает ассоциация с хлыстовскими «радениями», где мистике-
экстатический культ порой принимал оргиастические формы29. (
Религиозные игры с полом — занятие опасное и
двусмысленное-, это становится особенно очевидным, когда читаешь
позднейшие сочинения Мережковского, в которых он пытается изъяснить
«символы новой веры»: «Тайна Трех» (1924), «Иисус Неизвестный»
(1932), «Лица святых от Иисуса к нам» (1938) и др.
«Тайна Трех»
Чтобы понять смысл символики «Троицы» у Мережковского, надо
иметь в виду ту главную цель, которой он хочет достигнуть,
создавая новую религию. Эта цель, как ее сформулировал близкий к
Мережковскому Н. Бердяев, — состоит том, чтобы соединить «две
противоположные бездны»: «христианство и язычество, дух
и плоть, небо и землю... Христа и Антихриста»30. Язычество, как
видим, предстает здесь не как дохристианская или
нехристианская культура, но как антихристианство. И именно в этом своем
качестве — в качестве Антихриста — оно и должно быть соединено
с христианством. В этом — весь кощунственный соблазн «Религии
Третьего Завета». Бердяев временами смутно чувствует
двусмысленность этого замысла, но это, с другой стороны, придает ему
притягательность. «Мережковский в самом начале своего пути
ощутил, мистически почувствовал, что нет спасения в том, чтобы
одну бездну принять, а другую отвергнуть... Мережковский понял,
что исход из религиозной двойственности, из
противоположности двух бездн — неба и земли, духа и плоти, языческой прелести
мира и христианского отречения от мира... не в одном из Двух,
О неверном обете...
Мне нужно то, чего нет на свете,
Чего нет на свете.
29 Как отмечал H.A. Бердяев в статье 1916 года «Новое христианство (Д.С.
Мережковский)», «религиозная тема Мережковского более всего есть у хлыстов,
и стремления его даже называли интеллигентной хлыстовщиной. Но я не
думаю, что это было укором (в атмосфере тех лет — скорее наоборот. — ПГ.).
В хлыстовстве много тьмы и антихристианских уклонов, но тема его
религиозно- {великая} значительная и религиозно-огненная. Это тема об общной
жизни в Духе, о коллективном экстазе» (H.A. Бердяев. Типы религиозной мысли
в России // Собр. соч. Т. 3. Париж, 1989, с. 500).
30 НА Бердяев. Sub specie aeternitatis, с. 343.
ршва9 ДС Мережковский 337
а в Третьем: в Трех. В этом его огромная заслуга. Огромное
значение для современного религиозного движения»31. Почему Бердяев
согласен вслед за Мережковским соединить Бога и дьявола, хотя
и сознает «опасность смешения, подмены в двоящемся Лике
Христа и Антихриста»?32 А потому, что эта двойственность — заметим
это! — должна гарантировать возможность «последней
религиозной свободы»33.
В разделе, посвященном рассмотрению философского учения
Бердяева, мы попытались раскрыть подлинный смысл понятия
«свобода» в понимании Бердяева. А сейчас посмотрим, что же такое
то «Третье», в чем должны примириться христианство и язычество,
Христос и Антихрист и в чем раскроется «главная религиозная
загадка» — загадка пола. В трилогии «Тайна Трех» Мережковский
пытается разрешить эту загадку. Здесь мы прежде всего узнаем, что
подлинный изначальный исток Святой Троицы следует искать в
Самофракийских таинствах, посвященных Великим Богам — каби-
рам. Культ кабиров — хтонических божеств, мужских и женских,
порожденных, согласно греческой мифологии, богом Гефестом
и нимфой Кабиро, дочерью Протея, в эпоху поздней античности
сближался с орфическими мистериями. Имя кабиров, поясняет
Мережковский, пришло из Ханаана, где их было трое: Ваал-Отец, Ас-
тарта-Мать и Сын Адонис-Эшмун. Им же поклонялись и египтяне
в лице Озириса, Изиды и их Сына — Гора. Как подчеркивает
Мережковский, именно из Самофракийских таинств апостол Павел
«с удивлением узнал кое-что о Трех в одном Боге неведомом»34. Кто
же эти Трое? «Отец небесный Зевс, Мать Земля Деметра и Сын
Земли и Неба, Дионис. И в Елевсинских таинствах те же Трое, только
в инОхМ сочетании: Отец Дионис, Мать Деметра и Сын Иакх»35.
Самофракийским таинствам, кабирам, элевсинским мистериям
как языческой предыстории христианского догмата о триипо-
стасном Боге немало страниц посвятил Шеллинг в своей
«Философии откровения», которая оказалась вначале недостаточно
востребованной в протеста некой Германии36, но получила новую
31 Там же, с. 344.
32 Там же.
33 Там же.
34 ДС. Мережковский.Тайна Трех, с. 33-
35 Там же.
36 Как отмечал Куно Фишер, «„Философия откровения" Шеллинга прошла
почти бесследно, не вызвав к себе большого интереса» (К. Фишер. История
новой философии. XVIII. СПб, 1905, с. 768).
338 Раздел IV «Новое религиозное сознание» и культура Серебряного века
жизнь на русской почве — в «христианстве Третьего Завета*.
«Самофракийские и Елевсинские таинства совершались еще
накануне Никейского собора, где исповедан был догмат о Пресвятой
Троице, — пишет Мережковский. — И до наших дней, в каждой
христианской церкви, исповедуется в Символе веры открытая людям
от начала времен и все еще сокровенная Тайна Трех»37. Так —
вполне вроде бы естественно — языческая мифология сливается с
христианским учением о Троице: оказывается, христиане, сами того
не подозревая, поклоняются в церкви Ваалу, Великой Праматери —
Кибеле и греческому оргийному богу Дионису.
Но это еще только первый шаг к раскрытию Тайны Трех. Вслед за
Шеллингом, «заглянувшим в тайну мира глубже, чем Кант»38,
Мережковский предлагает диалектическую формулу Троицы, в
которой заключена главная тайна эпохи Третьего Завета: «В Боге Три
начала: первое, отрицающее или замыкающее — „огнь закона", гнев;
второе — утверждающее или расширяющее — „веяние тихого
ветра", любовь; и третье, соединяющее два первых. Нет, Да, Да и Нет.
- А — Отец.
+ А — Сын.
±А-Дух»39.
Согласно Мережковскому, Царство Духа, приходящее на смену
Царству Сына, раскрывает самую глубокую истину «Третьего
Завета», а именно тождество двух бездн — духа и плоти, Христа и
Антихриста. Этот тезис получает подтверждение с помощью
диалектики Шеллинга, мыслящего Дух как тождество противоположностей.
Но мы все еще не добрались до главного, еще не вполне осознали,
что Бог-Дух, третье Лицо Троицы, скрывающее в себе всю тайну
мира, — это Мать-Дух40. Таким образом, тайна Святой Божествен-
37 Д.С. Мережковский. Тайна Т]эех, с. 34.
38 Там же, с. 37.
39 Там же, с. 36.
40 В «Иисусе Неизвестном» Мережковский со ссылкой на неканоническое
евангелие подчеркивает, что Иисус Христос не случайно «называет Духа Святого
Матерью: „Матерь Моя — Дух Святой" (Origen, Im Jon., II, 12,6). Этим
таинственным словом-шепотом „в темноте, на ухо", — может быть, только среди
избранных, Трех из двенадцати, начинает Иисус, в „Евангелии от Евреев", рассказ об
Искушении... Сын говорит всегда об Отце, и только здесь — о Матери. „Семя
жены сотрет главу Змия", — это Первоевангелие, перворелигию всего
человечества — религию Матери — Сын освящает... только здесь, вне Канона, как будто вне
Церкви (но, может быть, Церковь шире, чем ей самой кажется), завершается
догмат о Троице-. Отец, Сын и Матерь Дух. И новым светом... озаряется главное
прошение молитвы Господней — о Царстве.- первое царство — Отца, второе —
Глава 9 Д.С. Мережковский
339
ной Троицы есть не что иное, как пол. Потому и в человеке пол
составляет высшее — божественное — начало. «Пол есть
единственно возможное для человека, кровнотелесное „касание к мирам
иным", к трансцендентным сущностям... Все тело имманентно.
А Пол трансцендентен; все тело в трех измерениях, а Пол — в
четвертом. Здесь-то и соединяются противоположности, мужское
и женское...»41 Христианство не поняло, точнее, не захотело
понять тайну пола, исключило из догмата о Троице пол как
языческое начало, а потому не признало трансцендентного значения
пола и в человеке. Как и Розанов, Мережковский считает
христианство «оскопленной религией», породившей «бесполый», а
значит, безбожный язык: вот почему, пишет Мережковский, когда мы
соединяем слово «пол» со словом «любовь», нам кажется, что мы не
пол освящаем, а оскверняем любовь. «...Там, где пол — в язычестве,
в христианстве — нуль. В Троице языческой — Отец, Сын и Мать;
в христианской — вместо матери, дух. Сын рождается без матери,
как бы вовсе не рождается. Вместо живого откровения, мертвый
и умерщвляющий догмат»42. Теперь, как видим, все-таки
выясняется, что в церкви христианской не поклоняются ни Ваалу, ни
великой Праматери; языческая мифология и христианское богословие
не тождественны, что признает Мережковский. Но для него это-то
и неприемлемо. Дух Святой должен быть заменен «святым полом»,
и тогда «колесо мира повернется на оси своей», как оно когда-то
повернулось «в христианстве Сына... так что верхнее сделалось
нижним, святое — кощунственным»43.
Думается, сказанного вполне достаточно для того, чтобы
сделать вывод, что возвещаемая Мережковским религия — это не хри-
Сына, третье —Духа-Матери» (Д.С. Мережковский. Иисус Неизвестный. М., 1996,
с. 67). Христианство Третьего Завета, таким образом, есть не что иное, как
торжество эротического культа Праматери — Кибелы, она же — Третье Лицо
Святой Троицы.
41ДС. Мережковский. Тайна Трех, с. 48-49.
42 Там же, с. 50-51.
43 Там же, с. 51. В «Иисусе Неизвестном» мы узнаем, что не только Св. Дух имеет
женскую природу, но и Сын есть муже-женщина, андрогин. Однажды, пишет
Мережковский, к своей матери, Марии, вошел в дом «маленький мальчик, две
капли воды Иисус.и сначала, не разглядев... лица Его, подумала она, что это Он
и есть... но ...вдруг поняла, что это не Он. И мальчик обернулся Девочкой, и так
испугалась она, подумав, что призрак ее искушает, Иисусов двойник; сама не
помня, что делает, привязала Его-Ее к ножке кровати и побежала за Иисусом,
чтобы сравнить Их, узнать, кто настоящий; но не узнала: Он и Она были
совершенно друг другу подобны. И Он обнял Ее, поцеловал, и двое стали одно»
(Д.С Мережковский. Иисус Неизвестный, с. 114).
340 Раздел N «Новое религиозное сознание» и культура Серебряного века
стианство, а новое язычество, отличающееся от старого своей ор-
гиастической безудержностью, демоническим пансексуализмом.
Принцип меры, столь высоко ценимый языческой античной
культурой, меры, понятой не как «мещанская середина», как толкует
меру «новое религиозное сознание», а как начало формы, а значит —
духа, который только и может сделать человека тождественным
себе44, — этот принцип не только чужд, но и глубоко враждебен
«новому язычеству» с его культом безмерности, воплощаемой в ди-
онисийско-оргийном начале, воспетом Ф. Ницше, В. Ивановым,
Мережковским и Бердяевым. Хмельной и яростный Дионис
совершенно сознательно поставлен здесь на место Христа. «Тринита-
ризм, — итожит Мережковский, — не что иное, как преломленный
в философском мышлении, религиозный сексуализм — половая
насыщенность, напряженность древней мистерии. В мире Пол —
в Боге Троица»45. В то же время представление о разделении на два
пола, по Мережковскому, упрощает подлинный смысл пола: как мы
уже знаем, пол, по Мережковскому, должен быть углублен до
множественности, ибо Три — первый символ множества — общества46.
«Святая общественность», как мы уже знаем от Мережковских, —
это и есть Тайна Трех. Многое мы уже узнали о тайне «святой
общественности». Многое, но не все. Писатель обещает еще больше
приоткрыть завесу этой тайны, если из Самофракии мы перейдем
в Египет: «Египет — единственный путь к Тайне трех»47.
Хорошо известно обожествление животных в древнем Египте.
Но при чем же здесь «тайна пола»? — спросит удивленный
читатель. И Мережковский пояснит ему, сославшись на
древнегреческого историка Геродота: «„Случилось в области той (Мендесской)
44 В этике Аристотеля мера — одно из главных условий добродетели. Она
связана с началом предела, определенности, имеющей своим источником форму,
а не материю, единое, а не беспредельное. С точки зрения древнегреческой
этики, нравственная добродетель сказывается в первую очередь в умении
находить середину между избытком и недостатком. Поскольку зло — это
беспредельное, то крайностей — то есть пороков — может быть множество, и
напротив, мера как предел — только одна. Поэтому обретение середины трудно, тогда
как впадать в крайности легко. Именно мера в качестве формы делает человека
равным себе, самотождественным в намерениях и поступках, а это как раз и
отличает благородного человека, которым правит разум, от низкого, которым
владеют чувственные влечения и страсти. Крайности — изменчивы, мера же
постоянна, а постоянство есть начало духовное.
45 ДС Мережковский. Тайна Трех, с. 53-
46 См. там же, с. 55.
47 Там же, с. 91.
Глава9 ДС. Мережковский
341
такое диво при мне: с женщиной козел всенародно смесился. И это
стало всем ведомо", — сообщает Геродот (II, 46)... Немецкий
египтолог Видеманн полагает возможным и вероятным священное
скотоложество в Египте; по смыслу обряда женщина
совокупляется, конечно, с богом, а не с животным... Мендесский козел или
овен... есть „живая душа" бога Солнца Ра, или бога мертвых,
Озириса...»48 Вот в этом и состоит «неимоверная тайна Египта», дающая
ключ к пониманию «святой общественности» будущего49. Не
просто любовь к животным как нашим братьям меньшим, не просто
сочувственная жалость к ним, детски непосредственным и
беззащитным перед человеком, — такая любовь-жалость, с точки
зрения Мережковского, является «оскопленной», «бесполой». А тут
обоготворение животного приветствуется именно как
«священное скотоложество», в котором и открылась древним египтянам
«божественность пола»50. Как видим, «опыт воскресения»,
которому надо учиться у египтян, есть не что иное, как содомия. Ясно, что
48Там же, с. 115-116.
49 Тяготение к такого рода извращениям можно видеть и в романах
Мережковского — в его трилогии «Христос и Антихрист» («Смерть богов. Юлиан
Отступник», 1986; «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи», 1902; «Антихрист. Петр
и Алексей», 1905). Здесь перед нами — огромный исторический материал,
свидетельствующий о редкой начитанности и исторической учености автора, но при
этом царит удушливая атмосфера смутного времени, атмосфера жестокости
и полового садизма, искажения нравственных норм, религиозного кощунства.
Вот что пишет о романах Мережковского И А Ильин: «Ложное истинно. А
истинное ложно. Это — диалектика? Извращенное нормально. Нормальное
извращенно. Вот искренно верующая христианка — от христианской доброты она
отдается на разврат конюхам. Вот христианский диакон, священнослужитель алтаря —
он мажет себе лицо, как публичная женщина, и постоянно имеет
грязно-эротические похождения в цирке. Вот распятие — тело Христа, а голова ослиная. Вот
святой мученик — с дикой руганью он плюет в глаза своим палачам... Христос
тождественен с языческим богом Дионисом... Преступное изображается как
упоительное. Смей быть злым до конца и не стыдись... В кануны христианских
праздников проеппугке надо платить вдвое — „из почтения к Богоматери"... Вот
девушку вкладывают в деревянное подобие коровы и отдают в таком виде быку —
это мистерия на Крите, предшествующая Тайной Вечери христианства. Ведьмов-
ство смахивает на молитву; молитва — на колдовское заклинание. Христос —
Митра. Зло есть добро. И все это высший гнозис» (И А Ильин. Русские писатели,
литература и художество. Вашингтон, 1973, с. 130).
50 Здесь повествование писателя становится особенно вдохновенным: «Один
излюбленный образ повторяется в египетском искусстве особенно часто:
девочка-подросток, лет тринадцати, плясунья-певица, с лютнею... худенькое,
смугло-янтарное тело, смугло-розовые кончики острых сосцов, полудетских,
полудевичьих... Лицо дико-стыдливо и задумчиво; нет улыбки на губах невин-
342 Раздел IV «Новое религиозное сознание» и культура Серебряного века
главный враг «религии Святой Плоти» — это суровый библейский
Бог, запретивший скотоложество, так же как и культ Ваала и Кибе-
лы. «Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом», говорит Моисей
(Втор 27, 21). «Женщина не должна становиться перед скотом для
совокупления с ним... Всем этим осквернили себя народы, которые
Я прогоняю от вас: и осквернилась земля... и свергнула с себя...
живущих на ней» (Лев 18, 23-25). Вот это и есть ненавистное
«историческое христианство», с которым воюет Мережковский. На
смену ему он готовит новую религию — «святой общественности».
Все это сильно смахивает на сатанизм, примеров которого мы
видим сегодня предостаточно. Но сатанисты конца XX века, как
правило, откровенно враждебны христианству, тогда как
Мережковский претендует на создание высшей его формы.
Иоахим Флорский — «великий пророк свободы»
Коренным недостатком «исторической церкви», согласно Д.
Мережковскому, является понимание ею христианства как «личной
религии», перенесение центра тяжести на личное спасение.
Следуя здесь за B.C. Соловьевым, Мережковский считает, что
«храмовое христианство» не ставило перед собой задачи освящения
общественной жизни во всех се проявлениях, занимаясь главным
образом подготовлением верующих к Царству Божию на небесах.
С точки зрения Мережковского, человек как в православной, так
и в католической — не говоря уже о протестантской — церкви в
основном предоставлен его индивидуальной судьбе, жизнь человека
здесь слишком «духовна», «созерцательна», в ней не хватает
коллективного действия, ибо человек чаще всего остается один-на-один
с Богом, тогда как подлинная связь с Богом требует коллективного
экстаза. «Христианство есть откровение единой Личности Богоче-
ловеческой, вот почему подлинная святость христианская есть
святость личная, уединенная, безобщественная; и вот почему так бес-
но-сомкнутых, но вся она — улыбка божественной прелести-благости*
(Д.С. Мережковский. Тайна Трех, с. 100). Это — юная жрица мендесского бога.
*И рядом — чудовищный козел... сладострастно-смрадный Биндиди — не
черный ли Ночной Козел... средневекового шабаша ведьм?» (там же, с. 117). Вот так
выглядит «священное скотоложество», знаменующее собой тождество «двух
бездн» — «неба вверху — неба внизу», Христа и Антихриста. Вот почему у
египтян надо учиться «воскресению плоти»: «...весь Египет и есть не что иное, как
опыт воскресения...» (там же, с. 143).
Глава9 ДС Мережковский
343
плодны все попытки включить в христианство общественность,
которая есть начало множественности, по существу своему...
противоположное началу единства, началу личности. Не в
христианство, а только в религию Троицы, Всех Трех — Божеской
множественности... включается и человеческая множественность — святая
общественность; только в религию Святой Земли естественно
включается и всемирное соединение и устроение людей на
земле — Церковь как Царство. В христианстве церковь есть Царство
небесное — безземное, духовное — бесплотное: в религии Св. Духа
Церковь есть царство небесно-земное, духовно плотское, не
только невидимо, мистически, но и видимо, исторически реальное.
Это — исполнение Третьего Завета, воплощение Третьей Ипостаси
Божеской. Ибо точно также, как Первая Ипостась Отчая
воплотилась в мире природном, дочеловеческом -- в космосе, и Вторая
Сыновняя — в Богочеловеке, Третья Ипостась Духа воплотится в Бо-
гочеловечестве, в Теократии»51.
Здесь в сущности изложен манифест нового религиозного
сознания, религии Третьего Завета, за семь столетий до
Мережковского возвещенной калабрийским аббатом Иоахимом Флорским.
Мережковский, как видим, прямо противопоставляет «религию
Святого Духа» христианству как религии «безобщественной»,
подчеркивая, что эта безобщественность непосредственно вытекает
из спиритуалистического («безземного») характера христианства,
из его устремленности к духовному, «небесному» миру.
Христианство, с точки зрения Мережковского, недостаточно
материалистично, оно не хочет знать «святой плоти»52. В противоположность
51 Д.С. Мережковский. Пророк русской революции. К юбилею Достоевского //
Поли. собр. соч. Т. XI, с. 221.
52 В христианстве Мережковский, так же как и В. Розанов, и Н. Бердяев, и другие
его единомышленники, видит «религию аскетизма». Аскетическая дисциплина,
как неустанно подчеркивают представители нового религиозного сознания,
укрепляет индивидуализм, обособляя людей друг от друга. Интересно, однако,
проследить эволюцию воззрений Н. Бердяева, в начале века, как мы видели,
очень близкого к Мережковским. «Ценным в рассуждениях Мережковского, —
писал Бердяев в статье „Политический смысл религиозного брожения в
России", — нужно признать постановку вопроса об отношении между духом и
плотью. В „плоти" для него символизируется вся светская культура, наука, искусство,
государство, брак» (H.A. Бердяев. Sub specie aeternitatis, с. 149). В этой статье,
опубликованной в 1903 г. в журнале «Освобождение», Бердяев приветствует
«христианство второго пришествия». Два года спустя, в статье «О новом
религиозном сознании» («Вопросы жизни», сентябрь 1905) он даже призывает
Мережковского — и без того сверхрадикального — решительнее проводить критику
344 Раздел, IV «Новое религиозное сознание* и культура Серебряного века
этому, новая церковь Третьего Завета будет царством «Святой
Земли», и наступление этого — тысячелетнего — царства должны по
мере своих сил приближать «христиане Третьего Завета»; без их
активной деятельности, разрушительной по отношению к
старому миру, невозможно осуществление религиозной революции.
Как видим, хилиастическая идея — одно из слагаемых «религии
святой плоти». Здесь Мережковский видит своих
предшественников в Достоевском и Вл. Соловьеве. Но при этом он стремится
взойти к первоистоку этой идеи. В одной из трилогий, написанных
в эмиграции, — «Лица святых от Иисуса к нам» — Мережковский
пишет об Иоахиме Флорском — провозвестнике «Царства Святой
Земли». «В Ветхом Завете Отца — иудействе — Царство Божие
исполняется только на земле; в Новом Завете Сына — христианстве — только
на небе; а в будущем Завете Духа — на земле, как на небе. Вечная
молитва Сына в Духе: „Да будет воля Твоя и на земле, как на небе" —
и есть „Вечное Евангелие Духа Святого", Evangelium Aeternum Spiritus
Sancti, по Иоахиму Флорскому»53. «Вечное Евангелие» — это весть
о конце света. В Апокалипсисе от Иоанна вечное Евангелие несет
ангел, возвещающий о наступлении часа страшного суда: «И увидел
«старого христианства»: «Нужен бунт не только против лже-христианского
аскетизма, но и против союза семейного, насильственного, всегда
безрелигиозного... Ведь семья — союз земного благоустройства, союз родовой, а не
индивидуальный. Христос учил не бесконечному размножению, продолжающему
несовершенство и смерть, а вечной жизни и совершенству личности... Даже
Мережковский говорит слишком слабым голосом, недостаточно бунтует, хочет
найти общую почву для примирения с старо-христианским учением о браке...
Должна быть объявлена война всякой идее брака семейного, всякому насилию
внешнему и внутреннему, всякой власти над оргийностью пола. Само понятие
разврата — старое, буржуазное понятие, продукт отвлеченного морализма...»
(«Sub specie aeternitatis», с. 359-360). Здесь же Бердяев с возмущением говорит
об «изуверском, кощунственном аскетизме служителей исторического
христианства» (там же, с. 356). Но спустя 10 лет отношение Бердяева к антиаскетизму
Мережковского начинает меняться. В статье «Новое христианство (Д.С.
Мережковский)», опубликованной в «Русской мысли» в июле 1916 г., он пишет: «К
аскетизму Мережковский относится отрицательно (о своем отношении к аскетизму
Бердяев почему-то не упоминает. — ПГ.) и совсем отказывается понять его
значение. Аскетическая дисциплина личности лишь укрепляет религиозный
индивидуализм (такова действительно точка зрения Мережковского. — ПГ.).
Для уловления души в сети религиозной общественности лучший материал
представляют разрыхленные души, для которых все двоится и которые
ощущают близость гибели. Мережковский с отвращением относится к ищущим
личной чистоты, к облекающимся в белые одежды...» (НА. Бердяев. Собр. соч. Т. 3.
Париж, 1989, с. 501).
53 Д.С Мережковский. Лица святых от Иисуса к нам. М., 1997, с. 257.
Глава 9 Д.С. Мережковский
345
я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное
Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому
племени и колену, и языку и народу» (Откр 14,6). По преданию,
Иоахиму Флорскому было видение в пещере на горе Фаворе, в котором ему
открылось «Вечное Евангелие Духа Святого» — близкое обновление
Церкви пришествием Духа. Пророком и благовестником Святого
Духа называет Иоахима Мережковский. «Дух=Свобода: в этих двух
словах — весь религиозный опыт Иоахима»54. «Великий пророк
свободы», Иоахим, по Мережковскому, возвестил миру истину, еще не
открытую в Новом Завете, о трех состояниях мира — Царстве Отца,
Царстве Сына и грядущем Царстве Духа. «Начатое Сыном, в Духе,
освобождение человека от тягчайшего, потому что внутреннейшего,
ига, — следствия первородного греха — воли к рабству,
продолжалось в христианстве одиннадцать веков и достигло высшей точки
в Иоахимовом „Вечном Евангелии", в откровении Сына в Духе —
исполнении Второго Завета в Третьем, — в Царстве Свободы»55. Третий
Завет, в интерпретации Мережковского имеющий больше общего
с идеалами Французской революции, чем с заповедями Иисуса
Христа, — вот единственная для мира надежда спасения. И прежде
всего — освобождения от греха. Именно в том, что Новый Завет не
отменил полностью ветхозаветного представления о первородном
грехе, — ибо, хотя Сын Божий и искупил своей смертью
человеческую греховность, но не принес, как убежден Мережковский, полной
свободы, Его Царство еще не наступило на земле, — именно в этом
видит Мережковский недостаток христианства.
Царство Третьего Завета, Царство Свободы принесет с собой уже
не личное спасение, как в христианстве, а спасение общественное.
Вся жизнь в этом Царстве станет общинной; социальное
неравенство, главное зло века сего, будет устранено, частная собственность —
упразднена. Это спасение придет не через духовный подвиг
личности, как это мыслилось в христианстве, а через религиозную
революцию. «Только в Третьем Царстве, Духа, совершится этот „великий
переворот", — совсем, совсем иной качественно, чем тот, что мы
называем „социальной революцией". Собственники — „богатые,
великие, сильные мира сего, — учит Иоахим, — будут низвергнуты, а
нищие, малые, слабые, возвышены... И увидят они, наконец, правосудие
Божие, совершенное над их палачами и угнетателями руками
неверных"»56. Иоахим близок Мережковскому как «противособственник»,
Там же, с. 139-
Там же, с. 141.
Там же, с. 146.
346 Раздел N «Новое религиозное сознание» и культура Серебряного века
«общинник», «коммунист во имя Христа», готовивший и
предвещавший самый страшный из всех «революционных взрывов» —
уничтожение всего существующего мира.
Вселенская теократия как абсолютный анархизм
Вот эпитеты, которыми Мережковский характеризует любимого
своего «святого»: «Главный поджигатель пожара, опаснейший для
Церкви, „ересиарх", действительный или только мнимый для
государства, „возмутитель", величайший „мятежник" —
„революционер", по-нашему, после тех двух, Иисуса и Павла, „с ангельским
лицом человек", „кротчайший из людей на земле, увиденный Данте
в Раю", „калабрийский аббат, Иоахим"»57.
Это написано в 30-х годах. После всего, что пережила Россия
в годы революции и жесточайшей гражданской войны, можно
было бы ожидать отрезвления даже у такого сверхреволюционера,
как Мережковский. Но крушение хилиастической утопии на
родине не отрезвило вестника «религиозной революции». Жажда
апокалипсиса, всемирного пожара, томившая Мережковского с конца
90-х годов, пс угасла в нем и в эмиграции. Ее не утолили кровавые
>-жасы русской смуты, которую не просто предчувствовал, но к
которой страстно звал этот пророк всесокрушающей революции.
Как это часто бывает, в свершившемся он не узнал чаемого
апокалипсиса; это была всего лишь политическая, да к тому же
локальная, русская, не мировая религиозная революция. В ней было
недостаточно анархии, а значит и подлинной теократии, которая
должна отменить всякий земной порядок, уничтожить не только
государство и «историческую» церковь, но и собственность,
и брак, и семью. Вот как призывал к религиозной революции
Мережковский в 1906 году-. «Красные знамена политических
восстаний бледнеют перед этим невиданным ультрапурпуровым цветом
религиозной революции. Внутри, для вошедших в теократию —
бесконечная надежда, утешение, успокоение, а извне —
бесконечный террор, — тот страх, о котором сказано: „люди будут подыхать
от страха". Внутри последнее утверждение человеческого порядка
в порядке Божеском, а извне самая анархическая из всех анархий.
Рассказывают, будто бы иногда над самой воронкой смерча
появляется малое круглое отверстие голубого неба; теократия —
голубое небо над смерчем всесокрушающей религиозной револю-
Там же, с. 137.
Глава9 ДС. Мережковский
347
ции»58. Поразительно не то, что Мережковский звал к кровавому
террору в годы первой русской революции, — тогда у него было,
увы, слишком много единомышленников в самых разных — и
религиозных, и атеистических — «лагерях». Поразительно, что он
продолжает мечтать о «самой анархической из всех анархий»
и разжигать «вселенский пожар религиозной революции» уже
в 30-х годах, в канун своего семидесятилетия: цитированная часть
трилогии «Лица святых» была издана в 1938 г. И теперь революция
по-прежнему мыслится Мережковским как «переход общества
в Церковь»59. И теперь она по-прежнему направлена как против
всякого государства, так и против существующей Церкви как
«церкви Антихриста».
Теоретическая база «религии Третьего Завета» Мережковского на
удивление бедна и в сущности сводится к нескольким положениям
просветительской идеологии. Так, необходимость различения
«государства» и «общества», на котором настаивает Мережковский, —
это тезис новоевропейской секуляризованной социальной мысли,
отличающий ее от мысли античной и средневековой. Стремление
к разрушению государства во имя торжества «общества»
объединяет революционеров всех мастей — «нигилистов», анархистов,
народников, марксистов. «Общество есть первоначальная стихия
человеческого, только человеческого, которое, достигнув своего
завершения в полноте религиозного сознания, избирает
неминуемо один из двух путей: или через церковь к богочеловечеству, или
через государство кЧеловекобожеству»60. Путь к Богочеловечеству, как
мы уже знаем, есть переход государства в Церковь Третьего Завета,
идея создания которой, по Мережковскому, постепенно вызревала
в ходе всемирно-исгорического процесса. В России начала XX века,
наконец, рождается «теократическое сознание», а вместе с ним
возникает понимание того, что никакого постепенного,
эволюционного перехода от государства к Церкви Св. Духа как «свободной
общественности» быть не может. «...Постепенный переход становится
внезапным переворотом, история — Апокалипсисом, эволюция —
революцией, самою разрушительною и убийственною для
государства из всех революций... Религиозная революция — предельная
и окончательная, ниспровергающая всякую человеческую власть,
всякое государство в его последних, метафизических основаниях»61.
Д.С. Мережковский. Поли. собр. соч. Т. XI, с. 216.
Там же, с. 214.
Там же, с. 214.
Там же, с. 215.
348 Раздел N «Новое религиозное сознание» и культура Серебряного века
Теократия, как ее понимает Мережковский, имеет мало общего
с тем, как ее мыслили Соловьев и Достоевский; не случайно их
обоих подвергает Мережковский жесткой критике62. Гораздо ближе
Мережковскому те социалистические и анархические теории,
создатели которых требуют отмены государства, как, например, марксисты
или бакунисты, враждебные по отношению к любой религии и —
тем более — к теократии. К анархизму Бакунина Мережковский
оказывается ближе всего. Его здесь не смущает богоборчество
Бакунина: он видит в нем новый, чрезвычайно ему близкий тип
религиозности — «мистический атеизм» (определение Мережковского),
характерный для русской революционной интеллигенции самых
разных направлений63. Мистический атеизм, а еще точнее —
«религия отрицания» — это в сущности и мировоззрение самого
Мережковского. Возникает впечатление, что он выступает против атеизма
за религию прежде всего потому, что отрицание религиозное
является более радикальным, более абсолютным, чем атеистическое64.
62 В статье «Немой пророк» Мережковский пишет о В. Соловьеве,
противопоставляя его Бакунину, выдвинувшему столь близкий Мережковскому лозунг
«разрушать значит созидать»: «Для Вл. Соловьева как раз наоборот: созидать не
значит разрушать. Все что угодно. Только не разрушать! ...Сохранять и
поддерживать, подпирать валящееся здание... — таков его глубочайший инстинкт...
Остановить, запрудить всемирный поток разрушения — такова его заветная цель.
Вот для чего нужно ему возрождение, т. е. все-таки утверждение старой
церковности, старой государственности, старой нравственности, старого быта... он —
консерватор... Стихия революционная чужда ему навеки и безнадежно»
(Д.С Мережковский. В тихом омуте. М., 1991, с. 122). Мережковский полагает,
что тем самым он вынес окончательный приговор Соловьеву как мыслителю;
в действительности же он лишний раз показал, что «новое религиозное
сознание» возрождает дух тех самых «бесов» из одноименного романа
Достоевского, отношение к которым было одинаковым у Достоевского и у Соловьева.
63 «Иногда кажется, что самый атеизм русской интеллигенции, — пишет
Мережковский в статье „Грядущий храм", — какой-то особенный, мистический атеизм.
Тут у нее такое же, как у Бакунина, отрицание религии, переходящее в религию
отрицания; такое же, как у Герцена, трагическое раздвоение ума и сердца; ум
отвергает, сердце ищет Бога» (Д.С. Мережковский. В тихом омуте, с. 372).
64 Мережковский с восторгом цитирует из Достоевского отрывок, где речь идет
о крайней опасности для существующего государственного порядка именно
революционеров религиозного толка (к ним он относит и самого
Достоевского). «Один из слушателей беседы старца Зосимы с Иваном Карамазовым,
русский атеист и либерал, вспоминает слова, сказанные ему в Париже... одним
французом, очень влиятельным лицом...: „Мы собственно этих всех
социалистов-анархистов, безбожников и революционеров, не очень-то и опасаемся...
Но есть из них, хотя и немного, несколько особенных людей: это в Бога
верующие и христиане, а в то же время и социалисты. Вот этих-то мы больше всех
Глава9 ДС. Мережковский
349
Именно анархизм лежит в основе идеи «святой
общественности». Сравнивая социализм Герцена с анархизмом Бакунина,
Мережковский не колеблясь отдает предпочтение последнему:
«Социализм, — пишет он, — желает заменить один общественный
порядок другим, власть меньшинства — властью большинства;
анархизм отрицает всякий общественный порядок, всякую
внешнюю власть во имя абсолютной свободы, абсолютной личности,
этого начала всех начал и конца всех концов»65. Абсолютная
свобода — вот высшая ценность для Мережковского, как и для
Бакунина66. Она в сущности и есть та русская «воля», которая не признает
над собой никакого высшего начала — не только закона,
государства, общества, но и Бога. Она есть своеволие, ее сущность —
беспредельное, а потому ей ненавистно все, что полагает предел, что
дает начало формы, порядка, смысла. Именно эта «абсолютная
свобода» порождала в России кровавые бунты; к такому бунту зовет
и Мережковский67. «Мы должны разрушать, только разрушать,
не думая о творчестве, — творить не наше дело», — сочувственно
опасаемся; это страшный народ. Социалист-христианин страшнее
социалиста-безбожника"...» (Д.С. Мережковский. Поли. собр. соч. Т. XI, с. 215-216).
65 Д.С. Мережковский. В тихом омуте, с. 3 56.
66 Анархизму как религии отрицания глубоко сочувствует Н. Бердяев. «Часто
Мережковский, — пишет он, — подходит к истинному учению о безвластии, о
мистической безгосударственности... Общественность может быть утверждена
не на началах государственных, отношениях властвования, а на новых и
вечных мистически-свободных началах, подобно тому как возможно
утверждение любви не в союзе семейном, а вне его, в мистически-свободном союзе»
(НА Бердяев. Sub specie aeternitatis, с. 362-363).
67 Единомышленником Мережковского в этом пункте оказался Н. Бердяев,
полностью разделявший дух анархизма и защищавший «абсолютную свободу».
«Социальное освобождение, — писал Бердяев на страницах журнала „Вопросы
жизни" в 1905 г., — протекало вне религиозного сознания, оставалось столь же
неосвященным, как и любовь, как и жизнь пола. Но мы не можем не признать
бессознательной религиозной святости этого движения, иначе мы должны
отвернуться от „земли". Люди нового религиозного сознания должны принять и
освятить борьбу за свободу, устранение насилия, гнета и властвования, хотя
могут относиться с отвращением к позитивному строительству жизни...
Когда в политических идеологиях идея власти, всякой власти, монархической
или народной... начинает заменяться идеей абсолютных прав, вечных
ценностей всяких свобод, господства блага сверхчеловеческого, стоящего над
случайной волей человеческой, то тем самым расчищается почва для идеи
вселенской теократии, для мистического безвластия* (цит. по книге: MA. Колеров.
Не мир, но меч. Русская религиозно-философская печать от «Проблем
идеализма» до «Вех» (1902-1909). СПб., 1996, с. 95-96. — Выделено мною. — ПТ.).
Как видим, целью «религиозной революции» является только разрушение всех
350 Раздел N «Новое религиозное сознание» и культура Серебряного века
цитирует Мережковский Бакунина, также, как и Бердяев, относясь
«с отвращением к позитивному строительству жизни». Атеизм
Бакунина, как мы видели, не смущает Мережковского: он видит за
внешней формой позитивизма и материализма хилиастическую
подоплеку, столь близкую ему по духу, видит «бессознательную
мистику, пусть безбожную, противобожную, но все же мистику»68.
И в действительности Мережковский здесь прав: общее между
ним и Бакуниным — гораздо важнее и лежит глубже, чем те
различия, которые бросаются в глаза, но оказываются, как видим,
не столь уж существенными. Бакунин вполне мог бы подписаться
под словами Мережковского: свобода — это «самое святое... из всех
имен Божиих»69. «Когда Бакунин в „Dieu et l'état" полагает свой „ан-
титеологизм", вернее, „антитеизм" теоретической основой
безвластия, он касается слишком опасных пределов отрицания, где минус
на минус, отрицание на отрицание легко дает неожиданный плюс,
нечаянное утверждение какой-то обратной, бессознательной
религии»70. Только крайности, только «бездны», согласно
Мережковскому, святы и божественны; «верхняя бездна» («идеал Мадонны»)
и «нижняя бездна» («идеал содомский») только кажутся
противоположностями с точки зрения пошлого, мещанского взгляда на
жизнь; для мистика Третьего Завета они тождественны. Дьявол же,
им противостоящий, — это «вечная середина», «мера», идеал
«мещанства», этот bête noire русской революционной интеллигенции.
Мережковскому наиболее дорога в русской интеллигенции ее
склонность к крайностям, ее экстремизм. Интеллигенция как
сословие появилась в России в результате петровских реформ; ее
революционный дух впервые явил себя «среди громов и молний
нашего Синая, 14 декабря»71. Для декабристов, «первых пророков
и праотцев русской свободы»72, любимых героев Мережковского,
«политика — страсть, хмель, „огонь поядающий"»73, т. е. тот самый
коллективный экстаз — «смерч всесокрушающей революции»,
жаждой которого проникнуто все творчество Мережковского.
«„Страшно свободен духом русский человек", — говорит Достоев-
существующих социальных институтов — государства, церкви, семьи — во имя
«абсолютной свободы», «мистического безвластия», и эта цель объединяет
адептов «нового религиозного сознания».
68 Д.С. Мережковский. В тихом омуте, с. 356.
69 Там же, с. 361.
70 Там же.
71 Там же, с. 368.
72 Там же.
73 Там же.
Глава9 ДС. Мережковский
351
ский, указывая на Петра. В этой-то страшной свободе духа, в этой
способности внезапно отрываться от почвы, от быта, истории,
сжигать все свои корабли, ломать все свое прошлое во имя
неизвестного будущего, — в этой произвольной беспочвенности и
заключается одна из глубочайших особенностей русского духа. Нас очень
трудно сдвинуть; но раз мы сдвинулись, мы доходим во всем, в
добре и зле, в истине и лжи, в мудрости и безумии, до крайности... Это
похоже на парадокс, но иногда кажется, что наши „почвенники"...
националисты гораздо менее русские люди, чем наши нигилисты,
отрицатели, наши интеллигентные „бегуны" и „нетовцы". Между
протопопом Аввакумом, готовым сжечься и сжечь других за старую
веру, и анархистом Бакуниным... гораздо больше сходного, чем это
кажется с первого взгляда»74. Спору нет, в русском человеке сильна
жажда «воли», которая действительно есть «страсть и хмель» и
которая, будучи не оформлена трезвым началом разума, которым
проникнута и христианская вера в церкви (против этого-то союза
разума и веры в православной, как и в католической церкви, как раз
и воюет Мережковский), легко может родить «бунт бессмысленный
и беспощадный», в котором Мережковский, в отличие от Пушкина,
и видит торжество свободы и... любви.
Вот в этом освящении всесветного разрушения именем Христа,
в отождествлении слепой ненависти не только ко всякому
порядку, ко всякому созидательному начинанию, но и к самому бытию
мира, — отождествлении с христианской любовью, — и кроется
самый глубокий соблазн учения Мережковского, то самое
кощунственное переименование, та сатанинская подмена, которая
растлевает человеческий дух в самой его интимной глубине, потому
что слепит его, лишая возможности различать добро и зло, истину
и ложь. Именно это переименование, это отождествление низкого
и чудовищного с высоким и святым создавало ту удушливую
атмосферу духовного оборотничества, в которой становились
возможны такие явления Серебряного века, как известная поэма Блока
«Двенадцать», где банда грабителей и убийц на «мистическом»
уровне оказывалась «христианами Третьего Завета»:
В белом венчике из роз
Впереди Исус Христос.
Ни Мережковский, ни Гиппиус не узнали в этой поэме
воплощения своих идей, точно также как не узнали в кровавом хаосе рево-
Там же, с. 370.
352 Раздел N «Новое религиозное сознание» и культура Серебряного века
люции и гражданской войны тот самый «смерч», тот «последний
пожар», о котором грезили более двух десятилетий. А между тем
немало современников Мережковского уже в период революции
1905-1907 гг. сумели разглядеть опасность, которая ожидает
Россию в будущем, если интеллигенция не осознает всю
безответственность тотального отрицания, которое объединяло между
собой представителей разных направлений — нигилистов,
народников, марксистов и самых больших экстремистов —
«мистических революционеров» типа Мережковского. Опубликованный
в 1909 г. сборник «Вехи» был тем предостережением, которое, к
сожалению, было услышано немногими-, Мережковский, разумеется,
не принадлежал к их числу. Его не могли поколебать никакие
аргументы, потому что революция была для него религией. Тем более
что он принадлежал к типу людей книжных, литературных, идеи
его были головными, рождались из книг; связь с реальной жизнью
у него была крайне слаба.
«Христианство Плоти и Крови» Мережковского есть не что
иное, как возведение революционаризма русской интеллигенции
в ранг новой религии. По справедливому замечанию С. Франка,
Мережковский «решил обрести церковь в русской
интеллигенции... Соединение религии с иррелигиозным и антирелигиозным
мировоззрением русской интеллигенции не только невозможно
по существу; оно, вдобавок, особенно противоестественно
именно в той комбинации, которую защищает Мережковский... Он
связывает свое дело с определенным старым укладом русской
интеллигентской мысли — с тем традиционным нигилистическим
социализмом, который именно в настоящее время находится в
состоянии полного разложения...»75 Ни критика современников,
ни события революции 1917 г. и последовавшей за ней
гражданской войны не смогли поколебать страстной веры Мережковского
в «мировой пожар» как Второе Пришествие. Эта вера продолжала
жить в нем до самой смерти. Непримиримый критик
большевизма, Мережковский в эмиграции остается пламенным
пропагандистом коммунизма религиозного, который призван отменить не
только частную собственность и государство, но и брак, семью, —
75 СЛ. Франк. О так называемом «новом религиозном сознании» //
Критическое обозрение, 1909, вып. 1, с. 18-21. Аналогичную оценку давал идеям
Мережковского и П.Б. Струве: «Интеллигенцию и Мережковского... объединяет единая
социалистическая и материалистическая основа их мировоззрений»
(П.Б. Струве. На разные темы: народное хозяйство и интеллигенция // Русская
мысль, 1909, кн. 1, II отд., с. 210).
Глава9 ДС. Мережковский
353
все социальные связи, составляющие «старый порядок».
Подлинный коммунизм, по Мережковскому, — это тот, что был возвещен
Иоахимом Флорским и осуществлен в XIII в. св. Франциском
Ассизским. «Смешивать два „коммунизма" — наш и XIII века — все
равно, что смешивать... детскую улыбку св. Франциска — с дряхлой
усмешкой Ленина, утреннюю звезду — с тускло-светящей
гнилушкой... Здесь-то, между двумя веками, — может быть, уже не нашим
и XIII, а нашим и каким-то будущим, — и совершается всемирный
переворот, „всемирная революция", по-нашему, но совсем не та,
которой ждет коммунизм XX века, а гораздо более похожая на ту,
которой ждал „коммунизм" XIII века»76.
Критика Мережковским большевизма — это критика слева-,
для него большевики, упразднившие только буржуазное
государство и буржуазную собственность, но не государство как таковое
и не собственность вообще, отрицавшие «буржуазную мораль»
и стремившиеся заменить ее «пролетарской», но не отменившие
до конца мораль как таковую (хотя объявление морали
«классовой» в сущности равнялось ее отмене), уничтожившие церковный
брак, но учредившие брак гражданский, — были недостаточно
радикальны в своем отрицании. И не удивительно, что даже вполне
дружественные к Мережковскому эмигранты не могли принять
его ультрареволюционаризма на фоне того, что произошло —
и продолжало происходить — в России. Так, Георгий Адамович
в рецензии на книгу Мережковского «Лица святых» замечал, что
«опасно увлечение борьбой, если неизвестна цель ее»77. «Всю свою
жизнь рассуждая о христианстве, толкуя и дополняя его, он
(Мережковский. —ПТ.) никогда не был увлечен или даже просто
заинтересован его моральным содержанием... Касаясь современных
политических вопросов, и в частности русской революции, он
полностью упускает из виду, что принцип социальной
справедливости был и остается одним из величайших и первых принципов
христианства... Он пишет о „годонах", „хвостатых", „сынах
дьявола", англичанах времен Жанны д'Арк или наших современных, все
равно. Но безотчетно поддерживает такие же силы, только с
другими хвостами!»78
И действительно, в 20-е и 30-е годы, когда для большей части
интеллигенции наступило время отрезвления, неуемный револю-
ционаризм Мережковского выглядел анахронизмом. «Таскать вам
ДС. Мережковский. Лица святых, с. 132.
Г. Адамович. Литературные заметки // Последние новости, 8 декабря 1938 г.
Там же.
354 Раздел IV «Новое религиозное сознание» и культура Серебряного века
не перетаскать», — именно так звучат его призывы к «истинному
коммунизму», сопровождаемые проклятиями против коммунизма
большевиков. Еще выразительнее, чем Адамович, охарактеризовал
Мережковского его близкий друг и когда-то почти
единомышленник В.В. Розанов, переживший после революции глубокий
душевный кризис и, в отличие от Мережковского, многое
переосмысливший в свете происшедшего в России. Повторяя слова
Венгерова, сказанные им при встрече с возвратившимися
эмигрантами, Розанов пишет: «Не литература должна приветствовать
торжество революции, а революция должна, наоборот, сказать
спасибо литературе, которая все время, целых полвека и более,
призывала революцию»79. «Что же в сущности произошло? —
спрашивает Розанов. — Мы все шалили. Мы шалили под солнцем и на
земле, не думая, что солнце видит и земля слушает. Серьезен никто
не был. Мы, в сущности, играли в литературе. „Так хорошо
написал". И все дело было в том, что „хорошо написал", а что
„написал" — до этого никому дела не было. По содержанию литература
русская есть такая мерзость — такая мерзость бесстыдства и
наглости, как ни единая литература. В большом царстве, с большою
силою, при народе трудолюбивом, смышленом, покорном — что она
сделала? Народ рос совершенно первобытно с Петра Великого,
а литература занималась только, „как они любили" и „о чем
разговаривали"»80.
А громче всех и пламеннее всех призывал революцию
Мережковский; и пронзительнее, и точнее всех сказал об этом Розанов,
не уехавший в эмиграцию, но на родине наблюдавший, как «с
лязгом, скрипом и визгом опускается над Русскою Историею
железный занавес»81: «И высу1гулось — для меня, его друга — такое всегда
удивлявшее бледностью лицо Мережковского и еще более
бледное и какое-то страшное лицо З.Н. Гиппиус. „Вот кто пришел и кто
победил..." О, не революция, не „народники". Даже не социалисты...
Победил „в русском народе" тот, чьего имени он не знает, и
победил — веще, громадно, колоссально человек маленького, почти
крошечного роста, в черном „циммервальдовском" фраке, почти
иностранец... который все пел странные песни, что ему „все зяб-
нется", что он „никого не любит"... Потухает солнце... О, Мережков-
79 В.В. Розанов. Апокалипсис русской литературы // Новый мир, 1999, № 7,
с. 149.
80 В.В. Розанов. Апокалипсис нашего времени // Его же. О себе и жизни своей.
М., 1990, с. 580.
81 Там же, с. 588.
Глава9 ДС. Мережковский
355
скин, это — ты в нем. Когда-нибудь вся „русская литература", —
если она продолжится и сохранится, что очень сомнительно, —
будет названа „Эпохою Мережковского". И его мыслей... но главным
образом его действительно вещих и трагических ожиданий,
предчувствий. Намеков, а самое, самое главное — его „натурки",
расхлябанной, сухой, ледащей, узенькой... Его — ломанья искреннего, его
фальши непритворной и всего, всего его...»82
В.В. Розанов. Апокалипсис русской литературы, с. 149.
Глава 10
Софиология и символизм. Сергей Соловьев
Софиология Вл. Соловьева, в которой соединились христианские
и оккультно-гностические мотивы, оказалась в центре не только
религиозной философии, но и декадентской поэзии. В 1900-1901 гг.
появились софианские кружки, одним из которых руководил брат
Вл. Соловьева — Михаил Соловьев. Эти кружки посещали и поэты-
символисты как старшего, так и младшею поколения; к последнему
принадлежали Андрей Белый, Александр Блок и тогда еще совсем
юный Сергей Соловьев. По словам Андрея Белого, они стремились
осуществить соловьевство как жизненный путь и освятить
женственное начало Божественности1. Андрей Белый хорошо передает
настроения софианских кружков: «Появились „видящие" средь
„невидящих"; они узнавали друг друга; тянуло делиться друг с другом
непонятным знанием их\ они и тяготели друг к другу, слагая
естественно братство зари, воспринимая культуру особо... интерес ко
всему наблюдаемому разгорался у них; все казалось им новым,
охваченным зорями космической и исторической важности... и „видящие"
расходились в догадках; тот был атеист, а тот был теософ; этот
влекся к церковности, этот — шел прочь от церковности; соглашались
друг с другом на факте зари; „нечто" светит, из этого „нечто"
грядущее развернет свои судьбы»2. И будущее в самом деле развернуло
вскоре «свои судьбы», — только такие, каких никто из чаявших
«новой зари» не ожидал. Важную роль в духовной жизни начала века
играли также многочисленные собрания Религиозно-философского
общества памяти Владимира Соловьева3.
1 См.: А. Белый. Воспоминания о Блоке //Литературный ежемесячник «Эпопея»,
апрель 1922, № 1,с. 156.
2 Там же, с. 136-137. Курсив мой. — ПГ.
3 По воспоминаниям одного из участников этих заседаний, Николая Арсенье-
ва, «здесь охватывало вас веяние яркого (иногда и пряного)
„Александрийского" культурного цветения. Пышный культурный цвет, но не всегда без червото-
Глава 10 Софиология и символизм. Сергей Соловьев
357
Апокалиптические предчувствия позднего Вл. Соловьева
оказались опять-таки созвучны настроениям Серебряного века; однако,
в отличие от самого Соловьева последнего периода, соловьевцы
начала века скорее испытывали «новый трепет», экстатическую
жажду «небывалого», экзальтацию в предвестии «розовых зорь»,
которые, впрочем, уже в 1905-1907 гг. стали приобретать
багряный отсвет.
Мне кажется, не будет преувеличением сказать, что в России
в тот период начиналось что-то вроде религиозной реформации,
которая, как и Реформация XVI в. в Европе, закончилась
социальной смутой — своей «Тридцатилетней войной», продолжавшейся,
однако, — в разных формах — более 70 лет. Нынешнее «смутное
время», переживаемое не только обществом и государством,
но и православной церковью, свидетельствует о том, что эта почти
столетняя война еще не закончилась.
Как и в творчестве самого Вл. Соловьева, в среде его
почитателей и последователей начала века сталкивались между собой,
вступая то в не очень органический союз, то в прямое противостояние
и противоборство, христианские и гностические умонастроения;
последние приобретали порой — например, у В. Розанова — от-
кровенно-оргиастический, языческий характер, чуждый
творчеству В. Соловьева.
Насколько серьезно и драматически стоял в тот период вопрос
о том, быть ли Русскому Возрождению христианским или
языческим, мы можем увидеть, в частности, обратившись к творчеству
одного из наиболее активных участников поэтических и
философско-религиозных кружков и собраний, поэту-символисту
младшего поколения Сергею Михайловичу Соловьеву,
племяннику и крестному сыну Владимира Соловьева. С детских лет он
близко знал и любил своего знаменитого родственника и чувствовал
себя его духовным наследником. Не только творчество, но и
жизненный путь Соловьева-младшего был во многом определен тем
огромным влиянием, которое оказал на него B.C. Соловьев, — тем
более, что и в характере у них было немало общего. И трагическая
судьба Сергея Соловьева, чье творчество пока мало известно
нашему читателю, как в капле воды отразила в себе судьбу самого
Серебряного века. Ведь иногда для понимания духа исторической
чины, не всегда без некоторой гнили, не всегда свободный от некоторого
„декаданса", зато часто без всякого „трезвения"» (Н. Арсеньев. О московских
религиозно-философских и литературных кружках и собраниях начала XX века //
Воспоминания о Серебряном веке. М., 1993, с. 304).
358 Раздел IV «Новое религиозное сознание* и культура Серебряного века
эпохи отдельные человеческие судьбы важны не меньше, чем
толстые фолианты книг, где излагаются художественные программы
или философские идеи этого периода.
Жизненный путь СМ. Соловьева
Сергей Михайлович Соловьев (1885-1942) — сын Михаила
Сергеевича, младшего брата философа, из всей семьи самого, пожалуй,
близкого к нему по своим интересам и склонностям4. Они были
очень дружны, и Вл. Соловьев нередко гостил у младшего брата,
обсуждая с ним философские, религиозные и политические
вопросы. В этих беседах с детских лет любил участвовать и Сережа,
мальчик очень начитанный и развитый не по годам. Этому
развитию способствовала общая атмосфера родительского дома. Мать
Сергея, Ольга Михайловна Соловьева (урожденная Коваленская),
обладала, как и его отец, тонким художественным вкусом, была
талантливой переводчицей5, хорошо знала не только русскую,
но и западную литературу. Ольга Михайловна была двоюродной
сестрой A.A. Кублицкой-Пиоттух, матери поэта Александра Блока.
В 90-е годы общие духовные и художественные интересы
особенно сблизили сестер. Благодаря этой дружбе Сергей Соловьев часто
общался со своим троюродным братом А. Блоком. Дружба с
Блоком и Андреем Белым (с последним Сергей Соловьев познакохмил-
ся в десятилетнем возрасте) — оба были старше Сергея на пять
лет — во многом определила направление развития начинающего
поэта6. Несмотря на свой отроческий возраст, Сергей Соловьев
чувствовал себя со старшими друзьями почти «на равных». В
написанной позднее поэме «Первое свидание» Борис Бугаев весело
шутит, вспоминая о своем юном друге:
4 По словам его сына, *в детстве он (Михаил Соловьев. — ПГ.) испытывал
чувство благоговения и обожания к брату Владимиру. Когда подрос, стал его первым
и почти единственным другом, разделяя его идеи» (СМ. Соловьев. Жизнь и
творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель, 1977, с. 47).
5 Ее перу принадлежат переводы на русский язык «Сер Мара» Альфреда де Ви-
ньи, «Человека-невидимки» Герберта Уэллса, сочинений Джона Рёскина и др.
6 В одном из писем 1897 года к сестре О.М. Соловьева говорит об увлечении сына
новейшей литературой и поэзией: «У нас вообще много читается всего этого,
наше подрастающее поколение — Сергей и его друг Боря Бугаев, которому,
впрочем, уже 17 лет, с головою погружены в поэтов. Сергею это немножко рано, но
что же делать, он очень любит Борю, а Боря на этом замешен. Как жаль, что Саши
нет здесь!» (Цит. по кн.: Литературное наследство. Т. 92, кн. I. М., 1980, с. 308).
Глава 10 Софиология и символизм. Сергей Соловьев
359
Сережа Соловьев — ребенок,
Живой, смышленый ангеленок,
Над детской комнаткой своей
Восставший рано из пеленок...
Т^эех лет, ну право же-с, ей-Богу-с, —
Т^эех лет (скажу без лишних слов),
Т)эех лет ему открылся Логос,
Шести — Григорий Богослов,
Семи — словарь французских слов;
Перелагать свои святыни
Уже с четырнадцати лет
Умея в звучные латыни,
Он — вот, провидец и поэт,
Ключарь небес, матерый мистик,
Голубоглазый гимназистик7.
Стихи писать С. Соловьев начал рано. В 1907 г. вышел его первый
поэтический сборник — «Цветы и ладан», затем последовали
«Crurifragium» («Дробление костей») (1908), «Апрель» (1910),
«Цветник царевны» (1913), «Возвращение в дом отчий» (1916).
Творчество Соловьева-поэта несет на себе печать влияния поэзии
Владимира Соловьева и, конечно же, его друзей-символистов. Однако при
этом уже в первый период ощущается и известное своеобразие
поэтики Сергея Соловьева. В отличие от Блока, он тяготеет — в
рамках символизма — не столько к «романтическому», сколько к
«классическому» стилю. Соловьев убежден, что «собственные
переживания, окружающая жизнь должны восприниматься поэтом только
как материал для создания объективно прекрасного»8. Любовь
к греческим трагикам, Пушкину и Гёте служила у С. Соловьева
своего рода «противоядием» от избыточного субъективизма
символистской поэзии. Не случайно Андрей Белый в рецензии на первую
книгу стихов Соловьева «Цветы и ладан» заметил, что «образы его —
аполлонический сон над бездной»9, а С. Дурылин, подчеркивая со-
ловьевскую «ревность по строгой форме»10, относил его к «нео-
пушкинианцам» начала века. Как справедливо отмечают исследо-
7 Андрей Белый. Стихотворения и поэмы. М.-Л., 1966, с. 415-416.
8 СМ. Соловьев. Бессознательная разумность и надуманная нелепость
//Лирический круг. Страницы поэзии и критики. I, М., 1922, с. 62.
9 «Перевал», 1907, № 7, с. 58.
10 С. Дурылин. Луг и цветник. О поэзии Сергея Соловьева // Труды и дни
издательства «Мусагет», тетрадь 7. М., 1914, с. 152.
360 Раздел N « Новое религиозное сознание» и культура Серебряного века
ватели символизма Н.В. Котрелев и A.B. Лавров, «у Блока
преобладает музыка стиха, у Соловьева — пластика образа; у Блока на первом
плане — субъективный мир поэта, в котором преломляется
внешний мир, у Соловьева — тяготение к передаче мира в его
объективной данности; у Блока -— самодовлеющая лирика, у Соловьева —
тяготение к эпике даже в лирических сюжетах»11.
В 1912 г. Соловьев окончил историко-филологическое
отделение Московского университета. Разносторонне образованный,
живо откликающийся на волнующие вопросы и тревоги бурного
предреволюционного времени, он посвящает себя не только
поэзии: занимается переводами, пишет публицистические,
литературно-критические и богословские статьи, работает над
философским и литературным наследием Вл. Соловьева, готовит
кандидатское сочинение по классической филологии — «Комментарии
к идиллиям Феокрита».
Слишком напряженная работа подорвала силы Соловьева и
вызвала острое нервное расстройство. Сказались, вероятно, и душевные
потрясения: в 1903 г. умер его отец, не отличавшийся крепким
здоровьем, а мать после смерти мужа покончила с собой12. И хотя
осиротевший семнадцатилетний юноша, по словам его дочери Натальи
Сергеевны, «поразил близких стойкостью, с которой он перенес семейную
трагедию, — спасла наследственная и воспитанная всем укладом
жизни семьи способность погружаться в изучение культуры, в науку, в
собственное поэтическое творчество»13, — однако такая семейная драма
I ie могла не оставить в душе юноши тяжелого следа.
Душевный кризис СМ. Соловьева длился на этот раз недолго;
встреча с молодой, еще не окончившей гимназию Таней Тургене-
1 ] Н.В. Котрелев и A.B. Лавров. Вступительная статья к переписке Блока с СМ.
Соловьевым // Литературное наследство. Т. 92. Кн. I, с. 313-
12 В своих воспоминаниях MA Бекетова, сестра матери А. Блока, близко знавшая
семью Соловьевых, замечает: «Это был самый счастливый брак, какой мне
случалось видеть на своем веку... Он (М.С. Соловьев. — ЯГ.) имел громадное влияние на
жену и на сына. Последним он занимался больше, чем мать, которая была прежде
всего супруга, от мадонны в ней не было ничего, но любя и сына, она любила мужа
безумно и исключительно» (MA Бекетова. Шахматове Семейная хроника // Цит.
по кн.: «Александр Блок, исследования и материалы». Л., 1987, с. 257). В письме к
Андрею Белому от 24 января 1931 г. MA Бекетова объясняет самоубийство О.М.
Соловьевой ее бесконечной любовью к безвременно умершему мужу (ему был
только 41 год): «...она безумно любила мужа, с целомудренной и глубокой страстью,
но ее чувство к сыну было бесконечно слабее, доказательство то, что она могла
покинуть его шестнадцатилетним и прекрасным мальчиком» (цит. там же, с. 252).
13 Н.С. Соловьева. Отцом завещанное // Наше наследие, 1993, № 27, с. 61.
Глава IО Софиология и символизм. Сергей Соловьев
361
вой (младшей сестрой Аси Тургеневой, которая двумя годами
раньше вышла замуж за Андрея Белого) помогла ему преодолеть
нервное расстройство. Осенью 1912г. молодые люди поженились.
Совместное путешествие по Италии, свежие впечатления не только
принесли с собой душевное успокоение, но и привели Соловьева
к переоценке многих прежних ценностей, дав, таким образом,
новое направление его развитию. Вот что пишет Соловьев в конце
1912 г. своему другу А.К. Виноградову: «Если ты томишься в сетях
мира сего, очарований Гёте и Спинозы, то вспомни, что я еще год
назад был совсем во власти мира сего и ученик Гёте... Твой
наносный эмпиризм лопнет, как лопнул и мой. Сейчас можно быть
только в церкви, совсем до конца»14.
По свидетельству дочери, СМ. Соловьев еще в гимназические
годы под влиянием Вл. Соловьева, а также С.Н. Трубецкого и ГА. Ра-
чинского стал заниматься богословскими проблемами и изучать
историю церкви. Впечатления итальянского путешествия были тут
важной жизненной вехой. Защитив диссертацию и сдав
государственные экзамены в университете, Соловьев-младший поступил
в Московскую духовную академию. В 1915 г. он был рукоположен
в диаконы, а через год принял сан священника. Этому решению,
вероятно, в немалой степени способствовал наметившийся еще
в 1906—1907 гг. разрыв с Блоком15. Правда, с 1910 г. общение между
ними восстановилось, чему содействовали перемены в
умонастроении Блока, повернувшего к религиозно-теургическому
символизму, и попытки ряда символистов создать новую
религиозно-философскую программу. В результате вокруг основанного в эти годы
издательства «Мусагет» объединились А. Блок, А. Белый, С.
Соловьев, Эллис и Вяч. Иванов. Однако былой близости между Блоком
и Соловьевым больше не было; их идейные расхождения оказались
слишком глубокими, а революция 1917 г. развела их окончательно.
Православный священник СМ. Соловьев, как и его дядя Вл.
Соловьев, видел в воссоединении восточной и западной церквей
выход из того социального и культурного кризиса, который в России
ощущался особенно остро и привел к революциям 1905 и 1917 гг.
Февральскую революцию Соловьев приветствовал. Ему
казалось, что она открывает путь к политической и духовной свободе,
тем самым приближая возможность снять многовековое противо-
14 ЦГАЛИ, ф. 1303, оп. 1,ед.хр. 1067.
15 После появления блоковского «Балаганчика» Соловьев порвал с
троюродным братом всякие отношения: он не принял те тенденции в блоковском
творчестве 1905-1907 гг., которые считал «разрушительными».
362 Раздел IV «Новое религиозное сознание» и культура Серебряного века
стояние Востока и Запада. «Наша церковь, — писал он, — должна
войти в единство вселенской церкви. Братство народов только
тогда будет прочно, когда оно оснует себя на высшем религиозном
принципе, без этого принципа будет смена национальной вражды
враждой сословий, останется в силе железный закон борьбы»16.
Октябрьскую революцию Соловьев не принял: он увидел в ней
победу тех начал антихристианства и нигилизма, против которых
в свое время выступал Вл. Соловьев и с которыми всю жизнь воевал
он сам17. Не принял он ни революционного «дионисийства»,
ни «скифства» Блока, в которых — особенно в последнем —
разглядел черты анархистского изоляционизма18.
Истоки русской революции СМ. Соловьев, как и близкий к его
воззрениям того периода A.B. Карташев, видел в потрясении
христианских основ европейской культуры, к которому в конечном
счете, по его убеждению, привело роковое разделение церквей.
В течение ряда лет стремясь найти способы преодоления этого
векового раскола, С. Соловьев в 1923 г. принял католичество, а в 1926 г.
стал вице-экзархом католиков греко-российского обряда.
16 Свящ. Сергей Соловьев. Вопрос о соединении церквей в связи с падением
русского самодержавия. М, 1917, с. 13-
17 О трагическом восприятии С. Соловьевым Октябрьской революции
свидетельствует стихотвореш ie «Другу Борису Бугаеву», написанное в декабре 1917г.:
Твой сон сбывается. Слышнее и слышней
Зловещий шум толпы, волнующейся глухо.
Я знаю, ты готов. Пора. Уж свист камней,
Толпою брошенных, стал явственен для слуха.
Пребудем до конца покорны небесам.
Их воля вышняя на нас отяготела.
Нас люди умертвят и бросят жадным псам
Камнями острыми израненное тело.
Теперь обнимемся. Окончен трудный путь.
Не просим чуда мы. К чему просить о чуде?
Молитву сотворив, подставим смело грудь
Отточенных камней на нас летящей груде.
(«Шахматовский вестник», № 2. Солнечногорск, 1992, с. 16.)
Поэт не ошибся. Его стихи оказались пророческими.
18 Особенно кощунственной изменой прежним идеалам, соединявшим в
начале века друзей в тесный союз, оказалась для С. Соловьева поэма Блока
«Двенадцать». «Наши террористы, — писал он в газетной статье, — выставляют себя
почитателями Христа, который будто бы искажен в церковном сознании.
Насколько образ Христа, противопоставленный... Христу церковному,
соответствует евангельскому Христу, хорошо можно видеть из стихов певца
современного сатанизма Блока: на все лады воспевая пролетарские порывы „полоснуть
Глава 10 Софиология и символизм. Сергей Соловьев
363
В 20-е и 30-е годы он занимается главным образом
переводческой деятельностью. В течение двух лет — 1922-1923 — Соловьев
работает над произведением, в котором как бы подводит итоги
и своего духовного пути. Это произведение — творческая
биография Владимира Сергеевича Соловьева, который был для автора
Вергилием, ведшим его сквозь все круги ада. Кроме того, С.
Соловьев перевел «Прометея» и «Орестейю» Эсхила, все трагедии
Сенеки, «Конрада Валленрода» и ряд стихотворений Мицкевича,
«Торквато Тассо» и некоторые стихотворения Гёте, «Макбета»
и «Зимнюю сказку» Шекспира, закончил начатый Брюсовым
перевод «Энеиды», начал перевод «Божественной комедии» Данте, но не
смог окончить — этому помешал арест.
В 1931 году С. Соловьев был арестован и приговорен к полутора
годам тюремного заключения. Здесь его здоровье вновь резко
ухудшилось: тяготы неустроенного послереволюционного быта
и нервное напряжение вновь вызвали душевное расстройство.
«Уверена, что для всех, кто знал характер моего отца и его
наследственность, было ясно, что его психика не выдержит тяжелейшего
испытания», — пишет дочь СМ. Соловьева Наталья Сергеевна19.
В 30-е годы Соловьев большую часть времени проводит в
больницах. О его душевном состоянии в этот период Наталья Сергеевна
рассказывает: «Отца мучило ощущение своей вины перед теми, кто
ему поверил, за ним последовал и оказался в тюрьме20. Наступало
очередное обострение болезни, и его приходилось в очередной
раз помещать в психиатрическую больницу. Он твердил: „Я
отравил весь мир! Смотри — небо темнеет, с него падают мертвые
птицы". Он жил ожиданием конца света, и однажды это привело к
тому, что во время побывки дома, вечером не вернулся с прогулки,
только на следующий день его привез милиционер. (После этого
случая его уже не отпускали из больницы.) Дома его ожидали
друзья и близкие... Он очень трезво рассказал о том, что решил
встретить конец света на Николаевском вокзале, откуда уезжали в милое
Дедово, в Надовражино, в Шахматово. Когда он пешком пришел на
вокзал, была уже ночь. Спящих на лавках и на полулюдей он
принял за умерших. Стояла поздняя осень. Отец решил встретить
ножом" буржуйку за то, что она ходила в театр и ела дорогие конфеты,
призывая к кровавой и дикой оргии, он кончает свои стихи такою сладенькой
конфеткой: „и в венчике из белых роз идет Иисус Христос". Ведь недурно? И даже
раскольничий „Исус"» («Накануне», 1918, № 6).
19 Н.С Соловьева. Штрихи к портрету отца // «Шахматовский вестник», № 2, с 31 •
20 Вместе с Соловьевым в 1931 г. были арестованы и члены руководимой им
общины московских католиков.
364 Раздел IV «Новое религиозное сознание» и культура Серебряного века
смерть среди деревьев и оказался в Сокольниках. Очевидно, он
утром вышел на шоссе, где его обнаружил милиционер»21.
В начале войны, летом 1941 г., больница, где находился
Соловьев, была эвакуирована в Казань. Там Сергей Михайлович и умер
2 марта 1942 года. О последних месяцах его жизни рассказывает
в своих воспоминаниях известный физик академик ЕЛ. Фейнберг,
который оказался в то время в Казани как сотрудник
эвакуированного туда Физического института Академии Наук СССР, навещал
больного и похоронил его22.
В завершение этого краткого биографического очерка мне
хотелось бы процитировать отрывок из воспоминаний Маргариты
Кирилловны Морозовой, дружившей с Андреем Белым и
нарисовавшей очень живой портрет СМ. Соловьева. «Бывая у Бугаевых,
можно было всегда у них встретить Сергея Михайловича
Соловьева, лучшего друга Бориса Николаевича, с которым он с детства
был близок. Сергей Михайлович Соловьев, родной племянник
Владимира Соловьева, известного философа, в то время студент
Московского университета, талантливый поэт. Жизнь Сергея
Михайловича Соловьева была очень бурной и трагической. Он
впоследствии стал священником и, после нескольких лет пребывания
в этом сане, перешел в католицизм. Будучи католиком, он опять
стал священником и оставался им до своей тяжелой психической
болезни, которая свела его в могилу. У Сергея Михайловича были
огрохмные прекрасные серо-синие глаза, очень похожие на глаза
его деда, знаменитого историка СМ. Соловьева, и дяди Вл.С
Соловьева. Лицо его вообще было очень красивым, но ростом он был
невысок, несколько сутуловат, и на всем его облике лежал
отпечаток какой-то скованности и тяжести, точно что-то над ним
тяготело»23.
Символисты и Вл. Соловьев
Замысел большой работы о Вл. Соловьеве долго вынашивался его
племянником. Интерес к творчеству и личности В. Соловьева был
очень велик в первые десятилетия XX века — и не только среди
философов, но и среди поэтов-символистов, к которым принадлежал
21 Н.С Соловьева. Отцом завещанное, с. 65.
22 См.: «Шахматовский вестник», № 2, с. 35-38.
23 М.К, Морозова. Андрей Белый // Цит. по кн.: Андрей Белый. Проблемы
творчества. Статьи, воспоминания, публикации. М., 1988, с. 534-535.
Глава 10 Софиология и символизм. Сергей Соловьев
365
и СМ. Соловьев. Уже в 90-е годы старшее поколение символистов —
Ф. Сологуб, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, Вяч. Иванов, К. Бальмонт,
В. Брюсов и др. — в своем культе красоты, основанном на
убеждении в том, что красота, эстетическое начало составляет саму
сущность мира, видели в B.C. Соловьеве духовного предтечу: «София»
Соловьева, вобравшая в себя и Шеллингову мировую душу, и
«божественную подругу» Данте, и «вечную женственность» Гёте24, давала
символистам своеобразный «мифологический код»; сквозь
волшебную призму божественной Софии они видели иной, высший,
неземной мир, противостоящий прозаически-скучному, пошлому и
безобразному земному миру.
Мгновенье красоты
Бездонно по значению, —
В нем высшее, чем ты.
Служи предназначенью25.
Свой первый поэтический сборник «Новые люди» (1896)
Зинаида Гиппиус посвящает «людям новой красоты».
У Д.С. Мережковского читаем:
Есть одна только вечная заповедь — жить
В красоте, в красоте, несмотря ни на что26.
Младшее поколение символистов, к которому принадлежали
А. Блок, А. Белый и С. Соловьев, тоже поклонялось чистой красоте
и ее небесному воплощению — «пресвятой божественной Софии»,
как она предстала в поэзии и теософии B.C. Соловьева. Вера в
победу «вечной красоты» над силами тьмы, зла и хаоса, которую младо-
символисты черпали у «гиганта Соловьева»27, объединяла молодых
поэтов. Борьба B.C. Соловьева с позитивизмом и материализмом,
его религиозная философия, которую в духе Шеллинга он понимал
как свободную теософию, возрождая при этом славянофильскую
24 Вечная Женственность ныне
В теле нетленном, на землю идет.
В свете немеркнущем новой богини
Небо слилося с пучиною вод.
(Из стихотворения B.C. Соловьева «Das Ewig-Weibliche».)
25 КД Бальмонт. Стихотворения. Л., 1969, с. 21.
26 Д С. Мережковский. Поли. собр. соч. Т. XXII. М., 1914, с. 42.
27 АА Блок. Собр. соч. Т. 7. М.-Л., 1963, с. 2.
366 Раздел IV «Новое религиозное сознание» и культура Серебряного века
идею «цельного знания», воспринималась младшими
символистами как начало духовного преображения не только русской
культуры, но и русской общественной жизни. Молодому Блоку В.
Соловьев виделся как титан, выступивший против старых сил «либеральной
жандармерии», которая преследовала «аристократов чувства и
мысли» и распинала Истину7, Добро и Красоту. «На великую философскую
борьбу вышел гигант — Соловьев... Осыпались пустые цветы
позитивизма, и старое древо вечно ропщущей мысли зацвело и зазеленело
метафизикой и мистикой», — писал Блок в декабре 1901 г. в наброске
статьи о русской поэзии28. Согласно Блоку, символисты — это те,
кому, по словам поэта Н. Минского,
...Сквозь прах земли
Какой-то новый мир мерещится вдали,
Несуществующий и вечный29.
Учителя и предтечи символизма — это Тютчев, Фет, Полонский,
Вл. Соловьев: «За этими незыблемыми столпами уже начинается
бесконечное, неисчерпаемое море их духовных детей...»30
В центре этого романтически-восторженного поклонения
красоте как символу «миров иных» стояла «Она» — «Богиня и
Царица»— София Вл. Соловьева. Вл.С. Соловьев был незримым
магистром маленького ордена младосимволистов, называвших себя
«соловьевцами». Атмосфера мистической влюбленности,
определявшая настроения молодых поэтов, естественно влекла их к со-
ловьевской «Деве Радужных Ворот»31. СМ. Соловьев, чье
воспитание предопределило его восприятие софиологии сквозь призму
христианства, видел в поэзии «соловьсвцев» обновленное —
вселенское — христианство, как понимал его Вл. Соловьев. «Любовь
28 Там же, с 29.
29 Из стихотворения Н. Минского «Как сон, пройдут века и помыслы людей...»
30 АА. Блок. Собр. соч. Т. 7, с. 29.
31 Уже в 30-е годы А. Белый вспоминал, что тесное сближение трех друзей
началось в 1901 году «...В январе 1901 г. заложена опасная в нас „мистическая"
петарда, породившая столькие кривотолки о „Прекрасной даме"; корень ее в том,
что в январе 1901 г. Боря Бугаев и Сережа Соловьев, влюбленные в светскую
львицу и арсеньевскую гимназистку (А. Белый имеет в виду Марию Дмитриевну
Шепелеву, которой особенно сильно увлекся С. Соловьев. — Я.Г.), плюс Саша
Блок, влюбленный в дочь Менделеева, записали „мистические" стихи и
почувствовали интерес к любовной поэзии Гете, Лермонтова, Петрарки, Данте;
историко-литературный жаргон — покров стыдливости» (Андрей Белый. Начало
века.М.-Л, 1933, с 18).
Глава 10 Софиология и символизм. Сергей Соловьев 367
Соловьева к Софии можно понимать только в
монашески-рыцарском смысле, — писал СМ. Соловьев, — в том смысле, как говорят
о любви к Пресвятой Деве»32. В своей ранней переписке с Блоком —
1901 -1905 гг. — он выступает как строгий ревнитель чистоты
(«белизны»), целомудрия и духовной высоты символистской поэзии,
стремясь к «единению в мистической идее Владимира
Соловьева»33. Эту мистическую идею С. Соловьев оберегает от всяких
возможных искажений. Так, откликаясь на новые стихи Блока, С.
Соловьев в апреле 1902 г. пишет ему: «Все стихотворения сильны
и оригинальны, но от них вест мучительным мистицизмом.
Конечно, их нельзя сравнивать с виршами компании Мережковских.
То уж одна гниль, по их собственному признанию, „Весь я гниль"
(Мережковский)34. У тебя отнюдь не гниль, а нечто могучее. Одно
из самых пронзительных „Мы преклонились у Завета". Жена,
смеющаяся из ветхой позолоты, — гениально35. Но знаешь, кто она,
по моему твердому убеждению? Не „Дева радужных ворот"!
Припомни Пушкина:
.Другой, — женообразный, сладострастный
Обманчивый и лживый идеал,
Волшебный демон, лживый, но прекрасный"36.
„Лживая, по прекрасная". Не такова мудрость, сходящая свыше.
„Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом скромна,
мирна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов,
беспристрастна и нелицемерна"37. Такою ли женою ты, „несчастный, бед-
32 СМ. Соловьев. Богословские и критические очерки. М., 1916, с. 160.
33 См.: «Письма Александра Блока». М., 1925, с. 22.
34 Из стихотворения Д.С. Мережковского «Трубный глас»:
Мне стыдно, весь я пыль,
Пыль и тлен, и смрад и гниль.
(Северные цветы на 1902 г., собранные книгоиздательством «Скорпион». М,
1902, с. 103-104.)
35 Соловьев имеет в виду последнюю строфу стихотворения Блока:
И с этой ветхой позолоты,
Из этой страшной глубины
На праздник мой спустился Кто-то
С улыбкой ласковой Жены.
36 Неточная цитата из стихотворения Пушкина: «В начале жизни школу помню
я...» (1830).
37 Соборное послание св. апостола Иакова, 3,17.
368 Раздел N «Новое религиозное сознание» и культура Серебряного века
ный, пленный, может быть, любим"?38 Поэты — цари земные. В
Писании сказано, что они будут блудодействовать с великою
блудницей39. Все сбывается»40.
Осуждая опасное отождествление Софии Премудрости Божией
с «ласковой Женой» Блока, в которой он угадал «великую
блудницу» «Незнакомки», Соловьев-младший, как видим, обращается
к Пушкину; он здесь опять-таки следует Вл. Соловьеву, который
в последние годы жизни противопоставлял Пушкина как образец
подлинно высокого искусства декадентской поэзии. Отвергая
мистицизм декадентов, СМ Соловьев в 1902 г., пережив первый
религиозный кризис, пишет Блоку: «...С меня спадает тяжелая пелена
мистицизма и всяких сомнений. В религиозном отношении для
меня очевидно одно: истина — только в христианском учении,
понимаемом так, как понимает его церковь. Следовательно: вся
истина—в символе веры, к которому мы не смеем ни прибавить слова,
ни отбавить ни слова. Ничего нового ждать не следует. Все
современное мистическое движение — антихрист»41.
Что и кого конкретно имеет в виду С. Соловьев, говоря о
«современном мистическом движении»? И почему вдруг слово
«мистицизм» звучит негативно в устах поэта-символиста, почитателя
теософии В. Соловьева, «матерого мистика»?
Д.С. Мережковский и христианство
«Третьего Евангелия»
Речь здесь идет прежде всего о Д.С. Мережковском, В.В. Розанове
и всех тех, кто принадлежал к представителям «нового религиозного
сознания», в творчестве которых СМ. Соловьев видел кощунствен-
38 Из стихотворения Блока «Сны раздумий небывалых...» (3 февр. 1902 г.):
Но Владычицей вселенной
Красотой неизреченной,
Я, случайный, бедный, тленный,
Может быть, любим.
(А. Блок. Собр. соч. Т. 1, с. 164.)
39См.Откр18,2-3.
40 «Литературное наследство». Т. 92, кн. 1, с. 328.
41 Там же, с. 327.0 своем эстетическом кредо С. Соловьев пишет: «Задумываю
поэму à la Пушкин... Весь ушел в Пушкина, с головы до ног. Изучаю его
произведения в микроскопических подробностях» (там же, с. 326).
Глава 10 Софиология и символизм. Сергей Соловьев
369
ное искажение идей Вл. Соловьева. В письме к Блоку от 1 июля 1902 г.
он говорит: «Дмитрий Сергеевич (Мережковский. — ПГ.) талантлив
здорово, но он забывает, почему собак не пускают в церковь, а кошек
пускают. Он не прочь напустить в церковь и блаженной памяти Изи-
ду, забывая ее предосудительное поведение в самом раннем возрасте,
и Федора Павловича Карамазова в виде обратной стороны Христа
и т. д. Вообще я боюсь, чтобы будущие историки русской литературы
не разделили ее так, в хронологическом порядке: романтизм,
натурализм, фаллизм... Не дай, Господи. Будем надеяться, что термин
„половые", теперь ставший столь обычным в изящной литературе, станет
опять употребляться преимущественно в трактирном смысле»42.
В преодолении декадентского «фаллизма» и в спасении духовного
наследия Вл. Соловьева не столько от критики декадентов, сколько
от их истолкования в кружке Мережковского племянник философа
видел с ранней юности одну из своих главных задач. Ее-то он и
попытался выполнить в книге о В. Соловьеве.
В символизме декадентов Мережковский видел не просто
художественное направление со своей эстетической программой, а
новое религиозное движение, которое, как мы знаем, он называл
«христианством Третьего Завета». «Декадентство в России, — писал
Мережковский в 1907 г., — имело значение едва ли не большее, чем
где-либо в Западной Европе. Там оно было явлением по
преимуществу эстетическим, т. е. от реальной жизни отвлеченным; в России —
глубоко жизненным, хотя пока еще подземным — одним из тех
медленных переворотов, оседаний почвы, которые производят иногда
большее действие, чем внезапные землетрясения. Можно сказать
суверенностью, что если когда-либо суждено зародиться
самобытной русской культуре, то она вырастет из русского декадентства...
Русские декаденты — первые в русском обществе, вне всякого
предания церковного, самозародившиеся мистики, первое поколение
русских людей, взыскавшее тайны — какой именно, светлой или
темной, Божеской или диавольской — это вопрос, который
решается уже по выходе из декадентского подполья, из старой, теперь уже
старой, бессознательной мистики в новое религиозное сознание»43.
Для Мережковского декадентство знаменует собой зарождение
самобытной русской культуры, которая, как следует из
приведенного отрывка, видимо, до сих пор была лишь подражательной.
Мистика символистов отвергает церковное предание, претендуя на
42 Переписка Блока с СМ. Соловьевым //Литературное наследство. Т. 92, кн. 1, с. 330.
43 Д.С. Мережковский. Не мир, но меч. К будущей критике христианства. СПб.,
1908, с. 98-100.
370 Раздел IV «Новое религиозное сознание» и культура Серебряного века
создание новой религии; к старой мистике, которая
характеризуется как бессознательная, Мережковский относит и учение B.C.
Соловьева. Наконец, главное: тайна декадентов то ли от Бога, то ли от
дьявола — этому еще только предстоит открыться в будущем.
Возводя декадентов к традиции Пушкина и Тютчева44,
Мережковский считает их «первыми русскими европейцами, людьми
всемирной культуры, достигшими... крайних вершин ее»45.
В России 1905-1907 гг. было немало «буревестников
революции»; но Мережковский, как мы видели, был самым радикальным
из них: он звал к религии Апокалипсиса, к понимаемому буквально
осуществлению Царства Божия на земле: его-то и возвещало
«Третье евангелие» — евангелие «Святого Духа». «Впервые новое
религиозное сознание, пройдя до конца всю православную церковь,
вошло в Церковь Вселенскую; пройдя все историческое
христианство, вошло в Апокалипсис; пройдя все откровение первых двух
Ипостасей, Отчей и Сыновней, вошло в откровение Ипостаси
Третьей — Духа Святого, Плоти Святой»46.
Под знаком Святой Плоти, согласно провозвестникам «нового
преображения», старый мир и вместе с ним «историческая
церковь» идут к своему концу, который будет и концом всякого
государства. Правда, при этом «Третий Завет» мыслится не как
отрицание, а как осуществление Второго Завета — евангелия Сына47.
Догмат о Богочеловечестве, т. е. о воплотившемся Сыне Божием,
есть исходный пункт христианства «Третьего Завета». Не случайно
Мережковский с самого начала апеллировал к идее Богочеловече-
ства B.C. Соловьева, в сердцевине которой — тема преображенной
плоти — Божественной Софии. «Вл. Соловьев, — пишет
Мережковский, почувствовал, что все историческое христианство — только
путь, только преддверие к религии Троицы. Учение о Троице он
пытался сделать живым откровением, синтезом человеческого
44 «Художники такого классического совершенства, как Брюсов, Сологуб, 3.
Гиппиус — единственно законные наследники великой русской поэзии от
Пушкина до Тютчева. Но их искусство больше, чем искусство, это —религиозный
искус, их стихи — Д1гевники самых упорных и опасных религиозных исканий* (там
же, с. 100. — Курсив мой. — ПГ).
45 Там же, с. 99.
46 Там же, с. 112.
47 «Я здесь разумею под концом православия не нарушение, а исполнение
исторического христианства, ибо вся полнота заключенной в нем истины —
свидетельство о Христе, пришедшем во плоти, — не отвергнута, а воспринята
новым религиозным сознанием; отвергнута только ложь православия и всего
исторического христианства — самодержавие, все равно русского царства
Глава 10 Софиология и символизм. Сергей Соловьев
371
и Божеского Логоса, Слова, ставшего Плотью, как бы исполинским
сводом нового храма Св. Софии Премудрости Божией»48.
Преображение плоти стремились стяжать христианские
подвижники, следуя евангельским заповедям, через аскетические
подвиги, молитвенное бдение, через победу над законом греха,
над плотскими страстями. Но как раз историческое христианство
с его трезвенностью и аскетизмом отталкивает Мережковского.
Преодоление исторического христианства, о котором он говорит,
в сущности предполагает отмену догмата о грехопадении
человека, ибо именно чувство греховности препятствует осуществлению
царства Святой Плоти на земле.
Что же касается плоти, то это не просто вещество, физическая
материя, — это материя живая, и ее квинтэссенция есть начало
жизни — пол. Религия святой плоти есть, по Мережковскому,/?елм-
гия святого пола, а потому великая религиозная революция — это
революция сексуальная49. В.В. Розанов, провозгласивший святость
пола, с которым Мережковский сблизился в 900-е годы, считал
половое соитие высшим религиозным таинством: после венчания
чету новобрачных следовало бы, по Розанову, оставлять в храме,
чтобы она именно там провела свою первую ночь. Пол, согласно
евангелию «Третьего Завета», есть «самая огненная точка, самое
реальное и в то же время мистическое утверждение бытия в Боге»50.
Христоборец В. Розанов в определенном смысле
последовательнее и со своей «бесстрашной и почти бесстыдной, цинической
пытливостью»51, как-то прямее и честнее Мережковского: во имя «ас-
тартического» культа «святого пола», «святого семени» он отвергает
христианство, «религию бессеменного зачатия», объявляя его
религией смерти, небытия. Противопоставляя Новому Завету Ветхий
Завет, христианству — иудаизм, Розанов в то же время сближает
ветхозаветную религию с фаллическим культом Кибелы.
или римского папства, кесаря, который становится первосвященником, или
первосвященника, который становится кесарем, ибо в обоих случаях
совершается равная подмена Царства Божия царством человеческим...* (там же, с. 113).
48 Там же, с. 82.
49 С точки зрения Мережковского, сексуальное наслаждение «есть
предвосхищение воскресения плоти», — пишет американская исследовательница Б. Розен-
таль. Поэтому «секс абсолютно необходим для спасения... Согласно 3. Гиппиус,
секс должен раскрыть тайну самого Творения...» (B.G. Rosental. D.S. Merezhkovsky
and the Silver Age.- The Development of a Revolutionary Mentality. The Hague, 1975,
p. 107-109).
50 Д.С. Мережковский. He мир, но меч, с. 93.
51 Там же, с. 87.
372 Раздел IV «Новое религиозное сознание* и культура Серебряного века
Мережковский же не противопоставляет Кибелу и Христа, но,
как мы видели, соединяет их. В этом и состоит «тайна Третьего
Завета», евангелия «святой плоти». С точки зрения Мережковского,
Розанов, отвергая Христа, должен был бы поставить вопрос таю
«Ежели Христос есть отрицание мира, то одно из двух: или
Христос воистину Сын Божий, и тогда отец мира — не Бог, или Бог —
Отец мира, и тогда Христос — Сын другого Отца»52. Это —
альтернатива древних гностиков, несколько видоизмененная
Мережковским: либо ветхозаветный Яхве — сатана, либо же Христос — от
сатаны (на что недвусмысленно намекал в этот период Розанов).
Чтобы избежать этой гностической альтернативы, Мережковский
и возвещает «Третье евангелие», которое сведет Небо на землю
и осуществит «царство святых» здесь, на земле. Предтечу этого
евангелия Мережковский видит не столько даже в Соловьеве,
сколько в Достоевском, который как никто прежде раскрыл
влечение человеческой души «к двум безднам» — «бездне Мадонны»
и «бездне Содома», и только человеческая посредственность
страшится совмещения этих бездн, признания святости обеих. Как
раз к этому освящению также и «бездны Содома» зовет «новое
христианство» Мережковского53.
В своей трилогии «Христос и Антихрист» Мережковский
неоднократно повторяет строки:
Небо — вверху, небо — внизу,
Звезды — вверху, звезды — внизу,
Всё, что вверху, — всё и внизу.
Это — призыв к новой реализации христианской свободы,
которая мыслится «по ту сторону добра и зла». В духе древнего
гностицизма «мистический» разврат объявляется путем к обретению
святости.
52 Там же, с. 95.
53 В квартире В. Розанова, где в начале века по воскресным вечерам собиралось
пестрое общество — от поэтов-декадентов до профессоров духовной
академии, священников и монахов, можно было воочию видеть совмещенными обе
♦бездны». «Здесь, — вспоминает Мережковский, — между Леонардовой Ледой с
лебедем, многогрудою фригийскою Кибелой и египетской Изидою, с одной
стороны, и неизменно теплящеюся в углу, перед старинным образом,
лампадкою зеленого стекла, с другой», обсуждались все те проблемы, которыми жила
революционная интеллигенция (там же, с. 109).
Глава 10 Софиология и символизм. Сергей Соловьев
373
Мережковский — критик Вл. Соловьева
Во Владимире Соловьеве Мережковский видит предтечу нового
христианства. Однако ограниченность и непоследовательность
Вл. Соловьева Мережковский усматривает в том, что философ,
подошедший вплотную к «новому евангелию» в своем учении о
Софии, все же не решился совместить «две бездны». «Недаром Вл.
Соловьев, — замечает Мережковский, — не кому другому, как именно
Розанову, открыл свою самую святую и несказанную тайну о
„религии Св. Духа"; и недаром Розанов, хотя сам не понял этих слов,
но запомнил и передал их нам как самое глубокое и загадочное
в своем великом противнике»54. Причину провала той великой
миссии, которую взял на себя Соловьев как пророк новой
вселенской религии Святого Духа, Мережковский видит в том, что
Соловьев слишком любил вступать в сделки и компромиссы, в том
числе и в компромиссы с врагом новой религии — государством.
Соловьев «не понял или недостаточно понял всю неразрешимость
антиномии между государством и церковью» (имеется в виду
церковь «Третьего Завета»), не понял, что «единственный путь к
царству Божьему, Боговластию есть разрушение всех человеческих
царств, т. е. величайшая из всех революций»55. Вот поэтому, как
убежден Мережковский, хотя Вл. Соловьев ставит религиозные
54 Там же, с. 97.
55 Там же, с. 80. «Новое откровение» Мережковского с энтузиазмом поддержал
H.A. Бердяев, хотя ему и казалось, что пророк +Третьего Завета» недостаточно
далеко идет в своем отрицании государства и «исторической церкви». «У
Мережковского, — пишет Бердяев, — есть искреннее... новое, свободное
религиозное настроение... но иногда происходит какой-то уклон, являются фальшиво
звучащие слова, старо-церковные, старо-государственные, ветхие, не наши;
как будто он вдруг пугается своего „декадентства", хватается за старую крепость.
Таким фальшивым... тоном написано все, что говорит Мережковский об
отлучении Льва Толстого от церкви; не своим голосом... пытается он искусственно
связать себя с исторической церковью, с государственным телом России, вдруг
начинает бояться ересей, хотя страх этот ему не к лицу» (НА Бердяев. О новом
религиозном сознании // Sub specie aeternitatis, с. 361). Что правда, то правда —
не к лицу бояться ересей человеку, решившему освятить «содомскую бездну».
Для Бердяева даже Мережковский, не говоря уже о Вл. Соловьеве, недостаточно
радикален; тем не менее он приветствует мистическую религию пола и
убежден, что «через пол лежит путь к соборной религиозной жизни» (там же, с. 360).
«Новое, сверхисторическое христианство должно открыться нам в связи с
решением этой проблемы, так как от пола зависит вся плоть мира, религиозная
правда о земле. Мережковского всю жизнь мучила Афродита, искушала его
„белая дьяволица"... И он стремился открыть в статуе Венеры черты идеала мадон-
374 Раздел N «Новое религиозное сознание» и культура Серебряного века
и метафизические вопросы с пророческой силой, почти все его
ответы ложны или недостаточны56.
Вл. Соловьев и Ницше
По убеждению Мережковского, несостоятельность Соловьева
особенно очевидно сказалась в его неприятии Ницше.
Действительно, в «Оправдании добра» Соловьев дает уничтожающую критику
имморализма Ницше; не случайно именно эта работа вызывает
возхмущение и гнев Мережковского. И не удивительно: из
философов XIX века Ницше ближе всех подошел к «религии двух бездн».
Правда, в отличие от Мережковского, призыв встать «по ту
сторону добра и зла» немецкий философ никогда не считал вершиной
христианства и открыто объявил себя врагом последнего. Именно
в Ницше Мережковский увидел человека, не побоявшегося
перейти ту черту, перед которой остановился B.C. Соловьев, заключив
«компромисс» с ненавистной Мережковскому «исторической
церковью». «Вовсе не парадоксальное утверждение демонического зла
ВхМесто человеческого добра, а совершенно истинное, с точки
зрения самого Вл. Соловьева, утверждение высших,
„сверхчеловеческих" или „богочеловеческих", по слову Соловьева, религиозных
ценностей, которые находятся „по ту сторону" человеческого
добра и зла, — такова подлинная сущность Ницше. И сущность эта
неимоверно приближает его к Соловьеву, между прочим через До-
ского. Несмотря на свою кажущуюся близость с Розановым, Мережковский в
сущности стоит на диаметрально противоположном конце; Розанов открыва-
етсвятость и божественность пола и сладострастия любовного как бы до
начала мира, хочет вернуть нас к райскому состоянию до грехопадения;
Мережковский открывает то же самое после конца мира, зовет к сладострастному и
святому пиршеству плоти в мире преображенном, искупленном и воскресшем.
Мережковский прав, потому что смотрит вперед, а не назад» (там же, с. 358).
56 «Вождем русского народа Вл. Соловьев не сделался. Вести других на
революционное действие не мог бы он уже потому, что сам не довел свое
революционное сознание до действия. Если бы он был последователен, то, после казни
цареубийц, отрекся бы от самодержавия и примкнул бы к революции. И не только
примкнул бы сам, но и призвал бы к ней весь русский народ» (Д.С.
Мережковский. Не мир, но меч, с. 79). Особенно возмущает Мережковского, что
Соловьев, вместо того чтобы поднять народ на разрушение самодержавия и отмену
православия, возвращается «к ложной теократии средних веков» (там же), видя
в соединении русского самодержавия с католической церковью путь к
торжеству вселенского христианства.
Глава 10 Софиология и символизм. Сергей Соловьев 375
стоевского, которому они одинаково близки... Соловьев возражает
весьма неудачно на новую религию Ницше старою
нравственностью; это два несоизмеримые порядка»57.
Апеллируя к Ницше как мыслителю духовно родственному,
Мережковский в то же время упрекает Вл. Соловьева в том, что тот не
смог — или не захотел! — узнать в «Евангелии Третьего Завета» свое
учение о «Подруге Вечной», которая — как не без основания
считает Мережковский — и есть «сладостная святая плоть». И это правда:
в половой оргийности Розанова и декадентов Соловьев увидел
кощунственное искажение своего учения58.
Нет ничего странного и в том, что Соловьев резко выступил
против имморализма Ницше; не нужно было большой
проницательности, чтобы разглядеть в ницшеанском «сверхчеловеке»
антихриста, а в культе дионисийства — демонизм, безоговорочно
противопоставивший себя христианству
Впрочем, в 1899 г. Соловьев опубликовал в журнале декадентов
«Мир искусства» небольшую статью о Ницше («Идея
сверхчеловека»), где попытался показать главный принцип «разбираемого
умственного явления — насколько это возможно — с хорошей сто-
57 Д.С. Мережковский. Не мир, но меч, с. 84.
58 В статье 1899 г. «Особое чествование Пушкина» В. Соловьев саркастически
высмеял «господ оргиастов», особенно В. Розанова, противопоставив его
«пьяному» экстатизму поэзию Пушкина как недосягаемо высокий образец. По
Соловьеву, источник «оргиазма» Розанова — это темная подземная стихия, та
дельфийская расщелина языческой Пифии, из которой выходили серные
одуряющие пары. «Вдохновляющая сила идет здесь во всяком случае откуда-то
снизу. И вот почему Пушкин „не нужен": в его поэзии... сохранилось слишком
много вдохновения, идущего сверху, не из расщелины, где серные, удушающие
пары, а оттуда, где свободная и светлая, недвижимая и вечная красота.
Пришел сатрап к ущельям горным
И видит.- тесные врата
Замком замкнуты непокорным,
Грозой грозится высота.
И, над тесниной торжествуя,
Как муж на страже, в тишине
Стоит, белеясь, Ветилуя
В недостижимой вышине.
В недостижимой — для г. Розанова, не менее, чем для Олоферна. И для того, и
для другого поэзия не идет дальше пляшущих сандалий Юдифи, а Ветилуя (дом
Божий, др.-евр. — ЛГ.) — это „слишком строго", „слишком серьезно". И вот
почему Пушкин причтен к тем, „которых нет больше"» (B.C. Соловьев. Собр. соч.
Т. VIII, с. 327).
376 Раздел IV « Новое религиозное сознание» и культура Серебряного века
роны»59, т. е. определить ту истину, которой оно держится и
которую извращает. Но Соловьев и в этой статье отнюдь не выступает
сторонником «демонизма сверхчеловека»: он не принимает
ницшеанское презрение к слабому и больному человечеству,
языческий взгляд на силу и красоту, присвоение себе — или избранному
меньшинству «сильных», которому все позволено, —
исключительного права господствовать над остальными людьми. Тем не менее
Соловьев считает, что в такой извращенной форме Ницше
выразил стремление современного человечества вступить на тот
«сверхчеловеческий путь», путь к победе над конечностью и
смертью, который указал людям Христос. Можно ли на этом основании
утверждать, что Соловьев принимает Ницше? Едва ли; но во всяком
случае он здесь вступает в диалог с русскими
декадентами-ницшеанцами, заключая статью словами: «Ныне, благодаря Ницше,
передовые люди заявляют себя... так, что с ними логически возможен
и требуется серьезный разговор — и притом о делах
сверхчеловеческих»60. И это, естественно, дало Мережковскому повод
воспринять статью не только как «единственную и мгновенную попытку
его (В. Соловьева. — ПТ.) сблизиться с декадентами», но и как
признание русским философом того, что «в идее сверхчеловечества
заключается положительная религиозная истина»61. В
действительности Соловьев не признал положительной религиозной
истины в идее сверхчеловека, как ее выразил Ницше-, он утверждал
К Пушкину неизменно обращался и Соловьев-младший, отвергая оргиазм
Розанова и декадентство Мережковского. «...Если у германцев есть Гёте, то у нас
есть Пушкин, если у германцев есть Ницше, то у нас — Владимир Соловьев», —
писал С. Соловьев в 1912 г. в статье «Эллинизм и церковь» (СМ. Соловьев.
Богословские и критические очерки. М., 1916, с. 7). Гёте и Пушкин, Ницше и Соловьев
сравниваются здесь по их масштабу, по их значимости для русской и немецкой
культур; что же касается духа их творчества, то они, напротив,
противопоставляются как антиподы: «Путь к мистицизму указал западной литературе Гёте; все
прошлое нашей поэзии, с Пушкиным во главе, указывает нам другой путь,
„более узкий и прискорбный", путь к церковному христианству. Впрочем, оба пути
могут иногда сливаться, как мы видим это в церковной и в то же время
теософской философии и поэзии Вл. Соловьева» (там же, с. 30).
59 B.C. Соловьев. Собр. соч. Т. VIII, с. 312. Философ рассматривает ницшеанство
в ряду модных идей, овладевших умами образованного русского общества
в конце XIX в.: экономический материализм Маркса, отвлеченный морализм
Л. Толстого и демонизм «сверхчеловека* Ницше (см. там же, с. 311 )• Если учесть,
насколько критически относился Соловьев к учениям Маркса и Толстого,
то станет ясно, почему «демонизм» немецкого философа поставлен в этот ряд.
60 B.C. Соловьев. Собр. соч. Т. VIII, с. 319.
61 Д.С. Мережковский. Не мир, но меч, с. 85.
Глава 10 Софиология и символизм. Сергей Соловьев
377
лишь, что Ницше в искаженной, демонической форме оживил
христианскую идею подлинного Сверхчеловека Христа,
указавшего верующим в него путь победы над смертью.
В «Оправдании добра» Соловьев высказался о Ницше
значительно определеннее. Выше мы уже приводили это высказывание;
процитируем его еще раз: «Несчастный Ницше в последних своих
произведениях заострил свои взгляды в яростную полемику против
христианства, обнаруживая при этом такой низменный уровень
понимания, какой более напоминает французских вольнодумцев
XVIII века, нежели современных немецких ученых. Приписывая
христианство исключительно низшему социальному классу, он не
видит даже того простого факта, что евангелие с самого начала
принималось не как проповедь сомнительного возмущения, а как
радостное известие о верном спасении, что вся сила новой религии
состояла и состоит в том, что она основана „первенцем от
мертвых", воскресшим и обеспечившим вечную жизнь своим
последователям, как они непоколебимо верили. При чем же тут рабы и
парии? Что значат социальные классы, когда дело идет о смерти
и воскресении? Разве „господа" не умирают?»62 Эта критика сегодня
нисколько не утратила своей актуальности, если учесть, что на
протяжении XX в. влияние Ницше неуклонно возрастало и что он
имеет сегодня горячих приверженцев не только среди противников
христианства, но и среди многих, кто считают себя христианами.
Христианство не отрицает ни силы, ни красоты, как это
утверждает Ницше. Но в христианстве сила и красота нераздельны с добром —
вот где кроется подлинный корень войны Ницше с Христом, а
имморалистов «Третьего Завета» — с «историческим христианством».
Особенно раздражает Мережковского и его последователей то, что
В. Соловьев, выступая в «Оправдании добра» в защиту нравственных
ценностей, показывает органическую связь с ними правовых норм,
а тем самым и государства, которое хотели бы уничтожить ультра-
революционаристы — адепты религии «Святой Плоти».
Сергей Соловьев против «сатанизма»
Мережковского, Розанова и Блока
СМ. Соловьев вступил в бой с Мережковским и его
последователями за духовное наследство Вл. Соловьева. Софиологическая тема
B.C. Соловьев. Собр. соч. Т. VIII, с. 10.
378 Раздел IV « Новое религиозное сознание» и культура Серебряного века
была истолкована Мережковским в духе эстетического
имморализма и нездоровой эротики; а между тем, как мы знаем, служением
«Прекрасной Даме» был объединен и кружок младших
символистов, к которому принадлежал Сергей Соловьев. Именно в учении
Вл. Соловьева его племянник видел надежный щит против
«демонических соблазнов» Мережковского и Розанова.
Неприязнь к декадентству проходит красной нитью в письмах
СМ. Соловьева к А. Белому и А. Блоку 900-х годов. Особенно Белый
и Соловьев непримиримо настроены по отношению к той диони-
сийски-оргиастической стихии, которой было проникнуто
творчество Розанова, Мережковского, Брюсова и др. С. Соловьев
противопоставлял сублимированный эротизм Вл. Соловьева сексуальной
вакханалии Серебряного века.
Прочитав книгу Мережковского «Л. Толстой и Достоевский»
(т. I—II, СПб., 1903), Соловьев пишет Блоку: «На всем — неприятный
налет, что-то неблагородное, неоткрытое и подло смиренное.
Мысли иногда — блестящи и верны. Но рядом мысли прямо
противоположные... Напутано о Христе немилосердно, и чертовщинка
облечена в плед „благовидной лжи" и хамского смирения...»63 Защита
B. Соловьева от Мережковского и других декадентов совпадает для
C. Соловьева с защитой христианства от «чертовщинки», которую
он чувствует в культе «двух бездн».
Не менее сурово, чем религию «святого пола», отвергает
СМ. Соловьев и ложь так называемой «христианской революции»
Мережковского. «...Возможна ли революция без нечаевщины,
без крови? Едва ли. Мережковский, кажется, сознает, что на
Евангелии построить революцию нельзя, потому и ищет новой
религии Духа, которая вместила бы в себя психологию революции.
Но на деле эта новая религия, в отличие от христианства, есть
религия не духа, а плоти, ибо революция основана на плоти, на
„стихиях мира сего"»64.
В письме к А. Белому от 20 сентября 1903 г. С. Соловьев
рассказывает о полемике Н. Минского с В. Розановым по вопросам
брака: «Прочел недавно Минского о двух путях добра65 и вполне с ним
63 «Литературное наследство». Т. 92. Ч. 1, с. 377.
64 СМ. Соловьев. Богословские и критические очерки. М., 1916, с. 27.
65 См. Н. Минский. О двух путях добра // «Северные цветы», третий альманах
издательства «Скорпион». М., 1903- В этой статье Минский между прочим писал:
«Хочется спросить Розанова, неужели он не читал ни одного поэта XIX в. и не
знает, что все новые поэты воспевали не только радости любви, но и
разочарования от любви, что пессимизм европейской литературы не что иное, как от-
Глава 10 Софиология и символизм. Сергей Соловьев
379
согласен. Розанова он отделывает искусно... Вообще к Минскому
у меня душа лежит, а ярость к Розанову все возрастает... Розанов
силен только в гадости»66. Как «астартическое кликушество»
«циничного мистика» воспринимают в этот период С. Соловьев и А.
Белый розановскую «религию пола»67.
Однако духовному братству «соловьевцев» не суждено было
пережить бурную предреволюционную эпоху, а тем более революцию
1905-1907 гг. Первым от него отошел А. Блок: в его «Прекрасной Дат
ме» незаметно стали проступать черты «Афродиты площадной». Уже
в 1901-1902 гг. у Блока можно расслышать отзвуки «религии двух
бездн» Мережковского: «Почуялось новое веяние, пускают ростки
рицание любовничества и жажда целомудрия... Не только поэты, художники
минутных настроений, но и романисты развенчивают любовь, жаждут девства
и целомудрия. Весь французский роман — сплошной обвинительный акт
против любовничества* (там же, с. 134). Эти слова особенно созвучны
настроениям С. Соловьева, который был убежден в высшей ценности целомудрия и видел
в христианском браке высокое и спасительное таинство. Он был шафером на
свадьбе Блока с Л Д. Менделеевой, в которой вместе со своим кузеном видел
земное воплощение «Девы Радужных Ворот», и посвятил Блоку стихи,
выразившие мистическую подоплеку его женитьбы:
И долиною Соронской
Ныне твой простерся путь.
Прилетев с горы Сионской,
Голубь сел тебе на грудь.
Там вдали Иерусалима
Загорелися врата.
Дверь крылами серафима
Новобрачным отперта.
Над тобою тихо веют
Два небесные крыла...
Слышишь: в страхе цепенеют
Легионы духов зла.
(Стихотворение помечено августом 1903 г. Цит. по кн.: «Литературное
наследство». Т. 92, ч. 1,с.388.)
А спустя несколько дней, 1 сентября 1903 г. он пишет Блоку: «Я хотел тебе,
Саша, дать один совет, но не успел. Почитал бы ты теперь „Теократию" Вл.
Соловьева, именно теперь, ибо теперь в твоей жизни должен был силен дух
церковности: брак — первое основание той церкви, которую „не одолеют врата
адовы"» (там же, с. 339).
66 Цит. по: там же, с. 340.
67 «На всю Россию кричал тогда циничный мистик из города Санкт-Петербурга,
а товарищи озаряли крикуна бенгальскими огнями», — писал А. Белый
в «Симфонии» (А. Белый. Симфония (2-ая драматическая). М., 1902, с. 77).
380 Раздел N «Новое религиозное сознание» и культура Серебряного века
новые силы... мы еще только смотрим, содрогаясь, и смутно ждем
конца. Кто родится — Бог или диавол — все равно... ибо нет
разницы — бороться с диаволом или с Богом, — они равны и подобны...
Вот глубочайшее откровение. Тайна его сознана теперь, как
никогда... Это „инфернальность" известного рода — „созерцание двух
бездн", доступное недавним избранникам... Во главе этих
избранников стоят Тютчев, Фет, Полонский, Соловьев»68.
Эти настроения, конечно же, отразились и в поэзии Блока, что
не прошло мимо внимания С. Соловьева: в октябре 1903 года он
замечает у Блока «некоторый поворот» — «отрешение от прера-
фаэлитизма»69. Правда, по поводу «Стихов о Прекрасной Даме»,
присланных ему автором, Соловьев пишет вполне одобрительно:
«Книжка не только производит, несмотря на карликов и
арлекинов, светлое и мирное впечатление, но прямо христианское и
потому противоположное Брюсову. Стихотворение „Вот он ряд
гробовых ступеней" прямо контр-Орфей и Евридика70. Одного
этого стихотворения довольно для принятия тебя в лоно
христианской церкви: ведь это прямо христианская трактовка вопроса
о жизни, смерти и любви. Как раз то самое, что у Брюсова
трактуется язычески, Владимир Соловьев, видно, одолел»71. Казалось бы,
Блок вновь возвращается к идеалам прерафаэлитов, и друзья
восстанавливают свой союз. Но нет: в том же письме, вроде бы вне
связи с ранее сказанным, Соловьев обращается к теме блоковско-
го «поворота» и сообщает другу свою тревогу по этому поводу: «Я
пробую объяснить, почему с твоим браком сразу не кончилось
все темное и трудное, как я это ожидал раньше. Есть Афродита
Площадная, есть Афродита Небесная — Урания, и есть Дева
Мария. Если Брюсов гибнет от Афродиты Площадной, то тебе она
теперь не страшна. Но я упускал из вида Уранию, ту борьбу начал,
которая возникает в глубочайших безднах, когда Афродита Пло-
68 А А Блок. Собр. соч. Т. VII. М.-Л., 1963, с. 28-29-
69 Цит. по кн.: «Литературное наследство*. Т. 92, кн. 1, с. 347. Младосимволисты,
особенно С. Соловьев, чувствовали идейную близость к кружку английских
поэтов и художников, объединившихся в 1848 г. в «Прерафаэлитское братство».
Сюда принадлежали художник и поэт Д.Г. Россетти, его брат В.М. Россетти,
художники X. Хант, Дж.Э. Милле и др. С русским символизмом прерафаэлитов
сближал их культ чистой красоты и религиозно-мистической эротики;
почитатели дорафаэлевской живописи, Д.Г. Россетти и его группа высоко
ценили позднесредневековое искусство, особенно живопись Джотто и поэзию
Данте, к которой восходит и соловьевская софиологическая мистика.
70 «Орфей и Евридика» — стихотворение В. Брюсова.
71 Цит. по кн.: «Литературное наследство». Т. 92, ч. 1, с. 382.
Глава 10 Софиология и символизм. Сергей Соловьев
381
щадная, грубая материя и чувственность (некоторая) уже
превзойдены»72.
Афродита Небесная, которую младосимволисты вслед за Вл.
Соловьевым окружали золотым нимбом святости, теперь
воспринимается Сергеем Соловьевым иначе: хотя и лишенная
грубо-чувственного начала, она тем не менее всегда таит в себе возможность
перерождения: несмотря на красоту, в ней неистребим «родимый
хаос». Даже платонический эрос — это все же эрос, а не агапе, даже
Небесная Афродита — это не Дева Мария, не Богоматерь.
Вероятно, не только поэтическая эволюция Блока привела
Соловьева к этому прозрению, но оно оказалось пророческим;
в 1905 г. друзья расходятся: Соловьев отвергает «дионисийство»
«Снежной маски». Рецензируя в 1906 г. сборник стихов Блока
«Нечаянная радость», Соловьев хотя и признает «величавую простоту
и спокойствие» в лучших стихотворениях сборника, тем не менее
выносит суровый приговор поэту, изменившему своей Музе: «„Нет!
Это — не Блок!" — воскликнут многие, читавшие и любившие
„Стихи о Прекрасной Даме". Угас „уголь пророка", „вонзенный в сердце"
страстного рыцаря Мадонны. Свеялась дымка апокалиптических
экстазов... Спала тусклая позолота древнего нимба, расклубился та^
инственный фимиам перед престолом „Жены, облеченной в
солнце", тряские болота проглотили „придел Иоанна"73... и на месте
храма зазеленели кочки, запрыгали чертенята... Дремотная лира! Не
сбылись надежды, иссякли пророчества»74.
Предчувствия не обманули Сергея Соловьева: «Прекрасная Дама»
скинулась «Незнакомкой», «Фаиной», «Снежной маской», и Блок из
певца «Девы-Зари-Купины», следовавшего идеалам прерафаэлитов
и Вл. Соловьева, стал певцом дионисийски-оргиастической
стихии, «пересадившим на русскую почву хилые, чахоточные цветы
западного декадентства»75.
72 Там же, с. 383.
73 С. Соловьев имеет в виду стихотворение Блока 1902 г.:
Я их хранил в приделе Иоанна,
Недвижный страж, — хранил огонь лампад.
И вот — Она, и к Ней — моя Осанна —
Венец трудов — превыше всех наград.
(А.Блок.Собр.соч.Т. 1.М.-Л., I960,с. 239)
74 «Золотое руно*, 1907, № 1, с. 88-89.
75 СМ. Соловьев. Crurifragium. M., 1908, с. 162.
Несколько позднее, в 1912 году, Блок сам напишет о том страшном соблазне,
который несла в себе неотразимая красота «Афродиты Небесной»:
382 Раздел N «Новое религиозное сознание» и культура Серебряного века
После появления пьесы «Балаганчик», в которой Соловьеву
нетрудно было увидеть злую пародию на их общие прежние идеалы,
он совсем порвал отношения с Блоком, а в 1907 г., в письме
к В. Брюсову так отозвался о «Третьем видении» пьесы Блока
«Незнакомка», помещенном в июльском номере «Весов»:
«Незнакомка была бы б... хоть куда, но, к сожалению, кузен мой по старой
памяти во всякой б... прозревает нечто вроде „Девы Марии", а под
конец переносит действие в Шотландию и твердит о Мэри»76.
Кружок младосимволистов распался: торжество дионисийского
начала в творчестве А. Блока 1906-1907 гг., синтез у него «двух
бездн»77 превратили друзей-единомышленников в идейных
врагов. «И если отношения Белого с Блоком в 1906-1907 гг. все же
сохраняются, хотя и сводятся к нагромождению обид,
непониманий, бурных ссор и мучительных объяснений, то отношения
Есть в напевах твоих сокровенных
Роковая о гибели весть.
Есть проклятье заветов священных,
Поругание счастия есть.
И такая влекущая сила,
Что готов я твердить за молвой,
Будто ангелов ты низводила,
Соблазняя своей красотой...
И когда ты смеешься над верой,
Над тобой загорается вдруг
Тот неяркий, пурпурово-серый
И когда-то мной виденный круг...
И коварнее северной ночи,
И хмельней золотого аи,
И любови цыганской короче
Были страшные ласки твои...
(Стихотворение «К музе» // А. Блок. Собр. соч. Т. 3. Л.-М., 1906, с. 7-8.)
Пурпурово-серый нимб окружал на средневековых иконах духов
преисподней. Блоку теперь очевиден сатанинский лик Незнакомки; красота — уже не
спасение мира, она несет с собою гибель, «попиранье заветных святынь», она —
проклятие, а не исцеление, — но, увы, тем сильнее она влечет к себе поэта.
76 Цит. по: «Литературное наследство». Т. 92. Ч. 1, с. 314.
77 Прекрасный анализ этого дионисийски-демонического начала на примере
поэмы «Двенадцать» дал СВ. Ломинадзе в статье «Концептуальный стиль и
музыка „мирового пожара"». «В обычном понимании, коль скоро нам говорят, что
в .Двенадцати" происходит „преображение низменного в святое" (слова К.
Чуковского. — Я/".), значит, подразумевается, что „низменного" в „Двенадцати" не
остается. Было „низменным", стало „святым". По блоковской же концепции,
Глава 10 Софиология и символизм. Сергей Соловьев 383
между Блоком и Соловьевым сходят на нет. Былая дружба,
интимная доверительность уже невозвратимы, и взаимная
отчужденность становится питательной почвой для резких печатных
отзывов друг о друге», — пишут Н.В. Котрелев и A.B. Лавров78. Несмотря
на временное примирение в период нового поворота Блока —
к религиозно-теургическому символизму 1910-1911 гг., прежний
тесный духовный союз уже не восстановился — пути Блока и
Соловьева разошлись.
Духовная драма Сергея Соловьева.
Соблазн «святой плоти»
Самое драматическое, однако, заключалось в том, что даже
СМ. Соловьеву, самому непримиримому критику «нового
религиозного сознания», не всегда удавалось противостоять влиянию
декадентов. Летом 1904 г. у С. Соловьева появляются не
характерные для него прежде настроения: он увлекается спиритизмом,
поддается «магии греха», читает Шопенгауэра и Мережковского
и даже находит некоторые работы Вл. Соловьева недостаточно
глубокими79.
Осенью 1904 г. С. Соловьев временно сближается с В. Брюсовым,
которого младосимволисты называли «великим магом» и
относились к нему достаточно отстраненно, и переживает настоящий ду-
„преображение" здесь должно заключаться в том, что „низменное", оставаясь
„низменным" и именно в качестве такового, становится носителем „духа
музыки"» (СВ. Ломинадзе. О классиках и современниках. М., 1989, с. 195). Это —
очень точное описание той кощунственной «перверсии ценностей», которая
так характерна для атмосферы Серебряного века.
78 Там же, с. 315.
79 «Третьего дня, — пишет Соловьев Блоку 10 июля 1904 г., — на спиритическом
сеансе имел необыкновенно интересный и страшный разговор с дьяволом,
после чего убоялся и хочу разведывать адрес графа (имеется в виду граф А.И. Разва-
довский, принявший священнический сан и затем перешедший в католичество;
Соловьев познакомился с ним на свадьбе у А. Блока. — ПГ). Все лето упиваюсь
ядовитыми для меня вещами: Шопенгауэром и Мережковским. Особенно
второй сильно действует, уж очень он гениален и о главном говорит. Представь
себе, что я после „Отверженного" прочел повесть об антихристе, и она мне
показалась поверхностна» («Литературное наследство». Т. 92.4.1, с. 376-377). Под
названием «Отверженный» в 1896 г. был опубликован роман Д. Мережковского
«Смерть богов (Юлиан Отступник)»; по сравнению с этим романом для С
Соловьева побледнела «Краткая повесть об антихристе» «дяди Володи».
384 Раздел IV «Новое религиозное сознание» и культура Серебряного века
ховный кризис, погрузившись в ту самую «багряную» стихию,
от которой предостерегал Блока80. Как в душе
девятнадцатилетнего поэта боролись эротически-магическая стихия певца
сексуальной свободы Брюсова и «Белая Лилия» Владимира Соловьева,
можно видеть из его письма Блоку (октябрь 1904 г.): «Весь месяц я
провел в неприятнейшей борьбе с „великим магом", который
пустил несколько бомб, необыкновенно разрушительных: одна из
них „Медея", другая „Орфей", а третья „Ариадна"81. ...Временами я
погрязал в этих проклятых „выгибах рук", „алчных губах",
„ужасных ласках", но тогда раздавался голос:
От родных многоводных халдейских равнин,
От нагорных лугов Арамейской земли и т. д.82
План кампании мага Валерия был следующий, поистине
блестящий: обезоружить меня, заставив меня влечь в бездну за собой ту
особу, роль которой в моей жизни я считал конченной (имеется
в виду M Д. Шепелева. — ПТ.). Таким образом, зараз гибли три: я, она
и €v ка! ттау83. Я встретил M Д Я был весь заряжен Брюсовым и Пши-
бышевским, Ницше и Шопенгауэром. Меня раздавливал образ
слепой, жестокой природы (Хаос). Я вдруг увидел, что Брюсов следит
за всем... Я ощутил разбитость во всем теле и полное отсутствие
разума. В довершение греха я, ничего не понимая и не видя, начал
говорить „Орфея и Евридику", чувствуя, что сжигаю последние
корабли, и ясно видя, что каждым словом затягиваю проклятое
80 Блок раньше Соловьева снял «опалу» с Брюсова. 8 марта 1904 г. он писал
Соловьеву «Теперь меня пугает и тревожит Брюсов, в котором я вижу, однако,
неизмеримо больше света, чем в Мережковских. Вспоминаю, что апокалиптизм
Брюсова (т. е. его стихотворные приближения к Откровению) не освещены
исключительно багрянцем (багрянец, черно-багровый, пурпурово-серый —
символы демонического у „соловьевцев". — ПГ) или исключительно
рациональной белизной, как у Мережковских... Что у него есть детское в выражениях
лица, в неуловимом. Что он может быть положительно добр... Ах, да!
Отношение Брюсова к Вл. Соловьеву — положительное, а у Мережковского — вполне
отрицательное...» (цит. по кн.: «Литературное наследство». Т. 92. Ч. 1, с. 370).
81 Стихотворения Брюсова «Медея» («На позлащенной колеснице...»), «Орфей и
Евридика» («Слышу, слышу шаг твой нежный...*) и «Тезей Ариадне» («Ты спишь,
от долгих ласк усталая...»), опубликованные в 1904-1905 гг., вошли затем в
книгу «Stephanos» (1905).
82 Из стихотворения В. Соловьева «В землю обетованную» // Его же.
Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974, с. 75-77.
83 единое и всё (греч.). Имеется в виду всеединство Вл. Соловьева, его
божественная София.
Глава 10 Софиология и символизм. Сергей Соловьев
385
магическое кольцо. Чувствовал себя зараз и жертвой, и палачом.
МД была только жертвой; маг — только палачом...»84
Так трагически переживал Сергей Соловьев, натура
экзальтированная, впечатлительная, свое «предательство» идеалов прерафаэ-
литства и «священных заветов» соловьевского учения. И хотя
описанная «роковая» встреч с МД. закончилась лишь тем, что было
назначено свидание в Третьяковской галерее, Соловьев осознавал
себя падшим человеком, погубившим не только свою, но и
мировую душу — hen kai pan. «Несколько дней, — завершает он свою
исповедь кузену, — провел я в брюсовщине и начал сходить с ума. Все
предметы были покрыты каким-то слоем ужаса, милые лица
становились чуждыми, новыми, холодными. Я один проваливался в
черную пропасть... Все основание моей жизни начало шататься...»85
Духовная драма С. Соловьева — это лично пережитая им драма
всего русского Серебряного века; тот эротический дурман, который
особенно чувствовался в среде декадентов, был общей атмосферой,
в разной мере захватывавшей почти всех. Правда, для одних он был
больше мозговой игрой, источником острых ощущений, для других
же — в том числе для Блока, Белого и Соловьева — источником
подлинных страданий, душевных надломов, нервных срывов,
жизненных катастроф. Надо отдать должное С. Соловьеву: он с этим
кризисом на сей раз справился. И вскоре вновь упрекал Блока: «Твои стихи
непростительны: Брюсов, Брюсов и Брюсов. Впрочем, ты вправе мне
сказать: „что видишь сучец в глазу брата твоего, а в своем глазу
бревна не чуешь..."»86
Своего — и общего — спасителя Соловьев-младший всегда видел
в „дяде Володе". Но двойственность соловьевской софиологии
порождала едва ли не более опасные миражи, чем «магическое
кольцо брюсовщины», поскольку здесь С. Соловьев поначалу не замечал
никакого подвоха и считал себя стоящим на твердой почве
христианской веры. Из переписки С. Соловьева хорошо видно, какая
сумятица царила в умах «неохристиан». Приведу характерный отрывок.
«Сейчас у Астрова произошел ужасный разговор, — пишет
Соловьев Блоку в феврале 1905 г. — Большая свора христиан (Боря87,
Астров, я, В.Ф. Эрн) затравливала одного демониста (ЛЛ. Кобылинско-
го) и затравила... Особенно хорошо говорил Эрн... Кобылинский
нападал на плоть, Эрн возвеличивал ее. Когда демоиист был окон-
84 «Литературное наследство». Т. 92. Ч. 1, с. 378.
85 Там же, с. 379.
86 Там же.
87 А. Белый.
386 Раздел IV «Новое религиозное сознание» и культура Серебряного века
чательно затравлен, мы пошли с Эрном, и во всем соглашались.
Но в результате он начал отстаивать интенсивность (sic!)
плотской жизни, восставая на сладострастие (sic!) как на грех. Тогда я
почувствовал желание броситься за врагом плоти и броситься ему
на шею... Пойми, что вреднее этого трудно себе что-нибудь
представить, ибо они тормозят торжество религии святого
сладострастия, которое я исповедую, за что диавол рвет меня когтями, ибо уж
он-то... не тупица и понимает, что только эта религия одолеет его
окончательно. Если б ты знал, как мне теперь ясно, что такое
христианство... В разъяснении христианства мне много помогает
Брюсов, именно потому, что на нем я вижу, что такое нехристианин,
язычник... Мережковским не верю. На Борю надеюсь, хотя он во
многом еще дитя и пугается. Упивается цветами и ягодами, грызет
виноград и отмахивается от сладострастия. А ведь это только то же,
доведенное до конца. Ты со мной спорил, когда я говорил, что
христианство в основе своей вне пола. Теперь я считаю, что понимание
христианства возможно только сквозь сладострастие, как и всякой
религии. И только потому, что в нем пламенеет сладострастие
виноградных гроздьев, оно учение вечное, религия будущего. О, я
далеко не победил черта, но понимаю вполне теперь, где черт, а где
Бог... Вот она, „схемочка" проклятая. Брюсов не хочет святой плоти,
а хочет греха-, неохристиане хотят нелепой „интенсивности плоти"
(если это не сладострастие, то очевидно, потребность питания, ибо
что же еще остается); Кобылинский не хочет никакой плоти и
трогательно честен. Боря хочет того, что надо, но еще боязлив.
Мережковские говорят, что хотят самого лучшего, но люди —
сомнительные. А я хочу настоящей святой плоти»88.
Здесь со всей юношеской прямотой и неподдельной
искренностью высказано, в сущности, то, чего никогда столь
недвусмысленно не говорил создатель софиологии Владимир Соловьев, хорошо
понимавший, что «религия святого сладострастия» — это все-таки
не христианство. Не случайно ему так трудно было писать свое
последнее сочинение, посвященное софиологии, — «Смысл любви»,
которым, по свидетельству современников, он остался не вполне
доволен89.
88 «Литературное наследство». Т. 92. Ч. 1, с. 392-394.
89 Как справедливо замечает E.H. Трубецкой, критикуя соловьевское
понимание высшей формы любви как любви половой, «исключительное, любовное
отношение между двумя особями различного пола, есть факт временной, а не
вечной действительности. Для него нет места в той запредельной области, где
люди не женятся и не выходят замуж, а живут, „как ангелы Божий на небесах"...
Глава 10 Софиология и символизм. Сергей Соловьев 387
Письмо С. Соловьева прекрасно передает атмосферу
предреволюционных лет, жажду религиозного обновления и
«неохристианского Возрождения», в котором, как и в Возрождении
неоязыческом, было много смутного и темного, много того, по словам
В. Непомнящего, «брюсовского и иных „мистического" разврата,
дух которого (дух поклонения не только „равно", но практически
одновременно „и Господу, и дьяволу") реял над „Серебряным
веком", когда оппозиция, доступное-запретное" изничтожалась
некоторыми „бледными, со взором горящим", уже с каким-то
религиозным экстазом и когда была окончательно раскупорена бутылка
и выпущен джин духовного растления, что помог погубить
страну»90. Критик Мережковского, Соловьев-младший, как видим, тоже
становится адептом «святой плоти»91, — правда, не принимая ни
«синтеза двух бездн», ни брюсовского синкретизма, в котором
прославляются равно Бог и дьявол92.
Всякий верующий христианин инстинктивно чувствует недопустимость, ко-
щунственность сочетания образа Христа и Богоматери с чем-либо похожим
на личную половую любовь, хотя бы и в мистическом значении этого слова»
(E.H. Трубецкой. Миросозерцание Вл.С. Соловьева. Т. 1. М., 1995, с. 583-584).
90 В. Непомнящий. С веселым призраком свободы // Континент, 1992, № 3, с. 289-
91 Об этом периоде жизни С. Соловьева вспоминает Н. Арсеньев, описывая
атмосферу софианских кружков. «Характерны для этой атмосферы были выкрики
одного из участников о „святой плоти" или стихотворения Сергея Соловьева
(племянника философа) о чаще Диониса, которая литературно и
безответственно смешивалась с чашей Евхаристии, как Дионис так же литературно и
безответственно сближался с Христом (правда, Сергей Соловьев не выступал со
своими стихами на этих собраниях, но они были типичны для этих
настроений, смеси христианства со стихийным языческим экстазом)» (Н. Арсеньев.
О московских религиозно-философских и литературных кружках и собраниях
начала века, с. 305).
Справедливости ради, однако, следует подчеркнуть, что отношение к С.
Соловьеву у Арсеньева в целом — доброжелательное; по его словам, Сергей
Соловьев — «плодовитый и не лишенный таланта поэт»; «несколько
неуравновешенный (ибо очень несчастный в личной жизни...), но несомненно одаренный и
благородный человек»; «...оргиастический символизм при личном общении
тоже был в нем мало заметен. В нем ощущался искренний идеалистический
порыв — борьба за права красоты, за права духа и религиозного начала, против
материалистического отрицания* (там же, с. 308).
92 Неколебимой истине
Не верю я давно,
И все моря, все пристани
Люблю, люблю равно.
Хочу, чтоб всюду плавала
Свободная ладья,
388 Раздел N «Новое религиозное сознание» и культура Серебряного века
Не забудем, однако, что это написано крайне эмоциональным
молодым человеком, настроения которого в этот период еще
неустойчивы. Так, уже в апреле 1905 г. он сообщает Блоку с
нескрываемой самоиронией: «Я начинаю пользоваться подозрительным
успехом как поэт... За неимением декадентства попробую пугать
людей эротизмом»93. А дальше — уже почти с надрывом: «Господа
неохристиане — самая нестерпимая и обидная порода существ...
И монахи, и безбожные приват-доценты, и блудливые поэты вроде
меня — все в одну кучу: „светися, светися, Новый Иерусалим". А вот
вам и не засветится!»94 При этом самое тягостное для С. Соловьева
состоит в том, что эта «обидная порода существ», чье неподлинное
христианство он отвергает, опять-таки апеллирует к святая
святых — наследию Вл. Соловьева! «И все это обидное
христианство, — сетует он, — основывается на дяде Володе, однодге которого
отпугнуло бы эту преосвященно-либеральную шайку!»95
В свете этих метаний 1904-1905 годов вполне понятен тот
грустно-покаянный тон, в каком написано — полтора десятилетия
спустя — письмо Андрею Белому, от которого Соловьев получил известие
о смерти и тяжелых последних неделях жизни Блока. Это пишет уже
зрелый человек, многое понявший и о многом передумавший,
переживший не только личную драму, но и утрату надежд на религиозное
и общественное возрождение России, человек, вернувшийся в лоно
православной церкви, принявший сан священника. Вот это
замечательное письмо: «О смерти Блока я узнал в Балашове и был сильно
потрясен и растроган. За последний год я часто о нем думал...
Вспоминая наше прошлое, я скажу так с одной стороны, мы с тобой были
бесконечно правы, когда среди общей слепоты кричали о „блокиз-
ме" — „это ужас и бред, это место проклятое". Но, с другой стороны,
мы были неправы, мы вели себя, как дети, и не стояли на достаточной
духовной высоте, чтобы успешно бороться с блоковским
демонизмом. Ведь вся ошибка многих людей и нас с тобой в юности в том, что
мы пробовали бороться со зверями вне нас, не понимая, что надо
только убить зверя в себе, что все эти извне грозящие звери только
проекция вне нас наших злых страстей. Мы бывали несправедливы
И Господа и Дьявола
Хочу прославить я...
Это стихотворение, посвященное З.Н. Гиппиус, написано Брюсовым в 1901 г.
(В. Брюсов. Стихотворения и поэмы. Л., 1961, с. 229).
93 «Литературное наследство». Т. 92. Ч. 1, с. 396-397.
94 Там же, с. 397.
95 Там же.
Глава 10 Софиология и символизм. Сергей Соловьев
389
к Блоку. Мы не верили в искренность его „снежных костров", но
теперь он доказал, что тема смерти не была для него
„литературностью". Потрясающий, многозначительный факт! Искупление,
примирение и предостережение для живых... Я не могу молиться о нем,
но мне хочется обмануть его, сказать о том свете, который в нем был.
Ему в ином мире, вероятно, трудно, хотя верно это знать нельзя»96.
Идея синтеза христианства и культуры
Может показаться, что вес эти эпизоды, запечатленные так живо
и ярко в переписке трех друзей, имеют отдаленное отношение
к философскому творчеству Владимира Соловьева. Но в
действительности они имеют к нему самое прямое отношение. Они
показывают, как жизнь идей влияет на человеческие судьбы, в
значительной степени определяя их. А в данном случае речь, как мы
видели, идет не только об одной или нескольких судьбах, — речь
идет о целом историческом периоде в духовной жизни русской
интеллигенции, который носит название Серебряного века,
или Русского Религиозного Ренессанса.
Характер этой эпохи определяется, конечно же, очень многими
и разными факторами; их еще предстоит изучать будущим
исследователям русской истории XX века. И далеко не все эти факторы
были только духовными и идеологическими. Однако именно духовное
начало играет в истории первостепенную роль, в значительной
мере определяя не только состояние умов, но и состояние экономики
и политики, общее направление социальной жизни. А творчество
такого выдающегося философа, богослова, публициста и поэта, как
Владимир Соловьев, обозначило собой целую эпоху в истории
русской мысли и русской культуры. Оно продолжает оказывать
огромное влияние и сегодня, когда мы возвращаемся к наследию русской
философии и к ее Серебряному веку в особенности. А потому и для
нас сегодня жива и актуальна та задача, которую уже в зрелые годы
поставил перед собой Сергей Михайлович Соловьев: дать отчет
в том, что же представляет собою учение и жизнь Владимира
Соловьева, тесно меж собой связанные, — ибо его теоретические
построения имели для него значение экзистенциальное.
Вопрос о характере русского духовного Возрождения всегда
волновал Сергея Соловьева-, в нем он надеялся увидеть развитым
96 ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 274.
390 Раздел IV « Новое религиозное сознание» и культура Серебряного века
и воплощенным в жизнь тот органический синтез христианства
и культуры, который предначертал в своем творчестве B.C.
Соловьев. Особенно остро этот вопрос встал перед Соловьевым-млад-
шим в период Первой мировой войны. С его точки зрения, война
являла собой противоборство христианской России и
вернувшейся к язычеству Германии. Как в свое время авторы нашумевшего
сборника «Вехи», С. Соловьев в самом начале войны выступил
против нигилистического революционаризма левой интеллигенции.
Правду патриотического подъема, охватившего широкие круги
русского общества в первые месяцы войны, Соловьев видел в
отказе от преувеличенного преклонения перед немецкой культурой,
от традиционного для радикальной интеллигенции стыда перед
всем русским, в преодолении революционного экстремизма,
выражающегося прежде всего в отрицании не только русского
государства, но и государственности как таковой: позиция
Мережковского далеко не была здесь исключением.
Однако патриотизм Соловьева не мешал ему сохранять
трезвость и ясно видеть издержки патриотических умонастроений
в России. Если в начале войны, писал он, над нашим обществом
пронеслось дыхание действительного возрождения91, то спустя
полгода патриотическое движение стало принимать «тот
стихийный, оргиастический характер, как общественное движение
1905 года. Как тогда развилось революционное хулиганство, так
теперь развивается патриотическое хулиганство, выражающееся
в разгроме немецких магазинов»98. Но главная ложь патриотизма,
по Соловьеву, не в этом: она — в отсутствии общенационального
идеала, во имя которого велась бы война и который можно было
бы противопоставить Германии с ее высокой культурой и наукой,
с одной стороны, и ее империализмом и милитаризмом, с другой.
«Борьба с Германией получит высокий смысл и мировое
значение, если Россия покажет себя в ней, как подлинная Христова Русь,
Русь любви, жертвы и подвига»99. Только христианство, только
православие есть, по Соловьеву, та высшая ценность, что может
превратить для русских войну в святое и справедливое дело.
«Россия не христианская, Россия языческая — это хуже современной
Германии, эта Россия действительно не имеет права на
существование. Германия, подобно древнему Риму, несет покоряемым на-
97 См. СМ. Соловьев. Правда и ложь современного патриотизма // Его же.
Богословские и критические очерки, с. 133.
98 Там же, с. 133-134.
99 Там же, с. 139.
Глава 10 Софиология и символизм. Сергей Соловьев
391
родам свою культуру, свои университеты и фабрики. Мы несем
нашу церковь**00.
Не удивительно, что при этом С. Соловьев осуждает
интеллигенцию, которая «любит указывать на недостатки церкви, но работать
для церкви и, следовательно, для Христа, который есть глава
церкви, она не желает»101. Именно осознание пагубности разрыва
между церковью и интеллигенцией, особенно острое во время войны,
и привело С. Соловьева к решению принять священнический сан,
что он и сделал в 1916 г. По убеждению писателя, от разрыва между
церковью и образованной частью общества, наметившегося еще
в эпоху Петра I и постоянно углублявшегося, страдают обе
стороны, а от этого — все русское общество в целом: церковь
оказывается вне культуры, а культура — вне христианства. Попытки же
соединения распавшихся частей единого организма, которые
неоднократно предпринимались в начале века, в том числе в
собраниях Религиозно-философского общества, Соловьев оценивает
как несостоятельные. «От церкви требуют, чтобы она шла за
интеллигенцией, отрекаясь от своих вечных, евангельских и
церковных основ; от интеллигенции — чтобы она отреклась от своего
европеизма»102. По мысли Соловьева, это положение изменится
только тогда, когда понятия «церковь» и «культура» не будут
противополагаться друг другу, а понятие культуры не будет
отождествляться с понятием научного и промышленного прогресса.
Именно этот путь соединения христианства и культуры, по
глубокому убеждению С. Соловьева, был указан Владимиром Соловьевым,
в творчестве которого нашли примирение вечная правда
православной церкви и великие достижения европейской
образованности. Вл. Соловьев положил начало подлинному духовному
возрождению России, но трагедия России в том, что религиозный
ренессанс XX века, исказив одни идеи В. Соловьева и отбросив
другие, пошел по ложному пути — он все больше впадает в язычество,
уподобляясь в этом смысле европейскому Возрождению XVI века103.
100 Там же, с. 137.
101 Там же.
102 Там же.
103 В Европе XVI в. «языческая старина Рима делала все более и более
завоеваний. Под видом культурного возрождения в Ватикане возрождалось язычество,
и могучий дух Ренессанса торжествовал свою победу над христианством.
Появились папы гуманисты, окружавшие себя всеми соблазнами язычества;
появились кардиналы, не читающие апостола Павла, чтобы не испортить себе
слога варварским языком; херувимы превратились в амуров: вся церковная жи-
392 Раздел IV «Новое религиозное сознание» и культура Серебряного века
Осуждение Соловьевым-младшим
католических увлечений Вл. Соловьева
Попытку дать истинное понимание творчества
Соловьева-старшего СМ. Соловьев предпринял в 1913 году в статье с
характерным названием: «Идея церкви в поэзии Владимира Соловьева».
В этой статье уже намечены контуры будущей книги. «Три
направления борются теперь за Соловьева, — писал он, — теософия,
католичество и православие. Всякое хочет выдвинуть его как своего
вождя и пророка»104.
Полностью отвергая притязания на соловьевское наследие со
стороны теософии, которую он считает возрождением
гностицизма, СМ. Соловьев, однако, полагает, что католичество имеет на
Соловьева гораздо более прав. И в самом деле, трудно отрицать
очевидный факт: во второй период своей деятельности Соловьев
предпочел католичество православию, считая церковь Св. Петра
подлинной наследницей и хранительницей христианской веры.
Теократическая утопия В. Соловьева выросла из его стремления
восстановить единство Запада и Востока под религиозным
главенством папы Римского и светской властью русского царя. Однако
в последние годы жизни, оставаясь верным идее соединения
церквей, Вл. Соловьев постепенно отходит от католичества. Это
особенно важно для С. Соловьева, и он настойчиво подчеркивает
подлинно православный дух В. Соловьева. «Перед смертью он
(B.C. Соловьев. — ПЛ) исповедовался и причастился у
православного священника, покаявшись в своем догматическом заблуждении
как в грехе... Иначе быть не могло, ибо византийское православие
было основной стихией его духа, а католичество — только
уклонением духа. Стоит ли доказывать, что Соловьеву был ближе
умозрительный дух святоотеческой философии, аскетизм отцов Фиваиды
и созерцательная любовь русского народа, чем... практический,
мирской дул: римского католичества...?»105
С Соловьев весьма критически относится к католическим
увлечениям своего дяди, хотя и признает высокую религиозную
поэзию «Теократии», которую сравнивает не только с августинов-
ским «Градом Божиим», но и с «Божественной комедией» Дан-
вопись устремилась к натурализму с нескрываемым эротическим оттенком»
(СМ. Соловьев. Богословские и критические очерки, с. 178).
104 Там же, с. 204.
105 Там же, с. 205. .
Глава 10 Софиология и символизм. Сергей Соловьев
393
те106. Не забудем, что С. Соловьев — прежде всего поэт: именно
поэтическая сторона произведения, будь то богословское сочинение,
церковная литургия или храмовая иконопись — глубоко волнует его,
задевая религиозные струны его души107. Тем не менее он признает,
что величественное здание соловьевской «Теократии» «потерпело
роковое крушение»108. И причина тому, по мысли С Соловьева, —
измена Владимира Соловьева святоотеческому преданию, которому
он был верен в других своих работах, в частности, в «Духовных
основах жизни». «...Уже в первой части Теократии, — пишет С. Соловьев, —
православный идеал незаметно подменяется идеалом католическим,
принявшим благовидную личину вселенской теократии»109.
Что же привело Вл. Соловьева к временному увлечению
католичеством? По мысли СМ. Соловьева, одна из главных причин этого —
учение о Софии. Пережив на собственном опыте искушения
«вечно-женственного» и двусмысленность «религии святой плоти»,
С. Соловьев дает достаточно трезвую оценку культа «Прекрасной
Дамы». «Спутанность в определении Софии порождает те
разнородные толки, которые замечаются среди последователей Вл.
Соловьева. Одни из них отправляются из христианско-церковного
понимания Софии, другие из гностически-теософского Ее понимания»110.
106 «...Высшего расцвета гений Соловьева достиг в его фундаментальном труде
„История и будущность теократии". В символическом толковании Библии с
оттенком платонизма Соловьев здесь непосредственно примыкает к Филону
Александрийскому. В сочетании страстного религиозного чувства с железной
мощью философско-исторических схем и построений, в понимании церкви
как развивающегося в историческом процессе Града Божия — Соловьев
является прямым наследником Августина. Что же касается художественного стиля,
то здесь Соловьев достиг неподражаемой высоты. Каждая строка этой
религиозной поэмы, подобно „Божественной комедии" Данта, вылита из чистого
золота» (там же, с. 171 ).
107 Отчасти, возможно, именно красота католического обряда, пленявшая
С. Соловьева, послужила причиной его перехода в католичество. В статье 1915 г.
«Впечатления Галиции» он пишет: «В Польше католицизм сохранился во всем
благоуханном аскетизме средневековья... Когда я попал в костел в Холме,
восторг)' моему не было границ. Сидеть в уголке, устремляя глаза в готические
своды, чуть тронутые нежными бледно-серыми красками, видеть, как на
нескольких престолах священники возносят чашу, в белых, розовых и фиолетовых
ризах, обрамленных кисеей и кружевами, под дивные звуки органа,
доносящиеся сверху, как пение незримых ангелов, — это было неописуемым
наслаждением» (там же, с. 253).
108 Там же.
109 Там же, с. 172.
110 Там же, с. 158.
394 Раздел N «Новое религиозное сознание» и культура Серебряного века
И в самом деле, София выступает у Вл. Соловьева то как душа
мира, восходящая не только к Платону и Плотину, но и к мировой воле
Шопенгауэра, которая ближе к хаосу и тьме, чем к свету и добру,
то она отождествляется с библейской Софией — Премудростью
Божией, которая принадлежит к нетварному, божественному миру
и в христианской литературе нередко сливается с божественным
Логосом — Христом. Наконец, София предстает у Вл. Соловьева как
Богородица — Пресвятая Дева, — Сергей Соловьев называет ее
«обожествленной материей, бессеменно родившей Христа Девой
и царицей Ангелов»111. Недостаточное различение у Соловьева
тварной и нетварной Софии, — души мира как потенциального
начала, которое родственно бёмевской и Шеллинговой «темной
природе» в Боге, началу падения и зла, с одной стороны, и
Премудрости Божией, носительницы божественных идей, по образцу
которых Бог сотворил мир, с другой, — приводит к тому, что лик
Софии постоянно двоится — в нем проступают то небесные, то
демонические черты. А между тем, как справедливо отмечает Сергей
Соловьев, «вся жизнь Вл. Соловьева — история его сношений с Со-
фиею. Три раза явилась она ему в зримом образе, но внутренно он
чувствовал ее приближения и отдаления постоянно. Она говорила
ему: „Ты не должен уступать своим страстям. Если ты уступишь
нечистому инстннкт>г, л не в силах буду помочь тебе". Ясно, —
заключает С. Соловьев, — что любовь Соловьева к Софии можно
понимать только в монашески-рыцарском смысле, в том смысле, как
говорят о любви к Пресвятой Деве»112.
СМ. Соловьев, как видим, стремится отсечь от софиологии
Вл. Соловьева ее оккультно-гностические моменты, придать ей
однозначно-христианский смысл — любви к Богородице и
служения Ей113. Для самого Соловьева-младшего с юных лет культ
Прекрасной Дамы был служением Деве Марии. И тем не менее, как мы
помним, этот культ и у него был окрашен эротически;
платоническая любовь к «Царице», «Богине» и у него, как и у
Соловьева-старшего, была скорее «рыцарской», чем «монашеской», в ней было
больше страстного влечения, чем это допускает христианское ре-
П1Тамже,с 159.
112 Там же, с. 160.
11 ъ «Для религиозного чувства, — пишет он, — София сливается с Богородицею,
как одна женственная ипостась Божества... В иконописи София отличается
как от Христа, так и от Богородицы. Но в богослужении она почти совершенно
сливается с Богородицею. Глава книги Соломона, посвященная Софии
Премудрости, читается как паремия, в богородичные праздники» (там же, с. 159).
Глава 10 Софиология и символизм. Сергей Соловьев
395
лигиозное чувство. Заметим, что в православной традиции
Богоматерь воспринимается прежде всего как святая и милосердная
Заступница и великая страдалица, почему в сердце верующего она
так близка к Христу.
Теперь Сергей Соловьев это специально подчеркивает, соблазн
«святого сладострастия» им преодолен. «В русском народе, —
пишет он, — почитание Богоматери не слабее, чем в католичестве,
но носит иной характер: оно является преимущественно как
почитание многострадальной матери, утоляющей печали.
Православное чувство ужаснулось бы от наименования Богородицы
„богиня". Между тем это наименование, постоянное в стихах Соловьева,
не оскорбит слух католика. Богородица Ватиканского собора
действительно богиня. Вот то тайное, то связывало Соловьева с
католичеством:
Lumen Coeli, sancta Rosa114.
Этой Sancta Rosa не находил он в московском периоде нашей
истории и потому отрицал его. В Киеве, осененном куполом
Софии, рядом с католической Польшей, он почувствовал родной
воздух»115.
Именно католический культ Мадонны, а не только расхождения
со славянофилами и критика русской действительности,
обусловил тяготение Вл. Соловьева к католичеству. Женственный облик
Божества исполняет собой и поэзию В. Соловьева: в его стихах
Христа почти никогда нет116. Образ женской красоты определяет
собой религиозное сознание Соловьева и соловьевцев, которые
тем самым сближаются с особым течением в католической
церкви — марианизмом, получившим распространение в XIX в.
«Русская софиология вполне может рассматриваться как параллель
к тому течению в католицизме, которое обнаружилось в идеях
Maria Immaculata, Maria Assumpta, Maria Ecclesia. Эти идеи суть мо-
114 Свет небес, святая Роза (лат.). Строка из пушкинского стихотворения «Жил
на свете рыцарь бедный», любимого и старшим, и младшим Соловьевыми и,
быть может, даже пророческого по отношению к В. Соловьеву-софиологу.
115 СМ.Соловьев. Богословские и критические очерки, с. 186.
116 Невольно вспоминается пушкинский «Рыцарь бедный»:
Несть мольбы Отцу, ни Сыну,
Ни святому духу ввек
Не случилось паладину,
Странный был он человек.
396 Раздел N «Новое религиозное сознание» и культура Серебряного века
дусы более общего представления о Марии-Софии, которые,
насколько мы можем об этом судить, практически „легализованы"
современной католической церковью»117, — пишет Н.К. Бонецкая,
показывая также близость русского софианизма с антропософией
и масонством118.
Отход В. Соловьева от православной церкви СМ. Соловьев
теперь осуждает. По его мнению, философ в 80-е годы слишком
отдалился от той народной православной веры, которая на
протяжении многих веков — вплоть до петровских реформ — единила
все сословия в Российском государстве и составляла духовную
основу народной жизни. С. Соловьев понимает источник ненависти
к латинству, что была характерна для русских людей; он видит
в ней не плод невежества и суеверия, а глубоко христианский
инстинкт, чующий языческое обмирщение римской церкви. «Думая,
что он борется только с официальной церковью, с
обер-прокурором святейшего Синода, Соловьев действительно боролся с
вековой верой русского народа, имевшей своих мучеников и
исповедников. Боролся он и с подвижниками Афона, перед религиозным
авторитетом которых преклонялся»119. СМ. Соловьев доказывает,
что основа русского православия — чисто византийская и
святоотеческая, хотя Россия и внесла новый дух в православие, заменив
догматическую глубину богословия новым чувством природы,
духом любви и милосердия, что больше соответствовало
национальному характеру славянства. Не принимает он в этот период
и той критики византизма, которую Вл. Соловьев дал в своей
статье «Византизм и Россия»; по его мнению, говорить о «грехах
византизма» справедливо лишь по отношению к политическому
византизму, который необходимо отличать от византизма
культурно-религиозного: именно через последний Россия приобщи-
117 Н.К. Бонецкая. Русская софиология и антропософия // Вопросы
философии, 1995, № 7, с. 97. См. также: А. Раух. Почитание Божией Матери на Востоке и
на Западе // Тысячелетие почитания Пресвятой Богородицы на Руси и в
Германии. Мюнхен-Цюрих-Регенсбург-Москва, 1990.
118 «Назвав свою путеводительницу Софией, направив русскую философию
в сторону искания „божественной мудрости", Соловьев, в сущности,
перебросил мост традиции в рубеж XVIII-XIX вв.: прецедент софиологии в истории
русской культуры — это идеология масонства XVIII в. вместе с мистическими
исканиями эпохи Александра I» (Н.К. Бонецкая. Цит. соч., с. 82). О близости со-
фианства к идеям масонов и особенно розенкрейцеров см. также статью Г. Граб-
бе, написанную в 1927 г.: «Корни церковной смуты* // Г. Граббе. Сборник статей.
М., 1995.
119 СМ. Соловьев. Богословские и критические очерки, с. 180-181.
Глава 10 Софиология и символизм. Сергей Соловьев 397
лась не только к христианству, но и к античному эллинизму, а тем
самым к античной культуре. А значит, византизм, вопреки точке
зрения Вл. Соловьева, не был темной силой, отделившей Россию
от культуры Запада.
Софиология Вл. Соловьева: pro и contra
Но если сближение Вл. Соловьева с католицизмом его племянник
не одобряет120, то куда более сурово осуждает он гностические
мотивы софиологии, особенно внимательно рассмотренные им
в книге о Вл. Соловьеве. Восходящее к гностикам учение о Софии
как падшей душе мира нашло свое выражение, пишет С Соловьев,
в отношении Вл. Соловьева к женщине: от отождествляет ее с
богиней падшей, а потому несущей в себе начало тьмы и зла121.
Представление о женщине как существе бессознательном, которое надо
спасать от нее самой, Соловьев-младший отвергает как
нехристианское. Для христианина, говорит он, любовь — это
взаимодействие двух духовно-нравственных сил, в то время как «при
понимании Вл. Соловьева женщине отводится слишком низкое место,
она — только материальное существо, способное к одухотворению.
Вся же духовно-нравственная сила полагается в мужчине»122.
120 Не только у Вл. Соловьева, но и в католической церкви видит СМ. Соловьев
тенденцию к освящению греховного, природного в человеке: этот общий
момент как раз содействовал, по его убеждению, сближению русского философа
с католицизмом. «...Переоценка материального, природного начала, попытка
сочетать „злую страсть" со „светлой любовью" разрушила личную жизнь
Соловьева. Но что же такое католичество, как не та же самая попытка обмирщения
религиозного идеала, забвение аскетической основы апостольского и
святоотеческого предания и понимание Царствия Божия как земной теократии?
Обожествление греховного человечества в лице римского первосвященника и
обожествление греховной природы в чувственном мистическом культе?»
(СМ. Соловьев. Богословские и критические очерки, с. 172).
121 Любопытна критика, которой подвергает С. Соловьев гностическое
понимание Софии у В. Соловьева, приведшее его к ложному отношению к женщине.
Символом падшей Софии, пишет С Соловьев, ♦является для Соловьева душа
любимой женщины. Женщина для Соловьева — не высшее нравственно-духовное
существо, не символ вечной Софии, как была Беатриче для Данта, а существо
низшее, материальное, двойственное и потому лживое. Отношение поэта к
женщине не есть служение, а подвиг, трудная мистическая задача спасения и
ограждения любимой души от телесных сил, даже вопреки ее воле, ибо женщина, как
существо бессознательное, равно стремится ко злу и добру» (там же, с. 161 ).
122 Там же.
398 Раздел IV «Новое религиозное сознание» и культура Серебряного века
Думается, однако, что в своей критике гностических мотивов
соловьевской софиологии СМ. Соловьев высказал лишь часть
правды. По его мнению, Вл. Соловьев слишком принижает
женщину, у него полностью отсутствует завещанная нам Пушкиным
и Тургеневым «идея женщины как духовно-нравственного
существа, возвышающего до себя мужчину»123. На мой взгляд, гностицизм
Соловьева выразился в крайне двойственном отношении его
к женственному началу: с одной стороны, он способен видеть
в смертной, земной женщине воплощение вечной божественной
Софии, тем самым возводя ее на недосягаемую высоту, на которой
не может удержаться существо конечное и тварное: отсюда и все
те мучительные любовные коллизии, которые всю жизнь
сопровождали Вл. Соловьева. Но, с другой стороны, женщина
отождествляется им с Софией падшей, т. е. существом бессознательным,
которое не способно своими силами преодолеть злого начала в себе,
поскольку стоит как бы по ту сторону добра и зла. Как прекрасно
показал СМ. Соловьев в книге о Вл. Соловьеве, последний видел
себя Спасителем «Вечной Женственности» — жрецом и
возлюбленным Великой Богини.
В книге о Вл. Соловьеве его племянник излагает содержание
рукописи «Sophia», где молодой В. Соловьев в виде диалога между
философом и Софией дал набросок первой своей теософской
системы, которой возвестил новую — вселенскую — религию, идущую
на смену одряхлевшему христианству124. Отношение этой новой
религии к христианству Соловьев поясняет таю «Вселенская
религия есть плод великого древа, корни которого образованы
первоначальным христианством и религией средних веков.
Современные католицизм и протестантизм — это иссохшие и бесплодные
ветви, которые время срезать. Если ты называешь христианством
все дерево, тогда вселенская религия, без сомнения, только
последний плод христианства... Но если ты даешь это имя только корням
и стволу, тогда вселенская религия не есть христианство...»125
София — Божество этой новой вселенской религии. Свое
теоретическое воплощение она нашла в развитии новоевропейской
теософии (Бёме, Сведенборга, Шеллинга), которая, в отличие от
античной философии объективного Логоса, есть философия
субъективной Души, вечного женственного начала мира. Поэтому и дух
вселенской религии — это дух эротической любви, которую Соло-
123 Там же.
124 СМ. Соловьев. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева, с. 131.
125 Там же, с. 132.
Глава 10 Софиология и символизм. Сергей Соловьев
399
вьев считал наиболее высокой и совершенной формой любви, в
отличие от братской любви, агапэ, возвещенной Христом. СМ.
Соловьев подробно излагает программу устройства вселенской Церкви.
«Всякое существо находится в отношении любви к двум существам:
к одному, более совершенному, чем он, которого он любит любовью
восходящей, и к одному, менее совершенному, которого он любит
любовью нисходящей. ...Предметы любви нисходящей всегда более
многочисленны, чем предметы любви восходящей. Единственный
предмет этой последней есть София. Она находится в
непосредственных отношениях с избранниками человечества (необходимо
мужчинами, так как она женщина), которые любят ее любовью
восходящей и любимы ею любовью нисходящей. Эти, в свою очередь,
находятся в непосредственном отношении с большим количеством
индивидуумов (необходимо женских), которыми они любимы
любовью восходящей и которых они любят любовью нисходящей, эти,
в свою очередь, являются предметом восходящей любви для
множества других мужских индивидуумов и т. д. Среди избранников
первого ряда один находится в наиболее интимных отношениях с
Софией и является великим первосвященником человечества. Второй
ряд, состоящий из женщин, образует первый совет. Затем идет
третий ряд (второй мужской ряд), который дает священников второй
степени или митрополитов вселенской церкви. Третий ряд
(мужской) — архиепископы, 4-й — епископы, 5-й — деканы, 6-й —
священники в собственном смысле, 7-й — дьяконы, 8-й — верующие,
9-й — оглашенные, 10-й — начинающие»126.
Таким образом, именно сакральноелюбовничество составляет
основу новой «церковной» иерархии; высшую любовную пару
представляет сама София и Возлюбленный — великий
первосвященник человечества, в роли которого двадцатитрехлетний
Соловьев видит самого себя: не случайно его статьи в рукописи «София»,
по свидетельству племянника, прерываются медиумическими
письмами (Соловьев в то время увлекался спиритизмом) вроде
следующего: «Думай обо мне. Я рожусь в апреле 1878. СофЕа»127.
Естественно, что брак и семья представляются молодому жрецу
Софии низшей ступенью религиозно-социальной лестницы —
представление, сохранившееся у него до конца жизни и вновь
обоснованное в поздней работе «Смысл любви». Напротив,
«нисходящая любовь» к множеству женских индивидуумов вменяется
«первосвященику человечества» в обязанность: только таким пу-
Тамже,в. 143.
Там же, с. 144.
400 Раздел N «Новое религиозное сознание* и культура Серебряного века
тем эти избранницы становятся, в свою очередь, жрицами нового
культа, любя «первого жреца» восходящей любовью и
соответственно других мужчин — нисходящей и т. д.
Но в этом произведении Соловьев предстает не просто как
своего рода космический Дон Жуан; подлинный эрос объявляется
платоническим и противопоставляется любви плотской. Последняя,
с точки зрения Соловьева, несет в себе начало зла и смерти,
которое не преодолевается даже и в христианском браке, освящающем
половую любовь, полагая ей таким образом границу и тем самым
вводя смягченную форму аскетизма. Соловьев считает, что
христианство таким путем принимает сакральное значение эроса.
Теперь нам должно быть понятнее, почему Соловьев-младший
всегда так горячо отстаивал религиозный, спасительный смысл
таинства брака. В его глазах семья, супружеская любовь и взаимная
привязанность детей и родителей — это высокие и святые чувства.
Трактат «София», как отмечает Сергей Соловьев, «представляя из
себя первый набросок будущей системы Соловьева... заключает
в себе некоторые положения, которые Соловьев отстаивал всю
жизнь»128. Правда, позднее, в частности в «Теократии», «вселенская
религия» сливается с историческим христианством, и роль
первосвященника здесь отдана папе Римскому, а себя самого философ
скорее видит в роли пророка — третьего лица в будущем
теократическом государстве.
После прочтения «Софии» становится яснее сакральный смысл
романтических увлечений Вл. Соловьева, подробно описанных
в книге его племянника, которые доставляли философу немало
страданий и заканчивались, как правило, горьким разочарованием.
Обожествление единичного смертного существа, так же как
и его демонизация, является результатом снятия границы между
миром божественным и тварным, которое составляет самый
слабый пункт соловьевского учения о всеединстве и связано с его
уклоном в пантеизм.
Нельзя в этой связи не сказать о том, что сам философ порою
ощущал «игровой» характер такого рода «отождествлений», —
отсюда его шуточные стихи, где он, к недоумению и досаде его почи-
тателей-«прерафаэлитов», довольно грубо пародировал и
Прекрасную Даму, Лилию и Розу, и ее Рыцаря129. Но самую злую
128 Там же, с. 145.
129 В книге о В. Соловьеве Соловьев-младший приводит примеры такого рода
пародий и самопародий. Особенно характерна в этом отношении комедия
В. Соловьева «Белая лилия» (второе ее название — «Сон в ночь на Покрова*).
Глава IО Софиология и символизм. Сергей Соловьев
401
пародию на соловьевскую Софию преподнесла философу сама
жизнь: в лице печально известной Анны Шмидт он встретил
женщину, убежденную в том, что она-то и есть земное воплощение
Прекрасной Дамы, а Вл. Соловьев — новое воплощение Иисуса
Христа, ее Возлюбленный жених130.
Теперь-то Сергею Соловьеву ясно, что софиология дала повод
к соблазнам декадентства и «нового религиозного сознания»
Мережковского. О «религии святой плоти» он теперь судит совсем не
так, как в годы юности. Он стремится отделить христианскую веру
в обожение плоти в грядущем царстве Божием от ее гностических
искажений. «Если во Христе обожествляется плоть и занимает
место одесную Отца, то этим не обожествляется закон плоти,
который есть закон греха. Эта растленная грехом плоть не наследует
царствия Божия»131. Союз Христа и Церкви, подчеркивает Сергей
Соловьев, не может быть основан на началах стихийной страсти,
эротической влюбленности, которые проникают собою
отношения Софии и Логоса в гностицизме. А потому, заключает Соловьев-
младший, «не может быть и речи об освящении страсти»132. В конце
жизни, подчеркивает он, к этому же выводу пришел и Вл. Соловьев,
отвергнув соблазны оккультизма и вернувшись в церковь. Однако
ложный мистицизм был той темной силой, которая, хотя и вре-
«Это очень странная пьеса, — пишет С. Соловьев. — Шутки самые грубые,
развязные и иногда циничные, крайняя нелепость и чепуха переплетаются в ней с
той же мистикой Софии. Здесь доведена до пес plus ultra известная „ирония"
немецких романтиков... Пролог весь проникнут каббалистическими и шеллин-
гианскими идеями, остро гностичен и показывает, что к концу 70-х годов
Соловьев не освободился вполне оттого настроения, в котором писалась соррен-
тийская „София", когда даже свободные мистики Бёме и Сведенборг были для
него представителями „старого христианства"» (там же, с. 175-176).
130 См. там же, с. 399-401. Этот эпизод в последний период жизни B.C.
Соловьева, один из самых, надо думать, тягостных для его племянника, он, однако, не
обходит своим вниманием, цитирует рукопись А.Н. Шмидт, принимавшей
Соловьева за Христа, «вторично воплотившегося на земле в 1853 году человеческим
естеством, божеское же естество вторично принявшего в 1876 г. при видении
Церкви в Египте (имеется в виду видении Софии, описанное Соловьевым в „Трех
свиданиях". — ПГ), и скоро грядущего судить живых и мертвых. Его же
царствию не будет конца» (там же, с. 400). Для верующего христианина, священника
С. Соловьева эти слова звучат страшным кощунством. «Представить Соловьева,
слушающего всерьез подобные варианты никейского символа, я отказываюсь»
(там же). «Третий завет» Анны Шмидт, пишет Соловьев, «стар, как все
произведения подобного рода, представляя амальгаму из гностиков и каббалы» (там же).
131 СМ. Соловьев. Богословские и критические очерки, с. 163.
132 Там же, с. 167.
402 Раздел IV «Новое религиозное сознание» и культура Серебряного века
менно, но все же отняла В. Соловьева от родной земли и церкви;
она же разбила и его личную жизнь133. И даже в последние годы он
отдает дань гностической мистике, когда пишет статью «Смысл
любви», которую его племянник теперь, не обинуясь, называет
«единственным нехристианским сочинением Соловьева»134.
Трагический опыт не прошел для СМ. Соловьева даром: некогда
воспевавший Божественный Эрос, теперь он обличает его «гнилую
и черную суть»135, которая, по его словам, заразила и Вл. Соловьева,
но от которой он освободился в последний период перед смертью.
Вот как в 1913 году выглядит в глазах Соловьева-младшего
жизненный путь Владимира Соловьева: «От полноты православной истины
он переходит к католическому идеалу земной теократии;
разочаровавшись в этом идеале, он временно становится как бы вне церкви,
ибо идея церкви слишком долго сливалась для него с идеей
соединения церквей. Крушение одной идеи привело к крушению другой.
Сняв с себя церковные узы, Соловьев стал жертвой своей
мистической свободы, и был увлечен магическим вихрем. Разбитый этим
вихрем, он смиренно приходит к тесным вратам святоотеческого
аскетизма. Но он уже не может отдать церкви растраченный пыл своей
юности, от живого церковного дела Августина и Златоуста он
временно удаляется в аскетическое созерцание Исаака Сирина»136.
В сущности, это уже и есть схема той книги, которую написал
С. Соловьев о философе спустя 10 лет и которая была его
лебединой песнью.
В этой книге мы находим не только наиболее полную
биографию философа, где прекрасно показано, что история жизни
Вл. Соловьева представляет для русской мысли и культуры не
меньший интерес, чем его творения, смысл которых вполне
раскрывается только в контексте его экзистенциальных исканий. Мы
находим здесь и духовный самоотчет его преданного ученика, который
тем важнее и значительнее, что выходит за рамки личной судьбы
автора и предстает в определенном смысле как самоотчет русской
интеллигенции в переломную эпоху истории. В книге перед
нами — попытка ответить на вопрос о значении и исторической ро-
133 См. там же, с. 176. «Никакая земная страсть не могла увлечь Соловьева, если
не являлась ему окутанная ложным, но лучезарным светом мистики. Без этого
озарения он не мог пасть со своей духовной высоты, но под чарами
мистического Эроса он временно обессилел» (там же, с. 90).
134 Там же, с. 191.
135 Там же.
136 Там же, с. 193-
Глава 10 Софиология и символизм. Сергей Соловьев
403
ли человека, стремившегося к духовному обновлению России, —
философа, пророка, поэта, общественного и религиозного
реформатора, жившего в преддверии нового смутного времени и с
ощущением близящейся катастрофы. А его духовный ученик,
переживший две революции и гражданскую войну, был свидетелем этой
катастрофы и имел возможность осмыслить происшедшее. В
книге он, в сущности, ставит вопрос: какова была историческая
миссия выдающегося русского мыслителя, в чем ее спасительность,
а в чем — двусмысленность и соблазн?
Книга СМ. Соловьева исполнена непосредственных личных
впечатлений и согрета любовью к близкому и родному — не
только по крови, но и по духу — человеку. Но это не мешает автору
достаточно трезво осмыслить творческий и жизненный путь
философа. Эта трезвость — как раз плод того жизненного опыта
и глубоких раздумий, которые отделяют зрелого
Соловьева-мыслителя 20-х годов от молодого мечтателя-поэта первого
десятилетия нашего века. Трезвость эта выстрадана автором: не случайно
он замечает, что вырабатывал свое мировоззрение «не только под
влиянием Соловьева, но и в упорной мучительной борьбе с ним»137.
Историческая задача, которую взял на себя Вл. Соловьев и
значение которой невозможно переоценить, — это, по убеждению
Соловьева-младшего, соединение христианства, каким его сохранила
церковь, со всем богатством культуры, как западной, так и
восточной. Смысл своей собственной деятельности СМ. Соловьев видел
в том, чтобы продолжить дело, начатое Владимиром Соловьевым.
Остановить пагубный процесс языческого перерождения
русской культуры, превратить его в Возрождение христианское —
в этом пафос всей деятельности СМ. Соловьева как поэта,
литературного критика и богослова. В деле христианского возрождения
русской культуры, как, впрочем, и мировой, Владимиру Соловьеву,
как убежден Соловьев-младший, принадлежит ведущая роль.
Но чтобы эта историческая задача действительно получила свое
осуществление, необходимо дать адекватное освещение делу всей
его жизни, правильно расставить акценты, отделить главное и
истинное от второстепенного и наносного, от тех временных
увлечений философа, которые порой сбивали его с правильного пути
и дали повод его многочисленным последователям, с одной
стороны, и несправедливым критикам, с другой, исказить смысл его идей.
Вот эту-то нелегкую задачу и взял на себя С Соловьев, ее
выполнению как раз и посвящена его книга «Жизнь и творческая эволю-
137 СМ. Соловьев. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева, с. 23.
404 Раздел IV ♦Новое религиозное сознание» и культура Серебряного века
ция Владимира Соловьева». Снять с философа — насколько это
возможно — обвинение в мистической эротике и языческой
теософии, показать подлинно христианское содержание его учения
в целом и его софиологии, в частности, — вот в чем видел цель
своей работы о Вл. Соловьеве его пламенный последователь.
С. Соловьев так определяет свою позицию: «Мы всегда держались
того мнения, что нам неинтересны романтические и оккультные
эпизоды жизни Соловьева, решающим является его собственный
взгляд на его призвание и дело. Нельзя, подобно Мережковскому,
утверждать, что настоящий, „интересный" для нас Соловьев был
только немым пророком, а фундаментальные труды его жизни —
только маска, обращенная к людям. Соловьев по природе был
прежде всего философом... Построение всеобъемлющей,
синтетической системы знания навсегда осталось его основным
устремлением»138. Именно фундаментальные философские труды B.C.
Соловьева, к которым автор книги относит «Критику отвлеченных
начал», «Историю и будущность теократии», «Духовные основы
жизни» и «Оправдание добра», составляют самое главное и самое
ценное в его наследии.
Нельзя не согласиться здесь с автором книги. В самом деле,
при всем многообразии его дарований Владимир Соловьев был
прежде всего выдающимся философом и делом своей жизни
считал создание «свободной теософии», или цельного знания,
которое могло бы соединить в гармоническом синтезе религию,
философию и науку.
Защищая учение Вл. Соловьева от несправедливой, по его
убеждению, критики со стороны самых разных философов и богословов,
а главное, от искажающих его интерпретаций, СМ. Соловьев,
однако, не теряет при этом, как мы могли убедиться, трезвой
объективности в подходе как к биографическим фактам, так и к творчеству
философа. К некоторым сторонам деятельности и личности Вл.
Соловьева его племянник относится достаточно критически. Он не
только не обходит своим вниманием оккультные и романтические
увлечения философа, все то, что он называет «его чудачествами
и шутками», иногда весьма сомнительного свойства, но и посвящает
самый большой раздел книги анализу истоков и содержания соло-
вьевской софиологии, отделяя в ней христианские мотивы от
гностических или оккультных. Именно в книге СМ. Соловьева мы
находим богатый и прежде мало известный материал по вопросу
о гностико-каббалистических корнях софиологии Вл. Соловьева.
138 Там же, с. 27.
Глава 10 Софиология и символизм. Сергей Соловьев 405
В целом книга о Вл. Соловьеве написана автором в том же духе,
что и его более ранняя статья, но некоторые акценты в биографии
философа чуть-чуть смещены. Это касается прежде всего увлечения
B.C. Соловьева католицизмом, которое в 1913 г. Соловьев-младший
оценивал достаточно критически. Теперь он с большим
сочувствием относится к этому увлечению: вероятно, тут сказалось изменение
его собственных настроений как раз в 20-х годах. И к последнему
периоду творчества Вл. Соловьева он относится критичнее, чем
прежде, полемизируя здесь с E.H. Трубецким, который, по его
словам, «мало обратил внимания и на те отрицательные стороны,
которыми отмечен последний период Соловьева и которых не было
в 80-х годах»139. Не все приемлемо для СМ. Соловьева в одном из
последних сочинений философа — «Трех разговорах» (1899); он не
разделяет, в частности, германофильства Вл. Соловьева140. В свете
Первой мировой войны, когда С. Соловьев активно выступал в
защиту «святой Руси» и осуждал германское «неоязычество», такая
позиция Соловьева-старшего, называвшего к тому же разные
славянские комитеты «вредными пустяками», воспринимается его
племянником как предательство национальных интересов141.
Однако эти не столь уж значительные новые акценты мало
повлияли на общее отношение автора к Вл. Соловьеву, которое на
протяжении всей его жизни оставалось в самом существенном
неизменным: творчество Вл. Соловьева, по убеждению его
племянника, было самой крупной вехой на пути к христианскому
возрождению России. Отделяя в наследии Соловьева его христианское
содержание от романтических и теософско-гностических
привнесений, Сергей Соловьев стремится и в его личности отделить
подлинное и главное от наносного и второстепенного: странник-
монах, чьи помыслы направлены не на житейское попечение, а на
служение Богу и ближнему, — таким хотел бы видеть облик
философа Соловьев-младший. Не желая, однако, заменить реальный
портрет В. Соловьева его идеализацией, он
реалистически-объективно описывает и все те эпизоды в жизни своего героя, которые
139 Там же, с. 384.
140 «Он (Вл. Соловьев. — ПГ.) не сочувствовал сепаративным стремлениям
славянских народов освободиться от более культурных Австрии и Германии,
стремлению буров к независимости от более культурной Англии. Национальным
стремлениям народов противополагал он единство европейской культуры при
гегемонии передовых и могучих наций Германии и Англии» (там же, с. 387).
141 Характерная деталь. Уже очень больной, СМ. Соловьев, по рассказу его
дочери, в начале Второй мировой войны «с удивлением говорил мне: „Ты знаешь, я
чувствую взрыв патриотизма"» (Н.С. Соловьева. Штрихи к портрету отца, с. 34).
406 Раздел IV «Новое религиозное сознание» и культура Серебряного века
этот светлый облик искажали и затемняли. Более того, он
показывает подлинный источник этого темного начала, который он сам
разглядел лишь в зрелые годы. И в этом — особый интерес его
книги. Раздвоенность Вл. Соловьева как мыслителя и человека в книге
его племянника предстает, на мой взгляд, ярче и драматичнее, чем
где-либо еще: любовь здесь есть начало познания. «Мне дорог в
Соловьеве не фантаст и романтик, не автор каламбуров и Дон Жуан
великосветских салонов и не профессор философии. Мне дорог
добрый человек, любивший нищих, голубей и белые
колокольчики Пустыньки. Мне дорог человек, празднословный и лукавый язык
которого был вырван Серафимом и заменен мудрым жалом змеи...
Много празднословил язык Соловьева, особенно когда на это
празднословие являлся жадный спрос, но не из трепетного сердца
вышли „Духовные основы жизни" и „История теократии"...»142
Такими словами заканчивает свою книгу Сергей Михайлович
Соловьев. Этими словами, в которых выразилось чувство глубокой
сердечной любви автора к своему герою, закончим и мы.
СМ. Соловьев. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева, с. 408.
РазделУ
Призыв к трезвости.
Самокритика русской
интеллигенции
Глава 11
♦Вехи»: Неуслышанное предостережение*
Сборнику «Вехи», выпущенному в свет весной 1909 года, суждена
была удивительная судьба. Посвященный русской интеллигенции,
сборник был встречен ею почти единодушной резкой критикой,
нередко переходившей в поношение и брань. В течение
нескольких месяцев вся периодическая печать России — и газеты, и
журналы — помещала на своих страницах возмущенные отклики на
«Вехи»; число их вскоре превысило сотню, но рецензии, в которых
делалась попытка вникнуть в аргументацию авторов и дать ее
предметную критику, составляли ничтожное меньшинство. Среди
положительных откликов можно назвать статьи E.H. Трубецкого,
В.В. Розанова, А. Белого.
Одним словом, появление «Вех» вызвало общественный
скандал. За первым изданием в мае 1909 года последовало второе; в
целом книга выдержала несколько изданий. Сила общественного
резонанса свидетельствовала о том, что авторы затронули очень
важную тему — и затронули глубоко. Предметом анализа оказалась
система ценностей и идеалов, которыми жила русская
интеллигенция на протяжении более полувека и ложность которых вела ее
по гибельному пути: гибельному не только для самой
интеллигенции, но и для страны в целом. Авторы сборника звали
интеллигенцию задуматься над этим и предотвратить беду — пока еще не
поздно. Однако зов не был услышан.
В. Гарденин в статье «„Вехи" как знамение времени» писал:
«Начатый „Вехами" поход представляется чем-то вроде шествия
средневековых флагеллантов, религиозно-мистической эпидемии
публичного самобичевания. На площадь высыпала небольшая
группа лиц. Они бьют себя кулаками в грудь, исповедуются перед
толпою в грехах, называют себя нравственными калеками, урода-
* Впервые глава была опубликована в журнале «Вопросы философии», 1992,
№ 2. В текст внесены некоторые изменения.
410 Раздел V Призыв к трезвости. Самокритика русской интеллигенции
ми, псами смердящими, блудливыми и проказливыми... У всех на
устах имя Бога, а в руках — бичи, больно врезающиеся в
собственное тело кающихся...»1
Левый публицист Н. Иорданский в «Новом времени» от 27
апреля с авторами «Вех» совсем не церемонится. «Московские „Вехи"
и никого не спасут, и никому не укажут даже дороги ко спасению.
Православие и атеизм, славянофильство и западничество,
мистика и буржуазная расчетливость спутываются в них безнадежным
клубком, который, как клубок ведьмы в русских сказках, способен
завести только в лихое место... Авторы не свели концов с концами...
Их связал в уродливый узел дух злобы против русской
интеллигенции... Они соединились только для совместного разрушения
старых ценностей русской интеллигенции. Это — боевой
политический союз, в котором не разбирают средств...»2
Едва ли не больше всех досталось П.Б. Струве, в котором — и не
без основания — видели политического лидера «Вех» и который
действительно занял самую непримиримую позицию по
отношению к леворадикальной интеллигенции. В каком тоне шел
«разнос» авторов «Вех», можно судить, например, по статье М. Бикер-
мана «Отщепенцы в квадрате»: «Самая дешевая капуста имела бы
еще большую цену, чем последние писания г. Струве, пустые,
сумбурные, неприличные, попросту дрянные»3.
Вот еще образчик критики, в которой нет ни малейшего желания
задуматься над содержанием книги: все в ней сказанное
отвергается с порога. «Испуг, испуг и только испуг глядит с каждой страницы
этого сборника... Деление России на народ и интеллигенцию,
унаследованное нами от глубокой древности (не совсем ясно, что
имеет в виду автор. — ПТ.), совершенно не основательно. Теперь этой
пропасти нет. Народ стал интеллигенцией, интеллигенция влилась
в народ. Конечно, настоящая, подлинная интеллигенция. Вне
слияния осталась кучка мнимых, мнящих себя истинными
интеллигентами людей. Это трусливая, пугливая кучка, которая привыкла
бегать только за колесницей триумфатора, кто бы этот триумфатор
ни был. Бегут из страха, в надежде, что тут они найдут те
футлярчики, в которых им будет хорошо и спокойно...»4
1 Цит. по одноименному сборнику «„Вехи" как знамение времени». М., 1910, с. 4.
2 Н. Иорданский. Творцы нового шума // Цит. по сб. *В защиту интеллигенции».
М., 1909, с. 34-35.
3 Цит. по сб. «В защиту интеллигенции», с. 48.
4 В. Боцяновский. Нечто о трусливом интеллигенте // В защиту интеллигенции,
с. 151.
Глава 11 «Вехи»: Неуслышанное предостережение
411
«Реакционный сборник» — гласил приговор общественного
мнения. Д.И. Шаховской, Д.С Мережковский, Д.В. Философов, П. Бобо-
рыкин, Д. Валентинов, как и подавляющее большинство других
публицистов, увидели в сборнике показатель общественной реакции,
которая, по словам Шаховского, «во много раз страшнее всяких
внешних репрессий»5. Охарактеризовав «Вехи » как «энциклопедию
либерального ренегатства», В.И. Ленин оценил книгу как «войну
кадетов против демократического движения масс», «сплошной поток
реакционных помоев, вылитых на демократию»6. Суд над авторами
был единодушным, и приговор безапелляционным. Характерны уже
заголовки статей: «Подгнившие „Вехи"», «Отщепенцы в квадрате»,
«Антихристово наваждение», «Мемуары унтер-офицерской вдовы»,
«Черносотенные „Вехи"» и т. д. в том же духе.
Вскоре после выхода сборника, 14 апреля 1909 г. в Москве на
заседании исторической комиссии учебного отдела
распространения технических знаний с резкой критикой сборника выступили
СП. Мельгунов, В.П. Потемкин, гр. П.М. Толстой и другие. Ораторы
с возмущением говорили, что от сборника отдает «нестерпимым
зловонием реакции», что он есть «игра в руку врагов», что он
клевещет на революционную молодежь и т. п. В итоге собравшиеся
пришли к заключению, что русской интеллигенции не в чем каяться,
не нужно менять своих идеалов и отступаться от своих
требований. 21 апреля в Петербурге в Религиозно-философском
обществе тоже обсуждались «Вехи». Докладчиками были Д.С.
Мережковский и Д.В. Философов. И тут от сборника не оставили камня на
камне. Особенно интересны и показательны были аргументы
Мережковского — к ним мы еще вернемся ниже.
Нельзя не отметить, что против «Вех» выступили не только
революционеры и левые радикалы, не только эсеры и
социал-демократы: сборником были возмущены и более умеренные,
либеральные круги. С. Франк вспоминает, что лидер партии кадетов
П.Н. Милюков совершил лекционное турне по России, чтобы
перед большими аудиториями громить «Вехи».
Что же вызвало такой гнев и раздражение среди радикальной
русской интеллигенции? Что представлял собой сборник «Вехи»?
Прежде всего — об авторах. Ими были H.A. Бердяев, С.Н.
Булгаков, М.О. Гершензон, A.C. Изгоев, Б.А. Кистяковский, П.Б. Струве
и СЛ. Франк. По своей политической ориентации они были либе-
5 ♦Голос» (ежедневная газета, издававшаяся в Ярославле Н.П. Дружининым и
К.Ф. Некрасовым), № 32 от 17 апреля 1909 г.
6 Газета «Новый день», № 5 от 13 декабря 1909 г.
412 Раздел V Призыв к трезвости. Самокритика русской интеллигенции
ралами. П.Б. Струве — один из создателей и лидеров кадетской
партии; как и Булгаков, он был депутатом Второй Государственной
Думы, от кадетов; A.C. Изгоев (псевдоним A.C. Ланде) — близкий
к Струве публицист и деятель кадетской партии; Франк и Кистя-
ковский тоже были близки к кадетам по своим
социально-политическим воззрениям7. Некоторые из «веховцев» в прошлом
пережили увлечение марксизмом: Струве, Булгаков, Бердяев. Последний
был одним из наиболее радикальных среди авторов сборника,
впоследствии он вернулся к своим революционным воззрениям8.
Наиболее активным политическим деятелем среди авторов
сборника был П.Б. Струве, и не случайно критики «Вех» ополчились
на него с наибольшей яростью. Будучи в молодости одним из
представителей так называемого легального марксизма в России,
Струве написал Манифест I съезда РСДРП. Эмигрировав в 1901 г. в
Германию, он организовал еженедельник «Освобождение», вокруг
которого сформировался «Союз освобождения», основа будущей
конституционно-демократической партии, членом ЦК которой
был Струве. В 1905 г. он возвратился в Россию. В 1907 г. был избран
членом Второй Государственной Думы. Редактор ряда журналов
либерального направления — сначала «Освобождения», затем
«Полярной звезды», «Русской мысли», «Русской свободы», Струве в то же
время занимался научными исследованиями, выступая как
экономист, историк политической экономии, правовед, философ.
Общим делом, собравшим авторов под одну обложку, была
критика мировоззрения русской леворадикальной интеллигенции.
Некоторые из них уже в 1902 году выступили, в сущности, с той же
темой в сборнике «Проблемы идеализма»: Н. Бердяев, С. Булгаков,
П. Струве и С. Франк. Они подвергли критике материализм и
позитивизм, господствовавшие среди революционной интеллигенции
начиная с 60-х годов, в том числе и собственные ошибки (Струве).
Однако направленность сборника «Проблемы идеализма» была
в основном теоретической, тогда как «Вехи» имели также
практически-политический акцент, что и вызвало взрыв
общественного негодования. Сами авторы по своим взглядам были не вполне
едины. Как отмечал в кратком предисловии к сборнику М. Гершен-
7 По словам В.В. Розанова, авторы сборника — «все бывшие радикалы, почти
эсдеки... когда-то деятели и ораторы шумных митингов (Булгаков), вожди кадетов
(Струве), позитивисты и марксисты не только в статьях журнальных, но и в
действии, в фактической борьбе с правительством...» (В.В. Розанов. Мережковский
против «Вех» // Новое время, 27 апреля 1909).
8 СЛ. Франк. Биография П.Б. Струве. Нью-Йорк, 1956, с. 85.
Глава 11 «Вехи»: Неуслышанное предостережение
413
зон, «люди, соединившиеся здесь для общего дела, частью далеко
расходятся между собою как в основных вопросах „веры", так
и в своих практических пожеланиях; но в этом общем деле у них
нет разногласий»9.
Справедливость требует признать, что авторы «Вех» в сущности
сказали в своих статьях немногим более того, что уже задолго до
них высказывали представители консервативного направления.
Так, Достоевский в «Бесах» прекрасно продемонстрировал, что
представляет собой леворадикальный революционаризм и какие
опасности для будущего таит в себе
нигилистически-атеистическое мировоззрение интеллигенции. Однако на сей раз
нигилистически-безрелигиозный характер жизненных ориентиров
интеллигенции осуждали мыслители и публицисты либерального
направления, почему они и получили сразу же ярлык «ренегатов»,
изменников идеалам революции, демократии и общественного
прогресса. Критики «Вех» не хотели замечать, что, в отличие от
писателей консервативного направления, авторы сборника
единодушно обличали то же, что и они: «татарщину» русской
государственности (Булгаков), «казенщину» реакционной власти (Бердяев),
деспотизм власти, полицейский режим (Гершензон), полицейское
государство (Кистяковский)10. Авторы «Вех» равно не принимали
ни консервативно-охранительной ориентации правительства,
ни радикально-революционной — подавляющей части
интеллигенции. Они хотели быть центром, — тем самым центром,
который в других странах, как правило, оказывается сильнее крайних
полюсов, но в России, увы, был слабым и подвергался
уничтожающей критике как справа, так и слева.
Итак, предметом анализа и критики «Вех» стала русская
интеллигенция. Однако нужно с самого начала сказать, что понятие
интеллигенции было у авторов сборника довольно неопределенным.
Оно не было четко очерчено ни социологически, ни исторически.
Хотя в статьях Булгакова, Изгоева, Струве, Франка содержится
масса интересных наблюдений и суждений относительно жизни, нра-
9 Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. Изд. 2-е. М., 1909, с. II.
10 В этой связи А. Столыпин в небольшой статье по поводу «Вех» не преминул
иронически заметить: «Хотя авторами сборника оплачен сполна входной билет
для разговора со своею публикою, т. е. обругано в необходимой мере и
правительство, и государственный строй, это не помогло: авторов потащили на суд
партийной нетерпимости, крамольность их воззрений была установлена с
военно-полевою строгостью и неблагонамеренность их провозглашена с
торжественностью, которой повредила разве некоторая поспешность приговора*
(А. Столыпин. Интеллигенты об интеллигентах // Новое время, 21 апреля 1909 г.).
414 Раздел V Призыв к трезвости. Самокритика русской интеллигенции
вов, быта, идей и предрассудков русской интеллигенции, тем не
менее задачу собственно социологического анализа
интеллигенции как определенного общественного слоя они перед собой не
ставят. Нет между авторами и единства в понимании
исторического происхождения интеллигенции в России: если П. Струве ведет
ее генеалогию примерно с эпохи реформы 1861 г.1 \ то С. Булгаков
и М. Гершензон убеждены, что интеллигенция обязана своим
появлением на свет Петру I, разрушившему традиционный уклад
русской жизни и «прорубившему окно в Европу»: через это окно,
собственно, и вошла в русскую жизнь интеллигенция, с самого начала
составившая чужеродное тело по отношению не только к
правящему классу, но и к народу12. Естественно, что в зависимости от
того, к какой эпохе относят происхождение интеллигенции,
существенно меняется и содержание ее понятия с точки зрения
социологической.
Под интеллигенцией авторы сборника разумеют прежде всего
человеческий тип, который определяется ими не через
социальное положение, не через образовательный ценз, не через
экономический источник существования, а через общее мировоззрение.
Главная характеристика этого мировоззрения, согласно П.Б.
Струве, — это противостояние государству. По убеждению Струве,
интеллигенция с самого своего появления заняла враждебную по
отношению к государству позицию, аналогичную той, которую
в XVII и XVIII вв. занимало казачество. «Пугачевщина, — пишет
1 1 «Интеллигенция, как политическая категория, объявилась в русской
исторической жизни лишь в эпоху реформ и окончательно обнаружила себя в
революцию 1905-1907 п> (П.Б. Струве. Интеллигенция и революция // Вехи,
с. 159-160).
12 Последнюю точку зрения впоследствии поддержал и развил Г.П. Федотов. В
статье «Трагедия интеллигенции», опубликованной в 1926 г., он пишет:
«По-настоящему, как широкое общественное течение, интеллигенция рождается с
Петром... Интеллигенция — детище Петрово, законно взявшее его наследие. Петр
оставил после себя три линии преемников: проходимцев, выплеснутых
революцией и на целые десятилетия заполнивших авансцену русской жизни,
государственных людей — строителей империи, и просветителей-западников, от
Ломоносова до Пушкина поклонявшихся ему, как полубогу. XVIII век
раскрывает нам загадку происхождения интеллигенции в России. Это импорт западной
культуры в стране, лишенной культуры мысли, но изголодавшейся по ней.
Беспочвенность рождается из пересечения несовместимых культурных миров,
идейность — из повелительной необходимости просвещения, ассимиляции
готовых, чужим трудом созданных благ — ради спасения, сохранения жизни
своей страны» (Г.П. Федотов. Трагедия интеллигенции // О России и русской
философской культуре. М., 1990, с. 418).
Глава 11 «Вехи»: Неуслышанное предостережение
415
Струве, — была последней попыткой казачества поднять и повести
против государства народные низы. С неудачей этой попытки
казачество сходит со сцены как элемент, вносивший в народные
массы анархическое и противогосударственное брожение. Оно само
подвергается огосударствлению...»13 С середины XIX века «новым
казачеством», по Струве, становится нарождающаяся
интеллигенция. «Идейной формой русской интеллигенции является ее
отщепенство, ее отчуждение от государства и враждебность к нему»14.
Эта враждебность и определяет основное содержание сознания
интеллигенции. Наиболее очевидно это отчуждение от
государства проявляется у анархистов — Бакунина и Кропоткина, однако,
по словам Струве, та же позиция представлена в «разных видах
русского революционного радикализма, к которому я отношу прежде
всего разные формы русского социализма... Марксизм с его
учением о классовой борьбе и государстве как организации классового
господства был как бы обострением и завершением
интеллигентского противогосударственного отщепенства»15.
Мировоззрение русской радикальной интеллигенции —
предмет анализа также и других «веховцев». С. Франк исследует
«интеллигентскую веру», ее «нравственные традиции и понятия», ее
«моральное и культурно-философское мировоззрение»16; М. Гер-
шензон в предисловии к сборнику говорит об интеллигенции
именно в связи с ее «ценностями», ее «высшей святыней», ее
«традиционным мироззрением»17. Задачу «вскрыть духовные черты
нашего интеллигентского мира» ставит перед собой и Н. Бердяев18.
Как видим, единство предмета анализа у авторов налицо.
Однако назвать этот предмет «русской интеллигенцией» едва ли будет
правомерно, если мы примем во внимание самый простой и
бросающийся в глаза факт: ведь авторы сборника тоже, несомненно,
принадлежат к русской интеллигенции, так же как принадлежали
к ней не только Белинский, Чернышевский, Некрасов, но и
Киреевские, Аксаковы, Достоевский и Вл. Соловьев. Стало быть, речь
идет лишь о революционной интеллигенции, символом веры
которой уже с середины прошлого века были атеизм и материализм,
превращенные в особого рода псевдорелигию, находившую фана-
13 П. Струве. Цит. соч., с. 158.
14 Там же, с. 160.
15 Там же.
16 «Вехи*, с. 175.
17 Там же, с. II.
18 Там же, с. I.
416 Раздел V Призыв к трезвости. Самокритика русской интеллигенции
тических приверженцев особенно в среде учащейся молодежи —
гимназистов, семинаристов, студентов.
Отождествление русской интеллигенции в целом с ее
леворадикальным крылом, и в самом деле терроризировавшим
общественное мнение и задававшим тон в обществе, было все же не совсем
правомерно и вело к недоразумениям. У Струве, который
стремился наиболее последовательно провести данное им определение
русской интеллигенции как безрелигиозного отщепенства,
возникали особого рода трудности: он относил к интеллигенции
Бакунина, Белинского, Чернышевского, Михайловского, Лаврова,
однако не причислял к ней не только Новикова, Радищева и Чаадаева,
Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Тургенева, но даже и Герцена,
Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Чехова, Владимира Соловьева
и Глеба Успенского19.
Именно отношение к государству определяет, по Струве,
отличие интеллигента от не-интеллигента. В таком различении,
безусловно, есть свой смысл. Однако по своемумировоззрению
(включая и «отщепенство», и атеизм, и материализм) Герцен — родной
отец радикальной интеллигенции, и исключение его из
«интеллигентского лагеря» продиктовано, видимо, как общими у Струве
с Герценом «западническими» симпатиями, так и богатством
и многосторонностью Герцена, действительно отличавшими его
от Писарева или Чернышевского. А на каком основании исключен
из интеллигенции Чехов, который и по своему образу жизни, и по
человеческому складу был ее типичным представителем,
увековечившим облик интеллигента конца прошлого — начала нашего
века, его дух, его мир, его быт, его тоску и безволие, его
мечтательность? По своим религиозным, антипозитивистским и
антиматериалистическим воззрениям В. Соловьев, как и Ф. Достоевский,
действительно не «влезают» в то понятие интеллигенции, которое
дает Струве, но по своей душевной структуре, по жизни и быту,
по страстным поискам правды они — плоть от плоти того
человеческого типа, который запечатлен в Белинском, в Герцене, в Кире-
19 «Великие писатели Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Достоевский,
Чехов не носят интеллигентского лика... Даже Герцен, несмотря на свой
социализм и атеизм, вечно борется в себе с интеллигентским ликом. Вернее, Герцен
носит как бы мундир русского интеллигента... Владимир Соловьев вовсе не
интеллигент. Очень мало индивидуально похожий на Герцена Салтыков так же,
как он, вовсе не интеллигент, но тоже носит на себе, и весьма покорно, мундир
интеллигента... Загадочный лик Глеба Успенского тем и загадочен, что его
истинное лицо все прикрыто какими-то интеллигентскими масками» («Вехи»,
с. 163-164).
Глава 11 «Вехи»: Неуслышанное предостережение
417
евском (да, и в нем тоже!), в С. Трубецком и С. Булгакове, в С
Франке и самом П. Струве20.
Обратимся теперь к характеру мировоззрения русской
революционной интеллигенции, как его видят авторы «Вех». Все они
согласны между собой в том, что интеллигенция ставит на место религии
ее ложный суррогат — народничество, или народобожие, которое
С. Булгаков называет «духовным идолопоклонством». Служение
«народу» (который у социал-демократической интеллигенции заменен
«пролетариатом»), борьба за счастье народа рассматривается как
высшая цель, ради которой революционная интеллигенция готова
пожертвовать своим благополучием, научными и художественными
интересами, покоем и даже жизнью. Именно эта жертвенность,
страдания интеллигенции и гонения на нее создают особую психологию
героизма и самоотречения, которые и дают повод характеризовать
ее сознание как религиозное21. «Если под религиозностью, — пишет
С. Франк, — разуметь фанатизм, страстную преданность излюблен-
-° Кстати, Струве, по описанию близкого его друга С. Франка, был как раз — при
всем его «государственничестве» — именно русским интеллигентом в точном
смысле слова. В 1903 году Франк посетил П. Струве в Штутгарте, где он жил на
положении эмигранта, редактируя журнал «Освобождение». «Как сейчас
помню впечатления от дома и семейной обстановки. В большом зале, служившем
столовой, на столе сидел годовалый младший сынишка П.Б., Лева... Навстречу
мне вышла, как всегда сияющая лаской и приветом, Нина Александровна, и
меня окружили трое старших мальчиков, в возрасте от шести до трех лет. Помню
ужин с оживленной беседой, редакционный кабинет П.Б., заваленный книгами
и бумагами, скромную, почти убогую обстановку квартиры и настроение
непрестанного горения мысли, идейного оживления... Я сразу окунулся в
атмосферу какого-то особого уюта, пронизывавшего эту лихорадочно-спешную,
суетливую жизнь, — незабываемой, своеобразной духовной прелести русской
интеллигентской семьи, живущей дружной и напряженной идейной работой»
(СЛ. Франк. Биография П.Б. Струве, с. 32-33). Немец по происхождению,
Струве, по словам Франка, «был типически русским духом; он походил своим
умственным и духовным складом на такие типично русские умы, как Герцен,
Хомяков, Вл. Соловьев...» (там же, с. 195).
21 Тут, впрочем, на первый взгляд, веховцы между собой расходятся, что
неоднократно ставилось им в вину их критиками. С. Булгаков и Н. Бердяев говорят
об особой «религиозности» русской интеллигенции («научный позитивизм
был превращен в... особую религию...», — пишет Бердяев — см. с. 11), тогда как
Струве считал интеллигентский радикализм безрелигиозным и именно в
атеизме видел важнейшее проявление «отщепенства». Однако это несогласие
только кажущееся: когда Булгаков характеризует интеллигентскую «веру» как
«религию самообожения» («Вехи», с. 37), он в сущности солидарен с
остальными авторами сборника. Самообожение интеллигенции и ее «народообожение»
парадоксальным образом оказываются неразрывно меж собой связанными.
418 Раздел V Призыв к трезвости. Самокритика русской интеллигенции
ной идее, граничающую с idée fixe22 и доводящую человека, с одной
стороны, до самопожертвования и величайших подвигов и, с другой
стороны, — до уродливого искажения всей жизненной перспективы
и нетерпимого истребления всего несогласного с данной идеей, —
то, конечно, русская интеллигенция религиозна в высочайшей
степени... Но ведь понятие религии имеет более определенное
значение... Религия всегда означает веру в реальность абсолютно-ценного,
признание начала, в котором слиты воедино реальная сила бытия
и идеальная правда духа»23.
Вся суть в том, что героизм радикального интеллигента, как
превосходно показал С.Н. Булгаков, есть героизм самообожения. Это
приговор суровый, но его выносит человек, у которого на этот счет
есть собственный большой опыт; он судит не только других,
но и самого себя. С. Булгаков отдает должное аскетизму и
жертвенности русской интеллигенции24. Но самообожение русского
интеллигента — его главная вина: он видит в себе спасителя, —
спасителя русского народа, или пролетариата, или даже всего
человечества. На меньшее он не согласен. «Для него необходим
(конечно, в мечтаниях) не обеспеченный минимум, но
героический максимум. Максимализм есть неотъемлемая черта
интеллигентского героизма...»25
Больше всего авторам «Вех» досталось за то, что они посягнули на
символ веры революционной интеллигенции — народолюбие. Ведь
и в самом деле, любовь к народу исключает своекорыстие и эгоизм,
и если поставить альтернативу: либо любовь к другому (к народу),
либо любовь к самому себе, то, конечно, ни один благородный человек
не выберет второе. Но вся беда в том, что эта альтернатива ложна.
В «Вехах», к сожалению, этот момент остался в тени, а потому
возникла известная аберрация: некоторые авторы — в частности, Н.
Бердяев и С. Франк — сделали акцент на критике морализма русской
интеллигенции, что, на мой взгляд, ослабило позицию «Вех» и дало
в руки критиков дополнительный аргумент. С Л. Франк упрекает
русскую интеллигенцию за «обожествление субъективных интересов
22 навязчивой идеей {фр).
23 СЛ. Франк. Этика нигилизма // Вехи, с. 180.
24 «Русская интеллигенция, — пишет он, — развивалась и росла в атмосфере
непрерывного мученичества, и нельзя не преклониться перед святыней
страданий русской интеллигенции. Но и преклонение перед... этим „крестом",
вольным или невольным, не заставит молчать о том, что все-таки осгается
истиной...» (С.Н. Булгаков. Героизм и подвижничество // Вехи, с. 37-38).
25 Там же, с. 39.
Глава 11 «Вехи»: Неуслышанное предостережение
419
ближнего („народа")»26. Но в том-то и парадокс, что «народолюбие»
отнюдь не тождественно любви к ближнему, и это прекрасно
показал Ф.М. Достоевский в «Бесах», где секта «народолюбцев» ради блага
избранного ею идола ближнего убивает. Здесь «народолюбие»,
борьба «за счастье народа» (как и позднее за «интересы пролетариата»)
оборачивается равнодушием и слепотой, а иногда ненавистью и
жестокостью («революционный террор») по отношению к ближнему.
Тут — типичное извращение «ложной веры»: ради отвлеченной идеи
«народного счастья» революционер готов принести в жертву не
только себя, но и других людей; и по мере «омассовления» движения
ситуация становится всё мрачнее: в жертву предпочитают
приносить других, что мы и видим в 1917 году и в последующие годы. Любя
будущее — идеальное — человечество, революционер презирает
и даже ненавидит современников, в которых видит, по словам
Франка, либо жертвы, либо виновников мирового зла. Последние — это
враги народа; «чувство ненависти к врагам народа и образует
конкретную и действенную психологическую основу его жизни»27.
В том, что это действительно так, можно убедиться на примере
революций, совершавшихся во имя «счастья народа» не только
в России, но и в Китае, и на Кубе, и во Вьетнаме, и в Камбодже: в
последней во имя счастья была истреблена едва ли не половина
этого самого народа. А подмена, совершающаяся здесь, довольно
проста: «народ», как и «пролетариат» — это не реальные, конкретные
окружающие люди, а отвлеченная идея; служение идее и служение
отдельному человеку, ближнему — плохо совместимы, чаще всего
одно исключает другое. Во всяком случае, для этих «служений»
требуются разные человеческие качества. «Рыцарь идеи», как правило,
наделен чувством своей исключительности, проще говоря —
гордыней, которая дает силы и мужество для героических поступков,
направленных против существующего, во имя будущего, во имя
счастья бесчисленных грядущих поколений28. Это ослепляет
26 «Вехи», с 185.
27 Там же, с. 193. Такой способ мышления радикальной интеллигенции за
несколько десятилетий подготовил почву для красного террора, совершавшегося
в годы гражданской войны.
28 Кто раз был соблазнен этой идеей, того, по словам С. Франка, «уже не может
удовлетворить непосредственное альтруистическое служение, изо дня в день,
ближайшим нуждам народа; он упоен идеалом радикального и универсального
осуществления народного счастья — идеалом, по сравнению с которым
простая личная помощь человека человеку, простое облегчение горестей и
волнений текущего дня не только бледнеет и теряет моральную привлекательность,
но кажется даже вредной растратой сил и времени на мелкие и бесполезные за-
420 Раздел V Призыв к трезвости. Самокритика русской интеллигенции
и ожесточает его по отношению к реальному человеку: последний
получает, как правило, кличку «обывателя», «мещанина». Служение
идее — это всегда романтическая «любовь к дальнему», которой
Ницше страстно мечтал заменить христианскую любовь к
ближнему. «Народ», как и «пролетариат», не может по самому понятию
получить эмпирического воплощения: всякий конкретный
представитель «народа», будучи существом конечным, а потому
несовершенным, нарушает чистоту и красоту идеи. Поэтому «любить»
народ неизмеримо легче, чем любить ближнего, чем служить
реальным людям, как служит мать — детям, врач — больным,
учитель — ученикам, как служат конкретным людям через конкретное
дело плотник, агроном, машинист, рыбак, строитель. Все они
выполняют малое дело, не дающее пищи для тщеславия, а, напротив,
предполагающее определенную меру смирения, без которой
вообще невозможно служение ближнему. Одним словом, этот путь
требует терпения и ничем выдающимся не отмеченного труда,
самообладания и самоограничения — как раз тех качеств, которые
презирает революционная интеллигенция.
Ложная установка сознания левых радикалов порождает ряд
аберраций, на которых специально останавливаются авторы
«Вех». Н. Бердяев указывает на господство в среде интеллигенции
«утилитарно-морального критерия»29, заменившего ей критерий
«истинный», что породило характерную подозрительность по
отношению к занятиям наукой, искусством, философией, — одним
словом, всем тем, что отвлекает от революционной борьбы. Я бы
скорее назвала это политизацией сознания и вытеснением
критерия морального критерием партийным-, в сущности об этом
пишет и Бердяев, указывая на стремление радикалов «оценивать
философские учения по критериям политическим и
утилитарным... неспособность рассматривать явления философского
и культурного творчества по существу, с точки зрения абсолютной
их ценности»30. Эту замену критерия истины критерием «правого
и левого», оценку ее с точки зрения «интересов рабочего класса»
или «трудового народа» мы прекрасно знаем из собственного
многолетнего опыта: истина не может быть ни классовой, ни
партийной, и не случайно «партийной истиной» прикрывалась не только
беспардонная ложь и идеологическая демагогия, но и массовое ис-
боты, изменой, ради немногих ближайших целей, всему человечеству и его
вечному спасению» («Вехи», с. 192).
29 НА. Бердяев. Философская истина и интеллигентская правда // Вехи, с. 2.
30 Там же, с. 7.
Глава 11 «Вехи»: Неуслышанное предостережение
421
требление миллионов ни в чем не повинных людей. Не вполне
сознавали мы только одно: что такой подход к истине с точки зрения
партийности был создан задолго до революции, что именно
радикальная интеллигенция всех оттенков и направлений выковала то
оружие, которым на многие годы была парализована духовная
жизнь целого государства.
Насколько верным был в данном случае диагноз одной из
болезней русского радикализма, можно судить и по тем упрекам, которые
посыпались на авторов «Вех» со стороны защитников
интеллигенции. «Мы так устали от теорий, — возмущался Д. Философов, — что
ко всякой идее подходим практически и спрашиваем, на чью
мельницу льется вода новых идей»31. Этот «аргумент от воды на
вражескую мельницу» был самым «убедительным» доказательством не
просто ложности утверждения, но и злонамеренности утверждавшего
на протяжении почти семидесяти лет господства у нас
«революционной идеологии»; с его помощью удушалось всякое правдивое
слово, подавлялась живая мысль, истреблялись гуманитарные науки
и уничтожалась та самая интеллигенция, которая в свое время как
раз и соорудила — как оказалось, прежде всего для себя — эту
партийную гильотину.
Отрицание объективной истины и объективных
(общечеловеческих) ценностей — одна из догм радикализма, имевшая роковые
последствия. Имя ей — нигилизм. «Русскому интеллигенту, — пишет
С Л. Франк, — чуждо и отчасти даже враждебно понятие культуры
в точном и строгом смысле слова... Культура... может быть прямо
определена как совокупность осуществляемых в
общественно-исторической жизни объективных ценностей... Культура существует не
для чьего-либо блага или пользы, а лишь для самой себя; культурное
творчество означает совершенствование человеческой природы
и воплощение в жизни идеальных ценностей, и, в качестве такового,
есть само по себе высшая и самодовлеющая цель человеческой
деятельности»32.
В своей критике Франк опирается на неокантианскую теорию
ценностей. Мы сегодня склонны недооценивать неокантианство
вообще и теорию ценностей в частности, и понятно почему:
теория ценностей, как и вообще трансцендентальный идеализм с его
абсолютизацией принципа деятельности, лишены
онтологического фундамента, а потому кантианская критика нигилистичес-
31 Д.В. Философов. О любви к отечеству и народной гордости // Наша газета,
26 марта 1909 г., №71.
32 «Вехи», с. 186.
422 Раздел V Призыв к трезвости. Самокритика русской интеллигенции
ких тенденций материализма, скептицизма, философии жизни,
позитивизма оказалась недостаточно действенной и глубокой.
Но все же не следует забывать, что именно неокантианцы в конце
прошлого века нанесли серьезные удары по материалистически-
нигилистической идеологии. Кстати, не без их влияния
развивалась и русская религиозно-идеалистическая мысль XX века. Так,
сборник «Проблемы идеализма», обозначивший поворот Н.
Бердяева, С. Булгакова, С. Франка и П. Струве от марксизма к
идеализму, несет на себе очевидную печать неокантианства.
Что касается теории ценностей, то она дает серьезные
аргументы против «партийного» и «классового» понимания истины,
красоты и добра, но этим аргументам тоже не хватает онтологической
базы, и не случайно впоследствии С. Франк обратился к
проблемам онтологии.
Нигилизм, отрицающий объективно истинное, то, что
составляет общезначимую ценность, содержал в себе большую
разрушительную силу, в том числе и для самих создателей и носителей
«партийной истины» и «партийной морали»: им не приходило в
голову, что они сами могут попасть в разряд «классовых врагов».
Кн. E.H. Трубецкой, один из немногих, кто поддержал «Вехи», тоже
видел в отрицании общечеловеческих ценностей опасность лево-
интеллигентской идеологии. Большинство левой интеллигенции,
писал он, ничего не хотело знать о «справедливости безусловной,
общечеловеческой; оно признавало только условную, классовую
правду и классовую мораль... Начало „неприкосновенности
личности" превращалось в ничто, ибо на практике оно совмещалось
с полным презрением к личности губернаторов, помещиков, всех
вообще власть имеющих и зажиточных людей; по отношению
к ним все считалось дозволенным»33.
Уже в начале века людям, способным трезво оценивать
практические результаты ложных идей (даже в том случае, если раньше
они сами эти идеи поддерживали, и как раз в этом случае —
особенно), было очевидно, как глубоко аморален разделяемый
большинством революционеров макиавеллистский принцип: «для
достижения цели все средства хороши». Ради победы революции
33 E.H. Трубецкой. «Вехи» и их критики // Московский еженедельник, 13- VII.
1909. Туг невольно приходит на ум сцена «уничтожения чужого класса»— уже
не помещиков, а просто зажиточных людей — из платоновского «Чевенгура».
Самое страшное в этой сцене — кстати, именно то, что вообще определяет
поэтику А. Платонова, — это уничтожение этих «врагов пролетариата» так, как
если бы они вообще не были людьми.
Глава 11 «Вехи»: Неуслышанное предостережение 423
можно не только лгать, но и грабить, насиловать, убивать. «Как
объяснить, — пишет Франк, — что чистая и честная русская
интеллигенция... способна была хоть на мгновение опуститься до
грабежей и животной разнузданности? Отчего политические
преступления так незаметно слились с уголовными и отчего „санинство"
и вульгаризованная „проблема пола" как-то идейно слились с
революционностью? Ограничиться моральным осуждением таких
явлений было бы не только мало производительно, но и привело
бы к затмению их наиболее характерной черты; ибо поразитель-
ность их в том и состоит, что это — не простые нарушения
нравственности... а бесчинства, претендующие на идейное значение
и проповедуемые как новые идеалы»34.
У профессиональных революционеров-подпольщиков
складывалась действительно особая психология: кто рискует головой,
идет на смерть, тому, как говорится, слишком тесна обычная
мораль (она получает имя «обывательской») — ему все дозволено, ибо
он ставит себя за рамки того общества, в котором имеют силу
традиционные нравственные ценности. «Принцип „иди и умирай", —
пишет A.C. Изгоев, — пока он руководил поступками немногих,
избранных людей, мог еще держать их на огромной нравственной
высоте, но, когда круг „обреченных" расширился, внутренняя
логика неизбежно должна была привести к тому, что в России и
случилось: ко всей этой грязи, убийствам, грабежам, воровству,
всяческому распутству и провокации. Не могут люди жить одной
мыслью о смерти и критерием всех своих поступков сделать свою
постоянную готовность умереть»35. Ставя себя вне общества,
против которого они, в сущности, вели войну, революционные
кружки приобрели известное сходство с уголовными шайками: и те,
и другие разделяли принцип «все дозволено» по отношению к
«лежащему в зле» государству и равнодушным к революции
«обывателям», «мещанам»36. Не случайно горьковские босяки, особенно
34 «Вехи», с. 177.
35 A.C. Изгоев. Об интеллигентной молодежи // Вехи, с 177.
36 Как писал М. Гершензон, «за всю грязь и неурядицу личной и общественной
жизни вину несло самодержавие... Это была очень удобная вера, вполне
отвечавшая одной из неискоренимых черт человеческой натуры — умственной и
нравственной лени» (М. Гершензон. Творческое самосознание // Вехи, с. 93).
Такой способ мышления был теоретической базой для личной
безответственности. К сожалению, нередко такую аргументацию воспроизводим мы и
сегодня, когда все наши неурядицы приписываем только
командно-административной системе, снимая тем самым с себя всякую ответственность за прошлое,
а во многом — и за настоящее.
424 РазделУ Призыв к трезвости. Самокритика русской интеллигенции
Челкаш, стали в начале века героями дня, а «трусливый»
крестьянин Гаврила, веками кормивший Россию, но не имевший
героического ореола, поскольку не смел идти против принятых в
обществе обычаев, не вызывал ничего, кроме презрения.
Но небольшой корректив в рассуждения Изгоева все же хочется
внести. Конечно, нельзя жить одной мыслью о смерти. Но дело тут
не просто в мысли о смерти и готовности умереть. «Помни о
смерти» — говорили в древности стоики, считая, что только так человек
может победить в себе непомерную привязанность к земным
радостям. Помнить о смерти стремились всегда и христианские
подвижники. Сама по себе мысль о смерти к нигилизму не имеет
отношения и не служит мотивом для обмана, грабежей и убийств.
У левых радикалов готовность умереть связана с ненавистью
и презрением к «лежащему во зле» обществу, в ней сквозит пафос
отрицания мира сего, заслуживающего лишь гибели. Ради
мирового пожара революции, в котором сгорит дотла этот старый мир
и родится новый, идеальный, — вот ради чего идет на смерть
революционер. Тут налицо ненависть к бытию, принимающая формы
отрицания существующего общества во имя утопии. Такова
метафизическая подоплека революционного сознания, в которой
редко дают себе отчет сами революционеры; но именно эта ненависть
и питает дух отрицания и насилия, как это понял уже Достоевский.
Здесь в леворадикальном сознании воскресает дух древнего
гностицизма, питавшего, как мы уже отмечали, многие мистические
секты и в Средние века, и в Новое время. Сектантский мистицизм
и в России конца XIX — начала XX вв. в немалой степени был
носителем этого гностического умонастроения; и не случайно
мистические секты — например хлысты — содействовали
распространению революционных настроений.
Революционный нигилизм часто принимает форму
богоборчества. Этим, в частности, объясняется и тяготение многих
революционеров-марксистов к философии Ницше, этого
романтика-богоборца с именем Антихриста на устах. Не только Луначарский
и Горький, но и Бердяев, Мережковский и в меньшей степени
Франк не миновали увлечения Ницше. Отметим, что именно
Бердяев и Мережковский осмысляли идею революции в
метафизическом, а не только общественно-политическом плане. Несмотря на
критику Бердяевым в «Вехах» левого радикализма, он в
позднейших работах вернулся к революционной мистике, с которой
когда-то в молодости начинал.
В связи с темой мистической революционности интересна
критика «Вех» Мережковским, идеи которого о «новом религиозном
Глава 11 «Вехи»: Неуслышанное предостережение
425
сознании», как мы видели выше, еще так недавно разделял и
Бердяев. Негодование Мережковского было прежде всего связано с тем,
что авторы сборника развенчали идею революции. «Понятие
революции, — писал С. Булгаков, — есть отрицательное, оно не
имеет самостоятельного содержания, а характеризуется лишь
отрицанием ею разрушаемого; поэтому пафос революции есть ненависть
и разрушение»37.
Д.С. Мережковский как глашатай «нового религиозного
сознания» видел в революции не просто социальное чудо, которое
разрушит скверное старое общество и на его месте воздвигнет новое
и прекрасное, а чудо религиозно-метафизическое, подлинное
осуществление пророчества Иоанна. Для Мережковского «революция»
и «религия», как мы уже отмечали, суть понятия-синонимы.
Рассмотрение истории сквозь призму непрерывности развития, по его
убеждению, есть «обывательское», позитивистское ее
рассмотрение, не знающее чуда, трансценденции, а стало быть и свободы
воли, этой «метафизической предпосылки религии». «В
Апокалипсисе, — пишет он, — дано это, по преимуществу христианское,
предельное и прерывное, „катастрофическое", революционное
понимание всемирной истории. Стоит раскрыть Апокалипсис, чтобы
пахнуло на нас„«чувством конца", как жаром лавы из кратера...
Отвергать положительное религиозное содержание не только
в эмпирике, но и в мистике революции — значит отвергать
Апокалипсис — всю христианскую эсхатологию, всю христианскую
динамику — Христа Грядущего, а следовательно, и Пришедшего... Где
же и зародилось революционное понимание всемирной истории,
как не в христианстве?..»38
Это — та самая «мистика революции», которая у Ницше
предстает как начало «дионисизма» и которой так упивался Блок —
фигура, в отличие от Мережковского, глубоко трагическая: верный
своей «страсти-революции», Блок не бежал от разбушевавшейся
стихии разрушения и насилия (как это сделал Мережковский),
а с тоской и бесконечной душевной раздвоенностью остался
«гибнуть» на родине. «Праздник угнетенных и эксплуатируемых», если
воспользоваться несколько иным словарем, тоже содержащим
в себе — наряду со скрытым духом мести и насилия — мистически-
революционные обертоны, принес на русскую землю далеко не
«праздничные» плоды. Мы их пожинаем еще и сегодня.
37 С.Н. Булгаков. Цит. соч., с. 43.
38 Д.С Мережковский. Семь смиренных // Речь, 26 апреля 1909 г. Цит. по кн.: ДС
Мережковский. Поли. собр. соч. Т. XII. СПб. — М., 1911, с. 75-76. — Курсив мой. — ПГ.
426 Раздел V Призыв к трезвости. Самокритика русской интеллигенции
Вернемся, однако, к Апокалипсису. В словах Мережковского
много неправды. И главная — отождествление революции и
христианской эсхатологии, утверждение, что революционное
понимание всемирной истории зародилось в христианстве. Это —
глубокая подмена понятий. В идее революции с самого начала
заложена предпосылка, совершенно чуждая христианству:
революция — дело человеческих рук. В XIX и XX веке господствует
убеждение, что революцию необходимо готовить, приближать,
что революционеры должны сами устраивать революцию, не
дожидаясь, пока она вспыхнет стихийно. А конец света,
возвещенный Апокалипсисом, — это деяние Бога; космическое, а не просто
социальное событие. На последнее обстоятельство совершенно
справедливо указал Мережковскому E.H. Трубецкой: «Те
космические революции, о которых предсказывает Апокалипсис, путем
весьма незамысловатой игры слов перетолковываются в
революции политические... В результате попытки Мережковского
приспособить христианство к требованиям политического радикализма
от христианства остается только пусгая оболочка. В существе дела
Мережковский и Горький проповедуют одно и то же; разница
сводится только к некоторым риторическим украшениям, которые
Мережковский охотно берету св. Писания»39.
Не случайно тема революции появляется в европейской
культуре только в Новое время; ей предшествует рождение
протестантизма и протестантской мистики; в эту эпоху вместе с общим
процессом секуляризации секуляризируется и Апокалипсис — по
мере того, как крепнет идея человекобожества, рожденная еще
в немецкой мистике XIII—XIV веков и получившая новую жизнь
в XVII-XVIII вв. Революционная идеология во Франции середины
XVIII века покоится на забвении конечности человека и на вере
в бесконечность и всесилие, божественную мощь человеческого
разума — идее, чуждой Средним векам и античности, которая тоже
не допускала слишком тесного сближения Бога и человека.
Мережковский прав, пожалуй, только в одном: революциона-
ризм как духовное и идейное течение действительно вырос на
почве христианства в качестве особого типа христианской ереси.
Имя этой ереси — человекобожество; она лежит в основе как
политического, так и метафизически-мистического революциона-
ризма. Проблема эта, однако, не стала предметом рассмотрения
в «Вехах»; исследовать ее — значит найти метафизические корни
левого радикализма, отнюдь не являющегося достоянием только
39 E.H. Трубецкой. Цит. соч.
Глава 11 «Вехи»: Неуслышанное предостережение
427
русской интеллигенции, но составляющего характерную черту
общеевропейского сознания последних двух веков.
Тут уместно остановиться на некоторой аберрации,
возникшей — отчасти невольно — у авторов сборника и породившей
впоследствии немало недоразумений. Поскольку веховцы
поставили перед собой задачу анализа именно русской интеллигенции,
поскольку, далее, вели речь о русской интеллигенции вообще, тогда
как в действительности имели в виду ее революционное
большинство, которое, несомненно, и в самом деле задавало тон в обществе,
постольку возникало впечатление, что русская интеллигенция
(читай — революционаризм) есть абсолютно уникальный феномен,
не имевший аналога ни в истории, ни в современной авторам
Европе. Получалось — вопреки желанию большинства авторов — что-
то вроде «славянофильства наоборот»: если не русскому народу
в целом, то определенной его части приписывалась неповторимая
самобытность (с отрицательным знаком). Отсюда впоследствии
делались — в том числе и со ссылкой на «Вехи» — выводы о том, что
в России невозможно создать свободное правовое общество, ибо
русская интеллигенция по природе своей нетерпима, ей присущ
дух максимализма, экстремизма, разрушения. Кстати, такого рода
рассуждения характерны также и для радикальной интеллигенции
уже не начала века, а 60-80-х годов, многие представители которой
склонны искать объяснения трагических событий XX века в
России в неспособности русского народа — или русской
интеллигенции — к свободе.
А между тем «Вехи» анализируют мировоззрение, которое — по
своему содержанию — сформировалось не в России, а было
«завезено» из Европы40, где вызревало задолго даже до Французской
буржуазной революции и до середины XIX века прошло
несколько фаз своего развития. И материализм, и атеизм, о котором
говорят авторы сборника, был в XVIII веке оружием революции во
Франции; еще ранее того он вырос на британской почве,
отличаясь там, однако, от французского варианта своим более спокой-
40 «...Есть целая коллекция обманных путевых сигналов, манящих нас в
братские могилы голода и расстрелов, тифов и войн... „Наука" Дидро, Руссо, д'Алам-
бера и прочих — уже закончила свой цикл: был голод, был террор, были войны
и был внешний разгром Франции в 1814,1871, в 1940 годах. ...Наука
Чернышевских, лавровых, Михайловских, Милюковых и Лениных всего цикла еще не
прошла: есть голод, есть террор, были войны — внутренние и внешние, но разгром
еще придет: неизбежный и неотвратимый, — еще одна плата за философское
словоблудие двухсот лет...» (ИЛ. Солоневич. Дух народа // Наш современник,
1990,№5,с.152).
428 Раздел V Призыв к трезвости. Самокритика русской интеллигенции
ным и трезвым, менее утопическим и разрушительным, зато более
прагматическим духом, своей склонностью к эмпиризму;
последняя умеряла догматическую направленность, какой отличался
материализм французских просветителей. Культ революции тоже
родился не в России: его родиной была главным образом
Франция, а за ней — Германия, не случайно подарившие миру первая —
«французский» социализм, вторая — марксистскую теорию.
На эту сторону дела обращали внимание и Достоевский, и
Соловьев, и, конечно, сами авторы «Вех». Впоследствии, в сборнике «Из
глубины», С.Н. Булгаков специально подчеркивает, что исток
русской интеллигенции — это общеевропейский духовный кризис.
Этот кризис, пишет Булгаков, «терпит вся европейская культура,
и русская интеллигенция здесь лишь наиболее чуткий барометр.
И он происходит не от войны, а от общих духовных причин... Сама
война скорее явилась следствием, а вместе и симптомом этого
кризиса»41.
О том, что русская интеллигенция не является чем-то
совершенно уникальным и исключительным, писал в сборнике «Из глубины»
и П.И. Новгородцев. «В „Вехах", — пишет Новгородцев, —
постоянно говорится о грехах и заблуждениях русской интеллигенции,
и в характеристике ее путей и стремлений сотрудники сборника
обнаруживают большую критическую проницательность; но они
не ставят, однако, естественного и неизбежного вопроса: только ли
русская интеллигенция повинна в уклонении от правильного пути?
Крушение ее идеалов не есть ли частный случай общего кризиса
интеллигентского сознания, которое всегда и везде при подобных
условиях приходит к тем же результатам и кончает тем же крахом
своих надежд и упований? По знаменательному стечению
обстоятельств пять лет спустя после того, как появились русские „Вехи",
во Франции вышли в свет свои французские „Вехи": я имею в виду
книгу Эдуарда Берта „Les méfaits des intellectuells"42 с обширным
предисловием Жоржа Сореля (1914). Как в наших „Вехах", так
и здесь авторами явились бывшие видные представители
социализма, сами пережившие все увлечения интеллигентского
сознания и познавшие всю его тщету и недостаточность»43.
Леворадикальная идеология пережила еще один «ренессанс» уже
в Европе и США в 60-х и начале 70-х годов нашего века, — я имею
41 С.Н. Булгаков. На пиру богов // Из глубины, 2-е изд. Париж, 1967, с. 150.
42 «Злодеяния интеллигенции» (фр.).
43 П.И. Новгородцев. О путях и задачах русской интеллигенции // Из глубины,
с. 254.
Глава 11 «Вехи»: Неуслышанное предостережение
429
в виду так называемое движение «новых левых», оставившее после
себя «красный терроризм» в Италии, ФРГ и других странах. И
«вера», и образ жизни западной революционной интеллигенции были
сходны с тем, что описано в «Вехах». Это еще один аргумент против
мифа об уникальности русской интеллигенции, который,
возможно, и льстит самолюбию ее представителей, но лишает трезвости
суждения интеллигенции как о самой себе, так и о России.
Наконец, в заключение коснемся еще одного момента, который
требует уточнения. В некоторых статьях — у Бердяева, у Франка —
речь идет о гипертрофии морализма в сознании революционной
интеллигенции. С. Франк пишет о «моралистической вере», о
«нигилизме и морализме», о «фанатической суровости нравственных
требований» левых радикалов44. «Нигилистический морализм, —
развивает Франк свою мысль, — есть основная и глубочайшая
черта духовной физиономии русского интеллигента: из отрицания
объективных ценностей вытекает обожествление субъективных
интересов ближнего („народа"), отсюда следует признание, что
высшая и единственная задача человека есть служение народу, а
отсюда, в свою очередь, следует аскетическая ненависть ко всему, что
препятствует... осуществлению этой задачи...»45
Выше говорилось о том, что «народ», этот идеал
революционной интеллигенции, и ближний — далеко не одно и то же. И
отсюда сразу же следует вопрос: можно ли говорить о гипертрофии
морализма там, где речь скорее идет о фанатизме революционной
интеллигенции, фанатизме служения отвлеченной идее? Я
приводила отрывки из тех же «Вех», где речь шла скорее об утрате
левыми радикалами нравственного критерия поступков, чем об
излишней «суровости нравственных требований»: как совместить
последнюю с дозволенностью ради революции любых
преступлений, включая воровство, грабежи, убийства?
К слову, об абсолютных ценностях. К ним, кроме истины и
красоты, о которых справедливо пишут Франк, Бердяев и другие,
принадлежит, несомненно, и добро46. Можно понять, почему у наших
авторов понятие добра в этом контексте не упоминается:
разговоры о «народном благе» уже, что называется, набили оскомину,
поскольку без них не обходилась ни одна народническая статья.
44 «Вехи», с. 185.
45 Там же.
46 «Если есть вечное в духовной области, — пишет Д.С. Лихачев, — то это
красота и нравственность» (Д.С. Лихачев. Агрессивность «бездуховности»
//Литературная газета, 30 мая 1990 г., № 22).
430 Раздел V Призыв к трезвости. Самокритика русской интеллигенции
Нужно сказать, что и сами авторы «Вех», например Франк, в
некотором противоречии со способом выражения, приведенным
выше, справедливо квалифицируют мораль левых радикалов как
«готтентотскую», поскольку она утверждает «примат силы над
правом, догмат о верховенстве классовой борьбы и „классового
интереса пролетариата", что на практике тождественно с
идолопоклонническим обоготворением интересов партии; отсюда — та
беспринципная, „готтентотская" мораль, которая оценивает дела
и мысли не объективно и по существу, а с точки зрения их
партийной пользы или партийного вреда; отсюда —
чудовищная,морально недопустимая непоследовательность в отношении к
террору правому и левому, к погромам черным и красным...»47
Франк, как видим, прекрасно понимает, что тот, для кого не
важна истина, преступает и моральные нормы; настаивание на
«партийности истины» — прямой путь к жестокости и аморализму.
Поэтому не очень удачно выражение «нигилистический морализм»,
хотя мы и понимаем, что в данном случае имеется в виду. Такого
рода оговорки, мне думается, вызваны — и не только у одного
Франка — влиянием Ницше, для которого мораль — это атрибут
пошлости и «мещанства», имеющий значение лишь для «многих,
слишком многих».
Кстати о «мещанстве». Презрительное отношение к
«мещанству», «буржуазности» в значительной мере объединяет многих
авторов «Вех» с той самой радикальной интеллигенцией, которую они
критикуют. И не случайно, например, у С. Булгакова слово
«мещанство» употребляется то в кавычках, то без них. Когда Булгаков
видит определяющее настроение революционной интеллигенции
в ее антибуржуазности, в неприятии «мещанского уклада жизни»,
он берет слово «мещанство» в кавычки. Так, анализируя
«составляющие» интеллигентской идеологии, Булгаков замечает: «Здесь есть
и доля наследственного барства, свободного в ряде поколений от
забот о хлебе насущном и вообще от будничной, „мещанской"
стороны жизни. Есть значительная доза просто некультурности,
непривычки к упорному, дисциплинированному труду и
размеренному укладу жизни. Но есть, несомненно, и некоторая, впрочем,
может быть и не столь уж большая доза
бессознательно-религиозного отвращения к духовному мещанству, к „царству от мира сего",
с его успокоенным самодовольством. Известная неотмирность,
эсхатологическая мечта о Граде Божием, о грядущем царстве правды
СЛ. Франк. Этика нигилизма // Вехи, с. 206. — Курсив мой. — ПГ.
Глава 11 «Вехи»: Неуслышанное предостережение
431
(под разными социалистическими псевдонимами) и затем
стремление к спасению человечества... составляют, как известно,
неизменные и отличительные особенности русской интеллигенции»48.
Если отсутствие привычки к упорному труду, наследственное
барство интеллигенции Булгаков осуждает (и потому заключает
«мещанство» в кавычки), то отвращение к «духовному мещанству»
полностью разделяет. Но в том-то и беда, что через ходячее
бранное слово — «мещанство» — эти два момента оказываются между
собой крепко связанными, и можно с легкостью обнаружить у
Булгакова такое же отталкивание от «европейского мещанства» с его
«прикрепленностью к земле», «духовной ползучестью» его быта,
как у лидеров левого радикализма — Герцена, Бакунина,
Белинского (ср. «Вехи», с. 28, 34,36 и др.)49.
Удивительное дело! Русский философ с уважением говорит
о «вековой традиции и исторической дисциплине труда»50,
характерной для европейских народов, указывая вслед за Максом Вебе-
ром на протестантские корни западной трудовой этики; он
убежден, что русскому интеллигенту «надо учиться технике жизни
и труда у западного человека»51, — и в то же время не замечает, что
именно так называемый «мещанин», т. е. горожанин среднего
достатка, вынужденный постоянно заботиться о хлебе насущном,
не забывать о требованиях «мира сего», в течение веков
выработавший в себе чувство ответственности за свое дело и навыки
трудовой дисциплины, — что он-то и есть носитель трудовой этики,
которой так недостает русской интеллигенции, да и не только ей.
Такого рода раздвоенность оказалась особенно характерной для
H.A. Бердяева, от критики революционаризма в «Вехах»
впоследствии вернувшегося к самому крайнему «мистическому революцио-
наризму». В результате специфические черты русской
интеллигенции, которые подверглись резкой критике со стороны
большинства авторов «Вех», — и прежде всего ее экстремизм,
максимализм, революционное отрицание существующего общества
и государства, а нередко и всякого государства вообще, ее «неот-
мирность» и даже безрелигиозный нигилизм в освещении
Бердяева оказались особого рода недостатками-достоинствами, а идея
48 С.Н. Булгаков. Героизм и подвижничество, с. 28-29-
49 «Мещанство вообще бездарно и бесплодно...» — писал почти 10 лет спустя
С.Н. Булгаков в сборнике «Из глубины* (С. Булгаков. На пиру богов // Из
глубины, с. 150).
50 «Вехи», с. 37.
51 Там же, с. 28.
432 Раздел V Призыв к трезвости. Самокритика русской интеллигенции
уникальности русской интеллигенции выросла в своего рода
философию истории России.
«Русская интеллигенция, — писал Бердяев десятилетия спустя
после «Вех», — есть совсем особое, лишь в России существующее,
духовно-социальное образование. Интеллигенция не есть
социальный класс, и ее существование создает затруднение для
марксистских объяснений. Интеллигенция была идеалистическим
классом, классом людей, целиком увлеченных идеями и готовых
во имя своих идей на тюрьму, каторгу и казнь. Интеллигенция не
могла у нас жить в настоящем, она жила в будущем, а иногда в
прошедшем. Невозможность политической активности вела к
исповеданию самых крайних социальных учений при самодержавной
монархии и крепостном праве. Интеллигенция была русским
явлением и имела характерные русские черты, но она чувствовала
себя беспочвенной»52.
Здесь отмечено в сущности то же самое, что и в «Вехах»:
историческая уникальность русской интеллигенции, ее приверженность
идеям, ее самоотверженность в борьбе за реализацию этих идей,
ее беспочвенность и связанный с нею утопизм. Но отношение
Бердяева к этим характеристикам теперь совсем не однозначно. Так,
в беспочвенности, или, что то же самое, «отщепенстве» русской
радикальной интеллигенции Бердяев склонен видеть ее
преимущество. «Ошибочно, — пишет он, — считать национальным лишь
верность консервативным почвенным началам. Национальный
момент может быть и революционность. Интеллигенция
чувствовала свободу от тяжести истории, против которой она
восставала. Нужно помнить, что пробуждение русского сознания и
русской мысли было восстанием против императорской России»53.
Если принять во внимание, что Бердяев видит в свободе самую
сущность духа, понимая при этом свободу как восстание против
«тяжести» истории и природы, вообще против бытия как
позитивного начала, то станет очевидно, что интеллигенция есть как
раз носитель наивысших ценностей — духа и свободы, понятых
как революция. Восстание против императорской России, как
и вообще всякое восстание, — так позднее скажет Бердяев в
«Самопознании» — это исторический подвиг русской интеллигенции.
А поэтому и утопизм как жизнь в будущем или прошлом, как
отрицание постылого и всегда пошлого «настоящего» есть знак неот-
52 НА. Бердяев. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и
начала XX века // О России и русской философской культуре. М., 1990, с. 64.
53 Там же, с. 64. — Курсив мой. — ПГ.
Глава 11 «Вехи»: Неуслышанное предостережение
433
мирности русской интеллигенции. Как видим, спустя много лет
после выхода в свет «Вех», где критике подвергались оба крайних
полюса — как деспотический государственный срой, так и
революционное якобинство левой интеллигенции, Бердяев вновь
возвращается к принципам своей юности: «Она (интеллигенция. —
ПТ.) жила весь XIX век в резком конфликте с империей, с
государственной властью. В этом конфликте права была интеллигенция...
Вынашивалась русская идея, которой империя, в своей воле к
могуществу и насилию, изменяла»54.
Так в 30-40-х годах голос Бердяева влился в дружный хор
критиков «Вех». Различие, однако, в том, что к рсвол юционаризму Бердяеву
не помешал вернуться весь исторический опыт русской революции
1917 года и последующих событий, свидетелем — и критиком! —
которых, как это ни парадоксально, нередко был он сам55.
В чем же видит Бердяев русскую идею? В отвержении
действительности, «ее неправды и уродства», в эсхатологизме, в «неотмир-
ности» и все той же революционности»! «Русская мысль всегда будет
занята преображением действительности. Познание будет связано
с изменением... Русские искали в западной мысли прежде всего сил
для изменения и преображения собственной неприглядной
действительности, искали прежде всего ухода от настоящего»56.
Отмеченный в «Вехах» дух отрицания, свойственный русской
левой интеллигенции, теперь представал у Бердяева под знаком
плюс. В сущности, Бердяев дал здесь собственный
интеллектуальный портрет — тот самый, который читатель увидит позднее в
«Самопознании» и который во многом совпал с портретом левых
русских радикалов, созданным авторами «Вех». И самое главное
заблуждение разделяет Бердяев с остальными веховцами: я имею
в виду отождествление революционных радикалов России с
русской интеллигенцией вообще. Мы совершим непоправимую
ошибку, если окажемся в плену этого заблуждения. Ибо если бы те
особенности русской интеллигенции, которые так высоко ценит
революционер-Бердяев, действительно были фатально присущи
русской интеллигенции и русскому народу вообще, то они
должны были бы обречь Россию на «вечное возвращение» того хаоса
и насилия, которым был отмечен XX век. Большая опасность для
54 Там же, с. 66.
55 Там же, с. 67.
56 Там же. Вполне в духе левого радикализма звучат слова Бердяева, сказанные
им в той же «Русской мысли»: «Страсть к разрушению есть творческая страсть».
Этот лозунг пишут на своем знамени все нигилисты XX века.
434 Раздел V Призыв к трезвости. Самокритика русской интеллигенции
современной русской интеллигенции — это поверить Бердяеву.
Тогда тяжелые уроки XX века пойдут насмарку, и мы не выйдем из
старой колеи — революций и гражданских войн,
концентрационных лагерей и взаимного истребления. При этом кровавая
практика будет вновь казаться подтверждением правильности бердяев-
ского прогноза, — тогда как на деле именно нигилистический
революционаризм (и его «прогноз») и рождает кровавую
практику: в начале было слово.
Современной русской интеллигенции необходим трезвый
анализ отечественной истории, в том числе и тех ложных путей, по
которым шла интеллигенция революционная.
Надо особо подчеркнуть, что ориентация авторов «Вех» — в тот
период также и Бердяева — противоположна той, какую мы
находим в позднейших работах последнего. «Вехи» зовут
интеллигенцию сойти с ложного пути, снять со своих глаз партийные шоры,
преодолеть экстремизм и максимализм, питаемые идеями
служения «народу» или «пролетариату», тот самый максимализм,
оборотной стороной которого является личная безответственность.
Книга «Вехи» не была бы написана, если бы ее авторы полагали,
что нигилистически-безрелигиозное мировоззрение русской
интеллигенции, ее «страсть к разрушению» есть роковая печать,
которая всегда будет определять как ее собственную трагическую
судьбу, так и судьбу России. Зачем в таком случае взывать к
сознанию людей и указывать на разверзающуюся перед ними пропасть?
Поэтому «Вехи» можно рассматривать и как критику революцио-
наристского экстремизма одного из веховцев, не сумевшего
излечиться от пагубной «страсти к разрушению».
К несчастью, книга «Вехи» оказалась пророческой. Самые
худшие опасения ее авторов сбылись. И интеллигенция, и весь народ
заплатили дорогой ценой за утопически-максималистскую
программу и разрушительные идеи «безответственного равенства»,
провозглашенные радикальной интеллигенцией, которые, по
словам П. Струве, «поразительно быстро проникли в народные массы
и действительно заразили их»57. Как уже отмечалось, большинство
современников, выступивших с критикой «Вех», считали идейным
вдохновителем этой книги именно П.Б. Струве. Хотя инициатива
создания сборника принадлежала М. Гершензону, однако именно
Струве был, если можно так выразиться, политическим лидером
«Вех». Вот что об этом пишет в своих воспоминаниях С. Франк:
«Несмотря на то, что замысел „Вех" принадлежал Гершензону, и не-
П.Б. Струве. Patriotica. СПб., 1911, с. 367.
Глава 11 «Вехи»: Неуслышанное предостережение
435
смотря на отсутствие всякого сговора, „Вехи" выразили духовно-
общественную тенденцию, первым провозвестником которой
был П.Б.»58. И дело не только в том, что у Струве был к тому времени
уже большой политический опыт, в особенности опыт работы во
Второй Государственной Думе. Главное, что оказался трезвым и
дальновидным практическим политиком, не утратившим —
несмотря на свою оппозиционность — сознания государственного
деятеля, а не романтика-разрушителя59.
Понятно поэтому, что именно в работах Струве критика
несостоятельности утопически-революционаристского сознания
сопровождается стремлением указать как путь исцеления для русской
интеллигенции, так и направление для будущего развития России.
Отсутствие идеи личной ответственности, характерное для
радикальных социалистических учений, составляет, согласно Струве,
главную опасность для будущего. Максимализм, утопизм и
нетерпимость революционной интеллигенции Струве связывает как раз
с неразвитостью чувства личной ответственности: чем меньше
человек делает сам, тем критичнее он по отношению к другим.
Не свобода, понятая как страсть к разрушению, а именно
свобода, осознающая себя как личная ответственность60, есть источник
58 СЛ. Франк. Биография П.Б. Струве, с. 82-83-
59 В своих воспоминаниях о П.Б. Струве СЛ. Франк пишет: Струве «нес в себе и
проявлял с самого начала зародыш... ответственного, положительного,
творческого образа мыслей, отчетливо выделявшегося от обычного рабского
сознания (которому суждено было — увы! — практически восторжествовать и
определить судьбу России)... Еще будучи радикалом и даже социалистом, он был не
„бунтарем", а сознавал себя государственным деятелем, как бы только
временно и случайно находившимся в оппозиции. Это есть, конечно, единственно
здоровое и плодотворное политическое сознание. И это сознание как-то сразу
нашло отклик в моей душе и помогло мне излечиться от порочной установки
бессильного радикального „будирования" и критиканства. Это
государственное сознание предполагает трезвый реализм в оценке настоящего и
возможного будущего, предполагает непосредственное ощущение начала иерархии в
общественной жизни — понимание, что при всяком (даже последовательно-
„демократическом") общественном строе ответственное, разумное,
государственно-опытное меньшинство призвано подлинно определять
государственно-общественную жизнь; оно предполагает, наконец, чти „революция",
восстание народных масс, есть, может быть, иногда неизбежное и даже в
конечном итоге благотворное, но всегда ненормальное и болезненное событие,
нарушающее естественную структуру национально-государственного бытия»
(СЛ. Франк. Биография П.Б. Струве, с. 76-77).
°° Только ответственная личность может быть подлинной предпосылкой
прочного правопорядка, личной неприкосновенности и гарантией личных
436 Раздел V Призыв к трезвости. Самокритика русской интеллигенции
и основа для творчества и созидания. И сейчас для нас важно
учесть заблуждения и грехи русской радикальной интеллигенции,
но не для того, чтобы впасть в резиньяцию перед лицом ее
трагической судьбы, а чтобы, усвоив опыт прошлого и имея, наконец,
сегодня возможность в самых разных областях приложить свои
силы, мы могли убедиться на практике, что русская интеллигенция
способна не только разрушать, но и строить.
прав, о которых в «Вехах» писал БА Кистяковский (см.: БА Кистяковский. В
защиту права // Вехи, с. 132-135).
Глава 12
Под знаком меры. Либеральный
консерватизм П.Б. Струве*
Среди мыслителей и общественных деятелей русского
Серебряного века Петру Бернгардовичу Струве (1870-1944) принадлежит
особое место. Его отличает необычайная широта интересов и
научная основательность: Струве не только философ, правовед,
экономист, историк, социолог, — он еще и крупный общественный
и политический деятель, яркий и темпераментный публицист,
откликающийся на все сколько-нибудь значительные события
русской духовной, литературной, политической и культурной жизни.
Но не столько многосторонность интересов выделяет Струве
среди его современников — H.A. Бердяева, С.Н. Булгакова, Д.С.
Мережковского, В.В. Розанова, П.А. Флоренского и других — многие из
упомянутых философов обладали и широтой интересов, и
общественным темпераментом, — сколько трезвость мысли,
практический здравый смысл, не позволявший ему впадать в экстремизм,
столь характерный для русской интеллигенции. Струве был,
на мой взгляд, одним из немногих, кто понимал, что для
практически-политической деятельности, для осуществления либеральных
преобразований в России необходимо отрешиться от крайностей
и восстановить в правах давно забытое и презираемое чувство
меры — эту добродетель древних. Самым ценным, однако, у Струве
было сочетание трезвости и реализма с редким мужеством,
мужеством противостоять общему настроению, всех захватывающей
моде, мужеством высказывать свои мысли и тогда, когда она
вступают в противоречие с воззрениями подавляющего большинства.
Такова позиция Струве в «Вехах» и «Из глубины». И мужеством
публично признавать собственную неправоту, прошлые заблуждения,
делая это спокойно и просто, без фразы и жеста. Такова самокри-
* Глава о Струве была опубликована в журнале «Вопросы философии», 1992,
№ 12. Публиковалась также в сокращенном варианте на итальянском языке:
♦Struve: la religione délia libertà» // Lettera internationale, 1990, № 25.
438 РазделУ Призыв к трезвости. Самокритика русской интеллигенции
тика Струве в его статье, помещенной в сборнике «Проблемы
идеализма» (1902).
Среди работ Струве дореволюционного периода следует
отметить две книги — «Крепостное хозяйство» и «Хозяйство и цена»;
последняя представляет собой первый том экономической
теории; второй том ее вышел позднее в виде брошюры.
Оригинальный мыслитель и блестящий публицист, П.Б. Струве
предпочитал «малую форму»; его многочисленные статьи выходили
в журналах и газетах, но, как правило, отличались от других
откликов «на злобу дня» точностью, ясностью и глубиной мысли, умением
в немногих словах выразить, схватить главное, — а это требует и
широты умсгвенного горизонта, и литературного таланта.
После захвата власти большевиками Струве уезжает в Ростов, где
принимает участие в создании Добровольческой Армии. После
ухода армии из Ростова на Кубань он в 1918 г. возвращается в
Москву и, находясь на нелегальном положении, продолжает издание
журнала «Русская мысль». Поражение белого движения вынуждает
Струве покинуть Россию; за рубежом он продолжает активную
деятельность: пишет ряд работ о русской революции, о творчестве
Льва Толстого, о Пушкине и др.
В течение двух лет (1925-1927) Струве издает в Париже газету
«Возрождение», вокруг которой пытается объединить под знаком
борьбы с большевизмом всю эмиграцию без различия партийных
направлений, в отличие от П.Н. Милюкова, в своей газете
«Последние новости» опиравшегося на левые круги эмиграции и
отмежевавшегося от «правых».
С осени 1928 года П.Б. Струве переселяется в Белград, где
сотрудничает в Русском Научном Институте, погрузившись в
изучение русской истории — экономической, государственной,
культурной. В течение последних пятнадцати лет жизни Струве
пытался на материале русской истории осмыслить и подытожить
весь свой богатый опыт политика, экономиста, социолога.
От легального марксизма
и «критического позитивизма» к метафизике
Эволюция философского миросозерцания П.Б. Струве довольно
типична для русской интеллигенции конца прошлого века.
Подобно С. Булгакову и Н. Бердяеву, он начал с увлечения марксизмом,
в котором, правда, в отличие от многих других, ценил прежде всего
Глава 12 Под знаком меры. Либеральный консерватизм П.Б. Струве 439
«научную составляющую», объективный подход к пониманию
общественного развития, противопоставленный философом
субъективной социологии народников. Критику последней П. Струве дал
в своей первой книге «Критические заметки по вопросу об
экономическом развитии России» (1894 г.). Позднее, в предисловии
к сборнику «На разные темы» (1902) русский мыслитель писал, что
в ранний период, до 1900 года, он был в философии критическим
позитивистом, а в социологии и политической экономии
решительным, хотя и не правоверным марксистом1. «Неправоверность»
марксизма Струве уже в первый период состояла в неприятии им
радикально-революционного элемента в учении Маркса, который
Струве считал утопическим. С самого начала он был сторонником
концепции эволюционного развития общества; именно за это его
критиковал Плеханов, а еще более резко — Ленин.
Характерна критика марксизма в статье Струве «Марксовская
теория социального развития», изданной в 1900 г. в Германии
и в 1905 г. переведенной на русский язык. Признавая Марксово
учение «прекраснейшим созданием социальной науки нового
времени»2, Струве усматривает главное преимущество этого учения
в стремлении его создателей раскрыть объективную
закономерность исторического развития, построить картину непрерывного,
эволюционного общественного процесса. «Бессмертною
заслугою Маркса и Энгельса во всяком случае остается познание
социализма как выражения и цели рабочего движения. Если такое
познание справедливо, то им устанавливается окончательно эво-
люционно-историческим путем отношение между конечною
целью и движением. Движение представляет собой историческое
prius. Социализм обладает реальностью постольку, поскольку он
содержится в возникающем из современного экономического
порядка движении»3. Это — та тенденция в толковании социализма
как цели деятельности социал-демократической партии, которая
в конце концов возобладала на Западе и превратила
социал-демократов в од1гу из парламентских партий, оказавшихся
впоследствии у власти в некоторых европейских странах и реализовавших
свою программу социализма, например, в Швеции.
П. Струве признает марксистскую доктрину только при условии
исключения из нее тех моментов, которые, по его мнению, носят
утопический характер и вступают в противоречие с экономичес-
1 См.: П.Б. Струве. На разные темы. СПб., 1902.
2 П. Струве. Марксовская теория социального развития. Киев, 1905, с. 4.
3 Там же, с. 54.
440 Раздел V Призыв к трезвости. Самокритика русской интеллигенции
ким учением Маркса. Сюда русский философ относит, в
частности, восходящую к Гегелю диалектику, ядро которой составляет
принцип противоречия и обосновываемое с его помощью
понятие революции как «скачка из царства необходимости в царство
свободы», — к слову сказать, то понятие, которое больше всего
привлекло в марксизме НА Бердяева. Вслед за Э. Бернштейном Струве
подчеркивает, что это понятие восходит к бакунизму и бланкизму4
и вносит утопический элемент в построение Маркса, элемент тем
более опасный, что он осознается как научное положение, с
необходимостью вытекающее из теоретических предпосылок. «Чтобы
страстно желаемое, невозможное в конце концов все же было
признано необходимым, на помощь призвано социальное чудо —
социальная революция, которая приводит в исполнение переход
количества в качество благодаря внутренне присущей ей творческой
силе»5. Революция как завоевание политической власти
пролетариатом призвана, по Струве, выполнить роль мистического
«перерыва постепенности», который должен осуществить утопическое
в своей сущности социальное преобразование, никаким иным
путем не достижимое. «Диктатура пролетариата», это якобински-
бланкистское понятие6, есть та магическая сила, которая является
«орудием мнимо реалистического объяснения недоступного
пониманию социального чуда»7. Пока не будут упразднены
теоретически несостоятельные идеи революции и диктатуры
пролетариата, марксизм, по убеждению П. Струве, останется только
«чрезвычайно оригинальною формой утопизма»8.
Отвергая утопические элементы марксизма вместе с их
методологической предпосылкой — «мнимо непобедимой диалектикой»9,
Струве, однако, в этот период еще полагает, что сама идея
социализма как типа общества, органически вырастающего из
капиталистического, не должна быть отвергнута. Однако осуществление этой
идеи, подчеркивает он, требует реалистического подхода.
«Социализм как реальная потенция или должен быть достигнут в
действительном, т. е. капиталистическом обществе, или он вообще лишен
существования... Все неясности и промахи марксистского
эволюционного учения связаны с оттенением отвлеченной противопо-
4 Там же, с 23-
5 Там же, с. 36.
6 Там же, с. 37.
7 Там же.
8 Там же, с. 38-39.
9 Там же, с. 39.
Глава 12 Под знаком меры. Либеральный консерватизм П.Б. Струве 441
ложности капитализма и социализма. Это противоположение...
не столько выводится из реальной борьбы социальных классов
внутри существующего общественного порядка... сколько
гипостазируется в форме борьбы двух в основном различных сущностей —
капитализма и социализма. То, что эти сущности заменяются
субъективными носителями — буржуазией и пролетариатом, хотя и
прикрывает это гипостазирование, но не уничтожает его»10.
Как видим, уже в начале века русский социолог пытался
повернуть отечественную социал-демократию на тот путь, на какой в то
время вставала большая часть социал-демократии европейской
и который впоследствии сделал возможными сравнительно
безболезненные социалистические преобразования в ряде
европейских стран.
Параллельно Струве затрагивает и еще одну — я бы сказала,
наиболее роковую для России — тему, остро дебатировавшуюся тогда
среди социал-демократов: отношение между экономикой и правом.
Как известно, с точки зрения Маркса, право, как и мораль, религия,
искусство и т. д., — лишь надстройка над экономическим базисом,
а потому полностью производно от последнего, не обладает
никакой самостоятельностью. Не один только Струве почувствовал
опасность такого подхода к правовым основам общества: еще раньше на
эту тему писали неокантианские критики марксизма. В этом пункте
Струве следует намеченным ими путем. «В марксовской теории
социального развития, — пишет он, — все вращается около
отношения, скажем, борьбы между хозяйством и правом. Хозяйство Маркс
считал причиною, право — действием ее. Но Штаммлером
старательно установлено, что хозяйство и право не могут быть мыслимы
находящимися друг с другом в отношении причиняющего и
причиненного. Для их отношения подходит, скорее, отношение
содержания и формы...»11
Даже и такое понимание соотношения экономики и права
представляется сегодня сомнительным: правовая сфера глубоко
укоренена в быте и нравах, в исторических преданиях народа, в его
нравственно-религиозном сознании, что, кстати, в более поздних
работах подчеркивал и сам Струве. Однако Штаммлерова критика
марксистского понятия права как надстройки сыграла,
несомненно, свою положительную роль. Вслед за Штаммлером Струве
отказывается от гипостазирования понятий «хозяйства» и «права»,
от превращения их как бы в самостоятельные сущности, противо-
Там же, с. 39-40.
Там же, с. 14.
442 Раздел V Призыв к трезвости. Самокритика русской интеллигенции
стоящие друг другу. «...Правовой порядок и социальное
хозяйство — абстрактные понятия, а вовсе не реальные сущности и
отношения, — пишет он. — ...В действительном обществе не существует
никакого абсолютного противоборства и никакой абсолютной
гармонии между правом и хозяйством, но беспрестанные
частичные коллизии и приспособления хозяйственной и правовой
сторон друг к другу»12.
Юрист по образованию, либерал по политической ориентации,
сторонник конституционной демократии, Струве понимал все
значение правовых начал в жизни общества. В этот — еще
ранний — период он, как видим, присоединяется к
номиналистической критике марксизма, которая велась в Германии прежде всего
мыслителями неокантианского направления — Штаммлером,
Г. Риккертом, М. Вебером и др.13
По словам СЛ. Франка, близкого друга П.Б. Струве, последний
никогда — даже в самый ранний период — не был правоверным
марксистом. «Так, например, он показал себя сторонником учения
Мальтуса о перенаселении как источнике пауперизма (учения,
решительно осужденного Марксом). Само миросозерцание
марксизма он обосновал не — как это полагалось по партийной схеме — на
философском (или „диалектическом") материализме, а на неком
новокантианском „критицизме" или „идеализме", одним из первых
пропагандистов которого он явился... Эти философские пассажи
„Критических заметок" были вообще первым началом возникшего
через несколько лет в нашей марксистской среде русского
„идеализма"»14.
Под влиянием неокантианства П.Б. Струве отходит не только от
легального марксизма, но и от критического позитивизма. В 1901 г.
в предисловии к книге НА. Бердяева, посвященной критике
субъективной социологии народников, Струве пересматривает ряд
позитивистских предпосылок своего мышления. В 1902 г. в сборнике
«Проблемы идеализма» он помещает статью «К характеристике
нашего философского развития»15, где намечает путь перехода от
12 Там же, с. 20-21.
13 Обращение к кантианскому трансцендентализму сближает П. Струве с
П.И. Новгородцевым и Б.А. Кистяковским, отстаивавшими против социалистов
всех мастей правовую природу конституционного государства и
доказывавшими теоретическую несостоятельность и практическую опасность
противопоставления правового строя как «буржуазного» социалистическому. См.:
Б.А. Кистяковский. В защиту права // Вехи, с. 125-155.
14 СЛ. Франк. Биография П.Б. Струве, с. 17.
15 Статья была напечатана под инициалами «П.Г.»: издавая за границей журнал
Глава 12 Под знаком меры. Либеральный консерватизм П.Б. Струве 443
трансцендентального идеализма к религиозной метафизике, как
она развивалась в трудах B.C. Соловьева, С.Н. Трубецкого, Б.Н.
Чичерина, АА Козлова, которых, при всем их различии, объединяло
неприятие материализма и нигилизма, столь распространенных
в России начиная с 60-х годов прошлого века.
Если в своих более ранних работах русский мыслитель
подвергал критике социальную доктрину Маркса, то теперь он
показывает несостоятельность марксизма как философского учения.
«Ахиллесову пяту русского марксизма составляла его философия. Маркс
был вовсе не тот имеющий внутреннее родство с Кантом, Фихте,
Шеллингом и Гегелем философ критического духа, каким он
представляется фантазирующему Вольтману; это был догматический
материалист, вышедший из школы Фейербаха, но более
решительно, чем последний, примкнувший к французскому материализму
XVIII века. Он в этом отношении прямой продолжатель
французских социалистов и коммунистов, философски отправлявшихся,
также как и он, от материализма и сенсуализма»16.
Главный мотив Струве четко выражен им в 1902 году: ни
материалистическая метафизика, как ее обосновывает, например, Г.В.
Плеханов, ни критический позитивизм, на почве которого стоял
раньше сам Струве, не в состоянии спасти человеческую свободу.
Философ теперь недвусмысленно критикует свои собственные
прежние воззрения, что делает честь его научной
добросовестности. «...Как ни была законна эта реакция (имеется в виду реакция
русских марксистов против субъективизма народнической
социологии. — ПТ.), она и в форме метафизической (Н. Бельтов: „К вопросу
о развитии монистического взгляда на историю"), и в форме
позитивно-критической (Струве: „Критические заметки к вопросу об
экономическом развитии России") зашла слишком далеко... Говоря
это, мы имеем в виду не преувеличения и односторонности так
называемого экономического материализма, которые не имеют
принципиального философского значения и с которыми
предстоит разделываться положительной науке... Дело в другом. И в своей
позитивно-критической формулировке первоначальный русский
марксизм как философское построение впал в... заблуждение
позитивизма, установив подчинение долженствования, как такового,
бытию и поглощение свободы необходимостью...»17
♦Освобождение*, Струве в то время в России печататься не мог. Поэтому он
пишет здесь о себе в третьем лице.
16 Цит. по кн.: П.Б. Струве. Patriotica, с. 336.
17Тамже,с. 331.
444 Раздел V Призыв к трезвости. Самокритика русской интеллигенции
По-прежнему признавая известные заслуги русского
легального марксизма в области политической экономии18, П. Струве,
по его словам, в философии от марксизма полностью отказался
и «открыто перешел к метафизике, т. е., отпав от позитивизма,
в философском отношении перестал быть и марксистом.
Выражением этого поворота явилась книга Бердяева с предисловием
Струве19, — пишет о себе философ в третьем лице. — Бердяев еще
обнаруживает в своей книге двойственное отношение к
метафизике, Струве решительно отдается ей»20. Как отмечал СЛ. Франк,
тяготение П. Струве к метафизике росло из религиозных исканий
мыслителя, который «был по натуре религиозной душой»21.
Параллельно происходила эволюция также и политических
взглядов Струве. Революция 1905-1906 годов несколько
отрезвила русскую радикальную интеллигенцию; что касается Струве,
то он раньше других «встал в оппозицию к русскому
революционному движению, остро осознал опасность и гибельность русского
политического максимализма и разнуздания злых,
насильнических страстей народных масс — словом, выражаясь жаргоном
радикализма, стал „реакционером". Тогдашний премьер Витте в
одном из своих обращений к обществу ссылался на суждение П.Б.,
обличавшего анархические тенденции русского социализма»22.
В партии кадетов, куда Струве вступил после долгих и трудных
переговоров с ее достаточно левым лидером П.Н. Милюковым, Струве
сразу же составил ее правое крыло. Характерным для позиции
Струве было его резкое расхождение с Милюковым по поводу
опубликования манифеста 17 октября. На учредительном съезде кадетской
партии, состоявшемся как раз в день появления манифеста,
Милюков заявил: «Мы одержали победу, но по существу ничто не
изменилось, наша борьба и наш политический курс остаются прежними»23.
Таким образом, Милюков призвал кадетов не поддерживать теперь
уже либеральный курс правительства и по-прежнему делать ставку
на революцию. Струве решительно разошелся с Милюковым и
левыми кадетами, призвав партию сотрудничать с правительством в
проведении реформы. По своей позиции Струве был близок к ВА Мак-
18 Там же, с. 336.
19 «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. Критический
этюд о Н.К. Михайловском», 1901.
20 Там же, с. 338.
21 См. статью С. Франка о Струве в журнале «Возрождение», 1949, № 2, с. 124.
22 СЛ. Франк. Биография П.Б. Струве, с. 48.
23 Цит. там же, с. 49.
Глава 12 Под знаком меры. Либеральный консерватизм П.Б. Струве 445
лакову и таким умеренным земцам-либералам, как H.H. Львов. В
своем стремлении к реформе П.Б. Струве активно поддерживал ПА
Столыпина, считал его выдающимся государственным умом. «Аграрная
политика Столыпина кажется консервативной, но в существе своем
она есть попытка перестроить Россию в самых ее глубинах»24.
Политическая позиция Струве служила мишенью для критики
со стороны радикалов-революционеров. Так, в письме Ленина
И.А. Теодоровичу от 2 декабря 1909 года читаем: «Струве, Гучков
и Столыпин из кожи лезут, чтобы „совокупиться" и народить бис-
марковскую Россию, — но не выходит... Импотенты. По всему
видно, и сами признают, что не выходит. Аграрная политика
Столыпина правильна с точки зрения бисмарковщины. Но Столыпин сам
„просит" 20 лет, чтобы ее довести того, чтобы „вышло". А двадцать
лет и даже меньший срок невозможен в России без 30-48-71 гг.
(ежели по-французски) и 63-66 гг. (ежели по-немецки)... Но наше
дело, дело рабочей партии, всё сделать, чтобы из „гнилого"
развилось успешное, из немецкого Verfassungsstreit25 — французская
хорошенькая передряга»26.
Тут, как говорится, комментарии излишни: известно, к чему
привела Россию «хорошенькая передряга» в 1917 году. А аграрную
реформу, которую ее автор намеревался завершить «через 20 лет»,
т. е. к концу 20-х годов, мы теперь, в 90-х, только начинаем.
24 П.Б. Струве. Patriotica, с. 264. Убийство Столыпина в сентябре 1911 года в
Киеве Струве тяжело переживал. «Он говорил, — рассказывает СЛ. Франк, — что
Столыпин изнемогал, не встречая поддержки в общественном мнении и
находясь в постоянной борьбе против слабости и неустойчивости царя и даже его
враждебности к себе. Он отметил своеобразие монархизма Столыпина:
Столыпин из монархической преданности считал себя обязанным слепо исполнять
волю царя даже там, где эта воля была, по его убеждению, гибельна для России и
для самой монархии. П.Б. противопоставлял этому монархизм Бисмарка,
который не стеснялся насиловать волю Вильгельма I, идти на открытый конфликт с
ним, то есть считал долгом монархиста защищать интересы монархии против
самого монарха» (СЛ. Франк. Биография П.Б. Струве, с. 97).
25 спора о конституции (нем.).
26 В.И. Ленин. Сочинения. Т. 14,3-е изд., с. 193- Ленин имеет в виду
конституционный кризис в Германии 60-х годов прошлого века, получивший название «спора
о конституции», завершившийся либеральной политической реформой.
446 Раздел V Призыв к трезвости. Самокритика русской интеллигенции
Свобода как личная ответственность
и как способность к самоограничению
К метафизике П.Б. Струве шел через кантовское учение о свободе,
которое предполагает различение сущего и должного, легшее в
основу очень влиятельных в начале века — в том числе и в России —
неокантианских течений в Германии27. Важную роль в
метафизических размышлениях Струве играло кантовское понятие «вещи
в себе», с помощью которого немецкий философ провел
принципиальное различие между миром природы (необходимости) и
миром свободы (свободного целеполагания). «Забывают, — пишет
в этой связи Струве, — что если в опыте или науке нам открывается
причинность как закон бытия, то самое бытие, как таковое,
остается непознанным... Эта непознаваемость бытия как раз и означает
невозможность отрицать беспричинное бытие... Беспричинное
бытие (т. е. Абсолют) остается, конечно, тайной, но такой остается
ведь и всякое бытие само по себе»28.
Отсюда ведет свое происхождение тезис П. Струве об
иррациональности как бытия, так и самой человеческой свободы,
сближающий его с Н. Бердяевым, несмотря на существенное различие —
особенно в политических позициях — этих двух мыслителей, один
из которых был трезвым реалистом, а другой неисправимым
романтиком, нередко бросавшимся из одной крайности в другую.
Мотиёы, побудившие Струве к такому ходу его мысли, вполне
понятны: он восстал против позитивизма, отождествлявшего сферы
науки и этики, познания и свободного действия, с одной стороны,
и против просветительски-доктринерского рационализма
леворадикальных утопистов, с другой.
Встав на точку зрения религиозной метафизики, П.Б. Струве
существенно углубляет свою критику марксизма. В социальной
доктрине Маркса, в его философии истории он выявляет два
различных и не совместимых между собой корня. Один из них —
рационализм Просвещения, составивший духовную предпосылку
Французской революции, вожди которой стремились перестро-
27 Не один только Струве через кантианский трансцендентализм пришел к
метафизике; тот же путь проделали в России и Н. Бердяев, и Б. Вышеславцев
(стоявший, впрочем, ближе к Фихте, чем к современным ему неокантианцам), и
П. Новгородцев. В Германии в XX веке к метафизике от неокантианства
перешли Н. Гартман, М. Шелер и др.
28 П.Б. Струве. К характеристике нашего философского развития // Проблемы
идеализма. М., б. г., с. 79-
Глава 12 Под знаком меры. Либеральный консерватизм П.Б. Струве 447
ить историческую жизнь в соответствии с конструкциями
отвлеченного разума. Второй корень восходит, напротив, к учениям,
возникшим как реакция против эксцессов Французской
революции и питавшего ее идеологов просвещенческого
рационализма, — естественно, что эти учения акцентировали органический
характер исторического процесса. «Крупнейшие этапы
человеческой мысли XIX века, историческое значение которых
громадно, — пишет Струве в 1909 г. в статье «„Вехи" и „Письма" А.И. Эрте-
ля», — идейно и психологически коренятся в реакции против
Французской революции. „Реакционный" характер исторической
школы в праве несомненен, и в эту же „реакционную" почву
известными своими корнями уходит социализм Сен-Симона,
явившийся в значительной мере источником всего новейшего
социализма, в том числе и марксизма (такова же в сущности генеалогия
„позитивизма" Конта). ...А это реакционное учение, как известно,
натолкнуло Дарвина на его теорию. „Реакционные" элементы
в философии Шеллинга и Гегеля неоспоримы. А от Гегеля
произошло революционное молодое гегельянство»29.
П.Б. Струве вполне справедливо указывает на происхождение
исторически-эволюционного направления в философии XIX века
и на общие мировоззренческие корни учений Сен-Симона и
Конта, с одной стороны, и Гегеля, с другой, что, впрочем, не исключает
и существенных различий между контовским «научным методом»
и гегелевской диалектикой, на которой лежит печать немецких
мистических спекуляций, в частности, Якоба Бёме. Эта линия
«реакции» против революции восходит к французскому
традиционализму — С. Мартену, Ж. де Местру, де Бональду и другим
мыслителям католической ориентации, настаивавшим на том, что
социальная жизнь есть продукт исторической традиции:
существует преемственность религии, нравов, быта, экономических
отношений и государственно-правовых норм, и особенно — это
подчеркивал де Бональд — в жизни языка, проникающего собою
все остальные человеческие институты. Просветительский
рационализм не считается с этой органикой исторической жизни,
и в этом пункте критика его со стороны традиционализма
совершенно справедлива.
Русский философ признает правомерность и необходимость
такой критики утопически-рационалистических общественных
теорий, подчеркивая, однако, что представители этого
направления, включая Сен-Симона, Конта, Гегеля и Маркса — в той мере,
29 П.Б. Струве. Patriotica, с. 463-
448 Раздел V Призыв к трезвости. Самокритика русской интеллигенции
в какой последний стремился понять необходимый характер
исторического процесса, — не справились с важнейшей
философской проблемой: в них отсутствует идея человека как свободного
и ответственного за свои поступки существа. «Историческое
мышление XIX века, практически-психологически коренившееся
в консервативной реакции против революционного
рационализма предшествовавшей эпохи, выдвинуло против него воззрение
на общество и его формы как на органический продукт
стихийного, иррационального творчества. Это направление философски
превосходно мирилось с отрицанием личной ответственности,
личного подвига, личного творчества. В марксизме механический
рационализм XVIII в. слился с органическим историзмом XIX века,
и в этом слиянии окончательно потонула идея личной
ответственности человека за себя и за мир. Социализм — в лице марксизма —
отказался от морали и разума. Весь же современный социализм
насквозь пропитан мировоззрением Маркса, которое есть
амальгама механического рационализма XVIII в. и органического
историзма XIX в. Оба элемента этой амальгамы по существу одинаково
враждебны идее личной ответственности человека...»30
И в самом деле, одной из предпосылок марксистского учения
является убеждение, идущее от материализма XVIII в., что человек есть
продукт «среды», «совокупность общественных отношений», —
убеждение, не оставляющее места для личной ответственности
человека за свои поступки и свой образ мыслей. Эта широко
распространенная среди радикальной интеллигенции и на Западе, и в
России теория «среды» была подвергнута критике уже в конце XVIII
века Кантом, а столетие спустя в России — Ф.М. Достоевским,
ПД. Юркевичем, B.C. Соловьевым, С.Н. Трубецким, Л.Н. Толстым
и др. Но теория эта, облегчающая человеческую совесть, не
утратила своей притягательности и сегодня, поэтому работы Струве,
разоблачающего эту предпосылку социалистических теорий начала
века, остаются актуальными и в конце XX века. «В основе
социализма, — пишет философ, — лежит идея полной рационализации всех
процессов, совершающихся в обществе... По идее социализма
стихийное хозяйственно-общественное взаимодействие людей
должно быть сплошь заменено их планомерным, рациональным
сотрудничеством и соподчинением. Я нарочно подчеркиваю слово
сплошь, ибо социализм требует не частичной рационализации,
а такой, которая принципиально покрывала бы все поле общест-
30 Там же, с. 549.
Глава 12 Под знаком меры. Либеральный консерватизм П.Б. Струве 449
венной жизни. В этом заключается основная трудность
социализма, ибо очевидно, что ни индивидуальный, ни коллективный разум
не способен охватить такое обширное поле и неспособен все
происходящие на нем процессы подчинить единому плану»31.
Разве не та же проблема стоит перед нами сегодня? Разве не
о том же размышляют и пишут наши экономисты, социологи,
публицисты? Именно утопизм тотального планирования сковал у нас
свободу экономической деятельности, породив громадную
бюрократическую систему, приведшую одну из богатейших стран мира
к тяжелому экономическому и социальному кризису. Утопия
«полной рационализации» всех общественных процессов обернулась
на деле хаосом иррациональных сил.
Но самое тяжелое ее последствие — это невиданное доселе
ослабление, едва ли не всеобщая утрата у людей чувства личной
ответственности. Для нас сегодня прямо-таки пророчески звучат
слова П. Струве о том, что попытка провести в жизнь идеи Маркса
угрожает потерей чувства личной ответственности, этой главной
предпосылки демократии и свободы.
От неприятия просветительского рационализма Струве, как
видим, приходит к утверждению об иррациональном, стихийном
характере исторического процесса и исторического творчества.
Бытие — как историческое, так и космическое — непостижимо
с помощью разума, утверждает философ. Признание
иррациональности исторического процесса он считает едва ли не самым
важным приобретением философской мысли XX века32. «Всё
человеческое — от космоса, и в том числе и всяческая культура относится
к космосу, входит в универсально-космическое бытие...
„Бессознательное" ближе к ядру космоса, чем сознательное. Это чувствует
всякий, кто ощущает космос... В известном стихе Тютчева: „мысль
изреченная есть ложь" именно и выражено
подлинно-философское и глубоко-религиозное понимание несоответствия между
сознаваемым и человеческим, что может быть изречено, и
бессознательно-космическим, божественным и неизреченным»33.
Струве прав в своей критике панрационализма, этого выражения
гордыни человеческого существа, возомнившего себя Богом.
Парадоксальным образом этот панрационализм роднил
социалистическую доктрину как с Просвещением, так и с критиком Просвещения —
Гегелем, убежденным, что человек способен встать на точку зрения
31 Там же, с. 549-550.
32 Там же, с. 55.
33 Там же, с. 491-492.
450 Раздел V Призыв к трезвости. Самокритика русской интеллигенции
Бога: для этого ему необходимо и достаточно вместе с Гегелем
пройти всю лестницу человеческой мысли и «снять» историю, достигнув
ее вершины — точки совпадения мышления и бытия. Нельзя не
согласиться с выводом П. Струве, что «никакие, даже наилучшие мысли
человеческие не могут быть приравнены к мыслям Бога»34.
Однако понимание бытия как иррационального начала скрывает
в себе и подводные камни, которые, быть может, в какой-то мере
помешали русскому философу привести свое учение в
систематическое единство, соединить в целое все богатство своих научных
знаний, философской интуиции и практически-жизненного опыта.
Не понятие «иррационального», а понятие
«сверхрационального», как мне думается, более созвучно умонастроению и
религиозным исканиям П.Б. Струве. И дело тут, конечно же, не просто в
словах: если мыслитель убежден, что в основе мироздания лежит
Абсолютное начало, Бог35, то ни космос, ни история не могут быть
для него «слепой игрой слепых сил». А ведь именно такая «слепая»
стихия и получила в философии — начиная с античности —
характеристику «иррациональной».
Однако термин «иррациональное» у Струве не случаен: здесь
опять-таки — печать неокантианского влияния. Согласно
неокантианцам, сущее по своей природе иррационально, и только
трансцендентальный субъект вносит в мир рациональное начало,
оформляя хаотическое многообразие с помощью категорий
рассудка (так возникает научное знание) или регулятивных идей
разума, иначе говоря, ценностей (так возникает мир культуры). Бытие —
иррационально, и только субъект вносит в него смысл и порядок.
Такова философская подоплека принципа автономии субъекта,
имеющая свой религиозный корень в протестантизме, а свое
философское обоснование в учении Канта. Этот же принцип лежал
в основе политических программ либерализма — как в Европе
(особенно в Германии), так и в России. В этом пункте Струве близок
к Максу Веберу, тоже видевшему в свободе и самоопределении
личности высшее достижение новоевропейской истории.
34 Там же, с. 492.
35 «Вне отношения к высшему, Абсолютному началу человеческая жизнь есть
слепая игра слепых сил», — писал П. Струве в 1909 г. (*Patriotica», с. 446). Ту же
мысль повторяет философ, объясняя своим критикам, какая идея объединила
авторов сборника «Вехи»: «Основная положительная идея, которую
необходимо противопоставить интеллигентской идеологии, — это идея религии как по-
строяющего и освящающего жизнь начала» (там же, с. 445).
Глава 12 Под знаком меры. Либеральный консерватизм П.Б. Струве 451
Религиозные корни либерализма.
Принцип «личной годности»
П.Б. Струве был убежден в том, что либерализм как политическое
течение имеет свои религиозно-мировоззренческие корни, в
отличие от социализма, который, по словам философа, «никогда не
был религиозным»36. Корни эти он видит в «радикальном
протестантизме разных оттенков и разных стран, провозгласившем
автономию личности. Из этой идеи религиозной автономии
вытекало и начало веротерпимости — не как выражение религиозного
безразличия, а как высшее подлинно-религиозное признание
идеи свободы лица»37. П.Б. Струве как раз и стремился вернуть
либерализму, забывшему свое «первородство», его метафизический
и религиозный дух, которым, по его мнению, только и может жить
всякое крупное общественное движение. Возродить либерализм,
вдохнуть в него новые силы — значит, по Струве, возродить и
оживить его почти забытую веру, — она же и составляет личную веру
самого философа. «Я думаю, — пишет он, — что на смену
современному религиозному кризису идет новое подлинно
религиозное миросозерцание, в котором воскреснут старые мотивы
религиозного, выросшего из христианства, либерализма — идея
личного подвига и личной ответственности, осложненная новым
мотивом свободы лица, понимаемой как творческая автономия-
Человек как носитель в космосе личного творческого подвига —
вот та центральная идея, которая... захватит человечество,
захватит сто религиозно и вольет в омертвевшую личную и
общественную жизнь новые силы. Такова моя вера»38.
Идея «свободы лица» сближает Струве также и с П.И. Новгород-
цевым и Б А. Кистяковским. Все трое были убеждены, что права
человека и прочный конституционный строй государства покоятся
на принципе личной ответственности человека и что именно
через воспитание этой ответственности, а не через «чудо
революции» и не через изменение «среды» лежит путь к более свободному
обществу. Именно отсутствие личной ответственности,
характерное для радикальных социалистических учений, составляет,
согласно Струве, главную опасность для будущего России. В
дефиците личной ответственности усматривает мыслитель «источник
36 Там же, с. 607.
37 Там же.
38Тамже,с.6П.
452 Раздел V Призыв к трезвости. Самокритика русской интеллигенции
неудач, разочарований и поражений, постигших Россию»39
(имеется в виду русская революция 1905-1907 гг.). Максимализм,
гиперкритицизм и нетерпимость русской революционной
интеллигенции П.Б. Струве связывает как раз с неразвитостью чувства
личной ответственности: чем меньше человек делает сам, тем
критичнее он по отношению к другим. В революции 1905-1907 гг.,
согласно Струве, «потерпело крушение целое миросозерцание,
которое оказалось несостоятельным. Основами этого
миросозерцания было... сочетание двух идей: 1) идеи личной
безответственности и 2) идеи равенства. Применение этих идей к общественной
жизни заполнило и окрасило собой нашу революцию»40.
Туг П. Струве высказывает мысль, крайне для него важную,
которая нисколько не утратила своей актуальности, ибо касается
предпосылки успешного проведения сегодняшних реформ. Принцип
личной ответственности и связанное с ним самоограничение —
это, по Струве, источник продуктивности, созидательного
характера человеческой деятельности, и не только в сфере культуры
и политики, но и в экономике. Последнюю, подчеркивает русский
философ, «не следует толковать „материалистически", как это
делает школьный марксизм. Более производительная система не
есть нечто мертвое, лишенное духовности. Большая
производительность всегда опирается на более высокую личную годность.
А личная годность есть совокупность определенных духовных
свойств: выдержки, самообладания, добросовестности,
расчетливости. Прогрессирующее общество может быть построено только
на идее личной годности как основе и мериле всех общественных
отношений»41.
Личная годность, о которой говорит Струве, — это проекция на
экономическую жизнь религиозного принципа свободы
личности. Но свобода невозможна без ответственности, в противном
случае она превращается в самую худшую несвободу — анархию
и произвол. Ответственность человека за себя и за мир философ
считает самой великой религиозной идеей42.
Возрождение народного хозяйства невозможно без
нравственно-духовного оздоровления народа. А в этом деле неоценимую
помощь окажут нам трезво и реалистически мыслившие наши
соотечественники, к которым принадлежит Петр Бернгардович Струве.
39 Там же, с. 363.
40 Там же.
41 Там же, с. 364.
42 См.: там же, с. 547.
Глава 12 Под знаком меры. Либеральный консерватизм П.Б. Струве 453
Его размышления о судьбах России и русской революции, о
характере русской интеллигенции, о путях преодоления
экономических трудностей и предпосылках создания правового государства
сегодня для нас актуальны как никогда.
* * *
В период эмиграции активное неприятие большевизма, горечь
и боль за судьбу России, которую Струве горячо любил43, углубили
его критическое отношение к левому радикализму и укрепили
в нем консервативные убеждения. Гражданская война и хаос, в
который была ввергнута Россия после октябрьского переворота,
болезненно заострили перед философом проблему
государственности, волновавшую его и раньше; в отличие от большей части
русской оппозиционной интеллигенции, в поле зрения которой
понятие «государства» если и входило, то, как правило, с
отрицательным знаком, П.Б. Струве видел в государстве необходимое
условие осуществления свободы и права индивида. Об этом со всей
определенностью он заявил уже в 1909 году — в «Вехах». По поводу
политических воззрений П.Б. Струве его друг и биограф С. Франк
пишет: «Характеризуя эволюцию политических идей П.Б. чисто
внешне, в банальных, ходячих (и потому неизбежно смутных)
политических терминах, нужно будет сказать, что будучи в юности
радикалом и социалистом, но уже и тогда скорее умеренного
и чуждого революционной догме направления, он в зрелом
возрасте и в старости стал умеренным же консерватором»44.
Умеренным, ибо крайности, как известно, сходятся, и не
случайно Струве указывал на внутреннее сродство радикально-правых
черносотенцев с радикально-левыми большевиками: «погромное»
сродство тех и других он хорошо понимал.
Но если мы отрешимся от «ходячих» политических
характеристик и попытаемся увидеть то ядро, которое осталось неизменным
у Струве на протяжении всей его жизни, то мы должны будем
констатировать, что в своих социально-философских убеждениях он
всегда был защитником свободы как главной ценности личности,
43 «Немец по своему происхождению (его мать тоже была обрусевшая немка,
из прибалтийского края, баронесса Розен), проведший свое детство в
Германии, он ощущал себя не только исконно-русским человеком (что случается
едва ли не со всеми иностранцами, переселившимися в Россию), но и горячим
русским патриотом; и в центре его интересов и его служения стояла именно
Россия и ее судьба* (СЛ. Франк. Биография П.Б. Струве, с. 221).
44 Там же, с. 208.
454 Раздел V Призыв к трезвости. Самокритика русской интеллигенции
государственной жизни и культурного созидания. И учитывая это,
можно было бы вместе с Франком назвать П.Б. Струве либералом*5,
поскольку отстаивание идеала свободы прочно связано с
традициями либерализма XIX века. Но не будем забывать, что все такого
рода политические характеристики все же относительны; для
понимания политических воззрений мыслителя важно увидеть те
духовные ценности, которые он защищал и которыми жил. За
несколько лет до смерти в статьях о Пушкине, написанных к юбилею
поэта в 1937 году, П.Б. Струве в сущности выразил свое жизненное
credo, сказав о том, что он превыше всего ценил и любил у
русского поэта:
«...Пушкин, этот ясный и трезвый ум, этот выразитель и ценитель
земной силы и человеческойлюи<и, почтительно склоняется перед
неизъяснимой тайной Божьей, превышающей все земное и
человеческое. Но его мистицизм был стыдливым; ему было чуждо все
показное и крикливое, все назойливое и чрезмерное.
Пушкин знал, что всякая земная сила, всякая человеческая мощь
сильна мерой и в меру собственного самоограничения и
самообуздания. Ему чужда была нездоровая расслабленная
чувствительность, ему претила пьяная чрезмерность, тот прославленный в
настоящее время ^максимализм", который родится в угаре и иссякает
в похмельи. Вот почему Пушкин первый и главный учитель для
нашего времени, того времени, в котором одни еще больны угаром
и чрезмерностью, а другие являются жертвами и попутчиками
чужого пьянства и похмелья»46.
Если мы хотим сегодня идти спасительным путем реформ, а не
гибельным путем революции и ее неизбежного спутника —
гражданской войны, мы не можем не внять слову-завещанию нашего
выдающегося соотечественника: «Эпоха русского Возрожденья,
духовного, социального и государственного, должна начаться под
знаком Силы и Ясности, Меры и Мерности...»47
45 См. там же, с. 209.
46 П.Б. Струве. Дух и слово. Сборник статей. Париж, 1981, с. 10. — Курсив мой.—ПГ.
47 Там же.
Указатель имен
Аввакум, протопоп 351
Августин 28-32,86,118,139,
241,248,284,393,402
Адамович Г. 234,353,354
Аксаков И.С. 171,174,179-181,
192
Аксаков СТ. 200
Аксаковы 415
Александр 1396
Александр II41,123
Алексеев (Аскольдов) СА. 260
Альберт Великий 241
Амвросий Медиоланский 32
Аммоний Саккас 32
Ангел Силезский
(Angélus Silesius) 88,248,279,
280,285,316
Андреев ИД 32
Антиох 26
Антоний (Храповицкий) 190
Аракчеев А А 198
Аристотель 11,47,96,97,
100-102,124,135,140,143,
151,211,213,223,250,251,
259,267,268,274,288,289,
294-296,340
Арсеньев Н. 356,357,387
Астров П.И. 385
Баадер Ф. (Baader F. von) 36,71,
110,124,145,248,280,282
Баггезен281
БайронД. 169,170,172,182,
192,200,309
Бакунин М.А. 35,313,348-351,
415,416,431
Бальмонт К. 365
Барабанов Е.В. 9
Баранова-Шестова Н. 134
Барт К. 132
БасинИ.В. 145
Бахтин М.М. 23
Бекетова MA 360
Белинский ВТ. 123,313,415,
416,431
Белый А. (Бугаев Б.Н.) 23,48,
189,330,357-362,364-366,
378-380,383,385,386,388,
409
Бёме Я. 36,40,45,50,54,77,
80-82,90,124,139,145,246,
248,280,281,316,317,398,
401,447
БенуаА.Н.327
Бергсон А 211,240,246,247,
252-255,259,269,291-295,
298
Бердяев НЛ. (Berdyaev N.) 9-11,
13,14,21,33,148,160,163,
456
Указатель имен
212,221,235,236,241,247,
301-322,325,330,334-337,
340,343,344,349,350,373,
374,411-413,415,417,418,
420,422,424,425,429,
431-434,437,438,440,442,
444,446
БерклиД.216,256
Бернштейн Э. 440
Берт Э. 428
БикерманМ.410
Бинсвангер Л. 285,299
Бисмарк О. фон 445
Блаватская Е.П. ПО
Блок АА 23,48,189,320,330,
331,351,356,358-363,
365-369,377-386,388,389,
425
БлонскийП. 134,161
Боборыкин П Д. 411
Бодлер Ш. 175
БошковичР. 231
БокльГ. 123,169
Бональд Л.ГА де 447
Бонецкая Н.К 396
Борджиа Цезарь 169
Боцяновский В. 410
Бочаров С.Г. 20,23,187,192
Брентано Ф. 246
БруноД.71,101,290
Брюсов В. 363,365,370,378,
380-386,388
БуберМ. 132
Булгаков СН. 7,11,13,14,30,58,
148,158,178,208,218,236,
247,411-414,417,418,422,
425,428,430,431,437,438
Бультман Р. 132
Бухарев 40
Бэкон Ф. 137,140,216,217
Валентин 53
Валентинов Д. 411
Василид 315
Василий Великий 241
Васнецов В.М. 18
Введенский АИ. 215
ВеберМ.431,442,450
ВенгеровСА.354
Вернадский В.И. 149
Видеманн341
Виклеф 290
Вильгельм 1445
Виноградов АК 361
ВиньиАде358
Витте СЮ. 444
Владимир св. 146
ВовчокМ. 166,193,199,200
Вольтер 200
Вольтман 443
Врубель М. 203
ВундтВ.246,281
Вышеславцев Б.П. 10,13,213,
236,300,446
Гаврюшин Н.К 58
ГадамерГ. 137
ГарденинВ.409
ГарнакА 124,129-131,133
Гартман Н. 211,245,446
Гартман Э. 40,44,142,160,225,
231
Гачев ГД. 11
Гегель Г.В.Ф. 11,14,40,43-46,
53,56,59,69,73,76,90,
92-118,124,135,137-140,
142,146,150,151,217-219,
228,231,244,246,248,251,
259,260,283,285,290,293,
294,305,440,443,447,449
Гейне Г. (Heine H.) 99
Гераклит 56
Геродот 340,341
Указатель имен
457
Герцен А.И. 171,175,180,348,
349,416,417,431
Гершензон М.0.411-415,423,
434
Гесиод 128
Гёте ИЗ. 107,169,171,172,200,
255,281,321,359,361,363,
365,366,376
ШппиусВ.В.327
Пшпиус З.Н. (Hippius Z.) 33,234,
314,325,327-335,351,354,
365,370,371,388
DioftK(GloyKl)281
Гоголь Н.В. 60,63,193,197,
199-204,416
Голубинский Д.Ф. 40
Голубинский Ф.А. 40
Гомер 128
Гончаров И А. 325
Горький М. 159,160,424,426
Гофман ЭТА. 16
ГраббеГ.396
Григорий Богослов 28,359
Григорий Нисский 86,139,241,
284
Григорович ДВ. 199
Григорьев A.A. 172-174
Гройс Б. 9
ГубастовК. 167
Гуссерль Э. 136,138,150,246,
249,251,260,262,264
ГучковА.И.445
Пого В. 16,200
ДАламберЖЛ.427
Данилевский Н.Я. 169,179,181,
326
Данте А. 346,363,365,366, 380,
393,397
Дантес Ж.Ш. 196
Дарвин 4.123,447
Декарт Р. 73,76,92,97,117,118,
140,152,213,245,253,269,
270,282
Джотто 380
Дидро Д. 427
Дильс Г. 124
ДильтейВ.247,255
Дионисий Псевдоареопагит
(Pseudo-Denis lAréopagite)
241,248,286,287
Добролюбов НА. 166,206
Домициан 27
Достоевский Ф.М. 13,15-17,
19-22,25,28,30,35,42,43,
60,63,67,123,124,134,159,
162,163,174,180,183-189,
191-193,200,201,203,305,
309,310,311,320,325,343,
344,348,350-351,372,375,
378,413,415,416,419,428,
448
Дружинин Н.П. 411
Дуне Скот 75,225
ДурылинСН. 168,359
Дягилев СП. 327
Евлампиев И.И. 243,271-273,
298
Ерогин Б. 270
Есенин СА 23
Ефрем Сирин 28
Жанна д'Арк 353
ЖильсонЭ. 132,134
Жуковский ВА. 200
ЗакржевскийА. 191,192
Занд (Санд) Жорж 16,172,182,
202
Зенон Элейский 294-296
Зеньковский В.В. 211,216,236,
239,240,284,312
ЗиммельГ 255
458
Указатель имен
Иаков, апостол 368
Ибсен Г 309,313
Иванов В.И. 13,48,163,315,320,
325,332,340,361,365
ИваскЮ.П.321
Иероним, монах 168
Изгоев A.C. (Ланде) 411-413,
423,424
Ильин В.Н. 248
Ильин ИА 11,13,341
Иоанн, апостол, евангелист 31,
32,128,129,328
Иоанн Богослов 28,328,344,
425
Иоанн Дамаскин 86,139
Иоанн Златоуст 27,402
Иоанн Лейденский 34
Иоанн Лествичник 169
Иоанн Скот Эриугена 256
Иоахим Флорский 33,88,
342-346,353
Иорданский Н. 410
Ириней Лионский 27,28,53,54,
81
Ирод 26
Исаак Сирин 402
Иустин Философ 28
Коваленская А 182
Кальвин Ж. 233
Кальдерон де ла Барка П. 200
Кант И. 11,43,45,47,48,65,74,
75,93,94,96-98,123,124,
135-138,141,142,146,148,
149,154,215,217,222,223,
225,231,233,242,249-251,
255,256,258,261,263,264,
266,269,273,274,281,303,
305-308,338,443,448,450
КарлейльТ. 170
Карсавин Л.П. 9,11,13,148
Карташев AB. 362
КассирерЭ.222,257
Катков М.Н. 169,171,180
Киреевские 171,415
Киреевский И.В. 43,130,179,
181,216,243,416-417
Киркегор С. 129-131,303,310
Кистяковский Б А 411-413,
436,442,451
КлагесЛ.ЗЗЗ
Климент Александрийский 134
Клюев НА 23,189
Кобылинский Л Л. (Эллис) 361,
385,386
Коваленская А 182
КогенГ.222,228,246,251,
256-257
Кожев А 69
Козлов АА 211,213,214,221,
315,443
Козловский П. (Koslowski Р.) 84,
99,105
Козырев АП. 69
Колеров MA 349
Кольцов A.B. 174
КомаровичВЛ. 189
Кон Н. (Conn N.) 33
Коновалов Д.Г. 22
Коноплянцев А. 169,170
КонтО. 43,45,55,123,447
Коперник Н. 289
КорнельП.200
Котляревский С А 121
Котрелев Н.В. 360,383
КрейдВ.325
КронерР.247,281
Кропоткин ПА 415
Кублицкая-Пиоттух АА 358
Кузен В. 117,118
Куинцио С. 27
Кутузов М.В. 197,198
Кюльпе 0.246
Указатель имен
459
Лавров П Л. 416
Лавров A.B. 360,383
ЛаутР.(ЪаШпК.)94
Лев XIII181
Левицкий С А 212,299
Лейбниц ГВ. 11,97,117,213,
214,217,221,223,225,226,
231,234,236-239,241,251,
253
Ленин В.И. 353,411,439,445
Леонардо да Винчи 321,341
Леонтьев К.Н. 12,19,20,
162-208,326
Лермонтов М.Ю. 68,176,203,
204,309,366,416
Лесков Н.С 189
ЛессингГЭ.88
ЛиппсТ.222
Лихачев Д.С. 429
ЛоккД. 135,137,216,250
Ломинадзе СВ. 382,383
Ломоносов М.В. 414
Лопатин Л.М. 44,5 5,56,99,111,
112,117,125,127,142,143,
157,158,161,211,245,300,
315
Лопухина MA. 127
Лосев АФ. 58
ЛосскийВ.Н.86,318
ЛосскийН.0.10,11,13,150,
211-243,245-247,251,259,
260,262,284,296,297
Лукьянов СМ. 40
Луначарский AB. 424
Львов H.H. 445
Льюис КС 105
Людовик XIV 169
Лютер М. 75,134,225,313
Лютославский В. 221
Макарий, монах 168
Маклаков ВА 444-445
Маковский С 326
Малеванский ГВ. 268
Мальтус Т.Р. 442
Маркион 315
Маркс К. 313,321,376,439-443,
446-449
Мартен С. 447
Маяковский В.В. 161
МейнонгА. (Meinong А.) 246,
260
Мейстер Экхарт 54,90,124,139,
156,246,248,256,277,279,
280-282,285,290,316
Мелис Г. 281,282
Мельгунов СП. 411
Менделеева Л Д. 330,366,379
Мережковские 315,386
Мережковский Д.С.
(Merezhkovsky D.S.) 21,33,66,
160,163,189,212,247,314,
318,319,325,327-355,365,
367-378,380,383,384,387,
390,404,411,412,424-426,
437
МестрЖде447
МиллеД.Э.380
МилльДС 123,138,250
Мильтон Д. 176
Милюков П.Н. 411,438,444
Минский Н.М. 366,378,379
Мирская P.M. 23
Михайловский Н.К 416,444
Мицкевич А 363
Миш Г. 247
Морозова М.К. 364
Мочульский К. 40,45,60,63
МэндеБиран 117
МюссеАде 171
Наполеон Бонапарт 204
Наторп П. 222,228,251,257,
263
460
Указатель имен
Некрасов К.Ф. 411
Некрасов НА. 415
Непомнящий В. 387
Нерон 176
Николай II125
Николай из Отрекура 75
Николай Кузанский 71,101,
246,248,256,257,274,275,
280,285-290,293,294
НилСорский190
Ницше Ф. 65,66,133,139,
160-163,170,175,192,206,
208,247,255,282,305,
307-310,313,319,321,333,
340,374-377,384,420,424,
425,430
Новалис 277
Новгородцев П.И. 13,300,428,
442,446,451
Новиков Н.И. 416
Нувель 327,328
Образцова Е.И. 331
ОккамУ.75,225
Ориген (Origen) 52,235,338
Ортега-и-Гассет X. 160
Островский АН. 206
Павел, апостол 169,346,391
Папий Иерапольский 28
Парацельс 40,45,124,248
Парменид 294
Паскаль Б. 299
Перцов П.П. 327
Петр1351,354,391,414
Петрарка Ф. 366
Писарев Д.И. 416
Писарев Л.И. 91
Писемский А.Ф. 166,199
Платон 11,14,30,100,101,124,
129,140,142,149,151,211,
222,268,270-272,286-288,
294,394
Платонов А.П. 234,422
Плеханов Г.В. (Бельтов Н.) 439,
443
Плотин 11,30-32,139,228,248,
268,270,279,287,291-294,
394
Покровский М.Н. 192
ПолитоваЕ. 165
Полонский Я.П. 68,326,366,
380
ПордейджД.45
Порфирий 30
Потемкин В.П. 411
Преображенский В.П. 130
Пришвин М.М. 189
Прокл 228,268,286,287,294
ПрудонП.Ж.169
Пушкин АС. 68,171,176,182,
193,194,196,197,200,351,
359,367,368,370,375,376,
398,414,416,438,454
Пшибышевский С. 384
РадерманнГ. 281
Радищев АН. 416
Развадовский АИ. 383
РаппЛ.ЗЗО
РаухА39б
Рачинский ГА 59,129,361
РачинскийСА. 181
Рейнгольд КЛ. 281
РемкеЙ.215
РёскинД.358
РиккертГ.222,442
Рильке P.M. (Rilke RM.) 266,277,
278,280,282
РичльА129
Розанов В.В. 9,12,21,33,160,
162,163,175,189,212,315,
325,327,332,334,335,339,
343,354,355,357,369,
Указатель имен
461
371-377,378,379,409,412,
437
Розенталь Б. (Rosental B.G.) 371
Россетти В.М. 380
РоссеттиД.Г.380
Рубинштейн Н.П. 122
Руссо Ж.-Ж. 313,427
СавельевСН. 332
Салнас 194-195
Салтыков-Щедрин М.Е. 166,
201,202,206,416
Самарин Ю.Ф. 181
Самарина АН. 127
Сартр Ж.П. 303
Сведенборг Э. 40,45,398,401
Сенека Л А. 363
Сен-Мартен Л.К. де (Saint-
Martin L-G de) 80
Сен-Симон К.А 447
СильманТ.266,278
Симплициан 32
Скобелев M Д. 173
Сковорода Г.С. 23,40
Сократ 140
Соловьев B.C. 7,9,11-25,30,
35-37,39-70,72-74,77-80,
82-84,88-119,123,124,127,
130-134,145,148,149,151,
156,157,163,164,172,173,
175,180-184,189,190,211,
214,216,218,227,229,231,
239,242-245,248,271-273,
276,285,300,305,326,330,
333,342,344,348,356-359,
361-385,387-406,415-417,
428,443,448
Соловьев М.С. 356,358,360
Соловьев СМ. 14,40,356-406
Соловьев СМ., историк 39,364
Соловьева Н.С. 360,363,405
Соловьева О.М. 358,360
Сологуб Ф.К. 23,330,365,370
Соломон 394
Солоневич ИЛ. 427
СорельЖ.428
Софокл 200
Спенсер Г. 123,250
Спиноза Б. 40,43,45,71-73,76,
92,97,100,101,118,239,269,
270,283,290,293,294,361
Степун Ф. 282
Столыпин А. 413
Столыпин ПА 445г
Страхов H.H. 171,174,181,326
Струве НА 417
Струве П.Б. 219,299,352,
410-417,422,434,435,
437-454
СуаресФ.241,253
СузоГ.279
Сухо 139
ТейхмюллерГ.221
Теодорович И. А 445
Тернавцев ВА 334
Тертуллиан 132,134
ТиллихП. 132
Толстой АК32<э
ТолстойЛ.Н. 19,65-67,132,133,
166,169,170,175,182-187,
189,193,194,196-199,
202-206,313,325,373,376,
378,438,448
Толстой П.М. 411
Тренделенбург А 124
Трубецкая С А. 122
Трубецкой E.H. 11,13,18,25,43,
52,59,65,83,114,116,
122-124,127,300,386,387,
405,409,422,426
Трубецкой Н.П. 122
Трубецкой СН. 11,13,18,26,43,
59,121-161,171,177,216,
462
Указатель имен
242,244,245,300,361,417,
443,448
Тургенев И.С. 158,165,166,193,
199,325,398,416
Тургенева А. 330
Тургенева Т. 360,361
Тютчев Ф.И. 43,68,277,326,
366,370,380,449
УайтхедА.Н.211
Успенский Г.И. 416
Уэллс Г. 358
Федоров Н.Ф. 326
Федотов Г.П. 321,414
Фейербах Л. 443
ФейнбергЕЛ.364
Феокрит 360
Фет АЛ. 68,171,326,366,380
Филиппов Б. 164,165,167,168,
175,192
Филиппов Т. 170
Филон Александрийский 128,
131-133,393
Философов Д.В. 163,314,327,
328,330,332,334,335,411,
421
Фихте И. (Fichte LG.) 43,44,70,
73-75,85,88,90,92-94,96,
97,100,102,107,124,135,
137-139,142,150,154,155,
217-219,225,228,233,246,
248,251,252,256,276,280,
281,290,293,312,313,316,
443,446
ФишерК.123,337
Флоренский ПА 9,12,13,40,
58,148,158,247,437
Флоровский Г.В. 7,10,52,171,
236,238,239,285
Фолькельт Й. 246
Фома Аквинский 86,134,139,
237,241,250,253
Франк СЛ. 7,8,10,11,14,35,
218-220,227,235,236,
241-300,352,411-413,415,
417-419,421-424,429,430,
434,435,442,444,445,453,
454
Франк Себастиан 248
Франциск Ассизский 353
ФудельИ. 163,164,180,181
Фурье Ф.М.Ш. 190
Хайдеггер М. (Heidegger M.) 11,
132,137,152,211,245,247,
274,279,303,310
ХантХ.380
Хомяков A.C. 43,124,130,145,
146,171,178,179,181,216,
417
ХоружийС.С.9, Ю
Цезарь Гай Юлий 173
Чаадаев ПЯ. 416
Чеботаревская А.Н. 330
Чернышевский Н.Г. 206,416
Чехов А.П. 158,159,416
Чичерин Б.Н. 65,148,155,443
Чуковский КИ. 382,383
Шатилов И.Н. 165
Шатобриан Ф.Р. де 170
Шаховской Д.И. 411
Шекспир В. 205,363
Шелер M. (Sender M.) 150,211,
224,245,247,446
Шеллинг Ф. (Schclling F.W.J.
von) 13,40,44,45,48,53,54,
56,58,69-91,93,94,107,
109-111,124,137-139,142,
150,155,156,172,217-219,
225,231,248,251,290,316,
Указатель имен
463
337,338,365,398,443,447
Шепелева M Д 366,384
Шестов Л.И. 132-134,158,160,
212
Шиллер Ф. 16,281
Шипфлингер Т. 80
ШлегельФ.25,88,170
ШмидК34
Шмидт А. 401
Шолем Г. (Scholem G.) 29,30
Шопенгауэр А. 40,43-45,47,53,
54,70,76,81,108,124,139,
142,225,273,305-308,312,
316,317,383-384,394
Штаммлер Р. 441,442
ШтейнерР.235
ШтирнерМ. 316
ШторхН.34
Штроссмайер 42
ШуппеВ.215,246
ЩеголевП.23
Эртель А.И. 447
Эсхил 363
ЭткиндА.33,34,334,335
Юлиан 341,383
ЮмД 137,138,153,213,216,
217,250
Юркевич ПД 45,326,448
ЯкобиФ.Г 70-72,78
Янке В. 281
ЯсперсК.132,303,310
CandillacM.de 287
Frensch M. 69
Jonas H. 32
KobuschT.76
LowrieDA330
Энгельс Ф. 439
ЭрнВ.Ф. 13,148,385,386
PachmussT.335
Содержание
Предисловие 7
Введение _ 15
Достоевский и Соловьев 15
Хилиастические мотивы у Достоевского и Соловьева ._ 20
Апокалиптика и хилиазм.
Милленаристские утопии 26
Раздел!
Владимир Соловьев 37
Глава 1
Философия всеединства 39
Жизненный путь и философское
становление B.C. Соловьева 39
Критика отвлеченного мышления
с позиций спиритуалистического реализма 46
Идея всеединства 49
Софиология B.C. Соловьева 5 5
Историософия B.C. Соловьева. Идея теократии 60
Нравственная философия. «Оправдание добра» 64
Глава2
Соловьев и Шеллинг 69
Понятие всеединства 70
Сверхсубстанциальность Бога.
«Бытие есть не что иное, как воля» 74
Содержание
465
Теокосмическая катастрофа:
отпадение от Бога Его «Другого» 79
Учение о развивающемся и страдающем Боге 83
Глава 3
Искушение диалектикой: Соловьев и Гегель 92
Абсолют Гегеля как единство тождества
и нетождества 92
Противоречие как верховный принцип
системы Гегеля 95
Всемогущество отрицания 98
Учение Гегеля о развивающемся Боге 102
Гегелевские влияния в творчестве B.C. Соловьева 106
Критика Соловьевым Гегеля
с позиций спиритуалистического реализма 108
Учение о Сущем и о человечестве
как Втором Абсолюте 114
РазделП
Религиозная философия XIX века:
современники Соловьева 119
Глава 4
«Конкретный идеализм*
кн. С.Н. Трубецкого как учение
об универсальной соотносительности сущего 121
Жизненный путь 121
Греческая философия и библейское откровение 127
С. Трубецкой и Л. Шестов 132
Протестантизм как общий корень субъективизма
новоевропейской философии 136
Соборность человеческого сознания 140
Универсальная чувственность, или мировая душа.
Софиология СН. Трубецкого 144
Разум и вера. Критика отвлеченного идеализма 151
Трубецкой против имморализма
и романтики насилия 158
466
Содержание
Глава 5
Утрата середины. Эстетический аморализм
и аскетическое православие Константина Леонтьева 162
Жизнь и творчество 1б4
Леонтьев и славянофилы 170
Философия истории К. Леонтьева. Критика
«гуманистического морализма» и «розового
христианства» Достоевского и Вл. Соловьева 180
КН. Леонтьев — литературный критик 193
Критика буржуазного общества с точки зрения
эстетизма. Леонтьев и Ницше 206
Раздел III
Религиозная философия XX века:
поворот к метафизике 209
Глава 6
Иерархический персонализм И.О. Лосского 211
Интуитивизм, или мистический эмпиризм 214
Субстанциальный деятель
как конкретно-идеальное бытие 221
Свободная воля — сущность субстанциальных деятелей 224
Системность мира и сверхсистемное начало 228
Материальный мир
как продукт грехопадения субстанций 230
«Никто и ничто не пропадает в мире».
Теодицея Лосского 232
Учение о переселении душ 235
Глава 7
Метафизика конкретного всеединства,
или Абсолютный реализм С Л. Франка 24 2
СЛ. Франк и Вл. Соловьев '.. 242
СЛ. Франк и европейская философия
конца XIX — начала XX в 245
Критика психологизма и субстанциализма 249
Интуиция как высший род знания.
С. Франк и А. Бергсон 252
Содержание
467
♦Онтологическая гносеология» —
путь к созданию онтологии 255
Бытие как металогическое единство 265
Онтология Франка — антиномический монодуализм 273
Умудренное неведение.
Семен Франки Николай Кузанский 286
Апории Зенона и закон тождества 294
Глава 8
Анархический персонализм Николая Бердяева 301
Личность есть свобода 302
«Поту сторону добра и зла». Бердяев и Ницше 305
«В Христе все в известном смысле дозволено» 311
Бытие как зло. Мистический революционаризм
НА Бердяева 313
ЛюциферическиЙ характер свободы у НА Бердяева 317
«Святой Дух — это Святая Плоть» 327
Раздел IV
«Новое религиозное сознание»
и культура Серебряного века 323
Глава 9
Д.С. Мережковский: апокалипсис
«всесокрушающей религиозной революции» 327
«Святой Дух — это Святая Плоть» 327
Христианство «Третьего Завета» —
религия «святой общественности» 333
«Тайна Трех» 336
Иоахим Флорский — «великий пророк свободы» 342
Вселенская теократия как абсолютный анархизм 346
Глава 10
Софиология и символизм. Сергей Соловьев 356
Жизненный путь СМ. Соловьева 358
Символисты и Вл. Соловьев 364
468 Содержание
ДС. Мережковский и христианство
♦Третьего Евангелия» 368
Мережковский — критик Вл. Соловьева 373
Вл. Соловьев и Ницше 374
Сергей Соловьев против «сатанизма»
Мережковского, Розанова и Блока 377
Духовная драма Сергея Соловьева.
Соблазн «святой плоти» 383
Идея синтеза христианства и культуры 389
Осуждение Соловьевым-младшим
католических увлечений Вл. Соловьева 392
Софиология Вл. Соловьева: pro и contra 397
РазделУ
Призыв к трезвости. Самокритика
русской интеллигенции 407
Глава И
«Вехи»: Неуслышанное предостережение 409
Глава 12
Под знаком меры. Либеральный
консерватизм П.Б. Струве 437
От легального марксизма и «критического
позитивизма» к метафизике 438
Свобода как личная ответственность
и как способность к самоограничению 446
Религиозные корни либерализма.
Принцип «личной годности» 451
Указатель имен 455
Гайденко Пиама Павловна
Владимир Соловьев и философия Серебряного века