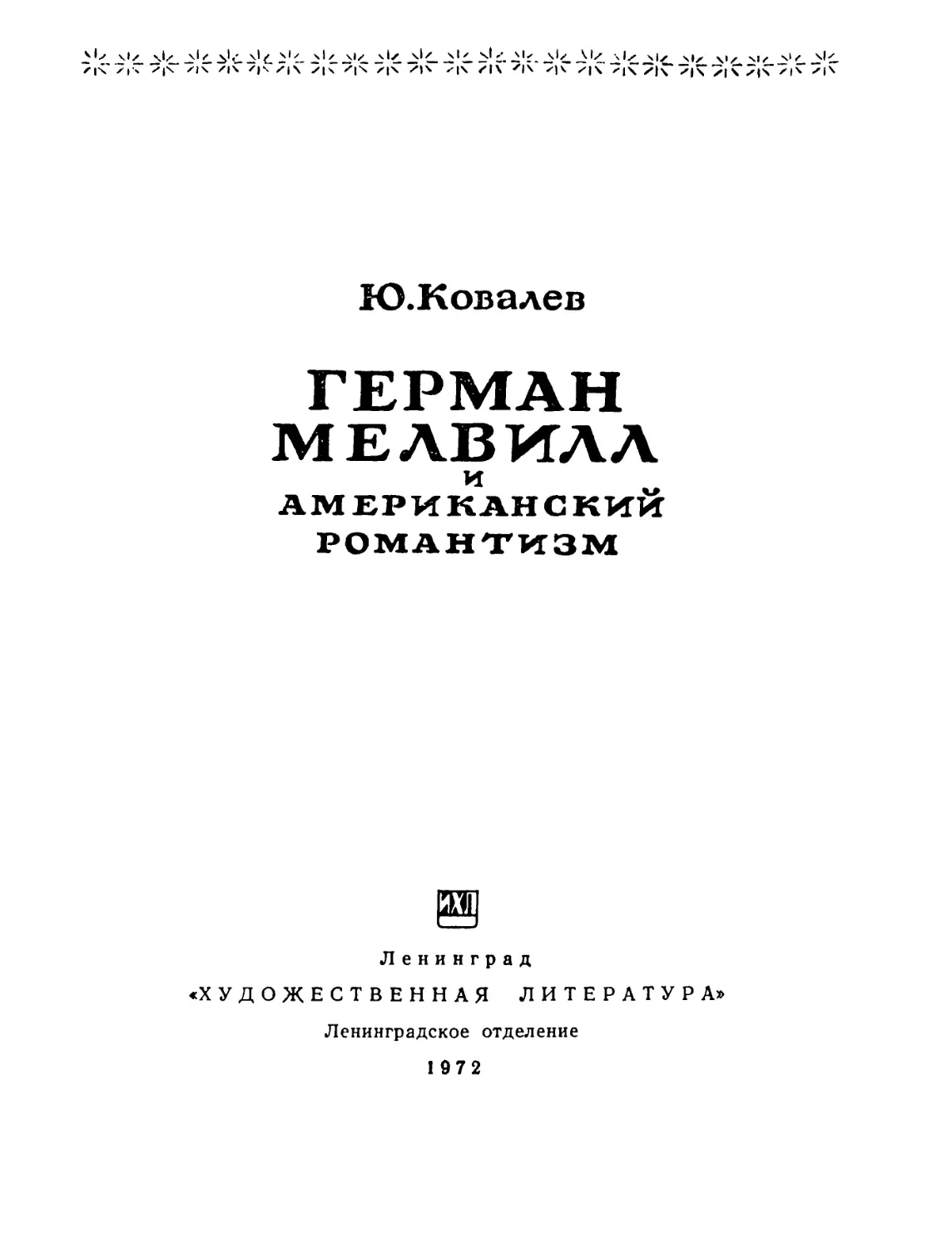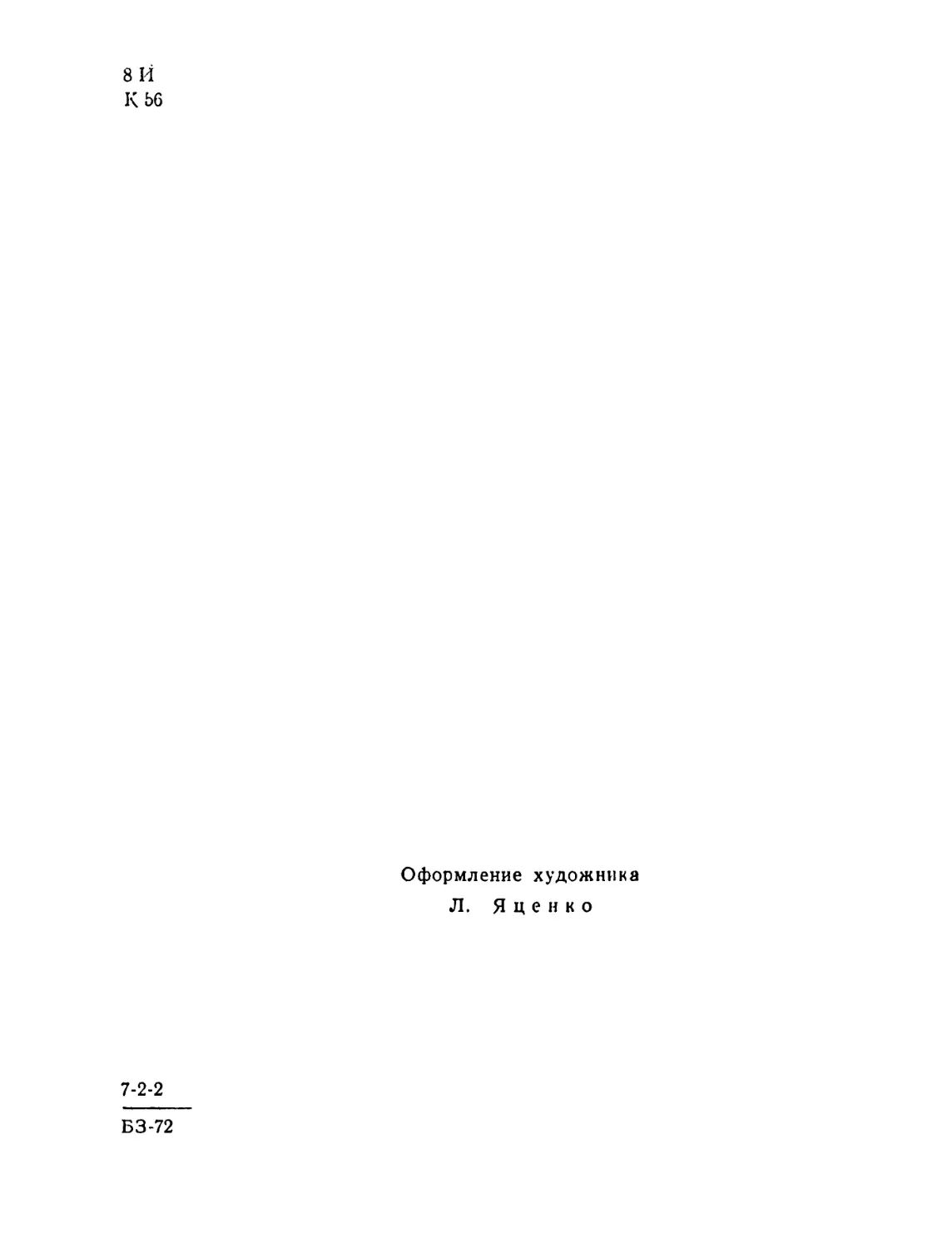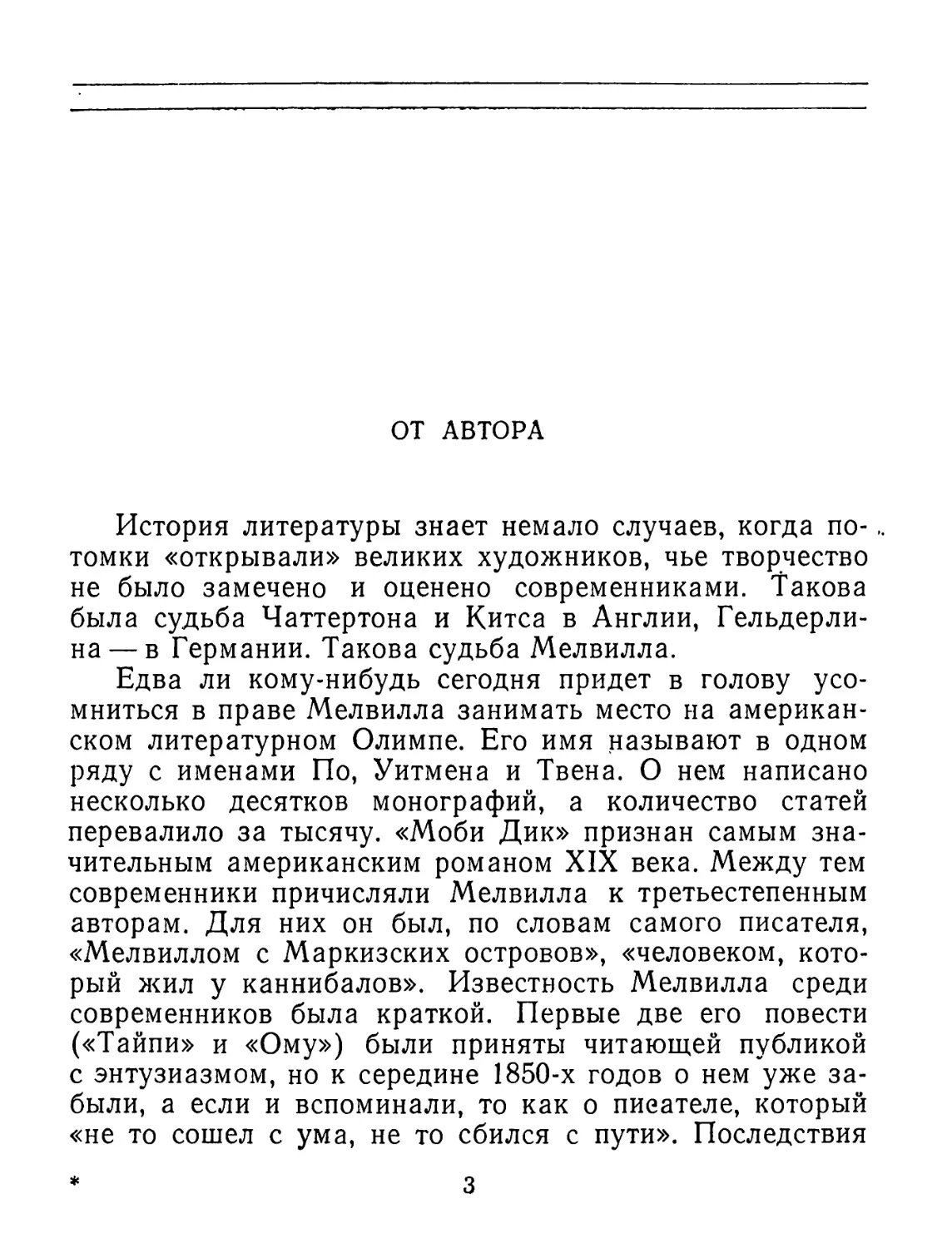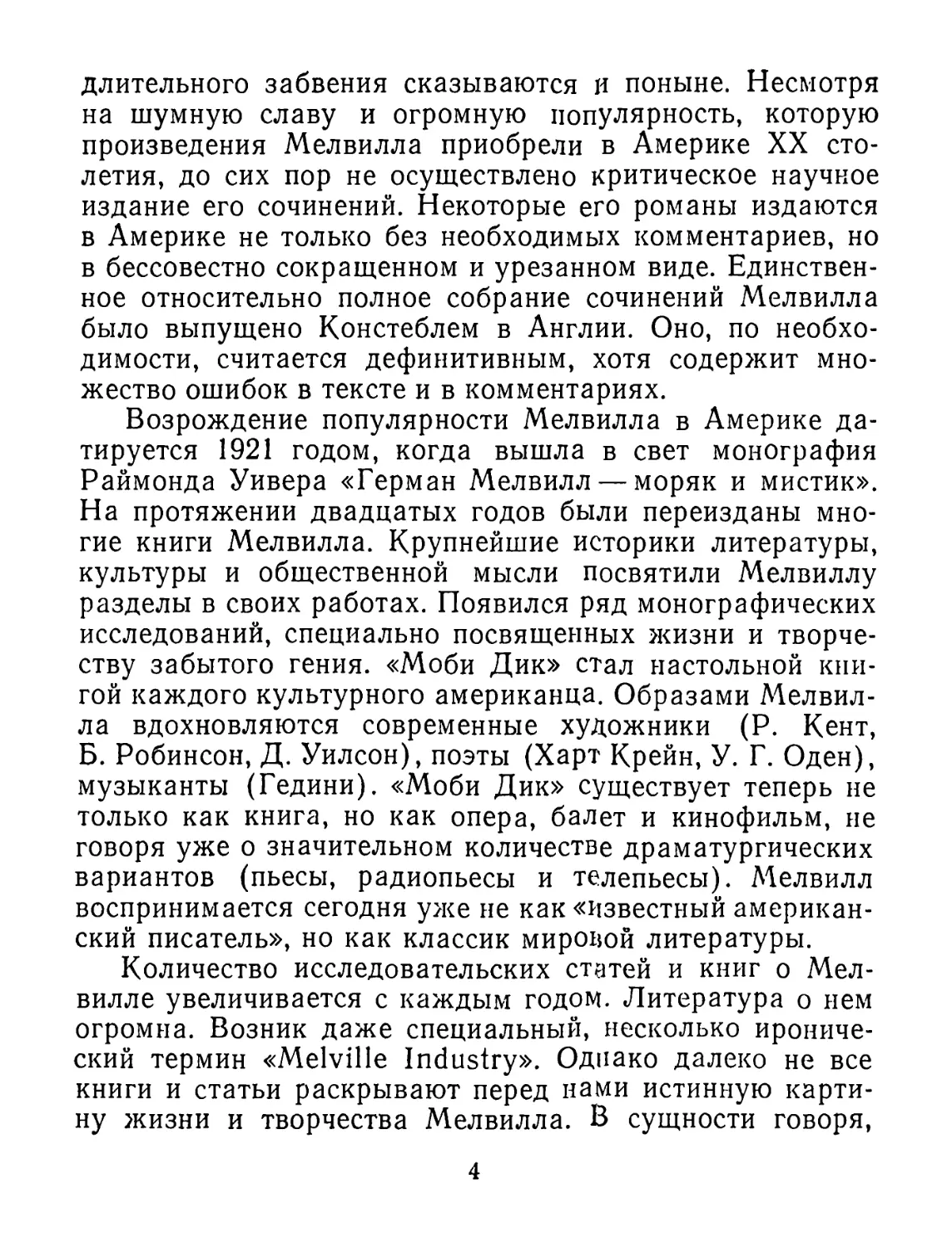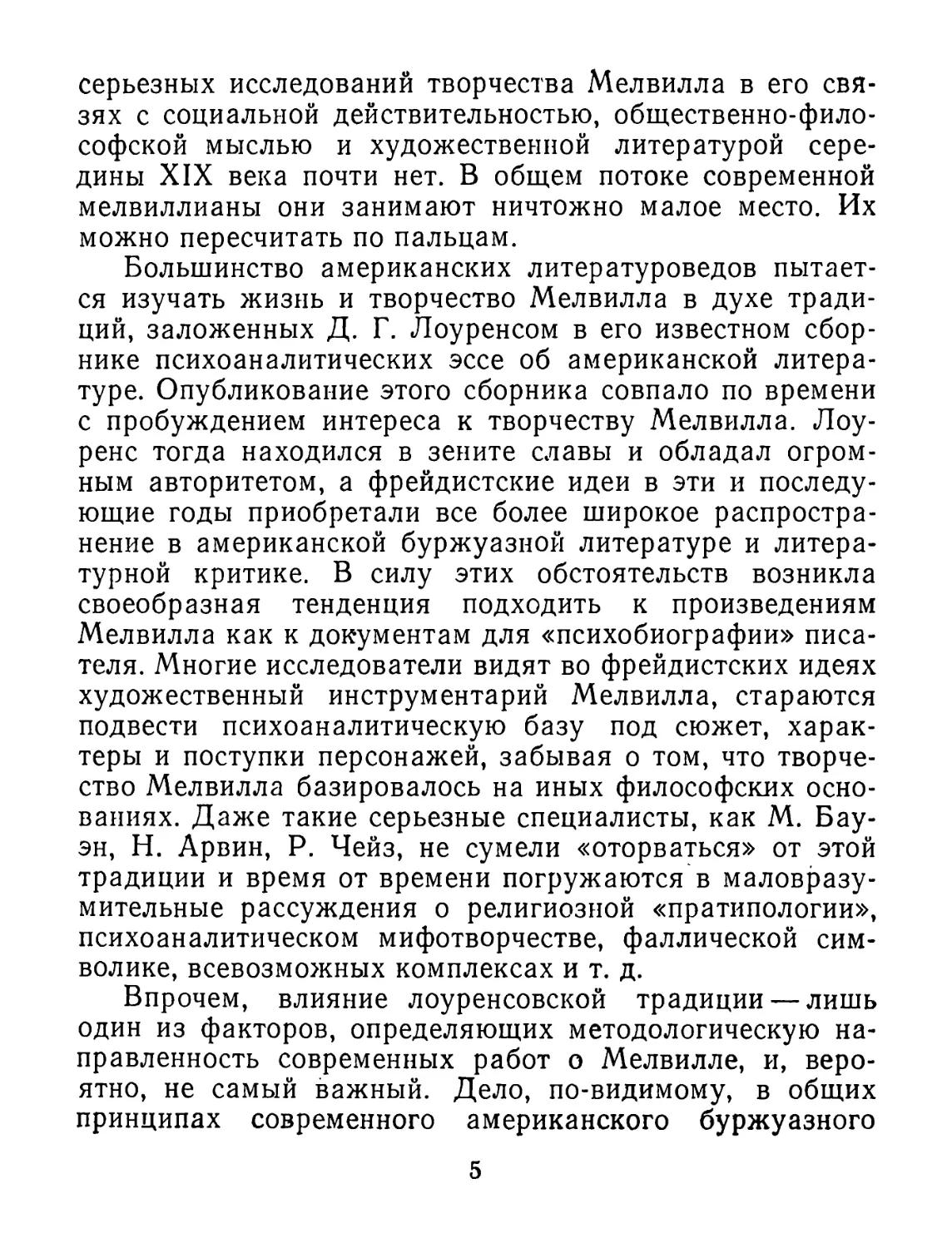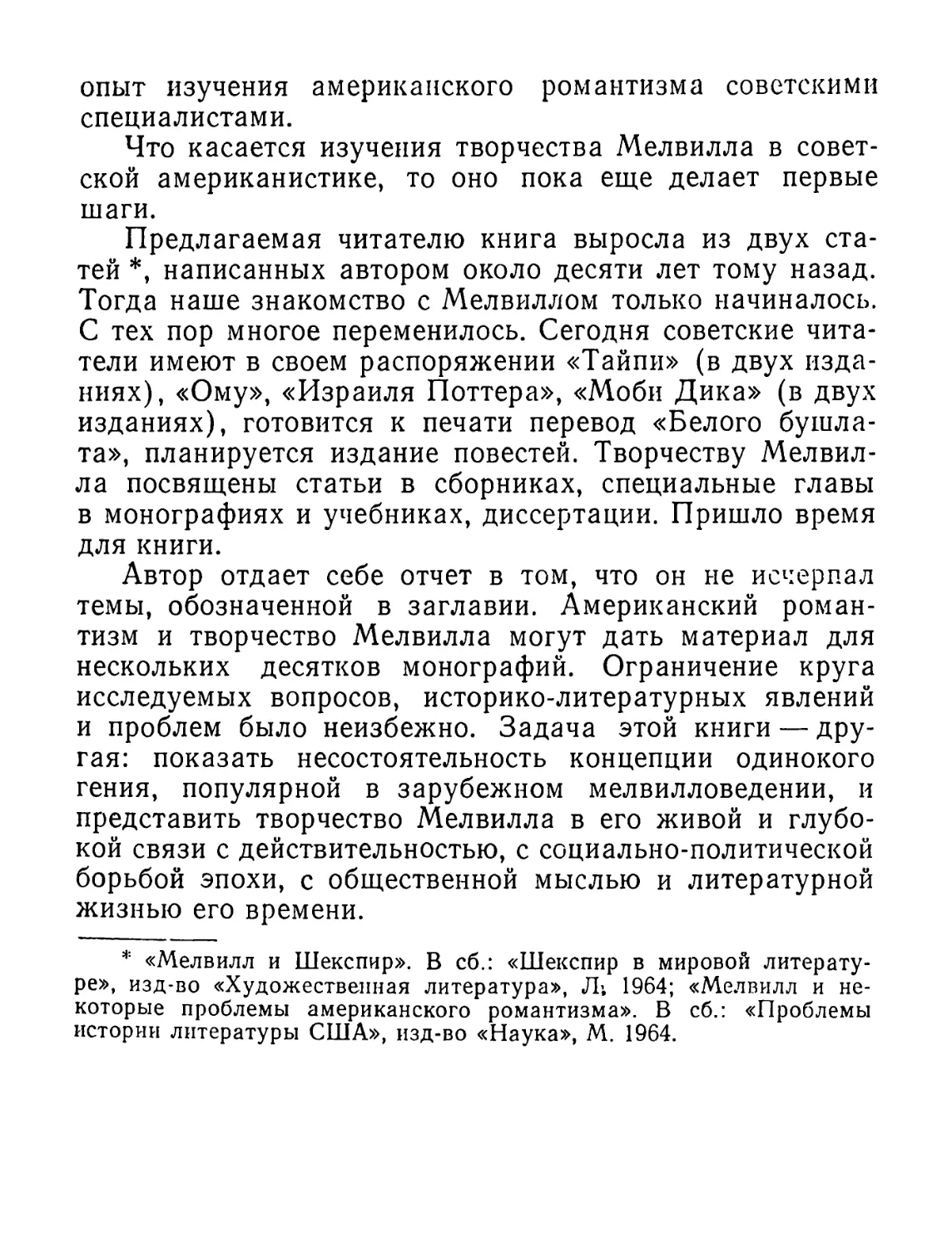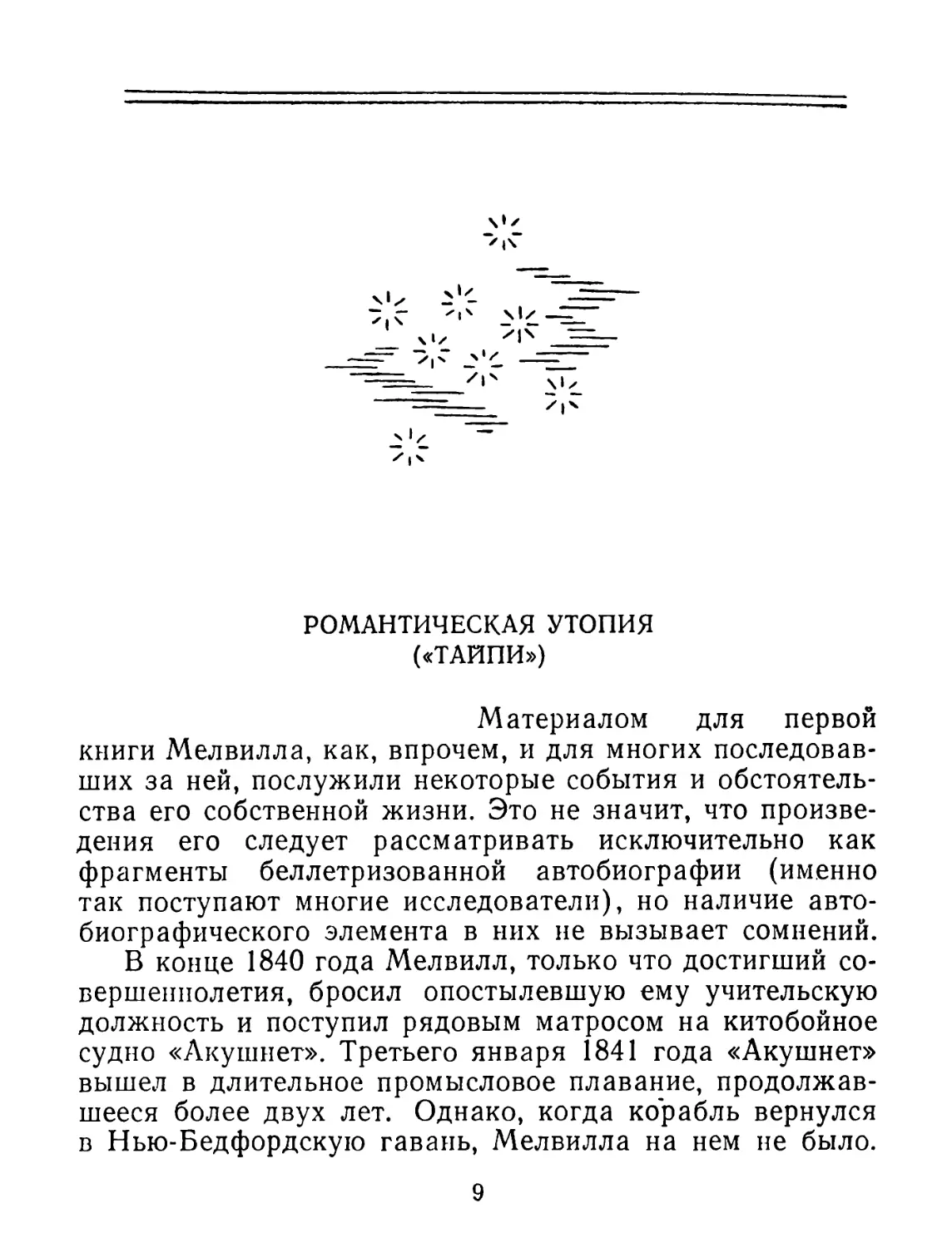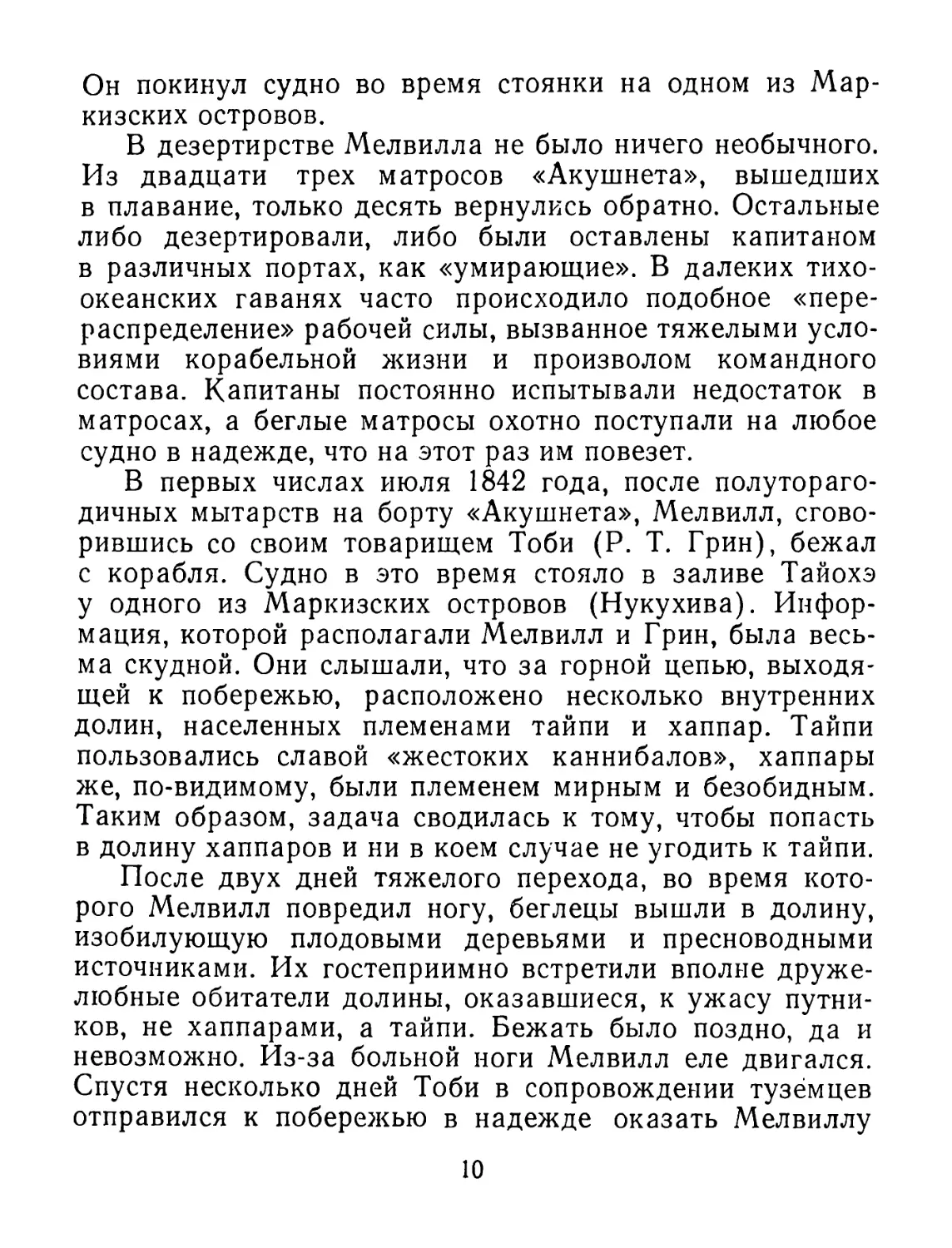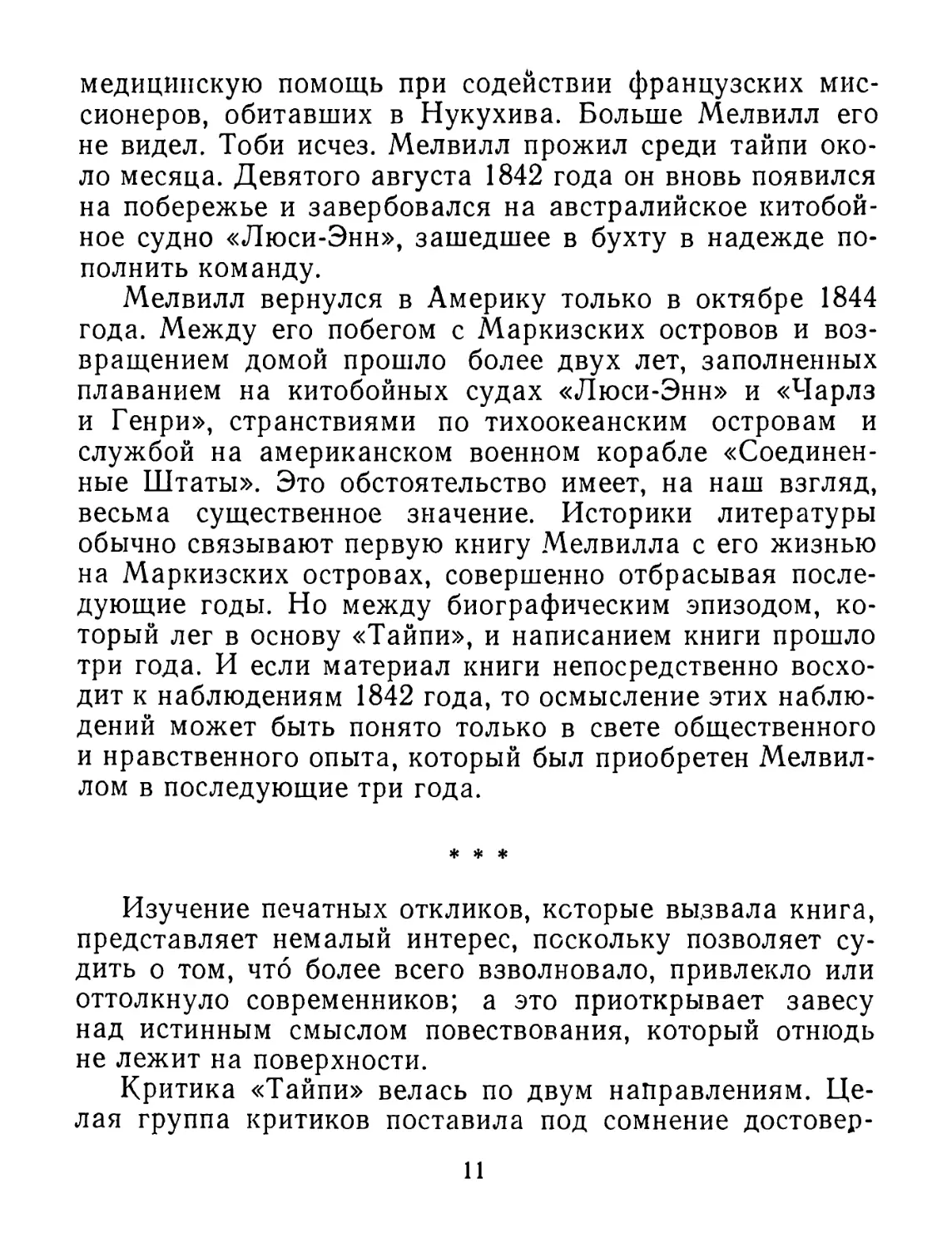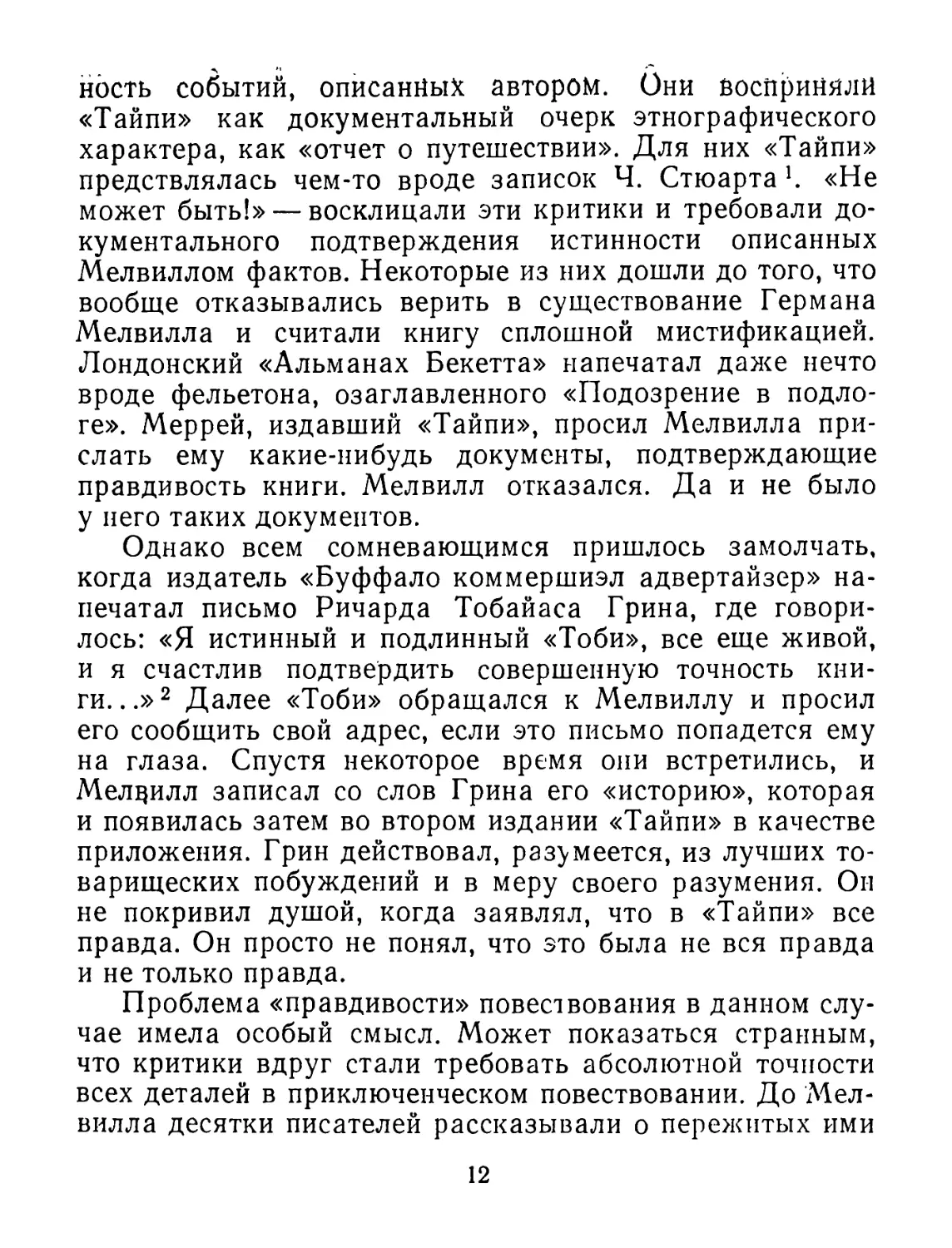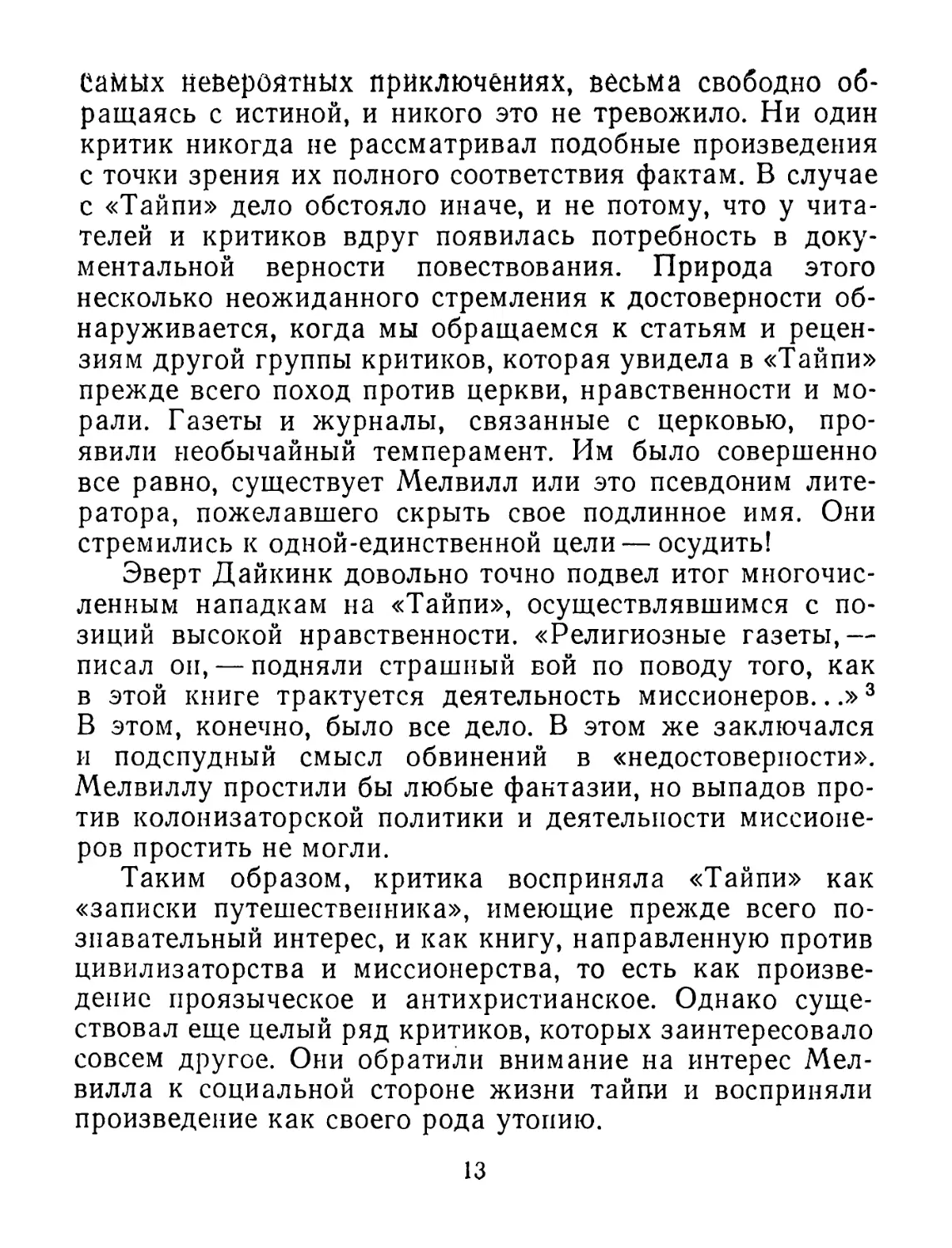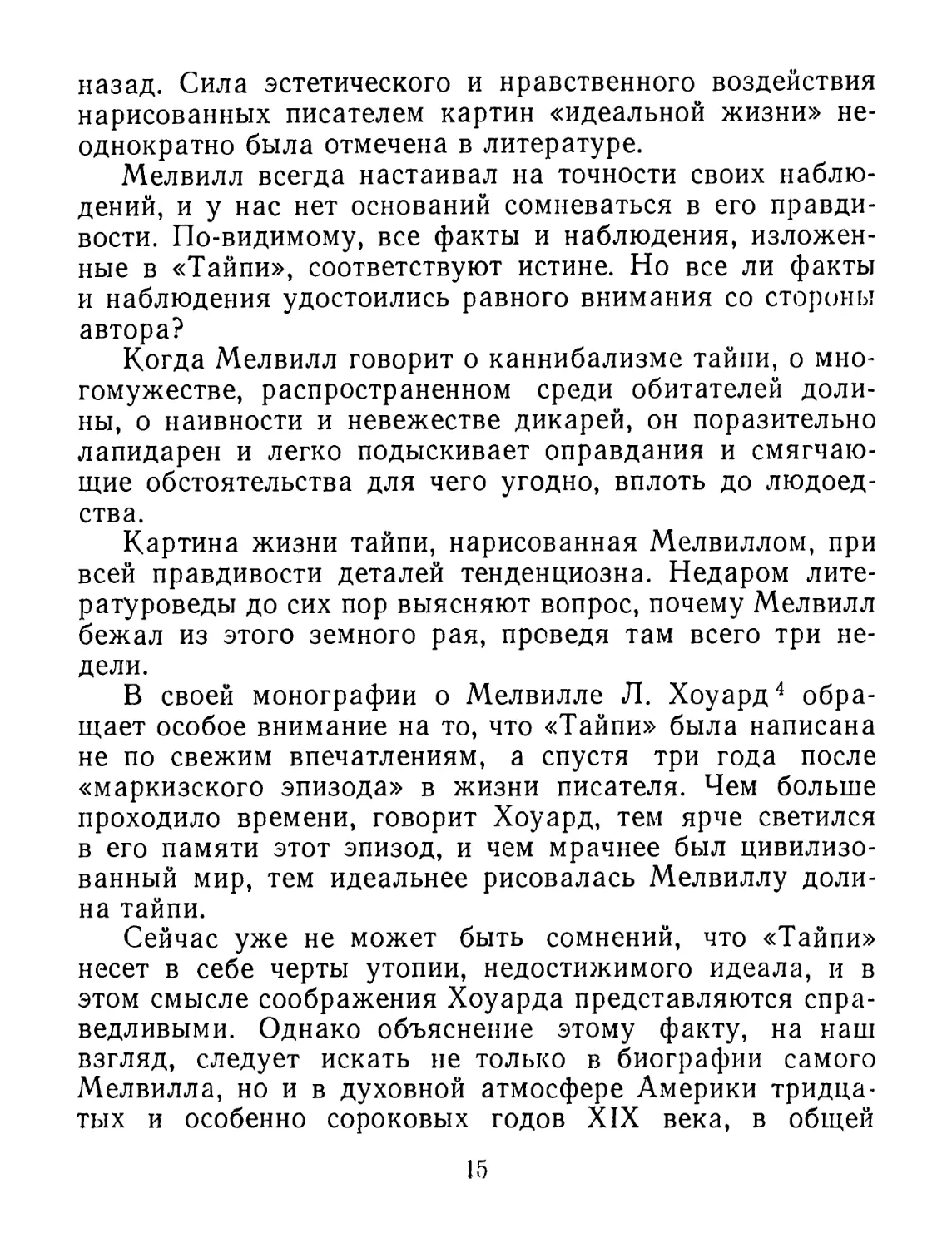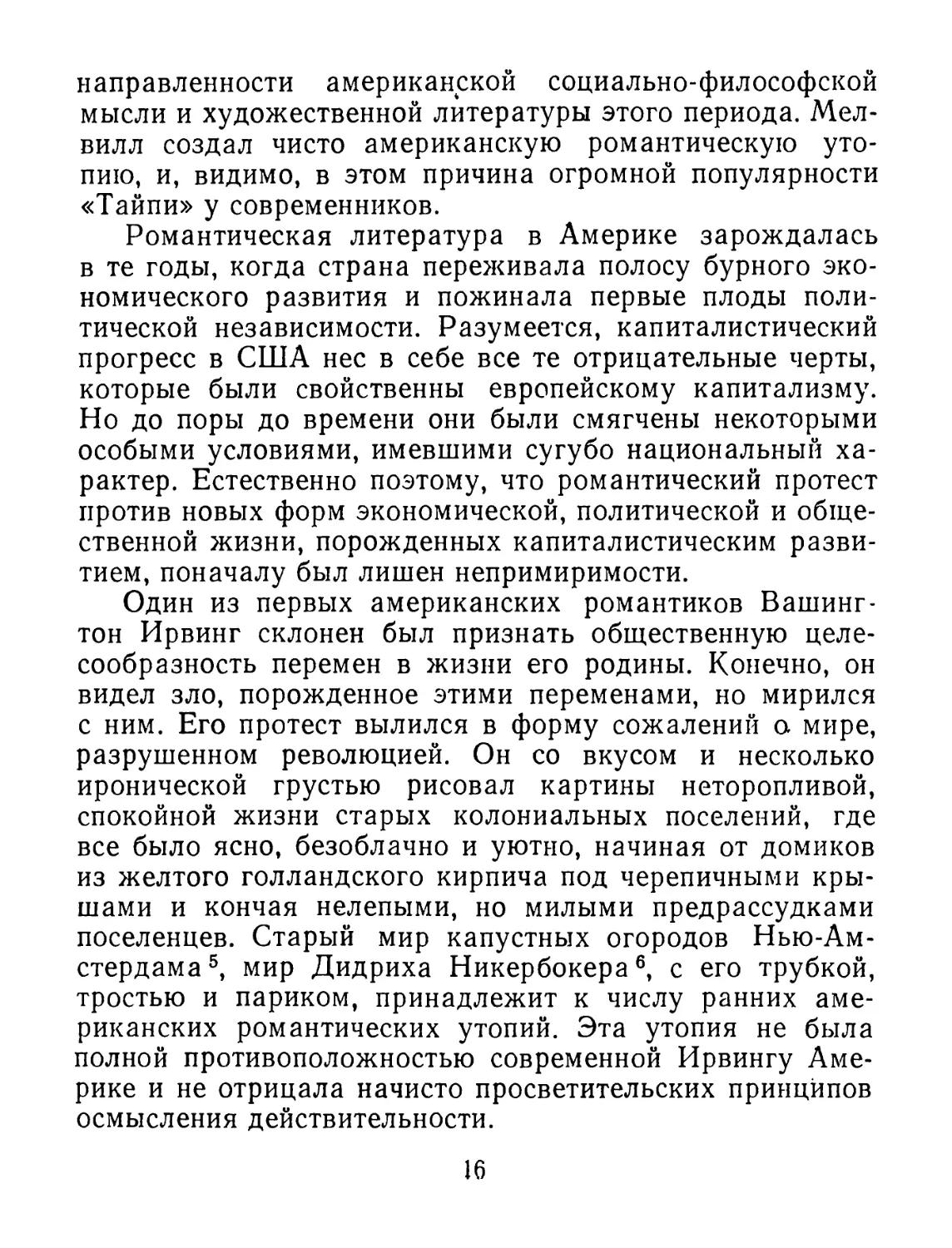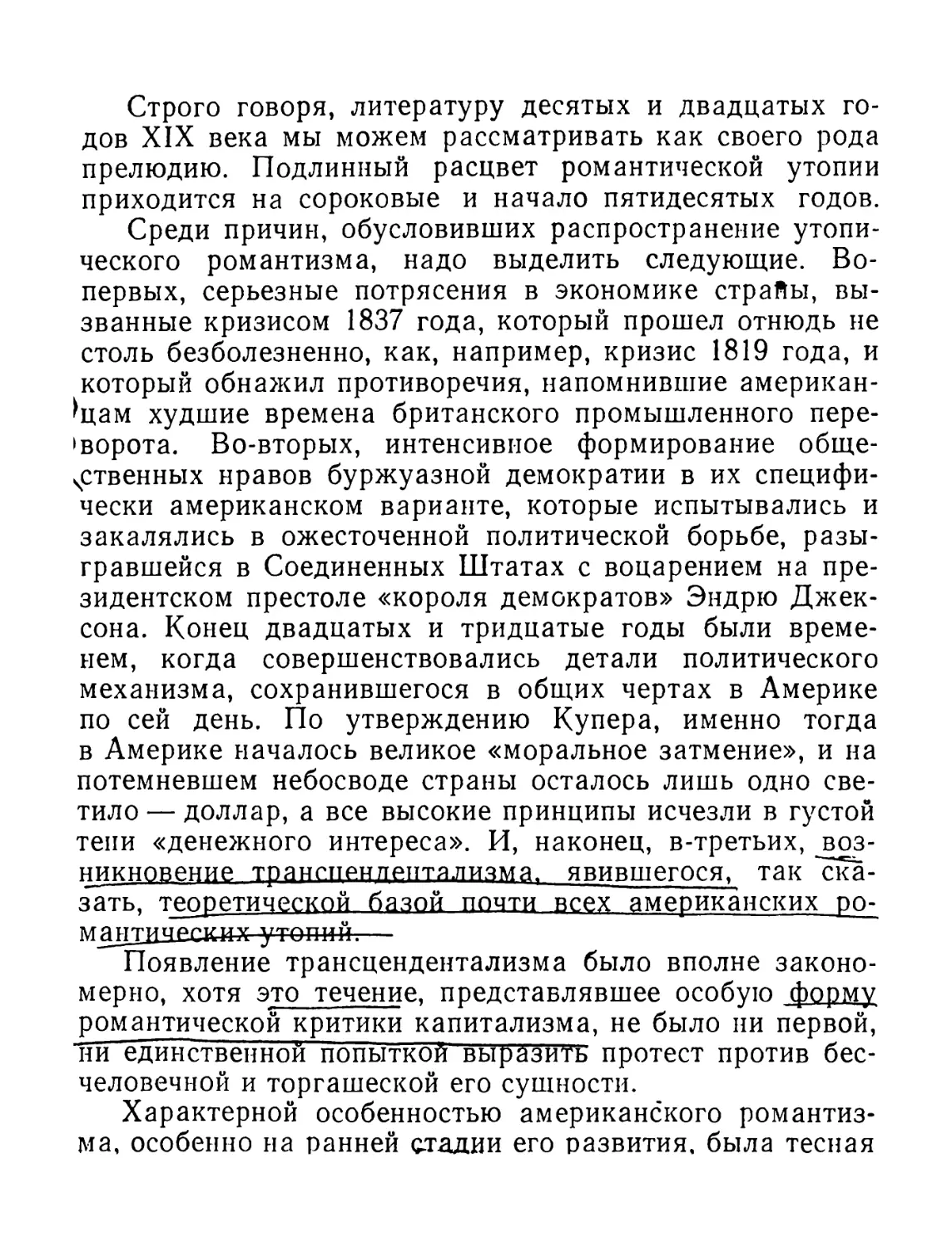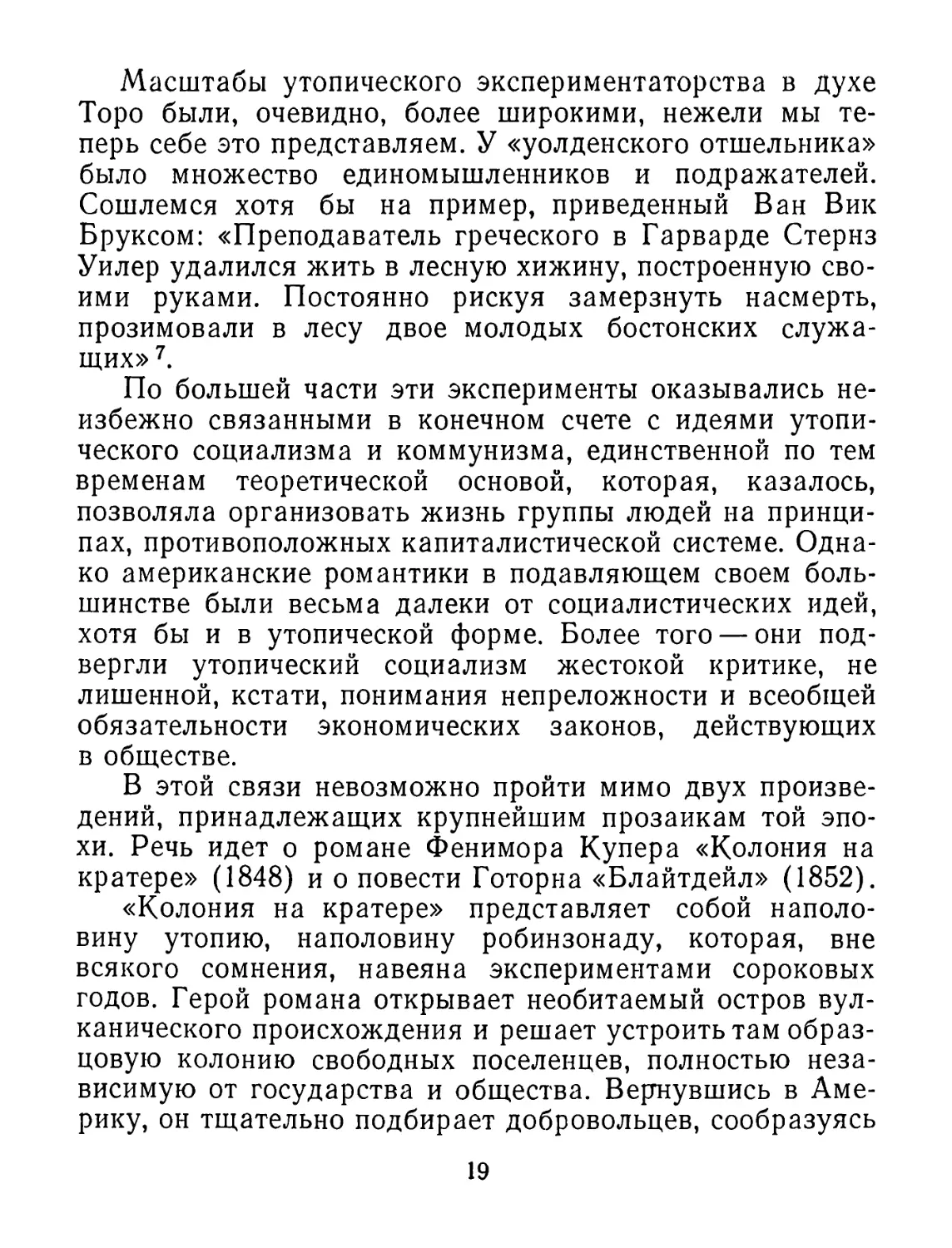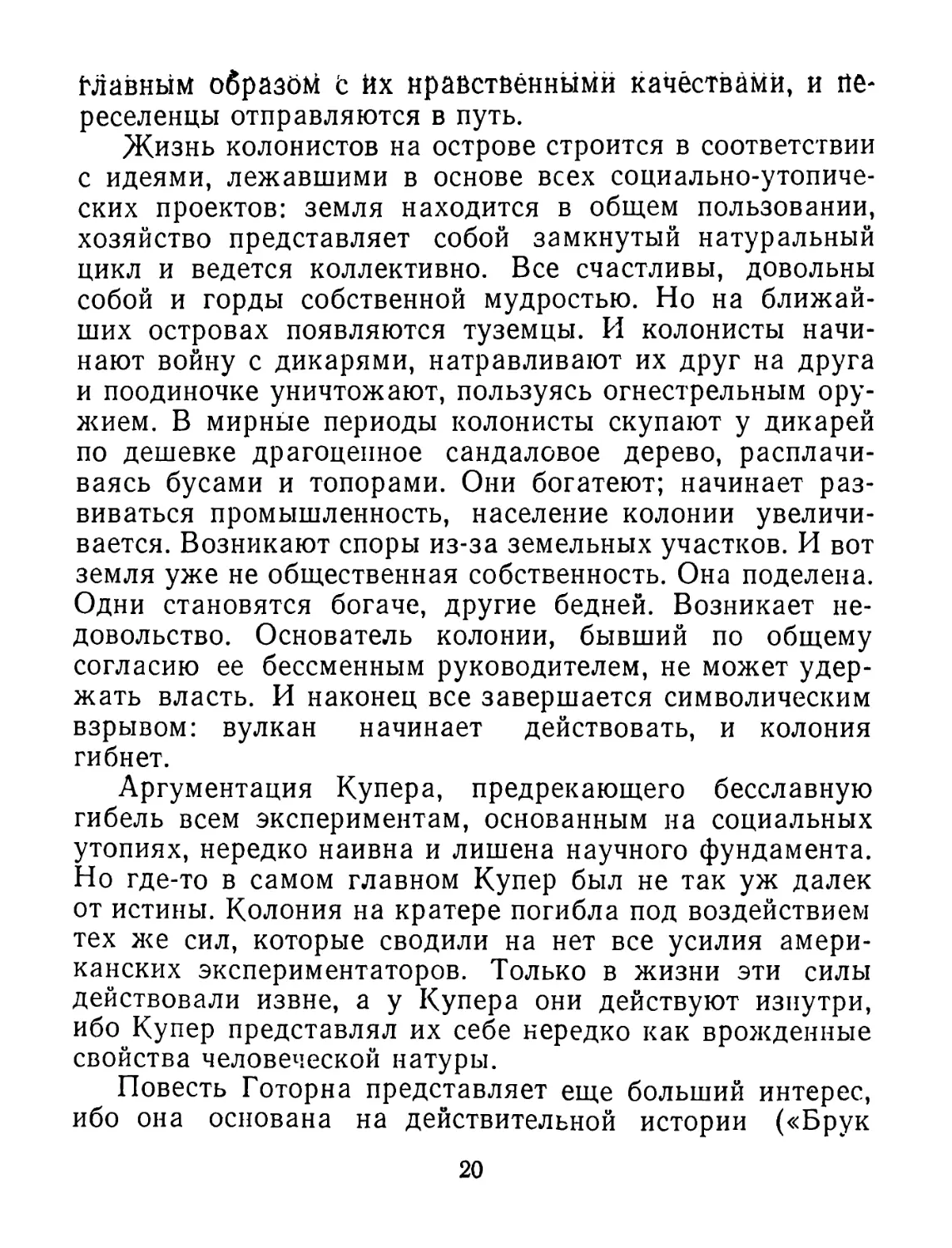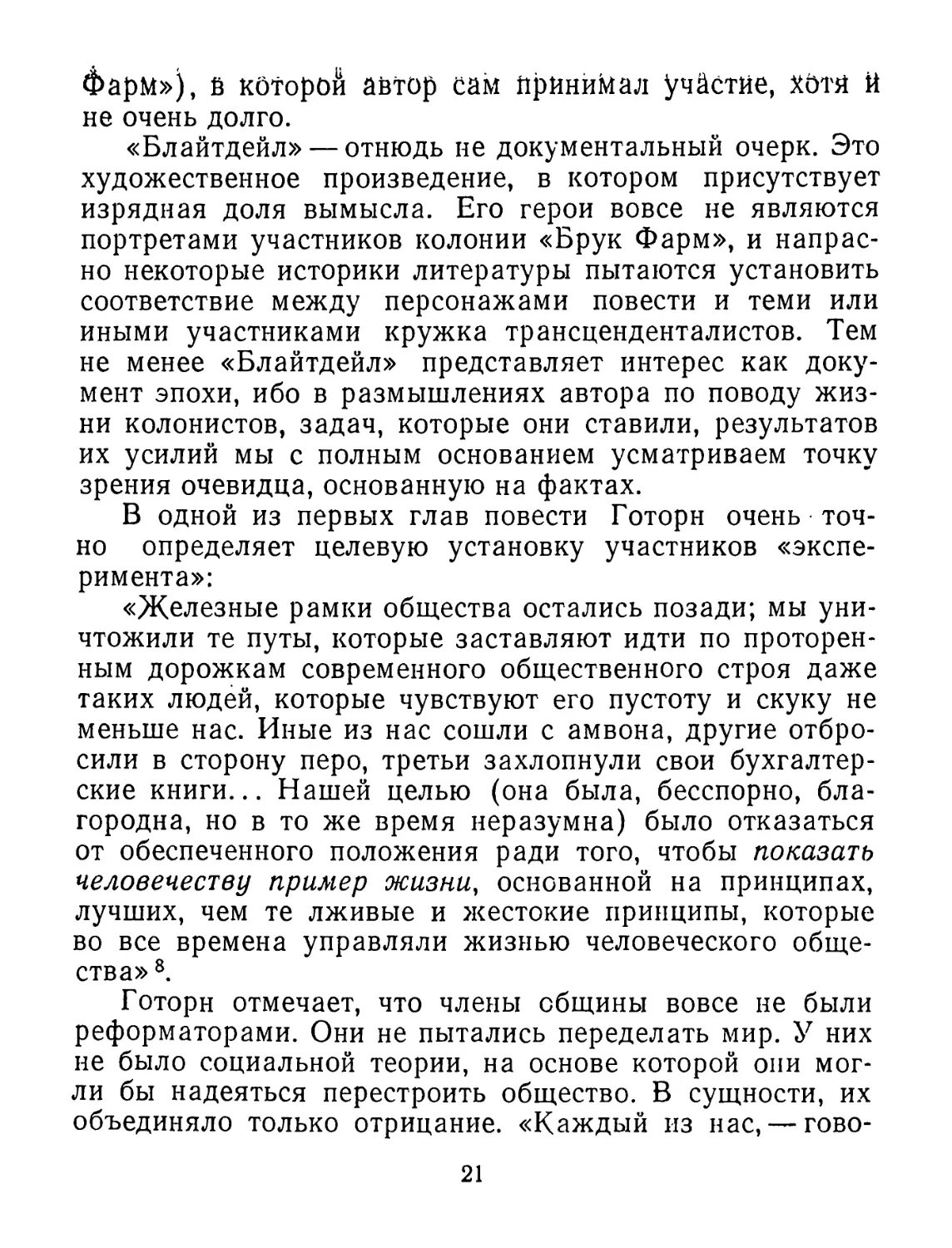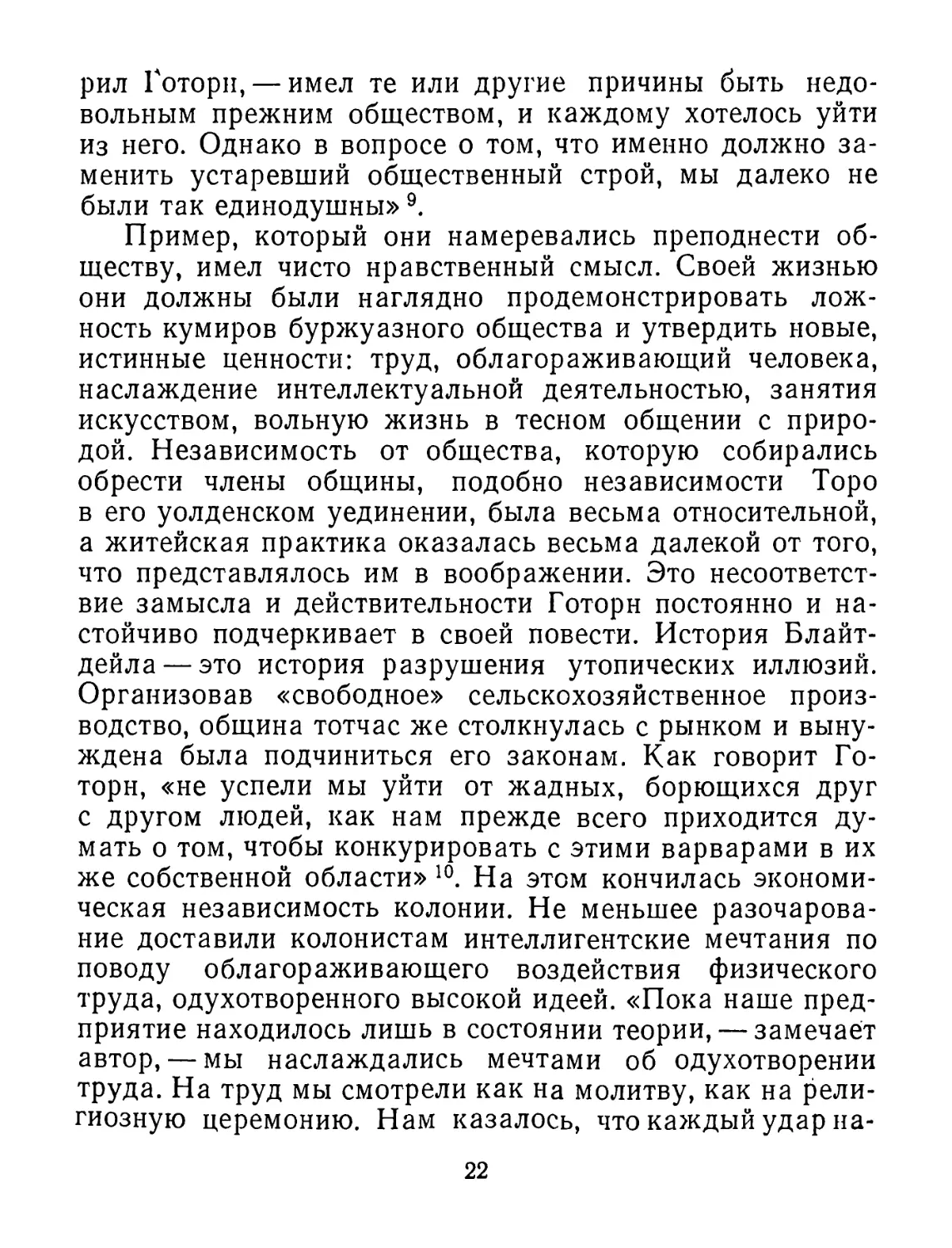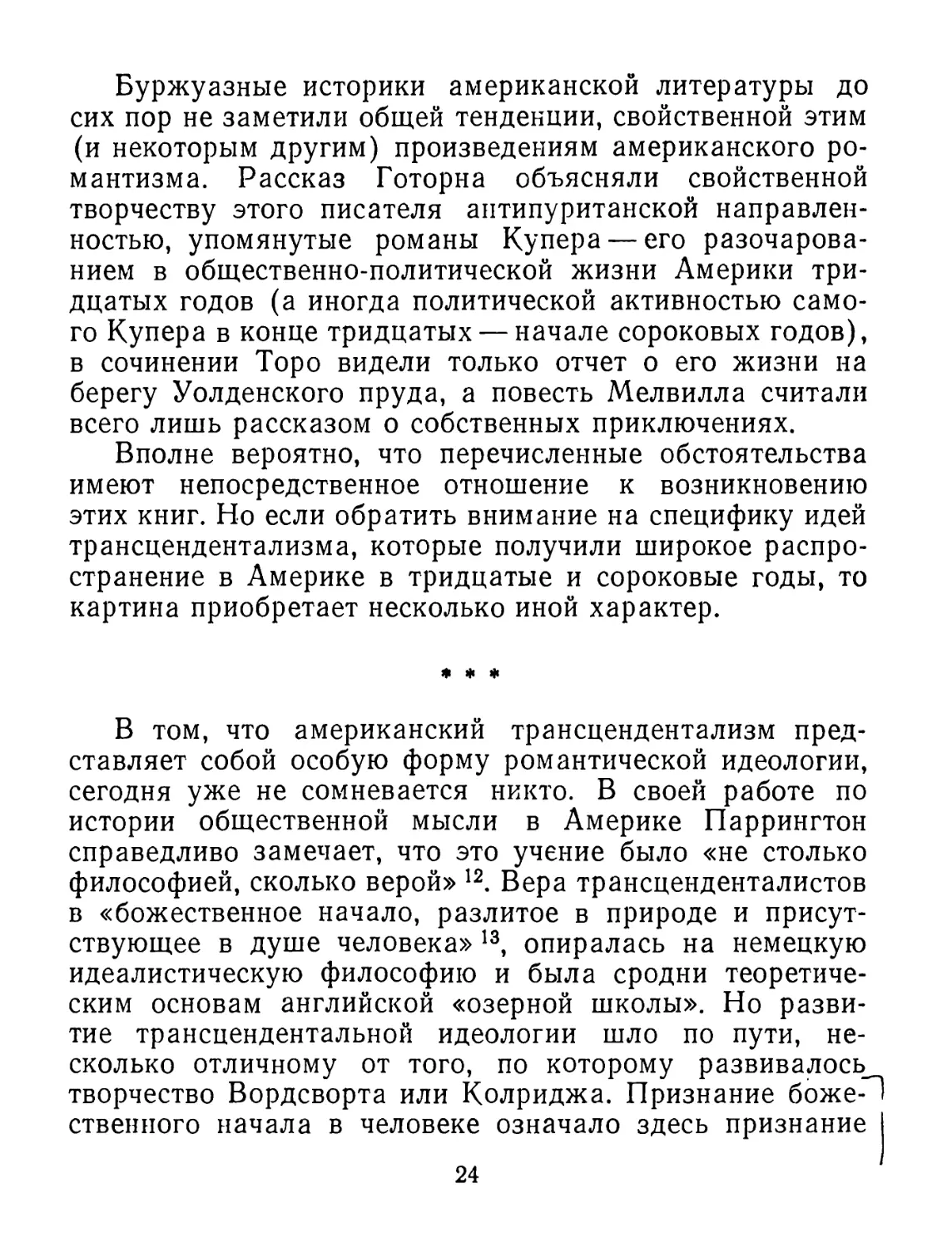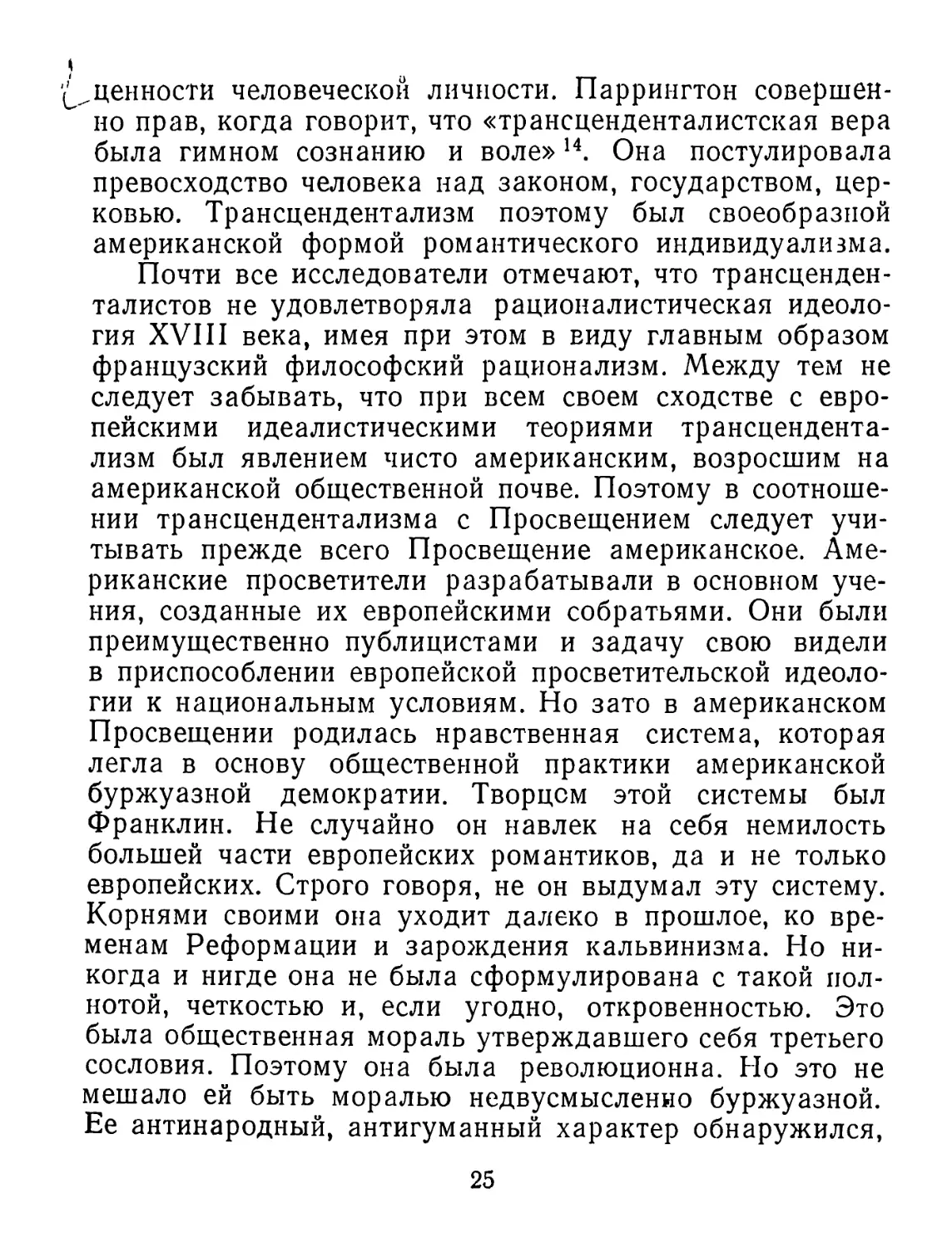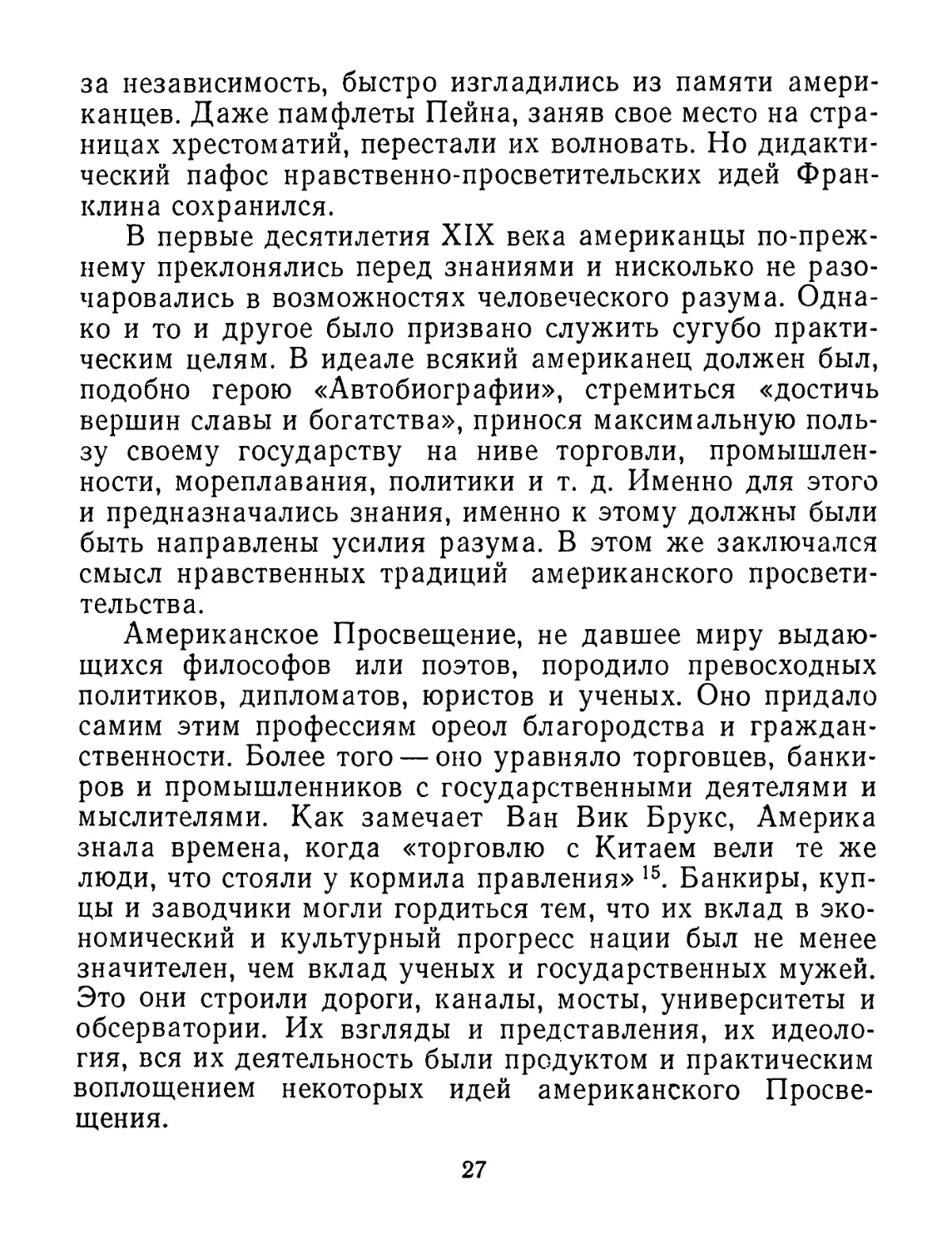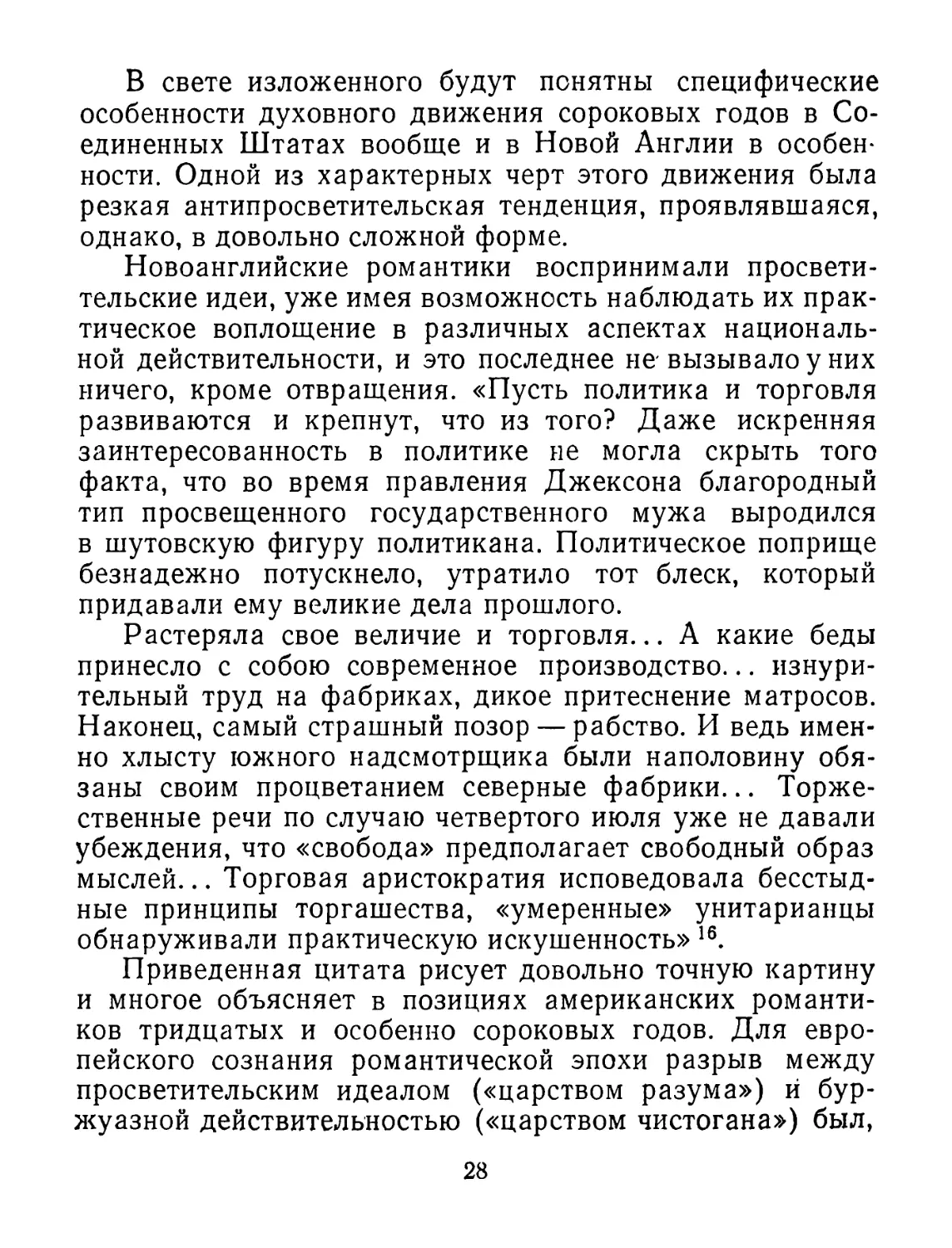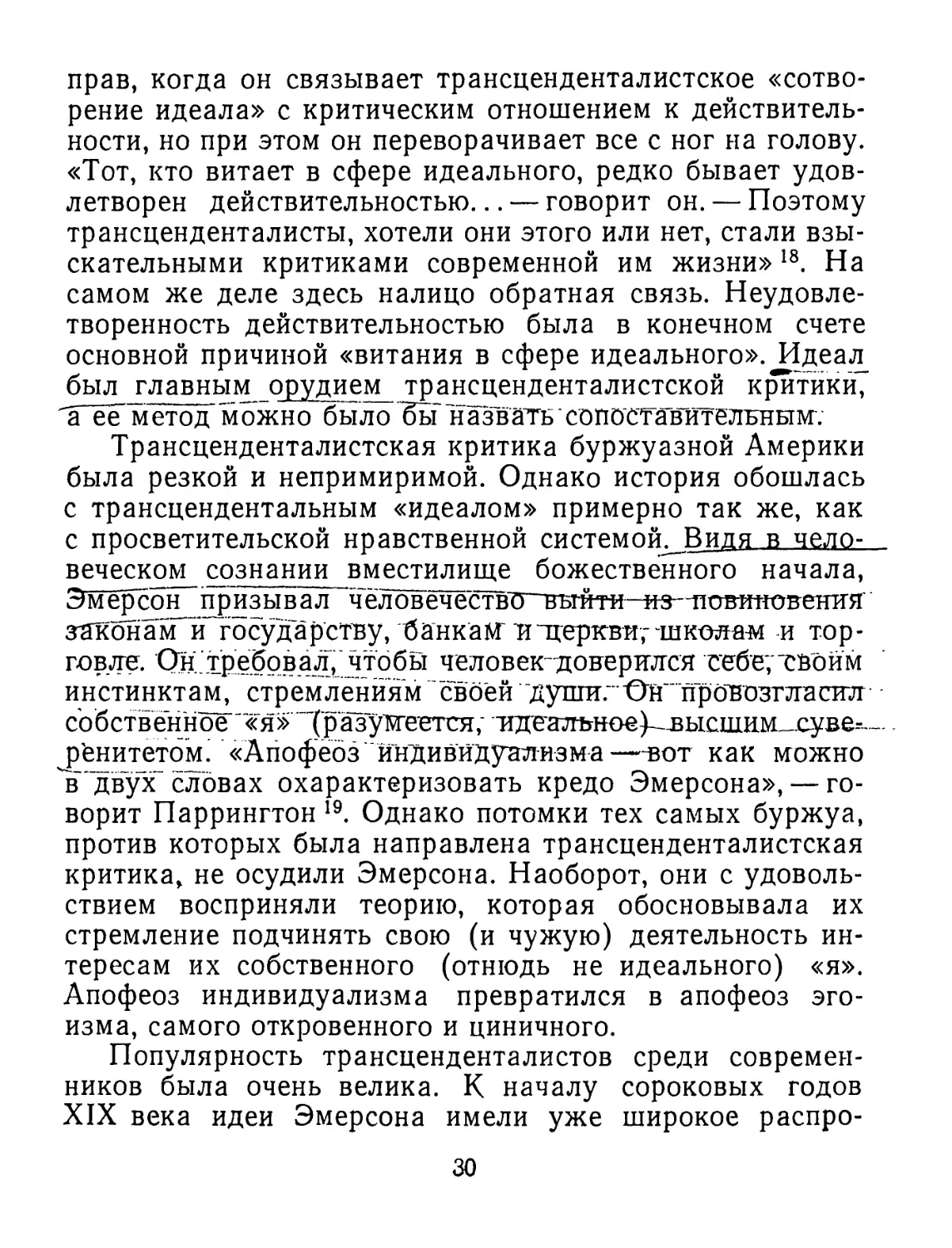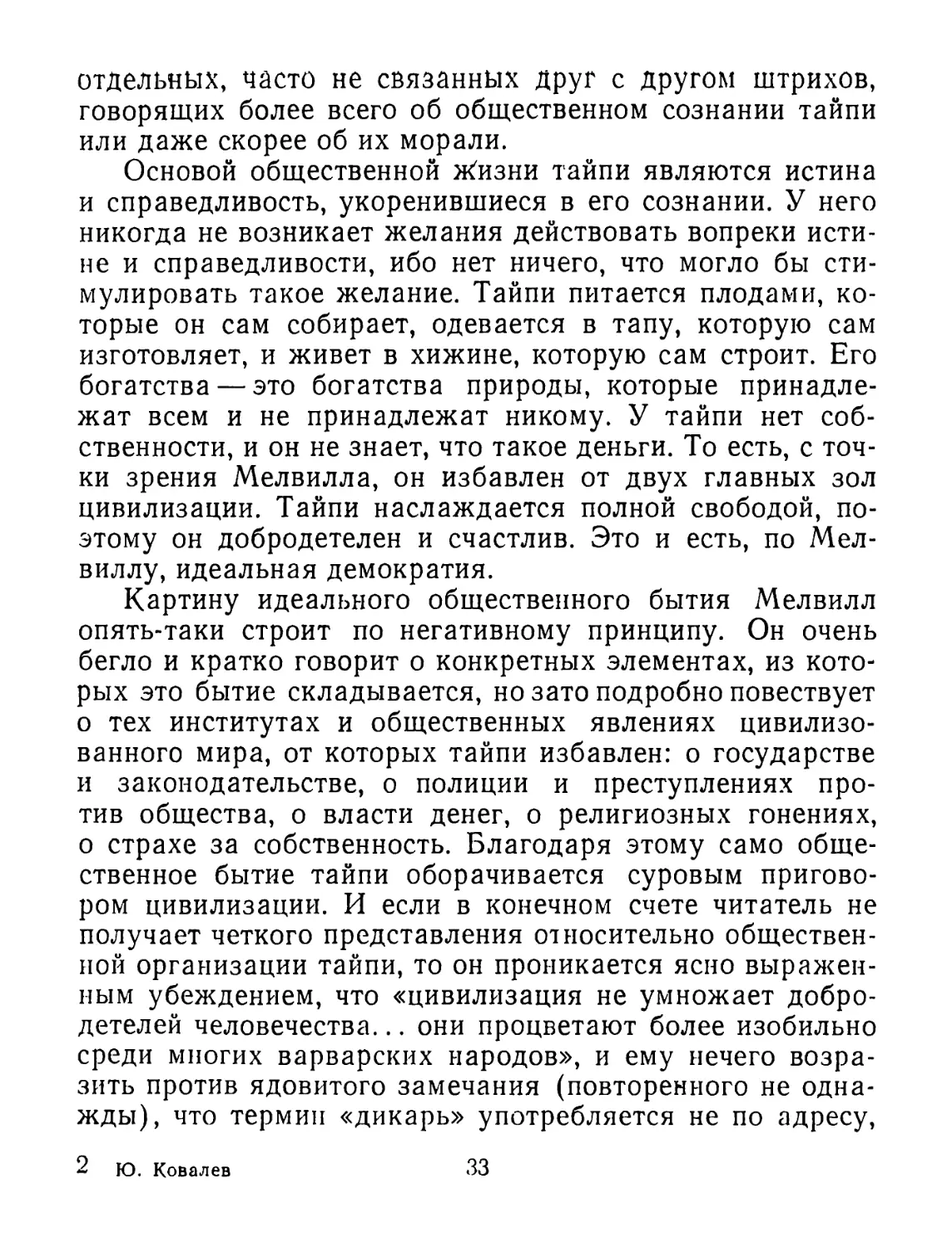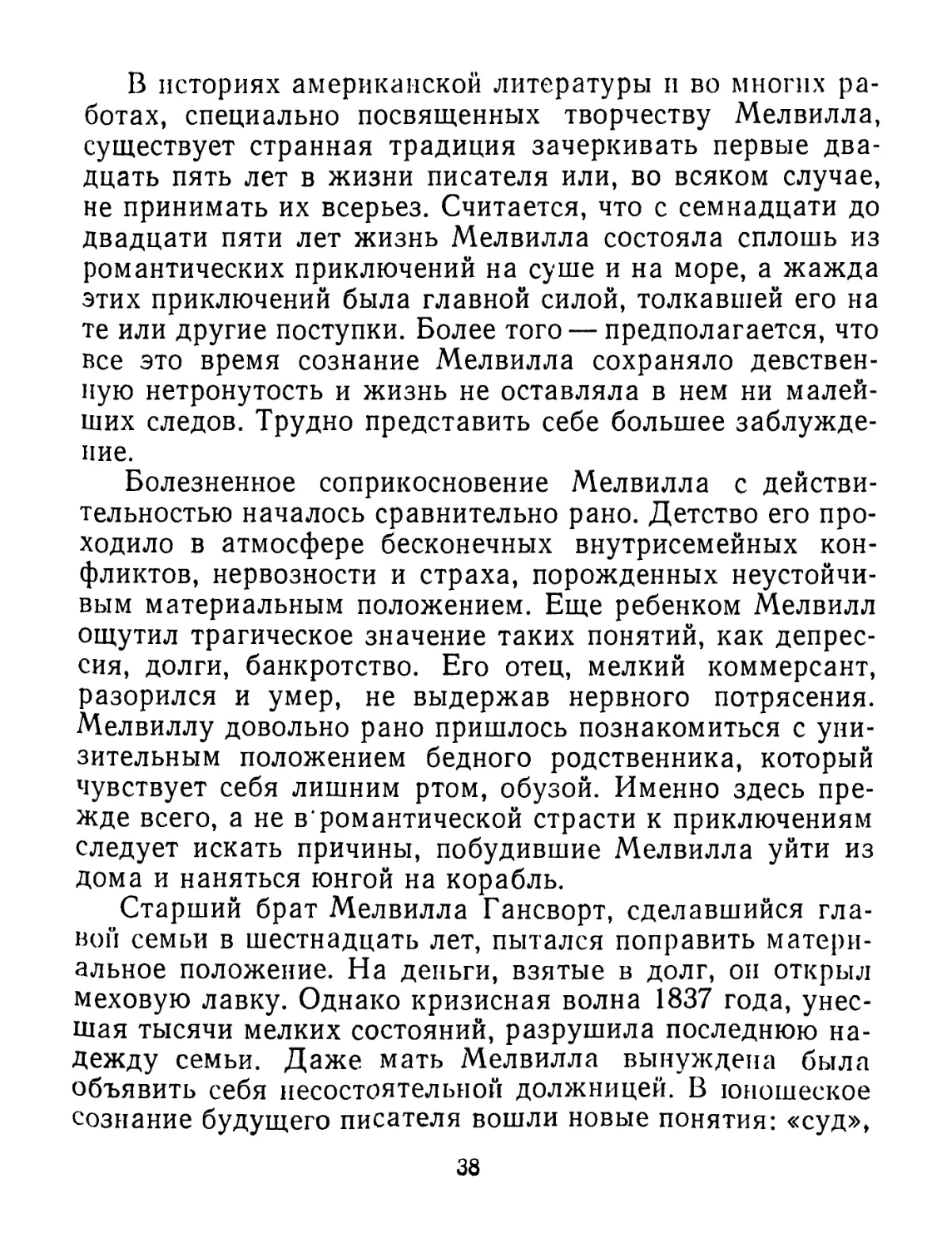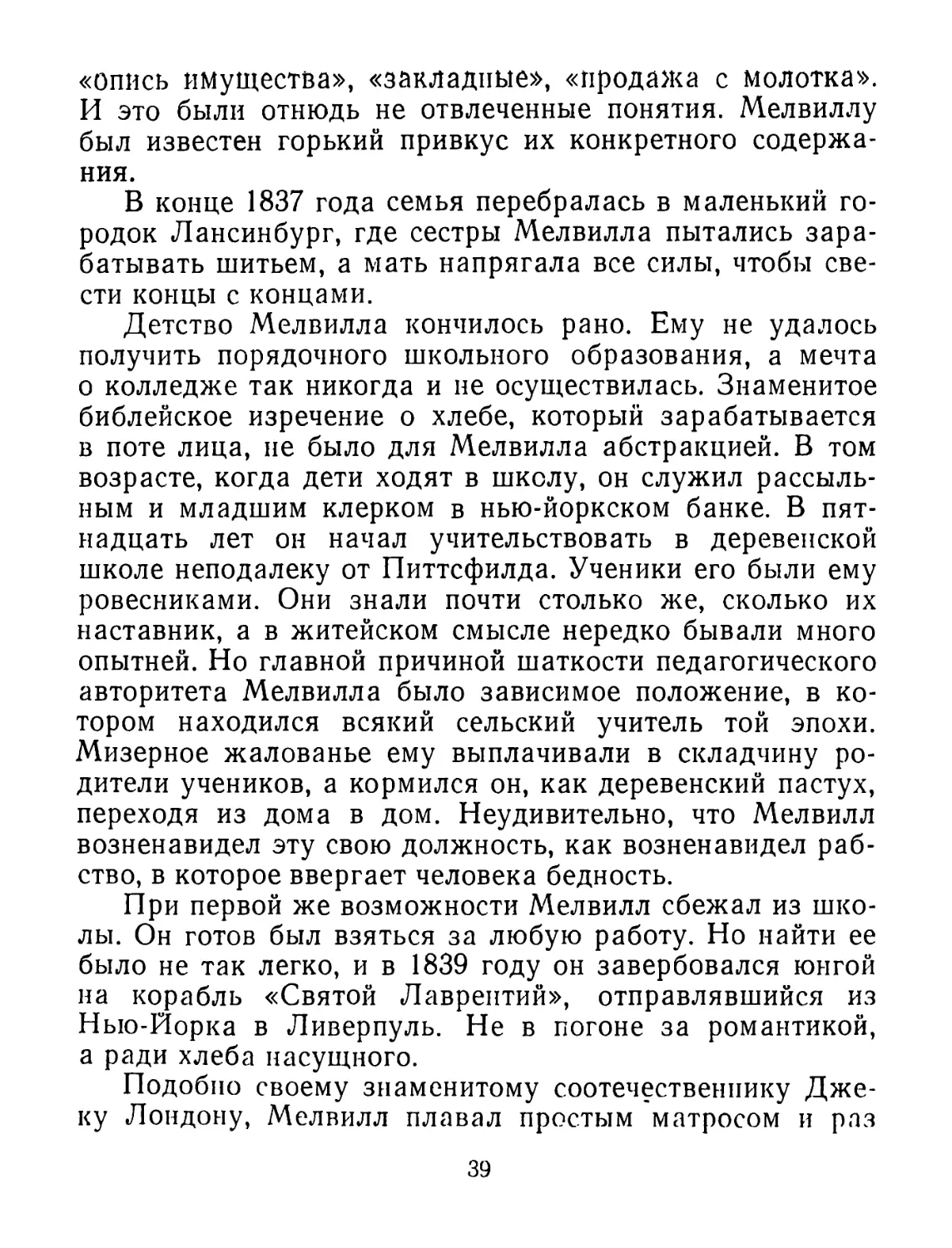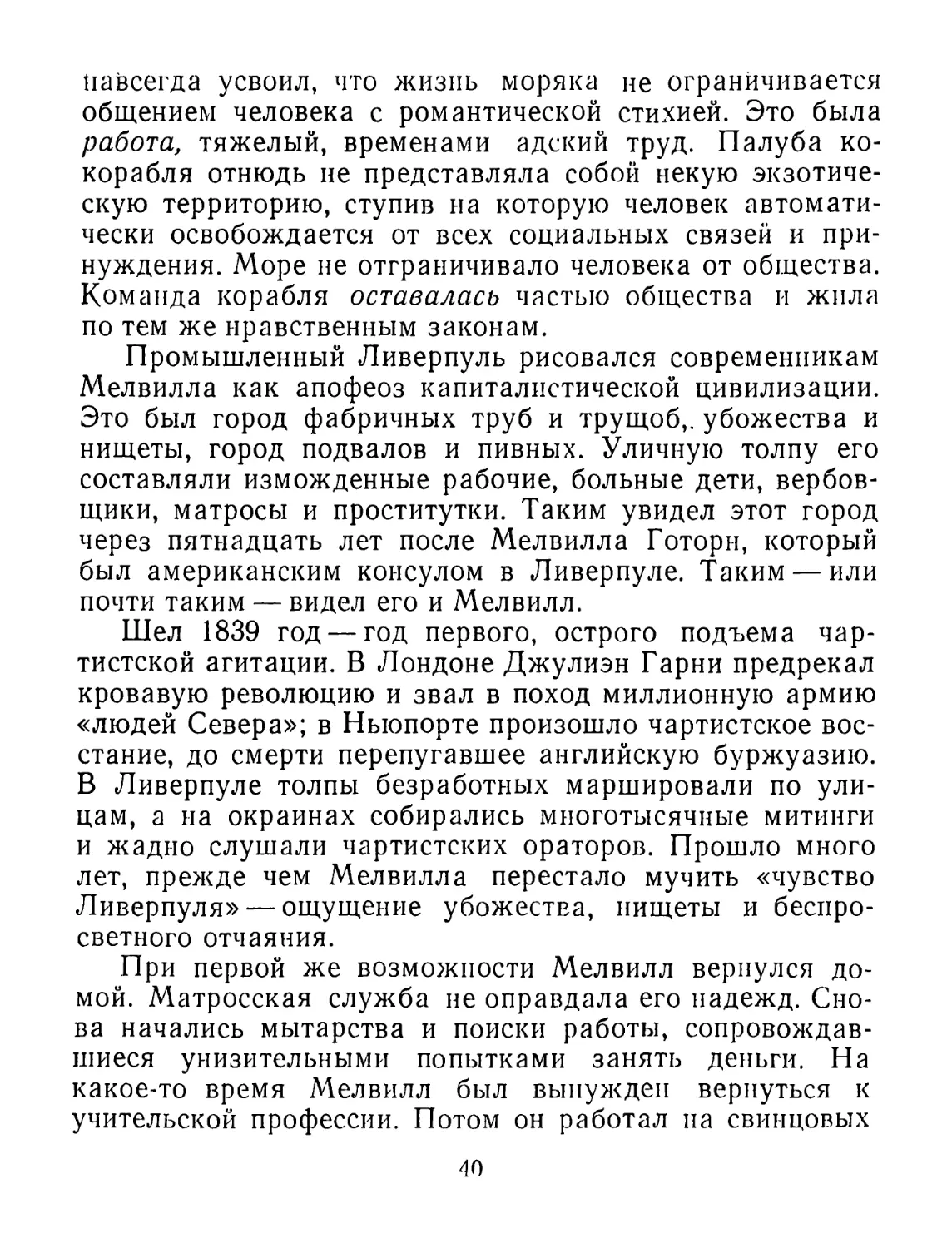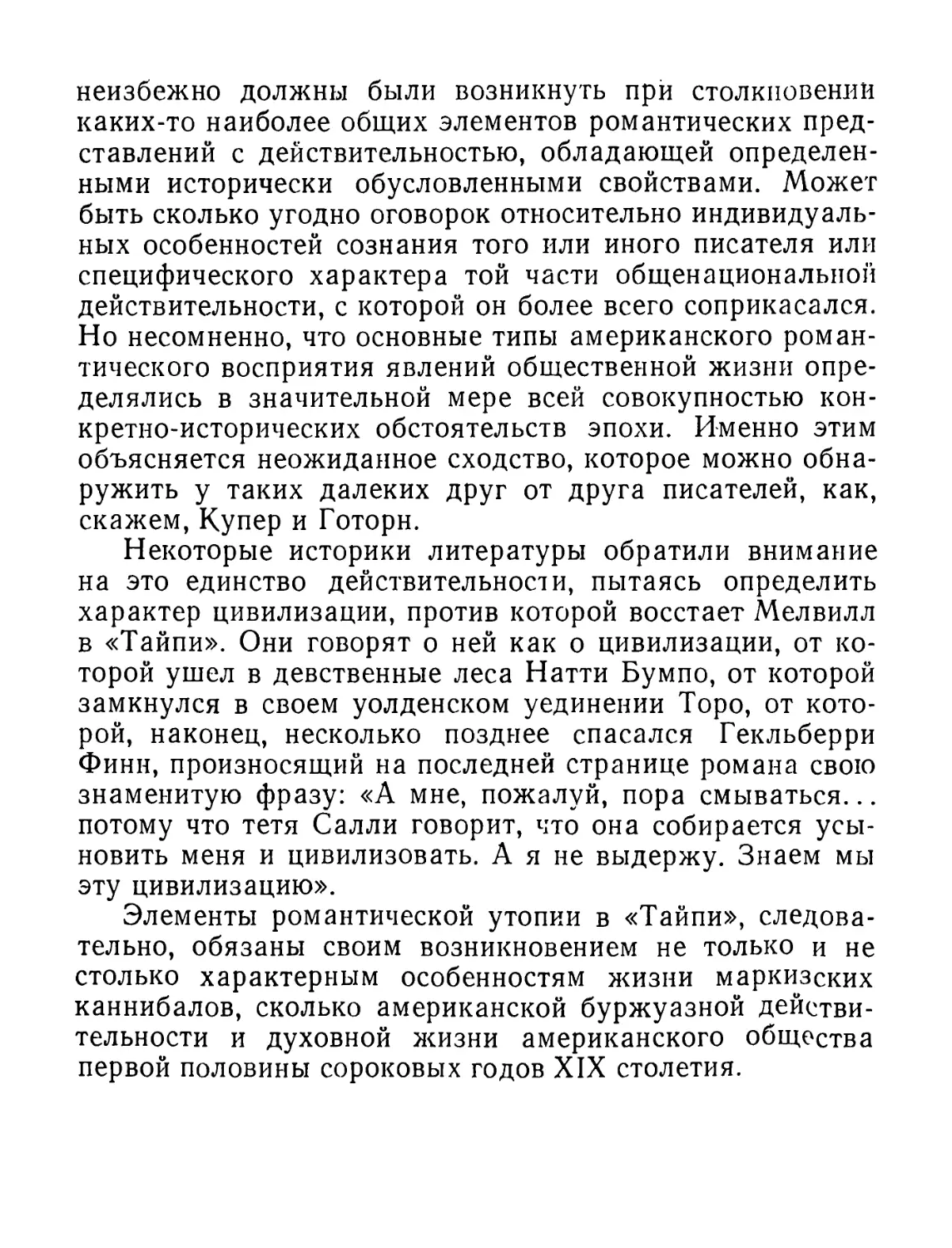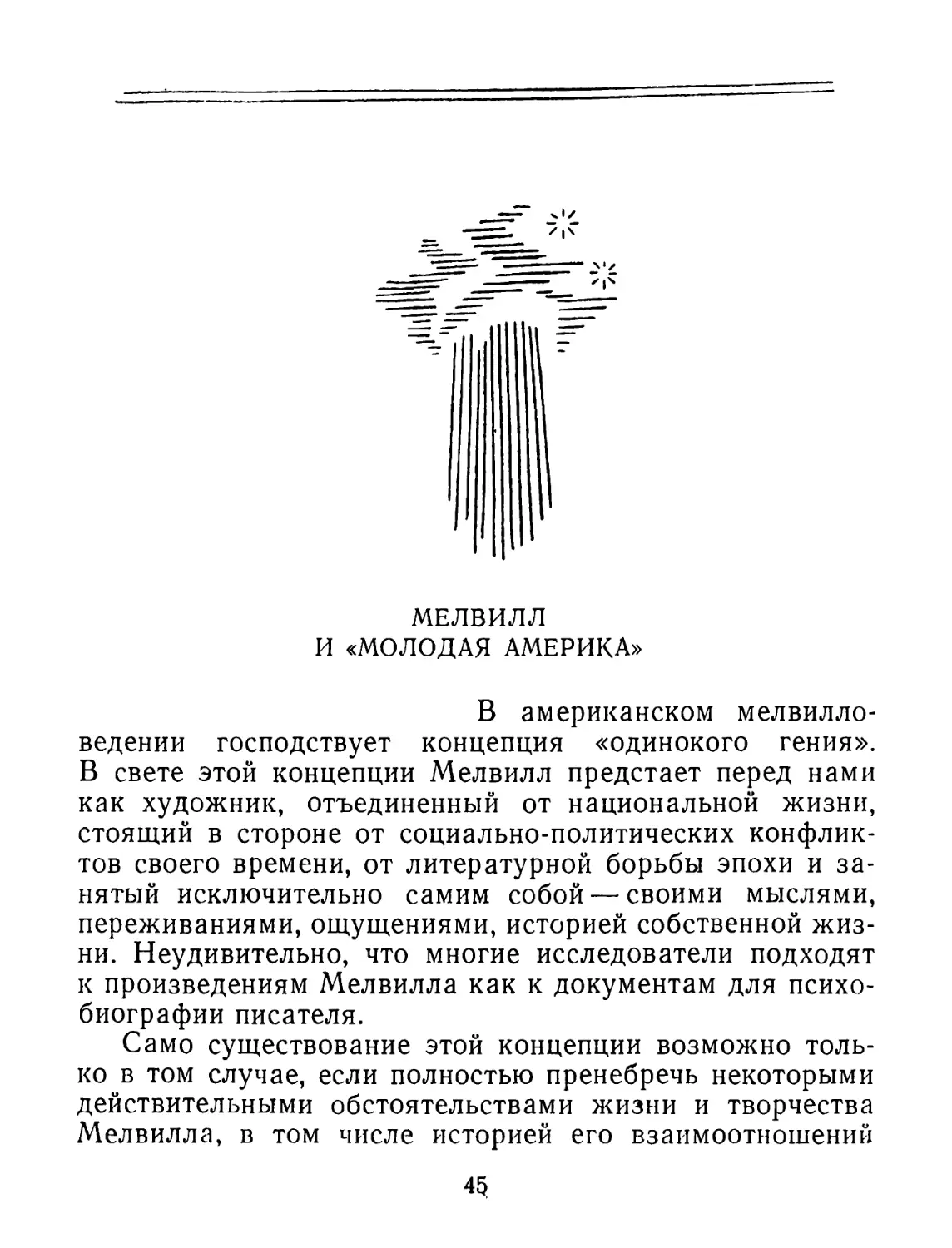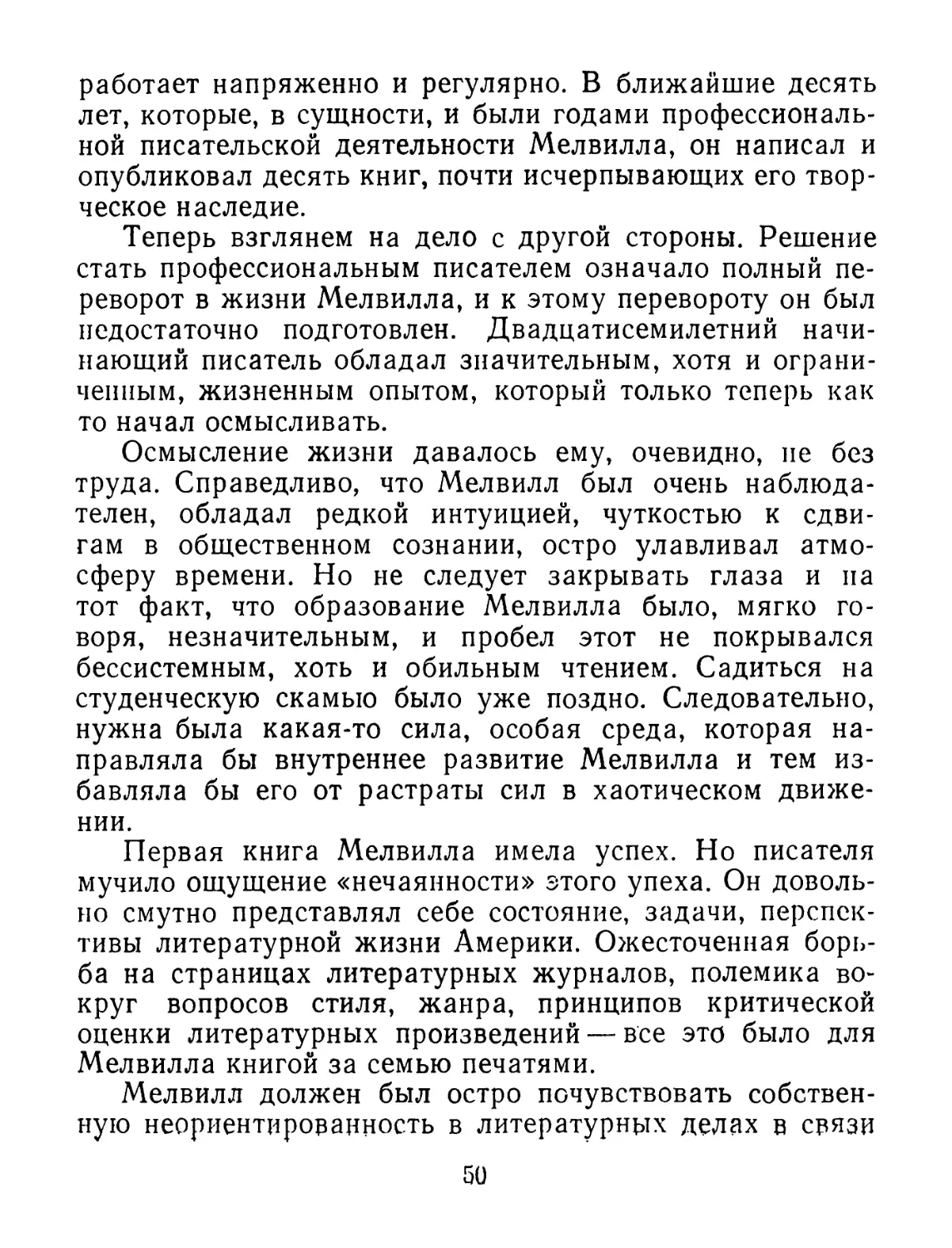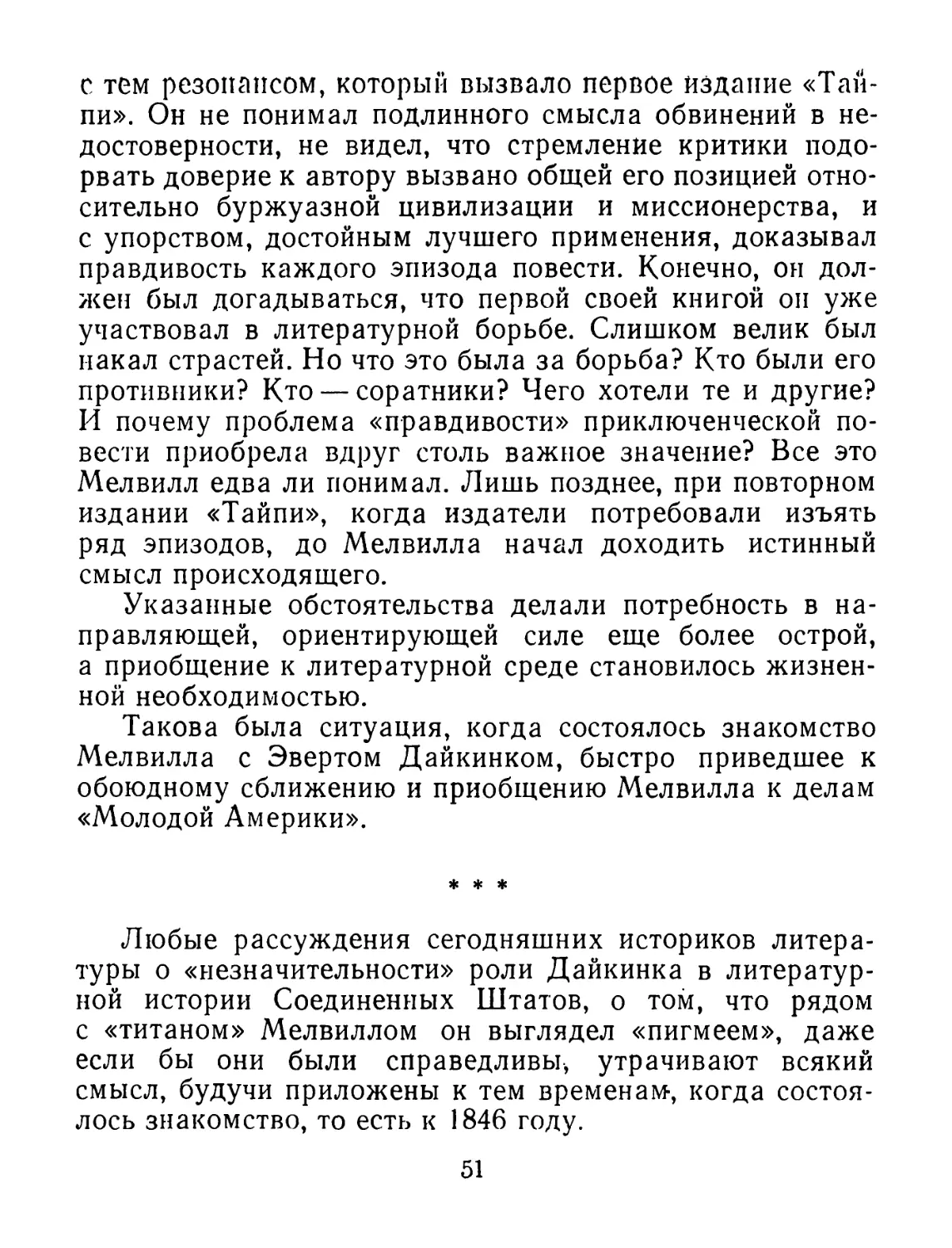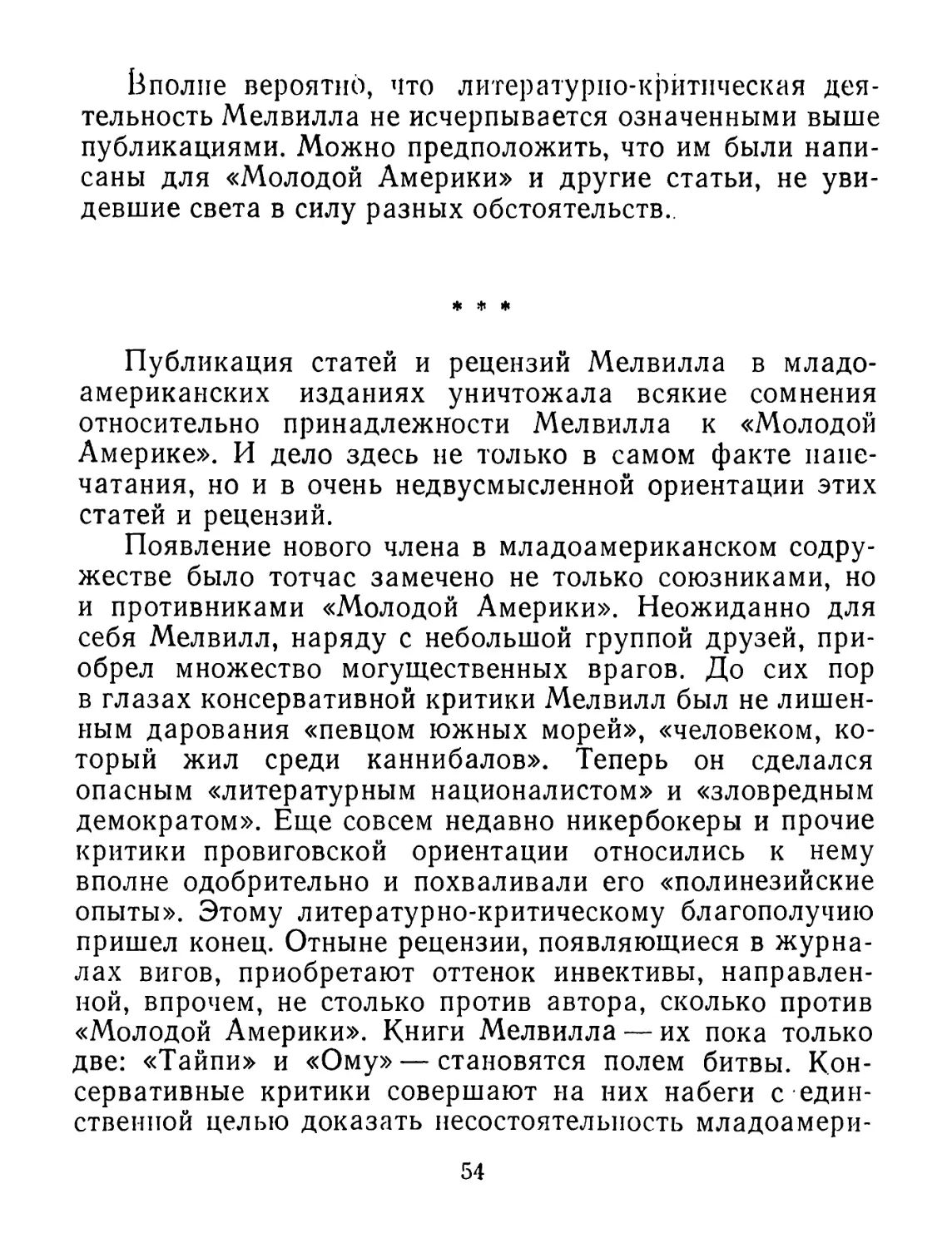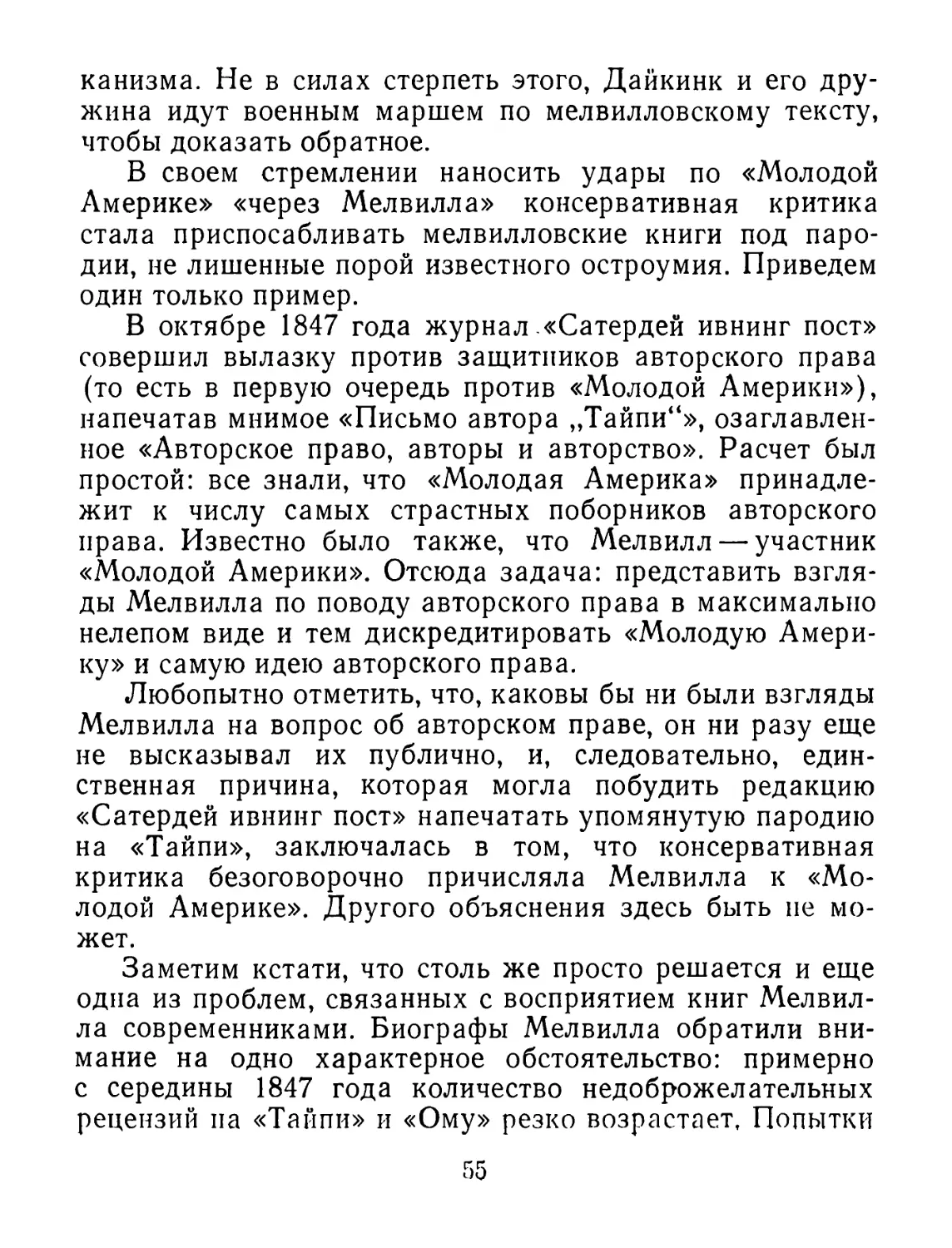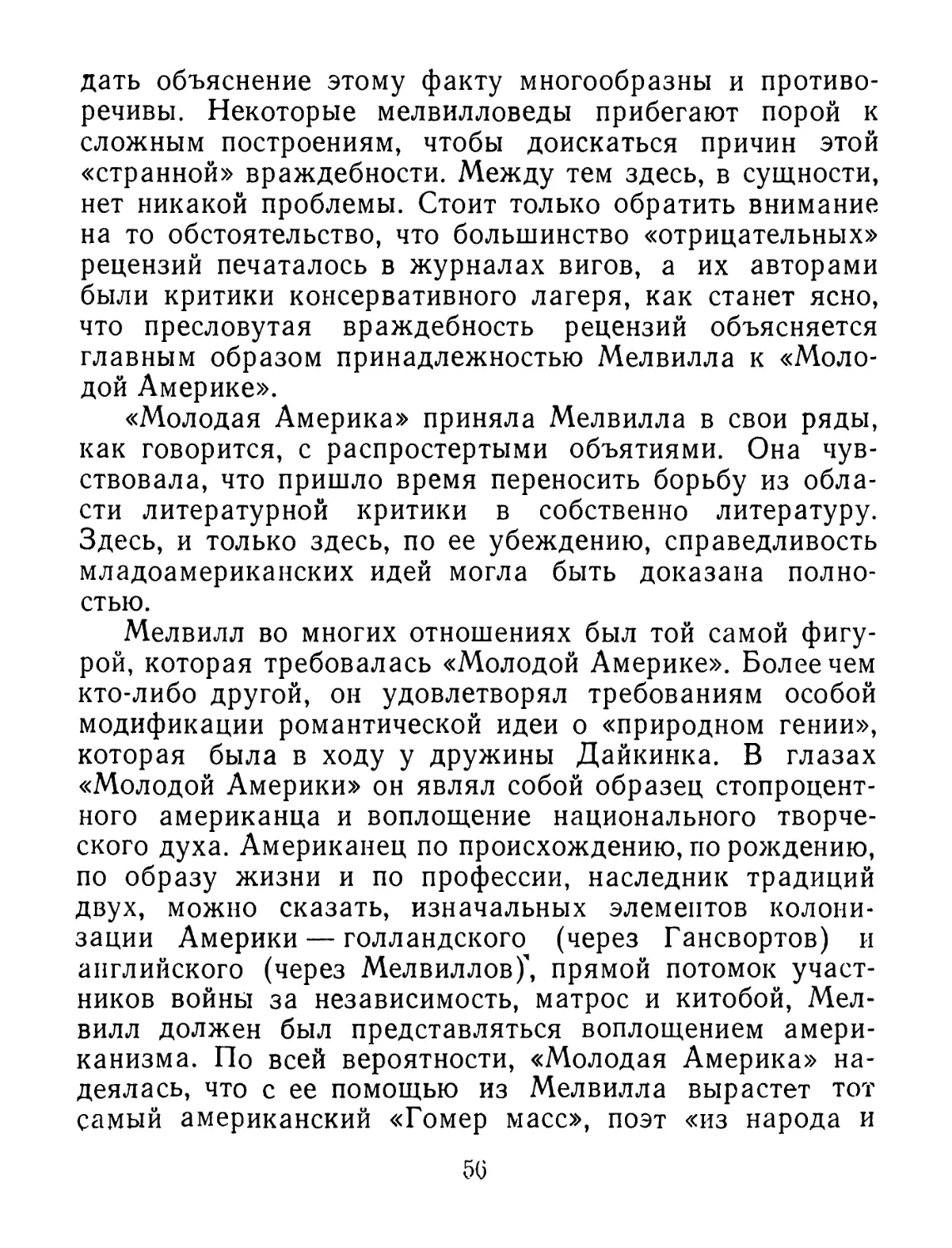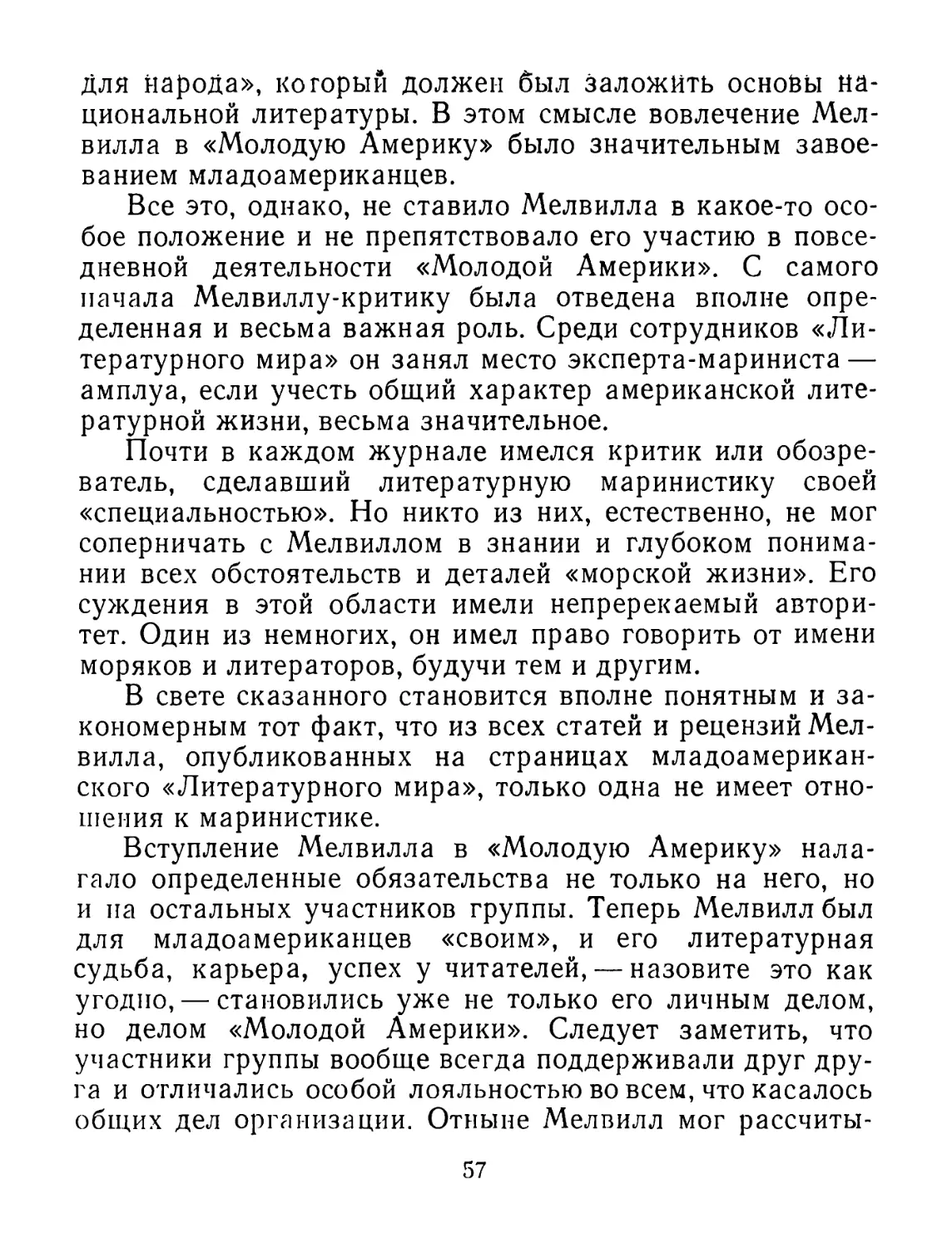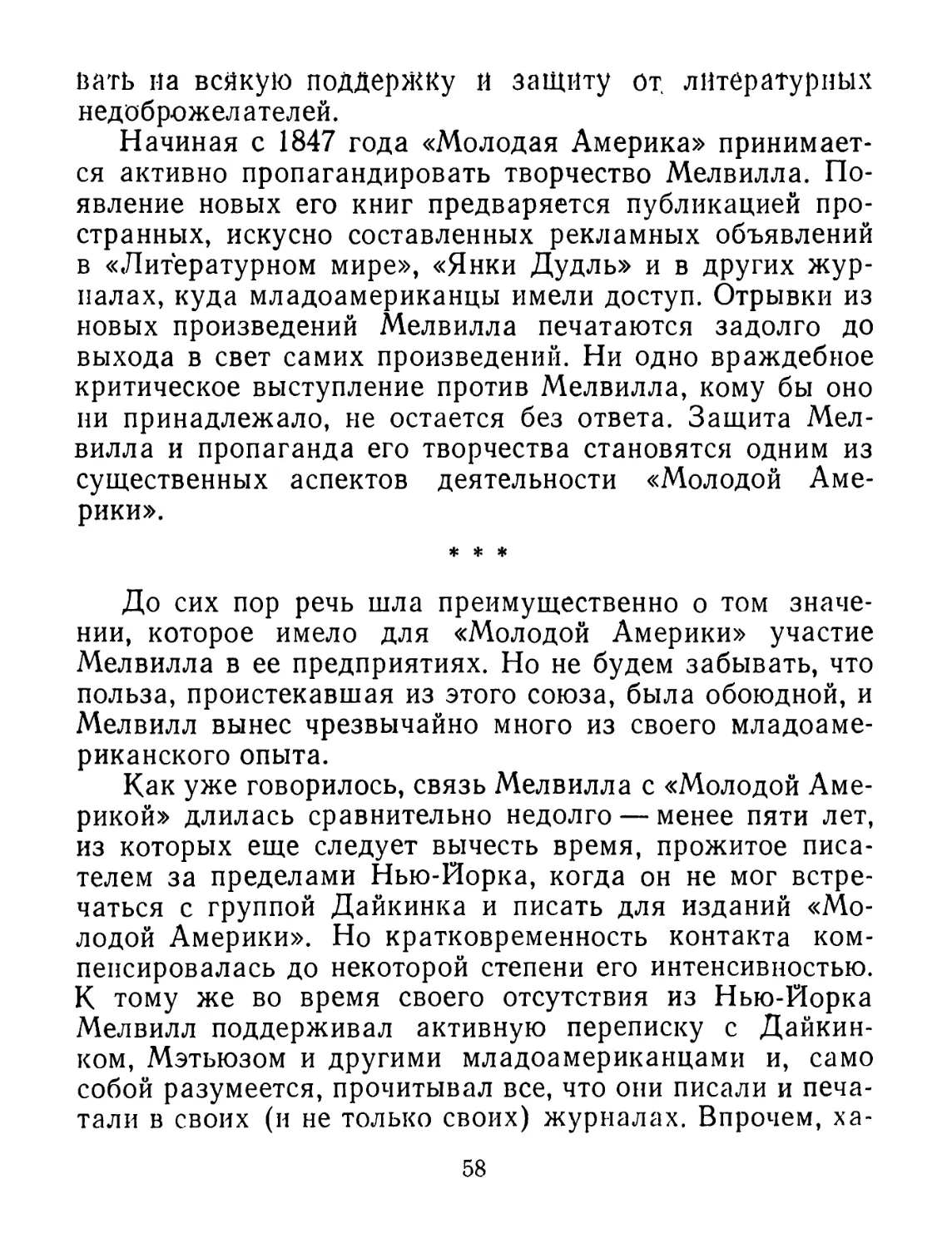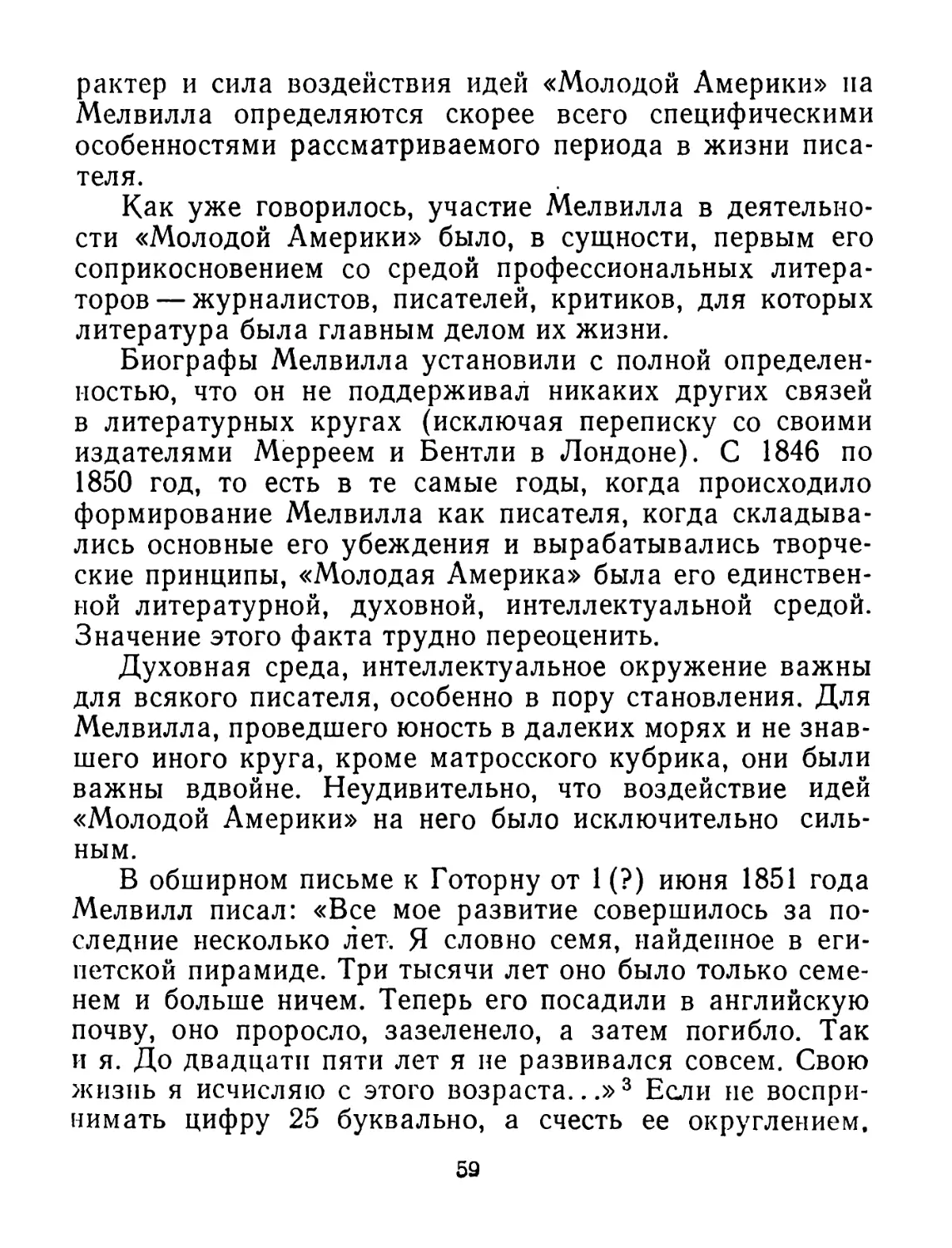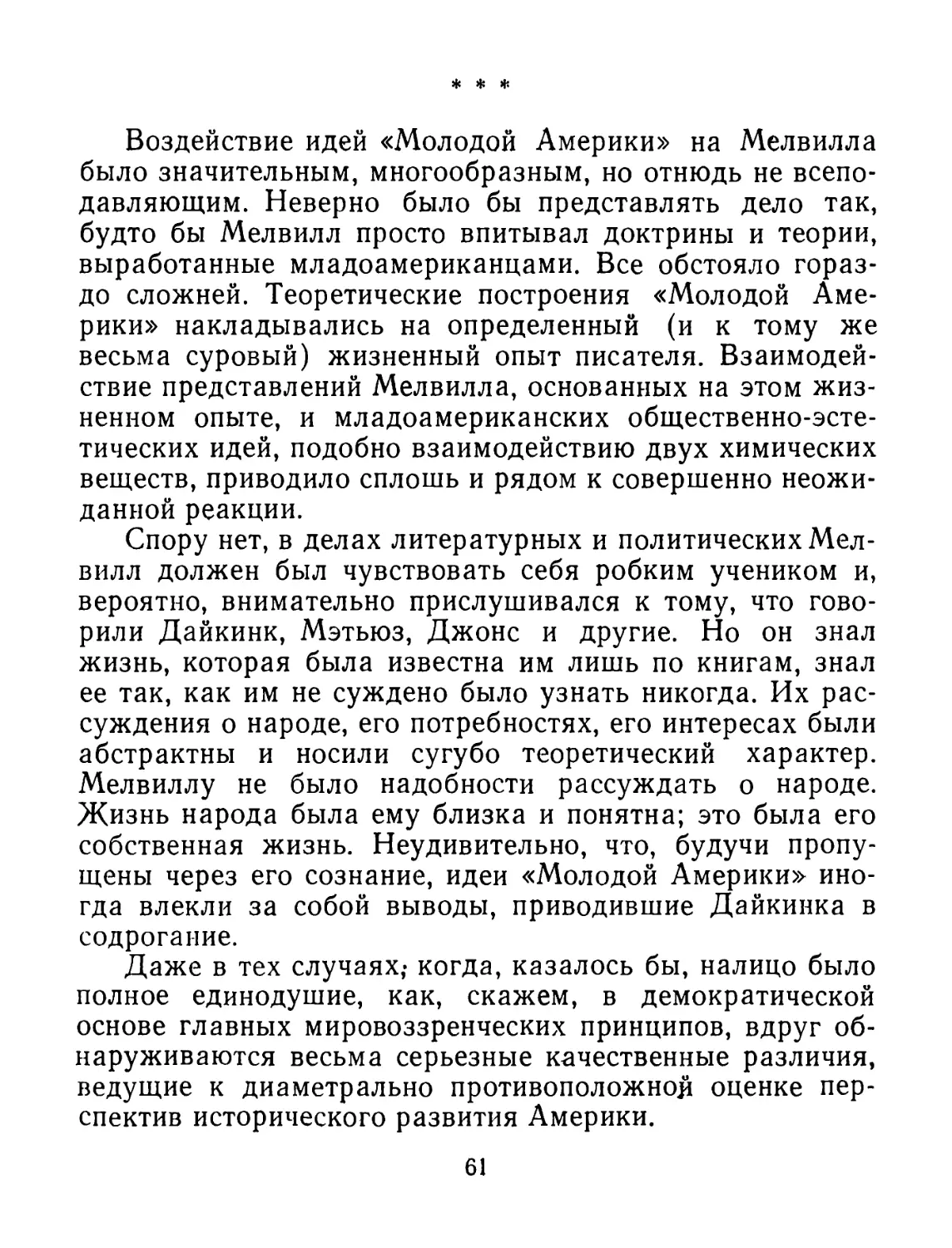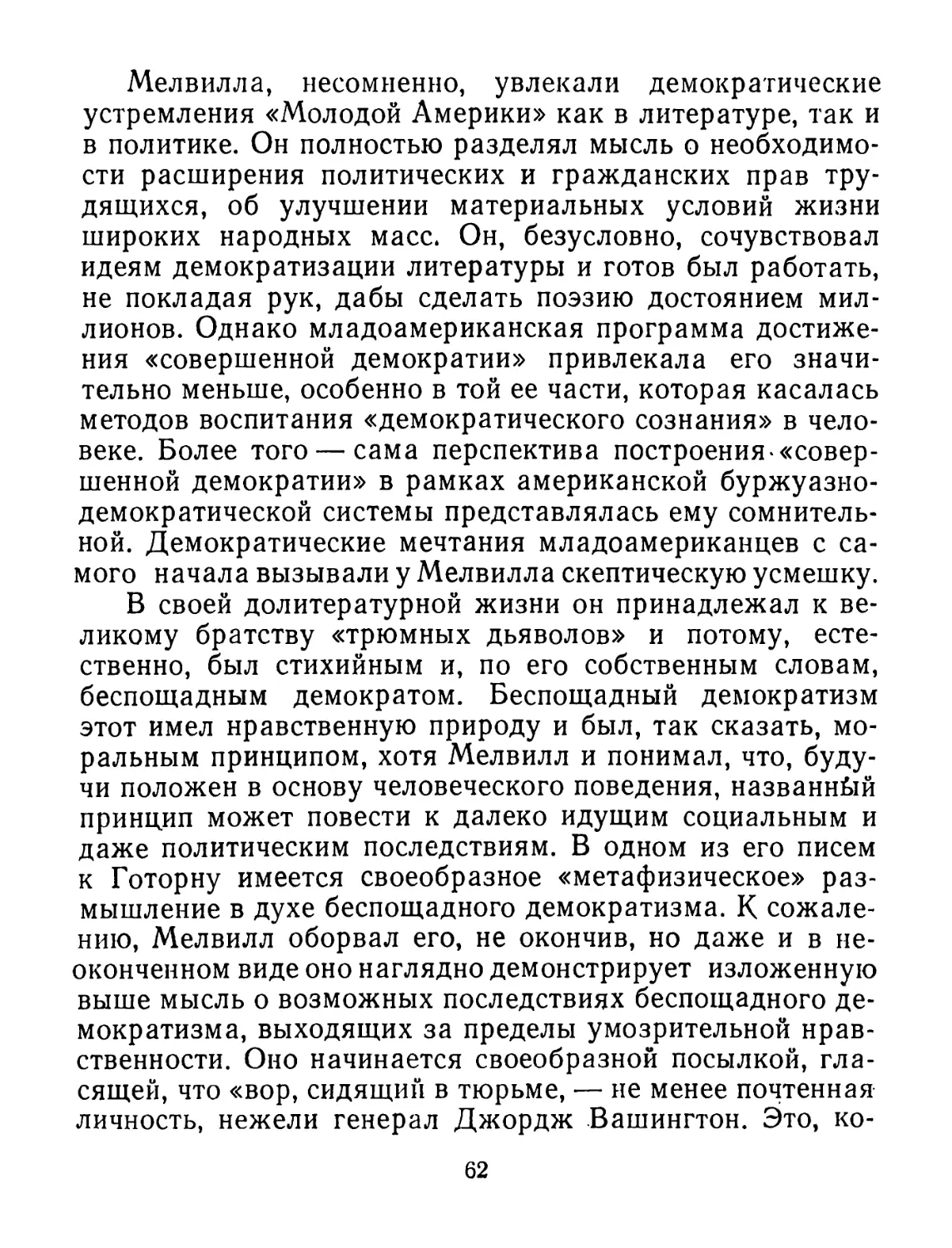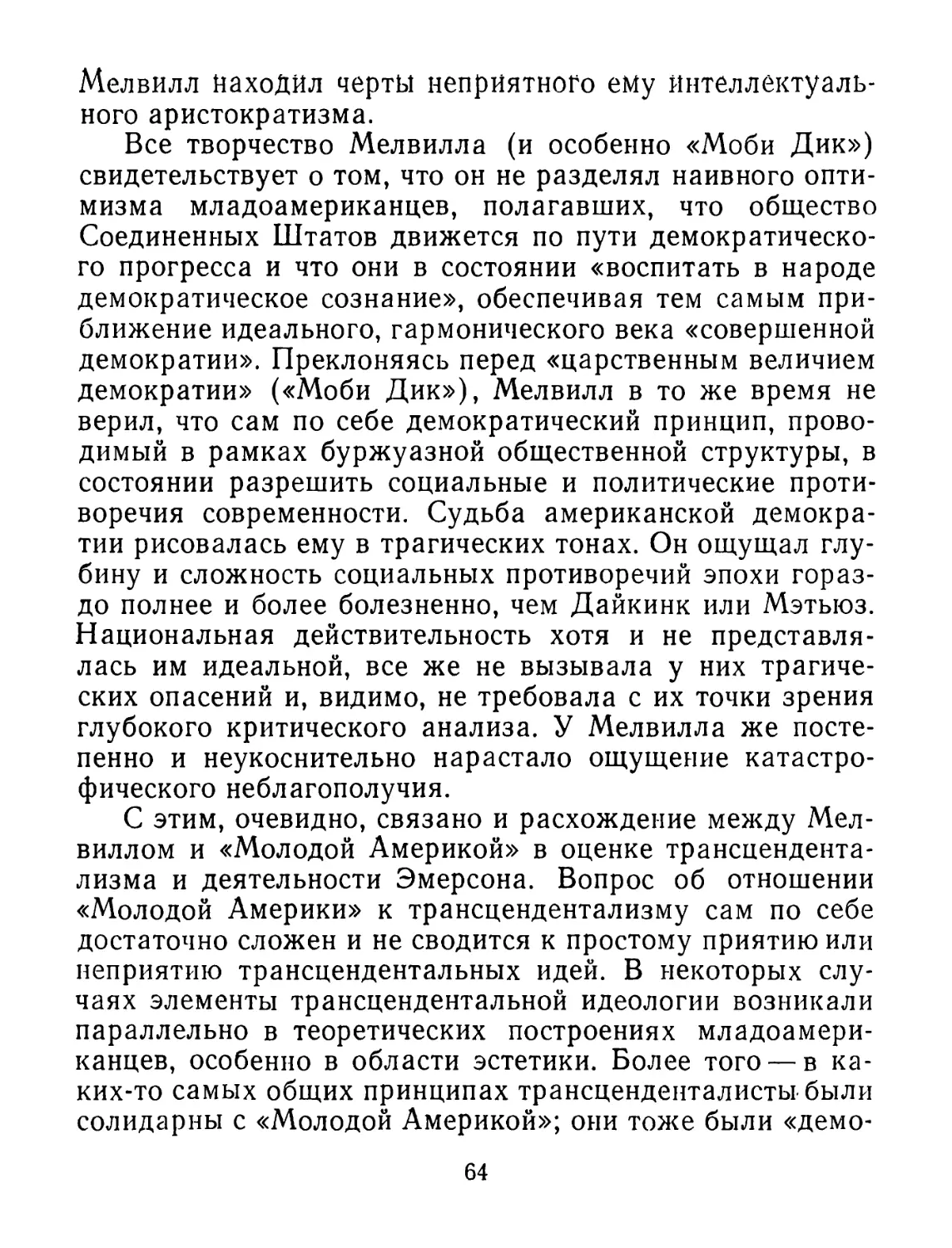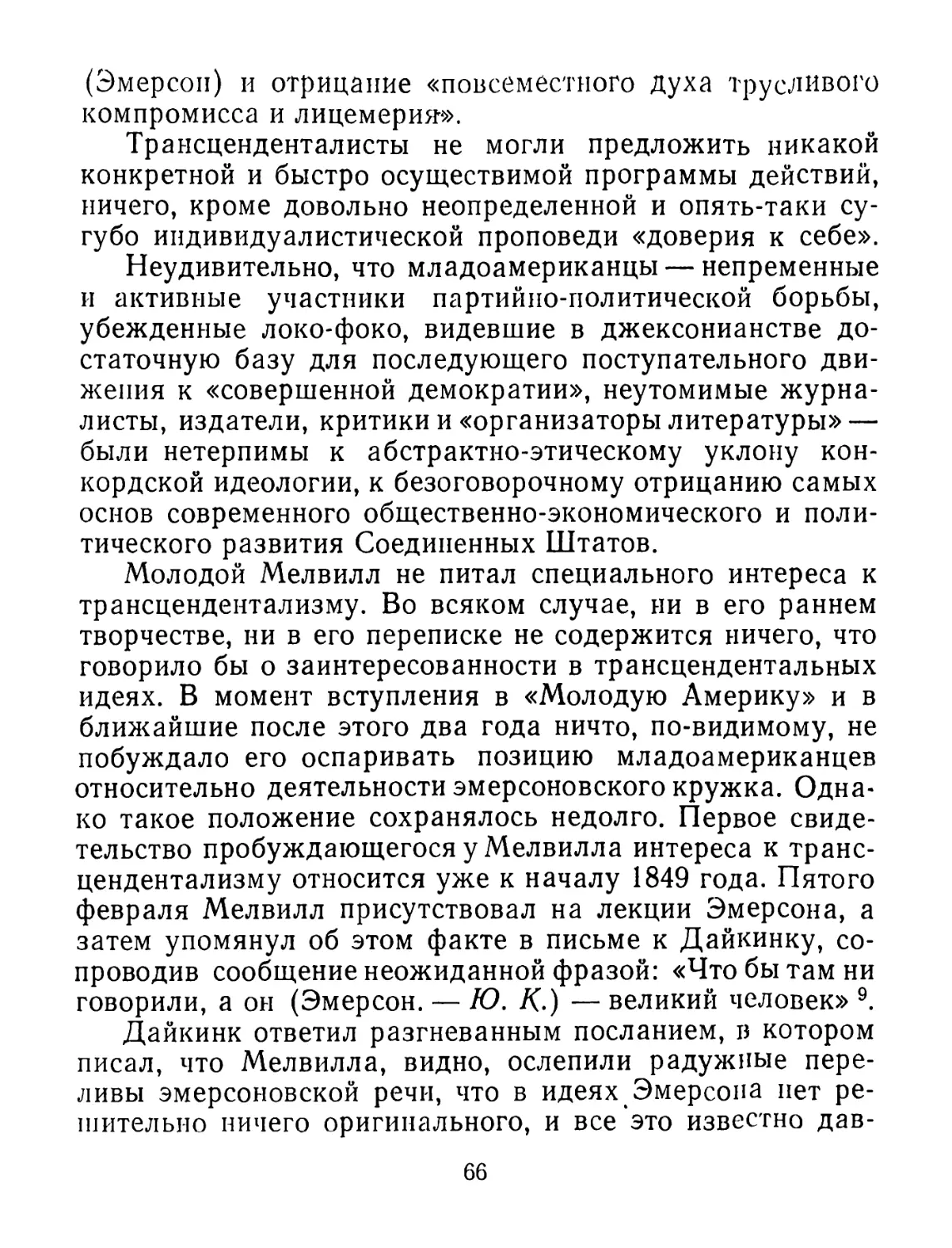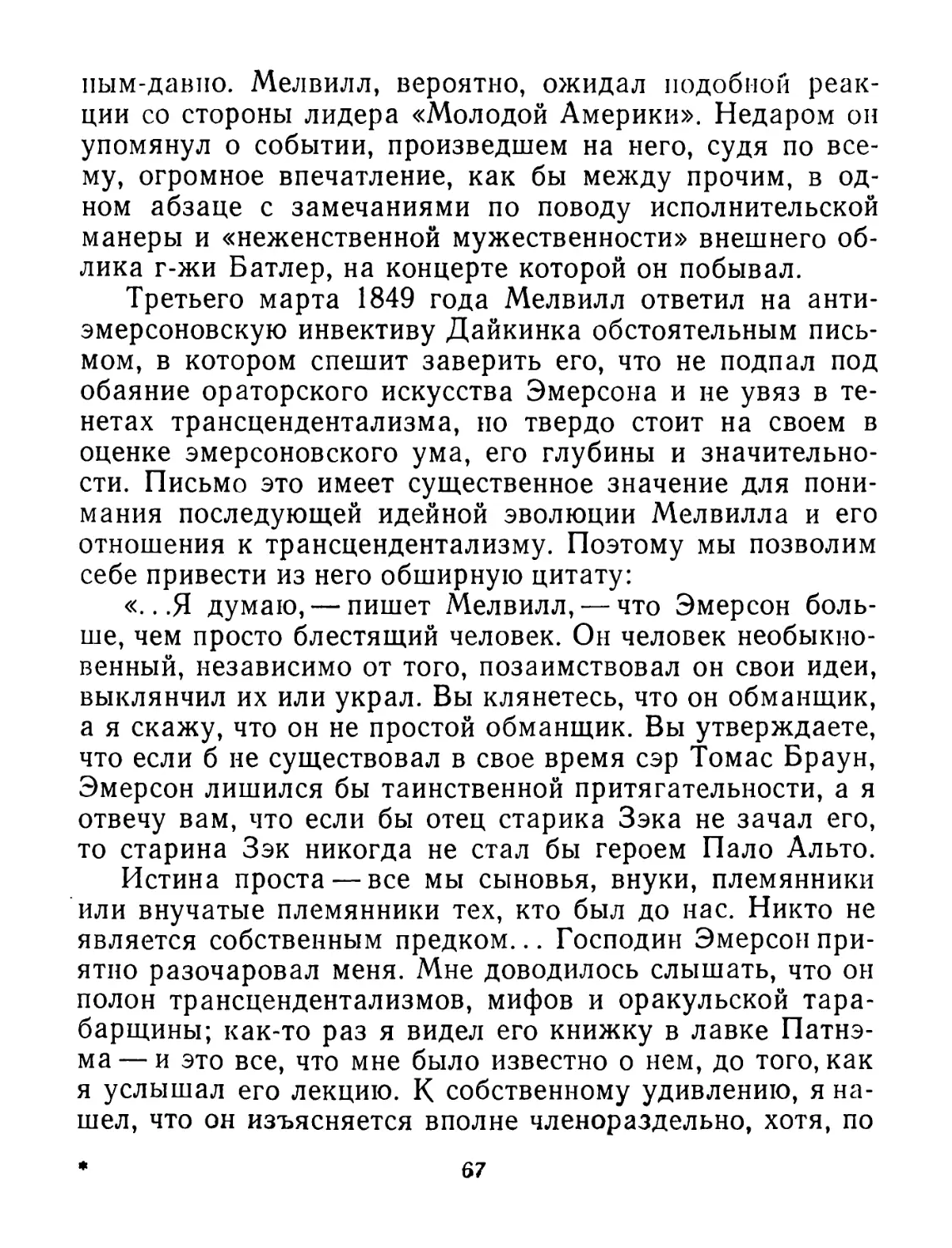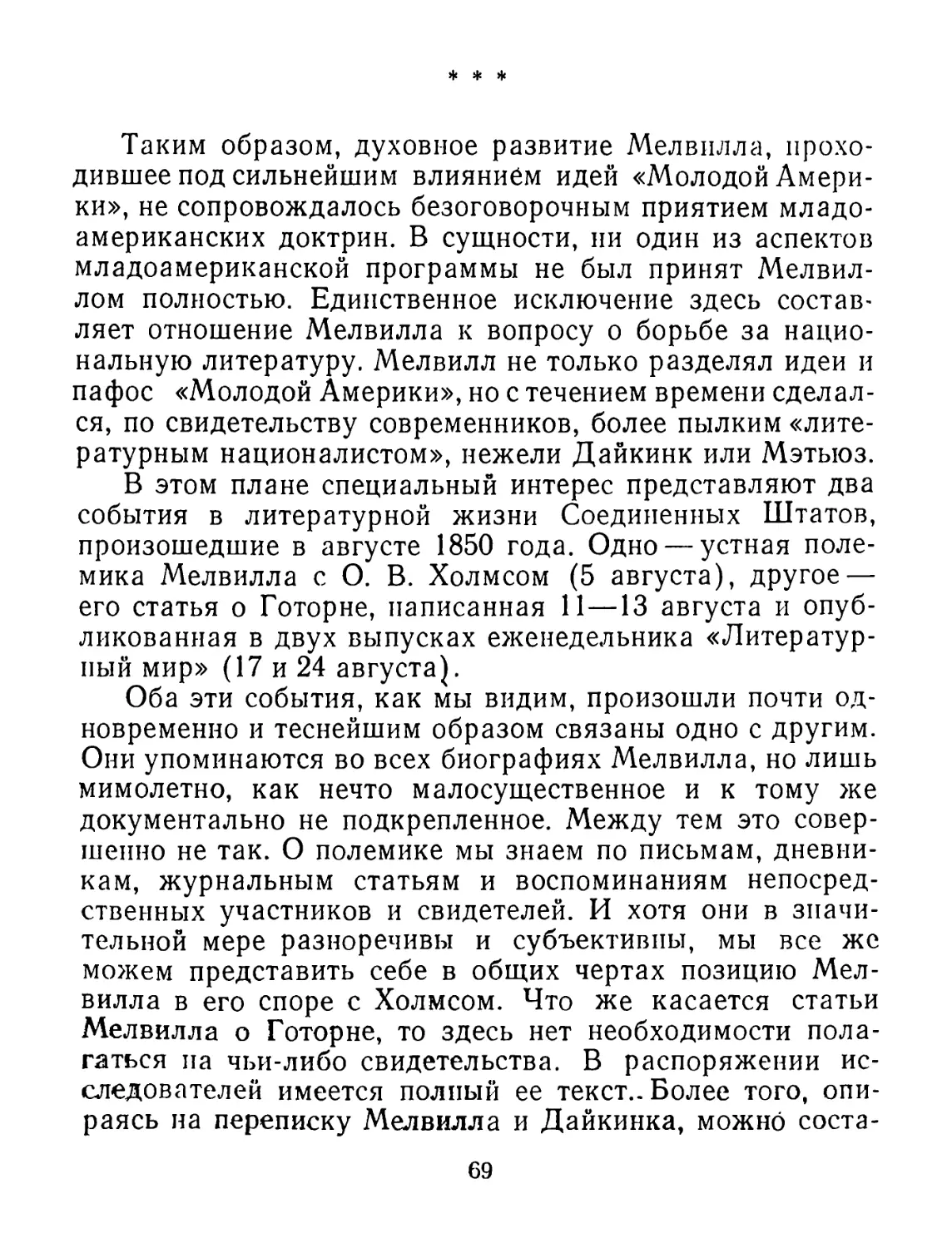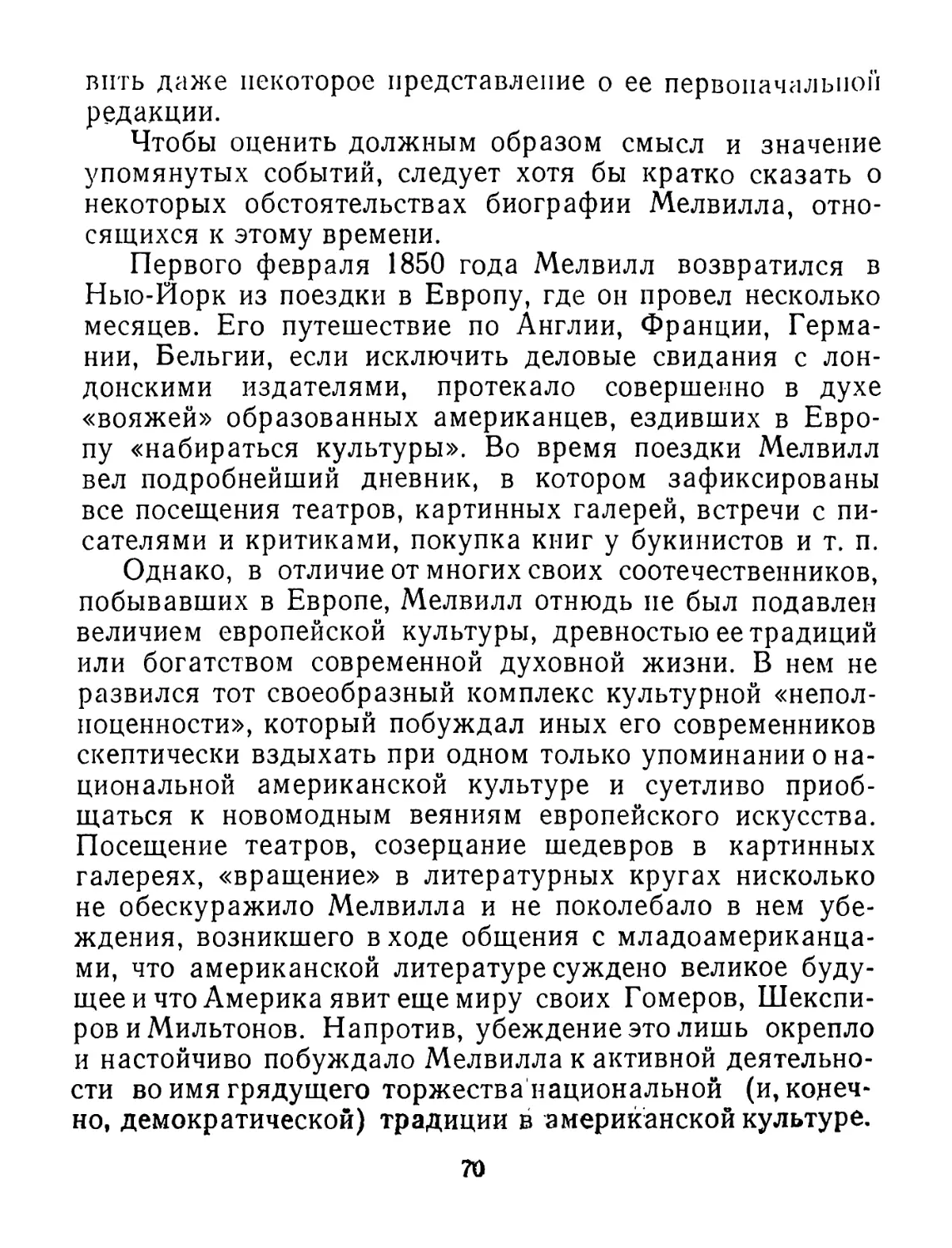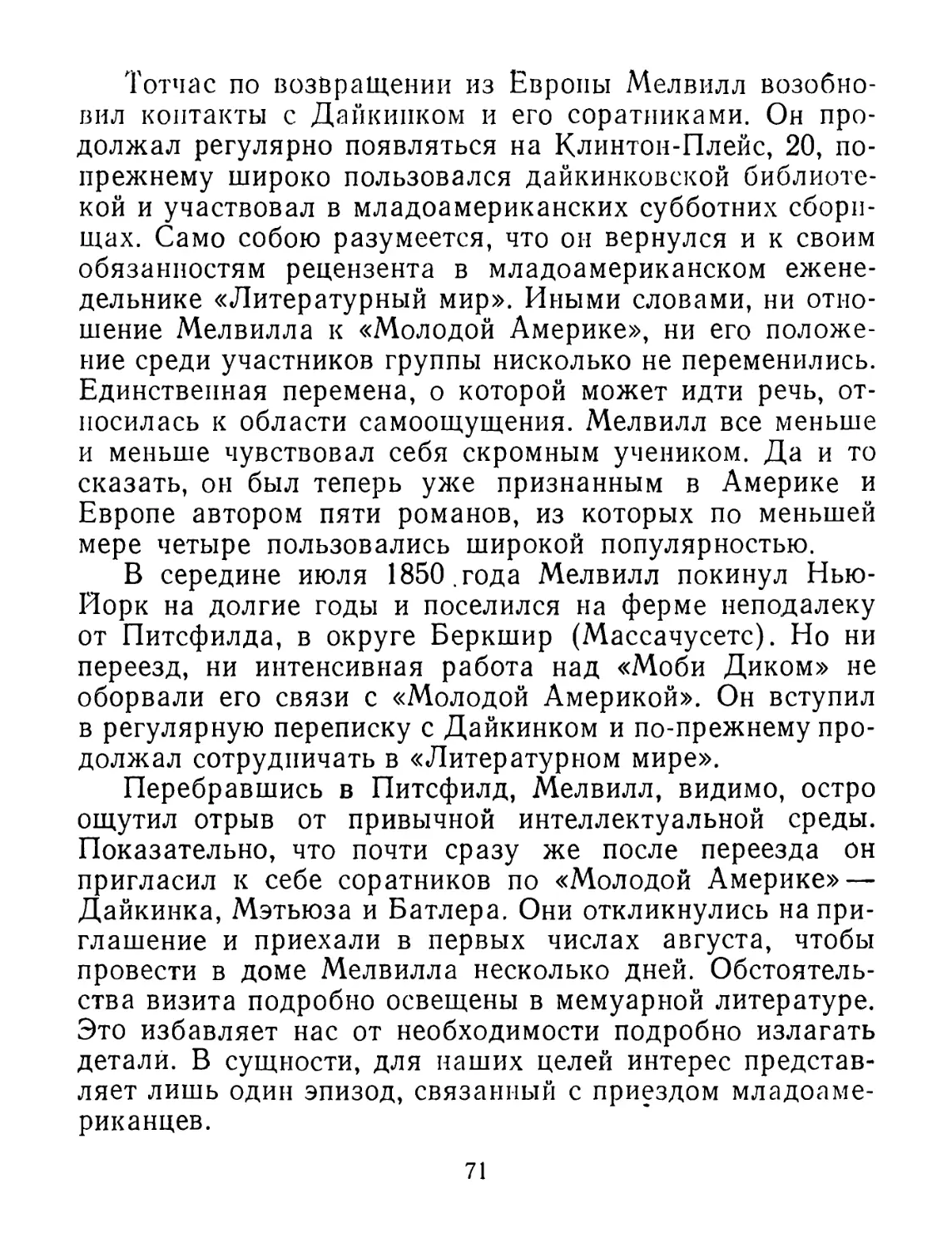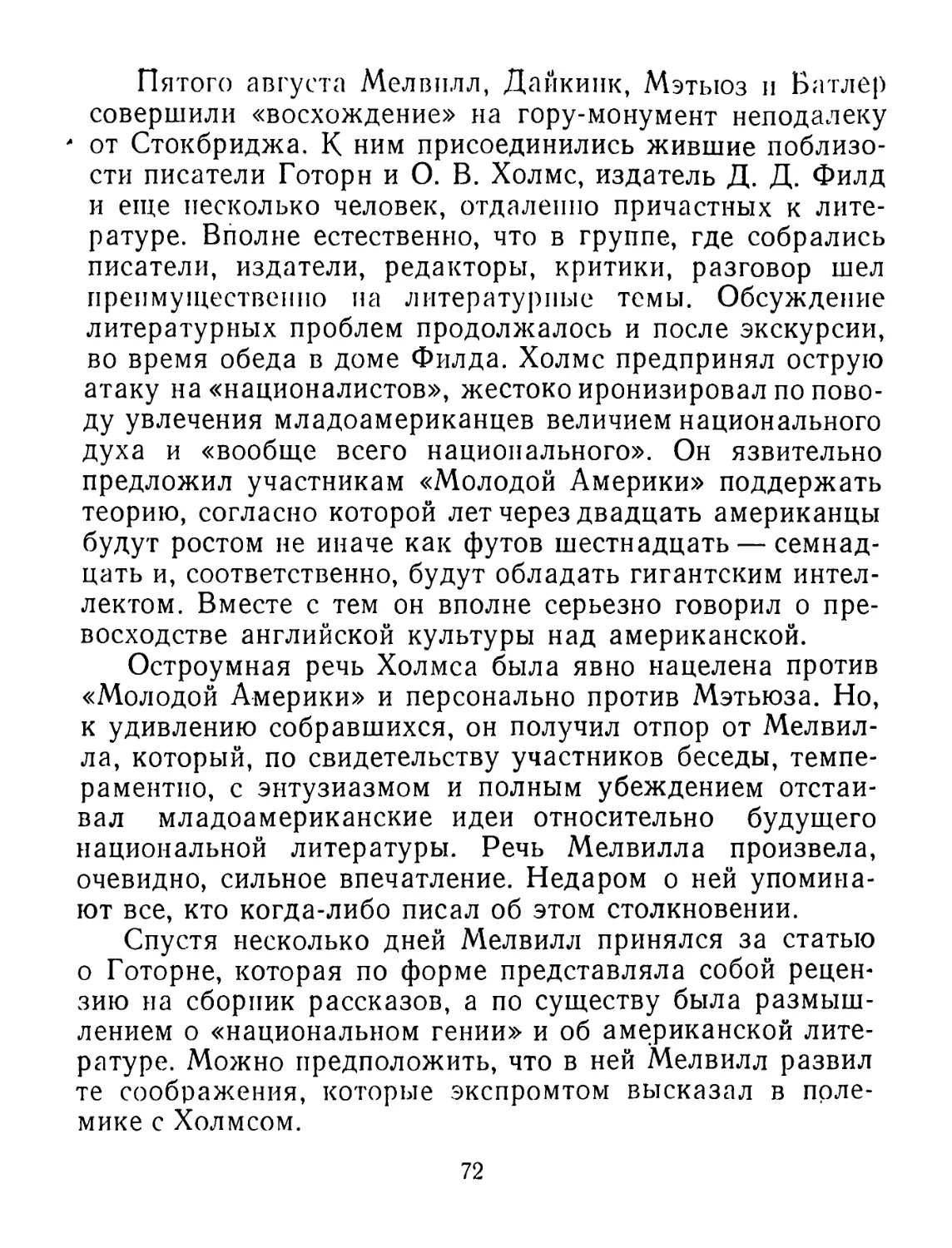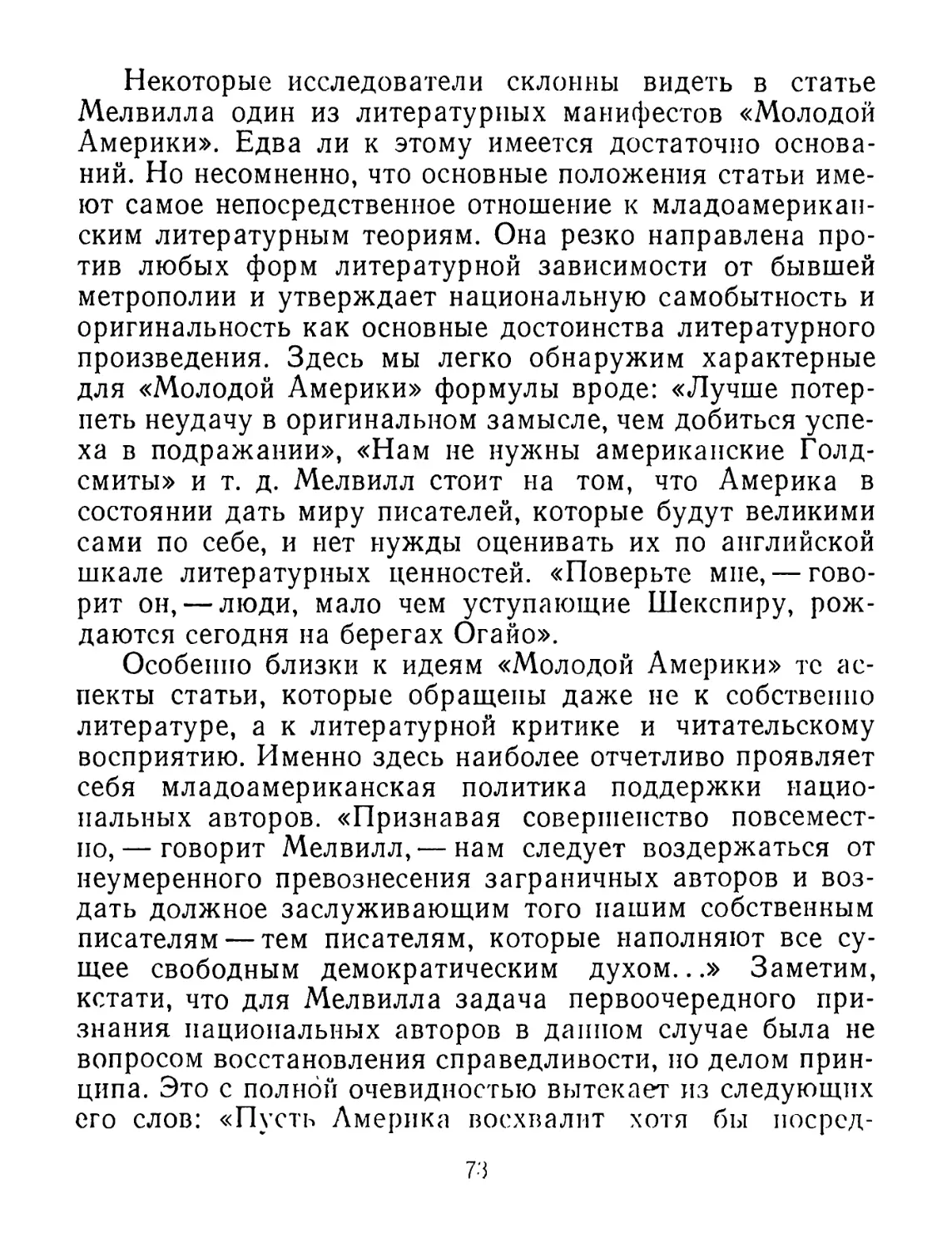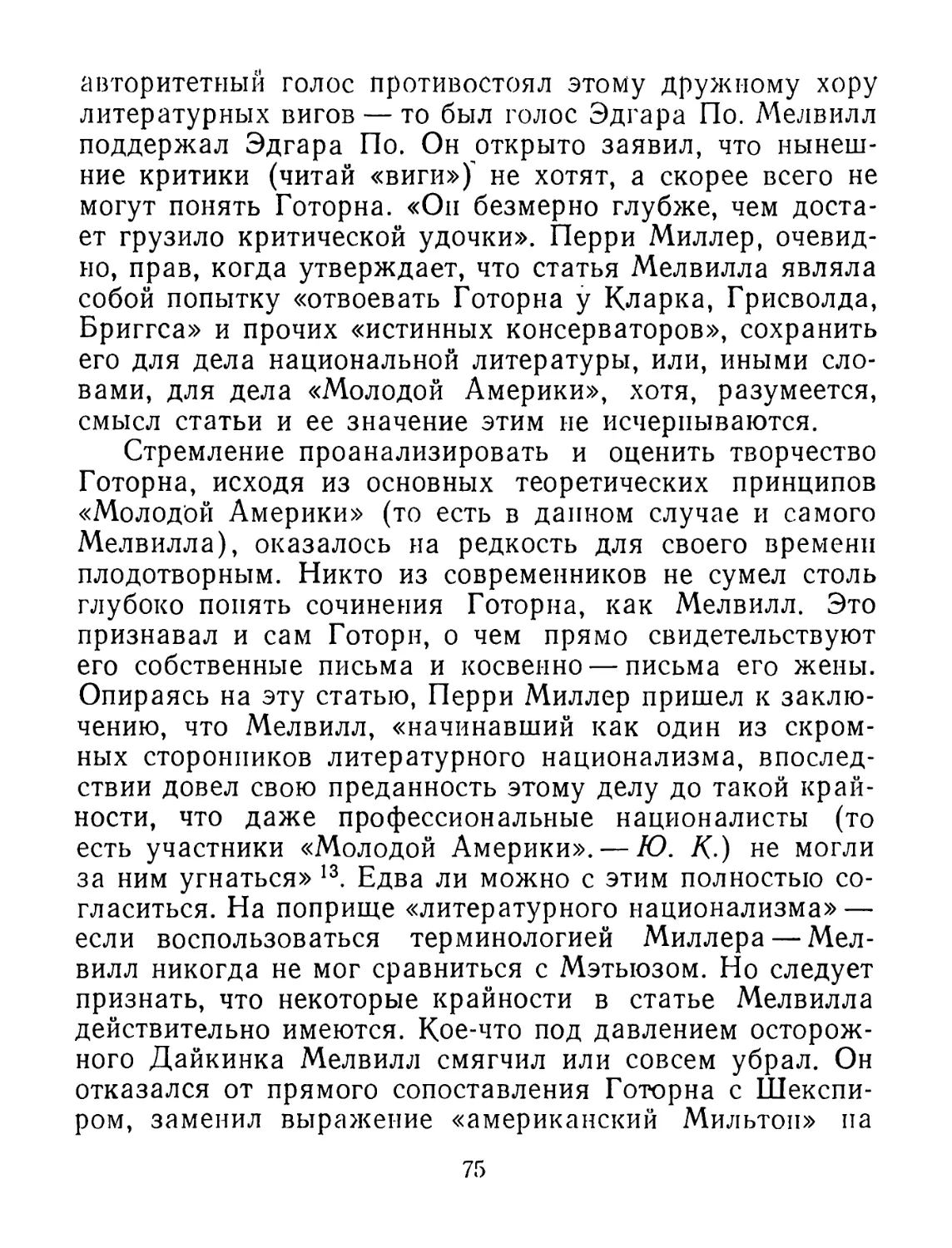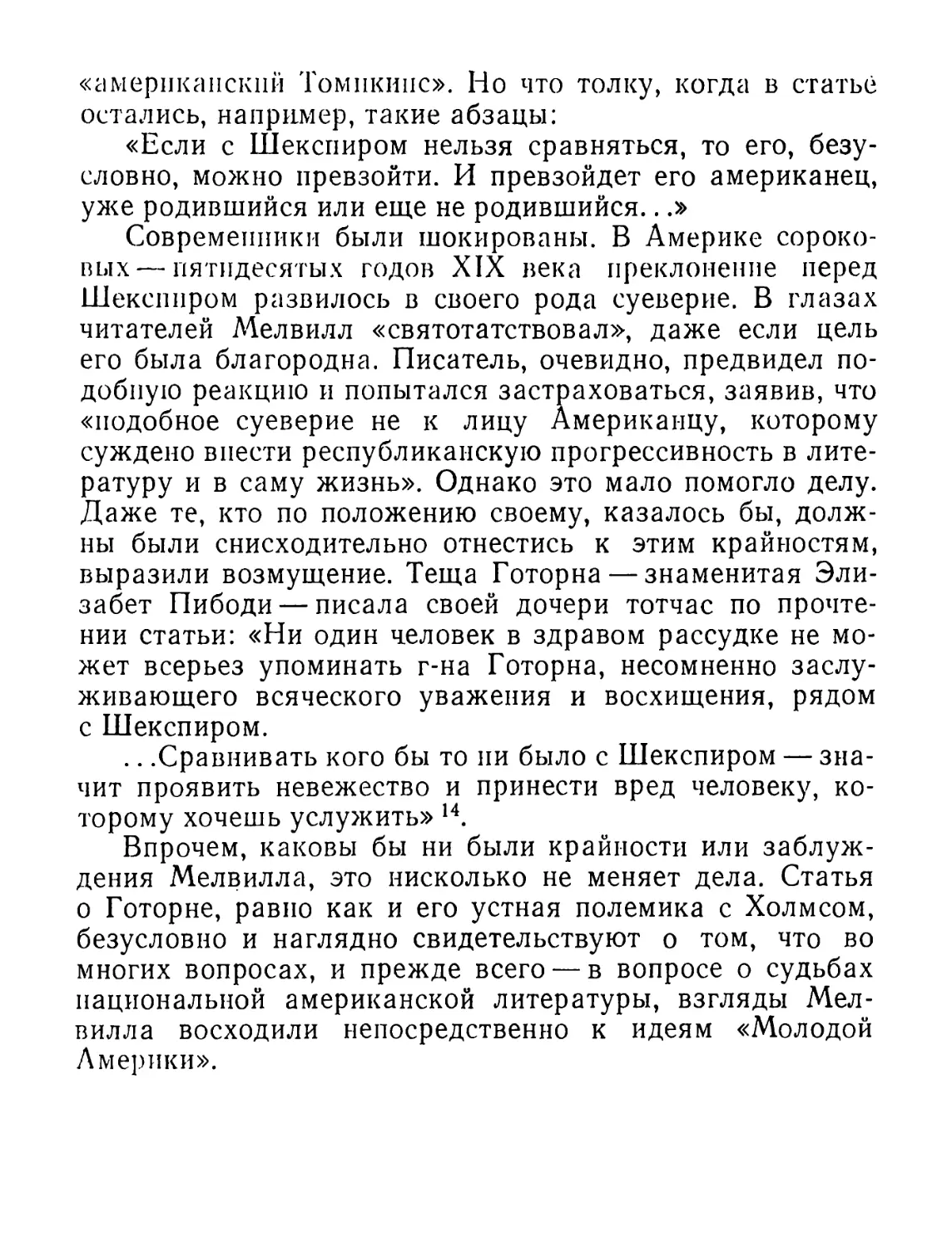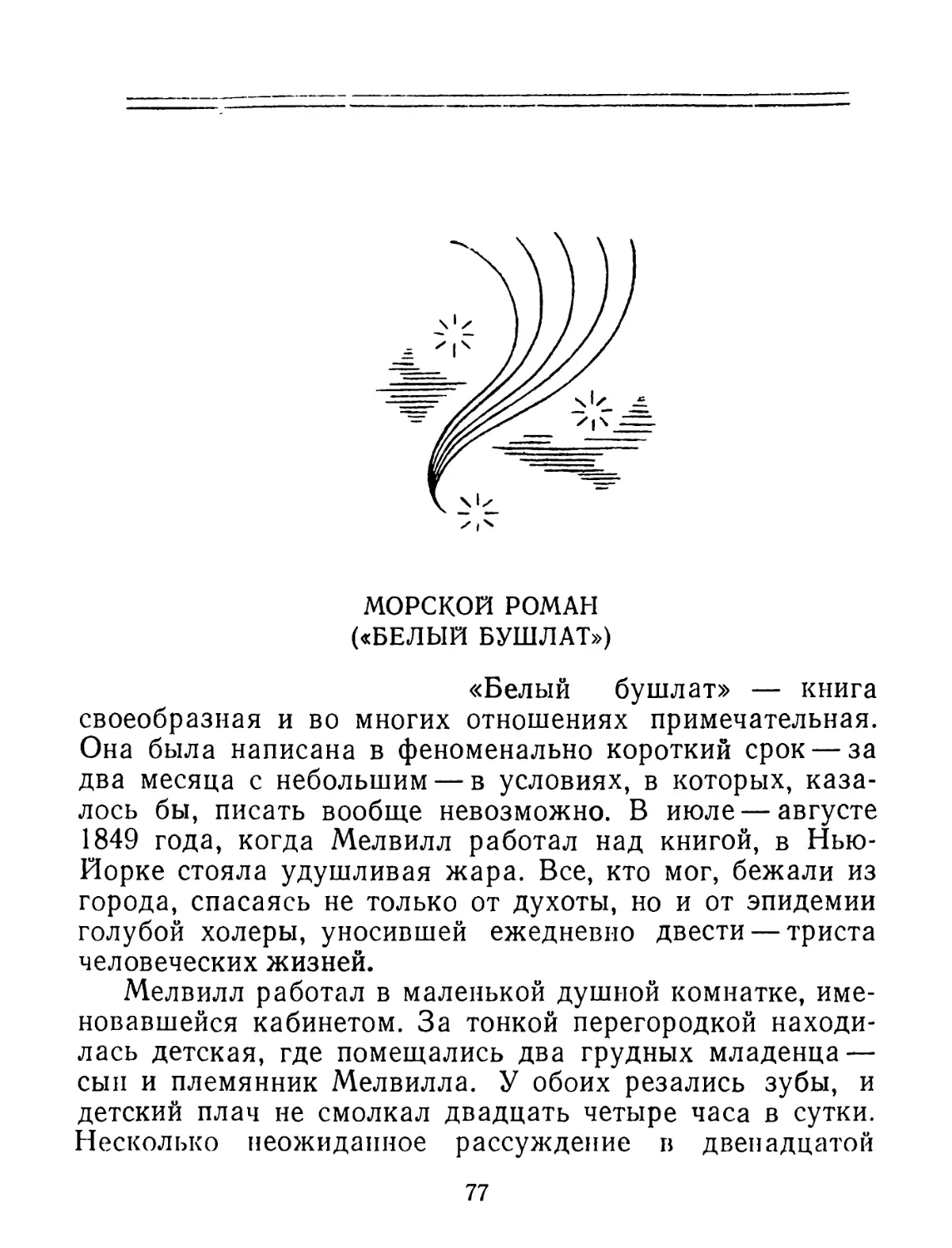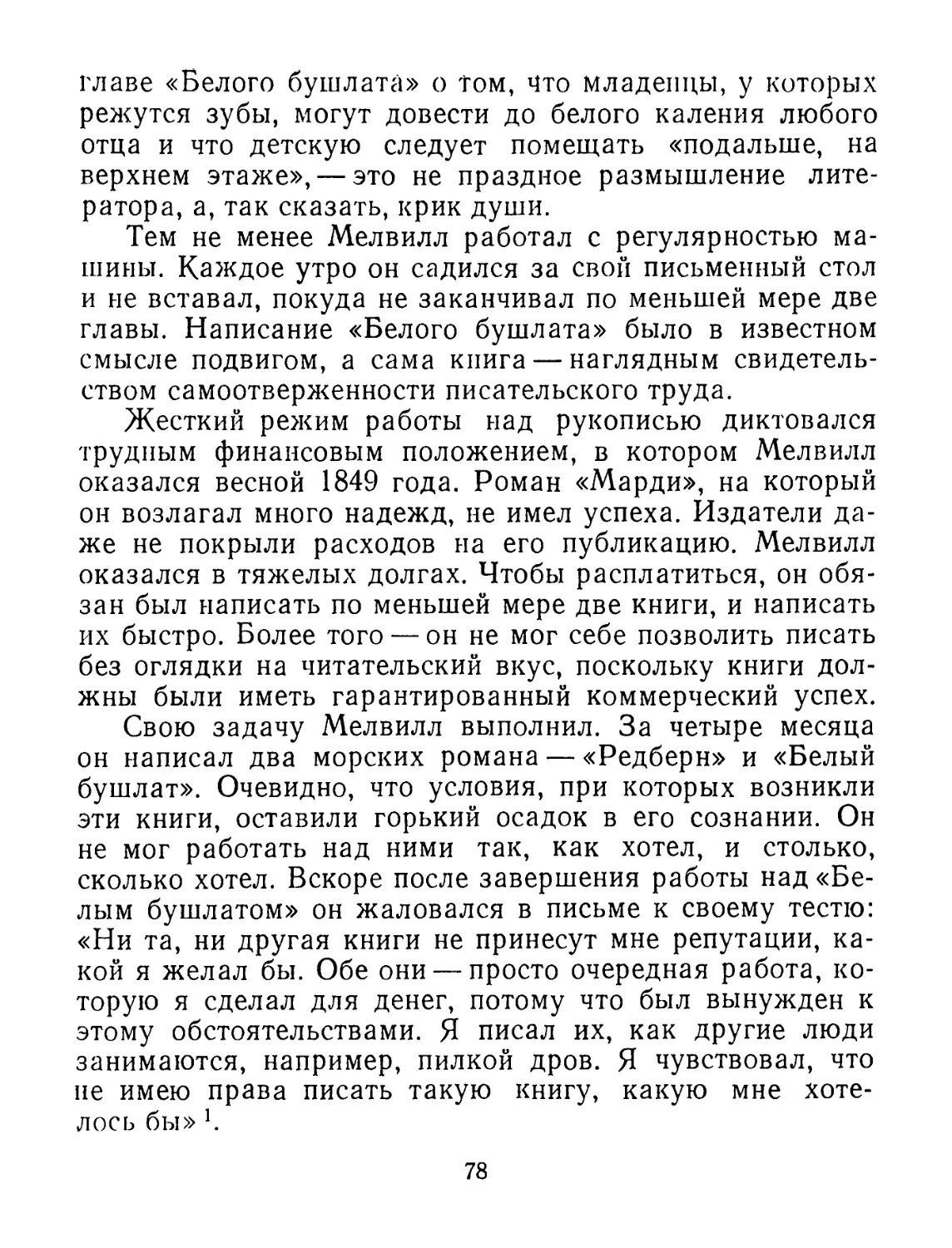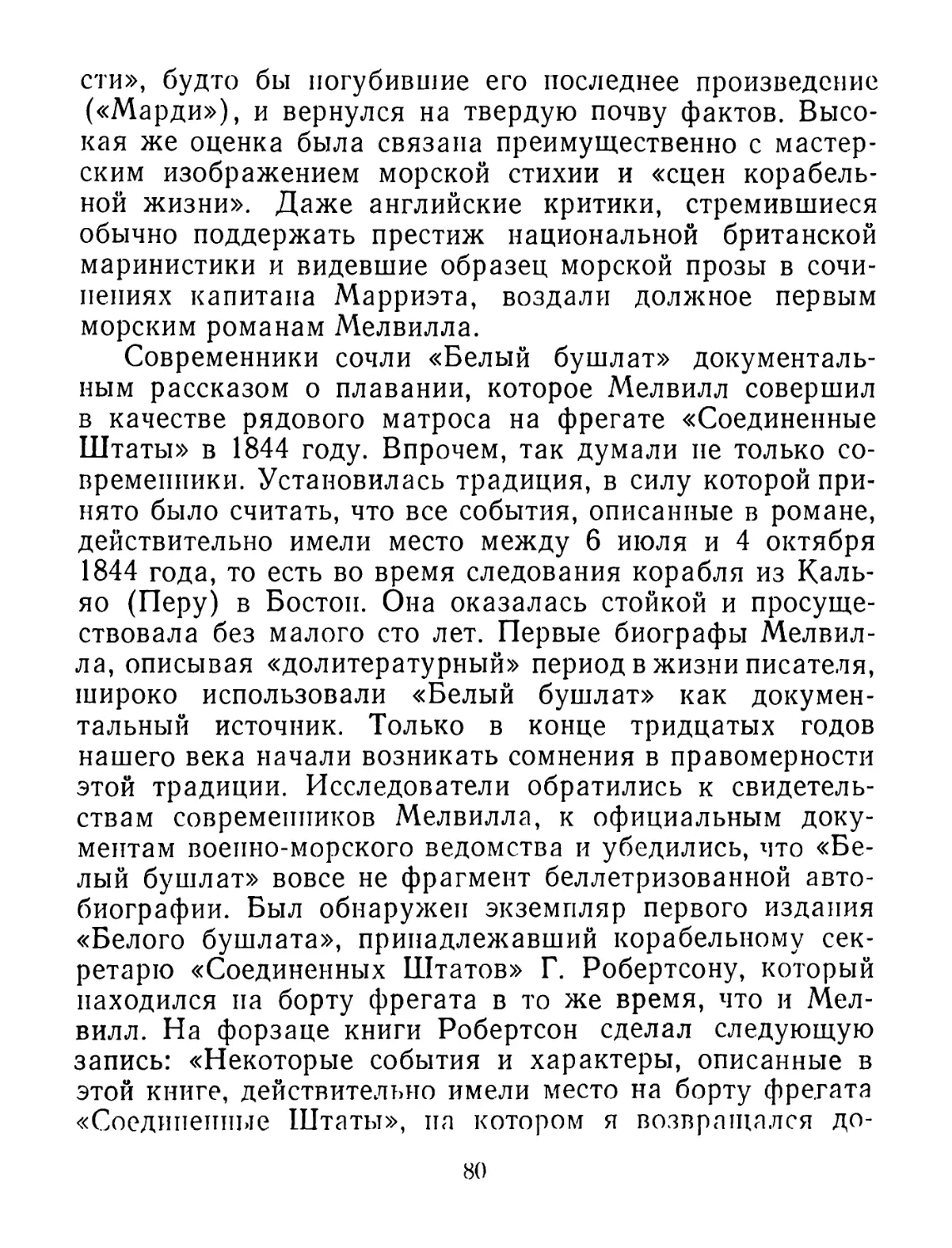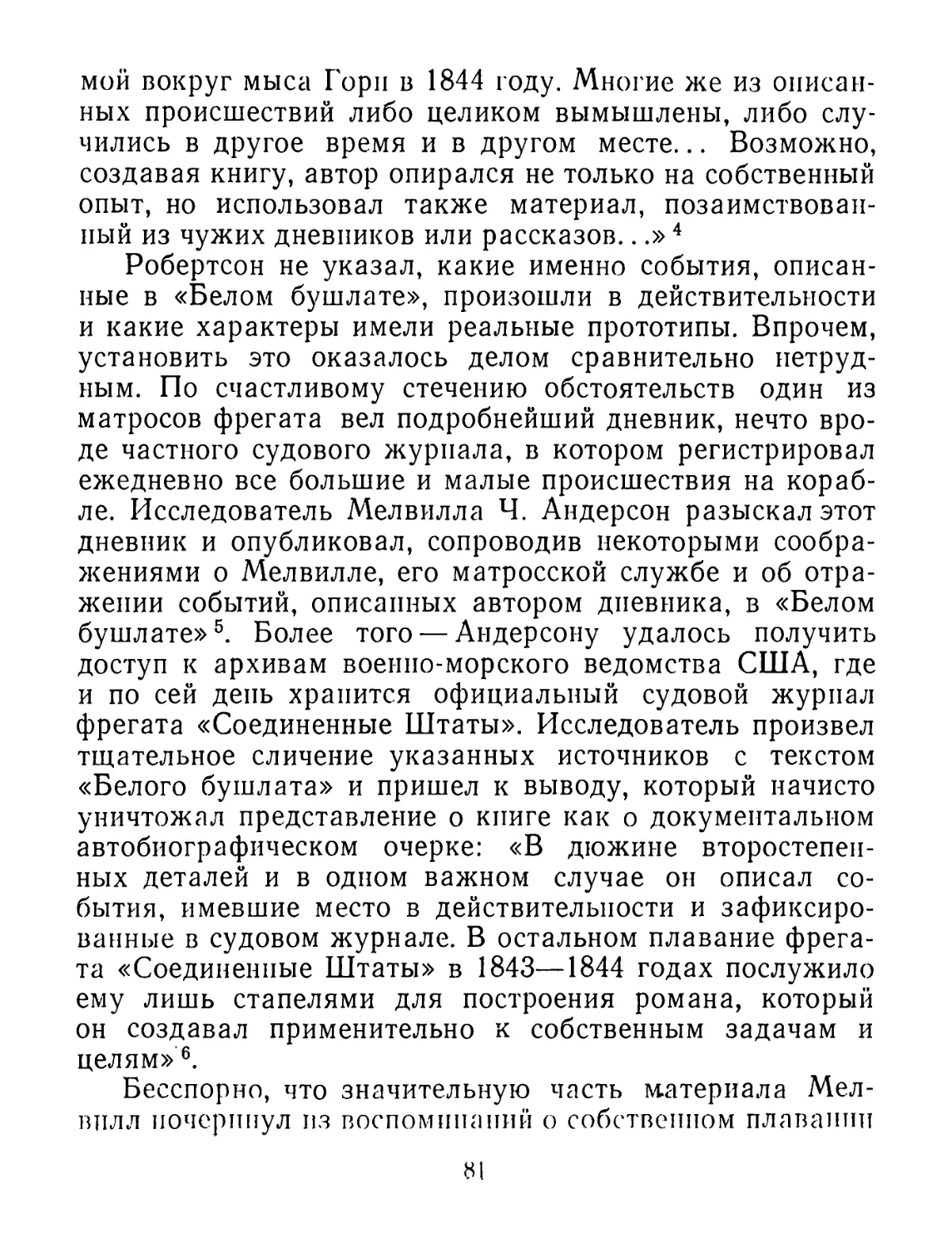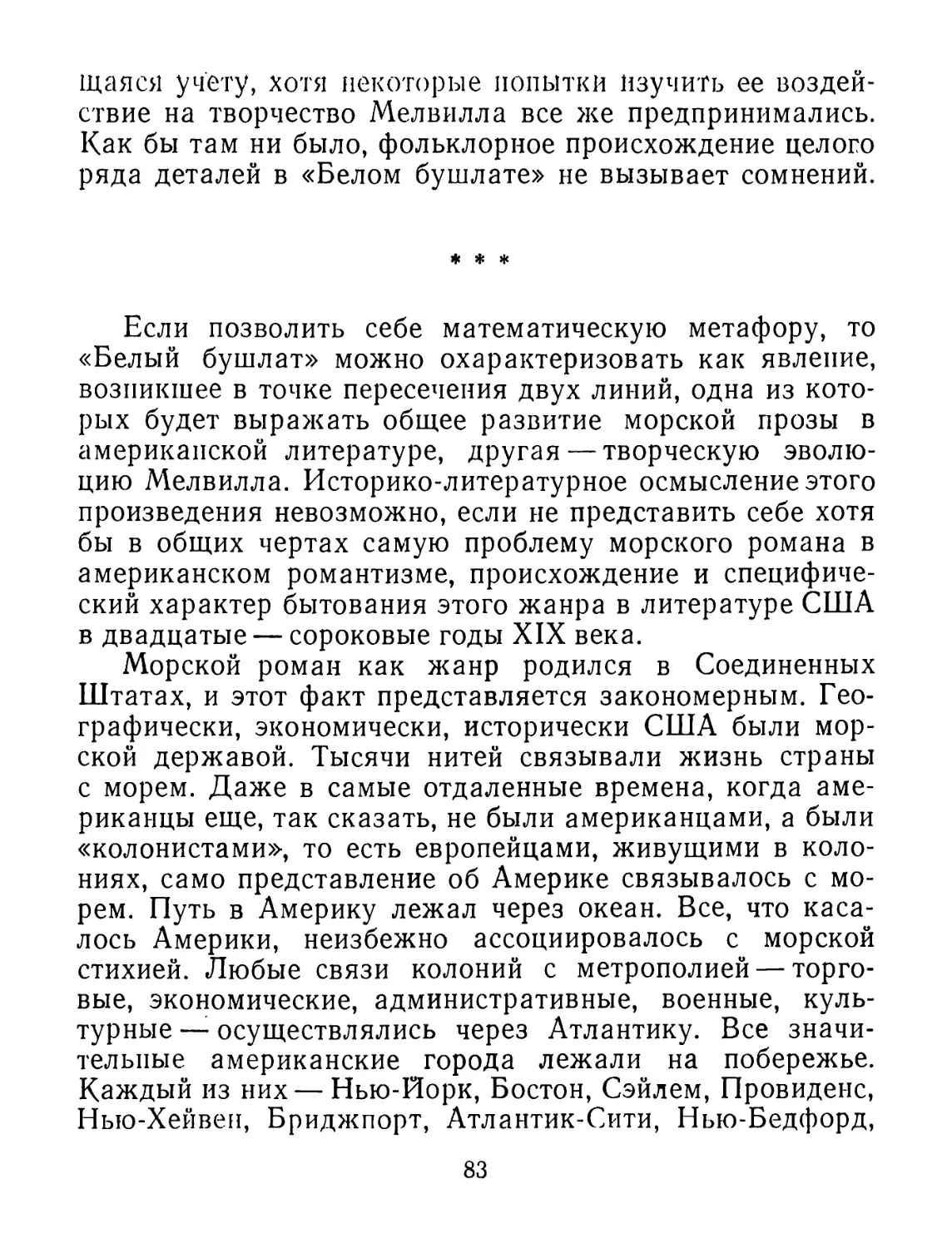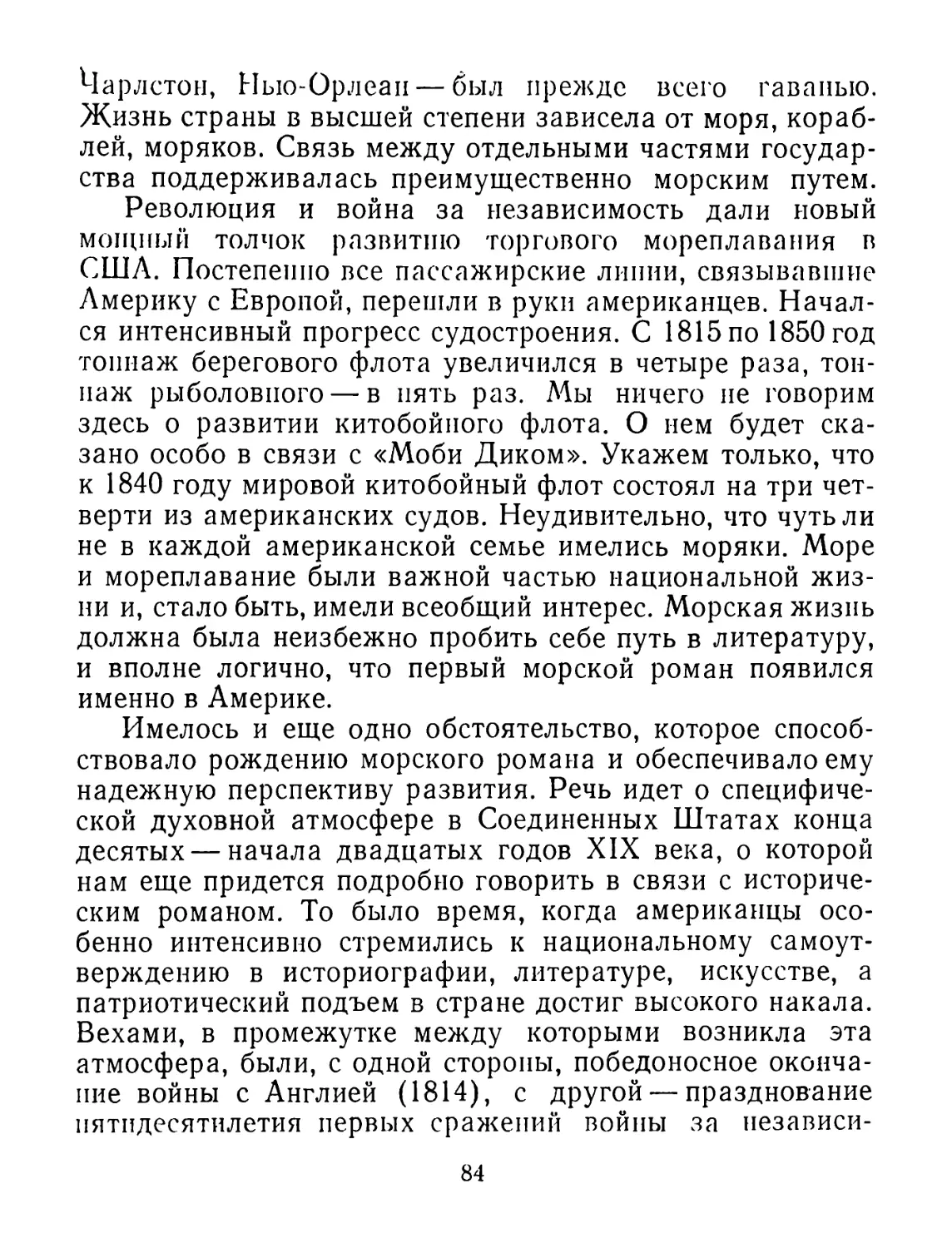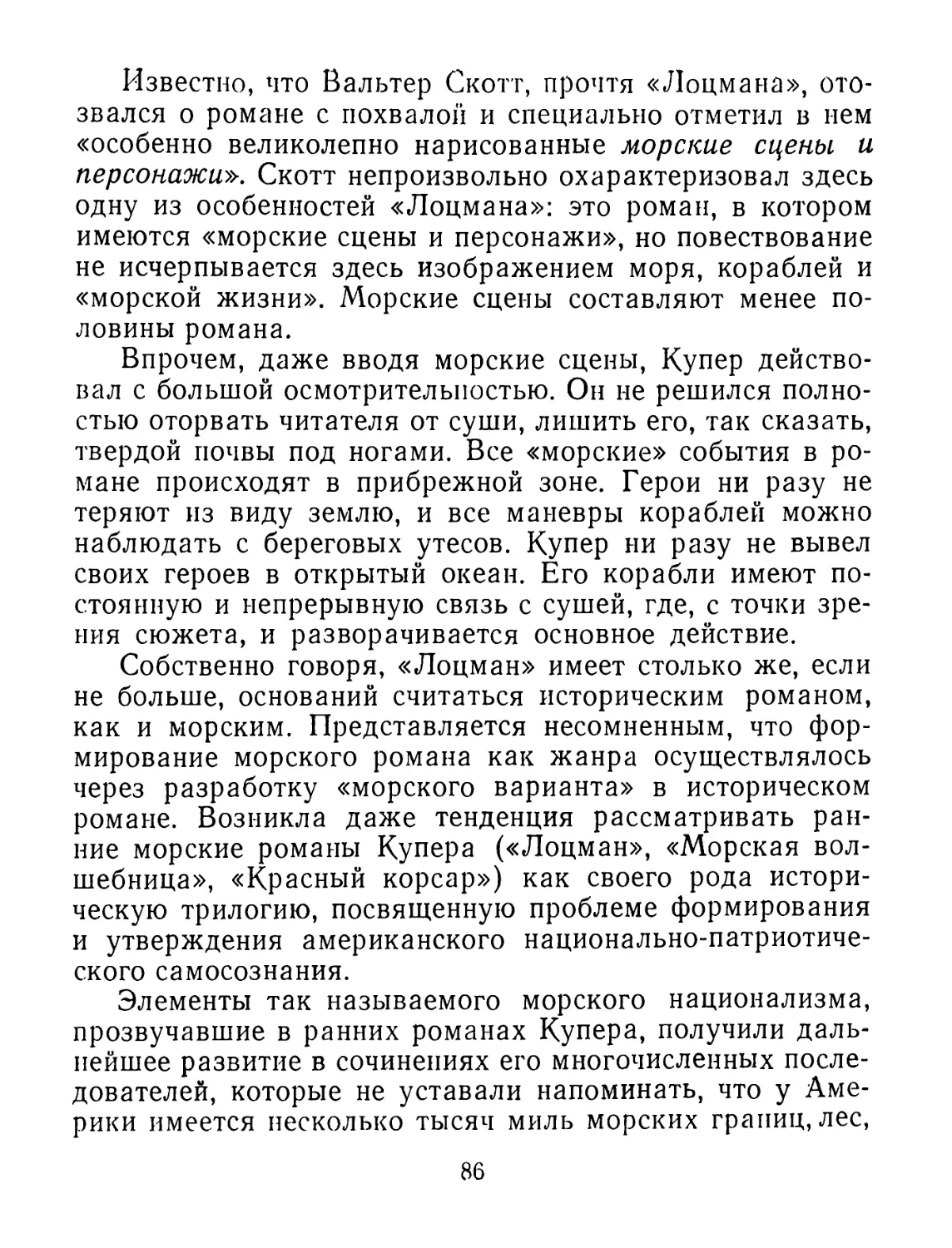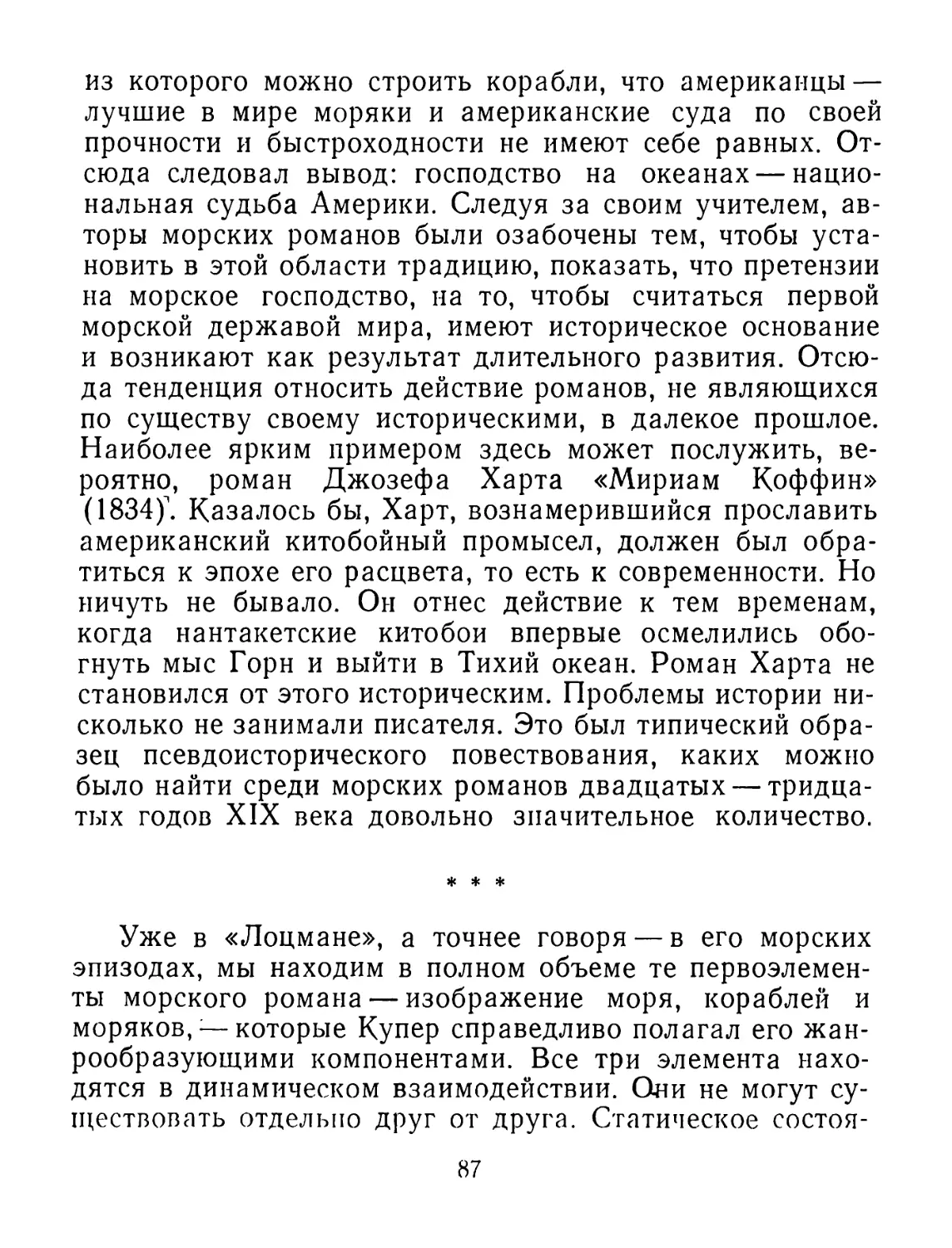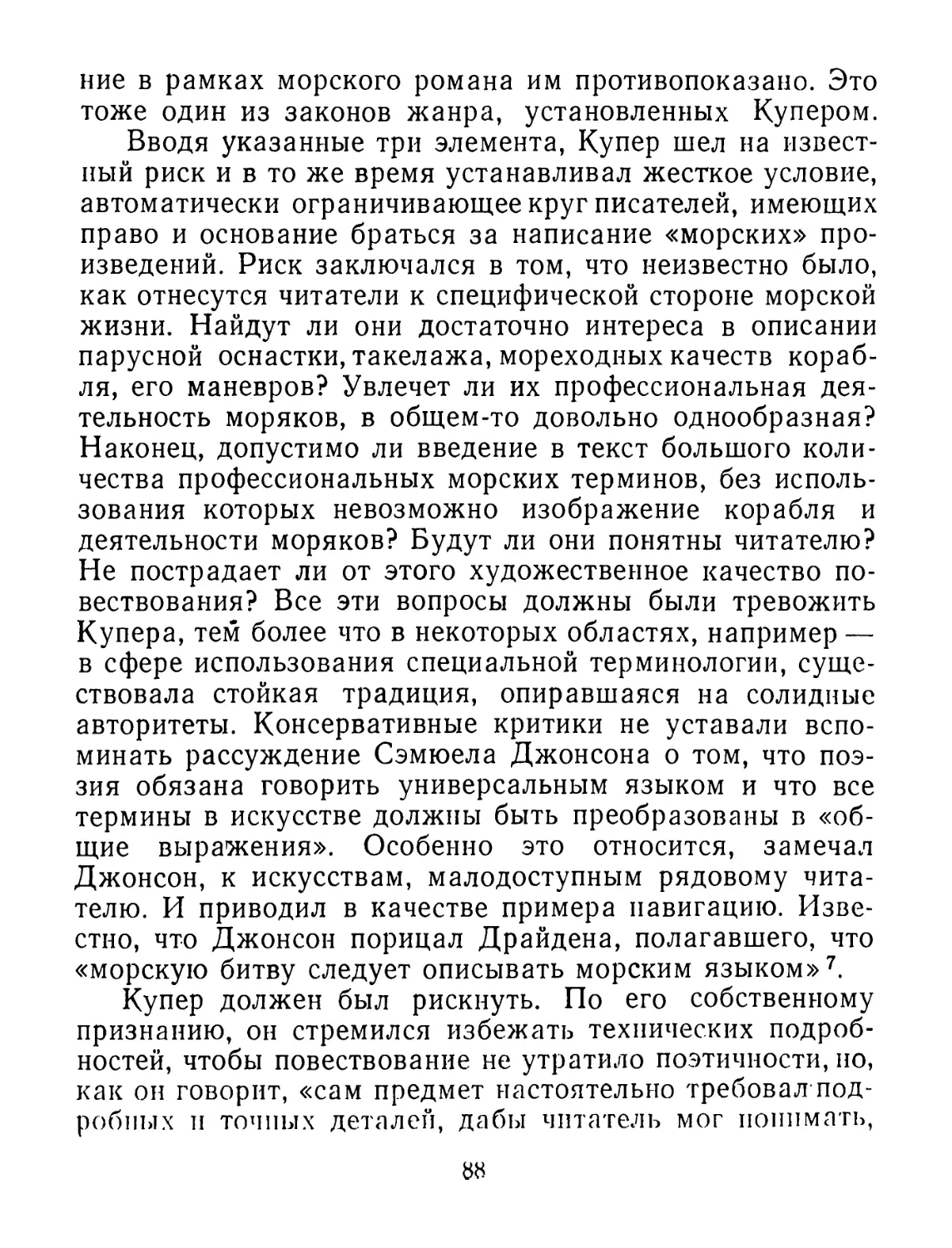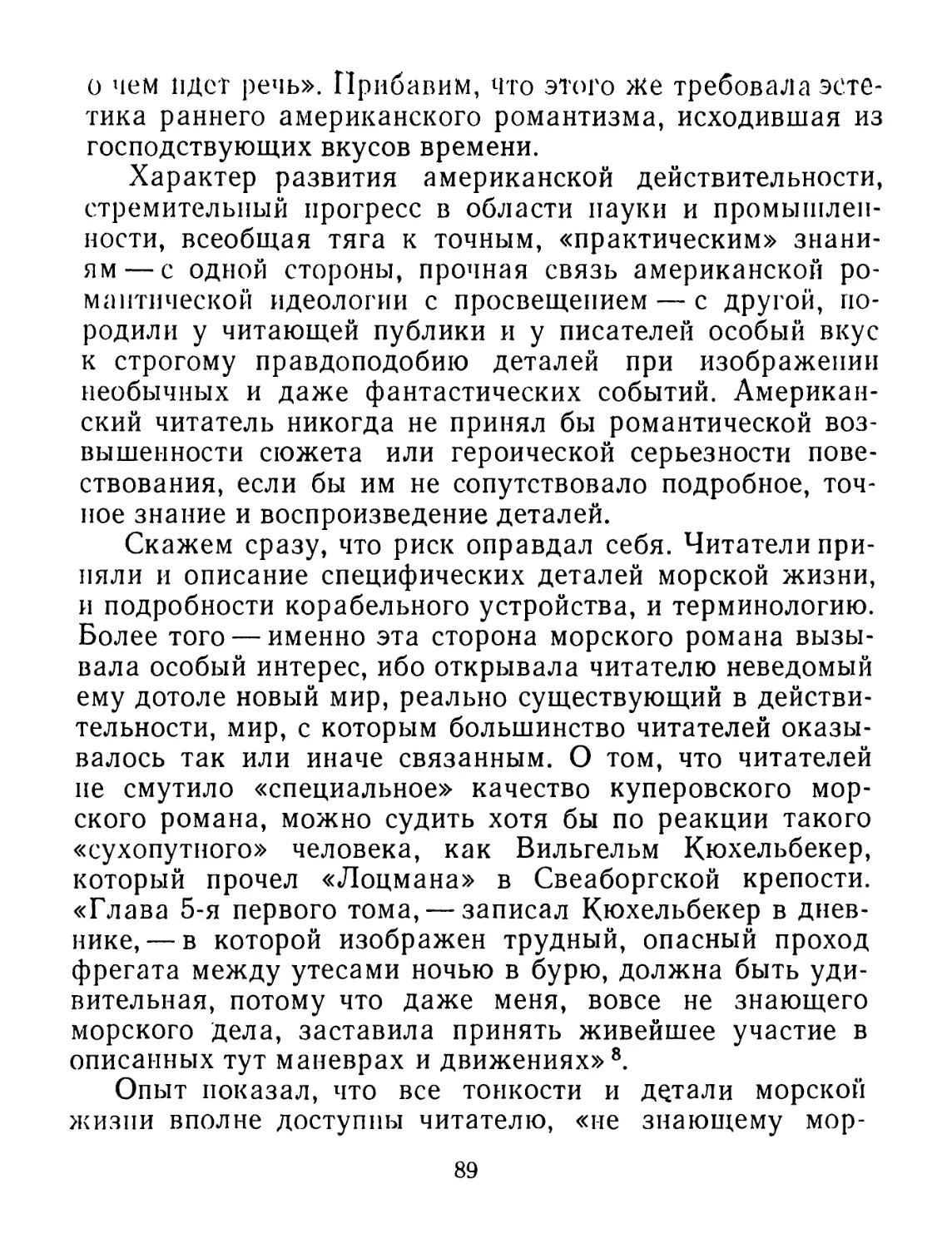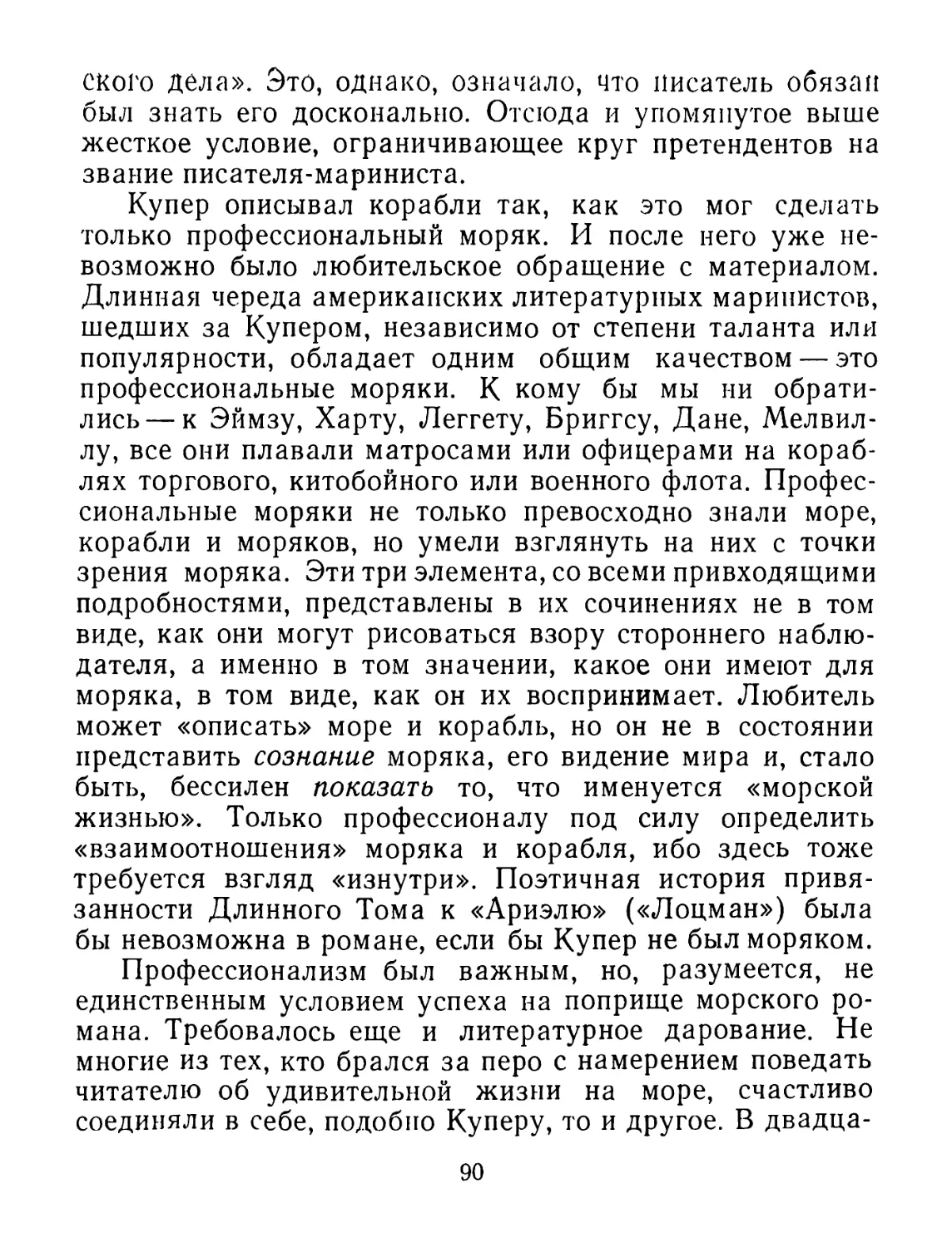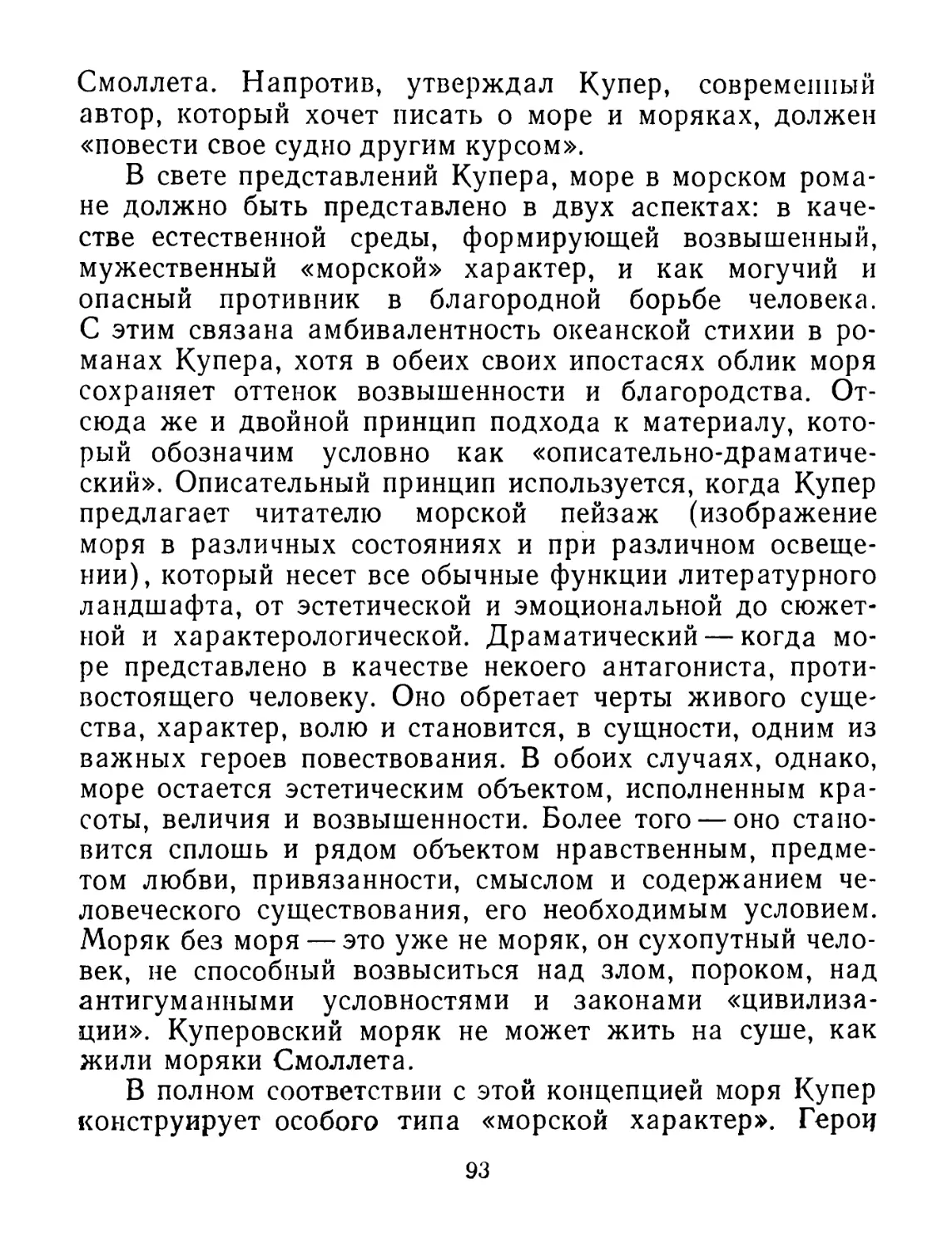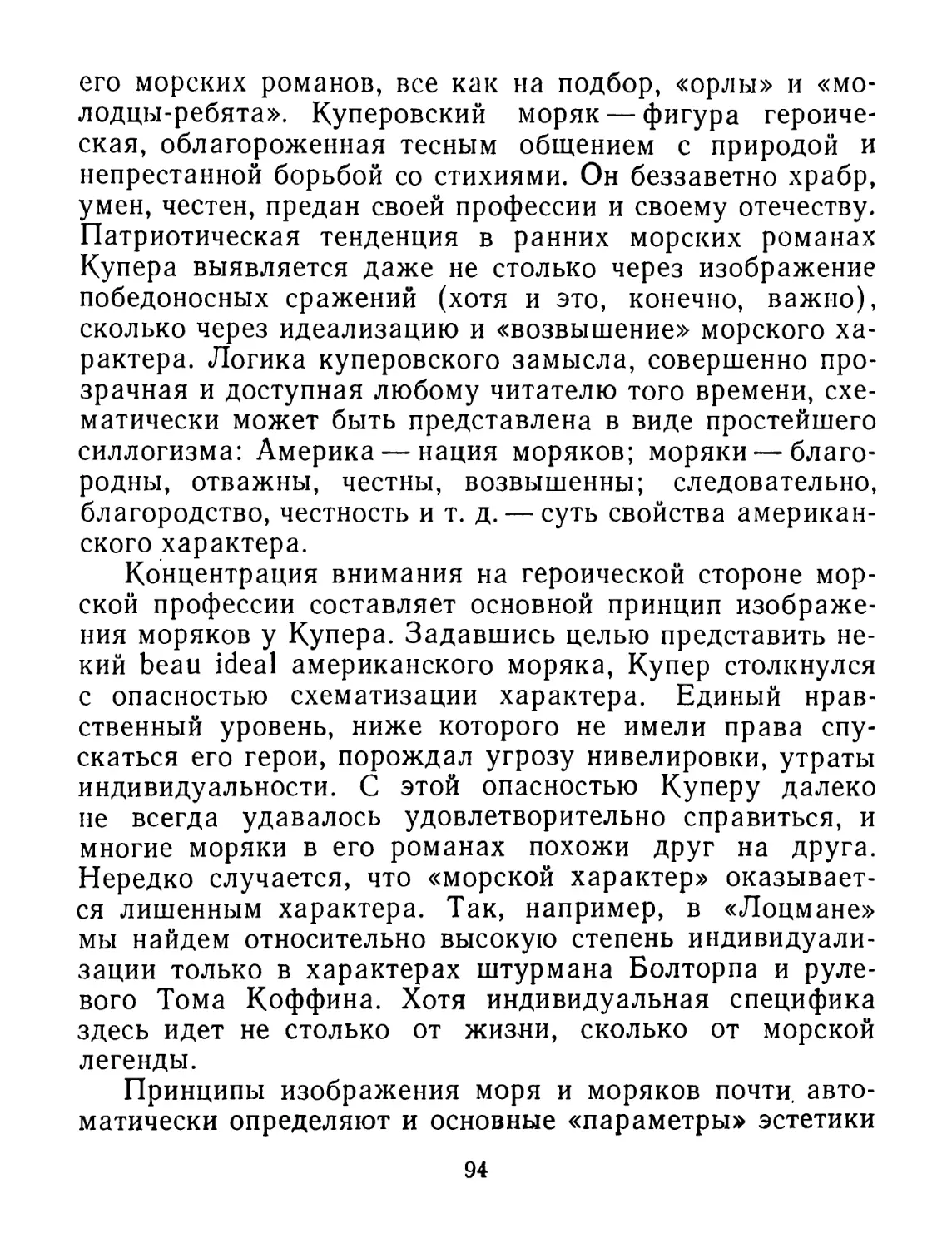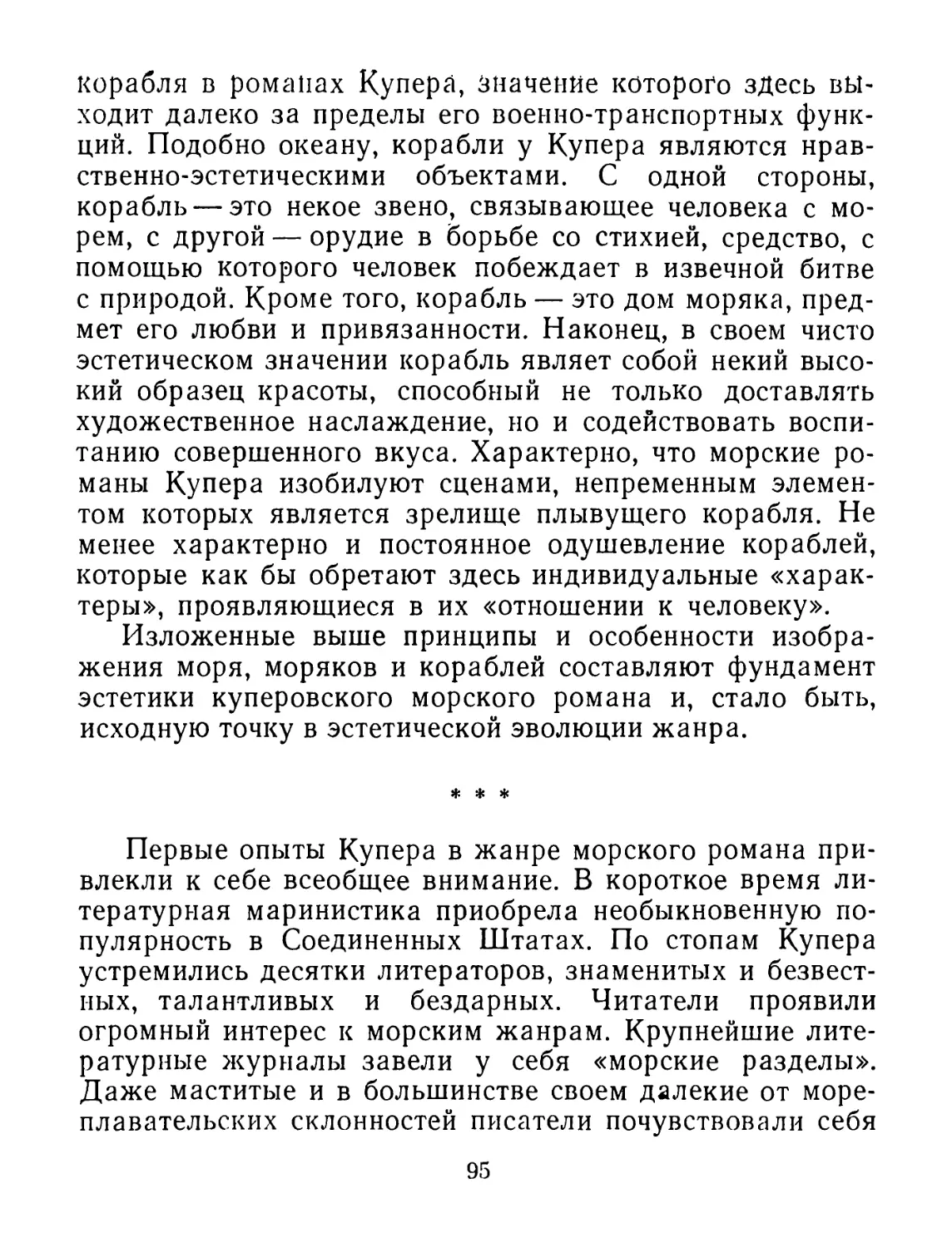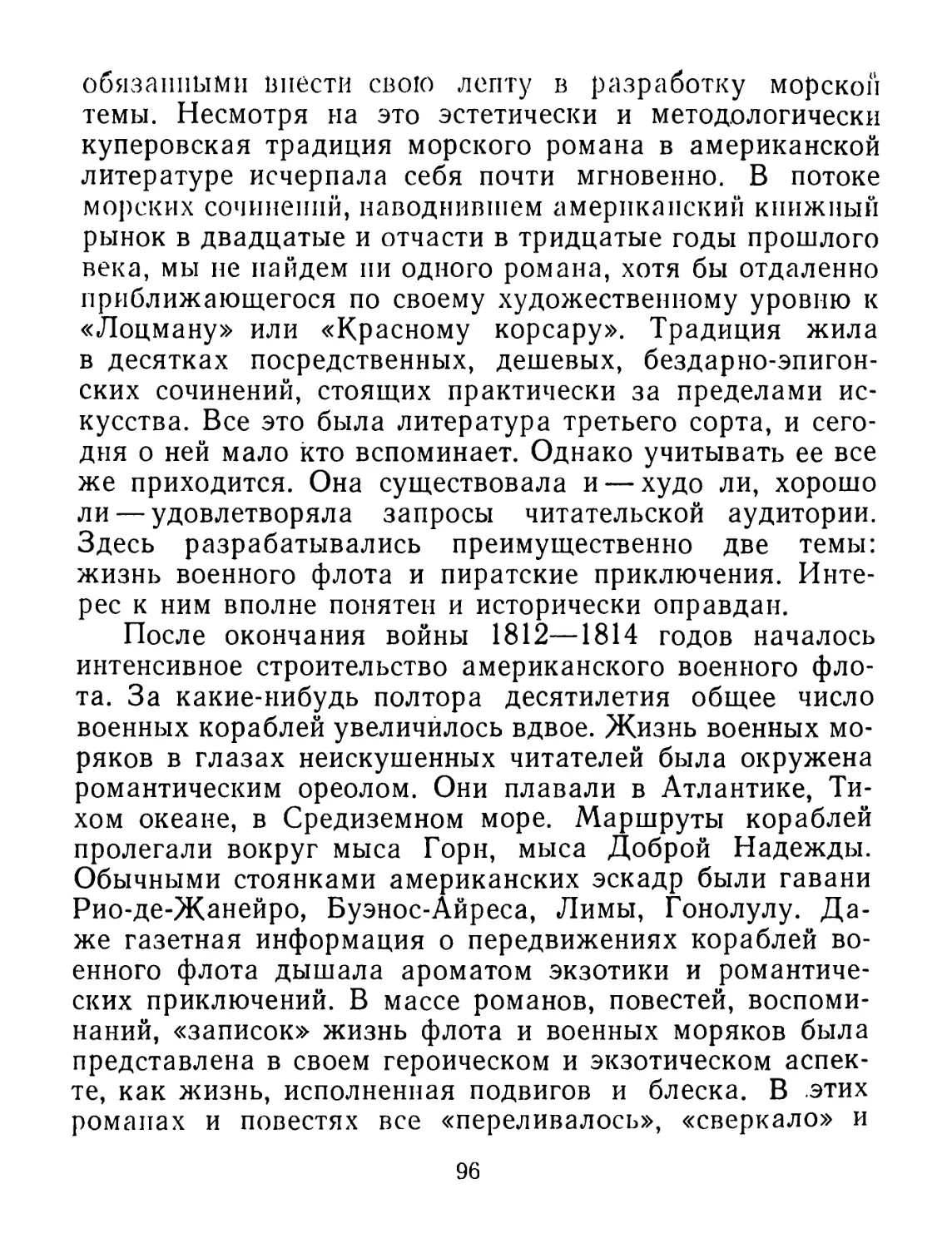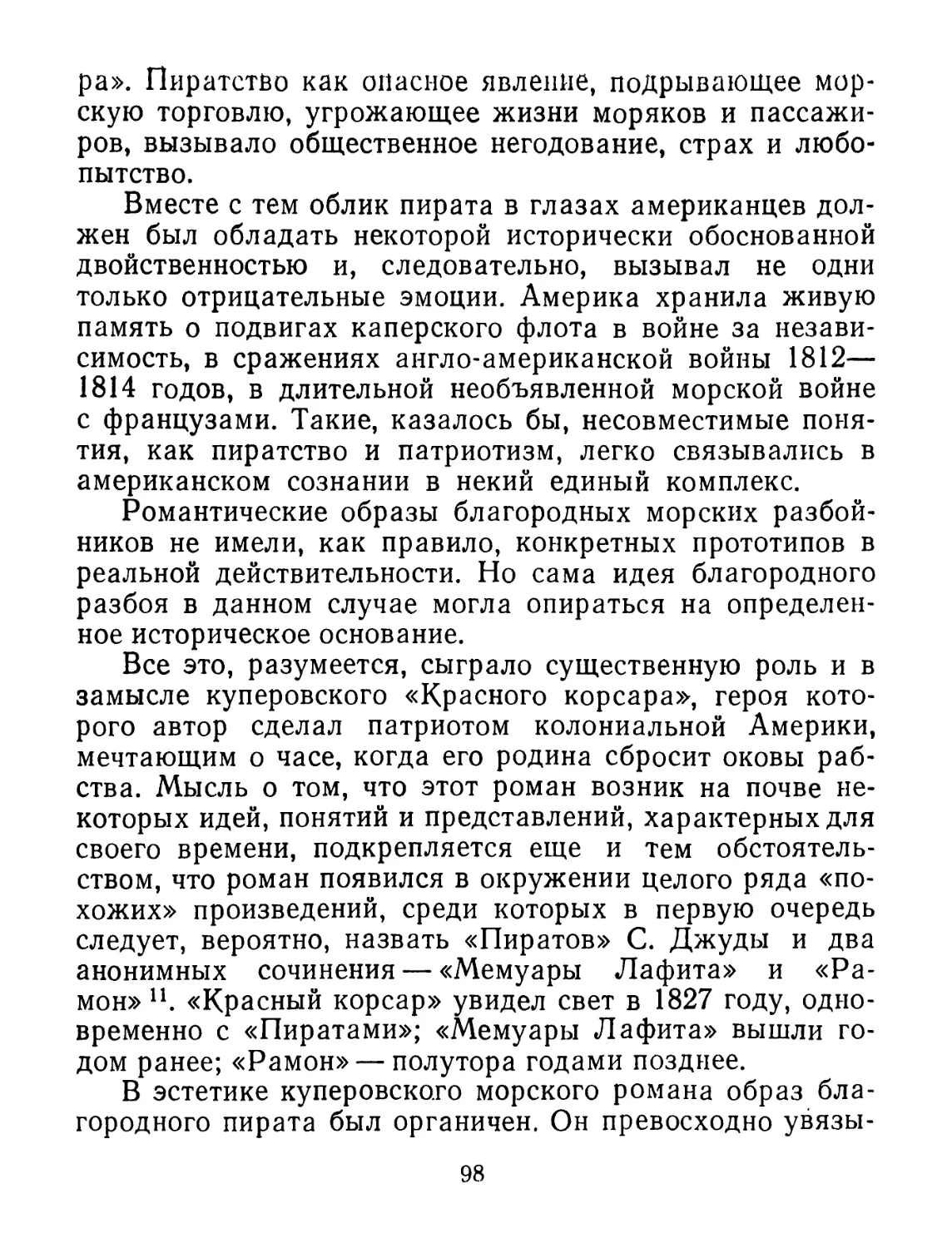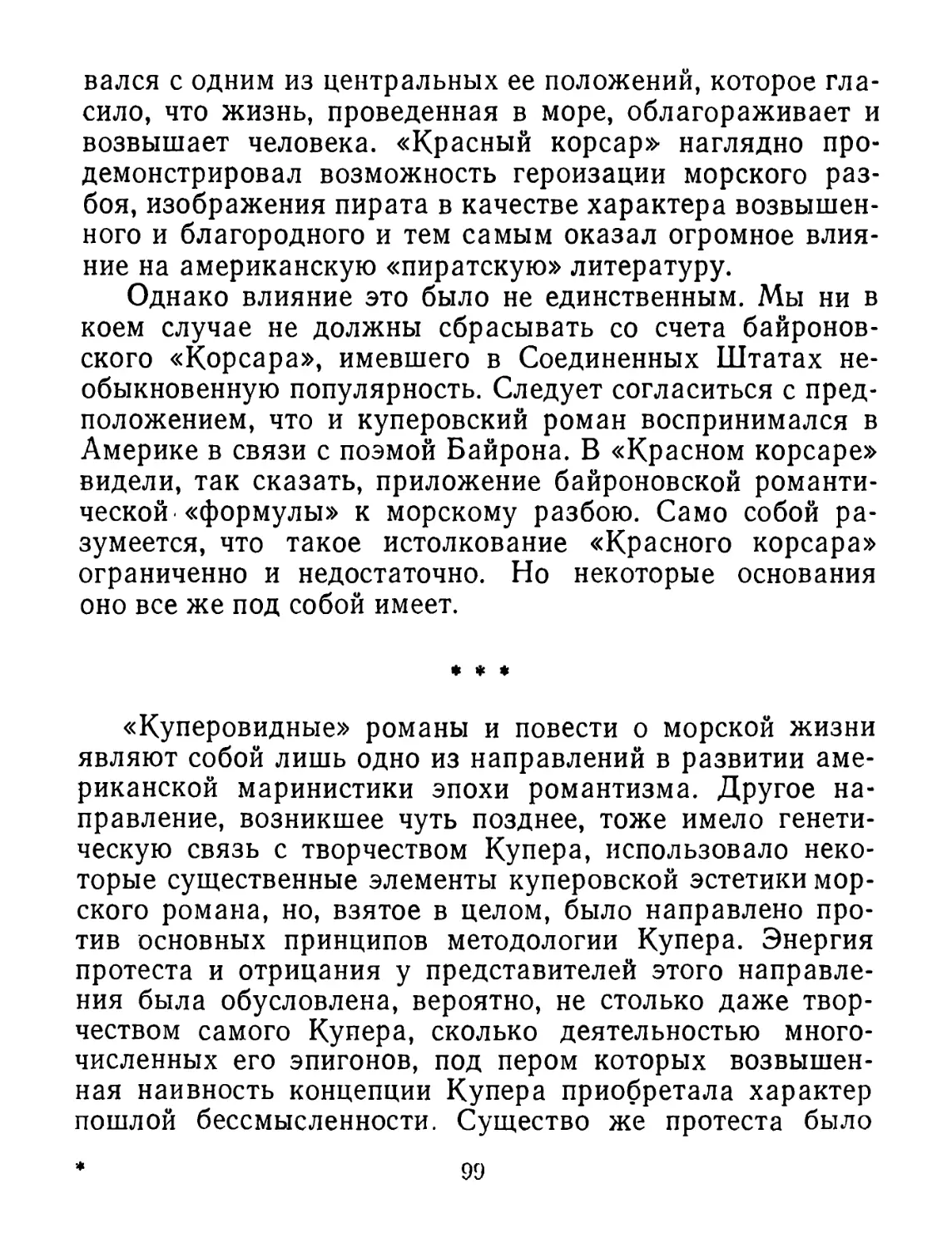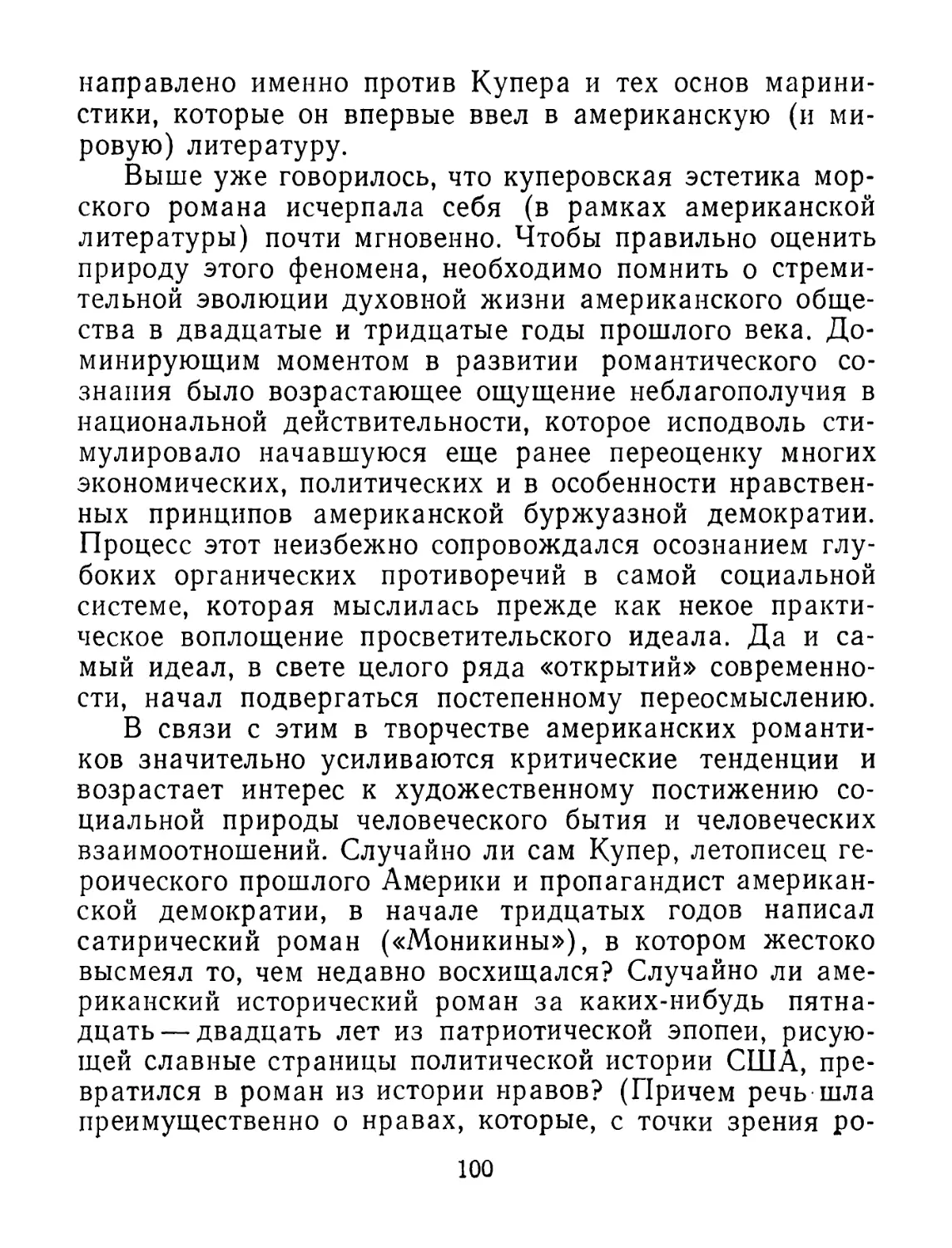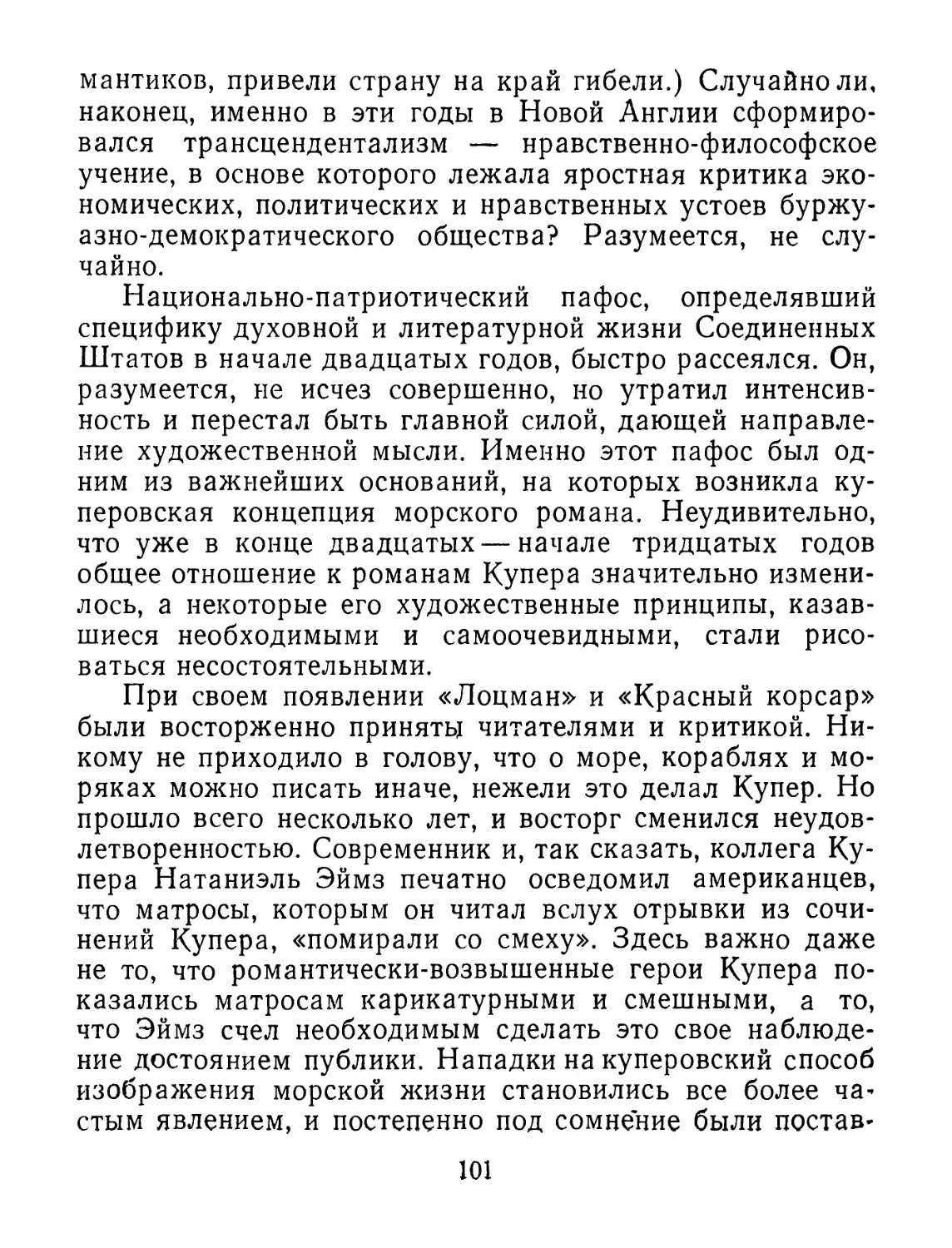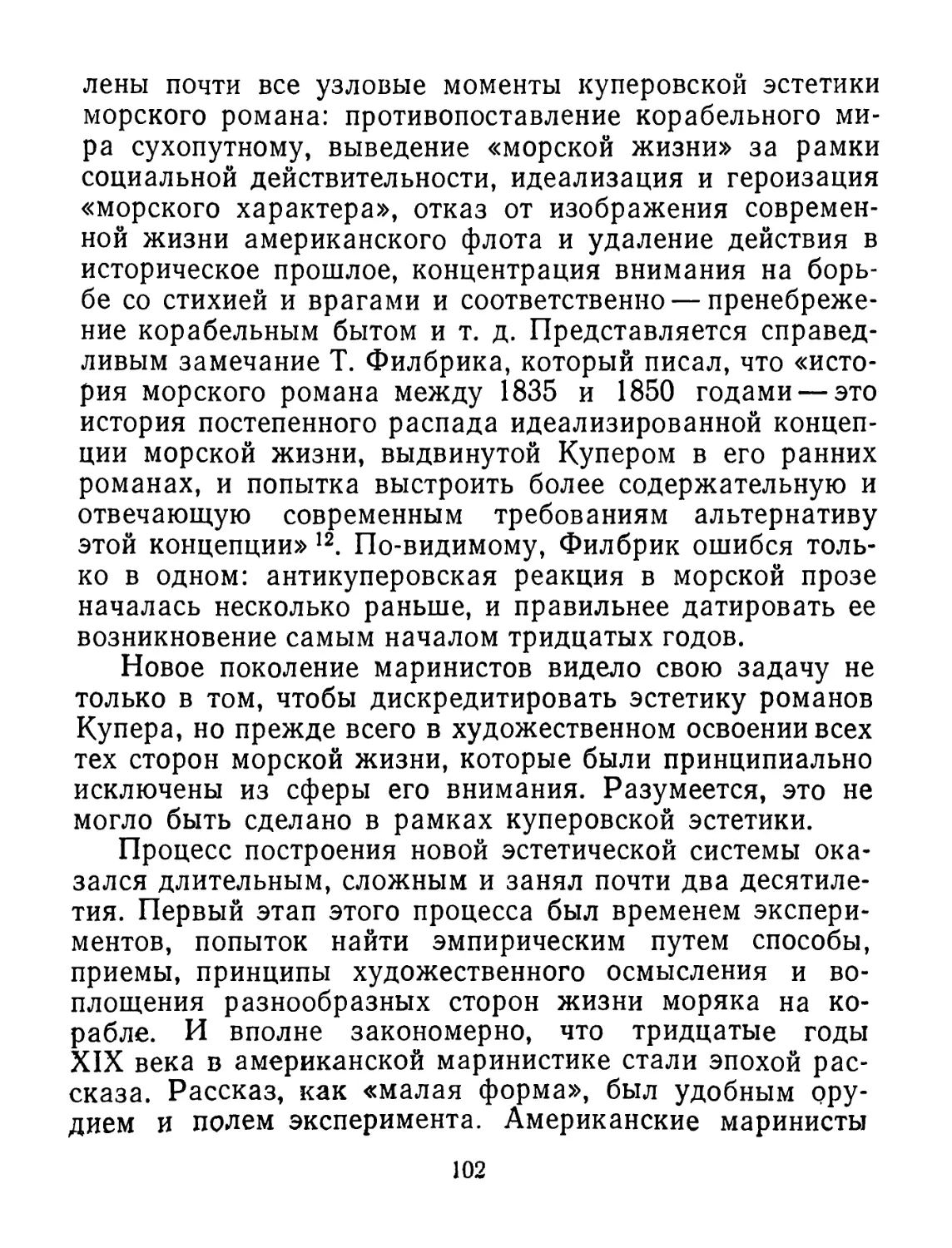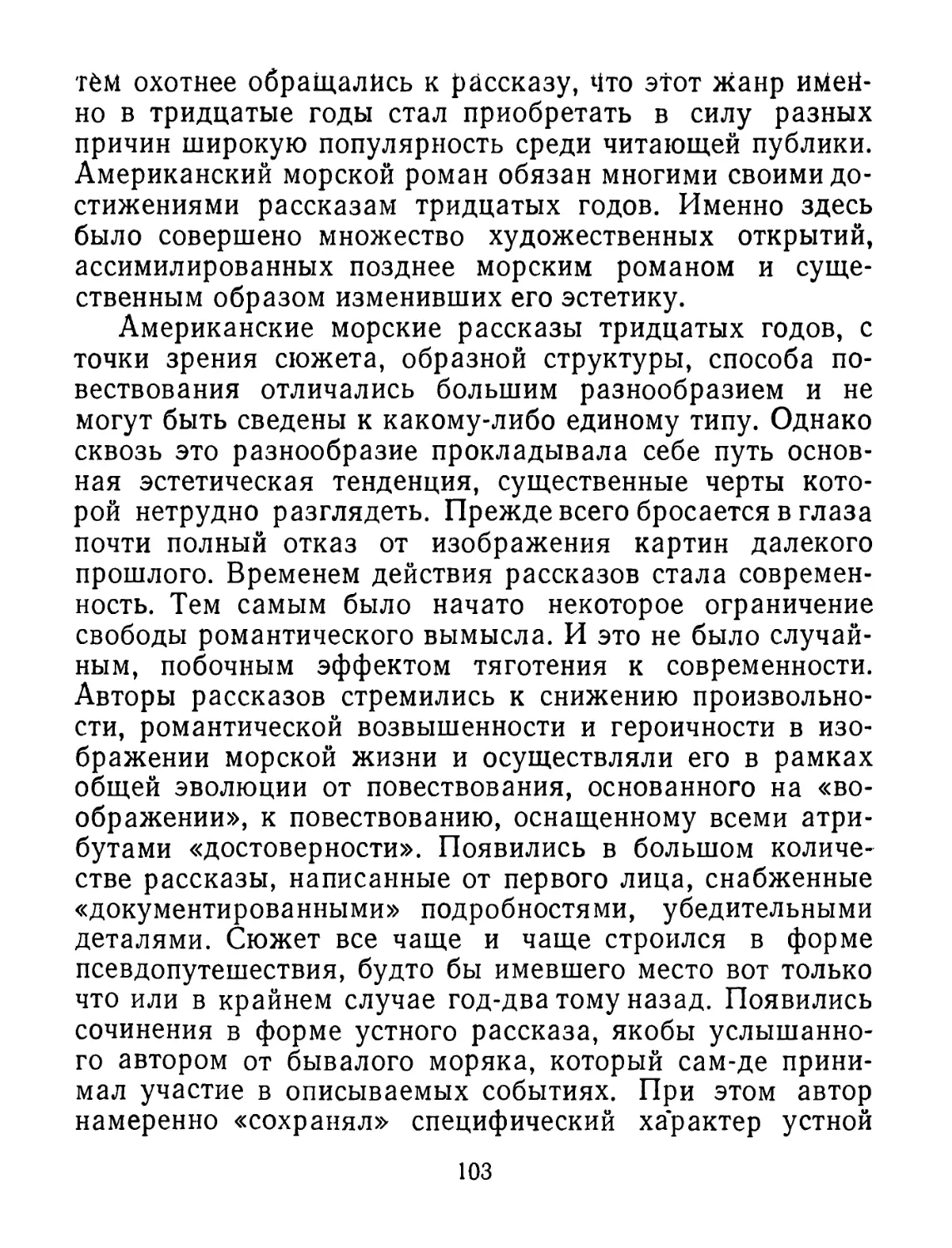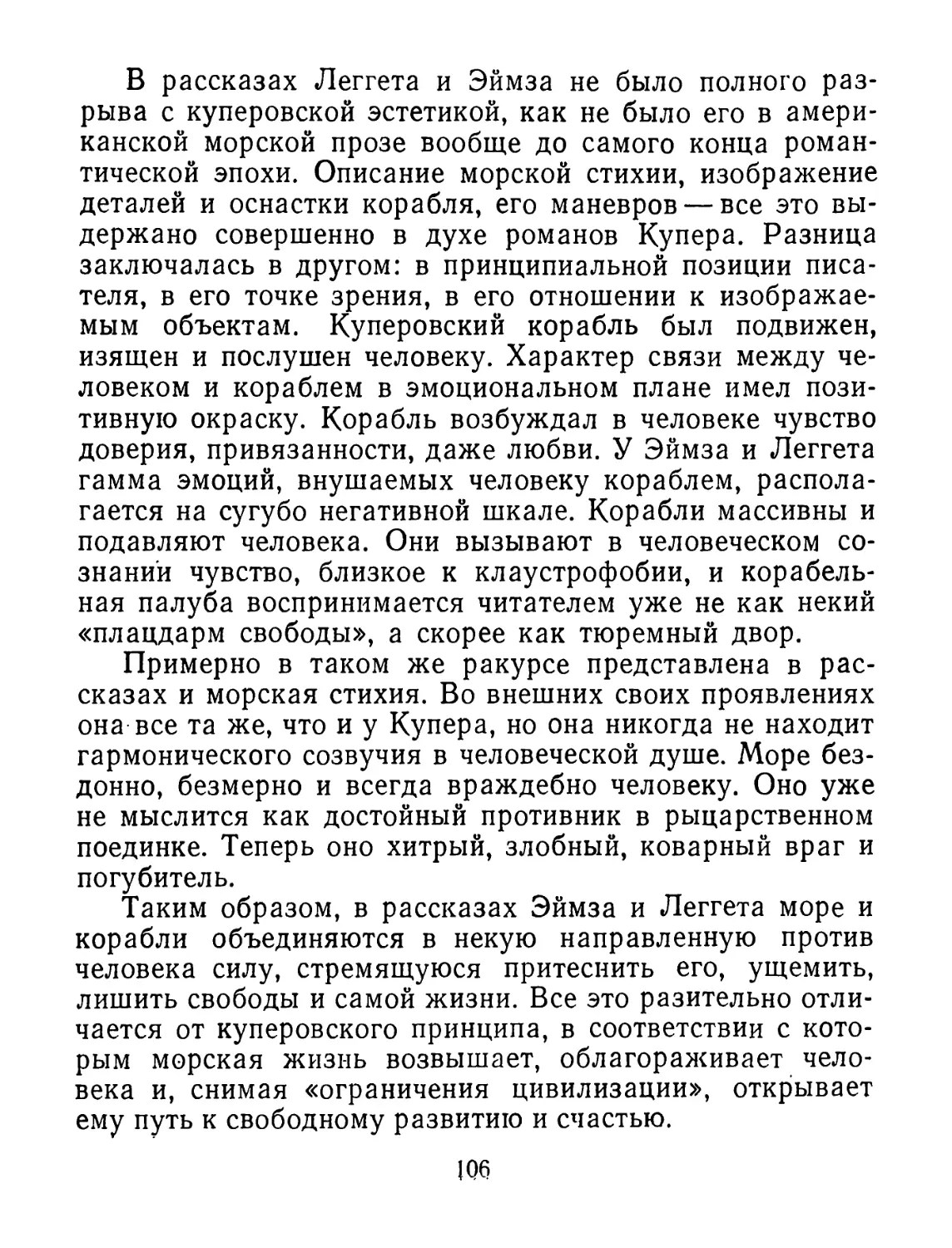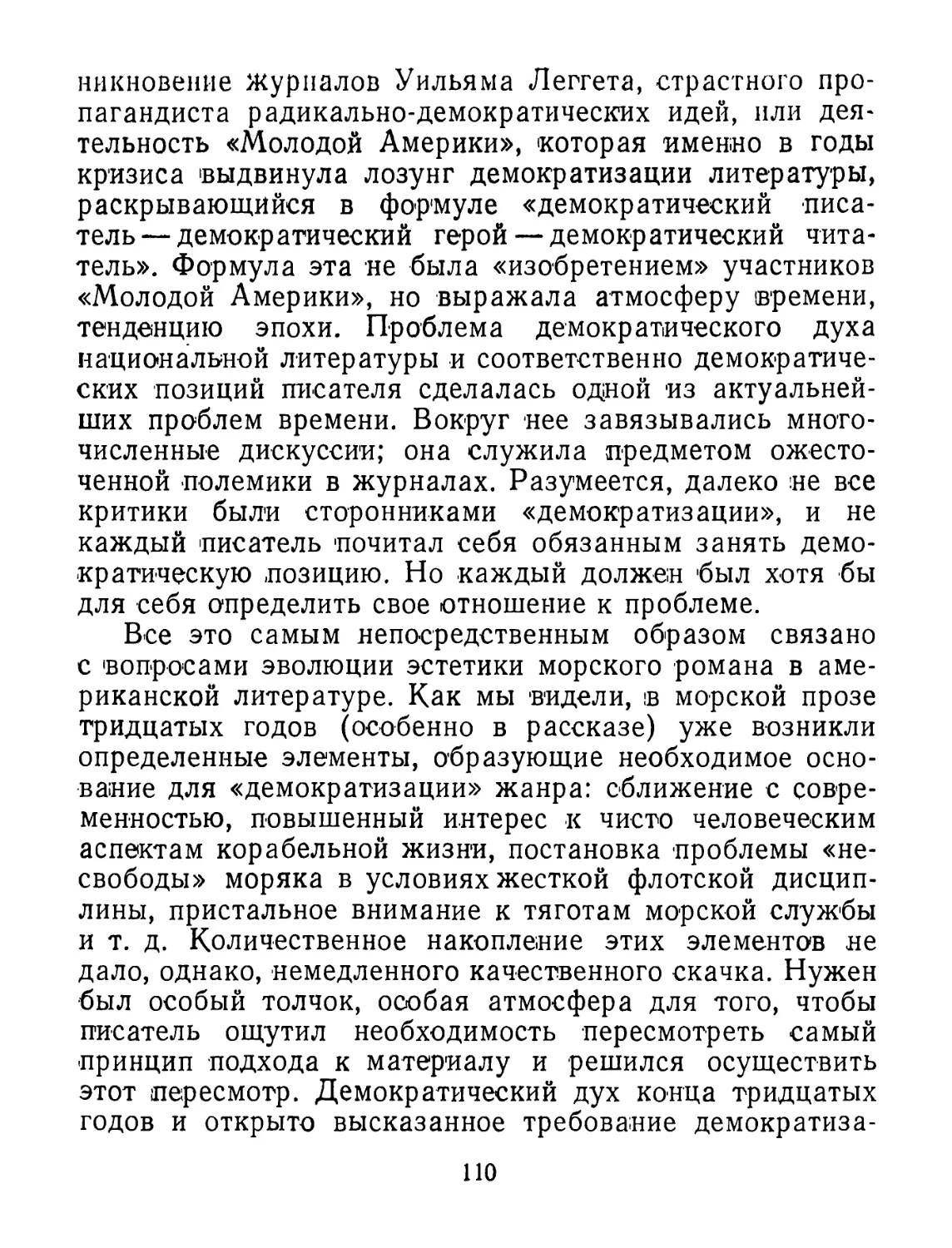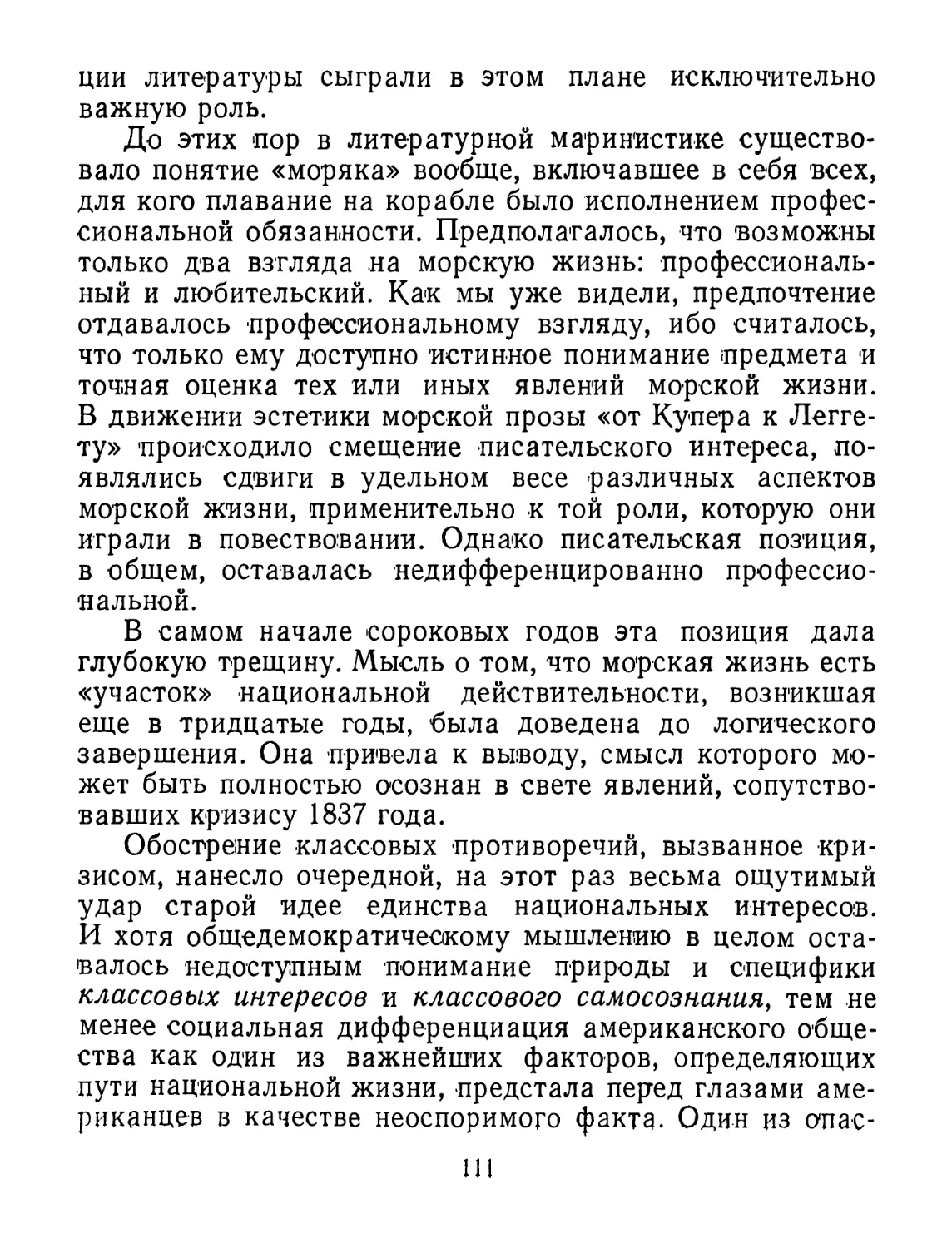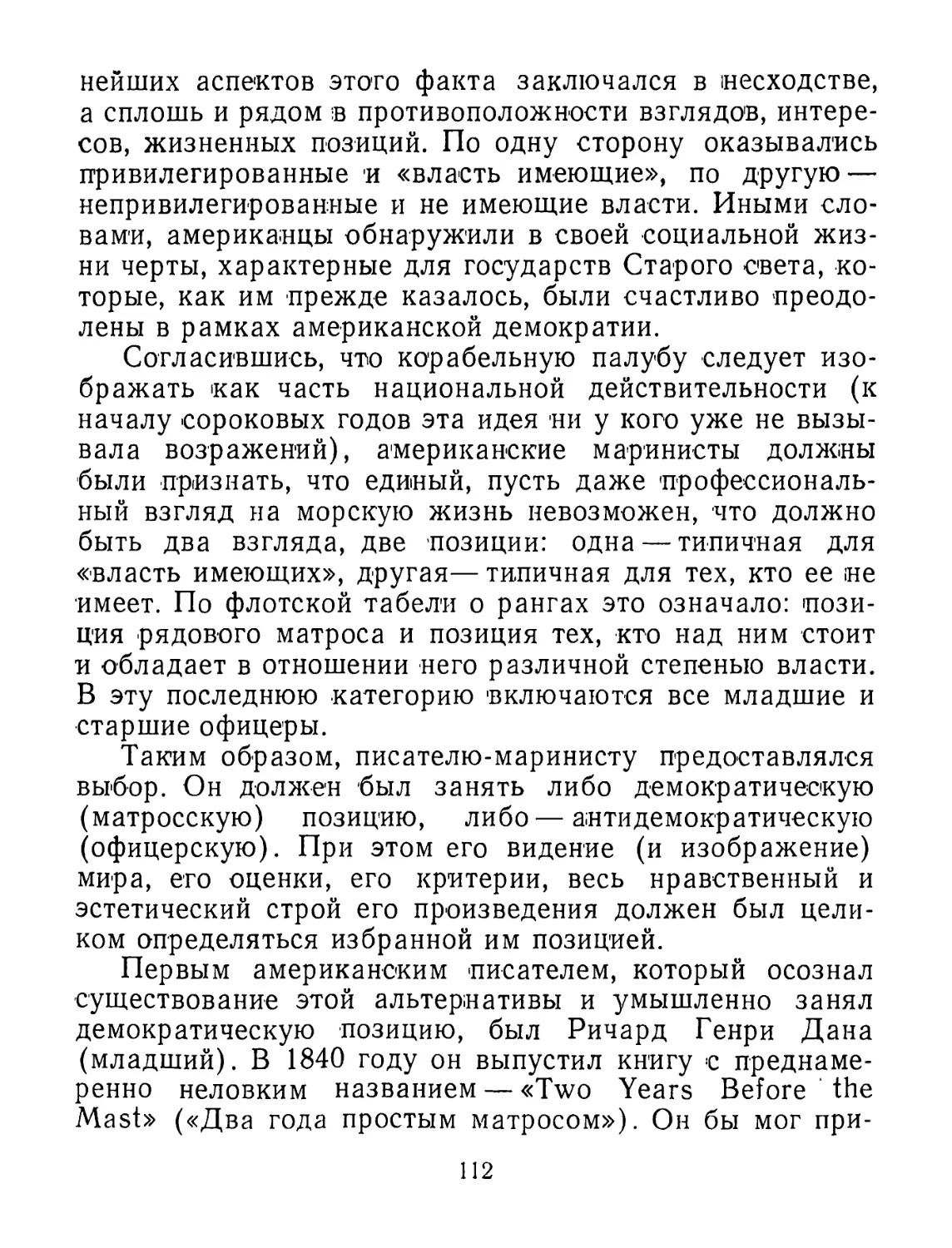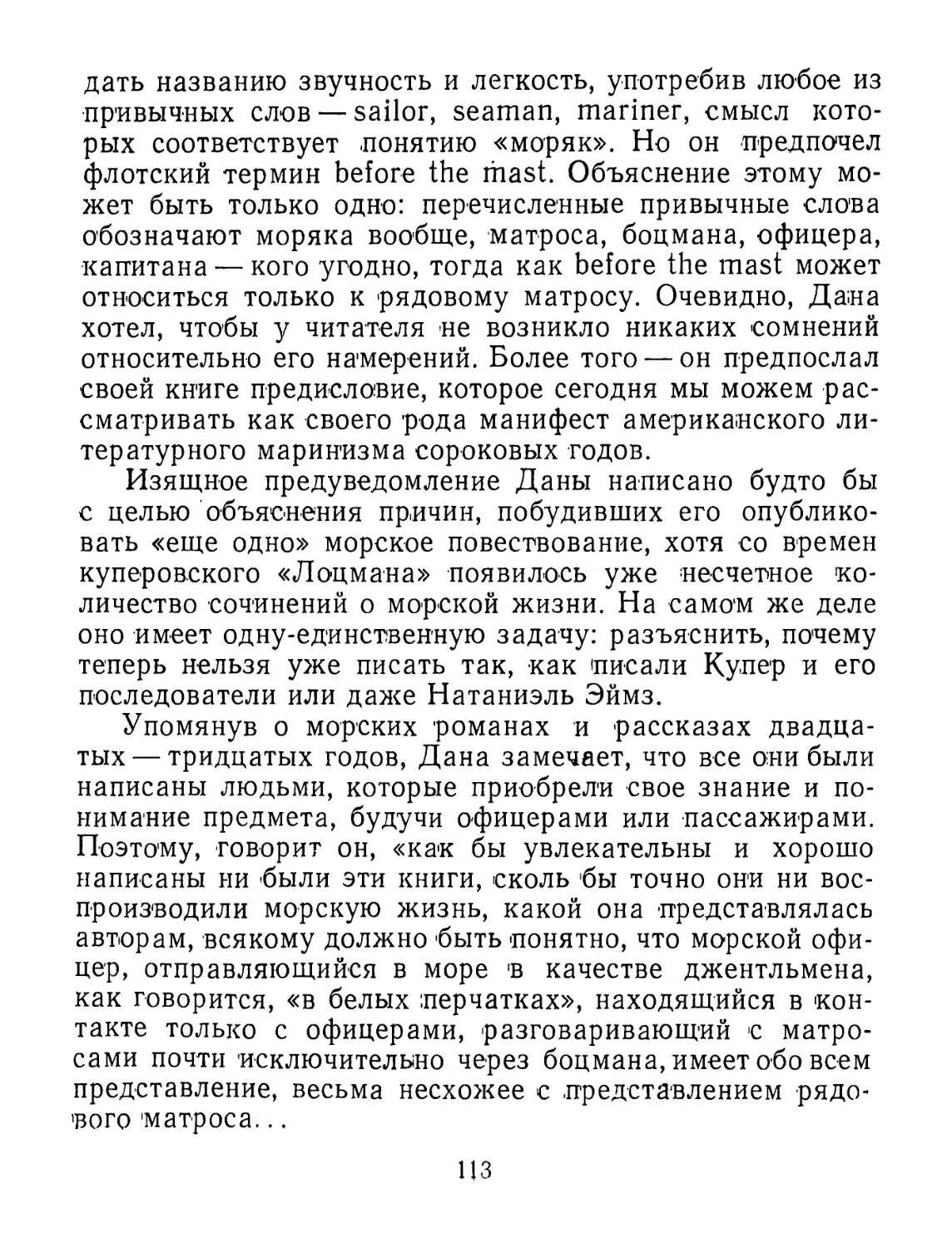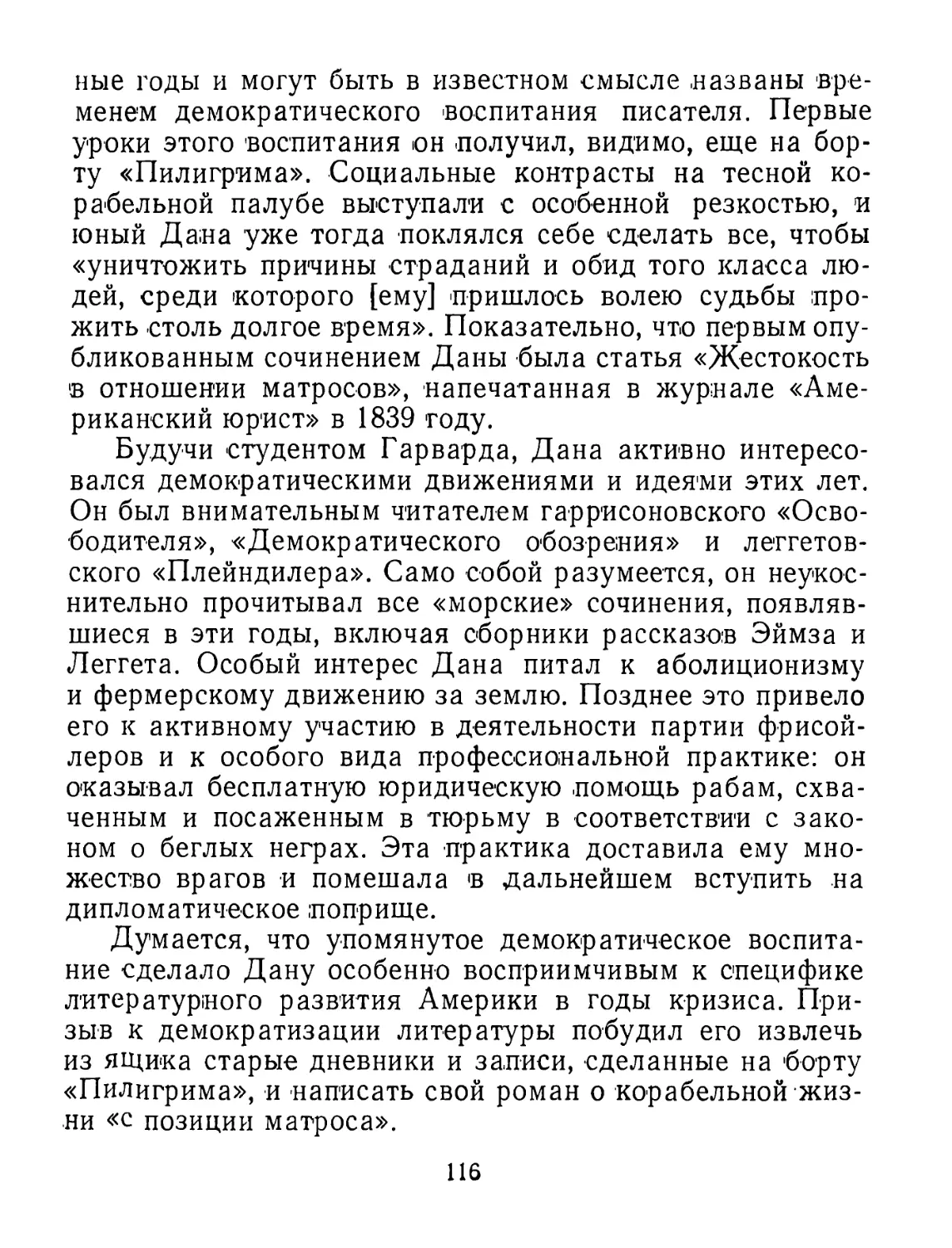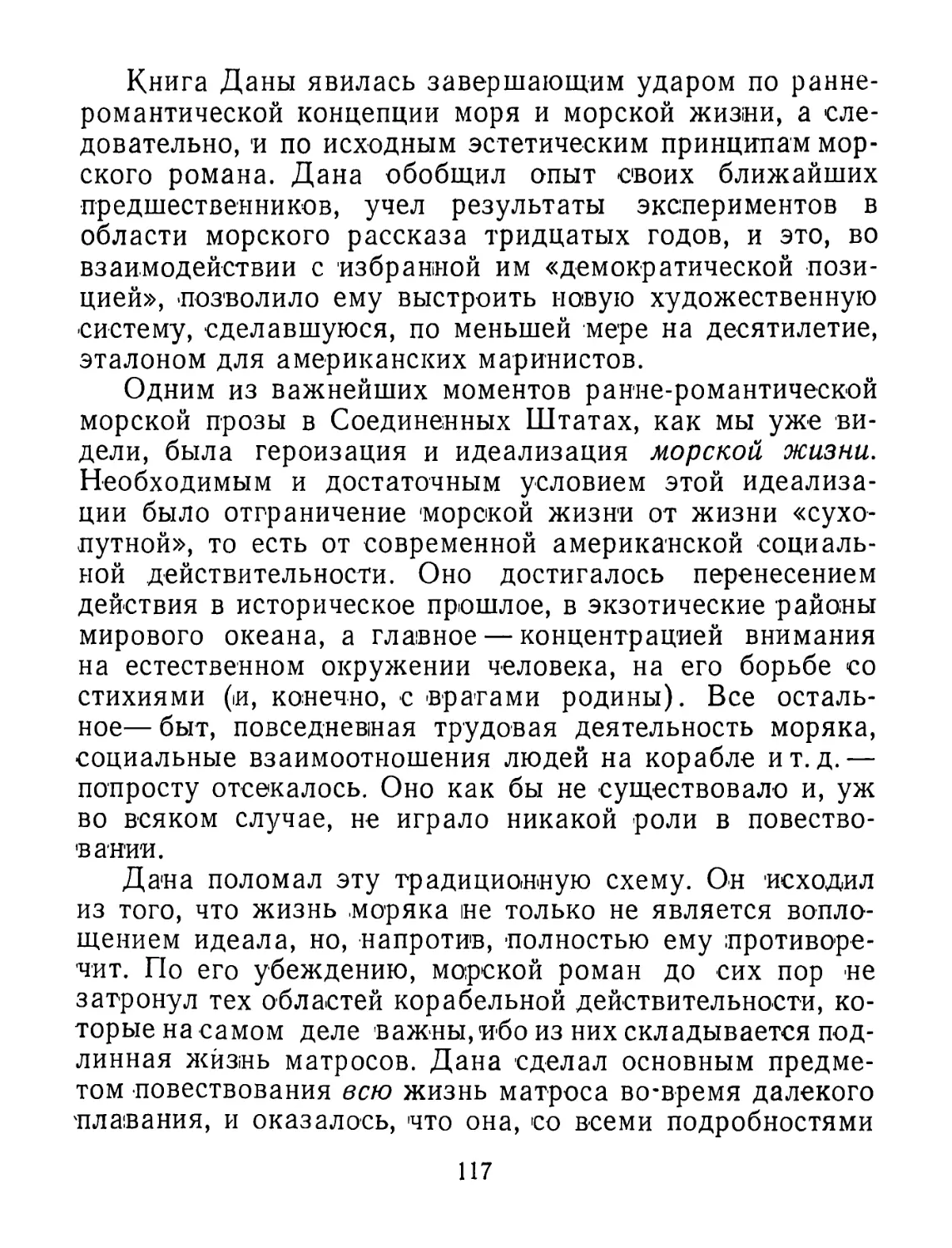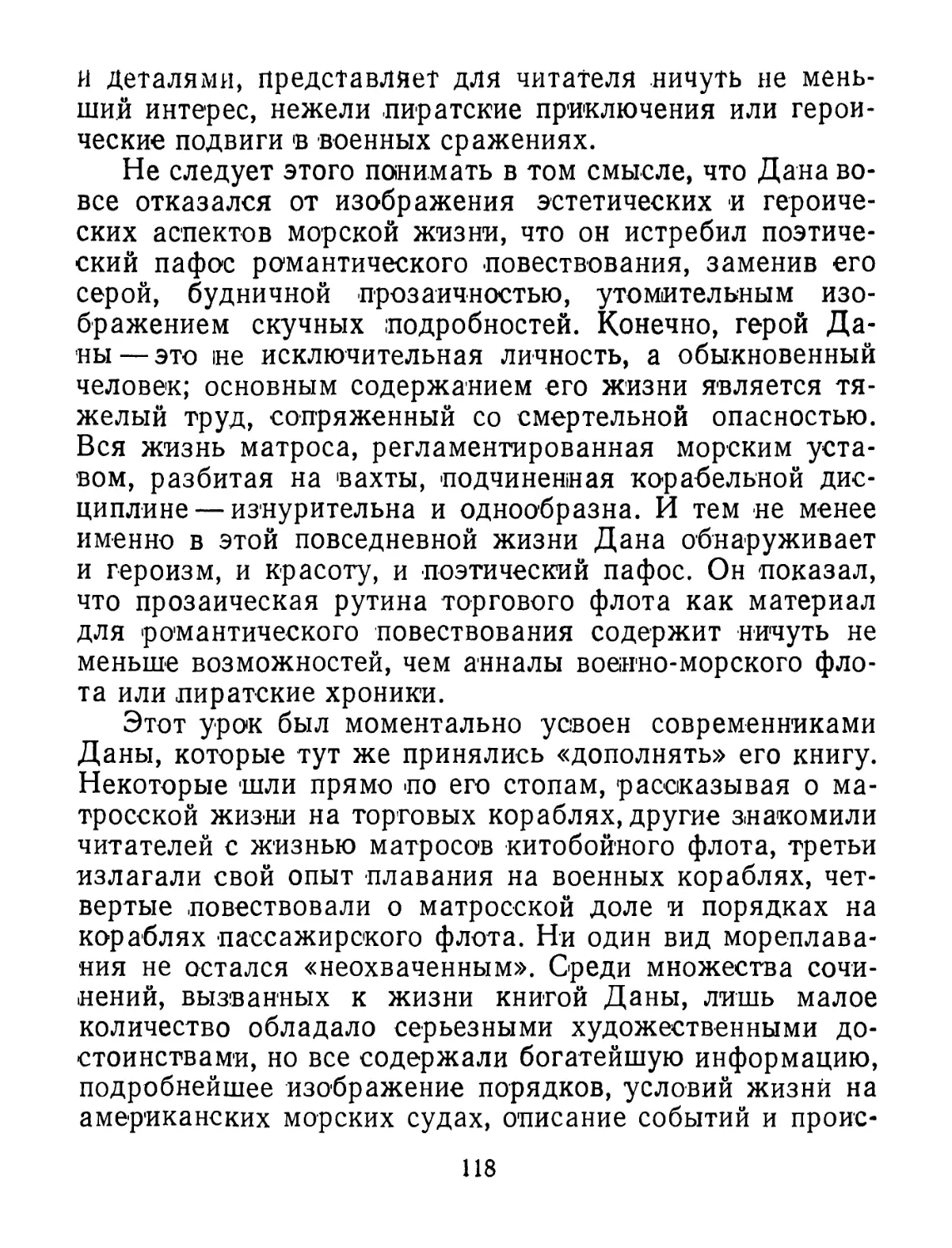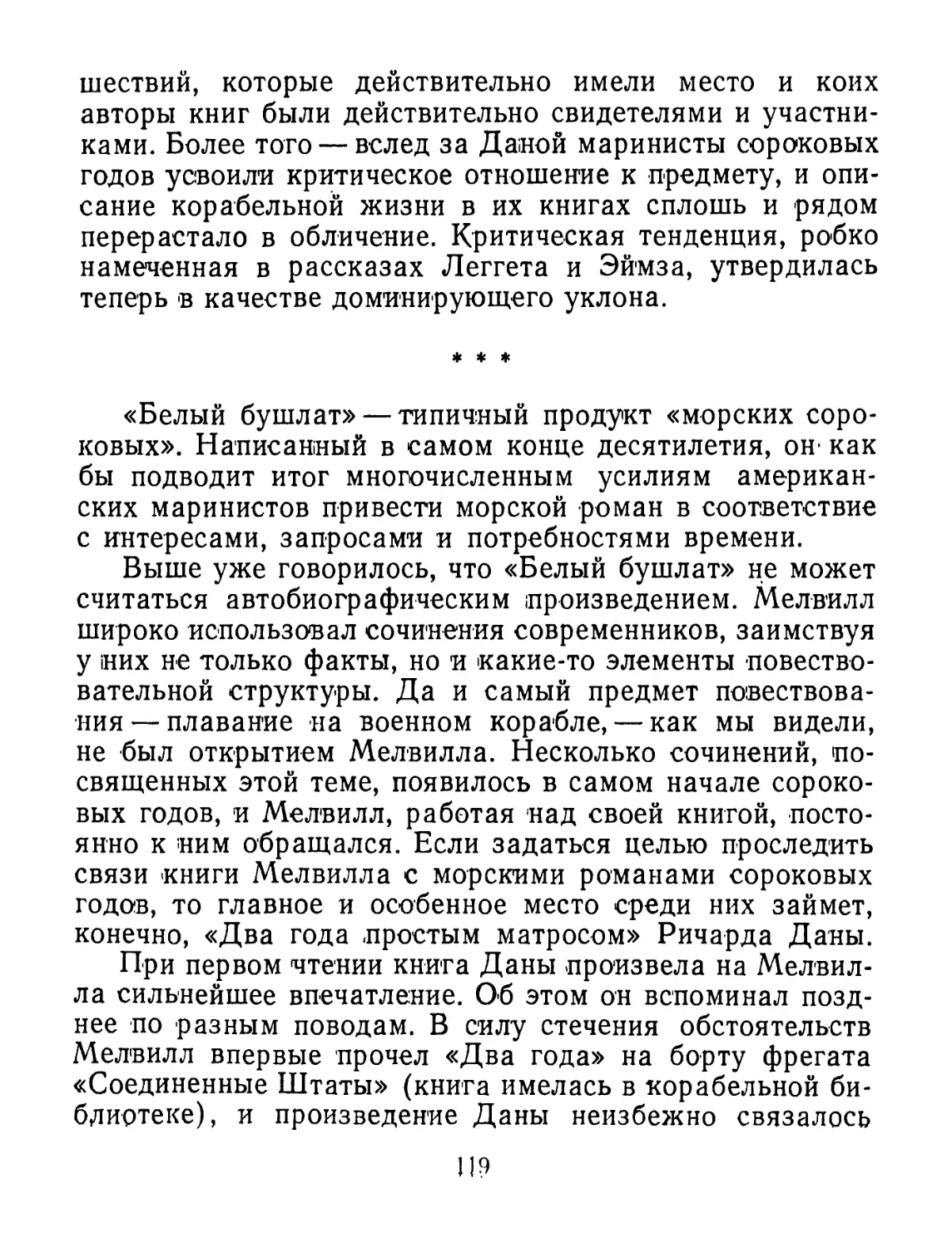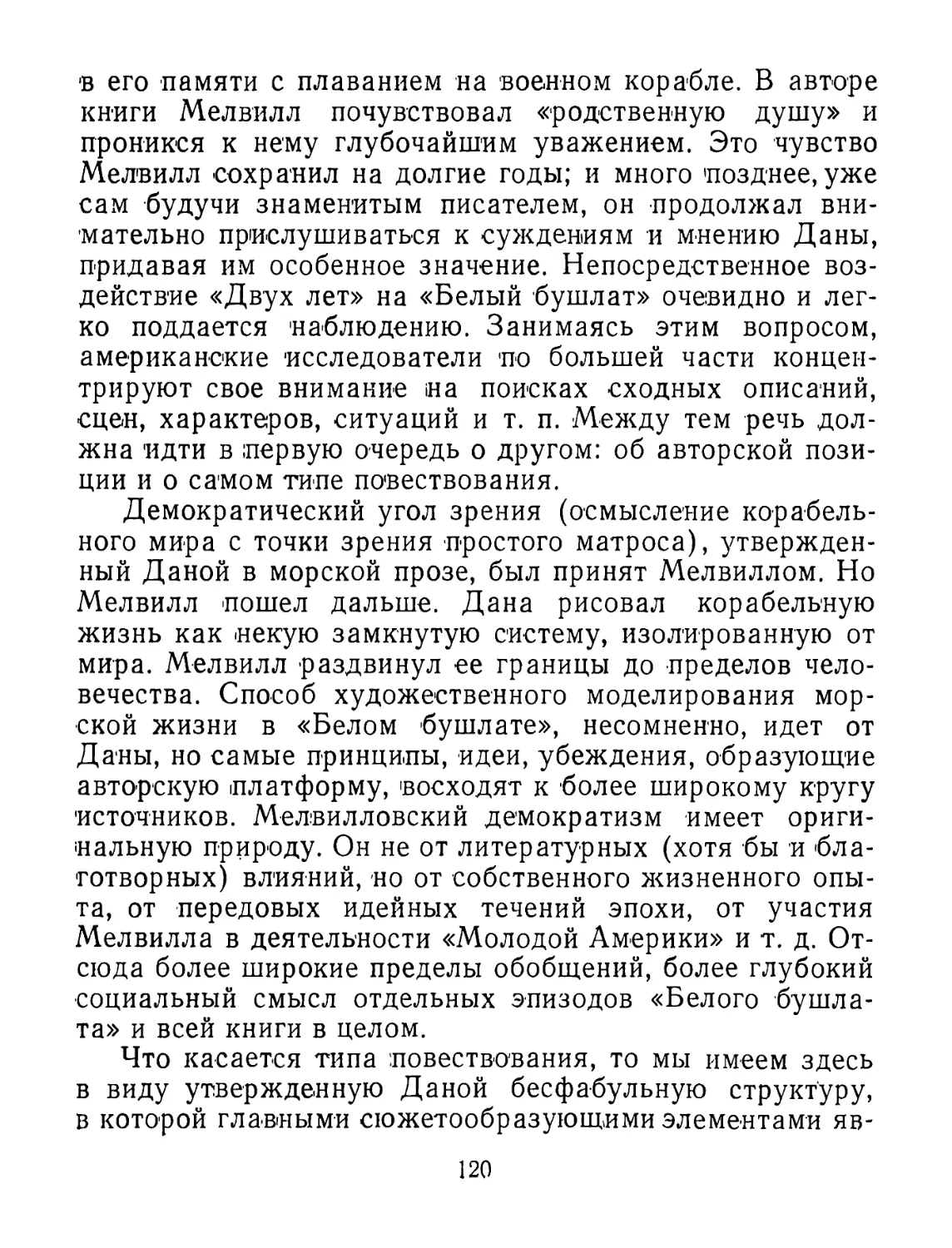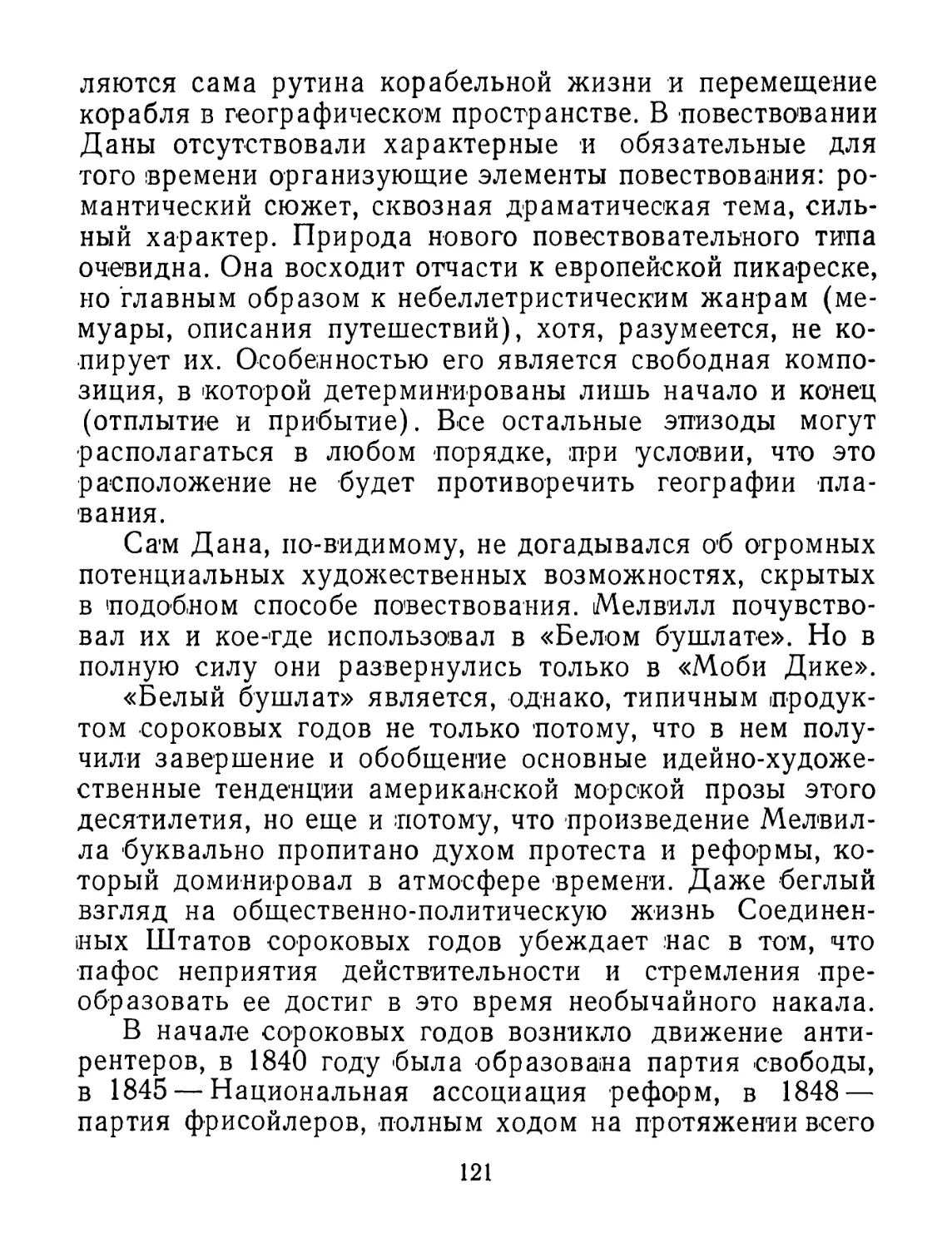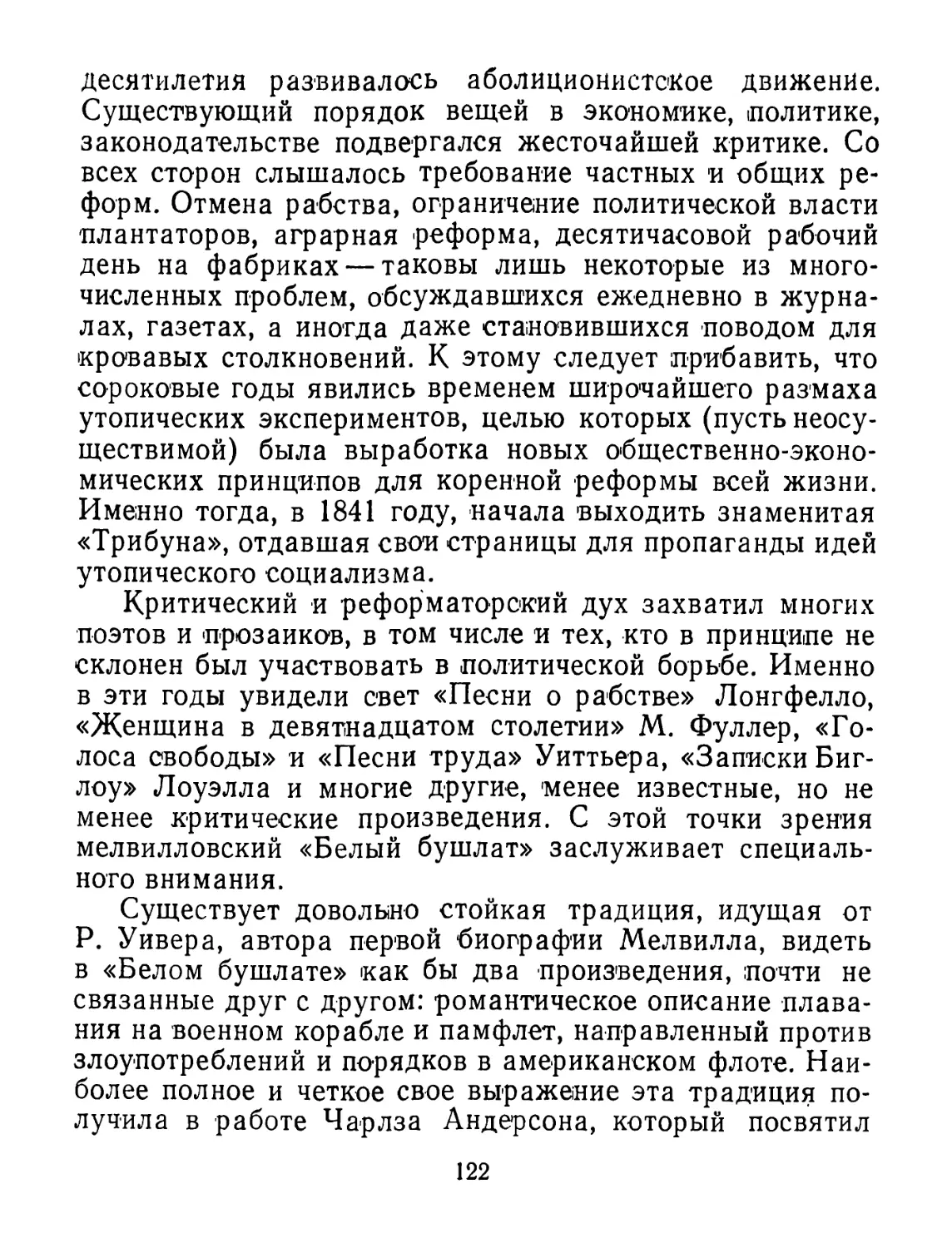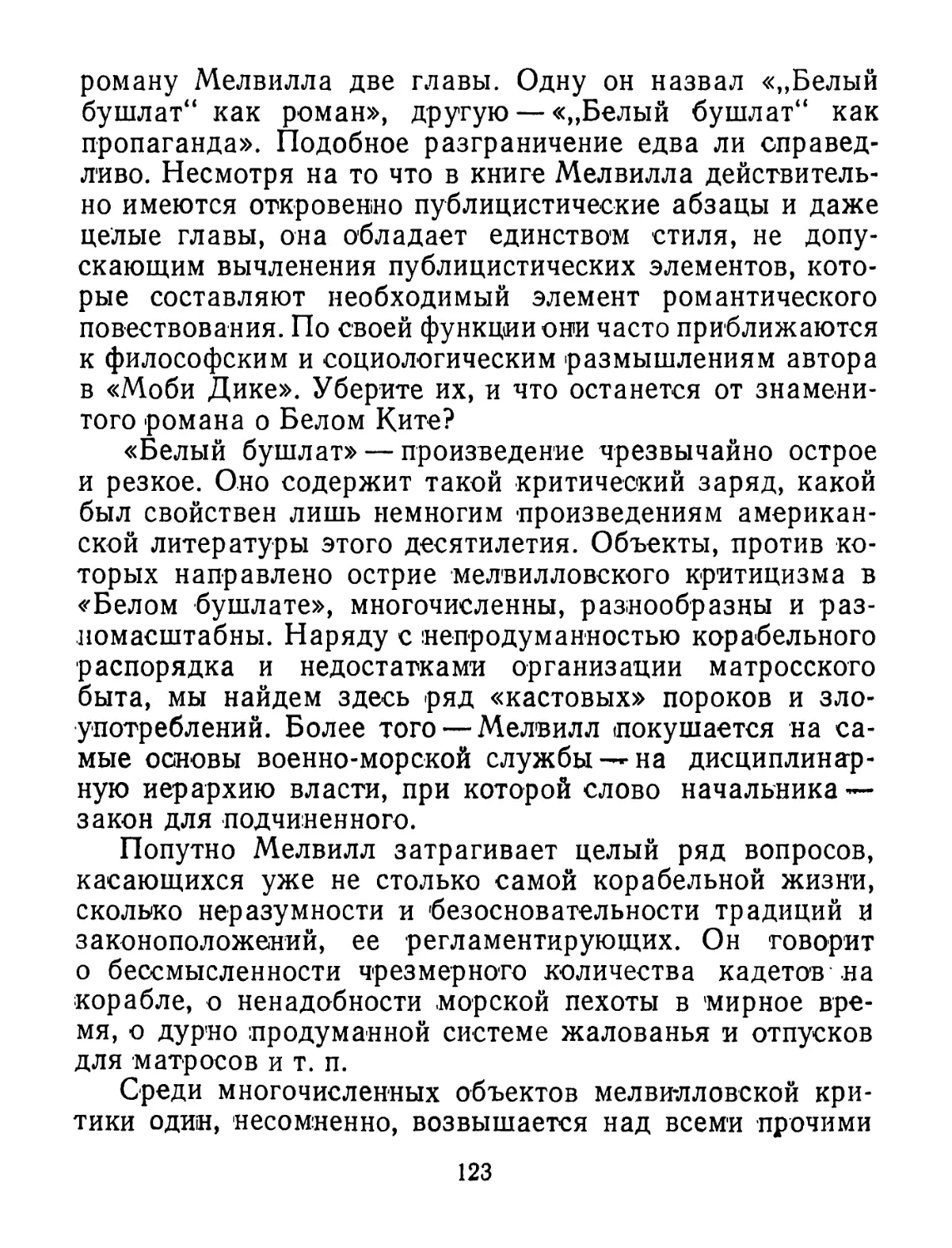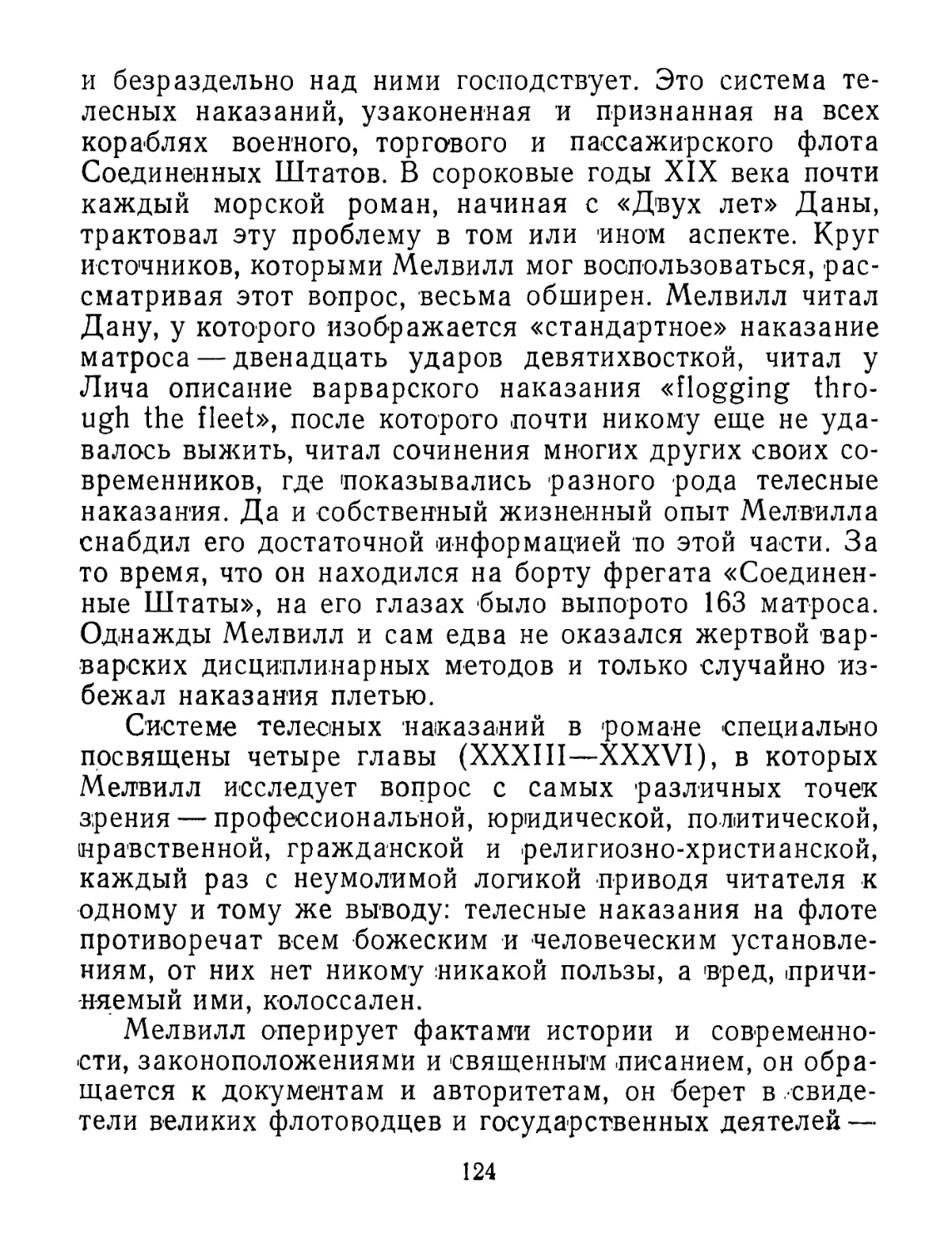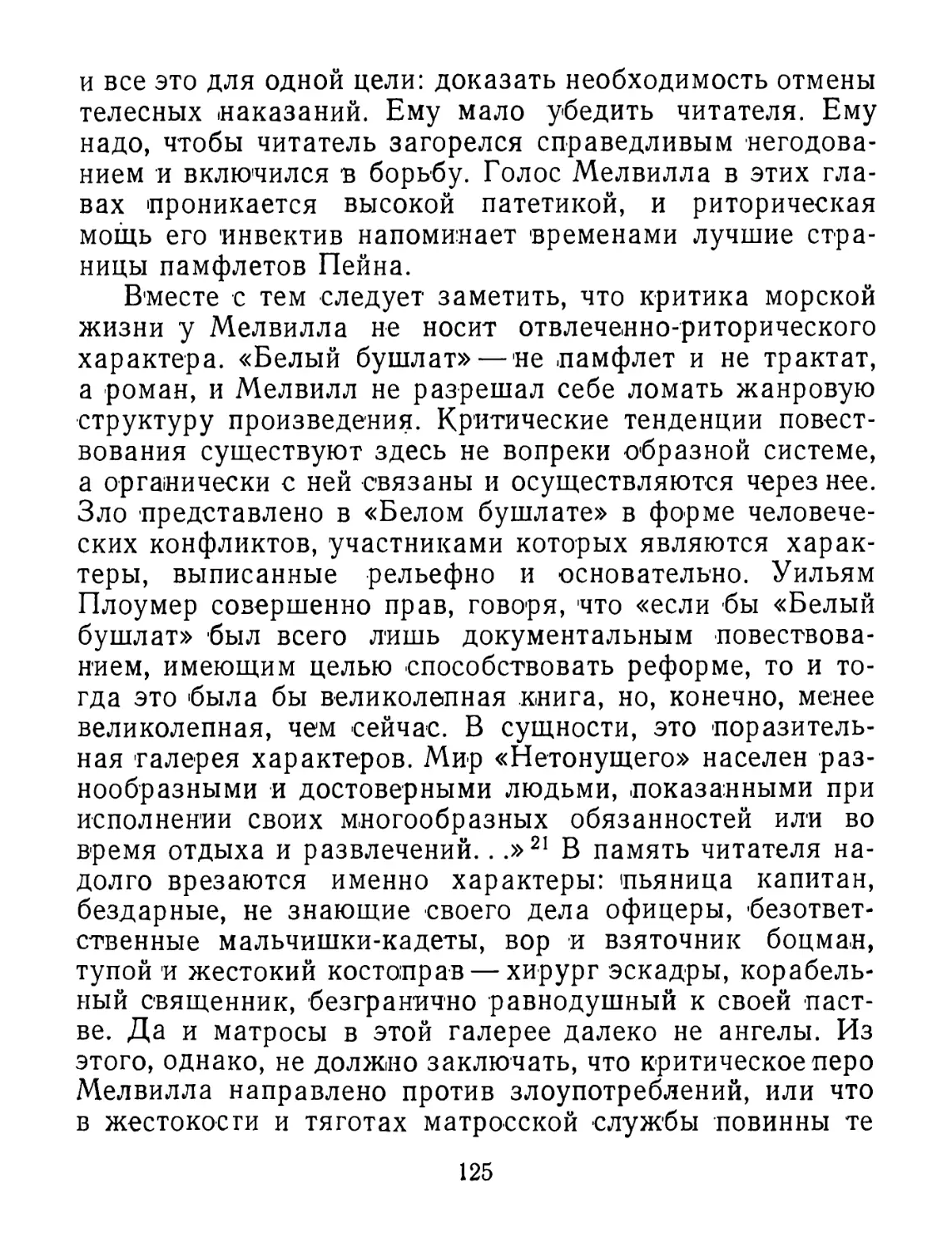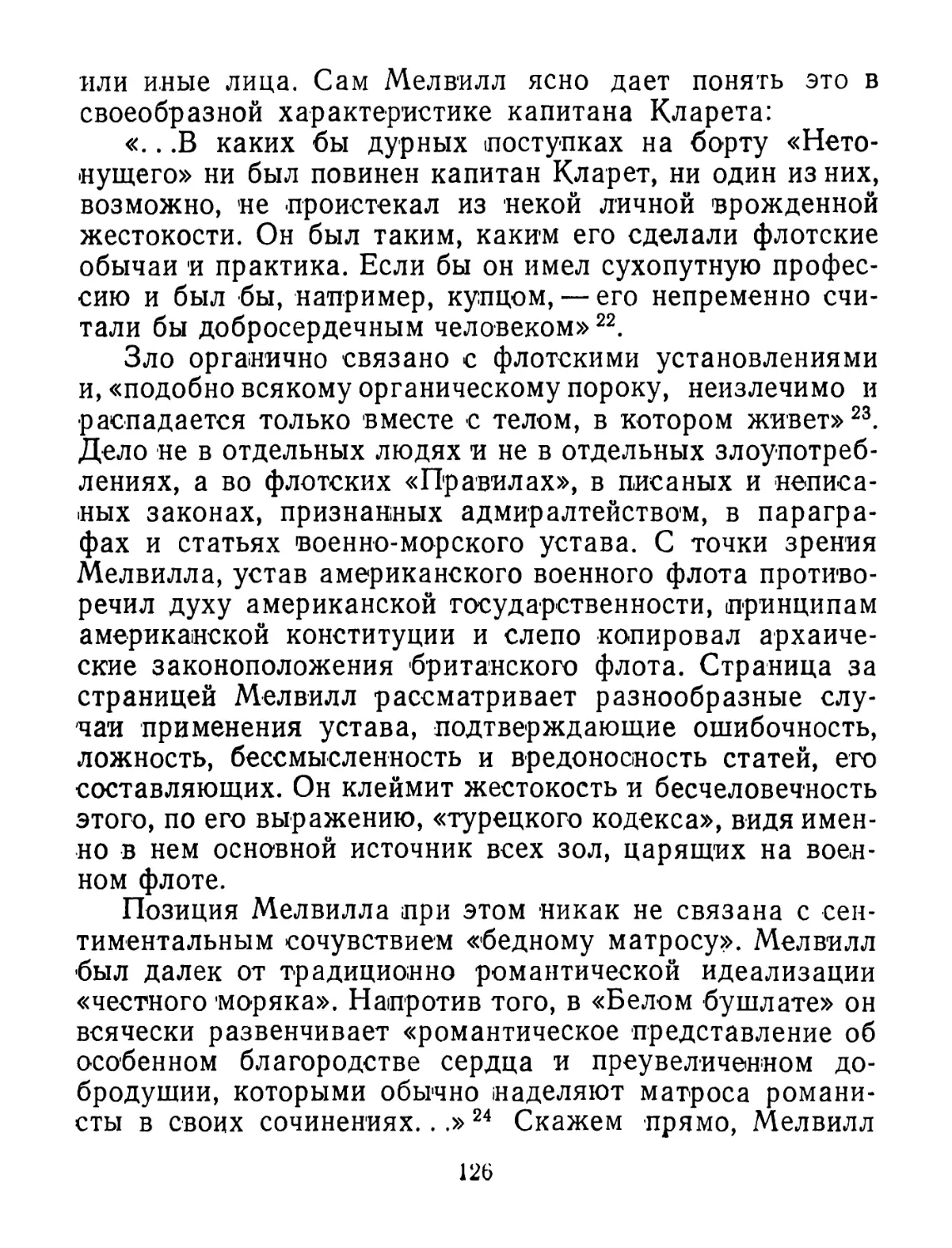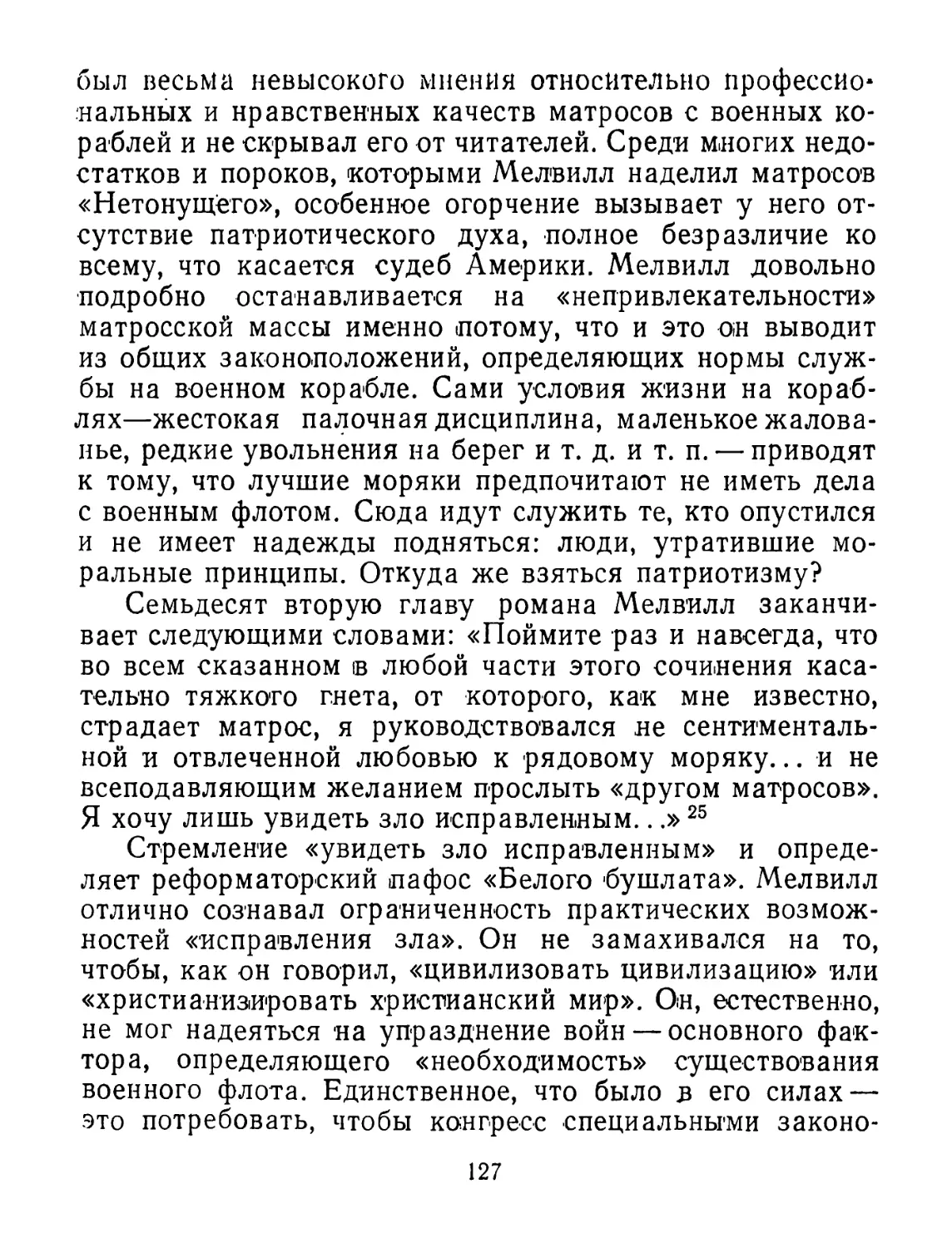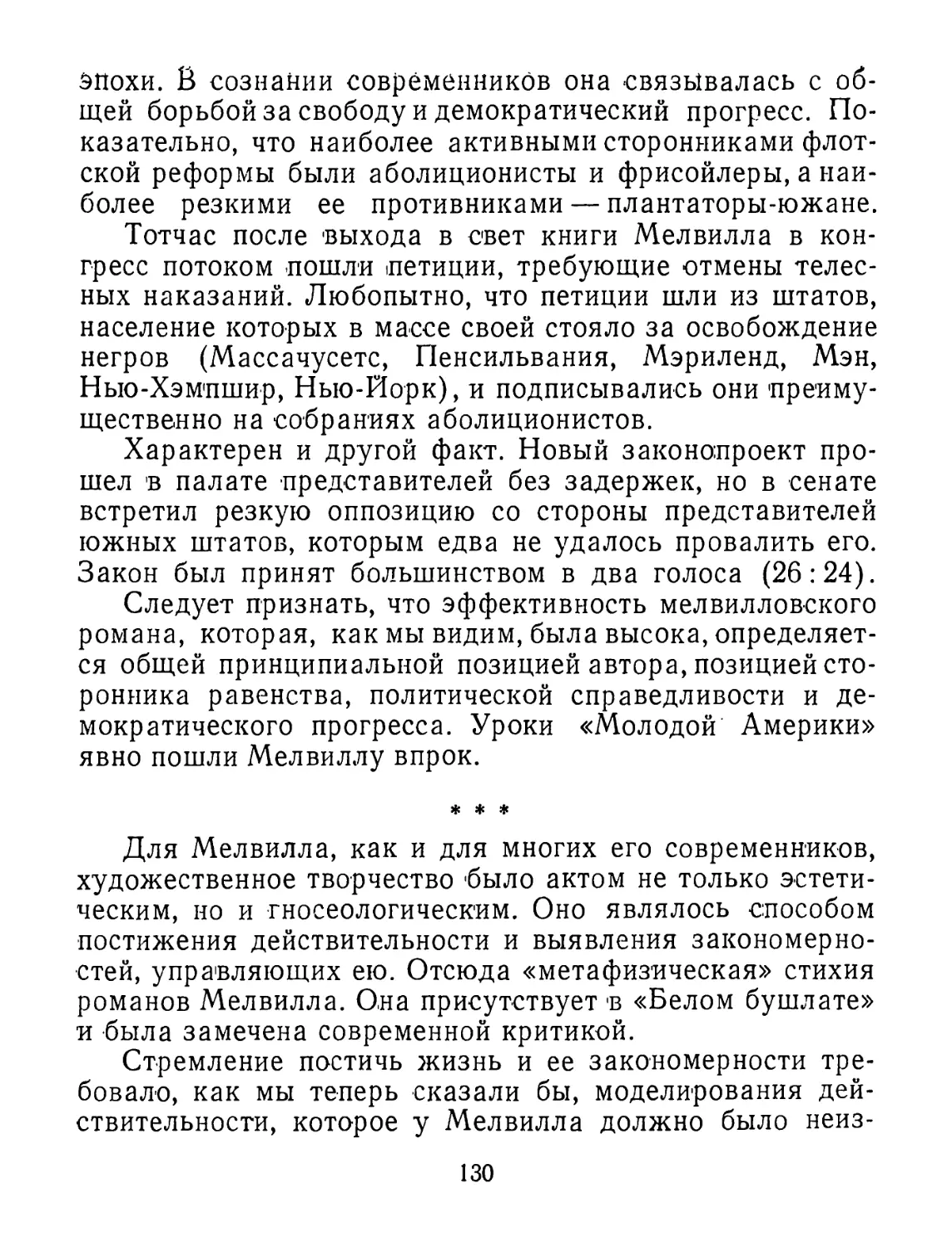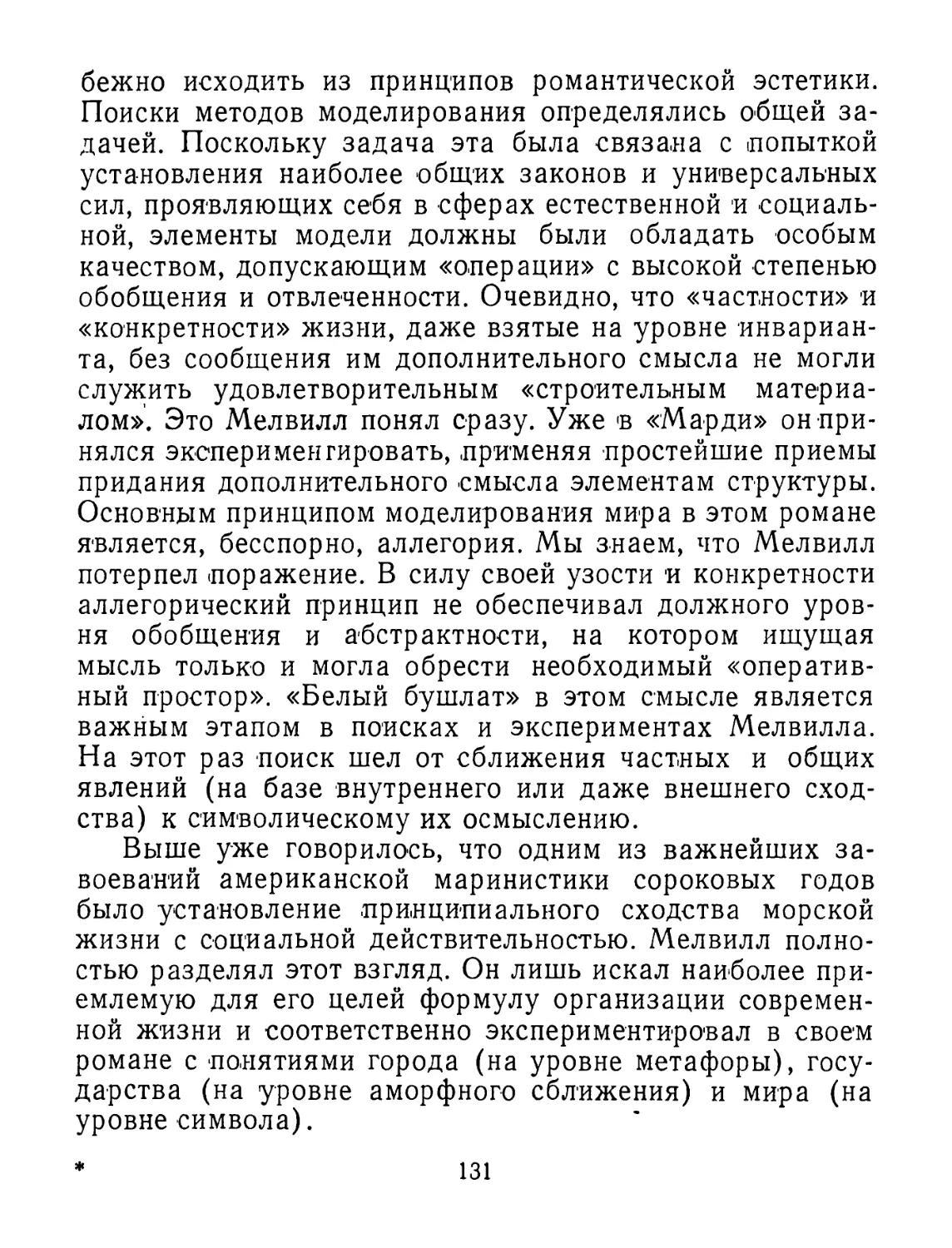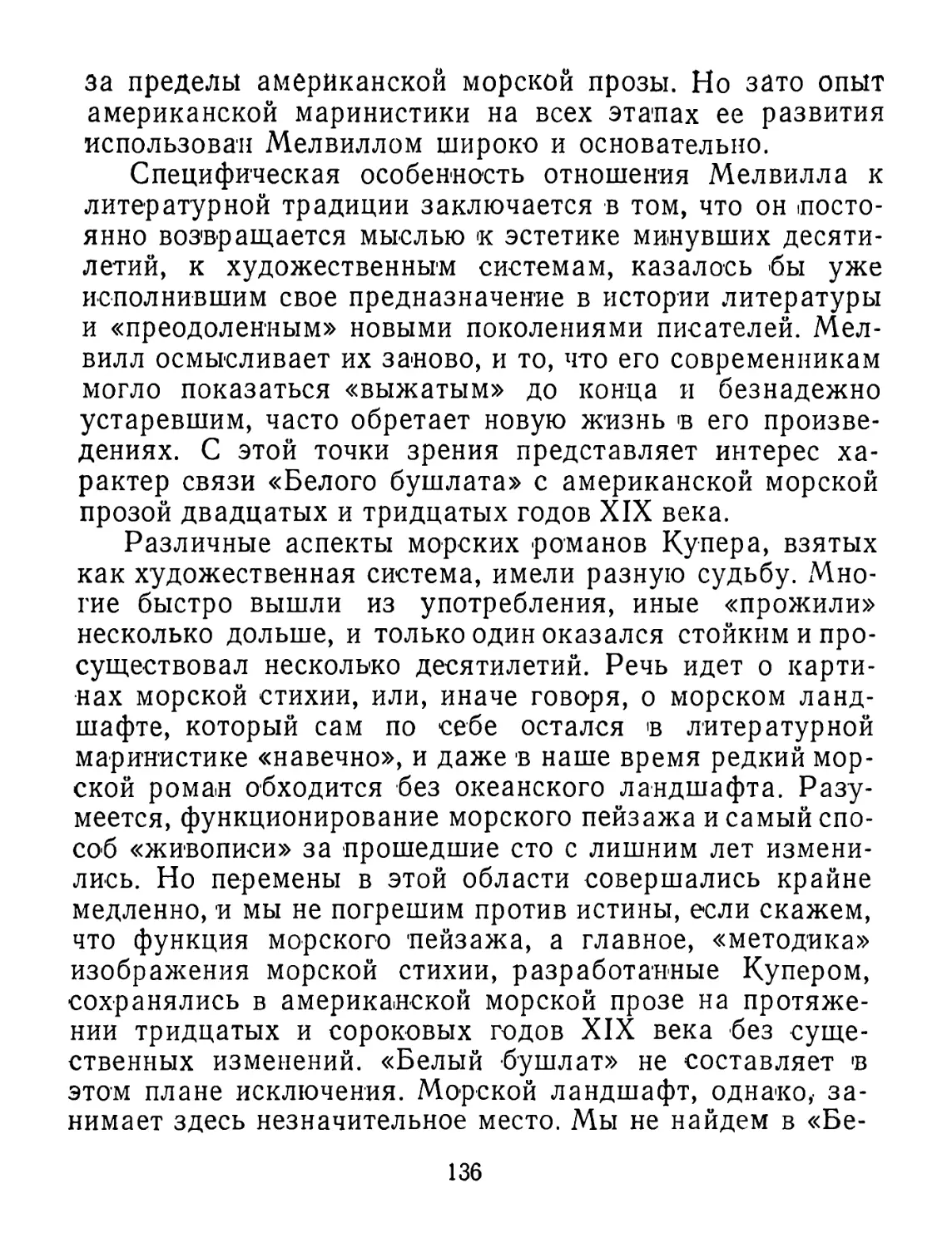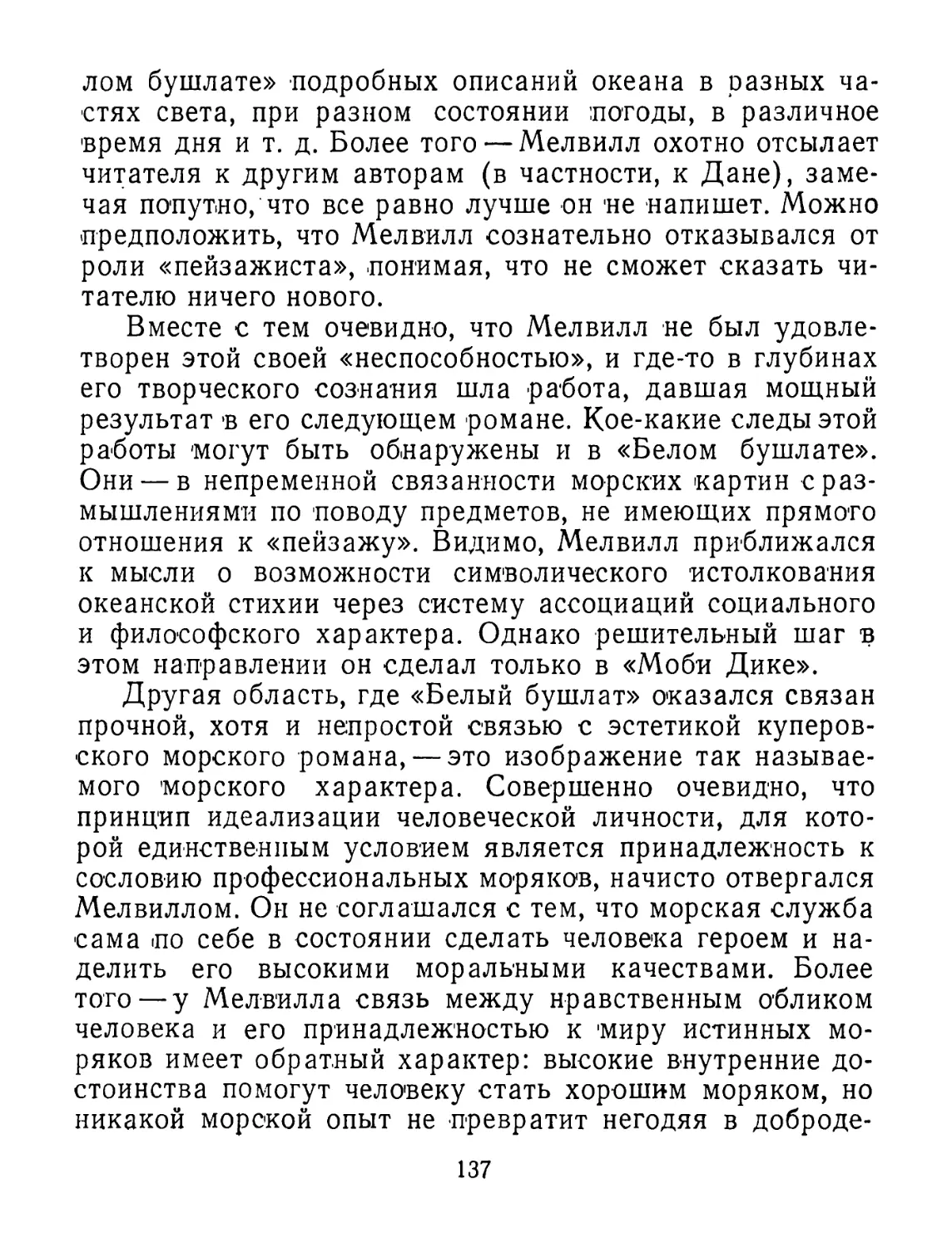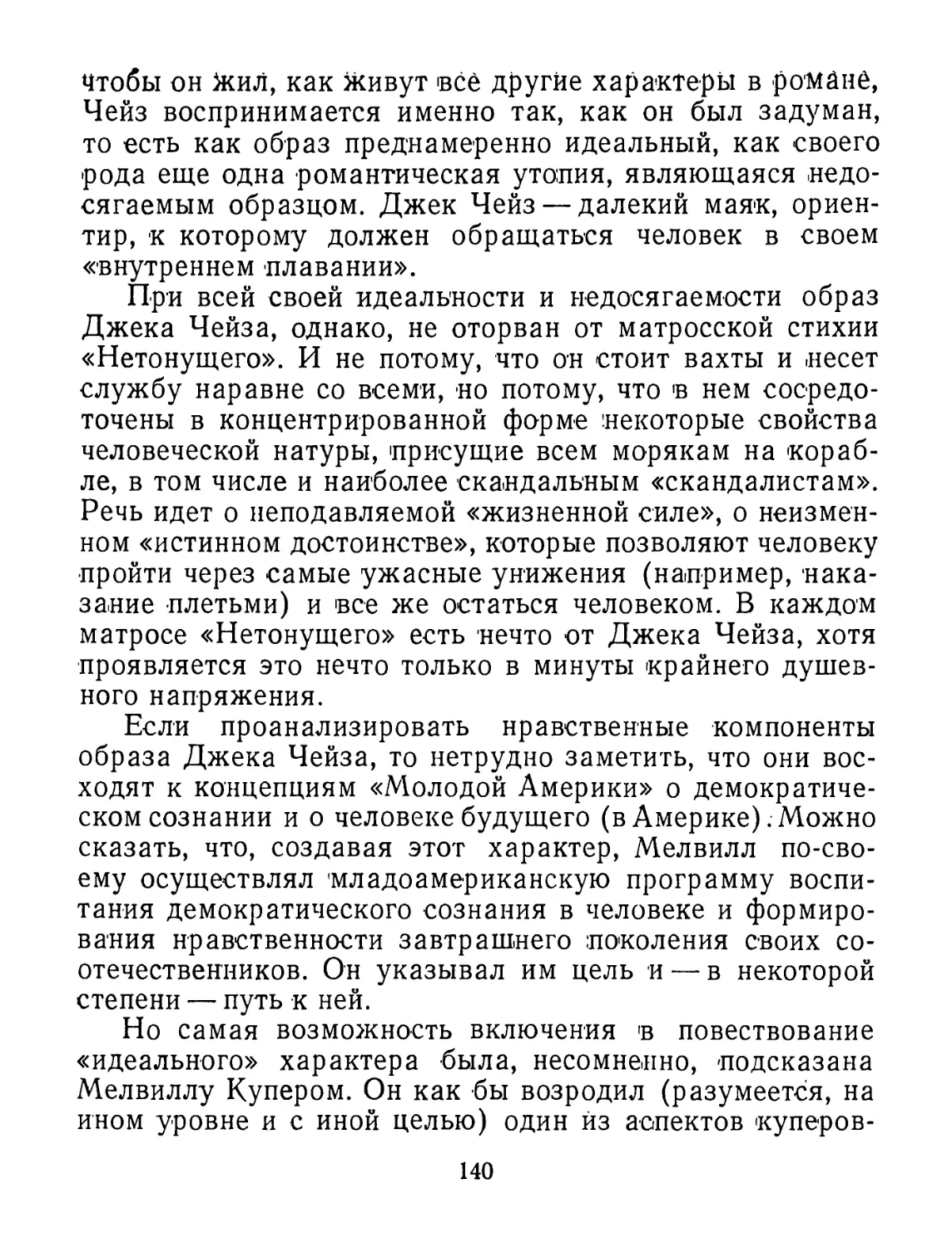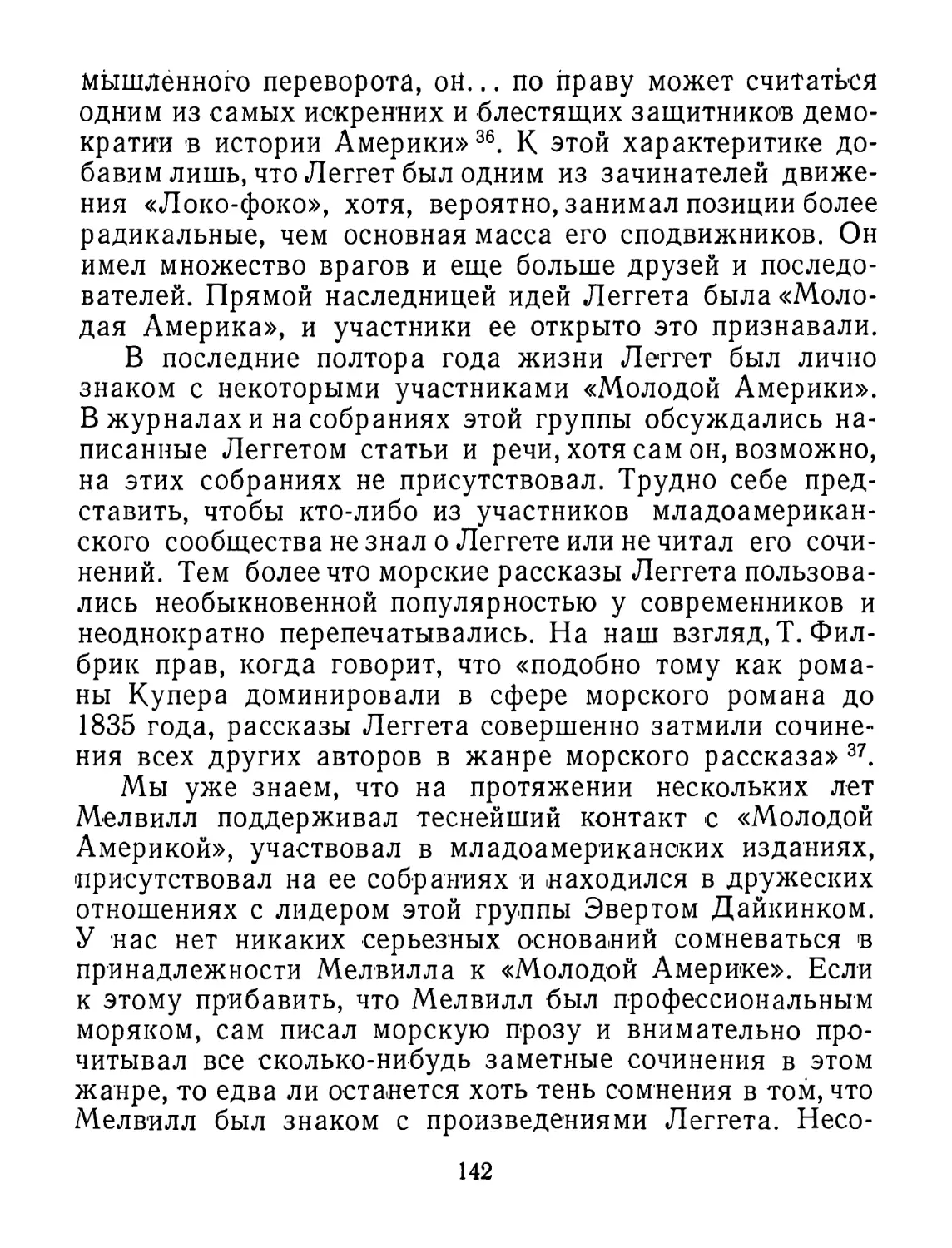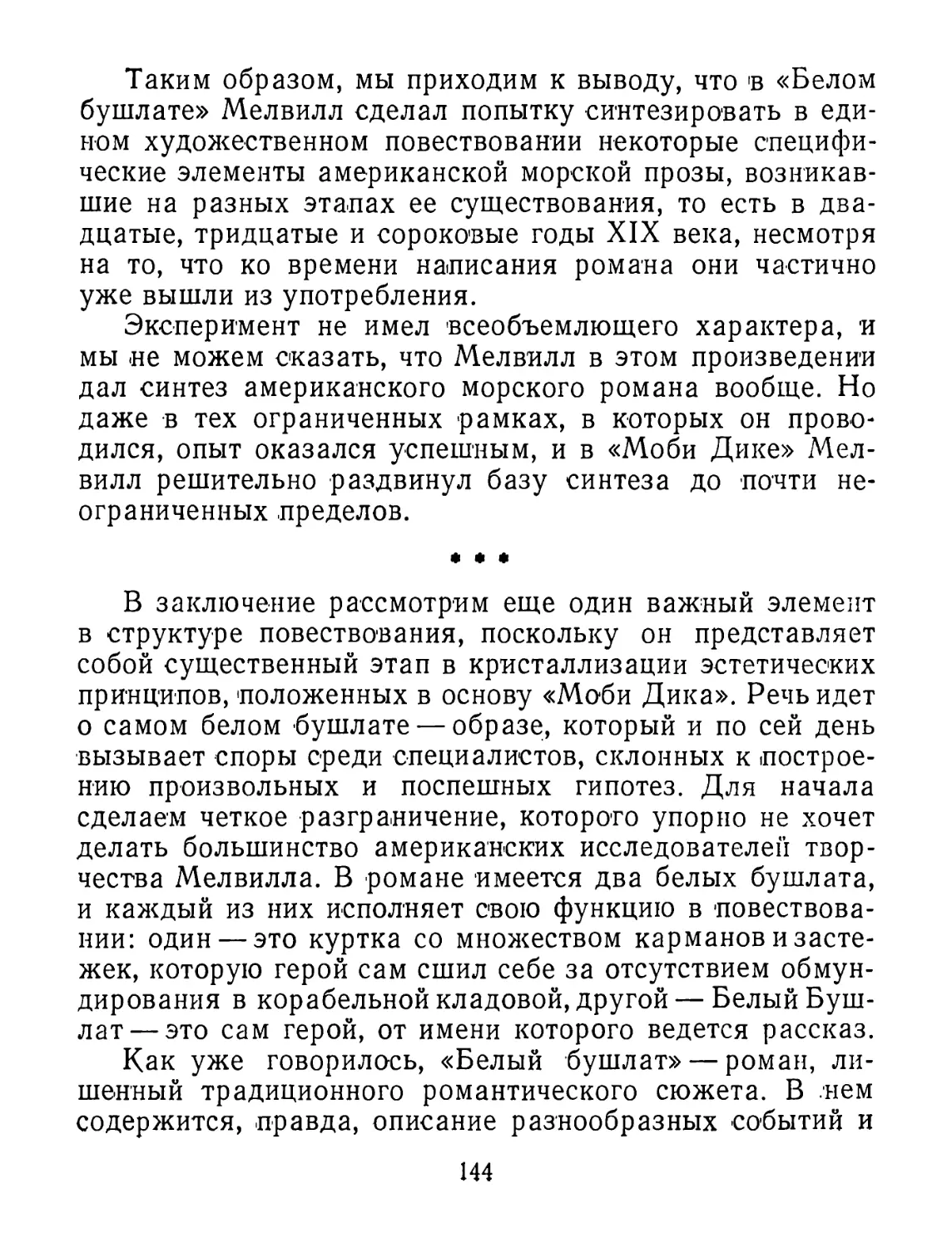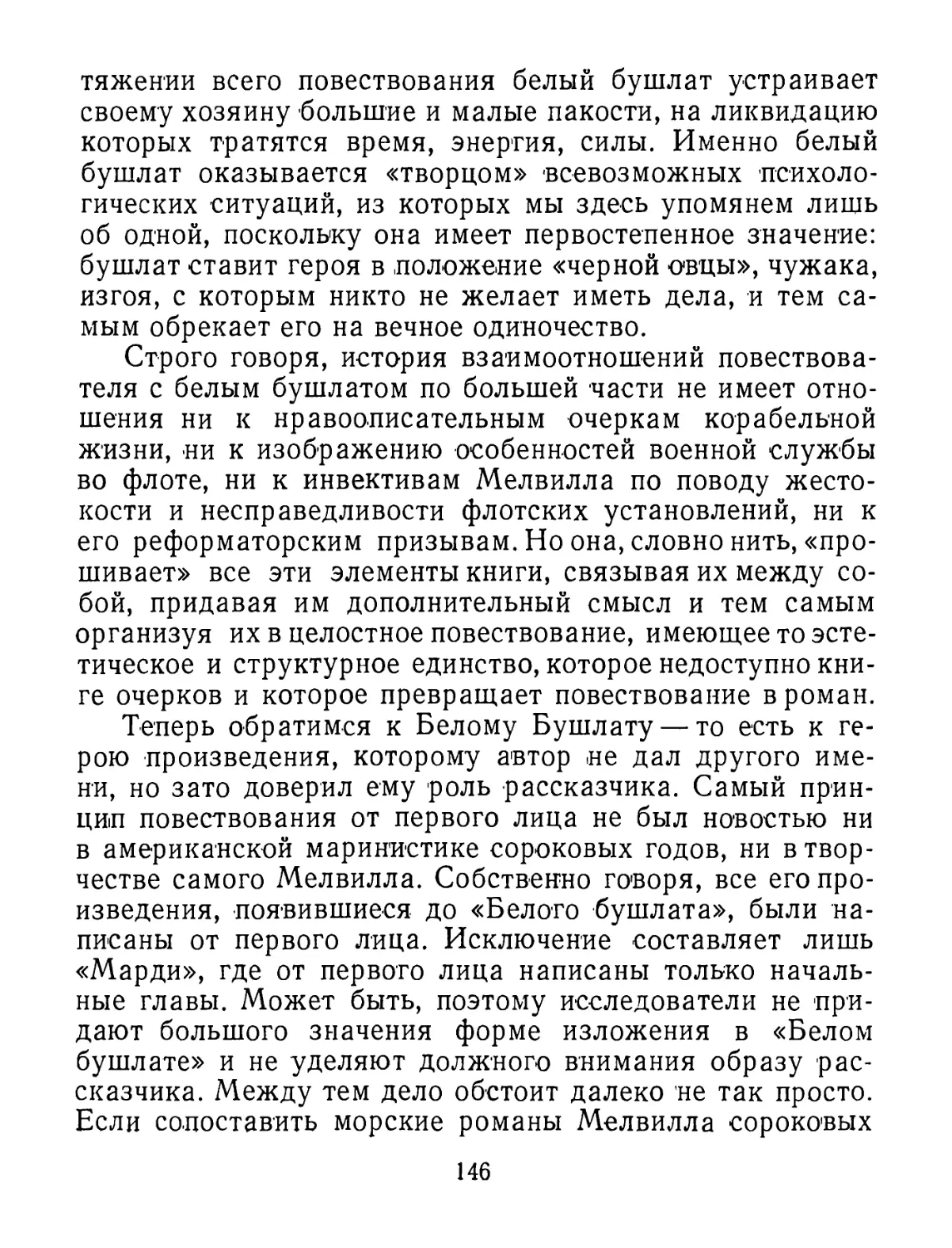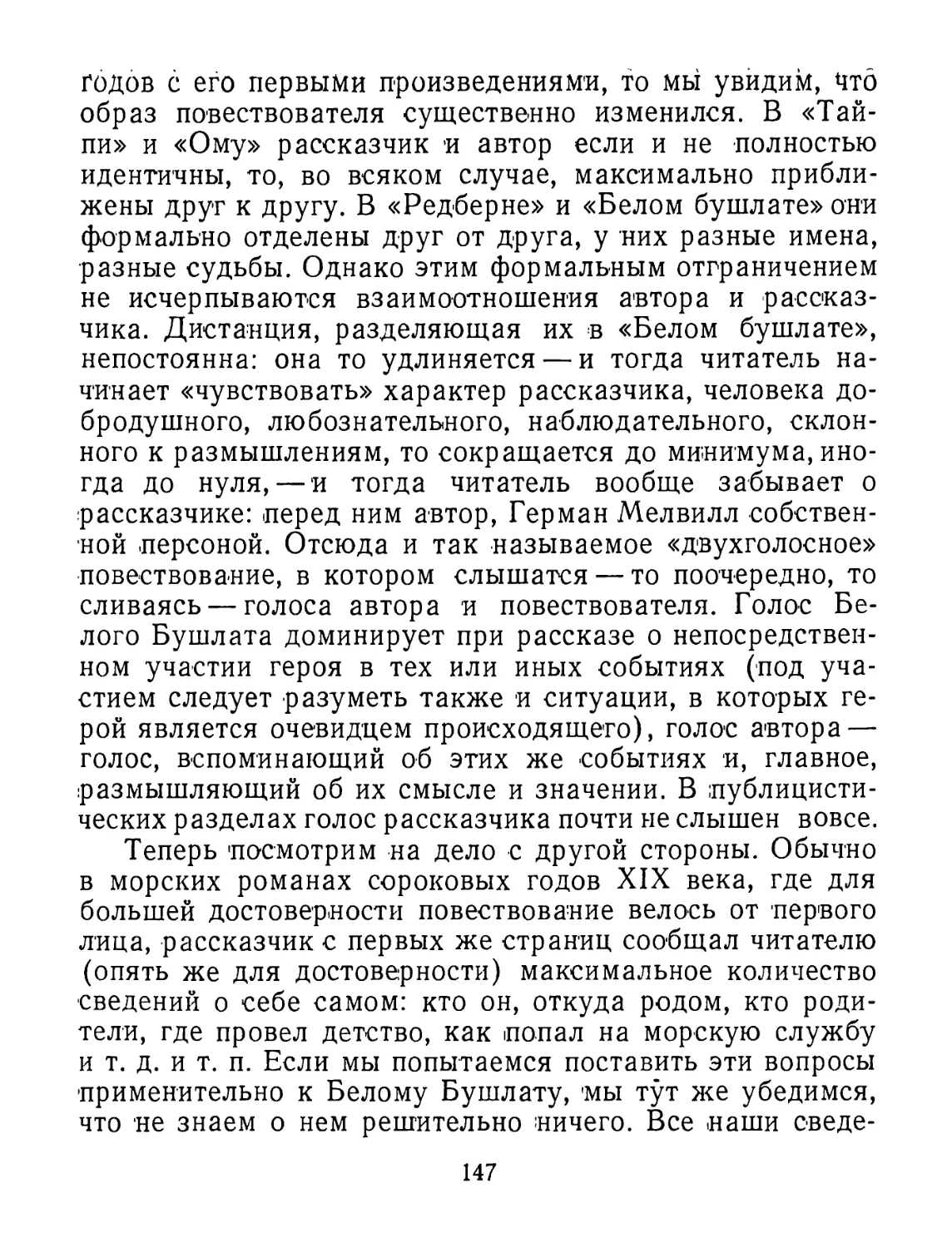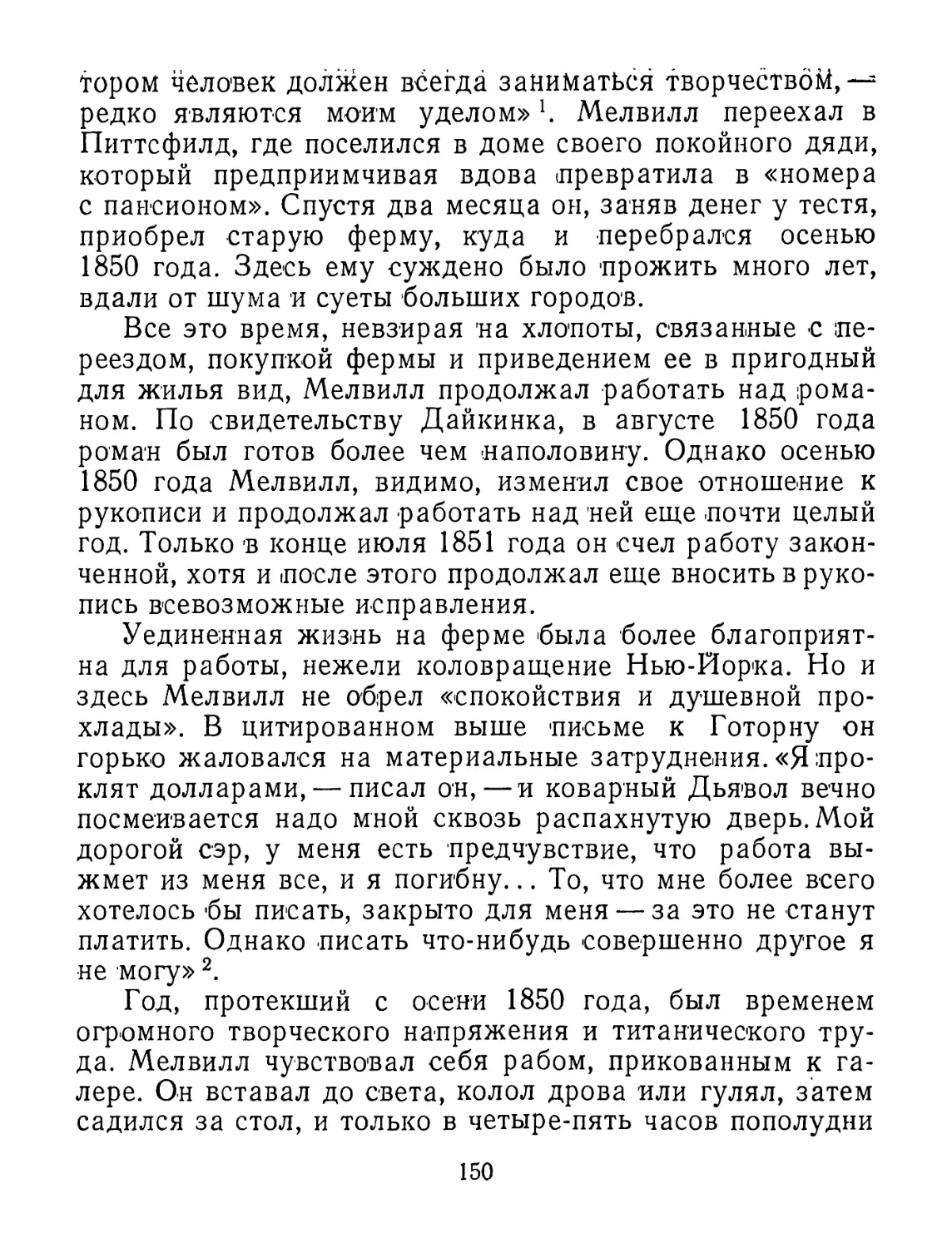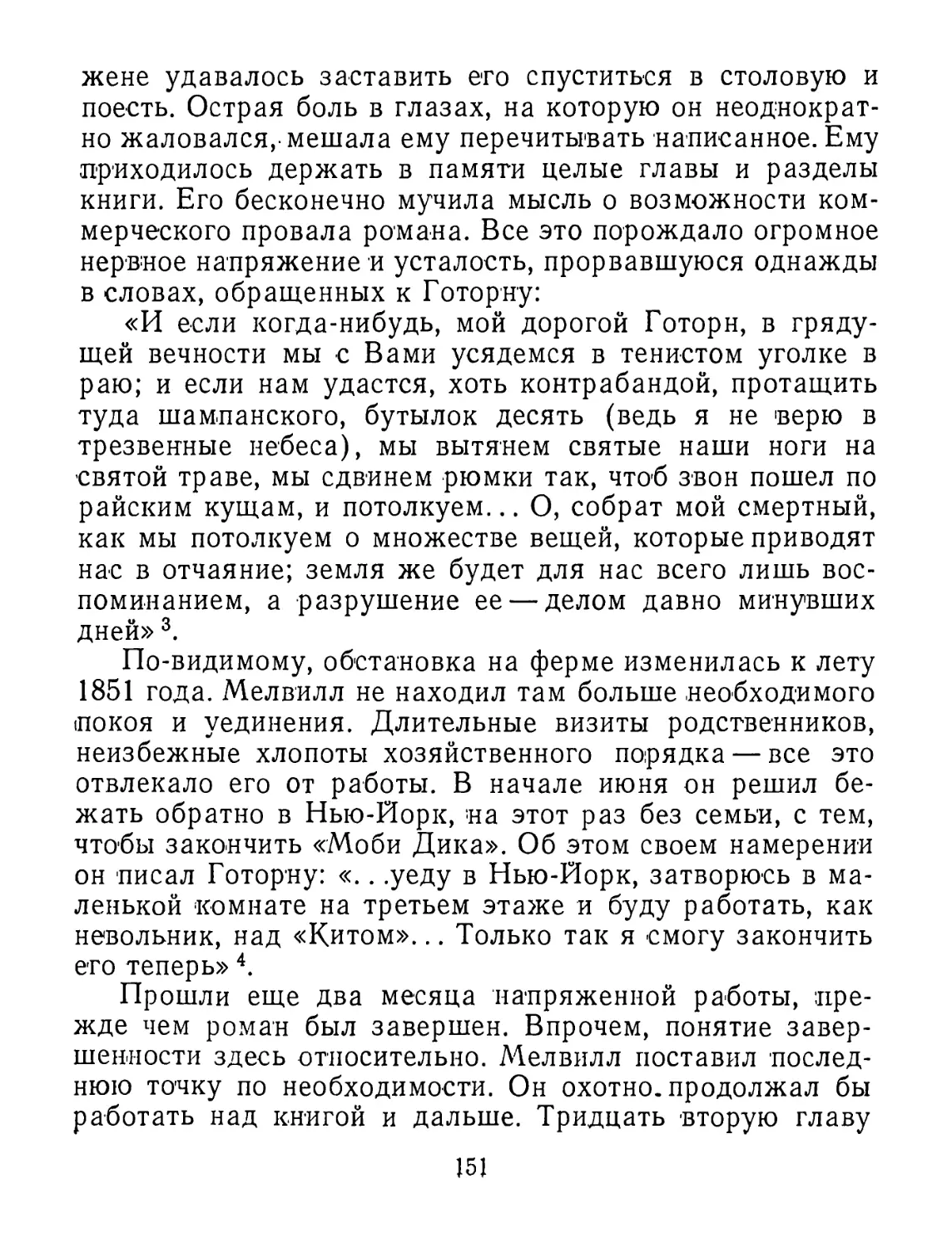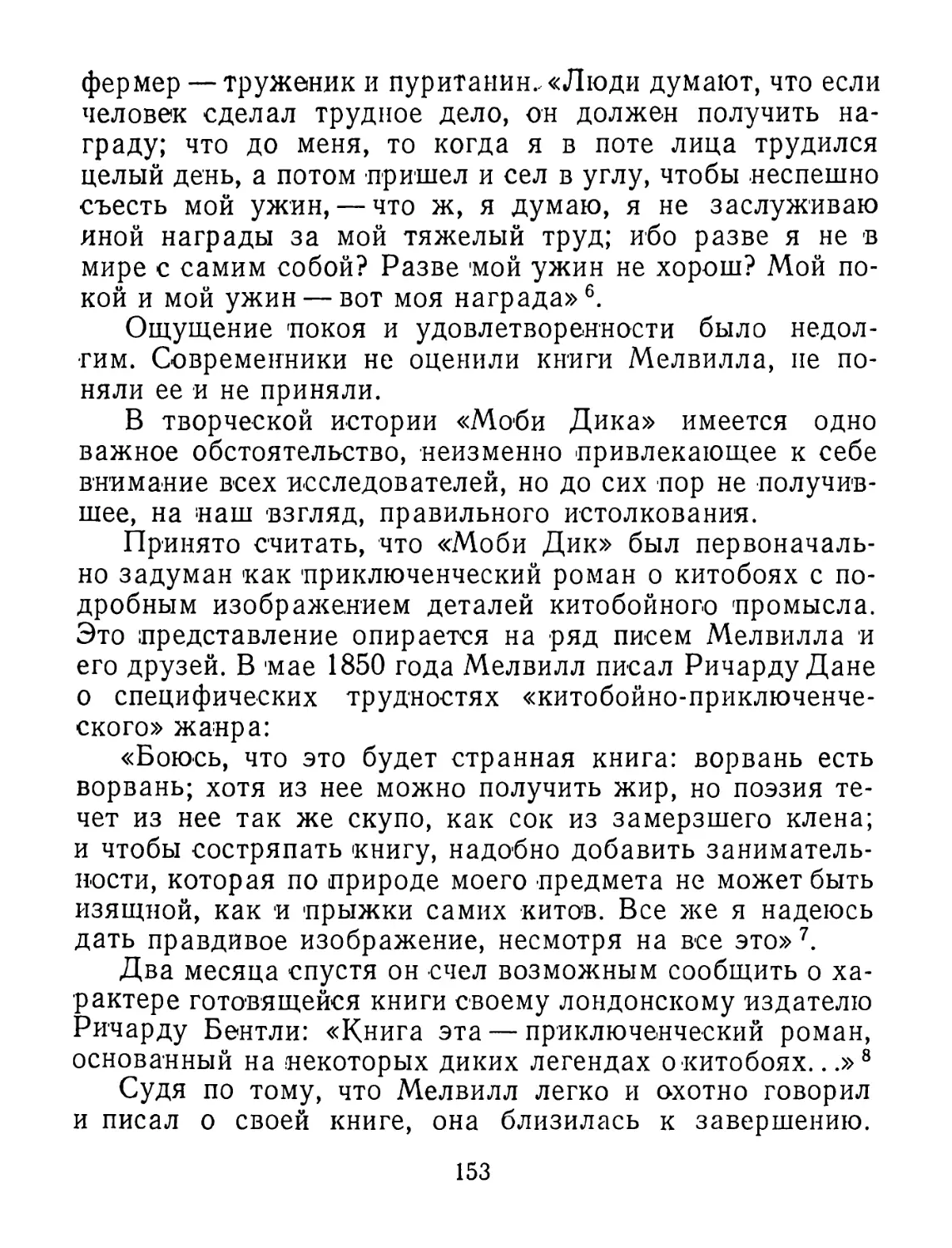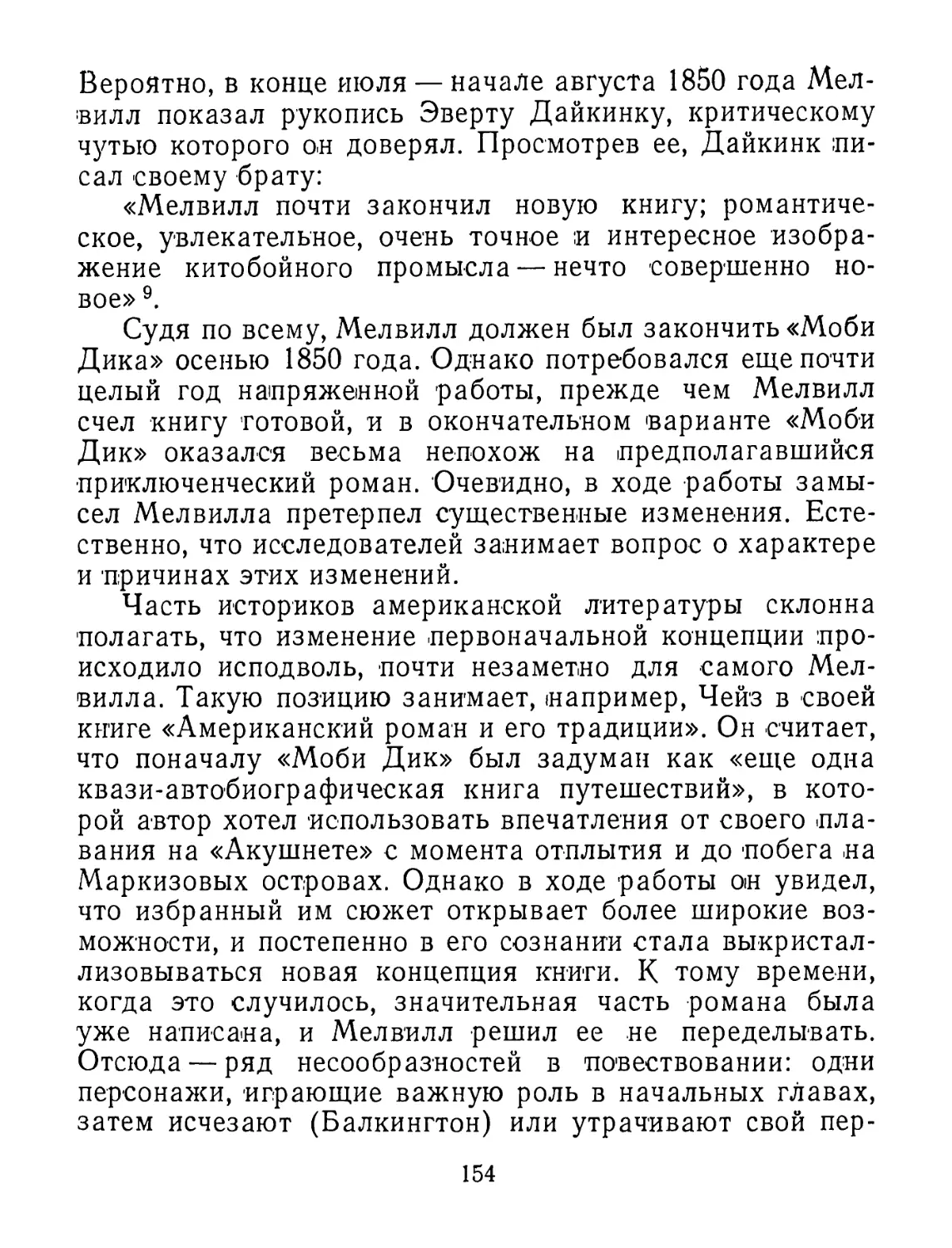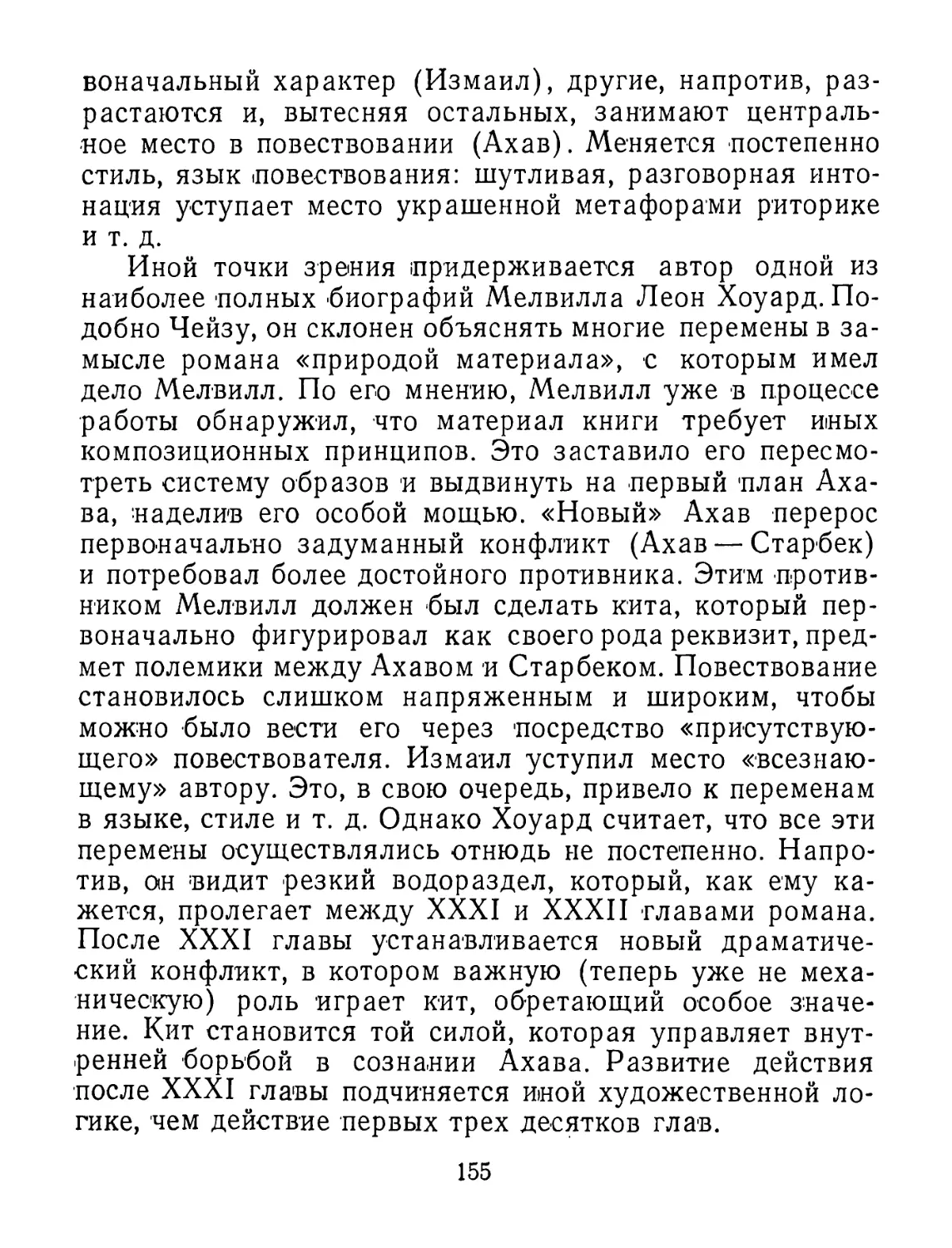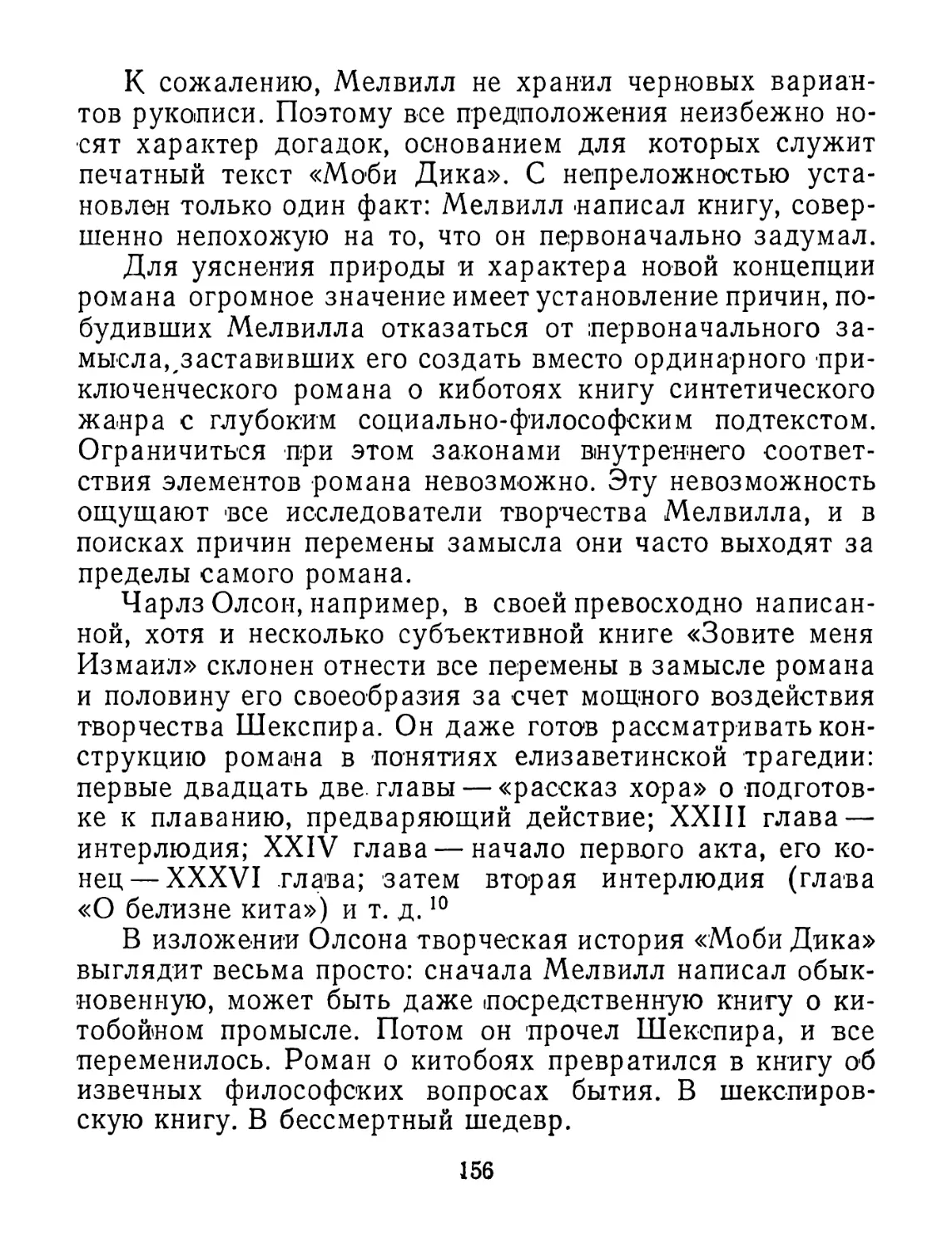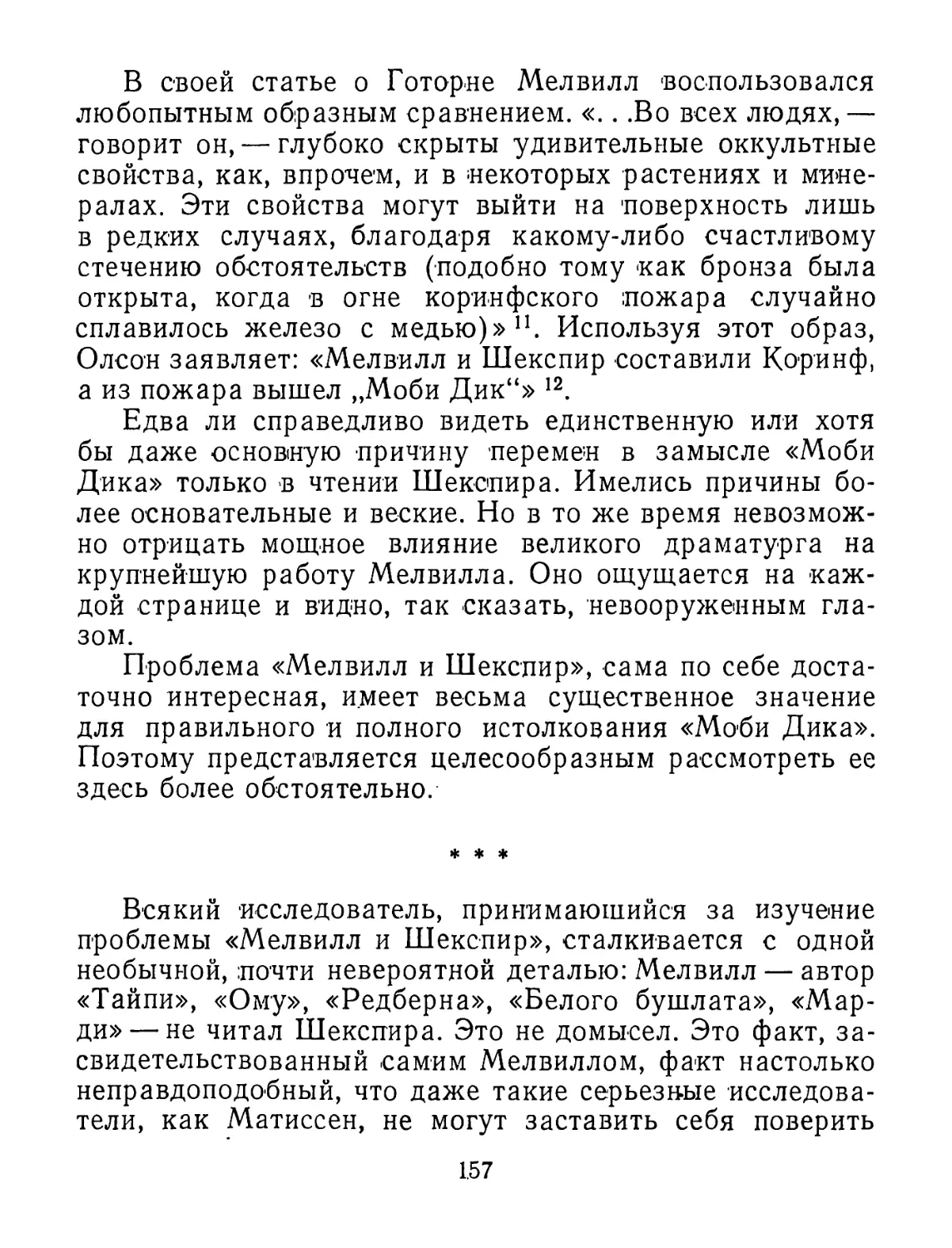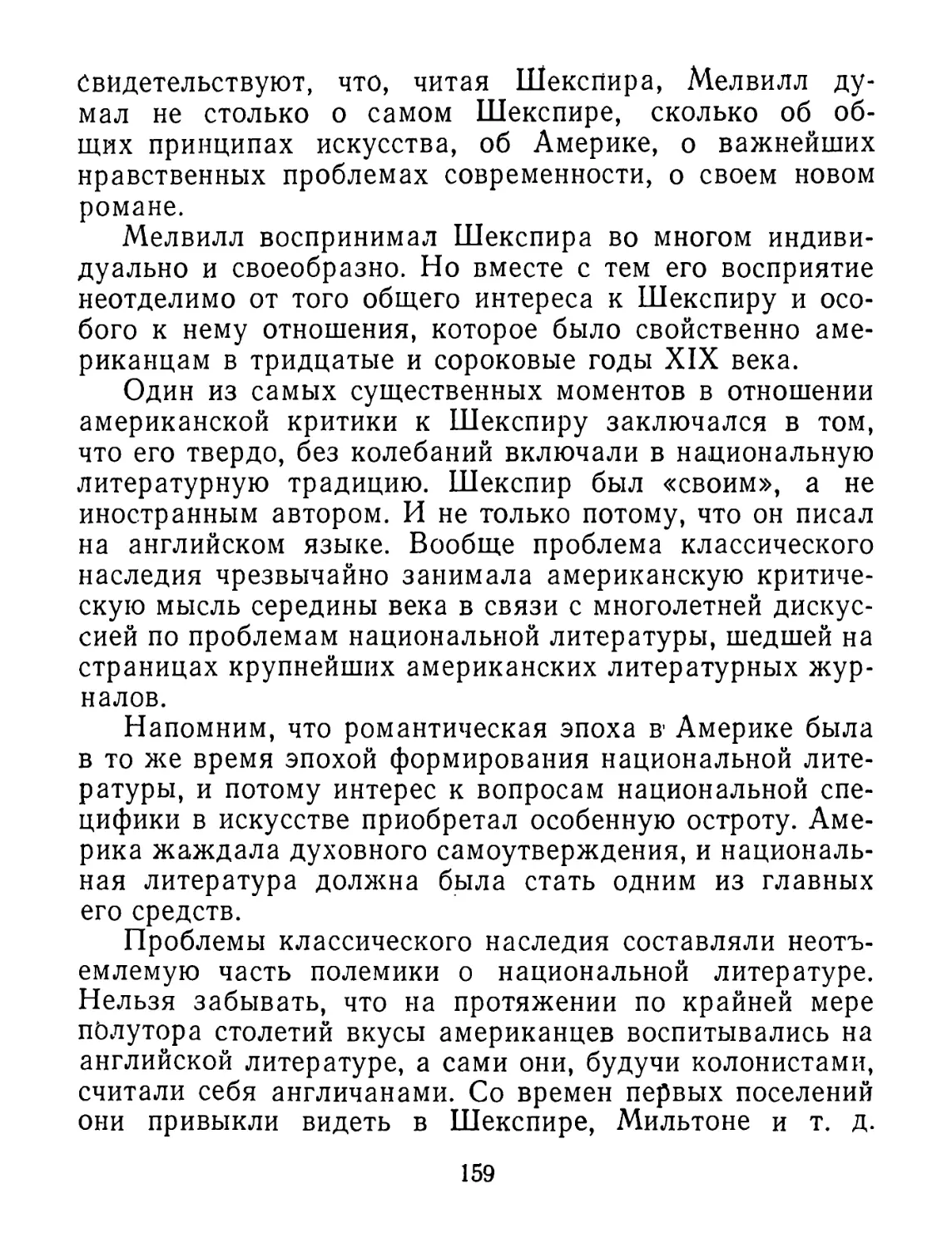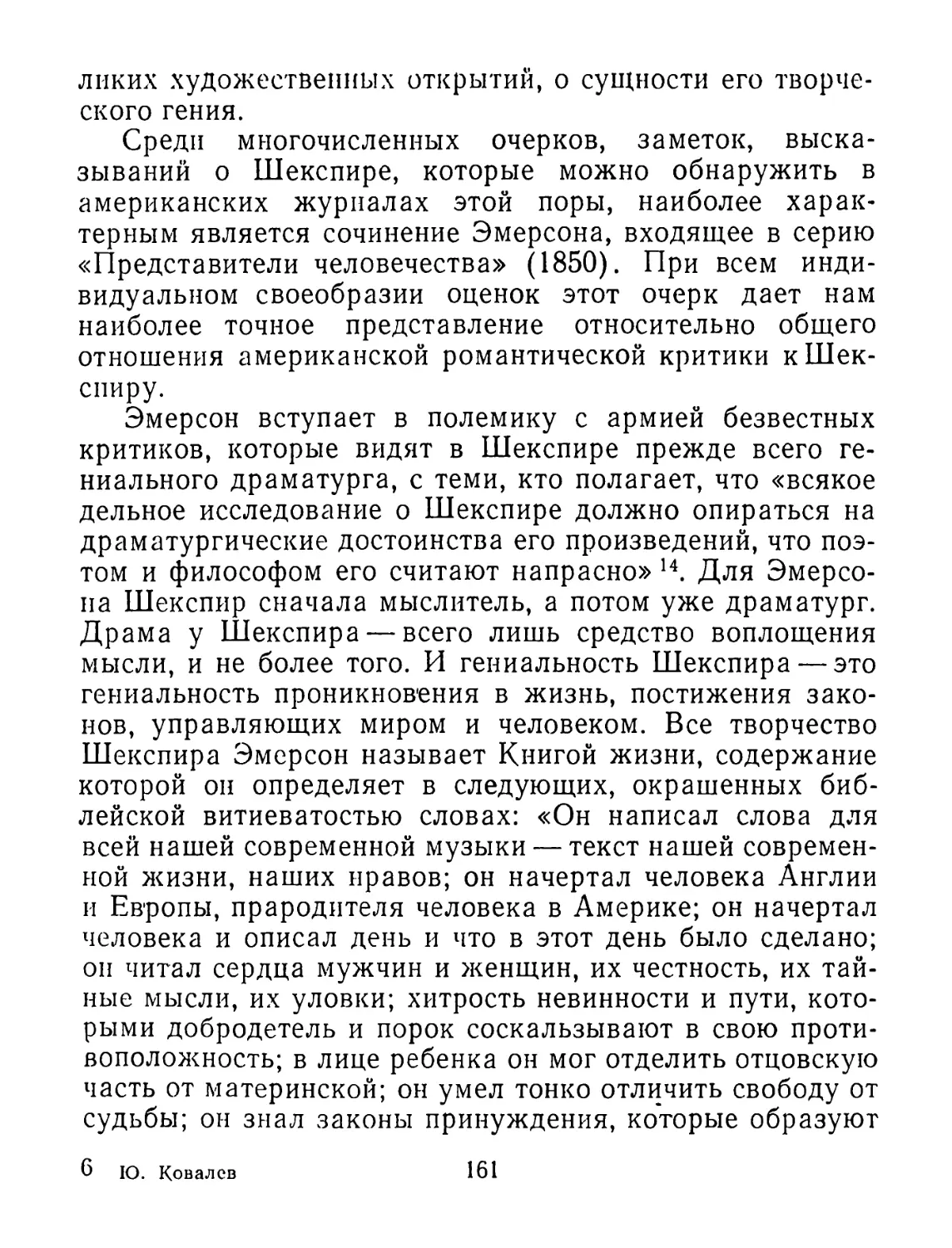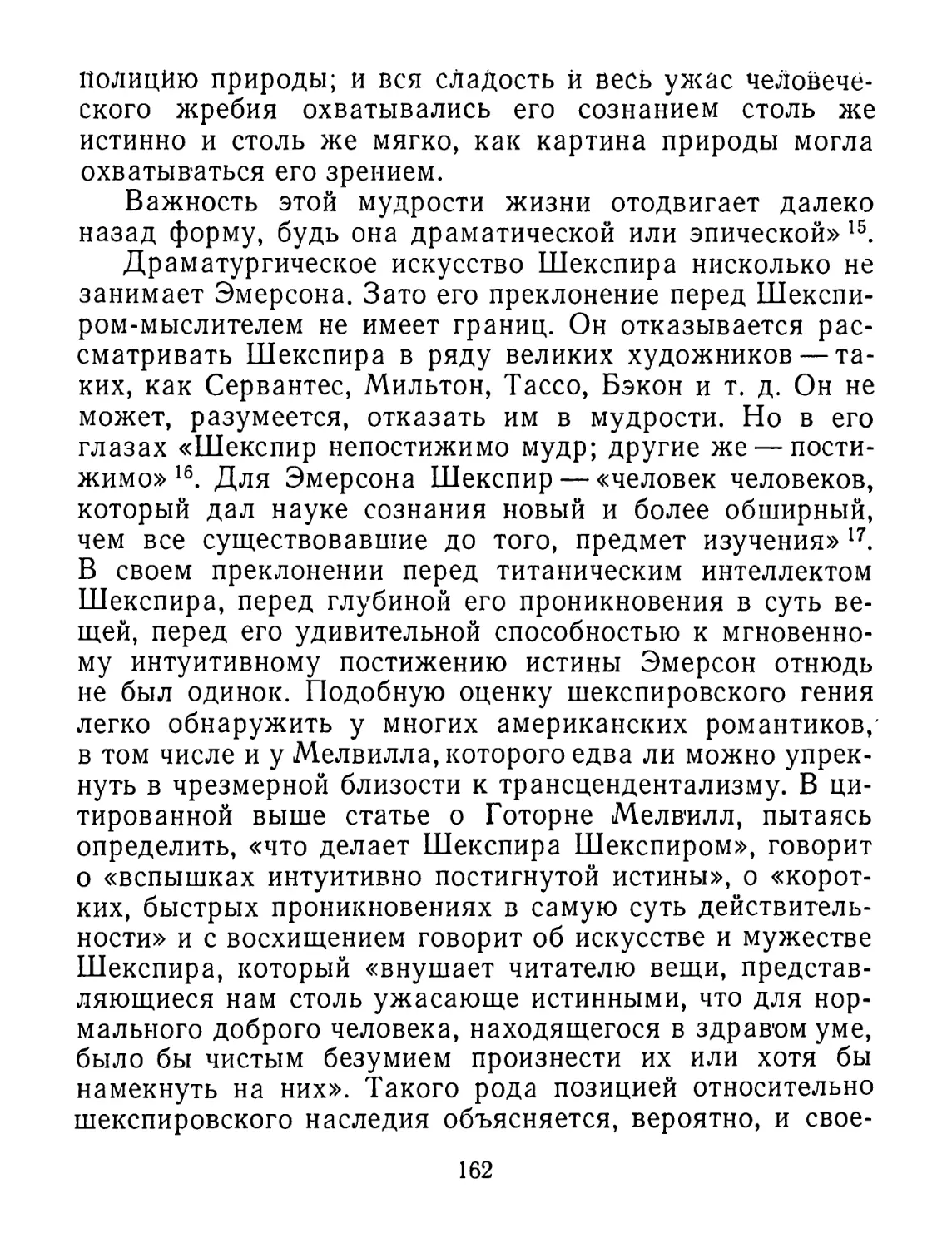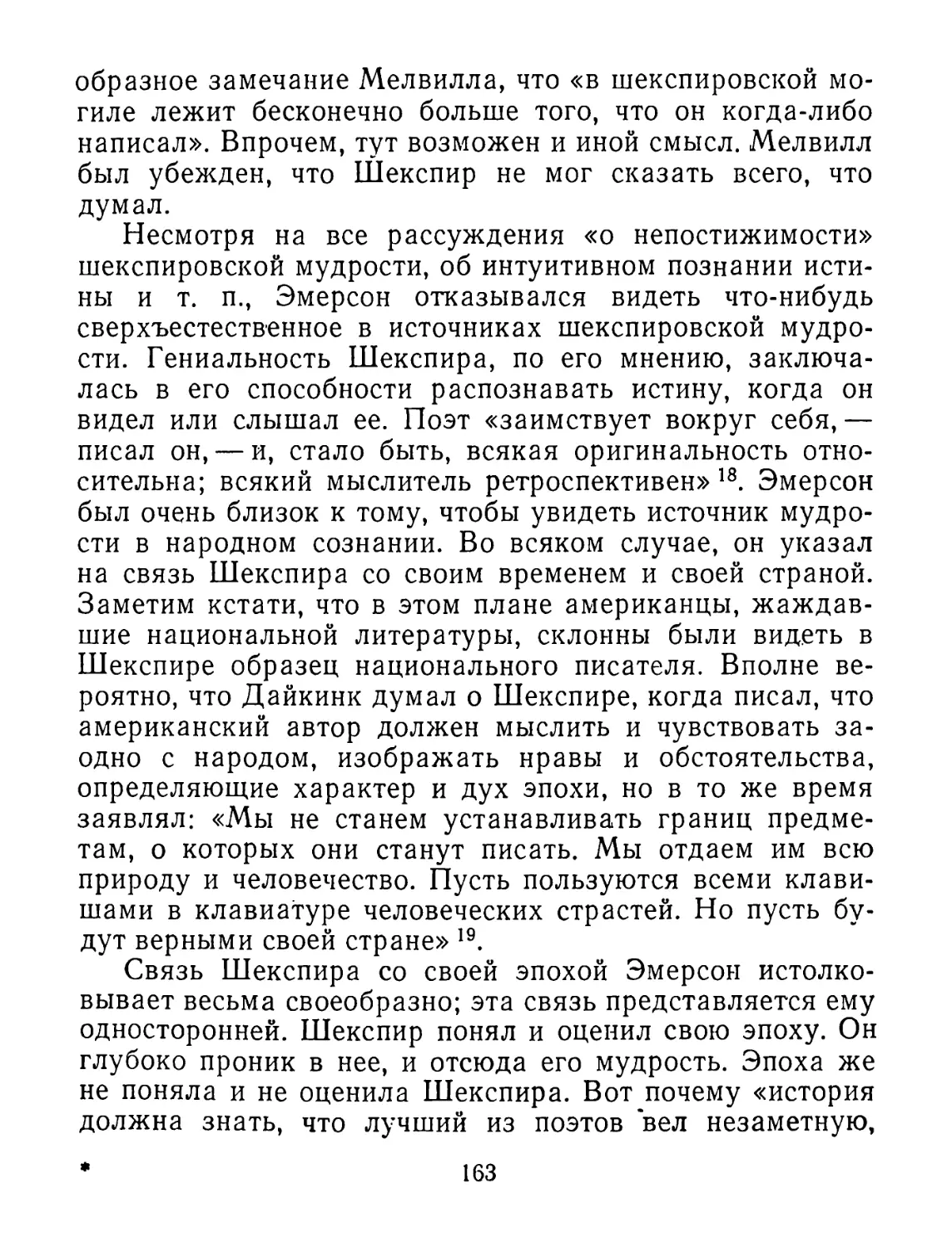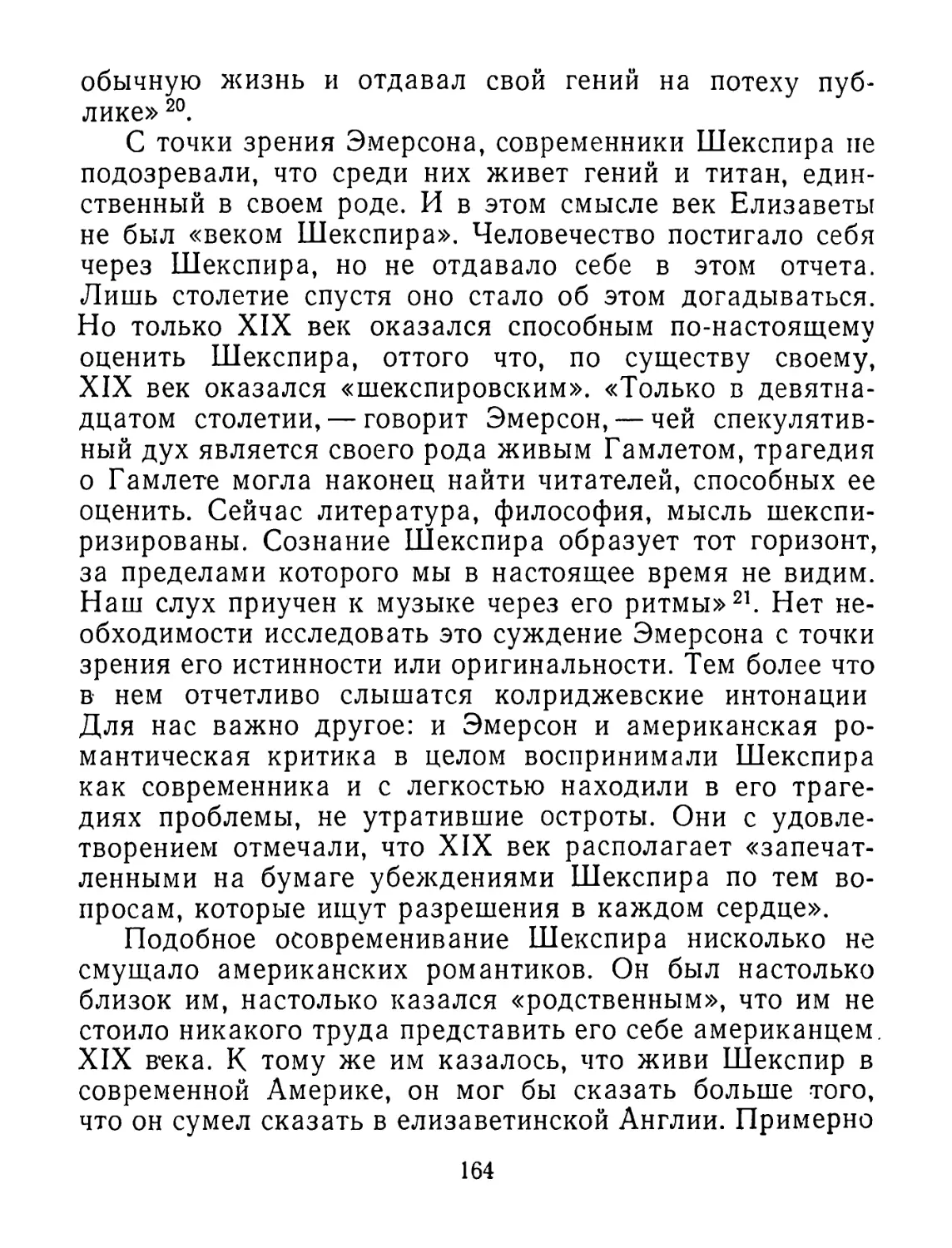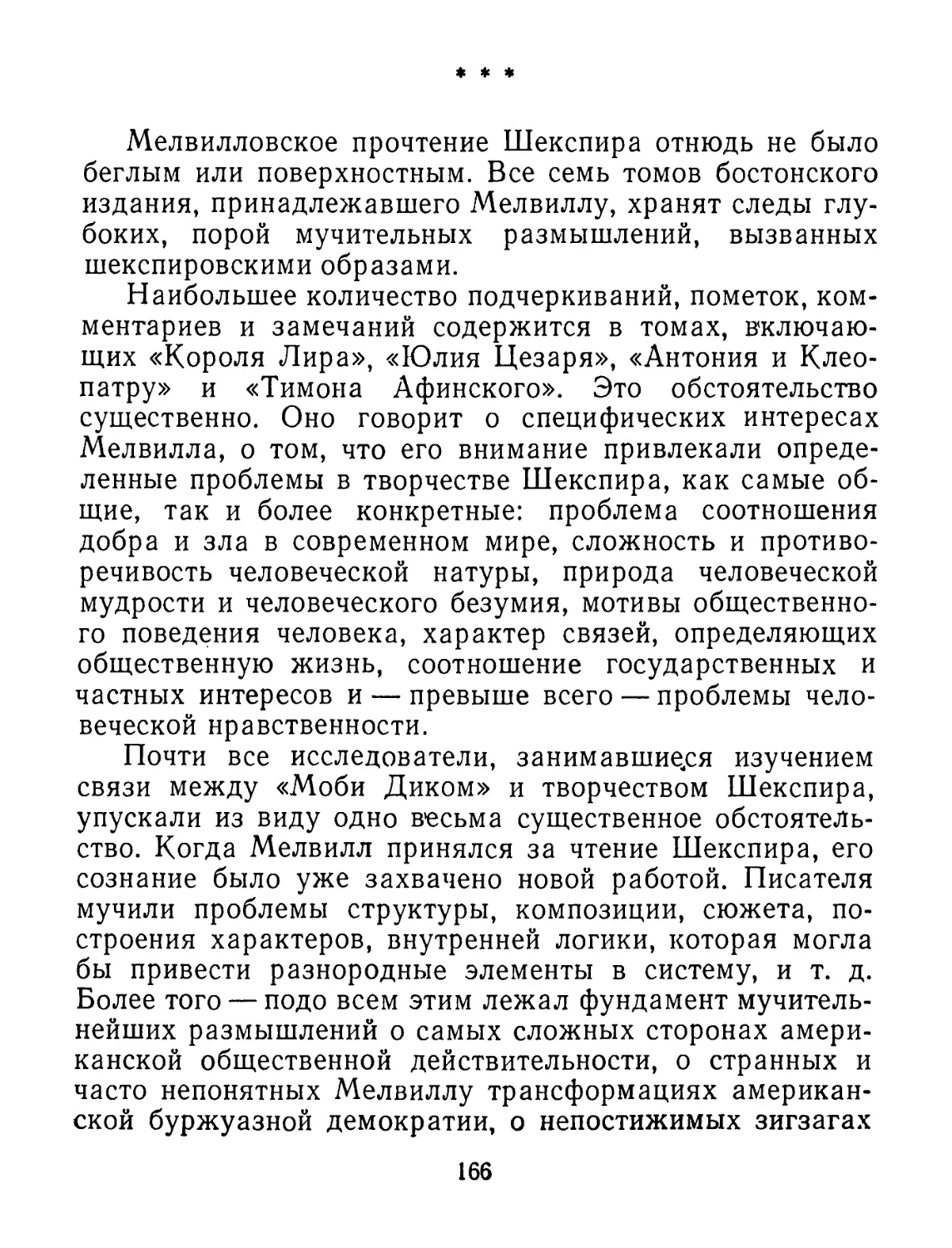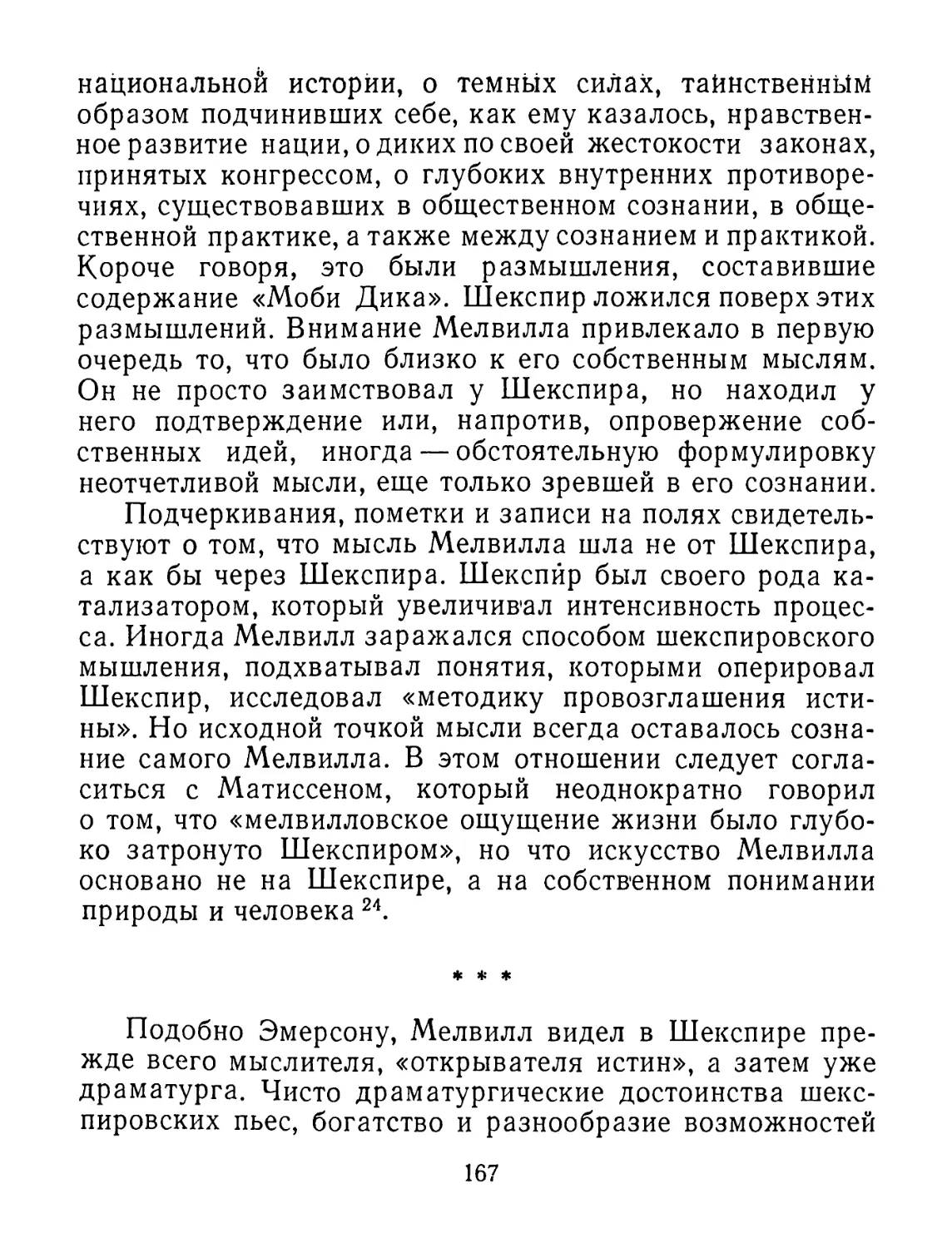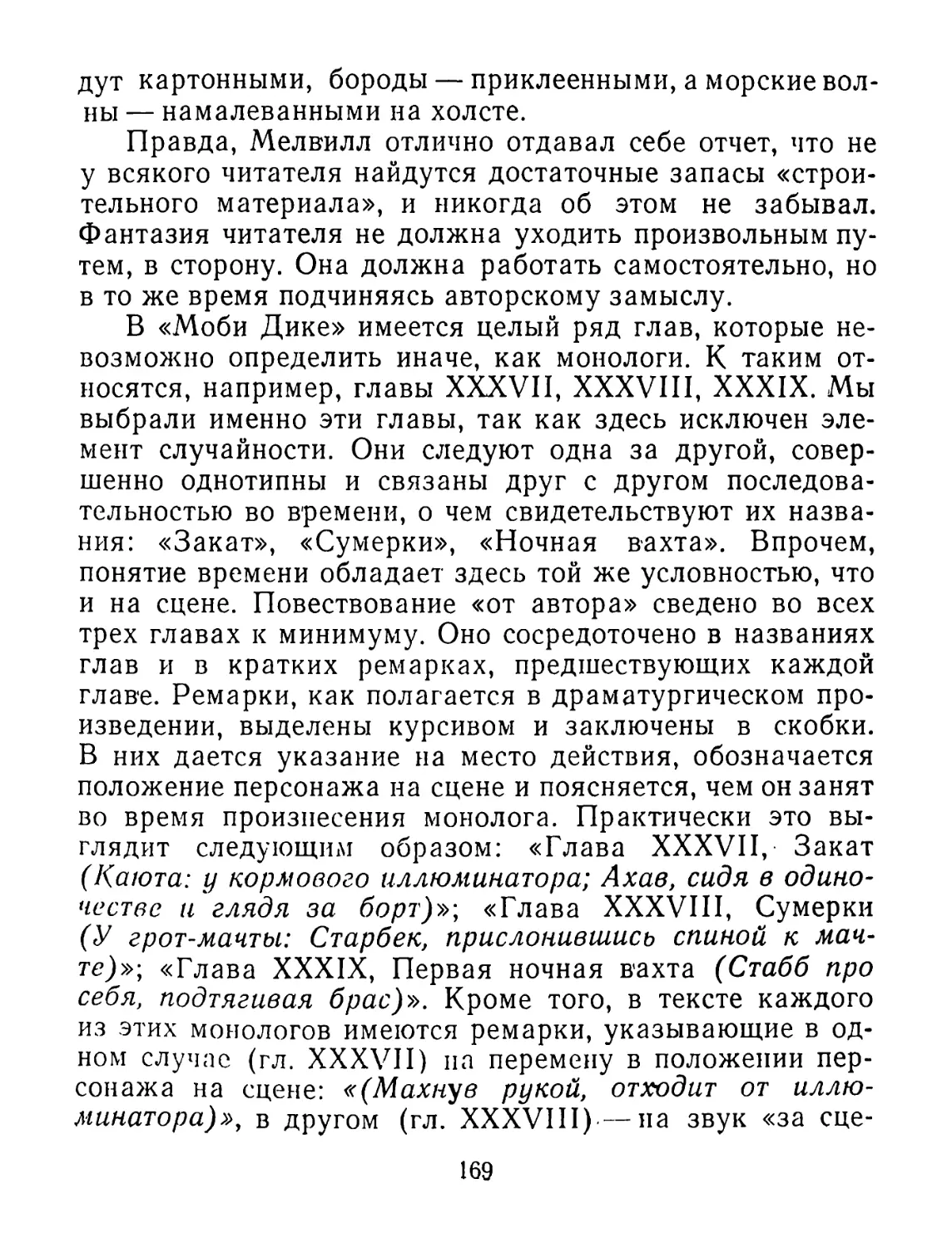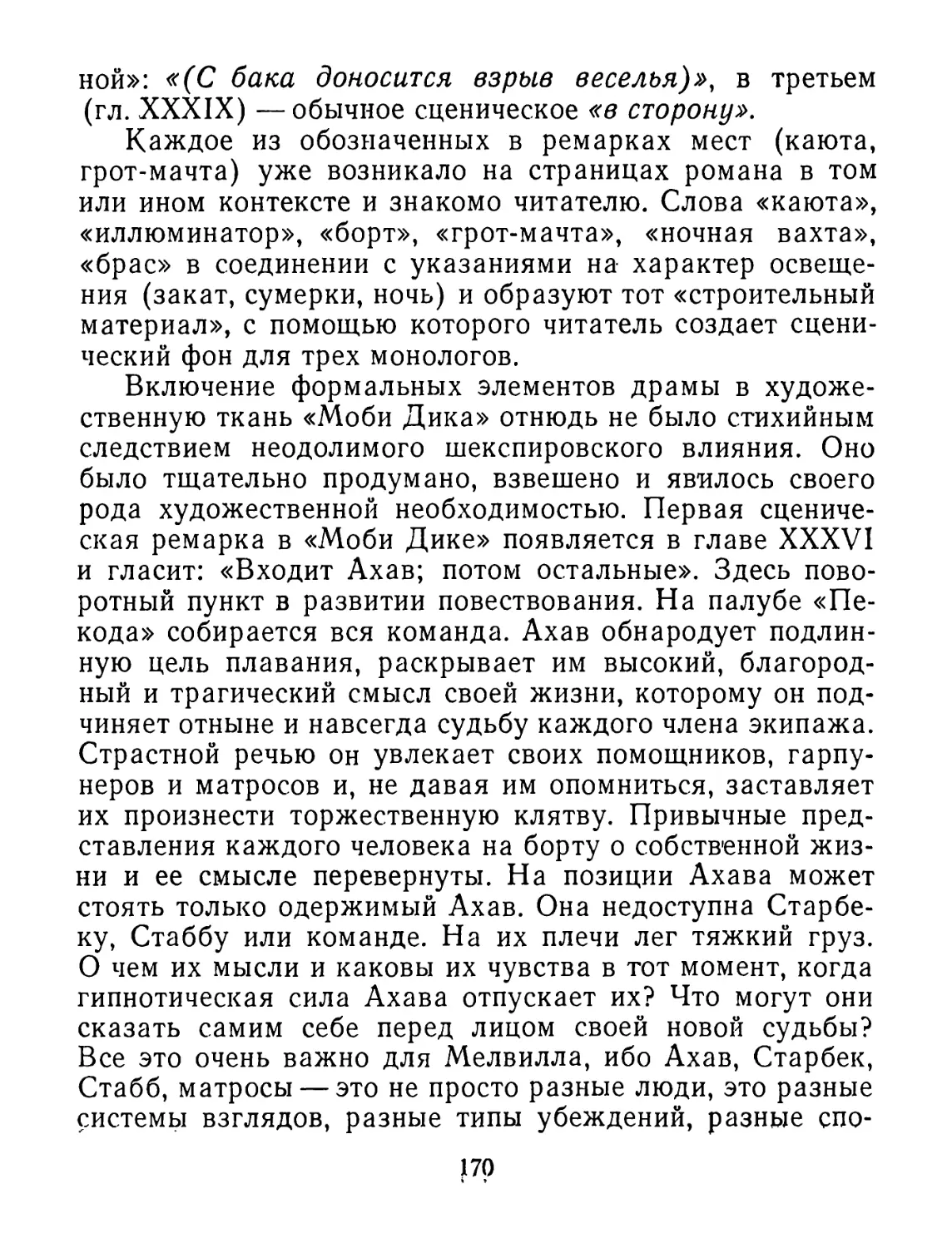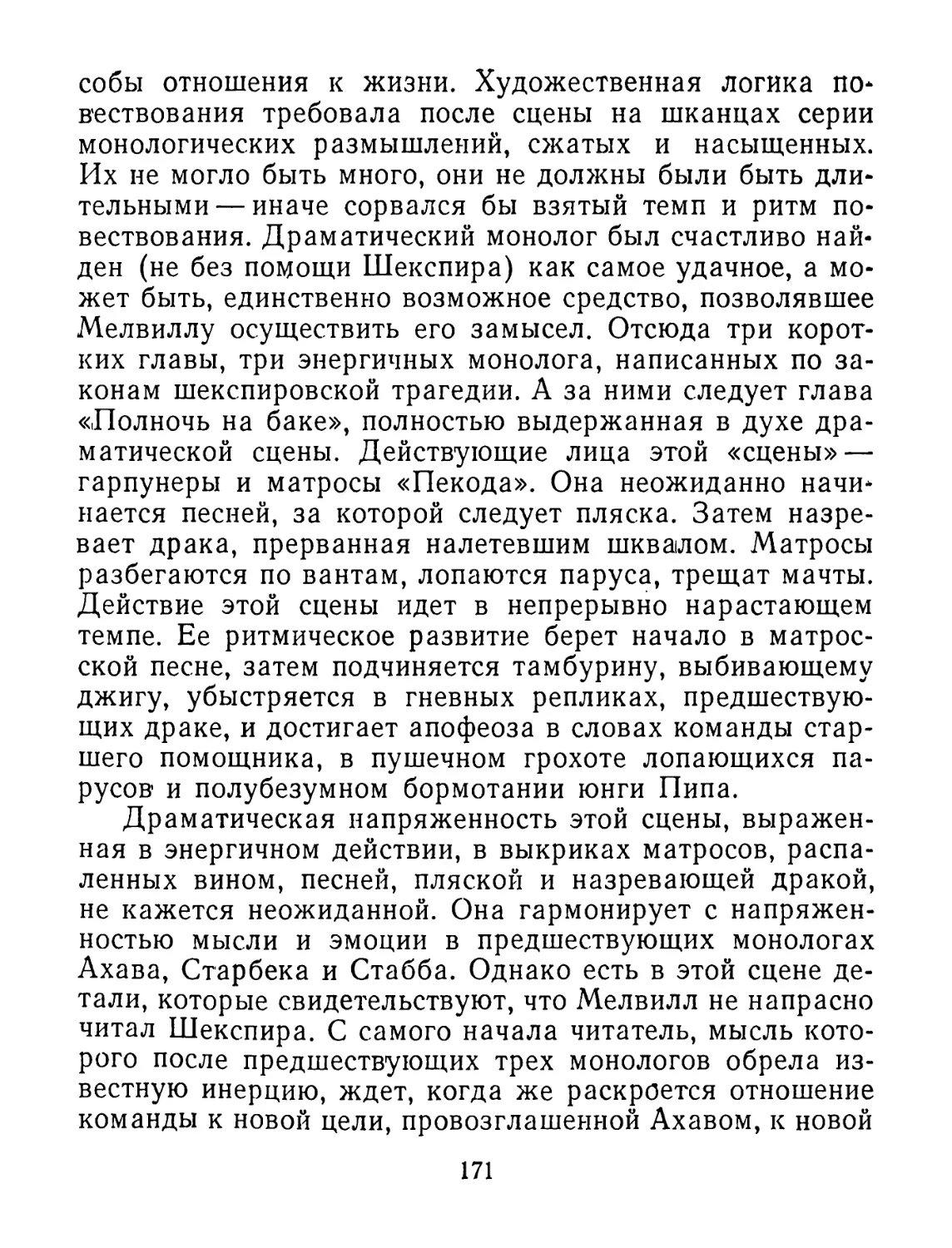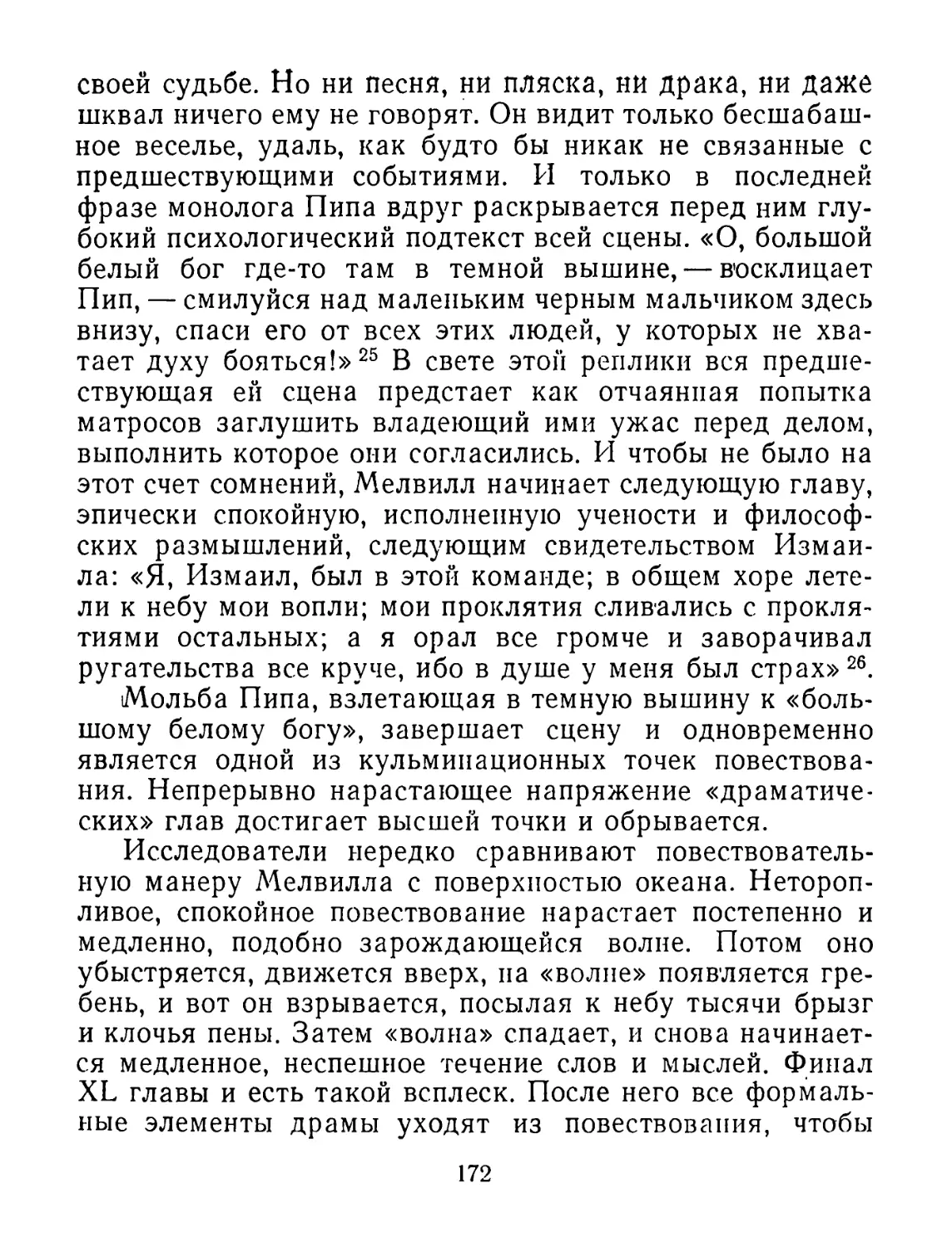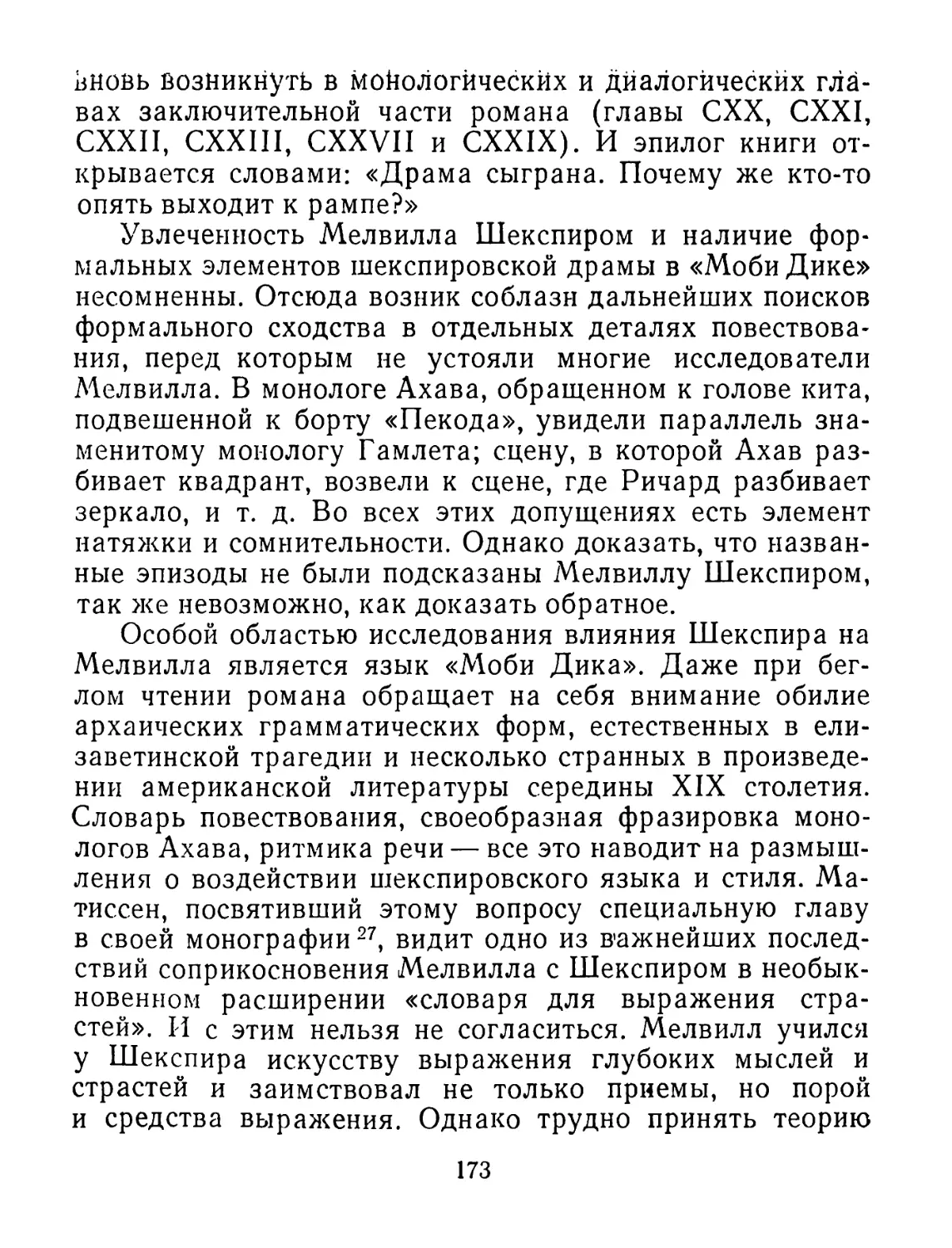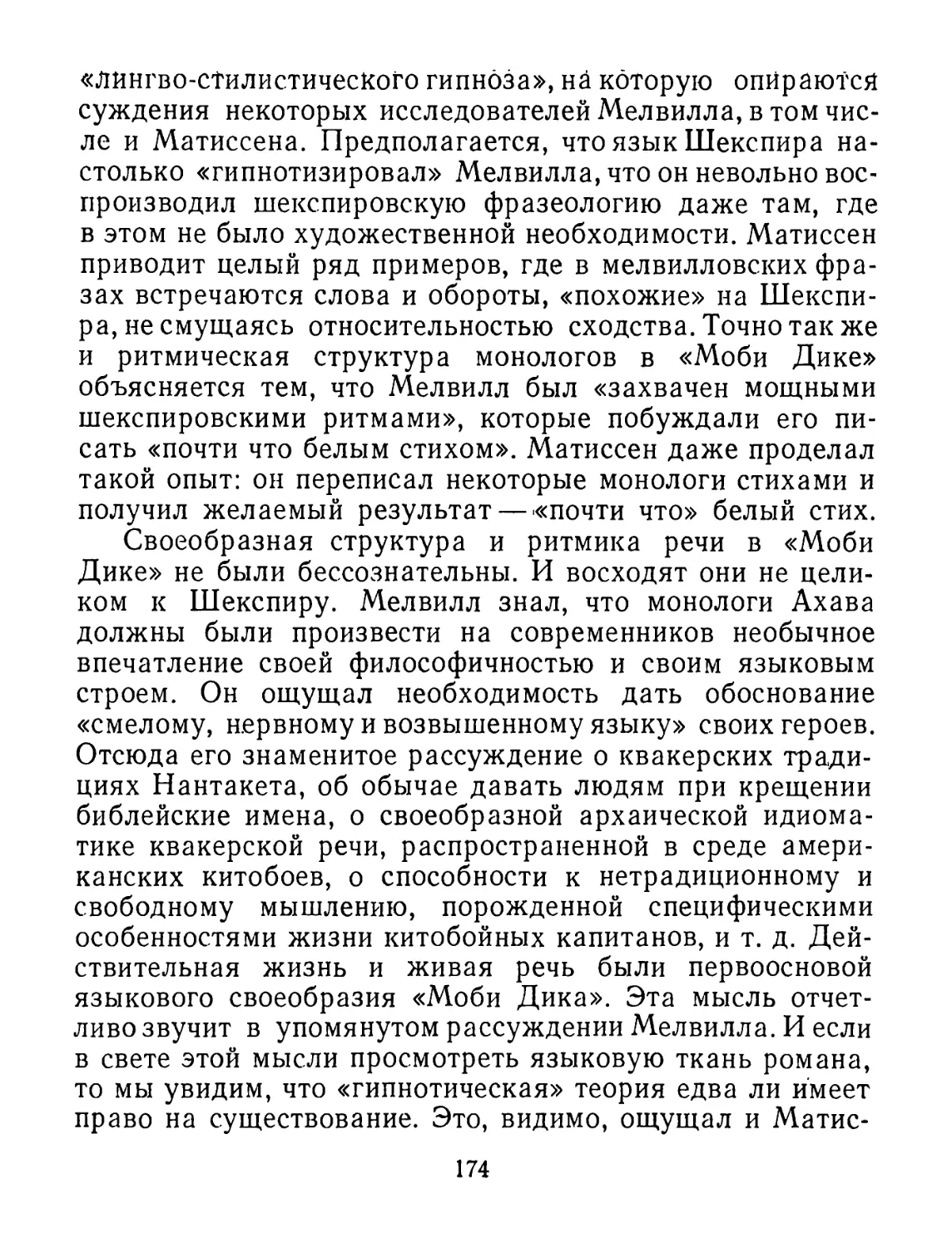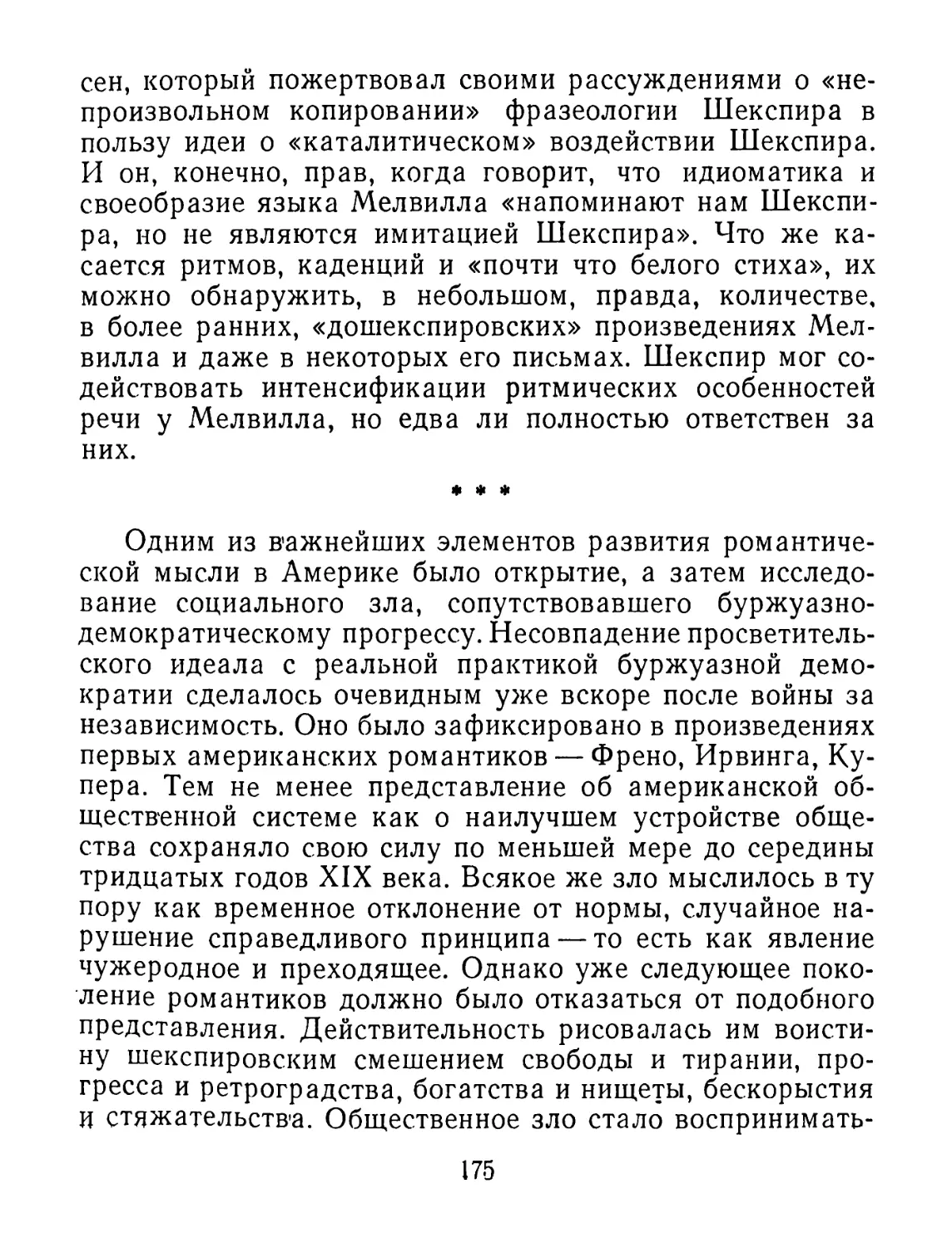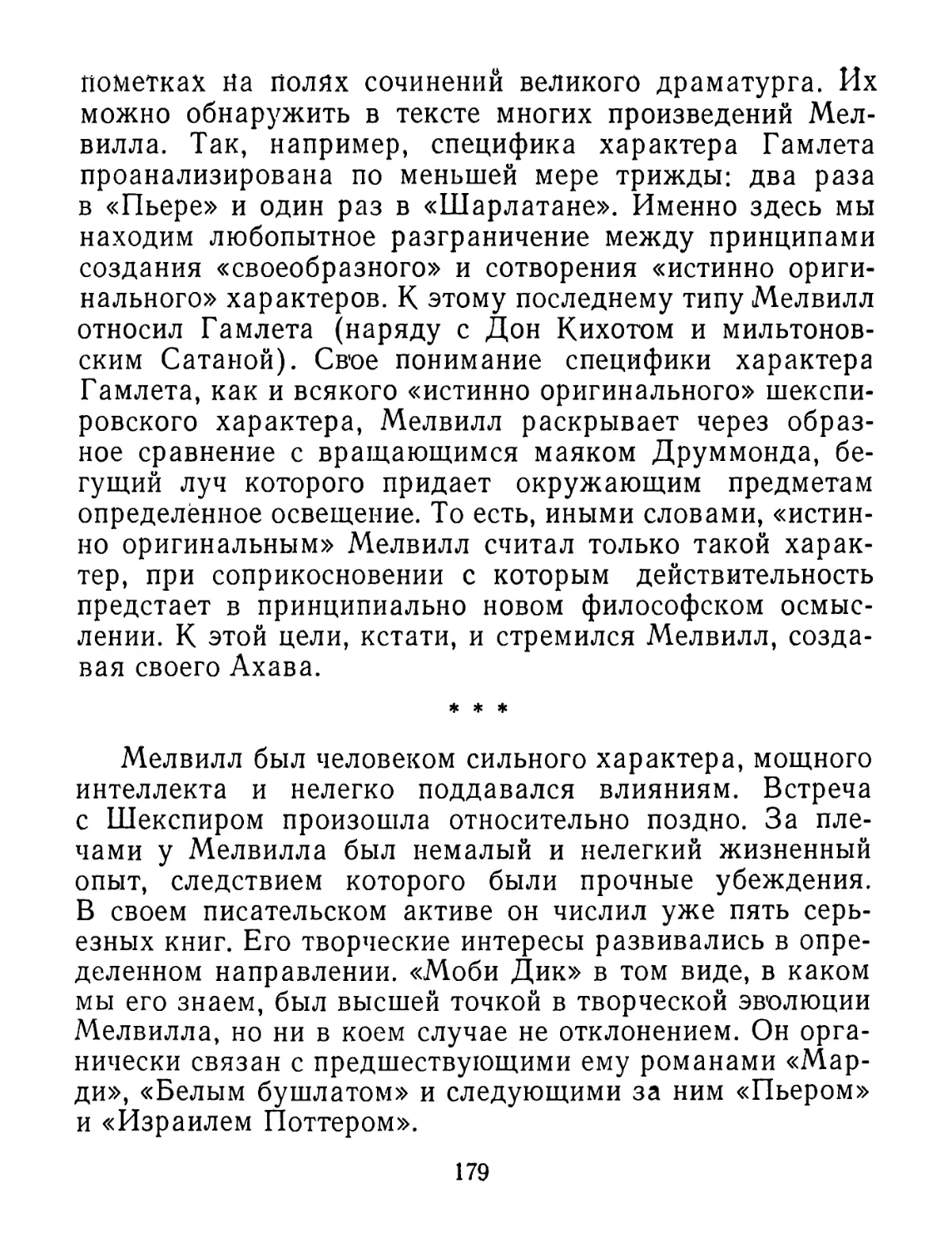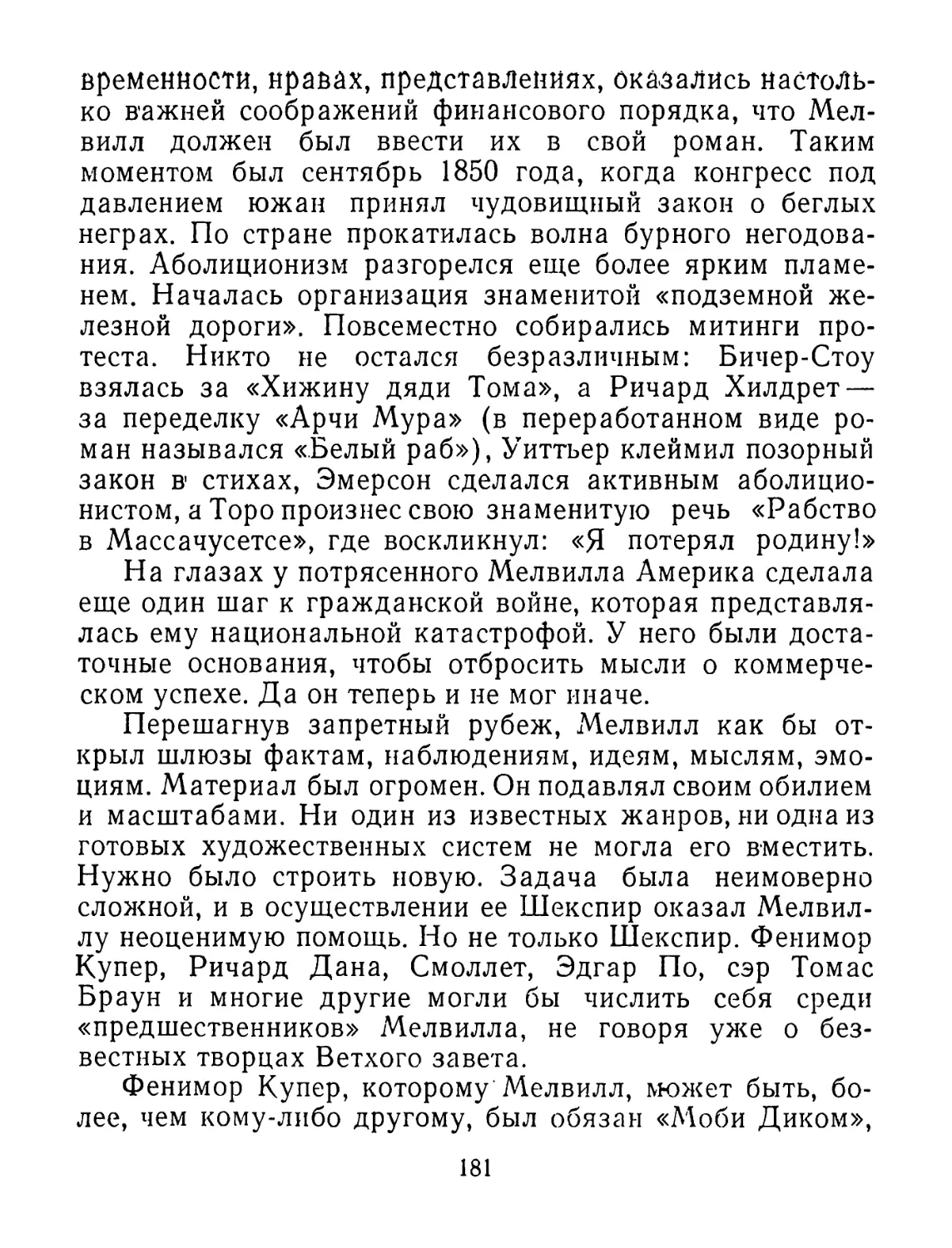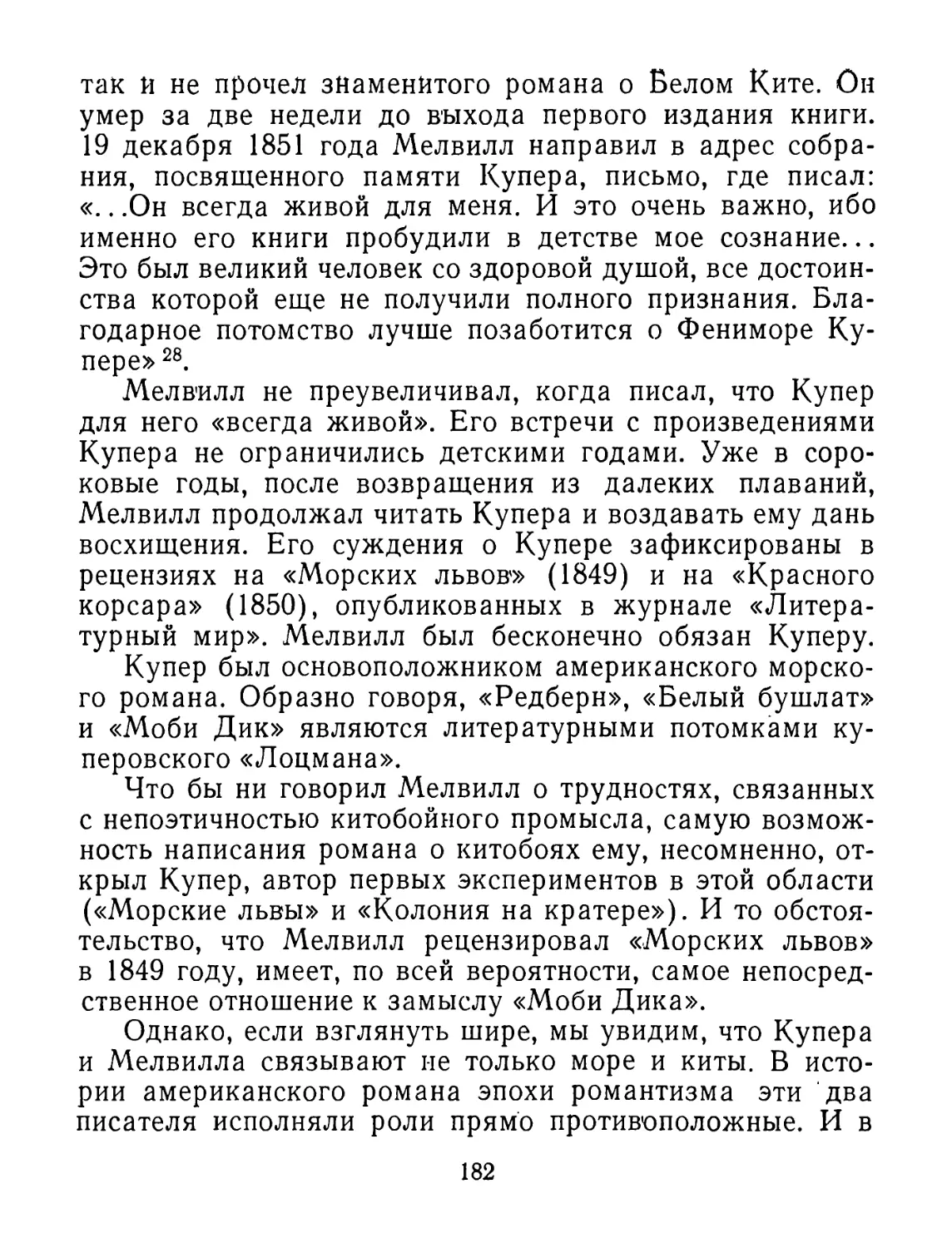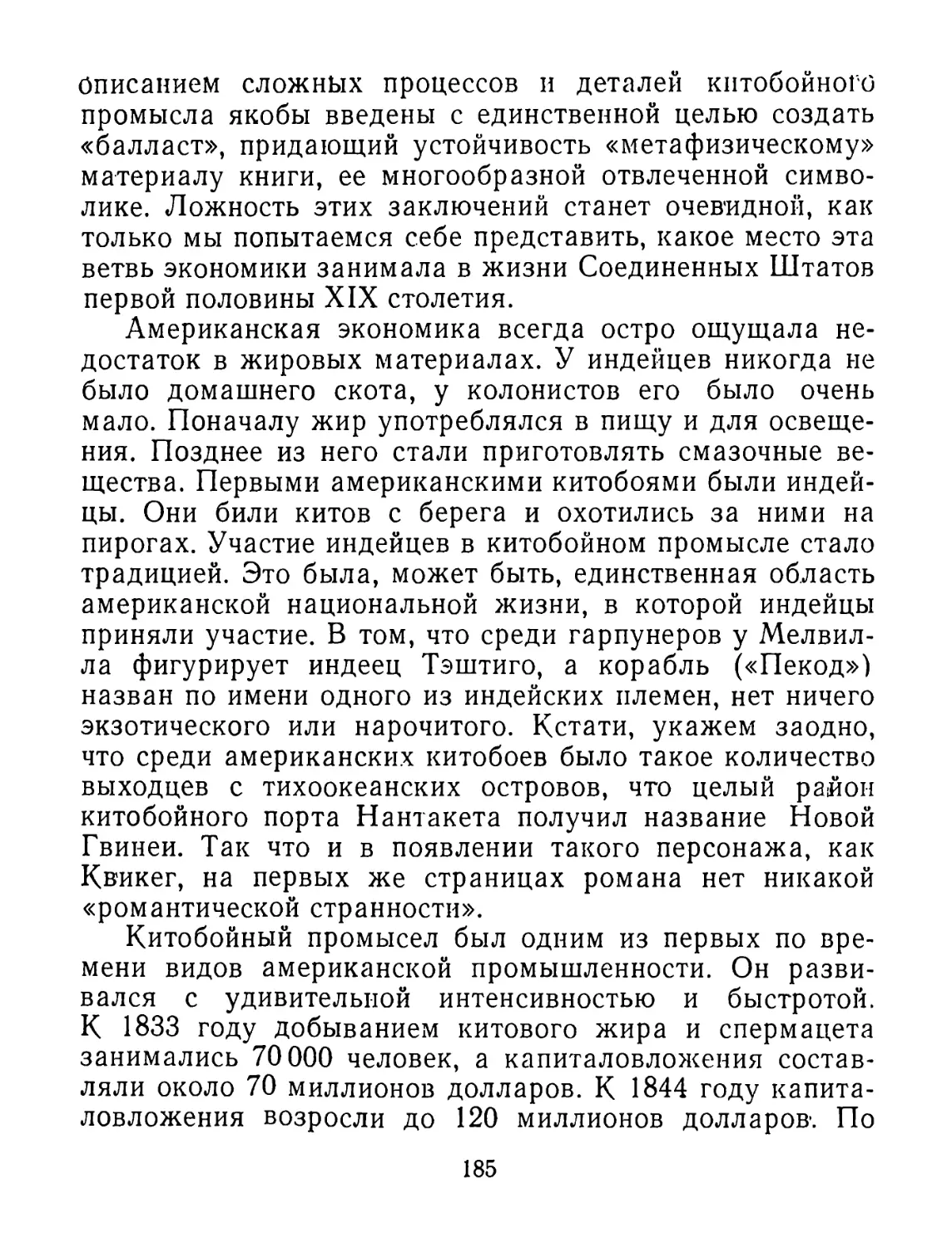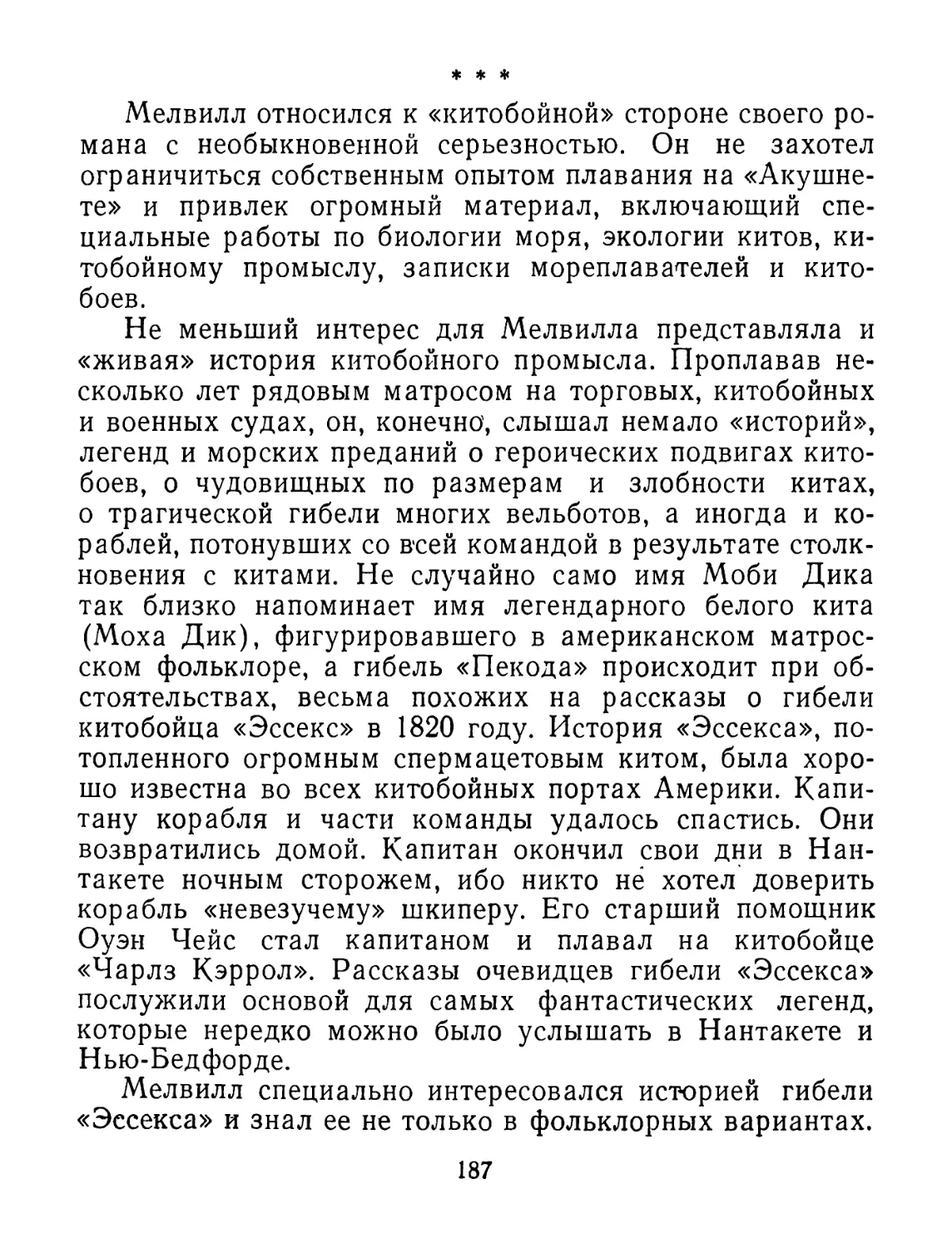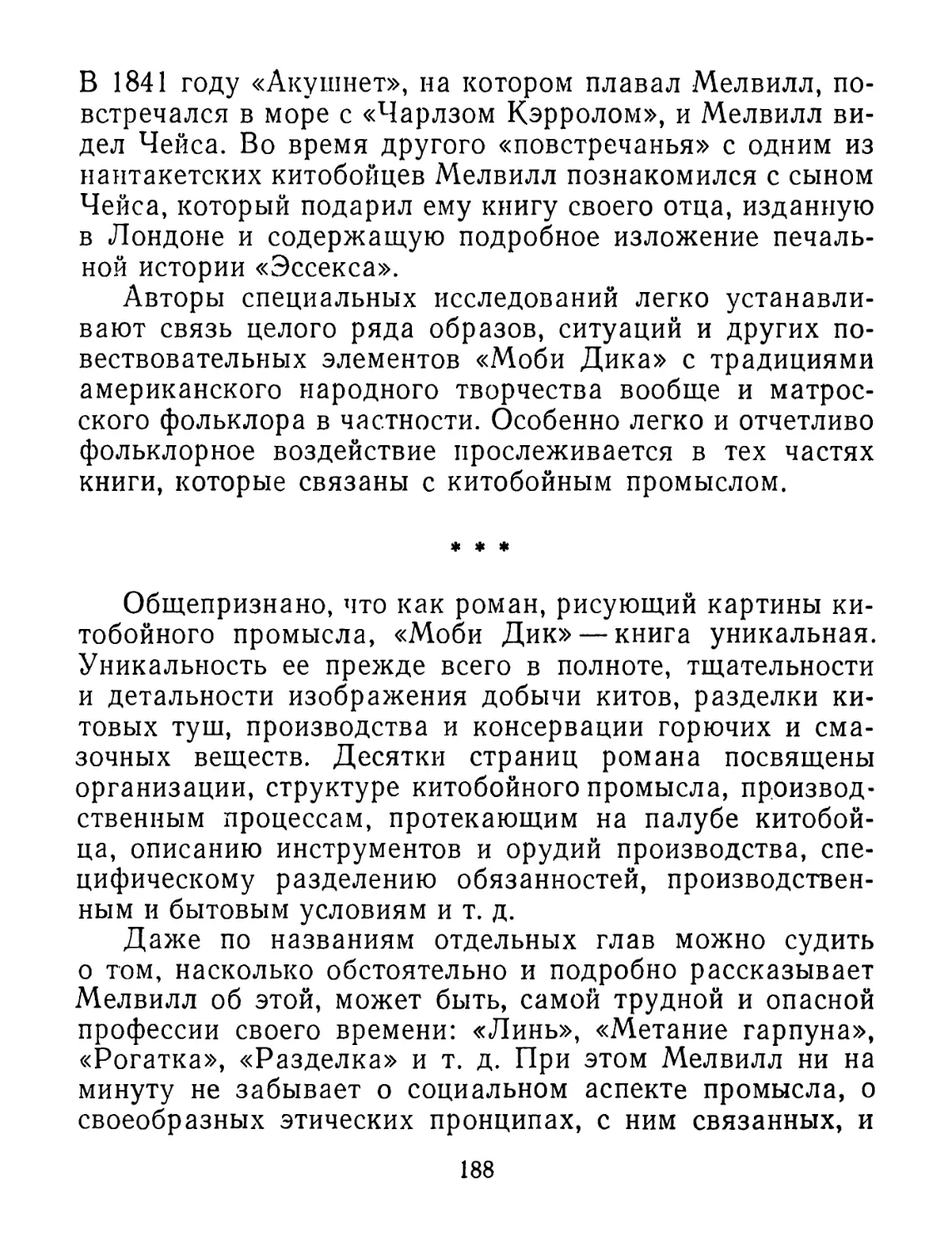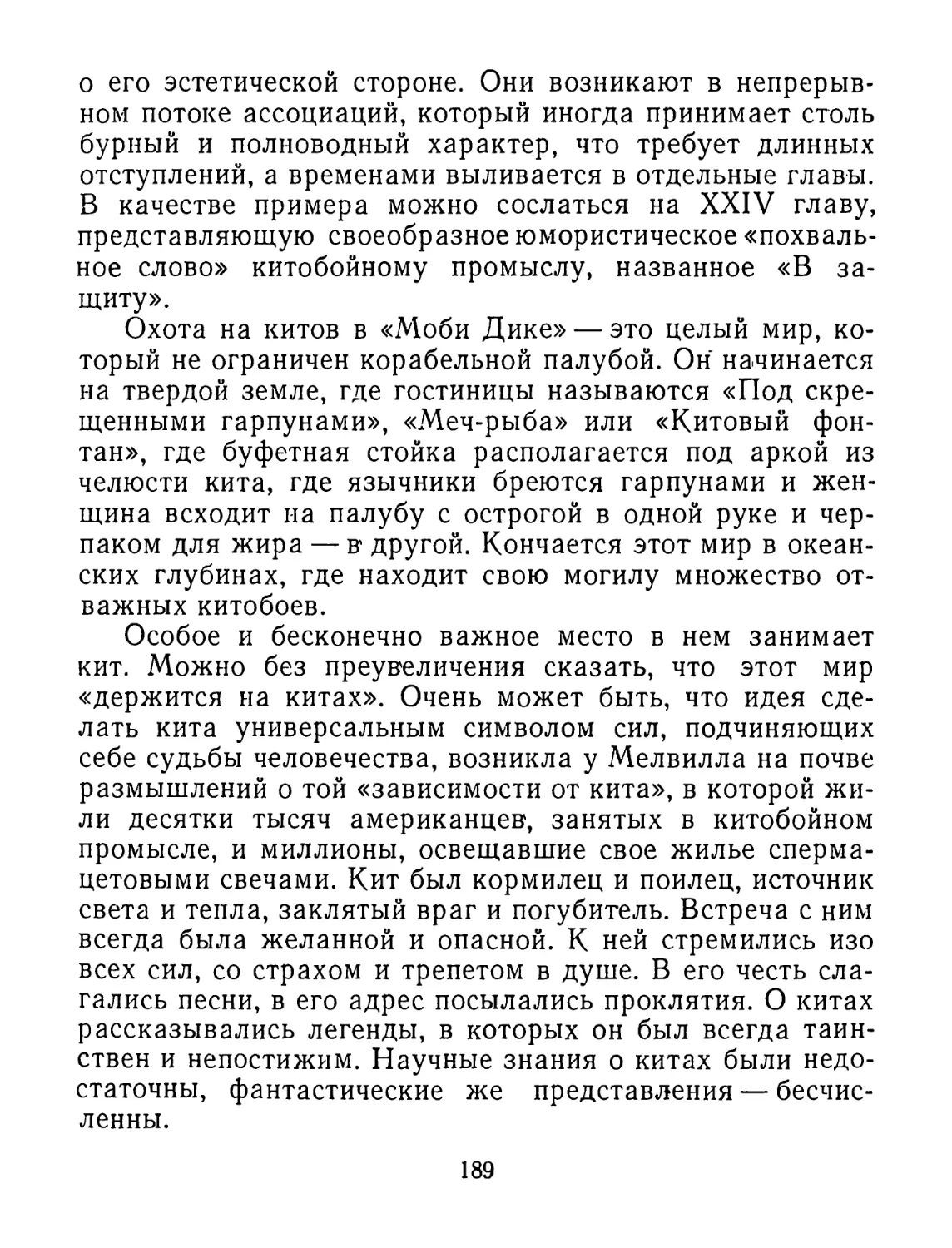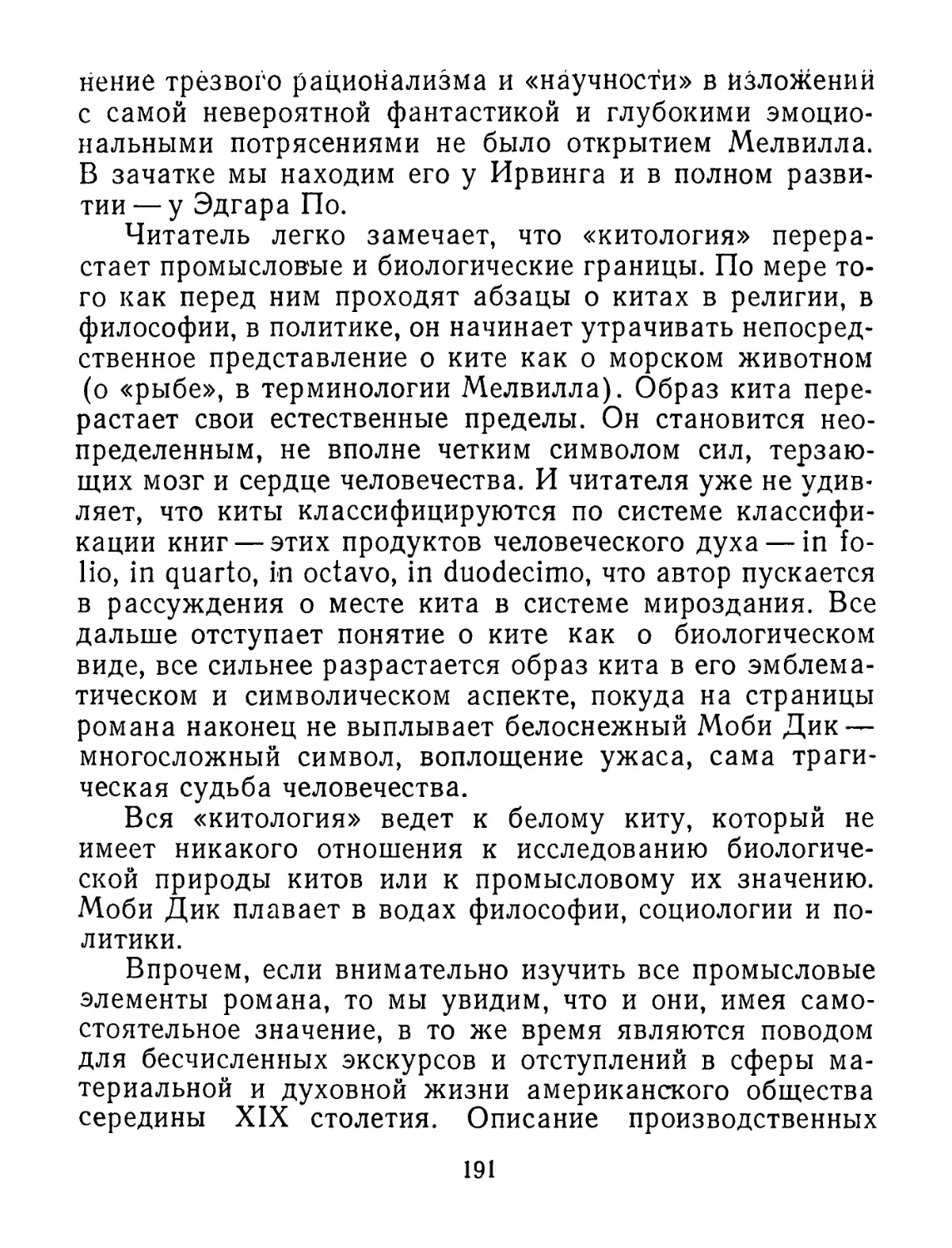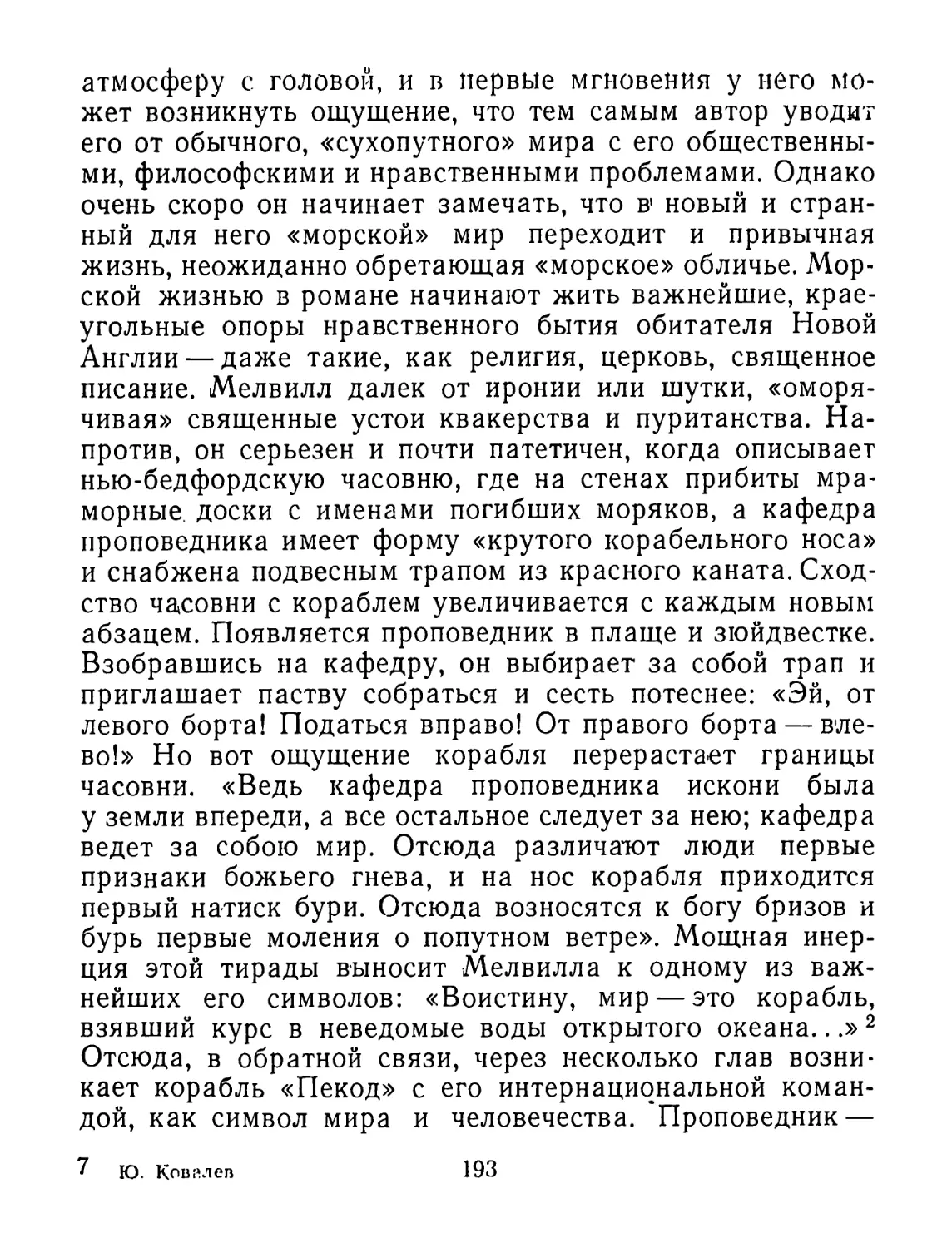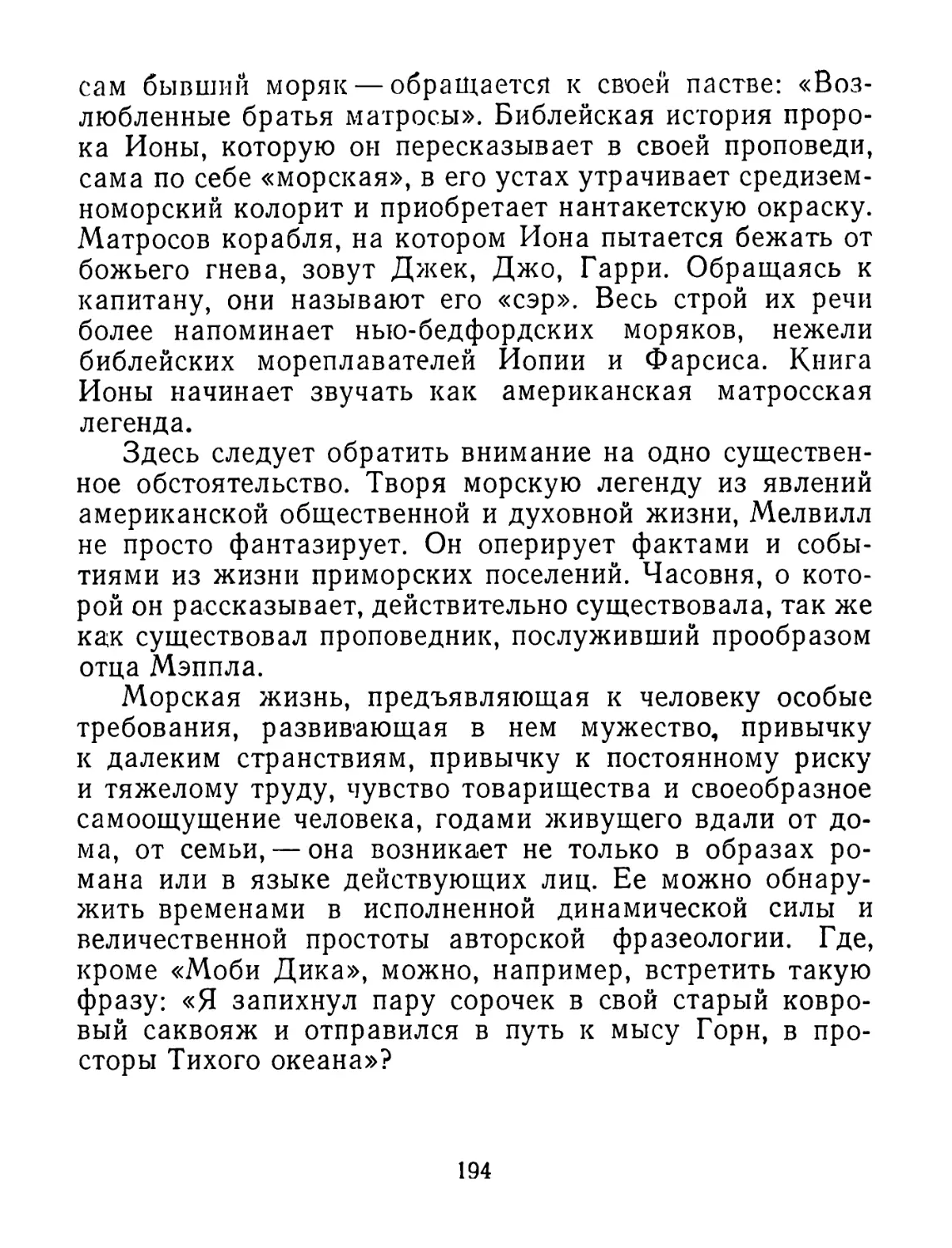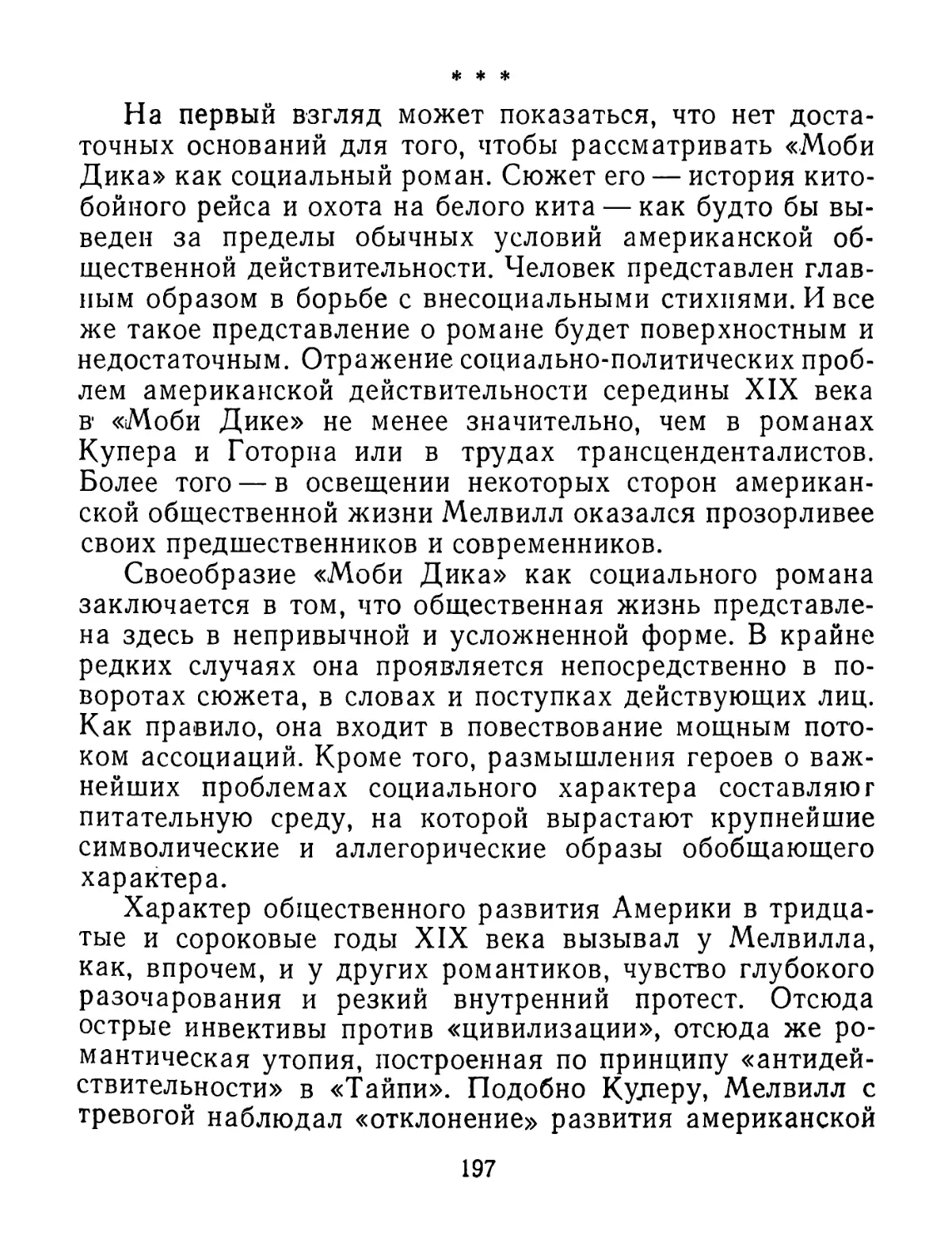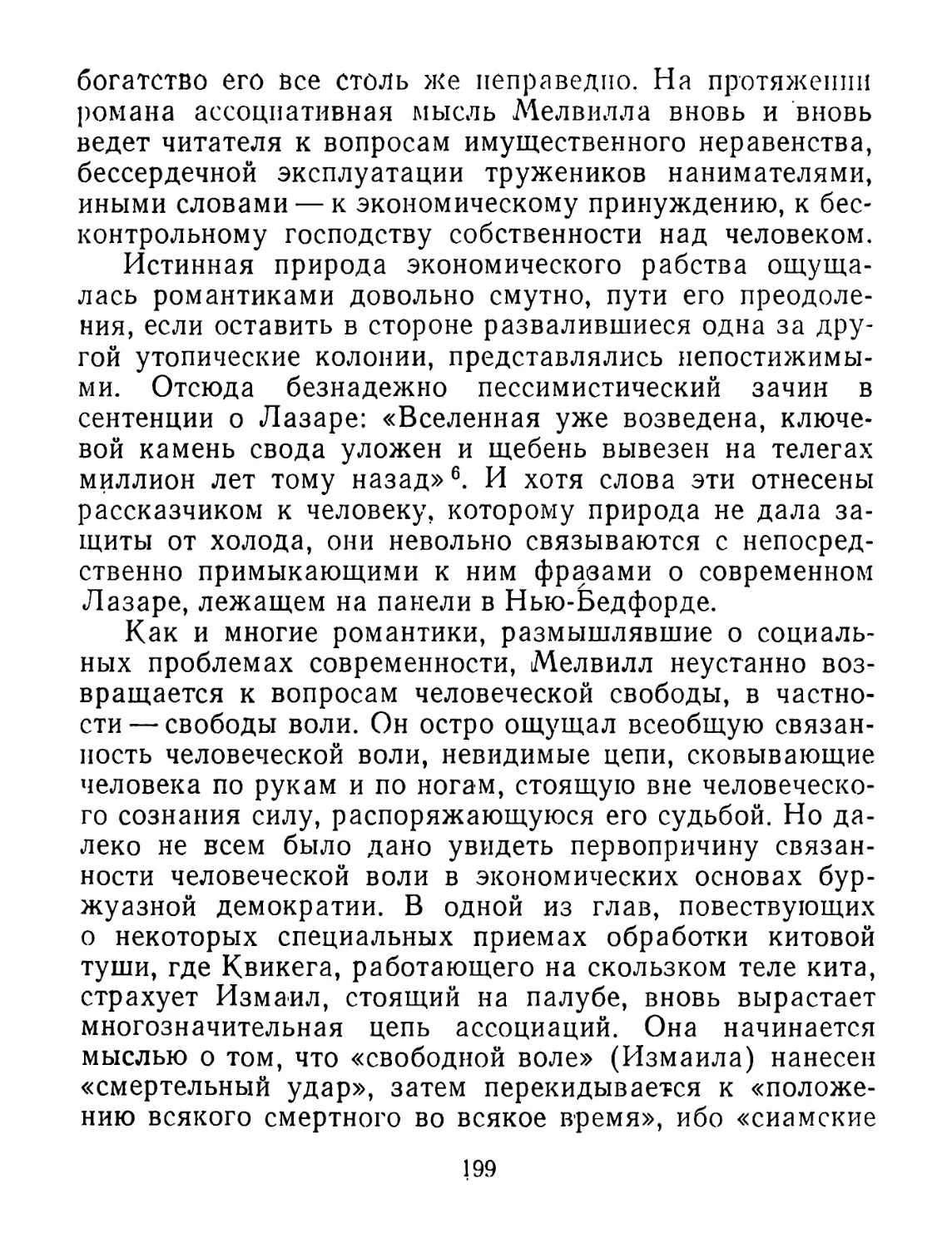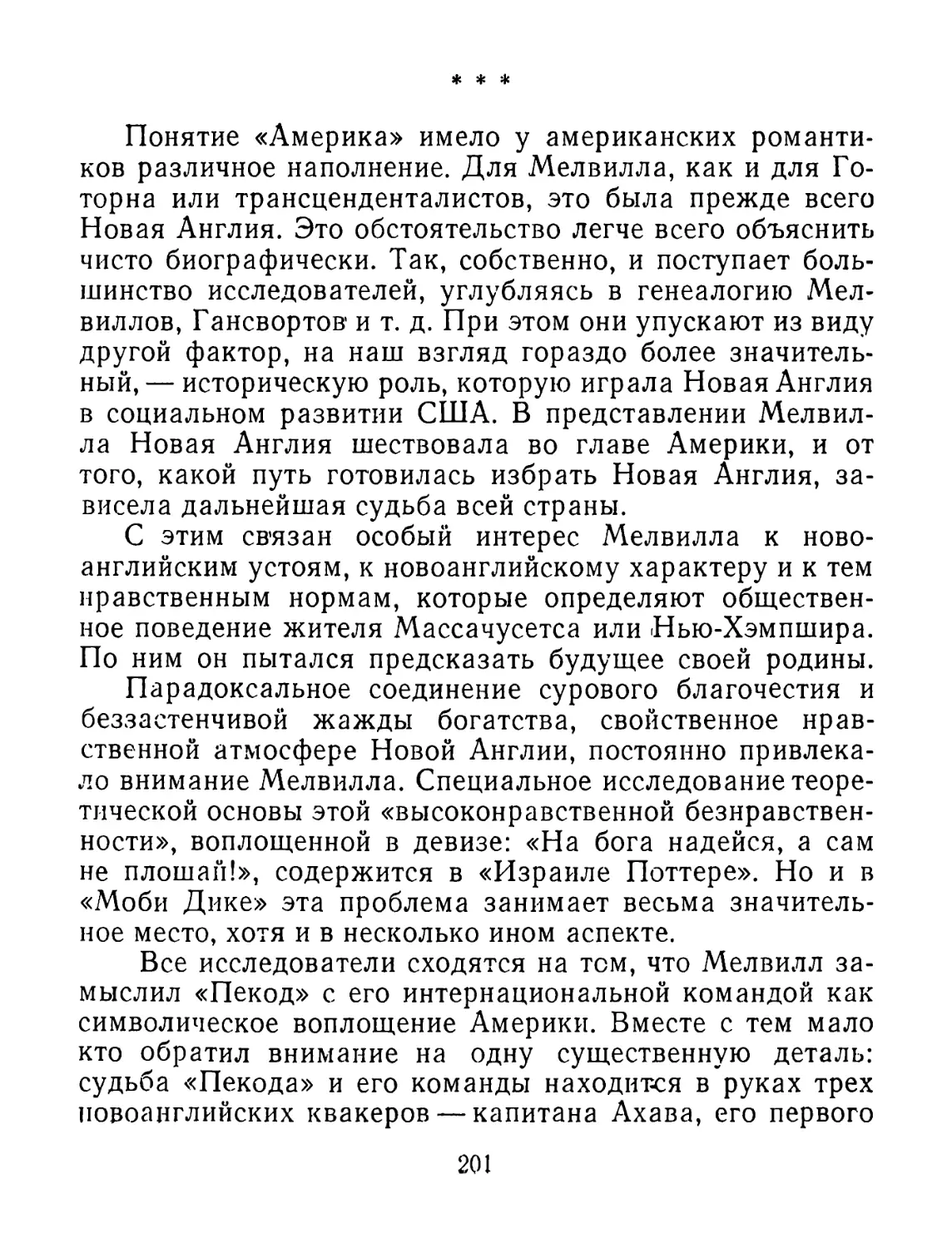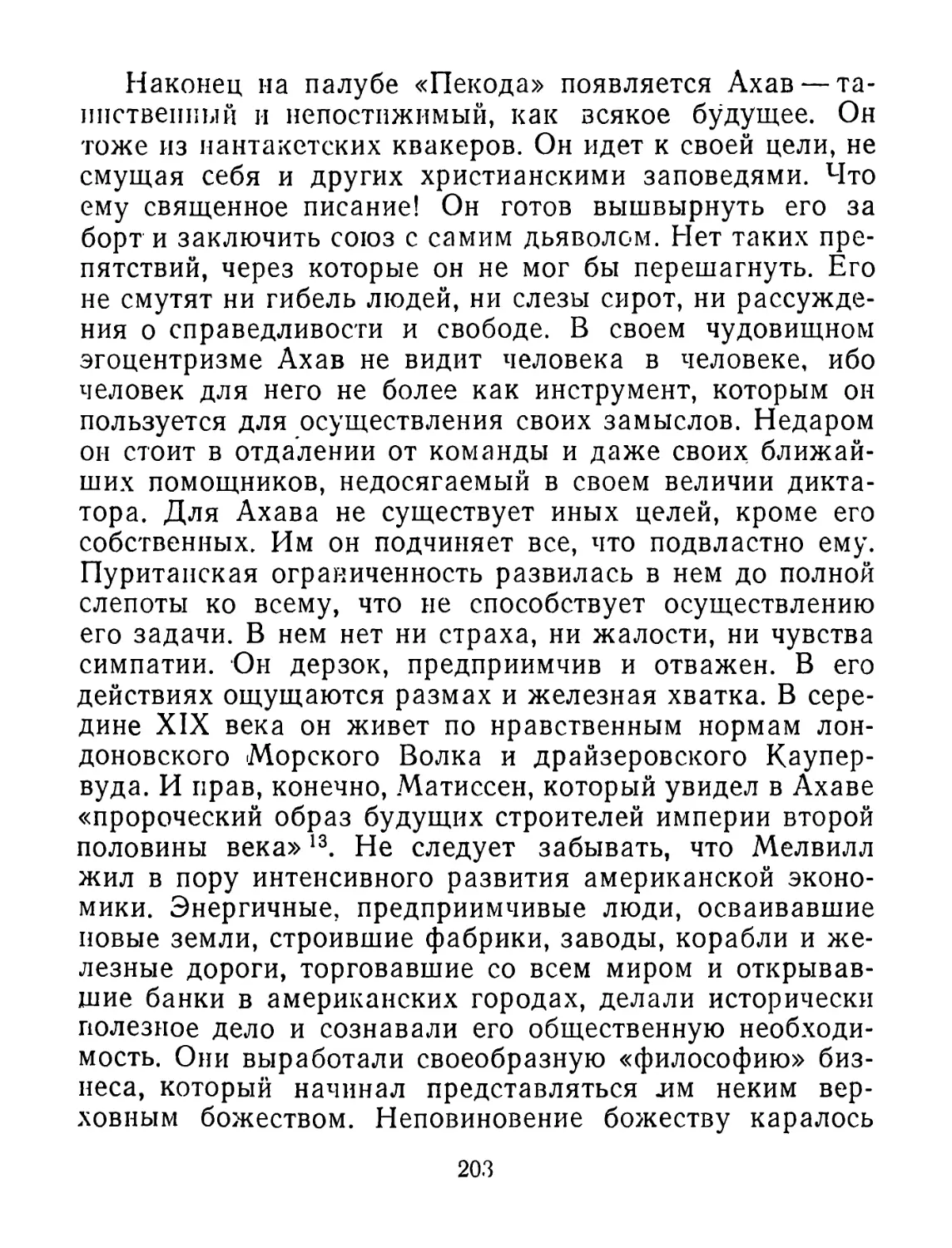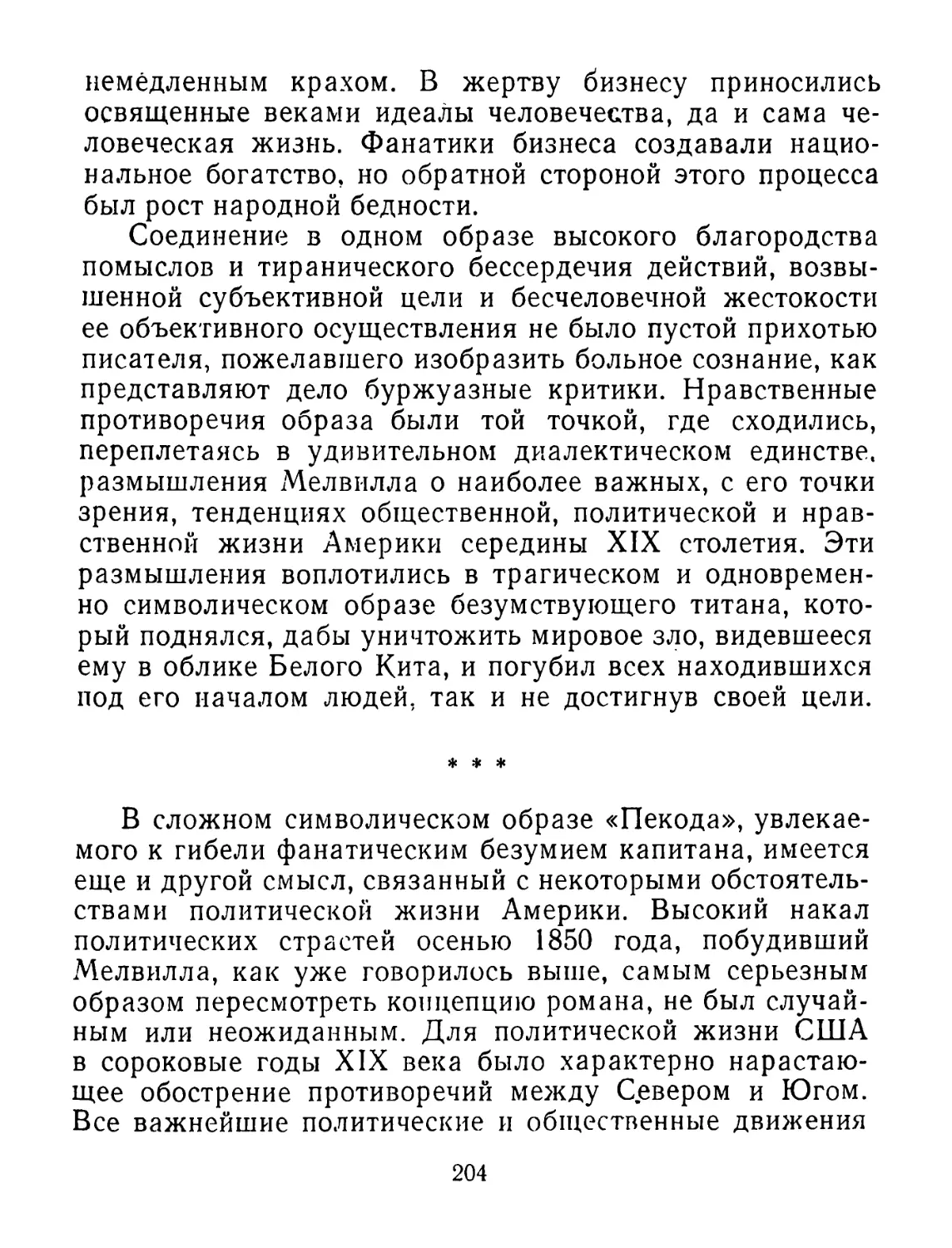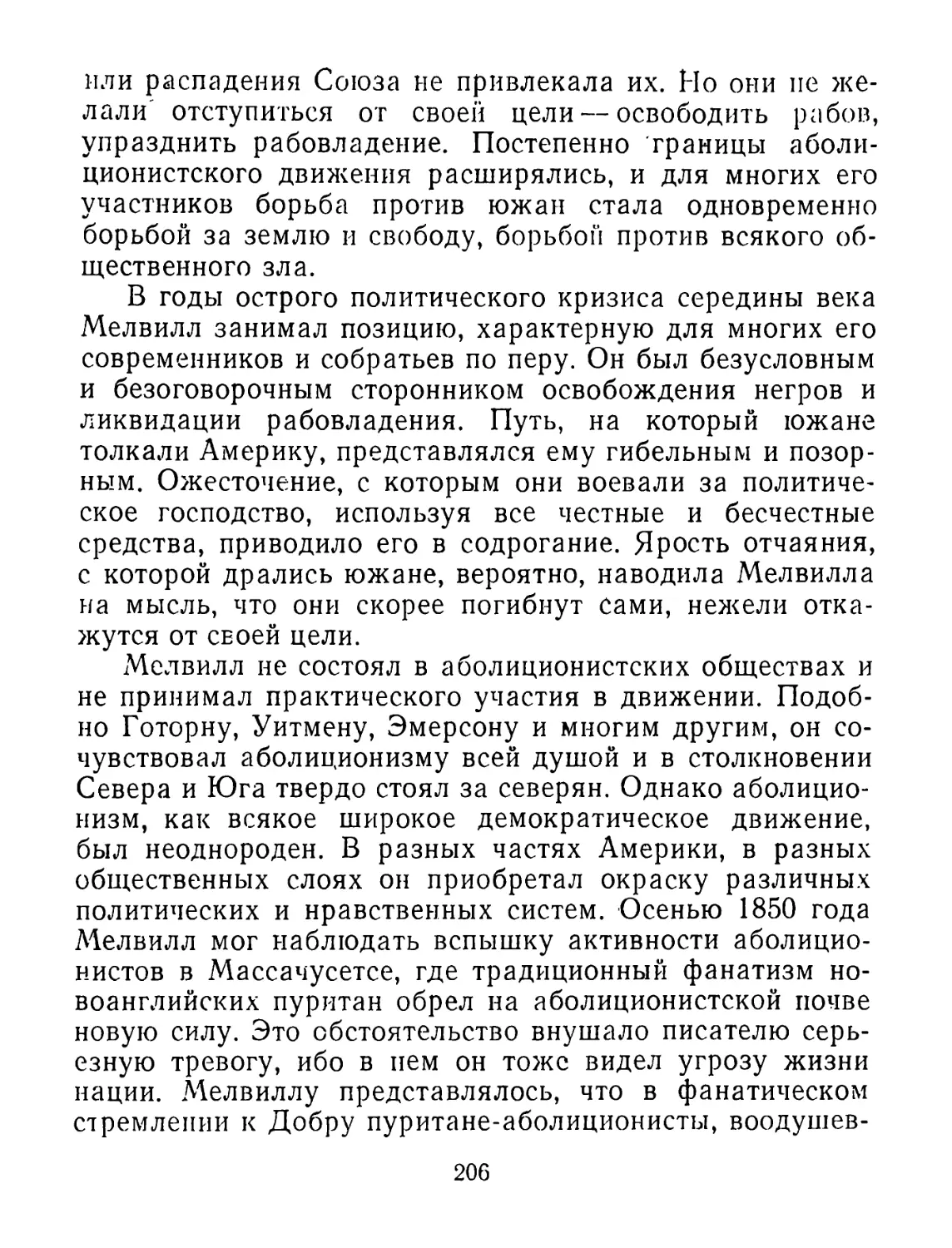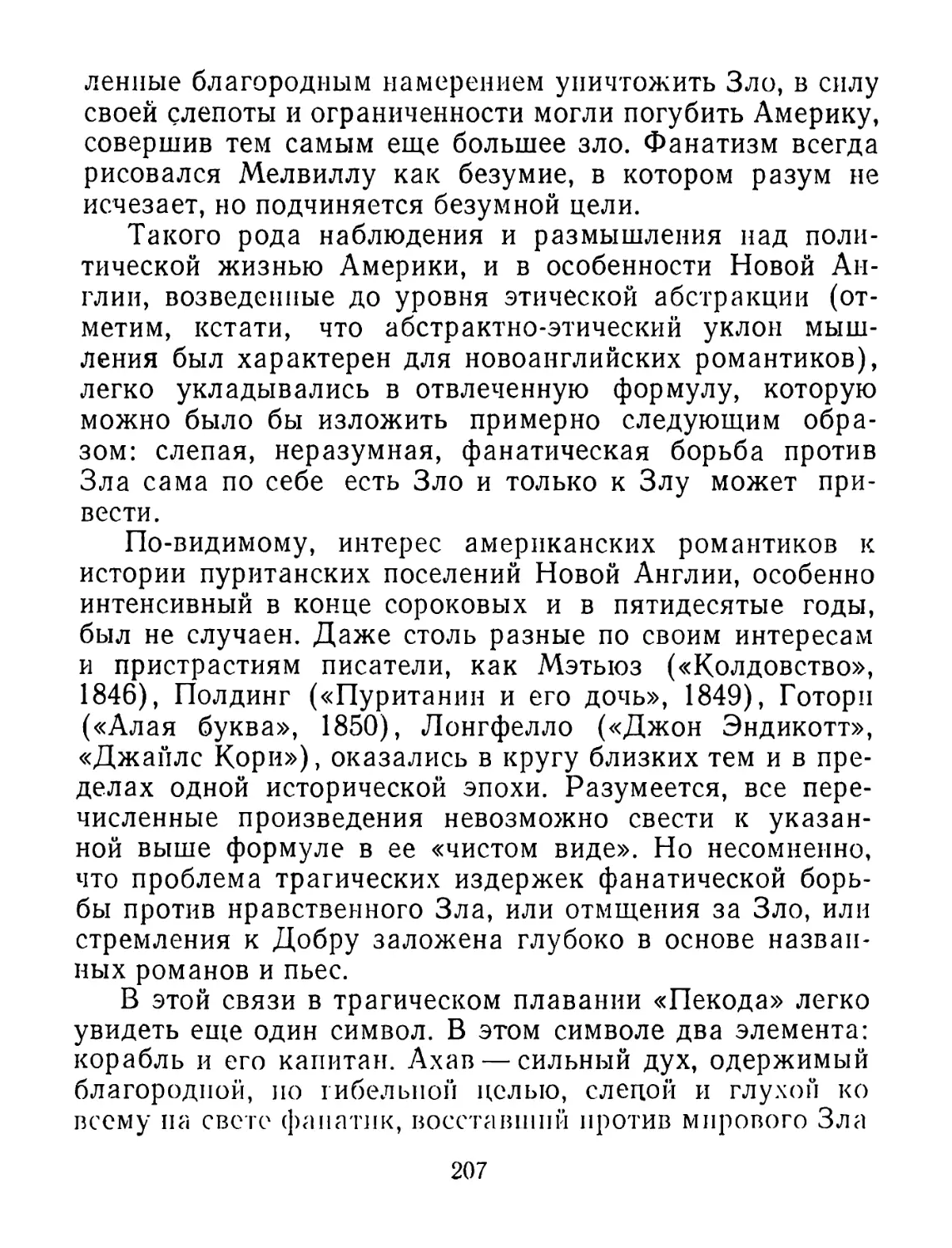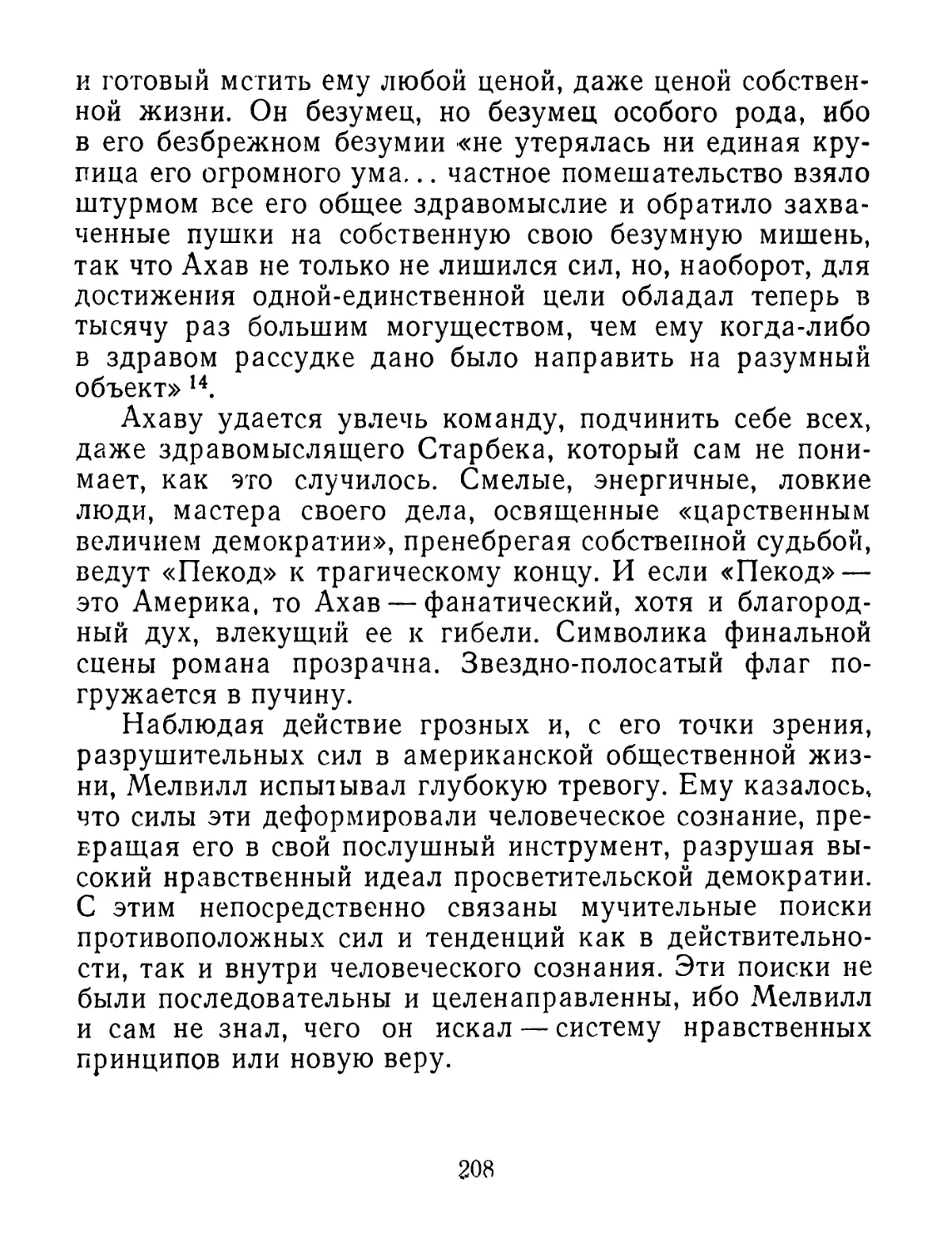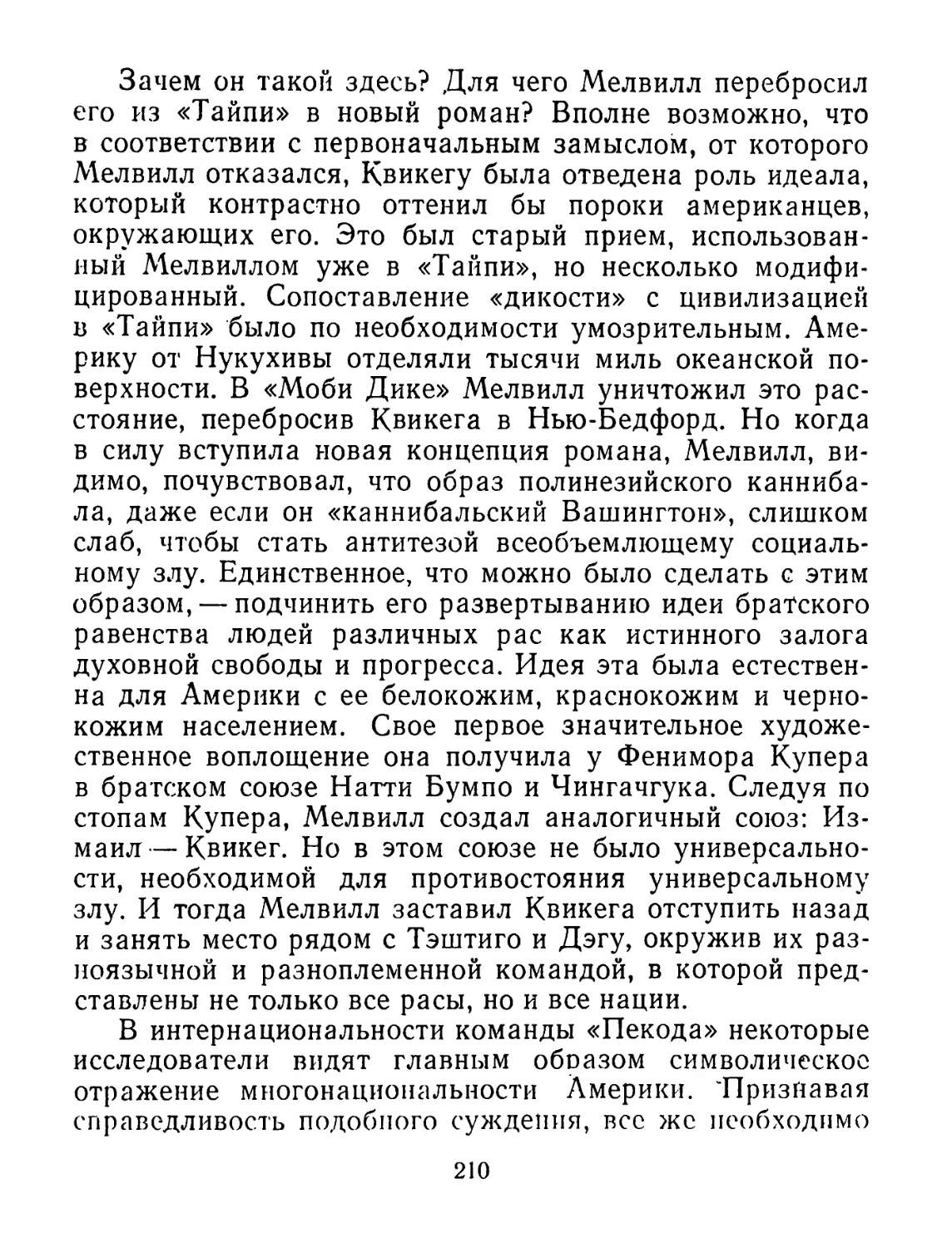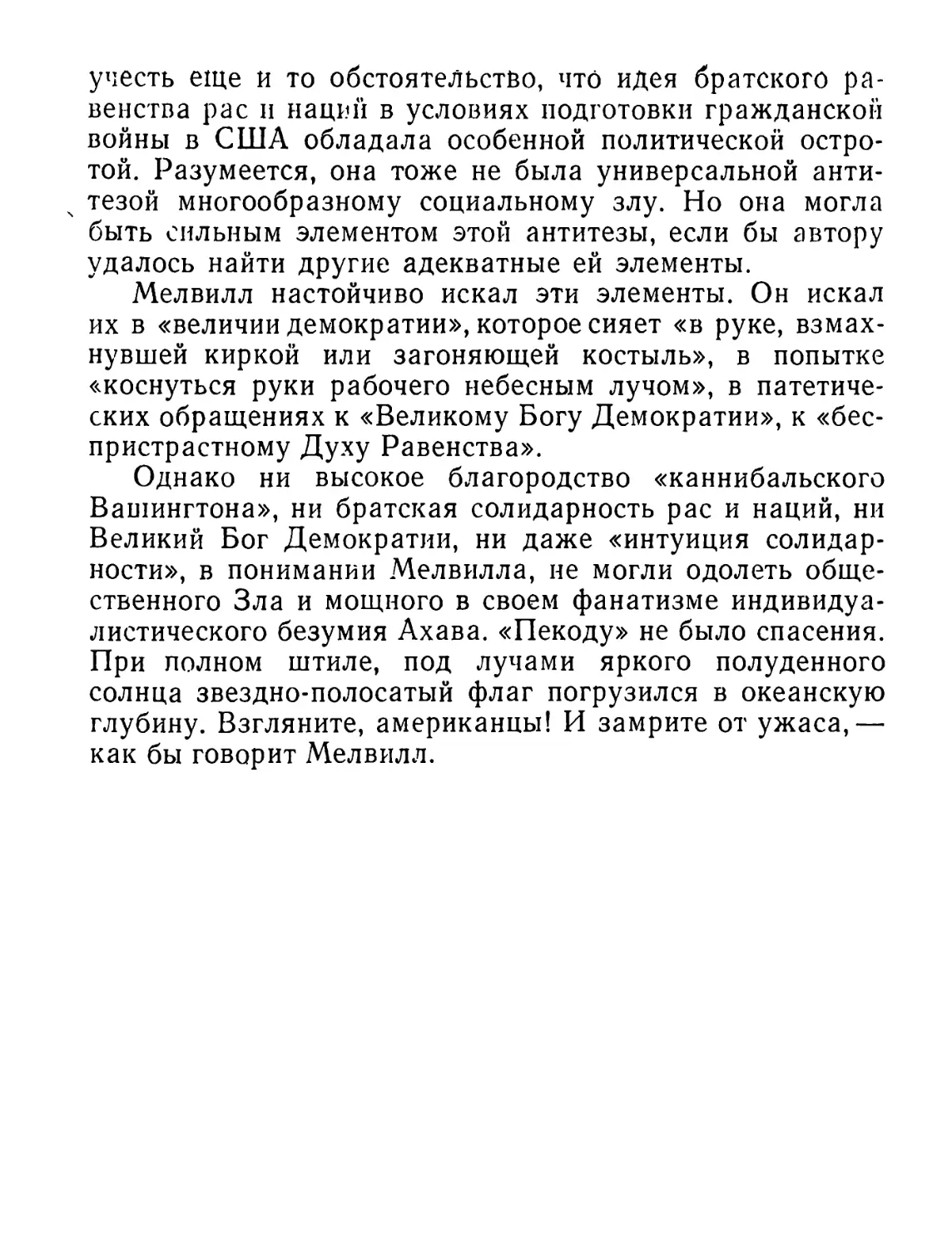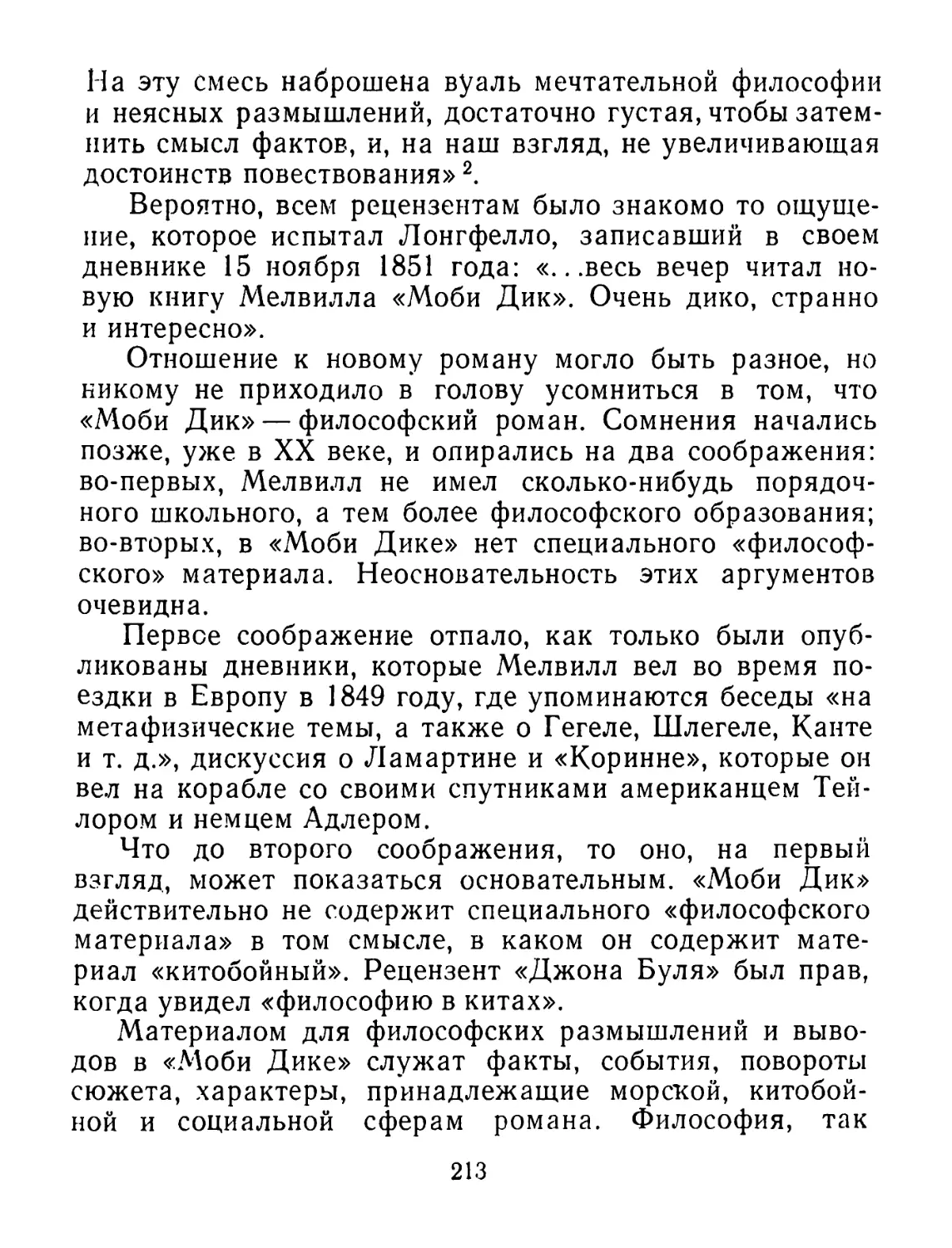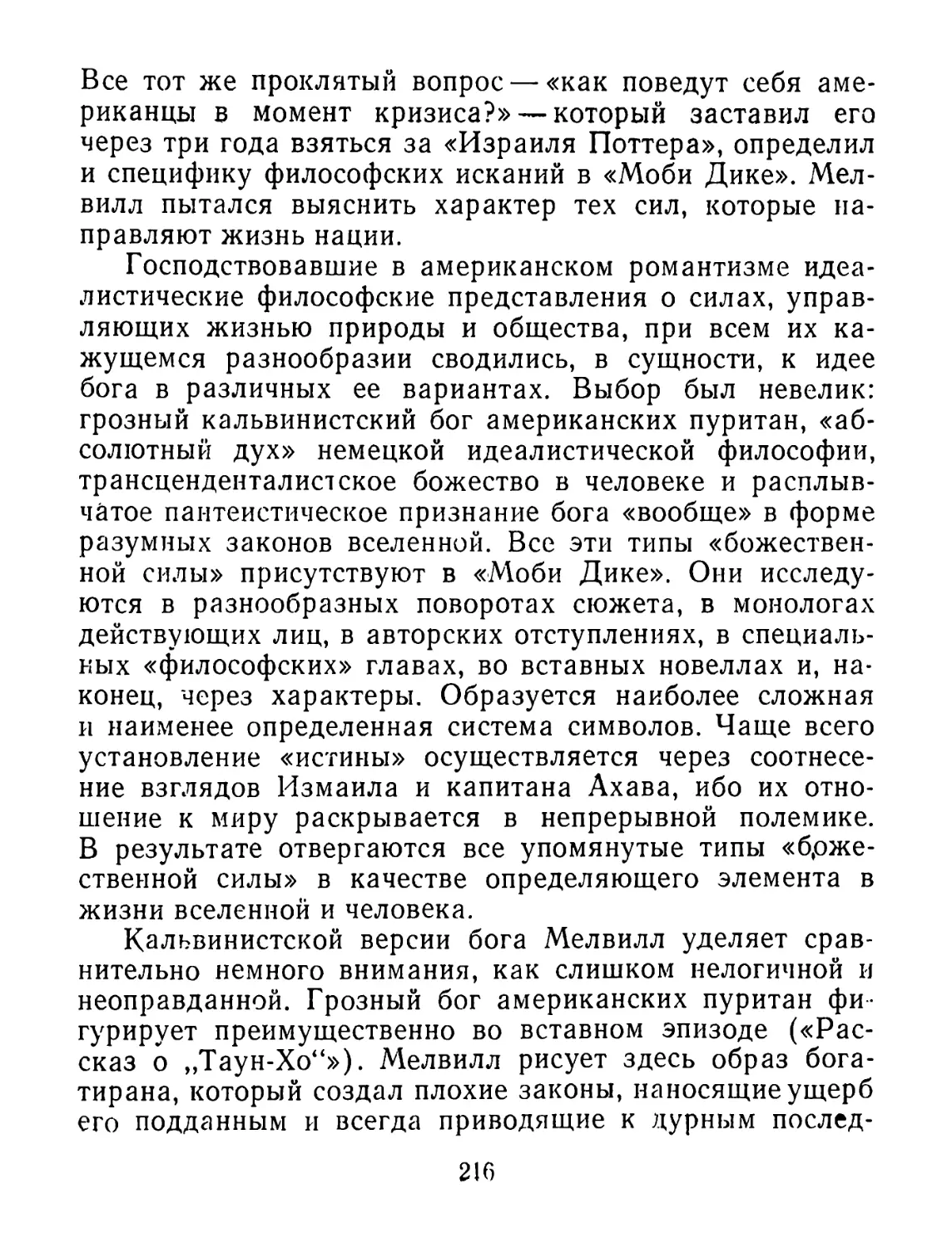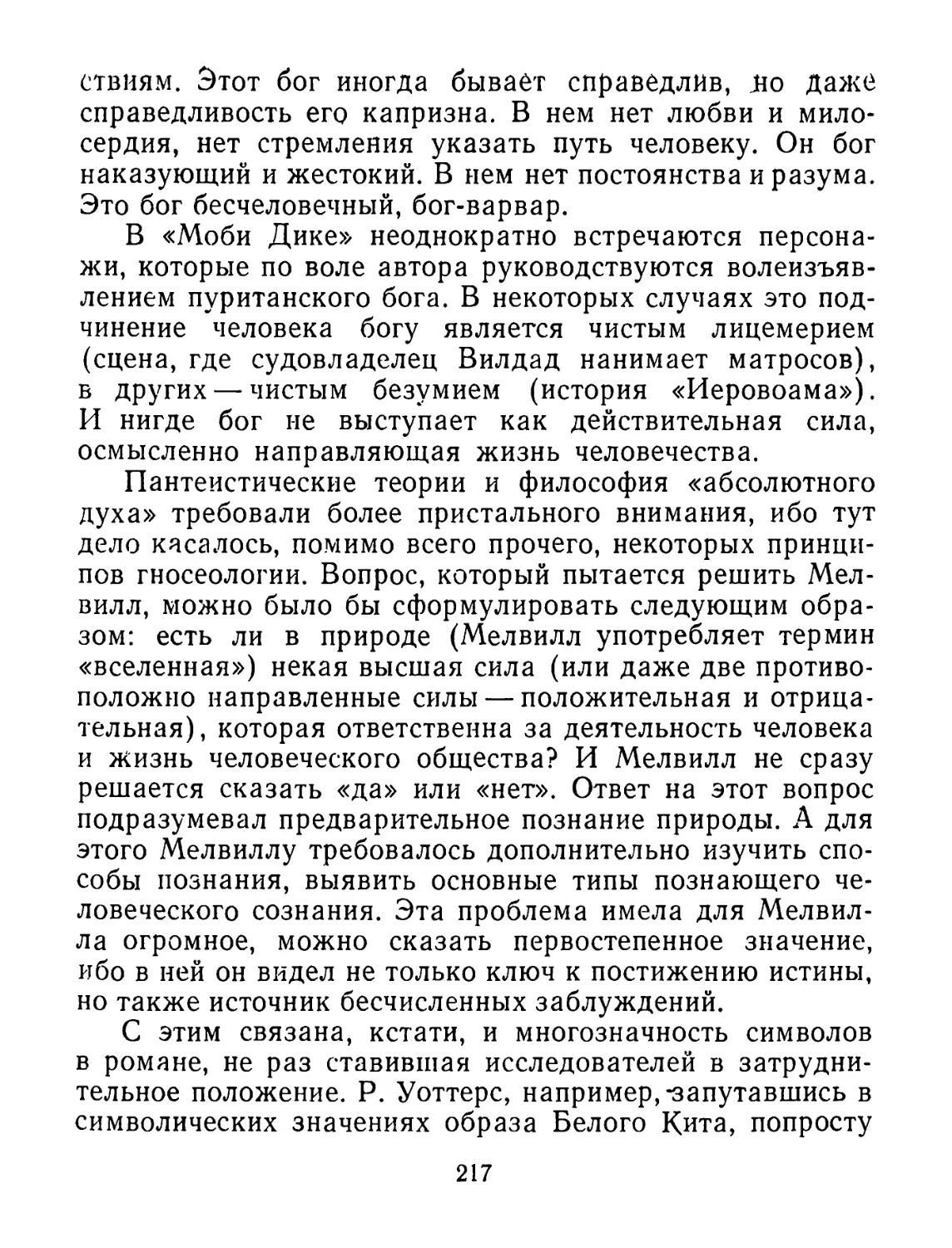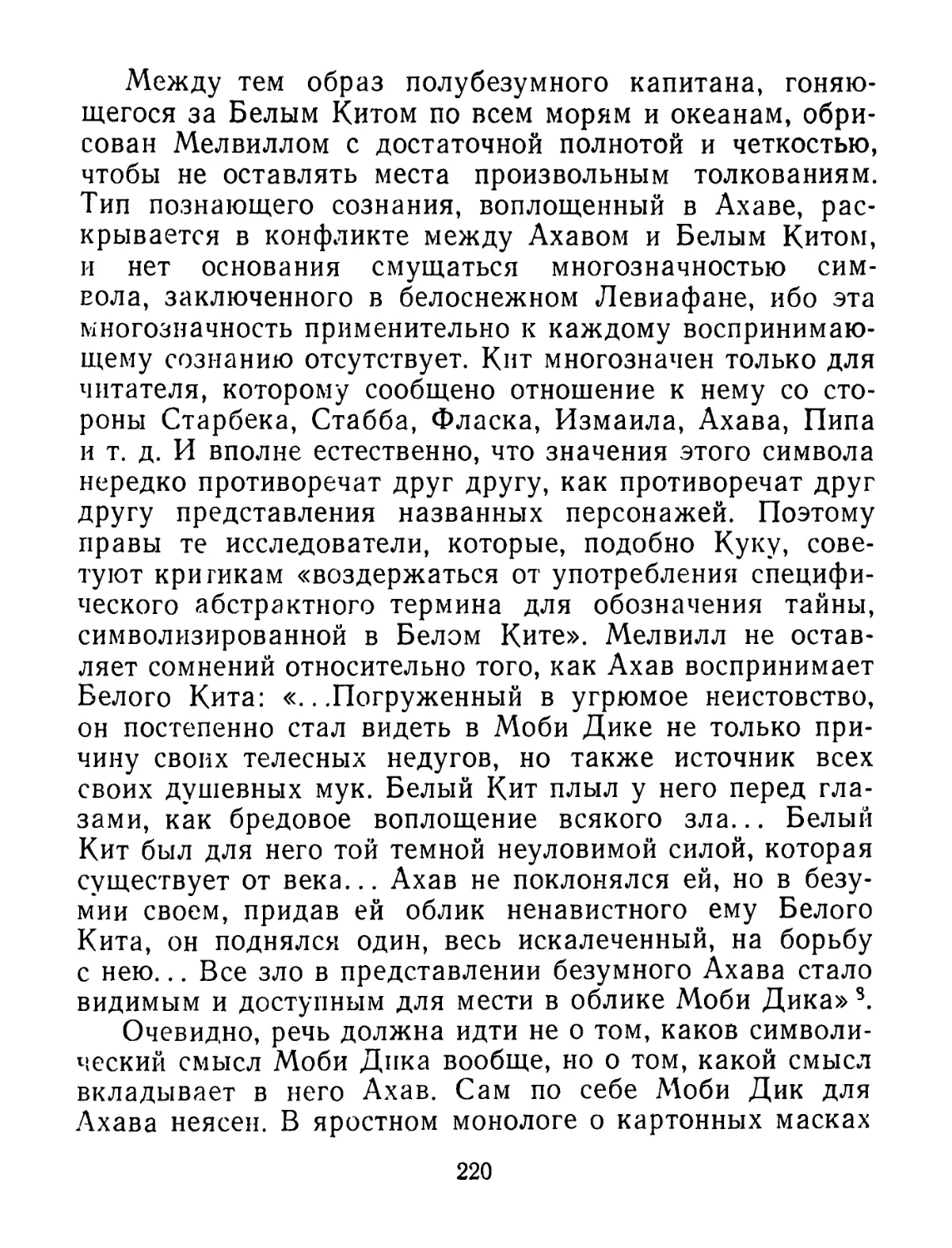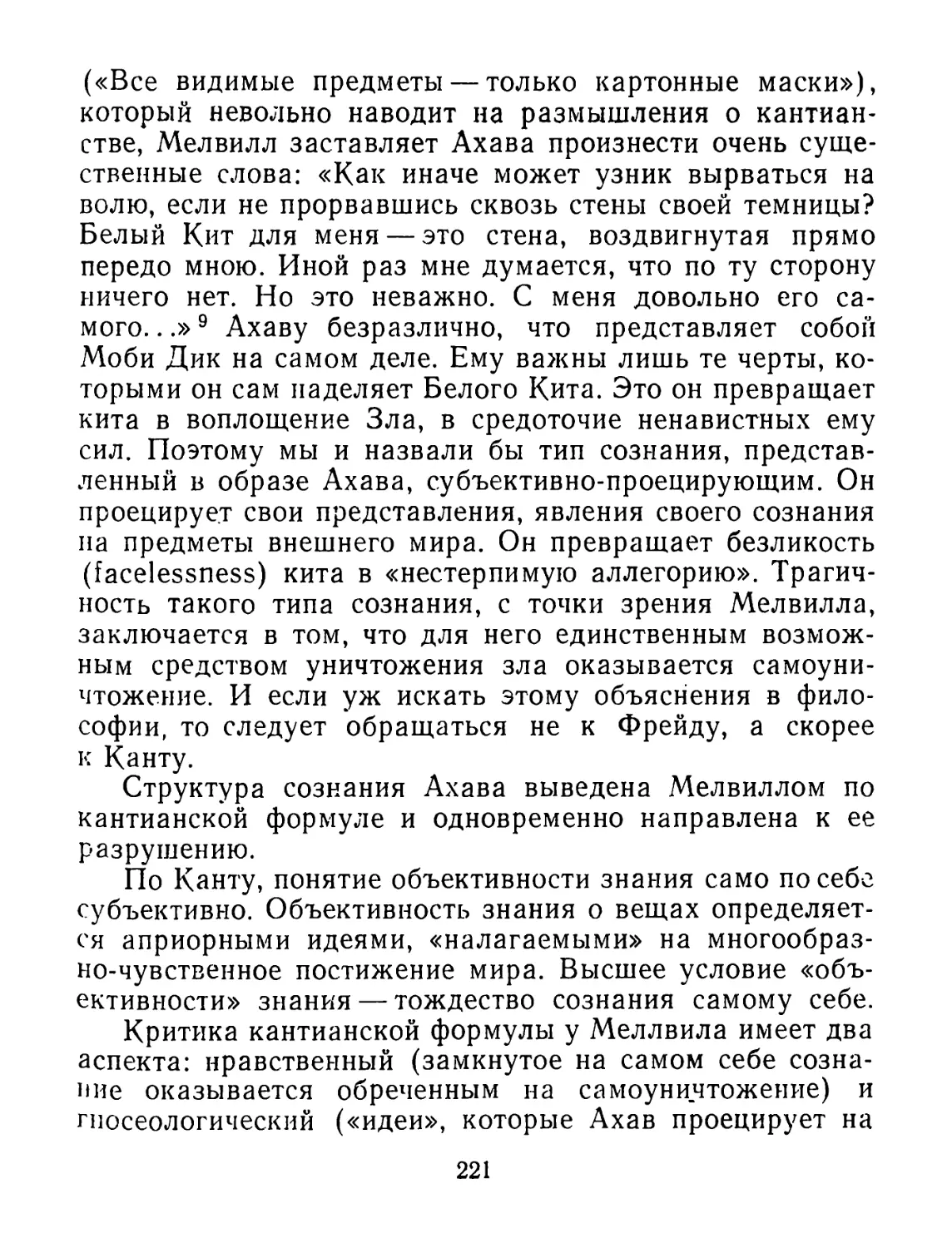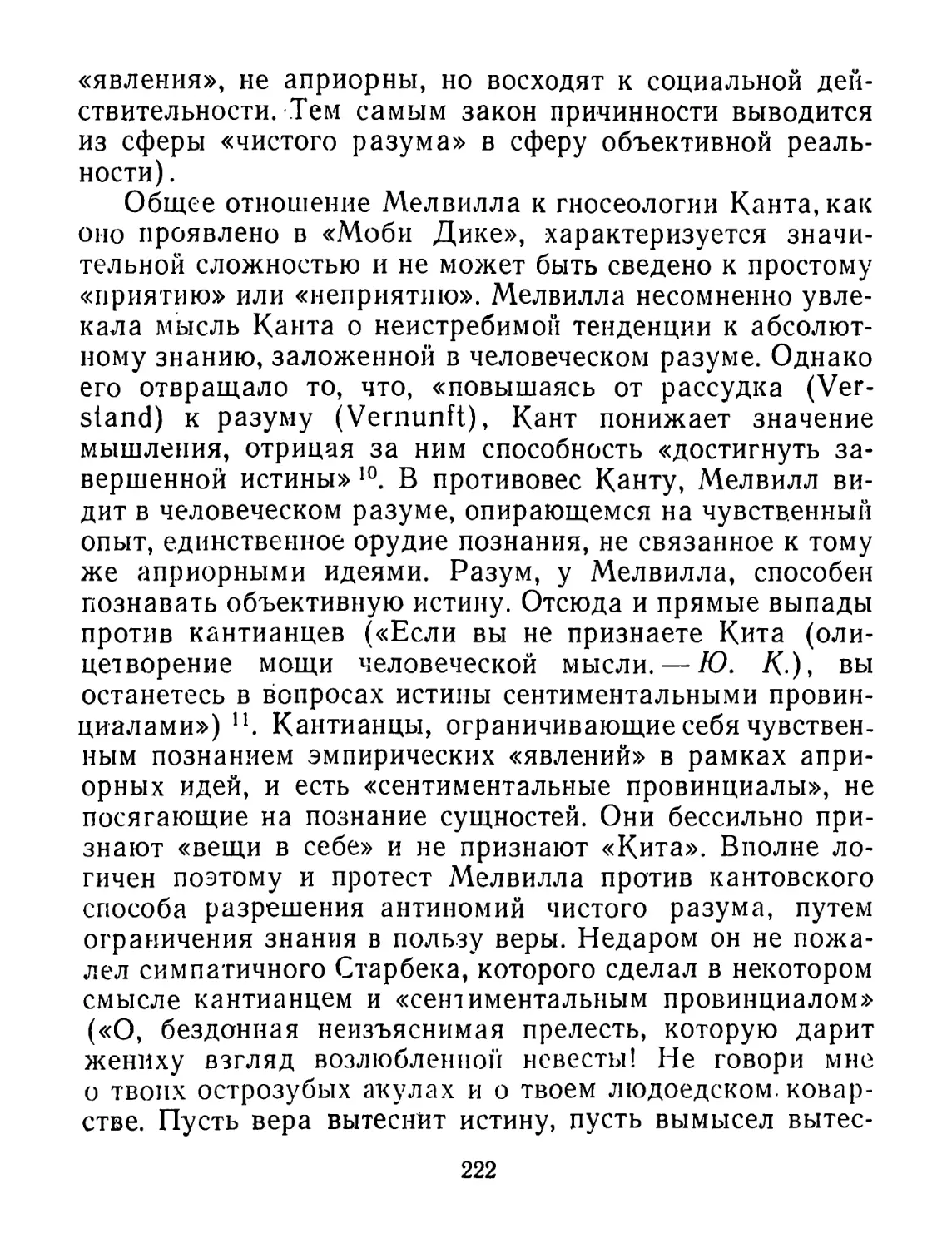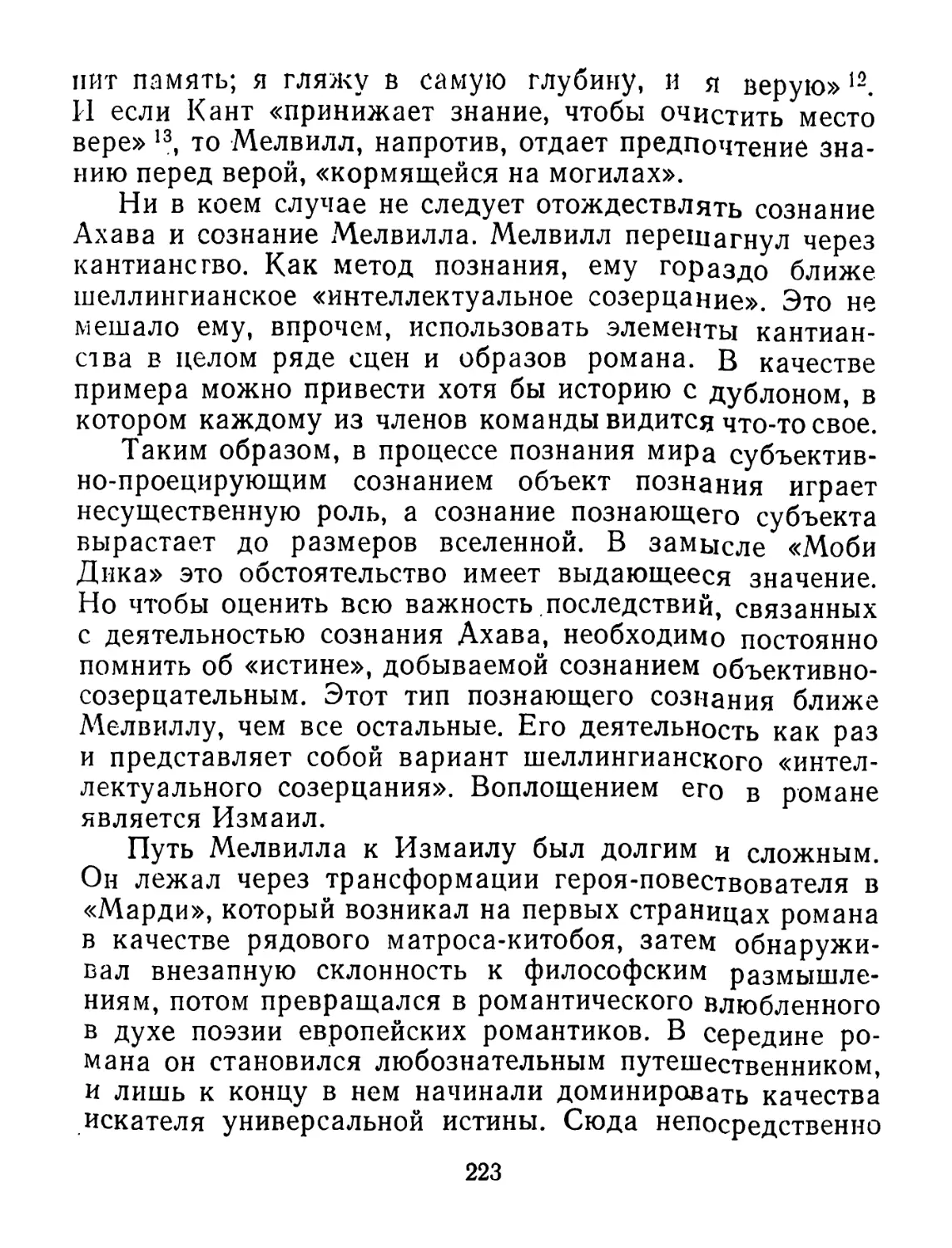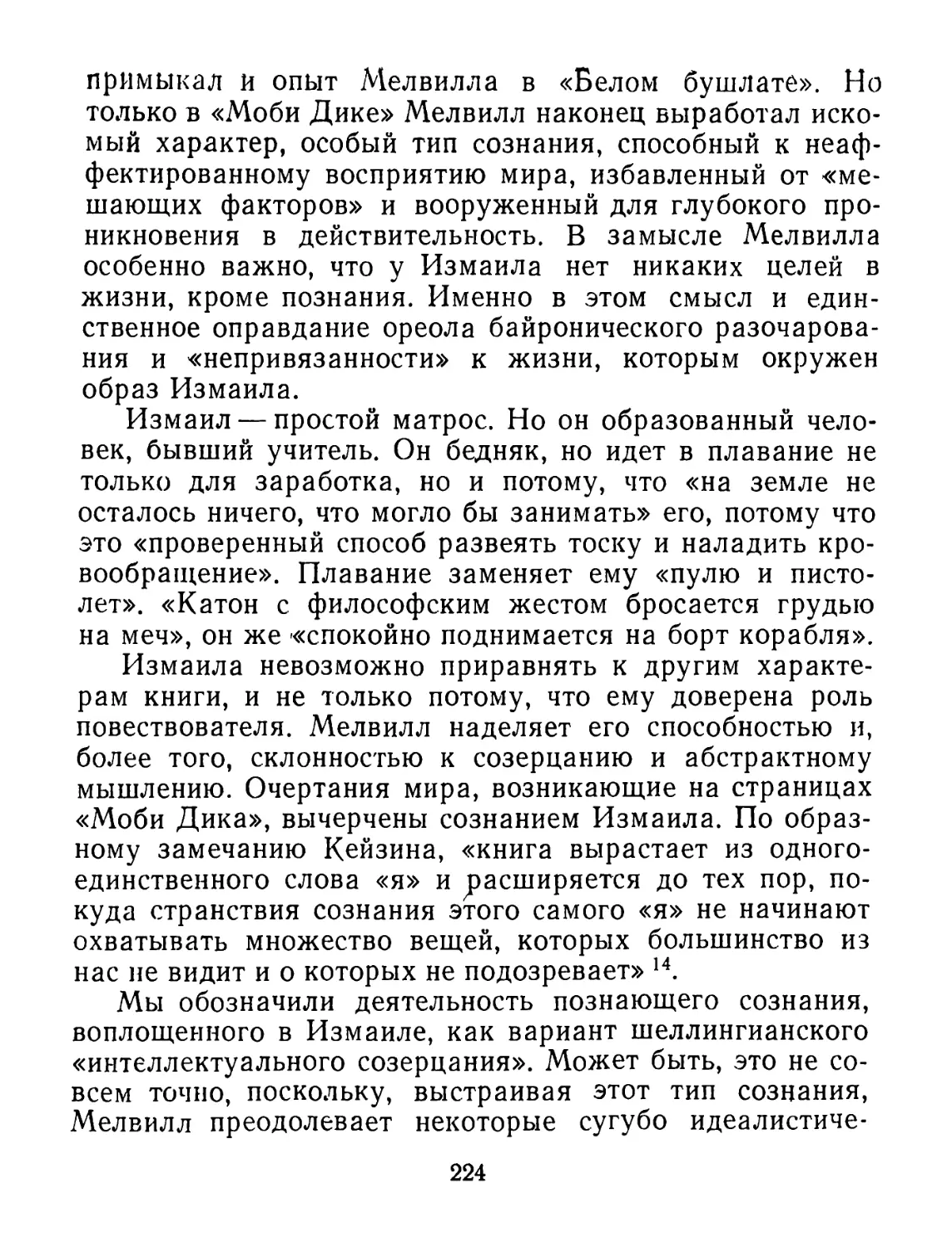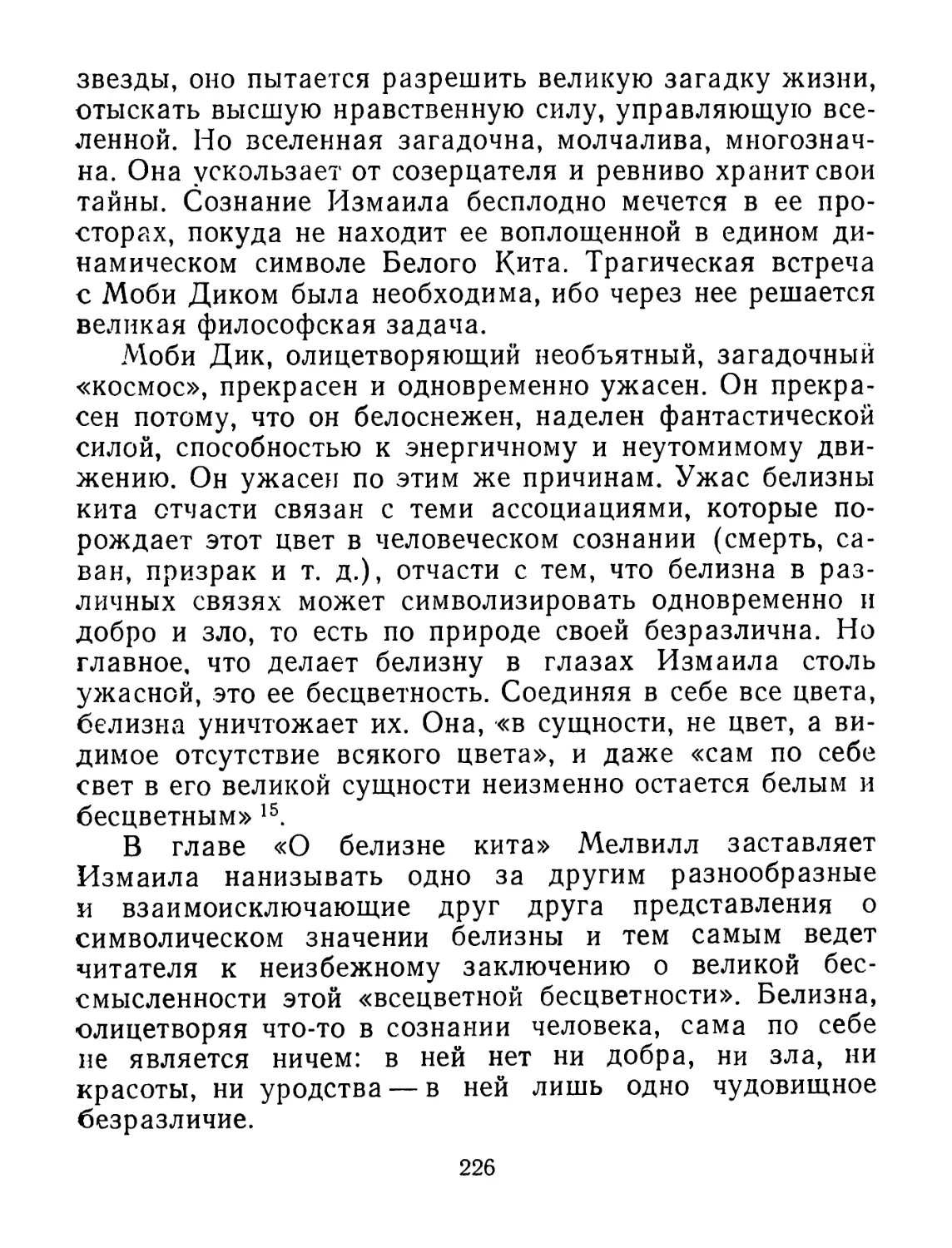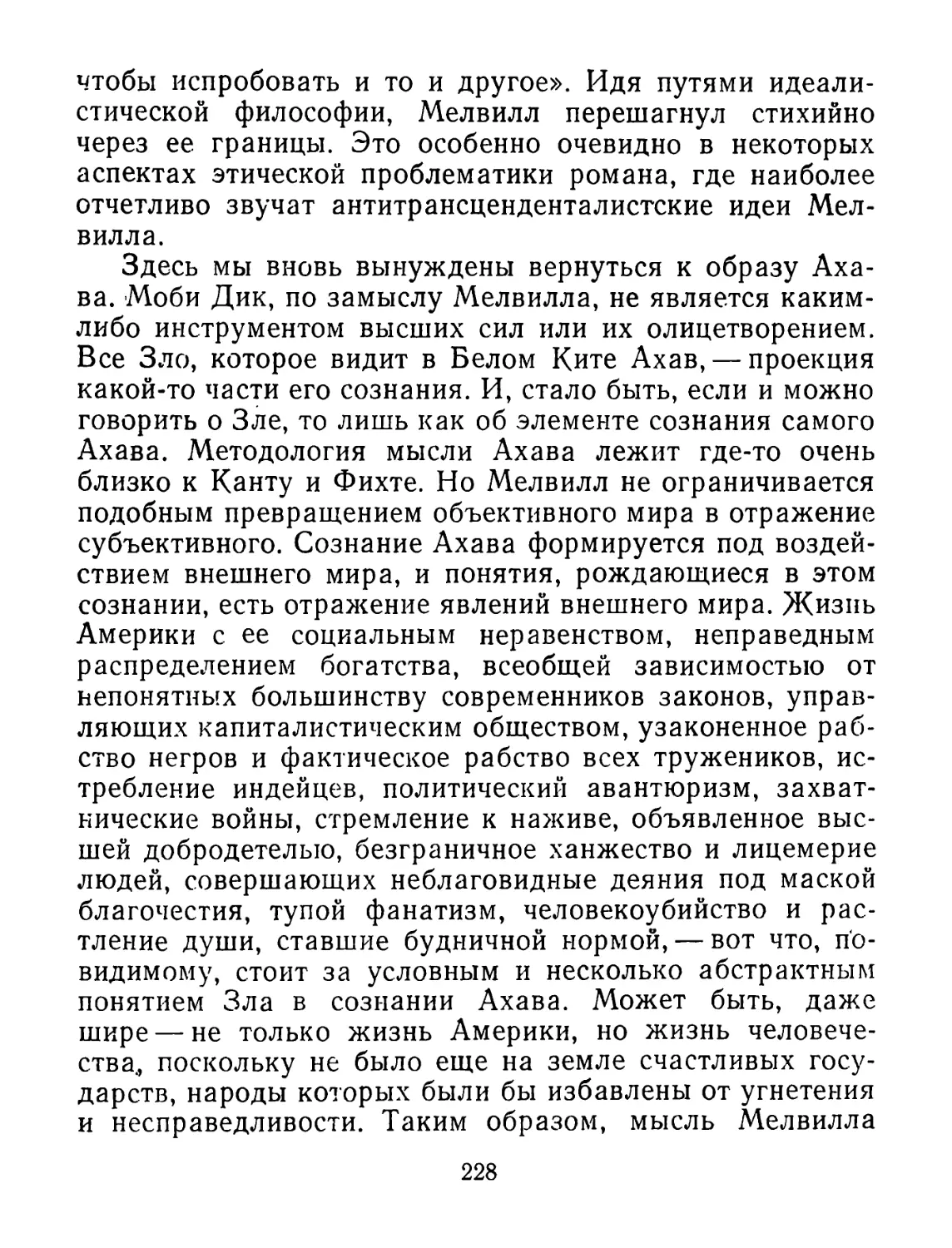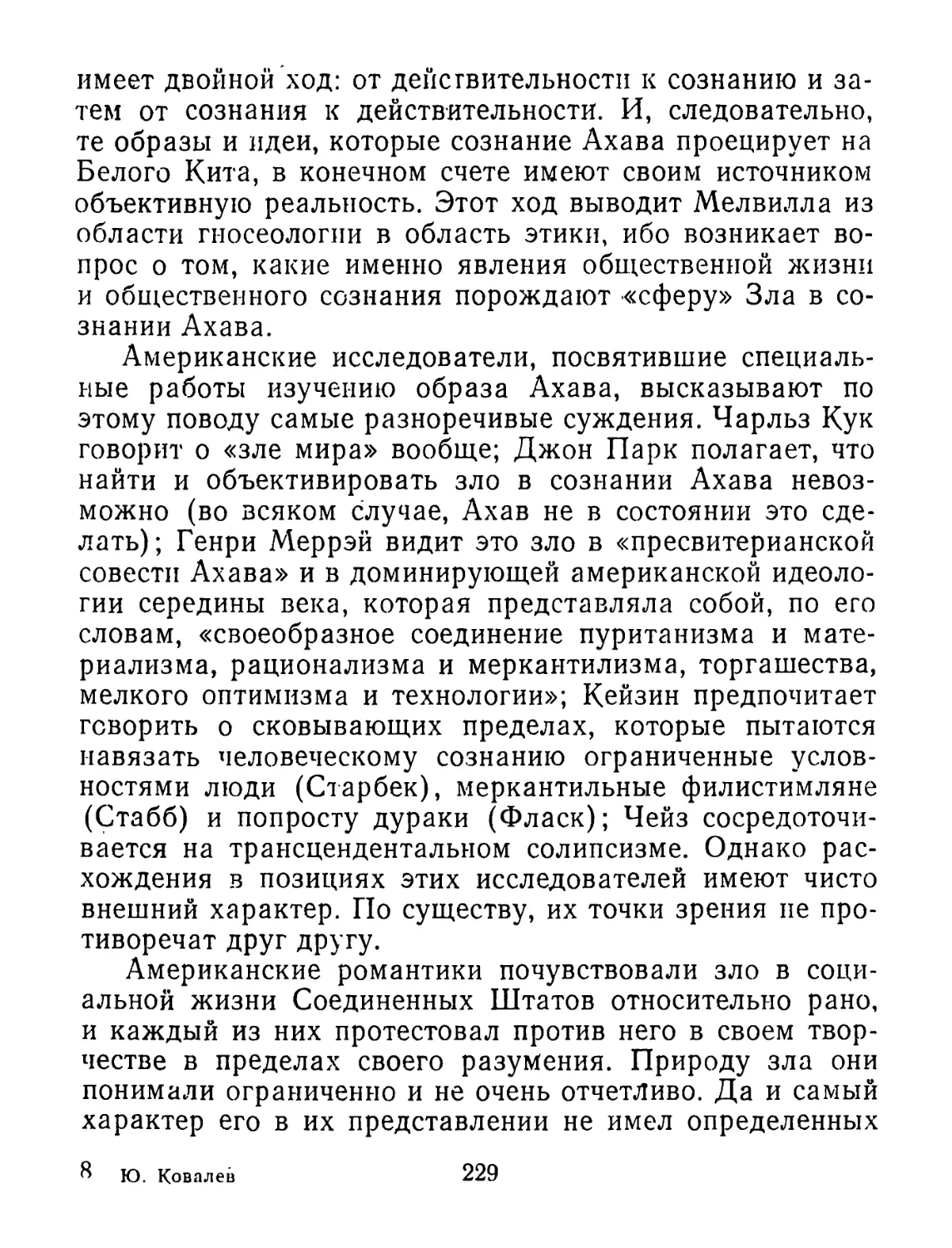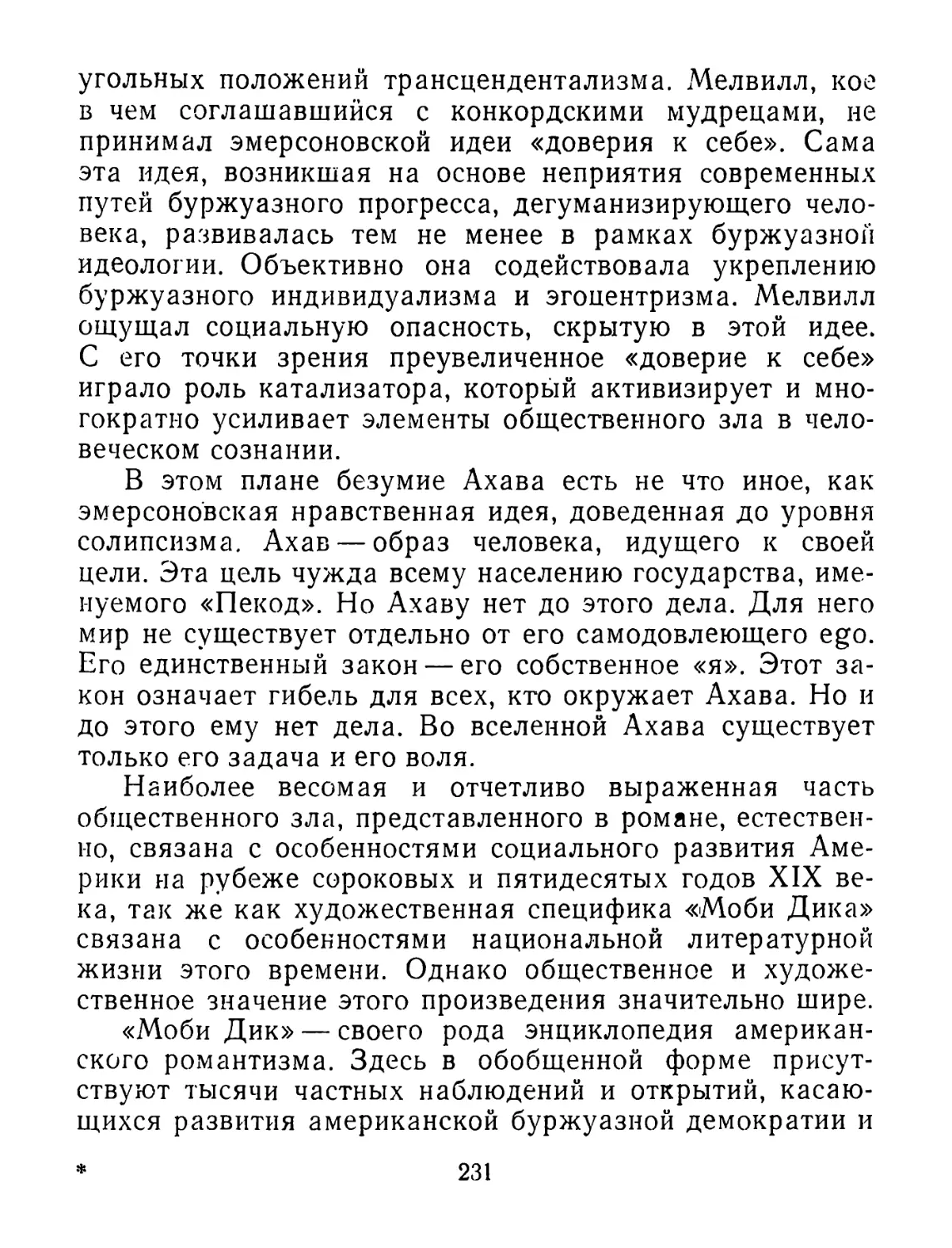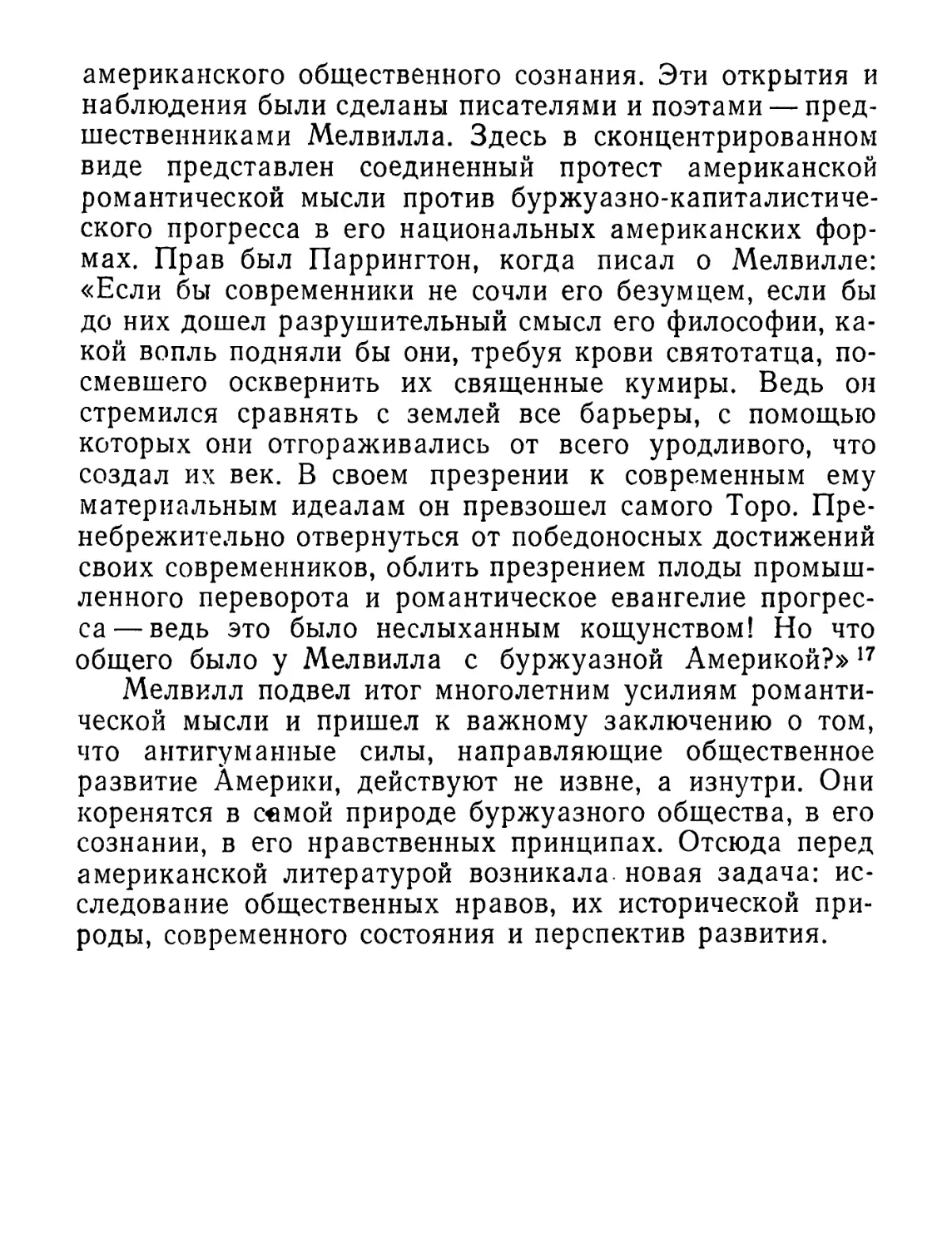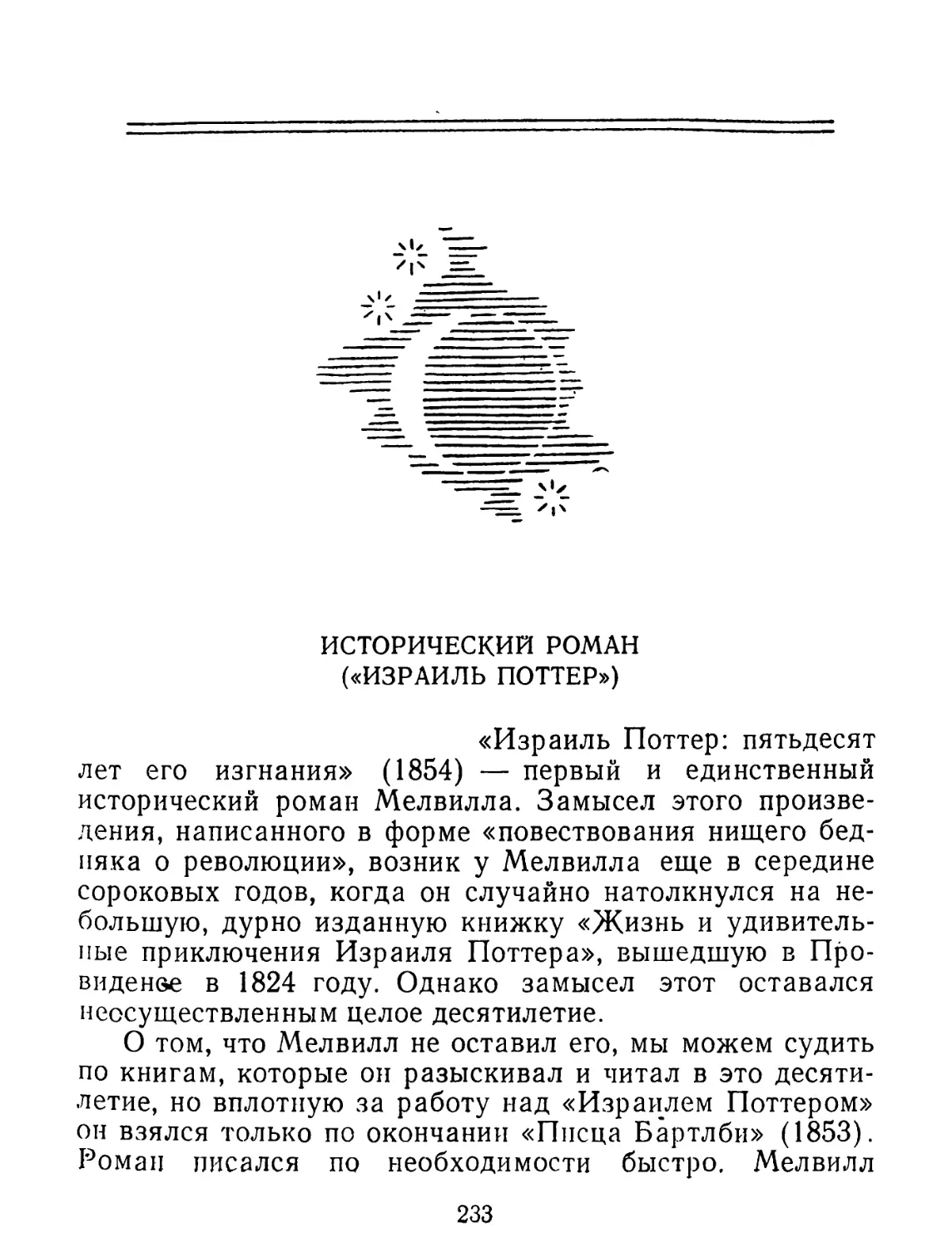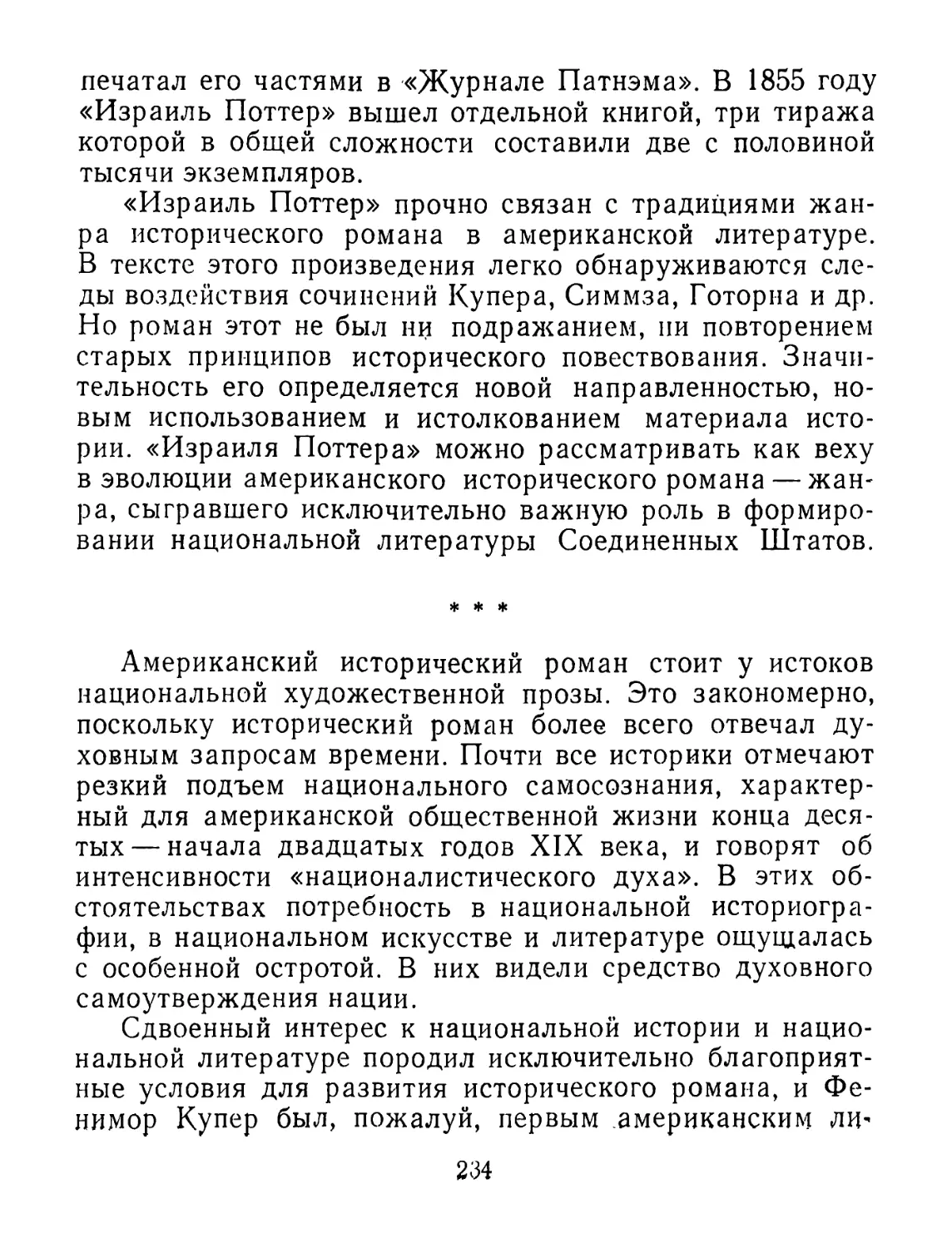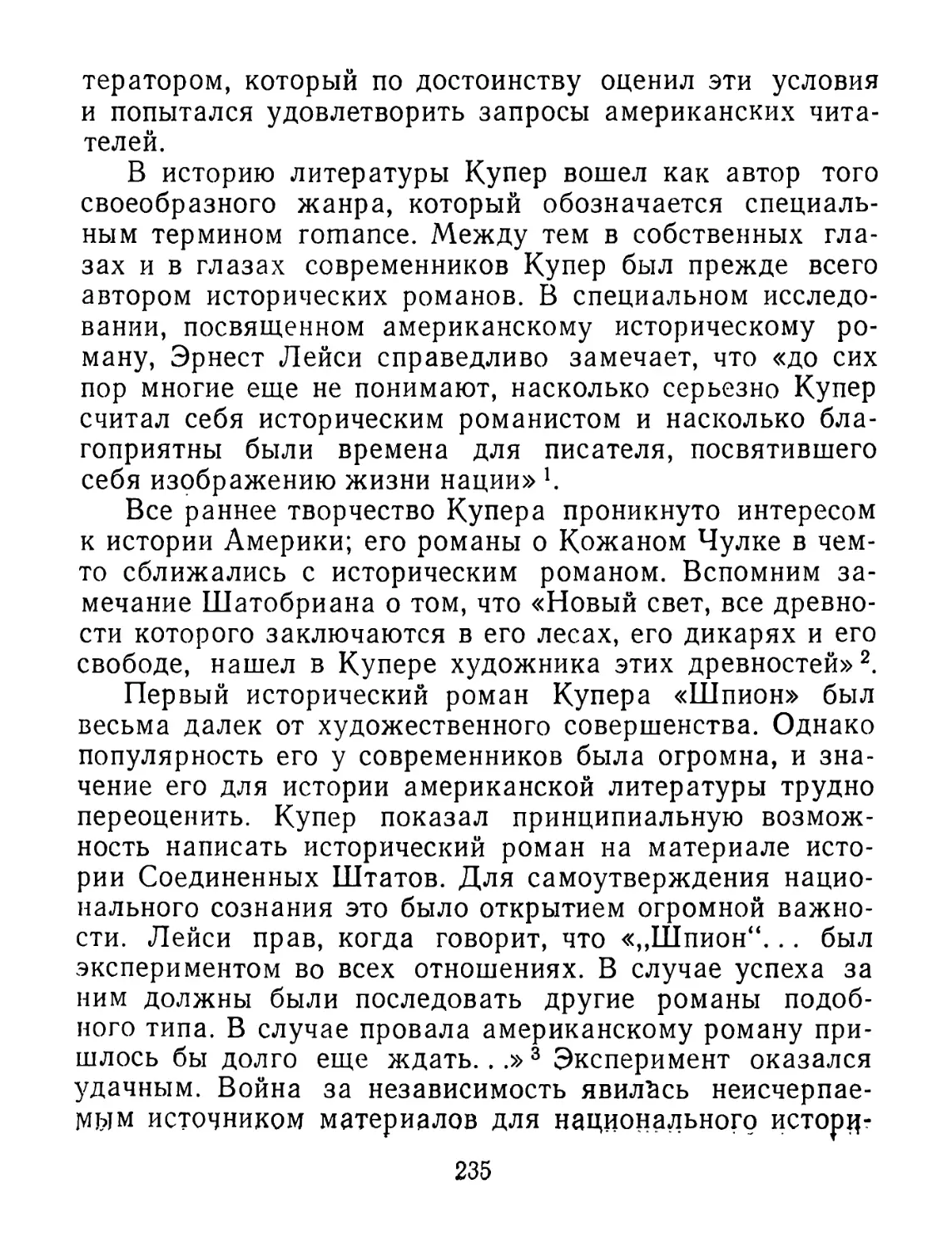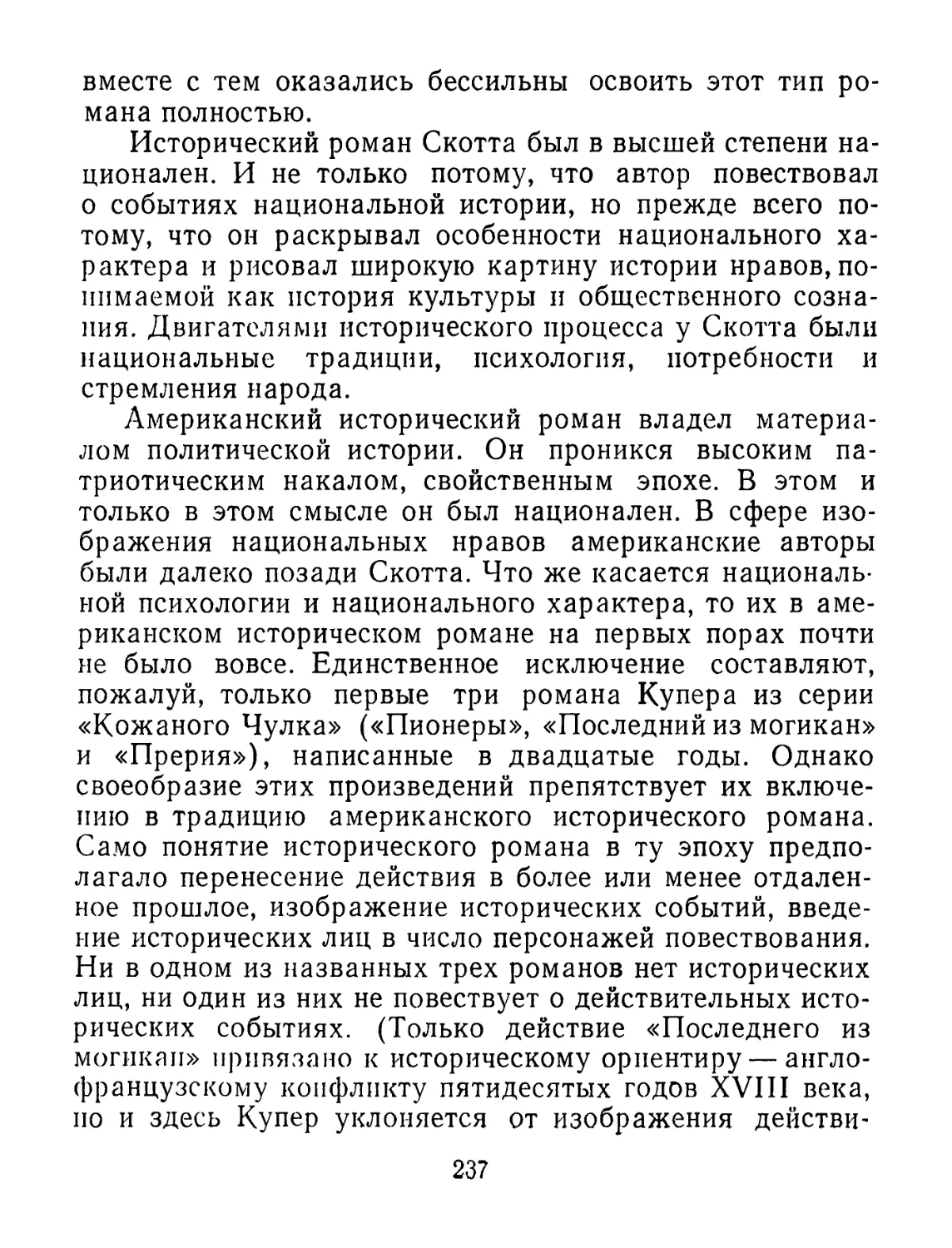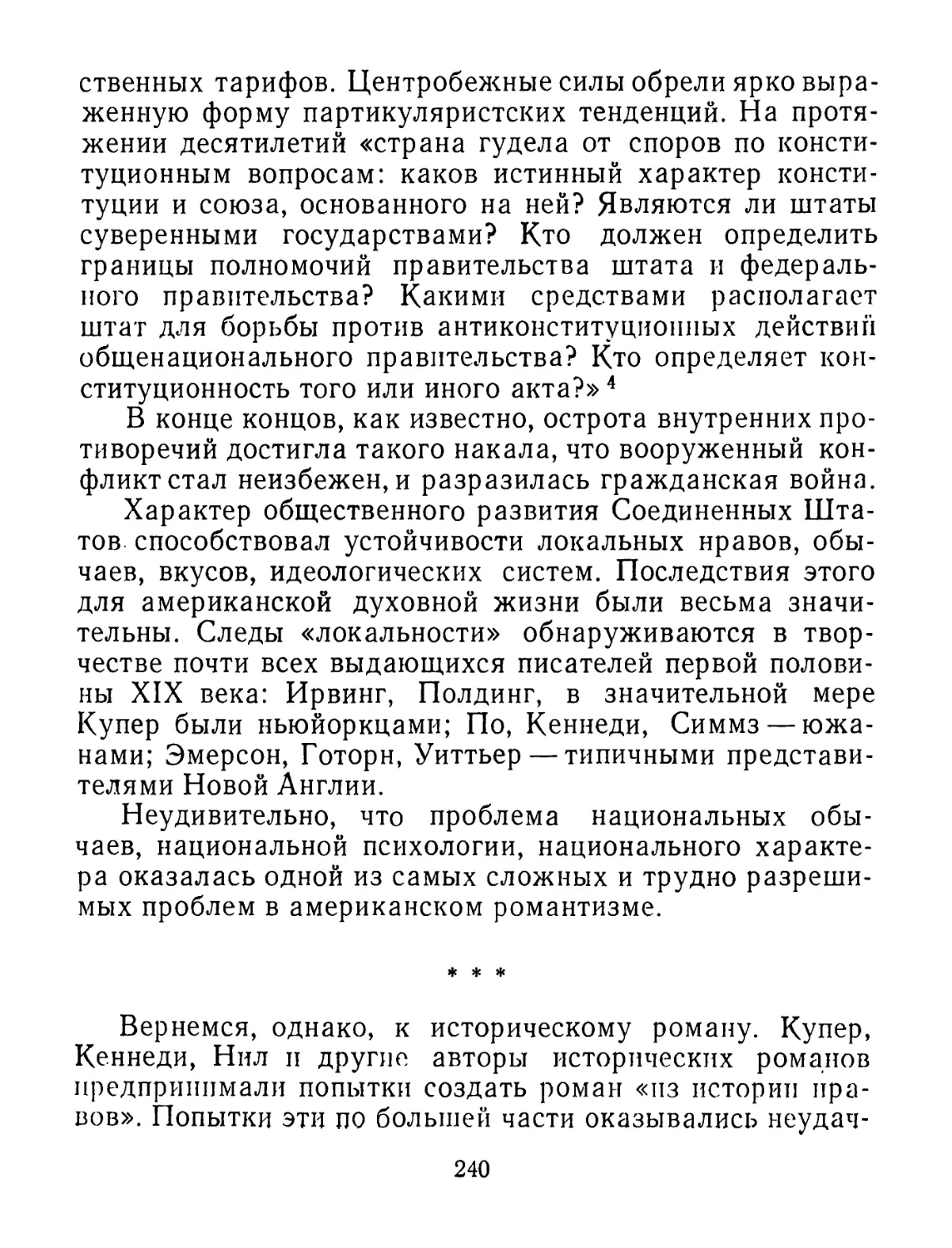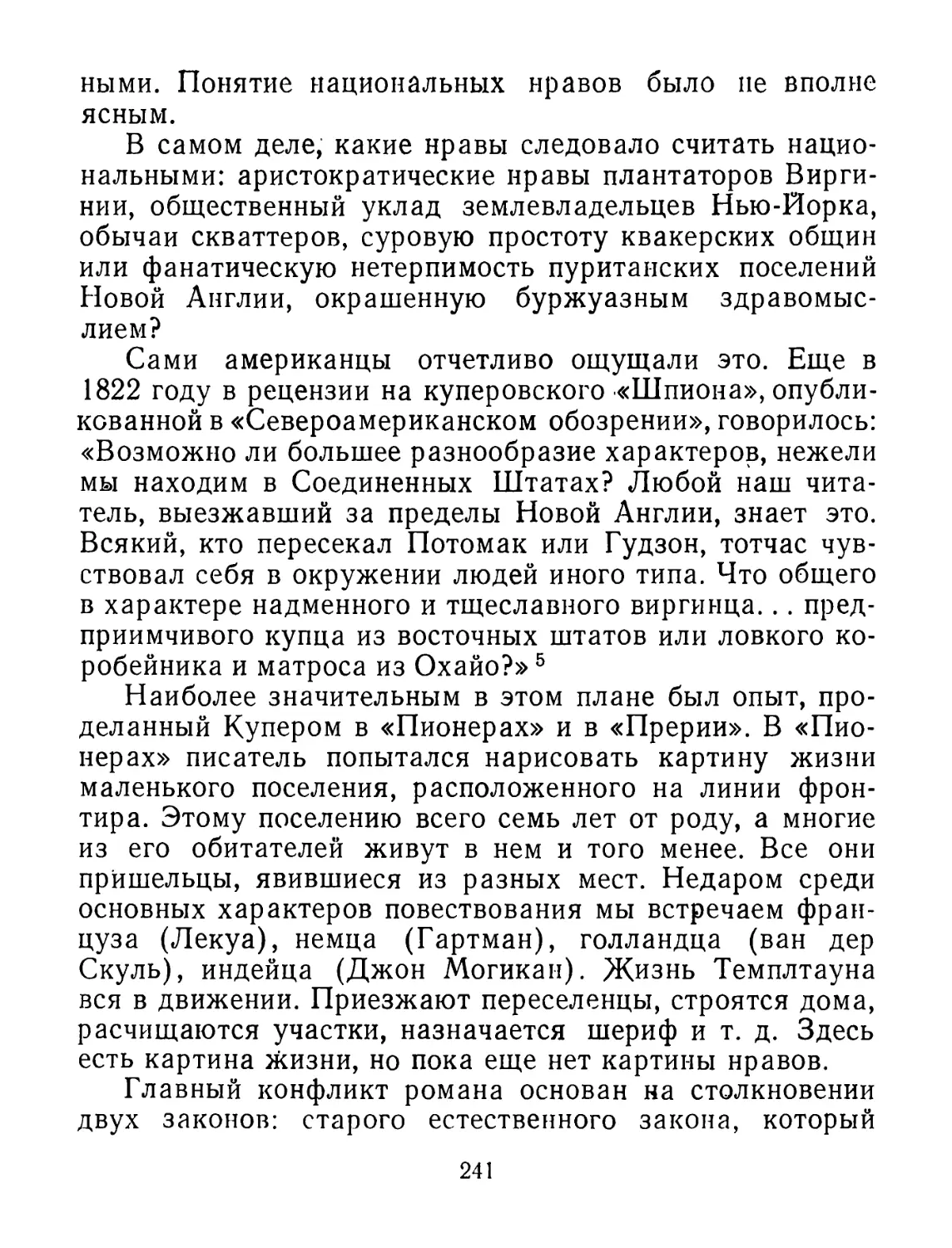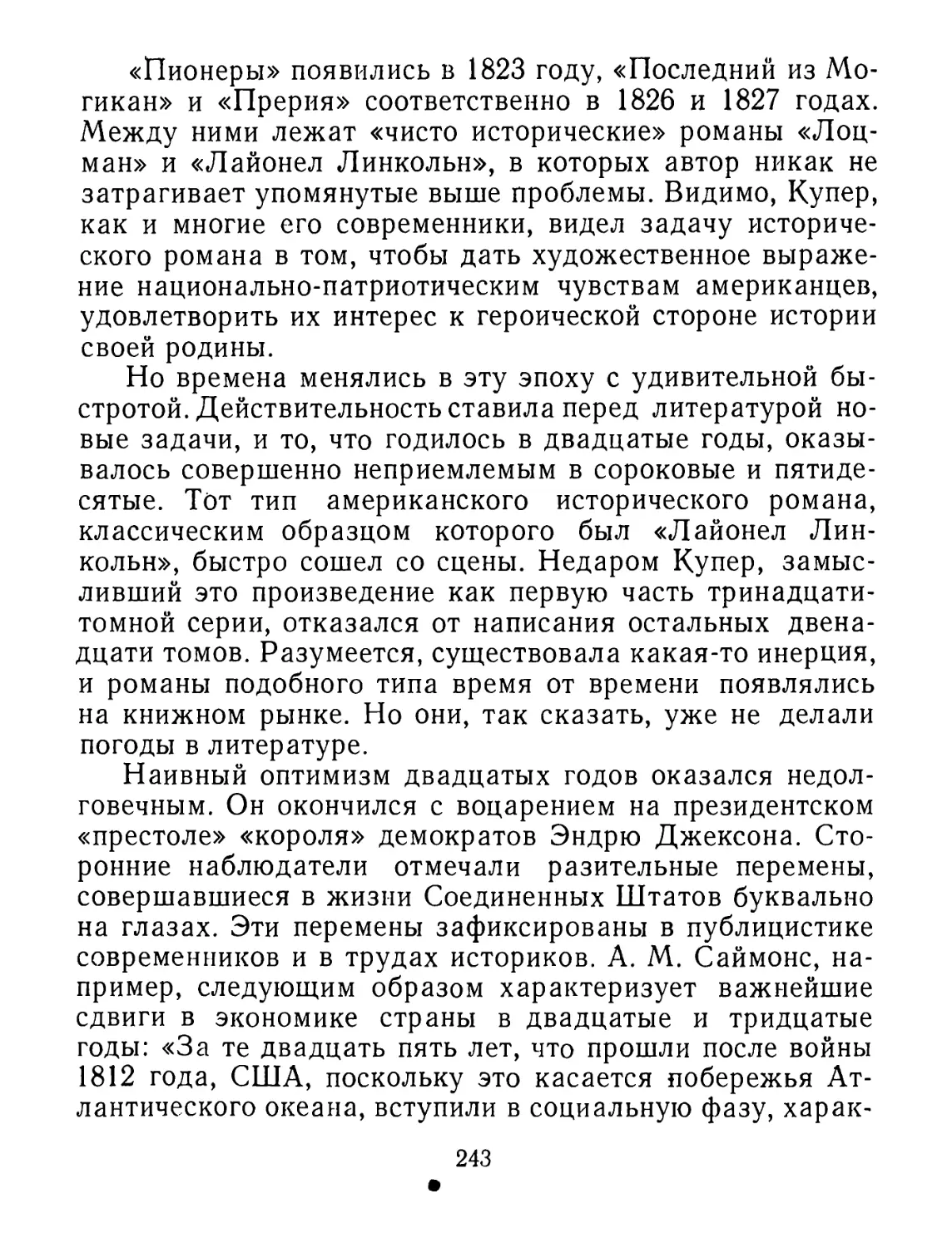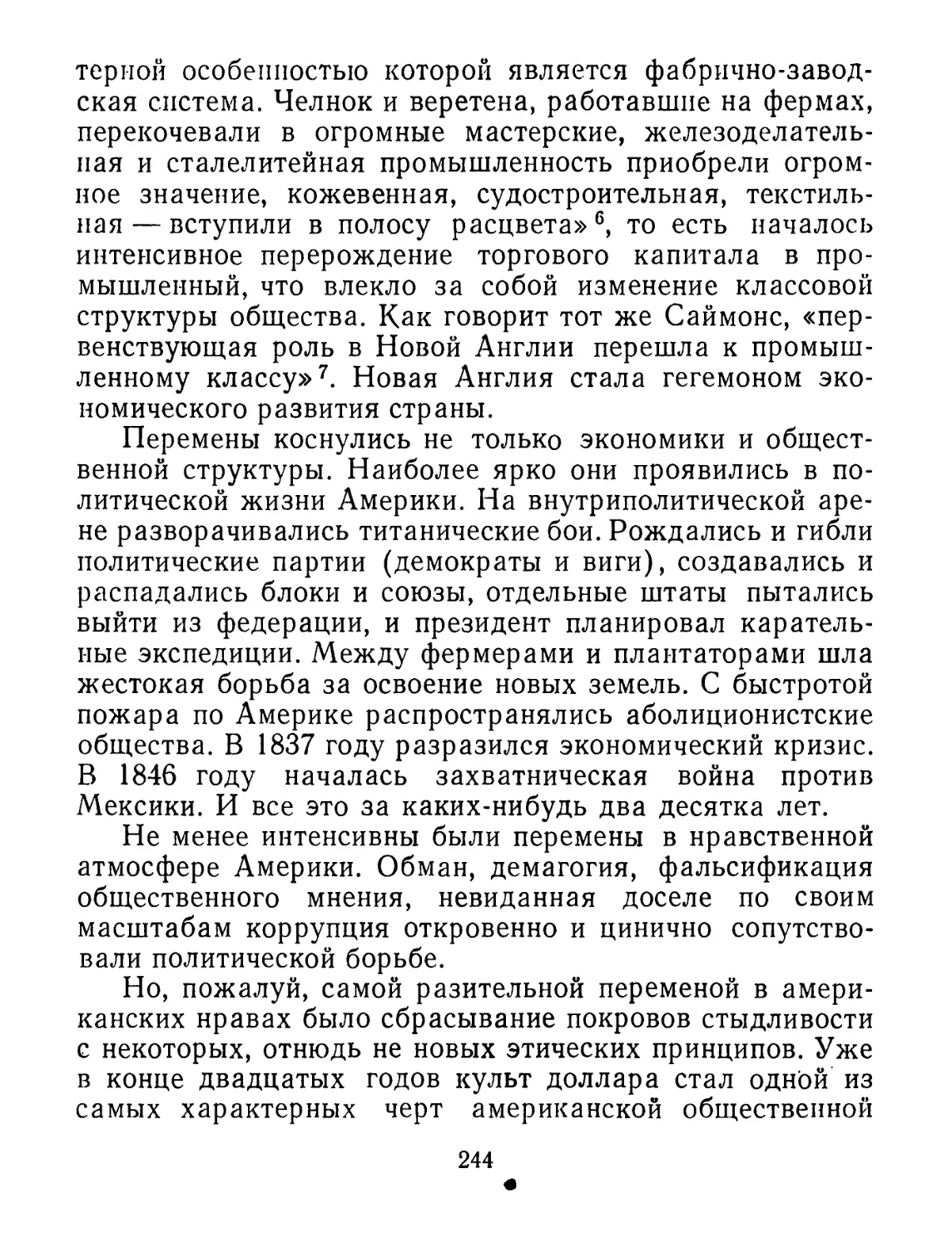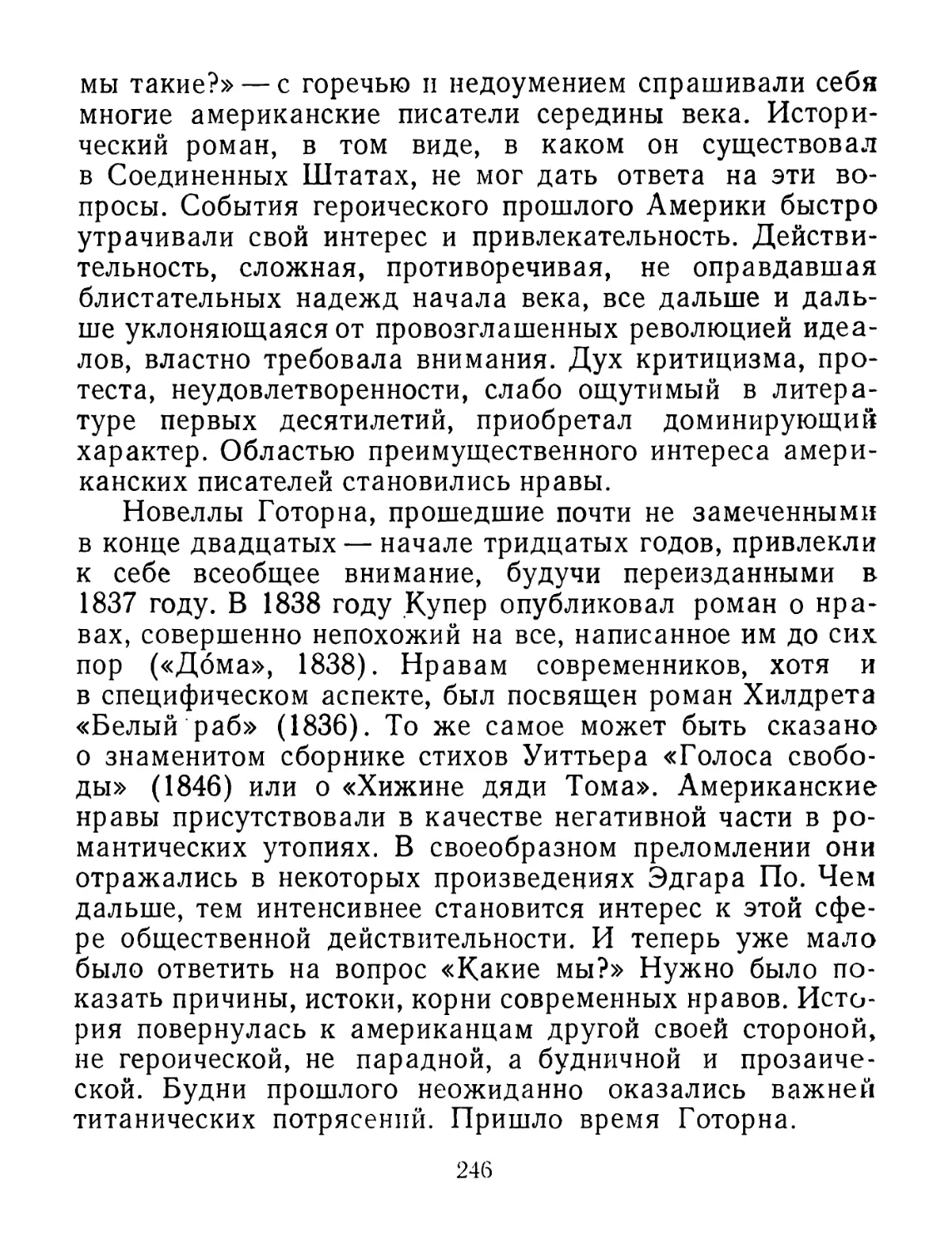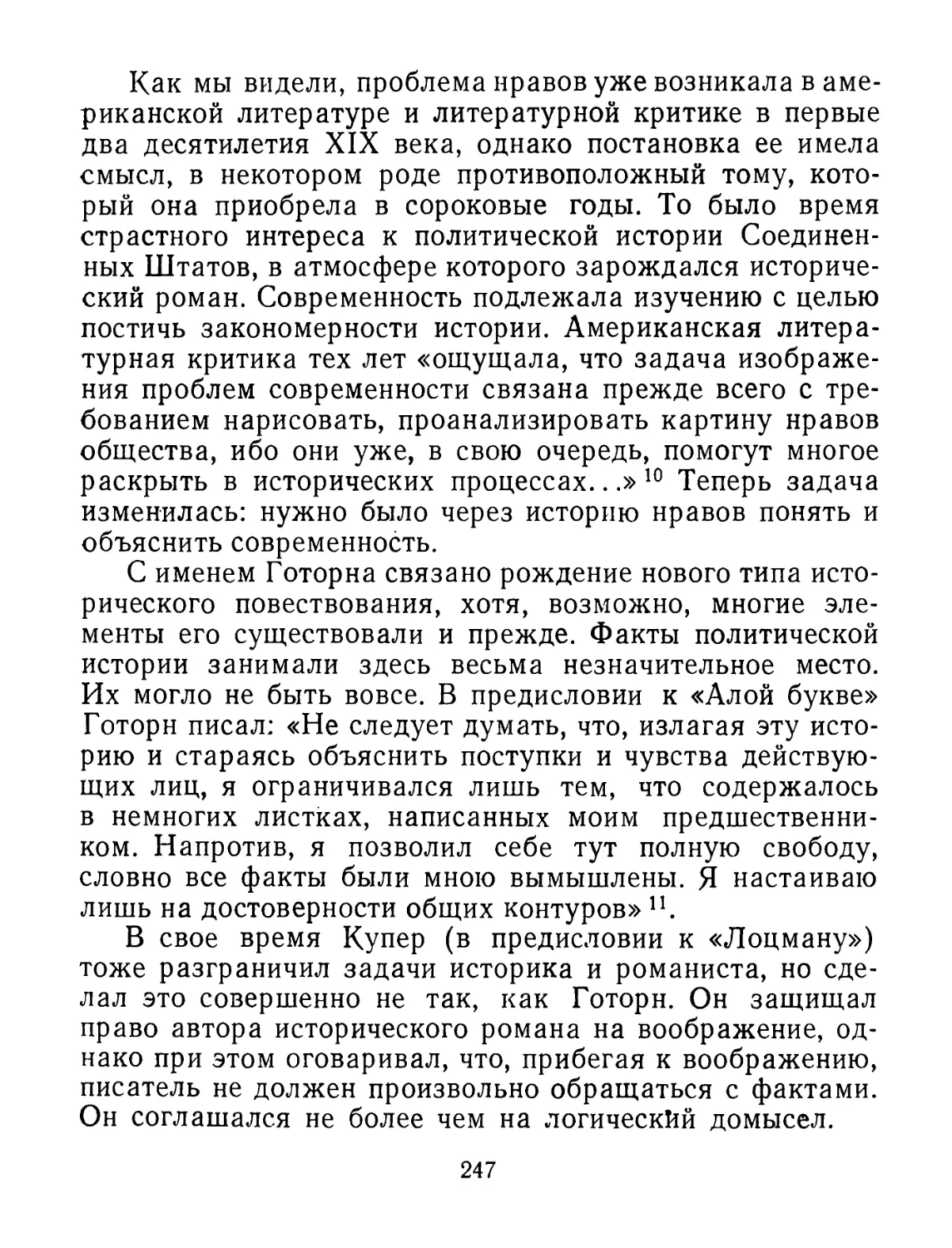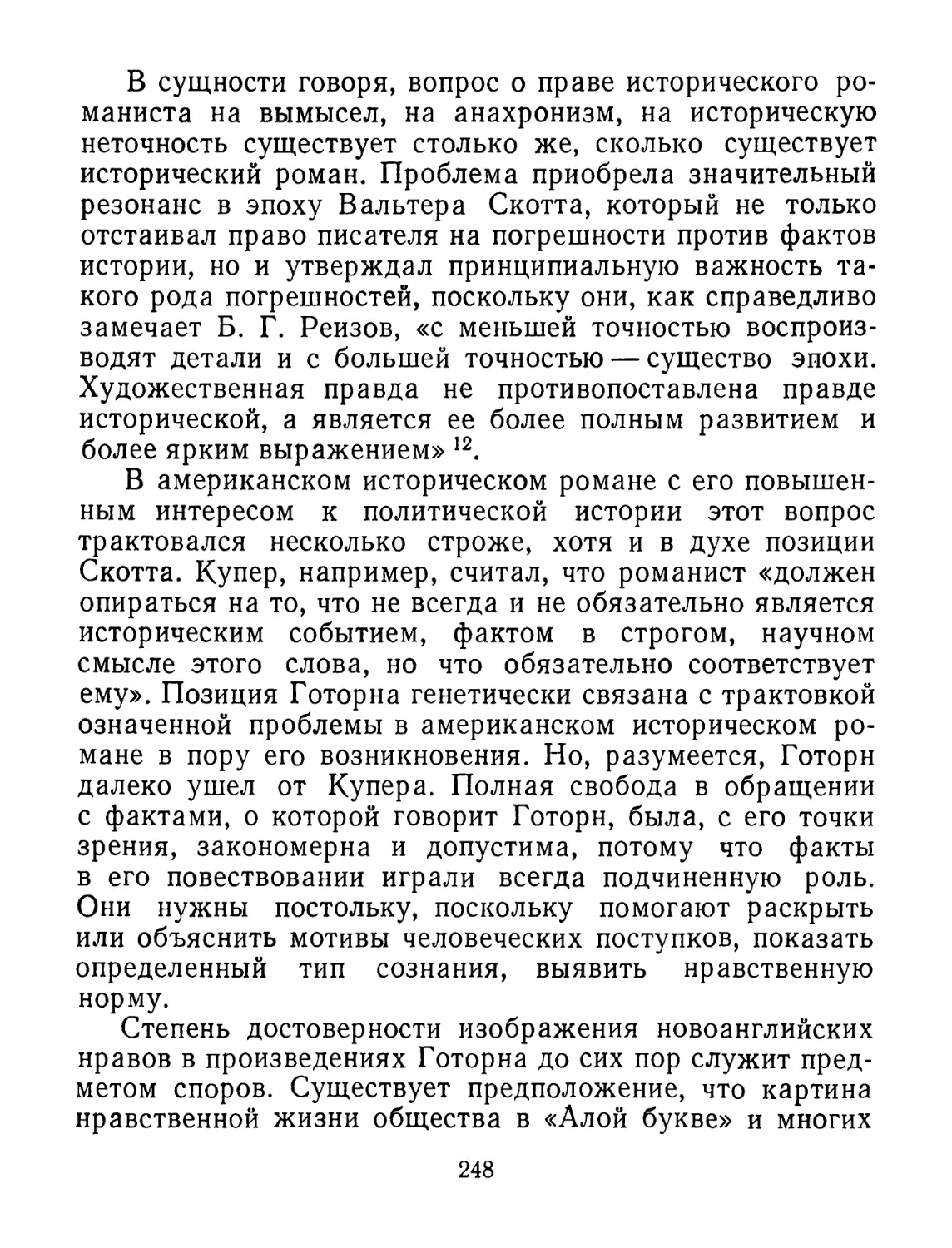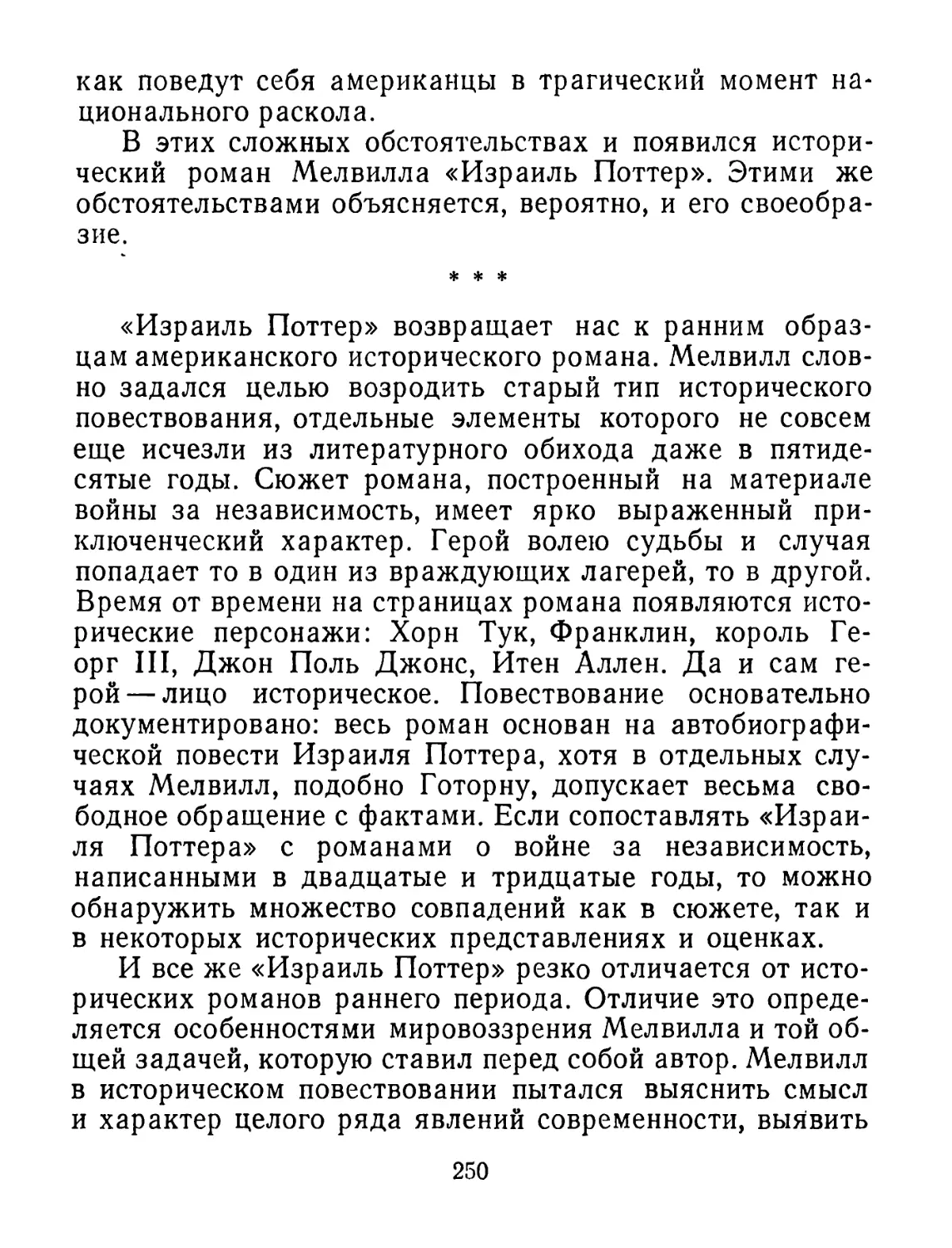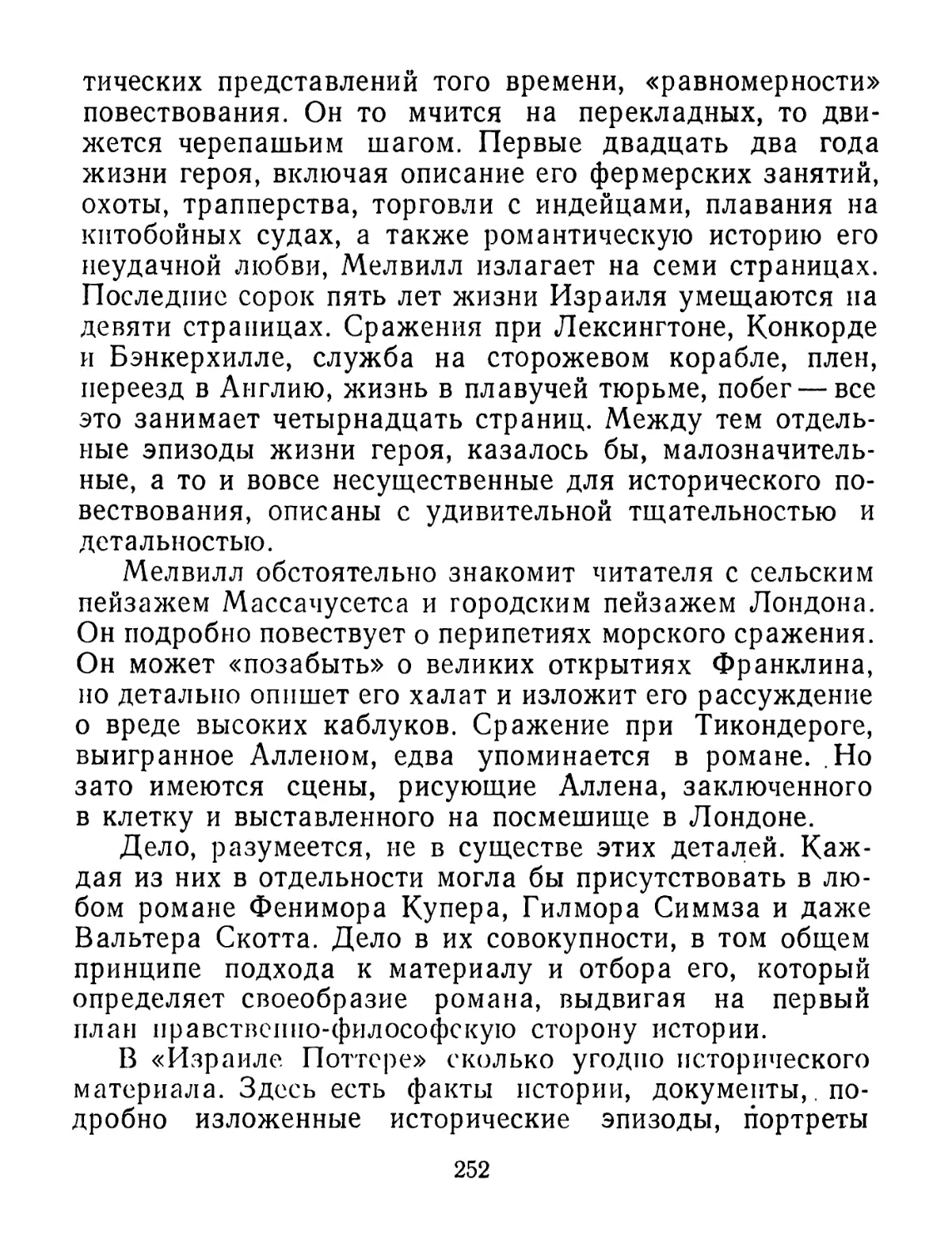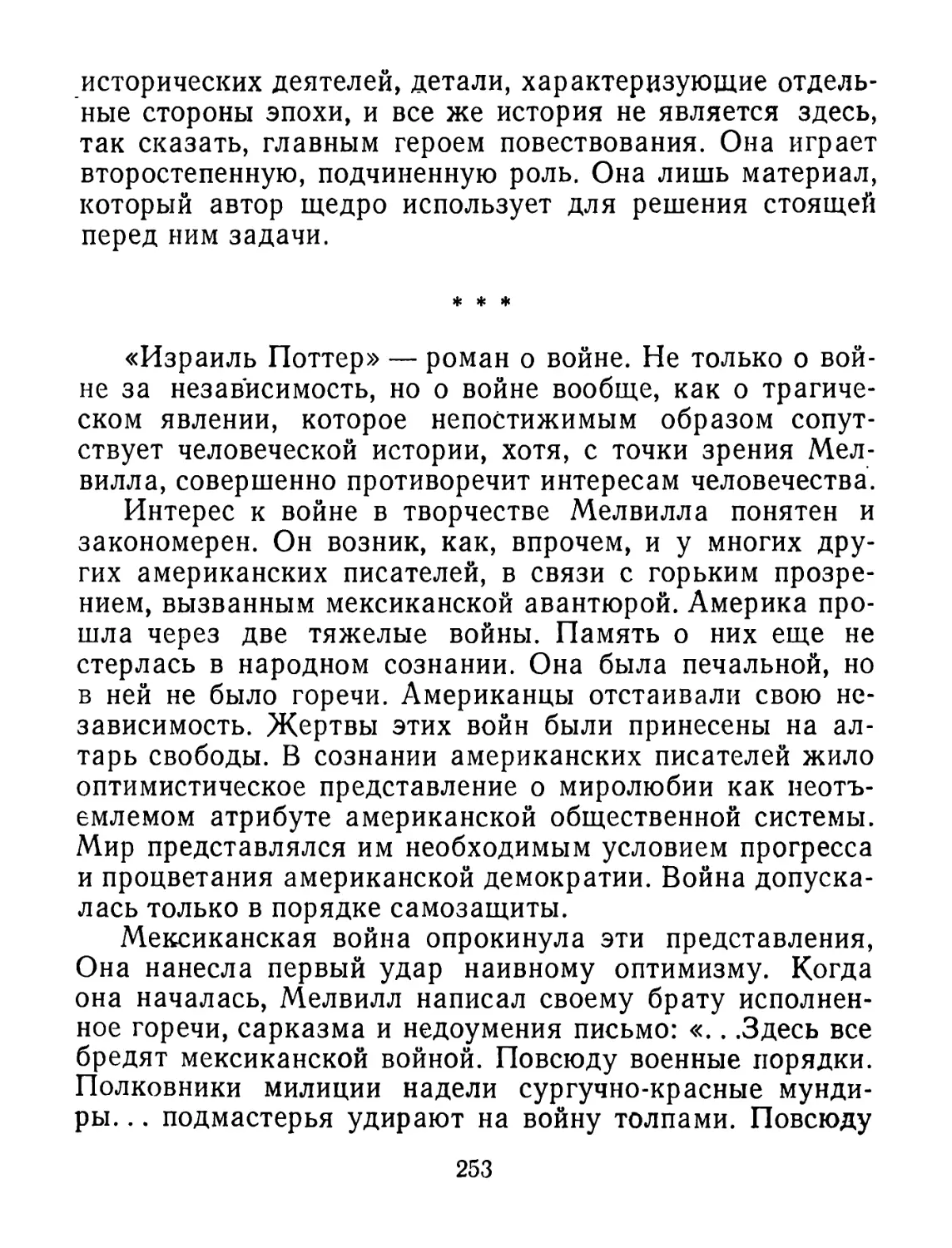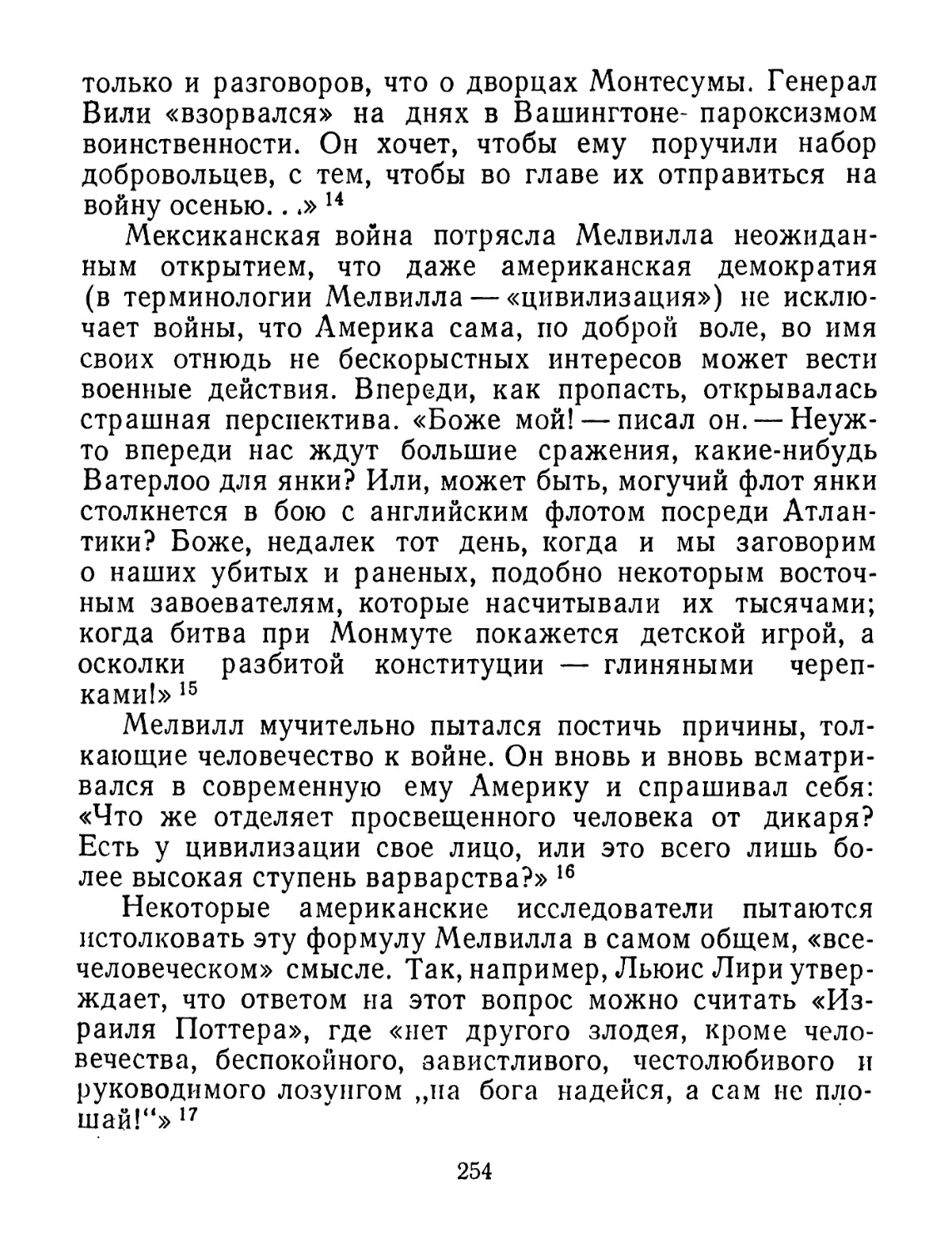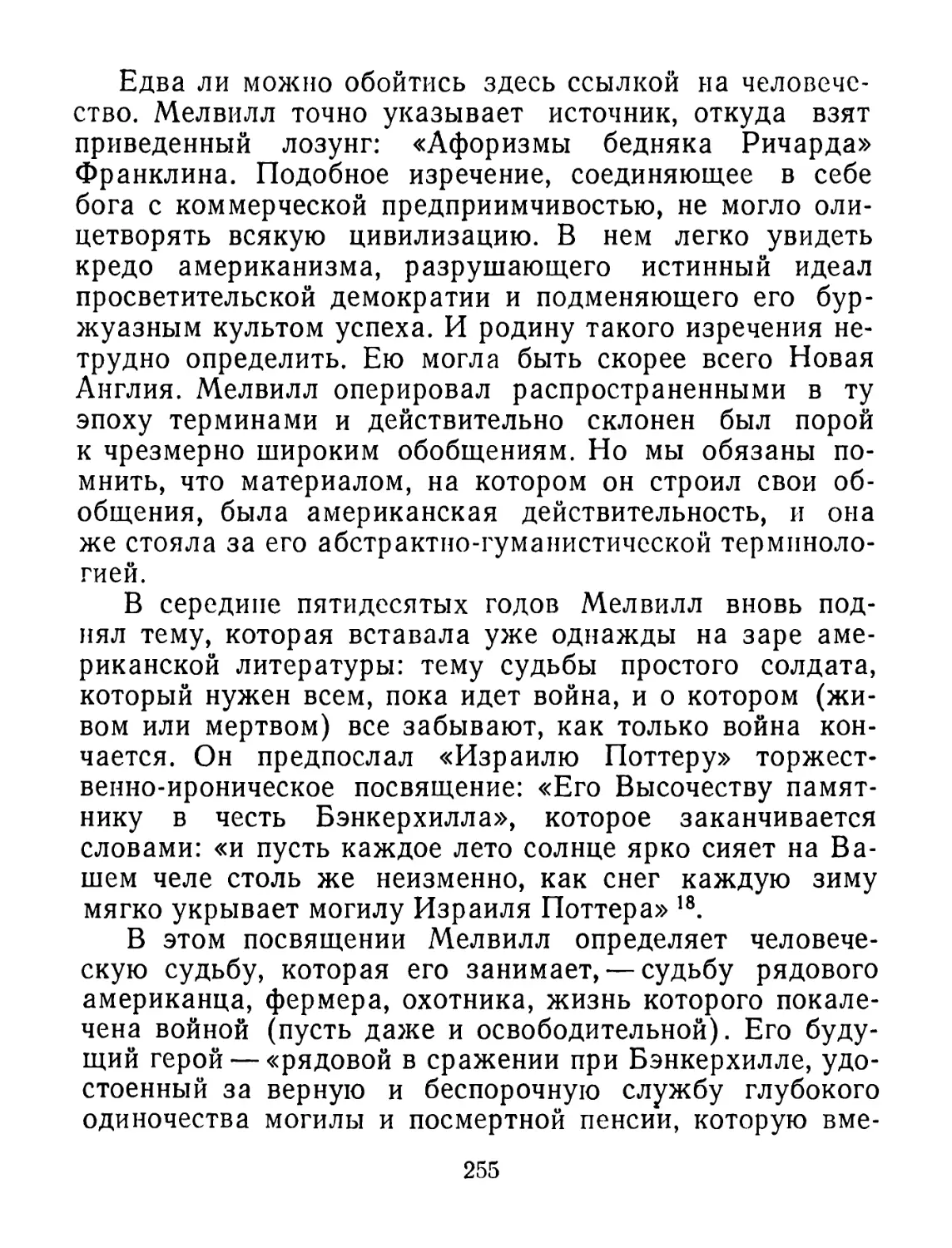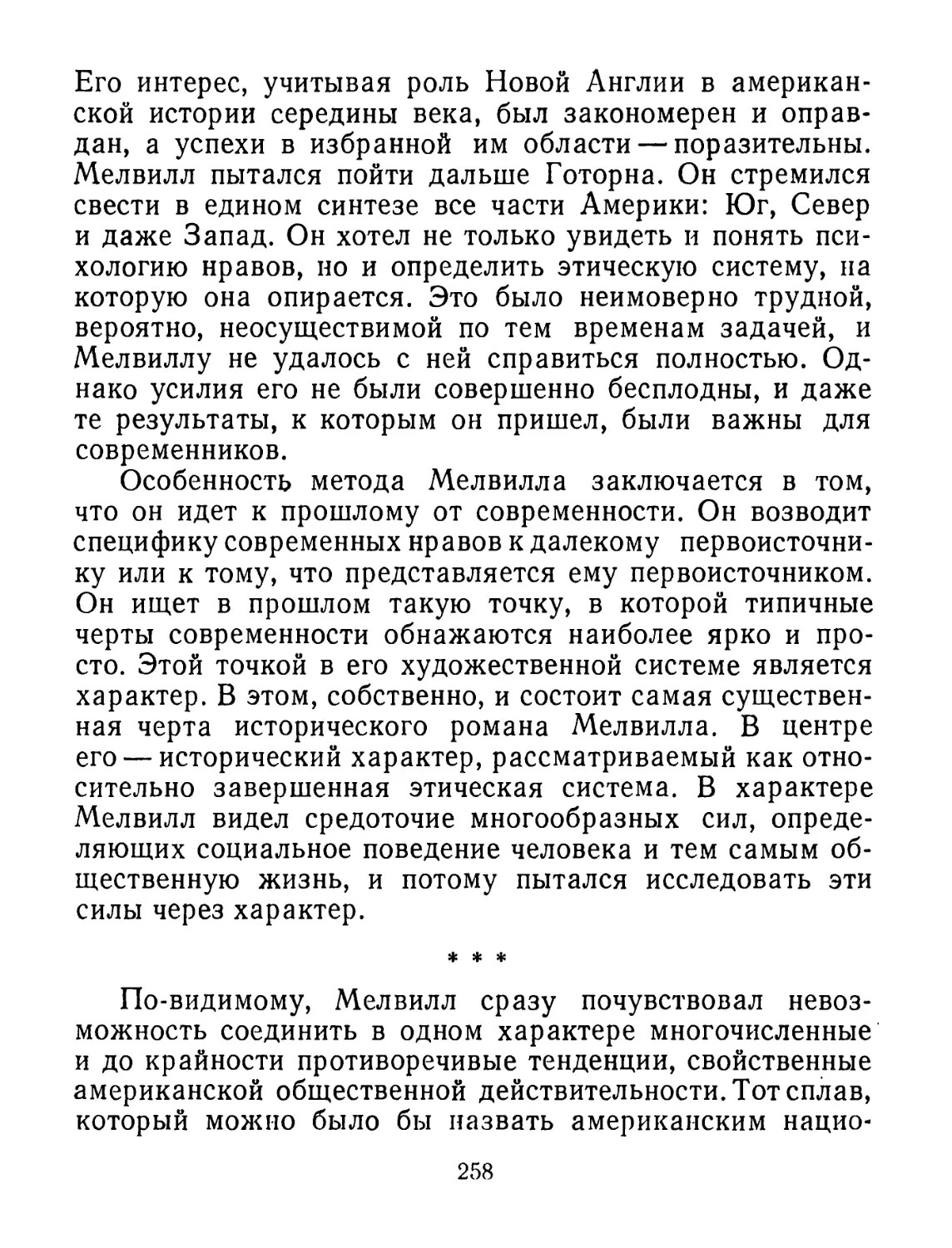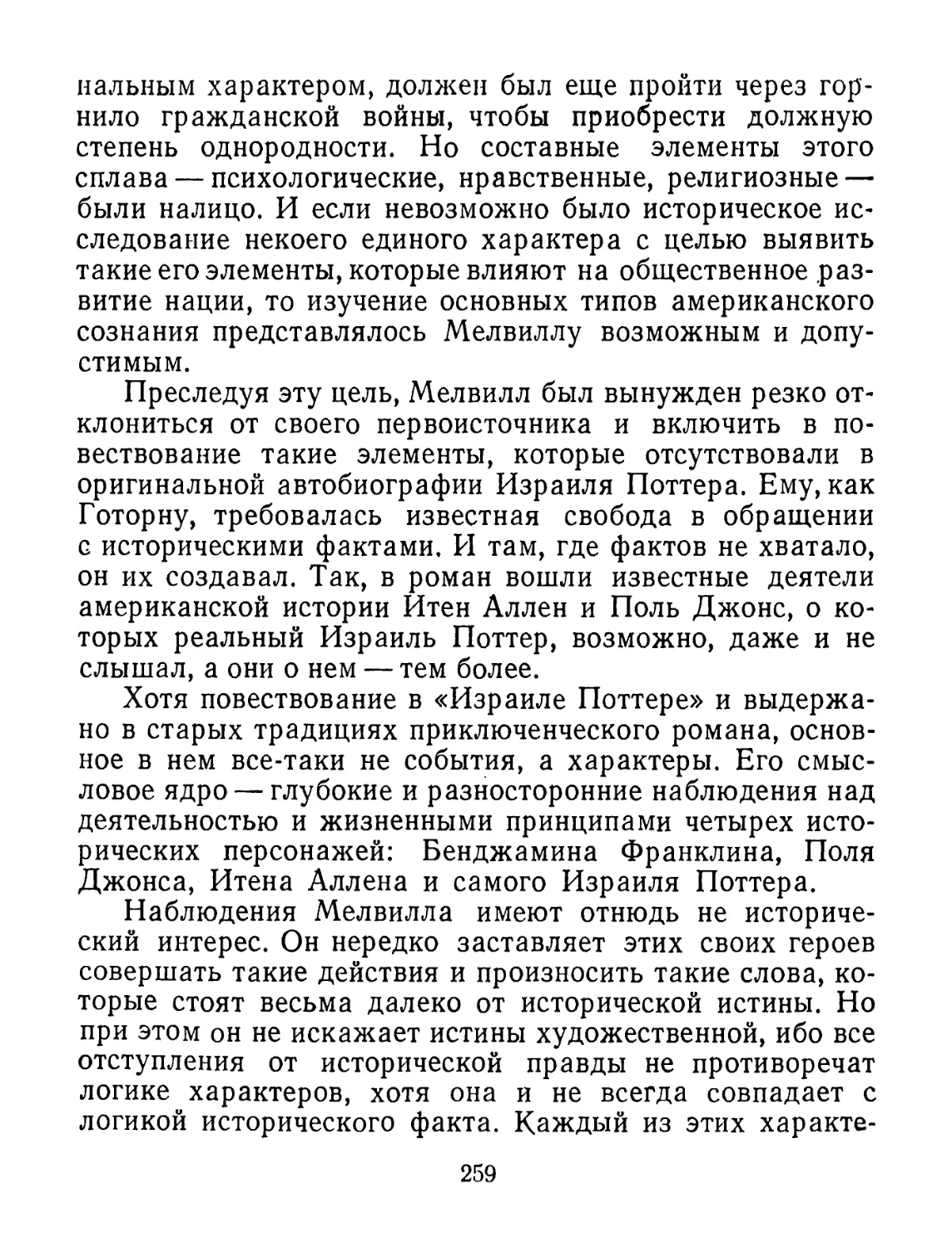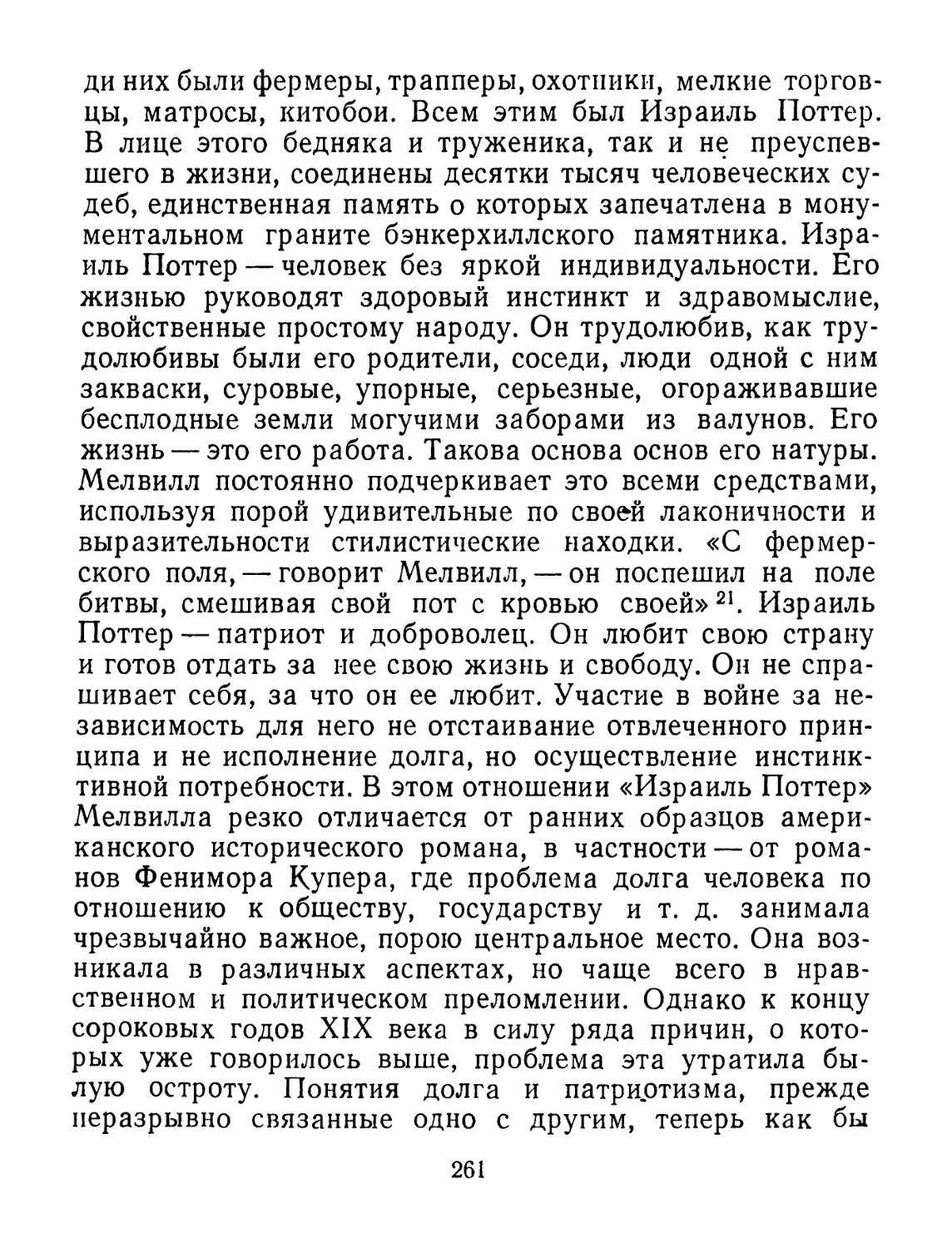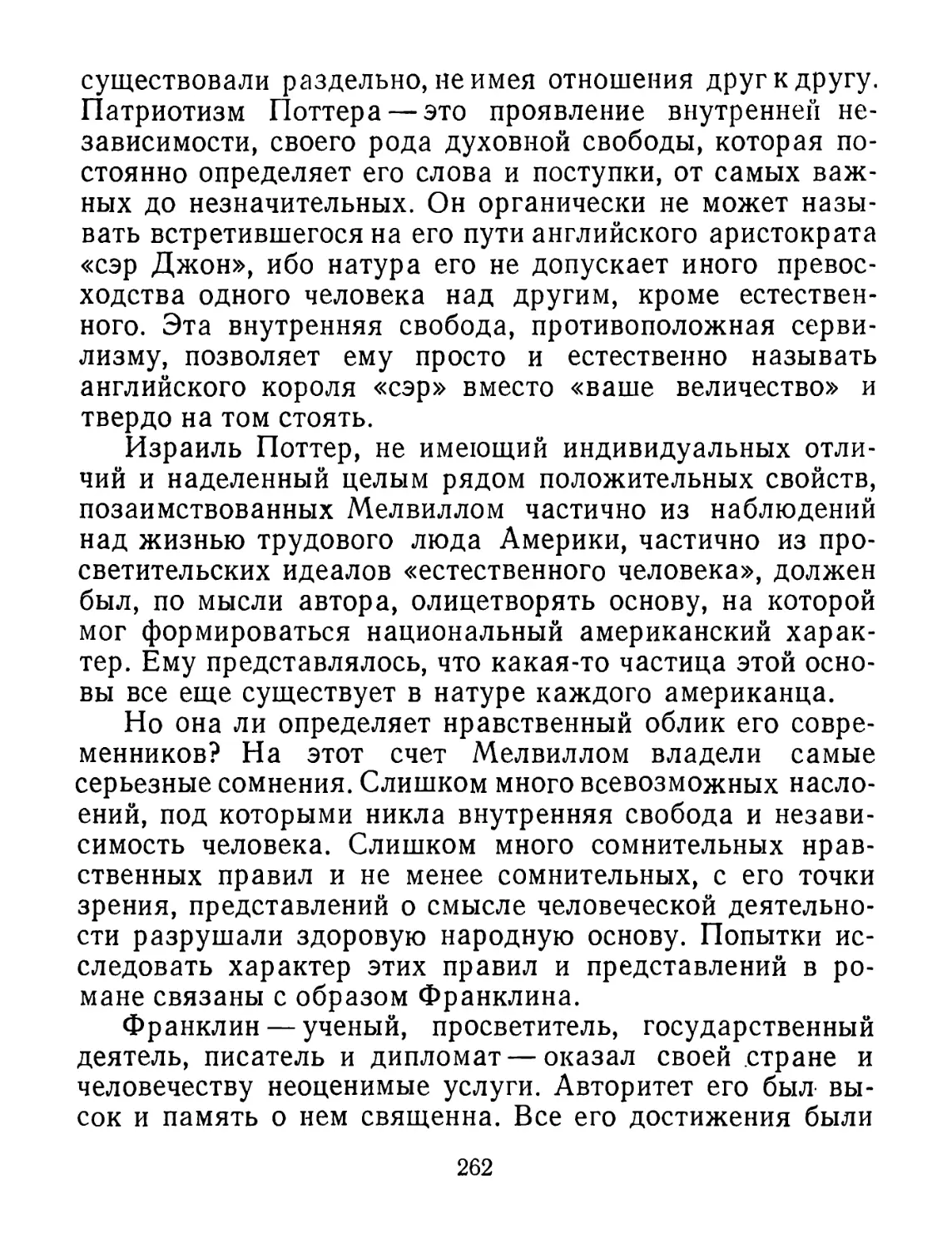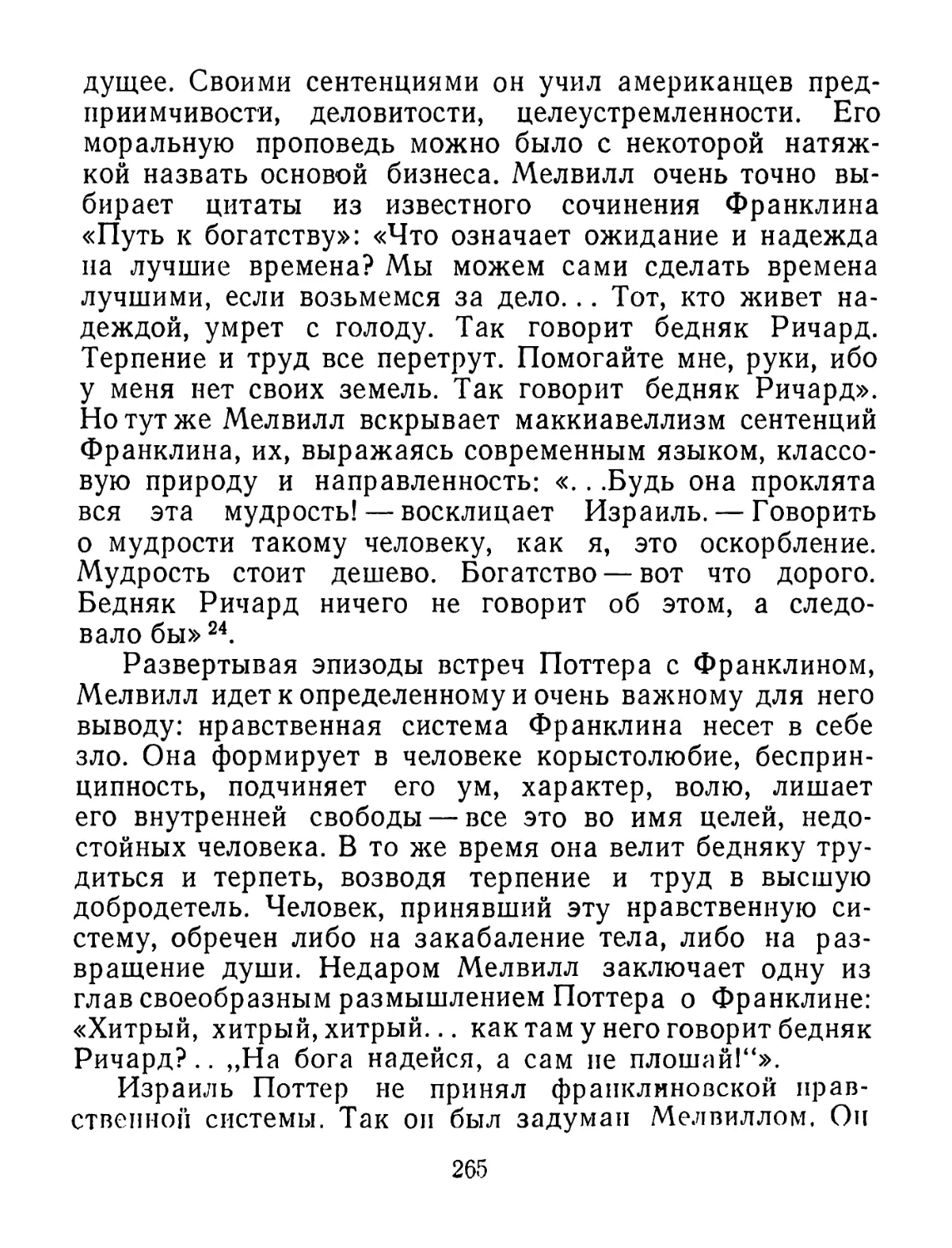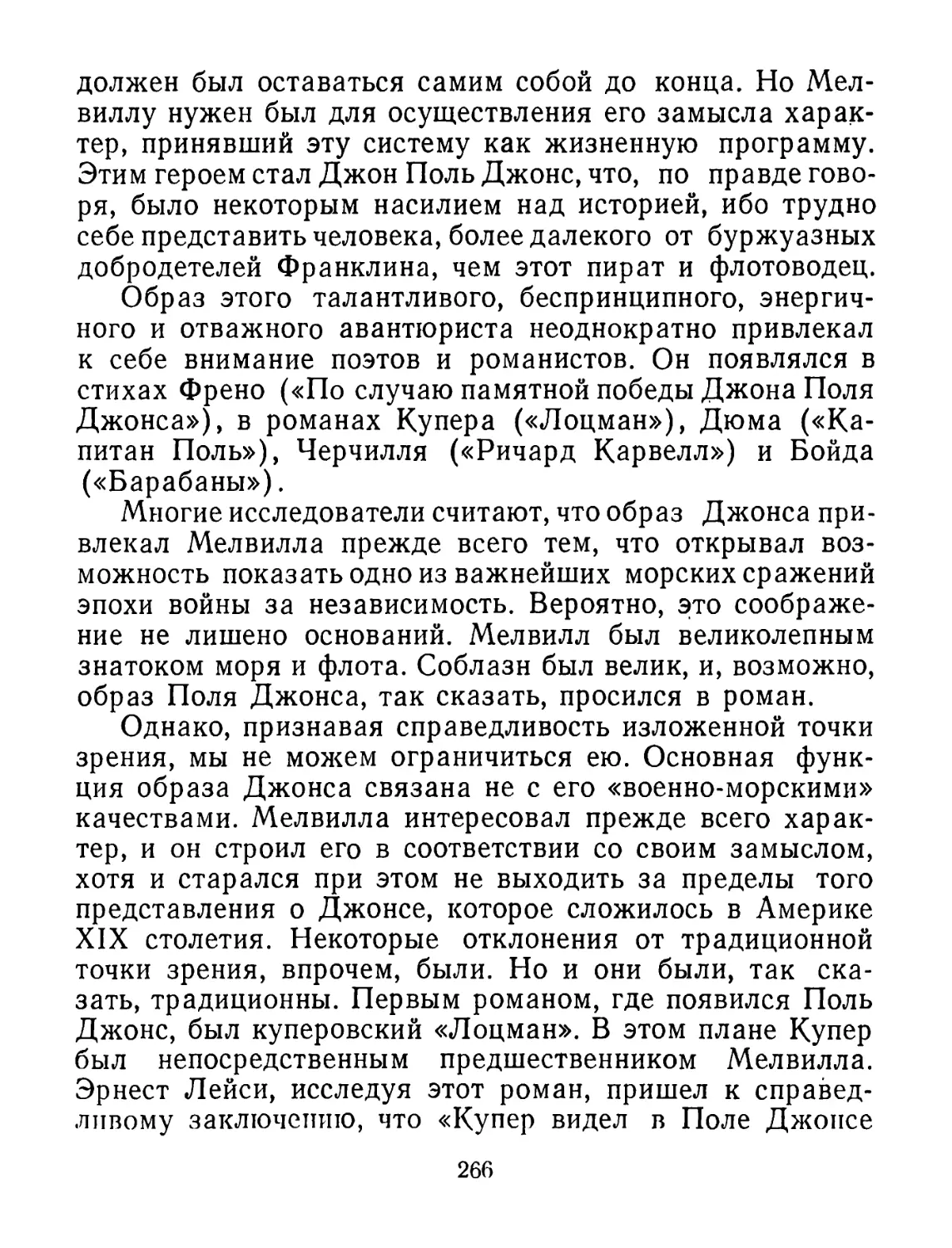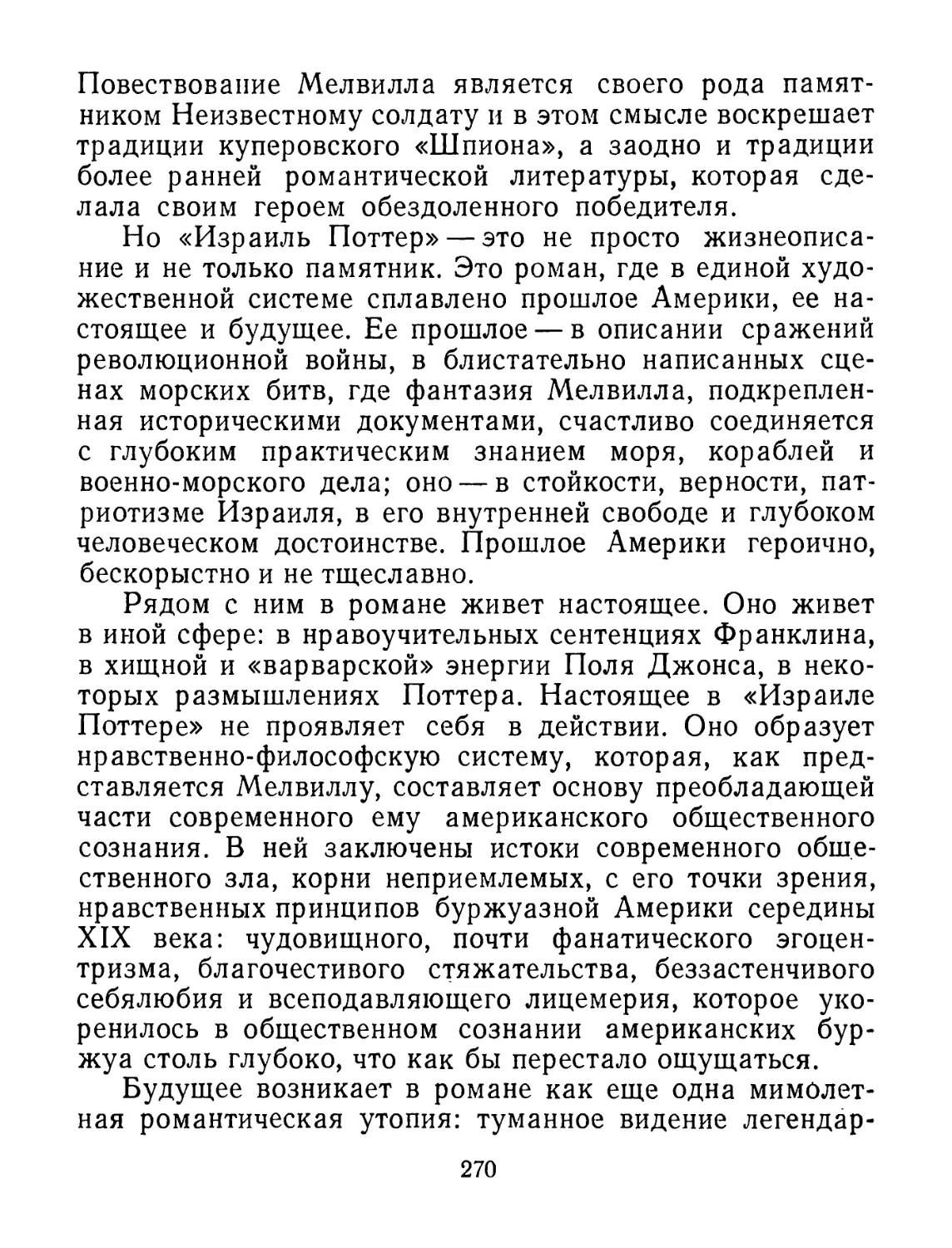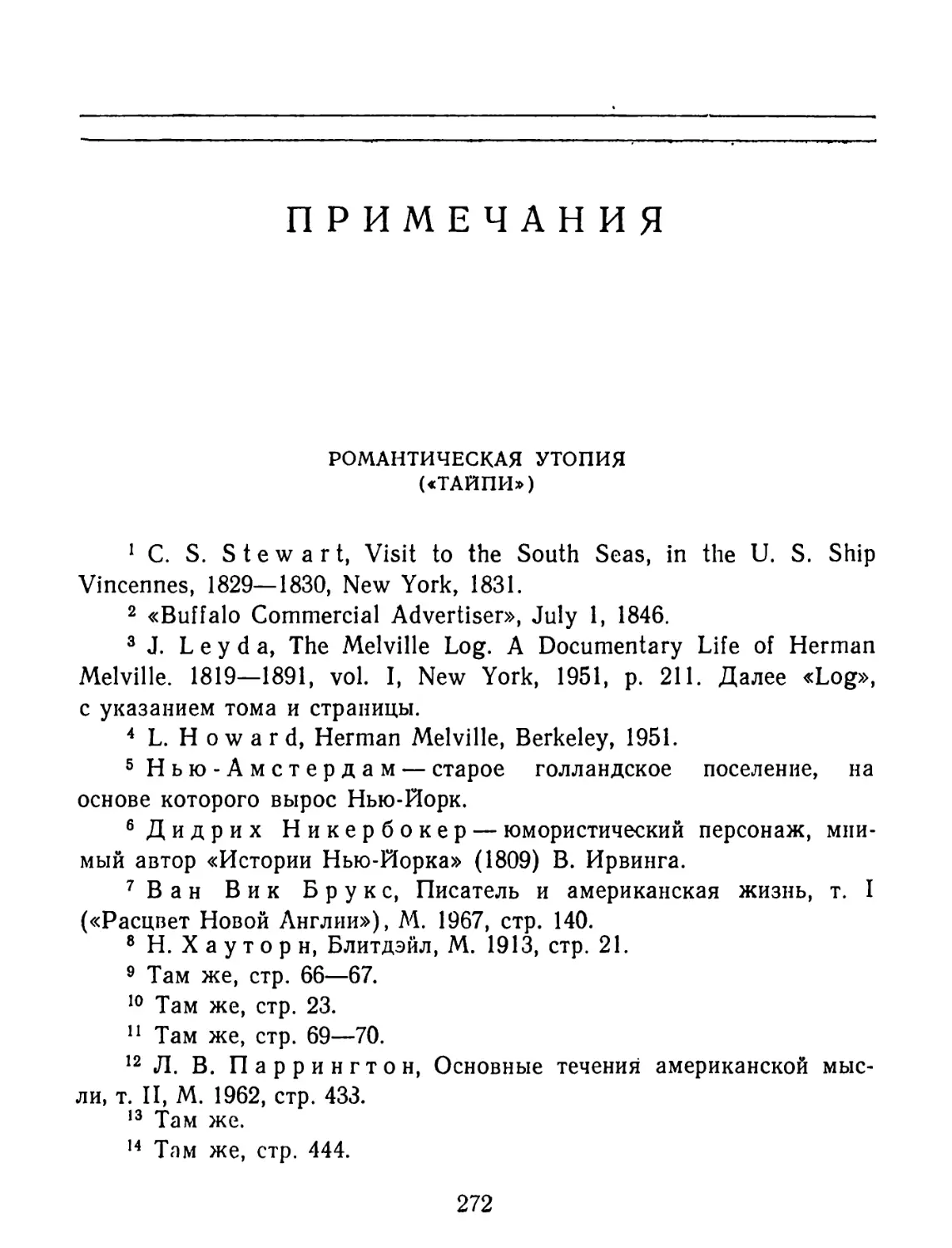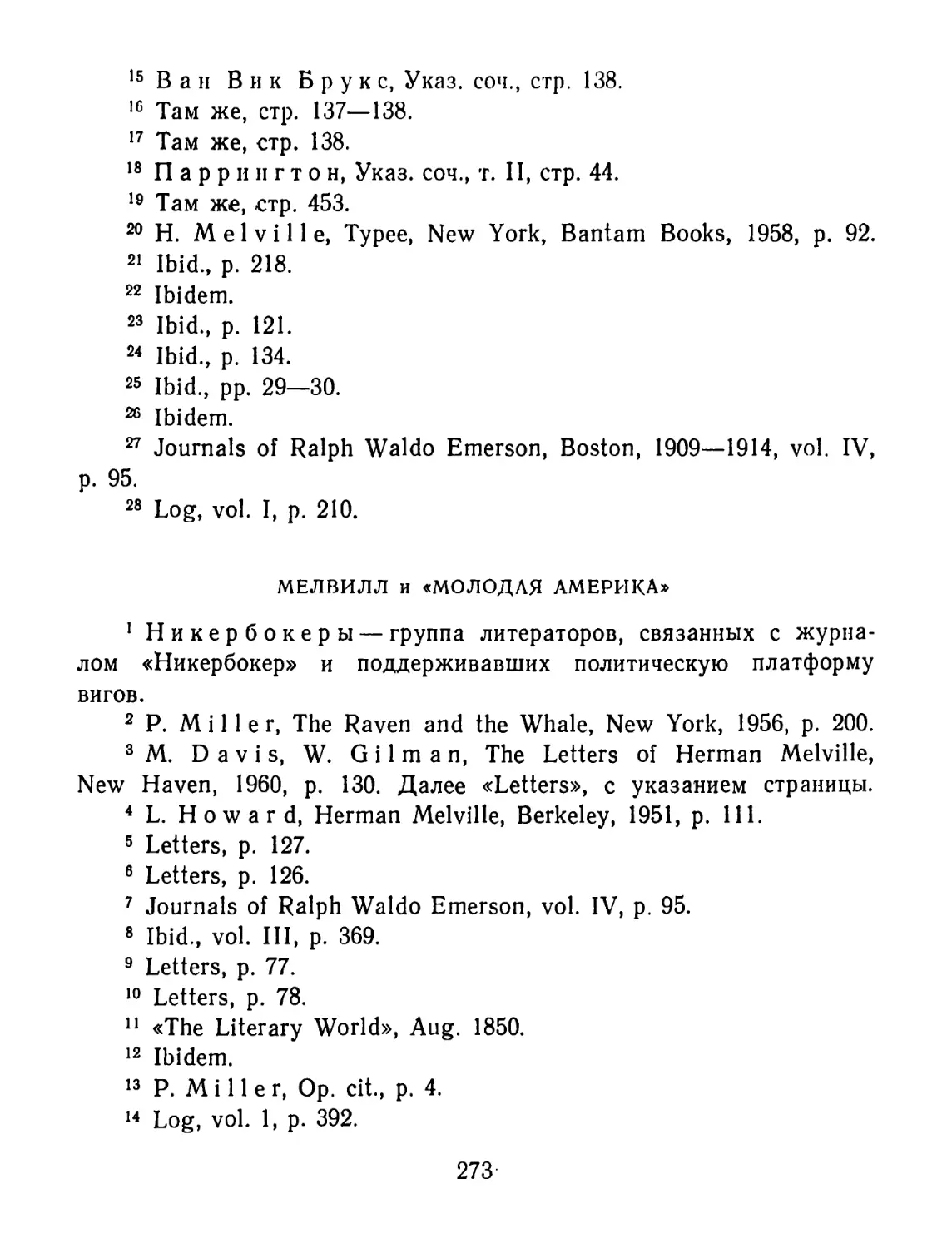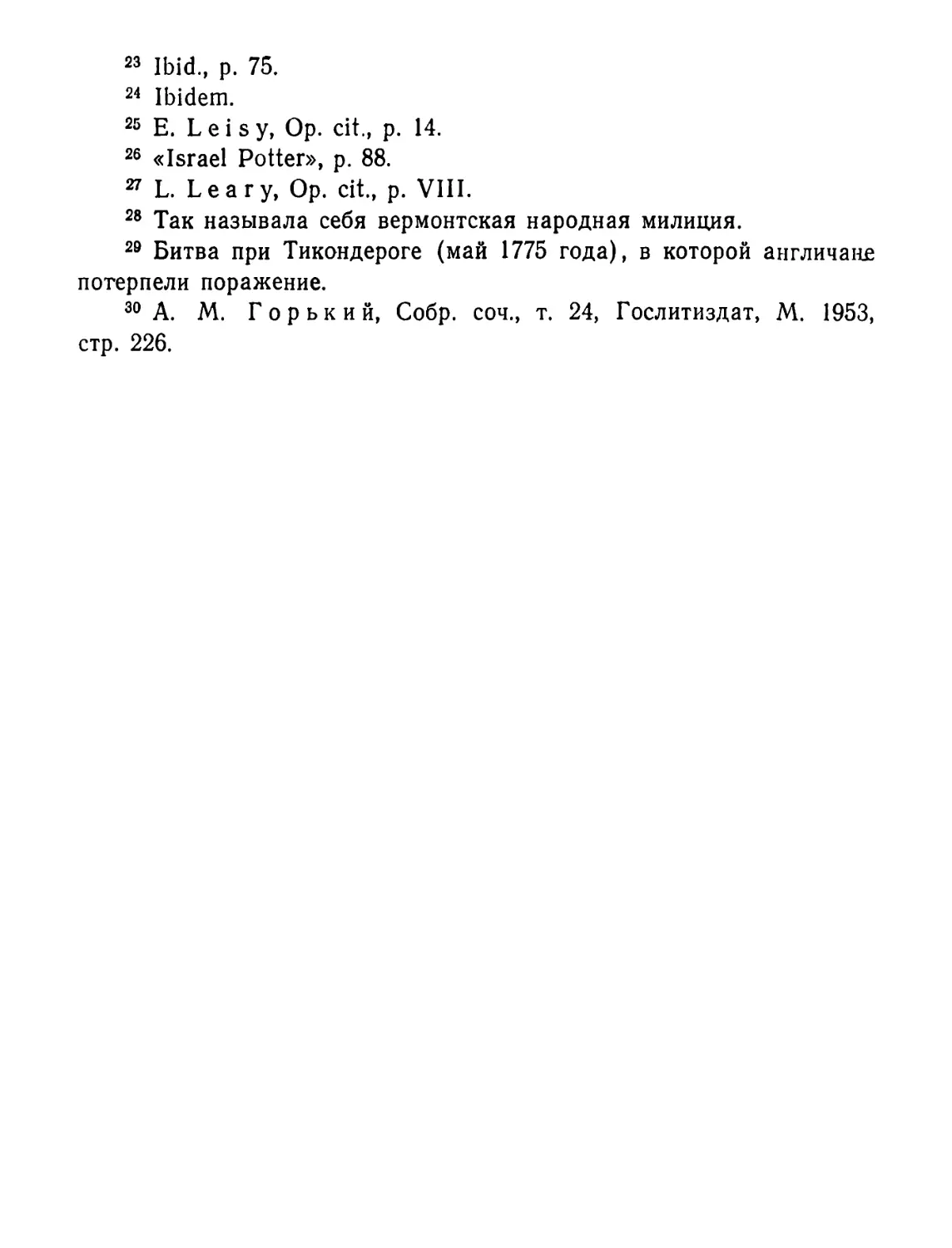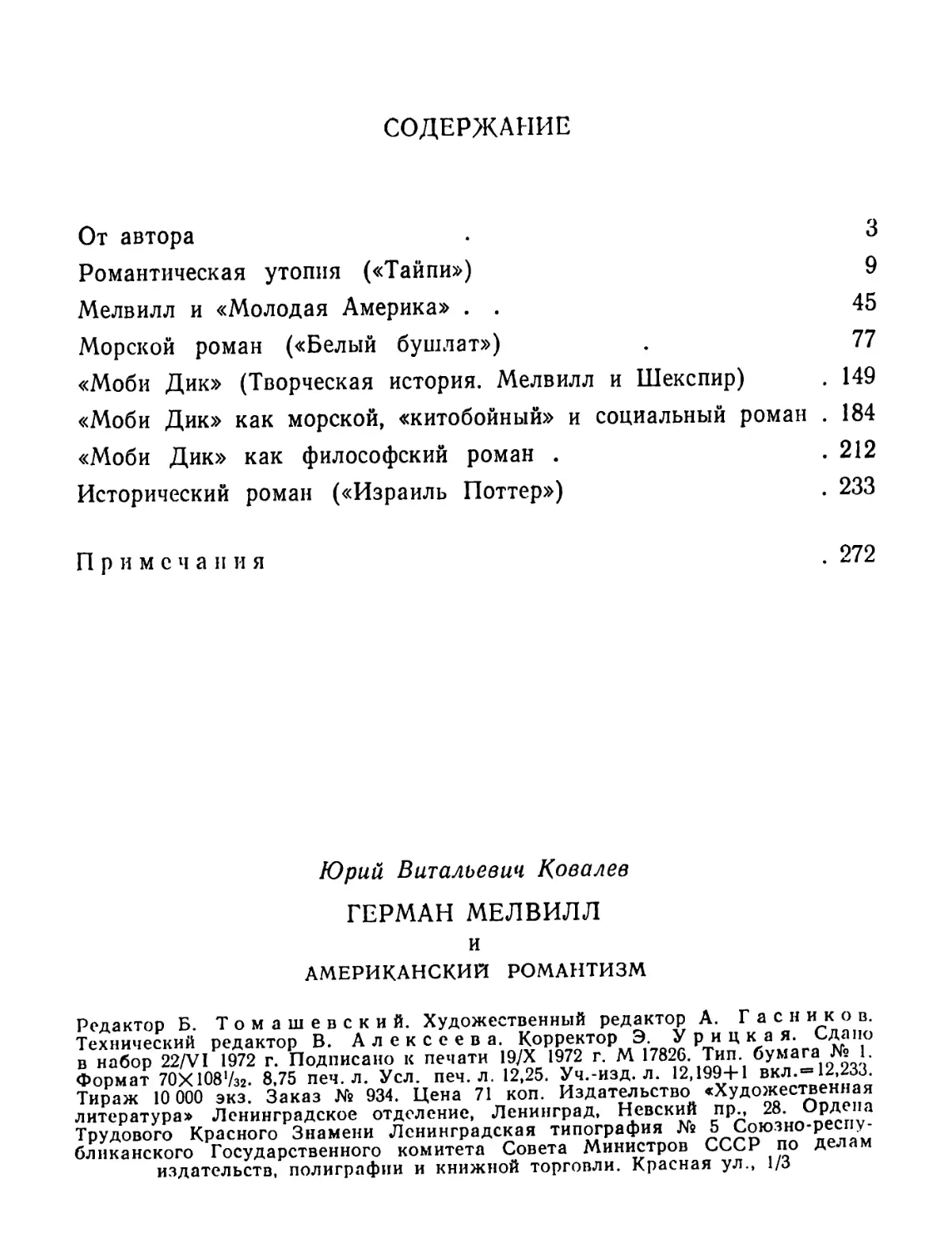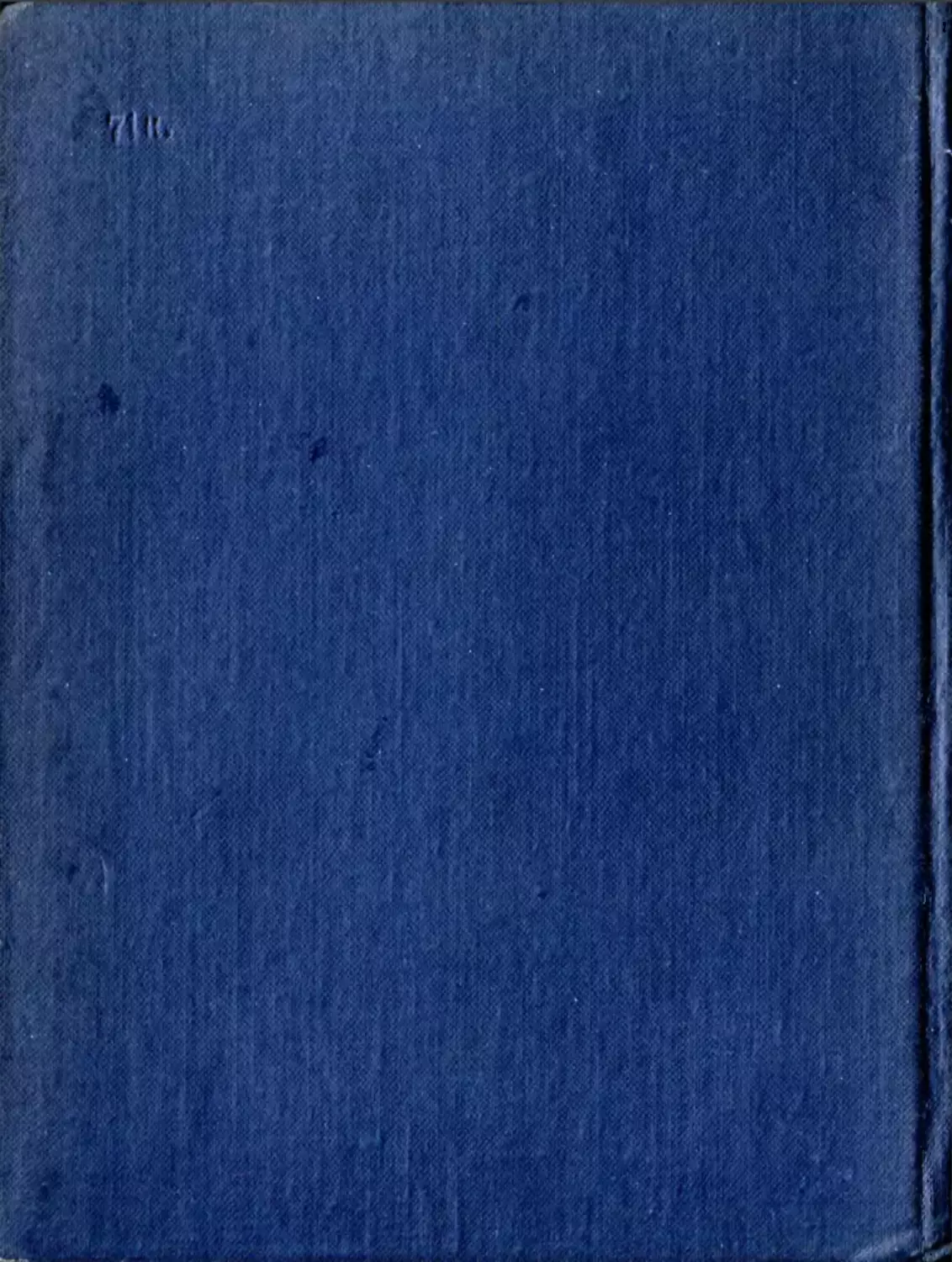Текст
?!ьЧ'-#-;!^н!ь^-*-^
Ю.Ковалев
ГЕРМАН
МЕЛВИЛЛ
АМЕРИКАНСКИЙ
РОМАНТИЗМ
и
Ленинград
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Ленинградское отделение
1972
8 И
К 56
Оформление художника
Л. Я ц е н к о
Б 3-72
ОТ АВТОРА
История литературы знает немало случаев, когда по-,.
томки «открывали» великих художников, чье творчество
не было замечено и оценено современниками. Такова
была судьба Чаттертона и Китса в Англии, Гельдерли-
на — в Германии. Такова судьба Мелвилла.
Едва ли кому-нибудь сегодня придет в голову усо-
мниться в праве Мелвилла занимать место на американ-
ском литературном Олимпе. Его имя называют в одном
ряду с именами По, Уитмена и Твена. О нем написано
несколько десятков монографий, а количество статей
перевалило за тысячу. «Моби Дик» признан самым зна-
чительным американским романом XIX века. Между тем
современники причисляли Мелвилла к третьестепенным
авторам. Для них он был, по словам самого писателя,
«Мелвиллом с Маркизских островов», «человеком, кото-
рый жил у каннибалов». Известность Мелвилла среди
современников была краткой. Первые две его повести
(«Тайпи» и «Ому») были приняты читающей публикой
с энтузиазмом, но к середине 1850-х годов о нем уже за-
были, а если и вспоминали, то как о пиеателе, который
«не то сошел с ума, не то сбился с пути». Последствия
*
3
длительного забвения сказываются и поныне. Несмотря
на шумную славу и огромную популярность, которую
произведения Мелвилла приобрели в Америке XX сто-
летия, до сих пор не осуществлено критическое научное
издание его сочинений. Некоторые его романы издаются
в Америке не только без необходимых комментариев, но
в бессовестно сокращенном и урезанном виде. Единствен-
ное относительно полное собрание сочинений Мелвилла
было выпущено Констеблем в Англии. Оно, по необхо-
димости, считается дефинитивным, хотя содержит мно-
жество ошибок в тексте и в комментариях.
Возрождение популярности Мелвилла в Америке да-
тируется 1921 годом, когда вышла в свет монография
Раймонда Уивера «Герман Мелвилл — моряк и мистик».
На протяжении двадцатых годов были переизданы мно-
гие книги Мелвилла. Крупнейшие историки литературы,
культуры и общественной мысли посвятили Мелвиллу
разделы в своих работах. Появился ряд монографических
исследований, специально посвященных жизни и творче-
ству забытого гения. «Моби Дик» стал настольной кни-
гой каждого культурного американца. Образами Мелвил-
ла вдохновляются современные художники (Р. Кент,
Б. Робинсон, Д. Уилсон), поэты (Харт Крейн, У. Г. Оден),
музыканты (Гедини). «Моби Дик» существует теперь не
только как книга, но как опера, балет и кинофильм, не
говоря уже о значительном количестве драматургических
вариантов (пьесы, радиопьесы и телепьесы). Мелвилл
воспринимается сегодня уже не как «известный американ-
ский писатель», но как классик мироиой литературы.
Количество исследовательских статей и книг о Мел-
вилле увеличивается с каждым годом. Литература о нем
огромна. Возник даже специальный, несколько ирониче-
ский термин «Melville Industry». Однако далеко не все
книги и статьи раскрывают перед нами истинную карти-
ну жизни и творчества Мелвилла. В сущности говоря,
4
серьезных исследований творчества Мелвилла в его свя-
зях с социальной действительностью, общественно-фило-
софской мыслью и художественной литературой сере-
дины XIX века почти нет. В общем потоке современной
мелвиллианы они занимают ничтожно малое место. Их
можно пересчитать по пальцам.
Большинство американских литературоведов пытает-
ся изучать жизнь и творчество Мелвилла в духе тради-
ций, заложенных Д. Г. Лоуренсом в его известном сбор-
нике психоаналитических эссе об американской литера-
туре. Опубликование этого сборника совпало по времени
с пробуждением интереса к творчеству Мелвилла. Лоу-
ренс тогда находился в зените славы и обладал огром-
ным авторитетом, а фрейдистские идеи в эти и последу-
ющие годы приобретали все более широкое распростра-
нение в американской буржуазной литературе и литера-
турной критике. В силу этих обстоятельств возникла
своеобразная тенденция подходить к произведениям
Мелвилла как к документам для «психобиографии» писа-
теля. Многие исследователи видят во фрейдистских идеях
художественный инструментарий Мелвилла, стараются
подвести психоаналитическую базу под сюжет, харак-
теры и поступки персонажей, забывая о том, что творче-
ство Мелвилла базировалось на иных философских осно-
ваниях. Даже такие серьезные специалисты, как М. Бау-
эн, Н. Арвин, Р. Чейз, не сумели «оторваться» от этой
традиции и время от времени погружаются в маловразу-
мительные рассуждения о религиозной «пратипологии»,
психоаналитическом мифотворчестве, фаллической сим-
волике, всевозможных комплексах и т. д.
Впрочем, влияние лоуренсовской традиции — лишь
один из факторов, определяющих методологическую на-
правленность современных работ о Мелвилле, и, веро-
ятно, не самый важный. Дело, по-видимому, в общих
принципах современного американского буржуазного
5
литературоведения в целом. При всем доступном взору
разнообразии школ и направлений, от «новых критиков»
и юнгианцев до компаративистов чикагской школы, их
объединяет своего рода агрессивный субъективизм и от-
кровенное пренебрежение к историзму как основопола-
гающему принципу литературоведческого исследования.
В этой связи не лишено интереса свидетельство Маль-
кольма Каули, который писал в одной из последних сво-
их книг, что «в интерпретации или «прочтении» современ-
ного критика произведение редко бывает «просто» поэмой,
драмой или романом... оно становится мифом, основан-
ным на юнговской теории коллективного подсознания, или
фрейдовским раскрытием подавленного гомосексуализма
автора, или сложным упражнением в лингвистике. Критик
с легкостью обнаруживает здесь Телемаха в поисках
отца, Одиссея, спускающегося в подземное царство, ри-
туал повторного рождения, изгнание бесов... исследова-
ние в области классических аллюзий, теологический ком-
ментарий к Падению Человека или даже (как это «уста-
новил» один литературовед применительно к повести
Мелвилла «Билли Бадд», свалив в одну кучу фрейдист-
ские и христианские символы) кастрацию и каннибализм,
ритуальное убийство и поедание гостии» (М. Cowley,
The Literary Situation, New York, 1966, p. 16).
Мелвиллу в этом смысле особенно «не повезло». Спе-
цифический характер художественной структуры его про-
изведений, в изобилии насыщенных символами и алле-
гориями, обеспечивает широкий простор для всякого
рода субъективных истолкований.
Из сказанного, разумеется, не следует, что огромная
исследовательская литература об американском роман-
тизме и о творчестве Мелвилла вообще лишена всякой
ценности. Американскими литературоведами выявлено и
опубликовано колоссальное количество историко-литера-
турных и биографических документов, Невозможно, н.а-
б
пример, представить себе современное исследование
о Мелвилле, не опирающееся на «Летопись» Джея Лей-
ды или на монографию Чарлза Андерсона, тщательно со-
бравшего все факты, имеющие отношение к матросской
службе Мелвилла. Бесценным источником является со-
брание писем Мелвилла, разысканных и опубликованных
Дэвисом и Гилманом. Вызывает чувство признательности
огромная библиографическая работа, проделанная исто-
риками американской литературы.
Тем не менее проблемы американского романтизма,
равно как и творчество Германа Мелвилла, в его связях
с социальной действительностью, с общественно-полити-
ческими и идейными движениями эпохи, с литературно-
эстетической борьбой его времени все еще не изучены
должным образом.
В сущности говоря, строго научное, объективное
исследование американского романтизма, опирающееся
на основные методологические принципы марксистско-
ленинской науки, началось сравнительно недавно. Здесь
в первую очередь следует отметить труды советских аме-
риканистов, в короткое время создавших солидный «плац-
дарм» для многочисленных и разнообразных работ об
американской литературе. Едва ли историк американ-
ской литературы может сегодня успешно работать, не
учитывая трудов М. П. Алексеева, М. Н. Бобровой,
A. А. Елистратовой, Я. Н. Засурского, М. О. Мендель-
сона, А. Н. Николюкина, А. С. Ромм, А. К. Савуренок,
Р. М. Самарина, Н. И. Самохвалова, А. И. Старцева,
B. Н. Шейнкера и многих других.
Появилось значительное количество монографий и
статей, посвящешгах творчеству американских романти-
ков, были изданы коллективные сборники. Наконец, сле-
дует упомянуть опубликованный в 1968 году труд
А. Н. Николюкина «Американский романтизм и совре-
менность», где содержится первая попытка обобщить
7
опыт изучения американского романтизма советскими
специалистами.
Что касается изучения творчества Мелвилла в совет-
ской американистике, то оно пока еще делает первые
шаги.
Предлагаемая читателю книга выросла из двух ста-
тей *, написанных автором около десяти лет тому назад.
Тогда наше знакомство с Мелвиллом только начиналось.
С тех пор многое переменилось. Сегодня советские чита-
тели имеют в своем распоряжении «Тайпи» (в двух изда-
ниях), «Ому», «Израиля Поттера», «Моби Дика» (в двух
изданиях), готовится к печати перевод «Белого бушла-
та», планируется издание повестей. Творчеству Мелвил-
ла посвящены статьи в сборниках, специальные главы
в монографиях и учебниках, диссертации. Пришло время
для книги.
Автор отдает себе отчет в том, что он не исчерпал
темы, обозначенной в заглавии. Американский роман-
тизм и творчество Мелвилла могут дать материал для
нескольких десятков монографий. Ограничение круга
исследуемых вопросов, историко-литературных явлений
и проблем было неизбежно. Задача этой книги — дру-
гая: показать несостоятельность концепции одинокого
гения, популярной в зарубежном мелвилловедении, и
представить творчество Мелвилла в его живой и глубо-
кой связи с действительностью, с социально-политической
борьбой эпохи, с общественной мыслью и литературной
жизнью его времени.
* «Мелвилл и Шекспир». В сб.: «Шекспир в мировой литерату-
ре», изд-во «Художественная литература», Л; 1964; «Мелвилл и не-
которые проблемы американского романтизма». В сб.: «Проблемы
истории литературы США», изд-во «Наука», М. 1964.
РОМАНТИЧЕСКАЯ УТОПИЯ
(«ТАИПИ»)
Материалом для первой
книги Мелвилла, как, впрочем, и для многих последовав-
ших за ней, послужили некоторые события и обстоятель-
ства его собственной жизни. Это не значит, что произве-
дения его следует рассматривать исключительно как
фрагменты беллетризованной автобиографии (именно
так поступают многие исследователи), но наличие авто-
биографического элемента в них не вызывает сомнений.
В конце 1840 года Мелвилл, только что достигший со-
вершеннолетия, бросил опостылевшую ему учительскую
должность и поступил рядовым матросом на китобойное
судно «Акушнет». Третьего января 1841 года «Акушнет»
вышел в длительное промысловое плавание, продолжав-
шееся более двух лет. Однако, когда корабль вернулся
в Нью-Бедфордскую гавань, Мелвилла на нем не было.
9
Он покинул судно во время стоянки на одном из Мар-
кизских островов.
В дезертирстве Мелвилла не было ничего необычного.
Из двадцати трех матросов «Акушнета», вышедших
в плавание, только десять вернулись обратно. Остальные
либо дезертировали, либо были оставлены капитаном
в различных портах, как «умирающие». В далеких тихо-
океанских гаванях часто происходило подобное «пере-
распределение» рабочей силы, вызванное тяжелыми усло-
виями корабельной жизни и произволом командного
состава. Капитаны постоянно испытывали недостаток в
матросах, а беглые матросы охотно поступали на любое
судно в надежде, что на этот раз им повезет.
В первых числах июля 1842 года, после полутораго-
дичных мытарств на борту «Акушнета», Мелвилл, сгово-
рившись со своим товарищем Тоби (Р. Т. Грин), бежал
с корабля. Судно в это время стояло в заливе Тайохэ
у одного из Маркизских островов (Нукухива). Инфор-
мация, которой располагали Мелвилл и Грин, была весь-
ма скудной. Они слышали, что за горной цепью, выходя-
щей к побережью, расположено несколько внутренних
долин, населенных племенами тайпи и хаппар. Тайпи
пользовались славой «жестоких каннибалов», хаппары
же, по-видимому, были племенем мирным и безобидным.
Таким образом, задача сводилась к тому, чтобы попасть
в долину хаппаров и ни в коем случае не угодить к тайпи.
После двух дней тяжелого перехода, во время кото-
рого Мелвилл повредил ногу, беглецы вышли в долину,
изобилующую плодовыми деревьями и пресноводными
источниками. Их гостеприимно встретили вполне друже-
любные обитатели долины, оказавшиеся, к ужасу путни-
ков, не хаппарами, а тайпи. Бежать было поздно, да и
невозможно. Из-за больной ноги Мелвилл еле двигался.
Спустя несколько дней Тоби в сопровождении туземцев
отправился к побережью в надежде оказать Мелвиллу
10
медицинскую помощь при содействии французских мис-
сионеров, обитавших в Нукухива. Больше Мелвилл его
не видел. Тоби исчез. Мелвилл прожил среди тайпи око-
ло месяца. Девятого августа 1842 года он вновь появился
на побережье и завербовался на австралийское китобой-
ное судно «Люси-Энн», зашедшее в бухту в надежде по-
полнить команду.
Мелвилл вернулся в Америку только в октябре 1844
года. Между его побегом с Маркизских островов и воз-
вращением домой прошло более двух лет, заполненных
плаванием на китобойных судах «Люси-Энн» и «Чарлз
и Генри», странствиями по тихоокеанским островам и
службой на американском военном корабле «Соединен-
ные Штаты». Это обстоятельство имеет, на наш взгляд,
весьма существенное значение. Историки литературы
обычно связывают первую книгу Мелвилла с его жизнью
на Маркизских островах, совершенно отбрасывая после-
дующие годы. Но между биографическим эпизодом, ко-
торый лег в основу «Тайпи», и написанием книги прошло
три года. И если материал книги непосредственно восхо-
дит к наблюдениям 1842 года, то осмысление этих наблю-
дений может быть понято только в свете общественного
и нравственного опыта, который был приобретен Мелвил-
лом в последующие три года.
* * *
Изучение печатных откликов, которые вызвала книга,
представляет немалый интерес, поскольку позволяет су-
дить о том, что более всего взволновало, привлекло или
оттолкнуло современников; а это приоткрывает завесу
над истинным смыслом повествования, который отнюдь
не лежит на поверхности.
Критика «Тайпи» велась по двум направлениям. Це-
лая группа критиков поставила под сомнение достовер-
11
йость событий, описанных автором. Они восприняли
«Тайпи» как документальный очерк этнографического
характера, как «отчет о путешествии». Для них «Тайпи»
предствлялась чем-то вроде записок Ч. Стюарта \ «Не
может быть!» — восклицали эти критики и требовали до-
кументального подтверждения истинности описанных
Мелвиллом фактов. Некоторые из них дошли до того, что
вообще отказывались верить в существование Германа
Мелвилла и считали книгу сплошной мистификацией.
Лондонский «Альманах Бекетта» напечатал даже нечто
вроде фельетона, озаглавленного «Подозрение в подло-
ге». Меррей, издавший «Тайпи», просил Мелвилла при-
слать ему какие-нибудь документы, подтверждающие
правдивость книги. Мелвилл отказался. Да и не было
у него таких документов.
Однако всем сомневающимся пришлось замолчать,
когда издатель «Буффало коммершиэл адвертайзер» на-
печатал письмо Ричарда Тобайаса Грина, где говори-
лось: «Я истинный и подлинный «Тоби», все еще живой,
и я счастлив подтвердить совершенную точность кни-
ги...»2 Далее «Тоби» обращался к Мелвиллу и просил
его сообщить свой адрес, если это письмо попадется ему
на глаза. Спустя некоторое время они встретились, и
Мелэилл записал со слов Грина его «историю», которая
и появилась затем во втором издании «Тайпи» в качестве
приложения. Грин действовал, разумеется, из лучших то-
варищеских побуждений и в меру своего разумения. Он
не покривил душой, когда заявлял, что в «Тайпи» все
правда. Он просто не понял, что это была не вся правда
и не только правда.
Проблема «правдивости» повествования в данном слу-
чае имела особый смысл. Может показаться странным,
что критики вдруг стали требовать абсолютной точности
всех деталей в приключенческом повествовании. До Мел-
вилла десятки писателей рассказывали о пережитых ими
12
самых невероятных приключениях, весьма свободно об-
ращаясь с истиной, и никого это не тревожило. Ни один
критик никогда не рассматривал подобные произведения
с точки зрения их полного соответствия фактам. В случае
с «Тайпи» дело обстояло иначе, и не потому, что у чита-
телей и критиков вдруг появилась потребность в доку-
ментальной верности повествования. Природа этого
несколько неожиданного стремления к достоверности об-
наруживается, когда мы обращаемся к статьям и рецен-
зиям другой группы критиков, которая увидела в «Тайпи»
прежде всего поход против церкви, нравственности и мо-
рали. Газеты и журналы, связанные с церковью, про-
явили необычайный темперамент. Им было совершенно
все равно, существует Мелвилл или это псевдоним лите-
ратора, пожелавшего скрыть свое подлинное имя. Они
стремились к одной-единственной цели — осудить!
Эверт Дайкинк довольно точно подвел итог многочис-
ленным нападкам на «Тайпи», осуществлявшимся с по-
зиций высокой нравственности. «Религиозные газеты,—
писал он, — подняли страшный вой по поводу того, как
в этой книге трактуется деятельность миссионеров...»3
В этом, конечно, было все дело. В этом же заключался
и подспудный смысл обвинений в «недостоверности».
Мелвиллу простили бы любые фантазии, но выпадов про-
тив колонизаторской политики и деятельности миссионе-
ров простить не могли.
Таким образом, критика восприняла «Тайпи» как
«записки путешественника», имеющие прежде всего по-
знавательный интерес, и как книгу, направленную против
цивилизаторства и миссионерства, то есть как произве-
дение проязыческое и антихристианское. Однако суще-
ствовал еще целый ряд критиков, которых заинтересовало
совсем другое. Они обратили внимание на интерес Мел-
вилла к социальной стороне жизни тайпи и восприняли
произведение как своего рода утопию.
13
-* * *
Повесть «Тайпи» написана в форме рассказа простого
матроса о том, что он увидел и узнал, оказавшись бла-
годаря удивительному стечению обстоятельств пленником
одного из каннибальских племен Полинезии. Мелвилл
иногда даже как бы щеголяет своей позой бесхитрост-
ного рассказчика. День за днем он повествует о том, что
с ним произошло, чему он был свидетелем. Иногда он
даже не прочь вставить какой-нибудь анекдот или забав-
ную историю, услышанную им от матросов, миссионеров
или обитателей островов.
Начав, однако, с приключений, Мелвилл постепенно
переносит центр тяжести повествования на описание нра-
вов и обычаев тайпи, их образа жизни, занятий, харак-
тера, темперамента, внешнего облика, на условия жизни
долины Тайпи, ее природу, климат и т. п. В заголовках
некоторых глав появляются фразы, которые заставляют
читателя насторожиться и усомниться, так ли прост этот
матрос, как он хочет казаться.
Страница за страницей, глава за главой, Мелвилл
разворачивает перед читателем картину безмятежной и
счастливой жизни удивительного племени посреди бла-
годатной природы. Он не устает восхищаться простотой,
искренностью, дружелюбием тайпи, их физической красо-
той и внутренней гармоничностью, мужественностью вои-
нов и нежностью девушек, разумностью и простотой
общественных отношений.
Именно эти страницы повести, исполненные удиви-
тельной поэтичности, вот уже много десятилетий неиз-
менно приковывают к себе внимание читателей во всем
мире. Они оказались эстетически гораздо более стой-
кими, чем «приключения» героя. Ради них мы читаем
сегодня Мелвилла и получаем наслаждение, как полу-
чали его первые читатели «Тайпи» более ста лет тому
14
назад. Сила эстетического и нравственного воздействия
нарисованных писателем картин «идеальной жизни» не-
однократно была отмечена в литературе.
Мелвилл всегда настаивал на точности своих наблю-
дений, и у нас нет оснований сомневаться в его правди-
вости. По-видимому, все факты и наблюдения, изложен-
ные в «Тайпи», соответствуют истине. Но все ли факты
и наблюдения удостоились равного внимания со стороны
автора?
Когда Мелвилл говорит о каннибализме тайпи, о мно-
гомужестве, распространенном среди обитателей доли-
ны, о наивности и невежестве дикарей, он поразительно
лапидарен и легко подыскивает оправдания и смягчаю-
щие обстоятельства для чего угодно, вплоть до людоед-
ства.
Картина жизни тайпи, нарисованная Мелвиллом, при
всей правдивости деталей тенденциозна. Недаром лите-
ратуроведы до сих пор выясняют вопрос, почему Мелвилл
бежал из этого земного рая, проведя там всего три не-
дели.
В своей монографии о Мелвилле Л. Хоуард4 обра-
щает особое внимание на то, что «Тайпи» была написана
не по свежим впечатлениям, а спустя три года после
«маркизского эпизода» в жизни писателя. Чем больше
проходило времени, говорит Хоуард, тем ярче светился
в его памяти этот эпизод, и чем мрачнее был цивилизо-
ванный мир, тем идеальнее рисовалась Мелвиллу доли-
на тайпи.
Сейчас уже не может быть сомнений, что «Тайпи»
несет в себе черты утопии, недостижимого идеала, и в
этом смысле соображения Хоуарда представляются спра-
ведливыми. Однако объяснение этому факту, на наш
взгляд, следует искать не только в биографии самого
Мелвилла, но и в духовной атмосфере Америки тридца-
тых и особенно сороковых годов XIX века, в общей
15
направленности американской социально-философской
мысли и художественной литературы этого периода. Мел-
вилл создал чисто американскую романтическую уто-
пию, и, видимо, в этом причина огромной популярности
«Тайпи» у современников.
Романтическая литература в Америке зарождалась
в те годы, когда страна переживала полосу бурного эко-
номического развития и пожинала первые плоды поли-
тической независимости. Разумеется, капиталистический
прогресс в США нес в себе все те отрицательные черты,
которые были свойственны европейскому капитализму.
Но до поры до времени они были смягчены некоторыми
особыми условиями, имевшими сугубо национальный ха-
рактер. Естественно поэтому, что романтический протест
против новых форм экономической, политической и обще-
ственной жизни, порожденных капиталистическим разви-
тием, поначалу был лишен непримиримости.
Один из первых американских романтиков Вашинг-
тон Ирвинг склонен был признать общественную целе-
сообразность перемен в жизни его родины. Конечно, он
видел зло, порожденное этими переменами, но мирился
с ним. Его протест вылился в форму сожалений а мире,
разрушенном революцией. Он со вкусом и несколько
иронической грустью рисовал картины неторопливой,
спокойной жизни старых колониальных поселений, где
все было ясно, безоблачно и уютно, начиная от домиков
из желтого голландского кирпича под черепичными кры-
шами и кончая нелепыми, но милыми предрассудками
поселенцев. Старый мир капустных огородов Нью-Ам-
стердама5, мир Дидриха Никербокера6, с его трубкой,
тростью и париком, принадлежит к числу ранних аме-
риканских романтических утопий. Эта утопия не была
полной противоположностью современной Ирвингу Аме-
рике и не отрицала начисто просветительских принципов
осмысления действительности.
16
Строго говоря, литературу десятых и двадцатых го-
дов XIX века мы можем рассматривать как своего рода
прелюдию. Подлинный расцвет романтической утопии
приходится на сороковые и начало пятидесятых годов.
Среди причин, обусловивших распространение утопи-
ческого романтизма, надо выделить следующие. Во-
первых, серьезные потрясения в экономике страны, вы-
званные кризисом 1837 года, который прошел отнюдь не
столь безболезненно, как, например, кризис 1819 года, и
который обнажил противоречия, напомнившие американ-
кам худшие времена британского промышленного пере-
ворота. Во-вторых, интенсивное формирование обще-
ственных нравов буржуазной демократии в их специфи-
чески американском варианте, которые испытывались и
закалялись в ожесточенной политической борьбе, разы-
гравшейся в Соединенных Штатах с воцарением на пре-
зидентском престоле «короля демократов» Эндрю Джек-
сона. Конец двадцатых и тридцатые годы были време-
нем, когда совершенствовались детали политического
механизма, сохранившегося в общих чертах в Америке
по сей день. По утверждению Купера, именно тогда
в Америке началось великое «моральное затмение», и на
потемневшем небосводе страны осталось лишь одно све-
тило — доллар, а все высокие принципы исчезли в густой
тени «денежного интереса». И, наконец, в-третьих, воз-
никновение трянгттенггентялиямя^ явившегося, так ~ска-
зать, теоретической базой почти вг.ех американских ро-
м^штичргких утопии —
Появление трансцендентализма было вполне законо-
мерно, хотя это течение, представлявшее особую форму
романтической критики капитализма, не было ни первой,
"ни единственной попыткой выразить протест против бес-
человечной и торгашеской его сущности.
Характерной особенностью американского романтиз-
ма, особенно на ранней стадии его развития, была тесная
связь с философскими идеями европейского и особенно
американского Просвещения. Естественно, что романти-
ки делали попытки использовать критическое оружие,
выкованное просветителями. Примером может служить
хотя бы сатирический роман Купера «Моникины», ближе
стоящий к свифтовскому «Гулливеру», чем к любому
произведению американской романтической литературы.
Однако попытки эти были немногочисленны. Видимо,
сами романтики ощущали внутреннюю связь между идея-
ми Просвещения и современной общественной системой.
Просветительские общественные идеалы были уже в зна-
чительной мере скомпрометированы историческим разви-
тием американской буржуазной демократии. Недаром
поиски положительного образца для сравнения стали
уделом подавляющего большинства американских роман-
тиков. Его искали Купер, Ирвинг, Готорн, Эмерсон, Торо,
Лонгфелло, Мелвилл и многие другие. Искали его в тео-
рии и на практике.
* * ♦
Сороковые годы в истории США оказались периодом
утопических экспериментов. Повсюду возникали общи-
ны, колонии, поселения, пытавшиеся строить свою жизнь
на каких-то иных экономических и нравственных основа-
ниях, нежели те, которые лежали в основе американской
общественной системы. И многие из этих колоний (на-
пример, знаменитая «Брук Фарм») создавались с един-
ственной целью предложить некий образец <<п_р^^Ш1ьной>>
жизни, который помог бы американцам постичь «непра-
вильность», __ иороч!^^ъ__и^~собственного жизненного
уМада^В "сущности, K_jTxm}Tj^Ic^
|Kdne2HM^ji^jO£p, который представлял собой своеобраз-
ную п опытах .построить: уутопическую колонию для одного
человека.
18
Масштабы утопического экспериментаторства в духе
Торо были, очевидно, более широкими, нежели мы те-
перь себе это представляем. У «уолденского отшельника»
было множество единомышленников и подражателей.
Сошлемся хотя бы на пример, приведенный Ван Вик
Бруксом: «Преподаватель греческого в Гарварде Стернз
Уилер удалился жить в лесную хижину, построенную сво-
ими руками. Постоянно рискуя замерзнуть насмерть,
прозимовали в лесу двое молодых бостонских служа-
щих» 7.
По большей части эти эксперименты оказывались не-
избежно связанными в конечном счете с идеями утопи-
ческого социализма и коммунизма, единственной по тем
временам теоретической основой, которая, казалось,
позволяла организовать жизнь группы людей на принци-
пах, противоположных капиталистической системе. Одна-
ко американские романтики в подавляющем своем боль-
шинстве были весьма далеки от социалистических идей,
хотя бы и в утопической форме. Более того — они под-
вергли утопический социализм жестокой критике, не
лишенной, кстати, понимания непреложности и всеобщей
обязательности экономических законов, действующих
в обществе.
В этой связи невозможно пройти мимо двух произве-
дений, принадлежащих крупнейшим прозаикам той эпо-
хи. Речь идет о романе Фенимора Купера «Колония на
кратере» (1848) и о повести Готорна «Блайтдейл» (1852).
«Колония на кратере» представляет собой наполо-
вину утопию, наполовину робинзонаду, которая, вне
всякого сомнения, навеяна экспериментами сороковых
годов. Герой романа открывает необитаемый остров вул-
канического происхождения и решает устроить там образ-
цовую колонию свободных поселенцев, полностью неза-
висимую от государства и общества. Вернувшись в Аме-
рику, он тщательно подбирает добровольцев, сообразуясь
19
Главным образбМ с их нраЁстбённымй качествами, и пе-
реселенцы отправляются в путь.
Жизнь колонистов на острове строится в соответствии
с идеями, лежавшими в основе всех социально-утопиче-
ских проектов: земля находится в общем пользовании,
хозяйство представляет собой замкнутый натуральный
цикл и ведется коллективно. Все счастливы, довольны
собой и горды собственной мудростью. Но на ближай-
ших островах появляются туземцы. И колонисты начи-
нают войну с дикарями, натравливают их друг на друга
и поодиночке уничтожают, пользуясь огнестрельным ору-
жием. В мирные периоды колонисты скупают у дикарей
по дешевке драгоценное сандаловое дерево, расплачи-
ваясь бусами и топорами. Они богатеют; начинает раз-
виваться промышленность, население колонии увеличи-
вается. Возникают споры из-за земельных участков. И вот
земля уже не общественная собственность. Она поделена.
Одни становятся богаче, другие бедней. Возникает не-
довольство. Основатель колонии, бывший по общему
согласию ее бессменным руководителем, не может удер-
жать власть. И наконец все завершается символическим
взрывом: вулкан начинает действовать, и колония
гибнет.
Аргументация Купера, предрекающего бесславную
гибель всем экспериментам, основанным на социальных
утопиях, нередко наивна и лишена научного фундамента.
Но где-то в самом главном Купер был не так уж далек
от истины. Колония на кратере погибла под воздействием
тех же сил, которые сводили на нет все усилия амери-
канских экспериментаторов. Только в жизни эти силы
действовали извне, а у Купера они действуют изнутри,
ибо Купер представлял их себе нередко как врожденные
свойства человеческой натуры.
Повесть Готорна представляет еще больший интерес,
ибо она основана на действительной истории («Брук
20
Фарм»), ё которой автор сам принимал участие, хбтй й
не очень долго.
«Блайтдейл» — отнюдь не документальный очерк. Это
художественное произведение, в котором присутствует
изрядная доля вымысла. Его герои вовсе не являются
портретами участников колонии «Брук Фарм», и напрас-
но некоторые историки литературы пытаются установить
соответствие между персонажами повести и теми или
иными участниками кружка трансценденталистов. Тем
не менее «Блайтдейл» представляет интерес как доку-
мент эпохи, ибо в размышлениях автора по поводу жиз-
ни колонистов, задач, которые они ставили, результатов
их усилий мы с полным основанием усматриваем точку
зрения очевидца, основанную на фактах.
В одной из первых глав повести Готорн очень точ-
но определяет целевую установку участников «экспе-
римента»:
«Железные рамки общества остались позади; мы уни-
чтожили те путы, которые заставляют идти по проторен-
ным дорожкам современного общественного строя даже
таких людей, которые чувствуют его пустоту и скуку не
меньше нас. Иные из нас сошли с амвона, другие отбро-
сили в сторону перо, третьи захлопнули свои бухгалтер-
ские книги... Нашей целью (она была, бесспорно, бла-
городна, но в то же время неразумна) было отказаться
от обеспеченного положения ради того, чтобы показать
человечеству пример жизни, основанной на принципах,
лучших, чем те лживые и жестокие принципы, которые
во все времена управляли жизнью человеческого обще-
ства» 8.
Готорн отмечает, что члены общины вовсе не были
реформаторами. Они не пытались переделать мир. У них
не было социальной теории, на основе которой они мог-
ли бы надеяться перестроить общество. В сущности, их
объединяло только отрицание. «Каждый из нас, — гово-
21
рил Готорн, — имел те или другие причины быть недо-
вольным прежним обществом, и каждому хотелось уйти
из него. Однако в вопросе о том, что именно должно за-
менить устаревший общественный строй, мы далеко не
были так единодушны»9.
Пример, который они намеревались преподнести об-
ществу, имел чисто нравственный смысл. Своей жизнью
они должны были наглядно продемонстрировать лож-
ность кумиров буржуазного общества и утвердить новые,
истинные ценности: труд, облагораживающий человека,
наслаждение интеллектуальной деятельностью, занятия
искусством, вольную жизнь в тесном общении с приро-
дой. Независимость от общества, которую собирались
обрести члены общины, подобно независимости Торо
в его уолденском уединении, была весьма относительной,
а житейская практика оказалась весьма далекой от того,
что представлялось им в воображении. Это несоответст-
вие замысла и действительности Готорн постоянно и на-
стойчиво подчеркивает в своей повести. История Блайт-
дейла — это история разрушения утопических иллюзий.
Организовав «свободное» сельскохозяйственное произ-
водство, община тотчас же столкнулась с рынком и выну-
ждена была подчиниться его законам. Как говорит Го-
торн, «не успели мы уйти от жадных, борющихся друг
с другом людей, как нам прежде всего приходится ду-
мать о том, чтобы конкурировать с этими варварами в их
же собственной области» 10. На этом кончилась экономи-
ческая независимость колонии. Не меньшее разочарова-
ние доставили колонистам интеллигентские мечтания по
поводу облагораживающего воздействия физического
труда, одухотворенного высокой идеей. «Пока наше пред-
приятие находилось лишь в состоянии теории, — замечает
автор, — мы наслаждались мечтами об одухотворении
труда. На труд мы смотрели как на молитву, как на рели-
гиозную церемонию. Нам казалось, что каждый удар на-
22
шей лопаты обнажит какой-нибудь корень мудрости...
Комья земли, которые мы беспрестанно выворачивали,
никогда не превращались в мудрость. Они не только не
вызывали новых мыслей, но наши мысли, наоборот, все
больше и больше задергивались туманом. Наш труд был
довольно бессодержателен, и к вечеру наш ум мутнел от
усталости» п.
Недоверие к утопическим предприятиям было свой-
ственно большинству американских романтиков. Даже
Купер и Готорн, как мы видели, положили немало сил
на то, чтобы доказать их практическую неосуществи-
мость. Но многие из них занимались строительством уто-
пий в теории. Может быть, слово «утопия» не вполне
точно выражает суть устремлений американских роман-
тиков, ибо р^ечь и детине столько об идеальной обществен-
ной организации, сколько о нравственном идеале, вопло-
дценном в отдельном челшзеке_или сообществе людейг
Даиболее""7гущег1вен1-1ЫЙПТриз]нак этого идеального чело-
века или сообщества людей — отсутствие лрр™^, гппй-
ственных буржуазно-демократической Америке первой
половины XIX века.
Конструирование «образца» в художественном твор-
честве по большей части осуществлялось путем идеали-
зации реальных общественных явлений, в действитель-
ности весьма далеких от идеала. В одном случае это
были нравы старинных английских поселений («Майский
шест Веселой Горы» в книге Готорна «Дважды расска-
занные истории»), в другом — жизнь пионеров и следо-
пытов, прокладывавших путь цивилизации в девственных
лесах («Следопыт» и «Зверобой» Купера), в третьем —
современный человек, отрекшийся от общества и живу-
щий наедине с природой («Уолден» Торо), в четвертом—^
беспечное и счастливое бытие дикарей, никогда не
сталкивавшихся с цивилизацией («Тайгги» Мелвилла)
и т. д. -
23
Буржуазные историки американской литературы до
сих пор не заметили общей тенденции, свойственной этим
(и некоторым другим) произведениям американского ро-
мантизма. Рассказ Готорна объясняли свойственной
творчеству этого писателя антипуританской направлен-
ностью, упомянутые романы Купера — его разочарова-
нием в общественно-политической жизни Америки три-
дцатых годов (а иногда политической активностью само-
го Купера в конце тридцатых — начале сороковых годов),
в сочинении Торо видели только отчет о его жизни на
берегу Уолденского пруда, а повесть Мелвилла считали
всего лишь рассказом о собственных приключениях.
Вполне вероятно, что перечисленные обстоятельства
имеют непосредственное отношение к возникновению
этих книг. Но если обратить внимание на специфику идей
трансцендентализма, которые получили широкое распро-
странение в Америке в тридцатые и сороковые годы, то
картина приобретает несколько иной характер.
* * *
В том, что американский трансцендентализм пред-
ставляет собой особую форму романтической идеологии,
сегодня уже не сомневается никто. В своей работе по
истории общественной мысли в Америке Паррингтон
справедливо замечает, что это учение было «не столько
философией, сколько верой» 12. Вера трансценденталистов
в «божественное начало, разлитое в природе и присут-
ствующее в душе человека» 13, опиралась на немецкую
идеалистическую философию и была сродни теоретиче-
ским основам английской «озерной школы». Но разви-
тие трансцендентальной идеологии шло по пути, не-
сколько отличному от того, по которому развивалось
творчество Вордсворта или Колриджа. Признание боже-П
ственного начала в человеке означало здесь признание I
24
)
^ценности человеческой личности. Паррингтон совершен-
но прав, когда говорит, что «трансценденталистская вера
была гимном сознанию и воле»и. Она постулировала
превосходство человека над законом, государством, цер-
ковью. Трансцендентализм поэтому был своеобразной
американской формой романтического индивидуализма.
Почти все исследователи отмечают, что трансценден-
талистов не удовлетворяла рационалистическая идеоло-
гия XVIII века, имея при этом в Еиду главным образом
французский философский рационализм. Между тем не
следует забывать, что при всем своем сходстве с евро-
пейскими идеалистическими теориями трансцендента-
лизм был явлением чисто американским, возросшим на
американской общественной почве. Поэтому в соотноше-
нии трансцендентализма с Просвещением следует учи-
тывать прежде всего Просвещение американское. Аме-
риканские просветители разрабатывали в основном уче-
ния, созданные их европейскими собратьями. Они были
преимущественно публицистами и задачу свою видели
в приспособлении европейской просветительской идеоло-
гии к национальным условиям. Но зато в американском
Просвещении родилась нравственная система, которая
легла в основу общественной практики американской
буржуазной демократии. Творцом этой системы был
Франклин. Не случайно он навлек на себя немилость
большей части европейских романтиков, да и не только
европейских. Строго говоря, не он выдумал эту систему.
Корнями своими она уходит далеко в прошлое, ко вре-
менам Реформации и зарождения кальвинизма. Но ни-
когда и нигде она не была сформулирована с такой пол-
нотой, четкостью и, если угодно, откровенностью. Это
была общественная мораль утверждавшего себя третьего
сословия. Поэтому она была революционна. Но это не
мешало ей быть моралью недвусмысленно буржуазной.
Ее антинародный, антигуманный характер обнаружился,
25
когда она стала моралью господствующей. «Ёремя —
деньги», — сказал Франклин. В теории это означало —
«праздность безнравственна». Афоризм был моральным
осуждением привилегированных сословий и призывом
к деятельности, возвышающей человека. На практике
призыв Франклина обернулся обожествлением доллара
и меркантилизмом, который проник во все области обще-
ственной и частной жизни американцев. Царство добро-
детели, обещанное Франклином и его единомышленника-
ми, оказалось царством беззастенчивого стяжательства.
Историки американской литературы в большинстве
своем считают, и не без оснований, что романтическое
движение в Соединенных Штатах не знало тех яростных
вспышек оппозиции просветительским идеям и теориям,
какие были ведомы европейским романтикам. Факты пря-
мой генетической связи американского романтизма с Про-
свещением бесспорны, и отрицать их нельзя. Но невозмож-
но также согласиться с теми исследователями, которые
начисто отвергают всякое проявление антипросветитель-
ских тенденций в американском сознании романтической
эпохи на том лишь основании, что им не удалось обна-
ружить явлений, идентичных явлениям, возникавшим
в европейских странах.
Нельзя забывать, что мы имеем дело с весьма свое-
образной организацией духовной жизни общества, где
факты, принципиально сходные с тем, что мы наблюдаем
в европейской действительности, могут приобретать спе-
цифическую американскую окраску.
Американское Просвещение мало теоретизировало
в области философии и социологии. Просветительская
традиция, идущая от Франклина, имела недвусмыслен-
ный морально-дидактический уклон. Пылкие публицисти-
ческие выступления, посвященные вопросам государ-
ственной самостоятельности, острейшим политическим
проблемам современности, вызванные к жизни войной
26
за независимость, быстро изгладились из памяти амери-
канцев. Даже памфлеты Пейна, заняв свое место на стра-
ницах хрестоматий, перестали их волновать. Но дидакти-
ческий пафос нравственно-просветительских идей Фран-
клина сохранился.
В первые десятилетия XIX века американцы по-преж-
нему преклонялись перед знаниями и нисколько не разо-
чаровались в возможностях человеческого разума. Одна-
ко и то и другое было призвано служить сугубо практи-
ческим целям. В идеале всякий американец должен был,
подобно герою «Автобиографии», стремиться «достичь
вершин славы и богатства», принося максимальную поль-
зу своему государству на ниве торговли, промышлен-
ности, мореплавания, политики и т. д. Именно для этого
и предназначались знания, именно к этому должны были
быть направлены усилия разума. В этом же заключался
смысл нравственных традиций американского просвети-
тельства.
Американское Просвещение, не давшее миру выдаю-
щихся философов или поэтов, породило превосходных
политиков, дипломатов, юристов и ученых. Оно придало
самим этим профессиям ореол благородства и граждан-
ственности. Более того — оно уравняло торговцев, банки-
ров и промышленников с государственными деятелями и
мыслителями. Как замечает Ван Вик Брукс, Америка
знала времена, когда «торговлю с Китаем вели те же
люди, что стояли у кормила правления» 15. Банкиры, куп-
цы и заводчики могли гордиться тем, что их вклад в эко-
номический и культурный прогресс нации был не менее
значителен, чем вклад ученых и государственных мужей.
Это они строили дороги, каналы, мосты, университеты и
обсерватории. Их взгляды и представления, их идеоло-
гия, вся их деятельность были продуктом и практическим
воплощением некоторых идей американского Просве-
щения.
27
В свете изложенного будут понятны специфические
особенности духовного движения сороковых годов в Со-
единенных Штатах вообще и в Новой Англии в особен*
ности. Одной из характерных черт этого движения была
резкая антипросветительская тенденция, проявлявшаяся,
однако, в довольно сложной форме.
Новоанглийские романтики воспринимали просвети-
тельские идеи, уже имея возможность наблюдать их прак-
тическое воплощение в различных аспектах националь-
ной действительности, и это последнее не-вызывало у них
ничего, кроме отвращения. «Пусть политика и торговля
развиваются и крепнут, что из того? Даже искренняя
заинтересованность в политике не могла скрыть того
факта, что во время правления Джексона благородный
тип просвещенного государственного мужа выродился
в шутовскую фигуру политикана. Политическое поприще
безнадежно потускнело, утратило тот блеск, который
придавали ему великие дела прошлого.
Растеряла свое величие и торговля... А какие беды
принесло с собою современное производство... изнури-
тельный труд на фабриках, дикое притеснение матросов.
Наконец, самый страшный позор — рабство. И ведь имен-
но хлысту южного надсмотрщика были наполовину обя-
заны своим процветанием северные фабрики... Торже-
ственные речи по случаю четвертого июля уже не давали
убеждения, что «свобода» предполагает свободный образ
мыслей... Торговая аристократия исповедовала бесстыд-
ные принципы торгашества, «умеренные» унитарианцы
обнаруживали практическую искушенность» 16.
Приведенная цитата рисует довольно точную картину
и многое объясняет в позициях американских романти-
ков тридцатых и особенно сороковых годов. Для евро-
пейского сознания романтической эпохи разрыв между
просветительским идеалом («царством разума») и бур-
жуазной действительностью («царством чистогана») был,
28
как правило, мистифицирован и не поддавался объясне-
нию. Просветительские принципы не совмещались с дей-
ствительностью. Отвращению к действительности не все-
гда и не обязательно сопутствовало отвращение к прин-
ципам. Для американского сознания этого разрыва
между принципами и действительностью не было. Дей-
ствительность представала как воплощение принципов.
Этим объясняется и особый оттенок в протесте амери-
канских романтиков, который делает его столь непохо-
жим на аналогичные явления в духовной жизни Европы,
хотя по существу принципиального различия здесь нет.
Отсюда реакция против рационалистического мора-
лизаторства. Отсюда же популярность Карлейля, Рих-
тера и Жорж Санд. «Молодежь как один пошла в ради-
калы и мистики, — утверждает Брукс. — Деловой размах,
проценты и доллары их не волновали. Они подвергали
пристальному анализу духовный мир человека, дабы
выведать всю подноготную его ума и сердца. Они вер-
нулись к духовному опыту своих предков-пуритан, толь-
ко это была уже новая ступень» 17. В своем суждении
Брукс чрезмерно категоричен. Далеко не вся молодежь
«пошла в радикалы и мистики», и позиция новоанглий-
ских романтиков не была возвращением к духовному
опыту «предков-пуритан», хотя бы и на новой ступени.
Но несомненно, что изложенные обстоятельства объяс-
няют широкое увлечение трансцендентальными идеями
и в какой-то мере самое возникновение американского
трансцендентализма.
В сущности, трансценденталисты занимались тем же,"""!
что и просветители, — они строили нравственный идеал. Д
Смысл этого идеала, его функция не обладали универ-
сальностью нравственной системы просветителей. Он был
противопоставлен^ уроддило^дейе:гвиФвлыш£хи.> и жизнь»,
£огда 1Та нее смо"трелис высоты идеала," обнажала воо—
свою^щттяялпость н-^€знр¥вственность». Паррингтон
29
прав, когда он связывает трансценденталистское «сотво-
рение идеала» с критическим отношением к действитель-
ности, но при этом он переворачивает все с ног на голову.
«Тот, кто витает в сфере идеального, редко бывает удов-
летворен действительностью... — говорит он. — Поэтому
трансценденталисты, хотели они этого или нет, стали взы-
скательными критиками современной им жизни» 18. На
самом же деле здесь налицо обратная связь. Неудовле-
творенность действительностью была в конечном счете
основной причиной «витания в сфере идеального». Идеал^
был главным_орудием трансценденталистской критики,
"а ее метод можно было Ъы назвать"сопостаШтелБным.
Трансценденталистская критика буржуазной Америки
была резкой и непримиримой. Однако история обошлась
с трансцендентальным «идеалом» примерно так же, как
с просветительской нравственной сиг.темой^Видя в чело-
веческом сознании вместилище божественного начала,
Эшфсон^ призывал ~чел о в еч ествтпвгйти -its—псв-тговентгя
зякон ам и госуда'р'ству, банкажII тхертсви,- шко#а^ и тор -
roBjre, Он тр^
инстинктам, стремлениям Твое
собствён"н^"«^
^енитетом!«Апофеоз индивидуализма —-вот как можно
ТГЖух" словах охарактеризовать кредо Эмерсона», — го-
ворит Паррингтон 19. Однако потомки тех самых буржуа,
против которых была направлена трансценденталистская
критика, не осудили Эмерсона. Наоборот, они с удоволь-
ствием восприняли теорию, которая обосновывала их
стремление подчинять свою (и чужую) деятельность ин-
тересам их собственного (отнюдь не идеального) «я».
Апофеоз индивидуализма превратился в апофеоз эго-
изма, самого откровенного и циничного.
Популярность трансценденталистов среди современ-
ников была очень велика. К началу сороковых годов
XIX века идеи Эмерсона имели уже широкое распро-
30
странение, а трансцендентальный критический метод сде-
лался достоянием литературы. Покуда писатель ограни-
чивался созданием положительного персонажа, живу-
щего в соответствии с велениями своего «я» и тем самым
в оппозиции к нравственным нормам общества, он оста-
вался творцом идеала. Когда же он брался за описание
идеального бытия сообщества людей, он становился твор-
цом романтической утопии, которая оставалась положи-
тельным элементом сравнительной критики.
* # *
Характерной особенностью романтической утопии,
созданной Мелвиллом, как, впрочем, почти всякой аме-
риканской романтической утопии, является то, что Мел-*~ч
вилл создавал картину жизни полинезийских дикарей [
для сравнения с цивилизацией, а отнюдь не для того, \
чтобы предложить человечеству путь перестройки соци-
ального бытия. ^
Отнюдь не каждая черта общественного уклада дика-
рей удостоилась быть запечатленной пером автора. Да-
леко не все моменты быта, поведения, характера опи-
саны с одинаковой полнотой и тщательностью. В творче-
ском сознании Мелвилла осуществлялся отбор деталей,
из которых складывалась общая картина. Сейчас трудно
установить, насколько сознательным был этот отбор. Да
это и не столь существенно. Гораздо важней установить
принцип отбора. Тем более что это не представляет осо-
бых затруднений, поскольку книга написана «открыто»,
без сложного подтекста и запутанной системы символов,
в отличие от некоторых позднейших произведений Мел-
вилла.
«Идеальность» тайпи у Мелвилла имеет два аспекта:
естественный и общественный. В естественном своем
аспекте тайпи идеален потому, что он прекрасен. Мел-
31
вилл много и охотно говорит о физическом совершенстве
воина тайпи, о грациозности и изяществе женщин, о не-
обычайной пропорциональности их сложения. «Безыскус-
ственной грации этих детей природы»20 посвящено не-
мало страниц. Но смысл антропологических восторгов
оказывается здесь несколько неожиданным. Он раскры-
вается в том абзаце, где автор не без ехидства предла-
гает читателю представить себе, как выглядела бы кучка
нью-йоркских денди, с которых сняли бы фраки, сюртуки,
цилиндры и оставили бы на них одну только набедрен-
ную повязку. Мелвилл рисует грустно-юмористическую
картину: впалые груди, покатые плечи, тонкие ноги и тол-
стые животы. У читателя нет никакой возможности оши-
биться в значении этого контраста, ибо Мелвилл обстоя-
тельно объясняет ему, что физическая красота тайпи
есть следствие того, что они «вскормлены простыми пло-
дами земли; наслаждаются совершенной свободой от за-
бот и беспокойства и удалены от всех вредоносных тен-
денций (цивилизации. — Ю. /С.)»21. Заметим, кстати, что
ирония Мелвилла направлена очень определенно. Он, на-
пример, не предлагает читателю вообразить себе татуи-
рованного дикаря в цилиндре, что было бы, вероятно, не
менее смешно, чем нью-йоркский денди в набедренной по-
вязке.
Таким образом, мы видим, что когда он говорит о тай-
пи как о «естественном идеале» человека, он отбирает
материал по очень четкому принципу. Его внимание при-
влекают черты физического облика, утраченные цивили-
зованным человеком. Когда же он обращается к сотво-
рению «общественного идеала», то сопоставительность
метода отбора становится еще более очевидной.
Мелвилл не дает в своей книге подробного система-
тического описания общественной организации тайпи. Он
ее не понял и склонен был считать, что никакой органи-
зации не было. Картина, которую он рисует, состоит из
32
отдельных, часто не связанных друг с другом штрихов,
говорящих более всего об общественном сознании тайпи
или даже скорее об их морали.
Основой общественной ж^изни тайпи являются истина
и справедливость, укоренившиеся в его сознании. У него
никогда не возникает желания действовать вопреки исти-
не и справедливости, ибо нет ничего, что могло бы сти-
мулировать такое желание. Тайпи питается плодами, ко-
торые он сам собирает, одевается в тапу, которую сам
изготовляет, и живет в хижине, которую сам строит. Его
богатства — это богатства природы, которые принадле-
жат всем и не принадлежат никому. У тайпи нет соб-
ственности, и он не знает, что такое деньги. То есть, с точ-
ки зрения Мелвилла, он избавлен от двух главных зол
цивилизации. Тайпи наслаждается полной свободой, по-
этому он добродетелен и счастлив. Это и есть, по Мел-
виллу, идеальная демократия.
Картину идеального общественного бытия Мелвилл
опять-таки строит по негативному принципу. Он очень
бегло и кратко говорит о конкретных элементах, из кото-
рых это бытие складывается, но зато подробно повествует
о тех институтах и общественных явлениях цивилизо-
ванного мира, от которых тайпи избавлен: о государстве
и законодательстве, о полиции и преступлениях про-
тив общества, о власти денег, о религиозных гонениях,
о страхе за собственность. Благодаря этому само обще-
ственное бытие тайпи оборачивается суровым пригово-
ром цивилизации. И если в конечном счете читатель не
получает четкого представления относительно обществен-
ной организации тайпи, то он проникается ясно выражен-
ным убеждением, что «цивилизация не умножает добро-
детелей человечества... они процветают более изобильно
среди многих варварских народов», и ему нечего возра-
зить против ядовитого замечания (повторенного не одна-
жды), что термин «дикарь» употребляется не по адресу,
2 Ю. Ковалев
33
ибо «если подумать о пороках, жестокостях й ненормаль-
ностях всякого рода, которые вырастают в зараженной ат-
мосфере лихорадочной цивилизации... то пять или шесть
обитателей Маркизских островов, направленных в Штаты
в качестве миссионеров, принесли бы явно не меньше
пользы, чем такое же количество американцев, послан-
ных на острова с аналогичной целью»22.
Мелвилл был отнюдь не первым путешественником,
попавшим к полинезийцам. Читающая публика распола-
гала уже некоторой информацией о жизни племен, насе-
лявших Маркизские острова. Это обязывало Мелвилла
к известной объективности. Впрочем, Мелвилл и не стре-
мился игнорировать факты или извращать их. Он пытал-
ся честно и беспристрастно рассказать о том, что он
видел, живя среди дикарей. А видел он, разумеется, не
только преимущества дикости перед цивилизацией и по-
нимал, что тотальное отрицание цивилизации невозможно.
Он никуда не мог уйти от каннибализма, неразвитости
интеллекта и общественного сознания, примитивности
быта тайпи и т. д. Все эти явления, дополнив объектив-
ную картину жизни, могли, казалось бы, уничтожить ее
«идеальность» и тем самым разрушить позитивный эле-
мент сопоставительного критицизма Мелвилла.
Однако этого не случилось. Даже темные стороны
«варварства» Мелвилл заставил служить обличению по-
роков цивилизации. Неожиданность сопоставлений, к ко-
торым он прибегал, преследуя свою задачу, граничит по-
рой с виртуозностью. Казалось бы, какая связь между
добыванием огня и воспитанием детей? Мелвилл такую
связь устанавливает и тем самым сводит на нет преиму-
щества цивилизованного человека, пользующегося спич-
ками, перед дикарем, затрачивающим титанические уси-
лия на получение огня путем трения.
«Джентльмен из племени тайпи, — говорит он, — мо-
жет вырастить кучу детей и дать им приличное каннн-
34
бальское воспитание, затратив на это бесконечно мень-
ше труда, чем на добывание огня, тогда как бедный евро-
пейский ремесленник, который посредством спички про-
изводит эту операцию за одну секунду, изматывает себя,
пытаясь раздобыть для своих умирающих с голоду от-
прысков пищу, которую детки полинезийского папы сры-
вают с ветвей, даже не беспокоя своих родителей»23.
Самым уязвимым звеном в полинезийском «идеале»
Мелвилла был, конечно, каннибализм. В сознании писа-
теля постоянно присутствовал незримый оппонент, кото-
рый на все похвалы по адресу тайпи возражал одной
фразой: «А людоедство?» Мелвилл пространно пояснял,
что тайпи вегетарианцы. Они, как правило, не питаются
человечиной. Они съедают только врагов, убитых в сра-
жениях. Но это не меняло фактов. Людоедство остава-
лось людоедством.
Понимая это, Мелвилл вновь обращался к своим уди-
вительным сопоставлениям. Он как бы соглашался со
своим незримым оппонентом, что каннибализм — жесто-
кий обычай. Но взгляните на цивилизованное человече-
ство: «Дьявольское искусство, которое мы обнаруживаем
в изобретении всевозможных смертоносных машин, наши
карательные войны, нищета и разрушения, которые сле-
дуют за ними по пятам, — этого одного достаточно, чтобы
объявить белого цивилизованного человека самым свире-
пым животным на земле»24. Таким образом, даже самые
ужасные стороны «варварства» используются Мелвил-
лом для критики буржуазной цивилизации.
Значительная часть размышлений Мелвилла посвя-
щена распространению цивилизации, которое почти все-
гда предшествовало колониальной экспансии. Мелвилл
как бы предвидел эту экспансию, а в отдельных случаях
был даже ее очевидцем. Страницы «Тайпи», посвящен-
ные деятельности миссионеров, купцов и солдат, пропи-
таны гневом и болью. Мелвилл повествует о реальных
* 35
фактах. Он говорит об искоренении язычества, которое
оборачивается почти полным истреблением некоторых
племен; о развращающем влиянии пороков цивилизации,
которое низводит дикаря до уровня животного; о грабе-
жах, похищениях, убийствах, которые являются будня-
ми «торговой деятельности» белых в Полинезии. Десятки
страниц посвящены этому столкновению варварства и ци-
вилизации, и всегда варвары выступают в качестве жерт-
вы, а цивилизаторы — в качестве насильников, грабите-
лей и убийц. Недаром именно эти страницы вызвали наи-
большее негодование у современной Мелвиллу критики.
Для Мелвилла «варварство» не есть ступень, пред-
шествующая цивилизации. Цивилизация и «варвар-
ство»— это два разных мира, никак друг с другом не
связанных. Они противостоят друг другу во всех отно-
шениях. Их противоположность определяется не только
различным уровнем материального прогресса, интеллек-
та и социальной организации. Она определяется прежде
всего самоощущением дикаря и цивилизованного чело-
века. Мелвилл оперирует категориями и понятиями, вос-
ходящими к просветительским теориям естественного
человека. Для него главное, что отличает «варвара» от
цивилизованного человека, заключается в том, что пер-
вый «счастлив», а последний — нет. На этом, собственно,
построены почти все его рассуждения о перспективах ци-
вилизаторства и христианизации языческих племен. Ци-
вилизация, говорил Мелвилл, «может культивировать ум
дикаря», «возвысить его мысли... но станет ли он счаст-
ливее? Спросите об этом на Гавайских островах, жители
которых болеют и умирают. Миссионеры могут как
угодно скрывать истину, но факты неопровержимы»25.
И здесь не только протест против методов цивилизатор-
ства. Здесь старая, руссоистская мысль о том, что циви-
лизация, даже осуществленная гуманными методами, все
равно не в состоянии сделать человека счастливее. Вновь
36
и вновь Мелвилл сравнивает цивилизованного человека
с дикарем, признавая огромную дистанцию, отделяющую
их друг от друга. «В одном из них виден результат дол-
гих веков цивилизации, которые постепенно превратили
обычное существо в нечто по видимости величавое и воз-
вышенное, тогда как другой на протяжении того же пе-
риода не продвинулся ни на шаг по пути усовершенство-
вания. „И все же, — говорю я себе, — разве этот дикарь,
избавленный от тревожных забот, не испытывающий ты-
сячи потребностей, не является из них двоих более сча-
стливым?"»26.
н« * *
Слово «цивилизация» почти не сходит со страниц
«Тайпи». Однако означает оно далеко не всегда одно и
то же. Иногда это процесс насильственного приобщения
диких племен к отдельным (по большей части отрица-
тельным) сторонам буржуазной общественной практики,
культуры и сознания, иногда — длительное поступатель-
ное развитие человечества от варварских времен до со-
временности, и, наконец, — некий сложный комплекс,
куда входит система общественных отношений, полити-
ческая организация, господствующие нравственные прин-
ципы современной Мелвиллу буржуазной Америки.
В этом последнем значении слово «цивилизация» преиму-
щественно и употребляется в «Тайпи». Мелвилл распро-
странял это свое представление о цивилизации и на та-
кие страны Европы, как Англия и Франция. Он имел
к тому основания, ибо речь шла о явлениях, сопутствую-
щих буржуазному прогрессу вообще, где бы он ни совер-
шался. Национальная специфика не уничтожала единого
существа процесса. Однако для нас чрезвычайно значи-
тельным остается тот факт, что представления Мелвилла
о цивилизации формировались преимущественно под
влиянием американской общественной действительности.
37
В историях американской литературы и во многих ра-
ботах, специально посвященных творчеству Мелвилла,
существует странная традиция зачеркивать первые два-
дцать пять лет в жизни писателя или, во всяком случае,
не принимать их всерьез. Считается, что с семнадцати до
двадцати пяти лет жизнь Мелвилла состояла сплошь из
романтических приключений на суше и на море, а жажда
этих приключений была главной силой, толкавшей его на
те или другие поступки. Более того — предполагается, что
все это время сознание Мелвилла сохраняло девствен-
ную нетронутость и жизнь не оставляла в нем ни малей-
ших следов. Трудно представить себе большее заблужде-
ние.
Болезненное соприкосновение Мелвилла с действи-
тельностью началось сравнительно рано. Детство его про-
ходило в атмосфере бесконечных внутрисемейных кон-
фликтов, нервозности и страха, порожденных неустойчи-
вым материальным положением. Еще ребенком Мелвилл
ощутил трагическое значение таких понятий, как депрес-
сия, долги, банкротство. Его отец, мелкий коммерсант,
разорился и умер, не выдержав нервного потрясения.
Мелвиллу довольно рано пришлось познакомиться с уни-
зительным положением бедного родственника, который
чувствует себя лишним ртом, обузой. Именно здесь пре-
жде всего, а не в'романтической страсти к приключениям
следует искать причины, побудившие Мелвилла уйти из
дома и наняться юнгой на корабль.
Старший брат Мелвилла Гансворт, сделавшийся гла-
вой семьи в шестнадцать лет, пытался поправить матери-
альное положение. На деньги, взятые в долг, он открыл
меховую лавку. Однако кризисная волна 1837 года, унес-
шая тысячи мелких состояний, разрушила последнюю на-
дежду семьи. Даже мать Мелвилла вынуждена была
объявить себя несостоятельной должницей. В юношеское
сознание будущего писателя вошли новые понятия: «суд»,
3d
«опись имущества», «закладные», «продажа с молотка».
И это были отнюдь не отвлеченные понятия. Мелвиллу
был известен горький привкус их конкретного содержа-
ния.
В конце 1837 года семья перебралась в маленький го-
родок Лансинбург, где сестры Мелвилла пытались зара-
батывать шитьем, а мать напрягала все силы, чтобы све-
сти концы с концами.
Детство Мелвилла кончилось рано. Ему не удалось
получить порядочного школьного образования, а мечта
о колледже так никогда и не осуществилась. Знаменитое
библейское изречение о хлебе, который зарабатывается
в поте лица, не было для Мелвилла абстракцией. В том
возрасте, когда дети ходят в школу, он служил рассыль-
ным и младшим клерком в нью-йоркском банке. В пят-
надцать лет он начал учительствовать в деревенской
школе неподалеку от Питтсфилда. Ученики его были ему
ровесниками. Они знали почти столько же, сколько их
наставник, а в житейском смысле нередко бывали много
опытней. Но главной причиной шаткости педагогического
авторитета Мелвилла было зависимое положение, в ко-
тором находился всякий сельский учитель той эпохи.
Мизерное жалованье ему выплачивали в складчину ро-
дители учеников, а кормился он, как деревенский пастух,
переходя из дома в дом. Неудивительно, что Мелвилл
возненавидел эту свою должность, как возненавидел раб-
ство, в которое ввергает человека бедность.
При первой же возможности Мелвилл сбежал из шко-
лы. Он готов был взяться за любую работу. Но найти ее
было не так легко, и в 1839 году он завербовался юнгой
на корабль «Святой Лаврентий», отправлявшийся из
Нью-Йорка в Ливерпуль. Не в погоне за романтикой,
а ради хлеба насущного.
Подобно своему знаменитому соотечественнику Дже-
ку Лондону, Мелвилл плавал простым матросом и раз
39
навсегда усвоил, что жизнь моряка не ограничивается
общением человека с романтической стихией. Это была
работа, тяжелый, временами адский труд. Палуба ко-
корабля отнюдь не представляла собой некую экзотиче-
скую территорию, ступив на которую человек автомати-
чески освобождается от всех социальных связей и при-
нуждения. Море не отграничивало человека от общества.
Команда корабля оставалась частью общества и жила
по тем же нравственным законам.
Промышленный Ливерпуль рисовался современникам
Мелвилла как апофеоз капиталистической цивилизации.
Это был город фабричных труб и трущоб,, убожества и
нищеты, город подвалов и пивных. Уличную толпу его
составляли изможденные рабочие, больные дети, вербов-
щики, матросы и проститутки. Таким увидел этот город
через пятнадцать лет после Мелвилла Готорн, который
был американским консулом в Ливерпуле. Таким — или
почти таким — видел его и Мелвилл.
Шел 1839 год — год первого, острого подъема чар-
тистской агитации. В Лондоне Джулиэн Гарни предрекал
кровавую революцию и звал в поход миллионную армию
«людей Севера»; в Ныопорте произошло чартистское вос-
стание, до смерти перепугавшее английскую буржуазию.
В Ливерпуле толпы безработных маршировали по ули-
цам, а на окраинах собирались многотысячные митинги
и жадно слушали чартистских ораторов. Прошло много
лет, прежде чем Мелвилла перестало мучить «чувство
Ливерпуля» — ощущение убожества, нищеты и беспро-
светного отчаяния.
При первой же возможности Мелвилл вернулся до-
мой. Матросская служба не оправдала его надежд. Сно-
ва начались мытарства и поиски работы, сопровождав-
шиеся унизительными попытками занять деньги. На
какое-то время Мелвилл был вынужден вернуться к
учительской профессии. Потом он работал па свинцовых
40
рудниках Галены. И наконец без всякого энтузиазма за-
вербовался матросом на китобойное судно «Акушнет».
Таков был социальный опыт Мелвилла; таков был
биографический фон, на который ложились впечатления
от солнечной долины тайпи. Мелвилл наблюдал жизнь
дикарей вовсе не бесстрастным взором, и характер этого
пристрастия диктовался нормами жизни, от которой он
бежал на Нукухива. Жестокость капитана Пиза, коман-
довавшего «Акушнетом», была, видимо, последней кап-
лей, переполнившей чашу. Но в чаше этой было много
всего: и мучительная борьба за существование, и длин-
ная цепь унижений, и продажа имущества с молотка,
и учительство в Питтсфилде, и трущобы Ливерпуля.
Потом Мелвилл вернулся в тот самый мир, из кото-
рого сбежал: снова китобойное судно, затем военная
служба с ее палочной дисциплиной, грубостью, телес-
ными наказаниями и наконец опять Лансинбург. Но те-
перь Мелвилл смотрел на этот мир несколько иначе. Где-
то в глубине сознания жил светлый образ долины тайпи.
Чем идеальнее был образ, тем резче и непримиримее
становилось отношение Мелвилла к действительности.
Жизнь, которую он видел вокруг себя и которая суще-
ствовала в его памяти, воспринималась им в сравнении
с идеалом и тотчас обнаруживала все свои несовершен-
ства.
Историка литературы, изучающего раннее творчество
Мелвилла, поражает неожиданное сходство, некая вну-
тренняя связь между многими страницами «Тайпи» и
дневниками Эмерсона. Порой возникает даже ощущение,
что отдельные сцены и авторские отступления в повест-
вовании Мелвилла представляют собой художественную
иллюстрацию к дневниковым записям знаменитого транс-
ценденталиста. За преклонением Мелвилла перед удиви-
41
тельной простотой отношений тайпи, перед отсутствием
собственности и денег, перед гармоническим слиянием
человеческой жизни с природой слышатся суровые инвек-
тивы Эмерсона против коммерции, против нашествия
торговли, машин, кредита, железных дорог на «природу»,
против института собственности «в его нынешнем виде»,
который требует, чтобы собственность, а не человек,
стояла в центре внимания. Сцены, повествующие об ин-
туитивном, «естественном» коллективизме, о единодушии
тайпи, основанном на единстве интересов и всеобщем
равенстве, невольно вызывают в памяти размышления
Эмерсона об американской демократии, которая «не име-
ет ничего общего с подлинно демократическим нача-
лом»27. Кстати, бескорыстная демократия тайпи в изо-
бражении Мелвилла весьма напоминает практическое
воплощение полуанархической теории государства Эмер-
сона: здесь нет сложного государственного механизма,
нет ограничений (кроме табу), отсутствуют всякие сред-
ства принуждения, общественное бытие основано на
принципе добровольности и на тождестве интересов.
Эмерсон бичевал социальное зло, указывал на общие
принципы и конкретные явления, о которые разбивалось
стремление человечества установить справедливую и ра-
зумную общественную систему. Мелвилл, словно подслу-
шав Эмерсона, рисовал картины жизни тайпи, лишенной
всего того, что, с точки зрения Эмерсона, препятствовало
свободному и счастливому развитию человечества. При
этом он, как правило, приводил отрицательные парал-
лели из жизни цивилизованного (то есть американского)
общества, опять-таки напоминающие гневные филиппики
Эмерсона.
Не лишен интереса тот факт, что на появление «Тай-
пи» откликнулись видные участники трансцендентально-
го клуба — Джордж Рипли и Маргарет Фуллер. Рецензия
Рппли, помещенная в журнале, издававшемся колониста-
42
ми «Врук Фарм» («Харбипджер»), была обращена к ши-
рокому кругу читателей, интересовавшихся трансценден-
тализмом. Показательно, что Рипли «более всего заинтере-
совало общественное состояние, описанное в „Тайпи"»28.
Любопытно и другое обстоятельство. Вскоре после вы-
хода книги в свет Мелвилл читал лекцию о своей жизни
«среди каннибалов». По окончании лекции некто (имя
его, к сожалению, до нас не дошло) настойчиво и подроб-
но расспрашивал писателя о возможности устроить коло-
нию на Маркизских островах. Все это говорит о том, что
трансценденталисты почувствовали в «Тайпи» нечто близ-
кое к их собственным идеям и представлениям.
Биографы и критики Мелвилла обычно пренебрегают
как очевидной близостью «Тайпи» к некоторым идеям
Эмерсона, так и определенным интересом, который первая
книга Мелвилла вызвала в трансценденталистских кру-
гах. Они опираются при этом на тот факт, что Мелвилл
не читал Эмерсона и не слышал его устных выступлений.
Однако они упускают из виду одно весьма существен-
ное соображение: для того чтобы приобщиться к транс-
ценденталистским идеям в середине сороковых годов
XIX века, не обязательно было читать Эмерсона. Эти
идеи, так сказать, носились в воздухе. К 1844 году, когда
Мелвилл возвратился из далеких странствий, Эмерсон
был уже широко известен. Его произведения сделались
предметом неослабевающего интереса не только в лите-
ратурных кругах, но и в более широкой читательской
аудитории. Не забудем также, что с 1840 по 1844 год
трансценденталисты издавали свой журнал «Дайэл»,
игравший существенную роль в духовной жизни Америки
сороковых годов и содействовавший распространению
идей трансцендентализма. Об этих идеях говорили и спо-
рили повсюду, особенно в Бостоне и Нью-Йорке.
Происхождение трансценденталистских идей и поня-
тий, разумеется, не было чисто умозрительным. Они
43
неизбежно должны были возникнуть при столкновении
каких-то наиболее общих элементов романтических пред-
ставлений с действительностью, обладающей определен-
ными исторически обусловленными свойствами. Может
быть сколько угодно оговорок относительно индивидуаль-
ных особенностей сознания того или иного писателя или
специфического характера той части общенациональной
действительности, с которой он более всего соприкасался.
Но несомненно, что основные типы американского роман-
тического восприятия явлений общественной жизни опре-
делялись в значительной мере всей совокупностью кон-
кретно-исторических обстоятельств эпохи. Именно этим
объясняется неожиданное сходство, которое можно обна-
ружить у таких далеких друг от друга писателей, как,
скажем, Купер и Готорн.
Некоторые историки литературы обратили внимание
на это единство действительности, пытаясь определить
характер цивилизации, против которой восстает Мелвилл
в «Тайпи». Они говорят о ней как о цивилизации, от ко-
торой ушел в девственные леса Натти Бумпо, от которой
замкнулся в своем уолденском уединении Торо, от кото-
рой, наконец, несколько позднее спасался Гекльберри
Финн, произносящий на последней странице романа свою
знаменитую фразу: «А мне, пожалуй, пора смываться...
потому что тетя Салли говорит, что она собирается усы-
новить меня и цивилизовать. А я не выдержу. Знаем мы
эту цивилизацию».
Элементы романтической утопии в «Тайпи», следова-
тельно, обязаны своим возникновением не только и не
столько характерным особенностям жизни маркизских
каннибалов, сколько американской буржуазной действи-
тельности и духовной жизни американского общества
первой половины сороковых годов XIX столетия.
МЕЛВИЛЛ
И «МОЛОДАЯ АМЕРИКА»
В американском мелвилло-
ведении господствует концепция «одинокого гения».
В свете этой концепции Мелвилл предстает перед нами
как художник, отъединенный от национальной жизни,
стоящий в стороне от социально-политических конфлик-
тов своего времени, от литературной борьбы эпохи и за-
нятый исключительно самим собой — своими мыслями,
переживаниями, ощущениями, историей собственной жиз-
ни. Неудивительно, что многие исследователи подходят
к произведениям Мелвилла как к документам для психо-
биографии писателя.
Само существование этой концепции возможно толь-
ко в том случае, если полностью пренебречь некоторыми
действительными обстоятельствами жизни и творчества
Мелвилла, в том числе историей его взаимоотношений
45
с «Молодой Америкой». Так, собственно, и поступает
большинство биографов.
Участие Мелвилла в деятельности «Молодой Америки»
и влияние младоамериканской идеологии на его мировоз-
зрение и творчество — одна из самых «странных» проб-
лем современного мелвилловедения. В большинстве об-
щих и частных исследований, посвященных Мелвиллу,
«Молодая Америка» даже не упоминается.
«Молодая Америка» — литературно-политическая
группировка, возникшая в Нью-Йорке в конце тридцатых
годов. Она выросла из маленького литературного круж-
ка, основанного в 1836 году четырьмя молодыми литера-
торами и названного по числу участников «Тетрактис-
клубом». Даже позднее, когда организация расширилась
и была переименована, постоянные ее участники продол-
жали называть себя тетрактами. Ядро «Молодой Аме-
рики» составляла небольшая группа критиков и писате-
лей, ныне почти забытых: Корнелиус Мэтьюз, Уильям
Джонс, Аллен Батлер, Джерри Олд. Их признанным ли-
дером был редактор, издатель, критик Эверт Дайкинк.
Силой исторических обстоятельств «Молодая Аме-
рика» оказалась в самом центре ожесточенной литера-
турной борьбы. Ее деятельность привлекала к себе вни-
мание и интерес широкого круга литераторов; ее идеи
становились ферментом, стимулировавшим развитие эсте-
тической мысли и самой литературы. И если среди по-
стоянных членов организации не было литературных ги-
гантов, то среди «попутчиков», эпизодически сражавших-
ся в ее рядах, мы найдем Эдгара По, Уолта Уитмена и
Джона Уиттьера.
В политическом отношении «Молодая Америка» при-
мыкала к группе «Локо-фоко», то есть к левому крылу
джексоновской демократической партии, и видела свою
задачу в демократизации всех областей национальной
жизни. «Молодая Америка» не отделяла литературу от
46
политики и требовала от писателей прямого, активного
участия в политической борьбе.
Свои идеи «Молодая Америка» пропагандировала че-
рез журналы, издававшиеся участниками группы и поли-
тическими единомышленниками. В первую очередь здесь
следует назвать такие издания, как «Арктурус», «Демо-
кратическое обозрение», «Литературный мир» и недолго-
вечный «Янки Дудль». Именно в них была опублико-
вана основная масса материалов, позволяющих нам сего-
дня судить о литературной политике этой группы *.
«Молодая Америка» просуществовала сравнительно
недолго. Однако, несмотря на свою недолговечность, она
оставила заметный след в американской литературной
жизни середины XIX столетия. Главной сферой прило-
жения сил для младоамериканцев была борьба за лите-
ратуру национальную и демократическую. Она велась
одновременно по нескольким линиям. «Молодая Аме-
рика» оказывала всяческую поддержку американским
авторам, содействовала публикации их произведений,
пропагандировала их творчество, стремилась привлечь
к ним внимание широкой литературной общественности.
Этим, однако, дело не ограничивалось. «Молодая Амери-
ка» пыталась выработать нечто вроде программы — круг
требований, которые она предъявляла к литературе и пи-
сателю и среди которых одно из важнейших мест зани-
мало требование демократизма и гражданственности.
В области литературной методологии младоамери-
канцы не создали сколько-нибудь цельной и законченной
системы. Они ратовали за сближение литературы с на-
циональной действительностью, которую они понимали
прежде всего как жизнь народа. Отсюда поддержка
* Читатели, которые захотят более подробно ознакомиться с
деятельностью «Молодой Америки» и ее теориями, могут обратиться к
иавдей небольшой монографии'«Молодая Америка», нзд-во ЛГУ, 197),
47
урбанизма в литературе, отсюда же призывы использо-
вать в литературном творчестве фольклорные жанры, и в
первую очередь американский народный юмор. Если све-
сти воедино многочисленные и разнообразные высказыва-
ния младоамериканцев по вопросам литературной мето-
дологии, то можно прийти к заключению, что хотя в ос-
новном они мыслили в рамках романтической эстетики,
их деятельность все же создавала предпосылки для фор-
мирования эстетики реалистической.
В особую заслугу «Молодой Америке» надо поставить
разработку новых принципов литературной критики,
опирающихся на историко-социологический подход к яв-
лениям литературы. «Идеологическая критика», как ее
называли младоамериканцы, имела далеко идущие по-
следствия. К ней восходят наиболее плодотворные лите-
ратурно-критические школы в Америке второй половины
XIX и XX веков.
Наконец, напомним, что идеи «Молодой Америки»
оказали значительное влияние на современную ей лите-
ратуру. Творчество многих американских писателей се-
редины XIX века формировалось под непосредственным
воздействием младоамериканской идеологии, хотя, разу-
меется, это воздействие не было единственным или исклю-
чительным. К их числу можно смело отнести таких поэ-
тов и прозаиков, как Уиттьер, Мелвилл и особенно Уит-
мен, в чьих произведениях литературная программа
«Молодой Америки» получила наиболее полное вопло-
щение.
+ * *
Напомним о некоторых обстоятельствах биографии
Мелвилла, относящихся к началу его литературной дея-
тельности.
В октябре 1844 года фрегат «Соединенные Штаты»
бросил якорь в Бостоне, и рядовой матрос Герман Мел-
48
вилл уволился из флота. Покинув корабль, он отправил-
ся в Лансинбург, где поселился в доме своих родных.
Там, по совету друзей и знакомых, плененных рассказами
о пережитых им приключениях, он начал писать свою
первую повесть «Тайпи». Ее создал не писатель Мелвилл,
а матрос Мелвилл, не помышлявший о том, чтобы сде-
лать писательский труд своей профессией. Сочинение
этой книги было своего рода отдыхом от тягот и лише-
ний почти четырехлетнего плавания.
Как известно, вторая книга Мелвилла — «Ому» — во
многих отношениях (и прежде всего с точки зрения фа-
булы) является продолжением «Тайпи». Она тоже пред-
ставляет собой повествование о том, что случилось с ав-
тором во время его плавания на китобойных судах, при-
чем начинается оно с тех самых событий, которыми
оканчивается «Тайпи». Любопытно, однако, что, завер-
шив свою первую книгу, Мелвилл отнюдь не торопился
продолжить повествование. Даже публикация «Тайпи»
в Лондоне и Нью-Йорке не побудила его к этому. Можно
с полным основанием предполагать, что Мелвилл вообще
не собирался писать свою вторую книгу. Иначе как объ-
яснить то странное обстоятельство, что между оконча-
нием «Тайпи» и началом работы над «Ому» прошло по-
чти полтора года, практически ничем не заполненных?
Первое документальное свидетельство о том, что он рабо-
тает над новой рукописью, относится только к середине
1846 года.
По всей вероятности, Мелвилл решился сделать лите-
ратурное творчество своей профессией после выхода вто-
рого американского издания «Тайпи». Он уверовал в свой
талант, а главное, в то, что сможет существовать на лите-
ратурный заработок.
Мелвилл был человеком твердого характера и, приняв
решение, уже не отступал от него, хотя оснований к тому
было вполне достаточно. Начиная с 1846 года Мелвилл
49
работает напряженно и регулярно. В ближайшие десять
лет, которые, в сущности, и были годами профессиональ-
ной писательской деятельности Мелвилла, он написал и
опубликовал десять книг, почти исчерпывающих его твор-
ческое наследие.
Теперь взглянем на дело с другой стороны. Решение
стать профессиональным писателем означало полный пе-
реворот в жизни Мелвилла, и к этому перевороту он был
недостаточно подготовлен. Двадцатисемилетний начи-
нающий писатель обладал значительным, хотя и ограни-
ченным, жизненным опытом, который только теперь как
то начал осмысливать.
Осмысление жизни давалось ему, очевидно, не без
труда. Справедливо, что Мелвилл был очень наблюда-
телен, обладал редкой интуицией, чуткостью к сдви-
гам в общественном сознании, остро улавливал атмо-
сферу времени. Но не следует закрывать глаза и на
тот факт, что образование Мелвилла было, мягко го-
воря, незначительным, и пробел этот не покрывался
бессистемным, хоть и обильным чтением. Садиться на
студенческую скамью было уже поздно. Следовательно,
нужна была какая-то сила, особая среда, которая на-
правляла бы внутреннее развитие Мелвилла и тем из-
бавляла бы его от растраты сил в хаотическом движе-
нии.
Первая книга Мелвилла имела успех. Но писателя
мучило ощущение «нечаянности» этого упеха. Он доволь-
но смутно представлял себе состояние, задачи, перспек-
тивы литературной жизни Америки. Ожесточенная борь-
ба на страницах литературных журналов, полемика во-
круг вопросов стиля, жанра, принципов критической
оценки литературных произведений — все это было для
Мелвилла книгой за семью печатями.
Мелвилл должен был остро почувствовать собствен-
ную неориентирорацность в литературных делах в связи
50
с тем резонансом, который вызвало первое издание «Тай-
пи». Он не понимал подлинного смысла обвинений в не-
достоверности, не видел, что стремление критики подо-
рвать доверие к автору вызвано общей его позицией отно-
сительно буржуазной цивилизации и миссионерства, и
с упорством, достойным лучшего применения, доказывал
правдивость каждого эпизода повести. Конечно, он дол-
жен был догадываться, что первой своей книгой он уже
участвовал в литературной борьбе. Слишком велик был
накал страстей. Но что это была за борьба? Кто были его
противники? Кто — соратники? Чего хотели те и другие?
И почему проблема «правдивости» приключенческой по-
вести приобрела вдруг столь важное значение? Все это
Мелвилл едва ли понимал. Лишь позднее, при повторном
издании «Тайпи», когда издатели потребовали изъять
ряд эпизодов, до Мелвилла начал доходить истинный
смысл происходящего.
Указанные обстоятельства делали потребность в на-
правляющей, ориентирующей силе еще более острой,
а приобщение к литературной среде становилось жизнен-
ной необходимостью.
Такова была ситуация, когда состоялось знакомство
Мелвилла с Эвертом Дайкинком, быстро приведшее к
обоюдному сближению и приобщению Мелвилла к делам
«Молодой Америки».
Любые рассуждения сегодняшних историков литера-
туры о «незначительности» роли Дайкинка в литератур-
ной истории Соединенных Штатов, о том, что рядом
с «титаном» Мелвиллом он выглядел «пигмеем», даже
если бы они были справедливы, утрачивают всякий
смысл, будучи приложены к тем временам-, когда состоя-
лось знакомство, то есть к 1846 году.
51
По ощущению Мелвилла, «титаном» из них двоих был
именно Дайкинк, а сам он, в собственных глазах, был
если и не «пигмеем», то, во всяком случае, робким уче-
ником. Это вполне естественно. Дайкинк обладал высо-
ким авторитетом в литературных кругах, он был извест-
ным редактором, критиком, издателем журналов, при-
знанным главою «Молодой Америки». Мелвилл же пока
еще оставался только матросом, недавно сошедшим с ко-
рабля, автором единственной книги.
Вполне естественно, что с самого начала отношения
между Дайкинком и Мелвиллом были отношениями на-
ставника и неофита. Дайкинк растолковывал Мелвиллу
смысл событий литературной борьбы, руководил его чте-
нием, давал советы, читал черновые варианты рукописей,
далеких от завершения. Кстати, Дайкинк был единствен-
ным человеком, которому Мелвилл когда-либо показы-
вал незаконченные работы.
Первая встреча Мелвилла с Дайкинком произошла,
по-видимому, в мае или июне 1846 года. Через несколько
месяцев Мелвилл сделался постоянным посетителем дома
Дайкинка на Клинтон-Плейс, 20, «ненасытным читате-
лем» дайкинковской библиотеки и участником ежесуб-
ботних младоамериканских сборищ. В декабре 1846 года
он фактически примкнул к «Молодой Америке», а в на-
чале 1847 года был торжественно посвящен в тетракты.
В доме Дайкинка Мелвилл встречался с писателями
и критиками, участвовал в обсуждении проектов новых
журналов и газет, издание которых затевала «Молодая
Америка», внимательно вслушивался в споры о задачах
и принципах «новой» американской литературы и лите-
ратурной критики, сочувственно наблюдал за разработ-
кой стратегических планов сражений, которые «Молодая
Америка» предполагала еще дать вигам вообще и никер-
бокерам { в частности. Но он не только вслушивался и
наблюдал. Довольно скоро Мелвилл стал активным
52
участником многих предприятий «Молодой Америки».
Иначе, собственно, не могло и быть.
Напомним, что в это время «Молодая Америка» пе-
реживала полосу тяжелых неудач, сопровождавшихся
событиями, которые в глазах младоамериканцев имели,
вероятно, катастрофический смысл. Субботние собрания
на Клинтон-Плейс, 20 отнюдь не были похожи на неспеш-
ные и бесстрастные беседы мудрецов. Они скорее напо-
минали бурные заседания военного совета армии, веду-
щей тяжелые бои с превосходящими силами противника.
Перри Миллер совершенно прав, когда упрекает биогра-
фов Мелвилла за то, что они «работают по герой-центри-
ческой системе, которая не принимает в расчет обстоя-
тельств. Они воображают, что визиты Мелвилла к Дай-
кинку посреди всех этих бурных событий были посвящены
спокойным беседам»2. Возможно, Миллер несколько пре-
увеличивает, когда утверждает, что «на Клинтон-Плейс, 20
Мелвилл учился, как стать мучеником во имя нацио-
нальной литературы», но несомненно, что он проникался
идеями и духом «Молодой Америки», и не только про-
никался, но и руководствовался ими в своей деятель-
ности.
В ближайшие годы (1847—1848) Мелвилл принимал
самое живое участие в делах «Молодой Америки». По
настоянию Дайкинка и Мэтьюза он начал регулярно
сотрудничать в «Литературном мире» и в «Янки Дудль».
В течение одного только года, последовавшего за всту-
плением Мелвилла в «Молодую Америку», он написал
шесть литературно-критических статей и рецензий для
«Литературного мира» и семь «сатир» для «Янки Дудль».
В 1850 году, по возвращении из Европы, Мелвилл
опубликовал в «Литературном мире» свою знаменитую
статью о Готорне, которую некоторые исследователи
считают одним из характерных манифестов «Молодой
Америки».
53
Вполне вероятно, что литературно-критическая дея-
тельность Мелвилла не исчерпывается означенными выше
публикациями. Можно предположить, что им были напи-
саны для «Молодой Америки» и другие статьи, не уви-
девшие света в силу разных обстоятельств..
* * *
Публикация статей и рецензий Мелвилла в младо-
американских изданиях уничтожала всякие сомнения
относительно принадлежности Мелвилла к «Молодой
Америке». И дело здесь не только в самом факте наие-
чатания, но и в очень недвусмысленной ориентации этих
статей и рецензий.
Появление нового члена в младоамериканском содру-
жестве было тотчас замечено не только союзниками, но
и противниками «Молодой Америки». Неожиданно для
себя Мелвилл, наряду с небольшой группой друзей, при-
обрел множество могущественных врагов. До сих пор
в глазах консервативной критики Мелвилл был не лишен-
ным дарования «певцом южных морей», «человеком, ко-
торый жил среди каннибалов». Теперь он сделался
опасным «литературным националистом» и «зловредным
демократом». Еще совсем недавно никербокеры и прочие
критики провиговскои ориентации относились к нему
вполне одобрительно и похваливали его «полинезийские
опыты». Этому литературно-критическому благополучию
пришел конец. Отныне рецензии, появляющиеся в журна-
лах вигов, приобретают оттенок инвективы, направлен-
ной, впрочем, не столько против автора, сколько против
«Молодой Америки». Книги Мелвилла — их пока только
две: «Тайпи» и «Ому» — становятся полем битвы. Кон-
сервативные критики совершают на них набеги с един-
ственной целью доказать несостоятельность младоамери-
54
канизма. Не в силах стерпеть этого, Дайкинк и его дру-
жина идут военным маршем по мелвилловскому тексту,
чтобы доказать обратное.
В своем стремлении наносить удары по «Молодой
Америке» «через Мелвилла» консервативная критика
стала приспосабливать мелвилловские книги под паро-
дии, не лишенные порой известного остроумия. Приведем
один только пример.
В октябре 1847 года журнал «Сатердей ивнинг пост»
совершил вылазку против защитников авторского права
(то есть в первую очередь против «Молодой Америки»),
напечатав мнимое «Письмо автора „Тайпи"», озаглавлен-
ное «Авторское право, авторы и авторство». Расчет был
простой: все знали, что «Молодая Америка» принадле-
жит к числу самых страстных поборников авторского
права. Известно было также, что Мелвилл — участник
«Молодой Америки». Отсюда задача: представить взгля-
ды Мелвилла по поводу авторского права в максимально
нелепом виде и тем дискредитировать «Молодую Амери-
ку» и самую идею авторского права.
Любопытно отметить, что, каковы бы ни были взгляды
Мелвилла на вопрос об авторском праве, он ни разу еще
не высказывал их публично, и, следовательно, един-
ственная причина, которая могла побудить редакцию
«Сатердей ивнинг пост» напечатать упомянутую пародию
на «Тайпи», заключалась в том, что консервативная
критика безоговорочно причисляла Мелвилла к «Мо-
лодой Америке». Другого объяснения здесь быть не мо-
жет.
Заметим кстати, что столь же просто решается и еще
одна из проблем, связанных с восприятием книг Мелвил-
ла современниками. Биографы Мелвилла обратили вни-
мание на одно характерное обстоятельство: примерно
с середины 1847 года количество недоброжелательных
рецензий на «Тайпи» и «Ому» резко возрастает. Попытки
55
дать объяснение этому факту многообразны и противо-
речивы. Некоторые мелвилловеды прибегают порой к
сложным построениям, чтобы доискаться причин этой
«странной» враждебности. Между тем здесь, в сущности,
нет никакой проблемы. Стоит только обратить внимание
на то обстоятельство, что большинство «отрицательных»
рецензий печаталось в журналах вигов, а их авторами
были критики консервативного лагеря, как станет ясно,
что пресловутая враждебность рецензий объясняется
главным образом принадлежностью Мелвилла к «Моло-
дой Америке».
«Молодая Америка» приняла Мелвилла в свои ряды,
как говорится, с распростертыми объятиями. Она чув-
ствовала, что пришло время переносить борьбу из обла-
сти литературной критики в собственно литературу.
Здесь, и только здесь, по ее убеждению, справедливость
младоамериканских идей могла быть доказана полно-
стью.
Мелвилл во многих отношениях был той самой фигу-
рой, которая требовалась «Молодой Америке». Более чем
кто-либо другой, он удовлетворял требованиям особой
модификации романтической идеи о «природном гении»,
которая была в ходу у дружины Дайкинка. В глазах
«Молодой Америки» он являл собой образец стопроцент-
ного американца и воплощение национального творче-
ского духа. Американец по происхождению, по рождению,
по образу жизни и по профессии, наследник традиций
двух, можно сказать, изначальных элементов колони-
зации Америки — голландского (через Гансвортов) и
английского (через Мелвиллов)', прямой потомок участ-
ников войны за независимость, матрос и китобой, Мел-
вилл должен был представляться воплощением амери-
канизма. По всей вероятности, «Молодая Америка» на-
деялась, что с ее помощью из Мелвилла вырастет тот
самый американский «Гомер масс», поэт «из народа и
50
для народа», который должен был заложить оснобы на-
циональной литературы. В этом смысле вовлечение Мел-
вилла в «Молодую Америку» было значительным завое-
ванием младоамериканцев.
Все это, однако, не ставило Мелвилла в какое-то осо-
бое положение и не препятствовало его участию в повсе-
дневной деятельности «Молодой Америки». С самого
начала Мелвиллу-критику была отведена вполне опре-
деленная и весьма важная роль. Среди сотрудников «Ли-
тературного мира» он занял место эксперта-мариниста —
амплуа, если учесть общий характер американской лите-
ратурной жизни, весьма значительное.
Почти в каждом журнале имелся критик или обозре-
ватель, сделавший литературную маринистику своей
«специальностью». Но никто из них, естественно, не мог
соперничать с Мелвиллом в знании и глубоком понима-
нии всех обстоятельств и деталей «морской жизни». Его
суждения в этой области имели непререкаемый автори-
тет. Один из немногих, он имел право говорить от имени
моряков и литераторов, будучи тем и другим.
В свете сказанного становится вполне понятным и за-
кономерным тот факт, что из всех статей и рецензий Мел-
вилла, опубликованных на страницах младоамерикан-
ского «Литературного мира», только одна не имеет отно-
шения к маринистике.
Вступление Мелвилла в «Молодую Америку» нала-
гало определенные обязательства не только на него, но
и на остальных участников группы. Теперь Мелвилл был
для младоамериканцев «своим», и его литературная
судьба, карьера, успех у читателей, — назовите это как
угодно, — становились уже не только его личным делом,
но делом «Молодой Америки». Следует заметить, что
участники группы вообще всегда поддерживали друг дру-
га и отличались особой лояльностью во всем, что касалось
общих дел организации. Отныне Мелвилл мог рассчиты-
57
1зать на всякую поддержку и защиту от литературных
недоброжелателей.
Начиная с 1847 года «Молодая Америка» принимает-
ся активно пропагандировать творчество Мелвилла. По-
явление новых его книг предваряется публикацией про-
странных, искусно составленных рекламных объявлений
в «Литературном мире», «Янки Дудль» и в других жур-
налах, куда младоамериканцы имели доступ. Отрывки из
новых произведений Мелвилла печатаются задолго до
выхода в свет самих произведений. Ни одно враждебное
критическое выступление против Мелвилла, кому бы оно
ни принадлежало, не остается без ответа. Защита Мел-
вилла и пропаганда его творчества становятся одним из
существенных аспектов деятельности «Молодой Аме-
рики».
До сих пор речь шла преимущественно о том значе-
нии, которое имело для «Молодой Америки» участие
Мелвилла в ее предприятиях. Но не будем забывать, что
польза, проистекавшая из этого союза, была обоюдной, и
Мелвилл вынес чрезвычайно много из своего младоаме-
риканского опыта.
Как уже говорилось, связь Мелвилла с «Молодой Аме-
рикой» длилась сравнительно недолго — менее пяти лет,
из которых еще следует вычесть время, прожитое писа-
телем за пределами Нью-Йорка, когда он не мог встре-
чаться с группой Дайкинка и писать для изданий «Мо-
лодой Америки». Но кратковременность контакта ком-
пенсировалась до некоторой степени его интенсивностью.
К тому же во время своего отсутствия из Нью-Йорка
Мелвилл поддерживал активную переписку с Дайкин-
ком, Мэтьюзом и другими младоамериканцами и, само
собой разумеется, прочитывал все, что они писали и печа-
тали в своих (и не только своих) журналах. Впрочем, ха-
58
рактер и сила воздействия идей «Молодой Америки» на
Мелвилла определяются скорее всего специфическими
особенностями рассматриваемого периода в жизни писа-
теля.
Как уже говорилось, участие Мелвилла в деятельно-
сти «Молодой Америки» было, в сущности, первым его
соприкосновением со средой профессиональных литера-
торов— журналистов, писателей, критиков, для которых
литература была главным делом их жизни.
Биографы Мелвилла установили с полной определен-
ностью, что он не поддерживал никаких других связей
в литературных кругах (исключая переписку со своими
издателями Мерреем и Бентли в Лондоне). С 1846 по
1850 год, то есть в те самые годы, когда происходило
формирование Мелвилла как писателя, когда складыва-
лись основные его убеждения и вырабатывались творче-
ские принципы, «Молодая Америка» была его единствен-
ной литературной, духовной, интеллектуальной средой.
Значение этого факта трудно переоценить.
Духовная среда, интеллектуальное окружение важны
для всякого писателя, особенно в пору становления. Для
Мелвилла, проведшего юность в далеких морях и не знав-
шего иного круга, кроме матросского кубрика, они были
важны вдвойне. Неудивительно, что воздействие идей
«Молодой Америки» на него было исключительно силь-
ным.
В обширном письме к Готорну от 1 (?) июня 1851 года
Мелвилл писал: «Все мое развитие совершилось за по-
следние несколько лет. Я словно семя, найденное в еги-
петской пирамиде. Три тысячи лет оно было только семе-
нем и больше ничем. Теперь его посадили в английскую
почву, оно проросло, зазеленело, а затем погибло. Так
и я. До двадцати пяти лет я не развивался совсем. Свою
жизнь я исчисляю с этого возраста...»3 Если не воспри-
нимать цифру 25 буквально, а счесть ее округлением.
59
допускающим отклонения в полтора-два года, то начало
интенсивного внутреннего развития Мелвилла совпадет
с его приобщением к «Молодой Америке». Но даже и в
том случае, если Мелвилл не округлял, а был абсолютно
точен в своем самонаблюдении, окажется, что из шести
с половиной лет, прошедших с момента возвращения
Мелвилла в Америку до написания цитированного пись-
ма, около пяти прошло в тесном контакте с «Молодой
Америкой» и под интенсивным воздействием ее идеоло-
гии, и, стало быть, именно деятельность «Молодой Аме-
рики» явилась мощным стимулом и одним из определяю-
щих факторов внутреннего (творческого) развития Мел-
вилла в указанные годы.
Леон Хоуард, автор наиболее достоверной и подроб-
ной биографии Мелвилла, отметил этот стремительный
внутренний рост писателя, хотя и не сумел, на наш
взгляд, дать ему вполне точное объяснение. Хоуард под-
черкивал, что посещение Клинтон-Плейс, 20, где Мелвилл
встречался с участниками дайкинковского кружка и дру-
гими литераторами, «стимулировало его сознание», «дер-
жало его в состоянии сильного возбуждения», что «Мел-
вилл интенсивно осваивал новые идеи и набирал интел-
лектуальную энергию». «За каких-нибудь три года,—
говорит Хоуард,—Мелвилл превратился из популярного
сочинителя, эксплуатирующего необычность собственного
жизненного опыта, в одного из самых вдохновенных оби-
тателей того сложного мира, который мы именуем созна-
нием девятнадцатого века»4. Если оставить в стороне
метафорическую фразеологию Хоуарда, то мы имеем
здесь подтверждение высказанной выше мысли об интен-
сивном идейном созревании Мелвилла, которое осуще-
ствлялось под влиянием «Молодой Америки».
60
* * *
Воздействие идей «Молодой Америки» на Мелвилла
было значительным, многообразным, но отнюдь не всепо-
давляющим. Неверно было бы представлять дело так,
будто бы Мелвилл просто впитывал доктрины и теории,
выработанные младоамериканцами. Все обстояло гораз-
до сложней. Теоретические построения «Молодой Аме-
рики» накладывались на определенный (и к тому же
весьма суровый) жизненный опыт писателя. Взаимодей-
ствие представлений Мелвилла, основанных на этом жиз-
ненном опыте, и младоамериканских общественно-эсте-
тических идей, подобно взаимодействию двух химических
веществ, приводило сплошь и рядом к совершенно неожи-
данной реакции.
Спору нет, в делах литературных и политических Мел-
вилл должен был чувствовать себя робким учеником и,
вероятно, внимательно прислушивался к тому, что гово-
рили Дайкинк, Мэтьюз, Джонс и другие. Но он знал
жизнь, которая была известна им лишь по книгам, знал
ее так, как им не суждено было узнать никогда. Их рас-
суждения о народе, его потребностях, его интересах были
абстрактны и носили сугубо теоретический характер.
Мелвиллу не было надобности рассуждать о народе.
Жизнь народа была ему близка и понятна; это была его
собственная жизнь. Неудивительно, что, будучи пропу-
щены через его сознание, идеи «Молодой Америки» ино-
гда влекли за собой выводы, приводившие Дайкинка в
содрогание.
Даже в тех случаях,- когда, казалось бы, налицо было
полное единодушие, как, скажем, в демократической
основе главных мировоззренческих принципов, вдруг об-
наруживаются весьма серьезные качественные различия,
ведущие к диаметрально противоположной оценке пер-
спектив исторического развития Америки.
61
Мелвилла, несомненно, увлекали демократические
устремления «Молодой Америки» как в литературе, так и
в политике. Он полностью разделял мысль о необходимо-
сти расширения политических и гражданских прав тру-
дящихся, об улучшении материальных условий жизни
широких народных масс. Он, безусловно, сочувствовал
идеям демократизации литературы и готов был работать,
не покладая рук, дабы сделать поэзию достоянием мил-
лионов. Однако младоамериканская программа достиже-
ния «совершенной демократии» привлекала его значи-
тельно меньше, особенно в той ее части, которая касалась
методов воспитания «демократического сознания» в чело-
веке. Более того — сама перспектива построения «совер-
шенной демократии» в рамках американской буржуазно-
демократической системы представлялась ему сомнитель-
ной. Демократические мечтания младоамериканцев с са-
мого начала вызывали у Мелвилла скептическую усмешку.
В своей долитературной жизни он принадлежал к ве-
ликому братству «трюмных дьяволов» и потому, есте-
ственно, был стихийным и, по его собственным словам,
беспощадным демократом. Беспощадный демократизм
этот имел нравственную природу и был, так сказать, мо-
ральным принципом, хотя Мелвилл и понимал, что, буду-
чи положен в основу человеческого поведения, названной
принцип может повести к далеко идущим социальным и
даже политическим последствиям. В одном из его писем
к Готорну имеется своеобразное «метафизическое» раз-
мышление в духе беспощадного демократизма. К сожале-
нию, Мелвилл оборвал его, не окончив, но даже и в не-
оконченном виде оно наглядно демонстрирует изложенную
выше мысль о возможных последствиях беспощадного де-
мократизма, выходящих за пределы умозрительной нрав-
ственности. Оно начинается своеобразной посылкой, гла-
сящей, что «вор, сидящий в тюрьме, — не менее почтенная
личность, нежели генерал Джордж Вашингтон. Это, ко-
62
пеппо, 3By4Ht смешно, — замечает МелвиЛл.---Но исти-
на — преглупейшая вещь. Попробуйте жить истиной и
тотчас докатитесь до благотворительного супа. Пусть свя-
щенник попробует вещать Истину с церковной кафед-
ры, — а ведь кафедра считается оплотом Истины, — его
тотчас выгонят из церкви...»5 Заметим, что Истиной в
данном случае является «беспощадно демократическое»
утверждение равенства генерала Вашингтона и безвест-
ного бродяги, который что-то своровал и попал в тюрьму.
Нравственный демократизм Мелвилла был не только
беспощаден, но и всеобъемлющ. Присущая ему идея ра-
венства людей не имела изъятий или ограничений. При-
знание привилегий в любой области представлялось ему
недопустимым, так как неизбежно вело, с его точки зре-
ния, к антидемократическим предубеждениям, а затем и
к признанию законности социального неравенства. Мел-
вилл резко протестовал против получившей распростра-
нение в Америке тридцатых — сороковых годов теории,
согласно которой страна нуждалась в «интеллектуальной
аристократии», руководящей ее духовным и обществен-
ным развитием. В цитированном выше письме к Готорну
он писал: «Говорят... что существует аристократия ума.
Некоторые люди отважно утверждают это. Кажется,
Шиллер принадлежит к их числу, хотя я мало что знаю
о нем. Во всяком случае, известно, что есть люди, кото-
рые самым серьезным образом стоят за политическое
равенство и в то же время приемлют интеллектуальный
аристократизм. Мне кажется, я легко могу себе предста-
вить, как человек, наделенный значительным умом, ин-
тенсивно культивируя его, может незаметно для себя
стать аристократом чувства... трепещущим, подобно ры-
бе-торпеде, при малейшем соприкосновении с социальным
плебеем»6. Весьма вероятно, что и в своих соратниках
по «Молодой Америке», самоуверенно убежденных, буд-
то они могут «научить» соотечественников демократии,
63
Мелвилл йахоДйл черты неприятного ему интеллектуаль-
ного аристократизма.
Все творчество Мелвилла (и особенно «Моби Дик»)
свидетельствует о том, что он не разделял наивного опти-
мизма младоамериканцев, полагавших, что общество
Соединенных Штатов движется по пути демократическо-
го прогресса и что они в состоянии «воспитать в народе
демократическое сознание», обеспечивая тем самым при-
ближение идеального, гармонического века «совершенной
демократии». Преклоняясь перед «царственным величием
демократии» («Моби Дик»), Мелвилл в то же время не
верил, что сам по себе демократический принцип, прово-
димый в рамках буржуазной общественной структуры, в
состоянии разрешить социальные и политические проти-
воречия современности. Судьба американской демокра-
тии рисовалась ему в трагических тонах. Он ощущал глу-
бину и сложность социальных противоречий эпохи гораз-
до полнее и более болезненно, чем Дайкинк или Мэтыоз.
Национальная действительность хотя и не представля-
лась им идеальной, все же не вызывала у них трагиче-
ских опасений и, видимо, не требовала с их точки зрения
глубокого критического анализа. У Мелвилла же посте-
пенно и неукоснительно нарастало ощущение катастро-
фического неблагополучия.
С этим, очевидно, связано и расхождение между Мел-
виллом и «Молодой Америкой» в оценке трансцендента-
лизма и деятельности Эмерсона. Вопрос об отношении
«Молодой Америки» к трансцендентализму сам по себе
достаточно сложен и не сводится к простому приятию или
неприятию трансцендентальных идей. В некоторых слу-
чаях элементы трансцендентальной идеологии возникали
параллельно в теоретических построениях младоамери-
канцев, особенно в области эстетики. Более того — в ка-
ких-то самых общих принципах трансценденталисты были
солидарны с «Молодой Америкой»; они тоже были «демо-
64
кратами» и «оптимистами», о чём неоднократно заявляли
устно и печатно, и с этой точки зрения конечный резуль-
тат, к которому они стремились, более или менее совпа-
дал с целями «Молодой Америки». Однако трансценден-
тальный «демократизм» и «оптимизм» имели особую
природу и характер, отличавшиеся от общепринятого в
те времена (в том числе и младоамериканского) понима-
ния этих явлений. Эмерсон неустанно подчеркивал в сво-
их дневниках, что всякий раз, когда он говорит о «демо-
кратическом начале», он имеет в виду не современную
общественно-политическую структуру и не демократи-
ческую партию — это «исчадие ада, самонадеянное и
крикливое, которое выпускает лживые газеты, витий-
ствует на партийных сборищах и торгует своими измыш-
лениями, получая за них золото, а тот дух любовной
заботы об общем благе, имя которого оно присвоило. Ны-
нешняя «демократия» не имеет ничего общего с подлин-
но демократическим началом. Насквозь проникнутая
торгашеским духом, она обречена на гибель. Поэтому,
ради бога, не примите мои слова за похвалу тому, что
помогает вам набить карман, чье название ласкает вам
ухо, но что вы сами не уважаете в глубине души»7.
Демократические идеи трансценденталистов, равно
как и их оптимизм, восходят к изначальному постулату
о божественном инстинкте, лежащем в основе каждого
индивидуального сознания. «Корень свободы и демокра-
тии,— говорит Эмерсон, — в священной истине, глася-
щей, что каждый человек обладает божественным разу-
мом»8. Как это ни парадоксально, демократизм транс-
ценденталистов имеет индивидуалистическое основание,
связанное, по-видимому, с общим отрицанием всей систе-
мы американской буржуазной демократии. В конечном
счете индивидуалистические принципы трансценденталь-
ной социологии и этики имеют источником последова-
тельную и жестокую критику «утилитарного мира янки»
3 Ю. Ковалев
65
(Эмерсон) и отрицание «повсеместного духа трусливого
компромисса и лицемерия».
Трансценденталисты не могли предложить никакой
конкретной и быстро осуществимой программы действий,
ничего, кроме довольно неопределенной и опять-таки су-
губо индивидуалистической проповеди «доверия к себе».
Неудивительно, что младоамериканцы — непременные
и активные участники партийно-политической борьбы,
убежденные локо-фоко, видевшие в джексонианстве до-
статочную базу для последующего поступательного дви-
жения к «совершенной демократии», неутомимые журна-
листы, издатели, критики и «организаторы литературы» —
были нетерпимы к абстрактно-этическому уклону кон-
кордской идеологии, к безоговорочному отрицанию самых
основ современного общественно-экономического и поли-
тического развития Соединенных Штатов.
Молодой Мелвилл не питал специального интереса к
трансцендентализму. Во всяком случае, ни в его раннем
творчестве, ни в его переписке не содержится ничего, что
говорило бы о заинтересованности в трансцендентальных
идеях. В момент вступления в «Молодую Америку» и в
ближайшие после этого два года ничто, по-видимому, не
побуждало его оспаривать позицию младоамериканцев
относительно деятельности эмерсоновского кружка. Одна-
ко такое положение сохранялось недолго. Первое свиде-
тельство пробуждающегося у Мелвилла интереса к транс-
цендентализму относится уже к началу 1849 года. Пятого
февраля Мелвилл присутствовал на лекции Эмерсона, а
затем упомянул об этом факте в письме к Дайкинку, со-
проводив сообщение неожиданной фразой: «Что бы там ни
говорили, а он (Эмерсон. — Ю. К.) — великий человек» 9.
Дайкинк ответил разгневанным посланием, и котором
писал, что Мелвилла, видно, ослепили радужные пере-
ливы эмерсоновской речи, что в идеях Эмерсона нет ре-
шительно ничего оригинального, и все это известно дав-
66
ным-давно. Мелвилл, вероятно, ожидал подобной реак-
ции со стороны лидера «Молодой Америки». Недаром он
упомянул о событии, произведшем на него, судя по все-
му, огромное впечатление, как бы между прочим, в од-
ном абзаце с замечаниями по поводу исполнительской
манеры и «неженственной мужественности» внешнего об-
лика г-жи Батлер, на концерте которой он побывал.
Третьего марта 1849 года Мелвилл ответил на анти-
эмерсоновскую инвективу Дайкинка обстоятельным пись-
мом, в котором спешит заверить его, что не подпал под
обаяние ораторского искусства Эмерсона и не увяз в те-
нетах трансцендентализма, но твердо стоит на своем в
оценке эмерсоновского ума, его глубины и значительно-
сти. Письмо это имеет существенное значение для пони-
мания последующей идейной эволюции Мелвилла и его
отношения к трансцендентализму. Поэтому мы позволим
себе привести из него обширную цитату:
«...Я думаю, — пишет Мелвилл, — что Эмерсон боль-
ше, чем просто блестящий человек. Он человек необыкно-
венный, независимо от того, позаимствовал он свои идеи,
выклянчил их или украл. Вы клянетесь, что он обманщик,
а я скажу, что он не простой обманщик. Вы утверждаете,
что если б не существовал в свое время сэр Томас Браун,
Эмерсон лишился бы таинственной притягательности, а я
отвечу вам, что если бы отец старика Зэка не зачал его,
то старина Зэк никогда не стал бы героем Пало Альто.
Истина проста — все мы сыновья, внуки, племянники
или внучатые племянники тех, кто был до нас. Никто не
является собственным предком... Господин Эмерсон при-
ятно разочаровал меня. Мне доводилось слышать, что он
полон трансцендентализмов, мифов и оракульской тара-
барщины; как-то раз я видел его книжку в лавке Патнэ-
ма — и это все, что мне было известно о нем, до того, как
я услышал его лекцию. К собственному удивлению, я на-
шел, что он изъясняется вполне членораздельно, хотя, по
* 67
правде говоря, мне сообщили, что на сей раз он был про-
тив обыкновения прост... В каждом человеке, возвышаю-
щемся над посредственностью, есть нечто такое, что по
большей части доступно интуитивному постижению. Я об-
наружил это «нечто» в г-не Эмерсоне. И, откровенно го-
воря, если допустить к примеру (только к примеру), что
он дурак, то я скорее соглашусь быть дураком, чем мудре-
цом. .. Я люблю всех людей, которые ныряют. Любая ры-
ба может плавать у поверхности, но только большой кит
в состоянии опуститься на глубину в пять миль и больше;
если при этом он не достигает дна, так что ж, всего свин-
ца Галены мало, чтобы сработать грузило, которое достиг-
ло бы. Я говорю теперь не об Эмерсоне, а обо всей армии
ныряльщиков за истиной. Они погружаются и всплыва-
ют с налитыми кровью глазами с тех пор как свет стоит.
Я легко замечаю в Эмерсоне, несмотря на его достоин-
ства, один разительный недостаток. Утверждение, что если
бы он жил в те дни, когда создавался мир, он мог бы вне-
сти дельные предложения, — чистая инсинуация. Все они
(трансценденталисты. — Ю. К.) малость не в себе. И ни-
когда разрушители не совладают с созидателями...» 10
С этим письмом связаны два момента, представляю-
щие для нас специальный интерес. С одной стороны, оно
свидетельствует о том, что Мелвилл по достоинству оце-
нил мощь и основательность трансцендентальной критики
социальных, политических и экономических институтов
американской буржуазной демократии. Отсюда вполне
естественное усиление дальнейшего интереса к творче-
ству трансценденталистов. С другой стороны, оно говорит
о том, что Мелвилл с самого начала почувствовал сла-
бость позитивных идей, отсутствие плодотворного кон-
структивного начала в трансцендентализме, что и при-
вело его со временем к беспощадному развенчанию эмер-
соновской теории «доверия к себе» (в «Моби Дике»)' и,
попутно, к отрицанию «божественного разума» в человеке.
68
* * *
Таким образом, духовное развитие Мелвилла, прохо-
дившее под сильнейшим влиянием идей «Молодой Амери-
ки», не сопровождалось безоговорочным приятием младо-
американских доктрин. В сущности, ни один из аспектов
младоамериканской программы не был принят Мелвил-
лом полностью. Единственное исключение здесь состав-
ляет отношение Мелвилла к вопросу о борьбе за нацио-
нальную литературу. Мелвилл не только разделял идеи и
пафос «Молодой Америки», но с течением времени сделал-
ся, по свидетельству современников, более пылким «лите-
ратурным националистом», нежели Дайкинк или Мэтыоз.
В этом плане специальный интерес представляют два
события в литературной жизни Соединенных Штатов,
произошедшие в августе 1850 года. Одно — устная поле-
мика Мелвилла с О. В. Холмсом (5 августа), другое —
его статья о Готорне, написанная И—13 августа и опуб-
ликованная в двух выпусках еженедельника «Литератур-
ный мир» (17 и 24 августа).
Оба эти события, как мы видим, произошли почти од-
новременно и теснейшим образом связаны одно с другим.
Они упоминаются во всех биографиях Мелвилла, но лишь
мимолетно, как нечто малосущественное и к тому же
документально не подкрепленное. Между тем это совер-
шенно не так. О полемике мы знаем по письмам, дневни-
кам, журнальным статьям и воспоминаниям непосред-
ственных участников и свидетелей. И хотя они в значи-
тельной мере разноречивы и субъективны, мы все же
можем представить себе в общих чертах позицию Мел-
вилла в его споре с Холмсом. Что же касается статьи
Мелвилла о Готорне, то здесь нет необходимости пола-
гаться на чьи-либо свидетельства. В распоряжении ис-
следователей имеется полный ее текст.. Более того, опи-
раясь на переписку Мелвилла и Дайкинка, можно соста-
69
вить даже некоторое представление о ее первоначальной
редакции.
Чтобы оценить должным образом смысл и значение
упомянутых событий, следует хотя бы кратко сказать о
некоторых обстоятельствах биографии Мелвилла, отно-
сящихся к этому времени.
Первого февраля 1850 года Мелвилл возвратился в
Нью-Йорк из поездки в Европу, где он провел несколько
месяцев. Его путешествие по Англии, Франции, Герма-
нии, Бельгии, если исключить деловые свидания с лон-
донскими издателями, протекало совершенно в духе
«вояжей» образованных американцев, ездивших в Евро-
пу «набираться культуры». Во время поездки Мелвилл
вел подробнейший дневник, в котором зафиксированы
все посещения театров, картинных галерей, встречи с пи-
сателями и критиками, покупка книг у букинистов и т. п.
Однако, в отличие от многих своих соотечественников,
побывавших в Европе, Мелвилл отнюдь не был подавлен
величием европейской культуры, древностью ее традиций
или богатством современной духовной жизни. В нем не
развился тот своеобразный комплекс культурной «непол-
ноценности», который побуждал иных его современников
скептически вздыхать при одном только упоминании о на-
циональной американской культуре и суетливо приоб-
щаться к новомодным веяниям европейского искусства.
Посещение театров, созерцание шедевров в картинных
галереях, «вращение» в литературных кругах нисколько
не обескуражило Мелвилла и не поколебало в нем убе-
ждения, возникшего в ходе общения с младоамериканца-
ми, что американской литературе суждено великое буду-
щее и что Америка явит еще миру своих Гомеров, Шекспи-
ров и Мильтонов. Напротив, убеждение это лишь окрепло
и настойчиво побуждало Мелвилла к активной деятельно-
сти во имя грядущего торжестванациональной (и,коцеч-
но, демократической) традиции в американской культуре.
70
Тотчас по возвращении из Европы Мелвилл возобно-
вил контакты с Дайкинком и его соратниками. Он про-
должал регулярно появляться на Клинтон-Плейс, 20, по-
прежнему широко пользовался дайкинковской библиоте-
кой и участвовал в младоамериканских субботних сбори-
щах. Само собою разумеется, что он вернулся и к своим
обязанностям рецензента в младоамериканском ежене-
дельнике «Литературный мир». Иными словами, ни отно-
шение Мелвилла к «Молодой Америке», ни его положе-
ние среди участников группы нисколько не переменились.
Единственная перемена, о которой может идти речь, от-
носилась к области самоощущения. Мелвилл все меньше
и меньше чувствовал себя скромным учеником. Да и то
сказать, он был теперь уже признанным в Америке и
Европе автором пяти романов, из которых по меньшей
мере четыре пользовались широкой популярностью.
В середине июля 1850.года Мелвилл покинул Нью-
Йорк на долгие годы и поселился на ферме неподалеку
от Питсфилда, в округе Беркшир (Массачусетс). Но ни
переезд, ни интенсивная работа над «Моби Диком» не
оборвали его связи с «Молодой Америкой». Он вступил
в регулярную переписку с Дайкинком и по-прежнему про-
должал сотрудничать в «Литературном мире».
Перебравшись в Питсфилд, Мелвилл, видимо, остро
ощутил отрыв от привычной интеллектуальной среды.
Показательно, что почти сразу же после переезда он
пригласил к себе соратников по «Молодой Америке» —
Дайкинка, Мэтьюза и Батлера. Они откликнулись на при-
глашение и приехали в первых числах августа, чтобы
провести в доме Мелвилла несколько дней. Обстоятель-
ства визита подробно освещены в мемуарной литературе.
Это избавляет нас от необходимости подробно излагать
детали. В сущности, для наших целей интерес представ-
ляет лишь один эпизод, связанный с приездом младоаме-
риканцев.
71
Пятого августа Мелвилл, Дайкинк, Мэтыоз п Батлер
совершили «восхождение» на гору-монумент неподалеку
- от Стокбриджа. К ним присоединились жившие поблизо-
сти писатели Готорн и О. В. Холмс, издатель Д. Д. Филд
и еще несколько человек, отдаленно причастных к лите-
ратуре. Вполне естественно, что в группе, где собрались
писатели, издатели, редакторы, критики, разговор шел
преимущественно на литературные темы. Обсуждение
литературных проблем продолжалось и после экскурсии,
во время обеда в доме Филда. Холмс предпринял острую
атаку на «националистов», жестоко иронизировал по пово-
ду увлечения младоамериканцев величием национального
духа и «вообще всего национального». Он язвительно
предложил участникам «Молодой Америки» поддержать
теорию, согласно которой лет через двадцать американцы
будут ростом не иначе как футов шестнадцать — семнад-
цать и, соответственно, будут обладать гигантским интел-
лектом. Вместе с тем он вполне серьезно говорил о пре-
восходстве английской культуры над американской.
Остроумная речь Холмса была явно нацелена против
«Молодой Америки» и персонально против Мэтьюза. Но,
к удивлению собравшихся, он получил отпор от Мелвил-
ла, который, по свидетельству участников беседы, темпе-
раментно, с энтузиазмом и полным убеждением отстаи-
вал младоамериканские идеи относительно будущего
национальной литературы. Речь Мелвилла произвела,
очевидно, сильное впечатление. Недаром о ней упомина-
ют все, кто когда-либо писал об этом столкновении.
Спустя несколько дней Мелвилл принялся за статью
о Готорне, которая по форме представляла собой рецен-
зию на сборник рассказов, а по существу была размыш-
лением о «национальном гении» и об американской лите-
ратуре. Можно предположить, что в ней Мелвилл развил
те соображения, которые экспромтом высказал в поле-
мике с Холмсом.
72
Некоторые исследователи склонны видеть в статье
Мелвилла один из литературных манифестов «Молодой
Америки». Едва ли к этому имеется достаточно основа-
ний. Но несомненно, что основные положения статьи име-
ют самое непосредственное отношение к младоамерикан-
ским литературным теориям. Она резко направлена про-
тив любых форм литературной зависимости от бывшей
метрополии и утверждает национальную самобытность и
оригинальность как основные достоинства литературного
произведения. Здесь мы легко обнаружим характерные
для «Молодой Америки» формулы вроде: «Лучше потер-
петь неудачу в оригинальном замысле, чем добиться успе-
ха в подражании», «Нам не нужны американские Голд-
смиты» и т. д. Мелвилл стоит на том, что Америка в
состоянии дать миру писателей, которые будут великими
сами по себе, и нет нужды оценивать их по английской
шкале литературных ценностей. «Поверьте мне, — гово-
рит он, — люди, мало чем уступающие Шекспиру, рож-
даются сегодня на берегах Огайо».
Особенно близки к идеям «Молодой Америки» те ас-
пекты статьи, которые обращены даже не к собственно
литературе, а к литературной критике и читательскому
восприятию. Именно здесь наиболее отчетливо проявляет
себя младоамериканская политика поддержки нацио-
нальных авторов. «Признавая совершенство повсемест-
но,— говорит Мелвилл, — нам следует воздержаться от
неумеренного превознесения заграничных авторов и воз-
дать должное заслуживающим того нашим собственным
писателям — тем писателям, которые наполняют все су-
щее свободным демократическим духом...» Заметим,
кстати, что для Мелвилла задача первоочередного при-
знания национальных авторов в данном случае была не
вопросом восстановления справедливости, но делом прин-
ципа. Это с полной очевидностью вытекает из следующих
его слов: «Пусть Америка восхвалит хотя бы иосред-
7-3
ственность в собственных своих сыновьях, прежде чем
восхвалять превосходство в детях любой другой нации...
Пусть Америка восславит тех писателей, чьи сочинения
проникнуты демократическим духом... И если какой-ни-
будь (американский) писатель терпит поражение (в этом
соревновании), тогда, как говаривал мой кузен из Каро-
лины. .. похлопаем его по плечу и поддержим в следую-
щем раунде, — пусть хоть вся Европа будет против не-
го»11. При этом Мелвилл специально оговаривает, что
речь идет не о благе писателей и даже не о создании ка-
ких-то особых условий, в которых мог бы развиться на-
циональный гений. Речь идет об Америке, о ее националь-
ном самоощущении. «Национальный гений, — замечает
он, — не нуждается в покровительстве для своего разви-
тия. .. Уважение к растущей значительности американ-
ских авторов нужно самой Америке»12.
Анализ и оценка творчества Готорна в статье Мелвил-
ла тоже в значительной мере опираются на общественно-
эстетические принципы «Молодой Америки». Здесь сле-
дует отметить, что творчество Готорна к этому времени
уже привлекло к себе интенсивное внимание литератур-
ной критики. Не было, вероятно, такого журнала, кото-
рый не напечатал бы о нем статьи или рецензии. Но, го-
воря об отношении американских критиков к Готорну, не
забудем, что в сороковые годы писатель придерживался
демократической ориентации, печатался в «Демократи-
ческом обозрении» и склонен был поддерживать скорее
Дайкинка и демократов, нежели Кларка и вигов. Та-
лант Готорна был слишком ярок и самобытен, чтобы ни-
кербокеры могли «не заметить» его или отрицать. Они и
не отрицали, но пытались оторвать Готорна от демокра-
тической традиции и представить его писателем, схожим
по своей общественной позиции с Лонгфелло — этаким
«брамином», удалившимся от мира, кабинетным затвор-
ником и вообще поэтом «не от мира сего». Только одни
74
авторитетный голос противостоял этому дружному хору
литературных вигов — то был голос Эдгара По. Мелвилл
поддержал Эдгара По. Он открыто заявил, что нынеш-
ние критики (читай «виги»)" не хотят, а скорее всего не
могут понять Готорна. «Он безмерно глубже, чем доста-
ет грузило критической удочки». Перри Миллер, очевид-
но, прав, когда утверждает, что статья Мелвилла являла
собой попытку «отвоевать Готорна у Кларка, Грисволда,
Бриггса» и прочих «истинных консерваторов», сохранить
его для дела национальной литературы, или, иными сло-
вами, для дела «Молодой Америки», хотя, разумеется,
смысл статьи и ее значение этим не исчерпываются.
Стремление проанализировать и оценить творчество
Готорна, исходя из основных теоретических принципов
«Молодой Америки» (то есть в данном случае и самого
Мелвилла), оказалось на редкость для своего времени
плодотворным. Никто из современников не сумел столь
глубоко понять сочинения Готорна, как Мелвилл. Это
признавал и сам Готорн, о чем прямо свидетельствуют
его собственные письма и косвенно — письма его жены.
Опираясь на эту статью, Перри Миллер пришел к заклю-
чению, что Мелвилл, «начинавший как один из скром-
ных сторонников литературного национализма, впослед-
ствии довел свою преданность этому делу до такой край-
ности, что даже профессиональные националисты (то
есть участники «Молодой Америки». — Ю. К.) не могли
за ним угнаться» 13. Едва ли можно с этим полностью со-
гласиться. На поприще «литературного национализма» —
если воспользоваться терминологией Миллера — Мел-
вилл никогда не мог сравниться с Мэтыозом. Но следует
признать, что некоторые крайности в статье Мелвилла
действительно имеются. Кое-что под давлением осторож-
ного Дайкинка Мелвилл смягчил или совсем убрал. Он
отказался от прямого сопоставления Готорна с Шекспи-
ром, заменил выражение «американский Мильтон» на
75
«американский Томпкипс». Но что толку, когда в статье
остались, например, такие абзацы:
«Если с Шекспиром нельзя сравняться, то его, безу-
словно, можно превзойти. И превзойдет его американец,
уже родившийся или еще не родившийся...»
Современники были шокированы. В Америке сороко-
вых— пятидесятых годов XIX века преклонение перед
Шекспиром развилось в своего рода суеверие. В глазах
читателей Мелвилл «святотатствовал», даже если цель
его была благородна. Писатель, очевидно, предвидел по-
добную реакцию и попытался застраховаться, заявив, что
«подобное суеверие не к лицу Американцу, которому
суждено внести республиканскую прогрессивность в лите-
ратуру и в саму жизнь». Однако это мало помогло делу.
Даже те, кто по положению своему, казалось бы, долж-
ны были снисходительно отнестись к этим крайностям,
выразили возмущение. Теща Готорна — знаменитая Эли-
забет Пибоди — писала своей дочери тотчас по прочте-
нии статьи: «Ни один человек в здравом рассудке не мо-
жет всерьез упоминать г-на Готорна, несомненно заслу-
живающего всяческого уважения и восхищения, рядом
с Шекспиром.
.. .Сравнивать кого бы то ни было с Шекспиром — зна-
чит проявить невежество и принести вред человеку, ко-
торому хочешь услужить» и.
Впрочем, каковы бы ни были крайности или заблуж-
дения Мелвилла, это нисколько не меняет дела. Статья
о Готорне, равно как и его устная полемика с Холмсом,
безусловно и наглядно свидетельствуют о том, что во
многих вопросах, и прежде всего — в вопросе о судьбах
национальной американской литературы, взгляды Мел-
вилла восходили непосредственно к идеям «Молодой
Америки».
МОРСКОЙ РОМАН
(«БЕЛЫЙ БУШЛАТ»)
«Белый бушлат» — книга
своеобразная и во многих отношениях примечательная.
Она была написана в феноменально короткий срок — за
два месяца с небольшим — в условиях, в которых, каза-
лось бы, писать вообще невозможно. В июле — августе
1849 года, когда Мелвилл работал над книгой, в Нью-
Йорке стояла удушливая жара. Все, кто мог, бежали из
города, спасаясь не только от духоты, но и от эпидемии
голубой холеры, уносившей ежедневно двести — триста
человеческих жизней.
Мелвилл работал в маленькой душной комнатке, име-
новавшейся кабинетом. За тонкой перегородкой находи-
лась детская, где помещались два грудных младенца —
сын и племянник Мелвилла. У обоих резались зубы, и
детский плач не смолкал двадцать четыре часа в сутки.
Несколько неожиданное рассуждение в двенадцатой
77
главе «Белого бушлата» о том, что младенцы, у которых
режутся зубы, могут довести до белого каления любого
отца и что детскую следует помещать «подальше, на
верхнем этаже», — это не праздное размышление лите-
ратора, а, так сказать, крик души.
Тем не менее Мелвилл работал с регулярностью ма-
шины. Каждое утро он садился за свой письменный стол
и не вставал, покуда не заканчивал по меньшей мере две
главы. Написание «Белого бушлата» было в известном
смысле подвигом, а сама книга — наглядным свидетель-
ством самоотверженности писательского труда.
Жесткий режим работы над рукописью диктовался
трудным финансовым положением, в котором Мелвилл
оказался весной 1849 года. Роман «Марди», на который
он возлагал много надежд, не имел успеха. Издатели да-
же не покрыли расходов на его публикацию. Мелвилл
оказался в тяжелых долгах. Чтобы расплатиться, он обя-
зан был написать по меньшей мере две книги, и написать
их быстро. Более того — он не мог себе позволить писать
без оглядки на читательский вкус, поскольку книги дол-
жны были иметь гарантированный коммерческий успех.
Свою задачу Мелвилл выполнил. За четыре месяца
он написал два морских романа — «Редберн» и «Белый
бушлат». Очевидно, что условия, при которых возникли
эти книги, оставили горький осадок в его сознании. Он
не мог работать над ними так, как хотел, и столько,
сколько хотел. Вскоре после завершения работы над «Бе-
лым бушлатом» он жаловался в письме к своему тестю:
«Ни та, ни другая книги не принесут мне репутации, ка-
кой я желал бы. Обе они — просто очередная работа, ко-
торую я сделал для денег, потому что был вынужден к
этому обстоятельствами. Я писал их, как другие люди
занимаются, например, пилкой дров. Я чувствовал, что
не имею права писать такую книгу, какую мне хоте-
лось бы» К
78
Мелвилл явно недооценивал значение и достоинства
написанной им книги. На это неоднократно указывали
его биографы. Впрочем, одна фраза в цитированном вы-
ше письме к Лемюэлю Шоу позволяет предполагать, что
Мелвилл все же не склонен был считать «Белый бушлат»
ремесленной поделкой. Конечно, он хотел написать «дру-
гую» книгу, но «что касается этих книг («Редберн» и
«Белый бушлат». — Ю. /С.), — замечает он, — то, работая
над ними, я не подавлял себя, а писал именно то, что чув-
ствовал и думал»2. Это уже меняет дело. Мелвилл мог
писать эти свои книги поспешно, но мысли.и чувства, вло-
женные в них, вынашивались долго и были результатом
его богатого жизненного и литературного опыта. Как по-
казали новейшие исследования, полтора-два года, непо-
средственно предшествовавшие появлению «Редберна» и
«Белого бушлата», были временем кристаллизации мно-
гих важнейших общественно-политических и философ-
ских убеждений Мелвилла, осуществлявшейся под непо-
средственным и интенсивным воздействием идей «Моло-
дой Америки». Оценка, которую дал в этом плане «Бело-
му бушлату» американский биограф Мелвилла Хоуард,
представляется справедливой. «Мысль Мелвилла о том,
что каждому человеку может принадлежать один камень
в Великой китайской стене, — пишет Хоуард, — его новое
ощущение коллективного единства человечества — вот
что обусловило особый характер творческого воображе-
ния, благодаря которому «Редберн» и «Белый бушлат»
оказались лучшими книгами, чем он сам предполагал»3.
* * *
Современная критика встретила эти романы с удовле-
творением и высоко оценила их достоинства. Удовлетво-
рение выражалось по поводу того, что Мелвилл благора-
зумно оставил «туманные метафизические отвлеченио-
79
сти», будто бы погубившие его последнее произведение
(«Марди»), и вернулся на твердую почву фактов. Высо-
кая же оценка была связана преимущественно с мастер-
ским изображением морской стихии и «сцен корабель-
ной жизни». Даже английские критики, стремившиеся
обычно поддержать престиж национальной британской
маринистики и видевшие образец морской прозы в сочи-
нениях капитана Марриэта, воздали должное первым
морским романам Мелвилла.
Современники сочли «Белый бушлат» документаль-
ным рассказом о плавании, которое Мелвилл совершил
в качестве рядового матроса на фрегате «Соединенные
Штаты» в 1844 году. Впрочем, так думали не только со-
временники. Установилась традиция, в силу которой при-
нято было считать, что все события, описанные в романе,
действительно имели место между 6 июля и 4 октября
1844 года, то есть во время следования корабля из Каль-
яо (Перу) в Бостон. Она оказалась стойкой и просуще-
ствовала без малого сто лет. Первые биографы Мелвил-
ла, описывая «долитературный» период в жизни писателя,
широко использовали «Белый бушлат» как докумен-
тальный источник. Только в конце тридцатых годов
нашего века начали возникать сомнения в правомерности
этой традиции. Исследователи обратились к свидетель-
ствам современников Мелвилла, к официальным доку-
ментам военно-морского ведомства и убедились, что «Бе-
лый бушлат» вовсе не фрагмент беллетризованной авто-
биографии. Был обнаружен экземпляр первого издания
«Белого бушлата», принадлежавший корабельному сек-
ретарю «Соединенных Штатов» Г. Робертсону, который
находился на борту фрегата в то же время, что и Мел-
вилл. На форзаце книги Робертсон сделал следующую
запись: «Некоторые события и характеры, описанные в
этой книге, действительно имели место на борту фрегата
«Соединенные Штаты», на котором я возвращался до-
80
мой вокруг мыса Гори в 1844 году. Многие же из описан-
ных происшествий либо целиком вымышлены, либо слу-
чились в другое время и в другом месте... Возможно,
создавая книгу, автор опирался не только на собственный
опыт, но использовал также материал, позаимствован-
ный из чужих дневников или рассказов...»4
Робертсон не указал, какие именно события, описан-
ные в «Белом бушлате», произошли в действительности
и какие характеры имели реальные прототипы. Впрочем,
установить это оказалось делом сравнительно нетруд-
ным. По счастливому стечению обстоятельств один из
матросов фрегата вел подробнейший дневник, нечто вро-
де частного судового журнала, в котором регистрировал
ежедневно все большие и малые происшествия на кораб-
ле. Исследователь Мелвилла Ч. Андерсон разыскал этот
дневник и опубликовал, сопроводив некоторыми сообра-
жениями о Мелвилле, его матросской службе и об отра-
жении событий, описанных автором дневника, в «Белом
бушлате»5. Более того — Андерсону удалось получить
доступ к архивам военно-морского ведомства США, где
и по сей день хранится официальный судовой журнал
фрегата «Соединенные Штаты». Исследователь произвел
тщательное сличение указанных источников с текстом
«Белого бушлата» и пришел к выводу, который начисто
уничтожал представление о книге как о документальном
автобиографическом очерке: «В дюжине второстепен-
ных деталей и в одном важном случае он описал со-
бытия, имевшие место в действительности и зафиксиро-
ванные в судовом журнале. В остальном плавание фрега-
та «Соединенные Штаты» в 1843—1844 годах послужило
ему лишь стапелями для построения романа, который
он создавал применительно к собственным задачам и
целям»6.
Бесспорно, что значительную часть материала Мел-
вилл почерпнул из воспоминаний о собственном плавании
81
на фрегате «Соединенные Штаты». При этом он не огра-
ничивался воспроизведением событий, происшедших за те
три месяца, что составляют время действия романа. Мно-
гое из описанного случилось «не тогда», но все же
случилось, и Мелвилл был тому очевидцем. В отдель-
ных случаях он использовал свой опыт плавания на
других кораблях, пассажирских и китобойных. Таков
один и, может быть, важнейший источник, поскольку
он объясняет не только происхождение материала, но
в значительной мере и авторскую позицию в его осмыс-
лении.
Другой источник, из которого Мелвилл черпал щед-
рой рукой, имеет литературный характер. Это всевозмож-
ные «записки», «дневники», «воспоминания», повести,
рассказы и даже романы, написанные, как правило,
профессиональными моряками — соотечественниками
Мелвилла. По-видимому, полный учет литературных
заимствований в «Белом бушлате» пока еще произвести
нельзя, но основной круг сочинений, к которым писатель
обращался в ходе работы над романом, более или менее
определен. Это «Заметки моряка» Натаниэля Эймза,
«Тридцать лет вдали от дома» Сэмюела Лича, «Злоупо-
требления в военном и торговом флоте» Мак-Налли и
некоторые другие. Из этих книг Мелвилл заимствовал
отдельные факты, эпизоды, сцены, перерабатывая их
и превращая в органическую часть собственного пове-
ствования. Особенно широко он пользовался книгой
Эймза, который плавал на том же корабле, что и Мел-
вилл («Соединенные Штаты»), только двадцатью года-
ми ранее.
Наконец, третий и последний источник — это устные
рассказы товарищей Мелвилла по плаванию, матросские
«байки», легенды, песни, которые он мог слышать на фре-
гате и на других кораблях, где ему доводилось плавать,
иными словами — фольклорная стихия, почти не поддаю-
82
щаяся учету, хотя некоторые попытки изучить ее воздей-
ствие на творчество Мелвилла все же предпринимались.
Как бы там ни было, фольклорное происхождение целого
ряда деталей в «Белом бушлате» не вызывает сомнений.
* * *
Если позволить себе математическую метафору, то
«Белый бушлат» можно охарактеризовать как явление,
возникшее в точке пересечения двух линий, одна из кото-
рых будет выражать общее развитие морской прозы в
американской литературе, другая — творческую эволю-
цию Мелвилла. Историко-литературное осмысление этого
произведения невозможно, если не представить себе хотя
бы в общих чертах самую проблему морского романа в
американском романтизме, происхождение и специфиче-
ский характер бытования этого жанра в литературе США
в двадцатые — сороковые годы XIX века.
Морской роман как жанр родился в Соединенных
Штатах, и этот факт представляется закономерным. Гео-
графически, экономически, исторически США были мор-
ской державой. Тысячи нитей связывали жизнь страны
с морем. Даже в самые отдаленные времена, когда аме-
риканцы еще, так сказать, не были американцами, а были
«колонистами», то есть европейцами, живущими в коло-
ниях, само представление об Америке связывалось с мо-
рем. Путь в Америку лежал через океан. Все, что каса-
лось Америки, неизбежно ассоциировалось с морской
стихией. Любые связи колоний с метрополией — торго-
вые, экономические, административные, военные, куль-
турные — осуществлялись через Атлантику. Все значи-
тельные американские города лежали на побережье.
Каждый из них — Нью-Йорк, Бостон, Сэйлем, Провиденс,
Ныо-Хейвен, Бриджпорт, Атлантик-Сити, Ныо-Бедфорд,
83
Чарлстон, Ныо-Орлеан — был прежде всего гаванью.
Жизнь страны в высшей степени зависела от моря, кораб-
лей, моряков. Связь между отдельными частями государ-
ства поддерживалась преимущественно морским путем.
Революция и война за независимость дали новый
мощный толчок развитию торгового мореплавания в
США. Постепенно все пассажирские линии, связывавшие
Америку с Европой, перешли в руки американцев. Начал-
ся интенсивный прогресс судостроения. С 1815 по 1850 год
тоннаж берегового флота увеличился в четыре раза, тон-
наж рыболовного — в пять раз. Мы ничего не говорим
здесь о развитии китобойного флота. О нем будет ска-
зано особо в связи с «Моби Диком». Укажем только, что
к 1840 году мировой китобойный флот состоял на три чет-
верти из американских судов. Неудивительно, что чуть ли
не в каждой американской семье имелись моряки. Море
и мореплавание были важной частью национальной жиз-
ни и, стало быть, имели всеобщий интерес. Морская жизнь
должна была неизбежно пробить себе путь в литературу,
и вполне логично, что первый морской роман появился
именно в Америке.
Имелось и еще одно обстоятельство, которое способ-
ствовало рождению морского романа и обеспечивало ему
надежную перспективу развития. Речь идет о специфиче-
ской духовной атмосфере в Соединенных Штатах конца
десятых — начала двадцатых годов XIX века, о которой
нам еще придется подробно говорить в связи с историче-
ским романом. То было время, когда американцы осо-
бенно интенсивно стремились к национальному самоут-
верждению в историографии, литературе, искусстве, а
патриотический подъем в стране достиг высокого накала.
Вехами, в промежутке между которыми возникла эта
атмосфера, были, с одной стороны, победоносное оконча-
ние войны с Англией (1814), с другой —празднование
пятидесятилетия первых сражений войны за независи-
84
мость (1825). Вопрос о самостоятельной и независимой
национальной литературе, поднимавшийся в американ-
ской печати уже неоднократно, приобрел в это десятиле-
тие особенную остроту. Американцы жаждали собствен-
ной литературы, свободной от влияний европейской
(особенно английской) традиции, литературы, которая
прославила бы молодое государство и его героическое
прошлое. Маринистика представляла в этом смысле
исключительные возможности. Именно здесь, в сфере
морского романа, лежало широчайшее поле деятельно-
сти, где все было неизведанным, как судьба самой Аме-
рики. Морской роман имел все основания стать первым
национальным жанром в американской литературе. Тем
более что он предоставлял возможность показать (в во-
енно-морском варианте) блестящие страницы истории
Соединенных Штатов и тем содействовать национально-
му самоутверждению американского сознания. История
морского романа в американской (и мировой) литературе
начинается с куперовского «Лоцмана», и это законо-
мерно.
* * *
Существует легенда, основанная на воспоминаниях
дочери Купера, о том, что писатель «взял и создал» мор-
ской роман (то есть «Лоцмана»), чтобы показать, с одной
стороны, несовершенство скоттовского «Пирата», а с дру-
гой— принципиальную возможность написать произведе-
ние, основной интерес которого будет составлять изобра-
жение моря и кораблей. Легенда эта наивна и недосто-
верна. Купер приступил к работе над «Лоцманом» с боль-
шой осторожностью, оглядываясь на вкусы и запросы
читающей публики, учитывая господствующую литера-
турную традицию. Он не столько «создал» нечто совер-
шенно новое, сколько попытался приспособить уже суще-
ствующий жанр к новым задачам.
85
Известно, что Вальтер Скотт, прочтя «Лоцмана», ото-
звался о романе с похвалой и специально отметил в нем
«особенно великолепно нарисованные морские сцены и
персонажи». Скотт непроизвольно охарактеризовал здесь
одну из особенностей «Лоцмана»: это роман, в котором
имеются «морские сцены и персонажи», но повествование
не исчерпывается здесь изображением моря, кораблей и
«морской жизни». Морские сцены составляют менее по-
ловины романа.
Впрочем, даже вводя морские сцены, Купер действо-
вал с большой осмотрительностью. Он не решился полно-
стью оторвать читателя от суши, лишить его, так сказать,
твердой почвы под ногами. Все «морские» события в ро-
мане происходят в прибрежной зоне. Герои ни разу не
теряют из виду землю, и все маневры кораблей можно
наблюдать с береговых утесов. Купер ни разу не вывел
своих героев в открытый океан. Его корабли имеют по-
стоянную и непрерывную связь с сушей, где, с точки зре-
ния сюжета, и разворачивается основное действие.
Собственно говоря, «Лоцман» имеет столько же, если
не больше, оснований считаться историческим романом,
как и морским. Представляется несомненным, что фор-
мирование морского романа как жанра осуществлялось
через разработку «морского варианта» в историческом
романе. Возникла даже тенденция рассматривать ран-
ние морские романы Купера («Лоцман», «Морская вол-
шебница», «Красный корсар») как своего рода истори-
ческую трилогию, посвященную проблеме формирования
и утверждения американского национально-патриотиче-
ского самосознания.
Элементы так называемого морского национализма,
прозвучавшие в ранних романах Купера, получили даль-
нейшее развитие в сочинениях его многочисленных после-
дователей, которые не уставали напоминать, что у Аме-
рики имеется несколько тысяч миль морских границ, лес,
86
из которого можно строить корабли, что американцы —
лучшие в мире моряки и американские суда по своей
прочности и быстроходности не имеют себе равных. От-
сюда следовал вывод: господство на океанах — нацио-
нальная судьба Америки. Следуя за своим учителем, ав-
торы морских романов были озабочены тем, чтобы уста-
новить в этой области традицию, показать, что претензии
на морское господство, на то, чтобы считаться первой
морской державой мира, имеют историческое основание
и возникают как результат длительного развития. Отсю-
да тенденция относить действие романов, не являющихся
по существу своему историческими, в далекое прошлое.
Наиболее ярким примером здесь может послужить, ве-
роятно, роман Джозефа Харта «Мириам Коффин»
(1834)'. Казалось бы, Харт, вознамерившийся прославить
американский китобойный промысел, должен был обра-
титься к эпохе его расцвета, то есть к современности. Но
ничуть не бывало. Он отнес действие к тем временам,
когда нантакетские китобои впервые осмелились обо-
гнуть мыс Горн и выйти в Тихий океан. Роман Харта не
становился от этого историческим. Проблемы истории ни-
сколько не занимали писателя. Это был типический обра-
зец псевдоисторического повествования, каких можно
было найти среди морских романов двадцатых — тридца-
тых годов XIX века довольно значительное количество.
Уже в «Лоцмане», а точнее говоря — в его морских
эпизодах, мы находим в полном объеме те первоэлемен-
ты морского романа — изображение моря, кораблей и
моряков, —которые Купер справедливо полагал его жан-
рообразующими компонентами. Все три элемента нахо-
дятся в динамическом взаимодействии. Они не могут су-
ществовать отдельно друг от друга. Статическое состоя-
87
ние в рамках морского романа им противопоказано. Это
тоже один из законов жанра, установленных Купером.
Вводя указанные три элемента, Купер шел на извест-
ный риск и в то же время устанавливал жесткое условие,
автоматически ограничивающее круг писателей, имеющих
право и основание браться за написание «морских» про-
изведений. Риск заключался в том, что неизвестно было,
как отнесутся читатели к специфической стороне морской
жизни. Найдут ли они достаточно интереса в описании
парусной оснастки, такелажа, мореходных качеств кораб-
ля, его маневров? Увлечет ли их профессиональная дея-
тельность моряков, в общем-то довольно однообразная?
Наконец, допустимо ли введение в текст большого коли-
чества профессиональных морских терминов, без исполь-
зования которых невозможно изображение корабля и
деятельности моряков? Будут ли они понятны читателю?
Не пострадает ли от этого художественное качество по-
вествования? Все эти вопросы должны были тревожить
Купера, тем более что в некоторых областях, например —
в сфере использования специальной терминологии, суще-
ствовала стойкая традиция, опиравшаяся на солидные
авторитеты. Консервативные критики не уставали вспо-
минать рассуждение Сэмюела Джонсона о том, что поэ-
зия обязана говорить универсальным языком и что все
термины в искусстве должны быть преобразованы в «об-
щие выражения». Особенно это относится, замечал
Джонсон, к искусствам, малодоступным рядовому чита-
телю. И приводил в качестве примера навигацию. Изве-
стно, что Джонсон порицал Драйдена, полагавшего, что
«морскую битву следует описывать морским языком»7.
Купер должен был рискнуть. По его собственному
признанию, он стремился избежать технических подроб-
ностей, чтобы повествование не утратило поэтичности, но,
как он говорит, «сам предмет настоятельно требовал под-
робных и точных деталей, дабы читатель мог понимать,
ьь
о чем идет речь». Прибавим, что этого же требовала эсте-
тика раннего американского романтизма, исходившая из
господствующих вкусов времени.
Характер развития американской действительности,
стремительный прогресс в области науки и промышлен-
ности, всеобщая тяга к точным, «практическим» знани-
ям— с одной стороны, прочная связь американской ро-
мантической идеологии с просвещением — с другой, по-
родили у читающей публики и у писателей особый вкус
к строгому правдоподобию деталей при изображении
необычных и даже фантастических событий. Американ-
ский читатель никогда не принял бы романтической воз-
вышенности сюжета или героической серьезности пове-
ствования, если бы им не сопутствовало подробное, точ-
ное знание и воспроизведение деталей.
Скажем сразу, что риск оправдал себя. Читатели при-
няли и описание специфических деталей морской жизни,
и подробности корабельного устройства, и терминологию.
Более того — именно эта сторона морского романа вызы-
вала особый интерес, ибо открывала читателю неведомый
ему дотоле новый мир, реально существующий в действи-
тельности, мир, с которым большинство читателей оказы-
валось так или иначе связанным. О том, что читателей
не смутило «специальное» качество куперовского мор-
ского романа, можно судить хотя бы по реакции такого
«сухопутного» человека, как Вильгельм Кюхельбекер,
который прочел «Лоцмана» в Свеаборгской крепости.
«Глава 5-я первого тома, — записал Кюхельбекер в днев-
нике,— в которой изображен трудный, опасный проход
фрегата между утесами ночью в бурю, должна быть уди-
вительная, потому что даже меня, вовсе не знающего
морского дела, заставила принять живейшее участие в
описанных тут маневрах и движениях»8.
Опыт показал, что все тонкости и детали морской
жизни вполне доступны читателю, «не знающему мор-
89
ского дела». Это, однако, означало, что писатель обязан
был знать его досконально. Отсюда и упомянутое выше
жесткое условие, ограничивающее круг претендентов на
звание писателя-мариниста.
Купер описывал корабли так, как это мог сделать
только профессиональный моряк. И после него уже не-
возможно было любительское обращение с материалом.
Длинная череда американских литературных маринистов,
шедших за Купером, независимо от степени таланта или
популярности, обладает одним общим качеством — это
профессиональные моряки. К кому бы мы ни обрати-
лись— к Эймзу, Харту, Леггету, Бриггсу, Дане, Мелвил-
лу, все они плавали матросами или офицерами на кораб-
лях торгового, китобойного или военного флота. Профес-
сиональные моряки не только превосходно знали море,
корабли и моряков, но умели взглянуть на них с точки
зрения моряка. Эти три элемента, со всеми привходящими
подробностями, представлены в их сочинениях не в том
виде, как они могут рисоваться взору стороннего наблю-
дателя, а именно в том значении, какое они имеют для
моряка, в том виде, как он их воспринимает. Любитель
может «описать» море и корабль, но он не в состоянии
представить сознание моряка, его видение мира и, стало
быть, бессилен показать то, что именуется «морской
жизнью». Только профессионалу под силу определить
«взаимоотношения» моряка и корабля, ибо здесь тоже
требуется взгляд «изнутри». Поэтичная история привя-
занности Длинного Тома к «Ариэлю» («Лоцман») была
бы невозможна в романе, если бы Купер не был моряком.
Профессионализм был важным, но, разумеется, не
единственным условием успеха на поприще морского ро-
мана. Требовалось еще и литературное дарование. Не
многие из тех, кто брался за перо с намерением поведать
читателю об удивительной жизни на море, счастливо
соединяли в себе, подобно Куперу, то и другое. В двадца-
90
тые, тридцатые и даже в сороковые годы прошлого века
в Соединенных Штатах печаталось значительное количе-
ство рассказов, повестей, «журналов», воспоминаний, на-
писанных профессиональными моряками, но лишенных
художественной ценности. Эта обширная «морская ли-
тература» ныне справедливо забыта. Однако историку
необходимо ее учитывать, поскольку она вводила в лите-
ратурный обиход ту специфическую информацию, то зна-
ние и понимание морской жизни, без которых не мог бы
существовать и развиваться морской роман.
* * *
При изучении эстетики морского романа, практически
разработанной Купером, нас, естественно, интересует не
только материал, введенный писателем в литературный
обиход (он оставался неизменным на протяжении всей
истории морского романа), но также и способ осмысле-
ния этого материала, тот особый угол зрения, который
определяет специфический характер его использования
в художественном произведении.
За четыре года до появления «Лоцмана» Вашингтон
Ирвинг опубликовал свою знаменитую «Книгу эскизов».
В одном из составляющих ее очерков («Морское путе-
шествие») имеется любопытное сопоставление сухопут-
ного путешествия с морским. Путешествие по суше, гово-
рит Ирвинг, не нарушает привычного хода нашей жизни.
Разумеется, путешественник встречает на своем пути
множество людей, ему попадаются разнообразные пей-
зажи, но в целом это повторение — или, лучше сказать,
продолжение — нашего повседневного опыта. Такое пу-
тешествие Ирвинг уподобляет разматывающейся цепи.
Человек может уехать как угодно далеко от дома, но
«цепь не рвется; оглянувшись назад, мы можем разгля-
деть ее, звено за звеном, и чувствуем, что последнее звено
91
все-таки привязывает нас к дому»9. Иное дело — морское
путешествие. Оно, по словам Ирвинга, сразу обрывает
все связи человека с привычным, повседневным миром.
«Оно дает нам понять, что мы сорваны с надежного яко-
ря упорядоченной жизни и брошены в полный неустой-
чивости мир; и оно образует не воображаемую, а действи-
тельную пропасть между нами и нашим домом — про-
пасть, в которой возможны бури, неопределенность,
страх...»10 Ирвинг провел здесь разграничение между
двумя типами действительности — повседневной и «мор-
ской»,— указывая на их принципиальное несходство.
Неприятный и, возможно, неприемлемый для Ирвинга
обрыв связей с повседневным миром, сопутствующий мо-
реплаванию, составляет один из краеугольных камней
эстетики морского романа у Купера. Здесь скрещиваются
два направления, две тенденции в раннем творчестве пи-
сателя, на первый взгляд далекие друг от друга. Одна —
стремление вывести человека за рамки буржуазных об-
щественных отношений, избавить его от подавляющих и
уродующих человеческую природу «ограничений цивили-
зации», поместить его в «естественное» окружение и тем
предоставить ему возможность достичь нравственной вы-
соты и подлинной свободы. (При этом, конечно, с особой
ясностью будут высвечиваться пороки «цивилизованного
мира»). Другая — попытка дать художественное вопло-
щение национально-патриотическим чувствам, владев-
шим американцами в начале двадцатых годов прошлого
века, показать в идеальном варианте природу американ-
ского характера, его беззаветную отвагу, любовь к роди-
не, преданность идеалам свободы и демократии.
Отсюда следует, что Купер неизбежно должен был
занять в области эстетики морского романа позицию,
противоположную позиции Вальтера Скотта, который
полагал, будто всякий писатель, решившийся описывать
моряков, неизбежно должен следовать предначертаниям
92
Смоллета. Напротив, утверждал Купер, современный
автор, который хочет писать о море и моряках, должен
«повести свое судно другим курсом».
В свете представлений Купера, море в морском рома-
не должно быть представлено в двух аспектах: в каче-
стве естественной среды, формирующей возвышенный,
мужественный «морской» характер, и как могучий и
опасный противник в благородной борьбе человека.
С этим связана амбивалентность океанской стихии в ро-
манах Купера, хотя в обеих своих ипостасях облик моря
сохраняет оттенок возвышенности и благородства. От-
сюда же и двойной принцип подхода к материалу, кото-
рый обозначим условно как «описательно-драматиче-
ский». Описательный принцип используется, когда Купер
предлагает читателю морской пейзаж (изображение
моря в различных состояниях и при различном освеще-
нии), который несет все обычные функции литературного
ландшафта, от эстетической и эмоциональной до сюжет-
ной и характерологической. Драматический — когда мо-
ре представлено в качестве некоего антагониста, проти-
востоящего человеку. Оно обретает черты живого суще-
ства, характер, волю и становится, в сущности, одним из
важных героев повествования. В обоих случаях, однако,
море остается эстетическим объектом, исполненным кра-
соты, величия и возвышенности. Более того — оно стано-
вится сплошь и рядом объектом нравственным, предме-
том любви, привязанности, смыслом и содержанием че-
ловеческого существования, его необходимым условием.
Моряк без моря — это уже не моряк, он сухопутный чело-
век, не способный возвыситься над злом, пороком, над
антигуманными условностями и законами «цивилиза-
ции». Куперовский моряк не может жить на суше, как
жили моряки Смоллета.
В полном соответствии с этой концепцией моря Купер
конструирует особого типа «морской характер». Герои
93
его морских романов, все как на подбор, «орлы» и «мо-
лодцы-ребята». Куперовский моряк — фигура героиче-
ская, облагороженная тесным общением с природой и
непрестанной борьбой со стихиями. Он беззаветно храбр,
умен, честен, предан своей профессии и своему отечеству.
Патриотическая тенденция в ранних морских романах
Купера выявляется даже не столько через изображение
победоносных сражений (хотя и это, конечно, важно),
сколько через идеализацию и «возвышение» морского ха-
рактера. Логика куперовского замысла, совершенно про-
зрачная и доступная любому читателю того времени, схе-
матически может быть представлена в виде простейшего
силлогизма: Америка — нация моряков; моряки — благо-
родны, отважны, честны, возвышенны; следовательно,
благородство, честность и т. д. — суть свойства американ-
ского характера.
Концентрация внимания на героической стороне мор-
ской профессии составляет основной принцип изображе-
ния моряков у Купера. Задавшись целью представить не-
кий beau ideal американского моряка, Купер столкнулся
с опасностью схематизации характера. Единый нрав-
ственный уровень, ниже которого не имели права спу-
скаться его герои, порождал угрозу нивелировки, утраты
индивидуальности. С этой опасностью Куперу далеко
не всегда удавалось удовлетворительно справиться, и
многие моряки в его романах похожи друг на друга.
Нередко случается, что «морской характер» оказывает-
ся лишенным характера. Так, например, в «Лоцмане»
мы найдем относительно высокую степень индивидуали-
зации только в характерах штурмана Болторпа и руле-
вого Тома Коффина. Хотя индивидуальная специфика
здесь идет не столько от жизни, сколько от морской
легенды.
Принципы изображения моря и моряков почти авто-
матически определяют и основные «параметры» эстетики
94
корабля в романах Купера, значение которого здесь вы-
ходит далеко за пределы его военно-транспортных функ-
ций. Подобно океану, корабли у Купера являются нрав-
ственно-эстетическими объектами. С одной стороны,
корабль — это некое звено, связывающее человека с мо-
рем, с другой — орудие в борьбе со стихией, средство, с
помощью которого человек побеждает в извечной битве
с природой. Кроме того, корабль — это дом моряка, пред-
мет его любви и привязанности. Наконец, в своем чисто
эстетическом значении корабль являет собой некий высо-
кий образец красоты, способный не только доставлять
художественное наслаждение, но и содействовать воспи-
танию совершенного вкуса. Характерно, что морские ро-
маны Купера изобилуют сценами, непременным элемен-
том которых является зрелище плывущего корабля. Не
менее характерно и постоянное одушевление кораблей,
которые как бы обретают здесь индивидуальные «харак-
теры», проявляющиеся в их «отношении к человеку».
Изложенные выше принципы и особенности изобра-
жения моря, моряков и кораблей составляют фундамент
эстетики куперовского морского романа и, стало быть,
исходную точку в эстетической эволюции жанра.
Первые опыты Купера в жанре морского романа при-
влекли к себе всеобщее внимание. В короткое время ли-
тературная маринистика приобрела необыкновенную по-
пулярность в Соединенных Штатах. По стопам Купера
устремились десятки литераторов, знаменитых и безвест-
ных, талантливых и бездарных. Читатели проявили
огромный интерес к морским жанрам. Крупнейшие лите-
ратурные журналы завели у себя «морские разделы».
Даже маститые и в большинстве своем далекие от море-
плавательских склонностей писатели почувствовали себя
95
обязанными внести свою лепту в разработку морской
темы. Несмотря на это эстетически и методологически
куперовская традиция морского романа в американской
литературе исчерпала себя почти мгновенно. В потоке
морских сочинений, наводнившем американский книжный
рынок в двадцатые и отчасти в тридцатые годы прошлого
века, мы не найдем ни одного романа, хотя бы отдаленно
приближающегося по своему художественному уровню к
«Лоцману» или «Красному корсару». Традиция жила
в десятках посредственных, дешевых, бездарно-эпигон-
ских сочинений, стоящих практически за пределами ис-
кусства. Все это была литература третьего сорта, и сего-
дня о ней мало кто вспоминает. Однако учитывать ее все
же приходится. Она существовала и — худо ли, хорошо
ли — удовлетворяла запросы читательской аудитории.
Здесь разрабатывались преимущественно две темы:
жизнь военного флота и пиратские приключения. Инте-
рес к ним вполне понятен и исторически оправдан.
После окончания войны 1812—1814 годов началось
интенсивное строительство американского военного фло-
та. За какие-нибудь полтора десятилетия общее число
военных кораблей увеличилось вдвое. Жизнь военных мо-
ряков в глазах неискушенных читателей была окружена
романтическим ореолом. Они плавали в Атлантике, Ти-
хом океане, в Средиземном море. Маршруты кораблей
пролегали вокруг мыса Горн, мыса Доброй Надежды.
Обычными стоянками американских эскадр были гавани
Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айреса, Лимы, Гонолулу. Да-
же газетная информация о передвижениях кораблей во-
енного флота дышала ароматом экзотики и романтиче-
ских приключений. В массе романов, повестей, воспоми-
наний, «записок» жизнь флота и военных моряков была
представлена в своем героическом и экзотическом аспек-
те, как жизнь, исполненная подвигов и блеска. В этих
романах и повестях все «переливалось», «сверкало» и
96
было донельзя условно. Переливались красками морские
волны, экзотические пейзажи, сверкали под южным солн-
цем белые паруса кораблей и безупречной белизны мун-
диры, грохотали орудийные залпы, благородные и воз-
вышенные герои (как правило, офицеры) демонстриро-
вали чудеса храбрости, прекрасные героини преданно
любили героев и вознаграждали их за подвиги. Именно
здесь с особенной отчетливостью обнаруживались уязви-
мые места куперовской эстетики морского романа. Оби-
лие низкопробных подражаний, как мы увидим, не столь-
ко содействовало ее утверждению, сколько явилось сти-
мулом ее быстрого и энергичного разрушения.
Что касается «пиратского» романа, то популярность
его была обусловлена не только грандиозным успехом
«Красного корсара», но целым комплексом обстоятельств
самого различного характера. Пиратство и борьба с ним
составляли одну из острых проблем американской на-
циональной жизни. Сейчас нам трудно даже представить
масштабы морского разбоя в Атлантике и особенно в Ти-
хом океане в двадцатые годы прошлого века. Впрочем,
имеющаяся в нашем распоряжении статистика может
дать об этом некоторое понятие. Приведем лишь одну
цифру: за девять лет (1814—1823) только в районе
Вест-Индии было зарегистрировано более трех тысяч
разбойных нападений на американские торговые кораб-
ли. Интерес к пиратской теме был высок, и нет ничего
удивительного в том, что в указанный период в Америке
издавалось множество книг, содержание которых состав-
ляли «рассказы потерпевших», «признания» пиратов, за-
хваченных в плен, отчеты о судебных процессах, казнях
и т. д. Именно в эти годы был переиздан классический
труд Чарлза Джонсона «Общая история пиратов», впер-
вые увидевший свет еще в 1724 году. При переиздании в
книгу был включен «Отчет о недавних нападениях на ко-
рабли в Вест-Индии и об экспедиции коммодора Порте-
4 Ю. Ковалев
97
pa». Пиратство как опасное явление, подрывающее мор-
скую торговлю, угрожающее жизни моряков и пассажи-
ров, вызывало общественное негодование, страх и любо-
пытство.
Вместе с тем облик пирата в глазах американцев дол-
жен был обладать некоторой исторически обоснованной
двойственностью и, следовательно, вызывал не одни
только отрицательные эмоции. Америка хранила живую
память о подвигах каперского флота в войне за незави-
симость, в сражениях англо-американской войны 1812—
1814 годов, в длительной необъявленной морской войне
с французами. Такие, казалось бы, несовместимые поня-
тия, как пиратство и патриотизм, легко связывались в
американском сознании в некий единый комплекс.
Романтические образы благородных морских разбой-
ников не имели, как правило, конкретных прототипов в
реальной действительности. Но сама идея благородного
разбоя в данном случае могла опираться на определен-
ное историческое основание.
Все это, разумеется, сыграло существенную роль и в
замысле куперовского «Красного корсара», героя кото-
рого автор сделал патриотом колониальной Америки,
мечтающим о часе, когда его родина сбросит оковы раб-
ства. Мысль о том, что этот роман возник на почве не-
которых идей, понятий и представлений, характерных для
своего времени, подкрепляется еще и тем обстоятель-
ством, что роман появился в окружении целого ряда «по-
хожих» произведений, среди которых в первую очередь
следует, вероятно, назвать «Пиратов» С. Джуды и два
анонимных сочинения — «Мемуары Лафита» и «Ра-
мон» и. «Красный корсар» увидел свет в 1827 году, одно-
временно с «Пиратами»; «Мемуары Лафита» вышли го-
дом ранее; «Рамон» — полутора годами позднее.
В эстетике куперовского морского романа образ бла-
городного пирата был органичен. Он превосходно увязы-
98
вался с одним из центральных ее положений, которое гла-
сило, что жизнь, проведенная в море, облагораживает и
возвышает человека. «Красный корсар» наглядно про-
демонстрировал возможность героизации морского раз-
боя, изображения пирата в качестве характера возвышен-
ного и благородного и тем самым оказал огромное влия-
ние на американскую «пиратскую» литературу.
Однако влияние это было не единственным. Мы ни в
коем случае не должны сбрасывать со счета байронов-
ского «Корсара», имевшего в Соединенных Штатах не-
обыкновенную популярность. Следует согласиться с пред-
положением, что и куперовский роман воспринимался в
Америке в связи с поэмой Байрона. В «Красном корсаре»
видели, так сказать, приложение байроновской романти-
ческой «формулы» к морскому разбою. Само собой ра-
зумеется, что такое истолкование «Красного корсара»
ограниченно и недостаточно. Но некоторые основания
оно все же под собой имеет.
* * *
«Куперовидные» романы и повести о морской жизни
являют собой лишь одно из направлений в развитии аме-
риканской маринистики эпохи романтизма. Другое на-
правление, возникшее чуть позднее, тоже имело генети-
ческую связь с творчеством Купера, использовало неко-
торые существенные элементы куперовской эстетики мор-
ского романа, но, взятое в целом, было направлено про-
тив основных принципов методологии Купера. Энергия
протеста и отрицания у представителей этого направле-
ния была обусловлена, вероятно, не столько даже твор-
чеством самого Купера, сколько деятельностью много-
численных его эпигонов, под пером которых возвышен-
ная наивность концепции Купера приобретала характер
пошлой бессмысленности. Существо же протеста было
* 99
направлено именно против Купера и тех основ марини-
стики, которые он впервые ввел в американскую (и ми-
ровую) литературу.
Выше уже говорилось, что куперовская эстетика мор-
ского романа исчерпала себя (в рамках американской
литературы) почти мгновенно. Чтобы правильно оценить
природу этого феномена, необходимо помнить о стреми-
тельной эволюции духовной жизни американского обще-
ства в двадцатые и тридцатые годы прошлого века. До-
минирующим моментом в развитии романтического со-
знания было возрастающее ощущение неблагополучия в
национальной действительности, которое исподволь сти-
мулировало начавшуюся еще ранее переоценку многих
экономических, политических и в особенности нравствен-
ных принципов американской буржуазной демократии.
Процесс этот неизбежно сопровождался осознанием глу-
боких органических противоречий в самой социальной
системе, которая мыслилась прежде как некое практи-
ческое воплощение просветительского идеала. Да и са-
мый идеал, в свете целого ряда «открытий» современно-
сти, начал подвергаться постепенному переосмыслению.
В связи с этим в творчестве американских романти-
ков значительно усиливаются критические тенденции и
возрастает интерес к художественному постижению со-
циальной природы человеческого бытия и человеческих
взаимоотношений. Случайно ли сам Купер, летописец ге-
роического прошлого Америки и пропагандист американ-
ской демократии, в начале тридцатых годов написал
сатирический роман («Моникины»), в котором жестоко
высмеял то, чем недавно восхищался? Случайно ли аме-
риканский исторический роман за каких-нибудь пятна-
дцать— двадцать лет из патриотической эпопеи, рисую-
щей славные страницы политической истории США, пре-
вратился в роман из истории нравов? (Причем речь шла
преимущественно о нравах, которые, с точки зрения ро-
100
мантиков, привели страну на край гибели.) Случайно ли,
наконец, именно в эти годы в Новой Англии сформиро-
вался трансцендентализм — нравственно-философское
учение, в основе которого лежала яростная критика эко-
номических, политических и нравственных устоев буржу-
азно-демократического общества? Разумеется, не слу-
чайно.
Национально-патриотический пафос, определявший
специфику духовной и литературной жизни Соединенных
Штатов в начале двадцатых годов, быстро рассеялся. Он,
разумеется, не исчез совершенно, но утратил интенсив-
ность и перестал быть главной силой, дающей направле-
ние художественной мысли. Именно этот пафос был од-
ним из важнейших оснований, на которых возникла ку-
перовская концепция морского романа. Неудивительно,
что уже в конце двадцатых — начале тридцатых годов
общее отношение к романам Купера значительно измени-
лось, а некоторые его художественные принципы, казав-
шиеся необходимыми и самоочевидными, стали рисо-
ваться несостоятельными.
При своем появлении «Лоцман» и «Красный корсар»
были восторженно приняты читателями и критикой. Ни-
кому не приходило в голову, что о море, кораблях и мо-
ряках можно писать иначе, нежели это делал Купер. Но
прошло всего несколько лет, и восторг сменился неудов-
летворенностью. Современник и, так сказать, коллега Ку-
пера Натаниэль Эймз печатно осведомил американцев,
что матросы, которым он читал вслух отрывки из сочи-
нений Купера, «помирали со смеху». Здесь важно даже
не то, что романтически-возвышенные герои Купера по-
казались матросам карикатурными и смешными, а то,
что Эймз счел необходимым сделать это свое наблюде-
ние достоянием публики. Нападки на куперовский способ
изображения морской жизни становились все более ча-
стым явлением, и постепенно под сомнение были постав-
ка
лены почти все узловые моменты куперовской эстетики
морского романа: противопоставление корабельного ми-
ра сухопутному, выведение «морской жизни» за рамки
социальной действительности, идеализация и героизация
«морского характера», отказ от изображения современ-
ной жизни американского флота и удаление действия в
историческое прошлое, концентрация внимания на борь-
бе со стихией и врагами и соответственно — пренебреже-
ние корабельным бытом и т. д. Представляется справед-
ливым замечание Т. Филбрика, который писал, что «исто-
рия морского романа между 1835 и 1850 годами — это
история постепенного распада идеализированной концеп-
ции морской жизни, выдвинутой Купером в его ранних
романах, и попытка выстроить более содержательную и
отвечающую современным требованиям альтернативу
этой концепции» 12. По-видимому, Филбрик ошибся толь-
ко в одном: антикуперовская реакция в морской прозе
началась несколько раньше, и правильнее датировать ее
возникновение самым началом тридцатых годов.
Новое поколение маринистов видело свою задачу не
только в том, чтобы дискредитировать эстетику романов
Купера, но прежде всего в художественном освоении всех
тех сторон морской жизни, которые были принципиально
исключены из сферы его внимания. Разумеется, это не
могло быть сделано в рамках куперовской эстетики.
Процесс построения новой эстетической системы ока-
зался длительным, сложным и занял почти два десятиле-
тия. Первый этап этого процесса был временем экспери-
ментов, попыток найти эмпирическим путем способы,
приемы, принципы художественного осмысления и во-
площения разнообразных сторон жизни моряка на ко-
рабле. И вполне закономерно, что тридцатые годы
XIX века в американской маринистике стали эпохой рас-
сказа. Рассказ, как «малая форма», был удобным ору-
дием и полем эксперимента. Американские маринисты
102
тем охотнее обращались к рассказу, Что этот жанр ймёй-
но в тридцатые годы стал приобретать в силу разных
причин широкую популярность среди читающей публики.
Американский морской роман обязан многими своими до-
стижениями рассказам тридцатых годов. Именно здесь
было совершено множество художественных открытий,
ассимилированных позднее морским романом и суще-
ственным образом изменивших его эстетику.
Американские морские рассказы тридцатых годов, с
точки зрения сюжета, образной структуры, способа по-
вествования отличались большим разнообразием и не
могут быть сведены к какому-либо единому типу. Однако
сквозь это разнообразие прокладывала себе путь основ-
ная эстетическая тенденция, существенные черты кото-
рой нетрудно разглядеть. Прежде всего бросается в глаза
почти полный отказ от изображения картин далекого
прошлого. Временем действия рассказов стала современ-
ность. Тем самым было начато некоторое ограничение
свободы романтического вымысла. И это не было случай-
ным, побочным эффектом тяготения к современности.
Авторы рассказов стремились к снижению произвольно-
сти, романтической возвышенности и героичности в изо-
бражении морской жизни и осуществляли его в рамках
общей эволюции от повествования, основанного на «во-
ображении», к повествованию, оснащенному всеми атри-
бутами «достоверности». Появились в большом количе-
стве рассказы, написанные от первого лица, снабженные
«документированными» подробностями, убедительными
деталями. Сюжет все чаще и чаще строился в форме
псевдопутешествия, будто бы имевшего место вот только
что или в крайнем случае год-два тому назад. Появились
сочинения в форме устного рассказа, якобы услышанно-
го автором от бывалого моряка, который сам-де прини-
мал участие в описываемых событиях. При этом автор
намеренно «сохранял» специфический ха'рактер устной
юз
«Моряцкой» речи, что должно было добавить убедитель-
ности рассказу.
Другим аспектом вышеупомянутой тенденции явилось
усиление внимания к моряку, но уже не как к героиче-
ской и возвышенно-благородной фигуре, а как к обыкно-
венной человеческой личности, живущей среди столь же
обыкновенных людей в обыкновенном мире. Элемент
исключительности был постепенно сведен до минимума
и связывался преимущественно с опасностью мореплава-
ния.
Ключевыми фигурами в сфере морского рассказа в
тридцатые годы следует, по-видимому, считать Натаниэ-
ля Эймза и Уильяма Леггета. Оба они были профессио-
нальными моряками, а затем профессиональными лите-
раторами. Их рассказы, печатавшиеся в журналах, а по-
том выходившие отдельными сборниками, завоевали ав-
торам широкую, хотя и недолгую известность.
Натаниэль Эймз (Nathaniel Ames, 1796—1835) был
забыт весьма основательно. О нем вспомнили только в
недавнее время, когда специалисты по Мелвиллу начали
разыскивать возможные источники его морских рома-
нов и в списках книг, приобретенных им, обнаружили
сборник рассказов Эймза. Вот тогда-то он и удостоился
маленькой заметки в одном из филологических журна-
лов 13. Но и эта заметка содержит чрезвычайно скудную
информацию. С определенностью можно говорить лишь
о том, что Эймз в 1815 году, будучи студентом Гарварда,
рассорился с семьей, бросил университет и поступил на
морскую службу. Он проплавал матросом десять лет. По-
видимому, он отчаянно бедствовал, болел, возможно да-
же сидел в тюрьме. В 1827 году Эймз поселился в при-
морском городке Провиденс, где и умер спустя восемь
лет. Он зарабатывал на жизнь статьями и рассказами,
которые писал для местной газеты. Рассказы неожиданно
привлекли к себе внимание, и Эймз без труда нашел из-
104
дателей, согласившихся выпустить их отдельными сбор-
никами. Так появились на свет три книги: «Заметки мо-
ряка», «Морские воспоминания» и «Рассказы старого
моряка» 14.
Судьба Уильяма Леггета (William Leggett, 1801 —
1839) в чем-то сходна с судьбой Эймза, хотя он был, не-
сомненно, личностью более яркой, талантливой и разно-
сторонней. В 1823 году, двадцати двух лет от роду, Лег-
гет поступил мичманом на военный корабль и плавал в
течение четырех лет, сначала в Вест-Индии, а затем
в Средиземном море. Его морская карьера была краткой
и отнюдь не блестящей. В 1825 году за участие в дуэли
Леггет должен был предстать перед судом военного три-
бунала, после чего ему пришлось уйти в отставку. Он
вернулся в Нью-Йорк, занялся журналистикой и весьма
преуспел на этом поприще. С 1829 по 1836 год Леггет в
сотрудничестве с Брайентом издавал демократическую
газету «Ивнинг пост», а в 1837 году основал собственный
журнал «Плейндилер», который выходил в течение двух
лет и прекратился со смертью издателя. Леггет был энер-
гичным и популярным общественно-политическим деяте-
лем, страстным пропагандистом радикально-демократи-
ческих идей. Начатое им движение было, как известно,
продолжено «Молодой Америкой».
Литературная деятельность Леггета была кратковре-
менной и длилась всего шесть лет (1828—1834). За это
время он опубликовал в различных журналах десять
морских рассказов. Три из них он включил в сборник
«Рассказы и наброски деревенского учителя» 15, а осталь-
ные вошли во второй сборник «Морские истории» 16. По-
сле 1834 года Леггет целиком переключился на редак-
торскую, издательскую деятельность и писал только пуб-
лицистику. В 1839 году он умер, видимо от последствий
желтой лихорадки, подхваченной им еще в годы плава-
ния в Вест-Индии.
105
В рассказах Леггета и Эймза не было полного раз-
рыва с куперовской эстетикой, как не было его в амери-
канской морской прозе вообще до самого конца роман-
тической эпохи. Описание морской стихии, изображение
деталей и оснастки корабля, его маневров — все это вы-
держано совершенно в духе романов Купера. Разница
заключалась в другом: в принципиальной позиции писа-
теля, в его точке зрения, в его отношении к изображае-
мым объектам. Куперовский корабль был подвижен,
изящен и послушен человеку. Характер связи между че-
ловеком и кораблем в эмоциональном плане имел пози-
тивную окраску. Корабль возбуждал в человеке чувство
доверия, привязанности, даже любви. У Эймза и Леггета
гамма эмоций, внушаемых человеку кораблем, распола-
гается на сугубо негативной шкале. Корабли массивны и
подавляют человека. Они вызывают в человеческом со-
знании чувство, близкое к клаустрофобии, и корабель-
ная палуба воспринимается читателем уже не как некий
«плацдарм свободы», а скорее как тюремный двор.
Примерно в таком же ракурсе представлена в рас-
сказах и морская стихия. Во внешних своих проявлениях
она все та же, что и у Купера, но она никогда не находит
гармонического созвучия в человеческой душе. Море без-
донно, безмерно и всегда враждебно человеку. Оно уже
не мыслится как достойный противник в рыцарственном
поединке. Теперь оно хитрый, злобный, коварный враг и
погубитель.
Таким образом, в рассказах Эймза и Леггета море и
корабли объединяются в некую направленную против
человека силу, стремящуюся притеснить его, ущемить,
лишить свободы и самой жизни. Все это разительно отли-
чается от куперовского принципа, в соответствии с кото-
рым морская жизнь возвышает, облагораживает чело-
века и, снимая «ограничения цивилизации», открывает
ему путь к свободному развитию и счастью.
Ш6
Эймз и Леггет решительно отвергли мысль Купера
о том, что, ступив на корабельную палубу, человек как бы
выключается из системы социальных отношений «сухо-
путного» мира и становится неподвластен законам бур-
жуазной цивилизации. Они представили мир корабля как
некий участок современной действительности со всеми ее
пороками, несправедливостью и отсутствием нравствен-
ного начала. Соответственно, море и корабли начинают
выступать уже не столько в качестве источников зла,
сколько в качестве его агентов и сопутствующих обстоя-
тельств. Источником зла становится сам человек и со-
зданные им законы. Вполне естественно поэтому, что про-
тест против бесчеловечности корабельной жизни, против
жестокости и тирании, которые правят на флоте, против
тягот и лишений морской службы, против телесных нака-
заний и т. п. является сквозной темой почти всех морских
рассказов Леггета и Эймза. Вероятно, наиболее показа-
тельным, так сказать, классическим примером нового на-
чала в маринистике может служить рассказ Леггета
«Экзекуция», повествующий о том, как несправедливость
и жестокость жизни на корабле довели моряка до убий-
ства и самоубийства.
Представляется справедливой лаконичная формула
Филбрика, писавшего: «Уильям Леггет был первым в
целом ряду молодых людей, которые отправлялись в мо-
ре и возвращались не для того, чтобы восславить амери-
канский морской патриотизм (Maritime Nationalism),как
это сделал Купер, но для того, чтобы обличить жестокую
систему, господствовавшую на военных и торговых судах
Америки» 17. Вторым в этом ряду был Натаниэль Эймз.
Достижения Эймза и Леггета в сфере литературной
маринистики были многочисленны и разнообразны. Но
все же главной их заслугой явился общий сдвиг в эсте-
тической норме, которого им удалось добиться. Они под-
готовили почву для переворота, осуществленного в соро-
107
ковые годы новым поколением маринистов во главе с
Ричардом Генри Даной (младшим) и Германом Мелвил-
лом. К этому времени благодаря усилиям Эймза, Леггета
и других американское читательское сознание не могло
уже более удовлетворяться возвышенно-романтическим
видением моря и морской жизни, запечатленным в ран-
них романах Купера.
* * *
Сороковые годы XIX века — эпоха наивысшего рас-
цвета в истории американского морского романа. Нико-
гда — ни до, ни после этого десятилетия — американская
маринистика не поднималась на такую высоту. Оно от-
крывается знаменитым сочинением Ричарда Генри Даны
(младшего) «Два года простым матросом», по сей день
привлекающим читательское внимание, и завершается
«Моби Диком», который справедливо признан высшим
достижением морского романа не только в американской,
но в мировой литературе.
Между этими крайними вехами располагается целый
ряд значительных произведений Лича, Бриггза, Мелвил-
ла. Даже Купер, увлеченный мощным течением, вернулся
к морской теме и, пытаясь приспособиться к стремитель-
ной эволюции жанра, опубликовал в течение сороковых
годов четыре морских романа и сборник биографий вы-
дающихся деятелей военно-морского флота США. К это-
му перечню следует прибавить значительное количество
второстепенных произведений, образующих, так сказать,
фон и в некотором роде питательную среду для выдаю-
щихся явлений в сфере морской прозы. Авторы их не об-
ладали талантом Даны, Мелвилла или Купера. Но они
делали полезное дело, помогая утверждать новые прин-
ципы литературной маринистики. Сороковые годы про-
шлого века в истории американской литературы можно
108
было бы, не без основании, назвать «морскими сороко-
выми».
Особенность «морских сороковых» заключается в том,
что морской роман в эти годы не только получил широ-
кое распространение, но и приобрел новое качество, ре-
шительно отличающее его от всей предшествующей мор-
ской прозы, включая сюда романы двадцатых и расска-
зы тридцатых годов.
Собственно говоря, уже в конце тридцатых годов по-
явились первые романы, учитывающие достижения мор-
ского рассказа и представляющие собой своего рода
«сцены из морской жизни», в которых полностью отсут-
ствовали романтические приключения и описывались
будни торговых и военных кораблей. Однако романы эти,
хотя и сыграли свою роль, не содержали еще вышеупомя-
нутого нового качества. Его возникновение диктовалось
не только обстоятельствами историко-литературного свой-
ства, но и характерными особенностями общественного
развития Соединенных Штатов на рубеже тридцатых и
сороковых годов XIX века.
В 1837 году американскую экономику потряс затяж-
ной кризис. Он начался в финансовой сфере, потом пере-
кинулся в промышленность, а затем в сельское хозяйство.
Кризис, естественно, вызвал обострение классовых про-
тиворечий и подъем общественно-политической активно-
сти народных масс, хотя «борьба рабочих очень редко
принимала политическую окраску и происходила в пре-
делах американской «демократии», не переходя большей
частью рамки буржуазной законности...» 18
Кризис и сопутствовавшие ему явления общественно-
политического характера стимулировали развитие обще-
демократического движения б разных областях нацио-
нальной действительности. В широких пределах этого
движения объединялись явления самого, разнообразного
типа и различного масштаба, в том числе, скажем, воз-
109
никновение журналов Уильяма Леггета, страстного про-
пагандиста радикально-демократических идей, или дея-
тельность «Молодой Америки», которая именно в годы
кризиса выдвинула лозунг демократизации литературы,
раскрывающийся в формуле «демократический писа-
тель — демократический герой — демократический чита-
тель». Формула эта не была «изобретением» участников
«Молодой Америки», но выражала атмосферу времени,
тенденцию эпохи. Проблема демократического духа
национальной литературы и соответственно демократиче-
ских позиций писателя сделалась одной из актуальней-
ших проблем времени. Вокруг нее завязывались много-
численные дискуссии; она служила предметом ожесто-
ченной полемики в журналах. Разумеется, далеко не все
критики были сторонниками «демократизации», и не
каждый писатель почитал себя обязанным занять демо-
кратическую позицию. Но каждый должен 'был хотя бы
для себя определить свое отношение к проблеме.
Все это самым непосредственным образом связано
с вопросами эволюции эстетики морского романа в аме-
риканской литературе. Как мы видели, в морской прозе
тридцатых годов (особенно в рассказе) уже возникли
определенные элементы, образующие необходимое осно-
вание для «демократизации» жанра: сближение с совре-
менностью, повышенный интерес к чисто человеческим
аспектам корабельной жизни, постановка проблемы «не-
свободы» моряка в условиях жесткой флотской дисцип-
лины, пристальное внимание к тяготам морской службы
и т. д. Количественное накопление этих элементов не
дало, однако, немедленного качественного скачка. Нужен
был особый толчок, особая атмосфера для того, чтобы
писатель ощутил необходимость пересмотреть самый
принцип подхода к материалу и решился осуществить
этот пересмотр. Демократический дух конца тридцатых
годов и открыто высказанное требование демократиза-
110
ции литературы сыграли в этом плане исключительно
важную роль.
До этих пор в литературной маринистике существо-
вало понятие «моряка» вообще, включавшее в себя всех,
для кого плавание на корабле было исполнением профес-
сиональной обязанности. Предполагалось, что возможны
только два взгляда на морскую жизнь: профессиональ-
ный и любительский. Как мы уже видели, предпочтение
отдавалось профессиональному взгляду, ибо считалось,
что только ему доступно истинное понимание предмета и
точная оценка тех или иных явлений морской жизни.
В движении эстетики морской прозы «от Купера к Легге-
ту» происходило смещение писательского интереса, по-
являлись сдвиги в удельном весе различных аспектов
морской жизни, применительно к той роли, которую они
играли в повествовании. Однако писательская позиция,
в общем, оставалась недифференцированно профессио-
нальной.
В самом начале сороковых годов эта позиция дала
глубокую трещину. Мысль о том, что морская жизнь есть
«участок» национальной действительности, возникшая
еще в тридцатые годы, была доведена до логического
завершения. Она привела к выводу, смысл которого мо-
жет быть полностью осознан в свете явлений, сопутство-
вавших кризису 1837 года.
Обострение классовых противоречий, вызванное кри-
зисом, нанесло очередной, на этот раз весьма ощутимый
удар старой идее единства национальных интересов.
И хотя общедемократическому мышлению в целом оста-
валось недоступным понимание природы и специфики
классовых интересов и классового самосознания, тем не
менее социальная дифференциация американского обще-
ства как один из важнейших факторов, определяющих
пути национальной жизни, предстала перед глазами аме-
риканцев в качестве неоспоримого факта. Один из опас-
Ш
нейших аспектов этого факта заключался в несходстве,
а сплошь и рядом в противоположности взглядов, интере-
сов, жизненных позиций. По одну сторону оказывались
привилегированные и- «власть имеющие», по другую —
непривилегированные и не имеющие власти. Иными сло-
вами, американцы обнаружили в своей социальной жиз-
ни черты, характерные для государств Старого света, ко-
торые, как им прежде казалось, были счастливо преодо-
лены в рамках американской демократии.
Согласившись, что корабельную палубу следует изо-
бражать как часть национальной действительности (к
началу сороковых годов эта идея ни у кого уже не вызы-
вала возражений), американские маринисты должны
были признать, что единый, пусть даже профессиональ-
ный взгляд на морскую жизнь невозможен, что должно
быть два взгляда, две позиции: одна — типичная для
«власть имеющих», другая—типичная для тех, кто ее не
имеет. По флотской табели о рангах это означало: пози-
ция рядового матроса и позиция тех, кто над ним стоит
и обладает в отношении него различной степенью власти.
В эту последнюю категорию -включаются все младшие и
старшие офицеры.
Таким образом, писателю-маринисту предоставлялся
выбор. Он должен был занять либо демократическую
(матросскую) позицию, либо — антидемократическую
(офицерскую). При этом его видение (и изображение)
мира, его оценки, его критерии, весь нравственный и
эстетический строй его произведения должен был цели-
ком определяться избранной им позицией.
Первым американским писателем, который осознал
существование этой альтернативы и умышленно занял
демократическую позицию, был Ричард Генри Дана
(младший). В 1840 году он выпустил книгу с преднаме-
ренно неловким названием — «Two Years Before the
Mast» («Два года простым матросом»). Он бы мог при-
112
дать названию звучность и легкость, употребив любое из
привычных слов — sailor, seaman, mariner, смысл кото-
рых соответствует лонятию «моряк». Но он предпочел
флотский термин before the mast. Объяснение этому мо-
жет быть только одно: перечисленные привычные слова
обозначают моряка вообще, матроса, боцмана, офицера,
капитана — кого угодно, тогда как before the mast может
относиться только к рядовому матросу. Очевидно, Дана
хотел, чтобы у читателя не возникло никаких сомнений
относительно его намерений. Более того — он предпослал
своей книге предисловие, которое сегодня мы можем рас-
сматривать как своего рода манифест американского ли-
тературного маринизма сороковых годов.
Изящное предуведомление Даны написано будто бы
с целью объяснения причин, побудивших его опублико-
вать «еще одно» морское повествование, хотя со времен
куперовского «Лоцмана» появилось уже несчетное ко-
личество сочинений о морской жизни. На само'м же деле
оно имеет одну-единственную задачу: разъяснить, почему
теперь нельзя уже писать так, как (писали Купер и его
последователи или даже Натаниэль Эймз.
Упомянув о морских романах и рассказах двадца-
тых— тридцатых годов, Дана замечает, что все они были
написаны людьми, которые приобрели свое знание и по-
нимание предмета, будучи офицерами или пассажирами.
Поэтому, говорит он, «как бы увлекательны и хорошо
написаны ни 'были эти книги, сколь 'бы точно они ни вос-
производили морскую жизнь, какой она представлялась
авторам, всякому должно 'быть понятно, что морской офи-
цер, отправляющийся в море «в качестве джентльмена,
как говорится, «в белых перчатках», находящийся в кон-
такте только с офицерами, разговаривающий с матро-
сами почти исключительно через боцмана, имеет обо всем
представление, весьма несхожее с представлением рядо-
вого 'матроса...
113
.. .В последние годы фигура рядового -матроса при-
влекает к себе значительное внимание и вызывает силь-
ное сочувствие. Однако мне кажется, что... не появилось
ни одной книги, в которой жизнь рядовых матросов
была бы описана человеком, принадлежащим к их среде,
который действительно может знать, какова эта жизнь
на самом деле. Голос простого матроса (курсив
Даны. — Ю. К.) пока еще не был слышен (в литера-
туре)» 19.
Этот манифест Даны прозвучал как сигнальная тру-
ба, зовущая маринистов в поход. Со всех сторон послы-
шались «голоса рядовых матросов»: «Пять лет рядовым
матросом», «Двадцать лет рядовым матросом», «Три-
дцать лет вдали от дома, или Голос рядового матроса»,
«Сорок лет на море»20. Некоторые авторы скрывали свои
имена за псевдонимами, но сами псевдонимы вырази-
тельно подчеркивали их принадлежность, действительную
или мнимую, к великому сообществу рядовых матросов.
Даже Фенимор Купер, который, казалось бы, должен
был стоять в стороне от этого лотока, не удержался и
озаглавил один из своих романов «Нед Майерз, или
Жизнь рядового 'матроса». Впрочем, известно, что Купер
был увлечен книгой Даны и — по некоторым сведениям —
даже перевел ее на французский язык.
Таким образом, мы видим, что сущность диалектиче-
ского скачка в эстетике морского романа заключалась в
изменении авторской позиции, авторского взгляда на
предмет. От писателя требовалось теперь, чтобы он не
только изображал жизнь современных моряков на совре-
менном корабле, но изображал ее с позиций рядового
.матроса. Именно в этом состояла «демократизация лите-
ратуры» в области морского романа.
Чтобы до конца понять значение декларации Даны,
следует обратить внимание на два существенных момента.
Первый заключается в том, что Дана не был профес-
114
сиомальным моряком. Весь его морской опыт ограничи-
вался единственным плаванием из Бостона в Калифор-
нию и обратно. В семье Даны не было моряков и не су-
ществовало морской традиции, но зато имелась традиция
литературная. Отец его, Ричард Генри Дана (старший),
был поэтом, критиком, издателем. В историю американ-
ской литературы Дана-старший вошел прежде всего как
основатель первого серьезного литературно-критического
журнала «Северо-Американское обозрение» и как один
из зачинателей романтической критики в США. С юных
лет Дана-младший жил в атмосфере литературных инте-
ресов. В 1831 году, шестнадцати лет, он поступил в Гар-
вардский университет. Однако резкое ухудшение зрения
и общее состояние здоровья вынудили его бросить заня-
тия уже на втором курсе. Врачи рекомендовали ему мор-
ское .путешествие, очевидно полагая, что молодой паци-
ент отправится, как это было в обычаях времени, пови-
дать Старый свет. Финансовое положение семьи вполне
допускало такую возможность. Но Дана предпочел на-
няться матросом на брит «Пилигрим» и уйти в далекое
плавание к берегам Калифорнии. Вернувшись в Бостон,
он возобновил занятия ъ университете и окончил его в
1837 году. Затем он прошел курс в юридической школе и
на долгое время избрал своей специальностью морское
право.
Из сказанного выше следует, что представление
о Дане как о матросе, взявшемся за перо, весьма далеко
от истины. «Рядовой матрос», обозначенный в заглавии
книги, — это не профессия автора, не его социальное по-
ложение, но преднамеренно избранная авторская пози-
ция.
Второй существенный момент, на который следует
обратить внимание, состоит в том, что между возвраще-
нием Даны из. плавания и появлением книги прошло пять
лет. Они приходятся как раз на предкризисные и кризис-
115
ные годы и могут быть в известном смысле названы вре-
менем демократического воспитания писателя. Первые
уроки этого воспитания он получил, видимо, еще на бор-
ту «Пилигрима». Социальные контрасты на тесной ко-
рабельной палубе выступали с особенной резкостью, и
юный Дана уже тогда поклялся себе сделать все, чтобы
«уничтожить причины страданий и обид того класса лю-
дей, среди которого [ему] 'Пришлось волею судьбы про-
жить столь долгое время». Показательно, что первым опу-
бликованным сочинением Даны была статья «Жестокость
•в отношении матросов», напечатанная в журнале «Аме-
риканский юрист» в 1839 году.
Будучи студентом Гарварда, Дана активно интересо-
вался демократическими движениями и идеями этих лет.
Он был внимательным читателем гаррисоновского «Осво-
бодителя», «Демократического обозрения» и леггетов-
ского «Плейндилера». Само собой разумеется, он неукос-
нительно прочитывал все «морские» сочинения, появляв-
шиеся в эти годы, включая сборники рассказов Эймза и
Леггета. Особый интерес Дана питал к аболиционизму
и фермерскому движению за землю. Позднее это привело
его к активному участию в деятельности партии фрисой-
леров и к особого вида профессиональной практике: он
оказывал бесплатную юридическую помощь рабам, схва-
ченным и посаженным в тюрьму в соответствии с зако-
ном о беглых неграх. Эта практика доставила ему мно-
жество врагов и помешала в дальнейшем вступить на
дипломатическое поприще.
Думается, что упомянутое демократическое воспита-
ние сделало Дану особенно восприимчивым к специфике
литературного развития Америки в годы кризиса. При-
зыв к демократизации литературы побудил его извлечь
из ящика старые дневники и записи, сделанные на борту
«Пилигрима», и написать свой роман о корабельной жиз-
ни «с позиции матроса».
116
Книга Даны явилась завершающим ударом по ранне-
романтической концепции моря и морской жизни, а сле-
довательно, и по исходным эстетическим принципам мор-
ского романа. Дана обобщил опыт своих ближайших
предшественников, учел результаты экспериментов в
области морского рассказа тридцатых годов, и это, во
взаимодействии с избранной им «демократической пози-
цией», 'Позволило ему выстроить новую художественную
систему, сделавшуюся, по меньшей мере на десятилетие,
эталоном для американских маринистов.
Одним из важнейших моментов ранне-романтической
морской прозы в Соединенных Штатах, как мы уже ви-
дели, была героизация и идеализация морской жизни.
Необходимым и достаточным условием этой идеализа-
ции было отграничение 'морокой жизни от жизни «сухо-
путной», то есть от современной американской социаль-
ной действительности. Оно достигалось перенесением
действия в историческое прошлое, в экзотические районы
мирового океана, а главное — концентрацией внимания
на естественном окружении человека, на его борьбе со
стихиями (и, конечно, с врагами родины). Все осталь-
ное— быт, повседневная трудовая деятельность моряка,
социальные взаимоотношения людей на корабле и т. д.—
попросту отсекалось. Оно как бы не существовало и, уж
во всяком случае, не играло никакой роли в повество-
вании.
Дана поломал эту традиционную схему. Он исходил
из того, что жизнь моряка не только не является вопло-
щением идеала, но, напротив, -полностью ему противоре-
чит. По его убеждению, морской роман до сих пор не
затронул тех областей корабельной действительности, ко-
торые на самом деле важны, ибо из них складывается под-
линная жизнь матросов. Дана сделал основным предме-
том повествования всю жизнь матроса во-время далекого
плавания, и оказалось, что она, со всеми подробностями
117
и Деталями, представляет для читателя ничуть не мень-
ший интерес, нежели пиратские приключения или герои-
ческие подвиги «в военных сражениях.
Не следует этого понимать в том смысле, что Дана во-
все отказался от изображения эстетических и героиче-
ских аспектов морской жизни, что он истребил поэтиче-
ский пафос романтического повествования, заменив его
серой, будничной прозаичностью, утомительным изо-
бражением скучных -подробностей. Конечно, герой Да-
ны— это не исключительная личность, а обыкновенный
человек; основным содержанием его жизни является тя-
желый труд, сопряженный со смертельной опасностью.
Вся жизнь матроса, регламентированная морским уста-
вом, разбитая на вахты, подчиненная корабельной дис-
циплине— изнурительна и однообразна. И тем не менее
именно в этой повседневной жизни Дана обнаруживает
и героизм, и красоту, и поэтический пафос. Он показал,
что прозаическая рутина торгового флота как материал
для романтического повествования содержит ничуть не
меньше возможностей, чем анналы военно-морского фло-
та или пиратские хроники.
Этот урок был моментально усвоен современниками
Даны, которые тут же принялись «дополнять» его книгу.
Некоторые шли прямо по его стопам, рассказывая о ма-
тросской жизни на торговых кораблях, другие знакомили
читателей с жизнью матросов китобойного флота, третьи
излагали свой опыт плавания на военных кораблях, чет-
вертые -повествовали о матросской доле и порядках на
кораблях пассажирского флота. Ни один вид мореплава-
ния не остался «неохваченным». Среди множества сочи-
нений, вызванных к жизни книгой Даны, лишь малое
количество обладало серьезными художественными до-
стоинствами, но все содержали богатейшую информацию,
подробнейшее изображение порядков, условий жизни на
американских морских судах, описание событий и проис-
118
шествий, которые действительно имели место и коих
авторы книг были действительно свидетелями и участни-
ками. Более того — вслед за Даной маринисты сороковых
годов усвоили критическое отношение к предмету, и опи-
сание корабельной жизни в их книгах сплошь и рядом
перерастало в обличение. Критическая тенденция, робко
намеченная в рассказах Леггета и Эймза, утвердилась
теперь -в качестве доминирующего уклона.
* * *
«Белый бушлат» — типичный продукт «морских соро-
ковых». Написанный в самом конце десятилетия, он- как
бы подводит итог многочисленным усилиям американ-
ских маринистов привести морской роман в соответствие
с интересами, запросами и потребностями времени.
Выше уже говорилось, что «Белый бушлат» не может
считаться автобиографическим произведением. Мел-вилл
широко использовал сочинения современников, заимствуя
у них не только факты, но и какие-то элементы повество-
вательной структуры. Да и самый предмет повествова-
ния— плавание на военном корабле, — как мы видели,
не был открытием Мелвилла. Несколько сочинений, по-
священных этой теме, появилось в самом начале сороко-
вых годов, и Мелвилл, работая над своей книгой, посто-
янно к ним обращался. Если задаться целью проследить
связи -книги Мелвилла с морскими романами сороковых
годов, то главное и особенное место среди них займет,
конечно, «Два года простым матросом» Ричарда Даны.
При первом чтении книга Даны произвела на Мелвил-
ла сильнейшее впечатление. Об этом он вспоминал позд-
нее по разным поводам. В силу стечения обстоятельств
Мелвилл впервые прочел «Два года» на борту фрегата
«Соединенные Штаты» (книга имелась в корабельной би-
блиотеке), и произведение Даны неизбежно связалось
119
в его памяти с плаванием на военном корабле. В авторе
книги Мелвилл почувствовал «родственную душу» и
проникся к нему глубочайшим уважением. Это чувство
Мелвилл сохранил на долгие годы; и много 'позднее, уже
сам будучи знаменитым писателем, он продолжал вни-
мательно прислушиваться к суждениям и мнению Даны,
придавая им особенное значение. Непосредственное воз-
действие «Двух лет» на «Белый бушлат» очевидно и лег-
ко поддается наблюдению. Занимаясь этим вопросом,
американские исследователи по большей части концен-
трируют свое внимание на поисках сходных описаний,
сцен, характеров, ситуаций и т. п. Между тем речь дол-
жна идти в первую очередь о другом: об авторской пози-
ции и о самом типе повествования.
Демократический угол зрения (осмысление корабель-
ного мира с точки зрения простого матроса), утвержден-
ный Даной в морской прозе, был принят Мелвиллом. Но
Мелвилл пошел дальше. Дана рисовал корабельную
жизнь как некую замкнутую систему, изолированную от
мира. Мелвилл раздвинул ее границы до пределов чело-
вечества. Способ художественного моделирования мор-
ской жизни в «Белом бушлате», несомненно, идет от
Даны, но самые принципы, идеи, убеждения, образующие
авторскую платформу, 'восходят к более широкому кругу
источников. Мелвилловский демократизм имеет ориги-
нальную природу. Он не от литературных (хотя бы и бла-
готворных) влияний, но от собственного жизненного опы-
та, от передовых идейных течений эпохи, от участия
Мелвилла в деятельности «Молодой Америки» и т. д. От-
сюда более широкие пределы обобщений, более глубокий
социальный смысл отдельных эпизодов «Белого бушла-
та» и всей книги в целом.
Что касается типа повествования, то мы имеем здесь
в виду утвержденную Даной бесфабульную структуру,
в которой главными сюжетообразующими элементами яв-
120
ляются сама рутина корабельной жизни и перемещение
корабля в географическом пространстве. В повествовании
Даны отсутствовали характерные и обязательные для
того времени организующие элементы повествования: ро-
мантический сюжет, сквозная драматическая тема, силь-
ный характер. Природа нового повествовательного типа
очевидна. Она восходит отчасти к европейской пикареске,
но главным образом к небеллетристическим жанрам (ме-
муары, описания путешествий), хотя, разумеется, не ко-
пирует их. Особенностью его является свободная компо-
зиция, в которой детерминированы лишь начало и конец
(отплытие и прибытие). Все остальные эпизоды могут
располагаться в любом порядке, при условии, что это
расположение не будет противоречить географии пла-
ва ния.
Сам Дана, по-видимому, не догадывался о-б огромных
потенциальных художественных возможностях, скрытых
в подобном способе повествования. Мел вилл почувство-
вал их и кое-где использовал в «Белом бушлате». Но в
полную силу они развернулись только в «Моби Дике».
«Белый бушлат» является, однако, типичным продук-
том сороковых годов не только потому, что в нем полу-
чили завершение и обобщение основные идейно-художе-
ственные тенденции американской морской прозы этого
десятилетия, но еще и потому, что произведение Мелвил-
ла буквально пропитано духом протеста и реформы, ко-
торый доминировал в атмосфере времени. Даже беглый
взгляд на общественно-политическую жизнь Соединен-
ных Штатов сороковых годов убеждает нас в том, что
пафос неприятия действительности и стремления пре-
образовать ее достиг в это время необычайного накала.
В начале сороковых годов возникло движение анти-
рентеров, в 1840 году 'была образована партия свободы,
в 1845 — Национальная ассоциация реформ, в 1848 —
партия фрисойлеров, полным ходом на протяжении всего
121
десятилетия развивалось аболиционистское движение.
Существующий порядок вещей в экономике, политике,
законодательстве подвергался жесточайшей критике. Со
всех сторон слышалось требование частных и общих ре-
форм. Отмена рабства, ограничение политической власти
плантаторов, аграрная реформа, десятичасовой рабочий
день на фабриках — таковы лишь некоторые из много-
численных проблем, обсуждавшихся ежедневно в журна-
лах, газетах, а иногда даже становившихся поводом для
кровавых столкновений. К этому следует прибавить, что
сороковые годы явились временем широчайшего размаха
утопических экспериментов, целью которых (пусть неосу-
ществимой) была выработка новых общественно-эконо-
мических принципов для коренной реформы всей жизни.
Именно тогда, в 1841 году, начала выходить знаменитая
«Трибуна», отдавшая свои страницы для пропаганды идей
утопического социализма.
Критический и реформаторский дух захватил многих
поэтов и прозаиков, в том числе и тех, кто в принципе не
склонен был участвовать в политической борьбе. Именно
в эти годы увидели свет «Песни о рабстве» Лонгфелло,
«Женщина в девятнадцатом столетии» М. Фуллер, «Го-
лоса свободы» и «Песни труда» Уиттьера, «Записки Биг-
лоу» Лоуэлла и многие другие, -менее известные, но не
менее критические произведения. С этой точки зрения
мелвилловский «Белый бушлат» заслуживает специаль-
ного внимания.
Существует довольно стойкая традиция, идущая от
Р. Уивера, автора первой биографии Мелвилла, видеть
в «Белом бушлате» как бы два произведения, почти не
связанные друг с другом: романтическое описание плава-
ния на военном корабле и памфлет, направленный против
злоупотреблений и порядков в американском флоте. Наи-
более полное и четкое свое выражение эта традиция по-
лучила в работе Чарлза Андерсона, который посвятил
122
роману Мелвилла две главы. Одну он назвал «„Белый
бушлат" как роман», другую — «„Белый бушлат" как
пропаганда». Подобное разграничение едва ли справед-
ливо. Несмотря на то что в книге Мелвилла действитель-
но имеются откровенно публицистические абзацы и даже
целые главы, она обладает единством стиля, не допу-
скающим вычленения публицистических элементов, кото-
рые составляют необходимый элемент романтического
повествования. По своей функции они часто приближаются
к философским и социологическим размышлениям автора
в «Моби Дике». Уберите их, и что останется от знамени-
того романа о Белом Ките?
«Белый бушлат» — произведение чрезвычайно острое
и резкое. Оно содержит такой критический заряд, какой
был свойствен лишь немногим произведениям американ-
ской литературы этого десятилетия. Объекты, против ко-
торых направлено острие мел'вилловского критицизма в
«Белом бушлате», многочисленны, разнообразны и раз-
номасштабны. Наряду с непродуманностью корабельного
распорядка и недостатками организации матросского
быта, мы найдем здесь ряд «кастовых» пороков и зло-
употреблений. Более того — Мелвилл (покушается на са-
мые основы военно-морской службы —на дисциплинар-
ную иерархию власти, при которой слово начальника —
закон для подчиненного.
Попутно Мелвилл затрагивает целый ряд вопросов,
касающихся уже не столько самой корабельной жизни,
сколько неразумности и 'безосновательности традиций и
законоположений, ее регламентирующих. Он говорит
о бессмысленности чрезмерного количества кадетов на
корабле, о ненадобности морской пехоты в мирное вре-
мя, о дурно .продуманной системе жалованья и отпусков
для матросов и т. п.
Среди многочисленных объектов мелви-лловской кри-
тики один, несомненно, возвышается над всеми прочими
123
и безраздельно над ними господствует. Это система те-
лесных наказаний, узаконенная и признанная на всех
кораблях военного, торгового и пассажирского флота
Соединенных Штатов. В сороковые годы XIX века почти
каждый морской роман, начиная с «Двух лет» Даны,
трактовал эту проблему в том или 'ином аспекте. Круг
источников, которыми Мелвилл мог воспользоваться, рас-
сматривая этот вопрос, весьма обширен. Мелвилл читал
Дану, у которого изображается «стандартное» наказание
матроса — двенадцать ударов девятихвосткой, читал у
Лича описание варварского наказания «flogging thro-
ugh the fleet», после которого .почти никому еще не уда-
валось выжить, читал сочинения многих других своих со-
временников, где показывались разного рода телесные
наказания. Да и собственный жизненный опыт Мелвилла
снабдил его достаточной «информацией по этой части. За
то время, что он находился на борту фрегата «Соединен-
ные Штаты», на его глазах было выпорото 163 матроса.
Однажды Мелвилл и сам едва не оказался жертвой вар-
варских дисциплинарных методов и только случайно из-
бежал наказания плетью.
Системе телесных -наказаний в романе специально
посвящены четыре главы (XXXIII—XXXVI), в которых
Мелвилл исследует вопрос с самых различных точек
зрения — профессиональной, юридической, политической,
нравственной, гражданской и религиозно-христианской,
каждый раз с неумолимой логикой приводя читателя к
одному и тому же выводу: телесные наказания на флоте
противоречат всем божеским и человеческим установле-
ниям, от них нет никому никакой пользы, а 'вред, (причи-
няемый ими, колоссален.
Мелвилл оперирует фактами истории и современно-
сти, законоположениями и священным писанием, он обра-
щается к документам и авторитетам, он берет в свиде-
тели великих флотоводцев и государственных деятелей —
124
и все это для одной цели: доказать необходимость отмены
телесных .наказаний. Ему мало убедить читателя. Ему
надо, чтобы читатель загорелся справедливым негодова-
нием и включился в борьбу. Голос Мелвилла в этих гла-
вах 'Проникается высокой патетикой, и риторическая
мощь его 'инвектив напоминает временами лучшие стра-
ницы памфлетов Пейна.
В'месте с тем следует заметить, что критика морской
жизни у Мелвилла не носит отвлеченно-риторического
характера. «Белый бушлат» — не .памфлет и не трактат,
а роман, и Мелвилл не разрешал себе ломать жанровую
структуру произведения. Критические тенденции повест-
вования существуют здесь не вопреки образной системе,
а органически с ней связаны и осуществляются через нее.
Зло представлено в «Белом бушлате» в форме человече-
ских конфликтов, участниками которых являются харак-
теры, выписанные рельефно и основательно. Уильям
Плоумер совершенно прав, говоря, 'что «если бы «Белый
бушлат» был всего л'ишь документальным повествова-
нием, имеющим целью способствовать реформе, то и то-
гда это была бы великолепная книга, но, конечно, менее
великолепная, чем сейчас. В сущности, это поразитель-
ная галерея характеров. Мир «Нетонущего» населен раз-
нообразными и достоверными людьми, .показанными при
исполнении своих многообразных обязанностей или во
время отдыха и развлечений.. .»21 В память читателя на-
долго врезаются именно характеры: 'пьяница капитан,
бездарные, не знающие своего дела офицеры, безответ-
ственные мальчишки-кадеты, вор и взяточник боцман,
тупой и жестокий костоправ — хирург эскадры, корабель-
ный священник, безгранично равнодушный к своей паст-
ве. Да и матросы в этой галерее далеко не ангелы. Из
этого, однако, не должно заключать, что критическое перо
Мелвилла направлено против злоупотреблений, или что
в жестокости и тяготах матросской службы повинны те
125
или иные лица. Сам Мелвилл ясно дает понять это в
своеобразной характеристике капитана Кларета:
«.. .В каких бы дурных поступках на борту «Нето-
нущего» ни был повинен капитан Кларет, ни один из них,
возможно, не проистекал из некой личной врожденной
жестокости. Он был таким, каким его сделали флотские
обычаи и практика. Если бы он имел сухопутную профес-
сию и был бы, например, купцом, — его непременно счи-
тали бы добросердечным человеком»22.
Зло органично связано с флотскими установлениями
и, «подобно всякому органическому пороку, неизлечимо и
распадается только вместе с телом, в котором живет»23.
Дело не в отдельных людях и не в отдельных злоупотреб-
лениях, а во флотских «Правилах», в писаных и неписа-
ных законах, признанных адмиралтейством, в парагра-
фах и статьях военно-морского устава. С точки зрения
Мелвилла, устав американского военного флота противо-
речил духу американской государственности, принципам
американской конституции и слепо копировал архаиче-
ские законоположения британского флота. Страница за
страницей Мелвилл рассматривает разнообразные слу-
чаи применения устава, подтверждающие ошибочность,
ложность, бессмысленность и вредоносность статей, его
составляющих. Он клеймит жестокость и бесчеловечность
этого, по его выражению, «турецкого кодекса», видя имен-
но в нем основной источник всех зол, царящих на воен-
ном флоте.
Позиция Мелвилла при этом никак не связана с сен-
тиментальным сочувствием «бедному матросу». Мелвилл
•был далек от традиционно романтической идеализации
«честного моряка». Напротив того, в «Белом бушлате» он
всячески развенчивает «романтическое представление об
особенном благородстве сердца и преувеличенном до-
бродушии, которыми обычно наделяют матроса романи-
сты в своих сочинениях...»24 Скажем прямо, Мелвилл
126
был весьма невысокого мнения относительно профессио-
нальных и нравственных качеств матросов с военных ко-
раблей и не скрывал его от читателей. Среди многих недо-
статков и пороков, которыми Мелвилл наделил матросов
«Нетонущего», особенное огорчение вызывает у него от-
сутствие патриотического духа, полное безразличие ко
всему, что касается судеб Америки. Мелвилл довольно
подробно останавливается на «непривлекательности»
матросской массы именно потому, что и это он выводит
из общих законоположений, определяющих нормы служ-
бы на военном корабле. Сами условия жизни на кораб-
лях—жестокая палочная дисциплина, маленькое жалова-
нье, редкие увольнения на берег и т. д. и т. п. — приводят
к тому, что лучшие моряки предпочитают не иметь дела
с военным флотом. Сюда идут служить те, кто опустился
и не имеет надежды подняться: люди, утратившие мо-
ральные принципы. Откуда же взяться патриотизму?
Семьдесят вторую главу романа Мелвилл заканчи-
вает следующими словами: «Поймите раз и навсегда, что
во всем сказанном в любой части этого сочинения каса-
тельно тяжкого гнета, от которого, как мне известно,
страдает матрос, я руководствовался не сентименталь-
ной и отвлеченной любовью к рядовому моряку... и не
всеподавляющим желанием прослыть «другом матросов».
Я хочу лишь увидеть зло исправленным...»25
Стремление «увидеть зло исправленным» и опреде-
ляет реформаторский пафос «Белого бушлата». Мелвилл
отлично сознавал ограниченность практических возмож-
ностей «исправления зла». Он не замахивался на то,
чтобы, как он говорил, «цивилизовать цивилизацию» или
«христианизировать христианский мир». Он, естественно,
не мог надеяться на упразднение войн — основного фак-
тора, определяющего «необходимость» существования
военного флота. Единственное, что было в его силах —
это потребовать, чтобы конгресс специальными законо-
127
дательными актами гарантировал охрану здоровья и ми-
нимум необходимых жизненных условий для матросов
военного флота.
Этот аспект «Белого бушлата» был встречен читате-
лями необыкновенно сочувственно и выз-вал широкий от-
клик в современной печати. Книгу Мелвилла приветство-
вали представители самых различных общественных и
политических группировок, от умеренных вигов и умерен-
ных демократов до трансценденталистов и унитарианцев.
Само собой разумеется, что «Молодая Америка» оказала
Мелвиллу полную поддержку и члены группы выступили
с несколькими рецензиями и статьями по поводу «Белого
бушлата», в которых безоговорочно присоединялись к
реформаторской программе писателя.
Как и следовало ожидать, реакция, вызванная «Бе-
лым бушлатом», далеко не всегда была доброжелатель-
ной. Мелвилл, так сказать, задел «больное место», и
круги, близкие к правительству и особенно к адмиралтей-
ству, выражали бурное негодование. В этой связи пред-
ставляет известный интерес открытое письмо адмирала
Томаса О. Селфриджа, предназначенное для опублико-
вания, но в силу различных обстоятельств увидевшее свет
лишь в 1935 году. Письмо это 'было самым скорым и, ве-
роятно, самым гневным откликом официальных кругов
на книгу Мелвилла. Селфридж обвинил писателя в том,
что о:н «отвергает всякую церемонию, этикет, всякую дис-
циплину, когда они не соответствуют его личным, весьма
своеобразным понятиям. Он хочет убедить читателей, что
телесные наказания — это не иначе, как тирания, и до-
стойны оправдания те, кто противится этой исправитель-
ной мере любым способом, вплоть до действий, которые
подходят под категорию мятежа. Таков общий итог и
сущность его доктрины»26.
Скорее всего письмо Селфриджа не было опублико-
вано по той причине, что всеобщий протест против телес -
128
ных наказании и иных зол, сопряженных с морской служ-
бой, достиг огромного размаха. Книги Даны, Лича и в
особенности «Белый -бушлат» Мелвилла буквально вы-
нудили конгресс заняться этим вопросом, и осенью 1850
года был принят закон, запрещающий телесные наказа-
ния в американском военном флоте «отныне и навечно».
О том, что «Белый бушлат» сыграл существенную
роль в принятии этого закона, свидетельствуют многие до-
кументы, в том числе воспоминания адмирала С. Фран-
клина, который, будучи еще мичманом, плавал в одно
время с Мелвиллом на фрегате «Соединенные Штаты».
«„Белый бушлат",—писал Франклин, —-имел более
влияния на отмену телесных наказаний в военном флоте,
чем что-либо другое. Книгу эту держал на своем столе
каждый конгрессмен. Она -была самым красноречивым
призывом к национальному чувству человечности. О поль-
зе, принесенной ею, свидетельствует закон об отмене те-
лесных наказаний во флоте, принятый вскоре после ее
появления»27.
Мы не склонны объяснять законодательный акт кон-
гресса исключительно впечатлением, которое «Белый
бушлат» произвел на современников, хотя некоторые мел-
вилловеды 'и делают это. На наш взгляд, следует согла-
ситься с Гетери-нгтоном, который писал, что Мелвилл «не
столько явился инициатором движения за реформу,
сколько поднялся на гребне волны протеста, направлен-
ного против телесных наказаний, и вложил свою лепту
в окончательную победу».
Как уже говорилось выше, критический и реформа-
торский дух «Белого бушлата» идет не столько от лич-
ного опыта Мелвилла, сколько от общих тенденций обще-
ственно-политической жизни Соединенных Штатов соро-
ковых годов XIX -века. Борьба против телесных наказаний
во флоте не была явлением изолированным, существую-
щим отдельно от важнейших демократических движений
5 Ю. Ковалев
129
эпохи. В сознании современников она связывалась с об-
щей борьбой за свободу и демократический прогресс. По-
казательно, что наиболее активными сторонниками флот-
ской реформы были аболиционисты и фрисойлеры, а наи-
более резкими ее противниками — плантаторы-южане.
Тотчас после выхода в свет книги Мелвилла в кон-
гресс потоком -пошли петиции, требующие отмены телес-
ных наказаний. Любопытно, что петиции шли из штатов,
население которых в массе своей стояло за освобождение
негров (Массачусетс, Пенсильвания, Мэриленд, Мэн,
Ныо-Хэм'пшир, Нью-Йорк), и подписывались они 'преиму-
щественно на собраниях аболиционистов.
Характерен и другой факт. Новый законопроект про-
шел в палате представителей без задержек, но в сенате
встретил резкую оппозицию со стороны представителей
южных штатов, которым едва не удалось провалить его.
Закон был принят большинством в два голоса (26:24).
Следует признать, что эффективность мелвилловского
романа, которая, как мы видим, была высока, определяет-
ся общей принципиальной позицией автора, позицией сто-
ронника равенства, политической справедливости и де-
мократического прогресса. Уроки «Молодой Америки»
явно пошли Мелвиллу впрок.
Для Мелвилла, как и для многих его современников,
художественное творчество 'было актом не только эстети-
ческим, но и гносеологическим. Оно являлось способом
постижения действительности и выявления закономерно-
стей, управляющих ею. Отсюда «метафизическая» стихия
романов Мелвилла. Она присутствует в «Белом бушлате»
и была замечена современной критикой.
Стремление постичь жизнь и ее закономерности тре-
бовало, как мы теперь сказали бы, моделирования дей-
ствительности, которое у Мелвилла должно было неиз-
130
бежно исходить из принципов романтической эстетики.
Поиски методов моделирования определялись общей за-
дачей. Поскольку задача эта была связала с попыткой
установления наиболее общих законов и универсальных
сил, проявляющих себя в сферах естественной и социаль-
ной, элементы модели должны были обладать особым
качеством, допускающим «операции» с высокой степенью
обобщения и отвлеченности. Очевидно, что «частности» и
«конкретности» жизни, даже взятые на уровне инвариан-
та, без сообщения им дополнительного смысла не могли
служить удовлетворительным «строительным материа-
лом». Это Мелвилл понял сразу. Уже в «Марди» он при-
нялся экспериментировать, .применяя простейшие приемы
придания дополнительного смысла элементам структуры.
Основным принципом моделирования мира в этом романе
является, бесспорно, аллегория. Мы знаем, что Мелвилл
потерпел «поражение. В силу своей узости и конкретности
аллегорический принцип не обеспечивал должного уров-
ня обобщения и абстрактности, на котором ищущая
мысль только и могла обрести необходимый «оператив-
ный простор». «Белый бушлат» в этом смысле является
важным этапом в поисках и экспериментах Мелвилла.
На этот раз поиск шел от сближения частных и общих
явлений (на базе внутреннего или даже внешнего сход-
ства) к символическому их осмыслению.
Выше уже говорилось, что одним из важнейших за-
воеваний американской маринистики сороковых годов
было установление .принципиального сходства морской
жизни с социальной действительностью. Мелвилл полно-
стью разделял этот взгляд. Он лишь искал наиболее при-
емлемую для его целей формулу организации современ-
ной жизни и соответственно экспериментировал в своем
романе с понятиями города (на уровне метафоры), госу-
дарства (на уровне аморфного сближения) и мира (на
уровне символа).
♦
131
В «Белом бушлате» читатель сталкивается с город-
ским «мотивом» в разных аспектах. Чаще всего — это
описание корабельной «территории», исполненное в фор-
ме серии городских уподоблений, но нередко «городская
метафора» окрашивает и размышления автора по поводу
•всевозможных явлений и понятий нематериального по-
рядка, регламентирующих человеческую деятельность.
Таково, например, рассуждение по поводу военно-мор-
ского устава в XXXV главе.
Имеются все основания -предполагать, что этот не-
сколько неожиданный урбанизм ъ изображении морской
жизни возник под непосредственным влиянием «хЧолодой
Америки», которая, как известно, признала жизнь боль-
ших городов естественной, органической и важной частью
национальной действительности. Недаром участники «Мо-
лодой Америки» явились пионерами литературного урба-
низма в своей стране. Возможно, именно это младоамери-
канское представление о городе как о характерной и
неотъемлемой части национальной жизни толкнуло Мел-
вилла к поискам универсальных обобщений на пути мета-
форического сближения корабля и города. Из этого, одна-
ко, ни.чего не получилось. Жизнь города сама по себе не
содержала необходимой степени универсальности, и
мысль Мелтвилла, натыкаясь на барьеры урбанистических
конкретностей, не могла пробиться к необходимому уров-
ню абстракции. Вероятно, Мелвилл это чувствовал, ибо
по мере развития действия в романе урбанистический эле-
мент неукоснительно убывает.
Параллельно Мелвилл экспериментировал с традици-
онным уже в литературе и в философии (вспомним Гобб-
са) уподоблением государства кораблю, с той лишь раз-
ницей, что в «Белом 'бушлате» оно «перевернуто», и не
государство уподобляется кораблю, а корабль — государ-
ству. Впрочем, как уже говорилось, сближение корабля
с государством здесь аморфно, не приобретает четких
132
очертаний метафоры, аллегории или символа. Оно суще-
ствует чаще всего в форме аллюзий разной степени опре-
деленности, не складывающихся в какую-либо систему.
Иногда оно возникает в названиях глав, чаще — в свое-
образном словоупотреблении, и только изредка Мелвилл
решается на развернутую аргументацию, как, например,
в главе XVIII, где он размышляет о разнообразных
«гражданских» профессиях моряков и заканчивает выво-
дом: «Если бы военный корабль потерпел крушение у
пустынных берегов, команда его могла бы за короткое
время основать Александрию без помощи извне...»28,
как бы подчеркивая, что военный корабль уже содержит
в себе все необходимые компоненты государства.
Кроме того, в повествовании имеется ряд элементов,
которые возникли без специальной цели «помочь» сбли-
жению корабля с государством, но тем не менее содей-
ствуют такому сближению. Их много. Они рассыпаны по
всей книге. Иногда это случайные параллели, иногда —
образы, наводящие читателя на определенные мысли, но
чаще — авторские отступления, подобные рассуждению
о классовом антагонизме матросов и офицеров, который
Мелвилл называет «неискоренимым» и «охватывающим
все стороны их бытия». «Могут ли люди, чьи интересы
столь несходны, хотя бы надеяться жить в добровольной
гармонии? Можно ли расчитывать, что братство... ко-
гда-либо воцарится там, где проклятие для одного — чуть
ли не благословение для другого?»29 В силу сходства
этого рассуждения с другими, тде Мелвилл непосред-
ственно говорит о взаимоотношении сословий в государ-
стве, оно воспринимается в русле идентификации ко-
рабельной жизни с жизнью общества, то есть опять-таки
как нечто имеющее отношение не только к кораблю, но
и к государству.
В «Белом бушлате» параллель корабль — государство
не имеет четкого, определенного оформления и не выхо-
133
дит за рамки эксперимента. Если бы «Белый бушлат»
был последним романом Мелвилла, то о ней, вероятно, не
стоило бы и говорить. Но за «Белым бушлатом» после-
довал «Моби Дик», и в свете этого обстоятельства экспе-
римент Мелвилла приобретает важное значение, ибо«Пе-
код» и его судьба как пророческий символ ближайшего
будущего Соединенных Штатов явились прямым след-
ствием поисков, начатых в «Белом бушлате».
Образ «Пекода», как и многие символы в «Моби
Дике», неоднозначен. Воплощая идею Америки и ее исто-
рических судеб, он в то же время (на более абстрактном
уровне) символизирует человечество и 'мир. И снова мы
должны признать, что путь к этому символу лежит через
«Белый бушлат», где Мелвилл в ряде эпизодов пытался
придать именно этот символический смысл образу «Не-
тонущего», плывущего через неопокойные воды океана.
Между прочим, современники отчетливо уловили эту
сторону дела. Еще Дайкинк в своей рецензии на роман,
появившийся тотчас после его опубликования, писал:
«Этот фрегат и в самом деле —целый мир, населенный
тысячами людей, представляющих все слои жизни, все
ступени цивилизации...»30 Кстати, Дайкинк почувство-
вал и уровень абстрактности символа, хотя выразил это,
естественно, в понятиях и терминах своего времени —
«...военный корабль (у Мелвилла. — Ю. К.) отторгнут
от цивилизации... и от самого человечества»31.
Разумеется, в «Белом бушлате» нет еще системы взаи-
модействующих символов, которая оказалась столь эф-
фективной при решении основных философско-художест-
венных задач в знаменитом романе о Белом Ките. Однако
ясно, что в своих исканиях Мелвилл нащупывал путь к
этой системе, и «Белый бушлат» — наглядное тому под-
тверждение.
Эксперименты Мелвилла с образом корабля и посте-
пенное его развертывание в многозначный символ имели
134
одно неожиданное, на первый взгляд, но, в общем, зако-
номерное последствие. В свете общей эволюции морского
романа оно представляется существенным. Речь идет об
ослаблении эстетики корабля в общей структуре повест-
вования. Внешний облик корабля, изящество оснастки,
красота движения и маневра, его «характер», иными сло-
вами— все то, что чрезвычайно занимало Купера и его
ближайших последователей, теперь в значительной мере
утрачивает былое значение. По-видимому, дело здесь в
том, что «восхищение» кораблем, которое американские
маринисты стремились вызвать у читателя, требовало
подробных описаний, тщательного изображения деталей,
(неизбежно, в силу своей конкретности, препятствовавших
символическому осмыслению образа. Мелвилл «жертво-
вал» эстетикой корабля. В «Белом бушлате» и в «Моби
Дике» мы уже не найдем куперовского преклонения пе-
ред изяществом, грациозностью, мощью, 'послушностью
корабля или детального изображения парусов, такелажа
и т. д. Единственные описания, которые имеются в «Бе-
лом бушлате», существуют лишь для того, чтобы «пере-
дать специфику военного судна, а в «Моби Дике» — суд-
;на китобойного.
* * *
Выше говорилось о том, что «Белый бушлат» — произ-
ведение, характерное для американской литературной ма-
ринистики 1840-х годов. При всей справедливости подоб-
ного определения, оно все же недостаточно, ибо не
учитывает одного важного качества этого романа, состоя-
щего в особом синтетизме, тяготение к которому Мелвилл
начал испытывать, еще работая над «Марди», и который
сделался одним из главных жанровых принципов в
«Моби Дике». В данном случае этот синтетизм еще не
обладает той широтой и универсальностью, которые он
приобретет позднее. В «Белом бушлате» он не выходит
135
за пределы американской морской прозы. Но зато опыт
американской маринистики на всех этапах ее развития
использован Мелвиллом широко и основательно.
Специфическая особенность отношения Мелвилла к
литературной традиции заключается в том, что он посто-
янно возвращается мыслью к эстетике минувших десяти-
летий, к художественным системам, казалось -бы уже
исполнившим свое предназначение в истории литературы
и «преодоленным» новыми поколениями писателей. Мел-
вилл осмысливает их заново, и то, что его современникам
могло показаться «выжатым» до конца и безнадежно
устаревшим, часто обретает новую жизнь в его произве-
дениях. С этой точки зрения представляет интерес ха-
рактер связи «Белого бушлата» с американской морской
прозой двадцатых и тридцатых годов XIX века.
Различные аспекты морских романов Купера, взятых
как художественная система, имели разную судьбу. Мно-
гие быстро вышли из употребления, иные «прожили»
несколько дольше, и только один оказался стойким и про-
существовал несколько десятилетий. Речь идет о карти-
нах морской стихии, или, иначе говоря, о морском ланд-
шафте, который сам по себе остался в литературной
мари'нистике «навечно», и даже в наше время редкий мор-
ской роман обходится без океанского ландшафта. Разу-
меется, функционирование морского пейзажа и самый спо-
соб «живописи» за прошедшие сто с лишним лет измени-
лись. Но перемены в этой области совершались крайне
медленно, и мы не погрешим против истины, если скажем,
что функция морского 'пейзажа, а главное, «методика»
изображения морской стихии, разработанные Купером,
сохранялись в американской морской прозе на протяже-
нии тридцатых и сороковых годов XIX века без суще-
ственных изменений. «Белый бушлат» не составляет в
этом плане исключения. Морской ландшафт, однако, за-
нимает здесь незначительное место. Мы не найдем в «Бе-
136
лом бушлате» подробных описаний океана в разных ча-
стях света, при разном состоянии тюгоды, в различное
время дня и т. д. Более того — Мелвилл охотно отсылает
читателя к другим авторам (в частности, к Дане), заме-
чая попутно, что все равно лучше он не напишет. Можно
предположить, что Мелвилл сознательно отказывался от
роли «пейзажиста», понимая, что не сможет сказать чи-
тателю ничего нового.
Вместе с тем очевидно, что Мелвилл не был удовле-
творен этой своей «неспособностью», и где-то в глубинах
его творческого сознания шла работа, давшая мощный
результат в его следующем романе. Кое-какие следы этой
работы -могут быть обнаружены и в «Белом бушлате».
Они — в непременной связанности морских картин ^раз-
мышлениями по 'поводу предметов, не имеющих прямого
отношения к «пейзажу». Видимо, Мелвилл приближался
к мысли о возможности символического ■истолкования
океанской стихии через систему ассоциаций социального
и философского характера. Однако решительный шаг в
этом направлении он сделал только в «Моби Дике».
Другая область, где «Белый бушлат» оказался связан
прочной, хотя и непростой связью с эстетикой куперов-
ского морского романа, — это изображение так называе-
мого 'морского характера. Совершенно очевидно, что
принцип идеализации человеческой личности, для кото-
рой единственным условием является принадлежность к
сословию профессиональных моряков, начисто отвергался
Мелвиллом. Он не соглашался с тем, что морская служба
сама (по себе в состоянии сделать человека героем и на-
делить его высокими моральными качествами. Более
того—у Мелвилла связь между нравственным обликом
человека и его принадлежностью к 'миру истинных мо-
ряков имеет обратный характер: высокие внутренние до-
стоинства помогут человеку стать хорошим моряком, но
никакой морской опыт не превратит негодяя в доброде-
137
тельную личность, а тем более в героя. Недаром команда
«Нетонущего» в «Белом бушлате» состоит на девяносто
процентов из «скандалистов всех мастей». С точки зрения
Мелвилла, это закономерно, ибо уважающий себя чело-
век едва ли согласится служить на военном корабле, учи-
тывая самый характер службы и условия корабельного
быта. «...Легко себе представить, что это за люди,—
говорит Мелвилл, — и каков должен быть их моральный
облик, если они даже в наше время добровольно посту-
пают на службу, столь неприятную для сухопутного чело-
вечества, как военный флот. Отсюда и 'проистекает, что
все лодыри и скандалисты всех 'мастей на военном ко-
рабле— это лица, околачивающиеся в доках, поступаю-
щие на флот с единственной целью получать свою еже-
дневную порцию грога и убивать время в -безделье...»32
И сколько бы эти «скандалисты» ни плавали, ни один из
них никогда не превратится в Тома Коффина. Это так и
должно быть. У Купера морская жизнь отвлечена от со-
циальной действительности, а море — «великолепная ро-
мантическая среда, которая является антиподом сухому,
прозаическому миру буржуазных отношений»33 и потому
может и должна порождать «идеальные» и возвышенные
характеры. У Мелвилла морская жизнь не противостоит
социальной действительности и ничего такого порождать
не может.
Казалось бы, здесь между Купером и Мелвиллом нет
точек соприкосновения. Но вот перед нами возникает
мелвилловский Джек Чейз — характер героический, ро-
мантически-возвышенный, благородный, ни дать ни
взять — традиционный романтический герой морского ро-
мана двадцатых годов, личность, так сказать, без сучка,
без задоринки. Как бы мы ни присматривались к нему,
мы не обнаружим ни малейшего пятнышка, ни единой по-
грешности против куперовской «нормы», если не считать
«сверхкомплектных» качеств, совершенно необязатель-
на
Щх дли куперовскбго романтического 'моряка. Джек
Чейз— матрос, но он совершенный джентльмен (в демо-
кратическом лоиимании слова). Ладонь у него жесткая,
а сердце мягкое. Он обладает в высшей степени чувством
Собственного достоинства, держится свободно, не заиски-
вает перед вышестоящими, обязательно вежлив, даже
если ему требуется всего лишь одолжить складной нож.
Этот матрос широко образован, и образованность его
складывается равным образом из личного опыта и книж-
кой мудрости. Он побывал во всех частях света, владеет
множеством языков, прочел всего Байрона и все романы
Вальтера Скотта, хорошо знает Шекспира, Гомера, кое-
что из Бульвера, «о превыше всего влюблен в поэзию
Камоэнса, которого декламирует наизусть и притом в
оригинале. Джек Чейз — человек, обладающий богатыр-
ской физической и нравственной мощью. Он «был лучше
сотни простых смертных: Джек был целый фаланстер, це-
лая армия. В нем было силы на тысячу человек»34. Он де-
мократ и республиканец. И это не только его убеждения, но
и программа действий. «Подчиняясь военно-морской дис-
циплине в плавании, на суше он стоял за Права Человека
и за Свободу во всем мире. Он принял участие в граждан-
ских столкновениях в Перу, душой и сердцем отстаивая
дело, которое считал правым»35.
Если сравнивать Джека Чейза с куперовскими героя-
ми ino «степени идеальности», то он окажется на несколь-
ко порядков выше Тома Коффина или любого другого
моряка в романах Купера. В образной системе «Белого
бушлата» Чейз —одинокая вершина. С ним некого по-
ставить рядом. И если в подтексте куперовского романа
читателю всегда слышится: «Вот каков американский мо-
ряк!», то у Мелвилла ничего похожего не слышится. Джек
Чейз — редкое исключение. Да он и не американец во-
все. И хотя Мелвилл прилагает значительные усилия
к тому, чтобы этот образ не выглядел мертвой схемой,
139
чтобы он Жил, как живут все другие характеры в романе,
Чейз воспринимается именно так, как он был задуман,
то есть как образ преднамеренно идеальный, как своего
рода еще одна романтическая утопия, являющаяся недо-
сягаемым образцом. Джек Чейз — далекий маяк, ориен-
тир, к которому должен обращаться человек в своем
«•внутреннем плавании».
При всей своей идеальности и недосягаемости образ
Джека Чейза, однако, не оторван от матросской стихии
«Нетонущего». И не потому, что он стоит вахты и несет
службу наравне со всеми, но потому, что ъ нем сосредо-
точены в концентрированной форме некоторые свойства
человеческой натуры, присущие всем морякам на кораб-
ле, в том числе и наиболее скандальным «скандалистам».
Речь идет о неподавляемой «жизненной силе», о неизмен-
ном «истинном достоинстве», которые позволяют человеку
•пройти через самые ужасные унижения (например, нака-
зание плетьми) и все же остаться человеком. В каждом
матросе «Нетонущего» есть нечто от Джека Чейза, хотя
проявляется это нечто только в минуты крайнего душев-
ного напряжения.
Если проанализировать нравственные компоненты
образа Джека Чейза, то нетрудно заметить, что они вос-
ходят к концепциям «Молодой Америки» о демократиче-
ском сознании и о человеке будущего (в Америке).Можно
сказать, что, создавая этот характер, Мелвилл по-сво-
ему осуществлял 'младоамериканскую программу воспи-
тания демократического сознания в человеке и формиро-
вания нравственности завтрашнего поколения своих со-
отечественников. Он указывал им цель и — в некоторой
степени — путь к ней.
Но самая возможность включения 'в повествование
«идеального» характера была, несомненно, подсказана
Мелвиллу Купером. Он как бы возродил (разумеется, на
ином уровне и с иной целью) один из аспектов куперов-
140
ской эстетики морского романа, похороненный, казалось
бы, навсегда усилиями маринистов тридцатых и сороко-
вых годов XIX века.
Любопытно, что в дальнейшем Мелвилл сделал еще
один шаг к Куперу, показав воздействие морской жизни
на человеческий характер. Правда, в отличие от Купера,
он сосредоточил внимание не столько на нравственной,
сколько на психологической стороне дела.
Связь «Белого бушлата» с морской прозой тридцатых
годов имеет иной характер и осуществляется не столько
в рамках эстетической преемственности (хотя и это имеет
место), сколько через освоение Мелвиллом идеологиче-
ского наследия маринистов указанного десятилетия.
И здесь сразу, со всей неизбежностью возникает тема
«Мелвилл и Уильям Леггет», несомненно заслуживающая
специального изучения.
Имя Леггета уже упоминалось несколько раз в настоя-
щей работе в связи с эволюцией эстетики американской
морской прозы в тридцатые годы. Однако для того, чтобы
понять характер влияния, которое Леггет мог оказать (и
оказал) на творчество Мелвилла, необходимо более от-
четливо представить себе сущность его общественно-по-
литических идей. Паррингтон, справедливо и точно, на
наш взгляд, оценивший убеждения Леггета и смысл его
деятельности, дал ему следующую характеристику:
«Уильям Леггет был человеком большой души и огромной
энергии, для которого социальная справедливость стала
религией. Этот левый демократ и борец за равноправие
ненавидел всяческие тарифы, субсидии, монополии, кре-
дитные манипуляции — в общем, все, за что стоял новый
капитализм. Его симпатии были на стороне нового дви-
жения пролетариата, и с пылом странствующего рыцаря
он рвался в бой за отстаиваемое им дело. Самобытный
радикал, воззрения которого сложились *в условиях аме-
риканской экономической действительности времен про-
141
мышленного переворота, ой... по праву может считаться
одним из самых искренних и блестящих защитников демо-
кратии в истории Америки»36. К этой характеритике до-
бавим лишь, что Леггет был одним из зачинателей движе-
ния «Локо-фоко», хотя, вероятно, занимал позиции более
радикальные, чем основная масса его сподвижников. Он
имел множество врагов и еще больше друзей и последо-
вателей. Прямой наследницей идей Леггета была «Моло-
дая Америка», и участники ее открыто это признавали.
В последние полтора года жизни Леггет был лично
знаком с некоторыми участниками «Молодой Америки».
В журналах и на собраниях этой группы обсуждались на-
писанные Леггетом статьи и речи, хотя сам он, возможно,
на этих собраниях не присутствовал. Трудно себе пред-
ставить, чтобы кто-либо из участников младоамерикан-
ского сообщества не знал о Леггете или не читал его сочи-
нений. Тем более что морские рассказы Леггета пользова-
лись необыкновенной популярностью у современников и
неоднократно перепечатывались. На наш взгляд, Т. Фил-
брик прав, когда говорит, что «подобно тому как рома-
ны Купера доминировали в сфере морского романа до
1835 года, рассказы Леггета совершенно затмили сочине-
ния всех других авторов в жанре морского рассказа» 37.
Мы уже знаем, что на протяжении нескольких лет
Мелвилл поддерживал теснейший контакт с «Молодой
Америкой», участвовал в младоамериканских изданиях,
'присутствовал на ее собраниях и .находился в дружеских
отношениях с лидером этой группы Эвертом Дайкинком.
У 'нас нет никаких серьезных оснований сомневаться в
принадлежности Мелвилла к «Молодой Америке». Если
к этому прибавить, что Мелвилл был профессиональным
моряком, сам писал морскую прозу и внимательно про-
читывал все сколько-нибудь заметные сочинения в этом
жанре, то едва ли останется хоть тень сомнения в том, что
Мелвилл был знаком с произведениями Леггета. Несо-
142
мненно, что Мелвилл читал не только рассказы Леггета,
но и его статьи. От Леггета в «Белом бушлате» — 'беспо-
щадный демократизм, который выделяет этот роман сре-
ди других произведений морской прозы сороковых годов.
Демократизм здесь — не просто авторская позиция или
способ видения мира «с точки зрения рядового матроса»,
но основание для жесточайшей критики флотских поряд-
ков и социальной действительности в целом. Не забудем,
что именно Леггет был 'первым, кто поднял голос проте-
ста против бесчеловечных порядков, царивших на амери-
канских военных и торговых кораблях, против притесне-
ний, которым подвергались матросы, и возвел эти поряд-
ки к общей порочности социальной системы. От Леггета,
по-видимому, идет и публицистичность «Белого бушла-
та», его «пропагандистский» аспект, пафос реформы, об-
щая тенденция к преобразованию общества и человека.
Многие особенности «Белого бушлата» связаны с
общедемократическим и реформаторским духом, харак-
терным для общественных движений сороковых годов
•в Соединенных Штатах. Это справедливо. Но дух этот
образовался и распространился не сам собой. Он явился
следствием интенсивной пропаганды радикально-демо-
кратических идей, которую вели люди, -подобные Леггету.
Его рассказы, статьи, журналы, а также речи, которые он
•писал и произносил, — таков был один из источников
идейных веяний сороковых годов. Мелвилл черлал из
этого источника щедрой рукой. Он, так сказать, пренебрег
умеренными модификациями и вариантами леггетовекого
радикализма, возникшими к концу десятилетия, и предпо-
чел оригинал. Может быть, поэтому Мелвилл оказался в
некоторых вопросах радикальнее и последовательнее, чем
многие локо-фоко, в том числе и его друзья по «Молодой
Америке». Недаром «Белый бушлат» — самый острый и
резкий морской роман сороковых годов..И реакция, вы-
званная этим произведением, была вполне закономерна.
143
Таким образом, мы приходим к выводу, что в «Белом
бушлате» Мелвилл сделал попытку синтезировать в еди-
ном художественном повествовании некоторые специфи-
ческие элементы американской морской прозы, возникав-
шие на разных этапах ее существования, то есть в два-
дцатые, тридцатые и сороковые годы XIX века, несмотря
на то, что ко времени написания романа они частично
уже вышли из употребления.
Эксперимент не имел всеобъемлющего характера, и
мы не можем оказать, что Мелвилл в этом произведении
дал синтез американского морского романа вообще. Но
даже в тех ограниченных рамках, в которых он прово-
дился, опыт оказался успешным, и в «Моби Дике» Мел-
вилл решительно раздвинул базу синтеза до почти не-
ограниченных пределов.
* * *
В заключение рассмотрим еще один важный элемент
в структуре повествования, поскольку он представляет
собой существенный этап в кристаллизации эстетических
принципов, положенных в основу «Моби Дика». Речь идет
о самом белом бушлате — образе, который и по сей день
вызывает споры среди специалистов, склонных к построе-
нию произвольных и поспешных гипотез. Для начала
сделаем четкое разграничение, которого упорно не хочет
делать большинство американских исследователей твор-
чества Мелвилла. В романе имеется два белых бушлата,
и каждый из них исполняет свою функцию в повествова-
нии: один — это куртка со множеством карманов и засте-
жек, которую герой сам сшил себе за отсутствием обмун-
дирования в корабельной кладовой, другой — Белый Буш-
лат— это сам герой, от имени которого ведется рассказ.
Как уже говорилось, «Белый бушлат» —роман, ли-
шенный традиционного романтического сюжета. В нем
содержится, правда, описание разнообразных событий и
144
происшествий, но между ними нет внутренней сюжетной
связи. Они просто эпизоды, «перемежающиеся очерками
корабельной жизни и размышлениями автора по различ-
ным поводам. Однако «Белый бушлат» — не очерковая
книга и не описание плавания, хотя элементы того и дру-
гого занимают здесь значительное место. «Белый буш-
лат—произведение, обладающее художественным един-
ством, имеющее свою художественную логику. Роль,
которую белый бушлат играет в повествовании, исключи-
тельно важна. Это роль организующая. В романе дей-
ствительно нет традиционного романтического сюжета,
но Зто не значит, что в нем вообще нет сюжета. Правда,
он столь необычен, что почти не воспринимается как сю-
жет. Тем не менее он есть и заключается в истории белого
бушлата, а точнее — в истории изнурительной борьбы
повествователя с белым бушлатом.
Кстати говоря, Мелвилл проделал с этим образом еще
один эксперимент, позднее широко использованный им
в «Моби Дике». Он не одушевил образ белого бушлата,
не наделил его волей, характером или разумом. Но он
предписал всем событиям, связанным с белым бушлатом,
некую целенаправленность, как если -бы предмет этот
обладал характером и волей — дурным характером и
злой волей. Почти все неприятности, от комических до
трагических, которые случаются по ходу действия с по-
вествователем, происходят по милости белого бушлата.
В жару в нем жарко, в холод он не греет; в тот момент,
когда повествователь старается укрыться от начальствен-
ного ока, бушлат немедленно выдает его присутствие; он
впитывает воду, как губка, и тем самым заставляет сво-
его владельца дрожать во время ночных вахт; он губит
все имущество героя и, наконец, едва не губит его самого,
ибо, опять-таки по милости бушлата, спеленавшего хо-
зяина при порыве ветра, тот срывается с верхней реи
главной мачты и падает в море. Иными словами, на про-
145
тяжении всего повествования белый бушлат устраивает
своему хозяину большие и малые пакости, на ликвидацию
которых тратятся время, энергия, силы. Именно белый
бушлат оказывается «творцом» всевозможных психоло-
гических ситуаций, из которых мы здесь упомянем лишь
об одной, поскольку она имеет первостепенное значение:
бушлат ставит героя в положение «черной овцы», чужака,
изгоя, с которым никто не желает иметь дела, и тем са-
мым обрекает его на вечное одиночество.
Строго говоря, история взаимоотношений повествова-
теля с белым бушлатом по большей части не имеет отно-
шения ни к нравоописательным очеркам корабельной
жизни, -ни к изображению особенностей военной службы
во флоте, ни к инвективам Мелвилла по поводу жесто-
кости и несправедливости флотских установлений, ни к
его реформаторским призывам. Но она, словно нить, «про-
шивает» все эти элементы книги, связывая их между со-
бой, придавая им дополнительный смысл и тем самым
организуя их в целостное повествование, имеющее то эсте-
тическое и структурное единство, которое недоступно кни-
ге очерков и которое превращает повествование в роман.
Теперь обратимся к Белому Бушлату — то есть к ге-
рою произведения, которому автор не дал другого име-
ни, но зато доверил ему роль рассказчика. Самый прин-
цип повествования от первого лица не был новостью ни
в американской маринистике сороковых годов, ни в твор-
честве самого Мелвилла. Собственно говоря, все его про-
изведения, появившиеся до «Белого бушлата», были на-
писаны от первого лица. Исключение составляет лишь
«Марди», где от первого лица написаны только началь-
ные главы. Может быть, поэтому исследователи не при-
дают большого значения форме изложения в «Белом
бушлате» и не уделяют должного внимания образу рас-
сказчика. Между тем дело обстоит далеко не так просто.
Если сопоставить морские романы Мелвилла сороковых
146
годов 6 его первыми произведениями, то мы увидим, *гго
образ повествователя существенно изменился. В «Тай-
пи» и «Ому» рассказчик и автор если и не полностью
идентичны, то, во всяком случае, максимально прибли-
жены друг к другу. В «Редберне» и «Белом бушлате» они
формально отделены друг от друга, у них разные имена,
разные судьбы. Однако этим формальным отграничением
■не исчерпываются взаимоотношения автора и рассказ-
чика. Дистанция, разделяющая их в «Белом бушлате»,
непостоянна: она то удлиняется — и тогда читатель на-
чинает «чувствовать» характер рассказчика, человека до-
бродушного, любознательного, наблюдательного, склон-
ного к размышлениям, то сокращается до минимума, ино-
гда до нуля, — и тогда читатель вообще забывает о
рассказчике: перед ним автор, Герман Мелвилл собствен-
ной персоной. Отсюда и так называемое «двухголосное»
повествование, в котором слышатся — то поочередно, то
сливаясь — голоса автора и повествователя. Голос Бе-
лого Бушлата доминирует при рассказе о непосредствен-
ном участии героя в тех или иных событиях (под уча-
стием следует разуметь также и ситуации, в которых ге-
рой является очевидцем происходящего), голос автора —
голос, вспоминающий об этих же событиях и, главное,
размышляющий об их смысле и значении. В публицисти-
ческих разделах голос рассказчика почти не слышен вовсе.
Теперь посмотрим на дело с другой стороны. Обычно
в морских романах сороковых годов XIX века, где для
большей достоверности повествование велось от первого
лица, рассказчик с первых же страниц сообщал читателю
(опять же для достоверности) максимальное количество
сведений о себе самом: кто он, откуда родом, кто роди-
тели, где провел детство, как попал на морскую службу
и т. д. и т. п. Если мы попытаемся поставить эти вопросы
применительно к Белому Бушлату, 'мы тут же убедимся,
что не знаем о нем решительно ничего. Все наши сведе-
147
ния ограничиваются тем, что ом ступил на .палубу «Нето-
нущего» в Перу и сошел на берег в Соединенных Штатах,
и еще — что у него не было форменной одежды. По неко-
торым намекам можно догадаться, что он бывалый мо-
ряк и много плавал. Он никогда не вспоминает ни о дет-
стве, ни о доме, ни о семье, ни о возлюбленной, ни о чем
таком, что составляет постоянный предмет размышлений
всех прочих матросов на корабле. Что это, упущение со
стороны Мелвилла? Едва ли. Скорее следует предполо-
жить, что писателю нужен был именно такой герой и рас-
сказчик—без имени, без биографии, без привязанностей,
размышления и суждения которого были бы лишены
«биографической» окраски, свободны от случайных иска-
жений, обусловленных «земными» пристрастиями и «до-
машними» ограничениями. Постижение мира сознанием
героя должно было быть строгим и незаинтересованным.
Заметим, однако, что в «Белом бушлате» Мелвиллу не
удалось еще довести своего героя и рассказчика до уров-
ня, на -котором эти требования оказались бы осуществлен-
ными. По-видимому, и сами требования не были еще вы-
работаны писателем с должной отчетливостью. Это есте-
ственно. Мел-вилл находился, так сказать, в стадии
поиска. Он искал тип сознания, могущий послужить ин-
струментом художественного исследования общих зако-
нов бытия человека и мира. Безымянный Белый Бушлат
был всего лишь одним из экспериментов.
Направление экспериментов Мелвилла очевидно. Спо-
соб повествования в «Белом бушлате», его «двухголос-
ная» структура, периодическое «исчезновение» рассказ-
чика, незаметно и постепенно уступающего место автору,
равно как и самый образ рассказчика, отчетливо предва-
ряют появление Измаила в «Моби Дике».
«МОБИ ДИК»
(ТВОРЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ.
МЕЛВИЛЛ И ШЕКСПИР)
Сопоставление целого ряда
фактов позволяет с наибольшей вероятностью предпо-
ложить, что Мелвилл начал писать роман о Белом Ките
в феврале 1850 года, после возвращения из поездки в
Европу. Он жил тогда в Нью-Йорке с женой и маленьким
сыном, которому не было еще года. Однако летом этого
же года Мелвилл покинул Нью-Йорк. По-видимому,
жизнь в большом городе, с ее суматошностыо, необходи-
мостью принимать у себя друзей и знакомых, посещать
всякого рода «вечера» и собрания, не говоря уже о ее
дороговизне (известно, что Мелвилл был весьма стеснен
в средствах), препятствовала его работе. Мелвилл не
умел творить между делом, отвлекаясь и разбрасываясь.
Он как-то писал Готорну: «Спокойствие,- душевная про-
хлада, состояние, созвучное тихо растущей траве, в ко-
149
тором человек должен всегда заййматьсй творчеством,-^
редко являются моим уделом»1. Мелвилл переехал в
Питтсфилд, где поселился в доме своего покойного дяди,
который предприимчивая вдова (превратила в «номера
с пансионом». Спустя два месяца он, заняв денег у тестя,
приобрел старую ферму, куда и перебрался осенью
1850 года. Здесь ему суждено было 'прожить много лет,
вдали от шума и суеты больших городов.
Все это время, невзирая на хлопоты, связанные с пе-
реездом, покупкой фермы и приведением ее в пригодный
для жилья вид, Мелвилл продолжал работать над рома-
ном. По свидетельству Дайкинка, в августе 1850 года
роман был готов более чем '.наполовину. Однако осенью
1850 года Мелвилл, видимо, изменил свое отношение к
рукописи и продолжал работать над 'ней еще почти целый
год. Только б конце июля 1851 года он счел работу закон-
ченной, хотя и после этого продолжал еще вносить в руко-
пись всевозможные исправления.
Уединенная жизнь на ферме была более благоприят-
на для работы, нежели коловращение Нью-Йорка. Но и
здесь Мелвилл не обрел «спокойствия и душевной про-
хлады». В цитированном выше -письме к Готорну он
горько жаловался на материальные затруднения. «Я про-
клят долларами, —писал он,—и коварный Дьявол вечно
посмеивается надо мной сквозь распахнутую дверь.Мой
дорогой сэр, у меня есть предчувствие, что работа вы-
жмет из меня все, и я погибну... То, что мне более всего
хотелось -бы писать, закрыто для меня — за это не станут
платить. Однако писать что-нибудь совершенно другое я
не могу»2.
Год, протекший с осени 1850 года, был временем
огромного творческого напряжения и титанического тру-
да. Мелвилл чувствовал себя рабом, прикованным к га-
лере. Он вставал до света, колол дрова или гулял, затем
садился за стол, и только в четыре-пять часов пополудни
150
жене удавалось заставить его спуститься в столовую и
поесть. Острая боль в глазах, на которую он неоднократ-
но жаловался,-мешала ему перечитывать написанное. Ему
приходилось держать в памяти целые главы и разделы
книги. Его бесконечно мучила мысль о возможности ком-
мерческого провала романа. Все это порождало огромное
нервное напряжение и усталость, прорвавшуюся однажды
в словах, обращенных к Готорну:
«И если когда-нибудь, мой дорогой Готорн, в гряду-
щей вечности мы с Вами усядемся в тенистом уголке в
раю; и если нам удастся, хоть контрабандой, протащить
туда., шампанского, бутылок десять (ведь я не верю в
трезвенные небеса), мы вытянем святые наши ноги на
святой траве, мы сдвинем рюмки так, чтоб звон пошел по
райским кущам, и потолкуем... О, собрат мой смертный,
как мы потолкуем о множестве вещей, которые приводят
нас в отчаяние; земля же будет для нас всего лишь вос-
поминанием, а разрушение ее — делом давно минувших
дней»3.
По-видимому, обстановка на ферме изменилась к лету
1851 года. Мелвилл не находил там больше .необходимого
локоя и уединения. Длительные визиты родственников,
неизбежные хлопоты хозяйственного порядка — все это
отвлекало его от работы. В начале июня он решил бе-
жать обратно в Нью-Йорк, на этот раз без семьи, с тем,
чтобы закончить «Моби Дика». Об этом своем намерении
он писал Готорну: «.. .уеду в Нью-Йорк, затворюсь в ма-
ленькой комнате на третьем этаже и буду работать, как
невольник, над «Китом»... Только так я смогу закончить
его теперь» 4.
Прошли еще два месяца напряженной работы, пре-
жде чем роман был завершен. Впрочем, понятие завер-
шенности здесь относительно. Мелвилл поставил послед-
нюю точку по необходимости. Он охотно, продолжал бы
работать над книгой и дальше. Тридцать вторую главу
151
«Моби Дика» он закончил словами, написанными, по всей
вероятности, летом 1851 года: «Боже сохрани меня от
завершения чего угодно. Вся эта книга — лишь набросок;
даже менее того — набросок наброска. О Время, Силы,
Деньги и Терпение!» Но ни времени, ни сил, ни денег
больше не было, и в конце июля Мелвилл начертал за-
ветное слово «конец».
Рукопись ушла к издателю. Постепенно спало невы-
носимое напряжение последних месяцев работы над ро-
маном. Письма Мелвилла стали спокойнее. В них скво-
зит ощущение глубокой удовлетворенности. Чтение их
наводит на мысль, что Мелвилл знал цену созданной им
книги. Это был его шедевр, главный труд жизни. Он вы-
полнил свое обязательство перед временем и людьми. Он
сказал то, что чувствовал себя обязанным сказать. Он
открыл им такие стороны действительности, жизни чело-
вечества и человеческого духа, которых они не видели.
Он предупредил их о страшной опасности пути, но кото-
рому шла современная Америка. Величайшее облегчение
принес ему отзыв Готорна о романе. Готорн понял замы-
сел, понял его правильно. Семнадцатого ноября Мелвилл
писал Готорну: «Мной владеет дух невыразимого успо-
коения, потому что вы поняли книгу. Я написал безбож-
ную книгу, но чувствую себя как невинный ягненок...
Я бы сел и пообедал с Вами и со всеми богами римского
пантеона. Странное чувство: ни надежды, ни отчаяния.
Удовлетворенность — вот что это; и отсутствие ответ-
ственности. .. Я говорю сейчас не о случайных чувствах,
но о глубочайшем ощущении бытия»5.
В письмах Мелвилла появляется почти уитменовская
простота. Из них уходят напряженность, экзальтация,
звучавшие еще несколько месяцев тому назад. Это пись-
ма человека усталого, довольного своей работой и умиро-
творенного. В них ощущение демократической уравнен-
ности всякого труда. Так мог бы писать новоанглийский
152
фермер — труженик и пуританин. «Люди думают, что если
человек сделал трудное дело, он должен получить на-
граду; что до меня, то когда я в поте лица трудился
целый день, а потом пришел и сел в углу, чтобы неспешно
съесть мой ужин, — что ж, я думаю, я не заслуживаю
иной награды за мой тяжелый труд; ибо разве я не в
мире с самим собой? Разве 'мой ужин не хорош? Мой по-
кой и мой ужин — вот моя награда»6.
Ощущение 'покоя и удовлетворенности было недол-
гим. Современники не оценили книги Мелвилла, не по-
няли ее и не приняли.
В творческой истории «Моби Дика» имеется одно
важное обстоятельство, неизменно привлекающее к себе
внимание всех исследователей, но до сих пор не получив-
шее, на наш 'взгляд, правильного истолкования.
Принято считать, что «Моби Дик» был первоначаль-
но задуман как 'приключенческий роман о китобоях с по-
дробным изображением деталей китобойного -промысла.
Это представление опирается на ряд писем Мелвилла и
его друзей. В 'мае 1850 года Мелвилл писал Ричарду Дане
о специфических трудностях «китобойно-приключенче-
ского» жанра:
«Боюсь, что это будет странная книга: ворвань есть
ворвань; хотя из нее можно получить жир, но поэзия те-
чет из нее так же скупо, как сок из замерзшего клена;
и чтобы состряпать книгу, надобно добавить заниматель-
ности, которая по природе моего предмета не может быть
изящной, как и прыжки самих китов. Все же я надеюсь
дать правдивое изображение, несмотря на все это»7.
Два месяца спустя он счел возможным сообщить о ха-
рактере готовящейся книги своему лондонскому издателю
Ричарду Бентли: «Книга эта — приключенческий роман,
основанный на некоторых диких легендах о китобоях...»8
Судя по тому, что Мелвилл легко и охотно говорил
и писал о своей книге, она близилась к завершению.
153
Вероятно, в конце июля — начале августа 1850 года Мел-
вилл показал рукопись Эверту Дайкинку, критическому
чутью которого он доверял. Просмотрев ее, Дайкинк пи-
сал своему брату:
«Мелвилл почти закончил новую книгу; романтиче-
ское, увлекательное, очень точное и интересное изобра-
жение китобойного промысла — нечто совершенно но-
вое» 9.
Судя по всему, Мелвилл должен был закончить «Моби
Дика» осенью 1850 года. Однако потребовался еще почти
целый год напряженной работы, прежде чем Мелвилл
счел книгу готовой, и в окончательном варианте «Моби
Дик» оказался весьма непохож на предполагавшийся
■приключенческий роман. Очевидно, в ходе работы замы-
сел Мелвилла претерпел существенные изменения. Есте-
ственно, что исследователей занимает вопрос о характере
и причинах этих изменений.
Часть историков американской литературы склонна
■полагать, что изменение .первоначальной концепции .про-
исходило исподволь, почти незаметно для самого Мел-
вилла. Такую позицию занимает, например, Чейз в своей
книге «Американский роман и его традиции». Он считает,
что поначалу «Моби Дик» был задуман как «еще одна
квази-автобиографическая книга путешествий», в кото-
рой автор хотел "использовать впечатления от своего пла-
вания на «Акушнете» с момента отплытия и до побега на
Маркизовых островах. Однако в ходе работы он увидел,
что избранный им сюжет открывает более широкие воз-
можности, и постепенно в его сознании стала выкристал-
лизовываться новая концепция книги. К тому времени,
когда это случилось, значительная часть романа была
уже написана, и Мелвилл решил ее не переделывать.
Отсюда — ряд несообразностей в повествовании: одни
персонажи, играющие важную роль в начальных главах,
затем исчезают (Балкингтон) или утрачивают свой пер-
154
воначальный характер (Измаил), другие, напротив, раз-
растаются и, вытесняя остальных, занимают централь-
ное место в повествовании (Ахав). Меняется постепенно
стиль, язык повествования: шутливая, разговорная инто-
нация уступает место украшенной метафорами риторике
и т. д.
Иной точки зрения придерживается автор одной из
наиболее -полных 'биографий Мелвилла Леон Хоуард. По-
добно Чейзу, он склонен объяснять многие перемены в за-
мысле романа «природой материала», с которым имел
дело Мелвилл. По его мнению, Мелвилл уже в процессе
работы обнаружил, что материал книги требует иных
композиционных принципов. Это заставило его пересмо-
треть систему образов и выдвинуть на первый 'план Аха-
ва, наделив его особой мощью. «Новый» Ахав перерос
первоначально задуманный конфликт (Ахав — Старбек)
и потребовал более достойного противника. Этим против-
ником Мелвилл должен был сделать кита, который пер-
воначально фигурировал как своего рода реквизит, пред-
мет полемики между Ахавом и Старбеком. Повествование
становилось слишком напряженным и широким, чтобы
можно было вести его через 'посредство «присутствую-
щего» повествователя. Измаил уступил место «всезнаю-
щему» автору. Это, в свою очередь, привело к переменам
в языке, стиле и т. д. Однако Хоуард считает, что все эти
перемены осуществлялись отнюдь не постепенно. Напро-
тив, он видит резкий водораздел, который, как ему ка-
жется, пролегает между XXXI и XXXII главами романа.
После XXXI главы устанавливается новый драматиче-
ский конфликт, в котором важную (теперь уже не меха-
ническую) роль играет кит, обретающий особое значе-
ние. Кит становится той силой, которая управляет внут-
ренней борьбой в сознании Ахава. Развитие действия
после XXXI главы подчиняется иной художественной ло-
гике, чем действие первых трех десятков глав.
155
К сожалению, Мелвилл не хранил черновых вариан-
тов рукописи. Поэтому все предположения неизбежно но-
сят характер догадок, основанием для которых служит
печатный текст «Моби Дика». С непреложностью уста-
новлен только один факт: Мелвилл написал книгу, совер-
шенно непохожую на то, что он первоначально задумал.
Для уяснения природы и характера новой концепции
романа огромное значение имеет установление причин, по-
будивших Мелвилла отказаться от первоначального за-
мысла,/заставивших его создать вместо ординарного при-
ключенческого романа о киботоях книгу синтетического
жанра с глубоким социально-философским подтекстом.
Ограничиться при этом законами внутреннего соответ-
ствия элементов романа невозможно. Эту невозможность
ощущают все исследователи творчества Мелвилла, и в
поисках причин перемены замысла они часто выходят за
пределы самого романа.
Чарлз Олсон, например, в своей превосходно написан-
ной, хотя и несколько субъективной книге «Зовите меня
Измаил» склонен отнести все перемены в замысле романа
и половину его своеобразия за счет мощного воздействия
творчества Шекспира. Он даже готов рассматривать кон-
струкцию романа в понятиях елизаветинской трагедии:
первые двадцать две. главы — «рассказ хора» о подготов-
ке к плаванию, предваряющий действие; XXIII глава —
интерлюдия; XXIV глава — начало первого акта, его ко-
нец—XXXVI глава; затем вторая интерлюдия (глава
«О белизне кита») и т. д.10
В изложении Олсона творческая история «Моби Дика»
выглядит весьма просто: сначала Мелвилл написал обык-
новенную, может быть даже посредственную книгу о ки-
тобойном промысле. Потом он прочел Шекспира, и все
переменилось. Роман о китобоях превратился в книгу об
извечных философских вопросах бытия. В шекспиров-
скую книгу. В бессмертный шедевр.
156
В своей статье о Готорне Мелвилл 'воспользовался
любопытным образным сравнением. «.. .Во всех людях,—
говорит он, — глубоко скрыты удивительные оккультные
свойства, как, впрочем, и в некоторых растениях и мине-
ралах. Эти свойства могут выйти на 'поверхность лишь
в редких случаях, благодаря какому-либо счастливому
стечению обстоятельств (подобно тому <как бронза была
открыта, когда в огне коринфского пожара случайно
сплавилось железо с медью)»11. Используя этот образ,
Олсон заявляет: «Мелвилл и Шекспир составили Коринф,
а из пожара вышел „Моби Дик"» 12.
Едва ли справедливо видеть единственную или хотя
бы даже основную причину перемен в замысле «Моби
Дика» только в чтении Шекспира. Имелись причины бо-
лее основательные и веские. Но в то же время невозмож-
но отрицать мощное влияние великого драматурга на
крупнейшую работу Мелвилла. Оно ощущается на каж-
дой странице и видно, так сказать, невооруженным гла-
зом.
Проблема «Мелвилл и Шекспир», сама по себе доста-
точно интересная, имеет весьма существенное значение
для правильного и полного истолкования «Моби Дика».
Поэтому представляется целесообразным рассмотреть ее
здесь более обстоятельно.
* * *
Всякий исследователь, принимающийся за изучение
проблемы «Мелвилл и Шекспир», сталкивается с одной
необычной, почти невероятной деталью: Мелвилл — автор
«Тайпи», «Ому», «Редберна», «Белого бушлата», «Мар-
ди» — не читал Шекспира. Это не домысел. Это факт, за-
свидетельствованный самим Мелвиллом, факт настолько
неправдоподобный, что даже такие серьезные исследова-
тели, как Матиссен, не могут заставить себя поверить
1.57
в него и склонны упрекать Мелвилла в некотором «ко-
кетничанье своим невежеством».
Объясняется же этот парадоксальный факт очень
просто. Большая часть американских (и английских) из-
даний Шекспира печаталась мелким шрифтом. У Мел-
вилла были слабые глаза. Только в феврале 1849 года
ему удалось купить в Бостоне семитомное издание шекс-
пировских пьес, о котором он писал Дайкинку: «Это изда-
ние 'напечатано великолепным крупным шрифтом, каж-
дая буква которого похожа на солдата, а верхушка каж-
дого t напоминает мушкетный ствол.
С ума можпо сойти, как подумаешь, сколь незпачи-
тельное обстоятельство мешало мне до сих пор читать
Шекспира. Любой экземпляр, до сей поры попадавший-
ся мпе в руки, был напечатан подло мелким, неперено-
симым для моих слабых глаз шрифтом» 13.
То обстоятельство, что Мелвилл впервые прочел
Шекспира примерно тогда же, когда он начал работу над
«Моби Диком», и во второй ,раз, когда «Моби Дик» был
наполовину (а может 'быть, и более чем наполовину) на-
писап, представляется весьма существенным. И не толь-
ко в связи с влиянием, которое шекспировские трагедии
могли оказать на роман Мелвилла. Важно еще и другое.
Мелвилл, открывший для себя Шекспира, был зрелым
человеком и опытным писателем. Шекспир не вошел в его
сознание легко, как это могло бы случиться в школьные
годы. Размышления о природе человека и законах обще-
ственного бытия, о нравственных принципах, движущих
жизнью пародов и государств, о сложности человеческого
сознания были неотъемлемым элементом чтения Шекс-
пира.
Семь томов шекспировских пьес, принадлежавшие
Мелвиллу, хранятся в библиотеке Гарвардского коллед-
жа. В них множество пометок, отчеркиваний и записей на
полях, сделанных рукой писателя. Они неопровержимо
158
Свидетельствуют, что, читая Шекспира, Мелвилл ду-
мал не столько о самом Шекспире, сколько об об-
щих принципах искусства, об Америке, о важнейших
нравственных проблемах современности, о своем новом
романе.
Мелвилл воспринимал Шекспира во многом индиви-
дуально и своеобразно. Но вместе с тем его восприятие
неотделимо от того общего интереса к Шекспиру и осо-
бого к нему отношения, которое было свойственно аме-
риканцам в тридцатые и сороковые годы XIX века.
Один из самых существенных моментов в отношении
американской критики к Шекспиру заключался в том,
что его твердо, без колебаний включали в национальную
литературную традицию. Шекспир был «своим», а не
иностранным автором. И не только потому, что он писал
на английском языке. Вообще проблема классического
наследия чрезвычайно занимала американскую критиче-
скую мысль середины века в связи с многолетней дискус-
сией по проблемам национальной литературы, шедшей на
страницах крупнейших американских литературных жур-
налов.
Напомним, что романтическая эпоха в- Америке была
в то же время эпохой формирования национальной лите-
ратуры, и потому интерес к вопросам национальной спе-
цифики в искусстве приобретал особенную остроту. Аме-
рика жаждала духовного самоутверждения, и националь-
ная литература должна была стать одним из главных
его средств.
Проблемы классического наследия составляли неотъ-
емлемую часть полемики о национальной литературе.
Нельзя забывать, что на протяжении по крайней мере
пЪлутора столетий вкусы американцев воспитывались на
английской литературе, а сами они, будучи колонистами,
считали себя англичанами. Со времен первых поселений
они привыкли видеть в Шекспире, Мильтоне и т. д.
159
«своих» писателей. Мысль о том, чтобы отказаться от
этой духовной «собственности», представлялась им не-
стерпимой.
Такого рода опасения, вызванные, вероятно, деятель-
ностью энтузиастов, требовавших полного культурного
разрыва с Англией и «немедленного» создания своей ли-
тературы, разделяли многие участники дискуссии. В их
число входили и Купер и Лоуэлл, хотя оба они были сто-
ронниками литературного самоопределения Америки. От-
стаивая идею национального своеобразия американской
литературы, они вынуждены были в то же время вести
борьбу с крайностями и своеобразными националисти-
ческими «перегибами», которая была в то же время борь-
бой за классическое культурное наследство. И самой
большой ценностью в этом наследстве был, конечно,
Шекспир. Естественно, что без Шекспира не обходилась
ни одна полемическая статья, ни одна лекция. Шекспир
становился орудием, аргументом, знаменем в литератур-
ных битвах. Никогда еще великий английский драматург
не был столь известен и популярен в Америке, как в- эти
годы.
Однако была еще и другая причина всеобщего инте-
реса к Шекспиру, вероятно не менее существенная. Свое-
образное «возрождение» Шекспира, сопутствовавшее
европейскому романтизму, огромное увлечение шекспи-
ровской драматургией, попытки осмыслить и истолковать
ее принципы — все это в какой-то мере затронуло и аме-
риканскую философско-эстетическую мысль. Отношение
американских романтиков к Шекспиру было сложным.
Эстетика американского романтизма все еще находилась
под сильнейшим влиянием теорий европейских (особенно
английских и немецких) романтиков. Шекспир воспри-
нимался в Америке не только непосредственно, но и через
Колриджа, Лэма, Шлегеля и т. д. Это породило весьма
любопытное представление о Шекспире, о смысле его ве-
160
ликих художественных открытий, о сущности его творче-
ского гения.
Среди многочисленных очерков, заметок, выска-
зываний о Шекспире, которые можно обнаружить в
американских журналах этой поры, наиболее харак-
терным является сочинение Эмерсона, входящее в серию
«Представители человечества» (1850). При всем инди-
видуальном своеобразии оценок этот очерк дает нам
наиболее точное представление относительно общего
отношения американской романтической критики к Шек-
спиру.
Эмерсон вступает в полемику с армией безвестных
критиков, которые видят в Шекспире прежде всего ге-
ниального драматурга, с теми, кто полагает, что «всякое
дельное исследование о Шекспире должно опираться на
драматургические достоинства его произведений, что поэ-
том и философом его считают напрасно» и. Для Эмерсо-
на Шекспир сначала мыслитель, а потом уже драматург.
Драма у Шекспира — всего лишь средство воплощения
мысли, и не более того. И гениальность Шекспира — это
гениальность проникновения в жизнь, постижения зако-
нов, управляющих миром и человеком. Все творчество
Шекспира Эмерсон называет Книгой жизни, содержание
которой он определяет в следующих, окрашенных биб-
лейской витиеватостью словах: «Он написал слова для
всей нашей современной музыки — текст нашей современ-
ной жизни, наших нравов; он начертал человека Англии
и Европы, прародителя человека в Америке; он начертал
человека и описал день и что в этот день было сделано;
он читал сердца мужчин и женщин, их честность, их тай-
ные мысли, их уловки; хитрость невинности и пути, кото-
рыми добродетель и порок соскальзывают в свою проти-
воположность; в лице ребенка он мог отделить отцовскую
часть от материнской; он умел тонко отличить свободу от
судьбы; он знал законы принуждения, которые образуют
6 ю. Ковалев
161
полицию природы; и вся сладость й весь ужас человече-
ского жребия охватывались его сознанием столь же
истинно и столь же мягко, как картина природы могла
охватываться его зрением.
Важность этой мудрости жизни отодвигает далеко
назад форму, будь она драматической или эпической» 15.
Драматургическое искусство Шекспира нисколько не
занимает Эмерсона. Зато его преклонение перед Шекспи-
ром-мыслителем не имеет границ. Он отказывается рас-
сматривать Шекспира в ряду великих художников — та-
ких, как Сервантес, Мильтон, Тассо, Бэкон и т. д. Он не
может, разумеется, отказать им в мудрости. Но в его
глазах «Шекспир непостижимо мудр; другие же — пости-
жимо»16. Для Эмерсона Шекспир — «человек человеков,
который дал науке сознания новый и более обширный,
чем все существовавшие до того, предмет изучения» 17.
В своем преклонении перед титаническим интеллектом
Шекспира, перед глубиной его проникновения в суть ве-
щей, перед его удивительной способностью к мгновенно-
му интуитивному постижению истины Эмерсон отнюдь
не был одинок. Подобную оценку шекспировского гения
легко обнаружить у многих американских романтиков,
в том числе и у Мелвилла, которого едва ли можно упрек-
нуть в чрезмерной близости к трансцендентализму. В ци-
тированной выше статье о Готорне Мелв'илл, пытаясь
определить, «что делает Шекспира Шекспиром», говорит
о «вспышках интуитивно постигнутой истины», о «корот-
ких, быстрых проникновениях в самую суть действитель-
ности» и с восхищением говорит об искусстве и мужестве
Шекспира, который «внушает читателю вещи, представ-
ляющиеся нам столь ужасающе истинными, что для нор-
мального доброго человека, находящегося в здрав'омуме,
было бы чистым безумием произнести их или хотя бы
намекнуть на них». Такого рода позицией относительно
шекспировского наследия объясняется, вероятно, и свое-
162
образное замечание Мелвилла, что «в шекспировской мо-
гиле лежит бесконечно больше того, что он когда-либо
написал». Впрочем, тут возможен и иной смысл. Мелвилл
был убежден, что Шекспир не мог сказать всего, что
думал.
Несмотря на все рассуждения «о непостижимости»
шекспировской мудрости, об интуитивном познании исти-
ны и т. п., Эмерсон отказывался видеть что-нибудь
сверхъестественное в источниках шекспировской мудро-
сти. Гениальность Шекспира, по его мнению, заключа-
лась в его способности распознавать истину, когда он
видел или слышал ее. Поэт «заимствует вокруг себя, —
писал он, — и, стало быть, всякая оригинальность отно-
сительна; всякий мыслитель ретроспективен»18. Эмерсон
был очень близок к тому, чтобы увидеть источник мудро-
сти в народном сознании. Во всяком случае, он указал
на связь Шекспира со своим временем и своей страной.
Заметим кстати, что в этом плане американцы, жаждав-
шие национальной литературы, склонны были видеть в
Шекспире образец национального писателя. Вполне ве-
роятно, что Дайкинк думал о Шекспире, когда писал, что
американский автор должен мыслить и чувствовать за-
одно с народом, изображать нравы и обстоятельства,
определяющие характер и дух эпохи, но в то же время
заявлял: «Мы не станем устанавливать границ предме-
там, о которых они станут писать. Мы отдаем им всю
природу и человечество. Пусть пользуются всеми клави-
шами в клавиатуре человеческих страстей. Но пусть бу-
дут верными своей стране» 19.
Связь Шекспира со своей эпохой Эмерсон истолко-
вывает весьма своеобразно; эта связь представляется ему
односторонней. Шекспир понял и оценил свою эпоху. Он
глубоко проник в нее, и отсюда его мудрость. Эпоха же
не поняла и не оценила Шекспира. Вот почему «история
должна знать, что лучший из поэтов "вел незаметную,
163
обычную жизнь и отдавал свой гений на потеху пуб-
лике» 20.
С точки зрения Эмерсона, современники Шекспира не
подозревали, что среди них живет гений и титан, един-
ственный в своем роде. И в этом смысле век Елизаветы
не был «веком Шекспира». Человечество постигало себя
через Шекспира, но не отдавало себе в этом отчета.
Лишь столетие спустя оно стало об этом догадываться.
Но только XIX век оказался способным по-настоящему
оценить Шекспира, оттого что, по существу своему,
XIX век оказался «шекспировским». «Только в девятна-
дцатом столетии, — говорит Эмерсон, — чей спекулятив-
ный дух является своего рода живым Гамлетом, трагедия
о Гамлете могла наконец найти читателей, способных ее
оценить. Сейчас литература, философия, мысль шекспи-
ризированы. Сознание Шекспира образует тот горизонт,
за пределами которого мы в настоящее время не видим.
Наш слух приучен к музыке через его ритмы»21. Нет не-
обходимости исследовать это суждение Эмерсона с точки
зрения его истинности или оригинальности. Тем более что
в нем отчетливо слышатся колриджевские интонации
Для нас важно другое: и Эмерсон и американская ро-
мантическая критика в целом воспринимали Шекспира
как современника и с легкостью находили в его траге-
диях проблемы, не утратившие остроты. Они с удовле-
творением отмечали, что XIX век располагает «запечат-
ленными на бумаге убеждениями Шекспира по тем во-
просам, которые ищут разрешения в каждом сердце».
Подобное осовременивание Шекспира нисколько не
смущало американских романтиков. Он был настолько
близок им, настолько казался «родственным», что им не
стоило никакого труда представить его себе американцем.
XIX века. К тому же им казалось, что живи Шекспир в
современной Америке, он мог бы сказать больше того,
что он сумел сказать в елизаветинской Англии. Примерно
164
так же мыслил и Мелвилл, который писал Дайкинку в
1849 году: «Ей-богу, я хотел бы, чтобы Шекспир жил
позднее и прогуливался по Бродвею. Не для того, конеч-
но, чтобы я мог иметь удовольствие оставить ему свою
визитную карточку... или повеселиться в его компании
за чашей дайкинковского пунша; но чтобы смирительная
рубашка, которую все люди надевали на св'ою душу
в елизаветинские времена, не могла бы препятствовать
свободному выражению шекспировских мыслей; ибо я
убежден, что даже Шекспир не был вполне откровенен.
Да и в самом деле, кто откровенен в этой нетерпимой
вселенной, или кто может быть откровенен? Однако Де-
кларация независимости меняет дело»22.
Американские романтики не просто читали Шекспира
и не только вычитывали у него то, что было им особенно
близко. Они, если можно так выразиться, «вчитывали»
в Шекспира лейкистский пантеизм, своеобразную роман-
тическую символику и трансцендентально-эмблематиче-
ское истолкование природы и человеческого сознания.
Один из важнейших признаков величия Шекспира Эмер-
сон видел в том, что Шекспир (подобно Данте и Гомеру)
знал, «что дерево имеет смысл не только потому, что на
нем растут яблоки, а хлеб — что его можно есть, и зем-
ля— что ее можно пахать и строить на ней дороги: что
все эти вещи приносят второй и более прекрасный уро-
жай человеческому сознанию, являясь эмблемами его
мысли и выражая всей своей естественной историей опре-
деленный молчаливый комментарий к человеческой жиз-
ни» 23.
Нам известно, что Мелвилл, прежде чем взяться за
Шекспира, читал Колриджа и Лэма. Это, конечно, могло
оказать на него известное влияние. Однако даже незави-
симо от возможных влияний его восприятие Шекспира,
обусловленное духом времени, содержало элемент «вчи-
тывания».
165
* * *
Мелвилловское прочтение Шекспира отнюдь не было
беглым или поверхностным. Все семь томов бостонского
издания, принадлежавшего Мелвиллу, хранят следы глу-
боких, порой мучительных размышлений, вызванных
шекспировскими образами.
Наибольшее количество подчеркиваний, пометок, ком-
ментариев и замечаний содержится в томах, включаю-
щих «Короля Лира», «Юлия Цезаря», «Антония и Клео-
патру» и «Тимона Афинского». Это обстоятельство
существенно. Оно говорит о специфических интересах
Мелвилла, о том, что его внимание привлекали опреде-
ленные проблемы в творчестве Шекспира, как самые об-
щие, так и более конкретные: проблема соотношения
добра и зла в современном мире, сложность и противо-
речивость человеческой натуры, природа человеческой
мудрости и человеческого безумия, мотивы общественно-
го поведения человека, характер связей, определяющих
общественную жизнь, соотношение государственных и
частных интересов и — превыше всего — проблемы чело-
веческой нравственности.
Почти все исследователи, занимавшиеся изучением
связи между «Моби Диком» и творчеством Шекспира,
упускали из виду одно весьма существенное обстоятель-
ство. Когда Мелвилл принялся за чтение Шекспира, его
сознание было уже захвачено новой работой. Писателя
мучили проблемы структуры, композиции, сюжета, по-
строения характеров, внутренней логики, которая могла
бы привести разнородные элементы в систему, и т. д.
Более того — подо всем этим лежал фундамент мучитель-
нейших размышлений о самых сложных сторонах амери-
канской общественной действительности, о странных и
часто непонятных Мелвиллу трансформациях американ-
ской буржуазной демократии, о непостижимых зигзагах
166
национальной истории, о темных силах, таинственным
образом подчинивших себе, как ему казалось, нравствен-
ное развитие нации, о диких по своей жестокости законах,
принятых конгрессом, о глубоких внутренних противоре-
чиях, существовавших в общественном сознании, в обще-
ственной практике, а также между сознанием и практикой.
Короче говоря, это были размышления, составившие
содержание «Моби Дика». Шекспир ложился поверх этих
размышлений. Внимание Мелвилла привлекало в первую
очередь то, что было близко к его собственным мыслям.
Он не просто заимствовал у Шекспира, но находил у
него подтверждение или, напротив, опровержение соб-
ственных идей, иногда — обстоятельную формулировку
неотчетливой мысли, еще только зревшей в его сознании.
Подчеркивания, пометки и записи на полях свидетель-
ствуют о том, что мысль Мелвилла шла не от Шекспира,
а как бы через Шекспира. Шекспир был своего рода ка-
тализатором, который увеличивал интенсивность процес-
са. Иногда Мелвилл заражался способом шекспировского
мышления, подхватывал понятия, которыми оперировал
Шекспир, исследовал «методику провозглашения исти-
ны». Но исходной точкой мысли всегда оставалось созна-
ние самого Мелвилла. В этом отношении следует согла-
ситься с Матиссеном, который неоднократно говорил
о том, что «мелвилловское ощущение жизни было глубо-
ко затронуто Шекспиром», но что искусство Мелвилла
основано не на Шекспире, а на собственном понимании
природы и человека 24.
* * *
Подобно Эмерсону, Мелвилл видел в Шекспире пре-
жде всего мыслителя, «открывателя истин», а затем уже
драматурга. Чисто драматургические достоинства шекс-
пировских пьес, богатство и разнообразие возможностей
167
сценического воплощения, скрытые в тексте шекспиров-
ской драмы, нисколько его не занимали. Мелвилл читал
Шекспира как трактат, роман, повесть и поэму. Его
Шекспир был философ и поэт, и Мелвилл не ощущал
потребности или необходимости в посредничества театра.
Отсюда, вероятно, возникло сознание возможности ис-
пользовать формальные элементы шекспировской траге-
дии в повествовательном произведении.
«Моби Дик» — произведение своеобразное, необычное.
В американской литературе XIX века трудно сыскать
что-нибудь похожее на него. При всей сложности и мно-
гоплановости основным его элементом, которому под-
чинены и действие, и авторские описания, и характеры,
является мысль. Глубокая философская мысль, непре-
станно ищущая, пульсирующая, взлетающая от тривиаль-
ностей будничной жизни к звездным мирам, воплощаю-
щаяся то в нехитрых словах матроса, то в головоломных
символах, трагически каменеющая перед бессмысленно-
стью и пустотой вселенной, проникающая под поверх-
ность явлений; мысль, стремящаяся к своей единственной
и главной цели — к постижению универсальной истины,
есть главный герой «Моби Дика».
Мелвилла, видимо, потрясала концентрированность
мысли в шекспировских монологах. Здесь она присут-
ствовала в чистом и обнаженном виде, не разбавленная
описаниями и не затемненная авторским комментарием.
Все второстепенное сосредоточивалось в одной строчке
сценической ремарки и предоставлялось фантазии режис-
сера, декоратора, костюмера и актера. Вряд ли Мелвилл
задумывался об этих помощниках драматурга, вечных
посредниках между автором и зрителем. В его сознании
они сливались в облике читателя, фантазия которого, не
нуждающаяся в холсте, красках, костюмах, гриме и рек-
визите, могла бы выстроить превосходную сцену перед
его внутренним взором, сцену, где мечи и короны не бу-
168
дут картонными, бороды — приклеенными, а морские вол-
ны — намалеванными на холсте.
Правда, Мелвилл отлично отдавал себе отчет, что не
у всякого читателя найдутся достаточные запасы «строи-
тельного материала», и никогда об этом не забывал.
Фантазия читателя не должна уходить произвольным пу-
тем, в сторону. Она должна работать самостоятельно, но
в то же время подчиняясь авторскому замыслу.
В «Моби Дике» имеется целый ряд глав, которые не-
возможно определить иначе, как монологи. К таким от-
носятся, например, главы XXXVII, XXXVIII, XXXIX. Мы
выбрали именно эти главы, так как здесь исключен эле-
мент случайности. Они следуют одна за другой, совер-
шенно однотипны и связаны друг с другом последова-
тельностью во времени, о чем свидетельствуют их назва-
ния: «Закат», «Сумерки», «Ночная вахта». Впрочем,
понятие времени обладает здесь той же условностью, что
и на сцене. Повествование «от автора» сведено во всех
трех главах к минимуму. Оно сосредоточено в названиях
глав и в кратких ремарках, предшествующих каждой
главе. Ремарки, как полагается в драматургическом про-
изведении, выделены курсивом и заключены в скобки.
В них дается указание на место действия, обозначается
положение персонажа на сцене и поясняется, чем он занят
во время произнесения монолога. Практически это вы-
глядит следующим образом: «Глава XXXVII, Закат
(Каюта: у кормового иллюминатора; Ахав, сидя в одино-
честве и глядя за борт)»] «Глава XXXVIII, Сумерки
(У грот-мачты: Старбек, прислонившись спиной к мач-
те)»; «Глава XXXIX, Первая ночная вахта (Стабб про
себя, подтягивая брас)». Кроме того, в тексте каждого
из этих монологов имеются ремарки, указывающие в од-
ном случае (гл. XXXVII) на перемену в положении пер-
сонажа на сцене: «(Махнув рукой, отходит от иллю-
минатора)», в другом (гл. XXXVIII) — на звук «за сце-
169
ной»: «(С бака доносится взрыв веселья)», в третьем
(гл. XXXIX) —обычное сценическое «в сторону».
Каждое из обозначенных в ремарках мест (каюта,
грот-мачта) уже возникало на страницах романа в том
или ином контексте и знакомо читателю. Слова «каюта»,
«иллюминатор», «борт», «грот-мачта», «ночная вахта»,
«брас» в соединении с указаниями на характер освеще-
ния (закат, сумерки, ночь) и образуют тот «строительный
материал», с помощью которого читатель создает сцени-
ческий фон для трех монологов.
Включение формальных элементов драмы в художе-
ственную ткань «Моби Дика» отнюдь не было стихийным
следствием неодолимого шекспировского влияния. Оно
было тщательно продумано, взвешено и явилось своего
рода художественной необходимостью. Первая сцениче-
ская ремарка в «Моби Дике» появляется в главе XXXVI
и гласит: «Входит Ахав; потом остальные». Здесь пово-
ротный пункт в развитии повествования. На палубе «Пе-
кода» собирается вся команда. Ахав обнародует подлин-
ную цель плавания, раскрывает им высокий, благород-
ный и трагический смысл своей жизни, которому он под-
чиняет отныне и навсегда судьбу каждого члена экипажа.
Страстной речью он увлекает своих помощников, гарпу-
неров и матросов и, не давая им опомниться, заставляет
их произнести торжественную клятву. Привычные пред-
ставления каждого человека на борту о собственной жиз-
ни и ее смысле перевернуты. На позиции Ахава может
стоять только одержимый Ахав. Она недоступна Старбе-
ку, Стаббу или команде. На их плечи лег тяжкий груз.
О чем их мысли и каковы их чувства в тот момент, когда
гипнотическая сила Ахава отпускает их? Что могут они
сказать самим себе перед лицом своей новой судьбы?
Все это очень важно для Мелвилла, ибо Ахав, Старбек,
Стабб, матросы — это не просто разные люди, это разные
системы взглядов, разные типы убеждений, разные с.по-
170
собы отношения к жизни. Художественная логика по*
вествования требовала после сцены на шканцах серии
монологических размышлений, сжатых и насыщенных.
Их не могло быть много, они не должны были быть дли-
тельными— иначе сорвался бы взятый темп и ритм по-
вествования. Драматический монолог был счастливо най-
ден (не без помощи Шекспира) как самое удачное, а мо-
жет быть, единственно возможное средство, позволявшее
Мелвиллу осуществить его замысел. Отсюда три корот-
ких главы, три энергичных монолога, написанных по за-
конам шекспировской трагедии. А за ними следует глава
«.Полночь на баке», полностью выдержанная в духе дра-
матической сцены. Действующие лица этой «сцены» —
гарпунеры и матросы «Пекода». Она неожиданно начи-
нается песней, за которой следует пляска. Затем назре-
вает драка, прерванная налетевшим шквалом. Матросы
разбегаются по вантам, лопаются паруса, трещат мачты.
Действие этой сцены идет в непрерывно нарастающем
темпе. Ее ритмическое развитие берет начало в матрос-
ской песне, затем подчиняется тамбурину, выбивающему
джигу, убыстряется в гневных репликах, предшествую-
щих драке, и достигает апофеоза в словах команды стар-
шего помощника, в пушечном грохоте лопающихся па-
русов и полубезумном бормотании юнги Пипа.
Драматическая напряженность этой сцены, выражен-
ная в энергичном действии, в выкриках матросов, распа-
ленных вином, песней, пляской и назревающей дракой,
не кажется неожиданной. Она гармонирует с напряжен-
ностью мысли и эмоции в предшествующих монологах
Ахава, Старбека и Стабба. Однако есть в этой сцене де-
тали, которые свидетельствуют, что Мелвилл не напрасно
читал Шекспира. С самого начала читатель, мысль кото-
рого после предшествующих трех монологов обрела из-
вестную инерцию, ждет, когда же раскроется отношение
команды к новой цели, провозглашенной Ахавом, к новой
171
своей судьбе. Но ни песня, ни пляска, ни драка, ни даже
шквал ничего ему не говорят. Он видит только бесшабаш-
ное веселье, удаль, как будто бы никак не связанные с
предшествующими событиями. И только в последней
фразе монолога Пипа вдруг раскрывается перед ним глу-
бокий психологический подтекст всей сцены. «О, большой
белый бог где-то там в темной вышине, — восклицает
Пип, — смилуйся над маленьким черным мальчиком здесь
внизу, спаси его от всех этих людей, у которых не хва-
тает духу бояться!»25 В свете этой реплики вся предше-
ствующая ей сцена предстает как отчаянная попытка
матросов заглушить владеющий ими ужас перед делом,
выполнить которое они согласились. И чтобы не было на
этот счет сомнений, Мелвилл начинает следующую главу,
эпически спокойную, исполненную учености и философ-
ских размышлений, следующим свидетельством Измаи-
ла: «Я, Измаил, был в этой команде; в общем хоре лете-
ли к небу мои вопли; мои проклятия сливались с прокля-
тиями остальных; а я орал все громче и заворачивал
ругательства все круче, ибо в душе у меня был страх»26.
Мольба Пипа, взлетающая в темную вышину к «боль-
шому белому богу», завершает сцену и одновременно
является одной из кульминационных точек повествова-
ния. Непрерывно нарастающее напряжение «драматиче-
ских» глав достигает высшей точки и обрывается.
Исследователи нередко сравнивают повествователь-
ную манеру Мелвилла с поверхностью океана. Нетороп-
ливое, спокойное повествование нарастает постепенно и
медленно, подобно зарождающейся волне. Потом оно
убыстряется, движется вверх, на «волне» появляется гре-
бень, и вот он взрывается, посылая к небу тысячи брызг
и клочья пены. Затем «волна» спадает, и снова начинает-
ся медленное, неспешное течение слов и мыслей. Финал
XL главы и есть такой всплеск. После него все формаль-
ные элементы драмы уходят из повествования, чтобы
172
ьновь возникнуть в мокологйческйх и диалогических гла-
вах заключительной части романа (главы СХХ, CXXI,
СХХИ, СХХШ, CXXVII и CXXIX). И эпилог книги от-
крывается словами: «Драма сыграна. Почему же кто-то
опять выходит к рампе?»
Увлеченность Мелвилла Шекспиром и наличие фор-
мальных элементов шекспировской драмы в «Моби Дике»
несомненны. Отсюда возник соблазн дальнейших поисков
формального сходства в отдельных деталях повествова-
ния, перед которым не устояли многие исследователи
Мелвилла. В монологе Ахава, обращенном к голове кита,
подвешенной к борту «Пекода», увидели параллель зна-
менитому монологу Гамлета; сцену, в которой Ахав раз-
бивает квадрант, возвели к сцене, где Ричард разбивает
зеркало, и т. д. Во всех этих допущениях есть элемент
натяжки и сомнительности. Однако доказать, что назван-
ные эпизоды не были подсказаны Мелвиллу Шекспиром,
так же невозможно, как доказать обратное.
Особой областью исследования влияния Шекспира на
Мелвилла является язык «Моби Дика». Даже при бег-
лом чтении романа обращает на себя внимание обилие
архаических грамматических форм, естественных в ели-
заветинской трагедии и несколько странных в произведе-
нии американской литературы середины XIX столетия.
Словарь повествования, своеобразная фразировка моно-
логов Ахава, ритмика речи — все это наводит на размыш-
ления о воздействии шекспировского языка и стиля. Ма-
тиссен, посвятивший этому вопросу специальную главу
в своей монографии27, видит одно из важнейших послед-
ствий соприкосновения Мелвилла с Шекспиром в необык-
новенном расширении «словаря для выражения стра-
стей». И с этим нельзя не согласиться. Мелвилл учился
у Шекспира искусству выражения глубоких мыслей и
страстей и заимствовал не только приемы, но порой
и средства выражения. Однако трудно принять теорию
173
«Лйнгво-стилистического гипноза», на которую опираются
суждения некоторых исследователей Мелвилла, в том чис-
ле и Матиссена. Предполагается, что язык Шекспира на-
столько «гипнотизировал» Мелвилла, что он невольно вос-
производил шекспировскую фразеологию даже там, где
в этом не было художественной необходимости. Матиссен
приводит целый ряд примеров, где в мелвилловских фра-
зах встречаются слова и обороты, «похожие» на Шекспи-
ра, не смущаясь относительностью сходства. Точно так же
и ритмическая структура монологов в «Моби Дике»
объясняется тем, что Мелвилл был «захвачен мощными
шекспировскими ритмами», которые побуждали его пи-
сать «почти что белым стихом». Матиссен даже проделал
такой опыт: он переписал некоторые монологи стихами и
получил желаемый результат — «почти что» белый стих.
Своеобразная структура и ритмика речи в «Моби
Дике» не были бессознательны. И восходят они не цели-
ком к Шекспиру. Мелвилл знал, что монологи Ахава
должны были произвести на современников необычное
впечатление своей философичностью и своим языковым
строем. Он ощущал необходимость дать обоснование
«смелому, нервному и возвышенному языку» своих героев.
Отсюда его знаменитое рассуждение о квакерских тради-
циях Нантакета, об обычае давать людям при крещении
библейские имена, о своеобразной архаической идиома-
тике квакерской речи, распространенной в среде амери-
канских китобоев, о способности к нетрадиционному и
свободному мышлению, порожденной специфическими
особенностями жизни китобойных капитанов, и т. д. Дей-
ствительная жизнь и живая речь были первоосновой
языкового своеобразия «Моби Дика». Эта мысль отчет-
ливо звучит в упомянутом рассуждении Мелвилла. И если
в свете этой мысли просмотреть языковую ткань романа,
то мы увидим, что «гипнотическая» теория едва ли имеет
право на существование. Это, видимо, ощущал и Матис-
174
сен, который пожертвовал своими рассуждениями о «не-
произвольном копировании» фразеологии Шекспира в
пользу идеи о «каталитическом» воздействии Шекспира.
И он, конечно, прав, когда говорит, что идиоматика и
своеобразие языка Мелвилла «напоминают нам Шекспи-
ра, но не являются имитацией Шекспира». Что же ка-
сается ритмов, каденций и «почти что белого стиха», их
можно обнаружить, в небольшом, правда, количестве,
в более ранних, «дошекспировских» произведениях Мел-
вилла и даже в некоторых его письмах. Шекспир мог со-
действовать интенсификации ритмических особенностей
речи у Мелвилла, но едва ли полностью ответствен за
них.
* * *
Одним из важнейших элементов развития романтиче-
ской мысли в Америке было открытие, а затем исследо-
вание социального зла, сопутствовавшего буржуазно-
демократическому прогрессу. Несовпадение просветитель-
ского идеала с реальной практикой буржуазной демо-
кратии сделалось очевидным уже вскоре после войны за
независимость. Оно было зафиксировано в произведениях
первых американских романтиков — Френо, Ирвинга, Ку-
пера. Тем не менее представление об американской об-
щественной системе как о наилучшем устройстве обще-
ства сохраняло свою силу по меньшей мере до середины
тридцатых годов XIX века. Всякое же зло мыслилось в ту
пору как временное отклонение от нормы, случайное на-
рушение справедливого принципа — то есть как явление
чужеродное и преходящее. Однако уже следующее поко-
ление романтиков должно было отказаться от подобного
представления. Действительность рисовалась им воисти-
ну шекспировским смешением свободы и тирании, про-
гресса и ретроградства, богатства и нищеты, бескорыстия
И стяжательства. Общественное зло стало воспринимать-
175
ся теперь не как отклонение от нормы, но как составная
ее часть, как неотъемлемый элемент системы.
Отсюда был один шаг до пересмотра нравственных
принципов буржуазной демократии, сформулированных
еще Франклином, и шаг этот был сделан Мелвиллом в
«Израиле Поттере». В нравственном идеале, который не-
давно еще рисовался как универсальное соединение прин-
ципов добра и общественного процветания, новоанглий-
ские романтики разглядели истоки самых чудовищных
пороков современности.
Характерное для Новой Англии традиционно-пуритан-
ское разграничение Добра, угодного богу, и Зла, ассо-
циируемого с кознями дьявола, постепенно разрушалось.
Добро и Зло шествовали рука об руку, переплетаясь, об-
мениваясь личинами и обнаруживая себя, поочередно или
одновременно, в одних и тех же явлениях. Для Мелвилла,
интерпретировавшего социальную действительность в
понятиях нравственно-философских, проблемы Добра и
Зла нерасторжимо связывались с проблемой человече-
ского сознания и характера. В «Моби Дике» он столкнул-
ся с необходимостью построения сложного характера,
раздираемого внутренними противоречиями, — характе-
ра, исполненного силы и слабости, человечности и жесто-
кости. И здесь Шекспир оказал ему неоценимую помощь.
Мелвилла увлекало шекспировское умение раскры-
вать важнейшие проблемы общественного бытия челове-
ка через внутреннюю борьбу в человеческом сознании.
Его пленяли сложность и глубина шекспировских харак-
теров, потому что в них, по выражению Эмерсона, были
запечатлены мысли Шекспира «о жизни и смерти, о люб-
ви, о богатстве и бедности, о наградах жизни и о путях,
которыми мы их добиваемся...»
Мелвилл по нескольку раз вчитывался в шекспиров-
ские строки, пытаясь установить «технологию сплава»,
способ соединения разнородных элементов в одном ха-
176
рактере—соединения, в котором два элемента не исче-
зают, образуя третий, но проникают друг в друга, сохра-
няя при этом свои свойства: зло под покровом доброты не
перестает быть злом, и доброта, скрывающая зло, не все-
гда оборачивается лицемерием.
Создавая свои характеры, Мелвилл не копировал
Шекспира. Однако в способах построения характера
шекспировское влияние ощущается интенсивно и отчет-
ливо. Оно особенно заметно там, где Мелвилл сталкивал-
ся с вопросами психологической структуры человеческого
сознания и его нравственной эволюции. В качестве при-
мера можно указать на те страницы «Моби Дика», где
Мелвилл, следуя своему замыслу, должен был расколоть
сознание Ахава, показать в нем трещину, поднять со дна
души этого одержимого своей идеей тирана такие чув-
ства и мысли, которые несовместимы с первоначальной
логикой характера. Из сверхчеловека, стоящего над чело-
вечеством, Ахав должен был превратиться в человека,
стоящего вне человечества. Он должен был утратить
активность и стать героем, не столько идущим к своей
цели, сколько влекомым к ней. Впервые Ахав должен
был подумать о членах своего экипажа как человек о лю-
дях и обнаружить такие чувства, как симпатия, жалость,
доверие. Поистине шекспировская задача! И разрешает-
ся она шекспировскими средствами.
Исследователи не без основания усматривают связь
между этими страницами «Моби Дика», и некоторыми
сценами «Короля Лира». Эта связь не столь прямолиней-
на, какой она представляется, например, Олсону, и про-
зрение Лира мало похоже на перелом в сознании Ахава,
но отрицать ее невозможно. Подобно Шекспиру, Мелвилл
вводит дополнительный персонаж, по положению своему
стоящий вне обязательных и общепринятых норм обще-
ственной жизни, — персонаж, обладающий особой муд-
ростью, ибо сознание его не ограничено условностями и
177
традициями. Задача этого персонажа — содействовать
нравственному перелому в характере героя. В «Короле
Лире» таким персонажем является шут. В «Моби Ди-
ке»— безумный негритенок Пип, утративший разум по-
сле столкновения с китом и ночи, проведенной в волнах
океана. Социальная дистанция между королем и шутом,
с точки зрения моряка, столь же огромна, как между
капитаном и юнгой. Преодолевая ее, Лир становится уче-
ником шута, постигая с его помощью высшую народную
мудрость. Мелвилл заставляет Ахава учиться у негритен-
ка Пипа высшей «мудрости неба», ибо в своем безумии
Пип «видел бога». Правда, негритенок в данном случае
является не столько носителем этой высшей мудрости,
сколько ее агентом, но это не меняет существа дела. Он
появляется в повествовании ненадолго, чтобы вызвать
«цветение сердца» старого Ахава, чтобы поднять со дна
его души мягкость и гуманность. Затем он исчезает из
повествования, так же как исчезает шут из последних
сцен «Короля Лира». Но процесс в сознании Ахава, на-
чавшийся с его помощью, продолжает развиваться. Мел-
вилл заставляет своего героя совершать действия, сви-
детельствующие о психологическом и нравственном пере-
ломе: Ахав обращается к богу с просьбой благословить
капитана «Рахили», он говорит со Старбеком о его семье
и т. д. Ахав обретает человечность. Его фанатическая
мстительность слабеет. Но слишком поздно. И это при-
дает дополнительный оттенок его трагедии.
Можно сыскать немалое количество подобных приме-
ров в тексте «Моби Дика». Все они свидетельствуют
о влиянии шекспировской техники, шекспировских прин-
ципов построения характера.
Влияние это не было стихийным или неосознанным.
Мелвилл тщательно изучал и анализировал наиболее
значительные шекспировские характеры. Процесс и ре-
зультаты этого анализа запечатлены не только в его
т
пометках на полях сочинений великого драматурга. Их
можно обнаружить в тексте многих произведений Мел-
вилла. Так, например, специфика характера Гамлета
проанализирована по меньшей мере трижды: два раза
в «Пьере» и один раз в «Шарлатане». Именно здесь мы
находим любопытное разграничение между принципами
создания «своеобразного» и сотворения «истинно ориги-
нального» характеров. К этому последнему типу Мелвилл
относил Гамлета (наряду с Дон Кихотом и мильтонов-
ским Сатаной). Св'ое понимание специфики характера
Гамлета, как и всякого «истинно оригинального» шекспи-
ровского характера, Мелвилл раскрывает через образ-
ное сравнение с вращающимся маяком Друммонда, бе-
гущий луч которого придает окружающим предметам
определённое освещение. То есть, иными словами, «истин-
но оригинальным» Мелвилл считал только такой харак-
тер, при соприкосновении с которым действительность
предстает в принципиально новом философском осмыс-
лении. К этой цели, кстати, и стремился Мелвилл, созда-
вая своего Ахава.
Мелвилл был человеком сильного характера, мощного
интеллекта и нелегко поддавался влияниям. Встреча
с Шекспиром произошла относительно поздно. За пле-
чами у Мелвилла был немалый и нелегкий жизненный
опыт, следствием которого были прочные убеждения.
В своем писательском активе он числил уже пять серь-
езных книг. Его творческие интересы развивались в опре-
деленном направлении. «Моби Дик» в том виде, в каком
мы его знаем, был высшей точкой в творческой эволюции
Мелвилла, но ни в коем случае не отклонением. Он орга-
нически связан с предшествующими ему романами «Мар-
ди», «Белым бушлатом» и следующими за ним «Пьером»
и «Израилем Поттером».
179
Последовательное изучение ранних романов («Тайпй»,
«Ому», «Рэдберн», «Белый бушлат» и особенно «Мар-
ди») убеждает нас в том, что размышления о сложных
и «непостижимых» сторонах американской общественной
действительности, о перерождении буржуазной демокра-
тии, о «неуловимых» законах нравственного развития об-
щества, о противоречиях общественного сознания, о «не-
исповедимых» путях истории Соединенных Штатов были
неотъемлемой частью творческого процесса у Мелвилла.
В сложном переплетении с философскими мыслями о со-
отношении добра и зла в мире, о сущности человека,
о природе мудрости и безумия, о соотношении знания и
веры они присутствуют и в других романах Мелвилла.
Шекспир, как уже говорилось, помог Мелвиллу, но не
открыл ему ничего принципиально нового в сфере идей.
По-видимому, «принципиально новая концепция»
(Чейз) «Моби Дика» была не такой уже новой. Можно
предположить с достаточным основанием, что роман, вы-
шедший в конце концов из-под пера Мелвилла, был как
раз такой книгой, которую он мечтал, но сначала не ре-
шался написать. Общественная и философская проблема-
тика романа содержит именно тот круг вопросов, который
более всего занимал писателя в конце сороковых — нача-
ле пятидесятых годов, острейших вопросов современности.
В письмах, написанных осенью 1849 и весной 1850 го-
да, Мелвилл неоднократно жаловался на то, что не может
написать такую книгу, какую он хотел бы. Мысль о том,
что он должен непременно добиться коммерческого успе-
ха, нещадно его преследовала. Он стремился всячески
ограничить себя, сковать свой мозг железной цепью. Но
где-то в глубине сознания бродили мысли, рвавшиеся на-
ружу, образы, не имевшие отношения к «промыслу» или
«приключению». В какой-то момент его мысли о судьбах
Америки, о грозной опасности, таившейся в самой обще-
ственной жизни страны, в политических тенденциях со-
180
временности, нравах, представлениях, оказались настоль-
ко важней соображений финансового порядка, что Мел-
вилл должен был ввести их в свой роман. Таким
моментом был сентябрь 1850 года, когда конгресс под
давлением южан принял чудовищный закон о беглых
неграх. По стране прокатилась волна бурного негодова-
ния. Аболиционизм разгорелся еще более ярким пламе-
нем. Началась организация знаменитой «подземной же-
лезной дороги». Повсеместно собирались митинги про-
теста. Никто не остался безразличным: Бичер-Стоу
взялась за «Хижину дяди Тома», а Ричард Хилдрет —
за переделку «Арчи Мура» (в переработанном виде ро-
ман назывался «Белый раб»), Уиттьер клеймил позорный
закон в1 стихах, Эмерсон сделался активным аболицио-
нистом, а Торо произнес свою знаменитую речь «Рабство
в Массачусетсе», где воскликнул: «Я потерял родину!»
На глазах у потрясенного Мелвилла Америка сделала
еще один шаг к гражданской войне, которая представля-
лась ему национальной катастрофой. У него были доста-
точные основания, чтобы отбросить мысли о коммерче-
ском успехе. Да он теперь и не мог иначе.
Перешагнув запретный рубеж, Мелвилл как бы от-
крыл шлюзы фактам, наблюдениям, идеям, мыслям, эмо-
циям. Материал был огромен. Он подавлял своим обилием
и масштабами. Ни один из известных жанров, ни одна из
готовых художественных систем не могла его вместить.
Нужно было строить новую. Задача была неимоверно
сложной, и в осуществлении ее Шекспир оказал Мелвил-
лу неоценимую помощь. Но не только Шекспир. Фенимор
Купер, Ричард Дана, Смоллет, Эдгар По, сэр Томас
Браун и многие другие могли бы числить себя среди
«предшественников» Мелвилла, не говоря уже о без-
вестных творцах Ветхого завета.
Фенимор Купер, которому Мелвилл, может быть, бо-
лее, чем кому-либо другому, был обязан «Моби Диком»,
181
так и не прочел знаменитого романа о Белом Ките. Он
умер за две недели до выхода первого издания книги.
19 декабря 1851 года Мелвилл направил в адрес собра-
ния, посвященного памяти Купера, письмо, где писал:
«.. .Он всегда живой для меня. И это очень важно, ибо
именно его книги пробудили в детстве мое сознание...
Это был великий человек со здоровой душой, все достоин-
ства которой еще не получили полного признания. Бла-
годарное потомство лучше позаботится о Фениморе Ку-
пере» 28.
Мелв'илл не преувеличивал, когда писал, что Купер
для него «всегда живой». Его встречи с произведениями
Купера не ограничились детскими годами. Уже в соро-
ковые годы, после возвращения из далеких плаваний,
Мелвилл продолжал читать Купера и воздавать ему дань
восхищения. Его суждения о Купере зафиксированы в
рецензиях на «Морских львов» (1849) и на «Красного
корсара» (1850), опубликованных в журнале «Литера-
турный мир». Мелвилл был бесконечно обязан Куперу.
Купер был основоположником американского морско-
го романа. Образно говоря, «Редберн», «Белый бушлат»
и «Моби Дик» являются литературными потомками ку-
перовского «Лоцмана».
Что бы ни говорил Мелвилл о трудностях, связанных
с непоэтичностыо китобойного промысла, самую возмож-
ность написания романа о китобоях ему, несомненно, от-
крыл Купер, автор первых экспериментов в этой области
(«Морские львы» и «Колония на кратере»). И то обстоя-
тельство, что Мелвилл рецензировал «Морских львов»
в 1849 году, имеет, по всей вероятности, самое непосред-
ственное отношение к замыслу «Моби Дика».
Однако, если взглянуть шире, мы увидим, что Купера
и Мелвилла связывают не только море и киты. В исто-
рии американского романа эпохи романтизма эти два
писателя исполняли роли прямо противоположные. Ив
182
этой противоположности заключена незримая диалекти-
ческая связь между ними. Купер, стоявший у истоков
американского романа и не без оснований считающийся
его «отцом», был по своему художественному темпера-
менту экспериментатором. Один за другим он вводил в
американскую литературу различные типы романа: исто-
рический («Шпион», «Лайонел Линкольн, или Осада
Бостона»), нравоописательный, морской («Лоцман»,
«Красный корсар», «Морские львы»), сатирический («Мо-
никины»), социальный («Дома»), роман-утопию («Коло-
ния на кратере») и т. д.
Мелвилл, напротив, принадлежал к поколению, за-
вершавшему романтический период развития американ-
ского романа. Отдавая должное титаническим усилиям
Купера, он чувствовал, что дальнейшее экспериментатор-
ство в куперовском духе лишено смысла. Огромные за-
дачи, стоявшие перед писателем, не могли быть осу-
ществлены через один какой-нибудь тип романтического
повествования. Поэтому его эксперимент был направлен
в противоположную сторону. Он попытался синтезиро-
вать достижения американской романтической прозы
(не только куперовской), сплав-ить их воедино. Это ему
вполне удалось, и напрасно некоторые историки литера-
туры гадают, что есть «Моби Дик» — роман приключен-
ческий, морской, философский, социальный, фантастиче-
ский, роман-эпопея или роман из истории нравов? Он не
принадлежит ни к одному из этих жанров, и в то же
время — ко всем. Его невозможно расчленить, не умерт-
вив художественной ткани. Он не распадается на фанта-
стические, приключенческие или философские «куски».
Его синтетизм обладает монолитностью, и элементы раз-
ных типов повествования спаяны в нем стилистическим
единством.
«МОБИ ДИК» КАК МОРСКОЙ,
«КИТОБОЙНЫЙ»
И СОЦИАЛЬНЫЙ РОМАН
Отношение к охоте на китов
как к необычному и редкому занятию давно уже утверди-
лось в человеческом сознании. Отсюда довольно распро-
страненное представление об «экзотичности» сюжета
«Моби Дика», не всегда отчетливо высказанное в статьях
и монографиях, но всегда ведущее к двум ошибочным за-
ключениям. Первое состоит в том, что Мелвилл, отправ-
ляя «Пекод» в погоню за Белым Китом, будто бы выво-
дит действие из сферы американской общественной
действительности, и, следовательно, не она — предмет
преимущественного интереса Мелвилла, а изучение неких
внесоциальных закономерностей человеческого бытия.
Второе — в том, что многочисленные главы с поэтичным
184
описанием сложных процессов и деталей китобойного
промысла якобы введены с единственной целью создать
«балласт», придающий устойчивость «метафизическому»
материалу книги, ее многообразной отвлеченной симво-
лике. Ложность этих заключений станет очевидной, как
только мы попытаемся себе представить, какое место эта
ветвь экономики занимала в жизни Соединенных Штатов
первой половины XIX столетия.
Американская экономика всегда остро ощущала не-
достаток в жировых материалах. У индейцев никогда не
было домашнего скота, у колонистов его было очень
мало. Поначалу жир употреблялся в пищу и для освеще-
ния. Позднее из него стали приготовлять смазочные ве-
щества. Первыми американскими китобоями были индей-
цы. Они били китов с берега и охотились за ними на
пирогах. Участие индейцев в китобойном промысле стало
традицией. Это была, может быть, единственная область
американской национальной жизни, в которой индейцы
приняли участие. В том, что среди гарпунеров у Мелвил-
ла фигурирует индеец Тэштиго, а корабль («Пекод»)
назван по имени одного из индейских племен, нет ничего
экзотического или нарочитого. Кстати, укажем заодно,
что среди американских китобоев было такое количество
выходцев с тихоокеанских островов, что целый район
китобойного порта Нантакета получил название Новой
Гвинеи. Так что и в появлении такого персонажа, как
Квикег, на первых же страницах романа нет никакой
«романтической странности».
Китобойный промысел был одним из первых по вре-
мени видов американской промышленности. Он разви-
вался с удивительной интенсивностью и быстротой.
К 1833 году добыванием китового жира и спермацета
занимались 70 000 человек, а капиталовложения состав-
ляли около 70 миллионов долларов. К 1844 году капита-
ловложения возросли до 120 миллионов долларов-. По
185
части привлечения капитала китобойный промысел
успешно конкурировал с такими перспективными отрас-
лями промышленности, как текстильная. Ни в одной дру-
гой стране он не был развит до такой степени, как в
Соединенных Штатах. В 1846 году мировой китобойный
флот насчитывал около 900 судов. Из них 735 принадле-
жали американцам.
Ко времени написания «Моби Дика» китобойный про-
мысел давно уже утратил всякие черты патриархально-
сти. Ушли в прошлое времена, когда старые шкиперы
водили знакомство с родителями своих матросов, а сна-
ряжение судов в плавание было делом соединенных уси-
лий нескольких семей. Охота на китов перешла на
рельсы капиталистической промышленности. Это был
«большой бизнес». Корабли превратились в фабрики с
потогонной системой труда. Все подчинилось законам
спроса и предложения. Если оставить в стороне чисто
«мореплавательскую» специфику китобойного промысла,
то в нем было не больше экзотики, чем в чугунолитейной,
угледобывающей, текстильной, кожевенной, обувной или
любой другой отрасли американской индустрии.
Свое значение в американской экономике и в обще-
ственной жизни китобойный промысел утратил лишь
после 1859 года, когда в Пенсильвании была найдена
нефть и спермацет перестал быть главным источником
освещения. Таким образом, у нас есть все основания по-
лагать, что использование китобойного рейса в качестве
основной сюжетной линии в «Моби Дике» и обстоятель-
ное изображение охоты на китов и прочих деталей про-
мысла не только не было продиктовано стремлением
отвлечься от американской действительности, но, напро-
тив, указывает на самую тесную связь с нею. И Ньютон
Арвин, безусловно, был прав, когда указывал, что «та-
кая книга могла быть написана только американцем,
причем американцем мелвилловского поколения»1.
186
* * *
Мелвилл относился к «китобойной» стороне своего ро-
мана с необыкновенной серьезностью. Он не захотел
ограничиться собственным опытом плавания на «Акушне-
те» и привлек огромный материал, включающий спе-
циальные работы по биологии моря, экологии китов, ки-
тобойному промыслу, записки мореплавателей и кито-
боев.
Не меньший интерес для Мелвилла представляла и
«живая» история китобойного промысла. Проплавав не-
сколько лет рядовым матросом на торговых, китобойных
и военных судах, он, конечно, слышал немало «историй»,
легенд и морских преданий о героических подвигах кито-
боев, о чудовищных по размерам и злобности китах,
о трагической гибели многих вельботов, а иногда и ко-
раблей, потонувших со в'сей командой в результате столк-
новения с китами. Не случайно само имя Моби Дика
так близко напоминает имя легендарного белого кита
(Моха Дик), фигурировавшего в американском матрос-
ском фольклоре, а гибель «Пекода» происходит при об-
стоятельствах, весьма похожих на рассказы о гибели
китобойца «Эссекс» в 1820 году. История «Эссекса», по-
топленного огромным спермацетовым китом, была хоро-
шо известна во всех китобойных портах Америки. Капи-
тану корабля и части команды удалось спастись. Они
возвратились домой. Капитан окончил свои дни в Нан-
такете ночным сторожем, ибо никто не хотел доверить
корабль «невезучему» шкиперу. Его старший помощник
Оуэн Чейс стал капитаном и плавал на китобойце
«Чарлз Кэррол». Рассказы очевидцев гибели «Эссекса»
послужили основой для самых фантастических легенд,
которые нередко можно было услышать в Нантакете и
Нью-Бедфорде.
Мелвилл специально интересовался историей гибели
«Эссекса» и знал ее не только в фольклорных вариантах.
187
В 1841 году «Акушнет», на котором плавал Мелвилл, по-
встречался в море с «Чарлзом Кэрролом», и Мелвилл ви-
дел Чейса. Во время другого «повстречанья» с одним из
нантакетских китобойцев Мелвилл познакомился с сыном
Чейса, который подарил ему книгу своего отца, изданную
в Лондоне и содержащую подробное изложение печаль-
ной истории «Эссекса».
Авторы специальных исследований легко устанавли-
вают связь целого ряда образов, ситуаций и других по-
вествовательных элементов «Моби Дика» с традициями
американского народного творчества вообще и матрос-
ского фольклора в частности. Особенно легко и отчетливо
фольклорное воздействие прослеживается в тех частях
книги, которые связаны с китобойным промыслом.
* * *
Общепризнано, что как роман, рисующий картины ки-
тобойного промысла, «Моби Дик» — книга уникальная.
Уникальность ее прежде всего в полноте, тщательности
и детальности изображения добычи китов, разделки ки-
товых туш, производства и консервации горючих и сма-
зочных веществ. Десятки страниц романа посвящены
организации, структуре китобойного промысла, производ-
ственным процессам, протекающим на палубе китобой-
ца, описанию инструментов и орудий производства, спе-
цифическому разделению обязанностей, производствен-
ным и бытовым условиям и т. д.
Даже по названиям отдельных глав можно судить
о том, насколько обстоятельно и подробно рассказывает
Мелвилл об этой, может быть, самой трудной и опасной
профессии своего времени: «Линь», «Метание гарпуна»,
«Рогатка», «Разделка» и т. д. При этом Мелвилл ни на
минуту не забывает о социальном аспекте промысла, о
своеобразных этических пронципах, с ним связанных, и
188
о его эстетической стороне. Они возникают в непрерыв-
ном потоке ассоциаций, который иногда принимает столь
бурный и полноводный характер, что требует длинных
отступлений, а временами выливается в отдельные главы.
В качестве примера можно сослаться на XXIV главу,
представляющую своеобразное юмористическое «похваль-
ное слово» китобойному промыслу, названное «В за-
щиту».
Охота на китов в «Моби Дике» — это целый мир, ко-
торый не ограничен корабельной палубой. Он начинается
на твердой земле, где гостиницы называются «Под скре-
щенными гарпунами», «Меч-рыба» или «Китовый фон-
тан», где буфетная стойка располагается под аркой из
челюсти кита, где язычники бреются гарпунами и жен-
щина всходит на палубу с острогой в одной руке и чер-
паком для жира — в другой. Кончается этот мир в океан-
ских глубинах, где находит свою могилу множество от-
важных китобоев.
Особое и бесконечно важное место в нем занимает
кит. Можно без преувеличения сказать, что этот мир
«держится на китах». Очень может быть, что идея сде-
лать кита универсальным символом сил, подчиняющих
себе судьбы человечества, возникла у Мелвилла на почве
размышлений о той «зависимости от кита», в которой жи-
ли десятки тысяч американцев, занятых в китобойном
промысле, и миллионы, освещавшие свое жилье сперма-
цетовыми свечами. Кит был кормилец и поилец, источник
света и тепла, заклятый враг и погубитель. Встреча с ним
всегда была желанной и опасной. К ней стремились изо
всех сил, со страхом и трепетом в душе. В его честь сла-
гались песни, в его адрес посылались проклятия. О китах
рассказывались легенды, в которых он был всегда таин-
ствен и непостижим. Научные знания о китах были недо-
статочны, фантастические же представления — бесчис-
ленны.
189
В «Моби Дике» специальные главы посвящены исклю-
чительно китам, собранные вместе, они могли бы соста-
вить своеобразный справочник по «китологии». В них
читатель находит естественную историю китов, их исто-
риографию, тщательную классификацию, иконографию,
анатомию кита (биологическую и промышленную) и его
эстетику. Некоторые главы посвящены промысловой и
промышленной «китологии». По всей книге разбросаны
размышления о привычках и поведении китов. Наконец,
роману предпослан особый раздел «Извлечения», кото-
рый содержит подборку высказываний о китах, заимство-
ванных из самых разнообразных источников (от Библии,
Плутарха и Плиния до Купера, Скорсби и нантакетского
кабатчика Коффина) и расположенных в хронологиче-
ском порядке.
«Китологические» разделы книги содержат богатую,
научно обоснованную (разумеется, на уровне состояния
науки в середине XIX века) информацию о китах, необ-
ходимую для понимания сложности и специфики кито-
бойного промысла. Но очень быстро читатель начинает
ощущать в «китологическом» материале некоторую
странность. Уже в «Извлечениях», наряду с именами исто-
риков, биологов, путешественников и профессиональных
китобоев, он с недоумением встречает цитаты из Лукиа-
на, короля Альфреда, Рабле, Шекспира, Гоббса, Миль-
тона, Джефферсона, Готорна и т. д. Среди авторитетов
по «китологии», на которые ссылается Мелвилл в соответ-
ствующих разделах «Моби Дика», начинают попадаться
явно придуманные автором «специалисты» — капитан
Слит, эскимосский доктор Зогранда, эксперт по запахам
Фого фон Слэк, профессор Снодхед из колледжа Санта-
Клауса и Сент-Поттса и т. п. Сквозь суховатое, рациона-
листическое изложение научных данных кое-где проры-
вается то юмор, то ирония, то явная патетика. Американ-
ского читателя все это не должно было удивлять. Соеди-
190
нёние трезвого рационализма и «научности» в изложений
с самой невероятной фантастикой и глубокими эмоцио-
нальными потрясениями не было открытием Мелвилла.
В зачатке мы находим его у Ирвинга и в полном разви-
тии— у Эдгара По.
Читатель легко замечает, что «китология» перера-
стает промысловые и биологические границы. По мере то-
го как перед ним проходят абзацы о китах в религии, в
философии, в политике, он начинает утрачивать непосред-
ственное представление о ките как о морском животном
(о «рыбе», в терминологии Мелвилла). Образ кита пере-
растает свои естественные пределы. Он становится нео-
пределенным, не вполне четким символом сил, терзаю-
щих мозг и сердце человечества. И читателя уже не удив-
ляет, что киты классифицируются по системе классифи-
кации книг — этих продуктов человеческого духа — in fo-
lio, in quarto, in octavo, in duodecimo, что автор пускается
в рассуждения о месте кита в системе мироздания. Все
дальше отступает понятие о ките как о биологическом
виде, все сильнее разрастается образ кита в его эмблема-
тическом и символическом аспекте, покуда на страницы
романа наконец не выплывает белоснежный Моби Дик —
многосложный символ, воплощение ужаса, сама траги-
ческая судьба человечества.
Вся «китология» ведет к белому киту, который не
имеет никакого отношения к исследованию биологиче-
ской природы китов или к промысловому их значению.
Моби Дик плавает в водах философии, социологии и по-
литики.
Впрочем, если внимательно изучить все промысловые
элементы романа, то мы увидим, что и они, имея само-
стоятельное значение, в то же время являются поводом
для бесчисленных экскурсов и отступлений в сферы ма-
териальной и духовной жизни американского общества
середины XIX столетия. Описание производственных
191
процессов превращается в исходную точку для размыш-
лений на самые различные темы философского, социаль-
ного и нравственного характера. Искусство и легкость, с
которыми Мелвилл осуществляет этот переход от изобра-
жения конкретного действия или предмета к абстрактно-
му размышлению, поразительны. Иногда этот переход
совершается в несколько приемов: от конкретного факта
к матросской легенде и отсюда уже в безбрежный мир
отвлеченной мысли, символов и аллегорий; иногда же
непосредственно — через неожиданную ассоциацию. Эти
переходы столь многочисленны и мгновенны, что чита-
тель никогда твердо не знает, какой именно тип пове-
ствования перед ним находится.
* * *
В непосредственной связи с китобойными элементами
романа находится изображение морской стихии. «Моби
Дик» написан в традициях американского морского ро-
мана и справедливо считается высшим достижением это-
го жанра. Здесь читатель найдет все характерные при-
знаки классического морского романа: описание кораблей
и корабельной жизни; матросов, офицеров, капитана и
непременно юнгу — в качестве действующих лиц; изобра*
жение моря в различных его состояниях и при разном
освещении; далекие плавания, морские встречи, штормы
и кораблекрушения — в сюжете; своеобразную «мор-
скую» речь у отдельных персонажей и т. д. Но в то же
время «Моби Дик» более морской роман, чем любой дру-
гой. Он, так сказать, «сверхморской» роман.
Море перехлестывает в нем все плотины и береговые
линии и затапливает сушу, постройки, человека, общест-
венные отношения, человеческое сознание, нравы, рели-
гию. С самого начала в романе возникает специфическая
атмосфера морской жизни. Читатель погружается в эту
192
атмосферу с головой, и в первые мгновения у него мо-
жет возникнуть ощущение, что тем самым автор уводит
его от обычного, «сухопутного» мира с его общественны-
ми, философскими и нравственными проблемами. Однако
очень скоро он начинает замечать, что в новый и стран-
ный для него «морской» мир переходит и привычная
жизнь, неожиданно обретающая «морское» обличье. Мор-
ской жизнью в романе начинают жить важнейшие, крае-
угольные опоры нравственного бытия обитателя Новой
Англии — даже такие, как религия, церковь, священное
писание. Мелвилл далек от иронии или шутки, «оморя-
чивая» священные устои квакерства и пуританства. На-
против, он серьезен и почти патетичен, когда описывает
нью-бедфордскую часовню, где на стенах прибиты мра-
морные, доски с именами погибших моряков, а кафедра
проповедника имеет форму «крутого корабельного носа»
и снабжена подвесным трапом из красного каната. Сход-
ство часовни с кораблем увеличивается с каждым новым
абзацем. Появляется проповедник в плаще и зюйдвестке.
Взобравшись на кафедру, он выбирает за собой трап и
приглашает паству собраться и сесть потеснее: «Эй, от
левого борта! Податься вправо! От правого борта — вле-
во!» Но вот ощущение корабля перерастает границы
часовни. «Ведь кафедра проповедника искони была
у земли впереди, а все остальное следует за нею; кафедра
ведет за собою мир. Отсюда различают люди первые
признаки божьего гнева, и на нос корабля приходится
первый натиск бури. Отсюда возносятся к богу бризов и
бурь первые моления о попутном ветре». Мощная инер-
ция этой тирады выносит Мелвилла к одному из важ-
нейших его символов: «Воистину, мир — это корабль,
взявший курс в неведомые воды открытого океана...»2
Отсюда, в обратной связи, через несколько глав возни-
кает корабль «Пекод» с его интернациональной коман-
дой, как символ мира и человечества. Проповедник —
' Ю. Ковалев
193
сам бывший моряк — обращается к своей пастве: «Воз-
любленные братья матросы». Библейская история проро-
ка Ионы, которую он пересказывает в своей проповеди,
сама по себе «морская», в его устах утрачивает средизем-
номорский колорит и приобретает нантакетскую окраску.
Матросов корабля, на котором Иона пытается бежать от
божьего гнева, зовут Джек, Джо, Гарри. Обращаясь к
капитану, они называют его «сэр». Весь строй их речи
более напоминает ныо-бедфордских моряков, нежели
библейских мореплавателей Иопии и Фарсиса. Книга
Ионы начинает звучать как американская матросская
легенда.
Здесь следует обратить внимание на одно существен-
ное обстоятельство. Творя морскую легенду из явлений
американской общественной и духовной жизни, Мелвилл
не просто фантазирует. Он оперирует фактами и собы-
тиями из жизни приморских поселений. Часовня, о кото-
рой он рассказывает, действительно существовала, так же
ка;к существовал проповедник, послуживший прообразом
отца Мэппла.
Морская жизнь, предъявляющая к человеку особые
требования, развивающая в нем мужество, привычку
к далеким странствиям, привычку к постоянному риску
и тяжелому труду, чувство товарищества и своеобразное
самоощущение человека, годами живущего вдали от до-
ма, от семьи, — она возникает не только в образах ро-
мана или в языке действующих лиц. Ее можно обнару-
жить временами в исполненной динамической силы и
величественной простоты авторской фразеологии. Где,
кроме «Моби Дика», можно, например, встретить такую
фразу: «Я запихнул пару сорочек в свой старый ковро-
вый саквояж и отправился в путь к мысу Горн, в про-
сторы Тихого океана»?
194
* * *
Другая область, где «Моби Дик» выходит за пределы
морской «классики», — это изображение океанской сти-
хии. И дело здесь не только в* том, что Мелвилл был
искуснее своих предшественников в изображении звуко-
вых, световых и цветовых оттенков вечно меняющегося
океана, и не в лучшем знании метеорологии и. биологии
моря, хотя и это важно. Опираясь на верования, мифы,
поэтические легенды — от религии древних персов и пре-
дания о Нарциссе до «Старого моряка» Колриджа и фан-
тастических историй, авторами которых были нантакет-
ские и нью-бедфордские матросы, — Мелвилл создает
огромный, сложный, неуловимо притягательный, постро-
енный на сплетении символов образ океана. Океан в
«Моби Дике» — это живое, загадочное существо, «пере-
поясывающее наш мир, превращая все побережья в один
большой залив», он бьется приливами и отливами, «точ-
но огромное сердце земли». Он бесконечно и непостижи-
мо катит свои валы, бог весть куда и зачем. Он прини-
мает на свою грудь лодки и корабли, то нежно покачивая
их, то швыряя со страшной яростью. И в то же время
океан — это особый, непознанный мир, скрывающий от
человека свои тайны. В этом втором своем значении об-
раз океана играет в «Моби Дике» исключительно важную
роль. Мотив неудержимого влечения человека к водным
просторам возникает уже в самом начале романа. Мел-
вилл говорит о субботнем вечере в Манхэттене, когда
«несметные полчища смертных, точно безмолвные часо-
вые на посту, стоят, погруженные в созерцание океана»3.
Он приводит множество примеров в подтверждение
мысли, что «размышление и вода навечно неотделимы
друг от друга», и видит особенно глубокий смысл в ле-
генде о Нарциссе, «который, будучи не в силах уловить
мучительный, смутный образ, увиденный им в водоеме,
*
195
бросился в воду и утонул»4. Образ океана становится
у Мелвилла сложным гносеологическим символом, соеди-
няющим в себе вселенную, общество и человека. Глядя
в океанскую поверхность, говорит он, можно увидеть
солнце и звезды, корабли и лодки, облака и человека.
Но всмотритесь внимательно: под смутным отражением
вы увидите далекие глубины, в которых таится совсем не
то, что на поверхности. Под голубым-небом — стра<шнаи
опасность, под жарким солнцем — ледяной холод, под
шумом жизни — тишина могилы, под негой теплого вет-
ра — смертельная опасность и погибель, под обликом че-
ловека — хищные акулы. Многие ли рискнут проникнуть
под поверхность? У кого достанет сил, умения и муже-
ства? Впервые услышав Эмерсона, Мелвилл написал в
одном из своих писем: «Он ныряет глубоко». И это была
высшая похвала, какую он мог воздать знаменитому
трансценденталисту.
Осознание сложности, противоречивости социальной
действительности, не поддающейся традиционному про-
светительски-«разумному» истолкованию, угадывание
скрытых глубинных пороков под поверхностью буржуаз-
но-демократической «добродетели» было историческим
уделом американских романтиков. Их философская, об-
щественная, эстетическая мысль билась в поисках исти-
ны. Они стремились проникнуть в глубь жизни и постичь
законы, ею управляющие, но безуспешно. В их стихий-
ном протесте был оттенок трагического бессилия и не ме-
нее трагического непонимания. Именно поэтому образ
океана в «Моби Дике» — один из самых «романтических»
и самых значительных. В нем слышатся отзвуки горького
недоумения Натти Бумпо, речи старого могикана над
могилой Ункаса, трагической судьбы Тестер Принн, де-
монически-загадочного «Nevermore» и брайентовского
«Гимна смерти».
196
На первый взгляд может показаться, что нет доста-
точных оснований для того, чтобы рассматривать «Моби
Дика» как социальный роман. Сюжет его — история кито-
бойного рейса и охота на белого кита — как будто бы вы-
веден за пределы обычных условий американской об-
щественной действительности. Человек представлен глав-
ным образом в борьбе с внесоциальными стихиями. И все
же такое представление о романе будет поверхностным и
недостаточным. Отражение социально-политических проб-
лем американской действительности середины XIX века
в «Моби Дике» не менее значительно, чем в романах
Купера и Готорна или в трудах трансценденталистов.
Более того — в освещении некоторых сторон американ-
ской общественной жизни Мелвилл оказался прозорливее
своих предшественников и современников.
Своеобразие «Моби Дика» как социального романа
заключается в том, что общественная жизнь представле-
на здесь в непривычной и усложненной форме. В крайне
редких случаях она проявляется непосредственно в по-
воротах сюжета, в словах и поступках действующих лиц.
Как правило, она входит в повествование мощным пото-
ком ассоциаций. Кроме того, размышления героев о важ-
нейших проблемах социального характера составляют
питательную среду, на которой вырастают крупнейшие
символические и аллегорические образы обобщающего
характера.
Характер общественного развития Америки в тридца-
тые и сороковые годы XIX века вызывал у Мелвилла,
как, впрочем, и у других романтиков, чувство глубокого
разочарования и резкий внутренний протест. Отсюда
острые инвективы против «цивилизации», отсюда же ро-
мантическая утопия, построенная по принципу «антидей-
ствительности» в «Тайпи». Подобно Кулеру, Мелвилл с
тревогой наблюдал «отклонение» развития американской
197
демократии от благородных идеалов эпохи войны за
независимость. Разница же между этими двумя писа-
телями заключалась в том, что Купер, при всей целе-
устремленности его критицизма, воспринимал эти откло-
нения как нечто временное («Дома»), как некое мораль-
ное затмение, охватившее Америку («Моникины»), и не
терял надежды на восстановление истинной свободы и
независимости человека, тогда как Мелвиллу было свой-
ственно трагическое ощущение перерождения демокра-
тии, которое если и не осуществилось еще, то непременно
угрожает ей в ближайшем будущем. С этим, видимо, бы-
ло связано и нарастание пессимизма в его творчестве.
В самой общей форме Купер представлял себе характер
некоторых социальных процессов как временное оттесне-
ние общественного блага общественным злом. Мелвилл
же разглядел чудовищное зло в самой природе «общест-
венного блага».
Трагедия американской общественной системы и аме-
риканской демократии, в частности, для Мелвилла за-
ключалась в том, что система эта не сумела, вопреки
всем декларациям, создать условия, обеспечивающие
благоденствие и счастье человека. Жертвы, принесенные
во имя равенства и свободы, были напрасны.
На первых же страницах романа, по прихотливой
ассоциации с цитатой из несуществующего древнего авто-
ра, возникают образы старой библейской притчи о Лаза-
ре и богаче. Только теперь богач в красном шлафроке
кряхтит от удовольствия у собственного очага, а бедный
Лазарь «должен лежать здесь на панели у порога Бога-
ча... Да и сам Богач, он ведь тоже живет, словно царь
в- ледяном доме, построенном из замерзших вздохов, и
как председатель общества трезвенников, он пьет лишь
чуть теплые слезы сирот»5. Председатель общества трез-
венников в красном шлафроке — это не библейский, бо-
гач. Это благоденствующий новоанглийский квакер. Но
198
богатство его все столь же неправедно. На протяжении
романа ассоциативная мысль Мелвилла вновь и вновь
ведет читателя к вопросам имущественного неравенства,
бессердечной эксплуатации тружеников нанимателями,
иными словами — к экономическому принуждению, к бес-
контрольному господству собственности над человеком.
Истинная природа экономического рабства ощуща-
лась романтиками довольно смутно, пути его преодоле-
ния, если оставить в стороне развалившиеся одна за дру-
гой утопические колонии, представлялись непостижимы-
ми. Отсюда безнадежно пессимистический зачин в
сентенции о Лазаре: «Вселенная уже возведена, ключе-
вой камень свода уложен и щебень вывезен на телегах
миллион лет тому назад»6. И хотя слова эти отнесены
рассказчиком к человеку, которому природа не дала за-
щиты от холода, они невольно связываются с непосред-
ственно примыкающими к ним фразами о современном
Лазаре, лежащем на панели в Нью-Бедфорде.
Как и многие романтики, размышлявшие о социаль-
ных проблемах современности, Мелвилл неустанно воз-
вращается к вопросам человеческой свободы, в частно-
сти — свободы воли. Он остро ощущал всеобщую связан-
ность человеческой воли, невидимые цепи, сковывающие
человека по рукам и по ногам, стоящую вне человеческо-
го сознания силу, распоряжающуюся его судьбой. Но да-
леко не всем было дано увидеть первопричину связан-
ности человеческой воли в экономических основах бур-
жуазной демократии. В одной из глав, повествующих
о некоторых специальных приемах обработки китовой
туши, где Квикега, работающего на скользком теле кита,
страхует Измаил, стоящий на палубе, вновь вырастает
многозначительная цепь ассоциаций. Она начинается
мыслью о том, что «свободной воле» (Измаила) нанесен
«смертельный удар», затем перекидывается к «положе-
нию всякого смертного во всякое время», ибо «сиамские
199
узы связывают человека с несколькими смертными за-
раз», и заканчивается несколько неожиданным выводом,
придающим конкретность всей этой довольно отвлечен-
ной ассоциативной группе: «Если разорился твой бан-
кир — ты банкрот»7.
Приведенный эпизод можно было бы счесть случай-
ностью, если бы мысль об экономической связанности
человека не возникала постоянно, в1 различных контек-
стах и соединениях. Временами она проскальзывает бег-
ло, как, например, в монологе Ахава по поводу новой
костяной ноги («Будь проклята эта всечеловеческая вза-
имная задолженность, которая не желает отказаться
от гроссбухов и счетов») 8. Но иногда она разворачивает-
ся в серьезное рассуждение о собственности как перво-
причине несвободы человека, например, в связи с изло-
жением некоторых неписаных правил китобойного про-
мысла. Оно начинается прямо с постулирования основной
мысли: «Разве не у всех на устах изречение: «Собствен-
ность— половина закона?»... Но часто собственность —
это весь закон, а не половина»9. Далее следует ряд при-
меров, иллюстрирующих эту мысль: крепостные крестья-
не в России, рабы в республике, последняя полушка бед-
ной вдовицы, которую отнимает алчный домовладелец,
мраморный дворец неразоблаченного преступника, гра-
бительский процент ростовщика, колоссальные доходы
церкви, отрываемые от «скудного куска хлеба с сыром
у сотен тысяч изнуренных тружеников», и, в заключе-
ние,— «апостольский метатель остроги» брат Джона-
тан 10, загарпунивший Техас. И все эти примеры приве-
дены ради завершающего риторического вопроса — «раз-
ве Собственность — не весь закон?» п И далее во многих
эпизодах, в разнообразных ассоциативных свяэ!ях вновь
и вновь звучат отголоски страшной мысли, что собствен-
ность и есть тот самый неуловимый закон, который управ-
ляет жизнью и судьбой американца вопреки его воле.
200
* * *
Понятие «Америка» имело у американских романти-
ков различное наполнение. Для Мелвилла, как и для Го-
торна или трансценденталистов, это была прежде всего
Новая Англия. Это обстоятельство легче всего объяснить
чисто биографически. Так, собственно, и поступает боль-
шинство исследователей, углубляясь в генеалогию Мел-
виллов, Гансвортов и т. д. При этом они упускают из виду
другой фактор, на наш взгляд гораздо более значитель-
ный,— историческую роль, которую играла Новая Англия
в социальном развитии США. В представлении Мелвил-
ла Новая Англия шествовала во главе Америки, и от
того, какой путь готовилась избрать Новая Англия, за-
висела дальнейшая судьба всей страны.
С этим связан особый интерес Мелвилла к ново-
английским устоям, к новоанглийскому характеру и к тем
нравственным нормам, которые определяют обществен-
ное поведение жителя Массачусетса или Нью-Хэмпшира.
По ним он пытался предсказать будущее своей родины.
Парадоксальное соединение сурового благочестия и
беззастенчивой жажды богатства, свойственное нрав-
ственной атмосфере Новой Англии, постоянно привлека-
ло внимание Мелвилла. Специальное исследование теоре-
тической основы этой «высоконравственной безнравствен-
ности», воплощенной в девизе: «На бога надейся, а сам
не плошай!», содержится в «Израиле Поттере». Но и в
«Моби Дике» эта проблема занимает весьма значитель-
ное место, хотя и в несколько ином аспекте.
Все исследователи сходятся на том, что Мелвилл за-
мыслил «Пекод» с его интернациональной командой как
символическое воплощение Америки. Вместе с тем мало
кто обратил внимание на одну существенную деталь:
судьба «Пекода» и его команды находится в руках трех
новоанглийских квакеров — капитана Ахава, его первого
201
помощника Старбека и владельца корабля Вилдада. От
них зависит, как будет оснащен «Пекод», какое направ-
ление и цель он изберет и каков будет конечный резуль-
тат плавания. Каждый из упомянутых персонажей рома-
на не просто определенный характер, но в то же время
символ, занимающий важное место в картине трагиче-
ского рейса «Пекода».
Первым на страницах «Моби Дика» появляется Вил-
дад. Это крепкий, как кремень, старик, который всякую
свободную минуту посвящает чтению Библии. Он знает
священное писание почти наизусть и охотно цитирует его
по всякому случаю. Но вместе с тем он давно уже усвоил,
что «религия — это одно, а наш реальный мир — совсем
другое. Реальный мир платит дивиденды» 12. С Библией
в руках и словами кротости на устах он тянет жилы из
матросов, заставляя их трудиться до седьмого пота. Про-
цитировав библейское изречение: «Не собирайте себе со-
кровищ на земле, где моль», он тут же пытается обобрать
матроса, предлагая ему мизерную долю добычи. Но Вил-
дад, стяжатель и скупец, — это вчерашний день Новой
Англии. В нем нет энергии и силы, и бурные рейсы не для
него. «Пекод» уходит в плавание, Вилдад остается на
берегу.
Вторым появляется Старбек. Это опытный и искусный
китобой. Он тоже квакер и не менее религиозен, чем
Вилдад. Однако его религиозность не поверхностна. Она
человечна. В этом его преимущество перед Вилдадом, но
в этом же источник его слабости. Старбек — это сего-
дняшний день Новой Англии. Он был бы лучшим из воз-
можных капитанов «Пекода». Он честен, отважен и до-
статочно осторожен. Для него многое значат интересы
команды и судовладельца. Но он недостаточно инициа-
тивен, чтобы уйти из-под власти вчерашнего дня, в нем
мало силы, чтобы устоять перед натиском завтрашнего.
И Мелвилл глубоко об этом сожалеет.
202
Наконец на палубе «Пекода» появляется Ахав — та-
инственный и непостижимый, как всякое будущее. Он
тоже из нантакетских квакеров. Он идет к своей цели, не
смущая себя и других христианскими заповедями. Что
ему священное писание! Он готов вышвырнуть его за
борт и заключить союз с самим дьяволом. Нет таких пре-
пятствий, через которые он не мог бы перешагнуть. Его
не смутят ни гибель людей, ни слезы сирот, ни рассужде-
ния о справедливости и свободе. В своем чудовищном
эгоцентризме Ахав не видит человека в человеке, ибо
человек для него не более как инструмент, которым он
пользуется для осуществления своих замыслов. Недаром
он стоит в отдалении от команды и даже своих ближай-
ших помощников, недосягаемый в своем величии дикта-
тора. Для Ахава не существует иных целей, кроме его
собственных. Им он подчиняет все, что подвластно ему.
Пуританская ограниченность развилась в нем до полной
слепоты ко всему, что не способствует осуществлению
его задачи. В нем нет ни страха, ни жалости, ни чувства
симпатии. Он дерзок, предприимчив и отважен. В его
действиях ощущаются размах и железная хватка. В сере-
дине XIX века он живет по нравственным нормам лон-
доновского Морского Волка и драйзеровского Каупер-
вуда. И прав, конечно, Матиссен, который увидел в Ахаве
«пророческий образ будущих строителей империи второй
половины века»13. Не следует забывать, что Мелвилл
жил в пору интенсивного развития американской эконо-
мики. Энергичные, предприимчивые люди, осваивавшие
новые земли, строившие фабрики, заводы, корабли и же-
лезные дороги, торговавшие со всем миром и открывав-
шие банки в американских городах, делали исторически
полезное дело и сознавали его общественную необходи-
мость. Они выработали своеобразную «философию» биз-
неса, который начинал представляться лм неким вер-
ховным божеством. Неповиновение божеству каралось
203
немедленным крахом. В жертву бизнесу приносились
освященные веками идеалы человечества, да и сама че-
ловеческая жизнь. Фанатики бизнеса создавали нацио-
нальное богатство, но обратной стороной этого процесса
был рост народной бедности.
Соединение в одном образе высокого благородства
помыслов и тиранического бессердечия действий, возвы-
шенной субъективной цели и бесчеловечной жестокости
ее объективного осуществления не было пустой прихотью
писателя, пожелавшего изобразить больное сознание, как
представляют дело буржуазные критики. Нравственные
противоречия образа были той точкой, где сходились,
переплетаясь в удивительном диалектическом единстве,
размышления Мелвилла о наиболее важных, с его точки
зрения, тенденциях общественной, политической и нрав-
ственной жизни Америки середины XIX столетия. Эти
размышления воплотились в трагическом и одновремен-
но символическом образе безумствующего титана, кото-
рый поднялся, дабы уничтожить мировое зло, видевшееся
ему в облике Белого Кита, и погубил всех находившихся
под его началом людей, так и не достигнув своей цели.
* * *
В сложном символическом образе «Пекода», увлекае-
мого к гибели фанатическим безумием капитана, имеется
еще и другой смысл, связанный с некоторыми обстоятель-
ствами политической жизни Америки. Высокий накал
политических страстей осенью 1850 года, побудивший
Мелвилла, как уже говорилось выше, самым серьезным
образом пересмотреть концепцию романа, не был случай-
ным или неожиданным. Для политической жизни США
в сороковые годы XIX века было характерно нарастаю-
щее обострение противоречий между Севером и Югом.
Все важнейшие политические и общественные движения
204
этого периода, все крупнейшие исторические события так
пли иначе были связаны с этим основным конфликтом
американской истории середины XIX века. Для Мелвил-
ла, как и для некоторых других романтиков, существо
этой связи не было вполне ясным и, возможно, представ-
лялось роковым стечением обстоятельств. Неумолимой
логики истории, которая влекла Америку к гражданской
войне, Мелвилл не понимал. Кипение общественных стра-
стей он истолковывал в сугубо нравственном плане.
Южане, стиснув зубы, дрались за новые территории,
за распространение рабовладельческой системы. Они, ве-
роятно, представлялись Мелвиллу фанатиками, забыв-
шими в своем ослеплении о различии между добром и
злом, честностью и бесчестьем, патриотизмом и преда-
тельством. Казалось, им не было дела до будущего Аме-
рики. Не раз они заявляли, в качестве последней угрозы,
о своем намерении выйти из Союза и образовать само-
стоятельное государство. Если они иногда и шли на ком-
промиссы, то компромиссы эти ничего не решали и ни-
чего не смягчали. Напротив, каждый из политических
компромиссов той эпохи сопровождался еще более ин-
тенсивным взрывом взаимной ненависти.
Преследование аболиционистов на Юге и на Севере
не достигало цели. Движение разгоралось все с большей
силой. Аболиционистские общины насчитывались тыся-
чами. К аболиционизму примкнули крупнейшие демокра-
тические партии. Широкие массы фермеров и рабочих
оказывали аболиционистам всемерную поддержку. Ново-
английские квакеры, для которых аболиционизм стал уже
почти традицией, почувствовали над собой теплое сия-
ние мученического ореола. За собой они ощущали могу-
чий авторите-i священного писания и всех догматов хри-
стианской веры. Их фанатическое упорство в борьбе до
сих пор приводит историков в изумление, Они не стреми-
лись к кровопролитию. Перспектива гражданской войны
205
или распадения Союза не привлекала их. Но они не же-
лали' отступиться от своей цели — освободить рабов,
упразднить рабовладение. Постепенно границы аболи-
ционистского движения расширялись, и для многих его
участников борьба против южан стала одновременно
борьбой за землю и свободу, борьбой против всякого об-
щественного зла.
В годы острого политического кризиса середины века
Мелвилл занимал позицию, характерную для многих его
современников и собратьев по перу. Он был безусловным
и безоговорочным сторонником освобождения негров и
ликвидации рабовладения. Путь, на который южане
толкали Америку, представлялся ему гибельным и позор-
ным. Ожесточение, с которым они воевали за политиче-
ское господство, используя все честные и бесчестные
средства, приводило его в содрогание. Ярость отчаяния,
с которой дрались южане, вероятно, наводила Мелвилла
на мысль, что они скорее погибнут сами, нежели отка-
жутся от сЕоей цели.
Мелвилл не состоял в аболиционистских обществах и
не принимал практического участия в движении. Подоб-
но Готорну, Уитмену, Эмерсону и многим другим, он со-
чувствовал аболиционизму всей душой и в столкновении
Севера и Юга твердо стоял за северян. Однако аболицио-
низм, как всякое широкое демократическое движение,
был неоднороден. В разных частях Америки, в разных
общественных слоях он приобретал окраску различных
политических и нравственных систем. Осенью 1850 года
Мелвилл мог наблюдать вспышку активности аболицио-
нистов в Массачусетсе, где традиционный фанатизм но-
воанглийских пуритан обрел на аболиционистской почве
новую силу. Это обстоятельство внушало писателю серь-
езную тревогу, ибо в нем он тоже видел угрозу жизни
нации. Мелвиллу представлялось, что в фанатическом
стремлении к Добру пуритане-аболиционисты, воодушев-
206
ленные благородным намерением уничтожить Зло, в силу
своей слепоты и ограниченности могли погубить Америку,
совершив тем самым еще большее зло. Фанатизм всегда
рисовался Мелвиллу как безумие, в котором разум не
исчезает, но подчиняется безумной цели.
Такого рода наблюдения и размышления над поли-
тической жизнью Америки, и в особенности Новой Ан-
глии, возведенные до уровня этической абстракции (от-
метим, кстати, что абстрактно-этический уклон мыш-
ления был характерен для новоанглийских романтиков),
легко укладывались в отвлеченную формулу, которую
можно было бы изложить примерно следующим обра-
зом: слепая, неразумная, фанатическая борьба против
Зла сама по себе есть Зло и только к Злу может при-
вести.
По-видимому, интерес американских романтиков к
истории пуританских поселений Новой Англии, особенно
интенсивный в конце сороковых и в пятидесятые годы,
был не случаен. Даже столь разные по своим интересам
и пристрастиям писатели, как Мэтыоз («Колдовство»,
1846), Полдинг («Пуританин и его дочь», 1849), Готорн
(«Алая буква», 1850), Лонгфелло («Джон Эндикотт»,
«Джайлс Кори»), оказались в кругу близких тем и в пре-
делах одной исторической эпохи. Разумеется, все пере-
численные произведения невозможно свести к указан-
ной выше формуле в ее «чистом виде». Но несомненно,
что проблема трагических издержек фанатической борь-
бы против нравственного Зла, или отмщения за Зло, или
стремления к Добру заложена глубоко в основе назван-
ных романов и пьес.
В этой связи в трагическом плавании «Пекода» легко
увидеть еще один символ. В этом символе два элемента:
корабль и его капитан. Ахав — сильный дух, одержимый
благородной, но гибельной целью, слецой и глухой ко
всему на свете фанатик, восставший против мирового Зла
207
и готовый мстить ему любой ценой, даже ценой собствен-
ной жизни. Он безумец, но безумец особого рода, ибо
в его безбрежном безумии «не утерялась ни единая кру-
пица его огромного ума,.. частное помешательство взяло
штурмом все его общее здравомыслие и обратило захва-
ченные пушки на собственную свою безумную мишень,
так что Ахав не только не лишился сил, но, наоборот, для
достижения одной-единственной цели обладал теперь в
тысячу раз большим могуществом, чем ему когда-либо
в здравом рассудке дано было направить на разумный
объект» 14.
Ахаву удается увлечь команду, подчинить себе всех,
даже здравомыслящего Старбека, который сам не пони-
мает, как это случилось. Смелые, энергичные, ловкие
люди, мастера своего дела, освященные «царственным
величием демократии», пренебрегая собственной судьбой,
ведут «Пекод» к трагическому концу. И если «Пекод» —
это Америка, то Ахав — фанатический, хотя и благород-
ный дух, влекущий ее к гибели. Символика финальной
сцены романа прозрачна. Звездно-полосатый флаг по-
гружается в пучину.
Наблюдая действие грозных и, с его точки зрения,
разрушительных сил в американской общественной жиз-
ни, Мелвилл испытывал глубокую тревогу. Ему казалось,
что силы эти деформировали человеческое сознание, пре-
вращая его в свой послушный инструмент, разрушая вы-
сокий нравственный идеал просветительской демократии.
С этим непосредственно связаны мучительные поиски
противоположных сил и тенденций как в действительно-
сти, так и внутри человеческого сознания. Эти поиски не
были последовательны и целенаправленны, ибо Мелвилл
и сам не знал, чего он искал — систему нравственных
принципов или новую веру.
208
* * *
Критическое отношение к явлениям, сопутствовавшим
социальному развитию буржуазно-демократической Аме-
рики, неприятие основных принципов новой цивилизации
привели Мелвилла уже в ранних его произведениях к со-
зданию романтических утопий, главный смысл которых
заключался в контрастном сопоставлении идеала и дей-
ствительности. В романтической утопии не содержалось
решения социальных проблем. Ее создание было актом
протеста, формой романтической критики.
В «Моби Дике» Мелвилл возвращается к этому иде-
алу и к некоторым элементам романтической утопии, но
в ином плане и с иной целью. Уже в третьей главе ро-
мана на сцену выходит Квикег — благородный полине-
зийский дикарь, точный сколок с Мехеви, вождя племени
тайпи. Он словно шагнул в китобойную эпопею со стра-
ниц первого романа Мелвилла: то же атлетическое сло-
жение, то же благородство в мыслях и поступках, та же
деликатность и благожелательность. Квикег открыл для
себя в христианском мире те истины, которые герой
«Тайпи» открыл для себя, побывав в мире языческом:
в «здешнем волчьем мире» христиане «несравненно не-
счастливее и порочнее, чем любой язычник» 15. Этот «кан-
нибальский Вашингтон», бреющийся гарпуном и раску-
ривающий трубку-томагавк, в первых главах романа
высится как одинокая цитадель доброты и справедливо-
сти посреди океана жизни. Квикег патетически прост и
неумолимо последователен в своих принципах. Он чело-
век «честного сердца», который «никогда не раболепство-
вал и ни у кого не одолжался». Его кредо, практически
воплощенное во всех его поступках, он сам формулирует
следующим образом: «В этом мире под всеми широтами
жизнь строится на взаимной поддержке и-товариществе.
И мы, каннибалы, призваны помогать христианам» 16,
209
Зачем он такой здесь? Для чего Мелвилл перебросил
его из «Тайпи» в новый роман? Вполне возможно, что
в соответствии с первоначальным замыслом, от которого
Мелвилл отказался, Квикегу была отведена роль идеала,
который контрастно оттенил бы пороки американцев,
окружающих его. Это был старый прием, использован-
ный Мелвиллом уже в «Тайпи», но несколько модифи-
цированный. Сопоставление «дикости» с цивилизацией
в «Тайпи» было по необходимости умозрительным. Аме-
рику от Нукухивы отделяли тысячи миль океанской по-
верхности. В «Моби Дике» Мелвилл уничтожил это рас-
стояние, перебросив Квикега в Нью-Бедфорд. Но когда
в силу вступила новая концепция романа, Мелвилл, ви-
димо, почувствовал, что образ полинезийского канниба-
ла, даже если он «каннибальский Вашингтон», слишком
слаб, чтобы стать антитезой всеобъемлющему социаль-
ному злу. Единственное, что можно было сделать с этим
образом, — подчинить его развертыванию идеи братского
равенства людей различных рас как истинного залога
духовной свободы и прогресса. Идея эта была естествен-
на для Америки с ее белокожим, краснокожим и черно-
кожим населением. Свое первое значительное художе-
ственное воплощение она получила у Фенимора Купера
в братском союзе Натти Бумпо и Чингачгука. Следуя по
стопам Купера, Мелвилл создал аналогичный союз: Из-
маил— Квикег. Но в этом союзе не было универсально-
сти, необходимой для противостояния универсальному
злу. И тогда Мелвилл заставил Квикега отступить назад
и занять место рядом с Тэштиго и Дэгу, окружив их раз-
ноязычной и разноплеменной командой, в которой пред-
ставлены не только все расы, но и все нации.
В интернациональности команды «Пекода» некоторые
исследователи видят главным обоазом символическое
отражение многонациональное™ Америки. "Признавая
справедливость подобного суждения, все же необходимо
210
учесть еще и то обстоятельство, что идея братского ра-
венства рас и наций в условиях подготовки гражданской
войны в США обладала особенной политической остро-
той. Разумеется, она тоже не была универсальной анти-
тезой многообразному социальному злу. Но она могла
быть сильным элементом этой антитезы, если бы автору
удалось найти другие адекватные ей элементы.
Мелвилл настойчиво искал эти элементы. Он искал
их в «величии демократии», которое сияет «в руке, взмах-
нувшей киркой или загоняющей костыль», в попытке
«коснуться руки рабочего небесным лучом», в патетиче-
ских обращениях к «Великому Богу Демократии», к «бес-
пристрастному Духу Равенства».
Однако ни высокое благородство «каннибальского
Вашингтона», ни братская солидарность рас и наций, ни
Великий Бог Демократии, ни даже «интуиция солидар-
ности», в понимании Мелвилла, не могли одолеть обще-
ственного Зла и мощного в своем фанатизме индивидуа-
листического безумия Ахава. «Пекоду» не было спасения.
При полном штиле, под лучами яркого полуденного
солнца звездно-полосатый флаг погрузился в океанскую
глубину. Взгляните, американцы! И замрите от ужаса,—
как бы говорит Мелвилл.
«МОБИ ДИК»
КАК ФИЛОСОФСКИЙ РОМАН
Современники, независимо
от того, нравился им «Моби Дик» или нет, восприняли
его как роман «с философией». Английский журнал
«Джон Буль» видел в философичности романа одно из
его главных достоинств: «Из всех необычайных книг Гер-
мана Мелвилла — это самая что ни на есть необычайная..
Кто стал бы искать философию в китах или поэзию в
косноязычии? Однако не много найдется книг... которые
содержали бы столько истинной философии и подлинной
поэзии, как история китобойной экспедиции на „Пеко-
де"» К Американский «Бостонский литературный жур-
нал», напротив, склонен был считать, что наличие фило-
софских размышлений значительно ухудшило роман:
«.. .Книга, которая лежит сейчас перед нами, — новое
разочарование. Это странная смесь фактов и фантазии...
212
На эту смесь наброшена вуаль мечтательной философии
и неясных размышлений, достаточно густая, чтобы затем-
нить смысл фактов, и, на наш взгляд, не увеличивающая
достоинств повествования»2.
Вероятно, всем рецензентам было знакомо то ощуще-
ние, которое испытал Лонгфелло, записавший в своем
дневнике 15 ноября 1851 года: «...весь вечер читал но-
вую книгу Мелвилла «Моби Дик». Очень дико, странно
и интересно».
Отношение к новому роману могло быть разное, но
никому не приходило в голову усомниться в том, что
«Моби Дик» — философский роман. Сомнения начались
позже, уже в XX веке, и опирались на два соображения:
во-первых, Мелвилл не имел сколько-нибудь порядоч-
ного школьного, а тем более философского образования;
во-вторых, в «Моби Дике» нет специального «философ-
ского» материала. Неосновательность этих аргументов
очевидна.
Первое соображение отпало, как только были опуб-
ликованы дневники, которые Мелвилл вел во время по-
ездки в Европу в 1849 году, где упоминаются беседы «на
метафизические темы, а также о Гегеле, Шлегеле, Канте
и т. д.», дискуссия о Ламартине и «Коринне», которые он
вел на корабле со своими спутниками американцем Тей-
лором и немцем Адлером.
Что до второго соображения, то оно, на первый
взгляд, может показаться основательным. «Моби Дик»
действительно не содержит специального «философского
материала» в том смысле, в каком он содержит мате-
риал «китобойный». Рецензент «Джона Буля» был прав,
когда увидел «философию в китах».
Материалом для философских размышлений и выво-
дов в «Моби Дике» служат факты, события, повороты
сюжета, характеры, принадлежащие морской, китобой-
ной и социальной сферам романа. Философия, так
213
сказать, прорастает сквозь все элементы повествования,
скрепляя их между собой и придавая им необходимое
единство. Именно поэтому роман, столь многоплановый,
многослойный, насыщенный разнородным материалом,
почти несоединимым, не распадается на куски.
Ощущение важности философской мысли, значитель-
ности ее функции в романе удачно передано в образном
замечании А. Кейзина, который писал в своем предисло-
вии к «Моби Дику»: «Это повесть о мысли, которая аго-
низирует посреди жестокого действия; о мысли, которая
подвергает исследованию каждое действие и уничтожает
его изнутри... «Моби Дик» — изображение человеческого
сознания, которое размышляет о занимающих его фило-
софских проблемах, будучи помещено в самую гущу
жизни»3.
Философская сторона «Моби Дика» не безбрежна и
не представляет собой «праздного блуждания» мысли.
Она тесно связана с социальной проблематикой романа
и потому имеет определенную направленность. Мелвилла
занимают преимущественно два раздела философии: гно-
сеология и этика. Независимо от того, насколько глубоко
знал Мелвилл философию, он был осведомлен, конечно,
о состоянии теории познания и об основных принципах
современных ему моральных учений. Более того — можно
предположить, что знакомство это не доставляло ему
удовлетворения. В тексте «Моби Дика» встречается це-
лый ряд язвительных отступлений по поводу популярных
в XIX веке философских систем. Эти отступления возни-
кают как будто случайно, в связи с фактами, никакого
отношения к философии не имеющими, и напоминают
мораль Эзоповых басен. Но в них есть определенная
логика. История про бортника, который свалился в дупло
вниз головой, имеет в качестве «морали» рассуждение
214
о Платоне («А сколько народу завязло вот таким же
образом в медовых сотах Платона и обрело в них свою
сладкую смерть»);4 описание процесса, в ходе которого
к бортам корабля подвешиваются головы убитых ки-
тов, вызывает странную ассоциацию, смысл которой в
утверждении бесполезности сенсуализма и кантианства
(«Так, если вы подвесите с одного борта голову Локка,
вас сразу на одну сторону и перетянет, но подвесьте
с другой стороны голову Канта — и вы снова выравняе-
тесь, хотя вам и будет изрядно тяжело. Некоторые умы
так вот всю жизнь и балансируют. Эх глупцы, глупцы,
да вышвырните вы за борт это двуглавое бремя, то-то
легко и просто вам будет плыть своим курсом»);5 время
от времени возникают ходовые термины популярной фи-
лософии, вроде «свободы воли», с явно ироническим под-
текстом и т. д.
Однако Мелвилл не считал своей задачей критику
философских систем. Она возникает всегда случайно,
между прочим и носит отрывочный характер. Его гораздо
более привлекало оригинальное (или, во всяком случае,
самостоятельное) философское осмысление мира, чело-
веческой деятельности и познания мира человеком, хотя,
разумеется, это было невозможно вне определенного от-
ношения к современным философским учениям. Хотел
того Мелвилл или нет, но он был обязан выработать
определенное отношение к наиболее распространенным
типам философских представлений.
* * *
Природа философских интересов Мелвилла не была
умозрительной или абстрактной. Философствование как
таковое его не занимало. Исходной точкой его философ-
ских размышлений была вечная тревога з'а судьбу Аме-
рики, страх перед возможной национальной трагедией.
215
Все тот же проклятый вопрос — «как поведут себя аме-
риканцы в момент кризиса?» —который заставил его
через три года взяться за «Израиля Поттера», определил
и специфику философских исканий в «Моби Дике». Мел-
вилл пытался выяснить характер тех сил, которые на-
правляют жизнь нации.
Господствовавшие в американском романтизме идеа-
листические философские представления о силах, управ-
ляющих жизнью природы и общества, при всем их ка-
жущемся разнообразии сводились, в сущности, к идее
бога в различных ее вариантах. Выбор был невелик:
грозный кальвинистский бог американских пуритан, «аб-
солютный дух» немецкой идеалистической философии,
трансценденталистское божество в человеке и расплыв-
чатое пантеистическое признание бога «вообще» в форме
разумных законов вселенной. Все эти типы «божествен-
ной силы» присутствуют в «Моби Дике». Они исследу-
ются в разнообразных поворотах сюжета, в монологах
действующих лиц, в авторских отступлениях, в специаль-
ных «философских» главах, во вставных новеллах и, на-
конец, через характеры. Образуется наиболее сложная
и наименее определенная система символов. Чаще всего
установление «истины» осуществляется через соотнесе-
ние взглядов Измаила и капитана Ахава, ибо их отно-
шение к миру раскрывается в непрерывной полемике.
В результате отвергаются все упомянутые типы «брже-
ственной силы» в качестве определяющего элемента в
жизни вселенной и человека.
Кальвинистской версии бога Мелвилл уделяет срав-
нительно немного внимания, как слишком нелогичной и
неоправданной. Грозный бог американских пуритан фи-
гурирует преимущественно во вставном эпизоде («Рас-
сказ о „Таун-Хо"»). Мелвилл рисует здесь образ бога-
тирана, который создал плохие законы, наносящие ущерб
его подданным и всегда приводящие к дурным послед-
210
ствиям. Этот бог иногда бывает справедлив, juo даже
справедливость его капризна. В нем нет любви и мило-
сердия, нет стремления указать путь человеку. Он бог
наказующий и жестокий. В нем нет постоянства и разума.
Это бог бесчеловечный, бог-варвар.
В «Моби Дике» неоднократно встречаются персона-
жи, которые по воле автора руководствуются волеизъяв-
лением пуританского бога. В некоторых случаях это под-
чинение человека богу является чистым лицемерием
(сцена, где судовладелец Вилдад нанимает матросов),
в других — чистым безумием (история «Иеровоама»).
И нигде бог не выступает как действительная сила,
осмысленно направляющая жизнь человечества.
Пантеистические теории и философия «абсолютного
духа» требовали более пристального внимания, ибо тут
дело касалось, помимо всего прочего, некоторых принци-
пов гносеологии. Вопрос, который пытается решить Мел-
вилл, можно было бы сформулировать следующим обра-
зом: есть ли в природе (Мелвилл употребляет термин
«вселенная») некая высшая сила (или даже две противо-
положно направленные силы — положительная и отрица-
тельная), которая ответственна за деятельность человека
и жизнь человеческого общества? И Мелвилл не сразу
решается сказать «да» или «нет». Ответ на этот вопрос
подразумевал предварительное познание природы. А для
этого Мелвиллу требовалось дополнительно изучить спо-
собы познания, выявить основные типы познающего че-
ловеческого сознания. Эта проблема имела для Мелвил-
ла огромное, можно сказать первостепенное значение,
ибо в ней он видел не только ключ к постижению истины,
но также источник бесчисленных заблуждений.
С этим связана, кстати, и многозначность символов
в романе, не раз ставившая исследователей в затрудни-
тельное положение. Р. Уоттерс, например,-запутавшись в
символических значениях образа Белого Кита, попросту
217
заявил, что Мелвилл, создавая символы, не вкладывал
в них никакого смысла, предоставляя это делать чи-
тателю. Он ссылался при этом на более поздний роман
Мелвилла «Пьер», где имеется замечание о природе как
поставщике того «хитроумного алфавита, из которого
человек может выбирать и комбинировать по своему вку-
су и вычитывать свой собственный урок в соответствии
со своим сознанием и настроением». Уоттерс считает, что
Мелвилл, создавая «Моби Дика», следовал природе,
предоставляя читателю «вычитывать» в романе все, что
ему вздумается, и толковать символы, как ему придет
в голову.
Между тем количество значений любого символа в ро-
мане отнюдь не бесконечно. Создавая символы, Мелвилл
шел от эмблематического истолкования природы в духе
трансценденталистов. Мелвилл, как справедливо заметил
Меррэй, «драматически одухотворял природу. И делал
это по большей части в соответствии с научными пред-
ставлениями»6. Значения же символов определялись ти-
пом познающего сознания. Причем речь идет не о чи-
тательском сознании, но о сознании персонажей романа,
то есть о сознании, опять-таки созданном автором.
* * *
Система образов «Моби Дика» дает нам достаточно
отчетливое представление об основных типах познаю-
щего сознания, интересовавших Мелвилла. Подавляющее
большинство действующих лиц романа олицетворяет ин-
дифферентное сознание, которое только регистрирует
внешние впечатления и либо вовсе не осмысливает их,
либо принимает осмысление, выработанное чужим созна-
нием. Классическое воплощение этого типа —Фласк.
В известной мере к нему может быть отнесен и Ста б б-
с его заповедями «Не думай!» и «Спи, когда спится».
218
Иной тип сознания представлен в образе капитана
Ахава. Он исследован Мелвиллом наиболее подробно и
обстоятельно, ибо ему писатель придавал особенно важ-
ное значение.
Капитан Ахав, безусловно, самый значительный и фи-
лософски сложный образ романа, неизменно привлекает
внимание исследователей, которые надеются открыть в
нем то, что не удалось открыть их предшественникам.
Б нем видят твердокаменного реформатора, который «со-
вершенно слеп к двойственности нравственного мира»
(Ч. Кук), психически больного, мономаньяка; человека,
который «противопоставляет свою личную волю и созна-
ние судьбе» (Д. Парк), «воплощение того самого пад-
шего ангела или полубога, который в христианстве на-
зывался по-разному: Люцифером, Дьяволом, Врагом, Са-
таной» (Г. Меррэй). В последнее время могучий капитан
сделался жертвой поклонников психоанализа. Одержи-
мость одной страстью, «неполноценность», своеобразие
характера и темперамента Ахава послужили плацдармом
для теоретизирования в духе неофрейдизма. Характер-
ным представляется способ рассуждения Генри Меррея:
«...Ахав — капитан подавленных культурой влечений че-
ловеческой природы, то есть той части человеческой лич-
ности, которую психоаналитики определяют как «Ид».
И, коль скоро это так, то его противник Белый Кит не
может быть ничем иным, как внутренней системой, ответ-
ственной за это подавление, а именно фрейдовским Су-
пер-эго». И далее: «...поскольку Ахава мы согласились
считать Капитаном Ид, самая простая психологическая
формула для мелвилловского драматического эпоса бу-
дет такова: бунтующее Ид в смертельном конфликте
с подавляющим культурным Супер-эго. Старбек, первый
помощник, означает рациональное реалистическое Эго,
которое подавлено фанатической компульеивностыо Ид
и лишено своих нормальных регулирующих функций»7.
219
Между тем образ полубезумного капитана, гоняю-
щегося за Белым Китом по всем морям и океанам, обри-
сован Мелвиллом с достаточной полнотой и четкостью,
чтобы не оставлять места произвольным толкованиям.
Тип познающего сознания, воплощенный в Ахаве, рас-
крывается в конфликте между Ахавом и Белым Китом,
и нет основания смущаться многозначностью сим-
Еола, заключенного в белоснежном Левиафане, ибо эта
многозначность применительно к каждому воспринимаю-
щему сознанию отсутствует. Кит многозначен только для
читателя, которому сообщено отношение к нему со сто-
роны Старбека, Стабба, Фласка, Измаила, Ахава, Пипа
и т. д. И вполне естественно, что значения этого символа
нередко противоречат друг другу, как противоречат друг
другу представления названных персонажей. Поэтому
правы те исследователи, которые, подобно Куку, сове-
туют критикам «воздержаться от употребления специфи-
ческого абстрактного термина для обозначения тайны,
символизированной в Белом Ките». Мелвилл не остав-
ляет сомнений относительно того, как Ахав воспринимает
Белого Кита: «...Погруженный в угрюмое неистовство,
он постепенно стал видеть в Моби Дике не только при-
чину своих телесных недугов, но также источник всех
своих душевных мук. Белый Кит плыл у него перед гла-
зами, как бредовое воплощение всякого зла... Белый
Кит был для него той темной неуловимой силой, которая
существует от века... Ахав не поклонялся ей, но в безу-
мии своем, придав ей облик ненавистного ему Белого
Кита, он поднялся один, весь искалеченный, на борьбу
с нею... Все зло в представлении безумного Ахава стало
видимым и доступным для мести в облике Моби Дика»8.
Очевидно, речь должна идти не о том, каков символи-
ческий смысл Моби Дика вообще, но о том, какой смысл
вкладывает в него Ахав. Сам по себе Моби Дик для
Ахава неясен. В яростном монологе о картонных масках
220
(«Все видимые предметы — только картонные маски»),
который невольно наводит на размышления о кантиан-
стве, Мелвилл заставляет Ахава произнести очень суще-
ственные слова: «Как иначе может узник вырваться на
волю, если не прорвавшись сквозь стены своей темницы?
Белый Кит для меня — это стена, воздвигнутая прямо
передо мною. Иной раз мне думается, что по ту сторону
ничего нет. Но это неважно. С меня довольно его са-
мого. ..»9 Ахаву безразлично, что представляет собой
Моби Дик на самом деле. Ему важны лишь те черты, ко-
торыми он сам наделяет Белого Кита. Это он превращает
кита в воплощение Зла, в средоточие ненавистных ему
сил. Поэтому мы и назвали бы тип сознания, представ-
ленный в образе Ахава, субъективно-проецирующим. Он
проецирует свои представления, явления своего сознания
на предметы внешнего мира. Он превращает безликость
(facelessness) кита в «нестерпимую аллегорию». Трагич-
ность такого типа сознания, с точки зрения Мелвилла,
заключается в том, что для него единственным возмож-
ным средством уничтожения зла оказывается самоуни-
чтожение. И если уж искать этому объяснения в фило-
софии, то следует обращаться не к Фрейду, а скорее
к Канту.
Структура сознания Ахава выведена Мелвиллом по
кантианской формуле и одновременно направлена к ее
разрушению.
По Канту, понятие объективности знания само по себе
субъективно. Объективность знания о вещах определяет-
ся априорными идеями, «налагаемыми» на многообраз-
но-чувственное постижение мира. Высшее условие «объ-
ективности» знания — тождество сознания самому себе.
Критика кантианской формулы у Меллвила имеет два
аспекта: нравственный (замкнутое на самом себе созна-
ние оказывается обреченным на самоуничтожение) и
гносеологический («идеи», которые Ахав проецирует на
221
«явления», не априорны, но восходят к социальной дей-
ствительности. Тем самым закон причинности выводится
из сферы «чистого разума» в сферу объективной реаль-
ности).
Общее отношение Мелвилла к гносеологии Канта, как
оно проявлено в «Моби Дике», характеризуется значи-
тельной сложностью и не может быть сведено к простому
«приятию» или «неприятию». Мелвилла несомненно увле-
кала мысль Канта о неистребимой тенденции к абсолют-
ному знанию, заложенной в человеческом разуме. Однако
его отвращало то, что, «повышаясь от рассудка (Ver-
stand) к разуму (Vernunft), Кант понижает значение
мышления, отрицая за ним способность «достигнуть за-
вершенной истины» 10. В противовес Канту, Мелвилл ви-
дит в человеческом разуме, опирающемся на чувственный
опыт, единственное орудие познания, не связанное к тому
же априорными идеями. Разум, у Мелвилла, способен
познавать объективную истину. Отсюда и прямые выпады
против кантианцев («Если вы не признаете Кита (оли-
цетворение мощи человеческой мысли. — /О. /С.), вы
останетесь в вопросах истины сентиментальными провин-
циалами») п. Кантианцы, ограничивающие себя чувствен-
ным познанием эмпирических «явлений» в рамках апри-
орных идей, и есть «сентиментальные провинциалы», не
посягающие на познание сущностей. Они бессильно при-
знают «вещи в себе» и не признают «Кита». Вполне ло-
гичен поэтому и протест Мелвилла против кантовского
способа разрешения антиномий чистого разума, путем
ограничения знания в пользу веры. Недаром он не пожа-
лел симпатичного Старбека, которого сделал в некотором
смысле кантианцем и «сентиментальным провинциалом»
(«О, бездонная неизъяснимая прелесть, которую дарит
жениху взгляд возлюбленной невесты! Не говори мне
о твоих острозубых акулах и о твоем людоедском, ковар-
стве. Пусть вера вытеснит истину, пусть вымысел вытёс-
222
пит память; я гляжу в самую глубину, и я верую»12.
И если Кант «принижает знание, чтобы очистить место
вере» 13, то Мелвилл, напротив, отдает предпочтение зна-
нию перед верой, «кормящейся на могилах».
Ни в коем случае не следует отождествлять сознание
Ахава и сознание Мелвилла. Мелвилл перешагнул через
кантианство. Как метод познания, ему гораздо ближе
шеллингианское «интеллектуальное созерцание». Это не
мешало ему, впрочем, использовать элементы кантиан-
ства в целом ряде сцен и образов романа. В качестве
примера можно привести хотя бы историю с дублоном, в
котором каждому из членов команды видится что-то свое.
Таким образом, в процессе познания мира субъектив-
но-проецирующим сознанием объект познания играет
несущественную роль, а сознание познающего субъекта
вырастает до размеров вселенной. В замысле «Моби
Дика» это обстоятельство имеет выдающееся значение.
Но чтобы оценить всю важность.последствий, связанных
с деятельностью сознания Ахава, необходимо постоянно
помнить об «истине», добываемой сознанием объективно-
созерцательным. Этот тип познающего сознания ближе
Мелвиллу, чем все остальные. Его деятельность как раз
и представляет собой вариант шеллингианского «интел-
лектуального созерцания». Воплощением его в романе
является Измаил.
Путь Мелвилла к Измаилу был долгим и сложным.
Он лежал через трансформации героя-повествователя в
«Марди», который возникал на первых страницах романа
в качестве рядового матроса-китобоя, затем обнаружи-
вал внезапную склонность к философским размышле-
ниям, потом превращался в романтического влюбленного
в духе поэзии европейских романтиков. В середине ро-
мана он становился любознательным путешественником,
и лишь к концу в нем начинали доминировать качества
искателя универсальной истины. Сюда непосредственно
223
примыкал и опыт Мелвилла в «Белом бушлате». Но
только в «Моби Дике» Мелвилл наконец выработал иско-
мый характер, особый тип сознания, способный к неаф-
фектированному восприятию мира, избавленный от «ме-
шающих факторов» и вооруженный для глубокого про-
никновения в действительность. В замысле Мелвилла
особенно важно, что у Измаила нет никаких целей в
жизни, кроме познания. Именно в этом смысл и един-
ственное оправдание ореола байронического разочарова-
ния и «непривязанности» к жизни, которым окружен
образ Измаила.
Измаил — простой матрос. Но он образованный чело-
век, бывший учитель. Он бедняк, но идет в плавание не
только для заработка, но и потому, что «на земле не
осталось ничего, что могло бы занимать» его, потому что
это «проверенный способ развеять тоску и наладить кро-
вообращение». Плавание заменяет ему «пулю и писто-
лет». «Катон с философским жестом бросается грудью
на меч», он же «спокойно поднимается на борт корабля».
Измаила невозможно приравнять к другим характе-
рам книги, и не только потому, что ему доверена роль
повествователя. Мелвилл наделяет его способностью и,
более того, склонностью к созерцанию и абстрактному
мышлению. Очертания мира, возникающие на страницах
«Моби Дика», вычерчены сознанием Измаила. По образ-
ному замечанию Кейзина, «книга вырастает из одного-
единственного слова «я» и расширяется до тех пор, по-
куда странствия сознания этого самого «я» не начинают
охватывать множество вещей, которых большинство из
нас не видит и о которых не подозревает» и.
Мы обозначили деятельность познающего сознания,
воплощенного в Измаиле, как вариант шеллингианского
«интеллектуального созерцания». Может быть, это не со-
всем точно, поскольку, выстраивая этот тип сознания,
Мелвилл преодолевает некоторые сугубо идеалистиче-
224
ские стороны гносеологической теории Шеллинга. Вос-
приятие и осмысление мира у Измаила не содержит в
себе элемента самопознания абсолютного духа, и «созер-
цание» универсума не обесценивается (с точки зрения
постижения объективной истины) непреодолимым субъ-
ективизмом процесса, ведущего к субъективным же (по
Шеллингу) выводам. Развитие гносеологических прин-
ципов у Мелвилла перешагивает шеллингианские рубежи
и движется путями, близкими к Шопенгауэру. Мелвилл
сознательно элиминирует в характере Измаила все, что
может воспрепятствовать приобретению объективного
знания, окрасить это знание в субъективные тона. В из-
вестном смысле сознание Измаила напоминает шопен-
гауэровский «чистый субъект познания», «воля» которого
пребывает в состоянии «глубокого молчания».
В движении постигающей мысли Измаила воплощает-
ся особая творческая настроенность сознания Мелвилла..
Измаилу доверены все ключевые позиции в романе: угол
зрения, направление обобщений, манера и тон повество-
вания. Измаил протягивает читателю руку на первой же
странице романа: «Зовите меня Измаил». И на последней
странице этот новоанглийский Вергилий, проведший чи-
тателя через девять «повстречаний» и показавший ему
апокалиптическую картину гибели «Пекода», вновь воз-
никает со словами Иова на устах: «И спасся только я
один, чтобы возвестить тебе». Только он мог поведать
историю о Белом Ките, ибо только он осуществил свое
предназначение — приподнял завесу, скрывающую исти-
ну. Обаяние Измаила, придающее особую убедительность
его повести, заключается в том, что сознание его, хоть
и созерцательное, несет на себе печать тяжкого жизнен-
ного опыта и потому соединяет юношескую пламенность
и скептицизм зрелости.
Неутомимое сознание Измаила непрерывно работает.
Созерцая землю и небо, человека и природу, океаны и
1/г8 Ю. Ковалев
225
звезды, оно пытается разрешить великую загадку жизни,
отыскать высшую нравственную силу, управляющую все-
ленной. Но вселенная загадочна, молчалива, многознач-
на. Она ускользает от созерцателя и ревниво хранит свои
тайны. Сознание Измаила бесплодно мечется в ее про-
сторах, покуда не находит ее воплощенной в едином ди-
намическом символе Белого Кита. Трагическая встреча
с Моби Диком была необходима, ибо через нее решается
великая философская задача.
Моби Дик, олицетворяющий необъятный, загадочный
«космос», прекрасен и одновременно ужасен. Он прекра-
сен потому, что он белоснежен, наделен фантастической
силой, способностью к энергичному и неутомимому дви-
жению. Он ужасен по этим же причинам. Ужас белизны
кита отчасти связан с теми ассоциациями, которые по-
рождает этот цвет в человеческом сознании (смерть, са-
ван, призрак и т. д.), отчасти с тем, что белизна в раз-
личных связях может символизировать одновременно и
добро и зло, то есть по природе своей безразлична. Но
главное, что делает белизну в глазах Измаила столь
ужасной, это ее бесцветность. Соединяя в себе все цвета,
белизна уничтожает их. Она, «в сущности, не цвет, а ви-
димое отсутствие всякого цвета», и даже «сам по себе
свет в его великой сущности неизменно остается белым и
бесцветным» 15.
В главе «О белизне кита» Мелвилл заставляет
Измаила нанизывать одно за другим разнообразные
w взаимоисключающие друг друга представления о
символическом значении белизны и тем самым ведет
читателя к неизбежному заключению о великой бес-
смысленности этой «всецветной бесцветности». Белизна,
олицетворяя что-то в сознании человека, сама по себе
не является ничем: в ней нет ни добра, ни зла, ни
красоты, ни уродства — в ней лишь одно чудовищное
безразличие.
226
Ужас, порождаемый белизной в сознании Измаила,
совершенно идентичен по своей природе и по своему ка-
честву с ужасом, внушаемым силой и энергией Моби
Дика. Они бесцельны, бессмысленны и безразличны. Так
же безразличны, как и морда Белого Кита, на которой
не написано ровным счетом ничего. И если учесть, что
Мелвилл заставляет Измаила воспринимать Моби Дика
как символ вселенной, то картина мира, возникающая
отсюда, содержит в себе идею, по тем временам смелую
и жестокую. Во вселенной Измаила нет никакой высшей
разумной или нравственной силы: она неуправляема и
бесцельна; без бога и без провиденциальных законов.
Здесь нет ничего, кроме неопределенности, бессердечной
пустоты и безмерности. Вселенная безразлична к чело-
веку.
Такое изображение мира без смысла и без бога было,
с точки зрения пуританской ортодоксальности и даже
с точки зрения трансцендентализма, великим богохуль-
ством. Мелвилл знал это. Именно это он имел в виду,
когда писал Готорну: «Я написал безнравственную книгу
и чувствую себя непорочным, как ягненок» 16.
* * *
Таким образом, на поставленный перед собою вопрос:
есть ли в природе («вселенной») некая высшая сила, ко-
торая ответственна за деятельность человека и жизнь
человеческого общества? — Мелвилл ответил отрицатель-
но. Его природа не имеет нравственности. В его вселен-
ной, как она представлена в «Моби Дике», нет ни аб-
солютного духа, ни пуританского бога, ни трансценден-
талистского бога в человеке. Трагедия писателя, по
справедливому замечанию Готорна, заключалась в том,
что «он не мог верить, но и в неверии своем не находил
удовлетворения; он был достаточно честен и отважен,
* 227
чтобы испробовать и то и другое». Идя путями идеали-
стической философии, Мелвилл перешагнул стихийно
через ее границы. Это особенно очевидно в некоторых
аспектах этической проблематики романа, где наиболее
отчетливо звучат антитрансценденталистские идеи Мел-
вилла.
Здесь мы вновь вынуждены вернуться к образу Аха-
ва. Моби Дик, по замыслу Мелвилла, не является каким-
либо инструментом высших сил или их олицетворением.
Все Зло, которое видит в Белом Ките Ахав, — проекция
какой-то части его сознания. И, стало быть, если и можно
говорить о Зле, то лишь как об элементе сознания самого
Ахава. Методология мысли Ахава лежит где-то очень
близко к Канту и Фихте. Но Мелвилл не ограничивается
подобным превращением объективного мира в отражение
субъективного. Сознание Ахава формируется под воздей-
ствием внешнего мира, и понятия, рождающиеся в этом
сознании, есть отражение явлений внешнего мира. Жизнь
Америки с ее социальным неравенством, неправедным
распределением богатства, всеобщей зависимостью от
непонятных большинству современников законов, управ-
ляющих капиталистическим обществом, узаконенное раб-
ство негров и фактическое рабство всех тружеников, ис-
требление индейцев, политический авантюризм, захват-
нические войны, стремление к наживе, объявленное выс-
шей добродетелью, безграничное ханжество и лицемерие
людей, совершающих неблаговидные деяния под маской
благочестия, тупой фанатизм, человекоубийство и рас-
тление души, ставшие будничной нормой, — вот что, rib-
видимому, стоит за условным и несколько абстрактным
понятием Зла в сознании Ахава. Может быть, даже
шире — не только жизнь Америки, но жизнь человече-
ства., поскольку не было еще на земле счастливых госу-
дарств, народы которых были бы избавлены от угнетения
и несправедливости. Таким образом, мысль Мелвилла
228
имеет двойной ход: от действительности к сознанию и за-
тем от сознания к действительности. И, следовательно,
те образы и идеи, которые сознание Ахава проецирует на
Белого Кита, в конечном счете имеют своим источником
объективную реальность. Этот ход выводит Мелвилла из
области гносеологии в область этики, ибо возникает во-
прос о том, какие именно явления общественной жизни
и общественного сознания порождают «сферу» Зла в со-
знании Ахава.
Американские исследователи, посвятившие специаль-
ные работы изучению образа Ахава, высказывают по
этому поводу самые разноречивые суждения. Чарльз Кук
говорит о «зле мира» вообще; Джон Парк полагает, что
найти и объективировать зло в сознании Ахава невоз-
можно (во всяком случае, Ахав не в состоянии это сде-
лать); Генри Меррэй видит это зло в «пресвитерианской
совести Ахава» и в доминирующей американской идеоло-
гии середины века, которая представляла собой, по его
словам, «своеобразное соединение пуританизма и мате-
риализма, рационализма и меркантилизма, торгашества,
мелкого оптимизма и технологии»; Кейзин предпочитает
говорить о сковывающих пределах, которые пытаются
навязать человеческому сознанию ограниченные услов-
ностями люди (Старбек), меркантильные филистимляне
(Стабб) и попросту дураки (Фласк); Чейз сосредоточи-
вается на трансцендентальном солипсизме. Однако рас-
хождения в позициях этих исследователей имеют чисто
внешний характер. По существу, их точки зрения не про-
тиворечат друг другу.
Американские романтики почувствовали зло в соци-
альной жизни Соединенных Штатов относительно рано,
и каждый из них протестовал против него в своем твор-
честве в пределах своего разумения. Природу зла они
понимали ограниченно и не очень отчетливо. Да и самый
характер его в их представлении не имел определенных
8 Ю. Ковалев
229
очертаний. Каждый из них видел какие-то детали, но
целого не представлял себе никто. Предметом их ламен-
таций были: утрата просветительских идеалов, деграда-
ция демократии, растущий меркантилизм, обесценение
человеческой личности, политическая беспринципность
и т. д. Позднее они стали мыслить более обобщенно и
говорили уже об этической системе новоанглийского пу-
ританства, о рабовладении, о социальной несправедливо-
сти в целом. Но и тогда в их мысли не было должной
определенности.
Дух романтического протеста воплотился в самых
разнообразных картинах, образах и сюжетах американ-
ской литературы двадцатых — пятидесятых годов: в ир-
винговских кладоискателях, в трагической судьбе купе-
ровского Кожаного Чулка, в исследовании охваченного
ужасом человеческого сознания у Эдгара По, в героях
Готорна, чьи души подпадают под тираническую власть
пуританской совести, в печальной истории бедного дяди
Тома, в страстных антирабовладельческих инвективах
Уиттьера, в уолденской утопии и т. п.
Мелвилл принадлежал к последнему поколению аме-
риканских романтиков. Он создавал свой роман в тот
момент истории, когда, как ему представлялось, социаль-
ное зло активизировало и концентрировало свои силы.
Поэтому задачу свою он полагал не в том, чтобы кон-
кретизировать отдельные элементы или проявления этого
зла, но в том, чтобы соединить их воедино. Разбросан-
ные по всему роману, они сливаются в сознании Ахава,
вызывая в нем яростный протест. При этом понятие зла
неизбежно оказывается абстрактным, не имеющим чет-
ких очертаний. Чтобы Ахав мог выдержать такой груз,
Мелвилл сделал его титаном; чтобы он дерзнул взбунто-
ваться против всего зла, Мелвилл сделал его безумцем.
Впрочем, в безумии Ахава тоже имеется определен-
ный философский подтекст, связанный с одним из крае-
230
угольных положений трансцендентализма. Мелвилл, кое
в чем соглашавшийся с конкордскими мудрецами, не
принимал эмерсоновской идеи «доверия к себе». Сама
эта идея, возникшая на основе неприятия современных
путей буржуазного прогресса, дегуманизирующего чело-
века, развивалась тем не менее в рамках буржуазной
идеологии. Объективно она содействовала укреплению
буржуазного индивидуализма и эгоцентризма. Мелвилл
ощущал социальную опасность, скрытую в этой идее.
С его точки зрения преувеличенное «доверие к себе»
играло роль катализатора, который активизирует и мно-
гократно усиливает элементы общественного зла в чело-
веческом сознании.
В этом плане безумие Ахава есть не что иное, как
эмерсоновская нравственная идея, доведенная до уровня
солипсизма. Ахав — образ человека, идущего к своей
цели. Эта цель чужда всему населению государства, име-
нуемого «Пекод». Но Ахаву нет до этого дела. Для него
мир не существует отдельно от его самодовлеющего ego.
Его единственный закон — его собственное «я». Этот за-
кон означает гибель для всех, кто окружает Ахава. Но и
до этого ему нет дела. Во вселенной Ахава существует
только его задача и его воля.
Наиболее весомая и отчетливо выраженная часть
общественного зла, представленного в романе, естествен-
но, связана с особенностями социального развития Аме-
рики на рубеже сороковых и пятидесятых годов XIX ве-
ка, так же как художественная специфика «Моби Дика»
связана с особенностями национальной литературной
жизни этого времени. Однако общественное и художе-
ственное значение этого произведения значительно шире.
«Моби Дик» — своего рода энциклопедия американ-
ского романтизма. Здесь в обобщенной форме присут-
ствуют тысячи частных наблюдений и открытий, касаю-
щихся развития американской буржуазной демократии и
*
231
американского общественного сознания. Эти открытия и
наблюдения были сделаны писателями и поэтами — пред-
шественниками Мелвилла. Здесь в сконцентрированном
виде представлен соединенный протест американской
романтической мысли против буржуазно-капиталистиче-
ского прогресса в его национальных американских фор-
мах. Прав был Паррингтон, когда писал о Мелвилле:
«Если бы современники не сочли его безумцем, если бы
до них дошел разрушительный смысл его философии, ка-
кой вопль подняли бы они, требуя крови святотатца, по-
смевшего осквернить их священные кумиры. Ведь он
стремился сравнять с землей все барьеры, с помощью
которых они отгораживались от всего уродливого, что
создал их век. В своем презрении к современным ему
материальным идеалам он превзошел самого Торо. Пре-
небрежительно отвернуться от победоносных достижений
своих современников, облить презрением плоды промыш-
ленного переворота и романтическое евангелие прогрес-
са—ведь это было неслыханным кощунством! Но что
общего было у Мелвилла с буржуазной Америкой?»17
Мелвилл подвел итог многолетним усилиям романти-
ческой мысли и пришел к важному заключению о том,
что антигуманные силы, направляющие общественное
развитие Америки, действуют не извне, а изнутри. Они
коренятся в с«мой природе буржуазного общества, в его
сознании, в его нравственных принципах. Отсюда перед
американской литературой возникала новая задача: ис-
следование общественных нравов, их исторической при-
роды, современного состояния и перспектив развития.
ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН
(«ИЗРАИЛЬ ПОТТЕР»)
«Израиль Поттер: пятьдесят
лет его изгнания» (1854) — первый и единственный
исторический роман Мелвилла. Замысел этого произве-
дения, написанного в форме «повествования нищего бед-
няка о революции», возник у Мелвилла еще в середине
сороковых годов, когда он случайно натолкнулся на не-
большую, дурно изданную книжку «Жизнь и удивитель-
ные приключения Израиля Поттера», вышедшую в Про-
виденье в 1824 году. Однако замысел этот оставался
неосуществленным целое десятилетие.
О том, что Мелвилл не оставил его, мы можем судить
по книгам, которые он разыскивал и читал в это десяти-
летие, но вплотную за работу над «Израилем Поттером»
он взялся только по окончании «Писца Бартлби» (1853).
Роман писался по необходимости быстро. Мелвилл
233
печатал его частями в «Журнале Патнэма». В 1855 году
«Израиль Поттер» вышел отдельной книгой, три тиража
которой в общей сложности составили две с половиной
тысячи экземпляров.
«Израиль Поттер» прочно связан с традициями жан-
ра исторического романа в американской литературе.
В тексте этого произведения легко обнаруживаются сле-
ды воздействия сочинений Купера, Симмза, Готорна и др.
Но роман этот не был ни подражанием, ни повторением
старых принципов исторического повествования. Значи-
тельность его определяется новой направленностью, но-
вым использованием и истолкованием материала исто-
рии. «Израиля Поттера» можно рассматривать как веху
в эволюции американского исторического романа — жан-
ра, сыгравшего исключительно важную роль в формиро-
вании национальной литературы Соединенных Штатов.
* * *
Американский исторический роман стоит у истоков
национальной художественной прозы. Это закономерно,
поскольку исторический роман более всего отвечал ду-
ховным запросам времени. Почти все историки отмечают
резкий подъем национального самосознания, характер-
ный для американской общественной жизни конца деся-
тых— начала двадцатых годов XIX века, и говорят об
интенсивности «националистического духа». В этих об-
стоятельствах потребность в национальной историогра-
фии, в национальном искусстве и литературе ощущалась
с особенной остротой. В них видели средство духовного
самоутверждения нации.
Сдвоенный интерес к национальной истории и нацио-
нальной литературе породил исключительно благоприят-
ные условия для развития исторического романа, и Фе-
нимор Купер был, пожалуй, первым американским ли-
234
тератором, который по достоинству оценил эти условия
и попытался удовлетворить запросы американских чита-
телей.
В историю литературы Купер вошел как автор того
своеобразного жанра, который обозначается специаль-
ным термином romance. Между тем в собственных гла-
зах и в глазах современников Купер был прежде всего
автором исторических романов. В специальном исследо-
вании, посвященном американскому историческому ро-
ману, Эрнест Лейси справедливо замечает, что «до сих
пор многие еще не понимают, насколько серьезно Купер
считал себя историческим романистом и насколько бла-
гоприятны были времена для писателя, посвятившего
себя изображению жизни нации» К
Все раннее творчество Купера проникнуто интересом
к истории Америки; его романы о Кожаном Чулке в чем-
то сближались с историческим романом. Вспомним за-
мечание Шатобриана о том, что «Новый свет, все древно-
сти которого заключаются в его лесах, его дикарях и его
свободе, нашел в Купере художника этих древностей»2.
Первый исторический роман Купера «Шпион» был
весьма далек от художественного совершенства. Однако
популярность его у современников была огромна, и зна-
чение его для истории американской литературы трудно
переоценить. Купер показал принципиальную возмож-
ность написать исторический роман на материале исто-
рии Соединенных Штатов. Для самоутверждения нацио-
нального сознания это было открытием огромной важно-
сти. Лейси прав, когда говорит, что «„Шпион"... был
экспериментом во всех отношениях. В случае успеха за
ним должны были последовать другие романы подоб-
ного типа. В случае провала американскому роману при-
шлось бы долго еще ждать.. .»3 Эксперимент оказался
удачным. Война за независимость явились неисчерпае-
мым источником материалов для национального исторц-
235
ческого романа. Сам Купер еще дважды обращался
к этому источнику («Лоцман» и «Лайонел Линкольн»),
а вслед за ним Джон Нил («Seventy Six», 1823), Гилмор
Симмз («The Partisan», 1835; «Katherine Warton», 1851;
«The Sword and the Distaff», 1853), Джон Кеннеди
(«Horseshoe Robinson», 1835), Катарина Седжуик («The
Linwoods», 1835) и многие другие.
Зарождение и развитие американского исторического
романа осуществлялось в особых условиях. Одним из
этих условий было отсутствие национальных жанровых
традиций. Это как будто бы облегчало задачу историче-
ских романистов, давало им, так сказать, полную свободу,
но и привносило в их творчество сложности особого по-
рядка.
Другим условием была огромная популярность в Аме-
рике исторических романов Вальтера Скотта. Вероятно,
нет страны (исключая, разумеется, Англию), где Валь-
тер Скотт пользовался бы такой известностью и был бы
так читаем, как в Америке. Даже Франция, которая
была, по выражению Л. де Карне, одержима «всеобщей
скоттоманией», уступала в этом смысле Соединенным
Штатам. Американцы познакомились с творчеством Скот-
та значительно раньше, чем читатели любой другой стра-
ны, ибо им не нужно было ждать переводов. Историче-
ский роман Скотта увлек и потряс американцев. Для
американской литературы творчество Скотта было от-
кровением. Здесь было все, чего жаждала душа амери-
канца: национальная история, национальная старина, на-
циональный характер, патриотизм. Естественно, что пер-
вые американские исторические романы писались «в
духе Вальтера Скотта».
Позаимствовав у Скотта тип романа с присущим ему
своеобразным сочетанием истории и вымысла, особыми
функциями исторических и вымышленных персонажей,
специфическим построением сюжета и т. д., американцы
236
вместе с тем оказались бессильны освоить этот тип ро-
мана полностью.
Исторический роман Скотта был в высшей степени на-
ционален. И не только потому, что автор повествовал
о событиях национальной истории, но прежде всего по-
тому, что он раскрывал особенности национального ха-
рактера и рисовал широкую картину истории нравов, по-
нимаемой как история культуры и общественного созна-
ния. Двигателями исторического процесса у Скотта были
национальные традиции, психология, потребности и
стремления народа.
Американский исторический роман владел материа-
лом политической истории. Он проникся высоким па-
триотическим накалом, свойственным эпохе. В этом и
только в этом смысле он был национален. В сфере изо-
бражения национальных нравов американские авторы
были далеко позади Скотта. Что же касается националь-
ной психологии и национального характера, то их в аме-
риканском историческом романе на первых порах почти
не было вовсе. Единственное исключение составляют,
пожалуй, только первые три романа Купера из серии
«Кожаного Чулка» («Пионеры», «Последний из могикан»
и «Прерия»), написанные в двадцатые годы. Однако
своеобразие этих произведений препятствует их включе-
нию в традицию американского исторического романа.
Само понятие исторического романа в ту эпоху предпо-
лагало перенесение действия в более или менее отдален-
ное прошлое, изображение исторических событий, введе-
ние исторических лиц в число персонажей повествования.
Ни в одном из названных трех романов нет исторических
лиц, ни один из них не повествует о действительных исто-
рических событиях. (Только действие «Последнего из
могикан» привязано к историческому ориентиру — англо-
французскому конфликту пятидесятых годов XVIII века,
по и здесь Купер уклоняется от изображения действи-
237
тельных исторических событий.) Что же касается истори-
ческой удаленности действия, то в «Пионерах» оно отне-
сено всего лишь на тридцать, а в «Прерии» — на двадцать
лет назад. Главный интерес этих романов не в истории,
а в изображении некоторых общественных процессов, ко-
торые шли полным ходом в современной Куперу Амери-
ке, в описании некоторых черт национальной жизни, пред-
ставлявшихся писателю трагической ошибкой целого
народа.
* * *
Формирование американской нации было процессом
сложным. Достаточно самого беглого обращения к исто-
рии США, чтобы понять это. В колонизации Америки,
начавшейся в XVII веке, приняли участие англичане,
ирландцы, шотландцы, французы, голландцы, испанцы,
немцы и т. д. На долгое время они сохранили свои на-
циональные обычаи и, главное, язык. Языковой барьер
был серьезным препятствием на пути образования на-
ционального единства, и этот барьер не был еще пол-
ностью преодолен даже к началу XIX столетия, хотя
английский язык выдвинулся как господствующий уже
к началу XVIII века. Таким образом, население Америки
изначально представляло собой разноязычный конгломе-
рат с различными традициями, обычаями, привычками.
Естественной тенденцией дальнейшего развития была
тенденция к сближению, к формированию некоего нацио-
нального единства.
Но центростремительным силам в американской исто-
рии противостояли силы центробежные. С самого начала
в Америке сложились три группы колоний: Южная (Ме-
риленд, Виргиния, две Каролины и Джорджия), северная
(Ныо-Хэмпшир, Массачусетс, Род-Айленд и Коннекти-
кут) и центральная (Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-
Джерси, Делавэр). Это деление не было условным. Оно
238
опиралось на своеобразие экономики, на характерные
идейные течения, на определенные политические интересы
и на весь жизненный уклад той или другой группы коло-
ний. В годы общеамериканских политических кризисов,
таких, как война за независимость или англо-американ-
ская война 1812—1814 годов, расхождение интересов от-
ступало на задний план. Но оно не исчезало. Война за
независимость, вопреки надеждам американцев, не раз-
решила всех противоречий и не принесла им счастливой
и спокойной общественно-политической жизни. Не было
такого уголка в Америке, где в той или иной форме не
проявляло бы себя скрытое неблагополучие. Поступа-
тельное развитие истории не только не рассеивало со-
циальных конфликтов, но, напротив, умножало их. В про-
мышленных штатах разворачивалась классовая борьба
рабочих против предпринимателей, на Юге рабы восста-
вали против рабовладельцев, в сельскохозяйственных
областях фермеры и батраки поднимались против круп-
ных землевладельцев, отказывались платить ренту и тре-
бовали права свободного заселения земель. Экономиче-
ский прогресс лишь обострял классовую борьбу, в которой
сталкивались интересы не только угнетателей и угне-
тенных, но также интересы различных эксплуататорских
классов и группировок. Некоторые из них только всту-
пали еще на арену общественной жизни и дрались со всей
энергией молодости за свое право на прибыль, другие
же покидали ристалище, уступая каждую пядь в жесто-
ких боях. Вся история Соединенных Штатов первой по-
ловины XIX века — это история жестокой классовой
борьбы, в которой сталкивались противоположные эко-
номические и политические интересы. Всякая попытка
регламентировать экономическую жизнь штатов обще-
государственным законом приводила страну на грань
гражданской войны. Достаточно вспомнить острые поли-
тические кризисы, связанные с введением покровитель-
239
ственных тарифов. Центробежные силы обрели ярко выра-
женную форму партикуляристских тенденций. На протя-
жении десятилетий «страна гудела от споров по консти-
туционным вопросам: каков истинный характер консти-
туции и союза, основанного на ней? Являются ли штаты
суверенными государствами? Кто должен определить
границы полномочий правительства штата и федераль-
ного правительства? Какими средствами располагает
штат для борьбы против антиконституционных действий
общенационального правительства? Кто определяет кон-
ституционность того или иного акта?»4
В конце концов, как известно, острота внутренних про-
тиворечий достигла такого накала, что вооруженный кон-
фликт стал неизбежен, и разразилась гражданская война.
Характер общественного развития Соединенных Шта-
тов способствовал устойчивости локальных нравов, обы-
чаев, вкусов, идеологических систем. Последствия этого
для американской духовной жизни были весьма значи-
тельны. Следы «локальности» обнаруживаются в твор-
честве почти всех выдающихся писателей первой полови-
ны XIX века: Ирвинг, Полдинг, в значительной мере
Купер были ньюйоркцами; По, Кеннеди, Симмз — южа-
нами; Эмерсон, Готорн, Уиттьер — типичными представи-
телями Новой Англии.
Неудивительно, что проблема национальных обы-
чаев, национальной психологии, национального характе-
ра оказалась одной из самых сложных и трудно разреши-
мых проблем в американском романтизме.
* * *
Вернемся, однако, к историческому роману. Купер,
Кеннеди, Нил и другие авторы исторических романов
предпринимали попытки создать роман «из истории нра-
вов». Попытки эти по большей части оказывались неудач-
240
ными. Понятие национальных нравов было не вполне
ясным.
В самом деле, какие нравы следовало считать нацио-
нальными: аристократические нравы плантаторов Вирги-
нии, общественный уклад землевладельцев Нью-Йорка,
обычаи скваттеров, суровую простоту квакерских общин
или фанатическую нетерпимость пуританских поселений
Новой Англии, окрашенную буржуазным здравомыс-
лием?
Сами американцы отчетливо ощущали это. Еще в
1822 году в рецензии на куперовского «Шпиона», опубли-
кованной в «Североамериканском обозрении», говорилось:
«Возможно ли большее разнообразие характеров, нежели
мы находим в Соединенных Штатах? Любой наш чита-
тель, выезжавший за пределы Новой Англии, знает это.
Всякий, кто пересекал Потомак или Гудзон, тотчас чув-
ствовал себя в окружении людей иного типа. Что общего
в характере надменного и тщеславного виргинца... пред-
приимчивого купца из восточных штатов или ловкого ко-
робейника и матроса из Охайо?»5
Наиболее значительным в этом плане был опыт, про-
деланный Купером в «Пионерах» и в «Прерии». В «Пио-
нерах» писатель попытался нарисовать картину жизни
маленького поселения, расположенного на линии фрон-
тира. Этому поселению всего семь лет от роду, а многие
из его обитателей живут в нем и того менее. Все они
пришельцы, явившиеся из разных мест. Недаром среди
основных характеров повествования мы встречаем фран-
цуза (Лекуа), немца (Гартман), голландца (ван дер
Скуль), индейца (Джон Могикан). Жизнь Темплтауна
вся в движении. Приезжают переселенцы, строятся дома,
расчищаются участки, назначается шериф и т. д. Здесь
есть картина жизни, но пока еще нет картины нравов.
Главный конфликт романа основан на столкновении
двух законов: старого естественного закона, который
241
управлял жизнью индейцев и охотников, и нового закона
цивилизации, который пришел вместе с Мармадыоком
Темплом и пионерами. В этом столкновении закон циви-
лизации обнаруживает свое несовершенство, временами
даже антигуманность и жестокость. Но жестокость его
ощущается лишь теми, кто подчинил свою жизнь иному,
естественному закону. Для остальных же он необходим
и благотворен. Если с законом цивилизации и связано
в романе какое-то зло, то оно не в самом законе, а в зло-
употреблении им или в нарушении его.
Размышления о нравственном облике новой Америки
в этом романе еще робки. Их отзвуки слышны в ламен-
тациях старого Натти по поводу хищнического истребле-
ния рыбы и дичи и расчистки лесов под посевы, в сожа-
лении об ушедших в прошлое днях, когда жизнь человека
подчинялась естественному закону.
Но уже в «Прерии» тема хищничества зазвучала го-
раздо более сильно и остро. То, что в «Пионерах» выгля-
дело как нарушение нравственного принципа, в «Прерии»
сделалось его сутью. Купер вывел на страницы романа
целый клан скваттеров Бушей — людей сильных, энергич-
ных, которые не признают ни естественного закона, ни
закона цивилизации. Показательно, что Купер застав-
ляет Бушей исповедовать самые что ни на есть демократи-
ческие идеи о всеобщем равенстве и правах человека.
Однако в их интерпретации всеобщее равенство сводится
к формуле «земля принадлежит всем», а права челове-
ка— к неограниченному праву на обогащение. И един-
ственный истинный закон, которому они готовы под-
чиниться,— это закон силы. Купер интуитивно нащу-
пывал путь, которым позднее пошли многие его после-
дователи,— путь поисков общественного зла внутри со-
циальных и нравственных принципов буржуазной демо-
кратии. Однако поиски его пока что шли вне связи с
историей.
242
«Пионеры» появились в 1823 году, «Последний из Мо-
гикан» и «Прерия» соответственно в 1826 и 1827 годах.
Между ними лежат «чисто исторические» романы «Лоц-
ман» и «Лайонел Линкольн», в которых автор никак не
затрагивает упомянутые выше проблемы. Видимо, Купер,
как и многие его современники, видел задачу историче-
ского романа в том, чтобы дать художественное выраже-
ние национально-патриотическим чувствам американцев,
удовлетворить их интерес к героической стороне истории
своей родины.
Но времена менялись в эту эпоху с удивительной бы-
стротой. Действительность ставила перед литературой но-
вые задачи, и то, что годилось в двадцатые годы, оказы-
валось совершенно неприемлемым в сороковые и пятиде-
сятые. Тот тип американского исторического романа,
классическим образцом которого был «Лайонел Лин-
кольн», быстро сошел со сцены. Недаром Купер, замыс-
ливший это произведение как первую часть тринадцати-
томной серии, отказался от написания остальных двена-
дцати томов. Разумеется, существовала какая-то инерция,
и романы подобного типа время от времени появлялись
на книжном рынке. Но они, так сказать, уже не делали
погоды в литературе.
Наивный оптимизм двадцатых годов оказался недол-
говечным. Он окончился с воцарением на президентском
«престоле» «короля» демократов Эндрю Джексона. Сто-
ронние наблюдатели отмечали разительные перемены,
совершавшиеся в жизни Соединенных Штатов буквально
на глазах. Эти перемены зафиксированы в публицистике
современников и в трудах историков. А. М. Саймоне, на-
пример, следующим образом характеризует важнейшие
сдвиги в экономике страны в двадцатые и тридцатые
годы: «За те двадцать пять лет, что прошли после войны
1812 года, США, поскольку это касается побережья Ат-
лантического океана, вступили в социальную фазу, харак-
243
териой особенностью которой является фабрично-завод-
ская система. Челнок и веретена, работавшие на фермах,
перекочевали в огромные мастерские, железоделатель-
ная и сталелитейная промышленность приобрели огром-
ное значение, кожевенная, судостроительная, текстиль-
ная— вступили в полосу расцвета»6, то есть началось
интенсивное перерождение торгового капитала в про-
мышленный, что влекло за собой изменение классовой
структуры общества. Как говорит тот же Саймоне, «пер-
венствующая роль в Новой Англии перешла к промыш-
ленному классу»7. Новая Англия стала гегемоном эко-
номического развития страны.
Перемены коснулись не только экономики и общест-
венной структуры. Наиболее ярко они проявились в по-
литической жизни Америки. На внутриполитической аре-
не разворачивались титанические бои. Рождались и гибли
политические партии (демократы и виги), создавались и
распадались блоки и союзы, отдельные штаты пытались
выйти из федерации, и президент планировал каратель-
ные экспедиции. Между фермерами и плантаторами шла
жестокая борьба за освоение новых земель. С быстротой
пожара по Америке распространялись аболиционистские
общества. В 1837 году разразился экономический кризис.
В 1846 году началась захватническая война против
Мексики. И все это за каких-нибудь два десятка лет.
Не менее интенсивны были перемены в нравственной
атмосфере Америки. Обман, демагогия, фальсификация
общественного мнения, невиданная доселе по своим
масштабам коррупция откровенно и цинично сопутство-
вали политической борьбе.
Но, пожалуй, самой разительной переменой в амери-
канских нравах было сбрасывание покровов стыдливости
с некоторых, отнюдь не новых этических принципов. Уже
в конце двадцатых годов культ доллара стал одной из
самых характерных черт американской общественной
244
действительности. Страсть к приобретению богатства лю-
бой ценой как основной принцип человеческой деятель-
ности существовала и прежде. Но это была тайная
страсть. Теперь она стала рассматриваться как своего
рода добродетель. Характерное для Новой Англии соеди-
нение строгой пуританской добродетели с циничным
стремлением к обогащению способно было поразить са-
мое неразвитое воображение.
В 1826 году Купер уехал в Европу, убежденный в том,
что Соединенные Штаты — единственное на земле госу-
дарство, жизнь которого основана на принципах свобо-
ды, справедливости и нравственности. В 1828 году он
написал предназначенную для европейских читателей па-
негирическую книжку, исполненную восхищения перед ра-
зумностью, гуманностью и демократичностью американ-
ских общественных установлений. В 1833 году он вер-
нулся в Америку и пришел в ужас. «Все здесь говорят
о деньгах или, вернее, об их отсутствии, — писал он сво-
ему тестю. — Но чего же еще ждать здесь, где главным
стремлением каждого является делание денег»8. Его по-
разила открытая фетишизация собственности. Деньги не
лежали. С их помощью делались новые деньги, покупа-
лась власть для защиты денег. Деньги стали заменять
людям личные достоинства. Купер отметил проникнове-
ние долларовых интересов во все сферы общественной и
частной жизни. В письме к сенатору Брауну он писал:
«Современная политическая борьба в нашей стране есть
не что иное, как борьба между людьми и долларами»9.
Первым произведением Купера, написанным по возвра-
щении из Европы, был сатирический роман «Моникины»,
центральный эпизод которого повествует о «великом мо-
ральном затмении», охватившем Америку.
Будущее Америки, представлявшееся столь кристаль-
но ясным в конце десятых годов, стало рисоваться в угро-
жающе неопределенном свете. «Что мы за народ? Кто
245
мы такие?» — с горечью и недоумением спрашивали себя
многие американские писатели середины века. Истори-
ческий роман, в том виде, в каком он существовал
в Соединенных Штатах, не мог дать ответа на эти во-
просы. События героического прошлого Америки быстро
утрачивали свой интерес и привлекательность. Действи-
тельность, сложная, противоречивая, не оправдавшая
блистательных надежд начала века, все дальше и даль-
ше уклоняющаяся от провозглашенных революцией идеа-
лов, властно требовала внимания. Дух критицизма, про-
теста, неудовлетворенности, слабо ощутимый в литера-
туре первых десятилетий, приобретал доминирующий
характер. Областью преимущественного интереса амери-
канских писателей становились нравы.
Новеллы Готорна, прошедшие почти не замеченными
в конце двадцатых — начале тридцатых годов, привлекли
к себе всеобщее внимание, будучи переизданными в
1837 году. В 1838 году Купер опубликовал роман о нра-
вах, совершенно непохожий на все, написанное им до сих
пор («Дома», 1838). Нравам современников, хотя и
в специфическом аспекте, был посвящен роман Хилдрета
«Белый раб» (1836). То же самое может быть сказано
о знаменитом сборнике стихов Уиттьера «Голоса свобо-
ды» (1846) или о «Хижине дяди Тома». Американские
нравы присутствовали в качестве негативной части в ро-
мантических утопиях. В своеобразном преломлении они
отражались в некоторых произведениях Эдгара По. Чем
дальше, тем интенсивнее становится интерес к этой сфе-
ре общественной действительности. И теперь уже мало
было ответить на вопрос «Какие мы?» Нужно было по-
казать причины, истоки, корни современных нравов. Исто-
рия повернулась к американцам другой своей стороной,
не героической, не парадной, а будничной и прозаиче-
ской. Будни прошлого неожиданно оказались важней
титанических потрясений. Пришло время Готорна.
246
Как мы видели, проблема нравов уже возникала в аме-
риканской литературе и литературной критике в первые
два десятилетия XIX века, однако постановка ее имела
смысл, в некотором роде противоположный тому, кото-
рый она приобрела в сороковые годы. То было время
страстного интереса к политической истории Соединен-
ных Штатов, в атмосфере которого зарождался историче-
ский роман. Современность подлежала изучению с целью
постичь закономерности истории. Американская литера-
турная критика тех лет «ощущала, что задача изображе-
ния проблем современности связана прежде всего с тре-
бованием нарисовать, проанализировать картину нравов
общества, ибо они уже, в свою очередь, помогут многое
раскрыть в исторических процессах...»10 Теперь задача
изменилась: нужно было через историю нравов понять и
объяснить современность.
С именем Готорна связано рождение нового типа исто-
рического повествования, хотя, возможно, многие эле-
менты его существовали и прежде. Факты политической
истории занимали здесь весьма незначительное место.
Их могло не быть вовсе. В предисловии к «Алой букве»
Готорн писал; «Не следует думать, что, излагая эту исто-
рию и стараясь объяснить поступки и чувства действую-
щих лиц, я ограничивался лишь тем, что содержалось
в немногих листках, написанных моим предшественни-
ком. Напротив, я позволил себе тут полную свободу,
словно все факты были мною вымышлены. Я настаиваю
лишь на достоверности общих контуров» и.
В свое время Купер (в предисловии к «Лоцману»)
тоже разграничил задачи историка и романиста, но сде-
лал это совершенно не так, как Готорн. Он защищал
право автора исторического романа на воображение, од-
нако при этом оговаривал, что, прибегая к воображению,
писатель не должен произвольно обращаться с фактами.
Он соглашался не более чем на логический домысел.
247
В сущности говоря, вопрос о праве исторического ро-
маниста на вымысел, на анахронизм, на историческую
неточность существует столько же, сколько существует
исторический роман. Проблема приобрела значительный
резонанс в эпоху Вальтера Скотта, который не только
отстаивал право писателя на погрешности против фактов
истории, но и утверждал принципиальную важность та-
кого рода погрешностей, поскольку они, как справедливо
замечает Б. Г. Реизов, «с меньшей точностью воспроиз-
водят детали и с большей точностью — существо эпохи.
Художественная правда не противопоставлена правде
исторической, а является ее более полным развитием и
более ярким выражением» 12.
В американском историческом романе с его повышен-
ным интересом к политической истории этот вопрос
трактовался несколько строже, хотя и в духе позиции
Скотта. Купер, например, считал, что романист «должен
опираться на то, что не всегда и не обязательно является
историческим событием, фактом в строгом, научном
смысле этого слова, но что обязательно соответствует
ему». Позиция Готорна генетически связана с трактовкой
означенной проблемы в американском историческом ро-
мане в пору его возникновения. Но, разумеется, Готорн
далеко ушел от Купера. Полная свобода в обращении
с фактами, о которой говорит Готорн, была, с его точки
зрения, закономерна и допустима, потому что факты
в его повествовании играли всегда подчиненную роль.
Они нужны постольку, поскольку помогают раскрыть
или объяснить мотивы человеческих поступков, показать
определенный тип сознания, выявить нравственную
норму.
Степень достоверности изображения новоанглийских
нравов в произведениях Готорна до сих пор служит пред-
метом споров. Существует предположение, что картина
нравственной жизни общества в «Алой букве» и многих
248
рассказах представляет собой результат попытки обра-
тить современную нравственную проблематику в про-
шлое. Вероятно, это предположение, если учесть общий
острый интерес к современным нравам, в известной мере
справедливо. Но как бы то ни было, у нас есть основания
говорить о принципиально новом характере интереса
к историческому прошлому. Не блистательные победы
американского оружия, не патриотические подвиги со-
отечественников привлекали теперь внимание писателей.
В суровой и сумрачной жизни колонистов они пытались
разглядеть первые ручейки темных страстей, затопивших
страну. В этом же направлении, кстати, развивались и
творческие интересы Купера, о чем свидетельствует его
трилогия в защиту земельной ренты («Краснокожие»,
«Землемер» и «Чертов палец»), написанная в 1845 —
1846 годах.
Поиски американских писателей не были абстрактной
деятельностью холодного ума. Уже в начале пятидеся-
тых годов большинство американцев чувствовало, что
страна находится на грани событий огромной важности.
Многочисленные классовые столкновения, аболиционист-
ское движение, фрисойлерство, мексиканская война, еще
более обострившая борьбу между Севером и Югом, бро-
жение, вызванное законом о беглых неграх, бесконечные
законодательные компромиссы — все это наглядно пока-
зывало, что общественно-политическая жизнь Америки
протекала вне границ «разума, здравого смысла и хри-
стианской нравственности» (Мелвилл).
Середина XIX столетия была неспокойным временем.
В Европе, не столь уж далекой даже по тем временам,
полыхали отблески революционных пожаров, совсем ря-
дом— на Кубе — бунтовали рабы. В самой Америке ат-
мосфера с каждым днем накалялась все больше и боль-
ше. Близился кризис. Это было очевидно для всех. Вопрос
о нравственных принципах сливался с вопросом о том,
9 Ю. Ковалев
249
как поведут себя американцы в трагический момент на-
ционального раскола.
В этих сложных обстоятельствах и появился истори-
ческий роман Мелвилла «Израиль Поттер». Этими же
обстоятельствами объясняется, вероятно, и его своеобра-
зие.
* * *
«Израиль Поттер» возвращает нас к ранним образ-
цам американского исторического романа. Мелвилл слов-
но задался целью возродить старый тип исторического
повествования, отдельные элементы которого не совсем
еще исчезли из литературного обихода даже в пятиде-
сятые годы. Сюжет романа, построенный на материале
войны за независимость, имеет ярко выраженный при-
ключенческий характер. Герой волею судьбы и случая
попадает то в один из враждующих лагерей, то в другой.
Время от времени на страницах романа появляются исто-
рические персонажи: Хорн Тук, Франклин, король Ге-
орг III, Джон Поль Джонс, Итен Аллен. Да и сам ге-
рой— лицо историческое. Повествование основательно
документировано: весь роман основан на автобиографи-
ческой повести Израиля Поттера, хотя в отдельных слу-
чаях Мелвилл, подобно Готорну, допускает весьма сво-
бодное обращение с фактами. Если сопоставлять «Израи-
ля Поттера» с романами о войне за независимость,
написанными в двадцатые и тридцатые годы, то можно
обнаружить множество совпадений как в сюжете, так и
в некоторых исторических представлениях и оценках.
И все же «Израиль Поттер» резко отличается от исто-
рических романов раннего периода. Отличие это опреде-
ляется особенностями мировоззрения Мелвилла и той об-
щей задачей, которую ставил перед собой автор. Мелвилл
в историческом повествовании пытался выяснить смысл
и характер целого ряда явлений современности, выявить
250
природу и историческую тенденцию некоторых актуаль-
нейших общественно-политических и нравственных про-
блем середины XIX столетия. Между тем для ранней
американской исторической прозы подобные поиски не
были характерны. Писатели двадцатых годов наивно ве-
рили, что им понятен дух времени, что в историческом
развитии Соединенных Штатов нет ничего сложного или
загадочного. Вероятно, не все в жизни Америки было для
них приемлемо, но все было (или казалось, что было)
просто и ясно. В раннем американском романтизме со-
знание неблагополучия общественной жизни еще не име-
ло трагического оттенка, хотя элегический тон присут-
ствует уже в куперовских «Пионерах». Отрицательные
стороны капиталистического прогресса были в значитель-
ной мере заслонены блистательными успехами и перспек-
тивами. Как уже говорилось выше, основная задача исто-
рического романа сводилась, в сущности, к тому, чтобы
дать выражение энтузиазму молодой, энергичной, бы-
стро прогрессирующей нации, которая жаждала призна-
ния и стремилась занять подобающее ей место среди дру-
гих наций мира.
Атмосфера пятидесятых годов, насыщенная тревогой,
сомнениями, страхом перед близящимся кризисом и пе-
ред грозными силами народного недовольства, исключала
возможность простого подражания историческому рома-
ну двадцатых годов. По справедливому замечанию
А. А. Елистратовой, «замысел «Израиля Поттера» может
быть по-настоящему понят только в том случае, если мы
вспомним, что роман этот создавался в преддверии новой
междоусобной войны — гражданской войны Севера и
Юга. Первые ее зарницы уже окрашивали небосклон Со-
единенных Штатов» 13.
Сохраняя многие элементы жанра, Мелпилл в то же
время разрушает привычные нормы и пропорции повест-
вования. Он отказывается от обязательной, в свете эсте-
*
251
тических представлений того времени, «равномерности»
повествования. Он то мчится на перекладных, то дви-
жется черепашьим шагом. Первые двадцать два года
жизни героя, включая описание его фермерских занятий,
охоты, трапперства, торговли с индейцами, плавания на
китобойных судах, а также романтическую историю его
неудачной любви, Мелвилл излагает на семи страницах.
Последние сорок пять лет жизни Израиля умещаются на
девяти страницах. Сражения при Лексингтоне, Конкорде
и Бэнкерхилле, служба на сторожевом корабле, плен,
переезд в Англию, жизнь в плавучей тюрьме, побег — все
это занимает четырнадцать страниц. Между тем отдель-
ные эпизоды жизни героя, казалось бы, малозначитель-
ные, а то и вовсе несущественные для исторического по-
вествования, описаны с удивительной тщательностью и
детальностью.
Мелвилл обстоятельно знакомит читателя с сельским
пейзажем Массачусетса и городским пейзажем Лондона.
Он подробно повествует о перипетиях морского сражения.
Он может «позабыть» о великих открытиях Франклина,
но детально опишет его халат и изложит его рассуждение
о вреде высоких каблуков. Сражение при Тикондероге,
выигранное Алленом, едва упоминается в романе. Но
зато имеются сцены, рисующие Аллена, заключенного
в клетку и выставленного на посмешище в Лондоне.
Дело, разумеется, не в существе этих деталей. Каж-
дая из них в отдельности могла бы присутствовать в лю-
бом романе Фенимора Купера, Гилмора Симмза и даже
Вальтера Скотта. Дело в их совокупности, в том общем
принципе подхода к материалу и отбора его, который
определяет своеобразие романа, выдвигая на первый
план нравственно-философскую сторону истории.
В «Израиле Поттере» сколько угодно исторического
материала. Здесь есть факты истории, документы,. по-
дробно изложенные исторические эпизоды, портреты
252
исторических деятелей, детали, характеризующие отдель-
ные стороны эпохи, и все же история не является здесь,
так сказать, главным героем повествования. Она играет
второстепенную, подчиненную роль. Она лишь материал,
который автор щедро использует для решения стоящей
перед ним задачи.
* * *
«Израиль Поттер» — роман о войне. Не только о вой-
не за независимость, но о войне вообще, как о трагиче-
ском явлении, которое непостижимым образом сопут-
ствует человеческой истории, хотя, с точки зрения Мел-
вилла, совершенно противоречит интересам человечества.
Интерес к войне в творчестве Мелвилла понятен и
закономерен. Он возник, как, впрочем, и у многих дру-
гих американских писателей, в связи с горьким прозре-
нием, вызванным мексиканской авантюрой. Америка про-
шла через две тяжелые войны. Память о них еще не
стерлась в народном сознании. Она была печальной, но
в ней не было горечи. Американцы отстаивали свою не-
зависимость. Жертвы этих войн были принесены на ал-
тарь свободы. В сознании американских писателей жило
оптимистическое представление о миролюбии как неотъ-
емлемом атрибуте американской общественной системы.
Мир представлялся им необходимым условием прогресса
и процветания американской демократии. Война допуска-
лась только в порядке самозащиты.
Мексиканская война опрокинула эти представления,
Она нанесла первый удар наивному оптимизму. Когда
она началась, Мелвилл написал своему брату исполнен-
ное горечи, сарказма и недоумения письмо: «.. .Здесь все
бредят мексиканской войной. Повсюду военные порядки.
Полковники милиции надели сургучно-красные мунди-
ры. .. подмастерья удирают на войну толпами. Повсюду
253
только и разговоров, что о дворцах Монтесумы. Генерал
Вили «взорвался» на днях в Вашингтоне- пароксизмом
воинственности. Он хочет, чтобы ему поручили набор
добровольцев, с тем, чтобы во главе их отправиться на
войну осенью..,» 14
Мексиканская война потрясла Мелвилла неожидан-
ным открытием, что даже американская демократия
(в терминологии Мелвилла — «цивилизация») не исклю-
чает войны, что Америка сама, по доброй воле, во имя
своих отнюдь не бескорыстных интересов может вести
военные действия. Впереди, как пропасть, открывалась
страшная перспектива. «Боже мой! — писал он. — Неуж-
то впереди нас ждут большие сражения, какие-нибудь
Ватерлоо для янки? Или, может быть, могучий флот янки
столкнется в бою с английским флотом посреди Атлан-
тики? Боже, недалек тот день, когда и мы заговорим
о наших убитых и раненых, подобно некоторым восточ-
ным завоевателям, которые насчитывали их тысячами;
когда битва при Монмуте покажется детской игрой, а
осколки разбитой конституции — глиняными череп-
ками!» 15
Мелвилл мучительно пытался постичь причины, тол-
кающие человечество к войне. Он вновь и вновь всматри-
вался в современную ему Америку и спрашивал себя:
«Что же отделяет просвещенного человека от дикаря?
Есть у цивилизации свое лицо, или это всего лишь бо-
лее высокая ступень варварства?» 16
Некоторые американские исследователи пытаются
истолковать эту формулу Мелвилла в самом общем, «все-
человеческом» смысле. Так, например, Льюис Лири утвер-
ждает, что ответом на этот вопрос можно считать «Из-
раиля Поттера», где «нет другого злодея, кроме чело-
вечества, беспокойного, завистливого, честолюбивого и
руководимого лозунгом „на бога надейся, а сам не пло-
шай!"»17
254
Едва ли можно обойтись здесь ссылкой на человече-
ство. Мелвилл точно указывает источник, откуда взят
приведенный лозунг: «Афоризмы бедняка Ричарда»
Франклина. Подобное изречение, соединяющее в себе
бога с коммерческой предприимчивостью, не могло оли-
цетворять всякую цивилизацию. В нем легко увидеть
кредо американизма, разрушающего истинный идеал
просветительской демократии и подменяющего его бур-
жуазным культом успеха. И родину такого изречения не-
трудно определить. Ею могла быть скорее всего Новая
Англия. Мелвилл оперировал распространенными в ту
эпоху терминами и действительно склонен был порой
к чрезмерно широким обобщениям. Но мы обязаны по-
мнить, что материалом, на котором он строил свои об-
общения, была американская действительность, и она
же стояла за его абстрактно-гуманистической терминоло-
гией.
В середине пятидесятых годов Мелвилл вновь под-
нял тему, которая вставала уже однажды на заре аме-
риканской литературы: тему судьбы простого солдата,
который нужен всем, пока идет война, и о котором (жи-
вом или мертвом) все забывают, как только война кон-
чается. Он предпослал «Израилю Поттеру» торжест-
венно-ироническое посвящение: «Его Высочеству памят-
нику в честь Бэнкерхилла», которое заканчивается
словами: «и пусть каждое лето солнце ярко сияет на Ва-
шем челе столь же неизменно, как снег каждую зиму
мягко укрывает могилу Израиля Поттера» 18.
В этом посвящении Мелвилл определяет человече-
скую судьбу, которая его занимает, — судьбу рядового
американца, фермера, охотника, жизнь которого покале-
чена войной (пусть даже и освободительной). Его буду-
щий герой — «рядовой в сражении при Бэнкерхилле, удо-
стоенный за верную и беспорочную службу глубокого
одиночества могилы и посмертной пенсии, которую вме-
255
сто прижизненной награды выплачивает ему Весна в виде
вечно нового мха и зеленой травки» 19.
Показательно, что стремление сделать известной
жизнь и страдания «неизвестного солдата», единственной
памятью о котором является тяжелый и надменный гра-
нит Его Высочества бэнкерхиллского монумента, было
свойственно не одному Мелвиллу. Мексиканская война
вызвала к жизни целый ряд исторических романов и
повестей, преимущественно о войне за независимость,
в которых основное внимание было обращено именно на
эту сторону войны. События этой войны яркой вспышкой
озарили всю историю Соединенных Штатов. Антинарод-
ный характер откровенно захватнической авантюры уни-
чтожал непоколебимость распространенного до сей поры
убеждения, что две войны, которые были крупнейшими со-
бытиями американской истории, велись исключительно в
интересах демократии. Критическая оценка некоторых
сторон войны за независимость, прозвучавшая впервые в
конце XVIII века и почти забытая к середине XIX столе-
тия, вновь обрела актуальность и определила творческие
поиски многих американских писателей.
Окончание мексиканской войны не принесло облегче-
ния. Америка жила в предчувствии великих потрясений.
Грядущая гражданская война, необходимость и неизбеж-
ность которой обозначались с каждым годом все отчет-
ливей, воспринималась большинством писателей как на-
циональная катастрофа. Характерно, что даже наиболее
радикально настроенные поэты и публицисты, активные
участники аболиционистского движения, думали и пи-
сали о кровопролитии с содроганием. Все они стали го-
рячими патриотами Севера, как только прозвучали пер-
вые залпы. Многие из них записались волонтерами в
армию северян. Но покуда война не началась — они боя-
лись ее, писали о ней с ужасом и были жестокими ее
противниками.
256
Такой же в точности была позиция Мелвилла. Мрач-
ное предчувствие национальной катастрофы, какой рисо-
валась ему гражданская война, ощущается уже в «Моби
Дике» (1851), где Мелвилл задумывается о неотврати-
мых и непонятных силах, влекущих людей по трагиче-
скому пути.
Но было бы не вполне справедливо видеть в «Израи-
ле Поттере» только роман о войне и о человеке на войне.
Взгляд Мелвилла значительно шире. Война для него —
неотъемлемая часть общественного бытия, возникающая
как неизбежное следствие более общих законов человече-
ского характера, нравственной жизни народа и «цивили-
зации». Поэтому размышления Мелвилла о войне неиз-
бежно вовлекают в свою орбиту целый ряд социологи-
ческих, нравственных и даже психологических проблем.
По своему творческому темпераменту Мелвилл не
был историком. В поисках ответов на занимавшие его
вопросы он миновал сферы экономики, политики и от-
части даже социологии. Подобно Готорну, он начинал,
так сказать, прямо с третьего этажа здания американ-
ской буржуазной цивилизации и брался сразу же за
философские принципы, нравственные побуждения и че-
ловеческий характер. Именно здесь он надеялся найти
объяснение непонятным и противоестественным, с его
точки зрения, действиям людей, сословий и общества в
целом.
Он тоже задавал себе вопросы: «Кто мы такие? И по-
чему мы такие?» И это были вопросы об американских
нравах и об американском национальном характере. До
Мелвилла и Готорна эта проблема если и возникала
в американской литературе, то безотносительно к исто-
рии Соединенных Штатов. Готорн разрабатывал ее на
относительно узком материале. Его интересовали психо-
логия и нравственность новоанглийского пуританизма.
Точнее — историческая психология нравов Новой Англии.
257
Его интерес, учитывая роль Новой Англии в американ-
ской истории середины века, был закономерен и оправ-
дан, а успехи в избранной им области — поразительны.
Мелвилл пытался пойти дальше Готорна. Он стремился
свести в едином синтезе все части Америки: Юг, Север
и даже Запад. Он хотел не только увидеть и понять пси-
хологию нравов, но и определить этическую систему, на
которую она опирается. Это было неимоверно трудной,
вероятно, неосуществимой по тем временам задачей, и
Мелвиллу не удалось с ней справиться полностью. Од-
нако усилия его не были совершенно бесплодны, и даже
те результаты, к которым он пришел, были важны для
современников.
Особенность метода Мелвилла заключается в том,
что он идет к прошлому от современности. Он возводит
специфику современных нравов к далекому первоисточни-
ку или к тому, что представляется ему первоисточником.
Он ищет в прошлом такую точку, в которой типичные
черты современности обнажаются наиболее ярко и про-
сто. Этой точкой в его художественной системе является
характер. В этом, собственно, и состоит самая существен-
ная черта исторического романа Мелвилла. В центре
его — исторический характер, рассматриваемый как отно-
сительно завершенная этическая система. В характере
Мелвилл видел средоточие многообразных сил, опреде-
ляющих социальное поведение человека и тем самым об-
щественную жизнь, и потому пытался исследовать эти
силы через характер.
* * *
По-видимому, Мелвилл сразу почувствовал невоз-
можность соединить в одном характере многочисленные
и до крайности противоречивые тенденции, свойственные
американской общественной действительности. Тот сплав,
который можно было бы назвать американским нацио-
258
нальным характером, должен был еще пройти через гор-
нило гражданской войны, чтобы приобрести должную
степень однородности. Но составные элементы этого
сплава — психологические, нравственные, религиозные —
были налицо. И если невозможно было историческое ис-
следование некоего единого характера с целью выявить
такие его элементы, которые влияют на общественное раз-
витие нации, то изучение основных типов американского
сознания представлялось Мелвиллу возможным и допу-
стимым.
Преследуя эту цель, Мелвилл был вынужден резко от-
клониться от своего первоисточника и включить в по-
вествование такие элементы, которые отсутствовали в
оригинальной автобиографии Израиля Поттера. Ему, как
Готорну, требовалась известная свобода в обращении
с историческими фактами. И там, где фактов не хватало,
он их создавал. Так, в роман вошли известные деятели
американской истории Итен Аллен и Поль Джонс, о ко-
торых реальный Израиль Поттер, возможно, даже и не
слышал, а они о нем — тем более.
Хотя повествование в «Израиле Поттере» и выдержа-
но в старых традициях приключенческого романа, основ-
ное в нем все-таки не события, а характеры. Его смыс-
ловое ядро — глубокие и разносторонние наблюдения над
деятельностью и жизненными принципами четырех исто-
рических персонажей: Бенджамина Франклина, Поля
Джонса, Итена Аллена и самого Израиля Поттера.
Наблюдения Мелвилла имеют отнюдь не историче-
ский интерес. Он нередко заставляет этих своих героев
совершать такие действия и произносить такие слова, ко-
торые стоят весьма далеко от исторической истины. Но
при этом он не искажает истины художественной, ибо все
отступления от исторической правды не противоречат
логике характеров, хотя она и не всегда совпадает с
логикой исторического факта. Каждый из этих характе-
259
ров рассматривается под определенным углом зрения,
ибо предназначен для определенной роли.
Мелвилл не изучает их бесстрастным взором ученого
историка, а ставит их в такие обстоятельства и наделяет
такими свойствами, которые наилучшим образом, с его
точки зрения, позволяют ему объяснить картину нравов
современной Америки и выявить важнейшие психологи-
ческие и нравственные ее оттенки. И главное при этом
сосредоточено не в поступках и словах героев, а в том
обстоятельном авторском комментарии, которым они со-
провождаются.
Мы не можем сравнивать названные характеры друг
с другом по степени значительности. Такая постановка
вопроса в данном случае была бы незаконна, хотя одни
из них очерчены более бегло, а другие более обстоятель-
но. Израиль Поттер присутствует на каждой странице
романа, от начала и до конца, а Итену Аллену посвя-
щено всего несколько страниц. Дело в том, что эти ха-
рактеры (в романе) не могут существовать друг без
друга. Они объясняются один через другой. Их совокуп-
ность имеет особый смысл и, может бать, даже более
важна, чем каждый из них в отдельности.
Израиль Поттер, основной, с точки зрения сюжета,
характер романа, обладает в то же время наименьшей
индивидуальной ясностью. Индивидуальное своеобразие
его внешности, темперамента, характера незначительно.
И это' вполне согласуется с той ролью, которая предна-
значена ему автором. Кто такой Израиль Поттер? Никто.
Человек, давно забытый богом и людьми. «Его единствен-
ными медалями были его шрамы. Он продиктовал
маленькую книжку — рассказ о своей судьбе. Но давно
уже она исчезла из продажи, сам он — из жизни, а имя
его — из памяти людской»20.
Поттер — рядовой американец, один из тысяч неиз-
вестных рядовых участников войны за независимость. Сре-
260
ди них были фермеры, трапперы, охотники, мелкие торгов-
цы, матросы, китобои. Всем этим был Израиль Поттер.
В лице этого бедняка и труженика, так и не преуспев-
шего в жизни, соединены десятки тысяч человеческих су-
деб, единственная память о которых запечатлена в мону-
ментальном граните бэнкерхиллского памятника. Изра-
иль Поттер — человек без яркой индивидуальности. Его
жизнью руководят здоровый инстинкт и здравомыслие,
свойственные простому народу. Он трудолюбив, как тру-
долюбивы были его родители, соседи, люди одной с ним
закваски, суровые, упорные, серьезные, огораживавшие
бесплодные земли могучими заборами из валунов. Его
жизнь — это его работа. Такова основа основ его натуры.
Мелвилл постоянно подчеркивает это всеми средствами,
используя порой удивительные по своей лаконичности и
выразительности стилистические находки. «С фермер-
ского поля, — говорит Мелвилл, — он поспешил на поле
битвы, смешивая свой пот с кровью своей»21. Израиль
Поттер — патриот и доброволец. Он любит свою страну
и готов отдать за нее свою жизнь и свободу. Он не спра-
шивает себя, за что он ее любит. Участие в войне за не-
зависимость для него не отстаивание отвлеченного прин-
ципа и не исполнение долга, но осуществление инстинк-
тивной потребности. В этом отношении «Израиль Поттер»
Мелвилла резко отличается от ранних образцов амери-
канского исторического романа, в частности — от рома-
нов Фенимора Купера, где проблема долга человека по
отношению к обществу, государству и т. д. занимала
чрезвычайно важное, порою центральное место. Она воз-
никала в различных аспектах, но чаще всего в нрав-
ственном и политическом преломлении. Однако к концу
сороковых годов XIX века в силу ряда причин, о кото-
рых уже говорилось выше, проблема эта утратила бы-
лую остроту. Понятия долга и патриотизма, прежде
неразрывно связанные одно с другим, теперь как бы
261
существовали раздельно, не имея отношения друг к другу.
Патриотизм Поттера — это проявление внутренней не-
зависимости, своего рода духовной свободы, которая по-
стоянно определяет его слова и поступки, от самых важ-
ных до незначительных. Он органически не может назы-
вать встретившегося на его пути английского аристократа
«сэр Джон», ибо натура его не допускает иного превос-
ходства одного человека над другим, кроме естествен-
ного. Эта внутренняя свобода, противоположная серви-
лизму, позволяет ему просто и естественно называть
английского короля «сэр» вместо «ваше величество» и
твердо на том стоять.
Израиль Поттер, не имеющий индивидуальных отли-
чий и наделенный целым рядом положительных свойств,
позаимствованных Мелвиллом частично из наблюдений
над жизнью трудового люда Америки, частично из про-
светительских идеалов «естественного человека», должен
был, по мысли автора, олицетворять основу, на которой
мог формироваться национальный американский харак-
тер. Ему представлялось, что какая-то частица этой осно-
вы все еще существует в натуре каждого американца.
Но она ли определяет нравственный облик его совре-
менников? На этот счет Мелвиллом владели самые
серьезные сомнения. Слишком много всевозможных насло-
ений, под которыми никла внутренняя свобода и незави-
симость человека. Слишком много сомнительных нрав-
ственных правил и не менее сомнительных, с его точки
зрения, представлений о смысле человеческой деятельно-
сти разрушали здоровую народную основу. Попытки ис-
следовать характер этих правил и представлений в ро-
мане связаны с образом Франклина.
Франклин — ученый, просветитель, государственный
деятель, писатель и дипломат — оказал своей стране и
человечеству неоценимые услуги. Авторитет его был вы-
сок и память о нем священна. Все его достижения были
262
результатом его собственных трудов и энергии, и только
этим он достиг вершины славы и богатства. Его сооте-
чественники гордились тем, что именно Америка произ-
вела на свет этот образец нравственности и добродетели,
прославивший своей жизнью третье сословие. Его «Авто-
биография» и «Афоризмы бедняка Ричарда» были аль-
фой и омегой буржуазной нравственности и буржуазного
преуспеяния в самом лучшем и одновременно в самом
худшем смысле этих слов.
Мелвилл, очевидно, понимал трудность введения та-
кого характера в повествование. Но он не мог обойтись
без него. Он видел, как глубоко укоренились в сознании
многих американцев нравственные идеи, впервые четко
сформулированные Франклином, хотя возникновение их
относится к временам весьма отдаленным. Он ощущал
в нравственной системе Франклина теоретическую осно-
ву современных американских нравов. В обращении с
этим характером Мелвилл проявил исключительное
искусство и такт. Он отторг Франклина от внешнего мира,
науки, дипломатии, заключив его в тесные пределы квар-
тиры в Латинском квартале и ограничив нравоучитель-
ными беседами с Израилем Поттером. Все остальное
вошло в несколько блестящих и весьма сжатых характе-
ристик, окрашенных легкой иронией. В одной из них
Мелвилл дает феерическое описание многообразной дея-
тельности Франклина и пытается сформулировать свою
мысль в соотношении двух столь тесно связанных между
собой, хотя и разнородных явлений: Франклин и Амери-
ка. «Типограф, почтальон, сочинитель альманахов, эссе-
ист, химик, оратор, государственный деятель, юморист,
философ, завсегдатай салонов, политэконом, профессор
домашнего хозяйства, посол, прожектер, лекарь, остро-
умец— мастер на все руки, хозяин над всеми, не признаю-
щий никого над собой; порождение и гений своей родины,
Франклин был всем на свете, но не был поэтом»22.
263
В понимании Мелвилла Франклин был отнюдь не доб-
рым гением Америки. Отдавая должное величию франк-
линовского ума, Мелвилл не мог склонить голову перед
его нравственным идеалом. Франклин не был поэтом!
Смысл этой фразы заключается не в том, что Франклин
не писал стихов. Поэт для Мелвилла — это прежде всего
человек, способный возвыситься над узким практициз-
мом, обладающий той внутренней свободой сознания, ко-
торая позволяет ему отправиться на поиски истины, как
бы безнадежна ни казалась перспектива.
Франклин занимал Мелвилла, как человек, давший
американцам теоретическую основу практицизма, как
морализатор и апостол пользы. Черпая материал из
«Автобиографии», «Афоризмов бедняка Ричарда», воспро-
изводя дух и стиль франклиновских сочинений, а иногда
приводя скрытые цитаты, Мелвилл превращает речь сво-
его героя в нагромождение сентенций, каждая из которых
учит буржуазной добродетели, практической пользе и
особой серьезности в денежных делах: не нужно ходить
на высоких каблуках — это лишний расход кожи; не сле-
дует пить вина — за деньги, истраченные на бутылку
вина, можно купить семьдесят два хлебца; не позволяй
себе игривости в денежных делах; не шути на похоронах
и при совершении деловых операций и т. д. Прозаиче-
ская трезвость и расчетливость франклиновской морали
уничтожают для Израиля Поттера ощущение радости
жизни. «Каждый раз, когда он входит, — восклицает
Поттер, — он отнимает у меня что-нибудь, да еще с та-
ким видом, будто делает мне подарок!»23 Более того —
франклиновские нравоучения подчиняли человеческое
сознание некой мнимой, по мысли Мелвилла, утилитар-
ной необходимости, составлявшей будто бы высшую цель
человеческого бытия.
Франклин стремился пробудить энергию третьего со-
словия, которому, по его убеждению, принадлежало бу-
264
дущее. Своими сентенциями он учил американцев пред-
приимчивости, деловитости, целеустремленности. Его
моральную проповедь можно было с некоторой натяж-
кой назвать основой бизнеса. Мелвилл очень точно вы-
бирает цитаты из известного сочинения Франклина
«Путь к богатству»: «Что означает ожидание и надежда
на лучшие времена? Мы можем сами сделать времена
лучшими, если возьмемся за дело... Тот, кто живет на-
деждой, умрет с голоду. Так говорит бедняк Ричард.
Терпение и труд все перетрут. Помогайте мне, руки, ибо
у меня нет своих земель. Так говорит бедняк Ричард».
Но тут же Мелвилл вскрывает маккиавеллизм сентенций
Франклина, их, выражаясь современным языком, классо-
вую природу и направленность: «.. .Будь она проклята
вся эта мудрость! — восклицает Израиль. — Говорить
о мудрости такому человеку, как я, это оскорбление.
Мудрость стоит дешево. Богатство — вот что дорого.
Бедняк Ричард ничего не говорит об этом, а следо-
вало бы»24.
Развертывая эпизоды встреч Поттера с Франклином,
Мелвилл идет к определенному и очень важному для него
выводу: нравственная система Франклина несет в себе
зло. Она формирует в человеке корыстолюбие, бесприн-
ципность, подчиняет его ум, характер, волю, лишает
его внутренней свободы — все это во имя целей, недо-
стойных человека. В то же время она велит бедняку тру-
диться и терпеть, возводя терпение и труд в высшую
добродетель. Человек, принявший эту нравственную си-
стему, обречен либо на закабаление тела, либо на раз-
вращение души. Недаром Мелвилл заключает одну из
глав своеобразным размышлением Поттера о Франклине:
«Хитрый, хитрый, хитрый... как там у него говорит бедняк
Ричард?.. „На бога надейся, а сам не плошай!"».
Израиль Поттер не принял франклнновской нрав-
ственной системы. Так он был задуман Мелвиллом. Он
265
должен был оставаться самим собой до конца. Но Мел-
виллу нужен был для осуществления его замысла харак-
тер, принявший эту систему как жизненную программу.
Этим героем стал Джон Поль Джонс, что, по правде гово-
ря, было некоторым насилием над историей, ибо трудно
себе представить человека, более далекого от буржуазных
добродетелей Франклина, чем этот пират и флотоводец.
Образ этого талантливого, беспринципного, энергич-
ного и отважного авантюриста неоднократно привлекал
к себе внимание поэтов и романистов. Он появлялся в
стихах Френо («По случаю памятной победы Джона Поля
Джонса»), в романах Купера («Лоцман»), Дюма («Ка-
питан Поль»), Черчилля («Ричард Карвелл») и Бойда
(«Барабаны»).
Многие исследователи считают, что образ Джонса при-
влекал Мелвилла прежде всего тем, что открывал воз-
можность показать одно из важнейших морских сражений
эпохи войны за независимость. Вероятно, это соображе-
ние не лишено оснований. Мелвилл был великолепным
знатоком моря и флота. Соблазн был велик, и, возможно,
образ Поля Джонса, так сказать, просился в роман.
Однако, признавая справедливость изложенной точки
зрения, мы не можем ограничиться ею. Основная функ-
ция образа Джонса связана не с его «военно-морскими»
качествами. Мелвилла интересовал прежде всего харак-
тер, и он строил его в соответствии со своим замыслом,
хотя и старался при этом не выходить за пределы того
представления о Джонсе, которое сложилось в Америке
XIX столетия. Некоторые отклонения от традиционной
точки зрения, впрочем, были. Но и они были, так ска-
зать, традиционны. Первым романом, где появился Поль
Джонс, был куперовский «Лоцман». В этом плане Купер
был непосредственным предшественником Мелвилла.
Эрнест Лейси, исследуя этот роман, пришел к справед-
ливому заключению, что «Купер видел в Поле Джонсе
266
странствующего рыцаря, чья преданность Америке про-
истекала из стремления к личной славе» 25. Впоследствии,
в предисловии к «Лоцману», Купер сам признавался, что
образ Джонса вышел у него недостаточно правдивым.
Поль Джонс, по замыслу Мелвилла, должен был
стать живым воплощением философической формулы, по-
средством которой писатель определял современную ему
американскую цивилизацию как «высшую ступень вар-
варства». На страницах, посвященных Джонсу, постоян-
но встречаются выражения и обороты, подчеркивающие
варварскую основу этого характера: «Варвар в одежде
тонкого сукна», «помесь волка с джентльменом» и т. д.
Образ Джонса, идущего по ночному Парижу, Мелвилл
превращает в своего рода трагический символ, окрашен-
ный мрачным предчувствием якобинского «варварства».
«.. .Пророческий дух, — называет его Мелвилл, — осве-
щенный предчувствием тех трагических сцен француз-
ской революции, которые уравняли изысканную утончен-
ность Парижа с кровожадной жестокостью Борнео и
показали, что брошки и кольца в не меньшей степени,
чем татуировка и кольца в носу, — всего лишь знаки пер-
вобытной дикости, которая дремлет в человечестве, ци-
вилизованном или нецивилизованном»26.
Однако на этот раз в старой формуле Мелвилла,
впервые произнесенной им еще в «Тайпи», возникают но-
вые оттенки. Варварство вступает в тесное соединение
с определенной стороной нравственной системы Франкли-
на. Не с той, которая велит «трудиться и терпеть», но
той, которая учит — «на бога надейся, а сам не плошай!»
Мелвилл заставляет Джонса принять эту заповедь как
руководящий жизненный принцип. Он постоянно под-
черкивает внутреннюю связь между Джонсом и Франкли-
ном. Мелвилл-моряк отлично знал, какое огромное,
порой даже суеверное значение моряки- придают на-
званиям судов. И то обстоятельство, что корабль Джонса
267
назван «Бедняком Ричардом», исполнено особого значе-
ния. Мелвилл рисует Джонса как человека смелого, та-
лантливого, властолюбивого и энергичного, варвара в
душе и джентльмена по внешности. Но когда он добав-
ляет в этот конгломерат элементы нравственной системы
Франклина, происходит бурная реакция, и рождается
символический образ современной Мелвиллу Америки:
«.. .бесстрашная, беспринципная, отчаянная, полная без-
граничного честолюбия, внешне цивилизованная, но хищ-
ная в душе — Америка сделалась или сделается еще
Полем Джонсом среди наций мира». В этой фразе и рас-
крывается та задача, которую Мелвилл решал через об-
раз Джонса. Окончательный смысл созданного им харак-
тера: показать пагубную роль господствующей в Аме-
рике нравственной системы. Льюис Лири, видимо, прав,
когда говорит, что если рассматривать «Израиля Потте-
ра» в связи с «Бартлби», который ему предшествует, и
«Шарлатаном», который следует за ним, то легко уви-
деть, что «Израиль Поттер» свидетельствует об усилении
критицизма Мелвилла по отношению к Америке27.
В самом деле, перспективы нравственного развития
Америки, если судить по историческому роману Мелвил-
ла, выглядели весьма мрачно. Господствующие нрав-
ственные идеи должны были превратить ее в «Поля
Джонса среди наций мира»; терпеливое упорство «про-
стых душ» — Бартлби или Израиля Поттера — не могло
помочь делу. Но Мелвилл не мог и не хотел жить без на-
дежды. Он настойчиво искал такую нравственную ком-
бинацию, которая соединяла бы в себе отвагу Поля
Джонса, внутреннюю свободу Израиля Поттера и про-
ницательный ум Франклина. Так родилась еще одна
светлая утопия, на этот раз в форме характера. В роман
вошел четвертый герой — Итен Аллен.
В американской истории Итен Аллен — фигура не
менее заметная, чем Поль Джонс. Командир «Зеленых
268
горцев»28, герой Тикондероги29, он был захвачен в плен
во время похода на Монреаль. Англичане увезли его в
метрополию, заключили в железную клетку и выставили
на всеобщее посмешище. Однако ему удалось бежать и
вернуться в Америку. Обо всем этом он рассказал в сво-
ей книге «Рассказ о пленении полковника Итена Аллена»
(1779), с которой Мелвилл был хорошо знаком.
Итен Аллен, о котором упоминает Полдинг в «Очаге
голландца» и которому был посвящен роман Д. Томпсона
«Зеленые горцы» (1889), должен был стать в «Израиле
Поттере» надеждой Америки. Мелвилл понимал, что не-
достаточно было наделить этот характер определенными
нравственными свойствами. При всей своей утопичности
он не должен был превратиться в отвлеченный идеал,
в нетипичную индивидуальность. Его следовало соот-
нести с какими-то конкретными социальными силами,
каким-то нравственным типом или этической системой,
реально существующими в Америке. Мелвилл соотнес
его с американским Западом, далеким, неясным, полу-
сказочным. В пятидесятые годы XIX века, когда писался
роман, Запад был еще легендой и в то же время надеж-
дой. Понятие «человек с Запада» тоже не имело еще
достаточно четких очертаний.
Исторический Итен Аллен был вермонтцем. Он даже
не бывал на Западе. Это, однако, не помешало Мелвиллу
установить желаемую духовную связь. «Его дух, — гово-
рил Мелвилл, — был духом Запада; и в этом заключался
его особенный американизм; ибо западный дух — это и
есть или будет (ибо нет и не может быть другого) истин-
но американский дух».
Подобно «Моби Дику», «Израиль Поттер» — произве-
дение многозначное и многоплановое. По конструкции
своей оно принадлежит как будто бы к жанру «жизне-
описаний» и рассказывает печальную, полную преврат-
ностей историю жизни безвестного солдата революции.
269
Повествование Мелвилла является своего рода памят-
ником Неизвестному солдату и в этом смысле воскрешает
традиции куперовского «Шпиона», а заодно и традиции
более ранней романтической литературы, которая сде-
лала своим героем обездоленного победителя.
Но «Израиль Поттер» — это не просто жизнеописа-
ние и не только памятник. Это роман, где в единой худо-
жественной системе сплавлено прошлое Америки, ее на-
стоящее и будущее. Ее прошлое — в описании сражений
революционной войны, в блистательно написанных сце-
нах морских битв, где фантазия Мелвилла, подкреплен-
ная историческими документами, счастливо соединяется
с глубоким практическим знанием моря, кораблей и
военно-морского дела; оно — в стойкости, верности, пат-
риотизме Израиля, в его внутренней свободе и глубоком
человеческом достоинстве. Прошлое Америки героично,
бескорыстно и не тщеславно.
Рядом с ним в романе живет настоящее. Оно живет
в иной сфере: в нравоучительных сентенциях Франклина,
в хищной и «варварской» энергии Поля Джонса, в неко-
торых размышлениях Поттера. Настоящее в «Израиле
Поттере» не проявляет себя в действии. Оно образует
нравственно-философскую систему, которая, как пред-
ставляется Мелвиллу, составляет основу преобладающей
части современного ему американского общественного
сознания. В ней заключены истоки современного обще-
ственного зла, корни неприемлемых, с его точки зрения,
нравственных принципов буржуазной Америки середины
XIX века: чудовищного, почти фанатического эгоцен-
тризма, благочестивого стяжательства, беззастенчивого
себялюбия и всеподавляющего лицемерия, которое уко-
ренилось в общественном сознании американских бур-
жуа столь глубоко, что как бы перестало ощущаться.
Будущее возникает в романе как еще одна мимолет-
ная романтическая утопия: туманное видение легендар-
270
ного Запада, символизирующего «истинно американский
дух». Да и будущее ли это? Скорее всего — затаенная
мечта, упрямая надежда писателя.
Израиль Поттер — безликий рыцарь родины и свобо-
ды— принадлежит прошлому. Он — рядовой солдат —
главное действующее лицо великой освободительной вой-
ны. Без него, без его мужества, верности идеалу, патрио-
тизма не было бы победы. Без него не было бы современ-
ной Америки. Но этой Америке не нужны «идеалисты» и
«рыцари». Их время прошло. Все, что осталось на их
долю, — бронзовый монумент в честь Бэнкерхилла.
В этом плане трагедия Израиля Поттера напоминает
нам трагедию Кожаного Чулка. Один всю жизнь «слу-
жил великому делу географического распространения
материальной культуры в стране диких людей и — ока-
зался неспособным жить в условиях этой культуры»30,
другой бескорыстно принес свою судьбу в жертву ро-
дине, которая отвернулась от него. Америка, «этот Поль
Джонс среди наций мира», уверовала в свою непогреши-
мость. Она рвалась к богатству и преуспеянию. Она
строила фабрики и заводы, дороги и каналы; она осваи-
вала новые территории, иногда покупая их, иногда за-
хватывая силой оружия; творя молитву, она истребляла
остатки индейских племен, торговала неграми, нещадно
эксплуатировала бедняков и открыто поклонялась дол-
лару. Прекрасные слова о Свободе, Равенстве и Брат-
стве тускнели на гранитных монументах. Америка шла
вперед, начертав на своих знаменах новый девиз: «На
бога надейся, а сам не плошай!» Зачем ей Израиль Пот-
тер?
Но Мелвилл был неправ. Солдаты свободы понадоби-
лись Америке ровно через шесть лет после опубликова-
ния романа.
ПРИМЕЧАНИЯ
РОМАНТИЧЕСКАЯ УТОПИЯ
(«ТАЙПИ»)
1 С. S. Stewart, Visit to the South Seas, in the U. S. Ship
Vincennes, 1829—1830, New York, 1831.
2 «Buffalo Commercial Advertiser», July 1, 1846.
3 J. L e у d a, The Melville Log. A Documentary Life of Herman
Melville. 1819—1891, vol. I, New York, 1951, p. 211. Далее «Log»,
с указанием тома и страницы.
4 L. Н о w a r d, Herman Melville, Berkeley, 1951.
5 Нью-Амстердам — старое голландское поселение, на
основе которого вырос Нью-Йорк.
6Дидрих Никербокер — юмористический персонаж, мни-
мый автор «Истории Нью-Йорка» (1809) В. Ирвинга.
7 Ван Вик Брукс, Писатель и американская жизнь, т. I
(«Расцвет Новой Англии»), М. 1967, стр. 140.
8 Н. Хауторн, Блитдэйл, М. 1913, стр. 21.
9 Там же, стр. 66—67.
10 Там же, стр. 23.
11 Там же, стр. 69—70.
12 Л. В. П а р р и н г т о н, Основные течения американской мыс-
ли, т. II, М. 1962, стр. 433.
13 Там же.
14 Там же, стр. 444.
272
15 В а н В и к Брукс, Указ. соч., стр. 138.
10 Там же, стр. 137—138.
17 Там же, стр. 138.
18 П а р р и н г т о н, Указ. соч., т. II, стр. 44.
19 Там же, стр. 453.
20 Н. Melville, Турее, New York, Bantam Books, 1958, p. 92.
21 Ibid., p. 218.
22 Ibidem.
23 Ibid., p. 121.
24 Ibid., p. 134.
25 Ibid., pp. 29—30.
28 Ibidem.
27 Journals of Ralph Waldo Emerson, Boston, 1909—1914, vol. IV,
p. 95.
28 Log, vol. I, p. 210.
МЕЛВИЛЛ и «МОЛОДАЯ АМЕРИКА»
1 Никербокер ы — группа литераторов, связанных с журна-
лом «Никербокер» и поддерживавших политическую платформу
вигов.
2 P. M i 11 е г, The Raven and the Whale, New York, 1956, p. 200.
3 M. Davis, W. G i 1 m a n, The Letters of Herman Melville,
New Haven, 1960, p. 130. Далее «Letters», с указанием страницы.
4 L. Howard, Herman Melville, Berkeley, 1951, p. 111.
5 Letters, p. 127.
6 Letters, p. 126.
7 Journals of Ralph Waldo Emerson, vol. IV, p. 95.
8 Ibid., vol. Ill, p. 369.
9 Letters, p. 77.
10 Letters, p. 78.
11 «The Literary World», Aug. 1850.
12 Ibidem.
13 P. M i 11 e r, Op. cit., p. 4.
14 Log, vol. 1, p. 392.
273
МОРСКОЙ РОМАН
(«БЕЛЫЙ БУШЛАТ»)
1 Letters, pp. 91—92.
2 Ibid., p. 92.
3 L. Howard, Op. cit, p. 137.
4 С Anderson, Melville in the South Seas, New York, 1949,
p. 395.
5 С Anderson (ed.), Journal of a Cruise in The Frigate
United States, 1842—1844, with Notes on Herman Melville, Durham,
N. C, 1937.
6 С Anderson, Melville in the South Seas, New York, 1949,
p. 418.
7 S. Johnson, Lives of the English Poets, vol. I, Oxford, 1905,
p. 433.
8 В. К. Кюхельбекер, Дневник, Л. 1929, стр. 175.
9 W. I r v i n g, The Sketch Book, London, 1929, p. 9.
10 Ibidem.
11 S. B. Judah, The Buccaneers (1827); The Memoirs of Laf-
fite (1826); Ramon, the Rover of Cuba (1829).
12 Т. P h i 1 b r i с k, James Fenimore Cooper and the Development
of American Sea-Fiction, Cambridge, Mass., 1961, p. 166.
13 W. S. Walker, A Note on Nathaniel Ames. — «American Li-
terature», XXVI, May 1954, p. 239.
14 «A Mariner's Sketches» (1830), «Nautical Reminiscences»
(1832), «An Old Sailor's Yarn» (1835).
15 «Tales and Sketches by a Country Schoolmaster» (1834).
16 «Naval Stories» (1834).
17 T. Phi lb rick, Op. cit., pp. 113—114.
18 H. Яковлев, Развитие капитализма в США в первой по-
ловине XIX в. — В кн.: «Очерки новой и новейшей истории США»,
т. I, M. 1960, стр. 198.
19 Preface to Original Edition. In: R. H. Dana, Two Years Be-
fore the Mast, New York, 1965, p. XV.
20 J. Hazen, Five Years Before the Mast, Philadelphia,. 1854;
N. Isaachs, Twenty Years Before the Mast, New York, 1845;
274
S. Leech, Thirty Years from Home, or A Voice from the Main Deck,
Boston, 1843; W. N evens, Forty Years at Sea, Portland, 1846.
21 W. P 1 о m e r, Introduction. In: H. Melville, White Jacket,
or The World in a Man-of-War, New York, Grove Press, 1956, p. VIII.
В дальнейшем все ссылки на это издание.
22 «White Jacket», p. 346.
23 Ibid., p. 353.
24 Ibid., p. 289.
25 Ibidem.
26 С Anderson, Op. cit., pp. 421—422.
27 S. R. Franklin, Memoirs of a Rear-Admiral etc., New York,
1898, p. 64.
28 «White Jacket», p. 82.
29 Ibid., pp. 203—204.
30 H. Parker, The Recognition of Herman Melville. Ann Arbor,
1967, p. 25.
31 Ibidem.
32 «White Jacket», p. 359.
33 В. Шейнкер, Исторический роман Купера «Лоцман» как
произведение маринистского жанра. — «Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Гер-
цена», т. 463, 1970, стр. 97.
34 «White Jacket», p. 26.
Зб Ibid., p. 29.
36 Паррингтон, Указ. соч., т. II, стр. 282.
37 Т. Phil brick, Op. cit, pp. 113—114.
«МОБИ ДИК»
(ТВОРЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ. МЕЛВИЛЛ И ШЕКСПИР)
1 Letters, p. 128.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibid., p. 142.
G Ibid., p. 141.
275
7 Ibid, p. 108.
8 Ibid, pp. 109—110.
9 Log, vol. I, p. 385.
10 С. О 1 s о n, Call Me Ishmael. A Study of Melville, New York,
1947, pp. 66—67.
11 Ibid., p. 38.
12 Ibid., p. 40.
13 Letters, p. 77.
14 R. W. Emerso n, The Complete Prose Works, London, s. a.,
p. 211.
15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 Ibid, p. 213.
18 Ibid, p. 208.
19 P. Rahv (ed.), Literature in America, New York, 1957, p. 77.
20 R. W. E m e r s о n, Op. cit, p. 213.
21 Ibidem.
22 Letters, pp. 79—80.
23 R. W. E m e r s о n, Op. cit, p. 213.
24 F. О. М a 11 h i e s s e n, American Renaissance, New York,
1941, pp. 416, 429.
25 Г. Мел вилл, Моби Дик, или Белый кит, М. 1961, стр. 279.
В дальнейшем все ссылки на это издание.
26 Там же, стр. 280.
27 F. О. М a 11 h i e s s e n, Op. cit, pp. 421—431.
28 Letters, pp. 144—145.
«МОБИ ДИК» КАК МОРСКОЙ,
«КИТОБОЙНЫЙ» И СОЦИАЛЬНЫЙ РОМАН
1 N. Arvin, Herman Melville, London, 1950, p. 151.
2 «Моби Дик», стр. 92—93.
3 Там же, стр. 685.
4 Там же, стр. 41—42.
5 Там же, стр. 53.
276
6 Там же, стр. 52.
7 Там же, стр. 467—468.
8 Там же, стр. 670.
9 Там же, стр. 571.
10 «Б р а т Джонатан» — синоним «янки». Мелвилл имеет в
виду присоединение Техаса к США в 1846 году.
11 «Моби Дик», стр. 572.
12 Там же, стр. 139.
13 F. О. М a 11 h i e s s e n, Op. cit., p. 459.
14 «Моби Дик», стр. 289.
15 Там же, стр. ИЗ—114.
16 Там же, стр. 122.
«МОБИ ДИК» КАК ФИЛОСОФСКИЙ РОМАН
1 Log, vol. I, p. 431.
2 Ibid., p. 445.
3 Melville, A Collection of Critical Essays. Ed. by R. Chase,
Englewood Cliffs, 1962, p. 42.
4 «Моби Дик», стр. 499.
5 Там же, стр. 476.
6 Н. М u r r а у, In Nomine Diaboli. In: «Discussions of Moby-
Dick», Boston, 1960, p. 26.
7 Ibid., pp. 29, 31.
8 «Моби Дик», стр. 287—288.
9 Там же, стр. 259.
10 В. И. Лени н, Конспект книги Гегеля «Наука логики». —
Полное собр. соч., т. 29, стр. 153.
11 «Моби Дик», стр. 491.
12 Там же, стр. 697.
13 В. И. Лени н, Указ. соч., стр. 153.
14 Melville, A Collection of Critical Essays, p. 41.
,в «Моби Дик», стр. 301—302.
10 Letters, p. 142.
17 Паррингтон, Указ. соч., т. II, стр. 309.
277
ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН
(«ИЗРАИЛЬ ПОТТЕР»)
I Е. Leisy, The American Historical Novel before 1860, Urbana,
1923, pp. 14—15.
2F. Chateaubriand, Etudes historiques. Oeuvres completes,
ed. Gamier, vol. IX, pp. 50—51.
3 E. Leisy, Op. cit., p. 9.
4 А. О g g, The Reign of Andrew Jackson. Chronicles of America
Series, vol. 12, New Haven, 1919, p. 143.
5 «North American Review», vol. XV (July 1822), p. 252.
6 A. M. С a fi м о ii с, Классовая борьба в истории Америки, М.
1922, стр. 12.
7 Там же, стр. 16.
8 J. F. Cooper, Correspondence of J. F. Cooper, vol. I, New
Haven, 1922, p. 33.
9 D. W a p 1 e s, The Whig Myth of James Fenimore Cooper, New
Haven, 1938, p. 208.
10 В. Шейпкер, Романы Дж. Ф. Купера о Кожаном Чулке и
некоторые вопросы американского романтизма. — «Уч. зап. ЛГПИ
им. А. И. Герцена», т. 427, 1968, стр. 10.
II Н. Готорн, Алая буква, Гослитиздат, М. 1957, стр. 29.
12 Б. Г. Р е и з о в, Творчество Вальтера Скотта, ИХЛ, М.—Л.
1965, стр. 285.
13 А. А. Ел истратова, Предисловие. В кн.: Г. Мел вил л,
Израиль Поттер. Пятьдесят лет его изгнания, М. 1966, стр. 13.
14 Letters, p. 29.
15 Ibidem.
16 Н. Melville, Israel Potter. His Fifty Years of Exile, Saga-
more Press, New York, 1957, p. 186.
17 L. Leary. Introduction. Ibid., p. IX.
18 «Israel Potter», p. VI.
19 Ibid., p. V.
20 Ibid., p. 241.
21 Ibid., p. 15.
22 Ibid., p. 66.
278
23 Ibid., p. 75.
24 Ibidem.
25 E. Leisy, Op. cit., p. 14.
26 «Israel Potter», p. 88.
27 L. Leary, Op. cit., p. VIII.
28 Так называла себя вермонтская народная милиция.
29 Битва при Тикондероге (май 1775 года), в которой англичане
потерпели поражение.
30 А. М. Горький, Собр. соч., т. 24, Гослитиздат, М. 1953,
стр. 226.
СОДЕРЖАНИЕ
От автора . 3
Романтическая утопия («Тайпи») 9
Мелвилл и «Молодая Америка» . . 45
Морской роман («Белый бушлат») . 77
«Моби Дик» (Творческая история. Мелвилл и Шекспир) . 149
«Моби Дик» как морской, «китобойный» и социальный роман . 184
«Моби Дик» как философский роман . .212
Исторический роман («Израиль Поттер») . 233
Примечания . 272
Юрий Витальевич Ковалев
ГЕРМАН МЕЛВИЛЛ
и
АМЕРИКАНСКИЙ РОМАНТИЗМ
Редактор Б. Томашевский. Художественный редактор А. Г а с н и к о в.
Технический редактор В. Алексеева. Корректор Э. Урицкая. Сдано
в набор 22/VI 1972 г. Подписано к печати 19/Х 1972 г. М 1782G. Тип. бумага № 1.
Формат 70X108732. 8,75 печ. л. Усл. печ. л. 12,25. Уч.-изд. л. 12,199+1 вкл.= 12,233.
Тираж 10 000 экз. Заказ № 934. Цена 71 коп. Издательство «Художественная
литература» Ленинградское отделение, Ленинград, Невский пр., 28. Ордена
Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзно-респу-
бликанского Государственного комитета Совета Министров СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли. Красная ул., 1/3
I> f
ти
l
i